Циклы романов "Приключения на разных континентах-1".Компиляция. Книги 1-28 [Луи Анри Буссенар] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Луи Буссенар Бессребряник БЕЗ ГРОША В КАРМАНЕ
ГЛАВА 1
Процветание рекламы. — Странное предложение человека, одетого в газеты. — Женитьба, самоубийство или путешествие. — Серебряный король. — Сорок тысяч километров без гроша в кармане.Америка — страна самой смелой, самой беззастенчивой, самой сумасбродной рекламы. Янки по натуре хвастун, фантазер и выдумщик; в рекламе он видит продукт своего гения, любит ее, восхищается ею (если она удачна) и в конце концов верит ей, как бы ни была она нелепа… Однажды в мае 1895 года в шумном и людном Нью-Йорке появились сотни, тысячи громадных афиш, расклеенных повсюду: на столбах, на стенах, на конках, на людях-сандвичах спереди и сзади. Содержали они всего одно объявление, написанное на нескольких языках:
Без гроша в кармане!.. Sans le sou! Pennyless! Kein Kreuzer in Sask! No plata! Senza solda! Ki-kiay-Tse!Буквы были громадные и невольно бросались в глаза. Это действовало. Публика предчувствовала что-то необычное, приманка казалась очень лакомою. На следующий день появилось другое объявление на английском языке. Оно гласило: «Кто он? Англичанин? Немец? Итальянец? Испанец? Русский? Неизвестно! Но он красив, как античная статуя. Но он сведущ, как энциклопедия. Но он силен, как Геркулес. Но он храбр, как лев. И при всем том он совершенный бессребреник: у него нет ни гроша в кармане». Многие говорили: «А, свадебная реклама!» Девицы, вдовы и разведенные дамы нашли, что из объявленных качеств первые четыре очень заманчивы, но… как же это так: без гроша? Неужели так-таки совсем без гроша? На третий день афиши были заменены программами, которые сыпались на публику буквально отовсюду. Они были впечатляющи. Вверху хромолитографским способом изображался молодец в костюме велосипедиста: красивое выразительное лицо, черные огненные глаза, пухлые губы с чуть насмешливым выражением, при этом широкая выпуклая грудь, могучая мускулатура, руки и ноги атлета. Вдовы, девицы и разведенные дамы говорили: «Очень, очень красив. И такой представительный! Наверное, он не янки». Под портретом было подписано крупными буквами:
ГОСПОДИН БЕССРЕБРЕНИК
И затем следовало:«Жизнь коротка, а борьба за существование становится труднее и труднее. Что делать человеку, когда у него ничего нет, а хочется решительно всего? Он должен испробовать все средства и если не добьется своего, пусть покончит с собою. К такому именно заключению пришел г-н Бессребреник. Это имя он заслужил вполне. У него ничего нет: ни рубашки, ни воротничка, ни даже зубочистки. Он наг, как в момент рождения, и если своим видом не оскорбляет приличия, то только благодаря доброте коридорного гостиницы. Что же думает делать этот джентльмен в таких обстоятельствах? Вот что. Завтра, 13 мая, в роковое число, г-н Бессребреник, в большом зале гостиницы «Космополит» примет окончательное решение о своей жизни в присутствии избранной публики. Он отдаст себя на волю случая — вверит свою участь двум листочкам бумаги. На одном будет написано грозное слово «смерть». А на другом… Что? Это почтенная публика узнает ровно в полдень, с боем электрических часов в гостинице «Космополит». Жребий будет вынимать кто-нибудь из публики. Если выпадет билет с надписью «смерть», то г-н Бессребреник будет иметь честь пустить себе пулю в лоб. Рекомендуем вниманию публики это зрелище — поистине драматическое и привлекательное. С нынешнего дня г-н Бессребреник принимает желающих его видеть в гостинице «Космополит». Несмотря на отсутствие гардероба, он может принимать даже визиты дам. Г-н Бессребреник — вполне корректный джентльмен. Плата за вход умеренная: один доллар. Она предназначается для покрытия долга хозяину гостиницы. Приходите же, господа! Приходите смотреть —И публика повалила валом. В первую очередь в гостиницу «Космополит» нагрянули, конечно, репортеры и фотографы. Бессребреника интервьюировали без отдыха, снимали без конца. Доллары сыпались на блюдо, поставленное на конторке у клерка гостиницы. Масса дам теснилась в зале, разглядывая незнакомца. Слышались восклицания. В объявлении было сказано верно: Бессребреник не имел одежды, но и не был гол. Он обернулся в номера газеты «Нью-Йорк Геральд» — их одолжил Бессребренику коридорный. Несмотря на странное одеяние, джентльмен в самом деле был красив, приветлив, остроумно отвечал на разные замечания. По-английски он говорил очень хорошо, но с небольшим акцентом и имел у публики вполне заслуженный успех. Вечером в Нью-Йорке только и говорили, что о Бессребренике. На другой день в большом зале гостиницы «Космополит» яблоку негде было упасть. Преобладали дамы. Они стрекотали, как сороки, истребляя сандвичи с прохладительными напитками. Наконец, загудел большой колокол. Таинственный джентльмен появился в своем газетном одеянии. Он спокойно раскланялся с публикой и знаком попросил внимания и тишины. Перед ним на черном столике лежал револьвер. — Милостивые государи и милостивые государыни! — сказал он звучным голосом, без малейшего волнения. — Для меня наступил решительный час. Почтенный клерк гостиницы, мистер Филипп напишет на двух одинаковых билетиках: «смерть» и «путешествие»… Немедленно раздались громкие крики: — Держу за смерть! — А я за путешествие. — Тысячу долларов! — Десять тысяч! — Сто тысяч! Когда все пари состоялись, джентльмен продолжал: — У меня очень мало шансов уцелеть, потому что предстоящее путешествие будет каждую минуту грозить смертью. Я совершу его — кругосветное, на сорок тысяч километров — за год, не имея в кармане ни единого гроша. Если через триста шестьдесят пять дней… — Хотите пари? — раздался голос какого-то янки. — Разумеется. — Сколько? — Два миллиона долларов, — отвечал джентльмен. — А если вы проиграете? — Сможете меня застрелить. — Нет уж, потрудитесь проделать над собой эту операцию сами. — Извольте. По рукам? — Меня зовут Джим Сильвер, серебряный король. Если выиграете вы, моя фирма платит вам немедленно… — Погодите. Сперва ведь еще нужно узнать, умереть мне или путешествовать. Тем временем мистер Филипп надписал два одинаковых билетика и попросил у кого-нибудь из публики шляпу. Джим Сильвер предложил свою. — Так как я держу с вами пари, то не позволите ли мне самому вынуть? — спросил Джим Сильвер. — Пожалуйста, — отвечал Бессребреник, скрестив на груди руки. Вопрос шел о его жизни и смерти, а между тем он был невероятно спокоен. У дам при этой чисто американской сцене захватило дух. Джим Сильвер опустил руку в шляпу. Бессребреник взял револьвер и взвел курок… В этот момент раздался громкий женский крик: — Постойте!.. Постойте!.. Не надо, не надо!.. Я готова выйти замуж за этого джентльмена!.. Тогда поднялся целый ураган возгласов. «Вот как! Свадьба!..» Никто не ожидал такой пошлой развязки. Но и у дамы, сделавшей неожиданное предложение, тоже нашлись сторонники, закричавшие «браво». Ее подняли на эстраду, где стоял Бессребреник. Дама была прелестна — белая, розовенькая, с жемчужными зубами и коралловыми губками, с белокурыми волосами горячего оттенка. Она так мило смотрела на таинственного джентльмена добрыми голубыми глазами, ожидая ответа… Но Бессребреник молчал. Тогда дама проговорила: — Я — миссис Клавдия Остин, вдова Джофри Остина. Мне двадцать два года, я бездетна и имею состояние в полтора миллиона долларов. Хотите жениться на мне? Я готова хоть сию минуту. Среди публики, наверное, найдется пастор, и даже не один. Мало кто из присутствовавших сомневался, что Бессребреник примет предложение. Но этот человек, не имевший за душой ничего, даже одежды, дал совершенно неожиданный ответ: — Сударыня, ваше предложение делает мне огромную честь. Ваша красота достойна трона… Но — простите меня, я не могу на вас жениться. — Вы отказываетесь!.. — вскрикнула миссис Остин, побледнев, как смерть. — Увы, да!.. Во-первых, я не чувствую себя способным дать счастье женщине, а во-вторых, не желаю себя продавать. Золотая цепь все-таки цепь, а я всего больше дорожу свободой. Он грациозно поклонился, при этом его газеты зашелестели. Было очень смешно, но почему-то никто не засмеялся. — Я почувствовала к вам сострадание, — надменно выговорила миссис Клавдия. — Вы не захотели… Будете потом жалеть. — Разумеется… если только через четверть минуты не прострелю себе висок. С этими словами Бессребреник сделал Джиму Сильверу быстрый знак. Серебряный король с самого дна шляпы достал билетик и начал его медленно, методично разворачивать, раздражая нетерпение публики. Бессребреник приставил дуло револьвера к виску.Господина Бессребреника».
ГЛАВА 2
Путешествие. — Реванш дяди Тома. — Бессребреник превращается в сандвич. — Лучшая вакса в мире! — Зачем Снеговик наваксил Бессребренику ноги. — Снаряжение и вооружение. — Пиф и Паф.Некоторые дамы закрыли глаза руками, расставив, однако, слегка пальцы… — Путешествие, — глухим голосом, точно фонограф, произнес серебряный король. — Джентльмен, вы должны пройти в продолжение года сорок тысяч километров. — Ладно, — отвечал с полным бесстрастием Бессребреник. — Когда вы отправляетесь? — Сейчас. — Ставлю миллион долларов против джентльмена, — вскричала миссис Клавдия Остин, жертвуя с досады двумя третями своего состояния. — Идет! — отозвался Джим Сильвер. — Этот миллион будет моим! — Я твердо уверена, что выиграю! — проговорила миссис Остин. Джентльмен молча поклонился и пошел к дверям. Толпа расступилась перед ним. У дверей он еще раз поклонился и сказал: «Леди и джентльмены! Мое путешествие начинается». Что говорить, затея была оригинальная, вполне в духе конца столетия — пройти в один год сорок тысяч километров, отказываясь от денег совершенно!.. Бессребреник должен был при этом питаться плодами своих рук или своей головы. По улице он пошел широким шагом и вдруг остановился перед негром, чистильщиком сапог, который смотрел на него, покатываясь от хохота. Бессребреник подумал: «Я прошел шесть метров. Когда заработаю достаточно денег, чтобы купить записную книжку и карандаш, занесу их в счет. Кроме того, нужно будет запастись шагомером и привязать его к ноге, чтобы не терять ни одного пройденного вершка…» Придя к такому заключению, он очень вежливо поклонился негру, который надменно смерил его глазами с головы до ног и не удостоил ответного поклона. — Не нужен ли вам помощник? — спросил Бессребреник черного джентльмена. Негр покатился со смеху. — Хи-хи-хи!.. Белый хочет чистить сапоги постояльцам гостиниц и прохожим! — Да, я очень беден и хочу заработать несколько пенсов на хлеб. — А я не хочу делать вас чистильщиком… Это слишком хорошее ремесло для такого бродяги, как вы. Из гостиницы «Космополит» толпою выходила публика и окружала их, с любопытством следя за первыми шагами кругосветного путешественника. Негр что-то обдумывал, всей пятерней почесывая курчавую голову. Но вот снова раздался его смех. — Хи-хи-хи!.. Я с вами проверну хорошенькое дельце, если пожелаете. Бессребреник холодно ответил: — У меня нет выбора; я согласен на все, что потребуете. — Прекрасно. Хотите служить мне сандвичем? — С удовольствием. — Так ставьте же скорее свою ногу на мой ящик, как будто бы на вас обувь. Бессребреник послушно исполнил приказание, негр взял щетку, плюнул на нее, помазал ваксой и принялся чернить ему ступню и голень. — Лучшая вакса в мире! — проговорил негр. — Я уверен в этом! — невозмутимо согласился джентльмен. Негр точно так же наваксил ему и другую ногу; обе блестели, как лакированные сапоги. — Так как вы теперь сандвич для моей ваксы, то войдите в ручей и докажите, что эта вакса от воды не сходит. Бесстрастные черты Бессребреника осветились улыбкой. — Вы самый догадливый из чистильщиков сапог, — сказал он. — Как ваше имя? — В гостинице «Космополит» меня все зовут Снеговик. — Вы и похожи… Итак, господин Снеговик, вы очень умный джентльмен. Я сделаю, что вы приказываете. — Погодите минутку, — сказал негр, обрадованный этим комплиментом. Обмакнув палец в ваксу, он крупными буквами намазал на газетном листе, прикрывавшем спину Бессребреника:
«Лучшая в мире вакса! Продается у джентльмена чистильщика при гостинице «Космополит».Бессребреник хотел уже идти, но Снеговик опять задержал его. — Погодите. Вы — сандвич; я напишу на вас это объявление и спереди. — Справедливо. Но сколько же вы заплатите за мой труд? — Я не богат… Могу дать вам старые брюки, кусок хлеба и томатов… — Вы не из щедрых… Почем продаете свою ваксу? — По шиллингу за коробку. — Продавайте по два доллара, и разделим прибыль пополам. — Два доллара!.. С ума спятили! — Это вы осел. — Молчать!.. Я ваш хозяин… — Довольно! — резко остановил его джентльмен. — Или я вас брошу в ручей. Негр стушевался и принял условие Бессребреника, хотя и не понял идеи. Бессребреник степенно вошел в ручей, а из окон и с улицы на него смотрели зрители, кричавшие от восторга. Вакса выдерживала воду. Бессребреник добросовестно перебирал ногами, чтобы показать ее прочность. — Фи, господин Бессребреник! — раздался вдруг ироничный голос. — За какое ремесло вы взялись! Джентльмен в это время отсчитывал: — Сто двадцать шесть! Сто двадцать семь!.. Он обернулся и увидал миссис Остин, смотревшую на него с презрением. Молча поклонился и продолжал считать шаги. Сбежались репортеры и с криком «ура!» писали что-то в своих блокнотах. Рисовальщики набрасывали эскизы и опрометью мчались в редакции. Фотографы наводили моментальные аппараты и знай пощелкивали ими. Конки звонили, локомотивы били в колокола в честь Бессребреника. Деревянный ящик с коробками ваксы подвергся штурму. Снеговик продавал ее по три, по четыре, даже по шести долларов за коробку. Менее чем в десять минут все было расхватано. Сбор равнялся ста долларам. Негр волосы рвал на себе с досады, что у него оказалось так мало ваксы. Бессребреник возвратился к своему патрону. Снеговик хотел в восторге броситься к нему на шею, но джентльмен отстранил его. Негр добросовестно разделил прибыль и сказал: — Послушайте, давайте заключим союз… Мы наживем с вами миллион… — Вы знаете латынь? — спросил его Бессребреник. — Это еще что такое?.. Нет, не знаю. — Жаль. А то бы я сказал вам: non bis in idem. — Что это значит? — Это значит… что в один день нельзя продать два раза на сто долларов ваксы. — Да отчего же?.. — Прощайте. Мы квиты. — Неужели не увидимся завтра? — захныкал негр. — Возможно, увидимся. Мудреного в этом ничего нет… Ну да, конечно, я приду сюда завтра. Почти напротив находился магазин готового платья. Бессребреник вошел в него и купил себе полную пару из синего шевиота за пятнадцать долларов и тут же, в задней комнате магазина, переоделся. Теперь он стал больше походить на порядочного человека, хотя у него еще не было ни белья, ни обуви. Захватив под мышку газеты, прикрывавшие его наготу, он отнес их в гостиницу и возвратил коридорному, дав в придачу два доллара на чай. Снеговик сейчас же прибежал и купил все эти газеты за 10 долларов, считая их талисманом. На оставшиеся деньги Бессребреник приобрел себе белье, шляпу, серую блузу, лорнет с дымчатыми стеклами, записную книжку с карандашом, шагомер и, наконец, револьвер Кольта. После всех покупок у него осталось шесть долларов; с этими деньгами он вернулся в гостиницу. У подъезда достал книжку и на первой странице написал — 40 000 000 метров, а на другой, напротив этой цифры — 857 метров, то есть расстояние, какое он уже прошел. Клерк гостиницы мистер Филипп встретил его, как старого знакомого, и записал в список постояльцев. За комнату взяли два доллара, за обед — доллар. У Бессребреника осталось, таким образом, три доллара. На них он купил дюжину сигар с принадлежностями для закуривания и остался с шестью шиллингами и семью пенсами. Отворив окно, он выбросил деньги на мостовую и, вздохнув с облегчением, сел в кресло-качалку, покуривая сигару и бормоча: — Ну вот! Я теперь опять свободен, опять бессребреник и могу отдохнуть. Только он подумал об отдыхе, как у двери зазвенел электрический звонок. Досадуя, джентльмен вскочил с кресла и пошел отворять. Вошли две какие-то темные личности, похожие на сыщиков. — Что вам угодно? — нахмурился Бессребреник. Один из незнакомцев притронулся к засаленному борту поношенной шляпы и отвечал: — Я — мистер Пиф, а это мой товарищ — мистер Паф.
ГЛАВА 3
Будущие спутники. — По телефону. — Приглашение на «цветной» обед. — Совещание. — Лакей Бессребреника. — 15 000 франков сбора. — Спички в две с половиной тысячи франков.Худой, как гвоздь, длиннолицый, крючконосый, с большим и тонким, точно саблей прорезанным, ртом, лопоухий, в длиннополом поношенном сюртуке, мистер Пиф напоминал Дон-Кихота, переряженного в пастора, лишенного сана. Глаза у него были холодные и проницательные. Мистер Паф представлял резкую противоположность своему товарищу. Круглый, коротконогий, с огромным животом, с апоплексической шеей, грушеобразным красным носом, двойным подбородком, с перстнями на жирных руках, он имел вид обжоры и пьяницы; однако взгляд у него был замечательно быстр и энергичен. Бессребреник смотрел на них, как человек, желающий поскорее сплавить докучливых посетителей. Мистер Пиф продолжал своим густым басом: — Мистер Паф — бывший сыщик… Я тоже… Мы вновь обратились к нашей специальности благодаря мистеру Джиму Сильверу. — Да мне-то какое до этого дело? — Очень большое. Мистер Сильвер поручил нам повсюду сопровождать вас. — Как?.. Что?.. — Дабы следить за точным исполнением условий заклада. — Действительно ли у меня не будет даже гроша в кармане — это нужно проверить? — Именно. За довольно кругленький гонорар мы обязались дать серебряному королю подробный отчет о вашем оригинальном путешествии. Мистер Паф перебил коллегу пронзительным голосом: — При этом запрещено помогать вам в чем бы то ни было. — Я ни за чем к вам и не обращусь! — воскликнул Бессребреник. — Но скажите, пожалуйста: для чего, собственно, сей визит? — Все очень просто, — вежливо, совсем не в американском духе отвечал мистер Пиф. — Вы — джентльмен выдающийся, и, чувствуя к вам большую симпатию, мы сочли долгом представиться. Ведь видеться придется ежедневно! — Сказать по правде, я не предвидел такого надзора за собой, но он мне нисколько не помешает, и потому охотно готов пожать вам руки, прежде чем сказать «до свидания». Пиф и Паф остались очень довольны приемом и, попрощавшись, немедленно отправились занять номер в гостинице. Только Бессребреник снова закурил сигару и уселся в легкое кресло-качалку, как зазвонил телефон. «Опять!» — полусмеясь-полусердясь подумал он. — Господин Бессребреник! — Что угодно? — Хотите писать корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», пока будете путешествовать? — Отчего же нет? — Редакция заплатит вам сколько пожелаете. — Я согласен на обыкновенный ваш гонорар. — Два шиллинга за строчку. — Отлично! Бессребреник подумал про себя: «Это будет мне хорошей поддержкой». Он снова бросился в качалку и закурил сигару. Но опять зазвонил телефон. Бессребреник начал уже сердиться. — Господин Бессребреник!? — Я. — Не возьмете ли вы фотографический аппарат фирмы… — Нет! Другой собеседник предложил: — Не хотите ли принять макинтош от фирмы… — Нет! — Мистер Бессребреник!.. Мистер Бессребреник!.. Важное дело!.. — Что такое? — Не прочтете ли вы сегодня лекцию в Политехническом зале? Новый вопрос: — Мистер Бессребреник, не примете ли вы от ваших поклонников приглашение на послезавтра на «цветной» обед в Чикаго? — С удовольствием! — Итак… мы на вас рассчитываем. Телефон продолжал звонить. В сердцах Бессребреник вырвал из аппарата блестящий черный шнур, ударив им об пол, будто плеткой. — Довольно!.. Голова трещит! Сегодня — лекция, завтра поездка в Чикаго на «цветной» обед… Довольно, довольно! Избавившись от телефона, джентльмен спокойно докурил сигару, покачался в кресле и заснул. Проснувшись к обеду, он с большим аппетитом поел, потом привязал к ноге шагомер и пешком отправился в Политехнический зал читать лекцию. У дверей гостиницы он увидал негра Снеговика и в свою очередь расхохотался: Снеговик оделся в газеты, которые прежде прикрывали Бессребреника, и старался продавать ваксу. Но торговля шла плохо: он назначил сумасшедшую цену, и над ним только смеялись. Истратив все деньги, он вынужден был теперь кусать локти. Увидав Бессребреника, негр смиренно приблизился к нему и жалобно проговорил: — Бедный Снеговик несчастен. Он разорился. Торговля его пропала. Не нужен ли вам слуга? Джентльмену стало жаль его. Совсем не подумав о том, что придется кормить и таскать за собой лишнего человека, он сказал: — Ступай за мной. От радости Снеговик подпрыгнул, одним взмахом руки сбросил в ручей все принадлежности своего ремесла и, улыбаясь до ушей, пошел за новым хозяином. Когда Бессребреник вошел в зал, он был набит до отказа. Джентльмена встретили громкими аплодисментами и криками «браво!». В первом ряду сидели мистеры Пиф, Паф и миссис Остин с карандашом и книжкой в руке. Поставив за собой слугу, Бессребреник поклонился публике и начал лекцию. Он не готовился совершенно, говорил по вдохновению и решительно обо всем: о больших путешествиях, о мореплавании, о воздушных шарах, о медицине, о кухне, о политической экономии, о промышленности, рассказывал удивительные истории о невероятных приключениях, трунил над американцами вообще и над своими слушателями в частности, продернул Джима Сильвера, серебряного короля, Пифа и Пафа, а под конец и самого себя. Лектора хотели нести на руках, до такой степени его беседа понравилась публике. Сбор оказался превосходным: около 15 000 франков. Для человека, не имеющего в кармане ни гроша, это было очень и очень много. Бессребреник тут же послал слугу приобрести приличную одежду и купить в конторе зала два билета до Чикаго. Как известно, железнодорожные билеты продаются в Америке везде. Через двадцать минут Снеговик вернулся, одетый ковбоем. Этот костюм — давнишняя его мечта — стоил 500 франков. В гостинице за помещение и стол было заплачено до следующих суток. У джентльмена оставалось, таким образом, еще 2850 долларов. Их следовало куда-нибудь сбыть, чтобы не нарушить условий пари. Золото и серебро он разменял на банковские билеты и достал портсигар, где лежали четыре сигары. Одну он предложил мистеру Пифу, другую мистеру Пафу, третью Снеговику, а четвертую взял себе. Затем свернул фитилем билет в 500 долларов и приказал слуге: — Держи и стой смирно! Точно так же свернул еще три билета, два из них отдал сыщикам, а четвертый оставил у себя. — Зажигай! — велел он негру, указывая на газовый рожок для курильщиков. Негр скорчил рожу и хотел что-то сказать, но Бессребреник перебил: — Слушайся или ищи другого хозяина! Негр с отчаянием исполнил приказание. — Хорошо. Подай теперь огня этим господам. Негр подал Пифу и Пафу горящую бумагу, от которой те зажгли свои билеты. Как настоящие американцы, они поняли и оценили поступок Бессребреника. И, сделав несколько затяжек, протянули ему руки: — Вы — большой человек. И, надо полагать, далеко нас заведете. — Я уверен в этом… Эй, Снеговик! В нашей кассе осталось еще 850 долларов. Возьми их себе. До завтрашнего дня можешь их пропить, проиграть, проесть, потерять… Но помни, что ты не имеешь права держать при себе хотя бы грош, покуда мы вместе. Не забудь также, что завтра в восемь часов утра едем в Чикаго.
ГЛАВА 4
Нечего есть. — Опять миссис Клавдия. — Черный обед в воспоминание о первом дебюте. — Мнение Бессребреника об оригинальном обеде. — Нефтяная королева. — Проект обогащения. — Телеграмма. — Басня о молочнице и крынке молока. — Компания. — Господин и госпожа Бессребреники.На станции, откуда отходил поезд в Чикаго, Бессребреник застал, как ожидал, Пифа и Пафа. После вежливого обмена приветствиями все трое сели в один вагон. Снеговик расположился рядом со своим господином. Они устроились и стали ждать свистка. Наконец, тяжелая машина, вздрогнув, тронулась. Оба сыщика уселись по-американски, опустив головы, положив ноги на спинку противоположного кресла. Снеговик, быстро перенимавший хорошие манеры, последовал их примеру, а для большей устойчивости еще и зацепился шпорами за обивку дивана. На диване сидел как раз его господин; но последний нашел эту фамильярность вполне естественной. Поезд, выбрасывая клубы дыма, минуя города, местечки, мосты, мчался через туннели, равнины, к великому изумлению негра, который до тех пор не мог себе вообразить, что свет так велик. Возбуждая костюмом ковбоя всеобщее любопытство, он был счастлив, принимал важные позы, выпячивал грудь, вообще рисовался. Но от Нью-Йорка до Чикаго дорога длинная, и после пяти-шести часов пути Снеговик почувствовал, что голоден, о чем и сообщил своему хозяину. Тот воскликнул: — Ах, а я об этом и не подумал!.. Только, видишь ли, у меня нет ни гроша в кармане; придется затянуть потуже пояса. Пиф и Паф вернулись в эту минуту из вагона-буфета, плотно закусив, веселые, с зубочистками во ртах. Снеговик, высунувшись из окна, впитывал в себя кухонные ароматы, которыми благоухал воздух, и бормотал: — Плохой вы негр, мистер Снеговик! Не приходится вам зажигать сигару зеленой бумажкой!.. Денег ни гроша, поесть не на что!.. Другой раз надо откладывать деньгу… экономить! — Попадись мне только с этим! — проворчал Бессребреник… — Вздумал экономить!.. Захотелось моей смерти?.. Делать было нечего: голодный негр и голодный господин старались проспать те мили и часы, которые еще оставалось проехать. Их разбудил крик кондуктора. — Чикаго!.. Чикаго!.. Выйдя из вагона, Бессребреник, никогда ничему не удивлявшийся, немало изумился при виде молоденькой женщины, одетой в изящный дорожный костюм. В руках у нее был плед на ремнях. — Здравствуйте, мистер Бессребреник. — К вашим услугам, миссис Остин. — Куда вы? — Еду на «цветной» обед. — К кому? — Не знаю. — Какая улица?.. Какой номер? — И того не ведаю. — И вы уехали из Нью-Йорка, не справившись?.. — Тот, кто пригласил меня, сумеет отыскать… А вы?.. Вы здесь какими судьбами? — Я приехала этим же поездом. Вам не неприятно будет пройтись со мной под руку? — Буду весьма польщен, очень счастлив… Несметное полчище репортеров, фотографов, рисовальщиков, просто любопытных собралось на перроне. Миссис Остин взяла под руку джентльмена; Снеговик последовал за ними, Пиф и Паф делали все возможное, чтобы толпа не оттерла их. — Бессребреник! Бессребреник! — кричали репортеры. — Где вы, мистер Бессребреник? Неузнанный джентльмен уже был на улице, между тем как его искали по всем углам вокзала. — Как же вы намерены поступить дальше? — спросила миссис Клавдия. — Остановлюсь в «Атенеуме», объявлю о своем прибытии и стану зарабатывать на пропитание. — В таком случае проводите вначале меня… — Я только что собирался просить доставить мне эту честь. Они шли около получаса, и молодая женщина, наконец, остановилась перед роскошным отелем. — Войдемте, — предложила она. Бессребреник последовал за любезной хозяйкой. Они очутились в великолепном зале, где было несколько джентльменов и леди в нарядных туалетах. При появлении миссис Клавдии и ее спутника поднялся легкий ропот. — Господа, позвольте представить мистера Бессребреника — героя дня… Он принял приглашение на обед, которое я послала в Нью-Йорк. Мистер Бессребреник, — обратилась она к нему, — вы здесь у меня в гостях. Позвольте руку, и пройдемте в столовую. При этих словах молодая женщина сбросила серый каш-пусьер, окутывавший ее с головы до ног, и появилась в черном атласном платье-декольте, с черными жемчужинами в ушах и звездой из черных бриллиантов, воткнутой во вьющиеся пряди пепельных волос… Мистер Бессребреник был ослеплен. Он вежливо поклонился и проговорил: — Вы — волшебница! Все пошли в столовую, и при виде ее странного убранства у молодых леди вырвались восклицания испуга. Следует сказать два слова о «цветных» обедах — странной, оригинальной выдумке американцев. На этих обедах — голубых, желтых, зеленых или лиловых — все должно приближаться по тону к тому цвету, который избрала хозяйка дома. Все должно быть розовое или голубое, лиловое или желтое: убранство столовой, посуда, туалеты дам, блюда, десерт, бутоньерки у мужчин, даже драгоценные камни. Самый обыкновенный — розовый обед: торжество лососины, ростбифа, биска, томатов, креветок, кремов, редиски, красиво убранных пирожных, фруктов, роз. — Насколько я знаю, еще никто не давал черного обеда, — сказала, улыбаясь, миссис Клавдия. — И вот мне, женщине эксцентричной, пришло в голову устроить такой обед в честь ваших дебютов, мистер Бессребреник. Как вы находите, мой план выполнен успешно? — Чудесно! — отвечал, смеясь, джентльмен. — Невозможно, наверное, более своеобразно напомнить о недавнем прошлом тому, кто служил живой рекламой черной ваксы… Кстати, куда девался Снеговик, мой бывший хозяин, а теперешний слуга? — Не беспокойтесь. Мистер Пиф и Паф взяли на себя заботу о его черной персоне. — Прекрасно. Гости разместились по указанию хозяйки, и мистер Бессребреник, сидевший по правую ее руку, не без иронии смотрел на представившееся зрелище. А зрелище было странным и мрачным: огромная столовая, вся обтянутая черным, в том числе и потолок. Черный ковер на полу, стол, накрытый черной бархатной скатертью, на которой лежали меню и карточки с именами гостей, написанные белым по черному. Салфетки были черные, как и посуда и серебро. Прислуживали, само собой, негры, черные как уголь. Все дамы оделись в черное, и единственные украшения, допущенные хозяйкой, состояли из черных бриллиантов, черного жемчуга и оксидированного серебра. Впечатление от такого стола под волнами электрического света, лившегося с черного потолка, получалось действительно необычайным, и гости громко восхищались. Кушанья, которыми был уставлен стол, представляли целую гамму цветов, начиная от коричневого до совершенно черного. Здесь были колбасы и всякие припасы: черная редька, черный хлеб, поджаренное мясо с темными, странными на вид и на вкус соусами. Вино подавалось густого фиолетового цвета, как чернила, а кофе, естественно, черный. Белого было — только женские плечи, мужские манжеты и манишки, да и то многие нарядились в черное, поистине ужасное белье… Мистер Бессребреник после шестнадцатичасового путешествия не страдал отсутствием аппетита. Однако, не выпуская куска изо рта, он был любезен со всеми. Миссис Клавдия, сделавшая попытку удивить джентльмена, очень хотела знать, как понравилась гостю эта американская веселость под катафалком. Она подозревала, что мистер Бессребреник — иностранец, может быть даже француз, и вполне сознавала отсутствие хорошего вкуса в своем празднике. Мнение Бессребреника хозяйка ставила особенно высоко, так как вообще относилась к нему далеко не равнодушно. Любила ли она его?.. или ненавидела?.. Наверное, и то и другое вместе. Может, как раз оттого, что этот иностранец отнесся к ней равнодушно, миссис Клавдия обратила на него более внимания, чем на кого-либо другого. Кроме того, знакомство с ним ее интересовало, создавало ей успех, обращало внимание на ее поступки, а ради рекламы она готова была пожертвовать многим. — Скажите, наконец, что вы думаете обо всем этом? — спросила она мистера Бессребреника. — О чем именно?.. о поваре?.. о кушаньях?.. — Мне хотелось бы знать ваше мнение обо всем. — Что же! Повар ваш совершил подвиг… придумать такие блюда — настоящий подвиг… Убранство тоже экзотично… А что касается гостей, я скажу, что они — янки — умеют ценить подобные проявления оригинальности. Миссис Клавдия капризно покачала своей хорошенькой головкой — пепельные кудри еще рельефнее выделились на черном фоне — и, состроив гримаску, проговорила: — Вы несколько жестоко относитесь и к моему празднику, и к его устроительнице… — Намереваетесь защищать янки и признаете у них вкус? — Я как американка… — Вы прежде всего женщина; ваш каприз — закон, и вы имеете на то право. — Вы уклоняетесь от ответа… Мой обед… — Я говорю, что очень приятно быть такой богатой и предлагать гостям подобные увеселения… — О, я знаю, что об этом подумают в Америке! Но в Европе?.. Вы не американец? — Кто знает… — Вы француз? — Может быть. — Парижанин? — Я — человек без гроша в кармане. — Но от вас зависело сделаться миллионером! — Куда мне!.. — Вы имели бы солидное состояние, и в два-три года оно могло удвоиться. — Благодарю за хорошее обо мне мнение. — Я — владелица нефтяных источников, открытых недавно в Дакоте. — Мельком слышал об этом. — Там теперь возник целый городок — Нью-Ойл-Сити, будущий соперник многолюдного Петроли-Пенсильвании… Мистер Джай Гульд — золотой король, мистер Джим Сильвер — серебряный, а я сделаюсь нефтяной королевой. У меня будет дворец в Нью-Йорке, коттедж в Иеллоустонском парке, собственный салон-вагон на всех железных дорогах, отель в Париже, вилла в Ницце, яхта в тысячу тонн на океане… Я буду сиять по своему капризу на землях и морях то одного, то другого полушария. — Вы не находите, что все это очень утомительно? — спросил равнодушным тоном джентльмен. Но восклицания, вызванные у гостей планами на будущее красавицы хозяйки, заглушили вопрос Бессребреника. Все знали историю быстрого обогащения миссис Клавдии: ее покойный муж — молодой инженер, погибший в одной из железнодорожных катастроф, разбогател благодаря счастливой случайности. Став вдовой, миссис Остин не продала земли, на которой оказались нефтяные источники, но продолжила их разработку, заставив всех, от последнего рабочего до главного инженера, повиноваться себе. За полтора года она получила полтора миллиона долларов и положила их в банк как неприкосновенный капитал. Ею многие восхищались, и у красивой, образованной, деловитой женщины не было недостатка в женихах. Говоря со своим гостем, она возвысила голос, так что присутствовавшие слышали ее. Все серьезно верили в возможность осуществления грандиозной мечты хозяйки и отнеслись к ней с шумным восторгом. Один из гостей встал и, подняв бокал с фиолетовым вином, предложил тост: — Леди и джентльмены! Божественная миссис Клавдия Остин позволила мне поднять бокал в честь ее. Пью за здоровье королевы ума, королевы красоты и, надеюсь, в скором времени — нефтяной королевы… В это время в комнату вошел метрдотель. Одетый в безукоризненный черный костюм, он был единственным из слуг с белым лицом. Представьте ужас хозяйки! Это бледное лицо нарушило господствующий тон обстановки… И другая непростительная оплошность: непрошеный гость держал в руках не черный поднос, а белый. А на подносе?.. — Что такое, мистер Шарп?.. — Важная телеграмма. — Откуда вы знаете? — Я прочел ее и, смею думать, правильно сделал. Миссис Клавдия развернула депешу. Телеграмма оказалась длинной. Когда она закончила чтение, губы ее побледнели так же, как и щеки. Впрочем, то было единственным проявлением волнения — руки не дрожали и глаза сверкали. Наступило тяжелое выжидательное молчание. — Будем же продолжать веселиться, — обратилась миссис Клавдия к гостям, но голос ее как бы потерял некоторую долю звучности. Затем, обращаясь к джентльмену, предложившему тост, она прибавила: — Нефтяная королева благодарит вас за добрые пожелания. К ней вернулось спокойствие, щеки снова порозовели. Она передала телеграмму Бессребренику. — Я думаю, вы поступили благоразумно, не женившись на мне. Джентльмен бросил на нее вопросительный взгляд. — Прочтите, — сказала она, — и вы все поймете. Он повиновался:
«Доводим до вашего сведения, что ковбои осаждают Нью-Ойл-Сити. Нефтяные цистерны горят. Собираются взорвать колодцы динамитом. Рабочие сопротивляются, но боимся, что нельзя будет долго продержаться. Убытки громадные. Бедствие ужасное. Необходимо скорое решительное вмешательство. Иначе — разорение. Просим немедленно прислать инструкции. Гаррисон, главный инженер».Бессребреник возвратил телеграмму миссис Клавдии, которая пристально глядела на него: — Что вы на это скажете? Он ответил с ироничной улыбкой: — Когда мне своим трудом удастся заработать достаточную сумму денег… — Вы дадите мне взаймы?.. — Нет, постараюсь отложить три шиллинга… — Чтобы?.. — Чтобы купить экземпляр басен Лафонтена. — Это еще что такое? — Я предложу вам одну из них… Когда вы прочтете «Молочницу и крынку молока», то убедитесь, что нет кувшина, который не мог бы опрокинуться. — Можно подумать, мое несчастье доставляет вам удовольствие. — Нет, я отношусь к нему равнодушно. Впрочем, будет любопытно посмотреть, как вы выпутаетесь из затруднения. — А если я попрошу вас о помощи?.. — Подумаю… Хотя помощь от человека, у которого нет ни гроша, весьма сомнительна. — Вы — необыкновенный человек! Она говорила тихо, и со стороны казалось — равнодушно, так что гости ничего не поняли. Общая беседа снова оживилась, и телеграмма стала забываться. Правда, гости находили, что хозяйка слишком внимательна к этому странному господину, хотя тут же извиняли ее — как-никак он был знаменитостью! — Послушайте, — продолжала миссис Клавдия. — Вы отказались жениться на мне, и я даже смогла рассердиться… Теперь, вероятно, у меня уже ничего нет, и я предлагаю вам не брак, но дружбу. Почему миссис Бессребренице не стать товарищем мистера Бессребреника? — Да, это идея! — Вы принимаете? — Без сомнения! Только с одним условием — чтобы вы действительно не имели ни гроша.
ГЛАВА 5
Первые затруднения устранены. — Не хватило трех су! — На поезде. — «Негодные земли» Небраски. — Последние бизоны. — Ранчо. — Первая встреча с ковбоями. — Битва. — История кондуктора, съевшего свою хозяйку.Таким образом, отношения между миссис Остин и крайне своеобразным джентльменом, прозванным «Бессребреником», упрочились и одновременно усложнились. Они стали товарищами, составив синдикат двух бедняков и положив начало фирме «Без гроша в кармане и К°». Бессребреник, возможно, был наиболее богатым из двух компаньонов — его состояние равнялось нулю, тогда как миссис Клавдия не знала, не обернулось ли ее разорение несколькими сотнями тысяч долга. Без колебания она решила немедленно отправиться в дикую пустынную Дакоту, в самый центр восстания, чтобы принять личное участие в борьбе. У янки много недостатков, но одного достоинства у них оспаривать нельзя — энергии, соединенной со смелостью. Ничто не в состоянии смутить или обескуражить янки. Он с совершенным хладнокровием переносит самые ужасные бедствия и, в случае надобности, без колебания жертвует жизнью, стремясь остаться победителем в «борьбе за существование». Храбрая женщина обсудила свой план с джентльменом. — Значит, мы едем в Дакоту, — заключил он. — Да, любезнейший компаньон. — Следовательно, мне надо заработать столько, чтобы я мог заплатить за поездку из Чикаго в Денвер, и не только за себя, но и за Снеговика. — Прошу вас, не беспокойтесь об этом. Издержки покроются из общего капитала. — Но ведь он исчисляется нулями?.. — Примите в виде аванса сумму, необходимую на проезд и пропитание. — Невозможно!.. Я дал обещание не принимать ничего ни под видом подарка, ни займа… — Как же быть?.. Время идет… боюсь, не поздно ли уже. — Поезжайте вперед, а я со своим слугой догоню вас. — Без вас я не поеду. Во время разговора Бессребреник вынул записную книжку и начал что-то писать. — Вы позволите? — спросил он у своей собеседницы, смотревшей на него с недоумением. — Конечно! Продолжайте. Он писал, не отрываясь, с полчаса и вздохнул с облегчением, когда закончил. — Можно узнать, в чем дело? — спросила миссис Клавдия, любопытная, как все женщины. — Телеграмма в «Нью-Йорк Геральд», корреспондентом которой я являюсь. — Она даст вам возможность заплатить за проезд? — Надеюсь… Но прежде всего надо ее отправить. — Кто-нибудь из моей прислуги легко справится с этим. Хорошо? — Нет. — Опять не понимаю. — Вы платите вашим людям, стало быть, я не могу пользоваться их услугами… Я ничего не могу принять даром… даже четверти часа чужого времени. — Вы начинаете приводить меня в отчаяние. — Какое жалованье получает ваш слуга? — Сорок долларов в месяц. — Стало быть, в день доллар и… Позвольте мне перевести на французский счет… — Для чего вам все это? — Миссис Клавдия начинала терять терпение. — Вот для чего: ваш слуга получает в сутки шесть франков шестьдесят сантимов, то есть в час около двадцати восьми сантимов… Предположим, что ему нужно полчаса, чтобы сходить на телеграф; стало быть, я должен уплатить ему пятнадцать сантимов, то есть три су. — Ну, а дальше? — Этих трех су у меня нет и не может быть; недаром я джентльмен «Без гроша в кармане». Несмотря на серьезность положения, миссис Клавдия не могла удержаться от смеха. — В самом деле, очень забавно; но как вы думаете: в конце концов не станет ли это неудобным? — спросила она. — Не знаю… может быть. — Что вы намереваетесь делать? — Сам отнесу телеграмму… — Могу я знать ее содержание? — Извольте. Это подробное сообщение о вашем черном обеде, оригинальной выдумке миллионерши ихорошенькой женщины… — Миллионерши уже нет!.. — Но хорошенькая женщина стала еще прелестнее. — За отсутствием мелочи вы богаты любезностями. — Всегда к вашим услугам. — Бегите же на телеграф!.. Разве вы забыли, что моя нефть, мой завод, мой город — все горит. Джентльмен побежал на телеграф и по дороге встретил Пифа и Пафа со Снеговиком, пьяным, как всамделишный ковбой, проглотивший пинту «Сока тарантула». Троица пустилась вдогонку за джентльменом, словно тот пытался скрыться от них. Остановились у телеграфа. Депеша немедленно была отправлена в Нью-Йорк, и час спустя Бессребреник, благодаря американской четкости, уже получил плату за свою первую статью. Прежде чем вернуться к миссис Клавдии, он зашел взять билет на поезд для себя и Снеговика. Его спутница была уже готова. В путь она отправлялась по-американски, намереваясь купить дорогой все, что понадобится. Два ручных чемоданчика, плед, непромокаемый плащ, зонт — вот и все, что составляло ее багаж. Бессребреник передал чемоданы негру, сам взял плед с плащом и предложил руку миссис Клавдии. Пиф и Паф не отставали от них. Между Чикаго и Денвером нет недостатка в путях сообщения. Всего насчитывается до пяти железнодорожных компаний, наперебой пускающих в ход рекламу, восхваляя удобства, комфорт и быстроту своих поездов. Но если поезда в действительности прекрасны, то самый путь ужасен; в этом отношении ни одна из пяти конкурирующих дорог ни в чем не может похвастаться перед другими. Пиф и Паф, поддерживая Снеговика, усадили его благополучно между собой в том же вагоне, где поместились Бессребреник и миссис Клавдия. До Денвера было тридцать часов пути. Выехали рано. Снеговик спал, как тюлень; Пиф и Паф жевали табак, разгуливая по всему поезду; Бессребреник и миссис Клавдия разговаривали, мечтали, делали заметки и спали. Проехали несколько городов и достигли, наконец, штата Небраска, одного из самых бесплодных во всех Соединенных Штатах и занятого большей частью так называемыми «негодными землями». Нельзя придумать названия, более подходящего для этих необозримых пустынных равнин, где не видно никакой другой растительности, кроме шалфея, сильный запах которого разносится в воздухе. Кругом ни дерева, ни холма, ни хижины, лишь группки индейцев нарушают иногда монотонность пустыни. Поезд шел вдоль Платт-Ривера; заросли шалфея исчезли и стали попадаться люди, стада, фермы. Цивилизация завоевала эти необозримые пространства и преобразила их там, где двадцать лет назад кочевали краснокожие и бродили бизоны, пасутся бесчисленные стада быков, баранов и лошадей. Бизоны уже почти исчезли — осталась всего сотня голов. Закон взял их под свое покровительство, поместив в Иеллоустонском парке. Индейцы тоже близки к исчезновению. Неумеренное употребление водки и болезни, занесенные белыми, действуют на них губительно. В Небраске с особенной ясностью видна работа, преобразующая весь Американский материк с запада на восток. Людская волна, которую ничто не сдерживает, безостановочно продвигается вперед, никогда не отступая назад, заполняя необозримые пространства между Атлантическим и Тихим океанами. На всем этом протяжении то и дело появляются местечки, быстро превращающиеся в многолюдные города. Между этими городами, расположенными подчас на громадном расстоянии, виднеются маленькие деревянные домики, склады угля, колодцы и изредка встречаются люди. Любопытный путешественник, заглянув в путеводитель, читает, что эта хижина, эти столбы с дощечками названы городом. Если это заметит американец, он улыбнется и скажет: — Вы удивлены — и совершенно справедливо… Но приезжайте сюда лет через пять-шесть и действительно увидите город с десятью, пятнадцатью, двадцатью тысячами жителей. И это правда. Денвер служит живым доказательством необычайно быстрого роста городов. Ему нет еще и двадцати пяти лет, а он насчитывает уже до ста сорока тысяч жителей. В нем есть университет, биржа, несколько театров, обширные бульвары, ботанический сад, великолепные церкви, десятиэтажные дома и всюду электрическое освещение. По мере приближения к молодой, роскошной столице штата Колорадо количество ферм и обработанных земель увеличивалось. Скоро беспрерывно потянулись ранчо, окруженные проволочной изгородью, идущей вокруг деревянного дома и хозяйственных построек. Там и сям паслись быки, коровы и лошади под охраной разъезжающих верхом ковбоев. На одной из станций несколько из них сели в вагон, звеня деньгами в карманах, — то, что досталось с таким трудом, предполагалось истратить на шумные попойки. Они фамильярно обратились к негру, принимая его за своего: — Хелло, бой! Произошел обмен рукопожатиями, от которых, казалось, мог последовать вывих плеча, и через минуту собеседники уже плевали друг другу на ноги табак, который все здесь жуют с наслаждением. — Откуда вы?.. Куда отправляетесь?.. — Из Нью-Йорка… Туда. — Куда? — Не знаю! — Он глуп… или смеется над нами… — Не смеюсь, говорю правду. — Это не ковбой, а грязный негр, одевшийся по-нашему. — Мошенник… Идиот… Негодяй!.. Постой, мы тебя научим, как выставлять себя не тем, что ты есть!.. Их было человек шесть; довольные случаем пошуметь, они с криками окружили Снеговика, забавляясь его испугом. С бедняги сорвали шляпу и оборвали галун. От рубашки летели клочья. Негр, восхищавшийся своим героическим костюмом, плакал, как дитя. Голосом и знаками он умолял хозяина прийти на помощь. И, наконец, Бессребреник, которого эта сцена сначала забавляла, решил вступиться за своего слугу. — Господа, — обратился он миролюбиво к ковбоям, — оставьте! Ему захохотали в лицо. Бессребреник тоже начал смеяться, хотя ноздри его и верхняя губа поднялись в странной гримасе. Миссис Клавдия с любопытством наблюдала, что он намеревается делать. Джентльмен встал и сказал сухим отрывистым голосом: — Я просил вас… Теперь приказываю… Прочь лапы! При этих словах ковбои на минуту выпустили свою жертву, находя очень смешным человека, осмеливающегося выступать сразу против шестерых. — Постойте! — воскликнул один из них. — Мы и его разденем, оголим, как червяка. Сударыня, потрудитесь пройти в соседнее отделение: вам будет неловко. Миссис Клавдия не трогалась с места, все более и более заинтересовываясь происходившим. Бессребреник выпрямился и заслонил собою негра. Ковбои, нещадно ругаясь, бросились на него, стараясь повалить. Без видимого усилия джентльмен дал пинок, с математической точностью попавший в чей-то перепоясанный красным кушаком живот. Затем его рука стремительно разогнулась и раздался удар по одному из багровых носов. Послышались возгласы: «Ох!.. А-а-а!» Обладатель живота упал на пол, его товарищ с разбитым носом последовал за ним. — Очень мило, — заметила миссис Клавдия. Но это было не все. На ногах остались еще четыре взбешенных противника. Бессребреник, усвоивший, вероятно, что нападение — лучшая защита, упредил своих врагов. Двое из ковбоев имели длинные бороды. Джентльмен схватился за них и резко дернул. Из двух ртов вырвался бешеный рев. Бессребреник, желая дополнить урок, развел руки и снова сблизил их со страшной силой. Два лба столкнулись и ударились друг о друга с шумом брошенной о стену тыквы. Удар был столь чудовищен, что вой, несшийся из открытых ртов, вдруг замолк. Джентльмен выпустил бороды, и оба ковбоя, потеряв равновесие, упали на товарищей, уже прежде лишившихся возможности сопротивляться. Борьба продолжалась не более полуминуты. Два последних ковбоя, растерявшись, смотрели на живописное смешение рубашек, сапог, шпор, вонзившихся в тело, судорожно сжатых рук и обезображенных лиц. Впрочем, привыкшие ко всему, они скоро пришли в себя и схватились за револьверы. Но в ту же секунду раздались два выстрела. Оба мерзавца, раненные в спину, упали, как подстреленные кролики — у двери в коридор, соединяющий все вагоны поезда, появился кондуктор, держа еще дымящийся револьвер. — Что за адский шум подняли эти ковбои? — произнес он хриплым голосом. — Надеюсь, сударыня, вас не побеспокоили? — Нет, благодарю вас, — отвечала миссис Клавдия. — Тем лучше. Между тем раненые стали приподниматься, ощупывая тела и головы. Бессребреник, не говоря ни слова, смотрел на кондуктора, права которого на поезде почти равны правам капитана на корабле. Поезд мчался на всех парах. «Капитан» сунул еще заряженный револьвер в карман сюртука, схватил без видимого усилия одного из раненых ковбоев за шиворот и выбросил через дверцу на путь. За первым последовал и второй; потом, обращаясь к остальным, кондуктор сказал повелительно: — Прочь отсюда за ними!.. Иначе… у меня еще два заряда в запасе. Ковбои попытались уговорить его, но он прицелился, считая: — Раз!.. Два!.. Видя, что надежды нет, они вышли, шатаясь, на тормоз, но в последнюю минуту снова заколебались. Кондуктор прицелился. Предпочитая увечье верной смерти, ковбои спрыгнули лягушечьими прыжками и скатились по откосу. Вот как производится расправа б местностях, считающихся ненадежными. Поклонившись почтительно миссис Клавдии, кондуктор собирался вернуться на свой пост, даже не удостоив взглядом четверых мужчин. В Америке мужчина для мужчины ничего не значит. Тут он заметил Снеговика, свернувшегося в кресле и трясущегося как в лихорадке. — Как! Еще один?.. — воскликнул он, принимая негра за ковбоя. — Нет!.. — поспешила уверить миссис Клавдия. — Этот негр — слуга моего спутника, того самого джентльмена, который так храбро защищал его. — Его счастье; иначе… сами видите, чем меньше этих буйных, тем лучше. — Вы их очень не любите? — Потому что знаю хорошо. Я сам был ковбоем. — Вот как?! Каким же образом вы превратились в кондуктора? — Я съел свою хозяйку. — О! Это очень любопытно… Расскажите, пожалуйста. — Ну что ж… Я работал у богатого скотовладельца, у которого жилось не хуже и не лучше, чем у других, то есть отвратительно. Особенно была ужасна пища: всю неделю нас кормили испорченным соленым салом да отвратительными лепешками из слежавшейся муки — их, поверьте, не стали бы есть даже свиньи, не только что люди. Я ставлю свиней впереди, как это обыкновенно делал наш хозяин. Так вот, в один прекрасный день пала корова. Часть ее мы съели еще в свежем виде… Полакомились!.. Остальное мясо посолили и — о радость! — на время забыли о сале! Когда корову покончили, околела лошадь; ее также посолили и съели до копыт. Затем умер сторожевой пес… Его хватило только на один раз… Как мы были рады, что судьба избавила нас от опротивевшего сала!.. Тут случилось несчастье — упавшим деревом убило жену нашего хозяина и козу, которую она доила. Нам изжарили мясо козы, но… — Но что же? — миссис Клавдия содрогнулась. — Вкус мяса мне показался таким странным, а кости такой удивительной формы, что я подумал: это, наверное, хозяйка. Ведь хозяин был так скуп!.. И я убежал, даже не попросив расчета, зная, что в семье есть еще пять девочек и четыре мальчика, не особенно крепких здоровьем… Потом я попал в кондукторы… Через час после этого разговора поезд прибыл в Девенпорт.
ГЛАВА 6
В дороге. — Сюрприз. — Первые выстрелы. — Пожар. — Город миссис Клавдии. — Проезд свободен. — Адская кадриль. — Подвиги Бессребреника. — Динамитный патрон. — Бессребреник зарабатывает обед.Однако столица Колорадо не была окончательной целью поездки наших путешественников. Они остановились здесь всего на три часа, назначив друг другу свидание на вокзале, откуда намеревались отправиться в Фокс-Хилл. Вы напрасно стали бы искать это имя на карте. Фокс-Хилл принадлежит к числу тех пока воображаемых городов, которые лишь через несколько лет населятся, а теперь представляют собой только распланированное место. Мисс Клавдия отправилась прежде всего к своему банкиру в Денвере. Бессребреник послал телеграмму в «Нью-Йорк Геральд», подумав, что подобный способ изыскивать пропитание становится однообразным. Пиф, Паф и Снеговик не отставали от него ни на шаг. Эта компания начинала раздражать нашего джентльмена. Он стал подумывать, как бы отделаться от своих спутников, но, не находя пока предлога, злой-презлой вернулся на станцию. Расстроенная миссис Клавдия уже ждала его. Сообщения банкира о событиях в Нью-Ойл-Сити были самые неутешительные. Молодой женщине грозило полное разорение. Не вдаваясь в рассуждения о причинах катастрофы и не предлагая средств борьбы, банкир только констатировал факты и советовал нефтяной королеве — увы! — королеве, лишившейся престола, продать все как можно скорее и таким образом спасти хотя бы остатки прежнего богатства. К своему изумлению, он наткнулся на твердое решение экс-королевы бороться до конца. — Но известно ли вам, что там собралось полтысячи ковбоев, которые все грабят? — Я думала, что их тысяча… — Стало быть, у вас есть поддержка? — Конечно. У меня есть компаньон. — Компаньон? — с видимым беспокойством спросил банкир. — Да, замечательный джентльмен… большой оригинал — мистер Бессребреник, вы знаете… — А! Это тот эксцентричный господин?.. — Да! Он один стоит целого войска. — Итак, вы решили во что бы то ни стало отправиться в Нью-Ойл-Сити? — Во что бы то ни стало. — Помните, что я предупреждал вас — для разбойников нет ничего святого. — Да… да… Прощайте! Она вышла и отправилась разыскивать Бессребреника. По железной дороге они доехали до Фокс-Хилла. Там их ждал кабриолет, запряженный рысаком. Кучер поздоровался с миссис Клавдией, которая ответила ему крепким рукопожатием и представила своему спутнику: — Мистер Гаррисон, главный инженер Нью-Ойл-Сити… Мистер Бессребреник, мой компаньон. — Ваш компаньон? — недовольно переспросил мистер Гаррисон. — Да, — серьезно подтвердил Бессребреник. — И вы не боитесь, миссис Клавдия, очутиться среди сброда, разоряющего город? — Отправляюсь туда немедленно! — Очень рискуете! — Я привыкла рисковать. — В таком случае потрудитесь сесть со мной в кабриолет. — Нет! Кабриолет и лошади мои… Дайте вожжи, я сама буду править… Мистер Бессребреник, садитесь возле. — С удовольствием, — отвечал джентльмен, исполняя желание миссис Клавдии. — А я? — обиделся инженер. — На задней скамейке. Мистер Бессребреник как мой компаньон — ваш хозяин… Вы на службе у него… Она прищелкнула языком, ослабила вожжи, и рысак помчался как стрела мимо обескураженных Пифа, Пафа и Снеговика. Требовалось много ловкости от грациозной хозяйки, чтобы проехать по сквернейшей дороге от станции до нефтяных колодцев. Так называемая дорога шла по лесистым холмам, где на месте недавно вырубленного леса были оставлены пни. Можно себе представить, какую гимнастику вынуждены были проделывать лошадь и экипаж! Целых три часа мчались они по адскому пути. Только американские рысаки, у которых природная скорость и выносливость увеличены специальной выучкой, способны выдержать такой переезд. Среди аллей показалась одинокая избушка и возле нее обширный сарай. Две оседланные лошади стояли, привязанные к столбу. При звуке колес человек в костюме ковбоя вышел из избушки и остановился. Миссис Клавдия придержала лошадь, узнав одного из начальников мастерских. — Что значит этот странный наряд, Боб? — спросила она. — Здравствуйте, миссис Остин. — Здравствуйте! — Я надел этот костюм, чтобы затесаться в толпу добрых малых, забавляющихся там. — А! Продолжают забавляться? — Больше, чем прежде… Вот вам доказательство… Видите дым? Вероятно, зажгли вагон-цистерну с нефтью. Миссис Клавдия слегка побледнела и закусила губы. Боб прибавил: — Я приготовил лошадь для инженера; ему, может быть, надоело сидеть сложа руки позади вас и этого господина… Гаррисон, вот ваша лошадь. Инженер, сойдя с кабриолета, спросил: — Что нового с утра? — Кажется, заставляют плясать жителей Нью-Ойл-Сити. — Кто? — Ковбои. Они составили оркестр. Совсем особенный оркестр, увидите. Снова пустились в дорогу и скакали еще часа два. Когда въехали на вершину холма, откуда открывался вид на нефтяные колодцы, мастерские и город, расположенный на возвышенности, миссис Клавдия не могла сдержать гнева. Три вагона, стоявших на рельсах узкоколейки, пылали, окутанные тяжелым черным облаком. Люди, окружавшие вагоны и казавшиеся издали такими маленькими, прыгали вокруг, стреляя из револьверов. Город, многолюдный, уже красиво обстроившийся, был полон несказанного смятения: крики, пальба, нечеловеческий вой. В воздухе стоял отвратительный запах, от которого тошнило и голова кружилась. — Это улетучиваются мои миллионы, — сказала миссис Клавдия со смесью иронии и отчаяния. — Я их верну вам, а если не верну, то найду для вас другие, — совершенно беспечно заметил джентльмен. — Но знаете, милая королева, в ваших владениях прелестно… Это город!.. Настоящий город… — Недолго ему предстоит просуществовать в руках этих дикарей… Я и теперь удивляюсь, как еще кое-что уцелело. Уже привыкнув к манере янки выражаться хвастливо, Бессребреник ожидал встретить вместо роскошно устроенного города поселение. К своему великому изумлению, он увидал настоящие дома вдоль настоящих улиц, пересекавшихся под прямыми углами, как принято у американцев. Мостовой, впрочем, на этих улицах не было, и проезжавшие по ним тяжело нагруженные возы оставляли глубокие колеи. Среди построек попадалось много наскоро сколоченных бараков, даже изодранных палаток, где ютились туземные рабочие; но большинство домов и магазинов были кирпичные, с крепкими ставнями, впрочем, продырявленными, как решето, — пограничный житель берется за револьвер при каждом удобном случае. Кабриолет, сопровождаемый обоими всадниками, въехал на главную улицу, где находились контора, магазины и великолепный дом с квартирами инженеров, управляющих и самой нефтяной королевы. Та останавливалась здесь, когда надумывала посетить свою грязную, вонючую богатую столицу. Первое, что бросилось им в глаза, — дождь горящих головней, сыпавшихся с пылающей крыши большого здания. В нижнем этаже, в салуне, хозяину которого пуля раскроила череп, шла попойка. Два человека в одежде ковбоев, с расстегнутыми воротниками, с рукавами, засученными по локоть, выбрасывали на дорогу труп. Третий прибивал к вывеске доску с надписью углем: «Смерть ворам!» — Блестящий и шумный въезд! — заметил джентльмен. — Мне тем больше нравится этот фейерверк, что я оплачиваю расходы, — горько усмехнулась миссис Клавдия. Разумеется, появление экипажа не осталось незамеченным. Отовсюду послышались выстрелы, засвистели пули, одна из них разбила вдребезги фонарь кабриолета. — Кажется, дела плохи, — заметил Бессребреник, ощупывая в кармане оружие. Несколько ковбоев бросилось им наперерез. Один из пьяниц закричал, схватив лошадь под уздцы: — Пусть попляшут вместе с другими… Женщина, вперед… Эй, красавица… стой! Тонкие брови миссис Клавдии сдвинулись. — Проедем, не правда ли? — обратилась она к своему спутнику. — Да, миссис… позвольте… одну минуту… Он выстрелил почти в упор в пытавшегося остановить лошадь. Тот упал, раскинув руки. Кто-то попробовал было снова схватить узду, но Бессребреник опять спустил курок. Второй разбойник последовал за первым. — Проезд свободен. — Держитесь! — Подобрав вожжи, молодая женщина изо всех сил стегнула рысака. Лошадь, не помня себя, рванулась вперед прямо на ковбоев. В третий раз Бессребреник поднял револьвер и выстрелил. Очередной противник упал, вытянувшись во всю длину. Перед ними расступились. Пущенная во весь карьер лошадь помчалась как стрела, и скоро экипаж выехал на площадь, где возвышались постройки правления и самый завод. Здесь смятение было невообразимое. Пешие и конные ковбои — все более или менее возбужденные вином — теснились, кричали, жестикулировали, беспрерывно стреляя из револьверов. Толпа бандитов окружила человек пятьдесят рабочих, судорожно выплясывавших кадриль в одних залитых кровью рубашках. Когда кто-нибудь из обессиленных несчастных замедлял движение, начиналась пальба, и испуганный танцор принимался опять отчаянно прыгать, будто рубашка на нем горела. Стараясь прослыть за настоящего ковбоя, Боб, скакавший рядом с экипажем, принялся вторить рычавшим «музыкантам». На него и на тех, кто был рядом, обратили внимание: — Хозяйка едет!.. Эта шутить не любит… Будет что-нибудь новое!.. А с ней каналья-инженер!.. Оставьте!.. Инженер за нас… Он добрый малый! Не сводя глаз с лошади, миссис Клавдия отрывисто спросила Боба: — Что делают эти люди? — Веселятся, как изволите видеть. — Кто они? — Ковбои. — Откуда? — Из всех окрестностей. — А те, которые танцуют? — Канальи-нефтепромышленники… кабатчики… мошенники-купцы… — Зачем они танцуют? — Их заставляют ковбои. — Почему? — Потому что все эти мошенники не согласны на их предложения. — А выстрелы? — Ими подбадривают тех, кто собирается остановиться… Средство действенное… И музыка есть… Слышите? И в самом деле, сквозь крики страдания, рев восторга и выстрелы до слуха миссис Клавдии и ее спутника доносились звуки ударов по железной, чугунной и медной посуде: кастрюлям, котлам, изображавшим оркестр. Против всякого ожидания кабриолет проехал благополучно под градом пуль и камней до самого здания конторы — огромного трехэтажного кирпичного дома, полного разных запасов и товаров. Огороженный частоколом из неотесанных бревен, он стоял посредине большой площадки, занятой службами, телегами, срубами для колодцев, чугунными трубами и всякого рода инструментами. Ставни висели наполовину оторванные; у растворенных настежь окон стекла были выбиты. Одна из главных дверей — выломана. Кабриолет и всадники въехали во двор, где человек тридцать весьма подозрительной наружности остановились от неожиданности, увидев молодую, хорошенькую, элегантную женщину. Не обращая на них ни малейшего внимания, Бессребреник легко спрыгнул на землю и почтительно помог своей спутнице сойти. Потом он зарядил пустые стволы своего револьвера и проводил миссис Клавдию в дом. Среди сумасшедшей кутерьмы эти двое напоминали людей, прогуливающихся ради собственного удовольствия. Боб и Гаррисон последовали за ними. — Сломанные решетки, опрокинутые кассы и растрепанные книги — больше ничего не осталось от конторы, — оглядевшись, сказала миссис Клавдия. — Да, чистая работа! — согласился Бессребреник. — Будто мина взорвалась. — Не правда ли, это ужасно, — заметил инженер, — и миссис Остин лучше бы ликвидировать дело. — Смотря по обстоятельствам, — отвечал джентльмен. — Во сколько вы оцениваете эту нефтяную землю и остатки построек? — В настоящем состоянии не больше двух миллионов долларов… Одна компания финансистов предлагает миллион… На месте миссис Клавдии я бы согласился. — А каково ваше мнение? — обратился джентльмен к миссис Остин. — Я нахожу, что этого слишком мало… — И я тоже, — поддержал ее Бессребреник. — Могли бы состояться переговоры, — продолжал инженер. — Сколько вы желаете получить? — Право, не знаю, — отвечала молодая женщина. — Как вы считаете, мистер Бессребреник? Ведь вы мой компаньон. — Я не взял бы меньше… — Меньше чего? — с тревогой спросил Гаррисон. — Ста миллионов долларов, — отвечал Бессребреник своим ровным голосом. — Вы говорите… ста миллионов? — Долларов… Да… И то дешево… — Это безумие! — Чтобы научить вас торговаться, я прибавлю еще пять миллионов долларов… — Браво! Браво! — воскликнула молодая женщина. Глухие удары, раздавшиеся поблизости, прервали разговор. Миссис Клавдия, а вслед за ней джентльмен смело вошли в соседнюю комнату и очутились лицом к лицу с ватагой человек в пятнадцать. В центре лежал перевернутый вверх дном несгораемый сундук, все еще сопротивлявшийся усилиям разбойников, вооруженных пиками и толстыми железными прутьями. Кому-то пришла мысль взорвать его динамитным патроном. Этот опасный снаряд можно купить свободно во всех американских городах, где производятся земляные работы или ведется рубка леса. Миссис Клавдия и ее спутники очутились в комнате как раз в тот момент, когда ковбои положили патрон на замок сундука. Один из воров нагнулся, чтобы сигарой, которую держал в зубах, зажечь фитиль. — Что, весело, молодцы? — крикнул Бессребреник, расталкивая кулаками и локтями людей, уже готовых разбежаться в ожидании взрыва. Услышав незнакомый насмешливый голос, негодяи схватились за пики, выхватили револьверы. — Черт возьми!.. Хозяйка! — завопили они. — И с ней мужчина!.. Скорей… бегите!.. — Нет… нет!.. Взять их и заставить плясать! — ревели другие голосами, осипшими от пьянства. — Отлично!.. Кадриль… всех в одних рубашках… сейчас же! — Сволочи… Подлецы! — закричал джентльмен. Один из негодяев, более пьяный, чем смелый, протянул свои грязные руки, намереваясь схватить миссис Клавдию. Молодая женщина побледнела, отступила на шаг и вынула из кармана крошечный револьвер с перламутровой ручкой. Но не успела она выстрелить, как Бессребреник сильным ударом под ложечку сбил негодяя с ног. — Поберегите свои заряды, — услышала миссис Клавдия. Крик ярости был ответом на падение ковбоя, четырнадцать оставшихся бросились на смельчаков, потрясая железными прутьями. Почти не целясь, миссис Остин выстрелила в первого попавшегося — пуля, пройдя через глаз, вышла в затылке. Человек, вскрикнув, упал ничком. — Благодарю вас, теперь моя очередь, — сказал Бессребреник, поднимая прут, который уронил упавший. Глаза его засверкали, губы искривились, и он прошипел: — Вон отсюда! Иначе всем вам конец! Охваченные безумной паникой, воры устремились к узкому окну, спасаясь бегством. Бессребреник, потерявший терпение, бросился за ними, нанося удары вправо и влево. В секунду шестеро из бежавших уже лежали на полу, а ужасная палица продолжала работать, сокрушая все, что ей попадалось. Скоро из пятнадцати грабителей не осталось на ногах ни одного. Вдруг миссис Клавдия заметила, что фитиль динамитного патрона горит. Каждое мгновение мог произойти взрыв, и все, находившиеся в комнате, погибли бы под развалинами дома. От смертельной опасности у нее перехватило дыхание, в ушах звенело, рябило в глазах. Опрометью она бросилась к патрону, схватила его обеими руками и выбросила во двор. Он угодил в самую середину бесновавшейся под окнами толпы. Через миг страшный гром потряс окрестность, но еще страшнее была наступившая следом тишина. Казалось, беспредельный ужас заткнул глотки оравшим недавно погромщикам. Кто мог из них, бросился наутек, так и не поняв, что случилось. Бессребреник, видевший все, воскликнул: — Браво, миссис Клавдия! Опершись, словно Геркулес, на свой железный брус, он не сводил глаз с прекрасной молодой женщины. На опустевшей площади осталось несколько убитых и раненых; в конторе, возле несгораемого сундука, тоже лежали трупы. Всюду кровь, всюду смерть… Миссис Клавдия, едва сдерживая отвращение, смотрела на жуткое зрелище, негромко говоря сама себе: — Что же делать! Мы не хотели этого; мы боролись за жизнь… — И будем бороться до конца, — подтвердил джентльмен. Желая поскорее освободить контору, он обратился к инженеру и Бобу, державшимся в стороне во время схватки: — Ну что вы стоите?.. Троньтесь с места… Сами видите, что могут сделать двое решительных людей… Инженер вел себя натянуто. Боб же, сраженный мужеством Бессребреника, отвечал: — С вами, хозяин, я готов идти хоть на край света… — Отлично, молодец!.. С разрешения хозяйки я назначаю вам награду в тысячу долларов, которую вы и получите, как только возобновятся работы. — Рассчитывайте на меня! — Что касается вас, господин инженер, ваше жалованье удвоится и вы будете получать процент с чистой прибыли… Гаррисон вздрогнул, прямо взглянул джентльмену в глаза и проговорил: — Я сделаю все возможное, чтобы спасти колодцы. — А про себя подумал: «Другие будут щедрее». В комнате, кроме них, никого не осталось, зловещая тишина походила на затишье перед бурей. С помощью Боба и Гаррисона Бессребреник прикатил в контору несколько пустых бочек; за ними нагромоздил множество ящиков. Когда импровизированное укрепление было готово, он вынул записную книжку и быстро что-то набросал, рассуждая вполголоса: — Посмотрим, сколько километров от Нью-Йорка до Нью-Ойл-Сити… Цифра получается внушительная… Миссис Клавдия воскликнула: — Ах, да!.. Я и забыла про ваше пари. — А про свое собственное?.. Ну и хорош же я!.. Вы ставили против меня, а я пытаюсь вернуть вам ваше богатство! Вот дилемма… — Все это не должно мешать нам подумать об ужине… Надеюсь, вы примете его от меня. — Сегодня — пожалуй… Я как ваш служащий, кажется, заработал его… Принимаю в счет жалованья.
ГЛАВА 7
Почему и еще раз почему. — Заблуждение нефтяной королевы. — Бессребреник хочет служить просто на жалованье. — Десять франков в день: разве это много? — В царстве нефти. — Прогулка.Столкновения между пограничными жителями в здешних местах весьма часты: рабочие на приисках, люди обыкновенно спокойные, и ковбои, народ агрессивный, ненавидят друг друга, как кошка собаку. Потасовка между ними начинается обычно из-за какой-нибудь безделицы, пустого спора в салуне. Сразу же пускаются в ход ножи и револьверы. Редко какая стычка обходится без убитых; но никто не заботится о них. Одним или двумя бродягами меньше — и слава Богу! Все знают, что место их очень скоро будет занято другими. Случается, что имуществу трактирщика наносится ущерб; но в конце концов посетители платят за убытки, и все улаживается ко всеобщему удовольствию. Иногда, впрочем, головы бывают разгорячены больше обыкновенного. И тогда побежденные спасаются в домах, как в крепостях, а победители, возбужденные порохом, кровью и водкой, осаждают их, стараясь добить окончательно. Если приходит подкрепление со стороны, затевается настоящая битва, длящаяся порой сутки — но не более. Бессребреник, хорошо знавший, по-видимому, нравы и характер местного люда, терялся в догадках о причинах продолжительности беспорядков во владениях миссис Остин. — Отчего, — обратилась она к нему, — эти буйства продолжаются не какие-нибудь сутки, а целых три дня, и притом все усиливаются? Бессребреник задумался на минуту, затем спросил: — Есть у вас враги? — Не знаю. — Приходилось ли вам иметь столкновения с ковбоями? — Ни прямо, ни косвенно. — Быть может, ваши рабочие задевали их? — Нет. — В таком случае здесь что-то непонятное. Эти беспорядки, как мне кажется, хорошо организованы: лишь только они затихают в одном месте, как тотчас же возгораются в другом. — Но с какой целью? — Чтобы завладеть вашим имуществом. — Вы меня удивляете!.. — Не уговаривал ли вас инженер уже и прежде продать ваши владения? — Да, в моих собственных интересах… — А главное, в интересах своих сообщников… — На каком основании вы говорите так? — На основании сведений, собранных в Фокс-Хилле по пути сюда… Выслушайте меня. До сих пор не трогали нефтяной королевы, потому что она кормила всю округу; но вчера, разрушив ее дом, магазины и колодцы, кто-то пытался взломать несгораемый сундук, где не было денег, но зато хранились купчие крепости, планы, межевые акты, — одним словом, все, что может интересовать землевладельца. Кроме того, шериф исчез — умер, по словам одних, бежал, как говорят другие, и охранительный комитет не подает признаков жизни. Не странно ли? Миссис Клавдия слушала внимательно и в душе соглашалась с джентльменом. Несмотря на все огорчения, она радовалась тому искреннему участию, которое принимал Бессребреник в ее судьбе. Не верилось, что этот преданный, заботливый господин не так давно отказался от ее руки. «Разве стал бы человек рисковать жизнью ради особы, совершенно ему безразличной?» — все чаще задавалась вопросом миссис Остин. Желая найти ответ на него, она приняла шутливый тон, представлявшийся странным в контрасте с серьезностью положения, и произнесла: — Ваш подарок придется как нельзя кстати. — Какой подарок? — удивился джентльмен. — Экземпляр басен мистера… да как его?.. Ну, помогите же… Лафонтена. Помните басню о молочнице? — Простите, мне жаль, что я позволил себе такую бестактность. Он говорил с обычной откровенностью, смотря прямо в лицо своей собеседнице, довольный оборотом, который принял разговор. Она улыбнулась: — Не извиняйтесь, эта шутка отлично подействовала, она подготовила меня к катастрофе. Благодаря вам я не одинока и не беззащитна. — Не преувеличивайте по своей снисходительности мою заслугу… — Без вас я бы погибла… Вы спасли все. — О, прошу, не торопитесь так!.. Помогать вам приказывал мне долг служащего у вас на жалованье. — Вы?.. Служащий? — Да, миссис Клавдия, теперь я не могу и не хочу быть никем иным… Приходится даже просить у вас назначить мне жалованье. Это избавит вас от благодарности. Я сам должен заботиться о себе. Не забудьте, что Бессребреник обязан выполнить условия своего пари. — Не понимаю вас… Вы хотите бросить меня? — Вовсе нет, коль прошу жалованье. Надеюсь, два доллара в день не слишком много? — Я думала, вы согласны разделить неудачу так же, как и богатство. — Невозможно. Если вы не согласны, буду принужден искать заработка в другом месте. — Умоляю вас! — Вы колеблетесь… Я стану возвращать вам излишек, если не все издержу… Согласны? — Приходится согласиться… Вы удивительный оригинал… — Зовите меня как угодно, а теперь пойдемте смотреть колодцы — убедимся в размерах убытка. — Хорошо. Только не взять ли несколько проводников? — Зачем? Если мы отправимся вдвоем, то сможем пройти незамеченными… Впрочем, вам лично не грозит никакой опасности… У янки много недостатков, но он уважает женщину… А мне все равно: сегодня… завтра… позднее… Я не дорожу жизнью. — Стало быть, вас к ней ничто не привязывает? — Ничто. Миссис Клавдия вздохнула и, не говоря ни слова, взяла Бессребреника под руку. Они ушли, оставив Боба сторожить дом, поколебавшаяся верность которого укрепилась обещанием тысячи долларов. Боб, со своей стороны, уговорил с дюжину рабочих вернуться к хозяйке. Пока это была маленькая горстка людей, но Бессребреник надеялся, что в мастерских ему удастся собрать вокруг себя и многих других. Самый город Фокс-Хилл, то есть коммерческий центр, где совершаются дела и живут должностные лица, был относительно спокоен. На улицах выстрелы раздавались изредка, и более никто не принуждал граждан плясать; дома уже не горели, и внизу, в долине, где расположен вонючий Нью-Ойл-Сити, только два-три столба дыма указывали на пылающие колодцы. Наступило затишье, но работы не возобновлялись. В салунах еще пьянствовало много народу. По мере того как миссис Клавдия и Бессребреник спускались вниз, поверхность почвы, растения, жилища, даже люди — все менялось. Наверху, в городе, воздух был еще чист, хотя и чувствовался довольно сильный запах нефти — на домах и тротуарах кое-где виднелись масляные пятна, — но внизу… было что-то неслыханное. Нет ни одной отрасли промышленности, равной добыче нефти по неопрятности и грязи. Пальмовое масло, оливковое, кокосовое, по выражению одного остроумного путешественника — Октава Сабо, жидкости приятные, даже поэтические. Нет в Южной Европе ни одного деревенского дома, где бы не было оливкового пресса. С оливковым маслом умеют обращаться все — не только повара и кухарки; из этого масла изготавливают прекрасное мыло. Нефть — масло совсем другое. От его запаха никуда не уйдешь. Пары так насыщают воздух, что происходят взрывы. На нефтяных промыслах все вокруг пропитано нефтью: грязь, в которой вы вязнете, каждая нитка вашего платья… Она овладевает всем вашим существом: забивается в нос, в глаза, в уши, даже в душу, — у живущих в этих местах только и разговоров, что о поднятии и упадке цен на нефть, о богатстве или оскудении того или иного колодца. Если вы остановитесь полюбоваться красотой природы, то с ветерком до вас донесется запах нефти, смешанный с ароматом диких цветов, и на поверхности озера вы увидите радужные пятна с металлическим отливом. Дома, мебель, железные дороги, лодки — все покрыто нефтью. Люди самые чистоплотные делаются грязными, неряшливыми. Когда одежда вся пропитывается жиром и делается слишком тяжелой, они с головы до ног одеваются во все новое у торговца готовым платьем, а старое бросают на улице, но ни в коем случае не сжигают, так как это может быть причиной пожара, от которого весь город превратится в развалины. Миссис Клавдия мужественно ступила на почву, из которой буквально на каждом шагу выступала нефть. Но Бессребреник, рассудив, что у него нет сменной пары, прежде всего принял меры предосторожности для сохранения своего костюма. Однако напрасны были все его старания! Нефть пробиралась вверх по сапогам и пропитывала их; затем настала очередь панталон, и не прошло и четверти часа, как джентльмен походил на ламповый фитиль в резервуаре. «Надо что-нибудь придумать», — решил Бессребреник. Они шли по берегу маленькой речки, извивавшейся по долине и носившей название Ойл-Крик (Масляная балка). Воды в ней не было видно из-за слоя масла, осаждавшегося на берегах в виде зеленой блестящей грязи. Местами в этой грязи виднелись застрявшие тележки, беспомощно протягивавшие к небу свои худые деревянные руки. Узкоколейная железная дорога была разрушена в нескольких местах: шпалы и рельсы сняты, вагонетки и локомотивы перевернуты. Бессребреник и миссис Клавдия шли по мосткам, настланным на болоте и также пропитанным жирной нефтью. На компаньонов посматривали, но скорее равнодушно, чем враждебно. Правда, ковбоев встречалось немного. Среди топкого жирного болота виднелись кучи всякого хлама: битые бутылки, тарелки, обломки ящиков, бочек, телег, всяких инструментов. На этом месте было до десяти богатых колодцев, дававших по пятнадцати тысяч франков прибыли в день, а теперь не доставлявших ни капли драгоценного масла. Срубы колодцев, взорванные динамитом, покачивались и грозили обрушиться. Для возобновления дела требовались большие расходы. При виде этого дикого и бесцельного истребления молодая женщина в первый раз ощутила приступ гнева. Невдалеке дюжина оборванных джентльменов, грубо смеясь, курила с вызывающим видом под большой черной доской с надписью белыми буквами «Курить воспрещается». — Я чувствую в себе ярость и злобу римского императора, — призналась миссис Клавдия. — И, может быть, как император, желали бы, чтобы у всех этих молодчиков была бы одна голова? — подтрунивал над ней Бессребреник. — Да… и с радостью пустила бы в нее пулю из револьвера. — А позвольте узнать, револьвер Нерона был системы Кольта или Смита и Вессона? При этой шутке весь гнев миссис Клавдии вмиг рассеялся; она звонко засмеялась, чем совершенно озадачила шумных громил. — Вот отлично! Смех принесет вам миллионы долларов. Он произвел на этот сброд больше впечатления, чем выстрелы из пушки. К несчастью, впечатление от странной веселости миссис Остин продержалось недолго. Ковбои, искавшие развлечения, вскорости нашли его. Пропитанные виски и нефтью, они стали толкать, бранить и бить старика, не способного защищаться. Из-под его красной шерстяной рубашки виднелась кирпично-красная кожа. Лица, выпачканного грязью, нельзя было рассмотреть, но по длинной пряди волос нетрудно было предположить, что он краснокожий. — Да ведь этот несчастный — Джо, старый индеец сиукс! — воскликнула миссис Клавдия. — Спасем его! — тотчас приготовился к схватке с мучителями джентльмен. — Смерть колдуну! — кричали ковбои и рабочие. — Отпустите этого человека, негодяи! — ворвался в толпу Бессребреник.
ГЛАВА 8
История нефти. — У древних. — Огнепоклонники. — Нефть у краснокожих. — В Колорадо. — Бурав. — Нефтяной колодец. — Сопротивление. — Борьба. — Нефтяные резервуары. — Газ, нефть и соленая вода. — Взрыв динамита. — Нефтяное наводнение. — Нефтяное озеро.Керосин сравнительно недавно вошел в употребление, но нефть была известна людям с незапамятных времен. Ее знали в Китае, греки и римляне также упоминали о ней. Геродот, Плутарх, Плиний, Аристотель, Страбон описывают в подробностях нефтяные источники и залежи асфальта, разрабатывавшиеся их современниками. Асфальт, добываемый на берегах Евфрата, по преданию, употреблялся при постройке Вавилонской башни. Наконец, поражая воображение древних, воспламеняющийся газ, постоянно пробивавшийся над нефтяными источниками, породил особую религию. Приверженцев ее называли огнепоклонниками. На том месте, где теперь располагается Баку — русский нефтяной город, — когда-то возвышались их каменные святыни, а Атешкях — утративший свое великолепие храм чисто индийской архитектуры — и сейчас, как некий исторический анахронизм, стоит среди пирамидальных срубов нефтяных вышек. Жрецов в нем почти не осталось. Только два бедняка-индуса поддерживают здесь вечный огонь — местные нефтепромышленники не оспаривают у них крошечной доли газа. Но не только в недрах Азии таились эти вечные, вызывавшие суеверное изумление огни. В местах нахождения нефти в Америке также были огнепоклонники; немногочисленные, но усердные. Они принадлежали к индейскому племени сенекасов, жившему в штате Пенсильвания и владевшему тайной огня. Этот огонь горел неугасимо в глубоких пещерах и охранялся, как и у индусов, избранными людьми. По-видимому, именно они заметили целебные свойства нефти. Под именем «масла сенекасов» она собиралась и продавалась как лекарство от ревматизма, чахотки и даже как средство… от моли. Тогда еще не додумались до употребления нефти для освещения. Первые опыты замены растительного масла маслом минеральным были сделаныне ранее 1830 года. Они не удались. В 1848 году опять последовала неудача. Между тем толчок был дан. Все чувствовали, что «жир земли» имеет будущее, хотя и не подозревали, сколь широким окажется его применение. Свойства нефти еще знали плохо, ее сжигали в том виде, как она добывалась, а способ добычи был самый примитивный, перенятый у индейцев. Этот способ состоял в рытье колодцев с площадью поверхности в три квадратных метра при такой же трехметровой глубине. Делали сруб, чтобы предупредить обвалы, и ожидали, пока нефть просочится наверх через земляные слои. Когда масло появлялось, нижнюю часть колодцев обкладывали шерстяными одеялами. Потом их вынимали, выжимали и таким образом получали керосин. Удивительно, что изобретательные янки потеряли много лет, довольствуясь такой добычей масла. А ведь стоило лишь раз-другой ударить сверлом в землю… Только в 1859 году пенсильванское общество решило призвать к себе искусных инженеров — разведчиков земных недр. При первом же серьезном изыскании масло было найдено, и колодцы Титусвилля стали доставлять до полутора тысяч фунтов черного золота в день. Бывало, поиски нефти оборачивались настоящими наводнениями. Однажды бур проник в обширный резервуар, наполненный горючим газом и соленой водой. Все это хлынуло с неудержимой силой наружу, и тут не только не оказалось нужды в нагнетательных насосах, необходимых до тех пор, но пришлось употребить все усилия, чтобы удержать вырвавшийся вслед за водой масляный поток, разливавшийся по долинам!.. После этого спекуляции с нефтью достигли таких размеров, что их назвали нефтяной лихорадкой. За короткое время в одном Нью-Йорке образовалось более трехсот компаний с капиталом в миллиард. Долгое время добывание нефти ограничивалось пределами штата Пенсильвания. Даже утверждали, будто в других штатах нефти нет. Муж миссис Клавдии блистательно опроверг эти предположения, не основанные ни на каких серьезных данных. Как-то, проезжая по Колорадо, мистер Остин отметил поразительное сходство между здешними землями и землями восточных штатов. Не говоря никому ни слова, он купил за пустячную цену огромную территорию. На ней были скалы, обвалы, ручейки, пробиравшиеся между камнями, бесплодная, как лава, почва и почти полностью отсутствовала растительность. Практичным янки, для которых в делах два и два должны давать, по крайней мере, десять, эта покупка казалась чистым безумием. Над инженером смеялись, он не обращал внимания на насмешки и в один прекрасный день отправился в свои владения с партией иностранцев, чья молчаливость приводила в отчаяние многих любопытных. Их было человек пятьдесят, передвигавшихся в телегах — настоящих домах на колесах, в которых переселенцы перевозят обычно свою семью, утварь, инструменты… Эти иностранцы немедленно принялись за дело. Искусные рабочие, необыкновенно выносливые, одинаково хорошо обращавшиеся с железом и деревом, плотники, механики, землекопы, они с невероятной быстротой воздвигли какую-то странную деревянную постройку в форме усеченной пирамиды, с основанием по три метра в длину и ширину, а при вершине всего в один метр. Высота постройки — простой, но очень крепкой — достигала до шестнадцати или семнадцати метров. На вершине пирамиды, носящей у американцев название derrick, что значит: платформа, журавль, коза, виселица и вообще снаряд для поднятия тяжестей, прикрепили большой блок; на блок накинули канат, а к канату привязали тяжелый стальной прут. Это был зонд, предназначенный для бурения земли до нефтяного слоя или же до… ничего. Другой конец был привязан к деревянному коромыслу длиною в шесть метров, подвешенному за середину, как качели. На его противоположной стороне также была веревка, в которую впрягалось шесть человек. По команде начальника начались работы. — Взя-ли! — кричали дюжие молодцы. Тяжелый стальной бур поднимался и на минуту замирал. Потом устремлялся вниз, с глухим шумом врезаясь в землю, снова поднимался, снова опускался, и так без конца, пока новая упряжка людей не сменяла первую, третья — вторую… Для предупреждения обвала в дыру вставляли железную трубу, достаточно широкую для движения бура, который уходил в землю все глубже и глубже. Обыкновенно эта трудная, утомительная работа производится паровой машиной. Но мистер Остин, прежде чем затратить большую сумму на покупку двигателя и перевозку его в малонаселенный край по бездорожью, желал удостовериться в залегании здесь нефти. Поначалу он вел работы скорее как изыскания, хотя и припас все для того, чтобы в случае удачи тотчас же начать эксплуатацию скважины. Первая попытка кончилась плачевно. Мистер Остин ожидал найти нефть на глубине двадцати пяти — пятидесяти метров; но масло не показывалось. Он приказал бурить до ста метров, истратил двадцать пять тысяч франков — и не добился ничего. Новые насмешки посыпались на смельчака, вздумавшего произвести переворот в местной промышленности. Промышленность же была там чисто сельская, жители занимались разведением лошадей, рогатого скота и овец. Но мистер Остин продолжал невозмутимо, с упорством американца, свою работу. Он приказал разломать derrick, вынуть железную трубу и начать бурить несколько дальше. Буровая скважина в семьдесят метров глубины тоже ничего не дала. Этот второй колодец стоил восемнадцать тысяч франков, брошенных на ветер. В третий раз разобрали постройку и перенесли за полмили к подошве маленького холма, на берег свежего и тихого ручейка. Люди, утомленные неудачами, работали уже не с прежним рвением, несмотря на большое жалованье, выплачиваемое инженером из последних средств. Наскучив служить мишенью для грубых шуток ковбоев, они запросили расчет. С трудом удалось уговорить некоторых остаться еще на неделю. Посоветовавшись между собой и решив, что, в сущности, хозяин человек хороший и не слишком требовательный, они снова принялись за работу. Чтобы понять эти разочарования, эти ошибки, за которыми часто следует неожиданная удача, надо знать, что разведка нефти — вещь чрезвычайно капризная, обманчивая, не поддающаяся никакому опыту. Нет никаких правил, никаких признаков, по которым можно было бы сколько-нибудь достоверно предположить месторождение нефти в данном краю. Все основано на случае… как в лотерее[1]. Один факт несомненен: нефть не расстилается по горизонтальной поверхности, как поверхность воды. Колодцы, пробуренные в одной местности, иногда на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, не одинаковы по своим свойствам. Один дает просто газ, другой соленую воду с примесью небольшого количества нефти, третий не дает ничего, а четвертый — громадное количество масла. Глубина их тоже весьма различна: один может иметь двадцать, другой пятьдесят, третий сто метров. Между этими колодцами встречаются подобные исландским гейзерам выбросы-фонтаны с прерывающимся режимом работы. Так, например, один источник в Питоле дает небольшое количество масла и совершенно иссякает на двадцать минут. Затем раздается протяжный подземный гул, и в продолжение сорока минут нефть поднимается в невероятном изобилии. Потом приток ее снова иссякает, и так — по кругу. Все эти аномалии вполне объяснимы, если предположить, что нефть заключена в герметически закрытых углублениях неправильной формы, в свою очередь неправильно расположенных в различных подземных слоях. Величина и глубина залегания этих резервуаров весьма различна. Бур может наткнуться на них или пройти мимо. Случается, что две соседние скважины питаются из резервуаров, расположенных на различных уровнях. Неизменен только состав содержимого, заключающегося в этих колоссальных подземных сосудах. В них находятся газ, соленая вода и минеральное масло; однако все эти элементы присутствуют в различных количествах и всегда под сильным давлением. Они, эти три вещества, расположены друг под другом соответственно своей плотности: вода находится на дне, нефть над водой, а газ над нефтью. В зависимости от формы резервуара и его наклона при добыче нефти возможны два варианта. Если бур пройдет в среду, занятую газом, последний вырывается с неудержимой силой, настоящим ураганом, через трубу в колодце. Когда газ выйдет из колодца, остается только освобожденное от давления масло, которое надо поднять наверх по железной трубе с помощью насосов. Если же бур, углубляясь, попадает или в соленую воду, занимающую дно резервуара, или в слой масла, то результат получается совершенно иной. Газ, занимающий верхнюю часть резервуара, действует как пресс и гонит в трубу воду с песком, чистую нефть или нефть, смешанную с водой. Жидкость поднимается так быстро и в таком изобилии, что ее трудно регулировать. Бывает даже, что масло выбрасывает бур. После этого понятны те трудности, с которыми встретился американский инженер. Долго все его попытки оставались бесплодными. Нигде не выступало ни одной капли масла, не показывалось ни одной струйки соленой воды, не появлялось ни одного пузырька газа. Наконец, сами рабочие убедились, что поиски нефти в Колорадо — бесполезная трата времени. Они обещали проработать неделю, и уже наступило утро седьмого дня. Результата, как и прежде, не было никакого; работали только для того, чтобы сдержать слово: — Взя-ли! Взя-ли! Вдруг в воздухе раздался свист и вся пирамида задрожала. В ту же минуту из трубы вылетел столб песка. За ним с пыхтеньем — клубы газа. У рабочих вырвался крик победы. Подземный газ обладал особым запахом, в котором нельзя ошибиться. — Ура!.. Ура!.. Да здравствует мистер Остин! Инженер, которого за несколько минут перед тем считали безумцем, в мгновение ока сделался в глазах всех великим человеком. Под радостные возгласы рабочих бур заработал с удвоенной силой. Каждую секунду ожидали появления соленой воды или нефти. Но нет! Напор газа был так силен, что отверстие закрылось. Давление равнялось или превосходило сто атмосфер! Песок, выбрасываемый струей газа, поднимаясь по трубе, засорял ее. Напрасно бур работал изо всех сил: каждый удар его сопровождался новой струей газа и новым зарядом песка. Так продолжалось целые сутки! Наконец, инженер, измученный работой без результата и вместе с тем уверенный, что у его ног громадное состояние, решился на крайнее средство. Он приказал вынуть бур и, убедившись, что труба не засорена, велел подать заряд динамита. Сам зажег фитиль и, бросая снаряд, крикнул: «Спасайтесь!» Через минуту мощный взрыв потряс непокорную почву, и тотчас из полуразрушенной трубы вырвался настоящий смерч воды с песком, взлетевший на высоту пятидесяти метров. Водяной столб продержался на той же высоте в продолжении целых суток. Мало-помалу сила его начала ослабевать, количество песка увеличилось, и извержение прекратилось. Под срубом и вокруг слой песка достигал двух метров. Последние струи соленой воды вылетели уже с примесью нефти. Это служило указанием на то, что работы следует продолжать. Еще раз американская предприимчивость, не останавливающаяся ни перед чем, одержала верх. Мистер Остин решил приняться за дело со следующего утра. Следовало бы освободить нижнюю часть железной трубы, а потом вставить насос. Но в ту минуту, когда помощник мастера собирался дать сигнал поднять бур, изумленные рабочие почувствовали, что земля дрожит. Раздались страшное клокотание, гул, сопровождающий обычно извержение вулкана. Рабочие бросили канат, которым поднимали бурав, и разбежались. В ту же минуту прут весом в сто килограммов, только что вставленный в трубу, вылетел, как ядро из пушечного жерла. Струя неимоверной силы вырвала его вместе с рукояткой, разрушила коромысло, сорвала верхушку пирамиды и взлетела на высоту более шестидесяти метров. Струя нефти, толщиною в тело человека, поднималась совершенно прямо, как колонна, а на вершине образовывала грациозный изгиб, падая частым дождем. Рабочие, растерявшись, бегали под этим дождем, крича во все горло: — Нефть!.. Керосин! Инженер, не предвидевший подобного изобилия, не приготовил ни канала, ни резервуара. Он намеревался просто выкачивать нефть, а тут… Через несколько минут все было затоплено. Нефть прорыла себе русло и потекла потоком, разливаясь по всем впадинам, и, найдя углубление с глинистым дном, образовала целое озеро. Спустя неделю можно было ездить в лодке по этому нефтяному озеру, появившемуся на земле счастливого исследователя. Эксплуатация началась немедленно: капиталы притекали, рабочие собирались со всех сторон, провели железную дорогу, возник целый город. Скоро сей чисто промышленный город, столь же богатый, как и неопрятный, распался на две части: внизу, в ложбине, бурили и эксплуатировали нефтяные колодцы, а на холме, овеваемом здоровым воздухом, основался район более чистый — Нью-Ойл-Сити, обещавший быстро сделаться соперником старой Петролии. Именно в это время и произошли в нем трагические события, составляющие начало нашего повествования.
ГЛАВА 9
Последние огнепоклонники. — Старому индейцу грозит повешение. — Как было воспринято вмешательство Бессребреника. — Серый Медведь хочет проучить Бессребреника, но сам попадается ему в руки. — Телеграмма. — Сватовство. — Станет ли миссис Клавдия серебряной королевой? — Как Бессребреник, сначала победитель, потом побежденный, был в конце концов повешен.Американец часто называет индейцев «краснокожими гадинами». Он ненавидит и, где только возможно, преследует их. Если нескольким подгулявшим янки попадется одинокий абориген, они непременно придумают какую-нибудь жестокую потеху. Именно такую потеху устроили пьяные ковбои над индейцем Джо. Старик вовсе не заслуживал подобного обращения: он был кроток, безобиден и даже как будто немного с придурью. Жил в труднодоступной пещере на расстоянии около мили от Нью-Ойл-Сити. Подобно древним азиатским огнепоклонникам и пенсильванским сенекасам, Джо знал «тайну огня». Редкие посетители, которым все же удавалось пробраться в его жилище, рассказывали, что день и ночь, из года в год, оно освещено широким светлым фонтаном пламени. Джо казался духом этого никогда не угасающего огня, которому он, возможно, втайне поклонялся. Когда мистер Остин поселился в узкой долине, где суждено было возникнуть нефтяному городу, старый индеец очень косо смотрел на предприятие бледнолицых, призывая на них проклятие таинственных и мстительных божеств. Неудачи, преследовавшие инженера поначалу, старый безумец, вероятно, приписывал действию своих всемогущих заклинаний. Его находили забавным и пытались приручить. Но напрасно! Джо даже устоял против соблазнительного виски. Когда первый нефтяной фонтан взлетел в воздух, грозя наводнением окрестностям, индеец удалился в пещеру и долго скрывал там свое отчаяние. Но в один прекрасный день он снова объявился с видом покорного побежденного, просящего пощады у победителя, перед которым ничто не может устоять. Старый огнепоклонник отказался, по-видимому, от прошлых верований и преклонился перед духом современной промышленности. Мистер Остин, а особенно миссис Клавдия, приехавшая к мужу, приняли его ласково. Она одела бедного старика, снабдила одеялами, табаком и кое-какими сладостями, и он как будто привязался к ней. Красная шерстяная рубашка довершила победу над сиуксом. С тех пор Джо начал одеваться, как белые, и сохранил только прическу, состоявшую из зачесанного назад чуба, украшенного орлиным пером. Индеец продолжал жить в своей пещере, но стал более общительным и довольно часто показывался в Нью-Ойл-Сити. В день, о котором идет речь, шутки возбужденных ковбоев приняли жестокий характер. Джо отбивался, кричал, брыкался, кусался, но этим только усиливал веселость своих мучителей. Один из них, получивший пинок, свидетельствующий о силе старого индейца, пришел в ярость — ярость пьяницы, превращающегося из человека в зверя. На ковбое вместо пояса был длинный гибкий ремень, которым ловят полудиких животных. Это — лассо, перенятое американскими пастухами, ведущими самый первобытный образ жизни, у мексиканцев. Он накинул петлю на шею старика и пьяно завопил: — Этот гадина-индеец осмелился поднять руку на белого; повесить его! — Билли Нейф прав!.. Да, да! Повесить! Билли Нейф, ковбой, потянул лассо, и старик споткнулся, испустив хриплый крик. В эту минуту и вмешался в дело Бессребреник, приказав ковбоям оставить индейца в покое. В Америке прислуге не приказывают, ее просят оказать одолжение… сделать честь… Можно себе представить, какая брань, какие угрозы поднялись в ответ на слова Бессребреника. Рыжий, весь обросший волосами гигант с разбойничьим лицом отделился от группы и заревел: — Он смеет мешать свободным людям веселиться!.. Я, Серый Медведь, проучу его! Раздался грубый хохот толпы, способной мгновенно перейти от веселости к насилию. Когда колосс стал надвигаться, подняв кулаки и раскачиваясь, как то страшное животное, имя которого ему дали, Бессребреник приготовился к встрече. Он стал в позицию боксера. Из пасти Серого Медведя снова послышался хохот: — Пусть меня в пекле поджарят! Никак, хочешь бороться со мной! Бессребреник, все стоя в боксерской позиции, невозмутимо улыбался и выжидал. Как ни была уверена миссис Клавдия в его храбрости и ловкости, однако она дрожала и ее маленькая рука сжимала револьвер. Шести футов вышины, широкий, как шкаф, Серый Медведь, несмотря на свою видимую неповоротливость, обладал необычайным проворством и силой. Его маленькие проницательные глаза налились кровью, зубы заскрежетали, рыжая борода на лице цвета дубленой кожи встала дыбом… Старый индеец попытался было воспользоваться этой минутой, чтобы бежать, но Билли Нейф дернул лассо, и бедняга, полузадушенный, только икал, высовывая язык. Взрыв одобрительных возгласов послышался в толпе; затем наступило глубокое молчание. Началась борьба — отчаянная, беспощадная, исходом которой могла быть только смерть одного из противников. Верный своей тактике, Бессребреник предупредил нападение Серого Медведя и нанес первый удар. В эту минуту миссис Клавдия, стоявшая шагах в тридцати, почувствовала, что кто-то тихонько тронул ее за руку. Она обернулась, несколько рассерженная такой бесцеремонностью, но, узнав Боба и одного из его помощников — в Америке не говорят «слуг», — спросила: — Что такое? — Телеграмма… очень важная… неотложная… Просят прочесть немедленно. Сильно запыхавшийся от бега Боб подал телеграмму. Только миссис Клавдия намерилась распечатать ее, как раздался крик — рев быка, оглушенного обухом мясника. Бессребреник сделал ложный выпад и угостил гиганта таким боксом, на который способны только французские бойцы. Удар попал под самую ложечку. Серый Медведь заревел, отступив на три шага. Казалось, вся его грузная масса содрогнулась от удара. Миссис Клавдия улыбнулась, несколько успокоенная, затем, вспомнив о телеграмме, распечатала ее и прежде всего взглянула на подпись: «Джим Сильвер». «Что ему нужно?» — подумала она. Серый Медведь шумно вдохнул воздух и прорычал: — Тартейфель!.. При этом возгласе лицо Бессребреника исказилось; он воскликнул по-французски: — Так ты немец… пруссак! — Да!.. Сын одного из тех, кто сжигал ваши города! Щенки!.. — Медведь будто выталкивал слова из глотки. Миссис Клавдия опять перевела глаза на телеграмму — всего несколько слов, но зато каких красноречивых!
«Одинокий, без семьи, полный хозяин своих поступков и своего богатства, я люблю только вас и прошу согласиться выйти за меня замуж. Примите мой миллиард. Будьте королевой серебра и нефти. Оставьте Бессребреника. Никакая человеческая сила не спасет его.Удивленная миссис Клавдия пробегала глазами депешу, когда услышала: — Негодяй, кто оскорбляет побежденных! — Кулак Бессребреника, прикрепленный будто к стальной пружине, опустился на рот Медведя. Брызнула кровь, и из изуродованной пасти послышались страшные стоны. Но Серый Медведь не отступил; напротив, он стал нападать с удвоенной яростью. Миссис Клавдия, страстная любительница острых ощущений, с восторгом смотрела на борьбу. Ей вспомнилась телеграмма, нервно скомканная в руке. «Да, — рассуждала она. — Миллиарды… Стать королевой серебра… Женой Джима Сильвера!.. Тогда все будет возможно, окажутся осуществимыми самые несбыточные мечты, самые сумасбродные фантазии… Но — этот странный незнакомец смущает, беспокоит и увлекает меня… Там — Джим Сильвер, миллионер, который, без сомнения, любит… здесь — Бессребреник!» Ужасные крики оторвали ее от размышлений. Бессребреник осыпал градом ударов лицо противника, который смотрел уже только одним глазом. Скоро кулак-камень опустился на второй глаз. Ослепленный, задыхающийся Серый Медведь потерял равновесие и растянулся всем телом, хрипя: — Собака-француз!.. Мы еще встретимся. Сюда, товарищи!.. Отомстите за меня! Победа Бессребреника пробудила ярость и ненависть дикой толпы. Ковбои, частью мстя за хрипевшего товарища, частью из злобы на храбреца, которого каждый в отдельности боялся, устремились на него, крича: — Смерть ему!.. Смерть! Бессребренику оставалось только спастись бегством, но самолюбие и презрение к смерти не допускали подобной мысли. Человек шестьдесят бросилось на него, как стая волков. Первые упали от ударов, но затем… Миссис Клавдия смотрела на происходившее глазами, полными ужаса. Бессребреника связали ремнем и потащили. Он был бледен, как труп, и, казалось, потерял сознание. Билли Нейф, не выпускавший индейца, сделал петлю на другом конце лассо и накинул ее на шею Бессребреника, указывая на старый полузасохший сикомор: — Повесим их обоих на одном ремне. Все захохотали, как будто услыхали чрезвычайно смешную вещь. — Отлично!.. Билли прав!.. Повесим!.. На каждый конец ремня по одному для равновесия. Уже с полдюжины более проворных или менее пьяных ковбоев взобрались на старое дерево. Им передали среднюю часть лассо, на концах которого корчились Бессребреник и индеец. — Поднимай! — крикнул Билли Нейф. — Когда Медведь очнется, он будет доволен. И оба человека стали медленно подниматься в воздух при криках и улюлюканье толпы.Искренно преданный Джим Сильвер».
ГЛАВА 10
Серебряный король. — Начало его карьеры. — Серебряный самородок в 500 килограммов весом. — Деловой человек. — Спасение. — Героиня. — Удачный выстрел. — Один против толпы. — Пятьдесят две дуэли Бессребреника. — Потерянные бумаги.Вечно поглощенный делами, Джим Сильвер — серебряный король — едва успевал до сих пор жить. Когда-то, не имея ни копейки за душой, но обладая непреклонной волей и несокрушимой энергией, молодой, сильный, он был готов на все, лишь бы достигнуть цели. Оказавшись после многих приключений в Аризоне, на границе с Мексикой, Джим поселился на берегу Рио-Жиля, среди суровых индейцев апачей. Сколько необыкновенной ловкости, выносливости и неустрашимости нужно было иметь, чтобы жить здесь без всякой иной защиты, кроме винтовки, доставшейся ему от отца, и кирки рудокопа. По целым дням у него не бывало во рту ни кусочка мяса, ни капли воды. Однажды, заболев, он лежал, обливаясь липким потом, в жестокой лихорадке — один среди поросших кактусами известковых скал, подстерегаемый хищниками, чьи крики походили на похоронный звон. В небе, описывая широкие круги, парили коршуны, и их когти он как бы ощущал в своем теле. Шел восьмой день болезни. Перестрадав все, что в состоянии вынести человеческое существо, молодой Сильвер думал: «Кончено!.. Я умираю…» Разразившаяся гроза спасла его. Ливень затопил известковые рытвины, откуда поднимались колючие растения. Благодетельный дождь освежил Джима, утолил невыносимую жажду. Мало того, слепое счастье наконец ему улыбнулось. Поток, все уносивший своим течением, вызвал обвалы, обнажил пласты почвы, камни. На дне ближайшей впадины оставалось немного воды. Больной нагнулся, чтобы напиться, и… закричал. Впадина имела дно странной формы, все покрытое углублениями и вздутиями, блестевшими металлическим блеском. В первую минуту он даже не поверил своим глазам; это было минутное помешательство, он, еле передвигая ногами, начал приплясывать на месте: — Серебро!.. Серебро!.. Серебро!.. Действительно, углубление, из которого он пил, образовалось в серебряном самородке весом килограммов в пятьсот. Закидав землей слиток, Джим вернулся в Нью-Йорк, собрал без труда капитал, и скоро серебряные рудники Рио-Жиля стали давать огромные барыши. Но ненасытная жажда деятельности и дальше не давала ему покоя. Разбогатев и приобретя неограниченный кредит, он стал спекулировать на хлопке, сахаре, землях, металлах. Он основывал города, строил дома, железные дороги; его предприимчивость не знала границ. И всюду ему все удавалось. К моменту пари с Бессребреником Джим Сильвер был одним из двадцати пяти самых выдающихся капиталистов Америки. Несмотря на свои пятьдесят лет, все возрастающий объем работы, он обладал силой и крепостью, которым позавидовали бы многие молодые люди. По наружности это был обыкновенный янки, высокий, костлявый, с большими руками и ногами, серыми выразительными глазами, нечистым цветом лица и традиционным пучком волос на подбородке. Архитектор Джима, обязанный иметь вкус вместо него, предоставил хозяину, ценой многих тысяч долларов, тот неслыханный комфорт, о котором в Европе не имеют понятия и которым американские миллионеры по праву гордятся. Великолепные дворцы, волшебные виллы, единственная в своем роде мебель, богатые картинные галереи, лошади, яхты — все у него было, но всем этим он не пользовался, чувствуя себя по возвращении из конторы как бы не на месте среди всей этой роскоши. Джиму Сильверу некогда было посещать общество, а между тем ему страстно хотелось жениться. Но он не знал, как приступить к розыску «родственной души», не поручить же это дело архитектору. Как почти всегда бывает, ему помог случай. Первая встреча с миссис Клавдией решила судьбу серебряного короля. На целые сутки он позабыл про свои доки, железные дороги, свои элеваторы, рудники и свой несгораемый шкаф, обшитый сталью. «Никогда я не мог бы представить себе, — думал он, — что общество женщины и воспоминание о ней будут так приятны. Я женюсь на миссис Остин, хотя бы это стоило сто… двести миллионов». Богач отнесся к сердечному вопросу именно как к «делу» и объяснился с дамой сердца по телеграфу. Предложение его попало адресату в плохую минуту. Мы помним, миссис Клавдия получила телеграмму, когда ковбои, накинув петлю на шею Бессребреника, поднимали его на вершину сикомора. Зрелище было жутким. У повешенного индейца высунулся язык и лицо исказилось ужасной гримасой. Бессребреник же сжал челюсти и губы, посинев от напряжения. — Стойте!.. Оставьте! — кричала миссис Клавдия, не помня себя. Возбужденные и пьяные ковбои принялись хохотать, сбившись в кучу. — Негодяи!.. Разбойники!.. Это безбожно! Смех становился все громче. — Пустите, подлецы!.. — приказала молодая женщина. Видя, что толпа не обращает на ее слова ни малейшего внимания, она выхватила маленький револьвер и, нацелив в толпу, несколько раз нажала курок. Раздались три выстрела. Миссис Клавдия, любительница спорта, прекрасно владела оружием, и три человека повалились, даже не вскрикнув. Оставалось сделать всего несколько шагов до сикомора, но Билли Нейф уже прицелился в джентльмена. В четвертый раз послышался слабый звук Смита и Вессона. Пуля попала Билли Нейфу в переносье, и он упал на руки товарищей, которых начинала охватывать паника. И опять среди водворившегося молчания прозвучал сухой, короткий выстрел. Ловкость миссис Клавдии была такова, что пуля, выпущенная из ее перламутровой игрушки, перервала лассо надвое. Джо-индеец и Бессребреник тяжело упали на землю. Неустрашимая миссис Остин бросилась к ним, и ни один из разбойников не посмел удержать ее. Она быстро нагнулась, подобрала охотничий нож Билли Нейфа и в одну секунду перерезала ремни, связывавшие джентльмена. Он был близок к удушению и, жадно вдохнув воздух, проговорил: «Благодарю!» Миссис Клавдия подбежала к трупу Нейфа, схватила два оправленных в серебро револьвера, хранившихся у него за поясом, и передала Бессребренику: — Защищайтесь! — Еще раз благодарю… Постараюсь! — Он с трудом приподнялся на одно колено. Взбешенная такой развязкой, толпа, отступившая было после выстрелов миссис Клавдии, снова приближалась. Необыкновенное уважение янки к женщине не допустило насилия над защитницей Бессребреника, но ковбои намеревались заставить его самого дорого заплатить за убитых товарищей. — Сударыня, — крикнул один из них, — потрудитесь отойти, будут стрелять! — В женщину?.. Вы не посмеете… К Бессребренику, несколько оправившемуся, возвращались силы. Его переполняло презрение к ораве висельников. — Пятьдесят человек нападаете на одного! Вы не мужчины! Подонки! Среди ковбоев послышались восклицания: «Ты смеешь говорить это?.. Смеешь нас ругать подонками!.. Ну держись!.. У меня было пять дуэлей!.. У меня — десять… Я убил семь человек!» Бессребреник, не опуская дула пистолета, прокричал: — Хвастуны!.. Лгуны!.. Джо-индеец, вернувшийся к жизни, гримасничал, как обезьяна, и беспрестанно чихал. Возглас Бессребреника вызвал новый взрыв ругательств. — Попробуй-ка помериться со мной!.. — И со мной! — Нет, со мной первым. — С удовольствием, — отвечал Бессребреник. — У меня на родине говорят: «На то и щука в реке…» — Плевать нам на твою родину… — Напрасно!.. Серому Медведю не поздоровилось. — Ты француз? — Может быть… во всяком случае я тот, кто вас вызывает на дуэль. — Всех?.. — Да! — Нас ведь пятьдесят человек. — Пятьдесят два. И всех вас я надеюсь хорошенько проучить. — У тебя словно не одна голова на плечах. — Одна, да только ничего не боится. — Кто же ты? — Я Бессребреник… — Тот самый, что хочет обойти весь свет без гроша в кармане? — Тот самый. — Ну так далеко ты не уйдешь! Придется потягаться с нами. — Потягаюсь. — Когда? — После обеда! Не переносить же его из-за пустяка вроде дуэли. То один, то другой ковбой задавали вопросы Бессребренику, и он отвечал каждому. Это была передышка на пути к смерти, хотя со стороны казалось, что поединок с пятьюдесятью молодцами, отлично стрелявшими, не знавшими ничего святого, не дорожившими собственной жизнью, заботит Бессребреника не больше, чем какая-нибудь шутка. Он заткнул за пояс револьверы, поданные миссис Клавдией, и, предлагая ей руку, спросил: — Позволите проводить вас домой? А ты, Джо, ступай за нами… Найдется бутылка виски, чтобы заставить тебя забыть все волнения. Индеец поправил орлиное перо в иссиня-черной гриве и, вытянув шею, как петух, флегматично зашагал за своим покровителем. Ковбои, сбитые с толку необычайной самоуверенностью джентльмена, решили не отступать от него ни на шаг. Бессребреник, простившись с миссис Клавдией у дверей ее дома, поспешил на телеграф и отправил в «Нью-Йорк Геральд» следующую телеграмму, произведшую в тот же вечер необычайный эффект:
«Меня повесили вместе со старым индейцем… Миссис Клавдия Остин пулей из револьвера оборвала веревку. Предстоят пятьдесят две дуэли с пятьюдесятью двумя ковбоями… Надеюсь справиться с ними. Прошу выслать по телеграфу ордер на получение пяти шиллингов, — гонорар за эти пять строк. Я голоден, как никогда. Бессребреник».Со своей стороны и миссис Клавдия думала об ответе серебряному королю. Она стала искать в кармане телеграмму и, не находя ее, решила: «Должно быть, куда-нибудь заложила». Как далека была она в это мгновение от мысли, что столь незначительное обстоятельство повлечет за собой ужасные последствия, сделает ее героиней драмы, в которой каждую минуту ей будет грозить потеря чести и жизни.
ГЛАВА 11
Бессребреник голодает. — Ковбой Терка. — Дуэль на винтовках. — Убить за пять шиллингов. — Как опасно пить в обществе людей незнакомых. — Подозрительный напиток. — Не менее подозрительный сон. — Ужасное пробуждение. — Пожар. — Исчезновение миссис Клавдии.После всех передряг жажда и голод мучили Бессребреника. Жажду еще можно было утолить, напившись у первого ручья, но как утолить голод, от которого казалось, будто в животе поселилось целое племя индейцев. Между тем телеграммы из Нью-Йорка с ассигновкой на пять шиллингов не следовало ожидать раньше пяти часов. Бессребренику представился случай устроить все быстрее. С дюжину ковбоев окружили его, и один, известный под именем Терка, небрежно бросил: — Эй, вы!.. Куда собрались? — Вам какое дело! — Весьма большое. Ведь вы обещали драться с нами. — Что же, я не отказываюсь. — Но было условлено, что вы никуда не уйдете, то есть попросту не удерете. Ковбои хохотом выразили свое одобрение товарищу. Брови Бессребреника сердито сдвинулись; он покраснел, но в конце концов тоже расхохотался. — Я был так далек от намерения, которое вы мне приписали, что хочу сделать предложение. — Говорите!.. Скажите! — Как вам известно, я назвал себя Бессребреником по состоянию кармана. И вот теперь мне даже не на что пообедать, так как вы не дали мне заработать хотя бы шиллинг. Со всех сторон послышались предложения: «Зачем же вы раньше не сказали?.. Пойдемте в первый бар… нет, в салун Нэба… Примите наше приглашение… Доставьте нам удовольствие!» Джентльмен не знал, кого слушать. Он сделал знак, призывающий к тишине. — Благодарю, джентльмены, но не могу. Отказ принять что-либо от ковбоев считается смертельной обидой, после которой почти всегда следует убийство. Слова Бессребреника вызвали бурю негодования. Он снова сделал жест и заговорил: — Прошу не обижаться, условия заклада не позволяют мне принимать что бы то ни было даром. — А, вот что! — раздалось из толпы, переходившей с неимоверной быстротой от бури к полному затишью. — Но мне не запрещается держать, если вздумаю, пари, — продолжал Бессребреник. — Держать пари? На какие деньги? — переспросил Терка. — На те пять шиллингов, которые я должен получить сегодня вечером. — На пять шиллингов?.. Нищенский заклад. — Зато предмет его будет выдающийся. — На что вы хотите биться? — На свою жизнь против вашей. Я докажу вам, что не намеревался удирать, и несколько развлекусь во время скучного ожидания. — Ол райт! — отвечал ковбой с необычайной беззаботностью бродяги. — Ваши условия? — Какие угодно. — А оружие? — Любое. — Я предложу винчестер с десятью зарядами. Бессребреник снова презрительно засмеялся. Терка сделал угрожающий жест: — Не понимаю, что смешного в моем предложении. — Вы, должно быть, плохой стрелок, коль нуждаетесь в десяти зарядах, чтобы пристрелить человека. — Надеюсь доказать противное. — Ну, а с меня достаточно будет и двух, — заключил Бессребреник. — Хвастун! — Дерзости извиняют тем, кому остается так мало жить. — Пора… — К вашим услугам… Попрошу кого-нибудь одолжить мне винтовку и два патрона. Двадцать пять рук протянулись к нему с ружьями. Он взял первое попавшееся, вложил один заряд и прибавил насмешливо: — Вы предоставите мне определить расстояние, не так ли? — Да, но поскорее. — Мы обернемся друг к другу спиной и отметим по двести пятьдесят шагов. — Пятьсот шагов?.. Это много. — Затем, остановившись, выстрелим. — Хорошо! Но еще раз повторяю — это далеко, очень далеко… — Потрудитесь передать одному из этих джентльменов пять шиллингов… Я играю на слово. Терка вынул из пояса полотняный кошелек, отсчитал сумму и сказал: — Надеюсь сейчас же получить их обратно. Бессребреник отвечал, пожав плечами: — Кто знает! Терка не без основания считался одним из лучших местных стрелков, а всем известно, какие чудеса совершают ежедневно эти виртуозы обращения с оружием. Между ковбоями немедленно было заключено несколько пари. Прежде чем начать отмерять расстояние, Бессребреник зарядил и снова разрядил свою винтовку, внимательно рассматривая курок и пробуя его. Высоко над головами, каркая, пролетала в эту минуту ворона. Джентльмен прицелился и выстрелил. К несказанному удивлению всех, птица, казавшаяся в высоте не больше дрозда, начала стремительно падать. Через мгновение она лежала на земле, как тряпка. Терка побледнел, но старался не выдавать своего страха. — Хороший выстрел!.. — крикнул он. — Но и другие сумели бы сделать то же. Бессребреник вежливо поклонился и откинул затвор. Убитая ворона переходила из рук в руки. Тем временем начали отмерять дистанцию дуэли: «Двести сорок восемь, — считал Бессребреник, — двести сорок девять… двести пятьдесят… Довольно!» Терка удалялся в противоположном направлении, также отсчитывая шаги. Он остановился и, не говоря ни слова, поднял винчестер. Грянул выстрел. До Бессребреника донесся свист пули, и его шляпа отлетела на десять шагов. Ковбои разразились отчаянным «браво», а Бессребреник проворчал: — Неплохо! Он уже целился, в то время как Терка заряжал ружье. Секунды три было в выигрыше. Эти три секунды отделяли его противника от вечности. Джентльмен замер на месте, выстрел был почему-то совсем не слышен, из дула показался белый дымок. Терка опустил руки, выронил карабин и растянулся во всю длину. Бессребреник, по-прежнему невозмутимый, вернулся к притихшим ковбоям, как бы охваченным суеверным страхом, и, подойдя к тому, которому вручены были пять шиллингов, сказал: — Прошу передать мне заклад. — Но ваш противник, возможно, только ранен. — Да, очень вероятно, но смертельно. От пули между глазами у него случилась мигрень. У ковбоев мороз пробежал по коже, а Бессребреник, вынув из кармана блокнот, записал: «Пятьсот шагов — около четырехсот пятидесяти метров». Затем прибавил: — Надо вычесть из сорока миллионов метров. А теперь скорей обедать! Он вернул винтовку хозяину и отправился в город, куда уже дошел слух о его подвиге. Зайдя в салун, Бессребреник приказал подать себе еды и с жадностью проглотил ее. Затем видя, что осталось достаточно денег, заплатил за стакан виски и сигару. Усевшись в кресло, он покачался с минуту и задремал. В то же время в углу салуна два человека шептались, продолжая начатый ранее разговор: — Да, — говорил один, — серебряный король заплатит сколько угодно. — Как бы не поплатились мы сами, — сказал другой. — Кто ничем не рискует — ничего не имеет. — А веревка?.. — А миллионы долларов?.. — Все же похищение!.. Этим не шутят… — Но ведь самое похищение уже не наше дело. — Судья Линч не станет разбирать… — Стало быть, ты отказываешься? — Нет, только колеблюсь… Покажи-ка бумагу. Собеседник вынул из кармана скомканный лист и развернул его. — Вот он, документ. Другой стал разбирать текст и, дойдя до конца, произнес: — Подписано: Джим Сильвер. Где ты нашел это? — На земле… в ту минуту, как миссис Клавдия освобождала повешенных. — Должно быть, потеряла телеграмму. — Я видел, как она обронила ее. — И не подумал возвратить? — Намеревался было, а потом рассудил, что не следует поддаваться первому порыву. — Верно! — У старого крокодила, Джима Сильвера, мошна полная, пусть потрясет ею. — Стало быть, ты намереваешься… — … похитить миссис Остин, увезти ее в надежное место и выдать воздыхателю только за наличные. — За сколько? — Ну, положим… хоть за двадцать пять миллионов. — Долларов? — Да… на долю каждого по двенадцати с половиной миллионов! Принимаешь? — Не отказываюсь! — Говори прямо, «согласен» — и дело в шляпе. — Хорошо, согласен! Бессребреник продолжал дремать в качалке, давно погасшая сигара упала на пол к его ногам. Когда он проснулся, уже вечерело. «Пора сходить за деньгами из «Нью-Йорк Геральд», — первое, что пришло ему на ум. — Пять шиллингов — целое состояние». У выхода из салуна стояло два человека. — Послушайте, джентльмен, — обратился один из них, — вы, наверное, не откажетесь выпить с нами «Воскресительного»? Это питье, состоящее из самой адской смеси, похожее на крепкую водку, страшно обжигающую рот, — любимый напиток западных янки. — Пожалуй, — кивнул Бессребреник, намереваясь в ответ угостить неизвестных. Хозяин салуна налил стаканы, гости чокнулись и выпили залпом — жадно, по-американски, как люди вечно занятые, ищущие в питье не удовольствия, но быстрого, мгновенного опьянения. Через несколько минут Бессребреник почувствовал, что ноги у него ватные, а мысли путаются. Он снова уселся в свою качалку и после тщетной попытки стряхнуть странное оцепенение погрузился в тяжелое забытье. Двое товарищей засмеялись, похлопав по плечу буфетчика: — Чистая работа, Нэб; твое снадобье — чудодейственное. — Продрыхнет, по крайней мере, шесть часов. — Возьми два доллара за труды, и до свидания. Было семь вечера. В три часа ночи Бессребреник проснулся с головой, словно стянутой железным обручем, с отвратительным вкусом во рту, весь разбитый. Он лежал, растянувшись под столом, как записной пьяница, которому пол кажется матрасом. Вокруг раздавался храп опившихся воров. Воздух был насыщен запахом табака и алкоголя. Стояла совершенная темень. Бессребреник с трудом собрался с мыслями: как мог он очутиться в такое время в таком месте? Ощупью попытался найти выход из притона. Стараясь не наступить тяжелыми сапогами на головы спящих, он наткнулся на стол, уставленный стаканами, блюдами, бутылками, — все с грохотом полетело вниз. Разбуженные пьяницы схватились за револьверы — шальные пули дырявили стены и потолок кабака. При вспышках выстрелов Бессребренику удалось-таки заприметить входную дверь. Низко пригнувшись, он благополучно выбрался на улицу, но тут же инстинктивно сделал шаг назад — небо от края до края было залито зловещим багровым светом. Гул толпы, словно крик крылатого чудовища, парил над городом. Влекомый недобрым предчувствием, Бессребреник помчался на площадь, где недавно отплясываласькровавая кадриль, и, прибежав, замер как вкопанный — в пятидесяти метрах от него догорало роскошное жилище миссис Клавдии. Магазины, службы, склады в несколько часов превратились в пепел. Соседи, смотревшие в понятном волнении на страшное зрелище, ничего толком не смогли объяснить ему. Пожар произошел внезапно, огонь охватил все сразу. — Но миссис Остин! Где она? — Она исчезла.
ГЛАВА 12
Пьяный ирландец. — Индейская лошадь. — Еще одним противником меньше. — Погоня. — Бессребреник пристреливает лошадь. — С ловкостью клоуна. — Бессребреник превращается в зверя. — Травля.Вначале миссис Клавдия внушала Бессребренику только любопытство с оттенком снисхождения — эксцентричная особа, вечно гоняющаяся за сильными ощущениями. Но чем дольше находился джентльмен в обществе этой женщины, тем более убеждался: между ними много общего — отвращение к условностям, страсть к совершению невозможного… И все-таки он, вероятно, скоро расстался бы с нею, если бы не случай, после которого человек порядочный уже не считается свободным: миссис Остин спасла его, не убоявшись пьяной грубой шайки. Теперь настал черед джентльмена выручать свою спасительницу. Не остаться перед ней в долгу, найти, вызволить, защитить было для него сейчас куда важнее, чем выиграть пари. Но и куда труднее: миссис Клавдия исчезла бесследно. В поисках хоть какой-нибудь нити, ведущей к пропавшей молодой особе, он, расспрашивая всех подряд, наткнулся на пьяного ирландца, видевшего недавно повозку с вооруженными людьми. — В повозке женщина? — со страхом спросил Бессребреник. — Доподлинно не знаю… — отвечал пьяница, — … что-то обернутое в ткань. Сведения были более чем туманными, но за неимением других Бессребреник решил идти по этому следу. Возле салуна, в котором ночевали очумелые от виски ковбои, он заметил оседланных и взнузданных лошадей. Как всегда, они стояли без присмотра — в здешних местах конокрадство крайне редко. У каждой лошади на плече и ногах клеймо ранчо, и в случае ее похищения ковбои сотни верст гонятся за вором, чтобы судить его судом Линча. Знал ли все это джентльмен? Преотлично. Тем не менее в мгновение ока вскочил в чужое седло. Несколько ковбоев показались на пороге салуна. — Эй, господин Бессребреник, — крикнул один из них, — куда это вы собрались? — Куда вздумается, — отвечал джентльмен, не любивший, как мы знаем, вопросов. — А когда же состоятся ваши пятьдесят две дуэли? — Пятьдесят одна! — мистер Терка первым отправился туда, куда последуют остальные. Лошадь, простоявшая десять часов, рванулась. К счастью, ему достался индейский конек — животное до того выносливое, что кажется сделанным из стали. Не очень быстрое на ходу, похожее на крупного пони, оно может несколько суток обходиться без пищи и воды. Проехав в один день тридцать миль, эти лошади и на следующий (если не очень гнать) в состоянии преодолеть еще сорок. А вечером, расседланные, хорошенько вывалявшись и съев пару пучков буйволовой травы, они как ни в чем не бывало приходят спать возле хозяина. Ошеломленные ковбои, видя, что Бессребреник погоняет коня, подняли крик: — Лови!.. Лови!.. Он бежит… — Кто?.. Кто?.. — Бессребреник! — Не может быть… Собака… Пони летел, будто у него к хвосту была привязана горящая головня. Ловко сидя в широком с кожаной бахромой мексиканском седле, к которому был прикреплен вьюк. Бессребреник на скаку окинул взглядом свое снаряжение: больше всего обрадовала заряженная винтовка, непромокаемый плащ и сотня патронов в сумке. Были и съестные припасы: сало, маисовая мука, виднелась даже оплетенная фляжка для виски, — владелец индейского пони оказался человеком предусмотрительным! Бессребреник успел ускакать уже метров на пятьсот, когда взбешенные ковбои пустились вдогонку. — Посмел вызвать всех нас, а теперь удирает! — возмущенно вопили они. Преследователям показалось, что джентльмен держит в прерию. Они хохотали, находя подобный план безумным. — Не знает, дурак, что мы можем месяц не сходить с лошади и гнаться за ним хоть до самой Канады. — Нет, вы посмотрите, что он делает! Бессребреник, выехав за город, вдруг свернул направо с тропы, носившей громкое название дороги. Человек двенадцать ковбоев тоже свернули, продолжая кричать во всю мочь. Но Бессребреник не обращал внимания на их угрозы — он искал свежие следы повозки и, не найдя их на дороге, собирался объехать весь город. Его преследователи были уже близко, и на расстоянии трехсот метров одному из них вздумалось выстрелить. Послышался сухой удар: пуля попала в луку седла и раздробила ее. Еще на пять сантиметров выше, и она попала бы в спину всадника. Брови джентльмена сердито сдвинулись, он весь вспыхнул, осадил пони и спрыгнул на землю. Спрятавшись за лошадью, Бессребреник прицелился в скачущих. И хоть ковбои пригнулись к седлам, их предосторожности были напрасны: первая пуля попала в красную рубашку, алевшую, как мак, на спине одной из лошадей; тело конвульсивно поднялось, руки взмахнули в воздухе, и ковбой бездыханной массой свалился на землю. Привычная лошадь Бессребреника не шелохнулась. Джентльмен подождал полминуты, пока рассеется дым. Ковбои тем временем последовали его примеру и спешились. Теперь Бессребреник видел только ряд ружейных дул, выставившихся из-за седел, и не мог разглядеть лиц, скрывавшихся за вьюками. Ковбоям нельзя было выглянуть, не рискуя жизнью, но и Бессребреник должен был спрятаться, чтобы не стать мишенью для противников. Оба воюющие лагеря бездействовали. — Эти мошенники, кажется, хотят заставить меня пустить здесь корни! — буркнул Бессребреник. — Но нет, они затевают что-то новое. Ковбои действительно начали выполнять довольно оригинальный маневр: не выходя из-за лошадей, они заставляли последних идти шаг за шагом вперед, стараясь при этом двигаться спиралью. Бессребреник понял: скоро они окружат его и нападут со всех сторон. Ему становилось не по себе. — Ну и глупец же я, право! — воскликнул он вдруг. — Есть средство остановить наглецов, стоит только… Он недоговорил и выстрелил. Одна из лошадей, в висок которой попала пуля, растянулась неподвижно. Ковбой, скрывавшийся за ней, бросился на землю позади трупа. Вся шайка на минуту замерла на месте. — Отлично! — сказал Бессребреник. — Жаль только ни в чем не повинных лошадей. Ковбои, казалось, были в крайнем затруднении: они сознавали, что в начавшейся схватке потери будут неоправданно большими, но, с другой стороны, их врожденное упрямство не позволяло сойти с пути, на который вступили. Под прикрытием лошадей состоялся поспешный военный совет. Один из ковбоев, более благоразумный и смелый, предложил отступить. Другие набросились на него с проклятиями и бранью, долетавшими до слуха Бессребреника. Он же тем временем, повесив ружье на седло, одну из ног сунул в стремя, правой рукой уцепился за гриву пони, а левой — уколол его острием ножа в бок. Только индеец или клоун могли проделать подобную штуку на виду у неприятеля. Пони сделал отчаянный прыжок и помчался, унося неустрашимого седока. В первую минуту ковбои подумали, что у Бессребреника сорвалась лошадь, а он сам притаился в высокой траве. Им и в голову не пришло, что этот белоручка, не тронутый даже загаром степей, может выкинуть столь сложный номер. Со смешками, издевками они устремились к месту, где предполагали захватить джентльмена. Каково же было разочарование, когда первый из них, заметивший хитрость джентльмена, заревел: — Идиоты, разве не видите, мошенник удрал! Ругаясь пуще прежнего, ковбои бросились к лошадям и снова пустились в погоню. Но Бессребреник, понукая лошадь острием ножа, летел как стрела. Ковбои не могли прийти в себя от изумления. — Мы не отстанем от него хотя бы до самого пекла! — вскричал один из них, вонзив огромные мексиканские шпоры в бока своего великолепного мустанга. — Да, да! До самого пекла! — вторили ему остальные. Началось то беспощадное, ожесточенное преследование, которое знакомо только охотникам за лошадьми. Охотникам, способным неделю за неделей со сказочной неутомимостью краснокожих скакать по лесам, холмам и равнинам, не ведая страха, не сбиваясь с пути, ни на миг не теряя с высоты своего седла тот единственный след, который узнают среди сотен других. Бессребреник между тем все продолжал гнать лошадь. Вдруг, как птица из травы, над прерией вспорхнул крик радости: джентльмен увидел ясные следы колес повозки, траву, примятую лошадьми, которых было семь или восемь. Без сомнения, миссис Клавдия и ее похитители проехали здесь! — О, я спасу ее! — воскликнул он с жаром, удивившим его самого. Следы вели в бесконечную травяную равнину, волновавшуюся, как море. Бессребреник помчался вперед. Ковбои не отставали, но расстояние между ними и джентльменом не уменьшалось. Они щадили лошадей, решив доставить себе удовольствие и устроить травлю, где место преследуемого зверя было уготовлено человеку. Предполагалось, что охота продлится несколько дней — дичь была не из таких, чтобы сдаться сразу. Итак, они скакали, разговаривали, курили, жевали жвачку, время от времени распаляя себя выстрелами. Бессребреник слышал свист пуль, но не отвечал: берег патроны. Ночью все расположились там, где их застала темнота. Опасаясь внезапного нападения джентльмена, ковбои поочередно становились на часы. Бессребреник провел бессонную ночь, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к каждому шороху. На рассвете он снова сел на лошадь и первым пустился в путь; ковбои, по-видимому, не намеревались подъезжать к нему ближе. Но он знал: преследование скоро начнется с невиданным упорством и ожесточением. Прошло несколько часов без всякой перемены в положении дел. Пони Бессребреника бежал себе иноходью, не выказывая никакой усталости. Сам джентльмен в седле сидел твердо и походил скорее на доброго ранчеро, объезжающего свои пастбища, чем на человека, за которым гналась шайка разбойников. Он все ехал по следу повозки и терялся в догадках о причине похищения молодой женщины и о месте, куда ее увезли. Уже давно тянулась совершенно дикая равнина. Не видно было ни ранчо, ни поселка, ни одинокой фермы или хижины — ничего! Только желтоватая трава становилась все гуще и выше, доходя почти до стремян. Наступала вторая ночь. Несмотря на свою выносливость, джентльмен чувствовал чудовищную усталость. Уже два часа ковбоев не было видно, и Бессребреник надеялся, что они еще далеко. «Привал!» — скомандовал он сам себе. Лошадь, наевшись, легла, а он сел возле нее, противясь всеми силами сну. Глаза его все же закрылись… Вдруг ржание и толчок разбудили джентльмена. Он сразу вскочил и удержал за узду обезумевшее животное. Вся степь пылала. Пламя подступало все ближе. Воздух невыносимо раскалялся. Огонь приближался как бы прыжками. Страшный треск, будто от сотни мчавшихся вагонов, покрывал всякий другой шум. Лошадь дрожала, ежилась и прижималась к хозяину, словно прося помощи. Потом, задыхаясь, стала вырываться, бить копытами. Казалось, сама смерть в клубах дыма и языках огня стала перед Бессребреником на дыбы.
ГЛАВА 13
Опять ковбои. — Откуда они берутся. — Желтая Птица и Дик-Бэби. — В плену. — После похищения. — Бешеная скачка. — У тюремщика. — Перед оргией.За ремесло ковбоя — опасное и тяжелое — берутся обычно люди, принимавшиеся прежде за многое, но всюду потерпевшие неудачу. Они не любят распространяться о своем прошлом, о семье или родных. Акцент иногда изобличает в них иностранцев. Между ними попадаются англичане, немцы, испанцы, французы, но, конечно, большая часть — янки. Очень немногие сохраняют свою настоящую фамилию, большинство принимает какое-нибудь прозвище. Бывает, в один прекрасный день под влиянием винных паров кровь у кого-нибудь из них закипает, мозг воспламеняется, происходит какой-то сдвиг — и, ко всеобщему изумлению, ковбой перерождается. Он начинает выражаться изящно, заводит речь о вещах, не имеющих никакого отношения к его теперешней профессии, — одним словом, на минуту превращается в джентльмена. Но лишь только хмель слетает, человек снова возвращается к грубой действительности. От нарушения своего инкогнито у него остается смутное чувство неловкости. На следующий день он отправляется к хозяину-ранчеро, просит расчета, получает причитающееся жалованье и уходит на другое место. Но случается, и без видимой причины ему надоедает после двух-трех месяцев жить на одном месте, и он внезапно покидает ранчо. Почти нет примеров, чтобы ковбой прожил долго, несколько лет, у одного и того же хозяина. В крови этих людей, бросивших общество равных себе по развитию, чтобы приблизиться, насколько возможно, к природе, пробуждаются инстинкты бродяг. Хозяева проявляют большую снисходительность при найме этого беспокойного народа. Они не спрашивают у ковбоя ни его имени, ни происхождения. Одетый в традиционный костюм и запасшийся орудиями, необходимыми в его профессии, он входит в общий зал хозяйского дома, садится перед огнем, покуривая трубку или жуя табак, и остается здесь столько, сколько ему вздумается — один, два, три дня или больше. Товарищи делятся с ним кровом, пищей, виски и табаком. Если ему вздумается остаться — спрашивает себе работу. В противном случае отправляется на соседнее ранчо, где снова находит радушный прием. И так до тех пор, пока не выберет себе подходящего места. Эта бесшабашная жизнь имеет свою неизъяснимую прелесть. Для людей, любящих прежде всего свободу, почти невозможно отказаться от подобного существования. Обанкротившиеся купцы, учителя без дела, врачи, уличенные в нарушении закона, моряки-дезертиры, адвокаты без практики, аптекари, повара, механики, парикмахеры, сделавшись ковбоями, никогда не возвращаются к покинутой профессии. Они живут и умирают ковбоями. Из этой краткой характеристики становится понятным, до каких крайностей могут доходить подобные люди вдали от границ цивилизованной жизни. Они чрезвычайно усердные работники, так как очень самолюбивы; но раз загуляв, уже не знают меры и относятся к человеческой жизни — своей собственной или чужой — с полным презрением. Нет вещи, которой ковбой не изведал бы, иногда ему даже случается сделать… добро. И вот от таких людей Бессребренику приходилось защищать себя и миссис Клавдию. Молодая женщина находилась во власти худших из худших. Только храбрость Бессребреника или миллионы Джима Сильвера могли ее спасти. Ковбой, поднявший телеграмму, так некстати оброненную миссис Остин, был самым отъявленным негодяем по прозвищу «Желтая Птица». Он принадлежал к шайке бездельников, маскировавшихся индейцами, чтобы грабить ранчо, поезда переселенцев, одиноко стоящие фермы, а иногда даже целые деревни. Подражая в совершенстве костюму и татуировке краснокожих, зная их язык, эти ковбои и вправду казались настоящими индейцами. Жадный до денег, Желтая Птица в грабежах имел двойной доход. Известно, что существуют особые охотники — охотники за скальпами, или волосами, снятыми индейцами с голов убитых врагов. Скальп состоит не из одних волос, но из волос с кожей, которую жестокий воин сдирает с жертвы, предварительно сделав круговой надрез от затылка ко лбу. Эти мрачные трофеи, встречающиеся все реже и реже, находят себе покупателей и продаются по сто, двести, триста долларов и больше. Желтая Птица, имевший постоянный сбыт подобному товару, скальпировал всех, кто ему попадался под руку. Усердное преследование со стороны полиции и племени настоящих суиксов заставило его отказаться от прибыльного занятия. Желтая Птица сделался ковбоем и поселился возле Нью-Ойл-Сити. Соучастник его некогда был, как думали, адвокатом, который за разногласия с законом сначала попал в тюрьму, а затем в прерии Запада. Прозвище свое — Дик-Бэби — он получил благодаря розовому, пухлому, как у ребенка, лицу, никогда не загоравшему под жгучим солнцем. Жестокий, но несколько трусливый, он обладал никогда не иссякающим красноречием болтуна и пройдохи. Похищение миссис Клавдии и проект получить за нее выкуп были замыслены Желтой Птицей. Он же подобрал для этой цели с полдюжины помощников. Затем Желтая Птица и Дик-Бэби отправились в дом хозяйки. Она приняла их не колеблясь, поверив, что эти двое явились для переговоров между администрацией и ковбоями. Войдя, Дик-Бэби произнес какую-то вступительную фразу, а Желтая Птица по-индейски неслышно подкрался сзади и точным, натренированным движением мастера заплечных дел зажал ей рот платком. Миссис Остин пыталась защититься, вырваться, но напрасно — Дик-Бэби связал ей руки, извиняясь за вольность, которую себе позволяет. Затем оба негодяя принялись грабить драгоценные вещи и серебро. Они оказались настолько внимательными к чужому добру, что уложили в чемодан даже немного белья и туалетных безделушек, назначение которых, впрочем, знали весьма нетвердо. Их товарищи между тем заложили в шарабан лучшую из лошадей. Желтая Птица поднял миссис Клавдию, как пушинку, вынес во двор и усадил в экипаж. Он взял вожжи и намеревался дать знак к отъезду, когда заметил, что нет Дика-Бэби. — Проклятье! — пробормотал он. — Где копается этот каналья? Отсутствие бандита скоро объяснилось. Густые клубы дыма уже вырывались из окон дома-дворца. Дик-Бэби прибежал, крича: — Горит! Горит! — Ты поджег? — Да, везде! — Отлично! Он впрыгнул в седло в ту минуту, как лошади, испуганные первым светом пожара, начали беспокоиться. Поезд, с шарабаном во главе, выскочил из ворот на улицу, толкая и давя всех попадавшихся на дороге. Они направились в прерию, а зарево в покинутом городе разгоралось все ярче и ярче. Часть ночи проскакали по равнине, расположенной от Терриаль-Крика до Южного Плато. Это огромное пространство, заключенное между двумя реками, носит название Южного Парка и простирается до гор, дающих начало Арканзасу — небольшому быстрому потоку, в котором мудрено узнать будущий могучий приток Миссисипи. Это — пустыня без городов, без поселков, без деревьев. Высокая жесткая трава, растущая на неблагодарной почве, негодна даже для пастьбы скота. Птиц здесь встречается мало, четвероногих еще меньше, но зато гремучих змей множество. На рассвете Желтая Птица остановил рысака и приказал сделать привал на берегу. Задыхавшейся миссис Клавдии развязали рот и подали напиться. Она изнемогала от усталости, но гордая и непреклонная даже не удостоила негодяев ни единым взглядом. После часовой остановки снова двинулись в путь по направлению к юго-западу. Желтая Птица, по-видимому, прекрасно знавший местность, вел поезд, невозмутимо отвечая на вопросы спутников: — Потерпите… Подождите… — Да куда ты нас, наконец, ведешь? — В такое место, где нет ни шерифов, ни полисменов и где таким молодцам, как мы, можно позабавиться. — А далеко еще ехать? — Увидите. Вечером расположились на ночлег в совершенно пустынной местности. Для миссис Клавдии устроили постель из подушек шарабана, травы и пледа вместо одеяла. После скромного ужина ковбои растянулись на земле, подложив под голову седла, и уснули, не выпуская из рук карабинов. На следующее утро поехали все тем же аллюром. С некоторого времени местность стала менее ровною; чаще и чаще начали попадаться трещины в почве, а затем и канавы, через которые Желтая Птица, правивший шарабаном, переезжал с чисто американской ловкостью. Скоро потянулись настоящие холмы — предгорья высоких гор, которые обрисовывались темной массой на горизонте. Шарабан въехал в долину, затем поднялся на гору, снова спустился, преодолел глубокое ущелье и выехал на большую круглую равнину, со всех сторон замкнутую остроконечными скалами. — Добрались! — объявил Желтая Птица. Трудно было представить что-либо мрачнее этой круглой лощины, где вся почва изрыта, изборождена маленькими ручейками с желтой грязной водой, насыщенной глиной. Кое-где люди отталкивающей наружности, в грязных лохмотьях усердно копали землю, стоя в ямах. Вокруг виднелись беловатые палатки, вылинявшие от дождя, выгоревшие от солнца, продырявленные и заплатанные разноцветными лоскутами. Между этими убогими жилищами возвышалось несколько домов из неотесанных елей, срубленных в горах. В них жили разные торговцы. Не было ни церкви, ни суда, ни банка — ничего, что напоминало бы цивилизованный мир. Всюду — полное отсутствие комфорта. В палатках спали прямо на земле; в бревенчатых домах-«салунах» ели стоя, наскоро. Вся меблировка состояла из одного или двух обрубков, служивших стульями. Таков был поселок искателей золота, где Желтая Птица намеревался скрыть свою пленницу. Ковбои в этих местах самые что ни на есть «сливки» общества. Желтую Птицу они знали и — как ни удивительно — слушались. — Эй вы, молодцы, — гаркнул он, — вылезайте из своих нор и ступайте сюда! Собрав вокруг себя человек шестьдесят рабочих, разбойник стал им что-то рассказывать, потом — отвечать на вопросы. — Сколько ты заплатишь? — спросили его. — Сколько захотите. — Ол райт! Идем к Отравителю. Через десять минут толпа, к которой присоединились по дороге другие рабочие, остановилась перед салуном. У дверей кабака сидел верзила со свирепым лицом. — Эй, Сэм, — обращаясь к нему, закричал Желтая Птица, — я привез тебе первую красавицу Штатов. — Вижу. — Береги ее как зеницу ока! Она стоит сто тысяч долларов. — Отлично!.. Женщина хороша, а золото еще лучше. Ну, давай выходи, курочка! Молодая женщина легко спрыгнула на землю и совершенно спокойно остановилась перед дверью. — У тебя ведь найдется место, где ее спрятать? — грубо спросил Желтая Птица. — Да, на чердаке, где спала Бесси, служанка, что умерла. — Хорошо… Потрудитесь идти за Сэмом, сударыня… А ты, Сэм, не забудь, что отвечаешь за нее головой.
ГЛАВА 14
Пять! — Письмо к серебряному королю. — Взаперти. — Американский бифштекс и кухня. — Опасения. — Любопытство пьяниц. — Сэм и его топор. — Бойня. — На раскаленной плите. — Миссис Клавдия во власти пьяной толпы. — Ужасный апофеоз. — Свадьба.Заперли миссис Клавдию в грязной каморке, где умерла служанка кабака. Желтая Птица отвел в сторону хозяина и сказал ему: — У тебя есть запасы? — Неистощимые, — отрывисто отвечал великан. — Питье и еда? — Да. — Будет чем с неделю поить всех старателей? — Хватит и на две. — Ол райт! Я все покупаю у тебя. — За наличные? — Нет, в кредит. — Будет стоить дороже. — Сколько? — Пять тысяч долларов. — Прекрасно! Беру за пять тысяч весь салун и все, что в нем есть… Ты знаешь, мое слово как расписка. — Знаю, — важно подтвердил Сэм, сплевывая жвачку. — Сверх того получишь еще сто тысяч долларов. — Ты, стало быть, богат? — Скоро разбогатею… Наклевывается отличное дельце, и ты должен помочь мне. — Как это? — Сбереги красотку, что сидит на чердаке. — Сберегу. Все? — Рассчитываю на твою неподкупность. — Все? — Все… А теперь напои этих молодцов — нашу маленькую армию. — Разве предвидится нападение? — Надеюсь, нет; но в случае чего… — В случае чего эти двести удальцов будут стоить целого батальона. — Я их знаю. Почти со всеми приходилось «работать над кожей». Выражение «работать над кожей» означает — скальпировать. Тон, которым Желтая Птица произнес эти слова, заставил бы содрогнуться самого храброго человека. Сэм даже бровью не повел. Видно, в недавнем прошлом для него это была работа как работа — ничего особенного. Скоро радостная весть, что Желтая Птица бесплатно поит всех, облетела лагерь. Золотоискатели побросали ломы, лопаты и желоба, в которых промывается золотоносная земля, и сбежались в салун, где с жадностью набросились на спиртное. Между тем в комнате Сэма Дик-Бэби сочинял письмо и зачитывал его Желтой Птице.
«Мистеру Джиму Сильверу, Нью-Йорк. Джентльмены, желающие остаться неизвестными, случайно узнали, что серебряный король, почувствовав нежное влечение к нефтяной королеве, намеревается связать себя с этой прелестной особой узами брака. Это намерение заслужило полное одобрение со стороны джентльменов, и они решили дать на него свое согласие. Но превратности их бытия, сопряженного с опасностями, принуждают поставить мистеру Сильверу некоторые условия. Бесценную красоту, молодость и необыкновенную привлекательность миссис Клавдии Остин джентльмены — увы! — вынуждены оценить деньгами. Было бы оскорблением для серебряного короля, если бы оценка эта оказалась несоответствующей его несметному богатству и всем совершенствам нефтяной королевы. Вследствие этого почтеннейший Джим Сильвер благоволит вручить людям, которых ему укажут, сумму в двадцать пять миллионов долларов. Эта цифра, которая не может быть изменена, представляет собой выкуп за миссис Клавдию Остин. Одно слово «выкуп» объяснит мистеру Сильверу, что миссис Клавдия в полной власти людей, которые вольны поступить с ней как вздумается. В случае неуплаты означенной суммы страшные бедствия и несчастья могут обрушиться на голову нефтяной королевы, которая уже теперь просит о помощи и умоляет о спасении. Если — в чем пишущие эти строки не сомневаются — серебряный король вознамерится возвратить свободу пленнице, ему стоит только напечатать в главнейших газетах объявление: «Джим согласен: 25 000 000 дол.». После этого останется только определить условия, при которых должна будет состояться передача денег и пленницы. Если этот способ покажется серебряному королю слишком долгим, он может отправить телеграмму в Южный Парк на имя уполномоченного фирмы «Желтая Птица и Дик-Бэби».Выслушав с открытым от восхищения ртом наглое и претенциозное сочинение Дика, Желтая Птица воскликнул: — Отлично!.. Превосходно! — Да, — с притворной скромностью согласился другой негодяй, — недурно; я вообще не промах в таких вещах… Но кто снесет письмо? — Я сам. Я сейчас же отправлюсь с тремя лошадьми и отдам письмо почтовому чиновнику в первом же поезде. — Подумай, что от нас до железной дороги двести миль! — Всего двое суток пути. — Кто останется при женщине? — Ты и Сэм. — Хорошо! — Прощай, Дик. — Прощай, Желтая Птица! В твоих руках наше будущее. Доверяясь бессердечности своих товарищей, негодяй тотчас, даже не отдохнув, пустился в путь. Читатель, вероятно, удивится, почему Желтая Птица избрал для заключения нефтяной королевы место, куда стекалась масса порочного люда, и приставил к своей пленнице сторожами таких отъявленных мерзавцев. В сущности, его план не лишен был основательности. Во-первых, лагерь золотоискателей находился, что называется, в глухом углу — вдали не только от всяческих путей сообщения, но и от закона и власти. Во-вторых, ставка делалась на жадность Сэма, а это чувство ему никогда не изменяло. Кроме того, пьяницы всегда в руках того, кто их поит. Желтая Птица, подпаивая старателей, имел в них преданных и свирепых телохранителей. И если бы Джиму Сильверу или кому-нибудь другому пришло на ум пустить в ход силу, у Желтой Птицы были бы отчаянные защитники. Вначале все шло хорошо. Золотоискатели глотали самые невозможные напитки, ссорились-мирились, пили за здоровье угощавшего, Желтой Птицы, за наливавшего Сэма, за болтавшего Дика-Бэби, за прекрасную незнакомку, которой никто не видал и внезапное исчезновение которой начинало возбуждать любопытство. Интерес к ее особе быстро нарастал, что сильно встревожило Дика-Бэби. — Ну, Сэм, говори, кто она, эта незнакомка?.. Твоя жена? — Нет! — Дочь?.. Невеста? — Нет… нет… — Кто же она такая?.. Почему прячется? Почему не показывает за стойкой свою хорошенькую мордочку вместо твоей крокодиловой хари?.. Какой же ты безобразный, Сэм… Ну же, иди, попроси красавицу выйти сюда… Она найдет здесь людей, понимающих тонкое обращение… джентльменов, настоящих джентльменов! — Отстаньте от меня! — заревел Сэм. — Вам дали пить… ну и напивайтесь, пока не лопните… ведь ничего не стоит… А эту даму оставьте в покое, иначе… — Иначе что?.. Ты грозишь нам? — Да! — закричал Сэм, хватая в каждую руку по револьверу. Все знали необыкновенное искусство в стрельбе этого гиганта, убивавшего человека, как муху, и принялись снова за водку. — Чтоб черт опалил мне лицо! — проворчал Сэм. — Нечего сказать, хорошее поручение дал Желтая Птица… Правда, он пообещал сто тысяч долларов и сдержит слово… Сто тысяч!.. Да я за них убью сто тысяч таких мерзавцев!.. Наступила ночь. Сэм подумал, что миссис Клавдия голодна, и велел своему помощнику приготовить обед для заключенной. Слуга, в громадных сапогах, подпоясанный красным поясом, с целым арсеналом оружия на животе, поспешно повиновался. В кухне висела кровавая бычья нога. Повар вытащил из ножен нож, отрезал ломоть еще не успевшего остыть мяса и стал яростно разбивать его поленом на чурбане. После этого, не прибавив даже перца и соли, он положил мясо на раскаленную чугунную плиту. Это блюдо на Западе Америки называется бифштекс. В то время как ломоть мяса поджаривался, повар смешал немного муки со стаканом воды, распустил на сковороде свиного сала и вылил в него серое тесто. Мука была кислая, сало горькое, а сковородка грязная. Для этих людей, как бы предубежденных против чистоты, любимая пища — сочное мясо. Повар снял со сковородки блин и свернул его вдвое. Затем поднял с плиты мясо, полусгоревшее с одной стороны и кровавое с другой, и положил на блин. — Готово? — спросил Сэм, приотворяя дверь кухни, полной удушливого дыма. — Готово! — пролаял в ответ оригинальный повар, засовывая нож обратно в ножны. — Молодец, Ник! Наша барыня пообедает, как королева. Хозяин взял блюдо и, не подумав, что не мешало бы также захватить нож, вилку и салфетку, стал тяжело подниматься. Ступени шаткой лестницы скрипели под его ногами. Он постучался. В ответ донесся короткий звук, хорошо знакомый всякому искателю приключений, освоившемуся с употреблением огнестрельного оружия. — Вот те на! — пробормотал он. — Курочка зарядила револьвер… Ну и бабенка! Дверь распахнулась, и Сэм увидал целившуюся в него молодую женщину с распущенными волосами. — Что вам надо? — спросила она звенящим голосом. — Я принес вам поесть. — По какому праву вы держите меня здесь? — Так приказал Желтая Птица. — А я хочу уйти… сейчас… Пустите… Вы слышите, пустите! Или я вас убью! Как человек, неспособный пугаться дула револьвера, Сэм поставил блюдо на ящик из-под водки и сказал: — Мне не хочется вам противоречить, но позвольте сказать, что здесь, наверху, вы в большей безопасности, чем внизу — в салуне или на улице. Там я ни за что не отвечаю. — Эти люди посмели бы с неуважением отнестись к женщине… к американке?.. — Если бы они были трезвы, то не посмели бы… А когда пьяны… — Желала бы я это видеть! — воскликнула миссис Клавдия. — Не говорите этого, сударыня… Люди, спокойные натощак, делаются зверями, когда выпьют… Тогда им все нипочем. Сэм смотрел на нее, следя по лицу за движением ее мысли. — Еще раз повторяю, сударыня: не доверяйте им! Сэм собирался уйти; но миссис Клавдия хотела во что бы то ни стало спуститься. Дух противоречия, сознание опасности и неизвестность возбуждали ее. — Подождите, по крайней мере, до завтра. Они или перепьются до бесчувствия, или отрезвятся… в обоих случаях вам не надо будет их так бояться. Эти слова возымели действие. С той минуты, как миссис Остин уступили, она перестала настаивать. Раз запрещение снималось с плода, плод терял свою притягательную силу. Вместе с бифштексом Сэм принес свечу и спички. Миссис Клавдия, как женщина ни перед чем не отступающая, мужественно принялась за кусок мяса, впилась в него своими тонкими и белыми зубками, повертела туда-сюда и, наконец, справилась с ним. Она могла похвастаться победой, так как «враг» сдался не сразу. Подкрепив силы американским деликатесом, миссис Клавдия выпила стакан воды и, за неимением ничего лучшего, расположилась на жесткой постели, занимавшей половину тесной каморки. Она чувствовала себя разбитой после бешеной скачки и нуждалась в отдыхе. Положив заряженный револьвер около постели, пленница прочла короткую, но горячую молитву, задула свечу и заснула. Она проспала двенадцать часов кряду. Проснувшись, припомнила все происшедшее и осознала, что сидит взаперти. Ей вспомнился Бессребреник: — Где он?.. Что делает?.. Думает ли обо мне? Затем мысль перешла к Джиму Сильверу, к его неожиданному предложению: — Да, конечно… стать серебряной королевой… было бы великолепно, и если бы я не познакомилась с другим… Но теперь… хватит ли у меня мужества отказаться от этого другого?.. Насколько охотнее я стала бы миссис Бессребреницей! Около десяти часов Сэм постучал в дверь. Он принес завтрак. Повар изменил меню, и главным блюдом явилось соленое сало, которое так любят жители Запада. Вместо одного блина на жестяном блюде лежали два, политые кленовой патокой. По мнению кулинара, это было лакомство. Миссис Клавдия, чувствовавшая себя еще более усталой, чем накануне, встала, чтобы принять кушанье, и, как только хозяин вышел, снова легла. Весь день и всю ночь она не хотела выходить из дому, но это желание проснулось в ней с удвоенной силой на следующее утро. Однако, вопреки всякому ожиданию, Сэму удалось уговорить ее потерпеть еще сутки. Миссис Остин сидела взаперти уже шестьдесят часов. А внизу, в салуне, продолжалась беспробудная пьянка. И среди самых невероятных фантазий, рождавшихся в замутненном сознании старателей, одна становилась все навязчивей: хотелось увидеть заключенную. Напрасно Сэм употреблял все доводы, чтобы отговорить их. Ни море водки, ни полные стаканы «Сока тарантула» не могли прогнать мысли, раз засевшей в мозгах пьяниц. Уже начиналась осада салуна — военная операция, весьма хорошо знакомая этим разбойникам. Скоро образовалась брешь, и осаждающие подступили к лестнице. Тогда Сэм схватил топор и, стоя перед дверью каморки, начал наносить удары по черепам, как дровосек по сучьям. Брызнула и потекла кровь. Трупы катились вниз, а хозяин кричал: — Хоть перебью вас всех, а получу свои сто тысяч долларов!.. Молодая женщина, услышав за стенкой леденящие душу крики, испугалась. Перед ней встало мужественное лицо Бессребреника, и она прошептала: — Если б он был здесь… если бы он был здесь… Вой и торжествующие вопли наполнили дом: Сэм поскользнулся в луже крови и упал среди груды неподвижных тел — мертвых, раненых или просто до бесчувствия пьяных. Его схватили в охапку и бросили в кухню. Он упал на раскаленную плиту, и несколько наиболее свирепых пьянчуг держали его на красном железе. Сэм отбивался и страшно кричал, наполняя кухню запахом американского бифштекса. В это время дверь отворилась и на пороге, вся дрожа, появилась миссис Клавдия. На мгновение все замерли. Ее сияющая, неземная красота подействовала на двуногое зверье как удар кнута укротителя. Негодующая, она воскликнула: — Что вам надо?.. Разве я не свободна располагать собой? Какое право вы имеете удерживать меня? Зачарованные пропойцы окружили молодую женщину, схватили, увлекли, прежде чем та успела крикнуть, сделать попытку освободиться. Ее спустили с лестницы на руках, не дав коснуться ступеней, и она очутилась на улице. Люди в бешеном неистовстве кричали, прыгали, жестикулировали. Перед миссис Клавдией, как в кошмаре, мелькали безумные глаза, багровые, судорожно искаженные лица. Ошеломленная, потеряв способность произнести даже слово, бросаемая из стороны в сторону людской волной, миссис Клавдия каждую минуту боялась толчка, падения, шальной пули. Между тем толпа не спускала ее с рук и перенесла в салун. Миссис Клавдию охватил ужас. Она почти ничего не видела, задыхалась и сознавала, что готова лишиться чувств. Хотелось закричать, отбиться… Но из ее побледневших губ вылетел только стон: — Довольно!.. Довольно!.. Что вам надо от меня? Гигант с низким лбом, с рыжими всклокоченными волосами отвечал: — Чего надо?.. Найти тебе жениха… — Да!.. Да!.. Браво! — раздалось из толпы. — Жениха!.. У нас будет свадьба!.. Вот славно!.. Вот прекрасно! — А кто женится? — Бросим жребий.
ГЛАВА 15
После пожара. — Труп лошади. — Где он? — Победа и сборы в путь. — Бессребреник умирает со смеху. — Бессребреник упускает случай сделаться главарем разбойничьей шапки. — Снеговик, Пиф и Паф. — Каким образом Бессребреник не изжарился живьем.Пожар в степи… Нельзя себе представить ничего страшнее этого огненного моря, опаляющего и сжигающего все, что попадается на пути. Когда трава невысока и редка, а пространство, охваченное пламенем, не очень велико, через него можно проскакать на лошади, только слегка опалившись. Но когда трава в метр или больше высотой, степной пожар поистине ужасен. Пламя взвивается вверх на пять-шесть метров; над всей равниной, задерживая солнечные лучи, стоит густое облако едкого и удушливого дыма. Немало времени проходит, пока сгорят все эти тесно стоящие длинные стебли, внизу они обугливаются и долгое время тлеют… Если путник, преследуемый таким огненным потоком, не успевает уйти, он прибегает к следующему средству: зажигает траву перед собой под ветром; она сгорает, и образуется свободное пространство, род острова, где можно укрыться, не опасаясь быть настигнутым пламенем. Бессребреник, к несчастью, не мог воспользоваться этим простым и действенным способом самозащиты. Читатели, вероятно, помнят, что ковбои, пользуясь его сном, зажгли травяную равнину кругом так, чтобы не было возможности бежать. В восторге от своей жестокой, коварной выдумки они шумно ликовали, полагая, что хорошенько проучили неженку, зеленого, вздумавшего тягаться с цветом ковбоев Дакоты и Колорадо. «Теперь он изжарится, как колбаса, этот умник, этот силач»… — приговаривали «герои» и терпеливо ждали, пока почва остынет, чтобы взглянуть на уничтоженного врага. Наконец, эта минута, казалось, наступила; однако кто-то заметил, что земля все-таки местами еще очень горяча и может испортить копыта лошадей. — Ну что же? Оставим лошадей с кем-нибудь и пойдем пешком. Сказано — сделано. Отправились. Тлеющий пепел распространял сильный жар. От него не спасали даже толстые кожаные сапоги. Скоро пот градом покатился по покрасневшим лицам ковбоев, а сухая мелкая пыль вызывала у них неудержимый кашель. Поначалу среди нависшего дыма, стлавшегося по почерневшей земле, нельзя было ничего рассмотреть. Досадуя, ковбои рассеялись в поисках трупов человека и лошади. Так продолжалось с полчаса, пока один из них не испустил крик: на тонком слое сгоревшей травы виднелась обуглившаяся масса. — Лошадь!.. Это лошадь!.. Где же он сам? Снова принялись за поиски и ничего не нашли, кроме полусгоревшего седла, железных пряжек и кольца от лассо. Ни самого Бессребреника, ни его карабина, ни ножа… Лошадь еще могла бы прорваться через огненное море; но раз она погибла, куда же девался проклятый незнакомец? Казалось, он улетел, взмыл в небо! Снова в адрес Бессребреника посыпались брань и проклятия. Между тем ковбой, оставленный для присмотра за лошадьми, с высоты седла следил за непонятным для него передвижением товарищей; шум, раздавшийся сзади, и толчок чуть не вышибли его из седла. Две железные руки сжали горло. У ковбоя потемнело в глазах, затрещали позвонки, и, теряя сознание, он, как в ужасном кошмаре, заметил Бессребреника — с опаленными волосами, с волдырями ожогов на руках, в лохмотьях вместо одежды. Ковбой упал, задушенный, как цыпленок. Бессребреник, не церемонясь, принялся снимать с него платье, обувь и в минуту надел все на себя. Затем выбрал из числа лошадей ту, которая показалась ему сильнее прочих, и взнуздал ее. После — подрезал подпруги у всех седел, сделал то же с уздечками, взял из сумок все запасные патроны и, наконец, отвинтил замки у карабинов. На все потребовалось не больше десяти минут. А ковбои продолжали свои бесплодные поиски. Бессребреник, сидя в полном вооружении на лошади, думал: «Что теперь делать? Перестрелять их одного за другим из карабина? Это нетрудно, и я вправе поступить так после шутки, которую они сыграли со мной… Но убивать!.. Постоянно убивать!.. Нет, главное сейчас — отыскать миссис Клавдию». И джентльмен отправился в путь шагом. Не будь у него опалены волосы, борода, не будь на руках волдыри, никому бы и в голову не пришло, что он столько времени пробыл среди пожара, опустошившего несколько тысяч гектаров прерии и еще до сих пор не вполне прекратившегося. Лошади стояли неподвижно, смотря вслед удалявшемуся всаднику. Он же не прибавлял шагу, интересуясь тем, что будут делать противники. Те чертыхаясь, что нашли только полуобгорелый труп коня, чувствуя сильное утомление после прогулки по горячему пеплу, решили вернуться к своим лошадям. — Куда ты?.. Подожди!.. Поедем вместе! — кричали они издали переодетому джентльмену, принимая его за своего товарища. Бессребреник, отъехавший на триста или четыреста метров, остановился. Головорезы подбежали тем временем к лошадям и при виде задушенного, совершенно раздетого собрата разразились яростными проклятиями. Тогда джентльмен, которого все это забавляло, сложил руки рупором и громко крикнул: — Колорадские ковбои для меня мальчишки! Попадетесь мне еще раз в руки, отшлепаю по задницам. Гуд бай! При этих словах незадачливые преследователи, узнав врага, вскочили на коней; и тут Бессребреник буквально покатился со смеху: все подпруги лопнули в одно мгновение, все седла перевернулись как по команде — ковбои полетели, кто на спину, кто на бок, в самых комичных позах. Испуганные лошади начали отчаянно брыкаться и еще больше увеличивали смятение. Но этого мало. Всадники, выпав из стремян, пытались, схватившись за узду, опять вскочить на лошадей, но все уздечки перервались, как веревочки, лошади с развевающимися гривами понеслись, опьяненные свободой, и через две минуты скрылись из виду! Бессребреник продолжал, держась за бока, хохотать неудержимым смехом. Взбешенные ковбои, с пеной у ртапроклинали его, не зная, что предпринять. По крайней мере, у них еще остались карабины. Все, как один, бросились к ним, прицелились, раздался короткий звук курков, и… выстрелов не последовало. Карабины оказались безобидными, как поленья. Нет!.. Это было уже слишком! Пристыженные, сконфуженные, ковбои признали себя побежденными, и один из них, высказывая мысль прочих, воскликнул: — Это сам дьявол!.. Если он захочет взять меня с собой забавляться в прерии, я охотно пойду за ним. — И я!.. И я!.. Но Бессребреник, не зная перемены их настроения, уже натянул поводья и, объезжая пожарище, выискивал след экипажа, в котором увезли миссис Клавдию. Вдруг отдаленные, но приближающиеся крики и выстрелы заставили его встрепенуться. — Опять! — вздохнул он. Скоро на горизонте обрисовалась группа скакавших во весь опор всадников. Среди криков Бессребренику послышалось его имя. — Мистер Бессребреник!.. Постойте… Подождите! — И впрямь зовут меня, — решил он, заряжая карабин. Всадники все приближались, стреляя в воздух, по-видимому, чтобы привлечь к себе внимание. Их было трое, и можно было уже рассмотреть их костюмы. На двух были сюртуки и высокие шляпы. — Должно быть, какому-нибудь шерифу вздумалось повидаться со мной, — проговорил Бессребреник. — Но я отмечусь выстрелами. На третьем всаднике был костюм ковбоя, весь с иголочки. Когда порывом ветра с седока снесло шляпу, Бессребреник разразился новым припадком неудержимого смеха, увидав изумленную черную как уголь физиономию. — Снеговик!.. Мистер Паф и мистер Пиф! — К вашим услугам! — отвечали сыщики, поднося руку к шляпе, по-военному. — Право, странная, но вместе с тем очень приятная встреча! — весело воскликнул Бессребреник. — Где это вы пропадали?.. У меня за это время было столько приключений! — Мы искали вас, — отвечал Паф, и лицо его растянулось широкой улыбкой. — И, наконец, нашли, — вывел логичное заключение Пиф, — нашли по вашим следам. — И скакали же вы! — снова заметил Паф. Изумленный Снеговик ничего не говорил, но вращал белками своих глаз и сверкал зубами аллигатора. — Наконец, мы опять вместе, — продолжал Бессребреник. — Да, благодаря указаниям ковбоев. Хорошо вы с ними расправились. — Они вздумали было изжарить меня живьем. — И до сих пор в себя не могут прийти от изумления, что вы живы. Каким чудом вы избегли огня? — Дело объясняется просто. — Расскажите, пожалуйста! — В двух словах. При случае можете воспользоваться моим изобретением. Увидав себя окруженным пламенем, я понял, что пропал. Бежать не было возможности. Лошадь металась в ужасе. Я видел, как круг пламени все более стягивается. И тут блеснула безумная мысль. Я вытащил нож и вонзил его в спину лошади между первыми позвонками. Животное упало. Не теряя ни одной секунды, распорол ему грудь и брюхо, вытащил трепещущие внутренности и бросил на землю. Пламя приближалось… дышать было нечем. Не медля, я вполз в пустоту, образовавшуюся на месте вынутых внутренностей, и, сжавшись там, закрыл отверстие, через которое вошел. — Как же вы не задохнулись? — спросил мистер Паф. — Пришлось поднять кусок кишки и, дуя в нее, наполнить воздухом. — Удивительно! — воскликнул длинный мистер Пиф. — Да, образовался воздушный резервуар… Не скажу, чтобы воздух в нем был особенно чистый… но выбора не было!.. Едва я успел укрыться в своем убежище, как пламя с шумом охватило нас. Мне стало нестерпимо жарко. Казалось, я изжарюсь заживо в собственном соку или в соку лошади. Все вокруг трещало, лопалось, текло!.. Я задыхался, несмотря на свой маленький запас воздуха. Так прошло не знаю сколько времени — десять, двадцать минут, показавшихся мне часами… Наконец, удалось выбраться из своего убежища, не обратив внимания ковбоев, и добыть новое платье. — В самом деле, поразительно, — заметил мистер Паф с почтением в голосе. — Вы достойны быть американцем, если принадлежите к другой национальности. Джентльмен, улыбаясь, поблагодарил поклоном мистера Пафа за высокое мнение. — Можете сообщить серебряному королю, что я добросовестно выполнил условие нашего пари… — Непременно сообщим. — А теперь потрудитесь следовать за мной, чтобы убедиться, что и дальше я буду продолжать в том же духе. — Ол райт! — с готовностью выпалил мистер Пиф. — Марш! — скомандовал мистер Паф. И небольшой отряд поскакал по прерии.
ГЛАВА 16
Оскорбление. — Кто выиграет? — Появление Нэба Ренджера. — Протестантский пастор со странным прозвищем «Вильям Соленая Селедка». — Спасена еще раз! — Бедный Пиф!.. Бедный Паф!.. Бедный Снеговик!.. Лучше умереть!.. — Бессребреник хочет убить миссис Клавдию.— Да… да… отлично… бросим жребий. Доведенная до отчаяния, миссис Клавдия пыталась протестовать, но обезумевшие пьяницы не слушали, не понимали ее. Она кричала: — Как вы смеете так распоряжаться мною!.. Это низость! Золотоискатели шумно пили за ее здоровье, за здоровье ее будущего мужа, будущей семьи. Сэму, хозяину салуна, с трудом удалось освободиться от жестокой пытки, придуманной ковбоями. Распространяя запах горелого мяса, корчась от боли, он сел было в кадку с холодной водой, но раб слова, данного Желтой Птице, скоро снова вылез и, переодевшись, попытался заступиться за миссис Клавдию. Ему закрыли рот ударом приклада, пригрозив: — Молчи!.. Иначе повесим! А один из ковбоев прибавил: — Лопух ты, право!.. Отчего бы и тебе не попытать счастья? Отравитель подумал про себя: «В конце концов он, может быть, и прав… Чем я не приличный муж для нее?» Во время переговоров, шуток и возлияний все для лотереи было приготовлено. Трусливый Дик-Бэби, все время где-то прятавшийся, тоже, наконец, решился подойти к шумной толпе и вразумить ее; но одного слова хватило, чтобы заставить его замолчать. Кто-то из золотоискателей без дальнейших церемоний приказал экс-адвокату: — Эй ты, чертов писака, Дик-Бэби! Иди сюда! — Что надо? — Ты знаешь нас всех? — Да. — Ну, так напиши наши имена на отдельных бумажках. — Да вас очень много! — Если не справишься в четверть часа, заставлю проглотить до самой ручки мой охотничий нож! Угроза и уверенность, что она будет приведена в исполнение, придали Дику проворства, которого тот сам не знал за собой. Однако, чтобы несколько выиграть время, он прибегнул к довольно оригинальной уловке. Взобравшись на конторку Сэма и положив на колени доску, грамотей писал карандашом на клочках бумаги по пяти, по десяти раз кряду одни и те же имена. Так, на долю Сэма пришлось не менее тридцати билетиков; на него самого, Дика-Бэби, штук двадцать пять. Ловкач быстрым взглядом окидывал толпу и снова принимался строчить, будто припоминая клички тех, кто мелькал перед глазами. Сложив билетики, он бросил их в котелок, где обыкновенно варили пунш. Никому и в голову не пришло заподозрить обман, вследствие которого так увеличились шансы некоторых стать супругом нефтяной королевы. Золотоискателей было человек пятьсот. В двенадцать минут импровизированный секретарь выполнил возложенное на него поручение. В котелке лежала груда свернутых бумажек. Чей-то голос крикнул: — Кто будет вынимать записки? — Конечно, сам Дик-Бэби, — послышалось из толпы. — Да, да! Дик-Бэби, писака, бумагомаратель, библиотечная крыса… Ну, скорей! Дик схватил котелок, сильно встряхнул его, перемешал бумажки рукой, как ложкой. — Да кончишь ли ты, мошенник! В то время миссис Клавдия, вся бледная, стиснув зубы от стыда и отвращения, думала: «Негодяи, делают из меня игрушку! Из меня, женщины, американки! И некому отомстить!» Она встала и хотела выйти из окружения пьяниц, но не тут-то было. Негодяи сомкнулись и оставались неподвижными, как стена. У нее брызнули из глаз слезы бешенства. — Невеста со слезами нетерпения ждет мужа, — заметил какой-то шутник. — Дик-Бэби виноват в этом… Ну же, скорей, не то отрежем тебе уши. Он погрузил руку в кучу бумажек и вытащил одну, держа ее бережно между указательным и большим пальцем, точно бабочку за крылья. — Ах! — вырвалось вдруг у присмиревшей толпы. Дик медленно развернул бумажку и прочел резким голосом: — Нэб Ренджер!.. Раздались восклицания. — Нэб!.. Бродяга… потрошитель… охотник за скальпами… палач индейцев… великан… первый красавец всего прииска!.. Будь здоров, Нэб!.. И с невестой! Толпа раздвинулась, и из нее выступил вперед гигант, на голову выше всех присутствующих — один из тех уроженцев Кентукки, которые, характеризуя сами себя, говорят, что они наполовину крокодилы, наполовину лошади. Это был настоящий разбойник, хваставший тем, что нет злодейства, которого он не совершил, и державший в страхе весь прииск. В криках, встретивших его имя, слышалось как бы поклонение. Человек этот имел действительно устрашающий вид. От его охотничьей блузы и кожаных панталон, обшитых, как у индейца, бахромой, сильно пахло козлом. Сапоги были сделаны из кожи, снятой с задних ног жеребенка. (Изготавливаются они так: теплая окровавленная кожа сдирается с животного; человек всовывает ноги до бедра в эти мешки, привязывает их ремнями и дает высохнуть. Они принимают форму ноги. Обыкновенно эти сапоги снимаются только тогда, когда понадобятся новые.) Гигант приближался к женщине, тяжело смеясь, как медведь, напившийся перебродившего кленового сока. Миссис Клавдия смотрела со смесью отвращения и ужаса на это чудовище со скотским лицом и рыжими волосами, спутавшимися с бородой ярко-морковного цвета. Крепкие длинные зубы, пожелтевшие от табака, торчали из-под губы, искривленной усмешкой людоеда, почуявшего свежее мясо. Подойдя вплотную к молодой женщине, он остановился, пристально взглянул на нее, пустил два-три табачных плевка, важно высморкался при помощи пальцев и сказал: — Ай! Ай!.. Красавица!.. Так мне на тебе жениться?.. Пока я хотел оставаться холостяком… но, увидев тебя, передумал. Миссис Клавдия, полумертвая от страха, прижималась к стене. Он продолжал добродушным тоном: — Ты не болтушка?.. Мне это не по душе… У меня была жена индианка, языку которой не было покоя. Пришлось убить ее пощечиной… Ну, дай же ручку, пойдем к пастору. Молодая женщина считала себя погибшей: она надеялась, что это только комедия, которая не будет закреплена ни религиозным, ни законным образом. — Да разве… Разве есть здесь пастор? — Есть, голубушка, есть… чего здесь только нет!.. В палатке у меня лежат две бизоновые шкуры, и я сделаю из них постель для тебя. Кроме того, найдется горсть семечек, до которых вот уже полгода никто не смеет дотрагиваться, и бочонок виски. Можешь выпить его, когда станешь миссис Ренджер. Моя прежняя жена пила по три-четыре литра в день, молодец была баба! Он схватил руку миссис Клавдии и крепко сжал; она поморщилась от боли. — Я пожал немного сильно?.. — Дурак! Он сжал тоненькую ручку еще сильнее, так что кости затрещали и ногти посинели. «Я убью его!» — подумала миссис Клавдия, но сделала вид, что покорилась своей участи. — Итак, мы поженимся, — сказал Нэб. — Билли!.. Эй, кум Билли!.. Где поп?.. Где Билли Соленая Селедка? — Здесь, здесь!.. — отвечал скрипучий голос, и из толпы вышла личность, вполне оправдывавшая свое прозвище. Длинный, сухой, как щепка, Билли был совершенно пьян и на ходу качался. В грязных лохмотьях, имевших отдаленное сходство со священнической одеждой, его странная длинная фигура напоминала рукоятку скрипки. — Венчай же нас скорее, если еще можешь припомнить нужные слова! — закричал Нэб. — Хорошо, кум, а ты платишь за пинту «Сока тарантула». — За целую бочку!.. — Гип!.. гип!.. ура! — ревела толпа, наэлектризованная этим обещанием. — Скорее же за дело! — продолжал пастор. — Прежде всего ваши имена. Ты, ты Нэб… Нэб… Ренджер, это я помню. А ты, красотка?.. Миссис Клавдия не отвечала, и кто-то крикнул за нее: — Миссис Клавдия Рид, вдова Джошуа Остина! — Спасибо, Дик-Бэби, — сказал пастор. — У тебя, наверное, нет вида? — обратился он к женщине. — Нет, — отвечала миссис Клавдия, надеясь, что отсутствие необходимого документа заставит отсрочить святотатственную церемонию. — Пусть черт заберет мою душу! Я спрашиваю для очищения совести… Очень мне нужен твой вид!.. Приступаю… Нэб Ренджер, согласен ли ты вступить в законный союз с… гм… с дамой… я что-то путаю… со вдовой Остина… Джошуа… да… здесь присутствующей? — Да, — хрипло отвечал великан, все еще не выпускавший руку молодой женщины. В эту минуту в толпе произошло движение, будто кто-то теснил ее задние ряды. Крики и выстрелы, служившие выражением восторга, встретили «да» Нэба Ренджера. Между тем натиск сзади становился все сильнее, но ковбои, заинтересованные церемонией бракосочетания, не обращали внимания ни на что другое. Соленая Селедка бормотал: — И ты, миссис Клавдия… Ри… ах! Позабыл имя… Хочешь ли признать супругом… Ах, Боже, как пить хочется!.. признать супругом этого верзилу, что предлагает бочку «Сока тарантула»… ах, да! что бишь я хотел сказать?.. Да, Нэба… Он не окончил. Пинок, нанесенный пониже спины, заставил его замолчать и отлететь шагов на десять. В то же время из побледневших губ женщины вырвалось: — Бессребреник!.. С откуда-то взявшейся силой она высвободила руку из лапы совершенно растерявшегося Нэба, выхватила револьвер и выстрелила в разбойника. Тот привскочил, расставив руки, и тяжело грохнулся на пол. В толпе поднялся ужасный шум, несколько человек врезались в нее как бы клином. Вновь прибывших было четверо. Из своих револьверов они стреляли в упор, и пол покрылся ранеными и убитыми. Голос Бессребреника звучал как призывный рожок: — Смелее, друзья! Прочь, мерзавцы! Золотоискателями, думавшими, что они имеют дело с многочисленным неприятелем, овладела паника. Пиф, Паф и Снеговик, следуя примеру неустрашимого Бессребреника, поднимали заряженное оружие убитых и продолжали отчаянно стрелять. И произошло почти невероятное: пьяная чернь отступила. Избегнув опасности, миссис Клавдия с трудом сдерживала волнение; рука ее, опиравшаяся на руку Бессребреника, дрожала так же, как голос, когда она благодарила своего избавителя. — Мои товарищи сделали не меньше моего, — скромно отвечал Бессребреник. — Моя благодарность относится и к ним. Они удалились, держа револьверы наготове на случай возвращения опасной толпы. Джентльмены благополучно дошли до выхода из лагеря и достигли густой рощицы, где оставили лошадей, но лошадей не было. — Украдены!.. — проворчал Пиф. — Коновязи обрезаны, — подтвердил Паф. — Что делать?.. Нам не выбраться отсюда. — Я пойду пешком, — решительно заявила миссис Клавдия. — Я не сомневаюсь ни в вашей решимости, ни в выносливости, но боюсь, как бы эти злодеи не вернулись. — Вы словно напророчили, — сказал Пиф, внимательно следивший за лагерем. Там начиналось новое волнение. Оправившись от паники и узнав, что неприятелей всего четверо, золотоискатели жаждали реванша. Опасность была огромная, но Бессребреник, никогда не терявший присутствия духа, нашелся и здесь. У ног его темнела яма шириной метров в пять и глубиной в полтора метра; он одним прыжком спрыгнул в нее, крикнув другим: — За мной! Все повиновались, и миссис Клавдия последовала, не колеблясь, общему примеру. Было самое время. Бандиты приближались. Пятеро храбрецов сдерживали их наступление, укрепившись в яме, как в траншее. Начался настоящий бой. Пиф и Паф оказались замечательными стрелками и прицельным огнем уложили с десяток разбойников. Но вот раздался залп, и шляпа мистера Пафа покатилась на землю. Он слабо вскрикнул и опустился к ногам миссис Клавдии. Пуля попала ему в лоб. Бессребреник сказал вполголоса: — Он был первым. Придет и наша очередь. — Убейте меня, — перебила его молодая женщина, — лучше умереть, чем опять попасть в их руки… Вы убьете меня, не правда ли? — Да, — отвечал Бессребреник. Выстрелы продолжались. Скоро и мистер Пиф, выглянувший было из шахты, упал бездыханный. У миссис Клавдии вырвался стон, и слезы заблестели на глазах. Упав на колени, она стала горячо молиться за людей, умерших, защищая ее. Бессребреник не переставал отстреливаться, но не в состоянии был остановить осаждающих. В его револьвере и винтовке уже не оставалось зарядов. — Эй, Снеговик, — крикнул он, — всыпь им как следует!.. Стреляй в них! Негр, стуча зубами, поднялся из ямы, ободренный этим призывом. Хотя он стрелял слишком высоко и выстрелы не достигали цели, но непрерывный огонь и неслыханная отвага этого человека на минуту будто парализовали золотоискателей. — Нагнись, ради Бога! — закричал Бессребреник. Но совет пришел слишком поздно; Снеговик уже не слыхал его. Он упал на спину, обливаясь кровью и собрав последние силы, проговорил: — Хозяин… Я очень люблю вас… Прощайте! Рыдание сдавило горло Бессребреника. Нападающие были не далее тридцати шагов. — Все кончено? — сдавленным голосом спросила миссис Клавдия. — У нас еще есть полминуты в запасе. — Убейте меня… умоляю вас! — Еще полминуты! — Вы ничего не скажете мне… перед смертью? Несколько золотоискателей были всего в пяти-шести шагах. Миссис Клавдия взяла левую руку Бессребреника, сжала ее и еще успела вымолвить: — Мне сладко будет умереть от руки… Дикий рев покрыл ее голос. Человек двадцать окружили яму. — Попались! — кричали они. Бессребреник приставил револьвер к сердцу молодой женщины и в отчаянии спустил курок.
ГЛАВА 17
Серебряный король не дает себя эксплуатировать. — Перед чернильницей. — Приятные мечты. — Победа! — Расчетливость влюбленного. — Джим Сильвер пытается совершить невозможное. — Вперед! — Отряд волонтеров. — Могущество денег. — Поздно!Джим Сильвер, серебряный король, был в очень дурном расположении духа, когда получил телеграмму Желтой Птицы и Дика-Бэби, в которой за миссис Клавдию требовался выкуп в двадцать пять миллионов долларов. Незадолго перед тем ему уже пришлось вписать в графу убытков кругленькую цифру в пятьдесят миллионов — с Кубы сообщалось, что повстанцы, ведя борьбу с испанскими войсками, опустошили его обширные владения, уничтожив сахарные плантации, заводы, разрушив железную дорогу. Не зная, как поступить, вспыльчивый от природы Сильвер метался по кабинету и вдруг сокрушил ударом кулака лакированный столик, чудо столярного искусства, на котором стояла чашка минеральной воды с молоком. — И какого дьявола эта сумасшедшая полезла в волчью пасть? — злился он, не обращая внимания на черепки, трещавшие под его тяжелыми шагами. — Наши нервные барыни становятся положительно невозможными со своей страстью к перемене мест… Вот и попалась!.. Пусть и выпутывается как хочет!.. Кто она мне?.. Ни родственница, ни невеста!.. Мошенники ошиблись… Не видать им от меня ни доллара, ни шиллинга, ни пенни! Даже строчки ответа… Хитры, да и старый Джим не промах… Ну, довольно об этом. Работа не ждет! Серебряный король подошел к письменному столу, заваленному срочными бумагами, и принялся что-то читать и подписывать. Но по мере того как время шло, на лбу его контрастно проступали жилы, появились крупные капли пота, рука стала непослушной, перо сажало кляксы и рвало бумагу. «Душно!» — решил он и попробовал привстать, скользнув случайным взглядом по монументальной чернильнице, занимавшей половину письменного стола из черного дерева. Это была точная копия его яхты, вызывавшей зависть всех миллионеров Старого и Нового Света, и вдруг ему почудилось, что над двумя слегка наклоненными мачтами показался легкий туман опалового оттенка. Он замер. Среди этого беловатого облака появились черты, сначала неясные, затем все более определенные — Джим Сильвер узнал большие голубые глаза и чарующую улыбку женщины, потрясшей все его существо. С трудом переводя дыхание, он прохрипел: — Миссис Клавдия! Дорогая… С ресниц упали две слезы и медленно потекли по щекам. Серебряному королю почудилось, он слышит тяжелый, протяжный вздох. Сильвер вскочил, будто над его ухом раздался выстрел, сильным движением оттолкнул стул и воскликнул: — Клавдия — ангел… а я скот!.. Ей грозит опасность… Ее надо спасти! Мысль заработала, и Джим снова превратился в прежнего искателя приключений, энергия которого не знала пределов. Он позвонил. Вошел первый секретарь. — Я уезжаю, — без всякого вступления заговорил серебряный король. — Следите за текущими делами и ждите моих приказаний. Буду телеграфировать или телефонировать. Для корреспонденции шифр номер два. — Понял. Сильвер прошел к себе в спальню, взял карманный револьвер, дорожный мешок и отправился в кассу, где набил его банковскими билетами. В телеграфной конторе он подал короткую депешу по адресу Желтой Птицы:
«Джима Сильвера нет. Подождите. Дело устроится, когда вернется. Задатком получите двадцать пять тысяч долларов.— Так я выиграю время, — улыбнулся он, — сейчас я им заплачу, но потом… не будь я серебряный король, если не разорю их. Поезд мчался с головокружительной быстротой, которой так дорожат американцы, не обращая внимания на ужасные катастрофы, бывающие часто расплатами за ухарство. Когда житель старушки-Европы сообщает дяде Джонатану свои соображения по этому поводу, последний безапелляционно заключает: — Что делать! В промышленной борьбе — как на войне: о мертвых не заботятся… Главное — доехать! Внешне холодный, Джим Сильвер чувствовал, как сердце его готово разорваться на части и кровь течет по жилам, как расплавленный свинец. Этот живой серебряный слиток кипел, трепетал, страдал. По временам он выскакивал из поезда, бежал на почту и телеграфировал секретарю:Фергюссон».
«Сообщите этому человеку, что меня все еще нет. Снова пошлите, будто от себя, двадцать пять тысяч долларов».Секретарь повиновался, а Желтая Птица охотно ждал, находя, что изобрел выгодный способ добывать деньги. Серебряный король постоянно со страхом спрашивал себя, не поздно ли он приедет, и это опасение удесятеряло его мучения. В эти минуты он отдал бы и миллиард, лишь бы увидеть божественный профиль миссис Клавдии и услыхать из ее прекрасных полуоткрытых губ одно слово: «Благодарю». В Денвере Сильвер встретил взвод конных волонтеров, отправляющихся на индейскую территорию. Подъехав к начальнику, отрекомендовался ему и прямо спросил: — Сколько у вас людей? — Ровно шестьдесят. — Сможете помочь мне, если я предложу каждому солдату по тысяче долларов, а вам пятьдесят тысяч?.. — Вы говорите серьезно? — Я — серебряный король… Джим Сильвер во время этого короткого разговора успел вынуть чековую книжку и написал несколько раз:
«Выдать предъявителю тысячу долларов.Последний чек несколько отличался от прочих:Джим Сильвер».
«Пятьдесят тысяч долларов предъявителю после экспедиции».— Какой экспедиции? — спросил начальник. — Той, в которой вы должны сопровождать меня. — Ол райт! За вами мы пойдем хоть в пекло. — Мне нужна лошадь. Мимо ехал ковбой на чудном жеребце. Сильвер жестом остановил его. — Сколько стоит лошадь? — Она не продается. — Десять тысяч долларов. Можете с этим чеком явиться в банк и получить деньги. Ковбой не брал. — Мне надо золото или бумажки, иначе дело не сладится. Сильвер открыл мешок, быстро вынул пять ассигнаций и передал их ковбою; затем, вскочив на лошадь, подобрал поводья жестом опытного наездника и поехал рядом с командиром. Волонтеры пришпорили лошадей и, опрокидывая на пути все, что не успевало посторониться, ураганом пронеслись по улицам города. Наконец, выехали на равнину. Начальник отряда и его люди, ничего не понимая, следовали беспрекословно за тем, кто так щедро вознаграждал за услуги, столь плохо оплачиваемые правительством. Дорогой Джим Сильвер в кратких словах сообщил начальнику, какой помощи ждал от него. Офицер, скакавший во весь опор, ответил только: — Ол райт! Мы освободим ее. Джим Сильвер продолжал: — За скорость я удваиваю обещанную награду. Солдаты, услыхав это, радостно закричали. — Загоним лошадей, возьмем новых в первом попавшемся ранчо. Бешеная скачка продолжалась несколько часов. По временам какая-то из лошадей падала, волонтер подсаживался к товарищу, и лошадь того скакала, пока могла, с двойной тяжестью. В каждом ранчо офицер брал свежих коней, серебряный король платил, и скачка продолжалась. Одному из ранчменов пришла несчастная мысль отказать. Джим Сильвер, подступив к нему с кошельком в одной руке и револьвером в другой, крикнул: — Выбирайте! Ранчмен хотел взяться за оружие, но бывший искатель приключений, теперь миллионер, с быстротой молнии спустил курок и всадил несговорчивому пулю в лоб. Ранчмен упал бездыханный. Волонтеры раздобыли лошадей, и скачка продолжалась. Наконец, отряд прибыл как раз к тому месту, где заканчивалась отчаянная борьба Бессребреника с золотоискателями. Волонтеры схватились за винтовки и ринулись вперед, предводительствуемые серебряным королем, имевшим, правда, несколько смешной вид в шелковом картузе и черном сюртуке, покрытом потом и пылью, но одушевлявшим всех своей энергией. Он первый заметил толпу бешеных золотоискателей, наступавших на Бессребреника и миссис Клавдию. Джим Сильвер слышал торжествующий рев, проклятия, крики боли и содрогнулся, увидав револьвер, приставленный к груди молодой женщины. Она между тем улыбалась, не боясь смерти, являвшейся для нее избавительницей от мучений. Эта картина была одной из тех, которые на всю жизнь оставляют в человеке неизгладимое впечатление и после многих лет заставляют содрогнуться даже самых мужественных. Сильвер закричал громовым голосом, покрывшим на минуту крики подоспевших на помощь, вопли убийц и топот распаленных лошадей: — Остановитесь!.. Остановитесь! Размахивая ружьем, он судорожно вонзил шпоры в бока своей лошади. Та заржала, поднялась на дыбы, взвилась в воздух и, сделав отчаянный прыжок, врезалась в середину свирепой толпы. Двадцать ружейных выстрелов грянуло разом. Джим Сильвер, услыхав тупой звук пуль, пронзивших тело его коня, почувствовал, как раненное насмерть животное задрожало, сам подался вперед, но среди облака порохового дыма, скрывшего яму-траншею, не смог ничего рассмотреть. Судорога сжала его горло, из глаз хлынула какая-то горячая волна. Он упал вместе с лошадью, едва проговорив: — Неужели поздно?
ГЛАВА 18
Синие куртки! — Схватка. — Миллионер и Бессребреник. — Убийство. — Ужасное наказание. — Вильям Соленая Селедка. — Закон Линча. — Повешен за ноги. — Прощание. — Опять один. — Лошадиное жаркое. — Урок содержателя салуна.Ни Бессребреник, ни миссис Клавдия не могли видеть прискакавший отряд, слышать шум голосов и лошадиный топот. В эту роковую минуту они стояли молча, с трудом переводя дух, спеша покончить с ужасной действительностью, грозившей раздавить их. Последний взгляд глаз, последний вздох из побледневших губ. Бессребреник чувствовал, как усиленно билось сердце женщины под дулом револьвера, и думал с горечью: «По крайней мере, она не будет больше страдать!» В ту самую секунду, как его палец нажимал курок, донеслось: — Синие куртки!.. Спасайся кто может! Но выстрел был уже неизбежен. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, как миссис Клавдия упадет на землю, где судорожно корчились умирающие. Против всякого ожидания выстрела не последовало. Послышался сухой звук. Это была единственная осечка в продолжение целого дня. — Спасена!.. Да, спасена! — задыхаясь, повторял в великой радости Бессребреник. Сломленная волнением, миссис Клавдия не в силах была перенести счастливейшую случайность. Она побледнела как мел и медленно опустилась на землю, проговорив: — Боже, благодарю Тебя! Серебряный король видел все. Он с трудом овладел собой и подбежал к молодой женщине, которую поддерживал Бессребреник. Между тем синие куртки — так прозвали волонтеров за цвет их мундиров — приступили к выполнению своей ужасной задачи. По команде офицера они резко осадили лошадей и открыли адский огонь. Когда все заряды вышли, начальник скомандовал: — В галоп!.. Сабли наголо!.. Перекинув ружья за спину и обнажив сабли, синие куртки ринулись вперед с ужасным ревом, заимствованным у индейцев. Испуганные золотоискатели не пытались защищаться и, несмотря на свое численное превосходство, побросав оружие, обратились в беспорядочное бегство. Волонтеры рубили и кололи их без пощады; Бессребреник же между тем узнал, наконец, человека, выручившего его и его спутницу. — А, серебряный король! — сказал он весело. — Примите, ваше величество, мою искреннейшую благодарность за спасение. — Я вовсе не вас собирался спасать, — отвечал янки самым неприветливым тоном. — Это пришлось уже так… кстати. — Вы не особенно любезны… — Мне некогда рассыпаться в любезностях. — А наше пари? — Продолжает оставаться в силе. — В таком случае моя сохраненная жизнь — случайность, которая может унести у вас порядочное число долларов. — Что же?.. Если проиграю — выпишу чек; если выиграю — увижу, как ваш череп разлетится вдребезги… Хотя, правду сказать, мне несколько надоело выписывать чеки и видеть разбитые головы. — Позаботьтесь, чтобы ваша была цела! — отвечал Бессребреник, посмеиваясь при виде страстных взглядов, которые серебряный король устремлял на молодую женщину, понемногу приходившую в себя. — О, как вы остроумны! — сказал Джим Сильвер, хмурясь. — Кроме остроумия у меня ничего нет; а вам его не добыть за все ваши миллионы… — Мистер Бессребреник! — Мистер Сильвер! Не привыкший сносить дерзости, серебряный король схватился за револьвер. Бессребреник уже успел зарядить свой. — Господа!.. Господа!.. — раздался голос, еще слабый и дрожащий. Миссис Клавдия бросилась между ссорящимися. — Вы спасли меня, и я никогда не забуду, что обязана вам обоим жизнью и честью. — Да!.. Да!.. — ворчал серебряный король. — Этот джентльмен чуть не застрелил вас в ту минуту, когда я прискакал с синими куртками… — Разве можно поставить ему в упрек то, что делалось по моей просьбе?.. Умоляю, милые спасители, помиритесь! Оба с видимой неохотой протянули друг другу кончики пальцев. Издали доносились проклятия, жалобы, выстрелы. В воздухе поднимался столб дыма, расстилаясь по всему небу. Бессребреник выскочил из своей засады и сказал серебряному королю: — Потрудитесь приподнять миссис Клавдию и помочь ей выбраться. Молодая женщина в эту минуту смотрела со слезами на глазах на лежащие у ног трупы Пифа, Пафа и бедного Снеговика. Она стала на колени, снова прочла короткую молитву и набожно закрыла глаза всем троим. — Чего бы я ни дал, чтобы вернуть их к жизни!.. — промолвил серебряный король с необычайной для него сердечностью. — К несчастью, это не в моих силах… Неловким, но бережным движением он помог миссис Клавдии выбраться из ямы. Бессребренику, наблюдавшему эту сцену, пришло на ум сравнение со слоном, спасающим стрекозу. Вдали преследование не прекращалось. Золотоискатели, окруженные со всех сторон, уже не могли бежать. Большинство просило пощады. Из сострадания офицер вышел вперед, чтобы предложить условия примирения. Он дорого поплатился за свою доверчивость. Один из старателей пошел ему навстречу. — Послушайте, — сказал попросту офицер, — для вас самое лучшее — сдаться. — Да, — отвечал тот, — только прежде я сведу счеты с проклятой синей курткой. Он выхватил из кармана револьвер и в упор выстрелил в офицера. Тот упал навзничь, пораженный в самое сердце. Тогда разбойник, думая воспользоваться замешательством, отскочил назад, вопя: — Смелей, братцы! Вперед!.. Не сдавайтесь!.. Вас повесят! Волонтеры, как люди привычные ко всяким случайностям, быстро овладели собой и, кипя яростью, бросились на неприятеля. Миссис Клавдия, хотевшая было вмешаться и попросить пощады для виновных, остановилась в ужасе: всадник с саблей наголо преследовал последнего из бегущих, намереваясь заколоть его. — Это убийца, возьми его живьем, — крикнул кто-то из солдат. Волонтер схватил лассо, раскрутил в воздухе и ловко накинул петлю на шею негодяю. Тот свалился. Не сходя с лошади, солдат сделал пол-оборота и поволок за собой по земле разбойника, у которого пена выступила изо рта. — Закон Линча!.. Закон Линча! — кричали окружившие убийцу волонтеры. Подошедший Бессребреник, увидав лежащего на земле, вскричал: — Да это Вильям Соленая Селедка! Между тем серебряный король, не смущаясь зловещей торжественностью минуты, прикидывал про себя: «Думаю, офицер не был женат; он умер, и, значит, чек аннулируется. Стало быть, выстрел разбойника принес мне сто тысяч долларов… Ол райт!.. Дело прежде всего». Суд Линча вынес свой приговор: убийца должен быть повешен за ноги. На исполнение приговора потребовалось немного времени. Осужденный, раскачиваясь на веревке, отчаянно кричал, просил о пощаде, плакал, наконец, стал умолять, чтобы его убили. Несколько синих курток, более жалостливых, прицелились: — Пли! Повешенный, дернувшись, затих. Волонтеры, не обращая дальнейшего внимания на труп, одежда на котором тлела от выстрелов, приблизились к джентльменам и миссис Клавдии. Та горячо просила своих избавителей поскорее уехать отсюда. — Ваше желание для меня — приказ, — отвечал ей Джим Сильвер. Затем, обращаясь к Бессребренику, он спросил любезно: — А вы едете с нами? — Нет, благодарю, — отвечал джентльмен, — мой карман и, главное, условие нашего пари не позволяют путешествовать иначе, как на собственные средства. — Но ввиду исключительных обстоятельств и услуг, оказанных миссис Остин, вы могли бы… потребовать в награду… лошадь, пищу, оружие, деньги, наконец… За каждый труд полагается плата. При этом предложении, выраженном так оскорбительно, в глазах Бессребреника вспыхнул недобрый огонь. — Высшей наградой для меня будет разрешение миссис Клавдии поцеловать ей руку. Тонкая, слегка дрожащая рука молодой женщины медленно протянулась к нему. С неудержимостью и изяществом он нагнулся и поцеловал ее. — А теперь, — сказал джентльмен, — прощайте… — Вы покидаете нас?.. Это… это невозможно! — Глаза миссис Клавдии опять наполнились отчаянием. — Мне надо исполнить долг: позаботиться о погребении этого храброго офицера и молодцов, отдавших жизнь за нас… А затем — снова начну скитания по белу свету… До свидания, мистер Сильвер. — До свидания, мистер Бессребреник. Бессребреник нарочно простился так внезапно с миссис Остин — желал избегнуть объяснений, выражений благодарности, нежной сцены. Он чувствовал, что постоянное общество прекрасной молодой женщины становится для него опасным, вовлекая на путь приятной, но пагубной сентиментальности. Зная, что существование вдвоем для него невозможно, он решил сразу положить всему конец. Нельзя сказать, чтобы при этом сердце его болезненно не сжалось, но, выдерживая характер, джентльмен даже не справился о дальнейших планах миссис Клавдии. Впрочем, они казались ему достаточно ясными. Внезапное вмешательство в события серебряного короля, страстные взгляды, которые он бросал на молодую женщину, красноречиво свидетельствовали о душевном состоянии и намерениях миллионера. Бессребреник подумал: «Пусть… пусть женится на ней!.. Пусть она сделается серебряной королевой!.. А мой удел — дорога без конца… Иди вперед, Бессребреник!» Не обращая внимания на золотоискателей, он вырыл глубокую яму и закопал в ней офицера, Пифа, Пафа и Снеговика. Начинало смеркаться. Так как у джентльмена не было ни гроша в кармане, а голод все сильнее напоминал о себе, он отрезал кусок мяса от убитой лошади Сильвера и, разведя костер, принялся готовить. Потом, поев с аппетитом и выпив свежей воды, завернулся в одеяло и уснул, как человек, которому неведомы тревоги и опасности. Старатели, пораженные подобным хладнокровием и, кроме того, напуганные синими куртками, не трогали его. Он проснулся на заре следующего дня и, положив в дорожную сумку остатки ужина, отправился в дальнейший путь. Целых пять дней шел Бессребреник, направляясь к станции железной дороги, не встречая никого, ночуя под открытым небом, питаясь чем попало. Наконец, изнемогающий, он добрел до одного из тех деревянных бараков, которые американцы громко называют вокзалами. Однако теперь, когда Бессребреник очутился в местах, где цивилизация олицетворяется в полустанке, угольном складе, водокачке, отеле, сколоченном из досок, и из досок сколоченном салуне, — положение его, не имевшего, как всегда, ни гроша, стало еще затруднительней. Прежде всего надо было добыть чего-нибудь поесть. Бессребреник направился в салун с видом покупателя, у которого кошелек набит золотом. Хозяин попался на удочку и с непривычной для янки предупредительностью, хотя и не трогаясь с места, осведомился: — Эй, что надо? Бессребреник отвечал просто: — Не требуется ли вам повар, слуга или мойщик посуды? Содержатель салуна даже привскочил и закричал: — Мошенник!.. Сукин сын!.. А я-то принял его за честного человека… — Что же бесчестного в том, что я хочу заработать на пропитание? — Стало быть, ты, любезный, и повар, и слуга, и мойщик посуды? Так вот что я тебе скажу. Едят здесь только консервы, стало быть, повар не нужен, прислуживаю посетителям я сам, а посуду облизывают, то есть моют, бродячие собаки… При этих словах, сопровождаемых непристойными жестами, Бессребреник тоже захохотал и подошел к хозяину поближе, будто находя чрезвычайно забавной его шутку; но затем, вдруг изменив голос, прошептал так, что на стойке зазвенели стаканы: — Защищайся, поросенок! Янки был на голову выше джентльмена и сложения атлетического. Он стал в боксерскую позицию и проворчал: — До прихода поезда еще десять минут. Жаль, что машинист и кочегар, мои кумовья, не увидят потехи! Вот бы позабавились! Сильная пощечина не дала ему договорить. Он только крикнул: — Ой! За первой последовала вторая. Атлет пробовал обороняться, но не попадал в своего противника; тот же продолжал щедро потчевать янки оплеухами. Как раз в эту минуту подошел поезд, раздались свистки и звонки. — Я мог бы убить тебя, — заговорил Бессребреник, — но ограничусь этим уроком: другой раз не станешь оскорблять небогатых путешественников. Развернувшись, он поймал взглядом огромный окорок, подвешенный под потолком; без церемонии снял его, взял под мышку и преспокойно вышел. Хозяин, протестуя, бросился вдогонку, получив в итоге совсем не то, что намеревался — Бессребреник со всей силы ударил его окороком по голове и, гордый своей победой, направился к остановившемуся поезду.
ГЛАВА 19
Поезд трогается. — В багажном вагоне. — Опять окорок. — Мучительная жажда. — Открытие. — Среди мешков. — Бессребреник намеревается притвориться мертвым.Не расставаясь со своим окороком, Бессребреник проскользнул под вагоны и исчез, как сквозь землю провалился. Кондуктор, заметивший было безбилетного пассажира, недоумевал: — Куда это он подевался? Зазвонил колокол, засвистел свисток; локомотив, запасшись водой и углем, тронулся. Кондуктор, прыгнув на подножку, рассуждал: «Вероятно, мошенник спрятался где-нибудь в поезде». Бессребреник же, сидя верхом на буфере и плотно прислонившись к стенке вагона, крепко прижимал к груди свою ветчину. Не желая вечно пребывать в дискомфорте, он подождал, пока ночь совершенно опустится на землю, и тогда принялся за выполнение смелого и трудного маневра. С бесконечными предосторожностями, с неподражаемой ловкостью он стал перебираться на подножку. Но окорок ужасно затруднял его, а расставаться с добычей не хотелось. Наконец, он придумал взять в зубы веревку, за которую ветчина была подвешена к потолку, и, как собака с добычей, на четвереньках стал пробираться мимо пассажирских вагонов — ярко освещенных роскошных купе — к последнему вагону в поезде — товарному, тяжелому, запертому со всех сторон. Здесь царствовала полная темнота. Бессребреник таращил глаза, что-то ощупывал и, наконец, нашел задвижную дверь. Продолжая держать ветчину в зубах, одной рукой схватившись за скобку, другой он пытался просунуть в желоб лезвие охотничьего ножа. С превеликим трудом ему удалось отодвинуть дверь и проскользнуть в вагон, наполненный почти доверху длинными толстыми мешками. Бессребреник, обессиленный, вытянулся на них и уснул под шум поезда, мчавшегося в Сан-Франциско. Проспал он пятнадцать часов и пробудился только к утру от страшного голода. Солнечные лучи, пробиваясь через щели, освещали внутренность вагона. Джентльмен вынул нож, отрезал большой ломоть ветчины и принялся уплетать его с аппетитом. Но окорок оказался сильно просоленным, и скоро Бессребренику страшно захотелось пить. А через час стало совсем невмоготу — он с удовольствием отдал бы бутылку собственной крови за бутылку воды. Чтобы не мучиться, джентльмен попытался снова заснуть, но и во сне его томила жажда: ему снились светлые хрустальные ручьи, журчащие источники, запотевшие графины, наполненные божественной влагой, и даже замороженная вода — лед. Эти видения, быстро сменяясь, превращались в настоящую пытку. Джентльмен метался как в бреду, а когда открыл глаза, заметил, что толщина мешков, на которых он спал, значительно уменьшилась. Он подумал, что, вероятно, как-нибудь во сне порвал полотно, но так как наступила ночь, нельзя было убедиться в справедливости предположения. Впрочем, это и не представляло для джентльмена особенного интереса. Теперь для него было важно только одно: выбраться из вагона при первой остановке и напиться… напиться… напиться. Ему пришлось прождать еще долго. Наконец, поезд затормозил у одной из пустынных станций. Воспользовавшись темнотой,он вышел и перебрался на другую сторону пути к водокачке. Из кожаной кишки, надетой на кран, лилась тонкая струя. Бессребреник жадно прильнул к отверстию губами, а когда напился, подумал: «Хорошо бы хоть кружечку захватить с собой!» Под ногами у него валялась пустая жестяная банка из-под консервов. Он поднял ее, выполоскал, наполнил водой и бережно унес с собой, как сокровище. — Теперь я преблагополучно доеду до Сан-Франциско, — рассуждал он. — А там легко найду способ перебраться через океан в Китай и Японию и вернуться, не истратив ни цента, — совершенно по условиям пари. Ни на минуту не зародилось в нем сомнения в успехе опасного путешествия. Поезд продолжал движение: джентльмен еще раз закусил ветчиной и запил ее захваченной с собой водой. Вдруг около двери вагона раздались голоса: — Нет, это уж слишком!.. Какова наглость! — говорил один голос. — О, эти канальи бродяги на все способны. — Ну, посмотрим! Дверь отодвинулась, и первый голос произнес: — Эй, молодец, нечего тебе больше прятаться! Бессребреник понял, что накрыт, но не спешил выходить из своего убежища. Он притих. Вдруг голос, звучавший до сих пор весело, стал жестким, и к нему присоединился характерный звук взводимого курка. — Ты прячешься, как крыса в норе… Потешимся же мы!.. В ту же минуту раздался выстрел. Пуля попала в груду мешков, Бессребреник распрямился во весь рост и крикнул: — Не стреляйте! Я сдаюсь. Он вышел из своего убежища, подняв целое облако белой густой пыли, и страшно расчихался. Кондуктора встретили его появление безумным хохотом. Бессребреник, хотя сам был веселого нрава, не любил, чтобы над ним смеялись. — Чхи!.. чхи!.. чхи! Хохот удвоился, сопровождаемый тяжеловесными шутками янки. Бессребреник, не различая ничего среди белого марева, почувствовал только, что пыль забивает нос и рот. — Чхи!.. чхи!.. чхи! Наконец, ему удалось добраться до двери вагона, где стояли оба кондуктора. На свежем воздухе Бессребреник прервал свое чихание и сам расхохотался до упаду. Словно мельник, только вышедший с мельницы, он был с головы до ног запорошен чем-то белым, напудрившим его волосы, насевшим на ресницы, на бороду, покрывшим все платье. Скоро все объяснилось. Желая проехать даром, Бессребреник забрался в вагон с мукой. Один из мешков прорвался, и джентльмен, ничего не видя, всю ночь спал на его содержимом. Когда, умирая от жажды, он отправился за водой, то, сходя, оставил на подножке белые следы, бросившиеся в глаза кондуктору. Тот сразу понял, что имеет дело с одним из тех путешественников, которые любят даровые услуги железных дорог. Подобных пассажиров в Америке преследуют без пощады, обвиняя их в сообщничестве с шайками разбойников, нападающих порой на поезда с целью грабежа пассажиров и кражи перевозимых товаров. Как бы то ни было, только благодаря смешному белому костюму Бессребреника не пристрелили на месте. Но на ближайшей станции ему пришлось сойти. К изумлению расходившихся пассажиров, джентльмен появился из вагона, распространяя при каждом движении тучи белой пыли, от которой напрасно старались сберечь свои платья другие джентльмены и леди. И снова Бессребреник очутился на мостовой без гроша в кармане, в малолюдных местах, где нельзя рассчитывать найти заработок. Поезд отошел от станции, и она совершенно опустела. Бессребреник отряхнул покрывавшую его пыль, вымылся и, приняв приличный вид, стал ходить по платформе с окороком под мышкой, раздумывая, что бы ему предпринять. Скоро он заметил на противоположном — товарном — конце платформы сколоченное из досок строение, в которое по временам как тени входили молчаливые личности. Подойдя ближе, он увидел, что это чистенькие китайцы, одетые в национальные костюмы, в остроконечных шляпах, с длинными косами, висевшими шнурком до самых пяток. — Что делают здесь эти сыны Небесной империи? — спросил себя Бессребреник. Он подошел к сараю с другой стороны и прильнул глазом к одной из щелей: представилось поистине необыкновенное зрелище. Он проговорил: — Теперь я уверен в успехе… Я буду в Сан-Франциско… в Китае… Мне стоит только притвориться мертвым.
ГЛАВА 20
Китайцы-переселенцы. — Их занятия. — Надежда на возвращение живыми или мертвыми. — Суда, перевозящие гробы. — Бессребреник занимает место мертвого китайца. — На «Бетси». — В трюме. — Страх. — Мучения. — Агония.Китай, несмотря на обширность территории, не в состоянии прокормить собственное население — до того оно велико. Много народа просто умирает с голода. Подгоняемые лишениями, китайцы часто покидают родину и едут на Филиппины, на Яву, на Суматру, в Австралию, в Индию, Южную Америку… Но излюбленным местом их поселения остается Северная Америка, где, несмотря на противодействие властей, они все-таки находят выгодные занятия. Китаец служит всегда за небольшое жалованье и исполняет свои обязанности добросовестно. Уезжая из отечества, он увозит с собой надежду на непременное возвращение. Если он умирает на чужбине — домой привозится его тело. Бессребреник знал все эти подробности, и, когда увидал в сарае по крайней мере сотню больших гробов, расставленных правильными рядами и странно изукрашенных резьбой и рисунками, его осенило. На середине каждого ящика была китайская надпись, вероятно, имя покойника и место назначения гроба. Тут-то Бессребреник подумал: «Мне стоит только притвориться мертвым…» Дождавшись ночи, он смело вошел в сарай и подошел к гробу, крышка которого была не забита, а завинчена винтами. Джентльмен принялся их отвинчивать. Приподняв крышку, он увидал труп человека средних лет, завернутый в длинные полотняные полосы. Бессребреник осторожно вынул покойника и принялся отвинчивать стенку в ногах гроба. Затем он положил крышку на место и закрепил ее — через оставшееся отверстие можно было влезть внутрь ящика. Оставалось одно: пристроить куда-нибудь мертвого китайца, место которого Бессребреник намеревался занять. Джентльмен вернулся к трупу, положенному у прохода, и, взяв его на руки, понес к одному из домиков для служащих. Хозяина по счастливой случайности не оказалось на месте. Бессребреник ощупал в темноте мебель и узнал постель. Не колеблясь ни минуты, он быстро сунул покойника под одеяло, закрыл его с головой и пустился со всех ног прочь. Затем, вернувшись в сарай, докончил свое опасное предприятие: вполз ногами вперед через открытый конец в гроб и, улегшись, притянул к себе доску. Приладить ее на место оказалось делом не легким, но джентльмен справился и с этим, а кроме того, с помощью ножа образовал щели, через которые воздух мог поступать внутрь гроба. Не прошло и часу, как послышался шум приближавшегося поезда. — Ол райт! Сейчас поедем!.. Кажется, не останется ни одного способа передвижения, которого бы я не испытал, — сказал Бессребреник с невольной улыбкой. Поезд прибыл; послышался стук открываемых и запираемых дверей. В сарай вошли несколько кондукторов и пинками разбудили спавших китайцев. Те повскакивали с циновок и, испуганные, как гуси, стали сзывать своих соотечественников, сбегавшихся отовсюду. Началась погрузка. Джентльмен почувствовал, что его ящик поставили среди многих других, и, не спрашивая себя, чем может окончиться это страшное приключение, заснул крепким сном. Гроб, избранный им, был, как мы помним, обширных размеров, так что джентльмен мог свободно вытягиваться и поворачиваться. Когда он проснулся, задыхаясь от недостатка воздуха, поезд стоял. Только Бессребреник собрался выглянуть из своего ящика, где пролежал сорок часов, как до него донеслись голоса: — Эй, вы! Скорей!.. Поворачивайтесь! Мы уходим в два часа. — Да, да, — умоляли в ответ по-английски, но с несомненным китайским акцентом. — Дайте время. — Опаздывать, что ли, из-за вас на «Бетси»? — Мы хорошо платим… Агент будет жаловаться… — Знаю я вас, желтокожих поганцев! Поворачивайтесь!.. Живо!.. — Да, да… мистер капитан. Из разговора Бессребреник понял, что поезд прибыл в Сан-Франциско. И там вынесли гробы. По-видимому, с китайцем разговаривал капитан судна «Бетси», готового к отплытию. «Отлично, — думал джентльмен, — отправлюсь в Китай и даром переплыву океан. Хорошо, что на кости есть еще кусочек ветчины… поскорее бы только «Бетси» снималась с якоря; тогда я выйду из этого ужасного ящика и поищу, чего бы выпить: проклятая жажда опять замучила до смерти!» Через несколько минут его гроб подняли, затем он ощутил, что висит в воздухе. Визг блока, и ящик начал опускаться как будто в пропасть — Бессребреник оказался в трюме. Погрузка продолжалась около двух часов; затем раздался шум захлопываемых люков, лязг цепей и пыхтенье пара. И вот корпус судна содрогнулся, началась вибрация. «Винт заработал, — решил джентльмен. — Плывем!.. Счастливого пути!»
__________
Джентльмен терпеливо ждал, пока «Бетси» окажется в открытом море, и только потом выполз из гроба. От долгого лежания его совсем свело, он не мог держаться на ногах и должен был применить множество массажных и гимнастических упражнений, чтобы прийти в себя. Уже несколько дней Бессребреника мучила страшная жажда. Благоразумие подсказывало, что еще сутки как минимум не следует покидать этой части судна, но пить хотелось неимоверно, и он решил явиться к капитану. Ощупью стал искать выхода, но напрасно: в совершенной темноте джентльмен ударялся головой, плечами, ногами о гробы и выдающиеся ребра корабельного остова. Проходили часы; к мучениям жажды присоединились мучения голода, — на ветчинной кости не осталось даже сухожилий. Он снова и снова предпринимал попытки отыскать выход. Наконец, под руку попало что-то — дверь, служившая, вероятно, сообщением между двумя отделениями трюма. Попытался отворить ее — она была заперта засовом снаружи. — Откроем в другом месте, — старался ободрить себя Бессребреник, ища на этот раз люк, через который спускали гробы. Он нашел его и, взобравшись на груду ящиков, стал изо всех сил приподнимать дверку. Тщетно! Еще раз, еще — бесполезно! Он устал, безумно устал от голода, жажды, гнетущей темени, но главное, от чувства заживо погребенного. — Не околевать же мне здесь, как последней твари! — простонал джентльмен и принялся что было мочи барабанить по люку ногами и руками. Но стук его, сливаясь с общим шумом в нижних ярусах парохода, не был слышен. Тогда он разломал свой гроб и начал ударять досками по железной обшивке стен. Никто не откликался!.. Бессребреник окончательно выбился из сил. Не знавший прежде отчаяния, он почувствовал всю его тяжесть. Разум его начал меркнуть, а разгоряченное, саднящее от ушибов и ран тело словно окуталось ледяным плащом. В темноте трюма засверкали призрачные золотые искры — предвестники безумия. Джентльмен употребил все усилия, чтобы не поддаться слабости, и все-таки впал в полузабытье. «Теперь, кажется, конец тебе, Бессребреник… — бредил он. — Ты взял на себя слишком много!.. И к чему?.. Скоро станешь трупом, до которого никому не будет дела… У тебя нет друзей… Кто о тебе пожалеет?.. Никто!» В памяти пронеслось мимолетное видение: клочок голубого неба… деревья… птицы… цветы… бабочки… А над всем этим — прекрасный женский лик, смотревший на него с глубокой грустью. Он прошептал: «Клавдия!» — вздохнул и без движения упал между двумя гробами.ГЛАВА 21
Благодетельное кровопускание. — Крыса. — Кончик уха. — Заживо съеденный. — Пожар. — Открытие. — Сострадание и жестокость. — Затруднительное положение. — Человек в море. — Бессребреник и юнга. — На обломке мачты. — Брошенные среди океана.Он пришел в себя при обстоятельствах столь же необыкновенных, как и все его существование со времени заключения пари. Очнуться заставила острая боль в ухе, которая все усиливалась. Теплая струйка крови текла из раны на грудь умирающего. Машинально он поднес руку к голове, и пальцы ощутили мохнатое тело и холодные лапы с когтями. — Крыса! Бессребреник схватил ее и крепко сжал. Гадина запищала и стала царапаться; джентльмен стиснул ее еще крепче и вмиг задушил. У несчастного мелькнула чудовищная мысль: «Я выпью ее кровь, я съем ее». Он впился зубами в горло животного и, сорвав шкуру ногтями, сжевал и проглотил крысиное мясо. Этот мерзкий обед возвратил ему силы. А вместе с силой вернулась и надежда. Каким угодно способом нужно было обратить на себя внимание экипажа. Джентльмен принялся собирать обломки ящика, ощупью отыскал циновку, лежавшую внутри гроба, и, собрав все в кучу, высек огонь огнивом. Циновка, сплетенная из очень тонкого и сухого тростника, легко загорелась, мало-помалу наполнив дымом весь трюм. Дым начал пробиваться через щели обшивки и перегородок. На это именно и рассчитывал Бессребреник. Пожар на корабле — ужасная вещь; поэтому при появлении малейшего запаха гари начинается аврал: каждый бежит на свой пост, готовятся пожарные рукава, производится самый тщательный — с палубы до трюма — осмотр судна. Конечно, разводя огонь, Бессребреник заботился о том, чтобы самому в нем не изжариться. Тем не менее высокий столб пламени, крутясь, стал разрастаться в ширину, перекидываться на гробы, сделанные из очень сухого смолистого дерева. Яркий свет озарил все углы трюма. Пожар набирал силу, когда послышались испуганные голоса: — Сюда!.. Сюда!.. Горит в трюме у китайцев! В ту же минуту верхний люк открылся и из двух пожарных рукавов, направленных сверху, хлынул поток воды… Опасность миновала. Минут через пять капитан «Бетси» с несколькими людьми, несшими большой фонарь, спустился в трюм, чтобы лично выяснить причину неприятного происшествия. Ему навстречу смело вышел Бессребреник. — Человек?!. Живой среди мертвых?! Что вы здесь делаете?! — потеряв свою обычную флегматичность, гаркнул капитан. — Прохожу мили и стараюсь выиграть пари, — серьезно отвечал джентльмен, не пряча взгляда. Лицо командира «Бетси», несмотря на темный загар, в секунду стало ярко-пунцовым, левый глаз задергался в тике: — Вздумал насмехаться, паршивец?! А ну взять его! — Я не собираюсь сопротивляться, тем более что не знаю за собой особенной вины. — А пожар? А билет? Сколько ты заплатил за билет? — Белый китель на негодующем капитане словно раздувался мехами. Матросы потащили Бессребреника по лестнице. Убедившись, что повреждений в трюме практически нет, но не остыв от гнева, капитан скоро поднялся наверх. Теперь он мог лучше рассмотреть своего нового пассажира. Джентльмен имел самый плачевный вид: глаза после долгого пребывания в темноте моргали от света, свежий воздух действовал слишком сильно, исхудалый, посиневший, со свалявшимися волосами, покрытый потом, пылью и кровью, он походил на жалкого бродягу. Глядя исподлобья, капитан заговорил с ним еще грубее прежнего: — Всякий, кто не записан в судовую книгу, обязан оставить пароход! — Но это не так легко сделать, мы — в море, — возразил Бессребреник. — Напротив, нет ничего легче; стоит только выброситься за борт. По доброй воле или с помощью моих ребят. — Вы сделаетесь убийцей! — Я хозяин на пароходе… Эй, Том, Патрик, Боб, Вилли! Возьмите-ка этого краснобая и выкупайте… — Матросы! — обратился к ним Бессребреник. — Неужели вы решитесь на преступление?.. Знаете, кто я?.. Перед вами тот, кто под именем Бессребреника держит пари с серебряным королем Джимом Сильвером. — А! — понимающе воскликнули матросы. Капитан же пожал плечами, ворча: — Какое мне дело до вашего пари?.. Я не любитель всяких сумасбродств… За борт его!.. Между тем матросы колебались. — Не осмеливаясь ослушаться, капитан, — заговорил один из них, поднося руку к козырьку, — прошу вас как-нибудь уладить это дело. — Есть лишь один способ уладить его: заплатить за проезд и пищу безбилетника. Моряк, сняв шерстяную фуражку, пустил ее по кругу: — Сбросимся, братцы! Кто что может. Бедняки почти всегда оказываются людьми великодушными. Матросы «Бетси» опустили руки в карманы и, вытащив самодельные кошельки, собирались высыпать их содержимое в шапку, когда Бессребреник удержал их жестом. — Нет, добрые люди… Я не могу принять ваши деньги… — Но почему?.. Почему же?.. — зашумели, протестуя, славные малые. — Запрещают условия пари. Но все же от глубины души благодарю вас. — Да бросьте, откажитесь от пари, — предложил один из матросов. — Что значит оно по сравнению с жизнью! — Проиграть пари для меня равносильно смерти, — объяснил джентльмен. — Значит, нет средства спасти вас? Капитан злорадно улыбался, как бы заранее наслаждаясь предстоящим зрелищем гибели Бессребреника. А тот отвечал: — Единственное средство просить капитана дать мне работу. Капитан перебил его: — Нет!.. Довольно!.. Неожиданно на другом конце корабля послышался детский крик и сильный всплеск от удара о воду. Началась всеобщая суматоха: — Человек за бортом! Без промедления застопорили машины. За борт полетели птичья клетка, множество жердей, за которые должен был ухватиться ребенок. Но расстояние между ним и «Бетси» быстро увеличивалось. Известно, что тяжелый пароход, да еще идущий на всех парах, не может остановиться сразу. По инерции он долго движется вперед. — Бедный мальчик, я его спасу! — закричал чей-то голос. И через пару секунд прыгнувший за корму уже рассекал воду мощными гребками отличного пловца. — Это джентльмен! — воскликнул матрос, в котором Бессребреник нашел себе неожиданную опору. — Смотрите как плывет! Бессребреник то появлялся на вершине морского вала, то исчезал в бездне, отыскивая ребенка. Задача была нелегкая: волны то и дело становились между ними, скрывая друг от друга. Время от времени Бессребреник громко и протяжно кричал, затем замолкал, надеясь услышать среди шума стихии ответ ребенка. Так тянулось несколько долгих минут, пока до него не донесся слабый, как писк птички, детский стон. Джентльмен снова крикнул. Тот же звук послышался вновь — слабее, но, к счастью, ближе. Пловец-взрослый в эту минуту находился на гребне волны. Глаз его различил маленького юнгу, выбившегося из сил и в отчаянии протягивавшего к нему руки. Волна, обрушиваясь под джентльменом, приблизила его к мальчику. Он схватил его и радостно сказал: — Что это тебе вздумалось напиться соленой воды? Мальчуган, плача, прижался к его груди. Вблизи плыл большой обломок доски. Джентльмен посадил на него верхом юнгу и прибавил: — Вот так, отлично!.. Теперь отдохни!.. А я подожду. Качаясь на волнах, Бессребреник долго ждал приближающейся лодки, призывных ободрительных возгласов матросов на веслах. Но ничего не было видно, ничего не было слышно! Он все больше беспокоился за ребенка, который между тем, сидя на доске, успел несколько оправиться и успокоиться. Подброшенный высокой волной, джентльмен различал над линией горизонта полосу густого черного дыма. Виднелись только мачты уходящего корабля. Сомнения не было: негодяй-капитан, недостойный имени моряка, бросил среди океана двух беспомощных бедняков! У мальчика зубы стучали от холода; вода стекала с него ручьями, он смотрел на Бессребреника умоляющим, полным отчаяния взглядом. Весь ужас, все страдания мира были в этом взгляде ребенка. — Не видать помощи? — то и дело спрашивал он голосом, который прерывали налетающие волны. — У меня больше нет сил держаться… Мне страшно… Спасите меня! — Не бойся, бедняжка… Я с тобой!
ГЛАВА 22
Варварский поступок. — Покинутые на произвол судьбы. — Маленький юнга. — Бедствие. — Кому на роду написано несчастье. — Бессребреника, оказывается, зовут Жоржем. — Борьба с волнами. — Бред. — Агония. — Последние муки. — Это ли конец? — Среди океана. — Атолл. — Коралловый риф. — Обломок. — Двое бедствующих. — Умер! — Отчаяние. — Бессребреник плачет.А на пароходе после попытки Бессребреника спасти упавшего в море произошло вот что. Сперва капитан скомандовал: «Стоп машина!» Но потом, увидев бросившего в воду Бессребреника, передумал. — Этот нищий перебаламутит мне весь корабль. Сейчас он в воде. Ну и пускай в ней остается. Чудесный исход! Смутное чувство жалости к погибающему мальчику на миг шевельнулось в его сердце и исчезло. — Если он еще не умер, то скоро умрет. Вопрос нескольких минут… Из рупора донеслось: — Полный вперед! Матросы зароптали. Капитан повернулся, держа в руке револьвер, и, щелкнув курком, проговорил резко: — Кто хоть одно слово пикнет — убью! Вы знаете, я слов на ветер не бросаю. Все по местам! Живо! Просить, умолять было бесполезно. Прибегнуть к силе — у капитана было слишком много сторонников. Винт бешено завертелся. Пароход помчался вперед, неся по водам свой странный и страшный груз. … Юнга очнулся и сразу же узнал человека, столь необычным образом появившегося у них на борту. Ободренный светлым и ласковым взглядом Бессребреника, мальчишка прерывистым голосом рассказал ему свою печальную историю. Юнге было двенадцать. Пять лет назад его отец, матрос из Чарльзтоуна, погиб во время кораблекрушения. Мать осталась вдовой с пятью детьми. Жили они в нищенском логове. Пока бедная женщина выбивалась из сил где-нибудь на тяжкой работе, он нянчил младших братьев и сестер, потом бегал с поручениями, по вечерам у театра чистил публике обувь, торговал газетами, словом, брался за все, лишь бы чуть-чуть заработать. Надломленная каторжной работой и безысходной нуждой, мать заболела тифозной горячкой. Ее отвезли в больницу. Несчастная металась в бреду и никого не узнавала. Она умерла, не приходя в сознание, не простившись с детьми. Еще непригляднее, чем всегда, показалось осиротелому мальчику его нищенское жилище, он долго и горько плакал; младшие дети тоже плакали и просили поесть. Есть было нечего. Он пошел просить милостыню. Принес несколько медяшек. Купили хлеба, поели, на этот раз отсрочив голодный обморок. За комнату платили по неделям. Когда наступил срок, детей выгнали на улицу. И они пошли, все пятеро, куда глаза глядят. Полиция в Соединенных Штатах, как и везде, не любит нищих. Детишек, разумеется, арестовали, как будто голодному попросить милостыню у сытых — преступление. Когда полисмен вел по улице несчастных малышей, плакавших о матери и просивших поесть, с ними встретился грубоватый, но добродушный человек с волосатыми руками, кирпичным цветом лица и козлиной бородой. Он спросил у полисмена, чем провинились эти ребята. — Нищенствуют, голодные. — Старший может уже работать, — вскричал незнакомец. — Я капитан купеческого корабля. Хочешь в моряки поступить, малыш? В моряки!.. Отчего же нет? — Хочу, сэр, — с решимостью ответил ребенок. Он вытер слезы, простился с младшими и пошел с капитаном. Спустя три часа его записали юнгой на шедший в Ливерпуль небольшой клипер, груженный хлопком. А через два года его покровитель умер в Новом Орлеане от желтой лихорадки. Бедный мальчуган опять остался на мостовой. Рок продолжал преследовать его. На свою беду, он встретился с капитаном «Бетси» и поступил к нему на корабль за баснословно низкую плату. Этот рассказ потряс Бессребреника до глубины души. — Ну, моряк, не падай духом, — силясь улыбнуться, вымолвил джентльмен. Ребенок зарыдал, когда увидел, что ему искренно сочувствуют. — О, сударь, вы очень добры, но только я чувствую, мне конец. Силы уходят. Я весь застываю. Я скоро умру. — Нет же, нет, зачем так говорить! Море велико, мы встретим островок, клочок земли… Верил ли он сам тому, что говорил?.. Мальчик с каждой минутой терял силы. Стоны его становились все слабее. Он едва держался за обломок, весь дрожал и выбивал зубами дробь. Бессребреник снял с себя пояс и привязал мальчика к деревянной доске, так что тот мог разжать руки и свободно передохнуть. Закоченевшей пятерней мальчонка отыскал ладонь Бессребреника и судорожно ее пожал. От этого ледяного пожатия Бессребренику захотелось выть, плакать, ругаться, сотрясти весь белый свет… Наступила ночь. Сразу, без сумерек. Ужасная ночь в фосфорическом блеске волн черного океана. Всяким силам человеческим есть предел, и Бессребреник чувствовал, что этот предел будет скоро перейден. Он очень боялся за юнгу, время от времени заговаривал с ним, старался ободрить. Мальчик сказал ему свое имя: Жорж. — Меня тоже зовут Жоржем! — воскликнул Бессребреник. — Как себя чувствуешь, тезка? Юнга отвечал слабым голосом, дребезжащим, точно подмокшая скрипичная струна: — Держусь пока, чтобы сделать вам удовольствие. Вы очень добры! — Мы будем жить, вот увидишь! — Я не боюсь умереть. Такому горемыке, как я, смерть не страшна. Сердце джентльмена опять пронзилось острой болью. Прошло еще несколько часов среди уныло-однообразного плеска мрачных волн. Насквозь прозябший, Бессребреник стучал зубами, часто вместе с воздухом в рот ему попадала горько-соленая вода, вызывая болезненный кашель. От голода, жажды и усталости начался бред. Но лишь только сознание возвращалось, он вспоминал об умирающем мальчике и звал его: — Жорж!.. Жорж!.. Откликнись! Потом бред опять наваливался и ему мерещились города, сверкающие электричеством, праздничные шумные толпы, залы с разряженной публикой, снующие повсюду пароходы с дымящимися трубами, мчащиеся курьерские поезда, потом кровавые схватки… слышались выстрелы, крики, проклятия, безумный галоп коней… А посреди всей этой сумятицы — как было уже не раз — возникало лицо белокурой женщины с сапфировыми глазами… И с губ, изъеденных морской солью, срывалось заветное: — Клавдия! Долго продолжалась эта мука. Холод заледенил все его тело, сердце билось совсем слабо, он едва различал звезды, медленно опускавшиеся к горизонту. Бессребреник сделал усилие, чтобы крикнуть. Но находясь во власти кошмара, не издал ни малейшего звука. Затем, собрав всю свою волю, сделал новую попытку. Крик вылетел, но какой-то жалкий, похожий на рыдание. В ответ раздался слабый-слабый хрип. — Боже мой! Мальчик умирает! Умирает!.. — Бессребреник судорожно ухватился за доску и лишился сознания.
__________
В стороне от обычного курса кораблей, среди Тихого океана затерялся этот небольшой коралловый островок, окруженный рифами. Таких атоллов много в Тихом океане. Их соорудила многовековая работа миллиардов маленьких существ — коралловых полипов. Атоллы, как правило, имеют форму не вполне сомкнутого кольца. Кругом бушуют свирепые волны, а внутри кольца тихое, спокойное озеро. Островок, о котором мы говорим, невелик: не больше трех верст в диаметре. Покрыт наносной почвой, образовавшейся из ила, намытого морем. Есть растительность: множество кокосовых пальм, мускатный орешник… Фауна не богата: большие земляные крабы трудятся над кокосовыми орехами, чтобы добыть ядро из их твердой скорлупы; сероватые, с шелковистой шерстью крысы проворно лазят по стволам деревьев; в ветвях порхают зеленые голуби — любители мускатных орехов; во внутреннем озере плещутся водные птицы. Людей на острове нет. Коралловые острова встречаются в Тихом океане целыми архипелагами. Назовем: Разбойничьи (они же Марианские), Каролинские, острова Фиджи, Дружбы, Товарищества, Куков архипелаг, Самоа, наконец, Ваникаро, где потерпел крушение знаменитый Лаперуз. Много таких островов открыто мореплавателями, но есть много и неизвестных. Немало и подводных островов, представляющих собою опаснейшие для кораблей рифы. Эти острова недоделаны зоофитами. Но пройдет несколько десятков лет, и они выйдут из морской пучины. Зоофиты неисчислимы, работа их упорна и беспрерывна.__________
К такому островку и прибили волны деревянный обломок, на котором находились Бессребреник с юнгой. Через проход в кольце рифов они попали во внутреннее озеро. Испуганные водные птицы сначала загалдели, но потом успокоились, видя, что доска остановилась у берега, не причинив им вреда. На обломке были два неподвижных человеческих тела — тело взрослого и тело ребенка. Под горячими лучами солнца, высушившими одежду и нагревшими кожу, взрослый пошевелился. Глаза его раскрылись и сейчас же зажмурились от яркого света. Потом, как бывает после долгого пребывания в воде, он, содрогнувшись с головы до ног, громко и сильно чихнул. Чихнул и пришел в себя, окинув взглядом незнакомую землю. Кокосовые пальмы, мускатные деревья, крысы, крабы, зеленые голуби, веточки кораллов — все это разом предстало перед ним в лучах утреннего светила. Он прошептал в изумлении: — Боже! Благодарю тебя! Но сейчас же сердце его сжалось от страха: — Мальчик! Жив ли? Он разжал руки, которыми держался за обломок, попробовал привстать — тело почти не слушалось. Мальчик был привязан к другому концу обломка. Голова его до плеч выглядывала из воды. — Жорж!.. Малыш Жорж!.. Юнга не шевелился, на губах выступила пена. Бессребреник кое-как дотащился до него, дотронулся до щеки и вздрогнул — ледяная. — Боже мой! Он стал развязывать пояс, но не смог и перерезал его ножом. Затем, сам едва держась на ногах, поднял маленькое тело, скрюченное предсмертной судорогой, и вытащил на берег, положил на солнышке, стал слушать сердце, делать искусственное дыхание. Он хлопотал несколько часов, стараясь вернуть мальчугана к жизни. Увы! Юнга был мертв. Поняв это, Бессребреник упал на колени и горько, горько зарыдал… … Когда он немного опомнился от горя, над маленьким мертвецом уже кружились рои трупных мух. Жадные до мяса крабы уже ползли к нему, щелкая клешнями. Широкой перламутровой раковиной Бессребреник вырыл на взморье яму, взял тело мальчика, поцеловал его в лоб и тихо уложил в могилу. Потом засыпал ее, навалив камней, и остался один среди безбрежного океана.ГЛАВА 23
Огонь! — Бессребреник поневоле становится вегетарианцем. — Шампанское. — Бессребреник навеселе. — Он начинает писать свои записки. — Он заключает свою рукопись в бутылку. — Встреча. — 1 мая. — Пари проиграно. — Надо умирать.С того ужасного дня, когда джентльмену пришлось пообедать крысой и утолить жажду ее кровью, он ничего не ел и не пил. С большим трудом удалось ему добраться до кокосовой рощицы, где в траве росли ягоды, похожие на клубнику. С жадностью набросился на них джентльмен и скоро почувствовал, как мало-помалу силы его возвращаются. Утолив голод, он тут же заснул, проспав до следующего утра. Шли дни, недели, месяцы. Сколько их минуло? Бессребреник сбился со счета. Он стал новым Робинзоном, но Робинзоном, у которого не было ни корабля, откуда можно достать все необходимое, ни оружия, ни книги, ни верного товарища Пятницы. Питаться приходилось плодами и сырыми яйцами. Эта однообразная пища вконец надоела джентльмену, и он стал ломать голову, как бы добыть огня. Однажды на глаза Бессребренику попались грибы, похожие на трут. Предварительно высушив их, он с помощью стального лезвия своего ножа куском коралла стал высекать над ними искры. Попытка увенчалась успехом — пошел запах гари и затеплился огонек. С этого дня джентльмен перестал быть невольным вегетарианцем — стал печь яйца и крабов. Единственным его занятием на острове было отыскивание припасов и приготовление обеда и ужина, а развлечением — общество животных, голубей и землероек, приближавшихся к нему безбоязненно. Бессребренику часто казалось, что прошли целые годы с тех пор, как течение выбросило его на остров, и не раз он думал, что проиграл пари. Однажды утром он увидал на поверхности лагуны какой-то плавающий предмет и, конечно, постарался достать его. То был ящик из-под шампанского, набитый соломенными оплетками, которые надевают на бутылки. В одной из этих оплеток, плотно засевшей между стенками ящика, оказалась еще нетронутая бутылка. Раскупорив ее, джентльмен потихоньку, наслаждаясь каждым глотком, выпил вино. Вид же пустой бутылки навел его на мысль дать миру весть о себе. Он знал, что вещи, брошенные в море, прибиваются течением к берегам, и надеялся, что его бутылка может попасть в цивилизованные страны — пусть тогда люди узнают, что он не был обычным искателем приключений, скрывавшим свое имя из стыда назвать его. Так как под рукой не оказывалось ничего, что могло бы заменить бумагу, Бессребреник решился воспользоваться носовым платком, еще раз выстирав его в пресной воде с золой. Перо было нетрудно достать из крыла голубя. Вместо чернил он прибегнул к собственной крови. Выдумка оказалась удачной — буквы не слишком расплывались по полотну, и Бессребреник начал писать.
«До сих пор меня знали в Америке под именем Бессребреника, давшего слово за год без гроша в кармане проделать кругосветное путешествие в 40 000 километров или… застрелиться. Вследствие совершенно непредвиденных обстоятельств я очутился на необитаемом острове и не знаю, как долго живу здесь. Быть может, срок пари уже истек? Во всяком случае, убедительно прошу людей, в чьи руки попадет сей документ, постараться разыскать меня. К несчастью, не могу указать своих координат, но в корабельном журнале американского парохода «Бетси» должно быть отмечено место, где случилось происшествие, из-за которого я очутился в море. Мой остров, по всей вероятности, расположен недалеко от этой точки… Отлично сознавая, что шансы на спасение жизни ничтожны, прибегаю к исповеди ради спасения души. Я — единственный потомок древнего рода графов Солиньяков. Все мои предки посвятили себя военной службе, к этому поприщу готовили и меня. Но я чувствовал иное призвание и посмел пойти наперекор семейным традициям, за что навлек на себя ненависть дяди, маркиза де Шэнебура. Когда пришлось отбывать воинскую повинность — я в то время уже пожинал лавры на артистическом поприще, — дядя, полковой командир, ославил меня еще до вступления в полк. Напрасно я старался добросовестно выполнять свои обязанности, напрасно выбивался из сил, исполняя самые трудные поручения — отношение ко мне, как к лентяю и негодяю, не менялось. Однажды в манеже начальник ударил меня хлыстом по лицу. Я не стерпел и бросился на него. Был суд… три года каторги… Наконец, мне удалось бежать в Америку. Здесь брался за множество дел, перепробовал множество профессий. Несколько раз переходил от богатства к бедности, пока не оказался без гроша в кармане. Остальное известно».Платок до последнего клочка оказался исписанным. Бессребреник еще раз перечел свое послание и, свернув его в трубочку, всунул в горлышко пустой бутылки. Плотно закупорив отверстие кружками водорослей, он запечатал его, собрав кусочки смолы с деревьев. Когда все было готово, джентльмен с некоторою торжественностью опустил бутылку в волны. Но… через несколько часов она очутилась на том же месте. Тогда Бессребреник сам пустился вплавь, чтобы бросить ее в волны как можно дальше от берега. Потом вернулся на остров, и на душе стало еще тяжелее, чем прежде. Напрасно, однако Бессребреник отчаивался. Люди бывалые хорошо знают, что случай любит честных и добрых. Удача как бы сама их находит. Через двое суток, проснувшись утром, джентльмен услышал человеческие голоса. В свежем, слегка прохладном воздухе они раздавались все громче. В лазурной лагуне, ярко освещенной солнцем, стоял красивый бот с полудюжиной матросов, кричавших во все стороны: — Эй, Бессребреник! Да где же ты? Или крабы съели? — Здесь я! Здесь! — Могучий мужчина, заросший, босой, весь в лохмотьях, радостно подпрыгивал, как мальчишка. Сильные руки молодцов, счастливых никак не меньше, чем сам Бессребреник, подхватили его и вмиг доставили на маленькое судно. Моряки обнимали джентльмена, смеялись над его костюмом, утверждая, что в газетах он был куда более одетым, а потом весело налегли на весла и скоро причалили к большому пароходу. Бессребреник взглянул на корму и с изумлением прочел: «Бетси». Не успел он опомниться, как раздалась команда: — Взбирайся на пароход! — и грубый, но ласковый голос прибавил: — Мистер Бессребреник, ведь вы лазаете как моряк… Джентльмен проворно взобрался по веревочной лестнице и очутился на палубе среди экипажа, встретившего его восторженными приветствиями. Человек, первым крикнувший с кормы — бывший помощник капитана, а ныне командир парохода, — крепко пожал джентльмену руку, рассказав о своем предшественнике: — Судьба отплатила ему за жестокость к бедному Жоржу. Шквал смыл его ночью с палубы, и он нашел себе могилу там же, где и бедный ребенок, обреченный им на смерть. За завтраком Бессребреник увидел две знакомые вещи: бутылку, пущенную им в море, и свой исписанный платок. Оказалось, что «Бетси» возвращалась из Китая по своему прежнему маршруту, и матросы, увидев плывущую бутылку, выловили ее. Новый капитан приказал произвести розыски, и коралловый островок скоро был найден. — Вам необыкновенно повезло, — заметил капитан. — Конечно, — согласился Бессребреник. — К сожалению только, счастье продлится недолго. Для меня все кончено! — Да перестаньте… Бессребреник указал на стенной календарь, где значилось: 1 мая. — Видите, мне осталось жить всего двенадцать дней; я должен умереть 13 мая. Срок, в который нужно было сделать сорок тысяч километров, истекает этого числа; я едва успею вернуться в Нью-Йорк, чтобы доставить всем этим репортерам, фотографам и леди с развинченными нервами редкое зрелище добровольного самоуничтожения. — Нет, вы еще можете выиграть пари. Мой пароход очень быстр; хотите им воспользоваться?.. — Я не могу пользоваться ничем, не платя… Я проиграл…
ГЛАВА 24
Возвращение. — Задержка. — Буря. — Порча машины. — В Сан-Франциско. — Деньги и револьвер. — В игорном доме. — В гостинице «Космополит». — Преданность женщины. — Нефтяной король. — Свадьба.Пароход между тем на всех парах мчался по океану. Неизвестно, по какому закону люди с родственными душами с первых же минут знакомства становятся верными товарищами на всю жизнь. Как сожалел Бессребреник, что со своим новым другом — командиром «Бетси» — не встретился раньше! Сидя в капитанской каюте, они что-то горячо обсуждали. — Да, я проиграл, — повторил джентльмен, — остается честно расплатиться… Подсчитав число миль, сделанных со дня заключения пари, Бессребреник пришел к грустному выводу: оказались непройденными пятнадцать тысяч километров. Но возвращение его в Америку не было скорым. Страшная буря заставила «Бетси» потерять около шести дней; машина получила повреждение и смогла прибыть в Сан-Франциско только 8 мая вечером. В распоряжении Бессребреника оставалось всего четыре с половиной дня, а поезд до Нью-Йорка идет ровно шесть суток. Значит, прибыть туда вовремя уже не было возможности. Капитан предложил Бессребренику деньги на дорогу и револьвер; тот принял подарок с условием: после самоубийства пистолет снова должен вернуться к хозяину, который сможет продать его за хорошую цену какому-нибудь англичанину — любителю достопримечательностей. В бессильном бешенстве шагал джентльмен по главной улице Сан-Франциско, залитой электрическим светом. Деньги, звеневшие в кармане, напоминали: ты уже не Бессребреник. Он искал выхода из своего положения и не находил его. И вдруг — мысль: играть! Друг-капитан указал «hell» — ад — игорный дом, где шла крупная игра в рулетку. Джентльмен подошел к столу и разложил все свои банкноты на две равные стопки: сто долларов на красное и сто на номер тринадцать. Оба вышли, и Бессребренику отсчитали три тысячи четыреста долларов. Следующие две ставки довели выигрыш до одиннадцати тысяч восьмисот долларов. Бессребреник подумал: «Если бы выиграть два миллиона!.. Я расплатился бы с Джимом Сильвером… по телеграфу… было бы славно!» Он продолжал играть, ставя наудачу. Золото прибывало, но ему казалось — очень медленно. Забрав свой выигрыш — триста тысяч долларов, он пошел бродить по залам. За ним давно уже следил с любопытством высокий, седой, вполне порядочный на вид джентльмен. Когда Бессребреник собирался попытать счастья в «скачке», джентльмен без церемоний заговорил с ним, спросив, имеет ли он в виду, играя, только развлечение или деньги? Бессребреник ответил, что нуждается в двух миллионах и намеревается выиграть их или пустить пулю в лоб. Джентльмен, со своей стороны, признался, что играет только ради азарта. Он предложил Бессребренику сесть за «экарте» и не вставать до тех пор, пока один из них не проиграет двух миллионов. Бессребреник согласился. На первую ставку он ставил весь свой выигрыш, а джентльмен вдвое больше. Принесли стол и карты. Игроков обступила толпа любопытных. Бессребреник выложил деньги, джентльмен вынул из кармана чековую книжку с золотым карандашом. Началась игра. Бессребреник выигрывал; джентльмен хладнокровно подписывал чеки. Ставки все удваивались. Наконец, куш Бессребреника достиг миллиона двухсот тысяч долларов. Джентльмен подписал новый чек и спросил своим беззвучным голосом: — Играем на квит или двойной проигрыш? Между зрителями пробежал ропот изумления: это была последняя партия, от которой зависела жизнь Бессребреника. Распечатав новую колоду, он спокойно сдал карты. У незнакомого джентльмена оказались на руках король, валет и туз! Бессребреник сделал ход для очистки совести и проиграл. Слегка пожав плечами, он отдал партнеру все свои деньги вместе с чеками: — Я проиграл и, к своему величайшему сожалению, остаюсь вам должен четыреста тысяч долларов. Партнер вежливо поклонился, предлагая продолжать игру на честное слово. Но Бессребреник отказался: — Мне невозможно принять ваше предложение. — Я — Бессребреник. У которого нет и гроша в кармане. — Вы — Бессребреник, тот самый, который держал пари с Джимом Сильвером?.. Рад, что познакомился с вами, но еще больше сожалею, что не проиграл вам двух миллионов — ненавижу серебряного короля!.. Чем могу быть вам полезен? Я — Джой Вандерплек, железнодорожный король… В вашей ли власти немедленно приказать снарядить поезд-молнию, который доставил бы меня в Нью-Йорк за четверо суток? — Само собой разумеется. Едемте на станцию. — Позвольте мне взять с собой товарища, капитана «Бетси». Капитан находился тут же, и все трое, не теряя ни минуты, поскакали на центральную станцию. В четвертьчаса железнодорожный король собрал всех своих служащих, и менее чем через час поезд был готов к отправлению. Железнодорожный король сам сел в вагон с Бессребреником и капитаном, дав сигнал отправления. Вперед, на расстоянии двадцати пяти миль, был пущен передовой локомотив, расчищавший путь для мчавшейся «молнии». Бешеная езда продолжалась все четверо суток; железнодорожный король знал, как поддержать рвение машинистов, и те, не обращая внимания на указания манометра, увеличивали силу пара. Весть о возвращении Бессребреника, принесенная в Нью-Йорк телеграфом, произвела сенсацию. Никто не знал, проиграл свое пари джентльмен или выиграл; уже за сутки до назначенного дня гостиница «Космополит» была битком набита любопытными. Ровно в двенадцать часов без тринадцати минут. Тринадцатого мая поезд подошел к станции. — Какое странное совпадение чисел! — заметил железнодорожный король. — Для меня число тринадцать всегда было счастливым; что-то оно вам предвещает? — Просто цилиндрическую пулю калибра девять миллиметров в висок! На станции прибытие Бессребреника было встречено приветственными криками толпы. Не останавливаясь ни на минуту, джентльмен и его спутники вскочили в карету и помчались в гостиницу «Космополит». Было без двух минут двенадцать, когда взмыленные лошади остановились перед отелем. Толпа на руках внесла Бессребреника в зал, где возвышалась эстрада. Джентльмен не торопясь вынул из кармана револьвер, данный ему капитаном, положил его перед собой на стол и жестом попросил молчания: — Я слишком понадеялся на свои силы и проиграл. Двух миллионов, чтобы уплатить мистеру Джиму Сильверу, у меня нет, и поэтому, согласно нашему условию, я расстаюсь с жизнью… Часы начали бить. Бессребреник взял револьвер и поднес к виску, ожидая последнего удара. И тут в толпе произошло волнение, и, так же как год тому назад, раздался чистый женский голос: — Стойте! Я выхожу замуж за джентльмена! Миссис Клавдия подбежала к Бессребренику, размахивая какой-то бумагой. Джентльмен невольно опустил револьвер. — Клавдия, милая Клавдия, вы спасаете Бессребреника?! — Не Бессребреника, у которого нет ни гроша в кармане, а богача, нефтяного короля! Пораженная толпа молчала. Рядом с миссис Клавдией стоял человек, заметно бледневший. Все узнали Джима Сильвера. Он проговорил: — Миссис Клавдия, вы обманули меня: я считал вас бедной… — Вы сделали все, чтобы довести меня до нищеты… Вы стали во главе общества, которое старалось сбить цены на нефть, мою нефть, впрочем, что об этом говорить! Мистер Бессребреник, возьмите эту бумагу — чек на два миллиона долларов, которые взяты из вашей доли компаньона фирмы «Бессребреник и К°»… Помните? Мы сложились с вами, когда у нас ничего не было, кроме долгов и надежд. Теперь долги уплачены, надежды осуществились; мы богаты, как все американские «короли», вместе взятые… Возьмите чек и уплатите. Джентльмен подошел к Джиму Сильверу. — Вот заклад вашего пари, мистер Сильвер, — сказал он серьезно. — Бессребреник должен был умереть сегодня… Он умер, но воскресает в лице графа Жоржа де Солиньяка, умоляющего миссис Клавдию Остин стать его женой… Протяните вашу руку, станем друзьями, мистер Сильвер! Серебряный король с недовольным видом прочел чек и сунул в карман, миссис Клавдия, вся сияющая от радости, взяла под руку своего жениха. Первыми их поздравили капитан «Бетси» и Джой Вандерплек, затем наэлектризованная толпа разразилась криками «ура!». Железнодорожный король велел приготовить для миссис Клавдии лучшие комнаты лучшей гостиницы Нью-Йорка. В то время как джентльмен провожал ее туда, она успела рассказать, что виновником их обогащения стал знавший «тайну огня» индеец Джо. В благодарность за свое спасение он указал миссис Клавдии обширные подземные нефтяные озера, давшие ей возможность первенствовать на американском нефтяном рынке и «достигнуть счастья, которое для нее тем дороже, что она так много выстрадала». Свадьбу отпраздновали в три часа дня, а вечером мистер и миссис Бессребреники отправились в свадебное путешествие.
Конец









Луи Буссенар Бенгальские душители
Часть первая ГЛАВА СЕКТЫ ДУШИТЕЛЕЙ
ГЛАВА 1
Счастливое семейство. — Письмо. — В пригороде Калькутты. — Майор Леннокс, герцог Ричмондский. — Утерянные сокровища. — Миллион фунтов стерлингов. — Вспышка гнева. — Удар кинжалом.Тяжелая, из тикового дерева дверь тихонько отворилась, и в столовую вошла молоденькая служанка-европейка с подносом в руках. За столом, под мерно покачивающимся огромным опахалом, сидела в ожидании ленча[1] молодая леди с детьми — сыном четырнадцати лет и пятнадцатилетней дочерью. — Как вы поздно сегодня, милая Кетти, — нетерпеливо промолвила хозяйка. — Посмотрите, Патрик и Мери умирают от голода, да и я прождала вас лишних полчаса… Замечание это, сделанное дружеским тоном, ничуть не задело девушку. По ее алым губам пробежала веселая улыбка, приоткрывая красивые ровные зубы. — Госпожа, я не виновата, что задержалась в городе, — с той милой фамильярностью, которую могут позволить себе лишь пользующиеся особой любовью хозяев служанки, перебила она леди. — Из того злосчастного места, где сражаются с бунтовщиками ваш муж и мой отец, только что доставили почту. Дети с радостными криками вскочили из-за стола: — Письмо от папы! Письмо от папы! Спасибо, Кетти! — Значит, ничего страшного, что я чуть не уморила вас голодом, мистер Патрик? Не так ли, мисс Мери? Да и госпожа, надеюсь, простит меня, кокетливо произнесла девушка, ставя на стол поднос с конвертом и завтраком, и вышла, не дожидаясь ответа хозяйки. Мать протянула дрожащие руки к письму. Ее волнение имело основание: бои на границе Британской Индии[2] и Афганистана шли жестокие. Противники не соблюдали правил и не знали ни милосердия к раненым, ни уважения к павшим. И когда окончится война, никто не знал: современные тактические приемы, усовершенствованное оружие и отвага английских солдат не были в состоянии сломить сопротивление фанатичных туземцев. Конверт оказался тяжелым, словно в нем книга. А между тем он содержал лишь послание воина — мужа и отца. В каждое слово, даже если речь шла о событиях незначительных или милых пустяках, он вложил душу. Эти повседневные записи человека, постоянно рискующего жизнью, делались наспех во время привала, под орудийный гром или ружейные выстрелы, и свидетельствовали о глубочайшей любви к семье и верности долгу. Прежде чем распечатать конверт, молодая женщина с нежностью посмотрела на висевший в холле портрет, на котором был изображен в полный рост глава этого очаровательного семейства, сорокалетний красавец — офицер Гордонского полка шотландских горцев[3]. На длинных ресницах хозяйки дома сверкнули слезы и медленно скатились по щекам, сохранившим свежесть вопреки нездоровому местному климату. Встревожившись, дети схватили ее за руки: — Мамочка, ты плачешь? — Да, мои дорогие! Но это благостные слезы. Стоя втроем перед портретом, они являли собой дивное олицетворение красоты, здоровья, семейного счастья и любви. Леди, высокая, стройная, темноволосая, могла бы сойти за старшую сестру. Лицом сын вышел в мать, но телом был крепок, как и подобает будущему мужчине. Девочка зато до удивления походила на отца, каким его запечатлел художник: такие же большие голубые глаза, светлые волосы и столь же спокойный и вместе с тем решительный вид, что вовсе не лишало ее девичьего очарования. О завтраке уже не вспоминали, и он стыл на столе под опахалом, которое, не переставая, приводил в движение скрытый перегородкой слуга. В широко распахнутые окна, обрамленные лианами, ползучими стеблями душистого перца и ярко цветущими орхидеями, был виден сад. Изумрудно-зеленые лужайки, посыпанные песком аллеи, пестрые клумбы, карликовые пальмы, гигантский бамбук, бананы с огромными атласными листьями, карминно-красные цветы, источавшие пьянящий аромат манговые деревья, грандиозные баньяны[4], каждый из которых, обладая столбовидными воздушными корнями, служащими опорой для ветвей, мог заменить собой целую рощу, — все это создавало чарующую картину типичного обихоженного английского парка, перенесенного в царство буйной экзотической флоры. Вдали, насколько хватало глаз, текли воды реки Хугли — западного рукава дельты Ганга, по которому беспрерывно сновали суда. Вдоль берега шла шоссейная дорога, Стренд-роуд, по ней до Калькутты менее часа езды. То там, то здесь из-за такой же массы цветов и зелени выглядывали виллы и нарядные коттеджи других обитателей фешенебельного пригорода Гарден-Рич, где спасались от шума большого города чиновники, военные и представители финансовых и промышленных кругов. В тени деревьев, под навесами и по выложенным плиткой садовым дорожкам, позевывая и лениво потягиваясь, слонялись слуги-индусы — не менее десяти человек, а ведь хозяев-англичан всего-то трое! Единственным, кто приносил пользу, был здоровяк кучер — высокий парень с залихватскими усами, резкими, как у цыган, чертами лица и проницательным взглядом черных глаз. Несмотря на всю эту кажущуюся, но в действительности не особо разорительную для хозяев роскошь — затраты на питание и жалованье этим горе-слугам были ничтожно малы, — семья не могла похвастать богатством. Майор Леннокс как истинный шотландец был знатен, но безденежен. Родословная его восходила к тому самому Чарлзу Ленноксу, герцогу Ричмондскому, что был сыном английского короля Карла II и Луизы де Керуаль. И если бы не его удручающая бедность, он мог бы занять почетное место в палате лордов. Однако жизнь распорядилась иначе: Чарлз Эдуард Леннокс, последний представитель шотландской ветви Ричмондских герцогов, смог дослужиться лишь до майора полка шотландских горцев и теперь воевал в Индии против взбунтовавшихся племен афридиев[5]. Единственным источником его доходов было жалованье, которого едва хватало на семью. Но семейная жизнь у него сложилась удачно. Он взял в жены красивую девушку, такую же знатную и такую же бедную, как он сам, и она подарила ему Мери и Патрика, их радость и гордость. И пусть у них не имелось лишних денег, они были благодарны судьбе: природа не отказала им в уме, тяжелый климат Индии пощадил их здоровье, а испытываемое ими счастье было настолько полным, что вызвало бы глубокое недоумение у пессимиста или скептика. Медленно, с благоговейной нежностью женщина вскрыла конверт. Оттуда выскользнула стопка листков, исписанных мелким убористым почерком, причем так плотно, что строчки забегали на поля. На одном из них — тщательно начертанный план с пояснениями и короткой, сделанной в самом низу припиской, адресованной жене: «Храните этот чертеж в надежном месте. Помните, в нем залог обеспеченного будущего наших детей». — Довольно странно, — удивилась леди. — Дети, посмотрите, что нам прислал ваш отец. Несмотря на многообещающее содержание текста, ему не было придано особого значения: для них, бескорыстных и горячо любящих, самым дорогим было все же письмо. — Мама, читайте скорее!.. Читайте же!.. — торопили дети с глазами, полными радостных слез. И леди, запинаясь от волнения, с чуть ли не торжественными нотками в голосе, приступила к чтению письма, столь трагическим образом повлиявшего на всю их дальнейшую судьбу:
«Лагерь в Чакдаре, 1 сентября 1897 года
Дорогая жена! Милые мои дети! Вы никогда не задавались вопросом, отчего мы так бедны и что за злые силы лишили вас всех тех материальных благ, которыми вы должны были бы обладать по своему происхождению. Никогда ни единым словом не коснулись вы этой болезненной темы, старательно и деликатно оберегая меня от бесплодных переживаний. Тем не менее мысль о тщете, в которую ввергло вас мое положение бедного офицера, о несправедливости, обрушившейся сорок лет тому назад на нашу семью, омрачившей мою молодость и угрожающей вашему счастью, всегда причиняла мне глубокие страдания. Но сегодня, впервые обрисовав вам печальную действительность, я могу наконец сказать: верьте, скоро все изменится к лучшему! Уже недалек тот день, когда мы покончим с полунищенским существованием в жалком коттедже в Гарден-Риче, в котором не приличествует жить даже сержанту, не говоря уже о семье герцога Ричмондского! Немало выпало на мою долю страданий. В бедности прошли детство мое и молодые годы. К тому же обо мне, сироте, заботились чужие люди. Как вы знаете, родители мои стали жертвой кровавой резни в Канпуре[6]. Это случилось в 1857 году. Моему отцу исполнилось тогда сорок лет. Я же только-только родился. Отец командовал семьдесят четвертым королевским полком. Богатый, как вице-король[7], он вел расточительную жизнь знатного, не стесненного в расходах вельможи, как и подобает отпрыску древнего рода. Когда же Канпур, в котором разместился его полк, осадили мятежные сипаи[8], он заранее предугадал все, что произошло потом: и нерешительность главнокомандующего, и предательство Нана Сахиба[9], и даже то, что Хавелок[10] с войсками подойдет к городу слишком поздно. Готовясь к худшему, отец продал все что мог и на вырученные деньги купил у негоцианта[11] — парса[12], которому когда-то спас жизнь, драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью более миллиона фунтов стерлингов. Сундук с этими сокровищами, к которым были добавлены золотые и серебряные монеты, спрятали в надежном месте, о котором кроме отца знал только тот парс, человек честный, к тому же поклявшийся хранить тайну. А через восемь дней из-за измены раджи[13] Битхура[14] город оказался во власти бунтовщиков. Отец погиб, защищая вход в комнату, где я лежал в колыбели. Убили и мать. Но меня под ворохом покрывал не заметили».Затаив дыхание, со слезами на глазах слушали дети это драматическое повествование, написанное просто, без прикрас, и оттого еще более трогательное. Мать, с трудом сдерживая рыдания, продолжала читать:
«Теперь мне остается только сообщить вам, что волею судьбы я обнаружил сокровища моего отца, и здесь, в этом диком краю, охваченном вооруженным восстанием, мне удалось обрести бесценные документы. Благодаря счастливой случайности, а может, и самому Провидению, с бедностью отныне покончено и род Ленноксов снова богат. Упомянутые выше бумаги и план я прилагаю к письму. Берегите их как зеницу ока».Взволнованные, радостные, они не могли поверить тому, о чем узнали. В конце письма майор попросил жену как можно скорее купить и прислать ему кое-что из вещей. — Давайте сделаем это прямо сейчас! Поедем в Калькутту! — предложил Патрик. — Хорошо, сынок, — согласилась мать. — Пусть подадут коляску, да поживее! — воскликнула Мери, нажимая кнопку электрического звонка. Не прошло и четверти часа, как пара резвых пони[15] стремительно мчала экипаж с леди Леннокс и детьми по Стренд-роуд, и вскоре они оказались в Калькутте. Было около шести часов вечера. Жара спала, и замерший было город вновь начал оживать. Но широким пыльным улицам бойко катили конные коляски и трамваи. Туземцы в белоснежных одеяниях образовывали шумные многолюдные толпы. Однако европейцев среди прохожих не было: они считали унизительным для себя ходить пешком. На облик этого огромного города причудливейшим образом наложили свой отпечаток как Азия, так и Европа. Дворцы, портики с колоннами, церкви, памятники, позолоченные пики садовых оград, парки, скверы и бульвары с изумительными тропическими цветами, широкие проспекты, трамваи, электрические фонари, яркие афиши. И тут же смуглолицые бенгальцы — стройные, крепкие, энергичные, сотни экипажей, налетавших на людей, которые лишь чудом оставались в живых. Яркое, неповторимое зрелище озарялось ослепительными солнечными лучами, и в них лишь усиливался и без того резкий контраст между градостроительными атрибутами западной цивилизации, возвещавшими о благополучии и процветании, и сутолочной жизнью восточной улицы. Коляска с леди Леннокс и детьми вихрем неслась сквозь толчею, что считалось здесь высшим шиком. Их кучер, ничем не отличаясь от остальных индийских возниц, с сатанинским восторгом бросал экипаж в самую гущу людскую, вызывая испуг и сумятицу. Что же касается леди Леннокс, Патрика и Мери, то они холодно взирали на прохожих, безропотно сносивших подобное глумление. И это — добрые, чувствительные натуры! У огромного фешенебельного магазина коляска пристроилась к веренице других, и все трое — леди впереди, дети, взявшись за руки, сзади — чинно направились сквозь почтительно расступившуюся толпу зевак-туземцев к высоченным ажурным дверям магазина готового платья. Оттуда как раз выходил изысканно одетый бенгалец и нечаянно задел леди Леннокс. Посторонись она вовремя, этого не произошло бы, но уступить дорогу какому-то индийцу казалось ей крайне унизительным. Надо заметить, англичане — даже самые достойные, включая ярых поборников равенства, — открыто выказывают глубочайшее презрение к жителям своих колоний. Тех, у кого черная, желтая или красная кожа, они даже не считают за людей и ставят куда ниже своих любимых собак или скаковых лошадей. Завидев европейца, туземец — существо в их глазах презренное — должен отойти как можно дальше, чтобы тот, не дай Бог, не коснулся его. Подобные чувства к местным жителям питают не только мужчины, но и женщины, не уступающие им в надменности. Конечно, это дико и абсурдно, но реальность тем не менее такова! И когда леди Леннокс непочтительно толкнули, она, обычно добрая и мягкая в обращении, с гневным вскриком залепила бенгальцу звонкую пощечину и обозвала его самым обидным для индусов словом — «Суар!» — «Свинья!», которым англичане оскорбляют их на каждом шагу, по поводу и без повода. Обычно в подобном случае индиец, опустив голову, торопливо уходит, утешая себя тем, что могло быть и хуже, встреться он с джентльменом-боксером. Однако на этот раз произошло иное. Гордо вскинув голову, бенгалец бросил на дерзкую леди свирепый взгляд потревоженного тигра. Злоба исказила его покрытое бронзовым загаром лицо, зубы заскрежетали, на дрожащих от ярости губах выступила пена. С молниеносной быстротой выхватил он из-за пояса кинжал с украшенной самоцветами рукояткой и вонзил бедной женщине в грудь. — Он убил меня! Боже, смилуйся! — воскликнула она глухо и стала медленно клониться вниз.
ГЛАВА 2
Бедная мать! — Несчастные дети! — Преступник. — Брахман. — Первая помощь. — В военном госпитале. — Знания и самоотверженность. — Перед верховным судом. — Приговор. — Хуже смерти. — Осквернение трупа. — Ярость. — Фанатизм. — Убийство.Патрик и Мери оцепенели от ужаса, в груди у них что-то оборвалось, когда они услышали жалобный крик. Не помня себя, они подскочили к матери, протянув дрожащие руки, чтобы поддержать ее. — Мамочка! Дорогая мамочка! — кричали они в испуге. Бедняжка судорожно вцепилась в рукоятку кинжала. На груди зловещим алым пятном расплывалась кровь. Взгляд широко раскрытых от боли и ужаса глаз затуманился. На губах, только что озаренных горделивой улыбкой счастливой матери, выступила розовая пена. А бедные дети, страшась самой мысли о чудовищной непоправимости случившегося, продолжали исступленно кричать: — Мама!.. Ее убили!.. Помогите кто-нибудь!.. Помогите!.. Хотя прошло лишь несколько мгновений, им казалось, что минула вечность. Убийцу дети не видели: горе, постигшее их, было столь велико, что они никого не замечали, кроме своей несчастной матери. Зато бенгалец, и не думая убегать, хладнокровно созерцал эту драму, испытывая наслаждение при виде агонизирующей, истекающей кровью женщины и отчаявшихся детей. Судя по алой шелковой перевязи, перекинутой через плечо, убийца был брахманом — членом высшей жреческой касты, которая, не смирившись с английским владычеством, непрестанно подстрекала индусов к бунту. Брахманы пользовались огромным влиянием среди местного населения и представляли собой грозную силу, поскольку им слепо подчинялась целая армия фанатиков. Казалось, насильник был совершенно один среди чуждых ему людей, сбежавшихся отовсюду к месту происшествия, чтобы подхватить раненую женщину, бережно внести ее в распахнутые настежь двери магазина и в ожидании врачебной помощи уложить в плетеный шезлонг. Однако в толпе появились одетые в лохмотья индусы с мрачными свирепыми лицами. Они обступили брахмана плотным кольцом и попытались увести. Без сомнения, то были факиры[16]. Еще немного, и им удалось бы спасти насильника от возмездия. Однако на их беду поблизости оказался солдат королевской морской пехоты — огромного роста, в красной униформе и белом шлеме. Он видел издали, что и как произошло, и бросился на звероподобных телохранителей брахмана. Разбросав их в разные стороны, смельчак схватил преступника за шиворот и крикнул зычно: — Друзья, ко мне! С полдюжины военных, которые прогуливались неподалеку, глазея на витрины, энергично пробились сквозь толпу индусов. Брахмана тут же связали и увели под возмущенные возгласы европейцев, желавших злодею смерти. К леди Леннокс, лежавшей с белым как полотно лицом, привели военного врача. Щупая пульс и слушая одновременно торопливый, сбивчивый рассказ о покушении, он лишь сокрушенно покачивал головой. Подавленные горем, с трудом сдерживая рвущиеся наружу рыдания, Патрик и Мери стояли на коленях рядом с шезлонгом. Пусть и слабый, но пульс все же прослушивался. С бесконечными предосторожностями врач принялся извлекать из раны кинжал. Хотя он делал это весьма искусно, бедная страдалица не раз вскрикивала от боли. И только когда операция закончилась, из ее груди вырвался вздох облегчения. Достав из саквояжа тонкий зонд с затупленным концом, врач начал медленно вводить его между краями раны. Губы плотно сжаты, на лице — сосредоточенное выражение. — Попробуем сделать невозможное, — прошептал он. — Вы спасете ее, не правда ли? Вы вылечите нашу бедную мамочку, ведь верно? — со страстной мольбой восклицали брат и сестра. Но здесь, в магазине, женщине можно было оказать только первую помощь. Поэтому врач распорядился доставить раненую в военный госпиталь, к счастью, находившийся неподалеку. Ее понесли туда прямо в шезлонге, очень осторожно, защищая от палящих лучей солнца зонтом. Дети шли рядом, печальные и понурые. Слух о покушении быстро разнесся по прилегающим улицам, как всегда бывает с дурными вестями. Белая женщина убита туземцем! Европейцы ощутили себя беззащитными. С возмущением и страхом за свою жизнь они требовали, чтобы властями были приняты самые решительные меры, дабы впредь ничего подобного не повторилось. Кое-кто из прохожих узнавал Патрика и Мери. Значит, жертвой стала сама леди Леннокс, жена герцога! И тот факт, что убийца посягнул на жизнь столь знатной особы, еще более усиливал гнев и опасения европейского населения. В госпитале пострадавшей была отведена генеральская палата. Сыну и дочери, само собой, разрешили остаться при матери. Теперь доктор мог попытаться, совершив чудо, спасти умирающую. И он, призвав на помощь все свои знания, самоотверженно, даже с каким-то фанатичным упорством, вступил в схватку со смертью. Чтобы не допустить остановки сердца или обморока, который тоже был крайне опасен, он быстро сделал подкожную инъекцию эфира и вслед за тем — кофеина. Пульс участился, щеки порозовели. Поскольку было потеряно много крови, с помощью опытных ассистентов врач ввел в вену сыворотку, что сразу же дало положительный эффект. Целые сутки поддерживал он еле теплившуюся жизнь — беспрерывно прослушивал сердце и легкие, чтобы предотвратить инсульт или пневмонию, время от времени прибегал к подкожным инъекциям. Дети неотлучно находились в соседней комнате. Изредка, на цыпочках, заходили они к матери, убеждались, что она жива, и, бросив на доктора благодарный взгляд, обнадеженные возвращались обратно. Тем временем председатель верховного суда, заседавшего в Калькутте[17], созвал всех членов этого учреждения. Преступник был удостоен чести предстать пред столь высокой судебной инстанцией лишь в силу того, что покушался на жизнь представительницы белой расы, к тому же из высшей аристократии. Формальности заняли минимум времени, что не могло не напомнить полевые суды с их жестокими расправами над беззащитными людьми. И в самом деле, к чему тянуть: убийца задержан на месте преступления, в дополнительном следствии не было особой надобности, а приговор был известен заранее. Подсудимый знал, что его ждет, но, представ перед судом в сопровождении двух стражников, вел себя так, словно все происходящее его не касалось. Огромный зал был битком набит. Приверженность к иерархии, которой англичане так наивно гордятся, подтверждалась и здешним порядком. Публику разделили на три очень четкие категории: английскую аристократию, европейцев-торговцев и индусов. Первые занимали ложи, вторые сидели внизу на скамьях, а третьи стояли. Судье пришлось неоднократно обращаться к подсудимому с вопросами относительно его имени, времени и места рождения, прежде чем тот, наконец, прервал молчание и голосом резким и звучным, как звон кимвалов[18], заявил с лютой ненавистью: — Вас интересует мое имя… Так знайте же, — зовут меня Враг! Да, Враг, и вы скоро убедитесь в этом! В толпе темнокожих, плохо одетых и пропахших потом людей, явно настроенных в пользу обвиняемого, послышался глухой ропот. Предъявив подсудимому орудие преступления, судья спросил: — Признаете ли вы, что этим ножом нанесли удар леди Леннокс, герцогине Ричмондской? — Я — Нарендра, брахман четвертой ступени[19], четырежды святой и четырежды священный. В «Законах Ману»[20] четко сказано: «Всякий, кто преднамеренно или в припадке гнева ударит брахмана хотя бы былинкой, должен быть немедленно предан смерти, с тем чтобы через двадцать одно переселение души нечестивец родился во чреве нечистого животного». Та, кого вы называете герцогиней Ричмондской, ударила меня, и я лишь исполнил завет великого Ману, сына Вивасвата, бога Солнца. — Значит, вы признаете себя виновным в покушении на убийство? — Да, и горжусь этим. — А вам известно, что подобное преступление карается смертной казнью? — Знайте, в «Законах Ману» говорится также: «Даже царь не смеет убить брахмана, какие бы преступления тот ни совершил, он может провинившегося лишь изгнать из своих владений, сохранив за ним все его имущество!» — Мы не признаем ни «Законов Ману», ни власти брахманов. Вы — просто подданный ее величества королевы и заслуживаете смерти. Пожав плечами, брахман проговорил своим раскатистым голосом: — Вы не можете… Вы не смеете убивать меня… — А посему, — холодно продолжал судья, — мы вас приговариваем к смертной казни через повешение. Этот справедливый приговор будет исполнен сегодня же, за два часа до захода солнца. Не дрогнув, выслушал брахман эти ужасные слова, и когда председатель спросил его, не хочет ли он выступить с последним словом, бенгалец гордо встал во весь рост и, величественно глянув на теснившихся в зале индусов, воскликнул: — Вы, верные священным законам, отомстите за мою смерть! Сделайте это! В толпе факиров, сдерживаемой тремя рядами вооруженных винтовками со штыками солдат, произошло движение, послышался глухой гул, а несколько произнесенных вполголоса проклятий говорили о том, что призыв услышан и будет выполнен. Надо сказать, что до сих пор не было оснований придраться к этой пусть и короткой, но соответствовавшей требованиям закона процедуре: преступника ожидало заслуженное возмездие за содеянное. Но членам верховного суда, решившим окончательно запугать туземцев, с тем чтобы они при одном упоминании о европейце ощущали трепет, пришла в голову злополучная мысль ужесточить наказание, что в действительности, однако, дало прямо противоположный эффект. Председатель, коротко переговорив с другими судьями, сухо добавил, обращаясь к осужденному: — А после того, как вы примете смертные муки, палач отделит вашу голову от тела, ее обреют и зашьют в свежесодранную свиную шкуру. Еще в одну шкуру нечистого животного завернут ваше туловище. Затем ваши останки будут брошены далеко друг от друга в воды реки и таким образом не смогут быть преданы погребальному костру, как того требует ваша вера. И так будет с каждым, брахман ли он или неприкасаемый, кто осмелится поднять руку на европейца, подданного ее всемилостивейшего величества королевы. Тот, кто знает, сколь велико отвращение индусов к некоторым животным, которые считаются нечистыми, и с каким благоговением они относятся к умершим, легко сможет представить себе, что за ярость вызвало в их сердцах подобное решение. Даже смуглое лицо брахмана побелело, когда он, обращаясь к председателю суда, произнес дрогнувшим голосом: — Вы не сделаете этого! Но тот не удостоил преступника ни словом, ни взглядом. — Я заплачу вам, если тело мое будет возложено на священный костер! В ответ то же холодное, презрительное молчание. — Десять тысяч фунтов!.. Пятьдесят… Сто тысяч!.. Но судья распорядился: — Увести приговоренного! И стражники поволокли беднягу. Ранее он держался стойко, но сейчас испускал яростные крики при мысли о глумлении, которому подвергнется его мертвое тело. В назначенный час приговор был приведен в исполнение, и не на английский манер — во внутреннем помещении тюрьмы, а публично, на площади, на глазах многолюдной толпы. И это понятно: казнь была задумана в назидание туземцам, и ничто на свете не смогло бы помешать властям осуществить жестокую экзекуцию. Индусы, сдерживаемые конной полицией и солдатами, угрюмо и со страхом наблюдали за зловещими приготовлениями. К наскоро сколоченной виселице подтащили двух огромных, зажиревших, с отвислыми сосками свиней, которые глупо хрюкали, не подозревая о страшной участи, ожидавшей их. Пока два живодера забивали животных и снимали шкуру, под конвоем солдат королевской морской пехоты привели приговоренного — босого, со связанными руками. Он попытался что-то крикнуть, возможно, воззвать к толпе о помощи, но барабанный бой заглушил его голос. И в тот же миг, к возмущению толпы, разразившейся воплями ярости и отчаяния, несчастный был вздернут. Удерживаемые ружьями, дулами пушек и пиками уланов, разодетых в красные мундиры, индийцы, не будучи в силах помешать святотатству, мрачно смотрели, как совершается осквернение тела. Когда смерть завершила свое дело, палач взмахом сабли отсек покойнику голову, которую тут же подхватил один из его подручных, ловко обрил и завернул в окровавленную свиную шкуру, в то время как другой занимался туловищем. Затем останки погрузили на повозку, окруженную эскадроном улан, и две сильные лошади помчали ее к реке. Толпа разразилась гневными криками и, словно обезумев, ринулась вслед за повозкой. Возможно, эти фанатики хотели досмотреть все до конца, чтобы преисполниться еще большей ненавистью к англичанам, хотя и не исключено, что они еще надеялись спасти бренные останки от дальнейшего поругания. Европейцы, расходясь после казни, по-разному реагировали на случившееся. Те из них, кто хорошо знал туземцев, заявил вполне определенно: — То ли по собственному наитию, то ли по чьей-то дурацкой подсказке, но судьи совершили непростительную ошибку: хотели запугать индийцев, но в действительности лишь озлобили их. Дай Бог, чтобы не пришлось нам вскоре жестоко поплатиться! Опасения эти, увы, оправдались!
__________
Со времени покушения прошло тридцать шесть часов. Леди Леннокс не умерла, хотя жизнь ее висела на волоске. Врач, которому она была обязана этим чудом, преисполнился надеждами. Патрик и Мери буквально падали от усталости. Убитые горем, они так и не прилегли ни разу отдохнуть, во рту у них не было ни росинки. Но теперь и к ним постепенно возвращалась жизнь. Бледная и печальная улыбка, мимолетная, словно солнечный луч в зимний день, появилась на обескровленных губах их матери, и она шепотом произнесла имена детей. И от этой улыбки, от того, что она позвала их, пусть и едва слышно, нервное напряжение, в котором все это время пребывали они, спало, на сердце стало легче и из глаз от радости брызнули слезы. Их мать спасена! Как трогательно возносили брат с сестрой благодарственные молитвы! Как пылко выражали свою признательность врачу, чьи знания и самоотверженность сумели предотвратить страшную трагедию! Только теперь смогли они перекусить, а когда наступила ночь, то заснули тем глубоким сном, какой следует обычно после сильных душевных потрясений. И сам доктор, едва живой от усталости, решился уйти в свой кабинет, поручив пациентку заботам сиделки, которой полностью доверял. Правда, на всякий случай, чтобы быть готовым вскочить в любую минуту, как только раздастся электрический звонок, он лег на кушетку, не снимая одежды. Но на рассвете врача разбудили ужасные крики, доносившиеся с того конца коридора, где находилась леди Леннокс. Предчувствуя недоброе, он стремглав вылетел из кабинета и, когда распахнул дверь в палату, глазам его предстало ужасное зрелище. На полу, связанная, с кляпом во рту, лежала сиделка. Рядом билась в истерике Мери. Патрик с болью во взоре судорожно сжимал руки и кричал осипшим, не своим голосом: — Мама!.. Мама!.. Лицо герцогини Ричмондской, белое и застывшее, казалось выточенным из мрамора. Грудь не вздымалась. Оледеневшая рука беспомощно свисала вниз. У приоткрытого рта тонкой струйкой застыла побуревшая кровь. Шея была туго затянута черным шелковым шарфом, завязанным крепким узлом. Молодую женщину дерзостно и с чудовищной жестокостью задушили во время сна. Доктор, известный мужеством и выдержкой, побледнел и, задрожав всем телом, издал крик ужаса. А прямо над койкой, пригвожденный к стене из кедрового дерева острием кинжала, висел большой лист бумаги, и врач, немного придя в себя, прочел слова, объяснившие мотив нового преступления: «Месть брахманов!»ГЛАВА 3
«Бессребреник». — Вверх по Гангу. — Индийские крокодилы гавиалы. — Люди — добыча крокодилов. — Схватка с хищниками. — Своевременная помощь. — Спасенные. — Останки брахмана. — Ночь на реке. — В Калькутте. — Арест.Красивая яхта под американским флагом медленно поднималась вверх по течению, направляясь в Калькутту. Это был восхитительный образец судостроения: водоизмещением около полутора тысяч тонн, изящная и вместе с тем прочная, она могла противостоять любым атакам моря, хотя предназначалась исключительно для гонок. Белоснежный корпус, украшенные золотым орнаментом борта, иллюминаторы и надпалубные постройки, грациозно оттянутые назад, свежеотполированные и выкрашенные в бурый цвет мачты, резные перила, нактоуз[21], вентиляционные трубы, никелированные детали, удачно подобранные породы дерева, великолепие отделки — все говорило о размахе, богатстве и тонком вкусе. Экипаж — человек тридцать, не считая машинного отделения, — стоял по местам в ожидании причала. Матросы — как на подбор, сильные, ловкие, с мощной грудью — были одеты в темно-синие тельняшки с вышитой серебром надписью: «Бессребреник». Так называлось судно, о чем возглашали крупные золотые буквы на корме. Чтобы дать яхте, отделанной с расточительной роскошью, подобное имя, надо было обладать недюжинной фантазией, обостренным чувством юмора или философским складом ума. Впрочем, не исключено, что судно названо так в память о некоем таинственном событии. На мостике стояла примечательная пара: высокий молодой мужчина — с горделивой осанкой, в элегантном костюме яхтсмена, и юная, сияющая красотой женщина, в скромном шелковом пеньюаре[22] кремового цвета. Он — брюнет с короткой, слегка вьющейся бородкой, с большими лучистыми карими глазами, матовым цветом лица, в котором отражались одновременно и энергичность и доброта. Она — блондинка с нежно-розовой кожей, с глазами цвета небесной лазури, с великолепными жемчужными зубами, блестевшими из-за коралловых губок. Выражение ее лица было нежным и вместе с тем решительным. На корме орудовал бородатый человек атлетического сложения, с обветренным лицом и черными как уголь бровями, с руками огромными и покрытыми густой растительностью, с движениями резкими и ловкими, всем обликом своим напоминавший театрального злодея. Голову его украшала фуражка с золотым галуном, на куртке сияли металлические пуговицы с якорями. Судя по всему, это был боцман — должность необходимая и ответственная. За блестевшим никелировкой штурвалом — этаким большим серебристым солнцем — стоял рыжий гигант с козлиной бородкой, типичный янки. Пожевывая табак, он уверенно, отлично обходясь без лоцмана, вел судно. Хотя солнце уже завершило свой дневной путь, жара стояла удушающая. Боцман не мог оставить без внимания этот факт, и на палубе зазвучал его зычный голос с «южным» акцентом, выдававшим славный Прованс[23],— кстати, и исходивший от него крепкий запах чеснока подтверждал его происхождение. — Ты сма-атри, друг Дзонни, воздух-то горясь, сто адова песька! Право слово, как у нас в Тулоне… Рулевой сплюнул за борт длинную струйку желтой слюны, пожал плечами и ответил гнусавым голосом с сильным американским акцентом: — Этот парень неподражаем! Как в Тулоне, говоришь? Так ведь там и холода бывают… Снег выпадает… Боцман возмутился: — Ты сто! Это зе иней, а не снег, да и то только в Оллиуле. А снег, это зе на горе Гро-Серво только, да и то… Он дазе не мокрый, от него только зелтеют листья… Янки расхохотался и хотел было отпустить еще одну шуточку, чтобы подзадорить дружка, но тут судно резко сбавило ход: хозяин передал по переговорному устройству в машинное отделение приказ «стоп», и механик немедленно сбросил обороты. — Сто такое? — вскричал провансалец, глядя вдаль по ходу яхты. В воде быстро перемещалось множество каких-то предметов, небольшие, едва различимые черные шарообразные тела то и дело всплывали и опускались. Рулевой Джонни тоже всмотрелся: — Эй, Мариус, у тебя отличное зрение, что это там? — Бозе мой, это зе люди!.. — Или звери, черт меня подери! — И какие-то мешки. Ну и ну, да там зе полно кокодрилов — так и кисат, так и кисат… Сто зе такое, они зе всех созрут… Яхта продолжала идти по инерции, а ей навстречу, влекомое течением, быстро неслось еще издали замеченное зорким Мариусом живое скопище. Люди плыли, отчаянно вопя, буквально на последнем дыхании. Их окружала стая индийских крокодилов — гавиалов, которыми изобилует дельта Ганга. Нередко эти животные устилают собой песчаные отмели, поросшие травой берега и прогалины в мангровых зарослях[24], но подлинная их стихия — вода, где они чувствуют себя так же привольно, как рыбы. Подобно остальным крокодилам, от которых гавиалов отличает лишь удлиненная морда с утолщенными ноздрями, эти животные сильны, ловки и прожорливы. Обитая во многих реках Индостана, они ведут себя как настоящие хищники, причем их любимое лакомство — человеческое мясо, и горе тому, кто окажется поблизости от их зубастых пастей. Пловцы представляли собой легкую добычу для этих пресмыкающихся, устроивших себе славное пиршество. Одни гавиалы стремились поймать людей за ноги, и то одна, то другая темноволосая голова исчезала под водой; лишь изредка над поверхностью взметались руки и тут же вновь исчезали в водной глуби. Другие твари, яростно хлопая по воде хвостами, хватали людей поперек туловища и перерезали пополам своими гигантскими, мощными челюстями, клацая ими как ножницами. И каждый раз слышались душераздирающие крики, свидетельствовавшие, что еще одной жертвой стало больше. Пловцов оставалось все меньше, а жадность хищников не убавлялась, так что судьба людей, казалось, была предрешена. Правда, некоторые могли бы вырваться из страшного окружения и попытаться добраться до берега. Но никто на это не шел. Сбившись посреди реки в маленькую группу, они поддерживали на плаву какие-то предметы, напоминая собой солдат, сгруппировавшихся вокруг полкового знамени, которому угрожает опасность. Женщина с ужасом и состраданием наблюдала перипетии этой трагедии. — Жорж, — воскликнула она, — неужели мы не поможем этим несчастным? — Вы предвосхитили мое намерение, дорогая Клавдия, — ответил хозяин яхты и тут же приказал: — Шлюпку с шестью матросами — на воду! Боцман Мариус извлек из своего свистка несколько резких модуляций[25] с ритурнелью[26] в конце. Вышколенный экипаж быстро и четко выполнил команду, и шлюпка, в которой, подняв вертикально весла, уже сидели гребцы, стала опускаться. Отойдя от яхты, она быстро приблизилась к гавиалам, окружившим туземцев. Однако мерзкие рептилии, как ни странно, не собирались прерывать охоту. То ли жадность обуяла их, то ли крокодилы сознавали свое численное превосходство, но они не испытывали страха и лишь немного потеснились, пропуская судно. Помощь подоспела вовремя! В живых оставалось не более десятка индусов, да и те уже изнемогли, ноги у них сводила судорога. Но, как бы ни было им тяжело, они сперва забросили в шлюпку предметы, которые старались спасти ценой своей жизни, и лишь затем, по команде старшего, ухватились за борта и, подхваченные моряками, перевалились в лодку. Увидев, что добыча ускользает, гавиалы в ярости окружили шлюпку. Их было больше сотни, многие достигали невиданных размеров. Угрожающе рыча, они выскакивали на полкорпуса из воды и, разинув огромные зубастые пасти, цеплялись за борта когтистыми перепончатыми лапами, угрожая затопить бот. Матросы и спасенные ими индусы находились в отчаянномположении. Лодку раскачивало из стороны в сторону. Она могла перевернуться в любой момент. Гребцы били гавиалов веслами, пытаясь защититься. И хотя это были мужественные люди, при виде разинутых зловонных рыл они испытывали не только отвращение, но и страх. Учитывая ситуацию, хозяин яхты дал короткую команду в машинное отделение: — Тихий ход! И тотчас добавил: — Мариус, карабины! Боцман был наготове. Не дослушав конца команды, он ворвался в рулевую рубку, схватил три многозарядных винчестера, подбежал к трапу, кубарем скатился на палубу, одну винтовку отдал хозяину, другую — хозяйке, третью оставил себе. Когда до шлюпки оставалось метров четыреста, все трое открыли огонь. Три выстрела прозвучали почти одновременно. Затем еще три и еще три. — Браво, отличные стрелки! — воскликнули толпившиеся на палубе члены экипажа, увидев, что пули попали точно в цель. Шлюпка с матросами и индусами и гавиалы находились в постоянном движении, что создавало дополнительные трудности для стрелков. Малейшая ошибка могла оборвать жизнь одному из этих людей, отчаянно сражавшихся с крокодилами. Но пока что все шло удачно: пули поражали только крокодилов, разметая чешую и дробя кости. За какие-нибудь тридцать секунд с десяток чудовищ, содрогаясь в конвульсиях, пошли ко дну. Выстрелы следовали один за другим, разрежая живое кольцо вокруг лодки, и та, наконец, смогла двинуться к яхте, оставив гавиалов далеко позади. В свою очередь и судно пошло на сближение, и вскоре шлюпку со всеми, кто был в ней, подняли на борт. Мокрые, с кровоточащими ранами и ссадинами, индусы в изнеможении повалились на палубу. С удивлением разглядывал их экипаж. Хозяева яхты, отдав Мариусу винтовки с раскаленными стволами, спустились с мостика. Признав их за главных, индусы встали на колени и в знак благодарности вознесли руки над головой. Один из них, который был за старшего, прерывающимся от волнения хриплым голосом произнес на ломаном английском: — Спасибо тебе, о сахиб[27], защитивший рабов священного Брахмы[28] от чудовищ Ганга и позволивший нам спасти останки трижды святого для нас учителя! Спасибо и тебе, светловолосая госпожа, прекрасная, словно богиня Лакшми[29], с лицом белым, как священный лотос… Хозяин яхты и его подруга внимательно вслушивались в цветистую речь, но понимали далеко не все. Перед ними был мужчина неопределенного возраста, довольно высокий и тощий. Под кожей резко выделялись мускулы. Грудная клетка была хорошо развита. Глаза горели как раскаленные угли. Чувствовалось, что он обладал неизбывной силой и энергией. — Я рад, что помог таким отважным людям, как вы, и сожалею лишь о том, что не смог спасти всех, — сказал хозяин яхты. — Пусть сахиб назовет свое имя, чтобы знать, кого благодарить до конца дней своих. — Я — капитан Бессребреник. — Отныне это имя будет священным для всех четырех каст![30] А теперь, о сахиб, прояви верх благородства и прикажи выдать мне несколько больших кусков белой ткани… Капитан перебил его: — Ты получишь все, что просишь. Но разве вас не мучают жажда и голод? Сейчас тебе и твоим спутникам принесут все, что надо. — Сердце твое столь же щедро, сколь могуча рука. Но прежде чем подумать о себе, мы должны выполнить священный долг. Ты видишь, сахиб, эти два бесформенных свертка. Чтобы сохранить их, более пятисот моих соплеменников погибли от пуль, утонули или были растерзаны крокодилами. В этих окровавленных мешках — останки нашего святого. Вот здесь — голова, а тут — туловище. Англичане обезглавили его, а потом надругались над телом. Палачи завернули в свиные шкуры его останки и выбросили в реку. Но нам удалось их спасти, хотя и немалой ценой! Молча, как завороженные, слушали капитан и его супруга жуткую историю, изложенную тихим, ровным тоном, не скрывшим, однако, от хозяев ярой ненависти, которую рассказчик сдерживал с таким трудом. Индус между тем продолжал: — А теперь, милостивейший господин, разреши нам уединиться где-нибудь на твоем корабле: мы должны вытащить останки нашего учителя из поганых шкур и завернуть их в обещанное тобой полотно. Солнце быстро клонилось к закату. Еще немного, и резко, почти без сумерек, как это всегда бывает в тропических странах, должна была наступить ночь. Входить в порт Калькутты было уже поздно. Решив остаться на реке до утра, капитан приказал бросить якоря и зажечь сигнальные огни. По его приказу боцман отвел индусов в носовую часть судна, где они, укрытые от нескромных взглядов специально для них натянутым брезентом, смогли без помех предаться печальной церемонии, продлившейся не более часу. Капитан не мог оставлять чужих людей на борту, и, когда индусы вышли из-за перегородки, он предложил доставить их в лодке на берег, в безопасное место, укрытое мангровыми зарослями. Индийцы охотно согласились и в девять часов вечера на большой лодке, в сопровождении десяти вооруженных матросов, покинули яхту. Они благополучно высадились и тотчас углубились в джунгли, унося с собой священные останки. Ранним утром яхта снялась с якоря и двинулась величаво вверх по течению, мимо садов, коттеджей, роскошных вилл и дворцов, доков и гаваней. Миновав арсенал и форт Уильям, судно подошло к понтонному мосту, соединившему Калькутту с новым пригородом Хаура. Санитарный досмотр прошел без проблем, и яхта причалила к пирсу. Капитан Бессребреник, захватив бортовой журнал, собирался было отправиться в контору порта, как вдруг на борт поднялся отряд солдат-европейцев во главе с офицером. — Вы — капитан корабля? — грубо спросил командир, даже не поздоровавшись. — Капитан и владелец, — холодно ответил Бессребреник. — Именем ее величества королевы вы арестованы!
ГЛАВА 4
Коней, безоблачному счастью. — Прощание. — Похороны леди Леннокс. — В тюрьме. — Встреча с судьей. — Краткая биография Бессребреника. — Допрос. — Сложное положение. — Клевета. — Таинственный сверток. — Приказ и угроза.Капитан яхты побледнел от гнева. — За что вы хотите арестовать меня? — возмутился он. — Я подчиняюсь приказу, а причины ареста мне неизвестны. — Выражаю протест от имени всех, над кем творится произвол, и требую встречи с американским консулом! Я не имею полномочий принимать протесты и прошу вас добровольно и незамедлительно следовать за мной, иначе придется применить силу. — Но могу ли я, по крайней мере, попрощаться с женой и объяснить ей… — Вам запрещено общаться с кем бы то ни было, — перебил офицер. — Вы обращаетесь со мной, как с государственным преступником… Но тут, заслышав голоса, из своей каюты спустилась по трапу женщина. Увидев супруга в окружении солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками, она вскрикнула от неожиданности и кинулась к нему: — Жорж, милый, что случилось? — Клавдия, дорогая, — ответил молодой капитан, — видать, это и есть хваленое английское гостеприимство: стоило лишь ступить на землю Индии, как меня бросают в тюрьму! — Но я не хочу оставлять вас одного! — воскликнула миссис Клавдия и обратилась к офицеру: — Позвольте мне пойти с мужем. — К великому сожалению, госпожа, это исключено. Кстати, мною получены указания и относительно вас. Пока верховный суд не решит, что делать с вами обоими, вам придется оставаться на яхте, к которой мы приставим военную охрану, — заявил англичанин и приказал Бессребренику: — Идемте, господин! — Милая Клавдия, — сказал капитан яхты, — здесь какое-то недоразумение, скоро все разъяснится. Наберитесь мужества! Ведь на нашу долю выпадали куда более страшные злоключения, и ничего! Не бойтесь, вы же знаете, что я выберусь из любых передряг! Взглянув на безразличные лица солдат, молодая женщина устыдилась своих слез. Собрав всю свою волю, она произнесла как можно более твердо: — Поскольку сопротивление бесполезно, мы подчиняемся силе. До свидания, Жорж, дорогой мой! Сердце мое всегда будет с вами! На набережной капитана поджидала большая четырехместная коляска с откинутым верхом и заранее открытой дверцей. Переднее сиденье занял сержант, капитану офицер предложил сесть сзади, куда пристроился и сам. Дверца тут же захлопнулась, и лошади рысью побежали сквозь только что образовавшуюся у причала толпу местных зевак. На судне разместился отряд солдат, и заметно побледневшая молодая женщина, чье безоблачное счастье было внезапно и столь жестоко разрушено, направилась к трапу, ведущему в ее каюту. Там, по крайней мере, она сможет дать волю душившим ее слезам. Хотя чувство возмущения, охватившее всех членов экипажа, начиная с юнги и кончая боцманом, было велико, никто из них не пытался вмешаться, понимая, что пользы это не принесло бы. Но яростные взгляды, искаженные гневом лица и сжатые кулаки ясно говорили о том, какие чувства обуревают этих славных людей. Эх, если бы на каждого из них приходилось хотя бы только по пять солдат и находись они вне досягаемости пушечных выстрелов со стороны форта, славная была бы схватка! Немало полегло бы солдат в красных мундирах! У трапа миссис Клавдия столкнулась с боцманом. Тот почтительно снял картуз и прочувствованным тоном, который смягчал его «ассент», с неожиданным для такого богатыря волнением промолвил: — Мадам, нашего капитана нет, и теперь здесь хозяйка вы, мы же все — ваши верные, самоотверженные слуги. Вы можете смело рассчитывать на всю ту любовь, преданность и почтение, на которые только способны такие благородные люди, как наши моряки! Комкая в руках шерстяную шапочку, подошел рулевой Джонни. — Да, госпожа, — добавил он, утирая тыльной стороной мозолистой руки набежавшие на глаза слезы. — Француз все сказал правильно. Мы вам преданы душой и телом. Можете положиться на экипаж «Бессребреника». Бедной женщине стало легче от этих безыскусных, но искренних слов. — Благодарю вас, друзья мои!.. Благодарю от всего сердца, — взволнованно прошептала она. Когда госпожа удалилась, провансалец снова нахлобучил свой картуз, примяв его на голове таким ударом кулака, что мог бы свалить и быка: — Сорт побери! Скоты в красных униформах дорого заплатят нам за все это! А экипаж тем временем уже ехал по городу. Из-за большого скопления народа лошади были вынуждены перейти на шаг. По улице в безмолвной тишине медленно двигалась многолюдная процессия, состоявшая в основном из европейцев. Солдаты, моряки и мелкие чиновники шествовали пешком, рядом в бесчисленных экипажах ехали богачи: крупные торговцы, высшие военные и административные чины, словом, вся калькуттская знать. Впереди несли утопающий в цветах гроб, за которым шли двое охваченных горем подростков брат и сестра. Капитан Бессребреник снял шляпу, а офицер отдал честь. — Это хоронят леди Ричмонд, убитую одним из туземцев, — как-то странно взглянув на пленника, сказал он. — А это дети покойницы? — спросил капитан. — Да. Их отец, герцог Ричмондский, сражается с туземными племенами. Подстрекаемые шпионами и провокаторами, они подняли бунт против правительства ее величества королевы. — Бедные дети! Несчастный отец! — прошептал сочувственно хозяин яхты, не замечая саркастических взглядов офицера. Печальная процессия удалилась, лошади снова понесли рысью, и вскоре экипаж остановился у центральной тюрьмы. Офицер под расписку передал пленника тюремщикам. Его обыскали и, оставив все найденные документы и вещи в канцелярии, отвели в камеру с массивными оконными решетками. Будучи человеком мужественным и волевым, капитан Бессребреник не стал предаваться отчаянию, как это сделала бы в подобной ситуации натура заурядная. Усевшись на деревянный табурет, прикованный толстой железной цепью к полу, он хладнокровно, ни на что не жалуясь и никого не упрекая, оценил обстановку и сказал самому себе: — Положение серьезное, но трагедии из этого делать не следует. Произошла ошибка, если только это не чьи-то злые козни. Надо терпеливо ждать, как развернутся события. Такой человек, как я, не может просто так сгинуть, как закатившийся под стол мускатный орешек. Что же касается моей дорогой Клавдии, то у нее мужественное сердце. Она не поддастся страху и угрозам и стойко перенесет удар, обрушившийся на нас как раз тогда, когда мы были так счастливы! Прошло около двух часов. Слуга-индус, сопровождаемый белым надзирателем, принес арестованному еду. Пища, конечно, — самая простая, к тому же ее было немного, хотя вполне достаточно, чтобы утолить голод. Капитан, не терявшийся ни при каких обстоятельствах, быстро расправился с обедом, и теперь ему осталось только терпеливо следить за медленным течением времени. День уже клонился к вечеру, и пленник подумал было, что его решили не трогать до следующего дня, как вдруг с оглушительным лязгом распахнулась дверь. Вошло с полдюжины солдат с винтовками, к которым были примкнуты штыки. Сержант держал в руке револьвер. Пробило пять часов. — Следуйте за мной! — приказал командир. Заключенный молча, сохраняя спокойствие, пошел под конвоем. Его провели по нескольким темным коридорам с мрачными сводами, пока, наконец, он не оказался в крохотной приемной, где и провел с четверть часа под охраной застывших по стойке «смирно» солдат. Когда же раздался пронзительный звонок, капитана ввели в огромный зал. Там его поджидали трое: секретарь, адвокат и председатель верховного суда, тот самый, что вынес столь жестокий приговор брахману Нарендре. Бессребреник с по-прежнему невозмутимым выражением лица сел на стул, стоявший на возвышении перед большим столом, за которым восседал судья. — Соблаговолите назвать ваше имя, — произнес председатель с холодной учтивостью, типичной для английских судей. — Я мог бы в свою очередь спросить вас, на каком основании, в нарушение всех прав человека, меня арестовали и теперь подвергают допросу. Но в знак уважения к законам великой страны я, выразив свой протест, все же отвечу вам! Это заявление, сделанное с чувством собственного достоинства, да к тому же столь уверенным тоном, заставило всех трех судебных чиновников удивленно поднять головы: им редко встречались столь своенравные обвиняемые. — Я — граф Жорж де Солиньяк, французский дворянин, более известный в Америке под именем капитана Бессребреника. И стόю я, как говорят в Америке, сто миллионов долларов. Мне двадцать девять лет. Мы с женой, путешествуя для собственного удовольствия, прибыли теперь на своей яхте в Индию. Резкий контраст между словами «Бессребреник» и «сто миллионов» произвел на англичан столь большое впечатление, что они забыли даже о своем пресловутом хладнокровии. К тому же это заявление вызвало у судьи любопытные воспоминания, и допрос временно принял совершенно иное направление. — Значит, это вы тот эксцентричный джентльмен, о котором два года тому назад сообщала вся мировая пресса… Насколько помню, вы были абсолютно бедны, не располагали никакими доходами — бессребреник, да и только. Вот тогда-то и пришла вам в голову оригинальная идея заключить пари. Вы брались совершить кругосветное путешествие, не имея ни гроша в кармане. Ставкой в случае проигрыша была ваша жизнь, в случае же выигрыша вы получали довольно кругленькую сумму. Согласно условиям, вы отправились в дорогу даже без одежды, заменив ее газетами, которые обернули вокруг тела и стянули веревкой. И вот таким-то образом вам и удалось получить огромное состояние… — Которое я надеюсь в ближайшее время удвоить, — прервал его Бессребреник. — И дело не только в деньгах. В Америке меня величают Нефтяным королем, а королевство, пусть даже и промышленное, должно, по моему глубокому убеждению, располагать по крайней мере миллионом долларов! Я же, как вам известно, обладаю куда более значительными суммами. — Выражаю вам свое восхищение! — сказал судья, в котором, как и в каждом англичанине, склонность к юриспруденции уживалась с любовью к эксцентричности. Совершив этот краткий экскурс в частную жизнь подсудимого, он вновь стал холодно-учтив: — Этот уважаемый господин, Адам Смит, назначен вашим защитником. Согласно закону, он будет присутствовать при вашем допросе, с тем чтобы оказать вам помощь своими знаниями и опытом. Адвокат и обвиняемый обменялись церемонным поклоном. — Теперь перейдем к главному, — продолжал председатель. — У меня в руках заведенное на вас дело. В документах засвидетельствованы мельчайшие подробности, касающиеся вашей деятельности. — Но это невозможно! — изумился Бессребреник. — Извольте не перебивать! Судя по изложенным здесь фактам, вы являетесь сознательным противником любой власти, конституционного строя и законов как таковых… — Скажите уж, что я — анархист! — Вы и прежде, в Америке, — невозмутимо говорил судья, — грубо нарушали общественный порядок, играли на самых низменных инстинктах опустившихся людей, совершали насилие по отношению к честным согражданам, пренебрегали правом собственности, приводили в смуту целые города. Позже, на Антильских островах и на Кубе, вы встали на сторону бунтовщиков и не гнушались заниматься самым настоящим пиратством… — Это клевета! — возмущенно воскликнул Бессребреник. — Я оказывал помощь слабым, освобождал угнетенных, боролся против мерзостей тирании… Я делал это по зову совести, совести честного человека, и, если представится случай, я опять поступлю точно так же. К тому же мы находимся не на Антильских островах и не в Соединенных Штатах, и вы не имеете никакого права судить за поступки, совершенные не в вашей стране. — Я ожидал такого заявления! — произнес судья с саркастической улыбкой. — Эти факты, которые вы признаете, являются лишь подтверждением достоверности тех бесспорных улик, которые будут вам сейчас предъявлены. Вам показалось недостаточным провоцировать беспорядки в Америке и сражаться на стороне бунтовщиков на Кубе, и вот вы в Индии, чтобы и здесь продолжать свою отвратительную, разрушительную миссию. — Это ложь! — Вам предъявляется обвинение в том, что вы поддерживали отношения с афридиями, выступившими против ее величества королевы, поставляли им оружие и боеприпасы, снабжали деньгами… — Я глубоко возмущен и протестую против этих столь же подлых, сколь и нелепых измышлений! — Мы пока не знаем, совершали ли вы эти действия по собственному почину или по распоряжению правительства соседней страны, которое заинтересовано в осложнении обстановки в нашем регионе. — Значит, по-вашему, я русский шпион? — Не исключено! — Но ведь только что я был анархистом!.. — Кто вы, мы еще выясним! В любом случае, вы являетесь человеком, имеющим подозрительные, компрометирующие связи с представителями самых низших слоев общества в этой загадочной стране — со всякого рода темными личностями, бандитами и убийцами… — Я прибыл только вчера утром и ни с кем здесь не знаком, даже с официальными представителями Франции и Америки. Клянусь вам! Слово взял адвокат: — Уважаемый господин председатель, имею честь заметить, что пока мы располагаем одними лишь предположениями, английские же законы запрещают проявлять тенденциозность. Содержание в тюрьме любого лица дозволяется лишь в случае его поимки на месте преступления или при наличии неопровержимых улик. Следовательно, я беру на себя смелость просить немедленного освобождения моего подзащитного из-под ареста. — Но мы располагаем неопровержимыми уликами! — возразил судья. — Какими?! — пылко вскричал Бессребреник. — Вчера утром вы сорвали исполнение приговора, вынесенного верховным судом, оказав помощь смутьянам-индусам… — Для меня они были просто несчастными людьми, которые, выловив в реке останки тела, должны были стать жертвами прожорливых гавиалов. И я не мог не помочь им. Мне в голову не приходило, что английские власти и после исполнения смертного приговора будут с таким упорством преследовать несчастного, жизнью оплатившего все долги… — В данном случае, милостивейший господин, река служила местом анонимного погребения. А из-за вас брахманы смогли этой ночью воздать посмертные почести презренному убийце! Вы повинны в том, что безопасность европейцев оказалась под угрозой! Оживились бандиты, активизировались тайные общества, и не исключено, что в провинции вспыхнет новый бунт. Ваши сообщники уже начали свое дело… — Еще раз клянусь вам, что я здесь никого не знаю. Поступок мой был продиктован исключительно соображениями гуманности. Я оказал помощь людям, подвергавшимся смертельной опасности, даже не предполагая, каким образом оказались они в подобной ситуации… В этот момент в зал неслышно вошел посыльный. В руках у него был поднос с небольшим свертком, который он тотчас вручил судье: — Это срочно, ваша честь! Председатель торопливо развязал бечевку и обнаружил длинный черный шарф и записку, нанизанную на острие кинжала. Прочитав короткое, написанное по-английски, послание, он побледнел и, обратившись к Бессребренику, произнес изменившимся тоном: — Вы продолжаете утверждать, что никого здесь не знаете и ни с кем не поддерживаете никаких связей? — Клянусь вам в этом! — Если так, соблаговолите прочесть эту записку. Она — неопровержимая улика против вас! Взглянув на послание, Бессребреник вскрикнул удивленно. — Прошу прочитать это вслух! — потребовал судья. Бессребреник повиновался: — «Под страхом смерти председателю верховного суда предписывается незамедлительно выпустить на свободу капитана Бессребреника». Судья заявил с достоинством: — Точно таким шарфом была задушена герцогиня Ричмондская. И точно такой кинжал был воткнут в стену над ее койкой! Жизнь моя в опасности. Но еще ни один английский судья не отступил перед угрозами, сколь бы они ужасными ни были. Я тоже исполню свой долг! Он нажал на кнопку, расположенную прямо под рукой. Вошли сержант с солдатами. — Отвести заключенного в камеру! — приказал судья.
ГЛАВА 5
Похороны. — Последнее прощание. — Шотландская гордость. — Погром. — Без крова и без слуг! — Голод и жажда. — Кувшинчики непентеса. — Утоление жажды. — Люди, более несчастные. — Жертвы голода. — Съедобные цветы. — Под баньяном.Вне себя от горя, подавленные и одинокие, шли за гробом дети герцогини Ричмондской. Вокруг них суетились какие-то люди, выражая сочувствие. Но легче от этого не становилось. Простившись навеки с матерью, Патрик и Мери, взявшись за руки и тесно прижавшись друг к другу, стояли в великой скорби у свежей могилы. Лихорадочно блестевшие глаза были сухи: они давно уже выплакали все слезы. На уговоры пойти домой дети отвечали отказом. — Мери, побудем еще немного рядом с мамой, — сказал Патрик. Сразу же повзрослев, он, поскольку отца с ними не было, обязанности главы семьи возложил на себя. — Да, брат, хорошо бы побыть нам с ней одним, — согласилась девочка. Когда присутствовавшая на похоронах публика разошлась, дети опустились на колени и долго и страстно молились, взывая к Божьей милости и обращаясь с трогательными словами любви к матери, словно она могла их слышать. Потом они поднялись. Перед тем, как уйти, они еще раз набожно перекрестились и, снова взявшись за руки, покинули сию обитель скорби и печали. Дети могли пойти к соседям, с которыми дружили их родители: те, узнав о беде, сразу же предложили сиротам кров и даже заранее отвели для них комнаты. Но присущая шотландцам гордость не позволила Патрику и Мери воспользоваться широко известным английским гостеприимством. Ведь им с пеленок прививали чувство собственного достоинства и стремление полагаться только на себя. Воспитанные в этом духе, они, например, скрывали ото всех, что бедны, а теперь сочли унизительным быть у кого бы то ни было нахлебниками. Патрик твердо решил, что им следует самостоятельно, без чьей-либо помощи, попытаться добраться до приграничного района Британской Индии и разыскать отца — единственного, чью заботу они могли принять. Когда накануне ночью мальчик поделился своими планами с Мери, она полностью одобрила их. До их коттеджа в Гарден-Риче было довольно далеко, и Патрик с Мери невольно вспомнили о коляске, которая в тот злополучный день осталась вместе с кучером у входа в магазин. Сейчас она, наверное, спокойно стояла под навесом рядом с лошадьми. Детям же предстояло проделать путь до дома пешком. Они, конечно, знали, что в Индии европеец, отважившийся пройтись по улице, роняет себя в глазах окружающих. Но, пережив столь сильное потрясение, дети уже не придавали особого значения подобным условностям. Пройдя немного, они вышли к Хугли и вскоре оказались на той самой шоссейной дороге, по которой не раз проезжали вместе с матерью. Берег, высотой метров в пятнадцать, спускался уступами к воде, образуя своеобразную широкую лестницу. Но дети ничего этого не замечали. Гонимые нервным зудом, они, не ощущая усталости, молча шагали под палящими лучами солнца, вызывая у местных жителей недоуменные взгляды. С каждым шагом, приближавшим Патрика и Мери к родимому дому, где они смогли бы передохнуть перед дальней дорогой, ими все сильнее овладевали благостные, несшие успокоение смятенным душам воспоминания о счастливейшем периоде их жизни, закончившемся столь внезапно и жестоко. Но когда они, взмокнув от пота и умирая от жажды, вошли в ворота своего парка и по усыпанной песком дорожке дошли, наконец, до того места, откуда можно было видеть опутанный вьющимися и ползучими растениями фасад коттеджа, из их груди вырвался крик отчаяния. Дом исчез! Обуглившиеся куски дерева да порушенная кирпичная кладка — вот все, что осталось от родного очага, где прошло их детство, согретое нежной материнской любовью и чуткой заботливостью отца. Не пощадили и животных. В большой, из проволочной сетки вольере, со свернутыми головками, недвижными окровавленными комочками валялись птичьи тушки. В обгоревшей конюшне, среди искромсанной конской упряжи и обломков экипажа, со следами страшных ножевых ранений бездыханно лежали несчастные лошади. В воздухе витал едкий запах гари. Фамильные драгоценности, документы, милые, изящные безделушки, радовавшие взгляд домочадцев, безвозвратно исчезли в пламени огня. Сгорел не только портрет отца, но и единственный портрет матери, что было невосполнимой утратой. Слуг-туземцев и след простыл. Даже их верная Кетти покинула это жуткое место, если только не пала от рук изуверов. Несмотря на малый жизненный опыт, дети понимали, что весь этот разгром учинен индусами, которые мстили за преданного позорной казни убийцу их матери. — Какие злые!.. Какие жестокие! — не помня себя от гнева, горестно восклицала Мери, обычно такая сдержанная и кроткая. — Эти туземцы — настоящие звери, — сжав кулаки, в ярости произнес Патрик. — Вот вырасту — всем им покажу! Страшная усталость навалилась на них. Мери, более слабая, чем Патрик, не выдержала всех этих физических и куда более страшных душевных мук, которые терзали детей вот уже три дня и три ночи, и, схватив брата за руку, еле слышно произнесла: — Я больше не могу… Свалюсь сейчас… Собрав последние силы, мальчик поддержал сестру и, заглянув в ее бледное как смерть лицо, пришел в ужас. Сам едва держась на ногах, он поднял ее на руки и перенес с губительного для них обоих солнцепека под темный свод широко раскинутых ветвей огромного старого баньяна. — Держись, Мери!.. Мужайся! — ласково говорил Патрик. — Пить!.. Пожалуйста, воды! — молила девочка. Но колодец был завален камнями и ветвями деревьев. — Что же делать?.. Боже, как мне быть? — со слезами на глазах повторял растерянно мальчик, видя, что Мери становится все хуже, и слыша ее жалобный, осевший голос: — Пить!.. Пить!.. И вдруг Патрик издал радостный крик. Причиной столь резкой перемены в настроении стали необычного вида кусты, посаженные когда-то майором, собиравшим всевозможные диковинки флоры. В их мелких метельчатых цветах не было ничего примечательного, зато листья — подлинное чудо! Вместо того, чтобы тянуться ввысь и вширь, они срастались краями, образуя очаровательного голубого цвета горшочки длиной десять — двенадцать и шириной в три-четыре сантиметра, прикрытые сверху крышечкой. На дне каждого такого сосуда, по форме напоминающего кувшинчик, всегда имеется сладкий душистый нектар, выделяемый самим листом для привлечения насекомых, служащих растению пищей. От отца, который часто беседовал с Патриком на разные темы из области естественных наук, мальчик знал об удивительных свойствах этого представителя растительного мира — непентеса, или, как его еще называют, кувшиночника. Сорвать лист, приподнять крышечку и поднести изящную вазочку к губам Мери было делом нескольких секунд. Жадно выпив жидкость, словно ниспосланную Провидением, девочка тут же почувствовала облегчение. — Спасибо, братик… Спасибо… Мне уже лучше, — сказала она. — Ты и сам попей, ведь тебя тоже мучает жажда. Впервые за несколько дней дети ощутили отраду. Но только собрались они насладиться покоем, как услышали радостное повизгивание и веселый заливистый лай. — Кажется, это Боб! — воскликнул Патрик. Послышался топот собачьих лап, шумное, прерывистое дыхание, и в следующий миг круглое, лохматое существо с квадратной головой, заостренными ушками и коротким хвостом, находившимся в непрестанном движении, налетело на детей. Пес с неистовым восторгом лизал их, игриво прикусывал, прыгал и вертелся как сумасшедший. Мери, рыдая, прижала к груди тяжелую голову Боба — их товарища по несчастью. — Собачка моя милая! Похоже, пес единственный остался в живых в порушенном маленьком раю. Хотя ему и было страшно, Боб не смог покинуть это место, где вырос, не видя от хозяев ничего, кроме ласки. Возможно, он так и умер бы здесь от голода и тоски, не услышь родные детские голоса. Когда радостное волнение улеглось, пес, обласканный юными хозяевами, степенно уселся между ними. То и дело облизываясь, он внимательно смотрел своими добрыми, любящими глазами то на одного, то на другого, словно хотел сказать: «Ну вот, наконец-то мы вместе! Право же, это чудесно! Но как бы ни было радостно у нас на сердце, пора и о еде подумать!» И в самом деле, наша троица буквально умирала от голода. Но от дома, где хранились кое-какие припасы, остались развалины, и теперь можно было рассчитывать только на дары природы. В их парке, как, впрочем, и в соседних, насчитывалось немало растений, дающих продукты питания, но наиболее ценными были хлебные и манговые деревья, кокосовые пальмы и бананы — эти, по сути дела, гигантские травы. Однако в данный момент одни из них еще цвели, в то время как на других плоды только начали завязываться. Оставив Мери под сенью баньяна, Патрик отправился на поиски пищи, но, сколько ни искал, ничего не нашел. Когда мальчик уныло брел по одной из аллей, Боб, крутившийся все это время возле него, вдруг подобрался на своих мощных лапах и, ощетинившись, глухо заворчал. По обезлюдевшей усадьбе, в грязных лохмотьях, едва прикрывающих тело, и так же в поисках съестного плелись, пошатываясь от истощения, несчастные индийцы — из тех, кому ни разу в жизни не доводилось поесть досыта. Одна и та же нужда свела представителей двух рас: господствующей и угнетенной. Индийцев было шестеро: двое мужчин, две женщины и двое детей. Кожа, темная, высохшая, как пергамент, висела на костях дряблыми складками. Вместо атрофировавшихся мускулов — сухожилия. Ребра выпирали наружу. Успокоив собаку, маленький англичанин, который только что клялся мстить всем без исключения индийцам, в ужасе смотрел на эти живые скелеты, проникаясь к ним искренним состраданием. Первой мыслью туземцев при встрече с Патриком было поскорее убежать, но у них не было на это сил. Когда же они убедились, что мальчик не собирается причинять им зла, одна из женщин, осмелев, обратилась к нему с просьбой. — Господин, — произнесла она на ломаном английском, — позвольте бедным, умирающим от голода индусам поесть цветов иллупи[31]. — О да, конечно, ешьте на здоровье! Женщина поблагодарила, и индийцы вяло, едва передвигая ноги, потащились по аллее. Патрик же подумал: «Значит, если голоден, то сгодятся и цветы иллупи. Но какие они из себя?» Крадучись, он последовал за бедолагами, вселившими в него надежду. Пройдя совсем немного, туземцы вошли в строевой лес, где произрастали гигантские деревья с мясистыми темно-зелеными листьями, сплошь покрытые красивыми желтыми цветами. Такие же точно цветы, но опавшие, золотистым ковром устилали землю вокруг стволов. Патрик с интересом наблюдал, как индусы кинулись к цветам, валявшимся внизу, и принялись с жадностью поедать их. Длилось это необычайное пиршество довольно долго, и мальчик не стал дожидаться, когда оно закончится. Прибежав к сестре, поджидавшей его у баньяна, он рассказал ей об увиденном, и они вдвоем отправились на поиски других таких же деревьев чтобы не смущать индусов и, главное, не уронить себя в их глазах: несмотря на перенесенные страдания, дети по-прежнему смотрели на туземцев свысока. Легко отыскав деревья, Патрик и Мери тотчас же отведали цветы, ниспосланные, словно манна небесная, щедрой природой, и нашли толстые сладковатые лепестки довольно вкусными. Боб тоже не терял зря времени: пока хозяева наслаждались цветами, он успел сбегать в конюшню и подкрепиться мясом бедных лошадей. Наевшись досыта, дети почувствовали себя уверенней и, приободренные, вернулись к баньяну, который в случае необходимости смог бы надежно защитить их не только от сильного ветра, но и от дождя. Едва дождавшись ночи, они, усталые физически и измученные душевно, улеглись на землю, устланную, словно ковром, толстым слоем мха, и в тот же миг крепко заснули под бдительной охраной верного Боба.
ГЛАВА 6
Председатель верховного суда Уильям Тейлор. — В осаде. — Первая ночь. Еще одна угроза. Война так война! — В запертом доме. — Невероятное видение. — Человек или призрак. — Во время грозы. — Утром. — Смерть хозяина. — Непостижимая тайна.Председатель верховного суда сделал карьеру в Британской Индии и прекрасно знал эту страну, ее суеверия, тайные секты, традиции и присущую ей атмосферу мистицизма. Как истинный англичанин, он питал к туземцам безграничное презрение и был твердо убежден, что они способны на любое коварство и жестокость и к тому же являются непревзойденными притворщиками и лгунами. Вот почему полученное им грозное предписание незамедлительно освободить под страхом смерти капитана Бессребреника заставило его глубоко задуматься. И хотя этот таинственный ультиматум ничуть не запугал его, судья, тем не менее, принял все необходимые меры предосторожности, справедливо полагая, что предусмотрительность — вовсе не признак трусости. Поскольку он занимал высокую должность, которая оплачивалась столь же щедро, как и должность посла, его считали одним из первых людей Британской империи и обращались к нему не иначе, как «ваше превосходительство». Это был мужчина пятидесяти лет, высокого роста, крепкого сложения, страстный спортсмен и первоклассный наездник, к тому же знаменитый охотник на тигров. Не раз в опасных ситуациях проявил он свою храбрость. Судья вместе со всем своим многочисленным семейством проживал в роскошной, ни в чем не уступающей дворцам вилле, расположенной в Чауринхи, древнем пригороде Калькутты, превратившемся ныне в типично европейский фешенебельный квартал. Счастливый супруг и отец шести чудесных детей — четырех дочерей и двух сыновей, старший из которых служил в чине лейтенанта в Гордонском полку шотландских горцев, — и, кроме того, знаменитый, почитаемый по всей огромной империи судья обладал всем, что требовалось для полного благополучия. Звали этого процветающего человека Уильям Тейлор. В его особняке суетилась целая армия слуг из англичан и местных жителей. Все они выглядели здоровыми и были прекрасно одеты, напоминая собой свиту некогда могущественных, но ныне лишенных своих владений раджей. Как только над ним нависла угроза смерти, «его превосходительство» произвел строгий отбор среди слуг, хотя их и так подбирали тщательнейшим образом, и отдал несколько строжайших распоряжений. Отныне все личные услуги должны были оказывать ему только европейцы, индийцы к этому не допускались. Исключение было сделано лишь для камердинера бесконечно преданного ему горца, прошедшего солдатскую службу в отряде сикхов[32]. Судья приказал ему отныне спать на циновке перед дверью в спальню хозяина, в то время как в коридорах будут нести охрану чапраси[33] — вооруженные слуги из непальцев, ставших после завоевания Индии англичанами верными, надежными друзьями европейцев. Не удовлетворившись всеми этими мерами, которые могли быть охарактеризованы как активная оборона, судья установил дополнительные электрические звонки для вызова многочисленной, но довольно ленивой челяди. Все двери и окна в спальне были подключены к сигнализации, и если бы кто-то попытался пробраться тайком в дом, то тотчас же сработал звонок. Наконец, Уильям Тейлор собственноручно зарядил великолепный бирмингемский револьвер, положил его на ночной столик рядом со стаканом грога и, уверенный в надежности принятых мер, погрузился в крепкий и безмятежный сон. Пробудился судья, когда совсем рассвело. Он собирался было поздравить себя с успехом, как вдруг вскрикнул от изумления и ужаса. Прямо над его кроватью под плотно натянутой москитной сеткой была пригвождена к стене острием кинжала записка: «Освободи капитана Бессребреника, или через двадцать четыре часа ты будешь мертв». Когда судья, выдернув кинжал, прочитал записку, то почувствовал, что покрывается холодным потом. Какая-то фантасмагория! Выходило, что, пока он спал, кто-то из посторонних, некий заклятый враг, смог, несмотря на все хитроумные электрические устройства, проникнуть в наглухо запертый дом, миновать вооруженных до зубов слуг, переступить через спавшего поперек двери сикхского горца, войти в спальню, приподнять москитную сетку, вонзить в стену кинжал, опустить ткань на место и так же незаметно исчезнуть, как и пришел! Дерзкие незнакомцы посмели угрожать ему, судье! И только что его судьба зависела от прихоти бандита! Правда, тот на этот раз не стал его убивать, зато оставил наглую и страшную по содержанию записку. Будь на месте судьи кто-то другой, так он тут же поднял бы тревогу, перевернул весь дом, кричал, искал, допрашивал. Но судья Тейлор — не такой человек. Спрятав кинжал с запиской в несгораемый шкаф, он прошептал: — Плохо же они меня знают, если думают запугать. Пока остаются хоть какие-то сомнения относительно невиновности капитана Бессребреника, он из тюрьмы не выйдет. Они могут убить меня, но от долга своего я не отступлюсь. Убедившись, что электрические устройства работают безупречно, а слуги бдительно несут охрану, он долго и безуспешно ломал голову, пытаясь понять, как удалось попасть в дом загадочному и грозному ночному визитеру. И хотя эта тайна так и осталась нераскрытой, упорный англичанин твердо решил не сдаваться. — Ну что ж, — сказал он себе, — война так война! Он ни словом не обмолвился о ночном происшествии. Днем, как всегда, отправился на службу, а вернувшись домой, принял дополнительные меры. Другой на его месте сменил бы спальню, но он не стал этого делать. Собственноручно проверив электрическую проводку, судья подсоединил москитную сетку к сигнальной системе. Не удовлетворившись этим, он решил бодрствовать всю ночь и улегся в постель в халате, с револьвером в руке. А для того, чтобы сон не одолел его, заранее выпил большое количество черного кофе. Несмотря на огромное опахало, которое шнуром, перекинутым через блок, приводилось в движение из соседней комнаты, в спальне стояла удушливая жара. Собиралась гроза. Воздух до предела был насыщен электричеством, и это оказывало на все живое отрицательное воздействие. Улегшись в десять часов, судья около полуночи почувствовал вдруг, как на него наваливается неодолимая тяжесть. Он не спал и не бодрствовал, находясь в каком-то промежуточном состоянии, когда тело уже не слушалось его, но сознание еще не отключилось. Он слышал отдаленные раскаты грома. Комнату, где дрожал под матовым стеклом язычок ночника, освещали яркие вспышки молний. Внезапно резкий порыв ветра согнул росшие в парке огромные деревья и сорвал с них листву. Судье показалось, будто вихрь ворвался и к нему в спальню. Взвились занавески на окнах, дрогнула москитная сетка, заколебалось, готовое погаснуть, пламя ночника. Судье почудилось близкое присутствие чего-то жуткого и непонятного. Он хотел вскочить, закричать, чтобы позвать на помощь. Но язык, руки, ноги, да и все его тело уже не повиновались ему, как в ночных кошмарах, когда вам грозит смертельная опасность, а вы не можете сдвинуться с места. Пламя ночника вдруг начало расти. Оно становилось все выше и выше, пока не взвилось под самый потолок. Прямо из стены, под опахалом, возникло видение и, приняв образ мужчины, единственным одеянием которого служила набедренная повязка, беззвучно, подобно призраку, соскользнуло на толстый ковер. Впрочем, то мог быть и человек индус с бронзовой кожей, с тонкими, но сильными руками. Губы пришельца кривила зловещая ухмылка, а черные, с металлическим блеском глаза излучали ослепительно яркий свет. Или, может, это призрак, созданный в полусне грозой и связанным с ней гнетущим состоянием?.. Человек ли это или призрак, но видение приближалось к постели. В правой руке у него англичанин увидел кинжал с отточенным, слегка изогнутым клинком, в левой — черный шарф, зловещий знак тхагов[34], или душителей. С момента появления человека-призрака прошло не более двух-трех секунд. Сохранив достаточно здравомыслия, судья, не услышав сигнала тревоги, сделал вывод, что в спальне постороннего никого нет. — Это страшный сон… Сейчас я проснусь, — сказал он себе. Индус, подойдя к изголовью кровати, занес кинжал и острым, словно бритва, лезвием бесшумно, одним взмахом, вспорол тонкую ткань москитной сетки. Затем ловко, какими-то кошачьими движениями, опустил руки в образовавшееся отверстие. Послышалось прерывистое дыхание, перешедшее вкороткий придушенный хрип. Ярко вспыхнула молния, раздался оглушительный удар грома. Спальня, в которой внезапно наступила мертвая тишина, наполнилась запахом серы. Пламя ночника, приняв свои обычные размеры, по-прежнему мерно подрагивало под стеклянным колпачком. А черный призрак словно растворился в стене. Во всяком случае, он бесследно исчез, хотя все двери и окна оставались накрепко запертыми. Шум грозы разбудил солдата-сикха. Приподнявшись на циновке, он спросил вполголоса: — Не угодно ли чего-нибудь хозяину? Приложив к двери ухо и не получив ответа, снова улегся, пробормотав: — Сахиб спит. И правильно. То же сделаю и я. И минут через пять он уже опять спал крепким сном, не обращая внимания на грозу, которая, впрочем, вскоре затихла. В Индии, как, кстати, и в других тропических странах, где из-за жары жизнь на несколько часов замирает, люди встают рано. И верный сикх подтверждал это правило. Встав на рассвете, он приоткрыл дверь спальни своего господина, чтобы пожелать ему доброго утра. Не услышав в ответ ни слова, удивился, а затем испугался: странно, что сахиб сегодня так долго спит. Ему было настрого приказано не заходить в спальню, пока не вызовут электрическим звонком. Но тревога оказалась сильнее запретов. Он широко распахнул дверь, приведя в действие сигнализацию. Видя, что хозяин не двигается, подскочил к постели, отдернул москитную сетку и завопил на весь дом: — О-о-о!.. О-о-о!.. Сахиба убили!.. Хозяин мертв! Судью Тейлора задушили. Лицо его было искажено предсмертной судорогой, глаза вылезли из орбит, язык свешивался изо рта. Шею его, словно веревка, обвивал страшный черный шарф душителей. А чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений на этот счет, к стене, на том же месте, что и накануне, была приколота кинжалом еще одна записка:
«К смерти приговорен пандитами[35]. Убит мною. Берар».На крики камердинера с громкими стенаниями сбежались вооруженные слуги-туземцы и английская челядь. Непальцы добросовестно, время от времени сменяя друг друга, несли охрану на протяжении всей ночи, и им не в чем было себя упрекнуть. К тому же ни на дверях, ни на окнах не было никаких следов вторжения. Сигнальная система по-прежнему была включена, и, следовательно, раз она не сработала, то, значит, в дом никто не мог проникнуть извне во всяком случае, естественным путем. И тем не менее, хозяин убит! К тому же давно, поскольку труп уже окоченел. Безумный страх овладел этими людьми, как белыми, так и темнокожими. Они все прошли через войну и не раз мужественно смотрели в лицо смерти, но теперь, столкнувшись со сверхъестественным, тряслись от ужаса, словно дети. И все же они не потеряли головы. Поскольку хозяйка вместе с детьми уехала на отдых в горы, где не так знойно, сами сделали все, что можно было в данной ситуации. Прежде всего тщательно обыскали спальню, заглянув под кровать, за мебель и за зеркала. Проверили пол и стены. Но ничего не обнаружили. Тогда кому-то пришла в голову мысль зайти в комнатушку, где обычно восседал на высоком бамбуковом табурете слуга, приводивший в движение опахало. Он был мертв, но продолжал сидеть на своем месте со шнуром в руке. Сначала решили, что и он стал жертвой убийцы. Но доктор, которого вызвали к судье, увы, уже не нуждавшемуся в его услугах, констатировал, что слугу поразил удар молнии: по шнуру, сыгравшему роль громоотвода, пробежал электрический заряд. В стене обнаружили и пробитое электрическим разрядом отверстие — в том самом месте, где крепился блок опахала, но оно хотя и вело в комнату судьи, было столь мало, что в него не пролез бы даже ребенок. Вопрос о том, каким образом убийце удалось добраться до своей жертвы, а затем безнаказанно скрыться, так и остался без ответа.
ГЛАВА 7
Смятение в Бенгалии. — Вмешательство дипломата. — На яхте. — Часовые не помеха. — Индус. — Изумление моряка. — Благодарность факира. — Священная клятва. — Тайное послание. — Оклик часового. — Выстрел в ночи.Убийство судьи Тейлора, последовавшее едва ли не тотчас после безвременной кончины несчастной герцогини Ричмондской, взволновало всю Калькутту. У белых оно вызвало ужас, у индусов — плохо скрываемое злорадство, но, так или иначе, событие это не оставило безучастными ни завоевателей, ни побежденных. Обращаясь по аналогии к тяжелейшим временам своей колониальной истории, англичане вспоминали кровавое Сипайское восстание и связанные с ним драмы. Индусы осмелели. Они собирались группами, устраивали тайные сборища, шептались с таинственным видом и с ненавистью поглядывали на перепуганных англичан, удрученных к тому же вестями и с театра военных действий. Победа горских племен, отбросивших европейские войска от Пешавара, эпидемия чумы в Бомбейской провинции, повсеместный голод, убийства в Калькутте, активизация деятельности тайных сект — было чему радоваться подстрекателям, призывавшим обездоленных индийцев к бунту. Считалось, что с опасной сектой душителей-тхагов давно покончено, и вдруг последователи культа богини Кали снова заявили о себе, совершив с поразительной дерзостью и ловкостью два злодеяния подряд! Нагло расписавшись в совершенных ими преступлениях, они бросили открытый вызов властям, будучи твердо уверены в своей безнаказанности. Примером мог служить тот же Берар, чье имя за несколько часов приобрело в охваченной страхом Калькутте зловещую известность. Все понимали, что обострение обстановки — неизбежное следствие опрометчивого осквернения останков пандита Нарендры. Англичане рассчитывали запугать этим — и надолго! — индусов. Но чрезмерная суровость политически недальновидного поступка лишь ожесточила фанатиков. Ведь мало нанести сильный удар, нужно уметь ударить точно и вовремя. А тут еще история с богачом-янки, капитаном Бессребреником, которая неожиданно получила столь большой общественный резонанс, что грозила английскому правительству серьезными дипломатическими осложнениями. Англичане и американцы, эти соперничающие братья, издавна живут как кошка с собакой, и представитель вашингтонской администрации в Калькутте энергично вступился за соотечественника, пытаясь добиться его освобождения. В этой атмосфере тревоги и растерянности весьма кстати пришлись бы богатый опыт, чувство такта и вместе с тем решительность и твердость духа, которыми обладал вице-король, но он, как это обычно случается в подобной ситуации, находился в отъезде! В результате сумятица и смятение в умах, не ограничившись Калькуттой, захлестнули всю Бенгалию. Что же касается непосредственно судьбы капитана Бессребреника, то вмешательство американского дипломата скорее ухудшило его положение. Компрометировали пленника и угрозы душителей, и совершенное вслед за ними убийство. Власти, потерявшие голову от страха и подозрений, упорно винили его в смерти судьи. Несмотря на яростные протесты капитана Бессребреника, многие полагали, что для этого имеются все основания. По мнению даже наименее предубежденных граждан, несчастного судью убили за то, что он ослушался пандитов. Так что следствию предстояло лишь выяснить, был ли капитан организатором этого преступления или же явился невольным соучастником. Сам же узник находился в полном неведении относительно собственной судьбы и не имел ни малейшего представления о том, что творится за стенами тюрьмы. Его держали в строгой изоляции, без права переписки даже с собственной женой. Она же по-прежнему находилась на яхте, но под бдительной охраной, лишившей ее малейшей возможности общения с внешним миром. Экипажу также было запрещено сходить на берег. Мало того, для подстраховки судно отвели от причала на расстояние кабельтова[36]. Вся провизия доставлялась на борт исключительно англичанами, но не индусами, которым не доверяли. На носу, корме и у рубки стояли посты. Солдаты, сменяясь каждые два часа, несли караул день и ночь. Ружья их были заряжены, задача четко определена стрелять в каждого, кто попытается самовольно покинуть судно или подняться на него. И часовые, не задумываясь, выполнили бы этот приказ с присущим английским солдатам автоматизмом. В свободное от дежурства время англичане с надменным видом разгуливали по палубе. Они чувствовали неприязненное отношение к себе, но это их мало трогало. Для матросов распорядок дня не претерпел ни малейших изменений, и они, как и прежде, добросовестно несли службу, словно находились в открытом море: наводили чистоту, занимались ремонтом, налаживали двигатель, подновляли пооблупившуюся краску, чинили снасти. Одним словом, времени на безделье у них не оставалось. Ночью, само собой, все спали, за исключением вахтенного на палубе или у двигателя, работавшего на малых оборотах — лишь для того, чтобы поддерживать электрическое освещение.
__________
…Река со стоявшей на якоре яхтой, которая лениво разворачивалась на волнах отлива, погрузилась во мрак. Шла четвертая ночь после обернувшегося драмой прибытия капитана Бессребреника и его молодой супруги в Индию. Было около десяти часов. Боцман лежал в темноте на своей койке у приоткрытой двери каюты, размышляя о затянувшемся отсутствии капитана и ото всего сердца проклиная свое бессилие, как вдруг услышал тихую поступь босых ног и чье-то прерывистое дыхание. Приподнявшись, он вместо того, чтобы спросить: «Кто идет?» — сказал по-провансальски: — Кесако? — что означало примерно то же самое. И услышал в ответ тихий шепот: — Френд![37] Введенный в обман английской речью, боцман скаламбурил: — Э, приятель, мое имя вовсе не Фред, а Мариус! Слысис? Мариус!.. — Т-с-с! Тихо!.. — Знаешь, браток, я секретов не люблю!.. — Включи свет, пожалуйста! — В сем дело, сорт побери?! — возмутился Мариус, но кнопку нажал. Каюту залил яркий белый свет. Хотя боцман и славился своей провансальской выдержкой, но вид стоявшего перед ним в одной набедренной повязке индуса, с которого ручьями стекала вода, ошарашил его. Тот же слепо хлопал глазами, как попавшая на солнце сова. Бродяга Мариус, немало повидавший за двадцать пять лет своей службы и на море, и на суше, мог с любым поговорить, на каком бы языке тот ни изъяснялся. — Откуда, сорт тебя подери, ты взялся? — спросил он на невообразимом, но вполне понятном английском. Индус молча ткнул своим сухим и черным как смоль пальцем в сторону реки. — Нисего себе, прогулоску соверсил! — молвил Мариус. — Кто же ты? — Искренний и преданный друг… — А, из тех, кого сють не слопали кокодрилы? — Да. — И сто тебе нузно? — Как можно быстрее поговорить с женой сахиба… капитана Бессребреника… — Но, приятель, сейсас не осень подходясее для визитов время. — Пойми, я не явился бы сюда, рискуя погибнуть в пасти гавиала или от английской пули, не будь в том особой необходимости. — Я не против… Но мадам, возможно, спит… Придется разбудить горнисную, пусть узнает. — Жена сахиба не спит. Сердце ее разрывается от горя. Она оплакивает того, кого любит… Пойдем же! Мои слова утешат ее… Пошли! — решительно заявил индус. Провансалец погасил свет и в сопровождении индуса бесшумно направился к корме, где размещалась хозяйская каюта. Так как выставить караул у жилых помещений судна англичане все же постеснялись, их никто не заметил. Подойдя к каюте миссис Клавдии, боцман тихо спросил по-французски: — Мадам, вы меня слысите? Это я, Мариус. — Да, друг мой, что случилось? — Здесь один индус… Из тех, кого мы тогда спасли… Он хочет сообщить о капитане. Молодая женщина радостно воскликнула: — Входите же скорее, Мариус! Ведите его! Открыв дверь, боцман разглядел, несмотря на мрак, супругу капитана, спешившую им навстречу. Оставив на всякий случай провансальца снаружи, она провела индуса в салон, опустила ставни и драпировки и, удостоверившись, что не осталось ни единой щелочки, включила свет. Лицо этой прелестной женщины побледнело, под глазами залегли темные тени. Но и теперь на нее нельзя было смотреть без восхищения. Сраженный красотой, индус почтительно поклонился и опустился на колени. Он не пытался скрыть своих чувств. Взгляд его сверкающих глаз стал мягок, выражение лица уже не было столь свирепым, а гортанный голос приобрел чуть ли не нежное звучание. — Я раб твой, о женщина, обликом своим подобная рожденной в цветке лотоса богине Шри![38] И ты не только прекрасна, но и отважна, а рука твоя тверда и сильна, словно длань бога войны Сканды — сына всемогущего Шивы. Индиец взирал на нее со страстным благоговением фанатика, готового на все ради своего кумира. — Мы всегда рады видеть тебя, друг мой, — проговорила Клавдия. — Но ты ведь пришел не просто так, а с какой-то вестью? — Да, конечно. Дело в следующем: англичане обвиняют твоего мужа в том, что он спас нас и будто бы подстрекает индусов к бунту… — Какая низость! О, это отъявленные мерзавцы! Но ты ничего не бойся. Десять тысяч индусов дали клятву, что освободят его. А завтра нас будет уже сто тысяч. И если понадобится, то поднимется вся Индия, чтобы только вырвать капитана из тюрьмы и вернуть тебе, его нежной супруге! — Но и англичане не станут сидеть сложа руки! — Не волнуйся! Мы обещали богине Кали, что наш благодетель, жив и невредим, будет на свободе — и не позже чем через три ночи! — Да сбудутся твои слова, отважный пандит! — Я не удостоен чести быть пандитом, посвященным в сокровенные тайны, я простой факир. Пандиты — наш разум, мы же — руки. Они приказывают, мы выполняем. На всей земле не найти правителей, которым бы так повиновались, как им!.. Помни же, что бы ни случилось, что бы ни говорили тебе, ничему не верь и ничего не бойся. Даже если услышишь, что капитан Бессребреник болен… что он умер… Даже если сама увидишь его остановившиеся глаза, бездыханные губы, холодное и окоченевшее тело… Никогда не думай о смерти и не сомневайся в том, что он жив. — Ты пугаешь меня! — Еще раз повторяю, ничего не бойся. И пусть сердце твое всегда будет преисполнено надеждой, даже если она и покажется тебе беспочвенной. А без этого нам не спасти капитана. — Я поступлю так, как ты сказал, — твердо произнесла бесстрашная американка. — А теперь мне пора, — сказал факир. — Напиши мужу несколько нежных слов, ведь он больше всего страдает от разлуки с тобой. Он вне себя будет от радости, когда завтра утром получит записку. Миссис Клавдию глубоко тронула такая забота о них обоих. Сев за письменный стол, она написала короткую, в несколько строк, трогательную записку и вручила факиру. Тот почтительно принял ее, свернул в трубочку, отвинтил навершие рукоятки кинжала, висевшего на запястье левой руки, вложил послание в открывшуюся полость и затем привел рукоятку в прежний вид. — Прощай, госпожа, я ухожу! — промолвил индус и, не дожидаясь ответа, покинул каюту. — Будь осторознее! Похозе, эти сельмецы в красных мундирах сто-то подозревают, — предостерег его Мариус, все это время стоявший на страже. Факир пожал плечами. — Англичане мне не страшны… Они для меня то же, что нечистые свиньи! — Спасибо, приятель, и счастливого пути! — сказал Мариус. Пожав ему руку, факир пробрался к борту и исчез в ночи — да так ловко, что даже не было слышно всплеска воды. — Ух ты, сорт, ну и лапа! — произнес Мариус, потирая свою огромную ручищу после пожатия этого тщедушного на вид человека. — Лихой парень, англисанам не легко будет таких одолеть! — Кто там? — вдруг раздался грозный оклик часового, и вслед за вспышкой грянул выстрел. Но цели своей он не достиг, о чем свидетельствовала беспорядочная пальба, которую тотчас открыли английские солдаты.ГЛАВА 8
Заместитель председателя верховного суда. — В тюрьме. — Бессребреник в цепях. — Письмо от миссис Клавдии. — Нежность. — В театре «Сан-Суси». — Задушенный. — Калькутта в страхе. — Ужасные угрозы. — Пятьсот заложников. — Смерть капитана Бессребреника.Судя по всему, индусы были полны решимости довести борьбу за освобождение капитана Бессребреника до победного конца. Однако и английское правосудие сдаваться не собиралось. Обязанности трагически погибшего председателя верховного суда Тейлора взял на себя его заместитель Арчибальд Нортон. Он, как и его предшественник, отличался высоким профессионализмом, обладал обостренным чувством собственного достоинства, не боялся угроз и с презрением относился к смерти. Едва он занял новый пост, как получил от пандитов такой же точно ультиматум, какой был отвергнут судьей Тейлором, и в той же самой форме. Несомненно, служба слежки и информации действовала у них безупречно! Судья Нортон, настроенный по-боевому, приказал в ответ выставить в своей гостиной записку, кинжал и шарф, обнаруженные утром у изголовья его кровати, и со смехом, словно некие забавные вещицы, показывал их слугам. Чтобы лишний раз продемонстрировать таинственным и грозным противникам, что не боится их, он распорядился перевести Бессребреника в карцер и заковать. Узника приковали к стене каземата сразу двумя цепями: одна шла к железному кольцу на ноге, другая — к стальному поясу. Ходить по камере было нельзя: длины цепей — около четырех метров — едва хватало на пару шагов. Бессребреник отнесся к варварской акции с деланным безразличием. Но в душе у него все кипело, он люто ненавидел своих обидчиков и твердо решил отомстить им. Сидя в полумраке, так как свет в карцер проникал лишь через узкое зарешеченное окошко, он и не подозревал, какой радостный сюрприз ожидает его. А между тем не прошло и двух часов после водворения пленника сюда, как дверь отворилась и вошли тюремщик-европеец и слуга-индус с чашкой риса и мясом, уже нарезанным на мелкие куски, — с тем чтобы заключенный мог обойтись одной деревянной ложкой. По знаку тюремщика, строившего из себя важного белого господина и не допускавшего и мысли о том, что смог бы и сам принести все это, слуга положил еду на пол, после чего оба, как всегда не сказав ни слова, удалились. Оставшись один, Бессребреник уселся поудобнее, поджав под себя ноги, как это делают не только на Востоке, но и в Европе — правда, в последнем случае лишь портные. Стараясь не обращать внимания на стеснявшие его движения цепи и успокаивая себя тем, что на войне как на войне, он зачерпнул ложкой рис, аппетитный на вид и приготовленный, в чем тотчас убедился, довольно вкусно, и, как человек, которому некуда спешить, стал есть чинно и не спеша, пытаясь продлить удовольствие. Внезапно ложка наткнулась на что-то. Капитан, прервав пиршество, запустил в приправленный острым соусом рис пальцы и с удивлением извлек оттуда кусок бамбука — небольшую, размером с сигарету, трубочку. Для заключенного любая вещь приобретает особое значение, и капитан внимательно осмотрел находку. Один конец у трубочки был залеплен воском, другой заткнут пробкой — тоже из бамбука. В голову пришла дерзкая мысль: а вдруг там письмо со словами ободрения или план побега? Безумная надежда овладела всем его существом. Бежать, бежать отсюда — из карцера, от этих оков! Ножа у него не было, но имелись зубы. Он расщепил ими бамбук и вытащил аккуратно свернутый листок бумаги. Сердце бешено забилось. Трясущимися руками развернул он записку, и на глаза навернулись слезы: то был почерк жены! Бессребреник быстро пробежал глазами наспех написанные строчки:
«Милый Жорж, мой дорогой, мой любимый супруг! Пишет вам ваша Клавдия. Я нахожусь на яхте. Меня отсюда не выпускают. Я здорова. Обо мне заботятся. Единственное, что заставляет меня страдать, — разлука с вами. Сейчас десять часов. Рядом со мной индус. Из тех, кого мы спасли. Пренебрегая опасностью, он пробрался сюда, чтобы дать мне надежду, а заодно и вернуть меня к жизни, пообещав, что вас освободят. Он сказал, что эта записка дойдет до вас, и я положилась на него. Любимый мой, какие бы сомнения, какое бы отчаяние ни терзали вас, не теряйте надежды! Да-да, надейтесь, несмотря ни на что! Пусть моя вера укрепит ваш дух и смягчит нашу боль. Не сомневайтесь в моей любви, и скоро мы будем вместе!Затем пленник еще раз, уже неторопливо, перечитал письмо. Перед его глазами стоял обожаемый образ отважной подруги, чья преданность не знала преград. Его милая Клавдия — все та же мужественная и энергичная женщина, добрая и прекрасная, как богиня! Цепи падут, рухнут каменные стены, и сердца двух любящих людей вновь воссоединятся! Капитан отдался сладким мечтам и в мыслях своих был далеко от этого мрачного застенка. В то время как Клавдия тосковала по мужу, а тот, в цепях, томился в заточении, пандиты и их помощники факиры действовали весьма активно и не стесняясь в средствах. В Калькутте, насчитывавшей вместе с пригородами и Хаурой миллион двести тысяч жителей, было много театров. Но самым фешенебельным, рассчитанным на избранных, был все же театр со странным названием «Сан-Суси»[39], куда каждый старался попасть и где высший свет имел свои ложи. В тот вечер там шла пьеса Шекспира, и зал был полон. Присутствовал на представлении и судья Нортон, вместе с многочисленной семьей, восседавшей на видном месте — в первом ряду ложи рядом со сценой. Первые два акта были сыграны под бурные аплодисменты, на которые англичане не скупятся, когда ставится Шекспир — их гордость и слава. Но третьего акта судье досмотреть не удалось. Только поднялся занавес, как к ним в ложу тихо вошел посыльный из верховного суда в богатой униформе и при оружии. Дождавшись, когда судья оглянется, он почтительно поклонился и протянул письмо. Судья сердито отложил бинокль, взял конверт и распечатал. Видимо, в нем содержалось нечто важное, потому что он тотчас встал и сказал супруге: — К сожалению, дорогая, мне придется на пять минут покинуть вас… Начальник полиции просит меня срочно выяснить одну вещь. — Но будьте осторожны, друг мой! — Что вы, не волнуйтесь! Я буду здесь, в фойе. Прикрыв за собой дверь в ложу, судья спросил посыльного: — С кем должен я встретиться? — С инспектором местного отделения полиции, ваша честь! — Хорошо. А ты теперь передай своему начальнику, чтобы ждал моих распоряжений. Слуга вышел с поклоном, судья же направился к фойе. Прошло четверть часа, затем полчаса, показавшиеся жене судьи вечностью. Муж сказал, что выйдет минут на пять, а его все нет! Помня об ужасных угрозах в адрес супруга, она ощущала в сердце своем все растущую тревогу и, наконец, не выдержав, вышла в фойе. Сначала, ослепленная ярким светом, она никого не заметила, но не прошло и нескольких мгновений, как из груди ее вырвался дикий, душераздирающий крик. На ковре, упав навзничь, лежал муж — с налитыми кровью глазами, со ртом, искаженным предсмертной судорогой. Вокруг шеи черный шарф, зловещий знак секты душителей. Потолок закружился, дыхание перехватило, и она, пошатнувшись, рухнула рядом с неподвижным телом. Крик достиг зрительного зала. Поднялась паника, представление прекратили. Зрители, полицейские, пожарники, актеры — все ринулись в фойе. Подоспевший врач, пробившись сквозь толпу, первым делом занялся судьей. Разрезал шарф, скрывавший фиолетовый след на шее. Пощупал пульс, послушал сердце. Никаких признаков жизни! Но он не сдавался: попытался пустить кровь, сделать искусственное дыхание. Однако безрезультатно: судья Нортон мертв! Чтобы все знали, чьих рук это новое преступление, к стене, над головой покойного, опять была прикреплена кинжалом точно такая же записка, что и в прошлый раз.Ваша Клавдия».
«К смерти приговорен пандитами. Убит мною. Берар».Из ближайшей больницы принесли двое носилок. На одни положили тело судьи, на другие — несчастную вдову, издававшую в беспамятстве короткие бессмысленные восклицания. Весть о третьем убийстве молниеносно облетела весь город. Журналисты, падкие до сенсаций, спешили к телефону, чтобы первыми сообщить новость. Столица Британской Индии бурлила. Из уст в уста передавались новости, одна тревожнее другой. Англичане возмущались: таинственный и грозный орган судит и приговаривает к смерти высших сановников империи, а власти бездействуют! В ту же ночь пятьсот самых известных и уважаемых жителей Калькутты — представители военной, административной и судебной аристократии, крупные торговцы, финансисты и промышленники — получили послание, повергнувшее их в ужас, хотя некоторые и пытались поначалу представить его как злую шутку. В нем говорилось:
«Мы, избранные от пяти каст, собравшись вместе, заявляем, что капитан Бессребреник ни в чем не повинен. Он незнаком ни с пандитами, ни с факирами, ни с кем-либо еще из местных жителей. Клянемся в этом на крови! Во имя высшей справедливости мы требовали его освобождения. Нам отказали. И тогда мы жестоко покарали лиц, повинных в этой несправедливости. Он будет освобожден, ибо такова наша воля! Однако жизнь капитана Бессребреника находится в опасности, так как судьи, которым никак не удается собрать улики против узника, способны устранить его в стремлении скрыть свой позор. Мы требуем, чтобы ему была дарована жизнь, и он будет жить! Гарантия его жизни — вы, наши заложники. Если он погибнет, погибнете и вы. Это наше решение, и ничто не спасет вас. Ваши дома, заводы, магазины и склады будут уничтожены. И в довершение на город будет напущена чума, ибо так решили всемогущие, требуя справедливости. Трепещите и повинуйтесь!»На каждом послании, там, где обычно ставится печать, были изображены четыре ладони, а между ними — лотос. Положение заложников было незавидным. Авторы грозного предупреждения уже доказали, что без колебаний карают самых влиятельных лиц и при выполнении своих решений не останавливаются ни перед чем. Никто не знал, что это за люди, обладающие подобным могуществом, кто их сообщники, откуда черпают они информацию, и неизвестность лишь усиливала страх. Заложники понимали, что их судьба отныне связана с судьбой капитана Бессребреника, богатого оригинала-янки. Опасаясь за его жизнь, от которой зависела их собственная, они устраивали совещания для выработки совместных действий, послали телеграмму вице-королю, наслаждавшемуся жизнью в своем царственном дворце, направили ему петицию, содержавшую, как и телеграмма, просьбу об освобождении Бессребреника из тюремного заключения, и даже собрали по подписке огромную сумму в миллион фунтов стерлингов, чтобы умилостивить власти. О, какую трогательную заботу об узнике проявляли теперь все они, эти до мозга костей эгоисты, утопавшие в богатстве и роскоши! Заложники опасались всего: казни Бессребреника без суда, бесследного исчезновения его из тюрьмы, как это часто случалось с лицами, попавшими в категорию государственных преступников, и даже просто болезни, вплоть до насморка. Как им хотелось, чтобы он поскорее вернулся на яхту и навсегда покинул Индию! Но думать, что британские власти сразу же освободят Бессребреника по просьбе именитых граждан, вышлют его из страны с запретом возвращаться, — значит вовсе не знать эту бездушную, безликую административную машину, действующую беспощадно, в заранее заданном ритме, в строгом соответствии с буквой закона, который, как записано в конституции, всесилен. И господа заложники, как бы ни были обоснованы их обращения к высшим чинам, так и не получили ответа. Даже собранные ими деньги, и те не пожелали принять, хотя это хоть как-то обнадежило бы их. Заложникам лишь посоветовали проявлять осторожность, заверив при этом, что со стороны властей уже приняты меры для обеспечения их безопасности. И в самом деле: вице-король, прибегнув к услугам телеграфа, ввел по всей провинции чрезвычайное положение. — Как там узник? Успокойте, подтвердите еще раз, что он ни в чем не нуждается, что жизни его ничто не угрожает, что его здоровье в порядке, — молили заложники власть предержащих. — Успокойтесь, капитан Бессребреник ест, пьет и спит хорошо. Ежедневно его осматривают два врача, — слышали они в ответ, но успокоения не находили. Во всех пятистах семействах царил страх: срочно писались завещания, на случай поспешного бегства ценности обращались в деньги, укладывались вещи. А через два дня после получения послания заложники, их родные и близкие буквально оцепенели от ужаса, узнав из калькуттских газет чудовищную новость: «Капитан Бессребреник найден в своей камере мертвым».
ГЛАВА 9
Беспокойная ночь, скудная трапеза. — Безнадежность. — Находка. — Изуродованное украшение. — Деньги. — На вокзале. — Два билета. — Унижение. — Бедность и достоинство. — Лагерь Нищих. — В компании голодающих. — Мокрые от слез глаза.Кому-то, возможно, и покажется, что спать в жару на свежем воздухе, на мягком мху, под густой кроной дерева, как будто ты Робинзон, — одно удовольствие. Но в действительности это не так, в чем и убедились на собственном опыте Патрик и Мери. Сломленные усталостью, они моментально заснули, но среди ночи пробудились из-за страшной ломоты во всем теле: слой мха, покрывавшего землю, вовсе не был таким уж толстым, как это представлялось им. Чувствовалась сырость. На лица, руки и одежду оседала рассеянная в воздухе мелкая водяная пыль, заставляя бедняжек поеживаться от холода. Несмотря на близость большого города, дети ощутили себя отрезанными от внешнего мира и навсегда оставленными наедине с дикой, таящей неизведанные опасности природой, и в их сердца закрался безотчетный страх. Далекий вой шакалов, пронзительные крики ночных птиц, шелест крыльев ночных бабочек и суетливо метавшихся взад и вперед летучих мышей, неумолчный стрекот насекомых, шорохи, указывавшие на присутствие пресмыкающихся, — все эти резко выделявшиеся в ночи звуки сливались в дикую и грозную какофонию. Из-за непроглядной тьмы дети боялись даже сдвинуться с места, чтобы не наступить на одну из тех отвратительных тварей, что во множестве ползали по траве. Боб тоже чувствовал себя неуютно: то и дело вскакивал с глухим ворчанием, а когда лежал, то настороженно прислушивался ко всему, что творилось вокруг. Но вот наконец небо над горизонтом окрасилось в алый цвет, в ярких лучах солнца вспыхнули на листьях капли росы, мрачное ночное многоголосье сменилось жизнеутверждающим гомоном вьюрков, попугайчиков и сорокопутов. И сразу на душе полегчало. Расправив онемевшие руки и ноги, Патрик и Мери, гонимые чувством голода, вернулись к деревьям иллупи и с жадностью накинулись на цветы, надеясь смягчить нестерпимые рези в желудке. Теперь они понимали, какие муки должны были испытывать умирающие с голоду, которых в Индии так много, — и это в стране, славящейся богатством и плодородными почвами! В завершение трапезы дети опорожнили по кувшинчику непентеса. При иных, не столь драматических обстоятельствах, они посмеялись бы над этим убогим, словно на кукол рассчитанным, завтраком — без привычного ароматного чая, красиво порезанного розоватого ростбифа и сочных бараньих котлет. Но сейчас юные скитальцы вспоминали свою бедную мать, которую им никогда больше не суждено увидеть, и отца, чья жизнь постоянно в опасности. На сердце было тяжело, по щекам текли горькие слезы. Так и сидели они, прижавшись друг к другу и страшась подумать о том, что ждет их впереди. Патрик первым нарушил молчание. Решительно вытерев слезы, он сказал твердо: — Пора кое-что сделать. — Конечно, но что? — спросила девочка. — То, о чем говорили вчера, — отправиться в Пешавар и разыскать папу. — А он далеко, этот Пешавар? — Да, очень… Отсюда на северо-запад… За тысячу четыреста миль от Калькутты. — Мы смогли бы поехать на поезде. Это около трех суток. — О, гораздо больше! Ведь поезда здесь ходят довольно медленно. Однако, чтобы купить билеты и что-то есть в дороге, нужны деньги. — Действительно! А их-то у нас и нет. Как же быть? — Не знаю. Мы и так уже два дня жили как последние нищие. Может, воспользоваться одним из поездов, что бесплатно перевозят отчаявшихся бедняков в места, где не так голодно? Только согласишься ли ты ехать с ними? — Все лучше, чем просить милостыню. — Верно! Идя по парку, дети остановились у того места, где еще совсем недавно находился родной очаг. С грустью вглядывались они в мрачно черневшие руины, надеясь в душе, что хоть какая-нибудь вещица — не важно, что! — ускользнула от взора вандалов и они смогут взять ее на память. И вдруг у Мери вырвался крик: среди пепла, камней и исковерканных железок что-то блеснуло. — Патрик, смотри!.. Вон там!.. Похоже на золото! — Вижу! Увязая по щиколотку в золе, мальчик стал энергично пробираться через обуглившиеся бревна и порушенную кирпичную кладку. Мери оказалась права: в руке он держал оплавленный кусочек золота — все, что осталось от украшения. Патрик был рад: благородный металл сам по себе представляет большую ценность. Победно размахивая над головой находкой, он воскликнул: — Сестричка, теперь мы сможем купить билеты! — Как хорошо, дорогой! Уедем скорее отсюда, здесь мы так настрадались! Мальчик спрятал золотой слиток в карман, и, сопровождаемые весело скакавшим Бобом, они направились в Калькутту. У выхода из парка им повстречались вчерашние индусы: они рассчитывали снова подкормиться цветами иллупи. Увидев юных англичан, туземцы почтительно приветствовали их, и те, в свою очередь, улыбнулись им как старым знакомым. Мери подошла к тощим от голода ребятишкам, погладила их по курчавым головкам, потрепала по щечкам и, прощаясь, от всего сердца пожелала им счастья. Придя в Калькутту, дети довольно быстро разыскали в европейской части города ювелирную лавку, но войти никак не отваживались, не зная, поверят им или нет, что они — законные владельцы золота. Так и топтались они на месте, придумывая, что и как сказать, если им станут задавать вопросы. Наконец Мери не выдержала и, как более храбрая, решительно повернула дверную ручку и оказалась лицом к лицу с парсом в очках. Он пересчитывал банкноты, изредка прерываясь, чтобы пометить что-то в толстой тетради. — Господин, — произнесла она с дрожью в голосе и страшно покраснев, — не смогли бы вы оценить это золото и купить, если, конечно, это устроит вас. Хотя девочка и обращалась с мольбой, она не теряла чувства собственного достоинства. Ее манеры произвели на торговца самое благоприятное впечатление, и ему и в голову не пришло спросить, откуда у нее драгоценный металл. Поклонившись, он осмотрел слиток, провел им по продолговатому бурому камню и, смочив оставшийся след кислотой из склянки, убедился, что это — чистое золото. Затем на одну из чашечек маленьких лабораторных весов он положил кусочек металла, на другую — гирьки и, взвесив, заявил: — Мисс, я могу предложить вам ровно тридцать пять рупий. Пораженная Мери хотела было воскликнуть: «О, так много! Как я счастлива!» — но присущее ей здравомыслие заставило ее воздержаться от столь наивного и неосторожного замечания. Парс отсчитал названную сумму, вручил ее Мери и, еще раз поклонившись, вернулся к прерванному занятию. Дети почувствовали себя увереннее: эти, пусть и сравнительно небольшие, деньги позволяли им без особых трудностей добраться до Пешавара. И теперь они думали только о том, как бы побыстрее отправиться туда. У полисмена, сбитого с толку тем, что белые дети идут пешком вместо того, чтобы ехать в коляске, они узнали, как пройти к центральному вокзалу. Путь до него им показался бесконечно долгим. Ноги болели, страшно хотелось есть. В кассу пришлось пробираться через огромную, шумную толпу, заполнившую гигантское здание вокзала. Этих людей вполне хватило бы, чтобы заселить небольшой провинциальный город. Никогда еще мальчик не испытывал такого унижения, как у этой кассы. Когда он попросил два билета до Пешавара, кассир, увидев двух прилично одетых белых детей, решил, что они собираются совершить поездку в одном из тех шикарных поездов, что останавливаются только на таких крупных станциях, как Бурдван, Баракар, Шерхати, Аллахабад, Фатехпур, Канпур, Итава, Агра, Дели, Лахор, Джелам, Атток и Пешавар, и протянул мальчику билеты в купейный вагон: — Пожалуйста, господин! Два билета до Пешавара, сто двадцать рупий. Покраснев, Патрик отдернул руку. — Это очень дорого, — сконфуженно пробормотал он. — Слишком дорого… У меня нет таких денег… Мы с сестрой поедем в том же вагоне, что и местные жители. Кассир мгновенно преобразился. Нагло смерив детей взглядом, он воскликнул презрительно: — Ехать вместе с туземцами!.. Вы же англичане… белые… Ты о чем говоришь, парень?.. И не вздумай… Ты ведь — слуга, а сестра — служанка? Ну и достанется вам от хозяина, когда он узнает! Мальчик гордо вскинул голову: — Я Патрик Леннокс, герцог Ричмондский! Быть бедным — разве преступление? Дайте мне два билета в поезд для переселенцев! На этот раз покраснел грубиян кассир. Пробормотав извинения, он обменял билеты: — Всего восемнадцать рупий. Патрик холодно отсчитал деньги, взял сестру за руку, и они вместе с Бобом прошли на перрон, где толпились отъезжающие. В кармане у мальчика оставалось ровно семнадцать рупий. Дети оказались в одном из вагонов, предназначенных в основном для слуг-индийцев и сообщающихся со спальными вагонами, которые занимают их хозяева — богатые англичане. Боб был рядом: по знаку Патрика он взбежал по ступенькам и забрался под скамейку. Раздался пронзительный свисток, и, оглушительно грохоча, поезд тронулся. Юные путешественники облегченно вздохнули, простодушно решив, что теперь они так и будут ехать, приближаясь постепенно к месту военных действий. Но не прошло и десяти минут, как у заболоченных берегов канала Бальягхат состав остановился. Это жуткое место окрестили образно Лагерем Нищих, хотя более пристало назвать его Адом Голодных, так как, наверное, никогда еще на памяти людской нельзя было видеть одновременно такого скопища людей, согнанных вместе общей бедой — голодом! Их здесь было сотни тысяч — женщин и мужчин, взрослых и детей. Одни сидели на корточках, другие, совсем обессилев, лежали на голой земле. Невероятно, но эти почти полностью лишенные плоти человеческие существа еще продолжали жить! При приближении поезда несчастные протягивали в мольбе иссохшие руки, матери повыше поднимали детей, чтобы пассажиры могли разглядеть их безжизненно свесившиеся ручонки и ножки, а заодно и кожу, висевшую складками, словно стала им велика. В Лагере Нищих собираются со всей Калькутты. Обычно это люди, не сумевшие найти работы и лишенные, таким образом, средств к существованию. Возможно, они смогли бы перебиться как-то, роясь в мусорных свалках, но таким строго-настрого запрещено пребывание в богатейшем городе, чтобы их вид не омрачал богачам настроения! Справедливости ради заметим: обитатели Лагеря Нищих заброшены не окончательно. Во всех идущих из Калькутты поездах всегда находятся сердобольные люди, которые специально везут продукты питания, чтобы раздать этим беднякам. Сюда доставляют также в товарных вагонах готовую пищу, которая тут же по справедливости распределяется среди голодающих. И, наконец, тех, кто покрепче, особыми составами увозят в глубь страны, где их слегка подкармливают, а затем отправляют в районы широкомасштабных общественных работ. Но, как известно, на государственных стройках трудятся сверх всякой меры, мало едят и часто умирают! Вот и на этот раз нагруженные снедью леди и джентльмены вылезли из вагонов и смешались с ужасающего вида толпой. Они раздавали лепешки, булочки и бутерброды, которые с жадностью выхватывали у них из рук те из голодающих, кому посчастливилось пробиться. Патрик и Мери завидовали этим пассажирам, баловням судьбы — нет, не их богатству, а тому, что они имели возможность творить добро! Благотворительная акция длилась минут десять. Затем леди и джентльмены вновь заняли места в своих купе, прозвучал свисток, и послышался грохот отходящего поезда. Но, как обнаружили с недоумением Патрик и Мери, их вагон так и остался стоять среди жалкого многолюдья Лагеря Нищих. Дети вылезли из вагона и сразу же поняли, что произошло. Пять или шесть вагонов их поезда подсоединили к локомотиву, который и уносил сейчас на бешеной скорости респектабельную публику подальше от этого места. К остальным же тридцати вагонам, для людей попроще, в данный момент прицепляли маломощный паровоз, использовавшийся обычно только для товарных составов. Железнодорожные служащие деловито сновали туда-сюда, с шумом раздвигали двери длинных, колониального типа вагонов и отдавали на местном языке какие-то распоряжения, нашедшие у толпы самый живой отклик. Худые, изможденные люди зашевелились, их лица с сухой, как пергамент, кожей озарились болезненным подобием улыбки. Потом вся эта масса молча ринулась к составу. Отталкивая друг друга, обитатели Лагеря Нищих штурмом брали вагоны, набиваясь в них столь плотно, что о таких вещах, как элементарные удобства или санитарные нормы, и речи не могло быть. В поезде разместилось более двух тысяч человек — в купе, коридорах и даже на тамбурных площадках. Попавших в давку детей майора толпа понесла к одному из вагонов и грубо втолкнула внутрь. Когда они немного пришли в себя, то обнаружили, что сидят на лавке, но понять, как они очутились тут, так и не смогли. Преданный Боб был тут же: огрызаясь и рыча, он старательно пробивал себе путь, чтобы не потерять хозяев. Оглядевшись, дети с удивлением обнаружили, что судьба вновь свела их с теми индусами, что приходили к ним в парк. Туземцы также заметили их и радостно закивали. Оказалось, что они, смягчив цветами чувство голода, тоже отправились в Калькутту и, пока дети бегали по городу, разыскивая ювелирную лавку, успели перебраться в Лагерь Нищих. Когда все более или менее разместились, начали раздавать пищу, только что доставленную в товарных вагонах. Многочисленные служащие бегали вдоль поезда, толкая перед собой тележки с продуктами. Из дверей к ним тянулись тощие, словно паучьи лапы, руки, ловко подхватывавшие на лету костлявыми пальцами еду. Внутри вагонов произошла самая настоящая свалка. Лепешки вырывали друг у друга, те ломались,крошились и тут же исчезали в жадно разинутых голодных ртах. Время шло к полудню. Было невыносимо жарко, хотя у всех вагонов имелись по бокам специальные щитки, защищавшие окна от солнца. Патрик и Мери буквально умирали от голода. Осмелев, мальчик выглянул за дверь и подозвал служащего — из тех, что раздавали пищу: — Господин, не мог бы я купить что-нибудь из еды для себя и сестры? Тот, удивившись, что видит белого мальчика в такой компании, буркнул сердито: — Это невозможно! — Но почему? — Это милостыня для бедняков. А милостыню, видите ли, не продают. — Но ведь мы же оплатили проезд… — И зря! Но мне некогда болтать. Раз вам нечего есть, берите… Не в силах больше бороться с чувством голода, Мери умоляюще взглянула на бедного мальчугана, и тому на этот раз волей-неволей пришлось смирить свою шотландскую гордость. Покраснев, он протянул руку и получил две лепешки. Так как друзья-индусы не собирались претендовать на них, одну он дал сестре, другую, утирая слезы, тотчас съел сам. И тут резкий свисток возвестил об отправлении поезда.
ГЛАВА 10
Врачебное обследование. — В тюремной больнице. — Официальное освидетельствование смерти Бессребреника. — Американский консул. — Запоздалые почести. — Графиня де Солиньяк. — Ночное погребение. — Обострение и нормализация обстановки. — Странное сообщение. — Снова у могилы. — Пустой гроб. — Исчезновение яхты.Когда тюремщик в сопровождении слуги вошел в карцер, то обнаружил Бессребреника неподвижно лежащим на полу. Приблизившись, он в нарушение инструкций, строжайше запрещавших служащим его ранга разговаривать с заключенными, позвал: — Господин!.. Эй, господин!.. Ответа не было. — Вы слышите, завтрак принесли… Ну и сон же у вас, пушкой не разбудишь! По-прежнему — никакого результата. Тюремщик заволновался. Наклонившись, потрогал руку капитана, потом лоб и отступил, прошептав: — Господи помилуй, да он холоден как лед. Уж не помер ли? Англичанин попробовал приподнять узника и почувствовал, что тяжелое тело капитана закостенело, как у покойника. — Ну и влип же я! Боясь, что из-за этого необъяснимого случая у него могут быть серьезные неприятности, тюремщик стремглав выскочил из карцера, оставив в нем слугу и не заметив, как в его черных глазах мелькнул странный огонек. Промчавшись бегом по коридорам, он как вихрь ворвался в кабинет к старшему надзирателю. Тот немедленно доложил о происшествии начальнику тюрьмы, который тут же вызвал из тюремного лазарета врача, по счастью оказавшегося на месте. Слуга между тем подошел к узнику, долго и пристально вглядывался в него, а затем, с демонической усмешкой на устах, негромко рассмеялся. Но, услышав раздавшийся под сводами коридора гулкий шум шагов, он вновь принял свое обычное, бесстрастное, как у бронзовой статуи, выражение лица. В карцер, задыхаясь от бега, торопливо вошли начальник с врачом, который тут же приступил к осмотру. Пощупав пульс, прослушав грудную клетку и приподняв веки, он безнадежно махнул рукой: — Думаю, что мертв! — Не может быть! — в ужасе воскликнул начальник, опасаясь, как и тюремщик, за свою судьбу. — А вдруг это летаргический сон?.. — Прикажите принести носилки и отнести тело в лазарет, — прервал его врач. Дрожащими руками начальник с тюремщиком отомкнули замки на цепях, и через десять минут капитана доставили на второй этаж лазарета в палату для заключенных. Опять же в присутствии начальника, которым все сильнее овладевал страх, тщательно и не спеша еще раз обследовали тело узника. Были отмечены полное отсутствие чувствительности кожных покровов и респираторных шумов, окоченелость конечностей, неподвижность зрачков и остановка крови в сосудах. В течение трех часов, почти без перерыва, применялись одно за другим сухие растирания, горчичники и прижигания, подкожные впрыскивания, искусственное дыхание, электрошок. Но все напрасно: тело Бессребреника было по-прежнему неподвижно, бесчувственно и холодно. В полном отчаянии врач заключил: — Могу с полной уверенностью сказать, что он мертв. — Но какова, по-вашему, причина столь внезапной смерти, чреватой, как вы знаете, самыми ужасными последствиями? — Пока я этого не знаю. Вскрытие покажет. — Ни в коем случае не делайте его! Ведь это — тело подозреваемого, так что по закону мы не имеем на него никаких прав. Другое дело — трупы осужденных… — Тогда я оставлю его для наблюдения. Хотя бы на сутки. — Да-да, вы правы, с окончательным заключением подождем. Тем более что я обязан буду доложить обо всем в судебные инстанции, которым, в свою очередь, придется связаться с генеральным консулом Соединенных Штатов… Господи, что за несчастье такое, после угроз этих фанатиков! Еще скажут, что это мы его уморили! Что же будет тогда с несчастными заложниками? Страх, овладевший начальником, передался и его подчиненным, а затем, вместе с известием о смерти узника, охватил весь город. Даже самые храбрые испытывали ужас при одной лишь мысли об угрозе пандитов. Ведь опасности подвергались не только пятьсот заложников, но все без исключения жители Калькутты, которую ожидало нашествие чумы! Американский консул, спешно явившийся в тюрьму, был крайне взволнован. Не стесняясь в выражениях, он громогласно обвинял власти в преступной халатности и намекал на то, что кем-то из тюремных служащих попросту совершено убийство. Он потребовал показать ему тело капитана, после чего с новой силой обрушился с ужасными обвинениями на служивших в тюрьме англичан, окончательно перепугав их, хотя в обычное время они, как и другие их соотечественники, с высокомерием относились ко всем без исключения иностранцам. Консул поносил почем зря судебную процедуру, касавшуюся Бессребреника, решение посадить его в карцер, а когда узнал, что узник к тому же был закован в цепи, вообще вышел из себя. Ему пытались робко возразить, ссылаясь на интересы государственной безопасности. — Плевать я хотел и на ваше государство, и на его безопасность, — орал тот с чисто американской грубостью. — Если в соответствии с международными нормами вам даны права, значит, у вас должны быть и обязанности. Он же до сих пор здесь, на больничной койке… — Он находится под медицинским наблюдением, — заявил врач. — А мне наплевать на ваше наблюдение… Раз вы не смогли или не захотели спасти его, то я требую, чтобы ему были хотя бы оказаны почести — согласно его званию и положению в обществе. Я никому не доверю сообщить его несчастной жене о столь странной и ставящей вас в неловкое положение смерти и сделаю это лично сам. И американский дипломат отбыл, красный от ярости, оставив в полной прострации служащих-англичан. Добравшись на катере до яхты, консул сумел уговорить охрану, до того дня неумолимую, разрешить ему подняться на борт. К великому его удивлению, миссис Клавдия уже была оповещена о печальном событии. Бледная как полотно, с сухими, горящими глазами, юная вдова, судя по всему, тяжело переживала утрату. С безупречным тактом и вежливостью консул заявил, что она полностью может располагать им. — Я не только ваш соотечественник, но и официальный представитель нашей великой и горячо любимой родины. Отныне вы находитесь под покровительством американского флага, и, что бы ни случилось, вас не оставят в беде! Глухим голосом, с видимым усилием, бедная женщина отвечала: — Спасибо! От всей души благодарю вас за то, что вы поддержали меня в столь скорбный час. А теперь я хочу видеть его. Думаю, палачи, отнявшие у меня мужа, не посмеют больше держать меня здесь! Как раз в это время прибыл от военного коменданта офицер с приказом снять охрану и разрешить владелице яхты и экипажу в любое время дня и ночи покидать судно и посещать город. Получив наконец свободу миссис Клавдия позвала к себе боцмана Мариуса и рулевого Джонни. Когда они, молчаливые, убитые известием о смерти любимого капитана, явились, хозяйка судна сказала с печалью в голосе: — Друзья мои, поедемте вместе, чтобы и вы смогли отдать ему последний долг! Моряки, боясь разрыдаться, почтительно поклонились. Затем все четверо — миссис Клавдия, Мариус, Джонни и консул — покинули яхту, над которой в знак траура был приспущен флаг. Стоявший на пристани экипаж консула быстро доставил их к тюрьме. Испытывая одновременно и гнев и горе, они молча прошли в ворота. Тем временем консилиум врачей, собравшись у смертного одра капитана Бессребреника, единодушно пришел к следующему заключению: узник мертв и оставалось лишь похоронить его. В соответствии с распоряжением, спущенным сверху, палате, где лежал покойник, постарались придать более или менее пристойный вид. Кровать застелили американским флагом. Лицо капитана даже после смерти сохраняло гордое и благородное выражение. Вокруг горело множество свечей, и в палате, превращенной в часовню, тюремный капеллан с помощником читали заупокойные молитвы. Когда несчастная женщина вошла, она не смогла удержаться от глухого стона, и слезы потоком хлынули из ее глаз. Она с трудом опустилась на колени, прикоснулась к охладевшим пальцам любимого супруга и покрыла безумными поцелуями его мраморный лоб. — Жорж, любимый мой! — промолвила она надломленным голосом. — Вот как суждено нам увидеться! Моряки, не скрывавшие слез, встали на колени рядом с ней и попытались вызвать в непослушной памяти отдельные слова из выученных в детстве молитв. Оба служителя культа, проявив чувство такта, неслышно вышли из палаты, оставив жену и двух преданных слуг наедине с покойником. Миссис Клавдия, склонившись над телом супруга, пристально вглядывалась в него, словно надеялась обнаружить в этом неподвижном лице хотя бы искорку жизни. Ведь сказал же ей факир: «И пусть сердце твое всегда будет преисполнено надеждой, даже если она и покажется тебе беспочвенной!» Вне себя от горя, с болью в сердце, она еще ждала чего-то, хотя для этого не было оснований. Ей обещали чудо! Но о каком чуде могла идти речь, когда светила медицинской науки признали, что граф де Солиньяк мертв! А в городе, за стенами молчаливо застывшей тюрьмы, царила паника. Перепуганные заложники баррикадировали в своих домах двери и окна. Среди туземцев, проживавших в бедных кварталах, началось глухое брожение, из одной лачуги в другую перебегали таинственные посланцы. По улицам, заполненным возбужденной толпой, разъезжали конные и расхаживали пешие патрули. Опасались бунта, и власти готовы были прибегнуть к самым жестоким мерам. Военному коменданту обстановка показалась настолько тревожной, что он счел необходимым ускорить похороны Бессребреника и совершить их этой же ночью. Миссис Клавдия не возражала. Принесли гроб. Мариус и Джонни сами пожелали оказать капитану последние почести и уложили его, решительно отказавшись от помощи англичан. Миссис Клавдия дрожащей рукой подправляла простыни и покрывало, чтобы тело ее мужа не ударялось в дороге о стенки гроба. Все это делалось в присутствии официальных свидетелей погребения, в качестве каковых выступали начальник тюрьмы, судья и судебный секретарь. Потом миссис Клавдия еще раз поцеловала покойника в лоб. С глазами, полными слез, моряки привинтили крышку гроба. Во дворе, во мраке ночи, уже стояли экипажи. Гроб, обернутый в черную ткань, поставили в крытую повозку. Миссис Клавдия и Мариус с Джонни сели в один экипаж, священнослужители — в другой. Ворота тюрьмы широко распахнулись, и экипажи с повозкой выкатили на улицу, где их тотчас окружил вооруженный пиками конный эскадрон. Траурная процессия двинулась сперва за город и лишь после долгих плутаний, рассчитанных на то, чтобы сбить с толку преследователей, если таковые имелись, направилась к кладбищу. Там царили тишина и покой. Могила, вырытая, как обычно, индусами, была уже готова. С великими предосторожностями, при свете лампы, туда был спущен гроб, капеллан с помощником прочли молитвы, и все было кончено! И тут несчастная женщина, являвшая собой все это время пример мужества и стойкости, не выдержала. Ноги у нее подкосились, и, если бы не верный Мариус, успевший подхватить ее, она грохнулась бы на землю. Один из могильщиков предложил свою хижину, где женщина смогла бы прийти в себя, и моряки отнесли ее в сплетенное из прутьев жилище индуса. Американка была не из тех изнеженных барышень, которые, чуть что, падают в обморок. Легкое омовение лица холодной водой привело ее в чувство, и вскоре она уже стояла на ногах. Священнослужители предложили ей сесть в их экипаж, но она лишь поблагодарила их, сказав, что со своими моряками чувствует себя в полной безопасности и к тому же хочет побыть еще некоторое время на кладбище, где оставила свое сердце. Капеллан с помощником откланялись и направились к экипажу, ожидавшему их за кладбищенской оградой. Было около полуночи.
__________
Начавшееся было в Калькутте волнение внезапно прекратилось. Никто из заложников не пострадал. Войска, хотя и оставались в состоянии боевой готовности, вернулись в казармы, власти с облегчением вздохнули. И вдруг, часам к десяти утра, поступила новость, взбудоражившая всю администрацию. Какой-то полицейский прибежал к своему шефу и доложил, что он собственными глазами видел, как похитили тело капитана Бессребреника. Его сочли за фантазера, подверженного к тому же галлюцинациям, или за мошенника, надеющегося на денежное вознаграждение. Но тот настаивал и в конце концов добился, чтобы его сообщение было проверено. Однако, когда собрались вскрыть могилу, выяснилось, что местные могильщики куда-то исчезли. Пришлось искать других, и те сделали все, что от них требовалось. Оказалось, полицейский сказал чистую правду: гроб был пуст! Поехали на пристань, чтобы захватить яхту, но их опередили: судно, более не охраняемое, снялось с якоря еще до восхода солнца. Так как со времени похищения тела прошло более шести часов, быстроходная яхта была уже вне досягаемости.Конец первой части
Часть вторая БЕГЛЕЦЫ
ГЛАВА 1
После погребения. — Письмо и сосуд. — Опять факир. — Похищение. — Бег в неизвестность. — Таинственный дом. — Наедине с телом умершего мужа. — Невиданное действо. — Первые признаки жизни. — Воскрешение из мертвых. — Безумная радость. — Новые опасности.Как только миссис Клавдия пришла в себя в мрачной лачуге индуса-могильщика, к ней тотчас вернулась присущая ей ясность мысли, и она до мельчайших подробностей вспомнила все, что произошло ранним утром. За несколько часов до появления на яхте американского консула с сообщением о внезапной кончине мужа она обнаружила у себя в каюте маленький сверток, очутившийся загадочным образом на столике во время ее сна. В крайнем изумлении развернула она его и тотчас поняла, кем он прислан. Ее взору предстал малюсенький серебряный сосуд великолепной чеканки, инкрустированный драгоценными камнями, — настоящее произведение искусства, свидетельствовавшее об изысканном вкусе мастера. К пробке, также сделанной из металла, был привязан небольшой кусок пергамента с начертанными на нем словами: «Не открывать, не прочитав письма». Миссис Клавдия взяла лежавший рядом с сосудом конверт, сорвала большую восковую печать с изображенными на ней ладонями с лотосом посередине и с жадностью принялась за чтение послания, тоже, как и записка, написанного на пергаменте. В письме, довольно длинном, каллиграфическим почерком излагались тюремные перипетии ее мужа и содержались пространные наставления, касавшиеся сосуда. И лишь в самом конце упоминалось о необходимости хранить в строжайшей тайне все, о чем здесь сообщалось, и просили не выяснять, каким образом попала к ней эта посылка. Письмо потрясло миссис Клавдию. В ее голове никак не укладывалось то, о чем узнала. Но было ясно: любое неосторожно сказанное слово могло сорвать смелый план, разработанный бесстрашными и загадочными друзьями. Ни на что более не надеясь, она полагалась исключительно на индусов, которые взяли их под свое покровительство. И если на кладбище и приключился с ней обморок, то повинно в этом было нервное перенапряжение, неизбежное при данных обстоятельствах, но отнюдь не неверие в обещанное чудо. Хотя, не будем скрывать, во время траурных приготовлений и похорон в душу ее нет-нет, да и закрадывалось сомнение. «А вдруг эти светочи английской медицины правы и мой Жорж действительно мертв? Ведь его не смогли вернуть к жизни даже новейшие научные методы! — с болью в сердце размышляла она. — Да и меня при виде бедного Жоржа охватило такое чувство, будто вижу его в последний раз… Господи, дай мне силы дойти до конца! Сделай так, чтобы случилось невозможное. Или же пусть и меня похоронят в той же могиле». Но, очнувшись от обморока и увидев склоненные над ней добрые, преданные лица моряков, она преисполнилась решимости: — Нужно действовать! И в тот же миг с улицы послышался гортанный голос: — Мужайтесь, госпожа! Твои друзья с тобой! В хижину скользнула быстрая и безмолвная тень. — Факир! — воскликнула графиня де Солиньяк, узнав старого знакомого. — Пред тобою верный твой раб, — произнес тот, с превеликим почтением опускаясь перед ней на колени. Затем, поднявшись, устремил горящий взгляд на зашедших вслед за ним индусов: — Выполняйте приказ! Туземцы их было шестеро — с лопатами в руках выкатились в сопровождении факира. Женщина осталась сидеть на плетеном табурете в компании Мариуса и Джонни. В напряженном ожидании, пока снова не появился факир, прошло четверть часа. — Соблаговолите следовать за мной, госпожа, — тихо сказал он. Землекопы только что вытащили из могилы гроб и уже отвинчивали крышку. И она вновь увидела застывшее тело капитана Бессребреника, освещенное тускло мерцавшими звездами. — Пора начинать! — почтительно, но твердо произнес факир. — Сосуд при тебе? — Да! — Ты хорошо помнишь все, что нужно делать? — Да! Факир искусно воспроизвел щелканье соловья. И к ним со всех сторон устремились бесчисленные черные фигуры. Молодую женщину и моряков подхватили сильные, но бережные руки и оторвали от земли. — Тихо!.. Тихо!.. — предостерегал факир. Словно летящие тени, пересекли они кладбище, и, воспользовавшись предусмотрительно приставленными лестницами, оказались по ту сторону ограды. Молодую женщину и моряков по-прежнему несли куда-то в полной темноте, они же не двигались, покорно доверившись индусам. Чтобы не замедлять темп, туземцы, державшие их на руках, часто сменялись. За тот час, что длился этот стремительный бег, расстояние, по-видимому, было преодолено немалое. Лишь под огромными темными деревьями вся эта масса молчаливых, тяжело дышавших людей замедлила движение и, продравшись сквозь заросли и переплетение лиан к низкому, едва различимому строению, остановилась. Индусы, несшие завернутое в голубой с серебряными звездами флаг тело Бессребреника, миссис Клавдию, Джонни и Мариуса, вошли в распахнутые двери дома. Европейцев, потерявших всяческие пространственные ориентиры и испытывавших сильное головокружение, опустили на толстый ковер. Повсюду горели светильники, и в зале, роскошно убранном в восточном стиле, было ярко, как днем. — Вы останетесь здесь, — сказал, обращаясь к морякам, факир. — А тебя, госпожа, прошу пройти со мной. Миссис Клавдия очутилась в сравнительно небольшой комнате. По знаку факира индусы внесли тело капитана, почтительно уложили его на покрытый циновками топчан, стоявший посреди помещения, и тотчас вышли. — А теперь, госпожа, — произнес факир, — все зависит только от тебя, от того, насколько быстро и четко выполнишь данные мною указания. Сделаешь как надо — и твой муж снова будет с тобой. Здесь ты найдешь все, что нужно. Не бойся: ты под охраной своих верных рабов. Не дожидаясь ответа, индиец открыл дверь и исчез. Оставшись наедине с телом мужа, миссис Клавдия призвала на помощь всю свою выдержку и хладнокровие. Мужественное лицо капитана казалось выточенным из мрамора. Веки были плотно сомкнуты. За приоткрытыми губами виднелись белоснежные зубы. Молодая женщина смотрела на мужа с любовью и надеждой. — Жорж, любимый мой, или вы оживете, или мы умрем вместе! — прошептала она. Затем, не теряя времени, американка достала из широкого кармана своего платья серебряный сосуд и поставила его на маленький столик у изголовья топчана, рядом с другими предметами: серебряным подносом с кусочками белого воска, ножом с серебряным же лезвием, стаканами, кувшином с водой и несколькими шелковыми платками. Следуя полученным указаниям, графиня принялась разминать кусочек воска, затем залепила им себе ноздри, шелковыми платками перевязала в два слоя рот, вытащила из сосуда пробку, вылила в ладонь немного зеленоватой жидкости с резким запахом и стала энергично растирать ею лоб и затылок мужа. Запах становился все сильнее, и если бы миссис Клавдия не заткнула ноздри и не дышала через двойной слой шелка, то, бесспорно, потеряла бы сознание. Закончив растирание, она поднесла к носу капитана открытый сосуд и начала медленно считать до ста. Сердце ее бешено колотилось. И вдруг… Но не почудилось ли ей?.. Действительно ли она это видела?.. Или от едких испарений в голове у нее помутилось?.. Ей показалось, что на лице у мужа появился легкий румянец… Да!.. Да!.. Это действительно так!.. Лицо и в самом деле медленно розовело, заалели губы, ужасающая мертвенная бледность стала пропадать. Обещанное чудо свершилось! Воскрешение из мертвых произошло! К графине де Солиньяк вернулась жизнь. Не зря она так надеялась! Но рано расслабляться. Ведь самое сложное впереди. Малейшая ошибка с ее стороны — и едва затеплившаяся жизнь угаснет! Отведя сосуд от лица капитана, миссис Клавдия отлила в стакан ровно двенадцать капель таинственного снадобья, добавила туда три ложки воды, и жидкость мгновенно приобрела красивый изумрудный цвет. Затем она осторожно ввела серебряное лезвие ножа между судорожно сжатыми зубами, слегка раздвинула мужу челюсти и маленькой ложечкой, внимательно следя, чтобы ничего не пролилось, стала вливать смесь ему в рот. Эта сложная процедура, требовавшая безграничного терпения и аккуратности, длилась с четверть часа. Бедная женщина задыхалась, взмокла от пота, сердце бешено колотилось, еще немного, и она потеряла бы сознание. И тут послышался вздох — тихий-тихий, и вылетел он не из груди графини! Капитан вздохнул во второй раз — теперь уже глубже — и в третий, и его отяжелевшие веки дрогнули. Из груди женщины вырвался радостный крик. Обезумев от счастья, она воскликнула: — Он жив!.. Жорж жив!.. Слава Господу Богу! Продолжая следовать указаниям факира, она распахнула окно и дверь, чтобы как можно скорее выветрился запах таинственного снадобья, вытащила из ноздрей воск, сорвала со рта платки и прошла в соседний зал, где находились моряки. — Верные мои товарищи… мои отважные друзья… идите… Скорее идите сюда… Мой муж… ваш капитан… жив!.. Вы слышите? Он жив! — вне себя от радости говорила она, а Мариус и Джонни, ничего не понимая, смотрели на нее со страхом, опасаясь, уж не впала ли их хозяйка в безумие! Чтобы не огорчать ее, они все же прошли в комнату, где должно было находиться тело их капитана, и остолбенели, не веря своим глазам: тот, кого они только что видели мертвым, сидел на топчане, потягиваясь и зевая. — Гром и молния и тысяса сертей! — завопил Мариус. — Дьявол меня побери!.. О, нет-нет! Благослови вас Бог, капитан! — заорал в восторге Джонни. Оба они — и провансалец и янки — пустились в пляс. А молодая женщина, рыдая, кинулась на шею мужу: — Жорж, друг мой!.. Любимый!.. Наконец-то мы опять вместе! Капитан Бессребреник ошеломленно огляделся вокруг. — Что происходит, дорогая Клавдия? Где я? Если на яхте, то, значит, мне лишь снилось, будто бы я арестован, посажен в тюрьму и закован в кандалы… — Капитан, — прервал его своим громовым голосом провансалец, — это не сон, все так и было. Больсе того, вы умерли! Англисяне похоронили вас, а мы оплакали… А теперь вы воскресли, вот посему у нас от радости просто все киски перевернулись! Ведь так, Дзонни? Американец, потеряв дар речи, только кивал головой, губы его кривились в умилении, а козлиная бородка смешно дергалась. — Тогда я ничего не понимаю, — произнес капитан. — Я заснул, как обычно, в своей камере, в цепях, которыми меня одарили господа англичане, а проснулся здесь, и свободным! — Да, друг мой, живым и свободным, — сказала сияющая миссис Клавдия. — Я подробно расскажу вам, сколько всего пришлось мне вынести. Я готова была умереть вместе с вами. — Милая Клавдия, это вам обязан я своим воскрешением? — О нет! Я лишь послушно и старательно следовала указаниям наших таинственных друзей, чьи возможности поистине безграничны. Один индус… При этих словах, неожиданно, словно семейное привидение, в комнате возник факир. — А вот и он! — воскликнула миссис Клавдия. Вслед за ним вошли три человека. Они внесли туземную одежду, оружие и съестные припасы. Подойдя к сидевшему на топчане Бессребренику, факир склонился перед ним, сложив приветственно руки, и коротко сказал: — Господин, ты жив и на воле! Посвященные в сокровенные тайны выплатили свой долг. Но они не считают себя свободными от дальнейших обязательств. У тебя опасные враги. Вскоре им станет известно о твоем воскрешении. Необходимо бежать. — Но куда? — Доверься мне, я укрою всех вас в безопасном месте… А теперь торопитесь!.. Скорее переоденьтесь в индийскую одежду… — О, это восхитительно! — воскликнула женщина, ощутив прилив сил. — Вот золото, украшения, драгоценные камни, — серьезно продолжал факир. — Несмотря на то, что вы богаты, сейчас у вас ничего нет. Но вы можете тратить сколько хотите: в вашем распоряжении все сокровища пандитов. — А как же яхта?.. Мой любимый «Бессребреник»? спросил капитан. — Не беспокойтесь! Англичанам ее не захватить. Если ты не против, то лучший индийский лоцман отведет судно туда, где его никогда не найти. — Прекрасно, мой славный факир! Джонни, Мариус, идите переодеваться! И мы с графиней сделаем то же самое. — Господин, — перебил его факир, — надо поторопиться! Дорого каждое мгновение. Знай, всем вам угрожает опасность куда более серьезная, чем та, которую уже удалось преодолеть!
ГЛАВА 2
В индийской одежде. — Слоны. — Рама и Синдия. — В пути. — Чандернагор. — Беспокойство проводника. — Бунгало. — Англичане в пути. — К надежному убежищу. — Засада. — Выстрелы в ночи. — Через джунгли. — Бедный Рама. — Король денег.Граф де Солиньяк и его жена быстро переоделись в восточные одеяния, принесенные факиром. Граф надел на голову роскошную чалму из муслина, украшенную ослепительно сверкавшими бриллиантами. Затем натянул короткую, расшитую золотом курточку из белого кашемира и широченные шаровары, на ноги обул красные сафьяновые сапожки, талию обернул алым шелковым поясом. С темной бородкой, черными глазами, смуглым лицом, тонкими пальцами и маленькими ногами он походил как две капли воды на одного из тех юных принцев, которым Англия платит деньги для отвода глаз, чтобы затем, усыпив подачками бдительность, полностью отстранить их от дел[40]. Графиня предпочла мусульманскую одежду, в данных обстоятельствах исключительно удобную, поскольку полностью скрывала ее — от загнутых носков изящных, расшитых жемчугом и золотом туфелек без каблуков и задников до светлых волос, спрятанных под покрывалом, из-под которого видны были лишь глаза. В соседней комнате переодевались Мариус и Джонни. С тех пор, как они узнали, что капитан жив, их печаль сменилась неудержимым весельем. Они и думать не желали об угрожавших опасностях, и поспешное бегство к черту на кулички казалось им просто забавной прогулкой, чем-то вроде небольшого матросского загула на берегу. Моряки славятся искусством переодевания — благодаря тому, вероятно, что, странствуя по всему миру, они невольно знакомятся с обычаями и костюмами пародов обоих полушарий. К тому же сама их профессия содействует развитию зрительной памяти и наблюдательности. Так что, вдоволь натешившись, Мариус и Джонни подобрали наконец то, что нужно, и в своих новых одеяниях, которые в Европе сошли бы за маскарадные, выглядели поразительно правдоподобно. Не было больше ни американца, ни провансальца. Вместо них появились два доблестных, внушительного вида мусульманина. Увешанные кривыми турецкими саблями, ятаганами и пистолетами, они производили неотразимое впечатление! Когда к ним в комнату вошли капитан с миссис Клавдией, моряки отдали честь и гордо выпятили грудь колесом, услышав, как Бессребреник воскликнул в диком восторге: — Браво, Джонни! Браво, Мариус! Примите мои поздравления! Вы оба просто великолепны! Мариус, который никогда за словом в карман не лез, тут же ответил с резким провансальским акцентом, никак не соответствовавшим его восточному обличью: — О, капитан! Это вы — самый нарядный и самый настоящий сын Пророка! Глядя на вас с мадам, мозно подумать, сто перед нами император и императриса Африки, Аравии и Турсии. Надо сказать, что для человека, столь недавно воскресшего, капитан Бессребреник, отважный искатель приключений, выглядел прекрасно. Он весело расхохотался, и к нему тут же присоединилась миссис Клавдия, — она чувствовала в себе теперь столько сил и энергии, что, казалось, могла бы и на небо взобраться! А Мариус и Джонни просто задыхались от смеха! Подобное поведение европейцев повергло факира, зашедшего поторопить их, в крайнее изумление. Молчаливый индус не мог уразуметь, как можно предаваться веселью в такой час. — Тише! Умоляю вас, тише! — воскликнул он в тревоге. — Да-да, папаса Ворсун, — ответил ему балагур Мариус, — сейсяс мы задраим все люки в трюмы, а язык присвартуем к присалу. Факир же продолжал серьезно: — Поскольку местных языков вы не знаете, какое-то время вам придется изображать из себя паломников, давших обет молчания… Помните, что бы ни случилось, — ни слова в присутствии индусов! А теперь скорее в путь… Мы и так уже потеряли слишком много времени. Европейцы во главе с факиром вышли бесшумно на улицу, и, когда их глаза привыкли к темноте, они разглядели двух огромных слонов. К их спинам толстыми кожаными ремнями были привязаны роскошно убранные и снабженные сиденьями сооружения, видом своим напоминавшие то ли башенки, то ли беседки. Одна из этих башенок, которые местные жители называли «хауда», была покрыта дорогими тканями и предназначалась для капитана и его жены. На другой же вместо крыши был пристроен внушительных размеров зонт для защиты путешественников от солнца и дождя. Взобраться наверх можно было по узким и гибким бамбуковым лесенкам. У каждого слона на шее сидело по вожатому. В руках у них были палки с железными крюками на концах. Впрочем, прибегают к ним довольно редко, поскольку эти умные животные отлично понимают все, что им говорят. Вид исполинов настолько поразил моряков, что они забыли все наставления факира. — Сорт побери, приятель, какая огромная гора мяса! — Клянусь Богом, это настоящие живые монументы! — Тихо! — зашипел, словно разъяренная кобра, факир, но затем, сменив гнев на милость, сказал гордо: — Других таких нет во всей Бенгалии! Тот, на котором поедет господин, зовется Рамой, другой — Синдией. Вы сами убедитесь, как они умны, храбры и выносливы. И эти качества сослужат нам большую службу! Капитан Бессребреник, как человек, знающий цену времени, решительно полез на слона по лесенке. Та гнулась, трещала, но выдержала. Забравшись в башенку, американец позвал жену: — Клавдия, поднимайтесь, пожалуйста! Хотя восточный наряд несколько стеснял движения, женщина ловко полезла по лесенке, и когда была уже высоко, капитан Бессребреник ласково подхватил ее под локти и, легко приподняв, усадил рядом с собой. Неисправимый болтун Мариус, взбираясь на другого слона, заметил: — Посмотри-ка, Дзонни, приятель! Мы поднимаемся по трапу с правого борта, как офисеры! Когда все расселись, лесенки убрали и приладили их к крюкам по бокам башенок. Вожатые свистнули, и послушные, отлично выдрессированные слоны двинулись в путь. Впереди шел Синдия. Животные передвигались широким, ритмичным шагом, со скоростью мчавшихся галопом лошадей, и идти так они могли бесконечно долго. Вскоре беглецы миновали Дамдам, или Дум-Дум, — небольшой, с пятью тысячами жителей, городок, известный лишь своим арсеналом, где англичане с бессердечием варваров изготовляют разрывные, доставляющие неимоверные страдания пули — дум-дум, но о них мы расскажем попозже. Было часа два ночи, и до полшестого, когда восходит солнце, следовало как можно дальше уйти от той таинственной и грозной опасности, о которой предупреждал факир. Мерным, но быстрым шагом, легко преодолевая шестнадцать километров в час, слоны шли дорогой, проложенной вдоль берега реки Хугли, между двумя железнодорожными линиями, одна из которых вела к Дарджилингу, у границы с Сиккимом[41], другая — в Бурдван, откуда, оставляя по пути многочисленные ответвления, устремлялась на крайний запад Британской Индии. Путешественников покачивало, как на палубе корабля, но они не обращали на это внимания. Граф де Солиньяк и его юная жена полулежа предавались легкой дремоте. Что же касается моряков, привычных к любым условиям, то они давно уже спали сном праведников. Сами того не подозревая, путешественники оказались в каких-то восьмистах метрах — расстояние, равное ширине Хугли! — от Чандернагора. Сие селение, название которого переводится по-разному — то как «Город Сандалового Дерева», то как «Лунный Город», — один из сохранившихся островков принадлежавшей когда-то Франции обширной территории, воскрешающих в памяти славные и героические времена, связанные с именем великого Дюплекса[42], пытавшегося силой оружия присоединить к своему отечеству эту страну. К середине восемнадцатого столетия здесь вырос довольно крупный порт, принимавший сотни судов, груженных самыми разнообразными товарами. Но со смертью Дюплекса разоренный войной, изолированный от Франции и буквально задушенный английской таможенной службой город потерял значение торгового центра и пришел в упадок. Даже французские суда, и те предпочли расположенную вниз по течению Калькутту, у которой, среди прочих, было еще и то преимущество, что она имела надежные, глубокие стоянки, тогда как толща воды у чандернагорских причалов не превышала трех метров. И теперь он, малозначимый населенный пункт, представляет интерес исключительно как исторический курьез: расположенный в Бенгалии и занимающий площадь всего лишь в девятьсот сорок гектаров, Чандернагор, как и прежде, является колонией Франции, а его население — двадцать три с половиной тысячи туземцев — французскими подданными! Дельта Ганга, следует заметить, привлекала колонизаторов из разных европейских стран. Например, менее чем в трех километрах от Чандернагора расположен город Чинсура, которым некогда владели голландцы, выгодно продавшие его Англии в 1826 году. Город Хугли, лежащий неподалеку, в полутора километрах вверх по течению реки с тем же названием, был основан в 1547 году португальцами и, как и Чандернагор, знавал лучшие времена. Но затем его захватили англичане, и сегодня о том, что некогда он принадлежал потомкам лузитанов[43], напоминают лишь церковь и Бандельский монастырь — два самых древних памятника христианской культуры в Северной Индии. У Чинсуры слоны, не замедляя шага, перешли через мост и по дороге, которая вела на восток, углубились в джунгли. Хотя кругом вроде бы все было спокойно, факир, несмотря на присущее ему хладнокровие, явно был чем-то встревожен. Он то и дело останавливал слонов, спускался вниз и, приложив ухо к земле, внимательно прислушивался. Потом, взобравшись обратно, упорно о чем-то размышлял, в то время как его спутники-моряки безмятежно спали. Но вот горизонт окрасился в нежно-сиреневый цвет, перешедший в фиолетовый, а затем — и в пурпурный, и небо вспыхнуло алым багрянцем. Всходило солнце! Одолев за три часа беспрерывной ходьбы пятьдесят километров, слоны привычно, словно лошади у почтовой станции, остановились, тяжело дыша, у внезапно возникшего в этой лесной чащобе подворья. — Рамнагарское бунгало! — пояснил факир. — Передохнем немного. Хотя «бунгало» означает на местных языках одноэтажный дом с верандой вокруг, с легкой руки англичан этим словом стали называться и гостиницы при почтовых станциях, известных еще как «дак-бунгало» — «почтовое бунгало». Эти заведения, как правило, мало отличающиеся от постоялого двора или караван-сарая, создавались английскими властями по всем дорогам Британской Индии и процветали довольно долго — до появления железных дорог, взявших на себя часть пассажирских перевозок. Конкуренция со стороны железнодорожного транспорта в положительном смысле сказалась на поведении управляющих этими гостиницами: когда-то чванливые и наглые, они вынуждены теперь держаться куда скромнее. Некоторые из этих бунгало красивы и удобны, но в большинстве из них, однако, вам придется довольствоваться искореженной железной кроватью или плетеной лежанкой. И пусть вам всегда подадут здесь неизменную курицу с рисом, яйца и кофе, наслаждение от еды вы едва ли испытаете: курица обычно тощая, рис переварен, а яйца несвежие. И если у вас нет с собой припасов, то придется поголодать. Впрочем, сами англичане, люди практичные и заботливо относящиеся к собственному комфорту, в такое положение никогда не попадают. Отправляясь за счет королевской казны даже в небольшие поездки, они берут с собой посуду, столовое серебро, полный комплект постельных принадлежностей, вина, консервы, туалетные принадлежности, словом, все нужное и ненужное, так что от бунгало им требуется лишь крыша над головой. Отсутствие комфорта не угрожало и нашим беглецам, хотя подворье, где они оказались, было давным-давно заброшено. Их друзья, несмотря на спешку, успели все же захватить все необходимое и даже такие в данных условиях предметы роскоши, как специально для них предназначенные четыре небольших, но очень удобных матраса. С аппетитом отведав разнообразнейшие блюда, приготовленные индусами, европейцы, еле держась на ногах от усталости, добрели до отведенных им комнат и тотчас заснули в твердой уверенности, что находятся под надежной защитой. На закате, когда жара спала, они снова двинулись в путь, но теперь уже в западном направлении. По-видимому, беглецы оставили своих преследователей далеко позади, однако факир по-прежнему то и дело проявлял беспокойство. — Куда ты везешь нас, друг? — не раз спрашивал его Бессребреник. — Я обещал доставить вас в целости и сохранности туда, где правят пандиты… В один из древних храмов, что огромны, как города, и где царят мир, покой и благоденствие. Там вы будете в полной безопасности, так как английской полиции ничего не известно о месторасположении святилища, о нем знаем только мы и храним это в тайне с тех пор, как в нашу страну вторглись чужеземцы. В нем нашли прибежище и провели долгие годы, так и не будучи схвачены, многие известные борцы за свободу, хотя английские власти упорно разыскивали их. — А далеко до него? — Если поторопимся — четыре ночи. — Ну что ж, четыре так четыре! — весело воскликнул Бессребреник, который, казалось, уже полностью забыл все те злоключения, что выпали на его долю. Хорошее настроение не покидало и его жену. А ведь им, как и их спутникам, было нелегко. Всю ночь протрястись на спине слона, в тесной башенке-клетушке, — право же, удовольствие не из приятных! Когда закончилась вторая ночь, беглецы уже удалились от Калькутты примерно на сто шестьдесят километров. Они находились в пути около четырех часов. Давно пересекли линию железной дороги, связывающую Бомбей с Баракаром, и теперь пробирались сквозь джунгли. Неожиданно Синдия, шедший впереди, замер на месте. Растопыренные уши и изогнутый хобот говорили о том, что он явно чем-то встревожен. И сколько вожатый ни пытался успокоить его и заставить продолжить путь, умное животное не шелохнулось. Темноту внезапно прорезала огневая вспышка, прогремел выстрел, и воздух потрясла пальба. Били с близкого расстояния, из зарослей бамбука, росшего по сторонам дороги. Раненый Синдия затрубил и кинулся вперед. Но и оттуда открыли огонь. Беглецы угодили в засаду! Судя по сухому треску, несколько пуль попали в деревянные каркасы башенок. Европейцы, очнувшись от сна, хватились за оружие, но в темноте разглядеть ничего не могли. И им осталось только выжидать, когда же, наконец, начнется рукопашная схватка. И впрямь, не расходовать же зря патроны, если мишенью может служить лишь мгновенная вспышка ружейного выстрела! Многие женщины в подобном случае разразились бы криками ужаса, стали бы в страхе цепляться за мужчин. Но миссис Клавдия была достойна своего мужа. Она хладнокровно зарядила автоматический карабин и, не выказывая ни малейшего волнения, напряженно вглядывалась в темень. Снова прогремел залп, и Синдия покачнулся. — Гром и молния! — завопил Мариус. — Бедняге попало прямо в киль! — Смелее, парни! Смелее! Они у нас в руках! — раздался чей-то крик, и из бамбуковых зарослей выскочили всадники и окружили слонов. Разглядев силуэт лошади, миссис Клавдия приложила к плечу ружье и выстрелила. Раненая лошадь встала на дыбы, словно геральдический конь, и тут же рухнула, придавив собой всадника. — Браво, Клавдия! — крикнул Бессребреник, в свою очередь разрядив карабин. К ним присоединились Мариус с Джонни, и на заметавшихся всадников, не ожидавших такого сокрушительного отпора, обрушился адский огонь. — Проклятье! — завопил кто-то. — Эти чертовы слоны никак не свалятся! А ну-ка, ребята, раздробите им ноги! «Я уже где-то слышал этот каркающий, как у ворона, голос», — подумал Бессребреник, целясь в сторону говорившего. Слону с его огромной массой и исключительной живучестью не страшны обыкновенные пули. Чтобы свалить его, нужны пули особо большого калибра и пороховой заряд не менеедвадцати граммов. Целить же следует только в ухо, висок или лобную кость — если животное повернулось к вам головой. Но, как отлично знают охотники-профессионалы, слона можно вывести из строя и выстрелом в ногу: стоит ему, раненному в переднюю лапу, попытаться сдвинуться с места, как он тут же беспомощно падает. Поэтому, услышав жестокий приказ, факир вздрогнул. Если слоны погибнут, то беглецов скорее всего схватят, и виноват в этом, конечно же, будет только он, — во всяком случае, так сочтут члены секты! — В джунгли, дети мои! — приказал факир вожатым. Тяжелораненый Синдия ревел от боли, ему вторил Рама, которого пули тоже не пощадили. Но вожатые, не обращая на это внимания, громко кричали и били их крюками, пытаясь завернуть бедных животных направо. И они добились своего: в неистовстве ринувшись на всадников, слоны швыряли хоботом людей, сбивали с ног лошадей и, раздавив, словно соломинки, стволы бамбука, углубились в джунгли. Теперь впереди был Рама. За ним с трудом следовал Синдия, припадая на раненую ногу и издавая жалобные стоны. Факир понимал, если только слон остановится, он уже не сдвинется с места, и подгонял Синдию, как мог, хотя и знал, что жить тому осталось уже недолго. Путь пролегал сквозь заросли гигантских кустарников и рощи веерных пальм, коричных и мускатных деревьев. Башенки на слоновьих спинах, оставшись без сорванных ветвями покрывал, занавесок и зонта, выглядели простыми деревянными клетками. Беглецов трясло, бросало друг на друга, и, цепляясь за что попало, они с ужасом ждали, когда, окончательно выбившись из сил, слоны повалятся на землю. Примерно через час, издав свой последний трубный рев, рухнул Синдия, и факир, вожатый и оба моряка полетели в траву. Увидев, что его товарищ упал, Рама остановился. Он тяжело дышал, из пасти текла пена. Вожатый, вскочив на ноги, с плачем кинулся к умирающему слону и, пытаясь обнять его огромную голову, говорил ему что-то ласково. Бессребреник, между прочим, спросил жену: — Дорогая Клавдия, не показался ли вам знакомым голос человека, распорядившегося убить слонов? — Вроде бы… Но я не уверена. — Ну так вот, этот голос с американским акцентом, столь редким здесь, в английской колонии, принадлежит моему заклятому врагу, тому самому, что претендовал на вашу руку и так и не смог мне простить, что я стал вашим мужем. — Значит, это Джим Силвер. — Да. Король денег. Он мстит нам. Женщина не успела ответить: послышались пронзительные свистки и затем невероятный грохот — свистки паровоза и грохот сталкивающихся, опрокидывающихся и ломающихся вдребезги вагонов! Первой мыслью капитана Бессребреника и его спутников было сейчас же кинуться к месту катастрофы. Гам наверняка были пострадавшие, нуждавшиеся в срочной помощи, и хотя самим беглецам грозили страшные беды, они стремились по зову сердца выполнить свой долг. Однако ночью джунгли непроходимы, и им поневоле пришлось дожидаться рассвета. Сидеть в полной темноте, да к тому же в непролазной чащобе, — не очень приятно. Понимая состояние европейцев, факир зажег несколько прутиков и, отыскав при их свете какое-то смолистое дерево и наломав ветвей, развел небольшой костер. Синдия умирал. Пули буквально изрешетили его, и по крайней мере одна из них, попав в шейную артерию, оказалась смертельной. Но Раме, хотя он тоже был в крови, смерть, по-видимому, не угрожала. Держа в руке факел, Бессребреник осмотрел у Рамы лапы и нашел, что они в гораздо лучшем состоянии, чем можно было подумать, зная о приказе целиться именно в ноги. Поскольку стреляли пулями малого калибра, они прошли через мышцы, не задев, к счастью, костей. Но одна из ран, в области голеностопного сустава, постоянно кровоточила и причиняла животному острую боль, о чем можно было судить по тоскливым стенаниям. Слон то и дело подымал огромную ножищу и тряс ею, словно кошка, обжегшая лапку. Миссис Клавдия первой обнаружила эту рану и, охваченная жалостью, обратилась к мужу: — Жорж, друг мой, как ему, должно быть, больно! Нельзя ли помочь? — Попробую, — ответил капитан.
ГЛАВА 3
Капитан в роли врача. — Друзья. — К месту бедствия. — Железнодорожная катастрофа. — Под обломками. — Сила, ловкость и ум слона. — Патрик и Мери. — Спасение. — На слоне. — Бегство.Пока факир с помощью Мариуса, Джонни и вожатого отцепляли ремни, которыми была привязана к спине мертвого Синдии башенка, Бессребреник, попросив жену подержать факел, пытался помочь Раме. Вожатый стоял рядом, стараясь успокоить слона. Бессребреник погладил Раму по хоботу, который слон то сворачивал, то разворачивал, снял с пояса небольшой ятаган и, поднеся острие к ране, быстрым ударом вскрыл ее. Конечно, граф сильно рисковал: слон мог не понять цели этой столь болезненной операции и в ярости растоптать «хирурга». Миссис Клавдия, опасаясь за мужа, почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Но Бессребреник не без основания рассчитывал на ум славного животного. И когда сталь вонзилась ему в ногу, Рама оглушительно заревел, задрожал всем телом, но с места не двинулся. Из раны потоком хлынула кровь. Введя туда палец, Бессребреник нащупал твердый предмет, в котором угадал пулю. Он долго копался в ране, пока наконец после долгих и мучительных попыток, весь взмокнув, не добился все-таки своего: пуля упала на землю. Возможно, она давила на нерв, тем самым причиняя животному невыносимую боль, так как стоило капитану извлечь ее, как Рама испустил глубокий вздох облегчения. Слон прижал конец хобота к ране, втянул в него кровь и тут же выплюнул. Проделав это несколько раз, он тихонько провел хоботом по лицу, шее и рукам Бессребреника, словно хотел поблагодарить его. Капитан в ответ погладил хобот и сказал слону несколько слов, а тот, насторожив уши, внимательно слушал его, словно стараясь получше запомнить голос друга. Вожатый был в полном восторге. Теперь Рама может идти так же хорошо, как и раньше, заявил он. Факир же произнес своим гортанным голосом: — Господин, ты спас Раму, и теперь он — твой преданнейший друг. Он будет любить тебя всей душой и беспрекословно выполнять любое твое желание. Занимался рассвет. Бессребреник и его жена не забыли об ужасном шуме, услышанном полчаса назад и сменившемся зловещей тишиной, и решили немедленно отправиться на место происшествия. Поскольку Синдия умер, Раме предстояло нести на себе всю группу, а морякам занять места в башенке, первоначально предназначавшейся исключительно для капитана с женой. Мариус и Джонни наотрез отказались сделать это, заявив, что они прекрасно смогут и прогуляться. Но Бессребреник быстро все разрешил: — Я ведь и здесь ваш командир, как на яхте, не так ли? — Да, капитан! — Ну так вот, я вам приказываю взобраться на слона! И им пришлось подчиниться. Вожатый Синдии и факир — как и большинство индусов, неутомимые ходоки — пошли пешком. На них были лишь набедренные повязки, и они вертко, словно ужи, проскальзывали сквозь густые заросли. Как ни торопились путешественники, дорога заняла не меньше часа. Предчувствия европейцев не обманули их. Действительно произошла железнодорожная катастрофа, к тому же в глубине джунглей, между двумя далеко отстоящими друг от друга станциями, так что рассчитывать на скорую помощь не приходилось. Наши беглецы первыми прибыли сюда, и перед их взором предстали груды обломков и готовые вот-вот обрушиться бесформенные нагромождения, из-под которых доносились крики, предсмертные хрипы, душераздирающие стоны. Под насыпью, колесами вверх, валялся паровоз. Под ним лежали раздавленные насмерть машинист-европеец и кочегар-туземец. Кое-где растерянно суетились чудом выбравшиеся из вагонов пассажиры, но они, пережив столь сильное нервное потрясение, вряд ли могли кому-то помочь. Не задаваясь мыслью о том, случайно или по чьему-то злому умыслу произошло это бедствие, Бессребреник, моряки и даже миссис Клавдия, которая не побоялась разодрать в кровь свои нежные руки, принялись, напрягая все силы, разбирать обломки, чтобы кого-то спасти. Не переставая с остервенением работать, Мариус поделился своими соображениями: — Посмотрите, капитан… это поест для бедняков… сдесь одни черномасые… ни одного белого… — Да, действительно! — И вы только поглядите, капитан, какие они тосие! Вылитые скелеты! Пока что самоотверженные спасатели вытаскивали из-под обломков только трупы — и в каком состоянии! Костлявые тела, с пергаментными лицами и торчащими ребрами, были расплющены и раздроблены. А между тем из-под свалившейся между путями платформы неслись пронзительные вопли. Совсем юный, детский голос звал на помощь на чистом английском языке и с такой мольбой, что надрывал душу. Бессребреник и Клавдия бросились туда. — Держитесь, мы вам поможем! — крикнул капитан. Конечно, даже приподнять край платформы, несмотря на всю свою силу, он не смог. — Джонни!.. Мариус!.. Скорее сюда! — позвал Бессребреник. Но хотя они взялись теперь за дело втроем, платформа осталась недвижной. А детские крики не прекращались, но слышались они все тише и тише: — На помощь!.. На помощь!.. Ради Бога!.. Я задыхаюсь!.. Брат!.. Спасите моего брата!.. Патрик!.. Патрик!.. Ответь мне!.. Он молчит!.. Он меня уже не слышит!.. Патрик!.. Это я… Мери!.. На помощь!.. Я умираю!.. Помогите!.. Господи!.. Не оставляйте нас… От этих душераздирающих возгласов сердце миссис Клавдии разрывалось. Она упала на колени, в отчаянии ломая руки, из глаз ее лились слезы. И тут Бессребреника осенило: — Ко мне, Рама! Услышав свое имя из уст белого человека, который так помог ему, славное животное, крайне осторожно и вместе с тем ловко переставляя среди обломков свои ноги, тотчас подошло. Бессребреник, нежно погладив слона по хоботу, показал на платформу и сделал вид, что хочет поднять ее. Рама запыхтел: — Уф-ф!.. Уф-ф!.. Уф-ф! Затем внезапно сморщил лоб, подобрал уши, и в его умных глазках загорелся огонек: он понял, чего ждут от него. Медленно, не торопясь, слон подсунул хобот под край платформы и понемногу, словно домкратом, начал приподнимать ее. К гибнущим детям тотчас ворвался поток воздуха и света. — Держитесь! — кричал Бессребреник. — Держитесь! Нагнувшись, капитан разглядел под платформой, которую Рама держал под углом в сорок градусов, простертое между рельсами детское тело. Вытащив ребенка, он отдал его Мариусу: — Поосторожнее, дружок! Красивый мальчик был без сознания, с покрытым мертвенной бледностью лицом. Бессребреник снова нырнул под платформу и, идя на жалобные крики, нашел девочку, которую тут же передал жене: — Позаботьтесь о ней, моя дорогая. У очаровательной девочки — прелестные светлые волосы и большие голубые глаза. Но в волосах — пыль и песок, а глаза покраснели от слез и выражали только ужас и страдание. Она совсем лишилась голоса и, неясно слыша чью-то взволнованную речь и смутно ощущая ласковое женское присутствие, смогла лишь шепотом, да и то с большим трудом, выразить свою признательность: — Благодарю вас, госпожа… Благодарю… И, пожалуйста, спасите моего брата! Так как больше под платформой никого не оказалось, Бессребреник сказал по-французски слону: — Хорошо, Рама, теперь отпускай. И тот, словно понимая этот язык, потихоньку опустил тяжелое сооружение. Дружески похлопав по хоботу сильного и верного друга, капитан подошел к мальчику, чтобы помочь жене, пытавшейся привести его в чувство. Миссис Клавдия поднесла к ноздрям ребенка флакон с солями, который всегда носила с собой, капитан принялся растирать ему виски и руки. Но все их усилия не дали результата. Девочка зарыдала. — О госпожа, неужели мой брат… мой Патрик… умрет! — горестно восклицала она. — Нет, это невозможно… Мы и без того уже столько настрадались! — Успокойтесь, дитя мое, — с необыкновенной нежностью ответила ей женщина. — Ваш брат будет жить… Мы поставим его на ноги. — Вы такая добрая! Как нам отблагодарить вас!.. Только подумайте, госпожа, мы остались одни… Восемь дней назад убили нашу мать… — Бедные дети! — прошептала женщина, и на глаза ее навернулись слезы. — Мы хотели в этом поезде, для беженцев, добраться до Пешавара, где наш отец служит офицером в полку шотландских горцев. Миссис Клавдия понимала, до какой степени нищеты должны были дойти эти дети, чтобы ехать вместе с умирающими от голода туземцами. Мери, тяжело вздыхая, продолжала рассказывать: — Хотя поезд шел едва-едва, почему-то все же сошел с рельсов… Мы с братом почувствовали сильный толчок и кинулись друг другу в объятия, думая, что пришел конец… А потом я потеряла сознание. — Мужайтесь, дитя мое, — сказал девочке капитан. — Можете не сомневаться, эта катастрофа, которая, увы, привела к гибели стольких людей, — последнее злоключение, испытанное вами. Судьба и так была несправедлива! Внезапно к ним подбежали факир с моряками и вожатыми, которые только что немного дальше разбирали обломки, пытаясь спасти еще остававшихся в живых людей. — Тревога, сахиб!.. Тревога! — кричал факир. — Что случилось?.. — Приближается аварийный поезд. А в нем саперы, полицейские и наверняка представители судебных властей… — Ну, тогда разумнее всего скрыться, — сказал Бессребреник. — Они слишком хорошо меня знают!.. Но что делать с детьми? — И вы еще спрашиваете, друг мой? — взволнованно произнесла графиня. — Конечно же, взять с собой!.. Посмотрите, мальчик только-только приходит в себя. Патрик действительно чуть заметно приподнял веки и еле слышно вздохнул. — Он жив! Жив! — вскричала Мери, схватив лихорадочно миссис Клавдию за руку. — Скорее!.. Скорее! — повторял факир, окидывая детей странным взглядом. Бессребреник понимал, что грозило ему, если его узнают. Легко, словно перышко, подхватив Патрика, он тотчас взобрался по лесенке, которую факир приставил к слону, и с превеликими предосторожностями уложил мальчика в башенку. — Теперь ваша очередь, дитя мое, — сказал капитан Мери. — Сможете ли вы подняться сами? Мери, энергичная и решительная, как истинная дочь солдата, огромным волевым усилием заставила себя встать на ноги и вскоре была уже рядом с братом. Затем на слона поднялась миссис Клавдия, за ней — Мариус с Джонни и вожатые. В башенке, на их счастье довольно прочной, как говорится, яблоку было негде упасть. Погонщик свистнул, и Рама, словно понимая, что его друзьям грозит страшная опасность, со всех ног ринулся в джунгли.
ГЛАВА 4
Индийские касты. — Собратья. — Бесправие человека, изгнанного из касты. — Пандит Биканэл. — Ненависть к бывшим братьям по касте. — На службе у англичан. — Король денег. — Человек, который вечно торопится. — Джим Силвер жаждет мести. — Ценою злата. — Охота. — Неудавшееся нападение. Итак, все сначала!В жизни Индии до сих пор исключительно большую роль играет кастовая система, из чего можно сделать логически верное заключение, что она — классический пример страны, где все еще фактически сохраняется рабство. Англичане приложили немало усилий, чтобы покончить со складывавшейся на протяжении тысячелетий кастовой иерархией, но, хотя им и удалось завоевать Индию, в этом они не преуспели, и страна, как и прежде, живет по своим законам. Несмотря на многократно провозглашаемое равенство всех подданных Британской империи, верные традициям и находящиеся в плену предрассудков туземцы, судя по всему, не собираются отказываться от кастовой системы, сколь бы жестокой она ни была. В принципе, основных каст всего четыре: брахманы, или жрецы, кшатрии воины, вайшьи — торговцы и земледельцы и шудры — слуги. Но эти четыре больших класса подразделяются на бесчисленное множество более мелких каст или подкаст, разобраться в которых практически невозможно. Каждая из этих групп, даже последняя из последних, обладает определенными привилегиями и пользуется определенным уважением. Но есть еще одна группа населения, на которую сказанное выше не распространяется. Само название ее вызывает мысль о жестокой несправедливости и беспросветной нищете и преисполняет нас глубоким сочувствием, увы, небезосновательным. Это парии. И хотя эту группу называют нередко кастой неприкасаемых, в действительности она не является подразделением ни одной из вышепоименованных основных каст и в силу этого, строго говоря, не входит в кастовую систему как таковую. Само понятие «пария», которое и у нас, по аналогии, приобрело столь печальное значение, происходит, как утверждают филологи, от слова «пара», которое в санскрите, как и в греческом языке, имеет значение «вне», или от тамильского «парейерс» — «вне класса». Следовательно, по сути, парии составляют класс тех, кто не принадлежит ни к какому классу. Это люди проклятые, покрытые позором, «нечистые» до такой степени, что даже малейший, пусть и невольный, контакт с ними требует очищения путем чтения молитв и совершения обрядов. Отвращение к ним столь велико, что даже жрецы, эти «дважды рожденные», никогда не решатся приблизиться к ним на длину палки, даже если и захотят их ударить. Парии — это жертвы крайнего бесправия, физического насилия и жестоких гонений, которым в Европе подвергались только в эпоху средневековья, да и то лишь преданные по приговору церкви анафеме. Но эти последние, в случае отмены приговора, снова могли занять прежнее место в социальной структуре, поскольку изгнание из общества не имело безусловно вечного характера. Индиец же, имевший несчастье родиться парией или стать им потом, до конца дней своих носит это проклятие. В свете вышесказанного излишне говорить, что нет для индуса большего несчастья, чем быть изгнанным за тот или иной проступок из своей касты и, таким образом, пополнить ряды этих отверженных. Одним из таких изгоев и был пандит Биканэл, происходивший из древнего знатного брахманского рода. Он обладал всеми мыслимыми и немыслимыми пороками, какими только может похвастать житель Востока, и, чтобы иметь возможность самозабвенно предаваться утехам, не останавливался ни перед каким преступлением. Но в один прекрасный день брахманы изгнали его с позором из своей касты, и он в глазах всей нации стал парией. Случай среди брахманов довольно редкий, хотя и не единственный. Человек, оказавшийся в подобном положении, нередко предпочитает такому унижению добровольную смерть. Но у Биканэла свои обо всем представления. И если он был исключительно «современным» брахманом, то стал еще более «современным» парией. Будучи твердо уверенным в том, что жизнь — вещь прекрасная и расставаться с нею надо как можно позже, он подумал о том, что неплохо было бы поставить свой ум и смекалку на службу англичанам и, таким образом, постоянно иметь достаточно средств для удовлетворения греховных страстей. И поскольку англичане без предубеждения относятся к оказавшимся вне касты, он смело предложил им свои услуги. Брахманы являются хранителями самых страшных тайн и располагают обширнейшими сведениями о жителях этой загадочной страны, которую победители смогли поработить, но не переделать на свой лад. Поэтому власти с готовностью ухватились за-предложение Биканэла, тем более что подобные удачи редко выпадали на долю англичан. У Биканэла спросили, чего он хочет. Он ответил: — Большое жалованье и место в полиции. Когда того требуют интересы, англичане не торгуются. Биканэлу тут же положили генеральское жалованье и взяли его в тайную полицию, чтобы использовать для особых поручений. Теперь он мог совершенно безнаказанно предаваться порокам и претворять в жизнь гнусные планы отмщения. Известно, что прирученный зверь нередко становится врагом своим оставшимся на свободе собратьям. В качестве примера можно сослаться на лошадей и слонов, которые, подчиняясь человеку, без колебаний принимают участие в охоте на своих сородичей, проявляя к их судьбе полнейшее безразличие. И стоило лишенному брахманского звания пандиту Биканэлу оказаться на службе у англичан, как он тотчас бросил вызов всем индийским кастам и в первую очередь брахманам, вызывавшим у него особо жгучую ненависть. Движимый этим чувством, отверженный индиец оказывал своим хозяевам немалые услуги, за что они ценили его все больше и больше. С дьявольской ловкостью входил он в доверие к местным жителям, выведывал обо всех их делах и помыслах. Ему не составляло никакого труда принять любое обличье и проникнуть туда, куда остальным вход был закрыт. Вскоре он стал тайным советником при начальнике полиции, чья работа с этих пор удивительнейшим образом облегчилась. Когда произошла ужасная трагедия, унесшая жизнь герцогини Ричмондской, Биканэл возликовал. Теперь он имел возможность излить злобу на своего бывшего собрата, пандита Нарендру, а заодно и поглумиться над всеми индусами, вне зависимости от того, к какой касте они принадлежали. Это по его подсказке судья постановил предать осквернению останки осужденного, хотя сами англичане никогда бы не додумались до столь бессмысленного и опасного поступка. Но из-за непредвиденного вмешательства Бессребреника в ход событий замысел не был доведен до конца, что привело Биканэла в бешенство и сделало его смертельным врагом благородного американца. Когда же этот изгой узнал, что пандиты взяли капитана под свое покровительство, то возненавидел его еще пуще. Стечение обстоятельств благоприятствовало парии. В тот самый день, когда Нарендра нанес роковой удар, к Биканэлу явился некий джентльмен, представившийся под несколько необычным именем — Король денег. На вид ему было лет пятьдесят. Длинный, костлявый, нескладный, с несвежим цветом лица и пучком жестких седоватых волос на подбородке, он изъяснялся короткими, отрывистыми фразами, словно человек, который страшно торопится. По этой внешности, как и по гортанному акценту, придававшему своеобразие его речи, в нем можно было безошибочно признать типичного янки. — Я Джим Силвер, — без всяких предисловий заявил гость. — Король денег… американский гражданин… Стою двести миллионов долларов… Вот записка от вашего начальника… читайте… быстрее. — Но, милорд… — За титулы не плачу… не лорд… плачу за услуги… очень много… — Чем могу служить вашей милости? — Капитан Бессребреник… Нефтяной король… американский гражданин… мой враг… выиграл у меня два миллиона долларов… женился на женщине, которую я любил… Хочу… чтобы он исчез… навсегда… хочу… жениться на его вдове. — И рассчитываете на мою помощь, не так ли, милорд? — Вам так нравится называть меня милордом? — Американский король в Британской Индии не может иметь звание ниже лорда. — Отлично! Да, я рассчитываю на вас. Чего вы хотите за вашу помощь? — Прежде всего безнаказанности за все те маленькие грешки, которые мне придется совершить… — Безнаказанность обещаю… власти дали слово… Сколько желаете? — Но… много… много… — Я дам… больше… Миллион долларов… в тот день, когда Бессребреник… будет мертв и я женюсь на его вдове. — Ах, сударь! Вы действительно настоящий лорд! — воскликнул полицейский, пораженный размером суммы. — Согласны? — Конечно! Но потребуется кое-что на текущие расходы… — Не беспокойтесь, вот чек на сто тысяч долларов в Национальный банк. — Благодарю вас, милорд! И где же сейчас находится этот супостат?.. — Плывет сюда на своей яхте, носящей его имя — «Бессребреник». Уже заходит в Хугли… Этой ночью будет в Калькутте. — Вы уверены? — Это так же точно, как и то, что я его ненавижу. Плавает для собственного удовольствия… Потерпев кораблекрушение, длительное время провел на одном из островов в Тихом океане… Сентиментален… Побывал в Океании… Австралии… Малайзии… Проплыл Малаккским проливом… Хочет побывать в Индии… Но найдет здесь могилу! Повсюду мои агенты… Сообщают о его передвижении… Достаточно сведений? — О да, милорд! У меня есть несколько часов, чтобы изучить это дело, составить план действий и предпринять соответствующие шаги. — Очень хорошо! В том, что касается деталей, полагаюсь на вас… Для меня главное — смерть Бессребреника… Способы я не обсуждаю… я их оплачиваю! — Милорд будет доволен. — Живу на Стренд-роуд, вилла «Принцесса»… Являйтесь туда три раза в день или присылайте донесения. До свидания! Странный, зловещий субъект сплюнул табачную жвачку, которую пережевывал с каким-то омерзительным сладострастием, извлек из кармана отвратительного вида морковку, в черных кольцах грязи, открутил хвостик, с хрустом раскусил ее, засунул за щеку и, широко шагая, с важным видом удалился. Оставшись один, Биканэл предался размышлениям. Не сомневаясь в том, что игра стоит свеч, он обдумывал, как получше выполнить задание. Брахман, ставший парией, был мастером своего дела. Подобно актеру, который работает над ролью, он попытался, как говорится, влезть в шкуру Короля денег и, призвав на помощь свое богатое воображение и интуицию, весьма в этом преуспел. Он сумел внушить себе, что этот Бессребреник, которого он не знал и никогда в жизни не видел, — его смертельный враг, и стал ломать голову над тем, как расправиться с ним быстро и наверняка. Он решил, что лучше всего выдать Бессребреника за русского шпиона, которому могущественный сосед платит за то, чтобы он разжигал рознь на афганской границе, подстрекая племена афридиев к священной войне против неверных. Такие уловки всегда проходят в стране, находящейся в состоянии войны, тем более когда война не приносит удачи. Людям свойственно искать козла отпущения и в своих промахах винить других, и представители властей или военного командования не являются исключением. И пока яхта Бессребреника медленно поднималась вверх по Хугли, а ее владелец приветствовал, проходя мимо Даймонд-Харбора, английский флаг и восторженно думал о том, что наконец-то увидит Индию, эту загадочную страну, Биканэл строчил подлый донос, по которому капитан и будет арестован, лишь только яхта подойдет к причалу. Негодяю везло! Вы помните о благородном поступке Бессребреника, спасшего индусов, когда те ценой собственной жизни пытались вырвать у реки Хугли оскверненные останки Нарендры. Если этот факт умело использовать, да еще присовокупить к нему донос, то Бессребреник со своей компанией будет выглядеть в глазах английских властей далеко не лучшим образом. Правда, из схватки, короткой, но яростной, капитан вышел победителем. Но Биканэл не думал сдаваться. После долгих размышлений он наконец понял, как удалось тому выбраться из ловушки. Бессребреник, поедая пищу, которую принес ему слуга-индус, проглотил, сам того не ведая, одно из тех таинственных снадобий, о существовании которых знают лишь немногие посвященные. Один из тех ядов, что совершенно неизвестны европейцам и прибегать к которым столь опасно, что делать это можно лишь в самых крайних случаях. К счастью для беглецов, Биканэл догадался об этом слишком поздно, уже после похорон, на которых присутствовал лично, чтобы доложить потом Королю денег: — Я сам видел, как вашего врага опустили в могилу. Крайне удивившись, что вдова со своими спутниками не уходит с кладбища, он стал терпеливо ждать, затаившись во мраке. И увидел, как могильщики выкопали гроб и унесли тело капитана. Стараясь ничего не упустить, он бежал следом за таинственным отрядом, углубившимся в окружающие Калькутту джунгли, и оказался одновременно с ним у загадочного здания, где свершилось невероятное воскрешение Бессребреника. Затем появились двое слонов, и когда к ним подошли переодетые капитан с женой и моряки, Биканэл понял, что его — да и не только его, но и полицию, верховный суд и высшие власти, — попросту обвели вокруг пальца и что теперь придется начинать все сначала. Дождавшись их отъезда, он вернулся в город, бормоча себе под нос: — Неплохо проделано, Берар!.. Да, проделано великолепно! Но мы еще встретимся с тобой, приятель, и я докажу, что не тебе со мной тягаться! Вместо того чтобы тут же доложить обо всем в полицию, он велел вознице ехать к вилле «Принцесса». Король денег, к которому направлялся Биканэл, не сомневался в том, что дело уже сделано, и, рассчитывая стать вскоре супругом миссис Клавдии, был на седьмом небе от счастья. И вдруг — ужасное сообщение: — Бессребреник жив и на свободе! И сейчас вместе с женой и двумя моряками удирает отсюда. Задыхаясь от ярости, Король денег прорычал: — Проклятье! Вы… вы его упустили! — А что бы вы сделали на моем месте? — Пристрелил! — И его телохранители тут же растерзали бы вас. С этими парнями шутки плохи, могу вас уверить! У Короля денег от злости перехватило дух, лицо стало багровым, глаза налились кровью. Он расхаживал огромными шагами по комнате, сжав кулаки, изрыгая проклятья и швыряя все, что попадалось под руку. Биканэл невозмутимо наблюдал, как этот уродливо-комический субъект изливает свою желчь. А когда увидел, что тот начал успокаиваться, произнес: — Ничего еще не потеряно, напротив, я считаю, что так даже лучше! — С чего бы это? — Теперь у вас появилась возможность собственными глазами увидеть мертвое тело врага. На сей раз это действительно будет труп! — Вы ведь сказали… удрал? Как найти?.. Индия… огромна. Поиски бесполезны… Иголка в стоге сена! Биканэл засмеялся: — Беглецы на двух слонах — это не иголка! Не пройдет и нескольких часов, как мы непременно нападем на их след, а там останется только выбрать удобный момент — и они наши! — Поставите в известность власти? — Нет… лучше не надо… Предпочитаю действовать самостоятельно… Начальство всегда ставит палки в колеса… — Я другого мнения. Необходимо получить официальные полномочия, чтобы мы могли располагать солдатами и даже, при определенных обстоятельствах, пользоваться практически неограниченными правами. Но сделать это я могу лишь в том случае, если расскажу всю правду. Вам нечего волноваться: хотя власть моя будет поистине беспредельна, я употреблю ее исключительно в ваших интересах… Когда начнется охота? — Через пару часов. — Я отправлюсь с вами. — Вы, ваше сиятельство? — Да! Я отлично разбираюсь в следах… как ковбой с Дикого Запада или аргентинский зверолов… Я — человек действия!.. Не какая-нибудь канцелярская крыса… Заработал миллионы… не в бирюльки играл… Черт возьми!.. Увидите меня в деле! — Хорошо, договорились! Если господин решил сам участвовать в операции, то она лишь выиграет от этого. В полицию Биканэл сообщил только самое необходимое — о том, что Бессребренику помогли бежать. Ему были поручены поиски и предоставлены самые широкие полномочия. Он сам отобрал людей и не теряя времени отправился на охоту, как выразился Король денег. Обнаружить следы беглецов было нетрудно, тем более что они особенно и не прятались, полагаясь на свои одеяния, до неузнаваемости изменившие их облик. Биканэл и Джим Силвер, сопровождаемые конным отрядом, шли за ними по пятам и, пока те отдыхали в бунгало, обогнали их, чтобы успеть устроить засаду. План у преследователей был прост: поубивав слонов, захватить беглецов живыми. Те же чувствовали себя в полной безопасности, чему в немалой степени содействовала их твердая уверенность в том, что англичане считают Бессребреника навеки погребенным в могиле. Они беззаботно продвигались по затерянной в джунглях дороге, совершенно не подозревая о нависшей над ними опасности. Джим Силвер, человек, привыкший ко всеобщему повиновению, решил, несмотря на советы Биканэла, ускорить развязку, так как этому грубому и резкому янки претили все эти выжидания, входящие в боевой арсенал жителей Востока. Неудача с вылазкой не обескуражила Короля денег: — Небольшая пристрелка… Проба сил… Бессребреник — хороший игрок… Противник, достойный меня… Ну что ж, начнем сначала!
ГЛАВА 5
Отчаянное бегство. — Мадемуазель Фрикетта. — Лагерь. — Бедный пес! — Болезнь Мери. — Факир. — Тропическая лихорадка. — Смертельная болезнь. — Лекарство, неизвестное белым. — Ненависть к англичанам. — Отказ. — Душитель Берар. — Факир сдается. — Убийца в роли спасителя.Хотя беглецы давно уже были в джунглях, слон не сбавил темп и, ритмично переставляя огромные ноги-тумбы, уверенно преодолевал километр за километром, унося своих друзей все дальше и дальше от злосчастной железной дороги. Иногда деревья расступались, и тогда взору путешественников открывалось поле. Чуть поодаль виднелась деревенька — жалкие соломенные хижины, среди которых бродили хилые ребятишки и еще более отощавшие и жалкие на вид домашние животные. Валявшиеся в грязи буйволы, завидев слона, отбегали в сторону, задрав хвосты, шумно дыша и угрожающе выставив рога. А славный Рама, по-прежнему не разбирая дороги, несся по крохотным крестьянским участкам, топча посевы хлопка, конопли, мака и сахарного тростника! Он без всяких угрызений совести вторгался на покрытые илом рисовые поля, разбитые небольшими земляными валами на ровные квадраты, и по пути с явной радостью выдирал восхитительный пучок ярко-зеленых стеблей, которые тут же поедал с нескрываемым наслаждением. Слону везло больше, чем его хозяевам, чьи запасы пищи давно иссякли. Но питался он, увы, за счет крестьянина, который вечно несет на своих плечах все тяготы войн, нашествий или мародерства. Путники почти все время молчали: им было тесно, жарко и вообще неуютно. Один Мариус, не обращая внимания на духоту, иногда произносил что-нибудь со своим провансальским акцентом, чем несколько оживлял обстановку. — Ах, капитан… ну и молодцы мы все-таки… — сказал он как-то. — Продолжай, Мариус, — поддержал его Бессребреник, которого всегда забавляли шутки боцмана. — Вот я думаю, заль, сто нет с нами мадемуазель Фрикетты! — Да, Мариус, вы правы, — вмешалась миссис Клавдия. — Нам действительно очень не хватает нашей дорогой Фрикетты. Что-то она сейчас поделывает? — Долзно быть, она сейсас зивет в Паризе, у родителей, дозидается, пока консится война на Кубе и она смозет выйти замуз за своего кузена Роберта. Да она себе локти кусать будет, сто не отправилась с нами путесествовать по миру, когда вы пригласили и меня, и ее. А ведь ей осень хотелось отправиться в плаванье на «Бессребренике», том самом, на котором с нами произосло то незабываемое приклюсение, у берегов Кубы… когда другой «Бессребреник», тоже корабль, но воздусный, — диризабль — спас нас. А она, — нате вам! — побоялась огорсить своих родителей… Она ведь только вернулась, только успела выздороветь… Мама сделала все, стобы доська осталась с ней… И к тому зе, Фрикетта сситала, сто это путесествие будет скусным! Да, нисего себе, скусное!.. Ха!.. Ха!.. Ха!.. Битва с кокодрилами… вас арест… серные сарфы тхагов, задусенные… васа смерть… васе воскресение… бегство… встреса с этими сюдесными ребятами… И подумать только, сто когда я буду рассказывать об этих невероятных происсествиях, все будут думать, сто это россказни старого морского волка… Ах, как бы мадемуазель Фрикетта была довольна, если бы была с нами! Все посмеялись над этими шутливыми словами, которые, хоть и в столь необычной форме, наполнили их души волнением при воспоминании о милой их сердцам Фрикетте. А тем временем славный Рама несся вперед, в неизвестность, и их все так же трясло и подбрасывало, отчего нестерпимо ломило все тело. Но им все-таки пришлось остановиться недалеко от какой-то деревни, так как день близился к концу, а у них не было ни воды, ни пищи. Отправив в селение за съестными припасами факира и оставшегося без дела вожатого Синдии, капитан решил разбить лагерь. Хотя Патрик и Мери чувствовали себя отвратительно, они ни разу за время пути не пожаловались. Но было видно, что им нелегко. Особенно тревожило состояние Мери. Лицо у нее было красным, как при высокой температуре. Бедная девочка едва держалась на ногах, явно находясь в предобморочном состоянии, и, как только Мариус и Джонни развернули матрасы, она без сил рухнула на один из них. Сев рядом, миссис Клавдия приподняла ей голову и увидела, что Мери вся горит. Ласковая и деликатная, она вела себя так, словно приходилась девочке старшей сестрой, и старалась, как могла, помочь ей, смягчить ее душевные и телесные страдания. Когда вожатый Синдии принес несколько раздобытых им прекрасных лимонов, с душистой и сочной мякотью, женщина выдавила немного сока девочке в рот. Та прошептала слова благодарности и вдруг, лишившись сознания, забормотала лихорадочно. Капитан в это время находился с Патриком, пытаясь подбодрить его. Мальчик крепился изо всех сил, борясь со слезами, но в конце концов не выдержал и разрыдался. — Я, наверное, кажусь вам глупым… — произнес он сдавленным голосом. — Мы все потеряли… Перенесли невероятные страдания… И у меня еще хватает слез, чтобы оплакивать мою собаку… моего бедного Боба… последнего оставшегося у нас верного друга. Он ехал с нами в поезде и, должно быть, погиб. — О нет, дорогое дитя, я вовсе не нахожу вас глупым… и даже смешным, — ответил капитан, которого тронула доброта мальчика. — Не всякий способен так любить животных! Мальчика поддержал и Мариус: — Из-за этого пса у васей дуси повисли паруса, мой юный друг. Ну так вот сто я вам скажу… Я, старый морской волк, белугой ревел, когда у моего маленького приятеля Пабло, сироты-кубинца, сдох пес! Патрик проникся к моряку-провансальцу, проявившему столь горячее участие, искренней симпатией. — И потом, кто знает, мозет быть, он есе отысется, — заметил Мариус, задумчиво покачивая головой. — О да! Вы так думаете? — с надеждой спросил мальчик. Патрик только теперь смог как следует рассмотреть своих друзей — людей добрых, энергичных и отважных. Хотя восточные наряды выглядели на них очень естественно, мальчик очень быстро понял, что никакие они не индусы. Их манера говорить по-английски указывала вполне определенно на то, что они не были и подданными ее величества королевы. Сердце ребенка, измученного неожиданными и так упорно преследовавшими его несчастьями, преисполнилось любовью и благодарностью к ним. Лишь факир, в котором Патрик сразу узнал чистокровного индуса, внушал ему отвращение и некоторый ужас. А тот внешне держался очень сдержанно, даже холодно, хотя наверняка в жилах его, под бронзовой кожей, билась горячая кровь. Он, казалось, избегал не только какого-либо общения с детьми, но даже их взгляда, и явно чувствовал себя в их присутствии весьма неловко, хотя и сам участвовал в их спасении. Между детьми майора и этим таинственным человеком сразу же возникло какое-то отчуждение, и все трое решили, что оно непреодолимо и побороть его невозможно. Но капитан с женой и оба моряка ничего этого не замечали. Покоренный благородством, добротой, обаянием и внешностью капитана и безыскусным добродушием Мариуса, Патрик рассказал им вкратце всю свою историю, о выпавших на их долю злоключениях, мытарствах и надеждах на будущее. Тем временем Джонни, в котором необычайная ловкость матроса удачно сочеталась с опытом бывшего лесоруба, соорудил из бамбуковых стволов премиленький домик. Крышу он сделал из огромных банановых листьев, шелковистых, приятного бледно-зеленого цвета. На эту работу ему потребовался ровно… час. Теперь у беглецов появилось прибежище, где вполне можно укрыться, если пойдет дождь, что, впрочем, было маловероятно. Там и устроилась молодая женщина рядом с Мери, по-прежнему неподвижно лежавшей на матрасе. Девочка бредила, и это не на шутку тревожило графиню. Не зная, что делать, она позвала мужа, и он тотчас явился вместе с Патриком и Мариусом. — Взгляните, друг мой… Бедная девочка в бреду… Лоб горячий… И пульс бьется с сумасшедшей скоростью. — У нее сильный приступ лихорадки. А у нас нет никаких лекарств… ни грамма хинина… ничего. Но ведь нужно что-то делать… найти что-нибудь… — У белых нет лекарства от болезни, которой страдает эта девочка… Недуг неизлечим, — послышался гортанный голос факира. — Что ты такое говоришь, факир?! — воскликнул капитан. — Я сказал правду, сахиб. У нее тропическая лихорадка… А если белый заболевает тропической лихорадкой, он всегда умирает! Когда Патрик услышал этот жестокий приговор, произнесенный с какой-то холодной ненавистью, из груди его вырвался крик отчаяния. — Но если белые не знают такого лекарства, может быть, его знают индусы? — настойчиво спросил капитан. — Да, сахиб, может быть, как ты сказал. — А ты, ты ведь столько всего знаешь?.. — О да, я… конечно, знаю… То есть нет, не знаю! Когда индиец произносил это «нет», в голосе его, казалось, зазвенел металл, а во взгляде, который он метнул на маленькую больную, сверкнула ужасная ненависть. Бессребреник вздрогнул. Он понял, что здесь скрывалась какая-то тайна. Сделав знак жене, он сказал факиру: — Пойдем со мной! Тот почтительно поклонился и уверенно последовал за американцем. Когда они отошли шагов на пятьдесят, капитан остановился у рощицы посаженных ровными рядами коричных деревьев и, посмотрев индусу в глаза, без обиняков заявил: — Ты знаешь лекарство от болезни, от которой умирает девочка! — Да, сахиб. — Ты приготовишь для нее это лекарство и спасешь ее! — Нет! Побледнев, Бессребреник невольно потянулся рукой к рукоятке заткнутого за пояс револьвера. Заметив этот жест, факир опустил голову и заговорил с таким смирением, что даже его гортанный голос смягчился: — Сахиб, я мог сказать тебе, что не знаю лекарства от тропической лихорадки. Но я дал обет говорить правду… и никогда не унижусь до лжи. Теперь ты можешь убить меня… Жизнь моя принадлежит тебе… Мои властелины отдали меня тебе… Я твой раб, твоя вещь… — Тогда почему же ты отказываешься мне повиноваться и не хочешь спасти умирающего ребенка? — Потому что эта девочка принадлежит к поработившей нас расе… Потому что отец мой, моя мать, братья… все мои родные были убиты англичанами… Потому что здесь нет семьи, в которой не оплакивали бы кого-нибудь из близких, ставшего жертвой англичан… Потому что секта, к которой я принадлежу, поклялась их убивать… Потому что я дал грозную клятву на внутренностях белого буйвола уничтожать все английское! — Но если, факир, я обращусь к твоему великодушию…буду взывать к твоим добрым чувствам… даже опущусь до просьбы… Я, который до этого никого никогда ни о чем не просил, готов умолять тебя… — Ты мой хозяин, ты имеешь право приказывать… А так как я отказываюсь повиноваться, поскольку не могу в данном случае выполнить твою волю, ты можешь убить меня! — Умоляю тебя, факир! — сказал Бессребреник. Он побледнел от сознания своей беспомощности и не знал, что еще предпринять, чтоб сломить упорство факира. А тот отошел от него на три шага и, подняв голову и скрестив на груди оплетенные мышцами руки, устремил на европейца жгучий взгляд. Некоторое время он стоял так, и, казалось, в его сумрачной душе разворачивалась ужасная борьба. Затем тихо воскликнул сдавленным, прерывающимся от волнения голосом: — Это я затянул на шее судьи Нортона черный шарф душителей! Это я убил точно так же судью Тейлора! Это я задушил графиню Ричмондскую, чтобы отомстить за святого Нарендру, дважды рожденного! Я задушил их мать… Ты слышишь, сахиб? Это я возглавляю бенгальских душителей!.. Да, это я — Берар! Услышав это потрясающее признание, Бессребреник не дрогнул. Он ни словом, ни жестом не выразил своего возмущения или отвращения к этому представшему в столь зловещем облике человеку. — Ну что ж, Берар, раз ты убил мать, спаси, по крайней мере, дочь! — произнес он как можно спокойней. Факир медленно разнял руки и указал своим твердым и сухим, словно корень железного дерева, пальцем на рукоятку револьвера: — Я твой раб… Жизнь моя принадлежит тебе… Убей меня, сахиб! — Ты отказываешься? — Я не могу этого сделать! — Хорошо, Берар, я не буду обсуждать ни твои поступки, ни причины, по которым ты их совершил… Ты меня спас… И я этого никогда не забуду… А теперь мы расстаемся… — Но, сахиб… Это невозможно… Я должен доставить тебя в безопасное место… Иначе я буду обесчещен, а это во сто крат хуже смерти… — Молчи, не перебивай! Я иностранец… француз… Я принадлежу к благородной нации, которая считает себя другом всех угнетенных… Эта нация полюбила индусов как братьев… не пожалела ни золота, ни крови своей, чтобы помочь им добиться независимости… Для тех, кто на этой порабощенной земле помнит о прошлом, имя Франции священно! Так вот, факир, клянусь моей родиной, которая всегда была защитницей слабых, что отныне моя жизнь, жизнь моей жены и моих слуг неразрывно связана с жизнью этих детей. Я их усыновляю!.. Они станут моими детьми!.. И, чего бы мне это ни стоило, я буду заботиться о них до тех пор, пока мы не разыщем их отца… А теперь уходи!.. Оставь нас здесь одних! Я отказываюсь от твоей помощи и от помощи тех, кому ты подчиняешься… Я освобождаю тебя — и их тоже — от всяких обязательств по отношению ко мне… Иди же!.. Прочь!.. Уходи навсегда… Брось нас на произвол судьбы, без средств к существованию, в окружении наших врагов. Подлости я предпочитаю собственную погибель. Что касается Мери… Что ж, обращусь за помощью к крестьянам из этой деревни. Может, они окажутся не такими бессердечными, как ты! Услышав эти слова, произнесенные с чувством достоинства, факир неожиданно проявил величайшее волнение. Весь фанатизм его исчез, а в блестевших, как у тигра, глазах мелькнуло нечто, похожее на сострадание. Опустив голову, он пробормотал еле слышно: — Того, кто нарушил клятву на крови, ждет смерть… Ну что ж, да будет так!.. Ты победил, сахиб: сейчас я приготовлю напиток, и девочка будет спасена.
ГЛАВА 6
Выполнение обещания. — Лекарство от лихорадки. — Приступ злокачественной малярии. — Вынужденная спешка. — Целебный напиток. Признание. — Участь клятвопреступников. — Мнение Мариуса о факире. — Заброшенный город. — Святая обитель. — В безопасности.Как мы уже знаем, моральный поединок между Бессребреником и факиром принял столь ожесточенный характер и потребовал от обоих противников такого нервного напряжения, что индус, не выдержав, в порыве лютой ненависти к англичанам, раскрыл свое подлинное, зловещее имя. Итак, их спаситель, их верный друг, в чьей преданности не было оснований сомневаться, оказался тем самым Бераром — главой секты душителей, наводившим ужас на всю Бенгалию! Тем самым беспощадным исполнителем кровавых приговоров, выносимых таинственными судьями, чьи имена были неизвестны! Неуловимым человеком, чья дьявольская ловкость позволяла ускользать из всех ловушек и голова которого была оценена в пятьдесят тысяч рупий! Впрочем, капитан, как человек, привыкший ко многому, не был потрясен. Его в данный момент заботило лишь одно: как вылечить Мери от болезни, само название которой повергало в ужас даже смельчаков. Граф нашел целителя. Не важно, что на совести индийца множество убийств, совершенных, правда, бескорыстно, исключительно из-за фанатизма. Когда Берар, сломленный волей капитана, обещал помочь, Бессребреник сказал ему: — Спасибо, факир! Надеюсь, ты не пострадаешь, совершив доброе дело. Тайну же твою я сохраню. Никто из моих спутников не узнает, что ты — Берар. А теперь поспеши! Факир поклонился: — Пойду поищу травы. Вернулся индус через два часа, с узелком на голове. Он взмок от пота и, хотя и был человеком выносливым, выглядел смертельно уставшим. По-видимому, ради всех этих листьев, стеблей, цветов и кореньев, которые он принес с собой, ему пришлось пройти немалое расстояние. Перед уходом факир отдал одному из вожатых какие-то распоряжения, и тот притащил из деревни котелок со ступкой для специй и к возвращению Берара развел неподалеку от стоянки веселый костер. Состояние Мери сильно ухудшилось. Кожа на мертвенно-бледном лице стала сухой и горячей, губы потрескались, язык почернел, глаза ничего не видели, руки сводила судорога. Все говорило о том, что конец недалек. Тропическая лихорадка, свалившая девочку, — явление обычное в низменной, болотистой местности, где приходится дышать ядовитыми, гнилостными испарениями, проникающими в кровь и отравляющими весь организм[44]. Хотя в отдельных случаях эта болезнь развивается медленно и протекает почти незаметно, однако чаще всего она принимает тяжелые формы и может убить человека буквально в считанные часы. Если в Африке, Бразилии и Гвиане негры почти не болеют тропической лихорадкой, то в Индии она косит без разбору и туземцев и европейцев. Особенно дурной славой пользуется дельта Ганга, на которую приходится три четверти всех зафиксированных в Бенгалии случаев заболевания этим страшным недугом. В Индии в целом от тропической лихорадки ежегодно умирает в среднем более трех миллионов человек! Поскольку статистика не делает различий между тропической лихорадкой и другими формами малярии, которые так же походят на нее, как легкое недомогание на холеру, нам придется довольствоваться общими данными. А они говорят о следующем: из шестидесяти тысяч военнослужащих-англичан каждый год болеют малярией пятьдесят тысяч человек, из которых две тысячи умирают, среди же ста тридцати пяти тысяч солдат-туземцев отмечается сто двадцать тысяч случаев этого заболевания, в том числе три тысячи — со смертельным исходом. Теперь понятно, что у спутников Мери, более подверженной болезням, чем они, были все основания для серьезной тревоги. — Боже, она умирает! — шептали они в смертельной тоске и отчаянии, видя, как ребенок угасает прямо на глазах. Упав на колени, Патрик взял руку сестры. — Мери!.. Мери!.. Умоляю, скажи что-нибудь… Взгляни на меня… Ответь! — говорил он, рыдая. А несчастная девочка лишь издавала нечленораздельные звуки. Взмокнув от напряжения, Бессребреник, стоя рядом с факиром, более походившим на исчадие ада, чем на спасителя, торопил: — Быстрее, факир! Быстрее! Она же умирает!.. А тот толок, тер, растирал и перемешивал листья, стебли, цветы и коренья, добавляя по щепотке то того, то другого в котелок, наполовину наполненный кипящей водой. Так продолжалось еще минут десять — десять минут ожидания смерти! Но вот индус взял маленькую серебряную чашечку и, не теряя времени на процеживание, налил в нее отвар. — Пусть выпьет маленькими глотками, — сказал он, протягивая снадобье миссис Клавдии. Мери непроизвольно сжимала челюсти, тело ее судорожно подергивалось. И все же, с помощью Патрика, проявив великое терпение и ловкость, женщина сумела глоток за глотком заставить девочку выпить всю чашку, и при этом не было пролито ни капли! Ушло на это с полчаса. Стоя с бесстрастным выражением лица, туземный лекарь молча наблюдал за ними. Потом, глубоко вздохнув, произнес: — Ее не вырвало… снадобье подействует. Продолжай, госпожа, поить ее… Скоро она начнет сильно потеть… затем уснет и завтра будет здорова. — Спасибо, факир! — воскликнул Бессребреник. — Спасибо! Я знаю, чего это тебе стоило! Только теперь капитан заметил, что щеки и губы у индуса стали пепельно-серого цвета, как это случается, когда бледнеют представители цветной расы. Берар отошел на несколько шагов и тихо, чтобы его, кроме капитана, никто не слышал, проговорил: — Только ради тебя, сахиб, я стал клятвопреступником! Девочка будет жить, я же погибну, как все, кто нарушил клятву на крови! Когда четвертая чашка таинственного отвара была выпита, у Мери началось обильное потоотделение, продолжавшееся три часа. Затем она погрузилась в крепкий сон. Проснувшись на следующей день, девочка улыбнулась, хотя и ощущала еще крайнюю слабость. Спутники ее были вне себя от радости. — Госпожа, — сказала Мери, сжимая руки миссис Клавдии, которая склонилась над ней, словно ангел-хранитель, — я бы умерла, если бы не вы! — Нет, дитя мое, вы ошибаетесь. Вас спас от смерти наш факир, благородный, великодушный человек, чьего имени я, к сожалению, не знаю. Девочка тотчас протянула индийцу руку и, глядя на него лучистыми глазами, ласково сказала: — Друг, я обязана тебе жизнью… Никогда этого не забуду. Вот моя рука в знак искренней дружбы и признательности. Но факир, непонятно почему, с раскрытыми от ужаса глазами, пятился от нее все дальше, как будто перед ним был бенгальский тигр. Не в состоянии произнести ни слова, раздираемый противоречивыми чувствами, он, клятвопреступник и благодетель, убежал к своему верному слону. Один лишь Бессребреник понимал, что происходит в загадочной душе индуса, откуда его волнение и страх. А Мариус воскликнул: — Конесно, он славный парень! Только у него, похозе, не все дома, а мозет, совсем никого нет дома. Теперь, когда опасность миновала, все смеялись, шутили и веселились больше обычного, как люди, чудом избежавшие беды, и совсем забыли о многочисленных и грозных врагах! Зато факир всегда был начеку. Он понимал, что они находились на волосок от гибели, когда два дня тому назад угодили в засаду. Не желая новых встреч с преследователями, он торопил европейцев. Раму, с наслаждением уплетавшего сочную траву, оторвали от пиршества. Капитан ласково поглаживал ему хобот, на что тот отвечал довольным урчанием, а тем временем к его спине крепили башенку, которая до этого была подвешена ремнями к ветвям деревьев. В путь, друзья мои, в путь! — весело воскликнул Бессребреник. — Дорога не из легких, но это — последний переход. Еще двенадцать часов, и мы — в безопасности! Все взобрались на слона. Мери усадили на самое удобное место и бережно укрыли от солнца, капитан с моряками взяли в руки карабины, чтобы в любой момент отразить нападение, и небольшой отряд покинул бивуак.
Незадолго до захода солнца взору путешественников открылась горная возвышенность, плотно заставленная плохо различимыми из-за большого расстояния величественными строениями. Дорога пошла вверх, и если бы не бодро вышагивавший слон, то беглецам пришлось бы затратить целый день на утомительное для пешего путника восхождение по каменному склону. Когда же они, наконец, поднялись на гору, то оказались в загадочной мертвой стране. Среди цветущего кустарника, финиковых пальм и фиговых деревьев виднелись развалины дворцов с сохранившимися в целости портиками, колоннами, арками, куполами и минаретами. Это все, что осталось от некогда процветавшего огромного города — одного из чудес, созданных на индийской земле исламской цивилизацией и так беспощадно и глупо уничтоженных завоевателями. Но все это произошло столь давно, что позабылись и название этого места, и виновники произведенного здесь опустошения. Нигде ни малейших признаков обитания. Хотя возвышенный характер местности указывал на то, что климат здесь здоровый, земледельцы все же предпочли спуститься вниз, чтобы осесть в долине, где легче оросить поля и засухи — явление сравнительно редкое. Впрочем сохранившиеся акведуки и многочисленные бассейны говорили о том, что и в городе неплохо было с водой. Единственным памятником той эпохи, которому, несмотря на бушевавшие войны и многовековое воздействие воды, ветра и солнца, удалось-таки уцелеть в первозданном виде, был окруженный рвом обширный архитектурный ансамбль, образованный огромным зданием из розового гранита и то ли монастырской, то ли крепостной стеной с башнями и вышками. В этом великолепном образце средневековой культуры теснейшим образом переплелись элементы мавританского и дравидийского[45] искусства. Как оказалось, то была обитель брахманской общины. До Сипайского восстания, вспыхнувшего в 1857 году, она процветала, а ко времени описываемых нами событий в ней проживали лишь немногочисленные брахманы, сторожа да слуги. Все здесь оставалось в том же виде, что и века назад. Доступ в это сонное, словно из детских сказок, царство был закрыт для всех посторонних, кроме пандитов, паломников, а также факиров, выполнявших таинственные поручения. Попасть в обитель, не зная пароль, было нельзя. Во-первых, она, укрытая за крепостными стенами, принадлежала брахманской общине, англичане же стараются не касаться дел духовных. Во-вторых, ворота, решетки и подъемные мосты служили надежной защитой и без того бдительно охраняемому единственному входу в обитель, и взять ее силой было практически невозможно. Оказавшись пред сей цитаделью, напоминавшей обликом своим средневековые монастыри-крепости в Европе, беглецы спустились со слона, чтобы пройти крытым переходом, слишком низким для животного. Шагов через сто путники очутились перед коваными воротами. И в то время как вожатый отводил Раму в загон для слонов, факир постучал громко камнем в гигантские двери, и те загудели словно гонг. Окошечко в одной из створок приоткрылось, и в нем сверкнули чьи-то глаза. Берар произнес несколько слов по-тамильски, и ворота бесшумно распахнулись. За ними открылся коридор, ведший к широкому рву, заполненному водой. Факир несколько раз пронзительно свистнул, показавшийся в сторожевой башенке охранник о чем-то переговорил с ним, и мостик, грохоча цепями, опустился. Далее находилась массивная решетка из толстых железных прутьев, медленно поднявшаяся после очередного обмена паролями. Когда путники вышли из последнего сводчатого коридора, из их уст вырвался крик восхищения. Перед ними, насколько хватало глаз, расстилался оглашавшийся многоголосым пением птиц роскошный сад, в котором были представлены многие виды древесных пород и великолепные цветущие растения. Под сводами галерей, пристроенных к крепостной стене, высились дивные статуи. Декоративные арки утопали в зелени. Воздух был свеж и прохладен. Царившая в обители атмосфера мира и покоя заставила путников забыть о ходе времени и суетности жизни, и у них уже появилось ощущение вечного их пребывания здесь. Сей благостный приют заворожил их, и они, поддавшись его очарованию, готовы были отринуть от себя Мир иной, с тревогами и печалями. На обычно бесстрастном, как бронзовая маска, лице факира промелькнула добрая улыбка. — Все это — ваше, сахиб, — сказал он, обращаясь к капитану и широким жестом обводя обитель. — Вы окажете нам честь, пробыв тут столько, сколько пожелаете. Здесь вам ничто не угрожает, ибо даже власть самого вице-короля не простирается на этот храм. Надежные слуги будут прислуживать вам неназойливо и со рвением, которое вы заслужили… К вашим услугам — изысканные блюда и все те удобства, к которым вы, европейцы, так привыкли… Я счастлив и горд, что выполнил свою задачу и сумел доставить в надежную обитель пандитов знаменитого друга дважды рожденных! — А я, факир, — отвечал капитан, — благодарю тебя за твою преданность. Ты проявил чувство долга, верность, ум и храбрость… Еще раз спасибо! И пусть те, кому, как и тебе, я обязан спасением моих близких, также примут выражение моей признательности. Взволнованный этими словами, фанатик-факир, исполнитель ужасных замыслов и преданнейший друг, упал на колени, схватил у капитана руку и почтительно поцеловал ее. — Великие пандиты повелели мне оставаться при тебе до тех пор, пока ты будешь у них в гостях… Я по-прежнему твой раб, сахиб… Когда же ты покинешь сию обитель, настанет час расплаты за совершенное мною клятвопреступление. Но это уже не важно! — Махнув рукой, факир добавил: — Позволь проводить вас в отведенные вам покои. Пройдя по дорожке, выложенной каменной плиткой, путники вошли в просторное здание в несколько этажей, с окнами на сад. Ковры, занавески, произведения искусства, охотничьи трофеи и ювелирные изделия придавали интерьеру по-восточному вызывающе роскошный вид. Каждому было предоставлено по комнате с отдельной ванной, библиотекой и курильней. Мариус и Джонни, все еще в восточных нарядах, весело разглядывали себя в зеркале. — Слусай суда, — говорил провансалец своему приятелю. — Похозе, в этом монастыре неплохо зивут! Систота какая, сто твоя яхта! — Верно!.. Верно!.. Не хуже, чем в наших двадцатиэтажных домах с телефонами, электричеством, горячей и холодной водой, не говоря уж о сельтерской, — невозмутимо шутил янки. — В этой крепости нам не страшны никакие враги, — добавил Бессребреник. — И здесь мы сможем быть счастливы и любить друг друга, не так ли, милые дети? — добавила миссис Клавдия. — Конечно, госпожа! — сказала Мери, нежно обнимая графиню.
ГЛАВА 7
Выздоровление Мери. — Ночные кошмары. — Гипнотический сон. — Внушение. — Беспрекословное повиновение. — Отсутствие болевых ощущений. — Излечение. — Вернувшийся покой. — Письмо отцу. — Посыльный. — Вой в ночи. — Собака. — Боб. — Умирающий индус.Так беглецы стали беженцами, и жизнь у них пошла праздная и безмятежная, что, однако, ничуть не тяготило таких энергичных людей, как Бессребреник с моряками: ведь даже у тех, кто жаждет приключений, иногда возникает острое желание отдохнуть немного и душой и телом. Они предавались пиршествам, после обеда покуривали ароматный табак, прогуливались неторопливо под развесистыми деревьями и купались в бассейне. Миссис Клавдия, между тем, не отходила от Мери, пытаясь помочь ей прийти в себя после нервного потрясения, вызванного убийством матери. Но если днем графиня могла еще как-то отвлечь девочку от грустных размышлений, то ночью бедняжка оказывалась во власти кошмаров. Она металась во сне и в страхе кричала: — Мамочка, осторожней! Он здесь!.. Не убивайте! Не убивайте!.. О Боже!.. Умоляю, не надо… Нет!.. Нет!.. Только не это!.. Он занес кинжал!.. Кровь!.. Мама, мамочка!.. Она не слышит!.. Мамочка умерла!.. Графиня, которая жила в одной с ней комнате, обнимала Мери, нашептывала ласковые слова. Но и пробудившись, девочка оставалась во власти ужасов и, казалось, не замечала своей опекунши. Не имея даже простейших успокоительных средств, миссис Клавдия не знала, что делать. Когда же она поделилась своими горестями с мужем, тот сразу решил обратиться к факиру. Индус тотчас явился, хотя обычно, не желая надоедать своим присутствием, старался не показываться европейцам на глаза. — Друг, — сказал капитан, — я верю твоим знаниям и преданности. К ним я и взываю. — Ты — хозяин… Повелевай. — Речь идет о девочке. Во сне ее посещают жуткие видения. Да и общее состояние становится все хуже. Сможешь ты ее вылечить? — Да. — Когда? — Хоть сейчас, если такова твоя воля. — Тогда пошли! По дороге капитан подробно рассказал обо всем факиру, и тому не пришлось ни о чем расспрашивать девочку. В обители Мери не встречалась с индусом, и его неожиданное появление вновь пробудило у нее страх перед этим человеком. Но она сама устыдилась такой реакции и ничем не выдала своих чувств. Факир почтительно поклонился и затем, резко выпрямившись, пронзил ее взглядом. Девочка, стоя чуть поодаль от него, попыталась, опустив глаза, уклониться от тяжелого, обезволивающего взора, но прошло несколько секунд, и зрачки ее расширились, веки застыли. — Ты спишь, правда? — тихо промолвил Берар. — Да, я сплю, — спокойно отвечала Мери глухим, словно доносившимся откуда-то издалека голосом. — Будешь ли ты повиноваться мне? — Да, я буду повиноваться тебе! — Так вот, я повелеваю тебе лечь спать сегодня в девять часов. Твой сон будет крепок и спокоен… Под утро ты услышишь сладкоголосую соловьиную трель, но не проснешься… Когда же ты встанешь, то от хворей твоих не останется и следа… Такова моя воля. От этих слов факира исходила некая таинственная сила, лишавшая девочку малейшей возможности сопротивляться. Склонив голову, Мери медленно, растягивая слова, произнесла тихим, неестественным голосом, каким обычно говорят в состоянии гипнотического сна: — Я подчиняюсь твоей воле! — и так будет завтра… и послезавтра… всегда! — Да! — Ты пробудишься ото сна лишь тогда, когда прикажет жена сахиба… И забудь все, что я говорил тебе сейчас. Ты никогда не вспомнишь, как я усыплял тебя. Такова моя воля! Миссис Клавдия с мужем наблюдали эту впечатляющую сцену с интересом, хотя и не без доли скепсиса. — И ты полагаешь, дорогой мой факир, — спросила графиня, — что одна твоя воля, без всяких лекарств, поможет девочке? — Готов поклясться! Вечером убедишься, как спокойно она будет спать. — И твоего внушения достаточно раз и навсегда? — Раз и навсегда! — Но если потом, вдали от тебя, сон опять нарушится?.. — Ты сама сможешь приказать ей спать спокойно. Ты скажешь, что такова твоя воля, и она подчинится, как подчинилась мне. — Сомневаюсь, чтобы я действительно смогла усыпить ее! А она что, и в самом деле спит? Факир с улыбкой вытащил из шляпки графини золотую шпильку с изумрудной головкой, и не успели муж с женой понять, в чем дело, как он вонзил острие в руку Мери, но та не шелохнулась. — Ну как, по-твоему, спит она? — спросил индус. — Это чудо! — воскликнула графиня. — Для нас во всем этом нет ничего хитрого. — Ах, разбуди ее, прошу тебя!.. Этот странный сон пугает меня. — Он совершенно безвреден, даже полезен… Разбудить девочку лучше тебе, когда я уйду. Ты ничего не говори ей о гипнозе, и она все забудет. У двери факир обернулся и повелительным тоном сказал Мери: — Если графиня прикажет тебе заснуть, ты уснешь… Такова моя воля! Ты будешь подчиняться ей, как подчиняешься мне… Но только ей! Никто, кроме нее, не должен приказывать тебе. Помни это! — Я буду помнить, — произнесла Мери чуть слышно. Оставшись одни, Бессребреник и миссис Клавдия смотрели на девочку: она, хоть и стояла с открытыми глазами, их не видела! — Милая Мери, проснитесь, — прошептала графиня одними губами, так что Бессребреник едва расслышал эти слова. Веки Мери дрогнули, глаза приняли обычное живое выражение, и без всякого перехода она перенеслась из сонного в бодрствующее состояние. Как и повелел ей факир, девочка ни о чем не помнила, даже не знала, что только что спала. Она лишь смутно припоминала, что видела здесь индуса. Нетрудно понять, с каким нетерпением ждала миссис Клавдия приближения вечера. Когда до девяти часов оставалось несколько минут, Мери вдруг очень захотелось спать, и ровно в назначенное время она уснула сном младенца. Графиня глазам своим не верила. Этот глубокий и мирный сон не могли нарушить даже громкое хлопанье дверей в коридоре. На рассвете, незадолго до восхода солнца, девочка зашевелилась и потянулась, как это бывает перед пробуждением. В густой листве сада состязались два соловья. Опьяненные собственным пением, они выводили самозабвенно чарующие слух рулады, которые то взлетали ввысь, то повисали в розовеющем воздухе. Улыбаясь в полусне, Мери умиротворенно вслушивалась в мелодичные звуки. Когда же первый луч солнца позолотил минарет, выглядывавший из-за деревьев, она легко вздохнула, открыла глаза и проснулась бодрая и веселая. Просидевшая всю ночь у изголовья ее кровати миссис Клавдия с радостью наблюдала за выздоровлением своей подопечной. — Как чувствуете себя, Мери? — ласково спросила она, коснувшись губами ее лба. — Госпожа, я спала хорошо! Что за дивная была ночь! Право, не узнаю себя! Если бы всегда так! — Так оно и будет, уверяю вас. А теперь, если хотите, полежите еще немного, а нет, вставайте и, пока еще прохладно, напишите с братом письмо отцу. Дело в том, что дети давно собирались сделать это. Однако физическое и душевное перенапряжение, как следствие жестокой борьбы за существование, и болезненное состояние Мери до сих пор не позволяли им осуществить данное намерение. Но теперь девочка чувствовала себя лучше и, не боясь нервного срыва, могла вместе с братом рассказать отцу о страшных невзгодах, обрушившихся на их семью. Когда они, пролив немало горьких слез и не раз откладывая перо, не в силах далее продолжать столь скорбное повествование, закончили все же письмо, то Патрик по совету капитана сделал к нему следующую приписку:
«Мы обо всем, в том числе и об упомянутых в вашем письме сокровищах, рассказали графу де Солиньяку. Мы с Мери отлично помним, что письмо с планом наша бедная мамочка заперла в сейфе, что стоит у вас в кабинете. По мнению графа де Солиньяка, это обнадеживающий факт: сейф, по-видимому, несгораемый, так что содержимое его, возможно, уцелело. Поскольку сейф все еще находится в завалах на месте нашего дома, господин Солиньяк считает, что необходимо как можно быстрее вернуться в Гарден-Рич и, разыскав бесценные бумаги, перепрятать их в безопасное место».Оставалось только доставить письмо в ближайшее почтовое отделение. Факир предложил на роль посыльного вожатого Синдии — крепкого, расторопного, сообразительного и с лукавинкой в глазах бенгальца, за которого он ручался как за самого себя. Его отправили в Шерготти, неподалеку от города Гая, но денег не дали: оплату почтовых отправлений по армейским адресам полностью взяли на себя английские власти. Вожатый, человек исполнительный, наутро же двинулся в путь, пообещав вернуться дней через десять. Патрик и Мери почувствовали облегчение: наконец-то написали самому близкому человеку! А как только представится возможность, они доберутся до Пешавара, а оттуда рукой подать до шотландского полка. Прошла еще неделя мирной, беспечной жизни в гостеприимной обители, как вдруг миссис Клавдия, Бессребреник, Мариус и Джонни, привыкшие скитаться по белу свету, ощутили тоску: их потянуло навстречу новым приключениям. Но факир, опасаясь западни, просил подождать с отъездом. Он разослал повсюду верных людей, чтобы разузнать, о чем поговаривают в народе, и по их возвращении должен был принять окончательное решение. Но тут произошло событие, казалось бы, малозначительное, но обернувшееся столь же грозными, сколь и неожиданными последствиями. Однажды ночью разразилась гроза, пробудившая ото сна всю обитель, за исключением, разумеется, Мери, которая все еще находилась под воздействием гипноза. Издали, несмотря на толстые крепостные стены, рев ветра и раскаты грома, отчетливо доносился собачий вой, который не спутать ни с хохочущим визгом гиены, ни с жалобным плачем шакалов. «Точно такой же голос был и у бедного Боба», — подумал мальчик, и весь остаток ночи его преследовала одна и та же мысль: «Это он, наш пес!» Едва рассвело, он поделился своим предположением с капитаном, тоже слышавшим собачье подвывание, и они тут же пошли к факиру. По пути Бессребреник сказал: — Если действительно это он, мы окажем ему прием, достойный его мужества, ума и верности! Разыскав своего опекуна, они, уже втроем, направились ко входу в обитель. Охранники подняли решетку и опустили мост. Приоткрыв глазок в одной из створок ворот, факир сказал Патрику: — Пусть юный сахиб сам посмотрит. Мальчик закричал от радости, узнав Боба. Собака, понурая и тощая, лежала у самых ворот, рядом с распростершимся в изнеможении индусом. — Боб! — воскликнул Патрик. — Песик мой дорогой! Услышав голос хозяина, собака поднялась с усилием и слабым хриплым лаем приветствовала его. Валявшийся в полуобморочном состоянии человек застонал. Это был один из тех живых скелетов, которых Патрик и Мери видели в таком множестве в Лагере Нищих. — Возможно, он тоже был в нашем поезде и только чудом уцелел! — произнес с состраданием Патрик. Пока ворота медленно, словно нехотя, растворялись, он добавил: — Наверное, Боб бежал по нашему следу, а он шел за ним. Едва образовалась щель, как пес, ощутив прилив сил, бросился к хозяину. Повизгивая от восторга, он то прыгал вокруг, а то вдруг начинал крутиться на месте. Капитан был растроган таким проявлением собачьей любви и преданности. Патрик, взяв Боба на руки и нежно прижав к груди, как ребенка, молча целовал его в морду. Как только собака оказалась в обители, факир, не обращая внимания на несчастного незнакомца, стал закрывать вход. А когда тот снова издал жалобный стон, лишь пожал плечами: — Здесь — не английский приют! Это святое место, и кого попало сюда не пускают. — Но если он умрет! — воскликнул великодушный Бессребреник, возмущенный такой черствостью. — Его дело! — Послушай, факир, мы не можем смотреть равнодушно, как прямо у нас на глазах умирает этот горемыка. Мы должны ему помочь! — Ты — господин, я — твой раб. Ты вправе приказать мне все, что соизволишь. — Так вот, я приказываю, чтобы его внесли в обитель, накормили и подлечили, словом, сделали все, что необходимо, как того требует простое человеколюбие. — Хорошо, сахиб, я выполню твой приказ. Но не пришлось бы тебе жалеть потом о своем благодеянии! Капитан взял умирающего под мышки, факир, не скрывая отвращения, ухватил его за ноги, и бедолагу потащили внутрь. Замыкали процессию взволнованные радостной встречей Патрик и его любимый пес Боб.
ГЛАВА 8
Самоотверженные заботы. — Выздоровление человека и собаки. — Всеобщее умиление. — По следам беглецов. — Глубокая благодарность. Заклинатель птиц. — Ненависть факира. — Безрезультатная слежка. — Ночная погоня по коридорам. — Таинственный зал. — Посрамление главаря душителей.Человек выглядел куда хуже, чем пес. Ведь собаке, не в пример ее спутнику, наверное, удавалось все же то тут, то там отыскивать что-нибудь съестное. Бессребреник еще ни разу не видел индийских голодающих и даже не представлял себе, чтобы живое существо могло дойти до такой степени истощения. Он сам пожелал ухаживать за этим несчастным, в частности, тщательно отмеряя первые порции, кормить его понемногу через определенные промежутки времени: если изголодавшийся съест чуть больше — смерть неминуема! Индуса перенесли на кухню, где стояли на плите многочисленные горшочки, в которых варился на завтрак рис. Сначала Бессребреник каждые пять минут давал бедняге по нескольку ложек рисового отвара и только через час разрешил ему съесть немного риса. Жизнь постепенно возвращалась в изнуренное тело, в глазах появилось осмысленное выражение. И вот, с бесконечной благодарностью устремив свой взор на капитана, индус, запинаясь, произнес чуть слышно: — Спасибо, сахиб!.. Еще риса!.. Еще!.. Эти преисполненные страдания мольбы до глубины души взволновали Бессребреника. Патрик тем временем поставил перед Бобом огромное блюдо вареной баранины, которого с лихвой хватило бы на трех человек. Пес с жадностью накинулся на мясо и столь усердно поработал челюстями, что уже через пять минут от угощения не осталось и следа. Усевшись, он довольно облизывался, не переставая, однако, то и дело поглядывать искоса на пустую посуду, словно хотел сказать: «Я бы не отказался от небольшой добавки!» Но Патрик не стал потворствовать ему. — Хватит с тебя, Боб! Пора бы и хозяйку навестить, Мери! Вот она обрадуется!.. Услышав имя девочки, Боб от восторга попытался было совершить один из своих неподражаемых прыжков, но так как он был еще очень слаб и к тому же отяжелел от непомерного количества пищи, то лишь плюхнулся на пол. Патрик, смеясь, сказал ободряюще: — Вставай! Ничего страшного, Боб! И пошли скорее. В ответ пес три раза тявкнул и, грузно поднявшись, последовал за хозяином. Но прежде чем выйти из кухни, он подошел к лежавшему на кушетке индусу и потерся о его ногу, как бы говоря: «Я помню о тебе, товарищ по несчастью! Я не забыл, с каким трудом мы добрались сюда!» Протянув высохшую руку, тот ласково погладил пса по голове. — Он нашел… своего хозяина… Он счастлив… этот добрый пес… А я… я даже не могу стать… стать чьей-нибудь собакой… — прошептал он, и в его глазах блеснули слезы. Бессребреник сказал ему взволнованно: — Мы спасли тебя и теперь не бросим. Когда тот, утомившись, задремал, капитан приказал перенести его из кухни в одну из жилых комнат, довольно просторную и хорошо меблированную. При этом он строго-настрого запретил давать своему пациенту какую бы то ни было пищу, так как никому не мог доверить кормление изголодавшегося человека. На следующий день индус чувствовал себя намного лучше, хотя и ощущал страшную слабость во всем теле и к нему вернулась ясность мысли. Когда он увидел Патрика и Мери, которые вместе с Бобом пришли навестить его, то на исхудавшем лице незнакомца появилась слабая улыбка, и за запавшими губами показались расшатанные зубы. Голосом еще не вполне твердым, но полным почтения, он сказал, что счастлив их снова видеть. Потом, с трудом выговаривая слова, рассказал им, что остальные обитатели Лагеря Нищих погибли во время катастрофы, его же вытащили из-под обломков спасатели с аварийного поезда. — Не вас ли видели мы в саду около коттеджа? — спросил Патрик. — А вы не узнали меня, мой юный господин?.. — Вот теперь узнал! Но как странно, что мы встречаемся уже третий раз! — И это такое счастье для меня!.. Я и не надеялся… Вот как… мне удалось… добраться… сюда… Ваш пес… Его придавило обломками… Он умирал… Я дал ему воды… Он пошел за мной… Он всюду вас искал… там, на месте катастрофы… Он лаял… бегал туда-сюда… как безумный… Наконец, мне показалось… что он почуял… ваши следы… а вскоре… они сменились следами… слона… — Да-да! Все правильно! — Пес пошел по следу слона… а я за ним… Я не знал… что мне делать… спал вместе с ним… на земле… питался побегами растений… корешками… А то и вовсе ничего не ел… Мы добрались сюда… совершенно обессилев… умирая от голода… от усталости… от горя! История эта выглядела вполне правдоподобной, к тому же и Боб всячески выказывал индийцу свою привязанность. А если дети и не узнали сразу индуса, то, вероятно, по той простой причине, что все голодающие, дошедшие до последней степени истощения, как две капли воды похожи один на другого и различить их довольно сложно. Взгляните только на толпы умирающих от голода, изображенные на фотографиях, которые часто публикуются в английских иллюстрированных изданиях. Это живые скелеты, обтянутые высохшей и почерневшей кожей, и лица их имеют одинаковое выражение и одинаковые черты, вне зависимости от пола и возраста. Как бы то ни было, человек этот знал детей майора и их собаку, упоминал некоторые подробности, которые подтверждали, что он действительно встречался с Патриком и Мери. Кроме того, он был так несчастен, что не мог не вызвать сострадания в душах этих юных существ, от природы добрых и великодушных… Но факир по-прежнему относился к пришельцу настороженно. Несчастного, которого мы назовем условно скитальцем и тем самым выделим из общей массы населявших эту обитель индусов, отличало глубокое чувство благодарности. По мере того, как обильное и разнообразное питание возвращало ему здоровье и силы, он проявлял все большее стремление быть хоть чем-то полезным своим благодетелям и приятно удивлял их такими неожиданными для столь обездоленного существа качествами, как предупредительность и деликатность. Физически окрепнув, скиталец разгуливал повсюду, заглядывал во все углы, обо всем расспрашивал, пытаясь выяснить, не смог бы он сделать для кого-нибудь доброе дело, что уже само по себе вызывало к нему симпатию. Узнав, что миссис Клавдия и Мери обожали цветы, он стал приносить им каждый день из зарослей диких растений, встречавшихся на территории обители, огромные, роскошные букеты. Патрик же страстно любил птиц, и оказалось, что скиталец был великолепным заклинателем птах и ловко подманивал даже тех из них, кто обычно избегал всякого контакта с человеком. Для этого он подносил к губам лист какого-нибудь растения с проделанной в нем дырочкой и извлекал из него чарующие звуки, которые неодолимо влекли к себе крылатых певуний. И те, подлетев, садились ему на голову и плечи. Не обходили они вниманием и Патрика и нередко усаживались ему на палец! Дрожа от радости и волнения, мальчик мог рассматривать вблизи эти чудесные создания, изящные и яркие, словно драгоценные камни. Они же смотрели на него своими похожими на черные бриллианты глазенками и, казалось, давно уже знали и любили его! Скиталец и мальчик очень подружились, и вместе с Бобом они образовали неразлучную троицу. Но в доверие к факиру скитальцу так и не удалось войти: в этом незваном госте тот упорно видел врага и следил за ним с терпением и осторожностью хищного зверя, пытаясь уличить его в шпионаже или в сношениях с внешним миром. Однако все напрасно! Придраться к этому добровольному слуге, скромному, старательному, преданному и безупречно честному, было нельзя. Но для фанатика, которому ничего не стоило убить при случае человека, отсутствие доказательств мало что значило. И вот однажды вечером, когда скиталец пробирался куда-то по бесконечным коридорам огромного здания, факир ощутил неодолимую жажду убийства. Тот же беспечно, ничего не подозревая, шел уверенным шагом по дворцовому лабиринту и, оставив далеко позади ту часть строения, где разместились беглецы, оказался в помещениях, в которых уже многие годы никто не бывал. Бесшумно ступая босыми ногами и зорко вглядываясь во тьму, факир с зловещим черным шарфом в руке неотступно следовал за ним. Потом внезапно, словно тигр, бросился на скитальца, накинул на шею ткань и привычным жестом душителя затянул смертельный узел. Но вместо короткого и прерывистого хрипа он услышал вдруг насмешливый хохот, гулко разнесшийся под мрачными сводами и обжегший его, как удар хлыстом. Впервые в своей жизни глава бенгальских тхагов, мастер своего дела, внушающий ужас душитель Берар был посрамлен! Дрожь пробежала по его телу, он покрылся холодным потом. Это колдовство! Нечистая сила! Скиталец, обратившись в бегство, был уже далеко впереди. Изрыгнув проклятье, Берар устремился в погоню. То ли преследуемый нарочно не очень спешил, то ли действительно не умел бегать, только факир быстро нагнал противника и, заранее торжествуя победу, сделал прыжок. Но тут в стене раскрылась бесшумно какая-то дверца. Скиталец тотчас нырнул в лазейку, Берар — следом за ним, и они очутились в огромном сводчатом зале, тускло освещенном окошком в форме трилистника. Дичь попала в ловушку, так как никакой другой двери, кроме той, в которую они вошли, не было. Во всяком случае, так думал Берар, прожигая взглядом свою жертву, жавшуюся к панели из кедра. Он уже скрутил в веревку ужасный шарф, но напасть не успел: повинуясь нажатию пружины, панель повернулась и, пропустив скитальца в образовавшуюся щель, вернулась на прежнее место — прямо перед носом растерявшегося Берара. И снова — смех, на этот раз из-за панели. Смех язвительный и оскорбительный, как пощечина! Потеряв от бешенства голову, главарь душителей набросился на стену с кулаками, но она была недвижна, как скала.
ГЛАВА 9
Поражение Берара. — Каменный мешок. — Лестница. — Потайной ход. — Сообщники. — Захват обители. — Внезапное нападение. — Пленники. — Хитрая ловушка для миссис Клавдии. — Ярость Биканэла. — Суровая реальность. — Уход из обители. — Среди развалин. — Собака и слон. — Чудовищная угроза.Прошло несколько минут, и Берара охватил неясный страх, когда он услышал прямо над своей головой все тот же пронзительный, злой и ироничный хохот, напоминавший омерзительный визг гиены. Отступив на несколько шагов, он увидел на высокой каменной платформе скитальца. Находясь в полной безопасности, его противник мог сколько угодно дразнить одураченного им факира. Голос этого человека, еще недавно умиравшего от голода и разговаривавшего со всеми подобострастным тоном, внезапно грозно загремел. — Согласись, Берар, — насмешливо произнес скиталец, — что я ловко провернул все это! — Ты знаешь, как меня зовут, негодяй?! Откуда?! Попомни, ты мне дорого за все заплатишь! — Молчи уж лучше, болван! Я провел тебя как младенца — и тебя, и этих дураков чужеземцев, которые приютили меня и пригрели!.. — О, я с самого начала подозревал это!.. — Чтобы проникнуть к вам, я пошел на ужасный риск, добровольно моря себя голодом. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы придать себе убедительный и жалостливый лик одной из жертв голода из Лагеря Нищих. Я был там, на месте железнодорожной катастрофы… Расспросил умирающих, которые были знакомы с детьми майора… Приручил Боба — ведь заклинателю змей и птиц ничего не стоит заставить собаку полюбить себя… И в образе жалкого человечьего отребья я рухнул у входа в обитель, где каждый уголок знаком мне куда лучше, чем тебе! — Так кто же ты? — запинаясь, выговорил Берар, даже не пытаясь больше скрывать обуявший его страх. — Я отвечу, жалкий раб пандитов, слепое оружие ненависти брахманов — дважды проклятых и презренных! — Ты возносишь хулу на святых… берегись кары! — Это зловредные дураки, жестокие и надутые! Плевать я хотел на этодерьмо собачье! Лицемеры и интриганы! Я знаю все их тайны и все их логова! Моя месть всюду их настигнет! — Но кто же ты, все-таки? Я спрашиваю тебя еще раз, кто ты? — Я тот, кто посоветовал англичанам осквернить труп Нарендры… Я — падший брахман… вероотступник… Я ненавижу касты… Я предан всей душой английским властям и ярый враг тех, кому служишь ты. Я — Биканэл!.. Услышав ужасное признание из уст негодяя, открывшегося перед ним с таким бесстыдством, Берар немедленно обрел свое обычное хладнокровие. Он подумал о том, что присутствие Биканэла в обители опасно для беглецов и их во что бы то ни стало надо спасать. И решил, не теряя зря времени на агента английской полиции, которому все равно ничего не смог бы сделать, предупредить срочно капитана и его людей о нависшей над ними угрозе: — За оружие! Готовьтесь к жестокой схватке, в обители враг! Повернувшись спиной к платформе, где в слабом лунном свете маячила тощая фигура бывшего брахмана, факир двинулся к двери и тут же вскрикнул от ярости, обнаружив, что она заперта. Биканэл, не переставая омерзительно смеяться, крикнул ему: — Мой бедный Берар, какой же ты дурень и недотепа! Ты даже не знаешь секретов этого старого здания? Ну так я тебе кое-что подскажу. Дверь не откроется до тех пор, пока я этого не пожелаю. А так как я этого не пожелаю никогда, то тебе, мой бедный друг, придется умереть здесь от голода и жажды! До свидания, глупец, или, вернее, прощай! С этими словами ужасный человек спустился с платформы по каменной лесенке, проделанной в толще стены. Трудно представить себе, сколько в этих старинных храмах, напоминающих средневековые крепости, всяких ходов, коридоров, люков, каменных мешков и подземных каналов. Оказавшись в абсолютной темноте, Биканэл зажег маленькую лампу, припасенную заранее, и медленно, не торопясь, продолжил спуск по той же лестнице, к которой примыкали таинственные туннели, напоминающие сточные желоба, пока наконец не очутился у самого основания храма, образованного гигантскими прямоугольными гранитными плитами, скрепленными залитыми свинцом железными скобами. Такой фундамент-монолит не разбить даже пушечными ядрами! Казалось, из этого каменного мешка не было другого выхода, кроме лесенки, по которой только что спустился Биканэл. Но это не так. Осмотревшись, бывший брахман отмерил восемь шагов, затем сделал еще три шага вправо и принялся разрывать босой ногой слой песка, покрывавший каменный пол. Наткнувшись на какой-то предмет, он нагнулся и при свете лампы разглядел толстое железное кольцо. — Все правильно, — вполголоса произнес он, — память меня не подвела. А ведь с тех пор, как я бывал здесь, прошло уже десять лет. Поставив лампу на пол, он, напрягаясь изо всех сил, обеими руками потянул кольцо на себя. Послышался лязг и приглушенный скрежет камня по камню, а потом произошло чудо: одна часть массивного каменного пола ушла вниз, другая — поднялась. Несомненно, здесь где-то был ловко пристроен противовес, позволявший, при сравнительно небольшом усилии, сдвинуть плиты весом в несколько тонн. Опустившаяся часть пола обнажила дугообразный проем в фундаменте. Полицейский немедленно вошел в него и, пройдя всего несколько шагов, оказался среди каменных развалин, поросших густым колючим кустарником. Над головой сверкали звезды, из-за величественного баньяна выглядывал серп луны. Биканэл свистнул, подражая овсянке, и, усевшись на камень, стал ждать. Вскоре из зарослей раздался ответный свист и послышался шорох раздвигаемых ветвей. Биканэл издал громкое шипение разъяренной кобры, и из темноты выступили десятка два людей и окружили его. — Все готово? — спросил один из них, высоченного роста, в индийской одежде и с черной маской на лице. — Да, милорд! Вам остается только войти в обитель, тайный ход перед вами. — Отлично, хоть сейчас! — Тогда следуйте за мной. — Лучше поздно, чем никогда! Не примите за упрек, но я чуть не умер со скуки, пока дожидался вас! — Терпение — добродетель жителей Востока, и в нем их главная сила. Но европейцам оно не свойственно. Сделав это глубокомысленное замечание, полицейский направился в потайной ход, остальные поспешили за ним. Плита поднялась, закрыв проем, и Биканэл со спутниками оказались в каменном мешке, откуда их вывела лестница. Полицейский шел впереди, освещая лампой дорогу. Следом бесшумно ступали босыми ногами его сообщники-индусы. В правой руке у каждого был зажат кинжал, и они тотчас перерезали бы горло любому, кто попытался бы поднять тревогу. Пройдя немного, Биканэл свернул в один из коридоров, чтобы обогнуть комнату, где факиру, вне всякого сомнения, суждено было просидеть до самой смерти. Вскоре они достигли той части здания, где проживали европейцы. Те же безмятежно спали, чувствуя себя в полной безопасности за толстыми стенами обители, в которую, как считали они, вел один-единственный ход с целой системой защитных устройств и к тому же бдительно охраняемый надежными стражами. Полицейский расставил у дверей часовых, приказав убивать каждого, кто попытается бежать, за исключением женщин, а затем вошел в комнату, где под москитной сеткой предавался сну Бессребреник. Крадущиеся шаги ночного гостя разбудили капитана. При мерцающем свете ночника он с трудом разглядел чей-то силуэт. — Это ты, факир? Что случилось? Молча, с яростью тигра Биканэл выхватил из-под головы американца подушку и, чтобы он не смог закричать, придавил ею лицо своего противника. И в тот же миг на Бессребреника насели еще с полдюжины индусов. Капитан, словно угодивший в западню лев, отчаянно отбивался, но, задохнувшись и запутавшись в москитной сетке, потерпел поражение. Ему заткнули рот кляпом, связали руки и ноги. И все это — совершенно бесшумно, так что спавшие в соседней комнате миссис Клавдия и Мери ничего не услышали. Теперь нужно было схватить моряков, проживавших в комнате по другую сторону широкого коридора. Хотя приятели и славились силой, операция была проведена молниеносно: еще не очнувшись ото сна, они, разделив участь капитана, лежали на полу, связанные по рукам и ногам и с кляпом во рту. Нападавшие обладали огромным опытом в подобных делах! Но миссис Клавдия с Мери и Патрик еще оставались на свободе. Решили начать с мальчика. Боб оказался невольным соучастником преступления: когда Биканэл вошел неслышно в комнату, то он вместо того, чтобы поднять тревогу, приветственно завилял хвостом. Патрик, проснувшись, улыбнулся индусу и спросил, что ему нужно. А тот, также улыбаясь в ответ, подошел поближе и, схватив мальчика за горло, в мгновение ока связал его и заткнул кляпом рот. Так как Король денег строжайше запретил применять к миссис Клавдии какое бы то ни было насилие, пришлось прибегнуть к хитрости. Подойдя к двери, Биканэл трижды негромко постучал. Женщина спросила, кто там. Ловко имитируя голос факира, он ответил: — Сахиб просит госпожу графиню соблаговолить одеться и прийти к нему в северную часть обители. — А зачем, не знаешь? — спросила заинтригованная миссис Клавдия. — Там сейчас начнется рыбная ловля при свете факелов. Приготовления к ней совершенно необычны, и сахиб хотел бы, чтобы госпожа графиня тоже увидела это любопытное зрелище. Ничего не заподозрив, она поспешно оделась, разбудила Мери и, сообщив о предстоящем развлечении, помогла побыстрее собраться и ей. Спустя несколько минут они вышли из комнаты в радостном предвкушении неожиданной забавы в упоительно прохладные ночные часы. Но в коридоре вместо факира миссис Клавдию с Мери поджидал спасенный их заботами индус. Необычное выражение его лица внушило им страх. К тому же у него за спиной стояли с факелами в руках десятка два свирепых на вид вооруженных людей. Поняв, что это — западня, графиня де Солиньяк закричала громко: — Жорж!.. Друг мой!.. Тревога!.. Нас предали!.. Миссис Клавдия попыталась заскочить обратно в комнату, где у нее хранилось оружие, но Биканэл с быстротой молнии преградил ей дорогу и произнес резким и повелительным тоном: — Шуметь бесполезно, госпожа: капитан Бессребреник арестован. А посему, чтобы не пришлось применять силу, лучше всего подчиниться. — Кому, туземцу?.. Индусу?.. Да это ж все равно, что подчиниться негру… Никогда! — Увы, эта благородная женщина, как и многие ее соотечественники-американцы, была заражена расовыми предрассудками. Побледнев, Биканэл возразил: — Я — один из руководителей местной полиции! — Шпик!.. Полицейская ищейка!.. — Госпожа! — И это его мы подобрали умирающим и спасли! И всячески сочувствовали ему! Поистине, существуют благодеяния, которые оскверняют делающего их. Придя в ярость от этих слов, которыми миссис Клавдия хлестала его, как бичом, Биканэл схватил ее за руку: — Именем ее величества королевы вы арестованы! — Жалкий раб! Никак, ты осмелился коснуться меня! — крикнула гордая американка. Вырвав у него свою тонкую изящную руку, она звонко ударила Биканэла по лицу. Полицейский был вне себя от гнева. — Я собирался арестовать вас именем королевы!.. Теперь я делаю это от своего собственного имени!.. Вы — моя пленница!.. И принадлежите мне одному!.. Английские судьи слишком снисходительны… Не то что я!.. Вас и ваших друзей будет теперь судить только моя ненависть!.. Кровавыми слезами заплатите вы за оскорбления! — вопил он как безумный. В ответ бесстрашная графиня де Солиньяк лишь громко и нервно расхохоталась. Ее смех был не менее оскорбителен для Биканэла, чем пощечина. — Хватит угроз! — презрительно сказала она. — Знайте, ничто в мире не могло и не сможет меня запугать, и тем более вы, мерзкая тварь, жалкое огородное пугало, которым воробьев лишь стращать! Мы не боимся вас! Вы можете бить нас, мучить, но запомните, воли нашей вам никогда не сломить! — Пустая болтовня! Может быть, она и заставила бы дрогнуть одного из презренных рабов, населяющих эту гнусную страну, но только не меня! В руках полицейского был длинный шарф из удивительно тонкого и легкого шелка, которым так славятся бенгальские ремесленники. Он ловко, словно цирковой артист, жонглировал им: то придавал ему волнообразные движения, а то вдруг резким рывком выбрасывал его вперед, воспроизводя выпад жалящей змеи. Шарф вращался и извивался все быстрее и быстрее и казался уже не простым куском ткани, а живым существом. Миссис Клавдия не успела и глазом моргнуть, как он уже плотно примотал ее руки к телу и, упав к ногам, змеей обвился вокруг них. Хотя женщина не могла теперь двинуть ни рукой, ни ногой и, чтобы не упасть, должна была стоять не шелохнувшись, она вовсе не собиралась признавать себя побежденной. — Одна американская артистка, Лой Фаллер, тоже жонглирует шарфами, но у нее это получается гораздо лучше. Вот бы вам у кого поучиться! — насмешливо произнесла миссис Клавдия. Биканэл, уязвленный ее смелостью и самообладанием, заскрипел от злости зубами и резко дернул шарф. Но графине удалось все же удержаться на ногах. Мери, до сих пор с молчаливым возмущением наблюдавшая за происходящим, не выдержала. — Подлец! — бросила она в лицо полицейскому. Услышав такое оскорбление, сообщники Биканэла застыли как изваяния. Он же, увидев, что ему не совладать с пленницами, махнул рукой подчиненным. Четверо из них, загасив пламя своих факелов о каменные плиты пола, грубо схватили миссис Клавдию и Мери и, следуя за Биканэлом, понесли куда-то. Желая сделать как можно больнее отважной женщине, он с чисто восточной изощренностью решил показать ей ее мужа. Увидев супруга связанным и с кляпом во рту, а рядом с ним — его верных слуг и Патрика, миссис Клавдия до глубины души возмутилась. И хотя на сердце у нее было тяжело, она ничем не выдала своих чувств и со всем присущим ей мужеством бросила небрежно: — Жорж, друг мой, не хотели бы вы, когда мы будем на свободе, приказать дать пятьдесят ударов плетью этому неблагодарному мерзавцу — двадцать пять за Мери и двадцать пять за меня! Мы, как все женщины, склонны к жалости, но он уж слишком переборщил! Не так ли, Мери? — Да, госпожа, по двадцать пять ударов за вас и за меня! Но бить нужно будет посильнее! — И, обращаясь к Патрику, девочка добавила: — Я знаю, брат, ты не из трусливых. И все же мне хочется сказать: не бойся, все это просто несерьезно… — Браво, Мери! — поддержала ее графиня. — Да, все это несерьезно, театр, да и только! Карикатурные людишки хотят нас запугать своими смехотворными пытками… А вы, Жорж, рассчитывайте на меня так же, как я рассчитываю на вас… Вы знаете, что я была и всегда буду вашей верной подругой — как в жизни, так и в смертный час! Капитан Бессребреник, беспомощно лежа на спине, мог ответить ей лишь взглядом, полным невыразимой любви и жалости. Из груди его вырвался глухой стон, лицо на мгновение стало пунцовым, но он быстро овладел собой и презрительно глянул на Биканэла. Полицейский сказал женщине: — Всем вам уже недолго осталось жить. И то, что вы испытаете перед смертью, надеюсь, собьет с вас спесь! — Затем он обратился к сообщникам: — Несите их! Пленников доставили ко входу в обитель. Стража даже не пыталась оказать сопротивление многочисленному и до зубов вооруженному отряду Биканэла. И дело заключалось не только в том, что на посту стояло всего несколько человек, но и в отсутствии факира: привыкнув лишь беспрекословно подчиняться ему, караульные не были в состоянии принимать самостоятельные решения. Биканэл, знавший все тайны святой обители, уверенно поднял решетку, опустил подъемный мост, открыл ворота, и, пройдя крытой галереей, его отряд вместе с пленниками оказался среди развалин. В темноте раздался заунывный вой. Узнав Боба, Биканэл проворчал: — Подлая тварь! Надо было пристукнуть его или кинуть в ров с камнем на шее! А впрочем, чем он может мне повредить? Еще через несколько минут послышались грузные шаги и мощное, словно работали кузнечные мехи, дыхание. Воздух огласился хорошо знакомым трубным ревом. Это слон Рама, который давно уже поправился и теперь томился без дела в своем стойле, был потревожен ночным шумом и вышел проведать, в чем дело. Приблизившись к отряду, он вытянул вперед хобот, с силой вдохнул смешавшиеся людские запахи. Сразу же узнав своего спасителя капитана, слон несколько раз издал радостное урчание. И это понятно: ведь он сохранял к Бессребренику самую глубокую привязанность и каждый день навещал его, чтобы получить из рук своего друга какое-нибудь лакомство. Но Биканэл приказал отогнать его камнями, и обиженный слон убежал в недоумении. Неподалеку от обители Биканэла поджидала большая группа людей с лошадьми, которых они держали под уздцы. В темноте прозвучал насмешливый голос полицейского: — Господин Бессребреник в Индии впервые и, наверное, не знает, что такое башня молчания. Но так как всем им, кроме женщин, придется провести там свои последние часы, я просвещу его на этот счет!
ГЛАВА 10
Огнепоклонники. — Славная община. — Башни молчания. — Священный ритуал. — Необычные похороны. — Грифы. — Старая кирпичная дакма. — Обреченные. — Изголодавшиеся грифы. — Месть Биканэла. — Страшная жестокость. — Бедная женщина!Парсы, или, как их еще называют, гебры, — весьма многочисленная в Индии религиозная община. Их учение восходит к Заратуштре, то есть примерно к третьему тысячелетию от Рождества Христова[46]. Отличаясь высокой общей культурой, они в то же время глубоко привержены своим архаичным обычаям, многие из которых нам кажутся дикими, как, например, поклонение огню. Парсы доброжелательны, скромны в быту, трудолюбивы и проявляют удивительные способности к изучению языков, к предпринимательству, торговле и финансам. Преуспевают они и в искусстве и науках, пришедших с Запада, и, ценя знания, возглавляют ныне крупное просветительское движение, играющее заметную роль в жизни индийского общества, закостеневшего в многовековом восточном фатализме. Каким бы ремеслом, пусть самым скромным, ни занимался парс, он всегда — среди лучших. Одним словом, они представляют собой жизнеспособный тип людей, умных, терпимых и отлично подготовленных к любым преобразованиям в ходе эволюционного развития даже наиболее высокоорганизованных цивилизаций. Поскольку стихии для парсов — символы божества, они всячески стараются уберечь землю, воду и огонь от соприкосновения с разлагающейся плотью. Отсюда — один из самых странных их обычаев: оставлять обнаженные тела умерших на открытом воздухе. Объясняя подобную практику, они говорят: «Как приходит человек в этот мир совершенно голым, так должен и уйти». И добавляют: «Надо все сделать для того, чтобы мать-земля и образующие ее вещества не были осквернены распадом материи, и поэтому чем быстрее исчезнут молекулы нашего тела, тем лучше». Чтобы разложение трупов происходило в достойной обстановке, с соблюдением определенных ритуальных правил, и не наносило вреда здоровью остающихся в живых, парсы строят так называемые башни молчания, или дакмы, где и происходит финальная трансформация материи. Одним словом, башни молчания — это своеобразные места захоронений. Их довольно много в Индии: они возведены повсюду, где проживают парсы. Даже имеются отдельные башни для преступников. Только в районе Бомбея насчитывается семь таких сооружений, и все они расположены на возвышенности Малабар-Хилл. В этой очаровательной, романтической местности, среди изумительной зелени и цветов, стоят и прелестные коттеджи: мрачное соседство не отпугивает любителей отдохнуть на лоне природы. Кстати, вокруг самих дакм разбиты великолепные сады и парки, и посетители могут любоваться живописным пейзажем со смотровых площадок трех сагри, или часовен, где постоянно поддерживается священный огонь. Что касается самих башен, то это огромные, построенные на века кольцеобразные конструкции из гранита или весьма прочного кирпича. Регулярная побелка известью придает им опрятный, ухоженный вид. Впрочем, название «башня», данное этим сооружениям европейцами, строго говоря, не отражает их конфигурации. Возьмем к примеру одну из башен в окрестностях Бомбея. Диаметр ее равен тридцати метрам, а высота — лишь двенадцати. В центре имеется яма глубиной в пять метров и шириной — в пятнадцать. Чтобы в сезон дождей, когда с небывалой силой хлещут ливни, ее не заливало, по четырем сторонам от ямы вырыты широкие, глубиной в два метра колодцы, соединенные с нею ходами, проделанными в каменной кладке под углом в сорок пять градусов. Яму опоясывает широкое кольцо из трех слегка наклоненных внутрь концентрических кругов, разделенных на семьдесят два сектора. Эти числа — три и семьдесят два — не случайны: они считаются священными, им соответствуют, в частности, три заповеди Заратуштры и семьдесят две главы «Ясны»[47], одной из частей «Зенд-Авесты»[48]. В каждом секторе, напоминающем собой спицу гигантского колеса, — углубление не более двадцати сантиметров, где и лежит тело усопшего до тех пор, пока от него не остается один скелет. Ждать этого пришлось бы довольно долго, если бы не стаи грифов-стервятников, которым для выполнения обязанностей санитаров требуется всего несколько часов. Чтобы скрыть от посторонних взоров происходящее внутри, кольцо обнесено тонкой, высотой в пять метров стеной, используемой бесчисленными грифами в качестве насеста. Плотно усевшись на ней, втянув голые шеи, неподвижные и тяжелые, они, не обращая внимания на палящее солнце, жадно вглядываются в даль в ожидании очередной похоронной процессии. Возглавляют траурное шествие носильщики в белых одеяниях. Покойник в саване, тоже белом, — в железном гробу. Чуть поодаль, связанные попарно белым платком, идут медленным шагом родные и близкие, также во всем белом. Прожорливые птицы издали замечают их и, вытянув голые розовые шеи, взмахивают крыльями, царапают стальными когтями парапет. Носильщики открывают вделанные в стену тяжелые железные ворота, вносят гроб внутрь и, совершив положенный обряд и прочитав молитву, укладывают обнаженное тело в углубление, после чего выносят из башни гроб и саван. Едва ворота закрываются, как грифы, набросившись на труп, начинают остервенело рвать его ногтями и клювом. Когда они вскоре возвращаются на свой пост, на месте их пиршества остаются лишь кости. Недели через две те же носильщики вновь посещают башню. Они в перчатках, в руках — щипцы. После нескольких торжественно произнесенных священных формул останки усопшего навсегда опускаются в яму, где поколение за поколением скопляются кости парсов, превращающиеся со временем в прах. Когда-то небольшая община парсов — землепашцев и мелких торговцев проживала в пяти-шести милях от святой обители. Поселились они здесь в незапамятные времена и трудом своим превратили освоенный ими уголок земли в райский сад. Их влиятельные соседи — брахманы — всегда помогали им, хотя те и исповедовали другую религию. И в этом нет ничего удивительного: индусы, буддисты и парсы отличаются большой веротерпимостью и не только не враждуют между собой, но, наоборот, постоянно оказывают взаимную поддержку. Пока брахманы жили в святой обители, деревня парсов процветала. Но после того, как пандитов разогнали, огнепоклонники перебрались в другое селение, примерно в двадцати километрах от прежнего места проживания. Однако они сохранили привязанность к родной земле, тем более что поблизости — случай редкий для небольших деревушек парсов у них была своя башня молчания, построенная из кирпича в стародавние времена, возможно, в эпоху расцвета ныне мертвого города, когда здесь проживало куда больше народу. Правда, теперь она стояла забытая и затерянная в джунглях. Крайне редко приносили сюда трупы. И грифы, селившиеся здесь исключительно в силу привычки, были вынуждены летать по всей округе в поисках павшего на рисовых полях буйвола или какой-нибудь мелкой добычи, ускользнувшей от вечно голодных людей. Одним словом, эта дакма была для пернатых хищников своего рода Лагерем Нищих. Подумать только, проходили месяцы, а похорон нет и нет! Нетрудно представить себе радостное возбуждение, охватившее стервятников, когда они издали увидели многочисленный кортеж, быстро приближавшийся к заброшенной дакме. Огромные птицы хлопали крыльями, покачивали длинными шеями, неуклюже взлетали над мрачной башней. Люди были на лошадях — зрелище, непривычное для этих отвратительных исполнителей погребального ритуала. Процессия остановилась шагах в двадцати от башни. Завернутые в ткани тела, перекинутые впереди седел, опустили на землю. Всего их было четыре — три покрупнее и одно поменьше. То-то радости для грифов: что-что, а трупы считать они умели! На носильщиках не было традиционных белых одеяний, да и вели они себя без должной торжественной неторопливости. Но какое грифам было дело до всего этого, если им, прожорливым по природе, пришлось по не зависящим от них обстоятельствам так долго голодать. Нетерпение их возрастало с каждой минутой! Прозвучал с издевкой хриплый голос: — Капитан Бессребреник, вы ведь слышите меня, не правда ли? Знайте же, перед нами башня молчания — место вечного упокоения парсов, а теперь и вашего со спутниками! Так вот какую ужасную смерть уготовил негодяй для своих пленников — бросить их живыми на растерзание грифам, чтобы от этих смелых, добрых и любящих людей вмиг остались скелеты! Только на Востоке могут придумать и осуществить такое! И никто из всадников не протестовал! В том числе и сохранявший инкогнито изувер-европеец по кличке Король денег, чья взращенная завистью ненависть будет наконец утолена, да еще как! Ибо ничто уже не сможет спасти Бессребреника, Мариуса, Джонни и юного Патрика. Мрачно заскрипели на заржавевших петлях ворота башни молчания, открывая взору воронкообразное кольцо и все его семьдесят два сектора, а в центре — яму, наполовину наполненную костями. Пленники, по-прежнему связанные по рукам и ногам, с кляпами во рту, тоже увидели этот мрачный храм смерти. Палачи грубо схватили их и, подтащив к кольцу, на глазах изголодавшихся хищников швырнули в углубления, послужившие последним ложем не одному поколению парсов. Затем по сигналу Биканэла подвели госпожу Клавдию и Мери. Миссис Клавдия полагала, что уже все видела в жизни, все испытала, но когда поняла, какие пытки уготованы близким ей людям, то ощутила такую муку, будто сердце ее резали на куски. Не было сил ни кричать, ни плакать! Как каменная стояла она, ни на что уже не надеясь. Биканэл, ошибочно приняв молчание женщины за очередную браваду, закричал ей злорадно: — Нарендра, истый брахман, европейку, ударившую его по лицу, поразил кинжалом. Я же, Биканэл, греховодник-брахман, за пощечину от бледнолицей отомстил куда более жестоко и утонченно. Не правда ли, госпожа? Я додумался до такого, что мне позавидовал бы самый изощренный истязатель! — Затем он повернулся к выказывавшим все признаки нетерпения птицам: — Приятного аппетита, господа грифы! Но миссис Клавдия уже не слышала его. Хотя мало кто из мужчин смог бы состязаться с нею в стойкости и отваге, она все-таки была женщина и, не выдержав такого испытания, побледнела как полотно и, негромко вскрикнув, опустилась мягко на траву и осталась лежать с остановившимся взглядом. Мери, растерявшись от страха, не успела ее подхватить. Решив, что миссис Клавдия умерла, она погрозила злодею кулаком: — Вам отомстят за нас! Тот лишь засмеялся в ответ и сказал что-то на местном языке. Ворота тотчас с грохотом закрылись. Находившуюся в бессознательном состоянии миссис Клавдию и Мери снова уложили на лошадей, впереди седел, и кони сразу же рванули бешеным галопом, унося всадников подальше от этого страшного места. А грифы, оставшись одни, жадно ринулись на принесенных им в жертву беспомощных, крепко связанных людей.
Конец второй части
Часть третья СОКРОВИЩА
ГЛАВА 1
Путь завоевателей из Индии и Ирана. — Незначительный инцидент, переросший в войну. — Безумный мулла. — Гордонский полк шотландских горцев. — Второе зрение Ужасное видение. — Майор и лейтенант. — Почта. — Наступление. — Горестные вести. — Героизм волынщика. — Смертельная схватка. — Пленение.На северо-западной окраине обширной Британской Индии, в той части Пенджаба, что резко вдается в глубь афганской территории, находится знаменитый Хайберский проход, пересекающий горный хребет Сафедкох. Начинаясь у господствующего над местностью форта Джамруд, это ущелье протяженностью пятьдесят три километра извивается змеей меж горных склонов, на высоте от тысячи до двух тысяч метров над уровнем моря, и у города Дхока выходит в Кабульскую долину. Через Хайберский проход издавна пролегал главный путь между Индией и Ираном, которым неизменно следовали завоеватели как с той, так и с другой стороны. Англичане, сознавая стратегическое значение ущелья, завоеванного ими лишь в 1875 году, привели форт Джамруд в надлежащее состояние и обеспечили его усиленным гарнизоном. Но для того, чтобы надежно удерживать в своих руках важнейший форпост Пенджаба, необходимо было создать опорные пункты и в окружающей крепость местности. Наилучшим из них был Пешавар — крупный город с восемьюдесятью тысячами жителей, расположенный в семнадцати километрах от форта Джамруд, по берегам двух притоков реки Бара, которая, в свою очередь, впадает в реку Кабул. Но Пешавар представлял собою не только бастион, но и приграничный военный лагерь. Там постоянно находились две полевые батареи, два пехотных полка из солдат-европейцев, три пехотных полка туземцев, бенгальский полк улан и две инженерные роты небольшая армия в боевой готовности. Кроме того, в горах, которые по мере удаления от Пешавара становились все выше, англичане создали целую сеть возведенных на отвесных скалах фортов с многочисленными гарнизонами. У них было одно назначение — преградить путь воинственным племенам, которые никак не могли смириться с английским владычеством и только ждали случая, чтобы восстать. Восстание, действительно поднятое за несколько месяцев до описываемых событий, началось с незначительного инцидента, которого, однако, оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю. Сперва взбунтовалась небольшая группа туземцев из племени афридиев, с которыми грубо обошелся сборщик налогов. Руки сами потянулись к оружию, и конфликт принял такие масштабы, что афридии, терпя поражение, призвали на помощь родственные им племена юсуфзаев и момандов. Разразилась война. Англичанам пришлось срочно укрепить гарнизон, призвать на подмогу целый армейский корпус и ввести осадное положение но всей провинции. Возможно, конфликт и не перерос бы в войну, если бы ситуацию не обостряли фанатики, стремившиеся использовать малейшую возможность для призыва к священной войне против неверных. Во все племена были посланы гонцы. Они старались разжечь у туземцев воинственный пыл, распуская разные слухи. Возглавлял их известный бандит, прозванный англичанами Безумным муллой. Под его белым стягом, на котором были изображены пять красных ладоней — две наверху и три чуть пониже, собралась целая армия добровольцев, движимых не только религиозным фанатизмом, но и жаждой наживы. Несмотря на все принятые меры, стойкость и храбрость солдат, англичанам не удавалось сломить сопротивление восставших племен: сил у европейцев оказалось недостаточно, подкреплений не было, и к тому же туземцы, которых было вдесятеро больше, находились у себя дома. Лишь иногда гарнизон или дивизия, очутившись в слишком уж плотном кольце, шли в атаку. Верх неизменно брали европейское оружие и военное искусство. Но победа оказывалась временной, и вскоре победители откатывались на прежнюю позицию. В конце концов главнокомандующий, раздраженный этим топтанием на месте, наметил мощное наступление. Он решил во что бы то ни стало прорвать блокаду чакдарского военного лагеря, окруженного бандами наглевших день ото дня бунтовщиков. А для этого необходимо было взять высоты в северо-восточной части плато, на котором разместился этот лагерь. Честь первым пойти в атаку предоставили Гордонскому полку шотландских горцев. Полк стоял на левом фланге осажденного лагеря. Выстроившиеся аккуратными рядами палатки создавали общий фон, на котором сбившиеся группками верблюды выглядели особенно экзотично. Да и на самих шотландских горцев стоило посмотреть. Все — высокого роста, атлетического сложения, неутомимые, прекрасно приспособленные к этой полной неожиданностей войне на отвесных горных склонах. Одежду их составляли красный мундир с короткими и закругленными полами, шотландская юбка килт из шерстяной клетчатой ткани и такой же клетчатый плед, переброшенный через левое плечо. На ногах у них были шерстяные чулки с отворотами и подвязками, гетры и башмаки с пряжками. Спереди на ремне висел отороченный мехом кошель, нечто вроде кармана из барсучьей кожи. В общем, национальный костюм во всей красе! Только вместо меховой шапки со страусовым пером солдаты носили белые тропические шлемы с прикрепленным сзади куском плотной, в несколько слоев простроченной ткани, которая должна была уберечь затылок от беспощадных лучей индийского солнца. Этот головной убор, напоминающий те, что носят докеры при разгрузке угля, выглядел не очень эстетично, но зато соответствовал местным условиям. Полк готовился к наступлению. Воины в последний раз осмотрели свое снаряжение. Сержанты проверили наличие боеприпасов. Конюхи взнуздали офицерских лошадей и подтянули подпруги. Волынщики, заменяющие в шотландских полках трубачей, наигрывали милые сердцу солдата старинные народные мелодии, напоминавшие о далекой родине. У большой палатки вели беседу два офицера, а рядом два денщика-туземца держали под уздцы великолепных, всхрапывавших от нетерпения лошадей. На эполетах у одного из офицеров поблескивала вышитая золотом корона — знак отличия майора, у другого — лейтенантская звездочка. Оба они были сильными, атлетического сложения мужчинами, образчиками типичных английских офицеров, достигших совершенства во всех видах спорта и обретших благодаря ему исключительную выдержку и выносливость. Одному из них можно было дать лет сорок, второму — года двадцать два — двадцать три. Первый, что постарше, был майором Ленноксом, герцогом Ричмондским, другой — лейтенантом Ричардом Тейлором, сыном председателя верховного суда. — Скажите, дорогой Тейлор, — обратился герцог Ричмондский к своему юному собеседнику, — верите ли вы в ясновидение? — Раз уж вы удостаиваете меня своим вопросом, отвечу: нет, милорд, никоим образом, — почтительно произнес тот. — Это потому, что вы не шотландец! Мы, шотландские горцы, свято верим в ясновидение. Оно позволяет нам наблюдать происходящие вдали от нас и, как правило, важные реальные события. Видя, что майор говорит вполне серьезно и даже с грустью, молодой человек заметил: — Если в подобное явление верят столь достойные, как вы, люди, то вера эта в любом случае заслуживает уважения. — Ах, Тейлор, можете мне поверить, обладать даром ясновидения — сомнительное благо, — сказал майор, сильно побледнев. Обычно крайне скрытный, сейчас он как будто решил выговориться. — Три недели тому назад я видел совершенно отчетливо, как жена моя упала замертво, сраженная ударом кинжала. Я слышал ее предсмертный крик… Прямо у меня на глазах закрылись ее очи… из груди полилась кровь… И с тех пор я ничего не знаю ни о ней, ни о детях… Нет ни единого письма… ни записки… — Но вспомните, милорд, ведь мы окружены и почте к нам не прорваться. А если мы и общаемся с внешним миром, то только благодаря оптическому телеграфу[49]. — Вот поэтому-то я еще и надеюсь… Но это не все. Представьте себе, сегодня ночью я внезапно проснулся, и у меня опять было видение, не менее ужасное. Я услышал, как мои дорогие дети, Патрик и Мери, жалобно зовут меня на помощь, и в их криках было столько ужаса, что я покрылся холодным потом. Мне привиделось, что Мери отчаянно пытается вырваться из чьих-то грубых рук, а Патрик лежит недвижимый среди омерзительной горы трупов. Согласитесь, друг мой, что все это ужасно. — Да, милорд, это действительно ужасно. Когда нет ни единой весточки от близких людей, ясновидение причиняет любящему сердцу сильные страдания, которые становятся с каждым часом все невыносимее. Но я думаю, нам удастся прорвать окружение, и мы наконец получим почту… Осмеливаюсь надеяться, милорд, что хорошие, полные нежности письма опровергнут ваши видения. — Благодарю вас за добрые слова, мой дорогой лейтенант, хотя и не очень-то я верю в них. — И, обратившись к волынщику, отцу Кетти, который с непринужденностью старого и преданного слуги подошел поприветствовать его, майор сказал: — А ты, Килдар, не видел ли чего-нибудь? Близится час большого сражения. В такое время чувства настолько обостряются, что позволяют видеть как никогда и то, что происходит, и то, что будет потом. — Да, милорд, я действительно кое-что видел. — Что же? — Что меня ранили в самом начале сражения. Но все обошлось, поскольку я смог продолжать играть на волынке. — Вы слышите, Тейлор?.. Слышите?.. Килдар тоже видел!.. И знайте, все так и будет! — воскликнул герцог с жаром, свидетельствовавшим о его непоколебимой вере в подобные вещи. Молодому лейтенанту захотелось избавиться как-то от гнетущего чувства, которое овладело им помимо воли: он искренне любил майора, своего командира, считая его человеком добрым и отважным, и тот платил Ричарду тем же. Не найдя ничего, что можно было бы противопоставить такому воззрению, юноша весело воскликнул: — Ну так и я тоже видел кое-что, вернее, кое-кого… Я видел моего замечательного батюшку. Вы знаете, как он любит поесть, милорд. Так вот, я его видел сидящим во главе стола, уставленного различными яствами. Вид у него был такой величественный, словно он председательствовал в верховном суде. И он сказал: «Нужно будет отправить нашему дорогому лейтенанту туда, в страну афридиев, ящик старого вина и паштет…». Так что я жду паштет и вино, чтобы отпраздновать победу… Приглашаю и вас, мой славный Килдар! Внезапно прозвучали трубы, к ним присоединились волынки Гордонского полка. Промчались вестовые. Солдаты кинулись по своим местам. Сев на коня, командующий в сопровождении штабных работников и охраны направился было к холму, чтобы следить за битвой. Но по лагерю пронесся какой-то шум, раздались радостные возгласы: — Почте удалось прорваться сквозь вражеские заслоны! Мешки с письмами и депешами доставили на двух охраняемых взводом улан артиллерийских подводах, в которые впрягли по шестерке лошадей. Среди ездовых и кавалеристов было много раненых, но глаза этих мужественных людей светились радостью от сознания выполненного долга: ведь почтовая связь имеет особо важное значение для действующей армии. Учитывая обстановку, командующий задержал начало атаки до тех пор, пока не будет роздана почта. Явившимся в штаб посыльным сразу же вручали письма, заранее рассортированные по батальонам, и они тотчас возвращались в свои подразделения. Командующий получил документ первостепенной важности, солдаты и офицеры — во всяком случае, кому повезло, — долгожданные письма. И на все это ушло не так много времени. Но война есть война. — Вперед! — прогремел голос командира Гордонского полка. — Вперед! — повторили батальонные командиры. И полк выступил в боевом порядке. Майор Леннокс, бросив поводья, дрожащими руками распечатал конверт. Писала Мери, но как же изменился ее почерк, каким стал неровным!.. Лейтенант Тейлор тоже получил письмо. На конверте — черная кайма, адрес написан рукой его матери. И вдруг ехавшие рядом с молодым офицером его соратники увидели, как он пошатнулся в седле и так побледнел, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Тогда же майор, глухо вскрикнув, судорожно схватился за сердце. С ужасом во взоре вчитывался лейтенант в кошмарные слова, и строчки плясали у него перед глазами: «…Отец убит главарем банды тхагов… задушен прямо в постели…» Взгляд майора с трудом схватывал расплывавшиеся душераздирающие, со следами слез, строки, написанные Мери: «…Нашу горячо любимую мамочку ударил кинжалом фанатик… Она почти выздоровела… но была задушена ночью главарем тхагов…». Лейтенант временно исполнял обязанности командира первой роты возглавлявшегося майором Ленноксом батальона и поэтому ехал следом за ним. Когда майор обернулся и они смогли взглянуть друг на друга, то сразу поняли, что их обоих постигло несчастье. — Ах, Тейлор, — прошептал майор, какая ужасная вещь это ясновидение!.. Поистине, бывают дни, когда мечтаешь о смерти! Трубачи подали сигнал к атаке, волынщики Гордонского полка тут же ответили им маршем шотландских горцев… — Вперед!.. Вперед!.. Всадники пришпорили коней, спеша добраться до передовых позиций туземцев у подножия и на склоне горы, где то и дело вспыхивали белые облачка порохового дыма. Хотя расстояние от повстанцев до англичан в два раза превышало убойную дальность полета пули, по наступавшим открыли пальбу. Но солдатам было приказано вплоть до особого распоряжения на огонь не отвечать. Послышались отрывистые команды, и загрохотали орудия: две батареи — одна на левом, другая на правом фланге — ударили картечью по оборонительным укреплениям туземцев. Воспользовавшись возникшей паникой, шотландцы подошли к противнику. Полковник приказал остановиться и дать три ружейных залпа подряд. Свинцовый град тотчас смел первую линию мятежников. Высунувшись из-за оборонительного вала, сооруженного из камней, туземцы изрыгали проклятия в адрес английской армии. Солдаты двинулись дальше, и в это время из расположения соседних полков донесся поданный трубачами сигнал к атаке. Для шотландцев же таким сигналом служат старинные народные мелодии. И они не оригинальны: некогда подобная музыка исполнялась во время сражений и французскими полковыми оркестрами, оснащенными обычно фаготами, гобоями, кларнетами и флейтами. Килдар, шедший во главе первой роты, наигрывал старинный шотландский марш «Северный петух», дружно подхваченный волынщиками остальных рот. При первых же звуках этого довольно примитивного инструмента ряды атакующих охватило лихорадочное возбуждение. Бросившиеся в боевом порыве вперед, могучие горцы энергично взбирались по скалам. Встревоженные неудержимым продвижением противника, туземцы, суетясь и вопя, открыли по отважным шотландцам бешеный огонь, и первые ряды их значительно поредели. Вещее видение Килдара сбылось: его тоже сразили. С раздробленными ногами, он тяжело повалился на землю, не издав ни единого крика. Но, ощупав инструмент и убедившись, что он не пострадал, музыкант воскликнул: — Волынка цела, так вперед же, друзья! И да здравствует добрая старая Шотландия! Не обращая внимания на безвольно волочащиеся ноги, Килдар, упираясь руками и коленями, дополз до ближайшего камня и уселся на нем. Затем поднес к губам свой инструмент и — истекающий кровью, под адским огнем противника, — задул в мундштук во всю силу своих легких, продолжая играть все тот же старинный шотландский марш «Северный петух». Вдохновленные этим примером, шотландские горцы с удвоенной яростью ринулись на противника и, пробегая мимо героя-волынщика, приветствовали его восторженными криками: — Ура Килдару!.. У-р-ра!.. Ура Килдару!.. Майор с лейтенантом неслись вперед во весь опор, за ними решительно следовали солдаты. Герцог скакал в состоянии какого-то болезненного безразличия, едва замечая грохочущие вокруг выстрелы. Руки его судорожно сжимали роковое письмо. Вдруг лошадь под ним резко рванула в сторону, и он, очнувшись, обнаружил, что находится в двадцати шагах от первой укрепленной полосы, расположенной на уступе. Оттуда, в клубах белого дыма, вырвались огненные вспышки. Пришпорив коня, майор воскликнул: — Вперед! Лошадь с трудом преодолевала крутой подъем по осыпи из обломков скал. Когда же она вынесла всадника на ровную площадку, офицер бесстрашно, словно не было мятежников, которые стреляли в него чуть ли не в упор, но всякий раз почему-то промахивались, поднял коня на дыбы и заставил одним прыжком перемахнуть через каменный вал. Лейтенант не отставал отмайора, и вот уже оба они понеслись ко второму укреплению, хотя солдаты едва успели добежать до первого вала. За спиной офицеров завязалась жестокая рукопашная схватка. Но длилась она недолго. Оставляя на поле боя проткнутые штыками тела соплеменников, афридии с дикими воплями начали отходить ко второму валу. Услышав сзади неистовые крики и обнаружив, что очутились между двух огней, майор с лейтенантом осознали опрометчивость своего поведения. Возможно, им и удалось бы прорваться на всем скаку сквозь ряды бежавших в панике туземцев, но они не пошли на это, так как устремившиеся в атаку шотландцы могли принять их спешное возвращение за сигнал к отступлению. Приняв единственно правильное в подобном положении решение ошеломить противника внезапным появлением, офицеры помчались дерзко прямо на укрепление. Путь ко второму валу был куда опаснее и значительно труднее, чем к первому. За крутым каменистым подъемом, который еще предстояло преодолеть, простиралось плоскогорье — неровное, с выбоинами и разбросанными то тут, то там камнями, что делало почти невозможной лихую скачку на коне. Совершить столь безрассудную выходку могли только отлично выдрессированные английские лошади и их бравые всадники. Выказывая пренебрежение к туземцам и свистящим пулям, офицеры под исступленные возгласы туземцев перемахнули через огромный, ощетинившийся тысячами ружей каменный вал. Они рассчитывали воспользоваться тем смятением, какое всегда вызывает конница, ураганом врывающаяся в ряды пеших воинов, и прорвать очередной вражеский заслон. Но, к несчастью, лошадь майора резко остановилась. Раненная прямо в грудь, она мелко задрожала, замотала головой и медленно повалилась на землю. Успев выскочить из седла, майор с револьвером в руке бесстрашно смотрел на кинувшихся к нему туземцев. Хладнокровно целясь, как будто это тир, он выпускал одну пулю за другой. Лейтенант, подлетев к нему, осадил коня: — Милорд, прыгайте ко мне! Он освободил левую ногу из стремени и наклонился, чтобы майор мог ухватиться за его пояс. Но тут раздался свист пули, и лошадь, раненная в голову, упала. Вовремя спрыгнув на землю, юноша встал плечом к плечу с майором, чтобы достойно встретить противника. У Леннокса быстро кончились патроны. Тейлор произвел из своего револьвера шесть выстрелов и тоже остался без боеприпасов. Но у них были сабли! Только что эти два всадника, летевшие на полном скаку, казались укрывшимся за валом мятежникам мифическими богатырями, но теперь они превратились в обыкновенных людей. Лошади их убиты, револьверы, которые еще могли бы испугать туземцев, умолкли. Правда, оставались сабли, которыми англичане хорошо владели. Но к холодному оружию, хотя оно и опасно, мусульмане приучены давно. Тем временем покинувшие первую оборонительную полосу повстанцы перестроились на бегу и вступили в схватку с шотландцами. Стало ясно, что солдаты не смогут выручить своих командиров. Туземцы с громкими криками окружили майора с лейтенантом плотным кольцом. Офицеры, обладавшие недюжинной силой и к тому же в совершенстве владевшие искусством фехтования, умело орудовали сверкавшими саблями, нанося врагам сокрушительные удары. Они понимали, что их хотят взять живыми, иначе им бы давно уже не жить. Сила, ловкость и отвага могли лишь отсрочить неизбежное пленение, но не более. Первым вышел из строя майор. Он только что рассек надвое голову одному из противников и отрубил руку другому, замахнувшемуся на него кривой турецкой саблей. Но при следующем ударе клинок майора, натолкнувшись на ствол ружья, сломался в двадцати сантиметрах выше рукоятки. Отбросив ненужный теперь обломок и хладнокровно скрестив на груди руки, офицер стоял, глядя гордо в лицо врагам. Рядом с ним, сбитый с ног, упал лейтенант, которого тут же ухватили за руки и ноги. Доблестные офицеры шотландского полка попали к туземцам в плен!
ГЛАВА 2
В башне молчания. — Ужасная ситуация. Фокусы Джонни. — Свобода, но не спасение. — Погребальная яма. — Фосфоресценция. — Подземные работы. — Патрик в опасности. — Обвал. — В заточении. — Сундук. — Имя и фамильный герб герцогов Ричмондских.Биканэл, занимавший ответственный пост в полиции, не без причин поспешил покинуть башню молчания. Прежде всего он не хотел, чтобы его заподозрили в похищении и тем более в убийстве человека, который подлежал законному суду. Ведь англичане — удивительные формалисты, они не выносят ни малейшего нарушения законности, и совершивший должностное преступление чиновник подлежит наказанию вплоть до каторжных работ. Кроме того, неприятности грозили ему и со стороны парсов, если бы им стало известно о непрошеном вторжении в их святилище: они крайне религиозны и непременно отомстят любому, кто совершит кощунство. У Биканэла не было ни малейших сомнений в том, что жертвы его ненависти обречены на смерть. Это действительно было так. Лежа на палящем солнце, связанные по рукам и ногам, с кляпами во рту, четверо несчастных увидели вдруг, как стая омерзительных грифов стремительно кинулась на них, и души их охватил ужас в ожидании неизбежного и близкого мучительного конца. Патрик — бедный мальчик! — закрыл глаза и потерял сознание. Из заткнутых кляпами ртов вырвалось сдавленное мычание, когда когти омерзительных хищников вцепились в одежду, а их клювы угрожающе потянулись, словно змеиные жала, к глазам и щекам. Мариус и Бессребреник не могли даже пошевельнуться. Зато рулевой Джонни крутился как безумный. Он корчился, перекатывался с боку на бок, и на какой-то момент ему удавалось отогнать грифов, не привыкших к столь строптивым трупам. И вдруг, в результате всех этих беспорядочных дерганий, веревки, как по волшебству, спали с него! Он тотчас вытащил кляп изо рта и исполнил победный пируэт, — очевидно, чтобы размять онемевшие мускулы. Но тут один из грифов, более смелый или более голодный, чем остальные, кинулся на Патрика. В мгновение ока Джонни схватил омерзительную птицу за облезлую шею и, не обращая внимания на то, что та царапалась и отчаянно хлопала крыльями, начал вращать ее, словно пращу: — А ну прочь отсюда, пес шелудивый!.. Шельмец!.. Подлюга!.. Погоди у меня, я тебе все перья повыщипаю!.. Размахивая мерзкой птицей, словно живой дубинкой, моряк изо всех сил колотил ею по другим грифам, а те в полном ошеломлении лишь топорщили перья, встряхивали крыльями и вытягивали шеи. Рулевой сбил их не менее дюжины и столкнул ногой вниз, в яму. Остальные, придя в ужас от столь необычного поведения людей, которых им принесли на съедение, тяжело взлетели обратно на стену и оттуда в полном изумлении смотрели вниз, не понимая, что там творится. Отшвырнув стервятника, Джонни кинулся к капитану. Достав из кармана маленький ножик, не замеченный насильниками, он моментально разрезал путы, больно впившиеся в руки и ноги Бессребреника, и вытащил кляп изо рта, заявив: — Я в восторге, капитан, что смог оказать вам эту маленькую услугу. — А я в не меньшем восторге, что могу принять ее, мой славный Джонни! — воскликнул капитан, который уже совсем не надеялся на спасение. Не теряя времени, американец развязал и Мариуса, сказав ему, чтобы не повторяться: — Ну, приятель… думаю, что ты с удовольствием глотнешь свежего воздуха!.. — Тысяся сертей, я бы с удовольствием глотнул босенок воды! — воскликнул провансалец, как только был освобожден от кляпа. — Внутри у меня словно трюм с горясей паклей и каменным углем… Огромное тебе спасибо, матрос! Знаес… я это никогда не забуду. Но Джонни его не слушал. Вместе с Бессребреником он занимался Патриком, который медленно приходил в себя. Все тело бедного мальчугана болело, руки и ноги затекли, жалобным голосом он просил пить. Пришлось ему объяснить, что пока они ничем не могут ему помочь, но постараются как можно скорее что-нибудь придумать. Но как ни хотелось всем побыстрее выбраться отсюда, Мариус и Бессребреник пожелали все же сперва узнать, какому чуду обязаны они своим освобождением. — Слусай, друзок, ты сто, волсебник? — воскликнул Мариус, который был совершенно сбит с толку. — Я бы век возился со всей этой сортовой свартовкой, сто на том бусприте! — Да, именно волшебник! — с невозмутимым видом подтвердил янки. — Когда-то я работал в цирке клоуном, помогал фокуснику. Еще до того, как стал матросом… Вы ведь знаете, капитан, у нас в Штатах можно заниматься чем угодно, никто не запретит. — Я пока не совсем понимаю, — ответил Бессребреник. — Ну так вот. Мое обучение длилось долго, но не безуспешно: кости стали гибкими, руки и ноги ходили как на шарнирах. К тому же я освоил все те гримасы и прыжки, которые столь необходимы в профессии клоуна. И тогда мне показали трюк с индийским сундуком. Вы видели этот фокус. Человеку системой узлов связывают руки и ноги и запирают в сундук. Через какое-то время — обычно довольно скоро, в этом-то и сложность фокуса — сундук, который со сцены никуда не уносят, отпирают. А человека нет! Но тут он появляется вдруг перед публикой, победно размахивая своими путами! Этот номер завораживает, но удается он только после упорных тренировок. Я вспомнил свой клоунский трюк, и, как видите, он мне удался. Мариус смотрел на своего приятеля, разинув рот от восхищения. Обычно находчивый, как истинный южанин, он не мог подобрать подходящих слов. — Да, старина! Эта самая необыкновенная стука, которую я видел в своей жизни, вроде того слусая, когда я воскрес в мертвеской госпиталя в Гаване, где заболел золтой лихорадкой. Когда мадемуазель Фрикетта насяла меня вскрывать и, воткнув в меня скальпель, озивила! Тут, несмотря на серьезность положения, невзирая на боли во всем теле, чувство голода и жажду, Бессребреник, Джонни и даже Патрик не смогли удержаться от смеха. А старый морской волк, радуясь, что сумел развеселить их вопреки всем невзгодам, продолжал: — То, сто ты проделал, конесно, великолепно, ведь благодаря тебе мы свободны… Но сказы, посему ты так долго здал, стобы использовать свой маленький трюк? Пожав плечами и смачно сплюнув, как это делают заядлые любители жевания табака, рулевой ответил: — Мариус, дружок, по-моему, ты начинаешь сбиваться с курса! Слушай, несчастный! Если бы я раньше освободил свои руки от этих, надо сказать, крепких пут, нас бы тут же всех поубивали. Поняв, что сказал невообразимую глупость, Мариус понурил голову: — Ты, конесно, прав, Дзонни, а я просто старый осел. Но хватит болтать, пора браться за дело! — Да, — поддержал его Бессребреник, — возьмемся за дело, так как работа нам предстоит нелегкая! Солнце уже клонилось к закату, и вдоль стены пролегла узкая полоска тени. Капитан усадил туда Патрика: — Оставайтесь здесь, дитя мое! Не шевелитесь и не выходите на солнце. Сидя на корточках, мальчик молча посматривал на грифов, которые то и дело взлетали со своего насеста и кружили над головой. Сначала прожорливые птицы были напуганы странным поведением принесенных им в жертву людей, но, вспомнив, что из этого прибежища смерти никто пока не выходил живым, они понемногу осмелели и уверовали в то, что успеют еще полакомиться. Граф прошел вдоль стены и тщательно осмотрел ее, но не обнаружил ни малейшей щелочки, которую можно было бы расширить, если не побояться содрать ногти и изранить в кровь пальцы. Увы, древнее строение великолепно выдержало натиск времени, и выбраться отсюда не смогла бы даже крыса. Ворота — огромные массивные створки из кедрового дерева, обитые с обеих сторон листами железа, — тоже не обнадеживали. Но капитан не сдавался — раз нельзя выбраться поверху, посмотрим, как обстоит дело внизу! — и напряженно всматривался в решетки ямы, закрывавшие вход в колодезные туннели. — А что, если попробовать выбраться через них? — высказался он. — Отличная мысль! — откликнулись моряки. На первый взгляд, добраться до вороха костей, закрывавших дно ямы, было невозможно, так как для этого требовалось преодолеть чуть ли не пятиметровую высоту. Бессребреник задумался. — Придется прыгать, — произнес Джонни будничным тоном, словно ничего проще и быть не могло. — Хоросо сказано! — воскликнул Мариус. — Если, прыгая, мы вывихнем или сломаем ноги, выбраться отсюда легче не станет! — Есть идея! — заявил рулевой. И как человек, предпочитающий словам действие, моряк быстро собрал и в мгновение ока связал валявшиеся на погребальном кольце обрывки пут. Присев на краю ямы, он опустил вниз изготовленную им веревку и, крепко держа ее обеими руками, сказал Мариусу: — Спускайся! — А ты удержишь ее?.. — Удержу, не бойся! Мариус тотчас спустился. Хотя он был человеком мужественным, ему стало не по себе, когда под тяжестью его тела начали с сухим треском ломаться человеческие кости. А Джонни был все так же невозмутим. — Теперь ваша очередь, капитан, — почтительно обратился он к своему хозяину. Бессребреник последовал примеру боцмана и тут же оказался рядом с ним. — Дьявол меня побери, приятель, а как зе ты теперь спустисся? Тебе будет не так просто одновременно и спускаться и дерзать канат. — А вот как! — ответил Джонни. И, не теряя времени, спрыгнул вниз, постаравшись приземлиться на цыпочки. Патрик наблюдал за ними сверху. Хотя его страшно мучила жажда, он не издал ни единой жалобы. То и дело оступаясь на груде костей, мужчины направились к одной из решеток. К счастью, она еле держалась, и могучие руки Мариуса без особого труда вырвали ее из кирпичной кладки. Стоя у темного входа в узкий, шириной в какой-то метр туннель, моряки заспорили, кто из них полезет туда первым. Но Бессребреник быстро разрешил их спор: — Первым пойду я! — Но, капитан… — В атаку первым всегда идет командир… а отступает последним. Сейчас мое место впереди, друзья! Бессребреник бесстрашно углубился в дыру, откуда пахнуло плесенью и едким фосфором. По круто спускавшемуся ходу он быстро соскользнул на дно колодца, и тотчас беспроглядный мрак был рассеян беловатым светом, клубившимся над потревоженным стопами человека мелким, сыпучим песком. Немного подумав, капитан понял причину этого явления, которое чуть позже помогло им сделать поистине поразительное открытие. Это была обычная фосфоресценция, вызванная свечением содержавшегося в костях фосфора, принесенного сюда дождевой водой. Колодец диаметром метра три представлял собой простую яму в легкой песчаной почве, и это навело Бессребреника на мысль, что они смогли бы сделать отсюда подкоп под стену башни. Позвав Мариуса и Джонни, он поделился с ними своим планом. Было решено тотчас приняться за дело. Бессребреник подсчитал, что прорыть им нужно самое большее метров пять. Учитывая характер почвы, они рассчитывали уложиться за несколько часов. Поскольку никаких инструментов не было, они рыли мягкий песок прямо руками. Стенки подкопа то и дело обваливались, но это их мало волновало. Куда хуже было то, что в яме стояла неимоверная духота, мучительно хотелось есть и особенно пить. Но как бы трудно ни приходилось им, эти мужественные, стойкие люди находили все же силы, чтобы пошутить. К Мариусу вернулось его провансальское остроумие, и он, не переставая трудиться, потешал друзей. — Знатные из нас полусились кролики… не правда ли, капитан?.. Кролики!.. Я бы сесас с удовольствием съел фрикасе из кролика… с бутылоськой насего доброго вина… Как зе это все далеко от нас, бозе мой! Они прорыли уже с метр, как вдруг услышали сверху крики ужаса. — Сто слусилось? — воскликнул Мариус. — Похоже, Патрик зовет на помощь! — сказал капитан. — Бегу! — на ходу бросил Джонни и с ловкостью циркового артиста протиснулся в узкий лаз. Когда он оказался в яме, выполнявшей роль оссуария, как в древности называли сосуды для хранения костей усопших, его взору предстало жуткое зрелище. Грифы, убедившись, что мальчик остался один, настолько осмелели, что всей стаей, испуская пронзительные крики, ринулись на него. И Джонни увидел, как Патрик мечется в ужасе по погребальному кольцу. Мерзостные птицы пытались вцепиться когтями и клювом ему в лицо. Они могли выклевать глаза, изуродовать ребенка, если никто не придет на помощь. Но как помочь, если добраться до мальчика невозможно, а самому ему никуда не убежать? Джонни заорал что было мочи, надеясь испугать грифов. Но крик на них не подействовал. И тогда он схватил одну из костей и швырнул в стаю. Этот своеобразный метательный снаряд летел, вращаясь подобно бумерангу австралийских туземцев, но, так никого и не задев, с шумом грохнулся о погребальное кольцо. Услышав удар, птицы на мгновение замерли, а затем снова кинулись на добычу. Джонни, не переставая кричать, швырял в них человеческие кости, которых здесь было предостаточно. Наконец ему удалось сшибить бедренной костью одного из грифов. Когда кость упала на кольцо, Патрик ухватился за нее обеими руками и стал размахивать ею, как дубинкой. Но птиц это не остановило. Мальчик оказался в безнадежном положении. Но тут на их с Джонни крики вылезли в погребальную яму Бессребреник и Мариус. Их тоже охватил ужас при виде смертельной опасности, нависшей над Патриком. — Эй, малые, прыгай! Прыгай вниз! — завопил Мариус. — Но он же разобьется! — с отчаянием возразил капитан, однако провансалец крепко уперся ногами в кости, слегка откинулся назад и, вытянув руки вперед, крикнул: — Не бойся! Прыгай мне в руки! У меня трюмы просьные, как корпус броненосса… Ну, давай! Оп-ла! Закрыв от страха глаза, Патрик кинулся в пустоту. Мариус ловко подхватил мальчика на лету и, легко держа его на руках, словно тот весил не более десяти фунтов, сказал добрым, дрожавшим от волнения голосом: — Ну сто, дорогой малые, эти негодные птисы тебя не поранили? У меня просто сердсе разрывалось, когда я смотрел, как ты среди них месесся… Любовь и преданность ощутил мальчик в этих взволнованных словах, в этом непривычном для уха английского аристократа обращении на «ты». И в порыве искреннего чувства он обнял провансальца за шею и от всей души расцеловал его. — Но сейчас, мой милый Мариус, — растроганно произнес Патрик, — со мной все в порядке. Вы же успели спасти меня! О, как я благодарен и вам, и господину капитану с Джонни! — Бедное дитя, вам так нелегко! — сокрушенно проговорил капитан. — Но ведь и вам тоже нелегко! Так что я постараюсь держаться так же стойко, как и вы, уж во всяком случае не хныкать. Грифы, истошно крича, продолжали кружить над ямой. — Пойдемте с нами, дружок, — сказал Бессребреник. — Там, по крайней мере, на вас не смогут напасть эти ужасные птицы. — И я помогу вам, — пообещал Патрик. Все четверо спустились в подкоп и принялись за работу. — Какие зе мы идиоты! — воскликнул внезапно Мариус, глядя на свои пальцы, которые, как и у капитана и Джонни, были в крови. — То есть, просу пардону, капитан… не вы, конесно… это мы, я и Джонни. — Благодарю! — ответствовал янки. — И почему зе это мы идиоты?.. — Да потому сто мы вполне мозем позаимствовать у тех мертвесов, что валяются наверху, их руки и ноги, стобы рыть песок… Им, беднязкам, это все равно, а нам длинная, просная, с сирокой головкой кость послузит вместо заступа. — Неплохая идея! — заметил Джонни с обычной своей сдержанностью. Пойду схожу за инструментом. С ним вместе проползли в колодец и остальные — в ожидании орудий труда. И тут вдруг раздался глухой шум. — Гром и молния! — проворчал Мариус. — Сто зе это такое? Оказалось, завалило узкий трехметровый ход, который они столь упорно прорывали в течение двух часов. Значит, придется заново проделывать всю эту тяжелую работу. Но это не все! Был завален и узкий проход, ведущий в погребальную яму. Теперь им не двинуться ни вперед, ни назад! Очень скоро начнет не хватать воздуха, и если не удастся в короткое время расчистить неизвестно какой толщины завал, отрезавший от них единственный источник кислорода — погребальную яму, то всем им грозит смерть от удушья. Песчаная осыпь, обнажив новый слой почвы, вызвала еще большую фосфоресценцию. Насыщенный фосфором песок так светился, что друзья, оказавшись в подземном заточении, могли словно днем видеть друг друга. И этот мрачный свет, причиной которого служили человеческие останки, был единственным отрадным явлением в их катастрофическом положении. — За работу! — произнес достойный этих доблестных людей капитан. Но при первой же попытке расчистить завал сверху рухнул новый слой песка и вместе с ним — деревянный сундук, загородивший собою проход. Стенки у него, судя по глухому гулу в ответ на постукивание, были довольно крепкими. Очистив находку, капитан не смог сдержать удивленного возгласа: на крышке была закреплена почерневшая от времени металлическая, возможно, серебряная, пластинка с надписью, хорошо различимой при фосфоресцирующем свете. — Патрик, — воскликнул капитан, — да здесь же ваше имя: Леннокс, герцог Ричмондский! И герб какой-то! Взглянув на пластину, мальчик произнес: — Это наш герб!
ГЛАВА 3
Берар в заточении. — В ожидании смерти. — Пандит Кришна. — Повелитель и слуга. — Зал совета. — Пандиты. — Семь великих жрецов. — Брахманы — кладези мудрости. — Безграничная власть. Самоусекновение головы. — Возвращение к жизни. — Приговор Биканэлу.Оказавшись запертым Биканэлом в помещении, доселе ему неизвестном, Берар ощутил приступ гнева. И это было понятно. Во-первых, он потерпел поражение, что крайне унизительно для прославленного факира, грозного предводителя свирепых поклонников богини смерти Кали и одного из главных участников тайных деяний в загадочной Индии. Во-вторых, попав в ловушку, где его ждала голодная смерть, он лишился возможности выполнить до конца важную миссию, возложенную на него брахманами и заключавшуюся в обеспечении безопасности капитана Бессребреника и его спутников. Последнее обстоятельство тяготило его куда больше, чем уязвленное самолюбие и мысль о неминуемом конце. Ибо он был прежде всего человеком долга, этот Берар, личность таинственная, исключительно противоречивая, сочетавшая в себе одновременно доброту и злобу, жертвенность и постоянную готовность пойти на убийство, поскольку жизнь человеческую как таковую он ни во что не ставил. Его сознание и воля были полностью порабощены высшим кастовым сословием — пандитами, образующими духовную аристократию Индии, и он являлся послушным орудием в их руках. Высоко ценя проявленные им преданность, предприимчивость и ловкость, эти великие умы наделили Берара могущественными, чуть ли не сверхъестественными способностями. Как и других факиров, его обучили искусству убивать и воскрешать, не чувствовать усталости, не испытывать душевных страданий, стойко переносить любые пытки и довольствоваться самым малым. Кроме того, он был посвящен в тайны того, что мы называем магией, и, таким образом, мог активно воздействовать на психику людей, укрощать тигров и змей и подчинять своей воле даже неодушевленные предметы. Такие, как Берар, свято верят в непогрешимость пандитов, которые представляются им некими высшими существами, занятыми исключительно поиском путей приближения к недоступным для обычного человеческого разума абстракциям и возможно большего освобождения из-под власти материальных сторон земной жизни. Их дело — мыслить, а дело факиров — действовать. Факирам могут приказать следить за кем-то или, наоборот, кому-то беззаветно служить, пойти солдатом в правительственные войска или сражаться среди повстанцев, стать рабом или принять обличье раджи, исцелить недуг или напустить хворь, любить или ненавидеть, спасти человека или погубить его. И они беспрекословно выполняют любое распоряжение, невзирая ни на какие трудности, мучения и даже угрозу смерти. Берар, поддавшись было отчаянию, быстро взял себя в руки. Факир нашел утешение в том, что сделал все посильное, а если с не зависящими от него обстоятельствами и не справился, то готов понести самую жестокую кару. Мысль о смерти, к которой пандиты настойчиво приучают своих служителей, умиротворяла его душу, и кончина представлялась ему желанным выходом из создавшегося положения. Усевшись на пол, он прочел несколько строф из вед[50] и, отгоняя злых духов и располагая к себе добрых, произнес заклинания. Затем погрузился в состояние глубокой сосредоточенности, вновь переживая мысленно важнейшие события своей нелегкой бурной жизни. Факиры с помощью специальных упражнений вырабатывают в себе способность к быстрому и полному отключению своего сознания от окружающего мира и, обладая даром самовнушения, могут сами себя усыпить и лишиться чувствительности, как это бывает под воздействием гипноза. Вот и Берар, постепенно отрешаясь от всего, впал в забытье и сидел теперь неподвижно, как статуя, в безмолвии зала, ставшего ему гробницей. Прошло много часов, но предводитель душителей так и не шелохнулся, и о том, что он еще жив, можно было судить лишь по еле уловимому дыханию. Но как бы ни был глубок этот сон, предвозвестник смерти, факиру все же не удалось уйти в небытие. И когда послышался легкий шорох, он чуть заметно вздрогнул, хотя ни один мускул на его лице не шевельнулся, а подернутые дымкой глаза по-прежнему ничего не видели. Внезапно зал наполнил глухой шум трения гранита о гранит, стена ненадолго повернулась, и в образовавшейся щели сперва показалась голова, а затем и худощавое сильное тело на длинных тощих ногах. Простую и вместе с тем изысканную одежду пришельца составляли огромная индусская чалма, ослепительно белый халат из тонкой шерсти и узкий белый шелковый пояс, из-за которого выглядывала богато украшенная каменьями рукоятка кривого кинжала. Тонкие черты лица, обрамленного седой раздваивавшейся бородой, и высокий широкий лоб придавали ему облик человека умного и одухотворенного. Шагнув в помещение, незнакомец легким движением руки стряхнул с сандалий пыль, устремил живой и вместе с тем спокойный взгляд на сидевшего в неподвижной позе факира и негромко, но отчетливо произнес: — Проснись, Берар! Факир тотчас открыл глаза, и лицо его приобрело обычное выражение. Узнав вошедшего, он вскочил: — Учитель! Пандит Кришна! Мир тебе, сахиб! — И тебе мир, Берар! С почтительным смирением факир сказал: — Учитель, я виноват в том, что попался… Нашелся человек хитрее меня… — Знаю, Берар. Я все знаю. — Я заслуживаю кары и готов понести ее! — Следуй за мной в зал совета, — загадочно ответил пандит. Вновь сработал секретный механизм, и они вышли из зала. Легким уверенным шагом пандит прошел, сопровождаемый факиром, множество коридоров, пока наконец не оказался в огромном помещении со сводчатым, как в церкви, потолком и с богато драпированными стенами, к которым прижались книжные шкафы. В глубине, под сине-белым балдахином, находилось возвышение. Посреди его виднелось высокое, из слоновой кости, кресло, украшенное фигурками индусских божеств, выточенными с великим терпением и изощренным мастерством, свойственным ремесленникам Востока. По обеим сторонам от этого кресла были расставлены по трое еще шесть кресел, но уже из черного дерева и размером поменьше. Пандит опустился степенно, как на трон, в кресло из слоновой кости и, помолчав немного, обратился к Берару, скромно стоявшему у двери: — Подойти поближе и сядь! Хотя голос учителя звучал тихо, тон был повелительным, не допускавшим возражений. Факир, почтительно склонившись, прошел в зал и сел на одну из низеньких скамеек, выстроенных рядами напротив возвышения. Тихо приоткрылась дверь и пропустила высокого, худощавого старика — в чалме и в таком же белом халате, что и у учителя. Его лицо окаймляла белая борода, кожу, прокаленную и потрескавшуюся, покрывала мелкая сетка морщин. На огромном, отвердевшем, как рог, носу сидели, поблескивая стеклами, очки. Хотя он и опирался на палку, но не производил впечатления дряхлого человека. Вместе с ним в зал вошли еще двое — в простых набедренных повязках, с непокрытыми головами, по-видимому, факиры. — Мир тебе, Рамтар! — приветствовал старика пандит Кришна. — И тебе мир, Кришна! — отвечал старик, усаживаясь в кресло из черного дерева. Сопровождавшие его факиры сели возле Берара. Затем, с небольшими интервалами, вошли один за другим остальные пандиты, и с каждым из них — по одному или по два факира. Ученые брахманы, люди немолодые, презирая роскошь, одевались скромно. Единственным отличительным знаком их кастовой принадлежности служила висевшая на правом плече узкая шелковая перевязь в виде красного шнура. Восседавшие на возвышении пандиты во главе с учителем Берара походили один на другого как родные братья. И в этом не было ничего удивительного: с годами у всех брахманов вырабатываются единые, сдержанные манеры и даже появляется одинаковое выражение лица, резко отличающее их от рядовых людей. Во внешности представителей жреческой касты нет ничего примечательного, и в старости, лишенные индивидуальности, брахманы напоминают поблекшие тени. Перед пандитами, знатными по происхождению и, главное, прославившимися своей ученостью, открыты все двери к богатству и славе, которые им безразличны. Долгие годы учебы, упорных поисков истины вознесли этих мудрецов к вершинам знаний, недосягаемым для простых смертных. Кто они, эти люди? Откуда? Где и как живут? О них мало что известно, их имена знают лишь немногие. Каждый из них — саньяси (или «отрешившийся от всего»), яти («смиривший себя») или паривраджака («живущий странником»). Народ питает к ним глубочайшее уважение, к которому, однако, примешивается смутный и необъяснимый страх. Власти, выказывая по отношению к ним пренебрежение, втайне все же побаиваются и ненавидят их: завоеватели интуитивно всегда невзлюбливают мудрецов. Огромная пропасть пролегла между бегущими от почестей и роскоши учеными, с их утонченным умом и культом терпимости, и грубыми и лицемерными англичанами — людьми напыщенными, уверенными в своей исключительности, ограниченными, шумными, назойливыми, напичканными ростбифами и пропитанными виски. Правительство ее величества королевы старается не портить отношений с брахманами, поскольку понимает, что они представляют собой грозную силу. Если их только затронуть, они тут же, вопреки всем правилам цивилизации, обратятся к своим фанатикам-факирам, готовым по их приказу совершить любое, самое ужасное преступление. Достаточно вспомнить, как отомстили брахманы за смерть своего собрата Нарендры, за надругательство над его телом. Сидя на низеньких скамеечках, факиры почтительно застыли, слушая непонятную для них беседу, которую мудрецы вели на древнем, священном языке. Пандиты долго, с серьезными лицами, обсуждали причину, по которой их созвали из отдаленнейших мест Индии. Когда же совещание закончилось, Кришна повернулся к сидящим в зале: — Встань, Берар! Глава секты душителей без тени волнения предстал перед старцами — уже не мирными учеными, а суровыми судьями. Кришна неторопливо, строгим тоном проговорил: — Берар, мы поручили тебе отомстить за Нарендру и осквернение его праха. Ты умело выполнил задание, как верный ученик, проявив при этом мужество и преданность пандитам. Тебе было также поручено оказать великодушным европейцам помощь в знак нашей признательности за их благородный поступок, и ты опять действовал достойно. И это хорошо, Берар. Факир глубоким поклоном ответил на слова, столь высоко оценившие его усердие: он ведь знал, что пандиты обычно не балуют похвалой подчиненных. После паузы пандит продолжил: — Однако, выполняя свой долг и наши приказы, ты превысил свои полномочия. Вместо того, чтобы быть слепым орудием мести и средством выражения нашей благодарности, ты проявил самостоятельность и, вероятно, сам того не подозревая, пошел против нас. Согласен ли ты, Берар? — Это так, сахиб… — Спасая детей герцогини Ричмондской, хотя и по просьбе нашего друга капитана Бессребреника, ты расстроил наши планы, планы твоих учителей, в пользу нашего общего врага, проклятых англичан. Ты совершил клятвопреступление, и ты умрешь. — Я готов, сахиб, — ответил факир, не выказывая ни малейшего страха. — В благодарность за твое усердие и преданность, за многие услуги, оказанные нам, твоим учителям, ты умрешь самой благородной смертью, какую только может желать истинно верующий, — через священное самоусекновение головы. — Благодарю, о добрейший и высокочтимый господин мой! — вскричал факир, упав на колени. — Пусть принесут кариват, — холодно произнес пандит. Два факира тотчас вышли из зала. Среди множества мрачных и страшных вещей, придуманных индусами, есть и такая — добровольное самоотсечение головы. Необычная казнь — самому себе разом отрубить голову! Именно разом, так как только в этом случае добровольный самоубийца удостоится звания святого, иначе же его сочтут обманщиком, чья душа, по представлениям индусов, может переселиться лишь в тело нечистого животного. Подобное самоубийство осуществляется при помощи каривата — металлического инструмента в форме полумесяца, по которому скользит острый стальной нож. К краям этого лезвия присоединены две цепи с неким подобием стремени. Жертва садится или ложится, накладывает на шею полумесяц и вставляет в стремя ноги, затем делает ими резкий рывок, и голова отделяется от тела. Данный вид самоубийства считается почетным. Те, кому просто надоело жить, совершают его торжественно, с соблюдением священных обрядов. Провинившиеся факиры почитают за честь такую смерть. Кришна и остальные мудрецы сочли, что самоубийство Берара с помощью каривата будет для него одновременно и наказанием за прегрешения, и поощрением за службу! Факиры, вернувшись, расстелили на полу широкое покрывало из белого шелка и уложили на него покрытый ржавчиной и пятнами крови инструмент казни, и Берар тотчас принялся налаживать его. Слышно было лишь позвякивание железа по железу. Потом он прикрепил полумесяц к шее, вставил ноги в стремя и сел, напряженно подобравшись. Зная порядок, факир ждал лишь, когда отзвучат заклинания и пандит подаст знак, проведя ладонью от сердца к губам. Кришна в течение нескольких минут не спеша и монотонно произносил нараспев таинственные строки из древних книг, затем умолк и холодно взглянул на Берара. Тот, весь напрягшись, ждал сигнала. Но Кришна почему-то медлил и вместо того, чтобы подать команду, обратился к приговоренному со следующими словами: — Заветы божественного Ману предписывают проявлять человечность, учат помогать слабым и позволяют прощать оступившихся… Ты был добр… Ты помог, несмотря на их происхождение, двум юным погибающим существам… И хотя из-за этого ты не точно выполнил мой приказ, я прощаю своего слугу и приказываю тебе оставаться в живых. — Хорошо, учитель, я буду жить, — ответил Берар с таким же спокойствием, с каким незадолго до этого выслушал смертный приговор. — А теперь, сын мой, тебя ждет новое задание! Ты знаешь, когда-то мы изгнали из нашей общины Биканэла, человека недостойного, способного на любую подлость. Мы не казнили это порождение свиньи лишь потому, что в священных текстах говорится: брахмана нельзя убивать, даже если он недостоин жить на земле. Но сегодня мы приговорили его к смерти. Поскольку, как нам стало известно, это он виновен в осквернении останков нашего брата Нарендры, на Биканэла не распространяются древние заповеди, оберегающие брахманов от насилия. Ступай же, Берар, обрушь на него возмездие и очисть нашу родину от этого чудовища! — Затем, обратившись к остальным факирам, застывшим от удивления при таком неожиданном повороте дела, учитель добавил: — А вы, дети мои, отправляйтесь срочно в страну афридиев. Они ведут священную войну против англичан и нуждаются в вашей помощи.
ГЛАВА 4
Замурованные. — Приступ отчаяния. — Крик ужаса. — Трубные звуки. — Нежданный гость. — Разговор человека со слоном. — Примитивный телеграф. — Бомбардировка. — У кирпичной стены. — Сообразительность слона. — Обмороки. — Свежий воздух. — Берар, Боб и Рама.Конечно, то, что друзья обнаружили под основанием башни молчания сундук с именем и гербом герцогов Ричмондских, было происшествием невероятным. И Бессребреник, и Патрик тут же подумали об убитом в Канпуре представителе знатного шотландского рода, доверившем сокровище купцу-парсу. Интересно, в силу каких загадочных обстоятельств сундук с несметными сокровищами оказался укрытым в этом зловещем месте, куда нельзя проникнуть, не совершив святотатства? Но размышлять было некогда, и друзья вновь приступили к работе. В конце концов их упорство и труд были вознаграждены: настал момент, когда изодранные в кровь руки Бессребреника отбросили последнюю пригоршню песка. С радостным криком капитан приник ртом к образовавшемуся отверстию и, вдохнув глоток воздуха, сразу почувствовал прилив сил. С удвоенной энергией принялся он расширять ход, пока, наконец, не выбрался в яму. Стоя на груде костей, раскалившихся от яростно палящего солнца, Бессребреник взглянул вверх. В серо-голубом небе, расправив крылья, парили огромные грифы. Остальные птицы с втянутыми в плечи головами мирно дремали на стене. Башня молчания с царившей в ней атмосферой безмолвия и забвения вполне оправдывала свое название. И капитана на мгновение охватило гнетущее чувство тоски и отчаяния, на глазах выступили слезы. — Клавдия, любовь моя! Увижу ли я вас? — прошептал он потрескавшимися от зноя губами, и из груди его вырвался крик гнева и боли, вопль раненого зверя! Из-за стены, словно в ответ, раздался громоподобный рев, заставивший сидевших на своем насесте грифов вскинуть головы. При этом звуке, в котором, многократно усиленные, слились воедино и грохот медных тарелок, и призывный глас тромбонов, Бессребреника обуяла радость: — Рама! Рама! На помощь! — Уэ-н-н-нк!.. Уэ-н-н-нк! — отозвался слон, шумно дыша. — Рама! На помощь!.. Хороший мой!.. Услышав тревогу и отчаяние в обычно столь добром и ласковом голосе, слон понял, что друг его попал в беду. И поскольку других слов в его языке не было, ему пришлось повторить: — Уэ-н-н-нк!.. Уэ-н-н-нк!.. Уэ-н-н-нк!.. Капитану же почудилось: «Все ясно!.. Потерпи немного!..» На железные ворота обрушился страшный удар камнем. Грифы, пронзительно крича, взметнулись вверх. Но, увы, проклятые ворота не поддались. Судя по тяжелому покряхтыванию, слон отыскал своим хоботом еще один камень — на этот раз потяжелее. Бум!.. Камень брошен с такой силой, что рассыпался на мелкие кусочки. Но результат тот же. — Здесь, наверное, пушка нужна! — досадливо произнес Бессребреник. Слон, видя, что ничего не получается, упрямиться не стал. Гневно фырча, он, словно цирковая лошадь по арене, пробежал вокруг стены, обдумывая, как к ней подступиться. Из подземного хода донесся глухой гул: встревоженные долгим отсутствием капитана, его друзья принялись стучать что было сил по сундуку. В колодце к тому времени уже можно было дышать, и лишь голод да жажда омрачали в остальном относительно сносное существование. Услышав идущие из-под земли звуки, слон остановился и запыхтел. Бессребреник же спустился в проход и сообщил волнующую весть. — Дьявол меня побери, капитан! — воскликнул Мариус. — А мы узе насали паниковать. Павда, Дзонни? — Да, мы очень волновались. — Мы так боялись, что с вами что-то приключилось! — добавил Патрик. — Но теперь все страхи позади! Можете не сомневаться, наш добрый, мудрый Рама сумеет вызволить нас отсюда, — уверенно произнес Бессребреник. — Эх, если бы как-нибудь помочь ему! — воскликнул Джонни. — Единственное, что нам остается, так это сидеть и ждать. Пусть нет ни воды, ни пищи, но здесь хотя бы прохладно, не то что наверху, где от жары камни трескаются, — ответил капитан. Это, и в самом деле, было самое разумное решение. Все четверо уселись на сундук и стали напряженно вслушиваться в происходящее над их головой. Сквозь толстый слой песка до них с удивительной отчетливостью доносились звуки тяжелых шагов и какой-то скрежет, как будто скреблись мыши, но только гигантских размеров. Время от времени Бессребреник постукивал ногой по резонирующим стенкам сундука. — С васего разресения, капитан, не могли бы вы мне сказать, засем вы стусите по сундуку? — не выдержал Мариус. — Это у нас с Рамой нечто вроде телеграфной связи. Он там трудится наверху, — славный зверь! — а я его поторапливаю. Мариус украдкой глянул на лицо капитана, и при фосфоресцирующем свете оно показалось ему несколько необычным. И, раздумывая над странными вещами, которые только что услышал, он подумал про себя: «Не поехали ли мозги у насего капитана? У него такой возбужденный вид, и он нам такие байки рассказывает, сто меня это насинает беспокоить». А тем временем работа у слона шла успешно. Этот великолепный помощник, умный и сильный, появился у башни молчания как раз вовремя. Казалось, произошло чудо, в действительности же все было удивительно просто. Рама любил разгуливать по ночам на свободе. Будучи настоящим полуночником, он наслаждался прохладой, стоявшей в это время суток, с удовольствием купался в два часа ночи в одном из водоемов и весело бегал по росе. Его никогда не привязывали и не запирали, зная, что далеко он не уйдет и всегда услышит свист своего вожатого. Оказавшись рядом с группой насильников, похитивших беглецов, он успел уловить запах капитана Бессребреника, и когда его отогнали, то долго и старательно размышлял, мучительно переживая незаслуженную обиду. Рама был честным и уравновешенным слоном, никогда не совершал опрометчивых поступков и теперь решил разобраться, что же произошло. И для этого, обойдя стороной свое стойло и старательно избегая встречи с вожатым да и вообще со всеми, кто смог бы загрузить его работой, двинулся в путь. Опустив хобот, не торопясь, шел он по следу, доверившись своему превосходному нюху, который и привел его к башне молчания. Но там возникло осложнение. Группа людей, от которой исходил тонкий и едва уловимый запах капитана, постояв какое-то время перед строением, удалилась. Но остался ли с ними капитан или нет? Чтобы проверить это, слон проследовал за насильниками, растерянно поводя во все стороныхоботом. Но, не унюхав знакомого запаха, в замешательстве вернулся назад. Рама бегал вокруг стены, но, кроме доносившегося оттуда зловония — верного признака присутствия грифов, ничего не улавливал. Отчаявшись, слон уже собрался было уйти, как вдруг услышал крик Бессребреника. Узнав голос своего друга, он радостно протрубил в ответ. Слон прекрасно все понял и взялся за дело. Убедившись, что пробить ворота камнями не удастся, он решил, что надо действовать по-другому. Рама ясно слышал повторяющиеся стуки по стенкам сундука. Подойдя к тому месту, откуда вроде бы шли эти звуки, он, растопырив огромные уши и склонив голову набок, внимательно прислушался, словно хотел точнее определить их направление. Уверившись, что не ошибся, топнул ногой, как будто подтверждая: «Да, это здесь!» И не медля принялся за работу. Прежде всего ощупал хоботом кирпичную кладку. И хотя слон увидел, что в ней нет ни единой щелки, он не был огорчен, поскольку знал уже, что надо делать. Подобрав средней величины камень, Рама зажал его кончиком хобота и принялся с силой тереть им кирпичи. Поскольку они гораздо мягче кремня, то начали крошиться, а минут через десять край одного из них раскололся. Большего Раме и не требовалось. Отбросив камень, он принялся осторожно водить хоботом по обломкам. Затем вытащил их один за другим, как вытаскивают осколки раздробленной кости, и увидел небольшое, только что образовавшееся отверстие. С невероятной ловкостью и терпением Рама небольшими осторожными толчками раскачивал поврежденный кирпич и когда, без особого труда, смог наконец вытащить его, то издал победный рев. Еще бы! Самое трудное сделано, с остальными кирпичами будет проще. Ведь, возводя башню молчания, парсы строили не тюрьму, а просто здание, способное противостоять капризам погоды. Поэтому кирпичи были соединены между собой только тонким слоем цемента и держались, скорее всего, благодаря своей массе. Рама, довольно похрюкивая, вытащил соседний кирпич, потом еще один. Подстегиваемый глухим постукиванием снизу, слон старался работать как можно быстрее. Громко дыша и виляя от напряжения хвостом, он выдергивал из каменной кладки один кирпич за другим и отбрасывал их метров на десять. Но сил у его друзей, не пивших и не евших со вчерашнего вечера, уже не осталось. — Я умираю, — прошептал Патрик, теряя сознание, и повалился на сундук. Капитан попытался сделать ему растирание, чтобы восстановить кровообращение. Но он и сам чувствовал себя очень плохо. В ушах шумело, перед глазами, в фосфоресцирующем свете, возникали какие-то странные видения. Иногда ему казалось, что башня молчания всей своей тяжестью наваливается ему на грудь и сердце его останавливается. Услышав чей-то хрип и глухой удар, капитан обернулся. Это Мариус, обессилев, упал на песок. — Эй, что случилось, черт подери? — воскликнул Джонни. — Такая старая акула, как ты… Но он ничем не мог помочь умирающему другу. К тому же внезапно и у него все поплыло перед глазами, и он успел лишь прошептать: — Боюсь… капитан… Рама явился слишком поздно… Но нет! В тот момент, когда рулевой грохнулся на тело боцмана, рухнула часть кирпичной кладки. Обломки с шумом посыпались в колодец, и его внезапно залили потоки света и свежего воздуха. В образовавшееся отверстие осторожно просунулся хобот, послышалось шумное дыхание и раздался знакомый трубный глас: — Уэ-н-н-нк!.. И тут же зазвучал собачий лай. — Хозяин, вы спасены! — донеслось до Бессребреника. — Это я, факир!.. Со мной Боб… Он-то и привел сюда меня по следам Рамы!
ГЛАВА 5
В стране афридиев. — Пули дум-дум. — Ужасные ранения. — Побежденные. — Безумный мулла. — Безвыходное положение пленников. — Удар кулаком за «дум-дум». — Откровения. — Караван в Хайберском проходе. — Бандиты. — Нападение. — Спасение. — Незнакомый друг. — Купец-парс и сокровища герцогов Ричмондских. — Смертный приговор.Афридии с союзниками представляли собой достаточно мощную силу, и, окружив плотным кольцом лагерь в Чакдаре, они не без основания полагали, что из-за голода и жажды англичанам придется скоро сдаться на милость победителя. Вылазок противника они не боялись, поскольку были твердо уверены в том, что отобьют любую атаку. При этом они возлагали надежду не только на оборонительные линии, при создании которых умело использовались трудно преодолимые естественные преграды, но и, главным образом, на свое значительное численное превосходство. И тем не менее воинственные горцы, несмотря на проявленную ими храбрость и современное оружие, потерпели сокрушительное поражение. Правда, сперва уязвленное самолюбие не позволило им признать этот факт, хотя под угрозу ставился общий исход войны, и они тешили себя мыслью о том, что достаточно лишь отступить на несколько миль в горы, и ответный удар подготовлен. Но при более глубоком размышлении их воинственный пыл несколько охладился. Штыковая атака шотландцев, несомненно, была жестокой. Но куда страшнее оказался предшествовавший ей залповый огонь — в сотню раз эффективней, чем обычно. Ружейные залпы произвели ужасающее действие: туземцы рядами валились как подкошенные, и встать из них уже никто не мог. Всякий, в кого попадала пуля, или умирал, или полностью выводился из строя, ибо легко раненных, кто мог бы еще сражаться, просто не было. Разгадка столь феноменального успеха британского оружия была проста: применили пули с невиданной ранее поражающей силой. До этого английские солдаты, вооруженные превосходными ли-метфордовскими винтовками (если только смертоносное оружие вообще можно назвать превосходным), стреляли обычными патронами с небольшими пулями в никелевой оболочке. Пули эти могли, конечно, нанести противнику серьезный урон. Но если они не попадали в кость, то оставляли в ткани мышц небольшое отверстие правильной формы, и подобное ранение не всегда выводило вражеского солдата из строя. Итальянцы еще во время абиссинской войны[51] заметили, что такие пули, даже проникнув довольно глубоко, далеко не всегда останавливают сильного и решительного бойца. Но англичане — люди практичные и быстро нашли выход. Проявив дьявольскую жестокость, они изобрели разрывные пули дум-дум, о которых мы уже упоминали. В обычной пуле никелевая оболочка мешает свинцу распространиться внутри раны. Стоило только снять оболочку с головной части пули и сделать по бокам нарезки, как свинец смог свободно проникать в тело. Поскольку англичане говорят про такие пули, что у них на «носу» виден оголенный свинец, «филантропы» из-за Ла-Манша называют их еще «мягкими носами», или, по-английски, «софт ноуз». «Мягкий нос», или пули дум-дум, — вещь ужасная. Когда такая пуля попадает в тело, ее наружная часть задерживается, а внутренняя, свинцовая, из-за своего веса продолжает углубляться в мышечную ткань и, принимая форму диска или гриба с неровными краями, производит губительные для человеческого организма разрушения. Ткань, кровеносные сосуды и нервы рвутся, кости дробятся. И если входное пулевое отверстие имеет диаметр карандаша, то на выходе ширина раны может достичь десяти и более сантиметров! В большинстве случаев всякий, в кого попала разрывная пуля, обречен, поскольку сращивание костей, сшивание сосудов или перевязка раны не приносят, как правило, исцеления. Пули дум-дум были известны в Индии и до битвы при Чакдаре. Отдельные отряды сикхов и гуркхов[52], составляющих элиту индийской армии, уже не раз с успехом применяли их, хотя и в сражениях меньшего масштаба. Однако европейцы еще не пользовались этими пулями. Но главнокомандующий, решив во что бы то ни стало разгромить многотысячное войско мусульман, осадившее чакдарский лагерь, не колеблясь, приказал раздать солдатам уже опробированные смертоносные патроны. Можно понять ярость, охватившую туземцев, когда они познакомились с пулями дум-дум. Эти воинственные, драчливые племена привыкли к обычным пулям в никелевой оболочке, которые вполне прилично вели себя по отношению к ним, и чуть ли не уверовали в свою неуязвимость. И вдруг — раздробленные кости, разорванные ткани, обреченные на смерть раненые. Не бой, а людская мясорубка! Даже самые отчаянные и решительные, и те впали в панику. Старик Мокрани, прозванный Безумным муллой и прославившийся неистовыми проповедями, приводившими в фанатичный экстаз правоверных мусульман, был разгневан. Он обещал своей пастве победу, причем победу решительную — уничтожение всей английской армии! И вдруг его престиж безнадежно подорван: пророки не могут ошибаться! Пытаясь хоть как-то спасти положение, Безумный мулла, бессовестно перевирая высказывания из священных книг, обвинял во всем двух пленных офицеров. Привлечь майора с лейтенантом к ответу за позорное поражение и сделать их козлами отпущения было для муллы детской игрой. Над офицерами нависла серьезная опасность: ведь они находились в руках у фанатиков, известных своей жестокостью по отношению к пленным. Кто знает, какую на этот раз придумают пытку дикие азиаты! Пленники понимали, что спасения ждать неоткуда, и мужественно ожидали самого худшего, так как знали: в этой войне нет места пощаде! Единственным утешением для них было то, что кольцо вокруг их лагеря прорвано. Больше всего офицеров тяготило их постоянное пребывание на виду у всех. Открытому воздуху они предпочли бы тюрьму, где смогли бы в уединении предаваться печальным раздумьям. Они гордо сносили оскорбления, которыми осыпали пленных туземцы, и их выдержка и хладнокровие даже снискали к ним уважение со стороны отдельных воинов-мусульман. Особенно неистовствовал в отношении европейцев Безумный мулла. В грязном рубище, едва прикрывавшем его тело, с обнаженными руками и ногами, с всклокоченной бородой и горящими на худом лице глазами, он то и дело приходил оскорблять англичан, бранил их, совал им под нос кулак и даже пытался царапать черными и скрюченными, как у хищной птицы, когтями. Среди непонятных слов, которые изрыгал фанатик, постоянно повторялось одно — «дум-дум». Лейтенант Тейлор, несмотря на свой удивительно спокойный для молодого человека характер, однажды не выдержал. В приступе гнева он, резко выбросив кулак, ударил муллу в лицо. Послышался хруст, и старик со сломанной нижней челюстью мешком повалился на землю. — А это тоже дум-дум? — спросил лейтенант после отлично проведенного удара, который одобрил бы и чемпион Соединенного Королевства[53]. Не в силах сказать хоть слово, старик лишь барахтался, кряхтя и стеная. Изо рта его потекла кровавая пена. — Браво, Тейлор! — воскликнул майор. — Надеюсь, этот негодяй не сможет больше призывать к священной войне против нас! Офицеры были уверены, что их тотчас растерзают за увечье, нанесенное столь почитаемому святому лицу. Ничуть не бывало! То ли упал престиж старика, то ли решили сохранить им жизнь для особо изощренных истязаний, только пленных заперли в глинобитном домике, охраняемом целой группой вооруженных до зубов мятежников. Тут только смогли они отвести душу и поделиться теми ужасными вестями, которые дошли до них перед самым боем. Первым нарушил тишину майор. — Ах, Тейлор, — проговорил он с болью в голосе, — если бы вы знали, как я несчастен! Моя жена, моя чудесная подруга убита!.. Ясновидение меня не обмануло… Бедные мои дети остались круглыми сиротами, безо всякой поддержки… Ведь меня уже, можно считать, тоже нет. — А мне каково, милорд!.. Я потерял отца! Он тоже убит! Бедный отец, мой первый и единственный друг… Ах, милорд, позвольте мне выплакать всю сыновнюю боль… Страдания мои ужасны, грудь разрывается от одной мысли, что я никогда больше не увижу моего доброго отца, не услышу из уст его: «Ричард, мой малыш!» Да, я всегда был для него малышом… Отец, отец!.. Майор протянул к нему руки, и юноша кинулся к герцогу, рыдая. Эти мужественные люди, только что хладнокровно подставлявшие грудь смертельной опасности на поле боя, дали волю своим горестным чувствам. Обильно текли слезы, сердца разрывались от безысходности. — Подумайте только, Тейлор, — сказал майор, тщетно стараясь придать голосу твердость, — ведь Мери всего лишь пятнадцать лет, а Патрику — четырнадцать. Мать убита, дом сожжен! Что же будет с ними? Без средств к существованию, вы слышите, абсолютно без средств, да к тому же гордые, как и положено истинным шотландцам! Признаюсь вам, дорогой Тейлор, я беден! — Что богатство, милорд! Вы благородны, как Стюарт[54], и храбры, как все члены героического Гордонского полка! — Как мы чудесно жили! Это было полное, абсолютное счастье! Такое не может длиться до бесконечности… Помолчав немного, майор продолжал: — Семейство наше, некогда очень богатое, оказалось полностью разоренным из-за поражения под Канпуром, погрузившего в траур всю нашу любимую родину… — Да, — перебил его лейтенант, — после этой битвы во всем Соединенном Королевстве не найдется семьи, не оплакивающей кого-нибудь из своих. Майор со слезами на глазах делился с юношей грустными воспоминаниями. Он рассказал, как его отец доверил все свое состояние богатому купцу-парсу, а сам погиб из-за предательства, навеки покрывшего позором имя Нана Сахиба. Поведал и о том, как уцелел в своей колыбельке, как бедствовал, оставшись сиротой и оказавшись без средств к существованию, как, вместе с детьми других жертв войны, был воспитан на казенный счет, бедствовал, будучи курсантом, а затем и младшим офицером, пока, наконец, не достиг чина, обеспечивающего достаток. Вспомнил он и о своей женитьбе, о надеждах, о рождении детей. Заметив, что сам он и не подозревал о богатстве, доверенном парсу, майор сказал: — Я подхожу к моменту, самому удивительному в моей жизни. Случилось это буквально за несколько дней до войны. Значит, около трех месяцев тому назад. В воздухе уже чувствовалось приближение бури. Предвидя мятеж, губернатор Пешавара поручил мне срочно проинспектировать пограничные заставы. В сопровождении полуэскадрона улан я быстро совершил рейд по труднодоступным местам, и повсюду наше появление вносило известное разнообразие в монотонную жизнь гарнизонов. Заканчивалась поездка Хайберским проходом. Мы продвигались вдоль горной реки от форта Джамруд до Али-Масджида, где ущелье сужается и переходит в узкий коридор шириной шагов в пятнадцать. Еще издали увидел я огромный караван. До полутора тысяч тяжело нагруженных верблюдов спокойно шагали по склону горы. Время было мирное, и караван с грузом, стоившим миллионы, не имел охраны, — разве что погонщики верблюдов держали при себе кое-какое оружие. Мне подумалось, что такое богатство может соблазнить разбойников, бесчинствующих в этом краю. И как в воду глянул! Я увидел в подзорную трубу, что сразу же за горловиной у Али-Масджида сидели в засаде человек четыреста бандитов. Как только первые верблюды вошли в ущелье, началась оглушительная пальба, и пули сразили с полсотни бедных животных. Людей охватила паника. Одни из них разбежались, другие смиренно повалились на колени. А уж разбойники, конечно, начали вспарывать тюки и попутно рубить головы этим трусам, умолявшим о пощаде вместо того, чтобы обороняться. Уланы мои, не выдавая своего присутствия, оказались свидетелями этого возмутительного нападения, совершенного на территории, подвластной Англии, и я полностью разделял их возмущение. Нас было всего человек шестьдесят, и находились мы в укрытии за холмом. Я выдвинулся вперед, приказал взять пики наперевес и скомандовал: «В атаку!» Как вихрь, налетели мы на банду, которая была уверена, что здесь, среди осыпей и других природных преград, им ничто не угрожает. Вдруг я вижу, что старика лет восьмидесяти повалили с коня и вот-вот прикончат. Один бандит уже схватил его за бороду, а другой занес над ним кривую саблю. Ударом наотмашь я отрубаю негодяю кисть руки вместе с саблей и вонзаю острие своей сабли в горло разбойника, который держал старика за бороду. Тем временем уланы мои, ворвавшись в самую гущу бандитов, не перестают колоть и колоть. Прошло каких-то несколько минут, а на земле уже валялись со смертельными ранами сотни две бандитов. Остальные, решив, что нас целый полк, разбежались в страхе кто куда. Товары стоимостью не в один миллион уцелели! А принадлежали они тому старику, которого я спас. Он взволнованно благодарит меня, спрашивает мое имя и, услышав его, приходит в еще большее волнение. «Герцог Ричмондский? — переспрашивает он срывающимся голосом. — Сын полковника, убитого в Канпуре? Ах, милорд, как же давно я вас разыскиваю! Я должен передать вам клад, вверенный моим заботам отцом вашим перед самой его кончиной». — «Какой еще клад? О чем вы говорите?» — спросил я удивленно. «Сокровища герцогов Ричмондских… больше миллиона фунтов стерлингов! Я не смог разыскать вас в этой сумятице военных лет. Хотя что-то говорило мне, что вы живы, все мои усилия были напрасны. Потом на меня обрушились несчастья. Я разорился, а как только стал восстанавливать свой достаток, меня взяли в плен и продали в рабство кабульскому эмиру. Через несколько лет я бежал и оказался в русских владениях. Меня опять схватили и снова продали, и долгое время я находился на службе у эмира бухарского. Только потом получил возможность заняться торговлей, и тут мои способности, как у всех парсов, позволили мне обогатиться. И вот теперь я возвращаюсь на родину с караваном, которому позавидовал бы любой раджа. А вы, милорд, — сын того, кого я имел честь называть своим другом…» Майор умолк. Лейтенант был потрясен. — Не правда ли, Тейлор, этот эпизод из моей жизни похож на страницы из какого-нибудь романа? Ну, что еще сказать? Вернулся я в Пешавар, а со мною и купец-парс, оказавшийся волею судьбы связанным с моей семьей. Память у него была замечательная, и он помнил все, что касалось канпурской трагедии. Не забыл он и то место, где спрятал сокровища. По памяти начертил подробную схему и сопроводил ее описанием местности. Передавая эти документы, старик парс умолял меня спрятать их в надежное место. Кроме того, он обещал, что как только закончит неотложные дела, то сразу же обменяет с моего разрешения драгоценности на ценные бумаги и пустит их в оборот, поместив от моего имени в крупные финансовые учреждения Великобритании. Он поклялся мне провернуть все это как можно быстрее, ибо он стар и не хотел бы умереть прежде, чем исполнит обещанное. Полученные от него бумаги я отправил жене и написал ей о том, какое значение имеют они для нас и особенно для наших детей. От парса же я не имею с тех пор никаких известий… Бедную жену убили через несколько часов после того, как она прочитала письмо… Дом наш разграбили и сожгли… Дети сообщают, что все уничтожено! Сами они с толпой несчастных переселенцев из Лагеря Нищих попали в ужасающую железнодорожную катастрофу и остались живы только благодаря великодушному иностранцу — капитану Бессребренику… Но они — беглецы… Их преследует загадочная смертельная опасность, им приходится прятаться вместе со своим спасителем. В тот момент, когда Мери писала мне письмо, они находились в обители, названия которой не знают, — судя по штемпелю на конверте, где-то неподалеку от города Гая. — Будем надеяться, милорд, что скоро вы встретитесь с детьми, — сказал лейтенант. — Не могут же несчастья неизменно обрушиваться на одних и тех же… — Почему не могут? Достаточно на нас взглянуть, чтобы понять, что это вовсе не так. Разве мало горя выпало на нашу долю? — Никак не верится, что мы еще долго пробудем в плену. Что-то произойдет, какой-нибудь неожиданный случай, нечто сверхъестественное, и мы окажемся на свободе. У меня предчувствие! — Вы молоды, друг мой, а в молодости простительны самые безумные надежды. Что же касается меня, я готов на все, лишь бы вновь увидеть своих детей. Хотя едва ли я найду их. Как бы то ни было, обещайте мне, что если останетесь живы и окажетесь на свободе, то непременно разыщете их, возьмете под свою защиту и полюбите, как старший брат. Прошу вас об этом как самого храброго и самого близкого мне человека из всех моих соратников… Услышав эти произнесенные несколько торжественным тоном слова, молодой офицер почувствовал сильное волнение. Слегка покачав головой, он промолвил: — Не забывайте, милорд, что моя судьба неотделима от вашей! Если погибнете вы, то и мне не жить, и если вы останетесь в неволе, то такая же участь ожидает и меня. — Но если, по не зависящим от вас причинам, вы все же вырветесь на свободу… если при попытке к бегству меня убьют, то обещайте мне, Тейлор… — Милорд, я сделаю все, о чем вы просите. Клянусь памятью моего отца! Неожиданно в темницу нагрянула группа туземцев. Возглавлявший их мятежник с мрачным, жестоким выражением лица смотрел на англичан с лютой ненавистью. — Суд состоялся, — произнес он. — Вас приговорили к смерти — от голода и жажды. Затем ваши тела расчленят, засолят и отправят командующему английской армией. И мы будет поступать так со всеми пленными до тех пор, пока вы не откажетесь от пуль дум-дум!
ГЛАВА 6
Подвиги слона. — Подъем сундука. — Жажда. — Бегство. — Охотничьи успехи Боба. — Жаркое из павлинов. — Ночные занятия Берара. — Таинственный знак. — Среди тхагов. — Поклонники богини Кали. — Подданные Берара. — Под защитой бенгальских душителей.Услышав Берара, капитан воскликнул: — Это ты, милейший факир?.. Ты явился как раз вовремя… Скорее… воды!.. Мы погибаем. Берар сказал что-то слону, и тот, убрав из ямы хобот, тут же исчез. Но через несколько минут вернулся и, снова опустив хобот в яму, слегка дунул в него. Раздалось громкое бульканье, и в колодец хлынула вода. Только что друзья задыхались от жары, теперь же у них был настоящий потоп. Живительная влага вырвала их из объятий смерти, и Мариус, воскреснув под душем, энергично встряхнулся: — Бозе мой!.. Похозе, доздь посол!.. Дзонни, приятель, ты только посмотри… — Я бы предпочел не смотреть, а пить, — возразил янки, так же очнувшись. — Но это зе Рама! — поразился провансалец, увидев в разверзнувшемся над ними отверстии величественный профиль слона в солнечном ореоле. — Вот сто знасит иметь больсой нос… Патрик, открыв глаза, вскрикнул от неожиданности. — Не пугайтесь, дитя мое, — сказал ему Бессребреник. — Все в порядке. Мы спасены! Так как хобот до них дотянуться не мог, Бессребреник подхватил мальчика за ноги и поднял как можно выше: — Держи крепче, Рама! Слон вытащил Патрика из ямы и поставил на землю. И проделал он это так деликатно и ласково, что Патрик взял его обеими руками за хобот и поцеловал. Рама, расчувствовавшись, издал самый нежный трубный звук, на какой только был способен, и снова опустил хобот в колодец. Слон поднял наверх Мариуса, затем Джонни. Хотя ему не терпелось поскорее извлечь из этой зияющей дыры своего друга, которому там наверняка не было хорошо, Бессребреник не торопился. Прежде чем выбраться, он решил поднять сундук, который нельзя было здесь оставлять. Но без прочных веревок не обойтись. — Факир! Джонни! Мариус! — прокричал он. — Мне нужен канат. Поищите там что-нибудь попрочнее… И поторопитесь… — Э, капитан, я знаю, как вам помочь, — ответил Мариус. — Здесь растет полно тростника, из него мозно сплести такой канат, что и корабельную пуску выдерзит! Индус с моряками, необыкновенно находчивыми в силу своей профессии, удивительно быстро и споро соединили несколько тростниковых стеблей, прочных, как стальной трос. Бессребреник тотчас обвязал ими сундук и подтянулся к хоботу Рамы. Слон словно с ума сошел, когда вытащил капитана: он подпрыгивал на месте и оглушительно трубил. А Боб вертелся, кувыркался и подбегал то к одному, то к другому, выказывая безграничную любовь и преданность. Теперь оставалось лишь извлечь сундук из необычного тайника, где он пролежал столько лет. Сдвинуть его с места не смогли бы и десять человек, но у них был слон. Бессребреник ласково погладил Раму, и тот, с силой втянув в себя воздух, начал водить хоботом по канату, словно примериваясь к нему и желая убедиться, что там нет ничего такого, что могло бы его поранить. — Тяни, Рама! — крикнул капитан. — Тяни, дружок! Обвив канат хоботом, слон медленно, но с силой потянул. Сундук, покачиваясь в яме, пополз наверх, задевая то одним углом, то другим за песчаную стену колодца. И вот наконец, он на поверхности — громоздкий, тяжелый, с железными обручами и заклепками, с толстыми стенками и с пластиной из почерневшего серебра, на которой выгравированы имя и герб герцогов Ричмондских. Но как бы ни были счастливы друзья, вырвавшись из заточения, чувство голода и жажда по-прежнему доставляли им нестерпимые муки. — Пить!.. Пить!.. — шептали они пересохшими губами. Берар подтащил их к небольшому бассейну, служившему для очистительных омовений парсов, совершавших погребальный обряд. Вода здесь была теплой, безвкусной и сомнительной чистоты, но они в исступлении пили и пили ее, забыв обо всем остальном. Факир, хотя и понимал их состояние, все же был вынужден напомнить друзьям об угрожавшей им опасности. Биканэл мог в любую минуту вернуться сюда со своими сообщниками, чтобы самому взглянуть на кости, оставшиеся после справленной грифами кровавой тризны, и, таким образом, лично убедиться в успешном завершении операции. Рама помог друзьям взгромоздить сундук на его могучую спину. — А теперь, — сказал Берар, — в путь! Но Патрик был так обессилен, что и шагу ступить не мог. Мариус, сам еле державшийся на ногах, подсадил его к себе на спину: — Дерзись, малые! Видис, и моя акулья хребтина есе на сто-то годится! Берар прошел вперед. Зайдя в густые заросли ротанговых пальм, он подозвал Раму. Тот послушно двинулся за факиром, раздвигая своим телом заросли, чтобы расчистить дорогу европейцам. Около часа шли друзья по стопам слона. Наконец чащоба кончилась, и они вступили в редколесье. Идти стало легче, но намного опаснее, чем раньше, так как укрыться здесь было негде. Опускалась ночь, и скоро несчастным, измученным беглецам придется устроить привал. А им так хотелось пить и есть! Берар отыскал несколько плодов дикого мангового дерева, с волокнистой мякотью и резким запахом скипидара, и горстку ягод веерной пальмы, жестких и кислых на вкус. Но это не насытило европейцев. Зато у Рамы проблемы с едой не было. Не замедляя шаг, он срывал хоботом то пучок сочной ароматной травы, то нежный, сладкий стебелек, а иногда и вкусный, питательный плод и пережевывал их с характерным для слонов сосредоточенным и довольным видом. Остановившись на какой-то поляне, путники уже собрались было лечь спать на пустой желудок, как вдруг положение спас Боб. Рыская в поисках случайной добычи, он забрался в кустарник, и оттуда раздался крик какой-то птицы и послышалось судорожное хлопанье крыльев. Друзья кинулись на эти звуки, и впереди всех — Патрик, который и обнаружил пса, державшего в зубах великолепного павлина с только что перегрызенной шеей. Предвкушая вкусный ужин, Мариус восхищенно воскликнул: — Вот это да! Радость для глаз и для зелудка!.. Павлин не хузе цесарки!.. Ну и знатное заркое соорузу я из него, капитан! Пока моряк ощипывал с еще трепетавшей птицы ее великолепное оперенье, Боб разыскал еще одну, на этот раз самку. Она сидела в гнезде, и справиться с ней не составило особого труда. Патрик, отобрав у пса и эту добычу, пообещал хорошенько угостить его, когда будет готово жаркое. Но Боб не очень огорчился: в гнезде оставалась еще целая дюжина яиц, и он решил, что уж ими-то имеет полное право закусить! Запылал разведенный Бераром костер, и птицы начали подрумяниваться на сооруженном Мариусом вертеле. На душе сразу стало веселее. И если бы не отсутствие миссис Клавдии и Мери, друзья были бы вполне счастливы. Тревога за женщин не покидала капитана ни на минуту, и он, как и его верные товарищи, глубоко страдал от сознания собственного бессилия. Напрасно пытался он убедить себя, что жене его не угрожает никакая опасность и что единственной целью ее похищения является крупный выкуп, отчего пострадает лишь плотно набитый деньгами сейф Нефтяного короля. Берар, выбрав ветку побольше, на всякий случай поколотил ею по траве, чтобы разогнать, если они там затаились, ядовитых змей и назойливых насекомых, и путники смогли спокойно рассесться вокруг костра. Когда жаркое сготовилось, они набросились на него с жадностью изголодавшихся людей. Наевшись до отвала, Патрик умиротворенно заснул рядом с Бобом, который чувствовал себя наверху блаженства: помимо яиц, ему перепало и все, что осталось от роскошного, обильного ужина! Мариус и Джонни тоже улеглись. Но капитан, которого как никогда мучили тревожные мысли, остался сидеть на поляне, глядя на пляшущие языки пламени, отблески которого играли на огромной туше слона. Не спал и Берар. Нарезав огромное количество тонких и гибких тростниковых прутьев, он с поразительной сноровкой плед из них нечто вроде легкой, но очень прочной кабинки. Закончив ее к середине ночи, он соорудил из тех же прутьев лестницу, не менее гибкую и прочную, чем веревочная. Она не весила и четырех фунтов, а выдержать могла все пятьсот. Затем факир изготовил из стеблей каких-то растений длинные крепкие веревки. Рама, с сундуком на спине, дремал, прислонившись к дереву, и даже не шевельнулся, когда Берар закинул ему на спину лестницу, зацепив ее за сундук. Взобравшись по ней, факир, зная, что капитан не спит, сказал ему: — Не окажет ли сахиб честь своему рабу, придя к нему на помощь? — Конечно, Берар! Чем могу быть полезен? — Пусть сахиб соблаговолит подать мне это тростниковое сооружение. Капитан подал ему плетеную клетку, и Берар, рассыпавшись в по-восточному цветистых изъявлениях благодарности, тут же принялся закреплять ее на сундуке. И делал он это так споро, что Бессребреник едва успевал подавать ему одну за другой веревки. Через полчаса на спине слона высилось прочное сооружение. Рама же продолжал дремать, прикрыв глаза и навострив уши: он был бдительным часовым, от которого не ускользнет ни единый шорох. Капитан невольно залюбовался при свете костра искусным изделием. — Ведь это же хауда! — произнес он наконец. — Да, хозяин, она самая. И в ней хватит места для вас всех. — А ты как же? — Я займу место вожатого на шее моего друга Рамы. А сейчас, поверь мне, сахиб, тебе нужно хоть немного отдохнуть, ведь впереди тяжелый день. — Да, конечно… Но я никак не могу заснуть. — А ты спи!.. Спи, сахиб!.. Да, спи!.. Это необходимо, чтобы восполнить запас энергии… Спи!.. А Рама пусть охраняет нас… И произошла удивительная вещь. Капитан спокойно, не спеша улегся на траву, глаза его закрылись, и вскоре он уже спал как малое дитя. Факир же продолжал трудиться. Срезав изящные листья веерной пальмы, он прикрепил их к тростниковой будке. Получилась крыша, способная спасти от дождя и солнца. На рассвете, при первых лучах солнца, индус разбудил своих спутников и, с гордостью выслушав восторженные похвалы в свой адрес, ответил скромно: — Я сделал, как умел. А теперь — в путь-дорогу! Путники без труда взобрались по лестнице на спину Рамы. С ними был и Боб, которого, естественно, подняли на слона на руках. Одно огорчало: позавтракать не пришлось. Слон двинулся крупной рысью по направлению, указанному Бераром. Рама прошел безостановочно более шести часов, и друзьям уже было невмоготу от голода и жажды. Неожиданно показалось небольшое селение, из нескольких соломенных хижин. Факир остановил Раму и, ловко соскочив на землю, подошел к крайней лачуге. Внимательно осмотрев ее, он увидел в левом углу двери выведенный черной краской маленький треугольник, с черным же кружком посреди его. Знак этот был столь слабо приметен, что несведущий человек не обратил бы на него никакого внимания. — Пусть сахибы соблаговолят спуститься! — радостно воскликнул Берар. — Здесь мы в безопасности! Поднеся к губам лезвие кинжала, он издал громкий, переливчатый свист. К нему тотчас подбежали двое мужчин в грязных набедренных повязках. Обменявшись с Бераром несколькими словами, они упали перед ним ниц. Мариус заметил с иронией: — Похозе, сто нас приятель факир здесь больсая сыска! Берар величественным жестом приказал индусам подняться и долго отдавал им какие-то распоряжения на их языке, а они благоговейно внимали каждому его слову. Затем поселяне подозвали криками своих женщин и детей, которые, завидев слона, попрятались в страхе в кусты. Торопливо, с опаской, путникам принесли свежую прохладную воду, пшеничные лепешки, фрукты и мед, а для слона — охапки кукурузных початков. Путники, как завороженные, смотрели на такое изобилие продуктов и не верили своим глазам. Пока они отдавали должное всем этим простым, но показавшимся им восхитительными, блюдам, те же двое индусов взяли в руки палки и, прихватив немного съестного, собрались в дорогу. Подойдя к Берару, они низко ему поклонились, а затем опустились на колени и распростерлись перед ним, выражая высшую степень почтения. Факир отпустил их еле заметным движением своих сухих и узловатых пальцев, и они мгновенно растворились в джунглях. — Все эти дома, — сказал Берар, — в нашем распоряжении! Так же, как и все, что в них находится… И сами эти люди — наши верные рабы! Пейте! Ешьте! Спите!.. Живите спокойно, ни о чем не тревожась… Здесь вы в такой же безопасности, как под охраной полка солдат… Джонни, Мариус и Патрик были изумлены и даже восхищены. Но Бессребреник, медленно покачав головой и пристально взглянув на Берара, спросил: — Ты можешь мне сказать, кто эти люди, факир? — Сахиб, наверное, догадывается… Пусть он соблаговолит отойти со мной немного в сторону… Я все скажу ему. Пройдя за естественную ограду из увитых лианами гигантских деревьев, они оказались у величественных развалин. — Это один из храмов Кали, богини смерти, — произнес Берар, — а я один из ее жрецов. Те двое — хранители этого разрушенного храма… Они — тхаги, душители, мои смиренные и неподкупные рабы… исполнители моей воли… По всей Бенгалии таких у меня больше десяти тысяч. Слушая Берара, который рассказывал обо всем этом как о чем-то будничном, капитан почувствовал, что у него по коже побежали мурашки. — Куда они отправились? — спросил он. — Я им приказал собрать двадцать тхагов, наших братьев, а затем отыскать и защитить супругу сахиба и юную англичанку. Сахиб никогда не найдет ищеек более надежных и стражей более доблестных. «Находиться под защитой бенгальских душителей — такое, конечно, не каждый день случается, — подумал капитан. — Моя дорогая Клавдия будет просто в восторге, когда узнает о заботах, проявленных о ней членами этой ужасной секты фанатиков». — Как только они нападут на след, — продолжал Берар, — то сразу же известят нас, а место тайных наблюдателей займут другие. — Спасибо, Берар! Я бесконечно обязан тебе и поистине не знаю, как мне отблагодарить тебя! — Хозяин, ты ничего мне не должен! Я — царь тьмы и стою во главе целой армии тхагов… Но всевидящие пандиты выше меня. Они — короли света, и я, в свою очередь, являюсь их рабом… Они повелевают, я повинуюсь!.. Помни, они — твои друзья… — Значит, — произнес капитан, — ты хочешь сказать, что брахманы властвуют и над этими свирепыми поклонниками богини Кали?.. — Они здесь властвуют надо всем… — Я не совсем понимаю, друг мой факир… — Я должен хранить тайну, хозяин… Но поскольку ты не англичанин, я расскажу тебе все. Знай же, это место, где мы приносим нашей богине человеческие жертвы, внушает такой ужас, что ни один посторонний, даже белый, не осмеливается к нему приблизиться. Потому что сама эта земля пропитана трупным запахом! Ведь здесь нашли свой конец многие тысячи людей — с тех пор, как был воздвигнут этот теперь разрушившийся от времени храм в честь Дурги, супруги бога Шивы, той, что мы называем Кали. — Выходит, душители — это религиозная секта? — Да, сахиб, это так. — А я считал, что они убивают из мести или просто с целью грабежа… Факир слегка улыбнулся: — Какая бы причина ни толкнула душителя на убийство, его жертва все равно кладется на алтарь богини смерти. Посвященные третьей ступени, всевидящие пандиты, указывают, кого надо убить, посвященным второй ступени, таким, как я. Мы же властвуем над рядовыми душителями, которые действуют уже в соответствии с нашими распоряжениями… Иногда случается, что душитель завладевает имуществом своей жертвы… Что ты хочешь? Человек несовершенен. Но можешь мне поверить, что большинством из них движут чисто религиозные побуждения. — Все это странно! — Но и естественно. Всегда и повсюду, во всей вселенной, принципу созидания противостоит принцип разрушения. Если бы жизни не противостояла смерть, на земле образовался бы переизбыток населения, равновесие в природе было бы нарушено. Для того и существует Кали, наша богиня, чтобы избежать перенаселения. Она внимательно следит, чтобы численность живущих на земле не превышала разумного предела… Это по ее приказу уничтожаются лишние… Вот почему наша секта, с ее тайнами, жрецами и обрядами, имеет божественное происхождение… — Но разве недостаточно болезней, несчастных случаев да и просто старости? — прервал его Бессребреник. Сурово нахмурив брови, с пламенным взором, факир резко, тоном истинного фанатика, ответил капитану: — Так хотят и так нас учат брахманы, владыки нашей жизни, ума и мыслей! Посвященные выполняют свой святой долг! Не каждый может стать тхагом! Для этого необходимо пройти долгое и тяжелое испытание. Нужно быть здоровым телом и духом, уметь переносить боль и усталость и ото всего отречься. И только при таком условии может быть дана клятва на крови у ног богини! — Клятва на крови! Уже во второй раз ты говоришь о ней… Я путешественник, и мне все интересно. Не можешь ли ты рассказать мне об этом? Услышав эту просьбу, факир вздрогнул, и в глазах его застыл ужас. — Жизнь моя принадлежит тебе, сахиб, — сдавленным голосом произнес он. — Я готов кровь пролить за тебя… Но не пытайся узнать об этом ужасном обряде, о котором даже мы, давшие такую клятву, не решаемся говорить между собой. — Не буду настаивать, — сказал Бессребреник. — Но, может быть, ты хотя бы скажешь, почему английские власти терпят вас? — А что они могут поделать? Нас не раз пытались уничтожить. Но, как это обычно бывает в подобных делах, преследования, пытки и смертные казни только разжигали пыл посвященных и укрепляли нашу секту. В ответ на гонения мы уничтожали видных чиновников, после чего власти пришли к выводу, что лучше позволить нам душить в среднем по нескольку тысяч соплеменников в год, чем подвергнуть опасности жизнь хотя бы одного белого. Ведь если белые нас не трогают, мы никогда не нападаем на них. Что тебе еще сказать, сахиб? Мы так тщательно подбираем своих приверженцев, так их воспитываем, даем им такую подготовку и так хорошо организованы, что нас нельзя победить. Ловкость, хитроумие, храбрость, терпение — всеми этими качествами душители обладают в полной мере. Они могут в течение дней, недель или месяцев подстерегать намеченную жертву, пока наконец не накинут ей на шею черный шелковый шарф — единственное наше оружие, поскольку проливать кровь нам запрещено. И знай также, что у нас повсюду сообщники. Ты слышишь? Повсюду! В армии и в правительстве, в больших городах и в глубине джунглей… Поэтому власть наших владык безгранична! И скоро ты сам в этом убедишься, так как, я твердо уверен, твоя достойная супруга вместе с молодой англичанкой в ближайшее время будут на свободе! — Мне тоже хотелось бы верить в это, факир. Осторожный Берар умел многое предвидеть, но он упустил из виду, что Биканэл, бывший брахман, бывший всевидящий, знал все тайны душителей и был способен на самую ужасную месть.
ГЛАВА 7
Планы Короля денег. — Еще одно поражение. — Ярость Биканэла. — Стремление обнаружить исчезнувших из башни молчания. — Снова гипнотический сон. — Жажда сокровищ. Погоня. — В храме богини Кали. — Заклинатель тигров.При мысли о том, что Бессребреник растерзан грифами в башне молчания, Король денег испытывал ликование, хотя внешне был сдержан, как и положено финансовому воротиле. Чтобы заслужить у миссис Клавдии доверие и благодарность, он решил разыграть роль ее освободителя, и уже договорился о содействии с Биканэлом. В условленный момент янки должен был во главе небольшой группы сообщников «напасть» на отряд полицейского-изгоя и освободить пленниц. Этот план прельщал его еще и тем, что позволял ему предстать перед возлюбленной в ореоле романтического героя. Но его замыслу не было дано осуществиться из-за причин, совершенно непредвиденных. Биканэл, человек до крайности хитрый и жестокий, захотел воочию убедиться, что месть его осуществилась, и насладиться лицезрением останков поверженных врагов. Укрыв пленниц в надежном месте под строгим присмотром, он вернулся на следующее утро к башне молчания. Но при виде пролома в стене лицо его перекосилось, а из побелевших губ вырвались злобные ругательства. Пробравшись через колодец в погребальную яму, он взглянул вверх и, не обнаружив костей, окончательно понял, что проиграл. Выбравшись наружу, он внимательно изучил землю вокруг пролома и увидел огромные слоновьи следы и отпечатки собачьих лап и босых ступней факира. В Калькутту Биканэл вернулся в состоянии дикой ярости, ломая голову над тем, как разыскать беглецов. И тут в его изощренном мозгу, нацеленном на коварство и интриги, возникла блестящая идея. Гипноз! Гипнотический сон, позволяющий видеть на расстоянии и людей, и любые предметы! Известно, что брахманы и даже простые факиры издавна знакомы с этим поистине удивительным явлением, которое, однако, нашей официальной наукой полностью отрицается. Как следствие предвзятости, столь характерной для европейской научной общественности, у нас исследованиями в этой области занята лишь небольшая группа энтузиастов. Индусы же с их многовековой практикой достигли в видении на расстоянии колоссальных успехов, и для европейца было бы большим счастьем, если бы они согласились приподнять перед ним хоть краешек завесы над столь тщательно хранимой тайной. Биканэл, посвященный первой ступени, прекрасно владел всеми приемами этой загадочной науки, и ввести человека в состояниеясновидения было для него делом нетрудным. Он решил, что Мери вполне подходит для этого. И, не теряя времени, тут же попытался ее усыпить, прямо в саду, где она в это время гуляла. Но неожиданно встретился с таким активным сопротивлением с ее стороны, что вышел из себя. Как уже рассказывалось выше, Мери была подвергнута Бераром гипнотическому внушению, и он во время ее сна строго-настрого запретил девочке позволять кому бы то ни было, кроме миссис Клавдии, усыплять себя. Этот запрет продолжал подсознательно действовать и делал юную пленницу невосприимчивой к постороннему воздействию. Но Биканэл ничего этого не знал. Не понимая причины своей неудачи, он издал гортанный крик, напоминавший рев тигра. Глаза его сверкали, рот злобно кривился, обнажая белые и острые, как у хищного зверя, зубы. Мери, жалобно вскрикнув, в ужасе попятилась от него. Биканэл своим взглядом словно жег ее мозг, и она испытывала невыносимую боль. Графиня де Солиньяк, подойдя к ним, попыталась вмешаться: — Хватит мучить ребенка! Но он грубо заорал: — Молчи, женщина! Вперив в Клавдию горящий взгляд, Биканэл обрисовал руками круг и пронзительно свистнул. Из груди графини вырвался сдавленный стон, глаза застлала пелена, и от силы воли не осталось и следа. Отступив назад, миссис Клавдия взмахнула руками и повалилась на траву. Тело тотчас застыло в тяжелой неподвижности, и бедная женщина не могла ни шевельнуться, ни произнести хотя бы единое слово. Ей казалось, что ее разбил паралич. И при этом она все видела и слышала, как в ночном кошмаре. Приблизившись к Мери, Биканэл произнес: — Спите!.. Такова моя воля! Девочку сотрясали сильные судороги. — Я не могу!.. Не могу!.. — шептала она. — А я вам приказываю спать!.. Так нужно!.. Спите!.. — Вы убьете меня!.. — проговорила она еле слышно. — Сжальтесь!.. Пощадите!.. — Спите!.. — Пощадите!.. Я умираю!.. На губах ее выступила розовая пена, взгляд расширившихся от ужаса и страдания глаз застыл в неподвижности, по бледному, как воск, лицу струился холодный пот, суставы при каждом движении издавали ужасный хруст. Но Биканэл, не обращая на это внимания, быстро провел рукой перед ее глазами, словно разрубая воздух, затем издал тот же пронзительный свист, которым заставил застыть миссис Клавдию. И прорычал: — Спите, или я убью вас! У Мери задрожали веки, лицо внезапно залила краска, она хрипло вздохнула и, стиснув челюсти, упала как подкошенная. — Вот, стоит лишь захотеть! — пробормотал про себя негодяй с сардонической усмешкой. Затем спросил, обращаясь к девочке: — Почему вы не засыпали? — Он мне запретил, — ответила Мери тихим, безразличным голосом. — Кто он? — Факир… который меня усыплял… там, в обители. — Хорошо! А теперь смотрите и отвечайте на мои вопросы… Где сейчас находятся капитан Бессребреник, ваш брат Патрик и два матроса? Мгновение поколебавшись, девочка в ужасе воскликнула: — Я вижу их среди каких-то развалин… Вокруг ужасные люди… — Что это за люди? — Это те, кого называют тхагами… душители… Я вижу повсюду под землей скелеты… и вокруг развалин… бродят тигры… ищут добычу… Это тигры-людоеды… — Так!.. Очень хорошо!.. Кто освободил капитана Бессребреника и остальных?.. Кто помог им выбраться из башни молчания?.. Кто их развязал?.. — Подождите!.. Дайте мне увидеть… — Смотрите!.. Но поживее. — Их развязал Джонни!.. О, милый Джонни!.. Вот я их вижу среди скелетов… Кругом огромные грифы, которые хотят их растерзать… Но они защищаются… Потом роют подземный ход… Под этой зловещей стеной… находят сундук. — Какой сундук? — удивился Биканэл. — Тот, что был зарыт под башней. В нем хранятся сокровища, принадлежавшие нашей семье, — безучастно ответила Мери. — Откуда вы знаете, что это сокровища и что они принадлежат именно вам? — с возросшим интересом спросил полицейский. — Потому что на сундуке… имя и герб герцогов Ричмондских… и я вижу сокровища… — Можете вы хотя бы примерно назвать мне их стоимость?.. — Да… могу… если вы мне поможете… — Тогда мысленно смотрите на них… считайте… пытайтесь проникнуть как можно глубже… — Да, получается… но подождите… — Что вы видите?.. — Камни… драгоценности… их очень много… несметное количество… Есть опись… пергамент… подпись моего дедушки… Здесь больше миллиона фунтов… не считая золотых и серебряных монет… — Миллион фунтов! — изумился Биканэл и тут же подумал: «Эти сокровища должны стать моими, и скоро я завладею ими. И тогда я сам себе хозяин! Смогу поступать как заблагорассудится! И жить в роскоши, словно раджа!.. Я всех уничтожу, кто встанет на моем пути! Эти богатства будут принадлежать мне одному, и никому больше!» — Расскажите подробнее о месте, где сейчас находятся люди, о которых мы говорим, — вновь обратился он к Мери. — Не стоит ли там, среди развалин гигантская статуя с на редкость уродливой и отталкивающей внешностью? — Кажется, я вижу в темноте огромное каменное чудовище… Черная четырехрукая женщина… В одной руке она держит меч, другой поднимает за волосы отрубленную голову… Что в остальных руках, я не вижу… В ушах у нее подвески из мертвых тел… На шее — ожерелье из черепов… О, как она ужасна! «Итак, это храм богини Кали, — размышлял Биканэл. — Я так и думал! Берар полагает, что всех перехитрил, укрыв европейцев в таком месте, которого все сторонятся. Но он слишком глуп, чтобы тягаться со мною. Теперь они в моей власти. И я отомщу им, да еще как!» — Что сейчас делает капитан? — задал он очередной вопрос. — Он спит, — едва дыша, ответила девочка. — А матросы? — Тоже спят. — А факир? — Не знаю… я плохо вижу… я не могу больше… О, как мне плохо!.. Сжальтесь надо мной… — Еще немного, и я вас разбужу. Что делает факир?.. Смотрите!.. Такова моя воля! Из груди Мери вырвался душераздирающий стон, и прерывающимся голосом она прошептала: — Он ждет возвращения каких-то людей… — Что это за люди?.. — Не знаю… Я не могу… — Смотрите!.. — О, как мне плохо!.. Сейчас я умру! — проговорила девочка, задыхаясь. — Смотрите!.. Так нужно!.. Такова моя воля!.. — Это люди, которые отправились за помощью… Это тхаги… душители… — Где они сейчас?.. Мери испуганно вскрикнула. Казалось, она старалась отогнать от себя ужасные видения. Сведенной в судороге рукой она показала на окружавшие их заросли. Потом медленно поднялась с земли и, с трудом выговаривая слова, произнесла: — Там!.. Они там… Душители… Я говорю вам, они там! Вытащив револьвер, Биканэл прыгнул в кустарник, полный решимости расправиться с непрошеными гостями, следившими за ним. Но увидел лишь потревоженную листву и различил еле уловимый шорох. Правда, ему показалось, будто далеко впереди мелькнули два силуэта и тут же, словно привидения, исчезли. — Да, Берар времени не теряет! — бормотал он про себя, возвращаясь назад. — Вот уже и его посланцы… Но их-то мы знаем. Они совершенно не опасны тому, кто знаком со всеми их уловками. Мери он приказал резким тоном: — Забудьте обо всем, что здесь было! Не вспоминайте ни о чем, даже если вас когда-то снова усыпят! Он тихонько провел пальцами по ее вискам и слегка дунул в глаза: — Проснитесь! У Мери задрожали веки, тусклый взгляд опять стал осмысленным, и, освободившись от гипноза, она увидела, что стоит рядом с миссис Клавдией. У графини был такой вид, будто она только что очнулась от кошмарного сна. Оставив пленниц под надзором, Биканэл отправился к Королю денег, чтобы рассказать ему о последних событиях, естественно, утаив все, что касалось сокровищ герцогов Ричмондских. Встреча предстояла нелегкая: янки места себе не находил, узнав, что комедия с освобождением миссис Клавдии не будет сыграна. Холодно выслушав Биканэла, Король денег заявил: — Как я понял, враг мой живет и здравствует! — Но это ненадолго! — Хорошо, если так! — Скоро я сделаю эту очаровательную графиню де Солиньяк вдовой! А сейчас, господин, мы отправимся в путь. Вы с частью моего отряда будете следовать за мной на некотором расстоянии и ни в коем случае не должны покидать то место, которое я вам укажу. — Хорошо! Но пошевеливайтесь, а то мне уже порядком надоело все это! Вернувшись к своей группе, Биканэл усадил миссис Клавдию и Мери на лошадей, приставил к ним охрану и подал знак к отправлению. Отряд во весь дух поскакал к храму богини Кали. Вторая группа, во главе с Королем денег, следовала за ним. Путь оказался долгим и тяжелым. Когда от храма кровожадной богини группу Биканэла отделяло не более мили, опустилась ночь. Оба отряда укрылись в густых, бескрайних джунглях, вплотную подступивших к храму богини Кали, и устроили стоянки неподалеку друг от друга. Отделившись от своих спутников, Биканэл снял с себя всю одежду и натерся какими-то таинственными снадобьями, издававшими резкий запах дикого зверя. И как только в воздухе зазвучала устрашающая своим грозным многоголосьем какофония тропического леса, он бесстрашно, полагаясь исключительно на свое чутье и слух, двинулся в джунгли. Бесшумной тенью скользил бывший брахман между деревьями и кустами, чьи ветки и колючки не оставляли ни малейших следов на его загрубелой бронзовой коже. Совершенно безоружный, он внушал ужас гиенам и обращал в бегство шакалов. Индус упорно шел к тому месту, откуда доносилось рычание тигров. Известно, что в этой части джунглей, вблизи развалин, обитает многочисленная стая этих хищников, и все они давно уже стали людоедами. И вовсе не потому, что, как это часто утверждается, они состарились, потеряли силу и ловкость и в результате были вынуждены нападать на людей, самую легкую добычу. Просто им очень понравился специфический вкус человеческого мяса, которым их щедро снабжали душители. Человеческие жертвоприношения совершались здесь очень часто, и с незапамятных времен тигры привыкли взимать свою дань с этого самого отвратительного из обычаев. Влечение к человеческой плоти ныне живущие звери унаследовали от многих предыдущих поколений, что делает его еще неодолимее. Поклонники богини Кали только радуются соседству тигров, так как оно лишь усиливает страх перед этим местом. Время от времени Биканэл останавливался и, поднеся ко рту ладони, с невероятным совершенством воспроизводил призывный, исступленный вопль тигрицы. Трудно поверить, чтобы подобный, разносившийся далеко вокруг мощный рык мог вырваться из человеческой глотки. Тигры, подстерегая добычу в кустах или пробираясь к источнику, слышали приближающийся рык и, приписывая его соплеменнице, отвечали громким рычанием. Вскоре в волнение пришли все джунгли, и вокруг храма богини Кали зазвучал целый хор, оглушительный и жуткий, как на сборище злых духов. Призывные вопли тигрицы делались между тем все более хриплыми и яростными. Им вторил рев самцов, входивших во все большее исступление. Звери уже плотным кольцом окружали развалины и, привыкнув получать тут вожделенное яство, ревом возвещали о предстоявшем пиршестве. С дьявольской хитростью Биканэл пробудил в них аппетит, и теперь их неудержимо влекло к алтарю богини смерти! Туда же направлялся, сужая своими воплями круг ревущих тигров, и бывший брахман, сам впавший в неистовство. Все слышали рассказы о колдунах, внушавших страх обитателям наших деревень и прозванных суеверным людом заклинателями волков. Сейчас уже доказано, что колдуны обладали чудесным даром приручать этих хищников, имитируя волчий вой, сзывать их по ночам и вести на кровавую охоту. Недоверчивые и свирепые звери, весело резвясь, бежали рядом с ними, вызывая великий ужас у случайных свидетелей. В Индии же, где все столь непривычно и приобретает необычайные масштабы, посвященный в магические тайны пандит стал заклинателем тигров! Гигантские кошки, откликнувшиеся на его зов, останавливались в замешательстве, завидев человека, широко разевали красные пасти и щурили холодно сверкавшие глаза. Однако Биканэла это не пугало, и он коварно и неодолимо продолжал подманивать их к себе — и не только голосом, но и телодвижениями, которые они прекрасно различали, несмотря на темноту, и запахом, исходившим от его натертой снадобьями кожи. Звери подходили к нему с хриплым мурлыканьем и ласково терлись об него головой. Тигров собралось уже несколько дюжин. Повинуясь Биканэлу, они вплотную подошли к храму, и укрывшихся там беглецов вместе с Бераром ждала незавидная участь.
ГЛАВА 8
Первые вести. — Адская симфония. — Схватка двух заклинателей. — Змеи против тигров. — Найа, или очковая змея. — Ужас! — Звуки тростниковой дудочки. — Бегство тигров. — Провал плана Биканэла. — Освобождение пленниц. — Деяние душителей. — Жертвоприношение богине Кали. — Воссоединение.Между тем беглецы, укрывшись среди руин храма богини Кали и полностью доверившись Берару, пребывали в ожидании благополучного завершения своих злоключений. Когда солнце клонилось к закату, бесшумно появился один из гонцов и, приблизившись к факиру, сказал: — Я вернулся! — Что ты видел? — невозмутимо спросил Берар. — Двух белых женщин и их охрану. — Где твой товарищ? — Отправился за нашими братьями. — Хорошо! Вас заметили? — Думаю, да. Индус, главный среди них, усыпил белую девочку, и она выдала нас. — Где они сейчас? — Поскакали сюда вслед за мной двумя отрядами. — Их много? — Да! В каждом отряде человек по пятнадцать, и все хорошо вооружены. Они остановились меньше чем в миле отсюда. — Странно! — пробормотал Берар. — Они не боятся этого места и, судя по всему, считают, что мы уже у них в руках. Факир немедленно пересказал капитану Бессребренику все, что сообщил ему гонец. Узнав, что его жена находится совсем рядом, капитан тут же вознамерился взять с собой моряков и напасть на негодяев. Лишь с большим трудом удалось Берару доказать ему всю безрассудность такого поступка. — Потерпи немного, господин, — сказал факир. — Дождемся утра, и эти люди сами не заметят, как их окружит армия тхагов, а уж они-то никому не дадут ускользнуть! Капитан, стиснув кулаки, признал его правоту. Однако сам Берар чувствовал себя неспокойно. Он никак не мог понять, зачем его враги приблизились к храму богини Кали. Конечно, ему и в голову не приходило, что они могут напасть на них: ни один индус не осмелится вторгнуться в это грозное святилище, ужас, внушаемый им, делает его неприступным. Разъяснилось все очень скоро. Когда тьма окончательно сгустилась, слон, свободно бродивший кругом в поисках пищи, прибежал вдруг в большой тревоге. Растопырив уши и задрав хобот, он встревоженно фыркал. Боб, оскалившись и поджав хвост, с поднятой шерстью, жался в испуге к ногам мальчика. Стали слышны раскаты грозной симфонии, которой дирижировал Биканэл. Европейцы были ошеломлены, не понимая причины этого оглушительного рева, от которого им становилось не по себе. — Дрянная музыка! — коротко изрек Джонни. — Да уз, — поддержал его Мариус. — У нас в Бандоле, когда товарный поезд идет по виадуку, а ты стоис внизу, под сводом, то слысис то зе самое. — Обезьяна-ревун? — предположил Джонни. — Похозе, — сказал Мариус. — Когда я проходил государственную слузбу на судне «Поставсик» в Гвиане, в Сэн-Лоран-дю-Марони, я слысал, как крисит эта зверюга. — А может, это тигры? — спросил капитан факира. — Да, сахиб, ты прав! — озабоченно произнес тот. — Непонятно только, что могло их так возбудить. Они бегают, волнуются и рычат, словно чуют добычу. Слон Рама часто дышал. Стоя рядом с людьми, он проявлял одновременно признаки и гнева и страха. — Похозе, эта музыка приблизается, — заметил Мариус. — Сто ты обо всем этом думаес, Дзонни? — Ничего хорошего, черт меня побери! Рев стоял такой, словно все обитавшие в окрестностях тигры, а их тут немало, решили собраться именно здесь. Стало ясно, что храм окружен этим адским скопищем, во главе которого мог стоять только дьявол. Берар долго прислушивался, пока наконец не различил в этом громоподобном гвалте голос, выделявшийся тембром. — Это человек! — вскрикнул он, впервые выдав свое волнение. — Но это невозможно! — усомнился Бессребреник. — Никто из людей не смог бы расхаживать рядом с этими хищниками: тигры тут же бы растерзали безумца. — Но несколько пандитов, посвященных первой ступени, знают, как подчинить себе царей наших джунглей! — ответил Берар. — По-твоему, факир, эту стаю кто-то специально ведет на нас? — Уверен, что это так, сахиб! И можете не сомневаться, негодяй, задумавший скормить нас тиграм, слишком труслив, чтобы напасть самому. Наверняка это тот же самый, что бросил вас грифам. Спастись было невозможно. Прорваться сквозь окружение не удалось бы даже на слоне: едва он вышел бы за ограду, как тотчас был бы растерзан. Нельзя было и взобраться на высокое дерево, чтобы переждать ночь, так как на территории храма произрастали только хилые деревца и кустарники. Не имелось здесь также ни высоких стен, ни подземелья. Европейцев бросило в дрожь. Мальчик в ужасе прижался к капитану. Лишь Берар сохранял невозмутимость, под его бронзовой кожей не дрогнул ни один мускул. — Возможно, настал конец! — прошептал он. — Остается только одно… Но это ужасно… почти безнадежно… И все же я должен попробовать… — Ну же, факир! — прерывающимся голосом воскликнул капитан. — Неужели ты допустишь, чтобы нас сожрали тигры… — Сахиб, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Но мне придется сразиться с посвященным… с брахманом… мне, простому факиру… И я боюсь проиграть… Об одном прошу: что бы вы ни увидели, что бы ни ощутили, какой бы ужас ни почувствовали от неожиданных прикосновений, стойте молча и неподвижно, как каменные истуканы, и тигры уйдут. — Мы сделаем все, как ты скажешь, — заверил его Бессребреник. — Не правда ли, матросы?.. А ты, Патрик, согласен? — Да, капитан, — ответили ему. — Тогда, — произнес факир, — призовите на помощь все свое мужество! Он достал из кармана тростниковую дудочку, извлек из нее несколько тихих звуков, и затем полилась монотонная, протяжная, тревожащая душу мелодия, — и это на фоне звериного рева! Отовсюду — из-под опавшей листвы, из травы и каменных расщелин — послышались неясные шорохи, отрывистые посвистывания. Что-то скользкое коснулось ног беглецов. Страх и отвращение, охватившие их, были так сильны, что лишь с огромным трудом удавалось сохранять неподвижность. — Змеи!.. Всюду змеи! — вскрикнул, не выдержав, Патрик. — Тихо, мой мальчик! — прошептал Бессребреник, чувствуя, что ему и самому невмоготу терпеть весь этот ужас. Совсем рядом раздалось рычание. Тигры вот-вот набросятся на желанную добычу! Берар заиграл быстрее, и змей стало еще больше. Они ползли по земле, обвивали ветви деревьев и, выскользнув из нор на камни, приподнимались, высовывали раздвоенные язычки и раздували шеи. То были представители того опасного вида, чей укус вызывает мгновенную смерть. В Индии их великое множество, и известны они там под названиями «найа» — «индийская кобра», или «очковая змея». Эти рептилии — средних размеров, самые крупные экземпляры не превышают двух метров в длину, толщина же у них — около четырех сантиметров. Но они исключительно проворны и агрессивны. Перед броском шея у них расширяется в три раза, что делает их облик еще страшнее. Кобры — настоящее бедствие для Индии. Целые районы остаются из-за них незаселенными. Но человеку удается все же подчинить их своей воле. Умел это и Берар, который, как заклинатель змей, не знал себе равных во всей Бенгалии. Под воздействием мелодии, исполнявшейся во все возраставшем темпе, змеи приходили в ярость. Они изгибались с шипением, раскачивали раздутыми шеями и словно в поисках жертвы, в которую можно вонзить ядовитые клыки, делали молниеносные выпады. На пути заклинателя тигров стоял заклинатель змей! Тигр — этот неограниченный властитель глухих уголков Индии, одно появление которого обращает в бегство даже таких сильных и бесстрашных животных, как дикий буйвол, носорог или слон, — старается не попадаться на глаза кобре. Так что Биканэлу рано еще было торжествовать. Один из тигров появился метрах в пятнадцати от застывших в ужасе людей. С коротким рыком кинулся он на добычу и — оказался среди беспокойно шевелящейся массы змей! А они только того и ждали. В мгновение ока впились змеи в свою жертву, и тигр, завыв от боли и страха, начал кататься по земле, чтобы избавиться от них. Но это не спасло: издав предсмертный рык и дернувшись всем телом, он испустил дух. Из зарослей выскочил еще один тигр и, взревев, грохнулся на землю. И так было с каждым, кто отваживался появиться в храме. Европейцы, наблюдая при мерцающем свете звезд разыгравшуюся трагедию, непроизвольно подумали об одном и том же: «А хватит ли на всех тигров змей?» Хотя люди по-прежнему стояли совершенно неподвижно, на сердце у них полегчало. Тигры один за другим валились на устланную кобрами землю. Наши беглецы могли быть спокойны: змей более чем достаточно! Постепенно натиск тигров стал ослабевать. Предсмертный хрип зверей, шедший от змей мускусный запах пугал вновь прибывших. Злобно рыча и опасливо вглядываясь во тьму, хищники ходили кругами возле храма, но проникнуть на его территорию не решались. И сколько бы ни вопил Биканэл, пытаясь натравить их на людей, храбрости у зверей не прибавлялось. Заклинатель змей одержал верх над заклинателем тигров! Биканэл потихоньку прокрался к храму, чтобы выяснить, что произошло с его помощниками, отнюдь не пугливыми, и услышал тростниковую дудочку. Узнав одну из мелодий профессиональных заклинателей змей, он заскрипел зубами: — О дьявол!.. Берар созвал целое полчище змей!.. Я в третий раз побежден!.. Надо бежать!.. Снова бежать!.. Будь же он проклят — вместе со всеми!.. В полнейшем отчаянии, измученный усилиями, которые ему пришлось приложить, чтобы собрать тигров, Биканэл рухнул на землю. Звери, не слыша его призывных воплей, не спеша, как бы нехотя, разошлись по своим логовам. Берар играл уже в замедленном темпе. Змеи перестали шипеть и, успокоившись, медленно расползались по норам, чтобы, как обычно, свернувшись клубком, часами лениво полеживать на влажной и прохладной земле, переваривая пищу. Прозвучали последние аккорды — и дудочка замолкла. — Тигры разбежались, кобры расползлись! Больше нам ничто не угрожает! — раздался в темноте гортанный голос Берара. Европейцы облегченно вздохнули. Хотя битва между змеями и тиграми длилась не более четверти часа, друзьям казалось, что прошла вечность. Избавившись от кошмара, они наконец смогли прилечь. Спали они крепко и спокойно. Заснул и Биканэл. Пробудившись под утро, он стряхнул с себя капли росы и поспешил к своему отряду. На душе у него было пакостно, но он не желал признавать себя окончательно побежденным и принялся обдумывать новый план отмщения. Яркие всполохи утренней зари уже окрасили верхушки холмов в алый цвет, как вдруг до бывшего брахмана донесся стук копыт и в ослепительных лучах восходящего солнца взору его предстало поистине величественное зрелище. Впереди, в белых платьях, скакали две женщины, за ними неотступно следовал эскорт — не менее сотни всадников, с бронзовыми телами, в одних набедренных повязках. Мчались они к храму богини Кали. Яростный вопль вырвался из груди Биканэла, когда он узнал своих пленниц — миссис Клавдию и Мери. — Их освободили!.. Но как?! — ошеломленно вопрошал он себя. Индиец кинулся к стоянке своего отряда и, когда достиг ее, похолодел от ужаса. Его сообщники, все до одного, лежали распростершись на земле — с обращенными к небу лицами и с черным шарфом на шее! Биканэл отправился на соседнюю стоянку, надеясь в душе, что хотя бы на второй отряд, во главе которого стоял белый человек — Король денег, душители не осмелились напасть. Но, увы, первым, что бросилось ему в глаза, был труп миллиардера Джима Силвера, «скромно» величавшего себя Королем денег. Американец, как и все его соратники, валялся на земле с шеей, стянутой черным шарфом. Лошади, оружие, провизия — все бесследно исчезло: фанатичная преданность кровавой богине не мешает душителям извлечь при случае из своего ремесла хоть какую-то, пусть и незначительную, материальную выгоду. Берар сдержал свое слово: пленниц освободили. Биканэл же, побежденный и униженный, с криками отчаяния скрылся в джунглях. Когда кавалькада приблизилась к руинам с грозно вознесшейся над ними статуей богини Кали, капитан, вне себя от счастья, увидел жену. Миссис Клавдия, соскочив с коня, бросилась в его объятия. — Жорж!.. Дорогой! — Клавдия!.. Любимая!.. Наконец-то мы вместе! Мери, ловко спрыгнув на землю, кинулась, вся в слезах, к брату на шею. Взволнованный Мариус подошел к Берару, созерцавшему сотворенную им картину радостного воссоединения близких людей, и с силой пожал ему руку: — У тебя странное ремесло, друг мой факир, но, стоб меня взяли серти, ты осень славный парень!
ГЛАВА 9
Снова под гипнозом. — Наперегонки со временем. — Начальник станции в Гае. — Специальный состав. — С пятидесяти до тридцати часов. — В дороге. — Древние города Индии. — Былое и современность. — Пешавар. — Военный комендант и наместник провинции. — Конный отряд. — Навстречу туземцам.С капитана Бессребреника не было снято абсурдное, состряпанное Королем денег и Биканэлом обвинение в шпионаже в пользу России и в подрывной деятельности на территории Британской Индии. Поэтому он должен был избегать встреч не только с английскими властями, но и с рядовыми чинами туземной полиции, у которых так же, как и у англичан, имелись его приметы. И это, без сомнения, удалось бы графу, и он сумел бы вместе с миссис Клавдией и моряками благополучно добраться до побережья и покинуть эту негостеприимную страну, если бы не одно обстоятельство: Бессребреник не мог оставить Мери и Патрика одних. Дети по-прежнему находились в отчаянном положении, а обретенные ими сокровища лишь обременяли их и создавали дополнительную опасность, так как охотников поживиться чужим добром всегда было немало. Бессребреник обещал им, что доставит их к отцу, и не собирался отступать от своего слова. Но ему необходимо было точно знать, где находится сейчас майор Леннокс. Патрику и Мери было известно только, что он командовал одним из батальонов Гордонского полка шотландских горцев, воевал против афридиев и на его последнем письме стоял штемпель чакдарского лагеря. Этих сведений было недостаточно. Берар — душитель, ставший для них добрым гением, — быстро нашел выход: видение в гипнотическом сне! Поскольку Мери была одарена ясновидением, следовало лишь усыпить ее и выяснить все, что надо. Так и сделали. И вот что удивительно: стоило факиру погрузить девочку в сон, как она тотчас отчетливо увидела лагерь афридиев и кратко описала его. А затем ее взору предстал отец: вместе с лейтенантом Тейлором он находился в какой-то невзрачной комнате. Чуть позже она разглядела и внешний вид этого помещения. Оказалось, то была жалкая лачуга, стоявшая несколько в стороне от оборонительной линии. Неожиданно ее личико, только что расцветшее в улыбке при виде отца, исказилось страданием, и она прошептала в ужасе: — Они оба — в плену! — В плену у мятежников! — простонал Патрик. — Храни их, Господи! — Их приговорили к смерти от голода и жажды! — со слезами на глазах произнесла Мери. — Когда был вынесен приговор? — спросил Берар. — Несколько часов тому назад. — Самое главное мы уже знаем, — заявил Бессребреник. — Разбуди ее, факир, и решим, что делать. Дорога каждая минута. Сколько отсюда до Пешавара? — Около тысячи двухсот миль. — Тысяча девятьсот километров… Многовато! До какого города нам ближе? — До Гаи, сахиб. — А железная дорога там есть? — Да, сахиб. — А до Гаи далеко? — Сорок миль. — За сколько часов можно добраться туда на Раме? — Часа за три, не меньше. Патрик и Мери, прижавшись друг к другу, полными слез глазами смотрели умоляюще на капитана. — В дорогу, дети! — сказал он им. — Сделаем все для спасения вашего отца — возможное и невозможное! Но для этого нужны деньги, и немалые… Меня не зря прозвали Бессребреником: вот и сейчас я без серебра и вынужден обратиться к вам за кредитом. — Самое лучшее, что мы могли бы сделать с фамильными ценностями, — решительно ответил Патрик, вытирая слезы, — это отдать их все — вплоть до последнего пенни — в обмен на жизнь нашего отца. Мы с Мери будем вам весьма признательны, если вы распорядитесь ими по своему усмотрению. Сундук тотчас вскрыли. Его содержимое потрясло всех. Мери не ошиблась, когда, находясь под гипнозом, назвала Биканэлу фантастическую сумму, в которую оценивались эти сокровища — драгоценные камни, изумительной работы ювелирные изделия, золотые и серебряные монеты. Бессребреник быстро пробежал глазами перечень хранившихся в сундуке предметов, подписанный парсом и заверенный дедом Патрика и Мери, и взял оттуда около трех тысяч фунтов стерлингов. Поскольку замки у сундука были взломаны, его перевязали ротангом[55], а затем вновь водрузили Раме на спину. Доверив одному из душителей роль вожатого, Берар вместе с друзьями забрался в хауду, и слон двинулся в путь. Через три часа Рама остановился, тяжело пыхтя, у первых домов Гаи — окружного центра, насчитывающего не менее семидесяти тысяч жителей, и важного железнодорожного узла с обширным вагонно-локомотивным парком. При иных обстоятельствах путники с большим интересом выслушали бы сообщение факира о том, что Гая — священный город и не менее почитаемое место паломничества, чем Бенарес, Аллахабад или Пури, славящийся праздником в честь бога Джаганнатха[56], что еще за шесть веков до нашей эры, когда Шакья-Муни[57] проповедовал здесь свое учение, город был знаменит своим университетом и другими крупными учебными заведениями и что в нем сохранилось немало замечательных памятников древней культуры Индии. Но сейчас все их помыслы были устремлены к одному — к железной дороге! Узнав, как пройти к вокзалу, стоявшему на пересечении нескольких железнодорожных магистралей, бежавших в различные концы Британской Индии, Бессребреник, миссис Клавдия, Патрик и Мери поспешили туда, оставив со слоном, на спине которого покоился бесценный сундук, Берара с моряками и туземца-вожатого. Бессребреник спросил начальника станции, и их всех провели к нему в кабинет. Капитан решил пойти ва-банк. После того, как начальник, следуя общепринятой у англичан манере обращения с незнакомыми людьми, сухо и чопорно поздоровался, Бессребреник взял Патрика и Мери за руки. — Имею честь представить вам детей несчастной герцогини Ричмондской, о трагической смерти которой вы, должно быть, слышали месяц тому назад, — произнес он. Затем добавил скромно, как обычно говорят слуги в присутствии господ: — Что касается меня, то я их опекун, а это — моя жена. При упоминании об одном из самых знаменитых аристократических родов Англии начальник мигом подобрел и стал исключительно обходительным. — Чем могу быть полезен? — спросил он услужливо. — Нам только что стало известно, что майор Леннокс, отец мисс Мери и мистера Патрика, попал в плен к туземцам и что жизнь его в опасности. Мы собрали все средства, какими располагает эта семья со столь злосчастной судьбой, и намерены предложить бандитам выкуп за отважного воина и отца этих бедных детей! Начальник станции не понимал, куда клонит Бессребреник. А тот продолжал: — За сколько часов можно добраться до Пешавара? — За пятьдесят. Из уст детей вырвался жалобный стон. Пятьдесят часов! Да еще часов сорок от Пешавара до лагеря афридиев. Им не успеть, и отец их умрет в страшных муках! — Это долго! Слишком долго, — произнес капитан. — А нельзя ли вам сформировать специальный состав? С локомотивом, вагоном-салоном и багажным вагоном? — Конечно, это в наших силах… — Сколько? — Пятьсот фунтов. Но выигрыш составит всего лишь часов десять. — Даю вам тысячу фунтов и, кроме того, выделяю в виде премиальных еще сто фунтов машинистам и кочегарам и пятьсот фунтов лично вам, но при условии, что поездка займет не более тридцати часов. Не забывайте, речь идет об одном из наиболее славных родов нашего королевства, об одном из лучших офицеров армии, об одном из наивернейших подданных королевы. Поистине, это исключительный случай. — Хорошо, господин, будет вам специальный состав, — ответил начальник станции, вдохновленный обещанной премией. — Мне нужен лишь час, чтобы связаться с вышестоящими инстанциями и, главное, успеть согласовать по телеграфу необходимые изменения в графике движения поездов, что позволит вашему составу совершенно безопасно идти с максимальной скоростью и с наименьшими потерями времени на остановки. — Итак, вы думаете, что за тридцать часов… — …Поезд прибудет в Пешавар, и, разумеется, без аварии. — Весьма вам признателен. Пока вы готовите состав, я отсчитаю деньги. Ровно час спустя поезд стоял уже у перрона. Быстро погрузив закупленную в буфете провизию, семь пассажиров, включая Берара, поднялись в вагон-салон, и вслед за ними туда заскочил и Боб. А славный Рама, взгрустнув, отправился с вожатым в святую обитель. Раздался свисток, и поезд тронулся. Друзья были счастливы: им сейчас ничто не угрожало и никому и в голову не пришло, что «опекун» — находящийся в розыске иностранец. Они даже не подозревали, что пока состав формировался, на станцию прискакал на взмыленном коне какой-то человек, в пыли, поту и крови, сказал что-то начальнику станции, и тот разрешил ему незаметно проскользнуть в багажный вагон. Не прошло и полутора часов, как поезд проехал сто пятьдесят километров, отделяющих Гаю от Патны. Такая скорость внушала надежду, тем более что в Индии поезда движутся по принципу «тише едешь — дальше будешь». Когда-то в старину обширнейшие площади вокруг Патны были заняты опийным маком, что и отразилось в ее названии, означающем «Город опиума». В этом населенном пункте состав перевели на путь, шедший в северо-западном направлении — до самого Пешавара. Дозаправка топливом и водой — единственное, что могло задержать поезд ненадолго. Всякий раз, когда состав останавливался, Бессребреник выходил из вагона и звонкой монетой поощрял машинистов и кочегаров добиваться максимальной скорости. После Патны промелькнул за окнами салона Бенарес, центр индуизма с высшей теологической школой, ревностно оберегающей чистоту доктрин и активно пропагандирующей религиозные знания. Затем проехали Аллахабад, известный в древности как Праяга. Этот священный город расположен в изумительно красивом месте, у слияния Ганга и Джамны. Остался позади Канпур, оскверненный жестоким кровопролитием. И уже при вечернем освещении путешественники прочитали название станции Агра, напомнившее им о том, что некогда здесь находилась столица Могольской империи[58]. Поезд несся как метеор и лишь в Дели сделал короткую остановку. Этот город, как и Канпур, известен массовым истреблением англичан во время Сипайского восстания. Половину пути до Пешавара проехали за четырнадцать часов. Совсем неплохо! Хотя начальник станции в Гае уже послал коменданту Пешавара телеграмму с сообщением о положении майора Леннокса, Бессребреник отправил из Дели еще одну, в которой, в частности, просил приготовить лошадей. И вновь их поезд мчался на всех парах, оставляя за собой дымный шлейф. Появился и исчез Лахор — город, насчитывающий, подобно Дели и Агре, полтораста тысяч жителей. Как и в них, здесь жива память о древней истории, чему не могут помешать ни трамваи, ни электрическое освещение или модная одежда, доставленная из Европы в Индию очередным пароходом. Бескрайние равнины Раджастхана и Пенджаба сменились пересеченной местностью. Вдали все отчетливее вырисовывались высокие холмы — преддверие отрогов Гималайских гор. Состав резво несся по плоскогорью на высоте около четырехсот метров над уровнем моря, уверенно сокращая расстояние до видневшегося на горизонте хаотического нагромождения круч. За этим плато — конечная станция. — Пешавар! Это Пешавар! — закричали путешественники. Забыв об усталости, они бурно выражали свою радость по поводу успешного завершения сумасшедшей, утомительной гонки. Поезд миновал туземные кварталы и подкатил к конечной остановке — уже в английской части города, в четырех километрах к западу от туземной и площадью шесть километров на три. Здесь размещаются учреждения, резиденция наместника провинции, войска, а также окруженная кирпичной стеной крепость Бала-Хисар, господствующая над местностью. Поскольку прибытию путников предшествовали две телеграммы, их давно уже ждали и встретили как дорогих гостей. Комендант гарнизона с наместником лично прибыли на станцию, а вместе с ними — и друзья майора Леннокса и лейтенанта Тейлора. Патрик и Мери сразу их узнали и не смогли сдержать слез, растроганные этим проявлением заботы и внимания в столь трудный для них час. Взволнованные слова приветствия, краткие представления, крепкие рукопожатия. Бессребреник по-прежнему играл скромную роль опекуна, но от этого прием, оказанный ему и миссис Клавдии, чья красота произвела фурор, не стал менее горячим. Как ни торопились гости немедленно отправиться к афридиям, им все же пришлось посетить резиденцию наместника, где, кстати, друзей уже поджидал эскорт для сопровождения до первых оборонительных линий противника. Наместник предоставил в их распоряжение лошадей и даже верблюдов — на случай, если они возьмут с собой багаж. Искренне удивившись намерению миссис Клавдии и Мери участвовать в экспедиции, он настоятельно рекомендовал им изменить решение и остаться в Пешаваре. Но напрасно описывал он смертельную опасность подобного мероприятия, тщетно внушал, что афридии — отчаянные головорезы и фанатики и что свобода, жизнь и честь женщин подвергнутся крайней опасности. — Я сопровождаю мужа повсюду и делю с ним все превратности судьбы, — просто ответила миссис Клавдия на доводы наместника. — А я, — решительно заявила Мери, — хочу первой обнять отца, если удастся освободить его, а нет, так погибнуть вместе с ним! — Ну что ж, пусть будет по-вашему, — вынужден был согласиться тот и приказал ускорить последние приготовления. Через два часа, в полуденное время, пятеро мужчин, именно пятеро, поскольку теперь и Патрика, не раз проявившего мужество и отвагу, можно было с полным основанием называть так, — графиня и мисс Мери в сопровождении взвода улан покинули гостеприимный Пешавар. До семи часов вечера, ни разу не остановившись, ехали они по ужасному бездорожью, а с наступлением сумерек разбили палатки и, подкрепившись, стали ждать рассвета. Можно себе представить, что это была за ночь! Рано утром — снова в путь. Как ни торопились друзья, продвигались они вперед довольно медленно. Наконец всадники все же добрались до передовых позиций англичан, протянувшихся напротив горного кряжа, откуда устремлялся ввысь дым от костров, разведенных афридиями. Оставив позади английскую оборонительную линию и передовое охранение, группа всадников оказалась в нейтральной зоне, разделившей противников и простреливавшейся с обеих сторон. До мятежников оставалось лишь тысяча двести метров. Эскорт остановился, так как дальше ехать ему было запрещено. Бессребреник взял у жены белый шарф и, взмахнув им высоко над головой, громко крикнул: — Вперед!
ГЛАВА 10
Главарь мятежников. — Отказ. — Пленники. — Находчивость Бессребреника. — Снова вместе! — Появление Биканэла. — Последняя попытка. — Священное знамя. — Повеление пандита. — Последняя трагедия. — Заклятые враги. — В объятиях смерти. — Главарь Махмуд. — Долгожданная свобода.Капитан Бессребреник с Бераром скакали впереди, миссис Клавдия, Мери и Патрик — следом за ними, а замыкали отряд Джонни и Мариус. Боб, тяжело дыша и высунув язык, бежал изо всех сил рядом с ними, стараясь не отстать. Всадники неслись во весь опор прямо на передовые укрепления противника. Немногочисленные туземцы, околачивавшиеся там, бросились врассыпную. Зато бойцы, сидевшие за второй оборонительной линией, сразу же, как только увидели белый флаг, которым размахивал Бессребреник, вскочили на ноги и закричали, приказывая остановиться. Поскольку всадников насчитывалось всего несколько человек и они не были одеты в военную форму, мятежники вели себя вначале довольно мирно. — Кто у вас главный? — спросил оглушительным голосом Берар, знавший, что с жителями Востока следует говорить громко и уверенно. Из толпы выступил гигант с нахмуренными бровями и свирепым выражением красивого, бронзового от загара лица. В руках у него была ли-метфордовская винтовка, подобранная, без сомнения, на поле битвы. Узнав факира, он даже растерялся от неожиданности: — Мир тебе, Берар! Не ожидал такой радостной встречи! — И тебе мир, Махмуд! Да будет благословен сей день, когда я вновь смог увидеться с тобой! — Чем могу быть полезен, Берар? И чего нужно этим чужестранцам? — Я их проводник и к тому же друг. Мы хотим договориться о выкупе двух английских офицеров, что у тебя в плену. Лоб мятежника, разгладившийся было при виде Берара, опять сурово нахмурился. — Не желаю и слышать об этом! — жестко отрезал он. — Но выкуп огромен, на памяти людей такого еще не было. — Я сказал — нет! Они приговорены к смерти от голода и жажды и сидят взаперти уже более двух суток. — Ты отказываешься от целого состояния, которое само плывет в твои руки! Ты не хочешь, чтобы оно досталось твоему племени? — Да, не хочу! — Но почему? — Потому что офицеры жизнью своей должны заплатить за пролитую англичанами кровь. Чужеземцы ведут с нами войну на уничтожение, дырявят нас пулями дум-дум и нас же считают дикарями! Но дикари — это они, и всех англичан, которые попадут к нам в плен, мы предадим смерти! — Подумай еще раз, Махмуд! — Нет! И хватит об этом. Как можно скорее уводи своих чужеземцев. Они вызывают у меня чувство глубокогоотвращения, и мы не трогаем их только из-за тебя. Если бы они не были твоими друзьями, я бы всех их продал в рабство! Не замечая окружавших туземцев, одетых в живописные лохмотья и с головы до ног обвешанных оружием, которые с искривленными злобой лицами мрачно взирали на европейцев сверкавшими ненавистью глазами, Мери под воздействием не осознанного ею самою импульса в недоумении, с учащенно забившимся сердцем, оглядывалась по сторонам. Хотя она никогда раньше не бывала в этом месте, ей казалось, что она узнает его. Вот эту лачугу она уже видела когда-то — возможно, во сне. Во всяком случае, хибара ей была до удивления знакома. В памяти девочки воскрешались впечатления, полученные ею во время гипнотического сна и закрепленные в сознании безграничной любовью к отцу. И она вдруг совершенно отчетливо представила себе, что именно в этой лачуге привиделись ей отец с лейтенантом, захваченные повстанцами в плен. — Вон там! Там наш отец! — исступленно закричала она, указывая на невзрачное строение. — Там наш отец! — повторил, словно послушное эхо, Патрик. — Так освободим же его! Мальчик, уже успевший стать отличным наездником, вздыбил коня и во весь опор понесся к хижине, не заботясь о том, следует кто-то за ним или нет. Сестра тотчас присоединилась к нему, а за ней — и все остальные, включая Берара: увидев, что случилось, факир резко прервал свои переговоры с главарем мятежников и кинулся вдогонку за друзьями. — Эх, — прошептал Бессребреник, — сюда бы сотню моих ковбоев из Нью-Ойл-Сити, задали бы им перцу! В нем заговорил человек действия. — Ну-ка, попробуем кое-что! — сказал он себе. Капитан подвел коня задом вплотную к хижине и, натянув поводья, вонзил в бока шпоры. Лошадь взвилась и, почувствовав позади преграду, стала изо всей силы бить по двери задними ногами. Удары копыт загрохотали как пушечные выстрелы, и дверь, не выдержав, рухнула с громким треском. Офицеры, бледные, едва держась на ногах, с трудом добрались до дверного проема и увидели всадников, и среди них — двух женщин. Одну из них майор тотчас узнал. Не веря глазам, он воскликнул: — Мери!.. Дочка моя!.. Ты ли это? — И я здесь, отец!.. И я тоже! — взволнованно закричал мальчик. — Патрик!.. Мой маленький воин! — еле выговорил несчастный отец, и на глаза его навернулись слезы. — Отец, — сказала Мери, — перед вами наши благодетели, спасители наши… — Милорд, — обратился к майору Бессребреник, — мы прибыли сюда, чтобы освободить вас или вместе с вами погибнуть. Попытайтесь взобраться на лошадь мисс Мери… Вы же, лейтенант, подсаживайтесь к Патрику… А теперь — вперед!.. И как можно быстрее! Все произошло в считанные секунды. Этот отважный план мог бы удаться лишь в четырех-пяти случаях из ста, да и то при условии, что враги придут в замешательство. И кто знает, сумели бы друзья удрать из вражеского стана или нет, если бы на их пути не встал сам дьявол в человеческом облике, возжаждавший крови и злата. Пока афридии вопили в растерянности и бестолково суетились, мешая друг другу, ему удалось собрать вокруг себя два десятка наиболее решительных бойцов и отрезать путь к отступлению. Беглецов окружили, и двадцать ружей угрожающе уставились на них своими дулами. — Биканэл!.. И тут он, этот негодяй! — зарычал Берар. — Он самый! — нагло ответил бывший брахман. Остальные тоже узнали своего преследователя, который всем им принес столько горя. Бессребреник выхватил из седельной кобуры револьвер, взвел курок и хотел уж было пристрелить его, как бешеную собаку, но тот вовремя укрылся за спинами туземцев. Тем временем подбежали другие повстанцы, и кольцо вокруг европейцев стало таким плотным, что прорвать его уже было нельзя. Это придало Биканэлу еще больше уверенности, и он изрек насмешливо: — Я следовал по вашим следам от храма богини Кали до Гаи. А там, с ведома начальника станции, сел в багажный вагон, и в Пешавар я прибыл вместе с вами. Ночью же, пока вы дрыхли как сурки, я добрался до повстанческого лагеря, и теперь вы в моих руках! Вместе со своими сокровищами! Я просто с ума схожу от радости при мысли о том, что все они достанутся мне одному! Но друзья уже не слушали его. Патрик и Мери, спешившись, как и их спутники, в отчаянии кинулись в объятия отца, который нежно прижал их к себе. Лейтенант обменялся рукопожатиями со своими спасителями. Как человек предусмотрительный, капитан Бессребреник, зная, что люди, которых они должны вызволить из неволи, умирали от жажды и голода, прихватил с собой солидный запас воды и пищи, доставленный сюда лошадьми Джонни и Мариуса. И в то время как Биканэл яростно орал туземцам: «Берите их живыми!.. Слышите, живыми!..» — а майор, забыв о перенесенных страданиях и о том, что сейчас решался вопрос жизни и смерти, словно безумный, покрывал поцелуями своих детей, Бессребреник с ободряющей улыбкой протянул лейтенанту оплетенную бутыль и сэндвич: — Поешьте и попейте, лейтенант! — Вы во второй раз спасаете мне жизнь! — воскликнул офицер, с жадностью набрасываясь на еду. Капитан смотрел на него и думал о тех муках, которые пришлось испытать лейтенанту с майором в этой проклятой лачуге. Затем славный юноша подошел к своему командиру, который все никак не мог прийти в себя от радости: — Поешьте, милорд! Перед схваткой неплохо бы подкрепиться! Подстрекаемые Биканэлом туземцы могли в любой миг кинуться на европейцев. — Где сокровища?! — вопил бывший брахман, обращаясь к друзьям. — Слышите, мне нужны сокровища! Если вы не отдадите их мне, то будете подвергнуты ужаснейшим пыткам! Тысячи туземцев осыпали в неистовстве проклятиями маленькую группку европейцев. Биканэлу достаточно было пальцем пошевельнуть, как их тут же разорвали бы на куски. Но друзья не теряли хладнокровия. Миссис Клавдия смотрела на бесновавшихся туземцев с презрительной улыбкой, Джонни сплевывал им прямо в лицо табачную жвачку, а Мариус обзывал их гориллами! Судя по накалу страстей, толпа должна была вот-вот наброситься на них. К друзьям уже тянулись нетерпеливые руки, готовые их растерзать. И Берар решился! Он вытащил из халата белую шелковую ткань и, развернув, заслонил ею европейцев от туземцев. Изображенные на полотнище пять красных ладоней свидетельствовали о том, что в руках у факира точная копия того знамени, под которым Мокрани, или Безумный мулла, вел священную войну против англичан. Никто, кроме Берара и Мокрани, не мог владеть такими стягами, так как во всей Британской Индии их было только два. Берар, обратившись к туземцам, закричал громовым голосом, перекрывавшим невообразимый гвалт: — От имени моего владыки, пандита Кришны, приказываю немедленно и безо всяких условий отпустить на свободу этих белых! Вы слышите меня, правоверные? Пандит повелевает — повинуйтесь! Горе тому, кто вознамерится пойти против воли трижды святого и трижды рожденного, стоящего надо всеми правоверными — и индусами, и мусульманами, и буддистами! Наблюдая за этой удивительной сценой, друзья понимали, что факир все поставил на карту и, если эта последняя попытка спасти их не удастся, их ждет мучительная смерть. Они невольно теснее прижались друг к другу, готовые достойно встретить конец. По толпе пронесся взволнованный гул, и туземцы подались назад: людская волна разбилась вдребезги о священную и таинственную эмблему. А затем воцарилась мертвая тишина. Опустились руки, державшие оружие, склонились головы, почтительно согнулись спины. Факир из святой обители одержал верх над неистовым фанатизмом! Увидев, что сокровища уплывают от него, Биканэл впал в бешенство. Берар опять победил! А вместе с ним и его друзья! Но радоваться им осталось недолго! Выхватив из-за пояса одного из воинов длинный пистолет с узорной насечкой, он кинулся на Берара и выстрелил в грудь. — Смерть лжецу и обманщику! — кричал он. — Смерть самозваному факиру! Смерть самозваному пандиту! Зажав одной рукой рану, из которой хлынула кровь, а в другой по-прежнему держа стяг, Берар чуть слышно шепнул Бессребренику: — Хозяин, я преступил клятву на крови… и я умираю… но вы спасены. Возьмите знамя пандита Кришны… Поднимите его повыше и держите так… Оно спасет вас. В надежде, что ему можно еще как-то помочь, европейцы кинулись к факиру. Но Биканэл осмеял благородный порыв: — Умерьте свою жалость, глупцы! Знайте, вас одурачили, и вы теперь должники Берара! Да-да, того самого Берара! Главаря бенгальских душителей! Европейцев, за исключением Бессребреника, который давно уже знал, кто их проводник и спаситель, охватил ужас. Биканэл, зло усмехаясь, продолжал: — Я хочу, чтобы вы знали, герцог Ричмондский, что этот человек — убийца вашей жены! Знайте и вы, лейтенант Тейлор, что это он затянул на шее вашего отца черный шарф душителей! С этими словами Биканэл кинулся вперед, чтобы выхватить из рук умирающего факира священное знамя. Но тут грянул выстрел, и негодяй тяжело повалился на землю с раздробленным черепом. Это Берар, собрав последние силы, вытащил из-за пояса свой револьвер и, прицелившись, размозжил голову своего заклятого врага. Гордо глянув затуманившимся взором на белый стяг, он произнес чуть слышно: — Я был лишь слепым орудием в чужих руках… Но я не жалею ни о чем, ибо прошлого не воротишь… Умирая, я с радостью погружаюсь в нирвану!..[59] Махмуд, главарь бунтовщиков, в знак примирения бросил на песок саблю и ружье и подошел к пленникам. Поклонившись знамени, которое теперь уже держал Бессребреник, он произнес: — Мы приговорили вас к смерти, и лишь всемогущий властелин, единственный во всем мире, мог заставить нас изменить это решение. У вас в руках — священная эмблема всемогущего властелина, который требует оставить вас в живых и предоставить вам свободу. И мы повинуемся этому требованию. Вы можете спокойно, ничего не боясь, вернуться на английскую территорию. Безумный мулла приказал подвести офицерам двух оседланных коней. Попрощавшись с туземным вожаком, маленький отряд с развевающимся по ветру знаменем поскакал по направлению к английской линии обороны. Через несколько минут они соединились со своим эскортом и уже вместе с ним помчались в Пешавар. В штаб-квартире их ждал горячий прием. Капитан Бессребреник, миссис Клавдия, Джонни и Мариус могли больше не опасаться английских властей. Радуясь успешному завершению эпопеи, они готовы были ринуться навстречу новым приключениям, о которых мы, может быть, когда-нибудь вам расскажем.
Конец

















Художник А. Махов
Луи Буссенар БЕССРЕБРЕНИК. СРЕДИ ЖЕЛТЫХ ДЬЯВОЛОВ
Часть первая РОЗА МУКДЕНА
ГЛАВА 1
Багряная земля, багряное небо, повсюду кровь, предсмертные крики и стоны. Две недели над долиной стоял несмолкаемый гул, пушки палили без устали, снаряды со свистом разрывали воздух. Здесь царила смерть. Теперь, когда катастрофа свершилась[1] и Азия дала Европе отпор, когда маленькие японцы прогнали русских великанов, равнины Мукдена[2] заполонили растерянные, чудом уцелевшие в сражениях люди, гонимые неизвестно куда зимним северным ветром. Это было неслыханное, сокрушительное поражение, не просто отступление, а окончательный разгром. Стремительное бегство имело лишь одну цель — спасение жизни. Постепенно грохот и взрывы сменились тишиной. Более не слышалось ни раскатов канонады, ни цоканья копыт, ни топота убегавших в сумерках войск. Наступила спокойная безлунная ночь. На темном бескрайнем небосклоне одна за другой вспыхивали звезды, как глаза любопытных, желавших взглянуть на ужасы войны. Мукденское сражение закончилось. Японцы ликвидировали последние очаги сопротивления. Завтра победители войдут в столицу Маньчжурии[3].Двое всадников легкой рысью скакали по дороге из Лао-Янга в Мукден. Лошади то и дело попадали в лужи крови или натыкались на трупы. Один из мужчин был высокого роста, с темными с проседью волосами. Когда-то красивое лицо теперь покрылось морщинами — то ли от возраста, то ли от горя. Другой — плотный коренастый коротышка, круглый как мячик, весь в веснушках, за что получил прозвище Буль-де-Сон[4], казался совсем еще мальчишкой, лет пятнадцати или шестнадцати. В этом дуэте он, веселый, с открытым лицом и с неизменной улыбкой на устах, представлял полную противоположность патрону, слегка напоминавшему Дон Кихота, и играл, без сомнения, роль молодого Санчо[5]. — Осторожно, месье, посмотрите, там люди… — неожиданно воскликнул юноша. И действительно, в стороне от дороги в темноте промелькнули тени. Двое французов тотчас спрятались за деревьями. Силуэты, пригнувшись к земле, приближались медленно и осторожно. Должно быть, здесь произошла одна из последних и самых ожесточенных перестрелок — трупы, сваленные в кучи, выглядели особенно зловеще. Зачем пришли сюда эти бродяги? Какой они национальности? Судя по росту, эти незнакомцы в длинных робах, перехваченных металлическими поясами, шерстяных колпаках, налезавших на лбы, не были японцами. Переворачивая трупы то на живот, то на спину, они с невиданным проворством снимали с несчастных одежду, опустошали карманы и срывали висевшие на шеях мертвецов украшения. У Поля Редона, наблюдавшего за происходящим, кровь стучала в висках. Но какое он имел право вмешиваться? Будучи собственным корреспондентом «Авенир», одной из центральных парижских газет, репортер[6] получил разрешение наблюдать за военной кампанией, следуя за русской армией, но при этом был обязан соблюдать строжайший нейтралитет[7]. Между тем мародеры[8] накинулись на несколько тел, сваленных в кучу. Однако среди трупов оказался живой человек. Он встал и, выпрямившись, попытался оттолкнуть злодеев. Те негодующе закричали, а один выхватил из-за пояса секиру и замахнулся. Еще мгновение — и оружие настигнет жертву. Редон выпрыгнул из укрытия и схватил убийцу за запястье. Секира полетела на землю под ругань, которую наш француз не понимал, хотя знал и русский и немного изъяснялся по-японски. Люди принадлежали к коренному населению Маньчжурии и говорили на каком-то местном наречии. Они были грубы, злобны и невежественны. Мародеры тотчас набросились на непрошеного гостя, но тот оказался очень проворным. Заслонив незнакомца своим телом, Поль резко ударил противника хлыстом. От неожиданности бандиты отступили. Затем, поняв, что их десять против одного, снова приготовились к драке. Помахивая длинными ножами, которые гораздо больше подошли бы мясникам, чем солдатам, они двигались на журналиста, окружая его. Ситуация складывалась не из приятных. Но Буль-де-Сон уже спешил на помощь патрону. Подобрав с земли упавшую секиру, он сражался как настоящий воин, ломая руки мародерам и разбивая головы. Не растерявшись, Поль подхватил один из ножей, оброненных негодяями. Он прекрасно владел приемами фехтования, и вскоре противник оказался без оружия. Страх овладел мародерами: двое храбрецов в темноте начали казаться им настоящими великанами. Отбросив нож, Поль Редон вновь схватился за секиру, с намерением сечь и сечь этих подлых негодяев. Но те, злобно ворча, удалились. Буль-де-Сон в ярости кинул им вслед несколько камней. Вскоре ночь поглотила бандитов. — Патрон, хорошая работенка, как говорят у нас в Париже! — произнес Буль-де-Сон. — Кстати, как там наш подопечный, которого вы столь отчаянно защищали? Поль Редон обернулся. Человек, которого он, рискуя жизнью, прикрывал своим телом, неподвижно лежал на земле. — Может, он умер? — спросил репортер. — Посмотрим… Буль-де-Сон склонился над телом. — Очень интересно! Не китаец, это уж точно, не японец, достаточно взглянуть на его рост. В Японии он сошел бы за великана. Может, он русский… Эй, дружище, да ты вовсе не умер, ты же только что дергал ногами… Давай просыпайся, петухи уже пропели! Человек продолжал лежать не шелохнувшись. Похоже, он погрузился в ко́му[9], но, без сомнения, был жив, поскольку слышалось тяжелое дыхание. — Подожди немного, старина, — продолжал Буль-де-Сон, — тебе необходимо подзаправиться. Эй, патрон, передайте-ка мне вашу дорожную флягу с водкой, попробую влить в него несколько глотков. Поль Редон, вытащив из кожаного футляра флягу, передал ее толстяку. — Черт, не видно ни зги, — пробормотал юноша, — я с трудом нащупал пробку, а тут еще голова закутана в капюшон. Посмотрим-ка, что там на нем… Какая-то каскетка[10] без козырька… Как колпак, вся в волосках, да еще и кусается. А! Вот его физиономия. Поль Редон подошел ближе. Вытащив из кармана маленький электрический фонарик, он посветил прямо в лицо незнакомцу. — Странно, — пробормотал он, — азиатский тип, но не похож ни на китайца, ни на японца. И в самом деле, у человека, очевидно еще довольно молодого, были удлиненные черты лица, прямой нос и вовсе не узкие глаза. Единственное, что отличало его от европейца, так это широкий, выдающийся вперед подбородок. Пока патрон изучал неизвестного, Буль-де-Сон пытался раздвинуть несчастному челюсти, чтобы влить несколько капель алкоголя. Вскоре это ему удалось. Мужчина вдруг зашевелился и повернул голову. — А! Что я говорил! — воскликнул толстяк. — Что ж, дружище, похоже, тебе обожгло нёбо. — Посмотрите-ка, — вмешался Поль Редон, — кто это ему сделал такую странную прическу, сняв волосы почти вокруг всей головы… Да у него страшный порез на черепе! — И правда, нужно промыть рану, но у нас нет воды. Ой, ой, вот так удар! И кожа содрана! Пощупаем. Кость, однако, не задета. Могу поспорить, что скоро этот малый будет на ногах. Глядите, патрон, он уже шевелится. Эй, приятель, что, если открыть глаза? Здесь твои друзья… Опасность миновала, все хорошо! Раненый открыл глаза, но, ослепленный светом фонарика, тотчас закрыл их. Даже за этот короткий миг путешественники успели разглядеть большие красивые миндалевидные глаза, мрачный и глубокий взгляд которых пронизывал насквозь. — У него такой вид, будто он не понимает, что я говорю, — сказал Буль-де-Сон. — В общем-то это неудивительно, в этой сатанинской стране мало кто говорит как парижанин. Патрон, вы у нас полиглот[11], идите пообщайтесь с ним. Возможно, он поймет какой-нибудь из знакомых вам языков. — Попробую, — отозвался Редон, — но мой китайский оставляет желать лучшего. Поль произнес несколько ласковых слов на языке Поднебесной Империи. К огромному удивлению, человек вздрогнул и, как бы отталкивая от себя кого-то, ответил на чистейшем английском: — Я не… я не хочу быть китайцем! — Хорошо, хорошо, никто вас и не заставляет, — невольно улыбнувшись, ответил репортер. — Господин, наверное, японец? Услышав такие слова, раненый чуть ли не подпрыгнул на месте и возразил еще решительней: — Нет, нет, я не хочу быть японцем! — Хм. Не русский же вы, нет? — предположил Редон. — Я вижу, вы не француз, не англичанин… не маньчжурец, как эти «честные потрошители», от которых вам только что довольно сильно досталось. Какой нации вы, в конце концов, принадлежите? Было видно, что рана, хоть и не опасная, доставляла незнакомцу нестерпимое страдание. Сделав усилие, он вновь открыл глаза и отчетливо произнес: — Я тот, у кого нет больше родины! В голосе неизвестного прозвучали вызывающие нотки, однако чувствовалось столько боли и горечи, что у репортера невольно сжалось сердце. Тут силы вновь покинули раненого. Желтое лицо покрылось смертельной бледностью. — Он снова потерял сознание, — прошептал Поль. — Кто бы он ни был, китаец или самурай[12], это еще не повод, чтобы оставить его здесь подыхать, как собаку… Буль-де-Сон! — Да, месье! — Приведи лошадей, они там, за деревьями. Мой конь достаточно силен и крепок, так что выдержит и меня и раненого. Через минуту юноша возвратился, в точности исполнив приказание. Взгромоздить на лошадь человека, находящегося в бессознательном состоянии, оказалось нелегко. Вскоре, правда, путешественникам кое-как это удалось. Поль запрыгнул в седло и, придерживая одной рукой незнакомца, другой взялся за поводья. Они поскакали крупной рысью. — Удастся ли нам приехать в Мукден до появления там японцев? — задумчиво произнес репортер. — Хм, — неуверенно протянул Буль-де-Сон, — нам нечего их бояться. Вы — журналист, это свято… к тому же у вас есть охранное свидетельство. — …Выданное русскими властями, и еще неизвестно, действительно ли оно у их врагов. В любом случае лучше об этом не думать, а скорее двигаться вперед. Поль Редон поскакал быстрее. Храбрый малый, он вновь покинул Париж и отправился в путешествие потому, что был в глубоком трауре и не находил себе места. Его обожаемая жена, урожденная Дюшато, дочь золотоискателя на Аляске[13], взявшая его фамилию, делившая с ним все самые тяжкие испытания и оберегавшая от опасностей, его бедная Жанна умерла, произведя на свет мертвого ребенка. Всегда веселый, общительный, беззаботный и остроумный парижский журналист изменился в одночасье. Он находился в прострации[14] и растерянности и вот уже в течение трех лет жил в одиночестве, равнодушный ко всему на свете, кроме своей потери. Затем вдруг вышел из оцепенения и отправился по заданию одной крупной парижской газеты прямо на русско-японскую войну. Как и многие, Поль Редон верил в победу европейцев, но после сражения при Ша-Хо (9–10 октября 1904 года) изменил свое мнение и теперь уже предвидел окончательное поражение России. Последующие события доказали правильность его выводов. Первого января 1905 года француз стал свидетелем падения главного оплота могущества русских — Порт-Артура[15], который выдержал двадцать ужаснейших приступов и все-таки капитулировал. Затем последовало поражение при Хай-Ку-Тай, и японцы, наконец, проникли в Маньчжурию. Разразилось великое сражение под Мукденом. Первого марта 1905 года, окружив русскую армию в Нои, японцы нанесли сокрушительный удар, окончательно разгромив ее. У Поля Редона сжималось сердце при мысли о России — давнем союзнике и друге Франции, которая попала в столь бедственное положение, но он все же надеялся на лучшее. Тринадцатого марта корабли Рожественского[16] прошли Мадагаскар[17] и через несколько дней должны были прибыть в Сингапур[18]. Они представляли огромную опасность для противника, с которой приходилось считаться, и вмешательство их могло изменить расстановку сил воюющих сторон. Репортер торопился попасть в Мукден. Конечно, русские могли собраться с силами и организовать оборону, ведь они были смелыми и могучими воинами. Еще Наполеон говорил, что надо не просто убить русского, а еще и подтолкнуть, чтобы тело упало. Поль подгонял своего коня, который, казалось, не чувствовал ни усталости, ни тяжелой ноши. Всадники миновали густой лес, где недавняя резня была особенно жестокой. Не осталось ни единого дерева, на котором не висело бы по трупу, и ни единого куста, в зарослях которого не валялись бы вперемешку тела погибших в последнем бою. Не слышалось ни вздоха, ни шороха, только вороны кружились, призывая своих сородичей разделить погребальную трапезу. — Жуть! — проворчал Буль-де-Сон. — Никак не назовешь это приятной прогулкой! — Мужайся, мой мальчик, скоро мы будем в деревушке Паркен, а оттуда идет последний участок дороги в Мукден. Там мы отдохнем немного, но только после того, как наш раненый будет в безопасности. Журналист был прав: забрезжил рассвет, и вдалеке у дороги показалось несколько маньчжурских хижин. — Скажите, патрон, вы ничего не слышите? — А что? — Шум какой-то, чертовски напоминает топот лошадей… — Наверное, это русские бегут в Мукден… Выехав из леса, путешественники оказались на открытой равнине, где их силуэты прекрасно просматривались со всех сторон на фоне поблекшего неба. Раздался выстрел, за ним другой, и вокруг засвистели пули. Поль Редон мгновенно сообразил, что это предупредительный огонь, и придержал коня. Буль-де-Сон последовал его примеру. Оба подняли руки вверх, и тотчас неизвестные всадники нагнали их. — Tomari mas ho! (Ни с места!) — послышался резкий голос. И в одно мгновение французы оказались в окружении. Но это были не русские, нет, то оказались японцы.
ГЛАВА 2
Вокруг Поля Редона и его спутника образовалось плотное кольцо из низкорослых людей, каждый — в темной, перетянутой поясом униформе с металлическими пуговицами. Ружья были подняты и готовы к стрельбе. К пленникам приблизился офицер и произнес несколько слов на японском, обращаясь к репортеру. — Я не понимаю, — ответил тот, — я француз и не говорю на вашем языке. Вы говорите по-французски? — Да, — отчетливо произнес офицер, а затем продолжил со специфическим акцентом, слегка растягивая и коверкая большинство слов: — Кто вы? Что здесь делаете? Куда направляетесь? — Еще будут вопросы? — холодно спросил журналист. — Кто я? Француз, военный корреспондент одной парижской газеты. Что делаю? Рискуя жизнью и терпя всяческие неудобства, слежу за кампанией. Я без оружия, что говорит о соблюдении мной абсолютного нейтралитета. Куда иду? Передвигаюсь с места на место, сейчас я еду в Мукден, где рассчитываю найти русский генштаб, при котором я аккредитован[19]. Вот мои документы. — Значит, вы принадлежите к вражеской армии. — Ни вражеской, ни дружеской… Я сохраняю нейтралитет. В этот момент раненый, которого Редон, желая защитить, инстинктивно прикрыл полами своего плаща, неожиданно спрыгнул на землю и побежал в сторону. Офицер тотчас сделал знак, солдаты набросились на беглеца и, несмотря на его отчаянное сопротивление, окружили несчастного. Круг людей сжался сильнее, о бегстве нечего было и думать. — Ха-ха! Это еще кто такой? — резко прозвучал голос японца. — Я полагаю, он не француз, и тем более не журналист. Незнакомец, которого очень крепко держали за плечи и руки, все же выпрямился и, посмотрев прямо в лицо офицеру, произнес: — Я был ранен… умирал, и французы подобрали меня с поля боя. — Что вы делали на поле боя? Вы сражались против нас? — Я не сражался… — Вы, конечно, прогуливались под градом пуль и снарядов. Хватит болтать! Вы — кореец, не так ли? — Да, я — кореец. — И вы находились среди русских, вы сражались в рядах русской армии. Все ясно: вы — шпион. — Шпион? Я? — А эти двое — ваши сообщники. — Как бы не так! — закричал Редон. — Вы, мелкий японский коротышка, вы начинаете мне надоедать! Среди кучи мертвецов я нашел живого и подобрал его. Я только выполнил свой долг человека и француза, и это вовсе не дает вам права оскорблять меня. — Вы оказались вместе с корейцем, который сговорился с нашими врагами. Я не желаю вас больше слушать. Мы берем вас в плен. — Будьте осторожны, журналиста, не принимающего участия в сражениях, уважает любая нация, и Франция спросит с вас за действия, которые нарушают международное право, — парировал[20] Редон. — Месье, — холодно произнес маленький человек, — вы прекрасно говорите на французском, но я не понимаю всех тонкостей… Я встретил вас со шпионом… — Вы лжете! — закричал кореец. — Еще раз повторяю: я — не шпион. — Хотелось бы верить, но не мне это решать. Вы пойдете со мной. — Куда вы нас поведете? — поинтересовался репортер. — Именно туда, куда вы и направлялись, в Мукден. — Как? В Мукден? — Да, туда. В настоящий момент он должен находиться в руках японцев. — Откуда вам это известно? Вместо ответа японский офицер пожал плечами, затем быстро отдал несколько коротких приказов. Редона заставили слезть с коня. Буль-де-Сон, не сводя глаз с хозяина, сделал то же самое и встал рядом в ожидании дальнейших приказаний. Репортер отнесся к приключению философски: похоже, он смирился с мыслью, что ошибся. У него был один, плохой или хороший, принцип — всегда идти вперед наугад, не останавливаясь на полпути, и, будучи человеком, который более не дорожил жизнью, он зачастую сталкивался со смертельной опасностью. В конце концов все образуется! Но кто, черт побери, был этот несчастный кореец с таким умным лицом, на которого наш герой то и дело посматривал с любопытством и из-за которого он попал в столь затруднительную ситуацию? Шпион! Почему бы и нет, в конце концов! В таком случае положение Поля Редона становилось более чем щекотливым. Дело заключалось в том, что поведение незнакомца казалось довольно странным. Редон даже подумал, что этот человек специально разыграл обморок, чтобы ничего не объяснять, а потом стоило только ему захотеть улизнуть от японцев, как сознание вдруг вернулось. Маленькие приземистые суетливые японцы быстро образовали колонну, оставив в середине место для пленников. Все оказалось так умело организовано, что о бегстве нечего было и помышлять. Кореец, похоже, забыл о своей ране. Он выпрямился, расправил плечи и теперь был ростом с Редона. Офицер, заняв место во главе колонны, четко печатал шаг — раз-два, раз-два… Впервые оказавшись среди японцев, журналист с удивлением отметил, с каким вдохновением эти маленькие человечки подчинялись командиру. Редон восхищался простотой военного построения и точностью движений. Француз взглянул на корейца, возвышавшегося над колонной, и заметил в его умных живых глазах неприкрытую ненависть. У незнакомца были тонкие черты лица, ухоженные, хоть и короткие пальцы рук, и, несмотря на ветхость костюма, манеры поведения пленника выдавали аристократическое происхождение. Кореец — это слово мало что говорило французу, и не потому, что он не знал этнографии Дальнего Востока, а, скорее, потому, что не мог прочитать всего того, что было написано в книгах. Ведь до настоящего времени Корея[21] находилась на оконечности азиатского континента, образуя полуостров, омываемый Японским и Желтым морями, и граничила одновременно с Китаем в районе Маньчжурии и с Российской империей в районе Владивостока, и слыла Богом забытой страной… «Королевством-отшельником» называли ее одни, землей «Спокойной Зари» называли ее другие. Франция, Америка, Россия и, наконец, Япония поочередно пытались проникнуть туда и закрепиться в этих краях. Но одних оттолкнуло море, других разочаровала сушь и бесплодие земель. И Корея осталась вассалом Китая, хотя в действительности сохранила независимость. Было известно, однако, что Сеул[22] кипел ужасными дворцовыми интригами, вспыхивали восстания, люди убивали друг друга… так что в этой стране Спокойной Зари то и дело проливалась кровь. Человек, которого разглядывал Редон, этот кореец, которому он спас жизнь ценой собственной свободы, не снимал с лица маску таинственности. Двигаться стали быстрее, и трем пленным пришлось ускорить шаг. Буль-де-Сон ворчал, поскольку ему жали ботинки. И зачем они ввязались в это дело? Если бы они не задержались с этим незнакомцем, то уже догнали бы русских. А вместо этого что? Что их ждет? Какой у них все-таки неприятный вид, у этих маленьких японцев — желторожие, с узкими глазами, как у разъярившихся кошек. Тем временем Редон решил все выяснить. Он приблизился к раненому, который, к его удивлению, чувствовал себя превосходно, как будто и не было того глубокого обморока, чему француз сам был свидетелем. — Послушайте, — произнес он очень тихо, — вы видите, в какое положение мы попали из-за вас… Не кажется ли вам, что хотя бы из вежливости стоит рассказать мне, кто вы и что делали на поле битвы. Мужчина молча скосил на спутника черные глаза, похожие на два горящих уголька. Редон начал раздражаться. — Ваше молчание граничит с неблагодарностью или, по крайней мере, с невежливостью. Мне кажется, я заслуживаю несколько другого отношения. И вот еще, прошу вас говорить со мной откровенно. Кореец, подняв голову, произнес каким-то странным, похожим на стон голосом: — Вы хотите знать мое имя?.. Меня зовут Мститель. Шпион ли я? Нет. Я ненавижу и японцев, и русских, а впрочем, и всех европейцев — французов, англичан и прочих, кто бы они ни были… Я — одинокий кореец из Королевства-отшельника, где вы нарушили покой. Я — дитя Спокойной Зари, которую вы потревожили. Не спрашивайте больше ни о чем… я не отвечу. — Значит, это правда, что вы не сражались в одном ряду с русскими? — Я? Лев не дерется вместе с гиенами[23]. — И последнее… Я — француз, а вы утверждаете, что ненавидите меня. Однако я оказал вам услугу, стало быть, вы — мой должник. Хотите что-нибудь спросить у меня? — Нет. Вы теперь пленный, а я сбегу и вновь займусь прерванным делом. Не старайтесь узнать меня лучше, забудьте — это гораздо безопасней. Этим советом я плачу́ вам мой долг. Пусть каждый пойдет своей доро́гой. Это все, что я хотел сказать. Склонив голову и скрестив руки на груди, кореец безучастно продолжил путь. — Послушайте, патрон, — шептал на ухо своему хозяину Буль-де-Сон, — я ничего не понял из вашего разговора, но если мои уши мало что слышали, то глаза, по крайней мере, видели хорошо, и вот что я вам скажу: остерегайтесь этого грязного глухонемого… Клянусь честью, он способен на все и даже на самое худшее. — Я не боюсь его, больше того, он меня заинтересовал. — Вы слишком добры, патрон. — Замолчи… Мы много болтаем, нас могут заподозрить… Но что-то там снова произошло… Действительно, какое-то странное волнение охватило японский армейский корпус[24]. Офицеры прокричали команды, солдаты приготовили оружие. Подошел японец, недавно разговаривавший с Редоном. — Наша разведка доложила, что казачий полк собирается атаковать нас… Какие-то остатки русской армии… Нам необходимо будет сразиться. Вам известно, каковы правила военного времени? Если я заподозрю вас во враждебных действиях, мой долг расстрелять вас без предупреждения. Я слышал, что французы очень щепетильны в вопросах чести. Дайте слово, что не предпримете ничего против нас. Пожалуйста, вы можете находиться вне сражения, и если не сбежите, то я предоставлю вам свободу. — С удовольствием сделаю то, о чем вы просите. Я — ваш пленный и им останусь. Можете не беспокоиться ни за меня, ни за моего помощника. — Хорошо. Отдав честь, японец повернулся на каблуках и громко скомандовал. Четверо солдат тотчас окружили корейца. Тот оставался в неизменной позе, с опущенной головой и скрестив руки на груди, как будто ему было безразлично происходившее вокруг. Редон догадался, что может произойти, и бросился наперерез. — Что вы собираетесь сделать с этим человеком? — закричал он. — Он не француз, а обыкновенный шпион. По законам военного времени я уничтожу его. Обхватив корейца руками, репортер громко сказал: — Вы не совершите подобного преступления. Когда убивают во время сражения, пусть! Но хладнокровно зарезать человека только лишь по подозрению, не имея доказательств… Японец вытащил шпагу, солдаты приготовились стрелять. — Почему вы не взяли с него слова так же, как с меня, что он не убежит? — Потому что он — шпион, и я не верю ему. — Но вы же поверили мне! Ладно! Не убивайте этого человека, я поручусь за него. — Вы? — Я отвечаю за него, говорю вам. В этот момент раздались дикие крики и громкое «ура». Офицеру необходимо было, не теряя ни минуты, занять место во главе колонны. Казаки с шашками наголо стремительно скакали к группе японцев. — Я полагаюсь на вас! — крикнул японец Редону и быстро удалился, чтобы принять участие в уже начавшемся сражении. Японцы встретили противника оглушительным грохотом ружейных выстрелов. Лошади спотыкались и падали, роняя своих седоков. Однако русские, придя в ярость, жаждали крови. Волны свинца накатывались без остановки, и тем не менее казакам удалось проникнуть внутрь квадратного построения неприятеля и завязать рукопашный бой. Разгорелась еще одна жестокая битва, где лицом к лицу столкнулись не люди, а дикие звери, готовые разорвать друг друга в клочья. Не имея права участвовать в боевых действиях, Редон бросился в ров, увлекая за собой Буль-де-Сона и корейца. Там, по крайней мере, они были в безопасности. Шла ожесточенная борьба, хотя победа все равно ничего не решала. Казаки дрались так отчаянно, как будто им оставался лишь один глоток воздуха. Поднявшись на цыпочки, репортер высунул голову из канавы и наблюдал за ужасной баталией. Его человеческая природа страдала при виде этого разгула жестокости. Буль-де-Сон подошел и встал рядом. Происходящее так потрясло юношу, что его стало тошнить. Хорошо владея собой и будучи очень сдержанными, японцы дрались молча, движения их были точны, и удары достигали цели. Казаки с бешеной яростью и воплями налетали на противника. Кто, в конце концов, будет повержен в этом сражении, кто задавит своего врага?.. Едва лишь кто-нибудь отступал, как его тотчас начинали преследовать. Японцы гнали русских до конца, до последнего выстрела. Затем офицеры отдавали команды, ряды смыкались с безупречной точностью, и уже никто не мог бы подумать, что только что в них были бреши. Редон невольно восхищался: эти маленькие солдаты потрясали его своей стойкостью и храбростью. Теперь француз понял, почему им удалось побить русских и почему они побьют их еще… Репортер заметил молодого офицера, чьим пленником он являлся, который подбирал мертвых, лежавших у дороги. Поскольку японец проходил мимо рва, в котором они спрятались, Редон не мог воспротивиться желанию заговорить: — Ваши пленные приветствуют вас, вы — настоящие бойцы! — А! Вот вы где! Очень хорошо, что сдержали слово… — Это по-французски, — ответил Редон. — Пойдемте, друзья, нам предстоит нелегкая дорога в Мукден. Взмахнув рукой, репортер обернулся. И тут он и Буль-де-Сон одновременно вскрикнули от удивления: кореец исчез.ГЛАВА 3
Но каким образом? Не сквозь землю же он провалился?.. Единственно, что можно было сказать с уверенностью, что рядом корейца больше не было. Редон почувствовал, как его лоб покрывается холодным потом. Нет, он не боялся гнева японца, который мог обрушиться на него, но то, что он поручился и не сдержал сло́ва, мучило француза. Он пробежался по рву из конца в конец и обратно, разыскивая следы исчезнувшего незнакомца. — Я говорил вам, что он негодяй… Внезапно возмущенные выкрики донеслись до ушей пленников. Японский офицер обнаружил наконец, что его обманули, а поскольку Редон и Буль-де-Сон на минутку отлучились в поисках пропавшего, то офицер, не сомневаясь, что и они тоже сбежали, стал осыпать беглецов проклятиями и оскорблениями на своем языке. Подбежав к японцу, репортер на плохом японском попытался его образумить. — Я запрещаю вам так говорить. Я сдержал свое слово, кто может это отрицать? Кореец смылся, что поделаешь, но я-то ведь в ваших руках! Офицер был очень разгорячен сражением, в котором только что принял участие, и, увидев рядом с собой француза, распалился еще сильнее. Он вытащил из-за пояса револьвер и направил дуло в голову репортеру. Редон тотчас схватил его за запястье и, крепко держа, тихо произнес: — Каково бы ни было преступление, которое вы приписываете мне и моему компаньону, вы не имеете права убивать нас. У нас нет оружия, и мы не сражаемся ни на чьей стороне. Японец почувствовал крепкую руку француза, державшую его, однако не проронил ни звука, не отдал приказа, чтобы прибежали солдаты и продырявили строптивого иностранца перепачканными кровью штыками, и никого не позвал на помощь. Эта сцена происходила в двух шагах от поля боя, где люди только что убивали друг друга, и была не менее зловещей. Прошло мгновение. В душе японца шла борьба дикаря с человеком, не лишенным культуры. Офицер был бледен, боль в руке стала невыносимой, но он знал, как ее переносить, не показывая вида. Лишь голос, звучавший немного хрипло, выдавал его: — Хотите сдаться? — Сдаться? Что за странное выражение… Мы и так в вашей власти, мы согласились остаться вашими пленниками, вот и все. — Где кореец? — Черт его знает! Он исчез, как мускатный орех в руках фокусника. — Вы поручились за него… — Кто отрицает? — Вы настаиваете, что не знали его раньше? — Разумеется. Я не знал его прежде. Незнакомый человек, и все. Японец, презрительно усмехнувшись, посмотрел прямо в лицо французу. Он чувствовал, что не стоит отдавать солдатам приказ расстрелять пленников. Затем, мгновенно приняв решение, офицер произнес: — Идите в Мукден. Там военный трибунал решит, что с вами делать. Вновь двое путешественников оказались в окружении надежной охраны. — Это еще не конец истории, — ворчал Буль-де-Сон. — Куда они, черт возьми, нас ведут? Какой недобрый вид у этих маленьких обезьянок. — Мальчик мой, — отвечал Редон. — Вот что я тебе скажу: когда не в чем себя упрекнуть, остается лишь ждать дальнейших событий. — А что, если нам сбежать? — Не говори глупостей! Мы не сделаем и двадцати шагов, как сотни пуль уложат нас на землю. Пойдем, друг мой, забудь об этом и не ворчи. Вот увидишь, все образуется. Они шли и шли. Из-за раненых движение происходило очень медленно. За Редоном и его компаньоном пристально следили, хотя офицер куда-то исчез и, казалось, не проявлял к ним больше интереса. Очевидно, ему не терпелось снять с себя ответственность. Наступил день. Солнце поднялось высоко и теплыми лучами освещало долину. Печальный Маньчжурский край походил на пустыню. Вдруг легкий ропот пронесся по колонне. Низкорослые японские солдаты, мужественно выполнявшие свой долг, хоть и старались держаться бодро и увереннопечатать шаг, на самом деле устали, были голодны и хотели пить. — Мукден! — со вздохом облегчения произносили они. Показались белые стены большого города, древней столицы маньчжуров, откуда некогда вышла династия, правившая Китаем в течение трех столетий, колыбель, хранившая могилы суверенных[25] особ, что-то вроде Мекки[26] на Дальнем Востоке. Это был вход в новый мир. Сквозь дым пожаров, плывший по воздуху, как облака, виднелись башни, колокольни и колонны, вонзавшие свои белые шпили прямо в небо. Возникла заминка. Проходы в двух стенах, окружавших город, оказались настолько узкими, что армия-победительница с трудом протискивалась внутрь. Кажется, русские оставили город. Возможно, они собрали войско где-то дальше по направлению к Харбину[27] или Владивостоку, чтобы еще раз испытать судьбу. Небольшая колонна, зажатая среди батальонов, где офицеры перемешались с толкающими друг друга солдатами, постепенно втянулась в город. При ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не таким красивым, как издали, и скорее напоминал большую свалку. Внезапно колонна остановилась перед небольшим черным зданием — казармой или монастырем. Пленников впихнули внутрь под мрачные своды. Редон и Буль-де-Сон очутились в просторном помещении, похожем на казематы, где находилось около сотни живых существ. Протестовать не имело смысла, и французы стали пробираться сквозь толпу. Кого здесь только не было — встречались представители всех национальностей русского Востока, мужики с Волыни, казаки и кавказцы, все те, кто жил на берегах Черного и Балтийского морей, и сибиряки, а также жители приграничных с Афганистаном районов и с берегов Оби и Волги. Все эти несчастные когда-то приехали сюда, поверив в победу. Теперь они выглядели ужасно: грязные, измученные, они давно потеряли человеческий облик. Посеревшие лица и потухшие глаза — ни одного из них не узнала бы и родная мать. Дух смерти и проклятья витал над толпой. И надо же было попасть сюда Полю Редону, миллионеру, сколотившему богатство на Аляске, и юному Буль-де-Сону, настоящее имя которого было Атанас Галюше, пареньку с пустыми карманами, но добрым сердцем и открытой душой. Увиденное произвело на юношу неизгладимое впечатление. Он попытался подыскать не самое грязное место своему хозяину. Это оказалось нелегко. Повсюду валялись несчастные, у которых уже не было сил, а может быть, и желания передвигаться или реагировать на что-либо. Стояла страшная вонь от рвоты и испражнений, стены вызывали отвращение при одной лишь мысли о прикосновении. Но Поль не жаловался. Ни единый мускул не выдал его страданий. Буль-де-Сон нашел наконец прямо над бойницей подходящий камень, на который вполне можно было присесть. Там, во всяком случае, они смогут отдохнуть и подышать свежим воздухом. Сначала Редон воспротивился, считая, что есть другие, кто слабее его. Но юноша не хотел ничего слушать. — Послушайте, патрон, мне надо еще походить тут по сторонам, поэтому я должен знать, что вы здесь, чтобы я мог найти вас в любой момент. Будьте так любезны, сядьте на этот булыжник и ведите себя благоразумно, ожидая меня… Не бойтесь, я вас не брошу, но я хочу разведать, что происходит вокруг. Редон, не любивший спорить, подчинился. Он уселся на камень и, будучи безразличным ко всему, что его окружало, вскоре погрузился в свои мысли. Буль-де-Сон тем временем размышлял вслух: — Для начала надо пошире открыть глаза и уши. Японцы не людоеды, стало быть, у них нет желания откормить нас как следует. Они оставили весь этот люд подыхать от голода либо от какой-нибудь эпидемии, которая вот-вот может вспыхнуть, и тогда будут освобождаться места для других. Все эти существа отупели и одичали, кроме нас с патроном. Мы двое пока не потеряли здравого рассудка, и надо им воспользоваться. Сначала обследуем место. Юноша стал продвигаться, перешагивая через уставших людей. Большинство спали теперь крепким сном. Иногда он случайно задевал кого-нибудь, и тот невнятно ворчал. Некоторые лежали с открытыми глазами, но их безразличные взгляды равнодушно следили за ним. Юноша попробовал поболтать с пленниками о том о сем, но ничего не получилось. Он обращался к ним, люди бормотали что-то в ответ, и на этом диалог заканчивался. Буль-де-Сон дважды обошел зал. Конечно же это была тюрьма, вернее, некая разновидность монастыря ламы[28] — с нишами в стенах. Лица узников, искаженные гримасами, были, увы, далеки от буддийской невозмутимости… Внезапно послышался металлический звон, засов отодвинулся, и в отворившуюся дверь ввалилась новая группа пленных. — О! Не надо больше! — простонал юноша. И вдруг ему в голову пришла безумная идея. Воспользовавшись слегка приоткрытой дверью, толстяк одним прыжком оказался снаружи. Тотчас раздались резкие выкрики, и солдаты с остервенением набросились на беглеца. Видимо, японцы обладали повышенным чувством ответственности и не могли допустить, чтобы кто-то из пленных бежал. Мгновенно скрутив юношу, они попытались водворить его обратно, но тот отчаянно сопротивлялся, крича во все горло: — Ко мне! На помощь! Убивают! Никто его не понимал, однако резкие крики разожгли ярость людей. Пятьдесят против одного… Буль-де-Сон кричал, что он француз, что его должны уважать, что он будет жаловаться послу… в Мукдене. Все оказалось напрасно. Увидев белого и приняв его за русского, толпа навалилась и наверняка задавила бы несчастного, как вдруг кто-то резко спросил: — Nani ga desuka?[29] Почти задохнувшийся Атанас Галюше с трудом различил японского офицера и сразу же узнал его по золотым галунам[30] на каскетке. Тот, бросившись в самую гущу дерущихся, оттолкнул нападавших. Он говорил, говорил без умолку, и солдаты наконец сгруппировались вокруг него. Толпа оказалась недовольна подобным вмешательством — как же, у них отняли добычу! Люди возмущались, кидались на солдат, которые тем временем образовали квадрат вокруг чужеземца. Подошел другой офицер и заговорил с первым. Буль-де-Сон внимательно наблюдал за ними, не понимая ни слова. О чем, черт побери, они говорят? Похоже, офицеры, нет, не спорили, а скорее что-то живо обсуждали. Первый офицер носил галуны капитана, второй — лейтенанта, тем не менее лейтенант говорил гораздо громче и настойчивее капитана. «Тьфу ты, черт! — подумал юноша. — Чем это все обернется?» Однако у него не было времени на размышления, поскольку двое офицеров, похоже, пришли к согласию. Лейтенант громко и четко отдал приказ, который понравился толпе. Она встретила его слова радостными и одобрительными возгласами. — Вот дьявол! — пробормотал Буль-де-Сон, пародируя Кромвеля[31], сам не подозревая об этом. — Уж не поведут ли меня, случайно, на казнь? Солдаты сомкнули ряды вокруг пленного. О бегстве нечего было и думать. Несчастному оставалось лишь смиренно дожидаться решения своей участи. Однако даже в таком окружении юноша думал лишь о том, как бы найти выход из создавшегося положения. Возможно, ему представится такой случай. Молодого человека заставили идти быстрым шагом. Капитан шел рядом, а лейтенант руководил процессией. — Раз, два! Раз, два! — командовал лейтенант, и маленькие японцы шагали за ним. «Черт возьми, они так торопятся, как будто за ними кто-то гонится. Что они хотят сделать со мной?» — размышлял на ходу француз. Буль-де-Сона провели по одной из главных улиц Мукдена, чью красоту он вряд ли смог оценить. Страшный беспорядок, суета и толкотня царили вокруг, тем не менее эскорт продвигался. Постепенно дома стали выглядеть солиднее. Юноша увидел церковь, здание банка и даже театр, но у него не было времени на заметки. Вскоре шествие остановилось у здания под крашеной черепичной крышей с навесами по углам в китайском стиле. Вот и подъезд. Сделав пять или шесть шагов по мраморной лестнице, они очутились у закрытых дверей. Начались переговоры. Японцы что-то объясняли, младший офицер внимательно слушал. Похоже, все было не так просто. В конце концов договаривающиеся стороны пришли к согласию. Капитан не отходил от Буль-де-Сона ни на шаг, и, когда двери отворились, они оба вошли внутрь, а лейтенант вернулся к отряду. Француз с японским капитаном остались одни в просторной комнате, походившей на вестибюль. Снаружи бесновалась толпа. Вскоре появились другие солдаты, которым и был вверен пленник. Паренек чувствовал, что подходящий момент, чтобы устроить шум, еще не наступил, и вел себя спокойно. Капитан сказал юноше несколько слов, из которых тот ни единого не понял, но, правда, ответил исключительно вежливым «угу». Повернувшись, офицер исчез за дверью. Солдаты с любопытством наблюдали за незнакомцем. Француз! Для них он был кем-то совершенно диковинным. Эх, если бы они могли поговорить! Но никто не знал эсперанто[32]. Примерно через четверть часа офицер, старый японский вояка с кошачьими усами, появился вновь. Он сделал солдатам знак, и те, сгруппировавшись вокруг француза, повели его дальше. Шли они недолго: дверь, длинный коридор, затем другая дверь с двумя створками, перед которой стоял часовой с суровым лицом. Капитан сказал ему что-то, и они вошли внутрь. Буль-де-Сон с трудом сдержал возглас удивления — так все напоминало зал французского суда. В глубине стояла массивная стойка, стол, покрытый зеленой скатертью, за которым сидели трое мужчин, неподвижных и прямых, словно они проглотили аршин. Без сомнения, военные. У того, что сидел посередине, было худое, узкое лицо, маленькие черные глазки с жестким пронизывающим насквозь взглядом. Справа расположился добродушный толстяк, а слева — настоящий майор, желтый, как айва[33]. Буль-де-Сон не ошибся: он находился в здании трибунала. Перед судьями стояли человек двадцать в лохмотьях и с отупевшими лицами, которым задавали вопросы. Напрасно молодой человек прислушивался изо всех сил, он не понял ни слова из того, что монотонно произносил главный судья. Оборванцы имели вид мародеров. Во время допроса им предъявляли украшения, оружие, которые те, без сомнения, украли. Всем выносили один и тот же короткий приговор. Один за другим люди с перекошенными лицами и обезумевшими глазами выходили из зала. Время от времени слышались ружейные выстрелы. Буль-де-Сон нервничал. Догадавшись, что происходит, он задавался вопросом, не случится ли то же самое с ним. Если бы, по крайней мере, удалось спасти патрона! Наконец наступила очередь француза. Капитан, сопровождавший юношу, первым подошел к судьям и изложил суть дела и конечно же то, как он вырвал иностранца из хищных когтей толпы, не зная при этом, кто он. Внимательно выслушав рассказ, председатель посмотрел на француза и сделал ему знак подойти. Солдаты отступили, а Буль-де-Сон услышал наконец знакомые слова. — Подойдите ближе, — произнес японец, немного грассируя[34] и с мягким забавным акцентом. — Вы говорите по-французски? — Конечно, месье, к вашим услугам. — Как вас зовут? — Атанас Галюше, — отвечал Буль-де-Сон. — Вы — француз? — Уверяю вас, я родился в Париже на Лиль-де-Франс, мне стукнет семнадцать, когда зацветут вишни. Юноша знал свою силу и хотел вызвать улыбку на безучастно серьезном лице главного судьи. Это, однако, оказалось нелегко, тот продолжал оставаться суровым. — Расскажите мне, что с вами случилось и как вы попали в руки наших солдат. Буль-де-Сон понял, что сейчас не время шутить и лучше быть откровенным. Тогда очень вежливо и по возможности ясно он изложил факты, и главное — что он состоит на службе у журналиста, корреспондента одной из крупных парижских газет. Профессия репортера — находиться в самых горячих точках и наблюдать за происходящим, чтобы потом рассказать об этом. Буль-де-Сон с патроном выехали из Лао-Янга и почти наугад отправились путешествовать по Маньчжурии. В пути они столкнулись с мародерами, которые грабили трупы. Среди мертвых оказался полуживой, которого они подобрали и взяли с собой, не зная, кто он, а просто из чувства сострадания, поскольку тот нуждался в помощи. Вскоре французы встретились с многочисленным отрядом японцев. Последовал арест. Все это юноша рассказывал очень убедительно и проникновенно. Председатель, не переставая писать, отдал какое-то распоряжение солдатам, затем, повернувшись к капитану, молча стоявшему рядом, сказал по-японски: — Пусть приведут журналиста. — Я сам за ним схожу, — ответил тот. Нет ничего глупее, чем распинаться перед истуканами, которые не возражают, но и не проявляют никакого интереса. «Можно подумать, что я разговариваю со стеной, — размышлял Буль-де-Сон. — Если бы, черт возьми, я только мог догадаться, о чем думает этот тюфяк». Юноше не удалось разжалобить судей. Те слушали его с потрясающим равнодушием. В военное время трибунал не особенно разбирался с пленными — ставили к стенке, производили несколько выстрелов и дело с концом. Паренек любил приключения и частенько сталкивался с ними в жизни. Главное для него было — не потерять выдержки и присутствия духа. Спустя несколько минут в зал суда привели его патрона. Буль-де-Сон едва не вскрикнул, увидев его. Поль Редон предстал перед судьями. Руки были связаны за спиной. Почему? Ведь юноша до сих пор оставался свободным. Репортер был бледен, но держался прямо, высоко подняв голову, и смотрел на судей гордо, почти вызывающе. С помощью нескольких слов, которые он знал по-японски, Редон попытался объяснить судьям, что он француз и соблюдает нейтралитет. Увидев, что его понимают, он стал живо протестовать против самого судебного процесса, считая его недостойным цивилизованной нации. Председатель казался спокойным. По-видимому, он решил не вступать в дискуссию. — Я предоставлю вам возможность для объяснений, — произнес он равнодушно. — Послушайте сначала, в чем вас обвиняют. Теперь капитан уступил место офицеру, производившему арест, который в свою очередь изложил факты. Председатель перевел их Полю Редону. Выяснилось, что репортер был задержан при чрезвычайных обстоятельствах. Он нашел и подобрал на поле боя человека с тем, чтобы помочь ему бежать. Когда же японские солдаты схватили их, он сказал, что якобы не знает того, которого защищал. Но при первой же возможности француз помог незнакомцу совершить побег. Надо добавить к этому, что кореец оказался шпионом, а кроме того, опасным конспиратором. Корейцы и так уже ополчились против японцев, когда те вошли в Сеул, и теперь старались отомстить при каждом удобном случае за несправедливое, по их словам, вторжение. Японцы постоянно испытывали на себе ненависть отдельных фанатиков[35], которые преследовали войска на всем пути их следования, убивали одиночек, устраивали поджоги и взрывы. Получалось, что Поль Редон, назвавшись французом и журналистом, на самом деле является одним из соучастников, а стало быть, и его случай подлежит рассмотрению военного суда. — Теперь, когда вы ознакомились с обвинением, — сказал председатель, — защищайтесь. Мы готовы выслушать вас. К этому времени у Редона поднялась температура, к тому же он смертельно устал и чувствовал себя отвратительно. — Вы ничего не хотите слышать о правах человека! — вспылил он. — Что я сделал такого, что не пристало бы делать? — кричал репортер. — В куче трупов я заметил живого человека, который еще дышал, а мародеры собирались добить его, чтобы выпотрошить как следует. Я действовал по велению сердца, защищая умирающего от вампиров[36], бесновавшихся вокруг. Повторяю еще раз, я знать его не знаю. Вы говорите, он кореец? Может быть, но я ничего не ведаю о межнациональной вражде между соседями… Совершенно холодным тоном председатель произнес: — Зачем вы сказали, что будете отвечать за этого человека? Вы хотели, чтобы он избежал правосудия, которое должно свершиться над любым шпионом, пойманным на поле битвы. — Потому что я не мог допустить, чтобы расстреливали раненого и беззащитного. — А мы считаем, что вы прекрасно знали, что он улизнет, и хотели лишь выиграть время. — Это наглая ложь! Я не могу и не хочу оценивать поступок этого несчастного, однако я согласен с тем, что несу ответственность за его побег. И даже если я потерял доверие в ваших глазах, я остаюсь честным и порядочным человеком и запрещаю вам меня оскорблять. — Мальчишка, который был с вами, этот маленький француз, ваш слуга? — Это мой друг и брат. Вы не имеете права делить мою вину с ним. Я один буду отвечать за то, что случилось. — Не говорите так, патрон. — Голос Буль-де-Сона прозвучал как выстрел. — То, что вы сделали, справедливо и достойно уважения. Я рад, что помог вам. Трех судей, однако, подобное заявление совершенно не тронуло. Допрос был закончен, дело оказалось улаженным в самом плохом смысле этого слова. К судьям тем временем подошел капитан. — Каждый обвиняемый имеет право на адвоката, — сказал он по-французски. — Я выполню эту роль. — Кажется, он — большая шишка, — шепнул Буль-де-Сон на ухо Редону, который даже вздрогнул от удивления, услышав чистейший, почти без акцента[37] французский. Председатель обменялся несколькими фразами с новоявленным защитником, после чего предоставил тому слово. По правде говоря, этот старый японец с открытым морщинистым лицом и решительным взглядом, был не лишен приятности. Разумеется, перед судьями он говорил по-японски. — А что, — пробормотал Редон, который понимал смысл отдельных слов, — может, ему и удастся нас оправдать. Действительно, несколько раз капитан указывал рукой в сторону обвиняемых. Защищал ли он их? Несмотря на все усилия, репортеру не удалось уследить за ходом выступления. Как и всем иностранцам, слушающим чужую речь, ему казалось, что она звучит слишком быстро. Наконец капитан замолчал и, отдав честь, отошел в сторону, даже не взглянув на подзащитных. Да и что он мог им сказать… Наступила долгая пауза. Судьи стали совещаться. — Не нравится мне все это, — прошептал юноша. Ожидание было недолгим. Поднявшись, председатель вынес приговор: — Смертная казнь. Правда, по просьбе защитника, капитана Бан-Тай-Сана, приговор будет приведен в исполнение только после одобрения главнокомандующим. Сейчас же преступников отведут в крепость Ли-Ханг-Ти. Поль Редон выслушал приговор с удивительным спокойствием, разумеется, Буль-де-Сон также не шелохнулся. Французы — они везде оставались французами. Солдаты вновь окружили пленных, которые, впрочем, не сопротивлялись, и все отправились в высокую крепость. — Вот те на! — произнес юноша. — Вот те на! — повторил репортер, отрешенно улыбнувшись.ГЛАВА 4
Японцы сосредоточили основные силы на дороге из Мукдена в Харбин. Там стояли два корпуса — один, направленный на Запад, другой — к Владивостоку, против морского флота России. Японцы, воодушевленные победой и уверенные, что не встретят на этой земле серьезного сопротивления, торопились — русский император теперь не скоро решится бросить в глубь Азии новые войска. Японцам не терпелось догнать противника и не дать ему ни минуты передышки. Они быстро организовали в Мукдене оккупационную службу, чтобы не ослаблять действующую армию. Шести тысяч человек хватило на поддержание порядка в Маньчжурии, жители которой, впрочем, и не собирались поднимать восстание. За сорок восемь часов военный трибунал установил царство террора. Таковы были черные будни войны.После вынесения смертного приговора французов перевели в высокую крепость мрачного вида, стоявшую у дороги, ведущей из Чао-Линга к могилам суверенных маньчжурских особ. Эти могилы служили предметом глубокого почитания, доходящего у жителей Маньчжурии до фанатизма. Они символизировали могущество, власть и моральное превосходство над огромной китайской империей, которая в какой-то степени считалась их вассалом. Маньчжуры признавали только своих императоров и хоронили их в родной земле. Когда японские войска покинули город, направляясь на север, волна возмущения прокатилась по Мукдену. Крестьяне, пришедшие из окрестностей города, уверяли, что слышали подозрительные звуки, исходящие из памятников на могилах покойных. Некоторые говорили, что даже видели призраки, бродившие вокруг могил. Рассказывали также, что появились какие-то странные свечения в каменных монументах. Этого вполне хватило, чтобы среди населения распространился слух, будто японцы осквернили святая святых — могилы предков. Событие бурно обсуждалось, обрастая, как снежный ком, новыми домыслами, и дело принимало серьезный оборот. Стало достоверно известно, что пьяные японцы выломали двери склепов[38], разрушили стены и надругались над священными останками императоров. Мукден, столица всей Маньчжурии, находился примерно в шестистах километрах от Пекина на реке Хун-О, главном притоке Ляо-Хо. Две крепостные глиняные стены, стоящие параллельно, образовывали два совершенно различных района города. Впрочем, эти стены не могли ни в коей мере ни помешать взять город приступом, ни послужить русским опорным пунктом при обороне. Внутри первого кольца располагалась официальная часть города — торговая, промышленная, финансовая. Русские, заняв центр, практически переориентировали его деятельность. При них там кипела деловая жизнь. Среди великолепных императорских дворцов под крышами из желтого фарфора, которые образовывали небольшие «города» внутри города с многочисленными живописными сооружениями и двориками, торговцы и функционеры чуть ли не по-европейски вели дела. Но сначала там побывали «боксеры», затем — русские, а теперь вот японцы — и от богатства и красоты не осталось и следа. Свершился акт вандализма! Вокруг воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь ритмичным топотом сапог японских солдат. Внутренний город не признавал пригорода, где был совсем другой мир. Там жил трудовой люд, не посещавший центральную часть, а чиновники — одни сбежали, другие думали о том, как достичь компромисса с новой властью и не потерять деньги. И только простой народ по наивности сохранил в своем характере национальный дух и уважение к предкам. Никто из высшего общества не думал беспокоиться о могилах, олицетворявших собой понятие родины. Мало-помалу среди отдельных групп населения созрело решение: с наступлением ночи всем вместе пойти в Чао-Линг, что в десяти километрах к северо-западу, и проверить, все ли в порядке. Что же представляли собой эти знаменитые мавзолеи, где покоились предки маньчжур из древней императорской династии?[39] Судя по воспоминаниям путешественника Треффеля, ранее ни один иностранец, ни один простолюдин под страхом смерти не мог приблизиться к этим местам. Однако во времена политических коллизий[40] и смены власти, строгости получили некоторое послабление, и многие европейцы смогли увидеть могилы вблизи и описать их подробно. Широкие аллеи, окаймленные с двух сторон огромными каменными статуями драконов, слонов, верблюдов, вели к массивным воротам в китайском стиле, почти целиком скрытым кронами кедров и кипарисов. Когда же тяжелые, покрытые красным лаком двери отворялись, посетитель, пройдя через крепостную стену, оказывался в сказочном городе. Кругом возвышались удивительные, огромных размеров скульптуры, гигантские деревья и каменные монстры[41]. То и дело встречались небольшие каналы с навесными узорчатыми мраморными мостиками причудливой формы. Галереи петляли вокруг центральной пагоды[42]. Гигантская металлическая черепаха стояла внутри на каменной плите, на которой были высечены имена усопших императоров. Здесь же находились огромные чаны и котлы, в которых в дни жертвоприношений варились целиком туши баранов. Шаги глухо отдавались где-то под землей, и можно было догадаться, что там располагается подземный город. Под натиском полчищ завоевателей все, включая бонз[43], охранников и слуг, покинули это место. И теперь священный город стал действительно царством мертвых.
Стояла гнетущая тишина, изредка нарушаемая лишь карканьем ворон. Наступила ночь. Склепы стали еще мрачнее, а черные деревья вздрагивали в темноте, напоминая каких-то загадочных существ. Неподвижные каменные чудовища, казалось, подстерегали добычу. Вдалеке на дороге, идущей из Мукдена, раздался неясный шум, похожий на звук приближающегося потока. Огонь факелов пронзил сумрак ночи, послышались торопливые шаги. Грохот усиливался, сопровождаясь дикими выкриками. Толпа маньчжур, поддавшихся мгновенному безумному порыву, неумолимо продвигалась вперед. Вряд ли ее могло что-либо остановить. Люди шли, не желая знать, какого противника они встретят, и убежденные лишь в одном — их святыни осквернены. Самые смелые и отчаянные бросились на ворота в надежде открыть их, но двери, как безучастные наблюдатели, не поддались. Тогда было принято другое решение — преодолеть стену, окружавшую владения мертвых, представляющую собой непреодолимое препятствие из-за острых железных наконечников. Люди полезли на нее. Сильные и ловкие, они образовывали короткие лестницы, становясь друг друг на плечи. Ничто не могло остановить порыв одержимых. Добравшись до острых железных копий на гребне стены, они в ярости расшатывали их и даже вырывали, затем, быстро пролезая через образовавшиеся бреши, спрыгивали с другой стороны. Падения, травмы — не в счет, поскольку все были убеждены, что выполняют священный долг. Маньчжуры быстро заполнили загадочный город. Черные тени метались среди каменных статуй, перебегали по мостикам через каналы, и, если кто-нибудь падал, никто не останавливался, не обращая никакого внимания, — несчастного просто затаптывали. В конце концов все остановились перед большой пагодой и затем, забежав в нее, пали ниц перед гигантской черепахой со списком усопших суверенных особ на спине. Маньчжуры знали: там внизу, под ногами находятся подвалы, где и свершилось главное бесчинство. В эти минуты люди были не в состоянии разумно мыслить, им требовались виновные, чтобы наказать, проклясть или убить. Внезапно кто-то вскрикнул. Пробираясь на ощупь вдоль стены, человек наткнулся на железную кнопку и случайно нажал на нее. Одна из мраморных плит, покрывавших пол пагоды, сдвинулась, открывая вход в подземелье. Толпа бросилась к отверстию, не ведая даже о его глубине. Отвага смельчаков была вознаграждена — подземная галерея оказалась не очень глубока. Люди с факелами понеслись вниз. Постепенно свод стал выше, а длинный коридор — длиннее. Казалось, он не имел конца. Вперед, несмотря ни на что, вперед!
В довольно просторном склепе со стенами, облицованными камнями, около десятка человек собрались вокруг высокого мужчины, одетого в длинную белую робу, доходившую ему почти до щиколоток. Прикрепленный к стене факел освещал странные, цве́та шафрана лица незнакомцев, чьи черты не напоминали ни китайцев, ни японцев. Главарь заговорил: — Друзья, наконец-то мы собрались здесь. Не знаю уж, каких усилий вам потребовалось, чтобы добраться сюда в назначенный час на нашу верховную встречу, на которой мы должны будем принять окончательное решение… От имени родины благодарю вас. Первые слова были встречены одобрительным шепотом. Все без исключения лица излучали неукротимую энергию. Но кто же эти люди? Человека в белой робе звали Вуонг-Тай-Лань. Он родился в Корее и был сыном корейской императрицы Таон-Ланг-Дао, убитой в 1895 году японцами при пособничестве собственного мужа, императора Ли-Хзи, желавшего отдать Корею Японии. Таон-Ланг-Дао жизнью заплатила за желание сделать независимой свою страну. Ее двенадцатилетний сын также был приговорен. Но один из преданных слуг спас его от гибели, и через десять лет Вуонг-Тай-Лань воскрес, чтобы посвятить свою жизнь отмщению. — То, что я хочу, друзья мои, вы прекрасно знаете — это вырвать нашу страну из власти тиранов, кем бы они ни были — китайцами, русскими или японцами. Помните, когда-то наш край назывался «Королевством-отшельником», а потом в один из самых счастливых дней ему дали имя Чао-Сьен — «Утреннее Спокойствие» или «Империя Спокойного Утра»… Именно это спокойствие и безмятежность, мирное одиночество мы и хотим отвоевать. Подняв руку вверх, будто впитывая солнечную энергию, Вуонг-Тай воскликнул: — Пошли прочь, чужеземцы! — Пошли прочь, чужеземцы! — повторили собравшиеся. — С тех пор, как умерла моя достойная мать, отдав жизнь за родину, у меня, ее сына, нет других мыслей, как только вернуть независимость земле моих предков. Напомню вам, что наши прадеды умели прогнать врагов — французов, англичан, американцев. Два раза и нам удалось выдворить японцев с наших земель. Неужели мы менее храбры, чем наши отцы? Надо бороться, сражаться еще активнее, нужно вернуться на родину, где за наши головы назначена награда, разбудить народ и скинуть в море этих проклятых японцев. Вы согласны со мной? Готовы ли вы умереть вместе со мной за священное дело? — Да! Да! — закричали заговорщики, протягивая руки к Вуонг-Таю, чья собственная рука все еще была поднята вверх ладонью к небу. Таков был жест клятвы. Затем корейцы стали совещаться. Они вернутся на родину с северной стороны, со стороны Сиам-Сиу, и пусть три божества Ко, Ри и Янг защитят их… — Вы пойдете одни, каждый со своей стороны, — продолжал императорский сын. — Я считаю, сейчас подходящий момент, чтобы пересечь Маньчжурию: русские бежали, японцы бросились за ними в погоню, никто не обратит на вас внимания. — А вы, принц[44], разве вы не пойдете с нами? — Мне нужно кое-что доделать здесь, — ответил кореец, — долг чести… поверьте, я прибуду в Сеул в то же самое время, что и вы… Но что происходит? Послушайте! Все напряженно замерли. В глубине подземелья послышались крики и шум приближающихся шагов. Вуонг-Тай приложил ухо к стене. — В подземелье кто-то есть. Сюда идут! Неужели это японцы? К счастью, я знаю каждый поворот этого таинственного лабиринта[45]. Но что бы ни случилось, будем драться до конца… — Да, да! — подхватили заговорщики. — Подготовьте оружие к бою и вперед! Вуонг-Тай бросился в глубину зала. Остальные устремились за ним. Под легким нажатием его рук дверь отворилась, и люди быстрым шагом стали удаляться по бесконечному сводчатому коридору. «После всего, что случилось, — размышлял на ходу наследный принц, — это вряд ли могут быть японцы». Он думал только о политических врагах, не подозревая, что обезумевшие простые маньчжуры могут быть еще опаснее. Переходы подземелья оказались достаточно запутанными. Группа остановилась на перекрестке. Чем же была вызвана заминка? Ведь именно здесь они спустились в могильные склепы и считали, что уже следовали по этому пути. Однако уход был столь поспешным, что, видимо, они допустили ошибку и теперь шли не в ту сторону. На стенах не встречались более стрелки, указывающие направление. Сам Вуонг-Тай, похоже, заблудился. Ситуация осложнялась еще и тем, что постоянно слышались воинственные крики толпы, заполнявшей подземелье. Пытаясь выбраться, корейцы рисковали попасть прямо в руки незнакомого противника, о численности которого они не ведали. Какой избрать путь? — Будем действовать наугад! — сказал императорский сын. — Не отставать! Эхо, преследовавшее беглецов, то удалялось, то приближалось и служило им проводником. Корейцы старались уйти от него как можно дальше, но вдруг наткнулись на стену. Путь был закрыт, заговорщики оказались в ловушке. В это же время вооруженные дубинами, железными прутьями и ножами маньчжуры с факелами в руках появились на другом конце галереи. Заметив корейцев, они в бешенстве заорали: — Смерть! Смерть варварам! И бросились вперед на неприятелей. Вуонг-Тай, услышав призывы, сразу понял их смысл. С давних пор маньчжуры враждовали с корейцами, и сегодня, когда дело шло о посягательстве на исторические памятники и проявлении неуважения к святым местам, ярость фанатиков не знала границ. — Друзья, — сказал Вуонг-Тай, — нам придется умереть… Но продадим, по крайней мере, подороже наши жизни. С револьвером в одной руке и длинным ножом в другой, корейцы, как по команде, прислонились спинами к стене и замерли в ожидании.
ГЛАВА 5
Французов перевели в крепость Ли-Ханг, что стояла на дороге из Чао-Линга в километре от маньчжурского некрополя. Тюрьма возвышалась метров на двадцать над землей, находясь одновременно на краю скалистого обрыва. Таким образом, с одной стороны она была защищена рельефом местности, а с трех других — четырехметровой двойной стеной. Пленные шли в сопровождении более чем двухсот солдат, столпившихся у внутренних ворот, которые были действительно средневековыми и, как полагалось, с подъемным мостиком и цепями. Японцы быстро заносили имена арестованных в тюремную книгу. Они очень торопились вернуться в Мукден, где после стольких тяжелых боев им было разрешено немного отдохнуть и насладиться короткими мгновениями передышки. Похоже, крепость была малонаселенна. Старый маньчжурский капитан принял пленных французов и записал их имена. Шестеро солдат находилось у него в подчинении. В тюрьме имелись великолепные двери, засовы и железные балки удивительной конструкции. Капитан, сопровождавший пленных, шел впереди, за ним Редон с Буль-де-Соном, а по краям — два небольшого роста солдата, которые бросали на французов враждебные взгляды. Все поднялись по очень узкой и казавшейся бесконечной лестнице. Несчастные, чьи руки были в наручниках, рисковали соскользнуть вниз. Группа добралась до площадки чуть более квадратного метра. Капитан достал массивный ключ, какие раньше символически преподносили завоевателям сдавшихся городов, и вставил в такую же огромную замочную скважину. Но тут произошло непредвиденное. Похоже, этот замок долгое время никто не открывал. Маньчжур хотел было повернуть ключ, но тот не поддавался. Охранник старался изо всех сил, держась двумя руками за ключ и наваливаясь на него всей тяжестью своего тела. Ключ и не думал поворачиваться. Буль-де-Сон усмехнулся. Тогда капитан обратился за помощью к одному из солдат. Маленький мускулистый японец, с решительным видом схватившись за железяку, буквально повис на ней. Ключ оставался неподвижным как скала. Стало ясно, что все усилия напрасны. Однако с этим надо было кончать как можно быстрее. Понял это и Поль Редон. Посмотрев на свои наручники, сделанные из железа, или, скорее, из высококачественной стали, он приблизился к двери. Нажал свободными пальцами на ключ, раздался щелчок, и замок с трудом сработал. Дверь отворилась: Редон жестом пригласил маньчжура войти, вежливо пропуская его вперед. Тот буквально остолбенел. Затем пришел в себя и, улыбнувшись, заспешил в камеру. Комната оказалась довольно маленькой, с низким потолком и желтоватыми стенами, не похожими на гранитные. Окошко напоминало щель, и в него можно было увидеть лишь узкую полоску неба. Из обстановки — лишь охапка соломы, старая циновка и кувшин. Сопровождающему пленных маньчжуру стало, наверное, стыдно за столь неприглядный вид камеры. Француз показался ему таким импозантным, что неудобно было поместить его в подобные условия. Некоторое время охранник стоял в задумчивости, затем решительно снял с репортера наручники и направился к двери. Взяв ключ, он вновь попытался повернуть его в замке, разумеется, с обратной стороны. Ключ по-прежнему сопротивлялся. Тогда Редон снова пришел ему на помощь. Журналист — человек исключительной доброты и благородства — прекрасно понимал подневольного охранника, не мог же тот оставить заключенных в комнате с открытой дверью. Терпение и труд все перетрут: француз, вставив ключ, стал осторожно поворачивать его вправо-влево, вправо-влево несколько раз. С каждым разом движения становились все легче и легче, и в конце концов крак-крак — и замок сработал. Хмурое лицо охранника озарилось улыбкой. — Подождите, — произнес он, — я сейчас вернусь, но прежде сниму наручники с вашего компаньона. — Незачем, я сам это сделаю, — ответил Редон и свободными руками нажал на пружины. Маньчжур ничуть не удивился, отдал честь, отпустил солдат, затем вышел сам и закрыл замо́к с другой стороны. Облегченно вздохнув, он крикнул журналисту: — Не то что я не доверяю, но кто знает… Пленники остались одни. Слабый свет проникал через узкое отверстие бойницы, но все же было довольно светло, чтобы осмотреться. Редон обнял Буль-де-Сона. — Бедный мой мальчик, ну и попали же мы в переплет. Это все из-за меня, из-за того, что я вечно вмешиваюсь в чужие дела. Ладно, пусть убьют меня, но ты, ты-то здесь при чем? Ты же ничего не сделал? — Извините, патрон! Я совершил то же, что и вы. А в чем, собственно, мы виноваты? Подобрали раненого, которого наверняка прикончили бы, и защитили его от десятка мародеров. Вы плохо меня знаете, если думаете, что я сделал меньше, чем вы. — Да, правда, прошу прощения… — Ладно, патрон, не будем об этом. Только знайте, я принадлежу вам сердцем и душой и больше всего на свете дорожу нашей дружбой. Если нам суждено умереть вместе, для меня нет высшей чести… Единственно, я хочу вам кое-что сказать, но не осмеливаюсь… — Вот те раз! Да ты волен сказать мне все, что хочешь… — Даже упрекнуть? — Конечно, я буду даже признателен. — Хорошо, патрон. Так вот, я знал о ваших приключениях. Помните, когда вы спускались вниз по течению, когда заблудились, когда бандиты шли по следу, когда медведь рвал вас на части, разве вы тогда смирились с судьбой, сказав «аминь»?[46] Редон хотел было прервать юношу, но тот продолжал: — Нет, вы сопротивлялись, всегда и везде, боролись за существование, шли против обстоятельств и побеждали смерть… — Постой! К чему ты клонишь? — А к тому, что вы, похоже, сильно изменились и теперь принимаете судьбу такой, какая она есть. Вы хотите, чтобы вас расстреляли японцы? Послушайте, но разве это нормально? Чем больше попадаешь в нищету, тем больше прикладываешь усилий, чтобы из нее выбраться. Не мне вам это говорить… Вы пережили очень большое горе, я знаю… Но это еще не повод, чтобы сидеть сложа руки… Перед нами сейчас стоит только одна задача — выйти отсюда с тем же успехом, с каким вы выбирались из когтистых лап медведя, убегали от волков и людей… Пусть это почти невозможно, но надо захотеть. Пока Буль-де-Сон говорил, лицо Поля Редона светлело, сердце сильнее забилось в груди. Юноша был прав. Действительно, сколько раз отважный газетчик избегал смерти, а теперь вот сидит безразличный ко всему на свете, склонив голову перед первой же трудностью. Слова юного парижанина потрясли репортера до глубины души. Неужели и вправду он стал трусом? В этот момент в замочную скважину вставили ключ. Видимо, охранник вновь боролся с замком. Наконец раздался щелчок, и дверь отворилась. Редон и Буль-де-Сон вскрикнули от удивления. В дверном проеме появились трое. Сначала вошел старый маньчжур с взлохмаченной шевелюрой, за ним мальчик лет двенадцати, крепкий и коренастый, как медвежонок, и, наконец, розовощекая голубоглазая девушка лет восемнадцати в красивом национальном платье. Как и в конвое в Мальборо, все что-нибудь несли. Отец, а это скорее всего был именно отец, поскольку дети обликом походили на него, нес на голове деревянные рамы, которые вполне могли служить кроватями, а в руках — две табуретки. Сын одной рукой обнимал огромный кувшин, а другой — тяжелую, покрытую салфеткой корзину да еще какие-то подставки и планки, напоминавшие отдельные детали стола. Дочь сгибалась под тяжестью постельного белья и подушек, но, кроме того, держала лампу, чей мягкий свет радостно освещал тюремное помещение. — Что это еще такое? — воскликнул Редон. Он заговорил по-французски, забыв перевести сказанное ключнику на китайский, но, к великому изумлению, услышал нежный девичий голос, отвечающий ему на родном языке: — Мы принесли вам все необходимое… Девушка немного стеснялась, произнося слова, но все же выражалась вполне понятно. — Вы говорите по-французски, мадемуазель? — произнес Буль-де-Сон, учтивым жестом помогая ей освободиться от тяжелой ноши. — Да, немного… Я училась у миссионера…[47] Это все благодаря доброму отцу Жерому. — Я тоже немного знаю… — вступил в разговор голосок чуть пониже. — И ты не струсишь перед новыми знакомыми? — обрадованно спросил юноша мальчугана, забавляясь от души. Отец догадался, какую радость доставили пленным его ребятишки, и на грубом, морщинистом лице появилось подобие улыбки. Он быстро установил принесенные конструкции и, положив на них сухие соломенные матрасы, накрыл медвежьими шкурами. Получились две отличные кровати. Из других дощечек соорудили стол, на который тотчас водрузили кувшин с ароматным вином, добрый кусок печеного мяса, плошки с рисом и фруктами. При виде королевской еды глаза Буль-де-Сона загорелись. Редон также заметно повеселел в предвкушении пантагрюэлевского обеда. — Папа просит вам передать, если еще что-нибудь понадобится, можете смело просить у него, — произнесла юная Янка, чей французский походил на звук треснувшего ореха, но все-таки заслуживал похвалы, поскольку был абсолютно понятен. Пленные заняли места за столом, и девушка принялась обслуживать их так, как будто они были членами одной семьи. — Послушайте, патрон, — начал юный парижанин, — я говорил вам, что все будет хорошо, только забыл сказать, что буквально умираю от голода. Семья маньчжур с уважением смотрела на незнакомых европейцев, которые ели, надо отметить, с большим аппетитом. Завязалась беседа. Начальник тюрьмы знал немного: только, что двоих заключенных завтра или в крайнем случае послезавтра расстреляют. О самом преступлении, совершенном французами, он не ведал, да это его и не касалось. — Подумаешь, японцы!.. — воскликнула Янка. — Что они знают, чтобы убивать! Пьеко, а именно так звали мальчика, энергичным жестом одобрил слова сестры. И отец, которому тотчас перевели фразу на родной язык, с ними согласился. Редон с интересом посмотрел на старика. Глаза репортера странно заблестели. Начался любопытный разговор. Глава семейства учтиво сообщил французам свое имя. Бывалого солдата звали Туанг-Ки. В свое время он участвовал в китайско-японской войне и теперь поведал чужестранцам о своих подвигах, а затем вдруг неожиданно признался, что терпеть не может японцев и что ему мучительно видеть, как они хозяйничают в Мукдене. По окончании войны маньчжуру был предоставлен скромный пост начальника тюрьмыв Ли-Ханг-Ти, в которой, впрочем, никого не содержали. В старой крепости к тому же не имелось ни гвоздей, ни ключей. Редон предложил охраннику стакан вина. Тот не отказался и присел за стол как старый знакомый. Репортер оживился, болтал без умолку, стараясь разговорить маньчжура, сетовавшего, что ему мало платят или не платят вовсе, что война принесла много горя, что артиллеристы разбомбили его поле, погубив урожай… Маленького Пьеко послали вниз, стоять начеку у входной двери. Буль-де-Сон с увлечением беседовал с молодой маньчжуркой, для которой не существовало большего удовольствия, как поговорить с чужестранцем. Девушке было приятно слушать французскую речь и понимать почти все, что произносил юноша. А он, пытаясь исправить произношение, давал различные советы. Юная красавица очень старалась, прелестные губки выделывали замысловатые движения, складываясь то так, то эдак. — Послушайте, Янка, — говорил Буль-де-Сон, — чтобы сказать «тюрьма», нужно сначала вытянуть губы в трубочку — тюрь… тюрь… тюрь, а затем сомкнуть и разомкнуть на «а» — ма! Эх, жаль, что меня завтра или послезавтра расстреляют, а то бы я вас многому мог научить. — Расстреляют? — Девушка вздрогнула и расплакалась. — Это невозможно! — Да, именно так, — подтвердил Буль-де-Сон. — За мной и за моим патроном скоро придут, отведут во двор, где будет много солдат, приставят к стене, возьмут на прицел, пиф-паф и все! Мы будем мертвы! — Нет, нет, я не хочу! — уже навзрыд плакала Янка. — Не кричите так громко, патрон беседует. Если не хотите, чтобы нас убили, так помогите. — С радостью! Но как? Тем временем разговор репортера с капитаном Туанг-Ки становился все интересней. Старый вояка уже успел проникнуться симпатией к заключенному, а по мере того, как вино убывало из графина, их дружба становилась все крепче. Редон, однако, в отличие от своего собеседника, сохранял ясность ума. Маньчжур оказался сентиментальным и любящим отцом. Когда наступили тяжелые времена, жалованье было маленьким, но он трудился вовсю, чтобы прокормить сына — маленького Пьеко и любимую темноволосую Янку. — А если бы у вас завелись деньги, что бы вы сделали? — Я? О! Не знаю, я бы ушел отсюда подальше… в Китай… Я бы основал маленькую ферму, где-нибудь около речки… Там росли бы деревья, светило бы солнце и прогуливались животные. Янка и Пьеко — ему уже двенадцать, а ей — семнадцать, — они помогали бы мне по хозяйству… Мы были бы счастливы. Я бы старился помаленьку, а потом бы и умер спокойно, ясное дело… Но что об этом говорить, мы бедны! — Совсем захмелевший Туанг-Ки заплакал. Во время ареста Поля Редона не обыскивали, и теперь он, вытащив из-за пояса бумажник, высыпал из него пригоршню золотых монет. Тем временем Буль-де-Сон говорил девушке трагическим тоном: — Полноте, моя маленькая Яночка, не надо так расстраиваться. Что поделаешь! Так или иначе жизнь все равно заканчивается смертью. — Нет, нет, я не хочу, чтобы вы умерли! — Что же вы хотите? А, я знаю… Если бы мы только смогли выйти отсюда, но это невозможно. Нужны надежные люди, смелые и отважные друзья, которые смогли бы нам помочь… Я говорю все это просто так, чтобы поболтать, а на самом деле умирать, конечно, тяжело, да еще молодым… Прощайте, мадемуазель Янка. Поверьте, мне очень жаль с вами расставаться, вы такая красивая, добрая, милая… Позвольте мне обнять вас. Девушка слегка подалась к нему. Никогда в жизни она не слышала таких ласковых слов, да еще так мило звучавших по-французски. Буль-де-Сон галантно обнял и по-братски поцеловал юную маньчжурку. — Только, когда будете выходить замуж, — тихо шепнул он ей на ухо, — я хочу, чтобы вы вспомнили о нас. Мой патрон очень богат, он оставит вам шикарный подарок. Это вас немного утешит… — Господи! Что вы говорите! Все это так жестоко! Во-первых, я никогда не выйду замуж… — Ха-ха! Не может быть! Такая очаровательная девушка, как вы, обязательно будет любима… — Замолчите, говорю вам! Вы заставляете меня страдать, напоминая о самом грустном в моей жизни, ведь один разбойник-бурят по имени Райкар, который командует стадом таких же бандитов в сотне верст отсюда, вздумал просить моей руки… — Ему, разумеется, отказали? — Пока да, но завтра мой отец может и согласиться… Райкар — один из тех негодяев, которые ни перед чем не останавливаются для достижения своей цели. Если бы вы только знали, как я его боюсь, ведь мой отец уже стар и слаб. — Эх, какое несчастье, что нас расстреляют. Мы могли бы позаботиться о вас, защитить, если Райкар осмелился бы сунуть сюда свой нос. Малышка вздрогнула, что-то ей вдруг подумалось. Она посмотрела на отца, занятого беседой с репортером. О чем они говорили? По правде сказать, было не похоже, чтобы они спорили. Девушка прислушалась к словам отца: — Мы втроем уйдем вместе с вами, а дальше каждый пойдет своей дорогой. Только вот, честно говоря, я не знаю, как выйти отсюда незаметно. У меня есть, конечно, ключи от двери, это хорошо, но японский пост… Они совершенно озверели, эти бандиты… Они подстрелят нас, как зайцев… Другой выход?.. Не знаю… Слишком мало времени я здесь служу… Нет, пожалуй, нет способа бежать отсюда. Я такой же пленник, как и вы. Янка, кажется, поняла, что отец весьма доброжелательно настроен к пленным. Она посмотрела на Буль-де-Сона, тот улыбнулся. Молодой человек не сводил глаз с юной маньчжурки. Янка пересекла комнату и тихо приблизилась к отцу. Заметив дочь, Туанг-Ки тотчас умолк. Разговор был слишком серьезным и не предназначался для детских ушей. Девушка подошла совсем близко и слегка коснулась отцовского плеча. — Э? Что такое? — Папа, я хотела сказать вам два слова… — Оставь меня, не сейчас! Что правда, то правда, маньчжур и так уже сильно устал. Несколько золотых соверенов[48] так и просились к нему в карман, и он ломал голову, как их заработать. — Папа, это очень важно, прошу вас, выслушайте меня! Буль-де-Сон, знавший причину столь настойчивой просьбы, делал знаки Редону: мол, надо, чтобы она поговорила с отцом. — Друг мой, — обратился Поль к охраннику, — узнайте, что хочет ваша дочь, у нас ведь достаточно времени, чтобы продолжить беседу. Туанг-Ки согласился. С трудом поднявшись со стула — ноги сильно затекли, — он выпрямился. Янка, потянув его за пуговицу мундира, увлекла в самый дальний угол комнаты, подальше от французов… А те в свою очередь из скромности и уважения ретировались в противоположную сторону. — Что? Что случилось? — сурово спросил Туанг-Ки, язык его заплетался. — Папа, я бы хотела прогуляться… Что скажете? — Хм… В такой час, ты с ума сошла! — Послушайте, мне надоело, что японцы вечно следят за мной, но я знаю один способ выйти отсюда, минуя японские посты. — Что ты говоришь? Не может быть! — Может… С тех пор, как мы здесь, я все облазила, все изучила и кое-что нашла. Если хотите, я покажу вам, как это сделать, чтобы никто там, внизу, не узнал. Старый солдат был совершенно сбит с толку. Открытие пришлось как раз вовремя. — Покажи-ка мне этот ход, — тихо попросил он дочку. И, к величайшему удивлению французов, отец с дочерью покинули камеру. — Послушайте, патрон, — обратился Буль-де-Сон к Редону, — вы все еще считаете, что мы непременно должны умереть? — Гм… Кто знает… — улыбнувшись, ответил репортер. — Говорите скорей, вам удалось обработать отца? — Немного. Если бы он мог нам помочь, то уже сделал бы это. — А я разговаривал с дочерью. Она очень мила и желает нам добра. — Подождем и будем готовы ко всему. Дверь отворилась вновь. На пороге появились Туанг-Ки и девушка. Юная маньчжурка весело взглянула на Буль-де-Сона. Улыбка играла на ее губах. — Готово, — произнесла она, — я показала папе дыру, которая выходит на лестницу, ведущую в глубокий подземный ход. Не знаю, правда, куда он ведет, но выход находится наверняка не здесь, а скорее всего в старом заброшенном замке, что около деревушки Раковер. Если доберемся туда, мы спасены. Хотите попытать счастья? — Конечно, хотим! И обязательно постараемся выбраться отсюда. Но вы тоже не должны здесь оставаться, японцы отомстят вам за наш побег. Отец Туанг-Ки, идемте с нами, не волнуйтесь, выберемся как-нибудь! Скорее! Они спустились на несколько ступенек вниз по лестнице. В стене было отверстие. Если до сих пор никто не догадался, что это запасной выход, то только потому, что он был замаскирован ржавой железной дверью под цвет стены. Петли оказались сломаны и страшно скрипели, ручки отсутствовали. Девушка открыла люк, и оттуда потянуло сыростью. — Я спускалась вниз. Там ступенек пятьдесят, — предупредила Янка, — а дальше галерея закрыта дверью, которую мне не удалось открыть, но французы, — она указала на Редона, — без труда смогут это сделать. Крестьяне говорили, внизу существует подземный город. Это большой риск, конечно, но кто не рискует… — Тот и не получает ничего, — закончил Буль-де-Сон. — Мы с удовольствием принимаем ваш план, — сказал Редон. — Ах, мой храбрый Туанг-Ки, мы вам так обязаны. Затем все поднялись в камеру, чтобы подготовиться к побегу. — Сейчас девять часов вечера, — сказал репортер, — у нас впереди вся ночь. — Янка, — попросил тюремщик, — пойди найди Пьеко, не можем же мы оставить его здесь. — Конечно, черт возьми! — воскликнул Редон. Вдруг девушка насторожилась. Она услышала торопливые шаги. Кто-то, перепрыгивая через две ступени, бежал вверх по каменной лестнице. Туанг-Ки выскочил на площадку. — Пьеко! — закричал он. — Что случилось? — За пленными идут… — задыхаясь ответил мальчик, — японский офицер и двое солдат… — Дьявол! — ругнулся журналист. — Как всегда, не вовремя. Они начинают мне надоедать, эти господа! Нельзя же так беспокоить людей! Японцы поднялись вслед за мальчуганом. Они уже были на площадке и затем вошли в камеру. Редон встал им навстречу. Лицо его помрачнело, но глаза блестели. — Что вы хотите? — спокойно произнес француз. — У нас приказ немедленно доставить вас… — Да? Уже, так скоро? — переспросил Редон. — И где же состоится казнь? — Во дворе тюрьмы… Солдаты! Забрать преступников! Сначала вот этого! — И офицер указал на репортера. Буль-де-Сон также взглянул на Редона. Двое солдат встали справа и слева от Поля. Туанг-Ки с детьми ретировались[49] в глубину помещения. Янка заплакала. — Раз, два, три! — произнес репортер по-французски и двумя руками схватил за горло обоих солдат. Офицер поднял саблю, но она тотчас оказалась на полу. У Буль-де-Сона из вооружения был только платок, но он сумел воспользоваться им. На счет «три» он обхватил платком шею офицера, стоявшего к нему спиной, и поднял того за плечи, как мешок с мукой. Японцы не успели даже охнуть. Двое солдат, испытав на своих шеях железную хватку журналиста, неподвижно лежали на полу, а задыхавшийся офицер делал конвульсивные[50] движения, пытаясь освободиться. — Отпусти его, — сказал Редон юноше. Буль-де-Сон бросил тело на землю, а репортер в мгновение ока стянул со стола скатерть, превратив ее в веревку, и связал офицера. Тот не успел даже прийти в себя. Интересно, мертвы ли те двое? Журналиста это не волновало. Он взял оружие и патроны, снабдив также Буль-де-Сона и Туанг-Ки. Офицерская сабля досталась Пьеко. Затем Редон потащил слегка взбудораженных и одновременно восхищенных друзей к выходу. Одним движением закрыв за собой дверь на два оборота, он сломал ключ и бросил его в щель между ступеньками. Теперь замок был заперт, и заперт навсегда. Все спустились вниз к потайной двери и, открыв ее, гуськом стали продвигаться по каменной лестнице. Через несколько минут они остановились. Темнота была такой, что беглецы рисковали сломать шею, особенно юная Янка, которую Буль-де-Сон пытался поддерживать. К счастью, старик прихватил витую восковую свечу, с которой обычно ходили в погреб, и спички. Он зажег свечу и передал Пьеко, и тот, протиснувшись вперед, возглавил шествие. Янка не ошиблась — в конце спуска шла подземная галерея под крутыми сводами. Здесь, видимо, давно не ступала человеческая нога, так как весь пол был усыпан камнями, которые под воздействием влаги отделялись от стен. Наконец беглецы дошли до закрытой двери, о которой упоминала Янка. Ранее девушке не удалось ее открыть. А что Редон? Взяв из рук Пьеко свечу, он быстро, но внимательно осмотрел дубовую конструкцию, перемещая свет из угла в угол. Весело усмехнувшись, репортер жестом приказал компаньонам отойти подальше, затем сам отступил на несколько шагов и, разбежавшись, навалился что есть мочи на дверь. Разбухшие от холода и воды, сочившейся со стен, доски с грохотом рухнули на землю. Беглецы продолжили путь. Почва под ногами стала тверже, чувствовался легкий наклон вниз. Где они находились и куда шли — никто из них не задумывался. Главное — бежать, и это было лучше, чем оставаться во власти японцев. Вдруг идущий первым Редон остановился. В глубине подземелья послышались крики и выстрелы. Пригнуться или склониться было не во французском характере. «Идем на пушки», — скомандовал сам себе репортер, задаваясь, однако, вопросом, уж не русские ли это организовали удачный ответный демарш[51]. Подземные переходы пересекались и путались. Люди шли почти вслепую с одной лишь надеждой — найти выход наружу. Наконец они увидели свет фонарей и услышали яростные, похожие на рычание диких зверей, крики разъяренных людей. Неожиданно возник еще один коридор, еще одна дверь. Именно за ней дрались и убивали друг друга люди… Редон, имевший твердое убеждение, что настоящее благоразумие состоит в наивысшем безрассудстве, ринулся на нее. Дверь в отличие от первой крепче держалась в каменном обрамлении. Он толкал ее плечами, стучал кулаками. Туанг-Ки помогал ему, как мог. Надо отметить, что, несмотря на преклонный возраст, старик был крепкий как бык. Годы не ослабили его могучего здоровья. Пьеко, Буль-де-Сон и даже хрупкая Янка также прыгали и суетились вокруг дубовой конструкции, за которой шел настоящий бой. Все пятеро трясли, расшатывали ее, пинали ногами толстые доски, и в конце концов дверь поддалась. Падая, она увлекла за собой не только беглецов, но также камни со стен и потолка. Свод на протяжении нескольких метров обрушился, засыпая обломками дерущихся, но не поранив Редона с друзьями, которые уже проскочили вперед. Француз, с пистолетом в одной руке и саблей в другой, смело ринулся навстречу неизвестности.ГЛАВА 6
Корейцы дрались с безрассудством смертников. Столкновение произошло на площади приблизительно в два квадратных метра, как раз под памятником одного из самых древних маньчжурских королей. Корейцы выстрелили в толпу и на мгновение парализовали действия противника. Первые ряды даже отступили немного. Но тут подоспели другие нападавшие, и все вновь пришло в движение. Люди, толкая и пихая друг друга, рвались вперед. Страшный бой продолжался. Несмотря на то, что часть фанатиков заблудилась в лабиринтах подземелья, оставались еще человек пятьдесят, вооруженных ножами, секирами и еще чем-то, заменявшим оружие. То и дело раздавались ружейные выстрелы, и люди падали на землю. Появились первые убитые и раненые, тела наваливались друг на друга, загораживая проход другим. Крики стали громче. Разъяренная и опьяненная кровью толпа не понимала причины задержки. Безумцев не пугало ничто и ничто не могло остановить. Не колеблясь, маньчжуры бросались под пули, затаптывая раненых и шагая по трупам. Они были уже в метре от корейцев, сохранявших удивительное хладнокровие и продолжавших без устали стрелять. Вуонг-Тай находился, как всегда, впереди, выделяясь высоким ростом на фоне своих соратников. Он твердо решил умереть, но прежде убить как можно больше нападавших. Холодные камни подземелья стали его молчаливыми сообщниками. Они невольно защищали принца, превратившись из некрополя в конспиративный генеральный штаб. Пусть его обнаружат, возможно, предадут смерти, пусть! Всему свое время — битве и гибели. Тайное общество, которое возглавлял Вуонг-Тай, называлось Хонг-Так, что означало «отчаявшиеся». Теперь противник находился так близко, что ничего не оставалось, как взяться за ножи и ввязаться в рукопашный бой. Использовать ружья не представлялось возможным. Сколько их там еще, этих головорезов? За первым следовал второй, третий… Одни падали, поверженные, их сменяли другие, и так до бесконечности. Двое корейцев уже оказались заколотыми, и их тела исчезли в вихре баталии[52]. Да, это была месть за поруганных идолов[53]. За двумя погибшими последовали еще и еще. Внезапно за спинами заговорщиков послышался какой-то шум. Неожиданно в стене открылась дверь, и в тот же миг обрушился свод. Нападавшая орда оказалась погребена под каменными обломками. Неужели это новые убийцы? Неужели смерть окружила их со всех сторон? Нет, это Поль Редон пришел на помощь. Он увидел лишь, как дикая толпа людей со звериными лицами нападала на небольшую группу смельчаков. Ружья японцев, производства Англии или Германии, сказали свое веское слово. Новая атака захлебнулась, маньчжуры отступили — слишком многие были убиты, ранены или погибли под рухнувшим сводом. Крики ярости сменились хрипами боли и отчаянья. Безумцы бросились наутек, думая, что их преследуют демоны мести. Из одиннадцати корейцев шестеро остались в живых. Рядом с ними, в хаосе отгремевшего боя, указывались очертания Редона, Буль-де-Сона, Пьеко и Янки. Слава Богу, никто из них не пострадал. — Кто эти люди? — спросил юный парижанин. — Мне кажется, мы спасли их от верной гибели. — Кто вы? Что здесь делаете? — на английском обратился репортер к незнакомцам. — Давайте выйдем отсюда сначала, а потом объяснимся, — услышал он в ответ английскую речь. — Выйти! Конечно! Но как? — А вот посмотрите! — воскликнула Янка. — Там наверху свет! Действительно, через щель, образовавшуюся в частично разрушенном своде, в подземелье проникали золотистые лучи. Редон первым бросился к отверстию. Будучи ловким и смелым, он, подпрыгнув, без труда зацепился за обсыпавшийся, но еще крепкий край дыры, подтянулся и исчез в отверстии. — Пагода! — воскликнул он через мгновение. — Мы, кажется, спасены! Растянувшись на полу, репортер искал, за что зацепиться. Затем протянул руку вниз. — Давайте, только не все вместе, хватайтесь за руку, я вас вытащу! Буль-де-Сон тотчас воспользовался советом. Оттолкнув незнакомцев, юноша подвел Янку к дыре в потолке и поднял на руках. — Окажите даме честь, — произнес он. — Давайте, мадемуазель, держитесь за лапу патрона. И раз! Поднимайте! Девушка вложила свои хрупкие пальчики в сухую жилистую ладонь Редона, и тот подтянул ее, как перышко. — Следующий, — скомандовал репортер. — Теперь по старшинству, — сказал Буль-де-Сон. — Твоя очередь, старина! Ты, конечно, немного тяжеловат, но мой патрон видел и потяжелее. Через секунду Туанг-Ки испарился в отверстии, как утренний туман. — Теперь вы! — напряженно вглядываясь в лица незнакомцев, обратился парижанин к оставшейся шестерке. В одно мгновение корейцы, образовав небольшую лестницу, последовали за своими спасителями. Последним из корейцев оставался Вуонг-Тай-Лань. Он подставил спину Пьеко, который, не заставив себя ждать, запрыгнул на нее и вылез наружу. Затем кореец взял за талию Буль-де-Сона и поставил себе на плечи. Юноше оставалось лишь протянуть руки Редону, и он был на свободе. — Эй, товарищ, — крикнул Буль-де-Сон в дыру, — а как же вы сами? Едва он успел это произнести, как Вуонг-Тай присел и, распрямившись, подпрыгнул так высоко, что без труда достал до края отверстия руками. Через мгновение принц высунулся наружу. — Здорово! — только и смог произнести юный француз. В ту же минуту Редон вскрикнул от удивления. Теперь, когда они оказались на свету, он узнал старого знакомого — корейца из Мугдена, которого они подобрали раненым среди трупов и который своим исчезновением поставил их в затруднительное положение перед японцами. — Так… — протянул репортер, — стало быть, мне на роду написано спасать вам жизнь… Кореец посмотрел французу прямо в глаза и, протягивая руку для рукопожатия, сказал: — Вспомните, я ведь не давал слова… Императорский долг — я вам позже объясню — требовал моего присутствия в другом месте… Не считайте меня предателем… Я приношу вам свои извинения… Редон был потрясен торжественностью речи и, пожимая протянутую руку, ответил: — Ничего! Правда, из-за вас японцы чуть было не расстреляли нас, и меня, и моего товарища… Но теперь мы выбрались благодаря чуду и этим храбрым людям! Он указал на Туанг-Ки и его детей. — Еще раз прошу вас простить меня… Отныне вы и ваши друзья станете священными для меня и моих людей. — Ладно, ладно… Сейчас самое главное выбраться отсюда как можно скорее, надеюсь, вы не будете возражать. Каковы ваши планы? — поинтересовался журналист у корейца. — Пересечь Маньчжурию и достичь северной границы Кореи. — Но такой переход очень опасен, ведь повсюду шныряют японцы. — Мы избежим встречи с ними. Послушайте, дважды вы спасли мне жизнь, теперь вы — мой брат, доверьтесь мне. Я доставлю вас и ваших друзей целыми и невредимыми туда, куда вы идете. — Бог мой! Мы идем, куда глаза глядят. У меня нет больше желания гнаться за русскими, у меня не такие быстрые ноги, чтобы их догнать… Вы идете в Корею? Я мало знаю эту страну и с удовольствием пошел бы с вами… Лицо Вуонг-Тая просветлело. — Моя страна прекрасна! — Отлично! Вот и посмотрим на нее. Буль-де-Сон, не хочешь ли ты совершить экскурсию по Корее? — Конечно, патрон! С вами я пойду на край света. — А наши спасители? Туанг-Ки, Пьеко и… — И Янка. Подождите, дайте подумать. Девушка присела на каменную скамейку. Казалось, ее совершенно не волновало происходящее вокруг. Бедняжка! Она была такая юная, нежная, хрупкая… Щеки покрылись румянцем. — Послушайте, патрон, — не выдержал Буль-де-Сон, — как вы думаете, что, если назвать Янку Розой Мукдена? — О, мой молодой поэт! Конечно, пусть она будет для нас и для всех Розой Мукдена, а когда наступят спокойные времена, мы устроим крестины. А сейчас поторопи ее, пожалуйста, с решением. Пусть посоветуется с отцом и братом. Прежде всего мы должны согласовать наши действия с ними. Мы в долгу перед этими людьми, поэтому сначала нужно отвести их в надежное место, а потом уж путешествовать самим. Давай побыстрее! А я пока поговорю с корейцем. Юноша направился к Янке. Та подняла голову и улыбнулась ему. — Послушай, моя крошка, не можем же мы здесь оставаться вечно… Нам предлагают идти в Корею. Это достаточно далеко, но, может быть, вы согласитесь… иначе нам придется расстаться. Девушка вздрогнула и залилась краской. — Расстаться? Мне бы не хотелось… Что с нами будет? Что станет со мной? Голос ее дрожал. Юноша взял девушку за руку. — Тогда соглашайтесь. Только мы тоже не знаем, какие приключения нас ждут и куда мы доберемся в конце концов… — С вами и вашим другом я ничего не боюсь. — Я буду заботиться о вас, а это значит, что мы вместе встретим радость и горе и никогда не расстанемся. Вас это устраивает, Роза Мукдена? Девушка посмотрела на него с удивлением: — У меня другое имя… — А мы решили, что вас теперь будут звать именно так. Вам не нравится? — Напротив, очень нравится! — Тогда решено. Считайте, что вас окрестили. А теперь посоветуйтесь с отцом и братом, чтобы узнать их мнение. Янка негромко переговаривалась с Туанг-Ки и Пьеко, терпеливо ожидавших дальнейших событий. Разговор был коротким. — Папа сказал, что, пока он не найдет подходящее местечко для маленькой фермы, он готов идти куда угодно. — А Пьеко? — А Пьеко не расстанется со своей сестрой ни за что… — Вот и замечательно. Патрон! — Юноша окликнул репортера, беседовавшего тем временем с Вуонг-Таем. — Мы пришли к согласию, идем все вместе. Корейцу было больше нечего скрывать от своего спасителя и друга. Он рассказал ему все о себе и своих людях, о миссии[54], которую они собирались выполнить, если ничего не помешает, — вырвать свою страну из лап японцев, спасти Россию и провозгласить независимость Кореи. Отважному французу идея понравилась. Помочь освобождению народа пришлось ему по душе. Кроме того, сражаться — значило жить, свободно дышать! — Я за вас, можете положиться на меня, — сказал журналист Вуонг-Таю, — в Корею — так в Корею! Значит, ваши соратники… — …Члены тайного общества Хонг-Так. Увы, некоторые из моих преданных товарищей погибли. Но на их место придут десятки, сотни других. — Что ж, посмотрим, но надо, однако, выйти отсюда, в конце концов. — Редон улыбнулся и дал сигнал к отходу. Вуонг-Тай занялся своими людьми. Те перезарядили ружья. Туанг-Ки не терпелось поскорее двинуться в путь. Он немного нервничал, вспоминая, в какой спешке они покидали крепость, и прекрасно осознавая, что, если их поймают, расплата будет жестокой. Ворота, закрывавшие некрополь[55], упирались в высокий кедр, и каждая створка представляла собой громадную монолитную плиту, укрепленную вдобавок бронзовой крестовиной на огромных болтах. Редон внимательно изучил запор, стараясь найти слабое место. — Этот замок не сломать, — произнес подошедший ближе Вуонг-Тай, — лучше попытаться найти другой выход… — Вы считаете? — усмехнулся Поль. — Посмотрим! В который раз он напряг мускулы. Нажимая руками на засов, плотно вставленный в дерево, репортер нагнулся и буквально повис на железяке. Все, затаив дыхание, следили за его действиями. Через несколько секунд француз отпустил засов. — Вот видите, — произнес кореец, — ваши старания напрасны. Не поворачивая головы, Редон ответил: — В мире нет ничего невозможного. Я докажу… Раздался легкий щелчок, и старая железяка со звоном упала на землю. Все удивленно охнули, а Редон посмотрел на свои кровоточащие ладони. Достав платок, он обратился к Вуонг-Таю: — Закончите, пожалуйста… Кореец повиновался. Да к тому же на двери было не так уж много внутренних задвижек, и вскоре она открылась. — Подождите, — попросил Редон, — разрешите мне первому выглянуть наружу. Надо соблюдать осторожность. Через приоткрытую створку француз слегка высунулся и посмотрел вокруг. Сад казался совершенно пустынным. Маньчжуры исчезли так же внезапно, как и появились. Репортер прислушался. Никакого шума. — Эта тишина еще ни о чем не говорит, — прошептал Поль, — не будем торопиться. Послушайте, друзья, возможно, вы знаете эти места лучше, чем я… Мы-то ведь попали сюда не совсем обычным путем… Как выйти отсюда и куда мы попадем при этом? Первым ответил Вуонг-Тай: — Из некрополя выходят обычно к широкой аллее с многочисленными статуями и вековыми деревьями по краям… — …где нет ничего проще организовать ловушку, в которую мы без труда попадем. — Можем рискнуть… — возразил кореец. — Конечно! — не унимался Редон. — Но мне кажется, никакие меры предосторожности не будут лишними в подобной ситуации. Мы уже достаточно повоевали, и не хотелось бы получить еще один удар в спину. Надо принять во внимание, что мы-то с вами еще вполне можем сражаться, тогда как некоторые ваши товарищи ранены… Я вижу на их лицах следы крови… И если Буль-де-Сон кажется неутомимым, то старина и его дети выглядят усталыми. — Что вы предлагаете? — спросил Вуонг-Тай. — Предлагаю следующее: сначала нужно опробовать путь, а потом уйти как можно дальше и тогда уже отдохнуть. Буль-де-Сон, сразу догадавшись о намерениях патрона, спросил в свою очередь Туанг-Ки. Вдруг Янка тихо произнесла: — Я знаю… Знаю один путь… — О, прекрасная Роза, вы — наше Провидение[56]. Говорите скорее, мы слушаем вас. — Некрополь окружен очень высокой стеной, но в одном месте камни разрушены и там можно пролезть. — И куда приведет нас этот выход? — На главную дорогу, по другую сторону которой находится густой лес, куда никто никогда не попадал, но который мы с Пьеко проходили не раз. Он тянется в направлении Фу-Шум и теряется в горах. Если мы доберемся до него, мы спасены. — А если нас будут преследовать маньчжуры или японцы? — Японцы! Что им, больше делать нечего, как догонять сбежавших?.. А что касается маньчжур, то они не посмеют сунуться в лес. — Почему? — Потому что считают, что там живут демоны[57], — со смехом воскликнула Янка. — Предложение девушки мне нравится, — произнес Редон, — пожалуй, стоит его принять. Все согласились. Один за другим беглецы выходили из пагоды. Янка и Пьеко возглавляли шествие. Все торопились, несмотря на то, что маньчжуры, похоже, перестали их преследовать. Они шли мимо мраморных беседок, статуй, колонн и многочисленных каменных черепашек, безучастных свидетелей происходящего. Наконец беглецы достигли стены. После недолгого поиска брешь была обнаружена за высокой травой. Пьеко ножом расчистил отверстие, по возможности расширив его. Первым выйти наружу отважился Редон. За стеной действительно оказалась широкая дорога. В ста метрах Поль заметил лес, о котором говорила Роза Мукдена. Частоколом стояли высокие ели. Однажды попав в подобную чащу, целое войско вполне могло там заблудиться и погибнуть. — Как далеко тянется этот лес? — спросил репортер у девушки. — Он очень-очень велик, кроме того, где-то в часе ходьбы есть холм, почти гора, изрезанная глубокими ущельями. — Отлично! Рискнем! На всякий случай оружие держите наготове. Пойдем быстрым шагом, плотно друг за другом. По сигналу маленький отряд тронулся в путь. Минуты через три беглецы миновали пространство, отделявшее их от леса. Вскоре на их пути встретился неглубокий ров, который никак не мог служить препятствием. Преодолев его, они углубились в чащу. Внезапно послышался душераздирающий крик. — Ко мне! Скорее! На помощь! Буль-де-Сон остановился как вкопанный. — Похоже на голос Янки… Не теряя ни секунды, он бросился назад, крича на бегу изо всех сил. Юноша тотчас вернулся ко рву, который они только что пересекли, но напрасно. Он побежал в другую сторону, оглядел дорогу со всех сторон и, покружившись на месте, чертыхнулся. Роза Мукдена бесследно исчезла.Конец первой части
Часть вторая БАНДИТ РАЙКАР
ГЛАВА 1
Страшная новость потрясла всех. Только сейчас Янка находилась в нескольких метрах от леса, шагая впереди брата, замыкавшего шествие, как вдруг какой-то человек, выпрыгнув из кустов, набросился на нее. Прежде чем девушка успела что-либо сообразить, он с головокружительной быстротой накинул ей на голову мешок. Сестра по наивной детской привязанности хотела идти вместе с братом, чтобы защитить его, а в результате попалась сама. Нападавший был маленького роста, с монголоидным лицом, короткими ногами и несоразмерно большим туловищем. Он молниеносно сгреб девушку в охапку, запрыгнул на коня, который ждал его неподалеку, и исчез в лесу. Когда Буль-де-Сон, Редон и остальные выбежали на дорогу, незнакомца и след простыл. Преследовать оказалось некого. Надо, однако, сказать несколько слов о бандите. Маньчжурский край находился между тремя соседями — Монголией, Россией и Китаем, но, несмотря на прогресс цивилизации, оставался довольно пустынным местом. На железных дорогах, построенных недавно русскими из Ляо-Танга в Мукден и в Харбин, образовалось несколько поселений, которые в дальнейшем превратились в небольшие города. Вокруг этих полуцивилизованных оазисов[58] — из которых Мукден являлся единственным городом, где были каменные дома, — царили грязь и нищета. Обитатели этих мест, мало походившие на культурных людей, ютились в жалких деревянных лачугах. Маньчжуры, тунгусы, китайцы, не говоря уже об иноземных ордах, — все без разбора, кто переходил через границу Сибири в поисках более мягкого климата, а скорее, чтобы избавиться от давления русских, насаждали там свои не самые лучшие обычаи. Лень и воровство процветали в этом краю. Когда началась война, все местные грабители и разбойники отправились вслед за воюющими сторонами: одни — за японской, другие — за русской армией. Бандитов интересовали лишь конвои с продовольствием и боеприпасами, оставшиеся на поле боя трупы да брошенные деревни, чтобы грабить и мародерствовать. Человек, напавший на Янку, был одним из таких. Он принадлежал к монголоидной ветви бурятов, проживавших около города Яблоной. Ужасные преступления заставили его бежать из родных мест. Вскоре ему удалось сколотить банду себе подобных, которую он возглавил и в которой пользовался неограниченной властью. У бандита была бритая голова с традиционным хвостиком на макушке. На желтом лице с сильно выступающими скулами виднелся маленький приплюснутый носик, на подбородке — редкая бородка. Он был одет в черную жилетку из медвежьей шкуры, перехваченную на талии кожаным поясом, черные гетры[59] и лапти, сплетенные из тростника и завязывающиеся почти у колен, голову «украшал» шерстяной колпак, натянутый до бровей. Из вооружения главарь имел старое ружье, висевшее за спиной, лук со стрелами и длинный нож без чехла, привязанный веревкой на уровне живота. Йок Райкар был страшен. Впечатление еще усиливалось кровожадным выражением лица и звериным взглядом. Маленький маньчжурский конь был под стать своему хозяину. С круглыми боками, крепкий, толстоногий, с крутым нравом, он мог стойко переносить любые дороги, любые испытания. Бандит бросил Янку поперек крупа[60] животного, голова с одной стороны, ноги с другой, а сам запрыгнул сзади, поскольку седла на коне не имелось. Потеряв сознание, девушка не сопротивлялась. Сам же Райкар отнесся к ней так же, как тигр к пойманной антилопе[61]. Они скакали весь день и большую часть ночи. Постепенно пейзаж изменился. Природа стала суровой и дикой. Наконец, узнав знакомую местность, бандит облегченно вздохнул. Он приближался к своему логову. Изрядно уставший конь спотыкался о камни. Райкар спрыгнул на землю, поправил сползавшее тело, возможно уже ставшее трупом, и зашагал рядом, ведя коня под уздцы. Затем они спустились в узкую расщелину. Из осторожности бандит взял в руку карабин, а нож зажал в зубах. Вдруг он поднял голову и прислушался. Ему показалось, что невдалеке послышались крики и шум борьбы. Что еще там происходит? Два дня назад, когда он покинул своих головорезов, у них, кажется, оставалось достаточно всего, чтобы не затевать драку. Неожиданно возникла фигура немолодой женщины, одетой в лохмотья. Седые волосы обрамляли обезьяноподобное лицо, как венец у гадюки. Она подошла ближе и грубым голосом спросила: — Йок Райкар? Это ты? — А это ты… цыганка? — Да, я, твоя мать Бася. — Что ты здесь делаешь? Почему ушла из пещеры? — Йок, Йок, все очень плохо… Твои люди убивают друг друга… Они страшно напились. Будь осторожен, они прирежут и тебя… — Мои люди? Да ты с ума сошла! Давай вернемся назад! — Да, да, пойдем. Но, Йок, твой конь выглядит усталым. Что это за мешок ты везешь? — Иди, иди, скоро ты все узнаешь. Шум усилился. Яростные крики и тяжелые стоны стали отчетливей. Прислушиваясь, Райкар подталкивал спотыкавшегося на каждом шагу коня. Наконец они дошли до места. В глубине скалы показалось отверстие. Бандит взяв Янку на руки, зашагал к пещере. Бася устало поплелась за ним. Пройдя через каменный лабиринт, Райкар пригнулся с тяжелой ношей и исчез в отверстии. Старуха не отставала ни на шаг, и вскоре они оказались в просторной пещере. Внутри стоял старый сундук, рядом с которым лежали вязанки хвороста и глиняные горшки. Женщина быстро зажгла факел, огонь которого удивительным светом отражался на гранитных стенах. Бандит положил свою ношу на подстилку. — Бог мой! Да это женщина! — воскликнула Бася. — Взгляни-ка. — И резким движением Райкар сорвал мешок с головы девушки. — Жива она или нет? Лицо юной красавицы, открывшееся их взору, оказалось смертельной белизны и походило на одного из восковых идолов, часто встречавшихся в русских избах. — Прекрасное дитя, — с жалостью в голосе выдохнула Бася, посмотрев на девушку. — Похоже, она мертва… — Нет, нет, — усмехнулся Райкар. — Так просто не умирают… Послушай, я хочу посмотреть, что там делают мои бандиты… Посторожи ее! Если с ней что-нибудь случится, ответишь мне головой. Попробуй оживить ее, ты же цыганка. Но, главное, следи, чтобы не сбежала. А впрочем, — добавил он после минутного раздумья, — я сам о ней позабочусь, у меня это лучше получится, — и громко позвал: — Тониш! Тониш! — Что ты задумал? — воспротивилась мать. — Тониш самый верный… Придет он в конце концов? Тониш! Тониш! В глубине пещеры послышалось глухое рычание, и из темноты возник огромный желтоватый силуэт животного. Тониш оказался маньчжурским медведем почти золотистого цвета с черными, как у зебры, полосами. Тяжело переваливаясь, он подошел к хозяину. Тот схватил его за железную цепь ошейника и потащил к лежащей Янке. Животное огрызнулось и попыталось было укусить руку Райкара, но, получив удар кулаком в морду, стихло и подчинилось. — Иди сюда, — приказал бандит, — и без глупостей! — А если он покусает ее? — не унималась старая женщина. Райкар пожал плечами. Подведя медведя к циновке, он сказал: — Ты видишь эту девушку? Медведь посмотрел на бездыханное тело. — Ты должен сторожить ее и помешать ей уйти… Слова сопровождались выразительными жестами, которые, по мнению хозяина, должны были помочь животному понять приказ. В довершение ко всему бандит взял лапу медведя и положил ее на тело Янки, а сам указал рукой на дверь. Тониш покачал головой, и можно было действительно подумать, что он все понял. В это время крики и стенания раздались снаружи с новой силой. — Канальи! — проворчал Райкар. — Пора поставить их на место. И Йок выбежал вон из пещеры. Старая Бася осталась наедине с Янкой, которая, казалось, погрузилась в летаргический сон[62]. Медведь остался сторожить.ГЛАВА 2
Метрах в пятидесяти от пещеры находилось бандитское жилье, состоящее из нескольких полуразрушенных лачуг. Повсюду на земле валялся мусор, издававший жуткое зловоние. В воздухе витали пары алкоголя, тухлой воды и нечистот. Именно в этой клоаке[63], огороженной забором из воткнутых в землю сухих кольев, и произошла драка между людьми Райкара. Ссора усугублялась еще тем, что все ее участники оказались смертельно пьяны и ничего не соображали. Глаза дикарей горели огнем хищников, почуявших кровь. Бандиты потрясали кулаками и яростно выкрикивали угрозы. Блестела сталь отточенных лезвий, летели камни, а двое дерущихся уже вцепились друг другу в горло. Предсмертный хрип, кровь — и победитель гордо вскинул голову со шрамом на лбу. Побежденный же в предсмертной агонии, собрав последние силы, выкрикивал проклятья, угрожая местью. Друзья услышали его, и мгновенно банда разделилась на две враждующие группировки. В ход пошло все: ножи, цепи, кулаки, зубы. Обезумевшие головорезы, надрываясь от крика, набрасывались друг на друга. Настоящая сцена из ада! Драка захватила даже самых ленивых, самых спокойных и уравновешенных бандитов. В этот момент и появился Йок Райкар. Мгновение он оставался неподвижным. Черты его лица исказились до неузнаваемости. Затем главарь смело ринулся в самую гущу дерущихся. Вытащив из-за пояса длинный на короткой ручке хлыст, он со всей силой ударил им по земле. Раздался оглушительный хлопок. За ним второй, третий… Постепенно бандиты приходили в себя, узнавая хозяина, как тигры своего дрессировщика. Они убирали ножи, выпрямлялись, бормоча что-то себе под нос. Он же продолжал стегать их по плечам, спинам, лицам, оставляя кровавые рубцы. Напрасно они пытались убежать, а наиболее смелые даже оттолкнуть — Райкар догонял их и жестоко хлестал. Не в его правилах было отступать. Бандит сгонял их как стадо животных — один против тридцати, — не побоявшись, что люди вдруг набросятся на него. Почувствовав силу главаря, они испугались и отступили в поисках спасения от неумолимого бича. — По домам, быстро! — кричал он, перекрывая стоны. — По конурам, собаки! Очистить место, иначе перебью всех до единого, и некому будет похоронить вас! Головорезы, как побитые псы, понуро разбежались по своим хибарам. Йок безжалостно преследовал каждого, и его рука с хлыстом то поднималась, то опускалась до тех пор, пока последний бандит не исчез в глубине юрты[64], покрытой шкурами животных, из которой, как из кабаньего логова, доносились хрипы бессильного гнева. Рот главаря искривился в победной улыбке. Он стоял, выпрямившись во весь рост, сложив руки на груди, и наслаждался победой. Райкар всегда оставался самим собой, он гордился проделанной работой. Затем Йок посмотрел на оставшиеся после драки трупы. Четверым не удалось уйти от ножа. С перерезанными глотками они лежали на земле. Несколько раненых пытались отползти подальше от хозяина. Райкар сделал несколько шагов, пнув по очереди сначала мертвых, а затем и раненых. Последним наконец удалось доползти до своих хибар, и главарь остался один с бездыханными телами. Стояла тишина. Ничто больше не беспокоило Райкара. Заметив еще полную кожаную флягу, он схватил ее и приложил к губам. Обжигающая жидкость медленно потекла в горло. Стало легко и радостно. Смеясь, он опустился на труп. Опьянев от алкоголя и усталости, бандит заснул. Прошел час. Головорезы стали постепенно выползать из своих укрытий. Они появлялись по одному, соблюдая все меры предосторожности. Люди действительно боялись этого человека, преклоняясь перед его безудержной храбростью. Бандиты подошли совсем близко и молча наблюдали за главарем. Распластавшись на земле, Райкар не шевелился. Его знаменитый хлыст, выпав из рук, валялся рядом. Вожак спал тяжелым глубоким сном. Его могучий храп походил на рев дикого зверя. В темных душах разбойников закипала злоба и ненависть. «Убить! Убить его!» — зародилась смутная мысль. Разве он не был их мучителем, палачом, разве он не бил их в случае неповиновения, разве не разбил он голову одному и не переломал кости другому? Почему бы не отплатить ему тем же? Но даже неподвижный спящий Райкарвнушал им неподдельный страх. У одного из головорезов оказался нож. Блеснула крепкая сталь. Один удар в грудь — и месть свершится… Но хватит ли смелости? Одна и та же мысль объединила людей. Круг стал сужаться. Теперь бандиты стояли, плотно прижавшись друг к другу. Кто же ударит первым? Никто не решался. Порыв должен был быть единым и мгновенным, чтобы из всех преступных рук ни одна не опередила другую. А Райкар тем временем продолжал спокойно спать. Презрительная ухмылка застыла в уголках его губ. Что ж, время пришло! Вперед! Смерть бандиту! Неожиданно вдалеке раздался звук сигнального рожка. Три коротких гудка эхом прокатились по горам. Услышав сигнал, главарь мгновенно проснулся и тотчас вскочил на ноги. Разбойники инстинктивно отступили, попрятав ножи. Впрочем, Райкар даже не взглянул на них. Оттолкнув стоящих ближе, он влез на выступ скалы, вытянул шею и прислушался. Звук рожка повторился. Бандит радостно хлопнул в ладоши. Затем, сложив руки рупором и набрав побольше воздуха в легкие, издал резкий пронзительный крик, как выстрел прозвучавший в тишине. Все узнали сигнал. Два дня назад один из бандитов ушел на разведку и теперь возвращался в лагерь. Выполнил ли он свою задачу? Нес ли он весть о новых возможных нападениях, о новых, еще не совершенных преступлениях? Головорезы устали от безделья и жаждали приключений. Райкар облегченно вздохнул. Наконец на гребне скалы он увидел силуэт отважного лейтенанта. Он с удовольствием назвал бы его своим другом, если бы был способен на выражения каких-либо добрых чувств по отношению к людям. Борский, добряк Борский, урожденный москвич, убивший кого-то во время кражи, был приговорен к смертной казни. Однако по неизвестной причине, вероятно, по чьей-то милости, смертный приговор был заменен на пожизненное заключение. Борского отправили на рудники Парачева, откуда ему удалось бежать. И теперь сильный, высокий, одетый с некоторой претензией на элегантность — в камзол[65] из кожи буйвола, подпоясанный на талии красным поясом, в каракулевую папаху — он быстрым шагом приближался к лагерю. Райкар бросился ему навстречу с протянутой для рукопожатия волосатой рукой, но тот не обратил на это никакого внимания. — Борский! Наконец-то ты здесь! Какие новости? — Отличные! — Хороший куш? — Еще какой! — Далеко отсюда? — День езды… Они шли рядом. Русский возвышался над бурятом на целую голову; его молодое лицо было сплошь покрыто глубокими морщинами, возможно, появившимися в результате многочисленных преступлений. Блуждающий взгляд красивых глаз говорил о постоянной внутренней тревоге. Русский носил большую светлую с проседью бороду. — Как ты вовремя вернулся! — сказал Райкар. — Наши бойцы заскучали от безделья. Мне пришлось их укрощать, как диких зверей. Но скажи мне скорее, там есть с кем сразиться? — Конечно! Бой будет горячим! У тебя все еще двадцать человек? — Нет. Четверо погибли. Эти безумцы убили друг друга. — Так тебя здесь не было? Райкар остановился. — Ты ведь обещал мне никуда не отлучаться во время моего отсутствия. — Да, действительно. Но мне было необходимо… Я должен был… — Йок медлил с ответом. Борский окинул его презрительным взглядом. — Твоя дурацкая выходка стоила нам четырех человек. Четверо будут охранять лагерь. Итого остается двенадцать. Может, и хватит. Давай собирать наше войско, и — в дорогу! Поторапливайся. Нельзя терять ни минуты. Несмотря на свой независимый характер, Райкар чувствовал превосходство русского громилы. Взаимоотношения двух бандитов были весьма сложными. Борский оказался единственным человеком, кто не боялся бурята, не пресмыкался перед ним и относился чуть ли не высокомерно. За это Райкар ненавидел его, но в то же время восхищался его смелостью, хладнокровием и признавал некоторое превосходство над собой. Борский слыл умным, образованным и культурным человеком, и даже главарю трудно было подавить вековой инстинкт[66] подчинения сильнейшему. Он был почти готов полюбить его, как дикий зверь любит того, кто его приручил, не забывая, правда, о тайном желании сожрать своего дрессировщика. Двое мужчин спустились в лагерь. Борский бросил беглый взгляд вокруг и, с трудом сдерживая неприязнь, сказал: — Дикари! Распорядись, чтобы убрали трупы и устранили следы этой безумной вакханалии. Через час все должны быть готовы к отъезду. Где лошади? — В буковой роще, в трех верстах отсюда. — Проследи, чтобы все было в порядке — оружие, боеприпасы, продовольствие на три дня и вдоволь питья. — Что? Разве эта вылазка будет долгой? — Я не знаю… — Может, лучше перенести отъезд на завтрашнее утро? — Нет, это все нарушит, да и незачем. Райкар умолк, не желая назвать настоящую причину, по которой он хотел задержаться. Он опасался, что русский будет насмехаться над ним, если увидит Янку, поймет, в каком она состоянии и кто ее охраняет. — Да, но ты мне еще не объяснил, — снова начал разговор Йок, — чем же хороша будет наша поездка и что она сулит нам в случае удачи? — Отдай сначала распоряжения, а потом я тебе все расскажу. Подавив сомнения, Райкар принялся командовать. На громовой клич быстро прибежали привыкшие к дисциплине бандиты. Мысль о новом разбое воодушевила их. Они вновь стали верными солдатами своего грубияна командира. Головорезы быстро вырыли яму и кое-как побросали в нее трупы, ничуть не заботясь о соблюдении правил гигиены. Затем они отправились в рощу забрать лошадей, пасущихся на привязи возле деревьев. Райкар поторапливал их, зорко следя за всеми приготовлениями. Пока грабители выполняли поручения, накладывали повязки раненым, хоть те слегка и противились этому, поскольку их царапины сразу же зажили, как только они узнали о предстоящем деле, Райкар подошел к Борскому. Оба сели в сторонке. — Ну что? — спросил Йок. — Объяснишь ты мне все наконец? — Речь идет о нападении на караван. — С продовольствием? — Нет, с ранеными… Знаешь, как обычно организует транспортировку раненых с поля боя Красный Крест? И в Японии, и в Китае, и у русских. Завтра одна такая группа проедет в пятидесяти верстах отсюда по узкому ущелью. Ее ведет один американец или француз, женатый на американке. Он сказочно богат, если организовал подобное благотворительное мероприятие на свои деньги. К тому же он везет с собой фургон, в котором, возможно, таятся миллионы. — Сколько это составит рублей? — Приблизительно пятьсот тысяч. Райкар задумался. За всю его преступную жизнь самые удачные нападения не принесли ему более нескольких стволов оружия, двух или трех сотен рублей да нескольких бочек с тростниковой водкой. Цифра пятьсот тысяч ослепила, околдовала его разум. Безумные видения появились в голове: блеск и сияние металла, горы золота, россыпи драгоценных камней. Райкар задавался вопросом, не сошел ли Борский с ума или, что еще хуже, не хочет ли он заманить его в какую-нибудь ловушку. Но русский с присущим ему спокойствием продолжал уточнять детали нападения. В своей прежней жизни он знавал людей, обладавших подобным богатством, которые жили во дворцах, едали из серебряной посуды и им прислуживали орды слуг. Райкар слушал, и картины роскоши представали перед глазами. — И ты обещаешь, что мы сможем заполучить это богатство? — По моим сведениям, да. Надо только проявить храбрость. Конвой сопровождают несколько сестер милосердия, то есть людей, которые не умеют стрелять. А главный, о котором я тебе говорил, будет защищать свою жену. — С ним едет его жена? — Она никогда с ним не расстается. Настоящая дочь американского народа. Похоже, она умеет стрелять не хуже мужчины, правда, я думаю, ей тебя не запугать. — И это все? — Кроме сиделок, нашими настоящими противниками будут, пожалуй, полдюжины солдат-европейцев, набранных специально для охраны конвоя и кое-как вооруженных. А дальше я предполагаю вот что: караван вынужден будет остановиться в деревне, где уже приготовлены койки для больных, там-то мы их и захватим. Не беспокойся, я отвечаю за все. Райкар воодушевился. Золотой мираж окончательно завладел его воображением. На какое-то время он позабыл даже о своей пленнице. Разбойники собрались. Все было готово. Борский рассказал, сколько времени в их распоряжении, чтобы преодолеть расстояние и первыми занять место в деревне. На маньчжурских конях они легко проскачут такую дистанцию. Райкару не терпелось отправиться в путь. Пока лейтенант занимался последними приготовлениями, бандит улучил минутку и побежал в пещеру. Он ворвался так быстро, что Тониш, приняв его за чужака, с глухим рычанием бросился навстречу. Йок пнул его ногой, и животное отступило. Райкар направился прямо к соломенной подстилке, на которой лежала девушка. Увидев его, старая Бася поднялась. — Не буди ее, — тихо попросила она, — девочка спит! Молодость взяла свое. Усталость и отчаяние отступили. Бледность уступила место легкому румянцу. Юная маньчжурка спала спокойным безмятежным сном. Райкар склонился над Розой Мукдена — чистота и красота невинного создания завораживала и притягивала к себе видавшего виды бандита. — Йок, не трогай ее, не буди, ты испугаешь ее! Мужчина сжал кулаки и стиснул зубы. Предстоящее расставание приводило его в бешенство. Снаружи прозвучал короткий нетерпеливый сигнал рожка лейтенанта. Райкар вздрогнул. — Мне надо уехать, — зло сказал он цыганке, — смотри за ней хорошенько. Клянусь дьяволом, если по возвращении ее не обнаружу, я устрою тебе адские пытки. Ты меня знаешь, я умею мучить людей. Мать посмотрела сыну в глаза. Да, она действительно его знала. — Сколько времени тебя не будет? — Два или три дня. Но вернусь я очень богатым, таким же богатым, как царь. И без объяснений он выскочил из пещеры. Медведь и старая женщина остались сторожить пленницу.ГЛАВА 3
Со дня исчезновения Янки прошло три дня — три мучительных, тревожных и полных беспокойства дня. То, что Пьеко видел похитителя, не сыграло никакой роли. По какой дороге ускакал злодей? Сколько друзья ни искали, им не удалось найти следов от лошадиных копыт. Они отчетливо стали видны лишь на узкой тропинке, а значит, девушку увезли в глухую чащу бесконечного непроходимого леса. Но кто? Кто же это сделал? Обезумевший от горя отец сначала не мог думать ни о чем. Через некоторое время он вспомнил о настоятельной просьбе Райкара, об угрозах в случае отказа. Однако последние два месяца бандит не появлялся, и старый тюремный охранник подумал было, что тот отказался от своих планов. Пьеко сказал, что сестра жаловалась ему на бесконечные преследования Райкара. — Это безусловно он, злодей Райкар, похитил мою сестру, — сказал мальчик. — О! Прошу вас, вы храбрые и сильные мужчины, помогите нам найти ее и спасти. Да, но куда идти? В какую сторону отправиться на поиски? Ведя кочевой образ жизни, разбойники не останавливались более двух дней в одном месте. Горе Туанг-Ки не знало границ. Старый солдат, перенесший столько страданий и несчастий, не плакал, не кричал, он просто весь обмяк и потерял интерес к жизни. Тогда Поль Редон принял решение, о котором не поведал никому, даже своему верному помощнику Буль-де-Сону. — Дружище, — обратился репортер к юноше, — прежде чем мы отправимся на поиски этого мерзавца, я хочу вернуться в Мукден. — Но, патрон! Вы забыли, что нас приговорили к смерти? — Нет, нет, я ничего не забыл… А главное, я не забыл, что Туанг-Ки, Пьеко и Янка рисковали жизнью, чтобы спасти нас. Мне кажется, что в городе жители лучше осведомлены о злодеяниях этих проходимцев, и возможно, им даже известно, где скрываются мерзавцы. Я хочу это узнать. Похожу, поспрашиваю, соберу сведения и тогда пойдем прямо к цели и найдем их логово. Подумай, наша любимая Янка, дорогая Роза Мукдена в опасности, и только мы одни можем ее освободить. Она надеется на нас, ждет нас, произнося в молитвах наши имена. — О, бедное дитя! Возможно, ее уже нет в живых! — Нет, нет, сто раз нет! Я видел ее глаза, она девушка решительная, энергичная… Она доказала нам это… Я предчувствую, что мы вовремя придем ей на помощь. Разреши мне скорее уйти, нельзя терять ни минуты. Я вернусь еще до ночи, вот увидишь, и тогда мы решим, как действовать. В этот момент появился Вуонг-Тай. — Брат мой, мне необходимо с тобой поговорить. — Я в твоем распоряжении, только прошу побыстрее. Мне надо кое-что сделать, я тороплюсь. — Хорошо, буду краток. У корейца был почти величественный вид из-за белой повязки на голове, напоминавшей царский венец. Редон знаком велел Буль-де-Сону удалиться. — Ну вот, — произнес француз, обращаясь к Вуонг-Таю, — теперь, когда мы остались одни, я готов тебя выслушать. — Брат мой, — серьезно произнес кореец, — веришь ли ты, что некоторые люди получают от Судьбы приказы, которые они не могут, не должны игнорировать? — То, что ты называешь Судьбой, для меня означает Совесть… Да, существуют обязательства, которыми человек не может пренебречь. — Хорошо. В силу одного из таких обязательств, которое выше меня, которое настолько могущественно, что диктует мне свои условия и ведет меня к цели, так вот в силу моего долга я пришел к тебе с болью в сердце и с огнем в душе сказать: брат, нам необходимо расстаться. Репортер вздрогнул. Все это, по правде говоря, смахивало на предательство. Разве не он с друзьями спас жизнь корейцев, которые наверняка не справились бы с неприятелем и все погибли бы! — Дружище! — воскликнул Вуонг-Тай с несвойственным ему волнением, и лицо его вдруг озарилось догадкой. — Я понял, ты считаешь меня неблагодарным, ты думаешь, я забыл о своих обещаниях… Нет, конечно же нет, я никогда тебя не забуду, ты спас не просто людей, ты спас народ! Поль Редон с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с его знакомым. Глаза корейца светились, а легкое волнение очень шло ему. — Продолжай, — сказал репортер. — Знаешь ли ты, что такое, когда твой народ отдают иностранным завоевателям? Знаешь ли ты, что значит не иметь родины? Я человек без отечества! Я едва осмеливаюсь вспоминать наши завоевания, наши победы. У меня две матери, одна та, что дала мне жизнь, ее убили, а другая та, что хранит прах моих предков, ее сейчас убивают… А теперь, послушай, что я тебе скажу. По всей Маньчжурии и на границах с Кореей, в деревнях и городах от Сеула до Чемульпо[67], в разных местах живут люди, готовые на все, чтобы спасти родину. Они дали мне небольшую передышку, небольшие каникулы, которые вот-вот должны закончиться. Они ждут меня, рассчитывают на меня. Если я не сдержу слова, которое дал им, они способны — о, я их хорошо знаю, — они способны на все, на любую фатальную неосторожность… Подчиняясь только злобе, они поднимутся и пойдут Бог знает куда, слушая лишь голос безумцев, которые приведут их к резне. Я говорю не из гордости, но только я могу направить их действия в нужное русло, только я могу привести их к победе. Я задержался настолько, насколько это было возможно. Я надеялся тебе помочь и спасти несчастную девушку, чья судьба меня очень беспокоит. Но сейчас у меня нет больше ни единого часа, ни единой минуты. Мое дело ждет, зовет меня. Я вынужден забыть долг перед тобой. Вот и все, что я хотел тебе сказать. Прости меня, брат! Я верю, у тебя прекрасная душа, открытая великим мыслям… Знаешь ли ты чувство сильнее, чем любовь к родине? Редон больше не сопротивлялся. Француз лучше, чем кто-либо другой, понимал, что такое родина и долг перед ней. — Друг мой, — ответил он, — не будем более спорить. Иди! — Благодарю, — кивнул головой кореец. — Кто знает, встретимся ли мы еще когда-нибудь. Разреши мне выразить мое уважение к тебе и твоей стране. Для меня ты более не чужестранец. Можно, я обниму тебя на прощание?.. Редон протянул руки, и мужчины обнялись. Затем Вуонг-Тай решительно повернулся и побежал к своим товарищам. Редон же позвал Буль-де-Сона, и тот незамедлительно появился. — Как ты думаешь, на каком расстоянии от Мукдена мы находимся? — спросил репортер. — Хм, трудно сказать. Не очень далеко, во всяком случае… Если выйти на дорогу из Ляодес-Тунга и идти по ней в нужном направлении, думаю, это займет часа два или три… — Я тоже так думаю. Я оставляю тебя с Пьеко и несчастным стариком. Он, похоже, совершенно убит горем. Пожалуйста, не предпринимай ничего без меня. Необходимо, чтобы я непременно нашел вас здесь. Если же все-таки придется уйти, сделайте отметки на деревьях, только так, чтобы я смог их увидеть. — Хорошо, патрон. Лучше бы, конечно, вы вернулись. Редон отправился в Мукден. Что он собирался там делать? По правде говоря, он и сам не очень-то четко это себе представлял. В такой глуши, куда шел отважный француз на поиски Янки, возможно, он и не встретит никого, к кому можно будет обратиться. Мукден был слишком опасным городом — журналист испытал это на собственной шкуре, — но город притягивал его. Чего бояться в конце концов? Его никто там не знает, кроме арестовавшего их офицера и нескольких солдат, которые едва ли его заметили, да судей трибунала, которые вряд ли запомнили его лицо из-за полумрака, царившего в зале заседаний. У журналиста были все шансы незаметно пройти в город. Но что он хотел получить там? Карту местности да какие-нибудь сведения о бандитском логове — разве это так уж трудно? Француз все шел и шел, вспоминая молодые годы. Через два часа он оказался как раз в том месте, где разыгралась ужасная трагедия и их взяли в плен. А вот и стена некрополя, дальше — крепость, откуда им удалось бежать. Участок мог быть опасен! Но нет, старая башня оставалась безразличной, безмолвной и конечно же необитаемой. Редон почувствовал облегчение. Появилась надежда. Не могло же так быть, в конце концов, чтобы ему не удалось найти хоть какую-нибудь зацепку, которая навела бы его на бандитов. Репортер зашагал быстрее. Вскоре появились каменные стены, окружавшие пригород. Задержат ли его при входе? Но почему, собственно? Костюм француза за долгое время скитаний претерпел некоторые изменения и потерял свою элегантность и лоск. Внешность давно перестала быть привлекательной: на голове серый шарф, частично прикрывающий лицо, редкая борода начала пробиваться на давно не бритом подбородке. Поль и сам узнал бы себя с трудом. Что ж, шанс у него определенно есть, и репортер, решительно отворив ворота, оказался под аркой, выходившей в пригород. Смешавшись с толпой, он почувствовал себя в безопасности. Толкая и пихая друг друга, люди сновали в разные стороны. В основном это были торговцы, предлагавшие свой жалкий съестной товар. Вскоре вторая стена преградила ему путь. Перед ней стояли часовые. Возможно, с ними придется переговорить. К счастью, досмотр не был слишком суровым. Француз не продумал сколько-нибудь точного плана и надеялся лишь на удачу. Наконец он попал на центральную улицу Мукдена. Никому и в голову не могло прийти, что один из беглецов осмелился вернуться сюда на свой страх и риск. Город уже принял свой обычный облик: многочисленные фонари ярко освещали центральную улицу с великолепными полукитайскими-полуевропейскими зданиями. Редон осмелел: никто из толпы не обращал внимания на высокого мужчину, решительно шагавшего по дороге и с любопытством озиравшегося вокруг, если бы вдруг француза не заметили… Мюзик-холл стоял освещенный разноцветными огнями и афишами, притягивающими разнообразием и обещающими все виды развлечений — музыку, танцы, акробатические номера и танцующих балерин с пленительными улыбками. Вот там он и найдет то, что нужно. Вперед! — Господин Поль Редон, минутку, пожалуйста! Чья-то рука опустилась на плечо репортера, и он услышал сухой хрипловатый голос, показавшийся ему знакомым. Где же он мог его слышать? Француз на мгновение замер, затем резко развернулся, приготовившись к самому худшему. И тут же узнал человека, одетого в гражданский плащ и в каскетку с золотыми галунами. Им оказался капитан Бан-Тай-Сан, что сопровождал пленников до зала суда. Не повезло! И надо же было встретиться именно с тем, кто знал Редона лучше других, защищал его перед судьями трибунала и кто конечно же слышал о смертном приговоре. Да, это был именно он, тот самый капитан с усами дикого кота и маленькими глазками, взгляд которых пронизывал насквозь. Репортер посмотрел японцу прямо в глаза и отчетливо произнес: — Это действительно я, живой и невредимый! Что вам угодно? — Что вы здесь делаете? — Могу ответить только, что вас это не касается. — Разве вы не приговорены к смертной казни? — Черт возьми! — И нужно было лишь отдать приказ, чтобы исполнить приговор… — Но прежде, чем вы это сделаете, я вас задушу! — Как только вы протянете ко мне руки, я продырявлю вам грудь. — И японец достал револьвер. — Хорошо, — примирительно сказал Редон, — это вопрос скорости. Давайте лучше поговорим. Мне кажется, вы неплохо владеете французским? — Да, понимаю немного… Но прежде, прошу вас, ответьте мне на один вопрос. Вас приговорили к смерти, вы благополучно сбежали, хоть с трудом, но это я понимаю, но почему, черт побери, вы вернулись сюда, рискуя жизнью, будь вы хоть трижды француз? — Потому что мне необходимо было сюда попасть во что бы то ни стало, мне нужны кое-какие сведения, вот и все. Разговор проходил очень быстро и практически шепотом. — Какие сведения? — Вы слишком любопытны! Репортер отвечал спокойным непринужденным тоном, и можно было подумать, что он чувствует себя вполне в своей тарелке и совсем забыл о смертельной опасности. Бан-Тай на мгновение замолчал, а потом спросил: — Хотите пойти со мной? — Как бы не так! Чтобы вы снова отвели меня в трибунал?.. — Нет, я спасу вас. — Вы? — И если это будет в моих силах, дам вам те необходимые сведения, за которыми вы пришли. Возникла щекотливая ситуация: возможно, это случай, которого Редон ждал и на который надеялся. Как не использовать его! А вдруг репортер действительно получит столь необходимые данные? — Послушайте, — медленно произнес француз, — я вас совсем не знаю… Почему я должен доверять вам? Но тем не менее что-то подсказывает мне, что вы не обманете… Дайте мне вашу руку. И Поль протянул свою Бан-Таю. Тот без колебаний вложил свои пальцы в его ладонь. Если бы японец был предателем, его кисть наверняка бы дрогнула под проницательным взглядом Редона. — Я верю вам, — коротко сказал француз, — идемте! Через секунду двое мужчин покинули суету главной улицы и свернули в переулок, а затем, сделав еще два или три поворота в полной темноте, — Бан-Тай прекрасно ориентировался, — остановились перед бамбуковой дверью. Хозяин вошел первым, гость последовал за ним. Оба оказались в маленьком, посыпанном песком дворике, по краям которого росли карликовые деревья, как это обычно принято у японцев. Пройдя через дворик, мужчины поднялись по ступенькам. Капитан вставил ключ в замок и, войдя в дом, первым делом зажег свет. Свечи вспыхнули сначала в первой комнате, служившей скорее всего прихожей, затем во второй, похожей на французскую курительную комнату. Жестом японец пригласил гостя сесть. А сам, удостоверившись, что все хорошо заперто и закрыто, снял каскетку с галунами и, повесив ее на вешалку, надел на голову берет. Затем снял со стены висевшие на специальном приспособлении курительные трубки. Одну, старую обкуренную, хозяин взял себе, а другую, поновее, протянул Редону и просто предложил: — Что, если мы покурим? Из-под берета парижских студентов на француза смотрели узкие умные черные глаза. — Вы удивлены, молодой человек? Учитесь не удивляться ничему… Да, да, посмотрите хорошенько на меня: я действительно капитан Бан-Тай из третьей роты четырнадцатой линии, в настоящее время на пенсии. Когда-то я был студентом медицинского факультета в Париже и жил в доме номер семнадцать по улице Серпанте. Там я немало денег оставил в таверне[68] «Пантеон»…[69] Вы уже начинаете мне верить? — Да, конечно, вы ведь почти мой соотечественник! Но какую же роль вы играли в суде? Зачем заставили меня предстать перед трибуналом? — По-моему, вы ненаблюдательны. Вы забыли, что, во-первых, я вмешался в тот момент, когда вашего слугу Буль-де-Сона чуть было не разорвала толпа, во-вторых, я был не один, а с маленьким злобным лейтенантом, который, без сомнения, первым проломил бы вам голову без суда и следствия. Я вынужден был отправиться за вами в казематы, но, если бы я хоть одним жестом, одним неосторожным словом выдал бы свое расположение к вам, толпа мгновенно переломала бы вам кости. — Вы старались выиграть время? И благодаря суровому виду вам это удалось… — Да, правильно… Еще хочу заметить, что я абсолютно не знал, почему и за что вас задержали… И должен признаться, когда мне стало известно, что дело связано со шпионажем, у меня возникло большое желание оставить вас. — Абсурдное обвинение, ложное по всем пунктам. — Как я должен был об этом догадаться? Мне необходимо было сначала услышать все «за» и «против», прежде чем сделать вывод. — Согласен. И все же вы защищали нас в суде. — Оказалось непросто, поверьте, чтобы вас и юношу не передали тотчас команде, назначенной для расстрела. К счастью, мне удалось их немного напугать той ответственностью, которую они берут на себя, убив двух французов, и убедить их не приводить приговор в исполнение, пока он не будет подписан главнокомандующим. — Вы здорово придумали! К тому же мы выиграли целые сутки! — Чем вы и воспользовались, признайтесь! — Мы бежали… — Убив двух солдат и одного младшего офицера… Вы склонили к дезертирству начальника тюрьмы и вдобавок увели его с собой. Что и говорить, неплохо поработали! — Да уж, мне тоже кажется, неплохо… — Конечно! Знали бы вы, что сделал в это время капитан Бан-Тай-Сан, старый парижский студент? Я пошел к главнокомандующему, изложил ему суть дела, и он согласился лично вас допросить. Генерал — человек очень умный, вы были бы освобождены. Тогда как, если вас задержат сейчас, никто не сможет вас спасти, ваше дело — труба… — Черт! Значит, не надо попадаться! Но ведь в Мукдене никто, кроме вас, меня не знает, значит… — Значит что? — Раз вы вытащили меня однажды, не продадите и во второй раз, и мы откроем счет. Капитан весело рассмеялся. — Уж не считаете ли вы, что я проведу остаток дней, спасая вашу жизнь… Что, мне больше делать нечего? По мере того как французская речь японца, некогда говорившего весьма бегло на Бульмише[70], набирала силу, лицо становилось все добрее. — Подождите, надо кое-что уточнить, — произнес он и исчез в другой комнате. Затем появился, неся бутылку и два бокала. — Это старое бургундское[71], настоящее, вы сможете оценить. Капитан наполнил бокалы. — Попробуйте, — произнес японец, — надеюсь, оно развяжет ваш язык. Я хочу, чтобы вы ответили мне, наконец, на один вопрос: «Что же вы здесь забыли?» — Честное слово! — воскликнул Редон, чокаясь с хозяином дома. — Вы мне нравитесь, вы производите впечатление отважного и честного человека, и я все расскажу. И репортер откровенно поведал о том, что с ними случилось, как они бежали, как оказались в некрополе маньчжурских императоров… — Вам повезло, — перебил его японец, — если бы вы попали в руки этих безумцев, то непосредственно познакомились бы с искусством палачей. — Славу Богу, нам удалось этого избежать. Но мы далеки от благополучного исхода, так как другое несчастье обрушилось на наши головы. Именно поэтому я и решился на опасное возвращение в этот малогостеприимный для меня город Мукден… — Несчастье! Скажите мне наконец, в чем же дело? — Начальник тюрьмы, старый солдат по имени Туанг-Ки… — Я его знаю, он служил под моим началом… — Так вот, этот человек пожертвовал всем, чтобы прийти к нам на помощь и вместе с двумя детьми бежал с нами. Его сын Пьеко и дочь Янка — очаровательное создание, мы нарекли ее Розой Мукдена… — Да, она очень мила… И что же произошло? — Ее похитили. — Кто? — Вполне вероятно, некий бандит, преследовавший ее еще раньше. — Как его зовут? — Йок Райкар. — О, несчастное дитя, она попала в руки этого чудовища! Теперь спасти ее не в человеческой власти. — Вы его знаете? — Конечно, и самого главаря, и его ужасную банду. Им удалось победить полицейских, которые были брошены по их следам для захвата банды. Теперь этот монстр со своими разбойниками приходит грабить прямо к дверям Мукдена. Они разоряют конвои, убивают проводников, режут лошадей, воруют товары и деньги! — Где их можно найти? Вместо ответа Бан-Тай, опустив голову, стал нервно прохаживаться по комнате взад-вперед. — Послушайте, — пробормотал он, — я немного знаком с юной особой, о которой идет речь. Ее отец очень хороший человек, но немного наивен, он добр и смел, да и судьба Янки меня глубоко волнует… Вы хотите спасти ее? Я постараюсь помочь вам. — Но каким образом? — Пока сам не знаю… Зато я приблизительно в курсе, где может находиться бандитское логово. Мы прочешем эту проклятую Маньчжурию и найдем его, обещаю вам, обязательно найдем. — Вы говорите, мы найдем… Вы что, намерены присоединиться к нам? — Конечно! Мне уже почти пятьдесят, я одинок… Думаю, предстоящая экспедиция взбодрит меня. Пусть Япония и Франция станут союзниками в этой благородной акции. Мне нравится подобная идея, она меня воодушевляет. — О, благодарю вас! — воскликнул Редон. — Я и не смел надеяться на такое везение! Вы знаете страну? — Так же, как местечко Йедо, где я родился. — У вас есть какие-нибудь сведения о местах, где мы могли бы обнаружить этого мерзавца? — Да, да… Я служу уже двадцать лет и изучил все хитрости этих негодяев… Бедная Янка, я знаю ее с детства, она такая хорошенькая, нежная, милая… Страшно подумать, что она попала в лапы этого чудовища! Роза Мукдена! Вы были правы, назвав ее так. Клянусь, мы спасем ее! Мужчины пожали друг другу руки, тем самым скрепив клятву. — Не будем терять времени даром, — произнес Бан-Тай, — пошли! Надо вернуться к вашим друзьям. У вас есть лошади? — Ни одной. Когда нас арестовали, то отобрали их. — Это поправимо. У меня в конюшне стоит парочка, мы их заберем, а потом я возьму деньги, и мы купим еще. — Должен вам заметить, что я очень-очень богат. — Редон улыбнулся. — Мой доход составляет несколько миллионов франков, поэтому оплачивать покупку буду я. У меня с собой две или три сотни золотых ливров[72]. Слава Богу, их не отобрали, и мой кошелек остался в целости и сохранности. Добавьте к этому три миллиона ливров в банкнотах[73] и не останавливайтесь ни перед какими тратами. — Бог мой! — только и выдохнул Бан-Тай. — Да я просто мальчишка по сравнению с вами. У меня всего три или четыре сотни франков, но и их я с большим удовольствием отдам на благо экспедиции. — А раз денежный вопрос не стоит перед нами, давайте пойдем в город и приобретем все необходимое. Мужчины спустились в конюшню, находившуюся за домом, и отвязали двух крепких крупных скакунов местной породы. Теперь вперед! Благодаря Бан-Таю, вновь надевшему каскетку с золотыми галунами, друзья благополучно миновали городские ворота и выехали из города. Редон мысленно благодарил судьбу за подобное везение. Даже в приключенческих романах не встречался он с такими перипетиями[74]. Надо же было ему встретиться с японцем, который бывал в Париже и с состраданием и симпатией относится к французам, понимая европейский характер и образ жизни. Журналист умел разбираться в людях, поэтому сразу оценил поступок Бан-Тая, которого сначала принял за врага, но затем признал в нем верного и преданного друга. Вскоре расстояние, отделявшее Мукден от леса, было успешно преодолено. Когда всадники доехали до цели, уже занималась заря. Редон свистнул. Будь-де-Сон, хорошо знавший особый сигнал хозяина, тотчас появился из кустов. — Патрон! У нас новое несчастье, — грустно произнес он. — Что еще такое? Что случилось? — Отец Янки умирает… Репортер не смог сдержать возглас отчаянья. Но почему? Что за проклятье! Он спрыгнул с коня одновременно с Бан-Таем, и, ведя скакунов под уздцы, они оба пошли в лес вслед за юношей. Неподалеку на поляне на подстилке из листьев лежал смертельно бледный Туанг-Ки. Пьеко стоял рядом на коленях и плакал. Однако, когда Редон приблизился к умирающему, тот, узнав его, слабо улыбнулся. Француз увидел впалые глаза на осунувшемся почерневшем лице, бескровные губы. Печать смерти лежала на челе. — Что же все-таки случилось? — спросил он. Несчастный тихим дрожащим голосом ответил сам: — Я сделал глупость и за нее расплачиваюсь… Вот и все… Я хочу… Силы оставили его. Не договорив, он откинулся назад. Черты лица исказились от боли. — Ну вот, — снова начал Буль-де-Сон, — бедняга так переживал из-за исчезновения дочки, нашей прекрасной Розы Мукдена, что все это время чувствовал себя совершенно потерянным, от отчаянья он буквально лишился рассудка. Отец думал только об одном — бежать вслед за мерзавцем Райкаром, достать его хоть из-под земли и вырвать девочку из лап чудовища. Я пытался ему объяснить через Пьеко, что положение, в которое мы попали, очень трудное, что никто не знает, где этот негодяй прячется и куда он уволок бедную Янку. Маньчжурия большая… Какое выбрать направление? Я говорил ему, что вы отправились на разведку. Он слушал меня, кивая головой, но я видел по глазам, что он упрекает нас в бездействии. Потом нам показалось, что он немного успокоился, и мы с Пьеко отошли ненадолго, чтобы осмотреть окрестности. Когда же мы вернулись назад, старика на месте не оказалось. Куда он отправился? Бог ведает! Мы кричали, звали его, стреляли даже, рискуя привлечь к себе внимание людей, которым мы вряд ли смогли бы объяснить наше поведение. Ни звука в ответ. Мы искали его несколько часов подряд. В конце концов Пьеко нашел Туанг-Ки, он лежал без сознания у подножия крутой скалы. Как старик попал туда полуживой? Напал ли кто на него или он сам себя довел до такого состояния? Мы перетащили несчастного на эту полянку. Как он мучился! Мы с Пьеко не очень умелые целители, но оба заметили, что у бедняги что-то сломано. Правда, мы не решились трогать его. И все-таки нам удалось привести отца в чувство. Когда же он пришел в себя, то сразу стал кричать какую-то ерунду: «Там наверху… Все наверх! Я их видел… Надо бежать… Моя девочка, Янка, любимая!» Постепенно старина успокоился, и мы поняли, что он бредит. Видимо, Туанг-Ки показалось, что мы плохо ищем, что проявляем недостаточно желания, чтобы спасти его дочь, и несчастный решил, что только он один способен помочь ей. Уверовав в это, бедняга поднимался все выше и выше, чтобы получше осмотреть окрестности. С упорством маньяка[75] старик взбирался по отвесным скалам, окружавшим нас со всех сторон. Что с ним случилось — затмение какое-то нашло, что ли? Скорее всего, он поскользнулся и, не удержавшись на склоне, упал в расщелину примерно метров с десяти. Буль-де-Сон, естественно, рассказал всю печальную историю на французском, поскольку это был единственный язык, на котором он изъяснялся. Редон склонился над умирающим. Глаза несчастного смотрели в одну точку. Репортер, делая вид, что все понимает, пытался разобрать слова, которые тот шептал на родном языке. — Друг мой, — заговорил Поль на китайском. Умирающий стал жадно вслушиваться. — Простите, что мне пришлось уйти, но это было сделано для нашего общего блага, для спасения дорогой Янки. И мне кое-что удалось. Туанг-Ки вскрикнул от радости. Вероятно, он подумал, что француз вот-вот приведет ему дочь. Тогда Редон как можно отчетливей объяснил старику, что он узнал от Бан-Тая. — Бан-Тай… — прошептал бывалый солдат, — мне кажется… — Мы знакомы, — закончил японец. — Да, мой храбрый старина, со дня установления власти Боксеров, ты служил под моим началом. — Ах да, капитан… Вы были хорошим начальником! — Спасибо. Но послушайте, мне кажется, я знаю, где найти бандита, который похитил вашу девочку. Не теряйте надежду… — Однако прежде всего, — вмешался репортер, — надо осмотреть твои царапины. Я почти уверен, что они не очень опасные. В знак согласия Туанг-Ки закивал головой. — Смотрите, — с вымученной улыбкой произнес он. Исключительно осторожно Редон раздел больного, который мужественно терпел боль, не проронив ни звука. Увидев обнаженное тело старика, француз вздрогнул. То, что открылось его взору, оказалось ужасно. Несчастный приземлился на ноги, все кости были сломаны, вернее, даже раздроблены, а отдельные фрагменты[76], прорвав мышцы и кожу, торчали наружу. Удивительно, что несчастный остался при этом жив. Как он еще переносил ужасные страдания? Умелые пальцы журналиста сантиметр за сантиметром ощупывали конечности. Редон колебался: что он мог сказать несчастному, чем утешить, какую подать надежду? Дела обстояли из рук вон плохо. Глаза Туанг-Ки были широко открыты и светились в глубине каким-то странным светом. Бан-Тай, не будучи новичком в медицине и видавший достаточно ранений на войне, только сжал покрепче губы, не проронив ни слова. Но вдруг заговорил сам Туанг-Ки. На этот раз он как бы воспрянул духом и произнес совершенно четко: — Вы — мои друзья, я знаю. — Голос звучал твердо и уверенно. — Не надо обманывать меня… Я и так чувствую, что все кончено. Мое тело теперь — лишь груда обломков. Но я прошу вас, поднимите меня на лошадь… — Но зачем? — непроизвольно вырвалось у репортера. — Чтобы поехать вместе с вами. Вы ведь говорили, что знаете, где найти этого мерзавца Райкара. Или вы думаете оставить меня здесь? — Послушайте, дружище, — вступил в разговор Бан-Тай, — разве вы не понимаете, что это невозможно, дорога может утомить вас. Мы с Редоном сейчас перевяжем вам ноги, полечим, положим лекарство на грудь… Мы вовсе не собираемся оставлять вас здесь… — Вы не покинете меня? — переспросил несчастный. — А как же моя дочь? Если вы сейчас же не отправитесь в путь, не теряя ни минуты, ни секунды… Вы что, не понимаете, какой опасности она подвергается? А вы собираетесь торчать здесь и бороться за жизнь трупа! Редон и Бан-Тай переглянулись. Они-то, как никто другой, отлично понимали, что задержаться тут еще на некоторое время означало подвергнуть еще большей опасности несчастную девочку, возможно даже, обречь ее на смерть или, что гораздо хуже, на тяжкие испытания. Промедление в данном случае дорогого стоило. С другой стороны, друзья не могли оставить больного одного, хотя и знали, что он не жилец и вот-вот умрет. Это было бы бесчеловечно! Репортер окликнул Буль-де-Сона и рассказал ему о своих сомнениях. Может быть, юноша захочет остаться с умирающим? Но Буль-де-Сон запротестовал. Что, если патрон и Бан-Тай встретятся с коварным врагом. Разве вдвоем им справиться? Тут и троих будет маловато, и даже Пьеко не станет лишним. — Ты советуешь нам бросить несчастного старика здесь? — Откуда мне знать! Как ни поверни, со всех сторон ужасно! Но как бы вы ни поступили, будет правильно! Кроме того, вы ведь знаете, что я сделаю, как вы скажете. Туанг-Ки не сводил с разговаривающих глаз. Повернувшись к нему, Редон объяснил, что юный парижанин останется тут, чтобы ухаживать за ним. — Путешествие будет недолгим, займет два или максимум три дня, а потом вы к нам присоединитесь… — Как? Значит, вы оставите лошадей? — Мы найдем других. Сделав неимоверное усилие, Туанг-Ки пожал французу руку. — Не старайтесь обмануть меня, — сказал старик, — вам не спасти меня… Я знаю, что обречен… Я хочу, нет, я требую, чтобы вы уехали немедленно и больше не занимались мной… И Пьеко тоже… — Нет! — воскликнул репортер. — Мы не можем, не хотим оставлять вас одного… — Тем не менее это просто необходимо! Здоровой рукой Туанг-Ки выхватил из-за пояса нож. — Моя смерть сделает вас свободными! — крикнул он. — Спасите мою девочку! И, прежде чем кто-либо успел помешать ему, вонзил лезвие в грудь. — Пьеко!.. Янка! — были последние слова умирающего. Отважный солдат принял смерть. В душе старого крестьянина отцовская любовь возобладала над разумом. — Пойдем с нами, — сказал Редон безутешному Пьеко, — отныне ты — наш брат… В наших сердцах только одно желание, за которое твой отец отдал жизнь, — спасти твою сестру… Час спустя, похоронив с почестями Туанг-Ки, француз и его друзья отправились в путь. Бан-Тай взял Пьеко, Редон — своего верного Буль-де-Сона. Две лошади уносили прочь четырех всадников.ГЛАВА 4
В пещере Райкара тем временем происходило следующее: после глубокого обморока девушка медленно приходила в себя. Возвращалось сознание, улучшалось кровообращение, сердце стало биться сильнее, на лице появился румянец. Однако Янка не решалась открыть глаза. Инстинкт самосохранения подсказывал ей, что кошмар еще не кончился. Она внимательно прислушивалась, надеясь различить голоса отца, братишки Пьеко и нового друга, чье имя бедняжка не совсем запомнила, но воспоминания о котором грели душу, ведь юноша наговорил ей столько приятных слов. Два неожиданных звука заставили юную красавицу оставить воспоминания. Во-первых, она почувствовала чье-то громкое дыхание, переходящее в рычание, а во-вторых, услышала, как кто-то тихим хриплым голосом затянул маньчжурскую песню.ГЛАВА 5
Ничто не могло служить лучшим примером человеческого благородства, чем организация помощи раненым, собранным на полях сражений сурового Маньчжурского края. В лучах восходящего солнца конвой под эгидой Красного Креста, а значит, под защитой международного символа милосердия, двигался медленно и осторожно, насколько это позволяла ухабистая проселочная дорога. Длинную вереницу крепких, хорошо сбитых повозок с крытым брезентовым верхом и специально обустроенных для больных тянули отборные тягловые лошади. Караван состоял из десяти повозок, в каждой из которых с удобством располагались шестеро раненых — русских или японцев не имело значения. Всех их подобрали после чудовищного сражения, как обломки корабля после бури. Большая часть этих несчастных была отправлена по железной дороге в Харбин. Но поездов для всех нуждающихся не хватило, и пришлось воспользоваться лошадьми. Пять дней и ночей караван медленно шел по дороге к границе Кореи. Среди пассажиров не встречалось тяжелораненых. Единственному врачу помогали десять сестер милосердия, которые выполняли свою работу на добровольных началах. Вся экспедиция была организована на средства одного богача. Конвой направлялся к небольшой деревушке Марц, где предполагалось сменить лошадей — те были уже готовы, — а оттуда доехать до Корва, города на границе с Кореей, куда стекались все кареты скорой помощи из Восточной Маньчжурии. Во главе шли шесть солдат, которых Борский принял за европейцев. На самом деле они оказались самыми разными людьми, собранными отовсюду. С ружьями за спиной они устало шагали в ногу с лошадьми. Сестры милосердия находились в фургонах с больными, а врач, заснувший накануне довольно поздно, спал глубоким сном в отдельной повозке, предназначенной для двух начальников. Именно эта повозка, следуя на некотором расстоянии ото всех, замыкала шествие. Одним из тех, кто организовал конвой, был граф Жорж де Солиньяк, прозванный в американских кругах, где он получил широкую известность, Бессребреником. Ему было около сорока. Из-под колониальной каски[79] выбивалось несколько кудрявых черных прядей, слегка тронутых сединой. Белое лицо выглядело свежим, и если бы не маленькие морщинки в уголках губ, то можно было подумать, что перед вами юноша. Весь облик говорил о силе и достоинстве этого человека. Вместе с графом ехала его жена Клавдия Остин, «нефтяная королева» родом из огромного индустриального города, именуемого Нью-Ойл-Сити. Это было обаятельнейшее создание с пышными белокурыми волосами, которые с трудом удерживались шелковой лентой. На необычайно красивом лице блестели, излучая энергию и доброту, прекрасные голубые глаза. Если еще добавить к этому выразительный рот со слегка улыбающимися губами, то все страждущие мира без труда приняли бы ее за само Провидение. — Дорогая Клавдия, — произнес Солиньяк, — я прошу прощения за то, что вовлек вас в эту экспедицию. — Но почему, мой друг? Я нахожу путешествие исключительно романтичным. — Да, но слегка однообразным. Признайтесь, вы немного скучали в отеле на Пятой авеню[80] и мечтали иногда о волнующих приключениях? А здесь, среди песчаных равнин, крутых холмов и мрачных лесов, ничто не может поколебать спокойствия нашего слишком легкого путешествия… Разве вы не сожалеете? — В любом случае, — улыбаясь, ответила молодая женщина, — я бы так не считала… Дело, которым мы занимаемся, требует не только благородства и добродетели, но еще и спокойствия. И мы должны, не противясь, подчиниться. Супруги, чье огромное состояние постоянно умножалось, потратили значительную сумму на организацию службы Красного Креста на Дальнем Востоке. Теперь она успешно функционировала. Чету видели то на развалинах Порт-Артура, где они, рискуя жизнью, выполняли свое трудное и опасное дело, то во время сражений под Ша-Хо и Эхр-Хинг-Чан, где под огнем они вытаскивали с поля боя раненых. Все им удавалось — целыми и невредимыми выбирались они из самых рискованных мероприятий. Караван въехал в небольшую узкую долину, с одной стороны которой возвышались крутые черные скалы, а с другой — стоял густой еловый лес такой высоты, что до макушек могучих деревьев не доставал глаз. Это ущелье Вация, по выходе из которого караван ждала запланированная остановка в деревушке, считавшейся важным пунктом на пути в Ревзор. За разговорами супруги не заметили, как сильно оторвались от обоза. Впереди не виднелось ни одной повозки. — Пора перейти на галоп, — сказала Клавдия, — мы в два счета догоним их. Путешественники пришпорили скакунов, слегка ударяя их хлыстами. Кони поскакали быстрее. Внезапно справа и слева раздались выстрелы. Сраженные наповал, оба коня упали, сбрасывая своих седоков. Солиньяк не успел даже вытащить карабин, столь неожиданным оказалось падение, и столь же неудачным, поскольку тело коня, навалившись, придавило его к земле. Клавдии повезло больше: она тотчас вскочила на ноги и теперь стояла с револьверами в руках. Из леса и с окрестных гор на них надвигались вооруженные до зубов бандиты. В одно мгновение Бессребреник был схвачен и связан. Его спутнице удалось пустить оружие в ход, и один из нападавших упал с пробитой головой. Женщина попыталась залезть на скалу, но времени оказалось слишком мало. Ее также схватили и связали по рукам и ногам. Увидев мужа во власти грабителей, несчастная отчаянно закричала, задергалась, пытаясь разорвать связывавшие ее веревки. Но все усилия были напрасны. Сам Солиньяк не мог пошевелить и пальцем. Конвой уехал слишком далеко, и никто не пришел им на помощь. Возможно, в караване не слышали даже выстрелов, звук которых растворился в ущелье. Пленников взвалили на коней, и группа поскакала галопом. В это время другие бандиты напали на двигавшийся в хвосте колонны последний, никем не защищенный фургон. Солдаты же дремали в авангарде, уверовав в полную безопасность. Среди сопровождавших обоз царила полная растерянность. Да и что они могли? Ничего. После безуспешных поисков пропавшей четы[81], врач скрепя сердце приказал двигаться дальше. Он глубоко сожалел о потере друзей, но надо было прежде всего думать о раненых, за которых он нес ответственность. Тем временем банда Райкара продолжала действовать с головокружительной скоростью, но со строгим соблюдением пиратских правил. Успешно завершив первые два дела, бандиты, ничем не рискуя, двигались по дороге к своим будущим жертвам. Их примитивный план изменился лишь по одному пункту — по инициативе Борского, Жоржа и Клавдию не убили, как это планировалось ранее. Незавидная участь супругов будет решена позднее. А пока несчастные уже больше десяти лье[82] провели в нескончаемой скачке. Наконец пришло время остановки. Крепкая мускулатура Солиньяка еще сопротивлялась связывавшим его веревкам, но лошади уже не слушались бича. Клавдия умирала от усталости, однако сознания не теряла. Правда, страдания супругов усиливались еще и тем, что каждый из них вдвойне переживал за другого. Оба думали об одном: что их ждет? Во время привала Райкар и Борский раздавали приказы: дать лошадям воды и овса, выставить часовых по всем направлениям от поляны, подготовить оружие. Борский, как воспитанный человек, сначала подошел к Клавдии. — Мадам, — галантно произнес он, — примите наши сожаления за причиненные вам неудобства. Но дело прежде всего, не так ли? Разрешите мне посмотреть, как связаны ваши руки. Возможно, их затянули слишком туго, поймите, мы так торопились! Приношу свои извинения. Борский обладал прекрасными манерами светского[83] человека. Молодая женщина скосила на него свои огромные глаза, но не удостоила ответом. Человек, чей язык выдавал неплохое образование, вызывал в ней еще больше неприязни, чем дикарь Райкар. Русский тем временем легким прикосновением проверил веревки, ослабил их немного и помог американке поудобнее устроиться на лошади. У Клавдии невольно вырвался вздох облегчения. — О! Я счастлив уменьшить ваши страдания. Надеюсь, вы воздадите мне должное, когда мы будем обсуждать дела. — И лейтенант позвал одного из своих людей. — Вы поступаете в распоряжение мадам и будете делать все, о чем она вас попросит, — приказал Борский и направился к Солиньяку. Тот с беспокойством следил за всеми перемещениями. Особенно ему не понравилось, что бандит заговорил с его женой. Правда, заметив, что Клавдия пришла в себя, Бессребреник почувствовал даже благодарность к бандиту. В этот момент Борский подошел к нему ближе и сказал более жестким тоном, как говорит мужчина с мужчиной: — Месье, вы, конечно, поняли, что всякое сопротивление бесполезно. Вы оба находитесь в нашей власти. Мы должны были бы убить вас… Возможно, вы удивлены, что мы не сделали этого… Я хотел бы, зная обычаи вашей страны, вы ведь француз, не так ли? — даже попросить вас дать слово не пытаться бежать. Но потом подумал, что это станет дополнительным искушением. Таким образом, вы остаетесь обыкновенным пленным, и все средства хороши, чтобы продлить это заключение. А теперь, если хотите, то можете просить у меня все, в чем вы нуждаетесь, кроме свободы, разумеется. Ах да! Кляп! Тысяча извинений, что не заметил его раньше. Вы ведь не можете ответить! Одним движением бандит вытащил пучок травы, торчавший изо рта пленного. Солиньяк, слегка приоткрыв глаза, довольно внимательно слушал монолог русского. Они не убили его — значит, положение было не безнадежно. Нельзя отчаиваться. С ним случались переделки и похуже. Кляп выпал изо рта, и француз, свободно вздохнув, ответил Борскому: — Так, значит, вы являетесь предводителем этих разбойников? — Не имею такой чести! Я просто лейтенант. Главарь вон там… Видите? Это мой друг Райкар. У него очень крутой нрав, и к тому же он не может поговорить с вами, поскольку изъясняется только на одном сибирско-маньчжурском наречии. — Какую цель вы преследовали, напав на нас? — Одну-единственную — обогатиться! — Но ведь вы завладели нашим фургоном, не так ли? — В котором денег содержалось гораздо меньше, чем мы полагали… От силы двести тысяч рублей. Мои сведения оказались не совсем точны. На самом деле, и вы это знаете не хуже меня, не надо было им доверять. — Так вам мало этой суммы? — Вряд ли она заинтересует моих отважных компаньонов… — Господа головорезы более требовательны? — Намного более… Но я и так вам достаточно наговорил. Время бежит быстро, а мы торопимся продолжить путь. — Куда нас везут? — К нам, черт побери! Возможно, наша обитель покажется вам недостаточно комфортабельной. Заранее приношу извинения, но мы постараемся разместить вас как можно лучше. На этом Борский закончил. Отдав честь, он круто повернулся на каблуках и направился к своим. Райкар, по обыкновению, был зол. — Ты обманул меня, — прицепился он к русскому, — твои пятьсот тысяч рублей испарились как дым. Что мы обнаружили в этом проклятом фургоне? От силы несколько тысчонок серебром да ворох бумаг, которыми я не хочу даже разжигать костер… — Ты забыл, кто навел тебя на это богатство? — Ты лжец! — А ты — дурак и глупец, хоть и не ведаешь об этом, но скоро все узнаешь. — Кем бы я ни был, почему ты приказал сохранить жизнь этим двоим? На кой черт нам нужны пленные? — Повторяю тебе, ты самый последний простофиля из всех зверей в лесу! — Объясни немедленно! — заорал бандит, вскинув голову в порыве злости. — Кроме того, должен сказать тебе, что мне давно надоели твои штучки. Уж не хочешь ли ты стать командиром? Может, ты думаешь, что я буду выполнять твои приказы? Ты кто, собственно, такой? Откуда ты взялся? Чем ты лучше? Борский, не перебивая, слушал говорящего, а затем холодно произнес: — Зачем мы ссоримся? Если ты хочешь, чтобы мы расстались, нет проблем… Если хочешь, чтобы боролись вместе до конца, я в твоем распоряжении… Но в настоящий момент, мне кажется, самое главное после того, как мы захватили двух пленных, поместить их в надежное место, например закрыть в твоей пещере под присмотром Тониша. — На мою пещеру не рассчитывай, — проворчал Райкар, — я не желаю в ней никого принимать. Искренне удивившись, русский внимательно посмотрел в лицо сообщнику, пытаясь понять, что кроется за этими странными словами. — Что это за новость? — переспросил он, усмехаясь, а затем добавил полушутя-полусерьезно. — Уж не прячет ли господин Райкар у себя почетную гостью? Йок, не поняв иронии, тут же выдал себя: — Кто это тебе сказал? Да, ну и что? Я не хочу, чтобы ко мне заходили, ни ты, ни кто-либо другой… И несмотря на твой внушительный вид, клянусь, ты туда не войдешь. Ошеломленный этим невероятным заявлением, Борский счел нужным не раздражать дикаря и примирительно сказал: — Конечно, конечно! Я уважаю твое желание и найду другое убежище для пленников. — Я предпочел бы их убить. Только сначала вытряхнуть все, что возможно: деньги и украшения, чтобы больше не думать об этом деле. — Ты забыл, а я тебе говорил, что эти люди несказанно богаты и могут выкупить у нас свободу по гораздо большей цене. Их состояние насчитывает миллионы золотых монет. Я возьму на себя заботу об их жизни, и мы с тобой сможем сказочно обогатиться. Вот поэтому я и помешал тебе их убить. А теперь хватит болтать, пора действовать. Наши бойцы уже давно готовы к отъезду. В дорогу! У нас будет еще время все обсудить. Райкар смутно понял идею русского. Будучи недальновидным стратегом, он мог убить, украсть, собрать награбленное — совершить любое сиюминутное действие, но продумать на два хода вперед было не в его силах. Тем не менее бурят отдавал должное уму своего компаньона и в какой-то степени доверял его изобретательности. Райкар отдал приказ об отъезде, и небольшое войско отправилось в путь. Солиньяк и его жена все еще оставались связанными и сбежать не могли. Единственное послабление состояло в том, что супругов везли теперь ближе друг к другу и им удавалось перекинуться парой слов. — Клавдия, — говорил Бессребреник, — простите меня, что втянул вас в эту ужасную историю. — Простить вас, мой любимый Жорж? Да разве мы не должны быть вместе в горе и радости, делить жизнь и смерть на двоих? Я считаю, что у вас нет повода просить прощения… Я надеюсь, что мы выберемся из этого злоключения целыми и невредимыми. Я верю в вас и доверяю во всем! Клавдия всегда умела найти нужные слова, чтобы подбодрить мужа. Наш герой мгновенно вспомнил, что не раз попадал в еще более трудные и опасные ситуации. Бандиты тем временем приближались к своему логову. Почуяв жилье, кони поскакали быстрее и вскоре перешли в галоп. Спустившись в долину, седоки увидели цепь горных вершин, окружавших их пристанище. Один Райкар казался неутомимым. Этот злобный гном[84], разочарованный столь скудным уловом, — стоило покидать Янку! — скакал все быстрее. Наконец показался выступ скалы и запутанные переходы настоящего лабиринта, которые знал лишь один главарь. А вот и лагерь. Борский стал изо всех сил сигналить в рожок, чтобы предупредить часовых. Никто, однако, не ответил ему. Он протрубил еще раз. И опять тишина. Теперь уже Райкар бешено заорал, что его люди — подлые предатели и дорого за это заплатят. Он перенес все раздражение на невнимательных часовых. Показалась поляна. Одним прыжком бурят достиг первых палаток. Никого! На его хлопки никто не отозвался. Почувствовав неладное, Райкар бросился к пещере. Проникнув внутрь, он был потрясен увиденным: по всему полу валялись куски мяса. Он нагнулся и, приглядевшись, — о! ужас! — узнал останки тела матери, старой Баси. — Янка! Янка! Не откликнулось даже эхо. Юная красавица бесследно исчезла. Но медведь, где этот мерзавец Тониш? Предатель, неужели и он сбежал? Дикарь искал зверя, хрипя от ярости. Его нигде не было. Нет, косолапого не убили, этот прохвост сбежал сам, и Янка вместе с ним. Гневу бандита не было предела, он жаждал крови и мести. Теперь Йок понял, почему покинули лагерь его верные охранники — они испугались возмездия. Выскочив из пещеры, Райкар с пеной на губах прохрипел Борскому: — Я хочу, я требую, чтобы пленных убили… немедленно… Я желаю отомстить… И мне не важно, кто они… Главарь взглянул на связанных Клавдию и Солиньяка, которые все еще находились вместе. Вытащив из-за пояса огромный нож, он кинулся на них. Женщина первой оказалась на его пути. Отважная американка не испугалась и, несмотря на связанные руки, гордо подняв голову, взглянула прямо в глаза убийце. Еще секунда — и орудие смерти опустится, проломив ей череп. Но в этот момент Солиньяку каким-то чудом удалось освободиться от веревок на запястьях, и он, на лету перехватив руку Райкара, ударил бандита со всей силы, направив нож в его собственное тело. Удар пришелся в плечо. Бурят упал, продолжая кричать: — Убейте, убейте! Зарежьте же их, в конце концов! Борский осторожно встал между пленными и разбойником и, отстраняя бандитов, приказал: — Отнесите командира в пещеру, я сейчас приду. Затем, показав на Бессребреника и его спутницу, твердо добавил: — Я запрещаю вам их убивать! Они нужны мне живыми, по крайней мере, некоторое время… Повернувшись спиной, русский отдал еще несколько коротких приказов, после чего Солиньяка и Клавдию, сняв с коней, бережно перенесли на землю. Они все еще оставались пленными, причем более, чем когда-либо. Райкар был жив.ГЛАВА 6
Янка в ужасе бросилась прочь из пещеры. Стоны и рычание продолжали звучать в ушах. Скорее бежать! Но куда? Дороги не было видно, только частокол могучих деревьев, ветви которых сплетались с корнями, стоял перед глазами. Однако желание покинуть злополучное место, где она лицом к лицу столкнулась со смертью, оказалось сильнее. Молодой крепкий организм хотел жить. Надо непременно выбраться отсюда. Сто раз девушка падала и сто раз поднималась, продолжая движение в неизвестном направлении, но в конце концов в изнеможении, почти теряя сознание, рухнула у подножия векового дуба. Было прохладно: в этом краю весна еще не вступила в свои права. Воспаленный мозг требовал передышки, тело устало. Постепенно девушка погрузилась в сон. Неизвестно, сколько она проспала, но, внезапно проснувшись, Янка вскрикнула. Стояла темная, мрачная, полная ужасов ночь. Холод сковал мышцы. Ощупав одежду, она поняла, что вся покрыта снегом. Через некоторое время глаза привыкли к темноте, и беглянка увидела, как крупные хлопья кружатся в воздухе и, оседая на ветви деревьев, на землю, сливаются с белоснежным покрывалом. Короткий сон тем не менее пошел ей на пользу: страх исчез. Прекрасно зная климат Маньчжурии, девушка не удивилась внезапно выпавшим осадкам, вспомнив, что в это время года возможны любые неожиданности. Снег, дождь и холод могли вскоре смениться солнцем и теплом, вслед за которыми снова наступало похолодание. Снег не пролежит и нескольких часов, а выглянувшее солнце не оставит от него и следа. Девушка сделала усилие, пытаясь встать. Однако она была еще очень слаба и слишком замерзла, чтобы ей это удалось с первой попытки. Ничего, она попробует еще раз. Нельзя оставаться на земле. Отважное дитя, думая о том, сможет она спастись или нет, рассуждала приблизительно следующим образом. Так не бывает, что все постоянно против тебя, разве она недостаточно страдала, ведь ее разлучили с теми, кого она любила… Этот мерзавец, мысль о котором приводила девушку в содрогание, из-за него бедняжка осталась одна среди ночи в холодном лесу без помощи. Но отважная красавица подбадривала себя, как могла, надеясь на лучшее. Наконец ей удалось встать, и она вновь отправилась в путь. Янка шла на ощупь, а снежные хлопья продолжали свою карусель, засыпая следы от ее башмаков. Вдруг девушке показалось, что она идет по вырубке. Обычно лесорубы строили временное жилье, которое оставляли на три холодных месяца зимы, а затем возвращались с наступлением весны. Снег перестал сыпать, северный ветер стих. Небо просветлело, тучи исчезли, и появилась огромная желтая луна. Ее слабые лучи струились сквозь ветви деревьев, причудливо преломляясь и рисуя на снегу сказочные узоры. Края дороги стали более отчетливыми, а сама просека значительно шире. Янку, однако, больше всего занимало, что тропинка идет на подъем. Когда она выбежала из пещеры — девушка хорошо это запомнила, — склон шел под откос. Пытаясь сориентироваться, Янка вспомнила, что было утро и она двигалась навстречу солнцу. Значит, беглянка не сбилась с пути. Вперед и только вперед! Надежда согревала ее. Как бы сильно она ни замерзла, не имело значения. Чтобы не закоченеть окончательно, девушка побежала, сильно топая ногами и потирая озябшие руки о накинутый на плечи платок. Как все-таки трудно оказалось бороться с холодом! От бега, правда, становилось теплее. Вдруг юная маньчжурка заметила на некотором расстоянии неподвижные темные очертания небольшого сооружения и вскрикнула от радости. Это было то, что она искала. У поворота дороги стояла хижина лесника, сооруженная из отличных круглых бревен. Через небольшой дверной проем, в который с трудом мог протиснуться лишь один человек, Янка не раздумывая пролезла внутрь и, облегченно вздохнув, огляделась. Каково же было ее удивление, когда она увидела, как кто-то, чиркнув спичкой, зажег фитиль. Языки пламени, охватив смоляной факел, мягкими танцующими бликами осветили хижину. А девушка-то полагала, что в домике никого нет. Она отпрянула назад и собралась было бежать, как вдруг услышала ласковый, слегка простуженный мужской голос: — Кто бы вы ни были, не бойтесь… Незнакомец, взяв девушку за руки, осторожно провел ее к куче сухого папоротника и заставил сесть. Затем вернулся к факелу, который оставил на полу, и вставил его в стену. Старик не мог видеть лица Янки, так как оно было закрыто платком. Девушка более не сопротивлялась. Поверив в добрые намерения человека, она успокоилась и сняла с головы шаль. Незнакомец вздрогнул и, наклонившись к юной маньчжурке, удивленно воскликнул: — Маленькая Янка, дочка Туанг-Ки! Бедняжка, да как же ты попала сюда? Одна в лесу в такое время? — Это вы, отец Жером? Вы так добры, вы столько сделали для меня… — Да, это я, старый миссионер, который любит тебя, как свою дочь, и твоего брата Пьеко. Вас доверил мне твой отец, солдат китайской армии. Ты узнала меня, не правда ли, и больше не боишься? — Нет, конечно! Я прекрасно помню вас, ведь вы были так добры к нам. Отец Жером был глубоко верующим и очень порядочным человеком. Внутренняя неудовлетворенность толкнула его на разрыв с европейским обществом, и он покинул его. Всю свою любовь батюшка отдавал людям, никогда не показывая вида, что творилось у него на душе. Янка слыла одной из самых любимых его учениц. Именно ему девушка была обязана своим волевым характером, твердостью духа и отвагой, которые стали проявляться, как только она столкнулась с первыми трудностями. И вот отец Жером вновь встретился на ее пути. Переведя дух, он рассказал юной маньчжурке, что с началом русско-японской войны должен был отправить своих компаньонов на различные поля сражений, где многие сложили головы, творя добро и призывая к миру. Ему самому чудом удалось избежать смерти, хоть он и не страшился ее. Теперь миссионер возвращался в свой скромный приют — старую пагоду у врат Син-Кинга, где рассчитывал найти всех оставшихся в живых собратьев. — Провидение направило меня к этому горному массиву, где я встретил тебя, моя любимая добрая Янка. Я вижу, ты ожила, согрелась… розочки молодости распустились на твоих щеках… Теперь ты можешь говорить. Расскажи в двух словах, что привело тебя сюда одну, в это дикое место. Действительно, юная красавица уже оправилась от испуга и тотчас начала свой рассказ. Старик запалил ветки кустарника, в помещении стало теплее. Почувствовав себя в безопасности, девушка все говорила и говорила, не без содрогания вспоминая о недавно пережитых кошмарах. Она коротко объяснила, как двое приговоренных к смерти французов были помещены в тюрьму к ее отцу, как тот из сострадания помог им бежать. Девушка специально умолчала о той роли, которую сыграла сама в этой истории, сказав только, что провела беглецов в туннель под мавзолеем маньчжурских королей, как отважные французы не без помощи отца и брата спасли группу корейцев… И наконец дошла до места, когда была похищена подлым негодяем. — Ты знаешь имя этого бандита? — Конечно, это Райкар… — Грабитель маньчжурских степей! Один из тех мерзавцев, что не имеют ничего человеческого, даже лица! Ну, продолжай, продолжай! Янка закончила свою историю, упомянув о пещере, где она провела несколько часов, об ужасной смерти матери Райкара от лап медведя Тониша и своем бегстве. — Я шла наугад, блуждая по лесу до тех пор, пока, к счастью, не повстречала вас, моего спасителя и благодетеля… Миссионер внимательно слушал ее. Он прекрасно знал бандитов, которых ничего не останавливало и которые были способны на любое преступление. Просто чудо, что девушке удалось благополучно уйти. К тому же по какой-то счастливой случайности она пошла именно в этом направлении… Снег также захватил старика врасплох, а убежищем ему послужила хижина лесника. — Ничего! Все будет хорошо, — пробормотал отец Жером. — Тебе удалось бежать, ты на свободе, в тепле. Ночь еще не кончилась, дитя мое, я дам тебе немного поесть. Настоящую монастырскую еду! А потом ты отдохнешь немного, а на рассвете мы вместе решим, что делать, и отправимся в дорогу. — Вы поможете мне найти отца и брата? Священник привлек ее к себе и, положив руку на лоб, сказал: — Доверься мне, дитя мое! Поешь и поспи, а там видно будет. Янка улыбнулась. Конечно же она полностью доверяла ему, зная, сколько доброты и благородства кроется в душе этого доброго человека. — Я должна поблагодарить вас за то, что вы научили меня говорить по-французски. — И ты смогла разговаривать с пленными. Ты потом расскажешь мне о них… — Одного из них зовут Поль Редон… — Поль Редон! Но я знаю это имя! Отважный малый, я встречал его во время путешествия по Индии. Я слышал, он настоящий герой. — Но его компаньон Буль-де-Сон тоже очень храбрый, — заливаясь краской, воскликнула Янка. — А-а… — протянул миссионер, — не имею чести знать господина Буль-де-Сона, но охотно верю тебе. Отец Жером засуетился, доставая сухие фрукты, хлеб из маиса[85]. Подкрепившись, девушка почувствовала себя лучше. Она окончательно согрелась и вскоре, свернувшись калачиком, заснула под добрым бдительным оком старого француза. Сам же священник не спал, внимательно вслушиваясь в звуки леса. Не желая расстраивать бедняжку, он не открыл ей всей правды. Священник сразу понял, что Янка, блуждая по лесу наугад, совсем недалеко ушла от бандитского логова Райкара. Негодяй конечно же заметит исчезновение пленницы, а он не тот человек, чтобы отказаться от пойманной добычи. Предположим, разбойник не будет рыскать среди ночи, но с первыми лучами солнца непременно прочешет окрестности. Снег, должно быть, засыпал следы беглянки. Отец Жером слегка поежился. Конечно, он был еще силен и, возможно, выдержит не одну баталию, но годы берут свое. Мышцы уже не казались такими крепкими, движения — такими ловкими. Что, если силы его подведут? Надо незамедлительно переправить девушку в безопасное место. Старик потушил факел — своими отсветами тот мог привлечь внимание — и остался сидеть тихо и неподвижно, погруженный в мысли о случившемся. Ветер стих, и лес еле слышно шумел. Пройдет еще час, и наступит утро. Внезапно священник поднял голову — ему почудились странные звуки. Неужели это наяву? Похоже, кто-то скользил по льду. Старик постарался успокоиться — такой звук могло издавать любое дерево в лесу. Прошла минута. На всякий случай отец Жером, подтянув к себе поближе, крепко зажал в руке здоровенную прямую палку с узлом на конце. Звук повторился, став отчетливей и сильнее. Теперь уже старик не сомневался: кто-то медленно шел, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Миссионер не двигался, продолжая сжимать дубину. Сомнений не оставалось — вокруг хижины с глухим рычанием ходил дикий зверь. Подобные животные были редкостью в этом краю. Хруст и треск ломающихся веток неумолимо приближался. Отец Жером бросил короткий взгляд на Янку. Та спала глубоким безмятежным сном. Подумав, что неплохо было бы организовать оборону, старик поднялся и приложил ухо к стене. На этот раз он совершенно отчетливо услышал хриплое дыхание дикого зверя. Затем он перевел взгляд на дверной проем. Еще до прихода девушки отец Жером предусмотрительно запасся толстыми полешками, которые теперь лежали на полу. В целом же хижина была крепкой и вполне могла противостоять нападению хищника. Тем не менее священник беспокоился: как гражданский человек, он не имел огнестрельного оружия, ему претило носить с собой орудие смерти. До сих пор палка служила ему надежной защитой. Рычание тем временем усиливалось. Треск ломающихся веток раздавался уже совсем рядом. Чувствовалось, что зверь нервничает. Наконец он подошел вплотную к стене и всей тяжестью навалился на нее. Домик задрожал. Неужели хищнику удастся его свалить? Противник был очень силен. Сколько это могло продолжаться? Янка проснулась и тоже почувствовала удары. — Святой отец! Что это? — Ничего, дитя мое. Какой-то зверь бродил по горам и, вероятно, не найдя ничего, спустился сюда… Он скоро уберется отсюда восвояси… Девушка не задавала больше вопросов, чтобы не отвлекать старика. Похоже, миссионер сказал правду: через несколько минут скрежет прекратился и наступило затишье. Неужели животное решило оставить хижину в покое и удалиться? Нет, чуткое ухо священника уловило другие звуки, доносившиеся снаружи. Зверь, хрустя снегом, обходил домик вокруг. Без сомнения, он искал вход и, не находя его, беспокоился все сильнее. Отец Жером продолжал неподвижно стоять у дверного проема с оружием наготове. Янка не сомневалась, что скоро будет новое нападение, и в тревоге следила за худым бледным лицом миссионера. В его глазах сконцентрировалась вся жизненная энергия, нацеленная лишь на одно — отразить атаку зверя. Хищник, похоже, почуял добычу. Громко клацая зубами и яростно царапая дерево, он искал лазейку, откуда пахло человеком. Наконец он обнаружил ее. Двери в проеме между бревнами не было, и зверь полез через наваленные поленья. Внутри, однако, его ждал отец Жером с дубиной. Бревна рассыпались, и в отверстии показалась огромная лапа. Когти, как стальные крючья, поочередно впивались в поленья, с грохотом растаскивая их в стороны. Миссионер, выждав немного, шагнул вперед. Палка поднялась вверх и, описав круг над головой, с силой ударила по массивной лапе животного. От неожиданности хищник взвизгнул, но не отступил. С еще большим упрямством он вцепился в дерево, мешавшее ему пройти, ипросунул голову внутрь. Увидев желто-черную косматую морду, Янка тотчас узнала ее. — Это Тониш! — воскликнула она. — Медведь Райкара! Мы пропали! — Вовсе нет, — спокойно отвечал священник, — пока я жив, во всяком случае. Отверстие, однако, оказалось довольно маленьким, чтобы зверь мог целиком протиснуться внутрь. Тем временем девушка, зажав в руке нож, бросилась в сторону дверного проема и со всей силы нанесла удар медведю по голове. Лезвие при столкновении с твердой костью черепа мгновенно сломалось. Почувствовав боль, Тониш обезумел от злости. Из раны брызнула кровь, и разъяренное животное принялось еще энергичнее прорываться за добычей. Еще мгновение — и хлипкая конструкция из поленьев развалится окончательно. Отец Жером, чувствуя ответственность за несчастную, которая так храбро пыталась победить дикого зверя, решительно взялся за дело. — Отойди, пожалуйста, — приказал он Янке. — Я сам справлюсь… Девушка беспрекословно повиновалась, и священник начал молотить хищника дубиной. Удары сыпались один за другим. Медведь отступил, а отец Жером, выйдя из укрытия, перешел в наступление. Он оказался лицом к лицу с Тонишем, и зверь не выдержал. Встав на задние лапы, он с воем попятился назад. Колоссальных размеров, с разинутой пастью — вид его был страшен. Миссионер с головокружительной скоростью продолжал работать палкой, которая крутилась в его руках, как мельничное колесо. Он бил медведя по голове, лапам, животу… Тактика священника была проста — отогнать животное как можно дальше от хижины. Однако миссионер устал. Удары перестали достигать цели. Тониш схватил дубину миссионера крепкими зубами и вырвал из рук священника, а затем всем телом навалился на противника. Янка, наблюдавшая за перипетиями борьбы, сразу поняла, какая опасность угрожает ее защитнику. Сняв со стены горящий факел, она выпрыгнула наружу. Зверь повалил отца Жерома на спину и, разинув пасть, собирался уже впиться зубами в человека, но тут девушка, не растерявшись, вставила горящее древко прямо в рот хищнику. Медведь отскочил назад, рыча от боли. Миссионер тотчас поднялся на ноги, но теперь он остался без оружия. Заслонив Янку своим телом, старик вновь приготовился к атаке зверя. Но сейчас им вряд ли что-либо могло помочь. Рассвирепев от боли, Тониш ринулся вперед. Одним ударом свалив отца Жерома, он опустил свою лапу на плечо девушки. Это верная смерть! Роза Мукдена сначала удивленно, а потом громко закричала. В ответ грохнул выстрел. Вздрогнув, раненый медведь упал. Прозвучал второй выстрел — хищник был мертв. Девушка бросилась в объятия миссионера. В это время с вершины холма скатился круглый темный силуэт, который по мере приближения обретал черты человека и наконец предстал перед Янкой. — Это вы, господин Буль-де-Сон! — Точно так, собственной персоной. Мне кажется, я подоспел вовремя. — О! Молодой человек, вы спасли нам жизнь! — воскликнул отец Жером. — Хорошо, хорошо! Поговорим об этом позже. А пока пойдемте со мной. Мой шеф, господин Поль Редон, и Пьеко тут недалеко. Идемте! Взяв Янку за руку, юноша тихонько добавил: — Дорогая Роза Мукдена, я так счастлив был оказать вам эту маленькую услугу. Но девушка не улыбнулась в ответ, а лишь с беспокойством переспросила: — Вы сказали, господин Поль Редон, Пьеко, но не упомянули моего отца… Буль-де-Сон тяжело вздохнул. «Лучше сказать правду», — подумал он, а вслух произнес: — Ваш отец… умер. — Умер? Мой любимый папочка умер? Нет, нет, неправда! — Увы! Несчастье слишком реально, чтобы быть ложью. Но прошу вас, идемте скорее. Вы потом узнаете все печальные подробности. Янка зарыдала. Юноша и миссионер как могли утешали ее. — Где же ваши друзья? — спросил отец Жером молодого человека. — В долине, в двухстах метрах отсюда. Я поднялся на рассвете, чтобы осмотреть окрестности и подстрелить какую-нибудь дичь. Странно, что они не пришли на выстрелы. Но мы их скоро найдем, потерпите немного. Тут нервы девушки не выдержали, и она лишилась чувств. Старик поднял ее на руки и понес, как младенца. Буль-де-Сон, все ускоряя шаги, пошел вверх, указывая дорогу. Несмотря на радость спасения любимой, необъяснимое беспокойство закралось ему в душу. Друзья спускались с крутого скалистого склона, стараясь обходить опасные места. Отец Жером, твердо ступая, легко нес свою ношу. Они уже подошли к тому месту, где в зарослях кустарника юноша оставил спящих друзей, как вдруг Буль-де-Сон вскрикнул.Конец второй части








Часть третья МЕСТЬ СОЛИНЬЯКА
ГЛАВА 1
Райкара перенесли в пещеру. Удар, нанесенный Солиньяком, оказался такой силы, что сшиб его с ног, но не убил, и бандит, вскоре придя в сознание, чувствовал лишь легкое недомогание. Крепкий организм молодого мужчины одержал верх, и Йок, оглядев пустое помещение, вспомнил все. Обезображенный труп его матери лежал на полу. Правда, это мало беспокоило разбойника — смерть старой женщины, не сумевшей справиться с медведем, не тронула его. — Пусть уберут это! — небрежно бросил он, поднимаясь на ноги. Ему тотчас подчинились. Оставшись один, Райкар принялся ходить по пещере. Он заглядывал во все углы, надеясь обнаружить хоть какие-нибудь следы загадочного исчезновения Янки. Бормоча под нос проклятия, бандит размышлял: девушка не могла уйти далеко; местность вокруг лагеря была обманчива, и тот, кто не знал всех ее закоулков, мог оказаться запертым в ловушке. Райкар взял в руки оружие — поистине, страсть, овладевшая им, была сильнее денег. Забыв обо всем: о недавнем бое, о добытом сокровище он хотел только одного: найти юную маньчжурку. Решительно выйдя наружу, бандит направился в горы. Пройдя немного, он свистнул и прислушался. Тишина. Медведь не слышал хозяина. Но разбойника ничто не могло остановить: он жаждал мести. Грубый животный инстинкт толкал его на охоту. Борский, конечно, заметил внезапное исчезновение компаньона. Почувствовав себя единственным хозяином, он собрал людей и распределил украденные из фургона деньги. Каждый получил несколько сот рублей и остался вполне доволен. Затем русский распорядился отвести Солиньяка и Клавдию в пещеру в скале, которая должна была служить им тюрьмой. Просторный грот[86] был жилищем Борского, тот со своеобразным вкусом даже обустроил его: карты, миниатюры и различное оружие прикрывали черные каменные стены. Грот разделялся на две половины. Пленников поместили в ту, что находилась дальше от входа. Застелили стоявшие у стен кровати. Сам Борский остался в первой комнате, выходившей на узкое ущелье, по дну которого извивалась ведущая неизвестно куда горная дорога. За каждым выступом стояли часовые, несмотря на то, что в эти места вряд ли кто мог сунуться без особой нужды. У захваченных в плен была прекрасная охрана, и Солиньяк, отмечавший про себя все детали, отлично осознавал, что полностью находится во власти негодяя, и только Провидение способно его спасти. Но если руки и ноги были связаны, то полет мысли никто не мог остановить. Мозг напряженно работал, и путешественник, не теряя надежды вопреки обстоятельствам, ждал удобного случая для побега. Борский, оставив пленных одних, пошел раздавать приказы. В это время супругам удалось уже не в первый раз обменяться словами любви и поддержки. Бессребреник очень страдал, видя свою дорогую спутницу, нежные руки которой были так грубо и жестоко связаны веревками. Однако она убеждала мужа, что совсем не чувствует боли и что вера ни на минуту не оставляет ее. Женское чутье подсказывало миссис Клавдии, что не стоит доверять хитрому русскому, который, будучи по сути бандитом, только играет роль светского человека. — Этот проходимец, — говорила жена Солиньяку, — еще более жесток, чем Райкар. Я ненавижу Райкара, чья звериная грубость является чертой характера, но еще больше опасаюсь Борского. — Пожалуй, вы правы, — задумчиво отвечал Бессребреник, — нам необходимо правильно оценивать обоих. Любимая, вы, должно быть, умираете от усталости, попытайтесь немного поспать, а я пока подумаю, что делать. Действительно, глаза Клавдии слипались, и вскоре женщина заснула. «Когда я был несчастным Бессребреником, мне всегда удавалось выбраться из самых сложных ситуаций. Почему же сейчас не получается? Я жив, чувствую себя сильным и энергичным и не собираюсь складывать оружия! Не бывать этому! У Борского, конечно, вид настоящей канальи, и он не остановится ни перед чем. Я даже не удивлюсь, если он вскоре появится, чтобы изложить мне свой план. Я терпеливо выслушаю его, а там посмотрим. Эх, если бы у меня руки были свободны… Но на этот раз бандиты связали их двойным узлом, чувствуется рука мастера. Чем бы перерезать? Кажется, у меня из кармана ничего не вытряхнули, а стало быть, там есть нож и два револьвера. Остается лишь достать все это, но как?..» — И Солиньяк попытался засунуть одновременно две связанные руки в карман. Он изгибался как фокусник, но напрасно. Из этой затеи ничего не вышло. Тогда француз огляделся вокруг, и в самом высоком месте свода его внимание привлекло маленькое отверстие, через которое в помещение проникал свет. «Пожалуй, я борюсь за невозможное, — мысленно произнес он, — но желание так велико!» В этот момент появился Борский. Время раздумий закончилось, и Солиньяку пришлось вернуться к действительности. Русский был высокого роста, светловолосый, а пронзительный взгляд голубых глаз, тонкие губы и правильные черты лица выдавали аристократическое происхождение. Чтобы предстать перед пленными во всей красе, он привел себя в порядок, облачился в коричневый шерстяной камзол с поясом из кожи рыжего цвета и зауженные от колен брюки. Создавалось впечатление, будто дворянин собрался на охоту. Держа в руках шляпу, Борский с некоторой претензией на благородство поприветствовал пленных. — Добрый день, мадам, добрый день, месье, — произнес он, слегка поклонившись сначала Клавдии, а затем Солиньяку. — Видите, я — человек, который умеет держать слово. Надеюсь, наш разговор будет решающим, и я сумею вернуть вам свободу. Осмелюсь сказать, что в моей власти это сделать, можете не сомневаться… Мне очень жаль, что вас связали веревками, которые причиняют столько страданий. Но, как гласит французская пословица, осторожность — мать благоразумия. От вас зависит сейчас, как сократить время ваших мучений. Вот поэтому я и поторопился прийти сюда. Вы готовы выслушать меня? Солиньяк, внимательно слушавший разбойника, пытаясь понять, что же скрывается за холодной маской на лице собеседника, наконец ответил: — Я весь внимание. — Отлично! — Борский слегка наклонился к пленнику. — Во-первых, необходимо познакомиться поближе. Я знаю, кто вы, господин граф де Солиньяк, известный в мире по прозвищу Бессребреник. Вы удачно женились на миссис Клавдии Остин, королеве Нью-Ойл-Сити, по меньшей мере миллионерше. Теперь вы оба, охваченные благородным порывом, посвятили себя благотворительности и возглавили гуманитарный[87] конвой Красного Креста, организованный на ваши средства. Все точно, не так ли? — Да, месье. Больше всего нас мучает неизвестность: что стало с теми несчастными, которых мы везли в Сиен-Сиу… — Их никак не побеспокоили. Наш удар был направлен исключительно на вас. Все прошло тихо, мирно и незаметно, вдали от конвоя, который благополучно продолжил свой путь, и в настоящий момент, должно быть, находится в безопасном месте, там, куда вы распорядились его отправить. Счастлив, что могу предоставить вам необходимые сведения. Исключительно вежливый тон, на котором изъяснялся русский, сильно раздражал графа, а особенно эта едкая ирония, выдававшая искусственную манерность. Клавдия не отрываясь смотрела на грабителя, но того ничто не могло задеть. — Время торопит нас, — монотонно продолжал Борский, — теперь я расскажу, с кем вы имеете дело. Меня зовут Владимир Борский, я родился в почтенной семье в Санкт-Петербурге. Мой отец служил чиновником, мать — настоящая буржуа, воспитывавшая своих детей в духе добропорядочности, в почитании морали и царя. «Куда он клонит?» — спросил себя Солиньяк. — Отец, будучи очень жадным, а мать — очень экономной, оставили меня совершенно без средств к существованию. Мне с трудом удавалось получать от них незначительные суммы. А жить хотелось широко, в соответствии с моими вкусами. Я познакомился с прожигателями жизни, внедрился в их среду, стал играть, мошенничать, до поры до времени это удавалось. Но что вы хотите, молодость беспечна, и от нее трудно требовать такой добродетели, как бережливость. Я выиграл крупную сумму, но потратил еще больше, влез в долги. Везение оставило меня, а злой рок[88] преследовал по пятам, и я вынужден был пойти на самое худшее. Мой отец старел и становился еще скупее, чем прежде. В своей жизни он не сделал ничего полезного, его эгоизм переходил все границы. При этом, надо заметить, он обладал отменным здоровьем и собирался прожить целую вечность. Только несчастный случай мог свести его в могилу… Я же, напротив, был молод, амбициозен[89], и единственное, что мешало исполнению моих планов, так это отсутствие денег. Тогда как у моего отца они имелись. И поскольку он не хотел их отдавать добровольно, я решил взять их силой. Однажды ночью я проник к нему в спальню и, зная, где он хранит свои сбережения, открыл ящик. Передо мной лежала кругленькая сумма, которую я уже собирался было присвоить, но тут отец проснулся и набросился на меня, обзывая вором. Я пытался защищаться, но это плохо получалось. Под руку попался нож, и я убил его! — Негодяй! — воскликнул Солиньяк, заламывая связанные руки. — Потом я сбежал, — хладнокровно продолжал Борский, — и был бы в безопасности, если бы не страшное невезение — на меня пало подозрение. Обвинение выдвинула — кто бы вы думали — моя мать! Прекрасно зная меня, она обо всем догадалась. Я отчаянно защищался, придумывая себе алиби[90] и отлично играя роль несчастного сироты… Тем не менее меня приговорили к смерти. И все-таки мне удалось посеять сомнения в души судей, которые, будучи исключительно честными людьми, написали прошение императору о помиловании. После чего мне была дарована жизнь. Смертную казнь заменили на пожизненные принудительные работы. Три года спустя я бежал, правда, ценой огромных усилий и жуткого риска! Сначала я блуждал по пустыне Гоби[91], затем добрался до Маньчжурии, где меня, однако, ждало новое испытание — я попал в расположение русских. Долгое время я скитался и, когда в конце концов решил, что пропал окончательно, встретился с Райкаром. Приятель нуждался в помощи себе подобного, я предложил ему свои услуги и с тех пор стал его лейтенантом. Однажды в Мукдене я случайно узнал о вашем конвое. Тот, кто рассказал о вас, сообщил также, где вы находитесь, куда следуете и как вас найти. Я организовал нападение, остальное вы знаете. Преодолев отвращение, которое Солиньяк испытывал к этому циничному типу, он произнес: — Все эти подробности очень занимательны, но они ни в коей мере не дают ответа на один-единственный вопрос, который интересует меня больше всего: можете ли вы дать нам свободу и на каких условиях? Борский, взбудораженный тяжелыми воспоминаниями, ответил не сразу: — Вы правы… Если уж я рассказал вам о моем прошлом, то только для того, чтобы вы не ждали от меня ни пощады, ни жалости. Одним словом, вот чего я хочу: я знаю, что вы несказанно богаты, и я тоже хочу стать таким. — А! Всего лишь! Вы желаете денег! Сколько? — Вы миллиардер… Я вправе потребовать половину… — Пятьсот миллионов! — усмехнулся Бессребреник. — Вы не очень-то скромны! Вы забываете, однако, что сооружения Нью-Ойл-Сити представляют солидный капитал, реализовать который можно будет лишь через некоторое время, но ни у вас, ни у меня нет желания ждать. — Хорошо, если мои требования слишком высоки, — смягчился русский, — что вы скажете, например, о двадцати миллионах? Хочу вам напомнить, что за мной стоит целый отряд бойцов, которым я должен кинуть солидную кость. На самом деле Солиньяк был слегка удивлен таким снижением цифры — двадцать миллионов! По сравнению с той огромной прибылью, которую они получали, эта сумма казалась практически ничтожной. — Двадцать миллионов, — вновь произнес бандит, — это мое последнее слово. Вы согласны? — А если нет? — А если нет, то, не имея возможности держать вас в плену вечно, я убью обоих. Сначала ее, чтобы заставить вас пострадать, наблюдая за агонией[92] жены, а потом и вас. Солиньяк не перебивал бандита. Ему было любопытно узнать, до какой степени жестокости и бессердечия мог дойти этот человек. Но Клавдия оказалась менее терпеливой, чем муж. — Швырните этому негодяю те миллионы, что он просит. — Не беспокойтесь, дорогая, — спокойно ответил француз. — Я только хочу сделать несколько уточнений. — Каких же? — спросил Борский. — Надеюсь, вы догадываетесь, месье, что в моем распоряжении сейчас нет ничего, кроме маньчжурской пустыни, и уж конечно же я не смогу выложить тотчас двадцать миллионов. — Да, я знаю, — согласился русский. — Мне будет достаточно вашего обязательства. — Обязательства? — Вот ваша чековая книжка, которую я нашел в фургоне. Прежде, чем отправиться в эту страну, вы, вероятно, предприняли все необходимые меры и конечно же сделали аккредитацию[93] в каком-нибудь банке Мукдена, например… — Нет, не в Мукдене. У меня неограниченный открытый счет в «Империал Банк» Сеула, в котором при виде моей подписи вам незамедлительно выдадут ту сумму, которую я укажу. — Сеул! Великолепно! Меня это полностью устраивает. — Значит, получив эту сумму, вы согласитесь отпустить нас? — Даю вам мое честное слово. — И мы сможем свободно выбирать, куда нам направиться? — Совершенно верно! И более того, я предоставлю вам эскорт в сопровождение, чтобы обеспечить безопасное передвижение по дороге. — Ваша доброта превосходит все ожидания. Мне ничего не остается, кроме как поблагодарить вас. Дайте мне чековую книжку и развяжите руки, я немедленно выпишу сумму, которую вы назвали. Борский нервно хихикнул. — Как бы не так, дорогой, — ехидно возразил он, — вы думаете, я круглый дурак и не раскусил вас. Я вас освобождаю, а вы нарисуете на бумажке кроме подписи еще какую-нибудь условную закорючку или знак, известный только банкирам, чтобы они еще и арестовали меня… Если вы думаете воспользоваться моей глупостью, не заплатив ни рубля, то ничего не выйдет! Я не такой идиот! — Хорошо… Тогда чего же вы хотите? Каково новое требование? — Вот оно, месье. Я хочу гарантии…[94] — Вы говорите загадками, объясните. Бандит вытащил из кармана листок бумаги. — Этот листок я также нашел в фургоне. В нем-то и состоит суть проблемы. — В самом деле? И что же мы сделаем с этим листочком? — Вы напишете на нем несколько слов… — Каких? — Я вот тут набросал кое-что… Прочтите. Борский поднес бумагу к лицу пленного. Тот взглянул на текст. Быстро прочитав, он вздрогнул, лицо исказилось в гримасе. — Подонок! — закричал Бессребреник. — Чтоб я это написал? Да никогда! Ни за что! — В таком случае, любезный, — злорадно усмехнулся русский, — я выполню свои обещания. Он подошел к двери и позвал кого-то. Появились помощники, которым бандит шепотом отдал какие-то приказания. — Да что там было написано, в этой бумаге? — воскликнула Клавдия. Возмущение мужа вывело ее из оцепенения. — Что было? Этот человек предложил мне написать и подписать следующее: «Я, граф де Солиньяк, признаю, что получил от шефа китайских Боксеров сумму в двести пятьдесят тысяч франков в обмен на план дипломатической миссии в Пекине. Дата». Женщина тяжело вздохнула. — Но я не понимаю, зачем ему понадобилась подобная ложь? — Этот мерзавец без чести и совести, убийца, негодяй, да к тому же еще и грабитель с большой дороги, подозревает, что я могу устроить ему какую-нибудь ловушку. А чтобы заставить меня гарантировать ему получение денег, он хочет держать меня под страхом разоблачения с помощью этой фальшивки, которая может лишить меня моего доброго имени, которая меня обесчестит. — Вы не напишете ее? — Тысячу раз нет. Лучше достойная, но мучительная смерть, чем позор… Я слишком хорошо вас знаю, Клавдия, чтобы сомневаться в вас… — Я ваша спутница навеки. Участь, которая нас ожидает, меня не страшит. — Благодарю, дорогая, я уважаю вас и очень люблю. Как бы мне хотелось, чтобы вы также любили и ценили меня… Простите, что не сумел вас защитить. Судьба оказалась сильнее моей воли. Но умрем мы, по крайней мере, вместе и будем достойны друг друга. Возвращаясь в помещение, Борский услышал последние слова. Лицо его перекосилось: он понял, что пленный остался неумолим. — Так вы напишете такую бумагу? — вновь спросил злодей, обращаясь к Солиньяку. — Нет! — Ладно… Тогда я подвергну вашу жену самым невыносимым пыткам, и вы уступите! — Нет! — в один голос воскликнули Солиньяк и Клавдия. А затем молодая женщина добавила: — Плевала я на ваши пытки! Я презираю вас и нисколько не боюсь, потому что вы — трус! Со сжатыми кулаками оскорбленный бандит набросился на пленницу. Связанный по рукам и ногам Бессребреник ничем не мог помочь своей супруге и лишь хрипел от ярости и бессилия. Но русский внезапно передумал и позвал кого-то. Тотчас появились пятеро помощников. Они втащили жаровню с горящими углями и раскаленные железные прутья. Клавдия закрыла глаза, мысленно представив то, что ее ожидало. Солиньяк, вытаращив глаза и открыв рот, наблюдал за действиями разбойников, а затем стал обзывать Борского всеми ругательствами, которые только приходили на ум. Однако бывалого каторжника ничто не могло задеть, и он вновь хладнокровно спросил: — Может быть, все-таки подпишете? — Нет!.. — Приступайте! — скомандовал бандит своим людям. Те подошли к женщине, сорвали с нее чулки и ботинки, а один из головорезов вынул из жаровни раскаленные щипцы. Скрестив руки на груди, Борский смотрел на Солиньяка и самодовольно ухмылялся. Затем он снова помахал листком перед носом у француза и прокричал: — Тем хуже для вас… и для нее! Действуйте! Палач опустил горячий железный прут на ногу несчастной, и та испустила душераздирающий крик. — Остановитесь, — выдавил Солиньяк, — я все подпишу! — Ну, наконец-то! — усмехнулся Борский. — Я знал, что вы нуждаетесь в героизме. — А затем добавил с демонической улыбкой на лице: — Это лишь начало, но мы можем продолжить в любой момент, если вы вдруг передумаете. — Развяжите руки, я готов вам подчиниться. Жаровню оттащили, и солдаты, держа пальцы на спусковых крючках и прицелившись в пленных, встали напротив. Граф взял себя в руки, глаза его как-то странно заблестели, на что Борский, однако, не обратил внимания. Он был слишком занят результатами успешно проведенной операции. Русский освободил Бессребренику правую руку, считая, что этого будет вполне достаточно для написания документа. Бандит думал, что сломил противника и что тот не способен более оказать сопротивления. Придвинули кусок ствола дерева, служивший столом. У предусмотрительного Борского нашлись даже чернила и перо. Затем пленному развязали ноги: так, с освобожденной одной рукой и ногами, он оказался в состоянии написать документ. Русский положил перед ним листок бумаги, взятый в фургоне. В уголке фирменного бланка красовалось название компании «Нью-Ойл-Сити К°». — Вы просто все предусмотрели! — сказал Солиньяк. Прекрасно владея собой, он твердой рукой написал строки, подтверждающие его собственное предательство, и поставил четкую размашистую подпись в конце. — Теперь дату? — Разумеется, — ответил Борский, — она должна быть раньше июня тысяча девятисотого года, до начала восстания Боксеров…[95] — Вы совершенно правы, — тихо произнес Солиньяк, — я поставлю декабрь тысяча восемьсот девяносто девятого года. — Годится. Взяв бумагу, бандит аккуратно сложил ее. — Отлично! Теперь чек. Все так же спокойно и хладнокровно, как будто бы он находился в своем кабинете, Солиньяк вписал в чек значительную сумму, которая должна была обогатить грабителя. Русский, однако, волновался. Он опасался, что в последний момент француз передумает и откажется выписать чек. Но нет, все прошло как по маслу. Борский не замедлил искренне поблагодарить пленного: — Я счастлив, что мне не пришлось прибегнуть к более жестоким пыткам. Рана на ноге вашей жены не больше царапины и скоро заживет. Смотрите, мадам уже приходит в себя. Действительно, в этот момент Клавдия открыла глаза и испуганно огляделась вокруг. — Не бойтесь, мадам. Мы с вашим мужем уже договорились, и вам более ничто не угрожает. Несчастная повернула голову к Солиньяку, и тот свободной рукой сделал жест, который должен был подбодрить ее и подтвердить слова бандита. — Вы подписали эту ужасную ложь? — Не беспокойтесь, все прошло как нельзя лучше. Я сделал все, что должен был. Клавдия настороженно слушала. Хорошо зная своего мужа, она уловила в его спокойном удовлетворенном голосе легкую иронию, которую вряд ли мог заметить иностранец. — Хорошо! — произнесла она. — Я полностью доверяю вам. — А теперь, — вновь заговорил Солиньяк, — когда я предоставил вам все, что вы желали, я надеюсь, господин Борский, больше нет причин держать нас здесь. Вы отпускаете нас на свободу? Русский все еще сомневался. Хладнокровие Бессребреника выводило его из себя. С другой стороны, пленные полностью находились в его власти и ему нечего было бояться. Подумав немного, негодяй освободил супругов. — Вам, очевидно, потребуется вода и бинты, чтобы сделать повязку мадам, — учтиво предложил злодей. — Да, если это вас не затруднит… Борский откланялся и вышел. Через секунду появились солдаты, которые принесли все необходимое и удалились. Солиньяк обнял жену. — Дорогая моя спутница, вы — честь и любовь моя на всю жизнь, я не должен от вас ничего скрывать… Я действительно подписал ту бумагу, которую потребовал от меня этот человек. — Вы! Но ведь теперь вы пропали! Этот мерзавец обесчестит, оклевещет вас, разобьет нашу жизнь… — Клавдия, вы только что заявили, что доверяете мне. Если я и подписал, то лишь потому, что хотел спасти вас от мучительной смерти. Борский — потрясающий дурак, и тот документ в его руках — не более чем листок бумаги, не имеющий никакой юридической силы. — Что вы говорите? Объясните же! — Чуть позднее, любимая, чуть позднее… Солиньяк перебинтовал ногу Клавдии. Рана действительно оказалась небольшой. Не пройдет и двух-трех дней, и шрам зарубцуется. — Давайте руку и держитесь крепче! Обопритесь о мое плечо и — вперед! — воскликнул Бессребреник. — Я приготовил этому милейшему вовсе не банальный[96] сюрприз! Пещера выходила на небольшой выступ в скале. Спустившись по узкой тропинке, путник попадал в глубокое ущелье. Дорога внушала уверенность в правильности выбора. — Сделаем проще, — сказал Солиньяк, беря жену на руки. — Так мы, пожалуй, быстрее доберемся. Держа ее, как ребенка, он отправился в путь. Однако как только они достигли края выступа, прозвучал выстрел. В нескольких шагах, вскрикнув от боли, упал человек. Он попытался подняться, но снова упал. Это был Райкар, главарь бандитов. Нет, он не умер. Пуля пробила ногу, и теперь разбойник не мог стоять. Увидев перед собой Солиньяка и Клавдию, он закричал: — Я отомщу! И стал продвигаться к ним ползком. Кто следующий — Бессребреник или его жена? Однако молодая женщина, вовремя заметив опасность, вытащила из кармана маленький револьвер, отделанный слоновой костью, и выстрелила в голову негодяю. Тело повисло на краю обрыва, а затем, потеряв равновесие, покатилось по склону. В то же мгновение Борский, услышав выстрелы, вместе с остальными бандитами устремился к месту происшествия. Пытаясь предотвратить неизвестно чью атаку, он скомандовал: — Огонь! Огонь! И пули засвистели вокруг беглецов. По счастью, стрельба велась беспорядочно, и никто не пострадал. — Ну уж на этот раз, — возмутился Солиньяк, — я дорого продам свою жизнь. Заскочив за один из выступов скалы, перегораживавший вход в грот, он вместе с Клавдией оказался в укрытии, и тут за спиной услышал вопрос: — Вы француз? — Да, да, француз! — вдыхая полной грудью, ответил граф. Откуда-то сверху со скалы спрыгнул человек и, протянув руку, представился: — Поль Редон… из Парижа. — Жорж де Солиньяк, из Гаскони[97]. — Так, значит, мы — братья! Вы попали в беду? — Да еще в какую… Позвольте мне представить вам мою жену, Клавдия де Солиньяк, урожденная Остин. — Нефтяная королева… — Она самая. Однако не забывайте, что мы находимся в разбойничьем логове и необходимо срочно отсюда выбираться. — И выберемся непременно. У вас есть оружие? — Два револьвера. — Маловато. Но мы вас поддержим. На высоком выступе скалы появились Бан-Тай и Пьеко. — Друзья, бегите скорее сюда! — крикнул репортер. — Нам предстоит сразиться с бандитами. Вслед за Редоном и Солиньяком двое мужчин быстро спрыгнули в укрытие, где и произошло краткое знакомство. Едва успев выслушать рассказ о коварстве Борского и его людей, новые знакомые вступили в перестрелку.ГЛАВА 2
Так как же Поль Редон с друзьями оказались в нужный момент рядом с Солиньяком? Необходимо дать короткие пояснения. Сначала мужчины безуспешно прочесывали лес во всех направлениях, но, не найдя никаких следов Янки и страшно устав, совершенно отчаялись. Японский капитан Бан-Тай оказался самым активным: в нем проснулся молодой задор, и он только и делал, что подбадривал репортера, чей облик напоминал ему парижских студентов, к которым он относился с нежностью. В свое время Бан-Тай достаточно попутешествовал по дикому маньчжурскому краю, и теперь никто не мог опередить его, даже Пьеко и Буль-де-Сон. По какой дороге и в каком направлении шли друзья — не ведал никто. Но японец ни секунды не сомневался, что логово пиратов пустыни находится именно в этих горах и ущельях, и надеялся захватить грабителей врасплох. В тот вечер, однако, усталость свалила путешественников с ног, и они, устроившись на ночлег, тотчас забылись глубоким сном. Проснувшись на рассвете, Буль-де-Сон предпринял одинокую прогулку, во время которой и спас Розу Мукдена от когтей грозного Тониша. Отклонившись в сторону вместе с отцом Жеромом и Янкой, молодой человек не нашел места, куда должны были прийти его друзья. Когда Редон, Бан-Тай и Пьеко проснулись, то сразу же заметили отсутствие товарища. Они ничуть не испугались, решив, что юноша находится неподалеку и быстро вернется. Вскоре, однако, они забеспокоились, но тут Пьеко молча указал на силуэт человека, пробиравшегося через лесную поросль. Поль Редон собрался было узнать у незнакомца, где они находятся, но в это мгновение мальчуган неожиданно воскликнул: — Да это же Райкар! Юности всегда не хватает осторожности. Пьеко крикнул слишком громко, и бандит, услышав его, тотчас отпрыгнул в сторону и скрылся в чаще. Он пока еще не знал, были ли это его враги, но на всякий случай, заметив мужчин, решил уйти. Друзья немедленно бросились в погоню. Началась дикая охота. Редону не составляло никакого труда застрелить негодяя прямым попаданием, когда тот, вынырнув из леса, побежал через кустарник, но, поскольку речь шла о поисках девушки, а не о наказании злодея, не сделал этого. Поимка беглеца являлась лишь ключом к разгадке местонахождения Янки. Главное было — не потерять бандита из виду. А тот тем временем несколько раз совершал крутые повороты, чтобы пустить догонявших по ложному следу. Поль Редон заметил, что в целом бандит придерживался одного направления, как будто его тянуло куда-то. Что ж, хитрость против хитрости. Преследование закончилось внезапно. «Охотники» вдруг вышли на дорогу, а бандита и след простыл. Тот тем временем остановился в раздумье. Несмотря на отличную физическую форму, Райкар устал и тяжело дышал. Одному ему никак не справиться с поставленной задачей. Подумав немного, главарь решил бросить еще и всех своих людей на поиски Янки. Она не могла далеко уйти. С немыслимыми предосторожностями бурят возобновил бег, стараясь ступать как можно тише. Быстро сориентировавшись, он понял, что до лагеря совсем недалеко. Единственное, что не учел бандит, так это что Редон со своими друзьями, оставив лес, бросится через скалы наперерез. Поскольку горы в этом месте представляли настоящий лабиринт, преследователи взобрались на скалу и, оглядев сверху окрестности, тут же обнаружили пиратское логово. Там они и настигнут Райкара. Друзья не ошиблись. Сначала Йок побежал в пещеру с безумной надеждой обнаружить там Янку. Но нашел лишь неубранные останки матери — значит, подчиненные не выполнили приказа. Не останавливаясь, главарь пустился на поиски Борского, чтобы как-нибудь договориться с ним. В этот момент Йок меньше всего думал о миллионах. Все его желание состояло в одном — найти девушку. Не медля, он подбежал к гроту, где рассчитывал увидеть русского, но наткнулся на Солиньяка, когда тот выходил, неся на руках жену. В этот момент раздался выстрел, сразивший Райкара: это Редон стрелял из-за скалы. Что такое? Кто были эти незнакомцы, что оказались на горе? Похоже, европейцы… Репортер торопился. С удивительной ловкостью преодолевая все каменистые уступы, он оказался рядом с четой Солиньяк в тот момент, когда отважная Клавдия, вооружившись револьвером, выстрелила в голову Райкару, и тот исчез в глубине расщелины. Встреча двух французов произошла на узком выступе над пропастью. По приказу Борского на друзей обрушился град пуль, но скалы защитили их. Русский узнал Солиньяка и Клавдию. Их он не боялся, поэтому громко спросил тех троих, что стояли рядом с ними: — Кто вы? Зачем пришли сюда и нарушили наш покой? Редон, храбро приблизившись к краю каменной террасы, ответил: — Мы преследуем одного негодяя… Райкара! — Правда? И по какому поводу? — Потому что этот мерзавец похитил одну юную особу, Янку, Розу Мукдена. Мы обещали освободить ее. — Заверяю вас, в лагере нет никакой девушки… Увы! Боюсь, что и сам Райкар уже мертв, поэтому вы вряд ли получите объяснения из его уст. У меня нет никакого желания с вами ссориться. Прекратите вашу атаку, к тому же если дело дойдет до драки, то мы явно превосходим вас по силе. Спускайтесь сюда ко мне, я с удовольствием помогу вам решить эту сложную задачу. Редон не колебался. Вместе с Бан-Таем и Пьеко он незамедлительно спустился с уступа. Клавдия и Солиньяк последовали за ними. — Сюда, пожалуйста, дамы и господа, — своим обычным тоном галантного[98] кавалера приглашал Борский. Разбойник возглавил небольшой отряд, который, сойдя с крутого каменистого склона горы, вскоре был вне опасности. — Вы сами видели, как Райкар провалился в ущелье, состоящее из одних камней и кустарников, — снова заговорил русский. — Жив он или мертв, кто ведает… Я, во всяком случае, не удивлюсь, если он еще дышит. Йок — здоровый малый, и я послал людей на его поиски. Если он жив, то вы сможете спросить у него обо всем, что вас интересует. — Но вы, должно быть, в курсе, — не удержался Пьеко, — где его логово. Может, мы там найдем какие-нибудь следы… — Вы совершенно правы, — отозвался бандит. — Идите за мной. Все направились к пещере Райкара. Войдя внутрь, никто не смог сдержать крик ужаса при виде разорванного тела старой Баси. Но вдруг Пьеко закричал еще сильнее — он обнаружил ленту. Мальчуган узнал бы ее из тысячи других — эта лента некогда украшала шею его сестры. — Вот видите, — не унимался юноша, — вы нас обманули! Янка была здесь. Ее держали взаперти, а потом убили. — Командир Борский! — раздалось снаружи. Русский, оставаясь невозмутимым, слегка склонил голову и попросил разрешения удалиться. Пока бандит отсутствовал, Солиньяк ввел Редона и Бан-Тая в курс дела и вкратце, не вдаваясь в подробности, поведал историю подлого убийцы, чьи манеры казались такими изысканными. Он рассказал также об ужасном шантаже, жертвой которого стал сам. — Но теперь все меры предприняты, чтобы негодяй не смог им воспользоваться. Это все, что я знаю, но я абсолютно не ведал о преступлении Райкара. Никто не обмолвился ни словом ни со мной, ни с Клавдией о жутком похищении девушки. Появился Борский с бледным испуганным лицом. — Все напрасно. Поиски тела не увенчались успехом, Райкара не нашли, но возникли непредвиденные обстоятельства: мне только что сообщили, что большое японское войско появилось в ущелье и угрожает нашему лагерю. — Японцы! — воскликнул Бан-Тай. — Мы спасены! — Возможно, вы — да, — возразил русский, — но, что касается меня и моих бойцов, для нас опасность велика. Мы рискуем быть захваченными или просто погибнем без суда и следствия. Таким образом, мне необходимо уйти, чтобы проделать брешь в рядах наших врагов. Резко развернувшись, он удалился. С высоты холма друзья заметили быстро приближавшуюся роту японцев. Отряд Борского, проявив удивительную дисциплинированность, уже построился вокруг командира. Затем по приказу бойцы вскочили на своих коротконогих, но резвых скакунов и понеслись в долину. Нападавшие, однако, были очень хорошо осведомлены о местонахождении бандитов и предварительно блокировали все выходы из лагеря. Отряд Борского оказался в окружении.В конвое Красного Креста не сразу заметили исчезновение Солиньяка и его жены. Когда же факт был установлен, на их поиски тотчас отправилась группа, которая вскоре вернулась, не обнаружив пропавших. Стали решать, что делать. Сестры милосердия и врач, заботясь прежде всего о раненых, считали, что больных следует доставить в безопасное место, а именно в ближайший городок Син-Кинг, а уж потом возобновить розыски. Так и поступили. По прибытии в Син-Кинг сразу же сообщили властям о происшествии. Долина Вация давно считалась опасным местом и служила укрытием для разбойников. Власти распорядились снарядить экспедицию для поисков пропавших. Японские кавалеристы, не теряя времени, поскакали в заданном направлении. Они подоспели как раз вовремя. Завязался бой. Отряд Борского уступал по численности роте японцев: пятнадцать против ста. Поль Редон и Солиньяк с вершины горы наблюдали за перипетиями борьбы. То, что бандиты проиграют сражение, не вызывало сомнения. Один за другим они падали под пулями нападавших. Будучи высокого роста, русский выделялся на фоне остальных бойцов. Бесстрашие, с которым он сражался, было достойно восхищения. Он остался почти один и наверняка будет взят в плен. Но нет! В отчаянном порыве, подняв коня на дыбы, Борский ринулся на стену окружавших его врагов. Напрасно сверкнули сабли над его головой, а пули, выпущенные из карабинов почти в упор, продырявили тело насквозь: бандит не упал. Сделав нечеловеческое усилие, он прорвал заслон и ускакал в лес. Солиньяк невольно вскрикнул от восхищения, потрясенный подвигом Борского. Бан-Тай тем временем, привязав на конец карабина белый платок, стал размахивать им над головой, обозначая присутствие здесь соотечественников. Японцы заметили его и сразу же ответили. Друзья находились значительно выше сражавшихся. Гранитные скалы нависали над долиной. Нападавшим отдали приказы, а по сигналам путешественники поняли, что должны оставаться на месте, пока за ними не придут. Маленькие ловкие японцы спрыгнули с коней и проворно полезли на гору. Они уже почти достигли вершины, но в этот момент оглушительный взрыв потряс скалу. Пламя и дым вырвались из расщелины. Терраса сорвалась и полетела вниз. А какой-то человек, весь в крови и ссадинах, стоял внизу и, злобно усмехаясь, грозил кулаком. Райкар, Райкар! Все ему было нипочем — ни пули, ни падение со скалы. Вспомнив, что бандиты хранили в скале бочки с порохом, он добрался туда, несмотря на ранение головы и сломанную ногу, и устроил ужасный взрыв. Его самого отбросило далеко назад, и вновь тело катилось по склону под откос. Если Райкар умрет, то теперь, во всяком случае, с чувством удовлетворения: он отомстил.
ГЛАВА 3
— Всем назад! — скомандовал Бан-Тай, как только увидел первые клубы дыма на склонах холма и понял, что произошел взрыв. Подкрепив свои слова действием, японец сильным движением оттолкнул друзей от, как ему казалось, самой опасной зоны. Никто из тех, кого японец хотел защитить, не пострадал. Однако на него самого свалился камень и поранил голову. Бан-Тай упал. Редон поспешил к нему на помощь и подхватил на руки. В это время японцы, которые только что расправились с бандой Борского, добрались до вершины. — У вас есть раненые? — спросил командир отряда у репортера. — К сожалению, да. Боюсь, что ваш соотечественник, честный и благородный человек, заплатил жизнью за правое дело. Он погиб, спасая нас. Клавдия, все еще оглушенная взрывом, опустилась на колени перед Бан-Таем, который полулежал, прислонившись к скале. Женщина отодвинула волосы и осмотрела кровоточащую рану. — Да он не умер! — воскликнула женщина. — Еще не все потеряно… Посмотрите, он дышит и, возможно, скоро придет в себя. Действительно, японец пошевелил рукой. Глаза широко открылись, и он с удивлением посмотрел на окружавших его людей. Редон тотчас наклонился к нему. — Как вы себя чувствуете? — спросил он тихо. — Вам плохо? Бан-Тай отрицательно покачал головой и жестом подозвал к себе японского офицера. Тот приблизился. Собравшись с силами, раненый с трудом выдавил: — Лейтенант, я умираю… Я — капитан Бан-Тай… Всю жизнь я служил родине и честно выполнял свой долг. Я видел, как окрепла моя любимая Япония… Сообщите командирам, что я умер с улыбкой на устах под нашим флагом. Господин Редон, япогибаю за вас и за жизнь ваших друзей. Я хотел доказать, что между европейцами и нами существует крепкая дружба. Я люблю Францию, она воспитала меня, и посылаю ей мой горячий привет… Да здравствует Япония! Да здравствует Франция! Силы оставили храброго японца, и он откинулся назад: доблестный солдат умер. У Поля Редона к глазам подступили слезы. Прошло несколько часов. Друзья обошли еще раз бандитское логово, но больше следов пребывания Янки не нашли, зато по соседству, в хижине лесника, обнаружили труп Тониша. Стало очевидным, что беглецы побывали здесь. Животное было застрелено в голову. Пьеко кончиком ножа выковырял пулю и показал ее журналисту. Пуля оказалась европейского происхождения и принадлежала оружию Буль-де-Сона. Поиски пропавших возобновились с новой силой, но опять оказались безуспешными. Посоветовавшись с японским офицером, решили идти в Син-Кинг, где конвой Красного Креста сделал небольшую остановку, прежде чем отправиться к берегам Ялу, чтобы оттуда по железной дороге добраться до Сеула. Солиньяк поддержал эту идею, тем более, что он хотел попасть в столицу раньше Борского, которого смерть на этот раз пощадила, и помешать коварным замыслам русского. Да еще и Клавдия напомнила, что она в ответе за раненых и что их нельзя оставлять надолго. А как же Редон? И Пьеко? Вопрос был довольно сложным. Янку до сих пор не нашли, и все прекрасно представляли, с какими трудностями могла столкнуться бедная девушка. Поиски зашли в тупик, и друзья терялись в догадках. Если юная маньчжурка не погибла от лап медведя, значит, она потерялась в лесу, убегая от преследований Райкара, поскольку сам бандит находился недалеко от лагеря. Пьеко не знал, что и подумать. Он считал, что сестра должна была двигаться по направлению к Мукдену. Кроме того, раз в это дело вмешался Буль-де-Сон, убив зверя, который явно охотился за беглянкой, то лучше всего подождать, пока юный француз не встретится с ними. После недолгой дискуссии согласились пойти с японцами до Син-Кинга, а уж там принять окончательное решение. Подготовка к отъезду не заняла много времени: честные люди покидали бывшее бандитское пристанище с чувством выполненного долга и надеждой, что главарь Райкар погиб при взрыве, им же самим организованном. Один Пьеко испытывал глубокую тревогу. Ему казалось, что, уходя отсюда, он предает сестру и отца. Поль Редон старался подбодрить мальчугана. Но тот безутешно плакал, и было из-за чего. Отец умер, а единственный близкий человек, добрая ласковая Янка исчезла. Теперь его любимая сестренка неизвестно где, и он остался совсем один на белом свете. — Дружище, — говорил ему репортер, — клянусь памятью твоего отца, я буду заботиться о тебе… Ты потерял отца, но станешь мне сыном… — А мне, — вмешалась Клавдия, которая все слышала, — разрешите временно заменить вашу сестру. Наконец все отправились в путь. Каждому не терпелось попасть в Син-Кинг. Смеркалось. Кто знает, какие еще опасности подстерегали путешественников в этой проклятой стране. Европейцы на лошадях ехали в середине колонны, увозя раненых и тело Бан-Тая. Процессия растянулась. Редон и Солиньяк приблизились друг к другу. Взаимная симпатия объединяла их. Кроме того, у французов оказалось много общего: оба пережили множество удивительных приключений, каждому приходилось выбираться из трудных ситуаций, и оба были несметно богаты. Путешествие проходило спокойно. Несколько раз, правда, недалеко от дороги слышался стук конских копыт, но это скорее всего было просто эхо. Вскоре отряд прибыл к воротам Син-Кинга. Город представлял бесформенную массу маньчжурских хибар, плотно примыкавших друг к другу и едва разделенных узкими зловонными улочками. Японцев это не остановило. Армейский корпус, состоящий из двух тысяч человек, уже организовал временный лагерь на северной дороге. Палатки поставили на свободные места, предварительно очистив площадь от грязи и мусора. Возводились и деревянные домишки, причем со скоростью, свойственной лишь этому неутомимому и гордому народу. Уже построили гостиницу для командного состава, госпиталь Красного Креста для раненых. И хотя жилье было временным, удобств в нем оказалось не меньше, чем в постоянном. Когда отряд добрался до месторасположения корпуса, была глубокая ночь. Командир поспешил к командующему, а Солиньяк и Клавдия заняли свои привычные места в просторном, хорошо проветриваемом помещении медсанчасти, где вдоль стен ровными рядами стояли белоснежные кровати. Что нового произошло за время их отсутствия? Да почти ничего… Вот незадолго до приезда отряда подобрали одного раненого, умиравшего у ворот города. — Вы оказали ему помощь? — Конечно, месье. Это был один маньчжур. У него на лице сгорела вся кожа. Похоже, он попал в огонь, и теперь его не узнает и родной отец. — Позовите доктора Леграна, чтобы он позаботился о нем, а завтра утром я приду повидать его сам. Сестры милосердия и раненые, услышав голос начальника, поспешили навстречу и тотчас окружили Клавдию, к которой относились как к доброй фее[99] всех страждущих. Но Солиньяк и его жена буквально падали с ног от усталости. А у молодой женщины вдобавок еще разболелась нога. Рана хоть и была небольшой, но давала о себе знать. Поль Редон и Пьеко с нежностью наблюдали за сценой встречи и ждали, когда им приготовят ночлег. С общего согласия все серьезные дела отложили на следующий день. Супруги удалились в свои апартаменты[100], где не было никаких излишеств и которые находились в непосредственной близости от палат с больными. Сестра Экзюперьен, руководившая скорой помощью, щедрая и неутомимая по натуре женщина, проводила Редона и Пьеко в их спальни. Вскоре в доме воцарилась тишина. Не спала только главная монахиня — в ту ночь пришел ее черед дежурить. Сестру милосердия беспокоил вновь поступивший больной. Странное чувство вызывал этот босяк в лохмотьях с изуродованным лицом. Женщина подошла к кровати: раненый лежал без движения и, видимо, спал. Лицо скрывалось под слоями бинтов, лишь одна рука лежала поверх одеяла. Кожа на ней была грубая, мускулы крепки, как железные прутья, а ногти тверды, как крючья. Делая обычный обход, подошел доктор Легран. — Что вы думаете о нем? — спросила медсестра. — Ничего хорошего, — с грустной улыбкой ответил врач. — Те ранения, что он получил, заработаны не в сражении и не в мирном труде. Это наверняка какой-нибудь бандит, попавший в переделку… — Вы считаете, что он сбежит? — Хм… Не уверен. Кроме безобразной каши на лице, у него одно или два огнестрельных ранения, сломана нога, и, что особенно опасно, пуля была вынута кустарным способом в антисанитарных условиях, и у него начинается гангрена[101]. В любом случае, я не думаю, что со смертью этого типа человечество наденет траур. — Пусть так, — произнесла монахиня, — но я-то знаю, что вы будете лечить его так же тщательно, как и остальных. Не думаете ли вы, что он сам по себе может представлять опасность для окружающих? Нам не нужен волк в овчарне… — Ну, волк должен быть, прежде всего, на ногах, чтобы тащить ягнят, а этот вряд ли сможет встать. В это время один из часовых, охранявших госпиталь, вошел в зал. — Сестра Экзюперьен, — обратился он к монахине, — к нам только что пришел священник, который утверждает, что знаком с вами. С ним еще двое. — Как он назвался? — Отец Жером. — Миссионер! Конечно, я его знаю. Извините, доктор, отец Жером не из тех, кого следует заставлять ждать у дверей. Сестра Экзюперьен, долгие годы выполнявшая в этом пустынном районе свою благородную миссию, прекрасно знала о деятельности отца Жерома. Монахиня поспешила в вестибюль, где ее уже ждали. Увидев миссионера, она поклонилась ему. — Отец мой, — произнесла она, — вы постучались в наш дом, он в вашем распоряжении. — Я на это и рассчитывал, — улыбнулся священник. — Мне многое нужно вам объяснить. Но я очень тороплюсь, к тому же я не один… Рядом с отцом Жеромом стояли Янка и Буль-де-Сон. После того, как они поняли, что Редон с Пьеко и Бан-Таем ушли, миссионер не колеблясь принял решение продолжить поиски. Все трое пошли через горы и скалы, рискуя столкнуться с новыми трудностями. Самое лучшее было, конечно, добраться до какого-нибудь города. В конце концов старик вывел детей, так он называл Янку и Буль-де-Сона, на дорогу к Син-Кингу, где вероятнее всего они смогли бы получить помощь. После тяжелого перехода, во время которого юная маньчжурка вела себя исключительно мужественно, они добрались до города и, несмотря на ночь, решились попросить милости у сестры Экзюперьен. — И правильно сделали, святой отец, — ответила монахиня. — Конечно, у нас тут довольно тесно, но я знаю, вы останетесь довольны тем, что я вам предложу. — Главное — крыша над головой. Эта молодая особа, хоть и выглядит очень отважной и сильной, на самом деле умирает от усталости. — Моя комната в ее распоряжении. Надеюсь, ей там будет крепко спаться, как и всем в ее возрасте. Дитя мое, — добавила женщина, повернувшись к Янке, чьи глаза уже слипались ото сна, — согласны вы переночевать здесь? Девушка встрепенулась. Несмотря на усталость, она и сейчас прекрасно выглядела — румянец на лице, яркие выразительные губы, лучистые глаза… — Она — маньчжурка, — пояснил отец Жером, — а недавно ее окрестили, насколько я знаю, Розой Мукдена. — Это имя вам очень идет, вы действительно хороши как роза, и все же мне кажется, вы сильно устали… Хватит слов. Пойдемте со мной! Что же касается вас, святой отец, и вашего молодого подопечного… — Атанас Галюше, — расправив плечи, представился Буль-де-Сон. — Я предложу вам расположиться по-простому. В этой комнате чисто, но вместо кроватей — солома. Придется довольствоваться этим. — Вы ведь знаете, — ответил священник, — я никогда не искал комфорта. Солома! Да это роскошно! А Буль-де-Сон может спать даже на камнях. — Отлично! В таком случае желаю доброй ночи. Сестра милосердия поможет вам. Милая Роза Мукдена, следуйте за мной. Ах да, я забыла об одном найденыше. Сегодня я подобрала младенца. Его мать убили русские или японцы, теперь уже не имеет значения, а ребенок остался. — Малыш! — воскликнула Янка. — Я позабочусь о нем! — Да ему пока нужна только пустышка. Не беспокойтесь, у него здесь полно нянек. Через пять минут вновь прибывшие расположились в своих комнатах. Монахиня настояла, чтобы Янка спала в ее собственной кровати. Девушка сопротивлялась, но потом, поцеловав маленького смуглого маньчжура, который мирно посапывал с кулачком во рту, легла и вскоре уснула. Сестра Экзюперьен осталась довольна: ее приют пригодился, восемь человек нашли здесь убежище, не говоря о загадочном человеке с обожженным лицом. «Подумать только, уже почти утро», — произнесла про себя женщина и, удовлетворенная, отправилась провести остаток ночи на своем посту.ГЛАВА 4
С первыми лучами солнца Солиньяк был уже на ногах и встретился с Полем Редоном в холле приюта. Его сильному организму вполне хватило нескольких часов сна, чтобы как следует отдохнуть. Мужчины обменялись дружеским рукопожатием, оба испытывали глубокую взаимную симпатию. Казалось, они долгие годы знают друг друга. — Пришло время, — начал Солиньяк, — разработать план совместных действий, мы ведь договорились с вами помогать друг другу, уважая, однако, интересы и намерения каждого. Ваша задача, Редон, позаботиться о Пьеко и во что бы то ни стало найти прекрасную Янку и вашего друга Буль-де-Сона. Это значит, что вы пока не можете покинуть страну, и я в таком случае в полном вашем распоряжении. Вы нуждаетесь в деньгах? — В деньгах? — засмеялся репортер. — Так же, как и вы, я мультимиллионер[102], но в некоторых случаях деньги ничего не значат. Я бы отдал миллионы, чтобы спасти отважного Бан-Тая и отца юной маньчжурки. Но деньги со мной, а их нет в живых. — Не могу полностью согласиться с вами, так как мы с женой остались живы лишь только потому, что обладаем огромным состоянием. Я заплатил за свободу этому негодяю Борскому. Но вернемся к нашим проблемам. Что вы собираетесь предпринять? — А вы? — Я… доберусь до берегов Ялу, оттуда спущусь в Сеул, где подожду моего противника во всеоружии. — Кого? Борского? Вы уверены, что он туда поедет? — Не сомневаюсь. Ему нужно получить деньги по счету, ведь у него есть чек на двадцать миллионов. — Немаленькая сумма… И от кого же он ее получил? — От меня. — Как! А… я понял, за что вы заплатили ему так много… Это был выкуп. — Точно. Но мне вовсе не хочется, чтобы грабитель его получил, и он его не получит. Я сделаю все, чтобы его повесили. Послушайте, у меня есть план. Сейчас я объясню вам, как вы можете помочь мне и что для этого надо сделать. — Хорошо! Но я несколько в раздумье. Меня сдерживают мои обязательства. Я должен найти Янку и моего любимого компаньона, юношу с золотым сердцем, которого я вовлек в это ужасное путешествие. Я в ответе за него перед своей совестью. Куда заведут поиски, не знает никто! Мне придется собрать тысячу людей, чтобы они прочесали проклятую гору. Посмотрите, к нам идет главная распорядительница. Действительно, сестра Экзюперьен приближалась к говорящим. Женщина была небольшого роста, полная и с улыбающимся лицом. При виде ее веселых глаз все несчастья отступали на второй план. — Господа, — произнесла она, — я пришла вам сообщить, что завтрак уже готов. Кофе с молоком, пожалуйста, как в Париже. — Вы очень любезны, — улыбнулся Редон. — Должен признаться, что мне давно не предлагали подобного лакомства. Я знаю одного человека, которого оно также бы порадовало… Мой бедный Буль-де-Сон! Услышав имя юноши, с которым уже имела честь познакомиться, сестра милосердия бросила хитрый взгляд на репортера, предвидя интересную сцену. Все трое проследовали в столовую, где стоял длинный стол, покрытый белоснежной скатертью. Несмотря на то, что здание было деревянным, внутри все сияло чистотой. — Чуть позже я представлю вам некоторых других обитателей этого приюта, и вы присоединитесь к ним. — С удовольствием, — отозвался Солиньяк. — Я только посмотрю, может ли Клавдия позавтракать с нами. — Мадам Клавдия! Она уже давно в палатах и помогает больным. Графиня скоро придет сюда, да не одна, а с новеньким. — С каким новеньким? — Сами увидите! Очаровательный малыш! Но я не хочу выдавать секретов. В том расположении духа, в котором находились мужчины, любое новшество вызывало беспокойство. На столе стояло семь фаянсовых кружек, от которых исходил приятный запах. Друзья тихо разговаривали между собой в ожидании остальных. Первой появилась Клавдия, за ней шла юная особа. Жена Солиньяка направилась прямо к мужу и подставила лоб для поцелуя. В это мгновение репортер радостно воскликнул: — Янка! — Господин Редон! — Как я счастлив тебя видеть! Это и есть наша маленькая маньчжурка, Роза Мукдена, — произнес француз, обращаясь к Бессребренику. — Как? Вы знакомы? — вмешалась Клавдия. — А знаете ли вы, господин Редон, что ваша подопечная — настоящий ангел. Она уже прошла вместе со мной по всем палатам, помогая больным. Из нее получится отличная сестра милосердия. — Погодите, — прервал ее репортер. — Сначала расскажите мне, что все-таки стало с моим любимым Буль-де-Соном? Я беспокоюсь за него. — Да я здесь, — отозвался веселый голос. Юноша промчался от дверей прямо к Редону. — Эх, патрон, патрон! Если бы вы знали… Я уж и не надеялся вас увидеть… — Ну что ты, дружище! — бормотал репортер. — А я так упрекал себя, что забрал тебя из любимого Парижа и втянул в эту авантюру. — Но что же, черт побери, с вами со всеми случилось? Куда вы тогда пропали — и ты, и Пьеко, и бравый капитан? — Потом расскажу. Только Бан-Тай погиб. — Замечательный был человек! — Добрейший и к тому же храбрый солдат! А что с Пьеко? Спорим, он спит еще! — предположил Редон. — В его возрасте это вполне понятно. — А мне бы так хотелось его увидеть! — воскликнула Янка. — Да вот и он сам! — торжественно произнесла сестра Экзюперьен. В дверях появился мальчуган. Удивленными глазами он смотрел на всех, кого прекрасно знал, но уже не надеялся встретить. Сестра, раскрыв объятия, бросилась к брату. — Ну вот, друг мой, — сказал Солиньяк на ухо Редону, — вы уже нашли Янку, Пьеко, Буль-де-Сона. Теперь вы свободны и, может быть, согласитесь поехать со мной в Сеул? В это время в столовую вошел японский офицер. Отдав честь, он приблизился к группе: — Господин командующий просит графа де Солиньяка пройти к нему в штаб. — К вашим услугам. Идемте. Я проследую за вами. Повернувшись к друзьям, Бессребреник добавил: — Подождите меня. Надеюсь, что я ухожу ненадолго, а потом мы все обсудим. Господин Редон, подумайте о Сеуле. Солиньяк вышел за офицером и вскоре предстал перед командующим, чье мужественное открытое лицо показалось ему очень доброжелательным. С протянутыми для рукопожатия руками он поднялся навстречу вошедшим. — Как только я узнал, месье, обо всех ужасных злоключениях, которые вам пришлось пережить, я тотчас направил роту солдат вам на подмогу. Я очень рад, что они подоспели вовремя. Как чувствует себя госпожа Солиньяк? С ней ничего не случилось? Поблагодарив командующего за заботу, граф сказал: — За исключением маленькой царапины, с мадам Солиньяк все в порядке. Я был счастлив участвовать в операции по защите и освобождению одного француза, который также испытывал огромные трудности, посвятив себя благородному делу. — Французу, вы говорите? Знаете, я ведь симпатизирую вашей стране и рад буду познакомиться с любым гражданином Франции, посетившим наши просторы. Вы представите мне вашего друга? Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Расскажите, кто он. — С удовольствием. Его зовут Поль Редон. Он… — Поль Редон! — вскричал японец. — Вы именно так произнесли? — Точно так. Вам знакомо это имя? Подбежав к столу, заваленному бумагами, офицер стал нервно рыться в них. — Поль Редон… Так называемый корреспондент одной парижской газеты… — Не так называемый, а самый настоящий. Отличный малый, умный и потрясающе смелый. — Вы забываете еще одно. — Что же? — Приговоренный к смерти! — Он? Кем и когда? Это невозможно… — Очень даже возможно. Вот приказ, который мне передали власти Мукдена: «Господа по имени Поль Редон и Атанас Галюше приговариваются к смертной казни военным судом города Мукдена. Приказ действителен для всех представителей власти, которые обязаны арестовать вышеназванных господ и переправить в Сеул, где они предстанут перед главнокомандующим для принятия окончательного решения». Что вы на это скажете? — Послушайте, господин майор, — вы знаете меня, и вы знаете также, что я человек, который соблюдает законы, но и не бросает слов на ветер. Короче говоря, я ручаюсь за господина Редона, как за себя самого, и прошу в качестве личного одолжения допросить его и тогда уже принимать решение. — Я так и собирался поступить. Офицер нажал на звонок и распорядился привести репортера. Прошло несколько минут. Солиньяк с нетерпением ждал друга. Вскоре тот появился и спокойно прошел в помещение. Можно было подумать, что француз совсем не удивлен, что его пригласил к себе командующий. Тот достаточно вежливо предложил репортеру сесть. — Месье, — начал японец, — вас действительно зовут Поль Редон? — Да, господин майор. — Вы приехали из Парижа? — Так точно. — Вы корреспондент газеты? — Правильно. — Значит, вы и есть тот самый Поль Редон, которого суд Мукдена приговорил к смертной казни? — Надо же, — засмеялся репортер, — а я совсем забыл. Восклицание прозвучало настолько неожиданно и искренне, что командующий не смог подавить улыбку. — Факт остается фактом, — произнес он, — вы обвиняетесь в предательстве. — Да, любопытная произошла история… На поле боя я подобрал одного раненого корейца, которого заподозрили в шпионаже. Я поручился за него, но не сдержал слова, поскольку тот, обманув мое доверие, сбежал. Было бы слишком несправедливо, чтобы я один расплатился за двоих. — Я не имею права, поймите правильно, вникать в детали этого дела. Я обязан лишь выполнить приказ начальства. Очень сожалею, но должен арестовать вас. — Вот черт! — выругался журналист. — На это я, конечно, не рассчитывал! Ну что ж, господин командующий, у меня нет ни малейшего желания оказывать вам сопротивление. — Одну минуточку, — перебил японец, — а нет ли с вами молодого француза? — Буль-де-Сона? Ах да, не хватает второго смертника. Неужели приказ все еще распространяется на него? — Естественно. Приказ распространяется на вас обоих. — Вам разрешено сказать мне, что с нами сделают? Расстреляют на месте? — Нет, конечно. Я должен только переправить вас под надежной охраной в Сеул. — Очень удачно! — радостно воскликнул Редон. — Я как раз горю желанием туда попасть… Вот видите, господин Солиньяк, мы встретимся в Сеуле. — Вы едете в Сеул? — переспросил командующий, обращаясь к Бессребренику. — Да, я очень спешу туда. Я рассчитывал отправиться завтра рано утром, добраться на перекладных до Ялу, а там по железной дороге. Через три, максимум четыре дня я буду в городе. — Путешествие господина Редона будет более долгим… Вы ведь знаете, что такое военный этап[103]. — А что, если я возьму его с собой? Японец задумался. — Послушайте, господин граф, вы были аккредитованы у нас по просьбе токийского императорского двора, и я в курсе, каким уважением вы пользуетесь у августейших особ нашей страны. Можете ли вы дать честное слово и поручиться за господина Редона? — Конечно, я готов. Я ручаюсь за моего друга, смелого и честного француза. Те, кто принял его за шпиона, глубоко ошиблись. Честно говоря, я удивляюсь, что мог разведывать европеец в малознакомой ему стране, тем более что Франция держит нейтралитет. — М-да! — пожал плечами командующий. — Но Россия — ваш друг и союзник! — Но это вовсе не означает, что француз будет, пренебрегая элементарными правилами поведения, нарушать нейтралитет… Нет, нет, господин Редон — не шпион. Я с удовольствием соглашусь сопровождать его в Сеул, а там, я уверен, он незамедлительно предстанет перед военными властями… — Клянусь вам, — без всякой иронии подтвердил репортер. — Верю на слово. И все-таки дайте мне немного подумать. Может быть, мы найдем какой-нибудь приемлемый вариант, чтобы и вам было хорошо, и я выполнил приказ. Возвращайтесь пока к своим друзьям и не говорите им, что здесь произошло. Господин Редон, формально я считаю вас подозреваемым так же, как и вашего спутника. Скоро я дам вам знать о моем решении. — Уф! — вздохнул Солиньяк, выходя из кабинета командующего. — Дорогой Редон, вы несколько напугали меня. Почему вы не рассказали мне ничего об этом глупом приговоре? — Должен признаться, я о нем совершенно забыл. Недоразумение было столь очевидным, что с тех пор, как мы сбежали, благодаря, как вы знаете, усилиям очаровательной Янки и ее брата Пьеко, я считал себя совершенно свободным… Друзья благополучно вернулись в лазарет, где их отсутствие не вызвало никакого беспокойства. — О, патрон! — Лицо Буль-де-Сона расплылось в улыбке. — Ну, как вы поболтали с шефом? Редон подумал, что юноша тоже благополучно забыл о неприятном инциденте в военном суде, который и его приговорил к смерти, и решил не напоминать. Оставалось только подготовиться к отъезду. Не зная точно, как обернется дело, репортер не сомневался в одном — командующий в любом случае отправит его в Сеул. Путешествие будет трудным, поскольку им предстоит преодолеть несколько этапов. Но Редон чувствовал себя как никогда сильным и горел желанием спасти Буль-де-Сона. Он вовсе не помышлял о побеге, считая, что справедливость восторжествует и японские власти в Сеуле окажутся умнее тех, что были в Мукдене. Внезапно появился отец Жером и сообщил, что собирается удалиться из Син-Кинга и вернуться в свою пагоду на берегу Ялу на севере. Отважный миссионер сказал, что был счастлив оказать услугу случайно повстречавшейся Розе Мукдена и познакомиться с храбрым Буль-де-Соном. — Не забывайте, Янка — моя воспитанница и я по-отечески люблю ее. Я был готов дать ей пристанище, если бы мы вас не нашли. Теперь я вижу, что оставляю ее в надежных руках. Я доволен. С этими словами миссионер ушел. Скорее всего он отправится на поиски несчастных, которые нуждаются в его помощи. После завтрака Редон и Буль-де-Сон пошли прогуляться в город. Репортер решил сообщить наконец молодому человеку о том, что их ожидало. — А что, если мы удерем? Найдем лошадей, у вас ведь остались деньги?.. И быстренько доберемся до России. — Вы забываете, мой юный друг, что Солиньяк поручился за меня, да и я сам дал слово. Не будем уподобляться бедному Вуонг-Таю. — Корейцу? Интересно, что с ним стало? — Понятия не имею, но предчувствую, что судьба его незавидна. Услышим ли мы когда-нибудь о нем? Он замахнулся на дело, которое очень трудно осуществить: восстановить независимость Кореи. Эта задача может стать непосильной, ведь его страна лежит между Россией, Китаем и Японией. — Остается только пожелать ему удачи! — беспечно произнес юноша. — Честно говоря, судьба корейца меня мало волнует. Хотя должен признать, что этот Вуонг-Тай — отчаянный человек. В это мгновение какой-то камешек, описав в воздухе дугу, упал к ногам говорящих. — Смотрите-ка! Там бумажка! — воскликнул Буль-де-Сон. Редон поднял камень и увидел, что к нему действительно крепко привязан какой-то листок. Развернув, репортер прочитал написанный печатными буквами текст:«Брат, иди в Сеул. Час борьбы пробил. Победа или смерть. Ты станешь свободным или погибнешь».В письме не оказалось подписи, но сомнений не оставалось: это было послание Вуонг-Тая. — Вот те на! — рассмеялся Редон. — А знаешь, если Вуонг-Тай станет императором Кореи, он может помочь нам выпутаться из этой истории. — Не думаю! — возразил юноша. — Я тоже, — пробормотал журналист. Друзья вернулись в приют. Просторные залы большого деревянного строения купались в золотистых лучах солнца. Солиньяк, поджидавший Редона, тотчас вышел навстречу и сказал: — Хорошие новости! Наш японец — отличный малый. Он поверил в то, что вы попались по ошибке, и разрешил нам ехать в Сеул вместе. Единственное, он выделил нам в сопровождение — так положено — одного капрала, который поедет с нами, а в Сеуле доставит вас к командующему. Кроме того, он передал объяснительное письмо, в котором просит о помиловании. — Не сомневаюсь, что все это только благодаря вам, дорогой друг. — Может быть. Но еще и здравому смыслу японцев, их доброте и порядочности, которые не так уж и редки. Граф предусмотрел все необходимое для путешествия: два огромных фургона, запряженных шестью лошадьми каждый, повезут друзей до Ялу, где для них зарезервируют вагон. Ничто более не задерживало отъезд героев. Все были в сборе: Солиньяк, Клавдия, Редон, Буль-де-Сон, Янка и Пьеко. Пока Редон и Солиньяк беседовали, к ним подошла Янка. Она была одета в длинное платье медицинской сестры, которое ей очень шло, и выглядела прелестно. Лицо вовсе не было типично монгольским, лишь только слишком черные волосы да блестевшие, как два бриллианта, узкие глаза выдавали происхождение. Девушка повернулась к Бессребренику, и друзьям показалось, что она чем-то очень озабочена. Заметив это, граф осторожно спросил ее, чем она так взволнована. — У меня к вам одна просьба, — ответила маньчжурка. — Я в вашем распоряжении, дорогая. — Так вот… Вы, вероятно, знаете, что сестра Экзюперьен подобрала ребенка… Он совсем маленький и такой хорошенький, он займет совсем немного места… — Маленький маньчжур… — Да, у него убили и отца и мать… Он один на всем белом свете. Малыш даже не подозревает, какой тяжелой может стать для него жизнь. Он так очаровательно улыбается, а иногда так смотрит на меня, как будто просит о помощи… — Ну так что? — спросил Солиньяк. — Я понял, что младенец мил, очарователен, но какое это ко мне имеет отношение? В чем же состоит ваша просьба? — Такой маленький доставляет сестре Экзюперьен слишком много хлопот, вот я и подумала, если вы согласитесь, конечно, раз уж мы едем в Сеул… — Взять мальчика с собой, — закончил Буль-де-Сон. — Вы ведь не откажетесь? Господин Редон, убедите господина Солиньяка. — Конечно, решено. Он будет «сыном полка», мы позаботимся о нем. — О, благодарю! Вы так добры! — Бросившись к Бессребренику, девушка взяла его руки в свои. — Ба, да мы не такие уж плохие, впрочем, как и вы. Все будет хорошо. А теперь смотрите, ночь уже на дворе. А знаете ли вы, что завтра мы выезжаем на заре? Лошади будут запряжены к пяти часам. Давайте все по кроватям, а завтра — в дорогу! — Крепкого сна! — пожелал Буль-де-Сон. — Время пролетит незаметно. В тот момент никто не подозревал, что будет значить как для одних, так и для других эта ночь.
ГЛАВА 5
В приюте для раненых воцарилась тишина. Все отдыхали. В этот вечер сестра Экзюперьен покинула лазарет, чтобы отправиться в церковь на службу. Клавдия предложила заменить ее и провести вечерний обход самостоятельно. Янка вызвалась помочь графине. В десять часов Клавдия зашла за юной маньчжуркой. — Вы готовы, мадемуазель? — Еще несколько минут, прошу вас… Мой подопечный уже заканчивает сосать, скоро он заснет, и я пойду с вами. Подойдя ближе, американка взглянула на младенца. Мальчуган не отличался красотой — сморщенные щечки, низкий лоб, смуглая кожа, — но обеим казалось, что ребенок, которого качала Янка, был самым лучшим на свете, и девушка спросила: — Симпатичный, не правда ли? Вместо ответа Клавдия поднесла к губам ручонку малыша и поцеловала. В глазах юной маньчжурки вспыхнула гордость. Младенец заснул. Янка освободилась, и женщины начали долгий обход между ровно стоящих рядов кроватей. Врач и медсестры хорошо знали свое дело: больные, получив помощь, спокойно спали, лишь некоторые, приоткрыв глаза, благодарно смотрели на женщин. Те шептали им слова утешения, давали пить, подбадривали и шли дальше. Наконец они достигли конца коридора. Там, несколько поодаль, стояла кровать того самого обожженного, которого подобрали у дверей приюта. Лицо его скрывалось под бинтами. — Несчастный! — произнесла Клавдия. — Он не может ни видеть, ни слышать нас. — Господи, в какую же катастрофу он попал? — спросила девушка. Женщины, однако, не заметили, как, услышав голос девушки, человек вздрогнул. — Вам нужно что-нибудь? — спросила маньчжурка, склоняясь над больным. Глаза их встретились. Янка вдруг покрылась холодным потом и еле сдержалась, чтобы не закричать. — Что-нибудь не так? Вам плохо? — спросила Клавдия. — Нет, нет, все в порядке! Юная маньчжурка узнала раненого. Это был Райкар. Откуда же появился этот бандит? Как попал сюда? Она не знала, что негодяй, пытаясь подорвать Солиньяка и Редона, получил сильный ожог лица, но, корчась от боли, сумел скрыться, а затем из последних сил дополз до дверей приюта в Син-Кинге, где его и подобрали. С тех пор прошло три дня. О больном заботились, лечили, и жизнь стала возвращаться к нему. Сам же Райкар чувствовал смертельный страх. До сих пор его никто не узнал, но, если он попадет к японцам, ему несдобровать. Главарь банды Йок Райкар был не из тех, с кем велись переговоры. И вот его увидела Янка. Он тоже узнал ее. Страшная ненависть, как поток лавы[104], наполнила вдруг его сердце. О, видеть ее так близко — и не схватить, не убить! А она! Жуткий страх сковал движения. Девушка, опасаясь мести, не решалась произнести ни слова, ни звука. Клавдия с интересом наблюдала за происходившим, она не могла даже предположить, какая буря чувств захлестнула душу юной красавицы. Янка уже снова прекрасно владела собой. Разоблачить или нет этого человека, чья жизнь теперь в ее руках? Инстинкт подсказывал ей заговорить, обвинить негодяя, выдать мерзавца со всеми потрохами. Но девушка, вспомнив наставления отца Жерома, решила, что нехорошо доносить, шпионить и мстить подобным образом. — Ну что, дорогая, — произнесла Клавдия, — думаю, пора и нам отдохнуть. Не забудьте, завтра рано утром мы выезжаем в Сеул. Янка молчала. Она чувствовала, как американка вела ее по деревянной лестнице в комнату сестры Экзюперьен, и не сопротивлялась. Комната выходила на деревянную галерею, которая окружала спальни по всей длине дома, там же располагались медицинская часть, бельевая и все подсобные помещения. — Доброй ночи, прекрасная Роза Мукдена, — сказала Клавдия, поцеловав девушку на прощание. — До завтра… — До завтра! Мадам Солиньяк удалилась. Пройдя через медпункт, она направилась прямо в комнату к мужу. Редон и Буль-де-Сон проследовали к себе. Сестра Экзюперьен все еще находилась в часовне, где молилась, стоя на коленях. Воцарилась тишина. Не слышно было ни единого шороха, ни единого звука. Медсестры спали на стульях, готовые в любую минуту вскочить по тревоге. Янка вошла в комнату, плотно закрыв за собой дверь, и приблизилась к колыбели. Младенец крепко спал. Она смотрела на бедняжку, чья беспомощность вызывала жалость, и думала о чем-то своем. Вдруг девушка вновь вспомнила, как там, в лесу, медведь Тониш бродил вокруг хижины, как пытался пробраться внутрь. Она буквально почувствовала скрежет когтей о дерево, рычанье и скрип… Но что это? Неужели кошмар возвращался? Нет… В приюте все было спокойно, лишь в углу, где стояла кровать обожженного незнакомца, кто-то зашевелился. Это Райкар, подняв голову, сквозь бинты разглядывал помещение. Еще тогда, когда Янка уходила после обхода, он тайно проследил, куда она пошла. И теперь бандит знал, где ее комната. Что же он предпримет? Какое еще ужасное преступление совершит злодей? Йок спустил ноги с кровати, но мышцы не слушались, и раненый упал. Подтягиваясь на руках, он полз, как рептилия[105], полз к своей цели. Бандит оказался под кроватями. Никто не услышал его, никто не пошевелился. Райкар двигался медленно и осторожно. Вот он уже прислонился к стене, впиваясь ногтями в дерево. С каждой минутой он все ближе и ближе подползал к двери, ведущей на лестницу. Ему оставалось метра два или три, а затем — дюжина ступенек, и он — у цели! После пяти ступенек Райкар почувствовал, что задыхается, и остановился. Передохнув немного, бандит добрался до последней ступеньки. Впереди был выход на галерею. Дверь в бельевую оказалась открыта. Со всех сторон свисало сушившееся на протянутых вдоль комнаты балках белье: одеяла, полотенца, рубашки… Райкар прополз дальше. Вот он уже у другого выхода, но на этот раз произошла заминка. Приложив ухо к двери, бурят прислушался. Его ухо, привыкшее улавливать самые незначительные звуки, различило беспокойное дыхание девушки. Пошарив руками по дереву, Райкар убедился, что комната заперта. Преступник хотел было высадить дверь плечом, но у него не было точки опоры. Неожиданно ему в голову пришла интересная мысль. На полу галереи стоял мощный фонарь с несколькими лампами и освещал зал. Протянув руку, разбойник схватил его и вернулся в бельевую. Затем он снял стекло и поджег одну из тряпок, потом другую, третью и в конце концов бросил лампу. Горючее тотчас разлилось по полу, и комната загорелась. Одна тряпка занималась от другой, огонь с одной сухой балки перекидывался на другую — картина танцующих языков пламени заворожила бандита. Несколько минут он смотрел, не отрываясь, как все крутилось в бешеном вихре огня. Находясь в своей маленькой комнате, Янка никак не могла понять, что происходит: из щелей показались языки пламени, запахло дымом, слышался треск ломающихся досок, едкий запах гари проникал в горло. Девушка закашлялась. Бедняжка поспешила к двери и настежь отворила ее. Юная маньчжурка даже не подозревала о последствиях своего шага — сноп пламени с шумом ворвался в комнату, наполненную свежим воздухом. Закричав, она отступила назад. Но было поздно: чудовище, лежавшее на пороге, схватило ее за ногу. Янка упала. Бандит, навалившись на нее и обхватив скрюченными пальцами горло, стал душить. — На помощь! Спасите! — Сейчас, сейчас! Мужайся! — Редон и Буль-де-Сон подоспели как раз вовремя. Юноша вырвал Янку из рук злодея и ударом ноги[106] — недаром парижанин занимался когда-то французским боксом — отбросил негодяя к решетке балюстрады. Тело Райкара обмякло и осталось лежать на полу галереи. Пожар тем временем разгорелся вовсю. Сестры милосердия под руководством Солиньяка, который не спал в эту последнюю ночь перед отъездом, помогали Клавдии и вернувшейся из церкви сестре Экзюперьен выносить из помещения раненых. Со всех сторон на помощь бежали японцы, разбуженные колоколом. Буль-де-Сон нес Янку на руках. Но, дойдя до лестницы, юноша увидел, что путь закрыт. Необходимо было подняться выше и бежать на другой конец галереи к запасной лестнице, что француз и сделал. — Ребенок! Младенец! Я хочу вернуться в комнату… Он сгорит там! Юная маньчжурка вырвалась из объятий Буль-де-Сона и устремилась обратно. Огонь и дым охватил все пространство вокруг. Однако Редон, услышав крики девушки, опередил ее. Он нырнул в круговорот пламени и, вынырнув через некоторое время в горящей одежде и с опаленными волосами, вынес на руках младенца. Тот плакал и смеялся одновременно, не понимая, что происходит и какой опасности он избежал, невольно приняв участие в этой жестокой игре. Через мгновение репортер присоединился к Янке и Буль-де-Сону, и все вместе они благополучно спустились вниз по запасной лестнице. Там еще не было огня. Их встретил Солиньяк и, прорубив в стене отверстие, выпустил наружу. Янка со своим подопечным осталась под открытым небом, а мужчины вернулись в дом, чтобы продолжить спасение раненых. Битва с огнем продолжалась почти час. За это время полку отважных спасателей прибыло, и ни один из больных не погиб. Когда граф с репортером вынесли последних, здание рухнуло, и вверх взвился сноп искр. Потоки воды обильно залили обломки. Сестра Экзюперьен была безутешна — ее детище оказалось уничтожено, кроме того, оценив потери в сто тысяч франков, она сокрушалась о том, как ей возместить ущерб. — Послушайте, — утешал ее Бессребреник, — пойдите завтра к банкиру Син-Кинга и представьте ему эту маленькую бумажку. — У вас был один госпиталь, а теперь вы построите два, — добавил Редон, вырывая листок из своей чековой книжки. Командующий прибыл на место происшествия одним из первых и, возглавив отряд своих солдат, сделал немало, чтобы спасти раненых. Встретив Редона, выносившего кровати и больных, японец поприветствовал его: — Привет смертнику! — улыбнулся он. — Вы забыли еще второго, — дружелюбно ответил репортер, указывая на юношу, который весь в саже и поту вынырнул из горящего дома. — Вы — храбрые ребята, — пробормотал офицер. — Господин Солиньяк, не знаю уж какое там преступление совершили ваши друзья, но, если бы я был их судьей, они давно бы были на свободе. И вдруг, резко изменив тон, командир сказал: — Послушайте, да не ездите вы в Сеул! Я не буду вмешиваться в это дело вообще. Я ведь не надсмотрщик какой-нибудь! — Не волнуйтесь, мы выполним ваше предписание и непременно отправимся в Сеул. В наших планах ничего не изменилось. Через несколько часов наступит утро, я уже подготовил экипажи. Мы едем все вместе. В целом ничего страшного не произошло. В огне никто не погиб, за исключением самого виновника поджога. Речь шла только о деньгах, и Редон с Солиньяком внесли свою лепту в дело восстановления госпиталя. На рассвете японский гарнизон во главе с командующим, без устали говорившим слова благодарности, торжественно провожал друзей. Солдаты восхищались отвагой и мужеством иностранцев. Путники заняли места в повозках, и лошади-тяжеловозы потащили их к Ялу, откуда со станции Фуи-Тью по железной дороге они доберутся до Сеула. — У нас осталось несколько незавершенных дел, — говорил Солиньяк Редону, — ваш смертный приговор, моя месть Борскому, и кто знает, может быть, мы поможем чем-нибудь нашему знакомому революционеру Вуонг-Тай-Ланю, который, похоже, затеял серьезную игру… — Бедный борец! — вздохнул репортер.ГЛАВА 6
Несмотря на то, что Корея на протяжении веков была китайской провинцией, нравы и обычаи местного населения сильно отличались от китайских. Страну населяли две расы — одна монголоидная и другая — странно напоминавшая европейский тип кавказцев и представлявшая собой квазиаристократов[107]. Малоизученный язык корейцев не походил ни на китайский, ни на японский, ни на какие-либо другие языки пограничных государств. Своим главным принципом Корея провозгласила изолированность и придерживалась его долгие годы, но свободу забрали силой у независимого народа. «Королевство-отшельник», а именно так называли свою страну корейцы, уступило место Корее-империи, стране-вассалу, тогда как «отшельник» был свободным. Одинокая страна, где бедность считалась достоинством, а торговля и партнерские отношения с зарубежьем строго запрещались, сопротивлялась с оружием в руках любому, даже дружескому, вторжению. Благодаря местоположению — Корея являлась морской державой — и рельефу местности ей это удавалось. Над всей территорией горной страны возвышалась снежная вершина Пектон-Сан, долгое время служившая препятствием для маньчжурских и китайских варваров. Именно отсюда в двенадцатом веке монголо-татарские кочевники начали свое наступление на Западную Азию и Восточную Европу. Страна хвойных лесов, буковых и березовых рощ постепенно превращалась в сельскохозяйственную. Обнаружились, правда, богатые месторождения угля, которые при разработках могли бы принести огромные барыши. Но прежде всего это была местность, где процветали лень, грязь и различный сброд. А сделали ее такой короли и знать, которые закабалили не только рабов, но и свой трудовой народ, лишив таким образом развития местную промышленность. Жестокая тирания создавала впечатление ложногоспокойствия, царившего на всей территории Кореи, которая благодаря своему мягкому климату получила название страны «Спокойной Зари». Потребовалась война русских против японцев, чтобы Корея проснулась для борьбы за свою независимость. Цивилизация, с ее научными трудами, развитой сетью железных дорог и мостов, начинала овладевать страной, избавлявшейся от летаргического сна. Жизнь закипела. Сеул стал столицей. Причем он совершенно не был похож на крупные европейские города. Построенный на дне огромнейшей воронки, по краям которой возвышалась бесконечная цепь горных вершин, Сеул походил на корзину с грибами или черепахами — так соломенные крыши одноэтажных домиков напоминали шляпки и панцири. С востока на запад и с севера на юг шли широкие улицы с каменными мостовыми, как у римлян. Повсюду виднелись пагоды, а на перекрестках возвышались трехметровые колокола, звонившие в дни больших праздников или возвещавшие об опасности. Европейцы построили в городе удобные и красивые дома, самым выдающимся из которых было здание дипломатической миссии Франции. Постепенно постройки европейского типа, банки и агентства вытеснили странные сооружения в восточном стиле. Когда Солиньяк с Редоном входили в просторный зал «Империал Банк», расположенный в крупной гостинице напротив статуи каменной черепахи, можно было подумать, что друзья находились где-нибудь на Уолл-стрит в Нью-Ойл-Сити или на Канон-стрит в Лондоне. Высокий лакей-кореец, одетый в белый костюм, вышел навстречу двум иностранцам и провел их в просторный, богато обставленный зал, предназначенный для аудиенций с администрацией. Дверь открылась, и директор банка с протянутыми для приветствий руками направился к Солиньяку. Граф пожал руки, но посмотрел на вышедшего англичанина с некоторым недоумением. — Как! Вы меня не узнаете? — Ваши черты лица мне как будто бы знакомы, но я не уверен… — Я — Патрик Леннокс, сын герцога Ричмондского, помните, когда-то в Бенгалии[108] вы спасли моего отца и сестру… — А, Патрик! Мой добрый дорогой Патрик! Господи, сколько воды утекло с тех пор. Я помнил вас ребенком, а теперь вы — мужчина. Но как вы оказались здесь? — В обличии банкира? Да очень просто! Вы же знаете, англичане не могут сидеть сложа руки. Если японцы завоевали Корею с помощью оружия, то мы решили завладеть корейским рынком. И я, будучи сам лордом и сыном герцога, считаю подобную задачу вполне достойной. А теперь давайте поговорим о делах. Но сначала представьте мне вашего друга. — Господин Поль Редон, рекомендую… Очень скромный король золотых шахт Северного полюса, но прежде всего — отважный рыцарь и один из самых честнейших людей, которых я когда-либо знал. Правда, недавно его приговорили к смерти! — Как! Вы говорите — к смертной казни? Но кто осмелился это сделать? — Японцы! Они приняли его за шпиона! Но не беспокойтесь, теперь уже все в порядке. Нам стоило только поговорить с французским послом в Сеуле, и он тотчас снял обвинения с соотечественника. — Поздравляю. Подобная ошибка в условиях войны могла дорого вам стоить. В свою очередь должен сказать, что Владимир Борский приходил в банк. Исключительный джентльмен. — Да? — переспросил граф. — Я получил вашу телеграмму, в которой говорилось, чтобы я задержал выплату. Повод нашелся — в банке просто не имелось в наличии достаточной суммы денег, так как мы являемся филиалом и сразу не можем выплатить двадцать миллионов. Я перенес выплату на три дня. Он должен прийти сегодня в одиннадцать часов утра, то есть через час. Не стоит говорить, как я счастлив… — Одну минуту… А этот исключительный джентльмен не протестовал против отсрочки платежа? — Хм, немного. Нужно признать, что подобная процедура противоречит нашим правилам, но я сослался на букву закона, и ему нечего было возразить. — У вас есть двадцать миллионов? — Конечно. И в банкнотах, и в валюте первой категории банков Европы. Все готово и пересчитано. — Хорошо. Но теперь, дорогой Патрик, будьте добры, уберите все эти деньги обратно по ящикам. — Да? Но почему? — Потому что я сам оплачу счет этого господина, а для порядка попрошу вас присутствовать при нашем свидании. — Что это значит? — Вы достаточно долго со мной знакомы и прекрасно знаете, что я ничего не делаю просто так. Этот Борский — мерзкий бандит, который даже пытал мою жену. Вот почему я прошу вас помочь мне ввести его в заблуждение и проучить как следует. Я хочу, чтобы он признался во всех преступлениях в вашем присутствии. Буду также вам очень благодарен, если вы пригласите еще нескольких свидетелей, а также японскую полицию. — Все, что вы желаете, будет незамедлительно исполнено. Несколько телефонных звонков — и дело сделано. Такое помещение подходит вам для встречи с этим типом? — Безусловно. Прошел час. Все было готово к приему Борского. Директор банка работал с двумя администраторами. На сей раз роль служащих исполняли русский консул и сеньор Кову-Сай, секретарь нового главы правительства Сеула. Надо отметить, что, несмотря на то, что город находился в руках японцев, император Кореи, пребывавший в закрытом районе в центре Сеула, формально руководил своим народом. Ровно в назначенный час Борский вошел в зал и обратился к кассиру. Тот исключительно вежливо проинформировал его, что для получения столь значительной суммы нужно пройти к господину директору, и он лично выдаст деньги. Все это прозвучало вполне убедительно и не вызвало подозрения у русского. Борский больше не выглядел грабителем маньчжурских степей: он оделся по-европейски и имел вид человека из самого что ни на есть аристократического общества. Все было на нем безупречно, и впечатление он производил солидное. Немного бледен, ну что ж, ведь он затеял крупную игру. В случае опасности он знал, как защититься. Пройдя мимо лакея, бандит несколько развязно направился к широкой мраморной лестнице. Дверь перед ним отворилась, слуга удалился, и Борский вошел. Первый, с кем он столкнулся лицом к лицу, оказался Солиньяк. Русский едва подавил крик. Он понял, что борьбы не избежать. Сэр Патрик Леннокс со своими администраторами сидел за столом, покрытым зеленой скатертью. Жестом он пригласил посетителя войти и сесть. — Господин Борский? — Таково мое имя, — ответил мужчина, глядя свысока, — разрешите мне сказать, что вы, видимо, только делаете вид, что собираетесь заплатить мне деньги. На самом деле у господина Солиньяка, — продолжал он со злобной улыбкой, — нет счета в этом банке или нет достаточно денег на счету. — О, вы ошибаетесь, месье. Граф де Солиньяк аккредитован в нашем банке, и ваш чек будет оплачен, если, разумеется, совпадут подписи. Борский резко повернулся к Бессребренику: — Вы имели наглость изменить подпись? — Ни в коем случае. Однако некоторые объяснения не помешают. Господа, — обращаясь к тем, кто его слушал, произнес граф, — чек, который представил этот мерзавец, действительно выписан мной в пещере ущелья Вации, когда по дороге в Син-Кинг я был ограблен и взят в плен. Присутствующий здесь Борский угрожал мне смертью, он был лейтенантом у бандита Райкара. Во всей Маньчжурии и Корее имя бандита Йока Райкара было хорошо известно. — Ложь! — закричал Борский. — Вот способ, как не платить долги! — Вы можете удивиться, господа, — продолжал Солиньяк, не обращая внимания на заявление русского, — но я уступил гнусному шантажу[109], потому что, пока головорезы держали меня под прицелом, этот человек, этот злодей каленым железом пытал мою жену. Я был бессилен и не мог перенести страданий Клавдии. — Неправда! — пробормотал Борский. — Эти деньги — просто долг, который господин Солиньяк хотел отдать мне совершенно добровольно, и он знает за что. Напрасно вы улыбаетесь, господин граф! Или вы заплатите, или я объявлю повсюду, что вы — вор. — Вы не объявите ничего подобного, — хладнокровно возразил Солиньяк. — Будьте добры передать чек господину директору. — Если для получения денег — пожалуйста, если зачем-нибудь еще — нет! И будьте осторожны, господин честный человек, у меня есть средство доказать, что это не первая ложь, которую вы допустили. — Ах да, я помню. Я подписал вам еще одну бумагу. — Не мне! На письме стоит одна тысяча восемьсот девяносто девятый год, и вы не можете этого отрицать. Вдруг Борский успокоился и, обращаясь к присутствующим, громко произнес: — Господа, простите, что уличил вашего знакомого во лжи, но, если бы вы действительно знали, с кем имеете дело. Я могу рассказать, господин де Солиньяк? — Прошу вас, — разрешил Бессребреник. — Ладно… Этот француз больше чем шпион, он — предатель. Он предал нацию. Смотрите, что написано его рукой. Во время восстания Боксеров в Китае, он продал их главарям план европейской дипломатической миссии за ничтожную сумму в сто тысяч франков. Дрожащими от волнения руками — Борский понимал, что наступил кульминационный[110] момент, «пан или пропал», — он протянул сэру Патрику листок бумаги, который должен был сразить противника. Леннокс принялся читать. — Господин де Солиньяк, это действительно вы написали? — Да, и все в тех же условиях, после первого крика моей жены. — Как бы не так, — возмутился бывший лейтенант Райкара, — посмотрите, вот подпись, а вот дата. — Это действительно подпись и дата, сэр Патрик, но вглядитесь внимательно в бланк, посмотрите на свет. Директор впился глазами в строчки. — Точно, вот дата. — Что вы видите? — Тысяча девятьсот пятый год. — Вот именно. Это год образования нашей компании, а в тысяча восемьсот девяносто девятом Нью-Ойл-Сити еще не существовала. И Солиньяк подробно описал, как Борский, украв бланки в фургоне, заставил его написать письмо. Бандит очень торопился получить деньги и не заметил маленькой неточности, которая и опровергла все его доводы. Русский понял все: его обманули, на этот раз он проиграл. Бандит обмяк и выглядел совершенно растерянным. Однако это не помешало ему продолжить борьбу. Он вытащил из кармана мелкокалиберный, но достаточно мощный револьвер и, сделав шаг вперед, направил оружие на Солиньяка. Редон вовремя заметил порыв негодяя и, прыгнув на него, предотвратил выстрел. Борский отступил и, вдруг подняв руку к виску, выстрелил в себя. Так он распорядился своей жизнью.ГЛАВА 7
Редон с Буль-де-Соном отправились на прогулку по городу. Повсюду стояли японские полки, виднелись артиллерийские батареи. На древней столице Королевства-отшельника лежала печать угнетения. Смирившись с поражением, люди бесцельно слонялись по улицам. — Когда-нибудь эта земля проснется, — сказал репортер юноше, — прогресс нельзя остановить, а мы, как насекомые, пытаемся что-то сделать, изменить, тогда как все происходит само собой. За философскими размышлениями двое французов не заметили, как наступил вечер. Они решили возвратиться в гостиницу, где их ждал Солиньяк с Клавдией, чтобы принять окончательное решение о дальнейших планах. Отправиться в Японию или вернуться в Европу? Буль-де-Сон больше склонялся к последнему. — Послушайте, патрон, — говорил юноша, — я ведь на самом деле вовсе не Буль-де-Сон. — Чувствую, что тебе не хватает Парижа… — Да, и я не скрываю этого. Нам будет так хорошо в небольшом домике где-нибудь в Жуанвиле, или Перре, или в Бри-на-Марне. Я заведу семью. — Неужели? — улыбнулся Редон. — Ты хочешь завести семью? — Почему бы и нет! — Догадываюсь, кому ты хочешь предложить руку и сердце. Роза Мукдена едет с тобой? — Бог мой! От вас, патрон, ничего не утаишь! Если прекрасная Янка даст согласие, я возьму ее и брата Пьеко с нами. — А маленького маньчжура? — Конечно! Вот семья и готова. В это время друзья проходили мимо статуи каменной черепахи. Вдруг перед ними как из-под земли выросла фигура человека в черном и произнесла загадочные слова: — Именем Вуонг-Тай-Ланя, будьте на этой площади завтра утром в восемь часов. Вас отведут к нему на свидание. — Вуонг-Тай! — воскликнул Редон. — Несчастный! Что с ним? Но человек уже исчез так же внезапно, как и появился. — Патрон, я не понимаю язык этих узкоглазых, но, кажется, догадался, что произошло что-то серьезное. Я спрашивал в гостинице, и мне сказали, что была совершена попытка переворота или восстания, но революционеров предали. — Безусловно, это говорилось о Вуонг-Тае. У этого человека доброе сердце, и он очень любит свою родину. Я конечно же откликнусь на его призыв. В назначенный час репортер прибыл на место. К его большому удивлению весь город кипел: многочисленные группы людей направлялись к воротам в стене, окружавшей дворец. Толпа увеличивалась с каждой минутой. Все кричали, жестикулировали и торопились куда-то, как будто боялись опоздать к началу какого-то заранее обещанного представления. Редон почувствовал на плече чью-то руку. Обернувшись, он увидел человека, чье лицо наполовину было спрятано под маской. Француз последовал за ним, задавая на ходу вопросы, насколько позволяло ему несовершенное знание языка. Тот оставался нем. Приглядевшись получше, репортер заметил на его глазах слезы. — Вы были одним из друзей Вуонг-Тая? — почти шепотом спросил француз. Незнакомец опустил голову и пошел еще быстрее. Он ловко маневрировал в людском потоке, и наконец они оказались у стен крепости. Там кореец, — а Редон не сомневался, что это был один из членов тайной организации Хонг-Так, той самой, что дала клятву отомстить за убийство императрицы, — легонько постучал в железную дверь, которая тотчас отворилась. Мужчины очутились в узкой темной галерее, которая, казалось, удалялась в глубину стены. Они были одни. Пройдя через длинный коридор, Редон с корейцем вошли в ротонду[111]. Потолок имел форму купола, с высоты падал один-единственный луч света. То, что открылось взору, заставило ужаснуться даже видавшего виды репортера. Все стены круглого зала были в чугунных решетках, за которыми, как рептилии, кишели в грязи и мраке изуродованные человеческие существа. В одной из таких клеток, правда, отдельной, Поль Редон увидел Вуонг-Тая, сына императора, хотевшего отомстить за свою мать. Кореец не был покалечен, однако его приковали к стене цепями: за шею, запястья и щиколотки. Узнав голос репортера, кореец произнес хриплым голосом: — Мой французский друг, — чувствовалось, что Вуонг-Тай очень страдал, — я боролся, но меня победили, я хотел освободить мою страну от векового ига, но меня предали. Скажи тем, кто еще на свободе, как отец-император, продавшись чужестранцам, наказал своего сына за то, что тот слишком любил народ… — Послушайте, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы облегчить вашу участь? У меня есть влиятельные друзья… — Даже не пытайся, дружище… Когда ты увидишь меня мертвым, ты поймешь, почему я не хочу, чтобы просили моего отца! Прощай! Провожающий увлек репортера за собой. Послышались шаги охранников, входивших в клетку к Вуонг-Таю. Редон содрогнулся: жалость сдавила его сердце. Он знал, что несчастный обречен. Его останки выбросят на съедение грифам, которые в Сеуле, как и в других восточных городах, как будто существуют для того, чтобы очищать улицы от грязи и даже от тел казненных.Восемь дней спустя великолепная морская яхта «Бессребреник» увозила друзей из Чемульпо в Европу. Роза Мукдена и брат Пьеко были в восторге от путешествия. Маленький маньчжур уже звал Атанаса Галюше и прекрасную Янку папой и мамой. Свадьба состоялась в Париже. Небольшой домик купили на берегах Марны. Поль Редон же решил проводить Солиньяка и Клавдию до Нью-Ойл-Сити.
Конец

Луи Буссенар ТАЙНЫ ГОСПОДИНА СИНТЕЗА
ПРОЛОГ УЧЕНЫЕ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ[1]
ГЛАВА 1
В кабинете префекта полиции[2]. — Украденный бумажник. — Рапорт агента номер 27. — Господин Синтез. — Стомиллионный кредит. — Человек, живущий без еды и сна. — Пятьсот скафандров доставлены заказчику. — Удар ножом. — Агент номер 32. — Профессор «взрывчатых веществ». — Алексис Фармак. — Слова улетают, написанное остается. — След. — Снова господин Синтез. — Таинственный дом по улице Гальвани. — Запертые двери. — Строжайший запрет. — Флот господина Синтеза. — Великое Дело.В тот день, — а именно в первых числах апреля 1884 года, — дел у господина префекта было по горло. Сидя за большим, заваленным бумагами письменным столом, он внимательно изучал содержимое какого-то бумажника, поминутно теребя свои тоненькие, уже начинающие седеть усики и вороша завитки красиво подстриженных подковкой волос. Однако эта процедура лишь усилила сжигавшее его нетерпение. Он внезапно вскочил, отшвырнул ногой жалобно скрипнувшее кресло и, сам не свой, заметался по кабинету, натыкаясь на стены, обитые зеленым репсом[3], тем неизменным репсом, без которого уже невозможно представить внутреннее убранство современных административных зданий. — Еще этот недотепа все никак не идет! — бормотал префект, искоса бросая взгляды на свое отражение в большом висящем над камином зеркале в черной раме. Уже третий раз его палец опускался на кнопку из слоновой кости, приводя в действие целый хор электрических звонков. Наконец преисполненный важности свежевыбритый судебный исполнитель[4], блестя лысиной, появился на пороге и, сделав несколько шагов вперед, застыл, словно памятник, в самом центре вытканного на ковре рисунка. — Номер двадцать семь? — отрывисто бросил хозяин кабинета. — Только что прибыл и ожидает в приемной возможности предстать перед господином префектом. — Пускай войдет! Да поживей! — поторопил начальник невозмутимого секретаря, чья поступь вопреки приказу не стала быстрее, а фигура не утратила степенности. За сим префект, облегченно вздохнув, вновь опустился в кресло, прикрыл бюваром[5] раскрытый бумажник, чтобы немного успокоиться, достал пилочку для ногтей и, предварительно придав лицу бесстрастное выражение, приготовился ждать. — Номер двадцать семь! — возвестил секретарь. — Хорошо. Меня ни для кого нет. Оглядев вошедшего мужчину лет тридцати с умным и мертвенно-бледным лицом, префект, даже не поздоровавшись, рявкнул: — Ну наконец-то! Хороши, нечего сказать. Явились в десять утра, а должны были когда?! Вчера вечером! Возложив на вас секретную миссию, я настоятельно рекомендовал действовать как можно быстрее, вы же заставляете меня двенадцать часов сидеть тут словно на иголках! — Но, господин префект… — Молчать! Пока не знаю, хорошо ли, плохо ли вы справились с заданием, однако вижу, прохлаждаетесь, ворон считаете, вместо того чтобы стремглав мчаться сюда. И к тому же, как последний ротозей, позволяете стащить у себя бумажник не только с инструкциями, но и с рапортом чрезвычайной важности! Агент, совершенно сбитый с толку тем, что начальник, оказывается, осведомлен о происшествии, известном, как он считал, лишь ему самому да вору, не удержался от жеста изумления и скорчил такую мину, которую, если расшифровать игру лицевых мускулов, можно было бы понять следующим образом: «Эге, видно, шеф — тонкая бестия! Что, как он во мне усомнился?! И само это ограбление — не его ли работа? Если да, то зачем?!» — Ну что, так и будем молчать?! Или все-таки соблаговолите дать мне какой-нибудь вразумительный ответ? — Да, должен признаться… У меня действительно вытащили бумажник… И сделал это настоящий ловкач!.. — Вор у вора дубинку украл! Правда, на сей раз стащили-то ее у ва́с, голубчик! — Ну, так уж и дубинку! Ведь в бумажнике гроша ломаного не было, а донесение записано шифром, ключ от которого известен мне одному. — Вы в этом уверены? — Абсолютно, господин префект. — А ежели я вам предъявлю этот документ, вернее, его перевод на превосходный французский язык, что вы тогда запоете? — не без ехидства спросил начальник. — Быть того не может! — Взгляните, мой мальчик, вот оригинал, собственноручно вами написанный, а вот и перевод! Читайте-ка вслух свое донесение, а я тем временем буду сличать тексты! Но агент, совершенно опешив, стоял как громом пораженный. Да что же это? Не спит ли он?.. Руки его повисли словно плети, и он, казалось, даже не замечал протянутую шефом шифровку. С минуту начальник улыбался, наслаждаясь своим торжеством, но затем снова раздраженно воскликнул: — Вы что же, не видите? Я жду! Могучим усилием воли агенту номер 27 удалось взять себя в руки. Он достал из кармана платок, вытер пот, струившийся по его бледному до прозрачности лицу, и, взяв листок, внезапно охрипшим голосом стал читать: — «Дело Синтеза». Согласно приказу шефа, я собирал сведения о личности, которая вот уже почти месяц остается загадкой для парижского общества. — Да, в литературе, предназначенной для грошовых журнальчиков, я — полный профан[6], — съязвил начальник. — Однако мы сравниваем тексты, так что продолжайте! Критические замечания последуют в свое время. — Вышеупомянутая особа представляется как «господин Синтез» и проживает в Гранд-отеле. Это высокий мужчина, моложавый и подтянутый, словно юноша. Точный возраст его определить трудно, однако есть основания утверждать, что ему уже перевалило за шестьдесят… — Чем дальше, тем больше напоминает газетный роман с продолжением, — пробормотал префект. — По национальности он скорее всего голландец или швед, — продолжал агент номер 27. — Его образ жизни становится час от часу все более странным: посетителей он принимает редко. Служат ему два угрюмых негра крайне отталкивающего вида — настоящие церберы[7]. Всех приходящих они подвергают проверке, требуя, чтоб те называли пароль, и каждого, кто не знает условленной фразы, безжалостно выталкивают за порог. Ходят слухи, будто бы господин Синтез — ученый-маньяк, чье постоянное и любимое занятие — марать бумагу химическими формулами и алгебраическими уравнениями, именно поэтому он так стремится к уединению. Говорят также, что сей господин безумно богат, что в его квартире буквально повсюду валяются драгоценные камни — бриллианты, сапфиры, рубины и что он владеет множеством сундуков, полных такими вот камушками. Возможно, эти сведения несколько преувеличены, однако я смело могу утверждать, — господин Синтез располагает кредитом в сто миллионов у Ротшильда[8]. — Я не ослышался? Вы сказали «сто миллионов»?! — Я получил справку у главного кассира банка. — Черт побери! Вот это да! — Конечно, мифические самоцветы[9] вполне могут оказаться простыми стекляшками, но золото Ротшильдов наверняка чистой пробы! — Продолжайте! — Утверждают также, и это более чем доказано свидетельствами гостиничной прислуги, что господин Синтез ничего не ест и никогда не спит. Он ни разу не спускался в ресторан, не заказывал еду в номер, и не было случая, чтобы его черномазые слуги доставляли в гостиницу какую-нибудь снедь. Они же сообщают всем желающим слушать их болтовню, будто бы их хозяин не знает, что такое сон. К тому же в номере нет ни кроватей, ни диванов, ни шезлонгов. Таковы более чем необычайные странности господина Синтеза. Уже одного этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы со всей возможной деликатностью содержать данное лицо под тайным надзором властей. — Что верно, то верно. Иногда и в вашей литературщине проскакивает искра здравого смысла. «Со всей возможной деликатностью…» Надо держать ухо востро с оригиналом, способным снять со своего банковского счета сто миллионов! Недурно бы разузнать о нем поподробней. — Со всей возможной деликатностью… — повторил агент номер 27, приободренный похвалой шефа. — Итак, продолжим. Один абсолютно реальный факт загадочного существования данной особы привлек наше внимание: через день после прибытия в Париж господин Синтез вступил в контакт с известной фирмой «Рукероль и Денейруз»[10] и заказал ей пятьсот скафандров уникальной конструкции. Аппараты снабжены резервуарами приблизительно с солдатский подсумок; кислород, наполняющий эти резервуары, позволяет ныряльщику погружаться в воду на шесть часов. Таким образом, отпадает необходимость в насосах, ранее качавших воздух для дыхания водолаза, а также в соединительных шлангах. Такие скафандры называют «независимыми». Партия товара, оплаченная наличными, пять дней тому назад была доставлена на Сен-Лазарский вокзал и оттуда специальным поездом отправлена в Гавр. Пятьсот аппаратов погрузили в трюм большого парохода «Анна», стоявшего на якоре в доке Люр. — На сей раз это все? — Да, господин префект. — Ладно. Ваши иероглифы[11] точь-в-точь соответствуют моему переводу. Не могу поставить вам в вину стиль рапорта — он удачно контрастирует с прозой отчетов моих подчиненных. Расследование, однако, пока находится в зачаточном состоянии. Не сомневаюсь, что вы вскоре сможете извлечь из этой цепи загадок прекрасно обоснованную полицейскую докладную, строгую как математическое уравнение, в котором все эти странности найдут удовлетворительное объяснение. Но впредь будьте внимательны и не позволяйте так глупо себя обкрадывать. — О господин префект, мне вовсе не улыбалось лишиться бумажника, да еще и получить удар ножом… — Вы?! Удар ножом? Когда это случилось? Где? — Вчера вечером в девять часов, приблизительно через полчаса после того, как у меня украли бумажник. Потрясенный всем происшедшим, я возвращался к себе домой на набережную Бетюн, обдумывая по пути докладную. И тут какой-то незнакомец — наверно, он шел за мной по пятам — вдруг обгоняет меня, останавливается, круто повернувшись, секунду смотрит мне в лицо, размахивается и… Удар пришелся прямо в грудь. Огни газовых фонарей заплясали у меня перед глазами, я закричал и рухнул на мостовую… Когда на мой крик прибежали двое полицейских, незнакомец уже убежал. Меня подняли, привели в чувство и отвезли в больницу Отель Дье. Дежурный фельдшер наложил повязку и сказал, что рана не опасна, однако велел остаться на ночь в больнице и лишь полчаса назад выпустил на волю. Только поэтому, господин префект, я не смог явиться в назначенное время. — Ай-ай-ай, бедняга, отчего ж вы мне не сказали об этом раньше?! Подумать только — пырнули ножом! Неужто и впрямь на улицах Парижа могут убить? — Сдается, что так, господин префект. — Да-с, ситуация усложняется! Кстати, довольно играть в загадки. Вам знаком сей предмет? — Это мой бумажник. — Укравший его человек вскоре ввязался в драку, был арестован и препровожден в комиссариат. При обыске у него обнаружили записную книжку с вашим удостоверением личности и бумаги, которые у комиссара хватило ума сразу же переслать мне. Я нашел ваш рапорт и приказал одному из служащих его расшифровать, что не составило большого труда. А вот история с покушением, жертвой которого вы стали, кажется, не так проста. Нет ли между этими двумя неприятными происшествиями какой-либо связи? — Очень может быть. — Надо поразмыслить. Отдохните несколько дней дома, вы, вероятно, «засветились». А пока — кое-что в утешение. — Префект открыл сейф, достал несколько луидоров[12] и сунул их агенту в руку; тот, рассыпавшись в благодарностях, спрятал деньги. — Еще несколько слов напоследок. Присядьте на минутку. Я все время думаю об этой партии в пятьсот скафандров. Вот ведь загвоздка… Пускай себе господин Синтез обходится без еды и сна, нам нет до того дела. Пусть повторит эксперимент доктора Таннера, пусть даже превзойдет эксцентричного американца! Но — скафандры! — Ваша правда, господин префект. — Владей он хоть всеми жемчугами Цейлона[13] или вбей себе в голову мечту стать единственным держателем акций Виго, — я хочу сказать, будь он архимиллионером или архисумасшедшим, — ему, частному лицу, все равно незачем приобретать оборудование для целой подводной армии! — Верно! Пускай не для армии, но, уж во всяком случае, для целого полка водолазов. Коль вы мне оказываете честь, интересуясь моим мнением, позвольте заметить, что недурно было бы наложить эмбарго[14] на судно господина Синтеза. — Это слишком важное решение, и я должен доложить о нем министру. Необходимо помнить, что вышеупомянутая персона является иностранным подданным — так легко нажить дипломатические неприятности… Но не можем же мы выпустить из французского порта в неизвестном направлении пять сотен скафандров! Последнее время мир переживает разного рода кризисы — политические, аграрные, финансовые, торговые… Растет число недовольных. Различные индивидуумы[15] злоумышляют, партии спорят, армии вооружаются!.. Люди завидуют ближнему своему, народы друг друга ненавидят… Как знать, может, загадка, над которой мы сейчас бьемся, невидимыми нитями связана со всеми нынешними беспорядками. Почувствовать-то все это можно, а словами выразить трудно… Кто поручится, не напали ли мы на след заговора против монарха или против всего народа? Велико должно было быть замешательство префекта полиции, если он начал думать вслух и произносить такой длинный монолог перед одним из своих скромных служащих! Опомнившись, префект прервал свою тираду и отпустил агента номер 27, еще раз порекомендовав ему вести себя более осмотрительно. Только он собрался воспользоваться редкой минутой одиночества, чтобы еще раз всесторонне обдумать загадку по имени «господин Синтез», как в кабинет вновь явился напыщенный и важный секретарь. — Агент номер 32 ожидает в маленьком кабинете, — прозвучал его елейный голос[16]. — Впустите, — ответил префект с покорностью человека, знающего, что время ему не принадлежит. — Какими судьбами? Я думал, вы в Швейцарии ведете наблюдение за эмигрантами-нигилистами[17]. — Я уже неделю как вернулся. — И до сих пор не явились? — Я следил за одним частным лицом, доставившим мне кучу хлопот. К тому же, чувствуя за собою «хвост», решил повременить, дабы не навести его на Центр. — И правильно поступили. Что у вас нового? — Много чего, господин префект. — Вы составили обстоятельную докладную? — Только устный рапорт, господин префект. — Отчего же не письменный? — Потому что поговорка «Verda volant, scripta manent» ложна, как и большинство поговорок. — «Слова улетают, написанное остается»? — Совершенно верно. — Рассказывайте вашу историю и не скупитесь на подробности. Все, что касается людей, за которыми вам надлежит следить, имеет первостатейное значение. — Я провел в Женеве пять недель и благодаря агентам московской полиции, работавшим в городе, был превосходно осведомлен о каждом шаге эмигрантов. Надо сказать, наблюдение за теми, кто направлялся во Францию или возвращался из нее в Швейцарию, не составило большого труда. Мое особое внимание привлек некий господин, чье поведение было весьма странным, внешность примечательной, национальность невыясненной, зато профессия не вызывала сомнений. Человек этот — химик. Но такой, каких нынче уже не увидишь. Казалось, он вышел из старинной лаборатории, заставленной перегонными кубами[18], ретортами[19], причудливыми аппаратами, чучелами крокодилов, словом, всем тем, чем практиковали средневековые алхимики[20], занимаясь своим колдовством. Все в нем было необычайно, даже его имя, которое меня сразу же поразило. Он назывался, вернее его называли, Алексисом Фармаком. — Но это же не имя, это каламбур![21] — Именно так я и понял, обратившись к толковому словарю Пьера Ларусса[22]. — Быть может, это кличка! — Более чем вероятно. Но как бы там ни было, мой Алексис Фармак был владельцем уединенного дома на окраине предместья, где он оборудовал великолепную лабораторию, в которой дни и ночи напролет изготовлял всевозможные взрывчатые вещества. — Черт побери! — Соль гремучей кислоты[23], пироклетчатка[24], нитробензол[25], беллинит, серанин, петролит, себастин, панкластит, матазьет, тонит, глоноин, динамит, глиоксилин, нитроглицерин[26] и множество других, чьих названий я не знаю. Он постоянно экспериментирует, прекрасно уживаясь с молниями, запертыми в колбы, а между делом преподает химию русским эмигрантам (в основном те ее разделы, где речь идет о взрывчатых веществах). Я стал одним из его учеников, пусть не самым образцовым, но зато едва ли не самым старательным. Жизнь нашего профессора не изобиловала событиями: опыты, уроки, опыты… И вдруг одним прекрасным утром письмо из Парижа оторвало Алексиса Фармака от лаборатории, от формул, от экспериментов. — Зовут в Париж, — заявил он без обиняков. — Один ученый, кстати сказать, большая знаменитость, приглашает к себе. Я буду получать, хоть это меня мало заботит, превосходное жалованье и, главное, заниматься высокой наукой в качестве ассистента господина Синтеза… — Что?! — воскликнул ошеломленный префект. — Вы сказали «Синтеза»?! — Да, господин префект. Мало нам Алексиса Фармака, так вот вам еще одно имечко! Тоже, наверное, псевдоним. У этих ученых все не как у людей. Итак, не теряя ни минуты, профессор с нами распрощался, лабораторию сдал внаем за смехотворную сумму одному из своих русских приятелей и, набив чемодан рукописями, первым же поездом выехал в Париж. Я нюхом почуял — здесь какая-то авантюра. Сделав все возможное, чтоб не быть узнанным, сажусь в тот же поезд и еду следом. — Превосходно! Молодчина! — По прибытии направляюсь за его экипажем на улицу Гальвани — это новая улица, проложенная между улицей Ложье и бульваром Гувьен-Сен-Сир. Фиакр[27] останавливается перед массивной оградой, с маленькой калиткой и большими железными воротами. На первый же звонок ворота широко распахнулись, а затем, вслед за проехавшим экипажем, тотчас же закрылись, лишь на миг позволив мне увидеть в глубине сада просторный одноэтажный дом и в отдалении хозяйственные постройки. Битый час я напрасно жду, когда фиакр выедет снова, и в конце концов, несолоно хлебавши, возвращаюсь домой, поклявшись себе, что уж завтра чуть свет все разузнаю. В принципе, совсем несложно войти в парижский дом, несложно кой-кого порасспросить и выудить сведения о жильцах. Люди нашей профессии владеют такого рода приемами. Но я странным образом был вынужден отказаться от своих намерений. Обескураживало, что двери неизменно оставались запертыми, люди рта не раскрывали, их правила поведения казались нерушимыми, а сами они — неприступными… Тайна сгущается, но я, естественно, дела не бросаю. Используя любой предлог, любые средства, пытаюсь завязать знакомства или хотя бы просто проникнуть внутрь. Напрасно я поочередно становился то рассыльным, то разносчиком телеграмм, то газовщиком, то водопроводчиком, напрасно тщательно обдумывал каждый новый маскарад; стоило мне позвонить в проклятую дверь, громадный негр в ливрее, черт бы его побрал, возникал на пороге и заговаривал со мной на каком-то непонятном языке. А так как я изо всех сил пытался объясниться с ним по-французски, он отваживал меня с ухмылкой, делавшей его рожу похожей на морду бульдога. Бешенство мое росло. Несколько раз я видел, как в ворота, действовавшие автоматически, влетала на рысях карета, запряженная быстрой, словно ветер, вороной лошадью. Поскольку обратно она не выезжала, равно как и фиакр моего так называемого учителя, я заключил, что существует второй выход на бульвар Гувьен-Сен-Сир. Именно у этих вторых ворот я вчера днем установил наблюдение, явившись туда в экипаже, которым правил один из наших агентов. — Прекрасная мысль! — воскликнул все более и более заинтригованный префект. — И представьте себе, мое терпение чуть ли не сразу было вознаграждено. Не прошло и часу, как в стене, скрывавшей, как мне думается, пустырь, распахнулись ворота, выехал экипаж и полетел словно выпущенная из лука стрела. Мой кучер помчался за ним во весь опор. После фантастической гонки по улицам Парижа мы остановились на углу площади Сорбонны[28], против большого магазина химреактивов «Фонтен и К°», и тут-то я имел удовольствие увидеть выходящего из кареты Алексиса Фармака собственной персоной. Выждав, пока он зайдет в магазин, начинаю с видом праздного зеваки прогуливаться взад-вперед по тротуару. Улучив минуту, когда профессор, уладив свои дела, показался в дверях, я изловчился ненароком его задеть, якобы по рассеянности. — Вы ли это, дорогой мэтр?![29] — воскликнул я восторженно. — Любезнейший! Какими судьбами?! — Меня привела в Париж тяжелая болезнь отца. А в данный момент я направляюсь в Сорбонну, хочу подать в секретариат заявление о зачислении на естественный факультет. — Значит, продолжаете трудиться? — Под вашим умелым руководством вошел во вкус и горячо желаю продолжить так прекрасно начавшееся обучение. — Похвально, похвально, поздравляю! — А вы, дорогой мэтр, как поживаете? — О, нахожусь на вершине блаженства! Представьте себе, я руковожу огромной лабораторией, почти такой же большой, как в Сорбонне и в Коллеж де Франс[30], вместе взятых, под началом у меня — выдающиеся химики, а мой патрон[31] — самая необычайная личность как в Старом, так и в Новом Свете. — Ах да, это господин Синтез. Припоминаю странную кличку, которой вы называли его на прошлой неделе в Женеве. — Его настоящее имя, хотите вы сказать. Необыкновенная, превосходная, неподражаемая личность! Более знающий ученый, чем вся Национальная библиотека[32], бо́льший богач, чем все финансисты мира, более могущественный, чем принцы и монархи, чьи имена записаны в Готтском альманахе![33] — Из этого следует, — начал я наугад, — что вы отказались от специального изучения взрывчатых веществ? — Эге, дорогой мой, стоит ли говорить об этих детских игрушках, когда мы стоим на пороге гигантского, неслыханного, фантастического дела, при одной мысли о котором меня охватывает восторг, почти страх! Не могу найти слов, чтобы описать мои чувства, язык бессилен выразить мысли, теснящиеся в моем мозгу! К тому же это чужой секрет, я не имею права дальше об этом распространяться. Знайте только, что вы скоро о нас услышите! Господина Синтеза и его скромных сотрудников узнает весь мир. Воплотив гениальную концепцию[34] моего хозяина, мы совершим Великое Дело! Однако всего хорошего, прощайте или, вернее, до свидания. Время не терпит, надо закончить наши последние приготовления. — Значит, вы скоро уезжаете? — Дней через восемь-десять, со всем моим многочисленным персоналом. Четыре парохода, подумать только, четыре больших парохода, набитых разнообразными химическими веществами, неизвестными машинами, прекрасной аппаратурой, повезут господина Синтеза и его помощников. — Это колоссально! — Вы нашли верное слово — колоссально! Вот вам лишь одна деталь, могущая дать кое-какое представление о важности нашего предприятия и его масштабах. Знайте же, среди прочего оборудования на одном из судов будут транспортировать пятьсот скафандров!
ГЛАВА 2
Тяжелые думы префекта полиции. — В Гранд-отеле. — Гражданское состояние господина Синтеза. — Индусы-бхили[35]. — «Документы» господина Синтеза. — Письма знатных вельмож. — Сборник дипломов. — Автографы монархов. — Витрины с орденами. — Господин Синтез охотно признает, что делает бриллианты. — «Все правильно, месье!» — Проект межзвездной связи. — Перемещение земной оси. — «Если планета не идет ко мне, я иду к планете!» — Удельный владелец Земли. — «Я сплю, и я голоден».Префекта полиции все больше и больше занимала тайна, окружавшая господина Синтеза. Несмотря на множество обязанностей — и как главы парижской полиции, и как депутата, — отнимающих немало времени, он постоянно размышлял об этом загадочном человеке, личность которого никак не удавалось установить. Эта проблема стала для полицейского чем-то вроде навязчивой идеи. Раздираемый с одной стороны профессиональным любопытством, а с другой — чиновничьей боязнью совершить ложный шаг, префект колебался, вилял, досадовал и в конечном счете не пришел ни к какому выводу. Последнее время он подвергался нападкам прессы самой разной партийной ориентации, которая не жалела для него шпилек и издевательств, обвиняя в высокомерии, называя его замашки диктаторскими, а манеры жеманными[36]. Давно известно, что репортерам, этим стоглазым Аргусам[37], довольно одной оплошности, одного промаха, сущего пустяка, и они, не щадя своей луженой глотки, набросятся и пригвоздят любого к позорному столбу, сделав всеобщим посмешищем… Ах, возникни подобная ситуация в начале его карьеры, когда наш префект проявлял такое усердие, что любые препятствия были ему нипочем, все неприятности мигом остались бы позади! Но, к несчастью, его служебную репутацию уже омрачили несколько мелких случаев превышения власти; раздутые газетами, они стоили ему порядочной выволочки. Сам министр внутренних дел хоть и в узком кругу сослуживцев, но с оскорбленным видом обронил: — Избегайте неуместного рвения, дружище, а главное — будьте половчей. Быть половчей — вот где собака зарыта! Что бы ты ни делал, что бы ни говорил, существует лишь одно непреложное условие — не попадайся на язык злопыхателям! В коридоре палаты депутатов он было подступился к министру, намереваясь поделиться своими тяготами, но, открыв рот, тут же смолк — даром что не робкого десятка, — услышав отповедь шефа, сделанную в обычном для него насмешливом тоне: — Вы, дорогуша, префект полиции и наделены неограниченными полномочиями, так что уж будьте добры выпутывайтесь сами! Хорошо говорить — выпутывайся, а как быть, когда донесения агентов запутывают тебя еще больше! Начнем с вопроса, где живет господин Синтез. В Гранд-отеле или в таинственном особняке на улице Гальвани? Ученый, богач, оригинал, который не ест и не спит, зато владеет целым флотом пароходов, командует целой армией ученых и, наконец, нанимает к себе в ассистенты человека, близко связанного с российскими нигилистами. Действительно ли это одно и то же лицо?! Или под именем Синтеза скрывается целое сообщество неустановленных лиц, преследующих свои тайные цели и, быть может, даже имеющих преступные намерения? В противном случае зачем тогда вся эта секретность, зачем двойное местожительство, зачем поездки взад-вперед на бешеной скорости, зачем скрытая от посторонних глаз лаборатория и все эти невиданные машины, чьеназначение никому не ведомо? Зачем, наконец, такое несусветное количество скафандров?! Совершенно замороченный префект полиции продолжал нанизывать свои бесконечные «зачем», не находя ни одного логического или хотя бы просто приемлемого «затем, что»… — Черт побери! — отрубил он наконец тоном человека, принявшего окончательное решение. — Я сам займусь этим делом, я пойду ва-банк, будь что будет! Пусть говорят, что кресло мое шатается, но чистая совесть важнее! Нечего поручать расследования этим забитым неумехам, моим сотрудничкам, надо самому немедленно приниматься за дело! До сегодняшнего дня, как это ни огорчало моих дражайших врагов-журналистов, мне всегда везло и в Париже, и в департаменте![38] Я лично повидаю господина Синтеза, он не сможет отказать мне как префекту, как депутату в конце концов. Боясь передумать, префект безотлагательно позвонил и вызвал экипаж: — В Гранд-отель! Недолго вращались колеса его кареты; вот он уже стоит перед роскошным караван-сараем[39] и глядит, как мельтешит разноязыкая толпа людей, прибывших со всех концов света. Будучи человеком предусмотрительным, ничего не оставляющим на волю случая, префект призвал управляющего гостиницей, назвал себя и приказал для начала подать список проживающих, где должна была иметься отметка о вселении господина Синтеза. И действительно, на первой же странице он прочел следующее: «Господин Синтез, Элиас-Александр, рожден 4 октября 1802 года в Стокгольме (Швеция), последнее местожительство — Калькутта; мадемуазель Анна Ван Прот, рождена 1 января 1866 года в Роттердаме (Голландия), последнее местожительство — Калькутта; двое слуг-негров…» Дата прибытия в гостиницу — 26 января 1884 года. — Хорошо, благодарю вас. А теперь проводите меня в апартаменты[40] вашего постояльца. — Он живет на третьем этаже, вход с улицы. Не желаете ли воспользоваться лифтом? — Нет, благодарю, — рассеянно бросил префект и мысленно добавил: «Восемьдесят два года! По национальности швед… Наверняка поклонник Сведенборга[41] и не чужд мистицизму, а в голове — туман, словно в родимых дюнах…» Как и всякий уважающий себя француз, любитель философии и изящной словесности, господин префект не мог не знать имени Сведенборга, этого странного фантазера и одновременно крупнейшего ученого. Но здесь сведения нашего интеллектуала о Швеции исчерпывались… В передней господина Синтеза находился один из его телохранителей. Однако оказался он вовсе не негром, как сообщалось о том в рапорте агента номер 27 и в гостиничном списке, а бхилем из Индустана. Ошибка, кстати говоря, простительная для тех, кто не изучал антропологию[42], ибо этот индус с кожей цвета сажи, грубыми чертами лица и почти плоским носом свободно мог сойти за негра, если бы не его длинные прямые гладкие волосы и густая борода. При виде незнакомца, приближающегося в сопровождении гостиничного слуги, он вскочил, как на пружине, и стал в дверях, лопоча что-то на языке, непонятном префекту. Пришедший достал из кармана визитную карточку, протянул ее слуге, отчеканив: — К господину Синтезу! Индус издал нечто похожее на ворчанье, открыл дверь и скрылся за ней для того, чтобы почти тотчас же вернуться. Однако столь краткое отсутствие круто изменило отношение к гостю, — словно по волшебству высокомерие и враждебность сменились почти любезным видом. Округло взмахнув руками над головой и почтительно кланяясь, индус знаком пригласил префекта следовать за собой. Пройдя две комнаты, расположенные анфиладой[43], они вступили в роскошно обставленную гостиную, наскоро переделанную в кабинет. Индус тотчас же вернулся обратно на свой пост. И тут префект заметил неподвижно сидящего на тростниковом[44] с очень длинными ножками стуле высокого старика со спокойным, слегка задумчивым взглядом, который одновременно и очаровывал, и странным образом будоражил. Старик чуть приподнялся, наклоном головы ответил на церемонное приветствие гостя, приветливым жестом пригласил его садиться и снова неподвижно застыл. В ответ на это молчание, очень похожее на вопрос, префект полиции счел уместным начать с извинений за свой сугубо официальный визит и повторить то, что обычно говорят люди, явившиеся без приглашения и тем самым нарушившие светские приличия. Рассыпаясь мелким бесом, как адвокат, для которого словоблудие стало уже не просто привычкой, а внутренней потребностью, префект исподтишка разглядывал загадочную персону, столь живо интересующую его последнее время. Сидящий перед ним человек не только полностью соответствовал созданному воображением префекта образу, но даже в чем-то превосходил его. По-настоящему выразительное лицо старика напоминало посмертную маску великого Дарвина[45], в последнее время часто мелькавшую на страницах иллюстрированных журналов, — тот же огромный лоб мечтателя, монументальный свод, если можно так выразиться, удваивающий мыслительную мощь черепной коробки; черные глубоко посаженные глаза, прикрытые широкими полуопущенными, но едва тронутыми увяданием веками, напоминали шары из вороненой стали[46], блеск которых не пригасили ни длительные бессонницы, ни неусыпные труды, ни прожитые лета. Безукоризненная по форме, правда, несколько двусмысленная вступительная речь префекта полиции вызвала на губах господина Синтеза легкую улыбку, что позволило пришельцу с удивлением убедиться, — рот старика, как и рот Виктора Гюго[47], полон ровных, совершенно целых зубов, ни один из которых не был обязан протезисту своим появлением на свет. Такая по-юношески здоровая челюсть должна была бы служить для господина Синтеза, как служила в свое время нашему бессмертному поэту, предметом тщеславия и поводом для кокетства. Кокетства, кстати говоря, вполне оправданного, ибо в пожилых людях нет ничего более привлекательного, нежели органы, сохранившиеся вопреки времени и позволяющие нам при виде восьмидесятилетнего старца не думать о разрушении. Однако улыбка господина Синтеза тут же погасла. Он погладил — казалось, ему свойственно это движение — заостренную бородку, обнаружив очень маленькую, смуглую, волосатую руку с узловатыми, необычайно тонкими пальцами, и наконец медленно промолвил глубоким, но звучным, приятного тембра голосом без малейшего иностранного акцента: — Ваш визит ничуть не оскорбителен для меня, его также трудно назвать и обременительным. А вот если бы вы прислали ко мне кого-нибудь из своих подчиненных и если бы тот переусердствовал или оказался недотепой, я вынужден был бы выдворить его вон с помощью моих индусов Апаво и Вирамы. — Вашим телохранителям цены нет… — Они неподкупны и преграждают путь парижскому нескромному любопытству. Я живу, как вам уже известно, очень замкнуто, поскольку главнейший и единственный смысл моего существования — работа, требующая полного уединения. Неудивительно, что, с одной стороны, затворничество, к которому я стремлюсь и которого всей душой желаю, а с другой стороны, осуществляемые в данное время приготовления к экспедиции создали мне репутацию оригинала[48]. Это никоим образом не стану перед вами отрицать. «А-а, вот и добрались до дела!» — подумал префект, обрадованный благоприятным оборотом разговора. — Должно быть, про меня ходят странные слухи? — продолжал господин Синтез. — Действительно весьма странные… — И эти россказни полны преувеличений? — Они изобилуют нелепостями… — Поэтому вы решили, что наша с вами беседа, быть может, рассеет уже наверняка сложившееся у вас предубеждение? Полноте, не возражайте! Хоть мне и безразлично мнение и суждения о себе своих современников, я прекрасно понимаю, что некоторые особенности моего образа жизни должны встревожить всегда недоверчивые и подозрительные власти. Это совершенно естественно! Будучи гостем другой страны, я подчиняюсь ее законам, правилам и традициям, обязательным как для ее граждан, так и для чужеземцев. В силу этого я сделаю все от меня зависящее, чтобы исчерпывающим образом удовлетворить ваше любопытство. Вы желаете знать, кто я такой? Старый студент, пытающийся вот уже на протяжении семидесяти лет выведать у природы ее секреты. Откуда я? Можно сказать — отовсюду, ибо нет такого отдаленнейшего закоулка на земном шаре, где бы мне не пришлось побывать. Куда я направляюсь? Об этом вы скоро узнаете. Но вам, наверное, желательно получить сведения о моей особе как о гражданине? Будучи законопослушным путешественником, хочу предъявить вам, как предъявляют удостоверение жандарму, все свои документы. Вы только гляньте — их у меня изрядная коллекция! Бумаг при мне достаточно. Вот свидетельство о рождении, подтверждающее, что родился я 4 октября 1802 года в Стокгольме от состоящих в законном браке отца Жакоба Синтеза и матери, урожденной Кристины Зорн. Вот перед вами недурная подборка почти двухсот дипломов на всех языках мира, присужденных вашему покорному слуге различными научными обществами. Мне пришла в голову мысль их переплести, и теперь они образуют собой весьма оригинальный том. Эти дворянские грамоты[49], снабженные сургучными печатями, удостоверяют мое звание дворянина уже и не припомню какого количества стран. Во всяком случае, я являюсь английским баронетом[50], графом Священной Римской империи[51], герцогом чего-то, заканчивающегося на -берг в Германии, принцем датским, гражданином Соединенных Штатов, гражданином республики Швейцария и т. д., и т. д. Некоторые коронованные особы удостоили меня своей дружбы. Вот их письма, адресованные вашему покорному слуге. Не угодно ли узнать, с какими словами обращались ко мне король Голландии, престарелый германский император, обходительный и высокообразованный властитель Бразилии, монархи Австрии и Италии? Тогда ознакомьтесь с подшивкой, она представляет некоторый интерес. Можно расспросить также и мертвых. Расшифруйте эти мелкие каракули, нацарапанные покойным российским самодержцем Николаем, человеком, кстати говоря, довольно суровым — уж он-то не жаловал ученых! Или необычные резкие буквы, начертанные Бернадоттом[52], тоже дарившего меня своей дружбой… А вот на моем письменном столе лежит совсем уж современный документ — всего-навсего чек на сто миллионов, подписанный господами Ротшильдами. Это мне на карманные расходы. — На карманные расходы?! — ахнул, отшатнувшись, префект. — Конечно. В Английском банке у меня пятьсот миллионов, столько же в банке Франции и почти вдвое больше в Америке. Я мог бы в короткое время, если бы мне вдруг в голову пришла такая фантазия, потратить два миллиарда. И это далеко не все, чем я владею, у меня существуют и другие способы сколотить деньжат. Но если желаете, продолжим далее обзор моих справок. Взгляните вот сюда… Как вам этот комплект цветных пустяков? Не правда ли, они похожи на коллекцию бабочек, собранных энтомологом? Со все растущим удивлением префект стал рассматривать причудливую чешую, образованную всевозможными орденами самых разных форм и отчеканенных в самых разных странах; здесь были розетки[53], ордена на цепочках, наивысшие знаки рыцарского достоинства, кресты, звезды — все это сверкало и переливалось россыпями драгоценных камней. — Излишне говорить, — продолжал господин Синтез все так же официально, — что я не придаю ни малейшего значения безделушкам такого рода. Для меня не имеют ценности даже украшающие их камешки. Я ни у кого не выпрашивал наград, мне вручали их по собственной инициативе, а храню я и эти ордена, и эти дипломы, образующие второй том форматом ин-фолио[54], только из вежливости. Какая, в сущности, разница — быть командором, кавалером или простым рыцарем Большого креста или Большого орла, того или иного ордена?[55] К тому же последние лет двадцать мне их почти и не вручают по той веской причине, что они едва ли не все уже у меня имеются. Кстати, забыл сообщить, что все эти ювелирные побрякушки имеют одну оригинальную особенность — они украшены сделанными мною драгоценными камнями. — Как?! — завопил префект, чье удивление возрастало с каждой минутой. — Вам действительно известен секрет изготовления драгоценных камней?! Значит, то, что о вас рассказывают, — правда?! — Все это подлинная правда, месье. Вы слышите — все! Кстати сказать, недурная работа — делать бриллианты. Многие ваши соотечественники тоже пытались добиться такого результата. Во всяком случае, до уровня мельчайших кристаллов они добрались. Хвати у них терпения — и успех был бы обеспечен, еще немного, и они смогли бы получить образцы желаемого размера. Итак, как вы сами понимаете, если бы я решил наводнить рынок бриллиантами, то уже на следующий день это было бы сделано. Но зачем опошлять доброкачественный товар, для чего разорять процветающую ветвь промышленности и пускать по миру торговцев и мастеровых — тех, кто благодаря алмазу может честно зарабатывать свой кусок хлеба? Потому-то я и оберегаю свою тайну. Вот, взгляните еще на эти образцы, — продолжал господин Синтез, зачерпывая из бронзовых чаш пригоршни белых, черных, светло-желтых бриллиантов, смешанных с рубинами. — Значит, это правда, — пролепетал гость, борясь с охватившим его волнением. — Неужели такое возможно на самом деле?.. — А вы в этом сомневались? — Хозяин слегка нахмурился. — Разве я похож на мистификатора?![56] Не довольно ли с вас предъявленных мною доказательств? Повторяю вам, что все это чепуха, мелочи, тина, оседающая на дне потока. Главное — мой гигантский план, венец моих стремлений, единственное оправдание всей моей жизни. Что может сравниться с таким замыслом, с такой целью?.. — И резко, без перехода, добавил: — Скажите, как вы думаете, есть ли что-либо невозможное для науки? — Клянусь честью, в наш век пара, электричества, телефона, фонографа[57], аэростатов, дирижаблей я начинаю думать, что наука способна осуществить решительно все! — Правильно. В то же время, отдавая должное усилиям ученых, приветствуя их успехи, я констатирую, что сами по себе все осуществленные на сегодняшний день открытия приложимы лишь к нашему земному шару. — Неужели этого недостаточно?! — Конечно же нет. Лично я целюсь выше и куда как дальше. Вот, между прочим, пример; не хотелось бы вам, префекту полиции, человеку, призванному знать поступки ваших современников и факты их жизни, быть в курсе того, что происходит на звездах, в нашей планетарной Вселенной? — Разумеется, хотелось бы. Даже не говоря о профессиональном интересе, я был бы просто по-человечески счастлив узнать сокровенные тайны вращающихся вокруг Солнца планет. — Тем лучше. Если вы располагаете временем, я опишу вам в нескольких словах мой проект сообщения между Землей и Марсом. Это обычный воздушный путь. Не примите мои слова за каламбур — в его осуществлении нет ничего невозможного. В настоящее время мы располагаем осветительной аппаратурой такой мощности, что свет, посланный с Земли, не может быть не замеченным жителями Марса. Я лично убежден, что последние уже начали подавать нам сигналы, хотя никто из землян, кроме меня, должно быть, не задумался пока над тем, как принимать эти сигналы. Однако сумеем ли мы, учитывая отдаленность наших двух планет, с одной стороны, и несовершенство существующих ныне оптических приборов — с другой, установить регулярную связь? Вот о чем я спрашиваю себя. — Мне кажется, такое невозможно. — Добавлю: при современном состоянии наших технических средств. Но если оптика окажется недостаточной и оптические законы восстанут против нас — а этого я опасаюсь, — то инженерное искусство, которое еще не сказало своего последнего слова, должно вступить в межпланетные исследования, должно вмешаться… Ибо такова моя воля. — Но… — Инженерная мысль сократит расстояния, разделяющие звездные миры… — Каким образом? — Позвольте ответить, перефразируя знаменитые слова пророка: «Если планета не идет ко мне, я иду к планете»[58]. Вернее, мы все идем к планете, так как в дальнейшем я собираюсь изменить путь движения Земли в космическом пространстве. «Ну вот, — подумал префект. — До сих пор он рассуждал как человек пусть эксцентричный, но вменяемый. Что за нелепые идеи? Очевидно, господин Синтез одержим маниакальным бредом… Надо как можно скорее откланяться, не нарушая приличий». — Вы считаете меня сумасшедшим! — продолжал странный старик, распаляясь. — Но это лишь потому, что мои взгляды на много столетий, а может быть, и тысячелетий, опережают взгляды современников! И это после того, как вы признали всемогущество науки! До чего же все одинаковы! Но давайте же поразмыслим. Сколько на Земле жителей? Как вы думаете? — Статистика утверждает, что приблизительно миллиард. — Глупости! Население составляет около полутора миллиардов, я могу это доказать. — Склонен с вами согласиться. — Задумывались ли вы о гигантской работе, которую способны проделать пятнадцать сотен миллионов человек, оснащенные наимощнейшими современными машинами, если они будут работать не покладая рук? Сколько можно перекопать земли, сколько перенести грунта, скал, гор, если хотите — передвинуть с места на место целые континенты! — Действительно огромное количество! Однако какова цель проведения таких всемирных работ? — Цель — изменение формы земного шара. — Зачем же ее менять? — Чтобы сместить земную ось и таким образом изменить орбиту вращения планеты. — Я готов поверить в возможность реализации такой грандиозной гипотезы…[59] Но хорошо ли вы представляете себе те трудности, которые будут возникать на каждом шагу? Как правители цивилизованных стран или варварских племен, являющиеся зачастую хозяевами своих земель, отнесутся к вашим работам? — Я скуплю их владения за наличные, а они заставят работать свои народы. Все реально, если предложить настоящую цену. Возможно, что в будущем я стану хозяином Земли. — Но если все станут копать, то как решить вопрос выживаемости? Ведь надо чем-то питаться, а у землекопов аппетит хороший! — Они не будут есть. Во всяком случае, не будут питаться в вашем понимании этого слова. Посмотрите на меня — вот уже тридцать лет в мой организм не поступало ни одного атома хлеба или мяса, а я себя чувствую отнюдь не хуже, даже наоборот! Так что это несущественные детали. Вернемся к кошмару бесконечности, который не дает мне покоя. Форма нашего сфероида будет изменена, земная ось переместится, Земля станет по-иному реагировать на законы всемирного тяготения. Она отклонится от своего пути. Кстати, для меня не составит труда вычислить предполагаемое отклонение и привязать его ко времени и к месту. Согласно моей воле, Земля помчится в космическом пространстве, и я намереваюсь ею управлять — ведь материя должна быть покорена. Нахлестывая свою планету, я отправлюсь посмотреть на своих братьев тиранов, руководителей иных планет; я сыграю свою партию в этом сонме[60] властелинов звездных миров; которые в час битвы выстраивают целые созвездия и бомбардируют друг друга астероидами[61]… В течение некоторого времени префект уже не пытался следить за прихотливыми извивами мысли своего собеседника. Он заметил, что тот внезапно повернул голову и стал пристально вглядываться в металлическое зеркальце, укрепленное на штативе какого-то, по-видимому весьма сложного, прибора, которое начало вдруг стремительно вращаться. Господин Синтез несколько секунд сидел, застыв в одной позе, высоко держа голову, казалось, погруженный в некий экстаз[62], и, не моргая, во все глаза смотрел в зеркальце, излучающее довольно сильный свет. Потом по телу его прошла дрожь, губы полуоткрыл легкий зевок. — Что с вами, месье? — спросил префект, который уже перестал чему-либо удивляться. — Ничего страшного, — спокойно ответил господин Синтез. — Моя жизнь отрегулирована, как хронометр. Ни за что на свете я не хотел бы поменять режим. В данный момент я сплю и я голоден.
ГЛАВА 3
Обед человека, который ничего не ест. — Заменитель двух килограммов мяса. — Научный пир в ничтожно малых количествах. — Элементы плоти. — Вещества, из которых состоят эти элементы. — Искусственно изготовленное мясо. — Химический синтез. — Разнообразное меню. — Сон человека, который не спит. — Гипноз и внушение. — Человек, проживший шестьдесят лет, приблизительно двадцать из них отдал сну. — Чтобы не упустить ни единого мгновения жизни. — Внушение мысли об отдыхе. — Еще раз о скафандрах. — Господин Синтез заявляет, что собирается создать новый континент, а префект полиции думает, что его обвели вокруг пальца.Едва господин Синтез произнес эти загадочные слова: «Я сплю, и я голоден», — как его лирическое настроение мигом улетучилось. Однако ничто в его поведении не выдавало сонливости — походка была тверда, глаза открыты, жесты раскованны. Но все же если предположить, что он намеревался перекусить, пусть даже на скорую руку, то казалось странным, что для этого не делалось никаких приготовлений; слуга по-прежнему занимал свой пост в прихожей, а в комнате не было ни намека на трапезу. Префект молча наблюдал. Старик, словно не замечая гостя, медленно направился к вмурованному в стену сейфу, откуда был извлечен и водружен на стол металлический ящик. Затем, с торжественным видом человека, собирающегося совершить важный акт, он нажал пружинку, и крышка ящика, отливающая сталью и украшенная замечательной красоты фигурками, отскочила, открыв для взоров изумленного префекта всего-навсего дюжину хрустальных флаконов с притертыми пробками, уставленных рядами, как в портативной аптечке бродячего лекаря. С просиявшим лицом, с радостью в глазах господин Синтез молча взял один из флаконов, вытащил пробку, опустил ее в предназначенную для этой цели выемку, достал ложечку и, нагнув над нею флакон, выкатил шарик размером с плод дикой вишни, долил из другого флакона прозрачной жидкости и, обращаясь к префекту, заявил: — Вы позволите? Мой желудок чрезвычайно требователен, когда приближается время единственного в день приема пищи. А сегодня я уже и так припозднился на целую минуту. Медлить больше нельзя! И, не дожидаясь соизволения гостя, которое тот поторопился дать, извиняясь за свое нескромное присутствие, старик мигом проглотил содержимое ложечки. Затем, со странной поспешностью, вытряхнул следующую пилюлю, залил той же самой жидкостью, снова проглотил, почмокал языком и принялся готовить новую порцию. Он повторил эту процедуру десять раз и, наконец, закрыв ящичек, поставил его в сейф и вернулся на свое прежнее место. Судя по тому, как взбодрился хозяин, он и впрямь испытывал животворящее действие своей странной трапезы. На лице его было удовлетворенное выражение плотно пообедавшего человека. — Вот я и поел, — сказал господин Синтез со вздохом, — что рассматриваю как основополагающую, можно сказать, единственную в своем роде функцию материальной жизни. Этого хватает на двадцать четыре часа. Как видите, моя кухня весьма необременительна, а время, затрачиваемое на восстановление сил, строго ограничено. — Как, — вскричал префект, — вы ничего больше не съедите, кроме этих таблеток?! — Ничего. Я же говорил вам, что питаюсь таким образом вот уже тридцать лет. — Это изумительно! — Не столько изумительно, сколько в высшей степени рационально. — Теперь меня не удивляют слухи о том, что господин Синтез обходится вообще без пищи, — ведь никто из не посвященных в тайны вашего существования никогда не видел, чтобы вы ели или собирались есть. — Мысль о самой возможности обходиться совсем без пищи абсурдна[63]. Что представляет собой органическая жизнь? Постоянный износ элементов, составляющих живой организм. Это похоже на процесс беспрерывного сгорания: перестань подкладывать в очаг хворост — и огонь погаснет… Если не восполнять понесенные организмом потери при помощи веществ, соответствующих утраченным, он захиреет и погибнет. Что касается меня, то, призна́юсь, я не из тех, кто, как говорят в народе, «питается святым духом», аппетит у меня недюжинный. — Вы не шутите? — Вот вам доказательство. Сейчас, на ваших глазах, я потребил эквивалент двух килограммов говядины. Как видите, мой обед, хоть и научный, далеко не платонический[64], невзирая на свой малый объем. — Значит, вы доводите питательный материал, например, мясо, до ничтожно малого объема, что позволяет… — Не угадали. В стенах моей лаборатории никогда не бывало даже миллиграмма мяса. — Решительно, я понимаю вас все меньше и меньше. — В то же время это очень просто. В сущности, что такое плоть? Вещество, состоящее из различных элементов, в зависимости от породы животного соотнесенных в различных пропорциях. К примеру, возьмем быка. Я не открою вам ничего нового, если скажу, что в состав его мяса входит альбумин, фибрин, гематозин, креатин, инозин, креатинин, желатин и т. д., и т. д. Кроме того, как вы знаете, в нем присутствуют соли — хлористые соединения, фосфаты, карбонаты, щелочные сульфаты[65], железо, марганец — всего более сорока семи наименований, а также семнадцать процентов воды. — Воды?! Значит, плоть содержит воду? В ростбифе, в бараньей ножке, в филе — вода?! — Совершенно верно. В мясе вода составляет около четырех пятых веса; ее и некоторые, непригодные для насыщения вещества, например, хондрин[66] и желатин, можно безболезненно изъять и тем самым уменьшить массу данного продукта. Этого краткого изложения достаточно, чтобы дать вам представление о том, до каких крошечных размеров могут быть доведены наиболее активные элементы, затерянные среди инертных компонентов[67] мяса. — Кажется, я наконец понял: вы извлекаете эти активные элементы и изготовляете из них пилюли, которые только что принимали… — Терпение! Все названные мною вещества — альбумин, фибрин, креатин и другие отнюдь не однородны. Они в свою очередь состоят из соединенных в определенной пропорции атомов кислорода, водорода, углерода, азота. Вместо того, чтобы с величайшим трудом извлекать их из возможно изначально недоброкачественного сырья, я с помощью необходимых составляющих сам изготовляю свой фибрин, свой креатин, свой альбумин и т. д. — Вы сами изготовляете… искусственно… мясо?! — Вне всякого сомнения. Для этого довольно соединить в желаемых пропорциях водород, углерод, азот и кислород, то есть простые вещества, входящие в состав сложных, чья совокупность образует материю мяса. Таким образом я получаю химически чистые продукты питания. Вы слышите, химически чистые! И усваиваемые без малейших потерь, безо всякого остатка! — Но позвольте, каким образом можно в заданных пропорциях составить смесь простых веществ, которые в природе в чистом виде не встречаются? — С помощью серии реакций. Их может понять и оценить только химик-профессионал. Приведу лишь один пример — простейший, — по аналогии вы поймете все остальное. Вам известно, что воду можно изготовить искусственно? — Должен признаться, что имею об этом довольно смутное представление — курс элементарной химии я слушал много лет назад. — Следует пропустить электрический разряд через смесь, состоящую из двух частей водорода и одной части кислорода. В момент прохождения искры газы образуют жидкость, эта жидкость и есть вода. Я для своих целей пользуюсь способом в принципе аналогичным — воздействую одними простыми веществами на другие для получения сложных и наоборот. — Но тогда вы создаете все на свете! — Мною решительно ничего не создается. Никто не может сотворить что-либо из пустоты. Я создаю комбинации простейших веществ, повсюду находящихся в природе, идя от простого к сложному, от общего — к частному, от абстрактного — к конкретному. — Если не ошибаюсь, такая система называется, как и в философии… — Синтезом, господин префект, синтезом! — Ваша фамилия, так поначалу меня поразившая! — Я последний потомок династии алхимиков, чьи корни теряются в глубине веков. Основоположник нашего рода, не теряя времени на всякую ерунду, занимавшую умы его современников, попытался воссоздать сложные вещества. Он изобрел систему, лишь в наше время обеспечившую химии невиданный взлет, и дал ей громкое греческое имя «синтез», ставшее впоследствии его фамилией, которая ничем не хуже любой другой. Вот отчего я зовусь «Синтез». Мною унаследовано не только имя и труды предков, но и неодолимое влечение к наукам, в частности, к химическому синтезу… Добавлю, что если сегодня мне удается совершать вещи, потрясающие не только простых смертных, но и специалистов, то я обязан этим в большей степени своим скромным силам, нежели трудам моих предков. В каком-то смысле сидящий перед вами господин — живое воплощение синтеза, результат многовековых усилий, итог десятков поколений самозабвенных и неутомимых тружеников, чьими открытиями мне приходится пользоваться. Как видите, я не колдун и не мистификатор, я просто ученый, который может дать документальное обоснование всему, о чем говорит. Кстати, возьмите на пробу несколько моих питательных шариков! Не бойтесь! Они столь же безвредны, сколь и эффективны. Ручаюсь, в течение двадцати четырех часов вы не почувствуете голода. — Благодарю, — засмеялся префект. — Но признаюсь вам по секрету в одном своем недостатке: я — гурман[68]. Боюсь, что вашей таинственной амброзии[69] недостает вкусовых качеств. — В моей амброзии, как вы изволите ее именовать, нет ничего таинственного. Пусть она и безвкусна, зато оставляет желудок легким, а в голове от нее странным образом проясняется. У вас не будет ни приливов крови, вызванных трудолюбивым пищеварением, ни обострений гастрита[70], которые особенно донимают людей, ведущих сидячий образ жизни, ни подагры[71], ни ожирения. Вместо этого — быстрая усвояемость пищи, регулярное восстановление сил, легкая регенерация[72]… — Еще раз благодарю, но, право слово, я страшусь режима питания, отмеченного элементарностью и однообразием. — Но у меня каждый день разное меню! Завтра в рационе будут углеводороды, лишенные азота и призванные обеспечить организм теплом. Словом, эта пища дыхательная, и, так как я немного переутомлен, добавлю к ней, пожалуй, кокаина или кофеина. — Нет, нет, спасибо! Я действительно не голоден и признаюсь, что наилучшему кофеину предпочел бы глоток более или менее настоящего «мокко». К тому же мне пора. Прошу прощения за свой непрошеный и слишком затянувшийся визит. — Помилуйте, мне нечего вам прощать. Вы хотели получить сведения, вы удовлетворены? — Более чем! Это даже трудно выразить словами! И все же, могу ли я решиться… — Конечно! Не так-то уж я суров. — Вы любезно посвятили меня в тайну вашего питания. Не будете ли вы так добры в двух словах открыть мне секрет вашего сна? Вот вы недавно произнесли фразу: «Я сплю, и я голоден». Я видел, как вы ели, но не заметил, чтобы вы спали! — И тем не менее я сплю. Вам известно об искусственно вызываемом у людей гипнотическом сне[73] и об интереснейших, недавно поставленных профессорами Шарко[74] в госпитале Сальпетриер в Париже и Беренгеймом в Нанси опытах над загипнотизированными? — Известно, как и всей широкой публике, то есть очень поверхностно — по газетным статьям и нескольким отрывкам из научных журналов. — Этого достаточно. Вы знаете, что такой сон вызывают разными путями. Например, экспериментатор держит перед глазами испытуемого блестящий предмет и заставляет неотрывно на него смотреть, чем достигается полная зависимость усыпляемого от усыпляющего. Я имею в виду не столько физическую, сколько моральную зависимость. — Понятно. Гипнотизер полностью властен над своим подопытным. Он может внушить ему самые причудливые мысли, подсказать идеи как нелепые, так и гениальные, заставить невозмутимо разглагольствовать на темы, о которых тот не имеет ни малейшего представления, может даже отнять у него воспоминания о собственном «я» и переселить его в чужую шкуру. Говорят также, будто бы подопытный может поддаться непреодолимому желанию совершить преступление и совершает его под влиянием навязанного ему внушения, противиться которому он не в силах. — Совершенно верно, но это еще не все. Вы должны также знать, — впоследствии загипнотизированный может сохранить в памяти все то, что происходило с его сознанием во время гипнотического транса[75], для чего требуется, чтобы тот, кто погружал его в сон, позаботился об этом при переходе к бодрствованию. Бывает, что первоначально состояние гипноза достигается с большим трудом, зато после ряда сеансов сон наступает почти мгновенно. — Кажется, все это экспериментально доказано учеными, чью добросовестность нельзя поставить под сомнение. — Ну так вот, вы видите перед собой человека, находящегося в состоянии гипнотического транса. — Вас?! — Меня. — Но вас же никто не усыплял! — Ежедневно я сам себя гипнотизирую, смотря несколько секунд в маленькое металлическое зеркальце. — Вы гипнотизируете себя… сами?! — Да. — Я думал, такое невозможно! — Напротив. Это с незапамятных времен практиковалось на Востоке: индийские факиры за милую душу по своей воле погружались в транс. Одни какое-то время, скосив взгляд, смотрели на кончик своего носа, другие разглядывали собственный пуп и, после более-менее длительного созерцания, достигали того же результата. Именно они навели меня на мысль заняться самогипнозом. Только я пользуюсь зеркальцем — так значительно удобнее. — Но с какой целью вы подвергаете себя действию этого феномена?[76] — Сколько часов в сутки вы тратите на сон? — Часов семь-восемь. — То есть треть вашей жизни проходит в постели, не так ли? Значит, из шестидесяти лет жизни двадцать уходит впустую. — Но ведь сон так же необходим, как и пища, иначе человек умирает! — Я вам только что доказал — пища пище рознь. Теперь докажу, что и сон на сон не приходится. Мое время слишком драгоценно, поэтому я был вынужден попытаться найти средство давать отдых своему организму, не прекращая интеллектуальной и трудовой жизнедеятельности оного. Гипноз подарил мне такую возможность еще сорок пять лет тому назад, позволив сэкономить пятнадцать лет, которые в противном случае были бы безвозвратно потеряны, ибо (хоть мне и удавалось до сих пор решать кое-какие проблемы, считавшиеся ранее неразрешимыми), я никогда не смогу увеличить длительность человеческой жизни и даже на мгновение оттянуть фатальный исход[77], называемый смертью! Следовательно, стремясь использовать каждую минуту своей жизни, я погружаюсь в транс, отдав самому себе неукоснительный приказ и в искусственном сне продолжать ту же умственную работу, что и наяву. Таким образом, взаимоотношения с людьми, работа, учеба и научные опыты продолжаются. — И вы не ощущаете ужасающего мозгового перенапряжения? — Ни в коей мере. Внушая разуму идею продолжения умственной деятельности, я внушаю телу идею отдыха. — И этого довольно? — Вполне. Сами знаете — результаты внушения неоспоримы. То есть тело мое отдыхает потому, что я хочу, чтобы оно отдыхало. — Как все это необычно! — Ничего подобного. Предположим, я вас загипнотизировал. Во время искусственного сна я заставил вас часов семь-восемь — время, обычно отводимое вами на сон — заниматься утомительным физическим трудом. Предположим также: пробуждая вас, я внушил вам мысль о том, что вы спокойно спали. Будете ли вы испытывать усталость от проделанной во сне работы? Конечно же нет! Вы будете чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, словно только что встали с постели! Вот вам секрет человека, не спавшего уже сорок пять лет, — он спит наяву. Сами видите, мой случай не представляет собой ничего загадочного, и — говорю это безо всякого упрека — власти ошибаются, выслеживая старого добряка ученого, все чудачество которого состоит в отсутствии у него кровати и кухонной утвари. — Позвольте мне все же заметить, что в жизни нет ничего случайного. Иногда самые, казалось бы, невинные человеческие отношения могут быть неверно истолкованы и бросить тень на самую безупречную личность. Так, ваш новый ассистент-химик… — Алексис Фармак? Какие опасения может вызывать этот славный парень, который мало того, что и мухи не обидит, так еще и химик, какого поискать! — Правда и то, что все последнее время он поддерживал близкие отношения с русскими заговорщиками, а также, в частности, преподавал им разделы химии, посвященные взрывчатым веществам. — Ну и что из этого следует? Вы боитесь, что я взорву динамитом мост Пон-Неф[78] или Нотр-Дам?[79] Знайте же, я — не разрушитель! Я был бы не я, если бы не посвятил всю мою жизнь строительству и созиданию! Для того, чтобы исчерпать тему о моем ассистенте, скажу, я нанимаю служащих лишь при условии, что они люди порядочные и, главное, сведущие. Вообще-то мы, иностранцы, намного меньше подвержены предрассудкам, чем вы, французы. Приведу лишь один пример: князь де Галль счел неловким взять гувернером эмигранта, своего и вашего соотечественника, но бывшего коммунара, который в то время преподавал французский язык в Оксфорде. — Ладно, — сказал префект, вставая и собираясь откланяться. — Оставим в стороне эти вопросы, так как вы человек, способный собственным достопочтеннейшим именем прикрыть любое, пусть даже несколько сомнительное знакомство. Но… — «Но»? — Скажу вам откровенно, хотелось бы расстаться с вами, не имея никакой тяжести на душе… — Что вы хотите этим сказать? — Спрошу напрямик: как будут использованы пятьсот скафандров фирмы Рукеролля, в данный момент находящиеся в трюмах одного из ваших кораблей? — Господи, да почему вы меня раньше об этом не спросили?! Здесь нет никакой тайны! В настоящее время идет подготовка к эксперименту, начало которого раньше откладывалось по имевшимся у меня на то веским причинам. Теперь час настал. Я приступаю к тому, что называю своим Великим Делом. Я приступаю к опыту, задуманному мною лет эдак пятьдесят назад. Этот опыт предполагает создание ранее не существовавшей суши. Мне надо произвести предварительный синтез целинных земель, составив их из различных веществ, в результате чего со дна морского появится новый остров. Вот зачем понадобилась такая многочисленная команда подводников. Что же касается назначения этого острова, сейчас еще находящегося в стадии молекул[80], несущихся в морских просторах, то это — мой секрет. Прощайте, господин префект. Надеюсь, через год вы обо мне услышите. «Уж конечно услышу, — рассуждал про себя префект, следуя за сторожевым индусом-бхили в коридор, — несомненно, услышу раньше, чем через год. Черт возьми, я развесил уши, как мальчишка, заслушавшийся бабушкиной сказкой! Да уж! Этот проклятый старик так умеет заговаривать зубы, так голову морочит, так задевает за живое, что не поймешь, где кончается реальность и где начинаются басни. Я буду спокоен только тогда, когда обеспечу ему умного и неболтливого спутника, который меня проинформирует что и как, а также скажет мне: действительно ли архимиллионер (а может быть, архибезумец) господин Синтез поддерживает свое существование питательными экстрактами, действительно ли он, с помощью своих дьявольских методов, собирается сотворить новую сушу… Поглядим!..»
ГЛАВА 4
Ученый спор. — Наука и Книга Бытия. — Обмен любезностями между учеными мужами. — Тип средневекового алхимика. — Современный ученый. — Алексис Фармак и юный господин Артур. — Quos ego![81] — Мэтр. — Несколько чрезвычайно горьких истин, могущих служить штрихами к биографии господина Артура. — Второй помощник господина Синтеза и не помышляет больше о протесте. — Как профессор университета стал простым чернорабочим. — Химик не доверяет. — Что подразумевает господин Синтез под «Великим Делом».— Но таким образом вы придете к спонтанной генерации![82] — Меня это ни капельки не волнует! Кстати, моногенез[83] или гетерогенез — это две системы. Да что говорить — системы! Это просто слова, и они ничего не значат и ничего не доказывают! Во всяком случае, мне! — Тяжелый вы человек! — Вы хотя бы имеете более-менее приемлемое определение вашей «спонтанной генерации»? — Вне всякого сомнения. Я называю этим термином любое воспроизведение живого существа, которое не имеет связи с представителем того же вида. То есть это одно из проявлений первичной генерации, это творение. — Прекрасно. — Прекрасно? Что именно? — Сформулированная подобным образом мысль давным-давно для меня очевидна, и не стоило давать ей такое претенциозное[84] название. — Претенциозное?!. — Черт подери! И кто это с незапамятных времен посеял вражду между выдающимися учеными, которые, казалось бы, должны находить общий язык?! — И все же господин Пастер…[85] — …Доказал двадцать лет тому назад, путем достославной серии опытов, что во всех случаях, когда мы наблюдаем, пользуясь вашим термином, «спонтанную генерацию», на самом деле мы наблюдаем организмы, развивающиеся за счет привнесенного извне зародыша. — Ну и что из этого? — Сам по себе результат, конечно же, очень важный, но ни в коей мере не опровергающий теорию в целом, и подтвердил это один из самых уважаемых сотрудников Пастера господин Шамберлан, заявивший, что не способен экспериментально доказать невозможность генерации, называемой спонтанной. Подбирайте аргумент к аргументу, предъявляйте любые тексты, проводите какие угодно опыты, ссылайтесь на каких желаете авторов, но предоставьте мне — так как это вы затеяли дискуссию, я к ней не стремился — научное объяснение зарождения жизни на Земле. — Ну, это проблема скользкая, я ее, кстати сказать, вовсе не подымал… — Ай-ай-ай, вот и признайте свою несостоятельность и ступайте препарировать своих зверушек! — Как вы смеете! — Скажете, мои кристаллы стоят ваших зверушек, не так ли?! И тут я с вами соглашусь, поскольку одни неизбежно произошли от других. — Как?! Вы осмеливаетесь утверждать, что живая материя произошла от неживой?! — Именно так, мой юный еретик! — Я — еретик?![86] — Безусловно, потому что вы, кажется, опровергаете Священное писание, которое гласит, что все живое берет свое начало в неживой материи. Да вы хотя бы знаете эти тексты? — Должен признать в этом вопросе свое полное невежество. — Ну, так я вам процитирую: «И сказал Бог: да произрастит землязелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Книга Бытия, I, 11). «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной» (Книга Бытия, I, 20). «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так» (Книга Бытия, I, 24). «Земля» и «вода» на старом добром французском означают именно ту неодушевленную материю, которая по приказу Иеговы[87] зачала тварей и злаки, а вы отказываете ей в какой бы то ни было животворящей силе. — Позвольте, но вы просили у меня научного обоснования, а сами предъявляете объяснения, требующие поверить в чудеса. — Вы, голубчик, тоже человек нелегкий! Кстати говоря, мне нравится ваша претензия на роль эдакого потрясателя научных основ, эдакого безбожника, не любящего фетишей[88], которым поклоняются члены всех этих Королевских, Императорских и Национальных академий, стремящиеся примирить науку с Библией. За это вы не станете на меня обижаться? — Я слушаю вас, продолжайте. — Мне остается только подвести итог. Итак, Земля когда-то имела сугубо минеральную структуру и была разогрета до температуры, которую органические соединения[89] выдержать не могли. В этом причина того, что она была совершенно избавлена от каких бы то ни было зародышей, то есть она была, как теперь говорят, «стерильна». Но в то же время, несмотря на таковое бесплодие, на отсутствие органического оплодотворителя, жизнь на Земле все-таки возникла. — Вы хотите убедить меня в том, что живая клетка появилась ни с того ни с сего, сама собой, из какого-нибудь одного или из множества кристаллов?! — Совершенно верно. Но не внезапно, как вы на то намекаете, а путем последовательных изменений. Царство животное и царство растительное связаны неразрывной цепью; причина же такого единения — скромная минеральная молекула. — Последнюю гипотезу надо как минимум доказать. — Не отрицайте очевидного, иначе я заподозрю вас в предвзятости и прекращу дискуссию. — Однако в природе существуют не только кристаллы, но и аморфные тела[90]. — Аморфность, мой дорогой, всего лишь еще одна форма… — Ну, это уж слишком! Шутка хороша, когда безобидна, но в устах химика, в невежестве своем систематически или ситуативно игнорирующего биологию[91], она неуместна! Так что прекратите… — Сами вы прекратите! И не переходите на личности, господин физиолог, иначе я пошлю вас к устрицам, пиявкам, ракам и лягушкам, так горячо вами любимым. — Сами ступайте к вашему купоросу, к маслам, к кислотам, к вашей кухонной утвари, к вашим склянкам, к вашей металлической посуде! — Подите вон, вы, хлыщ, и трясите своими манжетами перед светскими шаркунами, которым вы преподаете всякую дешевку вместо науки! — А вы, аптекаришка задрипанный, оставайтесь у своих печей и стряпайте свои дрянные снадобья! — Живодер во фраке! — Поджигатель! — Комедиант из амфитеатра! Факультетский шарлатан! — Профессор-отравитель! Комнатный динамитчик! После вежливой поначалу дискуссии они мало-помалу распалились, и сейчас в лаборатории господина Синтеза перебранка шла полным ходом: оба орали во всю глотку. Хотя в споре участвовало только два человека, в особняке по улице Гальвани было так шумно, что казалось, будто по заведенному на рынках обычаю, по меньшей мере десять рыбных торговок бранились во все горло. Посторонний наблюдатель, попади он случайно в разгар перепалки, вряд ли поверил бы, что видит перед собой двух научных светил. Тем не менее, несмотря на то что выражения, изрыгаемые учеными мужами, становились час от часу хлеще, а непристойности — солонее, так оно и было на самом деле. Еще немного — и они схватились бы за грудки. Во всяком случае, один из участников полемики явно намеревался завершить ее потасовкой. Это был добрый молодец неопределенного возраста — ему можно было дать как тридцать пять, так и пятьдесят лет — длинный, как день без хлеба, и тощий, как смычок от контрабаса[92]. Фигура его определялась единственным измерением — высотой, а руки и ноги напоминали лапки паука-сенокосца. Это сооружение завершала странного вида голова, ярость же придавала его лицу выражение одновременно гротескное и зловещее. Из гривы жестких, стоящих дыбом, как у клоуна, волос, казалось, сыпались искры, словно из шерсти ангорской кошки во время грозы. Единственный выпученный фосфоресцирующий глаз освещал лишь одну половину мертвенно-бледного, изрытого морщинами лица; на месте второго, левого, вздувался лиловый рубец, а плоский, как стрелка солнечных часов, и с крючком на конце, словно клюв хищной птицы, невиданных размеров носище был настоящим вызовом, брошенным эстетике[93] всех времен и народов. Добавьте еще торчащую во все стороны, спутанную, как пакля, бороду, причудливо окрашенную кислотами, газами, испарениями, реактивами и взрывами в цвета, чей спектр[94] простирается от бледно-голубого до рыжего и чернильно-черного, и вы получите более-менее точный портрет Алексиса Фармака, бывшего «профессора взрывчатых наук», а ныне химика-ассистента господина Синтеза. Фармак бешено жестикулировал, топоча по полу здоровенными подметками, изгибался, как учитель фехтования, и, выбрасывая вперед руку с тонкими, словно у скелета, обожженными реактивами пальцами, намеревался схватить противника за ворот. Последний же держался молодцом и казался не слишком напуганным угрозами бесноватого профессора. Представляющий разительный контраст с первым, второй участник этой сцены был молодой человек лет тридцати, блондин, чья несколько блеклая физиономия могла показаться поверхностному наблюдателю незначительной. Правильные черты лица, обрамленного красивой, несколько курчавившейся бородкой, алые губы, несколько мясистый, но хорошей формы нос, румянец сангвиника[95] — внешность хоть и не равняющая его с Антиноем[96], но отличающаяся благопристойностью и заурядной миловидностью. Очень высокий, слегка блестящий лоб с уже наметившимися залысинами и приличествующая ученому мужу стрижка не портили гармонии, а скорее добавляли новый штрих, сглаживающий первоначально производимое этим лицом впечатление кукольности. Человек этот был среднего роста, слегка заплывший жирком, торс его плотно обтягивал пошитый у хорошего портного редингот[97]. Пухлые, холеные руки высовывались из ослепительно белых широких манжет. Обут он был в изящнейшие туфли из шевровой кожи[98], а его светло-серые панталоны могли быть созданы только настоящим артистом своего дела. Вообще, подобную внешность дипломата, биржевого маклера или административного чиновника высоко ставят министры, банкиры, а также будущие тещи. Однако, всмотревшись повнимательней, замечаешь, что за стеклышками пенсне в черепаховой оправе сверкают зеленоватые в желтую крапинку глаза, чей взгляд, тяжелый и ускользающий, разрушает буржуазную гармонию его бесцветного облика. Встретив такой взгляд, тот, в ком уже зарождалась симпатия, начинает чувствовать своего рода опаску, и даже самый непредубежденный собеседник испытывает непреодолимое желание отдалиться от этого молодого человека, который предупредительнейшими манерами, медовыми речами, безмятежной улыбкой не только не смягчает, а скорее усугубляет впечатление, производимое своим «зеркалом души». Таков господин Артур Роже-Адамс, с недавнего времени работающий в лаборатории господина Синтеза в качестве зоолога. Хотя функции двух ученых и были строго разграничены, завистливая и деспотическая натура зоолога тяготилась соседством химика. Для начала он стал осыпать насмешками незаурядную внешность своего коллеги. Никакого впечатления. Защищенный тройным панцирем равнодушия, а может быть, и презрения, химик делал вид, что не понимает, в чем соль более или менее завуалированных колкостей «юного господина Артура», как он его неизменно называл. Но «юный господин», будучи далеко не дураком, быстро заметил, что «алхимик» — человек необычайно образованный, ходячая энциклопедия, знающая все на свете, и это наблюдение, естественно, уже через несколько дней преобразовало первоначальную неприязнь в непримиримую ненависть. Как мы видели, обыкновенная научная дискуссия спровоцировала взрыв этой ненависти, выразившейся сначала в очень оживленном и красочном диалоге, за которым должна была последовать рукопашная схватка. В тот момент, когда, услыхав о «комнатном динамитчике», Алексис Фармак, вне себя от ярости, готов был вцепиться в ворот собеседника, большие двери лаборатории бесшумно распахнулись и на пороге появился господин Синтез. — В чем дело? — спросил он своим негромким, но до странности звучным голосом. И это «Quos ego!» подействовало на двух неприятелей не меньше, чем действовал на разбушевавшиеся ветры бог Нептун[99], — ярость улеглась, диалог прервался, оба застыли как вкопанные. Последовала долгая пауза, которую вновь нарушил медленный и торжественный голос господина Синтеза: — Так что же все-таки случилось, господа? Что означает весь этот крик? — А то случилось, Мэтр, — начал химик, трясясь от негодования, — что этот салонный всезнайка отрицает последовательное развитие, которое от аморфной материи до органической субстанции… — Я вам запретил переходить на личности, вы, ученый-копченый! — перебил зоолог. — Вы не имеете права ни на какие запреты там, где командую только я, — возразил, не повышая голоса, господин Синтез. — Но, месье!.. — Меня здесь называют «Мэтр»! Вы что, забыли об этом? — Но… — Молчать! Вы имеете склонность слишком много разговаривать. Придется это пресечь. К тому же, мне кажется, вы несколько преувеличиваете значимость своей персоны. Воспользуюсь случаем поставить вас на место и указать вам ваши обязанности. Говорить я буду в первый и в последний раз, отчасти чтобы принести вам пользу, но в большей мере для поддержания нормальной работы моей лаборатории. Заметив, что химик из деликатности решил удалиться, господин Синтез остановил его: — Алексис, мальчик мой, — произнес он, — останьтесь, вы здесь совсем нелишний, скорее наоборот. А вам, юноша, придется выслушать ряд мелких, вас касающихся истин и извлечь из них урок. Вы — сын настоящего ученого, моего друга, который в первые ряды крупнейших научных знаменитостей вышел исключительно благодаря своим собственным достоинствам. Очень умно, очень ловко быть сыном своего отца — вот первейший из ваших талантов. Человек вроде вас, но не имеющий такого громкого имени, стал бы заместителишкой на каком-нибудь факультете провинциального университета, и, прежде чем получить кафедру, ему пришлось бы долго обивать пороги. Вы же, носитель прославленной фамилии, с первых шагов оказались на виду и заставили окружающих принимать себя всерьез, хотя не стоило так злоупотреблять фактом родства со столь знаменитым ученым. Но я не вижу ничего дурного в том, что вы, не чинясь, сразу же вскарабкались на пьедестал, принадлежащий вашему батюшке, и что вас с него никто не сдернул. А вот если вы надеетесь ослепить и нас всей той пылью, которой засыпаете глаза общественному мнению, если вы вознамерились вещать и перед нами, то предупреждаю, мы — стреляные воробьи и этого не допустим. Чтобы стать кем-то, мало быть только папенькиным сынком, молодой человек! А вам, при всех своих отрицательных качествах, еще не только кем-то, но и чем-то не удалось стать! Вы — человек, признающий лишь членов своего кружка, завидующий становлению чужой доброй репутации, враг новоутверждающихся талантов, непререкаемый, властный, захлопывающий двери перед всяким, кто не принадлежит к официальным кругам; вы человек, всегда готовый поднять на смех автора новой смелой идеи, даже если она гениальна; вы привыкли расстилаться перед теми, кто велик и силен… Слушая такую резкую отповедь, чувствуя себя все более не в своей тарелке и на глазах позеленев от злости, юный господин Артур стиснул зубы от бешенства, но подавил свою ярость и не возразил и словом. Господину Синтезу действительно надо было обладать необычайной властью, чтобы так жестоко отхлестать ученого, занимающего, как бы там ни было, важное место среди профессуры на одном из крупнейших наших факультетов. — Правда, мне все это безразлично, — продолжал господин Синтез, — ибо, несмотря на ваши недостатки и пороки, вы все-таки человек науки. Но не задирайте нос! Потому что чаще всего ученым называют человека, всего лишь начиненного знаниями. Иными словами, ученый — это знающий все, что где пишут и говорят, это одержимый зубрила, постоянно как бы готовящийся к конкурсному экзамену на замещение вакантной должности, то есть человек всеядный, заглатывающий любую информацию. Вот почему Клод Бернар[100] сказал о таких, как вы: «Они напоминают мне уток». Не жалея времени, вы пересчитываете количество волосков на человечьем черепе, измеряете длину прыжка блохи, на четыре части распиливаете нить паутины и прекрасно умеете извлекать выгоду из этой нелепой работы. Вы — члены всех без исключения научных обществ, даже самых малоизвестных, самых дурацких. Вы — те, кто штампует свои ученые записки, доклады, сообщения и мемуары под восторженные аплодисменты публики. Вы не способны смело воспарить над убожеством так называемых «салонных ученых», вы не изобретаете никакой своей гениальной теории, в вас нет той божьей искры, которая горела в Галилее[101], Ньютоне, Ламарке, Биша или Пастере, но вы все-таки специалист достаточно ловкий, чтобы стать чернорабочим. — Чер… чернорабочим?! — пролепетал наконец совершенно раздавленный молодой человек. — Именно — чернорабочим! И добавлю: чернорабочим, труд которого будет оплачен так, как никогда не оплачивали работ самого выдающегося ученого. Хотя в вас и нет гениальности, вам в поразительной степени присущи три качества, необходимые в моей работе. Во-первых, вы, как никто другой, владеете микроскопом — вещь в наше время редкая, несмотря на постоянно растущую необходимость изучать бесконечно малые величины; во-вторых, вы, с ранних лет занимаясь анатомированием и вивисекцией[102], приобрели превосходные навыки, хорошо набили себе руку; и в-третьих, вы замечательно фотографируете микроскопические препараты. Вот что является в моих глазах вашими главными, вернее единственными, достоинствами. Ясное дело, для факультетского профессора знать немного микрографию[103], фотографию и зоологию — вещь довольно заурядная, но мне ничего другого и не нужно, ничего другого я от вас и не потребую. Заключая контракт, вы обязались в течение двух лет находиться в полном моем распоряжении в качестве микрографа, фотографа и зоолога. Из чего следует, что вы поедете туда, куда мне заблагорассудится вас повезти, и будете выполнять все мои приказы беспрекословно, иначе я вас уволю. Вот, юноша, что я подразумеваю под словом «чернорабочий». В заключение добавлю: вы все еще вольны отказаться, хотя, думаю, ваша страсть к деньгам остановит вас. — Как уже было сказано, я подписал контракт, я дал слово… Я остаюсь… Но знайте, что, несмотря на всю вашу жестокость по отношению ко мне, не шкурный интерес, а возможность сотрудничать с вами, пусть даже на самых скромных ролях, определила мое решение. Выслушав этот протест, произнесенный хоть и взволнованно, но не без достоинства, господин Синтез посмотрел на собеседника, и взгляд его из-под опущенных век напоминал солнечный луч, блеснувший сквозь тучи. Алексис Фармак вперил в распекаемого свой единственный круглый глаз и про себя подумал: «Врет! Согласился он, во-первых, из жадности, а во-вторых, в надежде украсть у хозяина какой-нибудь из его секретов. Ну, это мы еще посмотрим!» Не ответив на казалось бы искреннее заявление Артура, господин Синтез холодно произнес: — Так как вы подтвердили, что принимаете мои условия, я требую также мира и согласия в стенах лаборатории. Пускай же никогда ни малейшего конфликта не возникнет между вами и вашим коллегой. Впредь вы будете как бы две руки одного тела, голова которому — я. Долой всякую личную инициативу! Вы слышите меня? Какие бы ни возникали обстоятельства, пусть самые странные, пусть исполненные опасностей, вы должны печься лишь об одном: слепо выполнять мои приказы. Я не требую от вас взаимной любви или даже симпатии — для моей работы это значения не имеет. Вы — два моих инструмента в области природоведения, обязанности ваши различны, но вы служите одной и той же цели. Скажу еще несколько слов. Так как, принадлежа мне душой и телом, располагать по своему усмотрению временем вы не можете, должен проинформировать: мы выезжаем через восемь дней. Оба ученых, удивившись, но так и не посмев задать ни одного вопроса, ограничились тем, что взглянули на старика с любопытством. Как бы одобряя такую молчаливую покорность, тот добавил: — Приготовьтесь отсутствовать месяцев этак пятнадцать. С собой возьмите только самые необходимые личные вещи. Одежда ваша должна отвечать требованиям знойного климата, при котором то жара, то дожди. С сегодняшнего дня вам открыт более чем достаточный кредит. Понятно? Остальное касается меня, и только меня. Зоолог и химик одновременно склонили головы в знак согласия, не решаясь вымолвить ни слова. — Вот и все, что я пока хотел вам сообщить, — заключил господин Синтез. — Разве что дать некоторое удовлетворение вашему, кстати сказать, вполне закономерному любопытству?.. Сперва мы зайдем в Макао[104] и наймем пять-шесть сотен китайских кули[105], затем направимся в Коралловое море. Там я намерен открыть гигантскую лабораторию, назначение которой можно и впрямь больше не держать от вас в тайне. Я воздвигну ее на сотворенной мною земле, которая по моей воле поднимется из морских вод. Затем, в специальном аппарате особым, лишь мне известным способом я попытаюсь произвести биологическую эволюцию животного мира, начиная от монеры[106], кончая человеком. — Человеком?! — не удержался ужаснувшийся зоолог. — Совершенно верно, — продолжал господин Синтез, как будто такой ошеломляющий план был наизауряднейшей вещью на свете. — Я намереваюсь взять простейшую органическую клетку, поместить в среду, благоприятствующую ее развитию, и с помощью энергетических и других специально разработанных факторов меньше чем за год воспроизвести все феномены трансформаций, которые происходили с момента зарождения на Земле органической жизни, представленной этой клеткой, до момента появления человека. Что для этого нужно? С помощью науки ускорить процесс модификации[107] живых существ, последовательно длившийся миллионы столетий, истекших с того времени, когда наша планета стала обитаемой. Не вижу в этом ничего невозможного. Вас я выпущу на свободу тогда, когда эта человеческая особь, в каком-то смысле искусственная, так как у нее не будет ни отца, ни матери, выйдет живой из моих аппаратов. Это будет не слабый и беспомощный ребенок, чей интеллект еще дремлет, а взрослый человек, способный выдержать борьбу за существование.
ГЛАВА 5
Население приморского города очень заинтриговано. — Неудовлетворенное любопытство. — Четыре парохода. — Груз гидравлической извести. — К чему такая таинственность? — Химические реактивы. — Пушки и пулеметы. — Пересуды. — «Анна». — Новое разочарование зевак. — «Инд», «Ганг», «Годавери». — Происшествие перед самым отплытием. — Пассажирский поезд. — Старые знакомые. — Два непримиримых врага. — Отплытие. — Испуг двух грузчиков. — В море. — На палубе «Анны». — Прерванный разговор. — Внучка господина Синтеза узнает, что вскоре станет невестой.Какими бы трудолюбивыми, какими бы занятыми ни были рабочие торговых портов, все равно любопытства им не занимать и языки почесать они всегда рады. Нет такого судна, входящего в порт или выходящего из него, стоящего на рейде или в сухом доке, чьего названия, груза, места назначения, экипажа и капитана эти ребята не знали бы. Они всегда на глазок прикинут скорость корабля, тоннаж и регистровую вместимость[108], а придется, так и нарасскажут про него множество замысловатых, порой и совершенно невероятных историй. И впрямь, плавучие дома, побывавшие на краю света и вновь готовые к отплытию, окружены ореолом экзотики, что очень способствует рождению самых разнообразных сплетен. А посему, несмотря на вздохи пара, на свистки машин, на скрип лебедок, на шорохи трущихся друг о друга бесчисленных тюков и крики грузчиков, сплетни находят свои пути и, передаваясь из уст в уста, превращаются в легенды. Попади в такой многолюдный порт, как Гавр или Марсель, заинтересованный и даже просто любопытствующий человек, то худо-бедно, в большем или меньшем объеме, но всегда, не сходя с места, он получит информацию обо всем, что может его интересовать. Тем более необычным было появление в одно прекрасное утро в Гавре четырех судов под шведским флагом, которые, неподвижные и мрачные, застыли теперь на тихих водах дока Люр, словно четыре загадки из дерева и металла, пожираемые глазами любопытной и болтливой толпы на набережной. Превосходные корабли — водоизмещением[109] пятнадцать-шестнадцать сотен тонн, они отличались большим изяществом и походили на великолепные пароходы Трансатлантической компании. Что это за суда? Откуда они пришли? Кому принадлежат? Для чего предназначены? Вот какие вопросы целый месяц волновали всех, начиная с судовладельцев, грузополучателей, рассыльных, грузчиков и кончая офицерами, матросами кораблей, стоящих на рейде, и даже пугливыми обывателями, чье единственное занятие — с видом знатоков наблюдать за таинственными сигналами семафоров[110]. Но всеобщее любопытство до сих пор не получило удовлетворения. На четырех пришвартованных рядом кораблях экипажи несли службу так, словно судно находилось в открытом море да к тому же во время боевых действий или проводимых военно-морским флотом учений. Офицеры вообще не сходили на берег, а великолепно одетые члены экипажа лишь иногда отправлялись закупать продовольствие, ни разу не посетив злачные места, где матросы, со ставшей нарицательной бесшабашностью, вознаграждают себя за долгие дни воздержания и тяжелых корабельных работ. Ничего нельзя было выведать у этих людей, вышагивавших важно, как солдаты под ружьем, хранивших молчание и подчинявшихся, судя по всему, каким-то своим собственным строгим правилам. Быть может, они не понимали вопросов, задаваемых моряками, которые в своих бесчисленных странствиях стали полиглотами[111] и прибегали к особому наречию, составленному из обиходных выражений, принятых во всех цивилизованных странах? Такое, конечно, возможно. Но, несмотря на то, что обмундирован экипаж был самым классическим образом — береты, матросские блузы, синие мольтоновые штаны, — с первого взгляда было видно, что многие из них не являются ни европейцами, ни американцами. Скорее всего, они были индусами — смуглая кожа, плавные движения, тонкие конечности. Надо полагать, портовое начальство было в курсе дела и все необходимые формальности, касающиеся входа в порт и стоянки, были улажены, однако, кроме заинтересованных лиц, никто не знал, как долго все это будет продолжаться. Так прошла неделя, но ничего примечательного, могущего дать пищу растущему любопытству толпы, не происходило. И вот, в одно прекрасное утро, на набережной, как раз напротив пришвартованных кораблей, остановился поезд. Угрюмая тишина внезапно сменилась бурным оживлением на палубах. Казалось, четыре парохода вдруг очнулись от спячки, пробужденные резкими свистками, несущимися со всех сторон. Четыре экипажа, человек эдак сто, собрались на судне, стоявшем ближе всех к набережной, и, ответив на сигнал с берега, выстроились в две шеренги на палубе. Снова зазвучал свисток и началась погрузка на корабли содержимого прибывших вагонов. Слухи о происходящем быстро распространились в порту. Заранее предвкушая раскрытие тайны, тройное кольцо зевак окружило поезд. Но долгий вздох разочарования пронесся над толпою, — все вагоны были полны аккуратно уложенными зеленоватыми мешочками. Их тут насчитывалось сотни и сотни тысяч. На каждом большими буквами было выведено: «Портлендский цемент[112], Д. и Л., Булонь-сюр-Мер». Кто б мог подумать, что изысканные, с такими утонченными формами суда, в которых любители всего чудесного готовы были заподозрить корабли, прорывающие блокады, на худой конец корабли чилийских или перуанских корсаров[113], а быть может, участников будущей войны против Поднебесной империи[114], всего-навсего простые грузовозы! Вместо пороха и ядер эти, с позволения сказать, пираты преспокойно перевозят гидравлическую известь! К чему же тогда такая таинственность? Зачем такой экзотический экипаж и железная дисциплина? Да это же чистой воды мистификация! Не обращая внимания на всеобщий ажиотаж, вызванный погрузкой, интригующей еще больше, чем все предыдущие события, матросы таинственной флотилии работали как проклятые. Двадцатипятикилограммовые мешки с головокружительной скоростью спускались по деревянным желобам прямиком в трюмы, где их аккуратно складывали. Две вахты трудились так споро, что не прошло и четырех часов, как вагоны были опустошены, а трюмы на три четверти заполнены. Тотчас же задраили люки, подошедший локомотив отогнал состав, люди разошлись по местам, и все пришло в прежний порядок. Через неделю разнеслась весть, что прибыл новый поезд, чей груз предназначен для второго корабля, на котором, как и в первый раз, собрались все четыре экипажа, чтобы произвести выгрузку и погрузку. На сей раз зевак было меньше, однако любопытствующие получили некоторое удовлетворение, конечно, весьма приблизительное, но для людей, лишенных каких бы то ни было объяснений, и то пожива! Вагоны были битком набиты небольшими, но крепкими, добротно сделанными ящиками, на которых неизменно красовались всего два слова: «Химические реактивы». Химические реактивы… Это уже лучше! Это сразу же наводит на мысль о динамите, отчего мороз продирает по коже даже самых равнодушных. Это вам не вульгарная гидравлическая известь. Химические реактивы! Черт побери! Бывают среди них и безобидные вещества, но встречаются и ого-го какие! — их состав и действие известны далеко не всем, а лишь посвященным! К тому же предосторожности, принимаемые экипажем, избегавшим толчков и соприкосновений между предметами, красноречиво свидетельствовали о том, что хранение такого груза по меньшей мере небезопасно. Поэтому-то зрители и не скрывали своего удовлетворения, словно им посчастливилось проникнуть в самую суть дела. Кстати сказать, после очень длительной и тщательной погрузки на фок-мачте[115] взмыл красный вымпел, извещающий по международному сигнальному коду, что судно имеет на борту взрывчатые вещества. В следующие дни все только и говорили о превосходных стосорокамиллиметровых пушках и пулеметах Нордтенфельдта, якобы доставленных в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить всем четырем судам отменное вооружение. Разочарование, вызванное прибытием партии гидравлической извести, рассеялось совершенно, на смену ему пришли порою самые разноречивые догадки по поводу назначения этих судов. В дальнейшем грузы стали поступать беспрерывно; были среди них и огромные тяжеловесные ящики — под их весом трещали лебедки и лопались стропы. Скорее всего в них были упакованы машины или аппараты, однако на добротно сработанной упаковке не было ни фирменного клейма изготовителя, ни имени получателя. Все это добро мгновенно разгружалось и проваливалось, как в колодцы, в бездонные люки. Вскоре три корабля были полностью загружены. Кроме того, каждый из них принял на борт свой запас провизии и пресной воды. Четвертый же пока не получил ничего, кроме оружия. Он был самым маленьким, хотя отличался наиболее изысканными формами и особой роскошью отделки. Зеваки из толпы окрестили его «адмиральским». Он же, единственный из всех, имел имя — золотыми буквами по белому фону на корме было написано «Анна». На остальных трех не было ничего, кроме номеров. Но вот и трюмы «Анны» распахнулись, чтобы принять бесконечную вереницу белых деревянных пронумерованных ящиков, с красовавшимся на них схематичным изображением скафандров для спуска под воду. Насчитали их около пятисот. Зеваки, знающие ориентировочную стоимость одного костюма, восхитились такому доселе не виданному размаху затрат. Наконец, казалось, приготовления были закончены. После бурной работы на всех четырех судах воцарились тишина и покой, бесившие зрителей, чье любопытство было раздражено, но удовлетворено далеко не полностью. Как все сердились, как негодовали на этих пришлых, которые самостоятельно справились со всеми погрузочными работами, вежливо, но решительно отклонив помощь местных портовых грузчиков! Та же участь постигла и маклеров[116] страховой компании, — их услугами также не воспользовались, хотя проявленная ими настойчивость была достойна лучшей участи. Но ни один из кораблей так и не был застрахован от превратностей морского путешествия, что подтвердили депеши корреспондентов из Европы и Америки. Пренебречь такой важнейшей мерой предосторожности казалось чуть ли не извращением! Лишний раз возникал вопрос — кто тот, что с легкой душой вверяет коварной стихии этакое богатство, не сделав ни малейшей попытки обеспечить его сохранность? Чужеземцам ставили в вину еще и то, что они выдержали натиск иностранных журналистов и репортеров городских газет, против обыкновения, вернувшихся с охоты за новостями ни с чем. Наконец, потеряв терпение, люди сдались перед невозможностью что-либо прояснить и решили оставить в покое суда, пребывавшие в такой изоляции, словно находились в карантине. Так продолжалось, считая с момента, когда «Анна» приняла на борт скафандры, двенадцать дней. На тринадцатый день утром все нерешенные вопросы вновь стали животрепещущими. Густые клубы черного дыма вдруг повалили из труб всех четырех пароходов, а темные силуэты их корпусов стали слегка подрагивать на держащих их швартовах. Суда пускали пары, готовясь к скорому отплытию. К тому же корабли, ранее помеченные лишь номерами, обрели имена; первый, груженный портлендским цементом, назывался «Инд»; второй, с химреактивами, — «Годавери»; а третий, с громоздившимися в трюме огромными ящиками, — «Ганг». Инд, Ганг, Годавери… Три великие реки Индии… Ничего предосудительного нет в этих названиях. Для чего же было до сих пор прятать их имена под большими полотнищами? Что за новая фантазия таинственного судовладельца? Но вскоре все домыслы смолкли перед неожиданным событием, которое случилось незадолго перед отплытием. На железнодорожной ветке, ведущей в доки, вдруг прозвучал свисток, — небывалая вещь, по рельсам медленно проследовал и остановился прямо перед «Анной» пассажирский поезд. Это был специальный состав из трех багажных вагонов, одного спального, одного салон-вагона и двух вагонов первого класса. Не успели заглохнуть паровые машины, как с «Анны» спустились по трапу и подошли к дверям спального вагона консул Швеции в сопровождении канцлера и двух чиновников министерской канцелярии. Дверца вагона с грохотом распахнулась, выскочили два негра и помогли сойти величественного вида высокому старцу, перед которым в ответ на его вежливое приветствие низко склонились все четыре официальных лица. Старик перемолвился с ними несколькими словами и подал руку ослепительно красивой девушке, спрыгнувшей на землю с грациозной легкостью газели и радостно воскликнувшей: — Дедушка, дорогой, так вот он, ваш сюрприз! Мы снова выйдем в море! Я так его люблю! Скоро ли отплытие? — Тотчас же, дитя мое. Ведь все готово, не так ли? — обратился старик к консулу. — Так точно, ваше превосходительство. Все формальности исполнены, и флотилия может отчаливать. — Прекрасно. Примите мою благодарность, а вот это раздайте от моего имени персоналу консульства. — До свидания, ваше превосходительство. Счастливого плавания! — До свидания, месье. Я не забуду ваших услуг. После этого краткого диалога старик взял девушку под руку и, вместе с нею поднявшись по сходням, устланным великолепным ковром, направился в каюту капитана. — Ну, как дела, Кристиан? — спросил он так, словно вернулся к себе домой после краткого отсутствия. — Ничего нового, Мэтр, — откликнулся офицер, снимая обшитую золотым галуном фуражку. — Когда можем трогаться? — Как только погрузят ваш багаж, то есть минут через пятнадцать. В это время из вагонов первого класса вышли пять женщин — две белые и три негритянки. За ними следом по трапу поднялись мужчины — четверо европейцев, в двух из которых посетитель особняка по улице Гальвани узнал бы юного господина Артура и его заклятого врага Алексиса Фармака. Старик и девушка, желая избежать любопытных глаз, удалились в маленький салон на полуюте. Капитан подал знак; главный боцман пронзительно засвистел в свисток, и человек двадцать матросов кинулись к багажным вагонам так, как будто хотели взять их штурмом. В мгновение ока они, со свойственными морякам быстротой, ловкостью и натиском, перегрузили множество чемоданов, образовавших большую груду на палубе, и застыли в ожидании новых приказов. Прилив был в разгаре, больше нельзя было терять ни минуты. Шлюзы открылись, «Анна» отдала швартовы, подняла на мачте шведский флаг и, осторожно вытягивая канат, привязанный на носу, медленно отошла от причала. В это самое время поезд, беспрерывно подавая сигналы, чтобы отпугнуть любопытствующих, запрудивших колею и пялившихся во все глаза на «Инд», «Ганг» и «Годавери», собиравшихся повторить маневр «Анны», двинулся в обратном направлении. Несмотря на оглушительные свистки паровоза, какой-то мужчина, одетый грузчиком, так увлекся созерцанием, что его чуть не задело буфером и не швырнуло на рельсы. — Ты что, рехнулся? — поспешно оттаскивая его за рукав, прикрикнул на него товарищ. — Черт побери, тут немудрено и рехнуться! — ответил казавшийся сильно озадаченным первый. — Почему же? Разве наши подозрения подтвердились? Пусть корабли и впрямь принадлежат господину Синтезу, пусть он собственной персоной отплыл на «Анне»… Но, дорогой мой, нас ведь об этом предупреждали!.. — Не обо всем. Мы знали только об «Анне», а имя владельца остальных трех судов нам до сих пор было неизвестно. — Какое это имеет значение в данный момент? — И то правда. Здесь я с тобой согласен… Сам не пойму, что именно меня беспокоит и заставляет лезть прямо под колеса поезда. — Так в чем же дело? — Ты говоришь, я рехнулся… — Ну? — Пускай дьявол, наш с тобой общий хозяин, сломит мне шею, если принц не находится на борту! — Принц?! Ты сказал — принц?! — Второй собеседник так разволновался, что голос его дрожал и срывался. — А что же делать?! Ведь тот думает, что принц мертв… Он посчитает нас предателями… И тогда мы пропали! — Верно, пропали. Во всем свете не найдется уголка, где мы смогли бы укрыться… — Значит, сейчас нам надо все бросить и попытаться смыться! В конце концов умереть — дело нехитрое, лучше бороться до конца!.. «Берегись! Берегись!» — во всю глотку орал железнодорожник и, пока поезд шел задним ходом, стоя на подножке, размахивал красным флажком. Два таинственных незнакомца, пользуясь начавшейся суматохой, скрылись в толпе.
__________
Меньше чем за час суда господина Синтеза кильватерной колонной[117] проплыли вдоль мола и вышли из Гаврской бухты, держа курс в открытое море. Капитан «Анны» получил четкий приказ касательно курса, а также инструкции на случай, если непогода, шторм или туман рассеют флотилию. Сейчас его корабль опережал остальные три парохода приблизительно на милю. Держась друг от друга на относительно равном расстоянии, суда шли носом к встречной волне, что вызывало порядочную качку. Не подверженные морской болезни, так отравляющей первые часы плавания людям, лишенным морской жилки, старик и девушка на корме полной грудью вдыхали морской бриз[118] и оживленно беседовали. Их глубоко личный разговор имел невольного слушателя, — отрывки разговора отчетливо доносились до ушей матроса, стоявшего у румпеля[119]. Из деликатности он несколько раз громко хмыкнул, как бы предупреждая: «Я здесь и слышу то, что меня не интересует». Однако господин Синтез уже успел произнести довольно загадочные, но, видимо, определяющие цель экспедиции слова: — И это существо, обладающее всеми физическими и моральными совершенствами, станет твоим женихом.Часть первая КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ
ГЛАВА 1
Большой Барьерный риф. — Коралловое море. — Трудности навигации. — Среди коралловых рифов. — Флот господина Синтеза. — Китайские кули. — Атолл. — Ныряльщики. — В глубине лагуны. — Назначение гидравлической извести. — Организмы-строители. — Колонии полипов адсорбируют сульфат извести из морской воды и производят известковые карбонаты. — Гигантские работы мельчайших существ. — Речь идет о новой суше, которую господин Синтез хочет создать из многих составляющих и воздвигнуть над гладью вод.На северо-востоке от Австралии, омывая архипелаги Санта-Круц и Новые Гебриды, а также острова Луизиады и Соломоновы острова, простирается та часть Великого или Тихого океана, которой сэр Мэтью Флендерс дал характерное название Кораллового моря. Не имея никаких, даже приблизительных ограничителей на востоке, Коралловое море имеет строгую границу на западе, проходящую не по берегу Австралийского континента, как можно подумать, а вдоль гигантской природной плотины — Большого Барьерного рифа. Эта колоссальная подводная стена, длиной приблизительно две тысячи шестьсот километров полностью кораллового происхождения, оставляет между собой и берегом полосу свободного моря, чья ширина колеблется от двадцати пяти до ста шестидесяти километров. Предохраняемый Большим Барьерным рифом от волнений и ветров, этот природный фарватер[120] представляет собой очень надежную дорогу, часто проходимую кораблями, направляющимися к Торресову проливу. Но, благоприятствуя каботажному плаванию[121], гидрографическое положение рифа делает очень сложным вход в Коралловое море. Немногие рисковали войти в крайне редкие проливы этой своеобразной плотины, даже в Рейнс-Инлет, на 11°35′ южной широты, отмеченной маяком. Капитаны предпочитали огибать ее с юга или с севера — путь неизмеримо более длинный, но позволяющий избежать опасного перехода. Если мы с вами посмотрим на подробную морскую карту Полинезии, то едва ли сможем сосчитать бесчисленные острова, островки, рифы, косы, мели, которыми усеян океан, не говоря уже о невидимых, коварно расположенных на небольшой глубине подводных препятствиях, чьи торчащие под водой пики при приближении невозможно обнаружить обычными способами морской разведки. Здесь зонд показывает глубину во много сотен морских саженей[122], немного дальше он вовсе не достает до дна и вдруг на глубине менее двух метров натыкается на подводный риф, способный пропороть днище корабля. Сколько ужасных кораблекрушений произошло в этих местах! Сколько кораблей погибло! И не только обычных торговых судов, которыми командовали безрассудные или неопытные капитаны, но и кораблей, ведомых первоклассными навигаторами, уж им-то хватало и опыта, и мощных исполнительных средств, и надежных помощников. Даже в наше время, когда благодаря паровым машинам был достигнут огромный прогресс, несмотря на новые, эффективные способы пеленга[123], на многие усовершенствования в древнем искусстве судоходства, остаются места, куда корабли не отваживаются войти. Зачем, кстати говоря, лезть на рожон, если тебя не гонит туда ни научный интерес, ни какое-либо другое, пусть не такое возвышенное, но не менее сильное побуждение? Само собой разумеется, здесь не идет речь ни о тех, ныне широко известных районах Тихого океана, где изо дня в день крепнет торговля, ни даже о тех более-менее обжитых архипелагах, где цивилизованные нации жадно заявляют свои права, мотивируя это приблизительно таким образом: «Вот острова, на которых испокон веков жили чернокожие. Значит, эти острова ничьи. А раз они ничьи, мы их просто-напросто аннексируем»[124]. Так как политика колониальной экспансии[125] еще не сказала своего последнего слова, остается полагать, что полинезийцы[126], не знавшие до сих пор оспы, туберкулеза и алкоголизма, рано или поздно присоединенные к метрополии[127], будут приобщены и к этим благам цивилизации. В таких вопросах согласие достигается просто при условии, что на данной территории имеется местное население, а почвы достаточно плодородны, чтобы давать урожаи зерновых, которые отправятся на экспорт. Но Коралловое море омывает и другие клочки суши — они не соблазнят даже самого заядлого колонизатора. О них-то в данном случае и будет идти речь. Можно ли назвать, в прямом смысле слова, землей островки или группы островков, в большинстве своем лишенных культурного слоя, безнадежно бесплодных и твердых, как гранит? Это настоящие неприступные подводные камни, омываемые прибоем Великого океана, обдуваемые ураганами; здесь не только человек, но и низшие живые организмы не находят средств к существованию. Таков Большой Барьерный риф, таковы странные круглые островки, чьи выступающие косы образуют совершенно пустынные и бесплодные атоллы. Редко-редко где увидишь кокосовую пальму, под сенью которой бессмысленно копошатся изголодавшиеся огромные крабы, — единственные в этих местах представители как фауны[128], так и флоры[129]. Учитывая огорчительное бесплодие здешних мест, полные почти непреодолимых препятствий подступы к ним, а также то, что они ни в коей мере не могут вызывать ни научного, ни коммерческого интереса, любой путешественник, волею случая заброшенный в точку пересечения меридиана на 145° восточной долготы и 12° южной параллели, то есть оказавшись посреди Кораллового моря, мог бы, даже не будучи человеком впечатлительным, оторопеть при виде столь странного, сколь и неожиданного в этих географических широтах зрелища, напоминающего театральное действо. Посреди бесчисленных каменных рифов самых разнообразных форм и самой разной величины появились четыре больших корабля и остановились метрах в двухстах друг от друга. Глядя, как суда,нечувствительные к морской зыби, стоят почти правильным полукругом, можно было подумать, что они сели на мель или, точнее, вросли в коралловые заросли, настолько их присутствие в этом месте казалось безумным вызовом искусству навигации. Какой невероятный путь проделали они, чтобы сюда добраться? Такая мысль пришла бы в голову любому, даже далекому от кораблевождения зрителю. Но факт остается фактом — пароходы пришли сюда не только естественным путем, но и не получив никаких повреждений. Солидные темные корпуса были причалены к ближайшим рифам с помощью простой, но очень ловко придуманной системы швартовых. Чтобы не перенапрячь удерживающие корабли канаты, чтобы не подвергать их действию ветра с моря и придать им большую устойчивость, паруса оставались подняты лишь на нижних мачтах. Опыт кораблевождения подсказал и другие сразу же принятые меры предосторожности (описывать их излишне), направленные на преодоление трудностей здешней природы, столкновение с которой могло бы кончиться катастрофой. Предпринятые маневры, тщательность их исполнения, выбор места стоянки, сам внешний вид кораблей — все наводило на мысль, что флотилия остановилась здесь надолго. Многочисленный штат, привезенный на пароходах, составлял целую колонию, довольно живописную и оригинальную.
На одном из коралловых островков, имевшем форму браслета, очертившего часть морского простора, — такое водное пространство называют атоллом, — разместились человек пятьсот-шестьсот китайцев. Нечувствительные, во всяком случае внешне, к полуденному солнцу, они ходили босиком по каменному выступу, с внешней стороны кораллового кольца, и удили свою любимую морскую кубышку (ее еще называют трепангом[130]). Тут же, на маленьких очень изобретательно сделанных плитках, работавших на каменном угле, варился рис. Не занятые ловлей китайцы или курили опиум, чей ядовитый дым наполнял раскаленный воздух характерным запахом, или, лежа навзничь, подмостив под затылок косы и покрыв лица похожими на абажуры шляпами из грубой соломки, спали на голых скалах. Выгруженные на берег мешки с гидравлической известью были приготовлены для гашения в выбитых в твердой толще кораллов углублениях, имеющих форму желобов. Около этих желобов в строжайшем порядке лежали никелевые шлемы скафандров (в отличие от медных, окисляющихся гораздо слабее), баллоны со сжатым воздухом, свинцовые подошвы, служащие водолазу балластом, оцинкованные железные ведра, веревочные лестницы, мастерки, бухты тросы, — словом, все атрибуты[131] подводных работ, в данный момент прерванных, но готовых возобновиться по первому же сигналу. К северу от кораблей, ориентированных на восток, можно было заметить надводную коралловую дорожку-мостик, длиной метров триста, связывающую атоллы ослепительно-белым рифом, на котором стояли просторные палатки из крашеной ткани. Туда, по всей вероятности, удалялись на ночь рабочие-азиаты, окончив работу. Следует отметить, что все четыре парохода были вооружены мощной артиллерией; расчехленные стосорокамиллиметровые пушки и пулеметы были нацелены на атолл, очевидно, для того, чтобы в случае необходимости простреливать и остров с лагуной, и коралловый мостик, и риф с расположенным на нем лагерем. Бронзоволицые моряки, одетые в куртки и в белые полотняные штаны, стояли на круглосуточной вахте возле орудий, готовые по команде открыть ураганный огонь. Если бы речь шла не о китайцах, имеющих необычайную природную склонность к бунту и грабежу, такая предосторожность была бы излишней. Но «Джона-китайца», как говорят англичане, следует опасаться, невзирая ни на его внешнее бесстрастие, ни на его корректное поведение, ни на его кажущуюся покорность. Жадные до наживы, корыстные, хитрые, жестокие китайцы ни перед чем не остановятся для того, чтобы удовлетворить свою алчность. Они очень умны и имеют несколько иные понятия о нравственности, — цель для них всегда оправдывает средства. Поэтому сыны Поднебесной империи с их чисто восточным преклонением перед силой, находясь под дулами пулеметов, чувствовали себя прекрасно и где-то даже испытывали, несмотря на их вошедшее в пословицу презрение к «западным варварам», нечто похожее на почтение к организатору такого «вооруженного мира». Но вот выстрел сигнальной пушечки возвестил об обеде. Рыболовы тут же бросили удочки, спящие проснулись, курильщики опиума аккуратно спрятали трубки и, достав из своего багажа жестяные круглые котелки (непременную принадлежность каждого кули), шумно гогоча, вытягивая шеи, как птицы на птичнике, двинулись на обед, состоящий из риса и консервированного мяса. Все было съедено в одно мгновение. Затем каждый китаец помыл свою плошку в море, аккуратно вытер ее полой блузы, умыл лицо и руки и получил пайку питьевой воды, дабы запить обильную трапезу. А теперь — за работу! Пять или шесть европейцев в матросской форме, но с нашивками старшин, как в военно-морском флоте, обходят группы и свистками сзывают рабочих по бригадам. Те, с трудноожидаемым при их обычной вялости проворством, натягивают на себя непромокаемые одежды ныряльщиков, привязывают к ногам свинцовые подошвы, надевают ранцы с кислородными баллонами, всовывают головы в никелированные шлемы с хрустальными окошечками и помогают друг другу затянуть застежку на горле. Затем они строятся в шеренги вдоль берега лагуны, а матросы с нашивками, их бригадиры, проверяют работу дыхательных аппаратов. Веревочные лестницы привязывают к железным шипам, вбитым в коралловые склоны рифа, и бросают в море. Каждый ныряльщик, держась за канатный поручень, повернувшись спиной к атоллу, медленно спускаясь, погружается в море. Вскоре на широком коралловом кольце, очертившем внутреннее озеро, остаются только бригадиры и наземные рабочие, тщательно размешивающие в заданных пропорциях гидравлическую известь с водой; они наполняют ею ведра, спускаемые на веревках подводникам, которые, использовав раствор, посылают их снова наверх… И так без перерыва в течение всего рабочего дня. Тому, кто знаком со свойством гидравлической извести становиться твердой, словно камень, при соприкосновении с водой, легко себе представить, какого рода операции производились в глубине лагуны. Что же касается ожидаемого результата от описываемых нами работ, то узнать об этом можно, лишь ознакомившись с намерениями господина Синтеза, уже известного читателю по предыдущим главам. Итак, корабли господина Синтеза, покинувшие после грандиозных приготовлений Гавр, находятся сейчас в указанной нами точке, где и будет проводиться гигантский опыт, но, прежде чем узнать его суть, следует вкратце ознакомиться с местом, где он будет поставлен. Это поможет нам также безошибочно понять, какого рода операции производят сейчас рабочие-азиаты.
В мире существует множество живых существ, образующих при скоплении известняки. Но эти залежи не имеют ничего общего с природой рифа как такового, — своим появлением на свет он обязан маленьким организмам-строителям, которые при жизни под воздействием ударов морских волн воздвигают в океане целые массивы, по прочности не уступающие скалам. Среди таких совсем крошечных архитекторов выделяются колонии полипов[132], на них мы остановимся особо. Полипы, как, впрочем, и им подобные, адсорбируют и включают в состав своих тканей известь. Известковый карбонат, выработанный этими крохотными существами из находящегося в морской воде сульфата, постепенно твердея, образует общий для многих особей скелет, по твердости не уступающий мрамору. Этот скелет называется кораллом. Таким образом, утвердясь на завоеванной для своего развития основе, вырастают целые коралловые плантации, постоянно отмирающие у подножия и в своей верхней части продолжающие расти. Отмершие ветки образуют что-то вроде известковых зарослей, в щели между которыми попадают отломленные волнами части еще живых особей. Эти обломки, омываемые теплыми известковыми водами, заполняя все промежутки нижних зарослей, сплавляются между собой и становятся в конце концов скалой. Но если другие виды организмов-строителей, таких как мшанки[133] или гидроиды[134], могут жить и развиваться где угодно, то кораллы — другое дело, им для развития требуются специальные физические условия. Так, коралл нуждается прежде всего в тропическом климате, поскольку он не сможет расти, если ночная температура наименее теплого месяца в году опускается ниже двадцати градусов тепла. Вдобавок он не умеет приспособиться к глубине, превышающей сорок метров, с одной стороны, а с другой — неминуемо гибнет, если остается на открытом воздухе дольше, чем длится отлив; кораллы имеют потребность в чистой воде, а посему соседство с ручьем, несущим в море песок и тину, гибельно для них. А вот неистовые удары волн, напротив, благоприятствуют их росту и способствуют продолжению кораллового рода; чем сильнее прибой, чем больше бушует море, тем быстрее растут кораллы и тем более мощными становятся отдельные особи. Вот почему — и это следует отметить особо — внешний берег рифа, штурмуемый волнами, всегда лучше развит и более высок, чем противоположный. Вышеназванные условия — температура, глубина и чистота воды — главные определяющие жизнедеятельности полипа. Взятые в совокупности, они приводят к созданию кораллового рифа, разделяющегося, в зависимости от его соотношения с материком, на три типа: первый — прибрежный риф, почти вплотную подходящий к суше; второй — барьерный риф, образующий на некотором расстоянии от берега некую подводную постройку, и, наконец, третий — атоллы или кольцеобразные рифы, отделяющие от океана круглую лагуну, центр которой либо свободен, либо занят одним или несколькими маленькими островками. Так как именно атоллы интересуют нас больше, чем другие типы рифов, остается уяснить себе механизм их образования, чтобы узнать причину столь странной, но часто встречающейся в Тихом океане конструкции. Атоллы всегда или почти всегда возникают на кратерах подводных вулканов, перенимая форму своего основания. По логике вещей, атолл должен постепенно подниматься вверх, как колонна, формируя целостный блок. Но мы знаем, что внешний берег, то есть окружность, штурмуемая океаном, нарастает быстрее, к тому же размножение полипов с внутренней стороны замедляется тем, что куски кораллов отрывает и уносит прибой. Следовательно, в момент появления над водой атолл имеет форму кюветы[135], лишь круглые края которой видны на поверхности. Размеры атоллов различные — они достигают десяти, пятнадцати, двадцати километров в диаметре, но могут исчисляться также всего лишь несколькими стами метров. На некоторых из них в течение тысячелетий скоплялись растительные останки, принесенные морем и образовавшие подобие культурного слоя, на котором брошенные птицами семена превратились в деревья. Один-единственный пример достаточен, чтобы дать представление о немыслимой активности микроскопических тружеников, не превышающих в диаметре и трех миллиметров. Архипелаг Каролинов, ставший недавно причиной спора между Испанией и Германской империей, насчитывает несколько тысяч малюсеньких континентов, самый крупный из которых — Понапи — имеет в диаметре всего двадцать километров, а маленькие представляют собой просто торчащие из воды острые шпили. Так вот, все эти образования вместе взятые занимают площадь, достигающую двух тысяч восьмисот квадратных километров! Ничто не может быть одновременно таким неожиданным и трогательным, как контраст, представляемый этими рифами. С одной стороны, неугомонная, яростная, необузданная работа безбрежного моря, смывающего колоссов животного мира и людские постройки, считавшиеся нерушимыми; с другой — скромные зоофиты[136], хрупкие живые существа, неустанно возводящие непреодолимый барьер, о который, сколько б ни ярились стихии, разбиваются силы волн и ветра. Потому-то, как бы ни кипели и ни пенились воды, штурмуя внешнюю сторону кораллового кольца, внутренняя лагуна атолла остается гладкой словно зеркало, а вода в ней — прозрачной. Жизнь бьет здесь ключом, и человек на досуге с восхищением наблюдает за сверкающим цветением полипов, под ласковым тропическим солнцем, как цветы, раскрывающих свои венчики…
__________
Размеры атолла были относительно небольшими: диаметр внутреннего бассейна не превышал и ста метров. Что касается ширины кольца, то она составляла метров двадцать — двадцать пять. Кольцо выступало из воды на достаточную для того, чтобы его не заливало ни прибоем, ни приливом, высоту. Стоянка кораблей располагалась рядом с имевшимся в нем десятиметровым разрывом, позволявшим водам лагуны свободно сообщаться с морем. Эта случайная, вернее натуральная, брешь перекрывалась шлюзом[137], ворога которого были снабжены для облегчения хода зубчатыми передачами[138]. В данный момент сообщение с морем перекрыто — тяжелые металлические створки опущены. Вскоре сыны Поднебесной империи, работавшие уже более двух часов и явно уставшие, начнут постепенно подниматься на поверхность. Они снимут аппараты, а затем, тщательно протерев металлические части и выпустя воздух из баллонов, унесут все свое снаряжение в палатки, и на коралловом кольце останутся лишь матросы с нашивками. После ухода последнего ныряльщика с борта ближайшего корабля прозвучал свисток. Несколько мужчин спустились по веревочной лестнице в лодку и, менее чем за минуту преодолев пространство между судном и атоллом, высадились на стоящий на сваях причал близ шлюза. Это господин Синтез, весь в белом, как плантатор, за ним два ассистента — Алексис Фармак и Артур Роже-Адамс, а чуть в стороне — капитан «Анны». — Что новенького? — обращается последний к матросам. — Наложение непромокаемого слоя окончено. — Вы в этом уверены? — Настолько, черт возьми, насколько можно быть уверенным в том, что проверил сам. Мы, с вашего разрешения, откроем шлюзы, затем, когда мутная вода в бассейне будет заменена морской, спустимся на дно с обычной ежедневной проверкой. — Хорошо. Я с вами. Затем, повернувшись к господину Синтезу, который задумчиво смотрел на гладь лагуны, помутневшую от нерастворившихся частиц гидравлической извести, офицер доложил: — Мэтр, имею удовольствие сообщить, что ныряльщики закончили свою работу; вся поверхность атолла, кроме некоторых незначительных стыков, покрыта портлендским цементом и совершенно водонепроницаема. Я через несколько минут намерен собственными глазами в этом убедиться. — Нет, дружище. Сегодня не стоит, подождите до завтра. — Обернувшись к ассистентам, старик добавил: — Господа, скоро ваше тягостное бездействие кончится, я горю нетерпением использовать ваши таланты. Приготовьтесь к каторжной работе, так как мне необходима ваша помощь в создании новой земной тверди.ГЛАВА 2
Подводная экскурсия капитана Кристиана. — Внутренний риф атолла. — Водонепроницаемый бассейн. — Ветвь живого коралла. — Состав коралловой материи. — Морская вода. — Как живут кораллы и каким образом господин Синтез вознамерился изменить условия их существования. — Сон бодрствующего человека. — Сон или реальность. — Таинственный пришелец. — Пандит Кришна. — Никто безнаказанно не вторгается в область, где действуют силы природы. — Оба ненасытны. — Странный опыт пандита[139]. — Паника в китайском палаточном городке. — Корабль трясет, как соломинку. — Тайна.На следующее утро, согласно приказу господина Синтеза, капитан Кристиан посетил в сопровождении двух матросов площадку подводных работ, произведенных китайскими ныряльщиками. Эта очень длительная и тщательная инспекция оказалась весьма удовлетворительной, так как на «Анну» после почти двухчасового погружения офицер вернулся сияющим. Господин Синтез со своими помощниками ожидали его в носовой кают-компании, переоборудованной под лабораторию. — Присядь, дружище, — сказал старик ласково, что не вязалось с его обычно холодным и серьезным тоном, — и давай рассказывай! — Я только что убедился, Мэтр, что ваши приказы выполнены абсолютно точно. Я не заметил ни единой щели, откуда могла бы просачиваться вода, и считаю себя вправе утверждать, что изнутри лагуна, при условии закрытия шлюзов, полностью отделена от океана. — Превосходно! Скажи мне теперь, как себя чувствуют кораллы. Не пострадали ли они из-за производимых ныряльщиками рядом с ними работ? — Никоим образом, Мэтр. Я достаточно внимательно смотрел, и они показались мне если не более сильными, то, уж во всяком случае, никак не менее, чем в день нашего прибытия. Кстати, вы сами можете в этом убедиться: я отломал для вас коралловую ветку, и мои люди подняли ее на поверхность в сосуде с водой. К тому же, согласно вашей инструкции, был снят профиль лагуны[140]. Вот набросок, сделанный стилетом[141] на грифельной доске. Размеры выдержаны точно, изображение дано в масштабе один к пятидесяти. — Дай сюда. — Бегло осмотрев грифельную доску, хозяин, по-видимому довольный увиденным, протянул ее своим ассистентам. — Посмотрите, круговая стена лагуны, выходя с относительно небольшой глубины, вздымается почти отвесно. — Ровно десять метров, — вмешался офицер. — Вот-вот, десять метров. Эта стена, еще недавно состоявшая из живых кораллов, теперь представляет собой лишь грубую каменную кладку, под которой замурованы колонии полипов. Видите, как старательно сохранены кораллы? Каковы размеры утолщения, занимающего нижнюю часть кюветы? — Двадцать пять метров в диаметре и шесть метров в высоту. — То есть во время прилива днище прикрыто всего-навсего четырехметровым слоем воды? — Да, Мэтр. — Таким образом, на сегодняшний день мы имеем закрытый бассейн, на дне которого, как в аквариуме, находится подводный риф неправильной, отдаленно напоминающей цилиндр формы, состоящий из живых кораллов и в своей верхней части образующий платформу площадью около девяноста метров. — Совершенно верно, Мэтр. По истечении более или менее длительного срока, который я не берусь предсказать даже приблизительно, риф появится над поверхностью воды. — Более или менее длительного срока… Это ты верно сказал, дружище, — перебил господин Синтез, и слабая улыбка внезапно осветила его суровые черты. — Десять лет назад я измерял этот атолл, тогда внутренний риф имел высоту всего три метра. Значит, нормальный его прирост составляет тридцать сантиметров в год. То есть зоофитам, чтобы достичь поверхности воды, потребуется еще тринадцать лет… Каково ваше мнение, господин зоолог? — обратился старик к Роже-Адамсу. — Я думаю, Мэтр, что растут эти кораллы чрезвычайно быстро, не припомню, чтобы ученые, занимающиеся полипами, отмечали подобные темпы роста. — Провести бы вашим кабинетным ученым хоть один сезон в Коралловом море, много бы чего они узнали новенького. Однако их высокопросвещенное мнение меня мало интересует, я хотел бы знать ваше. Если вы его еще не имеете, то советую поторопиться. В этот момент один из матросов отворил дверь кают-компании и с чрезвычайной осторожностью внес широкий стеклянный сосуд, до половины наполненный водой, в котором помещалось самое яркое, самое изысканное соцветие, когда-либо созданное феей морских вод. В емкости находилась великолепная коралловая ветвь цвета чистого пурпура[142], с распустившимися, казалось, прелестными цветами, напоминающими крохотные флердоранжи[143], озаренные лучом солнца, проникающим сквозь приоткрытый бортовой портик[144]. — Чего бы я только не отдал, — прошептал господин Синтез, — чтобы создать такое чудо, чтобы получить хотя бы частичку живой материи!.. — И тут же, резко себя оборвав, по-прежнему холодно, как всегда, когда он обращался к ассистенту-зоологу, добавил: — Установите разновидность и постарайтесь выяснить причину столь быстрого роста этого коралла. Ассистент осторожно взял в руки ветку, избегая соприкосновения со щупальцами (чтобы не сказать венчиками), ибо даже легкое прикосновение тонких ресничек так же неприятно для кожи, как прикосновение крапивы. Увы, розы без шипов не бывает… Очарование мгновенно разрушилось. Извлеченные из воды, зоофиты, как настоящая мимоза[145], тотчас же сжались, съежились и теперь имели вид бесформенных наростов, угнездившихся на ветке. Тот, кого отставной профессор «взрывчатых наук» пренебрежительно именовал «юным господином Артуром», всего секунд пятнадцать внимательно осматривал подопытный экземпляр, вертя его в пальцах, затем отломил маленький кусок и поместил ветвь обратно в воду. — Это древовидная Горгона, — кратко сообщил он тоном человека, уверенного в своей правоте. — С удовольствием отмечаю, что вы разбираетесь в полипах, — заметил господин Синтез. — Стало быть, вы должны знать и их свойства. — Свойство Горгоны — выделения в большом количестве твердой материи, образующей древовидное разветвление. — Из чего следует… — Что рифы, образованные представителями данного вида, растут неизмеримо быстрее, чем рифы, создаваемые за счет иных разновидностей секретирующих колоний полипов[146]. — Хорошо. Теперь ваша очередь, Алексис. Каков химический состав этой минеральной веточки, классифицированной только что вашим коллегой с точки зрения зоологии? Однако ассистент-химик, вместо того чтобы продемонстрировать свою обычную ясность ума, неожиданно замялся и вместо ответа стал теребить костлявыми пальцами свою лохматую бороду и молча хлопать единственным глазом. — Вы сомневаетесь? — удивился старик. — Сомневаюсь, Мэтр, — со всей откровенностью признался химик. — Отчего же? — Оттого, что я не уверен в точности анализа, проделанного почти полвека тому назад. Насколько мне известно, по этой теме была опубликована всего лишь одна работа. — Да, я знаю, — анализ Вогеля, тысяча восемьсот четырнадцатый год. — Следовательно, прежде чем выразить свое окончательное мнение, осмеливаюсь вас просить позволить мне провести исследование. Уж за него-то я буду целиком и полностью отвечать. — Нет, сейчас в этом нет необходимости. Мне довольно формулы Вогеля. Вы ее помните? — Помню, Мэтр. Вот точные цифры. Углекислота — 0,27; известь — 0,50; вода — 0,03; магнезия[147] — 0,03; известковый сульфат — 0,01; соединительная органическая субстанция приблизительно — 0,20; окись железа, придающая окраску, — 0,01. Должен добавить, что, согласно Фреми, это нестойкое красящее вещество не зависит от окиси железа. Завтра же выясню точнее. — Занимайтесь этим для самообразования, меня такие подробности совершенно не интересуют. Главное — узнать, в каких точных пропорциях зоофиты получают из морской воды соли, используемые ими для строительства коралловых напластований. А чтобы установить взаимосвязь между количеством усваиваемых солей и материей, полученной в результате секреторной деятельности, небесполезно вспомнить о составе морской воды. — Нет ничего проще, Мэтр. В ста граммах морской воды содержится в среднем: воды 96,470; хлористого натрия 2,700; хлористого кальция 0,070; хлористого магния 0,330; известкового сульфата 0,140; известкового карбоната 0,003; бромистого магния 0,002. Кроме того, для точности укажем, что потери при анализе составляют 0,023. — Превосходно. Кроме следов хлористого серебра, йодистого калия и натрия, растворенных в морской воде, нам известно семь видов солей, только три из которых употребляются коралловыми колониями. — Да, Мэтр. Это известковый сульфат, хлористый магний и углекислая известь. — Таким образом, даже если бы некоторых солей недоставало, колонии полипов могли бы производить камнеобразное вещество, составляющее коралл. — Думаю, что так, Мэтр. — Но при условии сохранения должного количества органических веществ, необходимых кораллам для пропитания, ибо они существуют не только за счет солей. А сейчас, когда атолл со всех сторон закрыт, как по-вашему, что станется с этими интереснейшими зоофитами? Ведь они не будут больше постоянно получать из открытого моря минеральную и органическую пищу. — Будут жить как и жили, пока не исчерпают питательных веществ, содержащихся в лагуне. Но так как шлюзы всегда можно будет открыть и восстановить сообщение с морем… — Шлюзы останутся наглухо закрытыми. — Тогда кораллы погибнут, как экипаж корабля в открытом море, на борту которого не осталось никакой провизии. — Не преувеличивайте. Какова, по-вашему, емкость лагуны, превращенной в бассейн? — Здесь нужны математические расчеты, и, если позволите, я посчитаю… — Не стоит. Как моряку, а также как математику экспедиции, этим следовало заняться капитану. Не так ли, Кристиан? — Совершенно верно, Мэтр. И вот полученные мною результаты. Вместимость атолла должна достигать приблизительно 78 540 000 литров. — Учел ли ты наличие кораллового блока на дне, чей объем нельзя сбрасывать со счетов? — Да, Мэтр. Объем этого блока составляет около 2945 кубических метров, то есть в бассейне остается не более 75 594 510 литров. — Ты можешь назвать мне количество солей, растворенных в водах бассейна? — Безусловно. Плотность воды колеблется в зависимости от географической широты. В центре кораллового моря она, согласно данным капитана Маури, составляет 1,10. Следовательно, общий вес этих 75 594 510 литров составит 83 153 961 килограмм, которые включают в себя 19 125 килограммов сернокислого магния, 11 641 килограмм известкового сульфата и 249 килограммов известкового карбоната. — Совершенно верно. А каковы будут последствия, когда, вместо того чтобы дать кораллам возможность исчерпывать солевые и органические вещества, содержащиеся в воде бассейна, мы добавим в нее известкового карбоната, известкового сульфата и сернокислого магния? Ответьте вы, господин зоолог! — Кораллы продолжат размножение при условии, конечно, что органической материи, необходимой для питания, не станет меньше. — Это само собой разумеется. А если мы увеличим вдвое, впятеро, вдесятеро количество этих веществ? — Я думаю, Мэтр, что нам тогда не обойтись и сотней тысяч килограммов, но даже если мы их достанем и растворим в бассейне, зоофиты неизбежно погибнут в таком перенасыщенном растворе. — А в этом вы ошибаетесь, молодой человек. Каково ваше мнение, Алексис? — Мне кажется, (я тоже боюсь ошибиться, — физиология отнюдь не мой конек), что, наоборот, полипы не только выживут, но их секреция чудесным образом ускорится. Правда, вынужденные поначалу хочешь не хочешь поглощать такую уйму минеральных веществ, они скорее всего заболеют от избыточного питания. Зато потом с кораллами произойдет то же, что и с домашней птицей в Амьене или, например, в Страсбурге. Все мы знаем, что, удваивая или утраивая рацион домашней птицы, за очень короткое время увеличивается ее начальный вес, а ее печень достигает просто-таки невиданных размеров. — Именно так, — подтвердил господин Синтез. — И ваш оригинальное сравнение не лишено точности. Да, кораллы, невзирая на избыток пищи, будут жить. Их примитивные организмы не будут реагировать, во всяком случае первое время, на чрезмерное количество пищи; процессы известковой секреции усилятся и вместо двадцати пяти — тридцати сантиметров прироста в год они дадут в десять, двадцать или тридцать раз больше утолщение пласта. — Но тогда, — не удержавшись, вскричал Алексис Фармак, хотя господин Синтез и не любил, когда его перебивают, — риф достигнет поверхности не за тринадцать лет, а за несколько месяцев! Это потрясающе! — За два месяца. Вы слышите, господин дипломированный профессор естественной истории? Невзирая на ваши прогнозы, понадобится всего лишь два месяца. И это не пустое предположение, так как на борту «Годавери» находятся химреактивы в количестве, с лихвой превышающем необходимое. Итак, подготовительные работы закончены, опыт начинается с завтрашнего дня. Через шестьдесят дней мои кораллы, вынужденные усваивать избыточное количество солей магния, натрия и извести, покажутся над поверхностью бассейна. Что касается тебя, Кристиан, ты приведешь в действие аппарат для создания искусственного шторма в лагуне — необходимое условие для жизнедеятельности зоофитов. По причине того, что все вы, согласно своим обязанностям, будете принимать участие в производимых работах, я чуть позже напомню вам, на каких принципах они зиждутся. А сейчас можете быть свободными.
__________
После беседы, не оставившей у подчиненных господина Синтеза ни малейших сомнений касательно ближайших планов хозяина, остаток дня каждого из них прошел в лихорадочных приготовлениях. Внезапно ночная мгла опустилась на этот когда-то столь пустынный, а теперь такой оживленный остров. Наступила настоящая тропическая ночь, непроглядная, тяжелая, давящая на нервы, со своим безлунным и беззвездным небом, покрытым тучами, со своими время от времени вспыхивающими зарницами. Под прицелами пушек, покрытых перед грозой просмоленным брезентом, застыл китайский палаточный городок — здесь царит тишина, как в некрополе[148]. Вдали, дробясь о рифы, грохочет прибой, вода плещет о борт безмолвных кораблей. Все спят, кроме вахтенных матросов и человека, так оригинально разрешившего проблемы еды и сна. Он сидит в одиночестве в своих апартаментах, расположенных позади паровой машины. Господин Синтез, только что «отобедав», проводит сеанс самогипноза; в течение нескольких секунд он пристально смотрит на электрическую лампочку, свет которой, смягченный шаровидным абажуром матового стекла, заливает каюту. Затем, не обращая внимания ни на изнурительную жару, ни на духоту, вызванную грозовыми тучами, старик внимательно просматривает том ин-кварто[149], стоящий рядом с ним на пюпитре. Внезапно его с ног до головы сотрясает дрожь — более чем странное проявление у такого уравновешенного человека, отличающегося необыкновенным самообладанием; рука нервно переворачивает страницу и застывает в воздухе, глаза скользят по строчкам, глубокая морщина залегает между бровями. Он неподвижен — как бы в преддверии какого-то таинственного события. Вскоре легкий шум открываемой двери гостиной и едва слышный шелест за спиной достигают его слуха. Легкая улыбка тотчас же оживляет застывшие черты господина Синтеза, и он, не оборачиваясь к вошедшему, произносит: — Это ты, Кришна… Добро пожаловать. — Я, Синтез. Да будет мир с тобою. Ты не ждал меня сегодня, да еще в таком месте, не правда ли? — Я не ждал тебя, это правда, но я думал о тебе… — Знаю, Синтез. Поэтому и пришел. — Присядь, если ты устал. — Я никогда не устаю. — И то верно… Каким счастливым ветром тебя сюда занесло? — Меня привело желание помочь тебе избежать опасности, угрожающей и твоему рассудку и твоей жизни. Ведь нельзя забывать, что ты нужен людям. — Говори, Кришна, и сядь рядом со мной. Незнакомец, чье появление было сродни чуду и который явился как дух, медленно ступил вперед, в круг света, и на секунду застыл перед господином Синтезом. Это был высокий худой человек необычайно изящного и хрупкого сложения. Взгляд широко расставленных, со светло-голубой в коричневую крапинку радужной оболочкой, глаз, походивший на взгляд человека, видящего галлюцинации, тревожил душу. Черные густые брови сходились у переносицы, тем самым как бы оттеняя блеск этих удивительных глаз. Лицо его было бледно; матовая, непрозрачная, но очень тонкая кожа странным образом контрастировала с темной, заостренной бородкой. Тонкий нос с трепещущими ноздрями и гордой орлиной горбинкой придавал этому лицу еще большее выражение отваги и энергии. Одет он был в большую белую чалму, повязанную по-индусски; в длинный, до колен, кафтан из грубой ткани бурого цвета; на ногах были туфли без задников из коричневой кожи. Невозможно определить возраст пришедшего, не рискуя ошибиться лет эдак на двадцать, но держался он прямо, его костлявая грудь и скорее нервные, чем мускулистые руки свидетельствовали не столько о силе, сколько о ловкости. Не обратив внимания на приглашение садиться, незнакомец заговорил звучным, приятного тембра голосом: — Ты никогда не сомневался ни в моем могуществе, ни в моей дружбе, Синтез? — В дружбе еще меньше, чем в могуществе, Кришна. — Для того, чтобы я стал искать тебя здесь, должны были сложиться крайне важные обстоятельства, в которых понадобится действие как первого, так и второго. — Я знаю, Кришна, и я тебе благодарен. — Не благодари, друг, это мой долг. Ведь я читаю в душах, ты же сам знаешь. — Да, ты необыкновенно проницателен, и иногда твои прорицания… — Я пришел не за тем, чтобы начинать научную дискуссию, я перейду прямо к цели, ведь время не ждет… Мы не виделись уже два года. Никто мне не сообщал ни где ты, ни чем занимаешься… И все же твои намерения мне известны. Послушай меня, Синтез! Никто безнаказанно не вторгается в область нерушимых законов творения. Оставь эту химеру[150], друг. Несмотря на свои универсальные познания, несмотря даже на науку, поставленную тобою на первое место, ты всего лишь человек. Не пытайся украсть частичку у бесконечности… Она, какой бы слабой ни была, непременно раздавит тебя! — На этот раз, друг, твое чудесное провидение тебя подвело. Речь идет вовсе не о том, чтобы чинить насилие над природой, и даже не о том, чтобы изменять природный порядок. Я хочу лишь ускорить эволюционные процессы. Это просто-напросто лабораторный опыт. Опыт, ясное дело, крупномасштабный, но не имеющий ничего общего с творением в прямом понимании этого слова. Моя цель — преобразование, творить я не умею… Во всяком случае, пока не умею… — Ты ненасытен, друг! — Ненасытен в своей жажде познания. А ты сам, Кришна? Где и когда ты остановишься? — Эта жажда составляет нашу главную, чтобы не сказать единственную, точку соприкосновения, — во всем остальном мы абсолютно разные. — Как знать. А что, если, исходя из противоположных принципов, мы стремимся к одной цели? — Нет, Синтез! Твои возможности, в отличие от моих, материальны, а значит — ограничены. — Объяснись. — Это очень просто. Поясню на примерах. Еще вчера я был в Сиккиме[151], в Гималаях, а теперь здесь, между берегами Австралии и Новой Гвинеи. У тебя же этот путь занял более двух месяцев. Ты, например, долго искал и почти разрешил проблему жизни без пищи, это верно. Я же позволил себя похоронить в Бенаресе[152] на глазах целой комиссии, состоящей из английских офицеров и ученых. Меня положили в тройной гроб, который опустили в глубокую яму. Могилу засыпали, на ней посадили разные растения. Многочисленный караульный пост охранял место моего погребения в течение девяти месяцев. А через девять месяцев меня извлекли из могилы живым. Можешь ли и ты проделать такое? Я могу приводить все новые и новые примеры. Но зачем? Ты ведь меня знаешь. Видишь ли, друг, для достижения идеала совершенства ты выбрал наиболее длинный путь, в результате он не приведет тебя к цели, которую достигну я. По моему мнению, ты ступил на ложную дорогу. — Ты утверждаешь (и даже с поверхностного взгляда кажешься правым), что мы, люди Запада, ошибаемся, когда исследуем научные проблемы с помощью наших телесных чувств, поскольку они далеко не всегда непогрешимы и их действие волей-неволей ограничено. Вы, люди Востока, считаете, что познаете все науки, и достигаете могущества путем длительных голодовок, медитаций[153], неукоснительного напряжения всех умственных способностей, устремленных к избранной цели. — Да, это так. Ослабляя путы, которыми душа привязана к материи, дух становится свободен, он вселяется на время в одушевленные или неодушевленные предметы, получая об этих предметах углубленное знание, остающееся в душе навсегда… Ах, зачем ты не пандит! Зачем ты не посвященный! — Увидим позже, Кришна! Я не намерен сейчас устанавливать преимущества одной системы над другой. Я пойду своим путем, полагаясь на свой метод, повинуясь лишь первому побуждению своего разума. А позже… Позже, вероятно, надо соединить обе системы. — Если хватит времени, Синтез. Прости, что я настаиваю, друг, но твоя дорога ложна, и она усеяна опасными подводными камнями. — Я справлюсь. — Нет. Ах, если бы я мог быть рядом с тобой! — Ты не сделаешь погоды на этих кораблях, находящихся в полной безопасности, на борту которых царит абсолютный порядок. Ироническая улыбка скользнула на губах ясновидца. Он медленно обернулся, взглянул на затерянный в ночной тьме палаточный городок китайских кули. — Там живут пятьсот или шестьсот бандитов, отбросы трущоб Макао… Кто знает, рано или поздно не придется ли тебе с ними расправиться? — Не думаю. Я хорошо им плачу, их хорошо кормят, с ними обращаются гуманно. К тому же мне известно, какое почтение китайцы выказывают людям образованным, хорошо знающим их язык. — Между тем довольно одного ненароком брошенного слова, одного жеста, чтобы в них проснулась жадность и они превратились в яростную, крикливую толпу, напоминающую стаю демонов. — Ты думаешь? — Хочешь доказательств? При этих словах Кришна протянул руку к северу и пристально посмотрел в иллюминатор, темный, как колодезный сруб. Несколько мгновений он оставался неподвижен, затем тихо выдохнул: — Послушай! В этот момент, заглушая шум прибоя, послышались разноголосые крики. На корабле началась внезапная суета — стали раздаваться торопливые звуки шагов, свистки, команды. Вахтенный офицер включил электрический ламповый прожектор и направил его слепящий луч на риф, где располагался палаточный городок. — Я знаю, ты предпринял меры предосторожности, — продолжал пандит. — Но где гарантии, что хотя бы часть этих людей, бросившись вплавь, не возьмет приступом твою флотилию? Правда, сейчас ничего такого не случится. Внезапно, как если бы сыны Поднебесной повиновались магнетической силе, исходящей от этого необычайного человека, крики смолкли, как по волшебству, чудесным образом вновь воцарился покой. — Ну что, теперь ты убедился? — Убедился, что при приближении грозы моих китайцев охватила паника. Но они — народ благоразумный, вот и побоялись моих матросов, получивших на сей счет строжайшие указания. Увидели, что за ними наблюдают, и решили, что не время выть при виде молний, как собаки на луну. — Ты отрицаешь мое влияние, — усмехнулся пандит, — ты хочешь сбросить со счетов его результат. Хочешь, я представлю еще одно доказательство? — Поступай, как тебе угодно, Кришна. — На сей раз моей мишенью будут не малодушные, нервные люди, боящиеся стихий, а неодушевленная материя. Хочешь, я начну трясти, как соломинку, этот мощный пароход, неподвижный на своих якорных цепях, эту гору из дерева и железа? — Ну что ж, попробуй. — В спокойном и ровном голосе господина Синтеза прозвучала чуть заметная ирония. Не говоря более ни слова, пандит резко топнул ногой и, скрестивши на груди руки, выпрямился во весь рост с крайне вызывающим видом. Казалось, что человек этот и впрямь мог управлять стихиями. Не прошло и нескольких секунд, как пароход, поднятый на гребень гигантской волны, устремился в пучину между двумя валами, завибрировал и вернулся в прежнее положение только после того, как едва не пошел ко дну. Все предметы, которые не были прочно закреплены, с грохотом сдвинулись со своих мест. Мачты затрещали, корпус судна жалобно застонал. — Ну что, — тихо заговорил пандит, — теперь ты убедился? — Нет еще, Кришна. Скажу как на духу — я вижу в этом лишь совпадение мертвой зыби с твоим наитием. Однако от этого я не стал тобою меньше восхищаться, напротив. Благодаря неслыханному совершенству твоих чувств, благодаря их непостижимой чуткости ты заранее предсказал момент, когда китайцев охватит паника, заранее почувствовал приближение морской волны. Именно это в моих глазах представляется более чудесным, чем что-либо сверхъестественное. — Прощай, Синтез, — без лишних слов оборвал его посвященный. — Ты покидаешь меня, Кришна? — Завтра я должен быть в Бенаресе и вырвать одного невиновного из лап англичан, собирающихся убить его по приговору суда. Время не ждет. Последний раз говорю: откажись от своего плана. Мне не хотелось бы увидеть, как погаснет светоч такого разума, как оборвется такая полезная жизнь. Подумай, друг, и можешь рассчитывать на меня в годину опасности. Прощай, Синтез. Да пребудет с тобой мир. — И тебе мир, Кришна! При этих словах ослепительный свет электрической лампочки постепенно начал меркнуть, и вот уже салон погрузился в полумрак, при котором трудно различать предметы. Густой туман поплыл перед иллюминатором, полностью закрыв его. Внезапно свет загорается по-прежнему ярко, туман рассеивается. Господин Синтез одиноко сидит у пюпитра, перед ним — раскрытый том ин-кварто. — Странно, — произносит он. — Если бы я спал, как все остальные люди, я подумал бы, что это мне приснилось. Однако, кто знает — быть может, и при гипнотическом сне возможны галлюцинации, вызванные резкой сменой атмосферных явлений?.. Вот гальванометр[154], он и впрямь указывает необычайно высокое электрическое напряжение. Нет ничего удивительного, — наш организм особо остро реагирует на такого рода природные явления. Старец вновь принимается за чтение, но он не может сдержать жест удивления, увидев как бы умышленно оставленную перед ним на ковре одну из туфель пандита.ГЛАВА 3
Господин Синтез никогда не меняет своих решений. — Меры предосторожности. — Груз «Годавери». — Новый аппарат. — Чтобы благоприятствовать работе природы. — «Лошадка» принялась за работу. — Два соперника. — Последние приготовления. — Интенсивное кормление зоофитов. — 340 000 килограммов химреактивов. — Они живы! — Ассистент-зоолог удивлен, как никогда в жизни. — Вновь кораллы «перекармливают», как рождественских гусей. — Риф растет на пять сантиметров в день. — Предвидение оправдалось. — Кораллы заболевают, они становятся белыми. — Кораллы появились на поверхности.Господин Синтез никогда ничего не делает наобум. Сначала он медленно обдумывает свои планы, кропотливо все взвешивает, а уж затем приступает к их воплощению. В результате этого подготовительный период всегда долог, а порой и тягостен. Но зато потом задача обречена на решение. Итак, странная, необъяснимая попытка пандита Кришны не достигла цели — она не повлияла на последствиятвердо принятого и давно обдуманного плана. Несмотря на мрачные пророчества этого таинственного персонажа, предпринятый опыт проходил, как было задумано, минуя необходимые, предначертанные экспериментатором фазы. Однако ночные события были поучительны; будучи человеком предусмотрительным и не склонным полагаться на случай, господин Синтез счел необходимым воспользоваться этим уроком. Он пока не стал доискиваться причины ночных воплей китайских кули. Пусть даже это была попытка бунта или просто желание попугать. Что с того? Но, поскольку факт имел место, господин Синтез решил немедленно устранить китайцев и с атолла, и с кораблей. Взрывом мадрепоровой гряды[155] был образован непреодолимый разлом глубиной метров десять, над которым навели подвесной мостик. При желании его можно было убрать, что намного снижало возможность нападения с этой стороны. Однако, обсудив с капитаном Кристианом ночное происшествие на «Анне», господин Синтез стал в тупик — выяснилось, что остальные корабли не почувствовали или почти не почувствовали качки. Капитан не мог не верить собственным чувствам и напрасно прилагал все усилия, чтобы найти этому феномену, идущему вразрез с его опытом морского волка, какое-нибудь разумное объяснение. Господин Синтез со своей стороны все же решил, что его флотилия не гарантирована от действия внезапного сильного прилива. На всякий случай он предусмотрительно приказал удвоить швартовы якобы для того, чтобы предотвратить возможный разрыв якорной цепи. Принятые меры успокоили господина Синтеза, и из трюмов «Годавери» незамедлительно началась выгрузка части грузов. Ящики, содержащие известковый карбонат, а также сульфаты соды и магния, были выгружены на коралловое кольцо, окружающее атолл, в ожидании, пока их содержимое в нужных пропорциях бросят в зацементированный бассейн, отделенный от моря железными шлюзами. Пока шла выгрузка, господин Синтез велел установить посреди бассейна легкую несущую конструкцию, состоящую из четырех вертикальных брусьев оцинкованного железа, соединенных сверху поперечными перекладинами. Эта конструкция, напоминающая четырехугольные монтажные вышки, охватила собой подводную скалу из живых кораллов. Кстати говоря, вертикальные брусья находились на строго рассчитанном расстоянии от колонии зоофитов и абсолютно не мешали их органической жизнедеятельности. Когда подпоры, прочно вмурованные в дно кюветы и поддерживаемые перекладинами, застыли на месте, два вертикальных бруса, в каждом из которых на уровне поверхности воды просверлили круглые отверстия, были соединены неким подобием горизонтальной оси, с широкими гайками на концах, предназначавшимися для противодействия боковому смещению. На одном из концов оси имелся также барабан полуметрового диаметра, с накручивающимся, как бесконечный приводной ремень, стальным кабелем, ведущим к кораблю. Затем была установлена поперечная деревянная ось с наполовину выступающими из воды металлическими лопастями. Китайцы с видом людей, привыкших ничему на свете не удивляться, невозмутимо выполнили эту задачу и возвратились в палаточный городок, по обыкновению гогоча, как вспугнутые гуси. Аппарат был готов к работе. Капитан Кристиан, руководивший монтажом с предприимчивостью морского волка, подал сигнал, немедленно подхваченный свистком главного боцмана. На борту корабля раздался второй свисток. Сразу же стальной кабель, приводимый в действие «лошадкой»[156], резко натянулся и деревянная ось, покорно повинуясь силе пара, начала вращаться, образуя с помощью пластин волнение на море. Короткие быстрые волны с белыми барашками на гребне с плеском стали разбиваться о внутреннюю стену атолла, пена и брызги, сверкая на солнце, полетели во все стороны. — Черт побери! Я догадался! — весело закричал чей-то голос. — Не правда ли, капитан? — Все правильно, — отвечал офицер со свойственной ему холодной вежливостью. — Этот аппарат, столь же простой, сколь и хитро задуманный, предназначен для того, чтобы искусственно создавать морское волнение, столь необходимое для быстрого роста кораллов. Алексис Фармак в широкополой белой шляпе, которая делала его похожим на длинный и уродливый гриб, потирая руки, уставился своим единственным живым глазом на аппарат, крутящийся все быстрей и быстрей. — Буря в стакане воды! — едко бросил из-под зонта как всегда с иголочки одетый ассистент-зоолог. — Вот-вот, — парировал химик, — сохраняйте вашу важность признанного ученого, протестуйте, не расставаясь со своими крахмальными воротничками, но постарайтесь, чтобы патрон вас не услышал. Пока мы с вами одни, это не приведет к серьезным последствиям, хотя я не люблю слушать, как вы высмеиваете работу человека, которого я обожаю, которого я боготворю… — О, вы!.. — Что? Не хотите ли сказать, что я преклоняюсь перед авторитетом, тогда как раньше… Ни слова больше! Вас не касается мотивировка моих поступков. А патрону вы не достойны даже чистить ботинки. Зарубите это себе на носу, мой милый! — Не стесняйтесь, продолжайте! Посмотрим, что будет, когда вы обкормите этих несчастных зоофитов солями, из которых одна является слабительным, а вторая вообще нерастворима. — Нерастворима?! Вы имеете в виду известковый карбонат? Ну и что с того? Я мог бы сделать ее растворимой, добавив в избытке угольной кислоты, но у хозяина свои планы на сей счет; карбонат превращен в пыль и руками его не потрогаешь. Мэтр собирается заставить кораллы поглощать его в натуральном виде. Вам это что, мешает? — Мне? Ничуть! Просто я свои подозрения, с каждым днем перерастающие в уверенность, держу при себе. Эти злосчастные зверушки, вначале таким способом «подлеченные» не на жизнь, а на смерть… — «Подлеченные»?! Вы хотите сказать — «подкормленные»? — Я настаиваю на своем определении. Итак, через какую-нибудь недельку они вымрут все до единого. — Можно подумать, такая перспектива доставляет вам некоторое удовольствие? — А вам-то что? Я присутствую здесь для констатации фактов, а не для дачи им своей оценки. — В то же время, вы говорите… — Просто прогноз, о котором я упоминаю вскользь, глядя на эксперимент, по моему мнению, обреченный на провал. Эта кисло-сладкая беседа, угрожавшая все более превратиться в полностью кислую, была прервана новым маневром, к началу которого офицер, невозмутимый ее слушатель, подал сигнал. Члены экипажа, разделившись на группы, под предводительством бригадиров, получивших подробные инструкции, установили на обводе атолла наклонные желоба, предназначенные, вне всякого сомнения, для того, чтобы легче было сбрасывать в бассейн химические реактивы. Чтобы предохранить желоба от волн, их закрепили тросом кабельного спуска, привязанным к штырям, вбитым в скалу. Эти приспособления длиною десять метров сходились в направлении к центру бассейна, занятому аппаратом, который отныне должен был вращаться безостановочно. Закончив приготовления, матросы, несмотря на обескураживающие прогнозы профессора зоологии, сразу же приступили к сбрасыванию в воду солей. Вооружившись лопатами, они принялись ссыпать в бассейн химреактивы. Пятьдесят человек, выполняя это задание в течение четырех часов, сбросили в лагуну ровно 20 тонн килограммов сульфата магния, 12 тонн килограммов сульфата извести и всего 200 килограммов известкового карбоната. Можно было подумать, что привнесенное в воду большое количество инородных веществ, в частности, сульфата извести, может стать заметным в таком относительно маленьком водоеме. Но этого не произошло, вода оставалась по-прежнему прозрачной, во всяком случае там, где не бурлила от вращения колеса. Назавтра произвели повторное выбрасывание. И так продолжалось десять дней подряд. После чего господин Синтез, все это время остававшийся на борту своего корабля, приказал прекратить операцию. Мало-помалу вода приобрела молочный оттенок, а к вечеру десятого дня стала совсем мутной. Из вычислений капитана Кристиана следовало, что кораллы в атолле получили к своему рациону громадную добавку в сумме 332 тонны химикатов, извлеченных из трюма «Годавери». Господин Синтез не поскупился, чтобы вдоволь насытить зоофитов. Молодой господин Артур все это время бил баклуши и не уставал потешаться над ассистентом-химиком, чья вера несколько пошатнулась. Ввиду полученного от Мэтра категорического запрета не вмешиваться в ход эксперимента, все его сотрудники горели нетерпением услышать распоряжение, разрешающее им отправиться осматривать риф. Наконец господин Синтез приказал ассистентам облачиться в скафандры и спуститься в водоем в сопровождении капитана Кристиана, бывшего, по всей видимости, доверенным лицом Мэтра, и поднять на поверхность образцы кораллов. Никогда никакое поручение не было столь желанным и не исполнялось с таким рвением. После не более чем десятиминутного погружения троица поднялась на поверхность, нагруженная охапками кораллов. Не успели отвинтить металлический шлем скафандра Алексиса, как химик, словно помешанный, закричал: — Они живы! Они живы! Ему захотелось подбежать к Мэтру. Он позабыл про тяжелые свинцовые подошвы, привязанные к его ногам для балласта, позабыл и про то, что не может с этими грузилами передвигаться по земле, как по дну морскому, а посему, сделав лишь несколько шагов, грохнулся, покатился и наконец растянулся во весь рост, бранясь на все лады. Капитан, как всегда невозмутимый, с видом человека, совершающего не подлежащий обсуждению обряд, передал в руки матросу собранные экспонаты и спокойно направился к «Анне». Что же до профессора зоологии, то он был потрясен. Вся его спесь исчезла начисто. Ничего не видя, ничего не слыша, господин Артур тупо созерцает ветвь кораллов, судорожно зажав ее в руке. — Это абсурд! Это безумие! Это противоречит здравому смыслу! — бормотал он себе под нос, наступая капитану на пятки. — Кораллы живы!.. И не только живы, но даже, кажется, и не больны! К тому же за столь короткий срок они фантастическим образом увеличились в размерах. Быть не может, чтоб это было следствием воздействия веществ, растворенных в водоеме. Без сомнения, старик добавил туда какую-то неведомую субстанцию! Но как узнать, какую именно? Как раскрыть этот секрет? Химик конечно же ничего не знает. Придется набраться терпения. Когда шлюпка, подвижно прикрепленная к одному из тянущихся с корабля тросов, пришвартовалась к «Анне», Алексис Фармак, совершенно выбитый из колеи, забыв даже снять со спины резервуар со сжатым воздухом, вскарабкался по веревочной лестнице с ловкостью четверорукого животного и, как ураган, ворвался в лабораторию. — Мэтр! Они живут! Они растут! Они растут как грибы! Тут только он заметил, что одет несколько карикатурно, вспомнил, что в лабораторию вломился с неприличной поспешностью, что Мэтр не одобряет подобной развязности. Химик застыл, заикаясь и бормоча какие-то извинения. Но легкая улыбка осветила суровые черты старика; он понял и простил такое вторжение, учитывая мотивы, которыми оно вызвано. — Ладно, ладно, мой мальчик, — добродушно сказал господин Синтез. — А вы что же, сомневались? Я удивился бы, если было бы иначе. Они еще себя покажут, и очень скоро, поверьте. А-а, вот и Кристиан. Что нового, друг мой? — Вот образцы, Мэтр. Они во всей своей красе. Ваши предвидения блистательно оправдались. — Значит, риф поднимается? — Растет, можно сказать, на глазах. Это действительно потрясающе, — прирост равен пяти сантиметрам в день. — Именно пяти сантиметрам. Ведь мы с вами подсчитали, что зоофиты поднимут риф на трехметровую высоту в течение двух месяцев. — И это еще не все. Прошу прощения у господина Роже-Адамса за то, что вторгаюсь в его область, но количество особей тоже неисчислимо возросло. Поглядите-ка только на эти ветки! — Точно. Что скажете, господин профессор зоологии? — Скажу только, Мэтр, что это невиданный феномен и причины его я не понимаю. Так как чудовищно интенсивное питание зоофитов привело не только к активизации известковой секреции, но, можно сказать, до бесконечности увеличило количество секретирующих особей. — Что вам за дело до причин! Констатируйте лишь последствия, и вы сразу же вспомните о непомерно увеличенной печени перепончатолапых птиц, специальным образом откармливаемых. — Вне сомнения, Мэтр, перекармливание объясняет гипертрофию[157] известковых отложений, но оно не объясняет гипертрофию размножения. — Повторяю, оставьте это. Как вы думаете, они заболеют? — Мы их только что рассматривали на дне бассейна. Они выглядят весьма крепкими. Хотя по логике вещей должны быть больными. — Составить себе мнение вы сможете, препарируя некоторые особи, а затем фотографируя препараты. И не бойтесь умножить число опытов. А вы, Алексис, сделаете анализы окаменевших веточек и посмотрите, в норме ли количество органической материи. Надо, чтобы результаты анализов были особо точными. Видите, окраска кораллов все время слабеет. — Ваша правда, — ответил химик. — В своем основании ветвь ярко-красная, но, по мере того как происходит секреция, известковая материя чем дальше, тем светлее. — Сдается мне, совсем скоро она станет чуть розовой, быть может, и вовсе белой. В конечном итоге мне это безразлично — важно, чтобы вырос риф, какова бы ни была его окраска. Прощайте, господа… Оставляю лабораторию в вашем распоряжении.
Таким образом все предсказания этого странного человека полностью сбылись. Он смог влиять на законы природы, даже насиловать их, применяя в конечном счете средства, в которых, хотя бы внешне, не было ничего необыкновенного. Успех, казалось, был обеспечен. Опыты препаратора-зоолога не выявили никаких органических изменений у простых организмов. Выяснилось, что они прекраснейшим образом переносят такое, ни в какие рамки не укладывающееся, кормление. Строение окаменевшего скелета осталось неизменным. Лишь щупальца немного уплотнились, а жгучее действие волосков значительно усилилось. Химический анализ, с редкой тщательностью произведенный Алексисом, тоже не выявил ни малейшего изменения вида или количества составляющих зоофиты солей. Химик заметил только, что вещество коралла сделалось чуть более ломким. Такой феномен, впрочем, был вполне закономерен и обусловлен активностью и быстротой этой повышенной секреции. И наконец, несмотря на то, что в воду бассейна не добавляли органической материи, ее ни в коей мере не убавилось. Так как оба исследователя сошлись во мнениях и признали, что в своем невежестве бессильны объяснить подобную стабильность, господин Синтез в нескольких словах объяснил в чем дело. В водоеме, огражденном стенками атолла, осталось множество голотурий. Выжить в перенасыщенной солями воде они не смогли и все погибли, началось разложение, увеличив в воде количество органических веществ, усваиваемых зоофитами. Господин Синтез прикинул, что случайной органической материи ему будет достаточно, и решил пока не трогать имеющиеся на борту запасы. Казалось, природа, сама того не желая, стала сообщницей отважного ученого, чье странное предприятие, неуместное и бесполезное на первый взгляд, сейчас утверждалось и крепло, с каждым днем приближаясь к успеху.
В это самое время китайцы, обреченные на безделье, убивали время на рыбалке, курили опиум, ели и спали, погруженные в безмятежную лень, такую дорогую сердцу восточных людей. Безучастные, как всегда, ожидая возобновления работ, они были спокойны, ничего не требовали, и это спокойствие плохо вязалось со странным возбуждением, охватившим их при таинственном появлении пандита. Матросы экипажа, которым подобное бездействие надоело бы очень скоро, занимались множеством вещей, что помогало им держаться в хорошей форме; они кормили кораллы солями, привезенными на «Годавери», носились на шлюпках от одного судна к другому, с помощью дистилляторов[158] опресняли воду, тянули снасти, чистили корпус судна, такелаж[159], роторы машин[160] и т. д. А два ассистента и капитан Кристиан работали не покладая рук. Ежедневно они, облачась в скафандры и опустившись на дно, наблюдали за ростом внутреннего рифа. Зоолог внимательно следил за ростом зоофитов, — препарировал, фотографировал, фиксировал все изменения их состояния. Химик со своей стороны делал анализ за анализом. Определяя состав продуктов их секреции, измеряя содержание в воде солей с целью вычислить их количество, ежедневно потребляемое кораллами, он дозировал новые бросаемые в воду порции, стараясь поддержать соленасыщенность на одном уровне. Все эти тончайшие операции, требовавшие огромной сноровки, виртуозной точности движений, ежесекундного напряжения внимания, выполнялись двумя соперниками со свойственной им обоим необычайной ловкостью. Господину Синтезу незачем было и желать лучших помощников. Старик все так же мало говорил и много размышлял. Он почти все время проводил в своей каюте и лишь на полчасика заходил в лабораторию, чтоб выслушать отчеты капитана и двух ассистентов. Всякий раз доклады были исчерпывающими. Затем, осмотрев представленные капитаном коралловые ветви, господин Синтез жестом отпускал всю троицу. Как он проводил все остальное время, не знал никто, кроме его слуг и девушки, о присутствии которой на борту свидетельствовали только доносящиеся иногда звуки чудесной музыки. Поскольку господину Синтезу, девушке и их прислуге принадлежал почти весь корабль, за исключением лаборатории, расположенной на носу под спардеком, такое затворничество не должно было быть особо тягостным. Так проходил день за днем, и ничто не менялось с тех самых пор, как в морские воды были заброшены тысячи и тысячи килограммов солей и зоофиты начали свой изумительный рост. Здоровье всех членов экипажа, начиная от главы экспедиции и кончая последним юнгой, было в отличном состоянии, и все предвещало Великому Делу господина Синтеза счастливую развязку. Примечательное событие произошло лишь на третий день. Господин Роже-Адамс, который все с тем же неослабным вниманием и тщательностью наблюдал зоофитов, констатировал, что их щупальца значительно утолщились, а тела сильно вздулись. Он поделился своими наблюдениями с Мэтром. — Кораллы больны. Больны полнокровием, — резюмировал старик. — Это было предусмотрено. Ведь их жизнедеятельность изрядно усилилась. А секреция станет еще более активной. — Боюсь, чтоб они не погибли… — Они и впрямь погибнут, но не ранее чем через месяц. А что со скелетом? Его состав остается прежним? — Он тоже меняется, — ответил химик. — Количество карбоната извести значительно увеличилось. — Прекрасно. — Что касается отмерших особей, то со вчерашнего дня они стали совершенно белыми. — Не важно. Моя земля будет не красной, а белой.
С этого дня господин Синтез ничем больше не намекнул, для чего предназначается неустанно подрастающий риф. Все терялись в догадках, ища, разумеется, наиболее простое, наиболее рациональное объяснение. Все разъяснилось на утро шестидесятого дня, после заставивших вздрогнуть господина Синтеза простых слов капитана: — Мэтр, кораллы в лагуне вышли на поверхность воды!
ГЛАВА 4
Земля господина Синтеза. — Во время отлива. — Структура острова. — Шумное пробуждение. — Зоолог в трансе. — Пушечные выстрелы. — Праздник на борту. — Фрак, цилиндр и светло-желтые перчатки. — Почетная гвардия. — Сипаи господина Синтеза. — Юный господин Артур считает, что Мэтру идет его костюм магараджи[161]. — Русалка из скандинавских легенд. — Поклон опытного шаркуна. — Мнение Алексиса Фармака о его коллеге. — Вступление во владение. — Девиз. — Et ego creator![162]Итак, до сих пор все предсказания господина Синтеза с блеском оправдывались. Подкрепив их тщательными расчетами, опытами, предварительно поставленными над кораллами, он сумел усилить работу природы, активизировать биологические функции зоофитов и в относительно короткий срок соорудить свой коралловый риф. С какой целью? Зачем предпринята эта длительная экспедиция в неведомые моря? Для чего и такие значительные затраты, и этот флот, ставший на якорь средь морских бурунов, и эти тяжелые работы, и многочисленный персонал, стремящийся создать маленький риф, затерянный на протяжении тысяч квадратных лье[163] среди множества себе подобных в океане? Но господин Синтез не был склонен удовлетворять чужое любопытство, вот почему ответ на все волнующие вопросы, до сих пор оставался гипотетическим[164]. Быть может, один лишь Алексис Фармак в своих догадках был недалек от истины. А ведь именно слова Мэтра «моя земля» стали для человека такого чуткого, как бывший профессор взрывчатых веществ, настоящим откровением. В конечном счете вскоре и все остальные получат полную информацию. А пока достойнейший химик не без некоторого самодовольства посматривал на своего коллегу, господина Артура, застывшего во внушительной невозмутимости. Не успел капитан Кристиан произнести: «Мэтр, кораллы в лагуне вышли на поверхность воды», как господин Синтез, помолодевший, изменившийся в лице, внезапно вышел из лаборатории и по лестнице спустился к постоянно пришвартованному у платформы парому, чтобы в сопровождении своих помощников направиться к круглой стене, ограждающей атолл. На море в это время был отлив. Воды лагуны, герметически закрытой с помощью шлюзов во время прилива, при начале работ на один метр превышали уровень океана. В центре водоема высилась белая, совершенно плоская масса, всего на несколько сантиметров покрытая водой. Несколько секунд господин Синтез созерцал кораллы, вскормленные в течение двух месяцев необычайно большим количеством химических веществ. — Прикажите открыть шлюз, — обратился он к капитану. Офицер, как всегда готовый вмиг исполнить приказ, повторил слова хозяина старшему боцману, стоявшему близ металлических затворов. Четверо мужчин налегли на рукояти рычагов, ведущих к зубчатым передачам. Прозвучал свисток. Шестерни тотчас же пришли в движение, и обе дверцы плавно отворились, победоносно выдержав натиск хлынувшего потока. Все это длилось менее минуты, и вот уже шлюз полностью открыт, образуя в стене, защищающей атолл, десятиметровый проем. Беловатая вода лагуны полилась каскадом, бассейн частично опустел, уровень водоема сравнялся с уровнем океана, и обнажившийся риф предстал перед очарованными взорами присутствующих. Невзирая на трепет, внушаемый Мэтром, и не более, чем раньше, понимая суть происходящего, все, дружно захлопав в ладоши, громогласно закричали «ура!». Но господин Синтез, несмотря на свой триумф, оставался невозмутим. Его интересовал лишь появившийся островок неправильной цилиндрической формы, двадцати пяти метров в диаметре, чья выступающая над водой поверхность казалась идеальной. Действительно, кораллы, находившиеся в одном и том же режиме, снизу доверху росли одинаково и, оказываясь на гибельном для них воздухе, резко прекращали свой рост. Их переплетенные ветви образовали монолитный блок. Но были они, как и ожидалось, не красными, а белыми, точнее сказать сероватыми, напоминающими цветом глину. Мэтр, желая поближе рассмотреть свое творение, приказал капитану подогнать шлюпку. Он сел в нее в сопровождении одного капитана и двух гребцов, которые несколькими взмахами весел приблизили его к этому крохотному, искусственно созданному континенту, состоящему из громадных коралловых деревьев. Ветви некоторых особей были толщиной с руку, даже щупальца зоофитов в десятки раз превышали нормальные размеры. Однако сам кальцит[165] был более ломким и не обладал крепостью известковой окаменелости обычных кораллов, но это обстоятельство существенно не влияло на устойчивость островка. К рифу невозможно было причалить, так как маленькие архитекторы усеяли всю его поверхность грозными, словно капканы, шипами; они напоминали колючки acacia triacanthos[166], пусть не столь острые, но столь же опасные. В полном молчании обогнув риф, господин Синтез обратился к капитану: — Завтра с утра пораньше ты утрамбуешь риф так, чтобы поверхность его стала совсем гладкой. Затем свяжешь его с атоллом. С помощью подставок, образцы которых я тебе давал, наведешь мост так, чтоб один его конец опирался на стену атолла, а другой — на островок. Срок выполнения работ — два часа. — Слушаюсь, Мэтр. — Прикажи немедленно закрыть шлюзы. Начинается прилив, а вода в лагуне, вплоть до нового приказа, должна оставаться ниже уровня океана. Затем, не сказав больше ни слова, не сделав ни единого жеста, этот удивительный человек вернулся на борт и скрылся в своих апартаментах.
Назавтра два ассистента, накануне засидевшиеся допоздна, живейшим образом обсуждая происшедшее, проснулись от страшного грохота, который тут же стих. Вскоре странный грохот возобновился, и мелкие вещицы, разбросанные в каютах, завибрировали. — Это пушки стреляют, — жалобно простонал зоолог, героически пытаясь натянуть одеяло на голову. — Ты смотри — пушки! — радостно воскликнул бывший профессор взрывчатых наук, хорошо знакомый с любого рода взрывами. Затем через равные промежутки времени прозвучало еще три залпа, как если бы суда отвечали на выстрелы «Анны». — Господи! Ну что там еще стряслось? — снова застонал юный господин Артур, не имевший, казалось, ничего общего со своим воинственным тезкой, героем Круглого стола[167]. — Быть может, бунт?! — Боже мой, что с нами будет?! У химика глаза блестят, ушки на макушке, волосы торчком. Как старая гарнизонная лошадь при звуке трубы, он мигом одевается и, перескакивая через ступеньку, мчится по лестнице на палубу. При виде корабля, расцвеченного всеми флагами, как в праздник, при виде экипажа в парадной форме у него вырывается возглас радостного удивления. Три других судна тоже украшены флагами, гирляндами разноцветных вымпелов играет бриз. Время от времени то по одному борту, то по другому возникают облачка белого дыма, вслед за которыми слышатся звуки выстрелов, чье эхо разносится над островами. Это матросы, обрадовавшись нежданному развлечению, палят, не щадя пороха, и веселятся, как блаженные. Тут же химик, заметив второго помощника, который, заложив руки за спину, прогуливается по палубе, заводит с ним беседу, с удовольствием поддерживаемую офицером. Тем временем юный господин Артур, чья первоначальная легкая тревога сменилась настоящим ужасом, тихонько пробирается вверх по лестнице и является — прозрачный, бледный, потный от страха, готовый в любую минуту вновь нырнуть в люк, как чертик в табакерку. Но, выслушав сообщение Алексиса Фармака, он разом успокаивается. С несвойственной в разговоре со своим коллегой приветливостью, химик, сообщив ему о предстоящем празднике (информация, полученная от господина офицера), добавил: — У нас еще час, чтобы переодеться по-парадному. — Что вы подразумеваете под парадной одеждой? — спросил зоолог, чей голос становился все суше и суше. — Ну… фрак, цилиндр, лакированные туфли, перчатки… Мы с вами примем участие в официальном шествии, дорогой мой. — Так вырядившись, в кругу людей, чьи костюмы, по крайней мере, отмечены оригинальностью, мы будем выглядеть достаточно нелепо. — Что вы хотите сказать? Ведь таково желание господина Синтеза! — И зачем ему весь этот маскарад! Вот уж бы не подумал, что столь могучий ум может снисходить до такой пошлятины! — Вы же знаете, Мэтр никогда ничего не делает зря! Быть может, он хочет, воспользовавшись случаем, развеять тяжкое однообразие моряцкой жизни и, с неизвестной мне целью, поразить воображение таких суеверных и любящих празднество людей, как жители Востока. Наше пребывание обещает быть очень долгим, и, как мне кажется, немаловажно показать рабочим, что мы здесь не только переводим гидравлическую известь, травим зоофитов и фабрикуем скалы для аквариумов. Эта церемония, как бывает всегда, когда почтеннейшая публика не понимает в спектакле ни слова, произведет на них приятное впечатление. — А еще что? — Э-э, дорогуша, как вы думаете, зачем короли и императоры при коронации устраивали себе пышные чествования, хотя, казалось бы, куда как проще безо всякой помпы наследовать своему предшественнику? Да и президентам республик для чего так торжественно обставлять смену кабинета? — Ваша правда! — Почему вам кажется странным, что наш хозяин, завершив блестящий опыт биологического синтеза, хочет с некоторой торжественностью вступить во владение маленьким континентом, сотворенным им самим? — Из этого следует, что надо напялить этот нелепый костюм? — огрызнулся зоолог и, с меланхолическим видом мужественно решив покориться, направился к себе в каюту, где провел целый час, старательно прихорашиваясь и пытаясь облагообразить такую неуклюжую одежду, как всеми проклятый, но все же необходимый в официальной обстановке фрак. Профессор зоологии выбрал самое тонкое белье, надел самый внушительный стоячий воротничок, вдел в петлицу красивые орденские ленточки, натянул перчатки, словом, умудрился стать, особенно на фоне безвкусно одетого химика, настоящим красавцем. Однако времени для обмена взаимными комплиментами, по дороге к подножию грот-мачты, где собирались участники процессии, у них было немного. Чрезвычайно пышное убранство, приготовленное для нынешнего торжества, поразило обоих; все пространство между грот-мачтой, бизань-мачтой[168] и полуютом[169] было устлано превосходным ковром; справа и слева от мачт встали в карауле четырнадцать матросов-индусов, отобранных из команд четырех кораблей и ради торжественного случая разодетых в роскошные и живописные одежды сипаев. Бронзовые, как двери пагод, бородатые люди с блестящими немигающими глазами, с кривой турецкой саблей на бедре и карабином у ног, они были действительно великолепны, эти полудикари, чей фанатизм более всякой дисциплины обращает их в самых образцовых солдат. Четыре барабана и четыре трубы образовали позади грот-мачты изгородь таким образом, чтоб из апартаментов господина Синтеза вел широкий проход. Метрах в шести от дверей гигант в костюме сипая держал широкий стяг из белой ткани, упирая в ковер его черное, блестящее, как полированное эбеновое дерево[170], древко. Не менее чем на полкабельтова[171] в радиусе атолл являл собой феерическое зрелище. Матросы всех четырех экипажей при полном параде в сопровождении офицеров вышли на коралловое кольцо, очертившее лагуну, и, стоя на нем, образовали разноцветную движущуюся ленту, над которой, сверкая на стальных частях оружия, ярко сияло солнце. Сзади теснилась толпа восхищенных китайцев в одинаковых, делавших их похожими на грибы, конусообразных шляпах. Быть может, впервые выведенные из обычного для себя состояния равнодушия, они вытягивали шеи и вовсю таращили раскосые глаза. На острове — земле господина Синтеза, разровненной стараниями капитана Кристиана, — больше не было опасных сплетений окаменевших веток. А добраться до островка было тем более легко, что между ним и кольцом атолла повис на подпорах мостик, устланный коврами, спускавшимися до самой воды.
Было полдесятого. На «Анне» трижды пробил колокол. Тотчас же два индуса-бхили распахнули створки дверей, ведущих в апартаменты господина Синтеза, и он появился на пороге. Застучали барабаны, затрубили трубы, сипаи[172] взяли на караул, знаменосец салютовал знаменем. — Ну и ну! — бормотал про себя ассистент-зоолог. — Моего хозяина просто подменили! Черт побери, я его вовсе не узнаю. Клянусь честью, он выглядит величественно. И это была святая правда. По случаю торжества Мэтр снял с себя европейское платье, и теперь, великолепный, помолодевший, неузнаваемый, он медленно выступал, одетый в роскошный, выглядевший необычайно величаво восточный костюм. Это был не тот суровый ученый, совершенно не интересующийся внешними проявлениями чего бы то ни было, не тот с виду надменный человек, безразличный ко всему, что принято называть «представительством». Вообразите себе, если сможете, одного из тех старых раджей доколониальных времен, которые странным образом воплощали в себе Индию, прежде чем англичане привнесли туда пробковые шлемы, анемичных мисс[173], содовую воду и лаун-теннис. Индию загадочную и девственную, с ее легендами, с ее брахманами, пагодами[174], мечетями, с ее варварской пышностью, ослепительными празднествами, преступлениями, добродетелями и неизбывной оригинальностью… Таким предстал господин Синтез, облаченный в тогу[175] из белого кашемира[176], увенчанный чалмой с красиво выложенными складками, закрепленными эгретом[177], при одном виде которого свихнулся бы самый пресыщенный ювелир. Но какой смысл описывать невероятное изобилие, невиданное богатство гемм[178] и драгоценностей, рассыпанных по белому кашемиру, если знаешь тайну открытий господина Синтеза! Верно заметил химик — должно быть, все это наносное, внешнее, пускание пыли в глаза индусам, уже не представляющим себе господина без подобающих его рангу украшений, знаков богатства и могущества. Кстати сказать, судя по их одновременно и восторженным и почтительным лицам, Мэтр раньше не пользовался таким авторитетом, не был так обожествляем, как в эту минуту. Теперь он был всесильный, непререкаемый начальник, в которого как бы переселилась душа древних сатрапов Визапура, Голконды или Пунаха[179], перед которым все трепещет, все самоуничтожается. Не успели эти мысли молниеносно пронестись в головах обоих европейцев, как они оцепенели, раскрыв рты от удивления и восторга. Юная девушка, виденная ими раньше только мельком и издали (вольности по отношению к пассажирам с кормы были строжайше запрещены), вслед за Мэтром появилась на пороге и заняла свое место по левую руку от старика. Одетая в простое белое платье со шлейфом, без единого украшения, кроме своей ослепительной красоты и кроме весны своих восемнадцати лет, она двинулась вперед скользящим шагом, заставлявшим волноваться ее платье, и нежным, как поцелуй, взглядом лаская корабль, атолл, море, волны которого, поднимая бриллиантовую водяную пыль, разбивались вдали о скалы. Белокурая, словно русалка из скандинавских легенд, она не совершила непростительной ошибки и не прибегла к ухищрениям, известным под омерзительно банальным названием «парикмахерского искусства»; ее лоб, чистый, как лепесток лотоса, обрамляли расчесанные на пробор золотые пряди, а на грудь спускались тяжелые косы, подобные тем, которыми поэт наградил свою Офелию[180]. Эту роскошную шевелюру[181] осенял скрепленный диадемой[182] белый шелковый шарф из такой тонкой ткани, что он казался сотканным из паутинок бабьего лета… Ее увлажнившиеся ласковые глаза с чудесными сапфировыми отблесками растроганно остановились на дедушке, а ее пурпурные губки цвета спелого граната раскрылись в невинной и нежной улыбке. Застывшие под ружьем сипаи, выстроившиеся в шеренги матросы, обсыпанные порохом канониры, измазанные углем машинисты — все смотрели на эту пару в молчании, полном восторга и почтения, как будто созерцали внезапно явившиеся перед ними божества. Два ассистента с непокрытыми головами оцепенели под натянутым на корме матерчатым тентом, поддавшись очарованию, как и все остальные. Но волнение, охватившее юного господина Артура, оказалось хоть и сильным, но скоротечным. Будучи человеком, стяжавшим славу во время ритмизованных скачек под звуки пианино в буржуазных салонах, несмотря на намечающееся брюшко и ярко выраженную лысину, наш молодой человек еще не отказался от желания нравиться. Уверенный в том, что никто, кроме него, в данный момент не является носителем светских традиций, он решил незамедлительно их продемонстрировать. Так как господин зоолог и его коллега были одни, кто надел черные фраки, взгляд юной девушки на мгновение задержался на одном, представляющем собой тип слегка модернизированного[183] средневекового алхимика, и на другом, как две капли воды походившем на свадебного шафера. Свято уверенный в неотразимости своих манер «светского льва», господин зоолог церемонно приветствовал проходящих, очертив цилиндром дугу слева направо и отвесив утонченнейший поклон опытного шаркуна. — Ну и придурок этот парень! — прошептал себе в бороду Алексис Фармак, оценивая со свойственной химику точностью нелепость ситуации. Но дедушка и внучка уже прошли мимо них. Чары сразу же развеялись. На смену тишине, которая встретила появление героев праздника, пришли иные звуки — грохот артиллерии, голоса фанфар, раскатистые крики «ура!». Кортеж тронулся в путь. Следом за стариком и девушкой два индуса-бхили несли большие зонтики, далее шел знаменосец с белым стягом, за ним — два ассистента, для которых было оставлено место на втором корабле. Капитан Кристиан находился несколько в стороне от процессии. С вошедшим в пословицу проворством сипаи поставили трап и натянули поручни на мостике, связующем атолл с островком. Господин Синтез медленно прошествовал по мостику и ступил на риф, сопровождаемый лишь внучкой и двумя индусами-бхили. Старик своими мощными руками принял у знаменосца белый стяг, чье древко заканчивалось острым штырем, и одним ударом вонзил его в мадрепоровую почву. Затем, гордо выпрямившись во весь рост, с глазами, мечущими молнии, с вдохновенным видом, он простер вперед руку и звучным голосом заговорил: — Повинуясь моей, и только моей, воле, силы природы принялись за работу, и из пучины вод морских восстала суша! Теперь по моему слову эта бесплодная земля будет населена живыми организмами! Здесь возникнет жизнь, как возникла она когда-то на Земле. Народятся виды, преобразуются и погибнут, чтобы вновь возродиться, преобразоваться и снова погибнуть. Так из примитивной монеры появится человек, человек Синтеза. Здесь свершится мое Великое Дело! И когда порыв морского ветра развернул знамя, в середине белого полотнища, на плотной бархатистой ткани ослепительно, ярче солнца засверкала вытканная черными бриллиантами надпись: «Et ego creator». Два француза остолбенели. Лишь девиз господина Синтеза помог им оценить всю широту размаха его предприятия. — Далеко нас заведут эти три слова, — сдавленным голосом пробормотал зоолог.
ГЛАВА 5
Затворничество Мэтра. — Состояние Земли перед появлением жизни. — Что могут содержать в себе корабли водоизмещением в пятнадцать сотен тонн. — Лаборатория господина Синтеза. — Строительство купола. — Химик-архитектор. — Витраж. — Алексис Фармак — самый занятый из всех членов командного состава. — Господин зоолог бьет баклуши. — Снисходительный счастливец. — Злопыхательство. — Небьющееся стекло. — Конкурент доктора Фауста. — Беленькая, как парафин. — Зависть. — Наследница. — У старика — гангрена. — Сочтены ли дни господина Синтеза?Всю следующую неделю после торжественного введения во владение земельной собственностью жизнь господина Синтеза можно было охарактеризовать двумя словами: строжайшее затворничество. По причинам, которые никто не мог объяснить, всем было заказано приближаться к Мэтру, за исключением капитана Кристиана, имевшего право входить к хозяину и днем и ночью. Но, несмотря на это обстоятельство, работы шли своим чередом и подвигались вперед с поразительной быстротой. Маленький континент подготовили в указанный срок, но работы еще было немало; прежде чем внедрить в целинную землю примитивные организмы, когда-то первыми возникшие на нашей планете, прежде чем повторить, хоть и в очень маленьких, но верных пропорциях, феномен медленного преобразования, проистекавший в течение долгой череды веков, важно было воссоздать со всей возможной точностью условия и среду, необходимые для этих преобразований. Общеизвестно, что сперва, находясь еще в газообразном состоянии, Земля, как сегодня Солнце, прошла период непомерного раскаливания. Затем, постепенно конденсируясь, она стала охлаждаться[184] и из газообразной сделалась жидкой. Охлаждение, шедшее от поверхности к ядру, образовало твердь. Однако отвердение не было полным, ибо вокруг Земли продолжал сохраняться газовый ореол — атмосфера. Первоначально атмосфера эта отнюдь не была, как ныне, пригодной для дыхания, так как в испарениях содержались все виды минералов, которые по мере охлаждения падали на земную кору. Судя по тому, что жизнь зародилась в виде простейших организмов, атмосфера тогда и близко не походила на сегодняшнюю. Наполненная водными парами, не до конца избавившись от насыщавших ее газов (в частности, от углекислого газа), пронизанная электрическими разрядами, она смахивала на гигантскую лабораторию, где постепенно появлялись примитивнейшие существа. Жизнедеятельность вновь появившихся элементарных организмов, поставленных в другие условия развития, не могла быть полностью подобна их сегодняшнему существованию. Следовательно, господин Синтез непременно должен был воспроизвести среду, в которой происходила эволюция. Вот почему он приказал безотлагательно превратить атолл в задуманную им лабораторию. Так как построение этого гигантского аппарата входило в компетенцию химика, наблюдение за строительством и пуском Мэтр поручил Алексису Фармаку. Ему, несмотря на неограниченные полномочия исполнителя, был тем не менее предложен разработанный во всех деталях план, оставалось лишь строго его выполнять. Оказалось, что совершенно новые обязанности, возложенные на бывшего профессора взрывчатых наук, ни в коей мере не помешали ему с первых же шагов зарекомендовать себя необыкновенно практичным зодчим. На кораблях с лихвой были припасены все необходимые для строительства материалы. Легко себе представить, сколько можно загрузить на судно водоизмещением в пятнадцать сотен тонн! А их у господина Синтеза было целых четыре, к тому же нагруженных до отказа! Именно на «Ганге» прибыло все необходимое для создания лаборатории. Капитан Кристиан — человек в экспедиции универсальный — дал приказ разгружать трюмы корабля по мере необходимости. Лаборатория, не имеющая себе подобных ни по своему предназначению, ни по своим размерам, должна была опираться на наружное коралловое кольцо, образующее атолл, и покрывать всю внутреннюю часть лагуны так, чтобы полностью отгородить ее от внешнегомира. Несущая конструкция, хоть и легкая, но, учитывая ее громадные размеры, весьма прочная, состояла из трубок оцинкованного железа, длиною всего три метра, дугообразной формы. Трубки эти соединялись между собой, легко ввинчиваясь друг в друга, пока не стопорились с помощью фланца[185], препятствовавшего дальнейшему скольжению. Кроме того, соединение подстраховывали два болта. Все монтировалось так, чтобы ни во время ведения работ, ни впоследствии не возникло ни одного разъема. Не вдаваясь здесь в технические подробности строительства куполов, не упоминая ни о прочности материалов, ни о способах их применения, ни о путях достижения устойчивого равновесия, скажем только, что создание купола представляет немалые трудности, хотя в данном случае и менее значительные, поскольку камень заменили металлом. К тому же Алексис Фармак имел незаменимого помощника в лице капитана — перед этим человеком склонялись все препятствия. Что касается техники исполнения, то она была предельно облегчена благодаря участию китайских кули и матросов с кораблей, а также наличию на судах необходимых материалов. Бригада из пятидесяти китайцев получила приказ пробурить в коралловом кольце ряд скважин метровой глубины в метре друг от друга. Эти скважины должны были служить гнездами для железных опор — будущего основания меридионального каркаса[186] купола. Несмотря на необычайную крепость коралловой скалы, работы выполнили с такой быстротой, что уже через два дня по всей окружности зияли триста пятнадцать отверстий, в которые были вставлены и зацементированы вертикальные опоры. В данный момент строящаяся лаборатория являла собой зрелище довольно странное: частокол железных штырей высотой полтора метра, к которым крепился второй, третий и так далее ряд дугообразных трубок. Благодаря фланцу они точно садились на свое место, оставалось лишь затянуть болты. Еще один слой — и меридианы каркаса достигнут четырех с половиной метров в высоту. Однако здесь возникли трудности. Если продолжать наращивать трубки, вся конструкция, не успев взмыть вверх, тут же и обрушится под тяжестью все новых и новых секций арки. Во избежание такого поворота дел следовало скомпенсировать силу тяжести свода. С этой целью извлекли со склада большое количество прямых метровых металлических прутков с отверстиями на концах, равными ширине меридианных трубок. По мере наращивания каркаса, прутками стягивали соседние колена арочных дуг в местах соединения дугообразных трубок друг с другом. Таким образом, триста пятнадцать меридианов оказались крепко связанными параллелями, что позволило и превратить все строение в целостный блок. Эта операция, кажущаяся легкой только на первый взгляд, закончилась без каких бы то ни было происшествий, достойных упоминания. Кули с удивительной быстротой, но при этом сохраняя полную бестрепетность небьющейся китайской вазы, воздвигли весь громадный металлический частокол с необыкновенной сноровкой и ловкостью. Кстати сказать, все составные части купола изначально были так хорошо подогнаны друг к другу, что их оставалось только составлять и затягивать болтами. Наиболее сложным оказался их подъем с помощью канатов. Но и эта операция — единственная, требующая приложения некоторой силы, — выполнялась более чем достаточными по численности бригадами и не вызвала каких-либо осложнений. Когда каркас полностью собрали, прежде чем приступить к монтажу стеклянного покрытия, Алексис Фармак, действуя, как всегда, согласно плану Мэтра, приступил к установке некоторых аппаратов, назначение которых должно было выясниться лишь впоследствии. Многочисленные медные стержни пяти сантиметров в сечении и длиной в пять, семь и десять метров с размещенными на концах сферами более тридцати сантиметров в диаметре были установлены под куполом на фарфоровые изоляторы. Они размещались на разной высоте и были снабжены проводами, покрытыми гуттаперчевой изоляцией[187]. Задействовано было и большое количество трубок из вулканизированного каучука[188], чтобы впоследствии установить коммуникации между аппаратурой, расположенной внутри, и многочисленными аппаратами, установленными снаружи. Затем китайцы, успевшие побывать и водолазами, и строителями, превратились в стекольщиков-витражистов[189]. Из трюмов всех судов безостановочно извлекались ящики, наполненные тысячами и тысячами кусков листового стекла. Задача состояла в том, чтобы превратить громадное сооружение в некую разновидность теплицы. Химик пользовался теми методами, к которым прибегают строители оранжерей, с той только разницей, что каждое стеклышко промазывали быстро сохнущей герметизирующей замазкой, вскоре становившейся такой же твердой, как само стекло. Эта операция (от нее зависела водонепроницаемость купола) исполнялась с крайней тщательностью. Рабочие трудились под неусыпным вниманием бригадиров. Сам Алексис Фармак, желая удостовериться, что работы производятся со всей возможной тщательностью, собственной персоной несколько раз в день влезал на купол. Достойнейший химик, принимая — и совершенно справедливо — свои задачи всерьез, стал таким образом самым занятым человеком из всего командного состава. Дни для него пролетали с такой скоростью, что он почти полностью потерял чувство времени. А его коллега-зоолог? Тот бил баклуши и для человека, который с самого детства с головой ушел в учебу, вел себя по меньшей мере странно. Вот уже две недели для юного господина Артура часы тянулись нескончаемо; он ни разу не открыл книги, не написал ни единого слова. Все видели, как зоолог с меланхолическим видом слоняется из каюты в лабораторию и обратно или долгими часами полулежит в качалке и наблюдает, как трудятся рабочие. Даже его прекрасный аппетит был уже не тот, что несказанно огорчало корабельного кока, большого мастера своего дела, который очень любил, когда его талантам отдавалось должное настоящими гурманами. (Господин Синтез, хоть и не питался, как обычные смертные, тщательно подбирал поваров, а его хлебосольный стол бы столь же обильным, сколь и разнообразным.) В конце концов молодой профессор почти перестал спать, его свежий цвет лица поблек, под глазами образовались круги, брюшко опало. Так как с первого же момента господин Артур вызвал живейшую неприязнь у всего командного состава, раздражив и капитана, и его помощников, и даже механиков своим высокомерием и чванством, своей претензией на роль всезнайки и остроумца, его вежливо, но неуклонно избегали, и таким образом он находился в полной изоляции — не с кем было даже перекинуться словом. Однако само по себе одиночество не могло быть причиной столь разительных перемен, во всяком случае, оно не должно было отбить у него тягу к знаниям. Здесь крылась какая-то загадка, впрочем, загадка, пожалуй, никого не интересующая. Между тем юный господин Артур, устав качаться в шезлонге и слоняться по палубе как неприкаянный, подался на атолл — якобы вблизи посмотреть на ход работ, а на самом же деле, чтобы сбежать от своего мучительного одиночества. В душе Алексис Фармак был человек добрый. Если не нападать впрямую на его научные убеждения и не делать ядовитых намеков на его пристрастие к взрывчатым веществам, то он оставался склонным к всепрощению и ни на кого не держал зла. Фанатично преданный науке и любящий ее ради нее самой, наш профессор углублялся в свои занятия без тени выгоды или корысти, доходя до полного небрежения практическими сторонами жизни. Поэтому-то, как только господин зоолог прекратил сомнительные шуточки в его адрес, Алексис Фармак тотчас же выкинул из памяти все прежние ссоры со своим коллегой. Поступив на службу к господину Синтезу, Алексис Фармак стал счастливейшим химиком прошлых, настоящих и, должно быть, будущих времен. Мысль, что он участвует в Великом Деле выдающегося ученого, опьянила его, и чувство это, хоть и чисто платоническое, было весьма упоительно. Склонный, как все счастливые люди, к снисходительности, Фармак охотно принимал общество зоолога и выслушивал его сетования. А тот, раздражительный, нервный, задиристый, уже не сыпал, как раньше, эпиграммами[190], но, рискуя вновь остаться одиноким, словно прокаженный, принимался критиковать и сам проект господина Синтеза, и правильность его исполнения. Сначала господин Артур утверждал, что лаборатория не устоит ввиду своих колоссальных размеров. Увидев не без тайного недовольства, что она почти закончена, он начинал шельмовать ее общее устройство, все до последнего стеклышка. — Послушайте, — едко спрашивал зоолог, — разве могут простые стекляшки выдержать натиск непогоды? — Ой-ой-ой! Как знать! — потирал руки химик. — Но их же первый налетевший град обратит в осколки! — Ошибаетесь, дражайший коллега, ошибаетесь! Это стекло — хозяина. Оно небьющееся! Слышите, не-бью-ще-еся. Наш шеф — человек крутой, он, пускаясь в такое предприятие, все до мельчайшей детали обмозговал. — Что да, то да… И богач к тому же… — Верно, он так богат, просто дух захватывает. — Подумать только — столько денег выбросить на ветер! — Разве то, что мы сейчас делаем, означает выбрасывать деньги на ветер? — Я не о том! На его месте я бы предпочел насладиться всеми доступными человеку удовольствиями… — Всего-навсего как доктор Фауст?[191] Это иногда плохо кончается, милейший. Нет, дорогуша, мы, ученые, состоим не из одного желудка! А зоолог, словно одержимый навязчивой идеей, снова твердил свое: — Говорят, на борту «Анны» неслыханное количество драгоценных камней… — Очень может быть. Капитан сообщил, что некоторые детали приборов сделаны из бриллиантов. Что нам эти камушки! — Легко вы ими разбрасываетесь! — Легко! Уверяю вас, легко! — Не могу сказать того же о себе. Я бы предпочел быть богатым, жить на широкую ногу, а не прозябать здесь, получая жалкие двенадцать или пятнадцать тысяч в год! — Ну и аппетит у вас! А я счастлив, когда зарабатываю сто су в день! На мгновение зоолог замолк. Затем брякнул безо всяких околичностей: — И юная девушка, почти дитя, когда-нибудь станет полной хозяйкой всего этого! — Что? Девушка? Какая девушка? — Как? Вы что, сумасшедший? Вы не заметили ее три недели тому назад, когда господин Синтез предстал перед нами во всей своей красе? — А ведь и правда! Черт возьми, я совсем запамятовал! — Вы непостижимый человек! — Позабыл… Такая маленькая, беленькая, как парафин…[192] Вы ее имеете в виду? Кстати говоря, очень скромно одетая, во всяком случае, на фоне патрона, который сверкал, словно солнце… Кажется, припоминаю, ее вид меня поразил, хотя я вообще-то не интересуюсь женщинами, а царевнами из сказок «Тысяча и одной ночи»[193] и подавно. — Беленькая, как парафин!.. — воскликнул в ответ ошеломленный профессор. — Это все, что вы можете сказать об этом чудесном создании?! — Разумеется. Необыкновенная прозрачность ее кожи по аналогии натолкнула меня на мысль о смеси гидроводорода, именуемой парафином. А вы… куда вы клоните? — А вам не пришло в голову, как пришло мне, что мадемуазель Анна Ван Прет станет богатой наследницей? — Откуда вы знаете ее имя? Ах да! В ее честь назван наш корабль, я в этом ни минуты не сомневался! Что же до ее наследства, то прежде надо, чтобы господин Синтез соблаговолил сказать «прощай» радостям жизни. А в скорости этого момента я сильно сомневаюсь. — Да, знаю, — чем старики ближе к гробу, тем больше они хватаются за жизнь. — Оставьте ваши шуточки, тем более такого сорта! Хотя… Что-то патрона давно не видно. По-вашему, он болен? — Конечно, болен. Как все восьмидесятилетние старики. А болезнь их состоит в том, что им восемьдесят лет. — Ну, если дело только в этом, то я спокоен. Господин Синтез — человек незаурядный. Не удивлюсь, если лет через двадцать, к своему столетию, он будет выглядеть еще вполне бодрым. — Нет. — Как это — нет? — Я хочу сказать, что роковой конец куда ближе, чем вы полагаете. У господина Синтеза сочтены не только годы, но и месяцы, а быть может, и дни. — Что вы плетете?! — Я говорю чистую правду, дорогой мой. — Но это невозможно! — Вы что, врач? — К сожалению, нет. На это мне всегда не хватало времени. А вы? — Выпускник медицинского факультета Парижского университета, работал интерном во многих больницах. — И это вам позволило заметить у господина Синтеза какой-то тяжелый недуг? — Чрезвычайно тяжелый, который раньше чем через год непременно сведет его в могилу. — Вы приводите меня в ужас! Эксперимент ведь только начат! А как же Великое Дело, на которое мы все работаем?.. — Боюсь, вы не увидите его завершения. Разве что на себя возьмете руководство. — Погодите, объясните толком, что вы заметили? — Всего лишь несколько белых с желтизной пятнышек на руках нашего патрона. — И каково значение этих пятнышек? — Они свидетельствуют о начинающейся сенильной гангрене[194]. — Это еще что такое? — Болезнь, которой, как следует из определения «сенильный», что значит «старческий», подвержены исключительно старики. Вызвана преимущественно нарушением кровообращения. У пожилых людей некоторые ткани организма, в частности артерии, подвержены ороговению, — кальциевые соли, откладываясь в сосудах, закупоривают их. — Это мне известно. Они образуют в системе кровообращения скопления фосфата и известкового карбоната. — Совершенно верно. Данное явление называют окостенением. Скопление солей в сосудах в большей или меньшей степени перекрывает кровоток, в результате чего к периферийным органам кровь, поддерживающая их жизнедеятельность, не поступает. Отсюда гангрена — омертвение отдаленных от сердца частей тела, то есть рук и ног. Хорошенько запомните, дорогуша, что все старики предрасположены к такого рода заболеваниям. Именно это заставило Биша, часто посещавшего престарелых пациентов, сказать: «Можно подумать, что, накопляя в наших тканях эту чужеродную и несовместимую с жизнью субстанцию, природа хочет незаметно подготовить нас к умиранию». Боюсь, как бы опаснейшая для других стариков гангрена не стала еще более опасной для нашего патрона. — Почему? — Вы что, позабыли о режиме, которого господин Синтез придерживается в течение целого ряда лет? Ведь он поглощает в чистом виде кальциевые вещества, и они полностью усваиваются в его организме, что чрезвычайно способствует их отложению. — Увы, все, что вы говорите, звучит вполне логично… — Заметьте, я не обсуждаю сам принцип химического питания, я говорю лишь о его последствиях. Думается, вся артериальная система господина Синтеза, включая сердце, забита кальцием. Это напоминает, с учетом разности пропорций, историю со злополучными кораллами, так бурно разросшимися за два месяца. Теперь наш Мэтр представляет собой не столько человека, сколько монолит в процессе его формирования, — добавил зоолог со злобной усмешкой. — Но господин Синтез, знающий все на свете, должно быть, сыскал средство от опасной болезни. Наверное, он нашел растворители, реактивы, способные или воспрепятствовать накоплению, или обеспечить выведение из организма вышеназванных веществ. — Хотел бы надеяться, однако твердо рассчитывать не смею. — Но уверены ли вы, что природа замеченных вами пятнышек именно такова, как вы говорите? Быть может, это следы кислоты, капнувшей на кожу во время недавних лабораторных исследований? — Я их подробно рассмотрел, незаметно для хозяина, пока он изучал коралловую ветвь, поднятую со дна лагуны. Вывод мой однозначен: пятна имеют гангренозное происхождение. Впрочем, признаки болезни еще не так явны, быть может, она продлится дольше, чем я предполагаю. Как бы там ни было, поверьте мне и перед лицом печальной очевидности примите свои меры предосторожности, а я приму свои. Потому что по имеющимся признакам господин Синтез обречен.
ГЛАВА 6
Старый знакомый. — Помощник кочегара. — Из префектуры полиции. — В Коралловое море. — Инструкции, полученные секретным агентом. — На борту «Анны». — Как агент номер 32 оценивает работы господина Синтеза. — Электродинамическая машина. — Лаборатория полностью оборудована. — Речь идет о превращении шестисот китайцев в фарш. — Пока раздували пары главной машины, чтоб получить электрический ток. — Обморок. — Бред. — Два помощника кочегара оказались отнюдь не помощниками кочегара.Господин префект! Безотлучно проводя нескончаемые дни между небом и водой, затерянный в таинственном море, причудливо усеянном рифами, почти забыв, в каком полушарии Земли нахожусь, я не знаю, когда и каким образом отошлю вам этот рапорт и дойдет ли он до вас вообще. Пишу со всей необходимой тщательностью скорее из чувства профессионального долга, чем в надежде обрести счастливый случай передать докладную вам. Случай! Вот единственный гонец, на которого и сейчас и впредь мне придется рассчитывать. Еще и еще раз я надеюсь на него со всем рвением узника или, во всяком случае, затворника. Лично не знакомый ни с кем, кроме одного из ассистентов господина Синтеза, моим бывшим «профессором взрывчатых наук» Алексисом Фармаком, я без малейшего колебания решился исполнить поручение, которое имел честь от вас получить и которое состоит в наблюдении в интересах Центра за участниками экспедиции, предпринятой господином Синтезом. Я предполагал, что человеку, тем паче профессионалу, нетрудно будет затеряться среди персонала, да еще такого многочисленного, как команды четырех кораблей. Мои расчеты оказались верными. Единственная трудность была — не выглядеть на судне как некая приблудная личность, а стать человеком, имеющим свои определенные обязанности, чье присутствие не вызывает ни у кого никаких подозрений. Учитывая свое полное невежество в области мореходства, я по прибытии в Гавр избрал себе профессию, не требующую предварительной подготовки, но позволяющую держаться в тени и находиться в отдалении, хотя свою внешность мне все равно пришлось изменить с помощью грима. Профессия эта — помощник кочегара — имеет не только большие преимущества, но и причиняет страшные неудобства. На борту пароходов подачу топлива из угольного бункера осуществляют угольщики (так называют помощников кочегаров). Заточенные в закутки, напоминающие тюремные камеры, расположенные вблизи топок, лишенные свежего воздуха, палимые адским жаром, обливаясь потом, эти люди, пока корабль находится в рейсе, ведут нестерпимо тяжелую жизнь… Но хватит об этом. Это всего лишь незначительные подробности. Теперь несколько слов о том, как мне удалось проникнуть на корабль. Пока суда господина Синтеза грузились топливом в Гавре, я ухитрился свести дружбу с одним из кочегаров, страдавшим, как и все его коллеги, хронической «жаждой». Путь к его сердцу я нащупал через желудок, то есть добросовестно поил моряка по каждому случаю. Вскоре нас было не разлить водой, мне удавалось даже по ночам уводить его с корабля с целью устроить загул в припортовых кабаках. В конечном итоге вечером накануне отплытия я умудрился напоить своего нового приятеля еще больше, чем обычно, — буквально до положения риз. Затем проворно стащил с него одежду, натянул на себя его ветошь, оставив ему свое платье и сто франков в придачу, чтобы несколько утешить его после пробуждения. Поручив беднягу неподкупной хозяйке заведения, я вышел и, вымазавшись угольной пылью у ближайшего вагона, сделался совершенно неузнаваемым. Преображенный таким образом, я смело поднялся на борт, притворяясь пьяным. Вахтенный для проформы на меня рявкнул, но моряки снисходительны по отношению к пьяным. Его великодушие простерлось до того, что он самолично соблаговолил проводить меня в кубрик. Подпирая меня своим могучим плечом, он размышлял вслух: — Сильно нажрался парень. При его вонючей работенке как глотку не промочить? Хорошо, что сейчас такая темень, не то офицер живенько б его турнул продолжать пьянку на суше. Не имея понятия о том, где живу, каков номер моей койки, я, естественно, улегся прямо на полу и заснул. На рассвете меня тотчас же отправили в угольный бункер с моими товарищами, нанятыми всего за несколько дней до того, так что они совсем не знали или знали едва-едва человека, которого я так неожиданно подменил. Пароход разводил пары. Я приступил к исполнению своих обязанностей под именем Жака Пледена, члена корабельной команды на «Анне». Незачем бередить себе душу, вспоминая первые шаги, это было ужасно… К счастью, по мере продолжения плавания, ситуация стала улучшаться. Мы бросили якорь в Порт-Саиде, затем двинулись дальше, чтобы по Суэцкому каналу пройти в Красное море. Наш рабочий график был составлен так, что короткие часы работы перемежались с продолжительным отдыхом, наступившим как нельзя кстати, ибо, несмотря на мое рвение и недюжинную физическую силу, я уже еле волочил ноги. Пока суд да дело, я отпустил бороду, окончательно изменив свою внешность, — мой бывший преподаватель теперь меня точно не узнает. А ведь это не человек, а сущий дьявол! Пусть он и одноглазый, но не преминет всполошиться, ежели хоть что-нибудь покажется ему подозрительным. Когда судно прибудет на место, мы погасим топки и я наконец-то покину свой угольный ад. Простите, господин префект, что я так рассусоливаю все эти с виду незначительные подробности. Необычная ситуация, в которой я оказался, меня оправдывает. Мне так одиноко в среде своих сотоварищей! Иногда тянет поговорить с самим собой и, чтобы хоть как-нибудь развеять скуку этой продолжительной стоянки, стараюсь, «выговориться» на бумаге. Ясное дело, из-за этого рапорт несколько растянут, зато ситуация будет освещена полнее. К тому же, как вам станет ясно из дальнейших событий, некоторые детали, касающиеся моей профессии кочегара, не помешают. Совершив дальнейший переход без особых происшествий, мы вошли в Коралловое море, расположенное, как вам известно, на северо-востоке от Австралии. Я еще не смог узнать точную широту и долготу нашего местопребывания (деталь, кстати сказать, не имеющая никакого значения, во всяком случае на данный момент). Памятуя ваш приказ узнать истинное назначение скафандров, химреактивов, машин, вообще всех материалов, погруженных на корабли господина Синтеза, а также смысл слов, произнесенных им во время вашей беседы об опыте, предполагающем создание ранее не существовавшей суши, я решил выяснить, каким способом сей господин вознамерился осуществить свой проект и каковы будут последующие события? Должен сразу же оговорить тот факт, что касательно новой земли этот чудак сказал вам истинную правду. Он действительно создал небольшой островок диаметром около двадцати пяти метров. Вы спросите: «Как?» Способ, выбранный им, потрясает своей оригинальностью. Взяв за основу принцип образования кораллового рифа, господин Синтез, исходя из своих умозаключений, сбросил в огромный бассейн с морской водой, где жили кораллы, весь груз одного из кораблей, того, что вез химреактивы. Перенасытившись и объевшись, зверушки сфабриковали ему коралловый риф, чей кубический дециметр, между нами говоря, влетел ему в копеечку. Он называет этот риф своей землей. По моему скромному разумению, раз уж господину Синтезу так приспичило обладать новой сушей, довольно было прямо на дне нарастить бетонный блок, а не пичкать тварей разными химикатами. Хотя, возможно, с точки зрения ученого, это далеко не одно и то же. Я им восхищаюсь, все принимая на веру, ибо не в моей компетенции по достоинству его оценить. Каковы бы ни были мотивы, побудившие господина Синтеза к действию, я не вижу в этой дорогостоящей помещичьей прихоти ничего предосудительного или противозаконного, — все его действия не содержат покушения на свободу народов или отдельных лиц. Риф господина Синтеза не препятствует судоходству, так как его омывают миллионы лье океана, где и без того рифов пруд пруди. Одним больше, одним меньше — какая разница? К тому же он расположен не во французских водах. Итак, по одному пункту ясность внесена. Надо сказать, что, прежде чем войти в Торресов пролив, чтобы далее взять курс в Коралловое море, наша флотилия зашла в Макао и приняла на борт большое количество китайских кули. Господин Синтез нанял шесть сотен этих макак, чтобы они выполняли всевозможные работы в качестве чернорабочих. Контракт был подписан по всей форме, в присутствии португальского прокурора и шведского консула, в агентстве по делам иммигрантов, куда судовладелец официально обратился. С этой стороны — не подкопаешься. Кроме того, господин Синтез не является французским подданным. А пользование вольнонаемным трудом желтокожих разрешено международным сводом законов. Как только сыны Поднебесной империи прибыли в Коралловое море, они тотчас же облачились в скафандры, дабы зацементировать с помощью портлендского цемента дно бассейна, предназначенного для откорма кораллов. Итак, пока все идет по законам логики. Скафандры использовались строго по назначению: опасения должностных лиц по поводу их приобретения оказались беспочвенными. С самого начала было очевидно, что господин Синтез вряд ли остановится на достигнутом. И впрямь, после этого фантастического предисловия последовало не менее фантастическое продолжение… В итоге сейчас, когда я пишу вам, островок покрыт гигантским, держащимся на металлических лесах аппаратом в форме стеклянного купола, что делает его похожим на колоссальную теплицу. Это настоящий вызов архитектуре — в диаметре не менее ста метров! Почти в полтора раза превышает купол собора Святого Петра в Риме и более чем в четыре раза купол Пантеона[195]. Вот вам и объяснение, на что пошла значительная часть закупленных грузов. Я начинаю искренне восхищаться человеком, по мановению которого такое чудо было воздвигнуто всего за три недели. Согласен, что все происходящее необычайно, но даже самый предубежденный человек не усмотрит здесь ничего подозрительного. Этот купол, эту утепленную оранжерею многозначительно именуют лабораторией, и, судя по установленной внутри аппаратуре, она вполне оправдывает сие название: через стекло видны хитросплетения ровных или гнутых трубок разнообразных сечений. Заизолированные от попадания морской воды, кислот и газов, пригнанные с величайшей точностью и снабженные металлическими кранами, позволяющими по желанию устанавливать или прерывать подачу перекачиваемых по ним веществ, они тянутся к находящимся за пределами лаборатории химическим аппаратам моего бывшего учителя Алексиса Фармака. В его ведении — котлы из листового железа, плавильные печи, газовые горелки, горны, реторты, короче говоря — бесчисленное множество различных приспособлений этой фантастической кухни. На одном из кораблей установили громадных размеров машину Эдисона[196], чьи провода с медными штоками на концах включаются в розетки, вделанные в свод лаборатории. Насчет назначения электрогенератора у меня пока нет никаких предположений. Будет ли господин Синтез экспериментировать над электрической энергией или устраивать комнатные грозы, понятия не имею. Надеюсь вскоре добыть дополнительные сведения по данному вопросу. Между тем все эти престранные вещи живейшим образом возбуждают любопытство команды. Я прислушиваюсь к тому, о чем говорят моряки европейского происхождения (они любят поспорить и пообсуждать происходящее). Приблизительно две трети экипажа и почти вся обслуга — индусы. Эти люди ничему не удивляются, ничего не замечают, их ничто не смущает, самые неимоверные вещи кажутся им естественными. Короче говоря, будучи фанатиками и фаталистами, они всей душой преданы своему повелителю господину Синтезу. Но среди лиц, имеющих определенные неведомые азиатам представления, необходимые для успеха экспедиции, распространяются странные слухи. Один из таких слухов возник на полубаке[197], — здесь наслушаешься самых фантастических россказней, затмевающих любую сказку. Вообще, на кораблях, как в монастырях или в казармах, народ склонен почесать язык, это объясняется отгороженностью от внешнего мира. К тому же моряки, как правило, суеверны и склонны верить самым нелепым выдумкам. Так вот, о господине Синтезе родилась и молниеносно распространилась среди команды легенда; болтают, будто, сфабриковав новую сушу, он задумал в своей лаборатории создавать людей нового типа, таких совершенных, что мы на их фоне покажемся ничуть не лучше самых паршивых обезьян. Для этой цели предназначаются злополучные китаезы, которые сейчас кемпингуют на отдельном рифе. Они послужат основой или, если вам больше нравится, материалом для этого генезиса[198], как ранее кораллы послужили материалом для сотворения рифа. Мои сотоварищи полагают, что китайцев сперва порубят на кусочки, измельчат, растолкут и обратят в фарш. Затем их пропустят через ряд аппаратов, воздействуют на них реактивами, электрическим током и т. д. Из этой человеческой материи, грубо обработанной согласно какой-то неведомой формуле, будут восставать высшие существа, которыми господин Синтез желает заселить свои владения и, где, скажем в скобках, им будет тесновато… Идея показалась мне оригинальной, а главное, смелой, хотя в данный момент я в нее не верю. Однако осмелюсь утверждать, что, если господин Синтез и впрямь решил учинить подобную бойню, если и впрямь она необходима для воплощения его замысла, он ни перед чем не остановится. Я же в общем-то думаю, что для создания живого организма мой «подопечный» избрал бы менее варварский способ. Как бы там ни было, готовится огромное событие в науке, и мы еще увидим совершенно необыкновенные вещи. Но это не все. Как ни ничтожно занимаемое мной положение помощника кочегара, но оно помогло мне проникнуть в одну тайну, которая, быть может, будет иметь неожиданные последствия для кое-кого из командования. Дело было совсем недавно, так как произошло оно уже после установки электродинамической машины Эдисона. Вам известно, что принцип работы этой машины зиждется на добыче электроэнергии путем движения. Поскольку источником движения является преимущественно пар, электродинамическая машина черпает эту силу у паровой машины. Соответственно, установленный на нашем корабле прибор Эдисона своим двигателем имел непосредственно наши генераторы. Когда машина проходила испытания, нам, естественно, пришлось разжечь топки, из чего следует, что помощники кочегаров после долгого бездействия вновь засучили рукава. Я заступил на первую вахту, а напарником моим был один очень молчаливый парень, сущий человеконенавистник, — он никогда ни с кем и словом не перемолвился, а большую часть свободного времени проводил, прячась в самые укромные закоулки на судне. Человек этот меня заинтересовал, несмотря на свою молчаливость, и я решил, чтобы скоротать время, немного понаблюдать за ним. Судите сами, каково было мое удивление, когда я заметил, что он постоянно обменивается многозначительными взглядами, знаками, даже перебрасывается словом-другим с индусами из команды и даже со слугой капитана. Еще я заметил, что человек этот что-то уж слишком блюдет толстый слой сажи, покрывающий ему лицо. И мне захотелось узнать, почему он один из всей команды старается ни на секунду не смывать с себя этой омерзительной маски. (А я-то теперь благодаря бороде с наслаждением мылся в корыте с морской водой, не боясь быть узнанным.) Было очевидно, что этот тип тоже скрывается, что в морском деле он новичок, а, как я уже говорил, профессия кочегара — самый лучший вариант в такой ситуации. Прошло довольно много времени, прежде чем я, не без некоторого тайного удовлетворения, убедился в правильности своего предположения. Это произошло в день запуска электродинамической машины. Была жуткая пятидесятиградусная жара, и, так как корабль стоял на рейде, вентиляционные трубы не пропускали в нашу парилку ни единого дуновения свежего воздуха. К тому же мы успели отвыкнуть от этой адской работы и вскоре уже совсем вывалили языки. Несмотря на всю свою энергию, мой товарищ скопытился первым. Задыхаясь, он тяжело повалился на кучу угля. Не знаю, что придало мне силы, скорее всего любопытство, нежели сострадание, но я, сам почти теряя сознание, схватив его в охапку, выволок, как тюк, из переднего трюма и потащил в лазарет, по счастью на то время пустовавший. Я воспользовался этим случаем и, чтобы рассмотреть лицо моего сотоварища, решил умыть его морской водой. Каково же было мое удивление, когда из-под омерзительного налета угольной пыли появились матовая белая кожа, прекрасные и тонкие благородные черты, короче говоря, совершенный образец мужской красоты, настоящего индийского бога! Мой пациент оказался совсем молодым человеком, лет двадцати — двадцати пяти. Он постепенно пришел в себя. Когда его взгляд остановился на мне, в нем появился испуг. Юноша забормотал что-то бессвязное; мелькнуло имя господина Синтеза, затем угрозы убить старика. (После почти трехмесячной жизни бок о бок с индусами я немного нахватался языка хинди[199] и даже научился без труда понимать некоторые общеупотребимые фразы.) Мой больной оказался врагом господина Синтеза, притом, судя по яростному выражению, исказившему его лицо, пока он бредил, врагом заклятым! Внезапно он опомнился и узнал меня. — Ты говоришь по-английски? — без обиняков спросил он. Я родился в Булон-сюр-Мер, и английский наряду с французским мне, можно сказать, родной[200]. Кивком головы я ответил утвердительно. — Я только что разговаривал… Ты слышал… — Но я не понимаю языка хинди! — Лжешь! К тому же ты видел мое лицо. — Ну и что с того? Скажи, дружище, это твоя благодарность за оказанную тебе услугу?! А если бы я не вытащил тебя сюда, если бы бросил в трюме?! Ты б и пятнадцати минут не протянул! — Твоя правда. Но ты узнал тайну, а тайна убивает. — Не говори глупостей и не устраивай мелодрам. Я тоже непрост, меня не запугаешь. Поговорим спокойно. Чего ты хочешь? — Чтобы ты обо всем забыл. — О, это совсем легко, ведь я ничего не знаю. — И мои слова, и мое лицо… — Если тебе это доставит удовольствие, то я — со всей душой! — Поклянись! — Ладно, клянусь. Ты доволен? — А теперь вернемся к работе. Никто не должен видеть мое настоящее лицо. Мы возвратились в трюм, где этот голубчик вновь загримировался с величайшей тщательностью. — А ты что здесь делаешь? — спросил он меня шепотом. — Как видишь, таскаю уголь в ручной корзине. Поганая работа. — Это не твоя профессия. Ты, как и я, не настоящий помощник кочегара. «Ну и ну! Попал прямо в яблочко!» — отметил я про себя. — Отвечай! Зачем ты здесь? — Этот секрет мне не принадлежит. К тому же к тебе он не имеет ни малейшего отношения и никого, кроме господина Синтеза, не касается!.. — Значит, ты здесь не из-за нее? — Ты о ком? — О находящейся на борту юной девушке. О той, из-за которой я терплю все эти адские муки… О той, которая цепями приковала к себе мою душу… — А-а… Знаю, дружище, знаю! Нет-нет, успокойся, я тебе не соперник. — Клянешься? — У тебя, приятель, навязчивая идея все время клясться. Сам посмотри, похож ли я на героя романа? — Да уж… — Он слабо улыбнулся, окинув взглядом мою вполне заурядную фигуру и ничем не примечательную физиономию. — Но, — необдуманно брякнул я, — если ты питаешь столь нежные чувства к внучке, почему так люто ненавидишь деда? — Наконец-то ты признался!.. Ты слышал, как я угрожал ему в бреду! — Ну и что, раз я пообещал держать это в секрете? Послушай, давай заключим договор — откровенность за откровенность, молчание за молчание. Я — детектив, посланный французской полицией следить за господином Синтезом. — Ничего ты о нем не узнаешь. К тому же он не представляет никакого интереса для правосудия твоей страны. Французам он не враг. — А кому он враг? — Англичанам. — Быть того не может! Но почему? — Не знаю. Только могу сказать, что когда-то господин Синтез был другом старого раджи из Битура. Он воспитал в его приемном сыне Дхондопукт-Нанаже эту ненависть… — Не слышал о таком… — Вы, европейцы, называли его Нана-Саибом[201]. — Этого знаю. Горе-герой великого восстания тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, инициатор резни в Канпуре… — Совершенно верно. Синтез сделал Нана своим инструментом и тайно руководил восстанием. — Будь по-твоему. Но это же дела давно минувших дней, современников они не интересуют, амнистия была давно. Кроме того, надо еще доказать… Тебе-то что за дело? — Не важно. Знай только, что Синтез был злым гением моей семьи, из-за него хищники сожрали труп моего отца, а я потерял свою касту, стал парией[202]. Однако хватит. Тебе известна часть моего секрета, мне — твоего. Мы квиты и должны жить разумно, в добром согласии, не стараясь навредить друг другу. А скажешь хоть слово Саибу (хозяину), сразу же умрешь — ведь у меня здесь сообщники, и ты их не знаешь. За работу! Вот в какую странную историю я влип. Зачем? Убей Бог, не знаю. Этот загадочный юноша, имени которого я даже не спросил, говорил, как человек цивилизованный, а ненавидел, как дикарь. Мне казалось, такой способен совершить преступление. Должно быть, выжидает удобного случая, чтоб избавиться от господина Синтеза и завладеть девушкой. Это будет нелегко — старика хорошо охраняют. Видимо, инстинкт подсказывает ему, что следует остерегаться. Что прикажете делать мне в подобных обстоятельствах? Все рассказать Саибу, как они его тут окрестили? Тогда пришлось бы ему выложить, что я специально послан Центром. Вряд ли господину Синтезу это может понравиться. К тому же мой коллега, наверное, убьет меня, что не входит в мои планы. Не лучше ли промолчать? Надо, чтоб и овцы были целы, и волки сыты. Буду тайком радеть о безопасности старца, а самому, во всяком случае внешне, следует оставаться пассивным сообщником моего незнакомца хотя бы для того, чтобы вовремя расстроить его замыслы. Я лично вовсе не симпатизирую господину Синтезу и в других обстоятельствах не стал бы вмешиваться. Но меня заинтересовал его опыт, и я хотел бы узнать, чем все закончится. Это мой профессиональный долг.
__________
Таким умозаключением, свидетельствующим не столько о человеколюбии автора, сколько о наличии у него философской жилки, агент номер 32 завершил свой рапорт. Аккуратно сложил тонкие листки бумаги для прокладки гравюр, исписанные микроскопическим почерком, обмотал их вокруг карандашного грифеля и все вместе вставил в завинчивающийся футлярчик, который спрятал за подкладку робы.ГЛАВА 7
Предписание. — Ужас зоолога при чтении этой бумаги. — Предстоящее погружение на пять-шесть километров под воду. — Юный господин Артур не в восторге от перспективы отправиться в такую даль на поиски bathybius hæckelii[203]. — «Морской крот». — Аппарат глубоководного зондирования. — Тибоды. — Возле «Лота» и «Подводника». — Шестикилометровый стальной трос. — Господин Синтез промыл свои сосуды. — Последние приготовления подводной экспедиции. — Запертые в металлической капсуле. — Спуск. — Море освещено электрическим светом. — Разговор на глубине пяти тысяч двухсот метров.Несмотря на затворническую жизнь господина Синтеза, его прекрасно составленные планы воплощались в жизнь как по мановению волшебной палочки. Приказы отличались такой четкостью, прорабы проявляли такую смекалку, а рабочие трудились так рьяно и сноровисто, что подготовительный период пролетел очень быстро. Чудо-лаборатория, воздвигнутая на атолле и снабженная всеми пристройками и службами, а также разнообразнейшей аппаратурой, была готова к тому, чтобы в ее стенах воплотилось Великое Дело господина Синтеза. Но пока тут еще царит покой. Электродинамическая машина накрыта большим брезентом, под сводом купола, причудливо сплетясь, застыли неподвижные трубки, а солнце ослепительно сверкает на витраже. Печи и реторты, котлы и жаровни ждут появления таинственной субстанции, чья формула известна только Мэтру. По всему видно, что все эти многочисленные приспособления готовы вступить в действие — и гигантская машина тотчас же придет в движение по первому слову старого ученого. Невзирая на пугающие прогнозы Роже-Адамса относительно состояния здоровья господина Синтеза, ничто, казалось, не изменилось в замыслах старика. Даже капитан Кристиан, навещавший его два-три раза в день, имел вид как никогда веселый. Зная преданность капитана хозяину, оставалось предполагать, что или мрачные предсказания зоолога не оправдались, или он ошибся в диагнозе. Иначе бы лицо капитана день ото дня не светилось бы все большей радостью. Наконец утром, ровно через месяц после начала монтажа лаборатории, господин Роже-Адамс, хранивший все время выражение меланхолии и озабоченности, ворвался с искаженным лицом в каюту своего коллеги. Алексис Фармак в марокканской одежде[204] возлежал на койке рядом с открытым иллюминатором и наслаждался дуновениями морского ветерка. — Господи! Что с вами? Что случилось? На борту пожар? Нет, вы заболели! Вы желты, как айва… У вас что, печень пошаливает? Уже целый месяц вас как подменили… Надо подлечиться, дорогуша. Зоолог пропустил мимо ушей весь этот словесный поток и сокрушенно ответил: — Нет, хуже! — Как, хуже пожара?.. Хуже желтухи?.. — Посудите сами, вот предписание… Прочтите эту распроклятую бумажонку, которую наш с вами господин — черт бы его побрал! — соизволил прислать мне со слугой. И зоолог протянул своему коллеге маленький листок плотной бумаги, на котором были написаны острым почерком, похожим на почерк древних алхимиков, несколько слов. — Ты смотри, автограф хозяина! — обрадовался химик. — Можно подумать, сам Вельзевул[205] начертал! — скорбно молвил зоолог. — Но это же так интересно! — Вам хорошо говорить! — Я лично завидую, что вам посчастливится выполнить этот так кратко сформулированный приказ: «Господину Роже-Адамсу предписывается ровно в два часа пополудни занять свое место в «Морском кроте». Предстоит погружение на глубину пять-шесть тысяч метров под воду, где должен водиться bathybius hæckelii. «Морской крот» будет оборудован электрическими лампами и микроскопами». Подпись. Ничего не скажешь, — написано точно иясно. — Это приводит меня в отчаяние! — Да что вы?! Так расстраиваться из-за увлекательнейшей морской прогулки? Ведь на глубине пяти-шести километров под водой через иллюминатор «Морского крота» вы увидите столько чудес! Вы достигнете той глубины, на которую еще не спускался ни один живой человек! — Я достигну ее не живым, а мертвым!.. — Но ведь шеф же отправится вместе с вами! Неужели вы думаете, что он дорожит своей шкурой меньше вашего? Повторяю, вам повезло, я завидую… — Благодарю вас, вы очень добры! — С таким человеком, как наш хозяин, я пошел бы к черту на рога и глазом не моргнув. — Он вас положительно околдовал. — Да, я околдован его выдающимися достоинствами, необыкновенной ученостью, его гением. Да, я рад и горжусь в этом признаться. — Моя натура не так восприимчива… — Ваше дело. Но как бы там ни было, с энтузиазмом или нет, вы хочешь не хочешь совершите в «Кроте» это замечательное погружение на глубину пяти или шести тысяч метров. Не кажется ли вам, что для пожираемого гангреной старца наш шеф еще куда как энергичен? — Глазам своим не верю! Я-то думал, что после этого месяца, который он провел отшельником, увижу перед собой умирающего. — А я — наоборот! Или я очень ошибаюсь, или мы скоро увидим его сильным как никогда. Между нами говоря, думаю, что он использовал этот месяц одиночества для того, чтобы, как говорится, сменить кожу или, если хотите, освободить свои артерии от солевых отложений. — Это невозможно сделать при помощи лекарств. — Невозможно для вас, для меня, для всех прочих смертных, но не для него!.. Что же касается вашей вылазки на поиски bathybius и предполагаемого риска, то еще есть время сделать завещательные распоряжения. Отрадно, не так ли? А быть может, вы предпочтете вместе со мной осмотреть эти два превосходных аппарата для подводного спуска, которые уже приготовлены ввиду предстоящего погружения? Это вас успокоит. — За неимением лучшего, увы, я согласен, — тяжко вздохнул как никогда растерянный зоолог. Аппараты, о которых с таким восторгом говорил химик, были в чем-то схожи между собой в том смысле, что оба предназначались для глубинных погружений, однако они резко различались размерами. Первый — прибор для зондирования — вместе с кабелем весил не более ста пятидесяти килограммов, второй — для спуска подводников — включая вес троса, семь-восемь тонн. Операция, предваряющая каждую подводную экспедицию, состоит в непременном измерении глубины исследуемой местности. Поэтому начнем с краткого описания того снаряда, который первым пускают в дело. Установлен он был непосредственно на палубе и представлял собой большую лебедку, с намотанной на нее стальной проволокой миллиметрового сечения, длиной около десяти тысяч метров. По направляющей проволока поднималась к блоку со стопором[206], обеспечивающим работоспособность установки при любом крене судна. Неподвижный блок, размещенный на планшире[207] судна, был жестко закреплен на палубе и имел червячную передачу[208], приводящую в движение два зубчатых колеса. На одно из них нанесли разметку до десяти тысяч метров. Так как каждый оборот составлял один метр, число, указанное на зубчатых колесах, означало глубину. Такое ловко придуманное размещение создавало автоматический счетчик непогрешимой точности. Действовало это приспособление просто и почти не требовало приложения силы. Лебедка со стальной проволокой имела на оси тормозные колодки, управлявшиеся рычагом, на конце которого находился шкив[209], закрепленный на каретке[210]. По мере вращения блока давление стальной проволоки увеличивалось или уменьшалось, вследствие чего каретка скользила вверх или вниз вдоль грузовой стрелы[211], в большей или меньшей степени надавливая на тормоз, что регулировало скорость разматывания нити. Это устройство называлось лотом. Вес лота достигал семидесяти пяти — восьмидесяти килограммов. Перед тем как замерить глубину, необходимо было при помощи рычага установить счетчик на нулевую отметку. После чего отпускался тормоз и лот погружался под воду до тех пор, пока не касался дна. Чтобы узнать точную глубину, оставалось лишь взглянуть на счетчик — прибор, являвший собой одновременно счетчик, регулятор и регистрирующее устройство. Его изобретению мы обязаны французу, господину Тибодье, выдающемуся инженеру национального судостроения. Еще несколько слов о металлической проволоке, внедрение которой обеспечило настоящий прогресс в глубоководном зондировании. Несмотря на то, что сечение ее не превышает одного миллиметра, она не рвется даже тогда, когда удерживает груз весом сто сорок килограммов. Кроме того, эта проволока имеет еще одно очень большое достоинство: сопротивление потоку воды настолько мало, что результаты измерения будут тем точнее, чем тяжелее груз. В старину, когда для подобных целей пользовались пеньковыми веревками, замеры, особенно на больших глубинах, были очень неточны. Чтобы выдержать вес лота, канат должен был быть довольно толстым, ввиду чего морское течение, действуя на его бо́льшую, нежели необходимо, поверхность, относило лот довольно далеко. Вот почему ошибки, допущенные при блестящих научных исследованиях на «Талисмане» в Атлантике, были исправлены после применения лота Тибодье. Аппарат для подводного спуска располагался на носу корабля. Как было сказано выше, он был гораздо больше первого, — вместо лота в воду погружался настоящий монумент. Высота его равнялась пяти метрам, а диаметр в основании — двум метрам шестидесяти сантиметрам. Представьте себе чудовищный ребристый снаряд, образца 1864–1866 годов, ныне замененный снарядами с медными ободками. Это сходство подчеркивалось еще и двумя рядами хрустальных иллюминаторов, опоясывавших ребра аппарата, словно ободки в нарезном стволе старинного артиллерийского орудия. Верхняя, цилиндрической формы, часть капсулы заканчивалась усеченным шишаком. Можно было предположить, что и вес ее, и прочность были вполне достаточны, чтобы на указанной в предписании глубине, выдержать огромное давление воды. Установленный вертикально возле фок-мачты непосредственно под лебедкой, аппарат мог быть перемещаем по горизонтали слева направо и справа налево. Кабель, удерживавший эту махину, тоже был металлическим, сплетенным из девяти жгутов, каждый из которых состоял из стальных нитей, обкрученных вокруг одной, изолированной гуттаперчей. Несмотря на то, что канат состоял из семидесяти двух жил, диаметром он не превышал восемнадцати миллиметров. Однако прочность его была так велика, что, втрое превышая прочность в четыре раза более толстого пенькового каната, обеспечивала грузоподъемность пятнадцать тонн. Длина кабеля равнялась ровно шести тысячам метров. Для спуска и подъема подводного аппарата, названного его создателем инженером Тозели «Морским кротом», использовалась лебедка, приводимая в движение машиной мощностью тридцать лошадиных сил, и громадная чугунная катушка, на которую с помощью еще одной машины мощностью десять лошадиных сил наматывался кабель. Кстати говоря, ход обоих машин регулировался таким образом, чтобы достигалась абсолютная слаженность движения. Долго рассматривали два ассистента все узлы этого столь же мощного, сколь и хитроумного механизма. Алексис Фармак не без некоторой иронии утешал коллегу, а юный господин Артур казался все более удрученным. Наконец склянки пробили час, который зоолог упрямо продолжал считать роковым. С хронометрической точностью человека, не признающего не только препятствий, но и обыкновенных помех, господин Синтез вышел из своих апартаментов и прошествовал по палубе к зонду. Капитан и матросы, назначенные выполнять маневр, заняли свои посты. Мэтр, холодно ответив на почтительные приветствия и сделав знак следовать за собой, легко зашагал вверх по лестнице. Взгляды ассистентов непроизвольно устремились на его руку, лежащую на поручнях. Крик удивления чуть было не сорвался с их губ — желтоватые пятнышки, в происхождении которых наметанный глаз врача не мог ошибиться, исчезли. Кожа была совершенно чистой и прозрачной, под ней пульсировали голубоватые вены. Не осталось ни малейших следов гангрены! — Это дьявол, а не человек! — прошептал в сторону не верящий глазам своим профессор зоологии. «Черт возьми, а он почистился! — подумал химик. — Этот коновал просто дурак, а патрон — крепкий орешек!» — Готов ли лот к работе? — прозвучал как всегда спокойный голос господина Синтеза. — Все готово, Мэтр. — Хорошо. Приступим. Тотчас же матрос, взявшийся за рычаг, установил счетчик на нулевую отметку, блок закрутился, проволока начала разматываться и лот исчез под водой. После пятиминутного ожидания, во время которого господин Роже-Адамс покрылся гусиной кожей, вращение внезапно прекратилось. — Глубина пять тысяч двести метров! — глянув на счетчик, прокричал капитан. — Хорошо, — отозвался господин Синтез. — Прикажи выбрать зонд и проводи нас к «Кроту». Господа, прошу следовать за мною. Они подошли к тяжелому аппарату, чьи иллюминаторы блестели на солнце как огромные бриллианты. — Открыть затвор! — приказал Мэтр. По команде капитана четверо матросов установили вокруг «Крота» четыре шпангоутных шеста[212], закрепив их сверху и снизу траверсами, привязанными пеньковым тросом. На это четырехугольное основание навели настил для капитана с двумя его помощниками. Стоя на образованном помосте, они на целый метр возвышались над усеченным конусом, образующим верхушку «Морского крота». В кольцо, невидимое снизу, был продет железный штырь, за концы которого взялись два матроса и начали с силой вращать его, как ворот. Послушная этой силе, головка ракеты повернулась справа налево и, произведя семь или восемь оборотов, обнаружила блестящую, словно золото, винтовую нарезку, — аппарат для подводного спуска наглухо завинчивался, что обеспечило его полную герметичность. — Стоп! — скомандовал считавший обороты капитан. Он несколько раз дунул в свисток, и за дело взялись два механика, повернувшие пусковые рычаги машин, выбирающих трос, и тот медленно заскользил по неподвижно закрепленному на конце лебедки блоку. Тяжелая крышка поднялась на высоту двух с половиной метров и по команде застыла. К величайшему неудовольствию Роже-Адамса, у которого буквально подкашивались ноги, вход в «Морской крот» был открыт. По знаку Мэтра капитан и два матроса спустились на палубу. — Проверил ли ты трос и убедился ли в его прочности? — отведя Кристиана в сторону, спросил господин Синтез. — Так точно, Мэтр. Сегодня ночью я опускал «Крот» на глубину четырех тысяч метров и целый час держал его в подвешенном состоянии на перлине[213]. Несмотря на качку судна, которая еще усиливала натяжение, трос великолепно выдержал испытание. — А аппарат со сжатым воздухом? — Я также лично его проверил, как и воздухозаборники. — А электролампы? — Они внутри «Крота» и готовы к работе. — Ты доверяешь своим механикам? — Как себе самому. — Я имею в виду не их преданность, а профессиональную подготовку. — Да, Мэтр, понимаю. Я сам в течение нескольких дней тренировал их на свертывание и развертывание каната. Машины работают абсолютно синхронно. — Превосходно. Нет надобности повторять, в проведении этого тонкого маневра мои надежды только на тебя. — Ах, Мэтр, если бы вы позволили мне занять ваше место! Подумать только — пять тысяч двести метров! Я бы рисковал сам, хотя, впрочем, все непредвиденные обстоятельства сведены до минимума. — Нет, дружок. Я самолично должен отобрать первоматериал для будущего генезиса. — Но можно ли хотя бы сопровождать вас? — Нет. Твой пост здесь, наверху. Ведь ответственность за безопасность нашего предприятия в основном ложится на тебя. — Простите мою настойчивость и можете на меня положиться. — Хорошо. Поставь лестницу — и вперед! Старик медленно взобрался на помост и сделал знак зоологу следовать за ним. — Счастливого пути! — тихо промолвил химик. У юного господина Артура подгибались колени, в горле пересохло, черты лица заострились — он имел вид приговоренного к смерти. А тут еще, как издеваясь, желают счастливого пути! Механически передвигая ноги, ассистент последовал за Мэтром. — Спускайтесь! — поторапливал хозяин. — Полезайте внутрь по этой веревочной лестнице. — Слушаюсь, Мэтр! — А теперь моя очередь, — заявил господин Синтез, спускаясь в «Крот», казалось, поглотивший их обоих. Капитан Кристиан дал знак механикам. Висящая на лебедке крышка медленно опустилась на винтовую резьбу. Два затворника больше не видели небосвода, теперь свет просачивался внутрь аппарата лишь через два ряда иллюминаторов. Они слышали, как завинчивалась крышка, как дребезжал металлический штырь, продетый в верхнее кольцо, как топали по помосту механики, как заработала установленная на палубе машина. Аппарат осторожно, без толчков, подняли в воздух. Лебедка, как гигантская рука, развернула «Крот» на четверть оборота, и он завис над волнами. Все стихло. Злосчастный зоолог, обливаясь холодным потом, застыл неподвижно, схватившись за виски, как будто у него начался приступ морской болезни. Он почти не сознавал, что аппарат погружается. Понемногу становясь зеленоватым, мерк свет. Вскоре в «Кроте» воцарился полумрак. Но тут господин Синтез подключил к свинцовому аккумулятору Гастона Плантэ электрическую лампочку Эдисона. Все сразу же переменилось, как по мановению волшебной палочки. Залитый слепящим светом, «Морской крот» бросал яркие пучки лучей через иллюминаторы, пугая странных и причудливых обитателей моря. Вдали, в сумраке, сияла кровавыми отблесками, поверхность кораллового рифа. Несколько коричневых стеблей, сорванных с рифа, жестких, как железные стержни, водорослей, подхваченные течением, скребли металлический корпус. Большие пучеглазые рыбы уткнули в хрустальные иллюминаторы безмозглые головы и замерли, загипнотизированные резким светом. Огромные крабы царапали клешнями прочные стенки подводного аппарата. Необычайно длинные угри, словно змеи, извивались среди стаи акул, этих свирепых хищников, чьи тела уже не фосфоресцировали — их затмевал свет прожектора. «Крот» продолжал погружение, вот он уже на глубинах, недоступных живым существам. Зоолог, в котором начал пробуждаться инстинкт ученого, разбуженный этой внезапно открывшейся восхитительной панорамой, очнулся от своего оцепенения и начал озирать помещение, где они с Мэтром очутились. Роже-Адамс сразу заметил, что пол кабины почти на метр поднят над днищем аппарата, — значит, под полом существует полость, назначение которой он пока не мог определить. В «Морском кроте», имеющем форму огромного улья, размещалась настоящая, хоть и примитивная, лаборатория, оснащенная инструментами первой необходимости: два микроскопа, флаконы с реактивами, спиртовая горелка, тубусы[214], пробирки, маленькие весы, несколько фарфоровых чаш для выпаривания, аппарат для моментальной фотосъемки и так далее. Предметы располагались в чем-то наподобие серванта шириной сантиметров сорок, установленного вдоль стен на высоте рабочего стола. На самих же стенах цвета нового золота, приглушенного тонким слоем коричневого лака, на вбитых с помощью гидравлического пресса[215] болтах висели веревочные лестницы, по которым два подводных путешественника проникли внутрь капсулы. А на потолке размещался маленький аппарат неизвестного назначения. «Крот» продолжал спуск. Живые существа встречались все реже. Для ассистента-зоолога время тянулось ужасно медленно; напрасно он ждал, чтоб его бестрепетный спутник вымолвил хоть слово. Снаряд входил в толстый слой слизи, вода становилась мутной — это напоминало туман, непроницаемый даже для электрического луча. Суровые черты Мэтра смягчила улыбка. Впервые с начала погружения он встал, прижался лицом к одному из иллюминаторов и пробормотал: — Приехали. В этот момент «Морской крот» сотряс легкий, но тем не менее ощутимый удар и начал громко звенеть электрический звонок. Господин Синтез снял эбонитовую трубку[216] телефонного аппарата, поднес ее к уху и, приблизившись к сосновой панели передатчика, громко произнес: — Это ты, Кристиан? — Да, Мэтр, — отчетливо послышался голос капитана. — Здесь все в порядке. А как там наверху? — Все благополучно, Мэтр. Вы погрузились на глубину пять тысяч двести метров. Каковы будут дальнейшие распоряжения?
ГЛАВА 8
Малодушие. — Устройство «Крота». — Неожиданная благосклонность господина Синтеза. — Прочный, как сталь, легкий, как стекло. — Алюминиевая бронза. — Две тысячи килограммов балласта. — Переговоры с поверхностью. — Испуг ассистента. — Хоть и простой, но инженерный механизм. — Что видно под микроскопом на глубине пяти тысяч метров. — Телефонный разговор. — Капитан подает сигнал тревоги. — Bathybius hækelii. — Роже-Адамс читает лекцию как ни в чем не бывало. — Буря. — В корабль попала молния. — Связь прервана. — Трос оборвался!Господин Синтез любезно передал зоологу трубку и уступил ему свое место у передатчика, таким образом тот смог обменяться несколькими словами с капитаном Кристианом. Вследствие странной аберрации человеческой психики[217], разговор этот, простой обмен банальными фразами, обычная вибрация, переданная по проволоке, изолированной гуттаперчей, подбодрила зоолога и отчасти восстановила его прежнюю энергию. Как если бы в случае грозившей ему сейчас смертельной опасности несколько хрупких звуков, дошедших с поверхности, могли отвратить угрозу! Как если бы трусу, заблудившемуся в ночном лесу, довольно было бы увидеть слабый свет в отдалении, чтобы отвести от себя реально существующую угрозу! От господина Синтеза не укрылось настроение его ассистента. Он заметил, как тот поначалу трясся от ужаса, и его радовало, что сейчас зоолог держится с прежней уверенностью, — страх мог бы помешать работе. Желая еще больше его успокоить, господин Синтез снисходительно, но не без ноток сердечности, кратко пояснил некоторые детали устройства подводного аппарата. — Вы ведь не ощущаете никаких затруднений при дыхании, не так ли? — спросил Мэтр. — Ни малейших. Наоборот, мне дышится даже легче, чем на поверхности. К тому же, учитывая большие размеры аппарата, мы обеспечены воздухом в достаточном количестве. — Даже в большем, нежели вы думаете. Так как, если наши опыты затянутся, мы прибегнем к резервуару, установленному в верхней части аппарата — в нем воздух, накаченный под давлением в несколько атмосфер. Чтобы пополнить наш запас кислорода, стоит лишь повернуть кран. — А углекислый газ, который мы выдыхаем? — Загляните под полку, укрепленную по окружности. Там сосуды, наполненные каустической известью. По мере накопления углекислоты она будет адсорбироваться. Так что асфиксия[218] нам не грозит. Если вы проголодаетесь, то я захватил запас провизии, а также вина и питьевой воды. О себе я тоже позаботился и взял свою обычную пищу. Каждому — согласно его обыкновению и… его желудку. Зоолог молча почтительно поклонился, он безо всякой задней мысли испытывал восхищение перед твердостью, предусмотрительностью и ясностью ума этого старика. — «Морской крот», — продолжал господин Синтез, — обеспечивая необходимый для исследований комфорт, должен давать нам и гарантии полной безопасности. Смотрите, как он прекрасно выносит давление такого огромного слоя воды! — Честно признаться, во время спуска я опасался, что если при погружении на каждые десять метров давление возрастет на одну атмосферу, снаряд даст трещину, а то и вовсе будет раздавлен. — Тем не менее мы беспрепятственно опустились на глубину пять тысяч двухсот метров, то есть на глубину, где давление пятьсот двадцать атмосфер, а значит, аппарат выдерживает давление приблизительно в пятьдесят четыре тонны на квадратный сантиметр. Но ему все нипочем! — Однако мне кажется, что толщиной стенок нельзя объяснить подобную прочность! — Не беспокойтесь, все рассчитано. К тому же это совсем несложно. Стремясь придать снаряду максимальную прочность, не увеличивая вес, я употребил для его изготовления алюминиевую бронзу — один из самых прочных и самых легких металлов. Известно, что удельный вес алюминия 2,56, почти как удельный вес стекла, а удельный вес меди — 8,70. В состав алюминиевой бронзы входит одна десятая меди, следовательно, удельный вес сплава не будет превышать 3,50. Но несмотря на это, его прочность на излом вдвое превышает прочность железа, чей удельный вес равен 7,78. Таким образом, «Морской крот», сделанный из алюминиевой бронзы, весит в десять раз меньше и вдвое прочнее, чем если бы он был изготовлен из железа. — Все, что вы мне рассказали, Мэтр, звучит так убедительно, что мне совестно вспоминать о своих опасениях. Но если корпус «Крота» имеет такую прочность, то не могут ли иллюминаторы вдавиться внутрь? — Это невозможно. Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить их строение. Смотрите, они имеют форму усеченного конуса и вставляются обратной стороной в полость, которая также имеет форму усеченного конуса, таким образом давление осуществляется на самое широкое основание, расположенное извне, а это усиливает соприкосновение хрустальной друзы с ее рамой. Ободренный благосклонным отношением старика, зоолог рассыпался в извинениях и осмелился выдвинуть еще одно возражение: — Если «Морской крот» имеет такой относительно малый вес, то каким образом он достигает такой глубины — ведь это же противоречит, во всяком случае на первый взгляд, принципу Архимеда? — Это происходит потому, что в его основании расположены в качестве балласта две чугунные болванки весом по тысяче тонн каждая. Над нашими головами — закрытая камера объемом два кубических метра. Под этим колоколом расположены чугунные листы, весом в две тонны. Вы, должно быть, задаетесь вопросом о назначении этого добавочного веса. Дело в том, что в этот резервуар поступает вода, вот рукоять, с помощью которой я открываю кран. Стоит ее слегка повернуть, и тотчас же резервуар начинает наполняться и весить чуть больше двух тысяч килограммов, учитывая, что удельный вес морской воды равен максимум 1,10. Таким образом, мы, нажав эту кнопку слоновой кости, сбросим две тонны чугунного балласта для того, чтобы приобрести две тысячи килограммов балласта воды. Этот обмен элементов, приблизительно равных по весу, является единственной целью нашей подводной экспедиции. Ибо, как вы уже и сами догадались, мы спустились на такую глубину для того, чтобы набрать воду, содержащую хорошо вам известную слизь. А теперь — за работу! С этими словами господин Синтез взял пробирку на ножке, старательно ее вытер, наклонился и поставил на металлический пол аппарата так, чтобы горлышко находилось прямо под изогнутым краном, чье назначение уже давно возбуждало любопытство зоолога. Господин Синтез медленно повернул маленькое боковое колесико и стал его вращать. Из рожка крана внезапно послышался резкий отрывистый свист. Сам не зная почему, ассистент вздрогнул всем телом. Он бросил испуганный взгляд на Мэтра, остававшегося, по своему обыкновению, абсолютно спокойным. — Это пустяки. Просто под давлением из трубки вырывается находившийся там воздух, — пояснил господин Синтез. «Вот оно как выходит, — подумал про себя бедолага-зоолог, — этот дьявол, прежде чем раздавить в лепешку, подвергнет меня всем ужасам медленной смерти». Свист прекратился, затем из крана потекла струйка мутной, полной хлопьев жидкости, на две трети заполнив подставленную пробирку. — Ну вот, дело сделано, — снова заговорил старик с явным удовлетворением, внимательно разглядывая на свет содержимое сосуда. — Вас, вероятно, смущает, что я добываю опытный образец способом, с первого взгляда кажущимся невероятным? — Совершенно верно, Мэтр. Осмелюсь вам признаться, что я не перестаю восторгаться вами, хотя вы и заставляете меня испытывать немыслимые страхи. — Сдается мне, вы — человек нервный. Но это не беда, хотя, должен заметить, что вы легко поддаетесь и восторгу, и испугу. Между тем, дражайший, все это — просто вопрос механики; маленькое колесико регулирует положение трубки из алюминиевой бронзы, на нижнем конце которой — большая гайка с отдушиной. Пока водозаборник бездействует, отверстие перекрыто, но, если я привожу в движение колесико, трубка под влиянием этого импульса сдвигает гайку на четверть окружности и вода проникает в отверстие. Таким образом пробирка наполняется необходимым нам количеством воды. Если бы «Крот» напрямую сообщался с окружающей средой, то вода, поданная под давлением пятисот атмосфер, немедленно разорвала бы обшивку. — Разумеется, но ведь происходит обратное? — Понять это несложно. Я манипулирую моим маленьким колесиком, которое продолжает вращать трубку и гайку таким образом, чтобы отверстие переместилось в первоначальную позицию, — сообщение с внешней средой прекращается… А теперь соблаговолите настроить ваш микроскоп, наладьте должным образом освещение и внимательно исследуйте эту жидкость. Привычный к таким опытам, зоолог концом стеклянной палочки подцепил каплю воды из пробирки, нанеся на тонкую хрустальную пластинку, вложил ее в микроскоп и приник глазом к тубусу. — Потрясающе! — воскликнул он после минутного внимательного наблюдения. — Что вы увидели? — спросил господин Синтез с живостью, выдававшей интерес, с которым он относился к производимой операции. Пронзительный звонок телефона помешал ассистенту ответить. — Ну что они там еще от меня хотят! — Нетерпеливый тон старика странным образом контрастировал с его обычной сдержанностью. — Это ты, Кристиан? Что случилось? — заговорил он в микрофон. — Мэтр, начинается сильная гроза. Небо покрыто черными тучами. Сильно упала стрелка барометра. — Гроза уже над нами? — Нет еще. Но тучи сгущаются с невиданной быстротой. Вы же знаете, как быстро налетают тропические бури. — Нам угрожает опасность? — Корабль будет раскачиваться, его может отнести. Боюсь, как бы эти движения не перенапрягли трос. — Отпусти его на двадцать метров. — Но тогда вы, даже слегка задержавшись, не сможете подняться на поверхность. Если море станет бурным, трос ни за что не выдержит веса «Крота». — Мы переждем, пока море успокоится. — Однако, Мэтр… — Хватит! Это мой приказ. Так вы, говорите, господин ассистент, что увидели под микроскопом потрясающие вещи? — Да, Мэтр, — подтвердил зоолог, чей лоб при тревожном сообщении капитана Кристиана покрылся испариной. — Я вижу среди громадного числа лучевиков (радиолярий)[219] слизистые сгустки округлой формы, другие аморфные тела образовали клейкие цепи. Вне всякого сомнения, это монеры. Я даже вижу заключенные в слизи маленькие частички кальция, дисколитов и циатолитов, являющихся, без сомнения, продуктами физиологического выделения… Сгустки живут и умирают, дышат и питаются… Однако у них нет ни тела, ни формы. Это первичная материя в своем самом простом выражении, органическая клетка, углеродный белковидный компонент. Изменяясь в бесконечности, он образует постоянный субстрат[220] феномена жизни во всех организмах!.. — Довольно, довольно, господин профессор зоологии. Рассмотрим все по порядку, руководствуясь определенной методикой. Прежде чем прийти к выводу, что эти корпускулы[221], состоящие из бесструктурной плазмы[222], действительно имеют такое строение, надо воздействовать на них реактивами. Соблаговолите в двух словах доложить результат. Затем сфотографируйте целый ряд образцов. А наверху, в лаборатории, вы произведете серию опытов для сравнения. Теперь продолжайте, я вас слушаю. — Я очень отчетливо вижу монеры — это bathybius hæckelii, так прекрасно описанные в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году Хаксли[223]. Они представляют собой маленькие сгустки, крохотные слизистые существа неопределенных очертаний. Некоторые из них подвижны, иные выпуклы или пальчатой формы, порой очень тонкие, лучевидные, именуемые псевдоподиями[224]. На самом деле их ножки являются простым прямым продолжением аморфной белковой массы, из которой состоит тело монеры. В данном экземпляре мне затруднительно определить хоть какую-либо инородную частицу. Нет никакого сомнения в том, что сейчас монера поглощает пищу, а полная однородность этой белковой массы подтверждает ее существование как живого существа. — Продолжайте, господин зоолог. Ваши объяснения превосходны, и они заинтересовали меня. — Капля слизи, помещенная перед объективом, кроме монер содержит несколько корпускул, в которых я узнаю органические остатки, микроскопические растения, инфузории…[225] — И что же происходит? Очевидно, монеры поглощают эти субстанции? — Совершенно верно, Мэтр. Органические частички входят в соприкосновение с полупрозрачными белковыми существами, раздражают их и… — Точно! Я наблюдал этот феномен за тридцать лет до Хаксли… — Вследствие чего происходит значительный прилив коллоидной субстанции[226], составляющей монеру… Затем органические частички обволакиваются ее массой и, погрузившись в нее, рассасываются — эндосмос[227] поглощает их. — Достаточно. Теперь сфотографируйте препараты. Я, со своей стороны, обработаю реактивами оставшуюся в пробирке растительную слизь. После чего осторожно наберем два кубометра воды, полной этих микроорганизмов, и, избавившись от чугунного балласта, будем подумывать о возвращении на поверхность. Зоолог, оправившись от своих первоначальных страхов, приникнув глазом к окуляру, погрузился в созерцание. Его томила такая жажда познания тайн природы, что даже тревожные слова капитана были забыты. Господину Синтезу пришлось вмешаться и напомнить, что пора заняться фотографиями. Господин Артур навел портативный фотоаппарат, достал пластины с желатино-бромовым покрытием, но тут в третий раз задребезжал звонок телефона. Поглощенный своим делом старик приготовился уж было резко отбрить непрошеного собеседника. Роже-Адамс услышал, как, поднося к уху трубку, он бормотал себе под нос: — Положительно, они сговорились мешать нам работать!.. Когда меня нет рядом, они теряют головы. Прежде еще, чем он успел спросить, капитан ли Кристиан у телефона, до него долетел быстрый, взволнованный голос офицера: — Мэтр, началась гроза… Буря страшной силы… Все небо в пламени… Мы среди огня. — Намочите цепи громоотводов. — Сделано уже полчаса назад. — Так чего ж вы боитесь? — Молния попала уже дважды. Один человек убит. Две долгие минуты телефон молчал. Господин Синтез, как всегда владея собой, поднял, в свою очередь, трубку. Ответил чей-то голос. Это был уже не капитан Кристиан. Господин Синтез узнал голос первого помощника. — Мэтр! Молния разбила гик[228] бригантины и ударила в полуют. В ваших апартаментах начался пожар. — Моя девочка! — обезумев от ужаса, закричал старик. — Отвечайте скорей, что с моей девочкой?! — Видимых ран нет, однако она без сознания… — Привезите врача с «Годавери»! — С ним невозможно связаться. Море бушует. — Где Кристиан? — Капитан возле нее. Через минуту вернется. Вот он уже идет. Я возвращаюсь на свой пост. — Капитан, еще одно слово. Я любой ценой должен подняться на поверхность. Любой ценой, я приказываю! Вы слышите, капитан? Отвечайте! Отвечайте же! Телефон безмолвствовал. Господин Синтез попытался восстановить связь. Безрезультатно! Он во весь голос кричал перед сосновой приборной доской, призывал офицера, аппарат продолжал молчать. — Наверное, ввиду грозы прекратилась подача тока, — прошептал доселе молчавший ассистент, так грубо оторванный от своих ученых занятий. — Скорее всего, — откликнулся Мэтр. — Там, наверху, они меня больше не слышат, а самостоятельно решиться на подъем «Крота» в такой момент не хотят. Кристиан — человек решительный и находчивый. Но мое присутствие на борту необходимо. Господин Синтез снова попробовал выйти на связь, но все усилия оказались напрасны: телефон не работал. Старик попытался скрыть от ассистента охватившее его отчаянье; теперь ему уже не до эксперимента, о котором он мечтал месяцы и годы, которому был предан душой и телом. Ведь речь идет о его доченьке, единственной отраде, единственной привязанности восьмидесятилетнего — сердца! О внучке, как две капли воды похожей на ту, что во цвете лет забрала у него смерть. Зоолог слышал, как старик бормотал непонятные слова: — Неужели ты сказал правду, Кришна? Неужели душа твоя, в которой я упорно не желал видеть ничего, кроме совокупности мозговых функций, и впрямь наделена даром пророчества? О пандит, не оказался ли ты вестником горя для человека, бывшего другом людям твоей расы? О пандит, где бы ты ни был, мчись сюда и спаси мое дитя! Затем, как бы внезапно пробудившись ото сна, он сразу же взял себя в руки и вновь обрел бестрепетное спокойствие, являвшееся такой разительной чертой его характера. — Придется нам примириться с тем, что телефонной связи мы лишены. Вот случай, который я должен был учесть… Так как в данную минуту мы не имеем возможности отдать приказ поднять «Крот», вооружимся терпением. В конечном итоге мои подчиненные — не дети. Тысячу раз они проявляли как отвагу, так и находчивость. Я уверен в Кристиане, он совершит невозможное. Через несколько часов шторм уляжется, а мы здесь имеем все условия, чтобы этого дождаться. Бездействием горю не поможешь, давайте-ка работать. Однако оказалось, что мужественная попытка старика, до сих пор преодолевавшего любые трудности, вскоре оказалось неисполнимой. В страшной тишине, наступившей после последних слов Мэтра, слух господина Артура уловил странный звук; будто бы кто-то поскреб обшивку «Крота», вернее, какой-то твердый предмет с сухим скрипом скользнул по корпусу аппарата. Весьма озадаченный, он приник глазами к иллюминатору, за которым от яркой электрической лампы было светло, словно днем. Видя, как длинная тонкая змея, скользнув по металлическому панцирю, упала среди сгустков, образованных скоплением bathybius, зоолог подумал: «Ты смотри, водоросль! Но этот скрежет, это характерное царапанье металла о металл?.. Водоросль, пусть даже тяжелая и длинная, произвела бы тихий шелест, неслышно бы соскользнула… Да никакая водоросль и не могла опуститься на такую глубину…» Бедняга боялся поверить самому себе; этот, твердый извивающийся шнур не мог быть ничем иным, кроме как кабелем, сплетенным из стальных нитей. Но, чтобы кабелю упасть вниз, обвивая подводный снаряд, надо было отцепить его от корабля. Сомнений нет — это металлический канат, свернувшись петлей, задел один из иллюминаторов. Без малейшей надежды на ошибку, Роже-Адамс узнал кабельный трос, казавшийся таким прочным. И тогда горемычный профессор, обезумев от мысли, что он замурован живьем на глубине пяти тысяч метров, не имея возможности связаться с кораблем, без всякой надежды на спасение закричал голосом, в котором уже не осталось ничего человеческого: — Трос порвался!.. Мы погибли!..
ГЛАВА 9
О моряках. — Перед ураганом. — Удар молнии. — Начало пожара. — «Я отвечаю за все головой!» — Кабельный трос не порвался, его перерезали. — Преступление. — Ситуация ужасающая. — Планы спасения. — О подводных телеграфных кабелях. — Кузнецы за работой. — Импровизированный трал. — Запасной трос. — Корабль отчаливает. — Трудные маневры. — Надежда и разочарование. — После двух неудачных попыток. — Успех! — Наконец! — Бурная радость химика. — Катастрофа. — Трос обрезан с двух концов. — Капитан хочет умереть. — Кошмар наяву. — «Мэтр вас зовет».Несмотря на молодость, капитан «Анны», а в отсутствие Мэтра и всей флотилии, отличался теми выдающимися качествами, которые приумножали его годность к службе во флоте, выковывающей из моряков людей незаурядных. И то сказать — сами условия существования моряка несопоставимы с условиями жизни других людей. Вечно в борьбе со стихиями, всегда под угрозой происходящих в море перемен, он за малейший промах может поплатиться своей жизнью. Что больше всего поражает в моряках, так это их обдуманная холодная отвага, с которой они смотрят прямо в глаза опасностям, противопоставляя им весь свой опыт, как если бы море не бросалось штурмовать корабль, как если бы молнии каждую секунду не намеревались его пронзить, а волны — поглотить, как если бы такие ненормальные условия жизни сами по себе не были волнующими. Ничто не пугает и, кажется, даже не удивляет их. Борется ли моряк с взбунтовавшейся стихией или с врагами отечества, проходит через циклон или тушит пожар, спасает ли тонущее судно или сам терпит кораблекрушение, он всегда спокоен, дисциплинирован, смел, наделен сверхчеловеческой преданностью. Ко всему прочему, он прост как долг, великодушен как самопожертвование, весел как веселы люди славные, добр как все силачи, предприимчив, смекалист, умеет из всего извлечь пользу, одерживать победы над людьми и стихиями. Стремясь задумать и воплотить невозможное, моряк олицетворяет взятое из его профессионального лексикона словечко — «пройдоха», неожиданно его возвысив и облагородив. Таков капитан Кристиан — душа экспедиции. Теперь он должен был принимать меры для безопасности людей и сохранности имущества, что в создавшихся непредвиденных обстоятельствах было трудным делом. Как мы уже видели, молодой человек был не робкого десятка и не отличался излишней впечатлительностью. И только чрезвычайная ситуация могла заставить его сообщить Мэтру по телефону ужасные новости, так взволновавшие старика. Тем, кто знает, какими внезапными и бурными бывают в тропиках грозы, легко понять, насколько была опасна, если не безнадежна, сложившаяся ситуация. Ничто сперва не предвещало метеорологического катаклизма. Разве что вдали показалась маленькая свинцовая туча с размытыми контурами, похожая на столб дыма из трубы паровой машины. Однако тотчас же резко упали показания барометра, о чем незамедлительно доложили капитану, наблюдавшему в это время за действием аппаратов, обеспечивающих погружение Мэтра и его спутника. Кристиан отдал соответствующие распоряжения. Рота вооруженных матросов была послана на атолл — охранять лабораторию и наблюдать за китайцами, которым, быть может не без оснований, офицер не доверял. Затем на всех четырех судах удвоили швартовы, на шлюпках проверили найтовы, плотно задраили иллюминаторы и крышки люков. Цепи громоотводов были смочены, пожарные насосы подготовлены к работе, а все, что может быть снесено волной, надежно привязано канатами. Пока с максимальной быстротой производились эти приготовления, незаметная тучка сперва быстро разрослась и застлала горизонт, изменив цвет с тускло-желтого на черный, и стала надвигаться, гремя как морской прилив. Стоило солнцу погаснуть, красивые бледно-зеленые волны в атоллах и голубые в морских глубинах помутнели, утратили прозрачность драгоценного камня и стали бледными, с аспидным оттенком. На несколько минут все замерло, воцарился удушающий покой. Казалось, ничто не дышит, не живет. Вскоре первые зигзаги молний пронзили глыбы туч. Послышалось несколько глухих раскатов. Затем тяжелый, сильный, обжигающий ветер поднялся, закрутился, заметался с севера на юг, с запада на восток. Под его напором рвались снасти, трещали мачты, вскипали валы. Море вдруг вспенилось, накатило, стало биться о рифы, плескаться в борта кораблей. Серьезно беспокоясь о судьбе Мэтра, капитан решил его предупредить. Мы знаем, какой ответ дал господин Синтез во время первого сеанса связи. Но не прошло и нескольких минут, как гроза забушевала в полную силу; в тусклом зловещем полумраке море содрогалось в конвульсиях тропической бури, беспрерывно гремел оглушительный гром, слепящие молнии сверкали отовсюду. Тучи, море, корабли, рифы — все смешалось в колоссальном вихре. Время от времени на шпиле громоотвода вспыхивало подброшенное до самой фок-мачты гигантское пламя. Стало опасно прикасаться к металлическим предметам, казалось, излучающим электричество. Раздался новый, самый страшный удар. Гик, эта тяжелая деревянная часть, окаймляющая корабль, раскололась в щепы. Человека, стоявшего возле лебедки, убило наповал, а матовое стекло во фрамуге над дверью апартаментов господина Синтеза разлетелось вдребезги. Послышались отчаянные крики, и густой дым повалил оттуда, куда ударила молния. Двери резко распахнулись, пропуская охваченного ужасом индуса-бхили. Одна из негритянок звала на помощь. Другая метнулась на палубу и, заметив капитана, горестно завопила: — Хозяйка погибла! Хозяйка погибла! Капитан подозвал первого помощника, поручил ему на время пост возле телефона и помчался на полуют. Ворвался в хозяйские апартаменты, отделенные коридором от комнат девушки, и на миг замер посреди салона, превращенного Мэтром в кабинет. Угол ковра, кусок обивки медленно тлели. Книжные тома попадали на пол. Осколки пробирок устилали полку, чей мрамор потрескивал, разъедаемый кислотами. Словом, больше шуму, чем материального ущерба. Негритянки вбежали следом за капитаном. Обе двери в коридор были открыты, и он постепенно наполнялся дымом. Из первой каюты раздавались жалобные стоны и причитания женщин. Из вполне понятной скромности капитан не решался туда войти. Однако в подобной ситуации деликатность должна была уступить место долгу, ведь, быть может, именно оттуда грозила смертельная опасность. Офицер кинулся сквозь завесу сгущавшихся серных испарений, однако негритянки опередили его. Здоровые и сильные, как мужчины, они тотчас же вернулись, осторожно неся упавшую в обморок девушку, — она была так бледна, что ее лицо сливалось с белым платьем. Негритянки положили свою госпожу в бамбуковый шезлонг-качалку, вопросительно глядя на снедаемого тревогой капитана. На борту не было врача. В обычное время в медчасти поочередно дежурили лекари с других кораблей. Что касается внучки господина Синтеза, то, само собой разумеется, ее всегда лечил только дед. Но беда заключалась еще и в том, что в данный момент не представлялось возможным привезти на борт кого-либо из офицеров медицинской службы, — в такой шторм шлюпка раньшеразобьется о рифы, чем преодолеет короткую дистанцию между «Анной» и «Годавери». А время бежит!.. Капитан осознал, что бедному ребенку не от кого ждать помощи, кроме как от него. Такой же бледный, как и девушка, весь дрожа и теряя голову, этот храбрец, смело смотревший в глаза самым грозным опасностям, едва осмеливался кончиками пальцев взять маленькую, безвольно висящую руку. Найдя артерию, он неуклюже сжал запястье и вдруг издал радостный вопль: — Она жива! О Мэтр, благодетель мой, ваша девочка жива! Вся эта драматическая сцена не длилась и минуты. Но спасательные работы уже шли с той изумительной точностью, с какой действуют моряки в чрезвычайных ситуациях; пожарный рукав уже змеился по палубе, десятки матросов с ведрами воды и мокрыми швабрами устремились к месту пожара. Легко потушить пламя — стоит только незамедлительно залить апартаменты тонной воды. Но не будет ли лекарство пагубней болезни? Не погибнут ли от такого грубого применения единственного противопожарного средства драгоценные, привычные для господина Синтеза, быть может, необходимые ему предметы? Пока горничная смачивала холодной водой лицо девушки, постепенно начинавшей приходить в себя, бригадир плотников зашел в салон, пересек коридор, проник в одну из кают, осмотрел место происшествия, закрыл все отверстия и, возвратясь, доложил: — Все будет в порядке, капитан. Полдюжины ведер, затем, с вашего разрешения, хорошо поработать шваброй, и огонь не перекинется дальше. — Затем, обернувшись к своим людям, стоящим цепочкой, скомандовал: — Осторожно, ребята, я пойду первым, а вы следуйте за мной. Тут не затоплять надо, а только огонек придавить. Больная открыла глаза. В них удивление — девушка не увидела рядом с собой старика. Она в недоумении: каким образом она очутилась в салоне среди своих заплаканных служанок, почему над ней склонился встревоженный капитан, а вокруг снуют какие-то люди? Потом внезапно вспомнила зловещую полутьму во время налетевшего урагана, ослепительный блеск молнии, одновременный удар грома, потрясший все ее существо, страшную смутную мысль о том, что пришел конец… Срывающимся голосом Анна Ван Прет пролепетала: — Отец… Отец, где вы? — Он занят… Он проводит эксперимент… — уклончиво ответил капитан, не решаясь сказать правду о том, что господин Синтез пребывает на глубине более пяти тысяч метров, под неистово бушующими волнами. — Но успокойтесь, ни малейшая, опасность ему не грозит. — Капитан… Капитан, вы отвечаете мне за свои слова?.. Так как офицер медлил — не потому, что не хотел ее успокоить, а потому, что взгляд его был устремлен на группу людей, стоявших у аппарата для подводного спуска, — она настойчиво, со странной тоской продолжала: — Отвечайте, капитан!.. Кристиан, друг мой, брат мой! Как к другу моего детства взываю к тебе! Скажи правду! — Правда заключается в том, что я отвечаю за все! Клянусь головой! И, не прибавив больше ни слова, капитан ушел на свой пост. — Ничего нового? — кратко бросил он первому помощнику, на лице которого усматривалось некоторое беспокойство. — Некоторое время назад прервалась связь. Думаю, телефон поврежден бурей, — ответил офицер, передавая командиру трубку. Сохраняя внешнюю невозмутимость, Кристиан почувствовал, как его пронзила внутренняя дрожь. — Знает ли Мэтр о происшедших на борту событиях? — Он спрашивал. Я ответил. — Правильно сделали. Значит, ему все известно? — Да, все. — А вы успели сообщить, что положение улучшилось? — Нет. Именно в этот момент аппарат перестал работать. — Кстати сказать, Мэтр на такой глубине в безопасности, поскольку волнение моря достаточно поверхностно. Но, к сожалению, могу себе представить, как он беспокоится. Думаю, надо любой ценой попытаться поднять «Крот». — Как прикажете, командир. — Я нуждаюсь сейчас не только в повиновении, но и в совете. В сложившихся обстоятельствах я должен принять к сведению чужую точку зрения не столько по причине ответственности, весь груз которой лежит на мне, сколько ввиду опасности, представляемой самим маневром. — Мое мнение, командир, — раз вы делаете мне честь им интересоваться, — состоит в том, что в данный момент совершить подъем, невозможно. — Ах, если бы как-нибудь восстановить связь! Заменив на палубе Алексиса Фармака, который с самого начала бури блуждал по кораблю как потерянная душа, капитан поставил его в известность о том, что произошло, и расспросил о природе аварии и способах ее устранения. Химик, хорошо знакомый не только с устройством всех узлов телефона, но и с необходимыми для его работы условиями, а также с законами, согласно которым тот действует, тщательно осмотрел аппарат и не нашел ни малейших повреждений. — Должно быть, гроза повлияла, как это часто случается с телеграфными аппаратами, — уклончиво ответил ученый. — Но ведь грозы проходят… Все думы были передуманы, все вопросы были заданы, а ответы получены посреди страшного непрекращающегося грохота, которого, казалось, никто не замечал. Все члены экипажа, вплоть до самой мелкой сошки, были поглощены важностью задач, стоявших перед ними. Но что бы ни происходило, необходимо было выбрать ту или иную тактику. На данный момент, казалось бы, превалировала тактика выжидательная. К тому же проволочка не могла очень уж затянуться, ибо как ни устрашающи казались содрогания природы вблизи экватора, они в то же время обычно весьма скоротечны. И вот на черном как смола горизонте наметилась полоска посветлей, барометр стал понемногу подниматься. Молнии сверкали чуть реже, а гром уже не успевал за вспышкой, и в прежнем сплошном грохоте наметились некоторые паузы. Один лишь ветер прибавил скорости. Но в своем хаотическом движении он уносил с собою тучи, казалось мчавшиеся наперегонки, соревнуясь, кто быстрее, как бешеные волны прилива во время весеннего равноденствия. Затем, в широких разрывах туч, показалась небесная синева. Выглянуло желтоватое, затуманенное солнце. После этого могучий порыв смел последние черные космы. Ураган помчал вдаль свой разрушительный гнев. Если б не все еще неспокойное море, свидетели разразившейся бури могли б вообразить, что просто видели кошмарный сон. — Максимум через час волнение уляжется, — заявил капитан, все еще судорожно сжимавший телефонную трубку. — Совершенно верно, через часок, — подтвердил старший помощник. — К счастью, все эти рифы образуют неодолимый барьер приливу из открытого моря и таким образом гасят волнение внутри бассейна. Алексис Фармак, по-прежнему неотрывно ломая голову над неразрешимой загадкой, изумился, видя, что даже после исчезновения грозовых туч связь не возобновилась. — Решительно, эта авария, — вклинился он в разговор двух моряков, — имеет иную причину, чем повреждение электропроводки. Возможно, причина кроется где-нибудь за пределами аппарата. Не кажется ли вам, что скручивание такого кабеля могло привести к повреждению гуттаперчевой изоляции? Так как вы стравили метров двадцать пять — тридцать, быть может, где-нибудь образовалась опасная петля, ставшая причиной повреждения изоляции? Я выдвигаю перед вами такую гипотезу за неимением никакого другого более разумного объяснения. — Возможно, вы правы, — ответил капитан, радостно хватаясь за эту надежду. — Ничего не стоит накрутить часть кабеля на катушку, дабы восстановив строго вертикальное положение, сделать его менее гибким, не подвергая в то же время ударам волн. Сказано — сделано. Механикам дана команда осторожно начать операцию. Два блока вращаются слаженно, кабель наматывается на чугунную катушку ровно, без рывков. Но странная вещь, громадный вес подводного аппарата не делает кабель более упругим, не натягивает его — трос остается таким податливым, что машинам не надо прилагать ни малейших сил. И вдруг его обрывок появляется над поверхностью вод и, задев за релинги, скручивается на палубе. Стальной кабель, казавшийся таким неразрывным, разорван, как обыкновенный фал![229] Крик ужаса и отчаяния вырывается из уст всех присутствующих. Бедному капитану чудится, что волосы на его голове превратились в стальные иглы и вонзились в мозг. Внезапность катастрофы и ее последствия предстают перед Кристианом во всем своем ужасе. Из оцепенения, с которым он напрасно пытался бороться, его вывели лишь слова химика. Алексис Фармак на лету поймал конец кабеля и закричал: — Проклятье! Я с радостью отдал бы весь остаток жизни за то, чтобы схватить бандита, который сделал эту подлость! Смотрите, капитан, и все вы, господа! Кабель вовсе не разорвался, как мы с вами могли предполагать! Здесь нашелся злодей, способный его перерезать! Химик говорил правду, не могло возникнуть ни малейших сомнений в том, что стальные канатные пряди были аккуратно перебиты. Словно разрубленные топором, кончики каждой нити сверкали, как сверкает свежеобработанный металл: они не были ни раздерганы, ни перетерты, что так характерно для разорванных канатов. Срез имел скошенный край, а его четкость свидетельствовала, что тут применили инструмент необычайно крепкой закалки, и применили с непостижимыми силой и мастерством. Кто же был автором такого неслыханного злодеяния? Каким мотивом должен был руководствоваться этот выродок, чтобы так трусливо обречь на мучительную смерть сразу двух человек, один из которых к тому же человек выдающийся и творящий добрые дела? Капитан и первый помощник, казалось бы, знали всех членов экипажа. Часть из них была людьми с Востока, фанатично преданными Мэтру, остальные — европейцами, нанятыми на чрезвычайно выгодных условиях, с обещанием в конце экспедиции большой премии. Таким образом, они должны были быть заинтересованы в продлении дней господина Синтеза и активно участвовать в осуществлении его замысла в меру своих служебных обязанностей. Было также очевидно, что какой-нибудь одержимый или сумасшедший не мог бы выполнить этот замысел с такой ловкостью, не мог бы избрать более удобный момент для осуществления своего адского плана. Однако невозможно, во всяком случае сейчас, начинать следствие. Необходимо без промедления искать средство, как выйти из беды. Всем, кто столпился у аппаратов, гибель господина Синтеза и его спутника представлялась неотвратимой. Срок, отделявший их от рокового конца, был более-менее кратким. Когда иссякнет весь имеющийся в «Кроте» воздух, после мучительной агонии, агонии умирающих от удушья, наступит смерть. Жуткая кончина людей замурованных, погребенных заживо! Наверное, лишь один не проронивший и слова капитан сохранял в душе искру надежды. Во всяком случае, не признавая поражения, он хотел бороться до последнего. Простейший, но единственно приемлемый план возник внезапно в его живом и изобретательном мозгу. Кристиан знал, что «Крот» обладает запасом воздуха, способным обеспечивать господина Синтеза и его напарника кислородом в течение приблизительно десяти часов. Ну и пусть! Время это будет использовано не зря. Капитан знал, что во многих случаях оборванные подводные телеграфные кабели удавалось выловить со дна океана и поднять на поверхность. Правда, предназначенные для этой работы корабли были специальным образом оснащены — иначе все попытки подобного рода оказались бы бесплодными. Но разве их корабль, который готовили к трудному и опасному эксперименту по изучению морского дна, на оснащен еще лучше? Лежит же ведь в трюме еще одна бухта троса длиною в десять тысяч метров, хотя господин Синтез запасся ею на всякий случай, — такой катастрофы, как произошедшая, никто не мог и предполагать. С помощью именно этого запасного троса капитан намеревался производить спасательные работы. Несмотря на то, что операция представлялась необычайно трудной, он надеялся провести ее успешно. Но каким образом? А вот каким. Перво-наперво он приказал вынести канат из трюма через главный люк и намотать на чугунную катушку — маневр в общем-то несложный и не требующий больших затрат времени. Далее были разожжены два походных кузнечных горна и самые опытные кузнецы принялись за работу. Дело состояло в том, чтобы как можно быстрее изготовить железный трал, снабженный зафиксированными и очень прочными крючьями. Материалов было вдоволь, а спорых кузнецов подгонять было не нужно. Вскоре металл раскалился и зазвучали частые удары молотов, свидетельствующие о сноровке и рвении мастеров. Благодаря умению, ловкости и силе, а также вследствие точности полученных команд кузнецам хватило всего трех часов, чтобы изготовить пусть и грубый, но вполне надежный инструмент. Он напоминал раму длиною пять, шириною три метра, на которой, наподобие зубьев бороны, размещался ряд длинных штырей, но не прямых, а наклонных под острым углом. К одной из длинных сторон этого импровизированного трала был прикреплен новый трос таким образом, чтобы, волочась по дну, рама не смогла перевернуться. Капитан не без основания надеялся, что оборванный трос растянулся по немалому участку дна и, передвигая трал туда-сюда, можно подцепить его крючьями и поднять на поверхность, стараясь, чтобы он из них не выскользнул. С момента рокового погружения господина Синтеза и его ассистента прошло всего четыре часа. Не дожидаясь окончания кузнечных работ, капитан скомандовал разжечь топки и ослабить швартовы, привязывающие корабль к атоллу. Невзирая на все еще сильное волнение, офицер готов был дать приказ к отплытию. Погружение трала производилось таким же образом, как погружение «Морского крота», с той только разницей, что теперь к огромным железным граблям прикрепили еще и зонд, чтобы не слишком травить трос, — важно знать глубину. Операция проходила по плану, аппарат через двадцать пять минут достиг дна. По сигналу капитана корабль пришел в движение. — Малый вперед! Команда по телеграфу поступила в машинное отделение. Огромное металлическое существо сотрясалось с носа до кормы, корабельный винт начал медленное вращение, железный корпус заскользил по бурным волнам. Просто понять суть маневра. Но как же сложно его выполнить! Задача заключается в том, чтобы протащить трал по дну в нужном месте и затралить упавший кабель. В принципе, когда располагаешь аппаратурой, это кажется делом легким, ведь мощность корабельного двигателя практически не имеет границ. Однако силу следует использовать разумно. Не стоит также забывать, что и трос обладает пусть значительной, но все ж небеспредельной прочностью. В принципе, не имеет смысла принимать во внимание вес трала — он незначителен, всего каких-нибудь шестьсот — семьсот килограммов. Однако когда эти грабли станут прочесывать дно, они могут встретить препятствия, способные так увеличить силу натяжения, что обрыв троса станет неизбежен. Эту случайность надо любой ценой предотвратить, иначе катастрофа станет непоправимой. Вот откуда такая точность при отшвартовывании судна! Вот откуда такая замедленность всех его перемещений! Корабль медленно отвалил от причала, описал грациозный полукруг, развернулся вокруг собственной оси, остановился, снова по сигналу начал движение для того, чтобы вновь замереть и вновь тронуться с места. Внезапное натяжение свидетельствует, что крючья, быть может, застряли между скал или завязли в почве этой загадочной бездны… И тотчас же, почти не «добавляя пару», судно возвращается к месту, где зацепился трал. В ход идут лебедки, они делают несколько оборотов, приподнимая трал, высвобождают его и снова осторожно опускают. Сколько волнений доставляет эта драматическая рыбалка! Сколько надежд и сколько разочарований порождает она! После умелых и трудных перемещений капитану кажется, что, как говорят рыбаки, «клюнуло», и он отдает команду поднимать трал. Катушка с аварийным кабелем начинает вращаться. Механики, добавляя лишь самое необходимое для подъема количество пара, могут почувствовать, увеличился ли первоначальный вес — давление пара служит своеобразным манометром[230]. Но, увы! Так ожидаемого прибавления веса не произошло. Ничего нет. Все надо начинать сначала. Без спешки, без паники, без нетерпения повторяется тот же маневр. Дважды кажется, что операция почти удалась. Первый раз после часа бесплодных усилий наблюдалось несомненное натяжение троса. Катушка вращалась, вес возрастал. Механикам пришлось добавить пара. Вытянуто уже тысяча метров, а натяжение все растет. Офицеры, матросы, машинисты, обслуга — все дрожат от нетерпения. Внезапно натяжение падает. Блоки начинают вращаться со зловещей скоростью. Надо их немедленно остановить. По внезапному уменьшению веса слишком легко убедиться в том, что предмет сорвался. Во второй раз удалось вынуть три тысячи метров троса. Но попытка закончилась таким же образом в момент, когда всем казалось, что отчаянные усилия увенчаются-таки результатом. Но несмотря на многократные неудачи капитан не падал духом, даже наоборот — чувствовал, что надежда его крепнет. — Ничего, — сказал он химику, с неподдельным отчаяньем следившему за ходом спасательных работ, — значит, мы преуспеем с третьей попытки! С начала поисков прошло уже три часа. Было шесть часов вечера, а значит, через полчаса наступит внезапная южная ночь. Следует ли прекратить эти трудные поиски, тем более опасные из-за близости коралловых рифов? Ни в коем случае! Операция будет продолжаться при свете электрических прожекторов. Если этот корабль, напоровшись на риф, пойдет ко дну, другие продолжат спасательные работы. Они ведь стоят на рейде поблизости, что, кстати, гарантирует безопасность экипажа в случае возможного кораблекрушения. «Анна» вновь принялась за дело. Внося в свое предприятие ту волю, которая порождает чудеса, капитан Кристиан принял все возможные предосторожности. Предполагая и, видимо, не без оснований, что предыдущие попытки провалились из-за того, что аварийный трос начали вынимать преждевременно, офицер, насколько возможно, перемещает судно туда-сюда, вращает его, увеличивает соприкосновение трала со дном, старается намотать оборванный кабель, завязать его в крепкий узел. И наконец, преисполненный надежды, командует подъем. Каждый внутренне уверен в успехе. Однако душераздирающее волнение охватывает всех присутствующих, когда блоки начинают вращаться. Капитан покидает свой пост и подходит к машинам. Все идет хорошо. Вес возрастает. Трос зацеплен. Если бы не предыдущие срывы, каждый бы уже закричал громкое «ура!». Операция продолжается при сосредоточенном молчании присутствующих, которое в сто раз красноречивее любых изъявлений беспокойства или надежды. Проходит полчаса. Наступает темень. Электрические прожектора тотчас же заливают все ослепительным светом. Вынуто четыре тысячи метров… Четыре тысячи пятьсот… Пять тысяч!.. Пять тысяч двести!.. Громовое «ура!» раздается при виде трала, накрепко опутанного обрезанным тросом. Капитан, чья выдержка не изменяет ему ни на мгновенье, чувствует, как кто-то душит его в яростных объятьях. Это ассистент-химик, единственный глаз которого увлажнен радостной слезой. Итак, бо́льшая часть работы сделана; трал взят на борт, а трос «Крота» закреплен на пустой катушке, вставленной на место катушки с аварийным тросом. Не мешкая надо приступать к части более важной, а может быть, и самой трудной. Радоваться будем после.
Но какая новая катастрофа, еще страшнее прежней, угрожает несчастным узникам подводного снаряда! Стальной трос, методично наматываемый на катушку, кажется ничуть не тяжелее аварийного… А как же вес «Морского крота»?! Капитан боится поверить. На смену взрыву радости приходит мрачное молчание. Кроме дыхания машины, не слышно ни звука. Вращение убыстряется. И через относительно короткое время, так как наматывание происходит без помех, над водой показывается второй конец кабеля. Он срезан так же тщательно, как и предыдущий. Надрез, должно быть, был произведен совсем близко от прикрепленного к тросу «Крота», — длина троса по-прежнему составляет пять тысяч двести метров. На этот раз все действительно кончено. Спасение невозможно. Господин Синтез и его спутник окончательно погибли.
__________
Убитый горем капитан Кристиан, приказав пришвартовать судно на прежнее место, передал командование первому помощнику. Затем, обезумевший, не способный ни мыслить, ни рассуждать, призывая смерть, он спустился к себе в каюту, бросился на койку и долгое время лежал в том изнеможении, которое сопутствует великим катастрофам. — А я ведь поклялся ей, что за все отвечу головой… — пробормотал моряк в бреду. — Жизнью поклялся… Бедное дитя!.. Какое пробуждение ее ждет! Нет, у меня никогда не хватит смелости показаться ей на глаза… Жизнью клялся?.. Что ж, жизнью и отвечу! Так и будет. Мертвые ни за что не отвечают… Вот я и умру. — Кристиан бросил взгляд на револьвер, висящий среди коллекции оружия над диваном, быстрым движением снял его со стены и машинально глянул на хронометр, часы показывали двенадцать часов ночи. — Полночь!.. Уже полночь! Кошмар длился так долго, а я еще жив! Надо с этим кончать. Капитан зарядил револьвер, приставил к виску, но тут дверь каюты тихо отворилась. Один из индусов-бхили господина Синтеза показался в свете лампы, освещающей приготовившегося к смерти честного офицера. — Капитан, — сказал он на языке хинди, — Мэтр вас зовет. — Что ж, пойдем, — пробормотал капитан про себя, — кошмар длится… Но это не надолго…ГЛАВА 10
Сетования профессора зоологии. — Луч надежды. — Фотографирование опытных образцов. — Господин Синтез спокойно признает, что спасение невозможно. — Несколько цифр. — Закон Архимеда. — Приготовления. — Господин Синтез обедает. — Легче воды. — Вес троса. — «Морской крот» и привязанный воздушный шар. — Господин Синтез все предвидел. — «Крот» вверх ногами. — «Мы поднимаемся!» — Свет по правому борту. — Матрос в шлюпке привозит «штуковину». — Изумление вахтенного лейтенанта «Инда». — На «Анне». — Господин Синтез желает завтра продолжить поиски bathybius hæckelii.Если бы господин Артур Роже-Адамс, профессор зоологии одного из наших самых прославленных университетов, подписывая контракт с господином Синтезом, мог предполагать, что экспедиция, пусть даже иногда, будет опасной, ему бы и в голову не пришло подвергать себя риску. Наш профессор предвидел лишь тяготы длительного путешествия и обычные для всякого дальнего морского плавания приключения, сильно смягченные, кстати говоря, тем, что его корабль принадлежал к флотилии из четырех судов. Движимый некоторой долей научной любознательности, но в большей мере честолюбием и корыстью, он принял условия, предложенные ему стариком. Если господин зоолог и хотел выведать парочку секретов, прославивших имя господина Синтеза, то еще больше желал по возвращении получить грандиозную рекламу, на которую так падка наша эпоха интервью и репортажей. Он видел, как его именем пестрят светские и научные газеты, как репортеры толпятся у него в прихожей, а хроникеры вымаливают несколько слов. Господин Артур представлял себе, как неделями парижские, провинциальные и иностранные издания будут восхвалять господина Роже-Адамса, «отважного ученого», «неутомимого путешественника», «знаменитого профессора» и т. д. и т. д. Коллеги усохнут от зависти, маститые профессора окажутся просто-напросто старыми хрычами, а ректор, противный старец, надувшийся, когда речь зашла об отпуске, вынужден будет с ним считаться. Награды потекут рекой, продвижение по службе не заставит себя ждать. То есть он полной мерой получит и честь и выгоду. В особенности выгоду. Так как, истый сын науки, господин Артур питал живейшую симпатию к благам мира сего, а господин Синтез обеспечивал ему такое содержание, какое и послу не снилось, салонный зоолог счел необходимым принять все условия контракта. Подумать только: за год одним махом стать знаменитым и составить себе состояние!.. И вот внезапно все это прекрасное построение рухнуло, пошли на глубину пяти километров все планы на будущее, да и сама жизнь честолюбца почти наверняка была непоправимо загублена. Какое горчайшее сожаление испытывал зоолог, какая тоска сжимала ему сердце с того момента, когда, едва дыша и заикаясь, он выдавил из себя эти слова: — Трос оборвался! Мы погибли! Оцепенев, как забитое животное, он не мог даже пошевелиться. Но мысль господина зоолога работала, будто при раздвоении личности; вся его жизнь прошла перед глазами, как головокружительно мелькающее перед объективом изображение. Ранние годы ребенка, избалованного добрым, слабым и рассеянным отцом. Обучение в такой классической школе, чей режим не мешал отцу продолжать его баловать. Первые студенческие годы. Отцова лаборатория, где маленький Артур препарировал огромное количество устриц, улиток, земноводных… Он вспоминал свои первые научные каламбуры, заставлявшие млеть от удовольствия почтенных папашиных сотрудников, пожилых, испытывающих слабость к этому факультетскому златоусту, господ в очках и с лысинами цвета сливочного масла. Затем первые экзамены на звание бакалавра[231], полученное в результате целого шквала белых шаров[232]. Потом — защита диссертации и легко одержанная победа над не представлявшими большой угрозы соперниками… Далее — кафедра в провинции, чтение лекций в безукоризненном костюме ученого денди[233]. Высший свет департамента, административные приемы, чиновники, над которыми господин зоолог возвышался благодаря всем своим ученым степеням и в которых изредка принимал благосклонное участие, словно гран-сеньор[234], снисходящий до простолюдинов, словно лауреат конкурсов — до учеников начальной школы. А мягчайшие, отделанные мольтоном комнатные туфли, а дорогие стеганые халаты, а вкусные блюда, приготовленные старой Катериной… Господин Артур вспоминал памятные времена сессий, дни экзаменов, когда перед ним проходили вызывающие жалость вереницы студентов, чьи грубые ошибки давали молодому профессору пищу для веселья и он, сперва поупражнявшись в остроумии, журил их с величественным видом. Как же прекрасна была жизнь! Легко представить себе состояние человека, находящегося в столь отчаянном положении и вынужденного прощаться с подобными радостями!
Тем временем господин Синтез попытался вывести коллегу из затянувшейся прострации[235]. То ли старик после своих таинственных переговоров с пандитом успокоился насчет судьбы своей внучки, то ли он черпал энергию и непонятную силу в своем недюжинном характере, но на его отрешенном лице не было и тени волнения. Видя, что его ласковые подбадривающие слова не оказывают воздействия, Мэтр переменил тон и резко окликнул своего спутника. — Давайте займемся работой. Вы слышите меня, не так ли? Но в ответ прозвучал лишь жалобный стон. — Я не могу… Господин… Мэтр, помилосердствуйте… — Здесь, как и везде, даже перед лицом смерти, вы обязаны мне подчиняться. Ваша подпись стоит под контрактом. Более того, вы дали мне честное слово. — К чему эта бесплодная работа? — То есть как это — к чему? Даже если у нас из-за ограниченного запаса воздуха остались считанные часы для работы, считаете ли вы напрасным вырвать у природы одну из ее тайн? Не должен ли настоящий ученый до последнего вдоха продолжать свое Великое Дело? И так как зоолог, все такой же подавленный, не двинулся с места, неотрывно глядя на лампочку, казалось его гипнотизирующую, господин Синтез заговорил еще суровей: — Значит, вы — трус? Вы непременно хотите заслужить мое презрение, презрение труженика? Потом, когда вы, как я надеюсь, вновь предадитесь всем тем низменным радостям, о которых сейчас так сожалеете, мое отношение к вам вряд ли изменится. При этих словах «как я надеюсь» бедолага-профессор мигом преобразился. Не думая о том, какой смысл содержится в сказанном, не учитывая настоящее положение вещей и не смущаясь тем, что вот уже некоторое время он глядит на господина Синтеза как помешанный, господин Артур почувствовал, что энергия мало-помалу возвращается к нему. — Значит, вы надеетесь, Мэтр, выбраться отсюда? — спросил он окрепшим голосом. — Я не говорю «прощай» ни жизни, ни Великому Делу, — загадочно ответил господин Синтез. Зоолог, благодаря быстрым перепадам, свойственным его малодушному характеру, раньше считавший господина Синтеза безумцем, хотя тот говорил разумные вещи, теперь счел проявлением совершенно здравого рассудка слова, казалось бы, наиболее абсурдные[236] из всего, что когда-либо произносил старик. Верно и то, что это были слова надежды, а когда имеешь столько причин цепляться за жизнь, сколько их имел юный господин Артур, становишься не очень-то разборчивым в выборе аргументов. Итак, он посчитал своим долгом повиноваться. Пока длились все эти беседы, пока происходили все эти события, монеры под микроскопом погибли. Растительная слизь высохла на хрустальной пластинке. В то же время их нынешний вид был не менее интересен, и препаратор, несмотря на нервную дрожь, продолжил опыты. Снова с помощью стеклянной палочки зоолог зачерпнул из пробирки воду, повторил описанную выше пробу и убедился в идентичности живой bathybius с той, которую он изучал, снова сфотографировал и стал молча ждать. Старик, который вел себя так непринужденно, как будто находился в своей лаборатории, вслед за ассистентом приник глазом к окуляру микроскопа и, после долгого разглядывания представленного господином Артуром описания, знаком одобрил его точность и добавил: — А теперь давайте побеседуем. Известно ли вам, что нам очень повезло, что трос не порвался на час позже? Ответом ему была пантомима, могущая означать, — было бы лучше, если б он вообще не обрывался. — К счастью, — продолжал господин Синтез, — «Морской крот» не успел обзавестись балластом в виде двух кубических метров воды. Если бы это случилось, мы с вами просто-напросто остались бы на этом месте в течение столетий. — Значит, вы думаете, Мэтр, что нам не светит никакая помощь с поверхности? Разве не может капитан корабля попытаться для нашего спасения поднять со дна трос? — О, не сомневайтесь в том, что славный и предприимчивый Кристиан сделает все возможное и невозможное, чтобы нас спасти. Но это ему не удастся. — Но… — Не перебивайте меня. Торопиться пока некуда, время терпит. Чтобы нас отсюда извлечь, надо перехватить кабель непосредственно на месте обрыва. И вот почему: только раскрученный во всю свою длину трос равен расстоянию, отделяющему нас от поверхности, то есть пяти тысячам двумстам метрам. Его можно поймать на середине, а схватить его за конец невозможно; ввиду своего значительного веса он выскользнет из любого приспособления, с помощью которого его будут пытаться «поймать на крючок». Предположим все-таки, что с помощью аварийного троса, который заперт в трюме, капитану Кристиану удастся захватить наш кабель на середине. Он сможет поднять его на высоту двух тысяч пятисот метров, а затем невозможно будет преодолеть сопротивление, создаваемое весом «Крота». Гипотеза эта, заметьте, совершенно безосновательна, потому что подобное случается не чаще, чем раз на тысячу случаев. Капитан может прочесывать дно неделю и дольше, так и не подцепив трос и, следовательно, не подняв его на поверхность. — Значит, нам крышка? — Ни в коем случае. Я же вам только что говорил — наши резервуары, в которых мы должны были доставить наверх два кубометра воды, кишащей монерами, пусты. — Я по-прежнему не понимаю. — Когда мы оставим здесь две чугунные болванки по тысяче килограммов каждая, «Крот» станет достаточно легким. — Но… — Не будете ли вы так любезны сформулировать мне закон Архимеда? — Нет ничего проще: «На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, пропорциональная весу объема вытесненной жидкости»[237]. — Превосходно. Известен ли вам объем «Морского крота»? — Приблизительно десять кубометров. — Ровно одиннадцать. То есть аппарат вытесняет одиннадцать кубометров воды. Из чего следует, что на него снизу вверх действует некая сила давления. Ее легко подсчитать, если вспомнить, что кубометр морской воды весит чуть больше тысячи ста килограммов. А имеете ли вы приблизительное представление, каков вес нашего снаряда? — Судя по скорости погружения, он должен быть намного большим, чем масса вытесненной воды. — Ошибаетесь, господин зоолог. Вернее, забываете об очень маленьком удельном весе алюминиевой бронзы. Несмотря на огромную толщину стенок, «Крот» весит всего тринадцать тонн. — С чугунными чушками или без них? — спросил ассистент с необычайной живостью. — Вместе с балластом. — Но ведь болванки весят две тонны и, значит, сбросив их, он будет весить всего одиннадцать тонн, потому что, к счастью, в резервуарах нет воды! «Крот» весит всего одиннадцать тонн, следовательно, он может… может подняться со дна морского, всплыть как герметически закупоренная бутылка! — Не спешите, господин зоолог, не спешите. Экий вы торопыга! Вы не учитываете веса аппаратуры, внутреннего убранства, резервуаров для воды, для сжатого воздуха, наконец, веса наших с вами тел… А все это вместе потянет минимум килограммов на пятьсот. — Однако же, Мэтр, удельный вес морской воды по сравнению с пресной выше, по крайней мере на одну десятую, благодаря этому мы получаем выигрыш в подъемной силе. — Вне всякого сомнения. Вес кубометра морской воды равняется одиннадцати сотням килограммов, то есть сила выталкивания должна, как вы говорите, превышать на шестьсот килограммов вес «Крота». Следовательно, аппарат, лишенный балласта, станет подниматься… — Ах, Мэтр, зачем же вы медлите с нашим освобождением! Стоит только руку протянуть и… — И, поднявшись на высоту ста пятидесяти — двухсот метров, «Крот», идущий вверх в соответствии с законом Архимеда, внезапно остановится, перевернется острием вниз и зависнет на своем тросе, как привязанный за ниточку воздушный шар. Вы забыли о тросе, господин зоолог! Этот кабель, его огромный вес, требует для подъема приложения значительной силы, которую придать ему может разве что машина. — О Боже милосердный! — воскликнул, бледнея, зоолог, изведавший в течение последних часов все стадии отчаяния, надежды и страха. — Что с вами? — Теперь я слишком ясно вижу, что нам крышка, что мы действительно пропали! — Во всяком случае, если не избавимся от троса. — А это реально? Ах, Мэтр, приказывайте, я совершу невозможное! Даже если мне придется зубы себе сломать, ногти вырвать, руки стереть в кровь!.. Располагайте мной как инструментом, как машиной! Я повинуюсь, я все сделаю как вы скажете! — Не надо ни ломать, ни вырывать, ни стирать в кровь. Оставайтесь на своем месте и слушайте мои инструкции. Они совсем простые. Разложите флаконы с реактивами по коробкам и проследите, чтобы они не побились. Таким же образом упакуйте микроскопы, фотоаппараты, провизию и все остальное. Когда закончите, вы найдете в этом запечатанном боковом шкафчике моток железной проволоки, щипцы и разные инструменты. Нагнитесь и загляните под сервант. Что вы видите? — Кольца на металлической пластине, вделанной в стену «Крота». — Верно. Зафиксируйте неподвижно все небольшие предметы, составляющие наше оборудование, на этих кольцах, с помощью железной проволоки. Цель этой работы, непривычной для профессора зоологии, состоит в том, чтобы они не попадали нам на головы, а их обломки не поранили нас, когда «Крот» перевернется. — Значит, «Крот» перевернется? — Обязательно. Перед тем как это произойдет, нам останется лишь вытянуться рядышком по стенкам, чтобы не оказаться в положении вверх ногами. Понятно? — Понятно, Мэтр. Сами увидите, как ревностно я выполню все ваши приказания. — Тогда за работу. А я пока перекушу. И господин Синтез вынул пробки из флаконов со своими шариками, выбрал те, что составляли его сегодняшний рацион, принял их, запив водой, и сосредоточился, прислушиваясь к тому, как происходит в желудке процесс растворения. Переждав обычные реакции, следующие за его странными трапезами, господин Синтез не без удовлетворения отметил, что его компаньон довольно ловко закрепляет багаж. Ассистент вложил в свою работу столько рвения, что меньше чем через час все было готово. Старик необычайно внимательно все осмотрел, проверил и, убедившись, что вещи зафиксированы прочно, заявил: — Этого достаточно. Отправляемся в путь. А теперь замрите и в точности исполняйте мои команды. Вы готовы? — Да, Мэтр. — Внимание! — Старик быстро нагнулся и дважды нажал малозаметную кнопку слоновой кости, вмонтированную в пульт. — Отделение балласта произведено. Мы начинаем подъем! Внезапно утратив часть веса, огромный «Морской крот» дрогнул и, сохраняя вертикальное положение, медленно пополз вверх. Через некоторое время скорость его, которую не гасил по-прежнему прикрепленный к шишаку трос, стала увеличиваться. Насколько она возросла, этого ни один из ученых не знал, но вскоре движение стало заметно слабеть. — Внимание! — вторично скомандовал господин Синтез. — В момент, когда «Крот» примет горизонтальное положение, ложитесь, прижавшись к стене, таким образом, чтобы ваша голова находилась там, где сейчас находятся ноги. Действуйте! Пока ассистент укладывался, господин Синтез выхватил из кольца закрепленную в нем электрическую лампу и, держа ее в руке, вытянулся на спине. «Крот» совершил поворот. Большой бак для воды, раньше служивший ему основанием, стал крышей, а головка аппарата, на которой крепился кабель, — полом. Переворот этот происходил медленно, без толчков; оба подводника оказались стоящими на плоской поверхности, служившей крышкой резервуара со сжатым воздухом. — Ну вот, первый шаг сделан удачно, — произнес господин Синтез, вставляя электрическую лампу в такое же крепление, но расположенное, естественно, с противоположной стороны. — В данный момент нас держит на месте стальной трос и наше положение напоминает, в определенном смысле, положение воздухоплавателей, взлетевших на привязанном воздушном шаре. Воздушный шар — в морских глубинах! Оригинальная ситуация, не правда ли? Что вы думаете по этому поводу, господин зоолог? — Я думаю, Мэтр, что мне очень бы хотелось увидеть этот шар не на привязи, а на поверхности воды. — Терпение, молодой человек, терпение! Благодаря аварии, в которую мы с вами попали, вы будете посвящены в одну тайну, которую бережно сохраните, не так ли? — Можете рассчитывать на мое молчание, Мэтр. — Секрет этот не столь уж и важен в конечном итоге, и касается он системы крепления стального троса. Как ни велико мое доверие к подчиненным, но эта подробность не известна никому, даже капитану Кристиану. В моем положении приходится иногда полагаться только на себя самого. К тому же все следует предвидеть, вы слышите, — все! — Даже возможность подобной катастрофы?! — В особенности такую возможность, господин зоолог! Когда человек моего склада затевает какое-либо предприятие, он ничего не пускает на волю случая. Вот почему, заказывая «Морского крота», я предусмотрел возможность случайного или даже умышленного повреждения стального троса. Я также рассмотрел все последствия такого обрыва и, заранее изыскав способ их обезвредить, как видите, не ошибся! Предвидя случай, когда я захочу по той или иной причине подняться на поверхность, не задействуя механизмы, виденные вами на борту, и зная, что трос явится основной помехой для выполнения этого маневра, я закрепил его таким образом, чтобы иметь возможность моментально от него избавиться. Система крепления троса идентична системе крепления чугунных болванок, и стоит нажать кнопку, чтобы он отделился от подводного снаряда. Кнопку эту вы не заметили, так как она замаскирована маленьким винтом. Нужна отвертка для того, чтобы его повернуть и обнаружить кнопку. Объяснять весь механизм было бы излишним в данный момент. Если вас это заинтересовало, я объясню позже… Когда мне больше не нужен будет «Крот». — Однако, Мэтр, позвольте заметить, что много проще было бы запустить механизм раньше, тогда не надо было бы переворачивать «Крота»… — Когда «Крот» лежал на дне, давление снизу вверх помогло отделить болванки. А силу, необходимую для отторжения троса, мы получим благодаря его собственному весу. Вы же понимаете, что аппарат, подобный этому, не должен и не может обладать чувствительностью часовой пружины. Говоря все это, господин Синтез отогнул отвертку своего складного перочинного ножика, отыскал винтик величиной с кончик перьевой ручки и с силой нажал на него отверткой. — Мы снова в пути! — Как, уже?! — воскликнул потрясенный ассистент. — Вы недавно еще так торопились! — Но я не чувствую подъема! — Так же, как и воздухоплаватели, если у них нет ориентира. Они черпают сведения, следя за барометром. — Ваша правда… Я совсем рехнулся… — Мы поднимаемся с весьма значительной скоростью, через несколько минут вы почувствуете морскую зыбь.
__________
— Свет впереди по правому борту! — прозвучал в темноте голос сигнальщика на борту «Инда». — Предупреди вахтенного офицера! — отозвался старшина, спавший на полубаке. Тотчас же появился вахтенный лейтенант и, взобравшись на мостик, заметил в указанном направлении свет, должно быть, из-за все еще не вполне успокоившегося моря, то тусклый, то более яркий. — Что бы это могло быть? — изумился офицер, глядя в бинокль. — Обломок кораблекрушения или тонущая шлюпка? А может быть, плот? Немудрено — после такого урагана! Однако странно — в эти места так редко заходят корабли… Надо проверить для очистки совести. Он приказал спустить на воду шлюпку и выяснить природу странного объекта. Через полчаса шум быстро работающих весел возвестил ему о том, что шлюпка возвращается. — Причаль возле трапа, — крикнул лейтенант, перевесившись через поручни. Обнаружив, что матросы тащат на буксире темный массивный предмет, напоминающий буй, офицер, крайне заинтригованный, прыгнул в шлюпку. — Что это такое? — Мы к ней причалили, что было нетрудно — ведь она светилась, и тут, бах, свет спекся. Но мы успели заметить — из нее торчат два вертлюга. Я себе помозговал — раз уж мы эту штуковину нашли, надо тащить сюда. Зацепил швартовой за вертлюги— и ходу! Вот и все. В тот миг, когда матрос закончил рапорт о своей экспедиции, загорелись прожектора и в их ярком свете стала видна «штуковина», верхушка которой сантиметров на тридцать торчала над водой. Оторопевший офицер узнал в ней «Морского крота». Изнутри раздался грохот — кто-то сильно колотил по металлическому корпусу. Не теряя времени на поиски объяснений этого фантастического явления, офицер стал рассматривать указанные ему вертлюги. Инстинктивно он почувствовал, что именно с их помощью можно сообщаться с внутренней частью снаряда, и попробовал их отвинтить. Они легко поддались, и каждый сделал около десятка оборотов. — Поднимайте! — крикнул вахтенный гребцам и матросам, которые столпились на площадке перед сходнями. Очень толстую и тяжелую крышку сняли. Обнаружилась полость, а в ней — два человека. Они едва держались на ногах. — Мэтр! — воскликнул офицер и почтительно снял фуражку. — Поскорее поднимите нас наверх, — задыхаясь, произнес господин Синтез. — У нас образовался переизбыток углекислого газа, а кислород уже был на исходе… В одно мгновение подводники были извлечены на поверхность. Несколько жадных глубоких вдохов, и силы вернулись к ним. Господин Синтез, узнав вахтенного лейтенанта «Инда», приказал: — Поднимите на борт «Морского крота» и не трогайте его до завтра. А нас пусть отвезут на «Анну». Старик занял место в шлюпке, куда за ним спустился и ассистент, чье лицо лучилось безумной радостью. — Вы о чем думаете, господин зоолог?! Как?! Вы позабыли взять кассеты с фотопластинами? Я надеялся, что вы их захватите с собой, а завтра с утра пораньше проявите и представите мне. А вы, ребята, налегайте на весла! «Инд» был четвертым в ряду кораблей и находился в шестистах метрах от «Анны». Гребцы за пять минут достигли судна, на борту которого царила угрюмая тишина. Спустили трап; при виде господина Синтеза, ловко поднявшегося на борт, находившийся на палубе матрос был повергнут в такой ужас, что чуть не упал в обморок. — Ступайте к себе и держите язык за зубами, — обратился господин Синтез к зоологу. Войдя в салон, старик разбудил индусов-бхили, простертых на ковре у порога внучкиной комнаты. Заслышав шум шагов хозяина, появилась одна из негритянок. — Как себя чувствует госпожа? — Госпожа спать… Госпожа теперь не болен… Госпожа рад видеть господин… — Пусть отдыхает. А ты, — на языке хинди ученый обратился к одному из бхили, — ступай, позови ко мне капитана. Пять минут спустя смертельно бледный капитан, шатаясь, — бхили почти силой тащил его на себе, — вошел в салон. — Кристиан, — заговорил господин Синтез как ни в чем не бывало, — завтра утром достанешь из трюма «Годавери» «Крота-2» и перевезешь сюда. Убедись в его исправности, а также проверь кабель-2. В одиннадцать утра я вновь спущусь на глубину, надо поднять два кубометра воды, насыщенной bathybius hæckelii.ГЛАВА 11
Всеобщее потрясение. — О брахманах и их странном могуществе. — Алексис Фармак догадался. — Необычные последствия аварии. — Почему господин Роже-Адамс заболел желтухой. — Химик посмеивается над коллегой и узнает, что он славный малый. — «Морской крот» снова пущен в дело. — Ничто не повторяется. — Господин Синтез кое-что позабыл. — Две тысячи килограммов лишнего веса. — Поздние тревоги и страхи. — Возможные последствия невероятной забывчивости человека, который никогда ничего не забывает. — Великое Дело началось.Если катастрофа, вызванная обрывом троса, повергла экипаж «Анны» в горестное оцепенение, то непостижимое возвращение господина Синтеза и его спутника разбудило чувства, не поддающиеся описанию. Своими глазами увидеть, что трос был то ли оборван, то ли намеренно перерезан, присутствовать при работах по поиску этого троса или самому принимать в них участие, узнать, насколько велик вес «Морского крота» и какое бесконечное время понадобилось ему для погружения, а затем увидеть, как он плавает, словно буек, а господин Синтез с зоологом, которых безоговорочно считали погибшими и погребенными под пятикилометровой толщей воды, вновь оказываются на борту корабля… Есть от чего даже самым уравновешенным людям испытать потрясение! Надо отметить, что не индусы, более суеверные и склонные верить чудесам, удивлялись больше всех. Странно, но этот необъяснимый факт, от которого европейца охватывает мистический ужас, в глазах индусов как бы относится к категории вещей возможных и даже заурядных. Они объяснили его по-своему просто: разве Мэтр, старый друг людей и племени, не является посвященным, как те брахманы, чье могущество порой бывает безгранично? Брахман может, когда хочет, зависнуть неподвижно между землей и небом, не имея под ногами никакой опоры, исключительно с помощью силы воли; он за мгновенье может преодолеть огромное расстояние и проникнуть в дом сквозь стены; он повелевает стихиями, под его взглядом замирают в неподвижности и люди и хищники; он, плюнув на голову змеи, может использовать ее в качестве трости; он зарывает семечко в песок, и за два часа из него вырастает дерево, полное цветов и плодов; он дыханием тушит огонь или заставляет его пылать, он ходит по волнам… Значит, Мэтру, стоит только сказать глыбе металла, чтобы та поднялась из глубины и плавала как кусок пробкового дерева! Простые факиры, посвященные низшего ранга, которым брахманы уделяют частицу своего могущества, и те иногда способны творить подобное. Тот, кто наблюдал чудеса, — в этом слове нет ни капли преувеличения, — творимые этими посвященными, за неимением научного объяснения вынужден подыскивать объяснение какого-либо другого рода. А вот матросы-европейцы, никогда не видевшие ни брахманов, ни индусских факиров, не имея также досуга или способностей для изучения давления, объема и удельного веса, очутились перед лицом феномена им абсолютно непонятного. В отличие от индусов, их разум не был подготовлен к самой идее того, что некоторые люди способны совершать чудеса, и, когда произошло то, что по всем внешним признакам произойти не могло, их изумление было тем сильнее, чем загадочнее причины происшедшего. Поэтому любо-дорого было послушать, какие легенды слагались на полубаке, какие колоритные истории звучали во время ночных вахт! Капитан Кристиан, опомнившись от первого потрясения, всей душой отдался громадной радости вновь увидеть господина Синтеза. Но Мэтр был занят подготовкой нового эксперимента и никак не объяснял происшедшее. Он ограничился тем, что отдал капитану новые приказания. А тот, вырвавшись из тенет гнетущего его кошмара, счастливый от сознания, что хозяин жив, большего и не требовал. Кристиан не сомневался в том, что в нужное время и в нужном месте узнает правду, часть которой ему уже приоткрылась. Тем не менее капитан «Анны» весьма активно, хотя и без большой надежды на успех, приступил к расследованию прямой причины катастрофы, — ведь чья-то преступная рука перерезала стальной трос. Что касается Алексиса Фармака, то, не считая самого господина Синтеза и юного господина Артура, он один знал разгадку этого трагического приключения. Догадавшись о том, что произошло, сразу же после того, как «Крот» снова привезли на корабль, наслушавшись восторженных россказней индусов и нелепых домыслов моряков, он поставил перед собой задачу добраться до сути дела. Внимательно осмотрев аппарат, химик, выяснив, из какого металла тот был сделан, снял его размеры, вычислил удельный вес и набросал карандашом несколько формул. — А я-то сомневался… — бормотал он, — конечно же без балласта аппарат легче воды. А для того, чтобы сбросить груз, довольно и простого устройства. И трос отсутствует… несомненно та же система… Да, действительно наш патрон совсем не прост!.. Разумеется, я пришел в отчаяние от мысли, что из-за катастрофы не состоится эксперимент, сам замысел которого приводит меня в восторг. Но в настоящую ярость — иначе и не скажешь — я приходил при мысли, что этот великолепный гений будет уничтожен таким образом. Решительно, я к нему привязался. Я, не любящий никого в целом мире… Но в этом-то можно себе признаться без стыда. Ох, хотелось бы мне увидеть физиономию юного Артура! Кстати, что-то его не видать… Наш патрон снует повсюду как ни в чем не бывало, а господин зоолог отсиживается в своей каюте. Что, как он помер от пережитого страха?! Поглядим-ка. И тотчас же Алексис Фармак зашагал — ноги циркулем — по направлению к каюте своего коллеги. — Привет вам, прославленный исследователь! — приветствовал он компаньона своим обычным насмешливым тоном. — Как чувствуете себя нынешним утром? Сдавленный стон был ему ответом. Прославленный исследователь лежал, завернувшись в одеяла. — Вы что, больны? Момент выбран неудачно. Патрон, кажется, собирается продолжить эксперимент, и вы, счастливчик, снова примете в нем участие. — Лучше смерть! — жалобно заныл молодой человек, на лицо которого как раз упал из иллюминатора луч солнца. — Э-э, голубчик, вы что, искупались в хромате свинца? Что это с вами? — О чем вы? — Но, дорогуша, вы же весь желтый! — Желтый?! — Ярко-желтый. И лицо, и глазные белки, и уши. А на шее и на носу желтизна переходит даже в серо-зеленый цвет. Ну и видик у вас! — Вы надо мной насмехаетесь! — Гляньте-ка лучше на свои руки, на ногти!.. — О Боже! — Что это такое? — Пережитые вчера волнения… Страх, да, страх, признаюсь вам без ложного стыда, — вот что вызвало у меня гепатит…[238] — Желтуху, не так ли? — Да, я заболел желтухой! — Тогда лечитесь, черт побери! — Но от нее умирают! В этих широтах она очень опасна! — Вы сами только что, когда я упомянул о новом предстоящем погружении, воскликнули: «Лучше смерть!» Вот ваши пожелания и уважены! — Вы в такой момент ведете себя по отношению ко мне как палач! Черт бы вас взял! И чтоб чума задавила этого старого нечестивца, который довел меня до такого состояния! — Подумать только, дружище, у вас такая удобная желтуха… Это ее называют «желтухой осложненной»? — Идите вы с вашими каламбурами! Берегитесь! — Не нервничайте, это может ухудшить ваше состояние! Вы искали повода уклониться от нового подводного путешествия. Вот Провидение и послало вам желтуху, чтобы нас с вами обоих осчастливить. Оставайтесь нежиться в постельке и лечитесь по всем правилам врачебной науки, а я отправлюсь к патрону и буду умолять его оказать мне честь заменить вас. — Ну и прекрасно, счастливого пути! Желаю вам обоим там и остаться! Но химик, сияя, как школьник на каникулах, уже не слышал последних слов. Прыгая через две ступеньки, он помчался на палубу и, подлетев к Кристиану, как обычно потирая руки, сказал ему: — Капитан, юный господин Артур совершенно не в состоянии сопровождать Мэтра… Если бы вы видели, в каком он состоянии! Бедняга похож на омлет со специями! Пережитый вчера страх попортил ему кровь и спровоцировал настоящую первоклассную желтуху. — Мэтр рассердится из-за такой проволочки… — Ах, оставьте! Не хвалясь скажу, что я прекрасно заменю этого труса и смогу таким образом доказать свою преданность нашему с вами патрону. — Вы — славный малый, господин Фармак, — ответил ему офицер. — И, добавлю, мужественный человек! — Ну что вы, капитан, не преувеличивайте мои достоинства, если они вообще существуют… Я не только душой и телом предан хозяину, я еще и крайне любопытен. А это не имеет ничего общего с героизмом. Что касается риска, то, думается, в сегодняшнем спуске для ловли bathybius, он начисто отсутствует. Non bis in idem[239], черт возьми! — Как и вы, надеюсь и от всей души этого желаю! Тут капитан, заметив господина Синтеза, который придирчиво осматривал все узлы механизма, подошел к хозяину и доложил о своем разговоре с химиком. Узнав о болезни зоолога, господин Синтез с высот своего олимпийского спокойствия[240] надменно бросил лишь краткое: — Дурачина! Хорошо, дружок, договорились, со мной пойдет Фармак. Я так и знал, что в случае необходимости на него можно положиться. А ты ускорь приготовления. — Слушаюсь, Мэтр. Вскоре громадный ящик, содержавший в себе «Морского крота-2», прибыл на «Анну» с «Годавери» и был вскрыт бригадой матросов. Господин Синтез и капитан лично проверили, снабжен ли аппарат всем необходимым. Затем, с помощью Алексиса Фармака, Мэтр собственноручно закрепил на шишаке трос, подсоединил электропроводку. Баллоны со сжатым воздухом, а также различные водозаборные приспособления функционировали отлично. Когда все приготовления были завершены, «Крота» спустили на большую глубину и благополучно подняли на поверхность. Трос превосходно выдержал испытание. Все позволяло надеяться, что на сей раз попытка погружения будет успешной. Аппарат, с которого ручьем текла вода, поместили на палубе, отвинтили, как было описано выше, вертлюги, сняли крышку, и пассажиры заняли свои места. Затем люк задраили, паровая машина заработала, трос поначалу смотали, чтобы перенести аппарат через фальшборт, а затем подъемный кран осторожно опустил его на воду. Прозвучал пронзительный свисток. Машину на миг заглушили, запустили снова, опять застучали поршни, закрутились лебедки, и «Крот» начал погружение. По истечении пятидесяти двух минут зонд остановился, задребезжал сигнальный звонок. — Все в порядке, мы на глубине! — сказал по телефону господин Синтез. — Резервуар для воды открыт, он наполняется… Уже наполнился… Ты слушаешь, Кристиан? — Так точно, Мэтр! — Поднимай нас… потихоньку… — Постепенно поднять пары! — скомандовал капитан механикам. — Мэтр, «Крот» поднимается… Но вот что странно, мы вынуждены увеличивать мощность, как если бы его вес значительно увеличился… А ведь он должен был остаться прежним… — Я и сам не пойму, в чем дело. Но трос ведь хорошо выдерживает нагрузку, а это главное. Подъем продолжал, спокойно, методично, но все медленнее и медленнее… Капитан, не зная, как объяснить это увеличение веса, смутно предчувствовал новую катастрофу и время казалось ему нескончаемым… Прошел час, а аппарат подняли всего лишь на три тысячи восемьсот метров. Как бы там ни было, но пока подъем проходил благополучно, а господин Синтез все время выражал глубокую уверенность в успехе, которую капитан очень желал бы разделять… Что ж, после давешней аварии человеку дозволено стать немного пессимистом… «Морской крот» продолжал движение, а Кристиану приходилось крепиться изо всех сил, чтобы не притопывать ногами от нетерпения. Ведь минуты все-таки истекали, расстояние сокращалось… Мало-помалу вращение становилось быстрей, еще тысяча метров пройдена… еще пятьсот… Восемьдесят две минуты минули… Раздается громкое «ура!» — над поверхностью появляется шишак, а затем и весь аппарат! Огромная масса поднята, установлена на палубе, которая чуть ли не прогибается и не трещит от небывалой нагрузки. Люк тотчас же открывают. Господин Синтез, спокойный, как и перед началом экспедиции, выходит первым, за ним — сияющий химик, держа в руках все еще горящий электрический фонарь, который он позабыл выключить, когда снаряд уже проходил освещенные солнцем слои воды. Осталось перевезти «Крота» на атолл и освободить аппарат от балласта — двух кубометров воды, насыщенной монерами. — Кстати, о балласте… — Господин Синтез заговорил тоном человека, пораженного неожиданной мыслью. — Я же забыл отсоединить две чугунные чушки! Капитан про себя уже пришел к тому же заключению, чем и объяснил странное и значительное увеличение веса. — Забыл… Мэтр что-либо забыл?! Очень странно, — пробормотал он себе под нос, глядя, как старик, задумавшись, направляется в свои апартаменты. Веселый голос прервал ход размышлений офицера: — Ну что, капитан, видели? Все оказалось проще пареной репы! — Вам так кажется? — загадочно отозвался Кристиан. — А то нет? — Неужели вы даже и не подозревали, что совершаете подъем при излишке веса в две тысячи килограммов? — Возможно, и не подозревали. — Но если бы трос порвался ввиду подобной перегрузки! У меня при одной мысли об этом мороз идет по коже! — Тоже мне — горе! Мы бы бултыхнулись себе вниз головой. Меня это никоим образом не касается — ведь шеф взял всю ответственность на себя. Что с того, что он позабыл отстегнуть две тысячи килограммов чугуна? Возможно, Мэтр решил проверить на прочность эту славную стальную веревочку. А то нет? На его месте я назначил бы ренту[241] фабриканту, изготовившему кабель. — Вы оба погибли бы, если бы не эта невероятная прочность! — Что вы об этом знаете? Мне кажется, патрон изыскал бы способ всплыть, как он это проделал вчера, сопровождаемый моим злосчастным коллегой. Какой человек, капитан, какой человечище! «Все равно, — подумал обеспокоенный офицер. Рассеянность Мэтра не давала ему покоя. — За этой непостижимой забывчивостью кроется тайна, которую я не могу объяснить. В особенности принимая во внимание сложившуюся ситуацию. Неужели его всеобъемлющий ум, не подвластный ни старости, ни изнурительным трудам, начинает утрачивать прежнюю ясность? Что ж, придется понаблюдать за ним». Господин Синтез отсутствовал непродолжительное время, безусловно употребив его на то, чтобы сообщить внучке о благополучном исходе экспедиции. Но вскоре он вновь появился на палубе. Пока «Морского крота», с помощью наипрочнейших строп, закрепляли на системе талей, Мэтр с химиком отправились на атолл, на добрых полчаса опережая прибытие тяжелого металлического панциря, транспортируемого большим баркасом. В огромном стеклянном куполе отражались ослепительные лучи солнца. Чистые воды лагуны, отделенной от моря железными воротами шлюзов и слоем гидравлического цемента, сверкая, вбирали в себя эти лучи, что значительно повышало температуру воды. Все изобретенные господином Синтезом приборы, частично установленные на коралловом кольце, частично — на корабле, были готовы к работе. Чувствовалось, что вскоре один сигнал приведет в движение эту колоссальную машину, и во всех ее узлах закипит, забурлит жизнь. Алексис Фармак, в качестве производителя строительных работ, набрал команду особого назначения, состоящую из самых сообразительных и расторопных работников, избранных из членов экипажа всех четырех судов. Химик их уже слегка пообтесал, пояснив, какие действия вскоре потребуются, и отработав с ними некоторые приемы, пусть и несложные, но требующие применения не столько силы, сколько ловкости. Эта команда из 30 человек была колоритно названа ассистентом «лабораторными стюардами»[242] (определение, кстати сказать, очень верное и точно выражающее суть их обязанностей). Стюарды, как матросы, вдесятером несли попеременную вахту. Дежурство было организовано уже много дней назад, но происходило, до наступления великого дня, по их словам, «вхолостую». Первая смена находилась на своем посту, и каждый вахтенный занимал место возле доверенного ему прибора. Пока господин Синтез и химик обходили атолл, прибыл баркас с «Морским кротом». Доставить под купол содержимое резервуара с водой, в которой обитали монеры bathybius hæckelii, не подвергнув его контакту с атмосферой, в конечном итоге дело совсем несложное. Баркас был накрепко пришвартован к коралловому кольцу, а одна из труб с большой металлической гайкой на конце подсоединена к водозаборному крану резервуара. Эта труба, проходившая сквозь стеклянную крышу, была снабжена всасывающим насосом, а другой ее конец был опущен в воды лагуны, где монеры найдут хоть и на меньшей глубине, но весьма близкие к природным условия существования. Этот очень важный, по словам господина Синтеза, маневр, был исполнен в течение нескольких минут, и вскоре монеры смешались с семьюдесятью пятью тысячами кубометров воды, находящейся в бассейне. Раствор, конечно же гомеопатический[243], но для данного случая достаточный. Закончив эту операцию, химик развил бешеную деятельность; покинув Мэтра, он начал сновать между аппаратурой, направо и налево отдавая своим людям краткие приказания. По его команде разжигали горн, на угольях которого раскалялся металлический перегонный куб. Печь с воздушной тягой дымила, как вулкан, и рядом с нею громадная реторта, погруженная в песчаную ванну, наполнялась рыжими испарениями. Четыре котла из листового железа медленно извергали свое содержимое по трубам, расположенным под куполом и в бассейне. И наконец, вступила в действие мощная электродинамическая машина Эдисона, установленная на борту «Анны» и соединенная с лабораторией толстыми заизолированными медными проводами. Вскоре все вокруг задымило, закипело, засвистело, принялось потрескивать, скрежетать, трудиться, испуская газы, испарения, флюиды[244], жидкости, циркулирующие по трубам, как по артериям и венам кровеносной системы, чтобы пройти в свой черед через центр, где совершалась таинственная ферментация[245], предшествующая или сопутствующая еще более таинственному и загадочному феномену, именуемому генезисом. Горячие, причудливо окрашенные дымы, паря над лабораторным куполом, образовывали довольно густое облако; время от времени полыхало пламя, пронизываемое бесшумными, мимолетными, беспорядочными вспышками, похожими на вспышки молний. Пары частично конденсировались и, образуя искусственный дождь, оседали мельчайшей росой, состоявшей из разнообразнейших элементов, формула которых была ведома только Мэтру и химику. Отдав своему ассистенту последние распоряжения, господин Синтез молча пошел к парому, связывавшему атолл с кораблем. Ступив на палубу, он осмотрел электродинамическую машину, подозвал капитана и несколько минут негромко побеседовал с ним. Офицер почтительно отдал честь, подозвал боцманов и что-то приказал им. Через несколько мгновений послышался пушечный залп. И тотчас же, как по волшебству, на всех четырех кораблях весело расцвели разноцветные вымпелы, на всех судах прогремела артиллерийская канонада, как тогда, когда коралловый остров впервые поднялся из вод лагуны. Перед выходом на наружный трап в одиночестве стоял господин Синтез, созерцая гигантское горнило, где воплощалась наконец его смелая мечта — итог всей жизни. И, как бы отвечая своим потаенным мыслям, он тихо сказал сам себе: — Вот оно и началось, Великое Дело! На высокой мачте над куполом лаборатории поднялся огромный белый стяг, на котором заблестели черные буквы гордого девиза: ET EGO CREATOR.
Конец первой части


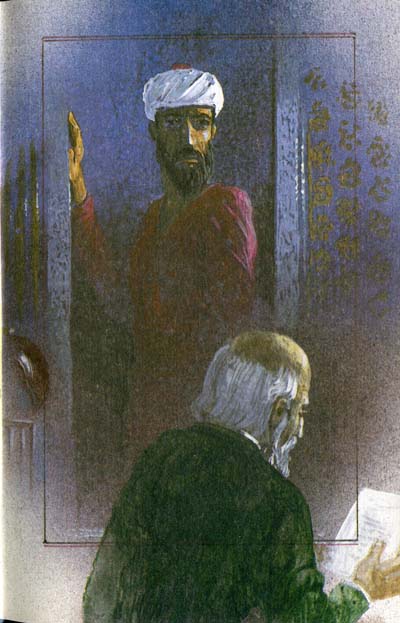





Часть вторая ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ НА МАЛАККЕ
ГЛАВА 1
Жалобы юного господина Артура. — Чем заняты два ассистента. — Первая трансформация. — Появление амеб[246]. — Что такое жизнь? — Ученый Тем-Хуже и ученый Тем-Лучше. — Изнурительная, но фундаментальная научная дискуссия. — Мнение преподобного отца Секки[247]. — Эволюция неорганической материи аналогична эволюции материи органической. — Процессы синтеза в природе. — Все яйца похожи между собой и все подобны монере. — Воссоздание в течение сорока недель всех феноменов трансформации, происходившей с момента появления жизни на Земле.— Уф-ф! Не могу больше, — жалобно простонал юный господин Артур и, обессиленный, рухнул в кресло-качалку. — Этот старикашка в гроб меня загонит! — Знаете ли, коллега, слово «старикашка» звучит несколько фамильярно. Исходя из ваших же интересов, не хотелось бы, чтобы Мэтр слышал такие речи. — В конце концов, какая разница? Пусть делает со мной все что угодно, только избавит от этой бессмысленной работы!.. — Видно, вас и впрямь обуял гнев! — Скажите лучше, что я в ярости, меня душит, ослепляет злоба! — Но от ярости кровь бросается в лицо, вы же ничуть не покраснели, а, напротив, пожелтели. Думается, от злости у вас приключилось разлитие желчи. — И вы еще смеете шутить?! — Поймите, дорогуша, если я стану отвечать вам в том же тоне, то вскоре мы переколотим о головы друг друга всю лабораторную утварь. — Никогда не знаешь, шутите ли вы или говорите серьезно. — Разве я похож на шутника? — Очень! — Ну так цепляйтесь лучше ко мне. Это безопасней, чем хулить патрона, пусть даже за глаза. — Вы, словно крепостной, преданы ему до самых печенок!.. Вы его всегда защищаете!.. — От кого? От вас? Бедный юноша! Мэтр не нуждается ни в моей, ни в чьей бы то ни было защите. Ему ничего не стоит заставить себя уважать. Стараясь умерить шквал ваших попреков, я думаю лишь о вашем же благе, ибо если хозяин услышит подобные разговоры, то он тут же даст вам пинок под зад, как зарвавшемуся матросишке. — Ну и что с того? — Вам мало? Тогда попробуйте выказать ему недостаточное почтение, пройдитесь, например, насчет его внешности или в глаза назовите «старикашкой»! Но лучше не обсуждать эту тему. Хочу надеяться, что причиной вашего уныния и плохого настроения является эта злосчастная желтуха, делающая людей такими сварливыми. — Вам хорошо говорить. Вы всегда с правой ноги встаете. Здоровье отменное, глаз зоркий, аппетит прекрасный… — Не завидуйте; нога лишена элегантности, глаз — единственный, а аппетит весьма посредственный. — Но, во всяком случае, работа… — Соотносительно с вашей — точно такая же, но намного тяжелей, на что я в конечном итоге не сетую. Давайте разберемся. Каковы ваши обязанности? — О, никакие или почти никакие! Всего-навсего трижды в день производить пробы вод лагуны и, делая ее микроскопический анализ, искать bathybius, узнавать, развиваются ли они, растет ли их количество, изменяется ли их структура, фотографировать полученные под микроскопом препараты, проявлять пластинки, печатать фотографии, демонстрировать их господину Синтезу и так далее. В итоге — восемь часов кропотливой, утомительной и однообразной работы. — А вы думаете, что круглосуточно следить за всеми делами лаборатории пустяк?! Надзирать за теми, кто обеспечивает работу аппаратов, изучать реакции, происходящие между множеством элементов, измерять температуру воздуха и воды и все до малейших подробностей докладывать Мэтру?! — Пусть так. Но беда одного человека не исключает несчастий другого. — Еще раз говорю вам: я не жалуюсь, и даже наоборот! — Вы хотите сказать, что эта варварская кухня, недостойная людей нашего круга, вас к себе влечет?! — Непреодолимо! — Но, помилуйте, с какой целью?! Если бы я только мог надеяться получить какой-нибудь истинно научный результат… — Неужели вы и в этом сомневаетесь? — Сейчас больше, чем когда-либо. — Но ведь первые полученные данные очень обнадеживают. — Вы легковерны. — Bathybius расплодились делением настолько, что воды бассейна ими буквально кишат. Обсеменить двумя кубометрами монер водоем водоизмещением около семидесяти пяти тысяч и получить за четыре дня такой огромный прирост — это изумительно! — Я придерживаюсь того же мнения, я даже иду дальше. Должен сообщить, что сегодня появились и более сложные существа — амебы. Появились, естественное дело, из bathybius путем прогрессивной трансформации животного мира. — Но это же великолепно! Это же чудесно! — Что великолепно?! Что чудесно?! — Эдакое воплощение теорий эволюции! — Начало воплощения… — Видя столь замечательный результат, не стану дискутировать с вами о терминах! — Добро. Хотел бы я хоть на миг разделить вашу радость, не перенимая вашей восторженности. Ну а что дальше? — Как — что, ведь сделан первый шаг. Обозначена способность простой клетки на глазах трансформироваться, преобразуясь в более сложный организм, что свидетельствует о начале ускоренной эволюции. И это вам ни о чем не говорит?! — Ни о чем. Или, во всяком случае, мало о чем. Единственный вопрос, который я себе задаю: к чему все это может привести? — Я очень надеюсь, что увижу в период, равный двумстам восьмидесяти дням, эволюцию от первичной клетки до человека. — Вы, дражайший коллега, позвольте сказать откровенно, несете несусветную чушь. Подумайте сами: что такое жизнь? У вас есть точное определение? — Могу предоставить не одно определение, а несколько. — А я располагаю только одним. — Не соблаговолите ли вы его сформулировать? — Охотно. Жизнь, — думается мне, — это процесс упорядоченной и организованной эволюции, переданный первичной материи предшествующим существом, в котором происходили подобные эволюции. — Таким образом, вы утверждаете, что все ныне живущие существа непременно должны отпочковаться от своих, скажем так, родителей? — Черт возьми, разве ж это не само собой разумеется? — Для меня — отнюдь. Ограничусь одним вопросом: откуда произошло первое животное или растение, которое не имело себе подобных? — Однако и философские и религиозные догмы объясняют сей феномен, и я считаю эти объяснения исчерпывающими. — Но ведь любые догмы подтверждают, а не описывают процесс. — Это меня устраивает. И я удовлетворяюсь верованием, провозглашенным задолго до нас гениями, перед которыми согласен пасть ниц. — Ваше дело. Но кто мне запретит искать более человечное, если хотите, более приземленное, более приемлемое для моего разума объяснение и не причиняющее ни малейшего вреда догмам, провозглашаемым вами в ходе наших научных дискуссий? — Ничего другого и не желаю, кроме как услышать от вас «научное» объяснение появления жизни на Земле. Но, предупреждаю заранее, ваши умствования меня не убедят. Что ж, дискуссия поможет нам убить время, пока сохнут мои пробы. — Вы только что очень доходчиво изложили точку зрения, которая не удовлетворяет меня, поскольку она неминуемо подводит к отрицанию трансформизма. — Значит, вы знаете лучшее определение? — Вполне вероятно. Во всяком случае, оно не подводит к безоговорочному приятию предпосылок, кажущихся мне сомнительными, так как, по моему мнению, живые существа необязательно происходят от неизменно и строго себе подобных предков. Я дал бы следующее определение жизни: «Это — совокупность сил, управляющих органической материей». — Очень осторожное определение! — Профессор зоологии рассмеялся. — Я не могу быть более категоричным. Впрочем, если хотите, замените слово «сила» словом «движение». — Вот уж что для меня не имеет ни малейшего значения! — По-иному думал преподобный отец иезуит, чей авторитет в данном случае не подлежит сомнению! — ?.. — Цитирую дословно: «В целом верно то, что все зависит от материи и движения, и мы таким образом приходим к истинной философии, которую уже исповедовал Галилей, видевший в природе лишь движение и материю или их модификацию, производимую за счет перемещения частей и разнонаправленности движения». — Скажите на милость, кто же автор этого изречения? — Преподобный отец Секки, дорогой коллега. — Да ну? — Он самый, как я уже имел честь вам сообщить. — И что все это доказывает? «Материя», «движение» — просто слова! Окиньте взглядом всю органическую цепочку, всю лестницу живых организмов от монеры до человека. И, придя к простейшей живой клетке, вы вынуждены будете остановиться, не найдя объяснений, каким образом она оказалась на Земле. — Ну, это мы еще посмотрим! Более того, я постараюсь вам доказать, что цепь, идущая от неорганической молекулы до человека, — неразрывна. И до такой степени, что вы не сможете отличить материю минеральную от органической, вернее, не будете знать, где кончается одна и начинается другая. Последовательность, безусловно, неуловима, но и непрерывна. «Natura non facit saltus»[248] — это аксиома. — Таким образом, вы приходите к самопроизвольному генерированию материи?[249] — Ни в коем случае. Я лишь констатирую глубинные связи неодушевленной и органической материи, ту корреляцию[250] между ними, которую в каждый данный момент невозможно определить. — Продолжайте, дорогой коллега, ваши рассуждения меня живейшим образом заинтересовали. — Вы мне льстите. Продолжу изложение основных принципов, приложимых к трем царствам природы, — их правильность в наше время уже ни у кого не вызывает сомнений. Все законы, применимые к миру минералов, действительны также в мире растительном, существующем по лишь ему свойственным законам. В свою очередь, все законы растительного мира действительны в мире животном с той только разницей, что, как и в первом случае, они пополнятся новыми правилами. — По-вашему, существование кристаллов сопоставимо с существованием растительных организмов? — При прочих равных условиях, да. Если не возражаете, начнем с аморфного состояния, являющегося для неодушевленной материи тем, чем для материи органической является протоплазма[251]. Из экспериментов Вожельсана и Лемана явствует, что кристаллическое состояние приближается к аморфности посредством серии последовательных преобразований. Вышеназванные ученые наблюдали, как в соляных растворах самые простые кристаллы, находясь в условиях, аналогичных природным, формируются, становясь все более сложными, и, пройдя через ряд последовательных состояний, каждое из которых сложнее предыдущего, демонстрируют новые, значительно усовершенствованные физические качества. Как животное или растение, кристалл не появляется внезапно; как растение или животное, он проходит эмбриональную фазу[252]. — Мне все это известно, о чем вынужден вам напомнить. Но я вновь возвращаюсь к нашим баранам:[253] каким образом цепь неорганического мира спаяна с цепью мира органического? — Путем безусловного и простого внедрения в самый превосходный из кристаллов молекулы углерода. — Пусть будет так, если вы настаиваете, хотя данное утверждение мне не представляется доказанным, даже после замечательных работ Геккеля[254]. — Это-то и требуется выяснить. Почему в конечном итоге природа не может создавать комбинации, воспроизводимые нами ежедневно в своих лабораториях? Вы конечно же помните, что не так давно господа Моннье и Вогт с помощью неорганических взаимореагирующих солей сымитировали некоторые формы органических клеток, а резюме[255] их работы, — отчет, опубликованный в «Записках» Академии наук под заглавием «Искусственное продуцирование некоторых форм органических веществ», — заставил совершенно по-новому взглянуть на данную проблему. Могу еще по этому поводу привести в качестве примера один широко известный факт. А именно: возьмем ботаническое семейство, образованное путем симбиоза, или, проще сказать, путем комбинации двух отчетливо различных растений — семейство лишайников[256]. Удалось на практике разъединить два растения, его составляющих, — зеленое и незеленое. Первое может развиваться самостоятельно, и в нем признали водоросль! Второе же, лишенное хлорофилла[257], является грибом. (Правильность такого анализа была подтверждена с помощью синтеза.) В среде, лишенной малейшего зародыша лишайника, на водоросли поместили грибы. Короче говоря, была произведена попытка из нескольких разных видов синтезировать лишайники. Таким образом, удалось экспериментальным путем репродуцировать вид с помощью одних лишь его первичных элементов. — К чему вы клоните? — К тому, что «импульс организации и регулярной эволюции» не всегда передается весомой материи с помощью предшествующего существа, прошедшего подобную эволюцию. Лишайники необязательно происходят от себе подобных родителей — ведь они являются гибридом водорослей и грибов. Как видите, ваше определение жизни, мягко говоря, не совсем верно. — Признайте же, что для природы внедрить в кристалл атом углерода гораздо проще, чем путем взаимодействия двух различных организмов продуцировать ботаническое семейство. — Оставляя за собою право обращаться к абсолютным истинам, касающимся сущности творения, готов признать все, что вам угодно. — Я не собираюсь посягать на ваши догмы и разрушать ваши предрассудки. Единственное, что меня привлекает, — это добросовестный поиск истины. Но вернемся к соединению кристалла с углеродом, к комбинации, которая привела к появлению жизни на Земле. Из всех веществ углерод является едва ли не важнейшим элементом, выполняющим в телах животных и растений одну из самых главных функций. Именно углерод, взаимодействуя с другими элементами, формирует сложные комбинации и тем самым разнообразит химические структуры, а стало быть, и жизненные свойства животных и растений. Именно углерод, соединяясь с кислородом, водородом и азотом, к которым чаще всего приходится добавлять серу и фосфор, порождает белковые соединения, то есть монер, зародышей жизни. Таким образом, я согласен с Геккелем в том, что лишь в особенных физико-химических свойствах углерода, в частности в его полужидком состоянии и нестабильности углеродных белковых соединений, следует усматривать механизмы двигательных феноменов, отличающих живые организмы от неживых. — Благодарю, дорогой коллега, и, восхищаясь вашим пылом, хочу отдать должное той ловкости, с которой вы стараетесь мне доказать, что яйцо старше курицы. — Но для меня это очевидно, и я во весь голос заявляю: «Вначале была не курица, а яйцо». Ясное дело, что примитивное яйцо не было снесено птицей, а являло собой простую индифферентную клетку[258] простейшей формы. В течение тысяч и тысяч лет оно существовало независимо, в виде одноклеточного организма — амебы. И лишь тогда, когда ее потомство трансформировалось в многоклеточное и разделилось по половому признаку, родились, о чем свидетельствуют данные современной физиологии, амебовидные клетки. Яйцо было сначала яйцом червя, позднее — рыбы, амфибии, рептилии и, наконец, птицы. Современное птичье яйцо, в частности куриное, это весьма сложный исторический продукт, результат бесчисленных феноменов наследственности, происходивших на протяжении миллионов лет. Однако я тут изощряюсь, доказывая то, что вы знаете лучше меня, ведь ваша специализация — естественные науки. — Вот и позвольте заметить по этому поводу, что, игнорируя все, за исключением химических соединений, реакций и субституций[259], вы рассуждаете как узкий специалист в области химии. — Во всяком случае, все мною сказанное отличается точностью, а о красотах стиля я при изложении не забочусь. Поверьте, мне нисколько не хочется уязвить вас. Но очевидно то, что вы, видя лишь настоящее, не отдаете себе отчета ни в том, какие огромные периоды времени истекли, ни в том, как воздействовали эти миллионы и миллионы прошедших лет на материю и движение. — Позвольте, я никогда не упускаю из виду опыты Бишоффа[260], доказывающие, что для того, чтобы перейти из состояния жидкости к состоянию твердого тела, то есть остыть с двух тысяч до двухсот градусов, нашему земному шару понадобилось триста пятьдесят миллионов лет. — Тогда ваша непоследовательность просто поражает! Вы ведь согласны с тем, что в период формирования в яичнике все яйца поразительно похожи между собой. — Согласен! Скажу больше — они подобны элементарной амебовидной клетке, схожей с теми, которые находятся сейчас в лаборатории. — Я вас за язык не тянул! Итак, яйцо, из которого родится бык, слон, утка, мышь, кролик, колибри или обезьяна, представляет собой автономную клетку, аналогичную находящимся в водах бассейна… — Утверждать обратное было бы чистейшей нелепостью. — Как?! И после этого вы не желаете признать возможность эволюции, происходившей под видоизменяющим влиянием миллионов истекших лет?! — Я ничего не отрицаю, ничего не жду, я лишь констатирую факты. Но, прежде чем признавать или не признавать теорию, которую, надо отдать вам должное, вы довольно толково изложили, я все же позволю спросить, что же стряпают в этой варварской кухне под стеклянным колпаком? — Вы сами все прекрасно знаете, ведь я перед вами мелким бисером рассыпался. В сотый раз повторяю: господин Синтез намеревается в сороканедельный срок, путем исследовательских трансформаций, воссоздав фазы, пройденные предками человека, возродить в этом громадном бассейне основные жизненные формы, чтобы, усовершенствуя их по мере возникновения, добиться появления человеческой особи. — Но это противоречит здравому смыслу! Каким образом он надеется перешагнуть через миллионы лет, понадобившиеся для изменения примитивных организмов? Чем он заменит материнское начало? — Это его тайна. — Тайна, неминуемо ведущая к краху. — Да что вы! Господин Синтез не был бы самим собой, то есть не был бы гением, гордостью рода человеческого, если бы не нашел надежных способов воплощения своего плана. К тому же разве вы, глядя на чудовищное размножение bathybius и на появление организма, высшего, нежели монера, еще не поняли, что эволюция уже началась? — Ну и что это доказывает? Низшие организмы, кстати, далеко еще не все известные, бурно размножаются даже за короткие промежутки времени. И мне кажется, говорить не столько о теории наследственности, сколько об успехе этой странной затеи, только потому, что рядом с монерами bathybius hæcklii в воде обнаружены амебы, более чем преждевременно. — Не рядом с монерами, а вместо них! — Хотел бы я думать так же. — Сами увидите, найдете ли вы в воде через сутки хотя бы одну монеру! — Ну и о чем это свидетельствует? — Об успехе. Разве не лежит пропасть между простой и бесструктурной аморфной материей, из которой состоит bathybius, и простой протоплазмой амебы, обладающей внутренним ядром? Разве на заре развития Земли не понадобились тысячелетия для осуществления такого простого на первый взгляд этапа эволюции? — Теперь вы не можете отрицать, что органическая материя совершенствуется. Если бы у вас в растворе вдруг выпал кристалл… — Да, кстати, насчет кристалла у меня возникла одна мысль. — Разрешите узнать какая? — Всенепременно, — откликнулся зоолог с плохо скрытой иронией. — Зачем понадобилось господину Синтезу начать сполдороги? Знаете, как бы я сделал на его месте? Вместо того, чтобы отправной точкой эксперимента брать протоплазму, аморфную органическую материю, я взял бы неорганическую, также находящуюся в аморфном состоянии, и кристаллизовал бы ее. Получив кристаллы, сперва совсем простые, усовершенствовал бы их до уровня сложных и, наконец, согласно вашей теории, ввел бы в них углерод. Затем путем различных комбинаций воздействовал бы на эти кристаллы кислородом, водородом и азотом до получения протоплазмы. Коль уж берешься за синтез, его надо производить из многих составляющих. — Идея соблазнительная, но она для своего воплощения требует слишком много времени. А это не входило в намерения господина Синтеза, кстати говоря, сотни раз-повторявшего подобные опыты, прежде чем получить алмазы. Однако я совсем забылся… Мне надо бежать в лабораторию, там за всем нужен глаз да глаз… Прощайте! — Всего наилучшего! «Вот еще один тронутый, — подумал зоолог, когда химик удалился. — Парень принимает на веру любую чушь, рожденную в мозгу старикашки, который, сдается мне, становится час от часу слабоумней. Они оба гоняются за одной и той же химерой, несут одинаковую ересь, вот и нарвутся вместе на неприятности. Нет никаких сомнений: месяца через три они станут совсем буйнопомешанными. Ну что ж, пусть так. Поскольку два члена нашей ученой троицы положительно свихнулись, у третьего должно хватить разума на всех троих. И разума, и ловкости… Ты будешь простаком; если не используешь это выгодное положение. Отныне теория происхождения видов обретет в моем лице самого ярого сторонника».
ГЛАВА 2
Болезнь. — Наука бессильна. — Разлука. — Сильной хвори — сильное лекарство. — Капитан удивлен, узнав, что должен покинуть атолл. — Китайцы возвращаются на родину. — «Инд» и «Годавери» вооружаются. — «Моя девочка должна путешествовать как королева». — Два корабля отчаливают. — Как кули расположились на борту. — Среди решеток, щитов и пулеметов. — Психология китайских рабочих, нанимаемых на вывоз. — Склонность к бунту. — Жестокость. — Переход через Большой Барьерный риф. — Акулы и рыбки-пилоты. — Куктаун. — Продовольствие. — Двадцать три лишних китайца.— Ничего страшного, уверяю вас. — Дитя мое! Ты думаешь, я так поглощен своими многочисленными обязанностями, что ничего не вижу? — Наоборот, вы слишком зорки, раз видите даже то, чего нет. — Откуда же такая бледность? А эти недомогания, эта слабость, потеря аппетита, сердцебиение, сухое покашливание?.. — Но, дедушка, миленький, вы меня пугаете. Столько всего перечислили! Неужели я серьезно больна? — К счастью, пока нет. Но можешь заболеть. Видишь ли, мое любимое дитя, нас, стариков, трудно провести, в особенности если наблюдательность ученого усилена отцовской любовью. — Должно быть, вы правы… как всегда. Но если предположить, что в первую очередь волнуется не ученый, а мой замечательный, любящий меня так же сильно, как и я его, дедушка? — Вот дедушка и торопится принять меры, пока еще есть время, пока еще нежные чувства не сделали его окончательным эгоистом. Говорю тебе без обиняков и сожалений: нам надо расстаться. — Расстаться?! Да вы шутите! Что со мной станется без вас! — Ты вскоре выздоровеешь и вернешься ко мне, такая же крепкая и пышущая здоровьем, как раньше. — Вдали от вас я умру от скуки! — Нет. Послушай, дитя мое. Ты обладаешь таким мужеством и такой энергией, что множество людей на свете позавидовали бы тебе. И я говорю с тобой так, как говорил бы с мужчиной. Ты же знаешь, в тебе — единственный смысл моего существования. — О, в этом-то я не сомневаюсь, я и сама думаю так же. Но прожить в отдалении от вас пусть даже самое короткое время я не способна… Тем более что… Нет, я даже вымолвить не в силах… И думать о таком не хочу… — Говори, дитя мое. В жизни бывает всякое, и ко всему надо быть готовым… — Ладно, скажу. Если вы умрете, я тоже умру. — Ну, это-то мне пока не грозит. Я еще поживу… Жизнь за долгие годы успела ко мне привыкнуть. — Как я счастлива это слышать! Мне кажется, что я уже выздоровела! — Вот ты наконец и созналась. — Пришлось сознаться. Хотя бы для того, чтобы иметь счастье быть вами вылеченной. Ведь для вас нет ничего невозможного, не правда ли? — Увы, есть, дорогое мое дитя. Более того, в данный момент, вынужден признаться, я повергнут в некоторое отчаяние, так мало мое могущество. — А как же те замечательные работы, что прославили ваше имя?.. Как же те чудесные открытия, узнав о которых самые знаменитые ученые с трудом в себя могут прийти, настолько они потрясают?.. — Не будем об этом… Наука, которую раньше меня лишь изредка подмывало проклясть, теперь служит мне всего-навсего подтверждением моей беспомощности. Ты недавно пережила ужасное волнение, узнав о грозившей мне опасности остаться на дне морском. Я не смог предотвратить причину этого переживания так же, как сегодня не могу устранить его последствия. Географическая точка, в которой мы сейчас находимся, прекрасно подходит для моих работ, но из-за удушливой жары климат здесь вреден для здоровья. Выброшенные на рифы морские водоросли разлагаются, и нас окутывают тучи миазмов[261] — возбудителей лихорадки. Работающие день и ночь машины засоряют более-менее вредными продуктами внутреннего сгорания и без того тяжелую, густую, раскаленную атмосферу. Ты живешь на корабле, в замкнутом пространстве, вдали от целительного дыхания лесов и чистого ветра степей, лишенная привычного для себя комфорта. И, что еще хуже, у нас больше не осталось свежих продуктов питания. — Дедушка, родной, вы сегодня мрачны! Послушайте, скажите мне по секрету, а нельзя ли все как-нибудь уладить… по-научному? — Увы, нельзя, дорогое мое дитя. Я пытался остановить развитие твоей нервной болезни гипнозом и внушением. Однако ты первая и, наверно, единственная оказалась невосприимчивой к моему лечению! Могу ли я пригасить солнечный свет, уменьшить этот ужасный изнуряющий зной, способный вскоре вызвать у тебя полную анемию?![262] Могу ли я велеть бризу разогнать зловонные тучи микроорганизмов, провоцирующих лихорадку?! Могу ли расширить палубы своих кораблей, засадить их деревьями, застроить домами? Наконец, по плечу ли мне сублимировать[263] свежие продукты питания, в которых так отчаянно нуждается твой ослабленный организм? — Но у вас же есть сильнодействующие, эффективные препараты и против лихорадки, и против анемии! А сами вы долгие годы обходитесь без свежих продуктов. Быть может, вы и меня приобщите к своему режиму? Что касается нервов, то это не проблема — ваши советы и моя сила воли возьмут верх. — Не получится, дитя мое; тонизирующие средства действенны лишь в случае, когда в больном организме надо устранить постоянную причину ослабления. То же с лихорадкой — какой толк пичкать тебя хинином, если ты все время вынуждена вдыхать малярийные миазмы? Что же касается моего специального, некоторым образом искусственного питания, то оно требует подготовки, очень длительного и трудного привыкания, которому я не хочу и не могу тебя подвергать. Как видишь, моя девочка, ничто не может заменить животворного действия природы. Кроме того, надо всегда, когда это возможно, следовать прекрасному совету (он полезен больше, чем все вместе взятые лекарства): «Sublata causa, tollitur et effectus». — «Если устранить причину, то исчезнут и ее последствия». Поэтому я так спешу отослать тебя отсюда. И не старайся меня переубедить. Силы расстаться с тобой я черпаю в моей любви к тебе. Если хочешь, чтобы мы любили друг друга еще долгие и долгие годы, уезжай как можно скорее. — Стало быть, я покоряюсь и уезжаю, — прошептала девушка, мужественно подавляя душившие ее рыдания, — чтобы как можно быстрее поправиться и как можно быстрее вернуться. Пусть эта первая наша разлука принесет желаемый результат! Получив принципиальное согласие внучки на отъезд, господин Синтез по мере возможности ускорил приготовления к отплытию. Но покинуть атолл, где его присутствие было необходимо до самого завершения предприятия, он не мог. Поэтому, вызвав капитана Кристиана, Мэтр дал ему подробные приказания, не замечая, казалось бы, как оторопел офицер, узнав, что должен покинуть Коралловое море. Но, настоящий раб долга и дисциплины, командир «Анны» не позволил себе ни малейшего возражения. Он предан Мэтру душой и телом, и его слова — закон. Во-первых, необходимо было доставить на родину китайцев, в чьих услугах больше не нуждались; обреченные в последнее время на безделье, они становились обременительными, к тому же прокормить их, не уменьшая рациона остальных членов экспедиции, не представлялось возможным. Срок контракта подходил к концу, и китайцы мечтали только об одном — вернуться домой и получить премиальное вознаграждение, щедро обещанное господином Синтезом. Находясь постоянно под дулами нацеленных на них пушек, они чувствовали себя не очень-то уютно. Что с ними сделают, вот вопрос? Матросы, испытывая некоторое отвращение к желтолицым, часто зло подшучивали над ними. Стоит лишь вспомнить по этому поводу их странные предположения, подслушанные секретным агентом господина префекта. Китайцы, невзирая на успокоительные заверения своих прежних бригадиров, и впрямь опасались, что вскоре превратятся в мягкое тесто для фантастической кухни господина Синтеза. С трудом поддается описанию радость бедных кули, выраженная особенно пронзительным визгом, при известии, что им заплатят деньги, раздадут по небольшой порции опиума и безотлагательно отправят домой, в Китай. В принципе, к отплытию должны были бы подготовить один из четырех кораблей, но Мэтр непременно хотел избавить больную от тесноты и людского скопления, вот почему он решил, что не один, а два корабля покинут Коралловое море; на первом поплывут только китайцы, а на втором — девушка в сопровождении лучших специально отобранных матросов. Господин Синтез, ставя выше всего состояние здоровья своей внучки, не без основания решил поручить дело капитану Кристиану, как ни тяжело ему было лишиться такого помощника. Под угрозой остановки аппаратуры и срыва Великого Дела невозможно было и думать куда-либо услать «Анну». Ввиду этого Мэтр решил подготовить для путешествия «Годавери», создав на борту все условия и окружив роскошью единственную пассажирку корабля. «Инд» же оборудовали специально для перевозки большого количества людей — все необходимые работы были произведены с быстротой и ловкостью, свойственной лишь настоящим морским волкам. Матросы маленькой эскадры поочередно побывали в роли столяров, декораторов, обойщиков и архитекторов, устраивая для девушки такое «гнездышко», чтобы она не пожалела о своих изящных покоях на борту парохода, носившего ее имя. Господин Синтез, приглядывая за лабораторией, между тем успевал пристально следить и за переоборудованием «Годавери» — старик хотел, чтобы все было устроено в лучшем виде. Он буквально ни на шаг не отпускал от себя капитана Кристиана, засыпая его советами и наставлениями так, что бравый моряк, хоть и понимал неотложную срочность отплытия, в конечном итоге почувствовал себя чуть ли не раздавленным под грузом легшей на его плечи ответственности. — Ты все хорошо уразумел, дружок? Отъезд кули — лишь предлог; главное — увезти отсюда мою бедную любимую девочку, ей необходимо поменять обстановку… Развлечься, повидать незнакомые города… Надо вдохнуть в нее интерес к путешествию. Даю тебе карт-бланш[264]. Я верю в твой ум, в твою любовь, в твою преданность. Анна любит тебя как брата, а ты ее как сестру. — Как сестру… Да, Мэтр, — невольно для себя перебил старика внезапно побледневший капитан. — Вы вместе росли, ты знаешь ее мысли, ее вкусы, ее капризы, ее потребности и желания. Исполняй же все не раздумывая, не сомневаясь… На «Годавери» множество сокровищ… Моя девочка должна путешествовать как королева. Повинуйся ей во всем, даже если бы она пожелала изменить курс корабля. Плыви, куда ей только заблагорассудится, причаливай к берегу или выбирай якоря, выходи в море или стой на рейде при одном лишь условии, чтобы ее прихоти согласовались с ее безопасностью. Договорились? — Договорились, Мэтр. Однако позволю себе заметить, на меня ложится тяжелая ответственность. Не смею и думать о таком, но что, если, вопреки вашим предсказаниям, состояние мадемуазель Анны ухудшится?.. Как мне тогда быть? — Оба врача, и на «Инде» и на «Годавери», люди знающие. Я их проинструктировал подробнейшим образом. Итак, ты немедленно пойдешь к берегам Австралии, бросишь якорь в одном из австралийских портов, примешь на борт груз свежих продуктов. Затем, узнав, хочет ли девочка идти в Макао или остаться в Австралии, посетить крупные острова или вернуться в Индостан, будешь действовать согласно ее воле. Как бы там ни было, путешествие должно продлиться не менее трех месяцев; доставь Анну в более северные широты, где нет такого изнурительного зноя. И наконец, если доберешься до Индии, повидай моего друга Кришну, ты его хорошо знаешь. Он поможет вылечить мою девочку.
Наступил час отплытия. Получившие денежное довольствие кули при посадке на «Инд» были тщательно досмотрены — этим сомнительным эмигрантам категорически запрещалось ношение оружия — и размещены в межпалубном пространстве (твиндеке), разделенном на отсеки с помощью толстых решеток, снабженных раздвижными щитами. Но все здесь не могли поместиться, поэтому часть китайцев расположилась на палубе, с тем чтобы провести на ней двадцать четыре часа. Назавтра эта группа поменяется местами со своими товарищами, находящимися сейчас на нижней палубе, и так каждому достанется приблизительно равное количество света и воздуха. Все матросы и даже машинисты были вооружены, словно во время военных действий. Каждый получил приказ ни на минуту не выпускать из рук оружия. Распоряжение гласило: «Вахтенному предписывается держать револьвер за поясом, а ночью автоматический карабин должен находиться на расстоянии вытянутой руки от спящего». Наконец, на китайские колонии были наведены пулеметы Нортденфельдта, чтобы в случае бунта вся внутренняя часть судна простреливалась насквозь, стоило лишь поднять раздвижные щиты, при помощи приспособления, сходного с тем, какое используют в театре для передвижения декораций.
Предпринятые господином Синтезом предосторожности, конечно же, вызовут бурное негодование кабинетных гуманистов. Однако люди, находящиеся в пятистах лье от какой-либо суши и отдающие себе отчет в относительной малочисленности команды, сочли бы все эти мероприятия совершенно необходимыми. Пусть никто не удивляется размаху предпринятых мер безопасности. Китаец вообще — существо сильно от нас отличное. Как бы ни возмущались ревнители всеобщего равенства, нельзя сбрасывать со счетов полнейшее несходство рас, обычаев, нравов и образа мыслей. Для торжества равенства необходима хотя бы физическая или моральная тождественность. Ведь никому не придет в голову сравнивать «желтолицего брата» с парижским ремесленником или землепашцем из департамента Бос. И дело здесь вовсе не в эстетике. Оговорим сразу: то, что в плане физическом есть просто различия, в плане моральном зачастую превращается в несовместимость. Лишенный великодушия, подстегиваемый алчностью, которая иногда кажется единственным смыслом его существования, этот курносый и круглолицый мелко семенящий человечек сперва кажется безобидным. Никогда не глядя прямо в глаза, с виду елейный и липкий, он испытывает к любому белому человеку ненависть, равную лишь его презрению. Для голодных, угнетенных китайцев, стонущих под гнусной пятой деспотов-мандаринов[265], белый человек — добыча, и ловец во что бы то ни стало постарается ее захватить. При виде европейца ничто не сломит упрямства желтолицего, ничто не умерит его жажды наживы. Гордый до бешенства, вороватый до гениальности, жадный до подлости, он умеет, ежели дело идет о его выгоде, становиться угодливым до тошноты; у него одна цель — нажиться во что бы то ни стало, любым путем, пусть даже придется исполнять самую грязную, самую унизительную работу. Деньги для азиатов действительно не пахнут. Но погодите, дайте только китайцу набить мошну — и вы станете свидетелем любопытного перевоплощения. На следующий же день поведение этого забитого лакея изменится. Пользуясь поддержкой своих соотечественников, кишащих, как насекомые-паразиты в Австралии и в особенности в Северной Америке, он становится важной персоной, занимается ростовщичеством, стяжательством, целые страны ставит под вырубку и качает их богатства через собственные дренажи. Вот когда наступает звездный час для его высокомерия! Белый хорошо относится к китайцу? Это по слабости. Был к нему благосклонен? Боялся. Вел себя с ним как с равным? Тем и заслужил презрение. Варвар, еще недавно говоривший о всеобщем братстве, теперь осознает свою ошибку — над ним поглумились, его унизили и обобрали!.. Когда имеешь дело с китайцем, не следует строго соблюдать принципиальные договоренности и условия. Что ему его честное слово и подпись под контрактом? У него одно на уме: лишь бы увильнуть от своих обязательств, в особенности если работодатель — человек миролюбивый. Горе тому, кто на самом деле не очень силен![266] Эти жалкие попрошайки, собравшись скопом, способны совершить убийство! Убить белого? Благое дело! Но при условии — обделать дельце надо так, чтобы ни сейчас, ни впредь никто не подкопался. Таким образом, европейцу, волею случая очутившемуся в обществе желтолицых, следует быть более сильным и держать ухо востро. Китаец — человек действия, он уважает только силу. И не вступайте с ним в дискуссии, не пытайтесь убедить его в своей правоте. Смело наступайте, иначе он вас перехитрит, ведь водит он за нос наших дипломатов. Так и вас, подхваченного силой инерции, он загонит в такую ловушку, о которой по простоте душевной вы и не подозревали. И это прекрасно понимал адмирал Курбе[267] и, если бы его не связывали приказы некомпетентных лиц, совершенно игнорирующих натуру сынов Поднебесной империи, вся плачевная Тонкинская эпопея закончилась бы в нашу пользу. Но вернемся к китайским кули господина Синтеза. Если с ними плохо обращались — при перевозке на кораблях факт нередкий, — они норовили в пути или по прибытии на место поднять бунт. Если же гуманные капитаны обращались с ними хорошо, попытки бунта учащались. Кули неизменно побаивались человека решительного и уважали его тем больше, чем жестче он к ним относился, добряка же они презирали и считали мокрой курицей. Вот откуда — решетки в грузовых отсеках, раздвижные панели, артиллерийские орудия и пулеметы, предназначенные для усмирения бунтовщиков. Но, несмотря на все предосторожности, бывали случаи, когда бунтовщики, обманув бдительность матросов, ломали решетки и, перебив малочисленный или слишком доверчивый экипаж, захватывали корабль. Анналы мореходства полны ужасающих драм и сцен, которые невозможно описать пером и в которых свирепая изобретательность этих палачей брала верх. Сорок человек, составлявших команду «Инда», давно были прекрасно осведомлены на сей счет, и каждый себе пообещал, что будет смотреть в оба, хотя поведение азиатов оставалось пока со всех точек зрения безукоризненным. «Инд» шел в паре с «Годавери», и в случае тревоги тот мог оказать ему действенную помощь. Корабли последовали тем же курсом, каким прибыли к атоллу, — он был тщательно отмечен в лоциях капитана Кристиана. Но несмотря на математическую точность расчета расположения рифов, навигация все равно была трудной. На малых парах корабли продвигались по местности, напоминавшей причудливую вырубку дубового леса, где коралловые пни то торчали над самой поверхностью воды, то были скрыты зеленоватыми волнами. Разумеется, пройти таким образом большую дистанцию они не могли, но элементарная осторожность повелевала двигаться медленно — в столь опасной местности было бы безрассудством плыть иначе. На ночь становились на якорь. Кораблям понадобилось почти двое суток, чтобы достичь Большого Барьерного рифа. Капитан Кристиан, желая как можно скорее запастись свежими продуктами, на второй день свернул на юго-запад, желая пройти коралловую стену через ворота, ведущие в бухту Принцессы Шарлотты. Этот тонкий маневр прошел без сучка без задоринки. Вскоре оба корабля обогнули мыс Мелвилла и взяли курс на Куктаун — первый город близ шпиля Йорка, которым заканчивается Северная Австралия. Девушка, до сих пор уединявшаяся в своих покоях, вышла в сопровождении прислужниц и села на полуюте возле элинга, чтобы полюбоваться открывшимся чудесным видом. Судно, оставив позади все препятствия, быстро заскользило по гладким водам пролива, отделяющего Великую стену от континента. Вот и шпиль на мысе Мелвилла — пирамида, сложенная из валунов, похожих на каменные ядра. Коса из красного коралла, всего на несколько сантиметров выступающая из воды, напоминала ковер, по которому, бесстрастные и задумчивые, прохаживались пеликаны. Рядом с этими сосредоточенными рыбаками, фрегаты[268] с их огромными крыльями отдыхали от странствий в открытом море, неловкостью движений подчеркивая, что суша им непривычна. Стаи зеленых голубей реяли в небе или, вспугнутые с островков, где находили вдоволь корму, взлетали и смешивались с крикливыми чайками, норовившими догнать и заклевать их. За кормой судна, бесстыдные, словно наглые попрошайки, и подслеповатые, как кроты, стрелой проносились большие акулы. Длиной четыре-пять метров, сильные, мускулистые, ловкие, эти опасные хищники являлись в сопровождении черно-белых полосатых рыбешек, которых называют рыбка-лоцман. То ли потому, что они, как утверждают, служат разбойникам собакой-поводырем, то ли по какой другой, до сих пор ускользавшей от проницательности натуралистов причине, акулы и рыбки-лоцманы сосуществуют в добром согласии. Часто наблюдают, как полосатая рыбешка плывет, буквально вплотную прижавшись к жуткой пасти чудовища, а акула, всегда голодная до такой степени, что может вцепиться даже в своего сородича, никогда не берет на зуб своего маленького попутчика. Пролив сужался. Корабли приближались к континенту. О левый борт сильно бились волны; с правого был виден крутой берег, поросший гигантскими эвкалиптами, с бледно-зеленой пыльной кроной, чей аромат доносился на корабль береговым ветром. Сейчас «Инд» и «Годавери» находились менее чем в одном кабельтове от берега. Стаи ярко окрашенных попугаев взлетали с пронзительными криками, а занятые рыбной ловлей местные жители спешили на своих лодках из древесной коры укрыться в промоинах изрезанного берега. Корабли, быстро миновав острова Ховика, а затем заливы Флаттери и Бэдфорд, бросили наконец якоря в гирле реки Эндиэйвор, где находился городишко Куктаун, расположенный на 16° южной широты и 143°30′ западной долготы; совсем недавно основанный город уже насчитывал не менее десяти тысяч жителей, из них — восемь тысяч китайцев. Это был настоящий уголок Китая, перенесенный на Австралийский континент, с его причудливыми домами, с его sui generis[269] запахом, с его вошедшей в пословицу грязью, с его раскосыми желтолицыми жителями. Куктаун — один из главных портов, куда прибывали китайцы. Отсюда они растекались по золотоносным районам Квинсленда[270], поражая, как проказой[271]; всю Австралию. Капитан Кристиан, приставший к этим берегам не для того, чтоб философствовать, запретил своей команде увольнение на сушу, а за провиантом поспешно отправил специальных посыльных. Этот важный вопрос в конечном итоге решался просто — кругом кишмя кишели китайцы, и, следовательно, можно было быть уверенным, что удастся купить чего только не пожелаешь. Не прошло и двух часов, как фуражиры[272] стали обладателями множества говяжьих туш, баранов, свиней, различной птицы и овощей. За все, правда, было заплачено втридорога, но, поскольку корабли пришвартовались к причалу, продукты питания можно было сразу грузить на суда. Процедура эта не представлялась сложной. Тому способствовала многочисленная, шумная и щедро оплачиваемая бригада крикливых марионеток[273], которые визжали, гоготали, хлопотали и метались словно буйнопомешанные. Безработные любопытствующие портовые грузчики и просто прохожие, словом, целая толпа желтолицых, собрались возле везущего на родину китайских кули парохода господина Синтеза. Все завидовали этим счастливым смертным, возвращавшимся домой с тугой мошной. Смех и шутки носились в воздухе между причалом и палубой. Естественно, возникла сутолока и даже изрядная толчея. Но так как на палубе особенно нечего было украсть, то матросы, очень занятые размещением и закреплением грузов, не обращали на суматоху никакого внимания. Наконец, по истечении четырех часов, все было улажено. Оставалось лишь немедленно поднять якоря и двинуться на север. Вперед! День и ночь прошли безо всяких происшествий: Куктаун и его обитатели остались далеко позади. Но старший боцман «Инда» казался совершенно растерянным. В сопровождении четырех матросов он старательно пересчитывал всех китайцев, расположившихся на твиндеке и верхней палубе. После чего боцман хлопнул себя ладонью по лбу и застыл в глубокой задумчивости. — Эй, приятель, что приключилось? Что тебя так озадачило? — спросил его проходивший мимо первый помощник капитана. — Простите, капитан, но китайцев стало больше… — Быть того не может! Объясни. — Я и сам в толк не возьму. — Тем не менее расскажи. — Дело в том, что еще позавчера их было ровно пятьсот девяносто два. — А сегодня? — Я насчитал шестьсот пятнадцать. — Стало быть, двадцать три человека лишних? Ты, наверное, ошибся. — Извините, капитан, этого быть не может! Я четыре раза пересчитывал и всякий раз получал одну и ту же цифру: шестьсот пятнадцать китаез! Наверняка это приблуды из города, норовящие проехаться «зайцем»! Но каким образом они могли попасть на корабль? — Понятия не имею. — И если б знать, кто из них пришлый! Но они все на одно лицо! — Если б даже мы их и распознали, какой нам от этого прок? Уже завтра корабли войдут в Торресов пролив; о том, чтобы высадить «зайцев», и речи быть не может. — А как насчет харчей, капитан? — Нельзя же дать им умереть с голоду. Я распоряжусь. — И все-таки, как бы там ни было, тут что-то не так, — пробормотал боцман, когда его начальник удалился. — Откуда он взялся, этот народец? Разве их до того мало было на борту? Надо держать ухо востро! Если китайцев слишком много, то дело явно нечисто…
ГЛАВА 3
Торресов пролив. — Сквозь рифы. — Путь скорби. — Буби-Айленд. — Приют потерпевших кораблекрушение и почтовый ящик. — Трое спасшихся с затонувшего «Тагаля». — Малазийский архипелаг. — Флотилии. — Каботажные суда или пираты. — Заход в Батавию. — Сингапур. — В виду берегов Малакки. — Северо-восточный муссон. — Проекты плавания вблизи берегов. — Ночной сигнал. — Ракета, пушечный выстрел. — Беспокойство. — Новый сигнал. — Звуки боя. — Неужели на «Инде» бунт? — Пожар на борту «Годавери». — Труба повреждена снарядом. — Исчезновение и бегство «Инда».Корабли продолжали свой путь к северу со скоростью десять узлов в час. Такая относительно малая скорость обеспечивала необходимую безопасность и к тому же позволяла экономить топливо, пополнить которое можно было теперь только в Батавии. В этом режиме суда прошли Перечные острова и «ниспосланный Провидением» пролив Кука, где, пока каждый его метр не был наконец изучен, произошло множество кораблекрушений. Под ветром миновали остров Кейнкросс, обогнули мыс Черепашья голова, проплыли мимо острова Албани, где расположен пост английских солдат (здесь было так безлюдно, что ребятам не позавидуешь, хоть и реет над ними британский флаг). Таким путем прибыли в Торресов пролив. Шириной каких-нибудь пятьдесят километров, он был усеян тысячами рифов, или торчащими над поверхностью, или едва выступающими из воды, или коварно притаившимися на глубине двух-трех морских саженей. Сегодня почти все эти ловушки известны, но — какой ценой! Выше островка Албани высились около двух десятков больших коралловых островов, окруженных рифами, едва видимыми в часы прилива. Дальше по ходу — группа из шести рифов длиной в десять миль, шириной три мили, уступами высящихся друг над другом и разделенных проливами шириной двести — триста метров. За ними — отмели Джервиса и Мюльграва, начало гигантской коралловой равнины, тянущейся до самой Новой Гвинеи. Вот по какому запутанному лабиринту должны были пройти «Инд» и «Годавери». К счастью, погода стояла на диво ясной. В случае тумана пришлось бы бросить якорь и как следует закрепиться, чтобы избежать течений, сопутствующих каждому приливу. «Годавери» шла первой. Капитан Кристиан стоял на капитанском мостике. В соответствии с картой, он подходил к рифу, определив его, осторожно огибал и брал курс на следующий. Сигнальщики на реях предупреждали, истошно крича: «Риф по левому борту! Обломок судна по правому борту!» Эта зловещая дорога, настоящий путь скорби, увы, была усеяна не уничтоженными еще временем обломками кораблей, чье присутствие являлось мрачным предупреждением смельчакам, жизнь которых, зависит от малейшего неверного движения, от малейшего промедления. С кораблей, следовавших мимо скалы Вторник, были замечены торчащие из воды до марселей останки большого трехмачтовика, потерпевшего крушение два года назад. Это «Принц Уэльский» из Мельбурна. Далее, против островка Среда, виднелась труба парохода с поломанными мачтами. Это «Веллингтон», его экипаж был съеден людоедами на полуострове Йорк. За ним — рангоуты[274], один — принадлежащий шхуне «Беатрикс», другой — клипперу[275] «Северн». Подхваченные сильным течением, они пошли ко дну, разбившись об острые выступы мадрепоровой породы[276]. «Инд» и «Годавери», без происшествий минуя это кладбище кораблей, вошли в пролив, отделяющий остров Хаммонд от Северо-Западного рифа, прошли в одном кабельтове от скалы Хаммонд, обошли стороной коралловые выступы, через которые с оглушительным шумом перекатывались волны, оставили за кормой Ипили — семь мадрепоровых игл высотой два метра — и наконец-то достигли рифа Буби-Айленд, замыкавшего этот коварнейший архипелаг. Опасность миновала. Только теперь Кристиан смог уйти с капитанского мостика, поручив управление кораблем вахтенному офицеру и предварительно отдав приказ плыть, возможно ближе к острову Буби-Айленд. Затем молодой моряк, который, если он не должен был выполнять профессиональные обязанности, легко превращался в любезного и обаятельного собеседника, направился к девушке, сидевшей на своем любимом месте, на корме. Действительно, господин Синтез, как всегда, оказался прав — скрытая и почти незаметная болезнь его внучки вдруг стала резко прогрессировать и угрожать ее жизни. Бедное дитя могло спасти только такое сильное немедикаментозное средство, какое ей прописал дед; были все основания полагать, что это средство ей поможет. Живой береговой ветерок, новые впечатления и волнения, связанные с опасным морским путешествием, резкое изменение жизненного режима после отъезда с атолла — все это вместе взятое благотворно влияло на здоровье больной. Но опасность не миновала окончательно. Анна все еще была слаба. Ласковой улыбкой встретила она своего друга детства. — Мне следует занести в путевой дневник новое географическое название, не так ли, капитан? — спросила девушка на языке бенгали. — Да, мадемуазель. Остров Буби-Айленд. И его назначение — служить почтовым ящиком. — Риф — почтовый ящик, капитан? Признаюсь, я вас не поняла. Пожалуйста, объясните. — С величайшим удовольствием. Мне не надо вам рассказывать, что места эти, хоть и часто посещаемые кораблями, совершенно дикие, пустынные и таящие множество опасностей. — И поэтому тут установили почтовый ящик?! Право же, — рассмеялась девушка, — я была лучшего мнения о практической жилке англичан. На их месте я бы организовала здесь спасательную станцию! — Одно другому не мешает, мадемуазель. Так вот, на вершине этой десятиметровой скалы, где живут лишь морские птицы, вы можете увидеть даже невооруженным глазом павильон, увенчанный мачтой, на котором развевается флаг Соединенного королевства. У подножия мачты — бочка, покрытая просмоленным брезентом. Эта бочка и есть ящик для писем, почтовое отделение на пути между Тихим и Индийским океанами. Проходящие мимо корабли оставляют здесь корреспонденцию, забирают письма, адресованные в то полушарие, куда они следуют, и передают их международным агентствам. Кроме того, в бочке находятся указания, как найти глубокую пещеру в скале, где лежат, укрытые от непогоды, продукты питания, носильные вещи, палатки, лекарства, вино, табак, чай, письменные принадлежности, все необходимое, включая цистерну с питьевой водой. — Какое счастье! Бедные жертвы кораблекрушения не остаются лишенными средств к существованию! — Наконец, все проходящие корабли обновляют запас провианта и, если находят потерпевших, забирают их на борт, это неписаный закон моряков. — Который и мы не преминем исполнить, не правда ли, капитан? — Именно так. Надо забрать письма из почтового ящика. Не хотите ли посетить почтамт и прочесть «Список кораблекрушений»? — Что представляет собой этот список? — Толстый реестр в солидном переплете, лежащий в гроте на видном месте. На первой странице — надпись, сделанная на разных языках: «Просьба к морякам всех наций сообщать о замеченных изменениях, произошедших в Торресовом проливе. Просьба к капитанам всех кораблей возобновлять запасы, хранящиеся в «Приюте потерпевших кораблекрушение». — Нет, спасибо, я не поеду. То ли из-за еще не прошедшей лихорадки, то ли из суеверия, но, как ни стыдно признаваться в своем малодушии, мне кажется, что такое посещение навлечет на нас беду… С «Годавери» спустили вельбот[277], и несколькими взмахами весел офицер и матросы достигли бочки. К их глубочайшему изумлению, которое разделяли экипажи обоих кораблей, внезапно на пороге грота появились трое мужчин — двое белых и китаец. Они обменялись несколькими словами с командиром вельбота, а затем, ознакомившись с содержимым бочки, и матросы и потерпевшие заняли места в вельботе. Заинтригованный капитан Кристиан был счастлив, что может оказать помощь этим несчастным, и встретил их с присущими ему искренностью и сердечностью. Он узнал, что эти трое — единственные, кто спасся после кораблекрушения судна, нанятого голландскими оптовыми торговцами для ловли трепангов. Поинтересовавшись обстоятельствами кораблекрушения, капитан Кристиан сообщил о дальнейшем маршруте своих кораблей и предложил высадить потерпевших в любой удобной для них точке, лежащей по этому маршруту. Общеизвестно, что голотурии, из которых китайцы путем ферментации готовят свое излюбленное блюдо, то есть трепанги, в больших количествах водятся в Коралловом море. Торговля ими очень прибыльна, вот почему множество парусников, снабженных маломощными, но достаточными для плавания в проливах паровыми машинами, постоянно занимаются этим доходным промыслом. Нагрузившись под завязку, трепангов везут продавать в китайские порты и сразу же вновь возвращаются на промысел. Именно на обратном пути из одной такой экспедиции «Тагаль» напоролся на риф, дал течь и затонул почти мгновенно. Спастись удалось лишь первому помощнику капитана, механику и повару-китайцу. Они выбрались из воронки водоворота, образовавшейся на месте затонувшего судна, и, зацепившись за клетки, в которых на корабле держали кур, вплавь достигли Буби-Айленда. Вот такая простая, можно сказать даже заурядная, история во всей своей горькой реальности. Очень серьезные, неразговорчивые, но вполне вежливые, два моряка без лишних подробностей изложили суть дела, поблагодарили капитана Кристиана за своевременную помощь и попросили высадить их в Кантоне, где была намечена встреча с грузополучателями. Капитан охотно на это согласился, и лейтенант, прежде чем отчалить, препроводил пострадавших на борт «Инда», где те были приняты в качестве пассажиров.
После этого случая, несколько омрачившего настроение больной, и без того имевшей склонность к меланхолии, плавание продолжилось, но теперь в исключительно благоприятных условиях. После бурных вод Торресова пролива начались тихие, прозрачные, лазурные воды моря Арафура. Ни рифов, ни коралловых отложений, ни сильных течений, ни обломков кораблекрушений… Корабли шли на малых парах с видом праздных гуляк, которым некуда спешить и которые могут себе позволить целиком и полностью отдаться очарованию — пожить, не зная ни усталости, ни забот. Вскоре на горизонте замаячил Таймор — экваториальный рай, где португальцы и голландцы, живя бок о бок, наглядно демонстрировали разницу двух колонизаторских стилей. Затем показались густые леса Сумбавы, напоминающие огромные букеты цветов, за ними — красивый пик Бали высотой три тысячи метров, величественно возвышавшийся над проливом Ломбок… И наконец, Ява — горный отрог, состоящий из цепочки островов, соединяющий Азию с Австралийским континентом; Ява с ее берегами, затененными пальмами, с ее кокосами, аспарагусами[278], манговыми деревьями, среди которых возвышались ярко-красные сияющие деревья с огненными султанами. У берегов появились легкие флотилии с разноцветными парусами. Здесь были и достигающие тридцати пяти метров в длину буанги, на которых могло разместиться сто пятьдесят человек (четверть из них — гребцы), и изящные корокоры, и праос-майанги с загнутыми концами, окрашенные в яркие цвета, с большим парусом из ротанговой пальмы[279], и праос-бедуанги, так низко сидящие в воде, что их почти не видно над волнами, но покрытые ярью-медянкой[280], словно двери пагод. Все эти суда и суденышки, хоть и безобидные с виду, но истинные каботажники, не уступающие в скорости морским разбойникам, были снабжены боковыми балансирами из легкого дерева, что характерно для малазийского кораблестроения. Поскольку пиратство издавна не считалось среди малайцев смертным грехом, то, глядя на все эти быстрые, как акулы, суда и их многочисленные экипажи, трудно было удержаться от мысли, что занимались они мирным каботажным плаванием до тех пор, пока им не подвернется что-нибудь получше или, точнее сказать, похуже. Так как остров Ява не отличался целебным климатом, капитан Кристиан принял решение не задерживаться здесь дольше, чем потребуется для загрузки угля. Кроме того, шаланды, посланные из Батавии, перегрузили горючее в открытом море — подальше от болотистых, испускающих вредные миазмы берегов старого города. Пополнив запасы топлива, после короткого, но необходимого захода в гавань корабли взяли курс на Сингапур. Пройдя широким проливом, разделяющим острова Биллитон и Банка, они прошли в виду Лингги и Рио, обогнули Пан-Риф и прибыли в Сингапур спустя двадцать два дня после того, как покинули атолл. Быстро устав от головокружительных скоростей, от лихорадочного движения, ни на минуту, ни на секунду, ни днем, ни ночью не затухающего в пространстве площадью несколько квадратных километров, юная девушка захотела вновь тронуться в путь. И на этот раз стоянка была недолгой, через два дня оба корабля вышли в море и, как прежде, не теряя друг друга из виду, направились вдоль восточного побережья Малакки для того, чтобы не идти против бешено дувшего северо-восточного муссона. Ветер был силен, штормило, и уже через день капитан почти сожалел, что покинул спокойный английский рейд. Но в конечном итоге нет худа без добра, ибо благодаря непогоде значительно снизилась жара, нестерпимая в такой близости к экватору. В планы капитана входило плыть на север до 60° северной широты, не отходя далеко от берегов, а затем взять курс на северо-восток, на Кохинхину[281], с тем чтобы обогнуть ее в направлении Тонкинского залива, напротив острова Гайнан. Он не без основания полагал, что такое плавание близ берегов значительно интереснее маршрута в открытом море и придется по душе юной пассажирке. Планы капитана были близки к воплощению, как вдруг ночью, на двадцать седьмые сутки после отплытия, на борту приключились неожиданные события. Время близилось к полуночи. Два судна шли на расстоянии в один километр друг от друга, причем «Инд» опережал «Годавери» всего на несколько кабельтовых. Внезапно вахтенный офицер с «Годавери» заметил на «Инде» яркую вспышку света; высокий столб пламени, разорвав темноту, поднялся в небо. Несколько секунд спустя прогремел оглушительный взрыв — выстрелила пушка. Услыхав это, капитан Кристиан, спавший не раздеваясь в своей каюте с открытым портиком, помчался к трапу, ведущему на мостик, где столкнулся с рулевым, посланным вахтенным офицером доложить ему о случившемся. — Что произошло? — спросил капитан. — Сначала пустили сигнальную ракету, а затем выстрелили из пушки. — Вероятно, сигнал бедствия. — Боюсь, что да. — С «Инда», не так ли? — Да, капитан. В этот миг снова в небо взвился огненный змей, на секунду залив ярким светом корпус судна, мачты и такелаж. Затем опять выпалила пушка. Сильно обеспокоенные офицеры едва успели обменяться впечатлениями, как со стороны «Инда» раздались пронзительные вопли. Послышалась беспорядочная пальба, то затихающая, то возобновляющаяся снова. Казалось, идет морской бой. Вахтенные матросы, потрясенные, застыли как вкопанные и молча глядели на командиров, чья тревога уступила место сильному страху. — Нападение пиратов? — прошептал капитан. — Быть того не может! — Как знать! — откликнулся лейтенант. — А вдруг это взбунтовались китайцы? После первого сигнала не прошло еще и двух минут. — Дайте команду приготовиться к бою и подходите прямиком к «Инду», — приказал Кристиан. Лейтенант еще не успел отдать команду об изменении курса, как сама «Годавери» очутилась в катастрофической ситуации. Внутри судна раздался приглушенный взрыв, корабль дрогнул. Почти тотчас же клубы едкого и удушливого дыма вырвались из портиков и люков с полубака и образовали настоящую черную тучу. Обезумевшие от ужаса полуодетые люди заметались по палубе с криками «Горим!».Началась неописуемая паника. Но дисциплина, к которой был приучен этот специально подобранный экипаж, вскоре взяла верх над безумным страхом. Подбодренные присутствием офицеров, в храбрости и мастерстве которых команда «Годавери» нимало не сомневалась, моряки мужественно боролись с возникшей опасностью. Надо сказать, что хуже этой ситуации на море невозможно себе представить. Заработали пожарные насосы, извергая потоки воды; бригада под командованием второго помощника проникла внутрь, чтобы обнаружить очаг возгорания и загасить его с помощью портативных огнетушителей. К сожалению, из-за того, что пожар вдруг разгорелся с немыслимой силой и грозил охватить всю носовую часть, первые попытки оказались безуспешными. Ужасная догадка пронзила сердце капитана; густой дым, специфический запах… Это же эссенция[282] минерального происхождения! Но когда и каким образом она могла появиться на корабле?! Должно быть, в Куктауне, когда грузили продовольствие… Не является ли неожиданный взрыв именно тогда, когда «Инду» понадобилась поддержка, результатом заговора, цель которого — помешать оказать помощь терпящему бедствие кораблю? Однако, несмотря на эту катастрофу, «Годавери» продолжала подходить к «Инду». Шум приближался с каждой минутой. Должно быть, бой был ужасен. Выстрелы слышались беспрерывно; то стрекотали автоматы, то их заглушали пулеметные очереди, но все перекрывали истошные крики разъяренной толпы. Несмотря на пожар, бесстрашный капитан «Годавери» во что бы то ни стало хотел состыковаться с «Индом». От успеха этого мероприятия зависело спасение обоих кораблей. Вот их уже разделяет всего двести метров. Капитан Кристиан маневрирует с целью мягко пристать к корме «Инда», но в это время раздается пушечный выстрел; снаряд попадает прямо в трубу «Годавери», и она разлетается на куски. — Тысяча чертей! — закричал капитан вне себя от гнева. — Бандиты стреляют в нас! Неужели весь экипаж перебили?! К сожалению, повреждения, нанесенные кораблю, не ограничились выводом из строя трубы. Вследствие ужасного удара почти до нуля упала тяга машин. Но времени на ремонт нет и к тому же бушующее под палубой пламя разгорается все сильнее. Корабельный винт едва-едва вращается, и вот уже «Инд» начинает отдаляться. Если судно так отходит от своего горящего собрата, не может быть сомнений — оно во власти бунтовщиков! — Раз так, — рычит в гневе капитан, — мне остается пустить его на дно! Мои шлюпки подберут утопающих, но сделают это не без разбора! Он тут же отдает приказ столкнуть суда, чтобы стержнем пробить «Инд» по ватерлинии, но корабль продолжает удаляться. Как будто дьявол подсказал злодеям единственно возможный в их положении выход, — три опознавательных огня судна погасли, и, влекомое паровыми двигателями, оно бесследно исчезло в темноте.
ГЛАВА 4
Меры предосторожности, не всегда обеспечивающие безопасность. — Несколько слов о потерпевших кораблекрушение моряках. — После пирушки. — Роковая неосторожность. — Вино и бренди, в которые подмешали наркотические вещества. — «Обычай велит немного всхрапнуть». — Китайский повар хочет покурить опиум. — Убийство вахтенного. — Тревога! — Китайцы вырвались. — Страшный крик. — Огонь! — Бойня в замкнутом пространстве. — Временное бессилие защитников «Инда». — Ужасная борьба. — Жестокость. — Гнусная измена. — Убийство офицеров. — Механик убит на посту. — Корабль во власти бунтовщиков. — После резни.Как все существа с превалирующим лимфатическим элементом[283], китайцы обладают врожденной, органической невозмутимостью, которую ничто не может ни поколебать, ни нарушить. Они так бестрепетны, что нашим дипломатам впору им позавидовать, а их терпение может свести с ума даже монахов-бенедиктинцев. Поставьте китайцев в самую сложную и непредвиденную ситуацию, провоцируйте их ненависть, скаредность, изумление, боль или радость, и вы будете потрясены, увидев перед собой все того же удивительного и невозмутимого человечка. Никакое физическое страдание, кажется, не властно растрогать китайца, а смерть никоим образом его не задевает; он умирает как будто засыпает, он возвращается в вечность, не заботясь о потустороннем, не жалея о прошлом. Но в то же время ничто человеческое ему не чуждо. Напротив! Просто у него все не так, как у других людей. Подводя итог нашим размышлениям, следует отметить, что китаец в самой высокой степени наделен такими негативными качествами, как холодная жестокость, коварство, отсутствие моральных устоев[284]. Естественное дело, пассажиры «Инда» не избежали действия рокового закона, общего для большинства кули, этих отбросов гибнущего старого, пораженного гнилью китайского общества. Капитан «Инда» с первого же дня, как мы видели, не поддаваясь иллюзорной безобидности пассажиров, предпринял все необходимые меры предосторожности. Имея дело с китайцами в течение долгого времени, он ничуть не обольщался при виде ни истинного или притворного добродушия кули, ни их строгого соблюдения предписанных на борту правил поведения. Исходя из принципа, что китайцев следует опасаться всегда и везде, даже если эти опасения не имеют под собой реальной почвы, капитан, хотя поводов вроде бы и не было, довел до самой высшей стадии надзор за своими многочисленными пассажирами. Согласно образному выражению боцмана, он «держал глаз открытым» и того же требовал от подчиненных. В тот день, когда младший офицер доложил, что после стоянки в Куктауне количество китайцев на борту возросло на двадцать три человека, недоверие капитана тоже возросло, если это возможно, а надзор стал еще бдительней. Однако ничто в поведении желтолицых, казалось бы, не оправдывало столь жестокого режима, и должно было произойти нечто действительно из ряда вон выходящее, чтобы толкнуть их на крайность. Вполне возможно, таким толчком могло стать поведение потерпевших кораблекрушение моряков, подобранных на Буби-Айленде. Надо сказать, что первый помощник капитана с «Тагаля», маленького затонувшего в проливе Торреса пароходика, долгое время проживший среди китайцев, проявлял к ним безграничное презрение и достаточно грубо высказывался об их двуличии, ненависти к белым, вороватости, склонности к бунту и к пиратству. После его слов кто угодно стал бы относиться к китайцам, мягко говоря, с преувеличенным недоверием. Как бы там ни было, но этот моряк, скучая от вынужденного безделья, взял себе за правило сопровождать дозоры, призванные проверять решетки и щиты. Он с видом знатока осматривал их, удовлетворенно покачивал головой, разглядывая расположение пулеметов, и на чистом китайском языке отпускал в адрес кули такие насмешки, что те без труда узнали в нем завсегдатая трущоб Макао. Кроме того, сей господин, как специалист, осматривал корабль, везущий всю эту уйму людей, приходил в восторг от навигационных качеств судна, любовался его оборудованием и заявлял, что среди всего, когда-либо сходившего со стапелей корабельных верфей, это настоящее чудо. Такое поведение было вполне естественным для моряка и, кроме того, льстило законной гордости капитана. Человек неизвестной национальности, полиглот, как бы по роду службы изучивший идиомы всех языков, он говорил по-французски с легким немецким акцентом, по-английски с интонациями, свойственными жителям Средиземноморья, а по-голландски изъяснялся так, как будто это был его родной язык. Китайским же он владел, на удивление кули, с редким для белых совершенством. Что же касается его товарища по несчастью, механика, то это был американец безо всяких особых примет; крепко пил, жевал табак и, всюду выискивая куски древесины, что-то из них вырезал складным ножом. Жил он вместе со старшинским составом и время от времени захаживал в машинное отделение, как человек, тоскующий по запаху пара и угля… Итак, накануне катастрофы все было спокойно. Сыны Поднебесной империи вели себя тихо; в урочное время курили опиум на палубе и со страстью, присущей их расе, играли в кубрике[285] в азартные игры. Вечером перед самым заходом солнца «Годавери» подала обычные условные сигналы, указывающие маршрут. Сигналы приняты. Ничего нового. Счастливой вахты! Опустилась ночь. Капитан «Инда» — с утра на ногах. После ужина в обществе первого помощника и офицера, потерпевшего кораблекрушение, его сильно клонит ко сну. Гостя тоже охватывает непреодолимая сонливость, и он, безостановочно зевая, уходит в свою каюту. Может быть, впервые с момента отплытия первый помощник пренебрег своей ежевечерней обязанностью обойти дозором грузовые отсеки. Должно быть, он был не прав, когда, вместе с капитаном, причастился из нескольких запыленных бутылок, извлеченных из кладовки, от которой даже у старшего кока не было ключа. На этих широтах стояла такая жара, а старое бордоское[286] имело такой изысканный аромат… И что же? Разве сонливость потерпевшего кораблекрушение была притворством? Тогда почему он не уснул в ожидании своего товарища, который, стараясь быть незамеченным, прошмыгнул к нему в каюту? И о чем они так долго и тихо беседуют? Спустя некоторое время механик ушел, пряча под бушлатом увесистый пакет. Он пришел в помещение, где размещался старшинский состав, там находились боцманы, не занятые на вахте. Принесенный пакет содержал несколько бутылок ужасного пойла под названием бренди, столь высоко ценимого моряками всех стран и на всех географических широтах — от Полярного круга до экватора. Бренди, которое, казалось бы, не стоило пить в такую жару, да еще и в такое позднее время, было встречено с радостью. Откуда? Это никого не заботило. Лишь бы отведать сей благословенный напиток. Если начальство позволяет себе пропустить рюмочку, почему бы подчиненным не взять с него пример? Ничего дурного в этом нет. Естественно, принесенному механиком бренди воздали должное, и попойка продолжалась допоздна. Но вот что странно: слывший любителем не только табака, но и спиртного, механик всякий раз, подымая, как это бывает с алкоголиками, бережно, двумя руками железную кварту, торопился поднести ее под подбородок и незаметно опорожнить содержимое за ворот шерстяной рубахи. Такой оригинальный способ выпивать свидетельствовал о некотором недоверии к содержимому «божественной бутылки». Однако боцманам «Инда» не было нужды присматриваться к тому, каким образом напивается новый товарищ. Несмотря на разительное сходство с серной кислотой, бренди было напитком, без труда вливавшимся в их луженые глотки. Точно так же, как недавно капитан и его первый помощник, боцманы, потребив свою порцию алкоголя, заснули. Правда, казалась странной скорость, с которой моряки захмелели. Думается, чтобы погрузить их в такой глубокий сон, требовалось подмешать в огненный напиток изрядную дозу снотворного. Автор этой смеси, безусловно, преуспел, ибо храп младшего командного состава соперничал с грохотом машины. Делая вид, что хочет проветриться после попойки, механик незаметно пробрался на палубу, якобы случайно столкнулся с поваром-китайцем, взятым на борт в Буби-Айленде, тихо сказал ему несколько слов и вернулся на прежнее место. Китаец, выполнявший на офицерском камбузе функции мойщика посуды, пользовался полной свободой передвижения и мог, ни у кого не вызывая никаких подозрений, появляться в любой части корабля. После встречи с механиком он тут же завернул на темени свою косицу, а потом, слегка покачиваясь, отправился в направлении лестницы, ведущей со спардека[287] в отсеки, где обитали кули. У ее подножия он столкнулся с вахтенным, вооруженным короткой пикой в руке. — Что ты здесь делаешь? — кинул он поваренку, хорошо видному в свете фонаря. — Хоцу кулить опиум, — ответил тот. — Ступай на палубу, здесь запрещено ходить. — У меня нет опиум. Хоцю плосить товалищ. — Нет мне дела ни до твоего опиума, ни до твоего товарища. Проваливай, да побыстрей! — Лазлеши только луку плотянуть челез лешотка. Я кликну, и товалищ давай опиум. Клянча таким образом, китаец подошел вплотную к вахтенному. Тот перехватил свою пику за середину древка, намереваясь ударить его, но так, чтобы не ранить, а лишь оттолкнуть. Бедняга матрос дорого заплатил за то, что нарушил инструкцию, предписывающую без пощады заколоть каждого, кто попытается проникнуть ночью в помещение, отведенное кули. Он не успел даже подать сигнал тревоги. Гибким движением с трудно ожидаемой от такой комичной мартышки ловкостью китаец выхватил из-за пояса нож и бросился на вахтенного. Как молния, сверкнуло отточенное лезвие — кок одним движением перерезал вахтенному горло чуть ли не до самых шейных позвонков. Несчастный, не успев издать ни единого крика, ни единого стона, рухнул, обливаясь кровью. Убийца хладнокровно, словно только что отрубил голову курице, оттащив труп под лестницу, вытерев лезвие о свою робу, заткнул нож за пояс, достал из кармана ключ, открыл тяжелую панель и тихо сказал несколько слов по-китайски. Изнутри потянуло тошнотворным запахом грязи, свойственным китайским кули, и послышалось приглушенное бормотание. В проеме панели показалось несколько полуголых рабочих с лицами, искаженными страхом и изумлением. Вскоре целая группа нерешительно топталась под фонарем. Китаец, совершивший все это, поспешил подобрать пику убитого, а затем погасил фонарь, от которого было мало проку — глаза затворников привыкли к темноте. С момента короткой беседы между злодеем и механиком прошло всего минут пять. Подчиняясь заранее полученному приказу, соблюдая во всех подробностях разработанный план, кули бесшумно выскальзывали из отсеков и скучивались на твиндеке, с тем чтобы сразу захватить весь корабль. Человек сто уже вырвались из заточения, когда близ большого люка раздался крик: — Тревога! Китайцы разбегаются! Матросы, лежавшие на баке, все как один вскочили и, схватив оружие, приготовились дать решительный отпор неприятелю, ринувшемуся на штурм верхней палубы. Везде мелькали желтые лица, все такие же нелепые, но теперь — искаженные гневом, ненавистью и внушавшие страх. Полуголые, блестящие от грязи и пота, тела то и дело сбивались в плотные группы столь многочисленные, что под их натиском не могли устоять ни панели, ни переборки, ни обшивка. Чуть ли не на ходу азиаты строили баррикады, чтобы иметь возможность укрыться за ними от града летящих в них снарядов. До появления капитана и первого помощника вахтенный офицер, приказав застопорить машины, попытался пробиться в центр корабля, к той части экипажа, которая была отрезана из-за столь внезапного нападения. Но он не успел сделать ни одного выстрела, как прибежал разбуженный первый помощник, сжимая в руке оружие, и принял командование над личным составом. Вот уже более двухсот китайцев прорвались на нос. — Огонь! — закричал офицер, разряжая всю обойму. Яркие вспышки осветили палубу. Толпа, беспощадно осыпаемая градом свинца, с криками заметалась. К тому времени главный артиллерист поднял уже на ноги своих людей и провел их в конец нижней палубы — подкрепление для главного канонира[288] и пулеметчиков. Хоть китайцы и действовали со всей возможной быстротой, им не удалось освободить всех своих соотечественников — помещения были сконструированы так, что возможность действовать одновременно имели лишь малочисленные группы людей; коридоры были довольно узки и разгорожены решетками, равно как лестницы, ведущие на нижнюю палубу и из трюма на твиндек. Оба унтер-офицера получили подробные инструкции на случай бунта и сейчас спешно их выполняли. Раздался оглушительный грохот, извергая ураган свинца, застрекотали карабины и пулеметы. Пули расплющивались о прутья решеток, сыпались рикошетом, отскакивая от щитов, крушили все — дерево, металл, человеческие тела. Густой дым медленно стал просачиваться в люки, еще немного, и задыхающиеся солдаты вынуждены будут прекратить стрельбу. Видя, что в ход пошло оружие, китайцы как одержимые, испуская ужасные крики, кидались на решетки, падали и, сбивая друг друга с ног, метались по коридору, пытаясь удрать. Главный артиллерист, желая опустить и второй щит, обнаружил, что механизм не срабатывает — должно быть, его повредило автоматной очередью, а значит, они лишились действенного средства самозащиты. Корабельное начальство, переоценив прочность решеток, явно недооценило численности китайцев, при которой и двойная предосторожность не была бы лишней. По правде говоря, на борту предвидели любые неожиданности, но не измену. В данном случае она была тем более неожиданной, что шла от людей, потерпевших кораблекрушение и радушно принятых на судне: с самого отплытия от Буби-Айленда к ним относились по-братски. Вот поэтому-то моряки «Инда» и были застигнуты врасплох; несмотря на их отвагу, хорошее вооружение и дисциплину, приходилось опасаться, что экипаж дрогнет перед численным превосходством захватчиков. На палубе разыгралась ужасная битва. Вопя и гримасничая, гнусные уродцы, покрытые потом и кровью, укрылись за импровизированными баррикадами. Напрасно матросы открыли по ним ураганный огонь: почти все выстрелы не достигали цели благодаря дьявольской изворотливости и изобретательности желтолицых. Они пускали в дело и уголь из угольных бункеров, и ростры[289], и рангоутное дерево, и клетки для кур, и обломки вольеров для животных, и даже трупы своих соотечественников. Раненые бесновались еще больше, чем здоровые, и, дешево ценя свою жизнь, из последних сил старались пробиться вперед или, переключая на себя внимание защитников корабля, дать продвинуться товарищам. Так было сделано несколько атак. Палубу устилала, не считая тех, кто остался лежать в межпалубном пространстве, сотня трупов. Предположим, столько же было и раненых. В любом случае в живых оставалось еще никак не меньше четырехсот китайцев. То есть один против десяти. Моряки были лучше вооружены, но численное преимущество врага было огромно. И если — а этого стоило опасаться — китайцам надоест, что их отстреливают поодиночке, и они кинутся толпою, то даже автоматические карабины будут бессильны. Вся эта сцена, так долго нами описываемая, длилась на самом деле всего несколько минут. Но за это время и капитан, и первый помощник стряхнули с себя странное оцепенение, охватившее их после ужина, и в мгновение ока заняли свои посты, среди людей, вооружившихся до их появления. Старшинам и боцманам, хлебнувшим коварно отравленного бренди, увы, повезло меньше: бунтовщики захватили их сонными в кубрике и истребили с неслыханной жестокостью, вмиг изрубив в куски. К тому же в боцманском кубрике оказалось оружие: сабли, ружья, револьверы и патроны к ним. Завладев ими, кули достаточно метко ответили на огонь экипажа. Тогда-то капитан, боясь поражения, приказал дать сигнал бедствия — были запущены ракеты и дважды выстрелила пушка. Пулеметные очереди пробили кровавую брешь в рядах нападавших, и они, скорее возбужденные, чем испуганные, ринулись на приступ, одним махом преодолев пространство между фок- и грот-мачтами. В это время стоявшие рядом капитан и первый помощник почти одновременно упали, сраженные один — пулей, посланной с правого борта, другой — с левого, но из точек, куда китайцы еще не добрались. Наступила минута горестного и возмущенного оцепенения, затем те, кто слышал свист пуль и понял, откуда они были выпущены, закричали: «Измена! Измена!» В ответ раздалось еще два выстрела. Вахтенный офицер с пробитой грудью покатился по лесенке с капитанского мостика, второй лейтенант с простреленной головой рухнул на месте. Затем среди молчания, наступившего после такого ужасного побоища, загремел всем знакомый голос: — Держитесь, друзья! Все офицеры перебиты! Корабль наш! И злополучный капитан «Тагаля» с еще дымящимся карабином в руке вылез из-за служившего ему укрытием деревянного чана с водой, кинулся к бунтовщикам. Тотчас же к нему присоединился и его сообщник. Желтолицые их приветствовали бешеными криками. Разомкнув ряды, они живой изгородью окружили предателей, испуская вопли, слышные даже на борту «Годавери». — Да, славное было дельце! — сказал бандит, снимая просмоленный чехол с передней пушки. — Эге, тысяча чертей, она заряжена и готова стрелять! Отчего же не загорается э́та штука? — Он указал в сторону, где были видны габаритные огни «Годавери». — Неужели меня надули? Сноп огня, взмывший над судном капитана Кристиана, вызвал у захватчика радостный возглас: — Вот и славно! Это всем диверсиям диверсия! Милейший капитан не станет искать с нами ссоры, ему будет чем заняться. Хорошо всюду иметь дружков. Придет время, и я расплачусь за эту услугу со славным парнем, который рисковал своей шкурой, чтоб зажечь на «Годавери» отменный фейерверк. А теперь — вперед! Спускайся к машине, парень! Механик в сопровождении трех десятков негодяев кинулся в машинное отделение, где дышало металлическое чудовище, и, увидев главного механика, вдребезги разнес ему череп. Кочегаров порешили прямо возле топок, их заменили знакомые с кочегарным делом преступники, а сам механик занял место своей жертвы. Сцена резни на палубе была недолгой, но леденящей кровь. Желтолицые, чью алчность изо дня в день, из часу в час разжигал с дьявольской хитростью капитан «Тагаля», как бурный поток хлынули на бедных защитников корабля; лишенные возможности защищаться, со всех сторон схваченные грубыми руками, они были повалены на землю, избиты, изрезаны, изрублены с холодной и изобретательной чисто китайской жестокостью. — Отлично! — радовался бандит. — Разве же мы не у себя дома? Громкое «ура!», которое испускает это человеческое отребье, перекрыло жалобные стоны умирающих. — Давайте-ка с этим покончим, — продолжал пират. — Сбросьте в море тех, кто еще дышит и кричит. Никаких пленных, согласны? Нам лишних свидетелей не надо. Трупы — в море! Живых — туда же! В море всех членов прежней команды. Тысяча чертей! И эту, которая приближается к нам с огнем в брюхе, — указал он на «Годавери», пылавшую менее чем в двух кабельтовых, — отправим туда же! — Тотчас же негодяй кинулся к заряженной носовой пушке, навел ее на «Годавери», выстрелил, затем вернулся на капитанский мостик, положил руку на командный пульт. — Полный вперед! Погасить красные и зеленые огни по правому и левому бортам, а также белые огни на фок-мачте!
ГЛАВА 5
Господин Синтез счастлив. — Преемник капитана Кристиана. — Господин Роже-Адамс положительно начинает обожать то, что ранее отвергал. — Результаты этой беседы. — Метод работы. — Через пятое на десятое. — Импровизированная лекция. — Ученые мистификации. — Фальсификация типов животных. — «Слоноподобные крысы». — Капитан Ван Шутен ржет, как конь. — Принципы ассистента-зоолога. — Генеалогическое древо человечества. — Серия живых организмов. — От монеры к амебе. — От амебы к синамебе. — От синамебы к планеаде. — От планеады к брюхоногим. — Лекция внезапно прервана.Если и был на свете счастливый человек, то это, безусловно, господин Синтез. Вот уже месяц, с тех пор как он душой и телом отдался своему замечательному эксперименту, своему Великому Делу. Все для него было радостно, все шло успешно. Даже самые неожиданные события происходили как нельзя более кстати! Искусственная эволюция, так отважно затеянная старым ученым, происходила без сучка без задоринки. За истекший и уже довольно длительный период — целый месяц — ни единой неполадки с аппаратурой, работавшей поразительно точно и ритмично! Счастье господина Синтеза хоть и было чисто научного происхождения, но не становилось от этого менее ценным. Хотя кто знал о потаенных мыслях упрямого искателя истины, поминутно жаждавшего подтверждения своих выводов? Кто может описать его опасения и даже тревоги при воплощении гипотезы[290], о которой и говорить-то было страшно? Кто объяснит эту отрешенность и полную сосредоточенность исследователя на неотступно стоящей перед ним проблеме? Отрешенность! Именно это слово приложимо к господину Синтезу, машинально поедавшему питательные пилюли и по привычке спавшему гипнотическим сном. Он ни о чем, кроме как о лаборатории, и думать не мог. Казалось, Мэтр совсем позабыл о своей больной внучке, чья жизнь подвергалась опасности морского путешествия и чье состояние здоровья могло ухудшиться. Было ли такое равнодушие намеренным, вызванным усилием воли, или достигалось сделанным сразу же после отъезда девушки самогипнозом, но внешне оно казалось полным. Быть может, его утешала мысль, что он работает для блага внучки, стараясь извлечь для нее из вечности (точнее сказать, воссоздать из первичных веществ) совершенного, богоподобного, идеального человека. А возможно, зная, как путешествие полезно для девушки, он поручил ее таинственным и необычайным силам своего друга пандита?.. Но вернемся на атолл. Итак, работы шли полным ходом, и все не покладая рук трудились на благо Великого Дела, особенно те, кто не понимал сути данной затеи. На борту «Анны» появился новый капитан — Корнелис Ван Шутен, сорокалетний светловолосый толстяк с кирпичным лицом, человек с заурядной внешностью, но очень острым умом. Он был полон усердия и служебного рвения, работал не щадя себя и, будучи преемником капитана Кристиана, приносил немалую пользу. Мэтр вскоре привык к нему и использовал его на всю катушку. Кто потерял с отъездом блестящего молодого офицера, так это, безусловно, Алексис Фармак. Капитан Кристиан, сразу же оценив, насколько химик предан господину Синтезу, тотчас же проникся к нему сердечным расположением, которое выказывал при каждом удобном случае. А вот капитану Ван Шутену бывший профессор взрывчатых веществ казался страшным, чудаковатым маньяком и внушал ужас. Зато новый командир корабля сразу же буквально влюбился в Артура Роже-Адамса, денди от науки, медоточивого фразера[291], важную персону, удостоенную официального научного звания. Почтенный голландец на каждом шагу величал его «господином профессором». Необходимо отметить, что господин Синтез постепенно сменил гнев на милость и больше не третировал зоолога. Принимая во внимание реальный вклад Роже-Адамса в проводимый опыт, его активную и разумную работу, Мэтр перестал называть его «господином зоологом», что резало тому ухо, а обращался или просто «месье», или в случае, когда был особенно им доволен, «друг мой». Но сколько же понадобилось усилий, сколько мороки и труда, чтобы чуть-чуть приоткрыть дверь, ведущую к симпатии старика, настежь открытую для Алексиса Фармака! При поддержке капитана Ван Шутена господин Роже-Адамс ни на минуту не прекращал активной деятельности; то, облачившись в скафандр, он исследовал необычайно разнообразную донную фауну, то устремлялся в морские глубины в недавно еще служившем для него пугалом «Морском кроте», то с помощью большой шлюпки и прикрепленного к ней трапа производил дренажи и подробно изучал улов. Поначалу химик поражался, видя столь удивительное рвение, пришедшее на смену подчеркнутому презрению к «варварской кухне безумного старикашки». Но зоолог отвечал тоном, не терпящим возражений, решительно пресекая всякий разговор на эту тему: — Видя, что такой достойнейший человек, как вы, увлекается экспериментом нашего общего патрона, я решил, дорогой коллега, примкнуть к вам. — Значит, вы верите в успех? — Я стал ревностным верующим! Из таких, как я, выковываются мученики. — Пожалуй… Глядя, как вы крутитесь словно белка в колесе, и дней и ночью, в вечном поиске, иногда даже с риском для жизни… — Не преувеличивайте ни моего рвения, ни моих достоинств, если таковые вообще имеются. Просто я разыскиваю рудиментарные организмы[292], которые структурой и формой напоминали бы производных от монер, ежедневно видоизменяющихся в нашей лаборатории. — Прекрасная идея! Поздравляю вас! — Вы слишком добры. С помощью ежедневных находок я воссоздаю натуральную серию морских существ, начиная от монеры до более совершенных типов. Как только это будет сделано, я ее сопоставлю с искусственно выращенной лабораторной серией. — С тем чтобы с помощью продуктов естественной эволюции можно было контролировать продукты эволюции искусственной? — Совершенно верно. Методика господина Артура пришлась по душе Мэтру; благодаря ей он получал возможность, ежедневно и ежечасно следя за ходом эволюции, убеждаться, что процесс движется в соответствии с законами природы. Образцы, взятые из двух различных источников происхождения, изученные под микроскопом, были одинаковыми по структуре. Фотографии свидетельствовали о полном соответствии происходящих процессов. Однако иногда попадались организмы, отличные от существующих в настоящее время. Вот они-то и становились добычей для исследований зоолога. По большей части эти особи были гибридами[293] и принадлежали как к высшему, так и к низшему типам. Неожиданные находки такого рода, свидетельствовавшие о переходе из одного состояния в другое, являлись большими удачами Роже-Адамса, и он спешил в любое время дня и ночи продемонстрировать их господину Синтезу. Мэтр с радостью выслушивал сообщения, убедительно доказывающие, как замечательны средства, запущенные им в дело и сулящие эксперименту полный успех. Известно, что существа, обитающие в наше время на земном шаре, несмотря на свою многочисленность, произошли от совсем небольшого количества видов. Это подтверждают найденные при раскопках останки животных и растений исчезнувших видов. В общих чертах они имеют сходство с семьями, родами и группами ныне существующих. Из чего следует, что если из извлеченной со дна морского протоплазмы выйдут не только аналогичные ныне живущим существа, но также и угасшие на сегодня формы, то Мэтр действительно продублировал условия, в которых земной шар находился в момент зарождения жизни. Наконец, если господин Синтез в короткий срок реализует на практике феномены передачи наследственности и трансформации, это будет значить, что его гений восторжествовал над видимой несбыточностью созданной им неслыханной концепции. Надо сказать, что ассистент-зоолог очень рьяно разыскивал факты, подтверждающие правоту умозаключений патрона. Кстати, его поиски были на редкость успешны. Но, несмотря на успех, вел он себя довольно скромно и лишь пошучивал, чем приводил химика в настоящий транс. Последний, как вы уже заметили, был занудой или, вернее, принадлежал к той разновидности фанатиков[294], которые не допускают, что пусть даже с деланной легкостью можно относиться к столь важным вопросам. Лаборатория с ее службами была для него архисвященным храмом, Великое Дело господина Синтеза — догмой, требующей религиозного благоговения. Правда, Роже-Адамс на сей счет придерживался иного мнения. Надо сказать, что за последний месяц от прежнего «юного господина Артура» не осталось и следа. Сумев завоевать расположение Мэтра, он мстил, впрочем вполне невинно, химику за прошлые саркастические замечания и насмешки в свой адрес. Одной из его навязчивых идей было стремление доказать коллеге, что умелый экспериментатор может по желанию видоизменять внешний вид животных, устранять некоторые характерные черты и заменять их другими. — Но тогда, — огрызался затравленный химик, — вы бы смогли изготовлять нам каких угодно чудищ и выдавать их за результат произведенных вами операций. — Черт побери! Не вы один попались бы на удочку моих мистификаций! Кстати, вы напомнили мне одну слышанную от отца историю. Лет эдак тридцать тому назад в Африке в третьем колониальном полку зуавов[295] был один военврач, старый оригинал и книгочей, заядлый коллекционер, охотно дававший освобождение от службы тем, кто подносил ему всякие диковинки или интересных зверушек. Но ввиду того, что его коллекция становилась все богаче, увольнительные давались все реже. И вот какие-то два весельчака решили сыграть с ним гениальную шутку. Они выдумали породу «слоноподобных крыс» и в один прекрасный день триумфально преподнесли двух зверушек, имеющих на кончике носа пятисантиметровые довольно жесткие отростки, которые хоть и не выходили непосредственно из внутреннего канала носовой полости, но действительно смахивали на хобот. Чудак заплатил за них сто франков (лакомый куш для двух плутов). Ввиду того, что «слоновидные крысы» были самцом и самочкой, доктор поместил их в просторную клетку и в ожидании потомства ухаживал за ними, как за родными детьми. Между тем он готовил доклады для научных обществ, внимательнейшим образом изучал характер и повадки этой странной парочки. Чудак даже отправил в Музей естественной истории сообщение об ожидаемом приплоде. Наконец долгожданный день наступил. Семья пополнилась целым выводком хорошеньких маленьких крысят. Но, увы, трижды увы, — ни у кого из молодняка на обонятельном отростке не имелось ни малейшего намека на хобот. Вид не имел устойчивого признака — родители не смогли передать своим отпрыскам «хоботовидный аппарат»… Ну, так знаете ли вы, — обратился рассказчик к вытаращившему глаза химику, — в чем ключик к этой загадке? Доктор дорого за него заплатил, потому что весь полк не пожалел для него насмешек. Обе «слоноподобные крысы» были просто-напросто сфабрикованы двумя мошенниками с помощью способа сколь простого, столь и остроумного. Они поместили грызунов в разные ящики, устроенные так, что один мог просунуть в отверстие в стенке только голову, а другой — хвост. У первого осторожно соскоблили перочинным ножиком кожицу на носу, другому — подрезали хвост, чтобы образовать открытую ранку. Затем наложили шов, соединяющий нос и хвост и за тридцать часов получили срастание. Всего — простая пересадка тканей. В заключение оператор перерезал хвост номера один на желаемом расстоянии, и номер два таким образом обрел хобот. Вторую пару крыс подвергли той же процедуре. Оставалось лишь подождать, пока шрамы зарубцуются и ткани приобретут свой первоначальный вид. На это ушло еще недельки две. — Ну, как вам мистификация, коллега? Мой папенька хранит в своем архиве письмо доктора Г., а рассказывая эту историю, смеется до слез. И есть от чего! — От ваших слов меня в дрожь бросает! — Стоит ли дрожать от таких пустяков, мой дорогой! — Однако, хочу вам заметить, после желтухи вы стали гораздо остроумнее! — Что вы хотите, тогда я пребывал в полном маразме[296] и на все смотрел через желтые очки. — Ладно, шутки в сторону. Отныне мне станет мерещиться, что древние или аномальные[297] типы крыс, которые будут выходить из нашей лаборатории, явятся предками ваших «слоноподобных крыс». — Вот и не ребячьтесь и не вынуждайте меня искажать истину. Я имею самые веские причины для того, чтобы не слишком усложнять работу природы, особенно в данных обстоятельствах. Прежде всего, мне претит подлог. А к высокоморальным соображениям могут добавиться и другие, более низменные, но более доказательные, опирающиеся на физическую невозможность. — Тем не менее вы только что привели мне отличный факт мистификации. Представляю себе, как оглушительно хохотал капитан. Вероятно, он до сих пор зубы скалит, вспоминая про крыс с хоботом! — Должно быть, вы правы. Однако соблаговолите принять во внимание, что подобное оригинальное уродство произвели на материале животных, очень высоко стоящих на лестнице развитых существ. — И какой вы делаете вывод? — Подобный опыт невозможен на материале организмов, появляющихся в водах нашего бассейна. — Невозможен? Почему? — А потому, что на простейшие одноклеточные организмы, в большинстве своем микроскопические, невозможно воздействовать посредством наших инструментов. Структура их очень проста и заключается в слипании клеток, вот почему шутник, вроде производителя «слоноподобных крыс», не сможет их модифицировать. — Хорошо. Соглашусь с вами, что на данный момент это невозможно. Но позднее не станете ли вы импровизировать, создавая монстров, или возобновлять исчезнувшие типы, видоизменяя ныне существующие? — Вы уж слишком всерьез воспринимаете остроумную шутку или, точнее, обыкновенное мальчишество. Я просто хотел немного позубоскалить. К тому же господин Синтез, как никто, сведущ в естественной истории, он сразу бы заметил подвох, и несладко бы пришлось мистификатору. — Вот такое мне приятно слышать. Будь по-вашему, сочтем это шуткой. Но, кстати сказать, где мы сейчас находимся? Не знаю, каково ваше мнение, но мне кажется, что мы продвигаемся вперед достаточно медленно. Судя по тем типам, о которых вы докладываете Мэтру, предшествующая человеку серия слишком долго остается на стадии низших организмов. — Вы заблуждаетесь, и ваши опасения напрасны. Наоборот, эволюция происходит с изумительной скоростью. Я поразился, когда обнаружил, что мы подошли уже к шестой ступени, предшествующей появлению человечества. — Сколько всего ступеней в этой цепи совершенствования? — Ровно двадцать две, включая человека. — Признаться, мне не слишком хорошо известна эта цепь. — Дайте-ка я грубо, но ясно несколькими штрихами набросаю вам генеалогическое древо. Это позволит единым взглядом окинуть всю картину последовательного изменения видов. — Зоолог лихо нарисовал на подвернувшемся листке бумаги схему. — Вот вам это символическое древо, изображенное, каюсь, в несколько варварском виде с художественной точки зрения.

— Отлично. Теперь я прекрасно вижу, куда продвинулся опыт. Мы подошли к брюхоногим[298]. — Осмотрев мою коллекцию фотографий, вы увидите, что они отличаются от предшествующих планеад следующими характеристиками… — Извините. Разрешите одно замечание? — Весь к вашим услугам. — Видите ли, если я в общих чертах и знаком с теориями происхождения видов и эволюции, то совершенный профан в области естественной истории. — Вы клевещете на себя! — Помилуйте, какие между нами комплименты! Ну так вот, зная общую доктрину, я не знаю ее механизма или, если угодно, материальных фактов, на которых она зиждется. Прошу вас идти от частного к общему, то есть от монеры к брюхоногим, а не наоборот. В этом случае предпочтительнее анализ, а не синтез. — Вы совершенно правы. Постараюсь быть кратким. Думаю, излишне вновь описывать монеру, вы все это знаете так же хорошо, как и я. Вот, кстати, разные типы этой клетки-матери, найденной нами вместе с bathybius hæckelii, чьи поиски едва не закончились так трагически… Это были protomyxa aurantiaca, vampyrelles, protononas и так далее. Их форма и вид постоянно изменялись. — Совершенно верно. — Этому типу, который мы так долго изучали, пришла на смену одноклеточная амеба. Первый феномен дифференциации, происходящий в гомогенной и бесструктурной плазме монеры[299], — формирование двух отчетливо различных клеток: одна внутренняя, прочная — ядро; другая — внешняя, более мягкая — протоплазма. А теперь обратите внимание на амебу ползающую, изрядно увеличившуюся в размере, передвигающуюся с помощью ложноножек. Особо отметьте основную ее черту — сходство ядра с яйцом животных. — Действительно, разительное усовершенствование! — Это две первые генеалогические цепочки: монеры и амебы, пока еще простейшие организмы. Все последующие цепочки — организмы комплексные, особи высшего ряда, социальные общности, множественные клеточные соединения. На третьей ступеньке эволюции, как видите, находятся агрегатные амебы, объединенные в сообщества или союзы. Поэтому-то их и называют синтезированными амебами. Одним из самых своеобразных и любопытных видов является так называемая morula, похожая своим строением на тутовую ягоду. Morula, у которой все клетки идентичны, является продуктом разделения, как, кстати говоря, и яйца животных, воспроизводимые непрерывным членением. — Скорее к третьей ступени! Мы подошли к планеаде — четвертому, исходящему от синамебы, звену цепочки, не так ли? — Совершенно верно. И здесь вы увидите, как утверждается процесс эволюции. Рассмотрите этот тип планеады, которую Геккель назвал mogosphera planula. Она представляет собой наполненный жидкостью тонкостенный пузырь, чья пленка сформирована из единственного ряда клеток. Но вот что главное — если синамеба, состоящая из голых и гомогенных клеток, могла лишь ползать по дну прадавних морей, то Planula снабжена мерцательными ресничками, — ползание уступило место плаванию. — Это верно. Нарисованная вами картина точно воссоздает появление рудиментарных, но очень ярко выраженных двигательных отростков. И вы абсолютно правы, утверждая, что совершенствование происходит с исключительной быстротою. — Но это все ничто по сравнению с тем изумлением, — я ничуть не преувеличиваю, — которое испытываешь, видя пятую, зародившуюся в водах лагуны группу, а именно брюхоногих. От планулы или снабженной волосками личинки произошла во всех живых организмах важнейшая животная форма, известная под именем gastrula (желудочное или кишечное наращивание тонких клеточных слоев и мембран), послужившая прототипом группы gastrea. Пусть внешне она и похожа на планулу, но существеннейшим образом от нее отличается. Действительно, gastrula являет собою полость, замкнутую двухрядной клеточной пленкой, и сообщается она с внешней средой посредством отверстия. Здесь мы впервые встречаемся с рудиментарной формой рта и прямой кишки. Gastrula больше не питается эндосмосом, как предыдущие типы, она всасывает непосредственно ртом — простомой — питательные субстанции, которые попадают прямо в кишечник, или прогастер. — Действительно, величайший прогресс!.. — Погодите, особое внимание обратите на двуслойные клетки gastrula! Внутренний вегетативный слой служит исключительно для пищеварения, верхний — для защиты и перемещения. Невозможно по заслугам оценить функциональное различие клеток, так как сам человеческий организм во всем разнообразии своих органов происходит из герминативной камеры желудка этой gastrula. Но меня сейчас немного заносит, как каждого неофита[300], слишком долго сопротивлявшегося истинному учению. Оставим в покое высшие организмы и подождем-ка доказательств, они появятся в свое время. Не будем опираться на вероятность, какой бы очевидной она ни казалась. Добавлю только в заключение, что достигнутая в нашем опыте пятая ступень эволюции, представленная gastrula,заставляет предчувствовать целую цепь — губки, медузы, полипы, кораллы, радиолярии, моллюски и так до низших позвоночных, до самих ланцетников! Именно ланцетники являются связующим звеном между беспозвоночными и позвоночными животными, которые хоть и родственны человеку, но в переходном периоде сохраняют еще и эмбриологическую стадию gastrula, то есть простой кишечник с двойной книжкой[301]. Капитан Ван Шутен, присутствовавший на этой импровизированной лекции, был совершенно прав, задремав сразу же после истории со слоноподобными крысами. И ассистент-зоолог долго бы еще разглагольствовал на профессиональные темы, интересные лишь умам посвященных и абстрактные для профанов, только его остановил довольно сильный взрыв, раздавшийся со стороны лаборатории и на полуслове прервавший докладчика, а также прекративший храп спящего. Все присутствовавшие, как будто подброшенные пружиной, вскочили и, выбежав из комнаты, бросились на палубу: взгляды их устремились к атоллу, откуда валил густой дым.
ГЛАВА 6
Героическое противостояние пожару. — Что понимают под словом «притопить» корабль? — Переборки и водонепроницаемые отсеки. Частичное погружение. — Торпеда. — Шлюпка вывозит торпеду. — Взрыв. — Пожар поборот, но какой ценой! — «Лучше уж я все это высажу в воздух!» — Возвращение в Сингапур. — Возврат в Сингапур противоречит желаниям девушки. — У необходимости нет закона. — Отвага и наивность. — Надо купить новый корабль. — Птицы и цветы. — Ветер крепчает. — Внезапное затишье. — Плохой прогноз. — Вслед за пожаром — ураган.Преследовать исчезнувший в ночи «Инд» было бы безумием. Поскольку капитан Кристиан, изо всех сил пытаясь помочь команде захваченного судна, почти совсем забыл о «Годавери», пожар, все более и более разгораясь ввиду быстроты движения корабля, принял ужасающие размеры. Напрасно задраили все люки, напрасно работавшие от паровой машины насосы извергали потоки воды и пар. Даром рискуя жизнью, вооруженные портативными огнетушителями люди пытались пробиться к очагу пламени. Оно гудело под палубами, откуда подымались клубы удушливого дыма, несмотря на задраенные люки, заткнутые щели, закрытые портики. Листовое железо обшивки, раскаляясь, трещало на уровне ватерлинии[302]. Первый помощник и его люди, вызванные строгим приказом капитана, появились, шатаясь, полузадушенные, с опаленными бровями и бородами. Первый помощник отвел своего командира в сторону и шепотом сообщил ему о том, что в носовой отсек, где произошел взрыв, совершенно невозможно проникнуть, и если не предпринять энергичных, вернее героических мер, то судно обречено на гибель. Капитан не без основания доверял офицеру. Он знал, что если тот таким образом высказал свое мнение, то ситуация сложилась почти безнадежная. — Вы говорите, нужны героические усилия, не так ли? Ну что ж, дело за вами… — Благодарю, капитан. — Я сегодня не смог осмотреть водонепроницаемые переборки. — Они в отличном состоянии. — Заградительные щиты опущены, не так ли? — Это первое, что я приказал сделать сразу же после взрыва. — Уверены ли вы, что они смогут локализовать пожар? — На некоторое время, да, капитан. — Тогда, дружище, нам не остается ничего другого, кроме как притопить корабль. — Притопить корабль?! — Торпедировать его, и как можно скорее. Вы этим и займетесь, — спокойно, словно отдавая самое обычное распоряжение, отвечал Кристиан. — Есть! — Вы знаете, что вам делать. Доложите мне, когда все будет подготовлено. — Благодарю за доверие. Я уложусь в пять минут. Операция, к которой решил прибегнуть капитан «Годавери», хоть и казалась с первого взгляда безнадежной, была единственной возможностью спасти судно. «Притопить» корабль означает прорубить в корпусе ниже ватерлинии отверстие, чтобы внутрь хлынул поток воды. Благодаря новейшему устройству современных кораблей такой план действий мог быть осуществлен без больших помех. Суть устройства заключалась в следующем: водонепроницаемые переборки разделяли судно на отдельные отсеки так, чтобы вода, попав в один из них через пробоину, не смогла бы затопить весь корабль. Изготовляют переборки из листового железа, а располагают поперечно от киля до мостика. Кроме того, они снабжены вертикальными ребрами жесткости, способными противостоять напору воды. Кстати, размеры отсеков таковы, что если один из них заполнен водой, то благодаря другим судно может держаться на плаву. На каждом корабле не менее четырех переборок. Одна — на носу, две — отсекают машинное отделение, третья ближе к корме. Но это, разумеется, не предел[303]. На переборках — клапаны, регулируемые с мостика. Обычно они открыты, что дает возможность собравшейся в любом трюме воде стечь в общий отстойник, откуда ее откачает помпа машины. Разумеется, в случае течи корабль от избыточного веса воды оседает. Однако, если клапаны функционируют исправно, если переборки действительно водонепроницаемы, судно продолжает плыть, частичным погружением спасая себя от затопления. Итак, ввиду того, что трюм, где хранились паруса и канаты, был охвачен огнем, который вот-вот мог перекинуться на нижнюю палубу и даже охватить угольные кладовые, капитан Кристиан принял решение затопить отсек целиком. Очень сложно, чтобы не сказать невозможно, срочно проделать отверстия в борту судна. Но, к счастью, на «Годавери» имелось большое количество разнообразных торпед из запасов господина Синтеза, предназначавшихся для взрыва коралловых скал, мешавших входу кораблей в атолл. Четыре минуты назад первый помощник получил приказ. И вот уже он подошел к капитану, сопровождаемый матросом с фонарем в одной руке и с продолговатым твердым пакетом в темной обертке, словно палка колбасы, — в другой. — Все готово, капитан. Я решил, что хватит простой торпеды, начиненной двумя килограммами пироксилина. — Отлично. Каболочный строп, на котором вы закрепите шашку, уже готов. Предупредите людей. Шлюпка с экипажем на борту висела на талях[304] над планширом. — Осторожно, ребята. Это торпеда, — положив сверток на скамейку, предупредил первый помощник. Он перелез через борт, сел на носу и бегло проверил изготовленный во время его короткого отсутствия каболочный строп, к которому должен был крепиться взрывпакет. Это устройство фиксировало такелажное кольцо, не дававшее тросу сдвинуться в сторону, однако под тяжестью собственного веса и веса взрывчатки позволявшее двигаться вперед и по диагонали. Шлюпка, тотчас же заскользив по спокойному морю, мигом скрылась в темноте. Три минуты спустя ритмичные всплески весел возвестили о ее возвращении. Такого короткого времени хватило, чтобы прикрепить к концу стропы и укрепить пироксилиновую шашку. Глухой взрыв, похожий на взрыв мины, потряс корабль от киля до верхушек мачт. Извергся столб воды. Должно быть, пробоина в корпусе получилась изрядная, потому что судно сразу же стало быстро оседать. Героические меры, предпринятые капитаном, принесли результат — заливаемое со всех сторон пламя шипело, билось, испускало облака белого пара. Борьба воды и огня была недолгой, но решительной. Вскоре дым рассеялся, шипение стихло. Пожар был побежден. Но какой ценой! Теперь судно было почти полностью лишено возможности продолжать свой путь… А ведь ему, под угрозой необратимых и гибельных последствий, необходимо было пройти четыреста километров до ближайшего порта — Сингапура. При обычных условиях, с неповрежденным корпусом, с исправной машиной, при средней скорости девять узлов в час на это хватило бы и одного дня… К несчастью, машина не работала — отсутствовала тяга. Пришлось погасить топки и заняться серьезным ремонтом, а это значило — потерять не менее суток. Капитан уже отдал приказ поставить паруса, повернуться другим бортом и взять курс на английский остров. Но, став простым парусником, да еще с затопленным перегруженным сверх всякой меры носовым отсеком, судно будет менее маневренным и, даже подняв все паруса, сможет продвигаться вперед только с очень малой скоростью. К счастью, муссон дул попутный. Кристиан, охваченный такой сильной тревогой, что даже сам себе боялся в этом признаться, с лихорадочным нетерпением ожидал наступления утра, чтобы послать водолазов в трюм и выяснить, какие повреждения причинил пожар и как велика пробоина, проделанная торпедой. Он ходил взад-вперед по корме, думая о череде столь же драматических, сколь и неожиданных событий, и с трудом мог примириться с подобным несчастьем. «Инд» был похищен взбунтовавшимися китайцами, перебившими командный состав; «Годавери» грозила опасность из-за преступного сговора кого-то из находящихся на борту! Кто этот злодей? Как его разыскать? Кого подозревать? Кроме того, полностью ли миновала угроза? А что, как захваченный пиратами «Инд» возвратится к «Годавери», настигнет судно, которое, увы, сейчас так легко атаковать, и завладеет им, чтобы ограбить, захватить имеющиеся на борту богатства? Ведь бандиты ни перед чем не остановятся. При этой мысли моряка охватил такой внезапный приступ ярости, что, закусив сигару, он воскликнул: — Лучше я все это высажу в воздух! — Как, капитан, высадите в воздух даже меня? — прозвучал за спиной офицера свежий и звонкий голосок. — Вы здесь, мадемуазель?! — живо откликнулся Кристиан. — Но я ведь дал приказ, чтобы вам не разрешали выходить из покоев! Вернее, чтобы вас попросили оставаться в каюте… — Вот я и повиновалась вашему приказу безропотно, как простой матрос, пока думала, что мое присутствие может помешать вам действовать. Но теперь, когда опасность миновала, я решила немного подышать воздухом, успокоить мои бедные нервы… И невольно подслушала одно из ваших соображений… Признаться, не слишком утешительное… — Извините меня… Я не знал, что вы были здесь… — А я очень рада услышанному. Сильно сомневаюсь, что вы бы произнесли такое в моем присутствии. — Конечно нет, мадемуазель. — Так, значит, мне в любой момент грозит опасность взлететь на воздух вместе с этим бедным кораблем? — Ох, мадемуазель, — прибавил молодой человек с очаровательной наивностью, — я бы не стал взрывать, не предупредив вас… — Спасибо. Вы очень добры. И я ценю всю эффективность избранного вами способа, хотя и почитаю его несколько… как бы сказать… сильнодействующим… — В некоторых ситуациях, чтоб добиться развязки, приходится идти на крайние меры… — Так вот оно что! Значит, мы уже дошли до крайности? — В голосе девушки не слышалось ни малейшей тревоги. — К счастью, пока еще нет. Но в нашей ситуации мы должны быть ко всему готовыми. Во всяком случае, пока не дойдем до Сингапура. — Как?! Я должна вернуться в этот ужасный город, где шум, толчея, лихорадка и жара? Быть вынужденной сносить общество этих непоседливых мисс, которые живут только для крикета[305], верховой езды и лаун-тенниса? Прошу вас отвезти меня к дедушке. — Я сделаю, как вы скажете, мадемуазель. Но предварительно надо зайти в Сингапур. Для нас это вопрос жизни и смерти. — Объяснитесь. — Вы знаете, какие ужасные события только что произошли. Я послал доктора известить вас и своими заботами предотвратить возможные неприятные последствия. — Ваш доктор чуть в могилу меня не свел своими недомолвками. Вы думаете, что я не слышала пушечной пальбы и не видела сигналов бедствия? Вы считаете, я и пожара не заметила, от которого чуть дотла не сгорел наш корабль, и об аварии машины не догадалась, хотя судно пришлось поставить под паруса? Наконец, вы полагаете, что моряки, пробегая под моими окнами, вели себя так же сдержанно, как доктор, и объяснялись обиняками? — Меня дрожь пробирает, как подумаю, до чего же вы тревожились! — В течение получаса, а может быть и дольше — минуты долго тянутся в подобных случаях, — нам грозила смертельная опасность. Но спросите доктора, выказывала ли я хоть малейшие признаки волнения. Разумеется, я плакала, когда на «Инде» началась резня, но материальные потери оставили меня спокойной. — Я знаю, что вы — девушка отважная, и никто более меня не восхищается вашим присутствием духа, но… — Вот и говорите со мной так, как если бы я была мужчиной. Чего вы опасаетесь? — Возможного возвращения бандитов, захвативших «Инд», и того, что на нашем поврежденном корабле мы не сможем им оказать достойного сопротивления. Вот почему я грубо, по-моряцки, выругался при мысли, что корабль и, главное, вы можете попасть им в лапы. — Так вот в чем дело! Что ж, если надо, то взлетим на воздух. Но идти в Сингапур, на мой взгляд, еще хуже. — Лишнее перечислять мотивы, заставляющие меня вам перечить. Но, во-первых, это соображения вашей безопасности и безопасности команды… — Скажите лучше, нашей общей безопасности, ведь мы все находимся в одинаковом положении. — Кроме того, из Сингапура можно разослать во все порты земного шара телеграммы, возвещающие о катастрофе с «Индом», и дать подробное описание судна, чтобы власти разных стран могли задержать корабль с бунтовщиками. — Вы правы. — И еще, я должен заделать пробоину в корпусе «Годавери». А это возможно только в Сингапуре. — Наверное, ремонт займет много времени? — По меньшей мере недели две, если предположить, что найдется свободный сухой док. — Я умру в этом омерзительном городе! — Есть еще один выход. — Какой? — За любую цену купить новый корабль и тотчас же выйти в море. — А корабль дорого стоит? — Если он отделан так же шикарно, как «Годавери», то больше миллиона. — Мне это мало о чем говорит. Я никогда не занималась денежными делами. Однако, мне кажется, это весьма значительная сумма. — К счастью, не для нас, — улыбнулся капитан наивности этого избалованного ребенка, для которого богатство или нищета являются полнейшей абстракцией. — У меня на борту большой запас бриллиантов, их можно выгодно продать. К тому же господин Синтез перед отъездом выписал мне чеки на крупнейшие банки мира. В случае надобности я могу за несколько часов получить миллионов пятьдесят. — Ну так поехали же скорее и купим хороший и красивый корабль! — Быть может, мне удастся приобрести добрую яхту. Вот было бы счастье! Потому что все эти торговые суда так примитивно оборудованы… А может быть, центральное агентство Сингапура, пусть и за бешеные деньги, сможет предложить нам пакетбот… — Вот именно, пакетбот! Между большими островами Индо-Малазийского архипелага нам встречались такие красивые пакетботы! Купим один из них и продолжим наше прекрасное путешествие. И не заботьтесь о деньгах — их так скучно считать! К тому же дедушка меня не ограничивает в расходах. — Я сделаю все возможное, мадемуазель, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность. — Вы купите мне певчих птиц, хорошо? И цветы, много цветов… На суше я выпущу птиц на волю, а цветы пересажу в клумбы, но пока мы плаваем, буду на них смотреть и слушать птичье пение. В море это скрасит мне часы одиночества. — У вас будут и цветы и птицы. — Как вы добры! Я расскажу дедушке о вашей заботе, и он будет очень доволен. До свидания, капитан, я возвращаюсь к себе в каюту. Наверное, мои негритянки уже меня разыскивают, боясь, как бы я не простудилась на этом внезапно поднявшемся ветре. И беззаботное дитя, забыв о мрачных словах капитана в начале этой бессвязной беседы, напевая мелодичную индусскую песенку, удалилось, тем более что ветер действительно посвежел… Бриз свистел в снастях, надувал паруса, от него гнулись мачты. Судно накренилось, но скорость его увеличилась. Потом все внезапно стихло. Несколько минут длилась гнетущая тишина, затем — новый шквал. Капитан не без основания забеспокоился, взглянув на барометр, показывавший очень низкое давление. Он припомнил, каким было небо вечером перед заходом солнца, — большие белые пушистые облака, несколько радуг и кроваво-красный горизонт… Ночные события заставили его забыть о погоде. «Значит, — взволнованно подумал Кристиан, — испытания продолжаются. Следом за бунтом, резней и пожаром — буря! Либо я сильно ошибаюсь, либо не позже чем через полчаса на нас обрушится тайфун».
ГЛАВА 7
Тайфун. — Внезапная перемена ветра. — Борьба с ураганом. — Великолепные маневры. — «Годавери» дрейфует. — Обреченные на смерть. — Одна мачта рухнула. — Необходимо срубить мачты. — Паника. — Корабль продолжает двигаться. — Риф. — Сели на мель. — Агония корабля. — Твердость духа. — Девушка проявляет характер. — «Я сойду предпоследней». — Шлюпки на воду! — Как масло укрощает волны. — Фок-мачта рухнула. — Ужасающая катастрофа. — Среди волн. — «Годавери» отжила свое. — Одни. — Безнадежная борьба. — Неужели конец?В морских районах Дальнего Востока, в частности в Китае, тайфуны[306] представляют собой совершенно особенные тропические циклоны[307]. Они зарождаются с молниеносной быстротой и почти безо всяких признаков, предвещающих их появление. Эти ужасные ураганы большей частью трудно предвидеть, так как красный цвет неба и туман на горизонте достаточно часты в китайских и индо-китайских районах, а разнонаправленная зыбь далеко не всегда предвещает ухудшение погоды. Только внезапное падение показаний барометра — надежное свидетельство приближения тайфуна. К сожалению, большей частью барометр показывает понижение атмосферного давления совсем незадолго до первых порывов ветра. Вот почему судно часто бывает захвачено врасплох и капитан, сколь бы он ни был предусмотрителен, не успевает принять соответствующие меры. Надо сказать, что тайфун еще сильнее лютует близ берегов, это делает его особенно опасным для кораблей, стоящих на рейде или идущих в прибрежных водах. А «Годавери» находилась вблизи восточного побережья Малакки. Спеша уйти от возможного преследования «Инда», «Годавери» под всеми парусами шла по синеватым волнам. Видя, что ветер внезапно ослабел, и не зная, с какой стороны налетит шквал, капитан кинулся на капитанский мостик и приказал команде свертывать паруса. — Ввиду близости берега я считаю необходимым сменить курс и двинуться в открытое море, — сказал он помощнику. — Вне всякого сомнения, капитан. Если ветер, как обычно, в начале урагана задует с севера, мы сможем отклониться к северо-востоку, чтобы избежать идущего на запад течения. — Вы правы, — согласился капитан, — и я думаю, с другой стороны… Заглушая разговор, мачты страшно заскрипели — с большой силой задул северный ветер. И напор его вскоре еще увеличился… — Полундра! — кричали матросы, пробегая на корму. В этот же момент фор-брамсель-мачта упала, сломавшись, как спичка. — Держать по ветру! Очистить носовую часть! — скомандовал Кристиан, поскольку обломки мачты, все еще висящие на снастях, мешали судну слушаться штурвала. Как только слаженными усилиями команды приказание было выполнено, раздалось оглушительное гудение и на корабль обрушился настоящий смерч. Судно пошло правым галсом[308], сильно накренившись на левый борт. А капитан-то надеялся, что у него в запасе еще полчаса! Но ураган не дал ему и пятиминутной отсрочки! — Ослабить шкоты![309] Брасопить правый борт! Держись! Ставь на швартовы! Право руля! К счастью, команда «Годавери» состояла из высококлассных моряков. Все приказания капитана выполнялись быстро и точно, и это спасало корабль. Правда, положение трехмачтового судна не становилось от этого менее ужасным. Подгоняемое ветром, оно со скоростью четырнадцати узлов неслось по направлению к берегу. Мачты и перекладины зловеще трещали и каждую минуту грозили рухнуть. — Десять человек к фок-мачте! Десять человек к грот-мачте! Восемь человек к бизань-мачте! Шестеро на нос! Матросы бросились на свои посты. — Взять на гитовы грот-брамсель![310] — кричит Кристиан, и голос его перекрывает шум урагана. Послушные командам, матросы кидаются к фалам, шкотам, булиням. — Отдать булини марселей![311] Отдать фалы! Спустить бизань![312] Матросы так споро убрали паруса, как если бы ничего страшного вокруг не происходило. Капитан решил оставить не марсели, а нижние паруса ввиду того, что носовой отсек «Годавери» был наполнен большой массой воды, из-за чего судно могло перекувыркнуться. Вскоре, однако, видя, как «Годавери» зарывается носом в бушующие волны, он решил убрать еще и большой парус. Забрезжил рассвет. В мертвенном свете свинцовые валы сливались с чернильно-черными тучами. Море, бурлившее еще больше, если это возможно, с чудовищной силой бросало из стороны в сторону злосчастный корабль. По приказу капитана закрепленные на шлюпбалках[313] лодки подняли на уровень вантов[314]. Найтовы[315] двух шлюпок, помещенных между рострами[316], а также найтовы самих ростров удвоили. Для того, чтобы не мешать матросам производить маневры, на леера[317] по правому и левому борту прибили брезент. Через полтора часа ситуация стала нестерпимой. Каждую минуту можно было ожидать, что под ударами бортовой качки разобьются рангоуты. Капитан решился сделать еще одну попытку выровнять судно. — Ставить фок![318] Полный вперед! Ставить малый фок! Поднять большой марсель! Поднять бизань! Сбиваемые с ног потоками морской воды, которую перехлестывало через борт, промокшие до костей, матросы, чтобы их не смыло, цеплялись за выбленки[319] вантов. Осевшая под тяжестью затопленного отсека, «Годавери», как смертельно раненная чайка, не могла подняться на гребень. — Что вы обо всем этом думаете? — спросил между двумя порывами шквального ветра капитан Кристиан у первого помощника. — Я думаю, что меньше чем через полчаса мы пойдем ко дну. — А при условии, что мы станем продолжать двигаться вперед… — Через час. — Я того же мнения. И поскольку час лучше получаса, то полный вперед! Поднять большой фок! Волны продолжали захлестывать палубу. Люди, изнуренные беспощадной и, увы, безнадежной борьбой со стихией, судорожно цеплялись за снасти. Трудно было и дальше выдерживать такую ситуацию, тем более безвыходную, что все маневры были уже исчерпаны. Оставалось только срубить мачты. Так хирург ампутирует у больного гангреной пораженные члены, чтобы спасти ему жизнь. — Готовьте топоры! — приказал капитан, и его энергичное лицо побледнело. В этот миг десятка два людей — кочегаров, помощников кочегаров, младших механиков — охватила паника, палуба так сильно накренилась, что, казалось, корабль начал тонуть. Будучи менее привычными, чем матросы, к разгулу стихий, а также не отличаясь ни такой отвагой, ни такой дисциплинированностью, как они, эти люди, словно стадо, ринулись к большой шлюпке и стали пытаться перерезать найтовы, чтобы спустить ее на воду. Их пример мог оказаться заразительным. — Тысяча чертей! — закричал Кристиан и выхватил из-за пояса пистолет. — Я прострелю голову каждому, кто не выполнит приказ. Все за топоры! Паникеры знали, что капитан — тот человек, который не задумываясь приведет свою угрозу в исполнение. Поэтому, шатаясь как пьяные, они двинулись на корму, где в кладовой хранились топоры. Роковая минута наступила. Внезапно «Годавери» так сильно легла на левый борт, что волна лизнула капитанский мостик, а нос зарылся в воду. — Лево руля! Трави шкот фок-мачты по ветру! Шевелись, ребята! Но торчащий из воды руль не действует. Колебаться больше нельзя. — Руби бизань-мачту! Группа людей бросается к подножью бизань-мачты и начинает рубить ее топорами, другие перерезают талрепы вантов, штаги большого марселя и грот-брамселя. Мачта почти срублена. Еще десяток взмахов топора, и бизань-мачта со страшным треском падает на левый борт, а набежавший вал подхватывает ее и увлекает за собою. — Руби грот-мачту! Охваченные яростью разрушения, подогретой грозящей опасностью, люди набросились на мачту, и она вскоре исчезла в волнах. Крик радости вырвался из груди у всех, когда искалеченная «Годавери» наконец выровнялась и продолжила свой путь, подгоняемая ураганом.
Тайфун бесновал целый день, подталкивая к земле злополучный корабль. Чудо еще, что его не выбросило на берег, который, увы, был близок. Что же предпринять, чтоб не быть выброшенным на мель, — ведь в данном случае это еще опаснее, чем идти в открытое море? Желая двигаться как можно медленней, капитан приказал лечь в дрейф[320]. Приближалась ночь, однако ветер значительно ослабел. Кроме того, барометр поднялся с 728 миллиметров до 739. Во всех сердцах затеплилась надежда, каждый радовался, что чудом спасся от ужасной гибели. Капитан отдал приказ выдать измученному экипажу двойной паек, но в это время «Годавери» потряс удар такой силы, что и офицеры и матросы попадали, а фок-мачта пошатнулась и страшно заскрипела. Два быстрых толчка сотрясли судно, и оно застыло неподвижно — корабль натолкнулся на едва торчащий над водой риф. Если бы в этот момент, при кормовом ветре, «Годавери» шла с полной скоростью, то риф, безусловно, сразу же пропорол бы днище, и судно камнем пошло бы на дно. Но так как корабль дрейфовал, морской вал втиснул его между двумя скалами, которые сжали парусник с обоих бортов. Теперь уже не ликующие крики, а стон ужаса вырвался из груди членов экипажа. — Мы пропали! Спасайся кто может! — кричала обезумевшая толпа. Вторично капитан, в интересах этих же несчастных, бросившихся к шлюпкам, прибегнул к угрозам. Такой же спокойный, как если бы его корабль скользил по безмятежной глади волн, он в нескольких словах, полных здравого смысла, обрисовал им всю нелепость их поведения. — Разрешите мне, — сказал Кристиан в заключение, — позаботиться о вашей безопасности. Подождите, пока уляжется волнение. Завтра я узнаю, на каком расстоянии от берега мы находимся. Если судно все же пойдет ко дну, я первый прикажу его покинуть. Держитесь, ребята, и верьте своему капитану. Хоть сложившаяся ситуация и не была окончательно безнадежной, от этого положение не становилось менее ужасным. Выдержит ли «Годавери» в течение целой ночи натиск волн, хлещущих со страшной силой с правого борта? Что будет, если корабль внезапно вырвет из расщелины, где он застрял, или под напором неустанно обрушивающихся на него водяных гор лопнет обшивка? Наконец, что станется с людьми, если обрушится фок-мачта, которая и так уже держится на честном слове? Ведь на борту осталось всего две шлюпки, так как все остальные последовали за грот- и за бизань-мачтами. Каким образом удастся спустить на воду эти тяжелые челны, если из-за отсутствия фок-мачты нельзя будет использовать грузоподъемник? Матросы, успокоившись при виде оборудованных и подготовленных к немедленному спуску шлюпок, наконец решили поесть и отдохнуть. В это время капитан, остававшийся на мостике в течение суток, направился к покоям девушки, которую ни на миг не покидали ни стойкость, ни самообладание. Необходимо было подготовить ее к тому, что придется покинуть корабль. — Так, значит, — встретила она его чарующей улыбкой, — мы уже не идем в Сингапур? — Увы, нет… — Вы говорите об этом с таким сокрушенным видом! — Если бы я был один, я бестрепетно примирился бы с создавшейся ситуацией. Но ее развязка может оказаться для вас ужасной! — Разве ситуация безнадежна? — Разумеется, нет. Но меня дрожь пробирает, когда подумаю, что вам, быть может, придется высадиться на негостеприимный берег, населенный свирепыми малайцами… — Что делать, дорогой капитан, я разделю общую судьбу. — Но вы еще совсем дитя и к тому же больны. Вам, привыкшей к утонченной роскоши… — Приноровиться можно ко всему. И, знаете, может быть, это иллюзия, но мне кажется, что я уже совершенно здорова. Если наше путешествие не принесет нам никакого иного ущерба, кроме материального, то я буду считать, что дешево заплатила за исцеление. К тому же дедушка богат. И так как офицер, пораженный подобным хладнокровием, коренившимся, быть может, в полной беспечности и неведении опасности, не мог произнести ни слова, девушка продолжала: — Значит, договорились. Раз уж мы потерпели кораблекрушение, то покинем эту бедную «Годавери»… Я часто читала в приключенческих романах описания подобных несчастий, и они всегда вызывали у меня слезы. Вот уж не предполагала, что сама смогу оказаться в таком же положении! Скажите, капитан, а как пассажиры и команда покидают тонущий корабль? — Все очень просто, мадемуазель. Если вам повезло и есть небольшая отсрочка во времени, то в шлюпки грузят провизию, воду, оружие, палатки, навигационные приборы и так далее. Первыми в лодки спускаются пассажиры, если таковые имеются на борту, женщины и дети, затем матросы, сперва — новички, потом старшие, а за ними офицеры. Первый и второй помощники садятся в первую шлюпку — и вперед! Остальные матросы, боцманы и третий помощник занимают вторую шлюпку. Последним покидает тонущий корабль капитан. — Значит, я, как пассажирка, займу со своими служанками место в первой шлюпке? — Безусловно. — А если я не желаю? — Придется. — Повторяю, не же-ла-ю! — Даже если я вынужден буду применить силу, вы сядете в шлюпку первой! — А я, даже если мне придется броситься в воду, заявляю вам, что спущусь в лодку предпоследней. — Но это же безумие! — Может быть. Но и в безумии есть здравый смысл. Я успела заметить некоторые признаки нарушения субординации[321], а в какой-то момент это может породить панику. В силу своих обязанностей вы должны последним сойти с корабля. Мое же положение обязывает подумать о собственной безопасности лишь после того, как в безопасности окажутся мои служащие. Нимало не сомневаюсь, что одно ваше присутствие обеспечит полный порядок, но я также убеждена, что подаваемый мной пример поможет этим людям не забыть о своем долге. В тот миг, когда охваченный восторгом и нежностью при виде такой твердости духа и пораженный неожиданным проявлением столь сильного характера капитан откланивался, по всему кораблю раздались крики ужаса: — Течь!.. Течь!.. Паника оказалась несколько преждевременной. «Годавери», стонущая от грозных и частых ударов волн, стала медленно оседать на корму. — Не беспокойтесь обо мне, капитан, — серьезно сказала девушка. — Идите туда, куда вас призывает ваш долг, я буду рядом. Море все еще оставалось бурным. Но так как валы накатывали с правого борта, с левого — волнение было относительно спокойным. Из-за этого случайного обстоятельства спуск шлюпок на воду имел некоторые шансы на успех. Капитан, желая как можно больше обезопасить предстоящую операцию, велел подать на палубу несколько тонн ворвани[322]. В тот момент, когда поднятая на талях первая шлюпка зависла над бортовыми коечными сетками, он приказал вылить тонну масла в бушующие волны. Вмиг вся площадь, покрытая тонкой жировой пленкой, как по волшебству, обратилась в морскую гладь. Не сильно раскачивая, лодку опустили на воду так быстро, что ее экипаж не смог сдержать восторженных криков. Еще один бочонок с машинным маслом поставили на носу лодки. Бочоночную втулку загодя вынули, а в отверстие вставили ручной насос. Один из матросов его безостановочно качал, и струйка масла в мгновение ока растекалась вокруг шлюпки, образуя нечто вроде тихого озерца посреди бушующей стихии. «Годавери» оседала все ниже. Вот корабль завибрировал и стал задевать дно кормовой частью киля. Мгновения были драгоценны, минута равнялась часу. Капитан приказал повторить операцию, только что так успешно произведенную. Топорами прорубили бочонки и с левого борта вылили в воду еще одну тонну масла. Эвакуация производилась методично, без спешки и без малейших признаков беспорядка. Люди, полные доверия к командиру, предоставившему убедительные доказательства своего мастерства, от всей души восхищались героической девушкой, отказавшейся от своих привилегий и не пожелавшей покинуть корабль, пока остальные не будут в безопасности. Такое беззаветное самоотречение дало свои плоды, благодаря нему удалось избежать какого бы то ни было беспорядка. Никто не посмел или не смог думать о себе в такой драматический момент, когда достаточно было одного слова, одного жеста для того, чтобы у каждого разгорелись притязания и самое чудовищное себялюбие дало о себе знать. Окинув палубу быстрым взглядом, Кристиан убедился, что они с Анной остались вдвоем на корабле. — Ваша очередь! — кратко бросил он, поддерживая ее могучей рукой и выжидая момент, когда в перерыве между двумя волнами лодка подойдет как можно ближе к планширу. И так как матросы, боясь, чтобы шлюпка не разбилась о корпус судна, стравили трос, он крикнул: — Крепче держи швартовы! То ли по чьему-то злому умыслу, то ли из-за невозможности удержаться, но, казалось, расстояние между шлюпкой и тонущим кораблем стало увеличиваться. — Крепче держи швартовы! — в свою очередь, громовым голосом скомандовал третий помощник, содрогаясь от ужаса при мысли, какой опасности подвергаются капитан и девушка. Страшный треск заглушил его слова. С чрезвычайной силой судно чиркнуло по дну кормовой частью киля. Уже давно треснувшая фок-мачта не смогла выдержать этого удара: она сломалась на высоте менее метра от палубы и, разрывая ванты и штаги, рухнула по правому борту, в щепы раздавив шлюпку. Те из находившихся в шлюпке, кто не был убит на месте, были сброшены в море и, увлекаемые течением, барахтались в воде, отчаянно цепляясь за обломки. Сраженная этой непредвиденной катастрофой, смутно понимая, что единственный путь к спасению отрезан, бедная девушка отшатнулась и бросила на своего спутника растерянный взгляд. — Держитесь! — воскликнул офицер, готовый в одиночку бороться против невозможного. Молодой человек мучительно искал в своем изобретательном мозгу, где хранилось множество способов выхода из тупиковых ситуаций, одно-единственное средство, позволяющее вырвать у подступившей со всех сторон смерти это хрупкое создание, более драгоценное для него, — в этот ужасный миг он наконец решился себе в этом признаться, — чем что бы то ни было в целом мире. Но было уже поздно принимать какие-нибудь меры. Оставались считанные секунды. Внезапно валы перекатили судно с борта на борт, корма резко взлетела и упала… — Вода!.. Вода!.. — закричала девушка. Капитан почувствовал, как палуба ушла у него из-под ног. Он понял, что сжатый внутри корабля воздух вскоре, сметая все преграды, со взрывом вырвется на волю. Девушка, которой до сих пор ни разу не изменяло мужество, почувствовала внезапный приступ отчаяния. Тяжело дыша, прижав к груди судорожно сжатые руки, она горестно воскликнула: — Кристиан! Брат мой, друг мой! Ко мне, Кристиан! Ко мне! — О, я спасу вас! — воскликнул офицер и, не теряя ни секунды, обхватил Анну левой рукой за талию и вместе с ней устремился в пучину. Сильный, как гладиатор[323], неутомимый пловец, капитан Кристиан, поддерживая свою слабо сопротивлявшуюся спутницу, поспешил отплыть как можно дальше от тонущей «Годавери» — было важно избежать взрыва сжатого под палубой воздуха и воронки, образующейся на месте погружения корпуса. Молодой человек имел все основания предполагать, что берег близок. Он отдался береговому течению, удивляясь и огорчаясь тому, что они не встретились ни с кем из упавших в воду матросов. Неужто же пассажиры второй шлюпки погибли все до единого? Не успел Кристиан с девушкой отплыть метров на двести от скалы, на которую напоролось судно, как раздался сильный взрыв. Веер обломков взлетел в воздух, к счастью, не задев пловцов. Отжила свое «Годавери»! Только теперь капитан вспомнил о сокровищах, находившихся на судне, — о шкатулке с бриллиантами, хранившейся в сейфе у него в каюте, о чеках, подписанных господином Синтезом. Он совсем позабыл обо всем этом во время череды ужасных событий, длившихся сорок восемь часов. Бриллианты были бы легким грузом, бесполезным, кстати говоря, если попадешь в дикие места. Да разве дело в бриллиантах и в богатствах?! Сперва следовало добраться до какой угодно земли! А она ускользала. Силы несчастного капитана были на исходе. Девушка не подает признаков жизни… Небо прояснилось, заблестели звезды, ветер все слабел и слабел, но море еще волновалось. Вот уже час продолжалась эта отчаянная борьба, и Кристиан в страхе чувствовал, что тело его начинает цепенеть, ему становилось трудно координировать свои движения, но он ценой невероятных усилий продвигался вперед. Ах, если бы схватиться за какую-нибудь рею, обломок, доску, за что угодно! — Вперед, — говорил он себе, — я выдержу еще десять минут! При виде своей неподвижной спутницы его пронзил мучительный страх. Он испугался, что держит в руках мертвое тело. Текли минуты. Росла усталость. — Не могу больше… Нет, я выдержу… Как ужасно вот так умирать вдвоем! Еще! Держись!.. Бедняга захлебывался, всплывал, набирал полные легкие воздуха, делал еще несколько взмахов, снова его накрывало волной, но девушку он не выпускал, и прибой нес их к берегу. Тоска утопающего охватила его, молодому человеку казалось, что каждый волос на голове превратился у него в раскаленную иглу. Страшное рыдание вырвалось из его груди: — Да буду я проклят, раз не могу ее спасти! Затем, желая последним героическим усилием хоть на секунду продлить жизнь бедной девочки, он поднял ее над волнами и прошептал безумные слова прощания…
ГЛАВА 8
Впечатления французского исследователя. — Девственный лес днем и ночью. — Стоянка потерпевших кораблекрушение. — Брат и сестра. — Сестренка просит всего лишь слона и эскорт. — Потеряв «Годавери». — На илистой отмели. — На суше. — Первый завтрак. — Устрицы с черной ризофоры и корень arun esculentum. — Невзгоды и мужество. — Средства к существованию. — Затонувшая пирога. — И капитан и команда. — Спуск на воду. — Пойман угорь. — Последние патроны. — Огонь! — Способ, заимствованный у дикарей. — Вперед!…Сначала дорога, гладкая, как шоссе, капризно извивалась среди болот, где росли камыши и лотосы[324]. Затем местность постепенно пошла в гору, путь стал шире, болота исчезли. На смену лотосам, камышам и всей роскоши водяной флоры пришли нежно-зеленые рощицы бамбука с его упругими стволами, росшего пышными букетами. Речка причудливо петляла по этому бесконечному лесу и текла на восток, к далеким горам, ее голубоватый силуэт был едва различим в темной массе зелени. После бамбуковых зарослей пошли гигантские деревья, чьи кроны высоко над землей образовывали зеленые купола, через которые не проникали солнечные лучи. Стволы колоссов обвили лианы — повсюду лианы! — грациозные и в то же время устрашающие странные растения. Они поднимались, опускались, висели, раскачивались, переходили с одного ствола на другой; то круглые, то плоские, то гладкие, то колючие, зеленые, белые, темные, похожие на легкие ленточки или на толстые канаты, извивавшиеся, как удавы, сжимавшие в своих нерасторжимых объятиях могучие столетние деревья. Если вглядеться в это зеленое царство, то невольно залюбуешься красотой форм и яркостью красок расстилавшихся пестрым ковром растений; папоротники отливали голубизной и поблескивали словно металлические, снопы орхидей лепились на стволах, на ветвях больших деревьев, цветы — повсюду. Такой увидел малазийскую природу наш выдающийся соотечественник Бро де Сен-Поль Лиас[325], такой он ее красноречиво живописал. Вот почему автору захотелось дословно воспроизвести в нескольких предыдущих абзацах его правдивое и свежее описание. Но хотя эта реалистическая и ничуть не льстивая картина с ее буйными красками и вызывает в нас восхищение, даже изумление, не должны ли мы все-таки задаться вопросом: а как же человек? Где он? Кем он стал в этом огромном Эдеме?[326] Давайте еще раз послушаем автора «Путешествия по полуострову Малайзия». И вы поймете, каков контраст между экваториальной ночью и солнечным днем, льющим свои лучи на девственный лес. А тогда сами судите о положении крошечного человека, затерянного в этой безмерности. …Среди густых теней луна там и сям высвечивает то огромный букет орхидей, то белоснежную лиану, протянувшуюся с одного берега ручья на другой, то ствол упавшего дерева, то большой клубок ветвей ротанговой пальмы, принимающей в холодном лунном свете самые причудливые формы. Порой ветка, покрытая узорной листвой, колышется под ветром, и можно подумать, что на вас, то приближаясь, то исчезая, движется привидение. Светлячки кажутся вам глазами хищника: а вдруг это тигр? В этих местах такое более чем вероятно… В быстро сгущающихся сумерках ухо приобретает особую чуткость и человек часами ловит разнообразнейшие шорохи, стараясь проникнуть в тайны ночной жизни, пришедшей на смену дневному оживлению. Голоса некоторых из обитателей этих лесов звучат с такой настойчивостью, что образуют нечто вроде постоянного аккомпанемента; земноводное всю ночь повторяет четыре музыкальные ноты, которые мог бы сыграть флейтист; время от времени большая ящерица хрипло перекатывает свои шесть-семь отчетливых слогов; вдали слышится что-то вроде жалобного стона, иногда отчаянный крик наводит на мысль об ужасной драме — это кричат мартышки; раздается пронзительный свист, похожий на звуки медного рожка, — это голос либо самого маленького, либо самого большого животного — свистящего насекомого или слона. Иногда слышится глухое ворчание, напоминающее самую басовую ноту органа, и от этого тремоло дрожат деревья. Это тоже слон, но слон рассерженный; в ярости его крик ужасен, ничего страшнее и быть не может. А издали доносятся звуки, которые можно назвать «небесными голосами», и кажется, что выше самых больших деревьев в небо взлетают стаи белых птиц…
…Тем временем луна скрылась за силуэтами гигантских деревьев. Стало темно, как в пещере. Глазу не на чем отдохнуть — исчезли даже смутные картины, освещавшиеся бледным лунным светом владычицы ночей. Кругом царил непроницаемый мрак, хоть глаз выколи. Все звуки стали еще страшнее. Перенапряженный слух тщился различить каждый шорох, невольная дрожь пробирала даже самых храбрых. Что это — бесшумный шаг кошки, или огромное насекомое ползло по стеблю, или под цветами пробиралась рептилия? Однако кошмар человека, который не спал ночью в джунглях, близился к концу. Тягостные часы истекали. Вот уже бео[327] весело сообщил, что скоро встанет солнце.Смолкли ночные птицы. Широкая пурпурная полоса появилась над самыми высокими верхушками деревьев, истошно закричали попугаи, быстро хлопая крыльями, взлетели в небо стайки зеленых голубей, обезьяны занялись гимнастикой, прыгая с лианы на лиану. На берегу реки, повитой молочным туманом, под старой смоковницей, на подстилке из листьев, положив голову на руку, сладко спала женщина. Вооружась толстой веткой, имеющей форму рогатины, мужчина бодрствовал возле небольшого кострища, над которым уже вилась тоненькая струйка дыма. Бледный, растрепанный, в порванной одежде, он с тоской глядел, как отблески разгорающегося пламени падали на красивое девичье лицо, обрамленное белокурыми локонами. Она проснулась, ежась от утреннего холода, и с улыбкой сказала тоном нежного упрека: — Кристиан, брат, ты по-прежнему на ногах? — Разве не моя обязанность доставлять вам все необходимое, добывать скудную пищу, оберегать ваш сон… — И умереть, не выдержав всех этих трудов? — Дорогая сестричка, вы преувеличиваете! — Он говорит, что я преувеличиваю, а сам в течение пяти дней и пяти ночей не давал себе ни секунды передышки! — Я совершенно не устал, уверяю вас. Вы не поверите, какой запас прочности имеют моряки. — Не надо злоупотреблять выносливостью, если вы не хотите погибнуть в этом нескончаемом лесу. Разве нам следует торопиться? — Увы, времени у нас более чем достаточно… — Наш запас продовольствия уже истощился? — Да, почти. Осталась дюжина испеченных в золе голубиных яиц, и… и больше ничего… — В крайнем случае можно протянуть денек, хоть и впроголодь. А у меня, с тех пор как мы стали робинзонами из Малакки, разыгрался прекрасный аппетит. — Мы наверняка отыщем какие-нибудь фрукты. Добудем ящерицу… или черепаху… или рыбу поймаем… — Все что угодно, друг мой. Любое предложенное вами меню будет встречено благосклонно. Как и любой из способов приготовления пищи. — Милая сестренка, я восхищаюсь твердостью, с которой вы встречаете обрушившиеся на нас ужасные несчастья и переносите усталость и наше почти безнадежное положение… — В этом нет моей заслуги! Меня не мучают никакие недомогания, температура у меня нормальная, а спала бы я лучше, чем в собственной спальне, если бы так сильно не боялась всех этих противных зверей, поднимающих по ночам ужасную возню. Но и к ней я вскоре привыкну. — Значит, вы ни о чем не жалеете? — Ну, это как сказать! Если бы я была спокойна за судьбу наших товарищей по несчастью, если бы не произошло катастрофы с «Индом», то жалела бы я только об одном. — О чем же? — О том, что у меня нету прекрасного слона и эскорта[328]— очень хотелось бы со всеми удобствами пересечь Малайзийский полуостров. — Боже, ну что вы такое говорите! — не мог не рассмеяться Кристиан в ответ на подобное неожиданное заявление. — Но за неимением слона я удовлетворюсь захудалой пирогой[329], в которой вы в одном лице и капитан и команда. — А как вы поступите, когда река перестанет быть судоходной и придется идти пешком? — Возьму вас под руку, и мы пойдем, там-сям собирая ягоды, как школьники на каникулах. И будем так брести, пока не достигнем цели нашего путешествия. — Чтоб дойти до Перака, нужно пересечь весь полуостров Малакка. — А ведь он довольно широк, не так ли? — Приблизительно двести шестьдесят километров. — Мы идем уже пять дней. — Если считать по пятнадцать километров в день, мы прошли шестьдесят. — Значит, осталось двести? — Чтоб их преодолеть, нам понадобится, если не случится ничего неожиданного, не менее двух недель. — Ну что ж! Две недели так две недели!
Не то по неведению, не то благодаря силе характера, но девушка не боялась трудностей пути и твердо верила в возможность спасения. По правде говоря, по сравнению с предшествовавшими трагическими событиями положение наших героев, несмотря на опасности, грозившие им каждую минуту в этой дикой местности, можно было назвать завидным. Напомним душераздирающий эпизод гибели «Годавери». Под натиском сжатого в трюмах воздуха пароход взорвался. От него ничего не осталось. Все обломки унесло течением. Капитан Кристиан вместе с девушкой плыл к берегу. Обессилев от бесплодной борьбы с разъяренными волнами, он почувствовал, что тонет, и инстинктивно приподнял бедное дитя над водой. О счастье! Под ногами, на глубине менее двух морских саженей[330], была земля. К Кристиану тотчас же вернулись силы; оттолкнувшись ногами ото дна, он, полузадохнувшийся, всплыл и услышал вблизи хорошо знакомый звук прибоя. Молодой человек ринулся вперед, выбрал промежуток между двумя гребнями, его снова накрыло волной, но он все же успел схватиться рукой за корень какого-то дерева. Стоя по плечи в воде, не зная, будет ли еще подниматься ее уровень, Кристиан поспешил с помощью ремня привязать девушку к этому корню. Затем с минуту постоял, не столько готовя себя к новой неудаче, сколько для того, чтобы проверить состояние прилива. Уровень не изменился. Опасность миновала. Минут через семь-восемь начнется отлив. Боясь провалиться в какую-нибудь яму, капитан решил дожидаться рассвета. Водя вокруг себя руками, молодой человек нащупал и другие, очень широко разросшиеся корни, образующие снизу ствола нечто вроде пьедестала. В дереве он узнал черную ризофору[331]. Опасаясь довольно сильного течения, образующегося при отливе, вне себя от беспокойства за девушку, все еще не пришедшую в сознание, Кристиан уцепился за корни. Вода убывала. Умирая от жажды, он поднес к губам пригоршню воды и вскрикнул от радости. Вода была почти совсем пресная. По счастливой случайности потерпевшие кораблекрушение очутились в дельте реки. Жадными глотками офицер пил эту теплую, взбаламученную воду, и она казалась ему вкусной! Сколь бы неудобной ни была занимаемая им позиция, он стремился оказать помощь бедной девушке. Но тут с ее губ сорвался тихий стон. — Наконец-то! Она жива! — вскричал молодой человек потеряв голову от радости. Забрезжил рассвет. Можно было различить широкое речное устье, заросшее деревьями с серо-зелеными кронами, илистое дно, где барахтались маленькие голубые крабы. Желая как можно скорее выбраться из своего ужасного положения, капитан взобрался по корням черной ризофоры, сослужившей ему добрую службу, обломил ветку, поспешно вернулся к продолжавшей стонать Анне, подхватил ее и за четверть часа сверхчеловеческих усилий, прощупывая дно палкой, донес свою спутницу до суши. Ноги у него подкашивались, он боялся, что в любую секунду может рухнуть на землю. — Пить! — прошептала девушка. — Что же мне делать! — в отчаянии пробормотал моряк, думая, что ему снова придется преодолеть покрытую илом отмель. — В чем донести воду? — Машинально его горестный взгляд остановился на дереве арум с серо-белыми полураспустившимися цветами, напоминавшими чаши, внутри которых переливалась и сверкала прозрачная роса. — Вода! Вот вода! — закричал Кристиан, вмиг переходя от отчаяния к пылкой радости. Эти несколько капель возвратили его спутницу к жизни. — Спасена! Спасена вами! — нежно прошептала она. — А все остальные? — Здесь нас только двое. Однако я надеюсь, что им удалось доплыть до берега. Быть может, их положение менее шатко, чем наше… — У нас не осталось никаких средств к существованию? — Абсолютно никаких. — И мы промокли до нитки. К счастью, скоро взойдет солнце. — Необходимо прикрыть голову листьями, чтобы не получить солнечный удар. — Эти первые лучи мне на пользу — ведь я так замерзла… А сейчас… — Что — сейчас? — Сказать откровенно? Я умираю от голода… — Я попробую что-нибудь раздобыть. — Это нелегко, не правда ли? Будет трудно, мне в особенности, приноровиться к нашему новому положению — положению людей, потерпевших кораблекрушение. — Я сделаю все от меня зависящее, чтобы облегчить для вас эту ситуацию. — Не сомневаюсь, друг мой. И этим вы мне окажете огромную услугу. Вы и представить себе не можете, как я нерасторопна, как неопытна. Дедушка очень добр, но не разумнее ли было бы, вместо того чтобы потакать капризам избалованного ребенка, подготовить меня к разным жизненным обстоятельствам. Подумать только, я ведь и бифштекса толком не сумею поджарить. — О, мадемуазель, поджарить бифштекс — это весьма сложная операция, тем более в сложившейся ситуации. — Прежде всего, дорогой мой спаситель, прошу вас оставить это церемонное обращение «мадемуазель». Смотрите на меня как на сестру и любите меня по-братски. Вы это заслужили, правда? Теперь вы — мой брат. — Да, мадемуазель! — Вы опять за свое! Итак, давайте, брат, проведем смотр наших ресурсов. У меня есть носовой платок, бусы… бусы… Вот и все. А у вас? — У меня есть нож. Прекрасный нож со многими лезвиями, настоящее сокровище. — Действительно это драгоценность, — засмеялась девушка. — Еще часы… Правда, полные морской воды. Затем револьвер с целой обоймой. — Чтобы защищать нас от хищников? — Но обойма, должно быть, промокла так же, как и часы. Затем четыре дуката[332] в жилетном кармане. — Золото! Лучше бы там был бисквит… — Но я надеюсь, мы все-таки будем завтракать… — Надеюсь. В романах жертвы кораблекрушения после чудесного спасения всегда садятся завтракать. — Позвольте, я отлучусь минут на десять. — Позволяю. Но не могу ли я пойти с вами? — Нет, это невозможно! — ответил капитан и смело ринулся на илистую отмель. Вскоре он вернулся, сияющий, торжествующий, неся на плече вязанку тонких корней черной ризофоры с лепившимися на них неправильной формы устрицами. Такие устрицы, живущие в солоноватой воде, безвкусны и требуют приправ — соли, перца или лимонного сока. Без специй есть их трудно. Но голод — лучший повар! Укрывшись в бамбуковых зарослях, наши друзья по-братски разделили эту скудную трапезу, сожалея, увы, об отсутствии какой-либо растительной пищи — грозди бананов или плодов хлебного дерева. Вдруг капитан заметил, что арум, в чьем цветке так кстати сохранилась роса, очень похож на растение, охотно употребляемое индусами в пищу. Он ножом разрыхлил землю вокруг стебля, извлек на свет Божий толстый луковичный корень, очистил его, разрезал на кусочки и не без удовольствия принялся грызть. — Это colocasia. Я когда-то пробовал ее в джунглях. По вкусу она напоминает репу. Держите, сестричка, попробуйте. — Вкусно и очень подходит к устрицам. После этого завтрака, длившегося довольно долго из-за того, что каждую устрицу приходилось вскрывать, чтобы не сломать нож, очень осторожно, офицер спросил: — Вы чувствуете себя лучше? — Намного! И, во всяком случае, сейчас я не голодна. Одежда почти высохла, и у меня появились силы идти. — Подождите немного. Пока продолжается отлив, я вернусь к черной ризофоре, наберу устриц и крабов на обед. До завтра мы будем обеспечены, а там уж примем какое-либо решение. Сказав это, молодой человек незамедлительно отправился к илистой отмели. Но, не пройдя и двадцати шагов, он оступился и чуть не растянулся посреди наносной грязи. Увидя, что стало причиной его неловкости, Кристиан, позабыв и о моллюсках, и о будущем обеде, встал на ноги, нагнулся и изо всех сил начал дергать и тащить на себя лежащий на дне предмет. — Ура! Вот находка так находка! — закричал он. И, не обращая внимания на ил, перепачкавшись с ног до головы, моряк, прилагая огромные усилия, вытащил на поверхность маленькую узкую пирогу длиною метра три, затонувшую, по всей видимости, уже давно. — Сестричка, это пирога! Я сейчас перетащу ее на сушу и хорошенько почищу. — О, какое счастье! — с детской радостью воскликнула девушка. — Не подходите ко мне, я грязен, как конопатчик! Не теряя ни минуты, капитан стал вычерпывать ил из лодки и протирать ее листьями бамбука. Он очистил лодку, проконопатил и, убедившись, что она не протекает, сказал: — Вот на чем мы пойдем по реке против течения и достигнем горной гряды, которая, словно позвоночный столб, тянется через весь Малайзийский полуостров. А теперь мне надо соорудить массивный гребок или, если успею, пару весел, а затем вернуться на отмель в поисках обеда. После чего дождусь прилива, чтоб выкупаться и смыть с себя слой грязи, сделавший меня похожим на амфибию[333]. Молодой человек действовал так споро, что через шесть часов пирогу удалось спустить на воду и, воспользовавшись поднимающимся приливом, отправиться в путь. Подталкиваемая естественным приливным течением вверх от гирла, пирога преодолела довольно большой отрезок реки и продвинулась довольно далеко в глубь континента. Приближающаяся ночь прервала эту навигацию, бывшую не такой уж и тяжелой. Когда снова дал о себе знать морской отлив, капитан вытащил пирогу на берег и, выстелив ее листьями папоротника, соорудил что-то вроде колыбели для своей спутницы. Ужин опять состоял из устриц и корней colocasia. Наступила ночь. Девушка уютно устроилась на мягкой подстилке из листьев, а офицер, страж столь же бдительный, сколь и преданный, охранял ее до самого рассвета. На следующее утро они вновь тронулись в путь, естественно, натощак, но надеясь, что счастливый случай поможет им раздобыть какую-нибудь пищу. Случай этот представился в виде толстого угря, которого капитан оглушил ударом гребка и, извивающегося, выбросил на берег. Угорь очень вкусен под винным соусом, под соусом тартар или даже просто испеченный на углях. Но для этого нужен огонь. А жевать сырым это тяжелое, жесткое, волокнистое мясо — уж лучше с голоду умереть! Огонь! Туземцы всех стран добывают его путем энергичного трения двух кусков дерева. Но этот способ неизвестен большинству европейцев и, кроме того, он требует применения особых масел, которые тоже не везде встречаются. В большом замешательстве капитан смотрел, как угорь с перебитым хребтом конвульсивно вьется в траве. Внезапно моряк хлопнул себя по лбу характерным жестом человека, осененного какой-то мыслью. — Ба, — вслух продолжил он свои размышления, — давайте-ка попробуем. Вынув из кожаной кобуры револьвер, весь покрытый ржавчиной от морской воды, Кристиан достал из барабана патрон, зубами вытащил пулю из медной гильзы и высыпал на ладонь, к счастью, оказавшийся сухим, порох. — Вы никак не можете обойтись без вашего платочка, сестренка? — Конечно нет. Я тем более им дорожу, что он у меня единственный. — Тем не менее соблаговолите оторвать от него кусочек величиной в ладонь, повыдергайте из него нитки, как будто щиплете корпию, и положите их на солнце — пусть просохнут. Это нужно для того, чтобы изжарить угря, — добавил он поощрительным тоном. Пока девушка занималась этой работой, Кристиан принялся собирать тоненькие сухие ветки, предпочитая смолистые породы деревьев. Все это он сложил в кучу, на верхушку костра положил нити, выдернутые из тонкой ткани, и посыпал их порохом из патрона. Щепотку пороха капитан оставил в гильзе для того, чтобы способствовать возгоранию всего костра, если запал займет, когда будет спущен курок. Волнуясь больше, чем нужно для выполнения такого в принципе заурядного дела, молодой человек зарядил револьвер, уперся дулом в спутанные нити и нажал на спуск. Раздался негромкий выстрел, порох мигом загорелся, от ткани пошел дымок, нити обуглились. Осторожно раздув пламя, чихая и кашляя от дыма, Кристиан радостно воскликнул: — Сестренка! Мы будем есть жареного угря! Итак, в распоряжении офицера осталось пять патронов, то есть возможность разводить огонь в течение пяти дней, если предположить, что ни один патрон не поврежден. Но если они все повреждены, то… Кристиан знал, что многие дикие племена умудряются перевозить огонь в своих пирогах. Чтобы тлеющие угли не прожгли корпус челнока, они на носу или на корме кладут плотный слой глины. Засыпанные пеплом головешки могут сохранять жар довольно длительное время. Капитану превосходным образом удалось сымитировать способ дикарей, но девушке пришлось отказаться от ночевок в лодке, поскольку подстилка из сухих листьев не выдержала бы соседства с тлеющими углями. Невзирая на неустроенность, на мучительную усталость от трудного путешествия, здоровье друзей было в относительном порядке. Так они и плыли по реке в течение пяти дней, не встретив по пути ни единой живой души, ни единого следа, оставленного человеком. Вот тогда-то, наутро после одной из переполненных шумами ночей, мы и повстречались с ними. Отважные, как всегда, даже веселые, они готовились совершить, казалось бы, невозможное, во всяком случае для восемнадцатилетней девушки, путешествие — пересечь с востока на запад полуостров Малакка.
ГЛАВА 9
Одиночество. — Клевета, возводимая на малайцев. — Оранги с Малакки. — Бесплодные джунгли. — Голод. — Героизм капитана Кристиана. — Один! — Упадок сил. — Страхи. — Снова вместе. — Бессилие. — Напрасные поиски. — Обречены жевать молодые побеги бамбука. — Пожар в пироге. — Сон. — Бред. — Лихорадка. — Приступ малярии. — Страшное пробуждение. — Безумный страх. — «Он умирает!» — Началась реакция. — Странное появление. — Те, кого они опасались встретить. — Взаимно удивлены. — Лесные люди.Такой план — пересечь с востока на запад полуостров Малакка — был для двух потерпевших, несмотря на всевозможные трудности, единственно приемлемым. Капитан Кристиан не знал, где именно их выбросило на берег, но он был уверен, что они не могли далеко уклониться от 5-й северной параллели, а значит, идя все время на запад, можно достигнуть английской колонии в Пераке, расположенной как раз между 4-й и 5-й параллелями. Речь шла, как мы уже сказали, о том, чтобы преодолеть напрямик около трехсот километров, не имея пищевых запасов, терпя всевозможные лишения, без необходимого в подобных путешествиях многочисленного сопровождения, вьючных животных и так далее. О том, чтобы оставаться на месте кораблекрушения и ожидать более чем маловероятного появления какого-нибудь судна, нечего было и думать, ведь этот район, где в воздухе витали миазмы малярии, был отдален от любого человеческого жилья, лишен каких бы то ни было коммуникаций и не давал путникам даже тех жалких средств к существованию, которые порой попадались им в джунглях. Но одно обстоятельство удивляло и беспокоило капитана так, что он сам себе боялся в этом признаться. Это полное отсутствие жилья в то время, как полуостров Малакка — место довольно густонаселенное. Кроме кочевых племен, которые неустанно бродят по лесам, на полуострове живут еще и оседлые землепашцы, расселившись по большей части на берегах рек. Почему же до сих пор никто не встретился? Малайцы не всегда враждебно настроены по отношению к европейцам, даже наоборот. Их хозяева, — утверждает г-н А. Р. Валлас[334], — клевещут, аттестуя местных жителей как людей кровожадных и хитрых. В частности, обитателей полуострова расписывали потомственными пиратами, живущими грабежом и мошенничеством. Безусловно, прибрежные острова часто служили прибежищем для корсаров, особенно когда европейцы науськивали туземные племена одно на другое и вооружали их. Но основная масса населения за истекший исторический период всегда состояла из мирных крестьян. Часто англичане, оправдывая свои вылазки против них, называли малайцев пиратами. Внутренние таможни у полосы прилива, в местах слияния рек, на горных перевалах выдавались за укрепления против бандитов. В нормальных условиях малаец — наиболее общительный и спокойный из азиатов, в то же время он наиболее храбр и горд. В деревнях каждый свято блюдет права соседа — нигде больше не увидишь такого реального равенства, и, даже не будучи таким оптимистом, как выдающийся английский натуралист, можно утверждать, что в большинстве случаев европейцу легко ужиться с малайцем, правда, при непременном условии, что относиться к нему ты будешь приветливо, без того чванливого высокомерия, которое делает англичан столь ненавистными для побежденных народов. Что касается дикого населения центральной части Малайзийского полуострова, то оно представлено племенами, раздробленными на бесчисленные кланы. Они носят родовые имена оранг-бинуа — земные люди; оранг-утанг — лесные люди; оранг-букит — горные люди; оранг-убу — речные люди; оранг-дарат-лиар — дикие люди или просто оранг-улу — люди из центрального района. Ужас, который вызывают лесные люди, а также жестокость, с которой с ними обращались белые, породили о дикарях странные легенды. Из них сделали «хвостатых людей», живущих преимущественно, на деревьях, а на землю спускающихся лишь затем, чтобы опустошать деревни. Рассказывают, будто бы этот народ покрыт густой шерстью, у них клыкастые пасти, а ноги длиной в полметра с огромными когтями. Разорвав ими свою добычу, они пожирают ее сырой. Само собой разумеется, их считают людоедами, но в конечном итоге это не самое страшное. Позже мы узнаем, что думает об этих обездоленных господин Бро де Сен-Поль Лиас, в числе прочего изучавший нравы и образ жизни местных жителей. Ему также принадлежит несколько фотографий некоторых любопытных типов. Как бы там ни было, но Кристиан, всей душой желая встретить земных людей, приходил в ужас, думая об их лесных сородичах. Несмотря на всю свою энергию и выносливость, благодаря которой капитан выдерживал трудности путешествия, он чувствовал время от времени внезапный упадок сил и как мог скрывал эти приступы от своей спутницы. Выжить становилось все труднее. Вот уже три дня, как они почти ничего не ели; их мучил голод, силы таяли, счастливый случай, спасавший их уже неоднократно, кажется, на сей раз отвернулся от них. Большой ошибкой было бы предполагать, будто буйная растительность тропического леса способна предоставить человеку все нужное для жизни. Годные в пищу растения нуждаются в пусть и примитивной, но хоть какой-то культуре земледелия, охота и рыбалка слишком ненадежны, а фрукты и ягоды редки и большей частью растут на недоступных деревьях. Вот почему даже самые дикие обитатели лесов засевают вырубки, сеют зерновые, собирают коренья, коптят мясо и рыбу, делая запасы на случай голода. Плоды же для них всегда — всего лишь закуска. Только австралийцы, эти горемыки, живут одной охотой да рыбной ловлей, пренебрегая земледелием и бродя куда глаза глядят с места на место по роскошным бесплодным просторам своей страны. Но даже они ежегодно собирают эвкалиптовую камедь и, приготовив специальным образом, прячут ее в разных местах, на случай голода — этого вечного врага примитивных народов. Оранги из Малакки тоже не живут только сегодняшним днем. Они хорошо знают все скрытые богатства своего леса, заглохшие старые вырубки, где в неслыханном изобилии растут кокосы, саговые пальмы, хлебные деревья, бананы. Кроме того, прекрасно приспособившись к такому образу жизни, не только благодаря наследственности, но и ежедневному привыканию, оранги пробираются сквозь гигантские чащи с легкостью хищников и обладают инстинктом не меньшим, чем животные. Вооруженные примитивным, но грозным в их руках оружием, они могут прокормиться, оставаясь кочевниками, хотя и у них время от времени свирепствует опустошительный голод. Европеец же, сколь бы смел, вынослив, находчив, неутомим он ни был, погибнет или в когтях хищников, или от укуса змеи, или от неизбежного голода, тем более если у него нет оружия. По сравнению с туземцем он оказывается в слишком невыгодном положении, чтобы оказывать длительное сопротивление. Вот уже двенадцать часов во рту у бедняги офицера маковой росинки не было. Желая скрыть от своей спутницы весь ужас их положения, а также желая как можно подольше уберечь ее от мук голода, он, стараясь казаться веселым, героически предлагал девушке всю случайно раздобытую по дороге снедь. — А вы, мой друг, что же вы не едите? — забеспокоилась она, видя, что Кристиан отказывается разделить с ней скудную трапезу. — Благодарю, я уже поел, — улыбнулся капитан с довольным видом плотно пообедавшего человека. — Вы меня обманываете! — От внезапного подозрения у Анны сжалось сердце. — Вы совсем не спите… — О, мы, моряки, привыкшие стоять на вахте, в сне почти не нуждаемся. — А теперь вы уже и не едите!.. — Извините, но ночью я поел. Признаюсь, меня охватил такой внезапный приступ голода, простительный ввиду скудости нашего рациона, что я запустил руку в нашу провизию. Поэтому совершенно естественно с моей стороны предложить вам то, что осталось. — Однако вы так бледны!.. — Это вам кажется. Лучи солнца фильтруются сквозь зеленую листву… — Ах, если бы все, сказанное вами, было правдой!.. — Почему «если бы», сестренка? — Если бы вы не довели до такой степени ваше самоотречение… — Не будем говорить об этом! Так как я намного сильнее вас, то совершенно естественно, что мой рацион в случае необходимости меньше вашего. Так поступают, когда на борту корабля не хватает продуктов или когда тебя выбрасывает на берег. Женщин и детей спасают первыми, им же отдают первый кусок. — Какой вы добрый! — Бог мой, не знаю… Вы придаете слишком много значения пустякам. — Вот вы наконец и сознались, что терпите ради меня лишения! — Ни в чем я не сознался! — О нет, теперь я все поняла! — воскликнула бедная девушка, и глаза ее наполнились слезами. — Но неужели вы не понимаете, что наше общее несчастье необходимо делить пополам, иначе оно станет нестерпимым! — Да, безусловно. Но следует принимать во внимание неравенство наших сил. К тому же в данный момент дискуссия сама собой закрывается — у нас не осталось ничего съестного. — Совсем ничего?! И это впервые за восемь дней. После того, как мы, к своему счастью, нашли гнездо зеленых попугаев, а потом то фрукты, то коренья… — Из этого следует, что мне надо немедленно отправиться на поиски, не то нам придется съесть лишь воображаемый ужин… Я вынужден оставить вас одну. Вы ведь не боитесь, правда? — За себя? За себя нет, друг мой. Лишь бы только вы не заблудились. — Не волнуйтесь; чтобы избежать возможной ошибки, я отмечу свой путь вехами. — До свидания, брат. И не теряй надежды! — До свидания, сестричка. Но когда девушка увидела, как капитан, опираясь на палку, скрывается в зарослях, по дороге ножом кое-где обрезая мелкие ветки, присутствие духа покинуло ее. Открылся ли перед ней весь ужас ситуации, в которой она оказалась? Показалось ли ей одиночество более страшным, чем раньше? Или перевозбужденный от усталости и лишений разум не смог, как прежде, противостоять подступившему ужасу? Сдавленные рыдания вырвались из ее груди, слезы хлынули из глаз, она бросилась на колени и, простирая руки к зеленому куполу, палимому неумолимым солнцем, душераздирающе возопила: — Господи! Не покидай нас, Господи! Долго длился припадок отчаяния. Она не замечала, как тянутся длинные часы. Лишь голод, ужасный приступ голода заставил ее заметить, как удлинились тени на берегу реки. — Как долго он не возвращается! — прошептала девушка, стараясь проникнуть взглядом в запутанное сплетение ветвей. — Мне страшно, я вся дрожу! Если бы он, считающий меня такой сильной и решительной, знал, что, когда его нет рядом, я пугаюсь каждого шороха, каждого хруста!.. Завтра пойду вместе с ним, чего бы это ни стоило! Вечерело. Вскоре наступит ночь. Непроглядная ночь в лесу, от которой дрожь пробирала самых отважных. Несчастная девушка почувствовала, как страх ее увеличивается с минуты на минуту. — О! — обезумев, зарыдала она. — Завтра… До завтра я умру от страха!.. Но ее отчаяние сменяется нервной, истерической радостью. Она слышит тяжелые шаги, шорох раздвигаемых веток. — Кристиан! Кристиан! Это вы?! — Анна! Я здесь, Анна! И офицер, еще более бледный, чем раньше, в разорванной в клочья одежде, с лицом, исцарапанным колючками, изможденный, еле держась на ногах, предстал перед нею в последних отблесках вечерней зари. — Ничего! — глухо бросил он, и в голосе его прозвучали непередаваемые ноты отчаяния. — Не все ли равно, раз вы вернулись! — Действительно, не все ли равно, раз вы рядом со мной! Но мне нечего дать вам поесть! Нечего! О проклятый лес, еще более беспощадный и более обманчивый, чем море! В этот вечер, чтоб обмануть голод, они пожевали молодые побеги бамбука. Капитан едва успел соорудить на голой земле импровизированное ложе из листьев, на котором обычно спала его спутница. Слишком ослабевший, чтобы развести костер на месте ночлега, измученный бесконечными и бесполезными хождениями по лесу, он упал у подножия дерева и заснул похожим на каталепсию[335] сном. Среди ночи его разбудил яркий свет, сопровождающийся едким дымом. Тяжело поднявшись, Кристиан поплелся на берег реки, в сторону света. Каково же было отчаяние капитана, увидевшего, что горит вытащенная на берег пирога. Накануне вечером он выпустил из виду, что надо достать головешки, прикрытые пеплом и лежащие в лодке на слое глины. За несколько дней глина растрескалась, изоляция попортилась, и выдолбленная из смолистого дерева лодка запылала. Это была непоправимая катастрофа. Ведь могло же такое случиться, что проплыви они еще несколько часов, пусть даже день, и встретилась бы им на пути деревня… А без лодчонки невозможно выбраться из этого проклятого места. Кристиан прекрасно знал все препятствия, которыми кишел лес, и понимал, что никогда женщине не преодолеть тут и там поваленные деревья, не пробраться через колючие заросли, овраги, ручьи. — Вот и все, — горестно прошептал молодой человек, — круг замкнулся… Он жадно выпил несколько больших глотков воды, и на несколько мгновений вода потушила сжигавший его жар, затем, шатаясь, вернулся под дерево и лег. Виски раскалывались, сердце беспорядочно колотилось, тело стало сухим и горячим, красный туман застлал глаза, мысли путались, кошмары преследовали его. «Это горячка, — подумал моряк в минуту просветления. — Наверное, лесная лихорадка. Значит, я умру… если не от голода, то от нее». Им овладела странная болтливость, и он заговорил, смутно сознавая, что мелет какую-то чепуху. Практикующий врач сразу узнал бы приступ малярийной лихорадки, до крайности напрягающий нервы. Девушка, погруженная в тяжелый сон, пришедший на смену бурному отчаянию истекшего дня, сначала не расслышала, как стонет ее спутник. Многочисленные шумы леса, с которыми она в конце концов свыклась, и жалобные стоны капитана, слившиеся с лесными звуками, не пробудили ее ото сна. Однако перед самым рассветом, когда в джунглях на несколько мгновений воцарилась тишина, настойчивость этих бессознательных жалоб вывела ее из бесчувственного состояния. Взволнованная, истомленная, мучимая страшным голодом, она удивилась, что друг ее еще не на ногах. Бросив вокруг себя быстрый испуганный взгляд, она увидела в трех шагах распростертое тело, услышала стон и глухой голос, произносящий ее имя… В этот момент наступил внезапно, как это бывает в экваториальных районах, рассвет. Солнце окрасило пурпуром верхушки деревьев, как будто над лесом вспыхнул пожар. Утренний туман еще на мгновение задержался над рекой, но тут же исчез, будто подняли полупрозрачный задник театральной декорации. Анна в ужасе вскочила, не веря своим глазам. Бледный, с блуждающим взглядом, с заостренными чертами лица и стиснутыми кулаками, капитан не видел и не слышал ее. Свистящее дыхание с трудом срывалось с посиневших губ, обильный пот заливал лоб и ручьем стекал на щеки. Что это — неужели подкошенный неизвестной болезнью могучий и неутомимый капитан Кристиан, ее товарищ по несчастью, умирает?! Неужели это ее преданный друг, чьи нежные и изобретательные заботы до сих пор скрашивали ад, в котором она очутилась?! Анна испустила нечеловеческий крик, подхваченный эхом. Внезапно мысль о смерти предстала перед ней во всей своей ужасной реальности. — О Боже!.. Он умирает! — пролепетала она в отчаянии. Видеть, как на твоих глазах медленно умирает дорогое существо, наблюдать, как его черты искажает неумолимая болезнь, и чувствовать себя бессильным помочь, хотя готов перелить ему собственную кровь, отдать собственную жизнь… Что может быть ужаснее!.. Сама не зная что делает, тяжело дыша и думая, вернее, надеясь тоже умереть, девушка бросилась к больному, села рядом, положила его голову себе на колени, вытерла струящийся по лицу пот, ласково позвала по имени… Она с жадностью ловила малейшее слово, малейший жест, который свидетельствовал бы о возвращении к Кристиану проблесков сознания… Ничего! Бедной девочке было невдомек, как внезапно накатывают приступы малярии, и она со все возрастающим отчаянием спрашивала себя, что могло вдруг подкосить ее друга. Неужели его укусила змея или какое-нибудь ядовитое насекомое? А может быть, он отравился, по неосторожности съев найденный днем плод? Если же он умирает в результате здешнего пагубного климата, усталости и лишений, то почему до сих пор жива она, существо куда более хрупкое и слабое? Так истекали часы, хотя Анна не чувствовала ни времени, ни даже голода, чьи мучительные спазмы затмевала душевная боль. Она уже не могла надеяться даже на чудо. Однако в состоянии больного наметился некоторый перелом к лучшему. Он уже не обливается потом, а руки и ноги не были такие окоченевшие, как прежде. Дыхание, хоть все еще частое, стало менее неровным. Кристиан спал. Вот теперь-то и надо было бы принять срочные лечебные меры, чтобы предотвратить повторный приступ, который, только начнись, неминуемо сведет его в могилу. Легкий шорох заставил девушку поднять голову. При любых других условиях картина, открывшаяся ее глазам, привела бы Анну в безумный ужас. Но сейчас она пребывала в таком душевном и физическом состоянии, что, появись перед нею тигр, это бы ее не удивило и не взволновало. — Ну что ж, — тихо прошептала внучка господина Синтеза, и ни один мускул не дрогнул на ее лице, — значит, мы умрем вместе!
В то время, как, поглощенная своим горем, равнодушная ко всему окружающему, забыв даже о том, где находится, Анна не отрывала глаз от лица друга, ступая неслышно, по-кошачьи, к ней подкрались причудливого вида люди — человек пятнадцать, полуголых, завернутых в грубую ткань, сделанную из размягченной коры, облегающую на манер индусских лангути. Довольно высокорослые и ладно сложенные, но очень худые, с желтоватой, с черными пятнами кожей, грязные и отвратительные с виду, они стояли неподвижно и с любопытством разглядывали девушку и ее спутника, не произнося ни единого слова. У каждого за плечами висели закрепленные на лямках корзины, содержавшие, по всей вероятности, запас провизии. И стар и млад казались в равной мере жалкими, хилыми, но за их бесстрастием, отчасти объяснимым всеобщим удивлением, не читалось ни намека на свирепость. Дикари не были раскрашены и не имели татуировок. Лишь на некоторых из них висели бусы из черного и белого жемчуга. Их выразительные темные глаза смотрели на двух европейцев живо, но отнюдь не сурово. Цветом кожи пришельцы слегка напоминали малайцев, но, несмотря на схожесть оттенка, нетрудно было с первого взгляда различить в них представителей негроидной расы. Все пятнадцать человек были вооружены голоками, парангами[336], стрелометательными трубками и колчанами из бамбука с маленькими отравленными стрелами, которыми туземцы стреляют с поразительной меткостью. После нескольких минут молчаливого созерцания они начали перешептываться и жестикулировать, указывая пальцами на девушку и ее спутника, продолжавшего лежать неподвижно. Затем соплеменники стали, видимо, увещевать седобородого старика с шероховатой кожей, испрашивая позволения приблизиться к белым. Тот, казалось, был категорически против, хотя его живые, несмотря на возраст, глаза горели от любопытства. В этот момент капитан испустил долгий вздох, посмотрел на свою спутницу, которая ему грустно улыбнулась, услышал голоса, мало-помалу ставшие громче, повернул голову в их сторону, заметил пришельцев и дрогнувшим голосом прошептал: — Анна, сестричка… Это лесные люди!
Конец второй части








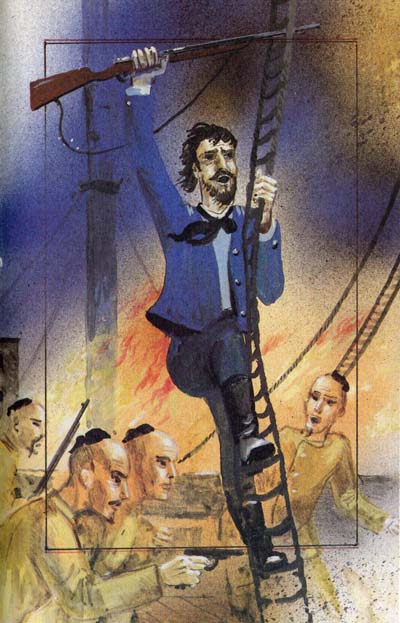







Часть третья ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
ГЛАВА 1
Тревожные новости. — Персонал господина Синтеза выказывает недовольство. — Великому Делу грозит опасность. — Угля больше нет. — Господин Синтез сжигает свои корабли. — Продукты питания пойдут на растопку. — Люди отныне перестанут есть. — Подземные взрывы. — Боцман Порник. — Мэтра подозревают в том, что он знается с нечистой силой. — Попалась рыбка в сети. — Боцман потрясен и усыплен. — Еще раз о гипнозе и внушении. — Порник — ассистент-зоолог! — Как господин Синтез искоренил ростки бунта.— Что новенького, капитан? — спросил господин Синтез у Корнелиса Ван Шутена, когда один из индусов-бхили ввел временно исполняющего обязанности капитана «Анны» в покои хозяина. — Много всякой всячины, Мэтр, даже слишком много… Обычно хладнокровный, Ван Шутен на сей раз казался очень взволнованным. — Э-э, дружок, так негоже! — заметил господин Синтез. — Девизом моряка должна быть знаменитая сентенция древних «nil mirari» — «ничему не удивляйся». — Но мы очутились в сложном положении… — Замешательство капитана все возрастало. — В очень сложном… — Разве лаборатории вновь угрожает опасность? Великое Дело под угрозой? Не может быть! Ваше волнение связано с чем-то иным. Всю ответственность за сохранность приборов и оборудования несут господа Фармак и Роже-Адамс. — Речь идет не о лаборатории и не о физиологических исследованиях… — А раз работы движутся своим чередом и Великое Дело близится к завершению, к чему беспокоиться? — Но в том-то и дело, Мэтр, что обстоятельства, о которых я хочу с вами поговорить, могут, правда косвенно, воспрепятствовать работам и свести на нет столько усилий… — Что же вы раньше не сказали! Говорите! — Видите ли, Мэтр, люди поговаривают… — Что?! — Люди недовольны и не стесняются заявлять об этом вслух. — В какой-то мере я их понимаю. Они находятся здесь уже семь месяцев, все на одном и том же месте, безо всяких развлечений, не видя ничего, кроме моря и неба. Неудивительно, что такая длительная стоянка вызывает некоторое недовольство. Надо следить за дисциплиной, капитан, и строго наказывать провинившихся. — У меня десять человек в кандалах сидят, лучшие матросы… — А боцманы? — Они соучастники. — Соучастники чего? — Готовящегося бунта, цель которого — захватить корабли и, бросив лабораторию на произвол судьбы, немедленно плыть к берегам Австралии. Люди с «Ганга» тоже в заговоре. Если меня правильно информировали, бунт вспыхнет не позже чем через неделю. Услышав эту в общем-то тревожную новость, господин Синтез, вероятно, впервые за двадцать пять лет рассмеялся, но смех его был едким и как бы ржавым — казалось, человек отвык от подобного проявления радости или иронии. Капитан, ни разу не видевший, чтобы господин Синтез хотя бы улыбнулся, сильно растерялся. — Известны ли вам мотивы готовящегося мятежа? — Обычная суровость вернулась к господину Синтезу. — Известны, Мэтр. Первые признаки недовольства появились в тот день, когда кончился уголь. — Что им до этого? Полагаю, на холод они не жалуются? — О нет, конечно. Но, видя, как в топках машин сожгли сначала пустые ящики, бочонки, гафеля[337], реи[338], рангоутное дерево, а потом принялись за мачты… — Ну и что? Полагаю, эти корабли принадлежат мне и я могу, не спрашивая чужого мнения, превратить их в баркасы. Когда топки поглотят мачты, мы сожжем рубки, полуюты, спардеки — словом, все деревянные предметы, имеющиеся на борту. Так как по причине отсутствия «Инда» и «Годавери» в нашем распоряжении лишь такие ресурсы, мы для осуществления Великого Дела исчерпаем их до конца. Хотелось бы знать, что странного видят в этом члены моих экипажей? — Людям кажется, что, при отсутствии на судах топлива и мачт, они не смогут вернуться домой. — Речь идет не о возвращении, а о Великом Деле, которое ждать не может. — Боюсь, они откажутся повиноваться. — Для такого случая в Уложении морских законов существуют весьма суровые статьи, и мне не надо вам об этом напоминать. — Я готов раскроить голову каждому, кто не выполнит приказа, но убежден, что таким образом спровоцирую взрыв, опасаюсь… — Опасаетесь? — Да, Мэтр, боюсь за вас, то есть за Великое Дело… — Ну, а прочие мотивы, — голос господина Синтеза смягчился, — каковы они? — Люди очень жалуются на уменьшение дневного рациона. — Быть того не может! А мне казалось, они едят слишком много. Кстати, вы навели меня на мысль, на превосходную мысль… Ветчина, копченое сало, бисквиты, сушеные овощи, кофе в зернах, консервы, копченая рыба все это отличные энергоносители. Добавьте водку, куски просмоленных канатов, обломки дерева, и у нас появится дополнительный источник тепла. — Мэтр!.. — забормотал, опешив, капитан. — Сообщите на камбуз, — бесстрастно продолжал господин Синтез, — что с завтрашнего, нет, с послезавтрашнего дня прекращается выдача каких бы то ни было твердых или жидких пищевых продуктов. — Мэтр!.. — Вы поняли, не так ли? Никто на борту «Ганга» и «Анны», будь то юнга или капитан, не получит ни грамма пищи. Имеются ли у моих людей еще какие-либо мотивы нарушать субординацию? В этот момент вдали послышался громкий взрыв, перешедший враскаты, напоминающие гром. Между тем стояла ясная погода. Не видно было ни грозовых туч, ни тем более молний. Лишь море немного волновалось, катя короткие частые волны, которые вздымались, словно следуя за внезапными изменениями рельефа морского дна. Несколько отдельных глухих ударов прозвучали как пушечные залпы во время боя на фоне ружейной пальбы. — Мэтр, — после длинной паузы с усилием продолжал капитан, — вы знаете матросов, они ведь сущие дети, наивные и суеверные… — Куда вы клоните? — Эти взрывы, слышимые уже давно, хотя нет ни молний, ни грозовых туч, пугают их… — Вот и объясните им, что эти звуки совершенно безвредны. — Я прилагал все усилия, но напрасно. Даже индусы… — Как, мои индусы?! Такие спокойные, такие дисциплинированные… — Они еще хуже наших европейцев. — Послушайте, капитан, повторяю, всем немедленно нужно сообщить, что взрывы безопасны, это всего лишь результат вулканической деятельности данного региона. — Матросы глухи к доводам рассудка; наблюдая за работами, они не понимают ни ваших, целей, ни назначения невиданных приборов, которые вы используете, и ни причины электрических разрядов, но если раньше все восхищались Великим Делом, то теперь многие боятся и не доверяют ему. Самые нелепые слухи, передаваясь из уст в уста, становятся навязчивой идеей, делающей экипажи все более и более суеверными. Для них эти подводные шумы — таинственные голоса, предвестники надвигающейся катастрофы, которая погубит всех до единого. Вы представляетесь им магом, колдуном, некромантом[339], живущим душа в душу с нечистой силой; мы же, командный состав, — ваши жалкие приспешники. Вот и попробуйте убедить с помощью доводов рассудка тех, кого поражает любой пустяк! Попробуйте предоставить научные объяснения тем, кто свято верит в допотопные легенды! — Ладно, капитан, но, по моему мнению, все это выеденного яйца не стоит… Спасибо, что предупредили, однако мои предыдущие распоряжения остаются в силе. Как и прежде, я собираюсь снять мачты со своих кораблей, сжечь в топках все их деревянные части и отменить выдачу суточного пайка. Но, несмотря на это, уверяю вас, у наших людей не возникнет ни малейшего желания бунтовать. — Однако, Мэтр… — Хватит, милостивый государь. Я все сказал. Пришлите ко мне старшего боцмана.
Пять минут спустя после этого разговора, прояснившего ситуацию, в которой находился господин Синтез и его помощники, капитан явился в сопровождении моряка и лично представил его хозяину. Это был человек невысокого роста лет под сорок, коренастый, с бычьей шеей, широченными плечами, кирпичным лицом и длинными руками. Ступая босиком по коврам апартаментов Мэтра, он выглядел одновременно и озадаченным и развязным — так выглядит бывалый матрос перед адмиралом. Волосатый, заросший щетиной, с маленькими блестящими глазками под кустистыми бровями, с широким лицом, с видом одновременно и решительным и примерным, он на мгновение застыл на пороге святилища, вынул изо рта жевательный табак, снял берет, спрятал в него жвачку и, зажав в руке головной убор вместе с содержимым, утвердился на ковре так, будто хотел врасти в пол. Господин Синтез, внимательно осмотрев вошедшего, заговорил: — Ты француз, и фамилия твоя Порник. — Извините, хозяин. Я бретонец[340], родом из Конке, к вашим услугам. — Ты был китобоем и потерпел кораблекрушение на Шпицбергене. Я подобрал тебя полуживого и доставил в Тромпсо… — Совершенно верно, хозяин. И мне не забыть этого, слово бретонского моряка. — А позже, когда набиралась команда, случай привел тебя на один из моих кораблей. — Извиняюсь, хозяин, но я очутился у вас на борту, во-первых, потому, что счастлив отблагодарить за свое спасение, а во-вторых, из-за высокого жалованья, которое вы платите. — Скажи, Порник, ты доволен службой? — Как вам сказать, хозяин… И да и нет, черт подери! — Ответ, достойный нормандского крестьянина[341], а не бретонского матроса. — Может, и так, хозяин. Доволен — не доволен, тут, знаете ли, есть свои плюсы и минусы… — Да, понимаю. Ты, один из лучших моих моряков, начинаешь подумывать, что дело затягивается, и, жалуясь на условия службы, не мудрствуя лукаво, подумываешь о бунте. Но не забывай, мой мальчик, и другим передай: я нанял вас на пятнадцать месяцев, и, пока вы состоите у меня на службе, следует соблюдать дисциплину. — Черт возьми, хозяин, дело не в условиях службы и даже не в затянувшемся до бесконечности стоянии на якоре; дело в том, что поговаривают, будто вы разговариваете с духами! — Духами? О чем ты? — Ну, духи, черт возьми… — Хорошенькое объяснение, я все понял. Дурак ты, Порник. — К вашим услугам, хозяин. — А если я избавлю тебя от голода, от скуки, от страха перед духами, ты будешь доволен? — Если вы сделаете это не только для меня, но и для других, то, уверяю, все пойдет гладко, как на адмиральском крейсере. Слово моряка! — Замечательно, дружище. Твое желание понято, и положись на меня. Мне хватит на это и пяти минут. Приблизься. Смотри мне прямо в лицо. Что ты чувствуешь? — Пока ничего особенного. Хотя, пожалуй, что я не в своей тарелке. Как пикша в железах… — Все это пустое. Не сопротивляйся. Ты хочешь спать, Порник. Твои веки тяжелеют… Глаза плохо видят… Они закрываются… Ты сейчас заснешь… — Извините, хозяин, — скороговоркой молвил моряк, — но… Сдается мне, что я рухну сейчас… да со всего маху… — Нет, дружище, ты спишь…[342] Так спи, Порник… Спи и слушай… Я так хочу! Не прошло и минуты с начала этого странного эксперимента, а старший боцман, неподвижный, словно статуя, сморщив лоб и широко открыв глаза, застыл, не произнося больше ни слова. Капитан молча поглядел на господина Синтеза с удивлением, граничившим с оторопью. — Ты спишь, Порник, не так ли? — спокойно продолжил господин Синтез. — Да, хозяин, — изменившимся голосом ответил боцман. — Попытайся закрыть глаза. — Я… я не могу… — Попробуй! — Не смогу, если вы не захотите… — Прикрой глаза правой рукой. — Но дело в том… Дело в том, что я не в силах поднять руку… — Попробуй. — Невозможно! Хозяин, ее как будто линем[343] к телу привязали… — Но ты-то тем не менее человек сильный… — Вы делаете меня слабым. — А теперь я желаю, чтоб твои глаза закрылись и ты вращал руками. По-прежнему молчавший капитан с нарастающим удивлением увидел, что веки матроса тотчас же опустились, и он с головокружительной скоростью завертел руками. — Попробуй, — снова заговорил господин Синтез, — открыть глаза и прекратить двигать руками. — Невозможно, совершенно невозможно, хозяин… — Собери все свои силы. — У меня не осталось никаких сил, я не могу больше… — Хватит! Стоп! На слове «стоп» вращательные движения прекратились, но глаза боцмана по-прежнему оставались закрытыми. — Ты ясно все видишь, Порник, не правда ли? — Совершенно ясно, хозяин. — Ну тогда, сходи-ка, дружище, в соседнюю комнату, где ты никогда не был, возьми графин, стакан и принеси мне. Моряк, хотя глаза его оставались по-прежнему закрытыми, решительно направился к двери, отворил ее, зашел на мгновение внутрь и вернулся с графином и стаканом. — Знаете ли вы, что находится в сосуде? — обратился господин Синтез к капитану. — Вероятно, вода. — Вы правы, вода. — У тебя, Порник, наверно, жажда. Не хочешь ли промочить себе глотку стаканчиком этой водки? Моряк не мешкая наполнил стакан и, подняв его, заявил: — Ваше здоровье, хозяин! — Затем с видимым удовольствием выпил. — Знатная, однако, водка! Настоящая адмиральская! — восхитился он, залпом осушив стакан. — Если хочешь, можешь выпить всю бутылку до дна. — Прошу прощения, хозяин, но я буду пьян в стельку. — Как знаешь. Тогда поставь графин на стол. А теперь, — безо всякого перехода велел господин Синтез, — ты больше не Порник, боцман с «Анны». Ты мой ассистент-зоолог господин Роже-Адамс. При этих словах матрос приосанился, заправил пряди волос за уши и, кокетливо теребя бородку — жест, свойственный профессору зоологии, — поднес к глазам воображаемый лорнет. — Ну, что поделываете сегодня, господин Артур? — Я возвращаюсь из лаборатории, — объявил боцман несколько манерным голосом Роже-Адамса. — Имею честь и удовольствие сообщить вам массу новостей. — О-о, ну посмотрим, посмотрим, — с деланным нетерпением сказал Мэтр. — На настоящем этапе развития науки не подлежит сомнению, что следует рассматривать плавательный пузырь у рыб как предтечу легких наземных позвоночных. — Вы совершенно правы. — Однако ныне существующие свидетельства такой трансформации, восходящей к древнейшим временам, достаточно редки. — Но все-таки они существуют. — Совершенно верно. Одно из них только что обнаружено в нашей лаборатории. Речь идет о рыбе, которая водится в местных водах и, если не ошибаюсь, в Австралии и Новой Гвинее. Это ceratodus, описанная каким-то американским естествоиспытателем (увы, не помню его имени). Так вот, Мэтр, препарируя рыбу, я обнаружил воздушный пузырь, по бокам которого располагались два симметричных дыхательных кармана. Благодаря такому анатомическому расположению, думается, рыба может, пусть и временно, замещать водную среду воздушной. — Прекрасно. Благодарю вас. Капитан, которому от происходящего становилось не по себе, испытывал некоторый ужас и даже не пытался этого скрывать. — Я намеренно достаточно далеко завел эксперимент, — бесстрастно продолжал господин Синтез, — не столько даже из научного интереса, сколько для того, чтобы убедить вас. Ведь, поскольку вначале речь шла о вещах обыденных, вы могли подумать, будто Порник ломает комедию. Но, услышав, как безграмотный матрос ни с того ни с сего с полным знанием дела рассуждает о сложнейших проблемах зоологии, вы, вне всякого сомнения, убедились, что с его стороны не было никакого подвоха. — Но это ужасно, Мэтр, ужасно… — Наоборот, нет ничего более простого и натурального. Я нашел прекрасного подопытного и, загипнотизировав, внушил ему то, что мне заблагорассудилось. Очень удачный шарж на Роже-Адамса, показанный нашим испытуемым, — моя заслуга, ибо я выступал в роли суфлера! — И что же он теперь будет делать? — Он целиком и полностью в моем распоряжении. — Вы хотите сказать, Мэтр, что он будет… — Именно так, и вы это скоро увидите. Когда кончится гипнотический сон, все, что я ему внушил, останется в его сознании и он не сможет ни на йоту отклониться от соблюдения навязанных ему правил. В этом-то и вся штука. — Скажи-ка мне, Порник, ты больше не боишься злых духов? — Злых духов? — посмеиваясь, переспросил боцман. — Я ничего не боюсь, хозяин. — Вот и слава Богу. В дальнейшем, услышав взрывы, ты будешь знать, что это просто результат деятельности вулканов и в них нет ничего таинственного. — Да, хозяин. — Теперь ты не посмеешь сомневаться в том, что наши корабли, несмотря на отсутствие пара и мачт, смогут вернуться в цивилизованные страны. Понятно? — Да, хозяин. Корабли, обритые, как понтоны, не имея угля для топок, вернутся обратно по вашему приказу. Вы знаете для этого способ. — И наконец, вопрос еды. Вам больше не будут выдавать паек. Но, так как без пищи жить нельзя, вы будете питаться тем, чем ежедневно питаюсь я. — Хорошо, хозяин. — От моего обычного рациона, несмотря на отсутствие привычки, ты не будешь испытывать муки голода. Запомни, ты будешь весел, как никогда, и сыт, как если бы съел двойной паек. Ты так же, как раньше, смел и силен. Избавленный от голода и жажды, ни о чем не заботясь, ты сможешь терпеливо дожидаться окончания работ, ревностно служа мне. Я так хочу! Слышишь? Я так хочу! Выкинь из головы все прежние мысли о бунте. — Уже выкинул, хозяин. — А теперь с закрытыми глазами ты поднимешься на палубу, дашь доброго пинка рулевому, который вот уже три минуты дремлет на вахте, забыв в полдень отбить склянки[344], а затем проснешься. — Хорошо, хозяин. — Ты не вспомнишь о том, что здесь происходило, до тех пор, пока я не спрошу тебя о злых духах. Об остальном ни о чем не забывай. Ни о чем! Такова моя воля[345]. Когда проснешься, по одному приведешь ко мне всех боцманов, сначала с «Анны», затем с «Ганга». А теперь вперед, дружище! — Рад служить, хозяин, — почтительно ответил матрос, с закрытыми глазами двинулся прямиком к задремавшему рулевому и влепил ему пинок под зад. — Ты снят с винного довольствия! — рявкнул он на опешившего матроса. Затем пробормотал, сам не зная почему: — Э-э, ну не дурень ли я… Винное довольствие… Кажись, его больше не будет ни для него, ни для кого другого… А с чего мне такое в голову пришло? Наверное, патрон сказал. Ладно, молчок! Главное — слушаться начальство и исполнять приказы.
ГЛАВА 2
Великое Дело подвигалось вперед не без осложнений. — Искусственная гроза. — Встряски способствуют развитию нового вида живых организмов. — Невольное дополнение к условиям жизни на Земле в прадавние времена. — Излишек электроэнергии, производимой динамо-машиной. — Влияние света на вегетацию[346]. — Интенсивное освещение. — Шестая ступень в серии животных. — Черви. — Что подразумевает зоолог под «карманными катаклизмами». — Восьмая ступень. — Хордовые. — Вал прилива. — Опасность. — Затопление. — Ланцентники. — Победа.С момента начала опыта в лаборатории произошло много перемен и она испытала немало превратностей. Не раз ее существование находилось под угрозой в результате несчастных случаев, обусловленных причинами, которые невозможно было предвидеть, и, следовательно, устранить. Вот почему Великое Дело подвигалось вперед не без осложнений, помех и опасностей. Первая большая авария приключилась вскоре после пуска, когда, к величайшей радости научного персонала, пятая серия предков человека, представленная брюхоногими, появилась в водах лагуны. В этот период события чередовались с такой быстротой, что невозможно было предугадать, какое бремя ляжет на всех вследствие несчастного случая, происшедшего, как мы помним, в тот момент, когда два ассистента, забыв обо всем, вели философскую дискуссию о происхождении жизни на Земле. Читатель помнит, что в результате взрыва из купола, под которым в одном из аппаратов происходило таинственное оплодотворение, задуманное гениальным Синтезом, полетели стекла. Химик, в отчаянии от возможных последствий катастрофы, со всех ног кинулся к атоллу. Перепуганный, он кружил вокруг лаборатории, откуда доносился сухой треск, по интенсивности звука не превышавший пистолетных выстрелов. Казалось, вершина купола была охвачена пламенем. Со всех сторон вспыхивали ослепительные, похожие на молнии, зарницы, неизменно сопровождавшиеся взрывами. Они следовали через неравные промежутки времени, вырываясь из медных, вмонтированных в купол трубок, связанных с изолированными гуттаперчей проводниками, ведущими к огромной электродинамической машине Эдисона. Эти вспышки и этот сопутствующий им грохот, от которого лопались достаточно толстые стекла купола, привели химика к внезапному откровению. — Черт меня побери, — возопил он, потрясенный, — да это же гроза! Искусственная гроза в лаборатории! Дьявол! Если я как-нибудь ее не утихомирю, то здесь все будет перебито! Без промедления Алексис Фармак ринулся к динамо-машине. Отрегулировать производство и подачу энергии было для него делом одной минуты. В это время появился господин Синтез, не столько взволнованный, сколько заинтригованный беспрецедентным на его коралловом острове феноменом. — Да, Мэтр, гроза! — нервно повторял химик, все еще волнуясь при мысли об угрожающей вверенному ему объекту опасности. — Ничего не пойму! Ах, только бы такой грандиозный выхлоп электроэнергии вредно не повлиял на ход эволюции! — Не думаю, — ответил господин Синтез, — я даже склонен допустить, что это потрясение окажет скорее благотворное влияние на развитие живых организмов. — Ах, Мэтр! — вскричал просиявший химик. — Только бы вы не ошиблись! — Давайте поразмыслим вместе. Мы пытались по мере возможности воссоздать условия, в которых находился земной шар, когда медленно эволюционировали примитивные существа. Искусственно созданная атмосфера должна была быть такой же по температуре, по выделению газов и электричества. Но эти комбинации разрозненных субстанций не могли происходить регулярно и в обстановке полного покоя. Время от времени на Земле происходили страшные кризисы, неслыханно жестокие потрясения, которые давали жизнь новым производным, глубоко модифицируя как пространство обитания живых существ, так и их самих. А в лаборатории до сих пор жизнь примитивных организмов протекала целиком и полностью безмятежно. Но золотой век наших предков, находящихся в эмбриональном состоянии, не мог длиться до бесконечности, и я подумывал было внезапно нарушить их покой. И тут случай исправил мою оплошность или, признаюсь откровенно, восполнил мою забывчивость и внес свою лепту в создание совокупности условий жизни на нашей планете в прадавние времена. Как и Земля при своем возникновении, наш маленький искусственный мирок пережил свой катаклизм, соразмерный с его величиной и детерминированный искусственно. И вот каким образом. Я забыл сказать, дорогой коллега, что усовершенствованная мной динамо-машина производит куда большее количество энергии, чем другие машины ее класса. Вы предполагали, что вся производимая ею энергия за незначительным вычетом должна быть направлена на электризацию воздуха в лаборатории. — Да, Мэтр, это так. — Э-э, дружок, вы бы не могли, даже если бы и захотели, подсчитать ее мощность, поскольку вам неизвестно одно из моих изобретений. Я, не предупредив вас, экспериментировал с новым прибором и, закончив опыт, забыл его выключить. Вот, дорогой мой, единственная причина этого беспорядка, результат которого, надеюсь, ограничится лишь несколькими выбитыми стеклами и поднятой тревогой. И последнее, чтобы больше не возвращаться ни к избыточной энергии, ни к способу, которым я хочу ее использовать. Вы ведь изучали влияние света на растительные клетки? — Конечно, Мэтр. — Следовательно, знаете, что растению для разложения на составные части углекислоты и усвоения углерода, — одним словом, питания, — необходимо некоторое количество тепловых и особенно световых лучей. — Да, Мэтр, и наиболее удачные опыты, которые я ставил, позволяют прийти к следующему выводу: развитие каждого злака требует теплового и светового действия определенной дозы, а также определенной длительности, причем длительность обратно пропорциональна действию. — Совершенно верно. — Таким образом, развитие происходит тем быстрее, чем щедрее дарит Солнце световое тепло в меньший отрезок времени. Продолжительность вегетации, как, кстати, и всего живого, при условии, что пройден первый период адаптации[347], тем меньше, чем выше широта, то есть чем длиннее летний световой день. К примеру, на широте 59°47′ в Хальсне в Норвегии длительность вегетации ячменя — сто семнадцать дней, сто два дня в Бодо на 67°, девяносто восемь дней в Странде, на 66°47′ и девяносто три в Скиботтене на 69°28′. — И каковы ваши выводы? — Солнце, вместо того чтобы стоять в небе четырнадцать с половиной часов, как на широте Парижа, в Хальсне стоит восемнадцать, в Бодо — двадцать с половиной и двадцать два часа в Скиботтене при температурах 13°, 11°3′, 10°9′ и 10°7′. Кстати говоря, итог умножения температуры на количество часов, в течение которых растение облучено солнечными лучами, во всех случаях одинаков. — Отлично, мой мальчик. А теперь, не думаете ли вы, что длительное воздействие световых лучей способствует процессу созревания, вернее усиливает его и у наиболее близко стоящих к растениям примитивных одноклеточных организмов, находящихся в лагуне? — Охотно в это верю. — А я это утверждаю. Если бы солнце сияло здесь двадцать и двадцать два часа, как в тех странах, о которых вы только что упомянули, если бы даже оно оставалось на нашем горизонте в течение многих месяцев, как на Полярном круге, наши амебы, наши планеады, наши брюхоногие и прочие развивались бы куда быстрее и давали бы куда больший прирост. — Мне это кажется вполне возможным. — Я иду даже дальше. По моему мнению, не только простейшие одноклеточные организмы, но и многоклеточные, и низшие позвоночные используют постоянный солнечный свет — их рост пропорционален количеству световых лучей. Словом, если бы не было ночи, они росли бы вдвое быстрей. — Но для этого есть один способ, — живо перебил химик, и его единственный глаз засверкал. — Вы в этом уверены? — Мэтр, мне думается, я смогу ускорить процесс… — Вы хотите ночью использовать электрическое освещение, не правда ли? — Совершенно верно. Припоминаю, что перед самым нашим отъездом господин Сайменс опубликовал отчет об эксперименте, из которого следовало, что электрический свет, интенсивностью равный тысяче четыремстам свечей, чей источник расположен на расстоянии двух метров от вызревающих растений, соответствует дневному свету в зимний период, а более эффективные результаты достигаются при увеличении мощности светового источника. — Вот почему, мой милый, я решил увеличить производительность динамо-машины и, сам того не желая, позволил разбушеваться силе, повлекшей за собой тревогу.
В тот же день одновременно с устранением поломок, вызванных искусственной грозой, начался монтаж электрических осветительных установок. Через неделю работы были закончены. И вот тогда, в одно прекрасное утро, в лабораторию вбежал ликующий Роже-Адамс, неся образцы, при виде которых у господина Синтеза вырвался радостный возглас: — Черви! Серия сделала огромный скачок. — Пока еще это очень рудиментарные организмы, — ответил зоолог, — но их появление вскоре после брюхоногих событие экстраординарное[348]. Я и надеяться не смел на такую быструю трансформацию. — Поглядим, что вы тут принесли. Если не ошибаюсь, ascula. — Да, Мэтр. Ascula известково-губчатая. Я и впрямь был далек от мысли ее здесь увидеть. — Ко всему надо быть готовым, месье. Вот вам наглядный пример. Перед вами отличный экземпляр. Как ярко выражена выпирающая зародышевая клетка, примитивный кишечник, рот — простое отверстие, желудочный карман, состоящий из двух книжек (одна — кишечная, другая — кожная). Как мы уже далеки от ресничных червей! — Это верно. — Я счастлив встретить тут образчики этой группы, демонстрирующие показательные характеристики примитивного типа, существовавшего в те таинственные эпохи, когда формировались виды. Подумать только — в течение столетий этот жалкий червь был самым совершенным созданием на Земле! И такие организмы, с трудом передвигающиеся собственными силами, с едва выраженными элементарнейшими физиологическими функциями, в течение тысячелетий были «царями природы»! В общем, превосходный урок для нынешних властителей мира, прапрапрародитель которых всего лишь примитивная монера. Да и сами они для исследователя будущего просто-напросто представители одного из звеньев нескончаемой и непрерывной эволюции!
Вскоре за низшими червями или прачервями последовали существа чуть более высокого порядка, специальное изучение которых входит скорее в компетенцию профессиональных естествоиспытателей. Достаточно лишь немного упомянуть об их отличительных характеристиках. Ученые разделили эти создания на два класса: черви, лишенные настоящей полости внутренних органов (acoelomathes) и снабженные ею (coelomathes). Для нас они просто черви, простейшие беспозвоночные, которые постепенно совершенствуются для того, чтобы вскоре смешаться с предками другой, более важной секции — позвоночных. За ресничными червями идут сколециды — это седьмая ступень доисторического развития. Замечательным типом сколецид является balanoglossus, очень известный червь, живущий в морских песках и связующий червей с асцидиями и бесчерепными. Затем один за другим появляются archelmintes, plathelmintes, nemathelmintes, rhynchocoeles, enteropneustes и так далее; потом — фундаментальная группа хордовых[349], занимающая восьмую ступень (именно от хордовых произошли древнейшие бесчерепные). Господин Роже-Адамс, которому давно уже чужие авторитеты были не указ, считал, что человек, безусловно, произошел от хордовых, что подтверждало наличие эмбриологического сходства между асцидиями, последними из беспозвоночных, и ланцетниками — первыми из позвоночных. По его мнению, хордовые взяли свое начало от червей седьмой ступени и отличались от своих предшественников образованием спинного мозга и позвоночной струны (chorda dorsalis). Трудно было уследить за мыслью зоолога, продираясь сквозь дебри групп, родов, семейств, типов, видов, подвидов, классов, к которым он относил эти многочисленные живые существа, изученные, препарированные, зарегистрированные, каталогизированные и сфотографированные им с достойным восхищения знанием дела, сноровкой и методичностью. Но вот что странно — этот факт следует отметить особо — появление новых типов в лаборатории господина Синтеза почти всегда сопровождалось либо бурными атмосферными явлениями, либо неполадками в работе аппаратуры. Однажды в купол ударила молния — на сей раз настоящая — и чуть его не уничтожила. Сильно взволнованы были не только командиры, но и члены экипажей. Материальные повреждения были быстро устранены — несколько поломок в конструкции, несколько выбитых стекол. Но пару дней спустя ликующий биолог представил образцы мшанок и bryozoaires. В другой раз поломка вытяжной трубы привела к утечке газа, который, вступив в реакцию с другими элементами в атмосфере лаборатории, вызвал кое-где взрывы и спровоцировал удушливые испарения. И Роже-Адамс, с нетерпением ждавший подобных происшествий, обнаружил в водах лагуны асцидий и phallusiens, первых среди червей. Алексис Фармак, следивший за лабораторной аппаратурой, под гнетом такой непомерной ответственности пребывал в состоянии постоянного нервного перевозбуждения. Славный парень, чье рвение вызывало одни похвалы, был ни жив ни мертв, так он страшился катастрофы, способной уничтожить гигантский труд последних лет его жизни. Случалось, что химика пробирала дрожь, когда профессор-зоолог говорил ему после каждой передряги, происходившей почти еженедельно: — Дорогуша, на что вы сетуете? Разве все это не согласуется с вашими желаниями? Поглядите-ка, даже бессмысленные организмы подчиняются нашей воле. — И добавлял в свойственном ему ироническом тоне: — Природа время от времени преподносит нам карманные катаклизмы[350], чтоб сымитировать великие потрясения первобытных времен. Каждая такая пертурбация в масштабах нашего крошечного мирка предвещает и, подчеркиваю, содействует появлению новых видов. Когда случается, что Мать-Природа перестает относиться к нам как к балованным детям, сам наш микрокосм по той или иной причине возбуждается и проветривает планету. Не следует закрывать глаза на то, что новые стадии генезиса впрямую связаны с поломкой аппаратуры; чем больше поломка, тем более высокой ступени достигает эволюция. — Но в таком случае, — сокрушался химик, — что же произойдет в тот момент, когда ряд видоизменений приведет к пропасти, отделяющей позвоночных от беспозвоночных? — И думать боязно. Только представьте себе те потрясения, которые либо порождали, либо сопутствовали великим периодам истории нашей планеты. А грандиозные преобразования климата, ставшие впоследствии причиной возникновения высокоорганизованных существ?.. Думается, что вскоре нам придется принять на себя жестокий удар. Быть может, господин зоолог и сам не подозревал, насколько он был близок к истине…
С момента обнаружения хордовых жизнь текла своим обычным чередом. И вдруг неожиданно в один прекрасный день с моря послышался оглушительный грохот. Растерянные, перепуганные люди, работавшие в эту смену на атолле, ринулись на суда, увлекая за собой поддавшихся всеобщей панике ассистентов. Как только они вступили на корабль, ужасное зрелище открылось их глазам: море внезапно вздыбилось и пенной стеной, закрывшей весь горизонт, ринулось на видневшиеся вдали коралловые острова; гигантский гребень, неудержимо двигаясь вперед, докатился и до кораблей. Вал штурмовал суда, сметал мостики, обрывал все, что мог оборвать, хлестал скрипевшие от ветра мачты и, наконец, подступил к стеклянному куполу. Все, кому удалось стать свидетелями этой ужасной сцены, увидели, что на миг купол был накрыт каскадом зеленоватой воды. Секунд десять он оставался полностью затопленным, затем уровень моря стал прежним, и коралловые рифы вновь появились на поверхности. Как бы странно, невероятно, неправдоподобно это ни было, но лаборатория, несмотря на кажущуюся хрупкость, выдержала натиск моря. Лишь ее сферическая форма изменилась — ось сместилась, меридиональные опоры выгнулись по всей окружности. По счастью, ввиду прочности использованных материалов и продуманности конструкции разрушения оказались частичными. Что касается стекол, то многие из них были выбиты; из пробоин вырывались столбы дыма и газа, образуя над атоллом что-то наподобие облака. Корабли, стоявшие носом к волне, практически не пострадали. Потоки воды, обрушившиеся на палубы во время прохождения волны, стекли по шпигатам. Воду же, залившуюся в люки, откачали насосами. Не сговариваясь, капитан и оба ассистента господина Синтеза кинулись вместе с хозяином к лаборатории, полностью открытой с одной стороны. Они были готовы увидеть картину страшного разрушения, но, какова же была их радость, когда оказалось, что повреждения, хоть и серьезные, могут быть устранены. Так как через бреши в куполе свободно проникал воздух, а стало быть, атмосфера в лаборатории была пригодна для дыхания, люди не колеблясь ринулись к коралловому кольцу, очертившему лагуну. Бегущий впереди зоолог вдруг остановился среди груды всяческих обломков и, склонясь над копошащимися в углублении скалы тельцами, испустил крик изумления и радости: — Мэтр! Ланцетники! — Вы говорите — ланцетники?! Первые позвоночные… Истинные пращуры[351] человечества… Это значит — полная победа!
ГЛАВА 3
Ланцетник — прародитель позвоночных. — Человек — это ланцетник, которому повезло. — Зоолог отправляется в научную экспедицию. — Господин Синтез снова живет затворником. — Ремонт лаборатории. — Алексис Фармак весьма заинтригован. — Подводная вылазка. — Химик-водолаз. — Новые обитатели лагуны. — Воспоминание о лошадях, на которых приманивают пиявок. — Алексис Фармак решил отступить. — Страшное появление. — Лицом к лицу с акулой. — Подводный пожарник. — Акула, пораженная молнией. — Осажденный миногами[352]. — Десятая и одиннадцатая ступени. — Первые сомнения.В 1778 году немецкому натуралисту Палласу[353] прислали из Северного моря животное, еще не включенное в классификацию, которое ученый принял за слизняка. Он его внимательнейшим образом изучил, препарировал и, подробно описав, дал ему права гражданства, назвав limax lanceolata — ланцетовидным слизняком. Вот и все. Одним слизняком больше, одним меньше — не все ли равно, когда в животном мире существуют тысячи и тысячи более интересных — во всяком случае на первый взгляд — разновидностей! В течение полувека никто не занимался слизняком Палласа. И лишь в 1834 году это крошечное создание, не привлекавшее ничьих взоров, было замечено в песках Позилиппы близ Неаполя зоологом Костой. Оснащенный более современными, нежели его предшественник, инструментами, а может быть, более эрудированный, Коста без труда доказал, что существо, о котором идет речь, на самом деле рыба. Он поспешил перекрестить лжеслизняка, и limax lanceolata стал branchiostoma lubricum. Однако и это имя просуществовало недолго. Почти в то же самое время один из английских натуралистов обнаружил в животном прочную внутреннюю ось и дал ему имя amphioxus lanceolatus. У англичанина оказалась легкая рука — его название прижилось. С тех пор ланцетник больше не был мишенью чьих-то если и не компрометирующих его, то все-таки досадных ошибок. Пять лет спустя, а именно в 1839 году, знаменитый берлинский зоолог Иоганнес Мюллер[354] произвел столь же серьезный, сколь и подробный анатомический анализ ланцетника. Учитывая важное, можно сказать, основополагающее место, занимаемое этим крохотным созданием в цепи развития животного мира, не будет излишним, если мы, в свою очередь, дадим хотя бы краткое описание анализа Мюллера. Amphioxuz lanceolatus представляет собой существо пяти сантиметров в длину, почти бесцветное, иногда беловатое или с легким розоватым оттенком. Как следует из названия, он имеет форму острого ланцета[355], слегка расплющенного и заточенного с двух концов. Тельце его покрыто тонюсенькой и нежной прозрачной оболочкой, состоящей, как у высших животных, из двух слоев: внешнего — эпидермиса и низлежащего волокнистого — кориума. Никаких признаков конечностей. Среднюю позвоночную линию окаймляет тонкий, постепенно утолщающийся спинной плавник, переходящий в хвостовой, а внизу расположен, короткий анальный плавник[356]. У ланцетника, все еще очень примитивного организма, нет ни черепа, ни головного мозга. Передняя часть тела отличается от задней лишь наличием рта, но что касается внутреннего строения, то ланцетнику присуща самая характерная черта позвоночных: он имеет костный мозг и позвоночную струну (хрящевидный стебель, заостренный с двух концов, вдоль которого протянута пустотелая нить костного мозга). И вот еще факт, достойный упоминания, целиком и полностью подтверждающий гипотезы господина Синтеза: все позвоночные, в том числе и человек, в зародыше имеют ту же, что и у ланцетника, простейшую форму. Лишь много позднее передняя оконечность спинного мозга утолщается для того, чтобы превратиться в головной мозг, а на конце позвоночной струны образуется черепная коробка. В заключение экскурса добавим еще, что ланцетники живут полузарывшись в песок на морских песчаных пляжах. Их находят на побережье Северного моря, на берегах Великобритании и Скандинавии, близ Средиземного моря, у берегов Бразилии и Перу, на отдаленных тихоокеанских пляжах, на острове Борнео, в Китае и других местах. И везде ланцетники имеют одну и ту же форму. Читатель имеет все основания спросить: к чему так долго распространяться по поводу столь далекого от совершенства представителя животного мира? Вне всякого сомнения, ланцетник стоит ниже всех ныне существующих позвоночных. У него нет ни головы, ни мозга, ни черепа. Каждый его орган более прост и менее совершенен, чем у других. И тем не менее господин Синтез утверждал, что человек являет собой лишь высший эволюционировавший тип позвоночных, чьи основные черты мы наблюдаем у ланцетника. Чтобы закрыть этот вопрос, скажем, что, если бы развитие человека и больших млекопитающих остановилось на определенной стадии эмбрионального существования, мы не смогли бы отличить их от ланцетника. Вот почему господин Роже-Адамс позднее заметил в шутку, что человек есть всего лишь ланцетник, которому здорово повезло. Ввиду крайней важности этого маленького звена в цепочке развития животного мира можно представить себе, как обрадовался Мэтр, обнаружив наличие ланцетника в лаборатории, едва не погибшей под напором стихии. Но если старик так и сиял от счастья, то Роже-Адамс, как только улеглось первое возбуждение, имел вид человека, несколько опешившего. В уединении он бродил по внутреннему краю лагуны, всматриваясь во все еще неспокойную воду, и тихо бормотал: — А они-то откуда взялись? Их здесь сотни… тысячи… Они повсюду… Ну что ж, тем лучше! Случай сам распорядился… Да здравствуют ланцетники! Произнеся эти загадочные слова, небезынтересные для внимательного слушателя, зоолог вернулся к своим товарищам и оповестил их о чрезмерной рождаемости позвоночных. Его коллега-химик осматривал разрушения, нанесенные приливной волной, прикидывал, как бы побыстрей отремонтировать здание, и от всей души проклинал прилив, задавший ему такую работенку. — Э-э, дорогуша, а вы кощунствуете! — живо прервал его биолог. — Что вы хотите этим сказать? — откликнулся озадаченный химик. — Как?! Разве вы не признали ниспосланный свыше катаклизм, вследствие которого начался новый период творения? Вы должны благословлять это замечательное событие, так далеко вперед продвинувшее Великое Дело. Мы отнюдь не каждый день встречаемся с организмом, который является связующим звеном между двумя отрезками длиннейшей зоологической цепи. Не знаю, что готовит будущее, но надеюсь, нынешнее потрясение пускай и не последнее, но, во всяком случае, самое сильное. — Я тоже на это надеюсь, потому что хоть и говорят: нет худа без добра, но последствия аварии не устранишь с помощью пословиц. И потом, у нас не осталось запасных стекол для купола. — Ну, вы что-нибудь придумаете. Хозяин поможет вам советом. — Выкрутиться будет нелегко. — А я, с позволения господина Синтеза, воспользуюсь временной приостановкой работ. Выпрошу у него паровой баркас, чтобы совершить подробную геологическую разведку. — Думаю, Мэтр охотно отпустит вас. Счастливый смертный! Прокатитесь с ветерком в то время, как я буду изощряться, ремонтируя лабораторное оборудование.
Воистину, зоолог вошел в милость, потому что господин Синтез с большой готовностью предоставил в его распоряжение паровой баркас, четырех матросов, двух кочегаров и механика. Новый капитан, которого бездействие тяготило еще больше, чем зоолога, подзадоренный такой благосклонностью Мэтра, в свою очередь решил просить разрешения присоединиться к научной экспедиции, под предлогом изучения гидрографических особенностей столь трудного для навигации региона[357]. Господин Синтез, видя в этом случае возможность развлечь, и не без пользы, нескольких членов персонала, с легкостью уважил просьбу Ван Шутена, предоставив ему двухнедельный отпуск. Итак, зоолог с капитаном, отдыхая, бороздили океан, а бедный химик вынужден был все время устранять последствия катастрофы; он укреплял меридиональные опоры, заменял выбитые стекла кусками просмоленного брезента, чинил выхлопные трубы и электропроводку, устанавливал новые печи — словом, повторно производил работы, стоившие ему неисчислимых усилий при строительстве лаборатории. Только на этот раз наш славный Алексис Фармак был безутешен, видя, как его драгоценный купол превращается в безобразный горб. А тут еще, к его превеликой досаде, Мэтр не ободрял его и не критиковал в случае надобности; повинуясь одной из своих таинственных привычек исчезать на целые недели, господин Синтез заперся у себя в апартаментах, откуда время от времени появлялись лишь прислуживавшие ему индусы-бхили. Химику ничего не оставалось, кроме как в одиночку изыскивать способы ремонта. Хотя, надо сказать, ему помогал довольно разумными советами первый помощник капитана, замещавший Корнелиуса Ван Шутена в его отсутствие. Итак, силою обстоятельств работы, касающиеся непосредственно эксперимента, были приостановлены, Великое Дело отдыхало. Надо сказать, что после внезапно налетевшего приливного вала природные условия региона стали постепенно меняться. Глухие подводные взрывы следовали через неравные промежутки времени. Волны то внезапно вздымались (не нанося, впрочем, вреда ни кораблям, ни лаборатории), то мгновенно успокаивались. Стоял небывалый палящий зной, царило полное безветрие. Небо было неизменно лазурным, хотя гальванометр указывал на высокое электрическое напряжение. Все эти тревожные симптомы предвещали новые, быть может, разрушительные потрясения, вселявшие в химика страх, в котором ему даже самому себе не хотелось признаваться. — Нас ждут еще новые испытания, — бормотал он. Ремонтные работы подходили к концу; уже вновь запустили динамо-машину, вскоре должны были затопить и печи. В лабораторию возвращалась жизнь. И вот наступил день, когда ожидали возвращения баркаса. В это утро господин Синтез наконец подал признаки жизни; поинтересовавшись ходом восстановительных работ, он остался доволен. Все было хорошо. Хорошо-то хорошо, но на душе у Алексиса Фармака становилось час от часу тяжелее. И причиной его тревоги была вовсе не чреда природных феноменов, неустанно теперь дающая о себе знать. Его беспокоила лагуна, и только лагуна. В течение последних двух недель находясь безотлучно на коралловом кольце, химик неоднократно замечал странное оживление в водах бассейна, обычно гладких, словно скованных льдом. Оживление это проявлялось следующим образом: то мгновенно возникали водовороты, от которых шли концентрические круги, то что-то мощное быстро проносилось близ самой поверхности, оставляя на ней пенный след. А иногда нечто таинственное и сильное с громким всплеском выныривало из воды. — Надо что-либо предпринять для очистки совести, — решил в одно прекрасное утро сбитый с толку и окончательно потерявший терпение химик. «Что-либо предпринять» означало просто-напросто спуститься на дно лагуны — операция, собственно говоря, совсем несложная, сплошь и рядом предпринимаемая коллегой-зоологом в поисках новых организмов. Сказано — сделано, и вот уже мэтр Алексис облачается в костюм ныряльщика и неторопливо спускается по железной лесенке, вмурованной в коралловую стену близ ворот из листового железа, перекрывавших выход из лагуны в открытое море. Он медленно погружается на дно. Устройство, с помощью которого человек может, не соприкасаясь с океаном, проникнуть в бассейн, очень простое. В центре одной из больших железных створок прорезано квадратное отверстие с подъемной металлической рамой, герметичной благодаря резиновой прокладке. Когда рама поднята, человек оказывается в закрытой со всех сторон полости, естественно, наполненной водой. Вторая же рама, тоже снабженная резиновой прокладкой, открывает выход в лагуну. Подводник, предварительно закрыв первую раму, открывает вторую и проходит через некое подобие шлюза, обеспечивающего полную изоляцию лагуны от моря. Стоял яркий солнечный день, потоки света проникали сквозь стеклянный купол, и необходимости в искусственномосвещении не было. Несмотря на мутность вод в бассейне, все предметы просматривались достаточно четко. Алексис Фармак, передвигаясь с трудом из-за покрывавшей дно желеобразной, клейкой массы, природа которой была ему неизвестна, обогнул внутренний риф, рассмотрел его строение, убедился, что все кораллы давно умерли, и вдруг, пораженный, застыл на месте — подножие рифа было усеяно множеством маленьких существ цилиндрической формы, похожих на червей, длиной от пятнадцати до двадцати сантиметров. Они трепетали, сматывая и разматывая свои длинные тельца, и, казалось, не имели ни малейшего желания покидать найденную ими точку опоры. — А это еще что за подводный мирок? — удивился химик. Вытянув руку и решительно схватив одно из существ, он почувствовал невероятное сопротивление, абсолютно не соответствующее размерам животного, которое, гибкое как угорь, выскользнуло у него из рук и снова впилось в мадрепоровую породу. — Черт возьми! — в растерянности воскликнул химик. — Присасываются, как медицинские банки! Надо бы прихватить с собой парочку. То-то шеф обрадуется! Говоря это, он схватил еще один экземпляр и рывком оторвал его от скалы. Но вторая особь, несомненно более возбудимая, чем первая, потеряв точку опоры, обвила схватившую ее руку и так в нее вцепилась, что Алексис Фармак вскрикнул от боли. Животное, прокусив кожу, стало жадно сосать кровь. Чтоб избавиться от него, несчастному химику пришлось буквально размозжить эту тварь о выступ коралловой скалы. Рука его посинела, из раны сочилась кровь. «Надо сматывать удочки, — подумал он. — Их здесь тысячи и тысячи. Плохо мне придется, если они решат мною отобедать». Опасения химика оказались верными; все члены колонии, мигом почуяв вкус крови, как по команде, снялись со своих мест и, изгибаясь, словно змеи, со всех сторон кинулись к водолазу. Омерзительный рой окружил бедного Фармака. Животные бились о гермошлем, присасывались к резиновому скафандру, впивались в, увы, ничем не защищенные руки. — Да они взбесились! — закричал не на шутку встревоженный химик. — Если им удастся прокусить костюм, я пропал. Скорее назад! Со всех ног он кинулся обратно, шатаясь, скользя и падая, невольно вспоминая о варварском способе отлавливать пиявок (этих отвратительных, хоть и полезных подручных медицины), которых приманивают, заводя в пруд старую лошадь. Еще несколько шагов, и Алексис достигнет шлюза. Но тут он видит такое, отчего кровь застывает в жилах; перед ним уже не червяк десяти дюймов в длину, а многометровый, обладающий огромной силой монстр…[358] Внезапно громадное существо стало быстро приближаться к химику. — Акула! — прошептал бедолага, узнав свирепое чудовище тихоокеанских вод. Увидев, как над ним раскрылась огромная пасть, усеянная частоколом устрашающих зубов, он машинально присел на корточки, забыв на миг о вампирах[359], словно клещами терзавших его руки. Это бессознательное движение спасло ему жизнь: акула промахнулась, и на какое-то мгновение химик оказался вне пределов досягаемости свирепого противника, который, вместо того чтобы отхватить ему руку, лишь пропустил широкую струю воды меж челюстями, клацнувшими, будто кровельные ножницы. — Акула! Это акула! — кричал несчастный, оглушая себя собственным криком, звучавшим в шлеме. Промахнувшись с первого раза, морской разбойник отплыл на другой конец лагуны, чтобы с разгону вновь кинуться на человека. Алексис находился всего в двух-трех метрах от выхода, но ему никоим образом не хватило бы времени открутить два винта, блокирующие ворота. Тем не менее он бросился к выходу, стряхивая с себя омерзительный рой кровососов, но поскользнулся и рухнул на дно бассейна. Рука его, шаря между каких-то непонятных тел, нащупала протянутый по забетонированному дну жесткий кабель, блестящий, несмотря на продолжительное пребывание под водой, заканчивающийся металлическим шаром. Химик тотчас же отважно вскочил на ноги. Он схватил этот таинственный снаряд и принял классическую позу пожарника, изготовившегося для схватки с огнем. Акула пулей ринулась на подводника. Правда, чтобы захватить жертву пастью, ей пришлось немного сбросить скорость. Ловко воспользовавшись этой проволочкой, Алексис ударил хищника по носу круглым набалдашником кабеля. Эффект был ошеломляющим; акула, как молнией пораженная, внезапно остановилась, и ее начали бить судороги. Затем плавники опали, а страшная оскаленная пасть так и осталась открытой. Всего лишь секундное соприкосновение с кабелем, и вот уже не хищник, а труп хищника плавал в воде. — Какая жалость, — воскликнул про себя химик, переходя от полного отчаяния к живейшей радости, — что я здесь один и не с кем посмеяться над кончиной этого нечестивца. А теперь — отступаем! И не мешкая он швырнул кабель на дно, открыл ворота шлюза и, так и не избавившись от копошащихся на его одежде кровососов, поднялся по лесенке на поверхность. Трудно себе представить, как оторопели рабочие, увидев своего начальника, буквально облепленного непонятными тварями, которые, будучи извлеченными из привычной среды обитания, злобно извиваясь, медленно, как бы неохотно отваливались от своей жертвы. — Уф, наконец-то! — воскликнул химик, когда с него сняли медный шлем. — Еще немного, и они разодрали бы меня в клочья, сожрали бы живьем, и это после того, как я чудом спасся от… от той, другой! — Затем, внимательно приглядевшись к свирепым тварям, изранившим ему руки, добавил: — Клянусь честью, да это же миноги! Ну да, миноги! Долгожданные круглоротые, занимающие десятую ступень на пути к человеку! Хороши предки! Но та, другая… Бандитка, чуть меня не проглотила… Постойте-ка… Ведь акула — это хрящевая рыба… А хрящевые рыбы стоят на одиннадцатой ступени вышеупомянутой серии. Да, что и говорить, прародители человека чем дальше, тем любезнее ведут себя по отношению к своему потомку… А вы, друзья мои, — обратился химик к помощникам, — полдесятка этих гнусных тварей поместите в чан с морской водой, а остальных сбросьте обратно в лагуну. Распорядившись таким образом, Алексис Фармак двинулся к себе, чтобы приложить свинцовые примочки к ранам, причинявшим жгучую боль. Первой его мыслью было пойти и рассказать господину Синтезу о странной и драматической череде событий, однако он удержался, полагая, что все это выглядит неправдоподобно. Появление вслед за ланцетниками молодых, судя по их небольшим размерам, круглоротых, в частности, миног, казалось более чем логичным ревностному стороннику Великого Дела. Но появление в лагуне, превращенной в аквариум, огромной взрослой акулы… Нет, это смахивало на вымысел. Пусть бы хоть размеры этой хрящевой рыбы были пропорциональны величине миног! Тогда можно было бы, с научной точки зрения, признать факт ее существования. Но появление такого монстра было необъяснимо ни научно, ни эмпирически… Если только… Черт побери! Если только волна прилива, подхватив акулу, как соломинку, не забросила ее в бассейн через пролом в куполе!.. Но тогда… Тогда и ланцетники, и миноги… Кто может утверждать, что и их появление не является результатом катаклизма? В таком случае Великое Дело — надувательство, гадкая шутка разбушевавшейся стихии. Бедный химик не мог без содрогания думать об этом. Потому-то он и принял на вооружение куда более безобидную гипотезу: акула, охотясь за голотуриями, которых было на атолле видимо-невидимо, была приливом выброшена на коралловое кольцо, а оттуда попала в лагуну через еще не заделанную брешь. Что, кстати говоря, было вполне вероятно. Но, зная скрупулезную точность Мэтра при проведении опытов, его презрение ко всему, что не является строго научным, химик решил вплоть до новых распоряжений скрыть от хозяина свое приключение. — Поведем себя осмотрительно, — рассуждал он, меняя примочки. — Мэтр с его педантизмом[360] может даже заболеть после такого известия. Что до меня, то, могу похвастаться, я легко отделался. Если б электрический кабель, попавшийся в нужную минуту под руку, был вынут из бассейна неделю назад или электродинамическая машина в тот момент бездействовала, мне ни за что не удалось бы уложить эту проклятую акулу. Она сожрала бы меня в одно мгновение! А теперь сей хищник пойдет на корм нашим молодым миногам. На здоровье! Мораль же всей этой истории такова: отныне я буду спускаться в лагуну только в сопровождении хорошо вооруженной охраны. Посещать нашу лабораторию становится небезопасно!
ГЛАВА 4
Двоякодышащие рыбы. — Рыба и амфибия одновременно. — Вера в будущее. — Первые жители земли господина Синтеза. — Сцена из первобытных времен. — Натуральнейшая селекция. — Обед крокодила. — Рыбалка с удочкой. — Вскрытие ящерицы. — Господин Синтез прекращает опыты, боясь убить будущего человека. — Новое и самое страшное восстание стихий. — Ужас. — Подземный вулкан. — Извержение лавы. — Гибель «Ганга». — Другие последствия катаклизма. — Узники «Анны».Итак, если не считать загадочного отсутствия «Инда» и «Годавери», которые давно уже должны были вернуться, если сбросить со счетов глодавшую всех тревогу об их экипажах, все шло прекрасно в этом лучшем из всех больших и малых миров. В лаборатории происходили важные для науки события, на сей раз не сопряженные ни с какими природными катаклизмами. Серия предков человека существенно пополнилась — к ней добавились четыре вида, соответствующие четырем ответвлениям генеалогического древа. Алексис Фармак предусмотрительно умолчал о своей драматической вылазке на дно лагуны; ни господин Синтез, ни профессор зоологии, вернувшийся на паровом баркасе в назначенный день, не подозревали о наличии акулы в водах бассейна. К тому же никто так и не заметил никаких следов чудовища — должно быть, миноги полакомились всласть. Роже-Адамс, сопровождаемый капитаном Ван Шутеном, проникшимся страстью к зоологии, обследовал дно лагуны. Возвратившись, зоолог объявил, как о чем-то само собой разумеющемся, о появлении двоякодышащих рыб, считающихся промежуточной стадией между рыбами и амфибиями. Несколько живехоньких представителей нового вида, получившего свое название из-за того, что данные существа обладают двойным дыханием (легочным и жаберным) были доставлены господину Синтезу. Этими представителями стали великолепные ceratodus forsterii, обитающие в Австралии и обнаруженные в Сиднее в 1870 году Жераром Креффтом. Рыбы длиною всего сантиметров двадцать — взрослые особи достигают двух метров — уже были покрыты жесткой чешуей. Когда опытный экземпляр подробно рассмотрели и мастерски сфотографировали, профессор зоологии приступил к вскрытию. Он обнаружил мягкий хрящеватый скелет, подобный скелету низших хрящевых рыб, с прекрасно сохранившейся хордой. Четыре конечности были выражены рудиментарными плавниками примитивных и наиболее низко стоящих рыб. Странная вещь, сходство с низшими рыбами наблюдалось также в строении мозга и пищевого тракта. Казалось, природа, совершив большой рывок вперед, а именно, приспособив ceratodus forsterii к вдыханию воздуха, пожелала сохранить в строении этих древнейших предков человека некоторые анатомические особенности, свидетельствующие о вехах на пути их развития. Промежуточный характер этого любопытного вида так ярко выражен, что некоторые зоологи в своих классификациях иногда относят их к амфибиям. Однако, по нашему разумению, это все же рыбы. Хотя черты двух видов в них так перемешаны, что вопрос становится сугубо терминологическим. Все зависит от того, кто что подразумевает под словами «амфибия» и «рыба». По образу жизни двоякодышащие рыбы являются настоящими амфибиями. В течение тропической зимы, то есть во время сезона дождей, они плавают в воде и дышат жабрами. Во время засушливого летнего периода они закапываются в сухую глину и дышат легкими. Пока зоолог с невероятной ловкостью препарировал подопытное животное, он не без изящества комментировал происходящее и по-профессорски давал пояснения. Господин Синтез одобрительно кивал головой, а обрадованный химик думал про себя: «Наконец-то! Вот очень характерное животное, обитающее в болотах в глубине континента. Его-то никак не могло занести в бассейн приливом! Как я правильно поступил, когда держал язык за зубами и напрасно не встревожил Мэтра! Значит, все идет хорошо, и Великое Дело, пошатнувшись на миг, сейчас упрочилось как никогда!»
__________
Долгожданный вид амфибий появился в тот момент, когда вечно настороженный, вечно озабоченный делами химик уже отчаялся его увидеть. Именно ему выпала честь их впервые обнаружить. В одно прекрасное утро, расхаживая по коралловому кольцу вокруг купола и вглядываясь своим единственным глазом в тихие воды лагуны, Фармак заметил, что близ центральной скалы бурлят короткие маленькие волны. Химик сбегал на судно, схватил бинокль и немедленно вернулся на то же место. Вообразите себе его радость, когда с помощью оптического прибора он сумел разглядеть морских черепашек, резвящихся в компании саламандр[361] и тритонов. Черепашки гонялись за ними, те же, отталкиваясь от ветвей мадрепоровых зарослей, запрыгивали на скалу и чувствовали себя там как в собственных владениях. Вот они, первые поселенцы девственной земли, сотворенной господином Синтезом! Их было около пятидесяти особей, они разнились формами и внешним видом, но вели себя вполне непринужденно, весело, дружелюбно, как бы говоря: и море и земля достаточно велики, чтобы всем жить в мире. Химик залюбовался представшей перед его глазами сценой, воображение унесло его в прадавние эпохи, когда амфибии были безусловными царями нашего мира. Но тут в тени, которую отбрасывало в море освещенное солнцем коралловое кольцо, появились отвратительные плоские, словно приплюснутые, морды ящеров, увеличенные линзами бинокля до немыслимых размеров. Короткие лапы, приземистые тела не мешали этим тварям двигаться с большой прытью… Длинные хвосты были продолжением бугорчатого позвоночного гребня и, казалось, служили рулями управления. — Господи Боже! Если не ошибаюсь… крокодилы! Это действительно были молодые крокодилы, чьи размеры соответствовали размерам других обитателей лагуны, а именно — они достигали сантиметров тридцати в длину, что ни в коей мере не уменьшало их свирепости… Крокодилы заметили себе подобных и, подстрекаемые врожденным инстинктом, кинулись на них с такой злобой, как если бы единственным их предназначением было уничтожать. Черепахи, тритоны, саламандры, куда менее проворные и хуже приспособленные к передвижению по суше, пытались спастись бегством. Но бесполезно! Хищники, разинув пасти, наугад хватали свои жертвы, разрывали их на части и жадно пожирали. Напрасно черепахи втягивали голову и лапы под панцирь. Пустая предосторожность… Лишь впоследствии окостеневший панцирь станет неприступной крепостью, а пока он являл собой просто хрящевидную пластину и обеспечивал животному лишь воображаемую защиту. Черепахи так и хрустели на зубах у крокодилов, которые хватали их по две и по три за раз, заглатывали, чуть ли не давясь. Нападающих был добрый десяток, и им хватило пяти минут, чтобы расправиться со всеми жертвами. — Вот вам исчерпывающий пример естественного отбора! — вскричал потрясенный химик. — Настоящая сцена разрушения, какие часто должны были происходить на нашей планете в незапамятные времена… Крокодилы оказались единственными хозяевами положения! Надо признать, их строение более совершенно, так что эволюция ничего не потеряет. Тем не менее я был бы рад, если бы господин Синтез повидал этих бедных животных. — Нет ничего проще, — раздался веселый голос за спиной Алексиса Фармака. — А?! Что вы говорите? — опешил химик. — Черт возьми, я услыхал ваш монолог и пожелание, которым он заканчивался, — продолжал зоолог, чьих шагов не расслышал ученый, поглощенный маленькой драмой, происшедшей на его глазах. — Что за способ? — Вскрыть одного из этих обжор. — Как же его поймать? — С помощью обыкновенного куска сала, крючка и двадцати пяти саженей бечевки. — Прекрасная мысль! — Первый подошедший из наших людей займется этим и доставит нам пойманную особь.Прошло ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы разложить складную удочку да наживить приманку, и вот уже крокодил — жертва собственной ненасытной прожорливости — бьется со стальным крючком в горле. Рыболов, волоча на удочке дрыгающегося хищника, подтащил его прямо к корабельной лаборатории и вручил конец бечевки Роже-Адамсу. Но амфибия сопротивлялась так яростно и энергично, что обуздать ее удалось, лишь поместив под стеклянный колпак, куда предварительно положили губку, смоченную хлороформом[362]. Вскоре, под действием сильного анестезирующего средства, животное перестало подпрыгивать и трепыхаться, поджав лапы, перевернулось на спину, и зоолог буквально располосовал его от горла до кончика хвоста. На свет Божий из желудочного кармана извлекли помятую, пожеванную, расплющенную морскую черепаху и двух саламандр, причем одна из них оказалась живой! Профессор зоологии тотчас же велел оповестить господина Синтеза. Тот, явившись незамедлительно, с живейшим интересом рассмотрел всю эту братию. — Вы хорошо сделали, что показали мне новые особи, — одобрил Мэтр. — Но отныне хватит вскрытий. Пусть все живые существа, явившиеся в результате эволюции, свободно развиваются в водах лагуны. Опыт представляется мне вполне убедительным. Чтобы достичь конечного результата, нам остается только ждать. Не следует приносить в жертву ни одного экземпляра, чье существование, можно сказать, не менее ценно, чем человеческая жизнь. К тому же, чем совершеннее вид, тем меньше особей он насчитывает. Выть может, уничтожив одно из данных подопытных животных, мы убьем будущего человека. Ограничивайтесь впредь лишь активным наблюдением и, как только обнаружите новых представителей фауны, где бы они ни появились: на скале, в воде или на атолле — дайте мне значь. Честь имею кланяться, господа.
— Ну, что вы на это скажете, коллега? Думали ли вы, что щепетильность нашего шефа зайдет так далеко? — сразу же после ухода Мэтра обратился зоолог к Фармаку. — Я полагаю, он прав. — Ах, оставьте. В подопытных экземплярах недостатка не будет, уверяю вас. — Возможно, но что касается меня, то, признаюсь, я не могу отделаться от ощущения, что мы совершили убийство. Господин Роже-Адамс громко рассмеялся. — Вот уж не думал, что и вы так размякнете. — Вы знаете, я фанатически верю в успех… — Разумеется, я тоже. Но как бы сильна ни была моя вера, позвольте задать один вопрос. — Задавайте. — Разве в этой мерзкой твари, в нашем материальном пращуре, вы находите хотя бы частичку человеческой души, частичку Божественного духа, который делает вас несравненным химиком, капитана — опытным моряком, а меня — приемлемым зоологом? Несомненно, химик поддержал бы одну из множества дискуссий, соответствующих методичному складу его ума, и, быть может, изыскал бы доводы, способные поставить зоолога в тупик. Но тут постоянно доносившийся со дна моря грохот внезапно усилился. Дискуссия заглохла, не успев начаться, а бедняга Алексис, вечно дрожавший за лабораторию, мигом был сброшен с высот трансцендентальной психологии[363] на грешную землю. — Увы, — горестно заметил он, — что толку философствовать, когда стихии ополчились против нас? Слово чести, я иногда склонен думать, что мы сидим на подводном вулкане. Если он рванет, а это может случиться в любую минуту, то лаборатория господина Синтеза разлетится вдребезги. Ах, если бы прежде, чем это случится, я увидел завершение Великого Дела! — Предвестники катаклизма, — откликнулся зоолог, внезапно встревожившись, — становятся час от часу более очевидными, это факт. — А Мэтр, кажется, ничего не замечает! — И не говорите! Представить себе не могу, что могло бы нарушить его невозмутимость! Уголь на исходе, продовольствие тоже, санитарное состояние команды оставляет желать лучшего, машины, работающие день и ночь, еле тянут, электричество действует только чудом, лаборатория грозит взлететь на воздух. И даже стихии против нас… А этот дьявол в человеческом образе, это воплощение эгоизма, ничего не видит, ничего не слышит, ни о чем не догадывается! Его внучка отбыла почти полгода назад, и с тех пор от нее нет никаких известий. А дедуле хоть бы хны, ни малейшего намека на то, что он хотя бы вспоминает о родном существе! — Вы слишком далеко заходите! — Что?! Далеко захожу?! Я просто называю вещи своими именами. Это очень мило — пытаться превратить первичную клетку в человека, но что потом? Я перенапрягаю свой мозг, задаваясь этим вопросом. Каким образом добиться хотя бы появления вида млекопитающих, когда нет главных элементов, необходимых для такой эволюции? Я взываю к вашему здравому смыслу: скажите, разве мы не стоим на пороге катастрофы? В это время и впрямь оглушительные взрывы стали похожи на артиллерийскую канонаду. Оба ученых опрометью кинулись прочь с твиндека и наткнулись по дороге на встревоженного Ван Шутена. — Что случилось, капитан? — в один голос спросили они. — Об этом надобно спросить у вас, господа, — отвечал моряк. — Вы лучше моего подкованы в области природных явлений. Внезапный толчок прервал его речь. Чтобы не упасть, все трое инстинктивно схватились за релинги[364]. — Боже мой! — вскричал голландец. — Что это? — Если бы судно было на ходу, я сказал бы, что оно напоролось на подводный риф. Все взоры непроизвольно обратились к «Гангу», стоявшему на одном траверзе[365] с «Анной». Ужасное зрелище открылось их глазам. Словно повинуясь таинственному и непреодолимому импульсу[366], судно медленно, как бы нехотя, раскручивалось и вдруг застыло, удержанное швартовами. Но ненадолго; канаты лопались с ужасным звуком, хлестали по воде, судно относило течением. Капитан приказал немедленно бросить якоря. Напрасные усилия! Якоря не успели зацепиться за донный грунт. «Ганг» показался среди странного бурлящего водоворота, его мотало, как пробку, и сносило к атоллу, о который он неминуемо должен был разбиться. Крики ужаса раздавались со всех сторон. Но самый отчаянный вопль вырвался из груди химика. — Лаборатория! Он протаранит лабораторию! Мне надо быть там, даже если придется погибнуть! Разве нельзя выстрелить по нему из пушки?! Пустить его ко дну?! Ах, сколько трудов пошло прахом! Грозя кулаками надвигающейся махине, Алексис Фармак помчался к атоллу. В этот момент судно потряс мощный удар, оно затрещало. Одновременно попадали сломанные мачты. Обезумевшие люди бросались в море и вплавь добирались до атолла. Как всегда бестрепетный, господин Синтез холодно наблюдал за происходящим. — Что делать, Мэтр? Что делать? — вопрошал капитан. — Посмотрите, за кормой «Ганга» образуется отмель и подталкивает его к атоллу. Через три минуты он будет здесь. Рубите на «Анне» все швартовы и ставьте ее перпендикулярно «Гангу», — молвил старик, и ни один мускул не дрогнул на его суровом лице. — Но он разобьет нас в щепки… — мямлил капитан. — Повинуйтесь, сударь, — проговорил Мэтр таким тихим и страшным голосом, какого офицер еще не слыхивал. — Хотя судно само останавливается, но я попомню вам ваше неповиновение. Внезапно «Ганг», который вздымала некая неведомая сила, стал погружаться в состоящую из шлаков, хлынувших со дна, густую кашу. Это была полуостывшая лава, бившая из-под земли; она застывала, твердела, становилась крепкой, как скальная порода, образуя под килем корабля нечто наподобие трехметрового пьедестала. Людей, попрыгавших с корабля, обжигала нагретая лавой вода, они, визжа, плыли к берегу и, к счастью, добирались до атолла, не получив телесных повреждений, а только натерпевшись страху. Сиюминутная опасность больше никому не угрожала. Однако «Ганг» был безвозвратно потерян. К сожалению, бедствия, причиненные такой беспрецедентной катастрофой, этим не ограничивались. Хотя лаборатория не пострадала, о чем с лихорадочной радостью оповестил ассистент-химик, да и «Анна», находясь вне зоны подводного извержения, не получила никаких повреждений, но без того плачевная ситуация стала еще тяжелее. Конфигурация морского дна настолько изменилась, что там, где только что был пролив, мутные от растворенного в них известняка волны яростно бились о самую настоящую стену. В промежутках между гребнями волн можно было рассмотреть нагромождение крохотных коралловых континентов, которые неожиданно появились над водой, в то время как другие исчезли без следа. В результате всех этих перемен корабль, составляющий теперь для всех членов экипажа единственную надежду на спасение, оказался буквально заточенным в бассейне длиной около пятисот и шириной менее трехсот метров. Две отмели вулканического происхождения наглухо заблокировали оба пролива, пригодные ранее для якорной стоянки, — вне всякого сомнения, они не оставляли судну ни малейшей возможности выхода в открытое море. Ни малейшей щелочки, через которую смогла бы проскочить хоть какая-нибудь лодчонка! Полное заточение… Всем было очевидно, что из атолла не только невозможно выйти, невозможно даже получить помощь извне, если, как люди еще смели надеяться, ушедшие корабли вернутся обратно. Оставалось лишь уповать на чудо. В такой ужасной обстановке как никогда ясно проявился гений господина Синтеза, человека неисчерпаемой стойкости, способного управлять людьми даже в безнадежном положении. Сделав строгий выговор капитану, он не произнес больше ни слова, не сделал ни единого жеста. Однако, когда первая паника улеглась, никто даже головы поднять не посмел; матросы, еще накануне замышлявшие бунт, невозмутимо выполняли приказы командиров так, как если бы ничего особенного не происходило. Они совершенно не заботились о своем будущем, их доверчивость была просто удивительной. Впавший же в отчаяние профессор зоологии бранился и вел себя так несдержанно, что химик смотрел на него сперва удивленно, а затем и недоверчиво. Капитан вынужден был отвести Роже-Адамса в сторону и шепнуть со странной откровенностью: — Осторожно, на нас смотрят…
ГЛАВА 5
Потерпевшие кораблекрушение на Малакке. — У лесных людей. — Безнадежность. — Туземная медицина. — Спасен. — Через джунгли. — Широкое гостеприимство. — Тираническая дружба. — Соображения Ба-Итанна. — Туземная одежда и местная кухня. — Привыкание к образу жизни дикарей. — Случай представился. — Что произошло после появления четырех слонов. — Резидент из Перака. — Отъезд. — Горе сакейев. — Из Перака в Калькутту. — Тревога. — Бурная деятельность. — Приготовления. — Пандит Кришна и его откровения. — Тревожные новости.Прошло уже много времени с тех пор, как мы потеряли из виду двух, быть может, самых симпатичных героев нашего, рассказа. Произошло это вовсе не потому, что автор прибегнул к свойственным всем писателям ухищрениям, подогревающим читательское любопытство. Совсем напротив! Просто бывают случаи, когда рассказчик, как бы ни хотел, не может неотступно ходить по пятам за тем или иным персонажем, не рискуя нарушить ясность и последовательность своего повествования… Так давайте же вернемся на полуостров Малакку в тот момент, когда капитан Кристиан, умиравший от малярийной лихорадки, увидел перед собой многочисленную группу оранг-сакейев и горестно воскликнул: — Анна, сестра моя! Это «лесные люди»! Седобородый старик, которого туземцы вытолкнули вперед, медленно приблизился, разглядывая белых с каким-то испуганным любопытством. Девушка же, охваченная ужасом, стала потихоньку пятиться назад. Видя ее состояние, старик остановился и, пытаясь, поелику возможно, смягчить свой грубый голос, гортанно заговорил: — Ка иту! (Не бойся!) И все остальные, безусловно желая подтвердить свои мирные намерения, хором повторили: — Ка иту! Если Анна и не поняла смысла сказанного, то, глядя на удивленные, но ничуть не враждебные лица, на которых теперь появилось даже выражение сердечности, она успокоилась. Поверив, что эти иссохшие люди никакие не враги, поборов последние опасения и черпая уверенность в безвыходности своего положения, девушка попыталась знаками объяснить старику, что и она сама, и ее спутник умирают от голода. Лесной человек уловил смысл этой пантомимы, рассмеялся и, сбросив с плеча корзину, начал прилежно рыться в ней. — Ак! — воскликнул он. В его руке появился закупоренный деревянной пробкой длинный сосуд из бамбука. Старик осторожно вытащил пробку и вытряхнул горсть белого, сваренного на пару риса, насыпал его в полую продолговатую тыквочку и подал Анне эту примитивную плошку со словами: — Таша джарой! (Съешь этот рис!) Несмотря на более чем сомнительную чистоту рук своего кормильца, бедная девушка, которую нужда заставила превозмочь брезгливость, взяла щепотку риса, поднесла ко рту и с жадностью проглотила. Радуясь, словно дети, дикари захохотали во всю глотку, как будто такая простая вещь казалась им верхом комизма (потом Анна узнала, что у сакейев был обычай таким образом выражать свое расположение). — И вы, друг мой, тоже поешьте, — обратилась она к офицеру, который, видя, что им не угрожает опасность, снова впал в прострацию. — Спасибо, — глухо ответил он. — У меня жжет в груди… Я задыхаюсь… Мне очень нехорошо… — Попробуйте, прошу вас! — Не могу… Но вы ешьте, восстанавливайте силы. Они вам еще понадобятся… Я счастлив, что мы встретили этих бедолаг. Кажется, они гостеприимны. Вы не погибнете с ними, а потом… потом, надеюсь, сможете добраться до английских владений. Ну, а что до меня… — горестно продолжал бедный офицер, — то думаю, нам следует проститься… — Проститься?! Да вы просто бредите! Нет, это невозможно! Я не хочу! Провидение ниспошлет чудо… Эти люди должны знать местные болезни. Они спасут вас! Тем временем туземцы, заинтригованные этой берущей за душу сценой, смысл которой им был не вполне понятен, подошли ближе. Они скороговоркой поговорили между собой, указывая на больного. Без малейшей робости и стеснения старик взял бессильную, пылавшую от жара руку капитана. Видя, что офицер лежит неподвижно, дышит часто и прерывисто, а лицо его налито кровью, он озадаченно покачал головой. Затем после долгих размышлений, с видом человека, принявшего окончательное решение, дикарь снова стал рыться в своей плетенке, раскрыл мешочек из очень тонкой пеньковой ткани и извлек оттуда белую перламутровую раковину, остро заточенную по краю. Успокоив девушку жестами, он, осторожно держа раковину правой рукой, отогнул больному ухо и с необычайной ловкостью сделал за ушной раковиной четыре длинных насечки, из которых обильно хлынула кровь. Такую же операцию он повторил и за другим ухом и безотлагательно начал смешивать различные вещества, также добытые из мешка. Мастерски сделанное местным лекарем кровопускание принесло чудесные плоды в том смысле, что приступ, могущий оказаться роковым, не повторился; больному полегчало, кровь отлила от головы, и он пришел в себя. Ободренный таким началом, туземец продолжал месить свои снадобья, затем присел перед своим пациентом в классической позе портных и мусульман, жестами уговаривая его принять штук шесть шариков размером с дикую вишню. Капитан, к которому вернулась ясность мысли, понял, что эта варварская медицина может его спасти, и решил попытать счастья. Он легко проглотил шарики, запив их водой, но содрогнулся от отвращения, таким горьким оказалось лекарство. Четверть часа спустя больной уже крепко спал. Все это время сакейи не оставались без дела. Решительно, как и все кочевники, они выбрали место стоянки и разбили, по обычаям своего племени, лагерь весьма примитивный, состоящий из обыкновенных шалашей, покрытых листьями. Но этого было достаточно, чтобы предохранить себя от ночной росы. После чего одни отправились на охоту, вооружаясь стрелометательными трубками, а другие — разожгли костер и стали печь в золе обисы, съедобные клубни, которые «лесные люди» ели часто и с удовольствием, предпочитая их даже рису. Анна испытывала доверие к туземцам, видя, какой заботой они окружают ее и Кристиана. Забыв о голоде, она думала теперь только о своем друге, спавшем крепче, чем можно было ожидать после подобного приступа. Вскоре молодой человек начал обильно потеть. И вот что характерно — от его пота, ручьями струившегося по всему телу, так сильно пахло болотом, что запах этот можно было различить на расстоянии пяти-шести метров. Старик, по-прежнему сидя на корточках возле больного, принялся жевать жвачку, не спуская глаз с пациента. Время от времени он потирал руки, заливисто смеялся, сплевывал жвачку, брал новую и бормотал на местном наречии нечто, напоминающее заклинания. Через четыре часа потовыделение еще усилилось, если такое только возможно, но болотное зловоние исчезло. Тогда старый сакейя подозвал двух дикарей, сделал им знак поднять белого и отнести его на берег реки. Они немедленно повиновались, трижды быстро окунули капитана в воду и бегом отнесли в уже готовый шалаш. Очнувшись от такого неожиданного омовения, Кристиан вскрикнул, но это был крик радости — он почувствовал, что его муки кончились. Чтобы довершить курс примитивного, но необычайно действенного лечения, старик знаками показал капитану, что тот не должен раздеваться до тех пор, пока одежда на нем не высохнет. Странная вещь, но офицер не чувствовал ни малейшего недомогания, наоборот, после страшного кризиса, едва не стоившего ему жизни, он пребывал в блаженном состоянии. Кристиана настолько измучила высокая температура, что холодное купание не только не оказалось опасным для его здоровья, но, напротив, благотворно подействовало на ослабленный организм и привело к значительному снижению температуры. Не секрет, что многие известные врачи и даже руководители целых школ применяют для излечения тифозной горячки холодные ванны и укутывают пациента мокрыми простынями. Не следует ли нам подивиться могучему инстинкту туземцев, опытным путем изобретших способ лечения, который применяют медики в цивилизованных странах?
Однако, хоть приступ малярии и был предотвращен чудесными усилиями туземного эскулапа, период полного выздоровления обещал быть долгим. Десять дней прожили наши друзья в примитивном лагере, но Кристиан все еще не мог долго находиться на ногах — его охватывала слабость, доходящая чуть ли не до обморока. Все это время «лесные люди» ни на секунду не переставали заботиться о своих новых друзьях. Скромные, услужливые, наивные, словно дети, они умудрялись создать для них максимум удобств. Сакейи в изобилии снабжали наших путников рыбой, дичью, приносили дикие плоды и коренья, смеялись до слез, когда капитан и девушка пытались произнести несколько слов на местном наречии, и радовались, видя, как те отдают должное их кушаньям. Спустя некоторое время хозяева и гости стали с грехом пополам понимать друг друга, а вскоре офицер почувствовал достаточно сил, чтобы снова идти в английскую колонию, и сообщил гостеприимным хозяевам о своем намерении отправиться в Перак. Все двинулись в путь, и, безусловно, без помощи этих славных людей капитан и девушка недалеко бы ушли… С необычайной легкостью пробираясь сквозь непролазную чащу, сквозь непроходимые заросли колючего кустарника, дикари прокладывали дорогу для своих гостей. Более того, когда девушка не смогла больше передвигаться пешком, сакейи соорудили носилки и, устлав сиденье мягкой листвой, несли ее без толчков и тряски до следующей стоянки. Но дни шли за днями, и, ориентируясь по солнцу, капитан постепенно убедился, что они движутся вовсе не по направлению к Пераку. Так как его познания в местном наречии значительно расширились, он обратился к старику, откликавшемуся на имя Ба-Итанн: — Ты ведешь меня не в Перак. Ба-Итанн к каждой своей фразе прибавлял восклицание: апа иту! (Ну и что с того!) — Апа иту, йа, туан (да, господин). — Так нельзя! — Апа иту, все дороги ведут к туан-гобернор (к губернатору). — Значит, ты выбрал самую длинную. — Апа иту! (И что с того?) Разве тебе скучно с Ба-Итанном и сакейями? — Нет, не скучно, но я хотел бы вернуться к белым. — Апа иту! Сакейи любят тебя, они любят белую женщину. Зайди сперва в гости к сакейям, а потом Ба-Итанн проводит тебя к туану-губернатору в Перак. Невозможно было переспорить старика, более своевольного, чем ребенок, то есть своевольного, как истинный дикарь. — Видишь ли, Ба-Итанн, одежда моя истрепалась. Я в этих лохмотьях скоро не смогу на глаза людям показаться. — Ба-Итанн даст тебе кайн-кайу[367], ты сошьешь себе одежду. — А моя сестра, которую ты называешь Белая Птица? — Белая Птица тоже наденет платье из кайн-кайу. Волей-неволей пришлось зайти в то место, которое старик подразумевал под словом «деревня», представлявшее собой скопление соломенных хижин, крытых листьями, возле которых росли джагун (кукуруза), писанг (банановые деревья) и джарой (рис). Это нескончаемое путешествие длилось почти три недели. Зато клан «лесных людей» принял у себя двух европейцев чуть ли не восторженно, что, конечно же, радовало путников, хоть и не могло восполнить утраченного времени. Надо было воспользоваться этой передышкой, тем более сакейи и мысли не допускали, что белые с радостью уклонились бы от их гостеприимства. По прибытии капитан и его спутница обновили свой гардероб. Кристиан скроил себе из большого куска кайн-кайу «пиджачную пару», а для девушки хозяйственные сакейи сшили очень аккуратно нечто наподобие пеньюара. Кстати говоря, ей на диво шла эта одежда. Наряженные в новые платья, обутые в шнурованные башмаки из буйволиной кожи, в панамах из листьев ротанговой пальмы, европейцы могли теперь беспрепятственно пробираться сквозь самые густые заросли, так как кайн-кайу предохранял от шипов. Мужчины, женщины, дети соревновались между собой, стараясь угодить гостям и обеспечить им максимум дикарского комфорта, который, после пережитых путниками передряг, был оценен по достоинству. К сожалению, все реже и реже заходила речь о Пераке. Дни шли за днями, а привязанность сакейев к жертвам кораблекрушения все крепла и становилась все более тиранической. К молодым людям относились в точности как к королю и королеве, но к королю и королеве плененным или почти плененным. Хоть и не была тяжела удерживавшая их цепь, тем не менее она существовала. Но нет худа без добра. Благодаря тому, что насильственное гостеприимство оставляло много досуга, молодые люди быстро приноровились ко всем требованиям здешнего быта. Через месяц их было не узнать. Жизнь на свежем воздухе под лучами солнца благотворно повлияла на девушку — чувствовала она себя как никогда прекрасно; цвет лица приобрел золотистый оттенок, что дивно гармонировало с цветом ее волос. Наконец-то стало ясно, какая горячая кровь струится по сети тоненьких голубоватых жилок, проступавших под загорелой кожей. Мужественно борясь с праздностью, которой так охотно предаются на экваторе европейки, Анна окунулась в доселе ей неведомые материальные тяготы жизни. Нисколько не теряя обычного своего изящества, она первобытным способом разжигала огонь, готовила некоторые простые, но питательные блюда, составлявшие каждодневный рацион: насадить на вертел куропатку, зажарить олений окорок, приправить перцем съедобные клубни — все это стало для нее привычным делом. Кристиан вскоре окончательно поправился. К превеликой радости его друзей-дикарей, он как настоящий сакей достиг высочайшего мастерства в стрельбе из стрелометательной трубки, а голоком и парангом орудовал так, словно его юные годы прошли не в Стокгольмской гимназии, а среди «лесных людей». Туземная жизнь перестала быть для капитана загадочной. Теперь при желании он мог бы без труда в одиночку пересечь джунгли и добраться до английского поселения, чтобы потом, в сопровождении эскорта, вернуться за своей спутницей. Но — и пусть кто как хочет объясняет это противоречие — офицер, несмотря на все желание очутиться в цивилизованной стране, ощущал тяжесть на сердце при мысли, что надо покинуть эту солнечную жизнь. Анна, со своей стороны, тоже, казалось, совсем не торопилась идти к англичанам в Перак… Будут ли они еще когда-нибудь так счастливы?.. Но капитан Кристиан был человеком долга. Мэтр дал ему поручение, и он выполнит его во что бы то ни стало. В ожидании удобного случая для расставания с «лесными людьми» прошло три месяца, надо сказать, приятных как для Кристиана, так и для Анны. И вот однажды в одно прекрасное утро, когда племя почти полностью отсутствовало — оставались лишь женщины, дети, Ба-Итанн, несколько вождей и двое потерпевших кораблекрушение, — среди поляны вдруг, позвякивая бубенчиками, появился… слон! За ним второй… третий… четвертый… Со спины каждого животного по обе стороны свисали огромные плетеные корзины, между которыми крепились полотняные паланкины. В корзинах — палатки, провизия; верхом — люди кто в форме индусских сипаев, а кто в малайских костюмах. На первом слоне, кроме погонщика, восседал всего лишь один человек, одетый в европейское платье. — Т-р-р-р-онк! — во всю глотку загорланил погонщик. Животное тотчас же остановилось и, присев на задние ноги, чтобы седок, сразу же заметивший в толпе орангов двух европейцев, мог спрыгнуть на землю. — Поди ж ты, меня не обманули. Действительно, белые люди! — пробормотал он себе под нос по-английски, затем, обернувшись к девушке, в изумлении застывшей рядом с молодым человеком, отвесил ей почтительный поклон. — Ввиду того, что представить меня вам некому, возьму на себя смелость сам исполнить эту формальность. Я сэр Генри Брейд, представитель Ее Величества королевы в Пераке. — Мадемуазель Анна Ван Прет, — тотчас же представил свою спутницу Кристиан. — Ну а я — офицер королевского шведского флота капитан Кристиан. Мы оба потерпели кораблекрушение приблизительно четыре месяца тому назад… И с тех пор пользуемся гостеприимством этих добрых сакейев. — Всего лишь десять дней, как мне донесли малайские бродяги, что среди орангов живут двое белых. Боясь, как бы вас не держали в плену и в любом случае предполагая, что вы рады будете вернуться на родину, ябез промедления ринулся на поиски, и вот наша экспедиция перед вами. Правильно я поступил? — приветливо и сердечно спросил англичанин. — Ах, сэр Брейд! Мы так благодарны вам! — Оставьте, дорогой капитан. Я просто выполнял свой долг цивилизованного человека, стоящего, как часовой, на посту среди здешнего варварства… Но нам следует поторопиться, потому что через десять дней в рейс уходит пакетбот. Надеюсь, вы не откажетесь занять место на моем слоне? — Излишне говорить, что мы с живейшей благодарностью принимаем ваше приглашение. Позвольте только попрощаться с этими милыми людьми, ставшими нашими благодетелями, и можно трогаться в путь. Обернувшись к Ба-Итанну, из глаз которого катились слезы, сам растроганный видом его горя, капитан сказал: — Ба-Итанн, старый дружище, мы уезжаем. Белая Птица возвратится к своему отцу, а я буду ее сопровождать. — До свидания, дети, — прошептал старик. — «Лесные люди» будут оплакивать ваш уход. — Мы никогда не забудем вас, старый друг, память о наших братьях сакейях навсегда сохранится в наших сердцах. — Ба-Итанн уже стар, он вас больше не увидит. — Кстати говоря, — вмешался английский джентльмен, — почему бы этому старику и нескольким его соплеменникам не проводить вас до английской миссии? Магазин ломится от товаров, вы могли бы по своему усмотрению, если и не в полной мере вознаградить их за заботы, но, во всяком случае, приобрести подарки, способные смягчить горечь разлуки. — Ах, как вы добры, сэр Генри! Я от всего сердца принимаю ваше предложение. Слышишь, Ба-Итанн, туан-гобернор спрашивает, не хочешь ли ты проехаться в Перак? — Ба-Итанн рад, он поедет! — Ну вот, все и уладилось как нельзя лучше. А теперь — в путь! Молодые люди заняли места на спине первого слона, рядом с сэром Брейдом; погонщик уселся прямо на шею животного, упершись ступнями в ошейник, на котором был прикреплен бубенец. Раздался пронзительный свист. Слоны встали, и процессия, замыкаемая эскортом, состоящим из десяти сакейев, двинулась в путь.
Через четыре дня экспедиция добралась до английской миссии. Трудно поверить, но ни один пешеход не отстал от каравана. Вот до чего быстроходны и неутомимы дикие обитатели Малайского полуострова; они не только шутя идут вровень с бегущими рысью одомашненными слонами, но умудряются даже иногда перегонять их. Нет смысла распространяться о том, какой гостеприимный прием оказали жертвам кораблекрушения представитель английской королевы и его милое семейство. Молодые люди сняли с себя грубые одежды из кайн-кайу и облачились в приличествующее им платье. Они спали в настоящих постелях, ели с настоящих тарелок, иными словами, наслаждались всеми благами цивилизации. Но их пребывание в Пераке вскоре было прервано приходом пакетбота, который, после короткого захода в порт, собирался взять курс на Индию. Сакейи, нагруженные подарками и ослепленные великолепием резиденции, вернулись в джунгли. Капитан утешил их, пообещав вскоре вернуться и побродить с ними по лесам. Выслушав подробный рассказ о злоключениях молодых людей, сэр Генри Брейд понял, как не терпится им поскорее уехать, потому и не стал задерживать гостей. Он снабдил их всем необходимым и лично проводил на пакетбот, сделавший остановку лишь затем, чтобы забрать почту. Восемь дней спустя путешественники благополучно высадились в Калькутте. Шел шестой месяц их странствий.
По личному опыту зная, как должен был беспокоиться затерянный среди Кораллового моря господин Синтез, наши молодые люди поспешили пустить в дело свои вновь обретенные громадные средства для подготовки экспедиции на атолл. Поселив Анну в огромном дворце, построенном когда-то господином Синтезом в Човрингхе и содержавшем неисчислимые сокровища, Кристиан кинулся на поиски корабля и экипажа. Он развернул такую бурную деятельность, так щедро тратил рупии[368] и разбрасывал пригоршни золота, что всего лишь через пять дней все было готово: судно, команда, вооружение, запасы продовольствия — словом, все необходимое. Корабль представлял собой яхту водоизмещением тысяча двести тонн, которую за бешеные деньги уступил один полуразорившийся лорд. Но разве имели значение лишние несколько тысяч ливров, если парусник делал сорок узлов в час! Вооружение его состояло из двух стодвадцатимиллиметровых пушек, двух пулеметов и большого числа многозарядных карабинов; экипаж — двадцать суровых матросов-шотландцев, служивших прежнему хозяину и подписавших контракт с новым владельцем. Опытные моряки — смелые, неутомимые, преданные. Кроме того, капитан выбрал среди дворцовой челяди пятнадцать индусов-сикхов[369] и непальцев — железных людей, фанатично преданных Мэтру. Четыре служанки — две негритянки и две индуски из Бенгалии — должны были прислуживать мадемуазель Ван Прет. Кристиан не раздумывая запускал руки в ломившиеся от сокровищ сундуки, пытаясь приобрести то, что не всегда можно купить за деньги — а именно, время. Земля Индостана горела у него под ногами. Мэтр в опасности!.. Еще немного, и его положение станет безнадежным… Он останется без средств к существованию, без всякой опоры… Успеет ли яхта дойти вовремя? Откуда пришло к молодому человеку такое озарение, как он узнал факты, которых знать не мог, — ведь господин Синтез был полностью лишен связи с внешним миром?! Мы помним загадочного пандита Кришну, таинственным образом промелькнувшего на страницах этого рассказа, чтобы отговорить ученого от его Великого Дела. Действительно ли Кришна, посвященный и ясновидящий, принадлежал к тем брахманам, чей дух, закаленный бдениями, постами и медитацией, прозревал неведомое другим людям — воссоздавал прошлое, знал настоящее, предчувствовал будущее? Мог ли его столь далеко оторвавшийся от материи дух путем внушения на расстоянии получить от господина Синтеза сведения о драматических событиях, происшедших на атолле? Никто того не ведал. Но как бы там ни было, в первый же вечер по прибытии наших героев в Калькутту пандит нанес им визит, хотя сообщить о том, что моряк и девушка остановились во дворце, было некому. Удивленный его появлением, которое в конечном счете можно было объяснить совпадением или любыми другими естественными причинами, офицер буквально остолбенел, когда брахман изложил ему всю череду происшедших на атолле событий. Кришна упоминал не только факты, известные людям, составлявшим окружение Мэтра, но и некоторые сугубо личные детали, известные, как полагал Кристиан, только ему одному. Зная об удивительной правдивости этого необыкновенного человека, капитан не смог подвергнуть сомнению рассказ о событиях, последовавших после его отъезда, которые брахман, ничуть не заботясь о внешних эффектах, описывал своим всегдашним тихим и немного монотонным голосом. — Но в таком случае Мэтр пропал! — воскликнул Кристиан, не в силах превозмочь охватившее его волнение. — Нет, дитя мое, пока положение всего лишь осложнилось, правда, осложнилось весьма серьезно. Но ты еще можешь изменить его своим вмешательством, правда, для этого следует поторопиться! — Вы меня пугаете, пандит. — Чем? Тем, что говорю правду? Но людей твоего склада истина должна скорее успокаивать, чем пугать. — Но, будучи человеком, наделенным таким могуществом, не можете ли вы чем-нибудь помочь Мэтру? — Разве мало того, что я сообщил тебе о том, в какую западню попал твой хозяин, этот гордец, самонадеянно считающий себя выше наших самых высоких вероучений? Я мог бы сделать для него меньше, но не могу сделать больше. Действовать предстоит тебе. Надеюсь, вы поспеете вовремя, чтобы сохранить ему жизнь и уберечь его рассудок. Надеюсь и всем сердцем желаю этого. Мне будет горько, если ты опоздаешь, потому что я люблю его. Прощай!
__________
Шесть дней спустя яхта на всех парах неслась по направлению к Коралловому морю.ГЛАВА 6
Письмо агента полиции. — Новые подробности о его коллеге — помощнике кочегара. — Ненависть индуса. — Кто перерезал трос «Подводного крота»? — Перемирие. — Интрига драмы усложняется. — Во время экспедиции на паровом баркасе. — Человек за бортом. — К чему привело то, что человек утонул. — Отловленный траловой сетью. — Филантропы себе на уме. — Воскресение из мертвых. — Ненависть и любовь по-восточному. — Эволюция живых существ продолжается. — Каков будет человек? — Замена. — Человек найден. — Каждый получит свою часть наследства Мэтра. — Прежде чем получить часть добычи.Господин префект! За долгий истекший период мне представилась всего одна возможность послать вам свое донесение. Я поспешил ею воспользоваться, чтобы ввести вас в курс дела и ознакомить с ситуацией, которая, судя по всему, должна привлечь к себе пристальное внимание властей. Не знаю, дошло ли до вас это первое, вернее, единственное послание. Надеюсь, что да, ибо в нем ключ к тайне господина Синтеза, — планы на будущее, цель экспедиции, а также характеристика его окружения. Кроме всего прочего, письмо это являлось свидетельством того, что ваш агент, не отличаясь другими достоинствами, все же сделал все от него зависящее, дабы ревностно выполнить полученное задание. Собрав обширную информацию о личности старого ученого, убедившись, что его экстравагантная идея[370] создать свой собственный мир не несет в себе угрозы государственной безопасности, я мог бы или, во всяком случае, должен был бы вновь заступить на свой пост в Центре. К сожалению, обстоятельства, совершенно не зависящие от моей воли, до сих пор мешали моему возвращению. Говорю «к сожалению», но не следует думать, что, застряв в Коралловом море, я горько сетую на судьбу; каждый новый день дает такую пищу моей любознательности, что это смягчает тоску по родине. Короче говоря, моя ностальгия имеет вполне благодушный характер. Надо сказать, — а искренность велит мне ничего от вас не утаивать, — я являюсь сейчас свидетелем драмы, написав которую любой драматург составил бы себе состояние. И развязка ее близка. Драма эта, куда более захватывающая и заслуживающая более многочисленной публики, чем любая пьеса из репертуаров наших театров. Я иногда прихожу в отчаяние от того, что являюсь единственным незаинтересованным зрителем на диво хитроумно сплетенной интриги. К тому же не следует употреблять определение «незаинтересованный» в прямом смысле слова, ибо я, помимо своей воли, стал хоть и пассивным, но соучастником происходящего и, по окончании дела, вынужден буду принять участие в дележе головокружительного клада, слухи о котором разжигают безумные страсти и всеобщую алчность… Я лишен права выбирать, тем более рассуждать и под страхом смерти вынужден присутствовать при развитии этой драмы, — все видеть, все слышать и лишь в самую последнюю очередь получить воздаяние за свое пассивное созерцание. Надеюсь только, что мне доля будущего богатства достанется нисколько не предосудительным образом. Припоминаю название одного водевиля: «Эзеб, или Кабриолет поневоле». Драму, в которой я невольно участвую, можно озаглавить: «Три икса, или Капиталист поневоле». Бедный папаша Синтез! Слово чести, этот старый ученый педант вызывает у меня сочувствие, тем более с тех пор, как я узнал, что вскоре он падет жертвой кучки мерзавцев. Если бы мне не было известно, как Синтезу претит все, что так или иначе связано с полицией, я поспешил бы его предуведомить о готовящихся кознях. Но он не поверит мне. Этот человек способен при первых же словах приказать отправить меня на глубину ста саженей с ядром, привязанным к ногам. Поэтому я, чтобы ввести Мэтра в курс дела, дожидаюсь возвращения капитана Кристиана, славного малого, немного наивного, но, во всяком случае, человека непредубежденного. Ах, лучше бы он поторопился. Время не ждет… Итак, приступаю к последовательному изложению нашей драмы. Перо мое бессильно начертать на бумаге слова, которые соответствовали бы мыслям, что снуют в моей голове, но вот действующих лиц с их страстями, жаждой наживы и отсутствием моральных устоев позвольте вам представить. Личность наиболее замечательная — мой коллега, лжепомощник кочегара, вернее, помощник кочегара по убеждениям. Во всяком случае, он не метит в денежную кубышку, при мысли о которой его дружки теряют голову. Это не мешает ему оставаться человеком, лишенным того, что мы называем предрассудками, и способным при случае, если замыслит, пойти на любую крайность. Я описывал вам и его, и обстоятельства нашего знакомства в те уже ставшие далекими времена, когда мы подносили кочегарам уголь в плетеных корзинах. Кажется, он действительно урожденный принц, ставший изгоем. Он вообразил, — как я вам писал, — с поводом или без повода, что господин Синтез — виновник его падения, вследствие чего испытывает к старику такую яростную ненависть, какую мы, европейцы, и представить себе не можем. Уже давно этот бывший принц пытается отомстить господину Синтезу, но к нему, простому смертному, невозможно и подступиться без достаточных оснований — телохранители, люди неподкупные, ни на миг не оставляют хозяина одного. Правда, наш мститель, нетерпеливый и хитрый, как тигр, выбрал правильную тактику; он ловко проник в самое сердце событий, то есть на корабль, и остался на нем никем не замеченный, а стало быть, вдвойне опасный. Так, гонимый жаждой мести, он встретил внучку господина Синтеза — очаровательную особу в стиле Офелии — и безумно в нее влюбился. Я говорю «безумно», поскольку мне не хватает более сильных выражений, чтобы передать всю напряженность этой доведенной до крайности страсти. Настоящий солнечный удар, полученный на экваторе. Если вы думаете, что такое сильное чувство к единственной внучке заклятого врага смягчит его ненависть, то вы сильно ошибаетесь. Эти люди, в отличие от, нас, вылеплены из другого теста, они крепки, как бронзовые двери их пагод. От любви его ненависть лишь увеличилась, а от ненависти — возросла любовь. Здравомыслящий сын старой доброй Европы в подобном случае заключил бы мир и лаской попытался бы обратить своего врага в доброго папашу. А мой индус положительно взбесился. Холодное бешенство — вот что самое страшное… В довершение всего, тот идеальный человек, чьи предки эволюционируют сейчас в лаборатории господина Синтеза, предназначается в мужья (что, по-моему, более чем проблематично) внучке старого ученого. И, следовательно, если бы мой друг по всем правилам просил бы ее руки, господин Синтез не стал бы с ним и разговаривать. Потому-то индус даже во сне мечтает убрать старика с дороги, нимало не заботясь о том, как посмотрит на это его избранница. Кстати, я думаю, да простит меня Бог, что наш принц палец о палец не ударил, чтобы вызвать у девушки хоть намек на симпатию к себе. Как бы там ни было, но он жаждет получить ее, предварительно укокошив старика. Эти люди хуже тигров и не имеют ни малейшего представления об общественных отношениях, во всяком случае, в нашем понимании этого слова. Однако не подумайте, что сей юноша просто фанфарон и что его ненависть — пустое бахвальство. Отнюдь нет. Один раз из-за него господин Синтез, несмотря на все принятые предосторожности, чуть было не отправился к своим предкам. Однажды старик предпринял подводное погружение в сопровождении ассистента-зоолога в хитроумно сконструированном подводном аппарате, обеспечивающем, казалось бы, полную безопасность. Индус не долго думая отправил обоих ученых на дно, и вот как это произошло: в тот момент, когда аппарат с людьми, именуемый «Морским кротом», пребывал под несколькокилометровой толщей воды, принц умудрился, уже не знаю каким способом, перерезать стальной трос, с помощью которого их должны были поднять со дна. Я видел, как он неоднократно нырял с носа судна, что-то делал под водой, а когда выныривал, из носа у него шла кровь, так длительны были эти погружения. Этот дикарь с легким сердцем и без малейших угрызений совести пожертвовал жизнью биолога, хотя тот не сделал ему ничего плохого. Как вспомню, до сих пор мороз пробирает по коже! Господин Синтез и его спутник спаслись чудом, чем несказанно разозлили убийцу, который в тот же вечер сказал мне: — Ну что ж, хорошо, я все начну сначала. То ли господин Синтез бросил ему вызов, то ли старику неимоверно везло, но все новые попытки этого мрачного типа не имели успеха. Отчего его характер стал, если это только возможно, еще более мрачным. Два из трех кораблей ушли с атолла в неизвестном направлении (жалкие помощники кочегара не имеют право знать секреты богов). На одном из судов вывезли китайских кули, на другом отбыла мадемуазель Ван Прет, внучка господина Синтеза. После ее отъезда приятель мой пришел в еще большее исступление. Но нет худа без добра, ибо с тех пор он, казалось, на короткое время разоружился. Обыкновенное перемирие. Но, вне всякого сомнения, чтобы разом со всем покончить, военные действия возобновятся после возвращения бедняжки. Под словами «разом со всем покончить» пылкий влюбленный подразумевает: убить господина Синтеза и капитана Кристиана, в котором мой напарник нюхом чует соперника, а затем овладеть девушкой, ее согласие в данном вопросе для него не требуется. Если бы автор этого плана в сложившейся ситуации мог рассчитывать только лишь на собственные силы, то я, в случае надобности, обязательно вмешался бы в последний момент и поговорил бы с ним по-мужски, взяв на себя роль благородного господина, который в мелодрамах карает порок и способствует торжеству добродетели. Но в настоящее время добиться классической развязки и согласно всем правилам драматургии закончить пятый акт невозможно, потому что этот злополучный принц имеет теперь опасных сообщников; им достаточно его слова или жеста, чтобы немедленно укокошить меня. Увы! Я не Дон-Кихот. Да к тому же все эти мерзости происходят не на территории Франции, и поэтому не стоит играть в геройство, изображать из себя сторожевую собаку ради людей, со всех точек зрения мне безразличных. Позже, если обрету точку опоры, буду действовать из гуманных соображений — предупрежу капитана Кристиана и, в случае нужды, помогу ему. Но пока я одинок и ничего не могу поделать. Что касается сообщников моего приятеля, это целая история, и ее следует рассказать в мельчайших подробностях, поскольку она красноречиво характеризует небезызвестного вам господина Синтеза, в котором, надо сказать, я сильно разочаровался. Но перейдем к фактам. Профессору зоологии по неизвестным мне причинам пришлось отправиться в довольно продолжительную научную экспедицию. Господин Синтез предоставил в его распоряжение паровой баркас и необходимое количество матросов. Так как мы уже долгое время томились в бездействии, а у остальных членов экипажа дел было по горло, нас послали в экспедицию в качестве кочегаров. Такое вот продвижение вверх по служебной лестнице. Капитан нашего корабля принимал участие в экспедиции как зоолог-любитель и, ясное дело, командовал баркасом. Мне понадобилось совсем мало времени, чтобы заметить, какая близкая дружба связывает капитана и Роже-Адамса, сына известного вам знаменитого ученого. Такая близость между людьми, не имевшими решительно ничего общего, казалась странной, с первого взгляда во всяком случае. Капитан — голландец, круглый словно бочонок, выпивоха с вульгарными манерами, не интересующийся ничем, кроме своей профессии. Но при этом вид у него хитроватый, как у барышника из Нижней Нормандии. Я лично опасаюсь подобных толстяков с их поджатыми губами, глазами-буравчиками, елейными речами, сдержанными и чопорными жестами. Другой же — университетский преподаватель, светский щеголь, педант, очень себе на уме, но в конечном счете человек эрудированный, напичканный, словно целая библиотека, всевозможной информацией. Смутно предчувствуя какую-то тайну и не имея иных развлечений, я стал наблюдать за этой парочкой, одновременно делая вид, что по горло занят идиотской работой кочегара. Признаюсь, поначалу казалось, что мои подозрения беспочвенны — слишком долго я совершенно безрезультатно не спускал с них своего полицейского ока и востро держал свое полицейское ухо. С раннего утра до позднего вечера баркас сновал между низкими островками и рифами мадрепорического происхождения. За нами день и ночь волочилась траловая сеть, приносившая более-менее интересные образцы морской фауны. Часть из них помещали в специальный резервуар с водой, других использовали в пищу. Особей, не представлявших ни научного, ни гастрономического интереса, выбрасывали обратно в море. Между тем мы подошли к красивым и плодородным островам, на которых перегнившие водоросли образовали толстый слой гумуса, что благоприятствовало появлению на них богатой флоры. Основные обитатели этих островов — рептилии[371], ящерицы и ракообразные. Зоолог, млея от удовольствия, беспощадно их отлавливал и присоединял к коллекции. Наш баркас вскоре стал напоминать настоящий Ноев ковчег[372]. Капитан принимал живейшее участие в поиске этих тварей, чье присутствие на судне становилось чем дальше, тем более тягостным. Казалось, его увлечение зоологией изо дня в день возрастало. В конечном счете оно и к лучшему, изучение естественной истории — дело чрезвычайно захватывающее, способное увлечь даже голландца, до сих пор подразделявшего всех животных на съедобных и несъедобных. Я же досадовал, что до сих пор ничего не выведал об этих либо вполне порядочных, либо очень осторожных людях. Инстинктивно чувствуя «нечто» и пророчески говоря себе, что разгадка тайны мне по плечу, я выжидал. И наконец мои усилия увенчались успехом. Путешествие длилось уже почти неделю, когда в один прекрасный день наш индийский принц оступился и упал за борт. Думая, что для такого прекрасного пловца это пустяк, я ждал, когда он вынырнет на поверхность. Но время шло, а бедняга все еще пребывал под водой. Гибель человека — пусть малоинтересного, пусть даже преступника — всегда тягостное и за душу берущее зрелище. И сколько бы я ни уговаривал себя в том, что эта неожиданная смерть — промысел Божий, что она очень кстати отводит угрозу от господина Синтеза, я все же оплакивал этого красавца, еще совсем недавно полного сил. Бесплодные поиски продолжались уже минут десять, стало ясно: все наши надежды тщетны. — Всего-то и делов, что какой-то индус! — как бы в утешение заявил капитан. — Мне казалось, он — европеец, — откликнулся профессор зоологии. — Под слоем угольной пыли можно и не распознать. Однако в корабельных списках он значится как индус. В это время вытащили трал. — Черт побери, а вот и наш парень! — воскликнул капитан, заметив лжекочегара, запутавшегося в ячейках сети и буквально задавленного огромными рыбинами. Теперь меня не удивляет, что он не смог выкарабкаться! Господин Роже-Адамс, надо отдать ему должное, вел себя надлежащим образом. Не ответив капитану, он поспешил разрезать сеть, вытащить утопленника и оказать ему весьма профессионально неотложную помощь. Но, несмотря на самые энергичные меры, пострадавший долго не подавал никаких признаков жизни. — Да оставьте вы этого утопленника! — снова вмешался капитан с чудовищным эгоизмом европейца, привыкшего торговать восточными людьми. — Он — человек, капитан! — не без достоинства возразил господин Роже-Адамс. Слово чести, это было сказано так веско, что я готов был восхититься, но вдруг заметил, как зоолог сделал тупице голландцу знак, могущий означать: «Вы что, тронутый, мой бедный капитан?» — Человек — венец природы! — как ни в чем не бывало, подхватил капитан, без сомнения, поняв посланный ему сигнал. — Буду признателен, если вы прикажете перенести беднягу вон на тот островок. Там мне будет удобнее привести его в чувство. — Как вы думаете, он очухается? — Надеюсь, что да, капитан. Мне кажется, кровообращение восстанавливается… Но поспешите, прошу вас! Принца перенесли на коралловый остров, а мы, крайне заинтригованные, остались на судне, недоумевая, зачем зоолог до седьмого пота трудится, растирая нашего товарища, в то время, как проще было бы использовать нас поочередно для этой тяжелой работы. (С радостью сообщаю, что позже я нашел ключик к этой загадке.) Не прошло и часу, как сознание вернулось к моему приятелю. После долгого разговора с капитаном и профессором индус вернулся к нам в полном здравии, промытый изнутри, растертый докрасна, в расцвете всех своих сил. Он, поев за обе щеки, скромно занял свое место у машины и принялся вновь крошить уголь, чтобы измазать лицо и руки в столь им любимый черный цвет. Я горел нетерпением остаться с беднягой с глазу на глаз и расспросить о случившемся, поскольку от меня, как от своего сообщника, он ничего не скрывал. К счастью, капитан сообщил нам, что ввиду чрезвычайного происшествия после обеда мы будем свободны и можем прогуляться по заросшему кокосовыми пальмами островку. Воспользовавшись этой неожиданной удачей, мы вскоре оказались вдвоем, и мой приятель, не делая никакой тайны из своего приключения, так подробно мне все пересказал, что я вольно или невольно стал как бы его соучастником. Видимо, одурев от радости, на сей раз он был слишком говорлив. Не стану детально излагать его историю, ибо тогда мой доклад превратится в целый роман. Сообщу лишь самое главное. Ранее я писал, что мой новый знакомец, если стереть с него толстый слой копоти, являл собою совершенный тип красоты, все еще встречающийся в Индии. Не стану распространяться по этому поводу — я смогу создать лишь поверхностный и лишенный поэзии образ. Стоило профессору зоологии увидеть бездыханным это тело — воплощение людской красоты, как дьявольский план зародился у него в голове. «Мне необходимо вернуть нашего красавчика к жизни», — подумал он про себя в то время как потерпевшего по его требованию несли на островок — подальше от посторонних глаз и, особенно, ушей. Энергично применяя к утопленнику все способы реанимации, зоолог изложил свой план капитану, который, должно быть, целиком и полностью его одобрил, потому что, когда индус очнулся и с удивлением обнаружил, что жив, между его спасителями царило полное единомыслие. Первыми словами принца были проклятия в адрес господина Синтеза, затем, со странным выражением нежности и сожаления, он произнес имя его внучки. — Ну и ну, — заметил профессор зоологии, — он, если не ошибаюсь, страстно влюблен в девушку! — И враг старика… Все складывается как нельзя лучше. Мы еще к самому главному и не приступали, а дело уже в шляпе! — Так ты, парень, — капитан обратился к испуганно глядевшему на него индусу, — так сильно ненавидишь хозяина? — Я готов съесть его сердце, даже если б оно еще билось… — А ее? — Замолчи. Что тебе за дело до моей ненависти к нему и до моей любви к ней?.. — Ты об этом только что говорил. — Повторяю — что тебе за дело! Ты — раб этого проклятого старика, и ты знаешь мой секрет… Можешь снова бросить меня в воду! Я не боюсь смерти. — Не о том речь. Скажи, мой мальчик, разве не хотелось бы тебе одним махом удовлетворить обе страсти, составляющие, как мне кажется, смысл твоей жизни? — Что надо для этого сделать? Говори, я готов на все. — Понадобятся кое-какие предварительные пояснения, которые могут оказаться не по силам твоему интеллекту. — Я вовсе не тот, за кого здесь себя выдаю. Нет, я не пария, я учился в ваших школах и кое-что понимаю в науках. — Вот и отлично! Знай же в общих чертах — подробности узнаешь позже, — что господин Синтез вознамерился в некотором роде искусственным путем сотворить в своей лаборатории человека. — Знаю, мой товарищ рассказал мне об этом. — Ах, значит, у тебя есть товарищ, то есть сообщник! — Да, один европеец, детектив. — Вот как?! — воскликнул пораженный профессор зоологии. — Нами интересуется полиция?! — Нет, больше не интересуется. — Впрочем, не важно. Но нам следовало бы с ним познакомиться. — Скажи сперва, что ты намерен со мной делать. — Это справедливо. Так вот, этого человека, этот продукт лабораторного опыта, старик замыслил отдать в мужья своей внучке. — Я убью его! — Не убьешь, потому что сам займешь его место. — Не понимаю. — Сейчас объясню, но будь добр, не перебивай меня. Опыт подходит к концу, сильно сомневаюсь, что эта теория эволюции господина Синтеза будет до конца реализована на практике. Но так как наши интересы требуют пусть внешнего, но эффекта, ты в назначенный час проникнешь под стеклянный купол и спрячешься в зарослях водорослей (я сам займусь постановкой этой сцены). Появившись в нужный момент, ты станешь идеальным человеком, о котором так мечтает господин Синтез. Благодаря нашему спектаклю он примет тебя с распростертыми объятиями, а мадемуазель Анна, как ей и подобает, выполнит волю деда. Претендент ты хоть куда, и, думаю, у нее не возникнет возражений. Не правда ли, план не из трудных. — Да. И даже слишком… Но каковы ваши условия? Ведь не из любви же ко мне все это затевается. — Черт побери! Не в бровь, а в глаз. Одно удовольствие иметь с тобой дело. Известно ли тебе, что господин Синтез сказочно богат? — Меня это не интересует! — Зато нас очень интересует. Даже малая часть его состояния для меня и для добрейшего капитана была бы огромным богатством. — Так, значит, вы жаждете денег? — спросил индус с плохо скрытым презрением. — Каждому — свое. На борту находятся неисчислимые запасы золота и бриллиантов. Ты добудешь для нас часть сокровищ на сумму, которую мы позже оговорим. Ну как, согласен? — Согласен. А Синтез… Что мне потом делать с Синтезом? — Решай сам. Мы исполним твои самые заветные желания, ты же поможешь нам разбогатеть. Остальное нас не касается. Став членом семьи, выкручивайся как хочешь. — А если Синтез заподозрит обман? — Об этом не беспокойся. Я уверен, что сумею его убедить в чем угодно. — Но она!.. Когда она вернется? — Ее ожидают совсем скоро, со дня на день. Есть у тебя еще возражения? — Ни малейших. Если все будет так, как вы говорите, я исполню любые ваши приказания. — Кстати, как насчет детектива? — Я не хочу, чтоб ему причинили вред. Он когда-то спас мне жизнь. — Если ты ручаешься за него, мы его озолотим. Если же он человек неверный и вздумает нас предать, мы от него избавимся. Не правда ли, капитан? — Да. — За детектива отвечаю я!
Вот вам, господин префект, в общих чертах ситуация, в которой я оказался. И теперь, заканчивая рапорт, повторю: «Бедный папаша Синтез!» Нечего сказать, благоразумно он поступил, облекши своим доверием этих двух негодяев, связавших его по рукам и ногам! Я всегда опасался капитана, но зоолог казался мне человеком порядочным. Вот уж не ожидал, что наследника столь громкого в науке имени, чтимого два поколения кряду, жажда наживы может толкнуть на такие поступки! Ну как не удивляться подобному отсутствию каких бы то ни было нравственных устоев?! И такие людишки еще смеют гнушаться нами, полицейскими! Но философию в сторону. Итак, я невольно вовлечен в подлый заговор, результатом которого может стать убийство или даже несколько убийств. Развязка близится, и боюсь, как бы она не была ужасной. Ах, если бы капитан Кристиан воротился на атолл! Если бы к господину Синтезу легче было подступиться! Если бы ассистент-химик, мой бывший профессор взрывчатых наук, не был бы таким чудаковатым! Однако надеюсь улучить момент и вступить в борьбу, хотя риску в сложившейся ситуации многовато. Но не могу же я сбрасывать со счетов заботу о сохранности собственной шкуры… В ожидании того дня, когда я буду иметь честь явиться в Центр и вновь предоставить себя в ваше распоряжение, примите, господин префект, изъявления глубочайшей преданности от вашего номера 32.
P. S. Возможно, я припишу к этому письму постскриптум, если не найду способа раньше его переправить.
ГЛАВА 7
Плачевная история. — Родители Анны. — Умершая от горя. — Негодяй. — Страх за будущее. — Дедушка. — Почему возникло Великое Дело. — Новый Прометей. — Зачем искать так далеко?.. — Неожиданные осложнения. — Воспоминание об «Инде». — Проклятая семья. — Подвиги негодяя. — Славные братцы. — Над господином Синтезом нависла серьезная опасность. — В Куктауне. — Комедия, предшествовавшая драме. — Тайны объяснены. — После катастрофы с «Годавери». — Кули возвращаются на родину. — Пан или пропал. — В направлении Кораллового моря.То, что господин Синтез при всяком удобном случае демонстрировал к искателям руки его внучки, какими бы достойными людьми они ни были, не только недоверие, но и определенное предубеждение, имело свои основания. Когда-то старик испытал жестокое разочарование. Его единственная дочь, в течение восемнадцати лет доставлявшая ему только радости, к которым так чувствительны старики, получила предложение руки и сердца от блестящего офицера, моряка голландского флота, недавно вернувшегося из Индии. Поскольку девушка благосклонно отнеслась к сделанному по всем правилам предложению этого человека, встал вопрос о свадьбе. Будущий супруг, хоть и не обладавший крупным состоянием, носил почтенное имя, был в довольно высоком чине и имел весьма привлекательную наружность. Любя свою дочь и владея многомиллионным богатством, господин Синтез поддержал ясно выраженное желание девушки выйти замуж, думая про себя: «У меня станет двое детей». Никогда еще так щедро не одаривали молодых, что, безусловно, должно было способствовать самому безоблачному счастью. К тому же эта пара на удивление хорошо смотрелась: оба красивы, оба очень умны и так богаты, что всю жизнь могли, не считая денег, утопать в роскоши. Все, казалось, предвещало полное и длительное счастье. Но, увы, никогда еще брачный союз не был столь несчастливым, а выбор — таким неудачным. Несмотря на красоту, внешний лоск, строгое воспитание, полученное в почтенной семье, господин Хендрик Ван Прет, муж несчастной девушки, был законченным мерзавцем. Его репутация истинного джентльмена? Ложь! Его любовь к невесте? Ложь! Его порядочность? Еще и еще раз ложь! Корыстолюбец, игрок, распутник, пьяница, лицемер, короче говоря, человек порочный, как каторжник, он прикарманил царское приданое, не испытывая ни малейшей симпатии к очаровательному созданию, питавшему к нему безграничную привязанность. Ах, как ловко подлец притворялся, играя роль воздыхателя! Сразу же после свадьбы картина резко изменилась. Негодяй оставил всякое стеснение, все его ранее подавляемые инстинкты проявились с возмутительной наглостью. Он решил, что теперь церемониться нечего, сбросил маску и предстал в своем истинном виде. Наивная, как ребенок, с колыбели окруженная обожанием, бедная молодая женщина, рожденная для любви, но теперь отвергнутая, покинутая грубияном мужем, получила незаживающую сердечную рану. Но, наделенная характером столь же героическим, сколь и гордым, она не проронила ни единой жалобы, старательно скрыла свою беду от отца. Господин Синтез безумно любил дочь, видел, как молодая женщина медленно угасает; отчасти догадываясь о том, что происходит на самом деле, он ловко задавал ей вопросы, надеясь на откровенное признание, но ничего не добился. Его дочь страдала в одиночку. Она таяла, как свеча, а бедный отец, проклиная свою в первый раз бессильную науку, только в последний момент узнал ужасную правду: умирающая проговорилась в бреду. Старик использовал самые сильнодействующие средства, в том числе и подвластный ему гипноз, который лишь нынче стал с большим успехом широко применяться врачами. В данном случае все было напрасно: любое потрясение могло привести к катастрофе. Таким потрясением оказалось рождение очаровательной дочки. Девочка, чья колыбель стояла рядом с гробом, наречена была, как и ее мать, Анной. Можно себе представить, что испытывал господин Синтез по отношению к бандиту, убившему его дочь. Старик отказал Хендрику в отцовских правах на ребенка. Считая себя вправе вершить правосудие, Мэтр жаждал мести — око за око и зуб за зуб; он неотступно преследовал несчастного, однако пройдоха сумел скрыться. Два года спустя дошли слухи о том, что Ван Прет был убит во время восстания на Суматре. Это было к лучшему, ибо иначе господину Синтезу пришлось бы предстать перед внучкой обагренным кровью ее пусть и недостойного, но все же родного отца. Легко понять, какой нежностью старик, получивший такой удар, окружил ребенка. Наблюдая, как внучка изо дня в день подрастает, он не спускал с нее глаз, радовался ее первой улыбке, первому лепету, приходил в отчаяние от малейшего крика и пустячной царапины. Ради нее знаменитый ученый мог бросить даже свою работу, какой бы интересной она ни была — ему хотелось уделить внучке все свое внимание и все свое сердце. Рядом с девочкой семидесятилетний дед сам превращался в ребенка. Он принимал участие в ее играх и в ее обучении, начавшемся сразу же, как Анна сделала первые шаги и заговорила. Господин Синтез был вознагражден за все свои заботы огромной, безграничной любовью этого хрупкого создания! Во внучке мало-помалу воскресала дорогая покойница, чья грация, доброта, нежность, непосредственность и ум были когда-то ему отрадой. Ничто, решительно ничто в ее облике не напоминало об изверге, чье имя она носила, правда, и имени было достаточно! Однако годы шли, девочка превращалась в пленительную девушку, и господин Синтез чувствовал, как его опасения, чтобы не сказать страхи, растут. Хоть время отчасти и приглушило боль, хоть дитя постепенно, не убив воспоминаний, заняло место своей матери, сердечная рана не зарубцевалась, несмотря даже на чудесное перевоплощение… Господин Синтез волновался и переживал все чаще и чаще — ведь его девочка входила в тот возраст, когда жизнь ее матери была разбита. Наученный горьким опытом, зная, что не сможет превозмочь законы природы, ведущие в конечном итоге к фатальному исходу, старик горестно вопрошал себя: не покинет ли его и это дитя? К тому же господин Синтез, хотя и был по-прежнему крепок и, казалось, возраст еще долго будет не властен над ним, чувствовал себя старым, очень старым! Впервые, должно быть, он с тоской начал задумываться, что настанет миг, когда ему придется уйти из жизни. Но не сама смерть пугала его. «Бедная девочка, — сокрушался он, — что с ней станется, когда меня не будет?!» Увы, людям в годах приходится терзаться подобными заботами, если их уход лишает помощи и опоры несовершеннолетних детей… Кому доверить эту безупречную красоту, эту добрую душу? Кто способен понять, оценить по достоинству столь хрупкую натуру и почти болезненную впечатлительность, полученную в наследство от матери?.. Сыщется ли в целом мире мужчина, обладающий не только должными душевными качествами, но и добродетелями, способными составить счастье этой очаровательной особы; сможет ли он любить ее всю жизнь, окружая той, нежностью, к которой она привыкла и которая у нее в крови с самого рождения? Господин Синтез, последний представитель долгой и славной династии ученых, наследник их традиций, их работ и открытий, совершенно искренне полагал, что лишь для науки нет ничего невозможного. Давно уже физика и биохимия, находящиеся сегодня в младенческом состоянии, были для него открытой книгой. Трансцендентная физиология, изучающая выработку мысли, механизм восприятия, потаенные связи материи и духа, функции мозга и так далее, — все это с самого начала не являлось для него тайной за семью печатями, равно как и теории наследственности, еле-еле сформулированные нынешними научными школами. Поэтому совсем неудивительно, что в голове у Мэтра родилась эта на первый взгляд абсурдная идея — создать искусственного человека. Человека ни хорошего, ни плохого, не знающего ни добра, ни зла; человека, чей мозг никогда не работал, чье тело не таит в себе ни одного атавистического ростка наследственных болезней, чья девственная душа будет замешана таким образом, чтобы сразу же воспринять самые возвышенные представления о красоте, величии и порядочности. Этот мужчина, — как надеялся ученый, — будет обладать всеми возможными и невозможными совершенствами. Как новый Прометей, старик вдохнет в него дух и с первых же минут внушит ему идею восхищения и преданности, идею любви к своей внучке. А как же иначе? Ведь его творение станет мужем Анны. Вот зачем нужно Великое Дело. Безумие! — скажете вы. Будь по-вашему. Но безумие грандиозное и даже трогательное, а если принимать во внимание предыдущие научные достижения Мэтра, в случае успеха способные принести ему неслыханное, оглушительное беспрецедентное признание… К сожалению, все было не так гладко, как хотелось бы господину Синтезу: работы продвигались вперед не без серьезных осложнений, не было недостатка и в горьких разочарованиях. Несомненно, самым тяжелым испытанием для старика был отъезд Анны. Сколь ни велика была эта жертва, он пошел на нее, видя, как сильно пошатнулось здоровье девушки. Слишком уж были свежи в его сердце воспоминания об умершей, чтобы не заметить, как болезнь внучки походила на болезнь, которая свела в могилу ее мать, — то же увядание, та же потеря аппетита, та же вялотекущая лихорадка. К счастью, другой была причина заболевания, а значит, оно подлежало лечению. Но лекарства приходилось искать в перемене образа жизни. Необходимость заставляла расстаться. Старик, зная об отваге, неисчерпаемой доброте и верности капитана Кристиана, не колеблясь доверил свое дитя попечениям достойного моряка. Зачем было так далеко искать совершенного человека, — скажут многие, — когда само воплощение долга и благородства находилось здесь, под рукой, являя собой живой упрек всем, кто его недооценивал. Кристиан, друг детства Анны, был тем человеком, кто с того самого момента, когда господин Синтез взял его под свое попечение, постоянно проявлял сначала к ребенку, потом к девушке не только глубокое почтение, но и постоянное обожание. Разве он не возместил бы старику все когда-то пережитые горести и перенесенный позор? Разве не был бы капитан Кристиан тем идеальным опекуном, которого искал Мэтр? Разве Анна не согласилась бы с таким решением? И кому, кстати говоря, нужна была бы эта морская прогулка, принесшая больной столько необычайных несчастий, столько непредвиденных катастроф? К тяжелой ситуации Мэтра, терзаемого продолжительнымотсутствием внучки, вскоре добавились и новые неприятности… Нам с вами уже известно о подлом заговоре временного командующего Ван Шутена, профессора зоологии и индийского принца, чьей ненавистью не следовало пренебрегать. Но это еще не все. Читатель, надеюсь, не забыл об «Инде», захваченном взбунтовавшимися китайцами, незадолго до того, как вблизи берегов Малакки потерпела кораблекрушение «Годавери»? Так вот, у этих разбойников были далеко идущие планы. Но не будем забегать вперед и расскажем все по порядку. «Тагаль» был судном двойного назначения, оснащенным не только для ловли голотурии, но и для ловли рыбы в мутной водице, то есть для пиратства, которое, как уже говорилось ранее, пышным цветом процветало в малайских водах. Суденышко это вовсе не случайно, как можно было думать, оказалось близ Буби-Айленда, приюта потерпевших кораблекрушение. Покажется невероятным, но капитан «Тагаля» был заранее осведомлен не только о личности господина Синтеза, но и о его проектах. Каким образом? — спросите вы, но подождите, не будем забегать вперед. Сначала познакомимся с этим злодеем поближе. Опытный моряк, однако, человек, лишенный малейших признаков совести, бывший поочередно контрабандистом, партизаном, торговцем цветными, при случае — ловцом трепангов, но чаще и охотнее всего — пиратом, был трижды приговорен к смерти в Америке, в Китае и в Индии. За мошенничество изгнанный из португальских колоний, господин Ван Прет[373] должным образом увенчал свою карьеру, похитив у господина Синтеза один из его кораблей и перебив на нем всю команду. Снова Ван Прет! Неужели однофамилец?.. У Хендрика Ван Прета, недостойного отца Анны, был брат, тоже моряк. Такой же подлец, не имевший ни стыда ни совести, он был с позором изгнан из незапятнанного королевского морского корпуса Нидерландов. Звали этого брата Фабрициус. После женитьбы брата на дочери господина Синтеза, осыпая знаками внимания свою уже тогда начавшую хворать невестку, лицемерно взяв на себя роль утешителя, он сумел провести бедную девочку, которая охотно представила его своему отцу, заранее расположенному к нему из-за такого с виду бескорыстного и доброго отношения к дочери. Мерзавцу удалось, притворившись честным добряком, втереться в доверие к ученому и выколотить из него значительные суммы денег. В тот самый день, когда бедняжка скончалась, шурин, воспользовавшись смятением, вызванным этим несчастьем, прикарманил все ценное, что попалось под руку: деньги, ювелирные украшения, драгоценные камни, безделушки — и скрылся. Награбленное быстро разлетелось в различных притонах, после чего Фабрициус занялся всякими махинациями, пытаясь, но безуспешно, разбогатеть, принимал участие во множестве грязных делишек, неоднократно приводивших его за решетку, и даже оказался замешанным в убийствах. Дальше ехать было некуда. После бесчисленных превратностей негодяй, под вымышленным именем, без гроша в кармане очутился в Европе в тот момент, когда господин Синтез знакомился с командой, набранной для его экспедиции. Нюхом почуяв подходящий случай, он, добравшись до Парижа, раздобыл довольно важные сведения насчет старика и вернулся обратно в Гавр, где повстречал американца мастера Холлидея, своего бывшего компаньона, когда-то ограбленного им до нитки в Макао. Холлидей теперь командовал шхуной, перевозившей лесоматериалы. Американец великодушно решил закрыть на прошлое глаза, и тут старый товарищ поведал ему, какой лакомой добычей является господин Синтез для тех, кому чужое добро всегда служит приманкой. Целыми днями слоняясь вокруг пришвартованных в доках судов, Ван Прет и Холлидей наблюдали за тем, как поднимается на борт команда, и с громадным удивлением узнали под личиной помощника кочегара индийского принца, с которым раньше имели дело по поводу одного выгодного для них убийства. Наши приятели побывали и кондотьерами[374], предлагавшими свои «услуги» всем, кто захочет их купить. Вышеупомянутый принц запомнился им лишь по тому презрению, с каким вместо себя подставил под нож одного бедолагу, имевшего с ним поразительное сходство. Зная, что флотилия господина Синтеза направляется к берегам Австралии и снаряжена для длительного там пребывания, они решили опередить его корабли и первыми достичь великого океанского континента. С решительностью, присущей истинному американцу, мастер Холлидей продал шхуну, положил деньги в карман, и дружки тотчас же поездом отправились в Марсель. Из Марселя — на пароходе в Австралию, куда прибыли значительно раньше, чем господин Синтез дошел до Гибралтара. В Сиднее компаньоны устроили свою штаб-квартиру — отсюда было легче получать информацию обо всех судах, входящих в тот или иной порт (переданные по телеграфу, эти сведения печатались в здешних газетах и давали полную картину морских сообщений всего мира). Последним портом, куда заходил господин Синтез, был Куктаун. С этого момента сведения прекратились. Напрасно два товарища с терпением, прилежанием и сноровкой, достойными лучшего применения, прочесывали побережье, нанимали ловких агентов и щедро им платили, напрасно изо дня в день в течение нескольких месяцев рылись в коммерческих вестниках — нигде и следа этих кораблей не было. Следовательно, суда или затонули со всем своим добром, или бросили якорь в Коралловом море. Ринуться на поиски флотилии было бы верхом безумия. Тем более что, даже разыскав их, завладеть богатствами господина Синтеза с помощью силы не представлялось возможным. Приходилось, соблюдая крайнюю осторожность, терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Вот они и обосновались в Куктауне, не без основания полагая, что рано или поздно старик, желая пополнить запасы топлива и продовольствия, пошлет один или несколько кораблей именно сюда, в ближайший от его таинственной стоянки порт. Но ожидание длилось долго, намного дольше, нежели предполагали разбойники. Они уже начали терять надежду, когда в один прекрасный день в Куктаун зашли «Инд» и «Годавери», идущие в Кантон. Теперь необходимо было занять место на борту. Просто обратиться с просьбой предоставить им каюту значило пойти на риск получить категорический отказ, что, естественно, могло провалить всю операцию. Поэтому негодяи с дьявольской хитростью разработали план, благодаря которому их незамедлительно пригласят на один из кораблей. Да уж, пушки к бою готовились заранее. Злоумышленники могли действовать, не теряя ни минуты. Под их началом было тридцать китайцев, сорвиголов, по которым уже давно плачет виселица. Узнав, что на одном из кораблей господина Синтеза перевозят громадное количество китайских кули, они наказали своим подручным, чтобы те со всей возможной ловкостью смешались с толпой, проникли на палубу и не попадались никому на глаза до выхода судна в открытое море. — О нас не беспокойтесь, мы появимся в нужное время и в нужном месте, — резюмировали свои наставления компаньоны. В ожидании решающего момента они зафрахтовали небольшое быстроходное суденышко с очень малым водоизмещением, занимавшееся ранее ловлей трепангов. Судно все время стояло наготове, чтобы по первому же сигналу поднять якорь и зажечь топки. Когда их люди, под видом грузчиков, проникли на борт «Инда», заговорщики, поскольку путь на Кантон проходил через Торресов пролив, не колеблясь двинулись в этом направлении. Обогнав оба парохода, один из которых, сильно нагруженный, двигался относительно медленно, за пятнадцать часов они дошли до Буби-Айленда, где покинули свое суденышко, спокойно ушедшее на обычный для себя промысел. Ну, а как развивались события в дальнейшем, читателю уже известно.
Став капитаном великолепного судна, Ван Прет и его дружок мастер Холлидей, руководивший машинным отделением, как только улеглась первая радость, осознали, с каким риском связано их безрассудно смелое предприятие. Не желая нарываться на возможные неприятности в битве с охваченной пламенем «Годавери», захватчики поспешили удрать с поля боя и растаять во тьме, надеясь, что корабль капитана Кристиана и без их помощи вскорости пойдет ко дну. Однако позже, по зрелому размышлению, сменившему горячечный задор жестокой борьбы, бандиты засомневались, правильно ли они поступили, отказавшись от схватки, и не лучше ли было бы посмотреть, к чему приведет пожар, а в случае надобности поспособствовать гибели поврежденного корабля. Но почти сразу же налетел свирепый тайфун, усыпивший их подозрения, — очевидно, что «Годавери», изуродованная взрывом и пожаром, не выдержит урагана. Но что будет, если, вопреки всем ожиданиям, «Годавери» не пойдет ко дну и капитану удастся связаться с Сингапуром? Или, если хоть кто-то из матросов спасется и по телеграфу оповестит власти о факте подлого пиратства? Об этом компаньоны и думать не могли без содрогания. Поэтому-то злодеи прежде всего решили при первой же возможности переделать захваченное судно до неузнаваемости. Но пока надо было отделаться от китайцев; продукты питания, вода, уголь на исходе… Казалось, что проще всего сбросить их в море. Но каким образом совершить это массовое убийство? И кто знает, быть может, разохотившись во время происшедшего бунта, они разорвут в клочья двух белых, таким странным образом выполняющих свои обещания? — Сто чертей, — сказал в конце концов мастер Холлидей, наиболее решительный из двоих, или, во всяком случае, больший фаталист[375], — по-моему, следует проследить за сдачей карт и играть по правилам. Будь что будет! — То есть? — не понял его напарник. — Взять курс на Кантон, освободиться от этой нечисти, нанять пару-тройку разбитных молодчиков и плыви себе куда хочешь! — Ладно! Во всяком случае, мы от них или избавимся, или получим вдвойне. Там будет видно. Благодаря стечению ужасных обстоятельств, приведших к гибели «Годавери», бандитам беспрепятственно удалось отвезти кули на родину; часть из них, что-то около десятка, согласились принять участие в будущей экспедиции и послужить проводниками, указав путь между бесчисленными коралловыми рифами. Итак, под началом компаньонов оказалось человек тридцать пять, но команду необходимо было усилить белыми. Вербовка разбойников оказалась делом затяжным, требовавшим рассудительного отбора, — надо было выбрать худших из худших, да к тому же еще и опытных моряков. Также следовало пополнить запасы топлива и провизии. Поэтому большую партию кули пришлось доставить в Сан-Франциско. Отсюда — значительная и неизбежная проволо́чка. Но зато теперь все было готово для экспедиции, которая обещала им огромные барыши. Состоящая из шестидесяти человек, команда горела желанием тронуться в путь. Прибыв из Сан-Франциско в Кантон, «Инд», высадив оставшихся китайцев, взял курс в Коралловое море, где скоро разыграется последний акт ужасной драмы.
ГЛАВА 8
Фантазия австралийской природы. — Утконос парадоксальный. — Четвероногое с утиным носом. — Птица на четырех лапах. — Находка Алексиса Фармака. — Плачевный вид представителя шестнадцатой серии. — Протухший пращур. — Кощунство! — Слишком высокоразвит, чтобы быть съеденным. — Рыба ловится с помощью заступа и плуга. — Боцман Порник не туда ступил и что из этого вышло. — История крокодила, который сожрал австралийского летяга. — Почему вместо обезьяны мы должны удовлетвориться летающим фалангером. — Серия пращуров будет австралийской. — Судно по борту!Одним из самых странных, самых причудливых созданий во всей австралийской природе, вне всякого сомнения, является ornithoryngue paradoxal, или утконос парадоксальный. Четвероногое это или птица? Вкратце ответ можно сформулировать так: птица, которая бегает на четырех лапах и кормит детенышей молоком, или — четвероногое с утиным клювом, откладывающее яйца. Утконос парадоксальный имеет сплюснутое тело длиной сантиметров тридцать и пятнадцатисантиметровый хвост. Все это покрыто рыжеватой шерстью, местами длинной и жесткой, местами мягкой и шелковистой, как у выдры. Передвигается он на четырех коротких, приземистых лапах с небольшой косолапой пястью[376] и длинными перепонками — вот черты, роднящие его с четвероногими. Что касается головы, то она являет собой верх неожиданности: маленькие острые ушки, живые глаза-буравчики и… настоящий утиный или лебединый клюв. Важнейшие внутренние органы (в том числе и половые) в большинстве своем подобны птичьим. Кладка яиц происходит в глубочайшем уединении, которое утконос, животное в основном водоплавающее, находит, устраиваясь на берегах рек. Когда малыши появляются из яйца, мать кормит их молоком и проявляет такую любовь и такую заботу, что ни птицы, ни четвероногие, вместе взятые, не могут соперничать с ней в этом вопросе. После данного, хоть и беглого, но точного, описания можно себе представить, какая шумиха поднялась в ученом мире, когда в 1796 году было открыто это животное. К какому виду его отнести? Какую ступень занимает оно на лестнице животного мира? Правомерно ли считать его птицей? А как же тогда четыре лапы и сосцы, источающие молоко?! Причислить ли его к млекопитающим? Но утиный клюв!.. Но яйца!.. Как бы там ни было, но немецкий природовед Блюменбах, первый, кто серьезно изучил это животное, задумал дать ему гражданский статус, в чем неожиданно и преуспел, назвав его — ornithoryngue paradoxal — утконос парадоксальный. Имя хоть и имело варварское звучание, но было вполне оправданным, ибо подчеркивало взаимное несоответствие его органов. Этьен Жоффруа Сент-Илер[377] широким жестом создал для австралийского животного отдельную подгруппу так называемых монотрем — от двух греческих слов monos — один и trema — узкий проход, и да будет стыдно тому, кто плохо думает… Бленвиль[378] поместил его в подкласс didelphes и утверждал, что утконос вовсе не принадлежит, как думали раньше, к явлениям анормальным, но служит первым звеном в цепи млекопитающих, вернее, промежуточным звеном между двумя видами позвоночных — птицами и млекопитающими. Вполне рациональный подход, лишний раз подтверждающий знаменитое: natura non facit saltus — природа не любит резких скачков! …Итак, в один прекрасный день Алексис Фармак, для которого весь внешний мир сводился к его драгоценной лаборатории, внимательно наблюдал, как работает сложнейший организм огромной машины, поглядывая на тихую гладь лагуны. Достопочтенный ученый, отдавая отчет в важности своих функций, мерял шагами атолл, проверяя показания манометров, гальванометров, термометров, гигрометров и барометров. Он то смазывал шатуны, то выпрямлял кабель, то регулировал нагрев печи, но, не упуская из виду ни приборы, ни обслуживающий персонал, химик был погружен в свои мысли. Да, дни мелькали все быстрее, и Великое Дело, которое ничуть не затормозили многочисленные помехи, как нарочно, следовавшие друг за другом, близилось к оглушительному успеху. До сих пор гений господина Синтеза торжествовал над всеми препятствиями. Бунтарские настроения улетучились как по мановению волшебной палочки — достаточно было одного слова, одного жеста, одного приказа. Никогда еще члены экипажа не были так послушны и так смиренны, никогда еще не работали с таким рвением и с такой отдачей. Загипнотизированные господином Синтезом матросы питались, как и их хозяин, принимая в день десяток пилюль, и чувствовали себя превосходно. Единожды внушенная идея повиновения и необходимости выполнять обязанности крепко засела у них в голове, так что никто не выражал ни малейшего недовольства, видя, как в печах постепенно сгорают последние продукты питания, корабельные снасти, мачты, реи, мостики. Никогда еще общая одержимость не была такой полной, такой абсолютной. Преисполненный оптимизма, Алексис Фармак считал, что все идет как нельзя лучше, несмотря на грохот из морских глубин, становившийся день ото дня все ужаснее, несмотря на затянувшееся отсутствие ушедших кораблей. — Эх, — говорил себе этот добрый малый, — ничто не дается даром. Стоит ли обращать внимание на мелочи, раз все идет прекрасно? Не понимаю, почему юный господин Артур и толстяк капитан так расстраиваются из-за того, что мой славный друг капитан Кристиан до сих пор не вернулся? Стоит ли беспокоиться? Слово чести, эта дрянь зоолог начал уклоняться от работы в лаборатории. Видимо, у него кончился запас крахмальных воротничков, манжет и манишек, а грубая шерстяная рубаха внушает чистоплюю ужас. Да уж, это теперь не тот элегантный красавчик-профессор. В такой ситуации ему, разумеется, не до Великого Дела. Ну, ничего, уж я-то за всех смотрю в оба и буду бдеть, даже если останусь один-одинешенек!.. Стоп! Что я вижу?! Неужели я снова совершил открытие?.. Химик на полуслове оборвал свой монолог, так как его зоркий глаз приметил нечто новое, необычное, до сих пор им невиданное. Откинув брезент, он кинулся под купол, на атолл, помчался по кольцу, рискуя, поскользнувшись, грохнуться в воду, и застыл как вкопанный, глядя на неподвижный предмет в метре от берега. Вид существо имело плачевный — круглое, толстое, распухшее… раскоряченные лапы окоченели, как у дохлых собак, которых несет течение… Вне всякого сомнения, это труп животного… четвероногого. Алексис протянул руку, без малейшей брезгливости вытащил из воды труп, внимательно его рассмотрел, держа за хвост, и тут у него вырывается крик удивления: — Ба! Да это же утконос! Первое млекопитающее! Право слово, можно рехнуться от счастья! И подумать только, я один констатирую факт такой огромной важности, а рядом никого способного понять и оценить происшедшее! Где он, этот чертов зоолог?! Наверняка где-нибудь заперся со своим придурковатым капитаном. И Мэтр запретил к себе входить! Подумать только — утконос! Шестнадцатая ступень развития животного мира! Пусть он мертв, но это не важно! Главное, подтверждается принцип!.. К тому же, если я не ошибаюсь, это любопытное животное обитает исключительно в пресных водах. Он родился в среде, неблагоприятной для его существования, и среда убила его… Это логично и не наносит ни малейшего ущерба теории эволюции, совершенно даже наоборот. Но не могу же я тут торчать и не уведомить кого положено! Сказав это, химик, по-прежнему держа утконоса за хвост, вернулся к входу, через который проник под купол, кинулся к кораблю, где матросы лихо рубили деревянные части на растопку, помчался по лестнице, прыгая через две ступеньки, как смерч ворвался в лабораторию и швырнул труп животного на стол, между зоологом и капитаном. — Ну что, коллеги, узнаете ли вы это?! — воскликнул он. Роже-Адамс водрузил на нос пенсне, поджал губы, чтобы вслух не рассмеяться при виде такой эпической картины, и ответил, как всегда, фальцетом: — Черт побери, да это утконос. Вы разве не знаете? — Да, но… Серия наших пращуров… Первое млекопитающее… — В данный момент именно об этом и речь… Видимо, придется умереть от голода, ведь нас господин Синтез не гипнотизировал и мы не живем за счет его знаменитых пилюль. А больше есть нечего, дорогой. Вам это известно? — Понимаю, но… серия… Вам же все-таки какой-никакой обед подадут… — А из чего его приготовят, скажите на милость? Если бы эта ваша монотрема была жива, из нее хотя бы можно было сделать фрикасе под белым вином. — Фрикасе?! Потреблять в пищу продукт естественной эволюции?! Осквернить Великое Дело?! Это кощунство! — Честное слово, вы голову потеряли! Ну что ж, если настаиваете, я скажу правду… — Замолчите! — внезапно прервал его капитан, шарахнув кулаком по столу. — Умолкаю, капитан. Но вы ведь понимаете, голод не тетка. — Э-э, оставьте. Закинем сеть. Что-нибудь да выловим для зажарки. — Как знаете. Тогда я, чтоб убить время и хоть ненадолго забыть о терзающем меня голоде, пойду и проанализирую этого пращура. Ты смотри, а он основательно протух… — Бедное животное, — с нотками несколько комической растроганности в голосе заговорил химик, — совсем не успело пожить в этой среде. Где ему найти себе пропитание… — Да вы что, шутите? В лагуне — морские водоросли, на них он продержался какой-то период. — Как вы полагаете, когда он появился на свет? — Не менее трех недель тому назад. И уже дня четыре как сдох. Этот интересный представитель австралийской фауны, я хочу сказать, нашей эволюционной серии, дней пятнадцать — восемнадцать вкушал радости своего научного существования.. — Что вас навело на эту мысль? — Признаюсь, я давно ждал появления утконоса и его отсутствие уже начало меня беспокоить. По-моему, он должен был появиться почти одновременно с подотрядом ящериц и почти сразу же вслед за двоякодышащими рыбами. — Однако это же млекопитающее! — Предмлекопитающее. — Будь по-вашему. — Я его рассматриваю как очень любопытный промежуточный тип, набросок, сделанный природой в те времена, когда двоякодышащие рыбы становились амфибиями. Все мы знаем, что до появления млекопитающих произошли великие органические преобразования: например, чешуя превратилась в волосяной покров, сформировались сосцы для кормления приплода. — Да, это так. Ведь первым млекопитающим пришлось выйти на сушу из жидкой среды, в которой они до сих пор жили. — В этом не было необходимости, ведь существуют же водные млекопитающие, среди них — китообразные. — А ведь вы правы! — Как существуют и рыбы, живущие вне воды. Вспомните цератодуса, ведущего попеременно то подводное, то наземное существование. А лепидосирены[379], достигшие еще большего зоологического совершенства, — они даже засуху выносят. Но и это еще не все. Если немного поразмыслить над необычайно интересным вопросом адаптации к более благоприятной среде, мы ежедневно станем замечать примеры того, как животное, бессознательно повинуясь законам природы, производит бесконечное совершенствование вида. И сегодня, кстати говоря, многие рыбы делают попытки завоевать сушу. Один из видов, индийский anabas[380], пытается даже лазить по деревьям. Есть и такие, для которых периодическое существование вне жидкой среды является настоятельной потребностью. На Цейлоне рыбы, в огромном количестве населяющие маленькие высыхающие водоемы, летом зарываются в ил и ждут нового сезона дождей. Там можно присутствовать при весьма странной, не виданной в других местах рыбной ловле с помощью заступа или плуга; сингальцы своими сельскохозяйственными инструментами взрыхляют твердую глину, снимая пласты, под которыми кое-где еще сохранилась влага, и, постепенно отделяя комья, обнаруживают внутри совершенно живых, трепыхающихся рыб. — Из чего вы делаете вывод… — О, никаких выводов! Я просто говорю, что первые млекопитающие — утконосы и ехидны — должны были появиться в триасовом периоде[381] и стать современниками тех рыб, для которых двойное существование стало необходимостью. — Вернемся, если вы не возражаете, к утконосу, чье появление, по-вашему, несколько запоздало. — Да уж, запоздало! По моим расчетам, нам следовало бы ждать появления обезьян! — Обезьян?! Вы так думаете?! — Мы же производим эволюцию, черт подери! Вот я и пришел в замешательство, видя, как все наши усилия, чтобы не сказать все наши страдания, привели к такому жалкому результату, как появление дохлого утконоса! — Однако!.. — Дайте закончить, и вы согласитесь со мною. Если мыслить логически, сначала должны были бы появиться сумчатые — опоссумы и кенгуру, затем — более малочисленная группа лемуров. За неимением лемуров я удовольствовался бы кем-нибудь из более совершенных сумчатых, фалангером например. — За неимением кого?.. — За неимением того, ввиду отсутствия которого я опасаюсь, что Великое Дело может упереться в… хвост утконоса. — Немыслимо!.. — в отчаянье воскликнул побледневший химик. — Хотел бы я, чтобы мои опасения не подтвердились, однако нужны доказательства. — Кто там? — вдруг спросил химик, заслышав, как в дверь дважды громко постучали. — Войдите. А-а, это вы, Порник? Заходите, дружище. — Извините за беспокойство, господа, — проговорил боцман, почтительно снимая берет, — но я только что сделал одну находку, а так как вы занимаетесь всякими тварями, то думаю, что она может вас заинтересовать. — И очень хорошо поступили, спасибо, — откликнулся Алексис, уважавший бретонского моряка. — Расскажите же нам, как это произошло. — Надо вам сказать, что в мои обязанности входит дважды в день осматривать железные леса того большого стеклянного камбуза, что похож на железнодорожный вокзал. И вот я, со всем нашим почтением, обходил дозором вокруг бассейна, точно по инструкции. И глядючи в оба, на все те стыки и на все те стекляшки, — а вдруг они повредились от этих треклятых толчков, — наступил на что-то… Смотрю и вижу — наступил-то я прямо на какую-то тварь, а она-то пасть свою как разинет! Эге, — думаю, — крокодильчик молоденький; салага, но, должно быть, я ему кишки сильно придавил. Знаете ли, когда моряк в обувке, он не чувствует, куда ступает… А тварюка еще потрепыхалась, пастью похлопала и сдохла. Сначала хотел ее в воду скинуть… Да твари ж эти — ваши выкормыши, вот я и подумал: лучше все честь по чести рассказать… — Вы правильно подумали и замечательно поступили, папаша Порник, — сказал профессор зоологии. — Я со своей стороны благодарю вас и гарантирую, что ничего плохого не случится. — Добрые вы люди, господа. Так вот, тварюку эту сдохшую я взял за хвост и принес, чтоб вы ее распотрошили. Тут она, за, дверью, и, если желаете, я вам ее представлю. — Конечно же, папаша Порник, конечно же. — Вот, господа, — после краткого отсутствия продолжил боцман, держа улику кончиками пальцев. — Прекрасно, Порник, вы можете быть свободны. — Мое почтение, господа. — До свидания. — Скажите, коллега, — сказал профессор зоологии, — знаете ли вы, что, сегодня день открытий? — Открытие отнюдь не в подвиде ящериц, потому что мы уже давно знаем об их наличии. — С точки зрения зоологии, согласен. Но с точки зрения кулинарии!.. — Вы всерьез намереваетесь съесть эту жуткую гадину? Она же отвратительна! — Старые крокодилы, да. Но молоденькие, как этот, не должны быть уж совсем несъедобными. Осмелюсь даже заявить, что вкусом они напоминают игуану. И даже если капитан ничего не поймает, мы все равно получим свое фрикасе. Как сказал только что боцман Порник, я выпотрошу эту тварь, но не ради научного интереса, а ради гастрономического удовлетворения. Нам повезло, что этот молодой крокодильчик ничем не был болен и что у боцмана тяжелая поступь. Говоря это, господин Артур взял скальпель, со всегдашней своей ловкостью вспорол брюхо ящерицы, выпустив ей кишки наружу. — Ой-ой-ой! Он счастливее нас с вами, у него полон желудок. Разберемся-ка в его меню. Черт побери! — Что там? — спросил химик. — Попробуйте-ка угадайте! — Сдаюсь. — Так вот, дорогуша, я отказываюсь быть доктором естественных наук и лауреатом всевозможных премий, если это не останки австралийского летяга. — Ну и что с того? — И только? Да вы, милейший, должны были бы быть вне себя от восторга! Ведь я оповещаю вас о факте необычайной важности! — Сначала объясните, в чем дело! — Знаете ли вы, что такое «австралийский летяг»? — Что-то вроде летающей белки… — Австралийский летяг — сумчатое млекопитающее, род фалангера, по бокам которого тянется мембрана, связующая его передние и задние лапы. Когда зверек прыгает с высоты, растопырив лапы, эта мембрана образует парашют, помогающий ему перепрыгивать с дерева на дерево. Отсюда и название — фалангер летающий… — Но я пока ногами не сучу от восторга… — Погодите. Знаете ли вы, что это животное так же совершенно по своей организации, как и обезьяна, об отсутствии которой мы только что сожалели? — Быть не может! — Будьте уверены. Раз нет обезьян, то развитие человеческих предков вполне может, базируясь на наличии австралийских летягов, привести к появлению антропоидов. — После чего предполагается лишь возникновение человека? — После чего возникновение человека неизбежно, — важно заключил профессор зоологии. — Но почему не обезьяна? — спросил химик, здраво полагая, что от сумчатых до человека ого-го как далеко. — А как вы думаете, почему в Австралии, на этом огромном материке, величиной в четыре пятых Европы, от природы не водятся ни хищники, ни жвачные животные? Почему деревья здесь в основном односемядольные, а жители приближаются к типу так называемых первобытных людей?.. И в том, что наша лабораторная эволюция точь-в-точь повторяет естественную, природную эволюцию Австралийского континента — нет ничего удивительного. Появление иных существ, дорогой мой, невозможно. Это было бы чудовищно, это — нонсенс[382]. — Верно! Черт побери! А вдруг как человек, долженствующий завершить серию, будет австралийцем, темнокожим людоедом со вздутым животом, с кривыми берцовыми костями!.. — Вот обрадуется хозяин. — Зоолог не смог удержаться от смеха. — Но он-то начатое закончит, попытается превратить своего австралийца в безупречного кавказца. Правда, в данный момент говорить об этом рановато. Лучше вернемся к нашему австралийскому летяге. — Да, действительно, вернемся к чему-либо осязаемому. — Поскольку этот фалангер не мог упасть с луны, мы вынуждены думать, что он, как и все его предшественники, является лабораторным продуктом, берущим свое начало от монеры. — Безусловно! Развитие серии пращуров до сих пор происходило безо всяких препон и, кстати, совершенно общепризнанным путем. — Только вот беда: утверждавшееся изо дня в день развитие теперь имеет уклон к австралийскому опыту. — Не важно, главное, чтоб наш эксперимент состоялся. — В этом, дорогой коллега, не сомневайтесь. — Сейчас я верю в успех более, чем когда-либо. Кстати, стоило бы оповестить Мэтра. — Думаю, что известие о событии такой важности не может доставить патрону ничего, кроме удовольствия. К сожалению, он сейчас пребывает в одной из своих лун и к нему никого не пускают. Но тут разговор был внезапно прерван — топот ног, крики, взрывы смеха сменили господствующую на «Анне» тишину. Химик и биолог оставили свои споры над трупом крокодила и, выскочив на палубу, увидели матросов, возбужденных настолько, что это граничило с помешательством. Рядом с ними боцман Порник подбрасывал в воздух свой берет. — Что стряслось, боцман? — спросил его химик. — А то, мой добрый господин! Что… Что судно по борту.
ГЛАВА 9
«Инд». — Бред. — Судно, принадлежащее Мэтру. — Черный вымпел. — Пушечный выстрел. — Отец и ученый. — Артиллерийская дуэль. — Хитрость. — В клубах дыма. — Алексис Фармак остается человеком долга. — Вулканические явления проявляются с удвоенной силой. — Маленький мирок господина Синтеза перевернут. — Предатели. — Подлая уловка. — Как снаряд помешал индийскому принцу завершить собой серию развития животного мира. — Подвиги бывшего студента взрывчатых наук. — Извержение подводного вулкана. — Спасение. — На искусственном островке. — Наконец первобытный человек?И действительно, на горизонте только что появился пароход. Корпус судна еще не был виден, но верхушки мачт высились над облаком черного дыма, валившего из трубы. Корабль двигался чрезвычайно медленно. Причиной такого тихого хода были изменения в фарватере — вся гидрография района из-за беспрерывных подземных толчков была нарушена. Никто из членов экспедиции не сомневался, хоть название корабля пока еще и невозможно было прочесть, что он принадлежит к флотилии господина Синтеза. Это, вне всяких сомнений, «Инд» или «Годавери» — все равно какое судно, второе появится следом! Ура! — первому возвратившемуся, первому, несущему надежду на спасение! Капитан Ван Шутен, хоть и разделял всеобщее ликование, не мог удовольствоваться одной лишь вероятностью. Он втихаря ругмя ругал господина Синтеза за то, что тот превратил «Анну» в понтон. Хоть бы нижние мачты оставил! Человек на стеньге[383], вооружась подзорной трубой, мигом бы положил конец неуверенности и определил бы, каково название этой черной точки, почти неразличимой в морской дали. Тем временем судно, вместо того чтобы направиться прямо к «Анне», которую, безусловно, заметили с борта, описало круг, лишь немного приблизившись к атоллу. Важная новость о появлении парохода заставила господина Синтеза выйти из своего уединения. Как всегда, торжественный и важный, он жестом подозвал капитана и, окинув, холодным взглядом горизонт, приказал: — Следует зажечь топки парового баркаса, проверить, судоходен ли фарватер, подойти к судну и послужить ему лоцманом. — Слушаю, Мэтр. — Как только баркас подойдет к нему, старший офицер от моего имени прикажет капитану обменяться с нами сигналами. — Как мы сможем им ответить? Ведь у нас нет больше мачт, на которых можно было бы поднять вымпела. — Вон там, на носу, я вижу рею. Прикажите ее поднять. — Слушаю, Мэтр. Господин Синтез, отрывисто отдав приказы, стал мерить шагами палубу, невольно волнуясь из-за того, что корабль не подает никаких сигналов. Из трубы баркаса, пришвартованного у шлюзов, потянулся легонький дымок — за неимением угля кочегары давно уже жгли дерево. Давление паров поднималось медленно, к превеликому неудовольствию капитана, топавшего ногами от нетерпения. Но в это время судно, вероятно, найдя проход, ускорило ход и появилось перед восхищенными взорами моряков, громко кричавших от радости. — Безусловно, это «Инд», — заявил боцман Порник, нервно теребя пачку с табаком. — Ты говоришь «Инд»? — резко перебил его господин Синтез. — А почему не «Годавери»? — Извините, хозяин, но при всем моем почтении должен заметить, что у этого судна корпус как у голландского галеона, а «Годавери» похожа на быстроходный французский крейсер. — Но это судно находится еще на расстоянии не меньше четырех километров! — Да уж, не менее двадцати кабельтовых… Эге, да оно стопорит машины! — «Инд»! Это «Инд»! Да здравствует «Инд»! — кричали матросы. — Тем не менее, — продолжал заинтригованный боцман Порник, — одного не могу понять, почему не подают сигналов? Могли бы поднять какой-нибудь флагдук[384]. Указанная хозяином рея была поднята, к ней привязан фал. — Прикажите поднять мой вымпел, — велел господин Синтез. Свернутый флаг быстро заскользил вверх по рее, затем его белоснежные складки развернулись, и засиял гордый девиз Мэтра: ET EGO CREATOR. Две долгих минуты прошли во взволнованном ожидании. Затем внезапно по борту корабля появились клубы белого дыма, а на флагштоке бизань-мачты взмыло широкое черное полотнище. Среди зловещего молчания, пришедшего на смену радостным возгласам, послышался звук разрезаемого воздуха, перешедший в пронзительный залп, от которого все, даже самые храбрые, инстинктивно втянули голову в плечи. — Вот так дела! Снаряд… — пробормотал боцман Порник. Ядро прошило верхушку стеклянного купола, громко разорвалось, круша все вокруг, корежа арматуру, извергая в лагуну ливень осколков и обломков. Первый раз хладнокровие изменило господину Синтезу. — Бандиты! — вне себя от ярости воскликнул он. — Стрелять по атоллу! Пусть лучше бы меня разорвали на куски! Но Великое Дело! К оружию, дети мои, к оружию! Я награжу вас, я озолочу вас, вы станете миллионерами, но только защитите Великое Дело! — Проще простого, — бормотал боцман Порник, — людишки, которые салютуют при помощи этой подлой тряпки и вместо приветствия «забивают» в пушечное жерло снаряд, — это настоящее отребье, всем пиратам пираты… Но ничего, зададим им славную трепку! И тут только господин Синтез вспомнил, что он не только ученый, но и отец. Его экзальтация внезапно угасла, он сорванным голосом прошептал: — Бедное дитя!.. Где она? Увижу ли я ее когда-нибудь?
Благодаря тому, что намерения пришельцев не оставляли никаких сомнений, мужественный персонал господина Синтеза приготовился оказать решительное сопротивление. Предвидя возможность абордажа, все торопливо вооружались. Артиллерийские орудия зарядили не только на «Анне», но также и на «Ганге», более чем когда-либо неподвижном на своей мадрепоровой подставке. Теперь оба корабля представляли собой опасные крепости, и врагу пришлось бы немало повозиться, чтобы их взять. Бесполезно распространяться о неправдоподобных историях, о немыслимых слухах, бродивших среди членов обеих команд, чье первоначальное оцепенение быстро сменилось воинственным пылом. Все пришли к единому заключению: «Инд» попал в руки морских разбойников. Пираты напали на нас, но мы им еще покажем или, как выразился боцман Порник, зададим им славную трепку. Тем не менее, положение не становилось легче. Правда, корпус «Ганга» отчасти заслонял собой центральный риф, землю господина Синтеза. Да и «Анну» можно было подтянуть на тросах и защитить таким образом от вражеских ядер железные переборки шлюзов. Что же касается купола, то Алексис Фармак, здраво поразмыслив о прогрессе, который произошел в развитии биологической цепи, пришел к выводу, что уже можно обойтись и без газового генератора, и без динамо-машины. Эксперимент может продолжаться и при атмосферном воздухе, если учесть, что водная среда достаточно насыщена всеми необходимыми для этого элементами. После первой наглой вылазки вот уже полчаса пираты не подавали признаков жизни. Быть может, ожидали прибытия парламентеров, возможно, хотели вступить в контакт с самим господином Синтезом. Такая проволочка, на которую сначала никто даже рассчитывать не смел, была с пользой использована для защиты атолла. Тем временем небо потускнело, воздух стал, если такое возможно, еще удушливей, подземный грохот вдвое усилился, от толчков дрожало все кругом. Порою мрачный темный пар, поднимавшийся, казалось, из морских глубин, отнесенный порывом раскаленного ветра, медленно перемещался, образуя вихри мельчайшей пыли. Такой ливень из пепла ясно указывал на то, что где-то в более или менее отдаленном радиусе находится действующий вулкан. Каждую секунду можно было ожидать, что рухнет купол, — его опоры мрачно гудели и потрескивали. Казалось, все ополчилось против Великого Дела, и люди и природа, которая, устав терпеть производимые над ней издевательства, решила отомстить тому, чей девиз сверкал на большом полотнище вымпела. Наконец «Инд» начал действовать; один за другим два белых облачка появились у него по борту, и два новых снаряда со свистом пронеслись над «Анной», хотя и не задели ее. — Эти людишки стреляют как сапожники, — прорычал боцман Порник, — наверняка нас попытаются взять на абордаж. Но почему? Что мы им плохого сделали? «Анна» отвечала на неприятельский огонь, но безуспешно. Оно и понятно — «Инд» стоял к атоллу так, что мишенью могла служить лишь небольшая по площади его носовая часть. Вскоре непроницаемая туча порохового дыма заволокла обоих противников, мешая им видеть друг друга. Старый бретонский моряк угадал правильно. — Вот этого я и боялся, — произнес он, по привычке разговаривая сам с собою. — Чертовы нехристи! Теперь нам не удастся засадить пару добрых килограммчиков чугуна в его поганое нутро! С обеих сторон стреляли наугад. Лишенная мачт, «Анна» сидела очень низко в воде и практически не страдала, а вот купол, с его громадным диаметром, представлял для снарядов слишком легкую мишень. Алексис Фармак, пришедший в отчаяние, видя, как на глазах рушится дело его жизни, сбежал с корабля и занял место в самом пекле — на атолле. Бестрепетно стоя под ураганным огнем, он героически наблюдал за экспериментом, до последней минуты надеясь увидеть новые биологические феномены, услышать последнее слово эволюции. Что нашему доблестному профессору свистящие вокруг куски железа, грохот взрывов, ливень осколков, шатающиеся опоры купола, ежесекундно грозящего раздавить беднягу в лепешку! Наплевать ему, что зоолог, который по долгу службы тоже обязан в случае опасности находиться при лаборатории, как сквозь землю провалился! Если борьба между людьми становилась с каждой минутой все яростней, то и буйство стихий принимало неслыханные размеры. Даже пушечные выстрелы были едва слышны среди грохота, производившегося подземными толчками, которые колебали и смещали подводные пласты. Целые рифы исчезали, поглощенные бездной. Конфигурация окружающего пространства неузнаваемо менялась прямо на глазах. Нет сомнения, вскоре должно было произойти извержение вулкана, находящегося либо в самом атолле, либо вблизи него. С дерзкой отвагой, достойной лучшего применения, бандиты решили воспользоваться землетрясением, чтобы завладеть «Анной». Не заботясь о препятствиях, не думая о возможных способах целыми и невредимыми унести ноги, они, за дымовой завесой, подошли к атоллу на расстояние четырехсот метров. Все их шлюпки были полны вооруженными людьми и спущены на воду; «Инд» прикрывал корпусом от встречного огня пиратов, решившихся идти на абордаж! Мужественные защитники «Анны», воодушевленные примером офицеров и самого хозяина, рисковавшего головой, как простой матрос, грудью встречали опасность. Несмотря на то, что атоллу ежеминутно грозила гибель, неукротимая энергия химика не оскудевала. Он по-прежнему был один, наблюдая за кошмарным видением. Внезапно вода в лагуне вскипела, забурлила, будто рука титана[385] попыталась вырвать с корнем блок мадрепоровой породы, служивший подставкой для этой гигантской чаши. Потрясенный, перепуганный химик, сомневаясь, в своем ли он уме, увидел, как завертелся, закружился причудливый мир рыб, ящеров, ракообразных, черепах… Все это натыкалось друг на друга, подскакивало в воздух, взлетая до самой коралловой кромки, до самой искусственной земли. «Естественно, то же самое должно было происходить и тогда, когда тектонические сдвиги перемещали континенты», — подумал Алексис, разглядывая представителей самых разных видов и форм, выброшенных из родной стихии и вперемешку валявшихся на земле. Шум голосов оторвал Фармака от созерцания. Трое мужчин, которых никто не ожидал бы увидеть вместе, да еще и на атолле, да еще и в подобный момент, осторожно приближались к разрушенному куполу. Донельзя удивленный химик узнал своего коллегу Роже-Адамса и недостойного капитана, в опаснейший момент покинувшего свой пост. Третий был ему незнаком. Они разговаривали очень громко, иначеим было не услышать друг друга среди оглушительного грохота битвы и вулканического извержения. Живо заинтригованный, Алексис спрятался за обрывком брезента, чтобы все видеть и не пропустить ни слова. — Мы здесь одни, — сказал капитан. — Да, одни! — отозвался зоолог. — Этот недотепа-химик куда-то запропастился. Что ж, доброго ему пути в страну, откуда нет возврата!.. Ты хорошо понял свою роль? — обратился господин Артур к третьему. — Бросишься сейчас в воду, доплывешь до скалы, что в центре лагуны, заберешься на нее и будешь лежать тихо, словно спящий. Не страшно? — Мне никогда не бывает страшно. — Совсем скоро, когда нападающих отбросят, мы приведем сюда Мэтра. Я, указывая на тебя, воскликну: «Великое Дело завершено! Победа! Человек появился!» Дай себя рассмотреть, пощупать, изучить, но не делай ни одного движения, не произноси ни слова. — Договорились. — Помни о нашем соглашении. — Я никогда ни о чем не забываю. — Сними с себя всю одежду, иначе старикашка заподозрит подвох. Вне себя от возмущения и ярости, химик не мог больше слушать. Он собирался уже броситься на негодяев и, рискуя собственной жизнью, разоблачить заговорщиков. Но в этот момент пущенный с «Инда» снаряд в полете раздробил на части тела всех трех заговорщиков, стоявших тесной группой, а затем понесся дальше и разорвался, разрушив один из меридианов. При виде разбросанных повсюду человеческих останков Алексис испустил безумный крик ужаса. Земля тряслась под его ногами. Он не успел вернуться на корабль; от страшного толчка атолл содрогнулся до основания, коралловое кольцо стало сжиматься, громоздя друг на друга обломки. Потерявший все точки сцепления и опоры, купол упал в море. Бедного химика, жертву долга, мощнейшим ударом вышвырнуло по направлению к «Инду» с такой силой, как будто под ногами у него взорвалась мина. Он слышал громкие крики, глухой звук взрыва и, падая в воду, увидел, как пиратский корабль, раскачиваясь, завертелся на месте и стал постепенно тонуть. Алексис, как и всякий не умеющий плавать человек, принялся конвульсивно барахтаться, все больше и больше захлебываясь. — Я пропал! — решил он, сознавая, что идет ко дну. Но тут могучая рука подхватила его и вытащила с глубины шести морских саженей. Уже теряя сознание, достойный ученый машинально открыл единственный глаз и смутно разглядел, что держится за какое-то страшилище, вцепившись в него, однако, как свойственно тонущим, мертвой хваткой. А страшилище-то это было всего-навсего человеком, облаченным в скафандр. По тому, как судорожно химик вцепился, водолаз понял, что еще немного — и спасти утопающего не удастся. Тогда, мигом сбросив свинцовые подошвы и держа Алексиса в объятиях, подводник быстро всплыл, словно бакен. С «Анны» их заметили, бросили линь и подтянули к борту. Все бросились обнимать и поздравлять спасателя, даже шлема не дали снять, такое ликование вызвало появление этого человека. Алексис, чей обморок был не очень глубок, пришел в сознание, громко высморкался, взглянул на героя и узнал… своего бывшего ученика из женевской лаборатории! — Вы?! Какими судьбами?! — вскричал химик с комическим изумлением, под которым невозможно было скрыть, как он в действительности растроган. — Откуда вы взялись, дорогой мой?! — Из воды. После того, как подложил торпеду под «Инд», затонувший в ста метрах отсюда. — Мой добрый друг, вы мне жизнь спасли… И к тому же торпедировали это пиратское судно!.. — Мог ли я поступить иначе, раз был студентом в классе взрывчатых наук? Взорвать корабль — так повелевал мне… профессиональный долг. Что же касается вашего спасения, то это чистый случай, чему я всем сердцем рад. — Но почему вы вступились только сейчас?! — Об этом я пока умолчу. Это целая история. Заранее прошу вас простить мне некоторые малые грешки… Ах, дорогой учитель, довольно поздравлений!.. «Инд» затоплен, но пираты, деморализованные на какое-то время, еще соберутся с силами. Битва будет продолжена. Агент номер 32 не ошибся. Бандиты, которые рассчитывали с налету завоевать позиции, после гибели своего корабля поняли, что спасти их может только победа. Во время предшествующих атак почти половина головорезов погибла. Ну и что! Ведь и моряки господина Синтеза понесли большие потери — шансы более или менее были равны! Пиратские шлюпки, изрешеченные со всех сторон, текли и с трудом продвигались вперед. Опять-таки — ну и что! Здоровые люди яростно гребли, раненые — отстреливались. Среди разбушевавшейся стихии, под небом, становившимся час от часу все смурнее, на волнах, похожих на расплавленный металл, битва эта превращалась в зверское побоище. Защитники «Анны» и моряки, переброшенные с «Ганга», удвоили усилия, они творили чудеса. Но, как ни храбры были люди господина Синтеза, их частично оттеснили, и группа преступников оказалась на палубе. Некоторые негодяи уцелели после кораблекрушения и, цепляясь за всплывшие снасти «Инда», вплавь добрались до поля боя — хотели подсобить товарищам. Даже юнги, совсем еще дети, проявляли неистовое ожесточение. Кровь текла рекой, резня была ужасна. И вдруг внезапно бой стих, — доселе постепенно сгущавшийся сумрак неожиданно сменился непроглядной тьмой. Небо почернело. Синеватые молнии рассекли плотные тучи, все слышней стали громовые раскаты. И тут раздался взрыв, грохот которого разнесся не менее чем на сотню километров. Толчком небывалой силы район бедствия был потрясен до основания. Гигантский столб огня взмыл в небо из морских глубин всего в пятистах метрах от атолла. Сила извержения оказалась такова, что и остов «Ганга», и корпус «Анны», и паровой баркас, и пиратские шлюпки — все рухнуло, провалилось, все погрузилось в бездну. Крик предсмертного ужаса прозвучал над внезапно накатившей и схлынувшей волной. При свете колоссального факела, осветившего эту кошмарную сцену, обезумевшие люди устремились вплавь к чудом уцелевшей искусственной земле господина Синтеза. В тот момент, когда корпус «Анны» вместе со своей доблестной командой начал погружаться в воду, боцман Порник заметил господина Синтеза. Безучастный к происходящему, увидевший крушение всех надежд, тот пассивно ожидал гибели. Рядом со стариком морской волк увидел и агента номер 32, отбросившего карабин. — Слушай, парижанин, — крикнул ему боцман, — ты плаваешь как рыба. Держись-ка рядом с Мэтром и помоги мне поддержать его над водой. — Слушаюсь, — коротко бросил полицейский. — Ну что, брат, приналяжем на весла?! Мужчины подхватили под обе руки безжизненное тело старика и, гребя одной рукой, поплыли к искусственной земле. Со всех сторон люди, пережившие эту чудовищную гекатомбу[386], движимые единым для всех инстинктом самосохранения, устремились к руинам атолла. — Осторожно, дружище, осторожно, держись прямо по курсу! — командовал боцман. — Наше дело — не дать хозяину нахлебаться и сгрузить его в целости вон на ту отличнейшую платформу. На атолле уже порядочная толкучка. Все трое скоро добрались до островка, освещенного мрачными отблесками действующего вулкана, островка, на котором старик надеялся отпраздновать завершение Великого Дела. Спасители поставили хозяина на ноги. Бесчувственный ко всему, Мэтр озирал блуждающим взглядом сушу, по его велению возникшую из морских глубин. Среди нанесенных морем водорослей копошился диковинный мир, состоявший из самых причудливых животных, тоже ставших жертвами стихий. Откуда они? Из глубин ли разрушенной лагуны, где проходила искусственная эволюция, гениальная концепция которой едва не была доказана? Быть может, они последние уцелевшие представители биологической цепи превращений, которой, увы, недоставало последнего звена? Господин Синтез в одиночестве медленно расхаживал по своему крохотному континенту, среди созданий, вызванных им из небытия, и вдруг замер, скрестив руки на груди и затаив дыхание. Странный звук заставил его вздрогнуть. Можно подумать — человеческий крик!.. Жалобный плач больного или испуганного ребенка… Безумная, абсурдная надежда затеплилась в сердце старика. Он преобразился — глаза засверкали, спина горделиво выпрямилась. Мэтр ступил еще несколько шагов вперед, остановился. Совершенно голый ребенок, негритенок, контуженный, полумертвый, умоляюще тянул к нему ручонки, крича нечто нечленораздельное. Дитя… одно… в подобном месте… Не задумываясь ни о происхождении ребенка, ни о том, как он мог очутиться среди животных, которые ползают, бегают, извиваются на подстилке из фукуса, старик подошел вплотную к кричащему младенцу и долго безумным взглядом рассматривал его при свете извергающегося вулкана. И вдруг хриплым, нечеловеческим голосом возопил: — Негритенок!.. Чуть позже это был бы мужчина… негр! А еще позже — мужчина, белый! Эволюция… Великое Дело… трансформация… Я могу сказать: et ego creator!
Конец третьей части
Эпилог
Прошло сорок восемь часов. Все, кто пережил драму, разыгравшуюся в Коралловом море, и друзья и враги, сбились в кучу на бесплодной скале, возвышавшейся когда-то посреди лагуны и единственно выдержавшей подводное извержение вулкана. Каждую минуту их могло смыть волной. Нещадно палило солнце. Вулканический пепел продолжал медленно оседать. Не было ни капли питьевой воды, ни атома пищи. Оставшиеся в живых пираты-китайцы и члены команд «Анны» и «Годавери» делали вид, что не замечали друг друга. Ненависть отступила на задний план: слишком велика была опасность, слишком ужасно положение, в котором они оказались. Точно так же, когда пылает саванна или горят джунгли, гонимые огнем, все вместе, вперемешку убегают от пожара самые разные звери; забывая и об инстинктах, и о видовой несовместимости, они могут находиться рядом друг с другом в течение многих часов и даже дней. После того как все было кончено, господин Синтез не вымолвил ни слова. Бессмысленный остановившийся взгляд старика неуверенно задерживался то на морских барашках, то на кратере вулкана, но ни единой искры интеллекта не загоралось в его глазах. Ассистент-химик, преданно окруживший Мэтра нежными заботами, приходил в отчаяние при мысли, что столь могучий ум не выдержал постигшего удара: Алексис Фармак безуспешно старался разговорить старика, заставить сделать его хоть какой-нибудь жест. На третьи сутки страдания оставшихся в живых стали воистину невыносимыми. Все понимали, что спастись можно только чудом. Однако никаких беспорядков не происходило — таким сильным и длительным оказалось действие гипноза, принудившее матросов к повиновению. Они знали, что медленно умирают, но хотели погибнуть молча, без стонов и жалоб, к превеликому изумлению пиратов, не понимавших, как в таких обстоятельствах можно сохранять подобную твердость.И вдруг, среди этого отчаяния, умирающие от голода люди увидели тонкое элегантное судно с высокими мачтами, медленно приближавшееся к скале. Несчастные, испытав несколько дней назад, после появления «Инда», горчайшее разочарование, не знали, что теперь и думать при появлении этого совершенно им незнакомого парохода. Но шведский вымпел бился на гафеле — четко виден был его белый крест! На грот-мачте высился стяг господина Синтеза — можно было прочесть его гордый девиз, который, увы, в данных обстоятельствах звучал жестокой иронией. Алексис Фармак сделал попытку одним махом возвратить старика к жизни, без преамбул сообщив ему известие, в которое никто еще не осмеливался поверить: — Мэтр! Пришел корабль, под шведским флагом. На нем ваш вымпел! В ответ — ни слова. Господин Синтез был неподвижен, словно статуя, глаза его продолжали глядеть в какую-то неведомую точку пространства. Зато остальных сказанные химиком слова заставили кричать от радости, но в общем хоре раздавались также и крики страха. Если смельчаки, до конца выполнившие долг, были опьянены надеждой на избавление, то пираты, выйдя из оцепенения, чувствовали себя зверьми, попавшими в ловушку, и гадали, какое возмездие им предстоит. Прибой крепчал, и капитан Кристиан, опасаясь, что чем дальше, тем труднее будет причалить к рифу, приказал бросить якорь и спустить шлюпки на воду. Господин Синтез покорно дал посадить себя в большую лодку и, не говоря ни слова, уселся рядом с Алексисом Фармаком, не спускавшим с него глаз. Вскоре шлюпка пришвартовалась к кораблю. Близ выхода на наружный трап стояли цветущие, сияющие молодостью и здоровьем Анна Ван Прет и капитан Кристиан. Счастье вновь увидеть старика, увы, было омрачено удручающим видом окрестностей, где произошла небывалая драма. Но это еще не все. Бедная девочка, взглянув на господина Синтеза, который ее даже не заметил, осознала всю глубину постигшей ее беды. Она бросилась к деду, простерла к нему руки и душераздирающим голосом прокричала: — Отец!.. Отец!.. Это я! Неужели же вы меня не узнаете?! Внезапно господин Синтез, порывисто обернувшись, стал искать глазами только что покинутый им риф. За исключением этого совершенно инстинктивного проявления остаточной памяти ничто не нарушило его бесчувственного покоя. Один из уцелевших в бою офицеров в общих чертах изложил капитану Кристиану положение вещей. Свой рассказ он завершил сообщением о том, что на острове остались пираты. — Благодарю вас, лейтенант, — ответил офицер. — Что до бандитов, то пусть остаются на рифе. Если вы уверены, что никто из наших товарищей не забыт, то мы тотчас же поднимем якорь. При этих словах девушка, державшая деда за руки, обратила к Кристиану свое залитое слезами лицо и, рыдая, произнесла: — Вы оставляете на рифе людей, обрекая их тем самым на ужасную смерть?! — Мадемуазель, — почтительно, но твердо ответил ей молодой человек, — бывают преступления, к которым невозможно снисхождение. — Значит, вы хотите отнять у виновных даже возможность раскаяния? — Вспомните о наших товарищах, погибших на «Инде», о катастрофе, случившейся с «Годавери», подумайте, что всего лишь три дня тому назад они явились сюда, намереваясь перебить всех оставшихся в живых участников экспедиции. Само существование таких головорезов является постоянной угрозой для общества. Не желая присваивать себе право на суд и расправу, я оставляю их на произвол судьбы. — Умоляю вас… Пощадите их! Послушайте только, как отчаянно они кричат… Я убеждена, что после столь жестокого урока раскаяние все-таки постучится в их сердца. — Все, что я могу сделать, так это доставить их в ближайший порт и передать в руки правосудия. Но… поглядите, сама судьба решает иначе! И действительно, с острова в этот миг раздались еще более ужасные, более душераздирающие крики — скала, за которую так судорожно цеплялись несчастные, стала оседать, не выдержав ударов волн и подземных толчков. С каждым мгновением риф все глубже и глубже погружался в пучину, еще минута, и он скрылся под водой… Увидев, что и следа не осталось от его творения, господин Синтез обратил на внучку тусклый взгляд. Он долго смотрел на нее, затем со странным болезненным выражением перевел глаза на капитана Кристиана и столь же долго и пристально изучал его. — Биологическая цепочка… предки… человек… — еле ворочая языком, как паралитик, забормотал Мэтр. — Будь этим человеком… избранником… Великого Дела. Анна, девочка… твой супруг… Кристиан. Это были последние слова господина Синтеза.
Конец

Луи Буссенар Десять тысяч лет среди льдов
1
Полярная страна. Всюду, куда ни кинуть взгляд, одни бесконечные льды, то наваленные в беспорядке друг на друга, то расстилающиеся бесконечною равниною. Со всех сторон слышится страшный гул и треск от ломающихся ледяных глыб. Они сталкиваются, борются и рассыпаются на тысячи кусков, производя настоящий хаос в этой пустыне. Тусклое небо, еле освещенное слабым мерцанием звезд, еще более усиливает мрачный колорит полярной картины. Среди такой безотрадной обстановки, на грудах синеватого льда, в последней агонии мучается человек. Один — в этой ужасной пустыне! Последний, оставшийся в живых из всей полярной экспедиции, этот человек был свидетелем гибели своего корабля, смерти товарищей, умерших от лишений или поглощенных мрачною бездною, и теперь умирает во льду, после отчаянной борьбы со смертью. У него нет ни крова, ни пищи, ни одежды! Чувствуя свое бессилие, чувствуя наступающую смерть, он равнодушно ложится на лед и ждет конца. Ни страдания, которые испытывает он, ни полное одиночество, при котором ему приходится прощаться с жизнью, не могут, однако, сокрушить его закаленного духа, и он бесстрашно готов встретить конец, испытывая какое-то жгучее удовольствие при мысли, что превращается в ничто. В эту минуту горизонт, доселе едва освещенный, вдруг вспыхивает кровавым багрянцем. Целые снопы огненного света заиграли на синеватых льдах. Освещенные яркими лучами, мерзлые глыбы загорелись тысячею огней, как будто все это были чистейшие бриллианты. При виде такой перемены, лежавший на льду человек грустно улыбнулся, пробормотав про себя: — Северная заря явилась кстати, — по крайней мере я умру в апофеозе! Скоро его члены стали холодеть. Появилось онемение. Мысли начали путаться. Однако, организм еще не теряет чувствительности. Страшный холод, замораживающий ртуть, производит мучительное действие. Начинается медленная, ужасная агония, сопровождаемая бредом, почти безумием. Представьте себе человека, опущенного в ванну в 70» Ц. Приток теплоты будет быстро разрушать элементы тела, которого температура — только 37,5», и человек более или менее скоро умрет в ужасных мучениях, потому что его тело не может жить в такой температуре. С другой стороны подвергните его холоду в -70». Организм будет быстро отдавать свое тепло для замещения этого холода, и результаты будут одинаковы. Разрушение организма будет одно и то же, подвергнется ли оно действию сильного холода или сильного жара. Возьмите в руку кусок замороженной ртути или кусок раскаленного железа. В обоих случаях кожа почувствует ощущение жжения, — в первом случае от сильного отнятия тепла тела, во втором — от чрезмерного притока его извне. То же чувствовал и умирающий. Его запекшиеся губы шептали: — Жжет!.. Горю!.. Побелевшее лицо теряет свое выражение. Сердце еще бьется, но с каждым ударом все слабее. Широко раскрытые глаза, опушенные заиндевевшими ресницами, уставлены неподвижно к востоку. Полураскрытые, растрескавшиеся губы обнаруживают посинелый, распухший язык. Окаменевшие вены и артерии чуть бьются. Застывающая в них кровь почти неподвижна. Один мозг еще работает. Человек, замерзая навсегда в этих вечных льдах, может еще мыслить. — Конец мучениям!.. Я погружаюсь в ничто!.. Тело окончательно холодеет и превращается в сплошной ледяной кусок.Что это? Грозная могила возвращает свою жертву? Каким необъяснимым для человеческого разума чудом это тело, совсем уже оледеневшее, начинает незаметно вздрагивать? Годы, века или просто минуты прошли с того времени, как усыпленный северною зарею полярный пустынник заснул вечным сном? Сомнения нет, он оживает. Мускулы теряют свою окаменелость, сердце начинает биться. Теплота жизни согревает замерзшие члены. Умерший начинает приходить в сознание, бормочет словно в бреду и вдруг, вполне очнувшись, испускает невольный крик изумления. Его уши поражает странный шум. Глаза замечают неясные образы, которые суетятся с удивительною живостью. Сбросив с себя толстый мех, покрывавший его с головы до ног, воскресший является в виде человека преклонных лет, но крепкого еще и бодрого. Его широкий, выдающийся лоб, изборожденный морщинами, свидетельствует о недюжинном уме. Его черные глаза, оттененные длинными ресницами, поражают глубиною и проницательностью своего взгляда. Нос, немного согнутый в виде орлиного клюва, придает всей его фигуре выражение величия, а длинная седая борода, спадающая до середины груди, еще более усиливает это выражение. Его резкому голосу отвечают мелодичные голоса, произносящие какие-то слова на неизвестном языке, непохожем ни на одно наречие, употребляемое на нашей планете. При звуках этих слов старец чувствует, как прежняя сила возвращается к нему, и решается заговорить. Но что это, кошмар или нет? Не обманывают ли его чувства? Неизвестные люди, летающие около него, не касаются земли. Словно подвешенные за невидимую нить на высоте от нескольких вершков до одного аршина, они скользят в воздухе, производя грациозные движения руками и ногами, ходя и бегают с такою же легкостью, как будто они были на земле. — Я грежу, должно быть, — громко вскричал старец, словно надеясь, что звук собственных слов возвратит его к действительности. — Где я?.. Кто вы?.. При этих словах, громко произнесенных, странные существа замолчали, как будто их деликатные уши, привыкшие лишь к гармонии, не могли переносить грубых звуков. Подобно неуловимым теням, оно мгновенно удаляются. Одни, более храбрые или менее впечатлительные, останавливаются в отдалении, другие бесшумно исчезают. Не зная, чем объяснить подобную впечатлительность, соединенную с подвижностью, которая разрушает все законы статики, старец прибавляет: — Я последний, оставшийся в живых член полярной экспедиции. Мое имя довольно известно в науке, так что, вероятно, кто-нибудь из вас слышал его. Кроме того, журналы всего света говорили об этой несчастной экспедиции и упоминали о моем отъезде. Меня зовут Синтезом. Я швед родом. Скажите же мне, кто вы, спасшие меня от смерти, и где я? Ответа не было. Странные существа застыли в неподвижных позах между небом и землею, или бесшумно продолжали блуждать по зале, где происходило действие, постоянно выходя из нее наружу. Подождав с минуту, Синтез произнес свои слова по-английски, надеясь, что этот более распространенный язык будет понятен для его собеседников. Молчание… Видя бесполезность попытки, он повторяет то же самое по-немецки, — то же молчание, только варварские звуки видимо раздражают его слушателей. Потом Синтез пробует французский язык, — ничего! Он перебирает все известные ему языки: итальянский, русский, испанский, голландский, греческий, арабский, индостанский, еврейский… — опять ничего! Оживший был в недоумении. — Или эти люди принадлежат к другой расе, или я — на другой планете, или мой мозг расстроен! — вскричал он. — Последнее, увы, кажется, вернее, если только я не брежу все время. Я тщетно пробовал все языки… Стой! — ударил он себя по лбу. — А что, не заговорить ли с ними по-китайски? И Синтез заговорил на чистейшем «гуан-хуа», который, как известно, представляет собой разговорный язык, употребляемый преимущественно в центральных провинциях Небесной Империи, именно в Пекине, Нанкине и т. д. При этом он старался, насколько возможно, смягчить резкость своего голоса, чтобы не распугать чувствительных людей. О, чудо! Его попытка увенчалась успехом: его поняли, хотя не совсем. Все-таки он может обмениваться мыслями. Странные существа понемногу стали приближаться к нему. — Э! — сказал Синтез одному из них, старичку в очках, который, несмотря на почтенный возраст, с юношеской легкостью кружился около чужеземца. — Даже и этот язык, неизменный с самых отдаленных времен, подвергся изменению?! — Да, его скоро будет нельзя узнать. Впрочем, Мао-Чинь, успокойтесь, вы найдете между нами многих языковедов, близко знакомых с языком наших отцов. — Вы сказали: Мао-Чинь («косматый человек»). Это меня вы так называете? — Без сомнения… И это название не заключает ничего оскорбительного, принимая во внимание обилие у вас волос. Между нашими не найдется никого, кто мог бы поспорить с вами в этом отношении. — Мы, кажется, ходим с вами вокруг да около, — заметил Синтез, — я уже имел честь сообщить вам, что я родом швед, следовательно с вашими «косматыми людьми» не имею ничего общего, а этот мех, покрывающий меня, — не природный. — Швед?.. — переспросил старичок. — Что это такое? Я не понимаю. — Не понимаете?! — Нет! — Вы не знаете Швеции?! — К моему крайнему сожалению, — нет, чужестранец! — Да вы, может быть, не знаете и Англии?.. Франции?.. России?.. Германии?.. — Нет… Постойте, — живо прибавил незнакомец, что-то вспоминая, — я теперь понимаю: вы говорите о странах, давно уже исчезнувших с лица земли. — Исчезнувших?! — протянул не своим голосом Синтез. — Неужели вся Европа исчезла?.. — Нет более Европы, — мелодично отвечал старичок. — Еще один вопрос, — спросил Синтез, все еще думавший, что он служит игралищем кошмара. Скажите мне, пожалуйста, где я? — Где?! Под 10» с. ш. — А под каким градусом долготы? — Около 11,5» з. д. — Извините, от какого меридиана вы считаете? — От меридиана Томбукту, — с недоумением отвечал старичок, удивленный таким вопросом. — От… Томбукту! — вскричал Синтез. — Томбукту имеет свой меридиан?! — Конечно… Томбукту, столица западного Китая. Как ни чудесно было воскресение почти совсем замерзшего человека, но оно не казалось столь невероятным, как те вещи, с которыми вдруг столкнулся разум Синтеза. Он должен был собрать всю силу воли и призвать на помощь все свои душевные способности, чтобы не сойти с ума от того, чего очевидцем ему пришлось быть. Синтезу было ясно, что он не грезит, но почему, как, зачем он пробужден к жизни? — на эти вопросы он не мог дать себе никакого ответа. Что это за люди? На первый взгляд они не подходят ни под один законченный антропологический тип. Похожи на негров, близки и к китайцам, но ни те, ни другие, или лучше сказать, и те, и другие. Их кожа, не имея черного цвета, в то же время лишена желтого оттенка, присущего монгольской расе. Она представляет очень нежную смесь обоих отличительных цветов, вроде цвета гаванской сигары. Волосы, очень черные, жесткие и завитые, однако, не так курчавы, как у настоящих негров. Смело глядящие глаза, выдающиеся скулы, немного приплюснутый нос, толстые мясистые губы и сверкающие зубы, — дополняли портрет новых знакомцев Синтеза. Словом, это была великолепная помесь китайцев и негров, или негрокитайские метисы. Но что более всего поражало в них наблюдателя, так это огромные размеры голов. Их рост в среднем был около 2,5 аршин, а объем головы ровно вдвое превосходил объем головы Синтеза. Такая непропорциональность, неприятная с точки зрения нашей эстетики, еще резче выступала при почти женской слабости членов и незначительности конечностей. Синтез, с любопытством наблюдавший этих странных людей, с трудом мог уверить себя, что эти маленькие руки, эти крошечные ноги принадлежат тому же организму, какому принадлежат и чудовищные головы. Но факт был налицо, и спорить не приходилось. Изумленный старик пробормотал про себя: — Нельзя более сомневаться! Эти люди свободно летают над землею. Я не грежу, это наяву… Очевидно, все они обладают способностью, очень редко между обыкновенными смертными… способностью, которую в мое время называли «поднятием на воздух»… Мой старый друг, индус Кришна, и многие другие отличались ею, но только не в таком виде; они поднимались невысоко над землею и на короткое время… Между тем эти люди чувствуют себя на воздухе, как в родной стихии: они свободно переходят с места на место, останавливаются и как будто не чувствуют никакого неудобства. Нет ли какого соотношения между этою чудесною способностью и необыкновенным развитием мозгового органа? Я хочу это узнать. Затем Синтез прибавил громко, не обращаясь собственно ни к кому: — В 1886 году я заснул среди полярных льдов. Прежде, чем объяснить, каким образом я очутился среди вас, господа, скажите мне, в котором году я пробудился?… — В 11866 г., — сейчас же певучим голосом отвечал человек в очках, стоя неподвижно на высоте сажени от земли.
2
— Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шестой!… — громовым голосом воскликнул Синтез, услышав это поражающее число. — У нас идет теперь 11866 г. и я жив еще! Неужели же я спал целых десять тысяч лет?! Думалось ли мне, прожив почти столетие, пережить свое время и явиться в виде последнего следа старого мира? Зачем, как, каким чудом я один уцелел из всех современников? Пораженный Синтез принялся ломать голову над разрешением этих вопросов. Ничто не мешало ему предаваться своим думам: вокруг него была совершенная пустыня. Таинственные существа, испуганные громкими звуками его голоса, исчезли, и он без помехи мог углубиться в себя и собраться с мыслями. Прежде всего Синтезу было ясно, что его воскресение — действительный, неоспоримый факт, а не игра воображения. Все, — и сердце, бившееся нормально, и мозг, мысливший логически, и мускулы, владевшие обычною эластичностью, — подтверждало это. Но признать этот факт чудом ученому препятствовали здравый смысл и наука. Оставалось предположить сохранение у него жизни, благодаря каким-то биологическим условиям, — явление, которое он не мог еще объяснить себе и которое не мог приписать одному сильному холоду. Если бы еще дело шло о животных или растениях, то странный факт, будучи необыкновенным, по крайней мере, был бы возможен, так как многочисленные опыты авторитетов науки дают живое доказательство, что у этих организмов жизнь, в скрытом состоянии, может продолжаться очень долго. Так, в 1853 г. Рудольфи в Флорентийском египетском музее в одной мумии нашел хлебный колос с вполне сохранившимися зернами, которые лежали тут около 3000 лет! Спалланцани в 1707 г. одиннадцать раз возвращал к жизни высушенных червей, только смачивая их чистою водою, а недавно Дойер оживлял тихоходов, подвергнутых температуре в 150», и потом 4 недели продержанных в пустоте. Конечно, все это еще ничего не доказывает, в виду того громадного расстояния, которое отделяет простейшие организмы от человека. Но, поднимаясь по животной лестнице, мы несколько раз наталкиваемся на подобные же факты. Мухи, очевидно, утонувшие в бочках мадеры, прибывши в Европу после долгого переезда, оживали. Реомюр держал в таком состоянии очевидной смерти куколок бабочек в продолжении многих лет, а Вальбиани, продержав майских жуков неделю под водою и после этого высушив их на солнце, мог еще возвратить им жизнь. Вульпиан, знаменитый физиолог, отравлял ядом кураре или никотином пауков, саламандр, лягушек и оживлял их спустя целую неделю после их явной смерти. Холод производит еще более поразительные явления. Спалланцани, изучавший этот интересный вопрос с необыкновенным терпением, в продолжении двух лет сохранял лягушек в снегу. Они делались сухими, вялыми и не имели, казалось, никакого признака жизни. Но достаточно было положить их в умеренную теплоту, чтобы возвратить им все физиологические отправления. На глазах Моцертюи и Дюмериля щуки и саламандры, превращенные от холода в куски льда, через несколько времени снова возвращались к жизни. Наконец, обыденная практика северных народов дает еще более характерные факты. Северяне замораживают рыбу так, что она превращается в камень, перевозят ее на далекие расстояния и потом легко оживляют, продержав лишь несколько минут в воде обыкновенной температуры. Этот повседневный опыт подал известному английскому физиологу Гунтеру мысль о возможности продолжать человеческую жизнь на неопределенное время посредством последовательного замораживания. К несчастью, Гунтер умер как раз в то время, когда его смелое предположение, начинало сбываться. Рассмотрев всесторонне занимавший его вопрос, столь обширный и столь малопонятный, Синтез мало-помалу перестал удивляться своему воскресению. — Черт возьми, — сказал он, — я хорошо знаю, что жизнь может сохраняться долгое время, даже и помимо действия холода! Мой старый друг Кришна несколько раз позволял зарывать себя в землю, вызвав у себя летаргию, имевшую все признаки смерти. В последний раз, как сейчас помню, это происходило в Венаресе; его завернули в мешок, мешок положили в набитый шерстью ящик, заколотили последний гвоздями и закопали в землю на глубину 10 футов. Потом на могиле посеяли ячмень, который взошел, заколосился и созрел. Английские часовые все время стерегли могилу. По истечении 10 месяцев, в присутствии английских властей и ученых, индуса вырыли; к всеобщему удивлению он казался как бы уснувшим. Мало-помалу к нему стала возвращаться жизнь; прошло два часа, и он встал на ноги. Почему бы этот опыт, продолжавшийся несколько недель, не мог продолжаться и несколько лет? Несколько лет… да! На десять тысяч лет!.. Однако, раз в принципе дело возможно, то вопрос о количестве отходит на второй план. Если можно пробыть в состоянии летаргии один год, то почему нельзя несколько лет, десять… сто, даже тысячу!.. А сибирский мамонт?! Кто может вычислить громадный промежуток времени, протекший с того момента, как гигантское толстокожее замерзло в полярных льдах, до того, когда тунгусский моряк нашел его, в 1799 г., на огромной льдине близь устьев реки Лены? — Наверное, этот период нужно считать миллионами лет. Однако, мамонт сохранился настолько хорошо, что соседние якуты могли долго пользоваться его мясом и кормить им своих собак, а значительная часть его была ободрана раньше волками и медведями. Кто докажет, что это доисторическое животное совершенно нельзя было оживить, подобно лягушкам Спалланцани или замороженным рыбам северян? Кто поручится, что если бы, вместо пожирания, его стали бы постепенно оттаивать, он не пробудился бы от своего продолжительного сна? — Я же, ведь, живу! — это неоспоримый факт! Почему, — это я узнаю позже. Мне кажется, что мой особый образ жизни и питание самыми простыми элементами, в соединении с сильным холодом, воспрепятствовали разрушению тела. Для чего, — пока неизвестно: поживем — увидим. — Ну, что, чужестранец, — прозвучал мелодичный голос, — оправились ли вы, наконец, от своего удивления, очень естественного, однако, выраженного так бурно, что мы все разбежались со страху? — Простите мне, почтенный старец, но я все время забываю о вашей чудесной впечатлительности. Впредь я употреблю все мои усилия, чтобы помнить об этом, так как мне самому крайне неприятно платить злом за вашу доброту ко мне. — О, мы вполне понимаем и охотно извиняем вам незнание наших обычаев! Когда спят 10000 лет, то, очевидно, просыпаются в мире, совершенно преобразованном… — Скажите — перевернутом вверх дном, так что у меня до сих пор не выходит из головы сомнение, действительно ли я нахожусь на той же планете, — отвечал Синтез тихим голосом человеку в очках, который дружески уселся рядом с ним на шкуре лани. — Но на будущее время, какие бы чудесные вещи я ни увидел, обещаюсь не удивляться, чтобы не терять драгоценного времени. — Если вы позволите, я с удовольствием готов объяснить все, что наша эпоха может иметь для вас таинственного и неожиданного. Мой возраст еще более, чем мои знания, дает мне известную опытность, и я буду не менее счастлив показать вам настоящее, как и узнать от вас о прошедшем. — Очень благодарен вам. Со своей стороны я весь к вашим услугам. — Прежде всего я ваш покорнейший слуга. — Еще раз благодарю. Итак приступим… Объясните мне, пожалуйста, как я очутился на западном берегу Африки, которой вы даете имя Западного Китая? — Очень охотно. Вы просто приехали к нам на огромной льдине. — Как! Лед в такой широте! — Явление очень обыкновенное весною. — И эта льдина не растаяла, пройдя такое громадное расстояние? — Расстояние не так велико, как вы думаете. — Но скажите мне, ужели граница вечных льдов, как говорилось в наше время, спустилась до 68». — Почти! Она теперь немного не доходит до 50». — Широта Парижа! — вскричал Синтез, вскочив с места. — Парижа?! Мне не известно такое географическое место. — Ах, я все забываю, что вы представители другой эпохи! — пробормотал Синтез. — Но обитаемый пояс у вас очень сужен, если и с юга лед так же близко подходит? — О, для нас земли довольно! Вы сами убедитесь в том, когда узнаете очертания наших материков. Знайте, что земли, расположенные над 48», еще обитаемы; чтобы увидеть население, нужно спуститься к 40». — Широта Неаполя и Мадрида!.. Итак, — горестно продолжал Синтез, — Англия, называвшаяся британским колоссом, Германия с ее страшною военною силою, Россия, простиравшаяся на два полушария, Франция, с ее просвещением, Италия, Испания, — все исчезло! Сила, могущество, громадная величина, науки, — все это погребено под льдом. От всей Европы осталось одно воспоминание, одно имя! — Да, очертания нашей планеты давно уже сильно изменились… Но возвратимся, с вашего позволения, к рассказу о вашем появлении среди нас. Огромная льдина, отколовшаяся от сплошных льдов, которые тянутся до 50», натолкнулась вчера на наш берег. В этой льдине нашли совершенно покрытого толстою ледяною корою человека. Его бережно перенесли на берег и возвратили к жизни. Этот человек были вы. Вы говорите, что умерли десять тысяч лет тому назад. Факт, конечно, очень странный, тем не менее вполне реальный, так как вы находитесь теперь среди нас, и мы сами видели вас во льду. Что же касается вашего продолжительного сна, то он не представляет ничего невероятного: вы были совершенно заморожены, и лед хорошо предохранил ваше тело от разрушения. — Мне хотелось бы знать, какое средство вы употребляли, чтобы возвратить замерзшему телу его жизненную энергию, его ум, словом, чтобы превратить мертвую материю в живое существо, которое вас видит, слушает и понимает? — Средство очень простое. Нужно заметить, что в момент вашего прибытия я председательствовал в национальной Томбуктийской академии… — Вы говорите: национальная академия. Это название указывает на республику? — Всеобщую республику… существующую уже более 4000 лет. — И все человеческие расы довольны этою формою правления? — Без сомнения. Впрочем, теперь на земле существуют только две расы, наша и другая, о которой вы узнаете сейчас. — Но расстояние Томбукту от морского берега очень значительно… Я думаю, около 1500 километров. — Что такое километр, — я не знаю; могу только уверить вас, что переезд занял всего несколько мгновений: пространства для нас не существует. Мы осторожно извлекли вас из льда, освободили от одежд и положили на куске хрустального стекла. — Потом? — Потом дюжина самых здоровых молодых людей расположились вокруг вас и протянули к вашему безжизненному телу свои руки, так чтобы они касались одна другой. Затем они стали изливать на вас токи жидкости… — Как все это чудесно, Та-Лао-Йе (Почтенный Старец)! В мое время этим средством пользовались для столоверчения. — Странное занятие для серьезных людей, позвольте вам заметить, Шин-Чунг («Древний Человек»)… Итак, вы пользовались естественными токами для столовращения, мы же употребляем их для оживления мертвых. Прогресс, не правда ли? — Правда, и я верю тем более охотно, что сам — живое доказательство ваших слов, — медленно отвечал Синтез. — Под влиянием этого естественного или животного тока, у вас появилась мало-помалу жизнь. — И вы не употребляли никакого другого средства, кроме накладывания рук? Я не был подвергнут действию теплоты? Вы не прибегали ни к растираниям, ни к искусственному дыханию, ни к электричеству?.. — Зачем?! Излитие жизненной энергии, которою мы владеем, вполне заменяет все эти средства, представляющие притом опасности, без особенных гарантий успеха. Наша же жидкость, Шин-Чунг, настолько сильна, что служит нам для теплоты, движения, электричества, жизни; словом, она заменяет нам все и делает нас действительно царями земли. — В самом деле, я чувствовал странное, неопределенное ощущение, по мере того, как пробуждался от своей необыкновенной летаргии. Мне казалось, что каждая жилка моего организма начинает приходить в дрожание. Я не знаю, какая таинственная, неодолимая, благодетельная сила разлилась по всему моему телу. Невыразимое блаженство охватило мою душу. Потом я пробудился и пришел в сознание, но мне показалось, что я все еще лежу на своей льдине, у полюса. Только ваше появление дало моим мыслям иной оборот. Ваш странный вид, не имеющий ничего общего с наружностью прежних обитателей земли, ваше летание по воздуху, ваши поступки, — все сразу показало мне, что я попал в чуждую среду, окружило вас в моих глазах таинственным ореолом и задало моему уму неразрешимую задачу. — Мы прямые потомки, происшедшие от медленного и продолжительного слияния двух рас, которые с далеких времен доказали свою чудесную жизненность, — рас черной и желтой. Вы сейчас узнаете, что сделало нас такими, каким вы видите меня теперь. Вам известно, конечно, что органическая жизнь постоянно развивается: первоначально организм представлял из себя простую клетку, затем, развиваясь мало-помалу, он дошел до человека, самого совершенного существа. Этот прогресс органической жизни никогда не останавливается. И какой орган выигрывает от него? Конечно, мозг! Судите же о степени его развития со времени появления на земле первого организма до человека и от ваших современников до нас! Очевидно, что у нас мозг, так сказать, поглотил все и развился до колоссальных размеров, как вы можете заметить по объему наших черепов. Отсюда вполне справедливо будет, если я выражусь, что в 11886 году земля населена, по большей части, «мозговыми людьми». — Вы говорите: по большей части, — следовательно, есть еще другой народ, кроме вашего? — Да, вы сейчас увидите этих людей. Они обратились в животных. Это Мао-Чин («волосатые люди»), по виду очень похожие на вас.3
— Ну, Шин-чунг, как ваше здоровье? — Очень хорошо, Та-Лао-Йе, — благодарю вас. — Не нуждаетесь ли в пище? — Совсем не нуждаюсь. — Однако, уже дано приказание приготовить для вас пищевые вещества, употребляемые обыкновенными Мао-Чинами. — Вероятно, овощи, говядина… — Без сомнения. — Напрасно беспокоились: я питаюсь не так, как прочие люди. Вот уже 25 лет, как моею пищею служат только простые, химически чистые элементы, из которых состоят названные вами блюда. — Вы?! — Да. Что же вы находите тут странного? — спросил удивленным тоном Синтез у своего собеседника. — Я нашел, что, чем трудиться над перевариванием пищи, лучше прямо вводить в организм необходимые питательные вещества. Обыкновенно кушают хлеб, овощи,мясо и т. п. пищу, которая состоит из простых элементов: углерода, водорода, азота и т. д. Я предпочитаю употреблять эти элементы в чистом виде. — Да ваша система питания решительно та же, что и наша! И вы дошли до нее за 10000 лет? — Совершенная правда, Почтенный Старец; я даже сам приготовлял эти вещества. — Удивительно, Шин-Чунг. Значит, ничто не ново под солнцем! — В мое время употребляли афоризм слово в слово сходный с тем, какой вы сейчас произнесли. — Но тогда выходит, что назад тому 10000 лет люди вовсе не были жалкими созданиями, чуть-чуть выше животных! — Что вы говорите, Почтенный Старец! Напротив, у нас цивилизация ушла очень далеко вперед, и меня удивляет, что вы до сих пор ни одним словом не упомянули о многочисленных памятниках, оставленных нашими современниками, по крайней мере, в обитаемых и теперь землях. — Ошибаетесь, следы вашего времени существуют, и даже в большом количестве; но все это такие тяжелые предметы, что мы едва догадываемся об их употреблении. Во всяком случае они не могут нам дать ни одной возвышенной мысли о состоянии умственного уровня доисторических людей. — Я посмотрю ваши музеи и буду очень счастлив дать вам необходимые разъяснения относительно древних вещей. Может быть, вы откажетесь тогда от своего предубеждения… Кто бы мог сказать мне раньше, — прибавил мысленно Синтез, — что я сделаюсь доисторическим человеком и буду вынужден узнавать от своих потомков, чем мы были в 19 веке?!.. Ученый швед печально задумался, размышляя о своей судьбе. Вдруг его внимание привлек человек средних лет, с покорною миною подходивший к ним, держа в руках большое блюдо, прикрытое колпаком. Голова его была не покрыта, ноги босы, всю одежду составляли грубая французская блуза и короткие панталоны. — Мао-Чин! — заметил старик. — Но, — прервал Синтез, удивление которого все возрастало, — этот человек, которого вы называете «волосатым», как мы называли айно, то есть волосатыми, жителей островов Восточной Азии, не имеет ни одной черты, характеризующей эту первобытную расу — айно. Он белый… белый, подобно мне, бородат, словом, это настоящий тип жителей, теперь исчезнувшей Европы. — Однако, теперь это — выродившаяся раса, способная исполнять у нас лишь рабские обязанности. Посмотрите только на эту незначительную голову, на этот подавшийся назад лоб, на эту склоненную к земле шею, на эти огромные руки и ноги, на эти члены с мускулатурою зверя… Я сомневаюсь, способен ли он мыслить! Он говорит бормоча, ест прожорливо, пьет с жадностью животного, бьется со своими сородичами, не задумывается даже убить их, если хмель или бешенство возбудят его. Кроме того, он на всю свою жалкую жизнь прикреплен к земле, он не может унестись смелым полетом вверх, не может, подобно нам, свободно летать по воздуху… Словом, это переходное существо… самое совершенное, сознаюсь, из животных, но самое низкое из творений, достойных теперь называться людьми. — Значит, — с горечью пробормотал Синтез, — в сравнении с совершенными «мозговыми людьми», и я не более, как любопытная в антропологическом отношении порода, немного выше той человекообразной обезьяны, которую когда-то отыскивали мои коллеги — члены ученых обществ, чтобы связать человека моей эпохи с настоящими обезьянами. Но что это за «мозговые» люди? Я постараюсь разузнать это. По знаку старика Та-Лао-Йе, человек, принесший блюдо, низко поклонился и бесшумно исчез. Синтез успел, однако, заметить его любопытный взгляд при виде человека своей расы, который фамильярно сидел рядом с его хозяином. — Что же, Та-Лао-Йе, все ваши Мао-Чин походят на этого человека, которого вы можете сравнивать с европейцами, жившими 10000 лет тому назад? — Все они походят без малейшего исключения. — Вот оттого-то вы и считаете белокожих людей доисторической расой! — Конечно! — А между тем, если бы в наше время жили такие существа, как ваши Мао-Чин, их бы сочли вполне достойными носить имя человека. — Все зависит, с какой точки зрения смотреть на предмет. Назад тому десять тысяч лет и Мао-Чин, волосатые люди, стояли первыми на животной лестнице, точно так же, как за 10000 лет до вас существовали еще несовершеннее вас, однако, и они стояли между современными им существами на первом месте. — Это совершенно справедливо: одна раса необходимо должна была вырождаться, другая развиваться. — Да. Если вы уделите мне несколько минут внимания, я сообщу вам об исторических периодах, начиная с самых отдаленных времен, о которых только наши предания сохранили воспоминания. Может быть, это прольет нам свет на многое. Но прежде позвольте заметить вам, что я считаю вас бесконечно выше наших «волосатых людей», и вы — живое доказательство, что и в наше время белый человек иногда является выше своего жалкого настоящего положения. — Я слушаю вас, Та-Лао-Йе, с живым интересом и очень благодарен за ваше лестное обо мне мнение. — Предание говорит, что наши предки, китайцы чистой крови, занимали значительную часть земли, которой они дали название Азии. Их владения на востоке ограничивались огромным морем… — Как?! — с живостью прервал Синтез, думая, что он ослышался. — Вы говорите: «ограничивались морем», а разве теперь на востоке Азии уже нет моря? — Нет, и давно уже! Это море все наполнилось коралловыми наростами, которые образовали новый материк, слившийся со старым. — Я предвидел это, — прибавил Синтез, — но не думал, что мне самому приведется это видеть. По этому предмету можно бы рассказать вам, Та-Лао-Йе, странные истории… Простите, однако, я увлекся в сторону. Продолжайте, пожалуйста, свой рассказ. — Наши предки, люди очень скромного нрава, почти исключительно занимались земледелием. Сначала все шло хорошо. Но вскоре число их так увеличилось, что вся их обширная страна оказалась тесна для них. Тогда они мало-помалу стали переселяться на соседние страны, где встретились с западными, белокожими людьми. Эти последние, будучи вспыльчивого нрава, любили только войны да завоевания. Многократно они нападали на мирных китайцев и разбивали их, хотя те желали только одного — жить в мире с ними. Развились продолжительные войны. Но вот настал день, когда китайцы, число которых уже давно превосходило число их врагов, решили покончить эту беспрерывную борьбу. Вынужденные, по праву самозащиты, перенять у врагов их способы и средства борьбы, эти скромные земледельцы вдруг предстали в один прекрасный день грозными воинами, ужасными и неумолимыми. Наше предание сохранило воспоминание об общем избиении всех белых, находившихся тогда на земле наших предков, избиении, которое должно было повести к страшному возмездию со стороны тех. Нужно заметить, что до этого времени белые сами постоянно резались между собою и жили в вечной ссоре друг с другом. Вы видите, насколько они уже и тогда стояли ниже наших предков: одни мирно трудились над землею и услаждали себя радостями знания, а другие жили только кровью ближних. Теперь, в виду общей опасности, они думали было соединиться и общими силами дать отпор врагу. Но было уже поздно: Китай к тому времени мог выставить страшную армию; миллионы его обитателей, решившихся покончить с беспокойными соседями, покинули отечество и решились не возвращаться туда, пока не истребят всех белых. Наступила кровавая война двух рас, война без жалости и снисхождения. Китайцы, подобно грозному потоку, разлились по всему Западу. Ничто не могло остановить их страшного нашествия. Грозные враги обращали в пепел целые страны, превращали в груды развалин роскошные города и безжалостно истребляли жителей, занимая их области. Так они постепенно овладели всею землею. — Это должно было случиться, — тихо прошептал Синтез. — Нельзя было безнаказанно играть с таким колоссом, как Китай, где еще в конце 19 века было пол-миллиарда обитателей. А скажите, Та-Лао-Йе, эта борьба, без сомнения, была очень продолжительна? — Напротив, все заставляет нас предположить, что она была коротка, но зато очень жестока, благодаря усовершенствованным орудиям истребления, какими владели противники. — И истребление белых было полное? — Нет, Шин-Чунг, китайцы в эту эпоху отличались слишком промышленным духом, были слишком экономны, так сказать, чтобы без пользы для себя уничтожить столько рабочих сил. Те, кто избежал резни, сделались простыми рабами, которым отказывали в умственном образовании и приневоливали только к грубым работам. Тотчас же по окончании борьбы были изданы специальные законы, навсегда утвердившие рабское положение побежденных. Китайцам было запрещено родниться с ними, а им размножаться дальше известного предела и покидать землю, к которой их прикрепили. С того времени и началось вырождение белой расы, как вы видите это на наших Мао-Чин, жалких наследниках своих побежденных за 2000 лет предков… Кстати, об этом названии — Мао-Чин. Вы говорите, что так когда-то называли жителей восточных окраин прежнего Китая? — Да. — Можно думать, что это название было дано победителями побежденным по аналогии. Побежденные были так же бородаты, как Мао-Чин их времен, и китайцы естественно обратили внимание на это сходство, назвав волосатыми обе низшие расы: одну низшую по происхождению, другую — сделавшеюся такою по своему рабскому состоянию. Поэтому, мне кажется, белые совершенно справедливо получили название Мао-Чин. — Да, справедливо, — медленно отвечал Синтез, на которого рассказ о бедствиях и униженности его расы произвел удручающее впечатление. — Я продолжаю. Китайская цивилизация разлилась далеко на Запад. Скоро Азия, Европа и север Африки, — все сделалось китайским; мало-помалу численность желтой расы возросла до громадной цифры, между тем как число Мао-Чин, вследствие суровости законов, оставалось прежним. Несколько позднее, около 24-го столетия, — наверно не могу сказать, так как наша хронология еще не определила достоверно этого времени… — Кстати о хронологии!.. Я замечу вам, что вы пользуетесь нашею хронологией, т. е. хронологией так беспощадно истребленных вами белых. — Без сомнения, и это нисколько не стесняет нас. Хронология — может быть единственная вещь, которую мы сохранили из достояния побежденных… Но продолжаю. Около 24-го столетия наша планета испытала много всякого рода переворотов — атмосферических, геологических и даже астрономических. После ужасных землетрясений, перетасовавших антарктические страны, на земле настал беспорядок в распределении времен года и понижение температуры. Я рассказываю вам об этих событиях пока лишь в общих чертах, откладывая более подробное изложение до другого времени. Тогда, если вам будет угодно, я с точки зрения науки постараюсь разъяснить вам вероятные причины и необходимые следствия порабощения белых. Льды загромоздили северные и южные страны и сделали необитаемыми земли, занятые когда-то победителями. Тогда последние удалились в более теплые страны, а в северных странах остались только немногие Мао-Чин — влачить жалкое существование на неблагодатной почве. Европа сделалась ледовитой, и наши предки, покинув ее, направились прямо в Африку. — А Средиземное море, отделяющее эти части света? — Если когда-нибудь это море и существовало, то оно уже давно исчезло после одного из переворотов, происшедших на земле, о чем я сейчас говорил вам. В Африке наши предки нашли первобытную расу с совершенно черною кожей; но эта раса отличалась мирным характером, была гостеприимна, кротка и трудолюбива. Черные приняли пришельцев, в противоположность белым, по-дружески, дружески разделили с ними свою землю и вообще выказали им полную симпатию. Следствием таких отношений явилось слияние черных с желтыми посредством браков, которые были очень плодовиты. Мало-помалу произошло совершенно слияние двух рас, давшее, как видите, отличные результаты, так как происшедшее отсюда потомство соединило в себе качества обеих рас. Черная раса дала ему свою телесную силу, свою удивительную выносливость, свою живую благородную кровь, желтая раса принесла — качество ума и плоды вековой цивилизации, искусства, науки и промышленность, совершенный мозг, твердую волю и совершенную общественную организацию. Словом, через слияние с черною кровью китайская кровь получила новую силу. — Значит, произошла как бы естественная прививка качеств одной расы к другой? — заметил Синтез, все более и более интересуясь рассказом своего собеседника. — Да, вы совершенно удачно выразились — прививка, Шин-Чунг. — И прививка, имевшая поразительные результаты, по крайней мере относительно Африки, которую вы называете теперь Западным Китаем. Любопытно только знать, как произошло скрещивание двух рас, и как распространилось оно на другие части нашей планеты. Ведь народы, населяющие теперь Восточный Китай, — по вашей терминологии, — походят на здешних? — Совершенно. — Вот это-то и удивительно! — Нисколько! Я сейчас объясню вам. Представьте себе, что на 30» выше и ниже экватора проведены кругом земли две линии. — Хорошо! — Поверхность, находящаяся между этими двумя линиями, почти представит обитаемый теперь нами пояс земли. — Мне кажется, этой полосы слишком недостаточно для нынешнего населения земли, и человечество должно чувствовать тесноту. — Вы забываете, что от самого древнего Китая, который был колыбелью нашей расы, далее на восток идет одна только суша. — Ах, да! Вы ведь сообщили мне, что теперь там вместо моря огромный материк образованный кораллами… — И поднятый во время одного переворота, происшедшего на земле. Притом даже и в ваше время эта страна, усеянная островами, была заселена черными. — Вы правы, Та-Лао-Йе. Теперь мне совершенно ясно, как произошло слияние двух рас. Из Китая сначала началось переселение на восток, и те, кого мы называли папуасами, австралийцами и полинезийцами, слились с китайцами. Потом массы желтолицых разлились по всему новому материку и встретили американских негров и чернолицых антильцев, которые тоже вскоре превратились в китайцев. Мало-помалу, когда между Африкой и Америкой появлялись новые страны, сюда притекал черный элемент и, встречая желтый, постепенно сливался с ним. — Ваше предположение совершенно верно. Теперь можно объехать кругом всей нашей планеты, не замочив ног. — Это действительно удивительно. Теперь все мои старые предположения о будущем расстроены. Воображаю, как бы посмотрели в мое время на того, кто бы осмелился объявить: «будущность принадлежит китайцам и неграм»! У нас такого пророка сочли бы просто сумасшедшим… Во сколько же дней теперь можно объехать весь свет, не замочив, как вы говорите, ног? — Дней!.. Это путешествие можно совершить гораздо быстрее. Не хотите ли, мы с вами совершим его? — Но какие же совершенные средства передвижения должны быть у вас?! — Они почти мгновенны! — Мгновенны!.. Впрочем, я уже и не удивляюсь, — так много удивительного слышал я о вас. Однако, вы меня заинтересовали. Конечно, мы не поедем по морю? — Этот способ путешествий давно уже перешел в область преданий. — О земле я уже и не упоминаю: подобные вам существа не могут и путешествовать по ней. — Вы правы. — Так по чему же мы поедем? Остается, ведь, только воздух. Разве он будет нашей дорогой? — Вы угадали, Шин-Чунг. — А на чем мы полетим? На шаре, может быть? — Фи! Отцы наших прадедов уже видели эти неудобные машины только в музеях! Мы понесемся со скоростью, почти равною скорости света.4
— Вы приготовились к путешествию? — спросил Синтез своего собеседника. — Нам нечего готовиться к нему, — заметил тот. — Мы везде чувствуем себя дома, везде можем найти питательные элементы, необходимые для нашей жизни. — Еще одно слово… Извините только, что я вас останавливаю. — Сделайте одолжение! Я весь в вашем распоряжении. — Благодарю… Я совершенно ясно понял все, что вы сейчас кратко рассказали мне. Смею надеяться, что вы еще возвратитесь к этому предмету. — С большим удовольствием! — Еще раз благодарю. Все эти факты, рассказанные вами, все изменения, происшедшие в земле, как бы необыкновенны они не были, я все-таки допускаю, тем более, что вы сами представляете неоспоримое доказательство их достоверности. Но мне хотелось бы расспросить вас об анатомическом строении вашего тела, о вашей почти болезненной чувствительности и особенно о вашей удивительной способности свободно летать по воздуху, тогда как мы навеки привязаны к земле. — Что же тут непонятного? Вы, конечно, хорошо понимаете, что наш мозг, тысячи лет находясь в постоянном упражнении, мог развиться до его нынешних размеров, которые вам кажутся чудовищными? Это явление очень обычное в природе. Тот орган, который чаще всего упражняется, больше и развивается. — Действительно, давно уже доказано, что тот орган, который в продолжение нескольких поколений остается без употребления, с течением времени ослабляется, атрофируется, мало-помалу исчезает. Напротив, работающий без устали орган достигает сильного развития и больших размеров. Это известно было и нам. — Тогда ничего нет проще объяснить и чувствительность, которая вам кажется даже болезненной и которая зависит от развития нервов. — Она тоже результат преобладания в нас мозговой системы. Будучи «мозговыми» людьми, мы должны, по необходимости, быть и «нервными». — Это так! — Наш мозг, по объему, почти втрое больше вашего, стало быть, мы должны быть и втрое более нервными, чем вы. — Без сомнения. — Замечу, впрочем, что эта теоретическая пропорция не вполне соответствует действительности. — Конечно, так как нужно принять еще во внимание постоянное упражнение вашего мозга… — Не только постоянное, но и вековое, так как наши отцы из поколения в поколение передавали эту чувствительность, которая таким образом беспрерывно совершенствовалась… — …И в конце концов достигла такого совершенства, что ваш организм начинает терять черты своей вещественности? — Да. Мы надеемся, что наши будущие потомки добьются полной духовности… — Так вот почему вы и отличаетесь такою необычайною чувствительностью к малейшему, более или менее сильному шуму и крику: сильное развитие нервного вещества выделяет вас из среды грубых, материальных существ и приближает к бесплотным существам, а последние, естественно, не могут выносить сильных впечатлений извне. — Ваше объяснение, Шин-Чунг, совершенно верно. По своей чувствительности мы избегаем всякого необычайного шума. Поэтому наши рабы, Мао-Чин, должны говорить с нами тихим голосом, никогда не кричать… — Ну, а когда случится сильная буря, например, с громом? — Наши чувствительные нервы заранее уведомляют нас о ней, и мы успеваем убежать на чистое место неба. — У вас, Та-Лао-Йе, готов на все ответ! Право, я не знаю, как и удивляться вам. Что касается вашей необыкновенной силы, которую я назову психическою силою… — Как вы сказали? — психическая сила?! Вы выразились очень удачно! — Как, то есть? — Мы действительно, не действительно не имеем другого названия для этой силы, в тайну которой я постараюсь посвятить вас. — Со своей стороны позвольте вам заметить, что и в мое время существовало несколько счастливцев, обладавших вашею завидною способностью подниматься над землею. — Как?! Что вы говорите, Шин-Чунг? — Сущую правду, Та-Лао-Йе. Только этою способностью они владели временами и не в такой мере, как вы. — Э! Вы думаете, что все мои современники владеют этою способностью в одинаковой мере? Ошибаетесь, Шин-Чунг! Подобно тому, как не все люди бывают одного и того же роста, одной и той же мускулатуры, одного и того же ума, — так и психическая сила не у всех бывает одинакова. — Мне это кажется совершенно правильным и соответствующим законам природы, которая никогда не могла да и не может терпеть полного равновесия организмов, как животных так и растительных. — Вы отлично понимаете меня, Шин-Чунг! Как я рад, что в последние дни своей жизни нашел, между развалинами древнего мира, такого прекрасного собеседника. Вы поистине далеко опередили свой век. — Зато, — увы! — я много пережил его! — Возвратимся к психической силе. Вы сейчас сообщили мне, что назад тому десять тысяч лет некоторые из ваших современников, — Мао-Чин, значит, — обладали этою способностью, которая теперь составляет нашу исключительную принадлежность, и в которой сама природа отказала нынешним Мао-Чин. — Я ничего не прибавил от себя к тому, что было. Смею уверить вас в этом, Та-Лао-Йе. — Что вы, помилуйте, Шин-Чунг! Я никогда не сомневался в истине ваших слов. Мне только хочется спросить вас, похожи ли на нас эти люди? — Очень мало, Та-Лао-Йе. Прежде всего, по своему мозгу они не отличались от простых смертных; затем, у них была только сотая, или даже тысячная доля того могущества, которым владеете вы. Однако, самый факт их существования — неоспорим. Повторяю вам, существовали, не только в 19 веке, но еще раньше лица, которые могли без всяких приспособлений подниматься на воздух и держались там. Например, на моих глазах, в Индии, пандиты, т. е. просвещенные, одною силою своей воли поднимались над землею и оставались в таком положении некоторое время. Это были люди умеренной, постнической жизни, которые старались, по возможности, отрешиться от внешнего мира и усилить свою нервную чувствительность. Я мог бы набрать вам множество подобных примеров; но я остановлюсь на тех, которые были подчинены строго научному контролю, устранявшему всякую мысль о подделке со стороны свидетелей или действующих лиц. Так, англичанин Крукс, член Лондонского Королевского общества, человек хорошо известный в химии своими открытиями… Впрочем, что же это я говорю?! Говорю о Лондоне, о Королевском обществе, об Англии, как будто все это существует и поныне… Вот что значит проснуться через 10000 лет!.. — Вы крайне заинтересовали меня, Шин-Чунг. Я бесконечно счастлив, узнав, что и среди ваших современников, людей, несомненно, несовершенных, — находились существа, одаренные нашими способностями. Но, продолжайте, пожалуйста. — Хорошо! Крукс, при посредстве очень простых аппаратов, мог измерить силу, развиваемую этими необыкновенными, по нашему времени, людьми, чтобы нельзя было сомневаться в подлинности явлений. — Ну, и до чего же доходила эта сила? — А вот слушайте: она поднимала предметы на несколько аршин от земли, она увеличивала весь предмет до 150 раз… — Тут нет ничего невероятного. Как вы думаете, сколько весит та кристаллическая масса, на которой вы находились? — Я думаю 100-150 пудов, а может быть и более. — Смотрите же! С этими словами старец встал на землю, слегка подался назад и просто коснулся своими десятью пальцами глыбы. Можно себе представить остолбенение Синтеза, когда он увидел, что вся эта огромная масса вдруг затряслась и с глухим шумом поднялась на воздух. Старец, смотря на него, тихо засмеялся. — Чего вы удивляетесь? Я могу легко переворачивать эту массу тою или другою стороною… — Бесполезно! — вскричал Синтез, приходя в себя. — Я вполне убежден, что это не представит для вас ничего невозможного. — Для меня, равно как и для всех моих сородичей, это вполне естественная вещь, так как наша сила, так сказать бесконечна… Так, положим, я взялся бы двумя пальцами за ваше запястье, — я мог бы раздавить его, как тонкое стекло. — Я не сомневаюсь в этом. — Еще одно слово, прежде чем приобщить вас, как вы этого заслужили, к нашему счастью. Как объясняли, назад тому 10000 лет, это явление, ставшее обычным у нас? — Мы полагали, что эта сила, имеющая, конечно, нервное происхождение, образует вокруг известных тел род нервной атмосферы, довольно плотной и способной, в сфере своего действия, заставить неодушевленный предмет совершать разные движения. Под влиянием этой нервной силы, человеческое тело, обыкновенно притягиваемое силой тяжести к земле, может отталкиваться… — Нужно сознаться, что и у нас нет других объяснений этого явления, и я крайне удивлен, услышав, что так ясно и точно объясняет его человек, живший задолго раньше меня. — Однако, наперекор очевидности подобных явлений, большая часть наших современников отказывалась допустить их. — Неужели все тогда были так недоверчивы? — Даже более, чем вы можете подозревать это. — Однако, мало ли в природе вещей, крайне загадочных в сущности… — Постойте, я перебью вас, Та-Лао-Йе. Не похожа ли психическая сила на электричество угря или ската, которое тоже образует вокруг организма рыбы особенную атмосферу? — По мне она совершенно одинакова, Шин-Чунг. Но довольно пока об этом предмете, перейдем к другому. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы себя в силах покинуть здешнее место и предпринять со мною путешествие? Ясность ваших суждений доказывает мне, что у вас пробуждение полное. Что касается до крепости вашего тела, то она достаточна… — Я в вашем полном распоряжении, Та-Лао-Йе. Вверяю себя в ваши руки. Во время разговора Синтеза или Шин-Чунга, как называл его старец с очками, около него уже давно собралась толпа «мозговых» людей, которые, убедившись, что гость более не пугает их своими криками и грубыми движениями, с любопытством обступили его со всех сторон. Та-Лао-Йе сказал им несколько слов. Они подошли еще ближе к Синтезу и слегка коснулись его своими руками. В то же время Синтез почувствовал, что он плавно поднимается вверх среди группы «мозговых» людей. — Так вот это чудесное средство передвижения, про которое вы говорили мне, почтенный Та-Лао-Йе! — заметил довольный Синтез, хотя ему стало невольно страшно, когда он очутился над землею. — Да. Ну, как вы находите его, Шин-Чунг? — Я восхищен! — одно могу сказать. Мой язык не находит лучше слова, для выражения моей радости и неописанного довольства, которое теперь меня наполняет. В это время они поднялись на воздух на высоту семи сажень и здесь остановились. — Вы не чувствуете головокружения? — осведомился Та-Лао-Йе. — Впрочем, опасаться нечего: мы крепко поддерживаем вас. Вы находитесь в центре атмосферы действия наших организмов и потому, так сказать, слили свое тело с нашим. Теперь, когда вы сами взлетели на воздух, скажите мне, — лучше ли с быстротою молнии перенестись в Томбукту, или медленно тащиться туда, подвергая себя всем опасностям столь дальнего путешествия? — Можно ли даже спрашивать об этом?! — Выбирайте, что хотите, Шин-Чунг, — мы, как хозяева, считаем себя обязанными исполнить все ваши желания. — Еще раз благодарю вас! С вашего позволения, я охотно избираю воздушный способ путешествия. — Ну, так полетим! Группа путешественников тронулась с места и плавно полетела вверх; потом, на некотором расстоянии от земли, снова остановилась, чтобы показать доисторическому человеку то место, над которым они находились. Но, против ожидания, представившийся вид не произвел на Синтеза никакого впечатления. Он увидел небольшой город с раскиданными там и сям зданиями, окруженными разнообразной растительностью, которая красиво оттенялась при блеске солнца. Здесь были перемешаны растения разных поясов, и наряду с тропическими растениями братски ютились растения умеренного климата. — Если мне не изменяет память, — тихо проговорил Синтез, — этот китайский город мало отличается от тех городов, которые я некогда видел в Небесной Империи. Форма и характер их почти не изменились. — Точно так же, как наш язык и нравы, — отвечал Та-Лао-Йе. — Да и к чему изменять то, что приятно для глаза и удобно для употребления? Эти дома очень чисты, прохладны и здоровы, так как не заражаются миазмами и предохраняют нас от сильного действия солнца. Чего же еще вам более? — А кто у вас строит их? — Все те же Мао-Чин, под нашим руководством. — В самом деле, я и позабыл, что у вас существует другая раса… моя… раса притесняемых… презренных белых! Впрочем, только грубые белые и могли выстроить эти громоздкие здания; ваша же раса так утончена и чувствительна, что, кажется, вовсе не способна к подобным работам… — Мао-Чин вовсе не так презренны и угнетаемы, как вы думаете. Это просто низко организованные существа, работающие без сознания, подобно животным. Нового поэтому ничего не придумают, но зато, под нашим руководством, могут служить отличными работниками. — И им законом запрещено, вы говорили мне, стараться освободиться от их несчастного положения? — А разве этого не бывало в ваше время, Шин-Чунг? Разве не было у вас низших существ, обреченных на самые тяжелые труды, в то время как другие проводили всю жизнь без малейшего труда и работ? Вы сами, Шин-Чунг, человек образованный, а возделывали ли вы землю, плодами которой питались, ткали ли платье, которое одевало вас, строили ли жилище, где вы помещались? — Нет. Вы заставляли делать это своих Мао-Чин, кто бы ни были, и вовсе не считали их равными себе. Вообще, нужно вам сказать, разница между производителями и потребителями и в ваше время была не меньше, чем в наше. — Но все же мы давали жалованье своим работникам! — А разве наши Мао-Чин работают даром? Мы даем им все, в чем они нуждаются: жилище, платье, пищу, когда они заболеют, — их лечат, когда состарятся, — дают убежище. Ну, а вы-то делали ли это для своих? — Не буду спорить, чьему рабочему, нашему или вашему, жилось лучше, — скажу лишь, что всякий рабочий имеет право на свой труд. То, что вы даете вашим Мао-Чин, они делали бы и сами, стало быть, легко могли жить и без вас. — Вы, кажется, забываете, что они — побежденные, а мы их хозяева. Все, что здесь ни есть, принадлежит нам; они не могут и не должны иметь собственности; наша воля для них закон, так как они существа гораздо низшие нас. Поняли ли вы? — закончил Та-Лао-Йе, мелодичный голос которого принял в эту минуту несколько жесткий оттенок. — Увы, — со скорбью подумал про себя Синтез, — так именно рассуждали и поступали во времена моей молодости рабовладельцы. Таких воззрений держались Южане, пока ужасная война с Северными Штатами не окончилась их поражением и не заставила их отказаться от рабства. Но какое возмездие теперь со стороны потомков дяди Тома! Группа воздушных путешественников в молчании продолжала свой полет, между тем как Синтез, углубившись в свои размышления, созерцал с высоты реки, ручьи, леса, поля, селения, несчастных Мао-Чин, согнутых над работою или тихо подвигавшихся по дорогам. Временами Синтеза и его спутников обгоняли «мозговые» люди, неслышно скользившие в воздухе подобно созданиям фантазии. Та-Лао-Йе первый прервал безмолвие, которое почтительно сохраняли его товарищи, люди более молодые и, по-видимому, ниже его стоявшие в таинственной иерархии Мозгового государства. — Что, — обратился он к Синтезу, — не ускорить ли нам свой полет? Мы тогда скорее достигнем Томбукту и немного отдохнем в этом городе, прежде чем продолжать свое путешествие вокруг земли. — Охотно, Та-Лао-Йе. Но предварительно я желал бы получить от вас еще некоторые сведения относительно вашей организации, чтобы мне можно было всецело, не развлекаясь посторонними мыслями, посвятить себя изучению тех чудес, какие вы мне покажете… Я человек методический, немного педант, если вы хотите, и не люблю заниматься несколькими вещами зараз. — Спрашивайте, спрашивайте, Шин-Чунг, я в вашем распоряжении… — Вы говорите, мы теперь направляемся в Томбукту, город, служащий вам обычным местом жительства. Объясните же мне, пожалуйста, какова ваша семейная организация, каковы ваши отношения, между собою и к Мао-Чин, — владеет ли каждый из вас одним или несколькими рабами, или ваше господство простирается на всю расу? Каковы, наконец, ваши занятия? — Я постараюсь кратко, но ясно ответить вам на эти вопросы, свидетельствующие об интересе, какой вы питаете к нашей семейно-общественной организации. Насколько могу, я сейчас посвящу вас во все тайны последней. Но прежде позвольте осведомиться, как вы себя чувствуете в данную минуту? — Превосходно. — Значит вы довольны нашим способом передвижения? — Я считаю его чудесным и сожалею лишь о том, что мои годы не позволят мне вполне овладеть им. Не затрудняет ли только вас самих, Та-Лао-Йе, моя переноска? Не чувствуете ли вы утомления? — Нисколько! Мы даже не знаем, что вы разумеете под словом «утомление», так как развитие нашей физической силы бесконечно. Притом же ваше тело, находясь среди окружающей нас нервной атмосферы, весит не более пуха… Однако, возвращусь к вашим вопросам. Что касается семейной организации, то наши предки были многоженцами, но вот уже пять или шесть тысяч лет, как у нас господствует моногамия, хотя закон и не ограничивает числа жен у каждого гражданина. Та же самая свобода царит у нас и относительно жилища каждого семейства. — Как?! Разве у вас нет определенных жилищ, где бы вы обитали постоянно, где бы воспитывались ваши дети и где бы жили ваши слуги? — И да, и нет. Иначе говоря, у нас дома составляют общественную собственность. Каждый выбирает себе то или другое помещение, живет в нем более или менее продолжительное время, затем в один прекрасный день покидает свое жилище, или в силу необходимости, или просто по прихоти. Выстроенные из массивного фарфора, наши дома крайне прочны и могут служить целому ряду поколений. Если число их оказывается недостаточным, то Мао-Чин строят новые. — Это напоминает меблированные отели американцев моего времени, — заметил Синтез. — Ну, а как живут Мао-Чин? — Мао-Чин прикреплены к известному жилищу и окружающему последнее участку земли. Каждую минуту в продолжении всей своей жизни, они должны быть готовы услуживать господам, кто бы последние ни были, и заботиться об удовлетворении нужд, как наших, так и своих… Таким образом, если кто-нибудь из нас переселяется, то на новом месте он находит и дом, и слуг, и все необходимое для жизни. — При такой системе вы должны очень мало жить семейной жизнью. Есть ли у вас даже время заниматься воспитанием ваших детей? При этом вопросе взрыв хохота вырвался у спутников Синтеза. Та-Лао-Йе поспешил прекратить этот прилив веселости. — Простите наш смех, — сказал он, обращаясь к Синтезу, — мы вовсе не хотели оскорбить вас, но нам странно слышать предположение, что мы, «мозговые» люди, сами воспитываем своих детей. — Как же иначе? — с удивлением воскликнул Синтез. — Очень просто, наших детей сначала воспитывают женщины Мао-Чин; они дают им необходимую пищу, заботятся, ухаживают за ними, пока малютки не начнут лепетать первые слова и не начнут делать первых шагов по земле, — подобно Мао-Чин, — и в воздухе, — подобно своим родителям. — Это мне кажется вполне разумным. Что же делают с вашими детьми потом? — Потом их воспитывают, опять таки сообща, в особых заведениях, под руководством опытных воспитателей. — И, наверное, эти воспитатели уже не принадлежат к расе Мао-Чин? — Нет, ими могут быть только представители нашей расы — «мозговые» люди. — Извините, Та-Лао-Йе, я здесь остановлю вас. Вы сейчас говорили мне о полном равенстве, которое будто бы существует между всеми вами, представителями совершенной расы… Вы говорили, что свободная воля каждого служит единственным правилом вашей жизни… Но скажите теперь, как же согласить с этой совершенной свободой рабское подчинение правилам, вытекающее из указанных вами педагогических занятий? — Какое же рабское подчинение? Правда, у нас никто не может отказаться от педагогической деятельности, так как наши законы положительно приказывают каждому гражданину безвозмездно отдаться воспитанию юношества. Но у нас никто и не думает уклоняться от этой обязанности, самой благородной, самой возвышенной, какую только могут иметь отцы семейств. — Я искренно удивляюсь вам, Та-Лао-Йе, и прошу вас извинить мою ошибку. — Не извиняйтесь, Шин-Чунг, — ведь я уверен, что вы не имели намерения оскорбить нас. Ваше суждение только показывает мне, что в ваше время люди держались на этот счет очень грубых понятий. — Но тогда, значит, вы все без исключения должны действовать по одной и той же инструкции? — А как вы думаете? Знайте, что все мы в известное время возраста, получаем получаем точные понятия о своих обязанностях и поучаемся следовать строго определенным правилам. — Мне хотелось бы хоть раз взглянуть, как вы обучаете своих детей. — Это можно устроить в одну минуту. Мы ускорим свой полет и сейчас будем в городе. — Еще одно слово. Когда вы с быстротою молнии пробегаете пространство, у вас разве не бывает столкновений между путешественниками? — Никогда не бывает ничего подобного. Даже если, случайно, два тела встретятся в воздухе, то нервные атмосферы, окружающие каждое из них, отталкиваются друг от друга и, таким образом, столкновение двух тел предотвращается. Синтез хотел было сделать еще несколько замечаний. Но было уже поздно. В тот момент, когда Та-Лао-Йе произнес последние слова, ученый почувствовал легкое содрогание. Это продолжалось всего одно мгновение. Потом он услышал приятный голос Та-Лао-Йе: — Мы прибыли на место!5
Воздушные путешественники спустились на землю среди огромного города, на обширной площади, обсаженной прекрасными деревьями и окруженной грандиозными памятниками. Синтезу захотелось несколько пройтись по ней, чтобы поразмять свои ноги после непривычного для него способа путешествия. Его спутники нашли это намерение вполне естественным. Синтез тихо зашагал по площади, бормоча про себя: — Итак, вот этот таинственный город Томбукту, некогда едва известный нашим современникам, а теперь столица мира! Наша цивилизация, которою мы гордились, исчезла почти без всякого следа, самая земная ось переместилась, прежние моря и материки исчезли, расы изменились, изменилась даже самая сущность человеческого организма, а этот прежде незначительный город уцелел и сделался лучшим рассадником современной цивилизации!.. Париж… Лондон… Петербург… Берлин… Рим — эти имена звучат теперь так же странно, как в мое время звучали имена Вавилона, Фив или Ниневии, от которых сохранилось одно только воспоминание… От всей нашей славы не осталось ничего!! Ничего! Вот результат нашей былой цивилизации! Синтез печально опустил голову. — А Томбукту, из негритянского города сделавшийся китайским, быстро развивается под африканским солнцем… Там, где прежде была знойная пустыня, теперь красуется пышная флора… Черно-желтая раса благоденствует, мои забитые соплеменники служат рабами на той самой земле, где прежде процветало лишь черное рабство… Голос Та-Лао-Йе вывел Синтеза из этих печальных размышлений. — Вы мне выражали желание посмотреть на наши школьные занятия, — говорил старичок. — Вот одна из наших школ. Теперь там собралось очень много учеников. Зайдите послушать, как учат у нас маленьких представителей будущего поколения. Синтез безмолвно кивнул головою и направился вместе со своими спутниками к огромному зданию, служившему училищем. Здесь, в противоположность нашим школам, было тихо, как в могиле. Путешественники проникли в обширную залу, имевшую вид амфитеатра, где на скамьях неподвижно сидели целые сотни детей. Можно было подумать, что это какие-то статуи, а не живые люди. При виде такой необычной картины Синтез не мог удержаться от удивления. — Странно, как эти маленькие «мозговые» люди мало разговорчивы! Я не вижу ни одного жеста, не слышу ни малейшего звука… Какая железная дисциплина царит здесь!! — Напротив, Шин-Чунг, — заметил Та-Лао-Йе на ухо своему новому другу. — Наши дети даже не знают, что вы называете дисциплиной. — Отчего же происходит в таком случае эта неподвижность, это мертвое молчание, словно все дети находятся в состоянии каталепсии? — Да очень просто, — оттого, что они спят. — Спят?!. В школе-то? — Да, спят! Учение детей во время их сна у нас считается самым употребительным средством, чтобы укрепить в молодом мозгу, притом без малейшего утомления, всевозможные знания. Но вы послушайте, пожалуйста, учителя. Синтез обратил внимание на преподавателя. Последний говорил тихо, подобно всем своим соплеменникам, но в то же время очень быстро, как будто хотел в самое короткое время наговорить как можно больше. Заметив посетителей, он дружески кивнул головою Та-Лао-Йе, а на Синтеза взглянул с большим удивлением. Казалось, он спрашивал себя, что может иметь общего с «мозговыми» людьми этот гигантский Мао-Чин с седою бородою, к которому его спутники, видимо, относились с почтением. Учитель терялся в догадках, тем не менее, по знаку Та-Лао-Йе, снова принялся за свой урок — космографии, как понял Синтез, уловив несколько слов из быстрой речи профессора. Прислушавшись внимательно, ученый узнал даже, что говорят о планетах нашей солнечной системы, именно о Марсе. Профессор с мельчайшими подробностями описал обитателей этой планеты, их нравы и обычаи, их историю, цивилизацию, промышленность. Чем более слушал Синтез, тем более удивлялся, как это «мозговые» люди имеют точные сведения не только об очертании планеты Марса, но об ее жизни, как будто до Марса громадное расстояние в 320000000 верст для них не существует. Заметив удивление своего гостя и узнав причину его, Та-Лао-Йе предложил гостю самому присутствовать при обмене сношений между Землею и Луною. По его словам, жители планет уже давно находятся в общении друг с другом. — А скоро это будет? — спросил Синтез, с невольною дрожью при мысли о том громадном расстоянии, какое отделяет нашу планету от ее спутника. — Мне кажется, лучше подождать ночи, — с улыбкою отвечал старец. — Хорошо! — проговорил Синтез. — Я намерен показать вам весь наш мир, так новый для вас, — продолжал Та-Лао-Йе, — и постараюсь сдержать свое обещание. С этой целью я выработал подробный план нашего путешествия. Мы осмотрим все, что может интересовать вас, а потом вы сможете специально изучить тот или другой предмет, который особенно привлечет вас к себе. — Совершенно согласен с вами, Та-Лао-Йе. Теперь мне хотелось бы еще послушать вашего профессора. Но урок кончился: «мозговые» люди, как видно, строго держались гигиенических правил и избегали мозгового переутомления. Учитель прервал свою речь, просто сказав ученикам: — Встаньте! Мгновенно со всех концов обширной залы раздались радостные крики, представлявшие поразительнуюпротивоположность с царившим раньше безмолвием. Школьники вскочили со своих скамеек, вспрыгнули на воздух и завертелись там, подобно мячикам. Потом один за другим они стали быстро улетать через широкую дверь. Через минуту зала опустела; в ней остался только учитель, Та-Лао-Йе, Синтез и их четыре спутника. — Ну-с, Шин-Чунг, — с торжествующей улыбкою обратился к Синтезу старичок в очках. — Что вы думаете о нашем методе преподавания? Можно ли достигнуть больших результатов как-нибудь иначе? — Я думаю, — думаю, что понял ваш метод. Та-Лао-Йе с глубоким удивлением посмотрел на своего собеседника. — Это невозможно! Каково бы ни было ваше знание, какова бы ни была ваша прежняя цивилизация, я все-таки не могу допустить, чтобы ваши современники знали принцип, на котором основана наша система преподавания. — Однако, он был известен еще во второй половине 19 века. Я сейчас объясню вам. Когда ваши дети придут в школу и займут свои места, учитель говорит им: «усните»! Так как они приучены к этому с самого раннего возраста, то усыпление происходит почти мгновенно. Дети впадают в особое состояние, похожее на сон, с тем лишь отличием, что во время его дух и тело их вполне подпадают влиянию того лица, которое сказало: «усните». Так ли у вас? — Совершенно так, — отвечал удивленный Та-Лао-Йе. — Продолжайте, пожалуйста. — Когда ученики впадут в подобное состояние, между ними и учителем образуется как бы нервный ток, на все время их сна. Что же остается делать учителю? Он читает или рассказывает свой предмет, а слушатели, подчиняясь его влиянию, не пропускают ни одного слова из его речи, так как находятся в самых лучших условиях для восприятия чужих мыслей. При таких условиях даже самые ленивые ученики станут внимательно слушать учителя по той простой причине, что они не могут делать ничего другого: мозг без их ведома усваивает мысли учителя. Это, впрочем, только подготовительный труд. Когда лекция кончится, учитель внушает своим слушателям помнить, по пробуждении, все, что было им произнесено. Этот способ, изумительный по своей простоте, представляет то неоспоримое преимущество, что избавляет преподавателей от утомительного труда биться с неразвитыми учениками и ускоряет учение. Подобные явления были известны в наше время под именем гипнотических. Я сам производил много опытов по этому предмету. — Однако, Шин-Чунг, это открытие — сравнительно очень недавнее, так как наши более древние книги, считающие себе 7000 лет, еще ничего не говорят о нем. Если не ошибаюсь, так называемый вами, гипнотизм открыт у нас не раньше, как за 4000 лет до настоящего времени. — Как это удивительно! Знание, приобретенное людьми посредством усидчивого труда, впало потом в полное забвение, так что новейшим поколениям пришлось снова открывать его. — Да, это так! — заметил после некоторой паузы Та-Лао-Йе, мнение которого о неразвитости доисторических Мао-Чин значительно поколебалось, с тех пор как он все чаще и чаще стал слышать, что между ними существовали такие лица, которые с честью заняли бы место и между «мозговыми» людьми. — Как бы то ни было, — продолжал Синтез, — вам принадлежит большая заслуга, что вы уничтожили медленное преподавание и заменили его, так сказать, непосредственным переливанием знания. Однако, ваш метод преподавания, превосходный в принципе, мне кажется, имеет и свою слабую сторону. Именно, все учение у вас сводится только к слушанию слов учителя, ваши ученики лишены возможности, во время урока, видеть те предметы, про которые им говорят. — Неправда, Шин-Чунг! Вы судите только по тому, что видели сейчас; но это очень недостаточно. Не ограничиваясь только словесным объяснением, наш способ преподавания восполняется сериями демонстраций. У нас есть обширные коллекции по тем предметам, которые преподаются в школах, и каждый ученик, когда ему покажут что-нибудь из коллекции, должен повторить все, сказанное по этому поводу учителем. — В добрый час! По правде сказать, другого я и не ожидал от вас… А нельзя ли мне посмотреть ваши коллекции, которые должны быть настоящими музеями? — Отчего же? С удовольствием. Начнем хоть с нашего национального музея в Томбукту, где по преимуществу находятся коллекции доисторических предметов. Они должны быть для вас вдвойне интересны, так как, быть может, вы найдете там следы вашего времени. — Вы меня крайне заинтересовали. — Пойдемте, когда так, осматривать их. Галерея доисторических предметов здесь же, только по другую сторону этих зданий, образующих наш университет. Путешественники, с Та-Лао-Йе во главе, прошли несколько шагов и вышли на четырехугольный двор, в 150 квадратных сажень, где на воздухе стояло множество предметов, совершенно незнакомых Синтезу, который окинул их рассеянным взглядом. Потом посетители проникли в огромную залу, выстроенную из фарфора и сверху покрытую стеклом. Здесь внимание Синтеза привлек один странный предмет, продолговатый с круглым отверстием, шедшим внутри по всей длине. — Пушка! — вырвалось невольно восклицание у Синтеза. — Один из тех чудовищных снарядов, которые фабриковали в 19 столетии для истребления людей! Ученый швед оглянулся кругом и увидел множество разных предметов его эпохи: тут были железнодорожные рельсы, бомбы, гранаты, колеса вагонов и прочие вещи; все это было симметрично расставлено, снабжено надписями и занесено в каталог. Синтез молча оглядывал все эти близко знакомые ему предметы. Добрый Та-Лао-Йе, думая, что молчание гостя происходит от незнания, принялся объяснять ему значение бывших в музее вещей. — Здесь собраны предметы железного века, бывшего, по моим соображениям, на несколько веков позднее вашего времени. Впрочем, за достоверность этого не ручаюсь, так как наши книги немы на этот счет, а все документы, начиная со времени наших завоеваний, к несчастью были истреблены нашими предками. Синтез утвердительно кивнул головою, но не сказал ни слова, — его внимание привлекли картины, повешенные над некоторыми предметами. Они изображали разные предметы, бывшие в музее, такими, какими, по представлениям «мозговых» людей, их употребляли Мао-Чин. Но эта реставрация была так неправдоподобна, что Синтез, несмотря на всю свою серьезность, едва мог удержаться от смеха. А Та-Лао-Йе, не замечая этого, продолжал свои объяснения. — Вот эта картина представляет езду на санях у ваших сородичей Мао-Чин, как о том дают нам знать эти длинные, тяжелые палки. Говоря об этом, Та-Лао-Йе указал на два железных рельса, на которых еще виднелись отпечатки шпал. — На этих полозьях Мао-Чин, вероятно, катались по своим гиперборейским льдам. Теперь их потомки позабыли искусство обделывать металлы и употребляют лишь деревянные полозья. Что вы думаете об этой реставрации? — Я нахожу ее очень искусной, — отвечал Синтез, к которому уже возвратилась вся его серьезность. Потом он прибавил в сторону: — Любопытно, какое назначение дадут мои новые друзья вот этим гранатам и ядрам, пущенным американцами в употребление всего в 1878 году. Как бы угадав мысли своего гостя, Та-Лао-Йе принял торжественный вид человека, уверенного в своем знании. Посмотрите на эти цилиндрически — овальные палки и железные шары, — сказал он, — их целая дюжина, заметьте эти подробности. А теперь взгляните на пояснительную картину. Что вы видите на ней? — Мао-Чин, играющих в кегли! — Да! Наши рабы уже с давних пор питают сильную страсть к этой пустой игре, впрочем, вполне соответствующей их слабому умственному развитию. Для этого они берут двенадцать кусков дерева, грубо обделанных в виде конусов, и забавляются, сшибая их деревянными шарами. Кто больше всех собьет конусов, тот и выигрывает. Играют обыкновенно вчетвером. Эти железные предметы, конечно, тоже кегли, только, как видно, люди железного века совсем не знали употребления дерева. Таким образом эта картина может служить для наших детей наглядной связью между настоящим и отдаленным прошлым. Не правда ли, нет ничего интереснее реставрации этих отдаленных эпох, которые, благодаря нескольким следам, оставленным ими, как бы оживают перед нашими глазами? — Да, интересно, — подобно эху, подтвердил Синтез. Простодушный Та-Лао-Йе не заметил легкой иронии, сквозившей в ответах гостя, и продолжал свои объяснения. — Что касается этой огромной железной плиты, — говорил он, показывая на железную доску, — то, мне кажется, она несомненно служила для жертвоприношений. Все в ней: форма, крепость, величина, — все подтверждает это предположение. — А почему вы полагаете, — спросил Синтез, — что доисторические люди не употребляли других алтарей? — Есть ли что удивительного в том, что люди железного века, употреблявшие железо предпочтительно пред другими материалами, воспользовались им и для приношения жертв своим идолам? — А какие у вас данные касательно божеств доисторических людей? — Вот это металлическое чудовище, — отвечал Та-Лао-Йе, показывая на пушку, замеченную Синтезом. — Только в нем очень трудно признать первобытную форму, так как время значительно изменило его. — Однако, при всяческом усилии воображения, в этом… предмете довольно трудно найти подобие человека. — Кто же вам говорит, что доисторические люди старались дать железному богу образ человеческий? Я думаю, что это скорее всего символ, созданный согласно верованиям… — А скажите-ка, зачем он выдолблен внутри? — спросил Синтез, едва удерживаясь от смеха. — Без сомнения для того, чтобы он был легче. Наверное не знаю, я могу говорить только по догадкам. Вообще воссоздать по памятникам прежнюю эпоху очень трудно. Но, по всей вероятности, все эти предметы, найденные нами в глубоком песке, принадлежали к предметам культа железного века. Отмечу вам странную особенность людей этой эпохи — создавать массивное, великое, наперекор их слабости и несовершенству средств. — Сцена жертвоприношения изображена вашим художником очень искусно — проговорил Синтез по-прежнему бесстрастно. — Но это, ведь, человеческое приношение! — Огромное количество скелетов, найденных около этих железных предметов, дают все шансы утверждать это. Чьи кости могут быть здесь, как не кости несчастных жертв, приносимых некогда в жертву Мао-Чин? — Совершенно справедливо! — Может быть, мои слова и не совсем согласны с истиной, так как земля подвергалась постоянным переворотам… Ну, теперь отправимся в галерею глиняных предметов. Группа посетителей вышла из железной галереи и повернула направо, в обширную залу, всю занятую разнообразными глиняными предметами. Посреди лежала… длинная заводская труба. Многие части ее были поломаны. — Этот предмет, — объяснял Та-Лао-Йе, — представляет собою часть подземного водопровода, который некогда устроили люди Мао-Чин. По-видимому, древность его восходит ко временам, очень отдаленным, может быть древнее эпохи железного века. Его нашли в самых глубоких пластах земли… Заканчивая теперь обзор нашего музея, я обращаюсь к вам, Шин-Чунг, с вопросом, правильны ли наши теории об отдаленных эпохах, и заслуживают ли наши попытки одобрения серьезных ученых? — Я думаю, что археологические исследования очень интересны и поучительны, — был ответ Синтеза, ни одним звуком не выдавшего своих откровенных мыслей. Но чего стоило ему удержаться от резких ответов, когда он видел, как «мозговые» люди определяли назначение самых обыкновенных предметов его времени?! Значит, не только цивилизация белых исчезла без всякого следа, но и самый быт, нравы, обычаи, — все забыто или удержалось в таком странном виде, что лучше бы было даже совсем позабыть их. Синтез задумался: вот она «vanitas vanitatum et omnia vanitas» (суета сует и все суета) — вспомнилось ему древнее изречение.6
Наступила прелестная ночь. Ни одного облачка, ни одной струйки дыма. Атмосфера прозрачнее самого чистого стекла. На земле погасли все огни, и только слабое мерцание звезд, блиставших на темно-синем небосклоне, освещало картину заснувшей природы. Настоящая ночь поэтов и астрономов! Синтез, горя нетерпением как можно скорее пуститься в путь, наскоро закусил простыми веществами, как это он делывал за 10000 лет, и стал торопить своих товарищей. — Подождите, Шин-Чунг, — в десятый раз повторял ему Та-Лао-Йе. — Вы знаете ведь быстроту нашего полета, к чему же торопиться? Теперь еще рано. Покамест поболтаем о чем-нибудь! — Пусть будет по-вашему, — поболтаем! Но прежде позвольте обратить ваше внимание, Та-Лао-Йе, на одну особенность вашей жизни, которая мне бросилась в глаза с самого начала. Я только что осмотрел столицу Западного Китая, Томбукту, но, — какая странная вещь, — в этом населенном и богатом городе не видел и следа торговли или промышленности! — Да для чего нам заниматься спекуляциями, торговлею или ремеслами, когда к этому нет никакой нужды?.. Наши материальные потребности сведены до минимума, а роскошь, чревоугодие и подобные пороки у нас неизвестны. Например, одежда. Она не меняется по временам года, так как в нашем умеренном климате не ощущается никаких перемен. — Но ведь все-таки и такие простые одежды, как у вас, нужно же где-нибудь приготовлять, точно также и пищу? — В этом отношении нам помогают Мао-Чин: они ткут наши одежды. Что касается питания, то для нас достаточно нескольких лабораторий, где добываются пищевые продукты на всех «мозговых» людей. — Но в ином месте нельзя бывает вовсе найти питательных веществ, — ведь нельзя же иметь бесчисленное множество лабораторий?! — Это ничего не значит: мы можем постоянно летать в лаборатории; расстояние для нас не имеет значения. — Справедливо! Я и позабыл о вашей чудесной способности, настоящем даре вездесущия! — Мы не имеем, следовательно, никакой нужды в путях сообщения, по которым нам доставляли бы пищевые продукты. Для наших предков они были животрепещущим вопросом, для нас же они потеряли всякое значение. Теперь, вместо того, чтобы подвозить к себе съестные припасы, мы сами ездим за ними. С другой стороны, обитаемая нами площадь земли представляет круговой пояс с одинаковым климатом, так что мы во всяком месте можем добыть себе пищу. — А что, Та-Лао-Йе, много вы работаете мозгами? — Много. Мы, так сказать, живем мышлением… Оно одно дает нам радости… Однако, не думайте, пожалуйста, что мы замкнулись в себе, что мы углубились во внутреннее созерцание, подобно иллюминатам. Напротив, у нас мозг постоянно работает: наши мысли, наши идеи постоянно меняются. Поэтому мы всецело посвятили себя науке, которая у нас идет быстрыми шагами. Вы сами видели, что мы потеряли уже много грубого, материального в своем организме. Если дело пойдет так же успешно, то, — кто знает? — быть может, через несколько сотен тысяч лет мы сделаемся совершенными духами. — Какие вы счастливцы, Та-Лао-Йе! — воскликнул восхищенный Синтез. — Жизнь, так устроенная, как у вас, должна доставлять истинное счастье. Кстати, о вашем общественном устройстве. Скажите мне, пожалуйста, как понимаете вы семью? Я видел ваших детей в школе и, правду сказать, очарован вашим методом преподавания. А их матери, ваши жены?.. В каком положении они находятся у вас? — Положение женщин у нас определено с давних пор. По нашим законам, женщина во всем равна мужчине. Она пользуется всеми нашими правами и преимуществами, зато несет и ту же ответственность за свои поступки, как мужчина. Однако, я должен сказать, что это уравнение прав женщин не обошлось-таки без борьбы. История говорит нам, что одно время, когда благодаря разным причинам наши мозги уже значительно развились, женщины, не довольствуясь равенством с мужчинами, изъявляли притязания на полное господство. Вот тогда человечеству грозила настоящая гибель. Внутренний мир был нарушен. Семейная жизнь стала чистым адом. Мужья не знали, что делать со своими расходившимися половинами, на которых не действовали ни увещания, ни наказания. Тогда законодатели прибегли к решительным мерам: они постановили законом — насильно задерживать развитие мозга женщин. С этою целью у всех детей женского пола с самого раннего возраста стали методически сжимать мозговую коробку. — Как?! Вы хотите всех своих женщин сделать микроцефалами, идиотками? — Так что же? Пусть они будут лучше идиотками, чем тиранами своих мужей, доводимых ими до бешенства. — Сжимать голову, чтобы задержать развитие мышления. Вот это совсем по-китайски! — с усмешкой проговорил Синтез. — Кстати, эта мера, которой я не могу отказать в оригинальности, практиковалась еще задолго раньше до владычества монгольской расы. Вам, вероятно, небезызвестно, что ваши предки точно также сжимали до невозможности ноги своих девочек, с тою целью, чтобы они, ставши женщинами, чаще сидели дома. — Знаю. Вероятно, этот именно обычай и подал мысль задерживать развитие мозговой системы у женщин. — Ну, и средство подействовало? — Превосходно! Женщины смирились и признали над собою власть мужчин. В семьях снова водворился желанный мир! Через несколько поколений, когда мужчины уже далеко ушли вперед в своем развитии, стеснительное для женщин запрещение было снято. Но они уже не могли нагнать мужчин и навсегда остались менее развитыми. Так окончилось это восстание женщин, грозившее не только рабством мужчин, но и вырождением человечества… Однако, Шин-Чунг, мы заболтались с вами. Пора и ехать. Мы направимся к тому месту, где происходит теперь сообщение между Марсом и Землею. Я нарочно дождался ночи, чтобы спокойнее было ехать, так как в темноте вам будет не так жутко лететь… — Ну-с, друзья, — обратился потом старец с очками к своим соплеменникам. — Сгруппируйтесь по-прежнему около нашего гостя… Готово? Вперед! — Где это мы? — спросил Синтез, вдруг почувствовав легкое стеснение в груди и боль в висках. — На довольно большой высоте от земли. Я хочу показать вам общий вид сношений между планетами. — А! Здесь воздух реже, значит! Вот отчего я чувствую стеснение в груди. — Вам больно? Не хотите ли немного спуститься? Что касается нас, то мы настолько привыкли к таким экскурсиям, что не замечаем никакого неудобства. — Благодарю! Я попрошу вас об этом тогда, когда одышка сделается невыносимой. — Как вам угодно! Ну, что вы теперь видите под собою? — Благодаря лунному свету, я различаю под ногами какую-то огромную белую равнину, словно покрытую снегом. — Иллюзия, действительно, полная… Однако, это не снег, а белая оболочка. — Что?! Оболочка, покрывающая пространства? — Да! — Я недоумеваю… — Вот еще одна! Вы увидите их много… Ну, еще что видно вам? — Свет, довольно сильный, но, по-моему, все-таки недостаточный для междупланетных сигналов. — Далее? — Вот так странно! — вскричал в ответ Синтез. — Белая равнина исчезла, вместо нее явилось черное пятно… Пятно исчезло… Опять появился свет… — Хорошо! Сообщения с Марсом, значит, начались! У наших астрономов, как видите, очень хорошие оптические инструменты! — Так мы около астрономической обсерватории? — произнес Синтез. — Да, и эта обсерватория — самая лучшая на земле! — Я бы хотел посетить ее! — Сейчас, но прежде обратите внимание на тот простой маневр, который применяется при наших сношениях с другими планетами. Скрывание и появление света на земле между тем повторялись с известной правильностью. Земля делалась то белой, то черной. Синтез мгновенно понял сущность способа. — Да это простой оптический телеграф! — вскричал он. — Простой, если вы хотите, по своей идее, но особенный по своим элементам. — Объясните, пожалуйста, когда так, устройство его, — попросил заинтересованный Синтез. — А вот мы спустимся на землю, — тогда вы сразу поймете все, не нуждаясь в объяснениях. Группа воздушных путешественников стала быстро скользить вниз по отвесному направлению. При этом черное пятно, видимое Синтезом, быстро увеличивалось и вскоре достигло громадных размеров. Наконец, Синтез и его товарищи коснулись земли. — Там, — продолжал Та-Лао-Йе, указывая на пятно, — находится колоссальная армия, насчитывающая в своих рядах от 150 до 500 тысяч людей. — Мао-Чин? — с живостью заметил Синтез. — Нет, Шин-Чунг! Мао-Чин недостойны работать здесь, когда дело идет о нашей научной жизни. Все, которых вы видите теперь перед своими глазами, принадлежат к нашей расе. Приближайтесь… не бойтесь, вы не помешаете! Следуя любезному приглашению, Синтез медленно приблизился к месту сношений и увидел, действительно, крайне интересное зрелище. Перед ним, на пространстве сотни квадратных сажень, расстилалась по земле ткань. С одной стороны она была укреплена на земле при помощи двух кольев, с другой — ее держали за концы два человека. Сбоку такого куска ткани находился другой, подобный первому, потом третий, четвертый и т.д., до бесконечного числа. Направо от Синтеза возвышалась большая башня, с вершины которой блистал яркий свет, — при помощи его, вместе с тканью, и производились все сигналы. Дело в том, что одна сторона всех кусков была снежно-белого цвета, а другая — черного, как уголь. «Мозговые» люди, державшие куски ткани за углы, переворачивали их около прикрепленного кольями края то белой, то черной стороной, что производилось с необыкновенной быстротой. В тот момент, когда ткани ложились на землю черною стороною вверх, свет на башне погасал, а когда ткани поворачивались белою стороною, снова появлялся. Эти маневры повторялись разом тысячами людей в продолжение целого часа. Потом «мозговые» люди вдруг остановились. — Кончено! — произнес Та-Лао-Йе. — Жители Марса поняли наши сигналы. Теперь нашим астрономам нужно тщательно следить за ответными сигналами и не пропустить ни одного исчезновения света на планете. — Как, разве жители Марса не приняли вашей системы сигналов при помощи тканей? — Нет. Конечно, и нам было бы лучше всего пользоваться только одними световыми сигналами, которыми гораздо легче управлять, но наше положение, по отношению к солнцу, не позволяет нам употреблять исключительно этот способ. — Ах, да, конечно!.. Земля, находясь между Марсом и Солнцем, ведь как бы тонет в солнечном свете. Поэтому никакой искусственный свет, как бы он силен не был, не будет замечен жителями Марса, несмотря на все совершенство их инструментов. — Понятно… Сигналы с Марса были замечены уже давно нашими предками. Давно уже было доказано, что там периодически появляется и исчезает какой-то искусственный свет. Тогда пробовали было отвечать тем же с земли, но как ни усиливали источники света, — там, очевидно, не замечали их. Вы совершенно правы, что они и не могли быть замечены, так как, относительно Марса, мы стоим к Солнцу как бы спиною. — Это ясно, как день. Представим себе свет на Марсе, Земле и Венере. С Земли увидят тогда свет Марса, с Венеры свет Земли, но с Марса света Земли не увидят, точно также и с Земли не будет виден свет Венеры. — Очевидно… Видя всю тщетность усилий, один древний астроном вздумал воспользоваться одним средством, на которое его натолкнуло наблюдение Марса. Заметив, что белые пятна, образованные на полюсах нашего соседа, изменяются сообразно временам года, он вывел отсюда, что можно привлечь внимание его обитателей, изменяя в правильные промежутки времени, какую-нибудь белую поверхность Земли. Теперь эта мысль широко развита у нас. Однако, нужно было много веков, чтобы добиться хороших результатов. Медленно, шаг за шагом, развивалась идея, и то благодаря лишь самоотверженным труженикам, посвятившим ей всю свою жизнь. — Я и не сомневаюсь в том, что система современных междупланетных сношений не могла явиться сразу… — Особенно трудно было добиться, чтобы жители Марса поняли наши сигналы. — Это было действительно трудно. — Прежде всего нужно было выбрать ровное место, покрытое белым песком. Потом «мозговые» люди, назначенные для опытов, были разделены на группы и снабжены широкими кусками материи, с одной стороны выкрашенной в яркий белый цвет, с другой — в черный. Несмотря на несовершенство снарядов и неопытность первых экспериментаторов, наблюдательные жители Марса заметили сигналы и отвечали тем же. Можете вообразить себе нашу радость, когда мы узнали об этом. — Очевидно, — прервал Синтез своего собеседника, — обитатели Марса, планеты гораздо более древней и гораздо дальше ушедшей вперед в своем развитии, чем Земля, — давно уже пробовали сноситься с нами. Так думали и в мое время. Я охотно допускаю, что они выставляли нам множество сигналов, которых мы не могли ни видеть, ни истолковать, как следует, вследствие несовершенства наших инструментов. — Ваша правда. Их попытки восходят к самым отдаленным временам, как это они дали нам знать, когда наши сношения вполне установились. — Я так и полагал. По моему, жители Марса владели хорошими оптическими инструментами еще в 19 веке. Вероятно, они знали о всех изменениях, которые претерпела Земля, о всех мировых событиях, историю которых вы сообщили мне. Исчезновение стран, разрушение целых городов, иссушение морей, — все это прошло у них на глазах. — С тех пор, как жители Марса заметили наши сигналы, — продолжал Та-Лао-Йе, — мы постарались прежде всего усовершенствовать свои приборы. С этой целью сначала обширное пространство земли в известном месте было выровнено и сделано горизонтальным; затем заставили Мао-Чин соткать большие, но легкие покрывала; наконец, увеличили число людей, держащих ткани, и начали обучать их новому занятию. А это было нелегко, уверяю вас; заставить четыреста или пятьсот тысяч людей действовать одновременно, по данному сигналу, — это требовало большого навыка. К счастью, высокое развитие «мозговых» людей преодолело все затруднения. Психическая сила позволяет моим соплеменникам перемещаться с быстротою мысли и мгновенно поворачивать с одной стороны на другую свои покрывала. Конечно, люди, организованные подобно вам, не могли бы делать того же самого с такою ловкостью. Вообще все устроилось хорошо, мы успешно подавали свои сигналы, и с Марса нам отвечали тем же. Но тут недоставало одного: нас не понимали. Тогда наши ученые ухитрились найти такую систему нумерации, которая вместе с простою, соединяла в себе все условия совершенства. Эта система состоит из небольшого числа элементарных знаков, расположенных в известном порядке, по правилам размещения. Для примера, я ограничусь только тремя знаками, которые можно нарисовать на песке. Если промежутки между ними считать пропорциональными продолжительности исчезновений белой поверхности, то получим следующее: …… Точки обозначают здесь: одна — простое затемнение; две — двойное; три — тройное, и т. д. — Эта система, как вы видите, может продолжаться до бесконечности и таким образом представить множество чисел. Жители Марса сразу поняли ее и отвечали на наши правильные затемнения белой поверхности последовательным появлением и исчезновением света. Таков способ междупланетной телеграфии. Скоро наша метода счисления была усвоена обеими сторонами, после чего приступили к установлению точных сношений. Посредством целой серии чисел, математики нашли возможным строить плоские геометрические фигуры. Обитатели Марса, очевидно, развитые еще более нас, сразу сообразили, в чем дело, и стали быстро переводить наши правильные затемнения в соответствующие числа, а потом в геометрические фигуры. Синтез, не выказывая ни малейшего признака нетерпения, внимательно слушал это длинное и не совсем понятное объяснение. — Вы поняли, Шин-Чунг? — спросил его Та-Лао-Йе, кончив свою речь. — Понял, почтеннейший, и откровенно сознаюсь вам, что этот способ, без сомнения очень замысловатый, все-таки мне кажется, не соответствует вашей цивилизации. — Конечно, я не решусь сказать, что это самый лучший из всех способов, но зато это наименее худший из всех, практиковавшихся до настоящего времени, и мы довольствуемся пока им. — Но он должен быть ужасно утомителен. — Без сомнения, хотя мы давно уже ввели значительные сокращения. К этой медленности, вытекающей из несовершенства нашей системы, следует прибавить еще сравнительно большой промежуток времени, — около 3 минут, — необходимый для того, чтобы наш сигнал был замечен на Марсе, даже когда эта планета находится в ближайшем расстоянии к Земле. Вы понимаете, почему это, Шин-Чунг? — За кого вы принимаете меня, Та-Лао-Йе, — за ребенка или за Мао-Чин 11880 года? Да, я хорошо знаю, что орбиты, которые описывают Марс и Земля вокруг Солнца, эллипсоидны, так что их оси неравны между собою: наибольшая ось равняется 76000000 верст, а меньшая — около 56000000. Следовательно, свет, пробегающий до 300000 верст в секунду, дойдет до Марса, в первом случае, через 4 минуты 13 секунд, а во втором через 3 мин. 5 сек. Но несколько миллионов верст более или менее, — это не важно! Ах, если бы я некогда имел в своем распоряжении миллиард «мозговых» людей, населяющих теперь землю! Наша планета стала бы тогда владычицею вселенной. И я думал было, что это возможно… Синтез печально поник головою. Произошла длинная пауза. — Э! — вдруг проговорил он. — К чему вспоминать о том, что уже навсегда потеряно для меня?! Скажите лучше мне, Та-Лао-Йе, можно ли мне просмотреть отчет о ваших сношениях с Марсом? — С полным удовольствием, когда только вам будет угодно. Вы можете даже, если вам покажется это приятным, сами заняться наблюдением над ближайшими планетами: мы дадим вам все инструменты, нужные для этого.7
Прошло только двадцать четыре часа со времени воскресения Синтеза, а старец уже почувствовал, что томящая тоска сменила его первоначальное лихорадочное возбуждение. Пробудившись в полном рассудке, он мог, благодаря своей необыкновенной способности к усвоению, довольно подробно рассмотреть картину CXIХ века, но это обозрение доставило ему только горечь и разочарование. Его старые представления о будущем человечестве оказались диаметрально противоположными тому, что пришлось ему видеть своими глазами. Кроме того, он ясно увидел, что ни одна из тех великих задач, разрешения которых он жаждал от последующих поколений, не решена окончательно. Многое, бывшее непонятным в его время, осталось таким же и теперь. Вообще, по его мнению, человечество как бы остановилось на точке замерзания, несмотря на все уверения Та-Лао-Йе. Люди, прозябающие на планете, которая постоянно охлаждается, которые довольствуются умственным достоянием, завещанным их предками, — эти люди не могут быть названы вполне развитыми! — думал Синтез. Земля, уменьшенная в своем обитаемом пространстве, объединенная относительно народностей и сделавшаяся китайской, казалась ему пленницею, заключенною в оковы, до которой не доходит ни малейший шум извне. Единственною причиною такого застоя человечества он считал объединение народностей в одну китае-негрскую расу. В самом деле, когда существует почти только одна раса, то может ли быть и борьба, этот мощный рычаг, двигающий прогресс человечества? Борьба нарождает новые потребности, развивает способности, изощряет ум. Без нее не жизнь, а жалкое прозябание. Так думал разочарованный Синтез. Его взгляды на CXIХ век еще более укрепились после посещения исторического музея в Томбукту. Этот апломб невежества, эти глупые комментарии, которые делал Та-Лао-Йе, эти шутовские реставрации, — сразу охладили ученого и к тем чудесам, которые ему показывали. Такого глубокого невежества, такого презрения к предыдущим поколениям — он не ожидал встретить у столь развитых людей, какими считали себя его хозяин и его сородичи. Даже система сношений с инопланетными жителями не поражала Синтеза. Правда, он считал ее очень замысловатой, но как-то странно, чисто по-китайски отсталой: на эту мысль навел Синтеза ручной труд, которого «мозговые» люди не хотели или не могли заменить машинами или электричеством, особенно последним. Единственно, что осталось в глазах Синтеза ценного у «мозговых» людей, — это их удивительная способность скользить в воздухе с быстротою мысли. Но как они пользуются ею? Что они сделали великого? — Ничего. А каких великих результатов можно было бы достигнуть, если бы все способности «мозговых» людей пустить на дело. И Синтез, сравнивая настоящее положение нашей планеты с положением ее в древности, все более и более склонялся в пользу последней. — Ах, если бы у них не было чудесной способности подниматься на воздух! Тогда «мозговые» люди, которые кичатся теперь своим развитием, превратились бы в обыкновенных смертных! — думал Синтез, разбирая в архиве обсерватории разные документы. Однако, ученый не подал и вида своим хозяевам, что он разочаровался в них: ему хотелось еще попутешествовать вокруг земли. Но и путешествие причиняло ему немалое огорчение, так как он ни на минуту не мог уединиться от своих провожатых, поднимавших его на воздух, и невозможность ни видеть, ни слышать, ни посмотреть на что-либо без их помощи угнетала бедного Синтеза больше всего. Все это повело к тому, что недовольный новою жизнью ученый стал сожалеть о своей ледяной глыбе, где он покоился бы вечным сном. Голос Та-Лао-Йе, мягкость которого начинала уже раздражать Синтеза, напомнил ему об отъезде. «Мозговые» люди по-прежнему сгруппировались около своего гостя и в стройном порядке понеслись в далекие страны. Та-Лао-Йе со всегдашнею своею вежливостью спросил у Синтеза, куда угодно тому ехать. — Перенесите меня, пожалуйста, на крайний Восток, туда, где находится теперь материк, нижние слои которого обязаны своим происхождением неустанной работе кораллов. Я специально изучал его, даже сам работал над его созданием, и потому мне очень любопытно взглянуть на нынешнее состояние материка. При этих словах Синтез почувствовал легкий толчок и не успел опомниться, как был уже перенесен к крайним пределам атмосферы. Потом группа «мозговых» людей, в центре которой находился он, с невообразимою быстротою понеслась дальше. Синтез боялся, что при такой скорости ему не удастся ничего рассмотреть, но ошибся в своих предположениях. Потому ли, что он находился среди «мозговых» людей, которые своей близостью к нему увеличивали его способности, или по чему-либо другому, но ни скорость полета, ни страшная высота, на которой находились путешественники, не помешали ему созерцать величественную картину, расстилавшуюся у него под ногами. Там виднелся Судан с его песчаными пустынями, теперь покрытыми пышной зеленью и орошаемыми множеством ручьев, весело журчавших на каждом склоне. Рядом с Суданом расстилался Верхний Египет со знаменитым Нилом, рукава которого образовали при верховьях реки громадное озеро пресной воды. Зато Красное море с Аденским заливом исчезло. Исчез также и весь Индийский океан, на месте которого теперь возвышались новые страны. Все пространство от Сомали до Лакедивских и Малдивских островов, от Оманского залива до Экватора, — теперь представляло сплошной материк. Не стало Бенгальского залива, залива Сиамского и других, — их место заняла суша, сплотившая воедино все Зондские и Филиппинские острова. Словом, Южная Азия слилась воедино с Центральной Африкой, образовав одну громадную площадь суши, которая тянулась на восток до Великого океана. Но несмотря на такую сплоченность земли, Синтез никогда не замечал пустынь, — все эти земли, новые и старые, одинаково обильно орошались реками и ручьями. Ученого поражало лишь однообразие картины: везде одна и та же растительность, одно и то же население, с его однообразными домами, с его рабами, привязанными к земле. — Итак, — с горечью заключил Синтез, оглядев эту картину, — из старого мира не осталось ничего… решительно ничего! Даже прежние дикие животные и птицы — исчезли. — Но полезные породы животных были уже давно приручены, — отвечал Та-Лао-Йе. — Разве я не говорил вам об этом? Мао-Чин имеют стада рогатого скота, для прокормления себя, имеют вьючных и верховых животных… К несчастью, нам не удалось освободиться от насекомых и пресмыкающихся, которые массами кишат в некоторых местах. За исключением этого, можно сказать, что теперь все на земле утилизировано человеком. — И вы постоянно живете в мире? Между обитателями разных местностей не бывает ссор и войн? — Даже не может быть, так как земля представляет теперь одно государство, населенное одною расою. — Нет, что бы там вы ни говорили мне, я не могу освоиться с мыслью об этом слиянии всех рас в одну, живущую одною и тою же жизнью, имеющую одни и те же идеалы, преследующую одну и ту же цель. Я не могу представить себе, что CXIX век живет без войн! — Войны прекратились уже четыре или пять поколений, когда все расы земли слились в одну китайскую народность. — И с тех пор мир у вас ни разу не нарушался? — Никогда! Во-первых, у нас укоренилось сознание, что не нужно делать другим того, чего не желаешь себе; во-вторых, мы приняли одну очень простую, хотя и суровую меру против нарушителей мира и спокойствия. — Какую же именно? — Смерть! Что вы скажете о таком законодательстве? — Я ничего не могу ответить… — Восточный Китай!.. — прервал его Та-Лао-Йе, указывая Синтезу на материк, образовавшийся из Тихого океана. Но здесь, несмотря на относительную юность новой земли, не было и намека на коралловое происхождение. Всюду виднелась одинаковая, черноватая почва, покрытая тою же самой растительностью, какую Синтез видел и в других местах. Те же самые дома с плоскими крышами, такие же реки, — словом, здесь было повторение ого, что было уже осмотрено ученым и успело надоесть ему своим однообразием. Только дымившиеся вдали вулканы говорили, что эта страна находится на прежнем Тихом океане. — Не так скоро! Потише, Та-Лао-Йе, прошу вас! — вскричал Синтез. По знаку старичка с очками группа «мозговых» людей замедлила свой головокружительный полет. — Мне хотелось бы спуститься пониже, — продолжал Синтез, — чтобы посмотреть на эту землю поближе. Едва это желание было выражено, как он почувствовал, что падает вниз, словно аэролит. Группа остановилась на высоте семи сажен на земной поверхностью. — Теперь, Шин-Чунг, что угодно вам? — спросил Та-Лао-Йе. — Немного исследовать окрестности этого вулкана. — Это очень легко, — ответил Та-Лао-Йе и тихо произнес несколько слов своим сородичам. Путешественники немедленно взлетели к вулкану и стали медленно двигаться над ним, по всем направлениям. Вглядевшись пристальнее, Синтез признал в вулкане тот самый, около которого он некогда производил свои исследования. Там почва не имела прежнего однообразия. Всюду виднелись следы сильных сотрясений и страшной борьбы между элементами. Злоупотребляя снисходительностью своих хозяев, Синтез без устали продолжал свои изыскания. Вдруг он испустил такой крик, что «мозговые» люди не могли удержаться от скорбного стона — настолько их деликатный организм был поражен им. Не замечая потрясения своих хозяев, Синтез указал им на коралловую глыбу, в виде цилиндра, стоявшую на лаве, подобно падающей пизанской башне. — Там… там… — шептал он. «Мозговые» люди с недоумением переглянулись. — Не помешался ли их гость, — говорили их взгляды. А Синтез между тем в волнении бегал около коралловой глыбы, поднимал с земли какие-то куски, бросал их, поднимал опять и все время бормотал: — Я… я пережил свой век… Эти развалины, эта инертная масса, которую… невежды приписывают природе… это — моя работа. Там был океан… огромный Тихий океан с его зеленоватыми водами, плескавшимися о скалы… Там я приводил в исполнение самую смелую мысль, которая когда-либо рождалась в человеческом мозгу: я горделиво считал себя создателем, способным воссоздать при помощи науки все бытия, чтобы осчастливить человечество! Куда же девалось все это?.. Где моя работа?.. Зачем… зачем… злой рок судил мне быть свидетелем разрушения моих планов? Лицо Синтеза приняло мучительное выражение скорби. — К чему мне жить? Этот вулкан поглотил все дело моей жизни, разрушил все мои мечты. Все, близкое моему сердцу, покоится вечным сном. Пора уснуть и мне. Когда Синтез произнес последние слова, его взгляд привлекла одна стекловидная глыба, на которой с блеском отражались ослепительные лучи экваториального солнца. Его глаза устремились сюда с радостью человека, решившегося покончить с собою, который находит смертоносное для себя оружие. Прошло несколько секунд, и Синтез сам загипнотизировал себя. Его тело похолодело, члены приняли неподвижность, глаза потеряли выражение. Словом, ученый впал в такой же глубокий сон, каким уснул за 10.000 лет до пробуждения среди «мозговых» людей.Луи Буссенар ЖАН ОТОРВА С МАЛАХОВА КУРГАНА
Часть первая ЖАН ОТОРВА
ГЛАВА 1
Лагерь зуавов. — Канун сражения. — За добычей. — Севастополь![1] — Вина — хоть залейся. — Букет роз. — Жан Оторва[2] и сержант[3].— Оскорбление действием. — Удар… уткой.— Стой, раз-два! Ружья в козлы!.. Ра-азойдись!.. Короткая трель рожка и раскатистый голос полковника. Две тысячи зуавов[4], маршировавших плотной колонной, остановились, как один. Ряды смешались. Пышные складки шаровар вихрем взлетели над сломавшейся линией белых гетр. Отрывисто заклацал металл — это сталкивались штыки. Взмыли ввысь радостные клики: недолгий марш — какие-нибудь шестнадцать километров — окончен. Зуавы выступили последними в дивизии и отшагали весь путь одним махом. И все-таки уже минуло два часа пополудни. Солдаты-африканцы высадились в Крыму накануне и теперь были счастливы, что ступали по твердой земле, что опять начиналась жизнь, полная приключений. Они готовились разбить лагерь. Миг — и походные мешки очутились на земле. Громадные, тяжеленные, богатырские мешки, в которых зуавы таскают весь свой мир: необходимые пожитки, всякое барахло. Лагерь разметили. Палатки развернуты, поставлены, натянуты. Полотняный городок вырос в два счета. Интенданты, само собой, запаздывали. Провианта нет как нет. Ротные окружили полковника, но тот лишь пожал плечами и снисходительно улыбнулся: — Чего еще ждать от интендантских крыс? Завтра — в дело!.. Значит, надо беречь припасы… Непременно… расходовать только в крайнем случае. А сегодня… ну что ж, пусть люди сами о себе позаботятся. Даю вам полную свободу действий. Завтра — в бой, а сегодня — гуляй душа! Обе новости в мгновениеока облетели лагерь, вызывая всеобщее ликование. Солдат разбили на отделения, и каждое само обеспечивало себе пропитание. На командира… солдатских желудков была возложена невыполнимая задача: кормить изголодавшихся людей, даже когда провианта нет. И он всегда с ней справлялся, причем котелки наполнялись с верхом. Как? Ларчик просто открывался: мародерство[5] и немножко удачи! Меж тем в лагере царило заметное оживление. Одни подтаскивали камни, рыли ямы, сооружали очаги и ломали хворост, который дымил, потрескивал и наконец занимался. Другие бежали с котелками к протекавшей поблизости речке. Кое-кто осаждал повозку маркитантки[6], мамаши Буффари́к[7], и покупал втридорога всякие колбасы. Несколько человек отправились в разведку. Горн возвестил о раздаче похлебки и тут же пропел, что она кончилась, а горнист добавил с комической покорностью: — А похлебка-то — тю-тю!.. Черт побери!.. — Эй, Жан, мать-перемать, что ж нам теперь, с голоду подыхать?.. — Потерпи малость!.. — У меня уже брюхо к спине присохло! — Добывай жратву, мать-перемать, добывай, или не зваться тебе больше Жаном Оторвой. Солдат, которого так бесцеремонно прозвали Оторвой, был великолепен. Двадцать три года, немного выше среднего роста, косая сажень в плечах, узкие бедра, мускулы борца, грудь колесом и — вспыльчив, как порох. Он высоко носил красивую орлиную голову, на затылке у него каким-то чудом держалась красная феска с синей кисточкой. Малый был хоть куда — русая вьющаяся бородка, тонкий нос с легкой горбинкой и чуткими ноздрями, большие глаза сапфировой голубизны, ласковые и добрые, как у женщины. Да, малый был хоть куда, но сам он, видно, и не подозревал об этом. Оторва широко улыбнулся, блеснув крепкими, как у молодого волка, зубами, и весело ответил: — О-ля-ля! Повремените чуток! Кебир[8] сказал: «Полная свобода действий!» А раз так, не будь я Жан, если мы не провернем одно славное дельце! С деловым видом он нанизал на ремень шесть фляг отделения и, задрав нос, широким шагом отправился в путь. Его товарищи кинулись вдогонку. — Оторва, мы с тобой! — Пошли, ребята! — Попахивает добрым винцом и свежим жарким… — А ну бегом, да поживей! Зуавы одолели крутой склон, теснивший левый берег реки, и перед ними, более чем на два лье[9], открылся необъятный горизонт. Возгласы изумления вырвались у пехотинцев из груди — такая неожиданная предстала картина! Ухоженные поля, на которых недавно закончилась жатва, луга, виноградники, огороды, постройки, хутора, глинобитные хижины… И кишит всякая живность: быки, коровы, бараны, козы, свиньи, тут же — кролики, индюшки, куры, утки… ну просто Ноев ковчег![10] Видно, где-то неподалеку расположился большой город, который черпал отсюда провиант. Вот он — там, вдали, весь белый, с золочеными куполами, с бастионами, домами, крытыми зеленой черепицей, сверкавшей под лучами солнца как изумруд. — Севастополь, — сказал Оторва вполголоса. Товарищи его, забыв на миг о цели своей вылазки, смотрели на город во все глаза. Слева, словно яркие цветы, алели панталоны французских солдат, чьи полки расположились лагерем насколько хватало глаз: артиллерийские батареи, палатки, бивуачные[11] костры, бригады, дивизии — армия в тридцать тысяч человек. Под прямым углом к французам устроились двадцать тысяч англичан; ряды их палаток врезались в линию горизонта. Справа, на другом берегу, чернели линии укреплений еще одной армии, безмолвной и мрачной. — Неприятель!.. Русские, — пробормотал Оторва. Расстояние между двумя армиями насчитывало не больше лье. В воздухе пахло порохом: скоро сражение. Отдельные группы английских уланов[12] вели перепалку с казаками. Изредка слышались ружейные залпы, которыми обменивались аванпосты[13], временами доносились орудийные раскаты… На нейтральном пространстве суетились солдаты всех армий. Мародерство — в разгаре. Зуавы пришли сюда последними и теперь рисковали остаться с носом. На минуту они застыли в восхищении, а затем поспешили дальше, прижав локти к корпусу, под жестяной перезвон своих фляг. Первые аулы, деревушки, населенные татарами, казались совершенно опустошенными. Все было разграблено дочиста, и бедным крестьянам оставалось лишь оплакивать свой разор. Зуавы, уже насмотревшиеся на подобные сцены, равнодушно проходили мимо и, перейдя с шага на бег, мчались вперед что есть сил. Навстречу им попадались пехотинцы, которые возвращались, нагруженные, как мулы[14], и пели во все горло. Лица у них побагровели от вина, скулы горели, глаза затуманились хмельной влагой. Зуавы добрались до большого поместья, расположенного посреди виноградника. Во дворе царило немыслимое разорение. Служаки всех родов войск развернули настоящие боевые действия на птичьем дворе. Солдатик-артиллерист вонзил саблю в свинью, и та душераздирающе визжала. Стрелок Венсенского полка[15] взвалил на плечи барана и в таком виде отдаленно напоминал Доброго Пастыря[16]. Группа пехотинцев тащила за собой мычащую корову, а англичане в красных мундирах гонялись с палками за домашней птицей. — Черт побери! — проворчал один из зуавов. — Этак нам ничего не достанется. Оторва разразился смехом. — Не дрейфь! Через минуту-другую у нас будет всего вдоволь. Из подвала так и рвались винные пары. Оторва, как заправский дегустатор[17], провел языком по губам и спросил: — А что, если для начала пропустить по стаканчику? — Само собой! — откликнулись зуавы как один, кидаясь к подвалу. Вино доходило до щиколоток! Прелестное крымское вино, сухое, розовое, искрящееся, пенистое, пахнувшее кремнем. В подвале оказалась добрая сотня бочек. У первых налетчиков не было ни сверла, ни бурава, и они попротыкали клепки саблями и штыками. Вино захлестало из бочек, разлилось, потекло по всему подвалу, пока земляные перегородки не удержали его, словно в бассейне. — Мать его за ногу! — крикнул один из зуавов. — Тут и не захочешь, а напьешься. — Да уж, когда вином хоть залейся, я забываю о предрассудках, — отозвался другой. — Ей-богу, ломаться тут никто не станет. На войне как на войне, в конце-то концов! И солдаты кинулись пить… черт побери! Пить, сколько влезет, от души празднуя небывалую удачу, каких до той поры не было отмечено в летописи полка. Зуавы накачались так, что впору было отжимать их, словно губки. Оторва наполнил фляги. — А теперь, — объявил он, — прихватим что-нибудь для семейного ужина. Пехотинцы возвратились во двор, где продолжала нарастать толчея. Оторва, ничего не упускавший из виду, заметил роскошный розовый куст в полном цвету, который не вызывал у мародеров никакого интереса. Жан сорвал лучшие розы, связал их травинкой и бережно заткнул букет за свой шерстяной кушак. Товарищи взирали на него с удивлением. Заниматься какими-то розами, когда у тебя под носом чуть ли не цистерна вина и переполненный живностью птичий двор! Хоть всяк по-своему сходит с ума, и Жан Оторва, признанный в полку заводила, имел право позволить себе такую прихоть. Сохраняя полное спокойствие, он приставил ладони рупором ко рту и крикнул: — В ружье!.. В ружье!.. Казаки!.. Безумная паника охватила мародеров. Они второпях бросали добычу, метались по двору, сталкивались в воротах и как безумные мчались дальше, опасаясь кары неприятеля. Зуавы, оставшиеся во дворе одни, скорчились от хохота, а Оторва весело добавил: — Лихо мы это провернули! Грабителей ограбили, отберем, что еще приглянется, — и в лагерь. А казаков не видно и не слышно. Свинья, в которую артиллерист вонзил саблю, испустила дух, брошенная своим погубителем. Один из зуавов взвалил ее на плечи, приговаривая: — Пошли-поехали, сиди алу (господин боров)! Другие похватали наудачу индюшек и гусей. Оторва держал в одной руке петуха, в другой — за шею здоровенную утку. Птицы отчаянно били крыльями и лапами. Молодой человек стал во главе своей команды и приказал: — Налево кругом… шагом марш! И он тронулся в путь каким-то необычным шагом, прыгая с ноги на ногу и то вскидывая, то опуская вниз петуха и утку, которые хоть и дергали лапками, но, похоже, уже были при последнем издыхании. Поняв, что обведены вокруг пальца, недавние беглецы возвратились в поместье. Расталкивая солдат, Оторва пробился сквозь пробку у ворот и при этом довольно чувствительно задел одного пехотинца. Не обращая внимания на сержантские нашивки на его рукаве, Жан, разогретый крымским винцом, и не подумал извиниться. Но сержант грубо окликнул нашего героя голосом, не предвещавшим ничего хорошего: — Эй, зуав, у вас что — не принято приветствовать старших по званию? Артиллеристы, пехотинцы, стрелки, английские карабинеры[18] тут же сбились вокруг них в кружок, предвкушая забаву, — их обидчик попал в пренеприятное положение. Оторва всмотрелся в сержанта, узнал его и захохотал во все горло: — Вот те на, кто б мог подумать!.. Это же Леон, мой старый товарищ, Леон Дюре, мой земляк… Как я рад тебя видеть! Вот ведь удача! Но унтер-офицер, побелев как мел и отведя глаза, процедил сквозь зубы: — Нет здесь никаких товарищей и никаких земляков! А есть унтер-офицер, которого оскорбил простой солдат. Приказываю вам встать по стойке «смирно» и приветствовать меня так, как это положено по званию. Ошеломленный Оторва не верил своим ушам. Среди зуавов поднялся ропот, солдаты других соединений отозвались одобрительным гулом. Молодому человеку показалось, что его разыгрывают. Он спросил, слегка запинаясь: — Ты ведь шутишь, правда? Мы же выросли в одной деревне, и призвали нас в один год… В один день стали капралами, потом сержантами… Я вернул нашивки, потому что перешел к зуавам, и… — А я повторяю, что вы отказываетесь извиниться за вашу неловкость и грубость, отказываетесь приветствовать старшего по званию. Ну что ж! Я доложу об этом моему капитану, и вы у меня еще попляшете, какой бы вы ни были зуав-раззуав! Солдаты других частей загоготали — еще бы, они всегда завидовали солдатам этого элитного корпуса, который пользовался многочисленными привилегиями и был очень любим во Франции. Здо́рово сержант приложил этого бахвала, этого наглеца, который их одурачил, посмеялся над ними да еще присвоил себе их добычу. Товарищи Оторвы с тревогой следили за своим вожаком. Уж очень он был спокоен с виду! Они хорошо его знали и теперь с опаской ждали развития событий. Один из зуавов коротко подбил бабки. Подталкивая локтем соседа, он прошептал: — Ну и влип он! Теперь не отвертеться. Не хотел бы я быть в его шкуре. Оторва залился краской, а в следующее мгновение его загорелая физиономия стала мертвенно-бледной. Вены на лбу набухли, как веревки, и подрагивали. Губы побелели, в голубых глазах появился стальной блеск. Ярость сжала горло. Пронзительным, срывающимся голосом, еле проталкивая слова сквозь стиснутые зубы, он проговорил, не помня себя от гнева: — Ах ты, мерзавец! Вылитый папаша, яблочко от яблони недалеко катится!.. Я пытался забыть, как твой отец ненавидит моего… Негодяи всегда не выносят честных людей, ведь те выводят их на чистую воду… Но попробуй забудь!.. И ты еще требуешь, чтоб я тебе оказывал почести? Ты их получишь, я окажу тебе почести, рукой мастера окажу и долго ждать не заставлю. Ну, получай, сержант Дюре!.. Это тебе от зуава Бургея… сына старого Бургея, командира эскадрона[19] конных гренадеров[20] императорской гвардии… Тут бы и отвесить сержанту пощечину, но у Оторвы оказались заняты руки. Левой он по-прежнему держал петуха, а правой — утку, которая билась в предсмертных судорогах. Как это часто бывает, смешное переплелось с трагическим. Никто, однако, не смеялся, потому что всем стало ясно: зуав подписывает себе смертный приговор. Его товарищи скинули на землю поклажу, собираясь вступиться за друга. Но сделать это не успели. Оторва с ошеломляющей быстротой раскрутил над головой утку, словно пращу[21], и обрушил ее на физиономию сержанта. Утка весила не меньше семи фунтов[22], и удар получился такой сокрушительный, что оглушенный унтер кубарем покатился по земле. Оторва вложил в удар столько страсти, что утиная голова осталась у него в руках. Шея оторвалась от тела, и оно по инерции отлетело шагов на десять. Жан и рад был бы отдубасить сержанта как следует, но ему претило сражаться с поверженным противником. Впрочем, его гнев быстро утих. Что же до последствий — их — увы! — несложно было предугадать. Сержант с трудом приподнялся и сел. Его щека раздулась… раздулась, как тыква. Глаз покраснел, потом посинел и наконец заплыл черным подтеком. Из носа, принявшего цвет спелого баклажана, безостановочно, как из крана, хлестала кровь. Сержант перевел дыхание и, пронзая зуава взглядом, полным дикой ненависти и свирепой радости, бросил ему в лицо: — Ты получишь по заслугам!.. Расстрел тебе обеспечен. Зрителям было не до смеха. Они знали, как безжалостны в таких случаях законы военного времени. Покушение на вышестоящего командира, да еще в виду неприятеля — это верный трибунал! Это смертный приговор, без отсрочки и помилования, который приводится в исполнение в двадцать четыре часа. Но Жан Оторва принадлежал, похоже, к тем людям, которые словно выкованы из железа и не ведают страха. Он хладнокровно подобрал утку, проверил, не помялся ли его букет, и заключил, пожимая плечами: — Ну что ж! Чему быть, того не миновать. Где наша не пропадала! Пошли ужинать.
ГЛАВА 2
Семья Буффарик. — Букет вручается по назначению. — Генерал Боске. — Арест. — Смертный приговор. — Напрасное заступничество. — Заря. — Сражение. — Пленник. — Четверо конвоиров. — Невыполненный приказ. — Жандармы опоздали.Зуавы с блеском вышли из трудного положения. Никто из них не посягнул на неприкосновенный запас, и тем не менее в лагере готовилась грандиозная обжираловка. Все сковороды, все котелки дымились, шипели, скворчали и издавали соблазнительные запахи. Пока жратва парилась и жарилась, Жан Оторва направился к палатке маркитантов. В прекрасном расположении духа, думать не думая о стычке, которая будет стоить ему трибунала, он шагал с той пленительной непринужденностью, секрет которой знают лишь зуавы. Полный радушия голос, окрашенный славным провансальским[23] акцентом, громко приветствовал молодого человека: — О, кого я вижу! Жан!.. Как жизнь, старина? Эй, Катрин, женушка!.. Роза, голубка!.. Тонтон, проказник ты мой… Посмотрите, кто пришел — наш Оторва! Человек, что так сердечно встретил нашего героя, — старый сержант полка зуавов Мариус Пэнсон по прозвищу Буффарик. Этот ветеран африканской армии, разукрашенный нашивками, увешанный медалями и орденами, с бородой по пояс, чистокровный марселец[24], жизнерадостный, как птица, имя которой он носит[25],— маркитант Первого батальона. Плотные ряды его клиентов расступились, пропуская Оторву. Со всех сторон потянулись руки, чтобы поприветствовать отважного француза, все старались выразить ему свои симпатии. — Здорово, Жан!.. Оторва, привет!.. Здорово, старина! Жан Оторва продвигался с триумфом. Чувствовалось, что этого молодца знал весь полк и что любой командир мог бы позавидовать его популярности. — Двигайся поживей, дружок! — прорычал голос с провансальским акцентом. Жану удалось наконец вставить слово: — Здорово, папаша Буффарик! Я счастлив, что вижу вас, и… — Стоп-стоп!.. Ты спас нас всех четверых… ты мой лучший друг… И мы решили раз навсегда, что ты обращаешься ко мне на «ты»… как если бы был моим старшим сыном! Да, так оно и было. Случилось это два года назад, в Кабилии[26], в Алжире. Жан Оторва спас тяжело раненного папашу Буффарика, спас мамашу Буффарик, которая храбро стреляла из двух пистолетов, а потом была окружена и обезоружена свирепыми арабами. Он спас Розу, которая поддерживала умирающего отца. Он спас Тонтона, двенадцатилетнего парнишку, который отбивался от врагов отцовским ружьем. Да, все это — заслуги Жана, и в приказе по армии ему была объявлена благодарность. В его послужном списке значилось немало подобных поступков. Подвиги для него — обычное, будничное дело! Он и со счету сбился, столько их было. В общем, Жан Оторва был настоящим героем Второго зуавского полка, воплощением веселой отваги, безграничной самоотверженности, вспыльчивости и горячности. Верный и бескорыстный друг, душа нараспашку, Жан был всегда готов прийти на помощь, в крови его Создатель[27] словно растворил порох. Мамаша Буффарик, сорокалетняя красотка родом из Эльзаса[28], двинулась ему навстречу, протянув руку, а за матерью поспешила Роза, прелестное белокурое существо восемнадцати лет от роду. Жан, несмотря на обычный свой гонор, смутился и едва осмелился вытащить из-за пояса красивый букет, который только что нарвал во дворе разоренного хутора. Молодой человек протянул букет девице и тихим, дрожащим голосом сказал: — Мадемуазель Роза, я принес эти цветы… для вас… разрешите их преподнести? — О, с большим удовольствием, месье Жан, — ответило милое создание, в то время как папаша Буффарик смотрел на них умиленным взглядом и бормотал себе под нос: — Ах, молодость, молодость… Жизнерадостный мальчишеский голос перекрыл остальные голоса: — Эй, Жан, а меня ты не забыл? Это я, Гастон Пэнсон… по прозвищу Буффарик… сын полка, Второго зуавского… ученик барабанщика и твой друг… — Забыл? Да никогда в жизни, мой славный мальчик Тонтон… мой старый барабанщик! — То-то же! Знаешь, мне сегодня — четырнадцать! — Весь в меня! — воскликнул отец, по-провансальски сентиментальный. И, помолчав, добавил: — Как, Жан, выпьем? — С удовольствием! Им уже налили, когда раздался крик: — По местам!.. Смирно! Все кинулись по местам, да с такой быстротой, как если бы в толпе разорвалась бомба. К ним приближался генерал — один, пешком, и видно, что он чувствовал себя в лагере зуавов как дома. Все узнавали его, повсюду разносились приветственные возгласы. Это Боске[29], неустрашимый Боске!.. Боске, солдатский кумир!.. Боске, самый популярный среди командиров африканской армии! В канун сражения обычно он приходил в лагерь своей дивизии — запросто, как заботливый отец, без эскорта, без штабных, без лишнего шума, что поднимало его и без того высокий престиж. О да! Боске — великолепный воин! И какой молодец! Подумайте только — в тридцать восемь лет командовал бригадой, вот уже почти год, как он — командир дивизии, а ему еще нет сорока четырех! Высокий, стройный, сильный, его энергичное лицо сразу внушает доверие и симпатию. Нетрудно догадаться — его широкие жесты, огненный взгляд, гасконский[30] выговор, в котором слышались раскаты грома, увлекали за собой людей. Да, он был великолепен, он вел за собой солдат, а храбрость его вошла в пословицу: «Храбр, как Боске!» О, это красивое, такое французское имя, эти два слога, которые так легко произносятся и остаются в памяти навсегда: Бос-ке! Впрочем, дело не в имени, ведь имя человек создает себе сам, а Боске по праву слыл героем. Он хотел бы унять энтузиазм, вызванный его появлением, — все эти крики, возгласы, здравицы!.. Зуавы топали ногами, махали руками, подкидывали фески в воздух и кричали в тысячу глоток: «Да здравствует Боске!..» Он хотел проверить, сытно ли они поели. Полные котелки и запахи кухни успокоили командира. Проходя мимо маркитантов, он дружески поздоровался с Буффариком, которого знал уже пятнадцать лет: — Добрый день, старина Буффарик! Старейший из сержантов покраснел от удовольствия, из его патриаршей бороды[31] вырвался клич: — Да здравствует Боске! — И, когда гордый профиль любимого командира уже исчез из виду, Буффарик добавил: — Какой молодец! Орел!.. За такого голову сложить — счастье! А пока выпьем за его здоровье! Мариус чокнулся с Жаном и, опрокинув стакан, воскликнул: — Это еще что? К ним подошли четверо вооруженных зуавов, с примкнутыми штыками, под командой сержанта, доверительно сообщившего маркитанту: — Я влип в скверное дело!.. Мне приказано арестовать Оторву! — Ого!.. И за что? — Он чуть не прикончил одного сержанта из пехтуры… Я должен увести его по приказу кебира, который рвет и мечет. Начальник решил на примере Жана проучить других. — Жан, это правда? — с тревогой спросил Буффарик. — Правда, — невозмутимо ответил тот. — Черт побери!.. Бедный малыш… Это пахнет трибуналом. — Ничего не попишешь… Что было, то было… Я иду с вами, сержант. Мамаша Буффарик запричитала, мадемуазель Роза побледнела как полотно, Тонтон стал протестовать, зуавы, столпившиеся вокруг, начали роптать, — это было последнее, что увидел Оторва, увлекаемый своими товарищами, которым претила роль жандармов[32]. Сначала они повели арестованного к его палатке. Там Жана встретил ближайший сосед, капрал по прозвищу Питух, горнист. Он пребывал в отчаянье и, не в силах найти хоть слово утешения, бормотал про себя со слезами на глазах: — Бедный мой дружище!.. Судьба — индейка… Бедный мой дружище… Сержант отобрал у Оторвы его штык-нож, послужной список и Дружка — так называл молодой человек свой любимый карабин, верного друга в бою, там, на африканской земле. Затем сержант отвел его к середине лагеря, где расположился полковник. Тот ходит взад и вперед по площадке перед своей палаткой — просторным сооружением с приподнятым входным полотнищем. В палатке трое офицеров сидели за складным столом; у края стола примостился старший сержант с пером в руке. При виде арестованного кебир вспыхнул, вне себя от ярости: — Как?! Это ты?! Лучший солдат моего полка… И ты выкидываешь такие номера?.. — Видите ли, полковник, под этим кроется вражда… застарелая вражда двух семей… И потом, когда он требовал знаков уважения, это было слишком оскорбительно… у меня потемнело в глазах, и я ударил его… уткой! Вы бы только видели, что это была за потеха! — Ну и ну! Для тебя это потеха! А ты знаешь, бедолага, что этот сержант — из Двенадцатого линейного[33] полка, и его командир уже подал сокрушительный рапорт самому́ маршалу Сент-Арно![34] Маршал намерен установить в части железную дисциплину. Я получил приказ незамедлительно созвать трибунал, и он тут же за тебя возьмется… Все точно по уставу… Несмотря на свою храбрость, Оторва почувствовал, как по коже пробежала противная дрожь. Он выпрямился, принял самую воинственную позу, на какую только был способен, и, поскольку за суровыми словами командира проскользнуло искреннее сочувствие, ответил ему с достоинством: — Что ж, полковник, вы позволите мне завтра пойти в бой в первых рядах и подставить себя под пули? — Это единственный способ умереть достойно. — Но у меня будет такая возможность? — Хорошо, ступай! Судьи ждут… иди, мой бедный Оторва! По-прежнему сопровождаемый четырьмя вооруженными солдатами, арестованный зашел в палатку, и входное полотнище упало. Прошло полчаса, и приговор был вынесен. Зуав Жан Бургей, по прозвищу Оторва, осужден на смертную казнь. Приговор ни отсрочке, ни обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение завтра, в полдень. Непреклонная суровость устава не позволила судьям смягчить наказание. Да и что значит — смягчить? Присудить нашего зуава к каторге?.. К тюрьме?.. Кто знает Оторву, поймет: смерть с дюжиной пуль в груди в сто раз лучше!
Это ужасное известие повергло весь полк в горестное изумление. Сами судьи были в отчаянии оттого, что им пришлось так жестоко покарать баловня большой полковой семьи, и проклинали свою службу. Просить о помиловании — невозможно. Да и найдется ли человек, который попытался бы растопить такую льдину, как маршал Сент-Арно? Маркитанты были убиты горем. Мамаша Буффарик не осушала глаз. Роза, бледная как смерть, безутешно рыдала. Буффарик рвал и метал, кляня все на свете: — Никогда им не найти дюжины зуавов для такой команды!.. Расстрелять Оторву? Черт побери! Я всех подниму на ноги… упрошу… вымолю… Нас любят в полку, так какого же черта! Марселец носился по лагерю, пытаясь выручить друга, но все его хлопоты — увы! — оказались напрасны… Тем временем наступила ночь. Оторву закрыли в его палатке под охраной четырех вооруженных солдат, которым приказали не спускать с осужденного глаз. Они отвечали за него головой! Буффарик был просто неутомим. Не придумав ничего лучшего, он собрал дюжину старейших сержантов полка, рассказал им, что случилось, заразил их своим стремлением спасти Оторву, внушая зычным голосом, который дрожал от волнения: — Друзья, неужели мы допустим, чтобы наш герой, храбрейший из храбрых, погиб как последний бандюга? Тысяча чертей, этого не случится! если уж ему суждено умереть, пусть падет как солдат!.. Пусть его сразит вражеская пуля, пусть он погибнет за родину!.. За нашу прекрасную Францию! Да, только так!.. Пойдем просить у командира этой милости… этого высшего благоволения. Сент-Арно принял делегацию. Но главнокомандующий, терзаемый лихорадкой, едва оправившийся после приступа холеры, измученный, раздраженный, не поддался уговорам. Что бы ходатаи ни предпринимали и что бы ни случилось, Оторва в полдень будет расстрелян. Другим в назидание! Прошла ночь, прохладная, тихая. Занялся рассвет — рассвет того дня, который для многих славных парней окажется последним. Раздался пушечный выстрел! За ним горн весело спел зорю. Зуавы разжигали костры, варили кофе. Буффарик, проведя ночь без сна, вновь оказался у палатки Оторвы. Глаза у старшего сержанта покраснели, голос прерывался. Он хотел увидеться с Жаном, сказать ему страшную правду, обнять его, попрощаться! Неумолимый приказ заставил марсельца отступиться. Арестанту никого не разрешалось видеть. Исключения не делали ни для старого друга, ни даже для Розы, чья молчаливая скорбь разрывала душу. Но вот уже выпит обжигающий кофе, походные мешки завязаны, оружие наготове. Послышались короткие команды. Галопом пронеслись офицеры связи, собирались взводы, строились роты, формировались батальоны. Не прошло и четверти часа, а полк уже был готов к выступлению. Жестокий военный порядок подчинил себе всех и каждого, и никто больше не располагал собой. Буффарик едва успел занять свое место в строю, рядом со знаменем. Впереди Первого батальона шагала мадам Буффарик в парадной форме, затянутая в короткую юбочку тонкого сукна, в шапочке с пером, с кинжалом, свисавшим с пояса на стальной цепочке. Позади батальона мадемуазель Роза и Тонтон катили украшенную флажками повозку. За повозкой мул Саид тащил набитые до отказа корзины. Издали, с большими интервалами, доносились глухие раскаты орудийной стрельбы. Медленно ползли вверх белые дымки… Сражение началось. Полковник вскинул саблю, раздалась отрывистая команда, ее подхватил звонкий голос фанфар, над рядами взмыли две тысячи штыков, и полк тронулся с места. Извиваясь, колонна ушла вправо и исчезла из виду. На месте стоянки остались лишь пустые палатки, кострища, где угасли угли, и человек двадцать инвалидов с приказом сторожить лагерь. Арестант по-прежнему сидел в палатке. Четверо охранников не могли понять, почему из полевой жандармерии еще не пришли за ним. Их бесило это промедление, из-за которого они не могли принять участие в бою. Бедный Жан до последней минуты надеялся, что ему будет оказана высшая милость, что ему разрешат подставить себя под пули там, наверху, на крутом склоне, где уже разгоралась ружейная пальба. Но увы! Его оставили здесь, бросили под этим полотнищем, и ногу его привязали к колышку, который Оторва напрасно пытался вырвать. Большая военная семья отторгла его, как недостойного!.. Она больше не хотела с ним знаться!.. Скоро жандармы придут за ним, уведут как жалкого злоумышленника и перед позорной смертью подвергнут последнему унижению! Нет, это выше его сил! Рык, вырвавшийся из груди молодого человека, перешел в рыдание. Впервые в жизни он позволил себе такую слабость. Товарищи, которые хорошо его знали, были взволнованы до глубины души. Охваченные жалостью, они обменивались сокрушенными взглядами; им казалось, что требования устава бесчеловечны. Один из них нечаянно вспорол штыком полотнище палатки, и они увидели мертвенно-бледное лицо Жана, его глаза, полные слез. Герой Второго зуавского полка плакал, как ребенок! Запинаясь, прерывистым голосом, голосом из страшного сна, он воскликнул: — Убейте меня!.. Прошу вас, убейте!.. Сжальтесь… или дайте мне оружие! — Нет, Жан! Нет, мой бедный друг, — тихо отозвался зуав, который вспорол полотнище. — Приказ, ты ведь знаешь… это ужасно… Оторва с трудом перевел дыхание, выпрямился и сказал окрепшим голосом: — Робер, помнишь, как там, в пустыне, ты свалился замертво, сраженный солнечным ударом? Нас было человек пятьдесят, а у противника — пять сотен, и мы хоть и с боями, но отступали… Один раз не в счет… Ни повозки, ни тачки… каждый сам спасал свою шкуру. Кто дотащил тебя на горбу до стоянки? Кто доволок тебя, умирающего? — Ты, Жан!.. Да, ты! — ответил зуав, сердце которого разрывалось на части. Оторва повернулся ко второму охраннику: — А ты, Дюлон, вспомни, кто подобрал тебя под пулями у Кабила, когда ты был тяжело ранен, когда еще немного, и тебя добили бы на дне ущелья Эль-Суат? — Это был ты, Жан, ты — мой спаситель, и моя жизнь принадлежит тебе, — воскликнул зуав, взволнованный воспоминанием. А Оторва не умолкал: — Скажи мне, Понтис, кто принял на себя удар, который чуть не пронзил твое сердце? Кто бросился вперед и прикрыл тебя своим телом? — Ты!.. Ты, Жан, и я люблю тебя, как брата! И Оторва, продолжая это дивное перечисление, простер руки к четвертому часовому: — Ты, Бокан, ты умирал от холеры в лазарете около Варны[35]. Не было ни санитарных повозок, ни врачей, ни начальства, ни друзей… никого, кроме больных, которые подыхали среди нечистот. Кто помыл тебя, растер, согрел?.. Кто вытащил тебя из той клоаки и приложил все усилия, чтобы спасти тебя?.. Кто, наконец, хоть умирал и сам, отдал тебе свой последний глоток водки?.. — Я обязан тебе жизнью, — отвечал зуав со слезами на глазах. И трое других повторили: — Да, мы обязаны тебе жизнью… что ты хочешь от нас? — Я ничего не хочу… я умоляю вас… слышите, умоляю… во имя нашего прошлого… разрешить мне… — Договаривай! — воскликнул Бокан. — Я догадываюсь, но говори же! — …разрешить мне бежать туда, где свистят пули… где пушки харкают картечью…[36] где гремит адская музыка боя… где, должно быть, так славно умереть, если счеты с жизнью уже сведены… Скажите, друзья… вы согласны? Четверо солдат обменялись быстрыми взглядами. Они поняли друг друга без слов. Бокан ответил за всех: — Да, Жан! — О, друзья мои… мои храбрые друзья! Я благодарю вас… от всего сердца… спасибо! — Мы нарушаем приказ, мы пренебрегаем своим солдатским долгом… но признательность — тоже долг. Нам грозит смертная казнь… но жертва эта сладостна. Не так ли, товарищи? — Так, так!.. Мы все бежим с тобой на поле боя, наш герой, наш Оторва! Казаки хорошенько нам заплатят. Будем бить почем зря! — Ладно, не теряйте времени!.. Отвяжите меня… принесите мое барахло, отдайте Дружка и пошли! Через пять минут зуавы устремились вперед, прыгая, как тигры, а через секунду появились двое жандармов в мундирах, чтобы увести арестанта.
ГЛАВА 3
К знамени! — Внезапное нападение не состоялось. — Пирамида из тел. — На батарее. — Открыть огонь! — Карабин и пушка. — Русские ошеломлены. — Атака. — Амазонка[37].— Дама в Черном. — Ожесточенное сражение. — Зуавы верхом. — Пленница. — Неуязвимый. — Перед кебиром.Союзническая армия насчитывала примерно пятьдесят тысяч человек[38]. Тридцать тысяч — у французов, под командой маршала Сент-Арно, и двадцать тысяч — у англичан, которыми командовал лорд Раглан[39], жалкий обломок битвы при Ватерлоо[40], где он потерял правую руку. Прямо напротив текла красивая река Альма[41], имя которой через несколько часов будет прославлено победой. Правый берег реки был легко доступен, зато по левому берегу тянулась полоса крутых, нависавших козырьком обрывов высотой в тридцать метров, к тому же отлично охранявшихся. Именно на этих высотах Альмы искусно расположил свою армию князь Меншиков[42], командующий русскими силами, почти столь же многочисленными, как силы союзников. В штаб-квартире русских полагали, что их позиции неприступны. Однако именно эти бастионы предстояло захватить англо-французской армии или неминуемо оказаться сброшенной в море и потерпеть неслыханное поражение. Высоты Альмы, стало быть, следовало атаковать, захватить и удержать, потому что другого выхода нет и быть не могло. Впрочем, план, разработанный двумя союзническими генералами, выглядел очень простым: атаковать одновременно оба крыла неприятельской армии, потом прорываться к центру. Англичане осуществят этот маневр на правом фланге, французы — на левом. Обходное движение поручили дивизии Боске. От нее зависели результат боя и судьба армии. Задача являлась безумно трудной, и надо было быть Боске, чтобы за нее взяться. Дрожь брала при одной мысли о том, что требовалось вскарабкаться на эти береговые утесы и с тыла атаковать кручи, утыканные пушками и ощетинившиеся штыками. Но, с другой стороны, чего не сделает такой командир да с такими солдатами: зуавы и алжирские стрелки, егеря[43] Третьего батальона, пехотинцы Шестого, Седьмого и Пятидесятого линейных батальонов — отборные бойцы, воины до мозга костей составляли эту великолепную дивизию. Выступление назначили на семь утра 20 сентября 1854 года[44].
Солнце медленно поднималось над горизонтом, освещая величественную картину. На французском фланге барабаны, горны и трубы призывали встать под знамя. На стороне неприятеля русские падали на колени и затягивали молитву, а священники с крестами шли по рядам и окропляли святой водой притихших бойцов. И вот наконец зазвучал сигнал: «К оружию!» Сейчас начнется сражение. Боске приказал своим полкам форсировать устье Альмы. Предстоял долгий и трудный переход по дороге, размываемой прибоем, где две артиллерийские батареи будут вязнуть на каждом шагу. Стрелки Боске обменялись залпами с противником. Завязался бой… Вот-вот командир отдаст приказ начать штурм и бросит своих людей на прибрежные скалы. Горнисты поднесли мундштуки к губам, чтобы сыграть сигнал к атаке. И вдруг появился офицер связи, мчавшийся во весь опор. — Стойте!.. Стойте!.. Англичане не готовы! Могучий наступательный порыв оказался напрасным, пришлось укладывать ничком воодушевившихся было людей и ждать, пока господа союзнички напьются чаю, упакуют багаж, и все это не спеша, хотя тем временем зуавов могут разбить наголову. Так или иначе эффект внезапности был потерян, неприятель оказался начеку, и дивизия, не подготовившая позиций для отступления, рисковала быть уничтоженной или сброшенной в море. И это ожидание, этот гнев, этот страх длились три смертельно долгих часа, пока эти странные союзники потихоньку занимались своими делишками, а дивизия Боске подставляла себя под пули, не имея возможности ни ответить на огонь, ни продвинуться вперед. Однако же это потерянное время выручило Оторву и четырех его друзей, потому что иначе они бы опоздали. А теперь — запыхавшись, обливаясь потом, зуавы в конце концов догнали сослуживцев и присоединились к артиллеристам. Артиллерийская прислуга[45], лошади, пушки, зарядные ящики — все это сосредоточилось у подножия крутого обрыва, а сверху на них с грохотом падали снаряды. Все ворчали, чертыхались, сыпали проклятиями и пытались укрыться от окаянных осколков железа, которые калечили людей и животных. Нет для солдат более гнусного занятия, чем бездействовать под огнем. Юный лейтенант посмотрел на кручи и пробормотал вполголоса: — Нам туда никогда не забраться! Оторва, услышав это, подошел ближе. — Господин лейтенант, — сказал он, отдавая честь, — надо бы поискать дорогу, козью тропку, ну хоть что-нибудь. — Но скала совершенно отвесная! — Наверняка есть какая-нибудь извилистая тропинка, которая связывает подножие скалы с вершиной. Надо посмотреть на середине обрыва… Мы находили такие тропки в Кабилии. — Если вы это сделаете, то окажете неоценимую услугу! — Мы готовы, господин лейтенант! Распорядитесь выдать нам моток веревки… да хоть вот эту, от тюков с фуражом. Указывая своим товарищам на вершину, Жан добавил: — А ну-ка — пирамиду! Раз-два! Это упражнение было знакомо зуавам. Они сложили на землю ружья, мешки, пожитки, и Понтис, настоящий геркулес[46], прижался спиной к скале. Дюлон залез ему на плечи, Робер вскарабкался на Дюлона, а сверху взобрался Бокан. Операцию провели с такой быстротой и ловкостью, что артиллеристы не смогли сдержать криков восхищения. Оторва взял веревку, намотал ее вокруг пояса и с обезьяньим проворством взлетел на плечи Бокана. Вытянутые руки его достали высоты в семь метров! Скала здесь была менее отвесная, камни и переплетения корней образовывали какие-то выступы. Работая руками и ногами, Жан одолел еще метра три и радостно вскрикнул: — О-о, прекрасно! Маленькая площадка! Он закрепился на месте и мгновенно размотал веревку, один ее конец спустил вниз, крепко взял в руку другой, откинулся назад и скомандовал: — Поднимайсь! И четверо зуавов, подтягиваясь на руках, один за другим полезли наверх и стали рядом с товарищем. — А теперь мешки да ружьишки! Артиллеристы привязали к веревке мешки, потом ружья. Зуавы подтянули их к себе и стали карабкаться дальше. Через пять минут они уже были на самом верху. Потрясающе! Перед ними простерлось обширное плато[47], обстреливавшееся русскими ядрами. Однако после трудного подъема им показалось, что здесь вполне можно обосноваться. Зуавы быстро обежали гребень плато, не обращая внимания на пули, которые взрывали землю и отлетали рикошетом, вздымая облачка пыли. Край плато разрезала расселина, опаснейшая ловушка, которая зигзагом спускалась вниз и терялась в зарослях ежевики. С риском сломать себе шею Оторва устремился к расселине, вихрем слетел вниз, запутался в колючих ветках, выдрался из них, сыпля проклятия, и оказался… перед самим генералом Боске, окруженным штабными офицерами. Ошарашенный генерал вскрикнул: — Черт побери! Откуда ты взялся? — Сверху, господин генерал! — Не может быть! — Это так же верно, как то, что я имею честь разговаривать с вами. Я искал дорогу для артиллерии… и нашел… вот она! — Молодец!.. И правда ведь нашел!.. Теперь не медлить!.. Скорей, братцы! Расчищайте!.. Расчищайте!..[48] За две минуты, работая топорами и саблями, солдаты обнажили начало тропинки. Примчался командующий артиллерией. — Майор Барраль, — обратился к нему Боске, — следуйте за этим зуавом, проверьте состояние дороги и возвращайтесь. Офицер кинулся вслед за Оторвой. Они вскарабкались по склону, и майор тут же бегом возвратился назад. — Господин генерал, мы пройдем!.. Не знаю как, но пройдем! Боске скомандовал во второй раз: — Все сюда!.. Все сюда!.. Тащите пушки! Тише!.. Без шума!.. Занимайте позиции и сразу открывайте огонь! Первое орудие вползло на кручу. Это казалось неправдоподобным, немыслимым, бредовым. Да, но каким неистовым порывом были охвачены солдаты!.. Это исступление, смерч! Зуавы, егеря, стрелки бросились к лошадям, лафетам[49], зарядным ящикам. Они толкали, тянули, подымали… Пояса, шарфы, ремни, тросы — все шло в ход, чтобы втащить орудия наверх. Иногда пушки откатывались назад. Лошадей взбадривали, под колеса подкладывали мешки, чтобы притормозить откат. Масса людей, обливаясь потом, задыхаясь, металась в невероятной мешанине тел, рук, ног, оружия и мундиров; животные и люди в чудовищном напряжении хрипели, натыкались друг на друга и все же продвигались вперед. Наконец у всех вырвался вздох облегчения. Первую пушку вытолкнули на плато. Пока подтягивались остальные, лейтенант установил ее на огневую позицию. Впереди, на расстоянии восьмисот метров, передвигались темные группы солдат — русские. — Огонь! — скомандовал лейтенант. Звук выстрела понемногу затих, а юный офицер проследил взглядом за полетом снаряда, который, с шумом пролетев над плато, обрушился на неприятельскую пушку. Пушка опрокинулась. Раненые артиллеристы отскочили в сторону. — Браво! — вскричали зуавы в восторге. Другая русская пушка собралась им ответить. Французы хорошо видели, как ее наводили на них, и каждый думал про себя: «Не мне ли это?» Лишь пятеро зуавов вскинули карабины на плечо и стали целиться, как будто перед ними виднелись мишени. — Огонь! — крикнул в свою очередь Оторва. Пять ружейных выстрелов слились в один. Пятеро русских артиллеристов упали сраженные. Великолепные стрелки! Французские артиллеристы перезарядили пушку, с силой вгоняя снаряд в ствол. — Молодцы, зуавы! — воскликнул лейтенант. Зуавы тоже перезарядили карабины. Уф, какая возня с этим оружием старого образца! Надо скусить патрон[50], вынуть пулю, высыпать порох в ствол, загнать туда пулю, протолкнуть ее глубже шомполом[51], взвести курок… Лучшим из солдат удавалось за минуту сделать два выстрела и зарядить карабин для третьего. Зуавы спешили. Их стальные шомполы позвякивали: клинг! клинг! Оторва нашел еще время обратиться к офицеру: — Господин лейтенант, я не хочу вас обижать, но не кажется ли вам, что мой Дружок плюется так же далеко, как ваш громила? Лейтенант не успел ответить. Пять или шесть ядер обрушились на позицию. Двух лошадей разорвало в клочья, четыре человека упали, пушка опрокинулась, одно из колес разбило вдребезги. Артиллеристы спокойно, словно на маневрах, поставили запасное колесо. Им теперь было не до разговоров. Зуавы, стреляя без передышки, били по русским артиллеристам с потрясающей меткостью. Наконец подтянулись и остальные французские пушки. Они расположились на позиции, а солдаты, которые втащили их наверх, пока прикрывали их ружейной пальбой. И тут прозвучал сигнал атаки! О, этот дьявольский зов горна, от которого бросает в жар, сердце рвется из груди, ноги сами готовы нести вас! Звуки горна гонят вас вперед, кружат голову, доводят до безумия!
ГЛАВА 4
Во время боя. — Глоток для солдата. — Светская дама и маркитантка. — Тайна!.. — Быть может. — Чувство собственного достоинства. — Англичане. — Штыковая атака. — Рукопашная. — Полууспех. — Телеграфная вышка. — Оторва и знамя. — Победа при Альме.Наверху, на плато Альмы, где смерть угрожала каждому и без передышки наносила свои удары, свирепствовала жажда. Жестокая, мучительная жажда, так хорошо знакомая солдатам! Волнение, смертельная опасность, грохот взрывов, едкий, удушливый дым, разъедающий губы порох из патронов, которые рвут зубами, — все это вызывало сильнейшую лихорадку, распалявшую кровь… У зуавов звенело в ушах, глаза помутнели, голова горела, во рту пересохло — жизнь бы отдали за глоток воды! Но котелки были пусты, и давно. Солдаты грызли пули, сосали камешки, жевали травинки, чтобы умерить муки жажды. — О-о, мамаша Буффарик!.. Мы спасены, мы спасены!.. Спокойная, бодрая, такая же невозмутимая под ураганом пуль и снарядов, как сам кебир, маркитантка подошла к зуавам с полной флягой. Это не вода, нет, это молоко от бешеной коровки. Лучше это или хуже? — Мамаша Буффарик! Стаканчик, умоляю! — Сейчас, мой мальчик! Будь здоров! Госпожа Пэнсон живо повернула маленький медный краник, который сверкал, как золотой, наполнила стопку и протянула ее жаждущему. — Тысяча чертей! Будто огонь глотаешь! Маркитантка поспешила к другому солдату. — Мамаша Буффарик! У меня в глотке уголь!.. Скорей!.. Хоть глоточек! — Пожалуйста, малыш! — Спасибо!.. Держите, вот деньги… — Сейчас некогда рассчитываться. Касса закрыта. Заплатишь после боя. — Но… если я сыграю в ящик? — Ты потеряешь больше, чем я! Придешь, когда захочешь, не беспокойся… Она спокойно двигалась в самом пекле, не обращая внимания ни на вой снарядов, ни на свист пуль, и обходила ряды с неизменной улыбкой, являя собой образец бесстрашия и доброты. Стопка за стопкой — и фляга пуста. Мамаша Буффарик побежала, чтобы наполнить ее снова. О, это было недалеко. В тылу полка, рядом с санитарной повозкой. Там же находились доктор Фельц, Роза, Тонтон и их мул, Саид. Мул тащил два бочонка, весь запас жидкости. В одном из бочонков — спиртное для тех, кто сражается. В другом — чистая вода для раненых. Умело и ловко, а главное, самоотверженно помогала Роза майору-медику, который рылся в кровавом месиве раздавленной плоти и раздробленных костей. Бедные раненые! Их неустанно доставляли музыканты, выполнявшие обязанности санитаров. О, что за ужасное зрелище являл собой этот уголок поля боя, где трава была покрыта кровавой росой, где пульсировала измученная плоть, где мужественные и гордые молодые люди слабым голосом звали в агонии маму, как в детстве!.. Мамаша Буффарик поспешно направилась к этому трагическому месту, оказавшись там в ту самую минуту, когда у перевязочного пункта остановилось ландо, и увидела Даму в Черном. Та все еще была без чувств. Мамаша Буффарик ничего не видела и не слышала о подвигах Оторвы, совершенных за густой завесой дыма, и не знала, откуда и как появилась здесь эта незнакомка. Однако вид неподвижной женщины, бледной как полотно, быть может, мертвой, не мог не тронуть доброе сердце маркитантки. Она подошла ближе, убедилась в том, что та еще дышит, и торопливо расстегнула ее атласный корсаж[59]. Тщательно сложенные бумаги выскользнули при этом на землю. Зуав, стоявший рядом, подобрал их, а маркитантка растерла водкой виски́ незнакомки. Дама открыла глаза, пришла в себя и, увидев французские мундиры, сделала гневный жест. Она оттолкнула мамашу Буффарик, заметила свои бумаги в руках солдата и вскрикнула не окрепшим еще голосом: — Мои бумаги!.. Дайте их мне… они мои… верните их… я требую! — Нет уж, — ответил служивый. — Слава Богу, я службу знаю… я отдам их кебиру в собственные руки, а он передаст их командующему… такой порядок! — Я не хочу!.. Я не хочу!.. — Вот еще! Мало ли кто чего не хочет! Дама неприязненно сжала губы. Она была встревожена и раздосадована. Мамаша Буффарик спокойно сказала: — Ну же, не надо так волноваться, лучше выпейте что-нибудь для бодрости. Не упрямьтесь, это от чистого сердца. — Нет, — ответила незнакомка твердо. — От французов, врагов моей родины, мне ничего не надо. Взглядом своих больших глаз, похожих на черные алмазы, она окинула кошмарную картину лежащих вповалку тел, и дьявольская радость осветила ее прелестное лицо. В эту минуту к ней подошла Роза со стаканом воды в руке. Она услышала жесткое «нет!» Дамы в Черном и сказала ей своим мелодичным, нежным голоском: — Но эти враги великодушны… они перевязывают ваших раненых, как своих… по-братски помогают им… взгляните, мадам! Белое личико юной девушки, ее легкий румянец были очаровательны. Роза носила простенькое ситцевое платье и соломенную шляпу с трехцветной кокардой[60]. Из-под шляпы выбивались пышные волосы. Изящество и достоинство, с каким девушка держалась, внушали восхищение и симпатию. Незнакомка смотрела на нее долго, пристально, невольно поддаваясь обаянию ее слов и взгляда. Странное чувство пробудилось в глубине души воинственной славянки, неуловимое, болезненное и сладостное. Глаза ее, такие прекрасные, несмотря на холодный блеск, увлажнились непрошеной слезой. Потом она прошептала голосом тихим, как дыхание: — Да… конечно… ей было бы столько же лет… и эти золотые волосы… эти васильковые глаза… этот цвет лица… лилия, роза… и такая благородная осанка… она ничуть не похожа на маркитантку! Девушка тоже неотрывно смотрела даме в глаза, и та тихонько добавила: — От вас, дитя мое, я приму этот стакан. Женщина утолила жажду, неотрывно глядя на Розу, которая вызывала у нее смешанное чувство пылкой приязни и мучительной боли. Не замечая грохота сражения, звуков бойни, стонов раненых, забыв о том, что находится в плену, забыв о своей слепой ненависти, забыв обо всем, она спросила: — Как вас зовут, дитя мое? — Роза Пэнсон, мадам. — Роза!.. Красивое имя, и так вам идет. Из какого вы края? Откуда родом ваши родители? Мамаша Буффарик почувствовала себя немного задетой и грубовато вмешалась в разговор: — Мой муж из Прованса… я из Эльзаса… а моя дочь родилась в Африке. — О, из Эльзаса?.. Вы говорите — из Эльзаса? — Да, а что в этом плохого? Но, прошу прощения, вам уже лучше, правда? Я возвращаюсь к моим зуавам, мне надо их напоить… А раненым нужны заботы Розы… Прощайте, мадам… — Прощайте! Быть может… Но Дама в Черном не могла просто так проститься с Розой. Она испытывала настоятельную потребность установить с этой юной девушкой какую-то душевную связь… подарить ей что-то на память… Сама мысль о расставании с девушкой терзала ее сердце… хотелось, чтобы Роза ее не забыла. Женщина отстегнула с воротничка роскошную брошь с черными бриллиантами и неловко, с бестактностью иностранцев, не знающих ни нашего бескорыстия, ни нашей гордости, протянула ее Розе. — Мадемуазель Роза, — сказала незнакомка, — примите от меня эту безделушку. Девушка покраснела, отступила на шаг и с достоинством возразила: — За стакан воды?.. О, мадам! — На поле боя стакан воды стоит целого состояния. — И все же в нем не отказывают даже врагу! — Вы горды! Это хорошо. Но позвольте, по крайней мере, пожать вам руку. — О, от всего сердца, мадам, — ответила Роза и протянула руку, которой позавидовала бы графиня. В это время появился адъютант с приказом обыскать экипаж и препроводить Даму в Черном к главнокомандующему. Две руки успели соединиться в стремительном рукопожатии. И Роза вздрогнула оттого, что рука Дамы в Черном была холодна, как мрамор. Экипаж тронулся, и незнакомка, не отрывая взгляда от изящного силуэта девушки, снова прошептала: — Да!.. Ей было бы столько же лет… Она была бы столь же прекрасна и горда! Ах, будь проклята Франция!.. Да, проклята!.. Проклята вовек!
Сражение на плато становилось все более ожесточенным. Дивизия Боске таяла на глазах. Ее била артиллерия, преследовала кавалерия, теснила пехота. Генерал держался подчеркнуто спокойно, но был очень бледен, на лбу у него выступили крупные капли пота. Он считал минуты, еще немного — и их опрокинут. Оставалось единственное средство — наступление! Только наступление могло поднять дух армии, и тогда она прорвет сжимавшее ее кольцо железа и огня. Если не придет подмога, они погибнут все до единого. Окружив своего командира, офицеры связи ждали приказа. — Что же, господа, передайте команду: мешки на землю — и в атаку! Офицеры связи пустили коней в галоп и под страшным огнем добрались до командиров корпуса. И тут же Боске издал радостный возглас, на его мужественном лице расцвела улыбка. — Англичане! Наконец-то! Вот оно, долгожданное подкрепление, но с каким опозданием! Сквозь пороховой дым и мглу пожаров стали заметны английские части, которые продвигались вперед, чтобы захватить наполовину сгоревшую деревню Бурлюк[61], и перейти реку Альму по мосту. Сбитые в компактные группы, эти великолепные пехотинцы маршировали, как на параде, с оружием наперевес, печатая шаг; унтер-офицеры, оборачиваясь, выравнивали строй. Грандиозное, величественное зрелище! Но какое же абсурдное! Ведь лучше было бы развернуться там, куда не достигают ядра! Разумнее было бы разделить войска, расположив колонны на расстоянии друг от друга!.. Русские артиллеристы занимали выгодные позиции. Они стреляли словно по мишеням, и при каждом выстреле снаряды укладывали наземь целые шеренги, точно гигантская коса проходила по маковому полю. Через пятнадцать минут треть покалеченных бойцов лежала уже на земле. Но деревню захватили без сопротивления, отважные солдаты форсировали Альму и угрожали теперь правому флангу русских. — Браво! Красные мундиры, браво! — кричали в восторге французы. В полках и батальонах дивизии Боске раздавались короткие команды: — Мешки скинуть!.. В штыки!.. Барабаны и горны… в атаку!.. Артиллерия дала последний залп картечью, и тут же раздался страстный зов фанфар, сопровождаемый басовитыми раскатами барабанов. Людей, измученных ожиданием, было невозможно сдержать. Они кричали во все горло: — В штыки!.. Черт подери!.. В штыки! Зуавы и венсенские стрелки шли впереди. Кто первым приблизится к противнику? — Беглым шагом! Дым рассеялся. В ста пятидесяти шагах виднелись русские. Они стояли неподвижно, ощетинившись штыками. Солдаты без приказа ускорили шаг. Ряды сломались. Барабаны и горны умолкли. На несколько мгновений воцарилась напряженная тишина. И вот из пяти тысяч глоток вырвался могучий крик: — Да здравствует император!.. Да здравствует Франция! Русские с расстояния в шестьдесят шагов ответили бешеной пальбой. Но ничто не могло остановить порыва французов. Тигриными прыжками они кинулись на человеческую стену. Перед ними выросли парни в просторных серых шинелях, с перекрещенными белыми ремнями, в зеленых штанах, заправленных в сапоги. Враги сошлись в рукопашной. Раздался лязг металла, посыпались проклятья, звериные вопли, предсмертные хрипы. Выносливые, вышколенные, бесстрашные, эти богатыри с усами и бакенбардами, все израненные, сдерживали натиск наших солдат. Восхищенный мужеством русских, Наполеон сказал о них: «Их мало убить, их надо еще заставить пасть!» Первая линия была прорвана или, точнее, уничтожена. За ней шла вторая, готовая к безжалостной рубке, готовая на любые жертвы. Егеря, зуавы и линейные стрелки, опьяненные порохом и кровью, уже не владели собой. Они летели, как смерч… Не желая ни сдаваться, ни отступать, русские предпочитали смерть в бою. За несколько минут Владимирский полк потерял своего командира, трех командиров батальонов, четырнадцать капитанов, тридцать поручиков и подпоручиков[62] и три сотни солдат. В Минском и Московском полках оказались выведенными из строя половина солдат и офицеров. Дивизия Канробера[63], которую в центре повел в атаку сам ее отважный командир, захватила все вражеские позиции. Повсюду союзникам сопутствовал успех, но о победе говорить было еще рано. Медленно, словно нехотя, отстаивая каждую пядь земли, грозная русская армия, истекая кровью, отступала к стратегическому пункту под названием «Телеграфная вышка». На плато, подступы к которому были защищены траншеями, возвышалось строение из бруса, скрепленного крест-накрест досками. Здесь собирались строить сигнальный телеграф[64], и отсюда возвышенность получила свое название. Солдаты Меншикова собрались там в каре. Их насчитывалось более двадцати тысяч, кроме того, русские ощетинились шестьюдесятью пушками, заряженными картечью. Чтобы закрепить победу, следовало начинать новое сражение. И оно разгорелось тут же, еще более ужасное и ожесточенное, чем первое. Блистательный маневр, предпринятый Боске, вывел на острие атаки полк алжирских стрелков, находившихся в резерве. Они оказались рядом с зуавами и образовали вместе с Тридцать девятым пехотным полком первую линию атаки. — В штыки! Стрелки кинулись вперед очертя голову, выкрикивая свои арабские проклятия. Обманутые восточным покроем мундиров и особенно их голубым цветом, русские приняли наступавших за турок и пренебрежительно зашумели: — Турчата!.. Турчата!.. Заблуждение длилось недолго, им пришлось жестоко за него расплачиваться. В неудержимом порыве алжирские стрелки преодолели траншеи, перепрыгнули эполементы[65] и ворвались в гущу ошеломленных русских. В заслоне из человеческих тел оказалась пробита брешь. В нее устремились зуавы, егеря и линейные стрелки, в то время как алжирцы расширяли кровавый проход. Русские проявляли несокрушимую стойкость, сражению не было видно конца. Настоящими героями стали храбрые африканцы. Исступление кровопролитной бойни охватило всех. Люди безжалостно убивали друг друга всеми возможными способами. Они расстреливали друг друга в упор, всаживали перекошенные штыки, обрушивали приклады, которые разлетались вдребезги. Оставшись без оружия, противники душили, давили, кусали друг друга! Убитые и раненые покрывали землю жутким ковром. Вокруг Телеграфной вышки кипел особенно жестокий бой. На вышке развевалось русское знамя, и пока никому не удавалось водрузить на его место французский флаг. Все, кто брался за это опасное дело, пали, изрешеченные пулями. Погибло уже человек тридцать, когда лейтенант Пуадевен из Тридцать девятого линейного полка добрался наконец до первой площадки. Он едва успел взмахнуть знаменем своего полка и тоже упал замертво. За ним поднялся на вышку сержант Флери. Его опрокинула пуля, попавшая прямо в лоб. Командир полка зуавов, сжимая одной рукой полковое знамя и указывая другой на верх вышки саблей, до самого эфеса[66] окрашенной кровью, воскликнул: — Ко мне!.. Ко мне, храбрецы!.. Поднять… Тысяча чертей! Поднять знамя зуавов! Человек пятьдесят вызвались схватиться за древко и ринуться навстречу неизбежной, но славной смерти. — Я… господин полковник!.. Я!.. — раздался громоподобный голос, перекрывая пальбу. — Это ты, Оторва? — Господин полковник… друзья мои… умоляю вас… ведь я приговорен, вы знаете… и вот я… — Иди, Оторва! — согласился полковник, протягивая зуаву знамя. Жан рванулся, но кто-то схватил его за руку, и провансальский голос трубным звуком отдался у него в ушах: — О, старина!.. Ты, конечно, впереди всех! — Буффарик!.. Брат мой!.. Вперед, за Францию! — Оторва наклонился и добавил вполголоса: — И за мадемуазель Розу! Он взлетел по грубо сколоченной лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Пули свистели со всех сторон, ударяясь о доски, откалывая щепу. Вот храбрец уже на первой площадке. Пять сотен выстрелов прогремели разом. Жан разразился хохотом, и белоснежный оскал его зубов отчетливо высветился на закопченном лице. Он закричал во все горло: — Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!.. Под градом пуль молодой человек ловко взбирался дальше. И вот он очутился наверху, на второй площадке, и его гордый силуэт, освещенный ярким солнцем, отчетливо выделился на фоне небесной синевы. Клики восторга смешались с яростным ревом. Раздался еще один залп! Французы, которые не сводили с него глаз, замерли в ужасе. Ударом ноги зуав сшиб древко русского знамени, и оно упало, словно смертельно раненная птица. Потом он развернул французское трехцветное знамя, и вот уже его полотнище забилось на ветру. — Какой храбрец! — радостно вскрикнул полковник. Солдаты, столпившиеся у подножия вышки, водрузили свои шапки на острия штыков и замахали ими в воздухе. Послышалось громоподобное «ура». И огонь прекратился, как будто появление французского знамени убило надежду в сердцах неприятеля. Горнист поднес ко рту горн и затрубил во всю силу своих легких: «Равнение на знамя!» — и все горны, все барабаны дивизии загрохотали и запели, возвещая о победе при Альме![67]
ГЛАВА 5
Ссора монахов. — Претензии русских. — Союз. — Объявление войны. — Силистра[68] и Варна. — Холера. — В Крыму. — Маршал Франции и русская княгиня. — Шпионка или патриотка. — Кольцо с бриллиантом. — Бокал шампанского. — Переодевание. — Бегство.В очередной раз Европа была охвачена огнем! Франция и Англия, вступив в союз с Турцией, сражались против России. Война приняла с самого начала ожесточенный характер. Она обещала быть долгой и кровопролитной. Уже появилось немало победных реляций, исполненных воодушевления и бравады, было произведено немало повышений по службе, но сколько слез, горя, смертей успела принести война. Таковы два лика славы! Итак, война шла, шла на рубежах Востока, где все было создано для солнца, неги, для жизни сладостной и легкой! Почему началась эта война? Причина ее — одна странная история, в сущности, не причина, а повод: просто-напросто ссора монахов, столкновение клобуков[69]. А в чем же заключалась настоящая причина? В амбициях России, которая на протяжении многих веков претендовала на Константинополь[70] и Оттоманскую империю[71]. Однако царь Николай I[72] так искусно переплел повод с истинной причиной, так удачно выбрал время и час, к тому же повод был так удобен, а причина так очевидно созрела, что разделить их оказалось невозможно. Вот эта короткая, но поучительная история. На территории мусульманской Турции находятся святые места христиан. Святые места охраняются общинами «латинских» (католических) и греко-православных монахов, равными по численности. У каждой из них свои прерогативы[73] и свои права, закрепленные подробным протоколом. Итак, греки — при этом не будем забывать, что и духовным и мирским главой греческой церкви является российский император, — греки мало-помалу вторглись в права латинян, да так, что тех чуть было не изгнали из одной из самых почитаемых в мире святынь. На основании ряда договоров Франция на протяжении веков считается официальным покровителем латинских, или католических, монахов. Они потребовали у Франции поддержки. Франция провела расследование и обратилась к султану. Но Россия высказалась в пользу греческих отцов еще более громким голосом и показала зубы. Турция испугалась и издала фирма́н[74], узаконивший посягательства греческих отцов. Это решение Оттоманской По́рты[75] заново поставило под видом религиозного соперничества серьезную проблему политических влияний, тем более важную в 1853 году, когда Французская империя только что оправилась после декабрьского переворота[76]. Чтобы укрепить свой престиж и престиж империи, Наполен III был более чем склонен обнажить шпагу. Участники конфликта попытались разрешить его дипломатическим путем, но каждый лишь обострял вопрос, который перерос наконец в европейский. В то время как дипломаты препирались друг с другом, Россия неустанно вооружалась, а Николай красивыми словами и лживыми обещаниями водил Англию за нос. Он пошел даже на то, что предложил Англии поделить Турцию и передать ей Египет. Именно в ходе этих переговоров русский император в энергической и живописной манере назвал Оттоманскую империю «больным человеком». Словцо это произвело фурор и не забыто до сего дня. «Больной человек умрет, — говорил он английскому послу, — приготовимся принять его наследство». Англии хватило благоразумия отказаться от подарка, который был бы для нее по меньшей мере обременительным. Вопрос о святых местах не двигался с места. Он мог бы быть разрешен в два счета, но Николай умышленно осложнил его решение, направив послом в Константинополь князя Меншикова. Этот единственный в своем роде дипломат, человек заслуженный, но по-солдатски грубый, вел себя весьма беспардонно и для начала публично оскорбил министров султана. Этим он хотел припугнуть Абдул-Меджида[77], правителя нерешительного и слабого, и тот действительно трепетал и медлил. Меншиков приехал с заданием раздуть огонь. Чтобы покончить с переговорами, он предложил султану 21 мая 1853 года унизительные условия, которые означали бы для Турции отказ от ее могущества. Чаша терпения переполнилась. Абдул-Меджид устами своего министра отверг требования России. Меншиков, взбешенный, дал министру пощечину и немедленно уехал в Петербург. — Ты добился успеха? — спросил у него Николай (разговор шел по-французски). — Да, ваше величество! Я ушел, хлопнув дверью[78]. Этот незамысловатый каламбур до слез рассмешил государя всея Руси. Всем было ясно, что война надвигается, и все ее опасались. В такой ситуации Англия, Австрия, Франция и Пруссия собрались в Вене на знаменитую конференцию, целью которой было предотвратить вооруженное столкновение. В порядке ответа на мирную инициативу великих наций Николай предпринял неспровоцированный захват дунайских провинций. Царь в течение многих лет клялся британскому послу, что никогда не начнет войны, и до Англии с некоторым запозданием дошло, что ее обманули, одурачили, предали. Потому-то Англия и присоединилась к Франции в попытке остановить Россию, угрожавшую нарушить европейское равновесие. В ответ на это соглашение Россия 30 ноября 1853 года разгромила турецкий флот под Сино́пом[79]. Стало ясно, что Николай собирается употребить все свои силы на ведение войны, рассчитывая выйти из нее победителем. Тем не менее Англия и Франция, к которым вскоре присоединился Пьемонт[80], выжидали до следующего года. Воевать никто еще не был готов! Только 27 марта, после того, как союзный договор был подписан, русскому императору была объявлена война[81]. Главнокомандующим французской армии был назначен маршал Сент-Арно. 27 апреля 1854 года он погрузил в Марселе своих солдат на корабли и 7 мая прибыл в Галлиполи[82]. Лорд Раглан, участник сражения при Ватерлоо, командовал английской армией. Соединенный флот Франции и Англии под командованием адмиралов Гамелена и Дендаса перевез войска и провиант. Действия союзников на суше должны были быть согласованы. Адмирал Дендас сражался в стане противников Наполеона I, и это было очень странное зрелище — вчерашние заклятые враги, ставшие союзниками и искренними друзьями! Еще более странное и сильное впечатление производили корабли, на которых рядышком, по-братски, развевались флаг Британской империи и трехцветный французский флаг. Едва только союзники высадились в Галлиполи, еще не очень зная, что делать дальше, как пришло известие, что семьдесят тысяч русских под командованием генерала Паскевича[83] осадили Силистру, большую крепость, господствующую над Дунаем. Сент-Арно стремительно повел свою армию к Варне, с тем чтобы настигнуть русских у Силистры. Погрузка, морской переход, разгрузка — все это заняло немало времени. Наконец все было готово, и Сент-Арно собирался выступить из Варны. В это время выяснилось, что Горчаков[84], сменивший Паскевича, после страшной бомбардировки и множества яростных попыток взять крепость приступом, 23 июня 1854 года снял осаду. Это отступление, это бегство русских в тот момент, когда армии должны были соединиться, привели Сент-Арно в отчаяние. Было ли отступление русской армии реальным или разыгранным? Не ловушка ли это? Может быть, театром военных действий станут дунайские княжества? Надо ли сосредоточить войска под Бухарестом? Маршал совершенно не доверял Австрии. Будет ли она союзником? Неприятелем? Сохранит ли нейтралитет? Невозможно было выработать твердый план… Что делать? Ждать? В обстановке неопределенности и изматывающего безделья под небом, изрыгавшим огонь, армию союзников постигло страшное бедствие. Холера! Она поразила Пирей[85], Галлиполи, Константинополь и, наконец, Варну, где появилась 29 июля. Сент-Арно попробовал было провести отвлекающий маневр в Добрудже[86], на территории, ограниченной дельтой Дуная. Он надеялся заманить туда русских и там удержать. Но русские бежали, ибо на них обрушился тот же бич, опустошавший ряды обеих армий. За две недели французы потеряли три тысячи человек[87]. Одна только Первая дивизия недосчиталась тысячи девятисот!.. И сколько еще выздоравливающих нужно было отправить на родину! Тогда маршал принял решение атаковать неприятеля в Крыму. Он хотел ударить в самое сердце могущественной державы, уничтожить Севастополь, громадный и таинственный арсенал, опору России на юге. Эпидемия пошла на убыль. Надо было переформировать армейские корпуса, укрепить войсковые единицы, пополнить снаряжение и провиант, согласовать действия вспомогательных служб, короче, организовать экспедицию. Погрузка на корабли была произведена в Варне 1 сентября 1854 года. Армия к этому времени провела на Востоке четыре месяца, потеряла три тысячи пятьсот человек, а неприятеля никто еще не видел! Четырнадцатого сентября соединения союзников, не встретив сопротивления, высадились у Старого форта, чуть ниже евпаторийской бухты; девятнадцатого они выступили в поход и расположились лагерем между Булганаком и Альмой; двадцатого дали сражение и одержали при Альме победу. Такова в общих чертах предыстория этой знаменитой кампании, в которой было пролито столько крови, пережито столько страданий, проявлено столько героизма. Узнав противника, стороны научились уважать друг друга. Да, после мучений, просчетов и страданий первых месяцев при Альме была одержана победа, величественная и блестящая. Маршал Сент-Арно, торжествуя, составил подробную депешу императору и военному министру и отправил ее со сторожевым судном в Варну. Изнуренный, не успевший прийти в себя после приступа холеры, главнокомандующий нуждался в отдыхе. Он ушел в свою палатку. Просторное полотняное сооружение состояло из трех помещений — гостиной, столовой и спальни, обставленных лишь самым необходимым: складная мебель, походная кровать. Обычно Сент-Арно пил только воду, но сейчас он поддерживал свои силы шампанским, которое подавал ему ординарец, африканский стрелок. Маршал собирался лечь, но в эту минуту ординарец доложил ему, что явился старшина Лебре с дамой. Срочное дело. Маршал хорошо знал этого старого солдата, служившего под его началом еще тогда, когда он командовал зуавами. Лебре — храбрый, честный, надежный человек. — Что случилось, старина? — спросил его маршал с ласковой фамильярностью. — Господин маршал… взвод зуавов… верховых… задержали шпионку! — Ты говоришь — верховых?.. Ох уж эти шальные зуавы… так значит — шпионку? — При ней бумаги, за которые положен расстрел… Кроме того, она предложила мне двадцать тысяч франков, чтоб я дал ей возможность бежать… — И ты отказался… прекрасно! Я доволен тобой, Лебре… — Это мой долг, господин маршал. — Дай мне бумаги. Сент-Арно просмотрел их, ворча: — О, мерзавка!.. О, подлые предатели!.. Приведи сюда эту женщину и погуляй пока возле палатки. Лебре вышел и тотчас возвратился вместе с Дамой в Черном. Сент-Арно ожидал увидеть перед собой авантюристку и приготовился встретить ее сурово. Но, узнав незнакомку — ее горделивую походку, благородные светские манеры, — вскочил, пораженный, и воскликнул: — Как? Княгиня!.. Вы!.. Это вы?.. — Это я, маршал! — Вы, кого императрица Франции удостоила своей благосклонности… вы, подруга жены маршала Сент-Арно!.. Вы, любимица Тюильри![88] — Увы, это так, маршал! — Неужели нам суждено было встретиться при таких тяжелых и трагических обстоятельствах? — Трагических для моей любимой родины… для святой Руси. — И тяжелых для вас, княгиня… — Это верно: я ваша пленница. — Мы не воюем с женщинами… Но на вас пало подозрение… скажем прямо: вас уличили в шпионаже… а у шпионов нет пола. — Фи, маршал… какое вульгарное слово… не забывайте, вы обращаетесь к свояченице[89] князя Меншикова, выдающегося русского адмирала и главнокомандующего царской армии! — Но как же, княгиня, как вы назовете то деяние… доказательство коего у меня в руках? — Я люблю… нет, это слишком слабо… я обожаю… я боготворю мое отечество… я русская до глубины души… до последней капли крови! Я готова пожертвовать жизнью… готова умереть… — Это делает вам честь, и я уважаю ваше чувство, но… — Но я женщина!.. Я не могу командовать эскадроном, в упоении мчаться в атаку и рубить саблей чужеземцев, попирающих землю моей родины… — Стало быть, вы, — холодно прервал ее маршал, — вы пистолету предпочитаете пистоли…[90] или, как это у вас называется, золотые рубли. Другими словами, вы за деньги добываете секретные сведения о нашей армии… — Вы считаете это преступлением? А разве не этим занимаются ваши дипломаты, ваши военные атташе? — Да, но в мирное время, а не на войне… Кроме того, они не попадаются… — Дешевая ирония! Но что бы вы ни говорили, я повторяю: я — патриотка, а не шпионка. — Бог мой! Можно назвать и так и этак, но разница здесь в том, что патриотка еще опаснее шпионки, если она, как вы, молода, красива, благородна, богата и бесстрашна. — Ваши комплименты неуместны, маршал! — Я не кривлю душой, княгиня! И в заключение могу сказать: патриотка, которая покупает совесть наших солдат… склоняет к предательству наших офицеров… толкает на гнусные поступки наших паршивых овец, а потом использует все это против нас… — Княгиня попыталась протестовать, но маршал живо перебил ее: — Не пытайтесь отрицать… у меня список… вот он… с именами, чинами и номерами полков. Вот, кроме того, секретные сведения об этих несчастных, которых я прикажу немедля арестовать, судить и вынести им суровые приговоры. Что касается вас, сударыня… — Прикажете меня расстрелять? — Следовало бы! Но я ограничусь тем, что вышлю вас во Францию, чтобы вас заточили там в крепость до конца войны. Маршал, все еще очень слабый, встал. Он прохаживался по палатке, а Дама в Черном, не двигаясь, следила за ним со странным выражением ненависти и иронии. Перед ней на складном столе стояла бутылка шампанского и полный бокал. Сент-Арно пытался поддержать свои силы, но едва держался на ногах. У княгини на пальце сверкало кольцо с большим черным бриллиантом, который дополнял ее траурный убор. Бриллиант, двигаясь в оправе, плотно закупоривал собой маленькое углубление. С величайшими предосторожностями она сдвинула камень, и в ту минуту, когда маршал повернулся к ней спиной, сделала над бокалом какое-то быстрое движение рукой. Бесцветная капля соскользнула с кольца, упала в бокал и мгновенно растворилась в искрящемся шампанском. Маршал ничего не видел, ничего не заподозрил. В эту минуту быстрый стук копыт оборвался у палатки, и снаружи донесся шум голосов. Дежурный провозгласил громким голосом: — Адъютант его превосходительства милорда Раглана просит господина маршала принять его без промедления. — Иду, — ответил Сент-Арно. — Простите, княгиня, я на минуту вас покину. Дама в Черном слегка кивнула головой. Маршал, снова почувствовав слабость, взял бокал с обычным своим сердечным средством и выпил его залпом. Потом быстро перешел в соседнее помещение. — Депеша вашему превосходительству, — проговорил по-английски молодой звучный голос. — Мнеприказано вручить ее вам и дождаться ответа. — Хорошо, лейтенант! «Они будут заняты минут десять, — прикинула Дама в Черном. — Каждая минута дорога… надо действовать!.. О, я отомщу!..» Она вытащила из кармана маленький перочинный ножик, обнажила лезвие, ловко прорезала в углу полотнище и приникла глазом к маленькому отверстию. Княгиня ясно увидела адъютанта, молодого красивого шотландца[91] в походной форме. Дьявольская улыбка исказила ее красивое лицо. Она внимательно огляделась вокруг. Никого. Никто ее не видел. На ящике для багажа она заметила наполовину свернутый клетчатый походный плед и произнесла свистящим шепотом: — Я спасена! С необыкновенным проворством она расстегнула свою юбку из черного атласа, и та упала на землю. На ней осталась короткая нижняя юбка и невысокие русские сапожки а-ля[92] Суворов. Пленница оторвала от пледа широкую полосу, обернула ее вокруг нижней юбки и оказалась таким образом в подобии шотландского наряда. Оставшуюся часть пледа она перекинула через плечо. С лихорадочной поспешностью, не делая, однако, ни одного неверного движения, женщина отрезала края своей фетровой шляпы, превратив ее в плоскую шапочку, украшенную задорным пучком черных перьев. Это перевоплощение в шотландца, эти гениальные фокусы заняли у нее не больше четырех минут. В соседнем помещении маршал и английский адъютант вели оживленную беседу. Дама в Черном вытащила карандашик, который всегда держала при себе и которым модницы подводят ресницы и брови. Скорей!.. Скорей! Она наметила над верхней губой тень, похожую на пробивающиеся усики, и тем самым завершила свое превращение в мужчину. Изобретательность, хитроумие и хладнокровие сделали свое дело — метаморфоза[93] совершилась. Она снова взяла ножик, осторожно разрезала полотно в задней части палатки и просунула голову в дырку. С этой стороны палатки никого не было. Лишь несколько оседланных лошадей в сбруе покусывали друг друга и били копытами. На подносе с шампанским лежала коробка сигар. Незнакомка взяла одну, закурила, схватила подвернувшийся под руку хлыст, выскользнула в дыру и, подражая спесивым повадкам английских офицеров, направилась к лошадям. Верный Лебре ходил взад и вперед перед палаткой командующего. Он поджидал Даму в Черном и не обратил внимания на смешного офицерика в шотландской юбке. Старшина отвернулся и продолжал прохаживаться перед палаткой. Лжешотландец отвязал одну из лошадей, ловко вскочил в седло и спокойно пустил животное рысью. Двое часовых взяли на караул, и через пять минут всадник исчез из виду. В этот момент маршал Сент-Арно снова почувствовал слабость и потерял сознание. Спешно вызвали штабного врача, тот хотел оказать командующему первую помощь, но сразу понял, что состояние больного очень серьезно, и послал за главным врачом, Мишелем Леви. Мишель Леви, личный друг маршала, пришел к грустному заключению: — Холера или отравление… Маршал не протянет и недели! Спасти его невозможно!
ГЛАВА 6
После сражения. — Среди врагов. — Раненый лейтенант. — Снова Дама в Черном. — Выстрелы. — Бешеная погоня. — Мертвая лошадь. — Засада. — Французский штаб в опасности. — Опутанный сетью. — Бравада. — Под кинжалом.Сражение было ожесточенным, но коротким. В половине шестого пополудни бойня прекратилась[94]. Противник отступил по всем направлениям. Пострадавшие оглашали окрестности душераздирающими стонами. Повсюду лежали и русские раненые. Бедняги не сомневались, что пришел их последний час. Они сталкивались со свирепостью турок, и сами, побеждая, никого не щадили, и потому думали, что в англо-французской армии такие же жестокие нравы. На солдат с носилками и санитаров с окровавленными руками они смотрели как на палачей. Измученные страданием, искалеченные, потерявшие много крови, раненые покорно подставляли шеи и просили прикончить их поскорее, без лишних мучений. Но солдаты в красных штанах приближались с состраданием на лице. Они осторожно приподнимали несчастных, грубоватыми, но добрыми словами выражая свое сочувствие, давали пить. Одному смочили губы, другому поднесли стаканчик воды, третьему наложили шину на раздробленную руку или ногу, остановили кровотечение, освободили рот от набившейся земли. Напряжение немного спало. Русские, парализованные страданием и страхом, всхлипывали, как дети. Слышались участливые голоса: — Черт побери!.. Ах ты, бедолага… считай, что ты вытащил счастливый билет… чего ж ты хочешь!.. Это война… не держи на нас зла… ну досталось тебе этой железякой… сегодня тебе, завтра мне… — Ну же, держись!.. Давай попей еще, еще глоточек… сейчас доктор тебе поможет… Раненый, не понимавший слов, но догадывавшийся об их смысле, вымученно улыбался синеватыми губами и шептал: — Боно французин… И спаситель его сердечно отвечал: — Боно московец… Эти четыре слова стали паролем в разговоре врагов. Подобные сцены можно было увидеть на каждом шагу; одна за другой печальные процессии направлялись к полевым лазаретам. Поле боя ненадолго оживало. Зуавы возвращались сюда в поисках вещевых мешков, брошенных в штыковой атаке. Они избежали смертельной опасности, и теперь их охватывало неудержимое веселье. Они курили, пели, отпускали шуточки. Кто-то свистел и покрикивал: — Ко мне, Азор!.. Ко мне… ну же!.. Ах ты, лентяй! Азор — это вещевой мешок. Азор не прибегал. Его находили среди множества других, оставленных без хозяина. Нехитрые пожитки зуава, его барахлишко, пакет с табаком, трубка, какие-то безделушки, последняя записка от землячки и письмо стариков родителей — все это оставалось брошенным на месте бойни. — Азор — сирота!.. Бедная сиротка… — бормотал один из весельчаков, и голос его дрожал. Вдруг раздался вой — протяжный, тоскливый, словно плач. — Тихо! — сказал весельчак. — Похоже, что настоящий Азор кого-то оплакивает… Надо посмотреть! Оторва и его лихие дружки вышли из боя невредимыми, без единой царапины. Они побежали на звук к месту расположения артиллерийской батареи. Перед ними высилась жуткая мешанина человеческих тел, лошадей, раздавленных ящиков, сломанных колес. Русские кавалеристы, французские пехотинцы и канониры лежали сваленные в страшные груды. Оторва пошел на вой и заметил маленькую собачку, которую видел краем глаза, когда был на батарее. Работая лапами и зубами, собака пыталась сдвинуть тела и освободить одно из них. Но добраться до него она не могла и, сжавшись, задрав мордочку, отчаянно выла. И снова разгребала тела лапами. При виде зуавов она угрожающе ощерилась. — Ко мне… Фу!.. Храбрый пес… мы друзья, — ласково уговаривал ее Оторва. С помощью Бокана Оторва приподнял тела трех гусаров и добрался до французского офицера в мундире артиллериста, совсем юного, со шрамом поперек лба. Рука его продолжала сжимать эфес сабли, от лезвия которой остался один обрубок. Собака кинулась к хозяину, тихонько повизгивая, и принялась вылизывать его лицо, залитое кровью. — Тысяча чертей! — воскликнул Оторва. — Это же наш отважный лейтенант! Он еще теплый, но дыхания не слышно. — И все-таки… может, он еще жив? — спросил Бокан. Оторва расстегнул мундир, прижал ухо к груди офицера и уловил слабое биение сердца. — Надежда есть… Скорей!.. Его надо в лазарет! Но санитары давно закончили работу. Всех раненых унесли. Если бы зуавы не пришли за своими мешками, бедный лейтенант остался бы лежать под трупами до следующего дня. Лазарет находился далеко, надвигалась ночь, что же делать? Кое-как из двух ружей соорудили носилки, выстлали их русскими шинелями и положили раненого. Словно поняв, что ее хозяину желают добра, собачка перестала рычать и скулить. Она завиляла хвостом, бегая взад-вперед и суетясь, а когда процессия тронулась в путь, возбужденно запрыгала. Двое зуавов несли носилки, двое других шли рядом — на смену. Оторва поддерживал раненого, который лежал в неудобной позе. Плато опустело. Мешки подобрали, и солдаты стягивались в лагерь, уже новый, на завоеванной территории. На каждом шагу зуавы натыкались на трупы. Сильный толчок — и раненый застонал. — Нет худа без добра, — проговорил Оторва. — По крайней мере, ясно, что он жив. — Если бы он мог выпить глоточек, — обронил Робер, один из носильщиков. — Мысль хорошая! — поддержал его Бокан. — Если человек может выпить глоток, значит, он возвращается к жизни. Зуавы остановились, и Оторва влил в рот раненому каплю водки, чудом обнаруженную на дне одной из фляжек. — Пошла! — серьезно прокомментировал Бокан, который внимательно следил за операцией. — Молодец парень! Клянусь потрохами, он будет жить. Лейтенант, чуть шевельнувшись, открыл глаза, и взгляд его упал на Оторву, воинственная физиономия которого осветилась доброй улыбкой. Узнав зуава, он глубоко вздохнул и прошептал еле слышным, прерывающимся голосом: — Вы спасли меня… снова… Благодарю вас!.. При звуке родного голоса собака начала лаять и скакать как безумная. — Мы нашли вас благодаря ей, господин лейтенант, — отозвался Оторва. — Картечь! — окликнул ее раненый. — Превосходное имя для собаки артиллериста! И пока верный пес лаял до хрипоты от радости, лейтенант спросил слабым голосом: — Мы победили? — Да, господин лейтенант! Победили на всех направлениях. — О, я счастлив, теперь могу спокойно умереть. И он снова впал в забытье. Тут зуавы заметили среди сумеречных теней всадника, который мчался крупной рысью. — Не двигайтесь! — сказал Оторва товарищам. — Мне кое-что пришло в голову… сейчас увидите. Всадник приблизился к зуавам, и те увидели, что это английский офицер. Оторва расставил перед лошадью руки, и та остановилась. Зуав, поднеся в приветствии руку к феске, сказал всаднику, невозмутимо взиравшему на него, выпуская изо рта кольца дыма. — Извините, господин офицер! Не могли бы вы оказать мне услугу. С нами лейтенант нашей армии… он умирает… Не могли бы вы поскорей прислать кого-то, кто бы помог… или одолжить нам вашу лошадь… Мы устроили бы его в седле и доставили в ближайший лазарет. Англичанин, флегматичный и бесстрастный, продолжал молча курить сигару. Наблюдательный Оторва заметил прежде всего, что на лошади была французская сбруя, чепрак[95] с гербом императора. Кроме того, у наездника не было шпор, какой-то чудной костюм, настоящая карикатура на военную форму. Очень странно… Все это вызывало сомнения: «Что же это?.. Причуда?.. Предательство?.. Посмотрим». Он подошел ближе и принялся внимательно рассматривать диковинного седока. И тут молодой человек заметил тяжелые черные косы, едва прикрытые шапочкой… Потом тени усов, нарисованные в спешке… они так портили это античное лицо с холодными чертами. Жан поймал на себе быстрый взгляд блестящих черных глаз, словно обжигающий огнем. Недавнее воспоминание пронзило его мозг. Оторва положил руку на поводья и воскликнул: — Дьявол меня возьми! Это же Дама в Черном! Вы снова моя пленница. Дама в Черном плотнее уселась в седле, сжала колени и с маху нанесла сильнейший удар по холке лошади. Породистая лошадь, взнузданная с утра, возбужденная сражением, совершила чудовищный прыжок и унеслась с гневным ржанием. Несмотря на свою атлетическую[96] силу, Оторва, сбитый с ног, отлетел в сторону, а животное помчалось во весь опор среди трупов. Дама в Черном разразилась громким хохотом, который хлестал больнее, чем удар плетки, и прокричала: — Будь ты проклят!.. Я убью тебя при третьей встрече! С неизменным своим хладнокровием Оторва вскочил как ни в чем не бывало, а его товарищи сыпали проклятиями. Жан снял с перевязи карабин, приговаривая: — Подумаешь, делов… я и не почувствовал!.. А ну-ка, Дружок… Молодой человек прицеливался две-три секунды, затем выстрелил. Лошадь подпрыгнула на месте и заржала от боли. — Готово! — закричал Бокан. — Через четверть часа она падет… — Да, но эти четверть часа надо не упускать ее из виду. — Ты лучший бегун в полку… как и лучший стрелок… Я бы на твоем месте… — Что бы ты сделал? — Я побежал бы наперерез и перехватил бы эту стерву, пока еще не совсем стемнело… — Верно… У этой гадины немало грехов на совести, и она может нам еще навредить… Но как же лейтенант? — Не беспокойся! Мы отнесем его в лазарет… Разговор не занял и минуты. Лошадь с отважной наездницей успела пробежать метров пятьсот. Оторва тут же принял решение. Он перехватил своего Дружка за середину ствола и, балансируя им, кинулся в отчаянную погоню за беглянкой. На первый взгляд эта погоня казалась совершенно безумным предприятием. Но от Жана Оторвы можно было ожидать всего, даже невозможного. Какая сила!.. Какая энергия!.. Какая выносливость!.. Да прибавьте к этому еще технику бега и легкие из бронзы! Он перепрыгивал через трупы и сохранял дистанцию между собой и лошадью, которая понемногу замедляла бешеный галоп. Она скакала уже не так свободно, начинала частить. Но благородное животное собиралось бежать до последнего вздоха. К несчастью, быстро смеркалось, хотя предметы вокруг еще можно было различить. Местность становилась все более пустынной. Не попадалось больше ни раненых, ни трупов людей и лошадей. Оторва вышел уже за пределы поля битвы. За спиной остались армии, перегруппированные и сосредоточенные теперь на месте их прежних бивуаков. Дама в Черном, видимо, хорошо знала эти места и была к тому же хитрым стратегом, так что ей удалось обойти воинские части, караулы, посты. Дорога свернула в сторону. Всадница решительно направила по ней храпящую лошадь. Зуав ничуть не устал и прыгал, как козленок. Время шло, теперь он уже находился в расположении войск противника. Ему казалось, что он видел неясные силуэты, которые исчезали при его приближении. Мародеры? Русские солдаты, отставшие от своих частей и пробиравшиеся к Севастополю? Какое ему дело! Надо было догнать беглянку, и он ее догонит, куда бы она ни пыталась его завести — в засаду, навстречу опасности, навстречу смерти! Копыта лошади цокали по камням дороги. Погоня длилась уже более получаса. Оторва остановился на минуту, вытер обшлагом пот со лба и пробормотал: — Куда к черту она меня тащит?.. В Севастополь? Вряд ли я один смогу взять город. Странные, пугающие звуки донеслись до его ушей. «Лошадь в агонии… ее хрип! Скорей!.. Скорей!..» Зуав помчался, пробежал полкилометра и натолкнулся на лошадь, которая содрогалась в последних конвульсиях. При свете луны, поднимавшейся над горизонтом, он различил золотое шитье на чепраке. «Я был в этом уверен!.. — прошептал зуав. — Но где она, эта чертова кукла?» Жан услышал слово, произнесенное на незнакомом языке, в ответ прозвучала короткая команда. Пять или шесть язычков пламени вспыхнули справа и слева. Оторва — старый вояка, его никогда не покидало хладнокровие. В один миг он ничком бросился на землю. Пули со свистом пронеслись над головой храбреца. Он вскочил, размахивая своим грозным карабином. Перед ним возник человек. — Огонь! Раз, два! Человек упал с пробитой грудью. Еще один повернулся и попытался удрать. — Не так быстро, эй! — ухмыльнулся Оторва и всадил штык между лопатками беглеца. Тот повалился ничком, сраженный наповал. — Кто следующий? — насмешливо крикнул зуав. — Больше никого?.. Тогда вперед… Остальные растворились в темноте. Плохо только, что за время этой стычки зуав потерял след Дамы в Черном. Другой на его месте вернулся бы к своим, раз ничего больше нельзя сделать. Но Оторву не зря так прозвали. Он ничего не делал как другие. Его манило неизвестное и опасное, препятствия утраивали его способности. Жан устремился вперед, пробежал около двухсот метров, заметил высокое дерево и прислонился к его стволу. Здесь он спокойно зарядил карабин и довольно пробормотал про себя: «Скажу не хвастаясь — мы с тобой, Дружок, стоим целой роты». Молодой человек прислушался к далеким шумам, доносившимся с равнины: глухой стук колес, ржание лошадей, позвякиванье упряжи, неясный гул… Ему были хорошо знакомы эти звуки, которые издает армия на марше. Русские войска отступали на юг, почти бежали. Оторва отправился дальше, рассудив, что если он и не найдет Даму в Черном, то, по крайней мере, принесет своим командирам ценные сведения о противнике. Он дошел до берега реки — вероятно, это была Кача[97]. Перейдя речку по деревянному мосту, француз оказался среди кустов винограда, увешанных тяжелыми гроздьями. Он сорвал на ощупь виноград, съел несколько спелых кистей и отправился дальше. К несчастью, поднялся густой туман и за несколько минут затянул луну и звезды. Теперь Оторва потерял ориентиры. Он пошел наугад, сбился с пути, снова нашел дорогу, опять потерял и наткнулся в конце концов на большой дом, каменные стены которого едва выступали из тумана. На первом этаже светилось окно. Зуав уловил звуки голосов. Он прижался ухом к стеклу и ясно различил высокий голос, тембр которого заставил его вздрогнуть. — Приказ по союзническим армиям предусматривает бивак на Каче… Здесь, в имении князя Нахимова[98], разместится французский генеральный штаб… Надо стереть его с лица земли… взорвать! — Слушаюсь, княгиня, — ответил мужской голос. — Она!.. Это она! — прошептал зуав. — Бочкина месте? — Да, княгиня!.. В людской и в подвалах. А что же тот солдат, который вас преследовал? — О, он давно потерял мой след, если только его не убили там, в засаде. — Ну-ну, — усмехаясь, пробормотал Оторва. — Сейчас увидишь, что малыш еще жив. Разговор продолжался, и отважного зуава охватил страх: заговор грозил гибелью обожаемым командирам французской армии, только что увенчавшей себя славой. Нельзя было терять ни минуты. Следовало без промедления сообщить обо всем высшему командованию, чтобы оно изменило маршрут, иначе катастрофы не избежать. И, уже не думая о том, каким образом Дама в Черном оказалась посвящена в эти тайны, Оторва, превозмогая охватившую его усталость, решил скорей возвращаться к своим. Легкий шум заставил его повернуть голову. Он отошел от окна и принялся вглядываться в густой туман. Что-то непонятное просвистело в воздухе и обрушилось на французского разведчика. В мгновение ока его опутали и связали сетью. Сильнейший толчок свалил пленника на землю. Он был не в силах ни отбиваться, ни порвать сеть, вообще не мог двинуться. Абсолютно беззащитный, Жан очутился в руках безжалостного врага. Раздался свист. Топоча сапогами, подбежали человек шесть. Они грубо схватили Оторву и потащили в большую комнату, залитую светом. Перед столом стояла Дама в Черном, поигрывая кинжалом. Это страшное оружие наносит смертельные раны. Люди, притащившие зуава, положили его на стол, так что маленькая ручка, сжимающая рукоять кинжала, вполне могла достать связанного. Зуав, однако же, не отвел глаз. Он холодно смотрел сквозь ячейки сети, опутавшей его лицо, прямо в глаза своей противнице. Она же тихим свистящим голосом, задыхаясь от бешенства, сказала ему с невыразимой ненавистью: — Ты для меня воплощение француза… врага моей родины… Захватчик… будь ты проклят… я ненавижу тебя. Я обещала убить тебя при третьей встрече… я не искала тебя… но ты в моих руках… и ты умрешь! Вид занесенного над ним кинжала прибавил Оторве смелости. Он ответил: — Это я первый поднялся сегодня на плато Альмы… это я нашел дорогу для артиллерии… это я сделал первый выстрел… Это я, наконец, водрузил французский флаг на Телеграфную вышку. Я говорю об этом, чтобы вы поняли: я не боюсь смерти. Я солдат! И я презираю вас, как солдат презирает убийцу! Подлого убийцу! Пренебрежительный взгляд француза, его жесткая отповедь привели Даму в Черном в бешенство. Не отдавая себе отчета ни в словах, ни в поступках, охваченная неудержимой ненавистью, она всадила кинжал в грудь зуава с криком: — Умри же!
ГЛАВА 7
Реванш Дамы в Черном. — Удар кинжалом. — В глубине подвала. — Смотрите-ка… мертвец не мертв… — Порох, вино и окорок. — Из огня да в полымя. — Мина. — Бессилие.Когда сталь коснулась груди неустрашимого солдата, по всему телу его прошла дрожь. Сдавленный стон сорвался с его губ, отчаянный стон смелого и сильного человека, осознавшего свое бессилие перед лицом смерти. Он слабо дернулся в своих путах, потом закрыл глаза и замер. Дама в Черном долго смотрела на него, затем отступила на шаг. Кинжал выскользнул у нее из рук и с глухим стуком упал на пол. В ее глазах потухла та страшная ненависть, которая обжигала, словно раскаленный металл. Гнев ее исчез при виде неподвижного тела. — Двое в один день, — прошептала она. — Маршал и солдат!.. Да… это ужасно — так убивать… И это жестокое слово: подлый убийца… оно как пощечина. Да… может быть… Ну что ж… пусть так… я согласна: подлый!.. Я люблю святую Русь так, что согласна на подлость, на преступление… я готова на все ради ее спасения!.. Прочь слабость и сомнения!.. Вперед, за родину! Люди, которые захватили, а потом притащили Оторву, были одеты по-крестьянски. Это татары — круглолицые, раскосые, с приплюснутыми носами, привыкшие к покорности и послушанию. Оки бесстрастно наблюдали за странной женщиной и ее жертвой. Татары не поняли ни слова из того, что говорила Дама в Черном, поскольку размышляла она вслух по-французски. Теперь они равнодушно ждали приказа, чтобы выполнить его беспрекословно, каким бы он ни был. Дама в Черном, к которой вернулось ее обычное хладнокровие, спросила их по-русски: — Барин здесь? — Да, он ждет вместе с господином полковником, — ответил один из крестьян. — Хорошо!.. Уберите отсюда это тело. — И что с ним сделать? Бросить в колодец? — Ни в коем случае! Французы завтра найдут его и всех здесь перережут… — Тогда закопать в парке? — Нет! Они заметят свежевскопанную землю… — Тогда мы не знаем, что с ним делать… — Ладно! Отнесите его в погреб… он взлетит на воздух вместе со всем домом. — Да, барыня, это вы хорошо придумали. Слуги подхватили бездыханного и недвижного Оторву, с трудом подняли его и, топоча сапогами, выволокли из комнаты. Пройдя по длинному коридору, вымощенному плитками, они повернули и дошли до массивной дубовой двери. Канделябры[99] на стенах освещали путь. Один из крепостных, тот, что шел впереди мрачной процессии, толкнул дверь, и та со скрипом отворилась. За ней зияла черная дыра. Крестьянин хотел выполнить приказ барыни как можно точнее и спросил других: — Мы должны просто бросить его в погреб или отнести вниз? — Барыня сказала: «Отнесите». — Он же мертвый… Ему все равно… а нам меньше работы! — Тогда давайте сбросим. Рассудив таким образом, они положили зуава на верхнюю ступеньку, с силой толкнули его, послушали, как тело катилось вниз со ступени на ступень, и ушли, повернув ключи в двух замках на два оборота. Дверь погреба стала дверью темницы. И тут началось что-то поистине необычайное. Едва тело коснулось верхней ступени, оно сжалось в клубок, во всяком случае настолько, насколько позволяли веревки, чтобы по возможности уберечься от ударов и ссадин. Ноги подтянулись к груди, спина согнулась, руки прижались к корпусу, голова втянулась в плечи, и хотя тело не столько спускалось, сколько скатывалось вниз, это не нанесло ему особого ущерба. Но позвольте! А как же кинжал, всаженный в грудь… как же предсмертные стоны… последняя судорога?.. Разве Жан-Оторва не умер?.. Ну и ну! Похоже, что нет!.. Это неслыханное, это просто чудо, но это так! Он остался жив!.. Пересчитав ступеньки каменной лестницы, молодец очутился внизу, в полной темноте. Оглушенный, помятый, контуженный, Жан с четверть часа пролежал неподвижно на влажном полу, едва дыша и собираясь с мыслями. И все-таки, несмотря ни на что, он остался жив! Его руки и кисти, связанные неумелыми палачами, сохранили кое-какую свободу движения. Почувствовав, что может шевелиться и дышать, Оторва высвободил сначала одну руку, потом другую. Проделав это, он терпеливо стянул с себя сеть. — Гениальная выдумка — эта накидная сеть, — пробормотал зуав себе в усы. Его ноги были крепко стянуты толстой веревкой, которая резала кожу и болезненно сдавливала мышцы. Молодой человек пытался развязать узлы, продолжая бурчать: — Мне еще возиться и возиться, а сил уже больше нет!.. Бедный Жан!.. После бурных событий последних тридцати часов немудрено было устать. Но тут из груди его вырвался вздох облегчения: рука нащупала штык. Палачи не подумали о том, чтоб его забрать, а может, просто не заметили под складками сети. Француз осторожно вытащил лезвие и, поскольку оно было хорошо наточено, легко перерезал веревки. Теперь и руки и ноги оказались свободны. Присев на корточки, он ощупал себя, провел правой рукой по груди и почувствовал под пальцами что-то липкое. «Кровь!.. Черт побери!.. Да, я ранен… чертова кукла, однако же, хватила через край… Не будь этого крапо, сын моего отца отправился бы в далекое путешествие… из которого не возвращаются». Что же это за спасительное «крапо»? Это просто-напросто кошелек из плотной кожи с несколькими отделениями и застежкой, в котором зуавы держат все самое ценное: деньги, драгоценности, бумаги. Этот плоский кошель, привязанный ремешком к шее, носят на груди под рубашкой. Иногда его украшают золотым шитьем. У каждого зуава есть такой кошель, потолще или потоньше, в зависимости от состояния финансов и корреспонденции. Кошель Оторвы был набит до отказа, к счастью для его владельца. Дама в Черном с такой страстью вонзила свой кинжал, острый, как иголка, что пробила разом пять или шесть отделений, бумаги и застежку. Мало этого, проклятое острие проникло довольно глубоко в мышцы груди, проделав отверстие не слишком болезненное, но кровоточивое. И все же Оторва легко отделался! Войди кинжал в грудь чуть выше или чуть ниже, он пронзил бы сердце или легкое, и с храбрецом все было бы кончено. Сейчас нашему зуаву некогда было философствовать. Он умирал от голода и изнемогал от усталости. Сил ему хватило лишь на то, чтобы отползти на четвереньках от лестницы. Жан нащупал стену, сделал пять-шесть шагов, положил свой штык под руку и заснул, скошенный мертвым сном. Проснулся он от голода и сильной жажды. Наступил день. Тонкий луч пробивался сквозь окошко и освещал сумрачным светом глубины погреба. До чего ж этот погреб был огромный! Настоящий храм виноделия. Не меньше сотни бочек аккуратными рядами стояли на подставках. Оторва, конечно, очень измучился, но сон вернул ему энергию и немного сил. Глядя на ряды бочек, он подумал: «Вот и средство от жажды! Что ж, приступим!» Зуав всадил кончик штыка между клепками, потом ввел его глубже и пробормотал: «Странно!.. Ничего не льется… Мне казалось, вино так и хлынет». Рукой он нащупал зернистое вещество, которое сыпалось из отверстия тоненькой струйкой. Молодой человек попробовал несколько крупинок и ощутил хорошо знакомый вкус. — Порох!.. Тысяча чертей! Вспомнились слова Дамы в Черном: «Бочки на месте?» — и другая фраза, произнесенная ею в предположении, что француз мертв: «От взлетит на воздух вместе со всем домом». Значит, эти такие мирные на вид бочки на самом деле были набиты порохом! Гигантский пороховой погреб! Взрыв уничтожит и дом и всех, кто в нем будет находиться! А гостями имения должны быть высшие чины французской армии, которые неминуемо остановятся здесь на ночлег! Гнусная западня была подготовлена рукой мастера: Дама в Черном, без сомнения, являлась опаснейшим врагом. При мысли о том, что штаб может быть уничтожен, армия обезглавлена, операция сорвана, Оторва задрожал от ужаса и гнева. Буря чувств, поднявшаяся в душе зуава, не могла заглушить жажды. Он подошел ко второй бочке и с силой всадил в нее штык. Сразу же оттуда струей забило вино. Оторва прижался губами к отверстию — крымский нектар, такой свежий, тонкий, бархатистый, пахучий, возвратил ему бодрость, воскресил его. Жажда была утолена. Но теперь Жана терзал голод. Он заткнул горстью земли дырку в бочке и принялся обследовать погреб. Из глубины шел сильный запах солонины и копченостей. На крюках здесь были развешаны разнообразные колбасы, среди них — несколько здоровенных окороков. — Вот то, что мне нужно, — пробормотал разведчик, отцепляя один из них. В один миг он отрезал толстый ломоть окорока, набросился на него с жадностью каннибала[100] и заключил с набитым ртом: — От такой еды снова дьявольски захочется пить. Хорошо, что лекарства от жажды сколько угодно — не во всех же бочках порох! Основательно подкрепившись и утолив жажду, Оторва снова стал бравым солдатом, которого ничем не смутишь и не проймешь! Итак, что делать дальше? Черт возьми, это яснее ясного: надо во что бы то ни стало помешать осуществлению гнусного заговора. Обычно Жан действовал необдуманно, но сейчас он призвал себя к осторожности. Добродетель эта встречается редко у людей его склада, но тем выше ее цена. Он уселся на одну из бочек и стал рассуждать: «Осторожность!.. Да, Оторва, мой мальчик, ничего другого тебе не остается. Эта Дама в Черном хитра, как алжирские туземцы[101], и решительна, как… я сам… Она не отступит ни перед чем… Итак, ей удалось бежать в сторону той засады, где меня встретили пулями… по ее распоряжению меня уволокли в этот дом, превращенный в вулкан… по ее приказу меня поймали в сеть, как рыбешку… она наградила меня хорошеньким ударом кинжала… О, это великая женщина! Я и сейчас не уверен, не следят ли за мной в какую-нибудь дырку чьи-то глаза! Надо найти укромный уголок и обеспечить себе убежище на случай, если кто-то усомнится в том, что я мертв». Оторва не нашел ничего подходящего. Если начнут искать всерьез, его тут же обнаружат. Ну что ж, тогда он дорого продаст свою жизнь. Трудно поверить, но принятое решение успокоило молодого человека: он приготовился ко всему, даже к тому, чтобы пожертвовать своей жизнью. День прошел без происшествий. Как бесконечно долго тянулись часы заточения! Какую тревогу испытывал бесстрашный солдат, запертый в темноте, когда одна неотвязная мысль стучала в мозгу и леденила кровь: «Штаб армии будет уничтожен!» Оторва старался быть философом, но ему не удавалось убедить себя в том, что этот погреб — просто гауптвахта[102], скрашенная молодым вином и копченым окороком. Еда застревала в горле, и вино казалось безвкусным. Ночь прошла спокойно, следующее утро — тоже. Во второй половине дня здание наполнилось суетливым шумом шагов. Дверь погреба распахнулась с металлическим стуком. По лестнице спускались люди, по топоту сапог можно было безошибочно определить, что это русские. Их насчитывалось человек двадцать пять — тридцать, в руках они держали застекленные фонари, такими пользуются в пороховых погребах. Еще они несли камни, кирпичи, гипс и инструменты для кладки стен. Они были одеты в крестьянское платье, но по их выправке, по твердому шагу Оторва понял, что это переодетые солдаты. Двое из вошедших были с пустыми руками. Они отдавали по-русски распоряжения, и по их резкому, повелительному тону было ясно, что это крупные начальники, привыкшие обращаться со своими крепостными, как с быдлом. Рабочие занимались странной работой. Один из них прошел с фонарем вдоль ряда бочек и пометил штук двадцать белым крестом. Другие следовали за ним и, взявшись за помеченные бочки, скатывали их с подмостков и выстраивали рядами в середине подвала. Затем они пробили буром верхние крышки и ударом молотка вогнали в отверстия нечто вроде деревянных кранов. В краны вставили конец черного гибкого шнура, длина которого была, видимо, тщательно рассчитана. Забившись в угол, с бьющимся сердцем, Оторва наблюдал за всеми этими приготовлениями. Он понял, что устанавливали взрывное устройство с фитилем. Жан размышлял так: «Двадцать бочонков пороха, по двести килограммов в каждом, получается недурная цифра — четыре тонны. И все это взлетит в воздух! Гром и молния! От этого дома останется мокрое место!.. Счастье, что я здесь!» Но храбрец не учел поистине дьявольскую изобретательность врага. Снабдить эти двадцать бочонков взрывными устройствами, поджечь фитили и уйти — это было бы слишком просто, даже если бы они были абсолютно уверены, что подвал пуст и что никто не попробует вырвать или перерезать фитили. Повинуясь командам начальника, люди работали с лихорадочной быстротой. Непрерывно подносились новые материалы, камни, кирпичи, доски сваливались в кучу, известь гасили вином — приносить воду было бы слишком долго. И, как говорится, в мгновение ока выросла стена!.. Стена, которая перегородит погреб от одного края до другого, от пола до свода, и изолирует заложенную мину, защитив ее тем самым от любых посягательств. Оторва не думал о своем спасении: «Если бы я был в той части, вместе с бочонками!.. А здесь… какой от меня прок?» Один начальник сказал другому по-французски, вероятно для того, чтобы его не поняли рабочие: — Так англо-французские части уже? — Да, ваше превосходительство… Они будут здесь не позже чем через пять часов. — А сколько времени должны гореть фитили, которые подорвут мину? — Шесть часов. — Значит, через шесть часов?.. Другой сделал энергичный жест рукой: — Ни души не останется! Стена была окончена. Оставили проход только для одного человека, который подожжет фитили. Сделав свое черное дело, человек выйдет, и проход заложат за несколько минут. — Кто поднесет огонь? — спросил первый собеседник. — Вы, ваше превосходительство, или я? — Княгиня требует, чтобы эта честь была предоставлена ей. Она хочет сама вызвать извержение вулкана. — Ну что ж, доложите ей, час настал!
ГЛАВА 8
Подвиги лейтенанта. — Главнокомандующий и доктор. — Мечта солдата. — Изнанка славы. — Шесть тысяч убитых! — Радостный марш. — Пушечный выстрел. — Русские топят свои корабли. — Барский дом, начиненный взрывчаткой. — Раненые. — Военачальники высшего ранга. — Военный совет. — Взрыв.Вернемся ненадолго на поле битвы. Товарищи Оторвы были встревожены его затянувшейся отлучкой, и, как мы знаем, не без оснований. Но раненому лейтенанту требовалась немедленная помощь, и они направились к лазарету, где без устали работал добрый доктор Фельц. Собака по прозвищу Картечь не отставала от них ни на шаг и не спускала с них глаз. По дороге они встретили нескольких канониров[103], посланных на разведку. Те узнали своего офицера и, радуясь тому, что он жив, присоединились к зуавам. Окружив импровизированные[104] носилки, артиллеристы рассказывали, как храбро сражался лейтенант. — Вы подумайте! Зеленый юнец, молоко на губах не обсохло, а отважен, как лев. — Мы знаем, — поддержал Бокан, — видели его в деле так же, как вас, канониров. Вы тоже ребята не промах, или не зваться мне зуавом! — Хорошо сказано, друг! — отвечал артиллерист. — Мы сделали что могли, или мы не французы?.. — Но наш лейтенант сделал больше, чем мы, он спас пушку. — В самом деле? — Не сойти мне с этого места! Когда русские гусары в последний раз пошли в атаку, они обрушились на нас с обнаженными саблями, с пистолетами… страх Божий! Батарее пришлось отступить, но одна пушка досталась бы врагу… попробуй тащи, когда ни людей, ни лошадей… все спешены… кроме квартирмейстера[105] и бригадира…[106] те остались в седле чудом! А пушку уже не спасти… И тут лейтенант кидается вперед, прямо на врага и, размахивая саблей, командует: «Впрягайте… и отходите!.. Живее!» Унтер[107] и капрал живо запрягают лошадей, пришпоривают их, а офицер, раздавая удары направо и налево, встречает смерть. Видите, как они его разделали!.. Но пушка была спасена! Да, наш лейтенант — парень что надо. …Процессия двинулась дальше, мимо палатки главнокомандующего, где за полотнищем слышались движение и шум. После ужасного приступа Сент-Арно наконец пришел в сознание, но испытывал жестокие муки. По его бледному лицу струился пот, глаза смотрели невидящим взглядом, собрав всю свою волю, он не мог подавить стоны. Главный врач армии, Мишель Леви, сидел рядом, не спуская с него глаз, и старался выглядеть спокойным. Маршала не обманешь, он произнес прерывающимся голосом: — Я говорю с тобой не как начальник… а как друг юности… товарищ по оружию… Меня отравили?.. Скажи правду… прошу тебя… — Да, отравили… — О, презренная… Я обречен, ведь так? — Я… я надеюсь вас вытащить. — Хорошо!.. Я понимаю… мне осталось только одно… передать командование… старейшему командиру дивизии… Канроберу… и ждать смерти… — Нет, маршал… еще нет… Вы сильный человек… вы полны энергии, и я не теряю надежды. — Ты даешь мне слово? — Слово чести! — Хорошо… благодарю тебя!.. Я буду ждать… Никто ни словом не помянул Даму в Черном, ее таинственное бегство, роковое стечение обстоятельств, которое благоприятствовало и преступлению, и исчезновению княгини. Маршал полагал, что у нее в армии есть сообщники, возможно даже в его собственном окружении!.. Ведь во время обморока у него украли бумаги с именами предателей, которые принес старшина! А этот молодой офицер-шотландец, что появился так внезапно и прервал беседу маршала с пленницей, разве он не подозрителен? Он был чем-то встревожен, хотя держался уверенно… Маршалу вспомнились детали, на которые он раньше не обращал внимания. Надо было бы всмотреться, разузнать, подвергнуть допросу, безжалостно наказать виновных… для общего блага! А он лежал, раздавленный страданием, умирающий, сраженный в самый час торжества!.. Все эти мысли обжигали мозг главнокомандующего, и он добавил слабеющим голосом: — О, жизнь!.. Жизнь, которую я так безумно растратил… Еще бы несколько дней… несколько часов… чтобы отдать почести тем, кто погиб за отечество… О, как я страдаю!.. Боже, как я страдаю! Прошла ночь, ужасная, мучительная, и только под утро, получив большую порцию опиума[108], он ненадолго заснул. Стратегические соображения требовали бы немедленного выступления союзной армии, стремительного броска на Севастополь, упорного преследования русской армии. Она и так отступала по всему фронту, и новая атака разметала бы ее по Херсонесскому плато. А там — кто знает? — может, удалось бы добиться сдачи русских и захватить Севастополь!.. Мечта солдата!.. Главнокомандующего!.. Гениальный Наполеон[109] поступил бы так. Но Сент-Арно умирал! И он командовал не единолично, а вместе с лордом Рагланом! И им приходилось долго, тщательно обсуждать малейшие передвижения войск! И наконец, англичане еле шевелились, они даже не подобрали еще своих раненых! Стало быть, приходилось отказываться от этого плана, требовавшего безумной скорости. Армии предстояло провести еще сутки на поле битвы, а затем она направится короткими переходами в сторону цитадели[110] Крыма — Севастополя! День после сражения казался страшно тяжелым, изнанка славы была ужасна. Ярость утихла, энтузиазм угас, здравый смысл вступал в свои права. У оставшихся в живых царило острое ощущение пустоты от внезапных, трагических потерь. Сердце сжималось, на глаза набегали слезы — солдаты вспоминали о товарищах по оружию, о пропавших друзьях. Оставалась последняя надежда — слабая надежда, но все же… Лазарет!.. Да, быть может… хотелось верить, что товарищ там, искалеченный, истерзанный, стонущий, но все-таки живой! Увы! Вот он — лежит на спине, холодный, окоченевший, на губах застывшая пена, безжизненные глаза уставились в небо. Жужжали тучи мух… налетали стаи воронов, горластых, зловещих, ненасытных… Саперы с помощью солдат, выделенных по наряду, торопливо рыли братскую могилу — громадную траншею, к которой подносили и подносили трупы. Погибших предавали земле, при этом у англичан, французов и русских были отдельные могилы. Залив тела негашеной известью, их быстро забрасывали землей. Известь в большом количестве доставили сюда корабли союзной эскадры[111] — в предвидении грядущей бойни. Здесь, в этих траншеях, были погребены три тысячи русских, две тысячи англичан и тысяча пятьсот французов! Шесть с половиной тысяч убитых! Это население маленького городка!..
На следующий день после победы при Альме армии выступили в поход. Этап, так хорошо известный русским, предусматривал стоянку на речке Кача. В имении графа Нахимова должен был расположиться французский штаб. Маршал Сент-Арно еще жил. Благодаря неустанным заботам врача его состояние немного улучшилось. Главнокомандующего поместили в ландо Дамы в Черном, за кучера сел солдат из обоза. Затянутый в парадный мундир, смертельно бледный, маршал делал нечеловеческие усилия, чтобы держаться прямо и отвечать на приветствия солдат. Стояло восхитительное сентябрьское утро. Умеренная жара, веселое солнышко, дивные пейзажи — французские солдаты шагали словно на прогулке. Они шли по нивам, лугам, пастбищам, а вдалеке виднелось спокойное море, по которому сновали корабли под белыми парусами. Вдруг раздались выстрелы, затем — крики. Что это? Атака? Засада? Нет, просто началась охота. Дичь здесь водилась в изобилии. Испуганные зайцы разбегались, прижав уши, и спины их дрожали от бешеного галопа. По ним стреляли, за ними гнались, их преследовали, пока не настигали. Обезумев от страха, длинноухие кидались в ноги охотникам. Их хватали — будущее рагу — и, оглушив ударом, привязывали к мешкам. Берега Качи, на которые едва взглянул Оторва — первый француз, перешедший речку, — оказались поистине прелестны. Тучные луга, сады, поместья, зеленые купы деревьев, склоны, покрытые великолепными виноградниками, все это походило на уголок Эдема[112]. — О, виноград… настоящий Ханаан![113] — сказал один зуав, вспомнив Библию. — Вино в облатках…[114] и все равно вкусно, — добавлял другой, глядя на лозы, готовые сломаться под тяжестью гроздий. — Вино в бочках, значит, тоже недалеко, — заключал третий, заранее облизываясь. — И мед!.. Поглядите!.. У каждого дома ульи. Смотрите только, чтоб эти зверюги вас не ужалили. — Да это просто земля обетованная![115] — Бери выше, мамаша Буффарик… это почище оазиса[116]. — Вы правы, ребятки, — отвечала маркитантка, — пользуйтесь, пока можно. А от Жана все еще никаких вестей? — Нет, мамаша Буффарик, никаких. — Я начинаю беспокоиться всерьез. — Оставьте! С таким боевым парнем ничего не может случиться. Маркитант, который шагал тут же — грудь колесом, борода веером, — подтвердил своим зычным голосом: — Еще бы! Наш Оторва — удалец из удальцов! Уж он-то обойдется без няньки. Громовой выстрел прервал его слова. — Что такое?.. Стреляют? Атакуют наш авангард?[117] Все навели бинокли на Севастополь, раскинувшийся в десяти километрах. Огромное белое облако поднялось над рейдом, где пушка стреляла не переставая. Нет, это не атака. Дело в том, что рейд[118] был открыт с моря. Меншиков полагал, и не без оснований, что форты[119] защищали его недостаточно. Чтобы закрыть рейд, чтобы помешать союзному флоту атаковать город с моря, он отдал приказ перегородить вход в гавань, затопив там русские суда. С тяжелым сердцем, но без колебаний, он пожертвовал половиной флота. Гениальный ход полководца был продиктован отчаянием. Моряки пустили ко дну три фрегата и пять линейных[120] судов, один из них — со ста тридцатью пушками. Вода проникала в трюмы, устремлялась под палубы, рвала обшивку. Корабли кружили на месте, раскачивались и тонули. Но некоторые морские гиганты упорно держались на воде, словно не хотели погибать. Тогда собратья приблизились к ним, открыли огонь и милосердно приканчивали их. Все флаги были приспущены, все колокола прозвонили отходную, священники отслужили заупокойные молитвы, у всех в глазах стояли слезы, из груди вырывались клики ненависти и мщения. Во имя спасения Севастополя была принесена страшная жертва. План союзников, включавший в себя одновременную атаку с моря и суши, был сорван. Окружение города-крепости стало отныне невозможным. Маршалу Сент-Арно доложили о крахе прежних замыслов, и тот произнес пророческие слова: — Это достойные сыны русских, которые подожгли Москву! О, доблестные солдаты… Но мне жаль моего преемника… кампания будет тяжелой. …Передовые части французской армии перешли Качу и двигались по уже знакомой нам восхитительной местности, залитой солнцем. Переход окончился. Настоящая прогулка! Перед ними простиралось имение графа Нахимова — господский дом и подсобные постройки, вокруг были разбросаны деревенские дома. В деревне будут расквартированы зуавы Второго полка, и это их радовало. Левое крыло господского дома примет раненых — их подвозили на санитарных повозках. Маршала внесли в парадные покои, которые выглядели так, словно их покинули несколько минут назад. Мамаша Буффарик направилась на кухню и принялась готовить обед для штабных офицеров, отличавшихся изысканным вкусом. Роза опекала раненых. Несмотря на уверения зуавов, несмотря на слова отца, у нее было тяжело на душе. Она думала о милом ее сердцу Оторве, который вот уже три дня то появлялся, то исчезал, и каждый раз при каких-то тревожных обстоятельствах. Роза думала, что эти опасные приключения приведут рано или поздно к роковой развязке. Ее пробирала дрожь. Храбрая девушка прошла суровую школу долга. По дороге она запаслась роскошными гроздьями винограда и теперь оделяла им терзаемых лихорадкой раненых. Стоны и хрипы затихали при появлении маленькой доброй феи[121], чей ласковый взгляд и нежная улыбка пронизывали лучом надежды измученные души солдат. Под ее попечительством находились человек тридцать раненых — артиллеристов, стрелков, егерей, зуавов и нескольких русских, которые не сводили с нее восхищенных глаз. Ее ласковый голос и приветливая улыбка заставляли забывать о страданиях. Пока Роза, разомкнув их пересохшие губы, выжимала им в рот сладкий сок золотистых ягод, врач в чине майора занимался размещением раненых. Одному поправлял повязку, другому перекладывал поудобнее руку или ногу, третьему останавливал кровотечение. Все чувствовали себя хорошо по мере сил, даже юный лейтенант-артиллерист, рядом с которым свернулась калачиком собачонка Картечь. — Великолепный удар саблей!.. Поглядите-ка, мадемуазель Роза, — не мог удержаться врач, распираемый профессиональной гордостью. — О, господин доктор… это ужасно… и он, вероятно, жестоко страдает. Полголовы у раненого было выбрито. Крученый шов соединял края жуткой раны, которая словно раскалывала череп от лба до затылка. — Двадцать две скобы!.. Да, двадцать две скобы, и ни на одну меньше, понадобилось для того, чтобы соединить края… но теперь они держатся лучше, чем раньше! И вообще, мадемуазель Роза, раны в области головы значат или скорую смерть, или спасение. Если раненый не умирает тут же, он поправляется с необычайной быстротой. Этот юноша проживет сто лет и, клянусь вам, через три недели сможет сесть на лошадь!.. — Благодарю вас, доктор, — слабым голосом прошептал несчастный, услышавший слова врача. — И вас, мадемуазель, тоже… На парадном дворе имения раздался цокот копыт. Прибывали все новые живописные группы офицеров на гарцующих конях. Над главными воротами, где стояли по бокам двое часовых, развевался трехцветный вымпел главнокомандующего. Караульные салютовали оружием. Барабаны и горны играли встречный марш. По приказу маршала Сент-Арно командиры съезжались на военный совет. Здесь встретились Канробер, Боске, принц Наполеон, Форей — командиры всех четырех дивизий. Подъехали и бригадные генералы: Эспинас, де Лурмель Бона, д’Отемар, д’Орель де Паладин. За ними — полковники, завтрашние генералы. Многие из них уже занимали генеральские должности: Клер, Лебеф, Бурбаки, Бере, Вэнпфа, Виной… Имена, еще неизвестные сегодня, но коим предстоит прославиться завтра, а позже пополнить печальные перечни жертв. Полковник генштаба Трошю встретил их и подвел к маршалу, а тот, в полном изнеможении, истерзанный болью, предпринимал нечеловеческие усилия, чтобы провести этот военный совет… последний в его жизни! После строгой церемонии военного приветствия, на которое маршал отвечал с расстановкой, слабым, но ясным голосом, офицеры расселись. В этот момент мощный толчок сотряс здание сверху донизу и заставил всех высших офицеров вскочить со своих мест. Потом глухой взрыв раздался в подвале, и оттуда тотчас вырвались клубы дыма.
ГЛАВА 9
Замысел княгини. — Огонь в подвале. — Порох пойдет в дело. — Колбаса, не имеющая ничего общего с колбасными изделиями. — Мина и контрмина. — Тревога! — Бедный Оторва. — Взрыв. — «Именем императора…»Итак, Дама в Черном дала волю своей ненависти — собралась сама поджечь фитиль, чтобы мина уничтожила командование французской армии. Ее чудовищный замысел вот-вот осуществится. Один из работавших в подвале побежал уведомить княгиню, что все готово. Она с нетерпением ждала этого сообщения, опасаясь, как бы вражеские разведчики ее не опередили. Вздох облегчения вырвался из груди женщины. — Наконец-то!.. О… теперь они в моих руках! — воскликнула она с мстительной радостью и стала спускаться в подвал. Полковник протянул ей потрескивающий конец фитиля и проговорил с поклоном, словно собираясь произнести мадригал:[122] — Вы устроите фейерверк, княгиня, настоящий фейерверк! Из ваших рук… это будет так величественно! Она ответила со злым смехом: — Да!.. Дорога в небо… на облаке… по воздуху… Правда, кое-какие ошметки останутся на земле. Дама взяла факел и направилась к отверстию. Здесь она хладнокровно подожгла пучок фитилей, другой конец которых прятался в бочке с порохом. Когда фитили начали трещать, когда красные точки, будто светлячки, прокололи тьму, княгиня вышла из подвала со словами: — Я разбудила вулкан, и он сожжет этих негодяев дотла! Теперь ничто не сможет спасти их от моей мести! Притаившись в своем углу, Жан слышал эти ужасные слова; и по его телу пробежала дрожь. В душе зуава вскипел гнев и ненависть к этой коварной женщине, которая казалась ему исчадием ада. «О, с какой радостью я всадил бы ей в горло штык! — думал он, сжимая кулаки. — Если оставить ее в живых, она не успокоится и опять учинит что-нибудь мерзкое». Да, это так! Но что потом? Их человек тридцать, и они растерзают Оторву. Нет, он не имеет права так дешево отдать свою жизнь! Он должен жить, чтобы попытаться предотвратить катастрофу. Если же ему суждено погибнуть, пусть последним его поступком будет не просто акт мести. Тем временем рабочие кинулись к отверстию. Они завалили его кирпичом, брусом, бутовым камнем[123], залили все это гипсовым раствором, и когда через десять минут образовалась единая глыба, Дама в Черном своим металлическим голосом скомандовала: — Всем выйти! Мимо нее прошли рабочие, потом двое офицеров, она вышла последней — бледная и сияющая. Оторва слышал, как с шумом захлопнулась дверь. Потом до него донесся стук, глухие удары, шарканье, и он подумал: «Черт возьми! Они замуровывают выход. Они заткнут и продухи. Пора действовать… Жан, мой мальчик, выпутывайся как знаешь, но ты должен пробить стену и добраться до бочонков с порохом». Не теряя ни минуты, француз схватил свой штык и изо всех сил обрушил его на заложенное отверстие, где кладка была скреплена гипсом. Кладка затвердевала все больше и больше, превращаясь в монолит. Оторва сыпал проклятьями и ворчал: — Разрази его гром!.. Затвердело-то как… сюда бы кирку из каменоломни… Штык? Ерунда! Игрушка… Крак!.. Сухой щелчок… оружие сломалось у самой рукояти! — Проклятье! — прорычал зуав. Он оказался обезоружен, а препятствие — непреодолимо. Он не хотел признать себя побежденным и сжал обломок штыка обеими руками. Нужно бороться, даже если нет надежды, но пока он лишь поранил себе ладони и пальцы. В погребе становилось все темнее. Лучик света, пробивавшийся сверху, утоньшился и наконец совсем исчез. Наступила ночь, глухая, непроницаемая, страшная ночь в подземелье. Окошко замуровали. Ну и что же! Оторва был полон решимости продолжать эту отчаянную безумную борьбу. Он сел на каменную ступеньку и, обхватив руками голову, начал размышлять: «Итак, у меня еще четыре часа! От силы пять… Здесь четыре тысячи килограммов пороха, они взлетят в воздух, и я не могу ничего сделать, чтобы помешать взрыву. Значит, я должен выйти… должен пробиться через забитую дубовую дверь… У меня только ножик да обломок штыка… этого недостаточно… и времени мало… Если б ее подорвать… Эх, был бы у меня порох, но они все уволокли в этот проклятый склеп…[124] Хотя… О Боже… надо посмотреть…» «Посмотреть» — это не более чем риторическая фраза[125], поскольку зуав находился в непроницаемой тьме. Он приподнялся и по памяти на четвереньках пополз вдоль погреба. Позу нашего зуава нельзя было назвать солидной. Но она не могла унизить достоинства солдата, потому что помогала ему выполнить трудную задачу. Он продвигался на четырех конечностях добрых десять минут, стараясь обследовать весь подвал. Внезапно Жан выпрямился и прокричал: — Прекрасно!.. Замечательно!.. Великолепно!.. Будь у меня время, я бы пустился в пляс… Ну, мадама в черном… посмотрим, кто будет смеяться последним!.. Что это значило? Оторва сошел с ума?.. Ничуть! Тогда откуда же эта буйная радость? А дело вот в чем. Оторва был не только храбр, но и догадлив. Он вспомнил о первой бочке, в которой пробил отверстие своим приказавшим долго жить штыком, и подумал, что в бочке — вино, а оказалось — порох. Тогда молодой человек испытал разочарование, но оно было забыто, когда он вскрыл вторую бочку с чудесным крымским вином. Утолив жажду, Оторва замазал отверстие горстью земли, чтобы вино не вытекало зря. Но он и не подумал сделать то же с первой бочкой, той, что с порохом… Стало быть, порох должен был сыпаться на землю в широкое отверстие, которое он пробил штыком. В этом Оторва и хотел убедиться, передвигаясь на четвереньках по погребу. Его ожидания оправдались. На земле оказалось фунтов сорок пороха. Русские в спешке его не заметили. Оторва, обнаружив порох на ощупь, тщательно сгреб его в кучу. Он подпрыгивал, как кавалерист в седле, ликовал вне себя от радости, но не позволял себе вскочить, чтобы не наделать глупостей. Еще раз обдумав ситуацию, Жан сказал вполголоса: — Время поджимает… никаких сумасбродств… порох у меня теперь есть… Остается только изготовить колбаску. Сначала следовало раздобыть оболочку для изделия, которое лишь по названию связано с колбасным производством. Оторве пришла в голову мысль использовать свои полотняные кальсоны. Великолепная идея! Он снял шаровары, потом кальсоны, снова надел шаровары. Завязал внизу узлом одну и другую штанину, разорвал верхнюю часть кальсон, и у него получились два длинных, узких мешка. На ощупь, с тысячами предосторожностей храбрец насыпал почти весь свой запас пороха в два эти вместилища и завязал их узлом с другого конца. — Итак, мы имеем, — весело проговорил он, — не одну колбаску, а две. Ничего, кашу маслом не испортишь. Двигаясь по-прежнему на ощупь, неуверенными шагами слепца, Жан втащил обе колбаски на верх лестницы и положил их одну на другую, прямо под дверь. Вся эта возня передвижения в темноте заняла немало времени, и он с ужасом думал о том, что часы идут, фитили прогорают, и извержение вулкана может начаться в любую минуту. Однако самое трудное, если не самое опасное, было уже позади. Теперь предстояло поджечь это примитивное, но грозное устройство, и девяносто шансов из ста за то, что зуава самого при этом разорвет в клочья. Тем не менее он сделал все, чтобы его колбаски вспыхнули как можно скорее и как можно дружнее, чтобы получился мощнейший удар. Он взрезал ножом одну подрывную шашку, нижнюю, зачерпнул пригоршню, насыпал пороховую дорожку до края лестничной площадки, потом опустился вниз, к тому месту, где лежал остаток его припаса. Насыпав порох в феску, снова поднялся на лестничную площадку и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, потянул дорожку пороха дальше. Тем временем в его тюрьму снаружи врывались разнообразные шумы. Он различил топот лошадей, стук колес, ритмичный шаг пехотинцев, потом — удары барабана, хрупкие трели горна, приглушенные, но все же ясные. Надо всем плыл громкий прерывистый звук фанфар, поющих с каким-то бешеным воодушевлением:
Конец первой части








Часть вторая АДСКИЙ ДОЗОР
ГЛАВА 1
Крым. — Его стратегическое значение. — Херсонесское плато. — Опасения русских. — Корнилов и Тотлебен. — Оборона экспромтом. — Прибытие англо-французской армии. — Позиции сторон. — Траншеи. — Подготовка бомбардировки и штурма.Полуостров Крым, расположенный в северной части Черного моря и связанный с континентом Перекопским перешейком, невелик по площади. Его поверхность — всего двадцать шесть тысяч квадратных километров, то есть четыре французских департамента[131]. Такая малость, казалось бы, в этой колоссальной московской империи, которая превосходит, и намного, все остальные европейские государства вместе взятые![132] Однако значение этой маленькой территории очень велико. Благодаря своему положению среди вод Черного моря она является полной хозяйкой этого большого водного пространства, которое омывает обе части Турции, дунайские княжества и Кавказ и в которое впадают Днепр и Дон, крупные артерии России на юго-западе. Хозяева Крыма всегда будут хозяевами Черного моря. Не случайно стремление обладать этим маленьким полуостровом неотступно преследовало тех, кто хотел царствовать в старом Понте Эвксинском[133], начиная с милетцев[134], Митридата[135], византийцев[136], генуэзцев[137], турок и кончая русскими, теперешними хозяевами Крыма. Крым — в каком-то смысле крепостные ворота Южной России, а Севастополь — ворота Крыма. В юго-западной части полуострова расположена возвышенность, которая продолжается в море в виде остроконечного мыса, освещаемого маяком. Это — мыс Херсонес, образующий вершину треугольника, омываемого с двух сторон морем и отгороженного у своего основания — на востоке — грядой скал, которую русские называют Сапун-горой. Этот треугольник — Херсонесское плато. Его площадь — примерно сто двадцать пять квадратных километров. Плато это, которому суждено было стать историческим, в течение долгих месяцев будет служить ареной битвы четырех европейских держав: России, Турции, Англии и Франции; здесь развернутся ожесточенные сражения. В самой высокой своей точке плато достигает трехсот метров над уровнем моря; возвышения и низины ориентированы в направлении на юго-запад и северо-восток. Берег изрезан многочисленными бухтами; некоторые из них приобретут кровавую известность. Таковы Карантинная бухта, Английская бухта, Корабельная бухта, или Доки, и другие. Все бухты, кроме Карантинной, соединяют свои воды, образуя бухту Южную. На левом берегу Южной, на площади длиной в две тысячи пятьсот метров и шириной в четыреста метров, и построен — притом всего лишь сто лет назад — город Севастополь. Великолепный, пышный русский город, насчитывающий сорок с лишним тысяч жителей, располагается на горных склонах. Две прекрасные трассы — улица Морская и Екатерининская — пересекают его с севера на юг. Там и сям разбросаны бульвары, общественные и частные сады. Их могучим деревьям суждено быть искалеченными при обороне города. Нарядные каменные дома, роскошные магазины, административные здания, похожие на настоящие дворцы, — все это составляет грандиозный ансамбль, увенчанный золочеными куполами церквей. На восточном берегу город разросся и давно уже перебрался через Южную бухту. На правом ее берегу поднялись склады, госпитали, казармы, обосновались доки[138] и стапели;[139] целый город — административный и флотский центр — вырос вдоль Корабельной бухты, перед которой возвышаются Малахов курган[140] и Зеленый холм. Богатый, процветающий город производит впечатление изобилия и мощи. Правда, впечатление это скорее внешнее, особенно что касается мощи, — речь идет, разумеется, о защищенности города со стороны суши. Потому что если с моря стены и форты могут создать иллюзию надежной защиты, то для обороны Севастополя в случае штурма со стороны плато не было сделано ничего или почти ничего. Произведены были лишь кое-какие подготовительные работы, окончательное выполнение которых требовало плана, людей, времени и денег. Планы, как известно, всегда бывают в избытке. Людей в России достаточно. Однако когда идет война, то, как правило, не хватает времени, не говоря уж о деньгах. К тому же никто не ждал атаки на Крым, ни, тем более, этой громоподобной победы союзников при Альме… Русская армия отступает… Севастополь не защищен, а союзные армии находятся в пятидневных переходах от него. Итак, при нехватке времени и денег вся надежда — на людей. Мужественные люди, и среди них — Корнилов[141] и Тотлебен[142], первый — вице-адмирал, второй в ту пору — подполковник инженерных войск. Меншиков, потерпев поражение, не стал опрометчиво запираться в Севастополе. Он боялся, что его армию там блокируют, лишат продовольствия и в конце концов принудят к сдаче, и потому, дерзким броском оторвавшись от противника, отвел своих людей в тыл и занялся переформированием. Главнокомандующим он назначил Корнилова, прикомандировав к нему Тотлебена, входившего в его штаб, и обратился к ним со следующими словами: — Я даю вам двадцать пять тысяч бойцов… именем императора я предписываю вам защищать Севастополь не на живот, а на смерть… в ваши верные руки я передаю судьбу нашей Родины. И Корнилов ответил просто: — Не на живот, а на смерть!.. Мы выполним свой долг… Меншиков уехал. Корнилов наделил Тотлебена всеми полномочиями для строительства укреплений. В Севастополе объявили состояние боевой тревоги. «Отечество в опасности!..» Это пламенный призыв к патриотизму, к преданности, к самоотречению. Высокие слова, высокие понятия никогда не оставляют русских равнодушными. Барабаны били, горны трубили, звонили колокола. Сердца трепетали, на глазах выступали слезы, руки сжимались в кулаки, возгласы, полные гнева и воодушевления, сотрясали город. Всеобщий героизм! Солдаты, матросы, чиновники, рабочие, торговцы, лавочники, буржуа, старики, женщины и дети устремились на улицы с криками: «Мы будем защищаться!.. Не на живот, а на смерть! Да, не на живот, а на смерть!» Сначала предстояло проделать самое неотложное: земляные работы. Следовало окружить город траншеями. За работу взялось десять тысяч человек. Землекопами они были неумелыми и неловкими, но патриотизм творил чудеса. Арсеналы предоставили шанцевый инструмент[143]. Люди рубили деревья, изготовляли туры[144] и фашины[145]. Затем толпа, направляемая офицерами и солдатами инженерных войск, устремилась на незащищенные участки, где следовало построить бастионы[146]. Предводительствовала женщина, одетая в черное; в руках она держала российский флаг. Ее узнавали, приветствовали, за ней следовали с восторгом. — Княгиня!.. Да здравствует княгиня!.. Да здравствует наша славная патриотка! Вот и нужные участки. Скорее!.. Офицеры произвели разметку. За работу! Княгиня потребовала, чтобы ей была предоставлена честь первого удара заступом… Потом толпа набросилась на твердую известняковую почву и принялась ее яростно долбить. И это длилось часы, дни, ночи, без передышки, без устали, без отдыха. Дама в Черном, в первом ряду работников, копала с остервенением, вся отдаваясь этой грубой и святой работе. И когда ее окровавленные руки не могли больше сжимать ручку саперной лопаты, когда, в изнеможении, она уже еле двигалась, она нашла в себе силы поднять российское знамя и гордо пронести его вдоль бесконечной линии земляных работ. Женщина была великолепна в своих черных одеждах, окутанная знаменем. Звучный голос ее реял над толпой: — Смелее, ребята, смелее!.. Да здравствует наш царь, да здравствует святая Русь! Столько сил, столько трудов бросили на строительство укреплений, и результаты не замедлили сказаться. Насколько хватало глаз, в землю уходили траншеи, тянулись насыпи, над землей поднимались бастионы, бесконечные линии окопов соединяли их и прикрывали с флангов. Оборонительные сооружения продвигались вперед… Для фашин и туров давно уже не хватало дерева. Тогда в ход пошло все: доски, мебель, ящики, тюки, брусья — все годилось этим храбрецам, которые, кажется, готовы были в случае надобности укладывать в брустверы собственные тела. Одновременно к укреплениям подкатили пушки, уложили пирамидами ядра, подвезли бочки с порохом, прикрыли амбразуры[147] мешками с песком. Эта гигантская работа длилась сто двадцать часов, то есть пять дней и пять ночей. Защитники Севастополя сделали больше, чем было в человеческих силах. Итак, когда все было готово, чтобы отразить нападение, когда в каждой амбразуре торчал ствол пушки, когда за каждой бойницей стоял боец, Корнилов призвал священников, чтобы они благословили армию и освятили оборонительные сооружения. Священники, облаченные в расшитые рясы, обошли укрепления в сопровождении адмирала, ехавшего верхом. И когда молитвы были прочитаны и благословение получено, Корнилов, обращаясь к воинам, произнес следующие исторические слова: — Дети мои, мы должны сражаться не на живот, а на смерть! Каждый из вас должен быть готов сложить здесь голову!.. Убейте первого же, кто дрогнет и побежит… если я прикажу отступать, убейте меня! …Теперь отважным бойцам оставалось лишь ждать союзников. Англо-французская армия вступила на Херсонесское плато двадцать шестого сентября. Два дня она потратила на то, чтобы подобрать и перевязать раненых, похоронить убитых. Ей понадобилось целых четыре дня, чтобы преодолеть двадцать пять километров, отделяющих высоты Альмы от Севастополя. Правда, из боеприпасов и провианта у солдат было только то, что они несли в своих мешках. Все припасы оставались на кораблях, и снабжение армии на марше было делом долгим и трудным. Так или иначе, но союзники потеряли время. Возможно, такой полководец, как Наполеон, водивший свою армию в страшные походы, действовал бы по-другому. Он без боя вошел бы в деморализованный Севастополь. Но кончилась бы на этом кампания? Конечно нет. Тем не менее это нанесло бы жестокий удар московскому колоссу[148]. В том, что марш этот оказался таким медленным, историки единодушно обвиняют англичан. Их черепашьи темпы, успевшие уже войти в пословицу, приводили французских офицеров и солдат в ярость. Что бы ни предстояло делать, они никогда ни к чему не были готовы — ни к выступлению, ни к еде, ни к маршу, ни ко сну!.. Этот кошмар повторялся снова и снова: опять опоздали! Во время перехода от Альмы до Севастополя их поставили впереди, боясь, что иначе они окажутся далеко в хвосте, позади, Бог знает где! Непосредственно за ними шагали зуавы Боске, буквально наступая им на пятки. Эти неутомимые ходоки ворчали, ругались и смеялись над англичанами, острили, веселили самых угрюмых и заставляли их забыть о трудностях похода. — Привет! Эй, энглезы[149], поживей! — Давай, милорд! Пошевеливайся! — А ну, ноги в руки… Давай, давай! — Раки вареные! — Что, ноги заплетаются? Англичане забавлялись и кричали в ответ: — Боно!.. Французы боно!.. — Боно! Боно энглезы! — отвечали зуавы и маршировали на месте, печатая шаг. Когда союзнические армии вступили наконец на Херсонесское плато, чудо уже совершилось — Севастополь был готов к обороне! Теперь союзникам оставалось лишь приступить к регулярной осаде, которая, как казалось всем, должна была продлиться недолго. Флоты обеспечили себе и подготовили под выгрузку два весьма удобных и надежных плацдарма. Англичане выбрали Балаклавский залив, расположенный на юго-западе плато, а французы — Камышовую бухту на юго-востоке от Севастополя. На сушу выгрузили все нужное для материального обеспечения осады, боеприпасы, провиант. Пришлось наскоро соорудить причалы и склады, реквизировать[150] у населения повозки и организовать транспортировку военного имущества к предстоящему театру военных действий. Все это заняло немало времени, в течение которого воюющие стороны наблюдали друг за другом, ограничиваясь короткими перестрелками. Русские, прикрываемые своими стрелками, продолжали неутомимо переворачивать землю. Их укрепления составляли теперь две грозные полосы — одну на Корабельной, справа от Южной бухты, и другую — перед самым Севастополем. Высшее союзное командование решило, что англичане приступят к осаде первой полосы и расположатся справа, а французы — к осаде второй и, следовательно, займут позиции на левом фланге осадной линии. Это и было сделано после многих попыток. Против англичан находились русские оборонительные сооружения, названия которых следовало бы запомнить, ибо они тесно связаны с историей этой памятной осады. Итак, это были Большой редан[151], Малый редан, Малахов курган и Зеленый холм. Перед французами располагались Карантинный бастион, Центральный бастион и знаменитый Мачтовый бастион, названный так из-за сигнальной мачты, возвышавшейся на орудийной площадке. Свои арсеналы и склады французы разместили на участке, который русские называли Пастуший хутор. Посередине возвышалось здание с небольшой квадратной башней, завершавшейся куполом. Его стали называть Дом с колоколенкой. На взгляд осаждавших, это, безусловно, была самая заметная и самая важная точка. Здесь же был оборудован и командный пункт занимавшегося осадными работами подполковника Рауля. Этот доблестный офицер олицетворял собой атаку, как Тотлебен олицетворял оборону. Раулю предстояло покрыть себя славой и заслужить похвалу своего противника. От Дома с колоколенкой до Мачтового бастиона было две тысячи метров. Немного ближе и левее, в одном из уцелевших домов открыли полевой госпиталь, а в так называемом Сожженном доме, несмотря на близость русских, устроили склад, приспособленный для осады. Обустройство тыла занимало армию до седьмого октября — дня, когда была проложена первая траншея. Операция эта была деликатная, опасная и в высшей степени волнующая. Ночью тысяча пехотинцев под водительством пятидесяти саперов в полной тишине выдвинулась к Сожженному дому. У каждого из солдат висело на перевязи ружье, на плече лежала лопата и кирка. Их сопровождали три батальона поддержки, а еще пять оставались в резерве, у Колоколенки, готовые при малейшей тревоге прийти на помощь. Каждый из работников тащил по туру. Отряд выстроился в две цепочки, которые шагали какое-то время рядом, в сторону противника, а потом повернули, одна налево, другая направо, образуя таким образом уже одну цепь. По сигналу «Стой!», произнесенному голосом тихим, как дыхание, солдаты бесшумно опустили на землю туры, оружие и инструмент. Унтер-офицеры из саперов подровняли натянутыми веревками линию туров, и солдаты настороженно ждали, когда будет подан сигнал к началу работ. Тем временем подразделения, призванные обезопасить работу саперов, группировались по ротам и отделениям и выставляли часовых перед линией фронта. Строгий приказ запрещал стрелять, бряцать оружием, повышать голос, вообще производить какой-либо шум. В случае тревоги надлежало отступать в полной тишине. Ничто не двигалось, и в это поистине торжественное, волнующее мгновение было слышно, как бились сердца, как вырывалось дыхание из груди тысячи бойцов, которых один залп картечи мог смести с лица земли. Наконец капитан тихим голосом отдал команду. Ее передали от человека к человеку по всей линии: «Начали!» Тысяча заступов поднялась и упала, вонзаясь в землю. Каждый старался изо всех сил соблюсти грозный приказ о тишине. Это был вопрос жизни или смерти. К счастью, ночь выпала темная — хоть глаз выколи, и русские, занятые, вероятно, какой-нибудь подобной работой, не подавали признаков жизни. Французы работали очень усердно, с лихорадочной быстротой, подстегиваемые инстинктом самосохранения. Выдолбленную заступами землю перекидывали лопатами в поставленные стоймя туры, которые постепенно заполнялись. Наполненные до краев, они послужат хорошей защитой от огнестрельного оружия той, уже далекой от нас эпохи. В полночь новая тысяча саперов сменила своих уставших товарищей. В шесть часов утра ошеломленные русские обнаружили прямо перед собой линию траншей длиной в тысячу метров и два бастиона, соединенных насыпью, за которой солдаты могли передвигаться во весь рост и отвечать огнем на огонь противника. Огонь этот не заставил себя долго ждать. Вся линия русских укреплений заволоклась дымом. Прозвучал, постепенно затихая, орудийный залп. Однако от плохо откорректированной стрельбы оказалось больше шуму, чем ущерба. Около тысячи ядер израсходовали менее чем за час. Большое их число перелетело через линию траншей и попало в Карантинную бухту, которую с тех пор так и называли: бухта Ядерная. К концу осады там было больше железа, чем земли! Несмотря на огонь, саперы продолжали с лихорадочной поспешностью вести ходы сообщений. Линия укреплений растягивалась на глазах направо и налево. Саперы подходили еще и еще. Их энтузиазм не уступал энтузиазму осажденных. Траншеи готовились к обстрелам и штурму, грозную близость которого ощущали все воины. Артиллеристы прорезали амбразуры для пушек, уложили мешки с землей, выровняли и утоптали площадки. Саперы выдолбили ступеньки для ружейной стрельбы. Для преодоления брустверов соорудили настоящие лестницы дляштурмовых колонн, которые устремятся вперед после того, как пушки разрушат вражеские укрепления. Неожиданно возникла серьезная трудность. Саперы столкнулись с необычным препятствием — не стало земли для брустверов. Заступы и лопаты, погрузившись сантиметров на пять, отскакивали, наткнувшись на сплошной камень. Пришлось обходить эту трудность: разбивать известняк, взрывать скалы, приносить землю с дальних полей, мешок за мешком, вручную, и наконец усилить защиту против фонтанов камней, которые, без сомнения, будут подымать вражеские снаряды и пули. Солдаты соперничали друг с другом в усердии и энергии, работали не покладая рук, готовились к обстрелу, к прорыву, к штурму — к победе. На исходе пятого дня земляные работы закончились. Артиллеристы, не передохнув, готовили батареи к бою, несмотря на адский огонь русских. Четырех дней и четырех ночей хватило, чтобы доставить восемьдесят осадных орудий и запас пороха, снарядов и ядер к ним. На батареях установили также восемнадцать мортир[152] тридцать второго калибра с шестьюдесятью снарядами для каждой. Это громадные бомбы весом в девяносто четыре килограмма, несущие по пять килограммов пороха на расстояние двух тысяч метров![153] Все эти тяжелые, непростые работы были произведены с редким воодушевлением. Итак, амбразуры расчистили, пристрелку произвели, все подготовили к атаке со стороны суши. Со стороны моря тоже все было готово. Поддержку флотов обеспечили. Они ждали лишь сигнала «Приготовиться к бою!». Не пройдет и двух часов, как корабли приблизятся к фортам и подавят их своим огнем. Оставалось только ждать сигнала, по которому начнется артиллерийская подготовка, и каждый воин спрашивал себя с дрожью нетерпения, с тоской и надеждой: «Завтра или нет?»
ГЛАВА 2
Новый главнокомандующий. — Два призрака. — Как Оторва становится капралом. — Первые франтиреры. — Бомбардировка. — Гибель русских артиллеристов. — Дама в Черном стреляет из карабина.Итак, со времени победы при Альме прошел месяц. Как и предвидел Мишель Леви, Сент-Арно скончался к исходу восьмого дня, успев передать командование генералу Канроберу. Случилось это двадцать девятого сентября[154]. Новый главнокомандующий еще молод — ему сорок четыре года. Он бодр, деятелен, хорош с солдатами, и те отвечают ему любовью. В его бесстрашии, однако, есть что-то показное. Сможет ли он в бою стать хозяином положения? Что касается его внешности, это человек среднего роста, коренастый, живой, как ртуть, с чуть раскосыми глазами и горящим взглядом. Есть у него и особая примета: он носит очень длинные волосы с проседью, прикрывающие вышитый воротник мундира. Известен его ответ императрице, которая взялась было вышучивать его прическу, столь далекую от принятого образца: «Мои волосы, мадам, принадлежат истории». Однако он ошибся: забывчивая история скоро потеряла интерес и к нему, и к его шевелюре. Сколько раз он был ранен, сколько совершил подвигов — не счесть. Это человек, созданный для сражений, командир, который в упоении боем кидается в самую гущу схватки, участник самых жарких атак, воин, который рискует жизнью с совершенной беззаботностью. При Альме, когда он вел в огонь свою дивизию, он был тяжело ранен. Истекая кровью, приказал посадить себя в седло и каким-то чудом продержался верхом до конца боя. Увы! Этот великолепный исполнитель приказов, став главнокомандующим, не раз проявлял крайнюю нерешительность. Непосильная ответственность, стремление избежать излишнего кровопролития, перепалки с английским штабом, предвидение будущих трудностей и неумение составить себе общую картину военных действий — все это парализовало его инициативу и отдавало во власть событий. Сейчас, почти в самом начале кампании, всего этого не было заметно. Дела шли как нельзя лучше, события сами толкали к тем или иным решениям. На завтра назначили артиллерийскую подготовку. В сопровождении своего штаба Канробер обошел траншеи. Он еще носил на перевязи руку, которую едва не потерял при Альме, и передвигался только пешком. Рядом с ним держался Боске, на голову выше всей остальной пестрой свиты. Они вышли на центральный плацдарм, напротив Мачтового бастиона, который извергал ядра и гранаты. Их поджидали двести артиллеристов под ружьем — подтянутые, начищенные, как для парада. Небольшая группа офицеров встретила генералов. Среди них выделялся молодой капитан, еще бледный после недавнего ранения. На его мундире, рядом с двумя потрепанными, потускневшими нашивками сверкала третья — из новехонькой золотой канители…[155] Производство в чин было так же свежо, как рана. За несколько секунд до появления генералов сюда примчались пятеро вооруженных запыхавшихся зуавов вместе с сыном полка, мальчишкой-зуавом, с мушкетом[156] на перевязи и большим букетом осенних цветов в руках. При виде их молодой капитан сделал дружеский жест, но не успел ничего сказать, ибо тут же раздалась короткая команда: — Н-на караул!.. В ту же минуту горны запели встречный марш, вплетая свои веселые трели в раскаты пушечной пальбы, в россыпи ружейных выстрелов. Канробер подошел к капитану, салютовавшему саблей, и, переждав звуки горнов, громко произнес: — Именем императора! Лейтенанты, прапорщики, капралы, канониры и трубачи, вашим командиром отныне становится капитан Шампобер, здесь присутствующий, и вы будете выполнять все его приказы на благо службы и во исполнение воинского устава. — Затем главнокомандующий торжественно добавил: — Капитан, я счастлив пожать руку такому храбрецу, как вы, ваша рана зажила? — Да, господин генерал! — Прекрасно!.. А кто эти зуавы? — продолжал генерал, улыбаясь своим старым — еще по Африке — боевым друзьям. — Это те, что спасли меня там, на плато Альмы, и отбили атаку на наши орудия, господин генерал. — И они захотели первыми поздравить вас с новым чином… Хорошо, мои отважные шакалы! Канробер остановился перед зуавом, который командовал маленькой группой, и, заметив у него сверкающий крест, спросил: — Как это получилось, ты даже не капрал и — такой орден? — Господин генерал, я сегодня вышел из лазарета. — Как тебя зовут? В разговор вмешался Боске: — Господин генерал, я рад представить вам Оторву, героя Второго зуавского полка, отважного парня, который спас нас всех, предупредив о взрыве в имении Нахимова. Из наших старых сержантов, отличный солдат, с большим опытом, но упрямец, каких мало… — Ну и прекрасно! Из таких получаются лучшие бойцы. Мы произведем его в офицеры… Ты, как кавалер ордена Почетного легиона, не можешь стоять в карауле и выполнять наряды, и я пока присваиваю тебе звание капрала… А вы, ребята, вольно! Развлекитесь немного и будьте начеку… Завтра утром я приглашаю вас на славную потеху! В ответ раздались восторженные клики: — Да здравствует Канробер!.. Да здравствует отец солдат!.. Да здравствует Боске!.. Перед уходом генералы обменялись несколькими торопливыми репликами, и Канробер кивнул в знак согласия. Затем добавил: — Ну что ж!.. Великолепная идея! Займитесь этим. Боске крикнул своим звучным голосом: — Оторва! — Здесь, господин генерал! — Мы будем обстреливать Севастополь на рассвете. Ты повторишь, но в большем масштабе, ту операцию, что провел на Альме. Понял? — Да, господин генерал, — радостно отозвался зуав. — Речь идет о том, чтобы обойти спереди французские траншеи и перестрелять русских артиллеристов на их позициях. — Превосходно! — Отбери сотню самых искусных стрелков… я предупрежу твоего полковника. Остальное зависит от тебя, и я уверен, что ты справишься. — Справлюсь и с русскими расправлюсь, господин генерал! — Удачи тебе, Оторва! — Спасибо вам за все, господин генерал. Оторва гордился возложенной на него миссией. Он лихо повернулся кругом и кинулся к капитану Шампоберу, который заключил его в объятия. — Мой капитан… о, как я счастлив… Мы пришли, чтобы от нашего имени и от имени полка, который видел вас в деле и полюбил вас… В это мгновение к офицеру с радостным лаем бросилась собака, запрыгала как сумасшедшая, норовя лизнуть в лицо. — Картечь!.. Славная Картечь!.. Мальчишкой-зуавом с букетом цветов в руках был этот Тонтон Буффарик. Он протянул охапку цветов командиру и выкрикнул звонким голосом: — Господин капитан, от имени старослужащих Второго полка и моей семьи… поздравляю вас с новым чином и с выздоровлением… Капитан обнял парнишку за плечи и расцеловал в обе щеки. Артиллеристы прокричали во все горло: — Да здравствуют зуавы! Зуавы ответили: — Да здравствует артиллерия! А потом все вместе и от всего сердца: — Да здравствует капитан Шампобер! Взволнованный капитан пожимал протянутые к нему руки и собирался сказать в ответ несколько слов благодарности и любви, но крик, вырвавшийся из горла Питуха, горниста зуавского полка, прервал командира на первом же слове: — Бомба! Берегись! Со стороны неприятеля мчался на высоте тридцати метров металлический шар, из которого вырывался хвост дыма. Слышался свист воздуха. В высшей точке своей траектории снаряд на мгновение остановился. Тут-то и раздался крик Питуха. Бомба отвесно упала вниз. Все, кто в эту минуту оказался на плацдарме, ничком бросились на землю. Бум! Громадная глыба металла разорвалась, разбросав град осколков, железо, камни, гальку и вскопав воронку глубиной в два метра. По счастливой случайности никого не задело. Все поднялись с земли, и капитан сказал, смеясь: — Ну что ж, я продолжу прерванную речь. Благодарю вас, зуавы, мои друзья, мои спасители! Благодарю вас, артиллеристы, мои дорогие товарищи по оружию! Мне хотелось бы выразить вам симпатию, которая переполняет мое сердце… Но время не ждет, и эти чертовы русские не дают нам передышки… Ограничимся сказанным. Держите, у меня здесь бочонок крымского вина, несколько окороков и корзина шампанского. Перекусим наскоро… по-братски… выпьем за исполнение желаний… за счастье тех, кто нас ждет дома… и, главное, за нашу старушку-Францию… за славу ее знамени! — Да, вы правы, господин капитан, — кивнул Оторва. — Время не ждет, каждая минута на счету. Мне надо возвращаться в полк. — Но вы едва оправились от этих страшных ожогов… — Так же как вы от удара сабли. — Но я капитан и я отвечаю за… — А я только что стал капралом, и у меня тоже есть командирские обязанности. — Ба… командирские? — Да, я должен в ближайшие часы набрать отряд, о котором вы завтра же услышите. Рано утром вы увидите, как мы ринемся на казаков, в то время как вы пушечными залпами сотрете с лица земли их укрепления. — Браво, мой славный Оторва! Вы пойдете через Камыш? — Да, капитан. Я обойду маркитантов и найду за их столами крепких ребят, которые подойдут для моего дозора. — О, это будет поистине адский дозор! — Словцо мне нравится, капитан, и я вас уверяю, что крестный отец Адского дозора сможет гордиться своим крестником! — Поблагодарите еще раз сестру Элен, мамашу Буффарик, мадемуазель Розу, чья неустанная забота нас спасла! — И от вашего имени, и от моего — непременно, капитан! Да, мы немало натерпелись, когда валялись в лазарете, умирая, сгорая в лихорадке, а Картечь лежала между нами! К ним приблизился запыхавшийся офицер связи и вручил капитану Шампоберу конверт. Капитан вскрыл его и прочел:
«Приказываю командиру Третьей батареи ровно в шесть часов ударить тремя бомбами по Мачтовому бастиону, после чего продолжать безостановочно вести огонь».Капитан протянул зуаву руку и сказал: — Я подам сигнал всей заварухе. До свидания, приятель! — До встречи, капитан.
Союзную армию в мгновение ока охватила лихорадка. Весть о наступлении распространилась с молниеносной быстротой. Все предвкушали боевой азарт бомбардировки, яростный хмель атаки. Никто не сомневался в успехе. Солдаты назначали друг другу свидания завтра в Севастополе!.. Время тянулось томительно долго, и, несмотря на вечернюю зо́рю, никто не мог сомкнуть глаз. В три часа ночи солдаты вылезли из палаток и принялись варить похлебку. Двумя часами позже был готов плотный завтрак, а к нему каждый получил двойную порцию вина и стопку водки. Последние приготовления заканчивались, настроение у всех было приподнятое. Пехотинцы плели фашины и проверяли экипировку, вплоть до штрипок своих гетр. Кавалеристы седлали лошадей, инженерные части нагружали на повозки брус, ко́злы, лестницы и прочие приспособления для штурма. Артиллеристы прочищали амбразуры и заряжали орудия. Погода стояла великолепная, на небе торжественно разгорался рассвет. Через двадцать пять минут взойдет солнце. Было ясно слышно, как городские часы Севастополя пробили шесть. Три мощных взрыва, с интервалом в десять секунд, раздались на Третьей батарее и волной прокатились вдаль, над городом, над морем, над плато[157]. Это был сигнал! Тотчас линия атаки англичан и французов с Корабельной стороны и до самого Карантина затянулась дымом. И тут же бухнули новые громовые раскаты. Сто восемьдесят пушек и мортир изрыгали железный ураган, который обрушивался на русские позиции. Но противник не дремал, и контрудар не заставил себя ждать. Располагая неисчислимыми резервами боеприпасов и большим количеством орудий, русские открыли огонь неслыханной интенсивности. Уже невозможно было ни услышать друг друга в адском грохоте, ни увидеть что-то в клубах густого дыма. Французы стреляли без передышки благодаря тщательно проведенной накануне пристрелке. Русские, видимо, допустили жестокий просчет. Да, из-за артиллерийского огня противника они теряли в обороне немало людей. Но этого следовало ждать. Поразило же и привело в ярость бойцов обороны то обстоятельство, что множество артиллеристов были убиты ружейными выстрелами. Пули долетали с большими интервалами, но с устрашающей точностью. Время от времени среди грохота орудий наступают минуты успокоения, и тогда слышались короткие, резкие звуки, похожие на хлопок петарды[158], запускаемой ребенком, затем — короткий свист, и еще один русский канонир падал, сраженный наповал, на свою пушку. Штуцерные[159] пули вдребезги разбивали черепа, насквозь пронзали груди, ломали кости, точно курительную трубку. Самые отборные артиллеристы выбывали из числа защитников города. Это безжалостное уничтожение продолжалось. Стоило только кому-то мелькнуть в амбразуре — командир ли орудия проверял наводку, кто-то из обслуги орудовал банником[160], как тут же — паф! — раздавался выстрел из карабина. Еще одним бойцом становилось меньше! Защитники города всматривались, обыскивали взглядом все впадины и неровности почвы, наводили бинокли на малейшие шероховатости и наконец различили небольшие бугорки между позициями атакующих частей и оборонительными сооружениями. Там, где еще вчера глазу не за что было зацепиться, выросло более полусотни насыпей. И за каждой находился окопчик, в котором залегли, прижимаясь друг к другу и укрываясь от пуль, по два человека. На бортике каждого из маленьких брустверов располагались стволы двух карабинов. Это все, что можно было заметить с высоты русских укреплений, да еще временами мелькал кусок материи ярко-красного цвета. Этот Адский дозор, так красочно окрещенный капитаном Шампобером, уже заставил русских говорить о себе. Оторва действовал в соответствии с приказом генерала Боске. На его призыв толпой сбегались добровольцы. Одна мысль о вылазке под началом Оторвы кружила головы. Воодушевлению не было предела, весь полк рвался следовать за ним. Молодой человек отобрал около семидесяти человек из Второго зуавского и довел число добровольцев до ста за счет Венсенских стрелков, стоявших лагерем по соседству. В эту сотню входили самые меткие стрелки дивизии Боске. Они выступили в девять часов вечера, каждый нес заступ, мешок с провиантом, подсумок, набитый патронами, фляжку с кофе. Под водительством своего бесстрашного командира солдаты пересекли линию траншей и углубились на ничейную территорию в поисках наиболее выгодной позиции. Прежде чем покинуть Третью батарею, Оторва тщательно изучил, пользуясь амбразурой, рельеф местности. Он хорошо ориентировался, несмотря на полную темноту, и расставил своих франтиреров[161] по двое на линии протяженностью около километра. Черт возьми! Это оказалось не так-то просто. Стрелки передвигались ползком, стараясь не производить ни малейшего шума, толкали перед собой инструменты, обмотав тряпками металлические части, чтобы ничто не звякнуло, их двигала вперед не только отвага, но и неслыханное везенье. Уф! Задание выполнили — до русских бастионов осталось четыреста — четыреста пятьдесят метров. С бесконечными предосторожностями стрелки вонзили заступы[162] в землю и выкопали себе убежище. Работать заступом обычно дольше, чем киркой[163], но зато от него получалось гораздо меньше шума. Как при рытье траншей, земля выбрасывалась вперед и образовывала буствер. Оторва вместе со своим товарищем, горнистом Питухом, занял позицию в середине линии. К четырем часам утра земляные работы закончились. Всем стало немного не по себе, и Питух резонно заметил: — Мы здесь, как в пустом корыте. — Тихо! — оборвал его Оторва. — Я выкурю трубочку. — Нельзя! — Тогда б я выпил стаканчик. — Береги питье… сегодня будет жарко. — Раз нельзя ни болтать, ни пить, ни курить, я сосну, пока не заиграла музыка. — Прекрасная мысль! Я посторожу. — Твое дело. Ты начальник. Через пять минут горнист, забившись в глубь окопа и свернувшись калачиком, уже спал как убитый. Разбудили его три выстрела мортиры. Он потянулся, притворно чихая, и воскликнул, доставая флягу с водкой: — Будьте здоровы! Будучи человеком предусмотрительным, Питух запасся лишней флягой. Теперь он открыл ее и предложил товарищу, который возился со своим карабином. — Глотни как следует, Оторва! — Что ж, это не помешает. Отхлебнув хороший глоток, Жан приложил к плечу карабин, пристально вгляделся в амбразуру и выстрелил. Питух проследил за полетом пули, со свистом взрезавшей воздух, и радостно вскрикнул: — Парень кувырнулся!.. Начало хорошее. Русский артиллерист, в которого целился Оторва, уронил банник и ничком упал на пушку. — Боно! — заключил Оторва. — Дружок номер два работает не хуже моего покойного старикашки. Питух с наслаждением прополоскал горло последним глотком водки и тоже взялся за карабин. Он прицелился в артиллериста, который тотчас сменил своего товарища, сраженного Оторвой. Выстрел! Артиллерист как подкошенный упал на землю. — Прямо в яблочко, старина Питух. — Раз так, пропущу еще стаканчик. — Смотри, окосеешь. Не слишком налегай. — Да ну! Ни от чего другого в башке так не светлеет, как от хорошего глоточка. Справа и слева из-за насыпей вырывались дымки. Стрелки доблестно выполняли свою задачу. Выстрелы их карабинов заглушались грохотом пушек, мортир, свистом ядер и гранат[164], но они без устали делали свое коварное дело. И делали его с таким успехом, что огонь русских временами слабел, сбивался, иногда даже совсем умолкал. В ужасном грохоте боя, в густом дыму, который стелился по земле, люди не слышали и не видели друг друга. То там, то здесь рушились насыпи, осыпались амбразуры, падали выпотрошенные туры. Невозмутимые франтиреры, съежившись на дне окопчиков, слушали, как проносился над ними ураган железа, и в ожидании просвета курили трубочки. Внезапно земля содрогнулась от мощного взрыва. На линии французских укреплений вырвался вверх столб огня, окутанный дымом, как при извержении вулкана. В воздух взлетел пороховой склад. Двадцать пять человек были разорваны в клочья, три орудия вышли из строя! Русские шумно рукоплескали, издавая победные клики. Получасом позже, с интервалом в пять минут, взлетели в воздух два пороховых склада на их стороне — на Мачтовом и Центральном бастионах. — Обмен любезностями, — серьезно заметил горнист. Подчиняясь одной и той же мысли, французы и русские ослабили огонь, чтобы дать дыму улечься и посмотреть, каковы результаты бомбардировки. Одиннадцать часов. Разрушения оказались значительными, особенно у русских, но все же менее существенными, чем можно было ожидать. Прорвать укрепления не удалось, получилось лишь множество отдельных обвалов, которые противник восстанавливал под огнем с бесстрашием, вызывавшим у союзников восторженные крики. Успешной эту операцию назвать было нельзя, и сильно разочаровались те, кто рассчитывал на штурм до наступления ночи. Пушки и мортиры стреляли теперь лишь изредка. Как только стрельба утихала, на укрепления высыпали любопытные. Там встречались и штатские, и дамы в выходных туалетах; они смотрели в театральные бинокли и жестами грозили противнику. Среди них Оторва с первого взгляда различил Даму в Черном, которая ловко обращалась со своим карабином. Ока оживленно говорила что-то и как будто показывала рукой на окопы, где франтиреры, по двое в каждом, использовали передышку, чтобы выкурить трубочку. — Не хочет ли она выколоть нам глаза? — спросил Оторва у своего товарища. — Нет, она направляет на нас огонь пушек и мортир. Что же это за армия, если в ней командуют бабы! — Ну и ну! Посмотрим, что будет дальше. — Ясно что. Береги башку! Бам-м! — в двух шагах от Дамы в Черном стрельнула мортира. Бомба поднималась все выше, выше и упала отвесно, с шумом разорвав воздух. Оторва и Питух видели, что снаряд летел прямо на них, и словно лягушки выпрыгнули из своей ямы. Громадная бомба упала в яму с дьявольской точностью и разорвалась. В то же мгновение раздался выстрел карабина, которому предшествовал пронзительный свист. Оторва, отпрянув, прижал к груди руку. — Ты ранен? — спросил Питух, побледнев. — Я… я не знаю!.. — прерывающимся голосом ответил зуав. — Меня словно бы… словно бы шарахнули молотом… — Они сейчас снова… давай туда… скорее в яму… бомба ее еще углубила… там безопаснее… Ты же знаешь… два снаряда в одно место не ложатся. — Да!.. Да… — пробормотал Жан, бледный как полотно. Он добрался ползком до края окопа и тяжело упал в него. И тут Питуха прохватила дрожь — горнист увидел, что красная лента, на которой висела звезда, награда его друга, была пробита маленькой круглой дырочкой. Этот след оставила пуля.
ГЛАВА 3
Смерть героя. — Семьдесят шесть тысяч пушечных выстрелов. — Отвага русских. — Нападение на Третью батарею. — Вылазка Оторвы. — На кладбище. — Бегство русских. — Их исчезновение. — Тайна.Оторва потерял сознание. Горнист открыл флягу, влил ему меж губ струйку водки и проговорил возбужденно: — Лакай до дна!.. Это жидкий купорос…[165] молоко тигрицы… оно пересилит смерть! Оторва сделал несколько вдохов и сказал чуть окрепшим голосом: — Мне уже лучше. — Так! Теперь давай посмотрим, чем тебя шлепнуло. Питух распахнул мундир Оторвы, расстегнул рубаху и увидел чуть ниже сердца темно-лиловое пятно величиной с ладонь. Крови не было. — Это синяк!.. Самый настоящий синяк! — озабоченно констатировал Питух. Оторва почувствовал, что у него за поясом застряло что-то твердое, запустил туда руку и вытащил пулю мелкого калибра, на которой виднелись следы нарезки. — Вот она, виновница! Да разве это оружие… игрушка!.. Бьет прицельно, а пробить не может. — Не стоит жаловаться… Тебе здорово повезло… — Да, ведь выстрел был необыкновенно меткий… — Это та бабенка, она продолжает за нами охотиться… Ну, подожди же, прекрасная дама… — Не убивай ее! — Кончай со своими предрассудками… Подумаешь, дама! А мне плевать на хорошие манеры… Она ведет себя как солдат… черт побери! И я буду поступать с ней как с солдатом! Пока друзья говорили, снова сгустился дым, прикрыв бастион, на котором стояла надменная и свирепая княгиня. Бомбардировка возобновилась с еще большей яростью, чем прежде. Морской флот тоже вступил в борьбу. Двадцать семь военных кораблей почти из тысячи бортовых пушек открыли огонь по фортам, защищавшим рейд. Тучи дыма с языками пламени накрыли море и берег. Грохот был столь силен, что из ушей канониров брызгала кровь, и кое-кто остался глухим навсегда. В час дня уже можно было говорить о разгроме русской армии. Адмирала Корнилова смертельно ранили. Не щадя себя, всегда в первых рядах, он наблюдал, сидя верхом на лошади, с Малахова кургана за ходом бомбардировки. Английское ядро оторвало ему левую ногу. Он упал на руки своих офицеров. Умирающий окинул их взглядом и сказал: — Я доверяю вам оборону Севастополя… не сдавайте его! Адмирала доставили в госпиталь, где, несмотря на все старания докторов, он умер после двухчасовой агонии. Его последними словами было: — Стойте насмерть!.. Защищайтесь до последнего! Это несчастье не сломило боевого духа русских — оно привело их в настоящую ярость. Город, ощетинившийся пушками, полыхал пламенем, один вулкан изрыгал лаву на другой, картечь сшибалась с картечью. С пострадавших бастионов на французские батареи обрушивался шквал железа, который сравнивал их с землей. Не щадили и корабли. Адмиральский корабль «Ля вилль де Пари» получил сто попаданий в оснастку[166], пятьдесят — в корпус и три — ниже ватерлинии[167]. Одна из бомб разнесла в щепу полуют[168], свалила с ног адмирала Гамелена, убила стоявшего рядом с ним офицера и тяжело ранила двух его адъютантов. На всех судах, в которые попали русские ядра, начались пожары. Да, славные солдаты эти русские, бывшие тогда противниками французов, а теперь ставшие их союзниками! Нечего тешиться иллюзиями, французам тогда здорово досталось. Недаром генерал Тири, командующий артиллерией, с согласия главнокомандующего в конце концов приказал прекратить огонь. Никто не думал больше о штурме, о котором мечтали утром. К тому же на поле боя подоспел князь Меншиков с тридцатью свежими батальонами. Ночью стрельба прекратилась с обеих сторон. Каждая подсчитывала потери и восстанавливала укрепления. Да, потери оказались значительны, но все же не столь велики, как можно было предположить после артиллерийского урагана. Людских потерь у обеих сторон вообще насчитывалось немного. Французы потеряли убитыми и ранеными триста человек, англичане — около четырехсот. У русских вывели из строя около тысячи бойцов. Англо-французские войска произвели десять тысяч артиллерийских выстрелов, русские — двадцать тысяч! Флот союзников выпустил тридцать тысяч снарядов по фортам рейда без ощутимого результата; русские ответили шестнадцатью тысячами. Итак, в этот день той и другой стороной было израсходовано семьдесят шесть тысяч снарядов! По справедливости превышение русских потерь над французскими объяснялось выстрелами франтиреров Оторвы. За весь этот тяжелый день лишь несколько человек из них получили незначительные ранения. Самое серьезное досталось их командиру. Добровольцы причинили большой урон оборонявшимся, и, когда с наступлением ночи вернулись на французские позиции, их горячо поздравляли. Затея прошла успешное испытание, и Адский дозор стал отныне существовать официально. За ночь десять тысяч русских рабочих починили разрушенные укрепления. На следующий день, на рассвете, они выглядели еще более грозно, чем прежде. Напрасно бомбардировка возобновлялась с возрастающей яростью на следующие дни. Напрасно с лихорадочной поспешностью продолжались саперные работы и передние траншеи подступали к Мачтовому бастиону уже на триста пятьдесят метров. — Мы сами себя кусаем за нос! — не раз решительно говорил Оторве капитан Шампобер. Несмотря на страшную канонаду[169], Севастополь благодаря гению Тотлебена и патриотизму гарнизона по-прежнему оказывал сопротивление, и союзники несли чувствительные потери. Исходя из принципа, что лучшая защита — нападение, русские непрерывно наносили контрудары. Отважные вылазки гарнизона, внезапная атака войск Меншикова, которые застали англичан врасплох под Балаклавой[170] и разгромили их кавалерию, — все это заставило осаждающих сделать вывод, что перед ними опасный противник. Первое сражение имело место двадцать пятого октября. Пятого ноября была предпринята новая и более жестокая контратака, едва не уничтожившая англичан на холмах Инкермана. Под Балаклавой произошла всего лишь стычка. У Инкермана развернулось кровопролитное сражение, в котором, не приди на помощь французы, английская армия была бы полностью разгромлена. Сражение было таким ожесточенным, что в результате выбыли из строя — с обеих сторон — более двенадцати тысяч человек. К этому добавилось еще одно важное обстоятельство, которое очень тревожило французский штаб. Шпионская сеть русских была так великолепно организована, что они знали все, что происходило у нас и у англичан. Передвижение войск, расположение батарей, саперные работы — им было известно все, включая пароли! Так, на следующий день после Инкермана, когда каждая из сторон пополняла свои ряды, перевязывала раны и оплакивала мертвых, батарея капитана Шампобера подверглась среди ночи внезапному нападению. Перед Центральным бастионом русские соорудили люнет[171] с шестью пушками. Они в упор стреляли по батарее французского капитана и причинили ей немало бед. Шампобер призвал на помощь Оторву. — У вас есть свобода маневра, — сказал ему капитан, — у вас есть шанс стать офицером и командовать вашими храбрецами, которые не боятся ни Бога, ни черта, но вы должны, мой дорогой Оторва, оказать мне одну услугу. — Я в вашем распоряжении, капитан! — Задание чрезвычайно трудное, если не сказать, невыполнимое. — Трудное!.. Считайте, что оно сделано… Невыполнимое!.. Оно будет сделано. Немедленно. — Хорошо! Речь идет о том, чтобы заклепать орудия этого люнета, который вы там видите. Для этого надо подобраться к нему между южной частью кладбища и исходящим углом Центрального бастиона. — Сегодня же вечером, капитан… возьму пятьдесят человек… и ручаюсь… — Заранее благодарю, мой храбрый друг, и в добрый час. — О, не тревожьтесь, дело пустячное. В десять часов Адский дозор под водительством своего отважного командира, получив у капитана слова пароля и отзыва, преодолел бруствер батареи. Два часа прошло в тишине, нарушаемой время от времени лишь перекличкой часовых и лаем собак, доносившимися из города. Пушки с обеих сторон молчали. Противники были измочалены недавними сражениями, даже самые сильные бойцы впали в оцепенение. На городских часах пробило полночь. Француз, стоявший в траншее на карауле, услышал, как мимо батареи двигался отряд, который не пытался скрыть свое приближение. — Кто идет? — прокричал часовой, преграждая неизвестным фигурам дорогу штыком. — Франция! — прозвучало из темноты. — Какой полк? — Франтиреры Второго зуавского. — Место сбора… Человек, которого часовой не мог узнать во тьме, придвинулся так близко, что почти упирался грудью в штык часового. — Маре́нго![172] — добавил незнакомец вполголоса. — Ладно, проходите! — сказал часовой, убирая штык. В эту минуту тень, бесшумно скользнув за спиной караульного, поднялась и изо всех сил обрушила на его голову топор. Несчастный мешком повалился на землю, хрипя: — Это не… Оторва… Предательство!.. Но его никто не слышал. Отряд, не издавая ни звука, кинулся вперед и в несколько прыжков оказался в расположении французской батареи, вся обслуга которой дремала, присев на корточки, или болтала, покуривая. Капитан уловил опасность, но слишком поздно. Он вытащил саблю и прокричал звонким голосом: — Тревога!.. Канониры!.. Тревога!.. Через мгновение на батарее наступила невообразимая сумятица. Артиллеристы схватились за карабины, сжали рукояти прицелов, банники и храбро дали отпор врагу. В темноте завязался ожесточенный бой, где уже невозможно было отличить врагов от друзей. Люди дрались, душили и резали друг друга наудачу, кого с кем сведет судьба. Однако целью нападающих являлись не люди, а орудия. Некоторые из русских, вооруженные тяжелыми молотами и длинными стальными гвоздями, подобрались к пушкам, вокруг которых кипел бой. Ступая по переплетенным телам бойцов, они нащупали замки орудий, вставили в них гвозди и тяжелыми ударами молота загнали их по самые шляпки. За несколько минут четыре пушки и три мортиры были заклепаны и надолго выведены из строя. Капитан оказался перед гигантом, который, размахивая саблей, кинулся на него, выставив голову вперед. Шампобер инстинктивно отразил удар, а затем, опустившись на одно колено, всадил саблю в живот по самую рукоять. Спокойно, поднявшись с колена, он произнес: — Месть за мой шрам. Помощь прибывала со всех сторон, но — слишком поздно. Выполнив свою задачу, уцелевшие славяне выскакивали из траншеи, расталкивая караульных, и удирали, бросив своих раненых на батарее. Кто-то зажег фонарь. Капитан приказал направить свет на своего противника — тот дергался и хрипел. Шампобер увидел перед собой молодого человека, своего возраста и звания, с тремя нашивками капитан-лейтенанта. Капитан приподнял его голову, прислонил к своему колену и сказал голосом, исполненным жалости: — Месье, что я могу сделать для вас? — Ничего, — ответил раненый, — со мной кончено… все напрасно. — И сейчас вызову хирурга… тотчас… — Спасибо, месье… я умираю… я не испытываю ненависти к вам, хотя вы меня убили… но вы выполняли свой долг… как я выполнял свой… О, эта война! Незнакомец вытянулся, сжал зубы, затем привстал и, перед тем как замертво упасть, испустил последний крик: — Да здравствует царь!.. Да здравствует святая Русь!.. Тем временем, по одному из тех удивительных совпадений, которые нередко случаются на войне, Оторва успешно проделал на стороне русских ту же операцию. Правда, с бо́льшим трудом, поскольку ему был неизвестен пароль неприятеля и он не знал русского языка. Жан заклепал шесть пушек и четыре мортиры, стрелявшие из люнета, повредив тем самым на три орудия больше, чем русские у французов. Адский дозор возвратился, оставив на земле неприятеля четверых убитых. Зуавы двигались вдоль стены кладбища и уже собирались спрыгнуть в траншею, когда раздался торопливый топот ног. Питух, всегда отличавшийся незаурядной наблюдательностью, прошептал Оторве: — Они в сапогах… Шлеп-шлеп! — слышно по звуку… — Ты прав! — Значит, это русские. — Ну, мы им устроим встречу! — добавил сержант Буффарик, который добровольно присоединился к дозору. Зуавы — превосходные солдаты — мигом выстроились в цепочку и выставили штыки. Русские беспорядочно, вслепую бросились на них. Произошла короткая рукопашная, раздались предсмертные выкрики, затем какой-то приказ на незнакомом языке. На земле осталось человек пятьдесят убитых и раненых врагов. Остальные отступили вдоль стены кладбища, и зуавы бросились преследовать их по пятам. Монументальные решетчатые ворота с пиками наверху служили входом на кладбище, высокая каменная ограда которого уцелела во время бомбардировки. Ворота не были заперты. Отступающие, видимо, знали об этом, они поспешно проскользнули на кладбище и заперли за собой ворота. — А ну! — закричал Оторва. — Смелей! Они не уйдут! С ружьем на перевязи он попытался первым перелезть через ворота. Жан вскарабкался по перекладинам, но пики на воротах остановили его. — Осторожней, — съязвил Питух, — порвешь штаны, и получится шокинг[173], как говорят наши друзья-англичане. Оторва, раздосадованный, слез с решетки и предложил товарищам: — Полезем через стену! Они заперты там, как в клетке. Сейчас мы позабавимся. Самые рослые из зуавов стали вплотную к стене и подставили спины товарищам. Те, забравшись наверх, размотали шерстяные пояса и спустили их вниз. Оставшиеся на земле ловко взобрались по ним наверх. Все это проделывалось без шума, без лишних слов, четко, спокойно. Не хуже индейцев на тропе воины. — Ложись! — вполголоса скомандовал Оторва. Приказ передали по цепочке от одного к другому и тут же выполнили. В ожидании ружейных выстрелов зуавы лежали на стене не шевелясь, стараясь слиться с линией горизонта, над которой даже в темноте становится заметен любой силуэт. Все передвижения заняли, по крайней мере, десять минут. Но странное дело — на кладбище, где скрылись растерянные беглецы, стояла полная тишина. Вероятно, русские укрылись, готовясь к новой схватке. Тишина тревожила больше, чем ружейная стрельба. Оторва спрыгнул со стены, тщательно осмотрел и ощупал землю под стеной и убедился в том, что внизу не было ни естественных помех, ни неприятельских ловушек. Задрав голову, он вполголоса скомандовал: — Потихоньку спускаться! С ружьями на перевязи, заткнув штыки за портупеи, солдаты спрыгнули вниз и собрались вокруг своего командира. Зуавы, любители приключений, неизвестности и опасностей, жаждали раскрыть тайну. Воображение рисовало им очередную кровавую стычку. Кладбище представляло из себя прямоугольник длиной метров в четыреста и шириной около ста. Оторва решил, что обшарить все кладбище даже в темноте будет нетрудно. Он располагал сорока пятью бойцами, не считая его самого, и расставил их по одной линии на расстоянии двух с небольшим метров друг от друга. Раздался приказ: примкнуть штыки, двигаться прямо вперед, сохраняя интервалы, колоть направо и налево все, что покажется подозрительным, и ни в коем случае не стрелять. Все это Жан произнес тихим голосом, после чего занял место в середине цепи. Сигнал к выступлению дал Питух — стоя рядом с Оторвой, он насвистывал марш полка:
ГЛАВА 4
В кармане у мертвеца. — Измена доказана. — Один! — На кладбище. — Снова Дама в Черном. — Оторва на посту. — Что он слышал. — Под алтарем русской часовни.Вернувшись в траншею, Оторва тотчас узнал у своего друга, капитана Шампобера, о случившемся за время его отлучки. Жан слушал внимательно, не прерывая командира, и спросил, когда тот кончил рассказ: — Значит, русские ответили часовому по-французски? — Именно так. — Сказали, что они франтиреры Второго зуавского полка и произнесли пароль — «Маренго»? — Ну да. — Стало быть, они были осведомлены о существовании Адского дозора и знали о нашей вылазке. — Да! — Капитан, вы позволите мне взглянуть на тело того офицера, которого вы сразили ударом сабли? Шампобер показал на носилки, на которых виднелась темная масса, укрытая коричневой накидкой. Оторва снял с крюка зажженный фонарь и дал его одному из канониров со словами: — Приятель, не в службу, а в дружбу, посвети мне, пожалуйста! Подойдя к трупу, молодой человек поднял накидку и расстегнул задубевший от застывшей крови мундир. — Оторва, что вы делаете? — вскрикнул с укоризной капитан. — Обыскиваю московца! — Перед вам же мертвый враг! Вы всегда отличались великодушием! — Капитан, я командир разведчиков. У меня трудные обязанности, и мне не до сантиментов. Враг проник сюда, похитив пароль. Предательство привело к потере людей и пушек… Предполагаю, что секрет этой низости у него в кармане. Мой долг — обыскать убитого, и я делаю это с чистой совестью. Не переставая говорить, Жан обшарил карманы мундира и сначала вытащил бумажник. В бумажнике лежали письма на имя графа Соинова, офицера флота, и его же визитные карточки, все на французском языке. — Это не то, — сказал зуав, возвращая бумажник на место. Во внутреннем кармане, снабженном застежкой, его пальцы нащупали что-то еще, и он вытащил большой конверт с печатью, из тех, которыми пользовался штаб французских соединений. На лицевой стороне конверта красовался штемпель: Экспедиционный корпус Крыма. Главный штаб. — Ну что, я прав? — спросил Оторва, раскрывая конверт. — А я оказался круглым болваном, — смущенно отозвался капитан. Зуав сначала извлек из конверта лист тонкой бумаги: на нем было скалькировано расположение Первой, Третьей, Пятой и Седьмой батарей с указанием места каждого из орудий, а в сноске обозначено число орудийной прислуги. — Мне кажется, это должно вас заинтересовать, — сказал молодой человек, протягивая бумагу капитану. Жан нашел и другие схемы, чертежи, сведения о личном составе. — Ба! А тут речь обо мне! — воскликнул он. — Посмотрим! «Адский дозор, составленный из отборных солдат, действует с разными интервалами. Предусмотреть время его вылазок невозможно. Командует им зуав Жан Бургей, по прозвищу Оторва, энергичный, умный и храбрый солдат…» Большое спасибо! «Его нельзя подкупить…» Как же! Я не продаюсь никому! «Лучше его уничтожить». Эге! Это мы еще поглядим, мой мальчик! Зуав по прозвищу Оторва смотрит в оба и готов защищаться. Ну, капитан, что вы об этом скажете? — Я ошеломлен! — Я тоже! Сегодня ночь сюрпризов… Ведь как исчезли из огороженного кладбища те, кто остались в живых после атаки на нашу батарею! — Все это в высшей степени загадочно. — И все-таки я думаю, что, проявив смекалку и упорство, ребус можно разгадать. — Тот, ктоэто сделает, окажет огромную услугу всей французской армии. — Я попробую, и не позже чем завтра. — Вам придется действовать вслепую. — Да, вслепую, ночью и без собаки. Но я пойду на это дело, я найду, я раскрою тайну! — Могу я вам быть полезен? — Если б вы только могли раздобыть мне список штабных офицеров… Предательство, мне кажется, дело рук какого-нибудь субалтерна[174], который благодаря своей должности отлично информирован. — А что я могу сейчас для вас сделать? — Предоставьте уголок, где я мог бы поспать до утра. — Вот моя постель: две охапки соломы и одеяло. Предлагаю ее от чистого сердца. — Вы слишком добры, я принимаю ваше предложение с благодарностью. …День прошел без происшествий. Вечер принес разочарование франтирерам, которые чуяли, что предстояло новое приключение, но на сей раз без их участия. Адский дозор отдыхал. Командир ушел один с никому не ведомой задачей… Он замаскировал своего Дружка — то есть покрыл черным лаком ствол карабина и штык, чтобы сталь не поблескивала в темноте. Зуав набил свой мешок, не говоря ни слова о том, что собирается делать. Он упрямо отказывался даже от помощи двух ближайших друзей — сержанта Буффарика и горниста Питуха. В восемь часов Жан легко перелез через бруствер Третьей батареи и храбро нырнул в темноту, в сторону русских. Через полчаса он подошел к кладбищу. Ворота были прикрыты, но не заперты, лишь накинута щеколда. Их оказалось достаточно толкнуть, чтобы войти. «Вот доказательство, — подумал он, — что прошлой ночью сюда приходили». Молодой человек решительно вошел за ограду и остановился в раздумье. «Если ворота открыты, значит, кто-то вскоре должен прийти. Остается лишь смотреть в оба и еще пуще того — слушать». Наш разведчик подыскал подветренное местечко, положил на землю мешок, развернул плащ с капюшоном, накинул его на плечи, пристроил карабин так, чтобы он был под рукой, и — запасся терпением. Стоять на таком посту было совсем не весело. Жуткая уединенность погоста, шум ветра, шорох кипарисов, страшная и таинственная опасность, меланхолия смерти — все это могло произвести тягостное впечатление и на самого хладнокровного человека. Оторва не считал себя вольнодумцем, но он был настоящим солдатом, жившим по законам доблести; сознание долга помогало ему справиться со слабостью и предохраняло от малодушия. Зуав спокойно ждал, как всегда готовый на все, черпая в этой неколебимой решимости силу, которая делала его непобедимым. Прошел час. Единственным развлечением Оторвы было прислушиваться к бою городских часов и следить издали за траекторией падения бомб, заканчивавшейся яркой вспышкой. Вдруг над Севастополем круто взмыла ракета. Она сверкнула, оставляя за собой дорожку искр, и разорвалась, разбрызгивая во все стороны светящиеся голубые шарики. «Эге, сигнал!» — подумал про себя наш герой. Через тридцать секунд взлетела другая ракета, которая, достигнув высшей точки полета, рассыпалась снопом белых искр. Еще через тридцать секунд третья ракета оставила на черном небе огненный след. Заструился поток ярко-красных огоньков. «Странная история, — размышлял Оторва. — Синий, белый, красный!.. Цвета французского флага… Кому, черт возьми, неприятель может адресовать такой сигнал?» Он вспомнил о недавнем предательстве, которое позволило русским напасть на батарею, и продолжал рассуждать: «Не тому ли самому предателю, тому мерзавцу, который торгует кровью своих братьев, военными успехами армии, славой Франции… О, узнать бы правду… Выследить бандита… схватить на месте преступления, разоблачить… пусть он ответит за содеянное!» Мечтая, Оторва по-прежнему сидел на своем мешке и ждал развития событий, как охотник в засаде. Медленно тянулись часы: половина одиннадцатого, одиннадцать, половина двенадцатого… ничего! И вдруг словно бы послышались приглушенные шаги, беззвучное движение — здесь, совсем рядом. Жан задержал дыхание, стараясь унять неровное биение сердца, и встал, готовясь к прыжку. Тень, которую его глаза, давно уже привыкшие к темноте, превосходно различали, проскользнула в приоткрытые ворота. На мгновение тень остановилась, прислушалась, и до Оторвы донесся скрежет замка, запираемого на два поворота ключа. Тень в длинной русской шинели — из тех, что ниспадают до земли, — тихонько шла по центральной аллее кладбища. Молодой человек оставил карабин и мешок и, полагаясь на свою силу, последовал без оружия за таинственным пришельцем. Шаг за шагом, без малейшего шороха, француз с кошачьей ловкостью продвигался вперед, исхитряясь неизменно держаться в десяти шагах от незнакомца. Они прошли метров двести и вышли к какому-то белому строению, вероятно, часовне, окруженной кипарисами. Послышался тихий свист, и визитер убыстрил шаг. Затем он неожиданно остановился перед часовней, где его, как оказалось, ждал другой человек. Оторва слышал, как они обменялись вполголоса несколькими словами, и радостно подумал: «Я не зря потратил время, сейчас выяснится кое-что интересное». Начался разговор, очень оживленный, по-французски. Оторва спрятался за кипарисами и, затаившись под прикрытием нижних ветвей, слушал с бьющимся сердцем. Сначала говорил женский голос, звонкий, взволнованный и без малейшего акцента. Оторва вздрогнул. Он сразу узнал этот голос с металлическими нотками, который прежде слышал при трагических обстоятельствах, навсегда запечатлевшихся в памяти. Жан пробормотал про себя слова, которые со времен Альмы преследовали его, как кошмар: «Дама в Черном!» Она говорила, и ее слова с необыкновенной ясностью доходили до слуха нашего зуава. Его охватила ярость. — Что ж, мой друг, ваши сведения были великолепны… они нам очень пригодились… К несчастью, они были в кармане бедного графа Соинова, когда его убили на французской батарее. Незнакомец глухо вскрикнул и отозвался дрожащим от страха голосом: — Но теперь… это… эти сведения… попадут в главный штаб… Это грозит мне… расстрелом… — Ну придите же в себя… никто не подозревает, что вы оказываете нам услуги, в которых мы очень заинтересованы, и никакая опасность вам не грозит. Вы по-прежнему будете служить, получая, разумеется, деньги, делу святой Руси! — Что вы хотите… еще? — Прежде всего — оплатить ваши услуги! Вот золото… превосходное французское золото. Здесь двести луидоров…[175] целое маленькое состояние по нашим временам. Оторва услышал позвякиванье металла: проклятое золото, золото измены перешло из рук в руки. — Мерзавец, — пробормотал зуав, сжав зубы, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не броситься на предателя. — Вы спрашиваете меня, чего я хочу? Доставьте мне этого демона, связанного по рукам и ногам. Он страшнее любого из ваших лучших полков… Я хочу, чтобы вы отдали мне в руки командира разведчиков, который причиняет нам столько зла… Я хочу, чтобы Оторва оказался в моей власти! Зуаву не терпелось выскочить из-за кипарисов, как чертик из коробочки, и, прыгнув между собеседниками, закричать во все горло: «А вот и я!» Но подобная сцена, уместная в театре, была бы глупой в реальной жизни, тем более что предатель вполне мог бы ускользнуть, а его, Оторву, скорее всего убили бы прямо на месте, поскольку Дама в Черном наверняка передвигалась с охраной. Поэтому Жан стоял неподвижно, весь внимание, в глубине души польщенный тем, что неприятель знал его и боялся. Человек отвечал приглушенным голосом: — Вы требуете невозможного! — Это будет оплачено… очень дорого… — Не все можно купить за золото… — Говорю же вам, что это необходимо… Я готова пожертвовать на это миллион! — Вы только зря потратитесь… Оторва продолжал слушать. Он чувствовал себя единственным зрителем драмы из реальной жизни, которая разыгрывалась на кладбище в двух шагах от города, подвергавшегося бомбардировке! Напрягая слух, зуав в то же время вспоминал: «Но я ведь знаю голос этого негодяя!.. Черт побери, где же я его слышал? Скотина, бормочет себе под нос, жует слова, а от волнения они звучат глуше, и голос дрожит… О, я вспомню, сейчас вспомню…» Предатель говорил, приблизившись к своей грозной собеседнице, словно желая придать словам особое значение: — Но то, что не под силу человеку, сделает ненависть… или хотя бы попытается сделать. — Вы ненавидите Оторву? — О да! Всеми фибрами души[176]. И зуав услышал, как несчастный заскрежетал зубами. Затем он продолжил прерывающимся голосом: — Я отомщу ему так, что это будет хуже смерти… вы слышите, мадам, хуже смерти… — Что же это будет? — Бесчестие… разжалование… позор… и, наконец, кара, положенная предателям… — Прекрасно задумано, ничего большего мне и не надо. И когда вы думаете осуществить этот замечательный план? — Но… я уже начал… я сею клевету… и она очень быстро дает всходы… прорастает, как сорная трава. Кроме того, я продолжаю играть роль его двойника, чем по меньшей мере его компрометирую. — Не понимаю. — Давайте зайдем в часовню, я покажу вам при свете, что я имею в виду… Вы похвалите меня за мою выдумку. Дверь в маленькое строение, видимо, была открыта, потому что зуав услышал лишь, как ее закрывают. Размышляя о том, сколь удивительно появление Дамы в Черном в такой час и в таком месте, Оторва задавал себе вопрос: «Кстати, откуда все-таки приходит эта проклятая дама? Она возникает внезапно, как черный призрак из могилы или из самого ада… Я должен найти этому объяснение, и я близок к нему — не будут же эти двое век сидеть в часовне. Подождем!» Молодой человек стоял на своем посту, укрывшись за нижними ветвями кипарисов, но из часовни никто не появлялся. Из-под двери не пробивалось ни малейшего луча света, из строения не доносилось ни малейшего шума — оно застыло, мрачное, непроницаемое и безмолвное, словно окружающие его могилы. Время шло, и Оторва начал беспокоиться. Тем не менее он не покидал своего поста и не сводил глаз с фасада, на котором едва вырисовывался дверной проем. Никакого движения! Часы текли, нескончаемые, тревожные, мучительные. Оторва начал задаваться вопросом, не стал ли он жертвой наваждения. Наконец забрезжил рассвет, а часовня по-прежнему оставалась закрыта. — Гром и молния! — воскликнул Жан, охваченный яростью. — Я должен понять, в чем тут дело! Он осмотрелся по сторонам, выискивая глазами, чем бы взломать дверь, и увидел куски проржавевшей решетки, обветшалые железные кресты. Подобрав перекладину креста, смельчак сунул ее в замочную скважину и слегка нажал. При первой же попытке полотно двери подалось, и Оторва стремительно ворвался в часовню. Крик изумления вырвался из его груди. Маленькое помещение было пусто. «Черт побери! Меня обвели вокруг пальца!» Четыре метра в длину и четыре в ширину, пол, выложенный плитами, кропильница[177], два стула, две скамеечки для молящихся, алтарь[178] с иконами вдоль стены — убранство было небогато. «Здесь не спрятаться и крысе! — сказал он себе в отчаянии. — Но я же видел, своими глазами видел, как два человека зашли сюда и не вышли… И других входов, кроме этой двери, нет… И стены целы!.. И никого!.. Эх, если бы я был суеверным… Ну же, подумаем трезво… Ведь на войне случается всякое, а невозможное — тем более!» Жан вышел из часовни и, пробираясь под ветвями кипарисов, окаймлявших центральную аллею, возвратился к воротам, где оставил свой мешок и карабин. Он поднял мешок, взял за перевязь Дружка и возвратился к часовне. Бессонная ночь на посту, утренний воздух возбудили его аппетит. Он открыл мешок, достал оттуда полкаравая, кусок сала, щепотку соли, устроился на стуле и, как голодный волк, накинулся на еду; лихо расправившись за несколько минут со скромным завтраком, запил его стаканом крымского вина и проговорил будничным тоном: — За работу! Прикладом карабина Оторва простучал стены и пол, покрытый черными и белыми плитами. Глухой звук, которым отозвались стены и пол, исключал мысль о скрытых пустотах. Оставался алтарь. «Кажется, здесь что-то есть. Посмотрим!» Алтарь был деревянный. Тяжелые дубовые панели были раскрашены под мрамор, в серых и черных разводах. Никакого орнамента, никакой лепнины. Посередине передней панели находился большой греческий золоченый крест с двумя перекладинами. Зуав присел на корточки, тщательно осмотрел крест, ощупал его, попытался оторвать перекладины и только ободрал себе пальцы. Он простучал кулаком ту часть панели, на которой блестел христианский символ, и она отозвалась, как пустой ящик. Оторва пробормотал: — Вот где разгадка… я чувствую… я уверен! В перекладинах креста торчали два больших гвоздя. Оторва сильно надавил на шляпки. Вторая подалась, ушла вглубь, и — раз! — передняя панель медленно опустилась вниз, на уровень плиточного пола. В нижней части углубления, ограниченного тремя стенками, оставшимися на месте, виднелись первые ступени винтовой лестницы, уходившей отвесно вниз. Оторва на радостях потер руки и пустился в пляс; безудержная джига совсем не вязалась с мрачным местом действия. «Тайна разгадана! Из-за этой головоломки я чуть не свихнул себе мозги!.. Я разгадал их фокус!.. Ну и фокус!.. Оп-ля-ля!.. Оп-ля-ля!.. Именно здесь ушли под землю тот мерзавец и Дама в Черном!.. И таким же образом от нас прошлой ночью улизнули московцы… С чем связана эта лестница? Куда она ведет?.. Может быть, в пасть дьяволу!.. Ну что ж, посмотрим!» Оторва порылся в своем мешке и извлек оттуда коробок спичек и свечу, которую купил, не торгуясь, за сорок су[179] в Камыше. Прежде чем спуститься, он благоразумно продумал план действий. Зажег свечку, осветил подножие алтаря и сказал про себя: «Я знаю теперь, как это открывается… Но как обратно закрыть этот ход?» Когда один секрет известен, найти другой проще простого. На дальней стене, напротив первого, прикреплялся второй греческий крест. В нем так же торчало два гвоздя. Оторва нажал на нижний и тотчас отскочил. Раздался такой же, как и при открывании, щелчок, и передняя часть алтаря встала на прежнее место. Жан был в восторге. Теперь пора отправляться в подземное путешествие. Он во второй раз открыл панель, храбро запер за собой ход и медленно начал спускаться по лестнице, держа в одной руке ружье, а в другой — свечу. Зуав насчитал восемнадцать ступенек, то есть высоту целого этажа, и очутился в довольно просторном коридоре, который вел в сторону города. Потолок коридора был сводчатый, размеры его составляли примерно метр семьдесят в высоту и метр в ширину, пройти по нему не составляло труда. «Несомненно, — подумал Оторва, — русские пользуются им, когда предпринимают ночные атаки». Он преодолел около двухсот метров, и тут коридор резко сузился — теперь по нему с трудом мог пройти человек среднего телосложения. Кроме того, вход, ведущий в эту узкую часть, располагался на уровне пола, и, чтобы пролезть в него, приходилось буквально ползти. Оторва отважно пустился в путь, хотя стены туннеля угрожающе сжимали его атлетические плечи. Он отталкивался пальцами рук, ногами, коленями и вдруг оказался в обширном зале. Из осторожности Жан оставил позади себя, в туннеле, зажженную свечу. Но свет ее не потребовался: зал, в который он попал, достаточно хорошо освещался. Прямо перед собой зуав увидел иконы и три лампады, мерцающий свет которых разгонял темноту. — Черт возьми, — пробормотал он, удивляясь все больше, — да здесь целый подземный арсенал[180]. Штук двести пятьдесят — триста ружей, аккуратно составленные в пирамиды, поблескивали стволами. Гаубица[181], приподнятая на легкий лафет, была повернута дулом к туннелю, трофейное холодное оружие кто-то развесил по стенам. Над головой Оторвы раздавались глухие удары, от которых дрожала земля и звякали лампады. — Надо мной укрепления бастиона, — добавил он вполголоса. — Да, бастиона! Стреляют русские пушки! Молодой человек обыскал, ощупал, осмотрел арсенал и в конце концов обнаружил мрачную дверь, окованную железом, ощетинившуюся громадными гвоздями, прорезанную узкими бойницами. Он попытался ее открыть, не слишком, впрочем, рассчитывая на успех. Она оказалась заперта намертво. Осторожность подсказывала ему, что давно следовало уходить. Внезапно его внимание привлек ящик из нетесаного дерева, небрежно приткнувшийся позади гаубицы. «Зарядный ящик?» — подумал он. Движимый вполне законным любопытством, которое заставляло внимательно всматриваться в самые ничтожные на первый взгляд детали, зуав приподнял крышку ящика, и у него вырвался удивленный возглас. Смельчак увидел полную форму французского солдата, форму зуава, более того, зуава Второго полка. Он вытащил ее и тщательно осмотрел. Все было на месте. Тюрбан[182], расшитая куртка, голубой фланелевый пояс, пышные шаровары, белые гетры, туфли, карабин Минье[183], патронная сумка, поясной ремень, штык-нож — одним словом, полная экипировка. Но что еще поразительнее — на левой стороне куртки, на уровне сердца, была прикреплена на красной шелковой ленте звезда — орден Почетного легиона. Подавленный крик вырвался у Оторвы из груди: — Тысяча чертей!.. С ума сойти!.. Что же делать?.. Что придумать?.. Время не ждет… Я чувствую, что надо уходить. Оставаться дольше — значит искушать судьбу… Да, да, надо идти!.. Я еще вернусь… теперь я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Молодой человек быстро положил форму на место, в таком же порядке, в каком она лежала. Когда он складывал куртку, что-то упало с характерным металлическим звуком, какой издают золотые монеты. Он наклонился и подобрал крапо — плоский кожаный кошель, который зуавы носят на шнуре, под рубахой. Кошель оказался туго набит золотом. Жан взвесил его на руке, громко засмеялся и, как истый африканец, не отличающийся особой щепетильностью, положил его в карман, размышляя вслух: — Взято у врага!.. Трофей!.. Отличная пожива!.. Адский дозор вылакает все!.. До донышка! Ну, а теперь, Оторва, в путь!
ГЛАВА 5
Камыш. — Дозор гуляет. — Московское золото. — Шпионы. — Меню пиршества. — Похмелье. — Клевета. — Неосторожные слова. — Сержант Дюре. — Оскорбление. — Позорное обвинение.Бухту Камышовую назвали так из-за находящегося рядом болота. Просторная и надежная, хорошо защищенная от ветров, она служила якорной стоянкой и местом разгрузки французского флота в течение всей Крымской войны. Великолепно расположенная в стратегическом отношении, она со дня на день приобретала все большее значение. К северо-западу от бухты вырос целый военный городок — причалы, навесы, бараки, склады продовольствия и обмундирования, пороховые погреба, артиллерийский парк[184], лазареты и немалое военное население. Здесь разместился даже отлично организованный корпус пожарных, задачей которых было предупреждать возгорания, подобные тому колоссальному пожару, который разрушил Варну. В глубине бухты одновременно с военным городком появилось еще одно странное поселение, целиком гражданское, кишевшее торговцами, со всех сторон сбежавшимися на добычу. За ним закрепилось название «Камыш». Греки, левантинцы[185], англичане, французы, итальянцы, татары, спекулянты изо всех стран, подозрительные коммерсанты, подгоняемые жаждой наживы, располагались здесь по-братски и, действуя в полном друг с другом согласии, грабили солдат. Здесь можно было купить любой товар, но по каким ценам! Палатки, дощатые лачуги, землянки, мазанки, бараки, халупы, берлоги и хижины — все это тянулось вдоль разбитых, изрытых улиц, пыльных или грязных, смотря по погоде, и выставляло на всеобщее обозрение забавные фасады, испещренные сногсшибательными вывесками. Улица Императора, улица Победы, Торговая улица… По ним непрерывно курсировали повозки, столь же разномастные, как и жилища, и без устали перевозили армейские грузы. В телеги, арбы[186], фуры[187], повозки без формы и названия были впряжены мулы, лошади, ослы, верблюды и буйволы[188], сопровождаемые погонщиками, которые кричали, бранились и сыпали проклятиями на всех языках. И повсюду виднелись товары — на бочках, на охапках хвороста, на камнях и ящиках: фрукты, овощи, дичь, консервы, окорока, бакалея, рыба свежая и вяленая… а дальше шли лавки, да еще какие! Булочники, мясники, колбасники!.. И наконец, здесь находилось огромное, необъятное, бесконечное количество продавцов спиртного, начиная с тех, что торговали из бочек, установленных на двух камнях, и наливали в оловянные стаканчики, и кончая кабаре[189] с рестораном и казино[190], куда между двумя атаками приходили за порцией развлечения солдаты, осаждавшие Севастополь. И все эти спекулянты, торговавшие по безумным, непомерным ценам, получали золотую прибыль! Что же вы хотите! Никто не мог быть уверен в своем завтрашнем дне, пули и ядра били часто и вслепую. И — черт возьми! — каждый спешил вывернуть карман, чтобы доставить себе последнее удовольствие, прежде чем пуститься в невозвратный путь. Таким образом, наглое воровство, доведенное до полного бесстыдства, стало в Камыше правилом и основой коммерции, признаваемой обеими сторонами, — теми, кто крал, и теми, у кого крали. Те, у кого крали, позволяли обдирать себя, и единственной их местью являлись разнообразные прозвища, которыми они награждали городок у Камышовой бухты: Вороград, Жуликополь или Шельмостополь. По соседству с этим поселением ютилось еще множество женщин — англичанок и француженок, которые ценой больших расходов и усилий приехали сюда, чтобы находиться поблизости от своих мужей. Им жилось трудно в этом подобии города, где грохота, гама, вожделений, лихорадки было хоть отбавляй, но зато отсутствовали обычные житейские удобства. Однако верные женщины спокойно и мужественно переносили эти убогие условия существования, лишь время от времени освещаемые лучом нежности, который служил им могучей поддержкой. Сюда-то и направлялся с туго набитым кошельком наш зуав. После приключений в подземелье командир Адского дозора испытывал естественную потребность прокутить с товарищами трофейные деньжата. Славный Жан испытывал безудержную радость при мысли о том, что это проклятое золото, цена подлого предательства, утолит жажду французских глоток, что две сотни луидоров, найденные в мундире лжезуава, пойдут на кутеж настоящих зуавов, храбрейших из шакалов, самых отчаянных хватов из всех хватов Второго полка. Приглашение Оторвы вызвало у дозора неописуемый восторг! Зуавы беспорядочной ватагой — фески набекрень, глаза горят — начали обход уличных торговцев. Стакан опрокидывался за стаканом, и Оторва, у которого карман раздулся от золота, платил, не считая, по-царски. Тостам не было конца! Зуавы пили за здоровье императора[191], королевы Виктории[192], генерала Канробера, генерала Боске, полковника Клера, всех любимых командиров, капитана Шампобера… И чем усерднее они пили, тем больше воодушевлялись. Оторва заказал роскошный обед в ресторане «Пти-Вефур» с весьма сомнительной репутацией, так же, как «Братья из Прованса». Дозор, немного растрепанный, но еще на ногах, направился туда, распевая модный куплет:
ГЛАВА 6
Ярость дозора. — Вмешательство кебира. — Чтобы потушить бунт. — Оторва и полковник. — Негодование и протест. — Надо проверить. — Ночная экспедиция. — Больше ничего. — Отчаянье. — Буффарик. — Пистолет. — Решительный отказ. — То, что и было нужно. — О, свобода!Арест Оторвы произвел эффект настоящего взрыва. Возмущенный полк единодушно протестовал. Франтиреры из Адского дозора возбужденно метались, кричали, хватались за оружие, намереваясь во что бы то ни стало вырвать Оторву из тюрьмы. Вот-вот мог вспыхнуть бунт. Питух без всякого приказа протрубил сбор. Вокруг него столпились, орали, бранились самые нетерпеливые. Взлетали в воздух сжатые кулаки, блестели карабины. Вокруг виднелись искаженные гневом бронзовые лица, всклокоченные бороды, фески, торчавшие словно петушиные гребешки. Буффарик, Дюлон, Робер, Бокан, ближайшие друзья Оторвы, подняли оглушительный крик, который подхватил со все нарастающей силой весь дозор. — Оторва! Мы хотим видеть Оторву!.. — Вперед! Вперед, товарищи! Освободим Оторву! Дело принимало серьезный оборот. Того и гляди, могла пролиться кровь. Французская кровь! Офицеры во главе с кебиром устремились в гущу взволнованного воинства, пытаясь восстановить порядок. Кебир хорошо знал своих людей — это солдаты до мозга костей, упрямые головы и золотые сердца. Он умел разговаривать с ними — твердо и по-отечески искренне. Его уважали по чину и возрасту, а главное, он сотни раз проявлял доблесть на африканской земле. Видя, в каком исступлении солдаты, полковник закричал им строгим командирским голосом: — Стройся!.. Смирно! Подчиняясь привычке к дисциплине, солдаты построились в одну шеренгу, оружие — к ноге, но крики не утихали: — Оторва!.. Господин полковник… Мы хотим освободить Оторву! — Я требую тишины! Дайте мне сказать! Заметив рядом Буффарика, который махал руками и ворчал себе под нос, полковник сказал ему резко: — Как, и ты, старый дуралей, подался в мятежники? — Господин полковник, — с достоинством отвечал сержант, — клевета, жертвой которой стал Оторва, — это пощечина всем зуавам нашего полка. — Хорошо сказано!.. Верно!.. — закричали солдаты. — Да здравствует Буффарик!.. Да здравствует Оторва! Кебир, переждав шквал их криков, ответил: — Дети мои, я думаю так же, как вы! Да, Оторва — образец чести и храбрости. Он вернется к вам… — Сейчас же! — закричали самые нетерпеливые. — Молчать, когда я говорю! — оборвал их полковник. — Я немедля займусь этим делом, но, ради самого Оторвы, не делайте глупостей и не подводите его. Невиновность не докажешь выстрелом из карабина. Возвращайтесь в лагерь. Предоставьте действовать мне, положитесь на мое слово… А теперь — вольно! Вдоль всего строя прокатился крик: — Да здравствует кебир! После этого Адский дозор, немного успокоившись, возвратился в палатки, а полковник, верный своему обещанию, направился в Камыш. Его сопровождали двое офицеров — командир батальона, в котором числился Оторва, и капитан, командир его роты. Полковник, комендант гарнизона, был личным другом кебира. Он не разделял его оптимизма и объяснил, что дело весьма серьезное. Обвинение, предъявленное Оторве сержантом Дюре, было составлено по всем правилам и опиралось на целый ряд фактов, производивших сильное впечатление. В деле имелось, кроме устных показаний сержанта, записанных секретарем, еще и письменное донесение, сочиненное с невероятным коварством и ловкостью. Кебир пробежал глазами пасквиль[198], искусности которого мог бы позавидовать государственный прокурор, и заключил: — Для тех, кто знает Оторву, все это бред. На вашем месте я бы бросил этот навет в огонь! — Это мало что изменит, а вашему зуаву не поможет вовсе. Сержант, который донес на него, сообщил мне, что он по инстанциям передал свой рапорт главнокомандующему. Следовательно, я не могу освободить Оторву — ему предстоит долгое и тяжелое разбирательство. — Которое сведет его с ума… Оскорбит его честь… — Если только он не представит тотчас, не сходя с места, доказательств своей невиновности. — Ну что ж! Позвольте нам увидеться. Я с ним поговорю… потребую у него отчета, узнаю, не совершил ли он какого-нибудь опрометчивого поступка. Сам же я готов поручиться за его честность, верность долгу и знамени. Троих офицеров провели в каземат[199], где вот уже двадцать четыре часа томился, точно хищник в клетке, бедный Оторва. В каземате стояли кровать, стол и стул, было просторно и не душно. Помещение совершенно не походило на тюремную камеру. Если не считать амбразуры с толстыми железными прутьями вместо окна, такой квартиры не было ни у одного фронтового офицера. При виде своих командиров, Жан, который ходил по комнате взад и вперед, застыл как вкопанный в безупречной воинской стойке — пятки вместе, носки врозь, рука у лба. — Ну что, бедный мой Оторва, — дружески сказал ему кебир, — опять скверное приключение… — Как, господин полковник, неужели кто-то относится всерьез к гнусным наветам какого-то негодяя, моего остервенелого врага… Ведь это тот самый сержант, из-за которого меня приговорили к смертной казни… за нарушение субординации… накануне сражения на Альме. — Это сержант Дюре… — Да, Дюре!.. Теперь я вспоминаю это имя. — Он обвиняет тебя в сношениях с врагом, в предательстве… Я только что просмотрел отвратительный рапорт, который он сочинил… с обвинениями против тебя… Тебе придется защищаться. — Но, господин полковник… и вы, мой командир, и вы, господин капитан, ведь это же подло… возмутительно и глупо… вы это хорошо знаете… Вся моя жизнь честного солдата опровергает эту гнусность. — Согласен… мы все с этим согласны!.. Но если б ты знал, мой бедный Оторва, как этот негодяй все переиначил… как все истолковал против тебя! — Господин полковник, я сын одного из старейших командиров Великой армии… одного из самых верных солдат Наполеона! Он с детства внушал мне непоколебимые принципы чести, и я неизменно им следовал! И наконец, если бы я был преступником, каким меня пытаются изобразить, ради чего мне пятнать мое прошлое, мою честную службу… страстную любовь к нашему знамени? Подумайте, ведь не бывает следствия без причины, и у каждого преступника есть свой двигатель, непреодолимое, властное побуждение. Не правда ли, господин полковник? — Разумеется. — А если это так, разве можно заподозрить меня в том, что я так низко пал, запятнал свое честное имя… совершил самое гнусное в глазах солдата преступление, одним словом, изменил родине ради того, чтобы устроить пирушку своим товарищам… обычную солдатскую пирушку? — Да, мой друг, ты рассуждаешь превосходно! И тем не менее для начала тебя спросят, откуда ты взял деньги. — Но, господин полковник, я готов тотчас объяснить это вам и моим командирам. Коротко, вот какая получилась история. Я обнаружил насевастопольском кладбище подземный ход. Один его конец — в часовне, а другой выводит в арсенал под Центральным бастионом. В арсенале есть все — и ружья, и экипировка[200], и боеприпасы, и даже пушка. Настоящая шкатулка с сюрпризами! Я нашел там даже сундук с полным комплектом зуавской формы и с пришпиленным к ней орденом Почетного легиона. Среди вещей был и кошель с четырьмя тысячами золотых франков![201] Эти четыре тысячи я и присвоил без всяких угрызений совести и угостил на них Адский дозор… — Эй, Оторва, не сказки ли ты нам рассказываешь? — Я говорю чистую правду, господин полковник!.. Клянусь честью! — Хорошо, но это надо проверить. И ты зря не доложил своим командирам об этом открытии. Подумай, какую пользу мы могли бы из этого извлечь! — Вы правы, господин полковник! Но я хотел сохранить этот секрет для себя… — Зачем? — Чтобы распутать одну тайну, ниточка от которой у меня уже в руках, и еще для того, чтобы в один прекрасный день нанести по неприятелю внезапный удар — взорвать бастион! — Вероятно, все это так, и мы верим тебе, поскольку знаем. Но повторяю — все это так необычно, что нуждается в проверке. — Вам стоит только приказать, господин полковник. — Хорошо, сегодня же ночью ты нас туда поведешь. — Слушаюсь, господин полковник! Нам хватит двух часов, чтобы прояснить все обстоятельства и опровергнуть клевету. Кебир подошел к зуаву вплотную, дружески положил ему руку на плечо и, глядя прямо в глаза, проговорил тихим и проникновенным голосом: — Оторва… — Да, господин полковник! — Я верю, что ты невиновен… повторяю еще раз. — Спасибо, о, спасибо, господин полковник… — Я поручусь за тебя перед главнокомандующим, ибо он один может приказать временно освободить тебя. — Как, господин полковник… дело зашло так далеко? — воскликнул огорченный зуав. — Ладно, дай мне честное слово: что бы ни случилось, ты не будешь пытаться убежать. Оторва выпрямился и ответил с достоинством: — Клянусь честью, господин полковник: что бы ни случилось, я не предприму ни малейшей попытки скрыться… — Хорошо. Я рассчитываю на тебя… Тебе возвращается оружие, и ты поведешь нас не как арестант, а как свободный воин. — Спасибо, господин полковник! Я докажу вам, что я достоин этой милости. Наступила ночь, и экспедиция, готовившаяся в глубоком секрете, двинулась в путь. Приказали идти целой роте. Таинственность привлекала людей, и они весело, хотя и в полной тишине, пересекли полосу траншей. Все знали, что в экспедиции участвовал и сам кебир, но никто не знал, где именно он шел. Кебкр держался поодаль, среди офицеров, плотно закутанных в плащи с пелеринами[202]. Воздух был свеж, ночь — очень темна. Выйдя из укрытий, рота, разбившись на три отделения, с величайшими предосторожностями направилась к кладбищу. Дорога предстояла опасная. Русские передвигались в окрестностях взад и вперед. Одно отделение оставили в резерве. Второе расположилось возле кладбища, а третье стремительно проникло за мрачную ограду и заняло позиции там. Офицеры шли по центральной аллее. Впереди уверенно шагал наш зуав — он не сомневался в успехе, и его правота придавала ему сил. Офицеры подошли к часовне. Оторва нащупал рукой запоры и убедился в том, что ничего после его ухода не изменилось. Дверь была только прикрыта. Он толкнул ее, вошел первым и, убедившись, что внутри пусто, предложил офицерам следовать за ним. Жан закрыл дверь, вынул из мешка свечу, зажег ее и несколькими каплями горячего воска прилепил к скамейке. Не говоря ни слова, застыв в неподвижности, маленькая группа офицеров наблюдала за этими приготовлениями. Молодой человек подошел к алтарю и сказал вполголоса: — Вы сейчас увидите, господин полковник, как все это просто и хитро придумано. Зуав наклонился и с силой нажал на шляпку гвоздя на кресте, украшавшем алтарь. Ничего не произошло! Оторва нажал сильнее… Шляпка гвоздя легко углубилась в панель, но панель не тронулась с места, словно гранитная плита. Кровь бросилась Оторве в голову. Горячая волна залила лицо. По телу холодными ручьями потек пот. Ситуация, и смешная и ужасная, предстала перед ним во всей своей жестокой абсурдности. — Механизм, — проговорил он, запинаясь, — видно… поврежден. Порыв ярости внезапно подхватил Жана, и он закричал: — Мы еще посмотрим! Молодой человек поднял свой карабин, лежавший у стены, схватил его за ствол и принялся колотить прикладом по панели. Тяжелая панель разлетелась в куски. — A-а, наконец-то! Оторва, запыхавшись, взял свечу и поднес ее к отверстию. — Господин полковник, — сказал он, — сейчас вы увидите эту лестницу… сейчас… смо… Слова застряли у него в горле. Бледный, растерянный, дрожащий, Оторва увидел, что пол из белых и черных плит уходил под самый алтарь. Не осталось и следа от каменной лестницы, от туннеля, и можно было бы поклясться, что ничего такого здесь никогда и не было… словом, вся затея — это чистая мистификация[203], последствия которой могли оказаться для героя трагическими. Оторва отлично это понимал, и словно пламя опалило его мозг. Он хотел сказать… оправдаться… объяснить, как было дело… но не мог выговорить ни слова, и лишь хрип, похожий на рыдание, вырывался у него изо рта. Жан почувствовал в затылке сильную боль, которая быстро охватила виски и лоб. Кровь зашумела в ушах и затянула глаза багровой пеленой. Ему показалось, что голова его вот-вот лопнет… Потом он погрузился в полную тьму и ничего больше уже не чувствовал. Пошатнувшись, Жан сделал шаг и упал как подкошенный, растянувшись во весь рост и успев лишь пробормотать: — Я невиновен… Полковник пожал плечами и, отлепляя горящую свечу, сказал холодно: — Господа, нам больше нечего здесь делать… идемте! Я рассчитываю на ваше умение хранить тайны. Никому ни слова об этом грустном происшествии, очень вас прошу. Выводы для себя я сделал: этот несчастный виновен… Если он умер, тем лучше! Если еще жив, я переправлю его в тюрьму. Ради сохранения чести полка он должен исчезнуть с глаз… Я позабочусь об этом!
Сутки спустя Оторва, которого перенесли на руках в Камыш, пришел в себя, словно проснулся после кошмарного сна. Он лежал в каземате, на своей койке, весь разбитый, с ледяными компрессами на голове. Рядом с ним на стуле сидел зуав, который грустно смотрел на него и, видимо, ждал, когда бедняга очнется. Оторва узнал эту грустную бороду лопатой, эти нашивки, эти кресты и медали. Губы его сами произнесли имя, имя близкого друга: — Буффарик!.. — Голубчик мой!.. О, бедный Жан… — Послушай!.. Что происходит? — Ужасная история… — Умоляю тебя… расскажи все как есть… — У меня сердце разрывается от боли… — Тысяча чертей!.. Я догадываюсь… меня считают преступником… — О да… Но не все, не все! Ты знаешь… кое-кто наверху… важные шишки… — Кебир? — Да, кебир… и он… послал меня к тебе… потому что… проклятье!.. Потому что я вроде как… старейший унтер-офицер Второго полка… и твой друг… — Он послал тебя… зачем? — Идиотство… чепуха какая-то… лучше бы задушили меня моими собственными кишками, чем… — Да говори же… Не мучай меня… — Я должен передать тебе… поручение кебира, будь оно проклято… и одну вещь… предмет… — Какую вещь, мой дорогой Буффарик? Бледный, растерянный, со взмокшим лбом, сержант вынул из кармана тяжелый седельный пистолет, положил его на постель и сказал, задыхаясь: — Игрушка смерти… мой бедный малыш… — Я понял! — закричал Оторва, срывая с головы компрессы. — Кебир хочет, чтоб я застрелился и таким образом снял с себя позор. Ведь так? Задыхаясь от волнения, старый сержант лишь кивнул в ответ. — Повтори, что он тебе сказал, — попросил Оторва. — Я в состоянии выслушать все. — О, лишь несколько слов… Он сказал мне с брезгливой миной: «Старик, отнеси этот пистолет Оторве… Если парень найдет в душе хоть каплю мужества, он пустит себе пулю в лоб. Тогда я смогу замять это грязное дело, и его имя не будет опозорено… Он будет считаться павшим в бою… Это все, что я могу для него сделать, помня о его прошлых заслугах!» Оторва, до этой минуты лежавший одетым на кровати, соскочил с нее и вскрикнул, не отводя глаз от глаз сержанта: — Буффарик… мой старый друг… ответь мне прямо, как подобает старому солдату. Ты веришь, что я продался врагу? Ты веришь, что я изменил долгу… знамени… отечеству? — Нет! Тысячу раз — нет! — ответил сержант дрожащим голосом. — А твои… твоя семья… мадемуазель Роза?.. Я хочу знать, что она думает обо мне. — О, моя дочь… милое нежное создание!.. И ты еще спрашиваешь? Да она готова бросить свое сердце в горящие угли, чтобы доказать твою невиновность… — Значит, ты отдашь ее мне, если я попрошу у тебя ее руку? — О Жан! Я был бы счастлив и горд назвать тебя своим сыном. При этих словах Оторва преобразился — лицо его засияло. Он кинулся в объятия Буффарика и, прижимая его к себе, воскликнул: — Как я тебе благодарен!.. Всем сердцем… Твой ответ меняет дело. Я невиновен, и я не стану себя убивать! — Как! Если б не это, ты пустил бы себе пулю в лоб?.. — А что же ты хочешь? В минуту отчаяния… безумия… Будущего нет, мое имя опозорено, любовь растоптана… да, я подчинился бы жестокому приказу кебира. Я бы умер, по крайней мере, как солдат, я представил бы себе, что отдаю жизнь за французское знамя, за нашу родину. Но я прежде всего человек, я люблю Розу и хочу жить ради нее! — Я догадывался о твоей тайне… о вашей тайне, — сказал Буффарик растроганно. — Она разделяет твое чувство. — Мы никогда с ней об этом не говорили… — Я знаю, голубчик, и все же! Что может быть дурного между такими славными, честными молодыми людьми, как ты и Роза? Но сейчас не время говорить о чувствах!.. Что ты думаешь делать? — Разоблачить предателя… поймать его с поличным… и доказать свою невиновность. — Но тебе второй раз угрожает военный трибунал! — Тем более надо спешить! Я чувствую в себе несокрушимую силу! Силу, которая сметет все препятствия на своем пути, которая способна двигать горы. — Но ты под арестом! — Скоро наступит ночь. Что-нибудь придумаю… — Тебе помогут… Наберись терпения и жди.
ГЛАВА 7
Оторва в тюрьме. — Счастливая неожиданность. — Самоотверженность Розы. — Пароль. — Бегство. — Свободен! — По дороге в Севастополь. — У Третьей батареи. — Дезертир по дружбе.Буффарик ушел. Наступила ночь, туманная, промозглая ноябрьская ночь. Не отрывая взгляда от амбразуры, забранной железными прутьями, Оторва предавался размышлениям. Длилось это недолго. Люди дела, подобные ему, привыкли жить напряженной жизнью и никогда не теряют время даром. Мысли Жана сосредоточились на одной-единственной цели: на побеге. Да, побег… Снова приходилось нарушать устав, во имя благой цели открыто восставать против закона. Пусть так, но каким образом? Да, каким образом? Буффарик сказал: «Тебе помогут!» Оторва был уверен — это не просто обещание, он знал, что к нему придут на помощь, но пока зуав руководствовался поговоркой: «На Бога надейся, а сам не плошай». В стене каземата, на высоте в два с половиной метра, была пробита амбразура. Для начала Оторва решил проверить, насколько прочны прутья. Он придвинул к стене с амбразурой стол, одним прыжком вскочил на него, взялся за прутья и попытался их расшатать. — Гм, железо первый сорт, — пробормотал Жан, — строительный камень… известь и цемент… здесь работы дай Бог! Кроме того, там, наверное, стоит часовой, и, может, не один… И все-таки надо бежать… не откладывая, сегодня же ночью… иначе будет плохо. В этом месте его монолог прервало постукивание — на стол упала пригоршня гравия. Ему тотчас вспомнились слова сержанта, и он откликнулся с бьющимся сердцем, стараясь умерить голос: — Кто там? Это ты, старина? Ему ответил нежный девичий голосок, чуть дрожащий, совсем юный и прелестный: — Нет, месье Жан, это я!.. Зуав узнал этот голос, обычно певучий и звонкий, а сейчас приглушенный, донесшийся из-за решетки, как чарующая мелодия. И Оторва вне себя от радости прошептал: — Роза!.. Мадемуазель Роза!.. Ах, я так счастлив… И девичий голосок с ноткой лукавства ответил: — Мой бедный друг!.. Вы счастливы?.. Неужели?.. Вы не слишком взыскательны! — Да, да, я безумно счастлив… ведь вы здесь, рядом со мной… Вы пришли несмотря ни на что… Ночь… усталость… опасность… Вы, быть может, одна… — Одна!.. Конечно, одна… Подумаешь, какая заслуга. — О, мог ли я надеяться на это! — Жан! Ведь мы обязаны вам жизнью. Признательность и породила в моей душе бесконечную нежность… любовь, во имя которой я помогу вам бежать. — Роза!.. Дорогая Роза!.. О, я дрожу при мысли о том, что вы одна шли через Камыш… это скопище мерзавцев… что вы подвергаетесь здесь смертельной опасности… Подумайте — повсюду стоят часовые с оружием наготове… малейший шорох, и они стреляют. — С этой стороны часовых нет. — Правда? — Бежать будет не так уж трудно. А что касается нечестивцев из Камыша, они опасны для женщин, но приставать к зуаву не посмеют. — К зуаву?.. Девушка прервала его звонким смехом: — Разумеется!.. Вы не знаете… вы меня не видите… Так вот: я скинула и шляпу, и юбку, и корсаж и облачилась в военную форму моего брата Тонтона, на пояске у меня кинжал мамаши Буффарик, на плече Дружок, ваш верный карабин, а на спине — ваш мешок. — О, Господи!.. Все снаряжение!.. Да оно, верно, раздавило вас своей тяжестью! — В самом деле, мне было тяжеловато, и я с удовольствием избавлюсь от вашего боевого снаряжения, которое наш друг Питух с таинственным видом притащил к нам в лавку. Зато эта героическая экипировка служила мне неплохой защитой! — Проклятая темнота! Я не могу вас рассмотреть. Вы, наверное, выглядите восхитительно. — Наоборот — будь благословенна темнота! Она поможет вам бежать. А выгляжу я страшно. Но комплименты в сторону! Нам слишком дорого время. Итак, мы придумали все это втроем — мама, Тонтон и я. Папа не знает или делает вид, что не знает о нашей затее… Его нельзя впутывать. Начальники, настроенные против вас, тотчас заподозрили бы именно его. — Да, — грустно подхватил Оторва. — Даже кебир поверил, что я — подлец… а вы… — Он слушает голос разума, а мы — сердца. Разум часто ошибается, а сердце — никогда! Но послушайте: мы снова болтаем и теряем время… — Если б вы знали, какая это радость — слушать вас… — Помолчите… не прерывайте меня… Итак, папа, который ничего не знает, оставил на виду напильник и ножовку, которую взял взаймы у командира оружейников. Я подобрала их — вот они! Кроме того, папа раздобыл пароль и отзыв и со своим обычным насмешливо-невозмутимым видом сумел, не называя их прямо, в то же время сообщить их мне — для этого он рассказал хороший провансальский анекдот… — И какие же это слова? — Честь… Доблесть!.. — Роза, милая Роза, ваша бесконечная доброта, ваша веселая храбрость трогают меня до слез… — Тише!.. Я слышу чьи-то шаги. С бьющимися сердцами, затаив дыхание, молодые люди застыли на месте, он — держась за прутья и не отрывая взгляда от тонкого силуэта, едва различимого в ночной мгле; она — прижавшись к брустверу. Прошло пять долгих тревожных минут, и Роза проговорила почти шепотом: — В вашем мешке есть провизия, но немного. Надо будет принести еще, если ваше отсутствие затянется. — Верно, заранее не рассчитаешь… Но как вы сумели обо всем позаботиться!.. Я думаю пока укрыться на севастопольском кладбище. — Хорошо! Туда ночью закинут провизию и там же, если появятся какие-то неотложные сведения, вам дадут о них знать. — В двадцати шагах от ворот, справа, у стены, в яме. — Прекрасно! А теперь, дорогой Жан, за дело! В путь! Защищайте вашу честь — она ведь и моя. Боритесь за ваше счастье — и оно будет нашим! В путь! И возвращайтесь отмщенным и счастливым, а я всей душой буду с вами. Оторва не успел ответить на эти слова, исполненные любви и отваги. Прелестная девушка с трудом нашла в себе силы прервать радость этого нежного свидания. Она осторожно спустилась с бруствера, крадучись прошла вдоль сооружений бастиона, тенью проскользнула мимо сонных часовых и благополучно выбралась на херсонесскую дорогу, ведущую в расположение французского резерва. Оторва, оставшись один, испустил глубокий вздох. Он хотел бы сказать Розе, какая нежность переполняет его сердце, как он восхищен ее преданностью, какую безмерную силу черпает в любви! Однако, тряхнув головой, Жан сказал себе вполголоса: — Да, она права… Я должен действовать и должен победить. Зуав по-прежнему держал в руке ножовку и напильник, полученные от Розы. Он положил напильник на стол, у своих ног, решительно взялся за ножовку и начал пилить железный прут. Инструмент ему достался прочный и удобный. Молодой человек двигался вперед и назад легко, без шума и толчков. Зубцы без труда вгрызались в металл. — Режется, как свинец! — проговорил восхищенный Оторва. Через полчаса прут снизу аккуратно срезался. — Теперь наверху, — пробормотал зуав, поднимаясь на цыпочки. Работать в таком положении оказалось труднее, но после часовых усилий прут был спилен и в верхней части! Часы главного штаба с площади Камыша пробили одиннадцать. Оторва прикинул, что через полчаса будет смена часовых и что следовало трогаться в путь. Жан положил в один карман ножовку и напильник, в другой — пистолет кебира, рассудив про себя: «Он заряжен. В случае чего, пригодится». Зуав схватился за прутья, соседние с тем, что он вырезал, и ловко подтянулся. Расстояние между прутьями позволило ему протолкнуть свои могучие плечи. С бесконечными предосторожностями он втиснулся в отверстие, пролез и наконец, весь исцарапанный, выбрался из проклятой амбразуры. Вот он очутился на гребне бруствера. «Уф! Пришлось-таки потрудиться!.. Еще немного, и я застрял бы там, как кролик в капкане!» Жан нашарил рукой свой мешок и карабин и растроганно пробормотал: — Здесь поклажи на хорошего мула… или хорошего зуава! В одном мешке семьдесят фунтов… и Роза тащила всю эту тяжесть! О, милая, преданная душа… как она добра и как я ее люблю! Молодой человек приладил лямки мешка на плечи, взял Дружка за ствол и пустился в путь по гребню укреплений. Вниз он добрался без помех и с бьющимся сердцем выждал несколько минут, опасаясь услышать оклик часового, а вслед за ним получить предусмотренную уставом пулю в лоб. Но нет. Все было спокойно. Часовые знали, что поблизости, у самого берега, маневрировали корабли, и, значит, с этой стороны никакие опасности не грозили. Оторва хорошо знал местность. Он помнил, что узкая тропинка шла по берегу бухты и, обогнув выдвинутые вперед укрепления, уходила в глубь суши. Беглец ступил на тропинку длиной около трехсот метров и, распластавшись на влажной земле, пополз вперед, точно улитка с домиком на спине. Проклятье! Ему предстояло проползти, метр за метром, эту тропинку, не подняв тревоги. Иначе, прощай реванш, прощай отмщение, прощай доброе имя! И Оторва, неутомимый бегун, герой множества стычек и сражений, гордость Второго зуавского полка, полз, как слизняк, толкая перед собой, на расстоянии вытянутой руки, карабин, подтягивался на локтях и коленях, преодолевал по двадцать сантиметров. Скорость его передвижения не превышала пяти метров в минуту… На триста метров он потратил, не отвлекаясь, целый час! Вы спросите, быть может, почему Оторва так мучился, когда он мог подойти к любому часовому и обменяться с ним паролем, который ему дала Роза. Однако Жан не был так же рассудителен, как отважен, и это немалая заслуга. Он прекрасно знал, что, если часовой что-то заподозрит, пароль не спасет. Солдат вызовет старшего по посту. Если тот найдет человека подозрительным, то отошлет его к своему начальству. Поэтому Оторва оставил пароль на самый крайний случай, когда он будет вынужден идти ва-банк[204]. В конце концов его терпение вознаградилось. Молодой человек благополучно пересек опасную зону и вышел за пределы военного городка. Оказавшись вне опасности, он даже не остановился, чтобы перевести дух, а перешел на быстрый шаг и устремился в сторону Севастополя. На ходу он сказал сам себе, посмеиваясь в бороду: — Я не встретил даже собаки!.. О, Камыш охраняется просто образцово! Ну что ж, мне не стоит на это жаловаться… Итак, первый шаг сделан! Вперед, старина Жан… Вперед! Как у Альмы… За Францию и за мадемуазель Розу! Он шел все быстрее и быстрее, повторяя про себя: «Надо же, ни одной собаки!» После недолгого размышления зуав добавил: «А почему бы и нет? Она ловка, как обезьяна… она составит мне компанию, будет помогать… Но пойдет ли она? Попробуем!» Перед ним, километрах в пяти, полыхал, как гигантский костер, Севастополь. Выстрелы из пушек и мортир гремели как раскаты грома. Отсветы огня взмывали вверх, падали, гасли, исчезали и загорались снова. Фосфоресцирующее море, заполненное гремящим эхом, отражало и гром выстрелов, и всполохи света. Это зрелище, которое Оторва не надеялся больше увидеть, наполнило радостью его солдатскую душу. Жан направился в сторону фейерверка, дошел до балки у Карантина и легко ее пересек. Теперь он находился недалеко и от кладбища, и от французских позиций. Но, вместо того чтобы идти прямо на кладбище, Оторва отклонился чуть вправо, к Третьей батарее. Он шел по земле, развороченной бомбами, среди воронок, где каждый миг натыкаешься на куски железа, на кучи растерзанных фашин, почерневших камней, бесформенных и неузнаваемых предметов. Слева находились русские укрепления, ощетинившиеся пушками, справа, в трехстах метрах, — французы. Посередине держался зуав, который снова благоразумно опустился на землю и передвигался ползком. Уже пробил час ночи, и по некоему негласному соглашению и осаждающие и осажденные прекратили пальбу. Лишь время от времени кто-нибудь посылал бомбу, давая знать другой стороне, что канониры начеку. Батарея капитана Шампобера, по всей вероятности, произвела нужное число выстрелов и теперь молчала. С неслыханной дерзостью, рискуя попасть под пули, Оторва подполз к амбразурам на тридцать метров. Он спрыгнул в воронку от бомбы и тихонько, но заливисто свистнул. Потом подождал, не вызовет ли его безумная выходка шквал огня со стороны батареи. Но на батарее никто не двигался, кроме разве что Картечи, которая, вероятно, услышала его. Храбрая собака часто сопровождала своего друга-зуава в ночных вылазках Адского дозора и хорошо знала сигнал. Но почему ее друг в красных шароварах и короткой курточке не идет на батарею, где его всегда встречают по-братски? Собака, видно, заподозрила что-то неладное. Она покинула свое убежище, начала принюхиваться и беспокойно метаться взад-вперед. Оторва снова свистнул почти неуловимо для человеческого уха. Картечь жалобно заскулила и чуть слышно тявкнула. Ее возбуждение нарастало, и удивленный капитан Шампобер сказал своему сержанту: — Что это сегодня с Картечью? Можно подумать, она что-то учуяла. Собака же, увидев, что на ее тревогу никто не обращает внимания, села, издала долгий зловещий вопль и внезапно приняла решение. Одним прыжком она вскочила на бруствер, устремилась в темноту и исчезла. — Это уже слишком! — закричал сержант. — Господин капитан, Картечь дезертировала. Храбрая собачонка, товарищ в тяжких испытаниях, пошла на зов человека, почувствовав, что тот страдает и борется против уготованной ему несправедливости. Она нашла его на дне воронки, осыпала ласками, облизала руки, подергала за одежду и, наконец, испустив вздох удовлетворения, свернулась рядом клубком. После минутной передышки они тронулись в путь — человек, спотыкаясь под тяжестью мешка, и собака, принюхиваясь ко всем запахам, — и благополучно добрались до кладбища. На следующее утро, поскольку Картечь не вернулась, в приказе по батарее она была объявлена дезертиром.
ГЛАВА 8
Дезертир! — Генерал Боске. — Его сомнения. — Зима. — Жестокие враги. — Призрак? Реальность? — Видение. — Добрый гений. — Атака на англичан. — Кровопролитная борьба. — Диверсия. — Перемирие. — Русский и зуав. — Пение шакалов. — Их двое! — Оторва? Здесь!Обвиненный в преступлении — нанесении ущерба родине, — Оторва скрылся. Он не сумел оправдаться и не осмелился пустить себе пулю в лоб. Смерти — освободительнице зуав предпочел позор бегства. Пусть так. Для начала его считали дезертиром, лучше это или хуже — покажет время. Скоро должен был состояться трибунал. Оторвы не будет, но какое это имеет значение! Приговор вычеркнет его из числа кавалеров ордена Почетного легиона и из списков полка. Неявка в суд убьет его морально, а для солдата это самая страшная смерть. В ожидании трибунала бурлил весь офицерский корпус во главе с кебиром. Офицеры требовали наказать предателя по всей строгости, чтобы неповадно было другим. Из высшего начальства один лишь генерал Боске оттягивал передачу дела в суд. В глубине души он считал, что это преждевременно. Почему? Потому что, вопреки очевидности, генерала не покидали сомнения. Более того, он еще доверял Оторве. Наделенный живым и быстрым умом, Боске хорошо разбирался в людях и в обстоятельствах. Вот почему дело Оторвы, неясное, таинственное, запутанное, тревожило его совесть. Тревожило неустанно, и он не мог не сказать полковнику: — Боюсь, мой дорогой, что вы поспешили! — Но, генерал, знали бы вы, какую мистификацию он нам устроил! — ответил кебир. — Быть может, не только вам одним! А вдруг Оторва сам стал жертвой жестокой мистификации? — Но, генерал, его рассказ — сплошной бред… Несчастный, видимо, не думал, что мы пойдем туда… и потребуем реальных доказательств. — Вы уверены в этом? — Да, генерал! И я до конца жизни буду корить себя за наивность, которую проявил, когда мы собственными глазами убедились в том, что вся эта история — чистый фарс! Меня до сих пор бросает в краску! — То-то и оно… Вы испытали разочарование… гнев… в вас заговорило уязвленное самолюбие… Все это как раз и мешает трезво смотреть на вещи! — О, генерал, мы имеем дело с такими ловкими комедиантами… — Да, я знаю. Поэтому и нельзя сразу выносить окончательный приговор. Итак, подождем еще! И ожидание продолжалось — впрочем, тщетное. …Тем временем началась зима, очень суровая, усугубившая трудности и опасности, связанные с осадой Севастополя. Ветер и дождь, холод и грязь сперва чередовались, потом смешались. Четыре бедствия сразу! Сколько терпения, сколько выносливости требовалось бедным солдатам, сколько испытаний выпало на их долю! По обе стороны разделявшей их линии солдаты без устали переворачивали землю, копали и снизу и сверху, делали насыпи и сами зарывались поглубже, передвигались по траншеям и подкопам, убивали друг друга под открытым небом и устраивали бойню под землей, отвоевывая друг у друга несколько метров! В промежутках между земляными работами, чтобы не потерять сноровку, противники стреляли из пушек, мортир, ружей. Траектории снарядов и пуль скрещивались без передышки над этой смертоносной полосой, которая с каждым днем сужалась. И с обеих сторон гуляла смерть! Молодые, сильные люди, храбрецы, цвет двух наций, падали на поле боя или умирали в переполненных лазаретах. Снаряды, пули, раны, болезни — обе армии буквально таяли. Непрерывное прибытие подкреплений едва восполняло жестокие потери воюющих сторон. Ожесточение возрастало, если только это было возможно. Противники бились не на жизнь, а на смерть, с переменным успехом. И положение войск не менялось, ибо чем яростнее была атака, тем более неистово оказывалось сопротивление. Все уже понимали, что война будет длительной и кровопролитной. Даже оптимисты, решительные сторонники штурма, склонялись к тактике выжидания. И войска с угрюмой решимостью, под ветром, дождем и снегом, ждали лучших времен, которые никак не наставали. Об Оторве не приходило никаких вестей или, точнее, ничего достоверного. О, это не значило, что его забыли. Никогда, даже во времена своей славы, он не вызывал столько разговоров. Хотя Жан исчез три недели назад, имя его оставалось у всех на устах. Он становился легендой. Началось это через неделю после его исчезновения. Ночью, при свете звезд, у подножия Рудольфовой горы, двое часовых передового поста заметили зуава. Он шел совершенно бесшумно, словно скользил над землей… его можно было принять за тень, за ним бежала собака. Человек и собака показались на мгновение и тут же исчезли. В двадцати шагах от часовых, скорчившихся в своем укрытии, призрак крикнул странным голосом, похожим на жалобный стон, который пронял их до печенок: — Тревога!.. Русские!.. И верно! Глубокой ночью неприятельский батальон ползком придвинулся к нашим позициям, намереваясь задушить часовых, захватить траншею, заклепать пушки, разрушить укрепления. Предупрежденные призраком, часовые выстрелили наугад и отбежали к своим, крича: — К оружию! Атаку отбили. Спустя три дня на участке Третьей батареи посты услышали дважды повторенный крик: — Берегись, канониры!.. Берегись! Один капрал высунул голову в амбразуру и увидел при свете сигнальной ракеты исполинский силуэт человека, а рядом — чудовищной величины зверя. Тень напоминала зуава, а зверь — собаку, но контуры были расплывчатые и устрашающих размеров! Капрал едва успел их рассмотреть. Они мелькнули, как зарница, и, подняв тревогу, исчезли в темноте. Через минуту все орудия Мачтового бастиона дали залп картечью, пытаясь отвлечь внимание от очередной вылазки русских. Однако за эту минуту посты подняли в траншее тревогу. Нападавших встретил неожиданный отпор, они отступили под огнем и в конце концов обратились в беспорядочное бегство. Прошло несколько ночей, и опять — тревога, на этот раз у новых траншей, которые французские саперы усиленно тянули по направлению к Карантину. Саперы копали в полной тишине, и вдруг прямо перед ними раздался выстрел из карабина и знакомый крик: — Саперы, берегись!.. Русские! Саперы побросали лопаты и кирки, схватились за ружья и в мгновение ока превратились в бойцов. И здесь атака русских была доблестно отбита. Эффект внезапности не сработал, саперы снова взялись за лопаты, французская кровь не пролилась. Таким образом, накопилось уже много подтверждений какого-то благожелательного вмешательства. Оно давало о себе знать вопреки всяким правилам и приказам — таинственное, анонимное и, пожалуй, даже сверхъестественное. Но кто же этот заступник, этот неутомимый наблюдатель, чьи ночи проходили меж двух огней… этот друг, терпеливый и преданный, который на каждом шагу бросал вызов смерти и неустанно оберегал французскую армию? — Это чертовски похоже на Оторву, — говорили часовые с передового поста, рассказывая о приключении. — Это был Оторва или его тень! — Да, это был Оторва, — пришел к заключению и артиллерийский капрал. — Но он был ростом метра в три!.. Если бы я верил в привидения… клянусь честью, я сказал бы, что Оторва превратился в призрак! Тут и саперы вспомнили и уточнили то, что они видели. Да, в самом деле, при вспышке выстрела они видели зуава, зуава и собаку. И тотчас, словно поддавшись внушению, все узнали… Оторву! Отныне подобные истории, правдивые, но странные, множились и передавались из уст в уста. Вскоре они составили целую легенду вокруг нашего героя. Он стал зуавом-призраком, являвшимся каждую ночь. Он бродил перед французскими линиями, как добрый гений и покровитель. Он возникал то там, то здесь, свободный, неуязвимый, и подавал голос, лишь когда надо было поднять тревогу. Так продолжалось до той памятной ночи, когда русские предприняли большое наступление на англичан — страшное наступление, которое чуть было не привело к катастрофе. Утро прошло совершенно спокойно. Никто ничего не ждал. И вдруг — шквал снарядов, ядер, бомб обрушился на английские позиции, громя траншеи с фронта и с фланга, опрокидывая пушки и калеча людей, охваченных паникой. Малахов курган, батарея Килен-балки, Большой редан вели огонь из всех орудий, изрыгая пламя, точно кратеры вулканов. Паника длилась недолго. К англичанам возвратилось хладнокровие. Они держались под ураганным огнем с удивительной стойкостью и отвечали выстрелом на выстрел. Но к этому времени у них осталась половина наличного состава. Болезни… огонь… ранения!.. Долго ли они продержатся? Увы! Огонь продолжал их косить!.. Они отступали… оставляли свои аванпосты… смертельная опасность нависла над ними… Русские готовились к массированному наступлению… Да, вот оно! Сверкала сталь, слышались сигналы, хриплые команды… — Русские!.. Русские!.. Внезапно у Колоколенки взлетели сигнальные ракеты. В расположении французской армии зазвучали горны, звавшие на битву. Три тысячи человек, схватив оружие, мгновенно выскочили из палаток. Егери, пехотинцы, зуавы и алжирские стрелки выступили на помощь союзнику. — Примкнуть штыки!.. Беглый шаг!.. Французские батальоны пересекли траншеи, преодолели валы, разрытые бомбами, и оказались перед английскими позициями. Оказались вовремя! Русские накатили лавиной, испуская дикие крики. Раздалось несколько залпов, а потом солдаты сошлись врукопашную. — В штыки!.. В штыки!.. — кричали французы. С рассветом завязалось жестокое сражение, пошло в ход холодное оружие — сильная сторона наших солдат. Отважные и упорные русские не отступали. Ужасная, кровопролитная схватка продолжалась с яростным ожесточением. Неожиданно огонь вражеской артиллерии, стихающий на северо-востоке, вспыхнул на юго-западе и обрушился на французские позиции. Теперь форт Карантина, люнет Белкина, Центральный и Мачтовый бастионы стирали в порошок французские передовые части. Встало бледное декабрьское солнце. Оно осветило своими лучами чудовищную бойню. Что будет дальше? Получили ли русские подкрепление? Попытаются ли атаковать опустевшие позиции французов? Осмелятся ли пойти ва-банк, начнут ли новое наступление, которое было бы для союзников катастрофой? Наступило мгновение, когда от страха сжимались сердца даже самых храбрых, по коже пробегала нервная дрожь. И в эту решающую минуту раздался колоссальной силы взрыв. Земля задрожала под ногами. Там, где рвануло, в углу кладбища, образовалась громадная воронка, вверх взлетели столб огня и туча серого дыма. Взрыв был так силен, что заглушил грохот боя, а затем над полем сражения воцарилась тишина. И со всех сторон, с редутов и бастионов Севастополя, раздались сигналы тревоги. Горны, трубы, барабаны подняли оглушительный шум. Очевидно, произошло нечто серьезное. Внезапно русские офицеры поднесли к губам свистки и пронзительно свистнули. Звуки эти произвели магическое[205] действие. Все солдаты в длинных шинелях повернулись кругом и, топоча сапогами, побежали назад гимнастическим шагом. И каждый говорил про себя, глубоко вздыхая: «Уф! Мы еще легко отделались!» И можете поверить: их и не думали преследовать. Все возвратились в свои укрытия, не понимая, что послужило причиной паники, но не задавая никаких вопросов. Паника была вызвана взрывом, не так ли? Да, и подобного гибельного удара русские еще не переживали. Взрыв порохового погреба? Нет, гораздо хуже. Взорвался знаменитый люнет Белкина с двенадцатью пушками и шестью мортирами… Он-то и взлетел в воздух… Люнет был уничтожен… стерт с лица земли… обращен в прах! Осталась лишь громадная яма… гигантская брешь в укреплениях Севастополя. Ах, если бы французы были к этому готовы!.. Если б у них под ружьем было больше народу… какая блестящая открывалась возможность… единственная в своем роде… пойти на штурм. Но нет!.. Это оказалось невозможно. Как бы то ни было, катастрофа, которая нанесла неприятелю серьезный урон, явилась нежданным спасением, особенно для англичан. Прошло полчаса. Над Мачтовым бастионом подняли белый флаг. Русские просили короткого перемирия. Французы согласились, и на Колоколенке тоже взвился белый флаг. Солдаты вышли подбирать убитых и раненых. Теперь, когда противники вдоволь наубивали друг друга, на какое-то время воцарился мир. О, ирония судьбы! Англичане, французы и русские покинули свои укрытия. И тут на ничейную полосу, открытую взгляду двух армий, вышла странная группа. Она вылезла из глубокой воронки в ста шагах от Третьей батареи. Два человека и собака. Они вынырнули буквально из-под земли и оказались на виду у всех. Один был среднего роста, бородатый, одет в русскую форму — плоскую фуражку и длинную серую шинель до пят. Другой — такого же роста, тоже с бородой, на нем — экипировка капрала зуавских частей, а вдобавок ко всему на груди поблескивал орден Почетного легиона. Ах, черт возьми! Казалось, что ему было сильно не по себе, этому зуаву, несмотря на нарядный мундир, несмотря на славную награду! Но что же дальше?.. Руки у зуава оказались связаны за спиной, как у преступника, феска натянута на уши, точно ночной колпак. Он волочил ноги, колени у него подгибались, он не хотел идти, однако плелся волей-неволей. На шее у незнакомца висела петля из крепкой веревки, другой ее конец русский намотал на свой кулак. Веревка лучше любых доводов подавляла сопротивление пленного. Русский, который, видно, забавлялся от души, кричал ему на чистом французском языке: — Да иди же ты, мерзавец!.. Двигайся! Зуав упирался, как норовистый мул, но собака прыгала на него и, рыча, хватала за лодыжки. Подгоняемый веревкой, криками и собачьими клыками, зуав с грехом пополам прошел десять шагов и снова остановился. Теперь уже русский колол его штыком, вонзая острие в складки его пышных шаровар, и кричал: — Шагай, Зу-зу! Живей, живей!.. Товарищи ждут!.. Шагай!.. Для разнообразия он с силой пнул зуава ниже спины. Зуав рычал от ярости и боли. Как бы он хотел сбежать, спрятаться, ничего не видеть и не слышать! Исчезнуть!.. Безжалостный русский дергал веревку. Петля затягивалась. Несчастный зуав, полузадушенный, искусанный собакой, исколотый штыком, грубо погоняемый своим конвоиром, карабкался, спотыкаясь, на скат бруствера. Артиллеристы Третьей батареи, взобравшись на бруствер, смотрели, озадаченные, как приближалась эта странная группа. Один из командиров орудий закричал: — Господи, спаси!.. Так это же Картечь! Капитан Шампобер, стоя среди своих канониров, добавил вполголоса, и сердце у него сжалось: — И Оторва!.. Несчастный!.. Так кончить… нет сил смотреть… У меня разорвется сердце! Рассказывать долго, а произошло все в течение минуты. Но как нескончаема и мучительна казалась эта минута! — Шевелись, месье Зу-зу, шевелись! — снова закричал русский, подкрепляя свое распоряжение пинком. Пленный зуав в последний раз попытался воспротивиться. Но собака схватила его за ляжки, и несколько капель крови проступило на белых гетрах. И в этом жалком существе, которое ничего больше не видело, не слышало и продвигалось, оступаясь, точно приговоренное к смерти, артиллеристы, в свою очередь, с негодованием узнали своего славного товарища, героя зуавского полка! — Оторва!.. Тысяча чертей!.. Это он!.. Подлец!.. Предатель!.. Продажная шкура!.. — Смотри, каналья, мы сорвем с тебя крест! — Расстрелять мерзавца!.. Смерть предателю!.. Двое и собака остановились в десяти шагах от батареи, на них лился поток оскорблений, проклятий и брани. Ликующий русский повернулся к французам и прокричал зуаву: — Можно подумать, что тебя здесь знают! Впрочем, лучше бы не знали, а? Но, может, они ошибаются… покажи им, кто ты есть… скажи что-нибудь… скажи пароль… спой хотя бы припев вашего полкового марша… не знаешь? Странно… А вот я знаю! И русский превосходным, звучным голосом запел припев марша зуавов. Среди артиллеристов наступило минутное замешательство. Затем — глубокая тишина. Воспользовавшись затишьем, русский выпрямился и закричал: — Нет, вы не знаете Оторву!.. Вы его не знаете!.. Потому что вот он! Молодой человек мгновенно сбросил русскую фуражку, сорвал с себя шинель, и все увидели на нем славный мундир зуава. Он был бледен от волнения, сердце билось, глаза сверкали. Его звучный голос разнесся над всеми позициями батареи: — Вот он где, Оторва!.. Его вы не пошлете на расстрел… и не сорвете с него награду. Потрясенные артиллеристы закричали наперебой: — Оторва!.. О-о!.. Не может быть!.. Оторва! И зуав отвечал своим металлическим голосом: — Здесь! Затем он презрительным жестом ткнул пальцем через плечо на пленника, который стоял, совершенно ошеломленный, не в силах ни двинуться, ни молвить слово, и добавил: — Господин капитан! Есть двое Оторв, так же, как два ордена! Один, настоящий, вы видите на моей груди, ленточку на нем пробила вражеская пуля. Другой крест… о нем и говорить нечего. Что касается фальшивого Оторвы… что ж, взгляните на этого Иуду[206]. С молниеносной быстротой Жан отвесил нечестивцу две сильнейшие оплеухи, от которых слетела его накладная борода, и перед глазами остолбеневших канониров предстала бледная, искаженная страхом физиономия сержанта Дюре. Жгучее любопытство сменилось всеобщим ликованием. — Да здравствует Оторва! Да здравствует настоящий Оторва! — пронесся мощный клич. Отважные солдаты все поняли и, во главе с капитаном, спрыгнули с насыпи. Капитан бросился в объятия своего друга с криком: — Я знаю, вы меня простите! Картечь прыгала, скакала, лаяла до хрипоты, приветствуя своих друзей-артиллеристов. Солдаты схватили лжезуава, на него сыпались толчки и удары. Но тут раздался голос Оторвы: — Прошу вас, друзья, не трогайте его! Предателя надо судить… Он нужен мне живой. Его подлость — доказательство моей невиновности! — Отличное доказательство! — воскликнул капитан Шампобер. — Ладно! Поняли!.. Не тронем, хотя руки чешутся! И да здравствует Оторва, да здравствует наш славный товарищ! — кричали канониры на подъеме. Они заключили двух пришельцев в плотное волнующееся кольцо. Каждый хотелдотронуться до Оторвы, пожать ему руку, выразить свое уважение и любовь. Капрал, который видел его ночью, растерянно разводил руками: — Тысяча чертей! Значит, это был не призрак… Я счастлив, что вижу его во плоти! Энтузиазм все нарастал, кольцо вокруг Оторвы и его двойника сжималось. В конце концов их оторвали от земли и подняли на услужливо подставленные плечи. Оторва выглядел триумфатором, лжезуав безвольно поник, точно марионетка[207], у которой перерезали нитки. Кто-то предложил: — Отнесем их во Второй зуавский! — Прекрасная идея!.. Доставим с почестями! — Да, во Второй полк!.. Да здравствует Оторва! Да здравствуют зуавы! Кортеж сформировался под общее ликование. Шумный, возбужденный, нестройный, он двинулся прямо по грязи, разрастаясь по дороге. Вновь присоединившиеся громогласно ликовали, и шум стал таким, что впору было оглохнуть. Набралось уже с полтысячи человек, которые кричали и жестикулировали как сумасшедшие. Весь лагерь пришел в движение. Солдаты всех родов войск подбегали узнать, что случилось. В центре кортежа всеобщему обозрению предстал Оторва, которого несли на руках. Гордый, как франкский[208] воин, он выпятил грудь и молодцевато вскинул голову. Заслышав крики: «Да здравствует Оторва!», «Да здравствуют зуавы!» — солдаты Второго зуавского выскочили из своих палаток. Питух подбежал к кортежу первым. Он узнал в триумфаторе своего друга и, запинаясь от волнения, едва смог выговорить: — Тысяча чертей!.. Это Жан! Наш Оторва! Трубач не знал, как выразить свою радость, схватился за горн и заиграл встречный марш. Появился кебир, решивший, что прибыл генерал Боске и надо его приветствовать. Но нет — это какой-то зуав! Полковник смотрел, ошарашенный, на человека, вызвавшего такой шум. Он узнал его и вскрикнул, подчиняясь общему исступлению, охватившему полк: — Оторва! Как недавно у траншеи, герой Второго зуавского ответил, вскинув руку к виску: — Здесь!
ГЛАВА 9
Одни! — Кто это сделал? — Двойник. — Записка Розы. — Раздобыть шинель! — Солнечный луч. — Добрый зуав. — Трехцветное знамя. — Предатель. — В подвале. — Пистолет кебира. — Попался! — Мина. — На аванпостах. — Сержант!Что же все-таки произошло после дерзкого побега Оторвы? Стараниями Розы, оказавшись на свободе и вне опасности, зуав думал лишь об одном: как раскрыть тайну кладбища? Дело предстояло трудное, опасное, требовавшее напряжения всех сил, нравственных и физических. В голову ему пришла простая и гениальная мысль: надо обзавестись помощником. Нет, не человеком. Дело слишком рискованное. И потом, он не хотел толкать к дезертирству своих лучших друзей. Помощником станет собака. Картечь, собачка, прибившаяся к Третьей батарее. Настоящая «дочь полка», бесстрашная, верная, неподкупная Картечь с ее удивительным чутьем — лучшая помощница в подобной затее. Но пойдет ли она на зов своего друга-зуава? Надо попробовать. Верный друг в тяжелые дни, храбрая собачка уловила привычный сигнал. Не колеблясь, Картечь покинула батарею и побежала к своему любимому Оторве. Человек растроганно гладил собаку, собака лизала ему руку. Потом они вдвоем направились к кладбищу. Зуав подыскал местечко между оградой и аллеей кипарисов и пока устроился там. Он положил на землю мешок, зарядил карабин, надел свой плащ с капюшоном, завернулся в одеяло, вытянулся на земле и сделал Картечи знак лечь рядом. Собака прижалась к человеку, и оба погрузились в дремоту… Задолго до рассвета друзья проснулись. Собака стояла на часах, человек размышлял. Сначала он обдумал происшествие, ставшее причиной его несчастья: как же ловко и бесследно был заделан подземный ход под алтарем. Кто это сделал? Шпион и Дама в Черном? В этом зуав не сомневается. Почему это случилось? Потому, что он, Оторва, сморозил ужасную глупость — взял две сотни луидоров из костюма лжезуава. Эта его промашка подсказала шпионам, что секрет подземного хода раскрыт. Факты превосходно связывались в одну цепь. Теперь Оторва ломал себе голову над загадкой переодевания в зуава. Зачем им этот маскарад?.. Зачем крест на куртке?.. И постепенно, понемногу, в его сознании встала вся картина. Обязанности начальника разведки и абсолютное доверие старших командиров позволили ему свободно передвигаться днем и ночью — и особенно ночью — по всему фронту. Его снабжали паролем, и он не отчитывался ни перед кем, кроме командира полка. Он действовал совершенно независимо и предпринимал в интересах дела все, что считал нужным. Предатель — француз, подкупленный русскими, — прекрасно об этом осведомленный, воспользовался ситуацией с дьявольской ловкостью. Он раздобыл — это было не так трудно — полный комплект экипировки зуава и крест Почетного легиона. Одетый в этот мундир и зная пароль, он мог ходить где угодно, как если бы был самим Оторвой. Ночью никто не вглядывался в него. Зуав с орденом — а их не так много — вырастал, как из-под земли, говорил пароль и исчезал. Те, кто его видел, узнавали его или думали, что узнают: это Оторва. Но нет! Это не всегда был наш зуав — рыцарь без страха и упрека. Иногда за него принимали предателя, который продавал родину и которому маскарад помогал делать его подлое дело. Жан, положив голову на мешок и устремив взгляд на предрассветное небо, беглый, обесчещенный Жан продолжал строить предположения. Ясно, что предатель принял его обличье, чтобы скомпрометировать и опозорить. Так, может быть, это его личный враг? Не исключено. Но кто? Оторва перебирал имена и не мог ни на ком остановиться. А если это… Леон Дюре? Сержант, его земляк. Между ними давняя фамильная вражда, и потом та драка… в канун Альмы… и, наконец, Дюре — сын отпетого негодяя и сам отъявленный негодяй… при этом вкрадчивый, лицемерный, лживый да еще и злопамятный, как осел. Оторва заключил: «Ради денег Леон готов пойти на все!» Теперь подумаем дальше. Взбешенный похищением золота, напуганный тем, что стал известен подземный ход, предатель, вероятно, решил поторопить события. Он успел уже скомпрометировать Оторву своими подозрительными ночными вылазками, а теперь решил закончить дело внезапной атакой. После той дурацкой пирушки Адского дозора в Камыше наветы на Оторву стали распространяться почти открыто. И наконец скандал разразился, когда Дюре отказался приветствовать Оторву и прямо обвинил его в предательстве. При этом воспоминании кровь прилила к лицу зуава, и он процедил сквозь зубы: — Дюре и есть предатель!.. Я это чувствую, я уверен!.. Все говорит об этом!.. А ход он замуровал, когда меня арестовали. Негодяй! И как он, должно быть, злорадствовал, когда узнал, что мы уткнулись в стену носом! Но хорошо смеется тот, кто смеется последним! При этих словах молодой человек встал, потянулся, погладил Картечь, она завиляла хвостом и посмотрела на него внимательными и преданными глазами. — Как ты считаешь, Картечь, не пора ли нам позавтракать? — спросил Оторва. Собака села, облизнулась и с серьезным видом стала ждать угощения. Зуав развязал мешок и извлек оттуда массу всякой всячины: сухари, окорок, свечи, спички, бутылку водки и — бесценное сокровище — три большие пачки табака. Потом он достал клочок бумаги, на котором карандашом второпях было нацарапано несколько слов: «Мой друг, будьте осторожны и думайте о тех, кто вас любит!» И суровый солдат, узнав мелкий почерк, почувствовал, что у него увлажнились глаза. — Роза!.. Дорогая Роза!.. — растроганно прошептал он. — Мыслями я всегда с вами… ваш милый образ придаст мне сил и научит осторожности. Перекусили человек и собака наскоро. С аппетитом съели сухарь и кусок окорока. Человек запил еду глотком водки, собака сбегала попить дождевой воды, скопившейся во впадине могильной плиты. — Теперь, — сказал Оторва, — выкурим хорошую трубочку — и за дело. Для начала он тщательно осмотрел часовню. После ночного визита с кебиром там ничего не изменилось. Подземный ход по-прежнему оставался искусно замурован. — Неплохо сработано, — задумчиво проговорил Жан. — Теперь осмотрим снаружи. Ворота были на месте. За ними тянулась аллея кипарисов, образовавших плотную, почти непроницаемую стену. Оторва пролез на корточках под нижние ветви и стал рассуждать: — Укрытие — лучше не надо… и от дождя защитит, и от ветра, и от постороннего взгляда. Надежнее, чем под крышей. Мы все увидим, все услышим… если они придут… Но придут ли? Да… Я чувствую… придут. Произнося этот монолог, он просунул голову за живую изгородь и заметил в нескольких сантиметрах от себя длинную и широкую плиту с какой-то надписью. «Странно, — сказал Жан про себя, — я ее прежде не видел… Но займусь я ею позже, когда буду не в такой одежке. А то бросаюсь в глаза, словно маковое поле». Тем временем Картечь весело резвилась на воле, носилась туда-сюда, рыскала по кладбищу. Ей все было интересно. Первый день прошел без приключений. В следующую ночь Оторва, оставив на земле мешок, отправился в путь. Ему требовались русская фуражка и шинель, чтобы прикрыть яркий зуавский мундир. До неприятельских аванпостов он добрался ползком. Храбрая собака ползла рядом и тихонько рычала. Он погладил ее по спине, и умное животное умолкло. Оторва лежал, вытянувшись, не менее получаса, точно дикий зверь в засаде. В конце концов он различил неясную, неподвижную фигуру, услышал вздохи, выдающие присутствие человека. Француз прыгнул, словно тигр, на сидящего на корточках солдата и ударил его по голове прикладом. Человек упал, сраженный наповал. Одним движением руки Жан подхватил его шинель и фуражку и удрал со всех ног. Так прошла ночь. На следующий день, переодевшись в русского пехотинца, он тщательно обследовал часовню внутри и снаружи и особенно привлекшую его внимание могильную плиту. Поиски ни к чему не привели. Молодой человек осмотрел аллеи в надежде найти какие-то следы. Но последние дожди все смыли. Нигде ничего! Всюду мрачное и унылое безлюдье. Ночью Оторва напряженно всматривался в световые сигналы, поднимавшиеся над Севастополем, и ждал, не появится ли трехцветная ракета, которая так заинтриговала его в ту давнюю ночь. Но ни одна ракета не вычерчивала по темному небу свой светящийся путь. Слышались лай собак, перекличка часовых и громовая симфония пушек. Сигналов не было. Оторва упорствовал, высматривал, искал, обшаривал все вокруг, снова и снова обходил те же места. Безрезультатно! На пятую ночь, пока зуав ползал под непрекращающимся обстрелом, ему принесли пищу. Недалеко от ворот, у стены, он нашел свежий хлеб, мясо, два литра кофе, табак и большой глиняный кувшин с шестью литрами воды. В жестяной коробочке лежала написанная карандашом записка:
«Дорогой Жан, мы с Тонтоном принесли вам еду. Идти далеко, и груз слишком тяжелый для меня одной. Но вы не бойтесь. Тонтон умеет держать язык за зубами и любит вас, как брата. В вашу тайну никто не проник. О вас много говорят, но больше обиняками. Ваши друзья, а их у вас много, надеются на скорую встречу. Я считаю часы и мыслями всегда с вами. Да не оставят вас мужество и надежда. Всем сердцем с вами, мой дорогой Жан!Несмотря на свою обычную бодрость и невероятную энергию, Оторва опечалился. Как же иначе? Даже для закаленного воина, ставящего долг и самоотречение превыше всего, такой образ жизни был ужасен. Но зато какая радость, какое блаженство — читать эту записку, которая дышала трогательной простотой, была исполнена нежности и силы! Да, именно так, простота, нежность и сила — вот душа Розы! Одинокому бедолаге казалось, что это солнечный луч проник в его убежище и согрел своей теплой лаской. И день словно бы стал уже не таким хмурым, надгробные камни — не такими мрачными, одиночество — не таким пугающим. Улыбка возвратилась на его лицо, глаза снова заблестели, сердце забилось живее. Он испытывал неодолимую потребность говорить, кричать о своем счастье. Но его единственным собеседником была Картечь. Собака чувствовала, что хозяину хорошо, и прижималась к его ногам. Оторва показал ей записку: — Ты знаешь, Картечь, это письмо… и провиант… все это принесла Роза, твой друг… наш друг, которая так тебя любит и угощала всякими вкусностями, когда мы с капитаном лечились в лазарете… Да, Роза, ты помнишь ее, правда, Картечь? Наша добрая, верная Роза не забывает своих друзей, зуава и пса… После веселого завтрака Оторва продолжил свой жуткий труд. В сотый раз он обшаривал кладбище в поисках подземного хода, протыкал шомполом землю, простукивал прикладом камни, пытаясь обнаружить следы недавнего человеческого присутствия. Напрасные усилия! Он оставался один, по-прежнему один, посреди большого кладбища, которого пока не коснулись военные действия. Отчаявшись найти подземный ход, Оторва принялся наудачу искать предателя, который показывался в зуавском мундире. Ночью, в разные часы, Жан обходил зону, куда люди предпочитали не соваться, — проклятую зону, непрерывно простреливавшуюся с обеих сторон. Но лжезуав упорно оставался невидимкой. Лишь настоящий зуав на каждом шагу играл со смертью и, словно саламандра[209], не боялся огня. Бродя ночью между аванпостами, он развил в себе удивительную остроту чувств: все видел в темноте и различал самые легкие шумы. Помогало ему и чутье Картечи, так что ничто не могло от него ускользнуть. Молодой человек ловко миновал русские посты и засады. Ему сопутствовала удача. Он распознавал малейшие передвижения неприятеля и тут же спешил поднять тревогу в расположении французов. Рискуя получить пулю от своих же часовых, Жан подползал к ним вместе с собакой почти вплотную, кричал: «К оружию! Русские!» — и исчезал с необычайной быстротой. Так прошли три нескончаемые, три смертельно тяжелые недели, и все это время — ни минуты отдыха, ни малейшего успеха, ни луча надежды. И вот наконец наступила ночь, когда три ракеты — синяя, белая и красная — поднялись над городом. Он не мог сдержать радостного крика и бегом возвратился на кладбище. Сигнал повторился три раза через неравные промежутки времени, словно бы для того, чтобы избежать возможной ошибки и подчеркнуть неотложность исполнения. Остаток ночи Жан провел в засаде, твердя про себя: «Завтра!» Нескончаемо тянулся день. Спустилась ночь. Оторва лежал, вытянувшись, под кипарисами, совершенно неподвижно. Рядом с ним — Картечь. В осажденном городе царили спокойствие, полная тишина — страшное предвестие урагана, который вскоре обрушится на укрепления и бастионы. В полночь с главной аллеи донеслось еле слышное похрустывание гравия под чьими-то легкими шагами. Сердце у Оторвы забилось так, что чуть не разорвало грудную клетку. Картечь вздрогнула и зарычала. Молодой человек рукой зажал ей пасть. Умное животное поняло, что надо молчать, и, как хозяин, замерло в полной неподвижности. Быстрая тень прошла, чуть не задевая их, потом остановилась в двух метрах, по ту сторону кипарисов, возле большой белой плиты. Оторва различал ненавистный силуэт лжезуава, его двойника, виновника катастрофы, которая чуть было не стоила Жану жизни и чести. Оторва обдумывал, не пора ли кинуться на врага, перешибить ему хребет, связать руки и оттащить во французские траншеи. Нет, этот момент еще не настал! Жан сохранял хладнокровие, жуткое хладнокровие человека, который приготовился к отмщению. Лжезуав постучал каблуком по камню, три раза, с равными промежутками. Прошло пять томительных минут. И вдруг Оторва услышал скрежет. Плита повернулась вокруг невидимой оси, одна половина встала торчком, другая исчезла в глубокой впадине. Оттуда появился черный силуэт и произнес по-французски: — Это вы? — Да! — ответил лжезуав. — Вы один? — Конечно. — Все меры предосторожности приняты? — Да, все до мелочей. — Хорошо, идите! Тень исчезла, за ней последовал лжезуав. Отверстие, в которое они спустились, все еще было открыто. Бесстрашный воин, готовый, если надо, пожертвовать и жизнью, Оторва принял, как обычно, поразительно смелое решение. Он быстро расстегнул гетры, сбросил башмаки и остался босиком. Потом тихо и властно приказал Картечи: — Лежать! И, ни секунды не колеблясь, нырнул в свою очередь в отверстие. Его ноги нащупали знакомые ступени каменной лестницы, которая была перенесена, когда замуровали ход из часовни. Храбрец попал в сводчатый коридор. В пятидесяти шагах впереди него медленно шли два человека, первый нес в руках факел. Босые ноги Оторвы ступали совершенно бесшумно. Он шагал быстро, догоняя двух заговорщиков, полагавших, что они одни и, следовательно, в полной безопасности. Узкий туннель, выводящий в арсенал, был, должно быть, расширен, потому что ползти не понадобилось. Те двое прошли, лишь нагнувшись. Оторва, добравшись до арсенала, остановился, чтобы прислушаться и убедиться в том, что никого больше нет. Он вытянул шею и увидел своих врагов — они стояли посреди ротонды[210] и разговаривали вполголоса. Потом Жан услышал шуршание бумаги, звон золота. Опять это проклятое золото, золото предательства! Лжезуав положил в карман толстый кошелек и собрался уходить. Пришла пора действовать. Чтобы ничто его не стесняло, Оторва сбросил с себя русскую шинель. Великолепный прыжок — и ударом головы в живот Оторва опрокинул лжезуава на землю. Тот упал без чувств. — Готов! — сказал Оторва, разражаясь смехом. Другой человек, в форме русского офицера, тоже не знал страха и не терял хладнокровия. Отступив на шаг, он выхватил из кармана заряженный пистолет и выстрелил во француза. Однако тут же испустил крик ярости и боли. В то мгновение, когда он нажал на спусковой курок, какое-то легкое проворное существо прыгнуло на него из полутьмы. Острые зубы прокусили запястье до кости. Пистолет отклонился в сторону. Пуля, которая должна была пронзить грудь Оторвы, царапнула камни свода. — Картечь! Это ты!.. Картечь! Почуяв неприятеля и уловив грозившую хозяину опасность, храбрая собака нарушила приказание и кинулась ему на помощь. Словно посланная самим Провидением[211], она спасла жизнь нашего зуава! В следующую секунду русский отбросил отважную собачонку, кинулся к козлам и вытащил ружье. Оторва же оставил Дружка наверху, под кипарисами. Он был безоружен… Да, но при нем пистолет кебира! Тот, который у него за поясом… который принес Буффарик… С молниеносной быстротой зуав выхватил его и разрядил, не целясь, наугад… Получив заряд прямо меж глаз, русский офицер упал с раздробленным черепом. Оторва хладнокровно воскликнул: — Кто-то должен был получить пулю в лоб, или ты, или я! А теперь займемся-ка другим! Другой — это лжезуав, предатель, жалкий мерзавец; он пошевелился и застонал. — Смотри-ка, — сказал наш герой насмешливо, — он приделал себе фальшивую бороду, чтобы больше быть на меня похожим… То-то будет смеху… Внезапно раздались глухие взрывы, от которых задрожала земля. Это началась бомбардировка. — Прежде чем посмеяться, придется еще и повоевать! Сматываем удочки! Нужно только раздобыть веревку… связать этого господина… Посмотрим в ящике… Вот это мне и нужно. В гаубичном ящике Жан нашел моток веревки, торопливо связал пленника и накинул ему на шею петлю со скользящим узлом. Затем не без труда, то подталкивая сержанта, то волоча его за собой, Оторва добрался до своего укрытия под кипарисами. Севастополь в это время был охвачен огненным кольцом. Гаубицы, пушки, мортиры грохотали без передышки, осыпая снарядами английские позиции. — Неподходящее время для возвращения! — рассудил Оторва. — Чугун так и сыплется с неба — не повредили бы мне моего дорогого Леона Дюре. Ведь это ты, не так ли, сержант? Подложный зуав… негодяй на службе у неприятеля… предавший честь… знамя… Францию. Но хватит… об этом поговорим позже! Вдруг молодой человек вспомнил об арсенале, заставленном бочками с порохом, и ему пришла в голову одна мысль. У этого Оторвы всегда великолепные мысли! — Ведь там, — сказал он себе, — по крайней мере десять тонн пороха. И, если не ошибаюсь, он расположен как раз под тем люнетом, который так досаждает капитану Шампоберу. Десять тонн пороха! Какой прекрасный фейерверк! Ну что ж! Отметим-ка свою победу и возвращение во Второй полк. А московцы у меня попляшут… Пошли! Удостоверившись, что его пленник не может шевельнуть и пальцем, Оторва взял свечу, спички, ножовку, которой он перепилил железный прут в каземате, и снова спустился в подземный ход. Жан наткнулся на тело русского офицера, убедился в том, что за время его короткой отлучки в арсенале ничего не произошло, и не мешкая принялся подпиливать верхний край одной из бочек. После десятиминутных усилий ему удалось добраться до содержимого бочки. Порох в бочке оказался зернистый, сыпучий и очень сухой. Оторве некогда было готовить фитиль. Действуя с присущей ему беспримерной отвагой, он воткнул горящую свечу в самую середину бочки. «Пламя доберется до пороха не раньше, чем через два часа, — рассудил он. — И не зваться мне Оторвой, если через два часа наверху все не полетит вверх тормашками!» Наш зуав собрался было идти, но вдруг споткнулся о русскую шинель, которую сбросил на пол. Подобрав ее, он вдруг начал хохотать — ему в голову пришла забавная мысль. «Я надену ее и в ней вернусь в наши траншеи. Меня примут за московца, который ведет пленника-зуава… лже-Оторву. Вот будет комедия!» Молодой человек возвратился в свое укрытие, обулся, погладил собаку, взвалил на плечо пожитки и сказал пленнику: — Пошли! Предатель тем временем пришел в себя. Он понимал ужас своего положения и упирался изо всех сил. Оторва невозмутимо зажал в кулаке конец веревки со скользящим узлом и поволочил пленника за собой. Задыхаясь, хрипя, спотыкаясь и падая, подгоняемый пинками, ударами приклада и собачьими зубами, несчастный тащился, словно строптивая скотина, которую тянут за повод. Так они добрались под огнем до воронки от бомбы прямо напротив Третьей батареи. Остальное известно: взрыв люнета Белкина, принудивший русских к отступлению, триумфальное появление Оторвы на батарее и его встреча со Вторым зуавским полком.Роза».
В ту минуту, когда Оторва, приветствуемый полком, рапортовал «Здесь!» своему полковнику, к ним рысью подскакал крупный гнедой конь генерала Боске. Генерал увидел сияющего Оторву и рядом с ним дрожавшего от ужаса лжезуава. — Сержант Дюре! — воскликнул он, пораженный. — Штабной писарь! Теперь все понятно! Негодяй словно бы пробудился от кошмарного сна. Он хотел взять наглостью! Бормотал что-то несвязное, протестовал, утверждал, будто он невиновен. Оторва прервал Дюре громовым голосом: — Молчи, мерзавец! Трибунал, перед которым я должен был предстать вместо тебя, спросит, почему твои карманы набиты золотом, почему на тебе чужой мундир, что ты делал в том месте, где я тебя сцапал! И ты ничего не сможешь ответить, потому что за тебя говорят факты, и их красноречие убийственно. Потому что предатель — ты! Господин полковник!.. Простите, что я говорил без вашего приказа… Гнев переполняет меня… — Мы прощаем тебя, Оторва, — с доброй улыбкой ответил генерал Боске. — Займи свое место в полку. Вы разрешаете, не правда ли, полковник? Иди, сержант Оторва… — Сержант, господин генерал? О, благодарю вас! — Да, пока сержант. Главнокомандующий обещал тебе эполеты…[212] У тебя будет случай их заработать!
Конец второй части








Часть третья БРАТЬЯ-ВРАГИ
ГЛАВА 1
Генерал Пелисье. — Новый главнокомандующий. — Конец зимы. — Спектакль зуавов. — Артисты-любители. — Гала-представление. — Возвращение на родину. — Виктуар и Грегуар. — Прерванное представление. — К оружию!Зима 1854 года под Севастополем выдалась небывало суровая. Страдали жители осажденного города, еще более — осаждающие. Морозы доходили до двадцати градусов! Снегопады сменялись внезапной оттепелью с ураганным ветром, проливные дожди превращали земляные укрепления в море грязи. Люди мерзли, стоя на месте, или шлепали по колено в вязкой каше. Их снабдили деревянными башмаками, гамашами, бараньими шкурами, подбитыми мехом шапками. Под этим убранством прятались нарядные мундиры. Ничто, кроме оружия, не обличало в них военных. Потешным и трагическим маскарадом выглядело это сборище людей с изможденными лицами, лихорадочным блеском в глазах и заиндевевшими бородами, из которых торчали ледышки. Однако, несмотря на болезни, нехватку продовольствия, непогоду, перебои со снабжением, затрудненное передвижение, жесткий военный распорядок и дисциплина не нарушались, тяжелые работы шли своим чередом. Ожесточенный поединок между союзными армиями и славным городом продолжался с короткими передышками, когда все валились с ног от усталости. Крупные операции не производились, но постоянные перестрелки не давали бойцам вздохнуть. Временами возобновлялся артиллерийский обстрел, и пушки грохотали под снежным саваном. Так проходил день за днем, не принося ничего, кроме лишений, страданий, скорби по погибшим. Ничего выдающегося в этот мрачный период как будто и не происходило, если не считать самоотверженности и безымянного героизма, проявленного всеми — от командиров до солдат. Лишь несколько событий заслуживали внимания. Двадцать шестого января 1855 года, по совету министра, графа Кавура[213], который подготавливал объединение Италии[214], король Сардинии[215] подписал союз с Францией, Англией и Турцией. Согласно этому договору Виктор-Эммануил[216] обязывался послать в Крым армейский корпус и принять участие в боевых действиях против русских. Этому союзу суждено было вскоре приобрести огромное значение. Между французами и пьемонтцами установились отношения боевого братства, несокрушимой дружбы, которые стали четыре года спустя толчком к началу итальянской кампании[217]. На следующий день после заключения этого памятного акта в Крым прибыл генерал Ниэль, адъютант Наполеона III. Выдающийся инженер, генерал Ниэль намеревался вместе с генералом Бизо, командовавшим саперными частями, придать осадным работам новое и более активное направление. Тридцатого января в план наступательных операций были внесены существенные изменения. Истребляемые «траншейной болезнью» англичане, численный состав которых уменьшился на три четверти, были слишком слабы, чтобы защитить позиции на правом фланге, от Южной бухты до Килен-балки. После долгих и трудных переговоров было решено, что на правом фланге их сменят французы. Действия англичан сосредоточатся в центре, перед Большим реданом, а французы займут траншеи перед Малаховым курганом, значение которого, со стратегической точки зрения, стало очевидно. Пятого февраля князь Михаил Горчаков был назначен главнокомандующим русской армией вместо князя Меншикова. В тот же день в Камышовой бухте высадились гренадеры и стрелки французской императорской гвардии под командованием генерала Рено де Сен-Жан д’Анжели. Второго марта скоропостижно скончался русский император Николай I. Эту новость сообщил русским французский парламентер. С девятого по восемнадцатое апреля, когда заметно потеплело и ласковая весна оживила природу, происходили яростные обстрелы, приносившие разрушения и смерть. За девять дней и девять ночей было произведено с той и другой стороны триста тысяч орудийных выстрелов, восемь тысяч человек выбыли из строя. Заметного перевеса при этом не получил никто. Девятого мая в Балаклаву прибыл корпус сардинцев — пятнадцать тысяч превосходных солдат под командованием генерала Альфонса де Ламармора. Двадцать шестого мая армия с удивлением узнала об отставке генерала Канробера и о назначении главнокомандующим генерала Пелисье[218]. Это назначение в целом встретили с одобрением. Новый главнокомандующий имел репутацию сурового человека и беспощадного рубаки, о его энергии ходили легенды. Среди солдат пошли разговоры: «С этим дело пойдет!.. Он как надает по морде… все лучше, чем топтаться на месте!» Пелисье было к этому времени лет шестьдесят. Крепко сложенный, коренастый, смуглой кожей он напоминал африканских стрелков, густые черные усы оттеняли жесткую и непокорную белоснежную шевелюру. Солдаты называли его Жестяная Голова. Это казалось ему забавным и вызывало гримасу, обозначавшую смех, — смех, который заставлял сопровождающих его офицеров дрожать, словно малых детей. При грубоватой внешности он отличался незаурядной проницательностью, властностью, бесстрашием и истинно норманнской хитростью. Свои язвительные замечания Пелисье отпускал твердым, немного гнусавым голосом, который нельзя было спутать ни с чьим другим. Ко всему надо прибавить никогда не изменявшее ему хладнокровие. Однажды в Африке, будучи еще бригадным генералом, он в порыве гнева ударил хлыстом одного квартирьера, унтер-офицера из егерей. У того потемнело в глазах, он выхватил пистолет и в упор выстрелил в генерала. По счастливой случайности пистолет дал осечку. Пелисье спокойно посмотрел квартирьеру прямо в глаза и сказал, не повышая голоса: — Пятнадцать суток за плохое содержание оружия. Унтер не был разжалован и по прошествии времени стал превосходным офицером. С первого же дня прибытия Пелисье в Крым работы в армии развернулись с необычайным размахом. Чувствовалось, что человеческое тесто месила железная рука, вливавшая в каждого солдата и офицера отвагу и энергию. Траншеи и ходы сообщений все туже сжимали кольцо вокруг Зеленого холма, который открывал дорогу к Малахову кургану — ключу Севастополя. В качестве подарка, в ознаменование хорошего начала, Пелисье хотел преподнести своей армии Зеленый холм. Несмотря на усталость, вражеский огонь, страдания, потери, одним словом, несмотря на войну со всеми ее ужасами, исконная французская веселость не уступала своих позиций. Солдаты упорно, вопреки всему, искали развлечений. Они предавались не только вульгарным забавам в тавернах Камыша, но и другим, более возвышенным развлечениям. Театр, да, именно театр пользовался неизменным успехом у осаждающих Севастополь. С Варны[219] и по сей день, седьмого июня[220], представления неизменно имели успех. Своей ребяческой увлеченностью, своим неиссякаемым воодушевлением артисты-любители скрашивали товарищам тоскливые часы осады. Среди этих театриков труппа Второго зуавского полка бесспорно была самая известная. Поскольку полк располагался на правом фланге французских позиций, близ мельницы, он получил название «Театр Инкермана» или «Театр у мельницы». Сцену оборудовали на земляной насыпи, которую подпирали изгороди. Куски полотна, собранные повсюду и сшитые вместе, были натянуты на рамы и служили декорациями. Декорации разрисовывали порохом, разведенным в воде, мелом и красной краской, позаимствованной у артиллеристов. Некоторые из панно смотрелись просто превосходно! Костюмы и бутафория изготавливались из самых разнообразных материалов. Одежду кроили из русских шинелей и мастерски отделывали. Были и костюмы маркиза с вышивкой, сверкавшей серебром… нарезанным из консервных банок. Туалеты дам отличались не меньшей роскошью. На них шло полотно, но ярко размалеванное, вышитое «серебром», украшенное пестрыми узорами. В таком же роде было и все остальное. Парики благородных отцов семейства сооружались из старых гетр, сшитых когда-то из бараньих шкур; дамские шляпы — это переделанные тюрбаны или шерстяные кушаки, обтягивающие проволочный каркас. Цветы, которыми они украшались, были скручены из зеленой, красной и желтой бахромы эполет. На муфты пошли отбеленные мешки для земли; черные крапинки пороха на них изображали горностаевые хвостики. Все это производило необыкновенный эффект при свете рампы, устроенной из свечей с отражателями, также вырезанными из консервных банок. Зрительный зал длиной метров двенадцать располагался под открытым небом. Ограда вокруг него доходила в высоту до пояса. Огороженная часть предназначалась для английских и французских офицеров, которые смеялись до упаду над уморительными выходками артистов. Привилегированные зрители сидели на земляных скамьях. Они платили за свои места, и доход полностью шел французским пленным в Севастополе. За оградой располагались, кто как может, безбилетники. Ставили все — драмы, водевили, комедии. Но наибольшим успехом пользовались грубоватые фарсы, сочиненные «драматургами» в красных форменных штанах и сдобренные солеными шуточками. В них доставалось всем: командирам, союзникам, русским, грабителям из Камыша, спекулянтам из Ворограда и Шельмостополя, ирландцам, которые хлестали водку стаканами, и т. д. Труппа состояла из солдат полка. Некоторые из них обнаруживали несомненные сценические способности, и появление их на подмостках вызывало бурю восторга. К несчастью, театральную карьеру солдат нередко обрывала война. Часто приходилось срочно менять афишу, так как один актер оказывался в лазарете, другой — на кладбище на Корабельной. Впрочем, к этому все уже давно притерпелись. Как во время эпидемии, каждый ждал своей очереди и стремился как можно больше взять от жизни, пока жив. В этот вечер театр Второго зуавского полка предлагал публике гала-представление[221]. Огромная афиша у входа в театр сообщала название спектакля и имена персонажей.
СЛУЧАЙ В КАМЫШЕ Фарс в трех актах и пяти картинах
Грегуар Буландо, капрал императорской гвардии. Лорд Тейл, английский полковник. Жан Габион, солдат. Разибюс, торговец из Шельмостополя. Потапов, русский гренадер. Виктуар Патюрон, суженая Грегуара Буландо. Мисс Туффль, ирландка. Мадам Пило, юная одалиска. Мадам Кокино, левантийская торговка. Толпа — солдаты и торговцы, воры и обворованные. Начало спектакля ровно в девять часов.
В назначенный час полковой оркестр сыграл увертюру. Зал был переполнен. Занавес поднялся. Площадь, деревья, угловой дом с нишей, где высилась статуя святого Вастополя в натуральную величину.
ЯВЛЕНИЕ I Грегуар Буландо и Виктуар Патюрон.
Грегуар одет в турецкие шаровары, в которые заправлена подушка, китель сшит из полосатого тика; на голове — колпак, украшенный петушиным пером; к поясу привязаны три надутых свиных пузыря. Правый его глаз закрыт повязкой, нос покрыт серебряной фольгой. У него нет левой руки, одна нога — деревянная. Он прохаживается горделивой походкой, закинув голову, вертит тросточку и напевает песню зуавов:
Виктуар. Ах, Боже мой! Не Грегуар ли это?.. Мой суженый!.. Неужели это правда? Мой Грегуар! Грегуар. Ну да! А ты — Виктуар, такая же победительная, как твое имя. Виктуар. И ты возвращаешься на родину… Ты отслужил свое! Ах, как я счастлива! Грегуар. Я тоже, Виктуар!.. О, моя красавица! Подумать только — восемнадцать месяцев трудов… сражений… славы! Виктуар. Слава — это хорошо. Но… не в обиду тебе будь сказано, у тебя немного усталый вид. Грегуар. Усталый? У меня? Ничуть! Я готов хоть сейчас обежать земной шар, прыгая через веревочку! Виктуар. Я не спорю! Но ты не станешь отрицать, что глаз-то у тебя один. Грегуар. Что ты хочешь! За славу приходится платить!.. Надо же чем-то поступаться для отечества. И потом, одним глазом больше или меньше… Виктуар. Один-то у тебя есть. Грегуар. И его вполне достаточно, чтобы восхищаться прелестями такой красавицы, как ты! Виктуар. Ты очень любезен, мой Грегуар! Но ты потерял и руку? Грегуар. Это плата за славу, я же сказал тебе. И ты видишь, это всего-навсего одна рука… подумаешь, какая-то рука! Виктуар. Работать-то будет неудобно. Грегуар. Подумаешь! Чтобы сморкаться, набивать трубку, есть суп и опрокидывать стаканчик, мне хватит и одной! Виктуар. Раз ты доволен, все в порядке. Но не ошибаюсь ли я? Мне кажется, ты потерял и ногу! Грегуар. Ради славы! Виктуар. Сдается мне, нога тебе нужна. Грегуар. Нисколько!.. И потом — слава! Глуар![222] Ты только послушай: Виктуар, Грегуар, глуар! Как славно они рифмуются! Виктуар. Я предпочла бы, чтоб одной рифмой было меньше и одной частью тела больше. Ты потерял и глаз, и руку, и ногу! Грегуар. Да, я все отдал ради славы… Надо мной поработало ядро… и над моим носом, и бородой!.. Виктуар. Твой нос! О, Господи! Он же совсем белый! Грегуар. Это моя идея! Я попросил сделать себе нос из серебра — теперь у меня не будет насморка! Виктуар. По правде говоря, ты многого лишился, и я боюсь, что тебе будет не слишком удобно. Грегуар. Ничуть! А в доказательство я думаю наняться учителем гимнастики. Виктуар. Ну что ж, скажу еще раз — если ты доволен, все в порядке. Но как ты странно одет… и потом, эти пузыри у пояса… на что они? Грегуар. Это форма пловца. Виктуар. Но они будут мешать тебе нырять в воду… и плавать. Грегуар. Ты права, но этого требует устав… тот самый устав, который дает ложки и не дает вилок, дает меховые шапки и не дает фуражек! Виктуар. Не сердись! И дай мне тобой полюбоваться! Ты храбрый солдат… ты — гроза неприятеля… ты — герой! Грегуар. Черт возьми! Это сразу заметно. Виктуар. Расскажи мне о своих подвигах! Грегуар. С удовольствием. Начну с самого начала, чтобы ничего не перепутать. Итак, я выехал из Тулона, который находится во Франции, и направился в страну, которая называется Восток. Плыть до нее морем две недели… морская болезнь — вещь неприятная и тошнотворная. Наконец мы увидели берег… прошли мимо места, которое зовется Гурганеллы[223], и мимо еще одного, которое зовется Фосфор или Фротфор… не знаю, как правильней… короче, название вроде как у спичек. Потом мы доплыли до такого места, которое звалось Варна, и там все стали кататься от дьявольских колик, которые называются холера. Это было началом и мук и славы. Виктуар. А почему все-таки вас послали так далеко? На страдания и гибель? Грегуар. Это яснее ясного. Россия хотела выставить за дверь государство, которое называется Порта. А это государство — наш друг. Вот император Наполеон и решил не шутить с дверью, а послать нас в эту самую Порту, чтобы помешать русским вышибить дверь, то есть Порту. Виктуар. Ты очень понятно все объяснил. Продолжай. Грегуар. Итак, мы задали русским хорошую трепку, их генералам Менеечикову и Гора-чакову, и под конец взяли город Святого Вастополя. Виктуар. О, город Святого… Грегуар. Не обращай внимания. Этого святого в нашем календаре нет, ведь русские — еретики. Виктуар. Господи! Еретики! Ты — молодец, что с ними сражался!
ЯВЛЕНИЕ II Грегуар, Виктуар, лорд Тейл, мисс Туффль, Разибюс, мадам Кокино.
Входит лорд Тейл. Одной рукой он придерживает Разибюса, в другой у вельможи сушеная рыбина, которой он изо всех сил колотит торговца. Мисс Туффль, всклокоченная, в шляпке задом наперед, тащит мадам Кокино, которая вопит не своим голосом.
Разибюс. Караул! Убивают! На помощь! Лорд Тейл. Вы — жулик… воровка… Вы мне продать дохлая рыба за полгинеи[224]. Мисс Туффль. И вы — каналья… продал мне стакан виски за пять шиллингов![225] Разибюс. Но, милорд, это все равно что бифштекс… из лучшего ресторана. Мадам Кокино. А это виски из погребов ее величества королевы! Виктуар (в замешательстве). Скажи, Грегуар, кто это все эти люди? Грегуар. Английские аристократы, возвращаются из Шельмостополя. На базар ездили. Виктуар. Не понимаю. Грегуар. Шельмостополь, Вороград — это дружеские прозвища, так мы называем Камыш — этот огромный базар, где покупателя, попавшего в руки торгового сброда, обчищают, обжуливают, обкрадывают и грабят. (Обращаясь к лорду Тейлу.) Добрый день, милорд! У вас все благополучно? Как ваше драгоценное здоровье? Лорд Тейл. Добрый день, Грегуар! Благодарю. Мой здоровье хорошо. А как… Мощный взрыв прервал реплику лорда Тейла. Батарея мортир дала ответный залп, потом последовала серия выстрелов из соседних орудий. Никто никого не слышал. Актерам дружно аплодировали, и они терпеливо ждали, пока стрельба утихнет, чтобы продолжить представление. Но над Колоколенкой взлетела ракета, точно комета пересекла небо и рассыпалась на множество звездочек. Офицеры вскочили и внимательно прислушались, не прозвучит ли сигнал их полка. — Атака на правом фланге! — закричал Грегуар, опять ставший солдатом, и выпрямился. Снаряды взрывались один за другим, потом накатила ружейная пальба. В это же время над Колоколенкой, вспарывая темноту, взлетели четыре новые ракеты. Со всех сторон горнисты трубили сбор, потом сразу — общий сбор. — Атака, видно, серьезная! К оружию! К оружию! Офицеры сорвали с себя все тряпье и кинулись к карабинам, заряженным и составленным за кулисами в козлы. Больше не было ни актеров, ни актрис, остались только солдаты. Грегуар Буландо — это Питух, горнист; Виктуар Патюрон — Дюлон, безусый зуав; мисс Туффль — Робер, белокурые усы которого, закрашенные мелом, совершенно не заметны; Разибюс — это Бокан; лорд Тейл — Понтис; мадам Кокино — юный барабанщик Мартен. Наконец, из суфлерской будки выскочил, словно черт из коробочки, автор и режиссер Оторва. Вся труппа — это неразлучный Адский дозор. В мгновение ока они приготовились к бою и кинулись на свои места.
ГЛАВА 2
Атака, и только атака!.. — Зеленый холм. — Рукопашная. — Победа! — Полковник Брансион. — Безумная атака на Малахов курган. — Питух трубит только атаку. — Дама в Черном. — Раненые. — В плену.Начался решительный штурм Зеленого холма. Зуавы-комедианты со всех ног неслись в расположение своего полка позади редута Виктория. Луна светила вовсю. Видно было, как днем. Насколько хватало глаз, тянулись молчаливые угрюмые траншеи, над которыми поблескивали штыки. Уперев кончик сабли в носок сапога, полковник, стоя рядом со знаменем, курил сигару. Оторва и его товарищи вихрем пронеслись мимо, торопясь занять свои места в строю. Полковник заметил Жана и окликнул его: — Оторва! — Здесь, господин полковник! — Я предоставлю свободу действий тебе и твоим молодцам. Сколько их у тебя? — Семьдесят, господин полковник! — Хорошо. Через пять минут начнется фронтальная атака. Опередите нашу первую линию… расчищайте нам путь… уничтожайте всех, кто попадется… но — ни одного выстрела. Действуйте штыком… только штыком. Понятно? — Да, господин полковник, спасибо! — А ты, горнист, — продолжал полковник, — когда доберетесь до последних траншей, труби сигнал атаки. — Слушаюсь, господин полковник! — радостно откликнулся Питух. — Только атаки, и ничего другого, что бы ни было — сигнал атаки! — Сигнала к отступлению не будет, господин полковник! И полковник скомандовал своим зычным голосом: — Разведчики, вперед! Семьдесят человек вышли из рядов и собрались вокруг Оторвы. Почти все несли с собой холщовые мешки с молотком и гвоздями для заклепывания неприятельских орудий. Оторва почувствовал, как кто-то крепко сжал его руку, и голос с провансальским акцентом прошептал на ухо: — Послушай, голубок! Сдается мне, впереди у нас славное дельце. — Да, старина Буффарик! Мы так всыплем московцам, что у них глаза на лоб полезут. — Язви их душу!.. Они у нас попляшут! Оторва окинул взглядом свою команду и доложил: — Мы готовы, господин полковник! — Ну что ж, друзья мои, вперед! Солдаты Адского дозора устремились к французским передовым позициям и, преодолев в несколько прыжков брустверы, оказались у последней линии окопов. Перед ними высилась темная громада. Это Зеленый холм или, как его называли русские, люнет Камчатка. Не слышалось ни пушечных, ни ружейных выстрелов. Пробитые туры, зияющие амбразуры, рухнувшие брустверы, опрокинутые нашей артиллерией укрепления. Русские ждали атаки. Расстояние между неприятельским редутом и последней французской траншеей составляло триста метров. Этот участок земли, испещренный воронками, развороченными ядрами и снарядами, предстояло преодолеть в открытую. На крайнем правом фланге, недалеко от бухты, где располагались Селенгинский и Волынский редуты, атака уже началась. Слышались пронзительные звуки горна, потом крики и отдельные пушечные выстрелы. Оторва приказал своим людям залечь, а сам остался стоять вместе с Питухом, который держал мундштук горна у самых губ. Жану казалось, будто он различает на дне воронок скорчившиеся черные фигуры. Прошла минута. Позади волновался, как человеческое море, полк зуавов, изготовившийся к атаке. — Пора! — решил Оторва. И звенящим от напряжения голосом крикнул: — Вперед, друзья! Вперед! И тут же раздался страстный призыв горна в атаку! Сыграл его Питух.
ГЛАВА 3
Отступление. — Раненые. — Дама в Черном и Понтис. — В лазарете. — Еще об изнанке славы. — Ампутация. — Героическая твердость. — Награда. — Визит генерала. — Самоотверженность Розы.В ту самую минуту, когда Оторву поднимали на крюке, Дама в Черном упала в ров. Слишком низко свесившись за край рва, да еще получив тяжелое ранение, она упала сверху на плечи горниста. Питух, не успев отскочить, инстинктивно подставил спину, наклонил голову и ждал удара. Две секунды напряжения, и Дама в Черном, словно бомба, обрушилась на его позвоночник. Обычный человек был бы раздавлен, но этот худенький мускулистый парижанин, чьи сухожилия были пропитаны спиртом, казался сделанным из стали. Он подогнул колени, раненая перекатилась на землю и осталась лежать как мертвая. Питух тяжело вздохнул и сказал ворчливо: — Ну и ну! Счастье еще, что я не картонный. Он поднял голову и увидел сквозь дым, как Оторву втаскивали в амбразуру. — Беда!.. Оторву захватили!.. Переведя взгляд на землю, Питух различил Понтиса, который пытался ползти на руках и коленях, волоча искалеченную ногу. — Тысяча чертей!.. Тебе плохо?.. Бедняга!.. Сюда, братцы, сюда! Буффарик, с непокрытой головой, перепачканный кровью, вынырнул из дымного облака, которое стлалось по земле, затеняя рождающийся день. — Что такое? Что тут у вас? — О, сержант! Если б вы видели! Оторва!.. — Я видел… сейчас мы ничем не можем ему помочь… Бедный малый!.. — Помогите мне унести Понтиса! Не оставлять же его русским! — Само собой! Взвали его мне на спину! — Спасибо, сержант… спасибо, Питух… — пробормотал раненый, теряя сознание. — А мне кого тащить? — спросил Питух. — Эту бабу… взвали ее тоже на спину, — ответил Буффарик. — Мало того, что эта шельма наделала бед своими гранатами… — Ты глуп, а еще горнист! Давай, давай делай, что говорят!.. В нашем распоряжении ровно две минуты. Со всех сторон трубят отступление… Вот-вот набегут русские и прикончат нас… — И что же? — Ничего! Я иду первым, тащу Понтиса, а ты идешь за мной след в след… с чертовой куклой на горбу… я тебе уже сказал. Если русские станут стрелять, язви их в душу, баба тебя прикроет… все равно как тур из мяса и костей. — И хитры же вы, сержант! — Не болтай! Помоги мне взвалить беднягу на спину… смотри, он без памяти… Давай, бери бабу и вот так, сторонкой… пошли! И зуавы заспешили со своим тяжелым грузом, обходя воронки, каркасы туров, завалы и чудом ускользая от града пуль. Понтис был без чувств. Дама в Черном оставалась недвижима, и Питух рассудил про себя: «Если она в самом деле померла, я оставлю ее, как только поутихнет стрельба». Они оставили позади еще метров пятьдесят, и раненая тихо застонала. — Смотри-ка, — заметил горнист, — заворковала. Значит, точно — живая. К Буффарику и Питуху присоединились солдаты из разных частей. Они ускорили шаг, спеша укрыться на французских позициях. Сигналы к отступлению звучали еще громче, и русские начали охотиться за теми, кто замешкался. Сержант и горнист время от времени останавливались, чтобы перевести дух. Товарищи пожимали им руки и подшучивали над Питухом, мягко говоря, в нескромных выражениях. Питух тоже не лез за словом в карман. Отбиваясь от шутников, он говорил: — Смейтесь сколько вашей душе угодно, но эта баба — настоящий солдат. Как-никак это по ее наущению захватили Оторву, это она покалечила Понтиса, да и мне от нее досталось… И при этом держится под огнем, как наши ветераны с тремя нашивками. — Ничего себе!.. Да, с ней небось трудно поладить и дома, — отозвался кто-то из солдат. Наконец они добрались до Зеленого холма. Буффарик и Питух были совершенно вымотаны. Раздробленная нога бедного Понтиса бессильно болталась, кости расходились и трещали. Дама в Черном пришла в себя, застонала и попыталась протестовать. Яркое июньское солнце осветило картину только что закончившейся бойни, пушки, повернутые в сторону Малахова кургана, окровавленные штыки, почерневшие от пороха лица, веселые цвета французских мундиров. Дама в Черном обвела все вокруг блуждающим взглядом и вскрикнула: — Кто вы? Куда вы меня несете?.. — Я — капрал Питух, горнист… несу вас в лазарет. — Оставьте меня… я хочу уйти… — Мадам, — тихонько отозвался горнист, — вы не сможете сделать и двух шагов… будьте же благоразумны… вы тяжело ранены… В лазарете о вас будут заботиться, как о принцессе… там лечит доктор Фельц. Княгиня гневно прервала его: — Я вам сказала — оставьте меня! Горнист поставил ее на землю, поддерживая здоровой рукой. — Вы упадете! — сказал он. Дама в Черном, бледная как смерть, с залитым кровью корсажем, с неподвижной и покрасневшей до самых ногтей рукой, наконец осознала серьезность своего положения. Ее раздробленная рука, тяжелая как свинец, доставляла ей жестокие страдания. Она хотела возразить, но боль пересилила ее несгибаемую волю. Захваченная в плен, искалеченная, она ничего не могла сделать. К тому же она понимала, что победа на стороне французов, и ее сотрясала холодная дрожь. Сквозь слезы, хлынувшие из глаз, она увидела быстро приближавшийся экипаж. Не доезжая двух шагов, экипаж, украшенный двумя трехцветными флажками, остановился, позвякивая бубенцами. Две проворные фигурки соскочили на землю. Это были подросток в костюме зуава и молоденькая девушка. Дама в Черном еле стояла на ногах, и девушка подхватила ее. — Роза! — еле слышно прошептала раненая. — Роза, дитя мое, это вы… я умираю… — Нет, мадам! — воскликнула девушка с волнением, неожиданным для нее самой. — Вы не умрете… мы вас спасем… я буду за вами ухаживать. Дама в Черном улыбнулась страдальческой улыбкой и послушно, как ребенок, отдалась заботам Розы. С помощью своего брата Тонтона, юного барабанщика, Роза внесла Даму в Черном в коляску и возвратилась к отцу, который держал на руках раненого Понтиса. — У тебя найдется местечко для нашего друга, не правда ли, Розочка? — сказал капрал, с любовью глядя на дочь. — Папа, милый папа! А ты не ранен? О, я так счастлива! Бедный Понтис! Мы о нем позаботимся! Уложив зуава рядом с Дамой в Черном, отец и дочь бурно, от души обнялись. — А Жан? — тихо спросила Роза, боясь услышать плохую весть о своем любезном друге. — Ничего страшного… как бы тебе сказать… Понимаешь, он в плену… — Он? В плену? Это значит — он мертв… — Клянусь тебе — нет! Он вернется, и скоро… Я уверен… Его обменяют на полковника… Генерал Боске все устроит… — Питух, хочешь глоток? — спросил Тонтон своего друга горниста, у которого рука продолжала кровоточить. — Мы называем это: лекарство для внутреннего употребления… За твое здоровье, малыш! Сержант, выпьешь? — Мы это заслужили, старина! А ну, по второй!.. Наливайте, я угощаю! А ты, Розочка, моя ласточка, скорее в лазарет… И не унывай, все будет хорошо. Пока Питух потягивал из своего стакана, Буффарик сказал ему: — Тебе надо сходить на перевязку. Рука у тебя серьезно повреждена. Тонтон пойдет пешком, и для тебя в коляске найдется место. Питух беззаботно махнул рукой и добавил: — Мне бы траншею вместо лазарета, лавочку мадам Буффарик вместо аптеки и новый инструмент, чтоб протрубить сигнал атаки при первой же схватке, — и через неделю я буду здоров! — Питух, мой мальчик, ты — храбрец из храбрецов… это говорю я, сержант Буффарик, а я знаю толк в таких делах. Я тотчас доложу капитану о твоем бесстрашии и о твоей ране. — Правда, сержант? — Это мой долг! И я буду счастлив, когда увижу на твоем мундире медаль, которую ты уже сто раз заслужил. Итак, победа была одержана. Несмотря на контратаку русских, несмотря на ожесточенное упорство, с каким сражались русские герои, Зеленый холм удержали. Осада Севастополя за этот день, седьмого июня, сделала значительные успехи[233]. Но вот и оборотная сторона победы. Трагические и горестные подсчеты, установление личностей убитых, переполненные лазареты… Отовсюду стекались раненые. Их везли на лошадях, несли на носилках, подвозили на полковых линейках, тащили на спине или на связанных поясами ружьях, а лазареты и без того были уже перегружены. Доктор Фельц работал с непокрытой головой, с закатанными до локтя рукавами и в фартуке. И он и его помощники не знали, к кому прежде кидаться. Кровь текла потоками, обрызгивая все вокруг. Красным стало все: матрасы, полотнища палаток, одеяла, здоровые люди и умирающие — все, вплоть до земли, на которой корчились страдальцы, лишившиеся от боли сознания. В нескольких шагах от них лежали ампутированные конечности, сваленные в кучу, словно поленья… жуткие останки человеческих тел, наводившие ужас на тех, кто ждал своей очереди. Эти крики, жалобы, рыдания, вопли, заполнявшие мрачное помещение… И тошнотворный запах теплой крови, смешанный с тяжелым запахом хлороформа[234], который волнами расходился над человеческой бойней. Бедные солдаты!.. Бедные юноши — такие сильные, храбрые, гордые в свои двадцать лет!.. Бедные матери!.. Как они там, в родном городке, трепещут, читая трескучие победные реляции! Хирурги без устали выполняли свою страшную работу. Доктор Фельц только что прооперировал русского солдата, когда Понтис и Дама в Черном переступили порог этого ада. После сражения прошло уже много времени. Перевозка раненых — дело долгое и трудное, и, как всегда, не хватало транспорта. Скоро будет пять часов. Буффарик держался рядом с Понтисом и подбадривал его грубоватыми, но сердечными словами, Роза не отходила от Дамы в Черном. Девушка старалась заслонить от нее отвратительное зрелище искалеченной плоти. Но княгиня, как всегда надменная и непреклонная, словно отлитая из стали, по-прежнему держалась твердо и вызывающе, словно хотела продемонстрировать окружавшим ее врагам неукротимую силу славянской души. Однако когда она заметила, как заботливо относились в лазарете к русским раненым, ее взгляд смягчился и гневная складка на лбу расправилась. Хирурги привыкли ничему не удивляться. При виде этой изысканной, элегантно одетой женщины доктор почтительно поприветствовал ее и сказал: — Мадам, я страшно занят… каждая минута на счету. Все, что я могу сделать для вас, — это заняться вами в первую очередь. Печальная привилегия, не так ли? Надменный голос женщины, в котором обычно звучал металл, невольно смягчился, как и ее взгляд. Охваченная волнением, удивляющим ее самое, она сказала хирургу, указывая на Понтиса: — Благодарю вас, месье. Но этот бедный солдат страдает больше, чем я… Займитесь им. Я подожду. Хирург кивнул головой в знак согласия. — Это ты, Понтис? — спросил он, склоняясь над раненым зуавом. — Посмотрим, что у тебя сломалось! Зуав, ужасно бледный, но не потерявший присутствия духа, подтянул штанину до колена и показал совершенно расплющенную ногу. — Ее уже не починишь, верно я говорю, господин доктор? — медленно и с запинками, как все раненые, произнес он. — Выход один, мой бедный друг, — ампутация. Зуав вздрогнул, коротко вздохнул и ответил не колеблясь: — Ну что ж! Режьте, господин доктор… — Я тебя усыплю. — Спасибо, вы очень добры… но… нет нужды! — Тогда я приступаю! — Да, господин доктор. Сержант Буффарик! — Что, мой мальчик? — Пока месье Фельц будет кромсать мое копыто, я с удовольствием выкурил бы трубочку. — Да, голубчик, я дам тебе мою носогрейку… сейчас только набью и разожгу, — ответил старый воин, у которого увлажнились глаза и перехватило в горле. Приготовления к операции закончились мгновенно. Понтис взял трубку и несколько раз глубоко затянулся. — Готов? — спросил доктор, берясь за скальпель. — Режьте, господин доктор! Одним взмахом хирург отрезал лоскут кожи и обнажил кость. У Понтиса вырвался стон, но он продолжал курить. Несколько быстрых движений ножовкой… ужасный скрежет зубьев, перегрызающих кости… и нога шлепнулась на землю. Пот заливал лицо зуава, он сжимал челюсти и грыз трубку. Однако тут же, с потрясающим спокойствием, поправлял ее и продолжал курить. Буффарик, бледный как полотно, смотрел на него с восхищением. Дама в Черном отвернулась. Роза беззвучно плакала. Доктор Фельц быстро и уверенно сшил сосуды и сказал Понтису: — Молодец, Понтис! Ты поправишься и получишь заслуженную награду… — Без промедления! — произнес громкий голос, заставляя всех обернуться. Доктор поднял в приветствии свою окровавленную руку. Буффарик выпрямился так, словно у него над ухом выстрелили из карабина. Понтис поднес судорожно сжатые пальцы к феске и сказал, запинаясь: — Господин генерал… о-о, господин генерал… Это был Боске. Еще не смыв с себя пороховой гари после жаркого сражения, он обходил солдат, которым сейчас приходилось особенно тяжко. Генерал слышал последние слова хирурга и сказал: — Дорогой доктор, я почту своим долгом осуществить ваше обещание. Он вынул из кармана боевую медаль и подал ее раненому. Тот — растерянный, взволнованный — протянул руки и зарыдал, как дитя. — Зуав Понтис, — произнес командир дивизии ласково и значительно, — от имени императора я вручаю тебе эту медаль в награду за твою храбрость. Родина, которой ты принес себя в жертву, никогда тебя не оставит. — Господин генерал, как вы добры, и как я вам благодарен! — воскликнул зуав. На мгновение голос его окреп: — Да здравствует Боске! Да здравствует отец солдат! В это время генерал заметил Даму в Черном. Сдержав удивление, он почтительно поклонился ей. Со всех сторон его окликали раненые, тянули к нему изможденные руки. Умирающие собирали остатки сил, чтобы в последний раз выказать Боске свои чувства. Он медленно обходил эту преисподнюю, не скупясь на похвалы, обещания, слова сочувствия, с готовностью останавливаясь возле самых робких, поддерживая их и утешая. Он шел, и хриплые надтреснутые голоса страдальцев крепли, сливаясь в приветствии любимому командиру: — Да здравствует Боске!.. Да здравствует Боске!.. Гордый силуэт генерала исчез, и в ту же минуту доктор Фельц снова принялся за свою ужасную работу. Он подошел к Даме в Черном. Она полулежала на носилках, за плечи ее поддерживала Роза, которая не оставляла раненую ни на минуту. — Я к вашим услугам, мадам, — сказал хирург. — Приступайте, месье, — ответила она твердо. Одним движением ножниц хирург разрезал ее рукав и верхнюю часть корсажа. Стала видна рана, почерневшая и воспаленная. Рука была прострелена навылет, кость у плеча раздроблена. Хирург покачал головой и, поджав губы, не произнес ни слова. — Это серьезно, доктор? — спросила Дама в Черном. — Серьезно… да, конечно… и я боюсь… — Прошу вас — обращайтесь со мной как с солдатом. Я под огнем с первого дня и привыкла жертвовать собой. — Ну что ж, мадам, раз так — ампутация… — Ни за что! — И не просто ампутация, но с экзартикуляцией[235] плеча! — И каковы шансы на успех? — Здесь, в полевых условиях… пятнадцать — двадцать процентов. — А если не делать операции? — Тогда девяносто девять против одного, что вы погибнете. — Хорошо! Я испытаю этот единственный шанс. Лучше умереть, чем жить калекой. — Мадам, только вы вправе распорядиться собой… и принять любое решение, даже самое отчаянное. Если вы хотите воспользоваться моими услугами и моим опытом, я в вашем распоряжении. — Благодарю вас, я с признательностью принимаю ваше предложение. — К несчастью, у нас довольно скудные средства… Надо, чтобы рядом с вами постоянно был человек — надежный, неутомимый, преданный, кто не покладая рук выхаживал бы вас днем и ночью. Лишь тогда, может быть, произойдет чудо и вы выздоровеете. — Я!.. Я буду все делать, — сказала Роза с трогательной простотой. — Ты хорошо поступаешь, моя девочка, — отозвался растроганный Буффарик. Слезы показались на глазах раненой. Здоровой рукой она притянула к себе девушку и прошептала: — Роза!.. Милое дитя… вы — ангел доброты, прелести и самоотверженности. Потом, обведя взглядом доктора, Буффарика, Понтиса, раненых солдат, она произнесла: — О, французы, французы… неужели вы победите нас своим благородством и величием души!
ГЛАВА 4
Почести пленному. — Лев в клетке. — Оторва не хочет давать слово. — Русские отказываются обменивать Оторву даже на полковника. — Недавняя, но прочная дружба. — Боске в немилости. — Серьезная неудача французов. — Командование снова переходит к Боске.Захват Оторвы вызвал среди русских больше волнения, чем если б в плен взяли полковника или даже генерала. В осажденном городе он был известен почти так же, как во французском лагере, и потому его пленение воспринималось как победа. И это в самом деле была победа! Оторва — душа Адского дозора, олицетворение его силы, изворотливости, стойкости и, главное, его фантастического бесстрашия. Лишенная своего командира, эта великолепная команда вышла из строя. Прощайте дерзкие вылазки, внезапные атаки, сокрушительные налеты! Прощайте безмолвные переходы, засады краснокожих и ожесточенные ночные схватки, которые так подрывали дух противника! Русские аванпосты под Севастополем, которые каждую ночь несли потери от действий так метко названного Адского дозора, наконец вздохнули с облегчением. Русские — великодушные противники, умеющие ценить настоящую храбрость, — свидетельствовали Оторве свое уважение и восхищение. Он стал героем дня. Высшие военачальники хотели его видеть. Адмирал Нахимов приветствовал командира зуавов; Тотлебен пожимал ему руку; начальник Севастопольского гарнизона генерал Остен-Сакен[236] пригласил молодого человека на обед. Новый друг, майор Павел Михайлович, окружил его заботами. Часовые отдавали ему честь, как во французском лагере. Все было прекрасно, и эти знаки внимания делали честь и тем, кто их оказывал, и тому, кто являлся их объектом. Но Оторва — не из тех людей, кому кружит голову фимиам славы. Прирожденный солдат, человек долга и действия, он не мог жить в клетке, даже в золотой. Ему требовалась свобода! И не та свобода, которую могут предоставить пленнику, если он поклянется честью, что не возьмется за оружие до конца войны. Нет! Оторва хотел полной свободы, чтобы вернуться к своей тяжелой жизни командира разведчиков, чтобы сражаться и днем и ночью… и заработать эполеты, обещанные ему его генералом. Генерал Остен-Сакен, известный своей лояльностью, сказал Жану в первый же день: — Дорогой друг, я хочу во что бы то ни стало сохранить вам жизнь. Лучшая гарантия этого — ваше слово. Дайте слово чести, что вы не предпримете попытки к бегству, и вам будет предоставлена свобода передвижения в пределах наших укреплений. Оторва ответил: — Господин генерал, я вам очень благодарен. Но я умру, если не смогу выполнить свой долг. — Так вы отказываетесь? — Господин генерал, слово для меня священно. — Я хорошо это знаю и именно потому прошу вас дать слово. — Не могу!.. Нет… Я действительно не могу дать вам слово. — Тогда, вместо того чтобы предоставить вам свободу, почетную для солдата, я буду вынужден заключить вас в каземат. — Господин генерал, это меня мало беспокоит… — С вами будут обращаться, как с нашими узниками… а мы их по головке не гладим… — Я понимаю, что меня не будут держать в вате. — День и ночь вас будут сторожить постовые, которые получат приказ убить вас при первой же попытке к бегству. — Само собой разумеется. — Малейшее насилие с вашей стороны, и вас с полным правом приговорят к смерти без промедления и пощады. — В осажденном городе все приказы должны выполняться неукоснительно. — И все же вы настаиваете на своем отказе? — Да, господин генерал! И простите меня за то, что я так дурно ответил на вашу доброту. Я должен честно сказать вам, что использую все возможные средства, чтобы совершить побег… чтобы снова занять свое место в строю… пусть даже часовые будут стрелять в упор. — Вы — храбрый и честный солдат! Я сожалею о тех строгих мерах, которые буду вынужден к вам применить… Но, будь я на вашем месте, я действовал бы так же. — Но, видите ли… Может быть, все-таки есть способ все уладить. — Я был бы очень рад. Что вы имеете в виду? — Генерал Боске хорошо относится ко мне. Вы разрешите мне ему написать? — Конечно. Садитесь и пишите. Оторва сел и крупными буквами вывел следующие строчки:
«Господин генерал! Я обещал вам водрузить французское знамя на Малаховом кургане. Но сейчас я в плену. Конечно, я убегу, но это трудно и может случиться не так скоро. Поэтому я дерзаю надеяться на то, что вы предложите его превосходительству графу Остен-Сакену, начальнику Севастопольского гарнизона, обменять меня на русского пленного. Я умоляю вас, господин генерал, дайте мне возможность вернуться в строй и выполнить свое обещание при первом же случае. Примите, господин генерал, выражение моего глубочайшего уважения и преданности.Оторва протянул письмо коменданту и попросил его прочесть. Даже не взглянув на письмо, генерал вложил его в конверт и вызвал дежурного офицера. — Лично передайте это письмо нашему парламентеру, — сказал Остен-Сакен. — Когда будет ответ, доложите. — Слушаюсь, ваше превосходительство. Было объявлено короткое перемирие. Боске, получив письмо, переслал его Пелисье. Пелисье, хорошо знавший и ценивший Оторву, написал Остен-Сакену:Ваш солдат Жан Бургей».
«Главнокомандующий французской армии имеет честь предложить вашему превосходительству начальнику Севастопольского гарнизона обменять сержанта французской армии Оторву на полковника русской армии Керазина.Остен-Сакен ответил:Пелисье».
«Начальник Севастопольского гарнизона имеет честь отклонить предложение главнокомандующего французской армии. К своему глубокому сожалению, он отказывается обменять сержанта французской армии Оторву даже на полковника русской армии.Затем Остен-Сакен сказал Оторве, который с нетерпением ждал результата переговоров: — Вот письмо вашего главнокомандующего. Прочтите его. — О, ваше превосходительство! Это слишком лестно для меня… Я этого не заслужил. — Вы так думаете? Прочтите мой ответ. Не кажется ли он вам еще более лестным? — Как! Ваше превосходительство, вы отказываетесь? Не хотите обменять меня, унтер-офицера, на полковника? — Мой друг, вы из тех сержантов, из которых ваш великий Наполеон делал генералов! Вы в моих руках, и вы здесь останетесь! Часом позже Оторва был заключен в укрепленный каземат, расположенный за Мачтовым бастионом, знаменитым бастионом, который без устали обстреливал батарею капитана Шампобера. Жана заперли одного в темном помещении и приставили к нему шесть солдат с заряженными ружьями и примкнутыми штыками. Почти полная темнота, влажные стены, зловоние, непрерывныйгрохот пушек и мортир — словом, жизнь бедного Оторвы веселой не назовешь. Каждый день со скрипом открывалась тяжелая дверь, укрепленная полосами железа, брусьями и болтами. Павел Михайлович, который проникся к пленнику дружескими чувствами, заходил к нему на часок. Это являлось еще одним свидетельством расположения графа Остен-Сакена — по просьбе майора он разрешил ему ежедневные свидания с Оторвой. Русский майор и французский сержант болтали, как старые друзья. Майору исполнилось сорок лет, он был настоящим великаном, с красивыми чертами лица, огненным взглядом и твердым голосом. Как многие русские из высших слоев общества, Павел Михайлович говорил по-французски превосходно, без малейшего акцента. При звуках этого голоса у Оторвы возникало чувство, что он где-то его уже слышал. В его тембре было что-то особенное, странное, что пронимало до слез. «О, этот голос!.. Можно подумать, что это говорит мой отец… один из самых великолепных конных гренадеров старой императорской гвардии!» Русский офицер сообщал Оторве новости, говорил о Франции, которой не знал, но любил, несмотря на эту ужасную войну, столкнувшую ее с Россией. Оторва описывал армейскую жизнь в Африке, сражения с арабами, засады, схватки, драматические случаи и приключения. Двум солдатам из вражеских лагерей часа в день уже оказалось мало — задушевные разговоры все увеличивали их взаимное уважение и симпатию. Так прошло дней десять, пока страшная бомбардировка внезапно не прервала их беседы. В ночь с семнадцатого на восемнадцатое июня все орудия союзнических армий начали безостановочный обстрел противника. Ядра, гранаты, зажигательные ракеты обрушились на город. Железный смерч стирал в порошок оборонительные укрепления, огненный ураган пожирал доки, склады, дома. Это продолжалось до трех часов утра. Потом бомбардировка прекратилась, и чуткое ухо Оторвы различило прерывистые звуки ружейной пальбы. Сомнений больше не было. Началось наступление! И кто знает? Быть может, это штурм Малахова кургана, яростная, отчаянная попытка союзных армий завладеть Севастополем. Шел штурм, но без Оторвы! Что же случилось на самом деле? Большой успех седьмого июня, когда был взят Зеленый холм, вскружил головы французам, даже рассудительному Пелисье. Главнокомандующий, полная противоположность Канроберу, решил, что плоды долговременной осады созрели и их надо скорее сорвать, чего бы это ни стоило. Зеленый холм взяли штурмом — почему бы не проделать то же самое с Малаховым курганом? Стало быть — вперед! Вот почему на Севастополь обрушился этот адский огонь, уничтоживший укрепления русских на протяжении восьми километров — от Карантинной бухты до устья реки Черная. Существовала еще причина, которая объясняла, хотя и не оправдывала поспешные действия Жестяной Головы. С некоторых пор у Пелисье возникли серьезные трения в отношениях с императором. Генерал с резкостью, доходившей до грубости, обращался с подчиненными, и те, оскорбленные, не щадили начальника в докладах императору: критиковали его действия, высмеивали характер, подрывали доверие к нему. Император, в свою очередь, осыпал командующего упреками. Однако под личиной солдафона скрывался хитрый и ловкий придворный, и Пелисье решил одним ударом вернуть себе расположение императора и сокрушить своих хулителей. Он знал, с каким суеверием относится император к памятным датам, и назначил штурм на восемнадцатое июня, день битвы при Ватерлоо. Он хотел, чтобы громкий успех стер память о роковом дне и за печальной страницей истории последовала страница славы. Кроме того, Пелисье учел, что командир императорской гвардии генерал Рено де Сен-Жан-д’Анжели — близкий друг императора. Пелисье припишет ему главную роль в успехе штурма и таким образом осчастливит императора вдвойне. Но для этого следовало назначить д’Анжели командиром Второго корпуса, то есть корпуса Боске. Такому властному человеку, как Пелисье, который не боялся ни упреков, ни обвинений в несправедливости, проделать это не составило труда. В результате Боске, без всякого предупреждения, получил шестнадцатого июня, в два часа пополудни, приказ без промедления передать командование генералу Рено де Сен-Жану-д’Анжели и принять резервный корпус, размещенный на Черной речке. Так Пелисье свел счеты с Боске, чья популярность среди солдат давно его раздражала, и одновременно доставил удовольствие императору, дав возможность одному из его любимцев снискать победные лавры. Скверный замысел, абсурдный расчет! В распоряжении генерала Рено, самого заурядного вояки, оставалось всего тридцать шесть часов на ознакомление с местностью. Солдаты не знали его, и он не знал солдат. Боске, солдатский кумир, был знаком с местной топографией до самых мельчайших подробностей. Кроме того, Боске знал о своих людях, так сказать, всю подноготную. Орлиный взгляд, пламенные речи, исполненные силы жесты, молодцеватая осанка, легендарная храбрость. Он — душа Второго корпуса — мог повести за собой дивизии, бригады, полки, батальоны, роты и взводы одним только возгласом, одним словом, одним мановением руки, и никто не мог устоять перед натиском его солдат. На его счету было немало побед в прошлом, и потому все так верили в его будущие успехи. Итак, не приходилось удивляться тому, что смещение генерала, несправедливое и грубое, да еще в канун большого сражения, было встречено с изумлением и негодованием. Питух, который разгуливал с рукой на перевязи, с новеньким горном за спиной, коротко обрисовал ситуацию: — Боске — это Боске… Другого такого нет! Когда кричишь «Да здравствует Боске!», его имя само рвется из сердца и слетает с губ!.. Оно звенит, трепещет, увлекает! А попробуйте-ка крикнуть «Да здравствует Рено де Сен-Жан-д’Анжели!» — ручаюсь, что ничего не получится. А если кто решится на это перед строем полка, то-то наступит кавардак.Остен-Сакен»[237].
…Бой шел уже несколько часов. Нетрудно догадаться, какие чувства испытывал Оторва, когда до него доходили приглушенные звуки ожесточенного сражения. Надежда на полную победу французов заставляла учащенно биться его сердце. Скоро, скоро он будет свободен! Однако мысль о том, что зуавы сражались без него, приводила Жана в отчаяние. Его обещание останется невыполненным. Судьбе было угодно, чтоб он сидел здесь, замурованный в каменный мешок, в ста двадцати метрах от французских позиций! Он мог бы услышать снаружи голос своего друга капитана Шампобера, когда тот приказывал открыть огонь по исходящему углу бастиона, прикрывавшему собой каземат. Оторва кружил по камере, как лев в клетке. Голова его горела, в горле пересохло, в ушах стоял гул, глаза были широко раскрыты. Из груди вырывались крики ярости, больше похожие на львиный рык. Так прошло пять часов! Пять томительных часов боли и гнева. Оторве то и дело чудилось, будто он слышит победные клики французов… сейчас солдаты в красных мундирах ринутся на стены каземата… скоро победа, и он будет на воле! Однако звуки битвы постепенно угасли, бурные страсти сменила всепоглощающая тишина, которую вскоре нарушили крики радости на незнакомом языке, доносившиеся из города, с бастионов и с батарей. Колокола уцелевших церквей звонили один громче другого. Священники возносили молитвы. Русские обезумели от радости. Так, значит, они победили?.. И Оторва, продолжая метаться по своему мрачному каземату, воскликнул: — Какое несчастье! Неужто эти мужланы одержали верх над венсенскими егерями… над нашими братьями стрелками… над линейцами… над нами, зуавами!.. Неужто мы получили выволочку от московцев?.. И с таким генералом, как Боске?! Нет, это невозможно! Однако так оно и было. Правда, Оторва не знал о немилости, незаслуженно обрушившейся на генерала. Немилости, за которую дорого заплатили другие! Попытка Пелисье захватить Малахов курган была преждевременна. Даже Боске, которого генерал Ниэль называл «врагом траншей», не советовал делать этот шаг. Генерал считал, что французские траншеи — а он их действительно не любил — недостаточно выдвинуты вперед. Спешка и упрямство Пелисье должны были неминуемо привести к серьезному поражению — первому за пятнадцать месяцев долгой и тяжелой кампании. С самого начала операция складывалась неудачно. Плохо понятые сигналы раньше времени подняли солдат в атаку. Одна из дивизий слишком поспешно открыла огонь. Дурно переданные приказы задержали выступление одной из бригад. Во всем проявлялись колебания и нерешительность. А надо было всем частям выступить согласованно и внезапно напасть на русских, не дав им времени опомниться. Второй корпус, вместо того чтобы стремительно атаковать, неслаженно тянулся под командованием новоиспеченного начальника, который медлил и не был уверен в своих подчиненных. Это позволило русским спешно подтянуть резервы и сосредоточить их на самых опасных участках: на Малаховом кургане, где напирали французы, и у Большого редана, который атаковали англичане. Напрасно французы все снова и снова шли на приступ, неся большие потери. Напрасно англичане показывали чудеса героизма. Ничто не могло сокрушить беспримерную стойкость славян. К восьми часам утра французская армия потеряла двух генералов, четверо были ранены, три тысячи солдат выведены из строя. Союзники недосчитались одного генерала, четверо были ранены, пострадали две тысячи солдат. Правда, русские потери составили пять тысяч пятьсот человек, из них тысяча пятьсот погибли, отражая атаку. Остальные четыре тысячи пали во время бомбардировки, которая длилась целые сутки. Пелисье понял, что новые кровавые жертвы ни к чему не приведут. Атаку французов отбили, они потерпели полное поражение. Главнокомандующий приказал отступить по всей линии фронта. …Через два дня Жестяная Голова снова назначил Боске командиром Второго корпуса, а генерала Рено де Сен-Жана-д’Анжели отослал в лагерь императорской гвардии.
ГЛАВА 5
Дама в Черном в лазарете. — Жизнь берет свое. — Бред. — Нежность. — Цветы иностранке. — Тотлебен тяжело ранен. — Великолепные сооружения русских. — Мост над заливом. — Письмо. — Удар молнии. — Тайна. — Форт-Вобан!.. — Рождественская роза.Невероятно, но Дама в Черном выжила и стала оправляться от жестокого ранения. Спасло ее искусство доктора Фельца и особенно неустанные заботы Розы. Днем и ночью, в любое время, забывая об усталости, сне, лишениях, ловя каждый жест больной, каждое ее слово, каждый стон, предупреждая малейшие желания, облегчая словом, ласковым прикосновением ужасные приступы, прелестная девушка была добрым ангелом русской княгини. Сначала доктор собирался эвакуировать раненую в лазарет в Камыше, с тем чтобы в дальнейшем отправить ее в главный госпиталь в Константинополе, но Дама в Черном и слышать об этом не хотела. Она страстно привязалась к юной санитарке, и от одной мысли о разлуке у нее разрывалось сердце. — Роза, милая моя Роза, — говорила женщина в светлые минуты, — я предпочла бы умереть рядом с вами, чем выздороветь там в одиночестве, вдали от вас. И девушка, растроганная, отвечала ей со слезами на глазах: — О мадам, не говорите о смерти… мне это слишком тяжело… и потом, вы поправитесь… я в этом уверена… внутренний голос говорит мне, что вы поправитесь… — Милое дитя!.. Как я вас мучаю… и как вы добры! Ведь большего нельзя сделать и для родной матери. — Потому что я люблю вас, как если б вы в самом деле были моей матерью… еще одной мамашей Буффарик! — А мне, Роза, кажется, что я вижу в вас свою дочь… мою маленькую Ольгу, очаровательную малышку. Я потеряла ее, когда она была еще в колыбели, при кошмарных обстоятельствах… — Она умерла? О, как это ужасно — когда на ваших глазах умирают дети, ваша плоть и кровь. — Нет, она не умерла, хотя, может быть, было бы лучше, если б она умерла… я не могу вспоминать об этом без дрожи… Подумайте только… ее похитили цыгане… эти страшные люди… отбросы человечества… — О мадам, какая ужасная история… — Кем она стала… в руках этих чудовищ… Я оплакиваю ее уже восемнадцать лет! Я разучилась улыбаться… Моя душа разбита… Я не снимаю траурных одежд… Отсюда эти приступы гнева, этот упадок духа… эта ненависть ко всем… Ах, Роза, я так несчастна!.. Что толку в почестях, в богатстве, в славе, когда живешь без радости, без надежды, когда тебя терзает безумный страх увидеть когда-нибудь свою девочку… превратившуюся в чудовище… С бесконечной деликатностью и нежностью Роза прерывала эти грустные излияния и с величайшей изобретательностью, находя тысячи забавных пустяков, переводила разговор на что-нибудь другое. Роза говорила легко и свободно, говорила то, что подсказывало ей сердце, и прелестный ее голос, ее ласковая речь трогали раненую как самая сладостная музыка. С самого начала Даме в Черном отвели квадратную комнатку с настланным полом в конце барака, служившего лазаретом. В ней стояла железная кровать — жесткое солдатское ложе, стол и матросская койка, на которой Роза, сломленная усталостью, могла забыться на несколько минут. Над кроватью была прикреплена большая походная фляга со свежей водой, которая по резиновой трубочке стекала тоненькой струйкой вниз. В ту далекую эпоху хирурги не имели понятия об антисептике и обрабатывали раны наудачу, кто как умел. Они резали, чистили, после чего раны, заткнутые корпией[238], смазанные вредоносными жирами, как правило, гноились и затягивались — если затягивались — лишь по воле случая. Гангрена[239], столбняк[240], заражение крови уносили половину несчастных. Надо было быть живучим, как кошка, чтобы выкарабкаться несмотря ни на что. Доктор Фельц считал, что раны надо держать в абсолютной чистоте, не пользовался корпией, мазями и согревающими компрессами и полагался в основном на силы природы. Это был громадный шаг вперед на пути к рациональному лечению травматизма. Его излюбленным средством стало постоянное орошение раны холодной водой. Это непрерывное омовение снимало воспаление, выводило гноящуюся сукровицу, очищало рану, вызывало легкое возбуждение тканей и благоприятствовало выздоровлению. Вскоре больную начал мучить бред. Дама в Черном, дрожа в лихорадке, задыхаясь, металась по постели. Страшные видения осаждали ее мозг, несвязные слова слетали с губ. Ее дочь! О, ее дочь!.. Она неустанно звала ее, и зов этот был похож то на рычание льва, то на душераздирающие жалобы подбитой птахи. Роза, страдая вместе с подопечной, обнимала ее, что-то тихонько говорила, прикасалась губами к пылающему лбу русской, и бедная больная благодарно улыбалась ей. Образ дочери смешивался в ее сознании с образом Розы, и Дама в Черном вскрикивала, снова впадая в беспамятство: — Ольга!.. Моя дорогая… Мой маленький ангел, моя любовь… это ты… ты… о, я узнаю тебя… эти большие глаза, которые я целовала как безумная… эти золотые кудри, в которые я запускала пальцы… Ольга! Любимая… душенька… это я, твоя мама… да, это я… Ты называешь себя Розой… да, теперь ты Роза… Ты у этих проклятых французов, которых я отныне буду любить… всем сердцем… потому что они сделали из тебя женщину… которой я горжусь… И потом, они любят тебя… Роза!.. моя девочка… маркитантка с душой принцессы… О, моя сестричка милосердия… ты добра так же, как хороша… девочка моя… как я тебя люблю! Потом проблеск сознания вытеснял галлюцинации[241] и отрадные и мучительные. Видение исчезало, и Дама в Черном снова узнавала Розу, улыбавшуюся ей сквозь слезы. И эта улыбка, в которой страдалице матери упорно виделась улыбка ее маленькой Ольги, ненадолго успокаивала раненую. Увы, очень ненадолго! Кошмары снова возвращались, смущая слабеющий рассудок, угрожая небытием. Жизнь ее висела на волоске, но волосок этот, пусть тоненький, оказался крепким. Тем временем от кости, раздробленной пулей Питуха, отделился осколок. Доброму доктору пришлось пустить в ход свои ужасные инструменты. Тщательно осматривая трепещущую плоть, он резал, скоблил, отбрасывал, пуская тонкие струйки алой крови. Дама в Черном, смертельно бледная, с напряженными до предела мышцами, не издавала ни крика, ни стона. Слышно было только, как скрипят ее зубы, да было видно, как повисают на ресницах непослушные слезинки, но поразительная стойкость княгини не изменила ей ни разу. Однажды утром больная увидела у своего изголовья большой букет цветов. Полагая, что этот прелестный сюрприз ей приготовила Роза, она радостно воскликнула: — Роза, милая моя девочка! Какой восхитительный букет!.. О, как я вам признательна. — Букет принесла не я, мадам, — ответила девушка. — Как бы мне ни хотелось, я не могу позволить себе выйти из лазарета… — У кого же возникло такое трогательное желание? — У солдата, который вас ранил, горниста Бодуэна, по прозвищу Питух… одного из самых храбрых солдат полка… у него золотое сердце, как и у его товарищей… — Но этот зуав ведет себя как истинный дворянин! — Он в отчаянии от того, что случилось, и не знает, как вымолить у вас прощение. — Я хочу видеть его, поблагодарить, пожать ему руку как товарищу! А пока, дитя мое, разделите букет пополам и отнесите половину моему соседу с ампутированной ногой. — Понтису? — Да, Понтису… тому зуаву, которого я искалечила… Надеюсь, ему лучше? — Да, мадам, намного лучше. — Я очень рада!.. Потом, после войны, я позабочусь о нем. Я богата, и мне хотелось бы хоть отчасти исправить зло, которое я причинила. …Итак, жизнь упорно не желала сдаваться в этом странном и пылком существе, сотканном из противоречий, в одно и то же время необузданном и нежном, великодушном и мстительном, чья исстрадавшаяся душа хранила в себе мучительную любовь к исчезнувшей дочери и к истерзанному войной отечеству. Дама в Черном постепенно выздоравливала в этом чудовищном средоточии жалоб, стонов, смертей, грохота орудий. Окруженная приязнью и уважением, она чувствовала, что ее ненависть к неприятелю смягчается, и тоже проникалась уважением к этим врагам, страшным в бою и великодушным после победы. Восемнадцатого июня серьезный провал французов доставил ей глубокую радость. В былые времена княгиня не скрывала бы своего ликования. Теперь, когда перед ее глазами было высоконравственное поведение благородных противников, она ничем не выдавала свою радость, которая могла бы оскорбить тех, кто так самоотверженно ее выхаживал. Наконец в ее непреклонной душе пробудились совершенно новые чувства. Постоянно соприкасаясь со страданием, сама испытывая жестокие мучения, общаясь со скромными, преданными долгу людьми, она начала ценить добродетели неведомого ей ранее народа. Она чувствовала теперь все ничтожество внешнего блеска и мишуры, видела изнанку воинской славы и постигала устрашающий антагонизм двух слов, сочетание которых режет слух: война!.. Человечность!.. Но Дама в Черном не сложила оружие. Тяжело раненная, в плену, она не могла принять участия в борьбе. Однако эта женщина оставалась патриоткой до мозга костей, не на жизнь, а на смерть преданной священным интересам своего отечества. Она всем интересовалась и пламенно желала триумфа России. Княгиня теперь ненавидела войну и от всей души хотела, чтобы она поскорее закончилась, правда, при условии, что закончится она блестящей победой ее соотечественников. Однако новости из Севастополя поступали скверные. Тотлебена тяжело ранили во время штурма двадцатого июня. Лежа в постели и испытывая жестокие боли, он все же руководил строительством оборонительных сооружений. Поражение, не сломив русских, вызвало у них новый прилив отваги и ожесточения. Сила огня удвоилась, если это только возможно, вылазка следовала за вылазкой. Французы спокойно и без видимых усилий отражали все удары, все вылазки русских. Прибегнув к энергичному и красочному словцу Пелисье, можно сказать, что эти смелые атаки одна за другой просто задыхались. Численный состав проверенных и закаленных частей все уменьшался. Русская армия давно уже была обескровлена. И хотя новобранцев, прибывавших со всех уголков империи, отличала неукротимая храбрость и горячий патриотизм и они были готовы на любые жертвы, пополнение не обладало ни дисциплинированностью, ни боевой закалкой, ни выносливостью, с которой переносили усталость и лишения солдаты англо-французской армии. Начал свирепствовать голод. Издали приказ, вдвое уменьшавший и без того скудный рацион[242] русских. «Разрушение союзниками государственных складов на Азовском море заставило пойти на эту крайнюю меру. Мельниц слишком мало, их не хватает, чтобы удовлетворить требования военной администрации. Пришлось запросить муку у губернаторов Екатеринослава, Воронежа, Харькова, Курска и доставлять ее за триста, затем за шестьсот и, наконец, за девятьсот и тысячу километров, да еще в каких условиях! Ее везли по единственной, к тому же немощеной, дороге на Перекоп, а потом из Перекопа — на Симферополь по таким разбитым дорогам, что телеги с провиантом проводили в пути больше месяца, а почтовые повозки — не меньше десяти дней, преодолевая расстояние в каких-то сто шестьдесят километров. Оставался еще отрезок пути между Симферополем и Севастополем; ценой нечеловеческого труда и громадных расходов удалось выкопать траншею, соединившую два города. Из-за этих трудностей, из-за медленной транспортировки часть припасов терялась в дороге, а часть провианта и фуража съедали по дороге возчики и тягловые лошади. Русская армия находилась в очень тяжелом положении», — говорится в одном солидном французском исследовании. К тому же армию снова стала косить холера, уносившая множество жизней защитников Севастополя. Противоборствующие стороны — и та и другая — хотели поскорее покончить с войной. Чувствовалось, что вот-вот развернутся серьезные операции. Англичане, сардинцы и французы требовали штурма. Русские, настроенные сопротивляться до конца, готовились к безнадежному сражению. Ослабленные голодом, снедаемые болезнями, часто под огнем, они осуществляли два гигантских проекта фортификационных[243] работ, один из которых своей безрассудной дерзостью в самом деле производил сильное впечатление. Сначала они соорудили вторую линию укреплений позади Большого и Малого редана на подступах к Малахову кургану. Насыпи, ходы сообщения, казематы, укрепленные бревнами, брустверы с бойницами — все это возводилось под страшным огнем, без передышки, изможденными землекопами и солдатами, которые перемежали выстрелами удары кирки. Если французы и их союзники захватят — какой ценой! — первую линию, если они форсируют вторую, если они прорвут заслон из человеческих тел, если, наконец, будет потеряно все, кроме чести, лишь тогда те, кто не сложил голову в последней схватке, позволят себе отступить. Окруженные с трех сторон, русские могли отступить только на север. Но для этого им надо было пересечь — со всем оружием, артиллерией, боеприпасами и прочим багажом — Большой рейд, морской залив шириной около километра, точнее, девятьсот шестьдесят метров. Что же делать? Гений Тотлебена, преемником которого был назначен генерал Букмейер, нашел выход из положения. Русские построили мост на подвижных опорах из бревен. Мост шириной в пять с половиной метров начали сооружать сразу с двух концов. На севере он начинался у форта Михаила, на юге упирался в форт Николая, и, невзирая на бомбы, ядра, ракеты, невзирая на прибой, зыбь и удары волн, две части моста сближались и наконец соединились. На это ушло двадцать дней и двадцать ночей сверхчеловеческих усилий. Дама в Черном знала об этом, во всяком случае в общих чертах, как знали все во французском лагере, несмотря на меры предосторожности, принятые русскими. Донесения шпионов и наблюдения стрелков на аванпостах сводили эти меры на нет. Дама в Черном инстинктивно чувствовала также, что надвигаются серьезные события. Разрываясь между страхом и надеждой, она цепенела в тревожном ожидании, пока не произошло нечто беспримерное, заставившее ее на какое-то время забыть обо всем, даже о тяжком положении святой Руси. В этот день радостное оживление охватило лагерь. Солдаты носились, размахивая листками бумаги, собирались маленькими группками, обменивались короткими репликами, потом взволнованно читали и перечитывали письма. Почтари, нагруженные корреспонденцией, с раздувшимися сумками, обходили позиции и быстро раздавали письма. Генералы, офицеры, простые солдаты проявляли одинаковую, немного лихорадочную поспешность, и радость их переливалась через край — во взглядах, жестах, восклицаниях. Прибыла почта из Франции!.. Почта с вестями о близких, а также награды, повышения, переводы и милые пустяки, от которых сильнее бились сердца суровых воинов. Сержант-письмоносец Первого батальона вручил Буффарику большой конверт, приговаривая: — Держи, старина, письмо из дома… с тебя причитается. — Само собой, голубчик! Ставлю выпивку и закусь, какую пожелаешь! — Договорились! Ты — славный малый!.. Маркитант разглядел адрес, написанный большими размашистыми буквами, и добавил: — Да это нашей доченьке… вот уж запоет, как жаворонок на рассвете… Пока! Я бегу в лазарет. Буффарик быстрым шагом направился к бараку, где у постели Дамы в Черном всегда находилась Роза. Дверь из-за жары была широко распахнута. Марселец окинул быстрым взглядом свой мундир и, кашлянув, чтобы дать о себе знать, вошел в комнату. Дама в Черном, бледная, с лихорадочно горящими глазами, сидела в постели, опираясь на подложенные под голову и плечи подушки. Справа от нее стояла мамаша Буффарик с чашкой бульона в руке, слева — Роза, вооружившись жестяной ложкой, кормила больную этим ароматным бульоном, приготовленным, да как старательно, самой маркитанткой. — Ну же, мадам, еще глоточек, — приговаривала мамаша Буффарик. — Один глоточек! Он сам проскочит вам в горлышко! Вам это очень полезно. Ласково и бережно, смягчив даже свой грубый эльзасский акцент, она уговаривала больную, и в голосе ее звучала материнская нежность. Великолепный Мариус Пэнсон, подняв руку с растопыренными пальцами на высоту бровей, приветствовал их, как приветствовал бы самого́ императора или генерала Боске, и не важно, что борода у старшего сержанта была растрепана, а феска съехала на затылок. Дама в Черном ответила ему дружеским кивком. — Добрый день, друг мой!.. Какие новости ты принес? — На войне ничего нового, мадам… Зато я принес письмо из Франции… нашей дорогой девочке. Вы разрешите отдать его Розе? — Конечно, пожалуйста. — О, это от дедушки! — радостно вскрикнула Роза при виде крупных каракулей деда. — От самого дедушки Стапфера, — отозвался Буффарик, — славного старикана, который любит нас от всего сердца и которого мы все обожаем!.. Дама в Черном незаметно вздрогнула: — Стапфер!.. Эльзасское имя… — Да, мадам, конечно… Он родом из Эльзаса. Многие знают его… Еще бы — такой удалец и хват! Император Наполеон собственноручно приколол ему орден на грудь… гигант-кирасир генерала Мильо… герой Ватерлоо… Он и сегодня прямой и крепкий, как дуб, хотя ему давно уже стукнуло семьдесят… Но я докучаю вам, мадам, своей болтовней о семейных делах, которые вам ничуть не интересны. — Вы ошибаетесь, сержант! Все, что касается вас и моей дорогой Розы, мне в высшей степени интересно. — Вы очень любезны, мадам. — …А от слова «Эльзас» у меня сжимается сердце, потому что оно пробуждает воспоминания и дорогие и горестные. — Я прошу у вас прощенья, мадам, если невольно разбередил ваши раны. — Не будем больше об этом говорить! А вы, Роза, дитя мое, читайте письмо… Я порадуюсь вместе с вами. Девушка сорвала большую сургучную печать, развернула лист бумаги и своим нежным голоском начала читать:
— «Форт-Вобан, 8 июня 1855 года. Моя крошка, моя милая Рождественская Роза!»Что-то вроде придушенного вопля вырвалось из груди Дамы в Черном, и она сказала прерывающимся голосом: — О, Господи!.. Вы сказали: Форт-Вобан… — Да, мадам… Дедушка там живет… — Совсем рядом со Страсбургом… домишко… у дороги в Кель. — Да, да, там… — И Роза… Рождественская Роза… — Да, так дедушка ласково меня называет… — Силы небесные!.. Там, перед Форт-Вобаном, есть цветник… с зимними цветами… и там эти снежные розы… у них ваше имя… Рождественские розы… — Да, мадам. Уже больше сорока лет дедушка выращивает их… с такой любовью… И каждое Рождество отвозит большой букет к памятнику генерала Дезе, на остров Эпи… Но Дама в Черном уже не слышала ничего. Бледная, с трагическим выражением лица, она тщетно пыталась взять себя в руки. У нее начался сильнейший нервный припадок. Взгляд стал невидящим, здоровая рука судорожно двигалась, хриплые стоны рвались из груди, с побледневших губ, словно в бреду, срывались слова: — Форт-Вобан… Рождественские розы… Господи!.. Помоги мне! Сжалься надо мной!.. О, Роза! Рождественская Роза!
ГЛАВА 6
В клетке. — Безумная жажда свободы. — Бомба. — Смертельная опасность. — Как Оторва открыл дверь. — Стража. — Штыки наперевес! — Один против восьмерых. — Кровавая стычка. — Брешь. — Спасение?Запертый в каземате, Жан в отчаянии считал дни, часы и даже минуты. Заточение казалось ему вечным. Его щеки впали, глаза горели, как у хищного зверя, сжатые губы разучились улыбаться. Это не был уже прежний Оторва — лихой и веселый солдат, отважный воин, славный зуав, любитель пирушек и жарких схваток. Бледный, изможденный, в грязном и мятом мундире, взъерошенный, как собака на привязи, узник был взбешен. Уверившись в том, что побег невозможен, что все его попытки вырваться из омерзительной клетки обречены на неудачу, он теперь желал смерти. Он бранил сквозь тяжелую дверь своих сторожей, бушевал и ревел по сто раз на дню: — Тысяча чертей! Бомбы сыплются дождем… Неужели не найдется ни одной, которая пробила бы этот проклятый каземат! Ну же, пушечки! Ударьте картечью, да так, чтоб я взлетел повыше… вместе с этими безмозглыми казаками, которые смеются надо мной, которым плевать, что я здесь маюсь! Бам-м! Еще одна бомба!.. Перелет!.. Мне она уже не достанется… Милейший Шампобер, ваши люди стреляют как сапожники!.. Как бы я был им благодарен, если б они стреляли поточнее! Французские батареи находились всего в ста двадцати метрах от каземата. Снаряды рвались с оглушительным грохотом. Ядра со всего маха врезались в земляные насыпи, доски, каменную кладку, поднимая тучи обломков. Бомбы взлетали все круче, так высоко, что терялись из виду, и потом, разогнавшись, били со стократной силой. Ничто не могло противостоять этим громадинам, которые рушили, стирали в порошок, уничтожали все на своем пути. Однако, что бы там ни говорил Оторва, артиллеристы капитана Шампобера знали свое дело. Бомбы разрывались теперь на кольцевой дороге, покрывая ее огромными воронками, в которые вполне могла ухнуть артиллерийская повозка. Расстояние между местом выстрела и местом падения бомб становилось все короче и короче. Одна бомба шлепнулась прямо перед дверью каземата. Восемь человек охраны разбежались в разные стороны. Оторва злорадно захохотал и закричал: — Молодец, Шампобер!.. Это начало конца! Глухой удар, удушающий дым, язык пламени… По кругу разлетелись огненные брызги. Дверь, изрешеченная осколками, отозвалась барабанным гулом. Доски обшивки раскололись, гвозди выскочили, дверные петли зашатались. Дверь еще держалась, но второго снаряда будет достаточно, чтобы сбросить ее на землю, как, впрочем, и для того, чтобы разворотить весь каземат и прикончить узника. Оторве на это было наплевать. В образовавшуюся щель он увидел несколько солнечных лучей, и к нему, словно по волшебству, возвратилось хорошее настроение. — Милости просим! — прокричал он. И, как бы отзываясь на его слова, вторая бомба с дьявольской точностью легла на то же место. Она упала чуть позади двери, проломила в своде каземата дыру, сломала, как спички, два бревна, подпиравших стены, пробила потолок и упала на пол, в трех шагах от Оторвы. Зуав рассчитывал на другое. Он сразу оценил свое положение: оно было безнадежно. Бедняга погиб. Дверь по-прежнему оставалась заперта. Выломать ее просто немыслимо. В дыру, проделанную бомбой наверху, в своде каземата, можно было пролезть. Но она располагалась на высоте более двух метров и образовывала нечто вроде трубы, до которой Оторва не мог добраться, во всяком случае сейчас, да еще при том, что у него оставалось очень мало времени. Фитиль потрескивал, заполняя едким дымом темное помещение. Через пять или шесть секунд огонь дойдет до начинки бомбы. Пять килограммов пороха, заключенные в семидесяти фунтах железа… Взрыв в закрытом помещении — и от молодца останется мокрое место. Вырвать или погасить фитиль невозможно. Он вставлен в трубку, плотно забитую в глазок бомбы. Нет, ничто не спасет зуава! Пять или шесть секунд, быть может, восемь, ну уж никак не больше десяти!.. Вот сколько ему еще жить. — Ну что ж! — сказал он спокойно. — Значит, не суждено мне водрузить знамя Второго зуавского на Малаховом кургане! И — удалец остается удальцом! — молодой человек выпрямился и сложил руки на груди, в трех шагах от бомбы. Ш-ш-ш-ш-ш!.. Фитиль дымил и потрескивал, отбрасывая красноватый свет. Оторва пристально смотрел на него с высокомерным и вызывающим видом. Секунды бежали, быстрые, тревожные, мучительные. Жгучая мысль пронзала мозг человека… ему предстояло умереть… да, сейчас, и помилование было невозможно. Перед ним пронеслась вся его жизнь. Так сверкание молнии на мгновение высвечивает во тьме целый мир. Детство!.. Отец, старый наполеоновский солдат! Мать… о, его мать!.. Потом полк… и знамя!.. Прелестное личико Розы… ее большие глаза… в них столько нежности… и, наконец, апофеоз[244], когда исполняется мечта солдата: трехцветное знамя гордо реет на Малаховом кургане, и он, Оторва, размахивает древком, поднимая его высоко-высоко — как только может… Вытянувшись, с презрением глядя на снаряд, он ждал ослепительной вспышки… страшного удара… смерти, над которой столько раз насмехался. Но вдруг в каземате воцарилась тишина. Будничное, кухонное потрескивание фитиля смолкло. Не было больше красных искорок в сумеречном свете подвала, не было дыма, ничего… кроме целой и невредимой бомбы, безобидной, точно деревянный шар. Фитиль погас! Оторва испустил долгий вздох — так вздыхает смертник, увидев в роковую минуту, что пришло помилование. Напряжение спало, все его существо ликовало, ощущая блаженство бытия. Внезапно он разразился нервным смехом и закричал: — Фитиль погас… осечка! Это бывает редко, но бывает — вот доказательство! Черт возьми! Я был уже одной ногой на том свете… И возвращением оттуда я обязан канонирам моего друга капитана Шампобера! Да, но такое случается только раз!.. И с этих сумасшедших станется кинуть сюда еще одну бомбу, которая не даст осечки и разорвет меня в клочья. Да, надо уносить ноги! Хорошо сказано — уносить ноги! Но как? Через дыру, пробитую бомбой в своде? Попробуем! Оторва попытался добраться до нее и влезть в отверстие, как трубочист в трубу. Но пробоина находилась слишком высоко — руки не доставали. Напрасно он подпрыгивал, напрасно цеплялся за бесформенные обломки, которые чудом еще не отвалились. Куски досок, щебень осыпались у него под руками, били по спине, грозили засыпать с головой. Время шло, французы стреляли вовсю, ситуация становилась для узника невыносимой. Его охватил гнев — препятствия множились, и он снова был парализован! Жан толкнул плечом дверь, пытаясь ее вышибить. Но дверь держалась, и он отскакивал от нее, как резиновый мячик. — Чтобы вышибить эту проклятую дверь, нужна пушка, — ворчал зуав. — Черт бы побрал этих увальней-московцев — надо же так прочно строить! Не переставая ворчать, он задел за бомбу, оступился и чуть не упал. «А ну-ка!.. Давай, котелок, вари!.. Есть идея!» Сказано — сделано. Оторва наклонился, взял бомбу, с колоссальным трудом приподнял и удержал в вертикальном положении; потом отступил на несколько шагов для разбега и, стиснув зубы, кинулся вперед. В метре от двери он остановился и, собрав остатки сил, с ходу бросил бомбу вперед. Бомба ударилась в середину двери, которая издала звук, подобный звуку гонга, и с треском обрушилась. Итак, теперь Жан мог выбраться из каземата. И он сказал с ребячьей гордостью: — Если я и не человек-пушка, то уж, во всяком случае, и не картонная марионетка. Ну что ж, надо вылезать отсюда. Осторожный, словно могиканин[245], зуав высунул голову в пролом и увидел, как его стража возвращается, топоча сапогами. — Я должен выбраться, — снова пробормотал наш герой, — один против восьмерых, черт бы их побрал… Да, пальбы не миновать. Сержант, старший в команде, увидел, что пленный собирается выйти, и знаком приказал ему вернуться в камеру. Но Оторва все же вышел из каземата. Сержант наставил на него штык и что-то прокричал по-русски. — Не суетись, дай мне пройти, — ответил Жан по-французски. Бомбы, снаряды, ядра проносились у них над головой, шипели, падали, откатывались, взрывались, производя адский шум. — Батарея моего друга капитана Шампобера рядом, совсем близко… Я доберусь до нее в два прыжка, — добавил Оторва, добродушно посмеиваясь. — Ну же! Разомнемся, милок! Но упрямый «милок» побагровел от ярости и без предупреждения бросился со штыком на француза. Тот быстрым движением увернулся от удара и закричал, смеясь: — По мне, казак или бедуин[246] — какая разница? Ни черта не смыслят!.. Кто ж так держит штык?.. Дай-ка мне свое ружьишко — я тебя обучу в один урок! Пока русский сержант, расстроенный промашкой, приходил в себя, Оторва прыгнул, как тигр, выхватил у него ружье, принял оборонительную позу и прокричал: — Ну, кто следующий? Сержант испустил яростный вопль и дал команду подчиненным. Восемь солдат взяли зуава в кольцо грозно сверкающих штыков. Оторва захохотал и произнес свирепым командирским голосом: — Бросай оружие, или я вас уничтожу! Сержант снова испустил вопль. Ружья у него не было, но он выполнял свой долг и к тому же верил в легкую победу. Вытащив саблю, охранник кинулся на зуава. Руки Оторвы на мгновение расслабились, затем сжались как взведенная пружина, и штык с быстротой молнии вонзился в тело противника. Несчастный не успел ни отшатнуться, ни подготовиться к отпору. Трехгранный клинок пронзил его насквозь и вышел из спины. На минуту сержант с искаженным от боли лицом замер на месте, а потом, пошатнувшись, упал без крика, сраженный наповал. Оторву нельзя было узнать. Ноздри его раздувались, на скулах проступили красные пятна, глаза сверкали. Да, теперь ему уже было не до насмешек. — Первый! — закричал он хриплым, приглушенным, изменившимся голосом. Прыжок в сторону, и снова сверканье штыка, выброшенного с необычайной силой и ловкостью. Солдат, получив удар в бок, испустил вопль и упал ничком в лужу крови. — Второй! — прорычал Жан. Шестеро солдат с яростными криками попытались окружить этого страшного врага, чья отвага, сила и ловкость приводили их в замешательство. Окружить Оторву!.. Пустое дело!.. На это нужно двадцать человек, да и то мало! Русские наступали на него по всем правилам штыкового боя. Он же приседал, выпрямлялся, изворачивался, кидался вперед, в сторону, назад, уклонялся от ударов и, умело оберегая свою шкуру, находил, куда вонзить свой чудовищный штык. И от всего этого он даже не запыхался! Легкие из бронзы, суставы из стали, мышцы атлета и ловкость тигра! Да, русским от него сейчас достанется! Вопли боли и ярости перекрывали грохот взрывов и лязг штыков. Один из солдат, кому штык пришелся в середину живота, выпустил из рук ружье и упал, зажимая руками рану. — Третий! — считал Оторва. Русских осталось всего пятеро. Испытанные храбрецы струсили. Они не понимали, как сладить с этим могучим бойцом, и чуть не заподозрили в нем дьявольскую силу. События разворачивались быстрее, чем мы о них рассказываем. Оторва удивлялся и радовался тому, что никто из его противников не подумал выстрелить в него в упор. Но тут один из солдат, тот, что стоял в середине, все же догадался, что пуля летит дальше, чем достигает штык. Он вскинул ружье и прицелился по всем правилам. Зря он это затеял: Оторва был не только превосходным фехтовальщиком, но и метким стрелком. Жан проворно прижал ружье к плечу, выстрелил и тут же распластался на земле. — Четвертый! Привет, московец! Русский не успел даже нажать на спусковой крючок. Пуля разбила его череп. Зуав приподнялся и сквозь пороховой дым заметил брешь в строю врагов — на месте человека, упавшего на землю. Он кинулся туда, опустив голову, выставив штык. Четверо оставшихся солдат собирались напасть на него сзади. Слишком поздно! Один получил между плеч яростный удар штыком, другому на затылок обрушился приклад. Их ружья катились по земле с железным лязгом, тела корчились, повсюду текла кровь. Последние двое солдат, отпрянув в ужасе, осенили себя по-русски крестным знамением, справа налево, уверенные в том, что перед ними сам дьявол. Да, для них он и был дьявол, этот удивительный боец, который с такой яростью защищал свою свободу. Оторва повелительным жестом приказал им бросить ружья. Они тут же повиновались. Новый красноречивый жест велел им убираться с глаз долой. Бедолаги легко поняли приказ, который подкреплялся движением штыка. Они бросились бежать немедленно, со всех ног, не оборачиваясь, обезумев от страха. — Сердечный привет вашим! — насмешливо прокричал на прощанье Оторва. Оставшись победителем на поле боя, он думал поступить как они, только рвануть в противоположную сторону, к французским позициям. Но красный цвет мундира мог его подвести. Скорей!.. Скорей!.. Надо переодеться. И без того просто чудо, что другие русские солдаты еще не появились на месте схватки. Правда, французы задавали им жару, и все посты были заняты делом. С лихорадочной быстротой Жан снял с сержанта шинель и натянул ее поверх своего мундира. — Хорошо!.. Хорошо!.. — бормотал он, застегивая шинель на своей могучейгруди. — Теперь саблю… патронную сумку… портупею…[247] какое снаряжение, Бог мой!.. Так, феска у меня в кармане… фуражка на голове. Вот я и московец в наилучшем виде, как тогда, когда приволок этого мерзавца Дюре… которого расстреляли. Превратившись таким образом в сержанта русской армии, зуав подобрал ружье, положил его на плечо, дулом назад, вытянув руку, «по-немецки» охватив ладонью приклад, и пошел, подражая строевой выучке солдата его императорского величества Александра II[248]. Оторве предстояло преодолеть каких-то пятьдесят метров, чтобы добраться до угла полуразрушенного бастиона. Бомбы и ядра продолжали сыпаться градом. Но молодой человек, как всегда, надеялся на свою счастливую звезду. И вообще — будь что будет! Нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. И не такая уж большая жертва — отдать свою жизнь, если это ради свободы. Вначале все шло хорошо, даже очень хорошо. Ни одной неприятной встречи, вообще нигде ни души. При виде французских укреплений, которые проступили наконец сквозь густую пелену порохового дыма, зуав почувствовал, как сердце его гулко забилось от радости и надежды. Вот он уже у подножия знаменитой мачты, в честь которой назван бастион. Русское знамя, изрешеченное картечью, двадцать раз сбивавшееся и двадцать раз водружаемое вновь, гордо реяло на верхушке мачты. Оторва зашагал дальше. Еще двадцать пять метров, и он спрыгнул в ров. Проклятье! Откуда ни возьмись — команда землекопов во главе с офицером. Их послали заделать брешь. По крайней мере, шестьдесят человек несли фашины, туры, инструмент и, разумеется, оружие. Оторва решил взять дерзостью. Спокойно, с достоинством, он остановился и козырнул приближающейся команде. Но одна злосчастная деталь привлекла внимание офицера. Солдаты русской армии были обуты в сапоги. Офицер же заметил на ногах сержанта белые гетры. Зуав не подумал об этом, гетры высовывались из-под шинели на двадцать сантиметров. Офицер спросил, почему он одет не по форме. Оторва, который не знал ни слова по-русски, встал, разинув рот. Он ясно понял, что пропал. У него остался один шанс, да и то ненадежный, подсказанный отчаянием. Жан бросил ружье и помчался к обрушенному валу, надеясь добраться до нейтральной полосы, простреливаемой с двух сторон. Удастся ли это ему? Сумеет ли он бесстрашием и дерзостью обмануть свою злую судьбу? Увы — нет. Мужество, изобретательность, хладнокровие на этот раз его не спасут. Один из саперов, увидев, что неизвестный удирает, бросил ему в ноги тур. Зуав споткнулся и растянулся на земле. Двадцать пять человек навалились на него. Он встал, одним движением раскидал их, сорвал с себя шинель и предстал перед изумленными глазами солдат в овеянном славой мундире зуава. Офицер, молодой капитан, узнал его и закричал: — Оторва! Зуав гордо выпрямился, принял безупречную воинскую стойку и ответил: — Да, господин капитан! Это я… я сдаюсь… и я знаю, что меня ждет! — О, бедный мой товарищ!.. Бегство, насилие, смерть солдат его величества!.. — Да, я все знаю! Я играл… и проиграл… я хотел быть свободным или погибнуть… Я буду расстрелян!.. Ну что ж, так тому и быть. Все лучше, чем гнить в каземате!
ГЛАВА 7
Часовые и пленники. — Трибунал. — Жестокий жребий. — К смерти! — Дружба крепнет. — Прощайте! — Письмо. — А Роза? — Последний туалет. — Расстрельная команда. — Пли! — Братья!..Бедного Оторву тотчас увели в другой каземат. Новая тюрьма лучше, чем прежняя, защищена от бомб, лучше укреплена и исключала всякую возможность побега. Обстановку в камере смертника составляли походная кровать, столик, традиционный кувшин с водой и три стула. Почему стульев три? Потому что Оторва отныне будет под присмотром двух часовых, которым приказано не спускать с него глаз. И поскольку комендант не хотел зря утомлять своих людей, им разрешили сидеть. Разрешено это и Оторве, так что пленник и часовые составляли сидячее трио. Оторве хотелось бы поболтать с ними, стряхнуть с себя кошмар заключения… Но они не понимали друг друга и только переглядывались, правда, без всякой неприязни, скорее даже с симпатией. Что вы хотите? Французы и русские встречались на аванпостах, в бою, в лазарете; они обменивались жестокими ударами, но как только потасовка заканчивалась, угощали друг друга добрым глотком, табачком… словом, братались, потому что они — храбрые солдаты и умеют относиться к противнику с уважением. Желая засвидетельствовать это уважение, один из стражей произнес мягким славянским голосом два слова, которые стали под Севастополем общеупотребительными: — Боно французин! На что Оторва ответил обязательным: — Боно московец! Русские, улыбаясь, закивали головами, а зуав подумал: «Да, это так: боно французин и боно московец… все люди — боно, и тем не менее все убивают друг друга!» Второй страж попытался объясняться жестами. О, ничего веселого, солдатская правда простодушна и жестока. Он посчитал на пальцах до двенадцати, сделал вид, будто выстраивает людей в ряд и зарядил ружье. Потом, указывая рукой на зуава, как бы прицелился в него и издал звук: — Бах! — Да, я понял, — ответил Оторва. — Двенадцать человек… расстрельная команда… и расстрелянный — это я… бах! Не особо смешно, старина казак!.. Но мы еще посмотрим. Часы шли, наступила ночь. Наш герой, ничуть не тревожась, вытянулся на своей постели и заснул сном праведника. Он спал так крепко, что даже не слышал, как сменились в камере часовые. Новые часовые были словно отлиты по тем колодкам, что и предыдущие. На рассвете они разбудили заключенного, произнеся сердечное: «Боно французин!» Оторва проснулся, потянулся, зевнул и ответил тем же: — Боно московец! Формулировка неизменна, других слов они не знали. Но на сей раз у нее оказалось приятное добавление — четвертка водки и большая краюха хлеба, которыми солдаты запросто, по-товарищески, поделились с узником. Жан, не поморщившись, проглотил свою долю спиртного, сжевал за обе щеки черный осадный хлеб и, в знак благодарности, пожал руки славным воякам. В восемь часов шум шагов за стеной и бряцание металла заставили его вздрогнуть. Тяжелая дверь со скрипом отворилась. — О-о, это что-то новое! — сказал Оторва. В приоткрытую дверь он увидел двенадцать человек команды под водительством сержанта. Зуав почувствовал, как по его телу пробежала дрожь, однажды уже испытанная, и подумал: «Неужто меня расстреляют просто так, без лишних слов? Без суда, без приговора? Хотя с приговором или без приговора — не все ли равно!» Сержант знаком приказал ему выйти. Смело, но не рисуясь, француз с достоинством последовал за начальником конвоя. Позади собора находилось здание, на фронтоне[249] которого реял русский флаг. Это здание почти не пострадало от обстрелов и служило местом сбора дежурных офицеров. Оторву провели в большой зал, в глубине которого сидели за столом члены трибунала. Сердце зуава сжалось невыразимой болью, когда он увидел, что председатель трибунала — его друг майор Павел Михайлович. Да, дисциплина иногда предъявляет жесткие требования! Майор был бледен. Отважный француз понимал, как страдал этот храбрый солдат, который относился к нему с такой симпатией. Какой ужасный жребий выпал его преданному другу — волей случая стать судьей при таких суровых обстоятельствах, когда следовало быть неумолимым. Оторва отдал судьям честь. Грудь колесом, голова вскинута, твердый взгляд — таков наш зуав в ожидании вопросов суда. Председатель начал допрос, его голос, несколько неуверенный, постепенно окреп. — Назовите ваше имя и звание, возраст, место рождения. Зуав ответил: — Меня зовут Оторва, сержант Второго зуавского полка, мне двадцать три года. Что касается моего настоящего имени, извините, господин майор, но я отказываюсь его назвать. — Почему? Я уверен, что это славное имя. — Поэтому я и не хочу его открывать. Я знаю, что буду приговорен к смертной казни… ну что ж… но ради чести моей семьи, чести моего имени… я хочу быть расстрелянным как Оторва. Моя смерть, таким образом, будет почти анонимна. В полку меня будут считать пропавшим без вести или погибшим в плену… и никто не узнает там… в доброй старой Франции, что я казнен. Такая смерть может быть плохо истолкована… может нанести ущерб моей памяти. — Я ценю и уважаю ваши чувства… Итак, продолжим. Вы признаете, что напали на восьмерых солдат его величества императора и убили шестерых? — Да, господин майор! Но я сражался честно, лицом к лицу с противником. — Не сомневаюсь, но это не извиняет вас и не мешает квалифицировать ваш поступок как вооруженное сопротивление. — Я в плену… и хотел выйти на свободу. Я знал, на что иду, и действовал в здравом уме и твердой памяти. — Солдаты, ваша охрана, как-то провоцировали вас? — Нет, господин майор. Они хотели воспрепятствовать моему побегу… они выполняли свой долг… и я первым нанес удар. — Вы ни о чем не сожалеете? — Нет, господин майор, ни о чем… Это война, а я — солдат!.. В другой раз я поступил бы так же. Солдат должен сражаться до последнего вздоха… Кроме того, я не давал слова отказаться от свободы. — Я знаю. Трибунал все взвесит. Вы ничего не хотите добавить в свою защиту? — Нет, господин майор. — Хорошо. Трибунал удаляется на совещание. Прошло десять минут, и пятеро офицеров возвратились в зал заседаний. Председатель стоя — еще более бледный — медленно произнес: — Сержант Оторва, с прискорбием объявляю вам, что трибунал единогласно приговорил вас к смертной казни… за мятеж и убийство солдат его величества. Устав не предусматривает в этом параграфе смягчения наказания. Вы будете расстреляны в течение двадцати четырех часов. Зуав бесстрастно поднес руку ко лбу, молча отсалютовал трибуналу, а про себя подумал: «От судьбы не уйдешь!» Офицеры встали: вежливо ответили на его приветствие и грустно ушли. Майор остался наедине с осужденным, если не считать охраны. — Оторва!.. Мой бедный друг! — воскликнул русский офицер, протягивая зуаву обе руки. — Я в отчаянии! У меня такое чувство, что, посылая вас на казнь, я совершаю чудовищный поступок… Как будто убиваю брата… все мое существо восстает против этого… У меня разрывается сердце… Никогда со мной не было ничего подобного, и я ощущаю неодолимую потребность сказать вам это! Но вы — наш враг… враг опасный, упорный, умышленно нарушивший законы моей страны… Я судил вас по совести… в соответствии с этими законами… суровыми, но справедливыми… и я хотел бы иметь возможность вас оправдать… вернуть вам свободу. О, будь проклята война, которая стравливает людей, созданных, чтобы дружить друг с другом… При этих теплых, исполненных волнения и приязни словах суровое выражение лица Оторвы смягчилось, его руки сжали руки майора, и он сказал прерывающимся голосом: — Господин майор… ваше сочувствие… оно кажется мне невероятным… и глубоким… в самом деле братским… Такое ощущение, словно я знаю вас с давних пор… знал всегда… нас связывает таинственная близость, которая делает наше положение еще более мучительным… а то, что предстоит, становится ужасным… Да, будь проклята война… это нечестивое дело, которое разрешает убийства и сеет повсюду горе, траур и слезы! Держась за руки, лицом к лицу, два отважных воина долго смотрели друг на друга увлажнившимся взглядом, взволнованные, с бьющимися сердцами, и не могли проронить ни слова. Жан первым нарушил горестное молчание. — Господин майор! — Да, дорогой мой Оторва? — Окажите мне огромную услугу… последнюю услугу. — Друг мой, располагайте мной как братом. — Завтра… в девять часов… будьте рядом со мной… на месте казни… помогите мне по-братски в эту страшную минуту… Чтобы я умер не одиноким… брошенным всеми… — Обещаю, — с трудом произнес Павел Михайлович. — Благодарю вас… Ничего другого я и не ждал. Сегодня ночью я выражу свою последнюю волю… напишу другу моей семьи… близкому человеку… и попрошу его подготовить к страшной вести… моего старого отца… мою бедную матушку… Я оставлю письмо на столе… А когда все будет кончено… когда меня не будет… возьмите крестик с моей груди и вложите его в письмо… а потом переправьте его туда… во Францию. Вы обещаете это мне, правда, господин майор? — Клянусь! — Я рассчитываю на вашу скромность. — Ваше желание для меня священно. — Обещайте также, что в моем полку никто не узнает, что меня расстреляли. — Все будет так, как вы хотите. — Еще раз и от всего сердца благодарю вас! Последний раз они заключили друг друга в объятия, и осужденного увели в каземат. Солдаты зорко следили за ним, и Оторва снова принял беззаботный вид. Ему принесли обильный завтрак, который он поглотил с большим аппетитом. Икра, холодное мясо, бутылка вина, кофе, сигары… «Настоящий пир смертника», — подумал зуав, которому давно не приходилось сидеть за таким столом. Забыв о солдатах, он зажег сигару и принялся мерить шагами свою камеру со сводчатым потолком. Ничто не нарушало спокойствия этого солнечного утра, которое для Оторвы будет последним. Хотя что касается спокойствия, оно относительно, поскольку яростная бомбардировка продолжалась по всей линии огня — от Корабельной до Карантина. Но все так давно привыкли к артиллерийской канонаде, что непрерывный грохот воспринимался как нечто обыденное, а тишина вызывала недоверчивое удивление. Часы бежали с пугающей быстротой. Надвигалась ночь. Осужденному снова принесли еду, еще более обильную и разнообразную, чем в первый раз, потом выдали бумагу, конверты, сургуч, чернила и перья. Зажгли лампы. В камере стало светло как днем. Быстро покончив с трапезой, Жан собрался с мыслями. Он придвинул к себе лист бумаги, взял перо и начал писать: «Дорогой отец… дорогая матушка… дорогие мои обожаемые родители…» Внезапно перо выскользнуло у него из рук, сердце забилось все сильнее, рука задрожала, слезы выступили на глазах, и рыдание вот-вот готово было вырваться из груди. Оторва, человек из железа, почувствовал, что его неукротимая воля слабеет. Ах, если б он был один! Но русские смотрели на него. Русские, которые знали, что его ждет, восхищались выдержкой и достоинством пленника. Что ж, на глазах у врага негоже выказывать недостаток самообладания… надо утаить от них как нечто постыдное минутную слабость, такую естественную и человечную. Оторва сжал зубы, тяжело вздохнул и проглотил слезы. Потом закурил сигару и снова принялся спокойно писать. Он писал долго, стопка исписанных листочков росла. Душа отважного и нежного солдата изливалась в тысяче прелестных подробностей. Немало слез прольют его близкие, читая это. Зуав медленно перечитал письмо, которое дышало любовью, и поставил свою подпись. Потом, не думая больше о том, смотрят ли на него русские, поднес письмо к губам, как делал это, когда ребенком писал матери: «Прими мой крепкий поцелуй, который я кладу в конверт!..» Молодой человек красиво, не без щегольства, выписал адрес на конверте:
«Господину Мишелю Бургею Командиру эскадрона в отставке в Нуартер (Эр и Луар) Франция (Заботами майора Павла Михайловича)».Какое-то время Жан сидел в задумчивости и тихонько бормотал про себя: — А как же Роза? Он машинально протянул руку к бумаге, как бы собираясь снова писать. Но тут же передумал. «Зачем? Я исчез более шести недель назад… На войне это долгий срок… Он наводит на мысли о вечной разлуке. В полку наверняка считают, что я убит… Милая Роза!.. Она уже оплакала меня и не надеется на встречу… Стоит ли заново причинять ей страдания и писать о том, как велика моя любовь и как разрывается мое сердце при мысли, что я теряю ее навсегда! О-о, как я мечтал о нашем с ней будущем!.. Великолепная жизнь!.. Офицерский чин!.. Эполеты!.. Воинская слава! Прекрасные мечты, у которых — увы! — нет будущего, которые через несколько часов уничтожит смерть. Что ж, приходится смириться! Да, лучше промолчать! Дочь солдата, она собиралась стать женой солдата и должна была быть готова к славной, но полной риска жизни». Оторва сидел, облокотившись о стол, подперев руками лоб, с блуждающим взглядом, не замечая, как бегут часы. Вот уже и рассвет встал над городом, проникая за решетки каземата. «Вот и день! Что ж, я уже не стану ложиться. Бессонная ночь!.. Если и не первая в моей жизни, зато наверняка последняя… А потом отдых… навсегда!» Тут он заметил, что его мундир в пыли и грязи. При мысли о том, что он предстанет перед расстрельной командой в обличье пьяницы, подобранного на улице, его охватил стыд. Безупречный солдат, он хотел быть начищенным и надраенным, как на параде. Знаками Жан попросил своих стражей принести ему щетки, ваксу, мыльную воду. Солдаты превосходно поняли француза и поспешно предоставили в его распоряжение все свои туалетные принадлежности. Гетры, ботинки, шаровары, пояс, куртка, феска — он все внимательно осмотрел, почистил щеткой, надраил с той ловкостью и тщательностью, с какой это делают старые служаки. Работа спорилась: и вот уже снаряжение засверкало, как новенькое. Потом зуав старательно, с мылом вымыл руки, шею и лицо и снова стал самым блистательным из зуавов всех трех зуавских полков. Русские в восторге наблюдали за этим великолепным солдатом, олицетворявшим собой французскую армию. Для человека, которому предстояло вот-вот расстаться с жизнью, он держался с необыкновенным достоинством. И все же морщина пересекала его лоб. Час казни приближался, а майор Павел Михайлович еще не появлялся. Неужели что-то могло ему помешать выполнить обещание, нарушить взятое на себя священное обязательство присутствовать при казни? Несомненно, произошло что-то серьезное. Несчастный случай?.. Ранение? Или хуже? Вполне возможно, тем более что союзные армии удвоили интенсивность огня, словно французы и англичане решили устроить зуаву кровавые похороны. На колокольне собора часы пробили девять. Каждый из девяти ударов сопровождался залпом картечи. Наступила роковая минута. В каземат быстрым шагом вошел унтер-офицер, поприветствовал Оторву и жестом предложил ему следовать за собой. Жан встал, положил письмо на видное место на столе и последовал за унтер-офицером. У выхода, с оружием к ноге, выстроились солдаты. Прозвучала короткая команда. Солдаты окружили зуава, вскинули ружья на плечо и тяжелым шагом тронулись в путь. Снаряды, бомбы сыпались градом. Двигаться следовало осторожно, используя для прикрытия оборонительные сооружения, чтобы не попасть под обстрел. Для казни осужденного выбрали ход сообщения, расположенный позади третьей линии укреплений. Через пять минут команда была на месте. Хотя земляные работы только еще заканчивались, маленькая группа уже оказалась прикрыта от огня. Оторва прислонился спиной к откосу и бросал тревожный взгляд на дорогу. Он думал о своем друге майоре: «Его все нет… Господи, что же с ним произошло?» К Жану подошел унтер-офицер и знаками показывал, что ему не будут завязывать глаза и связывать руки. Это свидетельство уважения со стороны великодушного противника глубоко тронуло Оторву. Он не знал, как ему поблагодарить унтер-офицера, и ограничился тем, что крепко пожал ему руку, добавив к этому обычное: — Боно московец! Потом зуав, подставив лицо солнцу, застыл в воинской стойке в ожидании смерти. Он ни на что больше не надеялся. Унтер-офицер повернулся к своей команде, стоявшей неподвижно в пятнадцати метрах от зуава. Прозвучала команда зарядить оружие. Звякнули затворы, щелкнули взводимые курки. — Не пришел! — грустно прошептал Оторва, стараясь держаться потверже, несмотря на чувство ужасного одиночества, охватившего его в этот последний час. Снова послышалась короткая команда, заглушенная грохотом разрывов, как заглушает гроза стрекотанье кузнечика. Солдаты, действуя с механической четкостью, прижали приклады к щеке. Оторва отважно смотрел на стволы карабинов, из которых сейчас вырвутся свинцовые горошины, окутанные язычками пламени. «Прощай, отец!.. Прощай, матушка!.. Прощайте, Буффарик и Питух… Прощайте, товарищи по оружию… братья… мой полк… мое знамя!.. Прощай, Роза!.. Прощай все, что я любил!..» Сейчас унтер-офицер произнесет последнюю команду… пли! Но в это мгновение раздался жуткий, душераздирающий вопль, от которого вздрогнули и солдаты, и сам Оторва. Солдаты рассыпались, словно сметенные ураганом. И тут же появился майор — бледный, окровавленный, с израненным лицом, в порванном мундире. В одной руке гигант держал письмо, в другой — обнаженную саблю. Ужасный крик вырвался из его груди. — Остановитесь!.. Тысяча чертей!.. Остановитесь! Слава Богу, я не опоздал. Два тигриных прыжка — и он уже оказался рядом с зуавом, прикрыв его своим телом и еле выговаривая: — Оторва!.. — Господин майор!.. Вы!.. О, благодарю вас!.. Русский офицер, сияющий, сам не свой, вымолвил, задыхаясь: — Письмо… коменданту Бургею… Мишелю Бургею… твое письмо… Вот оно… Я хочу, я требую, чтоб ты сказал мне правду… это необходимо… Оторва… кто ты? — Я обманул вас, — тихо ответил зуав. — Комендант Мишель Бургей — мой отец… Я — Жан Бургей… — О, я так и думал… Если бы я опоздал… я бы убил себя… Ты будешь жить… я не позволю тебя тронуть… потому что я — твой брат!.. Ты слышишь, Жан Бургей, я — твой брат!
ГЛАВА 8
Муки матери. — Восемнадцать лет назад. — В Эльзасе. — Похищение ребенка. — Малый форт и цветник. — Нечеловеческая радость. — Мать и дочь. — О Жане Бургее, по прозвищу Оторва.Покинем на время Севастополь, где царило кровопролитие и грохот орудий, Севастополь, который продолжал героически сражаться почти без надежды на успех, лишь из чувства долга, и которому еще предстояли серьезные потрясения. Вернемся в англо-французский лагерь: пересечем полосу, где заканчивались саперные работы, и траншеи, где без передышки ухали тяжелые пушки и теснились солдаты в предчувствии близкого штурма. Вот Зеленый холм, Доковая балка, батарея Ланкастра и Килен-балка, Инкерманское плато; вот Мельничный лазарет, доверенный просвещенным заботам доброго доктора Фельца, лазарет, где, вопреки всем ожиданиям, поистине чудесным образом выздоравливала Дама в Черном. События тем временем разворачивались, подгоняя друг друга. По воле случая в тот самый час, когда неподалеку, перед строем русских солдат майор Павел Михайлович вне себя кричал Оторве: «Я — твой брат!..», Дама в Черном узнала о простом на первый взгляд обстоятельстве: перед Форт-Вобаном разбит цветник с рождественскими розами. Этот факт, ставший известным из письма дедушки из Эльзаса, привел русскую княгиню в сильнейшее волнение. Ее бедное тело, изможденное страданиями, билось и корчилось в конвульсиях. Отчаянное сердцебиение вызвало бурный прилив крови к голове. Приступ безумия почти угасил неустойчивое сознание, началась жестокая лихорадка. Несчастная женщина испускала пронзительные крики, прерывавшиеся бессвязной речью. Над больной нависла угроза смертельного кровоизлияния. Следовало принимать срочные меры. Роза, мамаша Буффарик и сержант в ужасе позвали на помощь. Прибежал доктор Фельц, решительно сделал кровопускание и прописал сильные отвлекающие, чтобы снизить давление в мозгу. Добрые люди, которые с такой любовью и преданностью выхаживали больную, испытывали мучительный страх. Но вот у них вырвался вздох облегчения. Свет разума показался в широко открытых черных глазах больной. Судороги, терзавшие ее тело, ослабели. Неровное дыхание успокоилось, болезненное возбуждение понемногу уступило место более светлому волнению. Дама в Черном снова была спасена! Теперь женщина говорила не умолкая, словно бы не в силах остановиться. Однако она уже не мучилась, а как бы погрузилась в прошлое, и перед ней постепенно вырисовывались далекие образы, все яснее освещаемые лучами воспоминаний. Доктор незаметно исчез, его ждали другие страдальцы. Роза, мамаша Буффарик и сержант безотчетно придвинулись к постели больной, склонились над ней и с горячим интересом вслушивались в слова, время от времени переглядываясь и все больше заражаясь ее волнением. — …Итак, — почти не повышая голоса, говорила Дама в Черном, — я покинула Россию и поехала во Францию… Почему во Францию?.. Не знаю… стремительное путешествие… в почтовой карете… очень быстро мы пересекли Европу… в самом деле, почему?.. A-а, вспоминаю… Мой муж служил секретарем в русском посольстве… в русском посольстве в Париже… да, верно… я ехала к нему… стояла зима… В каком же это было году? О-о, как давно это было… С тех пор… душа моя мертва, с тех пор я оплакиваю мое утраченное счастье… Прошла половина моей жизни… восемнадцать лет! Половину жизни я провела в ожидании, в скорби, в мрачном отчаянии. Восемнадцать лет!.. Значит, это был тысяча восемьсот тридцать пятый год! — Тысяча восемьсот тридцать пятый год! — глухим голосом повторил Буффарик, нервно теребя свою бороду. — Ты слышишь, Катрин? — Да, мой дорогой, слышу, — отвечала мамаша Буффарик, бледнея. — О, бедняжка! — Да, я ехала в почтовой карете!.. Два экипажа следовали один за другим. В первом был сложен багаж и сидели слуги… во втором ехала я… и моя дочь… моя радость… моя любовь… моя маленькая Ольга… Ей было шесть месяцев, моему белокурому ангелочку… я обожала ее… я кормила ее… заботилась о ней… только мать знает, как сладостны тысячи милых пустяков… какую радость они приносят… и как они нужны младенцу… Наше долгое… очень долгое, но счастливое путешествие подходило к концу… Мы пересекли Баденское герцогство… Предстояло переправиться через Рейн, и мы были бы во Франции… И Кель… так это называется?.. Да, Кель… еще одно проклятое название, которое отдается в моем сердце похоронным звоном вечной печали. Цыгане… эти злодеи… украли ребенка… мою дочь! Вы понимаете… вы ведь тоже мать… они украли у меня мою дочь!.. Каким образом? Не знаю… обычное дорожное происшествие… а может быть, преступление… они устроили засаду, чтобы завладеть багажом… деньгами… Первая карета быстро проехала вперед, а наша на полном ходу опрокинулась. У меня была единственная мысль… уберечь малютку от удара… спасти это крохотное дорогое тельце… я сжимала ее в объятиях и повторяла ее имя… Ольга!.. Потом я потеряла сознание. О, почему я тогда не умерла!.. При этих словах, произнесенных глухим голосом, обе женщины и старый солдат почувствовали дрожь, пробравшую их до мозга костей, — столько муки, страданий и слез они ощутили. — Когда, на свое горе, я очнулась, — подавляя рвущееся из груди рыдание, продолжала княгиня, — я была одна… мои руки судорожно сжимали пустоту… моя дочь исчезла! Напрасно я звала, кричала… умоляла людей… незнакомых людей, которые ставили карету на колеса и поднимали лошадей… Никто ничего не знал… Никто не мог ответить… они думали, что я помешалась от страха, а это душа моя металась в агонии!.. Роза слушала эту душераздирающую историю, и тихие слезы омывали ее глаза. Она склонилась к бедной больной и прошептала: — Мадам, не надо больше рассказывать… Это слишком жестокое испытание для вас — воскрешать подобные воспоминания, столь дорогие вам, но и столь горестные. Ваше состояние ухудшится… Позже вы расскажете нам обо всех ваших страданиях, обо всех ваших бедах!.. Дама в Черном решительно прервала девушку: — Не бойтесь, дитя мое, и дайте мне продолжить… я должна выговориться. Какая-то властная сила заставляет меня рассказывать вам об этих страшных событиях, которые меня убивают… Впрочем, я чувствую себя лучше, намного лучше. После этого нового удара… благодаря вашим заботам, серый туман, который заволакивал мое сознание, расходится… ко мне возвращается память, прошлое проясняется… Так выслушайте меня, мои дорогие друзья! Дама в Черном остановилась на минуту, тяжело перевела дыхание и продолжила окрепшим голосом: — Узнать мне удалось лишь одно: в момент катастрофы вокруг кареты толпились какие-то подозрительные люди неприятной наружности. Как только появились спасители, они убежали… Все произошло в мгновение ока… где-то между последними домами Келя и понтонным мостом[250] через Рейн. Сомнений не было — эти подозрительные люди, эти злодеи, и украли мою дочь, а потом скрылись во Франции… Было слишком поздно, чтобы отправляться за ними в погоню… я одна, с кучером… первая карета укатила далеко вперед. Но какое это имело значение! От ушибов, полученных при падении, мне было трудно двигаться, но я не могла бездействовать… мне надо было искать мою девочку… а для этого ехать вперед, переправиться на другой берег реки… Я отдала короткий приказ кучеру… преданному и бесстрашному мужику: «Вперед! И нигде не останавливайся!» Вытянутые кнутом лошади устремляются вперед и бешеным галопом проносятся по пограничному мосту, соединяющему герцогство Баден с Францией. Вот мы уже на левом берегу Рейна, во Франции, и мне кажется, что я спасена. Но таможенники задерживают карету. Я в полном отчаянии, а тут изволь соблюдать какую-то инструкцию… тратить время на формальности. Таможенники хотят обыскать багаж, переворошить чемоданы и кофры… По чиновничьей глупости… преступной глупости они пытаются встать на пути обезумевшей от горя матери, которая ищет своего ребенка! Почему они не задержали тех людей… злодеев, увозивших мою дочь? В ярости и отчаянии я не желаю считаться с их дурацкими правилами и кричу кучеру, чтоб он ехал дальше. Мужик слушается. Он стегает лошадей, те ржут, встают на дыбы. Однако таможенники кидаются к лошадям и резко пресекают яростный порыв, который, быть может, спас бы мою дочь… Лошади дрожа останавливаются, я бессильно ломаю руки, а карету берут штурмом… сундуки, чемоданы, тюки вскрываются… затем, прямо посреди дороги, эти негодяи методически составляют опись вещей… Я кричу, умоляю, проклинаю! Они же бесстрастно продолжают заниматься своим идиотским и преступным делом. Как будто это я совершила преступление! В карете масса мелочей, за которые надо платить ввозную пошлину… Откуда мне знать все эти инструкции, мне, несчастной матери? Но негодяи не ведают жалости!.. Пропустив похитителей моей дочери, они задерживают меня из-за нескольких рублей!.. Я бросаю им кошелек и кричу: «Возьмите и дайте мне проехать… вы что, не видите, что вы меня убиваете?» Все? Нет, это было бы слишком просто. Эти люди не только не думают мне помочь или хотя бы просто дать мне уехать — нет, они обвиняют меня в контрабанде, в сопротивлении властям, в буйстве и оскорблениях. Меня арестовывают, как уголовную преступницу, препровождают в Страсбург, а там сажают в тюрьму! Мой русский паспорт и разные бумаги, которые я везу, вызывают у них подозрение… Напрасно я объясняю обстоятельства дела с вполне простительной горячностью… меня не слышат. Меня не хотят понять… Все против меня — люди, вещи, обстоятельства. В конце концов эти негодяи обвиняют меня в шпионаже! Я, княгиня Милонова, подруга государыни, дочь и жена дипломатов — шпионка?! Понадобилось три дня и три ночи, чтобы установить нелепость этого обвинения, признать мой титул и, наконец, привести в движение французское правосудие. Разразился громкий дипломатический скандал, и чиновники, которые грубили мне, пока чувствовали, что власть в их руках, явились ко мне с возмутительными раболепными извинениями. Русское посольство твердо вступилось за меня. Министр иностранных дел отдал соответствующие распоряжения, их поддержал министр юстиции. Судебное ведомство принялось выполнять свой долг. За любые сведения о пропавшем ребенке было обещано громадное вознаграждение. Чиновники и агенты полиции вели упорные и тщательные поиски. Методически прочесывались города, поселки, деревни, фермы четырех департаментов. А я в это время, обезумев от горя, металась по всем дорогам, призывая мою дочь. Мне не суждено было больше ее увидеть! День проходил за днем, один тревожнее другого, с каждым часом таяла надежда на успех. Однажды блеснул луч надежды. Лесникам показалось, что они напали на след цыган, которые сразу исчезли после происшествия на дороге. Понимая, что их безжалостно преследуют, эти кочевники пытались перебраться в герцогство Баден, где рассчитывали оказаться в безопасности. Основной части банды это как будто удалось. Но одна старуха цыганка была задержана. Ее подвергли строгому допросу. То угрозами, то посулами у ведьмы вырвали кое-какие признания. Да, именно ее банда выкрала девочку. Подчиняясь гнусному инстинкту хищников и грабителей, они похитили мою дочь. Преследуемые по пятам, повсюду гонимые, под страхом тюрьмы, эти несчастные в предыдущую ночь бросили ребенка, который мог послужить против них уликой. Они положили его у входа в маленький форт, расположенный по правую руку, недалеко от дороги на Кель. «Когда это произошло?» — спросила я у старухи, которая что-то бормотала и мямлила, окидывая все вокруг взглядом загнанного животного. «Прошло ровно двадцать четыре часа», — ответила та не колеблясь, к моему восторгу. «Ты можешь меня проводить?» — «Да, могу». Мы трогаемся с лихорадочной поспешностью. Я полна радужных надежд, я верю, что скоро обрету мое дорогое дитя. Мы подъезжаем к строению. Я узнаю, что оно называется Форт-Вобан. Перед подъемным мостом разбит большой цветник с зимними цветами… с рождественскими розами!.. «Вот здесь и положили ребеночка», — показывает старуха. «Ты говоришь правду?» — спрашиваю я ее с сомнением. «Клянусь моим вечным спасением!» Вход в форт расположен в пятидесяти шагах от дороги. Я бегу туда и нахожу сторожа, старого солдата. «Моя дочь!.. Мою дочь бросили здесь… вы, наверное, слышали… видели ее… нашли… Говорите же!.. Отвечайте!.. Верните мне ее!.. Вы получите целое состояние!..» Но сторож ничего не знает!.. Он не понимает даже, о чем идет речь!.. И никаких следов моей дочери… вернее, след есть — примятые цветы, несколько сломанных стебельков, несколько увядших венчиков… Отныне всякая надежда потеряна. Моя дочь исчезла, и я не увижу ее больше никогда… никогда! «Нет, это здесь!» — твердит старуха. Но я уже не слышу ее. Последний удар оказался слишком тяжелым. Голову мою стягивает железный обруч, молния пронзает мозг, сердце перестает биться. Мне кажется, что жизнь покидает меня, и я падаю как подкошенная! Не знаю, что было дальше. В течение долгих дней я спорила со смертью, которая не хотела меня принимать. Терзаемая лихорадкой, в непрестанном бреду, во власти неотступной идеи, я звала мою дочь!.. Мою дочь, которую я потеряла навсегда! Но смерть, которую я так призывала, снова меня отвергла. Увы, я выздоровела, чтобы страдать и проклинать Францию, где рухнуло мое счастье. С этого времени я не осушала слез и никогда не снимала траура! Душераздирающая исповедь окончилась, и воцарилось горестное молчание. Мамаша Буффарик горько рыдала, сержант Буффарик, старый солдат, закаленный двадцатью пятью годами сражений, тысячу раз бросавший вызов смерти, плакал, как ребенок. Он смотрел на жену и как будто о чем-то спрашивал ее взглядом. Катрин закрыла лицо руками и прошептала: — Скажи!.. О да… скажи!.. Господи!.. Так поздно!.. О, бедная женщина! Сержант Буффарик вытер слезы, почтительно склонился перед Дамой в Черном и сказал прерывающимся голосом: — Да, мадам, вы ужасно страдали… вам выпала жестокая участь… Вас преследовал злой рок… Но если вы проявили такую отвагу перед лицом несчастья… сможете ли вы быть столь же сильны, встретившись с радостью… огромной… нежданной радостью? Княгиня вздрогнула всем телом. Ее здоровая рука потянулась к старому солдату, выражая пылкую мольбу, из побледневших губ готов был вырваться крик. Неужели ее вправду ждала радость… что-то необыкновенно хорошее… неожиданное и счастливое, такое счастливое, что это невозможно выдержать… Она с трудом справилась с волнением и произнесла: — Говорите, друг мой… я больше ни на что не надеюсь… говорите же… Только помните о том, что я пережила восемнадцать лет назад… Нового разочарования я не перенесу… — Поверьте мне… Вашим мукам приходит конец… Да, мадам, клянусь честью солдата! Соберитесь с силами!.. — Но говорите же!.. Умоляю вас, говорите! — Да, мадам. Разрешите мне лишь в нескольких словах закончить историю малютки, брошенной в цветнике с рождественскими розами. — Боже мой!.. Боже мой!.. Снова ждать! — простонала княгиня, которую терзали былые разочарования и нынешние страхи. — Это необходимо, мадам, — почтительно, но твердо отвечал сержант. — Я буду краток. — И он продолжал, спеша избавить несчастную мать от страданий: — Старая цыганка не обманула вас! Ее соплеменники действительно положили ребенка в цветник… и тотчас кинулись бежать, как воры, в сторону Рейна. Прошло несколько минут, не более четверти часа… Ночь… Малютка отчаянно плачет в темноте. И в это время из форта выходят трое — старик, молодая женщина и молодой мужчина. Молодые только что, за день до этого, обвенчались. Муж, солдат, возвращается в полк. Жена и старик отец провожают его. Женщина слышит пронзительный плач ребенка. Охваченная жалостью, она наклоняется, поднимает его, прижимает к груди. «Брошенный ребенок… подкидыш… бедная малютка!.. О-о, мы не можем ее здесь оставить… Друг мой, давай возьмем ее… мы будем ее растить… воспитывать…» — говорит молодая женщина. «Давай, — отвечает солдат. — Это будет первый шаг к счастью нашей семьи». «А я сразу становлюсь дедушкой, — добавляет старик. — Ведь вы усыновите малютку?» «И мы воспитаем ее как княгиню! У меня теперь жалованье — су в день!» — Как княгиню! — прервала рассказ Дама в Черном. — О, ирония судьбы. Но откуда вы так хорошо знаете все подробности? — Минуту терпения, прошу вас! Брошенная малютка… еще вчера дочь княгини… сегодня — солдатская дочь, это ваша бедняжечка!.. — Но продолжайте же… сжальтесь надо мной… Где она?.. Вы… меня убиваете! — И смотрите, мадам, как распоряжается нами судьба, — продолжал безжалостный Буффарик. — Старый солдат служил в Форт-Вобане сторожем… почетная отставка. Но в этот час он уезжал вместе с молодоженами в отпуск, довольно далеко, на другой конец Франции. На своем посту он оставил другого старого солдата, приехавшего накануне вечером. Его-то вы и расспрашивали на следующий день. В то время, естественно, не было ни железных дорог, ни телеграфа, ни газет. Поэтому о вашей ужасной истории семья солдата ничего не знала… до сегодняшнего дня. — Кто же? Кто эти прекрасные люди… эти золотые сердца… я их благословляю… И где ребенок?.. Где моя дочь? — Так вот, мадам, — продолжал маркитант, у которого перехватило горло и снова увлажнились глаза, — старик — это папаша Стапфер. — Ах! Что я слышу!.. Это его письмо… — Женщина — это Катрин… моя жена, вот она… а мужчина — это я, Буффарик! — А ребенок!.. Где ребенок?.. — нечеловеческим голосом прохрипела Дама в Черном. — Мы не знали имени этой девочки… и мы назвали ее Розой… в память о цветнике с рождественскими розами, в котором мы ее нашли. Роза — наша приемная дочь, и мы любили ее, как родную… Роза, мадам, это ваша дочь!
Благодаря деликатности Буффарика, благодаря тому, что он, если можно так выразиться, дозами выдавал матери ее счастье, удалось избежать катастрофы. По мере того, как марселец говорил, княгиня сначала поняла, что ее дочь жива… потом, что скоро она обретет ее… потом, наконец, что маленькая Ольга превратилась в прелестную девушку, в юную Розу, которую Дама в Черном уже любила и которая спасла ей жизнь. Таким образом, Буффарик уберег от нового ужасного потрясения это бедное исстрадавшееся сердце. Тем не менее основания для тревоги были — безумие промелькнуло в больших глазах матери, когда она мучительно всматривалась в свое дитя. Потом хлынули слезы — те сладкие слезы, которые гасят всепожирающее пламя прежних страданий. И прерывающийся голос назвал дорогие имена. — Ольга!.. Дорогой мой ангелочек… моя любовь… моя жизнь!.. Роза!.. Любимая моя… моя радость… моя гордость!.. Ты такая, какой я видела тебя во сне… красавица, добрая, храбрая… Девушка опустилась на колени перед постелью женщины. Прелестное личико Розы приблизилось к лицу матери, и та осыпала его поцелуями. — Моя мать! Вы — моя мать!.. Как я люблю вас… и как давно уже люблю… Мать!.. О, если б вы знали… Как сжалось мое сердце… и сильно и сладко… тогда… первый раз… когда я увидела вас на Альминском плато… — И у меня тоже!.. Я чуть не умерла, когда ты поднесла мне стакан воды… Мне хотелось заключить тебя в объятия… прижать к сердцу… говорить тебе самые нежные слова!.. Мамаша Буффарик и старый сержант смотрели, растроганные, на счастье матери и дочери, которое они сотворили своими руками. С трогательным тактом они поднялись и тихонько направились к выходу, чтобы не мешать излияниям матери и дочери. Княгиня остановила их: — Мои добрые друзья, останьтесь! Вы никогда не будете лишними… Я хочу разделить свое счастье с вами. Роза — моя дочь, но она и ваша дочь… и я обязана вам не просто признательностью! — О мадам, как вы добры! — воскликнула мамаша Буффарик. — Мы выполнили свой долг… и ничего больше… но если бы вы знали, как разрывалось мое сердце… при мысли о том, что мы можем потерять нашу Розу… — Да, мадам, — с достоинством подхватил сержант. — Мы счастливы, что все так получилось… но мы любим Розу всей душой… и не видеть ее больше… это было бы слишком жестоко… Девушка осторожно высвободилась из объятий княгини и, обхватив руками за шею маркитантку и сержанта, пылко прижала их к груди и сказала звенящим от счастья голосом: — Ты всегда будешь для меня мамой Буффарик, ты всегда будешь папой Буффарик… и я всегда буду вас любить… от всего сердца. Благодаря вам у меня теперь есть и другая мама… Она была очень несчастна, и вы не будете ревновать, если я постараюсь отдать ей сегодня хотя бы частицу нежности, которой она была лишена так долго. — О Розочка, пташка моя, как славно ты поешь, — отозвался сержант, воинственная физиономия которого осветилась доброй улыбкой. — Нет, мы не будем ревновать тебя к родной матери. Люби ее без оглядки, люби без памяти. Ведь она так ужасно страдала, в то время как ты доставляла нам радость. — Хорошо, Роза!.. Хорошо,мой добрый Буффарик, — сказала княгиня, красивое лицо которой выражало неописуемую радость. — Моя нежность не будет эгоистичной, и потом, когда эта ужасная война кончится, мы будем вместе, я надеюсь… В эту самую минуту, словно опровергая надежду на близкий мир, издалека донесся грохот пушек. Порыв ветра принес этим счастливым людям грозные звуки бойни. Пока здесь французы и русские любили друг друга, там русские и французы друг друга убивали! Дама в Черном глубоко вздохнула. Ее надменный голос, с жесткими металлическими нотками, смягчился. Глядя на Розу с бесконечной нежностью, она прошептала: — Но когда это будет? Буффарик ответил с ласковой фамильярностью старого вояки: — Будем надеяться, мадам, что скоро… Эта жестокая война унесла слишком много жизней, не говоря о нашем Жане. Его судьба всех очень тревожит. Храбрый Жан!.. Здесь кое-кто чахнет по нему, не так ли, Розочка? — Бедный Жан!.. — вздохнула девушка, заливаясь краской. — О, на свете есть некий месье Жан, которым ты как будто интересуешься, дитя мое? — спросила Дама в Черном со снисходительной улыбкой. — Извините, мадам, — с обычной своей непосредственностью перебил Буффарик. — Это совсем не месье… это солдат! Первый зуав Франции! Красивый, как принц из волшебной сказки… сильный, как Самсон…[251] храбрый, как Боске, и добрый, как Бог. — Так он просто герой романа! — Герой, которого все знают, которого обожает вся армия. И все сокрушаются, что его нет. — Он ранен? — Нет, мадам, он в плену. — И ты любишь этого солдата? — спросила княгиня девушку, которая посмотрела ей прямо в глаза и ответила твердо: — Да, мама! — Как его зовут? — Оторва! — вместо девушки ответил солдат. — Мой враг! — вскрикнула княгиня, слегка нахмурясь. — Но враг великодушный… такой великодушный, вы даже не представляете! Он двадцать раз мог вас убить, когда вы бесстрашно обстреливали наши укрепления… Вас двадцать раз могли сразить пули его разведчиков… Но он испытывал безграничное уважение к вашему мужеству, вашему патриотизму и приказал, чтобы вас щадили. И еще должен сказать, что этого хотела Роза, а Оторва делает все, чего она хочет. — Да, герой и благородный человек, — заключила княгиня. — Но Оторва — это лишь прозвище, которое выразительно определяет человека… А как его настоящее имя? — Жан Бургей, — ответила Роза. — Бургей! — вскрикнула княгиня, вне себя от удивления и радости. — Не сын ли он или родственник старого офицера из гвардии Наполеона Великого? — Да, мадам, Жан — сын майора Бургея… из конных гренадеров. — О моя девочка… дорогая моя девочка, какую новую радость даришь ты мне в этот благословенный день! Сама того не зная, ты соединила доводы сердца и рассудка, и ты не могла сделать лучшего выбора, полюбив Жана Бургея!
ГЛАВА 9
Братья-друзья. — Приключения офицера Великой армии в Сибири. — Новая семья. — Неумолимый губернатор. — Перед графом Остен-Сакеном. — Та, кого не ждали. — Кузены Дамы в Черном. — Перед последней битвой.Вернемся в Севастополь. Оторва, почти без сознания, являл собой какое-то жалкое подобие человека, который по воле слепой судьбы болтался между жизнью и смертью. Но жизнь пересилила смерть. И суровый солдат, думавший, что он последний раз видит небесную лазурь и солнечный свет, испустил крик изумления и радости. Ничего не скажешь, можно быть молодым, готовым на все, не бояться смерти, смело заглядывать в стволы ружей, из которых сейчас вылетят пули. Но как все-таки хорошо сознавать, что снова живешь! На мгновение наш герой испытал какое-то детское ликование. Сердце его забилось, душа трепетала, на глаза навернулись слезы… Итак, Оторва жил… Хотя на это не было никакой надежды… хотя минутой раньше, судорожно сжавшись, он ждал, что его грудь пронзят двенадцать пуль. Он жил!.. И русский, который его спас… враг или уж, по крайней мере, неприятель, назвал его братом… протянул ему руку! Оторва бросился в объятия майора, и гигант, сжимая его так, что тот чуть не задохнулся, сказал тихонько: — Жан!.. Брат мой… Нет, тебя не убьют, тебя не тронут… Сияющий Оторва, сам не свой от радости, с трудом находил слова: — Вы… мой брат?! Вы, кому я обязан жизнью… — Да, я твой брат! — Не знаю… я ничего не понимаю… но я схожу с ума от радости… О, это безотчетное влечение… эта дружба, возникшая так внезапно… это чувство, которое с первого же часа родилось в моей душе… — И у меня тоже, Жан!.. Лишь только я тебя увидел! — Как я счастлив и как горд, — сказал Оторва. — Мой брат… самый храбрый солдат русской армии… а в груди его — самое благородное сердце!.. — Я испытываю еще большую гордость и радость, Жан!.. Ты — герой французской армии! Но сейчас не время и не место открывать друг другу душу… изливать наши чувства… Пойдем, по дороге я все тебе расскажу. Между тем разбежавшиеся было солдаты и унтер-офицер, который ими командовал, смотрели на эту сцену, полную драматизма, в замешательстве, которое со стороны могло показаться смешным. Они не знали, что им теперь делать, и, приставив ружья к ноге, неподвижно застыли в ожидании новых приказов. Майор вырвался из объятий зуава и, взмахами сабли подчеркивая каждое слово, громко приказал: — Казнь отменяется!.. У меня распоряжение командования… Возвращайтесь на свои посты. За пленного отвечаю я! Озадаченные солдаты, которые все меньше понимали, что происходит, отошли в сторону и вскоре исчезли, словно хор в античной трагедии. Потом офицер и сержант, русский и француз, друзья и братья, пошли рука об руку, стараясь проскочить между разрывами бомб. И прямо на ходу Оторва спрашивал, не в силах сдержать любопытство: — И все-таки, брат мой, ваше русское происхождение… ваше русское имя… — Для начала, Жан, мой дорогой, у меня к тебе просьба. Говори мне «ты» — у меня есть на это право, да между братьями по-другому и быть не может. — Да, господин майор… да, Поль… я постараюсь; но если я собьюсь, вы меня… ты меня извинишь. Громадная бомба взорвалась в десяти шагах. Разворотив полотно дороги, она осыпала братьев ливнем осколков. — На здоровье! — закричал Оторва, разражаясь нервическим смехом. — Однако не стоит подставлять себя под презенты нашего дорогого капитана Шампобера. Вы говорили… прошу прощения!.. Ты говорил, брат мой… — Вот так ко мне и обращайся. Слушаю тебя, мой дорогой сумасброд!.. — Да, ты прав! Могу признаться — мы оба не трусы, — что я немного заговариваюсь… ведь я вернулся издалека… из далекого путешествия… от которого ты меня избавил… Мне привалило счастье жить благодаря одному майору русской армии, который зовется Павел Михайлович и который тем не менее — мой брат. Вот про такие случаи и можно сказать, как пишут в романах: чего только не случается на белом свете! — Верно, чего только не случается. — И еще — тоже, как пишут в романах, — тайна эта кажется мне окутанной мраком. — Ничуть не бывало, и сейчас ты все поймешь. В России принято всех детей называть по имени их отца. Начиная с императора и кончая последним мужиком, про всех говорят: такой-то, сын такого-то. Так вот, как зовут нашего отца? — Мишель. — Вот потому меня и зовут Павел Михайлович, что как раз и значит: Поль, сын Мишеля. Что же касается фамилии, принадлежащей моей семье, фамилии, под которой я числюсь в списках армии, то это прекрасная звучная французская фамилия… ее носит наш отец: Бургей. Тебя зовут по-французски Жан Бургей. Мое же полное имя по-русски: Павел Михайлович Бургей. — Теперь я понял! Это очень просто, но в то же время необыкновенно… как многое, что кажется простым. К тому же, кроме имени, милый мой брат, бросается в глаза твое невероятное сходство с нашим отцом. У тебя его взгляд, такой же добрый и живой, его мягкий бас, его улыбка, его гигантский рост и его жесты. Мне кажется, передо мной отец, каким он был, когда я был маленьким… совсем маленьким. — Стоп! — прервал Жана Павел Михайлович. Майор и Оторва дошли до глухого проулка, расположенного параллельно неприятельским укреплениям; одна его сторона была защищена от попадания бомб. Они остановились перед маленьким домиком, почти невредимым, если не считать окон, из которых вылетели все стекла. — Вот здесь я живу, — сказал майор. — Зайдем! В нашем распоряжении два часа. — Как? Два часа… так мало? — Мне удалось помешать твоей казни, но смертный приговор не отменен. Необходимо выиграть время и добиться помилования, ибо власти здесь суровы и законы беспощадны. И Оторва с великолепным спокойствием воина, которого ничто не может напугать или смутить, ответил: — Так, нужно выиграть время. Расскажи мне скорее, как можно скорее, дорогой Поль, каким образом мой вчерашний друг, мой сегодняшний спаситель оказался моим братом. — Это очень трогательная и грустная история. — И какая ужасная могла быть у нее развязка! Я содрогаюсь при мысли о том, что мы вполне могли убить друг друга. — Я все тебе расскажу, к сожалению, пока лишь вкратце. Слушай… Я постараюсь быть лаконичным и в то же время ничего не забыть. Произошло это в тысяча восемьсот двенадцатом году. Тогда, как и сейчас, Россия и Франция воевали друг с другом. Война шла ожесточенная, безжалостная, и итогом ее было крушение если не славы, то могущества этого колосса — Наполеона! Поход французской армии, вторгшейся в Россию, поначалу был триумфальным. Потом была Москва, святой город, который мы сами разрушили. Пожар Москвы стал одним из тех актов вандализма и в то же время высокого патриотизма, когда, калеча нацию, ее спасают. Москва была необходима французам, чтобы провести в ней зиму. Ее разрушение было для них катастрофой, им пришлось поспешно отступить — надвигался голод и страшные русские морозы. Триумфальный марш сменился беспорядочным отступлением, которое вскоре превратилось в паническое бегство. Зима была ранняя и суровая. Французы проявляли чудеса героизма и все же гибли тысячами. Они испытывали чудовищные страдания и несли устрашающие потери. Эта мрачная и величественная эпопея имела место сорок два года назад, но память о ней не стирается. Наш отец, как ты, конечно, знаешь, служил в этой Великой армии. Он был одним из героев борьбы не на жизнь, а на смерть, когда против французов на стороне России была разбушевавшаяся стихия. Мишелю Бургею — он родился в 1783 году — было тогда двадцать девять лет и он был капитаном конных гренадеров императорской гвардии, командиром эскадрона. Мне не надо говорить тебе, что этот отважный солдат, начав службу простым кавалеристом, добыл все свои чины лишь с помощью сабли. Каждый чин был наградой за подвиги и раны. Совсем еще молодой человек, служивший в гвардии, то есть в элитных частях, имевший возможность приблизиться к императору Наполеону, который действительно знал его и ценил, Мишель Бургей рассчитывал, и не без основания, подняться на вершину военной иерархии[252], куда влекли его и ум и бесстрашие. Великолепное будущее рухнуло вмиг во время одного из ожесточенных боев. Отец воевал под командой маршала Нея[253] в арьергарде[254]. Это было и почетно и опасно, и отец не хотел покидать свой пост. Однажды он был окружен казаками Платова[255], которые имели численное преимущество. Отец не думал сдаваться и отчаянно сопротивлялся, но получил удар копьем в грудь и остался лежать на снегу. Его сочли мертвым. — Какой храбрец! — перебил старшего брата Оторва, который слушал затаив дыхание. — Русская армия двинулась дальше, за ней — гнусные шайки мародеров, потом появились крестьяне, изгнанные из своих изб и возвращавшиеся теперь к своим очагам. Они-то и заметили — хотя столько времени прошло, — что раненый французский офицер дышит. Движимые состраданием, они положили его в сани и, не зная, как согреть незнакомца, поместили в конюшню, где закопали в навоз. Процедура более чем простая, однако она совершила чудо. Умирающий вернулся к жизни! Его поили растопленным снегом, кормили корками черного хлеба, никакой медицинской помощи не было, но он цеплялся за жизнь со всей присущей ему колоссальной энергией и выздоровел, как выздоравливали эти железные люди, вопреки всему и вся. Как только рана зарубцевалась, отца переправили во Владимир. Там ему хотели предоставить относительную свободу при условии, что он даст слово не пытаться бежать. Он, естественно, отказался, как и положено родителю нашего дорогого Оторвы. — Да, это фамильное, — со всей серьезностью отозвался Жан. — Как и ты, наш отец был самым непокорным из пленников. Хотя он и находился под строгим надзором, одних стражей ранил, других убил и бежал, его схватили, приговорили к смерти, потом помиловали и, наконец, сослали в Сибирь, проклятый край, откуда не возвращаются! — Однако же наш отец вернулся! — Да, но это было чудо, которое способны свершить лишь люди с его или твоим характером. — Ну что ж, посмотрим, когда меня отправят в Сибирь… — Но тебя, к несчастью, еще не помиловали, бедный мой малыш! И все же будем надеяться… Итак, я продолжаю. Бегство из Сибири было предприятие очень ненадежное, если не сказать невозможное. И пленник, не в силах с этим смириться, как лев в клетке, грыз свою цепь. Ужасное существование для солдата, который победителем прошел всю Европу. Безграничный горизонт проклятой русской степи его просто убивал. Он не выдержал бы холода, голода, отчаяния в этой жестокой ссылке, если бы случай не свел его с семьей русских ссыльных. Эта была семья князей Милоновых, в прошлом одна из самых знатных и самых богатых в России, а теперь беднее мужицкой. Семья состояла из отца и матери в расцвете сил, двоих сыновей, бравых молодых людей двадцати и двадцати двух лет, и двух дочерей — восемнадцати и шестнадцати лет. Общее несчастье, которое они переносили с достоинством, сблизило пленного француза и ссыльных москвичей. Они сразу почувствовали взаимную симпатию и по-братски полюбили друг друга. Постепенно более нежное чувство соединило Мишеля Бургея со старшей дочерью князя Милонова, Бертой. Француз попросил у ее отца руку дочери, и тот с радостью дал согласие. Молодые поженились в 1816 году, а в 1818 году у них родился сын. Ему дали имя Поль, по-русски — Павел. Этот сын — я. Мне приходится сокращать свой рассказ, дорогой мой Жан. Время уходит, оно неумолимо, и я излагаю тебе всю историю коротко и сухо, хотя сердце мое переполняют самые пылкие чувства к тем, кто так настрадался и кого я так любил! Продолжаю. Мы жили счастливо, насколько это было возможно в ужасной ссылке, под свинцовым небом, вдали от всякой цивилизации. Мы жили как дикари, понятия не имели о том, что происходит в больших городах, ни на что не претендовали и покорились судьбе. Отец, рожденный солдатом, привыкший к трудностям, прекрасно приспособился к этой уединенной жизни. Поглощенный любовью к жене и сыну, он меньше думал о далекой Франции… Да, мы были счастливы, потому что от всего сердца любили друг друга. Однако князь Милонов, мой дед, не мог примириться со ссылкой. Он не мог забыть былое свое положение в обществе, свое состояние, роскошную жизнь высшей русской аристократии и приходил в отчаяние при мысли, что его сыновьям суждено гнуть спины на сибирской земле, влачить жалкое существование, будто они какие-нибудь крепостные. Он участвовал в заговоре против императора[256], который оставался неумолим, хоть и мог помиловать заговорщиков. Ссыльных в этом проклятом краю — увы! — было немало. Мой дед собрал их, разжег их ненависть, а главное, воспламенил великим словом — «Свобода»! При дворе у него были богатые и влиятельные друзья, которые его любили и на него рассчитывали. Находясь вдали от них, он по-прежнему возглавлял многочисленную партию недовольных. Императора опасались. У заговорщиков были шансы добиться успеха… Но один мерзавец донес на деда, продал его за несколько тысяч рублей. В двадцать четыре часа наше счастье, и без того хрупкое, рассыпалось в прах. Деда и его сыновей арестовали, поспешно судили и повесили! — О, что за ужасная страна! — горестно отозвался Оторва. — Это еще не все, — продолжал майор, сам взволнованный жестокими воспоминаниями. — Моего отца, нашего отца, Мишеля Бургея, хоть он и не думал участвовать в заговоре, увели из убогого жилища и приговорили к пожизненной каторге на ртутных рудниках. Это была пытка хуже смерти — человека обрекали на медленную агонию, которая длится года два, иногда три и никогда — четыре. Это произошло в тысяча восемьсот двадцать втором году, мне было четыре года! Новые и не менее страшные несчастья обрушились на нас… словно нашей безжалостной судьбе все было мало. Рассудок моей бедной матери не выдержал новой катастрофы. Гибель старика отца и братьев, разлука с горячо любимым мужем доконали ее… Через полгода я осиротел! А было мне четыре с половиной года… Она умерла, не приходя в себя и не узнавая своего сына. Я остался один с молоденькой теткой Ольгой. Мы оба были изгнанники, оба — сироты, безо всяких средств к существованию там, на ледяной окраине Российской империи. Как жили мы до двадцать восьмого года? Трудом своих рук, милосердными подаяниями. В пять лет я пас скотину, а моя тетка прислуживала у более зажиточных ссыльных. Мы знали и голод, и холод, и такую же нужду, что и местное население. В тысяча восемьсот двадцать седьмом году на трон взошел император Николай[257]. Ему рассказали о нас, пробудили интерес к нашей судьбе. Целый год упрашивали его помочь нам, и наконец он согласился с тем, что мы — не уголовные преступники. Государь помиловал нас и распорядился вернуть нам наше имущество. Мне было тогда восемь лет. Мы вернулись в Россию. Моя тетка вышла замуж за графа Григорьева, посла в Швеции, и оставила меня в своей семье. Наши несчастья кончились! Но, Боже мой, сколько смертей и сколько страданий мы пережили! Я не забывал отца, и чем старше становился, тем горше оплакивал человека, который обожал меня и которого я любил от всей души. Я мечтал снова увидеть его, мечтал, чтобы он, как и мы, пожил в роскоши, мечтал силой своей любви заставить его забыть печальные годы ссылки и почувствовать себя счастливым… Одним словом, я думал только о том, как его найти. Мой дядя, посол, добился организации розыска в Сибири на ртутных рудниках. Сведениями о гибели Мишеля Бургея они не располагали. Не бежал ли он? Никто не знал. Наиболее вероятным казалось все же, что несчастный погиб. И все-таки луч надежды не исчезал. Вдруг отец сумел бежать из ада рудников и добрался до Франции! Дипломатическими путями мы послали запрос во Францию, в Военное министерство. Ответ пришел обескураживающий! Мишель Бургей, пропавший без вести во время отступления из России, во Франции не появлялся. Он вычеркнут из списков личного состава армии, а также из списков кавалеров ордена Почетного легиона. С этих пор всякая надежда угасла. Я оплакивал отца, которого обожал и черты которого с детства запечатлелись в моей памяти. Я оплакивал его судьбу и знал, что никогда его не забуду. Русский офицер прервал свой пылкий рассказ. Он пристально смотрел на зуава, словно не мог на него наглядеться, потом порывисто схватил его за руки, сжал их до боли и продолжил повествование: — Вот и представь себе, дорогой брат, мое изумление, когда я увидел в каземате твое письмо, на котором точно огненными буквами было написано имя нашего отца! Изумление вполне естественное, а к нему присоединились бурная радость и безумный ужас… Ведь тебя должны были расстрелять… убить! Слава Богу, я примчался вовремя! Ну, а теперь ты, Жан, расскажи все, что знаешь… в нескольких словах, потому что время все больше нас подгоняет. Я должен увидеться с начальником гарнизона, чтобы получить отсрочку исполнения приговора. И повторяю — наши законы беспощадны! Так что скорее, мой дорогой Жан, скорее, я слушаю тебя с нетерпением, я весь превратился в слух. У Оторвы отчаянно билось сердце, покраснели глаза, перехватило дыхание, он пытался справиться со своими чувствами и отвечал глухим голосом: — Да, брат, я буду краток! Я понимаю, что так нужно… Хотя я испытываю мучительное волнение… и был бы счастлив открыть тебе душу, но я повинуюсь. Мне бы так хотелось рассказать тебе, как я тебя полюбил… сильно… безмерно! Но сейчас это нельзя! — Я понимаю тебя, мой друг! Я испытываю то же… но медлить нельзя, минуты бегут! Расскажи мне о нашем отце, чтобы я мог в двух словах пересказать самое главное генералу Остен-Сакену… когда пойду умолять его об отсрочке. — Да, дорогой Поль, я понимаю. Слушай! Наш отец никогда не говорил ни мне, ни моей матери о России. Как все легендарные герои наполеоновской поры, он любил рассказывать о кампаниях, в которых участвовал. Но лишь только кто-нибудь произносил слово «Россия», он умолкал. Мы чувствовали, с этой страной связано для него что-то мучительное, и старались даже намеком не поминать кампанию двенадцатого года. Ни слова не проронил он и о своем пребывании в Сибири. Мы знали только, что он перенес ужаснейшие муки на рудниках и что его бегство было страшно драматичным. Вернулся он во Францию в плачевном состоянии и настолько изменился, что никто не узнавал в нем блестящего офицера наполеоновской гвардии. Происходило это все в 1825 году, нашему отцу было тогда сорок два года. Он исчез за тринадцать лет до этого, считалось, что он погиб, и ему никакими силами не удавалось восстановить свое имя в армейских списках. К тому же Реставрация[258] не слишком жаловала старых наполеоновских солдат, особенно тех, кто, подобно отцу, сохранил культ императора. Ему было отказано решительно во всем, и он был обречен на полную нищету. Но это была, по крайней мере, нищета во Франции, в родной стране, на плодородных землях, где храбрый и энергичный человек упорным трудом всегда может заработать себе на хлеб. Майор Бургей вспомнил, что до того, как стать солдатом, он был хлебопашцем, и без колебаний вступил в жаркую схватку с землей. За внешним обликом человека изможденного и опустошенного крылся все тот же гигант, невероятно сильный, немногословный, добрый и ласковый, какими часто бывают силачи. Во время жатвы он нанялся работником на небольшую ферму к одному землевладельцу, который его не узнал. Меж тем этот человек служил когда-то квартирмейстером в эскадроне отца и тот спас ему жизнь в сражении при Фридлянде[259]. Звали его Пикар. Когда жатва закончилась, Пикар, выплачивая работнику, которого по-прежнему не узнавал из-за его длинной бороды и которым был очень доволен, скромное вознаграждение, сказал: «На десять лье вокруг нет другого такого труженика, как вы; если вы останетесь у меня, я буду платить вам столько, сколько скажете». — «…Мне много не надо, — сказал наш отец. — Вы славный человек, и я не стану просить у вас больше ста экю[260] в год». — «Согласен! Скажите мне только ваше имя, так, для порядка». — «Охотно: Мишель Бургей, бывший командир эскадрона у гренадеров Наполеона». — «О, тысяча чертей!.. Мой командир!.. Как я мог вас не узнать… Ну и скотина же я!.. Я ведь обязан вам жизнью!» Они обнялись, поцеловались по-братски, и Пикар сказал: «Все, что здесь есть, — ваше! Примите… владейте… распоряжайтесь». — «Мне достаточно твоей дружбы, Пикар, местечка у очага и работы». Больше они не расставались. У Пикара была дочь, красивая и добрая девушка. После долгого и тяжкого путешествия в Россию Мишель Бургей женился на ней. Теперь я догадываюсь о цели его путешествия. Прежде чем вить новое гнездо, наш отец хотел окончательно убедиться в том, что от старого гнезда, так немилосердно разоренного, ничего не осталось. Грянула революция тысяча восемьсот тридцатого года[261]. Правительство Луи-Филиппа[262] считало своим долгом исправить несправедливости, допущенные Реставрацией. Оно вспомнило о старых солдатах Наполеона, и наш отец одним из первых воспользовался предоставленными благами. Он не захотел заново поступать на действительную службу, но получил подтверждение, что является кавалером ордена Почетного легиона и имеет право на соответствующую пенсию вместе с суммой, которую ему задолжали с двенадцатого года. Теперь Мишель Бургей мог жить в полном достатке. К тому же богатство сочеталось — что случается редко! — со счастьем, счастьем полным, абсолютным, вознаградившим его за былые невзгоды. Я родился в конце тысяча восемьсот тридцать первого года. Моя мать, отец, дедушка обожали меня. С самого нежного возраста я хотел быть солдатом. Мои родители предпочли бы, чтобы я стал фермером. Странная идея! Тебе не надо объяснять, не правда ли, брат, что если в крови растворен порох, значит, никакого влечения к деревенской жизни ожидать не приходится. В восемнадцать лет я поступил в пехотный полк, потом перешел к зуавам, и вот теперь я — сержант Второго зуавского полка, награжденный орденом Почетного легиона и оправдывающий по мере сил свое славное прозвище! Разговор братьев внезапно прервал унтер-офицер, который подал Павлу Михайловичу запечатанный пакет. Русский офицер, нахмурившись, вскрыл его и прочел вполголоса:
— «Приказываю майору П. М. Бургею явиться вместе с французским пленным к начальнику Севастопольского гарнизона.Потом добавил: — Этого-то я и боялся! Пойдем, брат!.. Попробую сделать невозможное: растрогать этого твердокаменного человека, который нами командует, вырвать у него несколько часов отсрочки… вымолить твою жизнь! — Пошли! — с неизменным хладнокровием откликнулся Оторва. Они отправились в путь под бомбами, которые обрушивались железным ураганом на улицы, площади, дома. Десять минут быстрой ходьбы — и братья добрались до дворца, который занимал начальник гарнизона. Постовой тотчас отвел их к бесстрашному воину, который взял на себя тяжкий труд защиты Севастополя. Скоро выяснится, в хорошие ли руки попала эта защита. Граф Остен-Сакен — красивый старик лет шестидесяти пяти, прямой, крепкий, худощавый и подвижный, и дать ему можно было на десять лет меньше. Острый взгляд голубых глаз, тонкие черты лица, выдержка, изысканные манеры делали коменданта города похожим скорее на дипломата, чем на военного. Однако за обходительными манерами внимательный наблюдатель мог бы обнаружить холодную энергию Ростопчина[263], русского патриота, который сжег Москву. Он вежливо ответил на приветствие майора и Оторвы и затем продолжал резким тоном: — Павел Михайлович, помешав казни этого человека, вы нарушили закон и воинский устав. Вам грозит смертный приговор… Извольте сдать шпагу дежурному офицеру и отправляйтесь в тюрьму. Там дождетесь вызова на заседание трибунала. — Слушаюсь, ваше превосходительство, — бесстрашно ответил майор, в то время как Оторва побледнел и сжал зубы, сдерживая крик ярости и боли. — Однако, — добавил комендант, — ввиду ваших заслуг и из уважения к вашей семье мне хотелось бы узнать, какие мотивы заставили вас нарушить дисциплину. Повторяю — нарушение столь серьезное, что вам грозит смертная казнь. — Я отвечу вашему превосходительству, но прежде позвольте выразить вам свою признательность. В ту минуту, когда этот француз, этот доблестный солдат должен был пасть под пулями расстрельной команды, я узнал, что он — мой брат! — Каким образом? Объясните! — ответил Остен-Сакен, не выразив ни малейшего волнения. Майор взволнованно рассказал о чрезвычайных обстоятельствах, только что имевших место, о потрясающей встрече с братом, о существовании которого не подозревал. Свой рассказ он закончил пылкой мольбой: — Ваше превосходительство, Дмитрий Ерофеевич, во имя воинской чести, во имя того исконного великодушия, которое великий русский народ всегда проявлял по отношению к своим врагам… во имя уважения к этому храброму солдату… наконец, во имя священных уз, которые меня с ним связывают… умоляю вас, вас, кому в Севастополе подвластно все… отложите казнь до того времени, когда к его величеству императору попадет просьба о помиловании. Такую просьбу Петр Великий и Наполеон выполнили бы не колеблясь, и я надеюсь, что наш нынешний царь тоже ее выполнит. Генерал Остен-Сакен выпрямился во весь свой могучий рост и ответил ледяным тоном, подчеркивая каждый слог: — Павел Михайлович, то, о чем вы просите, невыполнимо. Сержант Бургей, ваш брат, должен быть расстрелян без промедления. Будь он моим сыном — вы слышите, сыном! — он был бы расстрелян тотчас. Майор побледнел и, теряя самообладание, вскрикнул: — О, ваше превосходительство, это слишком жестоко! — Да, жестоко!.. Как и война, которую мы ведем. Император доверил мне защиту Севастополя, этой цитадели святой Руси… и я буду защищать Севастополь до последнего вздоха… всеми средствами… самыми жестокими… самыми крайними. — Но, Дмитрий Ерофеевич, проявите хоть каплю милосердия!.. — О каком милосердии может идти речь, когда началась агония… а надо, чтоб Севастополь жил… вы это понимаете? У меня здесь четыре тысячи пленных французов и англичан… У нас в строю тридцать пять тысяч человек, у нашего противника — сто тысяч! Представьте себе, что эти четыре тысячи пленных одновременно взбунтуются и повторят ужасный поступок сержанта Бургея!.. Представьте себе, что этот бунт совпадет по времени с атакой союзников, — и мы пропали! Нужен пример, чтобы уничтожить эти бациллы мятежа, которые, я чувствую, носятся в воздухе. Вот почему, я повторяю, сержант Бургей, ваш брат… храбрый солдат, которого я уважаю, умрет сей же час… на глазах у четырехсот пленных союзников!.. Я прикажу, чтобы казнь совершилась без всякого промедления. Комендант Севастополя не повышал голоса, и это страшное спокойствие подтверждало непреклонность его решения. Павел Михайлович почувствовал, что настаивать бесполезно. Он смотрел, потрясенный, на неумолимого командира, потом с угрюмым отчаянием перевел взгляд на Оторву. Оторва, сохраняя безупречную воинскую стойку, выслушал все это, не дрогнув. Можно было подумать, что драма эта никак его не касалась, если бы не мимолетный блеск в глазах зуава. Комендант поднес к губам серебряный свисток и пронзительно свистнул. Портьера тут же раздвинулась, но вместо дежурного появилась женщина, одетая в траур, с рукой на перевязи. Три возгласа раздались одновременно — они вырвались из груди генерала, майора и Оторвы: — Княгиня! — Кузина! — Дама в Черном! По-прежнему бледная, но с сияющей улыбкой, она подошла к Остен-Сакену и сказала безо всяких предисловий: — Генерал, я все слышала… Сержант Бургей должен жить! — Нет! — ровным тоном ответил губернатор. — И он должен быть освобожден немедленно, — добавила Дама в Черном. — Нет! Помиловать его может только император, а откладывать исполнение приговора я не хочу. — Я и не прошу помилования. — Чего же вы хотите? — Я предлагаю обмен пленными. — Какими пленными, княгиня? — Сержанта Оторву на… — Обмен этого человека невозможен. — Даже на меня… на княгиню Милонову? — Но вы и так свободны! — Меня освободили под честное слово, для того, чтобы в обмен на меня вы освободили Оторву. — Но он взбунтовался!.. Перебил охрану… — Это неудивительно. Женщина подошла ближе к генералу и сказала ему совсем тихо, на ухо: — Он вывел из строя нескольких мужиков, а я убила Сент-Арно! — Это верно! — Значит, вы согласны на обмен? — Но, княгиня, существует все-таки дисциплина… пример… закон! — Тогда я должна вернуться во французский лагерь и признаться в том, что я сделала в канун сражения при Альме. И вы знаете, я не из тех, кто отступается… Это будет для меня бесчестье!.. Смерть!.. Прискорбная, вечная разлука с дочерью, чудом найденной среди врагов, которые были к ней добры и человечны… которые спасли мою душу и тело… Генерал! Не перевешивают ли мои заслуги проступок пленного? Последний раз — я хочу, чтобы вы освободили Оторву! — Хорошо, берите его, — с усилием ответил Остен-Сакен, исчерпав свои аргументы и свое упрямство. — Благодарю вас! Благоволите подписать приказ! Французский парламентер, который привел меня сюда, отведет Оторву к союзникам. В то время как комендант набросал несколько слов, зуав словно бы стряхнул с себя сои. С бьющимся сердцем он подошел к Даме в Черном и пробормотал слова благодарности. Княгиня протянула ему здоровую руку и, улыбаясь, прервала его: — Не надо меня благодарить, кузен! — Кузен!.. Я?.. Мадам! — Да, мы в свойстве, и я горжусь этим. Моя мать и мать твоего брата Поля были сестры… дочери сибирского ссыльного… — О, теперь я все понимаю! — отозвался зуав и почтительно поцеловал руку славной женщине. — Еще одно слово, генерал, — обратилась княгиня к Остен-Сакену. — Мой кузен Жан свободен. Необходимо снять обвинение и с кузена Поля. Я прошу вас, ваше превосходительство. — Провинность майора можно простить с легким сердцем, — с достоинством ответил граф. — Я счастлив, что могу сочетать выполнение долга с человечностью. — Еще раз спасибо, генерал, благодарю вас от всего сердца, — заключила княгиня. — Однако настала пора расставаться. Жан Бургей, ты свободен! Поцелуй меня и передай Розе поцелуй от ее матери… Розе, моей обожаемой дочери, твоей невесте! Иди, дитя мое, обними своего брата… поблагодари генерала Остен-Сакена и возвращайся к своим, к французам, которыми я восхищаюсь, которых люблю и с которыми буду сражаться! Иди и выполняй свой долг, как мы будем выполнять наш долг здесь! Иди, и да поможет нам Бог!Остен-Сакен».
ГЛАВА 10
Сражение на Трактирном мосту. — Бомбардировка. — Генеральный штурм. — Оторва-знаменщик. — На башне. — Жан Оторва с Малахова кургана. — Высокая цена победы. — «Брат, ты мой племянник!» — Письмо Дамы в Черном.Севастополь тем временем агонизировал. После года героической борьбы чувствовалось, что доблестные защитники города — рыцари без страха и упрека — вот-вот сдадутся. Окончательное, жестокое, непоправимое поражение было вопросом дней. При этом падет не просто могучая крепость — побеждена будет Россия. С начала военных действий русское правительство без счета посылало в осажденный город продовольствие, боеприпасы, оружие, людей. Солдаты прибывали из Архангельска и из Финляндии, из Перми и из Вологды, из Казани, Уфы и Астрахани, а также из Ливонии, Эстонии и Курляндии, из Подолии, с Волыни и из Польши!..[264] Подкрепления шли отовсюду, изо всех уголков колоссальной империи — с заледенелых берегов Белого моря, с Урала и Кавказа, из областей Поволжья и Сибири. Все они оказались на берегах Черного моря, где угасало московское могущество. По приказу главы государственной власти, наместника Божия, самодержца, внушавшего почитание и страх, люди навсегда покидали свои жилища. Вся страна, кажется, устремилась в Крым, который стал чем-то вроде тигля[265], где плавилось, таяло и испарялось в орудийном огне русское могущество. Пушки, ружья, боеприпасы, провиант прибывали непрерывно, без задержки, пока не иссякли запасы. Гигантские усилия великого народа сосредоточились на небольшой территории, на которой уже столько месяцев шла ожесточенная борьба. В результате, как это давно предвидели наиболее прозорливые участники событий, Крым превратился в не имеющее себе равных поле боя, на котором решалась судьба Российской империи. И даже если бы удалось захватить Севастополь сразу, стремительной атакой, маловероятно, что это привело бы к окончанию войны. И кто знает, не была ли эта ожесточенная, героическая оборона Севастополя русскими войсками роковой ошибкой? Не лучше ли было бы с самого начала разрушить до основания эту крепость, стереть с лица земли укрепления и оставить англо-французской армии лишь груду развалин? Тогда русские могли бы отступить в любом выбранном ими направлении, завлечь завоевателей в незнакомую страну, увести их подальше от тылов и — чем черт не шутит? — повторить 1812 год. Памятуя о том, что осада крепости, на которую брошены крупные силы, всегда заканчивается ее падением, не целесообразнее ли было бы с первых же дней пойти на жестокую жертву, а не давать союзникам возможность изо дня в день совершенствовать свои сооружения на поле битвы, беспрепятственно разгружать корабли с пополнением и припасами и проводить свои операции, не опасаясь диверсий. Сегодня, однако, положение было таково, и в Севастополе агонизировала душа побежденной России. Арсеналы пусты, склады выпотрошены, полки уничтожены!.. Не было и не будет больше ни надежды, ни помощи. Судите сами. Россия потеряла более двухсот тысяч убитыми или умершими от болезней. Более ста тысяч раненых и больных переполняли лазареты. Пятьдесят тысяч выздоравливающих были искалечены или слишком слабы, чтобы стать под ружье. Таковы цифры, убийственная красноречивость которых не оставляла места для иллюзий. Ситуация казалась абсолютно безнадежной даже оптимистам. Защитники Севастополя, начиная с главнокомандующего и кончая простым солдатом, сознавали, что все потеряно. Но с тем большим ожесточением эти мужественные люди, которые ни на что более не надеялись, готовились к последней битве. Итак, Севастополь собирался защищаться до последнего вздоха. И это будет не только пассивное сопротивление, когда солдаты забиваются в укрытия и прячутся в окопы, но и активная оборона, дерзкие контратаки, когда противника преследуют до его исходных позиций и навязывают ему в чистом поле кровопролитный бой. Именно так русские атаковали на Черной речке, где, впрочем, потерпели поражение, а бой этот остался в истории как сражение шестнадцатого августа 1855 года у Трактира или, точнее, на Трактирном мосту. Название мосту дали союзники из-за расположенной по соседству харчевни или, по-русски, трактира. Поскольку это знаменитое сражение было последним перед генеральным штурмом, будет нелишним описать его в общих чертах. Три французские дивизии стояли лагерем на левом берегу Черной речки, занимая Федюхины высоты. Справа были позиции дивизии Фоше, слева — дивизии Каму, а сзади — дивизии Эрбийона. Справа от дивизии Фоше находилась небольшая сардинская армия, надежная и боеспособная. Французские силы составляли восемнадцать тысяч штыков и сорок восемь орудий, сардинские — девять тысяч человек и тридцать шесть полевых орудий, то есть всего двадцать семь тысяч человек[266] и восемьдесят четыре ствола. Черная речка летом сильно мелеет. Почти всюду ее можно перейти вброд, и она не была серьезной преградой. Зато канал, проходивший сзади параллельно речке и представлявший собой неширокий, но глубокий ров, служил прекрасным прикрытием франко-сардинским соединениям. Пятнадцатого августа, вечером, князь Горчаков дал приказ к выступлению своим войскам, стоявшим лагерем на Макензиевых горах. Этим именем называли плато, господствовавшее над дорогой Балаклава — Бахчисарай и над верхним течением Черной речки. Отсюда до Трактирного моста было не больше семи километров. Русские войска включали в себя шесть пехотных дивизий, семьдесят четыре эскадрона кавалерии, тридцать шесть казачьих сотен и большое количество артиллерии — более трехсот орудий. Общее число этих сил составляло внушительную цифру — семьдесят тысяч человек[267]. На счастье франко-сардинских соединений, атака русских затянулась. Будь она стремительней, наши силы потерпели бы поражение. За исключением боковых дозорных и кавалерийского авангарда, вся русская армия, построившись в одну колонну, двигалась по дороге, пересекающей Черную речку по Трактирному мосту. Хотя расстояние, которое следовало преодолеть русским, было совсем коротким, марш, то и дело прерываемый пальбой, длился всю ночь. Еще не рассвело, когда патруль егерей поднял тревогу во французском лагере. В то же время сардинские берсальеры[268], засевшие в укрытиях, открыли огонь. Операция стала разворачиваться в полной темноте, казавшейся особенно плотной из-за густого тумана, который поднялся над болотами по берегам Черной речки. Русские сошли с дороги, медленно заняли свои позиции и упустили тем самым момент внезапности. Наконец солнце разогнало туман, и взгляду предстало зрелище, примечательное со всех точек зрения, зрелище, напоминавшее эпическую битву при Балаклаве, но исполненное еще большего величия и напряжения. Главный удар был нацелен на Трактирный мост, который защищали сто пятьдесят французов. Они энергично оборонялись, а затем в образцовом порядке отступили за акведук, прикрываемые с флангов стрелками дивизии Фоше. Русские, на которых обрушилась страшная ружейная пальба, держались хорошо и бились с энергией отчаяния, но несли при этом большие потери. Однако огонь усиливался, и две русские пехотные дивизии остановились в нерешительности, закружились вихрем и беспорядочно кинулись назад к реке, где многие солдаты утонули. В центре численное превосходство было на стороне русских, и это вначале обеспечило им успех. Демонстрируя великолепное презрение к смерти, они перешли вброд Черную речку и устремились к Федюхиным высотам, обороняемым французами. Движение наступающих застопорил отводной канал. Но русские несли с собой перекидные мостики. Установив их концы на одном берегу, они опустили их на другой и под градом пуль и картечи ринулись вперед. Презирая опасность, раны, смерть, славяне прыгали на узкие мостки и взбегали на береговой откос с бесстрашием, вызывавшим у французов крики восхищения. Положение последних могло бы стать критическим, если бы и справа и слева не подошли подкрепления. Дело тотчас приняло иной оборот. Навесной огонь всех орудий, штыковая атака зуавов и турок отбросили русских к предмостному укреплению, которое сумела захватить бригада Файи. Было семь часов, а сражение продолжалось уже два с половиной часа. В какой-то миг наступило затишье, и русские воспользовались этим, чтобы сконцентрировать свои силы в компактные соединения, после чего снова устремились к предмостному укреплению, продвигаясь вперед под ураганным огнем. Ничто не могло остановить эту движущуюся стену. Французов, не успевших соорудить укрепления в начале моста, смели. Их первая линия, слишком малочисленная, была прорвана. Во второй раз русские подняли свои перекидные мостки и опустили их над каналом. Они преодолели его несмотря ни на что и снова принялись карабкаться на склоны Федюхиных высот. Несягромадные потери, они все же продвигались вперед. Встречный огонь усилился, но порыв этих людей, презирающих смерть, было не остановить. Вдруг над французскими позициями раздался страшный крик: — В штыки! Русские преодолели уже треть склона. Три бригады, двенадцать тысяч человек из лучших частей французской армии, потоком спускались по склонам им навстречу. Рукопашная длилась около двадцати минут. Успех снова оказался на стороне французов, в яростном порыве они возместили нехватку бойцов. Скорость их движения удвоилась крутизной склонов, штыковая атака была неотразима. Русских резали, кололи, кромсали, и они начали отступать, поначалу медленно. Но стоило им дрогнуть, и натиск сверху усилился во сто крат. Теперь французы, опрометью мчавшиеся по склону вниз, не могли остановиться. Отступление русских превратилось в беспорядочное бегство. Они скатывались, падали в канал и в Черную речку, многие утонули. Артиллерия довершила навесным огнем разгром русских, которые потеряли четырех генералов, десять полковников и половину офицеров[269]. Это памятное утро стоило России восьми тысяч человек из отборных частей, в то время как французы, занимавшие более выгодные позиции, потеряли всего тысячу восемьсот человек. Потери сардинцев составили пятьсот человек. Защитники Севастополя понесли тяжелые потери, оказавшиеся в конечном счете бесполезными, ибо даже победа на Трактирном мосту не спасла бы осажденный город. Русские лишь продемонстрировали еще раз горячий патриотизм и воинскую доблесть своих бесстрашных солдат, которых ничто не могло сломить. Так или иначе сражение на Трактирном мосту преподнесло чрезвычайно болезненный сюрприз англо-французам, которые не подозревали, что у неприятеля еще столько энергии и сил, и полагали, что он окончательно деморализован. На самом деле это были последние конвульсии гиганта, перед тем как рухнуть, но эти конвульсии показали, что агония будет страшной. И Пелисье решил, прибегнув к сильным средствам, ускорить развязку. А сильные средства старого рубаки — это зверская, безжалостная бомбардировка, которая сметает все с лица земли и готовит генеральный штурм по всей линии силами всей осаждающей армии. Железное и огненное кольцо сжимало и душило несчастный город. Сто километров параллельных траншей тянулись от Карантинной бухты до Килен-балки. Двести двадцать пять километров ходов сообщения пересекали Херсонесское плато. Перед Малаховым курганом прорыли шесть линий траншей. Если их растянуть в одну линию, она составила бы двадцать пять километров. От первых извилин этой шестой линии до исходящего угла русского бастиона оставалось не больше пятидесяти метров. Это незначительное расстояние, однако, казалось штабу слишком большим. Чтобы избежать в штурмовых колоннах чересчур жестоких потерь, решили сократить его вдвое. Таким образом, атакующий сможет рывком достигнуть пролома. Что же до пролома, его пробьют пушки. Над траншеями, подбирающимися к укреплениям противника, поработает кирка. Артиллеристам и саперам предстояло трудиться согласованно, одни будут разрушать, другие — копать. Командиру саперов требовалось четыре дня, чтобы приблизиться к неприятельским позициям на двадцать пять метров. Все эти дни артиллерийский обстрел будет вестись без передышки, с предельной интенсивностью, чтобы уничтожить укрепления противника и сделать невозможным их восстановление. Тут же приступят к рытью седьмой линии траншей. Саперы врежутся в склон Малахова кургана и заложат мины. На противника бросят все силы, заставляя его покинуть последние убежища. Каждый час происходили стычки, рукопашные схватки, ночью — особенно. Обе стороны снова и снова проявляли чудеса героизма. В одной из ночных потасовок стрелок Восьмидесятого линейного полка по фамилии Беназе преодолел прыжком кучу камней и оказался среди русских. Его схватили без всяких церемоний, связали. Полупридушенный, он исхитрился крикнуть своему лейтенанту: — Стойте!.. Неприятель… И генерал Боске, который включил описание этого эпизода в свой рапорт, добавил: «Это был возглас рыцаря д’Асса! Я бы очень хотел, чтобы неприятель пощадил храбреца!» Русские, умеющие ценить храбрость, действительно проявили великодушие. Они взяли героя-стрелка в плен, и после войны Беназе вернулся во Францию цел и невредим. Наконец, прежде чем перейти к описанию бомбардировки, припомним еще один драматический эпизод войны, настоящую катастрофу, которая чуть было не сорвала штурм. Речь идет о взрыве на Зеленом холме — произошел он глубокой ночью, при таинственных обстоятельствах, так никогда и не прояснившихся. Десять тысяч килограммов пороха, пятьсот бомб взорвались одновременно. Триста человек были убиты и ранены, и только чудом эта цифра не выросла до тысячи. Доски, брусья, бревна, из которых была настлана крыша порохового склада, забросило на Корабельную сторону. В Павловском и Николаевском фортах, расположенных в трех километрах, были разбиты стекла и вырваны двери. Тем не менее артиллеристы и саперы за сорок восемь часов уничтожили все следы катастрофы.
Бомбардировка — шестая по счету — началась пятого сентября в шесть часов утра, чудовищная с первых же выстрелов, самая страшная из всех артиллерийских сражений, которые довелось вести армиям вплоть до наших дней. У французов, англичан и сардинцев находилось на вооружении около девятисот орудий[270], снабженных снарядами из расчета по четыреста штук на орудие! Триста шестьдесят тысяч[271] бомб, снарядов, ядер, не считая зажигательных ракет, подобно урагану обрушатся в течение восьмидесяти часов на несчастный город. Русские, в свою очередь, имели все необходимое для отпора, и они не упускали этой возможности. Их батареи располагали примерно тысячью четырьмястами орудиями[272] и неисчерпаемым количеством боеприпасов. Представьте себе грохот двух тысяч трехсот орудий[273], которые стреляют одновременно! «Гром небесный был бы замечен не больше, чем детская дудочка в страшном духовом оркестре из гаубиц и мортир», — говорил один из свидетелей этого поединка. Этот грохот поглотил и впитал в себя все — приказы командиров, стоны раненых, хрипы умирающих. Кровь текла из ушей даже самых закаленных артиллеристов. Общаться удавалось только жестами! Вскоре дым затянул батареи, потом траншеи и в конце концов все оборонительные сооружения. Туча дыма расползлась над Севастополем, над рейдом, над судами, надо всем. Высокие столбы пламени взмывали над серым дымом, железные смерчи без устали обрушивались на укрепления. Из орудий стреляли с расстояния от пятидесяти до ста метров! — можно сказать, в упор, и ничто не в силах было противостоять этим непрерывным ударам. Кучи земли, глыбы камней, железные балки, блиндажи, считавшиеся неуязвимыми, — все это рушилось, осыпалось, взрывалось, перекашивалось, распадалось под шквалом железа. Русские батареи упорно оборонялись, но какой ценой! Канониры укрывались за сооружениями, уже совершенно разрушенными. Если следовало заменить одну из поврежденных пушек, сорок или пятьдесят человек погибали, втаскивая замену на позиции под огненным смерчем, — но какое это имело значение? Да, какое значение имела смерть, если пушка снова вела свою партию в этой симфонии огня и металла! Разрушенные укрепления уже не в состоянии были защищать пехоту. Убежищем могли служить теперь только подземные казематы. Пехотинцы укрывались там, готовые в любую минуту прийти на помощь артиллеристам. Иногда канонада стихала и даже умолкала совсем. Тучи порохового дыма рассеивались. Наступала глубокая тишина, но она несла в себе новую угрозу. Русские полагали, что вот-вот начнется штурм, горн издаст несколько вибрирующих звуков, красные штаны всколыхнутся и, подобно кровавому прибою, хлынут вперед, на разрушенную линию укреплений… В мгновение ока русские солдаты-пехотинцы покидали казематы. С оружием в руках, положив палец на спусковой крючок, они толпились у пробоин, лицом к неприятелю. Но это была лишь уловка. Горн молчал. Союзники не двигались. Красные штаны оставались в укрытии. Внезапно огонь возобновлялся с новой силой. Ядра, бомбы и снаряды обрушивались на баррикаду из человеческих тел, опрокидывали заслон штыков и калечили храбрых солдат, которые бросались обратно в свои казематы. Русские теряли, таким образом, более двух тысяч пятисот человек за день. Ложные тревоги участились, действуя солдатам на нервы и притупляя их бдительность к тому времени, когда начнется настоящий штурм. Ночью война предстала во всем своем ужасе. Вспышки пороха, отсветы пожаров, проблески ракет, взрывы, огонь в небе, огонь на земле, огонь на море — все багровело, все пылало и сливалось в величественную и мрачную картину. В то время как люди, упорно убивавшие друг друга, корчились, подобно саламандрам, в этом море огня, дома и даже корабли, стоявшие на якоре на рейде, загорелись, пораженные зажигательными ракетами. Большое транспортное судно «Березань» вспыхнуло, как бочонок со смолой, выбросив огромные клубы черного дыма, которые рваными прядями понеслись по небу. Потом пришла очередь фрегата, потом — линейного корабля; они загорались, взрывались и, подобно вулканам, выворачивали свое нутро. Повсюду воцарялось опустошение, повсюду оставались руины, повсюду правила смерть! В свою очередь, французские саперы работали с остервенением. Пока артиллеристы разрушали город и уничтожали гарнизон, саперы продолжали свою работу, как кроты, подводя подкопы на расстояние двадцати метров от бастиона. Итак, лишь двадцать метров отделяли французские траншеи от обвалившихся укреплений Малахова кургана, которые даже неутомимые саперы Тотлебена уже не в силах были восстановить. Все было готово к штурму. Главнокомандующий выработал план и установил время. Восьмого сентября ровно в полдень атакующие колонны хлынут в проломы и захватят разрушенный город. Чтобы избежать каких-либо неверных толкований, сигнал решили не подавать. Генералы и штабные офицеры сверили свои часы с часами генерала Пелисье. Когда они покажут двенадцать, начнется атака. Момент выбрали подходящий со всех точек зрения. С одной стороны, бомбардировка расчистила подступы к городу и проложила кровавые дороги для союзных полков. С другой стороны, русские, при всей своей легендарной храбрости и невероятной выносливости, начинали падать духом. У них больше не осталось питьевой воды, свирепствовали тиф и холера, артиллерийский обстрел с семнадцатого августа по четвертое сентября вывел из строя двенадцать тысяч семьсот бойцов, а четыре дня бомбардировки добавили к ним еще восемь тысяч человек из гарнизона, уже жестоко пострадавшего от болезней. И Пелисье, который знал эту чудовищную цифру потерь среди защитников города — двадцать тысяч семьсот солдат за двадцать дней, — воскликнул, потирая руки: — Севастополь — наш! — и добавил: — Но его падение нам дорого обойдется!
С рассветом войска накапливались в траншеях, доходивших до неприятельских укреплений. Русские ничего не подозревали. Все передвижения были скрыты от них дымом орудий, которые стреляли с новой силой. Оснастку для преодоления траншей починили, в брустверах проделали широкие проходы для резервов и артиллерии. Приняли все меры к тому, чтобы не случилось снова, как восемнадцатого июня, ни заторов, ни сумятицы, ни задержек. Все подготовили заблаговременно. Оставалось только ждать роковой минуты. Засевшие в укрытиях полки дрожали от нетерпения. На правом фланге командовать будет Боске — он поведет в атаку на Малахов курган двадцать тысяч солдат, цвет французской армии. Без пяти двенадцать! Офицеры смотрели на часы, удивляясь тому, как долго тянутся минуты. Грохот орудийной стрельбы достиг неслыханной до того силы. Во главе атакующих частей, в двадцати шагах от неприятельского бастиона, сосредоточились зуавы из дивизии Мак-Магона. Глаза их блестели, лица выражали напряженное ожидание, руки сжимали карабины. Они притаились за земляной насыпью, готовые к прыжку. В первом ряду, в самом опасном месте — как повелевает честь, — ждал полковник. В левой руке он зажал пистолет, в правой — обнаженную саблю. Слегка повернув голову, кебир смотрел на своих зуавов. Позади него высилось знамя, которое знаменщик прижимал к груди. Славную эмблему, пробитую пулями и порванную картечью, окружала почетная стража — шестеро сержантов, из них было пятеро заросших бородой до глаз, все с медалями, с шевронами, и здесь же, разумеется, — Буффарик. Шестой, который выглядел среди этих ветеранов совсем молодым, — известный нам Оторва. Невдалеке находились отборные храбрецы: Робер, Дюлон, Бокан, горнист Питух и другие оставшиеся в живых из прежней команды разведчиков, отважные соратники Жана Бургея, украшенные множеством шрамов, отчаянные головы, любители жарких схваток и грандиозных сражений. Нет нужды говорить о том, с каким восторгом они встретили нежданное возвращение своего неустрашимого товарища. От полковника до юного барабанщика каждый ощутил в сердце радостную дрожь. Это был праздник всего полка. И теперь все взгляды были обращены к Жану, все ждали от легендарного Оторвы, живого воплощения отважной воинской семьи, грандиозного подвига, который прославит всю армию. И они не ошибались, ибо отважному зуаву еще предстояло превзойти самого себя. Полдень!.. Внезапно по всей восьмикилометровой линии укреплений, сжимавшей Севастополь в тисках, пушки французов и англичан умолкли. В траншеях установилась напряженная тишина. Порыв ветра разогнал пороховые дымы, и тут раздались вибрирующие сигналы горнов. Им вторила частая дробь барабанов. Атака!.. Генералы скомандовали: — Вперед!.. Командиры корпусов вскинули сабли и прокричали громоподобными голосами: — Вперед!.. Солдаты, истомленные ожиданием, захмелевшие от запаха пороха, доведенные до исступления тяготами осады, кинулись вперед с дикими криками. С ужасными лицами, выставив вперед штыки, судорожно сжимая в руках карабины, они бежали по выпотрошенным турам, сломанным фашинам, вздыбленной земле, разбитым укреплениям… перепрыгивали через ямы и воронки, через непонятные предметы и бесформенные обломки — беспорядочные завалы, произведенные артиллерийским обстрелом. Всего двадцать метров… несколько тигриных прыжков… а потом штурм осыпающегося бастиона. Двадцать метров по открытой местности — казалось бы, немного, но это были смертоносные метры. При первых же звуках атаки русские выскочили из укрытий. Вскинув ружья, они целились с холодным бесстрашием, защищенные лишь до пояса остатками земляных насыпей. Образовав три линии, славяне встретили французский авангард яростным огнем. Залпы их ружей с десяти шагов произвели опустошительное действие. Словно бы дыхание смерти пронеслось над каждым из зуавов, и даже самых храбрых проняла дрожь. Потом сквозь ружейную трескотню прорвался зловещий крик. Половина атакующих была уже повержена! Остановленные на бегу, несчастные солдаты спотыкались, падали ничком, валились навзничь, судорожно хватались за раненые места и издавали душераздирающие вопли. Иные из них, пораженные насмерть, тем не менее пытались по инерции приподняться, ползли, шепча «Вперед!», и призыв этот застревал у них в горле. Они не могли поверить, что их настигла смерть, и хотели бежать дальше. Знамя и его караул подвергались жестоким испытаниям. Получив пулю прямо в лоб, знаменщик упал, не издав ни звука. В ту же минуту Буффарик, громко выругавшись, проделал великолепный кульбит и упал в яму, на дне которой и остался, изрыгая все ругательства, какими только располагает Прованс. «Значит, живой!» — подумал Оторва. Еще четверо сержантов были распростерты на земле — убиты или тяжело ранены. У Оторвы — ни царапины. Он подхватил знамя, бросил свой карабин, крепко сжал древко и прокричал: — Я отпущу знамя, только когда меня разрежут пополам! В двух шагах от русских штыков Жан догнал полковника и окликнул его: — Господин полковник!.. Я так и говорил… я водружу знамя на Малаховом кургане! Обгоняя командира и знамя, группа зуавов бросилась на тройной ряд клинков, сверкавших на солнце. Стрелять было нельзя — не оставалось времени даже вскинуть карабин на плечо. — В штыки!.. Тысяча чертей!.. В штыки!.. Раздался многоголосый крик умирающих… хрипы животного ужаса… яростное рычание… проклятия… лязг металла… Заграждение из русских штыков пробили словно бы залпом картечи. Зуавы больше не владели собой; в полном исступлении, опьяненные пролитой кровью, они наносили налево и направо страшные удары. Их штыки пронзали тела, прикрытые шинелями, и погружались в них по самую рукоять. — Черт побери! Само идет! — бормотал Бокан, который орудовал штыком рядом с Оторвой. Питух — голова горит, глаза вылезли из орбит, карабин на перевязи — играл сигнал атаки, который перекрывал все звуки бойни. Взгляду открылась вторая линия вражеских стрелков. Снова залп почти в упор. Сто человек остались на земле! — Вперед! — прорычал кебир, чудом устоявший на ногах. — Вперед! — подхватил Оторва, размахивая знаменем. Бороду его опалил выстрел. Питух дул в горн во всю силу своих легких.
В то время как Бургеи, которых снова свело Провидение, обнимались, батальон защитников Малахова кургана складывал оружие. Майор Павел Михайлович в полном изнеможении смотрел на французов, усеявших разрушенные укрепления противника, и говорил срывающимся голосом: — Да, это были бы роскошные похороны… десять тысяч человек разом… одним взрывом… И ты, брат, был бы первой жертвой!.. А я хочу, чтобы ты жил… — Брат!.. Что ты хочешь этим сказать? — спросил в ужасе зуав. — Под крепость Малахова кургана заложена мина… Электрические провода… должны поджечь порох… здесь… под этим костром… Прощай, Жан!.. Прощай: брат… если я умру, передай нашему отцу, что я выполнил свой долг… я чист перед Россией… моей родиной… и перед его родиной… Францией! И Поль упал без чувств. Со всей возможной поспешностью французы принялись заступами долбить землю, засыпать и гасить огонь. Обнаружились металлические провода, их тут же перерезали. Опасность была предотвращена, французский корпус спасен, и Малахов курган завоеван окончательно. Коль скоро Малахов курган взят, Севастополь — в руках союзников. Русские это понимали и приготовились к эвакуации, назначенной на пять часов пополудни того же дня. Однако прежде генерал Остен-Сакен, следуя трагическому и грозному примеру Ростопчина, хотел совершить последнее жертвоприношение и стереть с лица земли город, проявивший такой неслыханный героизм. В полночь, пока отступающие части в образцовом порядке переходили по громадному наплавному мосту через Большой рейд, началось разрушение города, безжалостное, варварское и грандиозное. Редуты, склады, укрепления, плацдармы, батареи по всей бесконечной линии обороны взлетали на воздух. В городской черте дворцы, памятники, пышные хоромы, казармы, жилые дома, церкви воспламенились одновременно. К грохоту взрывов, от которых плато сотрясалось до основания, примешивался вой огня, опалявший и пожиравший все на своем пути. Море огня расстилалось над развалинами города, отбрасывая кровавое зарево более чем на пятнадцать лье![276] На следующее утро черная туча медленно парила над уничтоженным Севастополем, а тем временем последние русские колонны, все еще являя собой грозную силу, проходили по мосту и постепенно исчезали из виду. Прежде чем проникнуть на территорию горящих руин, союзникам пришлось выждать двенадцать часов. Первыми пересекли городскую черту зуавы. Со знаменем и музыкантами во главе шагали отважные солдаты, начищенные и надраенные, как для парада. Оторва, утвержденный в должности знаменосца, гордо нес знамя Второго полка. Когда он проходил перед главнокомандующим, Пелисье, от внимания которого ничто не ускользало, спросил, почему обязанности знаменосца исполняет простой сержант. — Господин генерал, — ответил полковник, — это Оторва. — Кто такой Оторва? — Да это же… сержант Бургей… тот, кто водрузил знамя над крепостью… тот, кого все здесь уже называют Жан Оторва с Малахова кургана. — Что ж, прекрасно! Дайте команду: «На месте стой!» Полк замер. Генерал сошел с лошади и направился к Оторве, который отдал честь знаменем. С присущим ему холодным достоинством, немного высокомерным, но вполне соответствующим всему его воинственному облику, Пелисье обратился к побледневшему от волнения молодому человеку: — Сержант Бургей, именем его величества императора и в награду за отличную службу присваиваю вам чин поручика. Пожав Оторве руку, генерал добавил: — Главнокомандующий счастлив, что может отметить Жана Оторву с Малахова кургана наградой, обещанной когда-то капралу Оторве.
Спустя полчаса армия рассыпалась по дымившимся развалинам, чтобы увидеть вблизи картину разгрома. Во всем городе сохранилось четырнадцать домов. Один из них — тот, где квартировал брат Оторвы, майор Павел Михайлович. Повинуясь некоему душевному движению, зуав решил заглянуть туда и спасти, если это окажется возможным, что-то из скромной утвари — то, чем дорожил брат. Он зашел в дом и увидел, что на диване лежит раненый русский солдат. Оторва тотчас узнал его — это был ординарец майора. Раненый с трудом приподнялся, отдал Оторве честь и протянул лист бумаги, исписанный мелким неверным почерком. Оторва, пораженный, прочел:
«Сержанту Бургею, по прозвищу Оторва, во Второй зуавский полк. Для Розы. Мое милое дитя, я ранена. Ранена при защите — до последнего мгновения — священной земли моего отечества. Рана не тяжелая, не беспокойся. Я выполнила свой долг, я чиста перед родиной. Теперь я вся принадлежу тебе. Скоро я поправлюсь, снова увижу тебя и буду любить так, как ты того заслуживаешь.Обожающая тебятвоя мама».
Конец третьей части
Эпилог
Прошло восемь месяцев. Война давно кончилась, последние воинские части вернулись на родину. После утомительной и нескончаемой дипломатической кампании был все же подписан мир[277]. Русские и французы, столь яростно убивавшие друг друга, стали друзьями. И на той, и на другой стороне следовали награды, повышения по службе, производство в чин, ордена, медали и… слезы! Сколько домов в трауре приходится на одну семью, охваченную радостью! А теперь давайте мысленно перенесемся в живописный городок Нуартер. Городок ликовал. Прежде всего нам бросилось в глаза пышное и красочное разноцветье мундиров, а потом — кого там только не было: полковники и сержанты, капитаны и простые солдаты, артиллеристы и зуавы… эполеты, галуны, знаки ордена Почетного легиона и военные медали… звон шпор, клацанье сабельных ножен, сверканье аксельбантов… хлопочущие люди, счастливые лица, упоительные запахи вина и кушаний. Полным ходом шла подготовка к свадебному пиру на лоне природы. Поручик зуавов, Жан Бургей, по прозвищу Оторва — Жан Оторва с Малахова кургана — женился на Розе Пэнсон, с недавнего времени княжне Милоновой. Трое офицеров-адъютантов представляли маршалов Франции: Пелисье, Канробера и Боске. Свидетелями со стороны Розы были полковник, командир Второго зуавского полка, и полковник Павел Михайлович, выздоровевший после тяжелого ранения и недавно произведенный в следующий чин императором Александром. Свидетелями Оторвы значились капитан Шампобер, награжденный после взятия Малахова кургана орденом, и горнист Питух, ставший сержантом и гордившийся своей медалью, столь доблестно завоеванной. Впрочем, больше, чем медалью, он гордился честью, которую оказал ему старый товарищ, ныне его командир. Буффарик, великолепный и сияющий, вел к аналою свою приемную дочь, поистине неотразимую в белом подвенечном уборе. На эту почетную роль претендовал русский князь, видный дипломат. Но мать Розы, Дама в Черном, исполненная благодарности к приемным родителям дочери, пожелала, чтобы и впредь, и в этот день в особенности, Буффарик не был лишен ни одного из своих отцовских прав. Сама она, вполне оправившаяся после ранений, излучавшая радость, опиралась на руку старого Бургея. Прямой и крепкий, как дуб, герой Великой армии с умилением и гордостью смотрел на двух своих сыновей, русского и француза, озаренных счастьем, — счастьем, доставшимся им дорогой ценой, но зато таким огромным, таким полным, о каком можно только мечтать. Благородные и храбрые, великодушные и сильные, сумевшие в дни испытаний узнать и полюбить друг друга, они казались живыми символами России и Франции — стран, которые еще вчера воевали, а теперь начинали испытывать одна к другой искренние чувства, основанные на уважении. Скоро они станут верными союзниками, братскими нациями.Конец эпилога
Заключение
Прошло полстолетия. Лучи славы несколько померкли, ярость давно утихла, и головы совершенно остыли. Пятьдесят лет — время достаточное, чтобы беспристрастно судить о людях и обстоятельствах. Так, человек образца 1903 года[278] может спросить себя, искренне и непредубежденно: «Разве Франции было не все равно, выступит или не выступит Россия против Константинополя?.. Разделит она или не разделит с Австрией наследство Больного человека?..[279] Россия далеко от Франции. Ее территориальные интересы никак не затрагивают интересы нашей страны. Наконец, ее проникновение в Средиземноморье могло бы помешать одной только Англии, нашему извечному — несмотря на союзнические отношения — противнику!» Да! Какое нам до всего этого дело? Однако такова была политика Наполеона III, и эта политика имела для Франции самые плачевные последствия. В 1855 году Наполеон III одержал над Россией победу, но исключительная выгода от этого досталась Англии. В 1861 году он объединил Италию и помог ей вырваться из-под австрийского гнета, после чего Италия заключила с Австрией союз, направленный против нас. В 1866 году он не воспрепятствовал объединению Германии, и в 1870 году Германия нанесла нам поражение. Одна лишь Россия могла бы прийти нам на помощь, но мы сами обескровили ее за пятнадцать лет до этого и она еще не оправилась от своих ран! Наконец, сегодня наш старый противник Россия в большей степени силой обстоятельств, чем в силу взаимной симпатии, стала нашим другом и верным союзником. Это превосходно! Но любознательный француз образца 1903 года вправе спросить, как поступило бы сегодня наше отечество, если Российской империи, в соответствии с ее исконной политикой, сейчас предстояло бы делить наследство Больного человека. Ведь Франция поддержала бы Россию, не правда ли? Зачем же тогда, в 1853–1855 годах четыреста тысяч человек[280] полегли ради утверждения истины, которая ныне считается заблуждением?Конец

Луи Буссенар ПОД БАРАБАННЫЙ БОЙ
Часть первая КРЕСТНИК КОРОЛЯ
ГЛАВА 1
На берегу Сезии[1]. — Французы и жители Пьемонта. — Битва с австрийцами. — Вперед, зуавы! — Капрал Франкур. — Беспомощный Обозный, несведущие зуавы. — На захваченной ферме. — Перевернутая колыбель, брошенный младенец. — Убийство! — Солдат возится с пеленками.Талые снега превратили реку в бушующий пенистый поток. Гроза утихла. На лазурном небосклоне поднималось утреннее майское солнце, освещая далекие вершины итальянских Альп[2]. Два понтонных[3] моста, каждый по пятьсот метров длины, пересекали водное пространство. Солдаты в синих куртках и красных брюках один за другим осторожно вступали на качающиеся платформы и прыжками передвигались к противоположному краю подвижной конструкции. Бесконечная вереница двигалась к левому берегу реки, чтобы образовать там дивизии и полки. Вдруг раздались взрывы. Противник, до сих пор невидимый, обнаружил себя. Началась тяжелейшая битва с многочисленным и бесстрашным врагом. Шла священная война за освобождение угнетенного народа[4]. 31 мая 1859 года на реке под названием Сезия, протекающей по плодородным землям Ломбардии[5], встретились солдаты трех армий. Французы в союзе с жителями Пьемонта пришли сразиться с австрийцами за освобождение Италии. Франко-итальянские войска заняли позицию в глубокой низине, где рисовые поля чередовались с оросительными каналами, а в воздухе пахло сыростью и перегноем. Великолепие природы потрясало даже самых равнодушных солдат. В хрустально-чистой воде каналов отражалась яркая синева итальянского неба. Красные черепичные крыши отдельно стоящих ферм проглядывали сквозь листву и довершали очарование пейзажа. Но прелесть этой пасторали[6] таила в себе и опасность. Каналы представляли собой естественные преграды, а поля, зеленеющие виноградники, фруктовые сады, колючие кустарники роз могли служить укрытием противнику. Забаррикадированные же со всех сторон дома стали настоящими крепостями, откуда неприятель вел огонь из пушек. Австрийцы, численностью превосходящие противника, использовали рельеф местности, чтобы помешать проведению блестяще задуманной операции. Накануне союзники приняли все меры предосторожности для успешной переправы армии через реку. На левом берегу пьемонтская дивизия заняла город Палестро[7] и оттуда руководила наведением понтонов, а засевший в лощине полк зуавов должен был отразить первую атаку. Однако солдаты неприятеля, прекрасно знавшие местность, сумели пробраться незамеченными в укрытия за каналами, а оттуда — к реке. Пока сторожевое охранение французских пехотинцев вело беспорядочную стрельбу, главные силы австрийской армии поднялись вверх по течению. Пройдя через обводной канал Самирана, они без единого выстрела захватили мост и проникли на большую ферму Сан-Пьетро, расположенную на плато, откуда Палестро был виден, как на ладони. Пьемонтская дивизия оказалась отрезанной от своих, отступать было некуда. На понтоны обрушился свинцовый ливень. Солдаты, крича от боли и негодования, падали в бушующий поток. Командир Сорок третьего линейного полка полковник Дюамель вел коня под уздцы, когда ему снарядом оторвало голову. Началась паника. «Зуавы, черт бы их побрал! — вопили обескураженные солдаты. — Неужели они бросили нас тут подыхать! Давайте! «Шакалы»! Вперед!» Появление австрийцев в коротких белых мундирах и кожаных киверах[8] было как гром среди ясного неба. Сталь штыков вспыхивала на солнце, ослепляя убегавших. Ненавистные тедески предвкушали победу. Уже слышались их хриплые крики: «Ура! Ура! Ура!» Вдруг у обводного канала за деревьями прозвучали сигналы горна, от которых перехватывало дух и замирало сердце зуава:
ГЛАВА 2
Виктор-Эммануил. — Верхом на пушках. — «Нам нужны луковицы…» — Крестника короля нарекают Виктором Палестро. — После награждения Франкура зуавы производят короля в капралы Третьего полка. — Как получить стакан молока. — Ночная вылазка.Ожесточенное сражение продолжалось. Солдаты Пьемонтской дивизии вместе с подоспевшими на выручку зуавами обороняли подступы к Палестро. Австрийцы, заняв позиции у дороги и угрожая противнику окружением, открыли яростный огонь. В разгар битвы на поле боя верхом на прекрасном арабском, сером в яблоках жеребце появился король Сардинии и Пьемонта Виктор-Эммануил. С саблей наголо монарх скакал галопом в сопровождении офицеров Генерального штаба. Зуавы, увидев его, восторженно закричали: — Да здравствует король! Монарх жестом, как на параде, ответил на приветствие и поскакал дальше. Свистели пули, умирали люди. К счастью, ни царственная персона, ни ее многочисленная свита не пострадали. Полковник Шаброн хотел удержать короля: — Сир, умоляю, вернитесь, здесь вам не место. — Я борюсь за независимость моей страны и должен быть среди солдат! — Да здравствует король! Да здравствует король! — воодушевленно кричали зуавы. Высокий, широкоплечий монарх возвышался над всеми, как скала. Пышные усы, кончики которых закручивались почти до висков, делали его похожим на льва, большие зеленые глаза внимательно следили за происходящим. Орудийный огонь усилился. Виктор-Эммануил повелительным жестом указал в сторону вражеских пушек, изрыгавших пламя, и коротко командовал: — Вперед! В это мгновение от фермы Сан-Пьетро отделилась какая-то фигура. Это был Франкур с младенцем за спиной. Сквозь огненный ливень отважный солдат бежал к месту расположения полка зуавов. Оказавшись среди своих, Франкур мгновенно оценил ситуацию. Ребенок больше не плакал. Как всегда невозмутимый, Обозный спросил: — Господин капрал, вы обзавелись семьей? — Похоже! Приглядывай краем глаза за малышом, пока мы будем бить этих негодяев в белых мундирах[18]. — Хорошо. А куда мы направляемся? — Прямо к пушкам, и немедленно. Толстяк привычным движением натянул на уши феску и тяжело вздохнул. Король пришпорил коня, чтобы дать возможность зуавам догнать своих. Один из солдат запел известную всему полку песенку. Бешеный ритм карманьолы[19] совпадал с быстрым шагом пехотинцев:
ГЛАВА 3
Порабощенная страна. — За свободу. — Террор австрийцев в Ломбардии. — Проклятое имя. — Ужасы Брешии. — Две армии. — Капрал Франкур хочет видеть и знать все. — Привидения фермы Сан-Пьетро. — На расстоянии шпаги. — В подполе.Прекрасная Ломбардия, земной рай, воспетый поэтами, была объята пламенем войны. По плодородным землям, некогда возделываемым гордым народом, текла кровь, пастбища покрывали трупы. Как случилось, что страна мирного труда стала ареной военных действий? Чтобы понять настоящее, нужно обратиться к прошлому. Господство австрийцев в Северной Италии началось с давних времен. В результате войны 1701–1714 годов за испанское наследство[30] Австрия получила во владение эту часть Апеннинского полуострова. Бонапарт принес Италии свободу. Но в 1814 году она вновь подпала[31] под еще более суровое иго Австрии, став Ломбардо-Венецианским королевством. Завоеватели управляли страной с помощью железного кнута, но им не удалось поставить Италию на колени. Эпитет «тедеско» — что значит «немецкий» — в устах итальянца звучал как оскорбление. Тедесками называли ненавистных австрийцев. Двери всех домов — от ветхой лачуги до величественного дворца — были закрыты для завоевателей. В кафе, на улицах, в театре, даже в церкви итальянец старался держаться подальше от австрийца. Ненависть к оккупантам росла втайне, передавалась от отца к сыну, иногда прорывалась наружу. В 1848 году во Франции произошла революция, эхо которой докатилось до Италии. Повеяло ветром свободы, и жители Ломбардо-Венецианского королевства с оружием в руках восстали против векового господства завоевателей. За несколько часов улицы Вероны, Мантуи, Бергамо, Феррары, Пескьеры, Венеции, Брешии и Милана были перегорожены баррикадами. Король Пьемонта Карл-Альберт мобилизовал войска, которые поспешили на помощь повстанцам. В то время в Ломбардии от имени австрийского императора командовали граф Радецкий[32] и барон Айно. Оба были фельдмаршалами и заслужили самые высокие награды императора. У Радецкого, безжалостного солдафона, но талантливого полководца, находилось в подчинении восемьдесят тысяч человек. Он разбил армию Карла-Альберта, хотя и малочисленную, но творившую чудеса военного искусства, и потопил в крови Милан, превратив его в развалины. Фельдмаршала призывали к великодушию, но он бросил как вызов цивилизованному миру циничные слова: «Тридцать часов резни в Милане за тридцать лет отдыха в Вене!» Барона Айно, ироничного и еще более кровожадного, чем Радецкий, называли титулованным бандитом. К побежденным он был беспощаден и жесток. Пока граф проводил военные операции, барон занимался репрессиями. Террор в Ломбардии длился месяцами. Сначала разрушили и подожгли Пескьеру, расстреляв именитых жителей. Затем той же участи подверглись Бергамо и Феррара. Город Брешиа пережил те же ужасы и резню. В течение трех суток его жители, оставшись без поддержки, героически оборонялись. Завоевателям приходилось брать приступом каждую баррикаду, каждый дом. Среди защитников самым отчаянным был портной, невысокого роста горбун. Всегда в первых рядах, он казался неуязвимым. Его отвага и смелость не остались незамеченными. После победы австрийцы разыскали смельчака. С него сорвали одежду и, обмотав просмоленной паклей, сожгли живьем. Репрессии продолжались полгода. Айно с помощью своих агентов заполнил тюрьмы. Несчастных хватали прямо на улицах. Чтобы разнообразить жуткий спектакль, время от времени устраивали казни. Женщин публично на площади избивали кнутами и палками. Многие не выдерживали наказаний и умирали. Те, кто выжил, остались изувеченными на всю жизнь. Барон навязал городу контрибуцию[33] в шесть миллионов франков. Издеваясь над побежденными, он объявил, что жители Брешии должны будут платить за палки для экзекуций[34]. Трупы выдавались родственникам только после уплаты двенадцати тысяч франков. Подобная жестокость вызвала в Европе бурю негодования. Год спустя во время путешествия по Англии барон Айно был избит рабочими пивоварен «Барклай и Паркинс», а затем брошен в чан с отходами, откуда его с большим трудом извлекла подоспевшая к тому времени полиция. Из Брюсселя и Парижа известный фельдмаршал еле унес ноги. Можно понять ненависть, которая годами копилась в сердцах жителей Ломбардии. К 1859 году все итальянцы, будь то аристократ или простой горожанин, мечтали об одном: воевать против ненавистного врага — Австрии. В Италии долгое время жил изгнанник и претендент на французский трон принц Луи-Наполеон[35]. Он сочувствовал карбонариям и одобрял их действия. Принц считал, что независимость, главная мечта итальянцев, заключала в себе идею единства, которая была близка и ему, ибо он сам стремился к единению со своим народом и страной. Луи-Наполеон дал клятву добиться, когда позволят обстоятельства, и того и другого. Став императором Франции под именем Наполеона III, бывший изгнанник сдержал слово. Он заключил союз с Виктором-Эммануилом, чье маленькое королевство Пьемонт должно было стать отправным пунктом борьбы за освобождение Италии. Предвидя войну, австрийцы вооружались и укрепляли свои силы. Пьемонтцы делали то же самое. Хотя на границе сохранялся мир, подготовка к войне нарушала спокойствие в регионе. В конце концов вмешалась Европа. Чтобы решить вопрос о разоружении обоих государств и добиться от Австрии некоторых уступок в отношении Италии, был созван конгресс. Переговоры затянулись. Обстановка день ото дня становилась все более напряженной. Однажды утром мир узнал, что Австрия вторглась в Пьемонт. Началась война. Франция на правах союзницы направила свои войска в Италию, которые по прибытии объединились с армией Пьемонта. Наполеон III стал главнокомандующим. Французская армия состояла из императорской гвардии и шести армейских корпусов, которыми командовали Канробер, Мак-Магон[36], принц Наполеон, Ниель[37], Рено де Сен-Жан-д’Анжели[38] и старик Бараге д’Илье[39], потерявший левую руку в битве под Лейпцигом еще в эпоху Первой империи[40]. Форе, Ламиро, Базен, Ламотруж, Эспинас, Трошю, Винуа, Уриш, де Файн и другие, менее известные военачальники, возглавляли дивизии. Французская армия насчитывала приблизительно сто восемнадцать тысяч человек, располагала десятью тысячами пятьюстами лошадьми и четырьмястами тридцатью пушками. В состав итальянской армии входили шесть дивизий общей численностью пятьдесят пять тысяч пятьсот солдат под командованием короля, подчинявшегося приказам Наполеона III. В армии было четыре тысячи двести лошадей и девяносто пушек[41]. Войска союзников пересекли Тичино[42], отделявшую Пьемонт от Ломбардии, и укрепились на участке между реками Сезией и По. Линия огня проходила от Версея до Ломело, а основные резервы сконцентрировались на направлении Албанезе — Мортара — Гарлазе — Павия — Виккарецца. Австрийский главнокомандующий Джиулай[43] был уверен, что обеспечил империи победу. Ожидая атаки слева, он усиленно укреплял левый фланг. Битва при Палестро оказалась для него страшным потрясением. В то время как фельдмаршал полагал, что французы находятся на юго-западе, в двадцати лье от его солдат, стотысячная франко-итальянская армия обрушила свой удар на правый фланг австрийцев. С помощью быстрого и точного выдвижения флангов французы окружили войско Джиулая и отрезали ему путь к отступлению. Фельдмаршал, оспаривавший у Наполеона III пальму первенства в военном искусстве, не успел опомниться. Его армия не смогла оказать достойного сопротивления и почти без боя отдала территорию около шестидесяти квадратных километров. Император Франции не скрывал, что этот дерзкий и эффективный маневр ему подсказал генерал Жомини[44], консультировавший монарха перед походом в Италию.
Однако возвратимся к нашему бесстрашному герою, среди ночи пробиравшемуся на ферму Сан-Пьетро, чтобы отыскать следы жестокого и загадочного убийства. Звезды светили ярко, и солдат мог легко ориентироваться на местности. Через дыру в заборе он проник во двор. Повсюду на земле лежали трупы, их белые мундиры отсвечивали в темноте. Франкура передернуло. Днем в пылу сражения он убивал не задумываясь: перед ним были враги, жаждавшие его крови. Но ночью место, где проходил бой, выглядело жутко, и при виде неподвижных тел скорбь закрадывалась в сердце. Пожар уничтожил хозяйственные постройки и только чуть затронул большой жилой дом с толстыми каменными стенами. Войдя в просторную прихожую, молодой человек остановился, передвигаться в темноте было трудно. Он достал спички и зажег свечу. Кругом царил беспорядок: опрокинутая мебель, разбитые окна, на стенах — следы пуль и снарядов. Бесшумно ступая, Франкур перешел в следующую комнату. — Это здесь! Вот колыбелька, а вон охапка соломы, которую я бросил! Подняв свечу повыше, зуав внимательно осмотрел пол. — Вот так так! А где же трупы? Я собственными глазами видел убитых мужчину и женщину. Они лежали здесь бок о бок, а теперь исчезли… Если бы не следы крови, можно было подумать, что их в доме никогда не было. Кто же убрал тела, неужели убийца? Каков хитрец! Надо поискать еще… О, дьявол! Прямо над местом, где раньше лежал труп мужчины, в почерневшую деревянную панель в метре от пола был воткнут кинжал. Поднеся свечу, капрал увидел, что оружие до рукоятки покрыто высохшей кровью. Этот кинжал напоминал тот, что торчал из груди убитого… Существуют вещи, которые видишь долю секунды, а запоминаешь на всю жизнь. Очевидно, с крестником короля была связана какая-то тайна… Внезапно Франкур почувствовал дуновение воздуха, как от приоткрывшейся двери, а вслед за тем услышал осторожные шаги в соседней комнате и потушил свечу. Спрятавшись за перевернутым буфетом, капрал стал ждать. В комнату вошли. Глаза молодого человека понемногу привыкли к темноте, и он различил фигуру в черном одеянии с капюшоном, напоминающем монашескую рясу. «Привидение, — подумал зуав. — Как есть призрак». Вошедший замер. Что-то блеснуло в складках его плаща. Вдруг притаившийся зуав услышал ритмичные всплески, сопровождавшиеся скрипом, как будто кто-то работал веслами. Франкур вспомнил, что у подножья стены фермерского дома протекает канал, довольно широкий, по которому можно добраться до Палестро. Внезапно, со свистом рассекая воздух, взметнулась шпага и привидение застыло в боевой стойке. Из-под капюшона послышался сухой резкий голос. — Wer ist da?[45] — вопрос прозвучал по-немецки. В противоположном конце комнаты появился другой призрак, который, смело подставив грудь под острие шпаги, ответил вполголоса по-итальянски: — Il terze![46] — Почему ты говоришь по-итальянски? — раздраженно прервал вошедшего первый, — тебя могут услышать и понять. — А почему ты спрашиваешь по-немецки? Здесь все его знают. — Хорошо, говори по-французски. Франкур, все более изумляясь, подумал: «Так-то лучше, хотя я прекрасно понимаю итальянский». — Который час? — произнес тот, что был при шпаге. — Полночь. — Где мы? — На пороге большой комнаты. — Что нужно, чтобы войти? — Освободить место перед клинком. Шпага опустилась, и привидение протянуло левую руку, одновременно прошептав несколько слов, смысл которых был непонятен зуаву. Два капюшона приблизились друг к другу, наклонив головы, затем одновременно выпрямились. Наконец один призрак склонился перед другим. «Что ж, знакомство состоялось, — размышлял капрал. — Каково будет продолжение?» Плеск весел затих, и в дверях появился новый черный силуэт. Навстречу ему вновь взвилась шпага, и все тот же голос спросил: — Ты говоришь по-французски? За третьим последовал четвертый, потом пятый, шестой и, наконец, седьмой призрак. Все отвечали быстро, затем каждый брал из рук первого веревку в том же порядке, как входил. Затаив дыхание, капрал смотрел во все глаза. Человек со шпагой достал из-под плаща маленький потайной фонарь и осветил пространство. Зуав увидел, что капюшоны, закрывавшие лица незнакомцев до подбородка, имели прорези для глаз. Первый подошел к деревянной панели, из которой торчал кинжал, и надавил на скрытый механизм. Тяжелая дверь бесшумно отодвинулась. Человек с фонарем шагнул в открывшийся проход, за ним последовали остальные. С момента, когда зуав появился на ферме, прошло полчаса. Здравый смысл подсказывал, что пора уходить. Но в сознании каждого француза живет маленький Гаврош[47], таинственность и загадочность разжигают его любопытство и толкают на безрассудные поступки. Франкур поправил свой клинковый штык и прислушался. В доме было тихо. «Не будь я «шакалом», если не узнаю, в чем тут дело! — подумал он. — В этом ночном спектакле я оказался зрителем, но может быть, стану актером?» Так же, как предводитель призраков, зуав нажал на деревянную панель, и она мягко отодвинулась. Нащупав ступени, молодой человек стал медленно спускаться в подземелье, откуда веяло холодом и сыростью.
ГЛАВА 4
Что призраки понимали под словом «работать». — Ненависть к Франции. — Тайное немецкое общество. — «Смерть Наполеону III и Виктору-Эммануилу!» — Монархи[48], пользовавшиеся популярностью. — Заговор раскрыт. — Один против семерых. — Дуэль. — Отличная защита. — Провал. — Франкур окружен кинжалами. — В полной темноте, в полном неведении.Франкур осторожно пробирался в темноте, придерживая рукоятку клинкового штыка, чтобы не задеть стену и не наделать шуму. Решив не подходить слишком близко, он спрятался в углублении стены, откуда мог наблюдать происходящее, не рискуя быть обнаруженным. Призраки расположились перед чем-то вроде алтаря, на котором горели поставленные в ряд семь свечей. Под сводчатым потолком подземелья голоса звучали отчетливо, было слышно каждое слово. — Я пришел из Сицилии, — произнес один из призраков. — Я приехал из Пьемонта, — подхватил второй. — Я — из Милана. — Я прибыл из Венгрии. — Я — из Тироля[49]. — Я — из Вены. — А я — из Пруссии[50], — после небольшой паузы сказал седьмой. Наступила тишина. Затем, совершив ритуал[51], имеющий какой-то таинственный смысл, семеро призраков выпростали руки из складок монашеских одежд и поднесли к свечам. У шестерых на указательных пальцах блестели золотые кольца, у седьмого — перстень из платины, на котором бриллиантами были выложены какие-то буквы. Головы шестерых почтительно склонились. — Я — первый и считаю вас нашим предводителем. — Я — второй и считаю вас нашим предводителем. Эти слова повторили все шестеро. Затем обладатель платинового перстня сказал: — Мы не должны ни знать, ни видеть друг друга. Таков закон, за невыполнение которого — смерть. Но все мы — братья. Итак, вверенной мне властью объявляю заседание Верховной Палаты открытым. Акцент[52] незнакомца выдавал его происхождение с берегов Шпрее[53]. Торжественный и повелительный голос то поднимался к высокой ноте, то вдруг обрывался и начинал с низкого тона. Черные плащи сидели вокруг алтаря на больших камнях и внимали говорящему. — Братья! Пришла пора действовать. Я имею в виду не участие в сражениях, а применение тайной силы, более действенной, чем война. Эта сила нашего общества, которое ведает обо всем, повсюду проникает, вершит по своему усмотрению дела, ведет за собой людей. Она бьет без промаха по ничего не подозревающему врагу в нужное время, не оставляя следов. Послышался одобрительный шепот. Голос с берлинским акцентом продолжал: — Братья, вы знаете, что проклятая война, в которой проливаются реки крови, война, подвергшая опасности Австрийскую империю, — дело рук карбонариев! Шестеро призраков вскочили с мест и закричали: — Смерть карбонариям! Франкур знал, что карбонарии — члены тайного общества, цель которого — освобождение Италии из-под австрийского ига революционным путем. Молодой человек слышал также, что в этом обществе существуют суровые законы, предусматривающие наказания вплоть до смертной казни в случае предательства или неподчинения. Название «карбонарий» происходило от слова «карбон», что значит угольщик. Первые члены тайного общества были угольщиками и жили в древесных хижинах в лесу. — Благодарю вас за поддержку, братья. Да, смерть карбонариям, кровавая смерть тем, кто хочет отделить Италию от Австрии и войти в союз с Францией, нашим вековым врагом. Смерть революционной Италии! И да здравствует «Тюгенбунд»! — Да здравствует «Тюгенбунд»! — повторили призраки. — Пусть всегда живет бог добродетели, нерушимый союз воли и могущества, слепой преданности и фанатичного повиновения, возрожденный нами, немцами, которые не хотят объединения Италии и ненавидят Францию! С Францией во все времена яростно сражались наши предки. Одолев Бонапарта, мы победили Францию. Капрал, которому подобные речи уже начали действовать на нервы, возмутился про себя: «Ах ты, дрянь! С каким удовольствием я свернул бы тебе шею за эти слова». Главарь, постепенно возвышая голос, перешел к последним фразам на крик: — За нами сто тысяч немцев, готовых оказать помощь в смертельной схватке между германцами и латинянами…[54] Я представляю секту немецких патриотов «Тюгенбунд», спровоцировавшую в свое время отступление России и организовавшую битву при Ватерлоо[55], в результате которой Наполеон был разбит. В моем лице «Тюгенбунд» объявляет беспощадную войну Франции! Войну Наполеону III! Войну Виктору-Эммануилу! Обведя присутствующих сверкающим сквозь прорези в капюшоне взглядом и выдержав короткую паузу, предводитель продолжал: — Верховная Палата приговаривает к смертной казни Наполеона III, Виктора-Эммануила, Кавура, Гарибальди[56] и прочих иже с ними! Для приведения в исполнение приговора хороши все средства — сталь, огонь, яд! Монархи должны быть уничтожены любой ценой! Повсюду Палата будет противостоять Венте…[57] Пусть везде звучат воинственные кличи… А теперь, братья, идите и возглавьте наше движение! Ищите союзников, последователей, умножайте наши ряды! Действуйте отважно, работайте без устали! Пусть франко-итальянская армия будет начинена предателями, пусть повсюду слышатся слова «смерть суверенным союзникам!». Члены секты за непорочные связи, встав, воодушевленноскандировали: — Смерть Наполеону III! Смерть Виктору-Эммануилу! Капрал едва сдерживал гнев. Стиснув зубы и сжав кулаки, он готов был один броситься на подлых семерых заговорщиков: «Убить императора, убить короля! Проклятье! Пусть меня изрубят на куски или поджарят живьем, если я позволю им это сделать!» Порыв зуава был искренним. Чтобы понять и оценить его, необходимо знать, что в те времена Наполеон III пользовался огромной популярностью. Императора любила вся Франция. Обратимся к историческому факту. Во время плебисцита[58] 21–22 ноября 1851 года за Наполеона III проголосовало около восьми миллионов французов. А если быть точным 7 824 125 граждан были за империю, 253 149 — против, 63 126 бюллетеней оказались пустыми[59]. Престижу монархического режима, который поддерживала армия, немало способствовали недавние победы в Крыму — Альма, Инкерман, Севастополь. Теперь же, когда император принял командование войсками, сражающимися за независимость Италии, почитание усилилось. Что касается солдат молодой итальянской армии, то все они испытывали к королевской власти добрые чувства, унаследованные от старших, и считали легендарного героя в маленькой шапочке и сером сюртуке, имя которому Наполеон, олицетворением монархического строя. Франкур преклонялся перед императором, восхищался и любил короля, от которого к тому же получил награду. Услышав призывы «Смерть Наполеону III!», «Смерть Виктору-Эммануилу!», он в ярости сжал кулаки, выпустив из рук рукоятку клинкового штыка. Оружие сильно ударилось о стену, и ужасный скрежет эхом пролетел по всему подземелью. Призраки вздрогнули. — Мы, кажется, не одни. — От недавнего воодушевления главаря не осталось и следа. — Предательство! Предательство! — волновались остальные, шаря черными дырами капюшонов по сторонам. — Горе тому, кто подслушал нас! — Смерть ему! Смерть! — метались заговорщики. Главарь остановил их: — Успокойтесь и следуйте за мной! Выставив вперед шпагу и подняв фонарь над головой, он стал пробираться к выходу. Франкур понял, что бегство невозможно. Без колебаний молодой человек принял дерзкое решение. «В конце концов, их всего лишь семеро, а человек, решивший дорого продать свою шкуру, способен на многое. Вперед!» Скрежет вынимаемого из ножен клинкового штыка выдал местонахождение зуава. Заговорщики поспешили на звук. Не дожидаясь, пока они подойдут вплотную, Франкур как тигр прыгнул навстречу с криком: «Убийцы! Подлые убийцы!» — Не убийцы, а заступники, — высокомерно возразил главарь, нанося капралу удар. Семидесятисантиметровый клинковый штык зуава был короче шпаги, имевшей в длину девяносто сантиметров. И капрал наверняка получил бы удар прямо в грудь, но сам дьявол не был таким увертливым и ловким фехтовальщиком, как бравый француз. Шпага[60] или сабля, рапира или клинок — вид оружия не имел значения. Заметив приближавшееся острие, Франкур молниеносно отпрыгнул в сторону и отвесил шутовской поклон. — Промазал! Попробуй еще! Давай! Сохраняя хладнокровие, черный плащ под прикрытием друзей продвинулся на два шага. Заговорщики хотели броситься на француза, но главарь остановил их: — Этот человек принадлежит мне и только от меня примет смерть! — Посмотрим, — ответил Франкур, так звонко прищелкнув каблуками, что звук, как пистолетный выстрел, потряс своды. Шесть темных силуэтов подняли свечи повыше, чтобы осветить пространство для дуэлянтов. Главарь предпринял новую атаку. Нелегко драться широким, тяжелым и коротким клинковым штыком с противником, вооруженным легкой и длинной шпагой. Но выбора не было. Зуав быстро и грациозно отразил нападение. — Проклятье, — прохрипел главный призрак по-немецки, удивленный неожиданной силой и ловкостью противника. Он был умелым фехтовальщиком, но француз, несмотря на молодость, не уступал ему. Зуава, казалось, не смущало, что он один против семерых. Солдат сражался отважно, изумляя заговорщиков выдержкой и мастерством. — Эй, привидение в балахоне, давай! — c усмешкой произнес смельчак. — Мне хотелось бы видеть твое лицо. Будь у меня кривая сабля, я содрал бы эту маску. Один… два… три… Что? Меня хотят прикончить ударом ниже пояса? Каналья! В этот момент противник сделал выпад, но Франкур быстро повернулся вполоборота, и шпага черного капюшона, врезавшись в стену, разлетелась на куски. Капрал молниеносно нанес главарю сокрушительный удар в грудь. — Наконец-то я получу твою шкуру! Зуав наносил удары один за другим, но несмотря на то, что заговорщик уже был весь исколот, он по-прежнему оставался на ногах. — Можно подумать, что этот человек из дерева! — пробормотал француз. На какое-то мгновение рука капрала ослабла, и клинок выскользнул из его рук. Молодой человек остался без оружия. — Кинжалы! — потребовал главарь. Приняв боксерскую стойку, Франкур приготовился к рукопашному бою. Оружие валялось всего в пяти-шести шагах, если бы он мог подобрать его! Но стоит только приблизиться, как все семеро накинутся на него и заколют ножами, зловеще поблескивающими в полумраке. Круг сужался. Сейчас кто-нибудь вонзит кинжал, и все кончится. Вдруг сильный взрыв потряс стены подземелья. За ним последовал второй, третий… Обеспокоенный главарь произнес несколько слов по-немецки, и заговорщики мгновенно задули свечи. Все стихло, и молодому человеку, оказавшемуся в полной темноте, оставалось гадать, спасло ли его Провидение, или он все же получит смертельный удар.
ГЛАВА 5
Старый знакомый. — Тревога. — В разведку. — Старина Перрон и двое неизвестных. — Парадный марш зуавов перед королем. — Кофе Виктора-Эммануила. — Чтобы взять пленного. — Загадочный зов. — Ужасная борьба. — Смертельный удар. — Все взорвалось.В лагере зуавов только что прошла перекличка. Капитана, командира второй роты, увезли с высокой температурой из расположения полка. Командование принял молодой поручик лет двадцати шести — двадцати семи. Высокий, голубоглазый, с красиво очерченным носом, светлой бородой, он великолепно выглядел в форме африканских офицеров — красные штаны и черная туника[61], складками спадающая с широких плеч. Могучую грудь украшали орден Почетного легиона, боевая медаль и медаль за битву в Крыму. Зуавы любили своего нового командира и гордились им. В лагере повсюду царило оживление. Солдаты, расположившись возле сумок, пили кофе. Молодой командир подошел к группе из четырех человек. Зуавы тотчас вскочили, поднеся правую руку ко лбу, а левую положив на эфес шпаги в знак приветствия. — Обозный! — обратился командир к одному из стоящих. — Слушаю, господин поручик! — Так ты говоришь, Франкур исчез? — Да, господин поручик. Не знаю, что и думать… — Но я видел его вчера вечером и говорил с ним. — Он был здесь, его вещи лежат рядом с моими. Но утром, когда нас разбудили, обнаружилось, что капрала нет на месте. Подошел сержант-горнист и отдал честь офицеру. — Питух, ты пришел вовремя. Франкур исчез! Кебир хотел видеть его, и немедленно… Я очень обеспокоен! — Я тоже, поручик! Ведь он — мой друг. Если разрешишь, я поищу его. Капрал когда-то спас мне жизнь… — Перед атакой! Да ты рехнулся! Мы можем выступить с минуты на минуту. — Однажды в Крыму, когда ты был простым зу-зу[62], Жаном Оторвой, мы пошли на это. Мы плевали на все и в том числе на дисциплину. Красивого офицера звали Жан Бургей. Прозвище Оторва укрепилось за ним, когда Канробер производил его в сержанты. Поручиком Бургей стал после того, как установил флаг на Малаховом кургане. Легендарный зуав, герой многих любовных приключений, женился на княжне, а свидетелями на его свадьбе были офицеры — адъютанты маршалов Франции. Однако поручик оставался простым и добрым товарищем и с удовольствием рассказывал о своих подвигах. В полку его любили чуть ли не так же, как императора в армии. — Там, в Севастополе, — ответил он Питуху, — мы не боялись, что полк покажет нам хвост… В это время прибыл офицер в голубой униформе приближенного к императорскому двору. Не слезая с коня, порученец быстро сказал несколько слов полковнику и ускакал обратно. Тотчас же заиграл горн. — Скорее на место! — крикнул Питух и помчался прочь. — Значит, судьба такая… — сказал ему вслед поручик и положил руку на плечо Перрону. — Что ж, старина, возьми мешок и карабин Франкура и отнеси в повозку. Перрону было около сорока лет. Ему нравилось, когда к нему обращались на «ты» и называли «стреляным воробьем», особенно когда это делал Оторва. Исчезновение капрала повергло Обозного в смятение. Кто поддержит его в трудную минуту? Кто будет заботиться об отделении? Толстяк прилип к Перрону. А тот уже командовал: — Взвод, шагом марш! Перрон отдал сумку капрала Обозному, а карабин — Раймону. И трое друзей отправились искать повозку. К поручику подбежал аджюдан-мажор[63]. — Бургей, вы идете на Сан-Пьетро в боковом охранении, затем — к каналу и выхо́дите на дорогу к Росбио, рядом с белыми строениями… Разведку надо провести особенно тщательно. — Слушаюсь, господин капитан. — Армия выступает с фланга, чтобы захватить противника справа, тогда как нас ждут между Морторой и Виджевано. Поэтому сведения, которые вы добудете, имеют огромное значение. — Значит, господин капитан, главная цель наших войск — дорога между Новаро и Тичино? — Именно! — А африканские стрелки́? — Они поступают в ваше распоряжение и будут помогать обеспечивать связь с полком. Будьте осторожны, в бой не вступайте. Если наткнетесь на противника, уходите. Понятно? — Да, господин капитан. — Желаю удачи! — Спасибо, господин капитан. Перрон заметил двух зуавов, неторопливо удалявшихся куда-то в тыл. По всему было видно, что они не собираются принимать участие в общем построении.
Полк шел бодрым шагом по берегу Сезии. Из-под ритмично топающих по дороге солдатских ботинок поднимались столбы пыли. Вскоре густое серое облако окутало французов: только штыки и стволы ружей поблескивали на солнце, да мелькали красные штаны. Зуавы прибыли в Бридду, где располагался Генеральный штаб короля Пьемонта. Итальянская армия готовилась к выступлению. Монарх уже заканчивал завтрак, когда перед штабом появились первые ряды французских пехотинцев. Увидев королевский штандарт, они гаркнули во все горло: — Да здравствует король! Да здравствует капрал Эммануил! Не дожидаясь тамбурмажора[64], Питух приложил к губам горн и заиграл. Как раскаты грома, грянули приветствия, теперь подхваченные всеми: «Да здравствует король!.. Да здравствует Эммануил! Да здравствует капрал!» Король отставил украшенную фамильным гербом большую серебряную чашку с ароматным мокко[65], промокнул губы салфеткой, пригладил бороду и, широко улыбаясь, в сопровождении одного лишь адъютанта вышел навстречу зуавам. Виктор-Эммануил всегда ел в одиночестве, офицер явился только для того, чтобы выслушать приказ. — Позвать караул! — распорядился монарх. Прибежали гвардейцы и быстро выстроились в почетную шеренгу. Виктор-Эммануил вытащил из ножен саблю и салютовал проходившим мимо французам. — Да здравствует Эммануил! Да здравствует король-капрал! — неслось от ряда к ряду по нескончаемой колонне шагавших строем солдат. Барабанная дробь была уже еле слышна, а монарх все стоял и улыбался, глядя вслед уходящим воинам, навсегда покорившим его своей храбростью и сердечностью. Столовая на время опустела. Офицеры, служащие, дневальные, ординарцы — все покинули дом, чтобы проводить зуавов. Вдруг в комнату бесшумно вошли двое «шакалов». На первый взгляд они ничем не отличались от бравых африканцев: форма сидела безупречно, не было ни единой лишней детали. Но что-то в их облике настораживало. Может быть, отсутствие некоторой небрежности в одежде и непринужденности в поведении? Да и лица не покрывал южный загар, которым так гордились зуавы, а в движениях не чувствовалось военной выправки. Но среди всеобщего ликования на это никто не обратил внимания. Незнакомцы действовали быстро. Один с карабином в руке встал у двери, другой подошел к столу и, вытащив из кармана маленький зеленый флакон, вылил несколько капель в чашку с кофе. По комнате распространился едва уловимый запах горького миндаля[66]. Вскоре он улетучился. Виктор-Эммануил вряд ли что-либо заметит, когда вернется. Не говоря ни слова зуавы быстро вышли. Форма служила им прекрасным пропуском. Со стороны можно было подумать, что они спешат догнать своих товарищей, от которых отстали. В то время как полк проходил перед королем парадным маршем, рота поручика Бургея быстро миновала несколько сот метров, отделявших лагерь от фермы, и остановилась недалеко от построек. Вдруг раздался выстрел. Пуля просвистела над ухом командира. — Ложись! — тут же скомандовал Жан. Зуавы залегли в высокой траве, африканские стрелки, спешившись, укрылись за виноградниками и фруктовыми деревьями. Последовали новые выстрелы, скорее громкие, чем опасные. «Что бы это могло значить?» — подумал Бургей. Он подал сигнал: два коротких свистка, один длинный. Тотчас из-за высоких колосьев появился сержант. — Прибыл по вашему приказанию! — Хорошо. Возьми восемь человек. Обойдите ферму справа и выясните, что там происходит. Но — ни выстрелов, ни криков… И чтобы никто вас не видел. Постарайтесь взять кого-нибудь в плен. — Есть, господин поручик. Унтер-офицер скрылся во ржи. На ферме продолжали стрелять. Прошло несколько минут. Зуавы, прекрасно зная, что Оторва не упустит случая ввязаться в драку, спокойно ждали. Отряд сержанта, никем не замеченный, добрался до молодых вязов с густой кроной и удобными для лазания стволами. Командир осторожно взобрался на вершину одного из деревьев и раздвинул ветви. Во дворе находилось семь или восемь австрийских солдат, которые беспрестанно палили из ружей без видимой причины. — Что делают здесь белые мундиры? — прошептал сержант. Появился человек в костюме тирольского стрелка с дымящимся факелом в руке. Обойдя здание, незнакомец громко отдал какое-то приказание по-немецки. Тотчас солдаты бросились к люку, очевидно ведущему в подвал либо в колодец. Один за другим белые мундиры исчезали в дыре. Заинтригованному сержанту это показалось странным. Вдруг он вспомнил, что поручик просил захватить пленного. Зуав перевел взгляд с опустевшего двора на канал, омывающий стены фермы. На воде покачивались две барки: одна довольно большая, способная вместить десять человек, другая совсем маленькая, похожая на каяк[67]. Вдруг в каменной стене у самого берега открылся потайной лаз. Из него один за другим стали выпрыгивать австрийцы и направляться к лодкам. Сержант мигом оказался на земле. — Спрячьтесь за насыпью у канала, — приказал он своим подчиненным. — Когда я крикну «ко мне» — бегите! Пока пехотинец пробирался к каналу, австрийцы успели сесть в лодку и отплыть на значительное расстояние. На берегу оставался один тиролец. Вдруг сержанту показалось, что из подземелья доносятся крики. Молодой офицер прислушался. Раздался знакомый каждому «шакалу» свист, который означал, что зуав попал в беду. «Там кто-то из наших!» — подумал сержант, однако времени на размышления не оставалось — тиролец уже сел в каяк. Каменная дверь в стене с тяжелым скрипом вернулась на место, и пехотинец больше не слышал ни звука. Какое-то мгновение он еще колебался, но незнакомец взялся за весла, еще секунда — и он уйдет. Не раздумывая, сержант прыгнул в качавшийся на волнах ялик[68], который от сильного толчка перевернулся. Зуав и тиролец оказались в воде. Схватив своего противника за рукав, сержант крикнул: — Вы мой пленник! Отряд, ко мне! Тиролец был очень силен и яростно сопротивлялся. Борьба длилась недолго. Когда пехотинцы прибежали, на воде качалось лишь бездыханное тело сержанта. Вытащив труп, они обнаружили, что грудь несчастного распорота от сердца до подмышки. Вдруг неслыханной силы взрыв обрушил на головы зуавов град обломков. В мгновение ока от трагического и загадочного дома остались лишь дымящиеся головешки.
ГЛАВА 6
Выполняя поручение. — Чтобы выпить глоток. — Похвала подействовала. — Один стаканчик за два су. — В столовой короля. — Слишком сладкое вино. — Королевский кофе. — Сражен напитком наповал. — Виктор-Эммануил избежал смерти. — Обозный потерял товарища, но приобрел батон колбасы.Перрону, Раймону и Обозному порядком надоело таскать вещи без вести пропавшего товарища. Потеряв надежду встретить повозку, они не без сожаления оставили сумку своего командира на дороге и поспешили вслед за ротой. Бойцы совершают геройские поступки не каждый день. Бывают моменты, когда солдат чувствует себя расслабленным, вялым и размякшим, как тряпка. Именно это состояние и испытывали трое друзей, шагая по пыльной дороге под палящими лучами солнца. Ах, если бы только восстановить потраченную накануне в сражении энергию с помощью нескольких стаканчиков живительного напитка! Зуавы часто страдали от жажды и всегда были рады случаю промочить глотку. И он не замедлил представиться: повозка матушки Башу с искусительными напитками уже громыхала по дороге. — Не пропустить ли нам по стаканчику, — воскликнул Перрон, и нос его сморщился в довольной гримасе, как у кота, почуявшего молоко. Раймон, бледное лицо которого говорило о склонности к крепким напиткам, кашлянул в бороду: — Кхе-кхе… Не откажусь… Но, похлопав по карману, печально добавил: — У меня только дуро![69] Перрон, в свою очередь, тоже проверил наличность. — Кхе-кхе… У меня, как у Раймона, — Саха́ра в гло́тке, а в кошельке — ни сольдо…[70] Обозный не проронил ни звука. Может быть, он стал богачом? Удивленный Перрон спросил: — Эй, Обозный, ты случайно не хочешь промочить горло? Толстяк пробормотал что-то невразумительное. Интуиция[71] подсказывала друзьям, что в карманах у жителя провинции Бос имелось несколько су. А в душе бывшего крестьянина шла страшная борьба между врожденной бережливостью и нежеланием показаться скаредным. Хитрец Перрон понял, в чем дело, и решил пойти окольным путем. Старый солдат притворился страшно огорченным и с видом человека, понесшего большую потерю, произнес: — Жаль все же, что мой кошелек совершенно пуст. Он плоский, как подошва. А мне так хотелось спрыснуть твою феску, Обозный! — Мою феску? — удивился юноша. — Ты что, рехнулся? — Говорю, что думаю, старина, и ничего более… — Не понимаю… — А ты следи внимательно за ходом моих мыслей. Что делает человека зуавом? — Не могу знать. — Феска. — Как это так? — Только зуав может носить феску на своей голове. Этот головной убор Провидение создало исключительно для «шакала». — Что ты говоришь? — Внимание, новобранец! До вчерашнего дня твоя феска возвышалась на голове, как ночной колпак, и позорила полк. — Что правда, то правда. — Но вчера ты побывал под огнем, понюхал пороху… Ты дрался, как истинный зу-зу… И вот результат — феска стала лучше держаться у тебя на ушах. Дух фески проник в твое тело и обратил тебя в настоящего зуава, — продолжал плести тонкую паутину лести старый обманщик. Он ускорил шаг и, поравнявшись с повозкой, спросил: — Я правильно говорю, матушка Башу? — Конечно, мой дорогой Перрон. — И я также буду прав, если скажу, что зуав Обозный заплатит за каплю, которая не даст старикам умереть от жажды. Жадность в душе крестьянина отступила. Леон Сиго был счастлив. Он чувствовал себя настоящим героем и не думал более сопротивляться. С легкостью отстегнув кошелек, юноша извлек из него заветную монету в двадцать су, которую уже несколько недель хранил между кожаными прокладками, и с достоинством протянул маркитантке: — Обслужите нас, матушка Башу! В те героические времена огненная вода стоила два су за маленький стаканчик. Маркитантка трижды наполняла стаканчики, которые солдаты выпивали до капли. — Три раза по шесть — будет восемнадцать… Осталось еще два су. Добавляю на второй стаканчик от себя, — сказала добрая женщина. Благодарные зуавы выпили за здоровье матушки Башу и не без сожаления расстались с повозкой и ее хозяйкой. Теперь мир казался прекрасным, а настроение заметно улучшилось. Вдалеке из-за поворота показалась головная колонна полка, направлявшегося в Бридду. Желая сократить путь, путники пошли наперерез. Вскоре зуавы услышали барабанный бой, звуки труб и приветствия, а потом увидели короля, отдававшего воинам честь. — Какая удача! — мгновенно сообразил Перрон. — Может, капрал Эммануил угостит нас парой глоточков? И хитрец выразительно посмотрел на товарищей. Те только облизнули сухие губы. — Смотрите в оба и следуйте за мной! Перрон осторожно добрался до задворок Генерального штаба и вдруг увидел двух зуавов, бежавших в направлении, противоположном тому, куда ушел полк. — Вот те на! Смотрите-ка, те двое, кажется, опередили нас. Будем надеяться, что они оставили нам что-нибудь… Перрон служил не первый месяц и знал, по крайней мере в лицо, всех солдат своего полка. Те двое были ему совершенно незнакомы. — Откуда их черт принес? — пробормотал он. А Раймон добавил: — И физиономии какие-то бледные, а одеты во все новое, должно быть, из запаса… — Или из штаба, секретари какого-нибудь начальства. — Да, да, писаки… — Хорошо, кабы они не все съели и не все выпили. — Не бойся, у короля найдется, чем угостить доблестных зуавов. Вперед! Водка уже ударила солдатам в голову, а пьяному — море по колено. Все трое беспрепятственно вошли в столовую. Обозный сразу углядел огромный батон болонской[72] колбасы, схватил его и, вдохнув запах, произнес: — Черт возьми, пахнет неплохо! Ее хорошо есть с сухими хлебцами! Я беру… Удачный налет! Bouno! Юноша действительно становился настоящим зуавом. Насадив батон на кончик штыка и убедившись, что он держится крепко, босеронец перешел к напиткам. Его более расторопные друзья уже изучали содержимое бутылок. Раймон заинтересовался наполовину пустой флягой с асти[73]. Поднеся ее к губам, он сделал большой глоток, прополоскал горло и сплюнул: — Фу!.. Сладкое! Никогда бы не подумал, что такой матерый волк, как капрал Эммануил, пьет сироп! Перрон завладел бутылкой с белой этикеткой. — «Киршвассер»[74], — прочитал он название, написанное мелкими буквами. — Наверное, латинское или греческое. Но цвет — не очень… — Да, похоже на настой из трав. — Может быть, минеральная вода? — Дьявол, достаточно одного взгляда, чтобы вызвать отвращение… Тут Перрон заметил большую, полную до краев серебряную чашку и, понюхав, сказал: — Королевский напиток! Настоящий мокко. И подают на серебре. Надо попробовать! — Ну ты, гурман![75] — Это очень редкая вещь — значит, для меня! — Оставь мне глоток, я не брезгую ни тобой, ни Эммануилом. На старости лет, когда мы станем ветеранами наполеоновской гвардии, будем рассказывать, что пили из кружки короля. — Мне кажется, я слышу шаги, — сказал Обозный. — Да, правда, сюда идут! Перрон, боясь, что ему помешают, залпом выпил половину кружки. И тут случилось страшное: глаза солдата расширились и стали неподвижными, тело конвульсивно дернулось. Он хотел крикнуть, но дыхание перехватило; жуткая гримаса исказила лицо. Чашка выскользнула из сведенных судорогой пальцев, и Перрон, один из самых могучих и сильных зуавов в полку, рухнул как подкошенный. Бледный как полотно Раймон бросился к товарищу. — Перрон, бедный Перрон, что с тобой? Бравый парень, как ты, не может так просто умереть… — причитал он. — Господи, это яд! Кофе короля отравлен! Парадный марш полка закончился. Виктор-Эммануил вложил саблю в ножны, отпустил охрану и направился в столовую. Адъютант открыл перед монархом дверь, и оба услышали крики. Король, вступив в комнату, удивленно произнес: — Что здесь происходит? На лицах зуавов застыли ужас и растерянность. От хмеля не осталось и следа. Потрясенный Раймон не мог вымолвить ни слова. Все же привычка к железной дисциплине одержала верх над чувствами. Справившись с собой, он шпагой отсалютовал монарху, потом вытянулся по стойке «смирно» и замер в ожидании. Обозный с некоторым опозданием старался как можно точнее повторить движения друга, но ему это удавалось плохо. Насаженный на штык батон болонской колбасы, весом в пять или шесть ливров[76], грозил вывалиться из рук вместе с оружием. Несчастный воришка, потеряв от страха голову, думал только об одном: «Я пропал, я украл… теперь меня расстреляют…» — Что вы здесь делаете? — спросил Виктор-Эммануил. Раймон понял, что отвечать придется ему. С трудом подбирая слова, он выдавил: — Извините, мой король! Мы выполняли поручение… я… Перрон и Обозный. Нам очень захотелось пить… Вы наш капрал и должны понять… — Но что произошло? Заканчивай! Тот зуав на полу, что с ним? Он смертельно пьян? — Это мой товарищ Перрон из отделения капрала: Франкура, того, что спас вашего подданного… за что вы его собственноручно наградили… — Ладно, ладно! Но что с ним? — Он мертв! — Не может быть! — Выпил ваш кофе и упал замертво. — Значит, он был болен… Кровоизлияние! — Нет, нет! Сначала Перрон выпил королевскую водку, а это крепкий напиток… Все было в порядке… Потом отхлебнул из вашей чашки и упал замертво. В кофе — яд, я уверен. Вас хотели отравить, ваше величество. — Но кто?.. Ты подозреваешь кого-нибудь? — Когда мы шли к вам, то видели, как двое неизвестных, одетые в форму зуавов, выходили отсюда. Я еще сказал, что они не похожи на настоящих «шакалов». Ты помнишь, Обозный? — Да, господин король! И они бросились бежать, едва заметили нас. Виктор-Эммануил задумался, а Раймон продолжал: — А что касается нас, мы честные солдаты… Хотели только глотнуть чуть-чуть, проходя мимо. Разве это преступление? А вот ведь чем обернулось… Один бокал за ваше здоровье стоил Перрону жизни. Король Пьемонта понял, что солдат сказал правду. Несмотря на природную смелость, монарх вздрогнул, подумав о беспощадном враге, чья ненависть преследовала его повсюду. — Они, все время они… — прошептал Виктор-Эммануил. — Узнаю́ их подлую манеру. Но ни смертельный яд, ни острые кинжалы, ни мрачные ловушки не остановят порыв народа, который скоро разорвет вековые оковы. Время пришло! Я буду жить, а Италия будет свободна! — Вы храбрые ребята, — сказал король, обращаясь к солдатам. — Идите в свой полк. Только дайте честное слово, что никому не расскажете об этом печальном событии. Я сам все объясню командирам. Вашего товарища похоронят с почестями, и я никогда не забуду, что обязан ему жизнью.
ГЛАВА 7
В темноте, в воде, в грязи. — Напрасные надежды. — Немного света, но снова мрак. — Конец ли это? — На солнцепеке. — Лодка и лодочница. — Прекрасная итальянка. — Кое-что о крестнике короля. — «Уходите!» — Враг. — Франкур узнал голос незнакомца.Капрал был заперт в подземелье. Он не знал, сколько мучительных часов провел в кромешной тьме. Время от времени он кричал, звал на помощь, проклинал все на свете. Наконец, поняв, что его никто не слышит, уставший и разбитый, заснул прямо на каменном полу. Но сон не принес облегчения. Когда узник проснулся, кошмар продолжался наяву. Зуав невыносимо страдал от жажды и голода, но еще больше от темноты, вернее от галлюцинаций, порожденных ею. Отважному капралу чудилось, будто он проваливается в таинственный мир, полный призраков. Ему стало страшно. Твердый духом солдат, привыкший к тяготам и лишениям военной службы, заплакал, как ребенок. Не веривший в Бога и смеявшийся над дьяволом, он вспомнил слова старой молитвы, которые вдруг сами пришли на ум. Временами узнику казалось, что он снова присутствует на заседании призраков — людей, говорящих на французском языке с иностранным акцентом и прячущих свои лица под капюшонами и масками. Заговорщики хотели убить императора и короля. О! Как необходимо добраться до Виктора-Эммануила, чтобы раскрыть ужасный заговор: «Будьте осторожны, ваше величество, вас собираются убить!» Но ему никогда не вылезти отсюда. Заговорщики прекрасно знали это, иначе не оставили бы ему жизнь. Они обрекли пленника на мучительную смерть от голода и жажды. Молодой человек вновь погрузился в тяжелый сон. Его разбудили глухие звуки. Это ружейные выстрелы! Там, наверху, сражаются! Совсем рядом! Несчастный солдат набрал в легкие побольше воздуха и крикнул изо всех сил: — Сюда! На помощь! Это я, Франкур… Зуавы, ко мне! Он свистнул. Этот свист знали все «шакалы». Он означал, что зуав попал в беду. Но все было напрасно. Капрал кричал до хрипоты, пока не смолк грохот. Вдруг Франкур заметил луч света, пробивавшийся сверху. Дневной свет, очень слабый, едва освещал пространство. Однако его вполне хватило, чтобы француз увидел свой клинковый штык, оброненный во время драки с главарем заговорщиков. У молодого человека появилась надежда. Забыв об усталости, он устремился на свет. — Эй, «шакалы»! Ко мне на помощь! — закричал он, перепрыгивая через камни. Но вдруг свет исчез, вновь наступила тьма, еще более непроглядная, чем прежде. Несчастный солдат остановился, не зная, куда идти. — Вот напасть… Глухой мощный взрыв не дал ему договорить. Франкуру показалось, что мир рушится. Своды подземелья содрогнулись, на зуава посыпались щебень и штукатурка. Думая, что умирает, молодой человек потерял сознание. Однако конец еще не наступил. Отважному солдату не суждено было погибнуть. Свежий воздух привел его в чувство. Придя в себя, наш герой увидел, что лежит посреди небольшой лужи. Он с жадностью припал к воде. Затхлая и грязная, она показалась Франкуру божественным напитком. Вдруг он услышал журчание. Вероятно, взрывом повредило фундамент, и теперь вода из канала сочилась через образовавшиеся трещины. Капрал пошел на звук. Сильная струя била из большого отверстия в стене. Он тут же сообразил, что может расширить отверстие и через него проникнуть в канал, а там вплавь добраться до берега. С яростным воодушевлением Франкур принялся разрывать скользкую рыхлую почву. Влажная глина соскабливалась легко, как масло. Неожиданно свод рухнул. Масса песка, глины и воды сбила беднягу с ног, грязный поток понес в неизвестном направлении. Некоторое время капралу удавалось держаться на поверхности, но камни, летевшие сверху, оглушили его. Теряя сознание, он успел подумать: «На этот раз точно конец», — и скрылся в водовороте. Сколько ложных смертей пережил храбрый зуав! Сколько раз прощался с жизнью и вновь обретал ее! Вот и сейчас, почувствовав на лице сильный жар, молодой человек приоткрыл веки и с удивлением обнаружил, что лежит на солнцепеке. Он вдохнул поглубже, протер глаза, ущипнул себя за щеку. — Кажется, я жив… Чувствую поцелуй солнца, которое и не надеялся больше увидеть. Франкур попытался перевернуться со спины на бок, но движение болью отозвалось в теле. В ту же минуту до его слуха донесся скрип уключин и плеск весел. Он понял, что находится в лодке. Высокий девичий голос потряс зуава до глубины души своей мелодичностью, нежностью и мягкостью. — Господин солдат! Как я рада, что вы живы… Франкур, сделав неимоверное усилие, приподнял голову. На лавке, крепко сжав маленькими ручками весла, сидела очаровательная девушка. Она была скромно одета, но молодому человеку показалась прекраснейшим созданием во всей Италии. Великолепные черные волосы, сколотые коралловой[77] булавкой, выбивались из-под соломенной шляпы, огромные голубые глаза смотрели чуть лукаво. — Синьорина[78], как мне благодарить вас? — произнес молодой человек. — Вы извлекли меня из могилы, и я снова вижу солнце… Губы цвета спелого граната приоткрылись в улыбке, обнажив ряд белоснежных зубов. — Я счастлива, что оказалась рядом, когда вас вынесло бурлящим потоком. Так, значит, вы были в подземелье? — Да! Вы знаете, кто там был? — Я слышала… О них говорят по всей стране. Барка причалила и остановилась. Юная красавица сложила весла и, спрыгнув на берег, сказала: — Приехали! Вы сможете дойти до дома? Здесь совсем рядом… Девушка протянула солдату обе руки. Франкур, собравшись с силами, с трудом поднялся на ноги. — Вот и хорошо. Обопритесь на меня. Не бойтесь, я сильная! — Но я такой грязный… — Ничего. Держитесь крепче! Не прошли они и пятидесяти шагов, как оказались около ветхой лачуги. Войдя внутрь, девушка представилась: — Меня зовут Беттина. — Франкур, капрал Третьего полка зуавов. Разрешите засвидетельствовать вам мое почтение… — Пожалуйста, садитесь вот сюда! — Мы у вас дома, синьорина? — недоверчиво спросил зуав. — Да, — неопределенно ответила девушка, — почему вы спрашиваете? — Не сочтите за нескромность, но вы такая красивая, благовоспитанная, дворец едва ли достойное жилище для вас. Девушка улыбнулась и, не теряя времени, принесла хлеб, сыр и кувшин с вином. — Я нашла вас без сознания, — вместо ответа произнесла она. — Сколько времени вы там пробыли? — Не знаю… Я сбился со счета. Какой сегодня день? — Третье июня. Франкур подскочил на месте. — Я пропал! Три дня отсутствия в военное время! Меня сочтут дезертиром. Мадемуазель Беттина, мне надо срочно уходить, нельзя терять ни минуты. Мне необходимо догнать полк. — Сначала обсохните и немного поешьте. Ведь вы еле держитесь на ногах. Зуав решил на время забыть неприятности и отдать должное еде. Он с аппетитом поглощал все, что приготовила его спасительница, запивая большими глотками вина. — Вы правы, синьорина! Разрешите один-два вопроса? — Спрашивайте! — Во-первых, где мы находимся? — Около Конфиенцы, на берегу малого канала Сан-Пьетро. — Далеко от фермы? — В полутора лье. — Это оттуда вы меня привезли на барке? — Совершенно верно. Или я должна была вас там оставить? — спросила она с шаловливой улыбкой, сводившей Франкура с ума. — И еще вопрос. — Задавайте! — Зачем вы пошли на ферму, которая находится прямо на линии фронта? Это же очень опасно! Должно быть, важная причина заставила вас отправиться туда. — Это не моя тайна. Франкур посмотрел девушке прямо в глаза. — Вам нужно было узнать что-нибудь? — Может быть. — О молодом человеке, его жене и ребенке? Беттина, побледнев, с мольбой посмотрела на зуава. — Значит, вы их видели? — Да, синьорина… — Живыми и здоровыми? — Увы, нет. Простите, если сообщил плохую новость. — Они ранены? Говорите! — Их убили. Ей досталась пуля в висок, ему — кинжал в сердце. — О, Святая Мадонна![79] — Что же касается ребенка… — Он тоже умер, не так ли? Несчастная семья… — Младенец жив! Девушка радостно вскрикнула, ее прекрасные голубые глаза наполнились слезами. — Вы уверены? Вы точно знаете? — с беспокойством спросила она. — Я сам лично вытащил ребенка с фермы, когда мы отбили ее у австрийцев. Беттина взяла руки Франкура в свои и нервно сжала их. — Вы спасли его. Да вознаградит вас Господь! Он сейчас в безопасности? — Как маленький король! Он находится среди трех тысяч зуавов, которые усыновили его и обожают, как родного. Так младенец вас интересует? — Да, да, очень! — Но почему? Вы знаете его родителей? Кто они? — Извините, но я не могу вам ответить. Пока это тайна, даже для вас, спасителя ребенка. — Вы причиняете мне ужасное огорчение, синьорина… Я обязан вам жизнью и сердце готов отдать за вас и тех, кого вы любите… — Я едва знакома с вами, но почему-то доверяю вам… Да, я очень нуждаюсь в отважном друге, но не могу принять вашу помощь. — Почему, синьорина? — Сегодня я не вправе это сказать. Да и вы не можете распоряжаться своей судьбой, вам надо догонять полк. Зуав опустил голову и тихо произнес: — Это правда. И все же необходимо, чтобы вы узнали, что станет с ребенком. Надо, чтобы он вернулся к своим родным, к вам, если хотите… В глазах девушки мелькнул страх. — Ко мне? Нет, только не сейчас! Это небезопасно и для малыша, и для меня… Там, где он в настоящий момент находится, среди ваших товарищей по оружию, ему ничто не угрожает. Позднее, когда закончится война и наша дорогая Италия будет свободна, а ненависть умрет вместе с нашими врагами, ребенок сможет вернуться к себе домой. — Скажите, по крайней мере, к кому обратиться и где вас искать? Меня вы знаете как найти: Франкур, Третий полк зуавов. — Милан, дворец Амальфи. Ска́жете: «Я хочу поговорить с Беттиной». — Отлично! Правда, Милан пока в руках австрийцев, но скоро мы выбьем их оттуда. Дело нескольких дней! — Свободный Милан! Об этом можно только мечтать! — Скоро это станет действительностью, синьорина. Между прочим, мы сражаемся не каждый день, бывают и часы досуга. Надеюсь, вы вспомните обо мне. Сердце мое принадлежит вам навеки! Юная красавица протянула на прощание руку и коротко ответила: — Принимаю! Снаружи послышались быстрые шаги. Беттина побледнела. — Случайная встреча может обернуться дружбой на всю жизнь. А теперь уходи́те! Быстрее! И сделайте вид, что не знаете меня. Это враги! — Но я хочу защитить вас! Несчастье тому, кто… — Ни слова больше! Я не боюсь! Уходите, наконец! Дверь открылась. На пороге появился молодой мужчина среднего роста с красивым надменным лицом. Он удивленно посмотрел на заляпанного грязью зуава, потом на сохранявшую удивительное спокойствие Беттину. Едва ответив на приветствие капрала, который глядел на него так, словно хотел запомнить на всю жизнь, незнакомец обратился к девушке: — Кто этот человек и что он здесь делает? Франкур чуть было не закричал от гнева. — Разве вы не видите? — ответила Беттина. — Это французский солдат, он болен, умирает от голода. Я только что встретила его и дала поесть. Могу я сделать что-нибудь для наших освободителей? — Хорошо… Но я пришел за вами. — Прошу меня извинить, — вежливо перебил капрал. — Синьорина, еще раз простите за неожиданное вторжение. Благодарю от всей души. Зуав поклонился, снова отдал честь незнакомцу и вышел, сжимая кулаки. «Дьявол! Провалиться мне на месте, — думал он, — если это не голос того негодяя, который хотел прикончить меня в подземелье».
ГЛАВА 8
Подвиги пехотинца на коне. — В поисках французской армии. — На границе. — Мост Сан-Мартино. — Бегство австрийцев. — Лихо скачущий конь и плохо взорванный мост. — Передислокация вражеских войск. — Битва при Турбиго. — Три будущих генерала. — Франкур и Мак-Магон.Франкур шел быстро. Он неплохо подкрепился и отдохнул, но был еще довольно слаб. Инстинктивно молодой человек чувствовал, что за ним следят. «Это он! — рассуждал зуав про себя. — Двух таких голосов не бывает! Должно быть, узнал меня, поэтому так пристально смотрел. Я один и почти безоружный, если не считать штыка. Без сомнения, он захочет прикончить меня. Что ж, поборемся. А хотелось бы остаться в живых, чтобы еще раз увидеть прекрасную мадемуазель Беттину!» Скрываясь за деревьями, зуав добрался до пшеничного поля, а затем, прячась в колосьях, пополз, пока не достиг виноградника. Там он позволил себе немного передохнуть. Было приблизительно восемь часов утра. По солнцу молодой человек определил направление. Армия, по его расчетам, должна была продвигаться на северо-запад. Отдохнув, Франкур почти восстановил свои силы. Твердый дух, закаленный в постоянной борьбе за выживание, давал молодому телу огромную жизненную энергию, помогавшую преодолевать любые трудности. Капрал осторожно выбрался из укрытия. Вокруг не было ничего подозрительного, грязная размытая дорога казалась пустынной. Она проходила через заросшие пастбища, заброшенные рисовые поля и виноградники. За два часа пути Франкур не встретил ни души. Он видел лишь одинокие строения, в которых не чувствовалось присутствия человека. Как только линия фронта передвинулась сюда, жители покинули эти места. Вскоре зуав увидел перевернутую повозку, а вокруг на земле — многочисленные вмятины. «Должно быть, армейский корпус проходил по этой дороге, — подумал он. — Это следы от пушек. Пойду по ним!» Колея привела к винограднику. У последнего куста он заметил подпорку. «Отличная трость, чтобы поддержать мое молодое тело», — решил отважный француз. Еще через несколько шагов ему попалось валявшееся на обочине печенье, вероятно выпавшее из солдатского мешка. Он подобрал его и положил в карман. Капрал продолжал путь через поля, мимо опустевших домов. Внезапно за невысокой изгородью из тутовых деревьев послышался стук копыт. — Лошадь! Неужели меня преследуют? Тревога оказалась напрасной. Статный рыжий жеребец без седла и пово́дьев жадно щипал листья люцерны. Увидев человека, он вздрогнул, фыркнул и ускакал прочь прежде, чем Франкур успел к нему приблизиться. — Отбился от эскадрона, как я от роты… — сочувственно произнес зуав. — Жаль, что я не успел вскочить ему на спину. Было бы здо́рово явиться в полк верхом на этаком красавце! Конь, добежав до рисового поля, провалился по брюхо в ил. Капрал рассмеялся и покачал головой. — Эх, четвероногий! Вот ты и попался, будешь стоять, пока я тебя не вытащу! Но для этого мне нужны поводья или, по крайней мере, несколько ивовых прутьев. В гуще древесной кроны Франкур отыскал два стебля толщиной с мизинец и ловко скрутил их в скользящий узел. — Прекрасные поводья! Прочные, как трос. Смогут выдержать и пушку. Затем взял ветку и, обломав с обеих сторон, прикрепил к прутьям. Получились удила. — Теперь можно седлать. Назовем коня Четвероногий. Животное с беспокойством наблюдало за человеком, который шел к нему, тихонько насвистывая. Подойдя, Франкур ласково погладил жеребца по стройной шее и быстро взнуздал. Не переставая насвистывать, он легко вскочил на спину животному. Конь, совершив бешеный рывок, попытался сбросить всадника. Капрал только рассмеялся. Жеребец то яростно вскидывал круп, то вставал на дыбы. Но Франкур словно сросся с могучим теломскакуна. Наконец Четвероногий перестал сопротивляться и уступил настойчивости седока. Теперь зуав сосредоточил усилия, чтобы заставить коня выбраться на твердую почву. Но жеребец упрямо пятился, словно не понимая, чего от него хотят. Франкур достал клинковый штык и, не вынимая из ножен, легонько уколол коня в бок, затем в другой. — Немного жестоко, но ты сам виноват. Пошел! Пошел! Измотанному борьбой скакуну такое обращение не понравилось, и он галопом рванул вперед. Конь мчался все быстрее и быстрее. Примерно через полчаса путь им преградила речка. Без колебаний Франкур направил лошадь к воде. Купание в реке освежило и взбодрило его. Выбравшись на отмель, наездник пришпорил Четвероногого, и тот, подчинившись воле седока, поскакал дальше. Их путь лежал через пшеничные и рисовые поля, виноградники, ирригационные каналы. Они оставили позади дорогу, протянувшуюся с севера на юг, затем параллельную ей железную дорогу и выехали к большому поселку. У крестьян Франкур спросил название поселения. — Vespolate!.. Stazione della strada ferrata[80]. Молодой человек прекрасно понимал итальянцев. Он выучился их языку, общаясь с мальтийцами[81] в Алжире. — Вы видели солдат? — Вчера тедески еще были здесь… Они пересекли границу. — А французы? — Нет. Зуав плохо представлял, где находится. По его мнению, части французской армии должны были быть в двух лье отсюда. Но, проскакав это расстояние, он с удивлением не обнаружил там никого. У местных жителей Франкур выяснил, что в двух километрах протекает большая река Тичино, естественная граница между Пьемонтом и Ломбардией. — Где австрийцы? — Ушли сегодня ночью. — А французы? — Мы видели всадников, одетых, как вы. — Слава Богу! Это, конечно, африканские стрелки́. — Только у них были сапоги и ружья, а лошади оседланы по-другому. — Я из пехоты! — грубо возразил капрал, решив, что над ним смеются. Но ломбардийские крестьяне даже не помышляли об этом, ведь перед ними был их освободитель. Время торопило. Зуав, залпом выпив стаканчик молодого кислого вина, предложенного жителями, собрался ехать к Тичино, чтобы пересечь его. — Даже не пытайтесь! — отговаривали его поселяне. — Вас унесет течением, как перышко! — А что же делать? — Поднимитесь немного на север, там будет мост Сан-Мартино, по которому проходит дорога на Милан… — Это далеко? — Всего одно лье. Только австрийцы его заминировали. Мы с минуты на минуту ждем, что он взорвется. — Спасибо, что предупредили. Постараюсь уцелеть! Капрал пустил коня рысью: необходимо было как можно скорее добраться до моста и предотвратить взрыв, даже рискуя жизнью. После встречи с прекрасной итальянкой молодой зуав готов был каждый день совершать подвиги. Он почему-то не сомневался, что это доставит ей удовольствие. Спустя двадцать минут Франкур увидел полосатый черно-желтый пограничный столб с двуглавым медным орлом, блестевшим на солнце. За ним начинался мост, въезд на который преграждала небольшая баррикада. Посередине моста возвышалась баррикада побольше, сложенная из туров, за которой суетились несколько солдат в белых мундирах. В безумном порыве зуав влетел на мост. С одним клинковым штыком в руке, на коне с самодельными поводьями отважный солдат мчался к баррикадам. — Вперед! Вперед! — кричал он, будто командовал многочисленным войском. Верхом на лихом коне капрал легко преодолел первую преграду. Раздались выстрелы, над головой засвистели пули. Конь несся во весь опор, подбадриваемый криками всадника: — Вперед! Да здравствует Франция! Да здравствует Италия! — Французы! Французы! Спасайся кто может! Единственным французом был Франкур, достойный преемник известных заводил кавалерийских атак — Лазаля, Кольбера, Монбрюна и Мюра[82]. На другом конце моста солдаты в униформе каштанового цвета выскочили из укрытий и бросились к привязанным невдалеке лошадям. «Это, вероятно, саперы вылезли из заминированных шахт, — догадался зуав. — Значит, мост вот-вот взорвется!» Солдаты в белых и каштановых мундирах, вскочив на лошадей, галопом помчались прочь, преследуемые Франкуром, который производил такой шум, что австрийцы, должно быть, решили, будто за ними гонится целый эскадрон. Вдруг молодой человек почувствовал, как задрожала земля. Раздался страшный взрыв. Зуав остановил коня. — А славно я нагнал на них страху! — рассмеялся он. — Только бы мост не был разрушен целиком. Капрал вернулся к мосту, над которым поднимались столбы пыли, и с удовлетворением отметил, что взрыв не вывел сооружение из строя. Осели два первых пролета, но настил по всей длине остался целым. Для проверки молодой человек проскакал до конца моста и вернулся обратно. «Наряд в двадцать человек приведет его в порядок за два часа», — решил Франкур. В этот момент вдали он увидел вспышки. Стреляли где-то на северо-западе. — Тысяча чертей, там сражаются, а я здесь наблюдаю за полетом майских жуков. Ну, чистокровный, пошел! По широкой долине Тичино проходили железная дорога и дорога на Милан через Мадженту[83]. Глубокая извилистая река местами разливалась, образуя множество болотистых участков, сплошь поросших камышом и осокой. Рисовые и хлебные поля, окаймленные фруктовыми деревьями и стройными тополями, чередовались с пастбищами и виноградниками. То тут, то там виднелись фермы с красными черепичными крышами. Рядом с дорогой протекал широкий канал Навиглио-Гранде, который спускался от Турбиго к Милану. По берегам утопали в яркой зелени деревни и поселки — Понто-Нуово, Буффалора, Монте-Ротундо, Бернате, Куджиони, а затем Мальваглио, откуда, похоже, и стреляли. Еще дальше находились Ребечетто и Турбиго. Франкур моментально оценил эти особенности ландшафта и понял, что лучше всего ехать вдоль канала, топким, болотистым берегом. Проскакав метров двести, он услышал свист пули над головой. Через триста метров выстрел повторился. Обернувшись, капрал заметил вдалеке за деревьями активное перемещение австрийских войск. Огромное пространство было занято людьми, техникой, лошадьми. «Да тут целая армия! — подумал юноша, вновь пришпоривая коня. — Эти сведения пригодятся командованию». У Буффалоры на капрала обрушился целый град пуль. — Царапин, кажется, нет! — присвистнул Франкур. Отдав честь невидимому вражескому отряду, он помчался дальше. Между Мальваглио и Ребечетто стреляли еще сильнее. — Здесь становится жарко! Но-о!.. Пошел! Разгоряченный жеребец мчался во весь опор, камни и грязь летели из-под копыт. Наконец сквозь дым Франкур увидел ровные ряды красных фесок. Это были французские войска. Пули продолжали свистеть над головой, но капрал, казалось, их не замечал. Вдруг конь споткнулся. — Эх, задело! Раненое животное жалобно заржало и попыталось укусить себя за бок, откуда сочилась кровь. Не теряя времени, Франкур направил коня к каналу, чтобы пробраться к своим. В воде молодой человек, как мог, помогал слабеющему жеребцу держаться на поверхности. Выбравшись на берег, всадник оказался в самой гуще сражения. Бешеная музыка перекрывала шум взрывов. Зуав услышал хорошо знакомый по Крыму марш:
Конец первой части



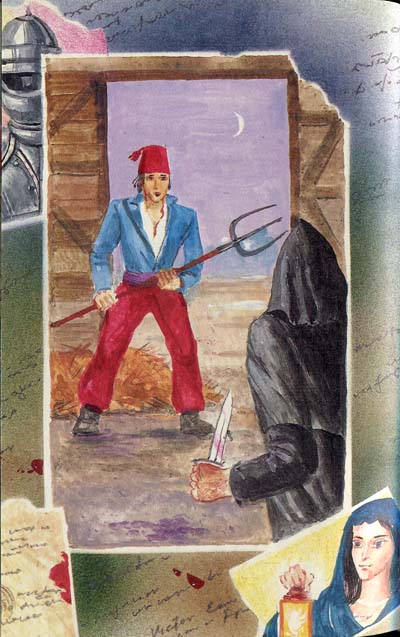



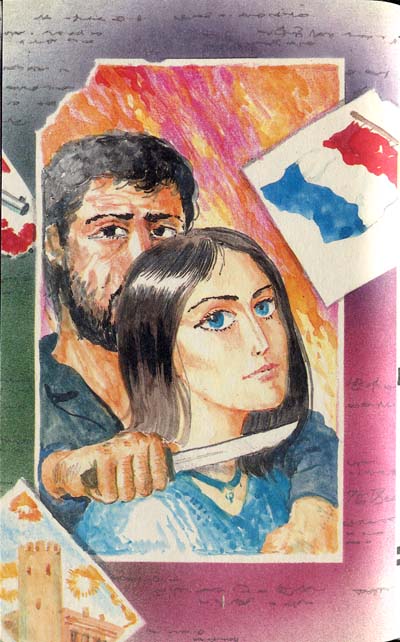
Часть вторая ФРАНКУР — КАПРАЛ ЗУАВОВ
ГЛАВА 1
Перед битвой. — Армия в цветах. — Первый пушечный выстрел. — Неравная борьба. — Десять тысяч гренадеров против тридцати тысяч австрийцев. — Стратегическая ошибка. — Заторы на дорогах. — Помощь не подоспела. — Критическое положение. — Героизм гвардейцев отряда сопровождения. — Эполет императора сбит пулей.В течение трех дней Наполеон III оставался в Новаре, ожидая появления противника. Император был убежден, что граф Джиулай стянет свои силы туда, где десять лет назад австрийцы нанесли армии Карла-Альберта сокрушительный удар, усугубивший и без того непомерно тяжелое положение несчастной Италии[86]. Главнокомандующий стянул войска в один кулак, чтобы отразить нападение австрийцев. Военные историки впоследствии упрекнут его за эту меру. К сожалению, они будут правы, ибо желание избежать стратегических просчетов породило еще более крупные тактические. Положение становилось напряженным. Инстинктивно император чувствовал приближение баталии. Однако противник не подавал признаков жизни. Считая дальнейшее ожидание бессмысленным, Наполеон III решил пойти на риск, перебросив войска к Милану. Он дал распоряжение Мак-Магону продолжить движение. Утром первого июня генерал должен был проследовать от Турбиго к Буффалоре, где, вероятнее всего, находились австрийцы. От разведки не поступало никаких сведений относительно местонахождения противника. Война велась вслепую. Казалось, французы и австрийцы состязались друг с другом в непредсказуемости. Пока Мак-Магон будет выполнять маневры, Наполеон со своим войском пересечет Тичино с его заболоченной долиной в районе Сан-Мартино по двум виадукам, через которые проходили железная дорога и дорога на Милан. Затем, захватив два моста через канал Навиглио-Гранде, император и Мак-Магон встретятся в Мадженте. На рассвете войска покидали Новару. Провожая освободителей, жители города украсили розами стены, двери и балконы домов. Женщины и дети бросали воинам цветы, букеты и венки, девушки посылали воздушные поцелуи, мужчины махали шляпами и воодушевленно кричали: — Виват[87] Франция! Виват Италия! Но вот прозвучали фанфары, послышалось бряцание стального оружия. — Император! Идущие на смерть приветствуют тебя[88]. Впереди гарцевал головной отряд. За ним в одиночестве шествовал Наполеон на великолепном гнедом скакуне Аяксе[89]. В то время императору исполнилось пятьдесят два года. Он с легкостью носил форму дивизионного генерала и прекрасно держался в седле. Его узнавали по продолговатому, с правильными чертами лицу, бесстрастному взгляду задумчивых серых глаз и пышным светлым усам. Видно было, что монарх слишком поглощен своими мыслями, чтобы его занимало происходящее. Временами он пробуждался от задумчивости. Гром оваций и град цветов возвращали его к действительности. Он поднимал украшенную белыми лентами шляпу и широким жестом приветствовал солдат и публику, но затем снова погружался в размышления. За Наполеоном III, блестя позолотой, галунами и медалями, следовали члены Генерального штаба. На некотором расстоянии от него ехали придворные офицеры в длинных голубых камзолах с серебряными аксельбантами[90] и в голубых же треуголках[91]. В арьергарде шествовал отряд сопровождения. Было десять часов утра. Переход через Тичино возглавили гренадеры гвардии под командованием генерала Рено де Сен-Жан-д’Анжели. Офицеры штаба прикрепили цветы к седлам, поводьям, туникам, держали в руках. Гренадеры украсили букетами стволы пушек, дорожные мешки и петлицы темных шинелей. Розы переплетались с подбородочными ремнями и витыми шнурами головных уборов. Настроение у всех было радостное, словно войско ожидала увеселительная прогулка. На горизонте показались войска, которые офицеры генштаба приняли за армейский корпус Мак-Магона. Армия прошла еще некоторое расстояние, прежде чем в авангарде заметили огненную батарею, вокруг которой хлопотало отделение белых мундиров. — Вот тебе и праздник! — сказал один из офицеров. Генерал поднялся на стременах и скомандовал: — Внимание, господа!.. Да уберите же, наконец, цветы! В тот же миг снарядом снесло голову одному из гренадеров. Шерстяная шапка, украшенная розами, отлетела метра на три. Тело на мгновение застыло в жуткой неподвижности в строю, среди солдат, открывших рты от изумления и ужаса, потом тяжело упало, заливая землю кровью. Гренадеры схватились за оружие. Офицеры подровняли шеренги. Под барабанный бой, звуки труб и огонь батарей приближалось многочисленное австрийское войско. Горделивая осанка и холодная решительность воинов внушали уважение; в храбрости и отваге они не уступали французам. Началось сражение. Наполеон III галопом мчался по полю. Его присутствие воодушевляло солдат. Гренадеры стояли насмерть, не уступая ни пяди земли противнику. Страшная битва на одном месте походила на дуэль, когда соперники не хотят ни на шаг сдвинуться со своих позиций. Мосты и виадуки были слишком узки, чтобы пропустить большое количество людей к месту сражения. Солдаты, не успевшие перебраться на другой берег, топтались на месте. Чтобы сократить путь, гренадеры прыгали прямо в заболоченную реку и с трудом выбирались оттуда. Лошади вязли в трясине, офицеры оставляли их и шли пешком. У гигантов-полководцев Модиу и Десме де л’Исль штанины ниже колен были покрыты таким слоем грязи, что те едва передвигались. Не обращая внимания на яростный огонь, офицеры сняли брюки и, заправив в сапоги белые кальсоны, зашагали во главе своих батальонов, которым с трудом удавалось держать строй. Часть гренадеров третьей роты направилась к железной дороге и наскочила на редут[92]. — Вперед! На приступ! Редут взяли, но потери были ужасающими. Французы преследовали отступавших до двух параллельных мостов — через Навиглио-Гранде и железнодорожного. В 1200 метрах левее находилась Буффалора. — Вперед! Вперед! Противник заминировал мосты, но внезапная атака гренадеров помешала произвести взрывы. Французы обезвредили взрывчатку и устремились на приступ Буффалоры. Гвардейцы продолжали отчаянно сражаться. Ряды их сильно поредели, а заторы, образовавшиеся у мостов, мешали подойти подкреплению. Дорога на подступах к мостам, насколько хватало взгляда, была запружена пушками, ящиками со снарядами, повозками с продовольствием. Бесконечная вереница солдат топталась на месте, в то время как на другом берегу шла жестокая бойня. Именно здесь во всей полноте проявилась ошибка императора. Собрав в одном месте дивизии, бригады и полки, главнокомандующий лишил армию возможности маневра на местности. Стояла летняя жара. Тяжеловооруженные, тепло одетые солдаты истекали потом. Полковник д’Альтон пришел доложить генералу обстановку и попросить подкрепление. Голова раскалывалась от боли, и офицер снял шерстяную шапочку и заправил ее под ленчик[93]. Мелочный и придирчивый генерал холодно посмотрел на подчиненного и сказал: — Вы одеты не по форме. Где ваш головной убор? Идите! Полковник подчинился. Исправив недостаток в одежде, он вернулся и отдал честь старшему по званию. Австрийские пушки палили беспрестанно. Иногда снаряды выбивали целые ряды французов. В ровных голубых квадратах императорской гвардии то и дело появлялись зияющие пространства. — Сомкнуть ряды! — раздавалась команда офицеров. Ряды тотчас смыкались, линии выравнивались, пустоты заполнялись. Безжизненные, разорванные снарядами тела оставались лежать на поле, умирающие вгрызались в землю, чтобы заглушить крики и боль. Прошел час. Вдруг слева послышались артиллерийские залпы. Это, должно быть, Мак-Магон! Наконец-то! Приход войска Мак-Магона означал бы конец страшной бойне и надежду на победу. Томительно текли долгие, тревожные минуты ожидания. Прошел еще час, но никто так и не появился. Положение становилось угрожающим. Наполеон понимал, что сейчас многое зависит от ясности его ума и умения владеть ситуацией. Он решил положиться на храбрость воинов. Речь уже шла не только о независимости Италии, но о будущем династии Бонапартов, о существовании самой Франции. Монарху сообщили, что австрийцы грозят окружить французское войско и отрезать путь к отступлению. Император побледнел. Со всех сторон просили подкрепления. Главнокомандующий по очереди ввел в бой 23-й, 90-й, 6-й полки стрелков и, наконец, зуавов гвардии. Резервы были исчерпаны, а просьбы о помощи продолжали поступать отовсюду. — Где же, в конце концов, Мак-Магон? — терялся в догадках Наполеон. — Пока нет новостей, сир. — А Канробер? Почему не подходит Канробер? — О маршале никаких сведений. — Но Ниель должен быть здесь? — О нем никто не слыхал. — А король? — Сир, мы полагаем, что он перешел Тичино в районе Турбиго… — Им всем давно пора находиться здесь! Австрийцы усилили наступательные действия и предприняли попытку захватить канал и мосты. Если бы им это удалось, армию Наполеона ждало бы сокрушительное поражение. Гренадеры почувствовали безысходность своего положения. Битва становилась невыносимой. Генерала Клера, возглавившего полки зуавов и гренадеров, убили, его адъютанта, капитана Тортеля, снарядом разорвало надвое. Генерал Вимпфен был тяжело ранен. Генерал Меллине попал под копыта коня, и тот затоптал его насмерть. Без командиров остались четыре батальона Первого гренадерского полка. В добавление ко всему, противник захватил пушку французов. Громкое «ура» пронеслось по австрийским войскам. Солдат наполеоновской гвардии охватила паника, роты, потерявшие половину состава, повернули назад. Угроза нависла над самим императором. В любую минуту его могли захватить в плен или убить. Свистели пули, сквозь просветы в клубах густого едкого дыма мелькали белые мундиры, слышались их победные крики. Необходимо было защитить императора. Наполеон прохаживался возле небольшого, с зелеными ставнями домика охранников моста, выкуривая одну сигарету за другой. В запасе оставались лишь два эскадрона гвардии сопровождения. Полковник, командир этих подразделений, привстав на стременах и подняв шпагу, громко скомандовал: — В атаку, вперед марш! С криком «Да здравствует император!» всадники галопом проскакали мимо монарха. Теперь Наполеон III остался без армии, в окружении охранников моста, которые, дрожа от страха, молили Святую Мадонну спасти их от гибели. Император с восхищением и жалостью наблюдал, как рубятся его гвардейцы. Вдруг он услышал пронзительный свист и ощутил удар в левое плечо. Пуля сорвала эполет, кусок ткани с золотыми шнурами отлетел метра на три. Попади свинец на несколько сантиметров ниже — главнокомандующего не было бы в живых. Наполеон спокойно вытащил из кармана костяной портсигар, достал сигарету и закурил. Обернувшись, он увидел в тридцати шагах за изгородью двух дерущихся: ловкий, как тигр, зуав атаковал гренадера, который тяжело оборонялся и постепенно отступал. Вдруг, проколотый насквозь, гренадер выпустил из рук оружие и упал навзничь. Зуав бросился на него, сорвал плащ, порылся в карманах, затем, оставив мертвеца, сделал несколько шагов к домику с зелеными ставнями. Потом, как бы передумав, резко развернулся и побежал прочь. Эта сцена не заняла и тридцати секунд. «Неужели один из солдат хотел убить меня? — подумал император. — Невозможно! А тот охранник, что промахнулся в коридоре Тюильри в прошлом году… Почему вспыхнула эта дуэль между двумя французами? Гренадер убит, зуав ушел…» Главнокомандующий машинально посмотрел на пробитую ставню. Пуля, проделав дырку в доске, упала на землю. Наполеон подобрал ее, еще теплую. Она была выпущена из тирольского карабина. В этот момент отряд сопровождения с победными криками «Да здравствует император!» возвращался с поля боя. Наполеоновской гвардии удалось потеснить белые мундиры и защитить монарха. Следом проскакали тройным галопом на запыленных и взмыленных лошадях офицеры Генерального штаба во главе с маршалом Канробером. Обеспокоенный, он приехал в сопровождении эскорта[94], оставив войско на загроможденных живой силой и техникой дорогах. — Как вы поздно, маршал! — с упреком произнес император. Канробер, который считал, что и так сделал невозможное, не без основания возразил: — Если бы ваше величество разрешили мне выехать сегодня утром, как я просил, то и я, и моя армия давно были бы здесь. Маршал отдал честь и ускакал в Понто-Веччио, который переходил из рук в руки уже пять раз. На Канробера, пытавшегося соединить остатки полков, батальонов и рот, напал полк австрийских гусар и порубил весь его эскорт. Самого командующего схватили за шиворот, но он, пришпорив коня, ускакал, оставив свой крымский мундир в руках гусар. Четыре офицера штаба оказались тяжело ранены, но избежали плена. Вражеские всадники, увлеченные атакой, очутились у канала. Их встретил оружейный огонь батальона 56-го полка, находившегося на противоположном берегу. Гусары повернули назад, но тотчас попали под обстрел пеших стрелков. Вспыхнул рукопашный бой. Лошади напарывались на штыки. Один из австрийских солдат в ожесточении направил на пушки карабин, забыв вытащить его из чехла. Однако положение французских войск оставалось критическим. В пять часов император удалился с поля боя. Отступление походило на бегство: императорский конь, сначала шедший рысью, перешел в галоп, вскоре и монарх, и весь генштаб скакали во весь опор. Они промчались мимо знамен зуавов гвардии. Шесть старых, убеленных сединами сержантов с медалями на груди выстроились в почетном карауле рядом со знаменосцем, державшим славный лоскут почерневшей, пробитой пулями ткани, и с удивлением наблюдали позорный отъезд императора. Их взгляды заставили покраснеть от стыда генерала Фроссара. С трудом сдерживая гнев, он догнал Наполеона и попросил перейти на шаг. А в это время колонна во главе с генералом Ниелем форсировала мост. Пробило пять часов тридцать минут. Дорога до Новары была сплошь покрыта трупами. Император казался растерянным. Он ощущал себя пешкой в игре обстоятельств. Если бы можно было исправить положение! На равнине, чуть севернее Буффалоры, прогремел пушечный залп. Может быть, это приближался Мак-Магон?
ГЛАВА 2
Другая баталия. — Дуэль на саблях. — Яростная битва. — Стрелки шли в бой, как на парад. — В Мадженте. — Смерть смельчака. — Появление капрала Франкура. — Подвиги зуава на коне. — Убийца императора. — Победа. — Маршал Франции и герцог Мадженты.Генерал Мак-Магон получил от императора приказ соединиться с ним в Мадженте, на дороге в Милан. Задача, и без того трудная, осложнялась выбором места встречи между двумя водными артериями. К тому же командир второго армейского корпуса не имел сведений о дислокации войск противника. Генеральный штаб еще не раз проявит свою несостоятельность на протяжении военной кампании. Но те, кто знал Мак-Магона, не сомневались, что приказ будет выполнен. Будучи прекрасным стратегом, генерал успешно избежал роковой ошибки императора — заторов на дорогах. Для этого он послал дивизию Эспинаса в Мадженту окружным путем. Миновав Кассино, Индерно и Маркалло, дивизия полным ходом двинулась к Мадженте. Но даже генерал не мог предвидеть, что столкновение произойдет так скоро. О противнике не было никаких вестей, и все надеялись, что соединение с армией Наполеона III пройдет без единого выстрела. Пока дивизия Эспинаса маневрировала между деревнями, солдаты Мак-Магона наслаждались передышкой. В шесть часов утра, не получив никаких распоряжений, они принялись за чистку, стирку и приготовление еды. В одно мгновение на берегах Тичино и Навиглио расположились любители рыбной ловли с самодельными удочками. В восемь часов из Генерального штаба был получен приказ о выступлении. Солдаты быстро запихали еду в рот, побросали вещи в мешки и, натянув еще влажные рубашки и кальсоны, построились. Ровно в девять дивизия, возглавляемая генералом Ламотружем, и четыре полка пехотной гвардии под командованием генерала Кальму выступили в поход. Офицеры и солдаты украсили себя цветами так же, как и воины в Новаре. Их провожало все население города Куджиони. Первая встреча с белыми мундирами произошла в деревеньке Кассате. Небольшой отряд австрийских стрелков отступил, слабо обороняясь. В это время со стороны Буффалоры прозвучал пушечный залп — это давал о себе знать император. Следовало прибыть туда как можно скорее. В Бернате головные колонны снова натолкнулись на вражеских стрелков, прочно укрепившихся в Монте-Ротондо. Французам надо было во что бы то ни стало выгнать их, но элитные войска противника упорно сопротивлялись. Канонада грохотала минут двадцать. Эти-то взрывы и услышали гренадеры императора, приняв их за подоспевшее подкрепление. Мак-Магон не забыл того, что накануне сообщил ему Франкур, хотя и не до конца поверил в достоверность сведений. Определить численность движущихся воинских частей трудно даже для офицера. Солдат же, глаз которого не привык к общему виду поля боя, вполне мог ошибиться. Как осторожный и расчетливый военачальник, генерал старался предусмотреть самое худшее. Отдав приказ Эспинасу двигаться вперед любой ценой, он и сам отправился в путь, обеспечивая прикрытие. Мак-Магон, прекрасный наездник, оставив далеко позади свой эскорт и часть генштаба, взлетел на холм. То, что он увидел, подтвердило донесение Франкура. — Зуав не ошибся! — прошептал полководец, окидывая взглядом окрестности. — Пожалуй, здесь будет около сорока тысяч австрийцев. Не теряя времени, он послал к Виктору-Эммануилу предложение принять участие в кампании. В ожидании армии короля и дивизии Эспинаса генерал построил войска в боевом порядке. Дивизию Ламотружа он выставил вперед для атаки, а генералу Кальму приказал занять место в центре, шагах в трехстах позади. — Вот так, старина, и не двигайся… Чтобы я нашел тебя здесь, когда ты мне понадобишься. Вскоре Мак-Магону передали неприятную новость: армия итальянцев, перейдя Тичино, попала в затор на участке дороги, ведущей к мосту через Навиглио. Это означало, что на помощь союзников в ближайшие три-четыре часа можно не рассчитывать. Мак-Магон только пожал плечами: — У меня недостаточно сил, но как бы то ни было, я буду сражаться! Отложи генерал военные действия до прихода королевской армии, Наполеона разбили бы при Буффалоре. Италия навсегда потеряла бы свою независимость, а Францию захватили бы немцы, упорно вооружавшиеся на берегах Рейна[95]. После немыслимо долгой задержки прибыл Эспинас Его правый фланг, сформированный из второй роты зуавов, укрепился за кирпичной стеной Рокколо. Многочисленная австрийская колонна беззвучно пробиралась через рощу, намереваясь проскочить между двумя французскими дивизиями. Эспинас понял этот маневр и приказал зуавам пропустить противника. Как только в узкий коридор вошел последний солдат, генерал поднял саблю и скомандовал, употребив несколько красноречивых выражений, достойных героев Гомера: — Вперед, «шакалы»! Отшлепайте этих сук, чтобы задницы засверкали! Не было сделано ни единого выстрела. Слышались только дикие крики, скрежет металла да душераздирающие стоны умирающих. Капитан Винседон, один из самых сильных и отважных офицеров африканской армии, взяв высокий барьер на своем арабском скакуне, приземлился перед австрийским полковником Хубатечеком. — Сдавайтесь, полковник! — крикнул он. — У вас хватает наглости предлагать мне это? — высокомерно ответил тот по-французски и, развернувшись, сделал быстрый выпад саблей, намереваясь поразить зуава в бедро. Капитан парировал удар и нанес ответный — в грудь; сраженный противник упал. Вражеская колонна была разбита, причем французы не потеряли ни одного человека. Австрийцы передавали знамя из рук в руки, мешая неприятелю захватить его. Это была опасная игра. Мгновение — и аджюдан Сервьер убил солдата, подхватившего символ полка. Штандарт[96] оказался у победителей. Дивизия Ламотружа входила в Буфалору под шквальным огнем. Коня под командующим убило на скаку. Огромный снаряд попал животному в грудь, выпотрошив его, как кролика. Ламотруж вскочил на лошадь одного из стрелков и вновь ринулся в самое пекло. Мак-Магон приказал своему старому другу генералу Кальму идти к колокольне в Мадженте, сохраняя боевой порядок батальонов. — И чтобы ни единого выстрела! — предупредил командующий. Старый служака Первой империи поднялся на стременах и, держа шпагу в вытянутой руке, скомандовал: — Внимание! Равнение на знамя! Шагом марш! У Мадженты полк был встречен таким шквалом выстрелов и орудийных залпов, что все вокруг — виноградники, пастбища, фермы, окраинные дома — заволокло дымом. Ничего не видя в кромешной мгле, люди теряли ориентацию. Батальоны и роты, ломая боевой порядок, смешались в единый людской поток, который хлынул в город. Неистовство баталии захватило всех: дрались в Буффалоре, где сопротивление противника было почти сломлено, дрались в Мадженте, где генерал Ожер обстрелял железную дорогу из сорока орудий; с диким ожесточением и упорством сражались повсюду. Высокие мысли об освобождении Италии и ее угнетенного народа отступили на задний план. Шла яростная, беспощадная схватка между воинами в синих шапочках и солдатами в белых мундирах. Они кололи и убивали друг друга, как первобытные дикари, утверждая принцип: «Homo homini lupus est»[97]. Мак-Магон твердо решил сломить сопротивление неприятеля в Мадженте. Слышали, как он бормотал себе под нос: — Это новый Малахов!..[98] Чертовы австрияки — твердые орешки! Генерал был обеспокоен молчанием императора и подумывал послать вестового за новостями, а заодно доложить о собственных успехах. Но сможет ли посыльный, не зная местности, найти главнокомандующего? Мак-Магон вспомнил о Франкуре: «Малый не промах. Пожалуй, он смог бы проводить моего офицера». — Лейтенант Кальво! — Слушаю, господин генерал! — Среди пехотинцев полковника Лора должен быть один зуав. Разыщите его. Прихватите в помощь стрелка из моего эскорта. — Будет сделано, господин генерал! — Пусть зуав возьмет у стрелка коня и проводит вас к главнокомандующему. — Есть, мой генерал. — Передадите его величеству устное послание. В нескольких выражениях генерал обрисовал ситуацию. — Я все слово в слово передам императору, — сказал офицер. — Отлично! Идите, желаю вам удачи. Лейтенант в сопровождении стрелка прибыл в полк, рассредоточенный на значительном расстоянии, так что найти зуава не представлялось возможным. Сквозь свист пуль и грохот снарядов лейтенант кричал: — Зуав! Где зуав? Все его видели, но никто точно не мог сказать где. Может быть, он ранен или убит? Вдруг в голубой линии тюркосов офицер заметил красную точку — цветок мака среди поля васильков. — Зуав! Это он! Лейтенант рванул к Франкуру, который в феске набекрень, с почерневшим от пороха лицом поочередно — то правой, то левой рукой — заряжал горячее от стрельбы ружье. — Садитесь на лошадь и следуйте за мной, — прокричал посыльный. — Приказ главнокомандующего! А вы, — обратился он к стрелку из эскорта, — объясните все командиру, а потом добирайтесь до своих. Франкур отдал честь офицеру и одним махом вскочил на лошадь. — К вашим услугам, лейтенант! По дороге посыльный объяснил капралу суть дела. Франкур был горд, что ему дали столь ответственное поручение, но ответил скромно: — Я сделаю все, что в моих силах, господин лейтенант! Оглядевшись, молодой человек тотчас узнал местность, по которой проезжал накануне. — Если все будет хорошо, через десять минут доберемся до слияния двух дорог. Вскоре, проделав половину пути, всадники очутились у насыпи. Слева, внизу, сквозь клубы дыма они увидели темную линию гренадеров, которая то двигалась, то замирала, то вытягивалась, то сжималась. За ней виднелись таможенные домики, мосты и пространство, на котором топтались кавалеристы. — Отряд сопровождения! — указал рукой посыльный офицер. — Значит, император там! Дав шпоры лошадям, они помчались во весь опор. Вдруг Франкур заметил за изгородью отряд белых мундиров. — Осторожно! Господин лей… Грянувшие выстрелы заглушили крик. Лейтенант, изрешеченный пулями, выпал из седла. Испуганные внезапной стрельбой лошади взвились на дыбы, но тут же рухнули, сраженные выстрелами. Капрал отлетел в кустарник. Вопреки здравому смыслу, зуав даже не был ранен, а лишь оглушен падением. Очнувшись, он убедился, что кости целы, и решил как можно скорее покинуть опасное место. Австрийцы не заметили, как зуав, прячась за изгородью, добрался до луга и нырнул в высокую траву. Вскоре он был вне опасности. Впереди виднелся домик с зелеными ставнями, перед которым взад-вперед прохаживался офицер, показавшийся Франкуру знакомым. «Ба! Да это император!» Какой-то гренадер гвардии осторожно, словно охотник, боящийся спугнуть дичь, подбирался к домику. Предчувствуя недоброе, зуав побежал, но споткнулся о валявшееся в траве ружье. Ощутив в руках привычный холод оружия, он облегченно вздохнул. Вдруг гренадер, встав на колено, начал целиться. Его карабин двигался, повторяя движения Наполеона. Франкур с жутким воплем набросился на убийцу в тот момент, когда тот нажал на курок. Пуля изменила траекторию полета и, вместо того чтобы попасть императору в сердце, сшибла эполет с его мундира. Злодей повернулся к зуаву, яростно рыча. Это был крупный мужчина с выразительными чертами лица, без характерного для французских воинов загара. — Ах ты, мерзавец! — вскричал капрал. — Ты никогда не был настоящим солдатом! Молодой человек с шакальей жестокостью атаковал гренадера штыком. Очень скоро убийца, проколотый насквозь, упал, обливаясь кровью. Франкур сорвал с него шинель, порылся в карманах, но ничего не нашел. Под тонкой блузой он обнаружил маленькую, набитую бумагами сумку. На груди убитого была татуировка — красного цвета буквы Т.Г.Б. — Так и есть! Можно не сомневаться, это один из негодяев с фермы Сан-Пьетро. Но что же теперь делать? Пойти к императору и рассказать историю, в которую никто не поверит? Меня сочтут сумасшедшим. Уж лучше пусть все останется в тайне.
Генерал Эспинас, выполняя приказ Мак-Магона, руководил взятием Мадженты. Полк зуавов и итальянский легион, которыми он командовал, ворвались в город. Пути к отступлению были отрезаны, и австрийцам ничего не оставалось, как, укрывшись в домах, вести оттуда огонь. Каждое строение освободителям приходилось брать приступом. Генерал Эспинас с непокрытой головой, в мундире нараспашку, вел своих солдат по тихой, пустынной улице, окна домов были наглухо закрыты ставнями. Впереди, рядом с командиром, шли адъютант капитан д’Орнан и племянник генерала лейтенант Фруадфон. — Вперед! — скомандовал Эспинас. Зуавы и легионеры бросились к зданиям, но яростная стрельба — из окон, дверей, изо всех щелей — остановила их. Тогда генерал с безрассудством юноши ринулся навстречу снарядам. Презирая опасность, он взбежал на крыльцо дома и рукояткой шпаги сильно постучал в дверь. — Откройте немедленно! Из расположенного внизу окна ответили залпом. Когда дым рассеялся, все увидели генерала, лежащего на ступеньках крыльца. Капитану д’Орнану, бросившемуся к своему командиру, снарядом раздробило ногу. Гигант Фруадфон, выронив саблю из рук, уткнулся лицом в пыль. — Отомстим за него! Отомстим! — Ярость овладела воинами, обожавшими своего генерала. Солдаты попытались вышибить забаррикадированную изнутри дверь, но напрасно, новые выстрелы лишь увеличили число жертв. Засевшие в здании сто пятьдесят тирольцев предпочитали драться до конца. Дом смогли взять, только пробравшись через сад. Солнце, клонившееся к закату, исчезало в густых облаках порохового дыма. Стоя на железнодорожной насыпи, Мак-Магон наблюдал за исходом битвы. Пушки уже перестали грохотать, раздавались лишь ружейные выстрелы. Вскоре смолкли и они. Битва была выиграна французами. Застрявший в болотах Тичино император еще не знал о победе. Он испытал горечь поражения и оценил подвиг гренадеров, спасших его от плена. Адъютант Наполеона майор Шмитц несколько часов скакал по полям сражений, пока не встретил Мак-Магона на наблюдательном посту. Узнав о победе, он радостно воскликнул: — О, генерал! Какая радость! Император будет доволен! Если бы вы знали, как у нас все плохо сложилось! — Мой дорогой майор, сообщите его величеству, что я полностью владею ситуацией. Но победа досталась дорогой ценой. Сейчас я еще не могу дать точные сведения. Но завтра к полудню непременно отправлю рапорт императору. Наступила ночь. Со всех сторон трубили сбор дивизий, бригад и полков. Сумерки спустились на землю, окутав тела мертвых, раненых и тех, кто упал от усталости, не в силах добраться до своего подразделения. Голодные, измученные солдаты засыпа́ли там, где их застала ночь. Лишь Канроберу устроили мягкую постель в штабе, который располагался в Понт-Нуово, в здании таможни. В большом зале, в отсутствие генерала, солдаты соорудили ложе из шерстяных шапочек погибших за день гренадеров. Съев кусок хлеба, принесенный лейтенантом Жамоном, Канробер заснул с мыслями о победе. На следующий день император и Мак-Магон встретились. Монарх крепко пожал руку победителю. — Вы спасли страну и империю. Я жалую вам титул герцога Мадженты и произвожу в маршалы Франции.
ГЛАВА 3
Франкур сражается повсюду. — Поздравления гвардейцев. — На поле битвы. — «Шакалы» найдены. — В полковом лагере. — Исчезновение маркитантки. — Крик о помощи. — Пистолетный выстрел. — Нападение мародеров. — Разграбленная повозка. — Без сознания. — Пропажа младенца.Франкур был храбрым воином, но не безрассудным. Поняв, что для его безопасности лучше ничего не рассказывать императору, он взял пакет с бумагами заговорщика и зашагал прочь. Времени на изучение документов не было. Он прочтет их позже, а пока — спрячет в надежном месте. Присев за узловатым стволом толстой оливы, капрал сложил драгоценные листки в кошелек, который хранил за пазухой. Теперь любой ценой следовало отыскать полк! Молодой человек направился в сторону сражения в надежде увидеть знакомую феску или шаровары. Достигнув месторасположения гренадеров, он всем задавал интересующий его вопрос. — Вы не видели зуавов? Где они? — Не знаем. Оставайся с нами, работенка найдется! — Спасибо! У нас ее тоже хватает! И неуязвимый капрал бежал дальше. Его видели в Двадцать третьем полку, в Девяностом, среди стрелков-пехотинцев. Передвигаясь с одной позиции на другую, он не забывал палить по белым мундирам. У железной дороги артиллеристы охраняли повозки с боеприпасами и продовольствием. В сотый раз капрал спросил: — Где зуавы? — Совсем рядом, за горящими постройками! — ответил один из солдат. — Отлично!Спасибо! Посреди фруктового сада, деревья которого были изуродованы пулями, Франкур разглядел выстроившуюся для штыковой атаки роту зуавов. Но вместо красных фесок их головы украшали белые тюрбаны. Молодого человека заметил старый сержант. — Эй! Ты что там болтаешься? — Видите ли, сержант, я потерял свой полк… — начал было капрал. — Ты — дезертир! — Вы не правы! У меня было специальное задание. Кроме того, короли не раздают лентяям такие награды, как мне в Палестро! — Возможно! Но если ты не привередлив, можешь драться рядом с моими гвардейцами. — Привередлив не более, чем мой поручик Оторва, который сегодня вечером станет капитаном. — А! Так ты из роты Оторвы? — Это так же верно, как то, что меня зовут Франкур! — Оторва — мой друг… раз ты из его людей, я беру тебя в свое отделение. — Благодарю за честь, сержант! — В штыковую! — Команду полковника подхватили майоры, а затем капитаны. Сержант крепко сжал карабин. — Ну вот тебе и работенка! Вечером после баталии сержант крепко пожал Франкуру руку, а новые товарищи устроили овацию. — Меня зовут Парисет, — сказал старый сержант. — Передай Оторве, что я доволен тобой, и можешь считать меня своим другом. Если тебе когда-нибудь захочется к нам заглянуть — добро пожаловать! Встретим, как родного. Растроганный Франкур не находил нужных слов для ответа и лишь молча пожимал протянутые руки. Сгущались сумерки. Молодой человек покинул лагерь гостеприимных гвардейцев и теперь шел, прислушиваясь к далеким звукам фанфар. Наконец он различил заливистый сигнал Питуха, перекрывавший все медные трубы армейского корпуса. Лихорадка яростного боя уступила место смертельной усталости, зуав с трудом отрывал от земли ноги, на каждом шагу натыкаясь на изуродованные трупы или части человеческих и лошадиных тел. Комок подступил к горлу, на глаза навернулись слезы. — Мои несчастные товарищи… Проклятая война… Иногда он слышал стоны и жалобы умирающих. — На помощь!.. Помогите! — шептали чьи-то губы. — Пить! Мама! Моя бедная мама! Мне плохо! Лучше убейте меня! Убейте же меня, наконец! По полю двигались чьи-то тени. Это мародеры под прикрытием темноты собирали в мешки все, что попадалось под руку — золотые эполеты, награды, деньги, часы, снимали перстни и кольца со скрюченных пальцев убитых. Время от времени раздавались выстрелы: часовые безуспешно пытались прогнать бессовестных воришек. Издали наплывал монотонный колокольный звон, а звуки горна слышались уже совсем рядом:
ГЛАВА 4
Упрямый пленный. — Позывные «шакала». — Похитителя несут на руках. — Во имя спасения младенца. — Неожиданный ужин. — Допрос преступника. — Гробовое молчание. — Напоминание о «Тюгенбунде». — Страшное откровение. — Незнакомец заговорил. — Ребенок во дворце Амальфи. — «Я хотел бы поговорить с сеньорой Беттиной».Решено было возвращаться в лагерь. Старик Башу хоть и пришел в сознание, но на ногах держался с трудом. Трубач взвалил его на спину. — Франкур, поставь на ноги пленного, пусть идет сам, и помоги матушке Башу. — Не стоит, — ответила маркитантка, — дай-ка мне твой карабин, сержант, я обопрусь на него, а то у Франкура только две руки и две ноги, чтобы стеречь этого проходимца. Но, пройдя небольшое расстояние, пленный вдруг отказался идти. Капрал вскипел от ярости: — Ах ты, негодяй! Не советую изображать осла! Мужчина злобно усмехнулся и повалился на землю. Сильными пинками под ребра Франкур заставил его подняться. Но тот стоял как вкопанный, не желая сделать ни шагу. Капрал ткнул его штыком в зад. Бандит взвыл от боли и упал. Юноша ткнул еще раз. Негодяй завопил сильнее, но продолжал лежать. Едва сдерживая гнев, капрал прошипел сквозь зубы: — Жаль, что не могу прикончить тебя, скотина! Но я сделаю это, если ты не скажешь, где ребенок. — Придется нести его, — сказал Питух. Франкур взвалил пленного на плечи, но не успел сделать и нескольких шагов, как преступник стал дергаться, извиваться, мешая нести его обливавшемуся по́том капралу. Впервые зуав почувствовал себя побежденным и был вынужден позвать на помощь. В ответ на вибрирующий свист послышались крики и шум приближающихся шагов. На зов сбежалась дюжина зуавов. Молодой человек быстро объяснил, что требовалось: — Матушку Башу и ее мужа — в полевой госпиталь! Осторожней! Повозка в двухстах метрах отсюда, там страшный беспорядок. Четыре человека на ее охрану, и прошу не пробовать спиртное, если, конечно, оно еще есть… Этот пленный взбунтовался… Отнесите-ка его к поручику Бургею. Давайте, вперед! Вскоре Питух, Франкур и пленный стояли перед разбуженным командиром. Оторва, увидев капрала, подошел к нему и крепко пожал руку. — Мой дорогой Франкур, рад тебя видеть живым и здоровым! — Благодарю, господин поручик, — голос молодого человека дрогнул от волнения. — Я счастлив, что снова среди своих… Хочу засвидетельствовать вам мое уважение и любовь… — Хорошо, хорошо, старина… Расскажи же, что с тобой случилось? — О, моих приключений хватит, чтобы написать роман с продолжением. Но история займет немало времени, пока мы доберемся до момента, когда поймали этого вора, который сверлит вас горящими глазами. Я ни за что не решился бы потревожить ваш сон, если бы не дело большой важности. Речь идет о жизнях императора и короля. — Черт возьми! Не знаю даже, имею ли я право вникать в подобные секреты. — Поступайте, как сочтете нужным, но вы — мой командир, и я обязан сообщить вам все. Скажу только, что мои приключения так тесно связаны с этими сведениями, что… — Ладно! Думаю, мы, прошедшие Малахов, многое повидавшие, созрели и для государственных тайн. Рассказывай! Капрал шепотом поведал о приключениях последних дней. Друзья напряженно слушали, не замечая, что огонь в очаге давно погас и их обступила темнота. — Безумие какое-то, — задумчиво произнес Оторва, когда рассказ подошел к концу. — Действительно, похоже на увлекательный роман с продолжением. Но тебе вряд ли поверят, скорее сочтут за сумасшедшего. — Что же делать? — Надо подумать. Как говорится, лишнее говорить — себе вредить. Немного помолчав, Жан продолжал: — Я считаю, чему быть — того не миновать. Если королю и императору удалось избежать пули и яда, значит, их час еще не пробил. — Но мы ведь будем настороже? — Конечно. — Теперь о младенце, которого я вытащил из пекла. Король стал его крестным, а Третий полк усыновил, и все — от зуава до офицера — полюбили Виктора Палестро. Если мы не найдем малыша с таким славным именем, полк перестанут уважать. — Согласен с тобой. Нужно допросить пленного. Он участвовал в похищении ребенка и должен многое знать. Наконец друзья обратили внимание на то, что огонь погас, а кофе успел остыть. Питух разбудил Обозного, храпевшего вместе с остальными. Тот протер глаза и стал извиняться: — Прошу прощения, сержант, я так вымотался, что заснул бы на бутылочных осколках. А огонь погас из-за нехватки дров… — Но мне нужно, чтобы стало светло. — Могу предложить пакет прекрасных свечей. Они не чадят и не надо снимать нагар. — Где ты нашел такие, черт возьми? — Хм… Один фургон генштаба перевернулся… Я и подобрал… И не только свечи, но и свинью, вернее свинину. Там целых пять фунтов. Все — в вашем распоряжении. — Ну… зуав Обозный, вижу, ты становишься настоящим солдатом. Давай свечи и разогрей-ка нам мокко. — Извините, сержант… Но дров нет во всем лагере, ни единой веточки. — Когда нет дров, обходятся без них, но кофе все-таки разогревают. Давай сюда свечи! Зуав передал командиру требуемое. Питух поставил свечи между камней под котелком и сказал: — Видишь, толстяк? Вот тебе и огонь, и теплый кофе, и свет такой, что можно разглядеть цвет глаз. А теперь тащи свинину. У нас будет великолепный ужин, который не снился и самому комполка. Господин поручик, что вы скажете? — Я согласен, черт возьми! — А ты, Франкур? — Спрашиваешь! — Отлично. Сначала пусть поработают зубы и желудок, а потом подумаем, что делать. После ужина Питух подошел к пленному и развязал его. — Ты участвовал в похищении младенца, который нам очень дорог, — начал допрос Жан Оторва. — Отвечай, кто приказал украсть ребенка, кто твои сообщники? Если скажешь, обещаю сохранить тебе жизнь. На вид пленному было не более двадцати пяти. Смуглый, как магрибинец[99], с короткой бородкой и черными густыми вьющимися волосами, он только бросал на зуавов враждебные взгляды, но не отвечал. — Ты понимаешь по-французски? — снова спросил лейтенант. Пленный молчал. Тогда горнист повторил вопросы на плохом, но вполне понятном итальянском. Ответа не последовало. Оторва пожал плечами: — Даю тебе пятнадцать минут на размышление. Если по истечении этого срока я не получу ответа, предстанешь перед судьями, которые выносят в основном смертные приговоры. Незнакомец и бровью не повел, как будто слова относились не к нему. Прошла минута. Вдруг капрал, хлопнув себя по лбу, воскликнул: — Обозный, возьми свечку и посвети мне! Зуав вспомнил о таинственных бумагах, изъятых у гренадера. Молодой человек вытащил их из кошелька и при свете свечи стал быстро читать. Оторва и Питух с любопытством смотрели на него. Закончив чтение, Франкур спрятал документы и на минуту задумался. Загадочная улыбка мелькнула на его губах. — Разрешите сказать несколько слов пленному? — вполголоса обратился он к командиру. — Говори, дружище. Франкур повернулся к незнакомцу: — Ты прекрасно слышишь и прекрасно понимаешь меня, хоть и прикидываешься глухонемым. Ты не похож на сельского парня из Ломбардии, не смахиваешь и на дикаря-мародера, несмотря на цыганскую внешность… У тебя тонкие пальцы, элегантные сапоги, белоснежное белье… Думаю, не ошибусь, если скажу, что ты — один из семерых… Пленный невольно вздрогнул. Это заметили все, так как Обозный держал свечу перед самым лицом незнакомца. — Я говорю, — спокойно продолжал капрал, — о заговорщиках из подземелья фермы Сан-Пьетро, что прятали лица под черными капюшонами с дырками для глаз. Тяжелый вздох невольно вырвался у преступника. Неужели, руководствуясь интуицией, Франкур напал на правильный след? А может быть, вздох свидетельствовал о смертельной усталости незнакомца? — Эти бандиты говорили об организации покушений на суверенных союзников, воюющих за освобождение Италии. И господа из «Тюгенбунда» не теряли времени даром. Не знакомец, казалось, не реагировал. Однако Обозному, стоявшему ближе всех к пленному, было видно, как у того пот выступил на лбу. — Но ваши планы провалились! — снова заговорил капрал. — Виктор-Эммануил не выпил яд, а пуля гренадера не убила Наполеона III. Внезапно лицо незнакомца покраснело до корней волос, затем побледнело, по телу пробежала судорога, но не последовало ни звука, ни вздоха. Франкур нанес последний удар. — Мы знаем всех членов пресловутой организации «За непорочные связи» и скоро истребим их. Сомневаешься? Что ж, посмотрим! Ты, вероятно, из Сицилии? Нет?.. Из Пьемонта или Милана? Так и не ответишь? Наверное, из Тироля?.. Или из Вены, а может быть, из Венеции? Имеешь ли ты право носить золотое кольцо?.. О! Скорее всего ты седьмой, человек с платиновым перстнем. Отвечай, и ты спасешь свою шкуру. Незнакомец, шумно втянув носом воздух, воскликнул на плохом французском языке с сильным итальянским акцентом: — Ты — сам черт! Дьявол в красных штанах! — Значит, ты признаешься? — уточнил капрал. — Ничего я не признаю. Я патриот и борюсь за освобождение моей страны… — Воруя оружие у освободителей… — О! Это мелочь… — Вот как? Ладно, довольно болтовни! Где ребенок? — Я буду жить? — Мы сохраним тебе жизнь. — А свободу? — Это зависит от главнокомандующего. — Дьявол! — Если ты предоставишь ему точные сведения об армии противника, возможно, он вернет тебе свободу. — Пусть меня отведут в Суа-Экалленца, и я расскажу много важных вещей. — Не торопись! То молчал, как пень, теперь тараторишь, как сорока. От французов не укрылась мгновенная перемена в поведении пленного, заставившая усомниться в искренности его слов. Если бы у солдат было время поразмыслить, они бы поняли маневр итальянца, который старался отвлечь внимание своих противников от тайного общества и его членов. Молодые люди были солдатами, а не полицейскими, которые постарались бы извлечь максимум информации. Зуавам важно было узнать, что стало с маленьким Виктором Палестро, где его искать, в остальном, считали они, разберется майор. Франкур продолжал допрос: — Рассказывай по порядку обо всем, что знаешь. Но если ты обманешь, я пристрелю тебя, как собаку. — Обещаю говорить правду, — заверил присутствующих итальянец. — Почему украли ребенка? — Не знаю. — Где его родители? — Не знаю. Клянусь Святой Мадонной, не знаю! — Куда его отвезли? — В Милан… Во дворец Амальфи. — Как ты сказал? — переспросил зуав. — Во дворец Амальфи? В памяти возник образ прекрасной итальянки. «Вам надо только назвать себя и сказать: «Я хочу поговорить с синьориной Беттиной».
ГЛАВА 5
Разрешение получено. — Свобода действий. — Обозный спасает себе жизнь. — В Милане. — Триумфальное шествие троих зуавов. — Дворец Амальфи. — Статуя Святого отца. — Хорошо поели, но слишком много выпили. — Апартаменты для полковника. — Не надо путать подношения с сапогами. — Приказ и недоразумение. — Драка.Франкур заснул только в полночь, а в четыре часа уже трубили подъем. Зуавы просыпались, чтобы спешно приступить к своим многочисленным обязанностям. Лагерь походил на потревоженный муравейник. Только Франкур не принимал участия в работе. Со вчерашнего дня его голова была занята одной мыслью: «Как вернуть ребенка?» Наконец, приняв решение, он направился к Оторве. — Господин поручик, дайте мне отпуск на двадцать четыре часа для поездки в Милан. — Но завтра парадный марш войск… Только полковник может позволить вам отлучиться. — Пожалуйста, ради малыша… Полковник не откажет, если вы попросите. — Ну, хорошо! Я сделаю это для сына нашего полка. Полковник сначала недовольно нахмурил брови, но, узнав о подвигах зуава, согласился. — Ваш капрал ловок, как черт: то он посыльный генерала, то лучший среди гвардейцев. Я разрешаю ему отправиться в Милан. Пусть возьмет с собой двух надежных солдат по своему выбору, заодно подыщут нам место, где разместить войска и Генеральный штаб. Франкур горячо поблагодарил Оторву за посредничество и попросил отпустить Раймона и Обозного. Трое солдат тотчас покинули лагерь. Путь лежал через поле брани, усеянное трупами австрийцев и французов. Друзья видели скрюченные пальцы, вдавленные в сырую землю, перекошенные лица с открытыми ртами и остекленевшими глазами. — Господи! Кто знает, может завтра наступит наш черед! — содрогнулся от нахлынувших чувств капрал. Обозный, не обладавший философским складом ума и понимавший все буквально, побледнел. — Не говорите так, капрал… У меня просто ноги подкашиваются… Раймон усмехнулся и подмигнул толстяку: — Они у тебя еще вчера подкашивались. Да, капрал, вчера зуав Обозный дал такого стрекача с поля боя — только пятки засверкали. — Не может быть! Ведь в Палестро ты дрался, как настоящий боец… Неужели струсил? — Ох, на меня нашел такой страх, что… Я не хотел, чтобы меня убили… Раймон рассмеялся, отчего на его немолодом бородатом лице резко обозначились морщины. — К тому же, — продолжал оправдываться юноша, — вы отсутствовали, капрал, а отделение без вас — что тело без души… Представьте полк без командира! — Я польщен. — А еще я подумал о бедных папе и маме. Что будет с ними, если тело их любимого сына останется лежать в какой-нибудь канаве? — Мы, бывалые солдаты, любим риск, порох, звуки фанфар[100] и победу. — Я не герой, — все больше воодушевлялся Обозный. — Мне плевать на белые мундиры, которых мы яростно лупим, мне плевать на свободу всех этих людей, которые кричат: «Вив ля Франс!», а сами не сражаются. Я мог бы с большей пользой использовать время, вырастив, к примеру, десять арпанов[101] пшеницы, или посадив картофель, или сделав из винограда вино… да много чего еще. — Что ж, твои занятия не так опасны, как война, — с иронией заметил Раймон. — Ладно, поговорим лучше о победе, — прервал друзей капрал, не желая, чтобы вспыхнула ссора. — А что победа! Она не сто́ит ни мешка пшеницы, ни корзины винограда! — запальчиво возразил толстяк. — Ну ты и болтун! — Это итальянцы болтуны и вруны. И вот что я скажу: все перебежчики — пьемонтцы! Франкур весело рассмеялся: — Ну, толстяк, какая каша у тебя в голове… Разговаривая, зуавы не заметили, как прошли Корбетту. До Милана оставалось четыре лье. Встречавшиеся крестьяне радушно приглашали французов-освободителей выпить стакан-другой вина. Ничто так не возбуждает жажду, как победа! Напрасно Франкур призывал друзей к сдержанности: ведь им предстоял визит во дворец Амальфи. Что подумают о солдатах французской армии, от которых за версту пахнет вином? Несмотря на разумные доводы, Раймон и Обозный вошли в столицу Ломбардии сильно навеселе. Со вчерашнего вечера город пребывал в сильном волнении. Жители праздновали победу, с восторгом наблюдая позорный уход австрийской армии. Кавалеристы, артиллеристы, пехотинцы — все вперемежку, то и дело натыкаясь на повозки «скорой помощи», спешно покидали Милан. Напрасно командиры пытались навести порядок в войсках. Солдаты перестали слушаться и подчиняться, панический страх взял верх над привычкой к дисциплине. В небольшом городке близ столицы жители уже развесили национальные флаги и, взявшись за оружие, возводили баррикады. Появление французов усугубило панику с одной стороны и вызвало бурю ликования — с другой. В городе еще находилось более четырех тысяч австрийских солдат. Толпящиеся на перекрестках и около баррикад миланцы скандировали: — Да здравствует свобода! Да здравствуют французы! Осмелев, они крушили пушки, растаскивали оружие и прочие военные атрибуты[102] противника, ломали и топтали ненавистные знамена. Уже стали постреливать по убегавшим тедескам. Радостные возгласы, пистолетные выстрелы и колокольный звон слились в общий шум. Друзей толкали, пихали и, наконец, сжали так, что те не могли пошевелиться. Напрасно Франкур изо всех сил кричал по-итальянски: «Где дворец Амальфи?» А ведь речь шла о логове врагов Италии, об оплоте австрийской тирании. Конечно, французов проводят туда. Сто́ит дорогим гостям только сказать слово — от проклятого дворца не останется камня на камне! Вихрь ликующей толпы закрутил зуавов. Чьи-то могучие руки подняли их над восторженными лицами, орущими ртами и аплодирующими руками. Людское море увлекало французов в глубь улиц и площадей. — Теперь ты понимаешь, что такое победа? — крикнул Обозному капрал. Толстяк был наверху блаженства. — Кажется, я стал героем! — Так и есть. Считай, тебе посчастливилось откусить от праздничного пирога! — Выходит, я оказался сто раз прав, что спрятался вчера… Людской поток вынес зуавов на площадь, где топтались сотни австрийцев, не успевших покинуть город. — Французы! Французы! — испуганно закричали солдаты, увидев яркие фески и красные шаровары победителей. Франкур, насадив головной убор на острие штыка и подняв высоко над собой, заорал во все горло: — Сдавайтесь, тысяча чертей! Или мы истребим вас! Под натиском итальянцев первые ряды противника побросали оружие и подняли руки вверх. Их примеру последовали остальные. Две тысячи воинов, взятых в плен без единого выстрела, подгоняемые горожанами, устремились к замку. Толпа остановилась у мрачного здания с темными крепостными стенами и узкими оконными проемами. — Il palazzo Amalfi! Palazzo Amalfi![103] На грубый стук дверь чуть-чуть приоткрылась. Зуавы спрыгнули на землю и, отдав миланцам честь, вошли во дворец. Массивная дверь закрылась, и французы оказались в огромном вестибюле, посреди которого возвышалась освещенная лампадами золотая статуя старца в церковных одеждах, сидящего на троне. У подножия, на пьедестале, на ручках кресла лежали различные предметы, не имеющие между собой ничего общего, — ковчег, детская пустышка, шпага, маленький кораблик, серебряное сердечко, дверная ручка и многое другое. Французы с удивлением разглядывали их, когда вошел мужчина, одетый в черное. — Вы говорите по-французски? — спросил Франкур без всякого приветствия. — Да, месье. — Прекрасно! Кто вы? — Я управляющий его сиятельства графа ди Сан-Жермано. — Мне необходимо видеть его. — Графа сейчас нет. Скажите, что вам нужно, я передам, когда он вернется. Пока капрал разговаривал с управляющим, Раймон и Обозный разглядывали статую. — Это Папа, — шепнул старый зуав своему товарищу, — вернее, его мраморное изваяние. — Похоже на Пия Девятого[104], — подхватил Обозный. — Я часто видел его портреты… Хорошая работа, не хуже, чем в соборе. Но зачем все эти безделушки вокруг? — Должно быть, подношения в знак признательности за то, что он исполнил какое-либо желание. — А здесь не очень уютно, — озираясь, произнес толстяк. — Надеюсь, во дворце есть хороший погреб и столовая. Франкур уже стал замерзать в холодном, как склеп, доме. Ему было не по себе от пронизывающего взгляда мажордома. — Я хотел бы подобрать апартаменты для полковника: просторное и хорошо отделанное помещение. Вы понимаете, командир для нас — как сам император. И еще — комнаты для генералов и конюшню для лошадей. — Вы останетесь довольны. — Я могу посмотреть? — Конечно, но, прежде чем начать осмотр, не согласитесь ли выпить и закусить с дороги? Не дожидаясь ответа, управляющий поднес к губам свисток. Появились двое одетых в черное слуг. — Проводите этих отважных солдат в столовую и проследите, чтобы им всего хватило. Пройдя по облицованному плитами коридору, зуавы очутились в столовой. Накрытый тончайшей скатертью стол был великолепно сервирован: хрустальные бокалы, серебряные приборы и множество чудесно пахнущих яств. Обед для эрцгерцога![105] Друзья сложили сумки и карабины в угол и, не подав виду, что зрелище произвело на них впечатление, уселись за стол. Откупоривая бутылку с длинным узким горлышком, Раймон усмехнулся: — Похоже, нас ждали! — Черт возьми, стоило не умереть вчера, — облизал спекшиеся губы Обозный. — Только не напивайтесь! — предупредил Франкур. Он еще не отделался от неприятного впечатления, которое произвел на него управляющий. А события последних дней научили молодого человека осторожности. Зуавы принялись за еду. С аппетитом Гаргантюа[106] они поглощали все подряд. В течение часа без передышки работали только зубы да челюсти. Щеки солдат залоснились и порозовели, глаза заблестели. Состязаясь, кто больше выпьет, Раймон и Обозный откупоривали одну бутылку за другой. Наконец капрал остановил их: — Достаточно! Больше ни капли, это приказ! Господин управляющий! А теперь не могли бы вы показать нам апартаменты? Солдат повели по просторным залам. От выложенного мраморными плитами пола веяло холодом, в покоях стоял запах плесени. На стенах висели огромные, почерневшие от времени полотна. Кожаная обивка кресел потрескалась. Как и в большинстве богатых итальянских домов, отсутствовал элементарный комфорт. Франкур состроил недовольную гримасу: — Никакого коврика — не пол, а каток. Здесь легко простудиться. Нужно, чтобы постелили ковры, — обратился он к управляющему. — Это невозможно. В замке нет того, что вы просите. — Тогда мы реквизируем их где-нибудь. Обозный, ты займешься этим! — Что? — переспросил совершенно пьяный толстяк. — Найди где хочешь пару лучших ковров и положи на пол. Это для полковника. Понял? Обозный на мгновение задумался, хихикнул и ответил, с трудом ворочая языком: — Ну, если только для полковника… — Давай, давай, действуй. Часть своих комендантских полномочий я возлагаю на тебя. Можешь приказывать слугам. А теперь, господин управляющий, проводите меня на конюшню. Обозный остался стоять посреди залы. Мысли путались в голове, не давая сосредоточиться и решить непостижимо трудную задачу. — Он, кажется, сказал: хороших и новых… чтобы полковнику было приятно! Вот дурацкая затея… прямо глупость какая-то… Но это — приказ, и нужно подчиняться. А если я не найду? Бог мой, тогда положу солдатские башмаки! Толстяк обернулся к стоявшему в углу слуге и крикнул тоном, не терпящим возражений: — Эй! Принесите немедленно пару сапог! — Но, синьор… — Высоких сапог, начищенных до блеска, новых. — Уверяю вас, ваше превосходительство… — Меня зовут Обозный… Я зуав второй роты Третьего полка, воюю за освобождение Италии. Если ты сейчас же не принесешь пару сапог, я врежу тебе, как последнему изменнику! Выполняй! Эта грозная тирада[107], сопровождавшаяся устрашающими жестами, возымела действие. Испуганный слуга бросился исполнять распоряжение. Оставшись один, Обозный устроил невообразимый шум. Он прыгал, стучал, бил посуду и кричал, что истребит всех и все. Слуга вернулся, напуганный больше, чем прежде, с парой гигантских сапог, годных, пожалуй, лишь для отборных солдат папской охраны либо карабинеров императорской гвардии. — Bouno!.. Bouno!.. — одобрительно воскликнул толстяк. — А теперь можно исполнить приказ! Зажав в каждой руке по сапогу, юноша толкнул дверь и, слегка покачиваясь, направился в вестибюль. Остановившись перед статуей Святого отца, он пробормотал: — На ноги надеть не получится — мешает облачение… Может, повесить на шею?.. Скоро прибудет полковник. Раймон говорит, он дал обет освободить Италию!.. Ладно, положу на колени, так надежнее… Обозному удалось достаточно симметрично расположить обувь на коленях у статуи. Отступив на шаг, толстяк оценивающе посмотрел на композицию. Крики за спиной заставили его вздрогнуть. — Birbante!.. Ladrone!.. Assassino!.. Sacrilego!..[108] Зуав обернулся и увидел слугу, который из любопытства проследовал за ним. Увиденное возмутило итальянца до глубины души. — Эй! Какая муха тебя укусила? — миролюбиво осведомился зуав. Слуга с трудом сдерживал гнев, бросая злобные взгляды на француза. — Вы совершили ужасное оскорбление! Это святотатство[109], которое требует отмщения… — Я не собирался никого оскорблять! Я имел в виду… — Возмездие! Проклятье! — А разве пустышки, шпага и остальные безделушки обижают кого-то? Хватит! Заткнись! — Берегитесь! — Не мешай мне… Это статуя Папы, я не ошибся? — Да, да, Святого отца! — Как ты его назвал? — Пио-Ноно! — Ну, мы говорим Папа Пий Девятый. Капрал приказал: «Обозный, положи пару лучших сапог на Папу…» Я выполняю… Приказ есть приказ! Босеронец не имел злого умысла. Просто в замутненном винными парами сознании зуава пара ковров превратилась в пару сапог. Человек в черном решительно направился к статуе с явным намерением убрать предметы, оскорбляющие святыню. Обозный грубо отпихнул его так, что тот упал на четвереньки. — Не подходи, или я тебя уничтожу! — пригрозил зуав. Трясясь от злости, итальянец поднялся с колен и, выхватив из-за пояса кинжал, ринулся на Обозного. — Богохульник! Неверная тварь! Я убью тебя! — неистовствовал слуга. Из коридора донесся грохот падающей мебели, звон разбитого стекла, топот, а вслед за этим — голос Раймона, гулким эхом прокатившийся под мрачными сводами. Чуткое ухо Франкура, находившегося в это время во дворе, среди хозяйственных построек, также уловило шум борьбы.
ГЛАВА 6
Со свиным рылом в калашный ряд. — Мулы маркитантки. — Вилы заменяют штыки. — Убийцы. — Капрал взаперти. — Два зуава в ловушке. — Опять бандиты. — Конюх. — Сторож конюшни. — «А! Синьорина Беттина!»Миновав бесконечно длинный коридор, Франкур в сопровождении мажордома[110] спустился в просторный двор, обсаженный вековыми платанами. Конюшня находилась за массивными строениями, в которых помещались кухня, сараи для карет, ангары. Капралу показалось странным, что по дороге они никого не встретили, и снова беспокойство закралось в его душу. Вспомнились проклятья толпы в адрес дворца и его обитателей. А Беттина, очаровательная незнакомка, спасшая его от гибели? Каким таинственным образом ее имя связано с этим мрачным палаццо?[111] Франкур не спешил задать интересовавший его вопрос, так как управляющий не внушал ему доверия. Правда, он оказал зуавам радушный прием, но по виду — настоящий разбойник. К тому же у капрала сложилось впечатление, что здесь ждали кого-то познатнее. «А мы вломились со свиным рылом в калашный ряд… Может, они хотели напоить нас до полусмерти, чтобы потом избавиться без хлопот?» — Мы пришли, месье, — певучий голос управляющего прервал размышления молодого человека. Конюшни, хоть и роскошные, находились в запустении. Мраморные ясли давно не видели корма, стойла покосились, мозаичный пол был покрыт толстым слоем пыли, а под стрельчатыми сводами крыши трудились над своими тенетами полчища пауков. В стойлах можно было разместить двадцать лошадей, но они пустовали. — Вы довольны, ваша милость? — спросил мажордом. — Да, — задумчиво ответил Франкур и тут же спросил: — А нет ли у вас другой конюшни? — Нет, месье! Юноше показалось, что он слышит за стеной лошадиное ржание, звон цепей и стук подков. В противоположном конце помещения Франкур разглядел замаскированную стеблями кукурузы дверь. «Здесь что-то кроется». Капрал решительно направился в заинтересовавший его угол. Так и есть — за дверью была еще одна конюшня. Шесть великолепных лошадей отдыхали в стойлах. Однако вид у скакунов был очень уставший, на мокрых от пота боках запеклась грязь. Капрал бросил взгляд на управляющего. Тот молчал. Вдруг — юноша чуть не вскрикнул от неожиданности — он увидел мулов, таких же грязных и изможденных, как и лошади. Животные устало жевали овес. Это были мулы матушки Башу. — Зидор!.. Барда!.. — позвал зуав и посмотрел на бледного как полотно мажордома. Управляющий метнулся к приоткрытой двери. Быстрый как молния капрал бросился за ним и, повалив, придавил коленом к полу. — Где ребенок с фермы Сан-Пьетро? Мажордом молчал. — Отвечай! Или я тебя придушу! Управляющий знаками показал, что не может говорить. — Да, правда, — согласился Франкур. — Я слишком сильно прижал тебя. Зуав ослабил хватку, его противник набрал в легкие воздуха и вдруг издал резкий свист. Неизвестно откуда появившиеся люди в мгновение ока окружили зуава. Все были вооружены кинжалами. Молодой человек отпустил мажордома, и тот одним прыжком оказался на ногах с ножом в руке. У капрала не было времени, чтобы вынуть из ножен клинковый штык. Схватив стоявшие рядом вилы, он приготовился к обороне. Нападавшие остановились в замешательстве, но мажордом приказал: — Вперед! Смерть ему! Бандиты бросились на зуава. Руки капрала заработали, как рычаги: раз, два, удар, еще удар! Раненые, выронив оружие, со стоном отползали прочь. А Франкур продолжал наносить удары налево и направо. Его противники постепенно отступали к двери, а достигнув ее, быстро выскочили наружу. Послышался звук поворачиваемого в замке ключа. Думая, что бандиты находятся за дверью, капрал крикнул: — Эй! Господин управляющий, послушайте! Пятьдесят тысяч человек знают, что мы здесь. Если со мной и моими друзьями что-нибудь случится, от вашего проклятого дворца не останется камня на камне! Ответа не последовало. Капрал положил вилы на плечо и осмотрелся. — По сравнению с подземельем Сан-Пьетро это не тюрьма, а полицейский участок. И уж если мне придется задержаться здесь — голодная смерть не грозит. А тем временем Обозный сражался с итальянцем. Толстяк из Боса только с виду казался неуклюжим, да и время службы не прошло даром. Увидев занесенный над собой кинжал, он резко отступил, и нападавший промахнулся. Не теряя времени, зуав выставил ногу для подсечки. Раз! — и противник уже лежал на полу. Обозный подобрал отлетевший в сторону нож и внимательно осмотрел. — Пригодится, чтобы набивать трубку! Раздался свист. На зов слуги явились несколько человек, похожих на тех, что дрались с капралом. Оказавшись один на один с полудюжиной вооруженных бандитов, толстяк понял, что может спастись только бегством. «Придется убегать во второй раз», — подумал зуав и, резко повернувшись на каблуках, ринулся в коридор. Он побежал на голос Раймона и нашел его в столовой. Комнату, где они недавно трапезничали, трудно было узнать: мебель перевернута, посуда разбита, вино и ликеры из опрокинутых бутылок вытекли на пол. Старый солдат сражался с тремя громилами. — Странный дом, — пробормотал Обозный. — То никого, то полно людей! Он опрометью кинулся к сложенным в углу вещмешкам и карабинам. Схватив оружие, он, не прицеливаясь, пальнул в одного из стражников. Массивное тело рухнуло на пол. Остальные в замешательстве отступили. Толстяк тем временем отбросил карабин, схватил другой и еще один кинул Раймону. Старый зуав поймал оружие на лету. Обозный направил его на нападавших. — Убирайтесь отсюда, мерзавцы! Бандиты один за другим выскочили из зала. — Проклятое место! Надо сматываться! — вскричал босеронец, чувствуя, как страх снова овладевает им. — Где капрал? — Бежим за ним! Друзья выскочили из столовой. В коридоре было тихо и пустынно. Повернув за угол, они оказались в слабо освещенном тупике. Вдруг пол стал уходить из-под их ног, и оба зуава почувствовали, что проваливаются в пустоту… Франкур не воспринял свое заключение серьезно. Не выпуская из рук вил, он прошелся по конюшне, осмотрел пустующие стойла, заглянул под подстилки, простучал стены и пришел к выводу, что единственный выход наружу — дверь. Зуав пнул ее ногой, толкнул плечом, поддел вилами — никакого результата. Он достал клинковый штык и, вставив его под замок, попытался расковырять дерево. Оно оказалось твердым, как железо. Вдруг — крак! — лезвие штыка обломилось. — Тысяча чертей! Что же делать? Если бы окна располагались не так высоко… Будет метров шесть от земли… Зуав влез на кормушку, а затем — на перегородки боксов[112]. — Да… остается еще метра три… Проклятье! Стены скользкие, как кость, ни единой зазубринки… По ним только африканские ящерицы могут взобраться. Капрал раздраженно мерил шагами вымощенный каменными плитами пол конюшни. Время шло к вечеру. Вспомнились товарищи. «Что с ними могло случиться в этом чертовом дворце, полном тайн и преступлений?» Наступили сумерки. Пустой желудок давал о себе знать. Рядом мычали мулы. — Похоже, здесь не я один голодный, — усмехнулся Франкур. Он вспомнил, что у входа видел два больших ящика с овсом и кукурузой. Наполняя кормушки, зуав запихнул горсть кукурузы себе в рот. Пища парнокопытных оказалась пресной и невкусной, но голод утоляла. Что ж, на войне как на войне! В углу капрал обнаружил медный кран. Наполнив ведро до краев, он попил сам и напоил животных. С наступлением ночи молодой человек сгреб в кучу кукурузные листья и улегся на них, не выпуская из рук вил, с твердым намерением не спать. Однако наш герой не долго противилсяискушению закрыть глаза, сказалось напряжение прошедшего дня. Сон длился не долго. Чуть слышное шуршание по каменным плитам пола разбудило капрала, и он инстинктивно потянулся за вилами. Мелькнул слабый свет фонаря. Сжимая вилы в руках, солдат вскочил, готовый защищать свою жизнь. — Синьор Франкур… Это вы? Это действительно вы? Молодая стройная женщина в изящном темном плаще осветила пленника фонарем. Капрал отбросил в сторону грозное оружие и шагнул к ней навстречу. — Синьорина Беттина! Как я счастлив видеть вас!
ГЛАВА 7
Сладкие мгновения. — Побег. — В часовне. — Подземные ходы дворца. — Кто такая синьорина Беттина. — В тайном убежище. — Заговорщики не знают, что их подслушивают. — Члены «Тюгенбунда». — Новый заговор, новые угрозы против жизни суверенных особ. — Тайное убежище обнаружено.Юная итальянка подала зуаву руку, и тот пылко припал к ней губами. — Ваше появление всегда связано с трагическими обстоятельствами, — голос молодого человека слегка дрожал от волнения. — В минуты смертельной опасности… — Которой вы пренебрегаете со свойственным всем французам безрассудством. — Воспоминание о вас не покидало меня с того самого дня, как вы спасли мне жизнь… — Друг мой, — прервала девушка излияния влюбленного зуава, — дорога́ каждая минута. Пойдемте скорее, иначе будет поздно. — Но, синьорина… — Нужно, чтобы они поверили, будто вы бежали без посторонней помощи. Придумайте что-нибудь. Франкур огляделся. Лошади в конюшне были привязаны кордами[113], протянутыми от недоуздка[114] сквозь специальное отверстие в яслях к деревянному чурбану. Франкур осторожно отвязал все корды и связал одну с другой. Получилось классическое орудие побега — длинная веревка с узелками. Юноша привязал веревку к вилам, предварительно отломав от них ручку, и забросил в узкое окно. Затем попробовал подтянуться на руках. — Видите, синьорина! Я мог бы вылезти таким способом… — И не успели бы сделать двух шагов, как вас бы закололи… Идемте, нам пора! Беттина достала из велюрового ридикюля, который прятала в складках плаща, два пистолета. — Это для обороны! — сказала она, протягивая оружие Франкуру. — А теперь вперед! — Постойте, синьорина… Одно слово! Девушка вопросительно взглянула на капрала. — Говорите! — Где ребенок? — Разве он не у зуавов? — Его украли… прошлой ночью. — О Господи, бедный малыш! Он погиб… Они убьют его! — Но мне сказали, что он у вас. Мы для того и пришли, чтобы забрать мальчика. — Вас обманули. Кто этот негодяй? — Наш пленный… молодой человек, среднего роста, смуглый, с вьющимися волосами… Говорит с сильным итальянским акцентом. Он был с теми, кто напал на повозку маркитантки и унес младенца. — Бандит! — Вы его знаете? — К несчастью, да. Это негодяй, сущий демон, который… — Продолжайте, дорогая синьорина. Вы можете положиться на меня, я не выдам тайны ни под какими пытками. — …который подло убил тех двоих на ферме Сан-Пьетро. Его нельзя упустить! — Имя? Назовите имя! Послышались дикие крики и лязганье металла, затем топот бегущих ног. — Сюда идут, чтобы убить вас, — прошептала Беттина. — Скорее, следуйте за мной! Юная итальянка погасила фонарь и, взяв Франкура за руку, увлекла в глубь конюшни. Где-то хлопнула пружина, и перед беглецами открылся узкий коридор с лестницей, ведущей вниз. Держась за стены, они осторожно спускались по ступеням. В тишине зуав слышал, как беспокойно бьется сердце девушки. — Где мы? — выдохнул он. — Тише! Нам грозит смерть! Теперь шаги слышались впереди. Неужели беглецов окружили? Беттина пошла быстрее. Отпустив руку зуава, она ощупала стену и облегченно вздохнула, найдя то, что искала. В стене была маленькая дверь, открывшаяся при легком нажатии. Переступив порог, Франкур с удивлением обнаружил, что находится в часовне. Перед алтарем горела лампада. Наклонив голову, девушка перекрестилась, затем пересекла помещение и остановилась у надгробной плиты, вделанной в стену. На плите был изображен всадник с опущенным забралом[115], а под ним надпись по-латыни. — Вставьте лезвие ножа в прорезь для левого глаза в шлеме воина, — шепнула она капралу. — Теперь сильно нажмите и не пугайтесь! Несмотря на предупреждение, Франкур едва сдержал крик: огромная тяжелая плита повернулась вокруг своей оси, открывая проход. — Входите! Быстрее! Быстрее! — подтолкнула девушка застывшего от неожиданности зуава. Как только беглецы вошли, плита возвратилась на место, и юноше показалось, что они заживо погребены в склепе. — Мы спасены? — с волнением в голосе проговорил зуав. — Некоторое время мы будем в безопасности. Увы, не я одна знаю это убежище. В конце коридора есть выход, и, если его не охраняют, вы сможете покинуть этот проклятый замок. Подземелья итальянских дворцов, построенных в средние века, были испещрены потайными ходами, в недрах которых плелись заговоры и интриги, совершались преступления. Фамильные предания, передававшиеся из поколения в поколение, хранили немало кровавых тайн. Возводя замки-крепости, средневековые зодчие предусмотрели множество важных в эпоху феодальных войн деталей: замаскированные двери, невидимые тайники, убежища, ловушки, тюрьмы, лабиринты. Толстые стены изобиловали подслушивающими устройствами и глазками для наблюдения, а плиты пола под действием скрытого механизма раздвигались, и нежеланный гость проваливался в подземелье навсегда. Капрал и его спутница находились в чем-то вроде каменного мешка, куда не проникал свет. С потолка свисали тяжелые ржавые цепи, а под ними стояла массивная мраморная скамья. Франкур, хотя и был не робкого десятка, почувствовал пробежавший по спине холодок. — Бррр… Не слишком приятное место! Хотя ваше присутствие, синьорина, делает его самым чудесным на свете. — Не говорите так, прошу вас… — О, вы можете быть уверены в моей почтительности. Бесконечная радость наполняет мое сердце, когда я слышу ваш ласковый голос и ловлю нежный взгляд прекрасных очей. Я счастлив находиться рядом с вами. — Умоляю вас, не надо! — Но почему? Наверное, я не имею права любить вас? Но, клянусь сердцем бесстрашного солдата, я завоюю это право! — О, храбрый юноша! Если бы вы знали… — Кто вы, синьорина? Умоляю, ответьте! Я чувствую, вас что-то мучит… — Да, да! Мне нужно многое рассказать вам… Но поймете ли вы меня? — Девушка посмотрела на молодого человека с сомнением. Наконец, решившись, она начала рассказывать: — Моего отца убили в сражении под Новарой, проигранном Карлом-Альбертом, после которого Италия была задавлена тяжким игом австрийцев. Мать героически сражалась на баррикадах в Брешии. Ее арестовали, когда город пал. Не перенеся публичного избиения палками на площади, она умерла от боли и стыда. Мне было тогда семь лет. — Бедная малютка! — Рассказ юной итальянки отозвался болью в чувствительном сердце зуава. — С тех пор прошло одиннадцать лет, но я ничего не забыла. А между тем мне приходится жить с предателями, позорными пособниками врагов, скрывать ненависть и любовь, живущие в моем сердце. Подумайте, все видеть, все слышать, все знать и не иметь возможности что-то сделать! Я вынуждена хранить чудовищные тайны и быть невольной соучастницей мерзавцев, которые продают нашу родину. Но довольно говорить обо мне. Вам надо бежать, и есть только один выход… Не дожидаясь протестов Франкура, желавшего услышать больше, Беттина нажала какую-то пружину. — Святая Мадонна! — в ужасе произнесла она. — Выход закрыт… За отодвинувшейся панелью оказалась стена, вся в маленьких дырочках, сквозь которые проникал свет и доносились голоса. — Где мы? — еле слышно спросил капрал. — В стене парадной столовой, за деревянной обшивкой в конце стола. Подойдите ближе и посмотрите! Франкур заглянул в одно из отверстий в стене. В огромном зале, где накануне он и его товарищи обедали, массивный стол снова был уставлен яствами. За столом сидели пятеро изысканно одетых мужчин. «Так вот для кого предназначался торжественный обед, который мы вчера съели», — подумал зуав. Резкий голос с грубым немецким акцентом и повелительными интонациями заставил его вздрогнуть. Незабываемый голос, потрясавший своды подземелья Сан-Пьетро во время собрания главарей «Тюгенбунда»! Председатель произносил речь медленно и четко, так что Беттина и Франкур слышали каждое слово. — Братья! Считаю заседание Верховной Палаты открытым. Да, это был он, обладатель платинового перстня, высокий, сильный, хорошо сложенный, одетый в парадную форму прусских офицеров. Орлиный взгляд и резкие манеры свидетельствовали о твердости характера. — Нарушая установленные правила, — продолжал он, — я разрешил вам открыть лица. Теперь мы не просто заговорщики, действующие индивидуально по приказу свыше. Успехи франко-итальянской армии и сокрушительное поражение австрийцев, а главное — неуязвимость двух суверенных союзников[116] — Виктора-Эммануила и Наполеона III, удивительным образом избежавших яда и пули, заставляют нас прибегнуть к иным мерам. Необходимо действовать согласованно, дабы не потерпеть неудачу вновь. Поэтому мы должны знать друг друга в лицо и держаться вместе, координируя нашу деятельность с Верховным Советом, председателем которого я являюсь. Четверо сообщников склонили головы в знак согласия. Председатель продолжал: — Наши ряды поредели: из семерых осталось пятеро… Андреас Хофер, наш тирольский собрат, был убит на мосту во время неудачного покушения на Наполеона III. Другой — Сан-Жермано, владелец этого замка, попал в плен к французам. — Господин председатель, позвольте сказать! — воскликнул один из заговорщиков, вскочив с места. — Только покороче! — Наш миланский собрат, о котором вы только что упомянули, был взят в плен, когда с риском для жизни действовал в личных интересах, похищая какого-то ребенка… Участник заговора и член политического общества имеет право рисковать жизнью, только выполняя священный долг. Мы приговорили к смерти двух монарших особ, но не объявляли войны младенцам… — Не будем это обсуждать! — повелительным тоном прервал его председатель. — Наша борьба не подчиняется никаким правилам и законам. Кто вам сказал, что поступок Сан-Жермано не входил в генеральный план наших действий? И почему вас беспокоит этот ребенок, когда тысячи людей поливают своей кровью ломбардийские поля? Итак, молчите и подчиняйтесь! Услышанное привело капрала в ярость, тогда как юная итальянка оставалась бесстрастной. Главарь заговорил вновь: — Ныне настал наш час! Ничто не спасет Виктора-Эммануила и Наполеона от возмездия. Завтра состоится торжественный въезд французских войск в Милан. Союзники будут праздновать победу, и суверенные особы проведут в городе несколько дней. Лучше и достойнее места, чем королевский дворец, им не найти. Приказы муниципальным властям[117] уже даны. Все готово к приему их величеств. А теперь слушайте меня внимательно! Подвалы дворца начинены порохом. Когда, опьяненные успехом, оглохшие от похвал и уставшие от речей, император и король заснут, как простые смертные, произойдет взрыв такой силы, что от дворца не останется камня на камне! Таков мой план. Что вы скажете? Заговорщики закричали в один голос: — Браво! Их гибель неминуема! — А есть ли верный человек, чтобы зажечь бикфордов шнур? — спросил тот, кто протестовал против похищения ребенка. — Даже двое, — ответил председатель. — Вы, брат Вон Стейжер из Вены, и я. А сейчас каждый из вас вернется к себе и будет ждать распоряжений, которые передаст управляющий. Я останусь здесь, в потайной комнате. Вошел мажордом, и все покинули столовую. Главарь заговорщиков обменялся многозначительным взглядом с управляющим, который сказал вполголоса: — Все идет хорошо! Председатель, подойдя к краю стола, нажал на деревянную обшивку стены. Раздался легкий щелчок, и панель отодвинулась. Еще минута — и два тайных свидетеля будут обнаружены. Капрал, держа палец на спусковом крючке, загородил своим телом девушку. Вдруг страшный грохот потряс стены столовой. Крики, ругательства и выстрелы наполнили дворец. — Нас предали! Смерть неверным тварям! Внезапно дверь зала, словно под натиском урагана, широко распахнулась.
ГЛАВА 8
Падение в подвал. — Мучения пленных. — Подземный водосток. — Обозный в отчаянье. — Полковой марш. — После подвала — колодец. — Друзья выбираются по железной цепи. — Нападение поваров. — Франкур наносит ответный удар.Потеряв точку опоры, Обозный и Раймон полетели вниз. Толстый слой зловонной жижи, покрывавший дно подвала, предохранил их от серьезных повреждений, друзья отделались ушибами. Некоторое время оба молчали. Хмель мешал осознать серьезность положения, в которое они попали. Первым заговорил Обозный. — Вот те раз! Раймон, ты тут? — Да, — откликнулся старый зуав. — Где это мы? — Дьявол! Естественно, в подполе. — Я не прочь поскорее выйти отсюда. — О! — присвистнул Раймон. — Будем надеяться, что не застрянем здесь навечно. Безвыходных положений не бывает! — Ты везде чувствуешь себя отлично, старина! А я задыхаюсь в этом темном колодце. Здесь такой мрак, что кажется, будто ты ослеп. Сердце того и гляди выпрыгнет из груди. — Ах да, я забыл! Ведь ты — любитель полей и ярких лучей солнца. А я до того, как стать «шакалом», добывал уголь в родном городке Гарде. Так что чувствую себя здесь, как дома. — Раймон, мне плохо, голова идет кругом, в глазах круги… Придумай что-нибудь! — Это синдром темноты. Ничего, скоро пройдет! — Раймон, старина, я умираю… — Послушай, у тебя полная фляга, глотни чуть-чуть! — Я не хочу пить! — Да, вижу, ты действительно заболел. Подожди, мой мальчик, что-нибудь придумаем. Порывшись в карманах, Раймон чиркнул чем-то, и вдруг слабое пламя осветило пространство. — О! Ты возвращаешь меня к жизни! — восклмкнул Обозный, вздохнув полной грудью. В левой руке бывалый зуав держал витую восковую свечу, с которой обычно ходили в погреба, в правой — спички. — Я стянул ее у майора. Это поможет нам скоротать время. Хватит, по крайней мере, часа на два, а потом мы удерем. Давай изучим обстановку и обсудим план побега. Подняв свечу, Раймон посмотрел вверх. — Высоковато! Шесть метров будет. И сужается кверху, как горлышко у бутылки. Влезть наверх не удастся. Тебе лучше, сынок? Видишь что-нибудь? — Да. — Тогда измерим ширину. Вот черт, грязь какая-то чавкает под ногами. Придется потом тщательно постирать гетры[118]. Сделав несколько шагов, зуав начал считать: восемь, девять, десять… двенадцать, пятнадцать. В ширину оказалось приблизительно пятнадцать шагов. Но если вверх поднималась каменная стена, то под ногами была мокрая земля. — Почему тут так сыро, а, Раймон? — прервал размышления друга Обозный. — Потому, что Милан построен на равнине, пересеченной множеством рек и речушек. Почва впитывает влагу, как губка, и она собирается здесь. Не удивлюсь, если во время паводков вода в этой яме поднимается на два метра. — Значит, тут вполне можно утонуть? — Утонуть можно даже в луже. Смотри-ка, что я нашел! — По правде сказать, я ничего не вижу. — Здесь в углу есть что-то вроде сточной ямы. Лиса, пожалуй, пролезла бы в эту нору, но человек — вряд ли! Попробуем расширить отверстие штыками. Обозный, поставь-ка карабины к стене, только вынь запальные устройства, а то мало ли что может случиться. Свечу я пока задую. В крайнем случае воспользуемся спичками… Зуав вытащил штык и, встав на колени, начал копать. — Почва мягкая, как масло! Эй, дружище, расширяй отверстие как можешь! — Я не вижу ни зги! — Действуй на ощупь. Отгребай землю, которую я вынимаю. — Если бы у меня была корзина… — А феска для чего? — Она маленькая… — Тогда сними штаны. Наполняй их до половины и относи в дальний угол. — Лучше уж кальсоны. Жаль портить парадные шаровары. — На твое усмотрение. Работа благодаря профессиональным навыкам старого солдата продвигалась успешно. Друзья трудились, как кроты, в полной темноте, задыхаясь от спертого воздуха. Время от времени они прикладывались к бутылке, экономно заедая остатками прихваченных из дворца продуктов, и вновь продолжали копать, метр за метром продвигаясь в неизвестность. Глаза Обозного привыкли к темноте, и юноша не страдал, как прежде. Наконец, изнемогая от усталости, пленники вылезли из узкого прохода и растянулись прямо на скользком полу. Глаза слипались. — Как ты думаешь, — пробормотал толстяк, — далеко ли мы продвинулись? — Если не ошибаюсь, метров на восемь — десять. — Не может быть! — Да, да, мой мальчик! У нас есть надежда на спасение! С этой приятной мыслью, не забыв отхлебнуть из заветной фляги, приятели заснули. Бедолаги не знали, сколько часов длился их сон. Проснувшись первым, Раймон зажег свечу и разбудил товарища. — Боже мой! — воскликнул он, посмотрев на Обозного. — Какой ты страшный! — А ты, старина, даже представить не можешь, на кого похож! Клянусь честью, твоя борода напоминает метлу, которую окунули в нечистоты. — Признаться, мы оба не самые красивые мужчины в африканской армии. Не будем же смеяться друг над другом, лучше примемся за дело. Теперь работа шла медленнее из-за растущей горы земли и удлиняющегося подземного лаза. Скоро зуавы с трудом могли дышать и двигаться. Привыкший к подобной обстановке в шахтах, Раймон не терял надежды и продолжал работать. Обозным вновь овладело уныние. — Все, — обреченно сказал толстяк, — нам никогда не выбраться отсюда… Я не увижу больше ни полей, ни лесов, ни виноградников, ни цветов… Чем так мучиться, лучше пустить себе пулю в лоб! — Ну что ты, глупыш! Неужели лучше подавиться собственным языком, чем бороться до конца, как настоящий зуав? Выпей глоток, и силы вернутся к тебе! — Оставь, тебе это пригодится. — Нет, нет и нет! Знаешь, когда мне бывает трудно, я вспоминаю наш полковой марш. И старый зуав запел:
ГЛАВА 9
Въезд французов в Милан. — Бурные восторги. — Мак-Магон и младенец. — На коне победителя Мадженты. — Франкур, Обозный и Раймон. — Метка матушки Башу. — Мисс Браунинг. — Возвращение Виктора Палестро в Третий полк зуавов. — Боевая медаль. — Всегда под барабанный бой!Седьмое июня стало знаменательным днем для Италии. Французские войска торжественно въезжали в Милан. Это был настоящий триумф. Победителей встречали морем цветов, улыбок и вина. В свое время, по распоряжению Наполеона I, за победы, одержанные маршалом Даву[120] в битвах при Иене и Альтенбурге, армейский корпус великого полководца первым вошел в Берлин. Наполеон III, желая соблюсти традиции, оказал подобную честь войску Мак-Магона, которое должно было ступить раньше всех на землю ломбардийской столицы. Парад начался в семь часов утра, как и подобает — от знаменитой триумфальной арки[121]. Во главе шел 45-й линейный полк, за ним двигались алжирские стрелки и все остальные армейские подразделения. Первые ряды уже шагали по городу, блестя на солнце сталью клинков и кожаными киверами. Музыканты играли итальянскую национальную песню. Миланцы с влажными от счастья глазами кричали «браво» и хлопали в ладоши. Солдаты выглядели великолепно: побритые и причесанные, с лихо закрученными усами, они гордо ступали по мостовой столицы. Начищенные сапоги и пряжки сверкали на солнце. Никто уже не думал о том, какой ценой далась эта победа. Кто вспомнит теперь о потерях, ранах, болезнях, о каретах «скорой помощи», где в мучениях умирали боевые товарищи, о бойне в Мадженте, где на один квадратный метр земли приходилось несколько трупов?[122]. Мрачное вчера отступило перед радостным сегодня. Все забылось при виде моря развевающихся французских и итальянских флагов, прикрепленных к окнам, балкончикам, оградам и крышам домов. Забылось при взгляде на магазины и магазинчики, ларьки и лавочки, полные трофейных товаров. Жители города — мужчины, женщины, дети, подростки — подкидывали вверх шляпы, махали платками, бросали букеты цветов и дружно скандировали приветствия. Толпа росла. Итальянцы в национальных костюмах, украсив себя цветами, прибывали со всех сторон. Французы с вежливой улыбкой просили горожан потесниться, чтобы освободить проход для офицеров и повозок генерального штаба. В страшной сутолоке люди наступали друг другу на ноги, толкались, падали, кто-то лишился чувств, но из-за всеобщего веселья на это не обращали внимания. Как удалось в такой обстановке трем отважным зуавам прорваться к Мак-Магону, мы не знаем. Только с гордым видом, в мундирах, застегнутых на все пуговицы, и в ладно сидящих на головах фесках, герои добрались до генштаба. — Ни в коем случае не отходите отсюда, — предупредил друзей Франкур. — Понятно, капрал! Раздвигая локтями толпу ликующих горожан, зуав стал протискиваться к постоянно перемещавшимся офицерам, среди которых гарцевал на резвом жеребце маршал Франции. Мак-Магона уже стало раздражать это многолюдье, затруднявшее продвижение его солдат. Неожиданно, то ли по неосторожности полководца, то ли по вине горожан, чуть было не произошел несчастный случай. Скакун маршала, вздрогнув, поднялся на дыбы. Женщина с младенцем на руках, стоявшая рядом, отчаянно заголосила. Еще мгновение — и копыта опустятся и раздавят ее. Мак-Магон обернулся на крик. Падая, итальянка сунула ребенка в руки изумленному полководцу[123]. Француз успел подхватить младенца и положил на седло перед собой. У Франкура, видевшего произошедшее, мелькнула сумасшедшая мысль: «Может, это он, наш маленький Виктор Палестро?» Мак-Магон по-отечески поцеловал розовощекого карапуза, и этот простой человеческий жест героя Малахова и Мадженты вызвал бурю восторга среди жителей столицы. На французов обрушился цветочный дождь. Наш капрал не без основания рассудил, что триумфальное шествие, возглавляемое маршалом Франции с ребенком на руках, будет выглядеть комично. Это сознавал и сам Мак-Магон. Зуав бросился к полководцу. — Господин маршал, разрешите мне взять малыша… Я постараюсь отыскать его мать, а если не найду — позабочусь о нем. Обещаю! Мак-Магон, узнав капрала, улыбнулся. — А, это ты, Франкур! Ты прав, возьми его. — Слушаюсь, господин маршал! Принимая мальчугана, молодой человек быстро зашептал: — Господин маршал, сегодня ночью замышляется преступление против императора и короля. В подвалах дворца около десяти тысяч ливров пороха, готового взорваться в любую минуту… Необходимо его уничтожить. — Хорошо, друг мой. Зайди сегодня вечером в Генеральный штаб. Я обещал тебе боевую медаль. Заодно расскажешь мне подробности заговора. — Благодарю вас, господин маршал! — воскликнул смущенный солдат. Мак-Магон удалился в сопровождении офицеров. А Франкур с ребенком на руках и его друзья смешались с толпой. Поток людей вынес зуавов к большому дому, в окне которого виднелись молодые женщины. Франкур остановился, чтобы поправить пеленку, края которой раздвинулись. Снова пришло на ум воспоминание о пропавшем ребенке. Неожиданно легкий порыв ветра откинул простынку. — Не может быть, я, наверное, схожу с ума! — вскричал зуав. — Это же наш Виктор! — Ты что, — Раймон сочувственно посмотрел на друга, — получил солнечный удар? — Да вы посмотрите на одежду малыша! — Одеяло из красного драпа, — подхватил Обозный, — это ткань нашей униформы! — Мы пользуемся такой популярностью, что завтра половина ребятишек Милана будут одеты, как доблестные солдаты армии победителей. — А ты видишь этот номер на изнанке распашонки и в углу одеяла? — Цифра три и буква «з»! — Так вот, я знаю, что он принадлежит нашей маркитантке. А всю одежду младенцу матушка Башу сшила сама. — Ты прав! Это ее номер. Хорошо, что матушка Башу не отпорола его. — Этот номер — как удостоверение личности, как материнский крестик или медальон. — Ну и бравый же малыш наш Виктор. Просто историческая личность! Сражался в Палестро, стал крестником монарха Сардинии, а теперь сам главнокомандующий, маршал Франции и герцог Мадженты спасает ему жизнь. — Но кто та женщина, что держала его на руках? Вероятно, мать? — У него нет матери! Наверное, бандиты доверили малыша этой крестьянке. — Что делать с ним сейчас, в этой неразберихе? Молодые девушки, стоя в проеме окна, с любопытством наблюдали за происходящим. Одна из них обратилась к Франкуру по-французски с заметным иностранным акцентом. — Господин солдат, вам трудно будет ухаживать за ребенком. Только женщина может заменить ему мать. Доверьте мне малыша. Обещаю: он ни в чем не будет нуждаться. Незнакомка вынула из сумочки листок бумаги и, что-то написав, передала капралу. «Мисс Эвелина Браунинг», — прочитал зуав имя, внизу был адрес девушки в Лондоне. Почтительно склонив голову и прижимая к груди свернувшегося калачиком карапуза, француз с достоинством ответил: — Мадемуазель, этот младенец нам не чужой, мы усыновили его. Малютка был украден подлыми негодяями, но, к счастью, мы вновь обрели нашего Виктора и не расстанемся с ним. В полку есть женщина с таким же золотым сердцем, как ваше. Тем не менее от всей души спасибо за предложение. Полагаю, зуавы Третьего полка присоединятся к моим словам. Впоследствии под впечатлением этого трогательного эпизода мисс Браунинг сочинила поэму «Усынови дитя, Мак-Магон», пользовавшуюся большим успехом у нее на родине.
Конец второй части
Часть третья «ИТАЛЬЯНСКАЯ ШПИОНКА»
ГЛАВА 1
Зуавы и берсальеры. — У короля. — Исчезновение противника. — Стратег Франкур. — Четырехугольник. — В разгар праздника. — Вперед, на поле брани! — Маршал Бараге́-д’Илье. — Оскорбление храбреца. — Преждевременное наступление. — Амбиции. — Бессмысленная резня. — Победить или умереть!Милан праздновал победу. Казалось, над столицей веял ветер безумия. На протяжении тридцати часов экспансивные[124] итальянцы наслаждались пьянящей свободой. Победители же, устав и от сражений, и от празднеств, жаждали отдыха и покоя и почти готовы были просить пощады у гостеприимных хозяев. После грандиозной пирушки зуавы спали на земляном валу, как блаженные. В центре лагеря возвышалась повозка матушки Башу, в которой среди флагов, флаконов и бутылок находилась просторная колыбель с маленьким Виктором Палестро. Сон крестника короля охранял вооруженный часовой. Одну роту отправили во дворец Брюско, где пребывал его величество. Желая оказать честь капралу Эммануилу, зуавы выставили караул, поделив почетные обязанности с пьемонтскими берсальерами из элитных войск Сардинской армии, с которыми успели побрататься. Тем более что многие офицеры из Савойи[125] прекрасно говорили по-французски и считали этот язык почти родным. Но как не похожи были бравые итальянские солдаты на своих новых друзей! Среднего роста, широкоплечие, с вьющимися волосами и пышными усами, пьемонтцы носили темную униформу и, в отличие от «шакалов», не допускали никакой небрежности в одежде. Их кожаные шляпы с большими, приподнятыми к краю полями были украшены перьями. Серые брюки и белые гетры прекрасно сочетались с темно-синими накидками, окантованными красным витым шнуром, и желтыми пуговицами. Основным оружием солдатам служили карабины. Берсальеров называли «пешими пьемонтскими егерями». Слово «bersaglia» означает цель, a «bersagliare» — стрелять. Отсюда и произошло название «егеря» или «стрелки». В карауле стояла рота Оторвы. Накануне командир получил звание капитана. К его нашивкам на рукаве и головном уборе прибавилась еще одна. Молодого человека поздравили полковник и однополчане. Когда же стало известно, что Франкура наградили очередной боевой медалью, Питух, как водится, исполнил в его честь ригодон. Пиршество с дружескими объятиями, криками «браво», цветами, закуской и добрым вином продолжалось и во время вахты. Холодные, молчаливые берсальеры слегка оттаяли в теплой атмосфере праздника. Посты располагались прямо в огромных залах дворца, где солдаты пили, курили и даже спали. По распоряжению гостеприимного и благодушно настроенного короля, никто не соблюдал правил этикета. Дворец был открыт для всех. Со стен пышных покоев на любопытных посетителей взирали портреты его величества в шортах и тюрбане[126], с ружьем и сумкой для дичи. Они были так похожи на оригинал, что с подписью «Новый капрал зуавов» вполне годились бы для чеканки монет. Выяснилось, что в городе совсем нет хлеба. Горы муки мокли и гнили за Тичино, а в Милане никто не мог найти ни крошки. Здесь ели большие рисовые лепешки, поливая их местным вином, которое ударяло в голову и порождало в людях беспричинную радость и жажду жизни. Польщенный всеобщим вниманием, Франкур осушил, в свою очередь, бокал за здоровье капрала Эммануила, затем за здоровье капитана, потом за свое собственное. Развеселившись, он стал петь романсы, рассказывать увлекательные истории, балагурил, шутил. — …Белые мундиры?.. Кто вспомнил о белых мундирах? Их больше не существует, это я вам говорю! Их выкурили, вытравили, истребили! Мы победили по всем направлениям, и австрияки убрались восвояси подобно улитке, спрятавшейся в свою скорлупку. Вот что значит вести боевые действия под барабанный бой! Подумайте, «шакалы»! За десять дней — три сражения… Три победы — и Ломбардия взята! — Да, ты прав, — приоткрыв глаза, пробормотал старина Раймон, не вынимая трубки изо рта. — Все так и было. Мы дрались, потом отдыхали, развлекались, снова брались за оружие и шли под барабанный бой… — Но мы не так сильно устали, — продолжил капрал, — и можем броситься за неприятелем, удравшим от нас, как зебра от африканских охотников. Подумать только, две бригады генерала Дево, наши лучшие кавалеристы не смогли догнать двенадцать тысяч солдат, покинувших Мадженту… Хотя я думаю, после поражения армия императора Австрии превратилась в сборище деморализованных солдат без еды, оружия, обмундирования, командиров и… без надежды… Они оставили плодородную Ломбардийскую землю и убрались в свой четырехугольник. — Как ты сказал? — посыпались со всех сторон вопросы. — Четырех… что? Неужели есть такая страна? — Я имел в виду четырехугольник, который сродни нашему знаменитому маршу с флангов… Это военная хитрость, которую знают только великие полководцы. — Значит, ты сам не знаешь? — Я думаю, это четыре укрепленных города по углам огромного квадрата. Что-то вроде большого, хорошо защищенного лагеря, в котором армия, потерпевшая поражение, может вести длительную оборону. — А названия? Как называются города? — Если не ошибаюсь, Верона, Мантуя, Бергамо, Пескьера[127]. — Браво, Франкур! Отлично! Ты говоришь, как главнокомандующий… Когда-нибудь станешь маршалом Франции! Да здравствует Франкур! Раздались аплодисменты, вновь были наполнены бокалы. — За здоровье капрала! — А что ты скажешь напоследок? — не унимались самые любознательные. — Скажу, что врага больше не существует. А жаль, потому что нет ничего приятнее, чем задать хорошую трепку неприятелю. Звучный сигнал трубы прервал речь капрала. Трубили сбор. Послышалась команда: «К оружию!» Зуавы вскакивали с мест, хватали карабины, вскидывали за плечи ранцы. С криками и улюлюканьем они спешили к месту построения, радуясь в душе, что праздник закончился. Вскоре солдаты маршировали в строю, хором затянув походный марш:
То, что Франкур говорил о неприятельской армии, было общим мнением всех французов — от рядового солдата до маршала, и мнением ошибочным. Поражение не сломило боевой дух австрийской армии, еще довольно сильной и совсем не деморализованной, как думали ее противники. Дисциплинированными и храбрыми солдатами командовали умелые и отважные офицеры. Отступление австрийцев проходило так организованно, что солдаты едва верили в серьезность поражения. Вскоре, маневрируя на безопасном расстоянии, войско восстановило свои силы и, обойдя франко-итальянские части, расположилось на линии Павия — Корте — Олона — Кодоньо — Лоди — Меленьяно. Вопреки предположению французов, белые мундиры были готовы не только к обороне, но и к наступлению. Однако австрийское командование, рассудив, что бросить в наступление войска, только что потерпевшие поражение, слишком рискованно, приняло решение сконцентрировать все силы между четырех крепостей и организовать в Вероне армию спасения. Конечно, Ломбардию придется оставить. Но сколько раз на протяжении веков провинция переходила из рук в руки! К тому же опыт прошлой войны показал, что исход борьбы будет решаться в устье реки По, при впадении в озеро Гарда. Приказ об отступлении был уже дан. Австрийцы собирались покинуть свои позиции, когда в Меленьяно прогремел пушечный залп. В Генеральном штабе французской армии ничего не подозревали о стратегических операциях неприятеля. Расслабившись после победы, офицеры не думали ни о чем, кроме собственного успеха. Из муниципалитета Меленьяно Мак-Магону сообщили, что остатки австрийских войск спешно укрепляют свои позиции. Какой неприятный сюрприз, ведь все считали, что противник не скоро оправится от нанесенного удара. Маршал, опасаясь атаки с флангов, которая могла испортить праздник в Милане, незамедлительно информировал главнокомандующего. Тот решил, что стремительная контратака закрепит одержанную победу и обескровит врага. С давних пор Наполеона и маршала Бараге-д’Илье связывала дружба. Император решил предоставить другу возможность отличиться. Смелый, требовательный до жестокости как к самому себе, так и к другим, Бараге-д’Илье был великолепным исполнителем, но не мог возглавлять демарш. Ошибка императора состояла еще и в том, что он отдал в подчинение генералу Ниеля и Мак-Магона. Бараге-д’Илье задумал штурм, хотя достаточно было окружить противника. Но он мечтал о славе победителя и не хотел ее делить с Ниелем и Мак-Магоном. Пока оба полководца обходили Меленьяно с флангов, он бросил свой армейский корпус на поселок, ощетинившийся оборонительными сооружениями и изрытый траншеями. Меленьяно стоял на берегу живописной реки Ламбро, левом притоке По. Зуавы и пехотинцы Тридцать третьего полка заняли позицию на затопленном участке. Устав топтаться на месте, солдаты начали ворчать. — Черт возьми! — смеялся Франкур. — Приказ запрещает разговаривать и курить во время боевых действий, но зато сидеть можно! Вскоре прискакал маршал в сопровождении офицеров штаба. — Поднимайте солдат! — приказал он полковнику и, не дожидаясь выполнения команды, прогремел: — Вперед! Но зуавы ждали приказа своего командира. Полковник вежливо, но твердо возразил: — Господин маршал, нет ни единой лазейки, через которую можно проникнуть в город. Вы бросаете солдат на голую стену, это верная гибель. Но через полчаса австрийцы будут окружены, для чего ненужные жертвы? Холодно посмотрев на подчиненного, Бараге-д Илье презрительно бросил: — Вы боитесь? Знаменитый полковник Полз-д’Ивуа, которого маршал Бюжо называл самым храбрым из храбрецов, гордо вскинул голову. — Здесь никто ничего не боится! Что ж, пусть бесполезно пролитая кровь останется на вашей совести! Маршал только пожал плечами в ответ. — Как он посмел усомниться в смелости самого отважного человека в армии? — возмущались зуавы. — Он может бросить нас под пули, но не имеет права оскорблять! Старая развалина! Сейчас ты увидишь, боимся мы или нет! В это время примчался капитан Столфель и доложил, что генерал Ниель будет через двадцать пять минут. — Скажите, что я не нуждаюсь в его услугах! — грубо ответил полководец. Опасаясь, что у него отнимут победу, и не желая ни с кем делить лавры, маршал скомандовал во второй раз: — Вперед! Тогда полковник, подняв саблю, крикнул: — Мужайтесь, ребятки! Надо выполнять наш долг… Да здравствует Франция! Зуавы бросились к городской стене через совершенно открытый участок и были встречены шквальным огнем. Атаке не предшествовал артобстрел, который должен был уничтожить укрытия противника. Попытка солдат проникнуть через заграждения под перекрестным обстрелом не увенчалась успехом. Наконец роте Оторвы удалось добраться до стены, правда, ряды ее сильно поредели. — Сумки на землю! — скомандовал капитан. — На приступ! Вперед! Жан взобрался на плечи Обозному и, опершись руками на гребень стены, подтянулся. На какое-то мгновение ему показалось, что он попал в центр огненного смерча, вокруг бушевали пламя и дым, свистели пули. Рота, восхищенная отвагой своего командира, бросилась за ним. Австрийцы были потрясены безрассудной храбростью французов, многие, побросав оружие, удирали со всех ног. Продираясь сквозь виноградники и фруктовые сады, изрытые траншеями и окопами, «шакалы» устремились на вражеские укрепления. — Вперед! Вперед! — повторял командир под звуки труб. Барабанщики, чьи инструменты остались за стеной, вооружились карабинами. Роты и батальоны перемешались. Внезапно загрохотала канонада. Противник, укрывшись за редутом, вел огонь сразу из двух батарей — в окопе и за земляным валом. Снаряды градом обрушились на головы французов. Рота Оторвы снова была в первых рядах. Казалось, ураганный огонь должен был уничтожить ее. Но нет! «Шакалы», сколь храбрые, столь и осторожные, завидев дым, тотчас распластывались на земле. Снаряды пролетали над их головами, но попадали в Тридцать третий полк. — Скоты! — бормотали зуавы, поднимаясь. — Берегитесь, сейчас мы вам покажем, где раки зимуют! На пушки вперед марш! В штыковую! Франкур, Обозный и Раймон бились рядом с Оторвой. Пуля разбила саблю капитана, словно она была стеклянной. Потрясая карабином, он зычно скомандовал: — Вперед! Вперед! Трубы надрывались, играя наступление. Третий полк зуавов ринулся на вражеский редут. Пушки вновь изрыгнули пламя, и тотчас австрийские пехотинцы с громким «ура» бросились на зуавов. — Похоже, это белые мундиры идут на нас в штыковую, а не мы на них, — съязвил капрал. — И первыми погибнут, — отрезал старина Раймон. Обозный привычным движением натянул феску на уши: — Пусть им будет хуже! Французы слыли непревзойденными мастерами штыкового боя, но сознавали, что силы неравны. Бараге-д’Илье поторопился с наступлением, и подкрепления скоро не ожидалось. Однако выбора не было — бороться или умереть. «Пусть мы погибнем, но Франция победит!» — думал каждый.
ГЛАВА 2
В штыковую! — Полковник Полз-д’Ивуа. — Смерть командира полка. — Жан Оторва против австрийского капитана. — Храбрые солдаты Тридцать третьего полка. — Чтобы захватить пушки. — Развалины. — Бедный Франкур! — «Это война!» — Бесполезная победа. Ненужное кровопролитие. — Конец Бараге-д’Илье.Австрийцы боялись главного оружия французов — штыка и при команде «в штыковую» обращались в бегство. Мысль о рукопашном бое с зуавами приводила в содрогание самых храбрых из них. Но когда стало ясно, что ближнего боя не избежать, офицеры, желая подать пример мужества солдатам, первые вооружились ружьями и ровной шеренгой пошли на врага. В это время французские батальоны атаковали пригород и кладбище, временно превратившееся в хорошо укрепленный редут. Грохотали пушки. Зуавы, попав под перекрестный огонь, в замешательстве остановились. Кое-кто повернул назад. Полковник заметил, что солдаты дрогнули. Отважный полководец не мог спокойно наблюдать, как расстреливают его воинов из-за тупого упрямства Бараге-д’Илье, и, взмахнув саблей, скомандовал: — Зуавы! За мной! В штыковую! — Да здравствует Франция! — подхватили зуавы. — Да здравствует полковник! Ура! Трубы заиграли боевой марш, и пехотинцы устремились за своим командиром. Вдруг арабский скакун под полковником рухнул, а сам седок, выронив саблю, упал навзничь. Множество рук подхватили его и бережно положили на мигом разостланную на земле шинель. Подоспел хирург, но напрасно — две пули пробили грудь командира. На губах выступила кровь. — Дети мои, берегите знамя! Вперед! — произнес умирающий. В последний раз взглянув на доблестное знамя, которое в знак особой почести как последнее «прости» склонили над ним, полковник Полз-д’Ивуа испустил дух. — О Господи! Командир умер! Отомстим за него, ребята! Вперед! В солдат словно вселился демон. Ряды смешались. Не существовало ни чинов, ни званий, а лишь бесформенная масса одержимых страстью отмщения людей, обрушившаяся на передовые укрепления противника. Трупы множились с ужасающей быстротой, земля побурела от крови. Третий полк зуавов сражался с защитниками редута. Австрийцы и французы сошлись лицом к лицу в яростной схватке. Противником Оторвы был высокий офицер того же звания: три звезды поблескивали у воротника, желтый с черным пояс опоясывал талию поверх белого мундира. — Проклятый француз, я убью тебя! — сквозь зубы процедил австриец по-французски. Жан только рассмеялся в ответ. Офицер в белом мундире сделал выпад. Но в момент, когда острие должно было вонзиться в зуава, тот проворно отскочил в сторону. Промазав, австриец чертыхнулся по-немецки. — Я научу вас быть вежливым… — сказал Оторва, — …и фехтовать! Штык вонзился в грудь гиганта, большое кровавое пятно выступило на белой ткани мундира. Офицер выпустил оружие из рук и повалился на траву. Видя, как смертельно раненный австриец, лежа на животе, хватает губами пыль, зуав нутром постиг смысл выражения «грызть землю зубами». Мгновенно в его сознание проник истинный смысл происходящего: война — это кровавый ужас, ад, перебравшийся из преисподней на землю. А белые мундиры с дикими криками уже спешили к нему, грозя пронзить шпагами. У прославленного героя Севастополя не было времени предаваться философским размышлениям. Впереди нападавших бежали три офицера. Жан решил атаковать первым. Он слыл одним из лучших фехтовальщиков в африканской армии. — Раз, два, три! — скомандовал сам себе капитан и совершил три грациозных прыжка, сопровождая их стремительными движениями руки, сжимавшей штык. Трое австрийцев согнулись пополам. Коронные[129] удары капитана Бургея, от которых не было спасения! Легкий, как хлыст, клинковый штык в умелых руках зуава, казалось, обладал душой. Нападавшие, разинув рты от изумления, смотрели, как трое товарищей почти одновременно упали замертво. Решив, очевидно, что перед ними сам дьявол, они бросились прочь. Безжалостная смертельная битва развернулась по всей линии фронта. Подавив сопротивление австрийцев, французы еще не выиграли сражения. Пехотинцы Тридцать третьего полка не отставали от своих братьев-зуавов и также вступили в рукопашный бой. Их полковника тяжело ранило, подполковник был убит. Но простреленное в нескольких местах знамя продолжало развеваться, хотя в течение сражения знаменосцев пришлось менять трижды. Противник отступил к старому замку, из которого продолжал вести огонь. Под его прикрытием две вражеские дивизии расположились за Меленьяно, перекрыв подступы к Лоди и Адде, чего, конечно, не произошло, если бы Ниель и Мак-Магон отрезали австрийцам путь к отступлению. Вот к чему привели амбиции Бараге-д’Илье! Вновь заиграли горны, призывая французов сделать еще одно, последнее усилие. Измученные солдаты построились, а командиры охрипшими голосами отдали приказы. Роту Оторвы по-прежнему вели в бой Франкур, Обозный и Раймон. Толстяк, оказавшись между капралом и старым солдатом, сражался как одержимый. Каким-то чудом друзьям удалось уцелеть. Теперь предстоял штурм замка. Орудийными залпами уже скосило первый ряд французов. Франкур разглядел в глубине между домами две пушки и, видя растерянность товарищей, вскричал: — Нельзя, чтобы нас всех здесь перестреляли! К пушкам, черт побери, к пушкам! Впереди сквозь дым солдаты различили движущуюся колонну: ивовые подводы, выкрашенные, как и сто лет назад, в желтый и черный цвета, на которых почему-то не поперек, а вдоль стояли ящики с зарядами. На орудиях и даже на лафетах были начертаны все те же яркие желто-черные полосы. Артиллеристы в каштановой форме ехали на запятках, другие цепочкой бежали следом. Вдруг Франкур заорал: — Эй! Молодые люди! Стойте! Хочу сказать вам пару слов! Оторва, поняв намерения капрала, скомандовал зуавам: — Ко мне, товарищи! К пушкам! Сюда! Франкур первым бросился к орудиям, Раймон и Обозный не отставали от него. Они перебрались через небольшую баррикаду, перегородившую улицу, и оказались лицом к лицу с австрийцами. — Руки вверх, или я стреляю! — крикнул Франкур и нажал на спусковой крючок. Одна из лошадей с диким ржанием повалилась в придорожную пыль. Среди солдат возникло замешательство. Воспользовавшись этим, капрал со штыком наперевес кинулся на артиллеристов, пытаясь отрезать им путь к отступлению. — Сдавайтесь! Сдавайтесь! — кричал он во все горло. Артиллеристы колебались — они храбро сражались, и теперь им не хотелось уступать… Вдруг в один из соседних домов попал французский снаряд. Здание развалилось, засыпая улицу камнями, балками, сломанной мебелью и разбитой утварью. Один из обломков угодил Франкуру в голову, и он потерял сознание. Завал преградил путь зуавам. Ни помочь другу, ни узнать, есть ли кто-нибудь еще под обломками, они не могли. Австрийцы, спрыгнув с повозок, быстро обрезали поводья у мертвой лошади и оттащили ее подальше. Сквозь пелену в глазах юноша увидел окруживших его врагов. Почувствовав холод пистолетного дула у виска, он пробормотал: — Это война…
Сопротивление белых мундиров было сломлено, за́мок взят. Мак-Магон и Ниель, соединившись, окружили двенадцатитысячную дивизию противника и почти полностью захватили в плен. Задержи Бараге-д’Илье наступление хотя бы на час, кровопролития можно было бы избежать. Девятьсот французских солдат и четырнадцать офицеров погибли в сражении, около шестидесяти получили ранения. Таков был горький итог победы. У противника убитых насчитывалось тысяча двести человек, раненых — около двух тысяч, в плен попало девятьсот австрийцев[130]. Сражение не принесло победителям успеха. Вместо фанфар, оваций и триумфа союзная армия погрузилась в траур. — Наполеон Первый расстрелял бы Бараге-д’Илье, — говорил генерал Фроссар. Наполеон III был разгневан и одновременно огорчен, однако не решился наказать старого упрямца, чья гордыня не позволила признать ошибку. На лице маршала не отразилось ни тени сожаления. Этот человек не терпел никаких слабостей ни в себе, ни в других. Последующие события стали тому доказательством. Однажды, еще полный сил и энергии, Бараге-д’Илье почувствовал себя маленьким ребенком. Жестоко страдая от психической болезни и зная, что положение безнадежно, он решил покончить жизнь самоубийством. Разослав прощальные письма близким и коллегам, маршал застрелился. Это случилось 6 июня 1878 года.
ГЛАВА 3
Чудо. — Незнакомец в странной униформе. — Монолог. — Полным ходом… в крепость. — Человек в капюшоне. — Карцер, цепи и тюремщик. — Франкур все время спрашивает, но ему не отвечают. — Добрый ужин, добрый сон.Франкур мужественно ждал смерти. Сжав зубы, чтобы не вырвалось ни единого стона, он набрал в легкие побольше воздуха, однако глаза не закрыл. Вдруг занесенный меч выпал из рук убийцы, пистолет отлетел в сторону. Кто-то отдавал приказания по-немецки. Юноша облегченно вздохнул, поняв, что веревка на шее приговоренного к повешению оборвалась. Провидение вновь спасло капрала! Однако в следующий момент артиллеристы забрали у зуава саблю с ножнами и пистолет с кобурой, а его самого связали по рукам и ногам. Возмущенный таким обращением, молодой человек закричал: — Какая наглость! Так не обращаются с военнопленным… Честный противник имеет право на уважение! Исполнители не проронили ни слова, однако повернули француза так, чтобы тот видел своего спасителя. Перед Франкуром стоял молодой человек высокого роста, с правильными чертами лица. Казалось, вся его жизненная энергия сконцентрировалась в серых глазах, взгляд которых был, как острие сабли. Он носил каску с двуглавым орлом, элегантно сшитую темную униформу, правда, его талию не опоясывал черно-желтый кушак, означавший принадлежность к командному составу. Тем не менее все беспрекословно подчинялись молодому военному. Улучив момент, Франкур вежливо обратился к нему: — Господин офицер, я обязан вам жизнью и бесконечно признателен… Но прошу вас, скажите этим людям, что так не обращаются с пленными. Незнакомец холодно посмотрел на зуава, но, казалось, не понял смысла сказанных слов. Он повернулся к артиллеристам и что-то приказал. Те схватили капрала, словно мешок, и бросили в желто-черную повозку. Дорогу уже расчистили, и отряд помчался, увозя среди ящиков с боеприпасами пленного. Сквозь скрип колес и цоканье копыт Франкур не слышал более шума баталии. «Мы все равно победим! — подумал он. — Господи, почему я так глупо попался?» Множество вопросов возникало в его голове, и ни на один он не находил ответа. Почему такое странное обращение? Почему вмешался этот верзила и не дал его убить? Кажется, раньше они не встречались. Правда, капрал оказался невольным свидетелем тайных собраний главарей «Тюгенбунда»… А что, если этот незнакомец — один из членов проклятой ассоциации? Тогда он, Франкур, погиб безвозвратно! Всякий раз как повозка подпрыгивала на ухабах, тело молодого человека больно ударялось о ящики. Руки и ноги онемели под веревками. Зуав чувствовал себя беспомощным, как рыба, выброшенная на берег. Наступила ночь… Отряд продолжал скакать, время от времени делая короткие остановки. Наконец проселочная дорога кончилась, колеса застучали по булыжной мостовой. «Стало быть, въехали в город», — отметил Франкур. И в сотый раз задал себе вопрос, почему его перевозят куда-то тайком, как государственного преступника. Упряжка остановилась. Прислушавшись, Франкур уловил приглушенные голоса: короткие вопросы по-немецки, такие же короткие ответы. Затем повозка покатила дальше. По глухому стуку о деревянный настил капрал догадался: «Едем по подвесному мосту… наверное, в крепость». Повозка снова остановилась, и чьи-то руки грубо выволокли пленного. Не дав оглядеться, его с головой завернули в одеяло. Сырой воздух подземелья с запахом плесени ударил в нос. В горле запершило. Капрал услышал, как в замке повернули ключ и тяжело заскрипела дверь. Несмотря на природную смелость, ему стало не по себе. Сердце бешено забилось, на висках выступил пот. Не выдержав, молодой человек закричал: — Где я? Чего вы от меня хотите? — Молчи, или я убью тебя, — услышал он в ответ и почувствовал, как острие кинжала, пропоров одежду, кольнуло грудь. Франкур подчинился, рассудив про себя: «Раз уж меня потрудились сюда притащить, значит, им что-то нужно, а если и убьют, то, во всяком случае, не сразу… Посмотрим, что будет дальше». Тем временем ему закрепили на лодыжках железные кандалы, а на руки надели наручники. — Можете снять с себя одеяло, но предупреждаю, если будете кричать или звать на помощь, вас заколют. Цепи на руках и ногах были тяжелые, но длина их позволяла двигаться. Франкур стащил с головы одеяло. Он находился в просторном сводчатом помещении с узкими окнами-бойницами. Вдоль стен тянулись широкие деревянные лавки, столом служил массивный каменный куб. На выложенном каменными плитами полу лежал матрац, набитый соломой, выцветший, но довольно чистый, на нем — сложенное вчетверо серое солдатское шерстяное одеяло. В комнате кроме Франкура присутствовали двое. Один, с пышными седыми усами, вероятно охранник, походил на старого солдата в отставке. За широким поясом — огромный пистолет, массивная связка ключей, в руке — пузатая керосиновая лампа. Поодаль стоял второй, одетый в уже знакомый капюшон с дырками для глаз и длинный, до пола, темный плащ. «Ну так и есть, я в руках этих негодяев, — пронеслось в голове зуава. — Мне слишком много известно об их темных делишках. И они заставят меня дорого заплатить за то, что я расстроил их планы». Охранник удалился, оставив лампу на каменном кубе. — Вы действительно капрал Франкур из Третьего полка зуавов? — раздался голос из-под капюшона. Вопрос прозвучал на чистейшем французском, без малейшего итальянского акцента, которым обычно пользовались таинственные заговорщики, чтобы скрыть принадлежность к той или иной нации. — Да, это я. Но позвольте спросить, что за странное обращение с военнопленным? — Вы не обычный пленный. Начнем с того, что вы пленный не Австрии. — Чей же? — Наш. — Но почему меня держат в цепях, как дикое животное… — Вы слишком хитры, а потому меры предосторожности не будут лишними. Выдержав паузу, незнакомец продолжал: — Своими действиями вы доказали, что отважны и предприимчивы. — Вы преувеличиваете! — Вам удалось победить людей ловких и незаурядных, а самому неоднократно избежать смерти… — Мне дорога жизнь. — …так что мы обходимся с вами так, как вы того заслуживаете. — Но могу ли я узнать… — Более ничего. Наступит время, мы сообщим вам наши требования. Вошел тюремщик с корзиной, полной съестных припасов, которые разложил на столе. Чего там только не было: хлеб, ветчина, сыр, фрукты, бутылка вина и коробка сигар. Умирающий от голода и жажды капрал невольно бросил взгляд на продукты и усмехнулся: — Вижу, вы не желаете мне голодной смерти! Болонская ветчина! Я знаю в этом толк. Сыр горгонзола…[131] Вино! Сигары! Человек в капюшоне, не проронив ни слова, медленно пошел к выходу. Когда дверь за ним закрылась, старый солдат знаком показал, что пленный может поесть. — Не откажусь, старина, — громыхая цепями, Франкур подошел к столу. — Тем более что со вчерашнего утра у меня во рту маковой росинки не было. Жаль, что на меня навесили эти железки, они будут мешать наслаждаться трапезой. Тюремщик остался безучастным к словам юноши, не понимая или делая вид, что не понимает. Но, глядя, с каким аппетитом тот уплетает расставленные на столе яства, улыбнулся. Закончив ужин, Франкур выбрал сигару и выразительным жестом попросил огоньку. Бывалый солдат приблизил лампу к лицу капрала, и тот, прикурив от нее, сладострастно затянулся. — Красота! — с видом знатока произнес он, выпуская дым после нескольких затяжек. — Узнаю эти маленькие черные сигары, они называются «Кавур». Я не курил их с начала кампании. Хотите подымить со мной? Охранник молча указал на одну из бойниц, затем закрыл глаза и наклонил голову, делая вид, что спит. Посмотрев в окно, Франкур все понял. Темно-синее небо, которое еще недавно светилось звездами, стало бледнеть. До ушей зуава донеслось несмелое чириканье просыпающихся ласточек. Забрезжил рассвет. — Пора идти спать, не так ли? — спросил молодой человек. Ответом была тишина. Тюремщик не мог или не хотел говорить. — Ясно! Вы не говорите по-французски либо выполняете приказ. Меня это немного раздражает, так как я разговорчивый по натуре, и мы могли бы замечательно поболтать. Старый охранник повторил пантомиму[132]. — Похоже на настоятельный совет, — сказал Франкур. — Ладно, повинуюсь! К тому же я действительно хочу спать. И несмотря на эти «побрякушки» и соседство злобных чудовищ в балахонах с дырками вместо глаз, меня не придется укачивать. И с видом человека, которому плевать на все, не вынимая сигары изо рта, он растянулся на матрасе. Однако цепи мешали капралу расслабиться. Раздосадованный, он проворчал: — Я непривередливый заключенный, но эти проклятые железки доставляют столько неудобств… Старый охранник тихо подошел и заботливо укрыл одеялом француза, а затем удалился, не проронив ни слова. Удивленный, Франкур расположил цепи так, чтобы они не мешали, и, отложив сигару, заснул с мыслями о Беттине.
ГЛАВА 4
Семеро в капюшонах. — Версия политического убийства. — Франкур хочет быть богатым, но не ценой преступления. — Предательство или смерть. — Кинжал медленно входит в грудь молодого человека.Истекали вторые сутки заточения. Франкур ел, пил, курил, спал. Провизии было вдоволь. Но одиночество угнетало. Для энергичного, решительного и свободолюбивого француза заключение — тяжкое испытание. Если бы переброситься хоть парой слов с охранником, услышать человеческий голос! Но старый тюремщик молчал. Его отношения с пленным, вполне доброжелательные, ограничивались жестами. Франкур, уставший от безделья, раздосадованно бурчал себе под нос: — Я здесь скоро отупею и растолстею… Неужели мне придется, как Латюду или барону Тренку[133], четверть века провести в одиночной камере. Лучше смерть! Близилась ночь. Капрал поужинал, выкурил сигару и с помощью охранника расположился на ночлег. Сон не шел, и Франкур закурил снова. Звук шагов, гулко отдававшихся в тишине коридора, заставил его насторожиться. Дверь отворилась, и вошел охранник, неся с удивительной для его возраста легкостью массивный прямоугольный стол. Поставив его, мужчина направился к выходу. — Эй, папаша, — добродушно крикнул зуав, — а вы, оказывается, не из папье-маше![134] Очень мило с вашей стороны — заботиться об интерьере[135] моей тюремной камеры. Через некоторое время старик появился снова. На этот раз он притащил четыре стула и большой кусок черной материи, которой застелил стол. Ниспадавшая до земли ткань выглядела довольно мрачно. Принеся еще три стула, старый солдат расставил шесть стульев вокруг стола, а седьмой поместил напротив Франкура. — Интересная арифметика, — заметил зуав, выпуская дым изо рта, — три и четыре будет семь. Магическое число: семь грехов, семь дней в неделе, семь членов «Тюгенбунда»! Капралу показалось, что глухонемой вздрогнул, в его мутных глазах мелькнуло выражение искреннего сострадания. Тюремщик с сочувствием посмотрел на пленного. Что это значит? Старик жалел его? Жалел молодого храброго солдата, чей веселый смех и бодрый голос выдавали страстную любовь к жизни? Охранник снова вышел из комнаты и больше не возвращался. Оставшись один, Франкур принялся размышлять: что значили эти странные приготовления? Только одно: члены ассоциации намерены нанести визит. О чем пойдет разговор? Франкур дорого бы дал, чтобы узнать это. — Что ж, будем держаться! — сказал он сам себе вслух. Наконец дверь бесшумно отворилась и в камеру вошел человек в длинном черном плаще, с канделябром, уставленным горящими свечами. Незнакомец поставил канделябр на стол и жестом пригласил войти остальных. Черные силуэты бесшумно расселись вокруг стола. Капрал знал врага и не преувеличивал опасность, которой подвергался. Однако он быстро справился с приступом слабости и, решительно скинув одеяло, встал около стены. Не обращая внимания на тяжелые цепи, зуав правой рукой по-военному салютовал собранию. Незнакомцы слегка наклонили головы. Вошедший последним занял место председателя во главе стола и обратился к пленнику: — Вы действительно капрал Франкур из Третьего полка зуавов? — Я уже отвечал на этот вопрос… Да, это я. — Кое-кто из нас знаком с вами, но нужна твердая уверенность, что ошибки нет. Капрал Франкур приговорен к смерти, и мы не хотим, чтобы казнили невиновного. — Очень гуманно с вашей стороны, — съехидничал зуав. — Должен заметить, что мой товарищ Перрон был абсолютно невиновен, но умер, выпив кофе, предназначавшееся королю. Не желая вступать в спор, председатель продолжал: — Вам известны некоторые наши секреты и цель, которую мы преследуем. Вы помешали нашим людям выполнить планы, важные с точки зрения политики и дипломатии. — Я всего лишь убил бандита, который стрелял в императора… В спину! Солдат бы понял меня. Конечно, вы можете меня ненавидеть, но в глубине души, я уверен, вы уважаете солдатскую честь! — Ненависть — проявление слабости, а уважение — не более чем кокетство. Мы слишком сильны, чтобы ненавидеть, и не стали бы привозить вас сюда из-за таких пустяков. Людей оценивают по их делам. Вы — человек действия, это то, что нам нужно. Один из наших товарищей погиб от вашей пули во дворце Амальфи… — И вы хотите, чтобы я понес наказание за обе смерти и оплатил их своей жизнью? — Ваша жизнь целиком в наших руках. Но, заметьте, вы здесь уже двое суток и до сих пор живы. — Очевидно, вы готовите какую-нибудь изощренную казнь… — Это слова человека, чья голова забита театральными представлениями и приключенческими романами. Все гораздо проще, чем вы себе представляете. Мы безжалостно уничтожаем тех, кто нам мешает, но не тратим времени на то, чтобы их мучить. — Тем не менее меня заковали в кандалы, которые причиняют боль и неудобство, устроили судилище… Все это попахивает мелодрамами[136] Амбигю. — Вы скоро убедитесь в реальности происходящего. Но вернемся к тому, что касается непосредственно вас. Вы молоды, любите жизнь, и у вас наверняка есть привязанности, которыми вы дорожите. Не так ли? — Что вы имеете в виду? — Сейчас поймете. — Предупреждаю, я — солдат и привык рисковать жизнью. — Что ж, воинская доблесть заслуживает уважения, но у вас ничего нет. Вы бедны. — Это так. Ни семьи, кроме моего полка, ни денег, кроме жалованья… — А вам никогда не хотелось разбогатеть? Чтобы жить в роскоши, наслаждаться удовольствиями? Франкур удивился такому неожиданному повороту, но честно признался: — Конечно, мечты о богатстве были. И уж поверьте, если у меня когда-нибудь будет кругленькая сумма, никто лучше меня не сумеет ее растранжирить. — Капрал Франкур! Вы в тюрьме, закованы в цепи, несчастны… Ваша жизнь висит на волоске, вы умрете и никогда больше не увидите свой полк… — Зачем вы мне это говорите? — воскликнул юноша. — Чтобы вы хорошенько прочувствовали свое положение. — Это уж слишком! — Ну а теперь я скажу, что вам будет дарована жизнь и вдобавок — деньги, большие деньги… — Председатель немного помолчал. — Вы хотели бы иметь… миллион? — Я? — Да, вы. — О черт! — Миллион в твердой французской валюте, приносящий пятьдесят тысяч франков в год. — Вы шутите? — Шутить не в наших правилах. Предложение серьезное и сделано людьми, которые не привыкли обманывать ни друзей, ни врагов. — А что вы потребуете взамен? Какую подлость я должен совершить? — Опять слова… Наполеон I, погубивший миллионы людей, для вас герой, для нас — преступник. Немецкий студент Фредерик Штабе, который хотел его убить и был казнен за вторичное покушение, для нас — герой, для вас — бандит. Истина — по ту сторону, ошибки — по эту. — Значит, вы желаете, чтобы я убил кого-нибудь и сделался одновременно героем и разбойником? — Нет. — Тогда чего же? — Вы должны стать участником наших политических акций, за это — жизнь и королевская плата в один миллион франков. — Объясните! — Пожалуйста. Виктор-Эммануил и Наполеон III развязали грязную бойню, чтобы изменить границы империи. За это мы приговорили их к смертной казни. Смерть обоих монархов положит конец войне. — И вы хотите, чтобы я убил императора? — перебил говорящего капрал. — Нет. Для исполнения приговора над Наполеоном у нас есть помощники более могущественные, чем вы, и не такие дорогостоящие. Речь идет о Викторе-Эммануиле. — Вот как? — Вы ведь не питаете к королю Сардинии верноподданнических чувств? Важнейшее историческое событие должно свершиться. Но нужны исполнители. Мы выбрали вас. — Нужно еще, чтобы я согласился. — Разумеется! Однако помните, в чьих руках ваша жизнь. Подумайте хорошенько, прежде чем выбрать — мучительную смерть или роскошь и богатство. Вы достаточно умны, чтобы не прогадать. А теперь о плане действий. Король доверяет зуавам. Они входят в состав его охраны после того, как добровольно выставили караул у дворца Брюско… — И что же? — Следующей ночью вы будете нести службу у входа во дворец. Вы успеете, почтовые лошади доставят вас в Милан к рассвету. — Дальше? — К вам подойдет человек в голубой с золотом униформе императорских войск с пакетом для короля и скажет: «Я — один из семерых, тот, кого вы ждете». Он не будет знать пароля, но вы проводите его в покои короля. У дверей спальни всегда дежурит зуав или берсальер. Нужно ему сказать: «Нарочный от императора», — и посыльного пропустят. Остальное вас не касается. — И этот человек, один из вас, сидящих здесь передо мной, убьет короля? — Ну и что? Вы ведь не присягали на верность главе Савойской династии? Сразу же после завершения акции вы получите миллион франков… — Господа! — прервал незнакомца Франкур. — Ваше предложение мне не подходит. Я никогда не соглашусь на предательство. Можете делать со мной что хотите. Из-под капюшонов послышалось угрожающее ворчание. Заговорщики, до сих пор сидевшие как каменные изваяния, зашевелились. — Тише, братья мои! — успокоил их председатель. — Здесь только я один имею право говорить, приказывать и действовать! Затем, обратившись к Франкуру, спросил: — Это ваше последнее слово? — Подумайте еще… Ведь дело простое, никакого риска, а взамен — жизнь и богатство! Кроме того, мы гарантируем вам защиту и покровительство могущественной Палаты, агенты которой действуют повсюду. — Господа! Я принял решение и не изменю его, — спокойно ответил зуав. — В таком случае готовьтесь к смерти! — Пусть я умру, но честь мою не запятнает предательство! Незнакомец поднялся и вытащил из складок плаща кинжал. — Вы погибнете от моих рук, и сейчас же! Братья, держите его! В одно мгновенье руки и ноги молодого человека были схвачены словно тисками, так что он не мог пошевелить и пальцем. Главарь приставил кинжал к груди пленного. Почувствовав холод стали, Франкур невольно вздрогнул, но посмотрел на палача взглядом, полным твердой решимости. Злодей, похоже, решил продлить агонию жертвы: — Капрал Франкур! Вы все еще отказываетесь? — Отказываюсь!.. Отказываюсь! Кинжал стал медленно входить в тело. — Отказываетесь? — Да-да!
ГЛАВА 5
Игра со смертью. — Новые угрозы. — Та, которую не ждали. — «Сжальтесь, пощадите!» — После обморока. — Жизнь прекрасна рядом с любимой. — Чтобы сберечь любовь и честь. — Тайна фермы Сан-Пьетро. — Убийца и жертвы. — Мечты окончились. — Насмешка дьявола.Острие кинжала все глубже проникало в тело, вызывая нестерпимую боль. Разум восставал против насилия, молодой здоровый организм отвергал смерть. Но зуав стиснул зубы, чтобы не стонать. «Сейчас наступит конец», — подумал он. Но палач неожиданно убрал нож, проговорив что-то по-немецки. В ту же минуту Франкур почувствовал, что его никто не держит. Черные тени возвратились на свои места. — Вы — один из самых смелых людей, которых я когда-либо видел, — произнес главарь по-французски. — Нечасто встретишь человека, без страха смотрящего в лицо смерти. Сердце капрала бешено колотилось; глядя на своих мучителей в упор, он произнес приглушенным голосом: — Что вы хотите от меня? — Повиновения! — Повторяю: нет! Я сделал выбор — и вам не сломить моей воли! — Я сомну вашу железную выдержку, как соломинку! У меня есть средство… для этого. — Попробуйте! Но мой ответ будет: да здравствует король! Да здравствует Виктор-Эммануил! — Есть нечто сильнее смерти… Главарь «Тюгенбунда» сделал паузу. — Например, любовь… Капрал удивленно посмотрел на него. С видом человека, уверенного в своей победе, заговорщик повернулся к безмолвно сидящим черным плащам и приказал: — Приведите… Франкур не расслышал, кого. Двое поднялись и, шурша плащами, скрылись за дверью. У капрала защемило сердце от недоброго предчувствия. Дверь отворилась, и в камеру вошла стройная молодая женщина в сопровождении двух черных силуэтов. Франкур вскрикнул от неожиданности и, громыхая цепями, кинулся навстречу. — Беттина! О, мерзавцы! — Франкур! Дорогой Франкур… Вы здесь! Ее красивое лицо было бледно, в огромных глазах стояли слезы. Девушка, протянув руки, шагнула к зуаву, но бандиты грубо остановили ее. — Мерзавцы! Бандиты! — кричал зуав. — Что вы задумали? Юную итальянку подтолкнули к председателю. Тот медленно поднес кинжал к горлу Беттины и посмотрел на зуава. — Если вы не выполните мою волю, я убью ее на ваших глазах… Еще секунда… Ведь вы ее любите, не так ли? Негодяй слегка надавил на рукоятку, острие кинжала вонзилось в нежную кожу. Девушка вскрикнула. На белоснежный кружевной воротник скатилась капелька крови. Несчастный зуав заметался в бессилии. — Сжальтесь! Пощадите ее! — молил он. — Вы подчинитесь? Соглашайтесь, или я убью ее. От колоссального напряжения тело капрала судорожно дернулось. Тупая боль сжала виски и затылок стальным обручем, глаза заволокло кровавой пеленой, и молодой человек потерял сознание. Очнувшись, он увидел прекрасное лицо, склонившееся над ним. — Беттина! Дорогая Беттина! Это не сон, мы снова вместе? Юная красавица грустно улыбнулась. Франкур неотрывно смотрел на девушку, которая, стоя на коленях, прикладывала что-то холодное и мокрое к его лбу. Наш герой хотел прикоснуться к ее руке, звякнула цепь. Он вспомнил, где находится и что его ждет. — О, если бы только я один страдал и подвергался смертельной опасности… Но вы! Дьявол! Черные силуэты исчезли, и в камере оставались лишь двое пленников. Палачи придумали для них самую изощренную пытку — человеческим достоинством и любовью, пытку, которую могли выдержать лишь самые благородные и мужественные сердца. Бандиты рассчитывали, что Франкур, поняв, что навсегда потеряет ту, которую так сильно любит, изменит решение. Сколько времени влюбленным дано провести вместе? Может, несколько часов… может быть, день… А что потом? Вдруг Франкур в отчаянии заломил руки. — Они хотели заставить меня участвовать в убийстве короля! Я отказался! Предлагали в награду миллион — я не принял его. Тогда мне пригрозили смертью, и я с честью был готов умереть. Теперь они хотят ценой вашей жизни заставить меня совершить ужасное преступление! — Вы не обидитесь, если я спрошу? Не засомневались ли вы в какой-то момент? — Пока речь шла о моей жизни — нет! Но когда привели вас… — Моя жизнь имеет ту же цену, что и ваша. Умереть за родину — счастье. Я умру, как моя мать и как многие другие женщины, ставшие жертвами австрийских оккупантов. Король Сардинии — символ свободной Италии. Поэтому да здравствует король! — Но я хочу, чтобы вы жили, Беттина! Я люблю вас, люблю больше всего на свете! Больше полка, больше знамени… Да, любовь к вам дороже моей собственной чести и достоинства. Я не могу допустить, чтобы они уничтожили красоту. Вы должны жить! — Не говорите так! Ваша любовь мне дорога так же, как и честь. — О Беттина! Так прекрасно находиться подле вас! Жизнь — счастье, когда вы рядом. — Мимолетные мечты солдата! У нашей любви нет будущего… Она обречена захлебнуться в крови и слезах. Недолговечна, как те чудесные цветы, которые распускаются всего на один день, восхищая всех своей красотой и ароматом. — Но почему мы должны быть жертвами обстоятельств, безвольно подчиняться судьбе? Ни вы, ни я не сделали ничего дурного в своей жизни, никому не причинили зла! За что Провидение наказывает нас? — Друг мой, нас преследует не судьба, а ненависть могущественных людей, чьи преступные планы мы столько раз разрушали. — По отношению ко мне это справедливо, я признаю. Но как случилось, что их жертвой стали вы, живущая во дворце Амальфи, как королева? — Последнее время меня стали подозревать… Наверное, потому, что плохо удавалось скрывать радость при известиях о победах французских войск в Ломбардии. А когда те двое — глава «Тюгенбунда» и мажордом — погибли от вашей руки, подозрения превратились в уверенность. Бандиты догадались, что это я помогла вам бежать из дворца. В день, когда состоялся торжественный въезд французских войск в Милан, заговорщики лишили меня свободы. Я не знаю даже названия города, в котором мы с вами находимся. Возможно, Плезанс или Кремона, а может быть, Брешиа… Им стало известно о чувстве, которое нас связывает, и они рассчитывают, что вы станете его рабом. Но мы не должны позволить осквернить нашу любовь преступлением! — Но как вы очутились среди убийц и изменников родины? Видя, что девушка колеблется, он ласково поцеловал ее руку, которую держал в своей. — Прошу вас, говорите, любимая моя! Девушка помогла Франкуру сесть и, отодвинув цепи, взяла его руки в свои. — Вы сказали, — начала она, — что во дворце Амальфи я жила, как королева. А знаете ли вы, что эта королева не имеет никакого состояния, а была и остается беднее всех крестьян Ломбардии. После подавления восстания в Брешии все наше имущество было захвачено австрийскими солдафонами. Мой дядя, граф ди Сан-Жермано, приютил мою мать и меня. — Граф ди Сан-Жермано? Отец того негодяя, которого мы взяли в плен? — Нет, его дядя… — Значит, этот бандит… — Мой кузен[137]. После шести месяцев мучений моя несчастная мать умерла от боли и стыда. Я осталась одна. Меня воспитывали из милости, любили по обязанности… Все, кроме дочери графа, кузины Берты. Воплощенная доброта, она стала мне родной сестрой. Мы росли вместе: Берта, я и Стефано, так звали нашего кузена, такого же бедного сироту, как и я. Два года тому назад Берта вышла замуж за Фабиано Гандольфини, молодого патриция из Милана, богатого и красивого, патриота в душе. Вскоре у них родился ребенок. Счастье семьи омрачила внезапная смерть графа ди Сан-Жермано. Берта, ее муж и я были потрясены случившимся. Стефано, казалось, скорбел вместе с нами. — Вы сказали «казалось»? — Да! Сейчас для меня очевидно, что Стефано убил своего благодетеля. Здоровье Берты, подорванное переживаниями об отце, стало слабеть. По совету врачей она вместе с мужем и ребенком переехала на ферму Сан-Пьетро, родовое поместье Сан-Жермано. Я продолжала жить во дворце, выполняя обязанности по хозяйству. Вскоре мне стало известно, что мой кузен, чья фамилия восходит к древнему итальянскому роду, общается с австрийскими пособниками, борющимися против патриотов. Пользуясь подземными переходами, тайниками и подслушивающими устройствами, я проникла в ужасные планы Стефано и его сообщников. Но что я могла сделать? Проводя время то в замке, то на ферме — всего лишь дюжина лье отделяет Милан от Палестро, — я продолжала тайные наблюдения. Потом началась война. Ошеломительные победы французов в Монтебелло и Палестро, их стремительное продвижение вперед напугали австрийцев. Они закрыли Милан — ни войти, ни выйти. Я очень беспокоилась за Берту, Фабиано и малыша, зная, что они находятся в центре военных действий. Наконец мне удалось выбраться из Милана и приехать на ферму. — Где вы спасли меня от верной гибели! — Я узнала о смерти моих близких, о счастливом спасении младенца, о подземелье, где происходило тайное заседание убийц. Мое сердце разрывалось от горя, но я вынуждена была вернуться в Милан. В замке меня ждала новость: Стефано нагло присвоил наследство дяди. Без сомнения, это он убил Берту и Фабиано, чтобы захватить их имущество. Теперь ему осталось устранить единственного законного наследника — ребенка. Его сообщники выкрали у вас мальчика. Но Сан-Жермано не повезло: ваши товарищи захватили негодяя в плен. Больше я ничего не смогла разузнать. За мной следили, не позволяли выходить… — Теперь все понятно! Я обошел весь дворец от подвала до чердака, а с вами не встретился. Мне сказали, что вы уехали… А я так хотел обрадовать вас, ведь малыш нашелся. Какая-то женщина из народа подбросила его Мак-Магону. Сейчас он в безопасности, под бдительной охраной зуавов. — Нашелся! Мой маленький ангел спасен! О Господи! Благодарю от всей души! Сан-Жермано не опасен, он в плену, а мой любимый мальчик снова в надежных руках. Едва Беттина произнесла последние слова, за дверью раздался сардонический хохот[138]. Девушка испуганно прижалась к Франкуру. Продолжая хохотать, в камеру вошел человек в маске.
ГЛАВА 6
Франкур против незнакомца в капюшоне. — Покушение на убийство в порыве ярости. — Выстрел. — Неожиданная помощь. — Свободны! — В старой башне. — Переодеться, чтобы не быть узнанными. — Дядюшка Джироламо и племянник Флорентино. — Десять лет назад. — Благодеяние не забывается.Беттина и Франкур сидели, прижавшись друг к другу, и капрал чувствовал, как дрожит его подруга. — Беттина, не бойтесь! Это обыкновенный мерзавец, который подслушивал, стоя за дверью! — воскликнул зуав, больше желая уязвить вошедшего, чем успокоить девушку. — Мерзавец? В вашем положении следовало быть более сдержанным. — О Боже! Этот голос… — прошептала Беттина, холодея от страха. — Мне он тоже знаком! Похоже, мы уже встречались. Вошедший снял маску и встал лицом к свету. Юная синьорина и зуав одновременно вскрикнули: — Стефано!.. — Пленный! — Собственной персоной и к вашим услугам, дорогая кузина, — с иронией произнес итальянец. — Да, пленный, господин Франкур! — Негодяю удалось сбежать! — воскликнул капрал. — Ничего подобного! Я спокойно ушел через дверь. В награду за представленные сведения,которые не имеют ничего общего с действительностью, меня проводили до переднего края и отпустили… безо всяких условий. И вот я здесь, слушаю ваше милое воркованье. Трогательная сцена: французский солдат и бедная итальянская девушка! — Подлый немецкий прислужник! — Поберегитесь! — бандит сжал кулаки. — Ваше счастье, что я скован цепями! — Ладно, ладно, — миролюбиво сказал Стефано. — Не будем ссориться. Мне нужно только, чтобы вы скрепили подписью соглашение и — возвращайтесь в свой полк! — Если бы не цепи, вколотил бы я эти слова в вашу изменническую глотку! Побледнев от злости, итальянец скрипнул зубами и с кулаками бросился на зуава. Тот презрительно усмехнулся: — Чтобы ударить меня, вам придется подойти очень близко… Но вы не осмелитесь, потому что боитесь. Вы — трус! — Я заставлю вас жестоко заплатить за оскорбления! — Не думал, что вы их почувствуете: ваша натура им полностью соответствует и не способна воспринимать оскорбления, как спина осла побои кнута. — Ну это уж слишком! — взорвался итальянец. — На меня возложили миссию[139] посредника, но теперь — к черту переговоры! Я прикончу обоих! В ярости он схватил девушку за руку и поволок на середину комнаты. Беттина закричала. И в это мгновение грянул выстрел, предатель Стефано рухнул замертво. — Меткое попадание! — заметил капрал. — Он мертв. Слава Богу! — вздохнула юная итальянка. Сквозь рассеивающийся дым они увидели стоявшего в дверях охранника с массивным ружьем. — Как, старина, это вы? По правде говоря, выстрел пришелся как нельзя кстати и остановил подлеца. Франкур решил, что охранник убил Стефано, потому что отвечал за безопасность пленных, принадлежащих его хозяину. Старый солдат достал связку ключей и, выбрав нужный, открыл замо́к на наручниках капрала, а затем расстегнул кандалы на ногах. — Бедные дети! — сказал он по-итальянски, с нежностью посмотрев на молодых людей. — Вы довольно страдали. Будьте же свободны! — Вы дарите нам свободу? — не веря собственным ушам, в один голос воскликнули Беттина и Франкур. — Да. Но нужно уходить немедленно! Следуйте за мной! В порыве признательности Франкур и Беттина по очереди пожали руку тюремщика, шепча слова благодарности. — Идемте же, — прервал их старик, — если вам дорога жизнь. Темными коридорами он вывел их к каменной лестнице. К счастью, беглецы никого не встретили на пути: благодаря толстым каменным стенам, выстрела не услышали. Поднявшись по лестнице вслед за старым солдатом, они вошли в просторную полукруглую комнату, скромно обставленную, но опрятную. Железная кровать, стол, платяной шкаф — вот и вся мебель, что в ней была, на стене висели сабля и солдатский ранец. — Где мы? — спросила Беттина. — В знаменитой старой башне Торразо де Кремона, хранителем которой я являюсь. Это мои апартаменты — две комнаты и кухня. — Вы живете один? — Да, синьорина. Один с тех пор, как потерял жену и единственного сына. — Простите ради Бога, я причинила вам боль своим вопросом. — Нисколько, синьорина, воспоминания согревают мне душу. Но ближе к делу! Вам необходимо переодеться: униформа выдаст вас, капрал. Да и девушку может узнать кто-нибудь из семерки. В соседней комнате вещи моего бедного сына, они подойдут вам, синьорина. Беттина послушно удалилась. Старик достал из шкафа ворох поношенной полугражданской-полувоенной одежды и отдал Франкуру. Ботинки на шнурках, брюки из серой ткани, старый белый пиджак и шляпа с петушиным пером сделали капрала неузнаваемым. Внимание зуава привлекли лежащие на одной из полок кларнет[140] и очки с голубыми стеклами. — Могу я одолжить у вас эти предметы? — Берите все, что вам нужно. — Благодарю. А теперь внимание! Достав носовой платок, Франкур завязал левый глаз, а поверх повязки надел очки. — Ну что? Чем не бродячий артист? Приложив инструмент к губам, молодой человек извлек несколько звуков. Из соседней комнаты вышла одетая подростком Беттина. Она выглядела очаровательно и сознавала это. Увидев капрала в новом обличье, девушка воскликнула: — Франкур, дорогой, вы великолепны! — Правда? Я буду дядюшкой Джироламо, бродячим музыкантом, а вы — моим племянником Флорентино, который водит меня по улицам городов, по дорогам и проселкам. Я буду играть на кларнете, вы — петь, и так, путешествуя от деревни к деревне, мы доберемся до французской армии. — Браво! Ваш план замечателен! Но если вы будете говорить по-итальянски, все сразу поймут, что вы — француз. — Но я могу быть из Савойи, там говорят по-французски. — У вас на все готов ответ! Что ж, попрощаемся с нашим благодетелем и — в путь! — Но мне необходимо взять солдатскую одежду. — И я не хочу оставлять мое платье. Старый охранник подал капралу сумку. — Вы можете сложить сюда ваши вещи. Но если кто-нибудь обнаружит их, вас могут обвинить в шпионаже. И тогда — немедленный расстрел без суда и следствия. — Такой довод меня не остановит! А вас, любимая? — Меня тоже, — храбро ответила юная итальянка. — В таком случае уложим нашу одежду. Вот, готово! Закрываю все в азор, который пришел к нам из других времен, из другой страны. — Азор? — Зуавы так называют заплечную сумку. Итак, дядюшка Джироламо и племянник Флорентино отправляются в путь! — Да, да. Идите, идите! — поторапливал их тюремщик. — Мы бесконечно признательны вам, дорогой спаситель! — произнесла Беттина, пожимая старику руку. Тот с нежностью посмотрел на нее. — Я счастлив, что помог вам и заплатил священный долг, — растроганно ответил охранник. — Долг? — Да, синьорина. Я — австриец. Десять лет тому назад сержантом я находился среди тех, кто осаждал восставшую Брешию. Во время приступа меня тяжело ранило на баррикадах, и я попал в руки итальянцев. Репрессии осаждаемых были ужасны. Но сопротивление бунтовщиков превосходило их. Никакой пощады, убивали всех, кто оказался в плену. Меня, умирающего и истекающего кровью, собирались расстрелять. Смерть не пугала меня, но я горевал о моих жене и сыне. Одна добрая женщина, пожалев, вытащила меня из-под пуль, перевязала, залечила раны… То была графиня ди Сан-Жермано. — Мама! — Да, синьорина, ваша благородная, святая мать. Завоеватели обошлись с ней бесчестно. Я случайно узнал ваше имя и решил спасти, чего бы мне это ни стоило… А теперь уходите, скорее! — Но что будет с вами, благородный человек? — Я убил одного из членов Палаты, теперь моя жизнь в их руках. Будь что будет! И пусть вас не мучают угрызения совести, я выполнил свой долг, и совесть моя чиста. Смерть не страшит меня. Прощайте, дети мои, и будьте счастливы!
ГЛАВА 7
На просторах Ломбардии. — «Итальянская шпионка». — Старая проклятая башня. — Наполеон III полагается на обстоятельства. — Боевой порядок. — Главная цель сражения — массив Сольферино. — Дуэль двух императоров. — Жестокая битва. — 350 тысяч воинов.Головокружительная скорость, с которой развивались события, выбивала противника из колеи. Члены «Тюгенбунда» не ожидали, что Виктор-Эммануил так быстро покинет Милан и присоединится к армии, которая увлечет его далеко на Восток. Для такого отважного и темпераментного[141] солдата существовал один закон: наступление, он стремился туда, где кипела самая ожесточенная борьба. Чтобы подбодрить своим присутствием войска, король в три дня одолел расстояние в двадцать лье, отделявшее Милан от Брешии. Более уравновешенный Наполеон III следовал за ним из солидарности и чувства долга, не желая оставлять союзника, отвага и безрассудство которого могли завести далеко. Но судьба была благосклонна к потомку дома Савойя: австрийцы все отступали и отступали. Боевые действия по-прежнему велись вслепую. В Генеральном штабе французской армии ничего не знали о местонахождении противника, да и не слишком старались узнать: зачем беспокоиться, если все идет хорошо? Войска пересекли воды Адды, Серио, Ольо и Меллы, не встретив на пути сколько-нибудь серьезного сопротивления. Неприятель продолжал отходить. Кое-какие сведения об австрийской армии все же доходили до командования: император Франц-Иосиф[142] дал отставку главнокомандующему Джиулаю и сам занял его пост; австрийская армия пересекла реку Минчо. Наполеон III беседовал в ставке с полковником Туром, венгром по происхождению, состоявшим на службе в итальянских войсках, старым волком австро-итальянской кампании. — Сир! Тедески обязательно вернутся, поверьте мне. Они навяжут нам сражение в окрестностях Сольферино…[143] Там находится «La spia d’Italia» — «Итальянская шпионка», важный стратегический объект. Это высокая башня, построенная когда-то герцогами Мантуи, с нее видны окрестности на двадцать лье. Так что местность вокруг Сольферино австрийцы знают как свои пять пальцев, в лагере Шалон им знакомо каждое деревце, все выступы и овраги. — Значит, вы полагаете, они появятся? — Абсолютно уверен, что австрийцы вновь перейдут через Минчо и атакуют нас по всей линии. Император отнесся к словам Тура скептически, но принял к сведению. Памятуя об уроке, полученном в Мадженте, он решил на всякий случай перегруппировать войска. Итальянская армия рассредоточилась вдоль железной дороги недалеко от озера Гарда, в городах Кальчинсето, Десензино и Лонато и на дороге в Ривольтелло. Первый французский корпус Бараге-д’Илье стоял в Ро, Второй Мак-Магона занимал плацдарм рядом с Кастенедоло на дороге Брешиа — Мантуя[144]. Канробер с Третьим корпусом засел в Меззане, а Ниель, командовавший Четвертым, который охраняли с флангов две кавалерийские дивизии, — в Карпенедоло. Императорская гвардия с генеральным штабом находилась в Монтикьяри. На 22 июня такой порядок казался идеальным. Правый фланг был выдвинут вперед, Второй корпус стоял на одной линии с Пьемонтской армией, Четвертый корпус опирался на Второй, а Третий — на Четвертый. В случае нападения на фланги эти три подразделения, осуществив частичное захождение одного за другой, оказывались на ломаной линии Кастенедоло — Карпенедоло — Меззане и вовлекались в сражение. Кроме того, императорская гвардия и две дивизии кавалерии в любую минуту готовы были прийти им на помощь. Противник не давал о себе знать. Император с королем поехали на разведку в сторону озера Гарда, но вернулись ни с чем. Находившийся в ставке главнокомандующего воздухоплаватель Годар[145] получил распоряжение надуть свой монгольфьер[146], чтобы с высоты осмотреть через подзорную трубу окрестности. Годар заметил на краю долины лишь трех всадников и сделал вывод, что основные силы противника далеко, очень далеко. Напрасно подеста[147] Сольферино, участвовавший в эксперименте с запуском воздушного шара, уверял, что противник снова пересечет Минчо, напрасно доказывал, что позиция Сольферино имеет огромное стратегическое значение, и умолял занять ее как можно скорее. Его никто не слушал. Сведения Годара на всех подействовали успокаивающе. Император отдал приказ выступать на следующий день в два часа ночи, не подозревая, что может натолкнуться на неприятельскую армию. Предполагалось, что Виктор-Эммануил отправится в Поциоленго, Бараге-д’Илье — в Сольферино, Мак-Магон — в Кавриаго, Канробер — в Медоле, Ниель — в Джиддиццоло, а гвардейцы займут позицию в Кастильоне. Все считали, что переход будет легким и много времени не займет. Но случилось то, во что Наполеон III не желал поверить. Австрийская армия, повернув назад, вновь пересекла Минчо и перешла в наступление. Даже когда на берегу появились белые мундиры, император продолжал упорствовать, считая такой маневр невозможным. На следующее утро вся береговая линия Минчо была оккупирована неприятелем. Наполеону III ничего не оставалось, как признать факт его присутствия. Противник занял Поциоленго, Сольферино, Медоле. Тридцать тысяч пехотинцев, кавалеристов и артиллеристов выступили из Мантуи, угрожая отрезать путь генералу Ниелю. Двадцать четвертого июня в три часа утра Мак-Магон, поднявшись на мост Медолано, увидел вдалеке над долиной облако пыли. Это двигалась австрийская армия. Генерал приказал своему ординарцу капитану Абзаку предупредить императора. Капитан галопом поскакал в Монтикьяри, где находилась резиденция Наполеона III. Выслушав донесение, император недоверчиво покачал головой. — Нет!.. Не может быть! Наверное, арьергард или какой-нибудь отряд. — Извините, сир! Это вражеская армия в полном составе. Ее видно насколько хватает взгляда… Вы слышите? Это пушки! Военные действия начались! Глухие взрывы, как раскаты грома далекой грозы, раздавались один за другим. На взмыленных лошадях прискакали посыльные Ниеля и Бараге-д’Илье, чтобы доложить обстановку. — Сир, сражение началось! Император был потрясен случившимся. Наскоро приведя себя в порядок, он вскочил в повозку и помчался в Кастильоне, где находились его офицеры и гвардейцы. По прибытии Наполеон немедленно поднялся на колокольню; Его взору открылось широкое пространство, по которому двигалось многочисленное войско противника. Справа над долиной нависала темная цепочка горных вершин. Остроконечные скалы чередовались с лесистыми пологими склонами, на одном из которых высилась вросшая в землю старая квадратная башня, прозванная «Итальянской шпионкой», символ австрийской тирании. Рядом белело большое пятно — кладбище, к которому вела кипарисовая аллея. Интуиция подсказывала, что именно старая башня является ключевым объектом, который необходимо захватить во что бы то ни стало. Бой кипел. Среди воинов, принявших первый удар, уже были жертвы. Слева внизу Пьемонтская армия под командованием Бенедека отстаивала Сольферино, отбиваясь от шестидесяти тысяч воинов. Ежеминутно рискуя жизнью, Виктор-Эммануил с непокрытой головой и с саблей наголо скакал по полю. То там, то тут мелькала его львиная шевелюра и мощный торс, а громовой голос призывал: — Вперед, Савойя! Вперед! Да здравствует свобода! Задавшись любой ценой выбить Бенедека из Сан-Мартино, берсальеры уже несколько раз безуспешно штурмовали горы. Множество воинов сложили свои славные головы под адским огнем противника. В центре Мак-Магон предпринял лобовую атаку на холмы, среди которых возвышалась зловещая башня, но натолкнулся на отчаянное сопротивление белых мундиров. На правом фланге генерал Ниель отбивался от трех австрийских корпусов, которые пытались вытеснить его из Кастильоне. Сорок два орудия семи французских батарей без устали палили по наступавшему стеной противнику. Артиллеристы, скинув куртки и расстегнув воротнички, метались в дыму и пламени от ящиков со снарядами к старым, трудным в управлении пушкам. Битва продолжалась уже десять часов, и передышки не предвиделось. Наполеон со своего наблюдательного поста видел императора Австрии, следившего, как и он, за ходом сражения. Большинство мужественно выполняли свой долг, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что у них при свисте пуль и грохоте канонады не билось учащенно сердце. Но как говорил «отважный из отважнейших» маршал Ней: «Какой храбрец осмелится заявить, что никогда не испытывал страха?» Находились и такие, которые дезертировали с поля брани, но трусы составляли меньшинство. Главный удар австрийцев пришелся на корпус генерала Ниеля, что стоял на левом фланге французской армии. В жестоком бою французы то отступали, то наступали, то сдавали позиции, то вновь отбирали их у неприятеля. И все же численное превосходство противника заставило Ниеля отступить, чтобы сберечь силы. К императору прискакал гонец с просьбой о подкреплении. — Никакого подкрепления я ему не дам, — спокойно ответил Наполеон III, — и передайте генералу, что я рассчитываю на него. Пусть держится до конца. Через полчаса положение ухудшилось. К главнокомандующему примчался адъютант. — Сир! Генерал Ниель уничтожен и не может более удерживать позицию. — Пусть держит во что бы то ни стало! — хладнокровно сказал император. Ниелю удалось сделать невозможное и отстоять позиции. Но какой ценой! Героизм его подчиненных превзошел все мыслимые и немыслимые пределы. Вскоре третий посыльный офицер предстал перед величественной персоной. — Сир! — вскричал он, задыхаясь. — Корпус погибает! Перед нами сорок тысяч белых мундиров… Если ваше величество не даст нам помощи, левый фланг будет отрезан… — В руках генерала Ниеля — ядро баталии. Передайте ему, что героизм его солдат поддерживает боевой дух всей армии. Пусть преградит путь неприятелю, — таков был приказ императора. Сорок тысяч австрийцев были остановлены, так как дальнейшее продвижение стало невозможным… из-за горы трупов. Солдаты Ниеля своими телами загородили путь врагу.
ГЛАВА 8
Герои. — Страсти вокруг знамен. — Славная смерть. — Героические усилия не приносят желаемой победы. — Зуавы. — «Заряжай!» — Гибель полка. — Оторва и знамя. — Подвиг Обозного. — Пушки с нарезными стволами. — Французский флаг над Сольферино.Пока Виктор-Эммануил слева, а Ниель справа прилагали все силы, чтобы остановить продвижение австрийской армии, Первый, Второй и Третий корпусы французов бились за Сольферино. Интенсивная ружейная стрельба перекрывала грохот канонады. Протрубили атаку, и в бой вступила пехота. Зуавы Первого полка пять раз шли в наступление и вновь возвращались на прежнюю позицию. Полковника Бренкура, командовавшего штурмом, ранили в плечо. Его хотели унести, но он сказал: — Я останусь со своими солдатами, пока жив, пока есть хоть капля крови! Полковник опасался, что у его подчиненных не хватит духу на шестой штурм. Об отваге этого человека и его умении воодушевлять солдат ходили легенды. — Пусть четыре сапера, — приказал командир, — поднимут меня на плечи, чтобы весь полк мог видеть… Вот так! Хорошо! Теперь знамя… рядом! Вперед! Так, на руках своих солдат, полковник возглавил новый штурм. Генерал Дье был смертельно ранен, капитана Антонелли снарядом разорвало пополам. Поле битвы являло собой ужасающее зрелище: туловища без конечностей, вывороченные внутренности, лужи крови, искаженные предсмертной судорогой лица. Когда у пехотинцев Пятьдесят пятого полка кончились патроны, полковник Мальвиль быстро перестроил дивизию в две колонны и повел в штыковую атаку. Однако вскоре батальонам пришлось отступить. Тогда отважный командир схватил знамя и побежал вперед, не обращая внимания на град пуль. Одна, пробив древко, сразила храброго офицера. Несчастный успел только крикнуть «Вперед!» и умер. Гренадер Бежо подхватил знамя, но тотчас был убит. Полковой штандарт поднял лейтенант Тесье, но и он упал замертво. Наконец барабанщику Нивону удалось передать знамя лейтенанту Сесерону, вокруг которого сгруппировались остатки батальонов. Смешанный полк вновь бросился в атаку. А там, где удалось потеснить противника, собирали военные трофеи. Лейтенант Монеглие с отделением пехотинцев гвардии захватил четыре пушки, гвардейские стрелки Монтийе — знамя противника. Сержант Гарнье из десятого пехотного батальона завладел знаменем полка Густава Ваза, в котором раньше по иронии судьбы служил герцог Рейхштадт, сын Наполеона I[148]. Молодой отважный красавец принц Виндишгрец вел свой полк в атаку на французов. Светлые кудри развевались на ветру, статную фигуру облегал белый, расшитый золотом мундир. У стен фермы Сан-Мартино командир приказал солдатам приготовиться к штурму. В тот же миг пуля пробила принцу грудь. Чувствуя, что умирает, он, как и полковник Бренкур, попросил своих солдат нести его на руках впереди полка. Однако, несмотря на героические усилия, австрийцам пришлось отступить, оставив золотой штандарт французским пехотинцам. Его захватил солдат Семьдесят шестого полка Дрейер. Войска как с одной, так и с другой стороны то отступали, то вновь шли в наступление. Второй полк шесть раз разбивал усилия австрийцев, пехотинцы Седьмого полка предприняли контратаку, с яростью обрушившись на противника. Шестой полк наступал на деревню. В штыковом бою погибли тридцать офицеров Восьмого полка. Пушечное ядро, угодив в середину Тридцатого полка, произвело настоящее опустошение. Тяжело раненный полковник, падая, крикнул: — Заполнить прорыв! Не дайте врагу пройти! Тридцать четвертый полк отбил у неприятеля позицию на холме. При этом погиб младший лейтенант, знаменосец Нарден. Древко подхватил лейтенант Риш, но вскоре был убит. Тридцать седьмой полк, беспрестанно перезаряжая ружья, медленно, но упорно продвигался вперед. Впереди шел небольшой авангард — двенадцать человек под командованием сержанта Жерара. Шестьсот австрийцев, измученные стойкостью противника, воткнули штыки в землю, не желая продолжать битву. Пушки грохотали, сотрясая воздух и поливая свинцовым дождем деревья и дома, поля и сражавшихся на них людей. В Кавриане шла настоящая бойня. Полковника Дуайя тяжело ранило. Пытавшийся объединить разрозненные части своего полка полковник Журжон был убит. Командир Сорок шестого полка полковник Брутто скакал впереди своих батальонов, когда осколком от разорвавшегося снаряда пробило ткань флага; другой попал в голову командиру. Тюркосы творили чудеса военного искусства. Ничто не могло остановить их натиск — ни потеря пятисот солдат, ни гибель командира полковника Лора, о воинской доблести которого ходили легенды по всей африканской армии. Впрочем, арабы жестоко отомстили за смерть любимого полководца. Семьдесят восьмой полк атаковал башню и кладбище. Орудийные залпы не остановили порыв французов. — Сомкнуть ряды! В штыковую! Восемьдесят седьмой полк, обстрелянный из пушек, продолжал наступление. — Сомкнуть ряды! Сомкнуть ряды! В штыковую! — эхом прокатилось по войскам. Сотый полк штурмовал деревню. Полковника Абатюсси убило осколком разорвавшегося снаряда. Потеряв половину численного состава, полк перестроился. Из-за домов на наступавших обрушился град пуль. Орел на ткани доблестного штандарта вмиг был изрешечен пулями, знаменосец — тяжело ранен. Солдат Толе подхватил знамя, но в ту же минуту упал с пробитой головой. Удержал стяг старый сержант Бураке, получивший награду еще за битву в Крыму. Несмотря на героические усилия, у французских солдат не было уверенности в победе. Враг не уступал ни в силе, ни в храбрости. Дивизия Винда дралась уже восемь часов подряд. Бойцы падали с ног от усталости, жары и жажды. Чтобы дать им передышку, кто-то должен был принять огонь на себя. На это решилась кавалерия. Восемь полков под командованием генерала Дево пришли на помощь своим соотечественникам. Прозвучала команда, заставившая вздрогнуть чистокровных скакунов: — Заря…жай! Пронзительно затрубили рожки; полки гусар, африканских и французских стрелков, перескакивая через рвы и овраги, заборы и виноградники, смерчем обрушились на австрийцев. Белые мундиры перестроились в квадрат. Войско в таком боевом порядке подобно двигающейся крепости, утыканной ружьями в два ряда, из которых ведется беспрестанная стрельба. Напарываясь на штыки, смертельно раненные кони сбрасывали своих седоков, и те кубарем летели в пыль. Но солдаты смыкали ряды и вновь бросались в атаку. Напрасно вражеская батарея открыла яростную стрельбу из гаубиц, Первый полк африканских стрелков, несмотря на огромные потери, уже проник в глубь австрийского боевого построения. Африканцы рубились не жалея сил. Под их бешеным натиском артиллеристы, бросив свои гаубицы, кинулись наутек. Шаг за шагом французская армия приближалась к массиву[149] Сольферино. Предстоял штурм башни. Зуавы, построившись перед кипарисовой аллеей, ожидали приказа. Старина Раймон курил свою вечную трубку; Обозный прикладывал платок к кровоточащему левому уху, которое задела пуля. Оторва в тунике нараспашку, уперев острие сабли в край ботинка, стоял перед своими подчиненными. Подбежал Питух с флягой. — Капитан, не желаете глоточек? — Можно. Фляга перешла к Обозному, потом — к Раймону, который, отхлебнув, вернул ее капитану. — Черт побери! Пить хочется, как будто во рту раскаленная лава![150] — сделав глоток, Жан передал флягу стоящему рядом солдату. — Передай товарищам! Эх, если бы наш бедный Франкур был здесь! — Да… — подхватил Обозный. — Хорошо, если он в плену, а не погиб. Пока жив, буду помнить о нем… Звук рожка не дал юноше договорить. — Смирно! Зуавы замерли в тревожном волнении. Каждый понимал: сейчас начнется беспощадная схватка с врагом, и все желали, чтобы это был последний, решающий штурм. Прозвучали сигналы трубы:
ГЛАВА 9
Беглецы. — Встреча с патрульными. — Путешествие с полком хорватов. — Франкур-кларнетист. — «Итальянская шпионка». — Панорама сражения. — Капрал не может усидеть на месте. — Неужели победа? — Еще один франко-итальянский союз.Франкур и Беттина оказались среди ночи на улицах Кремоны[152]. Они не знали, куда идти, и некоторое время стояли, словно не осмеливаясь нарушить тишину звуком своих шагов. Но стоило беглецам пройти несколько десятков метров, как их тут же остановил ночной патруль. Недаром старый солдат предупреждал, что в Кремоне полно австрийцев. На вопрос «Кто идет?» Беттина ответила нараспев плаксивым голосом, с характерным для итальянских нищих говором: — Господа хорошие, пожалейте двух несчастных… Сержант, командовавший патрулем, подошел ближе и спросил по-итальянски: — Кто такие? Нищие? — Он слепой… А я веду его… Нужда толкнула нас просить подаяние… — Слепой или нет, — сказал сержант, немного смягчившись, — следуйте за мной. — Santa Madonna![153] Куда вы хотите нас отвести, господин офицер? — Per Baccho![154] На пост, чтобы удостовериться, что вы действительно те, за кого себя выдаете. — Клянусь вам, это мой дядя Джироламо, а я — Флорентино, сын его родной сестры Гаэтаны… — Ты все тараторишь и тараторишь, мальчуган! А твой дядя что же, язык проглотил? — Господин офицер, я не сказал вам, что мой бедный дядя лишен не только зрения, но и голоса… Судьба обошлась с ним очень жестоко, а ведь он еще молод. Проявите сострадание к несчастному! — Хорошо, хорошо, я верю тебе. Но все равно надо пройти на пост, таков приказ. Патруль препроводил лженищих к месту назначения. Пост располагался в просторном доме на площади, запруженной подводами, на которых стояли пушки. Беглецов допрашивал старший офицер. — Кто вы? Откуда и куда идете? Беттина — Флорентино отвечала уверенно, ничем не выдавая себя, а в заключение как бы между прочим добавила: — Мы были в Плезансе, а потом пошли в Милан через Лоди и… повстречали французов… Заметив на моем дяде старый белый мундир, полученный им от австрийских солдат вместе с ранцем, набитым разным барахлом, они нещадно избили нас. И мы вернулись во владения щедрых австрийцев, которые угостили нас тарелкой супа, а дядя в благодарность сыграл им на кларнете… — Хорошо, хорошо, — офицер вполне поверил маленькому цыганенку, простодушно рассказывавшему о своих злоключениях. — А теперь куда держите путь? — Куда позовет нас Бог… и куда вы разрешите нам идти, ваша милость… — Ладно. Пока останетесь на посту, а потом вместе с солдатами, которые доставили вас сюда, пойдете в Мантую. Как только мы перейдем на другую сторону Минчо, вы свободны. Слушая офицера, Франкур — Джироламо думал: «Белые мундиры отступают. Стало быть, веревочка на их шеях затянулась и песенка спета. Ну и трепку же мы им задали! Но, черт побери, они еще встретятся с Третьим полком зуавов, лучшим во всей Франции! А пока неплохо бы позабавить наших попутчиков». Почтительно поклонившись офицеру, капрал принялся наигрывать песенку «Шагайте, ножки». Беттина запела, имитируя задорный мальчишеский тенорок. Приятная быстрая мелодия и незатейливые слова имели большой успех. Солдаты слушали, одобрительно кивая, а когда мнимый слепой музыкант закончил играть, наградили исполнителей бурными аплодисментами. Недоверие и настороженность, с которыми пришельцы были встречены, сменились симпатией и сердечностью. Их пригласили присесть и отдохнуть. Большинство солдат говорили на вполне понятном итальянском языке, так как это были выходцы из пограничных с Италией областей: фриуланы[155], далматы[156], хорваты[157], и хотя они одевались в белые мундиры, всегда носили с собой свернутый исключительной красоты красный плащ. Солдаты попросили спеть еще. Музыкант и его племянник не заставили себя долго упрашивать и исполнили сначала «Эх, есть сапожки, Бастьян!», глупую песенку, обошедшую всю Европу, затем «Шапочку Маргариты». Бой барабанов неожиданно прервал концерт. Прозвучал сигнал подъема. Небо на горизонте посветлело, занималась заря. Австрийские войска готовились к выступлению. Хотя к гостям относились доброжелательно, однако не спускали с них глаз. Получив от заботливых хорватов солидную порцию кофе с пирожками, друзья подкрепились перед дорогой. Их устроили в багажной повозке. Благодаря таланту «слепого» дядюшки Джироламо, бродячие музыканты пользовались большой популярностью среди солдат; друзей поставили на довольствие, и они получали питание почти наравне со всеми. Молодые люди не переставали помышлять о побеге, но удобного случая не представлялось, так как стратегическое маневрирование полка проходило то в авангарде, то в арьергарде. Сначала войско двигалось вдоль берега реки Минчо, затем, дойдя до Валеджо, круто повернуло вправо и по «strada cavallara»[158] направилось прямиком в Сольферино, прибыв туда 23 июня во второй половине дня. Хорваты расположились в постройках неподалеку от «Итальянской шпионки» и приготовились к обороне. Бродячих музыкантов на время заперли в башне. Предчувствуя скорую баталию, Франкур волновался. Он подошел к Беттине и, убедившись, что их никто не видит и не слышит, прошептал: — Дорогая, близка наша свобода! — Что вы хотите сказать, Франкур? — В воздухе пахнет порохом, думаю, не пройдет и суток, как начнется сражение. Зуав подвел девушку к окну. — Взгляните, вон там, за кладбищем, французы выстраиваются в боевой порядок. — Священная война за итальянскую независимость! — Да, последний бой… И несмотря на то, что мне бесконечно приятно ваше общество, я сожалею, что не могу присоединиться к своему полку. Но при первой же возможности я скину повязку и очки, достану из сумки мою старую униформу — и бродячий кларнетист вновь превратится в капрала Франкура! — Я пойду вместе с вами на смертный бой! — Вы самая бесстрашная из женщин, моя любимая! И все же, прошу вас, держитесь подальше от пуль и снарядов. В убежище, где сейчас находится ваш племянник, вы могли бы перевязывать раненых и утешать умирающих. Но сначала надо выбраться отсюда. Перейти из одного лагеря в другой через линию фронта даже под покровом ночи считалось маловероятным. Существовал, быть может, один шанс из пятидесяти, да и то для самых отчаянных. Поразмыслив, Франкур решил не рисковать жизнью девушки, да и своей тоже, а положиться на волю случая. Наконец сражение началось! Капрал прильнул к бойнице и следил за движением белых мундиров и красных штанов, которые, топча посевы, то выстраивались в колонны, то перестраивались в ровные ряды, то формировали небольшие ударные группы, перемещаясь с одного места на другое. Подъезжали повозки с пушками. Посыльные офицеры метались от Генерального штаба к командирам подразделений. На равнине, насколько хватало глаз, вдаль и вширь простирались многочисленные войска, войска, войска… Клубы тяжелого дыма медленно плыли в перегретом воздухе баталии. Прогремели выстрелы, появились густые облачка с яркими языками пламени, выдавая месторасположение больших батарей. По мере приближения воинские подразделения выглядели все отчетливей, уже можно было разглядеть каждого солдата в строю. Внимание капрала привлекла большая группа сражающихся. Каски и латы так сверкали на солнце, что все формирование походило на огромное граненое зеркало. — Это гвардейцы, значит, император там! — прошептал Франкур. — Я вижу его! И тотчас воскликнул: — Тысяча чертей, а вот и зуавы! В это же мгновение сильный взрыв потряс до основания «Итальянскую шпионку». Беттина, вскочив, еле удержалась на ногах. В ответ укрепившиеся в постройках около башни хорваты открыли адский огонь по противнику. Переживая за товарищей, молодой человек в бессилии сжимал кулаки. Как ему хотелось быть там, в гуще сражения, чтобы поддержать однополчан. Орудия австрийской батареи, развернутой у стен башни, поминутно изрыгали огонь. Артиллеристы без передышки заряжали, целились, стреляли, затем банили[159] ствол орудия и начинали все сначала. То и дело прибегали посыльные офицеры с распоряжениями из генштаба. Выйдя из укрытий, хорваты спустились в долину, чтобы отрезать правый фланг четвертого корпуса французов. Кавалеристы генерала Дево рубились отчаянно и смело, но на смену погибшим австрийцам приходили новые полки. Капрал увидел, что зуавы и гвардейские стрелки выстраиваются в боевой порядок, готовясь к штурму башни. Другие формирования спешили к ним присоединиться: из Кавриано двигались шпалеры[160] тюркосов; сквозь фруктовые сады Сан-Кассиано продирались стрелки; линейные солдаты спустились в овраги Гроля и Сан-Мартино, чтобы тотчас появиться близ массива Сольферино, над которым возвышалась «Итальянская шпионка». Перестрелка возобновилась с новой силой. Франкур видел, как зуавы бросились на штурм старой башни, и мучительно переживал свое бездействие. Звучали фанфары, горнисты шли и впереди и позади полка, музыка и бой барабанов перекрывали грохот орудий. Белые мундиры открыли яростную стрельбу, затем в бой вступила батарея противника. Остановленные неприятельским огнем французы вынуждены были отступать, оставляя на земле багровый след — кровь солдат доблестного полка. Франкур больше не мог оставаться на месте. Схватив ранец, он на ходу крикнул Беттине: — Дорогая, оставайтесь здесь, я скоро вернусь! По полуразрушенной каменной лестнице капрал быстро поднялся наверх. Там, вытащив из ранца форму, он прямо поверх брюк натянул красные шаровары, затем одел жилет, мундир, украшенный медалями, и феску. Несмотря на предостережения, Беттина последовала за ним и теперь с восхищением и тревогой смотрела на возлюбленного зуава. — Друг мой, что вы собираетесь делать? — с беспокойством спросила девушка. — Как, вы здесь? Ладно, сейчас увидите. В мгновение ока молодой человек влетел в просторный зал, где расположились артиллеристы. Они только что произвели залпы и теперь, подгоняемые командирами, вновь заряжали пушки. Направив на солдат пистолет, капрал громовым голосом прокричал: — Бросай оружие, или всех перестреляю! Затем, обернувшись, скомандовал воображаемому войску: — Вперед, зуавы! Вперед! Решив, что сейчас сюда ворвется целый полк «шакалов», обескураженные австрийцы бросились вон. Один из офицеров, вытащив из-за пояса пистолет, попытался восстановить порядок. — Ни с места! — вскричал он, целясь в капрала. Из темноты коридора прозвучал выстрел, и офицер упал замертво. Паника среди артиллеристов усилилась. Никто не сомневался, что вражеский корпус проник в башню. Объятые страхом австрийцы думали только об одном — поскорее вылезти наружу. Солдаты толкались, спотыкались и падали. Около сорока человек были затоптаны насмерть. В дверном проеме появилась Беттина с пистолетом в руке. Франкур рассмеялся: — Похоже, вы захватили «La Spia d’Italia»… Теперь надо закрепить победу. Капрал быстро развернул две пушки в сторону убегавших австрийцев, прицелился и, взявшись за шнур запального устройства, сказал подруге: — Дорогая, возьмите шнур другой пушки и по моей команде дерните изо всех сил. Не страшно? — С вами я ничего не боюсь. — Отлично! По врагам вашей родины — огонь! Бу-у-ум — прозвучал первый хлопок, и орудие откатилось назад. Бу-у-ум — тотчас прогремел второй. Как и предполагал зуав, паника усилилась. Белые мундиры бежали с массива Сольферино. «Итальянская шпионка» оказалась в руках освободителей. — Надо подать знак нашим, что башня свободна, но как? — Спустить трехцветный флаг, — предложила Беттина. — Точно! Синий — это мой пояс. — Белым может послужить мундир дядюшки Джироламо. — Браво! А красным будет кусок хорватского плаща. Молодой человек скрепил кое-как три части в единое целое и, перепрыгивая через ступеньки, помчался наверх. Еще минута — и он стоял под открытым небом. Когда трехцветный флаг взвился над зубчатыми стенами, раздались возгласы: — Башня взята! Победа! Победа! Зуавы увидели стоящего наверху однополчанина: — Франкур! Живой! Смотрите, это Франкур! Да здравствует капрал! Он что-то кричал им в ответ, махая своей красной феской. — Капитан, может быть, исполнить ригодон? — спросил сержант-горнист у командира. — Давай! Приложив инструмент к губам, Питух протрубил перед двумя тысячами зуавов задорную мелодию в честь героя недели, а затем — в честь знамени полка. У взволнованного капрала бешено колотилось сердце. С глазами, полными слез, он спустился вниз. Беттина успела переодеться и в своем женском наряде выглядела восхитительно. Отважный француз подал подруге руку. — Любимая, идемте. Я представлю вам мой полк! Первым, кого они увидели, был Оторва. Отдав честь командиру, Франкур сказал: — Мой капитан, это синьорина Беттина, патриотка, тетя нашего приемного сына Виктора Палестро. Она любезно согласилась стать моей невестой. Легендарный командир, весь в саже и порохе, вытянулся по стойке «смирно» и саблей приветствовал друга и его избранницу, а «шакалы» хором гаркнули: — Да здравствует Франция! Да здравствует Италия! — Да! Да здравствует Франция, — повторил Жан Бургей, — которую так достойно представляет Франкур, и да здравствует Италия, котораятак благородно воплотилась в вас, синьорина… Да будет благословен ваш франко-итальянский союз!
Конец третьей части
Эпилог
Битва при Сольферино завершила двадцатипятидневную кампанию, которая велась под барабанный бой. Великая битва принесла великую победу. Но это была и жестокая битва: на поле сражения осталось свыше 35 тысяч воинов: союзники потеряли 1816 человек, австрийцы — приблизительно восемнадцать тысяч[161]. Одиннадцатого июля в Виллафранке[162] два императора подписали мирный договор. Однако победа французов не принесла результата, на который рассчитывали итальянцы. По Виллафранкскому договору свободу получала только Ломбардия. Когда-то Наполеон III говорил: «Я хочу видеть Италию свободной до Адриатики», но остановился на полпути: слишком многих жертв стоили ему победы в Италии. Однако если достигнутый мир горьким эхом отозвался в сердцах итальянских патриотов, то амбиции французов были вполне удовлетворены. Для многих из них опасная военная прогулка закончилась трагически, оставшиеся же в живых сошлись на том, что кампания затянулась и пора возвращаться на родину. Память погибших героев почтили возложением венков на могилы, живые получили награды — от маленьких безделушек, забавлявших и тешивших самолюбие солдат, до маршальского жезла, врученного генералу Ниелю. Обозного произвели в капралы за спасение знамени полка и жизни командира. Сравнявшись по званию с Франкуром, он теперь командовал отделением. Кроме того, толстяк получил боевую медаль, которая, правда, радовала его меньше, чем генерала Ниеля — маршальский жезл. Лучшей наградой босеронцу был бы уход из армии и возвращение к занятию землепашеством, но он прослужил всего восемь месяцев, до демобилизации оставались долгие шесть лет и четыре месяца[163]. Тут в дело вмешалось Провидение в лице Франкура, которое всегда следит за судьбами своих подопечных и порой исполняет заветные желания. Франкур женился на прекрасной Беттине, которой возвратили имущество ее семьи, отобранное австрийскими завоевателями. Таким образом, капрал неожиданно разбогател. Однако это не помешало ему остаться добрым и чутким товарищем. Узнав, что Обозный не может осуществить свою мечту из-за отсутствия денег, он заплатил выкуп досрочного освобождения от воинской повинности и за себя, и за друга. Теперь Франкур управляет поместьем, приумножает свои капиталы. Больше всего на свете он любит молодую жену и приемного сына Виктора Палестро. Его новые обязанности сильно отличаются от тех, что молодой человек выполнял в полку, будучи капралом зуавов, но он с ними прекрасно справляется. Виктор-Эммануил не забыл своего крестника и сделал ему царский подарок. Все хорошо, что хорошо кончается. После воцарения мира «Тюгенбунд» не обнаруживал себя. Члены таинственной Палаты исчезли так же загадочно, как и появились. Они уже не могли помешать осуществлению великого политического акта, коим стало освобождение Италии[164].Конец

Луи Буссенар ИЗ ПАРИЖА В БРАЗИЛИЮ ПО СУШЕ
Часть первая ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ И АЗИЮ[1]
ГЛАВА 1
Внезапная остановка. — Смелый поступок капитана Еменова. — Водолазы в скафандрах. — Чудовищный приказ. — Каторжники под конвоем. — Ссыльные. — Отверженные. — Песня русских каторжан. — На допрос. — Пристрастие в суждениях. — Упоминание о Бразилии. — Путешественники или заговорщики? — Русские или французы?— Стой! — Повелительный голос рассек, словно хлыстом, серую мглу. — Что там еще? — долетело из саней, мчавшихся во весь опор. И хотя кучер не знал языка, на котором была произнесена эта фраза, интуитивно он тотчас схватил ее смысл. — Да ничего, — ответил возница, продолжая нещадно гнать лошадей. — Эй, залетные! — Стой! — повторил угрожающе тот же голос. — А ну, смелей, голубчики! — кричал ямщик, надеясь проскочить мимо. Но тут грянули выстрелы, и сквозь тяжелые хлопья падавшего снега блеснули стволы ружей. Сани едва не наткнулись на штыки стоявших полукругом людей. Перепугавшись, кучер попытался притормозить, переходя, как и все русские мужики в таких случаях, на странное тремоло:[2] — Тпру-у-у! Вожжи, которые извозчик натянул что есть мочи, лопнули. Казалось, катастрофа неминуема, но наперерез коням бросился высокий человек, в длинном тулупе и меховой шапке, сдвинутой на лоб. Обычно в русские сани запрягают тройку лошадей: посередине, меж оглоблями, — сильного и быстрого коренника, по обе стороны от него — лошадей помельче, но идущих тем же аллюром. Оглобли соединены высокой подковообразной дугой с подвешенным в центре колокольчиком, оглашающим своим звоном многие километры. Крепко охваченному упряжью, крепящейся к оглоблям и дуге, и вынужденному при натянутых вожжах держать морду вверх, кореннику не повернуть шею ни вправо, ни влево, тогда как пристяжные могут, обернувшись, увидеть кучера. Внезапно появившийся незнакомец, похоже, хорошо знал поведение животных в упряжке: не колеблясь ни минуты, он железной хваткой сжал кореннику ноздри — самое чувствительное место у лошади, и тот упал на колени. Сани, продолжая движение по инерции, подпрыгнули и перевернулись, несмотря на специальные брусья, приделанные по бокам для устойчивости. Извозчик, сидевший, как обычно, на облучке, полетел в снег. — Ну что, ребятки?! — произнес тем же командным, но уже с примесью иронии, тоном смельчак, остановивший коней. — Вздумали улепетнуть от самого капитана Еменова?! Слишком молоды еще, ангелочки! Да-да, слишком молоды, чтобы объегорить старого сибирского волка! Ну а теперь выбирайтесь — и ко мне! Живо! Из-под саней раздавались стоны. Ездокам непросто было выполнить приказ грозного капитана. — Ну а вы что стоите? — бросил он солдатам. — Чем пялить глаза, разберитесь с колымагой! Вытащите бедолаг, войдите в их положение! Солдаты, из казаков, стоявшие полукругом, тотчас накинулись на повозку: били прикладами, руша каркас, сдирали плотную внутреннюю обивку из фетра, швыряли на снежный ковер поклажу. Именно так, очевидно, поняли они приказ «разобраться с колымагой». Капитан Еменов бесстрастно взирал на валявшиеся в причудливом беспорядке чемоданы из мягкой кожи, тулупы, подбитые каракулем шубы, валенки, подушки, матрасы, мешки и кулечки, консервные банки, конусовидные головки сахара, колбасы, бутылки водки, коробки с печеньем и чаем, топоры, молотки, веревки и распростертые недвижно тела приезжих, выглядывавшие из-под клади, припасенной в расчете на длительное путешествие по бескрайним студеным просторам. Мы сознательно не касаемся пола горемык, поскольку определить его в тот момент не представлялось возможным: путники были столь заботливо укутаны в меха, что стали толще по меньшей мере вдвое и напоминали, скорее всего, водолазов в скафандрах. — Ни рукой, ни ногой не шевелят! — пробормотал офицер. — Неужто преставились? Но тревога оказалась ложной: казаки хорошенько встряхнули злосчастных ездоков, распахнули им одежды, растерли снегом лица и руки, и бедняги, громко чихнув, возвестили о своем возвращении из небытия. — Где мы? Что, черт возьми, происходит?! — воскликнул кто-то по-французски. — Право, понятия не имею, — раздалось в ответ. Увидев, что сани разломаны, вещи разбросаны, а взмыленных лошадей, мелко дрожавших от холода, держат под уздцы солдаты, первый из пострадавших возмутился: — Опять все не так! Ну и страна! И где этот кучер? Я пожалуюсь властям! Кто здесь за главного? — Заткнись! — оборвал его капитан Еменов, переходя на французский. Держась строго, хотя происходившее явно его забавляло, офицер обратился к солдатам: — Отведите мерзавцев на постоялый двор. За них отвечаете головой, ясно? Если в мое отсутствие попытаются бежать или заговорить с заключенными — стреляйте. И помните, за каждого убитого — награда в пять рублей. Не обращая более внимания на подчиненных, капитан повернулся и пошел прочь. Ножны его сабли слегка позвякивали, задевая о голенище сапога. Снег падал тяжелыми хлопьями. И без того сумрачный день стал еще темнее. Надвигалась ночь. Не успев оправиться после падения с саней, путешественники оказались в плену. Совершенно сбитые с толку, они шли в окружении солдат и ничего не понимали, кроме того, что последствия ареста могли оказаться самыми плачевными. Сквозь вьюгу, бившую в лицо, виднелись шесты, расставленные на некотором расстоянии друг от друга, чтобы не сбиться с пути. Ужасная, изрезанная глубокими обледенелыми колеями дорога вела к однообразным бревенчатым домикам — избам, построенным в строгом соответствии с архитектурными сибирскими традициями. Утоптанный снег хранил множество следов: недавно здесь явно прошла многочисленная группа людей. Казаки ускорили шаг, повернули направо и минут через пятнадцать, миновав овраг, вышли на площадь, по одну сторону которой виднелась разрушенная церковь, по другую — мрачного вида здание. У путешественников от жгучего морозного воздуха захватило дыхание, хотелось немного отдохнуть. Но суровые конвоиры, помня о приказе командира, не дали им остановиться. Было ясно, что, если пленники сами не пойдут, их поволокут силой. Едва французы со стражниками направились к зловещему строению, как на дороге появилась рота вооруженных солдат. Одетые в длиннополые шинели, они четко печатали шаг, глубоко вдавливая в снег кованые каблуки. Следом, едва держась на ногах, колонной шли бедные, измученные люди. — Каторжники, — шепнул один из пленников своему товарищу. Тот как раз, чтобы не упасть, вцепился, ища опору, в торцы бревен, выпиравших из придорожной избы. Повстречавшихся арестантов московские судебные власти приговорили к каторжным работам в Забайкалье, обрекая на муки и безвременную смерть в ледяном аду, именуемом Восточной Сибирью. Серые армяки, легкая обувь, наполовину обритые головы, обмороженные лица. На ногах кандалы с цепью, прихваченной у пояса веревкой. Кое-кто из заключенных обернул железные кольца тряпьем: этим счастливчикам удалось собрать милостыню, и кузнец за соответствующую мзду изготовил им оковы чуть пошире. Ножные кандалы дополнялись наручниками, соединенными столь короткой цепочкой, что держать руки можно было только спереди. Находившихся в одном ряду — от шести до восьми человек — приковали друг к другу. Стоило кому-то оступиться, как общий ритм движения нарушался и оковы впивались в кожу, покрытую язвами от постоянного соприкосновения с металлом, заставляя заключенных корчиться от жгучей боли. Жестокость, с какой этих обездоленных заковали в железо, преследовала вполне определенную цель — отвратить даже мысль о побеге. За скорбной партией каторжан в таких же серых кафтанах, только с желтым квадратом на спине, брели ссыльные, или, как их еще называют, поселенцы, осужденные на бессрочное жительство в Сибири. Желтый лоскут — единственное, что отличало одну категорию отверженных от другой, поскольку у ссыльных — те же кандалы, так же разбитая в дороге обувь и те же муки. По обе стороны колонны выстроились два ряда солдат. Они шли, посвистывая или напевая, и не задумываясь пристрелили бы каждого, кто отклонился бы с пути. Тем более что пять рублей, положенные за убитого при попытке к бегству, представляли собой солидное состояние, вполне достаточное, чтобы в течение месяца утолять вечно мучащую казаков жажду. В обозе плелись отобранные у крестьян из соседних деревень низкорослые сибирские лошадки — худые, измученные, с грязной шерстью — и натужно волокли за собой повозки с жалким скарбом поселенцев, а то и с умирающим, чье источенное хворью тело подпрыгивало на каждой рытвине, приумножая страдания несчастного. За повозками тащились жены поселенцев, согласившиеся следовать в этот горестный край. Кое-кому из них посчастливилось за особую мзду пристроиться среди клади рядом с больными, которых знобило от холода и недомогания. Большинство же шли пешком. Женщины вели за руку детей. Бедные малыши спотыкались, падали. Тогда матери — отцы ведь не могли выйти из колонны — брали их на руки и несли то на спине, то на плечах, пока сами не валились от усталости. Замыкала шествие еще одна группа военных. Конвоиры со свойственной российской солдатне грубостью подгоняли отстававших ударами приклада. Поднадзорные хрипели от изнеможения и, то и дело оступаясь, продолжали покорно брести по обледенелым рытвинам, пока в их телах еще теплилась жизнь. Брошенные по дороге трупы быстро укрывались снежным саваном, и было ясно, что с наступлением темноты их разорвут на куски оголодавшие волки. Прижавшись к избе, испуганные, потрясенные чужеземцы наблюдали зловещую картину, не отваживаясь высказать вслух мучившую каждого из них мысль: «И я могу оказаться среди этих страдальцев!» Колонна — пятьсот обреченных на муки человек — остановилась на площади, и к небесам внезапно взмыла мелодия — скорее рыдание, нежели песня: это каторжники и ссыльные затянули известную всем русским узникам «Милосердную» — своего рода моление о помощи. Раз услышав сию душераздирающую, наподобие мизерере[3], жалобу, исполненную под зловещий аккомпанемент кандального звона в торжественно-возвышенной манере псалмопения, ее уже не забудешь. Простые, неоднократно повторяющиеся слова, по-детски наивно повествующие о постоянно испытываемых каторжниками муках, не могут оставить равнодушными крестьян из расположенных окрест деревень. Заслышав горькую песню, сибиряк тотчас откликается на нее всей душой, не задаваясь вопросом, за что понес узник столь жестокое наказание. Ему, всю жизнь гнувшему спину в суровом северном краю, по собственному опыту знакомы невыносимые тяготы, обрушившиеся на бедных заключенных. Одни обездоленные внимают мольбе других. И то старик инвалид, то широкоплечий рабочий, а то и полунищая вдова с низким поклоном подносят узнику скромную милостыню — медяк или кусок черного хлеба. Солдаты, в точном соответствии с приказом, запрещавшим общение задержанных с осужденными, растолкали прикладами каторжников, с удивлением поглядывавших на странных подконвойных, и привели путешественников к дому, где их ждал офицер. На улице уже совсем стемнело, и капитан Еменов, готовясь к встрече, осветил свою скромную обитель на полную мощь, что вообще-то не принято в этих краях. Сбросив енотовую шубу, он остался в синем мундире с золотыми пуговицами, туго подпоясанном ремнем. На ногах — сапоги со шпорами. Одетый как на парад, офицер стоял возле огромной, основательно сложенной печи, в которой потрескивали круглые сосновые поленья. Рядом на огромном столе лежали бумаги, прижатые за неимением пресс-папье тяжелым револьвером. Солдаты, стянув с пленных шубы, подтолкнули чужеземцев в широко распахнутую дверь и, сами оставшись в прихожей, опустили ружья. Даже не кивнув в ответ на вежливое приветствие, начальник конвоя, словно полицейский, видящий людей насквозь, пронзил задержанных взглядом своих бледно-голубых глаз. Вопреки ожиданию, лица приезжих, небольшого роста, но крепко скроенных и далеко не первой молодости, излучали искренность и доверие. Прежде всего капитан обратил внимание на их бороды — такие же, как у мужиков, с той, однако, разницей, что аккуратно ухожены: у одного — белокуро-золотистая, у другого — черная как смоль. Видно было, что оба привыкли к опрятности — первому условию комфорта. Тонкие, «аристократические» руки, элегантные, сшитые по фигуре дорожные костюмы. В общем, пленники явно были не из простонародья. Какое-то время капитан пребывал в задумчивости. Несколько раз провел рукой по седеющим бакенбардам, касавшимся, как у всех казаков, пышных усов. Потом, картинно развернув плечи, сказал по-русски в свойственной ему грубоватой манере: — Кто вы? — Месье, — твердым голосом, но почтительно произнес по-французски блондин, — я имею честь сообщить вам, что ни я, ни мой друг не знаем русского. И поэтому вынуждены просить вас обращаться к нам на нашем языке, которым вы, как и многие ваши соотечественники, превосходно владеете. — Ого, а вы хитрее, чем я думал! — воскликнул офицер. — Ну что же, буду задавать вам вопросы по-французски, хотя мне ничего не стоит научить вас правильной русской речи: достаточно лишь призвать в учителя Ивана. У него одно средство обучения — кнут, которым солдат владеет отменно! — Кнут, сказали вы?! — побледнев от возмущения, переспросил блондин, его же товарищ, не такой смелый или более впечатлительный, растерялся. — Да, кнут! — Похоже, я сплю или вижу сны наяву. Сколь бы ни были склонны к злоупотреблению властью российские служащие, ваша угроза представляется мне неуместной шуткой, если только… — Если — что? — Если только мы не стали жертвами недоразумения. — Неплохо вошли в роль! Ни один подданный его императорского величества не решился бы говорить так со мной, его скромным представителем, а посему слова ваши заставляют меня задуматься, кто же вы на самом деле. Может, действительно иностранцы, за коих выдаете себя? — Я уже сказал и повторяю: мы — французы. В этом легко убедиться, заглянув в наши документы, которые в саквояже. Не набросься на нас ваши люди со свойственной казакам грубостью, мы бы давно уже предъявили вам паспорта. Капитан молча вытащил из-под револьвера одну из бумаг и ровным, беспристрастным голосом принялся читать, обильно уснащая письменный текст личными комментариями: — «Среднего роста»… Так и есть… «Оба с бородой. Блондин и брюнет. Весьма активны, особенно блондин. Исключительно хитры… В равной степени превосходно владеют несколькими иностранными языками…» Покончив с описанием примет, офицер сказал самому себе: — Это, конечно, они, голубчики! Интересно, надолго ли им хватит выдержки? Но вначале позабавимся: ведь развлечения так редки в этом проклятом краю! — Затем он промолвил как можно мягче: — Итак, согласно вашему заявлению, вы — французы? — Я уже сказал вам это. — И как же вас зовут? — Меня — Жюльен де Клене, его — Жак Арно. — Прекрасно! И путешествуете вы ради удовольствия? — Не совсем так. У Жака Арно дела. Я же действительно сопровождаю своего друга для собственного — и надеюсь, и для его — удовольствия. — Неплохо у прохвоста подвешен язык! — пробурчал капитан себе в усы. — Но хорошо смеется тот, кто смеется последний! — И снова обратился к Жюльену — Не будет ли нескромностью узнать, куда вы направляетесь? — Что ж тут нескромного? В Бразилию! Капитан ждал любого ответа, но только не такого. Собеседник вроде бы находился в здравом уме и твердой памяти, и разговор происходил не где-нибудь, а в сибирской избе, недалеко от города Томска, на 56° северной широты и 82° восточной долготы. Словом, капитан буквально онемел. И неудивительно: название далекой солнечной страны слишком уж контрастировало с этой пышущей жаром печью, у которой пытались, хотя и без особого успеха, отогреться трое пришедших с мороза мужчин. — В Бра… в Бразилию?! — заикаясь, произнес офицер. — Но в Бразилию не едут… — По суше? Конечно! Тем более что Азию от Америки отделяет Берингов пролив — пятьдесят с чем-то километров. Но мы пересечем его зимой, по льду. Мой друг не переносит морской качки, почему и занесло нас в самый центр Сибири, где нам и представилась возможность познакомиться с вами. Все это было сказано с чарующей легкостью, свойственной парижанам, всюду чувствующим себя как дома. Капитан, долго сдерживавший себя, взорвался: — Хватит, негодяй! Я люблю посмеяться, но шутки мои, как у медведя, с когтями и клыками! Не выношу, когда из меня дурака делают! Нет, довольно уж! Не удался вам маскарад! Ты, так называемый Жюльен де Клене, — Алексей Богданов, студент из Риги. А ты, Жак Арно, — Николай Битжинский, студент из Москвы! И оба вы — из кружка нигилистов[4], участвовали в заговоре против родимого нашего царя-батюшки! Приговоренные к пожизненной каторге, вы неделю назад бежали из Томска. Ну как, неплохо осведомлен я обо всем, касающемся вас? На крик прибежал унтер-офицер — на всякий случай. — Это ты, Миша? — взяв себя в руки, бросил капитан Еменов. — Забери голубчиков да отправь по этапу. Поскольку здесь у нас нет ни цепей, ни кузнеца, свяжи их покрепче по рукам и ногам, а уж в Красноярске их закуют в железо. И предупреди старосту: он головой ответит за них.
ГЛАВА 2
Ужасная дорога в Сибирь. — Два года в пути. — Две тысячи лье[5]пешком и в цепях. — Забота русской администрации о ссыльнокаторжных. — На этапе. — Неистовое усердие капитана Еменова. — Подобие ада. — Староста. — Полковник Сергей Михайлов. — Сокрытие побегов начальниками конвоя. — Солидарность несчастных. — Копилка нищих. — Проблеск надежды.Не собираясь специально описывать зловещий сибирский путь по этапу, мы, со ссылкой на вполне достоверные источники, коснемся только тех данных, которые необходимы для ясности нашего повествования. Двадцать лет тому назад осужденные на каторгу или ссылку весь путь от Москвы до места отбывания наказания проходили пешком. А это ни много ни мало — две тысячи лье до Забайкалья и две тысячи двести — до города Якутска. Вы не ошиблись, даже самое короткое расстояние — две тысячи лье, или восемь тысяч восемьсот километров, составляет едва ли не четвертую часть земного экватора! Одни партии арестантов находились в дороге два года, другие — два с половиной. Но с тех пор администрация произвела кое-какие изменения, к несчастью, скорее видимые, чем подлинно положительные. Согнанных отовсюду заключенных отправляют теперь на пароходиках вверх по Каме, одному из притоков Волги, везут из Перми до Екатеринбурга через Урал по железной дороге и затем на повозках доставляют в Тюмень, откуда начинается нескончаемо долгий речной путь на баржах — сперва по реке Тобол до города Тобольска, далее по Иртышу до Самарского — места впадения этой реки в Обь — и, наконец, вверх по Оби до Томска. Услышав о таких переменах, некоторые могут подумать, что осужденные избавлены от дорожных мук, поскольку их доставляют на транспортных средствах поближе к месту изгнания. Какой-нибудь умник, демонстрируя неуместный оптимизм, может даже воскликнуть: «Им остается пройти лишь последнюю часть пути — уже после Томска!» На самом деле до поселений вдоль реки Кара — три тысячи восемьдесят километров, или девять месяцев пешего пути. Если же место назначения — Якутск, то пройти придется еще больше — четыре тысячи шестьсот восемьдесят километров. Воистину, бескрайние пространства России то и дело заставляют нас удивляться. Но, по мнению администрации, и Якутск еще слишком близок от Москвы, и политических заключенных отправляют теперь в Верхоянск и Нижнеколымск — в край полярной ночи. Следовательно, к вышеприведенным четырем тысячам шестистам восьмидесяти километрам, отделяющим Томск от Якутска, надо прибавить еще две тысячи триста двадцать километров — от Якутска до Нижнеколымска. Приплюсовав к 4680 километрам 2320 километров, получим семь тысяч километров, или 1750 французских лье, что примерно совпадает с названной вначале цифрой в две тысячи лье. Для того чтобы преодолеть подобное расстояние пешим строем, требуется два года. Разве мы неправы, отмечая, что улучшение условий доставки заключенных к месту их постоянного пребывания скорее видимое, чем истинное? Да и можно ли вообще говорить о каком бы то ни было улучшении после прочтения книги русского писателя Максимова?[6] Три тома его сочинений, рассказывающие о поселениях в Сибири, стали надежным источником сведений, хотя он лишь приподнял завесу над реальным положением дел. Максимов подробнейшим образом описывает ту часть пути, которую преодолевают на повозках. Он сообщает, как каторжане в один голос называют это транспортное средство машиной, словно специально придуманной, чтобы мучить людей и тягловых животных. Попадая то в одну рытвину, то в другую и словно перебирая колесами клавиши пианино, повозки громыхают то по белым, то по черным переброшенным через топкую болотистую жижу бревнам. Телеги медленно плетутся от одного арестантского барака до другого, выматывая душу из осужденных, которым, едва прикрытым лохмотьями, приходится в любую погоду просиживать неподвижно прикованными друг к другу на узкой скамейке по восемь — десять часов. Что же касается плавучих тюрем — барж, доставляющих осужденных из Тюмени в Томск, — то они не лучше повозок. Каким бы ни был хорошим сам замысел сократить пеший путь, его реализация не дала ощутимых результатов, особенно с точки зрения гигиены: из-за немыслимой тесноты баржи становятся настоящими рассадниками заразы. По прибытии в Томск, откуда и начинается пеший путь протяженностью в два года, каторжников и ссыльных в течение нескольких дней разбивают на отдельные группы — в зависимости от конечного пункта их назначения. Одна из партий таких осужденных, вверенная усердному, но туповатому капитану Еменову, двадцать шестого ноября 1878 года выступила в направлении к Якутску. Этот солдафон, прослуживший в армии до седых волос и привыкший за долгие годы к ужасам этапирования ссыльнокаторжных, был в отвратительном настроении — худшем, чем обычно. Дело в том, что двум приговоренным к каторжным работам участникам заговора нигилистов, которых побаивался сам царь, обманув бдительность старого служаки-исправника, удалось бежать из томского острога[7], а поиски их до сей поры ничего не дали. И перед тем как отправиться в путь, капитан Еменов получил от исправника — начальника уездной полиции — предписание принять участие в розыске государственных преступников и задерживать всякого, кто покажется подозрительным. А по дороге из Семилужного в село Ильинское Еменова нагнал примчавшийся на взмыленном коне вестовой с известием о том, что беглецы движутся тем же маршрутом, что и колонна. Документы у задержанных были в полном порядке. При въезде в село Ишимское путешественники даже представили подорожную[8] с печатью. Но разве не бывает так, что злоумышленник, стараясь скрыться от правосудия, заранее обзаводится всеми необходимыми документами? Пометка в паспортах этих так называемых французов действительно подтверждала их заявление о том, что они направляются к самому северному мысу восточного побережья Сибири. Но кто поверит, что французы, изнеженные существа, отважились вдруг пересечь бескрайний континент, да еще зимой! Прямо курам на смех! Чего ждешь, тому и веришь! И после краткого допроса у начальника колонны, как казалось ему, появились достаточно веские основания для ареста подозрительных лиц, и при этом Еменова не мучили угрызения совести, если таковая еще у капитана имелась. Потрясенные неожиданным поворотом судьбы, не оправившиеся еще от падения, от резкой смены жары в избе и холода на улице, напуганные до смерти, путешественники сразу же были отправлены в арестантский барак. Подобные заведения тюремного типа — деревянные строения за высоким забором — располагаются по пути следования колонны приблизительно через каждые пятнадцать километров и служат для этапников местом дневного или ночного отдыха. В Ишимском селе своеобразный придорожный острог, сооруженный более тридцати лет назад, измочаленный непогодой и повидавший на своем веку многие тысячи ссыльнокаторжных, прогнил от пола до потолка. Снег, подтаивая, сочился с крыши изо всех трещин, образуя на полу зловонную лужу, в которой толклись не менее пятисот заключенных, хотя барак был рассчитан только на сто пятьдесят человек. Распахнув дверь грубым ударом, казак увидел направившегося к нему навстречу высокого, обнаженного по пояс старика. — Ты староста? — Да. — Капитан велел вручить тебе этих двоих. Присмотри за ними. Главное, чтоб не сбежали. Хотя капитан тебе доверяет, но велел все же сказать, что ты отвечаешь за них головой. — Ладно. Сильная рука втолкнула задержанных в зловонное помещение, и дверь захлопнулась. На них тотчас пахнул сырой горячий воздух, густо пронизанный смрадом от массы людской — от гнойных ран и грязных лохмотьев. Голову словно стянуло обручем, в глазах помутилось, легкие отказались дышать ядовитыми миазмами[9], и не успели путешественники сделать и шага, как неловко взмахнули руками и, потеряв сознание, повалились на лежавшие недвижно тела ссыльнокаторжных. Когда несчастные открыли глаза, то пришли в ужас: столь невероятной казалась представшая их взору картина. Вдоль стен по обе стороны от входа располагались нары — сбитые из сырых, осклизлых досок полати. На грубых лежаках валялись вповалку этапники. Те, кому не хватило места на убогом настиле, устроились в грязи под нарами или в проходе. Руки и ноги их были стерты в кровь. Из-за жуткой жары бедняги сбросили с себя влажную одежду, заменившую им матрас. Тяжело, со свистом, вздымалась и опускалась их грудь с резко выступавшими ребрами и иссиня-бледной кожей. Сморенные длительным переходом, одурманенные испарениями, они за редким исключением забылись тяжелым сном, так похожим на беспамятство. Тяжелое дыхание и стоны сливались воедино в зловещем агонизирующем концерте. Свинцового цвета лица с запавшими глазами, ввалившимися щеками. Огромное скопление тощих как скелеты тел с кровоточащими ранами и железными оковами, от которых, пребывая в кошмарном сне, пытаются инстинктивно освободиться несчастные… — Где мы?.. Кто вы? — забыв, что он в России, спросил Жак по-французски, увидев склоненное над ним симпатичное лицо старосты, смотревшего на арестанта с грустью во взоре. — Я хочу выйти! Как не поймете вы, что я умираю! Помогите кто-нибудь! В ответ — лишь кандальный звон и жалобные стенания. — Тише, браток, тише! — так же по-французски проговорил ласково староста. — Пожалейте тех, кого мучает боль! Пожалейте и тех тоже, что просто спят! Жюльен — более крепкий и не столь впечатлительный, как Жак, — сумел овладеть собой и, стараясь не обращать внимания на зловоние, обратился к старику, чье аскетичное лицо выражало глубокое сострадание, с тем же вопросом, что и Жак: — Кто вы? — Такой же ссыльный, как и вы, дорогие мои ребятки. Впрочем, хуже, чем ссыльный: я — каторжник… — Мы ведь с другом не русские, а французы, — произнес Жюльен, пытаясь унять дрожь в голосе. — И вдруг нас арестовывают без всяких на то оснований. Мы не знаем ни ваших порядков, ни ваших законов. И не участвовали ни в каком заговоре. Так что оказались попросту жертвами чудовищного недоразумения: офицер, приказавший бросить нас сюда, полагает, будто мы — русские студенты, члены кружка нигилистов. — Из томской тюрьмы сбежали два молодых человека — Богданов и Битжинский, приговоренные московским судом к каторжным работам, — сказал, собравшись с силами, Жак. — Я понял во время допроса: этот палач-офицер собирается наградить нас не только их именами, но и тем тюремным сроком, к которому приговорили этих бедняг. Поверьте нам, месье! Даем вам честное слово! — Верю вам, ребятки! — мягко произнес староста. — И глубоко огорчен этой вольной или невольной ошибкой. — Вы сказали — вольной или невольной? — Да, именно так. По-видимому, у негодяя свой расчет. Понимаете, начальник колонны, получив определенное число ссыльнокаторжных, отвечает за каждого из них. Если кто-то умер в пути, то составляется протокол, в котором по всем правилам фиксируется смерть. Ну а в случае побега вина за это ложится в той или иной мере на начальника конвоя, которого непременно ждет наказание: выговор или задержка в продвижении по службе. Среди конвоиров встречаются и неплохие ребята — такие, что не стали бы прятаться от наказания. Но капитан Еменов не из них. Он попытается любыми правдами и неправдами арестовать первого встречного и заменить им сбежавшего. В данном же случае, возможно, он старается выручить исправника, раз побег совершен из Томска. — Но это же подло! Это — преступление! — Вы правы. Это тем более ужасно, что у работающих в рудниках нет имени — один только номер. И там, полностью обезличенные, без паспорта и прочих удостоверений, они трудятся под землей до конца дней своих. — Это же ждет и нас? — Да, если только кто-то не отважится пойти наперекор лиходею. — Кто-то? — Скажем, я. — Вы?! — вскрикнули в один голос друзья. — Но кто же вы? Кто? — Обычный каторжник, вот уже больше двух лет. А до этого был полковником. Позвольте представиться: Сергей Михайлов, преподаватель Петербургского военного училища. Жюльен де Клене не мог сдержать удивления: — Полковник Михайлов? Знаменитый ученый, одаривший когда-то меня своим вниманием? Но тогда вы должны помнить Париж и вечера, проведенные нами вместе у мадам П. Там был еще и ваш знаменитый соотечественник Тургенев. А лекции в Географическом обществе! Вы знаете меня, я — Жюльен де Клене. — Жюльен де Клене! — произнес сквозь душившие его слезы староста. — Прославленный путешественник, исходивший Мексику, аргентинскую пампу[10], побывавший на неизведанных островах Океании… Бедный мальчик, вот в каком аду довелось нам встретиться! — Потом, сумев преодолеть волнение, старик проговорил: — Если, не зная еще, кто вы, решил я попытаться спасти вас от чудовищной несправедливости, то с тем большей радостью сделаю это для друзей… Ну как вы, приходите понемногу в себя? Привыкаете к этой жаре и зловонию? — Дышать — дышу, но без особого энтузиазма, — ответил присущим парижанам шутливым тоном Жюльен и заставил себя улыбнуться. — А я, — молвил Жак, по бледному лицу которого стекали крупные капли пота, — слышу вас с трудом и вообще еле жив. — Вот вам водки, — предложил староста, доставая откуда-то бутылку. — Только она одна сможет помочь вам дождаться, пока откроют двери. — А вы? — Не беспокойтесь, я уже научился почти не спать, мало есть и вдыхать воздух лишь время от времени. К тому же мои обязанности, пусть скромные и неоплачиваемые, требуют от меня немало внимания. Так что о себе я не успеваю думать. — О каких обязанностях идет речь? — Я — староста этой партии ссыльнокаторжных. Вы, наверное, не знаете этого слова и всего, что с ним связано. Так что поясню вкратце. Традиционный для России дух коллективизма сохраняется и среди заключенных. Свои деньги они складывают вместе: можно считать правилом, что ни один политический, ни один уголовник копейки не истратит на себя одного. Готовясь к дороге, они выбирают кого-нибудь из своего числа, чаще всего пожилого, и вручают ему все деньги с просьбой использовать эти средства, чтобы хоть как-то облегчить участь заключенных. Сейчас я уточню. Стража в арестантских бараках привыкла взимать с заключенных некоторые, так сказать, поборы, и отвертеться от этого отнюдь не просто. Я не осуждаю этих людей: жизнь охранников тоже не сладкая, почти как у нас. Подумать только, им выделяют на весь год лишь четыреста кило муки и три рубля деньгами, что составляет в общей сложности семь франков пятьдесят сантимов. Поэтому они в постоянных поисках «моркови», как шутливо выразился один служака-француз. Скажем, приходит партия в придорожный острог. Заключенные промокли до мозга костей. А стражник им: «Печь не работает, ее не разжечь». Вот тут староста и вынимает из общей копилки небольшую сумму. Иногда с той же целью специально выставляют окна: «Рамы взяли на ремонт. Придется так и спать — без стекол». Староста опять платит — чтобы вставили окна. И так за все — за доски с ветошью вместо постели, за охапку сена, чтобы заткнуть щели, за тряпки, которые засовывают в железные кольца, за водку, чтобы взбодрить несчастных, совсем окоченевших от холода. Не забывает староста и про кузнеца, кующего кандалы. Кроме того, он же подбадривает слабого, утешает отчаявшегося, отпускает грехи умирающему. На определенных условиях ему удается уговорить начальника конвоя закрыть глаза на незначительные отступления от отдельных правил, выполнение которых сделало бы путь по этапу еще тяжелее. — На определенных условиях? — Да. Если начальник проявляет терпимость, то заключенные через своего старосту дают ему слово не бежать в дороге. Это обещание обычно строго соблюдается вплоть до прибытия на место. Ну а там они считают себя свободными от обещания, которое каждый из них давал ради всех. Позавчера я тоже от имени всех дал капитану Еменову такое обещание… Не беспокойтесь, к вам это не относится. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда с гордо поднятой головой, как люди, чья невиновность полностью доказана, а не бежали бы тайком, словно испугавшись законного возмездия… Становится совсем темно, скоро ночь. Постарайтесь немного поспать. Я попрошу у охранника две охапки сена, а ваши товарищи по несчастью немного потеснятся для вас. И запомните: вы можете полностью рассчитывать на меня.
ГЛАВА 3
Встреча на углу Больших бульваров и улицы Фобур-Монмартр. — Американский дядюшка. — Человек, не знающий, куда деть миллионы. — Письмо с бразильской фазенды[11] Жаккари-Мирим. — Представления американского дядюшки о смысле существования. — Родственные чувства скептика. — Страхи канцелярской крысы. — Боязнь морской качки. — Неудачная прогулка. — Морская болезнь. — В Бразилию по суше!— Боже милостивый, что случилось? Загорелся Люксембургский дворец?[12] Мельницу Галетт[13] окружили китайцы или во Франции восстановлена монархия? — воскликнул весело некий гражданин, повстречав неожиданно на углу знаменитых парижских Больших бульваров и улицы Фобур-Монмартр своего приятеля. — Привет, Жюльен! Как дела, дружище? — Это у тебя надо спрашивать, как дела! На тебе, милый Жак, лица нет! Жак вздохнул, крепко пожал другу руку, еще раз вздохнул и ничего не ответил. — Послушай, — продолжал Жюльен, — ты что, проценты потерял на последних облигациях? Или остался без гроша в кармане? А может, женился или заболел? Или орден получил? При виде тебя меня встревожили сразу две вещи: во-первых, ты чем-то озабочен, и, во-вторых, в эти часы — и не на работе! — Боюсь, Жюльен, что ждет меня дорога к черту на кулички! — Ну уж этого-то никак не случится: черт далеко, а путешествовать ты не любишь. — Последнее-то обстоятельство и приводит меня в отчаяние: мне, вероятно, придется все же отправиться… — Куда? — В Бразилию. Жюльену не удалось сохранить серьезность, и он разразился громким хохотом: — Теперь я понимаю, почему у тебя сегодня такая кислая физиономия. Ведь это подлинное несчастье! Настоящее бедствие, лишающее префектуру[14] Сена примерного служащего!.. Итак, ты держишь путь в Бразилию! Бордо[15], Лиссабон, Дакар[16], Пернамбуку[17], Рио-де-Жанейро — путешествие приятное и непродолжительное. Двадцать три дня на пароходе — совсем пустяк! — и ты уже в солнечной стране, среди тропической зелени!.. — Мне наплевать, как там — пусть будет хуже, чем даже в катакомбах… Но море, море! — плаксиво произнес Жак и умолк, не в силах продолжать. — Послушай, ты так и не сказал, что же заставило тебя отказаться от привычного ритма жизни. Со времени нашей последней встречи прошло полгода — срок достаточно большой, чреватый многими неожиданностями для нервных парижан — правда, теперь нас называют не парижанами, а невропатами![18] — До вчерашнего вечера жизнь моя была спокойна, словно вода в пруду. Но с утра я — как на углях! Я почти архимиллионер[19], но радости — никакой! — Надо же! Наследство? — Да. — От какого-нибудь дядюшки? — Да. — Наверное, из Америки: только там такие серьезные дяди живут. — Отгадал. — Ну что ж, тем лучше! А то говорили, что они уже все перевелись. Я рад, что эта порода людей еще не вымерла, и счастлив за тебя… Да что мы стоим в этой толчее? Уже половина двенадцатого, я умираю от голода. Пойдем-ка к Маргери. Проглотим дюжину устриц, отведаем рыбки из Нормандии[20], полакомимся молодой куропаткой, запьем все это старым вином «бон-дез-оспис»! А за десертом ты расскажешь мне о своих треволнениях. Это тем более интересно, что начало похоже на очерк из «Журнала путешествий». — Ладно, пошли. Тем более что на работу сегодня все равно не пойду. — Да уж скорее всего! — заметил Жюльен, посмеиваясь. Полчаса спустя друзья, удобно расположившись в отдельном кабинете ресторана, с удовольствием уплетали блюда, подаваемые им Адриеном, славным малым, преклонявшимся перед исследователями и, кажется, тщетно мечтавшим тоже отправиться в настоящее путешествие. Пища была, как водится, изысканной, вино — отменным. За едой о горестях осчастливленного Жака не говорили. И только когда Адриен принес кофе, Жюльен, закурив сигару, облокотился на стол и приступил к расспросам: — Так ты сказал, что дядюшка… — Умирая, объявил меня единственным наследником. Со мной письмо от него, полученное с утренней почтой. Вот, смотри! — Жак достал из кармана и протянул Жюльену толстый конверт с адресом, написанным крупными печатными буквами, и с профилем Педру д’Алькантара[21] на почтовых марках. — Да это же целый трактат!.. — Прочти, здесь немало любопытного. — И денежного! — Ты все смеешься. Дядюшка писал не так часто. — Но если уж писал… — То и за час не прочитаешь. — А у нас есть время? — Что касается моей работы… — Ясно! Итак, приступаю! Жюльен не торопясь разгладил листки, пригубил шартрез[22] и начал вдумчивым голосом:
— «Фазенда Жаккари-Мирим, двадцать один градус тридцать минут южной широты и сорок девять градусов западной долготы от Парижского меридиана (Бразильская империя[23]) Двадцать первое июня тысяча восемьсот семьдесят восьмого года— Ну, это уж слишком! — прервал чтение Жюльен, раскуривая сигару. — Впрочем, не будем придираться к словам. Твой дядюшка, видать, был истинным философом. — Продолжай же, — произнес смиренно Жак, готовый еще и не то услышать.
Дорогой мой племянничек! Некоторые замшелые моралисты считают, что нельзя следовать первому движению сердца: оно, мол, излишне сентиментально. Со мной же — в том, что касается вас, — получилось как раз наоборот. Первым моим побуждением было лишить вас наследства, но я заглушил это желание и решил объявить вас своим единственным наследником. Ну, хорошо я сделал, отказавшись от первого побуждения, которое явно было злобным? Не буду объяснять мотивы, которые побуждают меня так действовать. Мое решение непоколебимо, хотя я вас совсем не знаю или знаю исключительно по письмам, посылаемым хорошо воспитанным молодым человеком старику, который может обернуться длянего американским дядюшкой. Я долго на вас обижался. Это началось еще с того времени, когда вы закончили пресловутый юридический факультет — еще одна глупость Старого Света! — и искали место в жизни, как обычный Жером Патюро. Ваша умница-мать, моя сестра, оказала мне честь посоветоваться со мной по этому поводу. Справедливо или нет, но на меня в семье смотрели как на смышленого человека — из-за того, что, покинув страну в двадцатилетнем возрасте в одних сабо[24], я сумел, как нынче говорят, сколотить кругленький капитал. Я ответил ей, что хорошо бы отправить вас на фазенду Жаккари-Мирим, где моего племянника ждал бы хороший кованый сундучок размером с канонерку и где его встретили бы с распростертыми объятиями, прижав к сердцу, которому незнакома торговля чувствами. Ваша матушка колебалась, она боялась. Ее я не буду за это бранить: мнение матери диктуется ее любовью. Вы же, дорогой племянничек, явили пример малодушия, даже страха, и это было неприятно. Вы отказались от моей помощи с отчаянной энергией труса, вынужденного что-то объяснить в свое оправдание, и в качестве последнего мотива выдвинули свой ужас перед обычным морским путешествием протяженностью в двадцать три дня. Я поклялся забыть вас, и это мне удалось без особого труда. Тем временем вы взяли за правило регулярно писать мне, делясь вашими прожектами[25] и тем самым дозволяя мне разделять ваши надежды. Вам было двадцать пять лет, а посему предстояло, как и положено молодому человеку, воспитанному по буржуазной мерке, добиться скромной и бесполезной должности супрефекта[26] и гордо представлять администрацию в таких городах, как Лодев[27] или Понтиви[28]. Вы могли бы также, закончив изучение юриспруденции, рассчитывать на сомнительную честь добиться личного преуспевания в обществе. Например, вам не возбранялось надеяться по завершении образования на получение должности заместителя прокурора, что позволило бы работать в суде высшей инстанции города, носящего звучное имя Понтодмер или Брив-ла-Гайард[29]. Но занимающие столь блестящие посты чинуши вынуждены нередко менять место обитания, что совершенно неприемлемо для вас, привыкшего к оседлому образу жизни. И вы предпочли галунам супрефекта и мантии заместителя прокурора место канцелярской крысы. Браво! Поздравляю вас с этим выбором: ведь не так просто быть всегда последовательным в реализации своих принципов! Возможно, вы заняли кресло ответственного служащего или даже заместителя начальника при зарплате в три тысячи пятьсот франков. И, вероятно, сибаритствуете[30] в просторном кабинете, затянутом зеленым репсом, — это, кажется, последний крик моды официозной[31] элегантности. Служащие, что пониже, вам, наверно, завидуют, коллеги уважают, а портье[32] в ливрее низко кланяются. А что вам еще надо? Глупец!..»
— «Глупец! Ведь здесь я обеспечил бы вам жизнь, какой умеют наслаждаться только землевладельцы Нового Света. Представляю себе улицу Дюрантен на Монмартре, где вы живете: душные, темные комнаты вплотную к четырем другим квартирам! Вы ходите из дома на работу и обратно с ритмичной последовательностью приступов хронического ревматизма. Вас душит галстук, костюм тесен, вы дрожите от холода, шлепая под зонтом по грязным лужам, или же — в иное время года — задыхаетесь, как астматик[33], в облаке ядовитой пыли. Вот и все пути-дороги вашей идиотской жизни, от которой только растет живот и выпадают волосы. В общем, вы строго отмеряете и удовольствия и заботы, аппетит подчиняете заработку, сон — обязанностям, комфорт — приработку, знакомство — выгоде. Вы вынуждены помнить цену на яйца и просите служанку разогревать остатки вчерашнего ужина. В театр вы ходите два раза в месяц, а сигары курите дешевенькие. При этом вы должны улыбаться своему начальнику, хотя вам хотелось бы послать его к черту, пожимаете руку этому проходимцу только потому, что он вхож к министру, и кланяетесь помимо своей воли ничтожествам, занимающим по очереди должность заведующего отделом кадров. Итак, распрощавшись с иллюзиями, свойственными каждому молодому человеку, вы проводите дни среди взяточников, крикунов, завистников, эгоистов и придурков, растрачивая то там, то здесь частицы своего сердца, — и так будет до тех пор, пока сами не станете таким же, как они. Это все не за горами, чернильная вы душа! А здесь вам бы принадлежали пятьсот квадратных километров земли и жили бы вы на свежем воздухе, купаясь в солнечных лучах и полностью удовлетворяя свои потребности, фантазии, желания, капризы. Вашему образу жизни могли бы позавидовать монархи и президенты обоих земных полушарий! Пожелаете бифштекс или просто котлету — прикажете забить быка: у меня их десять тысяч. А когда насытитесь, слуги выбросят остатки пиршества бродячим собакам или в реку на корм рыбам. Вы любите охоту? Тогда ничто не помешает вам подстрелить ламу[34], страуса или… А вздумаете помчаться по степи — выбирайте любую из двух тысяч моих лошадей, например, возьмите скакуна, при виде которого потекут слюнки у ваших расфуфыренных спортсменов или жокеев, разодетых, как попугаи. Соскучились по концертам? Так усладите свой слух чарующей симфонией, исполняемой величайшим музыкантом — природой! Захотели золота или драгоценностей, пожалуйста: земля наша имеет все, чтобы удовлетворить любые прихоти. Придет вам в голову загадать невыполнимое — попробуйте испытать свои силы, и я верю — вы всего добьетесь. Если же однажды нападет на вас ностальгия[35] по Старому Свету, — человек ведь несовершенен! — то кто запретит вам провести несколько месяцев в Париже, тратя по десять тысяч франков в день и делая одного счастливым, а у другого вызывая злобу? Будут среди тех, кого встретите вы, и признательные вам за помощь, и неблагодарные, и откровенные завистники. Такое путешествие помогло бы вам сравнить электрический свет с экваториальным солнцем, витрины Пале-Рояля — с драгоценными ларчиками феи цветов, рукотворные памятники — с готическими[36] арками в девственном лесу. Вы сможете оценить по достоинству очарование свободы, которую получите здесь, в то время как в Европе приходится ежесекундно натыкаться на преграды, воздвигаемые вашей цивилизацией — злобной и догматической. Да, племянничек, я мечтаю одарить вас благополучием, защищенным от недобрых ветров окружающего мира. Я решил было завещать свое кругленькое состояние государству. Но в последний момент во мне шевельнулись угрызения совести, причину которых мне трудно определить. Перед моими глазами возник тот уголок Турени[37], где родились мы, нежное, ласковое лицо моей бедной сестры, преждевременно ушедшей из жизни. Я представил себе и вас — сначала упитанным карапузиком, потом юношей, которого я рад был бы прижать к сердцу и назвать своим сыном. Одним словом, мне трудно было противиться голосу крови. Поэтому, милый мой племянник, настоящим письмом я объявляю вас единственным своим наследником. Вам — поля моей Жаккари-Мирим! Вам — мои леса, луга, пастбища, залежи золота и бриллиантов! Вам — мои табуны лошадей, стада коров, овец! Вам — мои плантации табака, кофе, какао, сахарного тростника! Вам — все мои запасы — дома и в магазине! Вам — серебряные слитки и бриллианты, хранящиеся в Имперском банке Рио-де-Жанейро! Одним словом, вам — все, чем я владею. И при этом я ставлю только одно условие: чтобы вы лично приехали сюда, на фазенду Жаккари-Мирим, в Бразилию, принять все это состояние. В противном случае наследником будет государство, а вы так и останетесь жалкой канцелярской крысой. Я кончил, и счастливого вам путешествия, дорогой племянничек!Ваш американский дядюшкаЛеонар ВУАЗЕН.
P. S. Вы получите это письмо, когда мой управляющий, славный малый, которого я вам рекомендую, похоронит меня в моих владениях, но достаточно далеко от дома, чтобы не смущать живых. Могила — зрелище печальное. Приходите иногда меня навестить».— Жак, — задумчиво сказал Жюльен, закончив чтение, — я только что признал, что ваш дядюшка — философ, теперь я бы добавил, что у него золотое сердце. За строками письма, в каждом слове — переливающаяся через край сентиментальность, желание нести тепло и ласку. Этого не скрыть даже изящной иронией. Буду откровенен с тобой, ты совершил большую глупость, отказавшись тогда навестить этого прекрасного человека. Что теперь ты думаешь делать? — Если бы я знал! Меня охватывает ужас при одной мысли о том, чтобы подняться на корабль! — Ты что, болен? — Это хуже, чем обычная болезнь. Хуже всего на свете. — Трусишь? Впрочем, не может этого быть, я видел тебя в драках. Ты сражался как лев. Уж я-то помню! — А что бы ты сделал на моем месте? — Проще простого! Побежал бы в транспортное агентство и заказал билет на первый же пароход, идущий в Бразилию. А там бы уж возложил цветы на могилу, что вдали от дома. — Я знаю, что умру в пути. — Фу-ты, мокрая курица! — Ты не знаешь, что такое морская болезнь! — А ты знаешь? — Увы! Однажды, себе на беду, я решил совершить прекрасную водную прогулку из Гавра[38] в Кан[39] и по возвращении рассказать моим коллегам об этом путешествии. Но едва я ступил на сходни, со мной начало твориться нечто невероятное — как при холере или белой горячке. А когда пароход отправился в путь, стало совсем худо. — Обычная морская болезнь! — Наверное. Но такой силы, что и матросы и пассажиры, глядя на меня, испытывали не только сочувствие, но и отвращение. Не в силах подняться, истерзанный беспрерывными рвотными позывами, лежал я, словно грязное животное, в собственных нечистотах, уверенный в том, что конец мой близок. — Потом к морю привыкаешь. — Это так говорится. От Гавра до Кана не более трех часов, но, поскольку штормило, мы проплыли целых восемь. И с каждой минутой мучения мои становились все нестерпимее. Меня рвало кровью, я потерял сознание. Сам капитан, старый морской волк, говорил, что никогда не видел ничего подобного. — Ну и ну! — Я терпел эту качку восемь часов, возможно, выдержал бы и все двенадцать, но ведь от Бордо до Рио-де-Жанейро не двенадцать часов, а двадцать три дня! Уверен, что я окочурюсь по пути. — А давно совершил ты ту прогулку? — Лет двенадцать тому назад. — Может быть, твой организм за это время перестроился? Такое случается. Многие, страдавшие в юности морской болезнью, в зрелом возрасте смеются и над килевой, и над бортовой качкой. — Уверен, все будет, как и прежде. При одном лишь взгляде на деревянных коней карусели или на качели у меня начинает кружиться голова. Недавно я решил прокатиться на пароходике по Сене. Все повторилось, да так сильно, что пассажиры пришли в негодование, предполагая, что я хлебнул лишнего. Меня даже чуть не забрали в полицию за злоупотребление спиртными напитками в общественном месте. Морская болезнь — на Сене! А тут ведь надо Атлантический океан пересечь. — Ну что же делать? — Я не побоялся бы отправиться в Африку, к самому экватору, на Камчатку, куда угодно. Я силен как бык, моей выносливости, необычайной для типичной канцелярской крысы, любой бы мог позавидовать. — Неужели? — Да. Когда я начал полнеть, то решил заняться фехтованием и гимнастикой. И стал одним из лучших учеников Паса. — Браво! — Если бы я знал, как добраться до той фазенды, не подвергая себя отвратительному недугу, я бы ни минуты не колебался. — Прекрасно! А если я подскажу тебе такой путь? — То сразу же поеду. — Ловлю на слове! — Ну что ж, если пообещаешь не обрекать меня на морскую болезнь. — Обещаю! — Итак, что же ты надумал? — Просить у официанта счет и бумагу с ручкой. — А бумагу-то зачем? — Чтобы ты смог написать на имя префекта округа Сены прошение об отставке. — Ты всерьез? — Я люблю пошутить, но не в таких делах! — Ну что ж, сжигаю свои корабли![40] — И тем самым спасаешь себя от морской болезни? — обыграл слова Жака Жюльен. — Чтобы осуществить задуманный мною план? — Какой именно? — А это пусть станет для тебя сюрпризом! — ответил Жюльен, а про себя подумал: «Ты называешь экватор и Камчатку, словно речь идет о прогулке в Аньер[41]. Ну что ж, на Камчатке ты побываешь. И еще во многих других местах! Я буду не я, если не заставлю тебя добраться до Бразилии по суше!»
ГЛАВА 4
Друзья по коллежу. — Печальная участь Жюльена. — Насмешки над новичком. — Надежный защитник. — Портреты друзей. — Преисполненное почтения прошение Жака об отставке. — Первые приготовления к долгому путешествию. — Письмо государственного секретаря ее величества королевы. — Последствия обильных возлияний. — На Северной железной дороге. — Сорок минут, не считая суток. — Кошмарное пробуждение. — В Петербург.Дружба Жака Арно и Жюльена де Клене началась еще в школьные годы. Жюльен осиротел в двенадцать лет, и опекун поспешно поместил его в коллеж Святой Варвары, чтобы без помех управляться с солидным капиталом своего подопечного. В интернате мальчик был лишен всего — и встреч с родственниками в большой гостиной, и редких долгожданных прогулок за стенами учебного заведения, и даже каникул, проведенных под родимым кровом. Всякий раз, когда веселый рой воспитанников коллежа разлетался по своим домам, маленький миллионер, более несчастный, чем остальные, вместе взятые, оставался в интернате с детьми из Бразилии, Египта и Румынии, которые за сравнительно короткие каникулы просто не успели бы добраться до родины и вернуться назад. Лишенный тепла семейного очага, не представляя себе, что такое домашнее обучение, Жюльен, однако, не стал лентяем, как многие его сверстники. Наоборот, упорно, со всем пылом юного, жаждущего знаний интеллекта овладевал он науками и прослыл блестящим учеником. Шел уже третий год пребывания Жюльена в коллеже Святой Варвары, когда однажды после каникул он заметил в толпе растерянных, неловких новичков высокого, краснощекого, нескладного и, судя по всему, насмерть перепуганного увальня. Деревенские манеры и свойственный жителям Турени акцент заранее предполагали, что скоро этот недотепа станет жертвой боевой группировки, державшейся всегда во дворе особняком: задиры то обсуждали скачки на ипподроме, то делились новостями из жизни какого-нибудь известного артиста, — короче, готовя себя к высшему свету, набирались друг от друга массы бесценных сведений, без коих нечего и соваться в парижскую жизнь. Сим бедолагой и был Жак Арно. Непосредственный, не знакомый с условностями, он уже в силу одного этого становился объектом издевательства со стороны подростков, озлобленных, словно маленькие, измученные возрастными недугами старички. Решив, что простак превосходно подходит к роли мальчика для битья, юные истязатели, изощряясь, старались как можно больнее уколоть беззащитного паренька хлесткими эпиграммами весьма сомнительного вкуса, передававшимися из класса в класс как заразная болезнь. Однако Жак был совершенно равнодушен к едким насмешкам, по-видимому, не вполне понимая их суть. Стараясь вывести Жака из себя, шалунишки становились все беспощаднее и творили над ним жестокие проказы, к счастью, теперь позабытые в наших школах. А бедный мальчик, затаившись в углу, как побитая собачонка, заливался горючими слезами. — А ну, хватит! — раздался как-то раз, когда сорванцы снова напали на мальчугана, громкий решительный возглас, и на мучителей обрушился град мастерски нацеленных ударов — и ногами и кулаками. И уж не сосчитать подбитых глаз, рассеченных губ, окровавленных носов. — А ну, смелей! — прозвучал тот же голос. — Делай как я! Бей! Сильней! Еще! Еще! Жак, сильный от природы, расхрабрился, ощутив поддержку, и принялся наносить не очень ловкие, но весьма чувствительные удары, пока наконец с помощью нежданного защитника, которым оказался Жюльен де Клене, не обратил противника в постыдное бегство. Отважного защитника, крепкого, отличавшегося бесстрашием, побаивались. И в то же время завидовали ему, поскольку он был богат, и восхищались им, как первым учеником. В общем, во дворе, где прогуливались средние классы, он пользовался довольно высоким авторитетом. И одного его вмешательства в драку было достаточно, чтобы Жака навсегда оставили в покое. — Чего ты плачешь? — бросил Жюльен с грубоватой нежностью. — Больно… — При мне можешь поплакать, но нельзя, чтобы и они видели твои слезы. Тебе обидно, да? Ничего, это пройдет. Если хочешь, давай дружить, и тогда никто тебя больше не тронет. Они все трусы, и стоит только показать им зубы, как сразу же поджимают хвосты. Жак проникся к Жюльену безграничной симпатией, как случается с бесхитростными душами, встречающими доброго человека. Со своей стороны и Жюльен привязался к нему: обычно ведь любишь того, кого опекаешь. К ближайшим каникулам Жак приготовил для Жюльена замечательный сюрприз. Впервые распрощавшись на два месяца со стенами коллежа, Жюльен отправился в гости к мадам Арно, в очаровательный уютный домик, расположенный в Монлуи, на левом берегу Луары, в самом сердце Турени. Описать восторг, который охватил сироту, когда он оказался в домашней обстановке, просто невозможно, да, наверное, в том и нет особой нужды. С этого времени для мальчика началась новая, богатая впечатлениями жизнь, и им овладела неодолимая тяга к свободе. Шли годы. Жюльену доставались лавры за лаврами, Жака награждали похвальными листами за сочинение или стихи на латинском. По окончании коллежа оба друга получили дипломы бакалавра: Жюльен — с отметкой «отлично», Жак — «удовлетворительно», но на большее он и не претендовал. Жюльен, вступив в восемнадцать лет в права наследования, смог самостоятельно распоряжаться фантастическим богатством. Глубокое презрение, которое он питал к легкомысленным соученикам, довольно на них насмотревшись, предохранило его от ошибок, столь свойственных молодым людям, бросающимся безрассудно в водоворот парижской жизни. Высоко ценя свободу и словно опасаясь, что его вновь заключат в тесные стены коллежа, он отправился в странствие по пяти частям света. Сначала им двигала исключительно любознательность, желание повидать другие земли и другие народы. Но затем юношей овладела и страсть исследователя. И скитания в трудно доступных краях, сопряженные с научным поиском, позволили Жюльену занять почетное место среди путешественников, которыми по праву гордится Франция. В Гуаякиле[42] его настигла печальная весть о смерти мадам Арно, которую он оплакивал, как родную мать. Время от времени, неожиданно, как метеор, Жюльен возвращался ненадолго во Францию, обнимал Жака, выступал на конференциях, писал отчеты для научных обществ, пожимал дружески протянутые руки и снова устремлялся в неведомые дали. Что же касается образа жизни Жака, то читатель уже получил достаточно полное представление о нем из письма американского дядюшки. Когда началась описываемая история, друзьям было по тридцать пять лет. Жюльен де Клене, среднего роста, блондин, как и положено сынам Галлии[43], сохранил стройность двадцатилетнего юноши. Широкий в плечах, узкий в бедрах, он был бесстрашным и выносливым путешественником, не ведавшим ни усталости, ни болезней. Человек придирчивый нашел бы, что у Жюльена слишком правильные и безукоризненные черты лица. Действительно, безупречной формы орлиный нос, пухлые губы и белокурая, аккуратно подстриженная бородка могли бы позволить нам отнести его в разряд салонных[44] красавчиков, если бы не темный загар и настойчивый, внимательный и жесткий, чуть ли не суровый, взгляд исследователя-землепроходца, готового в любой миг отразить нападение хищника или бандита. Жак, напротив, был сутулым брюнетом с наметившейся лысиной, пухленькими руками, выпиравшим брюшком и приветливой улыбкой на несколько оплывшей физиономии. Теперь, познакомив читателя с героями, продолжим наш рассказ. Жак, не привыкший к спиртному, во время роскошной трапезы по рекомендации друга отведал восхитительное бургундское[45], а затем и несколько рюмочек ликера, услужливо подвинутых к нему Жюльеном, преследовавшим определенную цель. Последствия такой хитрости не замедлили сказаться: Жак разрумянился, развеселился, глаза его горели, и все уже представлялось ему в совершенно ином свете. — Подумаешь, отставка! — беспечно изрек он, закинув ногу на ногу. — Раз ты считаешь, что так надо… Официант принес бумагу, чернила и ручку. — Я предпочел бы бумагу получше. Чтобы выглядело солиднее, — произнес Жак. — И так сойдет! — И что же напишу я уважаемому префекту? Я в этом ничего не понимаю. Есть, наверное, какая-то форма. Излагать ли ему причины? — Зачем! Заверши уведомление об уходе с работы формулой вежливости и подпиши. — Но объяснение мотивов было бы знаком уважения не только к начальнику, но и к моим коллегам. — Делай как знаешь. Жак устроился поудобнее. — Так вот: «Имею честь, господин префект, объявить вам о своей отставке… Примите, господин префект, заверения в моих почтительных чувствах». — Да что ты распинаешься в своей почтительности! К чему этот стиль примерного секретаря? — Милый мой, — серьезно ответил Жак, — когда мне приходилось раньше писать начальству, я всегда кончал заверениями в том, что рад ему служить… Теперь же действительно я могу писать по-другому. Миллионер, отправляющийся путешествовать, — это уже не канцелярская крыса! — Вот как? — Да, друг мой, с прежним Жаком покончено, пора в путь! Я чувствую, что преобразился и способен теперь, Бог мне судья, отправиться хоть на Луну. — Ну, он дошел! — шепнул сам себе Жюльен. — Воспользуемся же с толком его настроением: куй железо, пока горячо! — И затем обратился к другу: — Ну что ж, пошли! — Куда? — Вручать заявление. — А потом? — Я займусь покупками, а ты мне поможешь. — Идет! Жюльен нанял кучера, красовавшегося в белой фуражке, и тот в предвкушении хороших чаевых помчал двух друзей через весь город. Когда дилижанс[46] остановился вскоре у дверей правительственного учреждения, Жак, задремавший было после богатого пиршества, открыл глаза и был несказанно удивлен, увидев здание с охраной перед ним. — Мне мерещится? — произнес он в недоумении. — Постой, это же не моя контора! Ты ошибся! Ко мне надо ехать до Люксембургского сада! — Сейчас туда и отправимся! Здесь же надо уладить некоторые формальности. — Какие? — Да с паспортами. — Тогда побыстрее — одна нога здесь, другая там! — Хорошо. А ты прикорни пока — на то ведь и подушки в дилижансе. Управлюсь за пятнадцать минут. Здесь служит один мой друг. Он моментально все уладит. Приметы твои я знаю и сам смогу продиктовать их. Жюльен торопливо ушел и через двадцать минут вернулся уже с двумя документами, которые тут же бережно вложил в свою папку. — Паспорта готовы! Теперь займемся твоей отставкой. Еще одна остановка — уже у Люксембургского дворца. Жюльен снова все взял на себя и, вернувшись из здания префектуры, сказал: — Дело сделано! Твое послание я вручил дежурному. Он и передаст «твои почтительные чувства» патрону. А теперь ко мне… Бульвар Осман, дом пятьдесят два, — крикнул он вознице, тотчас взбодрившему лошадь резким ударом кнута. — Мне нужно полчаса, — выходя из дилижанса, обратился Жюльен к снова задремавшему Жаку. — Поднимешься со мной? — Нет, мне и здесь хорошо. — Ладно. Жюльен де Клене, которому — не раз доводилось отправляться внезапно в дальнюю дорогу, всегда держал дома и золотые монеты, и бумажные купюры. Деньги и банковские чеки он вложил в папку. Потом извлек из секретера членский билет Географического общества и несколько писем от известных ученых — на всякий случай, как свидетельство того высокого положения, которое занимал он в научном мире. Взял также несколько официальных уведомлений, представлявших его как исследователя, выполняющего во Франции и за ее пределами важное задание, и карту со своими пометками и в заключение вытащил из большого конверта исписанный каллиграфическим почерком лист и с видимым удовольствием прочел вслух текст, который наверняка знал наизусть:
— «Министрам, консулам и военачальникам ее величества королевы Великобритании — в Европе, Азии, Африке и обеих АмерикахПод обращением следовала подпись: «Лорд Б., государственный секретарь»[47].
Господа! Граф Жюльен де Клене, гражданин Франции, которому я вручаю это письмо, — ученый, посещающий с научными целями самые разные точки земного шара. Прошу оказывать ему всяческое содействие, как если бы он был подданным ее величества королевы Англии. Буду благодарен вам за все, что вы сделаете для него».
— Для нас эта бумага важнее всех прочих рекомендаций: представители британской власти весьма внимательно относятся к просьбам своего правительства! — удовлетворенно произнес Жюльен по прочтении послания. Вызвав своего единственного слугу, он вручил ему годовое жалованье и попросил отнести в дилижанс две длиннополые меховые шубы и пару одеял. Затем, закинув на плечо ремень своей сумки, быстро оглядел уютную экзотическую квартиру путешественника-космополита[48], спустился к консьержу[49] и уплатил ему также за год вперед. — Господин опять уезжает? А как же быть с почтой? — Не беспокойтесь: ее будут пересылать по указанному мною адресу, — ответил привратнику Жюльен и обратился к Жаку, машинально гладившему пышный мех на одной из шуб. — Теперь я в твоем распоряжении. Вот только повидаю банкира. Это в двух шагах отсюда, на Шоссе д’Антен. — А что ты собираешься делать с этими балахонами и одеялами? Середина сентября, пока что тепло. — Однако ночи прохладные. — Но ночью мы в постели. — А если не будет постели? — Ты шутишь? — Я серьезен, как факир[50]. Путешествуя, никогда не знаешь, где будешь ночевать и будешь ли вообще ночевать… — Это мы отправляемся в путешествие? — А ты что думал? — Не может быть! — Жак был вне себя от радости: местоимение «мы» означало, что друг решил сопровождать его. — Значит, и ты со мной? — Я буду показывать тебе дорогу, которая в зависимости от того, как ты пожелаешь, может быть короче или длиннее. — Жюльен, ты настоящий друг! — растрогался Жак. — А ты не знал? Ну, хватит комплиментов! Обговорю все с банкиром и сразу же пошлю за каретой. Прокатимся по лесу, отужинаем в «Английском кафе» и завершим последние приготовления в дорогу. — Не завершим, а начнем, хочешь ты сказать. Для такого путешествия потребуется масса вещей. — Возможно, — загадочно произнес Жюльен. Вторая половина дня прошла, как и было намечено. Друзья славно закусили. Жак, подчиняясь воле своего радушного хозяина, пил те же вина, что и в прошлый раз, и не заметил, как Жюльен предательски накапал в последний фужер какой-то темной жидкости из маленького флакончика. В полвосьмого друзья покинули ресторан. Экипаж быстро домчал от «Английского кафе» до Северного вокзала. Оглушенный чередой событий, обильными возлияниями, Жак, держа машинально друга за рукав, пересек зал ожидания и, тяжело опустившись на мягкий диван спального вагона, сразу же отключился. Когда же проснулся, то услышал разговор на незнакомом, гортанном языке. Открыв глаза, потянулся лениво и тут же, взглянув на хитро улыбающегося Жюльена, резко вскочил: — Где мы, черт возьми? — В вагоне. — А который час? — Без двадцати девять. — Но мы же выехали в восемь. Что, я спал всего лишь сорок минут? — Прибавь еще сутки! — Как? — Ты дрых беспробудно около двадцати пяти часов. — С ума ты, что ли, сошел? — Да нет, скорее, это ты еще не пришел в себя. — Значит, мы уже далеко от Парижа? — Не далее тысячи километров. Слышишь, как хлопают двери и проводники кричат по-немецки, что пора выходить? — Значит, мы в Германии? — Да, в Берлине. — В Берлине?! — Да-да! Первый отрезок нашего пути в Бразилию — позади. И пока второй, намного длиннее первого, еще не начался, пройдем в ресторан. Наверное, желудок у тебя от голода присох к спине. Жак, с затуманенной головой, растерянным взглядом, помятым лицом, не нашел даже, что ответить, и послушно поплелся за Жюльеном, чувствовавшим себя как дома, — во многом благодаря тому, что понимал тот варварский язык, на котором здесь говорили. — Нет, я, наверное, сплю, — промолвил Жак, ущипнув себя. — Это из-за письма погрузился я в какой-то кошмар. С минуты на минуту сон пройдет, я снова окажусь на улице Дюрантен, и служанка принесет мне чашку какао или кофе. Увы, вместо служанки появился огромный тевтонец[51] — с рыжими бакенбардами, в короткой куртке и широком белом переднике. Ловко расставляя посуду с богатой закуской и огромные кружки с пенившимся мюнхенским пивом, он бросил Жюльену, что на Петербург отправление через час с четвертью. Расслышав среди немецких слов название русской столицы, Жак сказал сам себе: «Итак, кошмарный сон продолжается». И, чтобы проверить свою догадку, произнес непринужденно и твердым голосом, как человек, окончательно проснувшийся: — Кажется, мы отправились на прогулку в Петербург? — Да, — как ни в чем не бывало ответил Жюльен. — А что нам делать у его величества царя? — Искать спасения от морской болезни.
ГЛАВА 5
Явь. — От Диршау до Петербурга. — Желание вернуться в Париж. — С картой по Азии и по двум Америкам. — Через Берингов пролив, но не по морю. — Обетованная земля. — Человек-посылка. — Впечатление Жака от российской цивилизации. — От Москвы до Перми через Казань в тарантасе. — Снова поездом — от Перми до Екатеринбурга. — Непочтительное отношение Жака к Уральским горам. — Граница между Европой и Азией. — Владимирка.Жак Арно ел машинально, не проронив ни слова, как бы во сне. Но пронзительный паровозный гудок, известивший об отходе поезда по направлению к немецко-русской границе, убедил его, что все это — не грезы, а явь. Вслушиваясь в постукивание колес о рельсы, он глубоко вздохнул, решив, что при таком шуме ему не заснуть. Хочешь не хочешь, подумал он, а путешествие началось! Хорошее настроение, посетившее его вчера, испарилось, тем более что мюнхенское пиво не шло ни в какое сравнение с нектаром из нашей Бургундии. Когда друзья вернулись в купе, Жюльен, стараясь не обращать особого внимания на Жака, которому, как он считал, требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя от потрясения, вызванного внезапным отъездом из Парижа, лег поудобнее, чтобы поспать. — Значит, — произнес Жак упавшим голосом, — мы отправились? — Именно так. — В Петербург? — Я сказал тебе об этом еще в ресторане. — Это столь необходимо? — Да, если, конечно, тебе не захочется вернуться в Кельн[52] и оттуда добраться до Гамбурга[53], чтобы сесть там на первый пароход, направляющийся в Бразилию по маршруту Гамбург — Лондон — Лиссабон — Санта-Крус-де-Тенерифе[54] — Пернамбуку — Рио[55]. — Ни за что! — Тогда позволь мне отдохнуть. Ночью я глаз не сомкнул, пока ты спал как убитый. И желал бы теперь наверстать упущенное. Завтра в половине седьмого утра мы будем уже в Диршау, в пятистах километрах отсюда. День предстоит долгий, и мы вдоволь наговоримся по пути в Кенигсберг[56], откуда поезд домчит нас до Эйдкунена — населенного пункта на немецко-русской границе в восьмистах километрах от Берлина и всего лишь в двух километрах до Вирбаллена[57] — первого города Российской империи, куда мы прибудем в два часа дня. А сейчас — спокойной ночи! С этими словами Жюльен решительно, подобно заядлому путешественнику, твердо знающему, что сон так же необходим организму, как и еда, смежил веки и через две минуты уже спал, оставив друга наедине с его думами, далеко не веселыми, судя по глубоким вздохам Жака. А ровно в шесть утра, словно моряк, просыпающийся всегда в одно и то же время, за несколько минут до побудки, он снова открыл глаза. — Привет землепроходцу! — весело обратился Жюльен к приятелю, еще более озабоченному и мрачному, чем накануне. — Кончай дуться! А то нагоняешь тоску, как больничная дверь. — Я думал всю ночь напролет. — Лучше бы уж ты спал! — Послушай, взвесив все, я предпочитаю вернуться в Париж и отказаться от наследства. — А твоя отставка? — Заберу заявление обратно. Влиятельные друзья помогут мне восстановиться на работе. — Но ты же будешь притчей во языцех в своей префектуре! — Лучше так, чем это путешествие! — А как доберешься ты отсюда до дома? Держу пари, у тебя нет ни гроша с собой! — Жак открыл портмоне и увидел там всего лишь семнадцать франков и сорок пять сантимов[58]. — Или ты полагаешь, что администрация железных дорог предоставляет кредиты? — Но ты же одолжишь мне денег на обратный путь! — Нет, нет и нет! Ты сам обещал мне отправиться в путешествие, если только я не обреку тебя на морскую болезнь. Поскольку я не собираюсь нарушать данного условия, ты поедешь со мной — по своей ли воле или против нее, не имеет значения. Впрочем, если тебя это не устраивает, можешь выходить в Диршау и возвращаться пешком, вымаливая у немцев подаяние — картофельный суп или кислую капусту. Вот и все, что я могу тебе предложить. — Но подумай, Жюльен, у меня ни багажа, ни денег! Запасных воротничков — и тех не взял! — Зато в моей сумке свыше сорока тысяч франков, с такими подъемными не пропадем! Что же до непредвиденных расходов в столь длительном и нелегком путешествии, то я договорился со своим банкиром, чтобы он высылал чеки в каждый из наиболее крупных городов на нашем пути. — Но я не заплатил за квартиру. Хозяин отправит все мои вещи на распродажу. — Ничего подобного. Я и об этом условился с банкиром. Так что не беспокойся ни о квартире, ни о служанке. Что же касается твоего внезапного исчезновения, согласись, будет забавно, если квартальному[59] вздумается вдруг искать тебя в морге. — У тебя на все есть ответ. И тем не менее мне не по себе. — Встряхнись же! Веселей, черт возьми! Придется, видать, посвятить тебя в мой план. Правда, я решил хранить его до поры до времени в тайне, чтобы ты заранее не заныл и не возмечтал так и остаться канцелярской крысой. Потому-то я и умыкнул тебя, что не хотел заранее раскрывать карты. Ну и как, правильно сделал? — Пока боюсь что-то сказать. Я не готов… — Когда я все расскажу, тебе придется со мной согласиться. Жюльен достал из сумки карту на матерчатой основе, аккуратно ее развернул и, разложив на сиденье дивана, ласково оглядел орлиным взором оба полушария, многие точки которых были ему знакомы. — С этим подспорьем Меркатора[60] я путешествую повсюду. Взгляни на мои маршруты по морям и континентам, сделанные мною пометки, слова, написанные когда карандашом, а когда и кровью. На реки, которые я переплывал. На вершины, покоренные мною. И на леса, через которые я пробирался. О, какое пьянящее наслаждение — это свободное существование под открытым небом!.. Двигаться навстречу новым горизонтам, восторгаться неожиданным чудесам, всматриваться в неизведанную даль, обходить ловко расставленные западни, оставлять в пути частицы своего сердца и обретать, приобщаясь к простому бытию, всю полноту своей индивидуальности — что может быть прекраснее! Какую всепоглощающую радость дарует людям такая жизнь! Жак, растерявшись от столь внезапной лирической исповеди, не решался вставить хоть слово. — Взгляни на карту, окинь ее взором — оба полушария: ведь мы с тобой отправились в кругосветное путешествие. — В кругосветное? — испуганно воскликнул Жак. — И не думай об этом: ведь часть такого пути проходит по воде! — Позднее мы это обсудим. Скажу только, что я твердо намерен выполнить намеченную программу — добраться до Бразилии по суше! — Через Петербург? — Да. — Странный маршрут! — У него есть одно преимущество, очень важное для тебя, — полное отсутствие килевой и бортовой качки. Мы увидим Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Колывань, Томск, Красноярск, Иркутск… — Ничего себе путешествие! Через всю Сибирь! — От Тюмени до Байкала и от Байкала до крайней северо-восточной точки Азии — на санях. — Я не имею ничего против саней и не боюсь мороза, но… — От Иркутска мы пройдем берегом Байкала и спустимся по Лене до Якутска. — По реке? Ни за что! Никакой воды, ты же обещал! С ужасом вспоминаю прогулку по Сене. — Лена к тому времени покроется таким толстым слоем льда, что станет надежнее любой мощеной дороги. — Тогда другое дело. — От Якутска мы будем двигаться все время на северо-восток. Пересечем невысокий Верхоянский хребет, подойдем к реке Колыме и будем следовать вниз по течению до места ее впадения в океан. В Нижнеколымске, где кончаются многие дороги, которыми идут каторжники, мы пополним продовольственные запасы. Но это уже за Полярным кругом, у шестьдесят восьмого градуса северной широты. — Бр-р! Давай дальше… — Ты уже входишь во вкус? — Один вопрос: а как обстоят там дела с лошадьми для саней и постоялыми дворами? — Не волнуйся: у нас будет все — не только лошади, но и олени и собаки! Насчет же постоялых дворов ничего не скажу, ибо и сам толком не знаю. На Чукотке мы доберемся до Восточного мыса[61], крайней точки Азии, отделенной от Америки Беринговым проливом. И незаметно перейдем в другое полушарие. — Так же незаметно, как пересекли здесь границы? — Ширина пролива — каких-то пятьдесят километров, или двенадцать с половиной лье. — Вот тут ты и попался: суда по условиям нашего договора исключены, друг мой… Ни пятьдесят километров, ни пять, ни даже пятьдесят сантиметров. Это мое последнее слово! — Но Берингов пролив будет покрыт льдом, как и реки Лена, Колыма, да и весь тот край, и ты даже не почувствуешь, что под тобой океан. Не успеешь и охнуть, как окажешься уже на Американском континенте — у мыса Принца Уэльского, в краю, где живут эскимосы. Эта территория — бывшая Русская Америка — принадлежит сейчас Штатам[62] и известна как Аляска[63]. Оставив позади Аляскинский хребет и добравшись, не без трудностей, до Скалистых гор, мы возьмем курс на юго-запад. Продуктами же будем запасаться на станциях. — Что ты называешь станциями? — Базы, принадлежащие или правительству Соединенных Штатов, или «Компании Гудзонова залива»… А потом попадем мы в Британскую Колумбию[64] — область вполне цивилизованную. — Наконец-то! — Рад, что ты уже свыкаешься с мыслью о путешествии. Из штата Вашингтон мы едем по железной дороге, которая, начинаясь в Такоме, южнее сорок девятой параллели, недалеко от острова Адмиралти, проходит по штатам Вашингтон и Орегона до самого Канонвиля, приблизительно у сорок третьего градуса северной широты. Четыреста сорок пять километров в поезде — право же, не так уж плохо! На сорок второй параллели — граница Калифорнии. Возможно, к нашему приезду уже закончат прокладку железнодорожного пути, и тогда мы сможем пересечь по нему Калифорнию с севера на юг, что займет у нас совсем немного времени, если, конечно, ты не захочешь где-нибудь остановиться. — Там видно будет. — Города Сакраменто и Стоктон вполне заслуживают того, чтобы провести в них несколько дней. А оттуда — снова железная дорога. Вперед, вперед! И да здравствует Америка! Время — деньги! Не успеем оглянуться, как мы уже в штате Аризона, граничащем с Мексикой. — Ура! Но дай передохнуть. А то голова закружилась от столь резких переходов от мороза к жаре и обратно. — Нет, немедленно на лошадей! Аризона, Эрмосильо, Гуаймас, Кульякан, Сан-Луис, Потоси! По тропам, которые зовутся в Мексике дорогами, а потом еще небольшую часть пути по железной дороге, чтобы не отвыкать от цивилизации. Проезжаем Гватемалу, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику, Панамский перешеек и прибываем в Федеративную Республику Колумбию. Привет тебе, Южная Америка! Взгляни на эти просторы, расчерченные широкими, огромными по протяженности реками. Самая крупная из них — Амазонка. Это и есть земля твоя обетованная — богатый край фазенд, где живут дядюшки-миллионеры. Правда, прежде чем добраться туда, придется пересечь четыре страны — Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию. К сожалению, там нет, а если и есть, то крайне мало, железнодорожных линий. Эх, если бы ты не страдал водофобией[65], мы выбрали бы одну из этих рек и добрались по ней прямо к цели! — Ни слова о плавании — даже в бассейне Люксембургского сада! Или же доставь меня назад на улицу Дюрантен! — Есть — ни слова!.. Но вот наконец мы прибываем на фазенду Жаккари-Мирим, раскинувшуюся по берегам одноименной речушки, впадающей в один из притоков реки Параны. Ну как? Сдержал я свое обещание? Попали мы в Бразилию по суше? В Петербург Жак прибыл с намерением ничем не интересоваться, не смотреть ни на что, ничего не делать. Он демонстративно закрывал глаза на все, что могло показаться новым, необычным. И говорил Жюльену, упрекавшему его за апатию: — Я ведь — лишь человек-посылка, которую ты везешь по суше вокруг света. — Неужели ты совершенно равнодушен к той новой цивилизации, которая предстает перед нами в облике Петербурга? — Да, совершенно. Это такой же город, как и другие: красивые дома, нарядная публика, много военных… Единственное, пожалуй, его отличие — церковные купола, позолоченные, как у нас усыпальница Наполеона, да бородатые кучеры. Я зайду с тобой в посольство, пройдусь по магазинам, а вечером сходим в театр. Но большего не жди. И вообще, предоставь меня самому себе. — Ничего, пройдет немного времени, и ты станешь отличным попутчиком! — Только в том случае, если меня вдруг охватит энтузиазм или во мне пробудится любознательность, в чем я, впрочем, сильно сомневаюсь. Послушай, сделай так, чтобы мы поскорее уехали отсюда. Если уж необходимо путешествовать, то поспешим в Сибирь. В городе я скучаю, там же хоть подышим свежим воздухом. — Дня через два будет столько свежего воздуха, что хватитего тебе до конца жизни! Проведя в столице России десять дней, друзья сели в поезд, проехали, не задерживаясь, Москву, прежнюю царскую столицу, и двинулись к Нижнему Новгороду, где кончалась железная дорога. Несмотря на равнодушие, частично наигранное, Жак все-таки посетовал, что они не взяли с собой ничего, кроме небольшого чемодана с вещами и шуб. — Не волнуйся, — улыбнулся Жюльен, — у нас, напротив, всего так много, что нам мог бы позавидовать любой губернатор. Я купил красивые, добротные сани, меховую одежду, снаряжение, оружие, продукты питания, книги и различные предметы, которые можно будет пустить на обмен. Список того, что нам требуется, изумил бы тебя. — И где же эти сани? — С нами, на платформе в голове состава. — Понятно. Но ты сказал, что железная дорога кончается в Нижнем Новгороде. Что же делать нам там с санями: снег ведь выпадет еще не скоро? — Весь багаж мы отправим пароходиком «Днепр», курсирующим между Нижним Новгородом и Пермью, сами же доберемся до Перми тарантасом. — А сколько от одного до другого города? — Шесть-семь дней пути, если не спешить. — Ну что ж! Расставшись с железной дорогой, Жак послушно сел в коляску, не сулившую, судя по ее виду, комфорта и способную обликом своим вызвать презрение даже у нормандских крестьян. Однако, грубо сколоченная, на четырех огромных колесах, соединенных деревянной осью, лишенная легкости и элегантности, она обладала одним бесспорным достоинством — надежностью, проверенной при быстрой езде по рытвинам, высокопарно называемым здесь почему-то дорогами. У тарантайки оказался к тому же весьма удобный, опускавшийся клеенчатый верх для защиты пассажиров от дождя и пыли. Как ни сильна была тряска, Жак не жаловался. Вообразив, будто ему действительно отведена роль бездушной посылки, перемещаемой по чужой воле, он запретил себе выказывать свои чувства, машинально выходил из колымаги и, перекусив, — правда, с аппетитом, — снова садился в экипаж, даже взглядом не удостоив Волгу, по правобережью которой тарантас катил до самой Казани. Упрямец отказался от прогулки по этой древней столице Татарского ханства и через семь дней быстрой езды был с Жюльеном уже в Перми, так и не подумав восхититься густыми зелеными лесами, через которые пролегал их путь, но удовлетворенный тем, что уже начал привыкать к сидячему положению, в результате чего перестали неметь руки и ноги. — Здесь мы сядем на поезд, — сказал Жюльен, наслаждавшийся путешествием со всей страстью экзальтированного[66] дилетанта. — Жаль. Я уже привык к тарантасу. — Не беспокойся. Это совсем короткая линия, только что проложенная от Перми до Екатеринбурга. А дальше — снова телега. — Ну и прекрасно! Жюльен проверил, как погрузили на платформу сани, давно доставленные пароходом «Днепр» и дожидавшиеся их на станции. Затем друзья прошли в свой вагон. Через несколько часов Жюльен показал Жаку на сероватый хребет, протянувшийся вдоль горизонта с севера на юг: — Смотри, Уральские горы! — Горы? — презрительно повторил Жак. — Как же тогда называть склоны Сюренн и Монморанси? Вершины, которые ты величаешь горами, едва ли выше громоотвода на холме Валерьен — хотя бы на длину зонтика. — Согласен с тобой, хотя я и не столь категоричен. Уральские горы — сохраним это название, которое мало что меняет, — действительно не поднимаются выше тысячи пятисот метров над уровнем моря. Это скорее гряда холмов, пролегающая от реки Кара до Каспия. В них нет ничего грандиозного или живописного, хотя деревья здесь красивы, стройны и могучи. Но, скажу прямо, на меня этот край производит все же определенное впечатление. — Как легко впадаешь ты в пафос!..[67] Ты даже восхищался домами в Перми, а они ведь — словно деревянные ящики, накиданные как попало. Объясни, чем можно восторгаться при виде этих земляных куч? — Не забывай, «эти земляные кучи» отделяют Европу от Азии. Пройдет каких-то несколько минут, и мы вступим в область, которая была колыбелью человечества. Видишь вон тот каменный столб? — Ну и что? — Он отмечает границу между двумя мирами — утонченной, высокоинтеллектуальной цивилизации и диких беспредельных просторов. — Азия! — с притворным испугом воскликнул Жак. — Я, никогда не ездивший далее административного центра департамента Кальвадос[68], — и вдруг в Азии!.. — Сибирь, — Жюльен продолжал развивать свою мысль, не обратив внимания на прозаическую реплику друга, — это область, занимающая огромную территорию — четырнадцать миллионов квадратных километров! Хвойные леса, березовые и осиновые рощи, лоси, олени, медведи и волки! Драгоценные камни и льды, золото и ссыльные, гигантские реки и бескрайние степи, поселения на Крайнем Севере и полярные ночи! Проделав шестичасовой путь по железной дороге, путешественники прибыли в Екатеринбург и там пересели в тарантас. — А знаешь ли ты, как называется дорога, по которой мы едем? — спросил Жюльен у друга, тщетно пытавшегося подсчитать количество километров, оставленных позади. — Понятия не имею. — Владимирка[69]. — Обычное русское имя, просто оканчивается оно не на типичное «кин» или «ов», а на «ка». — Русские не могут без содрогания говорить об этом тракте: ведь он ведет туда, откуда не возвращаются. Это дорога ссыльных! Через восемь дней, прошедших без приключений, французы были в Омске, столице Западной Сибири[70].
ГЛАВА 6
Столица Западной Сибири. — Пребывание в Омске. — Восхищение Жака степью. — Море без качки. — Первые холода. — Одеяние сибиряков. — Сани. — Отправление. — Шампанское на дорогу. — Прибытие в село Ишимское. — Письмо губернатору. — Переговоры с охранником. — Трехрублевая мзда. — Николай Чудотворец и Казанская Божья матерь. — Клятвопреступление. — Благодарность капитана Еменова. — Подосланный казак.Расстояние от Москвы до Омска было преодолено быстро, и Жюльен де Клене надеялся, что у его друга больше не появится трусливого желания вернуться назад: путешественник, даже не будучи натурой увлекающейся, по мере продвижения по бескрайним пространствам Сибири ворчит все реже и, закалившись, меньше чувствует усталость. Предположения Жюльена сбывались. Казалось, что одно только прибытие на конечную железнодорожную станцию и появление на облучке тарантаса нового кучера рассеяли мучившую Жака ностальгию. Чем дальше углублялись они в незнакомую страну, тем плотнее становилась воображаемая завеса, отделявшая их от европейской цивилизации. Своеобразные человеческие типы, странные обычаи и необычайные пейзажи вызывали у Жака множество различных ассоциаций. Перемены в настроении друга, вызванные внезапным погружением в атмосферу края, непохожего ни на какой другой, радовали Жюльена: он надеялся, что Жак прекратит наконец представлять себя в роли безвольной посылки и станет приятным спутником. Вскоре Жак и не вспоминал о своей отставке. Решительно позабыв о прежней работе и искренне радуясь, как настоящий русский, встрече с каждым новым кучером, он, обращаясь к сибирякам, при всяком удобном случае произносил по-русски несколько слов, подхваченных где-то на лету. Вот в таком настроении и приехал в столицу Западной Сибири бывший помощник префекта округа Сена. Расположенный по обеим берегам Оми и по правому берегу Иртыша, в месте слияния этих рек, Омск оказался хорошеньким городком с восемнадцатью тысячами жителей — чиновников, купцов, рудокопов. Омская крепость, построенная в 1760 году и выглядевшая уже порядком пообветшалой, оставалась тем не менее главным военным сооружением в Западной Сибири. Имея на руках рекомендательные письма от влиятельных персон, друзья надеялись, что в течение долгих дней, которые им предстояло провести в элитарном обществе этого сибирского города, они не станут скучать. Продумав все заранее, Жюльен хотел, чтобы путь от Парижа до Омска Жак проделал при хорошей погоде и еще до того, как устремятся они за Полярный круг, успел привыкнуть к холодам, местным обычаям и к умыванию на морозе. Попав в Москву зимой, считал Жюльен, Жак категорически отказался бы следовать дальше и провести несколько месяцев в санях. Приспосабливаясь же к морозам постепенно и помня о тысячах километров, отделявших Омск от столицы Российской империи, он понял бы, что следовать дальше или возвращаться домой — по расстоянию это уже одно и то же. Жюльен был очень удивлен, увидев, как понравилась его другу окружавшая город и простиравшаяся невесть куда степь. Жак готов был без устали смотреть на это поражавшее воображение своей безграничностью пространство, менявшее, словно море, свой облик в зависимости от того, ветрено или спокойно, светит солнце или надвигается гроза. Иногда трава, по которой бежала зыбь, становилась темной, почти черной, и казалась тогда затягивавшей в глубь свою бездной. Когда же облако, скрывавшее солнце, вдруг разрывалось на клочья, то игра света причудливо преображала всю эту ширь, и степь начинала отливать всеми оттенками зеленого цвета. Отважный французский исследователь Виктор Меньян, проехавший и Сибирь и Монголию, отмечал, что степь для жителя Омска то же, что горы для горца, море для матроса, пустыня для бедуина[71] Сахары и небо для воздухоплавателя. Каждое утро бросают на нее омичи свой взгляд, чтобы по ее состоянию определить, какая будет погода в текущий день, и соответственно решить, какими работами следует заняться в первую очередь. Им по-настоящему дорога́ эта безбрежная ширь, где пасутся стада и прячутся звери — объекты азартной охоты. В степи устраиваются народные празднества, и там же просто гуляют. В общем, жизнь омичей неразрывно связана со степью, и, увидев ее хоть раз, легко понимаешь привязанность к ней местного населения. Жак, полюбивший степь, как истый сибиряк, мог часами, словно зачарованный, наслаждаться ее лицезрением. Жюльен с радостью наблюдал, как пробуждается и крепнет у его друга любовь к природе. — Наверное, вполне естественно, — говорил ему Жак, — что я, парижанин, чей горизонт был до недавнего времени ограничен декорированными зеленым репсом стенами рабочего кабинета, не могу оторвать взора от бескрайнего пространства, от этого зеленого моря. Подумать только, море — и без кораблей и качки! Что может быть лучше! Дни проходили быстро: охота сменялась рыбалкой, пешие прогулки — ездой в коляске или верхом на коне, вечера протекали в приятной обстановке. Потом пришли первые заморозки. Раза два выпал снег, температура упала внезапно до минус четырнадцати градусов. — Ну вот, — сказал Жюльен другу, умиротворенно созерцавшему степь, столь же прекрасную и под снежным покрывалом, — если морозы продержатся, недели через две тронемся в путь. — Не возражаю, — послушно, но без особого энтузиазма ответил Жак. Жюльен как в воду глядел. В тот год зима оказалась ранней. Всю неделю термометр показывал минус девятнадцать. Землю укрыл плотный, не менее чем сорокасантиметровый слой снега. Узнав, что санный путь от Омска до Иркутска открыт, друзья решили выезжать. С вещами, которые собрали заранее, не было никакой мороки. Их быстро погрузили в сани, и отважным землепроходцам осталось лишь облачиться в соответствующую одежду — и вперед! Правда, задача эта не из легких, но зато путешественник в надлежащей экипировке[72] может выдержать и дневные и ночные морозы, которые даже представить себе невозможно, пока не испытаешь их сам. Друзья от души посмеялись и изрядно попотели, прежде чем обрядились как надо. Натянув три пары хлопчатобумажных чулок и одну — из тонкого фетра, они обули длинные меховые сапоги с раструбами, как у водосточных труб. На тело надели легкую, но отлично сохраняющую тепло рубашку из искусно выделанной оленьей шкуры, а поверх нее — мягкий шерстяной костюм и две меховые шубы: одну — мехом внутрь, другую — мехом наружу. Длиннополый тулуп из лосиной шкуры — не очень красивый, но отменно теплый, укрыл путешественников с ног до головы, увенчанной шерстяной шапкой, запрятанной под башлык[73] из верблюжьей шерсти. Если предстоит пробыть на морозе несколько часов, в такой одежде, возможно, и нет особой необходимости. Но без нее не обойтись, если путь в страшной стуже рассчитан на много дней и тем более ночей. У возка, обитого изнутри роскошным ковром, а снаружи — плотным, непромокаемым фетром, был откидной верх — также из фетра. Равные по длине и ширине парижскому омнибусу[74], высотой чуть ли не в два метра и исключительно легкие, несмотря на размеры, сани были удобны и тем, что путешественники свободно могли разместить здесь свой багаж — мешки, легкие кожаные чемоданы, пакеты с консервами. Умело уложенный груз оставлял еще место для двух матрасов, расстеленных с легким наклоном. Впряженные в кибитку кони, подрагивая от нетерпения, били копытом и хватали губами снег. Кучер вспрыгнул на облучок, и тройка рванулась стрелой. А следом за ней помчались еще двадцать повозок — с друзьями и знакомыми, пожелавшими проводить путешественников-французов. Когда позади осталось не менее двадцати пяти верст[75], санный поезд остановился, и провожающие вылезли из возков. И, как того требовал сибирский обычай, гостеприимные омичи, с бутылкой шампанского у каждого в руке, выстроились цепочкой вдоль зимнего тракта перед санями с французами. С шумом выскочили пробки, и пенящуюся жидкость торжественно вылили на дорогу, по которой несколько минут спустя предстояло продолжить свой путь нашим друзьям. Первые дни санного пути были полны невыразимого очарования. Житель теплых стран, где подобный способ передвижения неизвестен, чувствует себя наверху блаженства, скользя вперед с необыкновенной скоростью, мягко, без толчков и подбрасываний на рытвинах, не слыша даже ударов копыт. И Жак Арно и Жюльен де Клене тоже наслаждались редкостным комфортом, дарованным им сибирской зимой. Три дня спустя французы прибыли в Томск, искренне веря, что все прекрасно в этом прекраснейшем из миров. Нанеся визит генерал-губернатору, принявшему их со всеми почестями, они сразу же отправились в дальнейший путь и, проехав без всяких приключений Семилужское, вихрем влетели в село Ишимское, где и произошли уже известные читателю неприятные события. Вы помните, как Жак и Жюльен были внезапно задержаны капитаном Еменовым, отвечавшим за партию ссыльнокаторжных, каким издевательствам подверг их этот солдафон. Знаете вы и о допросе, учиненном офицером, который думал или делал вид, будто полагал, что они — русские студенты, члены кружка нигилистов, сбежавшие из томской тюрьмы, и не забыли о перенесенных ими страданиях в грязном бараке, куда их втиснули вместе с арестантами, и о встрече со старостой, или старейшиной, колонны, подбодрившим их и пообещавшим помочь. Нетрудно представить себе душевное состояние французов, чей путь от Парижа до злосчастного селения мы проследили с вами буквально шаг за шагом. Жюльен, несмотря на всю его энергию, лишенный не только возможности действовать, но и воздуха, света, кожей ощущавший соседство этапников, совсем приуныл. О Жаке же и говорить нечего: его охватило такое отчаяние, что он впал в полную прострацию[76]. Когда заключенные забылись тяжелым, каталептическим[77] сном, полным кошмаров, староста, верный данному им слову, осторожно распорол подкладку своего армяка, достал оттуда маленький кожаный футляр, вытащил из него лист бумаги и быстро набросал несколько строк. Перечитав текст, сложил листок и надписал адрес. Потом, пройдя тихо в соседнюю комнату, нарушил чуткий сон охранника, возлежавшего на печи. Солдат при виде старика почуял поживу. — Хочешь три рубля? — спросил едва слышно староста — он же полковник Михайлов. Трояк! Да это же жалованье за целый год! — Конечно! — подскочил стражник. — А что требуется? — Ты человек честный? — Когда мне платят… — Само собой, — проговорил ссыльный, не скрывая своего презрения. — Правда, с варнаков[78] я беру дороже. — Вот я и даю тебе три рубля. — Прекрасно, за такую мзду можно и потрудиться. Но деньги вперед. — Поклянись Николаем Чудотворцем и Казанской Божьей матерью, что не обманешь. Стражник заколебался, выбирая между чувством долга и жадностью, но только на миг. Верх одержала алчность. Повернувшись к иконостасу, он отвесил низкий поклон и трижды перекрестился: — Клянусь Николаем Чудотворцем и Казанской Божьей матерью, покровительницей странников! — Вот так, — сказал удовлетворенно староста, будучи убежден, что православные никогда не нарушат подобной клятвы. — Видишь это письмо? — Да. — Его надо доставить генерал-губернатору, в Томск. — Прямо сейчас? — Совершенно верно. — Давай трояк. — Бери. — Но если капитан увидит, что меня нет, то розог мне не избежать! — Глупости! Ты выйдешь сию минуту, колонна же выступит только на рассвете. — Твоя правда! Но ведь и от генерал-губернатора можно схлопотать взбучку. — Напротив, он только отблагодарит тебя. — А не обманываешь? — Нет, честное слово. — Этого я не понимаю. Поклянись на иконе. «Несчастный прав, — молвил про себя полковник, — его ведь не учили языку чести». И произнес вслух: — Клянусь!.. А теперь в добрый час! — Дай письмо, я ухожу. — Возьми. И помни о своей клятве и о том, что послание это — во спасение несчастных узников. Стражник молча нахлобучил шапку, надел овчинный полушубок мехом внутрь, перекинул через плечо ремень с наполненной водкой флягой, засунул за пояс длинный острый нож, взял посох, распахнул дверь и исчез. — Господи, — взволнованно произнес полковник, — помоги ему побыстрее добраться! На него — вся надежда моя на спасение невиновных! Но вместо того, чтобы круто свернуть влево на тракт и, миновав две почтовые станции, добраться до Томска, служилый остановился в глубокой задумчивости. Обращение ссыльного непосредственно к генерал-губернатору переворачивало все его представления о социальной иерархии. Солдат стал искать выход из того сложного положения, в которое попал. Он поклялся лишь доставить письмо, и, следовательно, важно только одно: чтобы оно дошло по адресу. Однако фетюк[79] не потребовал от него не показывать послания никому, кроме генерал-губернатора. Так не лучше ли передоверить грамоту капитану Еменову — единственному тут представителю власти, к тому же влиятельному? Начальник наверняка вознаградит его за услугу. Ну а что касается Святого Николая и Казанской Божьей матери, то они ведь не запрещают брать воздаяния из двух рук сразу. Успокоив таким образом свою совесть, стражник направился к избе, где расположился его командир. Капитан, вырванный нежданно из объятий сна, был не любезнее медведя, у которого волки отнимают добычу. Однако бумага, извлеченная стражником из-под шапки, остановила поток ругательств. — Кто тебя ко мне послал? — Никто. Я сам пришел. — Кому это письмо? — Его превосходительству генерал-губернатору. — Откуда оно у тебя? — От старосты. — Ого! Давай сюда. — Но я поклялся пред ликом Божьей матери и Николая Чудотворца, что доставлю письмо по адресу. — Чем тебе переть туда пешком, я лучше пошлю казака, и он мигом вручит послание его превосходительству. Давай же! — Но… — А, ждешь на водку! Так получай! Еменов отвесил вымогателю такую оплеуху, что тот едва не упал. Потом, удачно выбрав момент, когда стражник повернулся к нему спиной, капитан сильным пинком в зад отшвырнул его к двери. Та распахнулась от толчка, и незадачливый лихоимец врезался в группу солдат, дежуривших в соседней комнате. Офицер же, не в силах сдержать охватившее его волнение, приблизился к лампе и начал вполголоса читать послание старосты, предусмотрительно написанное по-французски: этого языка, которым свободно владела лишь избранная часть общества, здесь почти никто не знал, и, попади письмо в чужие руки, его бы вряд ли смогли прочесть. И действительно, из военных, сопровождавших узников, только начальник колонны был обучен французскому. В письме сообщалось следующее:
«Дорогой генерал! Увидев мою фамилию в списке ссыльных, ты сразу же вспомнил своего давнего товарища и, придя ко мне в острог, спросил, не смог бы быть полезен мне чем-нибудь. Я счел достойным отклонить всяческую помощь, но память о твоем благородном поступке сохраню до конца дней своих. Воспоминание о наших юных годах позволяет мне воззвать сегодня к твоей воинской чести и, выказывая полнейшее доверие к моему старому другу, ходатайствовать о предотвращении грубейшего нарушения прав человека. Два путешественника-француза, по неведению или злому умыслу выданные за преступников, бежавших из тюрьмы, только что задержаны начальником отряда, конвоирующего партию ссыльнокаторжных, избравших меня своим старостой. Несчастных иностранцев взяли под стражу, и утром они вместе с заключенными пойдут по этапу. Друг мой, дабы не запятнать славы государства Российского, необходимо как можно быстрее восстановить справедливость. Когда-то ты заметил, что мы с тобой по-разному смотрим на пути, ведущие к процветанию нашей родины, но незапятнанное имя Отечества одинаково дорого всем нам — от императора до каторжника.— Ничего себе! — зловеще воскликнул капитан Еменов. — Сильно сказано! Этот варнак-этапник решил потягаться со мной! Пишет государеву представителю! Нет, поистине, царь наш слишком добр! Славные старые традиции уходят! В дни моей юности Сибирь действительно была краем, откуда не возвращаются. — Он помолчал с минуту, затем, нахмурив брови и сжав кулаки, произнес с еле сдерживаемой яростью: — Вот уж посмеемся! Черт возьми, еще немного, и попал бы я в интересное положение, дойди письмо до адресата. А я тут колебался к чему-то, не зная точно, как поступить с этими злыднями, теперь же, что бы ни случилось, они навсегда останутся варнаками. — Позвав унтер-офицера, находившегося с солдатами в прихожей, начальник конвоя спросил: — Где стражник? — Мы задержали его. — И правильно сделали! Свяжите по рукам и ногам и заткните рот кляпом, чтобы до выступления колонны он словом ни с кем не смог перемолвиться, особенно со старостой. — Слушаюсь, господин капитан! — А к старосте приставишь кого-нибудь из своих, кому полностью доверяешь. Пусть не отходит от него ни на шаг и проследит, чтобы он не заговорил с задержанными нами вчера. Понял? — Так точно! — ответил служака, вытянувшись по струнке — пятки вместе, носки врозь — и пожирая командира глазами. — Ступай!.. Ну, полковник Михайлов, держись теперь! Пять минут спустя казак, подосланный унтер-офицером, открыл дверь арестантского барака, кликнул старосту и пошел с ним в комнату, где тот только что вел переговоры с охранником. Понимая, что за ним могут наблюдать, солдат положил пистолет с взведенным курком на стол рядом с собой и, сев на грубо сколоченную скамью, подал старосте знак присесть рядом. — Что случилось? — спросил ссыльный, томимый дурным предчувствием. — Молчать! — гаркнул казак и затем, к великому удивлению полковника, прошептал: — Слушай, отец, письмо у капитана. Гонец твой предал тебя.Сергей МИХАЙЛОВ».
ГЛАВА 7
Пробуждение каторжан. — Бессмысленность сопротивления. — Царский запрет. — Беседа капитана Еменова со старостой. — Великолепие природы. — Снова арестантский барак. — Страдания женщин и детей. — Сочувствие. — Клеймо. — Ночь в снегу. — Удар кнутом. — Бесстрашие Жюльена.Звон кандалов и гул человеческих голосов вывели друзей из состояния, которое лишь с большой натяжкой можно было назвать сном. Французы с ужасом оглядывались по сторонам. Сквозь щели в крыше, дверях и деревянных ставнях пробивались тусклые лучи красноватого солнца и, как бы застывая в плотной пелене стоявших в бараке миазматических испарений, придавали помещению еще более удручающий вид. Заключенные, полуголые, в поту, с изможденными, сведенными судорогой лицами, машинально, тяжело дыша, одевались. Вытащив из ручных и ножных оков тряпки, они выворачивали их наизнанку и возвращали на прежнее место: заменить эту ветошь было нечем, а охранник, которого можно было бы попросить добыть новые обмотки в обмен на деньги, бесследно исчез. Когда наконец все эти истощенные тела, закованные в кандалы руки и ноги были кое-как прикрыты смрадными арестантскими лохмотьями, несчастные узники, с трудом распрямляясь, начали строиться у двери, которую скоро должны были открыть. Жак и Жюльен, не видя старосты, перепуганные, стояли молча, не в силах осознать до конца, что же с ними произошло на самом деле. Снаружи послышались громкие шаги, раздался скрежет отмыкаемого замка, и дверь широко распахнулась, впуская в мрачный каземат яркое солнце. Ссыльнокаторжные облегченно вздохнули: для горемык морозный воздух улицы и холодные лучи светила были чуть ли не пределом мечтаний. Не думая о том, насколько опасен быстрый переход из вонючего, но жаркого, словно парилка, помещения в сибирскую зимнюю стужу, этапники рванулись гурьбой к двери, как хищники за добычей. Но наружу не вышли: путь им преграждали солдаты с заряженными, как всегда, ружьями, готовые в любой момент открыть огонь по конвоируемым. В барак внесли несколько грязных баков склизкой каши из недоваренной ржи, и каждому узнику выдали, кроме того, по горсти сухарей из высушенного на сибирский лад черного хлеба. После короткой и скорбной утренней трапезы унтер-офицер, как обычно, провел в присутствии капитана Еменова перекличку, и колонна вновь побрела по дороге. Жака и Жюльена, словно преступников, связали по рукам и ногам крепкими веревками, которые в Красноярске, как пообещал капитан, заменят кандалы. Но сделать это удалось только после отчаянного сопротивления, оказанного насильникам друзьями. Первые же казаки, которые приблизились к ним с путами, по достоинству оценили силу их кулаков. Капитан Еменов, поигрывая с сатанинской усмешкой револьвером, уже собрался было отдать солдатам приказ стрелять, как вдруг раздался громкий голос: — Смиритесь, ребятки! Сопротивление равнозначно самоубийству! Это был староста. — А ну заткни рот, негодяй! — Офицер занес над смельчаком плеть, чтобы заставить его замолчать. — Тебе-то какое дело, живы они или нет?! — А про себя добавил: «По мне, так лучше, чтобы они сдохли. Сосчитаешь трупы — и никаких хлопот!» Старческие веки ссыльного дрогнули, и взгляд блеснувших глаз пронзил как клинок солдафона. — Опусти плетку! — возмущенно крикнул узник, снова становясь на краткий миг полковником Михайловым. — Ты не имеешь права бить, слышишь? Или забыл, что царь запретил телесные наказания?! Существует ряд правил, которых никому не дано нарушать на территории России, даже когда речь идет о ссыльнокаторжных. — Да-да, так распорядился наш царь-батюшка! — загалдели узники. — Староста правильно сказал! Прямое обвинение в пренебрежении императорским указом ошеломило капитана. Побледнев, он опустил плеть и, до крови закусив губу, устремил на полковника бешеный взгляд. А тот безбоязненно продолжал: — Не забывай к тому же, что я как дворянин имею право требовать, чтобы меня доставили к месту заключения без оков и в телеге или на санях. — И закончил с горькой усмешкой: — Ибо только там, в конечном пункте моего назначения, но не ранее, кончаются привилегии, которые имеет мое сословие. — Ты — дворянин?! — поразился капитан. — Так как же ты очутился здесь? — Я отказался от привилегий, поскольку решил сопровождать этих несчастных, впавших, как и я, в немилость к власть предержащим, дабы, деля с ними страдания, подбадривать их, служить им примером и следить, чтобы никто не злоупотребил властью. Понятно теперь? Начальник колонны не нашел, что ответить на эти произнесенные с чувством собственного достоинства слова, и лишь пробурчал что-то невнятное. Потом, оправившись от изумления, спросил старосту, перед тем как приказать ему занять свое место среди заключенных: — Ответь мне, где тот казак, кого я прислал к тебе этой ночью? — Разве обязан я шпионить за твоими солдатами? — саркастически[80] воскликнул бывший полковник. — Своими людьми занимайся сам! С меня же достаточно других хлопот. — Ладно, но я имею право запретить тебе разговаривать с двумя задержанными вчера незнакомцами. — Согласен! Но мне уже не о чем больше говорить с ними, поскольку они прекратили сопротивление. И в самом деле, оба француза, надеясь, что старик что-то предпринимает для их освобождения, молча, но с гордо поднятой головой, стояли в окружении солдат. Правда, они еще ни о чем не знали — ни о планах их нового друга, ни о подлом предательстве охранника. Колонна уныло, под аккомпанемент кандального звона, зашагала по смерзшемуся снегу. Так как к утру снегопад прекратился, день стоял ясный, и на прозрачном голубом небосводе ярко светило морозное солнце. Было около двадцати пяти градусов ниже нуля. Из труб деревянных строений вертикально, словно металлический стержень, вздымались струи дыма и лишь выше, достигнув более плотного слоя воздуха, неспешно растекались по сторонам. За поселком расстилалось открытое, ровное поле — нескончаемая снежная скатерть, сиянием своим резавшая глаза. «За белым лугом белый луг…» — как писал наш бессмертный Виктор Гюго[81]. По обеим сторонам от Владимирского тракта из-под снега пробивались высокие стебли степной травы — в причудливых кристаллах изморози, вспыхивавших, словно по волшебству, всеми цветами радуги. Время от времени скопившаяся в атмосфере влага выпадала в виде острых ледяных игл. Крохотные капли, резко переходя из газообразного состояния в твердое, медленно опускались в виде тончайших бриллиантовых осколков, которые могли бы поразить взор самого изысканного эстета причудливейшими конфигурациями и невообразимым разноцветьем, высвеченным солнечными лучами. Но, увы, обездоленным существам было не до окружавшего их великолепия. От мороза, бессознательного творца этого чуда, безжалостно обрушивавшегося на их ослабленные тела, стыла кровь в жилах, губы и ноздри покрывались ледяной коркой, лопалась кожа, коченели руки, сводило судорогой ноги. У ссыльнокаторжных одно было дело — идти и идти по твердым, как мрамор, колдобинам, предательски скрытым от взора слоем снега, падать, оступаясь в них, и подниматься, чтобы потом опять упасть и снова встать. И так без конца. Нетрудно представить, каким тяжелым оказался для друзей первый день, проведенный ими в сообществе с узниками. Поскольку староста не мог нарушить запрета капитана вступать с ними в разговор, физические муки французов дополнялись отчаянной тревогой, порожденной неизвестностью. В бараке, куда загнали несчастных на ночь, было еще грязнее, еще отвратительнее, чем в ишимском остроге. Но этапники так устали, что согласны были лечь, не разжигая печи, приткнувшись куда попало и даже просто на дворе, если внутри им не хватит места. Как правило, в подобных придорожных каталажках нет отдельных комнат для сопровождающих своих близких женщин и детей, и эти горемыки вынуждены располагаться вместе с солдатами, которые из жалости их не гонят. Так и на этот раз странницы поневоле, прикрыв детей отрепьем, устраивались с ними в караульном помещении кто где мог: под солдатскими койками, возле дверей, между козлами для винтовок. Надо ли говорить, что в арестантских бараках — они же остроги — ссыльнокаторжные были лишены медицинской помощи? Как, впрочем, и на протяжении всего пути? В так называемых лазаретах нет ни коек, ни матрасов, ни одеял, ни чего-то, хотя бы отдаленно напоминающего белье. По дороге от Томска до Иркутска, на расстоянии четырехмесячного перехода, насчитывается только пять небольших лазаретов, имеющих в общей сложности сто коек, тогда как требуется их в пять раз больше. Но и на этих кроватях, убогих ложах, располагались, как правило, солдаты. Ссыльные плотно набивались в помещение, не менее тесное, чем в Ишимском, и хотя они улеглись впритык друг к другу прямо на нечистотах, накопившихся за несколько недель, все равно пятая часть их осталась без места, на улице. Среди последних оказались и Жак Арно с Жюльеном де Клене. Изнемогая от усталости, с обмороженными руками и распухшими от мороза лицами, они едва притронулись к отвратительному месиву, принесенному в столь же грязных баках, как и утром. — Итак, — с трудом произнес Жак, — нас ждет ночлег на снежном матрасе при тридцати градусах мороза! — Бедный мой друг, — отозвался Жюльен, забывая о собственных мучениях, — в какую ужасную историю втянул я тебя по своей самонадеянности! Мужайся! Прижмемся друг к другу, и будет теплее. Хорошо еще, что шубы у нас не отобрали. — Послушай, — как в бреду заговорил Жак, — почему бы не вырвать мне у солдата ружье и не расправиться с изувером, затащившим нас сюда? Меня пристрелят на месте? Тем лучше: разом будет покончено со всем этим! — Наберись терпения! Помни, что обещал полковник. Если в течение ближайших двух дней в судьбе нашей ничего не изменится, то мы оба сможем поступить так, как ты задумал. Двое каторжников с грубыми лицами и выжженными на щеках и лбу тремя буквами, образовывавшими слово «вор», переговорили о чем-то со своими товарищами и, подойдя к французам, обратились к ним по-русски. Обнаружив, что незнакомцы их не понимают, заключенные поискали глазами старосту, чтобы он перевел. Бывший полковник, тоже оставшийся на улице, хотел подойти к ним, но стражники скрестили штыки у его груди. Однако старик и так уже понял, что за благородная мысль осенила этапников. — Отлично, ребятки! — сказал он им. — Делайте, как решили. Заранее благодарю вас. Московские лиходеи, совершившие черт знает сколько преступлений, недоумевая, откуда взялась вдруг в их душах жалость, неожиданная, словно цветок в грязи, вознамерились приготовить иностранцам ложе — необычное для горожан, но привычное для сибирских охотников, при одной мысли о коем житель края с умеренным климатом пришел бы в ужас. Впервые на такой кровати трудно заснуть, но зато, покоясь на ней, можно не бояться замерзнуть. Задумывались ли вы, укрывшись за плотными шторами, нежась в мягкой постели под легким, как пушинка, одеялом и под веселое потрескивание дров в камине, о тех, кто путешествует по Крайнему Северу? Представьте себе, как один из этих героев забирается, словно зверь, в берлогу, разгребает руками снег, лишь белизной похожий на пух, под которым почиваете вы, осторожно, чтобы не обрушился верхний слой, расширяет туннель справа и слева и укладывается в тулупе прямо на землю, промерзшую в глубину на много метров. Устройством такого логова и занялись два каторжника. Дело нехитрое, хотя и достаточно трудоемкое. Как ни странно, подобный альков[82], в который, кажется, ложишься, чтобы больше не встать, обладает способностью хранить тепло человеческого тела — при условии, что в сводах нет никаких щелей и вы в шубе мехом наружу. Жюльен, обладавший уже некоторым опытом путешествия по Сибири, понял, что готовится. По достоинству оценив умение, с каким сооружалось прибежище для ночлега, он был растроган сочувствием, пробудившимся у этих так низко павших существ. Относясь к людям с симпатией, француз всегда противился мысли о неисправимой греховности человека и был рад теперь наблюдать проявление добрых чувств у преступников. Его синие, потрескавшиеся на морозе губы дрогнули и раскрылись в подобии улыбки. — Мерси! — произнес он. Воры поняли, что он им сказал, хотя и не знали этого слова. — Ну вот, — спустя некоторое время почти весело обратился Жюльен к своему другу, — опочивальня для вашего величества уже готова. Слуги удаляются. Так что можно и на бочок. Подкрепляя слова действием, он опустился на четвереньки и начал заползать ногами вперед под ледяной балдахин. Потом потянул к себе Жака, помог приятелю улечься, прижался к нему и замер в ожидании сна. Хотя постель была жесткой, температура держалась вполне сносная. Очень скоро Жюльена охватила сладкая истома, и он, сломленный накопившейся за день усталостью, заснул как убитый. Из забытья его вырвали, как и в предыдущее утро, гул голосов и звон цепей. Начиналась перекличка. У Жюльена ныло все тело. Однако в целом чувствовал он себя вполне отдохнувшим, сам удивляясь тому, что столь хорошо перенес ночевку в условиях, выдержать которые, казалось бы, могли лишь уроженцы арктической зоны. — Ну, давай же! — тряс он Жака. — Вставай же, вставай! Хватит нежиться, пора просыпаться! Если опоздаем к похлебке, то испортим настроение господину Еменову, и он обрушит на нас свой яростный гнев! Жак неловко зашевелился и, сев не без труда, обрушил снежный свод, хранивший ночью тепло его тела. Затем полез вслед за другом на четвереньках к выходу из логова. Но, просунув в лаз плечи, заметил внезапно, что не может открыть глаза. — Ослеп! Я ослеп! — закричал он в ужасе. Жюльен вздрогнул было, однако тотчас облегченно вздохнул: — Не бойся! Просто на веках образовалась ледяная корка! Растопи ее пальцами. Я это уже проделал. Да побыстрее, а то проклятый капитан шары выкатил от злости! — Эй, французы-контрабандисты, скоро вы там? — прорычал старый служака. — Живо на место! — Мой друг никак не откроет глаза и поэтому не может идти, — вежливо, но твердо ответил Жюльен. — Сукин сын имеет еще наглость затевать со мною разговор? Говоришь, твой друг-варнак глаз не может разлепить? Сейчас я мигом ему помогу! Подняв кнут, солдафон решительно направился к горемыкам. Жюльен, бледный от гнева, бесстрашно преградил ему путь: — Ты не ударишь, подлец! Не то я… Плеть со свистом рассекла воздух. На лице храброго француза проступила красная полоса. Но ударить во второй раз капитану Еменову не удалось: только он вскинул руку, как Жюльен сжал ее мертвой хваткой своей левой рукой, в то время как правой яростно сдавил душегубу горло. Офицер, теряя силы, упал на снег с выпученными глазами, посиневшим лицом и высунувшимся изо рта языком. На миг конвоиры и их поднадзорные застыли, ошеломленные этой безумной отвагой, которая будет стоить бунтарю жизни, если только не произойдет чуда. Солдаты, видя, что начальник их задыхается, тщетно пытаясь высвободиться из железных рук француза, с винтовками наперевес бросились на Жюльена. Смельчак, легко, как ребенка, подняв капитана, закрылся им, словно щитом, и отступил к забору. — Сейчас, сейчас я его придушу! — прокричал он, зловеще хохоча. — Мерзавец получит по заслугам! А уж потом колите меня сколько вздумается! Круг сжимался. Штыки сверкали в считанных сантиметрах от груди мятежника. И Жюльен понял, что пропал. — Стой! Опустить ружья! — откуда-то со стороны раздался вдруг зычный голос. И в тот же миг у барака затормозили сани. Из них выскочили жандармы — в блестящих касках и голубом обмундировании — и направились к колонне. Впереди, с гордо поднятой головой, шагал высокий мужчина. Шуба на нем была распахнута, и из-под нее выглядывал китель одного из старших чинов русской армии.
ГЛАВА 8
Казак у старосты. — Трогательная история сына солдата-француза. — Добровольный гонец. — Награда и наказание. — Спасение. — Просьба Жака. — Разжалование капитана Еменова. — За завтраком. — Великодушие Жюльена, возвращающего Жаку его слово. — Преображение Жака. — Только вперед! — Дорога на Иркутск. — Прощание со старостой. — До свидания! — Во искупление вины.Как мы уже знаем, капитан Еменов серьезно ошибся в выборе солдата для присмотра за старостой. Служилый входил в состав караула, приставленного к «апартаменту» начальника колонны и, естественно, слышал разговор своего командира с задержанными французами. Да и как могло быть иначе, если офицер вел его на повышенных тонах, будучи твердо убежден, что подчиненные ни слова не поймут из беседы, шедшей на французском языке. К тому же капитану вообще не было никакого дела до умонастроения рядовых конвоиров. Ведь, считал он, русский солдат, как и немецкий, — всего лишь автомат, настроенный на службу и способный лишь на пассивное послушание. Что же касается таких вещей, как наблюдательность, способность размышлять и инициатива, то они ему попросту недоступны. Поэтому старший по колонне ждал от солдата беспрекословного выполнения всего, что касалось старосты, и был бы весьма обескуражен, если бы узнал, как повел себя казак. — Да, батюшка, — говорил служилый бывшему полковнику, — стражник передал капитану написанное тобою послание, и начальник приказал мне воспрепятствовать твоему общению с французами. Обманщик не пошел в Томск. Капитан велел держать его взаперти, пока колонна не двинется в дорогу: он хочет, чтобы ты думал, будто письмо твое в пути. — Зачем ты мне это рассказываешь? — недоверчиво спросил ссыльный. — И что за интерес тебе заботиться об этих несчастных? — Я же знаю, что задержанные ни в чем не виноваты: они не связаны с кружком нигилистов, не участвовали в заговоре против царя-батюшки и, ко всему прочему, не являются подданными нашего государя-императора. — Интересно, — чуть насмешливо молвил староста, — откуда известно тебе все это? — Ну вот, ты не веришь мне, отец, а зря. Понимаю, конечно, тебе приходится быть осторожным: вокруг полно соглядатаев. Но я в один миг развею твои сомнения, не имеющие, клянусь тебе, никаких оснований. Последняя фраза, произнесенная на чистом французском, повергла старосту в изумление: — Ты что, французский знаешь? — Да, батюшка. — Наверное, ты единственный такой среди казаков… — Поскольку я владею языком задержанных, то понял из разговора, что они — жертвы чудовищной несправедливости, преступного превышения власти. — Предположим. Но это не объясняет, почему ты проявляешь к ним столь большое участие, что даже нарушил приказ с риском понести тяжелое наказание. — Сейчас расскажу все. Я ведь тоже француз, хотя и подданный царя. — Не может быть! — Может, может… Во время войны Наполеона с Россией отец мой служил в охране императора. Он попал в плен и был сослан в Сибирь. Потом поселился в киргизской деревне и много лет спустя взял в жены дочь начальника острога. Я — самый младший из этой довольно большой семьи. Батюшка мой стал настоящим сибиряком, но незабывал Францию и очень любил при случае послушать звучную французскую речь. Я родился, когда он был уже стар. Отец приложил немало усилий, чтобы научить меня языку своих предков, и добился своего: я довольно прилично говорю по-французски. Потом меня призвали на воинскую службу, и я оказался далеко от дома, когда отец скончался в кругу любящих домочадцев. Я храню о нем самые теплые воспоминания и испытываю к французам те же чувства. Оставаясь один, я громко разговариваю сам с собой по-французски и ощущаю при этом благостное состояние души своей: будто я слышу голос столь любимого мною отца… Так что ты можешь полностью доверять мне — казаку французского происхождения. — Верю тебе, сынок, — ответил староста, не скрывая волнения. — Но что же ты надумал? — У меня лучший в отряде конь. Напиши генерал-губернатору еще одно письмо, и я тотчас отправлюсь в путь. Скакун мой одним махом одолеет семьдесят верст от Ишимского до Томска. — Хорошо, но каким образом ты пробьешься к губернатору? — На прошлой неделе меня уже посылали к нему с поручением, и я сохранил бирку, которую правительственные гонцы крепят к руке. Ты, наверное, знаешь, что начальство принимает правительственные послания лично и в любое время суток. — На все у тебя есть ответ, — произнес арестант и несколько минут спустя вручил смельчаку послание, написанное в тех же выражениях, что и предыдущее. — Держи! И да сопутствует тебе удача! Прими благословение старика, любящего мужественную нацию, к которой ты принадлежишь. — Спасибо, отец, все будет в порядке! До встречи! Отважный казак взнуздал лошадь, вскочил в седло и помчался, никем не замеченный в сумерках. А вечером того же дня уже входил в хоромы генерал-губернатора. Письмо потрясло сановника. Одно за другим последовали распоряжения, выполнявшиеся быстро и четко. Не прошло и десяти минут, как в личные сани губернатора была уже впряжена тройка резвых коней! И тотчас же повозка лихо рванула вперед, увозя с собой адъютанта губернатора Пржевальского, решившего лично проследить за выполнением предписаний своего начальника, и сопровождавших его жандармов. Гонец застыл, ожидая, когда его отпустят. — Ну а теперь разберемся с тобой, — проговорил генерал. — Ты без разрешения покинул свою часть и за это должен быть наказан. Тебе дадут свежего коня. Доехав до Иркутска, ты сам явишься к начальству и отбудешь там месячное заключение. Но не в солдатской тюрьме, а в офицерской. Ты нарушил дисциплину, но одновременно и предотвратил преступление, которое могло бы совершиться во владениях его величества царя. Жалую тебе звание унтер-офицера. Ну, в путь! Ты славно служишь! — Спасибо, батюшка! — произнес казак. Глаза его радостно блестели. Задержавшись ненадолго в Семилужском и Ишимском, где сменили коней, все остальное время сани неслись стрелою в ночи и подкатили к острогу в тот самый момент, когда капитан Еменов задыхался в мертвой хватке Жюльена де Клене. Услышав грозное «Опустить ружья!», солдаты, только что собиравшиеся изрешетить француза, беспрекословно подчинились команде. Капитан судорожно глотнул воздух, с трудом выпрямился и почтительно застыл перед адъютантом в чине полковника. Вежливо поздоровавшись с французами, к которым он обратился по имени, представитель губернатора сказал: — Высокочтимый граф де Клене и месье Арно, мне предписано исправить ошибку, допущенную в отношении вас. Вы свободны, господа, и я приношу вам извинения от имени его превосходительства генерал-губернатора. Такие же извинения, учитывая характер нанесенного вам оскорбления, будут переданы послу вашего правительства. Поскольку вы, господа, понесли по вине находящегося на государевой службе нашего офицера материальные потери, я уполномочен предложить вам на выбор: или вернуться в Томск, где вы будете гостями губернатора, или продолжить свой путь. В последнем случае я последую вместе с вами до Иркутска, где генерал-губернатор Восточной Сибири возместит вам и моральный и материальный ущерб. Жак и Жюльен, тронутые этими словами, шагнули к офицеру и, пожимая ему руку, поблагодарили с горячей признательностью людей, только что находившихся на волосок от смерти, а теперь возвращенных к жизни. Капитан Еменов, словно громом пораженный, посматривал в смятении то на друзей, то на полковника. Жюльен презрительно прошел мимо него, не удостоив изувера даже взглядом, но Жак не привык прощать обиду. — Можете ли вы, полковник, оказать мне услугу? — обратился он к адъютанту. — Я в вашем распоряжении! — Тогда дайте, пожалуйста, саблю: меня так и подмывает подойти к этому господину и отсечь у него хотя бы одно ухо — в виде компенсации за те унижения, которые мы перенесли по его милости. Адъютант, по-видимому приняв эту просьбу всерьез, произнес степенно: — Месье, я не могу выполнить ваше желание. Но должен заметить, что военным законодательством предусмотрены не менее суровые меры наказания. И одна из них — разжалование, сопровождаемое крайне унизительной церемонией. Да вы сейчас и сами увидите. — Нет-нет, полковник, — воскликнули оба друга, — только не это! Пощадите его! — Мои распоряжения не могут отменяться, господа, — ответил полковник с некоторой грустью в голосе и обратился к начальнику колонны: — Еменов, ты нарушил свои обязанности и недостоин высокого звания слуги его императорского высочества. Один из унтер-офицеров, старший по возрасту, сорвет с тебя эполеты и сломает твою шпагу. Прослужишь два года рядовым в строительной части без права ношения оружия. — Но должны ли и мы присутствовать при приведении этого приказа в исполнение? — спросил Жюльен. — Друг мой, проведя ночь в снегу, еле стоит на ногах. И я был бы вам благодарен, если бы вы разрешили нам где-нибудь отогреться. — Как вам угодно, господа, — вежливо ответил адъютант. Через десять минут в комнату, где находились друзья, вошли полковник со старостой. — Взгляните, Сергей Иванович, на ваших подзащитных, — сказал адъютант. — Они с радостью пожмут руку человеку, который столь своевременно пришел к ним на помощь. Вам, только вам, обязаны они свободой! Путешественники бросились обнимать старика. — А теперь, когда справедливость восторжествовала, разрешите пригласить вас, господа французы, к завтраку, отличному от тех, что давали вам в течение этих двух дней… Вы составите нам компанию, Сергей Иванович? Правила не возбраняют вам провести с нами полчаса за сердечной беседой. — С удовольствием, Василий Петрович, хотя времени у меня в обрез: колонна вот-вот выступит в путь. — Вы догоните ее на санях бывшего начальника конвоя. К тому же мне велено передать вам, что его превосходительство желает, — подчеркнул адъютант последнее слово, — чтобы остаток пути вы проделали в повозке. — Нет, — твердо произнес староста. — А его превосходительство ничего не просил вас передать мне лично? — Вот его точные слова: «Скажите тому, с кем вершили мы вместе ратные подвиги и делили славу, что воспоминание о нем живет в моем сердце и что…» — И что?.. — «И что я надеюсь на его скорейшее возвращение в наши ряды и занятие им места, которого он достоин». — На все воля Божья! — скромно молвил ссыльный. Денщик принес самовар и заварочный чайник с ароматным чаем, по достоинству оцененным при таком морозе. Стол был уставлен разнообразными продуктами, собранными в спешке и только что размороженными: ведь в дороге и мясо, и консервы, и хлеб, и фрукты превратились от холода в ледышки. Оказавшиеся волею судьбы за одним столом четверо сотрапезников, отдавая должное вкусной еде на этом импровизированном пиру, сначала почти не разговаривали. Когда же чувство голода прошло, завязалась беседа. — Итак, господа, вот что я понял: сколь бы странным это ни казалось, вы решили совершить подвиг, впервые в истории отправившись в Бразилию через Азию, — произнес адъютант. — Покинув Россию, вы посетите еще два американских субконтинента. — Призна́юсь вам честно, за последние два дня я совершенно забыл об этом! — ответил весело Жюльен. — А ты, Жак? — То же самое! Я уже начал было привыкать к походной жизни. Не то чтобы она доставляла мне особое удовольствие, но считал условия, в которых мы находились, вполне приемлемыми и был уверен в успешном завершении нашего путешествия, как вдруг случилось это досадное происшествие… — Которое, наверное, вызвало у вас глубокое отвращение к странам с холодным климатом, — печально заметил староста. — Это так естественно, не правда ли, Василий Петрович? — Вы правы, Сергей Иванович. И господа должны возносить хвалу своей звезде за то, что встретили в вашем лице благородную душу. — Позвольте не согласиться с уважаемым полковником Михайловым. Нет, я вовсе не возненавидел путешествия по суше — единственно возможный для меня вид передвижения, — промолвил добродушно Жак. — Но… — Ну-ну, — сказал другу Жюльен, — признайся, ты хотел бы вернуться в Париж? Национальная гордость здесь ни при чем: ведь мы отправились в путешествие не за славой. Поскольку это я подверг тебя таким испытаниям, то обязан вернуть тебе твое слово. Кто знает, уж не решил ли ты сменить маршрут и, вернувшись в Европу, добраться до какого-нибудь порта, чтобы отправиться оттуда прямиком в Рио-де-Жанейро? Жак замахал обеими руками. — Нет, уж лучше встречать на каждом шагу капитанов Еменовых! — возразил он с такой горячностью, что Жюльен удивился. — Лучше вернуться в партию ссыльнокаторжных и спать по ночам в снежной постели, приготовленной ворами!.. Лучше пешком дойти до Берингова пролива, зимовать за Полярным кругом, приручать белых медведей и вместе с чукчами пить в чуме[83] тюлений жир, чем находиться на борту корабля!.. Ты прав, национальная гордость не имеет к нашему путешествию никакого отношения. Мы не англичане и пари не заключали. В путь я отправился под твоим давлением и особого энтузиазма в дороге не проявлял. Но сейчас честно заявляю тебе, что намерен идти только вперед, даже если придется сложить свою голову. Скажу прямо, у меня было немало сомнений. Но сегодня мое желание твердо. Повторяю: только вперед, как говорят в таких случаях американцы! — Браво! — воскликнули в один голос его собеседники, взволнованные неожиданным признанием. — Если вы мне верите, — продолжал Жак, — то поднимем бокал за здоровье нашего высокого друга полковника Михайлова и за его превосходительство генерал-губернатора, а затем, воспользовавшись любезным предложением полковника Пржевальского, не теряя ни минуты, отправимся в его сопровождении в Иркутск! — Я полностью в вашем распоряжении, господа! — галантно ответил адъютант. — Рад вашему решению хотя бы потому, что мне предстоит приятная поездка в компании с такими славными людьми, успевшими уже завоевать мою симпатию. — Вы же завоевали нашу, поверьте! — заявил с жаром Жюльен. — И вот еще что, — произнес полковник. — В Ишимском я узнал от стражника, что приключилось с вашим багажом. Все было разграблено, остался только этот саквояж с документами, почему-то не привлекший внимания мародеров. Взгляните, на месте ли бумаги. — Все цело: паспорта, рекомендательные письма, банковские поручения, даже моя карта, — сказал Жюльен, бегло просмотрев содержимое сумки. — Все в порядке, приношу вам благодарность! — Ну что ж, друзья, в дорогу! Сани большие, места всем хватит. Мы будем рады еще какое-то время побыть с вами, Сергей Иванович. Неужели ваше решение идти по этапу окончательное? — Да, Василий Петрович. Не успели пассажиры усесться, как сани нагнали мрачную колонну. Полковник Михайлов, снова ставший просто старостой, сошел с саней и обнял крепко Жюльена и Жака, в чьих глазах стояли слезы. Избавленные от испытаний, которые пришлось им пережить в течение тридцати шести часов, но хорошо теперь представлявшие себе все ужасы, выпадающие в пути на долю несчастных этапников, Жюльен и Жак оплакивали судьбу ссыльного полковника и одновременно восхищались его решимостью. — Прощайте!.. Прощайте, дети мои! — повторял сдавленным голосом полковник Михайлов. — Нет-нет, не прощайте, а до свидания! — энергично возразил Жак. — Надеемся встретить вас на обратном пути в Петербурге. До той поры вы уже вновь займете подобающее место в науке. Так что — до свидания! Сани скользили рядом с колонной ссыльнокаторжных. Попросив кучера сбавить скорость, адъютант сказал спутникам: — Я понимаю вас и разделяю ваше желание, но — увы! — не вашу надежду. Полковник Михайлов — человек несгибаемой воли. Такой стальной характер не позволит сломить себя ни на минуту… О, да этот скотина ямщик собирается, кажется, задавить несчастных! Чуть было не сбил с ног вашего старого знакомого, капитана Еменова: он идет рядом с ворами, под их косыми взглядами! — Бедняга! — пробормотал Жюльен. — Какая жестокая расплата! — Ну-ну, нашли кого жалеть! Или вы хотели бы оказаться сейчас на его месте? Будь его воля, вы и находились бы там, в колонне. Право, этот солдафон не заслуживает снисхождения! — Бр-р! — проговорил Жак и обратился к Пржевальскому: — Нельзя ли попросить вас поднять верх? Такой мороз, что, того и гляди, белые медведи пожалуют!.. — Потом он повернулся к своему другу: — Если ты только послушаешь меня, Жюльен, то возвращаться из Бразилии мы будем в теплое время года. Конечно, у тарантаса есть недостатки, но и путешествие в санях не во всем приятно. — Да, несомненно. Если бы мне сказали, что впереди нам предстоит хотя бы пятиминутное плавание, я тотчас бы повернул назад. Что делать, я неисправим!
ГЛАВА 9
Путевой дневник Жака. — Встреча с сибирскими волками. — Воспоминание о морской качке. — Гражданский генерал. — Сибирские Афины. — Золотопромышленники. — Меха — мерило человеческого достоинства. — Сибирские простаки. — Незамерзающая Ангара. — Своенравие Байкала. — Господин море. — Иркутск — недоступная земля обетованная. — Борьба Ангары с морозом. — Непроторенным путем. — Умение перевернуться. — Опрокинутые сани. — Месть моря.— Ну, дружище Жак, признавайся, ты входишь во вкус! И свидетелем тому наш милый спутник Пржевальский! — Да, не пытайтесь отпираться, господин Арно, — поддержал Жюльена офицер. — Могу вслед за господином де Клене привести неопровержимые тому доказательства. — «Входишь во вкус»… Это, пожалуй, сказано слишком сильно. Считайте лучше, что я проявляю интерес к путешествию. — К чему такие тонкости! — воскликнул Жюльен. — Твоего признания более чем достаточно, чтобы подтвердить нашу правоту. Скажу в связи с этим, что я с удовольствием почитал бы записи, за которые принимаешься ты ежевечерне, причем тайком. Наверное, боишься, что я обвиню тебя в нарушении твоих же собственных принципов, включая главный из них — быть равнодушным ко всему, что встретится в пути. — Выходит, ты все знаешь? — Я же не слепой! И неоднократно видел, как ты вынимаешь карандаш и украдкой царапаешь что-то в сафьяновый блокнот. Записки закоренелого домоседа и бюрократа-крючкотвора особенно любопытны, поскольку у подобной категории людей необычайно острое восприятие самых, казалось бы, обыденных вещей, скрытых доселе от их взора. — Возможно, ты и прав. Во всяком случае, эти, как ты говоришь, записи абсолютно искренни. — Еще одно признание! — Что поделаешь? Ну а теперь ты, наверное, попросишь меня почитать вслух эти нескладные, уродующие французский, обрубки фраз, не так ли? К тому же носящие исключительно личный характер? — Конечно! Мы оба — и полковник и я — сгораем от любопытства, не в силах угадать, что же там, в таинственном блокноте! Будучи твердо уверены в том, что ты не захочешь огорчить нас своим отказом, мы обращаемся к тебе с настоятельной просьбой почитать нам путевые заметки. Жак посопротивлялся немного, но, не находя аргументов для отказа, достал наконец из кармана шубы маленькую книжечку и протянул Жюльену: — Держи. И сам читай. Из-за твоей настырности мне не раз придется краснеть: в моих каракулях столько абсурдных высказываний! — Так ты день за днем заносишь наблюдения? Отличная система! Возможно, иногда это и монотонно, зато вполне логично. Итак, начнем:
«Двадцать седьмое ноября. Нас только что освободили. Я хочу позабыть об ужасах нашего плена и полностью отдаться радости жизни. Удивительно, насколько вот так сразу расширился мой горизонт! Я стал обращать внимание на массу вещей, которых ранее не замечал. Мы пересекли рощу. Вековые березы с опушенными инеем ветвями прекрасно смотрелись под ярко-голубым небосводом… Здоровенные вояки-сибиряки — человек двадцать — сопровождали нас до первой деревни. Начитавшись книг о путешествиях, я ожидал сражения и всяческих приключений… Какая насмешка! Ни полковника, ни Жюльена, ни кучера, ни даже лошадей — никого не беспокоило присутствие волчьей стаи. Полковник охотно объяснил мне, что бедным животным трудно передвигаться в лесу по глубокому снегу, и они с удовольствием выходят на протоптанную людьми дорогу, чтобы следовать за ними, но по своим делам. Двадцать восьмое ноября. Дома́ в Сибири, вместо того чтобы выглядеть красиво или хотя бы добротно, часто довольно уродливы на вид. Ни одно из строений не имеет гордой осанки. Здания стоят наклонившись. Двери и окна прикрыты овечьими шкурами, стены вот-вот рухнут, пол в избах кривой, словно крыша землянки. На уровне земли у такого дома с одной стороны — первый этаж, с противоположной — второй. Пересекая избу в одном направлении, попадешь на чердак, в другом — в подвал. Даже удивительно, как живут здесь люди. Говорят, эти перекосы — результат оседания почвы при оттаивании. Но я бы добавил — и от нерадивости хозяев… Езда в санях стремительна, удобна и приятна — если только не закрыт наглухо верх. Что за дивное ощущение! Ни бортовой, ни килевой качки, и лишь головокружительно быстрое движение по абсолютно ровной поверхности заставило меня вспомнить о морской болезни. Если бы Жюльен это знал! Двадцать девятое ноября. Мы едем день и ночь. Я сплю в санях. Очень интересно, проснувшись, узнать, что пройдены многие километры, которых ты и не заметил. Миновали приток Оби — небольшую речушку под названием Чулым, которая, однако, и по ширине, и по протяженности превосходит Рейн. Пересекли мы ее, понятно, по льду. Копыта лошадей выбивают на толстом слое смерзшейся воды гулкую дробь — звук весьма неприятный и отнюдь не успокаивающий нервную систему. Летом некоторые отваживаются пересекать бурные потоки в лодке. Одна мысль об этом бросает меня в дрожь. На подъезде к Красноярску, столице Енисейской губернии, возок наш перевернулся: кучер оказался на редкость неловок. С нами, правда, ничего не случилось, зато сани сильно пострадали. Придется на сутки задержаться. Тридцатое ноября. Нет худа без добра. Красноярск — очень приятный город, местное общество — изысканно. Роскошные экипажи, слуги в ливреях, обшитых галунами[84], — прямо как в Париже! Деревянные дома величественны и вместе с тем уютны. Посреди березовой рощи — городской парк. Летом все это выглядит, наверное, очень нарядно, с господами и дамами, одетыми по последней моде. Нанесли визит генерал-губернатору — чин сей не военный, а гражданский. Конечно, гражданский генерал — словосочетание странное, но это именно так. Дело в том, что в России все государственные должности соответствуют чинам в армии. Так, например, имеются библиотекари-капитаны, судьи-лейтенанты, чиновники-майоры. Таким образом, чернильные души поднимаются по иерархической лестнице воинских званий от унтер-офицера до полковника. Родись я подданным царя, то был бы командиром батальона в префектуре Сены и щеголял бы в роскошной форме. Но судьба распорядилась иначе. Такая милитаризация касается и самых скромных должностей. Наш кучер, к слову сказать, рядовой, а начальник почтовой станции — уже унтер-офицер. И это не все. Женщины тоже разрешают называть себя соответственно должности мужа. В обиходной речи говорят: госпожа полковничиха, госпожа капитанша, госпожа генерал-губернаторша. Приняли нас у генерал-губернатора радушно. Первое декабря. Полковник Пржевальский — наиприятнейший человек из всех наших новых знакомых».
— Полковник, благодарите! — прервал чтение Жюльен. — Я предупреждал, что записи носят личный характер, — заметил Жак, и его друг снова уткнулся в записную книжку:
— «Генерал-губернатор показал нам очень красивый городок, который называют сибирскими Афинами. В этих северных Афинах много толстосумов, сколотивших на золотых приисках сказочные состояния. Но ничего «афинского» в этих парвеню[85] нет. Они выставляют свое богатство напоказ и сорят деньгами широко и бессмысленно. К тому же страшно утомительны, болтают без умолку о своем достатке — о тысячах бутылок вина, распиваемых в течение года, о своих домах из камня и металла, стоящих бешеные деньги. Нам рассказали о купце, который, не желая при оттепели пачкать колеса дилижанса, приказал расстелить вдоль дороги ковер. Довольно оригинально! Побывал я на базаре. Прелюбопытное зрелище. Съестное продается в замороженном виде, в коем остается свежим до самой весны. Свиные ноги, бычьи туши, дичь, студень — все здесь же рубится топором или пилится пилой. Огромные, больше метра длиной, рыбины ставят на сорокаградусном морозе стоймя, как деревянные брусья. Такой способ торговли очень удобен. Продавцы делают запасы в начале зимы, и на морозе все это сохраняется куда лучше, чем в холодильниках морских судов Старого и Нового Света. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» — гласит французская пословица. В России ее надо было бы немного изменить: «Скажи мне, какой мех на тебе, и я скажу, кто ты». Уважающий себя человек никогда не будет здороваться с человеком в каракулевой шапке. Покидая покои губернатора, полковник услышал нелестный отзыв лакея о нас с Жюльеном только из-за того, что наши шубы из лосиной шкуры. Поскольку одеяние это весьма теплое и прочное, хотя и не столь элегантное, носят его здесь простолюдины. Но после того, как к моему наряду пристрочили воротник и манжеты из бобра, я был сразу же признан джентльменом. Обошлось же мне подобное изменение общественного мнения в двести франков, выброшенных на ветер! Второе декабря. В десять часов вечера двинулись в путь. Город был тих: «афиняне» в сей час пьют шампанское, танцуют котильон[86] и тешатся азартными играми. Я сказал, что город тих, но на самом деле это не совсем так. Со всех сторон раздаются непонятные звуки, напоминающие удары молоточка по наковальне. Надоедливое дзинь-дзинь всю ночь мешало мне спать. Я спросил у полковника, что это такое, и он мне весьма любезно объяснил. Оказывается, сибиряки, опасаясь воров, переняли у китайцев странный обычай озвучивать дом на всю ночь шумовыми эффектами, словно бы предупреждая тем самым вора, что в доме бодрствуют. Перед тем как лечь спать, они позвякивают чем-нибудь, спускаясь в подвал, поднимаясь на чердак или обходя дом. В действительности же результат достигается прямо противоположный: вор всегда знает точно, где находятся хозяева, что, конечно, не может не способствовать осуществлению его дурных замыслов. Поистине простаки водятся во все времена и во всех странах! И в подтверждение этого добавлю: красноярские чудаки не глупее парижской полиции, предписывающей ночному патрулю проходить в строго определенное время одним и тем же маршрутом вдоль одних и тех же домов. Третье — восьмое декабря. Движемся и днем и ночью, останавливаясь только за тем, чтобы перекусить и сменить лошадей. Мороз крепчает. Тут уж ничего не поделаешь! Наши шубы неплохо защищают от холода, и это главное. Пересекаем то одну речку, то другую. Меня это не волнует: все они покрыты льдом. Мелькают деревня за деревней. Оставили позади еще два города — Канск и Нижнеудинск. После сибирских Афин достаточно и простого упоминания о них. Местность становится гористой, с обеих сторон богатые сосновые леса. Все идет как надо! Через два-три дня мы завершим переход в две с лишним сотни километров — от Красноярска до Иркутска».
— Вот и все, — заключил Жюльен. — Браво! Прими мои самые искренние поздравления! Все очень точно, лаконично и не лишено юмора, придающего повествованию особую прелесть. Полковник, согласившись с ним, о чем-то задумался. Клене, заметив это, спросил, не раздражают ли его отдельные страницы дневника хотя бы по форме изложения. — Напротив, — ответил полковник, — я отметил бы остроту наблюдений. Что меня удивляет — это, пожалуй, настойчивость, с какой господин Арно высказывает свое отвращение к воде, к речным потокам… Скоро мы подъедем к Иркутску, который, как вы знаете, расположен на противоположном берегу Ангары, а это не обычная сибирская река: она может и не замерзнуть. — Но есть же, наверное, мост? — Разумеется, однако не исключено, что его снесло. В таком случае придется переправляться на пароме. — Ни за что! — воскликнул Жак. — Я путешествую только по суше и на воду спускаться не согласен. Буду ждать, пока Ангара замерзнет, или же пущусь в обход, вокруг озера Байкал. Ямщик стремительно обернулся: по-французски он не понимал, но, услышав слово «Байкал», не на шутку испугался. Бросив на пассажиров умоляющий взгляд, возница начал объяснять что-то пространно полковнику. — Что он говорит? — спросил заинтригованно Жюльен. — Примерно следующее: «Ваше превосходительство, попросите приезжих не произносить слова «Байкал». Вы же знаете, его можно называть лишь «господин море», а не то он разгневается и погребет в своих пучинах дерзновенных, столь неуважительно отозвавшихся о нем. Я — бедный человек, и вы, надеюсь, не пожелаете гибели подданного нашего царя-батюшки. Если баре не послушают вас, господин море отомстит мне при первом же удобном случае, когда я буду пересекать его на санях, направляясь от Иркутска к Кяхте». Что вы хотите? Это же сибирский крестьянин: его можно отлупить, чем он даже гордится порой, но от суеверий не избавишь! — Договорились, мой милый! — обратился Жак к кучеру, попросив полковника перевести. — Мы иностранцы, и господин море, перед которым мы скоро снимем шляпу, не будет на нас в обиде. — Да сохранят вас, ваше превосходительство, Николай Чудотворец и Казанская Божья матерь! Почтовый тракт вступает в долину Ангары в ста километрах от Иркутска и до этой столицы Восточной Сибири идет вдоль реки. Сани стрелой мчали по левому берегу Ангары, стремительно несшей меж скалистых берегов огромные льдины. Это не предвещало ничего хорошего. За поворотом дороги путники увидели возвышавшиеся над березами и соснами, гнувшимися под тяжестью снега, колокольни и купола огромного города. Лошади, подбадриваемые возницей, ускорили шаг. — Ну-ка, ласточки-касаточки мои! Э-эй! Взметнулась ввысь зубчатая стена, из-за которой выглянули золоченые маковки церквей, увенчанные православными крестами. Под лучами ярко пылавшего на синем небосводе солнца благородно светилось покрытие старинных куполов, великолепием своим напоминавших драгоценности в голубом бархатном футляре. Широкая Ангара, омывавшая стены монастыря и устремившаяся на северо-запад, как поток лавы, предстала во всем своем величии. Огромные льдины фантастических форм сталкивались с угрожающим скрежетом.
— Иркутск! — закричал Жюльен, не скрывая своего восхищения. — Ангара свободно катит свои воды! — жалобно протянул обескураженный Жак. — Мост снесло льдинами, — констатировал полковник, не на шутку обеспокоенный. — Ну и что? Подождем, пока река не станет, — решительно заявил Жак. — Но из всех сибирских рек — а их много — Ангара не замерзает дольше всех. Иногда она в течение всей зимы успешно сопротивляется самым лютым холодам. — Черт возьми, это уже серьезнее! — Поскольку морозы сейчас сильные, я уверен, река скоро станет, но не раньше, чем через неделю. — А почему сия капризница не подчиняется общим правилам? — Причина проста — рельеф местности. Жюльен, воспользовавшись замечанием Пржевальского, приступил к чтению лекции: — Роскошные водные просторы, которые мы увидим, если свернем к югу, и которые я должен называть морем, если не желаю, чтобы ямщик наш поседел раньше времени, расположены приблизительно на пятьсот метров выше уровня моря. — Озеро Титикака[87] находится значительно выше над уровнем моря, однако не столь своенравно, — насмешливо бросил Жак. — Площадь нашего водоема — свыше тридцати тысяч квадратных километров, длина — двести двадцать лье, ширина — пятнадцать — двадцать, — продолжал Жюльен. — Поскольку Ангара — единственная река, берущая начало в Байкале, этом гигантском хранилище пресной воды, она и должна быть бурной, полноводной, — пояснил полковник. — Ангара сдается холодам лишь после долгой, отчаянной борьбы. Вода начинает замерзать со дна в неглубоких местах, у берегов. А потом и в верхних ее слоях образуются льдины, смерзающиеся со временем с придонным льдом. Воды, как бы сжатые снизу и сверху, отчаянно прорываются, выталкивая во все стороны ледовые глыбы. Однако все напрасно. Мороз моментально соединяет выброшенные водой прозрачные блоки, и река, пытаясь избежать полного замерзания в привычном русле, разливается по берегам быстрыми потоками. Волнующее сражение, длящееся от восьми до десяти дней, заканчивается полной победой мороза, надежно схватывающего воду и подо льдом, и на прибрежных равнинах. — Одним словом, по прямой в Иркутск не въехать! — сделал вывод Жюльен. — Надо дождаться, пока мороз одержит верх над непокорной водной стихией, — заявил Жак. — Или же объехать место истока Ангары по льду Байкала… — Море, море, ваше превосходительство! — простонал кучер. — Хорошо, хорошо, трусишка! — Вы думаете, «море» замерзло? — спросил Жак. — Уверен, что да. — Далеко до него? — Около пятнадцати французских лье. — Четыре часа санного хода. Нам и не такое по плечу! — Только бы не забыть поприветствовать почтительно господина море! — сказал Жюльен. Сани, развернувшись, направились на юго-восток. Вскоре путешественники обнаружили, что широкая дорога с тонким слоем снега, прибитого другими санями, кончилась. Торной дороги не стало. Вся надежда теперь на мастерство кучера и инстинкт лошадей, которые то и дело увязали в снегу чуть не по грудь и дергали так, что сани в любой момент могли перевернуться. Путь вдоль Ангары проходил по отвесным кручам, и, чтобы не сорваться вниз, двигаться приходилось с огромными предосторожностями. Иногда путешественники слезали с саней и шли пешком, поскольку ямщик не ручался, что сможет проехать дальше. Вдали показался Байкальский хребет, протянувшийся по левому берегу озера с юга на северо-восток. И вот наконец ущелье, в глубине которого злобно рычала Ангара, перекатывая льдины, было пройдено. Осталось лишь спуститься к озеру. К сожалению, посчитав, что самое трудное позади, возница на минуту утратил бдительность. Лошади, вступив на пологий склон и перестав чувствовать сопротивление саней, резво побежали вперед. Возок, который следовало придерживать, а не тянуть, тем более с силой, понесся вниз с такой ужасающей скоростью, что кучер оказался не в состоянии совладать с упряжкой. Катастрофа была неминуема. — Господа, — проговорил полковник, абсолютно спокойный, несмотря на клубы снега, поднимавшегося стремительно мчавшимися санями, — сейчас мы перевернемся. Но сделать это надо с умом. Не держитесь за возок, а, наоборот, расслабьтесь: снег глубокий, он смягчит удар. Жак и Жюльен едва успели прислушаться к полезному совету, как их резко подбросило вверх. Коренник рухнул, сани, сильно наклонившись, врезались в снег, придавив кучера, вопившего не своим голосом: — Это море мстит! Мы погибли!
ГЛАВА 10
Спасение саней. — Бегство коренника. — Озеро Байкал зимой. — По льду. — Полынья. — Гибель рысака. — Суеверный ужас ямщика. — Скала Шаманов. — Шаманство и шаманы. — Участь умерших людей. — Исчезновение полыньи. — В Иркутске. — Язвительные записи Жака. — Навязчивое гостеприимство. — Неуемное подражание. — Местный колорит. — Иркутский базар. — Новый спутник. — Надежда на облегчение судьбы полковника Михайлова.Совет адъютанта пришелся весьма кстати. Французы не стали хвататься за сани в отчаянной попытке удержаться в них и, подчинившись покорно закону инерции, вылетели из возка. Аварии на санях куда менее опасны, чем на колесных экипажах, и чаще всего проходят без неприятных последствий для ездоков. И о падении в этом случае можно говорить чисто условно, поскольку выброшенный из подобного транспортного средства скользит по снегу, и благодаря мягкой шубе все обходится без травм. Примерно так случилось и на сей раз. Жюльен перевернулся и, круглый в своих одеяниях, словно шар, приземлился на корточки в трех метрах слева от повозки, Жак совершил опасный кульбит[88] и, широко раскинув руки и ноги, распластался на снегу, словно огромный паук, справа от нее, а полковник перелетел через дугу и оказался непосредственно перед санями. Быстро вскочив, все трое залились дружным смехом. Да и что еще оставалось им делать? Ямщик, безнадежно застрявший в сугробе, взывал к господину морю и ко всем святым, которых так много в русских святцах[89]. Пристяжные стояли спокойно, кося глазом на коренника, глубоко погрузившегося в снег, из-под которого торчала одна только морда — прямо как в лавке, торгующей кониной. Сани не перевернулись, они лишь врезались передком глубоко в снег, так что задок оказался приподнятым под углом в сорок пять градусов. Полковник, как человек, привычный к таким передрягам, выпряг левую пристяжную и попросил Жюльена проделать то же с правой, а Жака — снять сбрую с коренника. Подведя лошадей к задку саней, Жюльен и полковник привязали животных к кольцам для крепления багажа. — А коренник отвязан? — обратился Пржевальский к Жаку. — Да, — ответил тот. — Хорошо. А теперь заставим этих двух вытянуть сани из снега. — Это будет тяжело. — О, вы не знаете еще сибирских лошадок! Они неказисты на вид, но такие умницы! Вот смотрите, — молвил полковник и громко свистнул. Услышав привычный сигнал, животные, стоя по брюхо в снегу, судорожно заскользили по мерзлой земле и рванули вперед, взметнув снежный столб. Задок саней опустился, навалившись всей массой на полозья, и через две минуты возок был уже на дороге — в том самом месте, откуда началось катастрофическое скольжение вниз. Коренник, почуяв свободу, вырвался из снежного плена и помчался в сторону озера. — А что с кучером? — обеспокоенно спросил Жюльен, поскольку го́лоса бедняги больше не было слышно. — Вот взгляните, — ответил полковник, не в силах сдержать улыбки при виде валенок, торчавших высоко из-под снега. — Эй, дружок, пора выбираться! — Ох-ох! — раздалось причитание. — Давай, давай, да поживее! Или, может, привязать по лошади к каждой твоей ноге? Валенки энергично задвигались, и ямщик, еле живой от страха, с пунцовым от напряжения лицом, выбрался наконец из снежных объятий. — Всемогущая Богородица, сжалься над бедным человеком! — Все в порядке. Богородица тебя пожалела. И хватит скулить. Сани на месте. Запрягай лошадей и трогай! А то мы вконец замерзли. — Но где коренник? Где мой рысак? — Какая разница! Ну его к дьяволу, запрягай оставшихся! И пошевеливайся: мы не хотим окоченеть. Пока кучер возился с упряжью, ездоки вычерпали снег из саней. И вот, укрывшись поплотнее одеялами, французы в сопровождении полковника продолжили путь. В тот момент, когда возок съехал на озерный лед, солнце заходило за видневшийся вдали заснеженный хребет, и взору путешественников открылось грандиозное, чарующее душу зрелище. «Представьте себе, — писал французский путешественник Анри Рюссель-Килуг, — на месте Швейцарии окруженное Альпийскими горами озеро — бескрайнее и мрачное, как Адриатическое море в непогоду. Вообразите заходящее солнце, золотящее вершины гор, отделенных от вас стокилометровой сверкающей, как сталь, полосой намертво схваченной холодом воды. Панорама Байкала — безбрежного моря льда — несравнима ни с чем в мире. В Америке озера такой же или несколько меньшей площади никогда полностью не замерзают, и общий вид их, хотя и бесспорно живописный, такого величия собой не являет». Вошедшее в поговорку выражение «ровный как лед» довольно обманчиво, поскольку заставляет думать, будто лед — это открытая равнина, гладкая, как зеркало. И тот, кто поверит вышеозначенным словам, подъехав к сибирскому озеру и обнаружив перед собой хаотическое нагромождение самых разнообразных по форме огромных ледяных глыб, воссоздающих картину изначального хаоса, непременно убедится в их несостоятельности. Перед нашими друзьями предстали во всем своем великолепии миллионы блоков, лежавших на боку или стоявших то прямо, то наклонно, хрупких, как стекло, и крепких, словно стены бастиона, с краями то зубчатыми, как у пилы, то плавно закругленными, как в изделиях из керамики. Тусклые, словно матовое стекло, или прозрачные, подобно воде горного ручья, отливавшие, как море, всеми оттенками голубого и зеленоватого цветов и включенные в причудливую игру света, ледяные глыбы сверкали, сияли, мерцали, пылали, принимая на себя и отражая своими бесчисленными гранями солнечные лучи и создавая невероятно богатую цветовую гамму, сопоставимую по своему многообразию лишь с причудливыми конфигурациями, которые приняла застывшая вода. Ледяные иглы, лезвия, овалы, эллипсы, конусы и кубы, сдавленные природными силами и со сглаженными в процессе формирования гранями, соприкасаясь углами, устремленными вверх пиками и округлыми плоскостями, образовывали удивительнейшие комбинации. Время от времени все эти тела меняли свои очертания, рассыпались и вновь смерзались, кристаллизуясь самым фантастическим образом. При одном взгляде на озеро становилось ясно, что хотя оно и вело себя послушнее, чем Ангара, но тоже сдалось лишь после длительной борьбы. О силе мороза, который одержал в конце концов верх, ярко свидетельствовали и ледяные кружева, накинутые на острые грани или гладкие плоскости: ведь то была пена, брошенная на скалы изо льда налетевшим с простора ветром и замерзшая на лету, еще до того, как успела коснуться поверхности. Среди многообразных по форме глыб, похожих, пожалуй, на лаву, выброшенную во время извержения вулкана, пролегли словно проложенные кем-то ровные полосы, то узкие, как дорога, то широкие, как долина. По одной из них и устремились сани. Ездоки — двое французов и русский офицер — упоенно любовались волшебной картиной, когда раздался вдруг раскатистый громоподобный треск. — Не бойтесь, — успокоил спутников полковник. — Мороз крепчает, и верхние слои скованной холодом воды, меняя объем, разлетаются во все стороны ледяными брызгами. Наши же сани практически невесомы для ледяного покрова толщиной не менее шестидесяти сантиметров. — Знаете, — подал голос Жак, — этот скрежет и подрагивание льда под нами не столь уж приятны. А часто бывают тут несчастные случаи? — Не слышал ни об одном. Хотя, понятно, если только откроется полынья, то человеку лучше туда не соваться: глубина ведь здесь совсем не малая! Но администрация учитывает, сколь смертельно опасны подобные, еще не замерзшие или оттаявшие участки воды, и из года в год принимает соответствующие меры предосторожности. — А именно? — Прежде всего, проводится серьезное обследование состояния льда, в частности, регулярно проверяется надежность ледяного слоя по фарватерам, размечаемым шестами. И до разрешения инспекторов никто не должен спускаться на лед. — А в этом сезоне уже проделана такая работа? — Думаю, да. Но в любом случае нам придется быть как можно внимательней, — сказал офицер и повернулся к ямщику, который судорожно крестился, не снимая с руки большой меховой варежки: — Ну что там еще? — Дева непорочная, помилуй нас! Святой Николай, сотвори чудо ради меня, раба верного нашего царя-батюшки! — В чем дело? Объяснишь ты наконец?! — Ваше превосходительство, видите там лошадь? Это наш рысак. Несется словно бешеный, а из-под копыт так и брызжет вода! Значит, впереди — полынья… Он пропал! Господи, лед не больно-то и прочен, а мы — недалеко от Скалы Шаманов! — Что он говорит? — спросил Жюльен, сохраняя спокойствие, как и положено путешественнику, закаленному испытаниями. — Эх, нет худа без добра! Сбежавший от нас коренник попал в полынью, которую мы могли бы не заметить, а теперь легко объедем. Я уже бывал здесь, у истока Ангары: из-за быстрого течения речной воды данный участок озера не замерзает дольше, чем другие. Но это — единственно опасное место на нашем пути. Поскольку двигались мы быстрее, чем я рассчитывал, то, действительно, оказались уже у Скалы Шаманов. Еще каких-то десять минут — и сани въедут на берег! — А что это за скала? — спросил Жюльен в предвкушении интересного предания. — Пройдемтесь пешком: нам надо сориентироваться по полынье, чтобы выбрать дорогу. Кучер поедет не спеша следом за нами, а я тем временем расскажу вам о местных суевериях… Идите без опаски: я хорошо знаю эти места… Так вот в чем суть… Впрочем, сначала два слова о том, что такое шаманство. Местные жители верят во Всевышнего, который, считают они, создав мир, нашел себе приют на солнце и теперь с полным равнодушием взирает на все, что делают люди. То ли довольный всем на свете, то ли притомившись при сотворении вселенной, он передоверил власть надо всем добрым и злым духам. Если злой дух, называемый здесь также шайтаном, вселяется в человека, то изгнать его способен только жрец, или шаман. Проделки этих духов, в которых верят финны, татары, маньчжуры[90], самоеды[91], якуты, коряки[92], камчадалы[93] и чукчи, невозможно описать, а внушаемый ими ужас словами не передать. Шаманы присвоили себе единоличное право усмирять злых духов, и вы можете сами представить, как эти хитрецы с помощью разных бесстыжих обманщиков безо всякого стеснения эксплуатируют доверчивость местных жителей, которые убеждены, что жрецы их после смерти становятся советниками Всевышнего, обитающего насолнце. Вот тут-то и начинается история скалы, у которой мы с вами находимся. Возносясь у истока Ангары ввысь, словно настоящая гора, она как бы регулирует отток воды из озера. Забайкальские шаманы утверждают, что если эта скала сойдет с места, то воды Байкала вырвутся из берегов, затопят близлежащие долины и погубят Иркутск. Местные жители считают, что их души после смерти поднимаются на плоскую вершину горы. Удержаться же на небольшой площадке, когда голова кружится от высоты, а внизу грозно рычит стремительный поток, очень трудно и удается только тем душам, которых помиловало божество. Остальные падают в бездну. Шум Ангары воспринимается суеверными людьми как жалобные вопли тех, кто боится упасть. Можете вообразить, какой ужас испытывает сейчас наш кучер. — Полковник, вот место, где погиб коренник. Однако полыньи я не вижу. — Но десять минут назад она была именно здесь. Представляете себе, с какой быстротой нарастает лед!.. — Все-таки это странно. — И однако же, со всех точек зрения вполне отвечает законам физики. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вода, несущая льдины, еще не замерзла, хотя температура ее ниже точки замерзания. И вы видели также, что появление в этих студеных водах постороннего тела сразу сковывает воду, превращая ее в лед. — Действительно, это так. — Внезапное падение лошади в полынью вызвало аналогичный феномен, и образовался толстый слой льда, по которому мы можем двигаться безо всякой опаски. — На санях? — Да, на санях… Так займем же свои места. И ничего не бойтесь: я знаю, как надо вести себя в подобной обстановке. Кучер сделал все, как было велено, ибо понимал, что только в этом их спасение. Лошади рванули вперед. Лед угрожающе затрещал, но выдержал. И десять минут спустя путешественники добрались до берега. А еще через четыре часа въехали в Иркутск: Жюльен — радуясь, что видел Байкал, Жак — довольный, что обошлось без парома, полковник — очарованный своими спутниками. Друзья решили провести в столице Восточной Сибири ровно столько времени, сколько потребуется для серьезной подготовки к путешествию за Полярный круг. Генерал-губернатор, которому сообщили телеграфом обо всех злоключениях иностранцев, принял путешественников по-царски, желая всею душой, чтобы они как можно быстрее позабыли о неприятностях, приключившихся с ними в селе Ишимском. Генерал-губернатор, представитель царской власти в Восточной Сибири, подотчетный только императору, распоряжался буквально всем и, взяв хлопоты по снаряжению экспедиции на себя, экипировал французов куда лучше, чем они сделали это сами, покидая Петербург. У друзей было достаточно времени, чтобы побродить по городу, знакомясь с его особенностями. Автор этого романа, имея перед глазами записную книжку Жака, не может отказать себе в удовольствии привести отдельные цитаты из иркутских заметок, с тем чтобы показать читателю, какое впечатление произвел город на нашего путешественника. Итак, предоставим слово ему самому и тем самым возложим всю ответственность за приведенные ниже суждения на него одного: «Девятое декабря. Иркутск. Расположен на 52°18′ северной широты и 102°03′ восточной долготы, при впадении в Ангару рек Иркут и Ушаковка. Около тридцати пяти тысяч жителей. Совсем немного для столицы края, который по своей территории превосходит Францию в десять раз. Жители Иркутска, или, как они сами называют себя, иркутяне, меня утомляют. Их гостеприимство навязчиво, нескромно, неприятно. Наши приключения стали в городе притчей во языцех, и мы не знаем, куда спрятаться от любопытствующих. К нашему несчастью, люди, образующие так называемое «общество», превосходно владеют французским, лишая тем самым возможности уклониться от разговора под предлогом незнания русского языка. Характер сих записок определяется, конечно, и состоянием моего ума, а посему, чтобы не очень ворчать, постараюсь быть лаконичным, как справочник Жоана[94] — книга, вполне пригодная для того, чтобы совершать путешествия, не покидая родимых стен. Здесь еще чаще, чем в Красноярске, сталкиваешься с примером слепого следования парижским модам. Роскошные отели, броская, свидетельствующая скорее о дурном вкусе мебель, дилижансы, лакеи, костюмы, галуны, магазины — во всем хотят подражать столице Франции. Явный перебор! Больше всего меня раздражает, что эти мультимиллионеры, имеющие по нескольку домов, выращивающие в своих теплицах экзотические растения, транспортировка коих из экваториальной зоны стоила бешеных денег, платящие за шампанское по тридцать пять франков за бутылку, набивающие себе брюхо трюфелями и прочими изысканными яствами, приобретаемыми по фантастическим ценам, и живущие в комфорте, о котором можно только мечтать, беспрерывно ноют: «Мы, несчастные дикари, не обученные хорошим манерам, не способные воспринимать западную культуру, мы… которые… мы, которых…» Вся эта наигранная скромность рассчитана на то, чтобы избежать какой бы то ни было критики в свой адрес, а часто и в расчете на комплименты, которые искренний человек не сможет расточать в адрес подобных персон. Меня так и подмывает сказать им: «Да, все это правда, я согласен с вашими оценками, и не будем больше об этом говорить». Но самые большие зануды — золотопромышленники. И я радуюсь, когда мне удается побродить в одиночестве или вместе с Жюльеном и насладиться местным колоритом без наших, так сказать, цивилизованных хозяев. Очень приятно встречаться с бурятами, китайцами, самоедами, тунгусами[95], маньчжурами, монголами, разодетыми в национальные костюмы, причудливо меняющиеся в зависимости от места проживания. Чтобы увидеть всех этих людей, достаточно отправиться на базар, где привезенные из Европы товары соседствуют в самых фантастических сочетаниях с продукцией Азии. Купцы-китайцы, курносые, густо намазанные жиром, в отделанных атласом сапожках, завернутые в несколько слоев голубого шелка, сидят на корточках возле ящиков с чаем и кивают головой, словно фарфоровые болванчики. Персы в островерхих шапочках, с орлиным профилем лица, то складывают, то раскладывают ткани, привезенные из города Исфахан[96]. Киргизы продают бурдюки с кумысом и нередко при сделке плутуют. Евреи — нос крючком и жадные руки — в мехах, потертых, словно спина осла, расхваливают гнусавыми голосами кавказские кинжалы, бухарские ковры, украшения из Самарканда, шкурки сибирских белок и голубого песца, часы из швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, консервированную гусиную печень, изящные лорнеты и бутылки в серебряных футлярах — когда с вином, а когда и с березовым соком. От этого многоголосья шумит в ушах, но зато есть на что посмотреть. Меня совершенно не заинтересовала гимназия, которую местные жители непременно показывают приезжим, и тем более тюрьма… Вполне понятно почему. В музее мое внимание привлекла только коллекция минералов. Здесь я увидел, в частности, огромные изумруды и очень крупную бирюзу, не говоря уже о ляпис-лазури и о малахите, которые без преувеличения громоздятся горами. Ну что еще? В общем, это все, что я успел увидеть за сорок восемь часов, — в целом, не так мало. Завтра вечером отбываем в Якутск, в славное путешествие протяженностью в пятьсот — шестьсот лье. Итак, я прощаюсь с этими зажиточными домами, где вас потчуют диковинными блюдами, считающимися тем вкуснее, чем больше за них заплачено. Прощаюсь с чаем, которым мы нещадно промываем тут свой желудок. Прощаюсь с навязчивой, напомаженной, изнурительной любезностью. Один господин, некто Федор Ловатин, предложил себя в качестве нашего спутника. Родом он из европейской части России. Похоже, хорошо знает места, куда мы едем. Его помощь будет нам полезна. Он торгует мехами и направляется на ярмарку в Нижнеколымск, в страну чукчей, собираясь закупить там или, скорее, выменять товары. А оттуда уже рукой подать до Берингова пролива, где завершается первый этап нашего путешествия в Бразилию. Но не будем торопиться, оставим в покое жаркие страны: пока мы еще в краю морозов. Нельзя забывать, что, устремляясь к экватору, мы должны сперва попасть в Заполярье. Завтра мы расстанемся с генерал-губернатором и полковником Пржевальским. Память о них, и особенно о последнем, навсегда сохранится в моем сердце. Генерал-губернатор очень обходителен. Я глубоко ценю его участие в нашей судьбе. Он обещал сделать все от него зависящее на всех уровнях, чтобы облегчить судьбу уважаемого полковника Михайлова. У него большая власть, и настроен он благосклонно по отношению к нашему достойному другу, за чью дальнейшую судьбу я теперь почти что спокоен».
ГЛАВА 11
Отъезд из Иркутска. — Пожар в столице Восточной Сибири. — Федор Ловатин. — Долина реки Лена. — Восхищение увиденным. — Северные пейзажи. — Эрудиция торговца мехами. — Мамонт господина Адамса. — Содержимое ледяной глыбы. — Дорога на Якутск. — Сибирские морозы. — Растительность. — Животный мир. — Полезные ископаемые.Двенадцатого декабря двое саней, в которых сидели друзья с их новым спутником, покинули столицу Восточной Сибири и взяли направление на Якутск. Генерал-губернатор приложил все усилия, чтобы сгладить впечатление, произведенное на иностранцев «приемом», оказанным им капитаном Еменовым. Представитель царя вел себя как настоящий русский хозяин. Продукты, оружие, палатки, меховые шубы и прочая одежда, чемоданы, покрывала и матрасы — ничего не было забыто, и всего — в изобилии. Сани, еще более комфортабельные, чем разломанные казаками, следовали теперь за возком торговца мехами, наполненным доверху товарами, предназначенными для обмена на торгах на берегу реки Колыма. — Наконец-то! — воскликнул Жак со вздохом облегчения. — Наконец-то мы в дороге! Честное слово, в городе мне уже надоело! Как приятно знать, что ты перестал быть объектом постоянных забот! — Жалуешься, что невеста слишком хороша? — Возможно, ты и прав, но я не хотел бы снова оказаться в Иркутске. — Даже на обратном пути? — Даже на обратном! Жак и не догадывался, что был прав, не желая возвращаться в этот город. Если бы на завершающем этапе фантастического путешествия, предпринятого им совместно с Жюльеном, он снова заехал в Иркутск, то нашел бы его лежащим в руинах. Полгода спустя после их отъезда, седьмого июля 1879 года, чудовищный пожар уничтожил в городе три тысячи шестьсот домов, десять церквей, пять крытых базаров, таможню и центральный рынок, иначе говоря, две трети восточносибирской столицы, самые лучшие, богатые ее кварталы, нанеся ущерб в тридцать миллионов рублей. На площади в два квадратных километра разрушения были так сильны, что извозчики с трудом пролагали себе путь сквозь развалины. Из тридцати трех тысяч восьмисот жителей Иркутска без крова остались двадцать тысяч. Спутник, которого провидение послало друзьям-французам, был сильным, красивым парнем лет тридцати, усатым, как мадьяр, с открытым, симпатичным, улыбчивым лицом и с умными голубыми глазами. Встреча с этим человеком явилась для друзей редкостной удачей, тем более что он превосходно говорил по-французски. В Восточной Сибири мало кто из купцов знает этот язык. Но Федор Ловатин долгие годы жил в Париже, где сначала учился в школе Тюрго[97], а потом представлял русскую фирму, поскольку самим иностранным купцам трудно вести дела в этих краях, не владея русским, который здесь понимают все племена и на котором говорят чиновники, служащие в северо-восточной России. Чужеземцы же, оказавшись в сей суровой области, сразу же наталкивались, несмотря на самые высокие рекомендации, на тысячу трудностей, преодолимых лишь для тех, кто был знаком с местными обычаями и умело использовал их. Было любо-дорого смотреть, как уверенно показывал Ловатин на почтовых станциях подорожную с изображением царской короны, как быстро находил общий язык с возницами, как по договоренности со станционным смотрителем занимал лучшие места в съезжей избе и как свободно беседовал с «важными птицами». Впрочем, останавливались в пути ненадолго, только чтобы перекусить. И Жак и Жюльен, хотя оба были готовы мириться с разными дорожными неудобствами, не могли все-таки привыкнуть к стоявшей в избах жаре. Тяжелый спертый воздух был особенно неприятен им потому, что к нему везде примешивался невыносимый, тошнотворный запах от кожаной амуниции. Одно дело — нежный аромат новенького кожаного блокнота и совсем другое — бившая в ноздри вонь измызганных сапожищ, старых, носимых годами тулупов и соседство с людьми, воспринимавшими как должное и толстый слой грязи, и разных насекомых. Вся жизнь наших путников проходила в санях, в избах они просили лишь кипятку — заварить чай и умыться. Двести километров — от Иркутска до Лены — прошли без приключений. — Мы уже в русле реки, господа! — обратил купец внимание путешественников на высокий правый берег реки, покрытый снегом. — Лена! — воскликнул взволнованно Жюльен. — Гигантский поток, соперничающий с другим великаном — Енисеем! По сравнению с ними обоими наши европейские реки — крохотные ручейки. Жаль, что сейчас зима. Если бы мы ехали летом, то увидели бы этот край во всем его величии. — Нам говорили, — отозвался Жак, — что Лена, как и Ангара, берет начало в Байкале. — Многие так думают, — ответил Федор. — В действительности же ее исток отделен от Байкала узкой горной грядой. Но паводок Лены всегда совпадает с подъемом воды в этом пресном озере, что и побуждает сибиряков утверждать, будто великая река течет из него. — Поистине великая… — произнес Жак. — Лена весьма извилиста на всем своем пути протяженностью в пять тысяч километров. При впадении в Северный Ледовитый океан она образует широченную дельту, непроходимую для плывущих с севера судов, — бойко отбарабанил Жюльен. — Прошу извинить, месье, — живо возразил русский, — в этом году, в июле, когда растаяли льды, — обычно это бывает в конце июня, — пароход «Лена», управляемый норвежцем Йохансеном, прошел дельту и поднялся вверх по реке до Якутска. — Фантастика! Это ведь первый случай за все двести пятьдесят лет, в течение которых Россия владеет данными землями, не так ли? — Да, так. Храбрый моряк, осуществивший это плавание, может гордиться… А насчет лета вы правы: в июне, когда полностью стаивают снега, здесь открывается восхитительная панорама. Ширина Лены в этом месте, в каких-то ста пятидесяти километрах от истока, составляет ни много ни мало целых пятьсот метров, а глубина — двадцать два. Водный поток мчится по красному песчанику, подмывая скалистый берег высотой в сто метров. Хребет, который вы видите, изрезан зубцами, а склоны его поросли вечнозелеными соснами. За ним пролегает ущелье, названное «Щеки». Одна из обрамляющих его скал почитается бурятами как священная. Еще дальше в Лену впадает Витим, вдвое увеличивая объем ее вод. А там уже рукой подать до знаменитых колоннад, раскинувшихся на многие лье крепостных стен и башен, возведенных природой и видом своим напоминающих древние города в долине Рейна. Правобережье изрезано пещерами и оврагами, становящимися все шире от дождей, осыпей и схода снежных лавин. Деревья произрастают одиночными группами, отвоевывая себе место то на выступе, то в ложбине. Наконец, путнику предстоит встреча с могучей Олекмой, чьи воды на протяжении чуть ли не тридцати километров после впадения этой реки в Лену несутся в общем потоке как бы отдельной струей. Федор Ловатин внезапно замолчал, словно смутившись от прилива красноречия, придавшего его глазам блеск и изменившего черты лица. Жюльена и Жака удивил этот монолог. Каждый из них говорил себе: «Удивительная эрудиция для русского, особенно если помнить, что он всего лишь торговец мехами». Жюльен, стараясь смягчить неловкость, возникшую, когда Федор замолчал, поспешил вступить в разговор, мобилизуя свои знания по географии — предмету его увлечений: — Лена — река необычная хотя бы потому, что русло свое она проложила по вечной мерзлоте. Вместо того чтобы питать почву, воды ее как бы скользят по промерзшей земле, огороженной с двух сторон высокими берегами. Острова, лежащие в дельте этой реки, являют собой подлинные кладбища доисторических, давно уже вымерших животных. Кажется, именно эти земли, открытые в тысяча семисотом — тысяча семьсот семьдесят третьем годах, казак Ляхов[98] назвал «Островами скелетов» — такое великое множество костей и клыков встретил он здесь! — А мамонты? — спросил заинтересованно Жак. — Они ведь тут были найдены? — Да-да, конечно. Ты напомнил мне случай, о котором я с удовольствием расскажу. Если не ошибаюсь, в тысяча семьсот тридцать четвертом году некто Гмелин[99], проводивший по поручению русского правительства научные изыскания в данном районе, поведал об обнаруженных им бесчисленных окаменевших скелетах. С тысяча семьсот шестьдесят восьмого по тысяча семьсот семьдесят четвертый год натуралист Паллас[100] провел классификацию костей и заключил, что это остовы слонов, гиппопотамов и носорогов. Особое внимание в своем докладе он уделил удивительнейшей находке — туше носорога с сохранившимися кожей, мышечными тканями и сухожилиями… Жак, ты, наверное, помнишь историю с мамонтом, о которой говорил наш Кювье?[101] — Не столь уж хорошо. И с благодарностью послушал бы ее. До чего ж увлекательно вести раскопки в местах, где так много останков!.. — Это случилось в тысяча семьсот девяносто девятом году. Один рыбак-тунгус заметил на берегу Ледовитого океана, среди льдов в устье Лены, бесформенную глыбу. Что это такое, он не понял. Через год причудливая громада отделилась от остальных, но по-прежнему было неизвестно, что внутри нее. А вот на третье лето показались бок и бивень чудовищного зверя. Однако полностью туша животного сбросила с себя ледяной панцирь только на пятый год. В марте тысяча восемьсот четвертого года рыбак отпилил бивни и продал их за пятьдесят рублей. Еще два года спустя в этих краях побывал член-корреспондент Петербургской Академии наук господин Адамс[102] и собственными глазами видел сильно обезображенные останки. Якуты, жившие поблизости, срезали мясо на корм собакам. Полакомились и дикие звери. Но скелет был почти нетронут, разве что недоставало передней ноги. Почти все кости соединялись сухожилиями и имели мышцы. Прекрасно сохранилось ухо с волосяным покровом. В глазу чернел зрачок. Мозг тоже уцелел, хотя и усох. На холке — пышная грива, на теле — черная щетина и более мягкая рыжеватая шерсть. А кожа оказалась такой тяжелой, что ее еле-еле унесли вдесятером. Как сообщает Адаме, из земли сумели извлечь больше тридцати фунтов шерсти и щетины, втоптанных в сырую почву белыми медведями, обгладывавшими кости. Это был самец. Его выгнутые бивни достигали трех метров в длину, а голова без бивней весила четыреста фунтов. Адаме очень бережно собрал все останки этого уникального доисторического животного, выкупил клыки и преподнес в дар российскому императору, повелевшему выставить сей ценнейший научный экспонат в Петербургской Академии. Тебе, Жак, приходилось есть птиц, убитых два месяца назад, и рыбу, выловленную тогда же. Но что бы сказал ты о роскошной трапезе, растянувшейся на годы, при том что пиршественному блюду — несколько тысячелетий? — Право же, это прелюбопытно! На такой рассказ никакого времени не жалко, и, когда слушаешь его, не страшен даже крепчайший мороз. Если все же он вморозит нас в какую-нибудь глыбу, то мы тоже надолго сохранимся и послужим пищей для дальних потомков нынешних якутов или тунгусов. — Браво! Ты шутишь, как закаленный путешественник! Теперь сам видишь, что того, кто любит дальние странствования и проявляет интерес к чужим странам, всегда поджидают яркие, непредвиденные впечатления и радостные встречи. — Ну, не только радостные… — Ты еще вспоминаешь капитана Еменова? — Просто тебе хотел напомнить. — Забудь про это! Не думай о дне вчерашнем, а готовься к завтрашнему! Последующие переезды от одного населенного пункта к другому не ознаменовались ничем примечательным. Неприятных происшествий больше не было — благодаря подорожной с царской печатью, заставлявшей гнуться в поклоне самых неучтивых начальников станций, и Федору Ловатину, прекрасно знавшему, как путешествовать в холодных странах. Сани, несшиеся день и ночь по твердому ложу заснувшей до следующего июня прекрасной ленивицы, прозванной так за тихое, спокойное — ленивое — течение, останавливались только на станциях. Четырнадцатого декабря путешественники отзавтракали в Шамановском. Шестнадцатого утром проехали Киренск, где Лена принимает еще один приток — Киренгу, а в четыре часа были уже в Петропавловске, который не следует путать с главным городом Камчатки того же названия. Федор обратил внимание на то, что в Киренске Лена течет буквально бок о бок с одним из главных притоков Енисея — рекой Нижняя Тунгуска, отделенной от нее лишь несколькими холмами, мешавшими слиянию их вод. Еще через тридцать часов путешественники прибыли в город Витим, стоявший на одноименной реке, входившей вместе с Олекмой и Алданом в число основных правых притоков Лены. Девятнадцатого декабря, проезжая город Нохтуйск, пересекли шестидесятую параллель, а двадцатого прибыли в Олекминск, где река Олекма впадает в Лену. Мороз по мере продвижения французов и их друга купца на северо-восток все крепчал. Два дня спустя путникам предстояло прибыть в город Якутск — самое холодное место на всем земном шаре. Плотную тишину, нависшую над долиной, лишь изредка нарушало гулкое потрескивание льда или лопавшейся от мороза коры деревьев. Все впало в летаргический сон: укрытые снегом мох и трава, звери в берлогах, скованные льдом реки и сама земля — белоснежная, лежавшая в центре сумрачно-серой по горизонту вселенной. Ни линий, ни контуров, ни оттенков. В общем, не на чем задержаться взгляду. С этим унылым пространством контрастировали в ночное время только яркие звезды и зодиакальный свет[103]. Днем же на голубом небосводе ярко сияло солнце, пронизывая своими лучами до удивления прозрачный воздух. Резко очерченные края светила, лишенного окружающего его обычно розоватого ореола, придавали ему сходство с раскаленным металлическим диском. Светлое время суток, между зарей и сумерками, длилось всего два с половиной часа, что является одним из метеорологических чудес, наблюдаемых в Сибири. Причем дни постепенно становились еще короче. Переходные часы отличались неописуемой красотой. Утреннее небо, например, сперва отливало пурпуром, потом золотом и, наконец, серебром и расцвечивалось вспышками мириад медленно падавших мелких кристалликов, красных, как рубиновая пыль. Когда же всходило солнце, небосвод вновь приобретал лазурный цвет. Туман из замерзших капелек влаги стоял только вдоль рек и над невидимыми пасущимися стадами, дыханием создававшими вокруг себя непроницаемую завесу. Впряженные в сани лошади неслись сквозь клубы пара, оседавшего ледяной коркой на внутренних стенках кибитки. Путешественники, укрывшись в меха с головы до ног, опустили на лицо башлык из верблюжьей шерсти. Нужно быть очень осмотрительным и не оставить на время сна незащищенной какую бы то ни было часть лица, если не хочешь обморозиться. В районе Якутска холода таковы, что застывает ртуть[104], и приходится лишь удивляться стойкости ямщиков, которым не страшна любая погода. Можно было бы предположить, что эта обездоленная земля, которой так скупо отмерены тепло и свет, лишена растительности. Но это совсем не так. За исключением самой северной, сравнительно узкой полосы заполярного края, о которой мы расскажем позднее, сибирская флора многообразна. Богато представленные здесь хвойные породы встречаются и в Европе, за исключением пихты — красивого дерева с гладким стволом, вздымающего свою крону на высоту до тридцати метров. Из прочих видов хвойных назовем благородную голубую и стелющуюся сосны, сибирский кедр, из которого остяки[105] делают лодки, лиственницу — самое выносливое дерево, можжевельник и ель. В долинах произрастают липа, клен, рябина, тополь, ольха, осина, береза, абрикос, черемуха, сибирская вишня. Березка для русских крестьян — символ родины. Когда хвойные породы вырубаются или страдают от пожаров, их место занимает это дерево, что воспринималось китайцами как свидетельство могущества «белого царя». Двести лет назад, когда береза начала замещать хвойные деревья, среди местного населения распространился слух, что скоро сюда придут русские. Любопытно совпадение по времени между продвижением на восток европейской флоры и наступлением европейцев, приводившим к постепенному изменению национального состава населения. Леса Сибири изобилуют ягодами, которыми питаются и люди и животные: брусникой, голубикой, шиповником, сибирской вишней, смородиной, рябиной, боярышником, толокнянкой и другими. Ядовитых растений мало, поскольку к северу они теряют свои опасные свойства. Случается даже, что чемерица, смертоносная в верховьях Енисея, за Полярным кругом считается местным населением лакомством. Мир фауны еще богаче. Вот только некоторые из обитающих в Сибири животных, которые приходят автору этих строк на память: из млекопитающих — медведь, волк, росомаха, рысь, черно-бурая лисица, дикий баран, соболь, заяц, куница, выдра, лось, олень, косуля, лань, кабан, белка, летучая мышь, крыса, тушканчик, сурок; из птиц — белый лебедь, утка, нырок, гусь, журавль, тетерев, белая куропатка, бекас. Славится этот обездоленный вроде бы край и металлами. Здесь получают восьмую часть всего добываемого в мире золота. А ведь кроме того разрабатываются и месторождения платины, серебра, свинца, олова, меди, железа, ртути, цинка, сурьмы… Не в состоянии перечислить все встречающиеся в Сибири металлы, спешу перейти к драгоценным камням — к топазам и аметистам, сапфирам и изумрудам, опалам и бирюзе, гранатам, аквамаринам, не говоря уже о малахитах, хризолитах, агатах, сердоликах, ляпис-лазури, родонитах, нефритах, селенитах, офитах, ониксе, порфире, яшме, а также о восхитительных александритах, которые из изумрудно-зеленоватых становятся на искусственном свету чуть ли не рубиновыми. Упомяну еще слюду, каменную соль, каменный уголь. Земля, имеющая такие богатства, не может быть страной обездоленной. Сибирь не должна быть символом изгнания, краем, откуда не возвращаются!
ГЛАВА 12
Новые основания бояться водных путей. — Ненадежное ледовое покрытие. — Обезвоженные морозом реки. — Олений паркет. — Якутск. — Две дороги на Нижнеколымск. — Смещение речных русел к правому берегу. — Установленный современными учеными закон географии. — Различия между левым и правым берегами. — Пробел в метеорологических познаниях Жака. — Чем выше, тем теплее. — Дальнейшее подтверждение широкого кругозора господина Ловатина. — Якут-проводник. — «Железные люди». — Хандыга. — Падение в реку.Сани миновали Олекминск. Хотя этот горделиво зовущийся городом населенный пункт насчитывает всего восемьдесят домов, в его окрестностях располагаются самые богатые в Сибири залежи золота. От указанного выше скромного поселка, окруженного чумами якутов и бурятов, до Якутска — шестьсот тридцать километров. И на этом пространстве нет никаких человеческих обиталищ, если не считать рыбацких хижин, постоялых дворов и почтовых станций. Изб из цельных, положенных одно на другое бревен, с оконцами, закрытыми слюдой или просто брусьями изо льда, становилось все меньше, зато чаще попадались конусовидные строения кочевников. Только почтовые станции сохранили неизменным свой внешний вид. Стойбища же, почти полностью засыпанные снегом, можно было различить только по клубам дыма, поднимавшимся из отверстий наверху чумов. В одном из таких традиционных жилищ путешественники задержались на час, чтобы дать отогреться кучеру, сидевшему на облучке недвижно, как снежная баба, а затем сани съехали на укрытую снегом реку. Федор Ловатин, прислушавшись к топоту рысаков, приказал вознице, управлявшему возком с провизией, побыстрее повернуть к берегу. — Что такое? — спросил Жак, увидев, как сани изменили направление, и поняв по интонации купца, что делать это надо было быстро. — А вы не замечаете, что удары копыт по льду стали что-то уж слишком звонкими?.. Ты тоже поворачивай, — бросил он кучеру, управлявшему их санями. — Следуй за своим приятелем и смотри ни в коем случае не сбейся с тракта. — Да, я уловил какой-то непривычный звук, — сказал Жак. — Словно мы на деревянном полу. — А с чем это связано? Вы можете объяснить? — обратился к Ловатину Жюльен. Не успел Федор ответить, как раздался страшный треск. Глыбы схваченной морозом воды зашевелились вдруг на середине реки, и двухметровый ледовый панцирь площадью в тысячу квадратных метров ушел под воду. — Вот вам, господа, и ответ на ваш вопрос, — с удивительным хладнокровием произнес торговец мехами. — Черт возьми! — воскликнул Жак. — Нам повезло! Еще немного, и мы нырнули бы в эту бездну. Так завершилось бы наше путешествие, и завещанное мне наследство пополнило бы сейфы бразильского правительства. Жюльен невозмутимо взирал с прибрежной дороги на жуткую, с острыми краями полынью, в которой бились друг о друга ледовые обломки. — Примите нашу благодарность и поздравления, господин Ловатин! Как заметил сейчас мой друг, вы весьма своевременно велели возницам выехать на берег… Бедный Жак, теперь ты невзлюбишь воду еще сильнее! — Да уж не говори… Ничего хорошего от нее не жди, если даже такой толщины лед ломается словно стекло! — Видишь ли, Жак, пласт льда отделяли от воды футов двадцать, и, лишенный опоры, он мог в любой момент рухнуть, что и случилось на наших глазах. Так ведь, месье Ловатин? — Так-так! И в большие морозы это бывает довольно часто. — Не понимаю, — произнес Жак, — как могла вода, укрытая таким слоем льда, испариться и образовать пустоту? — Она не испарилась, — сказал Федор. — Откуда же тогда эта пустота? Объясните, пожалуйста. — Притоки промерзают от истока до устья и перестают нести воды в питаемую ими в другое время года реку. Ее же схватывает морозом, когда она еще полноводна, и поэтому, как только поступление воды из притоков уменьшается или вовсе прекращается, под ледяным покрытием появляются пустоты — торосовые[106] ямы-отсеки, не сообщающиеся друг с другом. — Прекрасно! — воскликнул Жюльен. — Объяснение полное и понятное. Лед, достаточно толстый, сам по себе еще держится, но ломается, стоит только чему-нибудь тяжелому надавить на него сверху. Когда мы подъехали к одной из таких пустот, удары копыт стали гулкими. Ваш опыт, месье Ловатин, подсказал вам, в чем дело, и вы вовремя изменили направление. Еще раз браво и спасибо! — Это все хорошо, — промолвил Жак, еще не оправившийся от потрясения. — Конечно, выяснять причины некоторых явлений, а также симптомы, позволяющие их предугадать, — дело весьма занятное. Но я все же никак не пойму, почему кучер сам не свернул в сторону, не дожидаясь вашего, столь своевременного приказа. Федор, улыбнувшись, обратился к вознице по-русски: — Его превосходительство спрашивает, почему ты не изменил направление, приблизившись к мертвому льду?[107] Ямщик повернулся всем туловищем к седокам, тряхнул обледеневшей бородой и бросил странный ответ, тотчас переведенный Ловатиным: — Не знаю, батюшка, не знаю. Я так и ждал, что ты спросишь меня об этом. — Ну и теперь ты уже ни за что не свернешь на лед? — Сверну, если прикажешь. — Ну ладно, а пока держись дороги, смотри не потеряй ее. — В добрый час, месье Ловатин! — воскликнул Жак. — Будем держаться тракта, и да здравствует коровий паркет, как называют у нас во Франции сушу! — Точнее было бы сказать «олений паркет», для придания этой идиоме[108] местного колорита, — заметил Жюльен. — Тем более что скоро мы, если не ошибаюсь, повстречаем этих замечательных представителей полярной фауны. На следующий день, миновав без остановки Синское и Покровское — два так называемых города, похожих на Олекминск, путешественники въехали в Якутск. Жак глазам своим не поверил, оказавшись в столице губернии, на территории которой могли бы свободно расположиться пять таких стран, как Франция. — И это — тоже город!.. — протянул он разочарованно, рассматривая отстоявшие довольно далеко друг от друга укрытые снегом деревянные дома, выглядывавшие из-за высоких заборов. — Да, друг мой, и это тоже город, и не столь маленький, если учесть, как приходится человеку бороться с морозами, — ответил ему Жюльен. — А расположен он очень удачно, — добавил Федор Ловатин. — Основанный неподалеку от места слияния Алдана и Вилюя, Якутск лежит как бы на перекрестке путей, по которым везут продовольствие и меха. — Но зато какие морозы!.. А сколько в нем жителей? — Постоянных — шесть тысяч. — Шесть тысяч? Невероятно! — И это не считая охотников, рыбаков и купцов, которые появляются здесь время от времени по своим делам. Что же касается тех, кто проживает тут круглый год, то это в основном чиновники и ссыльные — без последних указанная выше цифра была бы вдвое меньше. — Думаю, только крупная выгода и грозный приказ могут удержать шесть тысяч человек в краю, где средняя годовая температура такая же, как на вершине Монблана[109], — заявил Жюльен. — Надеюсь, мы-то здесь пробудем недолго, — заметил Жак. — Солнце заходит, едва появившись, так что день в этих местах — чистая фикция. Поскольку в городе нет никаких развлечений, а комфорта не больше, чем в чуме или избе, я предпочел бы продолжить путь. Что нам тут делать? — Не забывайте о кое-каких формальностях. — Ах да, паспортные визы! Но это же быстро: власти, поначалу такие придирчивые, что приходилось показывать официальные бумаги даже простым станционным смотрителям, кажется, заметно ослабили свою бдительность с той поры, как мы попали в Восточную Сибирь. — Это потому, что здесь они уже не боятся, что ссыльные убегут, — грустно промолвил Федор Ловатин. Затем, быстро сменив тон, словно прогнав дурные мысли, сказал: — Когда вы отправитесь с визитом к генерал-губернатору, я запасусь провизией, и, как только у вас появится желание, мы тотчас тронемся в путь. Властитель губернии, прочитав письмо, врученное Жюльену генерал-губернатором Иркутска, принял друзей по-царски, угостил их вкусным ужином и поддержал их решение побыстрее отправиться на северо-восток. Один из приведенных сановником аргументов в пользу скорейшего отъезда прозвучал, как показалось друзьям, несколько парадоксально: дальше, по мере продвижения на север, морозы будут слабее. На паспорт Ловатина, предъявленный французами вместе со своими, тоже поставили визу: отсутствие его владельца, закупавшего провизию, не вызвало у генерал-губернатора никаких подозрений, хотя он и заметил, что имя этого купца ему незнакомо. Спустя некоторое время трое друзей расположились в просторной комнате за слюдяными окнами, где стояло несколько кушеток, затертых от многолетнего соприкосновения с тулупами и сапогами, и занялись разработкой маршрута. — К Нижнеколымску ведут две дороги, — разъяснял Федор Ловатин. — Первая, покороче, пролегающая к востоку от Якутска, проходит через Арилатское и Олегнятское, пересекает Амгу, приток Алдана, а затем и сам Алдан в месте его слияния с рекой Хандыга. Перевалив через Верхоянский хребет, мы поднимемся к северо-востоку, подъедем вскоре к Колыме и далее проследуем вдоль нее вплоть до устья. Вторая дорога идет резко на север, пересекает Алдан в месте его слияния с Тукуланом, проходит через Верхоянский хребет на высоте четырехсот метров над уровнем моря, где берет исток река Яна, устремляется за Полярный круг и достигает города Верхоянска, расположенного в ста пятнадцати километрах к северу от южной границы Заполярья. От Верхоянска дорога сворачивает постепенно на юго-восток и через четыреста двадцать километров подходит к реке Арга, притоку Индигирки. Отсюда она снова направляется на север, к городу Зашиверску, лежащему на Полярном круге, затем круто поворачивает на восток, к городу Верхнеколымску, на реке Колыма, и выходит к тому же тракту, что и первая дорога. Ну, что вы об этом думаете? — Мне все равно, каким путем ехать, — ответил Жак. — А ты как, Жюльен? — Я полностью доверяю месье Ловатину: он разбирается в этом лучше нас. — Учтите, господа, поскольку впереди совершенно безлюдные пространства, от выбора пути многое зависит. — Но, по-видимому, на любом из этих маршрутов есть станции, где можно сменить лошадей? — Надеюсь. В случае же особых затруднений мы всегда сможем взять у местных жителей нарты, запряженные оленями или собаками. — А по какой из дорог следуют обычно колонны ссыльных? — По северной, через Верхоянск. — Тогда я предпочитаю первую, идущую на северо-восток. — Я тоже, — с живостью поддержал Федор Ловатин, стараясь казаться спокойным. — Значит, решено, — равнодушно заключил Жюльен. — В таком случае в дорогу! По крайней мере, там нам не надо будет опасаться встречи еще с каким-нибудь капитаном Еменовым. Переход через Лену — по проложенной по крепкому льду дороге, плотно утрамбованной с момента открытия санного пути, — начинался у самого Якутска. Наступили светлые сумерки, позволявшие видеть вокруг не хуже, чем днем, и Жюльен, не упускавший обычно случая еще чему-нибудь научиться, нашел подтверждение феномену, описанному многими современными географами. Речь идет о смещении всех рек вправо. Это явление, связанное с вращением Земли, отчетливо прослеживается на сибирских реках, поскольку здесь округлость Земли, вблизи полюса, заметнее. Мощные реки, образуя излучины, текут с юга на север. На правый, восточный, берег постоянно давит масса воды, размывающей его, а западный берег, от которого река все время отходит, превращается в гряду наносов, простирающихся, насколько хватает глаз. Поэтому противоположные берега совсем не похожи друг на друга: левый — совершенно пологий, чуть выше уровня воды, правый же, подтачиваемый давящей на него водой, — холмистый и нередко обрывистый. Такие различия наблюдаются повсеместно. Чтобы уберечься от наводнения во время ежегодных паводков, города в Сибири, как и вообще в России, строили на правом берегу — высоком, не затопляемом водой. Но это имело и свои недостатки: река, не признающая никаких преград, вымывает нижние слои отлогого берега, и тот начинает рушиться. Это происходит иногда столь быстро, что сравнительно недавно основанные города, такие, как Семипалатинск, Тобольск, Нарым, частично уже перепланированы. Все сказанное выше можно проследить на примере берегов Лены возле Якутска. Любознательному географу есть над чем здесь поразмыслить. Правда, Жак, замерзая, только вполуха слушал популярную лекцию, которую специально для него читал его друг. Заметив вскоре состояние Жака, Жюльен принялся его тормошить: — А ну-ка, черт возьми, бодрее! Спать сейчас ни в коем случае нельзя! Необходимо сопротивляться апатии, а не то она примет угрожающие формы. — На меня навалилась такая тяжесть… И потом, я буквально умираю от жажды. — Это все от мороза. Так что на каждой станции надо пить побольше горячего чая и не стоять на месте. — Месье Клене прав, — поддержал Жюльена Ловатин. — Хотя, я понимаю, на этой скучной равнине, между Леной, Алданом и Верхоянским хребтом, мне трудно хоть чем-то заинтересовать вас. — Если уж теперь так нестерпимо холодно, то что же ждет нас потом? Ведь по мере продвижения к северу мороз будет еще сильнее. — Простите, но это не так. Повыше в горах температура вполне сносная, там раза в два теплее, чем тут. — Как? — подскочил Жак. — Вы утверждаете, что чем выше, тем теплее? — Именно так. — Но это опрокидывает все мои представления о метеорологии. Надо признать, что профессора, перегружая меня чтением классической литературы, почти не давали мне подлинно научных знаний. Итак, вы утверждаете, милый друг, что, поднявшись на несколько километров, мы сможем загорать, увидим кокосовое дерево, акацию и пальму, прямо как на моей будущей фазенде в Жаккари-Мирим? Я совсем не против. Тем более что здесь я не рискую наступить на гремучую змею. — Ну, не совсем, конечно, так, — весело рассмеялся этой шутке русский, обрадованный, что Жак немного встряхнулся. — И все-таки то, что я вам сказал, — истина, подтвержденная опытом, и мы в этом скоро сами убедимся. — Хорошо бы побыстрее! Но вы разбудили мое любопытство. Можете ли вы объяснить причину данного феномена? — С удовольствием. Вы видите, как ясно небо и как спокоен воздух. А ведь стоило бы только подуть ветру, и мороз бы стал непереносим и всерьез опасен. Именно прозрачность и спокойствие воздуха — причина этого кажущегося противоречия. В действительности все довольно просто: более теплый воздух легче и поднимается вверх… — Это известно… Такая закономерность используется при подъеме воздушных шаров. — Вот именно… А более холодные и плотные слои воздуха опускаются, как более тяжелые, и скапливаются у поверхности земли. У нас в Европе, где зимой небо всегда облачное, эта смена слоев воздуха длится недолго. В Сибири же благодаря сухому воздуху, безветренной погоде и длинным ночам, в течение которых теплый воздух продолжает подниматься, верхние слои атмосферы прогреваются, а нижние — остывают. Поскольку данное явление неизменно, ото льда свободны не только горы Даурии или Алданского нагорья, но и вершины, расположенные между шестьдесят вторым градусом северной широты и Полярным кругом. Жак, пораженный эрудицией купца, слов не находил, чтобы выразить ему свое восхищение. — Да, месье Ловатин, — молвил он наконец, — человек вы удивительный!.. Я все спрашиваю себя, где и когда получили вы столь обширные знания? «Действительно, сей торговец мехами — незаурядная личность! — снова подумал Жюльен. — Он еще ни разу не затрагивал в разговоре проблем, связанных с торговлей, но вопросы, касающиеся науки, никогда не застают его врасплох. Для русского довольно странно!» — Боже ж мой, — лукаво улыбнулся Федор, — это все так просто! В вашей школе Тюрго обучают не только банальным законам коммерции, действующим в сферах производства, хранения и обмена продуктов, но и более общим вещам, относящимся к условиямпроизводства, его развитию, эксплуатации недр и так далее. Я же, будучи русским, с особой старательностью изучал предметы, имевшие отношение к моей стране. Это приносило мне и пользу, и моральное удовлетворение. — Неплохой ответ, правда, Жак? — тихо промолвил Жюльен. — Этот торговец лосиными, оленьими, куньими, беличьими шкурами, как говорится, любого заткнет за пояс своими познаниями. Подъехав к станции, путники вдоволь напились чаю и, сменив лошадей, двинулись дальше, но ехали они теперь не так быстро, как до сей поры. Станционный смотритель дал им в проводники конного якута — Шолема, которому вменялось в обязанность скакать перед санями и проверять дорогу. Такая предосторожность обусловливалась тем, что путешественникам предстояло переправиться по льду сначала через реку Амгу, а потом и через Алдан, ширина которого — полторы тысячи метров. С провожатым же опасность попасть на мертвый лед и затем рухнуть в бездну сводилась к минимуму. Якут был рослым, примерно в метр восемьдесят сантиметров, человеком. Правильный овал, прямой нос, не слишком выступающие скулы и не такие уж узкие глаза делали его лицо красивым, особенно по контрасту с плоскими курносыми физиономиями бурятов и тунгусов. В общем, он являлся достойным представителем сильной, здоровой расы, к которой весьма подходит такое понятие, как «железные люди». Благодаря опыту и вниманию проводника переправа через обе реки прошла без приключений. Якут провел в седле сутки, не обращая никакого внимания на мороз, пробиравший трех европейцев до костей, и, закончив свою миссию, решил сразу же вернуться к себе на станцию, но Жюльен предложил ему сопровождать их и дальше. — Хорошо, — кратко ответил проводник, — я остаюсь с вами. Стопка водки, пакет табака да пригоршня мелких монет — и лицо его озарила улыбка. Вежливо поблагодарив, он набил свою трубку и снова взобрался на коня: — Это хорошо, Шолем доволен. Ямщики припустили лошадей быстрой рысью. Дорога пролегала вдоль правого притока Алдана — реки Хандыга, стекавшей с Верхоянского хребта и имевшей сравнительно небольшую протяженность — какие-то сто шестьдесят километров, в то время как ширина ее была весьма внушительна. Шолем сказал, что уже видит снежные вершины гор, хотя те находились на расстоянии более семидесяти километров. Но Жак, как ни всматривался, не мог их различить и предположил, что это мистификация. — Шолем их видит, — бесстрастно произнес якут. — Меня не удивляет подобное, — вмешался в забавлявший его спор Жюльен. — Поразительная острота зрения этого народа даже привела в замешательство адмирала Врангеля[110], отметившего сей феномен в своих путевых заметках. Однажды якут заявил ему, что был свидетелем того, как «большая бледная звезда проглотила несколько маленьких, а потом их выплюнула». Как оказалось, речь шла о затмении спутников Юпитера, которое этот человек различил невооруженным глазом! — Ладно-ладно, — проворчал Жак. — Надеюсь, что наш проводник будет все же смотреть себе под ноги, а не разглядывать небо! Совет был — увы! — не лишним. На расстоянии сорока километров от истока Хандыга делает резкую петлю и образует как бы подкову, опоясанную дорогой. И тут проводник, сбившись с пути, то ли выехал нечаянно на лед, поскольку и дорога, и русло реки были скрыты одинаково плотным снежным покровом, то ли понадеялся, что лед достаточно прочен, но только внезапно раздался оглушительный треск, лошади встали на дыбы и громко заржали. Льдина длиной в сотню метров и шириной в пятьдесят неожиданно, словно оторвавшаяся крышка люка, обрушилась вниз, и санный поезд скрылся в проеме от взора стороннего наблюдателя, если бы таковой оказался вдруг в этот миг на прибрежье.
ГЛАВА 13
После падения в воду. — Смерть ямщика. — Самоотверженность Федора Ловатина. — Спасение оставшихся в живых. — Без саней и лошадей. — Вконец замерзшие французы. — Проводник-якут в роли лекаря. — Больной кентавр. — Лагерь на дне реки. — Печаль по усопшему. — Похороны в Заполярье. — Раздумье о дальнейшем. — Принятое Федором решение. — Полнейшее бескорыстие. — Любопытство французов. — Нераскрытое инкогнито[111]. — Исповедь Федора. — Страсть к путешествиям по дальним странам.Ударившись о придонные торосы, преградившие речным водам путь, гигантская ледовая пластина разломилась на две части, вставшие наклонно: одна — в сторону устья, другая — верховья. Развалившиеся при ударе сани с продовольствием, соскользнув в ближайшую торосовую яму, изувечили коренника. Вторые, с четырьмя ездоками, запрокинувшись назад, застряли в другой торосовой яме, наполненной водой. Проводник, крепко держась в седле, летел вниз строго по вертикали, и лишь когда подпруги, не выдержав, лопнули, он грохнулся о лежавший между ямами крепкий, как гранит, сухой, не залитый водою лед. Свалившаяся на него лошадь придавила бедняге, несмотря на всю его ловкость, ногу. Возница саней с продовольствием распростерся с раскроенным черепом возле коренника, который из-за переломов в области таза и задних ног никак не мог встать и только судорожно бил передними копытами по телу своего хозяина. Пристяжные, отброшенные одна вправо, другая влево, попали под льдину и тотчас были раздавлены. Положение путешественников и их кучера было также весьма драматично. Сани с пассажирами и вещами, навалившись всей своей тяжестью на лошадей, столкнули их по наклонной плоскости ледового обломка в страшную бездну. И только чудо могло теперь спасти от неизбежной, казалось бы, гибели французов и их спутника, которые с головой погрузились в своих тяжелых меховых шубах в студеную воду. Но вот из пучины вынырнула голова с мокрыми, прилипшими к вискам волосами. Человек, с широко открытыми от испуга глазами, резкими взмахами рук пытался удержаться на поверхности. Это был Федор Ловатин, если и не единственный спасшийся, то уж, во всяком случае, единственный, кто смог бы оказать помощь другим. Ухватившись за выглядывавшую из-под воды дугу, он быстрым движением плеч освободился от верхней одежды и, набрав в легкие воздуха, нырнул. Через несколько мгновений купец вновь появился в бурлящих водах, и уже не один: напрягаясь изо всех сил, он тащил за собой укутанного в шубу Жака, не подававшего никаких признаков жизни. С энергией, удесятеренной опасностью, Федор лихорадочно искал, куда бы положить недвижное тело, перед тем как снова уйти под воду в поисках еще одного друга. Крик отчаяния вырвался из его уст, когда он понял, что с наклонной поверхности льдины Жак неизбежно свалится в пучину. «Нужно и другого спасти, но успею ли?.. А дуга на что? Вот он — выход из положения!» Поддеть лопнувшую подпругу Жаку под плечи и подвесить его к дуге было для Федора делом секунды. «Во всяком случае, голова над водой, — подумал он. — Так что не задохнется». Тяжело дыша, лязгая зубами от холода, смельчак дважды нырял в ледяную воду, но так и не сумел отвоевать у стихии ее вторую жертву. — Будь что будет: или я сам там останусь, или спасу его! — пробормотал он с отчаянной решимостью и ушел под воду в третий раз. Такая самоотверженность не могла остаться без вознаграждения: отважному купцу удалось наконец вытащить из самой глубины возка тело Жюльена. Быстро подплыв к дуге, к которой был подвешен вконец окоченевший, не подававший ни малейших признаков жизни Жак, он попытался удержаться на наклонной плоскости, чтобы, подтащив Жюльена к верхнему краю льдины, полностью извлечь его из воды, ибо дальнейшее пребывание в ней грозило французу неминуемой смертью. Однако все старания оказались напрасны: нога скользила беспомощно по гладкой, как зеркало, поверхности, и, не упрись он в скрытое водой тело лошади, сам бы слетел вниз. Теряя силы, но не присутствие духа, Федор, отчаянно цепляясь ногтями за лед, заорал в безумной надежде, что хоть кто-то еще — один из ямщиков или проводник — уцелел: — Ко мне! На помощь! — Держись, батюшка, держись, я здесь! — услышал он вдруг в ответ и, подняв голову, увидел над собой второго, чудом спасшегося ямщика: тот стоял, держась за выступ тороса, упершегося своим верхним краем в обломок ледового панциря. Кучер попал при падении в неглубокую, к счастью, яму, и, хотя в ней и была вода, он смог все же, протиснувшись на четвереньках в узкую щель, выбраться наверх. Мгновенно поняв план Федора, он размотал длинный красный кушак и бросил один конец купцу. Крепкая ткань должна была выдержать тяжесть Жюльена. — Поднимай! — крикнул Федор мужику. Тот, напрягшись что было мочи, подтащил тело француза к краю тороса. — Так, теперь второго! — сказал Федор, привязывая к поясу обледеневшего и неподвижного, как бревно, Жака. — Ну, и меня! Полуобнаженный, с полопавшейся от холода кожей на лице, с синими руками, Федор сразу покрылся твердой ледяной коркой. Но ничто не в силах было сломить его железную волю: не обращая внимания на свое состояние, он быстрым взглядом оценил обстановку. Сани, приподнятые под углом в тридцать градусов, навалились всей тяжестью на задние ноги коренника, и тот, обезумев от боли, по-прежнему бил передними копытами по телу ямщика, превратившемуся в кровавое месиво. Проводник, увидев Ловатина, воззвал о помощи. Федор спрыгнул со льдины и, упершись ногами в полоз саней, крепко схватил якута под мышки и осторожно вытащил его из-под лошади. Встав на придавленную стопу, спасенный проделал несколько неуверенных шагов, потом с сосредоточенностью хозяина, проверяющего свой инструмент, несколько раз согнул и разогнул ногу в колене и наконец возвестил с улыбкой, что переломов нет. — Спасибо тебе, хозяин, — ласково произнес якут, — ты спас Шолему жизнь. Шолем отдаст тебе свою. — И тебе на том спасибо! А теперь за дело, время не ждет. Мои друзья — они наглотались воды и окоченели от холода — находятся там, наверху, вместе с кучером. Мы должны их спасти. Вот только как? — Прежде всего, останемся здесь: тут не так холодно, как на берегу. — Да нам и не выбраться отсюда пока. Но не сидеть же сложа руки? У тебя есть топор? — Вот он. — Брось ямщику, пусть вырубит ступени во льду, пока мы будем отогревать двух друзей… Эй, приятель, — крикнул Федор ямщику. — Опусти осторожно к нам на кушаке господ и потом делай то, что скажет проводник… А ты, Шолем, прикончи лошадь, что молотит по телу бедняги-ямщика. Проводник, достав нож, молниеносным ударом рассек обезумевшему от боли животному грудь и, глубоко засунув в рану руку, крепко сжал сердечную мышцу. Смерть наступила мгновенно. Федор, раздев Жака, принялся энергично растирать его тело — сначала снегом, потом шерстяным кушаком, смоченным в спирте. — Хозяин, ты совсем безо всего, — обратился к нему Шолем. — Надень-ка мою доху из оленьей шкуры. — А ты? — Ты же знаешь, ложе якута — снег. Якуту неведомо, что такое холод. Торопливо натягивая на себя поданную ему шубу, Федор заметил с радостью, что лицо Жака немного порозовело. — Ему, кажется, уже лучше, так что пойду займусь другим. Ты же тем временем постарайся привести Жака в чувство, а затем вытащи из саней меховые полости[112] и водку, разбей ящик и, если сможешь, разведи из досок костер. Подойдя к Жюльену, Федор ловко снял с него шубу и раздел бедного парижанина, неподвижного, как каменная статуя, догола. Потом сгреб со льда пригоршню снега и принялся со все возрастающей энергией растирать тело своего друга, ритмично нажимая на грудную клетку, чтобы стимулировать работу легких, как вдруг, спустя три-четыре минуты, послышавшийся сзади зевок заставил его обернуться. Раздался слабый, но такой знакомый голос. — Где я, черт возьми? — произнес, очнувшись, Жак на хорошем французском, но с неуверенными интонациями только что вернувшегося с того света человека. — Я не могу пошевельнуть ни ногой, ни рукой. И вообще, уж не в бане ли я? Если бы не серьезность положения, Федор, взглянув на пришедшего в себя Жака, громко расхохотался бы. Голова француза торчала из чрева приконченной якутом лошади: Шолем уложил вверенного его попечительству француза в тело животного, чтобы за счет еще сохранившегося под шкурой тепла отогреть обмороженного. Что и говорить, идея прекрасная — впихнуть несчастного в жаркое нутро коренника, обогревавшее куда лучше грелки и надежно защищавшее крепкой шкурой от любого ветра. Нетрудно представить себе, сколь необычно выглядел недавний служащий парижской префектуры — сие подобие мифологического кентавра[113], человека и лошади одновременно. — А Жюльен? Где Жюльен? — закричал встревоженно Жак, когда сознание у него совсем прояснилось. — А Федор? Где он? — Все в порядке! — отозвался русский. — Не волнуйтесь! Потерпите еще немного. Сейчас Шолем даст вам сухую одежду. А я тем временем позабочусь о господине де Клене. — Скажите только, есть хоть какая-то надежда, что он будет жить? — с мольбой протянул Жак. — Несомненно! Он уже понемногу приходит в себя. Белые пятна, усеявшие его грудь, потихоньку исчезают, тело постепенно разогревается. — Спасибо! От всей души спасибо! Ямщик размашистым ударом топора вырубал во льду последние ступеньки. Шолем, со своей стороны, тоже не терял времени даром: он разобрал сани, разжег костер, вытащил из возка две меховые полости и бочонок со спиртным, который тотчас и открыл, чтобы можно было растирать тело Жюльена не снегом, а водкой. — Сейчас моя очередь, хозяин. Дай я позабочусь о твоем друге. Отдохни немного, ты в этом нуждаешься. И вот выпей, — настойчиво сказал якут, протягивая Федору деревянный стаканчик. Несмотря на всю присущую ему энергию, столь наглядно продемонстрированную им в минуту смертельной опасности, Федор все-таки ужасно устал. Уступив место проводнику, он выпил стакан водки, вытащил Жака из своеобразного обогревательного аппарата, сотворенного Шолемом, вытер его, еще немного растер водкой, завернул покрепче в меховые полости и уложил как ребенка рядом с костром на кусок фетра, вырванного из кибитки. Якут, не останавливаясь ни на минуту, с ловкостью, которая выдавала большой опыт в подобных ситуациях, продолжал у тела Жюльена работу, начатую Федором. Он растирал обмороженного с такой силой, что кожа его пациента вскоре покрылась красными пятнами. Француз громко застонал. — Спасен! Он спасен! — радостно закричал Федор. — Слышите, месье Арно? А теперь можете заснуть. Это лучшее лекарство, только выпейте сперва чашку кипятка, которую ямщик вам сейчас даст. Когда надо будет, я вас разбужу. Сумерки, позволявшие поначалу хоть что-то видеть в этой ледовой яме, сменились полной темью, и только костер, отбрасывая неровные тени, освещал группу молчаливых, занятых каждый своим делом людей. Жюльен понемногу приходил в себя. Он скользнул вокруг мутным взором, потом взгляд его стал более сосредоточенным. Узнав якута, увидев, как Федор набивает снегом самовар, вытащенный из саней, но не обнаружив поблизости своего соотечественника, лежавшего по ту сторону костра, отважный путешественник позвал тревожно: — Жак! — Жив он, — отозвался Федор. — А другие? — Один ямщик погиб. — Бедняга! Федор хотел дать ему те же советы, что и Жаку, но Жюльен уже более твердым голосом обратился к нему: — Спасибо вам за заботы, друг! Мне лучше, хотя я очень слаб. Самое надежное средство, чтобы не погибнуть от холода, — это находиться в движении. Ведь я чуть было совсем не замерз? — Не только чуть не замерзли, но и чуть не утонули! — Ах да, вспоминаю, как обломился мертвый лед и мы полетели вниз. Кто же вытащил меня из воды? И кто спас Жака? — Ну, скажем, я, — скромно ответил Федор. — В общем, нам здорово повезло. — Так, значит, это вам мы обязаны жизнью! Я этого не забуду! Дайте руку, друг мой! Теперь мы связаны до гробовой доски! Федор, проводник и кучер, сидя у костра, пили горячий чай полными стаканами. Возлияние живительного напитка, длившееся примерно с полчаса, взбодрило их, и, если бы не горестные чувства, вызванные страшной смертью ямщика, они бы предались искренней радости, как сделали бы это в данном положении французы, быстро забывающие плохое и легко приспосабливающиеся к любым ситуациям. Но, видя труп, укрытый тулупом, еще не совсем остывший, они не могли, да и не пытались избавиться от владевшей ими печали. Пока Федор с Шолемом занимались французами, ямщик, уже успевший к тому времени прорубить во льду ступени, выдолбил в оледеневшем дне реки углубление. Затем вместе с проводником перенес туда тело своего несчастного товарища и прикрыл его кусками льда. Обнажив голову, все пятеро — Федор, Жак, Жюльен, якут и кучер — воздали усопшему последние почести. Засыпав могилу доверху битым льдом, ямщик выровнял ее поверхность, прочертил на ней православный крест и осенил себя святым знамением: — Прощай, товарищ! Покойся с миром! — Мир тебе! — отозвались эхом остальные. — Ну а дальше что будем делать? — нарушил наступившее вслед за тем тягостное молчание Федор. — Подождите минутку, — прервал его Жюльен и обратился к ямщику: — У твоего товарища осталась вдова? — Да, ваше превосходительство. — А дети? — Двое. — Вот возьми тысячу рублей и передай ей от меня… Ну а теперь, дорогой Федор, я отвечу вам на ваш вопрос точно так же, как и при отъезде из Якутска: мы будем делать то, что вы сочтете нужным. — Но ведь обрушившееся на нас несчастье — результат того, что я столь неудачно выбрал дорогу! — Вот еще! Беда могла подстерегать нас и на другом пути, так что вы повинны в происшедшем лишь в той мере, что и остальные. Но отныне мы будем более осмотрительны и осторожны. Правда, Жак теперь еще сильнее возненавидит воду, хотя катастрофа и произошла на реке, практически лишенной воды. — Что касается катастрофы, то я уже посвятил ей пару строк в своем блокноте, — заметил тот. — Продолжай в том же духе… Итак, что же вы решили, Федор? — По-моему, пусть Шолем с ямщиком доберутся до ближайшей станции. Предъявив смотрителю вашу подорожную, они возьмут у него сани и лошадей. Если же, по несчастью, им не удастся обеспечить нас подобными транспортными средствами, то они смогут в ближайшем же городке купить у якутов две-три оленьих упряжки или собачьи нарты[114]. Мы будем ждать их в своем убежище, предоставленном нам коварной Хандыгой. Температура здесь, как видите, вполне сносная, холод особенно не чувствуется: зимуй себе хоть до паводка! В случае нужды нас прокормил бы лес, раскинувшийся по обоим берегам реки. Главное — не лениться и заглядывать туда почаще. Но, к счастью, продукты у нас не пострадали: и нам хватит, и будет что предложить местным жителям на обмен, поскольку деньги их обычно не интересуют. Что же касается тех саней, на которых мы ехали, то они ушли под воду и к тому же безнадежно разломаны. Так что придется распрощаться и с ними, и со всем, что в них находилось. Но, хотя и потерпевшие, люди мы довольно состоятельные. Кроме разных там столь необходимых в этих условиях мелочей, в нашем распоряжении находится также оружие, любезно пожалованное нам генерал-губернатором, — два карабина с двумя тысячами патронов к ним, два гладкоствольных охотничьих ружья, два револьвера «нью кольт» с боекомплектами, да еще барометры, термометры — ртутный и спиртовой, компас… Все это — в полном порядке, без малейших повреждений. — Ой, черт возьми, а наши бумаги?! — воскликнул Жюльен. — Не беспокойтесь. Хотя они и находились в затонувших санях, но, перед тем как тронуться в путь, я уложил сумку с ними в совершенно водонепроницаемый бурдюк из-под кумыса. Пока Шолем с ямщиком будут искать для нас сани, мы постараемся их достать. — Вы все предусмотрели, друг мой! Я не перестаю удивляться вашей находчивости. Разрешите, однако, сказать несколько слов о ваших вещах и разных, как вы говорите, мелочах, которые вы столь бескорыстно предоставляете в наше распоряжение. Все это сто́ит немалых денег и является как бы частью вашего состояния. — Не частью, а всем моим состоянием. И поэтому мне особенно радостно предложить вам все без исключения вышепоименованные и не упомянутые мною предметы. — Позвольте же нам хотя бы примерно оценить ваше имущество. — Вы смеетесь? — ответил Федор. — Мы все здесь — потерпевшие. Вы же сами только что сказали, что теперь мы связаны до гробовой доски. И вдруг столь банальные речи о материальных ценностях. Возьмите же, что я могу вам дать. Примите по-братски. Иначе вы глубоко огорчите меня. — Но вы же разоритесь! И не сможете закупить товары на нижнеколымской ярмарке. — Вот уж действительно горе! Кое-что у меня еще осталось… К тому же я могу… — Что именно? — Сопровождать вас в путешествии по Арктике и добраться с вами аж до самой Бразилии. — Даже так? Да кто же вы такой на самом деле? — не смог скрыть своего удивления Жюльен. Человеку от природы бесхитростному, Федору и в голову не могло прийти, что его готовность отправиться с друзьями-французами хоть на край света может показаться подозрительной — и не только им, но и еще кому-либо. Вопрос же Жюльена привел его в замешательство. Французы готовы были держать пари, что теперь-то уж они узнают, кто скрывается под маской этого инкогнито. Но не тут-то было. — Да я, как вы знаете, всего лишь простой торговец мехами, — спокойно ответил их друг. — Но поскольку я непредсказуем, как все русские, фантазер, словно француз, и люблю, подобно англичанам и американцам вместе взятым, скитаться по дальним странам, ваш смелый вояж пробудил во мне душу путешественника, и, честное слово, я был бы не против поддаться этому искушению!
ГЛАВА 14
Десять дней под ледовым панцирем. — Снежная буря. — Обращение якута к своим богам. — Колдунья Огропоно из Жиганска[115]. — Возвращение Шолема. — Нарты и сибирские собаки. — Бдительный есаул[116]. — Тень Еменова. — Гнев французов. — Готовность сражаться с оружием в руках. — По заснеженной равнине. — Верхоянский хребет. — Ослабление морозов в горах. — Признание Федора. — Прерванное совещание. — Казаки.С тех пор как проводник с ямщиком отправились на поиски транспортных средств, прошло десять дней и десять бесконечных ночей, и три товарища, заключенные в ледовом убежище, которое едва не стало их могилой, с нетерпением ожидали их возвращения. В голову им приходили самые что ни на есть тревожные мысли, пока наконец они не сделали вывод, что произошло одно из двух: либо Шолем со спутником погибли, либо они просто бросили путешественников на произвол судьбы. Жак с Жюльеном склонялись ко второму предположению, Федор же, хотя и был по натуре оптимистом, более вероятным считал первое. Действительно, вскоре после ухода проводника с ямщиком погода резко переменилась: на небо набежали черные тучи, разразилась снежная буря. В течение двенадцати часов бушевала такая вьюга, что снег, влекомый свирепствовавшим в долине западным ветром, проник под ледяной панцирь и постепенно образовал там целый сугроб. Друзьям, чтобы не оказаться засыпанными снегом, пришлось отодвинуться в глубь убежища. На следующий день, как только буря стихла и вновь установилась спокойная погода, они, пробив проход сквозь плотный снежный пласт, поднялись вверх по вырубленным ямщиком ступеням, набрали дров и вернулись в свою ледовую обитель, укрытую теперь белым пологом не хуже, чем добротнейшие избы местных жителей. Дни и ночи лениво сменяли друг друга, приводя в отчаяние путешественников, вынужденных бездействовать в условиях сумеречной полярной зимы. Радовали взгляд лишь богатые запасы провизии: чай, сахар, белый хлеб (естественно, промороженный), различные консервы, которые, впрочем, пока не трогали, заменяя их в целях экономии жарким из конины. Весьма кстати пришелся и здоровенный ящик свечей, так как свет для заключенных под ледовым панцирем значил особенно много. Сидеть в заточении не очень-то приятно. Федор еще как-то мирился с вынужденным бездельем, но французам было невмоготу: им все казалось, что они никогда не выберутся из ледового плена. Из предпринятой путешественниками попытки спасти содержимое затонувших саней практически ничего не вышло, если не считать извлеченного из-под воды бурдюка с документами, достать которые необходимо было любой ценой. Когда возок вместе с находившимся в нем грузом был в конце концов оставлен в покое, Федор, к вящему удивлению своих друзей, приступил к своеобразной сушке их одежды — шерстяных свитеров, фетровых чулок и мехов. Вместо того чтобы, как положено, развесить их у огня, он ушел с ними подальше от костра, выдолбил в снежной стене дупло и засунул туда одежду, пояснив, что часов за двенадцать снег впитает всю влагу и она станет абсолютно сухой. Если же эти вещи поместить у огня, то вода с них будет капать в течение нескольких дней, тем более что держать их придется подальше от пламени, которое легко может их подпалить. Объяснения Федора полностью подтвердились: на следующий день одежда, предназначенная для северных условий, действительно оказалась сухой и мягкой, словно только что из магазина. Мелкие хозяйственные заботы — уборка убежища, приготовление еды, вылазки за дровами — не могли уже побороть чувство тоски, перераставшее постепенно в отчаяние. — Так что же, Федор, — в сотый раз повторял свой вопрос Жак, — стоит ли нам все еще надеяться, что проводник не бросил нас в беде? Вы хорошо знаете якутов, так скажите же, не следовало ли перед расставанием заставить его поклясться своими богами, что он выполнит наше поручение? — А ямщик? — вступал в разговор Жюльен. — Ему ведь требовалось лишь дойти до станции, на что должно было бы уйти не более суток. Так почему же за столько дней никто не пришел к нам на помощь? — Пусть вас не удивляет подобная задержка. Вы не имеете ни малейшего представления о станционных смотрителях, раз воображаете, будто они сразу же бросятся на выручку потерпевшим бедствие путешественникам. В их обязанность входит лишь предоставлять лошадей по предъявлении подорожной, что они и делают, хотя и с неохотой. Большего же от этого люда не ждите. Конечно, будь вы важной шишкой из российской администрации, тогда другое дело. Так что если бы лошади у нас не погибли, то мы смогли бы постараться их вытащить, и, в случае успеха, положение наше было бы значительно лучше. Ну а что касается вашего предположения относительно предательства ямщика, то я с ним никак не могу согласиться, тем более что вы дали этому мужику деньги для вдовы его товарища, столь трагически погибшего здесь. К тому же мы ведь даже не знаем, удалось ли ему дойти до станции или нет. — Ну а как якут? Сможет он спасти нас? — Бесспорно, я на него рассчитываю. Если только вы не захотите, не дождавшись наших посланцев, сами отправиться на станцию. — Что вы! Ведь так мы можем разминуться с Шолемом и кучером. К тому же здесь нам лучше, чем наверху. Но куда все-таки подевался наш проводник? — Он еще придет, я уверен. Просто задержался где-то, поскольку несчастный случай маловероятен: снега для якута что дом родной. — Я не разделяю вашего оптимизма, — возразил Жюльен. — И напрасно. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях, чтобы не обмануться в них. Я вижу, что он преисполнен к нам чувством глубокой благодарности. Кроме того, якуты весьма бережно относятся к древним поверьям и стараются не нарушать заповедей предков. — Расскажите же какую-нибудь легенду… — пристал к Федору Жюльен. — Глядишь, и скоротаем часок-другой. — Вы не заметили, какую церемонию совершил он, отправляясь в путь, в точном соответствии с ритуальными действами местного шамана? — Нет, не заметил. — Он перебрал всех добрых и злых духов и громогласно призвал к себе на помощь божества, повелевающие землей, водой и воздухом. Он говорил: «Старая бабушка река, будь добра к твоему сыну! А ты, бабушка гора, закрой бездны в тех местах, где должна будет ступить нога твоего сына! Вы же, кривоногие карлики с большими руками, уйдите прочь с восьми дорог и попрячьтесь в девяти соляных горах…» — Прекрасно!.. Такой местный колорит!.. Жак, бери свою записную книжку! — После этого Шолем обратился к злому духу: «Эй, шайтан, древний камень, не лишай мои ноги силы, не ослепляй мои очи, не смотри на меня косо, и да умолкнет твой злой язык!» Затем, обжарив кусочки конского жира и привязав их конским волосом к прибрежным деревьям, он торжественно обратился к Огропоно. — К кому? — К Огропоно — Агриппина по-русски. Это колдунья из Жиганска. Сибиряк Уваровский переложил предание о ней на якутский язык. Она жила в прошлом веке — ее еще знала мать Уваровского. Слыла колдуньей. Тот, кого она полюбила, мог считать себя счастливчиком, с тем же, кого невзлюбит, приключалось несчастье. Ее словам внимали так, словно ниспосланы они были самим Господом Богом. В старости она поселилась в бедной лачуге, где и жил одна-одинешенька. Отшельницу посещали там страждущие получить у нее благословение, ей приносили дары. И горе тому, кто не выказывал чародейке почтения! Огропоно непременно карала такого строптивого: превращала в черного ворона, обрушивала на него ураган, сбрасывала его ношу в воду или лишала упрямца разума. И хотя ее давно уже нет в живых, якуты продолжают оставлять ей подношения на том месте, где стояла когда-то хижина грозной волшебницы. Согласно преданию, Огропоно умерла, когда ей исполнилось сто лет. Она была полной, невысокого роста, с изъеденным оспинами лицом. Глаза ее блестели, словно звезды, а голос звенел, как лед от удара. И наш Шолем обратился к этой самой Агриппине из Жиганска. Он поклялся ей, что обязательно вернется. И уж что-что, а данное ей обещание он никак не сможет нарушить… Но что это?.. Или мне показалось? Вроде бы кто-то кричит… И действительно, раскатистый, такой знакомый голос, звучавший у входа в снежный туннель, ведший в ледовую обитель, выкрикивал громко имена путешественников. — Шолем? Да ты ли это, дружище?! — воскликнул Федор. — Я, я, хозяин! — услышал он в ответ. Якут нырнул в лаз и через мгновение, весь в снегу, с сияющим лицом, предстал перед друзьями во весь свой богатырский рост. Крепкие рукопожатия, радостные восклицания — в общем, последовало все то, что всегда происходит при долгожданной встрече. Шолем оправдал веру Федора в него. Опрокинув, как положено, кружку горячего чая, Шолем запил его водкой и, даже не присев на фетровую подстилку возле костра, предложил друзьям тотчас выступить в путь. — Удалось достать сани? — спросил его Федор. — Да. — Сколько? — Четверо. — Оленьи? — Нет, собачьи… Но хватит тратить время на разговоры. Прошу вас всех, едемте быстрее. — А что такое? — Мне страшно. — Почему? — Сам не знаю. Послушай только, а там суди как хочешь. Как только я ушел от вас, то первым делом смастерил что-то вроде коротких лыж и направился на них к станции, что к востоку отсюда. Добравшись до нее, я попросил у есаула лошадей и сани, но он заявил, что у него нет ни того, ни другого. Правда, правда… Тогда я прошел до второй станции, потом до третьей и наконец до четвертой, но все безуспешно. Всего я проделал сто двадцать пять верст, а чего добился? И вот я на пятой станции. Показываю есаулу вашу подорожную… Хотя за последнее время я много раз ездил по этой дороге до самой Колымы, человека того нигде не встречал. Мне сказали, что его прислали туда сравнительно недавно, откуда-то с запада. Он грубо потребовал ваши паспорта. Я ответил, что у меня их нет. «Хорошо, — произнес он, — нет паспортов — нет ни саней, ни лошадей». Когда я попробовал настаивать, он стеганул меня плеткой. Я бросился на него, чтобы задушить, но с полдюжины казаков кинулись на меня и поволокли в острог. Есаул же отправил своих людей разыскивать вас, потому что вы, считает он, наверняка самые что ни на есть варнаки… — Постойте, — прервал Федора Жюльен, внимательно слушавший, как тот переводил рассказ Шолема с русского на французский. — Неужели новый Еменов? Но я ему больше не дамся! Буду до конца сражаться с ним! — И я тоже! — энергично подхватил Жак. — Конечно, нам нечего бояться этого служаку, но если от великого усердия ему придет вдруг в голову препроводить нас в Якутск для установления личности, то сколько же времени потеряем мы даром! И если только он попробует задержать нас силой, то пусть пеняет на себя! Я без всяких душевных терзаний разряжу ему в голову карабин, подаренный нам генерал-губернатором! Федор был настолько погружен в свои мысли, что, по-видимому, даже не слышал воинственных речей друзей-французов. — Ну и как же ты спасся? — спросил он Шолема. — В остроге я пробыл недолго, — продолжал тот свое повествование. — Когда настала ночь, я проделал в стене дыру и сбежал, пройдя незаметно мимо солдат, уже успевших упиться водкой. Потом я долго искал нарты. Нашел четыре упряжки. Они там, наверху, и при них якуты. Это преданные люди, ты можешь рассчитывать на них, как на меня. А теперь решай, хозяин, что делать будем. — Ехать надо, и как можно быстрее! — заволновался Жюльен. — Нас четверо здоровых мужчин, работы мы не боимся. Так давайте сейчас же, не мешкая, перенесем вещи на нарты. Делов-то на час или на два — и вперед! — Но не по тракту, — заметил Жак. — Подальше от торных дорог, почтовых станций, острогов и прочих мест, где назначают друг другу свидания Еменовы со всей Сибири. Наш путь — по прямой, через укрытую снегом и скованную морозом равнину. Строго по компасу! И горе тому, кто попытается нас остановить! Ощущение грозящей опасности, появившееся после рассказа проводника, взбодрило друзей-французов, в памяти которых еще свежо было воспоминание о происшествии в селе Ишимском. Вместе с Федором и Шолемом, к которым вскоре присоединились и два якута, прибывшие с собачьими нартами, они энергично выносили по ледовым ступеням наверх провизию, одежду и снаряжение, сложенные аккуратно возле костра. Жюльен и Жак, с истинно французским задором, трудились за четверых. Работа была так хорошо организована, что сани загрузили за каких-то полтора часа. Ну а теперь, пока наши друзья еще не отправились в путь, познакомимся с нартами, которыми пользуются в повседневной жизни кочевники Северной Сибири. Прежде всего это длинные узкие сани с низкой посадкой, очень легкие и вместе с тем исключительно крепкие. В них помещается не более трех человек, включая погонщика. Последний сидит впереди в, казалось бы, весьма неудобной, но в действительности выверенной многовековым опытом позе, чтобы в любой миг, если возникнет такая необходимость, соскочить с нарт. Под сиденьями для ездоков помещается вместительный ящик с едой для людей и впряженных в сани животных: для собак — сушеная рыба, для оленей — ягель[117] и мох. В нарты для трех человек должны быть впряжены, по крайней мере, шесть собак. Хотя сибирские лайки неказисты на вид, приземисты и условия их жизни весьма тяжелы, они проявляют силу и выносливость, непостижимую уму. От шлейки, обхватывающей их грудь, идет к саням длинный кожаный ремень. Кроме того, они связаны в упряжке попарно ремешками от ошейников. По первому сигналу хозяина послушные животные срываются с места и мчат по снегу чуть ли не целый день со скоростью двенадцать километров в час. Вечером они подкрепляются небольшой порцией рыбы, иногда и подпорченной, свертываются рядышком в клубок прямо на снегу, а утром опять вскакивают веселые, готовые снова нестись в заснеженную даль. Местные жители в качестве ездовых животных предпочитают не оленей, а собак: во-первых, потому что их много, и, во-вторых, они гораздо неприхотливее: их можно кормить и мясом зверя, убитого по дороге, и рыбой, выуженной из-подо льда, в то время как заготавливать ягель для оленей — дело трудоемкое и пополнять его запасы весьма обременительно. Шолем с Федором сели в передние нарты. За ними следовали двое саней с провизией и снаряжением, управляемые якутами-каюрами[118]. Жак и Жюльен, завернувшись в меховые шкуры, расположились на последних нартах. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, друзья положили под сиденья готовые к бою восьмизарядные карабины. Санный поезд, тронувшись с места, сразу же набрал бешеную скорость, непривычную даже для сибирских лаек. Ехали вдали от тракта, но Шолем, знавший этот край как свои пять пальцев, был совершенно спокоен. Наметив направление, он смело вел нарты вперед через необозримую равнину, зорко вглядываясь вдаль и по сторонам, чтобы при малейшей опасности погнать собак еще быстрее. Добравшись так до Верхоянского хребта, ночь путешественники провели высоко в горах, в типично сибирской «спальне» под снегом, вроде той, с которой познакомили французов воры в одном из острогов. Друзьям не было холодно, ибо предсказания Федора полностью подтверждались. По мере их продвижения на север морозы ослабевали, и Жюльен, взглянув на термометр, сообщил удивившую даже его новость: прибор показывал всего лишь минус семнадцать градусов, а это значило, что здесь было значительно теплее, чем возле Якутска. На следующий день, подтверждая свою высокую репутацию, собаки преодолели расстояние в сто тридцать километров. Шолем, заметив пустой чум, предложил вторую ночь провести в нем. Путешественники находились на землях, на которые распространялась власть придирчивого, сверхбдительного есаула. И каждый из них сознавал серьезность ситуации. Хотя французы и понимали, что правда на их стороне, им было нетрудно догадаться, что встреча с этим чиновником могла иметь для них самые тяжелые последствия. Если бы из-за чрезмерного усердия служака действительно превысил свои полномочия, то Жак и Жюльен, решившие с оружием в руках оказать ему сопротивление, попали бы в категорию правонарушителей. В России это особенно опасно: по всей ее необъятной территории, даже в таких далеких краях, действует хорошо отлаженная административная машина, внимательно следящая за повсеместным неукоснительным соблюдением закона. Федор утратил хорошее настроение сразу же после того, как санный поезд покинул Хандыгу. Час от часу он становился все мрачнее. Французам показалось, что друг их готов им в чем-то признаться, но, то ли робея, то ли время считая неподходящим, он продолжал хранить явно тяготившее его молчание. Хотя ночь прошла без приключений, Жюльен и Жак, мучимые дурными предчувствиями, спали плохо. Перед тем как снова отправиться в дорогу, друзья решили посоветоваться. Первым взял слово Федор. — Сейчас мы в восьмистах километрах от Якутска, — нервно начал он. — До Восточного мыса — две тысячи триста километров. — Купец, было ясно, совершенно позабыл о своих делах на нижнеколымской ярмарке. — Поскольку мы хотели бы любой ценой избежать нежелательной встречи с есаулом, — а я заранее могу предвидеть, что столкновение с ним кончится для нас весьма плохо, — необходимо немедленно свернуть на восток. — Сказано — сделано! — отозвался Жюльен. — Не совсем так. К несчастью, на нашем пути через этот грозящий нам бедою край, где казачьи посты — чуть ли не на каждом шагу, лежит еще и город. — Я знаю только один способ обойти то или иное опасное место, — вмешался Жюльен, — а именно: двигаться прямо на него и, лишь когда оно будет совсем близко, резко свернуть в сторону. Так делают моряки, обходя рифы. — Это известно, но как проскользнуть сквозь невидимые сети, которые, чувствую я, все плотнее стягиваются вокруг нас? В общем, друзья, пришло время поговорить откровенно. Для вас оставаться со мной дольше — это компрометировать себя. Мы должны расстаться. Давайте разделим провизию. Вы возьмете себе две трети и в сопровождении Шолема направитесь прямо к Берингову проливу. Ну а я пойду навстречу своей судьбе. Французы не верили своим ушам. — Что такое? — решительно заявил Жюльен. — Вы с ума сошли, Федор! Мы вас уважаем, любим всем сердцем и не собираемся нарушать нашу договоренность. — Я полностью согласен с моим другом, — поддержал приятеля Жак. — Продолжай же, Жюльен, скажи ему все, что чувствуешь. — Послушайте меня, Федор, мы из той породы людей, для которых слова благодарности — не пустой звук. Мы предложили вам свою дружбу без каких бы то ни было условий и будем вместе с вами, кем бы вы ни оказались, и в радости и в горе. Не хотите — не выдавайте своей тайны, но только оставайтесь с нами! — Господа, — медленно произнес русский юноша, энергично пожимая руки друзей, — если бы вас, ни в чем не повинных, объявили в вашей стране преступниками… Нет, скорее так, если бы кого-то из вас только за то, что вы родственник, приемный сын ссыльного, отправили на каторгу вместе с преступниками… и если бы ценой огромных опасностей вы вновь обрели свободу и уже близок был момент, когда ваши палачи оказались бы не властны больше над вашей судьбой, а какой-то негодяй, лишенный человеческих чувств, объявил бы вам во исполнение подлого приказа: «Я пришел арестовать вас», — то как бы вы поступили? — Клянусь честью француза и дворянина, я пустил бы ему пулю в лоб, — твердо ответил Жюльен. — Хозяин, казаки! — закричал Шолем. И указал на пятерых всадников, которые, горяча коней шпорами, неслись во весь опор. Затем, разглядев скакавшего впереди служилого, добавил: — Есаул! — Друзья, — быстро заговорил Жюльен, — предоставьте это мне. Я наберусь отваги и переговорю с этим человеком. Ну а вы будьте готовы ко всему. Положите поближе карабины, но так, чтобы враг не догадался, что вы начеку. Федор уселся на нарты, и Жюльен услышал, как он взвел под шубой курок револьвера. «Черт возьми, — промолвил француз про себя, — лучше бы этому есаулу оставаться в своем остроге!»
ГЛАВА 15
Судьба начальника томской полиции. — Служебная ссылка. — Поиски французов. — Допрос среди снегов. — Проявленное Жюльеном неуважение к властям. — Встреча Федора с есаулом. — Взаимное удивление. — «Алексей Богданов!» — «Исправник из Томска!» — Племянник полковника Михайлова. — Своевременный выстрел. — Преследователи в роли пленных. — Обреченные на бегство. — Еда для собак. — Снова в пути. — Сибирские собаки. — Остающиеся четыреста лье, или тысяча шестьсот километров.Капитан Еменов не один пострадал за учиненное им в селе Ишимском насилие в отношении двух французов: исправник, начальник томской полиции, по чьей, собственно, инициативе и произошло нарушение закона, также был сурово наказан генерал-губернатором. Вскоре после того, как друзья-парижане двинулись с полковником Пржевальским впуть, его лишили прежнего воинского звания и отправили есаулом в Восточную Сибирь. Учитывая долгую службу оступившегося чиновника, губернатор уберег его от тюрьмы, но не больше. И тот отправился в далекий край, не зная точно, когда вернется из него и вернется ли вообще. Продолжительность такой ссылки, практикуемой сейчас значительно реже, чем при императоре Николае, зависит от дисциплинированности сосланного, от его усердия и услуг, которые он по воле случая может оказать государству. Так что впавшие в немилость изо всех сил стараются вернуть доверие к себе и вместе с ним — прежнюю должность. Судьбе было угодно, чтобы томского исправника назначили есаулом в острог, затерянный на просторах Якутии, неподалеку от истоков реки Индигирки. Отправившись в ссылку после того, как французов освободили, он обогнал их в Иркутске, где они задержались ненадолго, чтобы познакомиться со столицей Восточной Сибири. Поскольку останавливаться по дороге ему было запрещено, он, опережая французов и Федора Ловатина, за рекордно короткое время добрался до острога, где ему предстояло отныне служить. Можно догадаться, что подобное наказание, внезапно обрушившееся на человека, вчера еще наделенного большой властью, и опустившее его на самую нижнюю ступень административно-иерархической лестницы, не способствовало благодушию есаула. Будучи натурой деятельной и привыкнув в любую погоду скакать без устали по горам и долам, он сразу же по прибытии на место стал искать с упорством полицейского, потерявшего след, куда бы направить свою энергию, чтобы хоть как-то смягчить терзавшие его душевные муки. Появление Шолема внесло некоторое разнообразие в его довольно-таки безрадостную жизнь и подсказало ему мысль о том, что неплохо было бы покуражиться над французами, которых он считал причиной всех своих бед. Инструкции обязывали его обеспечивать путешествующих лошадьми, но они же предписывали ему и испрашивать паспорта. Поскольку чужеземцы попали в беду, он решил задержать их проводника, чтобы заставить недругов своих добираться до станции пешком, по зимним арктическим просторам. Но дикарь-якут, вместо того чтобы покорно сидеть в заточении, сорвал намерение есаула обрушить на проклятых иностранцев справедливое, по его мнению, возмездие: он бежал, взломав стену. Впрочем, значительную долю ответственности за этот весьма серьезный и сурово наказуемый проступок можно было возложить на хозяев проводника, что при сложившихся обстоятельствах играло на руку служилому. Несмотря на ослеплявшую его безумную ненависть, есаул все же понимал, что осуществить месть не так-то просто, и надеялся в душе, что преступники — а ему нравилось заранее называть их так — усилят свою вину, оказав хотя бы подобие сопротивления властям. Поскольку в таком случае он оказывался бы в выигрыше, то даже готов был при малейшей возможности спровоцировать своих противников на подобное противоправное действие. Приказав солдатам охранять дороги, есаул во главе конного отряда принялся прочесывать местность и обнаружил вскоре санный поезд, так и не успевший двинуться в путь. — Стой! — крикнул он зычно. — Именем закона, стой! — Мы и так стоим, — шутливо бросил ему Жюльен. — Чтобы выполнить приказ, нам надо сначала стронуться с места. Есаул закусил губу от злости: — Кто вы? — Люди, которые спешат. — Отвечайте, раз вас спрашивают! — А я и отвечаю. Так что, если хотите, еще задавайте вопросы. — Куда вы следуете? — Это общеизвестно: из Парижа в Бразилию через Якутию. Есаул, вопреки ожиданиям Жюльена, даже бровью не повел: — А документы у вас есть? — И даже много: письма их превосходительств генерал-губернаторов двух губерний, письмо от английского министра, письмо от нашего посла, паспорта с необходимыми визами, марками, печатями и так далее… — Предъявите! — Пожалуйста. После падения в Хандыгу Жюльен разложил все необходимые бумаги по карманам и теперь, засунув руку под шубу, моментально извлек наружу паспорта и протянул их есаулу. Тому пока что не в чем было упрекнуть своего собеседника, разве что в насмешливом тоне, вполне позволительном, однако, в такой ситуации лицу, у которого нет абсолютно никаких оснований для беспокойства. — Знаете, господин есаул, — обратился Жюльен к служилому, внимательно проглядывавшему документы, — позволю вам заметить, что стоит страшный мороз, и мне как-то неуютно стоять на снегу на таком холоде. И я прошу вас побыстрее завершить эту проверку в чистом поле, чтобы я смог наконец усесться в нарты и укрыться в меха. — Не волнуйтесь, я непременно завершу «эту проверку в чистом поле», как изволили вы весьма удачно заметить, — тоже с издевкой ответил есаул, — но только после того, как удостоверюсь, что бумаги действительно в порядке. Поскольку же я не очень силен во французском, вам придется немножко обождать. К тому же все вы так укутаны, что мне поневоле приходится просить вас оказать мне любезность сдвинуть шапки и башлыки, ибо в противном случае мне никак не разглядеть ваших лиц. Жюльен нахмурил брови, потом, подумав немного, громко захохотал. — Смеетесь?! Учтите, хоть вы и француз, я сумею добиться от вас послушания! — Попробуйте! — За мною — закон! При необходимости могу применить и силу! — Тоже мне — сила! Каких-то четыре косматых жандарма! — Но за нами — вся Россия, не забывайте этого! — Ба, Россия так далеко! — И все-таки примите к сведению, пусть я и не в высоком чине, но представляю здесь нашего императора. — Думаете, это так уж лестно для его величества? Будь он на вашем месте, то не стал бы развлекаться, заставляя меня дрожать от холода с риском обморозиться или схватить менингит. — Хватит! Надеюсь, вы кончили? Видя, что француза не пронять грозными речами, есаул, пробормотав что-то невразумительное, взял паспорт Федора Ловатина. Уж русский-то, да еще простой купец, не посмеет разговаривать в таком издевательском тоне! И служилый вознамерился отыграться на нем за насмешки дерзкого француза. Подавшись всем корпусом вперед, он уставился на Федора. — Ну что, есаул? — спросил русский. — Мою-то личность вы можете удостоверить? Напрягшись при звуке этого голоса, офицер пригнулся к гриве лошади, чтобы получше рассмотреть говорившего. Глаза их встретились, и они одновременно издали возглас изумления, приведя в недоумение и Жака и Жюльена. — Алексей Богданов! — Исправник из Томска! — Нигилист! Каторжник, сбежавший из тюрьмы! Варнак! Ну, попался теперь, мошенник! И не ты один, но и твои сообщники — эта пара разбойников с большой дороги! — Есаул, ликуя, повернулся к четверке казаков, недвижных, как статуи: — Взять всю троицу! В случае сопротивления стрелять! Казаки уже готовы были выполнить приказ, но тут Федор поднял руку, давая понять, что хочет что-то сказать. — Выслушайте меня, есаул! Вы не ошиблись, я действительно Алексей Богданов, сбежавший из томской тюрьмы, так что мы с вами давно знакомы. Но эти господа тут ни при чем. Они не знают ни моего имени, ни моего прошлого. Просто пригласили меня сопровождать их, полагая, что я — купец Федор Ловатин. Иначе говоря, они не являются моими сообщниками и посему не могут быть привлечены к ответственности за проступок, которого не совершали. — Это все? — с холодным спокойствием спросил есаул. — Еще пару слов! Вынесенный мне приговор несправедлив. Я не участвовал ни в каком заговоре и не принадлежал к какому бы то ни было тайному обществу. Подлинная причина моего осуждения совсем иная. Я был усыновлен своим дядей, известным ученым, человеком незаурядного ума. И только затем, чтобы доставить ему новые муки, меня отправили на каторгу. Я имею в виду полковника Михайлова. А теперь, когда я снова на воле, попробуйте отнять ее у меня, и вы увидите, достоин ли я свободы! Услышав имя полковника Михайлова, Жак и Жюльен подскочили к нартам и в следующий же миг встали по обе стороны от Алексея с карабинами в руках, нацеленными на перепуганных казаков. Шолем тоже направил ствол своего охотничьего ружья на несчастных солдат, готовых хоть сейчас ретироваться. Но есаулу нельзя было отказать в храбрости. Он молниеносно выхватил из седельной кобуры револьвер, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Алексей, не дожидаясь, когда тот нажмет на курок, не вытащил вовремя из-под шубы такое же оружие и не разрядил его свалилось на спину и, придавив всадника, забилось на снегу. Алексей подбежал к поверженному противнику, тщетно пытавшемуся выбраться из-под коня, схватил его железной хваткой за горло и, приставив дуло к виску, прохрипел: — Сдавайтесь! — Нет! — Говорю вам: сдавайтесь! Не то я убью вас! — Убивай! Вчера — ты просто каторжник, сегодня — убийца! — Я защищаю то, что дороже жизни!.. Душа и совесть мои будут спокойны! Но я не могу бить лежачего. И поэтому просто обезоружу вас. С этими словами Алексей забрал у есаула оружие. Солдаты, с ужасом смотревшие на происходящее, спешились под дулами карабинов и охотничьего ружья и без звука сдали винтовки, после чего Богданов приказал Шолему крепко связать всех пятерых и с помощью каюров отвести в чум. Жюльен и Жак, потрясенные быстротой, с какой произошло разоружение казаков, положили на нарты карабины и затем подошли к молодому человеку, чтобы пожать ему руку. — Поздравляем, Федор! — сказал Жюльен. — Или, вернее, Алексей, коль скоро уж ваше инкогнито раскрыто волею судьбы! Федор Ловатин спас нас от верной смерти, и мы этого никогда не забудем. Алексей же Богданов может рассчитывать на нашу благодарность вдвойне: если мы сумеем хоть чем-то помочь вам, то тем самым как бы возвратим часть нашего долга и полковнику Михайлову. — Друзья мои! Дорогие вы мои! Теперь вам понятна причина моей скрытности: я не хотел делать вас своими сообщниками, — произнес взволнованно русский, тут же заключенный французами в объятия. — Ну теперь-то уж все разрешилось само собой, не так ли? — заметил Жюльен. — Не было бы счастья, да несчастье помогло! — Ну и что вы думаете обо всем этом? — Только то, что есаул получил поделом. Ну и казаков вы славненько приструнили, — ответил Жак. — И впрямь, — подхватил Жюльен, — у вас твердая рука, вы отлично владеете оружием. — Я не о том, — проговорил Алексей, искренне удивленный тем радостным спокойствием, которое буквально источали его друзья, словно только что имевшая место схватка с представителем власти не была чревата для них самыми серьезными последствиями. — Я хотел спросить, как, по вашему мнению, следует поступить с нашими пленными? — Оставить в чуме! — решительно заявил Жюльен. — На их поиски отправятся не сразу и, поскольку день сейчас очень короток, найдут их, возможно, не так быстро, мы же за это время будем уже далеко отсюда. — А как быть с лошадьми? — поинтересовался Жак. — Наши якуты забьют их и разрубят на куски. Часть конины погрузим на нарты — на корм собакам, а что не сможем забрать с собой, зароем в снег. В пути же будем останавливаться только затем, чтобы переспать немного. — Браво, друг мой! — воскликнул Жюльен. — Вы не теряетесь в любой ситуации! Уж и не знаю, чему больше удивляться — отваге ли вашей или находчивости! — Так я уж лет пятнадцать кочую по белу свету. А в таких странствиях, как говорят наши матросы, голь на выдумки хитра. Быстро, не более чем за час, управившись с лошадьми, якуты завернули лучшие куски в шкуры, и путешественники, даже не взглянув на чум с пятью пленниками, за которых, впрочем, не стоило особенно опасаться, двинулись навстречу неизвестному. Мчаться надо было окольною дорогой, и к тому же как можно быстрее, чтобы к тому времени, когда разъяренный есаул сумеет организовать погоню за ними, друзья оказались для него уже вне пределов досягаемости. До Берингова пролива оставалось приблизительно шестьсот лье. Если сытно кормить собак и выжимать из них все, что они могут дать, на то, чтобы добраться до него, все равно потребуется не менее шестнадцати — семнадцати дней. Придерживаясь торной дороги и нигде не задерживаясь в пути, это расстояние можно преодолеть и за восемь дней. Но путешественникам поневоле приходилось давать передышку собакам, которые только одни и могли их спасти в случае встречи с преследователями. Шолем, сидя на первых нартах, направлял их строго на восток — по схваченной морозом равнине, сквозь полярную ночь, отступавшую под слабым натиском дня лишь на то короткое — от восхода солнца и до заката — время, когда над линией горизонта приподнималось слегка тусклое, словно обмороженное, светило. Санный поезд двигался вдоль отрогов Верхоянского хребта, протянувшегося с запада на восток, чуть севернее шестьдесят первой параллели, на шестьсот километров и поворачивающего затем, у сто пятьдесят четвертого меридиана, на северо-восток, чтобы углубиться в территорию, населенную чукчами. Никто не говорил о только что случившемся. И это понятно: Алексей подсел в головные нарты, к Шолему, французы же, завернувшись с головой в шубы, лишь изредка перебрасывались отдельными репликами, пребывая в том сонливом состоянии, которое вызывает у путников скольжение саней по снегу. На ночлег устраивались по-сибирски, прямо в снегу, если только случайно не попадался покинутый чум или другое какое-либо заброшенное пристанище местных жителей. Так как собак кормили хорошо, они пребывали в отличном состоянии, несмотря на скорость, которую им приходилось развивать, и огромные расстояния, каждодневно преодолеваемые ими. Трудно было не восхищаться удивительным поведением этих отважных животных с вытянутой мордочкой и стоящими ушками: достаточно одного слова, чтобы они сорвались с места веселой стаей, повернули направо или налево, а затем внезапно остановились, словно дрессированные собачки в цирке. Порою монотонность движения нарушалась тем или иным непредвиденным случаем. Например, внезапно перебегали дорогу то песец, то олень, и впряженные в нарты лайки, вспомнив о том, что они не только ездовые, но и охотничьи собаки, поднимали, принюхиваясь к следам, такой лай, будто гнали зверя. Хотя на окрики каюра они не обращают никакого внимания, во главе упряжки, к счастью, всегда находится самая сильная и хорошо выдрессированная собака, выполняющая ту же функцию, что вожак в табуне аргентинских лошадей или первый мул в обозе. Этот пес, понимая, что на него, поскольку он впереди, возложена ответственность за всю упряжку, прилагает в подобных обстоятельствах невероятные усилия, чтобы удержать своих сородичей на дороге. Когда же он чувствует, что это ему не удается, что они и его тянут за собой, то поворачивает голову в противоположную сторону и начинает лаять так, словно увидел еще одного зверя, гораздо больше достойного внимания. И собаки, бросив след, подчиняются самой мудрой из них. Чтобы не перегружать нарты, что значительно замедлило бы продвижение путешественников к Берингову проливу, Алексей, после того как на них уложили конину, пожертвовал практически всеми товарами, приготовленными им для обмена: оставив себе лишь самую малость — для переговоров с чукчами, остальное он отдал якутам, которые тотчас спрятали подаренные вещи в снегу в расчете захватить их на обратном пути. В целом, если не считать сильного мороза, к которому, впрочем, и Жак и Жюльен почти привыкли, все шло отлично и расстояние до конечной цели их путешествия по Азии быстро сокращалось. Друзья давно уже пересекли Колыму, ее приток Коркодон и реку Ловдан, впадавшую в Коркодон в точке пересечения шестьдесят четвертой северной параллели и сто пятидесятого, если считать от Парижа, меридиана, и наконец приблизились к истоку Коркодона, в ста двадцати километрах от Гижигинской бухты Охотского моря. Таким образом, без всяких злоключений и даже просто происшествий, они преодолели за пять суток восемьсот километров, делая соответственно по сорок лье в день. И все-таки от земли, где они могли бы вздохнуть свободно, их отделяли еще четыреста лье, или тысяча шестьсот километров.
ГЛАВА 16
Арктический Мэтр Жак[119]. — Этнографическая характеристика якутов. — Дальнейший путь. — Исследование Сибири. — Миниатюрный лес. — Граница растительного мира. — Тундра. — Волчья стая. — Охота на лося. — Триста килограммов свежего мяса. — Голодные хищники. — Свойство металла на морозе. — Жак о сибирских волках. — Неточная пословица. — Кровавое пиршество.Беглецы двигались узкой долиной Коркодона, огромной ледяной глыбой покоившегося в своем русле. Желая знать, какое расстояние они преодолели, скажем, за два последних дня, путешественники обращались к Шолему, свободно ориентировавшемуся в таких вопросах подобно морским волкам, которые и без лага[120], просто на глазок, определят довольно точно, с какой скоростью идет их судно. И вообще, без проводника-якута они были бы как без рук и не смогли бы продолжить свое странствие в исключительно сложных условиях, созданных не только природой, но и неугомонным есаулом. Этот арктический Мэтр Жак, выполнявший обязанности и возницы, и повара, и мажордома[121], был человеком незаурядным. Руководствуясь своим природным чутьем, он, ни разу не сбившись с пути, вел нарты строго на восток, к неописуемому удивлению Жюльена, время от времени проверявшего направление по компасу, а потом отмечавшего пройденный путь на карте Сибири, так кстати приобретенной Алексеем. Требовалось ли набрать дров, заварить чай, открыть банку консервов или поджарить на вертеле кусок мяса, не говоря уже о том, чтобы вырыть пещеру в снегу или соорудить из палок и оленьих шкур чум, — Шолем ни в чем не знал себе равных. Пренебрегая холодом, под действием коего металлические предметы, словно раскаленным железом, обжигали кожу, он ловко справлялся с любой работой, лишь изредка дыша на пальцы, когда мороз уж слишком начинал кусаться. Приглашая спутников перекусить, он неизменно произносил торжественным тоном по-французски: «Манже»[122], — прекрасно усвоив смысл этого слова, и, не умея ни читать, ни писать, быстро разобрался в значениях разных линий на карте, отличал реку от горного хребта и безошибочно показывал, в каком направлении она течет[123]. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Якуты по уровню интеллектуального развития занимают первое место среди сибирских народов, значительно опережая в этом отношении тунгусов, самоедов и бурятов. Легко адаптируясь к различным условиям, они быстро находят общий язык и с природой, и с людьми, их окружающими. Родина якутов — Прибайкалье. Но два-три века назад буряты вытеснили их, и они были вынуждены отступить на север, что заставило их, приноравливаясь к новому краю, в корне изменить свой образ жизни. Неутомимо трудясь в течение короткого арктического лета, зимой якут как бы впадает в спячку, словно зверь в берлоге: крайняя леность без всякого перехода сменяет деловую активность. Одни из них проживают в селах и городах, другие — кочуют. Они умелые скотоводы, охотники и ремесленники. Якут без всяких приспособлений может изготовить не только обычные поделки, но и украшения из золота, в одиночку добывает железо и производит инструменты, соперничающие с предлагаемыми русскими купцами. Практически все ремесленники в Якутске — столяры, плотники, маляры, кузнецы — из якутов. Ими выпускаются, в частности, такие изделия, как самовары и даже ружья. Немало среди них и купцов: недаром за присущий им талант торговать якутов зовут нередко сибирскими евреями. Обладая высоким даром подражания, якуты ничего не перенимают слепо от других, а непременно привносят в усваиваемое ими новое что-то и свое. Живя рядом с самоедами или тунгусами, они начинают следовать их обычаям и быстро становятся своими для местных жителей. В условиях сурового сибирского климата якутам далеко не везде удается возделывать землю. Зато в скотоводстве они достигли того, за что русские и не брались: не ленясь ездить за сеном за сотни километров от дома, приучили лошадей и коров жить за Полярным кругом. Выносливые, легко переносящие любой мороз, из-за чего и прозвали их «железными людьми», истые трезвенники, неприхотливые в еде (самое любимое — nec plus ultra[124] — блюдо якутов-кочевников — заправленная жиром уха, в которую, чтобы еды получилось больше, они кладут мелко наструганную кору лиственницы), обладающие поразительной памятью на места, фиксирующей каждый холмик, куст, лужу или камень, встреченные ими в пути, якуты, чьи условия жизни, казалось бы, легко могли превратить их в самый примитивный народ, в ряде случаев ни в чем не уступают европейцам, кичащимся своей цивилизованностью. Вышеприведенные сведения о якутах — не что иное, как краткие данные, почерпнутые в значительной мере из этнографического экскурса, совершенного Алексеем для друзей. Выслушав эту лекцию, французы, давно уже переставшие удивляться эрудиции своего русского товарища, преисполнились уверенности, что последняя часть пути пройдет благополучно, ибо такому проводнику, как Шолем, можно смело доверять. Переправившись через Коркодон и оставив слева реку Омолон с притоками, проводник, придерживаясь северо-восточного направления, повел санный поезд вдоль горного хребта. Шестьдесят четвертая параллель осталась позади, и наших друзей, находившихся у сто пятьдесят восьмого градуса восточной долготы (если вести счет от Парижского меридиана), в огромной низине, куда не ступала нога ни старателей, ни путешественников, отделяли от Полярного круга уже два с половиной градуса. Этот край издавна привлекал исследователей. Как известно, в 1785–1794 годах Биллингс[125] прошел вдоль северного побережья Восточной Сибири от Нижнеколымска до залива, расположенного в полутора градусах от Восточного мыса. В 1822 году Матюшкин[126], следуя вдоль побережья от устья Колымы до Чаунской губы, достиг реки Анюй и среднего течения реки Чаун. В 1865–1866 годах Кеннан[127], совершив переход от Якутска до Охотска, добрался по берегу моря до Гижигинской бухты, затем направился на север и, свернув на восток, дошел до Анадырского залива. Наконец, в 1869–1870 годах Мюллер и Щекановский, проплыв по реке Яна до Верхоянска, пересекли Индигирку чуть южнее Полярного круга, вышли у Среднеколымска к Колыме, спустились по ней до самого устья и, резко повернув на восток, оказались у Анадырского залива, недалеко от того места, где закончил свой маршрут Кеннан. По мере продвижения наших путешественников к Берингову проливу растительность постепенно менялась. После шестидесятого градуса северной широты деревья, упорно противостоя холодам, произрастали с превеликим трудом. Здесь уже не встречались, как южнее, лесные великаны с толщиной ствола в один метр. К северу от шестьдесят первого градуса стволы имели в диаметре не более тридцати сантиметров, а сами деревья выглядели чахлыми и явно угнетенными арктическими морозами. Наконец, из древесных пород остались только лиственницы — корявые, с жидкой кроной. По всему было видно, что они не получали из почвы достаточного питания. Однажды в простершейся в бескрайнюю даль необъятной пустыне путешественники увидели внезапно миниатюрный лес. Тоненькие, не толще запястья, деревца высотой метра три увенчивались заснеженными кронами. Алексей попридержал свои нарты и, дождавшись Жака и Жюльена, поехал с ними рядом. — Вот вам каприз природы, — обратился он к Жюльену, изумленному столь странной растительностью. — Можно подумать, что это саженцы, — заметил Жак, не менее удивленный. — Однако, хотя они и кажутся молодыми деревьями, на ветвях у них мох, как у ветеранов лесного царства. — Ой, да это же лиственницы! — воскликнул Жюльен. — Но карликовой породы, — развил его мысль Жак. — Нет, друзья мои, — произнес Алексей, — это не карликовые, а обычные деревья, только худосочные и хилые, неизлечимо больные, так как они с рождения лишены плодородной почвы и тепла. — Обычные деревья… Никак не верится! — сказал Жюльен. — Этим несчастным созданьицам уже два-три века. В ста лье южнее их сородичи гордо вздымают свои кроны на сорокаметровую высь, они же, погребенные на девять месяцев в году под снегом, дрожат от холода на промороженной почве тундры, и тщетно их корни скребутся в землю, чтобы найти в ней хоть какое-то пропитание. — Я не ослышался? Этим хилым деревьям действительно двести — триста лет? — спросил Жак. — А может быть, и больше. Посмотрите, ствол у них полностью сформирован, но настоящих ветвей практически нет, одни лишь колючие веточки с немногочисленными, уродливой конфигурации почками. Такое впечатление, будто вот уже лет двадцать, как погиб весь этот лесок, но распускающиеся каждую весну почки напоминают нам о том, что растения еще живы. Впрочем, в двадцати пяти лье к северу отсюда мы увидим деревья, по сравнению с которыми эти покажутся просто гигантами. Высотой не более полутора метров, хотя по возрасту такие же, они уж совсем, казалось бы, не имеют ничего общего с деревьями: ствол — словно корешок, ветки — как у засохшего кустарника. И все-таки, пробуждающиеся весной от зимней спячки, эти горемычные представители флоры доказывают, что какое-то питание они все-таки получают из почвенного покрова Богом проклятой тундры. — Вы второй раз произносите слово «тундра». Объясните, пожалуйста, что оно означает. — Охотно. Впрочем, я сам удивлен, что мы уже находимся на этой мертвой земле, лежащей, по моим представлениям, значительно севернее. Если бы я не доверял всецело Шолему, то подумал бы, что он сбился с пути. Вам, наверное, известно, что вдоль побережья Северного Ледовитого океана тянется полоса совершенно неплодородной земли, где только трава, мох и лишайник, деревья же не растут. Картографы называют эту область безлесной. На юге она кончается там, где появляются первые рахитичные лиственницы. Однако граница между тундрой и лесной зоной пролегает не строго с запада на восток, как можно было бы предположить, а имеет очень причудливые очертания. Так, например, бассейн реки Обь она пересекает по Полярному кругу, то есть примерно по шестьдесят шестому градусу северной широты, долину Енисея — уже по семидесятому градусу, затем поднимается еще на триста километров к северу, чуть ли не до полуострова Таймыр, после чего, несколько восточнее, вновь спускается к Полярному кругу и обходит с юга мыс Беринга. — Ну и что представляет она из себя, эта тундра? — Злосчастный край у Северного Ледовитого океана, непригодный для произрастания даже столь неприхотливых лиственниц. Тундра своими бескрайними просторами напоминает степь, но если последняя страдает от недостатка влаги, то тундра — от морозов. И едва ли мы ошибемся, если назовем ее ледяной пустыней, пожалуй, более зловещей, чем сам Северный Ледовитый океан. Здесь, в зоне вечной мерзлоты, где солнце прогревает лишь тонкий, поверхностный слой земли, сразу же превращающийся в топкую, непролазную грязь, из растений практически встречается только ягель, или олений мох. Тундра — это покрытые льдом бескрайние пространства зимой и гигантское болото летом, — в общем, бесплодная, неприветливая земля. Даже не привыкшие к комфорту местные жители побаиваются ее. Но, повторяю, мне казалось, что она должна была бы все же находиться несколько севернее от нас. — Милый Алексей, я с огромным удовольствием прослушал сей краткий курс практической географии, — произнес восторженно Жюльен. — Вы — кладезь знаний! — Рано меня хвалить. Ведь неизвестно еще, смогу ли я раздобыть дров, чтобы приготовить пищу и не замерзнуть ночью. К тому же и корма для собак — всего на два раза. Причем последнее — куда серьезнее. Мы-то в крайнем случае обойдемся и без костра, самовар же вскипятим на спирту: его у нас пока достаточно. Но вот собаки… Оленей здесь легче прокормить: расчистил снег, и вот он — ягель! — но подстрелить какую-нибудь дичь для собак тут совершенно негде. Ну а стоит нам только потерять своих верных помощников, и единственное, что нам останется, — это добираться пешком до первого стойбища чукчей или юкагиров[128], что, прямо скажем, маловероятно. К тому же есаул, наверное, уже пустил за нами погоню. Замерзнуть в пути или попасть к преследователям в руки — обе эти возможности не из приятных. — Ничего, понадеемся на счастливый случай — и вперед! — воскликнул преисполненный оптимизма Жюльен. Хорошее настроение и уверенность в своих силах, не покидавшие отважного француза, имеют в этих суровых краях не меньшее значение, чем физическая подготовка или снаряжение: известны случаи, когда депрессия оказывала на человека значительно более губительное воздействие, чем материальные лишения. Друзья были твердо убеждены, что их путешествие по Азии закончится благополучно. И действительно, создавалось впечатление, будто сама судьба благоприятствует им. Сани резво бежали мимо деревьев, становившихся все более хилыми и отстоявших друг от друга на все большем расстоянии по мере продвижения беглецов к Беринговому проливу, как вдруг Шолем затормозил, да так резко, что Алексей едва удержался в нартах. — Что такое? — спросил молодой человек. Проводник, нахмурив брови, всматривался широко открытыми глазами в заснеженное пространство, расцвеченное слегка неровными красноватыми бликами от арктического солнца. — Хозяин… волки! Жак и Жюльен подогнали свои нарты к головным. — Волки, — сообщил им Алексей, — но я их не вижу. — Я слышу их, — пояснил Шолем. — И что они поделывают? — Гонят оленя или лося. Алексей перевел друзьям, что сказал Шолем, и заключил: — Неплохо было бы отбить у волков их добычу. — Смотри, хозяин, они вон там… — снова заговорил проводник. Появившиеся на горизонте темные пятна стремительно перемещались вслед за черной точкой. Поистине только человек, обладающий зрением и слухом якута, мог бы расчленить это непонятное скопище каких-то теней на преследователей и преследуемого и еще услышать при этом дикое рычание голодных зверей. Путешественники с проводником схватили ружья. Растянувшийся на сто метров санный поезд превратился в засаду, на которую неминуемо должны были выйти хищники с дичью. Черная точка быстро увеличивалась в размерах, пока наконец не приняла облик гигантского лося с ветвистыми рогами. Метрах в шестидесяти от него по направлению к карликовым лиственницам, возле которых застыли в боевой готовности стрелки, неслась сотня сибирских волков. Собаки, чуя волков и слыша их резкое, горловое потявкивание, дрожа от страха, взъерошив шерсть и опустив хвосты, молча жались к нартам. Не подозревая о новой опасности, сохатый, спасаясь от преследователей, быстро нагонявших его с злобным рычанием, мчался прямо на нарты, где находились Жак и Жюльен. Когда от них до лося осталось сто метров, Жюльен приложил ружье к плечу. Как только животное приблизилось к саням метров на сорок, он, придерживая оружие левой рукой, упрятанной в меховую варежку, стряхнул быстрым движением точно такую же рукавицу с правой руки и нажал на спусковой крючок. Пуля с сухим треском вонзилась в голову сохатого точно между глаз, и он, наклонив рога, рухнул с пробитым черепом шагах в двадцати от стрелка. — Браво! — закричал Жак, восхищенный метким выстрелом. — Триста килограммов мяса не повредят нашим собачкам! Жюльен, не обращая внимания на восторженные вопли друга, отчаянно тряс правой рукой, дышал на пальцы и громко ругался. — Что случилось? — спросил Жак. — Да кожа моя осталась на курке! Ведь металл на морозе жжет, как раскаленное железо. — Ожог от мороза? Не правда ли, весьма любопытно! — Черт тебя побери, тебе бы так! Да и я хорош! Забыть про волков, которые вот-вот отберут пищу у наших собак! — Теперь моя очередь стрелять! — Только поосторожней, чтобы не оставить кожу на спусковом крючке. Как это ни глупо, но я упустил из виду, что металл, касаясь органических тканей на сильном морозе, моментально забирает у них тепло и одновременно как бы обжигает их. — И что же мне делать? — Обмотать руку тряпкой или концом башлыка, да побыстрее: у волков отличный аппетит! — Они совсем не похожи на добродушных своих сородичей из Западной Сибири. Одни челюсти чего стоят! Хищники, скорее удивленные, чем напуганные выстрелом, расселись в снегу полукругом в двадцати пяти — тридцати метрах от еще бившегося в предсмертной агонии лося и, задрав кверху морды, зловеще завыли. Затем, подбадриваемые бездействием людей и подгоняемые запахом крови, внезапно умолкли, и самые смелые или самые голодные из них, поджав хвосты и пружиня на задних лапах, двинулись осторожно вперед, готовые в случае опасности отскочить назад. Жак по совету Жюльена обмотал руку куском ткани, оторванной от башлыка. Жюльен, превозмогая боль, проделал то же самое и, как и его друг, прицелился в грозную свору. Раздались два выстрела, и два волка рухнули, обагрив кровью снег. Затем еще два выстрела и еще два волка упали. А потом еще и еще… Убитых хищников становилось все больше, но остававшиеся в живых и не думали отступать. Алексей и проводник, зная, сколь упрямы эти четвероногие, с волнением наблюдали за французами, не будучи вполне уверены в благополучном исходе жестокой схватки с голодной стаей. Но кинуться на подмогу к Жюльену и Жаку они не могли: насмерть перепуганные собаки отказывались сдвинуться с места, пойти же туда без нарт было довольно рискованно — и сани с собаками лишались защиты, и они сами легко могли бы стать добычей волков. Автоматические карабины, подаренные губернатором Иркутска, прекрасно делали свое дело. Жюльен и Жак, опьяненные запахом пороха, стреляли не останавливаясь. Ружья дымились. Полегла уже половина стаи, не менее сорока волков[129]. Уцелевшие звери, встревоженные ураганным огнем, начали пятиться назад, однако совсем оставить лакомую добычу никак не решались. Стрелки уже в четвертый раз вставляли в карабины обойму. Волки, воспользовавшись передышкой, набросились, скрежеща челюстями… Вы думаете, на лося? О нем они уже и думать забыли! Опровергая пословицу «Ворон ворону глаз не выклюнет», хищники принялись терзать с ожесточением мертвых и раненых сородичей своих, рвали их зубами и, не обращая внимания на людей, которые с удивлением взирали на мерзостную картину, жадно заглатывали огромные куски. Через несколько минут голод был утолен. Покидая место кровавого пиршества, звери, заботясь о дне завтрашнем, упорно, словно муравьи, волочили за собой наполовину обглоданные туши. Путешественники снова были спасены! Лось оказался на сто килограммов тяжелее, чем думал Жак. Когда сняли шкуру и освободили мясо от костей, то выяснилось, что еды для сорока собак, если каждой давать по полтора килограмма в день, хватит на пять суток.
ГЛАВА 17
Арктический город. — Ярмарка в Заполярье. — Русские и чукчи. — Предпраздничное оживление. — Чукчи-торговцы. — Таинственный незнакомец. — Огненная вода. — Обильное возлияние. — Закрытие ярмарки. — Конный отряд. — Ценитель спиртного. — Сквозь тундру. — Стойбище чукчей. — Северное сияние. — Новая встреча с томским исправником.Расположенный в устье реки Колымы, Нижнеколымск — административный центр самого крупного в губернии уезда если и не по числу жителей, то, во всяком случае, по занимаемой им территории, является русским аванпостом[130] на северо-востоке Сибири. Несмотря на свое значение, возросшее с организацией здесь поселения ссыльных, он представляет из себя всего-навсего убогий населенный пункт с чумами и ветхими домами, в которых теснятся полторы тысячи ссыльнокаторжных и триста или четыреста казаков, служащих в вооруженных силах России. Из этого злосчастного арктического города, столь же отличающегося от Якутска, как Якутск от Петербурга, и девять месяцев в году погребенного под снегом, отправляются во все концы, вплоть до Берингова пролива и Анадырской бухты, казаки, которым предписано собирать налоги с чукчей, юкагиров и коряков. Как ни бедны эти несчастные, которым жестокая природа с такой скаредностью отпускает средства к существованию, они обязаны ежегодно платить «белому царю, сыну солнца», подушную подать в размере восьми-девяти франков в год, чаще всего шкурками. Цифра как будто бы скромная, но она достаточно велика для тех, кто кормится только мороженой рыбой и олениной и по-настоящему голодает, когда весной уходит рыба, а осенью — стада диких оленей. И неудивительно, что они всячески стараются увернуться от выплаты тяжелого для них налога, и, для того чтобы взыскать его, казакам приходится немало потрудиться. И хотя закон и порядок одерживают в конце концов верх, но какой ценой! Павшие лошади, замерзшие в пути люди. Намного ли сумма подати превосходит расходы на сбор налогов? Однако об этом никто не думает: важен сам принцип. И кто бы мог поверить, что в злосчастном, заброшенном краю, где стонут от отчаяния влачащие жалкое существование ссыльные или каторжане, в течение нескольких дней в году царит праздничное ликование? А между тем это именно так. В первую неделю февраля в остроге Островном, что в двухстах пятидесяти километрах от Нижнеколымска, на одном из островов реки Анюй, открывается пользующаяся доброй славой богатая ярмарка, на которую съезжаются русские купцы и чукчи со всей Восточной Сибири и даже с Аляски, лежащей по ту сторону Берингова пролива и еще сравнительно недавно входившей в состав Русской Америки. Само Островное, где проходит ярмарка, известная как Нижнеколымская, — небольшое селение. На одной из окраин его высится разрушенная часовня. Два-три десятка чумов теснятся вокруг острога — нескольких административных строений, обнесенных забором с одними воротами и смотровой башней над ними. Здесь живет исправник, в обязанности коего входит неукоснительное поддержание порядка, борьба с любыми правонарушениями и защита интересов купцов из Якутска в их торговле с кочевыми племенами. Кочевники покорно выполняют любые решения этой важной по местным масштабам персоны, хотя в распоряжении исправника — всего лишь тридцать казаков, вызываемых им по случаю ярмарки из Нижнеколымска. В описываемый нами день в поселке Островном чувствовалось предпраздничное оживление, что и понятно: завтра, шестого февраля 1879 года, должно было состояться открытие ежегодной ярмарки. Русские купцы прибыли сюда с запада на санях, до отказа нагруженных товарами для обмена. В одни возки у них были впряжены олени, в другие — лошади, поскольку между Якутском и Нижнеколымском насчитывается довольно много почтовых станций, где можно сменить лошадей. Чукчи же проделали свой путь с северо-востока, из тундры и с гор, на оленьих или собачьих нартах. Удивительно, сколь далеко и как долго приходится ехать начинающим купцам из чукчей — единственных торговых посредников между русскими и народами, населяющими северную часть Америки. Когда вскрываются реки и моря, эти отважные люди, забросившие ради довольно прибыльных коммерческих операций изнурительное занятие охотой с ее непредсказуемым результатом, плывут на байдарах[131] из оленьих или моржовых шкур с Восточного мыса через Берингов пролив, доставляя на Американский континент закупленные у русских железные и стеклянные изделия и табак и получая в обмен шкурки черно-бурой и рыжей лисицы, песца, куницы, выдры, бобра, волка, росомахи, а также добытые эскимосами клыки моржей. Возвратившись на родину, они добавляют к привезенным из Америки товарам китовые ребра, идущие на изготовление саней, сумочки из моржовой кожи и изумительной красоты одежду из оленьих шкур и вместе с женами, детьми, оленьими стадами и собаками, не забыв прихватить с собой в сложенном виде чумы, отправляются наконец в Островное. Чтобы обезопасить себя от голода, необходимо проявлять постоянную заботу об оленях, которых у чукчей не так уж мало, и поэтому кочевники выбирают такие пути, где встречается много ягеля, и, прежде чем решиться пересечь бесплодные пространства, нагружают на сани достаточное количество корма для этих животных. Поскольку едут они в Островное не по прямой, дорога отнимает у них довольно много времени, что, впрочем, их ничуть не смущает. После ярмарки они совершают тот же путь, но уже в обратном направлении, а на следующий год вновь возвращаются на великое торжище. Эта подвижная кочевая жизнь как будто плохо согласуется с местным климатом, но для чукчей она привлекательна. Кочевники так любят движение, что, и раскинув лагерь, они ежедневно в разных направлениях бороздят ледяную степь, азартно охотясь и поддерживая себя в активной форме. Но вернемся все же к ярмарке 1879 года, приготовления к которой уже закончились. Поскольку в Островном на всех жилья не хватило, русские купцы — не менее сотни — разбили шатры из оленьих шкур или же устроились в своих кибитках. Чукчи же — по крайней мере человек пятьсот — расположились в стороне от них целым стойбищем. Эти ярмарочные становища являют собой весьма живописное зрелище и с тех пор, как их описывал Матюшкин, один из сподвижников адмирала Врангеля, не претерпели никаких изменений. Особенно сильное впечатление стоянка чукчей производит ночью, когда мрак опускается на чумы, с которых наспех счистили снег, и взору предстает множество людей, собравшихся вдруг вместе на жалком клочке неприветливой земли, где встретить даже одного человека — событие незаурядное. Над традиционными жилищами кочевых народов поднимаются розоватые клубы дыма, уходящего к темно-синему небу, на котором мигают звезды. Гигантские костры ярко освещают не только самих чукчей, но и сидящих в санях русских купцов, закутанных в шубы. На горизонте капризно всплескивают красно-зеленые всполохи северного сияния и ниспадают на землю волшебным дождем из рубинов и изумрудов. И все это — на богатом звуковом фоне. Издали доносятся удары — то звонкие, то приглушенные, то быстрые, то замедленные: то бьют в бубен чукчи-шаманы. А рядом льется монотонная жалобная песня, ласкающая слух после резких перепадов древнейшего музыкального инструмента. Это сибиряк затянул меланхолическую, грустную песню, столь естественную для тех, кто живет под серым свинцовым небом и день за днем видит вокруг себя лишь безлюдную заснеженную пустыню. Не обращая внимания на мороз, который в это время года доходит до тридцати градусов ниже нуля, перекликаются сотни собак. Что же непосредственно касается нашей ярмарки, то, как толькозанялся день, русские купцы и кочевники собрались у исправника в остроге и, заслушав правила ведения торговли, приступили к обсуждению вопроса о ценах на товары. После долгих пересудов было принято решение шестнадцать шкурок лисы и двадцать шкурок куницы приравнивать по стоимости к двум пудам[132] табака. Исходя из этого, определили тарифы и на все остальные товары. Не откладывая дела в долгий ящик, купцы тут же уплатили торгово-промышленный сбор, вполне умеренный, поп начал службу, над острогом взвился флаг. Затем купцы отправились каждый к своему месту, где громоздились в неописуемом беспорядке самые различные товары. И одновременно на торговую площадь вступили скученной группой чукчи — с копьями, луками и ружьями, которые, в общем-то, как правило, не стреляют, — и широким полукругом расположили там свои сани с товаром. Покупатели, толпившиеся в ожидании удара колокола, возвещающего о начале торгов, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а то и приплясывали на морозе. Примерно в это же время в многоликом, пестром людском скопище появилась некая преважная, судя по енотовой шубе, особа, внимательно присматривавшаяся к русским купцам. Ясно, что незнакомец не имел никакого отношения к торговой братии, ибо не было при нем ни саней, ни товара. Так кто же он в таком случае? Инспектор? Или еще какой-то чиновник? Но ответить на этот вопрос не смог бы никто: из-под длинной шубы форма не видна. Купцы, подивившись невесть откуда взявшемуся странному субъекту, не являвшемуся, как они сразу поняли, их конкурентом, встретили его градом шуток не особо изысканного вкуса. Но тот не обратил на шрапнель сомнительных острот никакого внимания и тем самым подтвердил догадку торговой публики, что он не из начальства, поскольку чиновники в России держатся весьма высокомерно. Впрочем, у купцов и так было достаточно забот, чтобы еще ломать голову над тем, откуда и кто таинственный посетитель ярмарки. Раздался чистый, переливчатый звон. Это заговорил колокол. И тотчас столь же громко прозвучало мощное «ура». Толпа, состоявшая из покупателей и просто зевак и включавшая в себя мужчин и женщин, взрослых и детей, — сибиряки обычно приезжают сюда семьями, — устремилась, как бурный поток, к расположенным полукругом нартам, где поджидали своих клиентов чукчи, и к торговым рядам, оборудованным русскими купцами, представлявшими собою прелюбопытное зрелище: прикрепив к широким кушакам топоры, ножи, курительные трубки и пакеты табака, они держали над головой медные самовары и алюминиевые котлы и, зазывая покупателей, оглашали воздух громкими криками. Многие из них, не желая стоять терпеливо на месте, перебегали под перезвон медной посуды от одних саней к другим, настойчиво предлагая свой товар и превращая ярмарку в некий передвижной базар. Многоголосый людской водоворот закружил незнакомца и поволок от саней к саням. И только вырвавшись из круговерти, он смог приступить к делу. Подходя поочередно то к одному чукче, то к другому, он тихо вопрошал их о чем-то, те же, стоя с бесстрастным, словно у выбитых в крепком льду барельефов, выражением лица, не удостаивали его вниманием. «Чего он хочет от нас? — как бы говорили кочевники арктических пустынь своим молчанием. — У него нет ни металлических инструментов, ни стеклянных бус. Слушать его — только время терять». Наконец таинственный посетитель ярмарки нашел магическую формулу. Наклонившись к одному из вождей племени, он произнес шепотом слова, явно заинтересовавшие того: — Я дам тебе огненной воды. — На самом деле? — Да, приходи сегодня вечером в острог. — Ладно, я принесу хорошие росомашьи и лисьи шкуры. — Не надо, мне не нужны меха. Просто приходи, и ты получишь огненной воды и для себя, и для твоих домочадцев. Хотя торговать водкой на ярмарке запрещено, в толпе сновали по-тихому и покупатели этого алкогольного напитка, и продавцы. Стоит же местному жителю выпить лишь стакан этой жидкости, которую чукчи называют образно «огненной водой», как он уже не может без нее обойтись и готов отдать за два литра водки, купленной в Якутске за несколько рублей, лисью шкуру, стоящую во сто крат больше. Договорившись о встрече, незнакомец попытался пробиться сквозь толпу, теснившуюся плотной стеной возле саней, но ничего не вышло, и он остался стоять, где стоял, наблюдая за яростной торговлей в ожидании, когда появится какой-нибудь просвет. Определив торговлю как яростную, мы не допустили ни малейшего преувеличения. Нередко можно было наблюдать, как купец, стараясь обогнать других, чтобы первым занять бойкое место, падал в снег, но шедших сзади не останавливало сие, и они, топча его ногами, продолжали устремленно бежать вперед. Несчастный же, уже без варежек и без шапки и к тому же в изодранной шубе, — и это при тридцатиградусном морозе! — встав на ноги, не отступал и как ни в чем не бывало резво пускался вослед своим конкурентам в надежде наверстать упущенное время, ибо здесь, как и в Америке, «время — деньги!». Однако поведение чукчей, величественно-спокойных, резко контрастировало с беспорядочной суетностью русских. Неподвижные, молчаливые, они, опершись на гарпуны, равнодушно взирали на столпотворение возле их нарт и только кивком головы сообщали о своем согласии или несогласии на обмен. Убедившись, что пробраться через мощный людской поток с энергично перемещавшимися туда-сюда покупателями и розничными торговцами невозможно, незнакомец обратился к чукче, которому только что посулил огненную воду, с просьбой пропустить его между двух саней, нагруженных шкурами. Оказавшись через две минуты вне толчеи, он бодро зашагал в сторону острога. Ну а там, попивая по-домашнему чай из большой кружки в одной из комнат, сей странный субъект удовлетворенно потирал руки, как человек, не потерявший времени даром. С наступлением ночи количество сделок несколько сократилось, но и только: ярмарка продолжала шуметь. Чукча, соблазненный водкой, постарался не опоздать на свидание со своим искусителем. Решительно войдя в ворота острога, он буквально наткнулся на незнакомца, который, несмотря на лютый мороз, уже минут пятнадцать поджидал своего гостя. Таинственная беседа продолжалась довольно долго, не меньше часа. Впрочем, говорил, похоже, в основном незнакомец, чукча же больше слушал. Во всяком случае, направляясь потом из острога к своему чуму, представитель коренного населения выписывал такие кренделя, что ясно было: предательской жидкости изведал он вволю. Что же касается загадочной личности, то по какой-то не известной никому причине — то ли любопытство ее было удовлетворено, то ли из-за боязни вновь оказаться в безумствующей толпе — она с тех пор сидела в своем остроге и носа наружу не казала. Поскольку на ярмарке странный человек был совсем недолго, его никто не запомнил: всем хватало других забот! Да и чукча, похоже, позабыв о неожиданном угощении, последующие восемь дней заботился только о том, чтобы повыгоднее реализовать свой товар. Торжищем все были довольны. Содержимое нарт перекочевало в сани, и наоборот. До закрытия ярмарки оставалось несколько часов. Купцы, торопясь добраться до своих торговых домов, чтобы поскорее отправить меха в Европу, уже готовились к отъезду на запад. Жители ледяной пустыни невозмутимо ожидали сигнала к окончанию ярмарки, чтобы также пуститься в путь. Наконец флаг медленно пополз вниз, ударил колокол. И тотчас, словно он давно уже ожидал этого сигнала, незнакомец, одетый, как и в первый день, в енотовую шубу, быстро вышел во двор острога. Отряд из двенадцати до зубов вооруженных казаков восседал на низкорослых лошадках, которые, несмотря на мороз, весело били копытом землю и, покусывая друг друга, радостно ржали. Довольный осмотром группы, странный субъект взобрался на коня, которого держал под уздцы один из солдат, и, привстав на стременах, коротко бросил: — Вперед! Казаки выехали из ворот попарно. За ними проследовали двое саней, груженных скорее всего провизией. В каждой упряжке было по три оленя. Вместо того чтобы направиться в Нижнеколымск, откуда прибыли казаки для поддержания порядка в ярмарочные дни, конный отряд резко свернул налево и двинулся вдоль реки Анюй прямо на восток. Пустив лошадей рысцой, всадники вскоре догнали нарты, где сидел чукча, любитель огненной воды. При виде щедрого хозяина, с которым он познакомился на прошлой неделе, глаза коренного жителя зажглись от удовольствия. — Кетам акамимиль![133] — попросил он безо всяких околичностей на своем гортанном языке. — Как? Ина мигутши?[134] — Этчигни![135] — Подумай, кайта кхолгин[136], ты неразумно себя ведешь, — ответил незнакомец, видно, неплохо знавший язык чукчей. — Подожди, пока мы выедем на тракт. Но чукча, упрямый, как все представители диких племен, да еще испытывавший мучительную жажду, не думал отступать. Пришлось откупорить бутылку водки. Выпивоха жадно припал к ней, к крайнему неудовольствию казаков, обиженных тем, что их обошли вниманием. — Теперь послушай меня. Я дам тебе клик-кин[137] бутылок огненной воды, но только после того, как ты приведешь нас куда положено. А в пути ты будешь получать ее утром и вечером, но не чаще. Договорились? — Э-э, тейнег арким[138]. — Ну а вы, — обратился незнакомец к казакам, — условия знаете. Двойная порция еды и водки, двойная плата, чай и табак — сколько душе угодно и плюс вознаграждение по возвращении. Впереди — более четырехсот верст. Мы обязаны пройти их за четыре дня. Этот зловещий человек с резким голосом отдавал команды столь уверенным тоном, что никто не осмелился бы ему возразить. И он знал также, чем заинтересовать своих подчиненных в успехе предприятия. Водка, чай, табак да еще перспектива получить деньги — за такое солдаты согласились бы пересечь всю Сибирь, не слезая с коней. С достойной восхищения скоростью преодолевали они один отрезок пути за другим, хотя мысль о том, чтобы скитаться по суровому краю в такое время года, показалась бы безумной всем, кроме этих закаленных воинов. Незнакомец подавал казакам личный пример стойкости и отваги. Словно не чувствуя ледяного ветра тундры, он следовал непосредственно за нартами чукчи, заботился о людях и лошадях, внимательно присматривался к неровностям почвы, следил, чтобы продукты питания распределялись между всеми участниками экспедиции поровну. Иначе говоря, был душой этой маленькой команды, внушая к себе уважение и дисциплинируя солдат. Отряд быстро добрался до истоков Анюя, где горный хребет, распадаясь чуть севернее Полярного круга на два отрога, сворачивает к Анадырскому заливу. К концу вторых суток всадники пересекли реку Бараниха и, разбив лагерь под скалой, развели, как и в предыдущую ночь, костер из топляка — затонувших при сплаве леса бревен, выброшенных затем на берег водоема и представляющих собой единственно доступный в тундре вид топлива. На третий день казаки увидели реку Чаун, на восточном берегу которой и устроили привал. На четвертый день, примерно в десять ночи, когда позади осталось еще пятнадцать километров, проводник прокричал хрипло: — Останавливаемся! Впереди селение! При слабом свете звезд есаул — а незнакомец был именно им — разглядел снежные конусовидные холмы, отстоявшие, словно гигантские снопы, на некотором расстоянии один от другого. Это и были, очевидно, чумы, где несчастные обитатели арктических земель пережидают нескончаемую полярную ночь. Внезапно мрак исчез, и традиционные жилища стали видны совсем ясно: произошло своеобразное природное явление, обычное в этих краях. С двух сторон — на западе и востоке — обозначились неожиданно две светящиеся колонны. Прорезав небосвод строго по вертикали, они начали затем, будто под воздействием неведомой силы, клониться друг к другу и, соединившись вершинами, образовали над линией горизонта арку, которая тут же, как бы растворившись в воздухе, превратилась в пурпурный занавес, затрепетавший над землей. В районе расположения магнитного полюса взметнулся яркий всполох, окончательно рассеявший тьму. Все, что находилось на поверхности земли, приобрело четкие очертания, в то время как звезды на небе, напротив, поблекли и, словно погружаясь в кроваво-красное зарево, стали исчезать одна за другой. Спустя мгновение на тундру обрушились сверху многоцветным, переливавшимся всеми цветами радуги каскадом подвижные, как при фейерверке, огоньки, сиявшие, подобно драгоценным камням при электрическом освещении. Казалось, что над всей планетой бушевало яростное пламя, достававшее языками своими до зенита[139] и низвергавшееся оттуда искрящимся дождем. Казаки во главе со своим начальником, будучи людьми практичными, отнеслись к несравненной красоте этого феномена совершенно равнодушно: северное сияние имело для них смысл лишь в той мере, в какой позволяло рассмотреть получше все окрест. Прямо напротив отряда возвышался огромный, наполовину заваленный снегом чум. Из отверстия в самом верху его валил густой дым с тошнотворным запахом подгоревшего масла. Узкая полоска оленьей шкуры, заменявшая дверь, была наполовину откинута. Смутно различавшиеся в проеме две головы в толстых капюшонах при виде служилых отпрянули внутрь, и тотчас же кожаный полог плотно прикрыл вход в жилье. — Тысяча проклятий! Казаки — и с ними бывший исправник из Томска! — произнес кто-то в чуме взволнованным и вместе с тем сдержанно-тихим голосом, так что снаружи услышать говорившего было нельзя.
ГЛАВА 18
Первая встреча Алексея Богданова с томским исправником. — Задержка в пути. — Болезнь Алексея. — У чукчей. — Внутреннее устройство арктического жилища. — Воспоминание о ночи в арестантском бараке. — В жаре и смраде. — Погоня. — Несгибаемая воля северных народов. — Борьба чукчей за независимость. — Бесценная свобода. — Поражение русских. — Блага цивилизации в глазах соседей полярного медведя. — План Шолема.Постараемся, не впадая в многословные рассуждения, рассказать читателю по возможности покороче о том, как Алексей Богданов сбежал из томской тюрьмы едва ли не за день до отправки его в рудники города Нерчинска в Забайкалье и добрался до Иркутска. Подготовка к побегу длилась довольно долго, с того времени, когда он находился еще в Москве. Преданные друзья, убежденные в его невиновности, раздобыли для него фальшивый паспорт на имя купца Федора Ловатина, хотя, учитывая суровые нравы русской полиции, и шли при этом на огромный риск. В европейской части России и в Западной Сибири за этапниками следят очень строго, так что побег там практически невозможен, но во второй половине пути контроль за ссыльнокаторжными постепенно ослабевает: тяжелые климатические условия и необъятные пространства удерживают несчастных в составе арестантских партий надежнее любых охранников. На это Алексей и рассчитывал. Ловко припрятав в подкладке одежды паспорт и деньги, он терпеливо ждал, когда окажется в Восточной Сибири, чтобы осуществить свой дерзкий замысел. По прибытии колонны в Томск Алексея вызвали к возглавлявшему местную полицию исправнику, испытывавшему острую нужду в писаре, и поручили ему поработать в этом качестве в канцелярии до тех пор, пока его партию не поведут в Забайкалье. Алексей сразу же решил воспользоваться представившимся ему счастливым случаем, чтобы бежать, пока его не заключили в один из страшных нерчинских рудников. В свои планы он посвятил проживавшего в городе ссыльного поляка, человека надежного, умевшего хранить тайну. Работая в канцелярии, Алексей познакомился со своим сверстником, Николаем Битжинским, в недавнем прошлом студентом, который так же, как и он, страстно мечтал о свободе. Товарищ по несчастью, узнав о намерении Алексея бежать, тотчас же выразил желание присоединиться к нему. И вот однажды, вместо того чтобы вернуться на вечернюю перекличку в тюрьму, они пробрались тайком в дом отважившегося помочь им поляка. Алексей немедленно сбрил огромную бородищу и, неузнаваемо изменившись, смело отправился на почтовую станцию, где нанял по предъявлении паспорта тройку с санями, стремительно понесшими его в Иркутск. Федор Ловатин, торговец мехами, коим стал теперь Алексей Богданов, рассчитывал добраться до самой восточной точки Сибири и оттуда переправиться в Америку. Николай же остался у поляка — по крайней мере на две недели, в течение которых Алексей должен был оказаться вне пределов досягаемости властей предержащих. Храбрый юноша решил после долгих раздумий устроиться на почтовую линию ямщиком, чтобы, не вызывая ничьих подозрений, добраться до Иркутска, а затем, с помощью новых друзей, до Кяхты, откуда до Маймачена — первого города по ту сторону российско-монгольской границы — рукой подать. Молодые люди ничуть не сомневались в успешном осуществлении своего плана, дерзкого и вместе с тем исключительно простого. В это-то время и появились в Томске Жак Арно и Жюльен де Клене, приметами своими отдаленно напоминавшие беглецов. Впрочем, сходство или несходство — вещи весьма относительные, не поддающиеся точному толкованию, а посему и оценивающиеся в значительной мере сугубо субъективно. Для исправника, например, не находившего места от ярости и желавшего во что бы то ни стало разыскать беглецов, оказалось достаточно и приблизительного сходства с дерзкими преступниками людей, выдававших себя за французов, чтобы пуститься по ложному следу, столь трагически отразившемуся на дальнейшей его судьбе. Без труда добравшись до Иркутска, Федор Ловатин, как уже известно читателю, встретился с французами, пришедшими в восторг от того, что их попутчиком будет человек, отлично знающий и их язык, и их страну. Ну а далее — ледовый лагерь в русле реки Хандыги, встреча с пониженным в должности исправником, бой за свою свободу, гонка по снежной пустыне, миниатюрные деревца и нападение волков. Нелегкое путешествие, изобиловавшее неожиданными приключениями, оказалось не в состоянии сломить волю друзей: они по-прежнему были здоровы, энергичны и прекрасно себя чувствовали, хотя и испытывали некоторую усталость и ощущали отсутствие комфорта. Радуясь числу преодоленных ими километров, смельчаки уже представляли себе, как вот-вот их взору откроется подернутый дымкой тумана затянутый льдом Берингов пролив, за которым они смогут наконец считать себя вне опасности. Подстреленный Жюльеном лось пришелся весьма кстати: якуты щедро кормили собак, и умные животные стойко переносили тяжелые перегрузки — длинные перегоны и быстрый темп езды. Беглецы еще раз пересекли Полярный круг и переправились через Бараниху и Чаун. Зловещая тундра кончалась. Каких-то пятьсот двадцать пять километров — и они у самой восточной точки Азии! Однако свалившаяся внезапно на них беда, по сравнению с которой все предшествовавшие невзгоды выглядели пустяком, надолго — увы! — задержала их продвижение к этому заветному месту, где сто семьдесят шестой меридиан пересекается шестьдесят седьмой северной параллелью. Алексея, чувствовавшего уже два дня легкое недомогание и потерявшего аппетит, с утра начало знобить, поднялась температура. Он весь день пытался бороться с хворью, поглощая стакан за стаканом чай с подмешанной к напитку водкой, но тщетно. После очередной ночи, проведенной в снегу, жар резко усилился, и его охватила такая слабость, что он уже не мог сидеть в санях. Серьезные симптомы — затрудненное дыхание, мучительные боли в боку — приводили друзей в отчаяние. Продолжать путешествие было нельзя, хотя мужественный юноша, готовый пожертвовать собою ради друзей, уговаривал своих спутников оставить его и продолжить дорогу одним. К счастью, вскоре им попалось большое чукотское стойбище. Что бы ни говорили и ни писали о чукчах, народ этот отличается редкостным гостеприимством. Твердо придерживаясь заветов далеких предков, жители суровой полярной зоны при всей их бедности, вошедшей в поговорку, никогда не забывают о своем долге помогать ближнему, и забредшие в сей край могут рассчитывать на их поддержку. Вот и на этот раз, заслышав лай чужих собак, навстречу нашим друзьям вышли несколько чукчей. Не выказав при виде незнакомцев ни удивления, ни страха, они засуетились возле Алексея и сказали Шолему, знавшему и язык и обычаи жителей полуострова[140] и попросившему их приютить у себя путников, что больного следует поскорее внести в дом. Тотчас, воспользовавшись приглашением, Шолем без стеснения откинул оленью шкуру, закрывавшую вход в жилище, и направился прямо во внутреннее помещение, выгороженное в центре чума. Жюльен и Жак, неся на руках своего друга, шли за ним следом. При строительстве своих обиталищ чукчи проявляют прямо-таки чудеса изобретательности, и хотя материалы, из которых сооружается традиционное жилье — сплавной лес, идущий на каркас, и китовые ребра, используемые на стропила, — предельно просты, в чуме легко переносятся самые лютые арктические холода. Эти примитивные на первый взгляд дома, покрытые тюленьими шкурами, поверх которых уложены куски дерна, невидимые зимой из-за снега, состоят из двух конусовидных помещений — одно в другом. Центральное, крепко обтянутое снаружи теплыми оленьими шкурами и отделенное от внешней стены полуметровым слоем воздуха, служит семье общей спальней. Из-за круглосуточно горящих ламп на тюленьем жиру внутри всегда жарко, как в бане, так что, даже раздевшись, простуды не схватишь. Чтобы придать строению устойчивость, на самом верху кладется на сходящиеся там стропила из китовых ребер тяжелый камень, венчающий северное жилище наподобие люстр в наших комнатах. Внизу, на толстую подстилку из мха и веток, кидаются моржовые шкуры, спать на которых одно удовольствие. И если бы не удушливая жара — от светильников и скученности людей — и не пронизывающий буквально все запах протухшей рыбы, чум можно было бы смело назвать верхом совершенства. Впрочем, справедливости ради заметим, что мы упустили одну важную деталь, без которой представленная выше картина не отличается полнотой: несчастные чукчи имеют привычку там же, внутри помещения, справлять свои естественные нужды[141]. И поэтому неудивительно, что стоило только Жаку с Жюльеном переступить порог гостеприимной, но зловонной хибары, как к горлу их моментально подступила тошнота, вызвавшая в памяти ужасную ночь в арестантском бараке. С трудом сдерживая рвотные позывы, французы осторожно положили своего друга на постель из мягких, теплых шкур, приготовленную заботливыми хозяевами. Бывают случаи, когда пословица «Нет худа без добра» себя оправдывает. Стоявшая, как в парилке, жара, нестерпимая для здоровых людей, только что наслаждавшихся свежим воздухом, оказала благотворное воздействие на организм Алексея. Здесь, в надежном укрытии от ледяного дыхания снежной пустыни, тепло расслабляло, и, так как кашель, разрывавший грудь, прекратился, больной уснул. Не веря такому счастью, французы, немного успокоившись и быстро разобравшись в строении чума, попросили у хозяев разрешения расположиться во внешнем «отсеке», отделявшем центральное помещение от наружной стены, что позволило бы им избавиться от духоты. Чукчи, не усмотрев в этой просьбе ничего, кроме скромности, были чрезвычайно признательны за это гостям. Вездесущий Шолем не теряя времени зажег лампу, устроил постель и разложил съестные припасы. Обитатели дома при всей их внешней невозмутимости были заинтригованы появлением незнакомцев. Один за другим выходили они из центрального помещения — спальни и, устраиваясь поближе, устремляли на странников внимательный взгляд бесхитростных и добрых глаз. Первыми появились мужчины: насытившись мороженой тюлениной, они, опираясь спинами о внутреннюю перегородку, стояли теперь с дымившимися трубками во рту. Вслед за ними выскочили полуголые дети. Женщины, более стеснительные, занимались между тем хозяйством: чинили сети из полос моржовой кожи, разминали оленьи шкуры, подливали жир в примитивные светильники — выдолбленные в камне углубления, соскребали с китовых ребер остатки мяса и что-то шили. Беседа между чукчами и их гостями-французами шла с помощью жестов, подчас неверно толкуемых: к сожалению, занятый делами Шолем не мог выполнять обязанности переводчика, Алексей же отдался целительному сну. И все-таки общение было сердечным. Уходя спать, чукчи тепло попрощались за руку с новыми знакомыми. На следующее утро больному, вспотевшему ночью так, будто он побывал в парной бане, явно полегчало, и, хотя Алексей ощущал еще крайнюю слабость, удушье уже прошло и боль в боку притихла. — Меня беспокоит не столько мое состояние, милые мои, сколько страх, — говорил он тихим голосом друзьям-французам, присевшим возле него. — С воспалением легких я справлюсь… — Вы простудились, когда ныряли за нами в ледяную воду Хандыги, — заметил прочувствованно Жюльен. — Прошу вас, не преувеличивайте ни серьезности моего заболевания, ни ту помощь, которую смог я вам оказать. — Вы так добры! Но мы все-таки имеем слабость держаться за наши жизни, ибо других взамен нам не найти, и поэтому помощь ваша была для нас бесценной. — Я о другом… Вы не должны считать себя чем-то мне обязанными и ждать тут моего выздоровления. Вам надо как можно скорее добраться до пролива. И я умоляю вас: идите! Возле меня останется Шолем, и, если обстоятельства сложатся благоприятно, я, возможно, еще догоню вас. — Ну так вот, запомните раз и навсегда: даже если нам придется провести здесь всю зиму, даже если в погоню за нами пустятся исправники со всей Сибири и во главе с войсками, собранными в обеих — европейской и азиатской — частях России, и если даже нам будет грозить отправка в рудники, где добывают ртуть или окись меди, мы все равно останемся с вами! И вы только огорчите нас, настаивая на своем: мы решим, что вы о нас дурно думаете и считаете в душе, что мы — трусы, способные предать своего друга. — Спасибо, дорогие мои! — растроганно прошептал Алексей. — Вы отлично знаете, что слова мои продиктованы исключительно заботой о вас. Мне так хочется, чтобы вы обрели свободу! Ради этого я даже готов расстаться с вами! — Мы никуда отсюда не уйдем, — ответил Жюльен, — и не надо больше об этом. Правильно, Жак? — Ваши аргументы, дорогой мой Алексей, как и упражнения в диалектике, лишены какого бы то ни было смысла и не выдерживают критики, а посему их не стоит и обсуждать. Мы остаемся с вами, что бы ни случилось, — решительно заявил тот. — В таком случае буду лишь уповать на судьбу, чтобы верность нашей дружбе не погубила вас. Такое пожелание было весьма кстати, потому что дурные предчувствия, терзавшие Алексея, скоро начали сбываться. Есаул и четверо казаков, которых после позорной для них молниеносной схватки оставили связанными в чуме, были спустя несколько часов освобождены своими товарищами и вернулись в острог. Бывший исправник, не угомонившись, снарядил в погоню за беглецами целую экспедицию: северяне — народ мстительный! Не сообразив, что беглецы могли, свернув с тракта, ехать чистым полем, есаул предполагал, что они, значительно опередив преследователей, будут спокойно, не опасаясь никого, останавливаться на почтовых станциях по пути к Нижнеколымску: поскольку их противник не обладал техническими возможностями связаться быстро с властями этого города, путешественникам нечего было бояться, что их схватят. Прибыв на первую станцию, служилый огорчился: беглецов никто не видел. И тем не менее он продолжал гнаться за ними по почтовому тракту — и в таком бешеном темпе, что прибыл со своими солдатами в Нижнеколымск за несколько часов до открытия ярмарки. Оступившийся начальник уездной полиции решил обойти торжище, чтобы приглядеться на всякий случай к русским купцам и поспрашивать чукчей, не встречали ли они разыскиваемых им людей: было маловероятно, чтобы троим друзьям удалось проскользнуть незамеченными съехавшимися на ярмарку со всех концов кочевниками. И он не ошибся. Как известно из предыдущей главы, посулив щедрую порцию огненной воды, есаул развязал одному из торговцев язык, а тот, как оказалось, останавливался по дороге в Островное в стойбище, приютившем больного Алексея. Есаулу не терпелось немедленно отправиться туда, но чукча с привычным для его народа упрямством отказался уехать из села до окончания торгов. И тому пришлось, скрепя сердце, прождать целую неделю, находя утешение лишь в сообщении о болезни одного из беглецов: офицер был уверен, что спутники не бросят захворавшего товарища, и так как из-за сурового климата выздоровление в этих местах обычно затягивается, он надеялся, что успеет арестовать всю троицу. Как только ярмарка закрылась, бывший исправник отправился с казаками в путь. Памятуя об обещанном ему невероятно щедром вознаграждении, проводник, ехавший впереди, ревностно выполнял свои обязанности. Отряд прибыл в стойбище за какой-то миг до того, как северное сияние ярко расцветило небосвод. И вовремя: поскольку Алексей почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы двинуться в дорогу, друзья на следующее утро собирались уже выезжать. Выглянув из чума, чтобы полюбоваться сказочно прекрасным природным феноменом, Жак и Жюльен заметили впереди есаула и, сразу же узнав его, испытали своего рода потрясение. Тут же, с чисто французской горячностью, они решили напасть на своего злейшего врага, прежде чем тот отдаст приказ открыть огонь. Однако замысел этот был практически неосуществим: оружие и снаряжение вместе с мехами и провизией покоились в упакованном виде в санях, закрытых в сарае, в пятидесяти метрах от чума. Неожиданное появление солдат, ржание коней и лай собак всполошили все селение. Распахивались одна за другой заменявшие двери шкуры, кто-то испуганно высовывался наружу, потом исчезал, и убогие жилища оглашались тревожными воплями. Есаул, прекрасно зная, что ночью чукчи не пустят его в чум, умело расположил казаков, с тем чтобы местность хорошо просматривалась и никто не смог бы ускользнуть незаметно из стойбища. Солдаты увидели при свете северного сияния сараи или, точнее, навесы, защищенные от ветра крепкой бревенчатой стеной только с одной, северной, стороны: туда обычно ставят сани и там же проводят ночь собаки и олени. Отведя в укрытие лошадей, они соорудили из приготовленного на корм оленям ягеля подстилку, чтобы подремать до утра «по-жандармски» — одним глазом. Тем временем путешественники метались в ярости в своем уголке, как львы в клетке, и предлагали проекты один другого фантастичнее. Шолем, неподвижный, как ледяная глыба, молча предавался размышлениям. Замечания, которыми обменялись его хозяева, напуганные внезапным появлением казаков, подсказали якуту смелую мысль, и на хитром лице проводника мелькнуло подобие удовлетворенной улыбки. Находчивому охотнику пришло в голову устроить знатную заваруху между чукчами и служилым людом, исход которой был, пожалуй, заранее предрешен, поскольку первобытные племена отличаются бесстрашием и презрением к смерти. Ну и туго же придется преследователям! Отметим в связи с этим, что коренные жители полуострова Беринга[142] издавна известны своей воинственностью, и русским не раз приходилось убеждаться на собственном горьком опыте, что если и можно порой одержать над чукчами верх, то поработить их нельзя. Судите сами. Первая запечатленная хроникой встреча русских с чукчами произошла в 1701 году. В результате внезапного нападения чукчи были разбиты, оставшиеся в живых — взяты в плен. Но, предпочтя смерть потере свободы, они, так и не покинув родную их сердцу ледяную пустыню, перерезали друг другу горло. Однако победители недолго торжествовали: через три дня, объединившись, кочевники стремительно налетели на противника и полностью разгромили его. Плачевно для русских закончилась и экспедиция 1711 года. В 1730 году полковник Афанасий Шестаков, потеряв в бою с чукчами чуть ли не все войско, был вынужден отступить. Когда же несколько месяцев спустя он задумал взять реванш, то пал в отчаянной схватке с туземцами, а его отряд был буквально растерзан. Только в 1731 году удалось капитану Дмитрию Павловскому отомстить за серию поражений и с триумфом войти в селение, стоявшее на месте нынешнего города Анадырь. Но и проиграв битву, коренные жители отказались подчиниться завоевателям и платить им подать. Однако экспедиции против них с той поры уже не снаряжались: хотя русские, как известно, отличаются огромным упорством, им пришлось сдаться перед несгибаемым мужеством обитателей тундры. Победы, одержанные сынами Крайнего Севера над регулярной армией, их свободолюбие, презрение к смерти так поразили русских, что на картах прошлого и начала этого века населенный чукчами полуостров окрашивался в отличный от остальных областей Сибири цвет, и название его сопровождалось выразительным по своему лаконизму пояснением: «Tiukschi, natio ferocissima et bellicosa, Russorum inimica gui capti se invicem interficiunt»[143]. Co временем, впрочем, русские сумели постепенно добиться мирными средствами того, чего не смогли достичь при помощи оружия. И теперь чукчи, как правило, платят налог, но делают это крайне неохотно, заставляя сборщиков податей, которым строжайше запрещено использовать при взимании недоимок силу, изрядно поскакать по тундре в поисках злостных неплательщиков. Весьма любопытны аргументы, которые приводят чиновники, пытающиеся выполнить свой служебный долг, в беседах с чукчами. Эти первобытные люди никак не могут взять в толк, по какому праву человек, которого они никогда не видели и зовут «белым царем, сыном солнца», забирает у них каждый год лучшие меха. Он что, этот сын солнца, мерзнет? Быстро снашивает одежду? Или сам не охотится на тюленя, песца, белого медведя? Тщетно чиновник убеждает их, что, заплатив налог, они могут считать себя подданными его величества царя: его оппоненты[144] абсолютно равнодушны к подобной чести. — Но царь — отец своим подданным! — прибегает чиновник к последнему доводу. — Ну и что? — отвечает с изумительной наивностью чукча, собрат белого медведя. — У меня есть отец, он не требует от меня шкур. Напротив, он давал мне их, когда я был маленьким и не мог еще добывать их сам. Если царь и в самом деле наш отец, то он должен не отнимать, а, наоборот, давать нам шкурки… Добрые дикари никак не в силах оценить блага цивилизации! Шолем все это знал. Как и то, что подушная подать была уже собрана с месяц назад, причем с большим трудом. И решил, воспользовавшись этой ситуацией, сообщить чукчам, будто казаки намерены вторично взыскать налог. Тогда обитатели окажут чужакам соответствующий прием и наверняка не впустят их в свои чумы. Если же переговоры между противными сторонами затянутся хотя бы на день, путешественникам, возможно, и удастся выбраться из западни.
ГЛАВА 19
Казачья борода. — Изменение в плане. — Славные выпивохи. — Бездонный бочонок. — Выстрел. — Встревоженные чукчи. — Щедрость есаула. — Пьяные казаки. — Олени. — Пятьсот километров до Восточного мыса. — Без оружия и продуктов. — Туземная снедь. — Непривычная тюленина. — «Вега».Шолем, не делясь своим планом с путешественниками, решил пройти по всем чумам, настраивая чукчей против Краков. Сказав друзьям, чтобы они были готовы к самым неожиданным вещам, он по-кошачьи тихо, так что даже снег не скрипнул под ногами, выскользнул из чума. И тут ему пришло в голову проверить сначала, не захватил ли неприятель их сани, и, если представится возможность, достать оттуда оружие, что могло бы значительно улучшить положение осажденных. Войдя в погруженный в кромешную тьму сарай, якут начал ощупью искать нарты. Внезапно раздалось рычание, словно он разбудил медведя, и Шолем понял с опозданием, что у него под рукой не мех, а борода спавшего казака. Солдат крепко схватил проводника и собрался было позвать на помощь, как тот, не теряя самообладания, решился на предерзостную хитрость. Не пытаясь вырваться, он шепнул на ухо служилому: — Водка! Слово это оказалось волшебным: казака, как известно, всегда мучает жажда. — У тебя есть водка?! — радостно вопросил дуралей, предвкушая нежданный пир. — Давай же! Давай скорее! — Подожди, огненная вода в нартах. — И много? — Э-э, много, — ответил Шолем, искусно подражая интонации чукчи, которому не терпится пригубить вожделенный напиток, — бутылей сто… Казак пришел в восторг. А якут, подобно опытному дипломату, решил сейчас же внести изменение в свой план. Раздвинуть сумки и тюки, расположение которых в нартах было ему прекрасно знакомо, и достать сорокалитровый бочонок было для него минутным делом. Солдат, поводив руками по емкости, остался доволен ее размером. Затем, нащупав деревянный краник, присел на корточки и с невероятной жадностью начал ловить ртом жгучую струю. Пил он долго, самозабвенно, и объятия его, в которые был заключен драгоценный сосуд, становились все более нежными. Наконец, пощелкав языком, казак похвалил проводника: — Ты славный человек! Давай, теперь твоя очередь! Шолем притворился, будто пьет: выпивка не входила в его план, в другое время он был бы ей рад. В груди у казаков, несмотря на их внешнюю грубость, бьется доброе сердце. Они делятся всем, что имеют, и всегда приглашают своих товарищей угоститься тем, что послал им случай. Новый друг Шолема не был исключением из правила и посему поспешил разбудить двух сослуживцев, спавших рядом с ним среди оленей. Когда каждый из них приложился к заветному кранику по нескольку раз — и все в абсолютной тишине, один из казаков напомнил, что и другие солдаты были бы тоже не прочь припасть к сему феноменальному источнику, и взялся немедленно их разбудить и привести сюда, но так, чтобы этого не знал командир. Минут через пятнадцать по снежному ковру осторожно заскользили темные тени, незаметно прокрадываясь к сараю, из которого призывно несло спиртным, да так сильно, что страждущие издали глотали слюнки в предвкушении обильного возлияния. Вскоре под навесом собрался весь отряд — кроме, разумеется, командира: измученный пятью днями погони, он, укрывшись шкурами, крепко спал. Казаки отнеслись к нежданному празднеству серьезно. Пили методично, по очереди, энергично впитывая в себя, словно губка, алкоголь. Каждый отсасывал из крана столько, сколько позволяло его дыхание. Жажда никак не проходила, но и бочонок казался бездонным. Сменяя друг друга у краника, выпивохи всею душою наслаждались божественным даром. Результат подобной неуемности не заставил себя долго ждать. Упившись до умопомрачения, кутилы уже плохо держались на ногах, глаза их закрывались. И, как люди закаленные, с большим практическим опытом, они спешно соорудили себе из мха и лишайника ложе, чтобы если и свалиться, так на эту подстилку, а не в снег. Но от бочонка не отстали — его сосали до тех пор, пока в нем не осталось ни единой капли. К тому времени уже ни один из гуляк лыка не вязал. Силы разом оставили их. Повалившись друг на друга, словно карточные валеты, они, уже засыпая, немного потолкались, устраиваясь поудобнее, и вскоре из этой живописной кучи раздался мощный храп, который не смогла бы заглушить и дюжина контрабасов. Шолем, терпеливо ждавший этого момента, направился не теряя ни минуты к своим соплеменникам, якутам-каюрам, разбудил их и велел отпустить собак, запрячь по три оленя в каждые сани и тихо подъехать к чуму. Ему хотелось бы еще обойти все сараи, где стояли олени чукчей и казацкие лошади, чтобы отвязать животных, но времени на это уже не было. Когда трое друзей, в течение двух часов изнывавших от волнения и неизвестности, дождались наконец своего проводника, пробил уже час ночи. — Хозяин, — сразу обратился Шолем к Алексею, — ты готов? — К чему? — Выезжать. — Когда? — Немедленно. — А сани? — Уже запряжены. — А казаки? Якут рассмеялся сдержанным, таинственным смехом Кожаного Чулка из произведений Фенимора Купера[145]. — Мертвы, — кратко произнес он. — Ты что, задушил их? Несчастные! — Нет, хозяин. Их сгубила твоя водка. Они проснутся лишь завтра, когда мы будем уже далеко. А теперь — пора! — решительно закончил он и, отбросив шкуру, служившую дверью, выскочил из чума. Каюры не теряли времени даром: нарты стояли у входа, олени готовы были хоть сейчас пуститься в путь. Когда путешественники пошли занимать свои обычные места, Алексей увидел вдруг с удивлением, что это не его сани. Но только сообщил он об этом Шолему, как в ночной тьме раздались крики: — Стой!.. Стой!.. Огонь! Проводник, вынесший на всякий случай из чума охапку шкур, швырнул ее в нарты и спешно вскочил в них сам. Жак, Жюльен и Алексей последовали его примеру, и санный поезд рванул в снежную мглу. Блеснул огонь, послышался выстрел, совсем рядом просвистела пуля. Есаул, хотя и не предполагал подобного поворота событий, выведшего казаков из строя, бдительности, как всегда, не терял. Вздремнув немного он отправился в ночной обход — проверить, все ли его приказы выполнены и что поделывают самые лучшие, по словам губернатора Нижнеколымска, солдаты, а заодно и встряхнуться. И нетрудно себе представить охватившую офицера ярость, когда он обнаружил, что посты брошены, а горе-вояки, мертвецки пьяные, валялись, словно свиньи, возле пустого бочонка. От разудалых гуляк так разило перегаром, что не оставалось никаких сомнений, из-под чего была эта посудина. Охваченный безумным гневом, командир обрушил на незадачливых подчиненных удары, пинал размякшие тела, но из каталептического сна так никого и не вырвал. И только подумал он было, а не сознательно ли подстроен сей кавардак, как разглядел вдали при свете звезд группу людей, стоявших возле чума. «Моих казаков напоили! — понял служилый. — Это могли сделать только приезжие: у здешних водки нет!» Кинувшись к чуму, есаул, узнав беглецов, взвел курок револьвера и выстрелил, никого, к счастью, не задев. Но чукчи проснулись. Несколько человек выскочили на улицу с копьями наперевес. «Ладно, — взял себя в руки офицер, — не хватает только, чтобы эти дикари набросились на меня! Слава Богу, у нас есть чем их умаслить!» И, обращаясь к чукчам, закричал: — Дети мои, послушайте… Догадываясь, какие опасения могли возникнуть у местных жителей с приходом солдат, он решил объяснить им, что явились казаки сюда не за податью, а, напротив, с дарами, среди коих — огненная вода и даже деньги.Чтобы они сами убедились в правдивости его слов, есаул подбежал к одним из сопровождавших его отряд саням, вытащил какие-то безделушки, явно заинтересовавшие хозяев, откупорил бутыль водки и вынул из кармана горсть медных монет, из которых здесь любят делать украшения и амулеты. — Это все ваше, дети мои! Подарки от белого царя, сына солнца! Чукчи не верили ни ушам своим, ни глазам: неожиданная щедрость этого загадочного человека явно привела их в замешательство. — Да-да, все это вам, но при одном условии. Вы немедленно — слышите, немедленно! — должны приготовить мне шесть нарт с оленями и отправиться вместе со мной. Чукчей собиралось все больше. Обсуждали сказанное русским начальником, взвешивали его обещания и выдвинутые им условия. И при этом никакой нервозности. Прямота, с какой казак обратился к ним, и предложенные подарки расположили чукчей в его пользу. Бывший исправник сообщил обитателям чумов, что они приютили у себя очень опасных, совершивших немало злодеяний людей, и что преступников надо догнать, дабы подвергнуть их заслуженному наказанию. Это обращение рассеяло последние сомнения, тем более что внезапный отъезд путешественников в известной мере подтверждал правоту этого человека. Чтобы окончательно склонить чукчей на свою сторону, офицер не мешкая начал распределять подарки — в виде своего рода задатка — и добился обещания, что сани быстро тронутся в путь. Обычно чукчи медлительны в принятии решений, но, если что-нибудь задумали, ничто их не остановит — ни холод, ни голод, ни расстояния, ни усталость: они все преодолеют ради достижения цели. Есаул так преуспел в переговорах с чукчами, что два часа спустя после поспешного бегства преследуемой троицы шесть нарт с тремя оленями в каждых уже стояли у сарая, послужившего опочивальней для в стельку пьяных солдат. — Ну а теперь пора и за голубчиков моих приниматься! — пробормотал командир себе в усы. — Пробуждение у этих обожравшихся свиней будет не столь приятным, как сон! По его знаку чукчи осторожно подняли казаков, завернули в меха и уложили их, негнувшихся, как поленья, в нарты. «Ну и отлично! — подумалось есаулу. — У варнаков — только два часа форы. Не позже чем через сутки я нагоню их. Конечно, они попытаются сопротивляться. Ну что ж, бой так бой! Тем лучше! Солдаты-пьянчуги будут драться с превеликим усердием, чтобы хоть как-то искупить свою вину!.. Итак, в дорогу!» Нарты с беглецами вот уже третий час неслись со скоростью метеорита, как вдруг олени, не подававшие никаких признаков усталости, резко остановились, хотя команды такой никто не давал. Для Алексея в этом не было ничего неожиданного, но французы, впервые ехавшие в оленьих нартах, удивились. — Что случилось? — спросил Жюльен. — Обычное дело! — ответил русский. — Олени способны выжимать в течение нескольких дней предельную скорость, но при том условии, что регулярно, через определенные промежутки времени, будут останавливаться, чтобы поесть. Больше трех часов подряд они не бегут. Сделав сами себе передышку, они вырывают из-под снега мох или ягель. Чтобы отдохнуть и подкрепиться, животным достаточно часа, после чего они тянут сани еще три часа. — А нельзя ли заставить их пропустить хотя бы одну остановку? — Это невозможно: если пришло время подкормиться, то — хоть убей — с места они не сдвинутся. Впрочем, не волнуйтесь. Эти замечательные создания еще выносливее собак и, как правило, восемнадцать часов из двадцати четырех находятся в пути. Вы устанете быстрее, чем они. — Благодаря находчивости Шолема нам удалось удрать от исправника, но опасность снова встретиться с ним по-прежнему велика. Интересно, где мы сейчас? И через сколько времени достигнем Берингова пролива? — Если подсчеты верны, стойбище, которое мы покинули, расположено в пятистах пятидесяти километрах от Восточного мыса. — Черт возьми, это так далеко! — Но олени — надежные помощники. Если считать, что они бегут со средней скоростью четырнадцать километров в час, то мы преодолеем это расстояние за сорок шесть часов, включая время на остановки. — Нестись быстрой рысью два дня и две ночи, да еще когда есаул следует по пятам, а ты не имеешь возможности подпалить ему усы, — довольно противно! — Не преувеличивайте его возможностей. Ведь у нас, учитывая состояние, в каком оставил Шолем служилый люд, несколько часов форы. Но если даже и предположить, что отряд быстро отправится в погоню, ему все равно придется следовать за нами на оленях и, значит, и останавливаться время от времени ровно на столько, на сколько делаем это и мы. — А нельзя ли ехать быстрее, а не по четырнадцать километров в час? — Можно, но тогда наши олени выдохнутся на полдороге. — Да, кстати, наше оружие, провизия… Я вспомнил, что в момент отъезда вы воскликнули, что это не наши сани. — Так оно и есть. То ли каюры не поняли Шолема, то ли они не нашли наши нарты, но, так или иначе, вместо них они запрягли другие. — Выходит, все наше снаряжение… — Осталось в деревне. Шолем только что проверил наши припасы. Их немного. Нет ни чая, ни сахара, ни консервов, ни водки, ни печенья. — Скоро начнем голодать? — Ну не совсем. В моих санях сорок килограммов тюленьего мяса и несколько мешков снадобья, которое чукчи едят вместо хлеба[146]. Так что не пропадем! Хотя, конечно, мороженая тюленина не столь аппетитна, как барашек. — И наши карабины остались там. — Увы, из оружия у нас только револьверы… Но хватит об этом, в дорогу, друзья! Олени уже позавтракали, так что не будем терять времени. Позднее, когда и мы захотим есть, отведаем мясца. Животные понесли еще быстрее, чем раньше. Подкрепив свои силы и к тому же довольно легко нагруженные, они весело бежали, подбадриваемые возгласами каюров, которые, как и русские ямщики, дают оленям ласковые птичьи имена, только на свой, суровый манер. Несмотря на неплохую скорость передвижения, часы для путешественников тянулись удручающе медленно. Особенно тяготило одиночество общительных французов: Жюльен и Жак ехали теперь каждый отдельно, только с каюром-якутом, и не могли ни с кем даже словом перемолвиться. Прошло уже двадцать шесть часов пути, но олени не только не замедляли бег, но, наоборот, вроде бы ускоряли его. Не будем останавливаться на трудностях, которые приходилось переносить нашим друзьям в течение этого времени. Тут и пощипывание мороза, и затекшие ноги, которые надо было разминать пробежкой, и непривычные для европейцев кусочки мороженой тюленины, соскальзывавшие в пищевод, по образному выражению Жака, как обжаренные на снегу ледышки. Впрочем, в силу обстоятельств, желудку пришлось все же умерить свои претензии и довольствоваться тем, что ему давали. Беглецы даже не заметили, как пересекли последние реки Азиатского континента — Амгуэму и Нутепсим, замершие под снежным саваном. По их расчетам, они находились неподалеку от Колючинской губы, чуть южнее того места, где этот залив пересекает Полярный круг. К несчастью, вот уже несколько часов, как тундру укутал густой туман, и Шолем не видел больше вехи, которые расставляют чукчи, размечая дорогу. И тогда на помощь развитой у сына природы интуиции пришел компас. Время от времени раздавался звонкий треск, словно пушки стреляли в тумане. Жюльен, хотя и замерз он не знаю как, и желудок его бунтовал от голода, попытался шутить. — Эй, Жак, — крикнул он другу, — позволь мне все-таки послать проклятье твоей морской болезни: если бы мы сели на пароход первого октября, то уже четыре месяца нежились бы на фазенде Жаккари-Мирим, в рубашках с коротким рукавом, в гамаках и с непременным веером. — Что угодно, но только не морская качка! — послышалось в ответ сквозь мелодичный звон ледышек, покрывших бороду Жака. Жюльен хотел уже бросить новую шутку, как вдруг с уст Алексея, ехавшего, как всегда, в первых нартах, сорвался возглас удивления. Пелена тумана разорвалась, и в сотне метров от путешественников возникли внезапно очертания великолепной трехмачтовой шхуны, темный корпус которой четко выделялся на белом фоне. — Корабль! Друзья мои, корабль! — воскликнул Алексей. — Корабль! Мы спасены! — обезумев от радости, закричали что есть силы французы. Олени остановились у судна, закованного во льды. Нетрудно представить, с каким восторгом прочитали наши беглецы выведенное на борту золотыми буквами слово «Вега»!
ГЛАВА 20
Профессор Норденшельд[147]. — В поисках Северо-восточного прохода из Атлантического океана в Тихий. — Экспедиция 1878–1879 годов. — Гостеприимство шведского ученого. — Взбунтовавшийся компас. — Отклонение от маршрута. — Спешное отправление. — Компенсация потерянного времени. — Берингов пролив. — Казаки. — Оленья трапеза. — Своенравие животных. — Пешком по льду. — Нормандский говор. — Канадские охотники. — Смерть от холода. — Последняя сотня метров первого этапа путешествия из Парижа в Бразилию по суше.Имя выдающегося шведского ученого, сумевшего осуществить то, чего не удалось добиться ни английским, ни голландским его предшественникам, популярно во всех без исключения цивилизованных странах. Поскольку у нас, во Франции, все знают профессора Норденшельда, прославившегося своими арктическими исследованиями, мы ограничимся лишь кратким, необходимым для ясности нашего повествования рассказом о последней его экспедиции, совершенной в 1878–1879 годах на парусно-паровой шхуне «Вега». Целью этого отважного предприятия было обогнуть сибирское побережье Северного Ледовитого океана и достичь через Берингов пролив Японии и Китая, освоив тем самым северо-восточный участок североморского пути из Атлантического океана в Тихий. Ученый-путешественник считал, что во вторую половину августа вполне возможно пройти по морю вдоль северного берега Сибири, по крайней мере, до мыса Челюскин на полуострове Таймыр. Теплые потоки воды, приносимые Обью, Енисеем и Иртышом, уверял он, освобождают ото льдов побережье даже за мысом Челюскин, а встречное течение, подгоняемое ветрами, дующими здесь в августе, относит льды к восточному берегу Новой Земли, где они и тают в конце указанного месяца. Это предположение, казалось, подтверждалось данными, которые были собраны русскими исследователями побережья Северного Ледовитого океана. Двадцать пятого августа 1843 года путешественник А. Ф. Миддендорф[148] с холмов, расположенных на побережье Таймыра, видел, насколько хватало глаз, чистое ото льда море. А за девяносто лет до этого лейтенант Прутищев, выйдя из устья Лены, смог достичь бухты Оленек и, перезимовав здесь, первого сентября добрался почти до мыса Челюскин. Второго сентября 1736 года экспедиция лейтенанта Харитона Лаптева[149], не встретив нигде льда, если не считать устья реки Хатанга, дошла до мыса, находившегося в девяноста километрах от мыса Челюскин. Для той части океана, которая заключена между дельтой Лены и Беринговым проливом, давно уже были составлены довольно точные карты. Отважные китобои ходили в этих водах еще в середине XVII века. В 1648 году русский казак Дежнев[150] проплыл морем от Колымы до Анадыря. В 1735 году лейтенант Лассениус[151], отправившись от устья Лены к Берингову проливу, сразу же застрял во льдах и во время зимовки вместе с пятьюдесятью двумя своими спутниками погиб от цинги. На следующий год не повезло и Дмитрию Лаптеву. Но в 1739 году он смог перезимовать в устье реки Индигирка, а в 1740 году добраться до мыса Баранова. Частичная или полная неудача этих экспедиций объяснялась несовершенством кораблей. Среди отважных мореплавателей, внесших свой вклад в изучение этого региона, мы находим и имя капитана Кука[152], который достиг сто восьмидесятого градуса восточной долготы, если вести отсчет от Гринвичского меридиана. Наконец, в 1855 году американский капитан Роджерс добрался до сто семьдесят шестого градуса восточной долготы, а в 1856 году английский китобой Лонг, пройдя дальше, чем его предшественники, вышел к Чаунской губе, у сто семьдесят восьмого градуса восточной долготы. Профессор Норденшельд первую половину 1878 года посвятил подготовке экспедиции, снаряженной на щедрые пожертвования друзей науки: одну треть всех расходов взял на себя король Швеции, а остававшиеся две трети — Сибиряков[153] и Оскар Диксон[154], вольный купец из Гетеборга[155] уже оплативший ранее шесть арктических экспедиций. Экспедиция под общим руководством Норденшельда отправилась на четырех кораблях. Профессор находился на флагмане — «Веге». Это построенное специально для арктических плаваний трехмачтовое судно водоизмещением в триста пятьдесят тонн под парусом могло идти со скоростью девять-десять узлов[156] и при паровом двигателе мощностью шестьдесят лошадиных сил — шесть-семь. Вел шхуну ветеран полярных походов лейтенант Паландр. В состав экипажа входили девятнадцать первоклассных моряков королевского флота и три матроса-китобоя. Другие суда назывались «Лена», «Экспресс» и «Фрейзер». Первое, под командой лейтенанта Христиана Йохансена, должно было прокладывать «Веге» путь до устья Лены, а оттуда подняться по реке до Якутска. Остальные два, с товарами для Сибири, собирались пройти по Енисею и вернуться в Европу с зерном. Так что найти Северо-восточный проход «Веге» предстояло одной. Флотилия вышла из порта Тромсе[157] двадцать первого июля. Двадцать девятого июля увидели берег Новой Земли, первого августа прошли Югорский пролив к югу от острова Вайгач, благополучно пересекли Карское море, обогнули северный мыс полуострова Самоедов и к десятому августа прибыли в порт Диксон, расположенный к востоку от устья Енисея. Здесь «Экспресс» и «Фрейзер» покинули «Вегу», сопровождаемую отныне только «Леной». Девятнадцатого августа оба корабля салютовали артиллерийскими залпами мысу Челюскин, на котором матросы обоих экипажей в память о своем пребывании сложили из камней пирамиду. А в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое августа недалеко от устья Лены капитан Йохансен распрощался с «Вегой» и направился к своей цели. Первого сентября «Вега» прошла неподалеку от устья Индигирки, свернула на юго-восток и седьмого сентября, чуть ли не вплотную подойдя к берегу, остановилась среди крупных льдин. Члены экипажа в первый раз лицезрели чукчей, а те — корабль. Двадцать восьмого сентября у восточного берега Колючинской губы судно окончательно зажали льды, и достичь цели, до которой оставалось уже совсем немного, удалось только следующим летом — восемнадцатого июля 1879 года. Нетрудно представить себе волнение французов при виде корабля, вызвавшего у общественности столь большой интерес и покинувшего Европу за два месяца до их отъезда из Парижа. — «Вега»! — прокричал Жюльен. — Мы спасены! — «Вега»! — подхватил Жак. — Оазис из дерева и металла в ледовой пустыне! Прощай, мороженая тюленина! Прощай, полярная снедь! Прощай, есаул с казаками! — Подождите, друзья, — прервал их Алексей. — Поосторожнее и поскромнее. Не забывайте, что мы пока что — нарушители закона, а «Вега» хоть и под шведским флагом, но находится в русских водах. — Да, это действительно так, — согласился Жюльен. — Я не сомневаюсь, конечно, в благородстве всемирно известного шведского ученого: гений всегда великодушен. Однако мы не имеем права ставить знаменитого исследователя в щекотливое положение, воспользовавшись его гостеприимством. — Вы правы, но мы ничего не скажем ему о наших приключениях, попросим только провизии. На это у нас уйдет всего лишь час, а там — прямо в Америку! Экипаж корабля видел приближавшиеся сани, но, приняв путешественников за местных жителей, не проявил к ним никакого интереса. И тем больше удивились на шхуне, когда Алексей обратился к мореплавателям по-немецки, а Жак и Жюльен — по-французски. Друзьям оказали теплую встречу. В кают-компании[158] им радостно жали руки и громко приветствовали возгласами «Добро пожаловать!». Господин Норденшельд, всячески выказывая радушие, представил гостям свой синклит[159], состоявший из известных ученых и путешественников. Затем — что не менее важно! — их вкусно накормили. Во время трапезы друзья удовлетворяли, насколько это было возможно, любопытство своих чудесным образом встреченных хозяев. — А теперь, господа, поскольку вы подкрепились, я распоряжусь приготовить вам каюты: ведь вы наверняка нуждаетесь в отдыхе! — любезно предложил глава арктической экспедиции. — Чувствуйте себя как дома. — Господин профессор, — почтительно произнес Жюльен, — мы выражаем вам нашу искреннюю признательность, но позвольте отклонить столь лестное предложение и попрощаться. — Как, уже? — удивился ученый. — Но это же невозможно! — Представьте себе, будто перед вами — англичане, заключившие пари на определенный срок, за который они обязаны совершить кругосветное путешествие. Или предположите, что мы, руководствуясь высшими интересами, не можем больше задерживаться здесь… Наконец, нельзя исключить и того, что нам просто не хочется, чтобы кто-то опередил нас, и поэтому, невзирая на смертельные опасности, мы устремляемся дальше… Простите нас за то, что так торопимся. Поверьте, мы сами глубоко огорчены тем, что обстоятельства не позволяют воспользоваться вашим высоко ценимым нами гостеприимством. Но, перед тем как покинуть вас, позвольте обратиться с просьбой, во-первых, сообщить точно, на какой широте и долготе мы находимся, во-вторых, указать точное направление на Восточный мыс и, в-третьих, снабдить нас оружием и провиантом. — Охотно, господа! Но мы расстроены тем, что ваша просьба столь скромна. Вот карта местности, где вы найдете все необходимые топографические указатели. Жюльен со знанием дела пробежал глазами этот великолепный подробный план и не мог сдержать удивления: — Как? Мы на шестьдесят километров севернее Полярного круга?! Шли на северо-восток, а выходим к северу от бухты Коцебу! — Если вы направлялись к Восточному мысу, то, значит, слишком резко брали влево, — заметил Норденшельд. — Никак не могу объяснить себе эту ошибку. Мы двигались в течение четырех часов в плотном тумане, но точно по компасу… Разве только стрелка отклонилась… — Вполне вероятно. Во время северного сияния намагниченная стрелка подвержена негативным воздействиям, и чувствительность ее теряется. Этот феномен достаточно распространен, так что в вашем случае могло произойти то же самое. Жюльен вынул компас из кармана и сверил его с судовым компасом, укрепленным в футляре возле стола кают-компании. Профессор не ошибся: ручной компас словно взбесился. Теперь, когда известна причина отклонения магнитной стрелки, легко представить себе, какие могли бы быть трагические последствия, если бы не чудесная встреча со шхуной, заточенной в ледовой гавани. Маршрут с поправками нанесли на карту, и Жюльен, получив новый компас, поднялся, чтобы попрощаться. Видя, что все трое твердо решили продолжить свой путь, глава экспедиции не стал больше их задерживать. — Ну что ж, — сказал он, дружески пожимая им руки, — больше я ничего не могу для вас сделать… Старшина-артиллерист приготовит для вас оружие и боеприпасы, а кладовщик — продукты. Хоть это избавит вас от материальных забот. Повторяю, мне хотелось бы вам помочь гораздо больше. И последнее: есть ли у вас новости из Европы? — Нет, как будто ничего, что могло бы вас заинтересовать, хотя мы отбыли через два месяца после вас. — А у меня есть для вас новость, — вмешался Алексей, который до этого молчал. — Рад сообщить, что ваш коллега, отважный капитан «Лены», благополучно прибыл в порт Якутска, осуществив тем самым подвиг, доселе еще не виданный. Его успех — предвестник удачного завершения вашего проекта, к которому прикованы взоры всего света. — Ах, господа, лучшей вести вы не могли мне сообщить! Сколь же должен я быть благодарен случаю, сведшему нас! Я говорю вам не «прощайте», а «до свидания»! Позвольте же от всего сердца пожелать вам успехов в ваших деяниях! — До свидания, господа! — ответил Жюльен. — Мы искренне вам благодарны и никогда не забудем ученых «Веги» и знаменитого руководителя экспедиции! Трое путешественников, поддержанные как морально, так и материально, разместились в нартах и помчались по ледовым просторам, оставив за спиной быстро растаявший вдали темный корпус и ажурные снасти «Веги». Путь, предложенный Норденшельдом, вел в отличие от предполагавшегося ранее не к Восточному мысу, а к самому крупному из островов Диомида, расположенных в центре Берингова пролива, и завершался непосредственно у мыса Принца Уэльского. Этот маршрут был на тридцать километров короче прежнего, протяженностью в двести двадцать четыре километра, что с лихвой окупало часы, проведенные на борту «Веги». Правда, оставались еще опасения, как бы отклонение от маршрута из-за тумана не было бы слишком большим и не дало преимущества их врагу есаулу, если он все еще гонится за ними. Друзья радовались, видя, как быстро неслись по смерзшемуся снегу подгоняемые якутами олени. Напружинив мышцы, энергично отталкиваясь ногами, вбирая воздух раздутыми ноздрями, эти красавцы, соперники лани, словно понимая, какую надежду возлагали на них беглецы, пробегали в среднем шестнадцать километров в час и затрачивали на еду и отдых совсем немного времени. Уже пролетели двенадцать часов, отведенные на новый маршрут, и по чуть заметному наклону заснеженного поля друзья наконец определили, что земли проклятого полуострова остались позади. Оглушительным «ура!» приветствовали путешественники льды Берингова пролива, по которым плавно скользили их нарты. Жак Арно, бросивший вызов морской болезни, готов был повторить в десятый раз, что лучше всего океан неподвижный, как вдруг Шолем, оглянувшись, испустил яростный вопль: — Казаки! И в тот же миг запыхавшиеся олени резко остановились. Грациозно повернув к каюрам свои головы, животные напомнили, что им нужна еда, которой они на льдах пролива не видят. Пока якуты доставали из саней предусмотрительно запасенный для оленей корм, друзья в вынужденном бездействии смотрели туда, где на расстоянии двух километров выделялся черной полосой на белом снегу санный поезд. — Вот мерзавцы! — проворчал Жюльен. — Достанет ли у них наглости преследовать нас на американской земле? — Да что значит для них переход границы в этом пустынном месте и без свидетелей? — заметил Алексей. — К тому же мы еще не на американском берегу. — А разве те скалы, приблизительно в двух километрах отсюда, которые образуют острова Диомида, — не владения Соединенных Штатов? — спросил Жак. — Я точно не знаю, — сказал Жюльен. — Но Алексей правильно говорит: какое до этого дело таким охотникам за людьми! — Эй, Шолем, — прокричал Алексей, — что они сейчас делают? — Тоже остановились: олени едят, — ответил якут, обладавший такой остротой зрения, что ему не нужен был никакой бинокль. — Но трудно все-таки надеяться, что мы сохраним эту дистанцию, — предостерег Алексей. — Им так не терпится схватить нас, что они готовы бросить оленей и устремиться к нам бегом. И посему, думаю я, самое разумное — приготовиться к бою. — Вы говорите, самое разумное, — по-моему же, это единственное, что остается нам делать, — произнес Жюльен. — Ну что ж, борьба по всей линии фронта! — воскликнул Алексей. — Поспешим же добраться до ближайших скал, чтобы было где укрыться. — А олени пойдут? — Попробуем. — Хозяин, казаки двинулись! — прервал друзей Шолем, не спускавший глаз с противника. Один из оленей в первой упряжке, улегшись на снег, отказался подняться. Проводник ударом ножа перерубил ремень, связывавший его с нартами. Остальные животные лениво, очень недовольные, встали и побежали трусцой, время от времени оборачиваясь к оставшимся сзади охапкам ягеля. Казаки приближались довольно быстро. — Гром и молния! — крикнул Жюльен. — Так мы никогда не доберемся до островов! Готовьте ружья! — Проклятие! — сильно побледнев, проговорил Жак в отчаянии. — Они же вместе с боеприпасами в ящиках с двойными стенами, завинченными болтами! Чтобы открыть их, нужен специальный ключ! — Разбей топором один из ящиков. — Но от удара все взлетит на воздух. Внезапно олениха в первой упряжке, где оставалось только двое животных, жалобно закричала, когда на нее опустился кнут каюра. Через сотню метров остановились и вторые нарты. Наконец олени, впряженные в третьи нарты, заразившись примером своих сородичей, тоже улеглись, проявляя упрямство и своенравие. Всего пятьсот метров отделяли беглецов от островов — единственной надежды на спасение. К счастью, у казаков происходило то же самое: обессиленные олени падали один за другим. Преследователи, выскочив из саней, кинулись в сторону скал, выступавших изо льдов. Впереди, злобно вопя, с карабином в руках и без шубы, которую он сбросил, чтобы легче было бежать, несся есаул, и весьма скоро он был уже у саней, брошенных беглецами. Сами же друзья, тяжело дыша, укрывшись за крутыми скалистыми выступами, приготовились отражать атаку из револьверов. — Как бы этот проклятый не воспользовался нашими нартами! — закричал Жюльен. — Честное слово, так и есть! Олени пошли!.. Послушайте, Алексей, попросите у Шолема топор. Я решил во что бы то ни стало открыть ящик с оружием, даже если и подорвусь. Хочется все-таки доставить себе удовольствие разрядить обойму в этого идиота! — Если старик канадец может вам чем-то помочь, не стесняйтесь. Я к вашим услугам, — прозвучал рядом спокойный голос, растягивавший слога на манер крестьян из Нижней Нормандии. Путешественники, удивленные не меньше, чем если бы они услышали, как белый медведь запел «Боже, храни королеву!»[160], резко обернулись и увидели огромного роста мужчину с добродушным выражением лица и широко открытым в улыбке ртом. — Разрешите представиться, перед вами Жозеф Перро, родом из Квебека, в Канаде. Я к вашим услугам — вместе с моими братьями Эсташом и Малышом Андре… Эй, ребятки, сюда… Эсташ! Малыш Андре! Тотчас подкатили на лыжах два богатыря, в меховых одеждах, с винтовками за плечами. — Мы просто охотники, — пояснил Жозеф. — Когда я услышал, что вы разговариваете на нашем языке, у меня заныло под ложечкой. Шестеро мужчин крепко пожали друг другу руки. — Спасибо, друзья! — поблагодарил Жюльен. — Охотно принимаем вашу помощь! Вшестером мы побольше доставим хлопот мерзавцам-казакам. — Казакам? — переспросил Жозеф спокойным голосом. — Уж не собираются ли они запугать настоящих французов? Мы им сейчас такое устроим, этим ненасытным кровопийцам!.. Олени, тащившие нарты с есаулом, трусили медленной рысцой. Офицер, не шелохнувшись, сидел в гордом одиночестве и даже перестал покрикивать на животных. За ним, поотстав на пятьсот метров, следовали пешком солдаты. Перро поднялся во весь рост, зарядил карабин и, стоя на фоне белой от снега скалы, оглушительно закричал: — Эй, ты!.. Эй, человек! Сани продолжали двигаться. — Стой! — приказал великан. В ответ — молчание. — Стой! Не то я пристрелю тебя, как боровую дичь! Есаул был по-прежнему недвижим, как статуя. Канадец опустил ружье и заключил: — Раз ни рукой, ни ногой не шевелит, значит, он скорее всего мертв… Олени, подойдя к людям, остановились, но есаул так и не сменил своей позы. Жюльен, держа револьвер наготове, приблизился к нартам, взял офицера за руку и сразу же в ужасе отступил. Глаза бывшего томского исправника побелели, лицо, все в мелких морщинах, застыло, как камень, на облупленных губах запеклась кровавая пена, пальцы, за которые ухватился француз своей рукой в меховой рукавице, не имели кожного покрова, словно их обварили кипятком. Было ясно: убил есаула холод. — Зачем же он сбросил шубу? В ней мороз не загрыз бы его, — прокомментировал Жозеф эту страшную внезапную смерть. Казаки, увидев, что их командир попал к противнику в руки и что беглецы уже не одни, благоразумно повернули назад, чем несказанно обрадовали стоявших у скалы шестерых мужчин, которые на это и не надеялись. Тело есаула положили в расщелину, и канадцы, вкатив огромный камень, закрыли ее. Затем, достав из нарт провизию, друзья с охотниками оказали честь продуктам, подаренным профессором Норденшельдом. — Ну а теперь, господа, — начал Жак, с удовольствием кусая печенье, размоченное в горячем чае, — я предложил бы отложить доверительные рассказы о наших странствиях. Надо побыстрее добраться до Аляски: ведь предположительно здесь все еще как бы продолжается территория Сибири. Вздохнем же мы свободно лишь после того, как преодолеем оставшуюся сотню метров, завершающую первый этап нашего путешествия из Парижа в Бразилию по суше.
Конец первой части








Часть вторая ПО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
ГЛАВА 1
Форт Нулато. — Противостояние зимы и весны. — Безрассудное намерение Жака Арно. — Ледоход на Юконе. — Утонувшие сани. — Рассуждение о слове «невозможно». — «Пушная компания» из Сент-Луиса. — Фактория. — Гостеприимство хозяина. — Различия в климате Сибири и Америки. — Шар капитана Андерсона.— Итак, господа, разве я был не прав, когда твердил весь прошлый месяц: «Вам не уехать отсюда ни завтра, ни через неделю, ни через две»? — Вы были абсолютно правы, капитан! — И я еще всякий раз добавлял: «Держу пари, что придется задержаться в форте Нулато до середины весны!» — Увы!.. — Как, неужели пребывание здесь столь нестерпимо для вас?! Впрочем, в любом случае отправляться сейчас в путь — чистейшее безумие… Даже местные жители не осмеливаются зимой покидать свои жилища. — Вы неправильно истолковали восклицание нашего друга, — заметил второй собеседник. — Ваше гостеприимство, капитан, выше всяческих похвал. Комнаты, в которых мы живем, удобны, питание, несмотря на суровость здешних условий, превосходно, а миссис Андерсон заботится о нас, словно родная сестра. — Сердца наши, равно как и желудки, преисполнены благодарности, — вставил третий собеседник. — Не преувеличивайте! Если бы это было так, вы не стали бы спешить в дорогу. Ведь в этакую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. — Просто мы не привыкли к праздному времяпрепровождению, да и до Бразилии далеко. — Не буду спорить, — согласился капитан, — но разве моя вина, что дождь льет как из ведра, а порывы ветра так сильны, что ломаются рога у оленей! — Но, капитан, — возразил собеседник, — что мешает нам воспользоваться последними морозами и на санях пересечь эту проклятую реку, чтобы побыстрее добраться до Британской Колумбии? — Господин Арно, многие ваши соотечественники любят повторять, что во французском языке не существует слова «невозможно». Но и они не решились бы на такое, оказавшись под сто пятьдесят пятым градусом тридцатой минутой западной долготы и шестьдесят четвертым градусом сорок второй минутой северной широты, у ворот форта Нулато, на правом берегу реки Юкон, когда суровая зима никак не желает уступать свои права весне. Вы согласны со мной, господин Богданов? — Да, капитан. Боюсь, что любая попытка покинуть форт в ближайшие дни окажется бесплодной, — ответил тот, кто пытался правильно истолковать возглас «увы», вырвавшийся у Жака Арно. — И, может быть, даже смертельной, — добавил Жюльен де Клене, третий собеседник, который выражал благодарность от имени «желудков» путешественников. — Послушай, Жак, будь благоразумен и не дуйся зря, словно капризный ребенок, на изменчивую природу, хотя именно из-за нее приходится торчать тут вот уже четвертую неделю. Ураганы, бури, метели… Что за безумный танец отплясывают стихии!.. Однако сегодня не так холодно. Вслед за снегом полил дождь, и ртутный столбик в термометре показывает выше нуля. Подобный скачок температуры особенно опасен. Не так ли, капитан? — Еще бы! Ведь Юкон может вскрыться с минуты на минуту. Слышите отдаленный грозный треск? Это он борется со сковавшим его льдом. — Ледоход!.. — быстро проговорил Жак. — Ледоход!.. Никто об этом не подумал. Значит, он начинается уже завтра, а я все еще здесь… — Между прочим, мы тоже здесь, да еще и под проливным дождем, от которого, к счастью, нас защищают костюмы и накидки с капюшоном, сшитые из тюленьих желудков, — заметил Жюльен. — Речь идет не о вас, а обо мне!.. — А что ты? Чем ты лучше нас? — Да ничем, просто я должен уехать. — Мы тоже. Но сейчас хотели бы вернуться в форт. Тем более что сегодняшняя вылазка — одна из каждодневных, совершаемых нами с целью разведать обстановку, — оказалась не только бесполезной, но и значительно более огорчительной, чем обычно. — Вернуться в форт!.. Опять в форт! Черт побери, когда же я наконец попаду на другой берег! — Как уже сказал капитан, пока это невозможно. — Подумай, что ты говоришь, несчастный! Или ты решил дождаться, когда река вскроется… и начнется этот проклятый ледоход? Так мне же тогда придется ждать следующей зимы… Или, может, ты задался целью заставить меня пересечь на лодке стремительный поток шириною в две тысячи метров?.. — В две тысячи восемьсот, — уточнил капитан. — Ни за что не стану переправляться по воде! Я привык путешествовать только по тверди земной! Вспомни, Жюльен, ты же обещал доставить меня в Бразилию по суше… Дал слово — держи его! Треск льда стал столь грозен, что заглушил ответ Жюльена. Казалось, будто полсотни артиллерийских орудий при поддержке огня пехоты вели нескончаемую пальбу. — Капитан, — произнес Жак в один из моментов затишья, — прикажите дать мне санки с небольшим запасом провизии. Пока есть время, я на свой страх и риск попытаюсь перебраться на тот берег, где и буду ждать окончания ледохода, когда ко мне смогут присоединиться друзья. — Нет, сударь! — сурово ответил капитан. — Я не желаю стать виновником вашей гибели. — Что ж, хорошо, тогда я пойду пешком. — Мы вас не отпустим, даже если для этого придется применить силу. — Ну это мы еще посмотрим!.. О, видите! — торжествующе воскликнул Жак. — Эти люди не французы, но и они изменят ваши представления о слове «невозможно». В самом деле, спутники Жака заметили приближавшуюся к ним упряжку из дюжины собак, тащившую за собой легкие нарты. Судя по всему, двое бесстрашных ездоков, сидевших на санках, были полны решимости пересечь огромную реку, невзирая на страшный шум и треск льда. Оставалось до заветного берега, где стояли наши друзья, уже метров пятьсот, и смельчаки всячески торопили собак, которым ощущение смертельной опасности словно придавало новые силы. — Безумцы! — вздохнул капитан. — Пусть безумцы, — согласился Жак. — Зато вместо того, чтобы спокойно сидеть на том берегу, куда я так хочу попасть, они пытаются перебраться сюда… — И идут навстречу собственной гибели! — Не преувеличивайте! Спустя четверть часа они уже будут здесь. Я переговорю с ними, и самое большее через полчаса они переправят меня на тот берег. Однако его постигло жестокое разочарование. Из-за быстрой смены температуры в состоянии реки произошли существенные изменения, и, в частности, толщина льда резко уменьшилась. Юкон яростно пытался разбить свой ледяной панцирь. Ледяная кора под давлением воды постепенно вспучивалась, и под этим перекрытием бесновались в буйном водовороте стремительные течения. Внезапно толстый ледяной покров содрогнулся. Ломавшиеся льдины грохотом своим напоминали канонаду на поле битвы. По ледяному куполу, словно молнии, побежали во все стороны трещины и в одно мгновение избороздили всю его поверхность, давая выход воде, вырвавшейся наконец из заточения и взорвавшейся бурными фонтанами. Санки очутились на краю только что отколовшейся от основного массива льдины длимой метров двадцать. Некоторое время неведомая сила удерживала этот островок в горизонтальном положений, пока под неумолимым напором воды он, словно гигантский рычаг, не взметнулся вдруг резко вверх и не замер на несколько секунд в строго вертикальном положении. Взлетевшие вместе со льдиной нарты, оказавшись на короткое время как бы вне действия закона притяжения, застыли между небом и землей на высоте более десяти метров. А затем и люди и упряжка рухнули в зияющую бездну, и льдина, завершив круговое движение, с тяжелым всплеском легла на воду гигантской надгробной плитой. Трое друзей застыли в ужасе и, не в силах произнести ни слова, с болью в сердце созерцали ледяную могилу, поглотившую двоих несчастных, которым они ничем не могли помочь. — Ну вот, господин Арно, — нарушил скорбное молчание капитан, — надеюсь, этот жуткий урок поубавил у вас упрямства? — Да, сударь, действительно жуткий урок, и я вынужден отступить перед жестокой стихией. — Вы убедились, что и речи быть не может о скором отъезде? — Увы! — вздохнул путешественник. — Вернемтесь же в форт, — предложил капитан. — Это лучшее, что можно сделать сейчас. А там, потягивая горячий грог[161], мы придумаем, как примирить ваш ужас перед водным пространством со страстным желанием поскорей уехать отсюда. Полчаса спустя после трагического события, ставшего причиной последующих необычных приключений Жака, все четверо уже удобно сидели перед камином в доме начальника фактории. Избавившись от эскимосских костюмов и закутавшись в теплые шерстяные пледы, путешественники наслаждались приготовленным в изобилии напитком, пытаясь забыть страшную драму, невольными свидетелями которой они стали. Расположенная двумя градусами южнее залива Нортон, в том месте на побережье Берингова моря, где река Юкон, проделав предварительно извилистый путь с востока на север, свободно несет свои воды на юг, фактория Нулато в течение долгого времени прозябала под владычеством русских. Процветать же она стала лишь с той поры, когда правительство Американских Штатов купило у России Русскую Америку, именуемую теперь Аляской[162]. Преуспеянию Нулато, как, впрочем, и других факторий на Аляске, — например, Святого Михаила, Колмакова, Святого Николая, Адамса, Уналаклика, Юкона, Александра, — с первого же дня после присоединения этой области к Соединенным Штатам способствовала деятельность могущественной американской «Пушной компании» из Сент-Луиса. Это промышленное сообщество, вечный соперник знаменитой английской «Компании Гудзонова залива», организовало на новоприобретенной территории фактории, ставшие центрами пушной торговли, и получало солидную прибыль от своих клиентов — в основном эскимосов, индейцев и чукчей. Смена хозяев осталась практически незамеченной местными жителями. В Нулато по-прежнему было множество лавок с дешевыми товарами, которые они выменивали на меха. Как на ярмарке в Нижнеколымске, так и на землях, охваченных коммерческой деятельностью «Компании Гудзонова залива», меновой единицей являлась выделанная либо невыделанная шкура — сперва бобра (вот уже двадцать лет, как этот грызун встречается все реже и реже), затем — бизона. После успешной охоты индеец или траппер[163] обычно приходит в одну из таких факторий. Там он получает от агента столько деревянных фишек, во сколько бизоньих шкур можно оценить результаты его труда, и тут же, на месте, обменивает их на порох, топоры, свинец, ножи, ружья, одежду и прочие товары. Форт Нулато, построенный некогда для отражения нападения индейцев, невзирая на годы и суровые капризы климата, все же выглядел вполне грозно. Территория его была обнесена частоколом из глубоко вкопанных в землю толстенных, высотою в шесть метров бревен, скрепленных тяжелыми поперечными брусьями. Ограда образовывала большой прямоугольник с сооруженными по углам квадратными бастионами с бойницами и шатровыми навершиями. В центре форта стоял добротный трехэтажный дом с натянутыми на рамы тюленьими пузырями вместо стекол: здесь размещались комендант и старшие торговые агенты. Остальную площадь занимали склады мехов и товаров для меновой торговли, жилища рабочих, хранилище боеприпасов и маленькая часовня, в которой за отсутствием миссионера[164] капитан каждое воскресенье сам читал обитателям фактории Библию. Население форта состояло из пятидесяти мужчин, сорока женщин и восьмидесяти детей, однако собирались в этой крохотной крепости все вместе они крайне редко. Основные профессиональные группы были представлены мелкими служащими компании, складской охраной, кузнецами, плотниками, охотниками. По национальной принадлежности здешние обитатели делились на американцев, англичан, канадцев и многочисленных метисов[165]. Столь разнородное сообщество проживало в обстановке доброго согласия, что в немалой степени объяснялось отеческим управлением капитана Андерсона, пользовавшегося всеобщим уважением, ибо добродушие и сердечность соединялись в нем с твердостью, столь необходимой для поддержания разумного порядка. Однако не думайте, что воинское звание «капитан» наделяло начальника фактории правами военного коменданта и побуждало его устанавливать дисциплину, как в армии. В час опасности простые охотники и скромные служащие сами брались за оружие и становились на время солдатами, но лишь затем, чтобы, отразив нападение, снова вернуться к мирной жизни. В ту эпоху, когда «Компания Гудзонова залива» откупила у русского правительства монополию на пушную торговлю в Русской Америке, существовал обычай присваивать всем управляющим факториями звание капитана. С тех пор как данная территория стала собственностью Соединенных Штатов, обычай сей закрепился, и теперь любой управляющий американской факторией именуется капитаном. Так его величают и коренные жители этих мест, и охотники, доставляющие пушнину, и непритязательные поселенцы. И в силу этого Андерсон лишь унаследовал звание, носившееся его предшественниками в Нулато с незапамятных времен. Впрочем, канадцы, метисы и индейцы охотно называли его и хозяином. Подобное дружеское обращение весьма вофранцузском духе, и оно, как и многое другое, сохранилось в Северной Америке значительно дольше, чем французское владычество. Господин Андерсон — начальник фактории, капитан и хозяин — был превосходным человеком. Примерно пятидесяти пяти лет, он, чистокровный американец, отличался поистине шотландским гостеприимством, прекрасным образованием и необычайной сердечностью, что делало его общество чрезвычайно приятным. Удобно устроившись в большом кресле-качалке в непривычной для европейца, но излюбленной каждым янки позе, — откинувшись на спинку сиденья и положив вытянутые ноги на каминную решетку, — капитан Андерсон, осушив стакан горячего грога, пытался убедить Жака Арно переправиться через Юкон по воде. Однако тот и слышать не желал об этом, предпочитая скорее добраться до истоков реки, нежели сесть в лодку. Разместившись в таких же, как и хозяин, креслах, хотя и не в столь экстравагантной позе, Алексей Богданов и Жюльен де Клене, дымя сигарами, с улыбкой слушали диалог Жака Арно и капитана Андерсона. В сотый, если не более, раз их рассеянный взор падал на американский герб — распростершего крылья орла, удерживавшего в когтях девиз «epluri bus unum»[166], и на вычурный щит с головой горностая на серебряном поле и лазурной лисой, упиравшейся лапами в песчаный холм с девизом «cutem acutus tollet acuti»[167], — старинную эмблему «Компании Гудзонова залива», помещенную господином Андерсоном рядом с национальным символом Соединенных Штатов в память об англичанах. Жак рассыпа́лся в жалобах на зиму, так не вовремя кончившуюся, и на весну, так рано начавшуюся: — Никогда бы не подумал! Я был уверен, что в этом арктическом краю зима длится до конца июня, но сейчас — лишь конец апреля, а на реке уже ледоход! — Ваши утверждения, — ответил капитан, — справедливы для Сибири, но не для Америки. — Странно! Но почему, скажите, пожалуйста? — По той простой причине, что на одной и той же широте, но в разных районах мы не можем иметь одинаковых климатических условий. — Как же так! Когда мы прибыли сюда и постучались в эту гостеприимно распахнувшуюся дверь, разве не достигал мороз на улице тридцати пяти градусов? И неужели ваша температура смогла бы похвастать перед сибирской тем, что она лишь на несколько градусов выше нуля? — Я этого не утверждаю, и, однако же, зима у нас гораздо короче, чем в Сибири. Сама растительность по обе стороны Берингова пролива достаточно ярко свидетельствует о различиях в климате: на американском берегу — лес вплоть до мыса Принца Уэльского, а на сибирском на той же широте — лишь мхи и лишайники… — Ну это уж слишком! Хотя ваши соотечественники и принадлежат к людям, для которых нет ничего невозможного, однако и им не под силу создать и установить гигантский калорифер[168], чтобы обогреть весь край и вырастить леса на мерзлой почве тундры. Ни за что не поверю! Хозяин так расхохотался, что кресло под ним запрыгало. — Мы научились прекрасно обогревать паром наши города, — ответил он, отсмеявшись, — но до изменения климата на планете нам еще далеко. Впрочем, будущее покажет. Разница же температур, вызывающая у вас такое удивление, обусловлена самой природой. — На мое несчастье! — вздохнул бедный Жак, которого одна только мысль о необходимости пересечь водное пространство шириной чуть ли не в три тысячи метров повергала в уныние. — Все очень просто, — продолжал хозяин. — Известно, что в толще водных масс, покрывающих земной шар, образуется множество мощных течений, которые неизменно придерживаются вполне определенного направления и в этом отношении мало чем отличаются от рек, теснящихся в отведенных им берегами руслах. — У меня весьма смутные представления обо всем этом, так что я послушал бы вас с большим интересом. — Нагретые тропическим солнцем водные массы, влекомые течением из Южно-Китайского моря в северные районы Тихого океана и проходящие по пути через два моря — Японское и Берингово, становятся источником тепла как для земли, так и для атмосферы. — Согласен. Но почему тепло это распределяется так неравномерно по двум столь близко расположенным друг к другу берегам? Капризы дамы природы? — Данное явление объясняется несколькими причинами. Если теплое течение, натолкнувшись на глубоководные хребты Алеутского желоба, пролегающего между Азией и Америкой, устремляется к берегам Нового Света, то холодные воды Северного Ледовитого океана, скапливающиеся в северной воронке Берингова пролива, направляются вращением Земли к правой стороне впадины, если смотреть на нее с севера, и в силу этого следуют в основном вдоль азиатского берега, не смешиваясь с теплыми водами по причине их неодинаковой плотности. Таким образом, в водах Берингова пролива имеется два течения: одно — холодное, другое — теплое, — и климат побережья, омываемого первым, естественно, более холодный, нежели на берегу, омываемом вторым, теплым, течением. Вот, сударь, и весь секрет калорифера, согревающего Аляску и вызывающего ледоход на ее реках на два месяца раньше, чем в Сибири. — Благодарю вас, мне все ясно, и я безутешен. Но, дорогой мой капитан, и вы, милые мои спутники, запомните хорошенько: пусть льды и торосы держат меня в плену, пусть тепло и стужа плетут свои заговоры, дабы заставить меня спуститься на воду, пусть законы самой природы обернутся против меня, мне наплевать! Я готов ждать следующей зимы, чтобы переправиться по льду! Готов построить мост или подняться вверх по реке к ее истокам! Готов, наконец, потратить десять лет, чтобы добраться отсюда до Бразилии — пешком, на лошади, на телеге, на локомотиве или на воздушном шаре! Но я ни за что не переправлюсь через Юкон по воде! — Простите, вы действительно готовы лететь на воздушном шаре? — решил уточнить капитан. — Да! Хотя идея эта и безумна… — Не так безумна, как вы думаете, поскольку я мог бы помочь вам. — У вас есть воздушный шар? — Да, сэр.
ГЛАВА 2
От островов Диомида до форта Нулато. — Прощание с якутами. — Капитан Роджерс в поисках открытой воды. — Условие подъема воздушного шара. — Без водорода. — Огорчение. — Жак Арно в роли изобретателя. — Монгольфьер. — Глиняный кувшин, двадцать пять литров китового жира, печная труба и тюлений желудок. — Испытание. — Восхищение хозяина. — Драматические последствия неуемных восторгов. — Непредвиденный отлет.Читатель, пожелавший вместе с героями совершить долгое путешествие из Парижа в Бразилию по суше, конечно, не забыл ни о причине выбора подобного пути, ни, тем более, о драматических событиях, ознаменовавших отъезд землепроходцев из Сибири. Наш читатель уже получил достаточное представление о паническом страхе Жака Арно перед морской болезнью — неисчерпаемом источнике шуток для его друга Жюльена де Клене, отказавшегося, впрочем, от приятного парижского времяпрепровождения и отправившегося в путь вместе с Жаком. Знает он и о том, как друзья, покинув Европу, вступили в Сибирь, где по выезде из Томска стали жертвой роковой ошибки, были схвачены казаками и оказались на положении арестантов. Правда, недоразумение вскоре разрешилось, и путешественники добрались благополучно до города Иркутска. Точно так же осведомлен читатель и о побеге Алексея Богданова, безвинно пострадавшего ссыльнокаторжного, о его встрече с нашими героями, о фантасмагорических[169] скитаниях этой троицы по бескрайним просторам Восточной Сибири и ее прибытии на арктическую зимовку профессора Норденшельда в Колючинской губе. Помнит он и об ужасной смерти бывшего начальника полиции города Томска, лютого врага отважных парижан и их русского друга, и о неожиданном появлении на островах Диомида трех канадских охотников, спасших путешественников от неминуемой гибели во льдах Берингова пролива. Предки этих промысловиков были родом из Франции, о чем свидетельствовали имена звероловов и их прекрасное владение французским языком. Местожительством трех рослых канадцев являлась американская фактория Нулато на территории бывшей Русской Америки, приблизительно в двухстах пятидесяти лье от островов Диомида. Жозеф Перро и два его брата, Эсташ и Малыш Андре, с удивительной легкостью отказались продолжить нелегкий, но суливший немалую выгоду арктический промысел и предложили проводить путешественников до самой фактории, убедив их, что просто не могут лишить себя удовольствия помочь попавшим в затруднительное положение соотечественникам. От имени своих товарищей Жюльен согласился, однако на правах кассира маленького отряда взял с достойных трапперов слово, что по прибытии на место те примут все же небольшое вознаграждение, размеры которого должны быть определены самим Жюльеном. Прямо скажем, добиться от канадцев такого обещания было нелегко. Охотники упорно твердили, что продают только добытые ими шкурки, да и то американцам, а истинным французам из старой Франции они вправе предложить лишь товар, не имеющий цены, а именно: свою преданность. — Ну и отлично! — примиряюще ответил Жюльен. — Мы оплатим преданность той же монетой, то есть признательностью, и это справедливо. Но несправедливо, если вы, помогая нам, лишитесь тех доходов, которые мог бы дать зимний промысел. И поэтому я оплачу шкурки не пойманных вами зверей, чтобы вы могли спокойно ожидать следующего охотничьего сезона. Итак, мои отважные друзья, по рукам?.. Тогда в путь! Якуты раздобыли у местных эскимосов новые оленьи упряжки, канадцы отыскали свои сани, и вскоре арктический караван решительно тронулся на восток. Впервые за последнее время дорога обошлась без происшествий. Леса обширного полуострова, заключенного между заливами Коцебу и Нортона и оканчивающегося мысом Принца Уэльского, в изобилии снабжали людей свежим мясом, а оленей — мхами и лишайниками. Да и мороз среди огромных деревьев, покрытых снегом и тем самым создававших заслон против ледяных ветров тундры, был не столь жгуч. Покинув острова Диомида, путешественники уже через шесть дней прибыли в окруженный деревянным частоколом форт Нулато, где господин Андерсон, хозяин фактории, оказал им самое сердечное гостеприимство. Друзья вовремя завершили переход. Ибо менее чем через двое суток после их прибытия в городище над Аляской пронеслась череда ураганов, которые сделали бы их странствие менее приятным и более опасным. Шолем и якуты-каюры, щедро снабженные товарами со складов фактории, немедленно отправились в обратный путь в Сибирь, спасаясь от порывов ветра и метелей не больше, чем французский крестьянин от первого весеннего дождичка. Трое путешественников не без сожаления расставались с отважными якутами, особенно с Шолемом, который также успел привязаться к ним. Этот удивительный человек готов был сопровождать их до самого экватора, куда еще никогда не ступала нога его соплеменников. Но разве можно было забирать из родных краев могучее дитя тундры? Кто знает, не окажет ли жаркое экваториальное солнце отрицательное воздействие на этого «железного человека», привыкшего, как и весь его род, к северной стуже? Поэтому, как бы ни было тяжело, распрощаться все же пришлось. Наши друзья решили, воспользовавшись холодами, добраться на санях хотя бы до Виктории, столицы Британской Колумбии, однако погода распорядилась иначе, и они надолго застряли в форте Нулато. Алексей Богданов, счастливый тем, что избавился от ужасов русской каторги, терпеливо переносил неудачу. Жюльен де Клене, уверенный, что они в любом случае достигнут цели, философски ожидал, когда природа наконец успокоится. Один лишь Жак Арно пребывал в унынии, ибо знал, что хотя обычно раннее таяние и сменяется новыми морозами, это, однако, вовсе не исключает того, что весна может наступить вслед за первым же потеплением и решительно освободить реки из ледяного плена. Поскольку, несмотря на все трудности и превратности странствий по суше, и без того панический страх Жака перед водной стихией в последнее время даже еще более возрос, если только можно было определить так его чувства, то не стоит и говорить, какое огорчение он испытал, когда убедился, что лед на Юконе тронулся окончательно и бесповоротно. Вернувшись в форт после последнего посещения реки, Жак впал в отчаяние, ибо ни один, даже самый экстравагантный, способ преодоления Юкона не приходил ему в голову. И тут хозяин с присущей американцам флегмой[170] сообщил ему, словно само собой разумеющееся, что у него есть воздушный шар. Воздушный шар!.. Здесь! Жак и его друзья не верили своим ушам. Жюльен, зная, что Жак ни за что не поступится своими принципами, и опасаясь новых коварств местного климата, сразу же загорелся этой идеей. — Продается ли шар? — обратился он к начальнику фактории. — Да, если вы захотите купить его. — Отлично! В каком он состоянии? — В превосходном. Впрочем, вы сами сможете убедиться в этом, перед тем как выложить деньги. — Но где, черт побери, вы нашли хранилище для сего навигационного средства? — Э!.. Ты произнес слово «навигация», — прервал Жюльена Жак. — Мой дорогой, термин не имеет ничего общего с тем, о чем ты подумал, и мне кажется, что от одного только этого слова ты не заболеешь морской болезнью. Жак невольно рассмеялся. — Как нетрудно предположить, — сказал господин Андерсон, — аэростат мне совсем без надобности. Он достался мне от английского капитана Роджерса, когда тот на паровом судне «Город Глазго» отправился на поиски нового пути к Северному полюсу. Этот отважный человек решил осуществить мечту вашего соотечественника Гюстава Ламбера, чья жизнь, к величайшему сожалению, уже оборвалась. Следуя вдоль берега острова Врангеля, Роджерс надеялся найти незамерзающий морской проход. Обнаружив его, он бы вернулся на следующее лето за своим монгольфьером[171] и здесь, на месте, наполнил бы его водородом. Исследователь собирался с помощью шара изучить режим верхних слоев атмосферы и одновременно, используя особо сильные увеличительные стекла, — простершееся за горизонт ледовое пространство, чтобы убедиться de visu[172], где лучше прокладывать путь кораблям или нартам. Увы, как и многие другие, капитан Роджерс пропал безвестно, и его детище вот уже три года является моей собственностью. Именно моей, поскольку сумма, которую я смогу выручить от его продажи, едва компенсирует стоимость провизии, одежды, собачьих и оленьих упряжек, которые я в свое время предоставил членам экспедиции. — И где же теперь шар? — В одном из бастионов по углам частокола. Я приказал разрушить верхние перекрытия укрепления и установить на высоте кровли крепкий блок, через который пропущен перлинь[173] с четырьмя крюками на конце. Затем шар перевезли в бастион и подняли, подцепив крюками за ячейки сетки. Там-то на него и можно взглянуть. — Прямо сейчас? — А почему бы и нет? Действительно, хозяин очень точно описал местонахождение монгольфьера. В центре фортеции[174], словно огромный светильник, висел великолепный аэростат без такелажа[175]. Легкая корзина свободно вмещала четырех человек, а шелковая сетка, казалось, была так прочна, что выдержала бы любые нагрузки. Да и сама оболочка летательного аппарата, по-видимому, находилась в отличном состоянии, ибо хранилась в совершенно сухом и прекрасно проветриваемом помещении. Жюльен пощупал складки, провисшие под сеткой, и не без удивления констатировал, что оболочка сделана не из прорезиненной ткани, а из кусочков бодрюша[176], наклеенных один на другой. — Кишечная пленка, — пояснил капитан, — иногда предпочтительнее прорезиненной ткани. Особенно в полярных областях, где под воздействием холода каучук становится ломким. А с этим материалом вам никакой мороз не страшен, да и ремонт значительно облегчается — достаточно только иметь несколько лоскутов и немного клея для заделывания прорех. Разрыв же тканевой оболочки практически невозможно починить. — Ну и отлично, дорогой капитан, значит, договорились, и я становлюсь владельцем вашего аэростата, — заключил Жюльен. — С наступлением первых погожих дней мы приступим к его наполнению… У вас ведь найдется, из чего получить водород, а именно: цинк и серная кислота? — О Господи!.. — шумно вздохнул хозяин и звучно, словно в гонг, ударил себя в грудь. — Что такое? — Капитан Роджерс не оставил мне ни цинка… ни кислоты!.. Разочарованный вопль вырвался из груди троих друзей. — Ни газа! — воскликнул огорченно Жюльен. — Ни газа! — словно эхо, повторил Жак, глубоко огорченный новым препятствием. — Мой бедный друг, — обратился к нему со вздохом Жюльен, — согласно истине, открытой когда-то господином де ла Палиссом, не следует самому ухудшать свое и без того плачевное положение. Я бы просто сказал, что нам снова предстоит решить очередную неразрешимую задачу. — Опять ты веселишься, злодей! Не лучше ли изречь что-нибудь дельное? — Ну что ж, слушай: воздушному шару подъемную силу придать без водорода так же невозможно, как выстрелить из ружья без пороха или приготовить заячье рагу без зайца. — Неужели нет другого способа получения водорода без этой варварской смеси из цинка и безводной серной кислоты?.. Подумайте, Алексей, что еще можно сделать: вы же ученый! — взмолился Жак. — Есть неплохой способ получения водорода при разложении воды электричеством… — Ах да, электролиз воды… Мы изучали его на занятиях по физике. — Но для этого потребуются сложные механизмы, — продолжал Алексей. — Или, по крайней мере, электрические батареи значительной мощности… Конечно, можно было бы использовать энергию падающей воды… Течение Юкона… как мне кажется… — «Как мне кажется»!.. Хорошенький ответ для ученого, даже если и прозвучал за стенами его лаборатории! — искренне возмутился Жак. — Значит, я, как пень, по-прежнему должен торчать перед рекой, не в состоянии перебраться на другой берег, — да еще на сей раз и с пустым шаром в придачу! Что ж, видно, остается смириться и положиться на милость природы. Но пассивное ожидание счастливого случая никак не соответствовало нынешнему душевному настрою бывшего помощника префекта, ибо с той поры, как Жак покинул префектуру департамента Сена, его характер сильно изменился. Поэтому, что бы там ни говорили, он не собирался безропотно сдаваться. Вспомнив, что все изобретения в промышленности были вызваны необходимостью, упрямец принялся энергично размышлять и, проведя ночь без сна, наутро вышел к друзьям, радостно потирая руки: — Держу пари, что ни один из вас — ни вы, юное академическое дарование, взращенное в московских университетах, ни ты, наш запасливый путешественник, — не додумался, как поднять шар в воздух! — Если ты предлагаешь пари, значит, уверен, что выиграешь, — заметил Жюльен. — Так с чего это ты так развеселился? — Это уж мое дело! — Ах, вот как! — Именно так. — А все-таки, что ты там придумал? — Узнаете, но не сейчас. Чем сильнее вы удивитесь, тем полнее будет мой триумф. Я собираюсь подняться в воздух с помощью устройства, о котором вы даже представления не имеете. И даю вам хороший совет: готовьтесь-ка в путь-дорогу! Я тоже буду собираться, но самостоятельно. А затем мы отбудем отсюда при первой же возможности. Как только прекратится дождь и стихнет ветер — вперед, навигаторы, по воде и по воздуху! Жюльен, можешь покупать шар. А что до вас, дорогой капитан, то я буду вам весьма признателен, если вместе с ключами от бастиона получу пару ножниц, несколько мотков железной или латунной проволоки, кусок печной трубы из черной жести[177], глиняный кувшин из тех, где вы держите свои соленья, двадцать пять литров китового жира и четыре метра тюленьих кишок. Думаю, что раздобыть для меня все эти предметы не составит особого труда. — Конечно, проще простого, — ответил удивленный хозяин. — Ах!.. Совсем забыл про обруч из железа или дерева. Материал не имеет значения, лишь бы его диаметр был равен сорока сантиметрам… А теперь, господа, за работу! Займемся-ка каждый своим делом. И главное, чтобы никто не входил ко мне в мастерскую в течение двадцати четырех часов. Окончательно сбив с толку своих спутников, пораженных не столько его хвастливым тоном, сколько беспорядочным набором предметов, которые обязательный капитан собирался для него разыскать, Жак, важный, как павлин, направился, насвистывая, к бастиону. Когда же вечером он вошел в гостиную, где собрались за трапезой обитатели большого дома фактории, то можно было смело сказать, что он с пользой употребил время, ибо лицо его буквально излучало сияние. Впрочем, энтузиаст-самоучка ни словом не обмолвился о том, в каком же состоянии находится то, что он отвлеченно называл «моим делом», и, как человек, уверенный в успехе своего начинания, лишь кратко отвечал на многочисленные вопросы: — Завтра утром… Увидите… Если, конечно, погода позволит… Да… завтра утром я надую мой шар… Сперва простой опыт, а потом и взлет… Теперь же, с вашего позволения, поговорим о другом. Решительно все способствовало тому, чтобы звезда начинающего изобретателя ярко засияла на небосклоне. Порывы ураганного ветра за ночь разогнали последние дождевые облака, а с восходом солнца подул свежий бриз[178], избравший к утру постоянное направление на северо-восток. Лучшей погоды для испытания шара Жак и желать не мог. Зрители торжественно собрались у бастиона, и наемные рабочие, предоставленные хозяином в распоряжение путешественника, быстро вынесли аэростат во двор, где было намечено произвести его пробный запуск. Взору присутствующих предстало странное сооружение, в центре коего располагался глиняный кувшин с куском жестяной трубы, выглядывавшим из его горлышка. Жак взирал на свое детище с нескрываемым умилением. — Он сошел с ума, — пробормотал вполголоса Жюльен, созерцая это чудовище. — Сошел с ума?! — перебил его Жак с горькой улыбкой непризнанного гения. — Он говорит, что я сошел с ума! Увы, замечательные изобретения всегда встречали на своем пути недоверчивую толпу хулителей. К примеру, разве не отверг Наполеон Фултона[179], — на собственное же несчастье? И не заявлял ли господин Тьер[180], что железные дороги навсегда останутся всего-навсего дорогостоящими игрушками, а телеграф будет применяться в лучшем случае лишь в лабораторных опытах?.. Вспомним также Араго[181] и Бабине[182]. Если первый говорил, что пассажиры никогда не станут ездить в туннелях, то второй уверял всех в невозможности создания трансатлантической телеграфной связи… Называю только самых знаменитых, ибо для перечисления всех скептиков и дураков не хватит и целого дня. Ты считаешь, что я сошел с ума, словно мною и в самом деле сделано гениальное открытие. Спешу тебя заверить, что лично я ничего не изобретал, а лишь ограничился повторением эксперимента, поставленного впервые, и весьма успешно, братьями Монгольфье. — Ладно, давай начинай, — ответил Жюльен без особого энтузиазма. — Если и в самом деле тебя ждет удача, я с радостью тебе поаплодирую, ну а если ничего не получится, то выражу свое сочувствие. — Готовься аплодировать, я уверен в успехе!.. Впрочем, согласен, что неуклюжий аппарат, который ты видишь перед собой, внешне довольно невзрачен. Однако имей почтение к сему кувшину, содержавшему некогда червивое мясо, ибо сейчас в него заключена душа моего монгольфьера. Правда, слово «душа» звучит несколько вычурно. И все же я настаиваю на нем… Именно душа! В кувшине имеется двадцать пять литров китового жира, в который опущен толстый пеньковый фитиль, продетый через пробку с трубой, прикрепленной к ней, словно стекло к керосиновой лампе. Я рассчитал, что, сжигая этот вид топлива, смогу подогреть воздух в шаре до соответствующей температуры и тем самым придать ему нужную подъемную силу. — Для начала неплохо. Но получишь ли ты достаточно тепла? — Вспомни адскую жару в чуме у чукчей, поддерживаемую с помощью ламп значительно меньших размеров. — Да, правда. — Продолжаю. Ножницами я прорезал отверстие в нижней части шара и закрепил в нем обруч, чтобы оно все время оставалось открытым. Что же касается тюленьего желудка, то один конец его я подвесил на четырех веревках к внутренней стороне оболочки монгольфьера, расположив ровно посредине, словно вытяжную трубу. Второй же, как видишь, болтается в центре обруча, ожидая с нетерпением, когда я наконец натяну его на жестяную трубу. — С какой целью? — Если ветер начнет вдруг швырять из стороны в сторону корзину с установленным в ней этим примитивным нагревательным устройством, то и гибкая труба тоже будет раскачиваться, и я не потеряю ни грана[183] тепла. Поскольку же мой генератор теплого воздуха достаточно удален от оболочки шара, я смогу не опасаться пожара. — Но тепло, проходящее по металлическому цилиндру, поджарит тюлений желудок. — Вовсе нет, поскольку в том месте, где он должен был бы касаться жестяной трубы, на него надеты кольца из пробкового дерева, наложенные друг на друга и образующие изоляционную муфту[184]. — А как будет гореть твоя лампа, если у тебя нет ни единого приспособления для создания тяги воздуха, необходимой для поддержания огня? — Почему нет? Ты просто не заметил его… Приглядись повнимательнее и увидишь четыре ряда дырок, проделанных в жести с помощью гвоздя. Так что моя лампа сможет гореть и подогревать воздух, а это значит, что шар поднимется в атмосферу, и я поплыву — слышишь, свободно поплыву! — в поднебесной выси, не страшась морской болезни, в то время как вы далеко внизу, у меня под ногами, будете плескаться в грязной воде в лодках из оленьих шкур. — Твоя взяла! Хочешь услышать правду? — Конечно. — Так вот, хотя ты и утаил от нас свой замысел, ты победил! Изобретение превосходно!.. Аплодирую и от всего сердца поздравляю тебя! — Браво, мой дорогой! Браво! — следом за Жюльеном воскликнул восторженно и Алексей. — Я счастлив, достойные друзья мои, что заслужил от вас похвалу, но вернемся к делу. Самое большое удовольствие я испытываю при мысли о том, что мне наконец удалось преодолеть непреодолимое на первый взгляд препятствие. Внезапно голос Жака был заглушен поистине громовым возгласом, вырвавшимся из глотки хозяина: — Гип!.. Гип!.. Гип… Ур-ра!.. Великолепно!.. Превосходно!.. Джентльмен, вы достойны называться американцем!.. Посмотрите, вы только посмотрите, шар наполняется! Мы забыли сообщить читателю о том, что, демонстрируя свое изобретение, Жак соединил все части нагревательного устройства и зажег лампу, — сохраним же вслед за нашим изобретателем это название, — и горячий воздух начал заполнять огромный шар, расправляя постепенно его складки. Для облегчения запуска аэростат пришвартовали[185] к мачте с развевавшимся вымпелом форта. Фал[186], закрепленный на верхушке и перекинутый через блок, присоединили к пустой оболочке, чтобы, по мере наполнения ее воздухом, удерживать шар в вертикальном положении. Размеры летательного аппарата были таковы, что всего лишь через полчаса он обладал уже столь большой тяговой силой, что когда Жак забрался в корзину, то та даже не коснулась земли. В предвкушении счастливого мига отлета наш герой с поистине детской радостью расхаживал важно в своей птичьей клетке и, страстно желая поскорее перебраться через Юкон, мечтал о том, как уже завтра отправится в задуманное им путешествие, которое, казалось ему, будет непродолжительным и совершенно безопасным. Он уже ясно представлял себе, как возьмет на буксир своих друзей, привязав к корзине лодку, в которой они поплывут: ведь для этого нужна лишь веревка длиной метров двадцать, и все! Поскольку же ему неизбежно придется расстаться с шаром, слишком громоздким для того, чтобы брать его с собой в Южную Америку, то лучше всего, считал он, заранее договориться с лодочниками, которых Жюльен с Алексеем захватят с собой, и те без особого труда доставят аэростат назад. Восторг хозяина возрастал с каждой минутой. Он притопывал ногами, издавая звучные «ура», и приглашал всех обитателей фактории на грандиозный праздник по поводу крещения шара: — Мы назовем его «Аляска», а его крестной матерью станет миссис Андерсон… Гип!.. Гип!.. Ура «Аляске»!.. Прошу вас, господин Арно, возьмите меня с собой!.. — Охотно, дорогой капитан, — ответил Жак. — Места и подъемной силы вполне хватит на нескольких пассажиров. Впрочем, в этом легко убедиться. Начальник фактории, чей вес неуклонно стремился к ста килограммам, степенно поднялся в корзину, и та под его тяжестью осела на землю. Прошло несколько минут. Лампа горела, все сильнее нагревая воздух, и корзина, в подтверждение слов Жака, постепенно оторвалась от земли. Сомнений больше не было, шар вполне смог бы поднять нескольких человек. — Что ж, джентльмены, не кажется ли вам, что на сегодня спектакль окончен? Идемте по домам, а вечером соберемся на наш праздник! — И с этими словами хозяин вылез из корзины. Жак собирался последовать за ним, но не тут-то было. На глазах у публики, невольно издавшей вопль изумления, аэростат, освободившись от тяжелого груза, взвился вертикально вверх, привязанный к нему фал выскользнул из рук державшего его человека и с пронзительным свистом заскользил по блоку, и через каких-то несколько секунд Жак оказался на высоте не менее тысячи метров. Потрясенные зрители разинув рты глядели в испуге вслед улетавшему шару.
ГЛАВА 3
Население Аляски. — Роль трансатлантического кабеля в исследовании Русской Америки. — Река Юкон. — Путешествие по воздуху. — Жак Арно — воздухоплаватель. — Морская болезнь на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. — Топография Аляски. — Опасность приземления. — Воздушное течение. — Сон — та же еда. — Неприятное пробуждение. — «Где же я?» — Краснокожие.Берега Аляски, бывшей Русской Америки, были основательно изучены офицерами русского флота. Здесь побывали также экспедиции Лаперуза[187], капитана Кука и Ванкувера[188]. Позднее там высадился капитан Мак-Клур[189], отправившийся на поиски сэра Джона Франклина[190], а совсем недавно тщательнейшее исследование этого края предпринял француз Пинар. Однако вплоть до 1865 года никто, кроме русского морского офицера по фамилии Загоскин[191], не проникал в глубь Аляски. Хотя торговцы пушниной и агенты «Компании Гудзонова залива» продвинулись дальше других в центральные области Аляски, они не собирались публиковать отчеты о своих открытиях и находках. Поэтому географическая наука довольствовалась описаниями приграничных областей этой обширной территории площадью около миллиона пятисот тысяч квадратных километров, омываемой на севере водами Северного Ледовитого океана, на западе — проливом и морем Беринга, на юге — Тихим океаном и граничащей на востоке с Английской Америкой[192]. Текст договора о приобретении Аляски Соединенными Штатами Америки свидетельствует о том, что вместе с ней от России отходили также острова Диомида, где благополучно завершился первый этап путешествия из Парижа в Бразилию по суше, остров Святого Лаврентия, остров Нувивок, архипелаг Прибылова, состоящий из островов Святого Павла и Святого Георгия в Беринговом море, Алеутские острова, отделяющие Берингово море от Тихого океана и образующие цепь, протянувшуюся полукругом между полуостровами Аляской и Камчаткой, остров Кадьяк, остров Ситка, остров Адмиралтейства и архипелаги Короля Георга и Принца Уэльского, расположенные вдоль западных берегов Аляски, омываемых Тихим океаном. Что же касается внутренних районов полуострова Аляска, то относительно их долгое время документальные источники практически отсутствовали. Но после двух неудачных попыток, в 1858 и 1864 годах, соединить Америку с Европой при помощи телеграфного кабеля, проложенного по дну Атлантики, американская компания задумала связать Новый Свет со Старым при помощи наземного телеграфа, проведя его, соответственно, по территории Русской Америки и подключив к кабелю, проходившему по дну Берингова пролива. Соответствующие изыскания, начатые в 1865 году, позволили талантливому, обладавшему недюжинной эрудицией художнику господину Фредерику Вимперу восполнить эту лакуну[193]. Правда, в результате прокладки трансатлантического кабеля, успешно завершившейся десятого августа 1866 года, потребность в наземной телеграфной линии на Аляске отпала, однако для науки открытия господина Вимпера имели огромное значение, и посему в 1868 году в Лондоне были опубликованы весьма своеобразные по форме и содержанию труды этого ученого, проиллюстрированные рисунками, выполненными им же самим. Отныне Аляска заняла достойное место в географической науке. Были выправлены координаты Юкона, великой реки Аляски, чье устье некоторые картографы помещали на 70°30′ северной широты и около 162° западной долготы, то есть в Северном Ледовитом океане, в то время как в действительности она впадает в Берингово море на 63° северной широты и 166° западной долготы, или на семь градусов южнее и на четыре градуса западнее, чем предполагалось ранее. Ошибка эта тем более достойна сожаления, что Юкон, название которого пока еще мало кому известно, — одна из крупнейших рек мира. Соперник могучих потоков, орошающих Азию и обе Америки, он не уступит им ни в ширине, ни в протяженности. Сопоставимый по первому показателю только с гигантской Миссисипи[194] и значительно превосходящий в этом отношении Ориноко[195], Юкон в двухстах метрах от своего устья достигает ширины трех километров. А еще дальше он и вовсе разливается столь вольготно, что берега его совершенно теряются из виду. Здесь река образует лагуны[196] шириной более двух лье, усеянные бесчисленными островами. Столь же поражает воображение и протяженность Юкона. Отряд по прокладке телеграфной линии, пройдя вверх по реке расстояние в 650 лье, что составляет общую длину Ориноко, все еще находился более чем в шестистах километрах от ее истока. Каждый приток Юкона равен по своей протяженности крупной европейской реке. Окидывая взором этот гигант, протекающий по необъятным просторам, равным целым государствам, начинаешь понимать ту наивную гордость, которую он внушает обитающему по берегам его коренному населению. Так, индейцы, вне зависимости от того, из верховий они или из низовий, к какому племени принадлежат и сколь далеко проживают друг от друга, — все эти племена пастоликов, примосков, индижелетов, т-китсков, невикаргу, танана — людей буйвола, нуклукайетов, биршей — людей березы, коюконов, коч-а-кучинов — людей крысы, ан-кучинов или татанчок-кучинов, — с гордостью заявляют: «Мы не дикари, мы — индейцы Юкона!» И раз уж нам представилась такая возможность, то мы воспользуемся ею и, помимо вышеупомянутых, назовем еще ряд племен, обитающих на Аляске и представляющих краснокожую расу во всей ее красе[197]. Это и луше, проживающие за Полярным кругом, в устье реки Маккензи, и такалли, или карриер, и кутани, и нагаилы, и кольютчес, населяющие острова Ситка и Королевы Шарлотты, и атны, встречающиеся по берегам Медной реки, или Купер-Ривер[198], и северные эскимосы, миролюбивые и безобидные люди, с которыми луше ведут яростную войну, и жители Порт-Кларенса, изученные Норденшельдом, и чукчи с мыса Принца Уэльского. Но и этот перечень племен северо-запада Америки, увы, слишком краткий! Однако мы, к сожалению, не сможем продолжить далее рассказ о нравах и обычаях местных жителей, несомненно, весьма увлекательный, ибо пора уже возвращаться к нашим героям, с которыми мы расстались в форте Нулато во время неожиданного взлета воздушного шара, унесшего Жака Арно в поднебесную высь. Мы надеемся, что читатель простит нас за краткость приведенного описания, скромной целью которого было дать представление о стране, где начинаются новые приключения парижанина, путешествующего вокруг света, и где наш новоявленный воздухоплаватель поднялся в воздух. Известно, что регулировать высоту подъема воздушного шара можно, в частности, путем увеличения или, наоборот, уменьшения веса балласта. Бывает, что шар, удерживаемый на земле балластом столь же прочно, как и мощным швартовом, легко поднимается в воздух, стоит только убрать несколько граммов груза. В этом случае наполняющий оболочку воздух лишь ненамного легче балласта. Поэтому, зная о ста килограммах капитана Андерсона, нетрудно представить, с какой скоростью Жак Арно устремился ввысь. Из-за значительной разницы между плотностью нагретого воздуха в монгольфьере и плотностью атмосферного воздуха, температура которого едва достигала трех градусов выше нуля, путешественник буквально в одно мгновение оказался на высоте около тысячи пятисот метров над уровнем моря. Ошеломленный столь неожиданным поворотом событий, не имевшим ничего общего с тем, что ему доводилось пережить ранее, Жак под отдававшиеся звоном в ушах изумленные крики, среди которых можно было разобрать и отчаянные вопли друзей, продолжал с невероятной быстротой подниматься в поднебесье, и скоро собравшиеся внизу окончательно потеряли его из виду. Ослепленный лучами солнца, отважный аэронавт[199] сидел на корточках на дне корзины и, зажав между коленями кувшин с жиром, попытался обрести свойственное ему хладнокровие. Однако единственное, что ему удалось сделать, — это только съежиться, чтобы стать как можно меньше, хотя бедняга и сам не знал, к чему подобные ухищрения. В столь неудобном положении он и замер, утратив от испуга способность не только действовать, но и мыслить. Подъем был ужасен. Жаку казалось порой, будто шар уже не поднимался, а, напротив, с головокружительной скоростью падал вниз. И тогда он, охваченный смертельным страхом, словно ему предстояло скатиться в бездонную пропасть, сжимался еще сильнее. Странное падение снизу вверх! Подобные ощущения можно испытать только в кошмарном сне. Но постепенно скорость подъема стала замедляться и наконец шар, покачиваясь, завис в воздухе. Сохрани Жак присутствие духа и имей он барометр, он бы определил, что подъем окончен: те, для кого полеты на аэростатах — дело привычное, знают, что без соответствующих приборов трудно установить, поднимаешься ты или опускаешься, поскольку только изменения ртутного столбика могут сообщить точные данные. Но Жак, отправившийся в полет столь неожиданно, во время предварительного испытания шара, не располагал подобными физическими приборами. Да и корзина не была подготовлена к полету: в ней не находилось ни балласта, ни провизии. Наш герой даже не знал, в порядке ли клапан, устроенный наверху монгольфьера. Единственное, чем он обладал, — это небольшим стальным четырехлапым якорем с когтистыми крюками на концах, который, вместе со швартовом, чудом удержался на внешней стороне корзины. Ситуация, малоприятная для профессионального воздухоплавателя, для человека, совершенно чуждого трудному искусству управления воздушным шаром, становилась просто катастрофической. Резкие толчки корзины вывели в конце концов Жака из оцепенения и помогли ему обрести обычное хладнокровие — чувство, непременно сопутствующее первопроходцам и редко покидавшее нашего путешественника. Просунув голову через шелковые веревки, крепившие корзину к сетке шара, он уверенным взором окинул летательный аппарат. — Однако, — задумчиво произнес он, — я вроде бы лечу… — И действительно, аэростат быстро мчался над землей. — Шар движется, словно поезд по железной дороге. Странно, не чувствуя ни малейшего колыхания ветерка, я вижу, как предметы внизу подо мной проносятся с неслыханной скоростью… Домишки под деревьями, кажущиеся отсюда такими приземистыми, — это стремительно убегающий от меня форт Нулато. Широкая, капризно извивающаяся зеленоватая лента, поблескивающая на солнце, — это Юкон… самая большая река Аляски… мой Рубикон[200], через который я и в самом деле перешел столь необычным способом, невзирая на преждевременный ледоход и не нарушив установленного мною правила — никогда не подниматься на борт судна, ни большого, ни маленького… Пейзаж, открывающийся из окон этой неожиданной обсерватории, весьма любопытен, и я воистину могу считаться первым, кто его увидел… Бескрайняя горная цепь с заснеженными вершинами, вровень с которыми я плыву, — вероятно, горы Юкона… Не исключено даже, что я поднялся даже немного выше их… Река, текущая вдоль горной гряды с востока на юго-запад, — это Шагелок… Черт возьми, скорость шара все возрастает, и я неумолимо лечу вперед… К счастью, меня несет на юго-восток, в направлении, избранном для нашего путешествия через Северную Америку… Однако, как бы ни был удобен такой способ передвижения, пора бы и остановиться… Друзья, наверное, уже волнуются, а раз цель достигнута, то пора поискать какой-нибудь способ опуститься на землю… Как все-таки жаль, что в маленькой клетке, где я скорчился, словно голубь на жердочке, со мной нет Жюльена и Алексея… Сеанс воздухоплавания слишком уж затянулся: позади осталось изрядное расстояние!.. Интересно, что они там подумали о моем столь неожиданном отлете?.. Индейцы, живущие в этих краях, наверняка бы испугались неожиданного появления огромного круглого шара, похожего на дневное светило!.. И все равно, не опасаясь за свою репутацию человека скромного, я откровенно заявляю, что горжусь этим маленьким изобретением, которое, хотя и не запатентовано, вполне могло бы занять достойное место в ряду себе подобных… Однако довольно слов. Время идет, набегают все новые и новые километры, а посему пора, выбрав благоприятное для приземления место, нажать на тормоз, или, точнее, открыть клапан, чтобы выпустить горячий воздух. Сказано — сделано! Жак отцепил якорь от корзины, и тот плавно поплыл в воздухе, словно паучиха на конце своей нити. Затем аэронавт поневоле широко открыл клапан и стал терпеливо ждать, пока аэростат коснется земли. Шар медленно начал опускаться, и через некоторое время воздухоплаватель отметил не без удовольствия, что предметы на равнине стали увеличиваться в размерах, — свидетельство того, что монгольфьер покидал верхние слои атмосферы. Но скоро радость уступила место удивлению, а затем и страху: чем ниже опускался Жак, тем с большей скоростью двигался шар. Деревья, холмы, ручейки, овраги летели словно искры от костра: взор путешественника ни на секунду не успевал задержаться ни на одном объекте. В эту минуту он едва ли помнил о том, что так убегает горизонт, когда мы смотрим на него из вагона быстро мчащегося поезда, не будучи в состоянии отделаться от впечатления, что это не мы движемся, а предметы за окном. Скоро подобноебеспрерывное мелькание стало не на шутку беспокоить Жака. Чтобы лучше понять его ощущения, вспомним, что, выглядывая из окна несущегося на полной скорости поезда, видишь, как убегают назад выстроившиеся вдоль железнодорожного полотна телеграфные столбы, в то время как находящиеся вдали предметы, наоборот, устремляются навстречу тебе, отчего и возникает представление, будто они вот-вот столкнутся с поездом. Спустя какое-то время все предметы закружились в невообразимом хаосе, приобретя причудливые очертания и объемы. Невозможно было ничего распознать, и бедный навигатор[201] почувствовал, как тошнота подступает к горлу. В висках, словно стянутых железным обручем, застучала кровь, лоб покрылся испариной. — Черт побери! — воскликнул он, пытаясь сопоставить эти симптомы с теми, что неизменно предшествуют недугу, одного лишь упоминания о котором он так страшился. — Ошибки быть не может: у меня самая настоящая морская болезнь!.. Выходит, так на роду написано, никуда мне от нее не деться!.. Не лучше было бы тогда подождать еще немного и просто переправиться через Юкон на лодке?.. Такое путешествие было бы и короче и безопаснее!.. Тем более что теперь я не могу приземлиться, не рискуя сломать себе шею… Проклятый шар движется со скоростью более двадцати лье в час, а у меня нет даже специального каната, чтобы с помощью его смягчить удар корзины о землю, которого моей клетушке никак не выдержать при данных обстоятельствах… Пора снова подниматься, и как можно скорее… К счастью, сильный ветер несет меня в нужном направлении… Впрочем, поспешим закрыть клапан и подождем, что будет… Ураган скоро кончится… Когда я отправился в это путешествие, ветер дул со средней силой, сейчас же он — как при хорошей грозе, хотя на небе ни единого облачка!.. Но это меня не особенно волнует… С моим запасом масла я, пожалуй, достаточно долго смогу удерживать шар в состоянии полета. Если бы Жак вспомнил, на какой высоте расположен форт Нулато, он бы нашел удовлетворительное объяснение такому феномену, как возрастание скорости ветра по мере подъема шара. Фактория на берегу реки разместилась в довольно глубокой долине Нижнего Юкона. На юге, параллельно левому берегу, протянулась небольшая горная цепь высотой до восьмисот метров, известная под названием Юконских гор. Южные склоны ее сменяются чередой горных плато, плавно переходящих в плодородную, упирающуюся в Аляскинский хребет долину, раскинувшуюся на значительной высоте над уровнем моря. Отметим также, что Центральное плато бывшей Русской Америки, протяженностью в двести и шириной — в сто пятьдесят лье, берущее начало у Скалистых гор, спускается к Бристольскому заливу, в то время как земли между Юконом, Северным Ледовитым океаном и Беринговым проливом представляют собой низменность. И, поднимаясь на высоту полутора тысяч метров из низины, где, словно на дне огромного карьера, пристроилась фактория, шар неизбежно попадал в сильное воздушное течение, никак не ощущавшееся обитателями Нулато. Ураган, успокоившийся в нижних слоях атмосферы, наверху бушевал с такой силой, что скорость движения аэростата, образно говоря, уже не поддавалась измерению. Отсутствие же облаков объяснялось тем, что северный ветер, пролетая над абсолютно сухими полярными льдами, не мог напитаться водяными парами, и поэтому гонимые им воздушные массы оставались совершенно прозрачными. Столь же чисты и прозрачны и воздушные массы, гонимые памперо — страшным ураганом, рождающимся в Андах и беспрепятственно пересекающим две сотни лье аргентинской пампы, или пампасов, перед тем как обрушиться на прибрежные города Атлантики. Поскольку в аргентинской пампе никогда не бывает дождей, памперо — абсолютно сухой ураган. Он опрокидывает дома, выкорчевывает деревья, разбивает стоящие у причалов корабли, — в общем, повсюду производит ужасные опустошения, но небо при этом остается безоблачным, а солнце сияет все так же ярко. Жак закрыл клапан, и вскоре монгольфьер снова набрал прежнюю высоту, где нашему путешественнику более не грозила смертельная опасность внезапного приземления. Хотя скорость полета аэростата возросла, достигнув своего предела, Жак чувствовал себя отнюдь не дурно. Увлекаемый воздушным течением, шар быстро и ровно скользил в поднебесье, составляя со своим пассажиром как бы единое целое, и, глядя на них со стороны, можно было бы смело сказать, что теперь они оба дружно летели вперед. Правда, головокружение, вызванное хаотическим движением объектов на земле, сменилось сонным оцепенением, с которым воздушный навигатор попытался было бороться, но безуспешно. Пустившись в путь после легкого завтрака и не имея с собой ни крошки съестного, Жак философски рассудил, что пора последовать мудрой пословице: «Сон — та же еда». Закутавшись в шубу, он свернулся клубком и тотчас заснул, уткнув нос в колени. Сон его, несомненно долгий, внезапно был нарушен резким толчком и яростными криками, раздавшимися снизу. Жак с удивлением открыл глаза, и первое, что он увидел, был монгольфьер, потерявший добрую половину наполнявшего его воздуха, ибо генератор теплого воздуха прекратил работать. Окинув быстрым взором окрестности, молодой человек заметил, что впереди, насколько хватало глаз, высилась отвесная горная гряда, чьи заснеженные вершины ярко пылали в лучах заходящего солнца. Аэростат, по-прежнему влекомый ветром, постепенно опускался и через несколько минут должен был коснуться земли. Внизу, куда ни кинь взгляд, простирались раскидистые темные кроны могучих елей, среди которых то там, то здесь, словно хлопья снега, клубились густые дымы от многочисленных костров, разнося по воздуху запах смолы. По мере того как шар приближался к земле, крики становились все сильнее. Жак свесил голову через борт корзины и в страхе отпрянул. Ватага краснокожих, гроздью повисших на канате якоря, яростно тянула монгольфьер к себе, в то время как остальные их соплеменники прыгали и размахивали руками, потрясая луками, томагавками[202] и даже ружьями. — Индейцы! — испуганно пролепетал путешественник. — Индейцы!.. Но где же я?.. Едва ли эта горная цепь — Аляскинский хребет… Ибо трудно представить, чтобы я удалился от форта Нулато более чем на двести лье… Друзья мои!.. Дорогие мои друзья!.. Увижу ли я вас когда-нибудь?
ГЛАВА 4
Три отважных помощника. — Неудавшаяся переправа. — Возвращение мороза. — На санях через реку. — Двадцать четыре часа, изменившие обстановку. — Язык шинук. — Луна-беглянка. — По Аляске. — Остановка. — За свежим мясом. — По следам лося. — Два выстрела. — Волнение канадца. — Малыш Андре в опасности. — На поляне. — Гризли. — Бег вокруг дерева. — Охотник, ставший дичью.— Вперед, Эсташ, Перро, Малыш Андре! Вперед, ребятки! Поспешим!.. Время не ждет… Пора в путь-дорогу! — Едем, хозяин, едем, — спокойно ответил Жозеф, чьи энергичные движения являли разительный контраст с его медлительной речью. — Сани готовы? — Да, хозяин. — А провиант? — Упакован и надежно увязан. — Отлично!.. А оружие?.. Боеприпасы?.. — Вы же знаете, мы, охотники, скорее забудем надеть штаны, чем взять ружья… — Знаю, дети мои! Отважные, как львы, вы будете мне добрыми помощниками. — Черт побери, вы что же, хозяин, сомневались, что мы сделаем все, чтобы найти нашего бедного приятеля, которому вдруг взбрело в голову удрать отсюда по воздуху? — Так я рассчитываю на вас? Вы ведь не вернетесь в форт без известий о нем?.. Без хороших известий, правда? — Будьте уверены! Положитесь на нас. Слово Перро! — Слово Эсташа! — Слово Малыша Андре! — громогласным эхом отозвался следом за старшими братьями и третий богатырь. — Помните, в течение всего того времени, что вы проведете в походе, вам будет начислена двойная плата. Кроме того, получите также право на часть добычи. — Что ж, спасибо, хозяин. Однако, не хочу вас обидеть, едем-то мы вовсе не из-за денег, а по велению сердца. Хотя, честно скажу, таких хозяев, как вы, надо поискать! Мы, я и двое моих ребят, дали слово отправиться на поиски нашего земляка и найти его во что бы то ни стало. А раз уж и вы дали нам «добро», большего нам и не надо, мы всем довольны. Не так ли, ребятки? — Довольны, как северные олени по первой оттепели! Приход Жюльена и Алексея, полностью экипированных для длительного путешествия, прервал напутствия, с которыми обращался к охотникам капитан Андерсон, хозяин Нулато. С тех пор как непредвиденный случай в мгновение ока разлучил Жака с друзьями, прошло двадцать четыре часа. И за это время произошли кое-какие события, предшествовавшие описанной выше сцене. Мучимые тревогой за судьбу незадачливого аэронавта, Жюльен и Алексей жаждали всей душой как можно скорее отправиться на его поиски. Но для этого им прежде всего необходимо было найти способ перебраться через Юкон, ставший мощной преградой между ними и их улетевшим другом. Привыкнув за время пути преодолевать различного рода препятствия, Жюльен и Алексей были готовы к предстоящим трудностям, но широкая река, несшая бесформенные глыбы пористого льда вперемежку с гигантскими стволами деревьев, сводила на нет все их планы. Не страх удерживал их от новой попытки переправиться через реку, а лишь естественное стремление избежать верной и бессмысленной гибели. Но сдаваться они не собирались. И, вместо того чтобы окончательно примириться с создавшимся положением, Жюльен и Алексей решили спустить на льдины байдару — туземную лодку из смазанных салом оленьих шкур, натянутых на каркас из китового уса, что придает суденышку исключительную легкость. Они надеялись перебраться на другой берег, волоча лодку по льдинам и вплавь, лавируя среди ледяных торосов, пересекая промоины. Глыбы льда, двигавшиеся со скоростью десяти километров в час, ломали и увлекали за собой могучие деревья, выворачивали целые участки берега. Сколь бы ни были велики предметы, встречавшиеся им на пути, они запросто сносили их, создавая хаотические нагромождения, возвышавшиеся, словно холмы, пока, подмытые стремительным течением, не рушились внезапно с ужасающим грохотом. Смельчаки, десятки раз рискуя быть раздавленными льдами и видя, что их хрупкую лодку в любой миг мог унести бешеный поток, вынуждены были в конце концов вернуться на берег, поразив даже бывалых обитателей фактории совершенной ими отважной попыткой переправиться на тот берег Юкона. Отчаяние сдавило друзей своими железными когтями. Со страхом думая о том, какая участь ждет их товарища, они хранили мрачное молчание, прерываемое лишь проклятиями капитана Андерсона. Этот милый человек, невольно ставший причиной катастрофы, то и дело оглашал воздух яростными воплями. Он проклинал свою неловкость, посылал к дьяволу все воздушные шары, а заодно и воздухоплавателей, клял свою полноту, и все это в столь живописных выражениях, что при иных обстоятельствах они, несомненно, вызвали бы веселый смех. Неожиданно Перро, вот уже несколько минут внимательно вглядывавшийся в небо, прервал сокрушенные стенания своего начальника: — Успокойтесь, хозяин! Да и вы тоже, месье. — А в чем дело, Перро? — спросил Жюльен, в сердце которого затрепетала робкая надежда, ибо он полностью доверял опыту канадского охотника. — Сейчас узнаете, земляк! Дело в том, что этот ледоход вовсе и не ледоход. — Однако, мне кажется… — Не обижайтесь, но дайте сперва мне договорить. Я хотел сказать лишь, что это не настоящий ледоход… Понимаете? — Нет. — Это же так просто! Ветер, вот уже две недели дувший с юга, этой ночью сменился северным ветром. Так что бедного нашего месье вместе с его шаром унесло в сторону Английской Америки. Ну и, конечно, из-за полярного ветра температура понизилась. Доказательство тому — льдины: они становятся все глаже и глаже. Этой ночью, уверен я, будет так же холодно, как и в самый разгар зимы. Мороз скует реку, и пусть я больше никогда не убью ни оленя, ни сохатого, если завтра Юкон не станет ровным, словно поле. — Вы уверены в том, мой храбрый Перро? — Точно так же, как и в том, что мы все когда-нибудь умрем. А посему не теряйте времени! Собирайтесь без лишних слов и не медля отправляйтесь в путь. Будь я посмелее, я бы попросил нашего хозяина месье Андерсона разрешить нам составить вам компанию. Ведь мы — это три верных сердца, три пары крепких рук. И к тому же у каждого из нас — нарезной карабин самого лучшего качества… в этой стране вовсе не лишний… В общем, мы смогли бы неплохо вам послужить! — Перро, — взволнованно произнес капитан, расчувствовавшись при виде столь трогательной преданности, — вы и ваши братья — известные храбрецы! Делайте, как считаете нужным, предоставляю вам полную свободу действий… К сожалению, я не могу сопровождать вас и лично искупить свою вину. — Примите от нас слова благодарности! Все будет как надо! Поработаем за четверых — за себя и за вас, хозяин! — Спасибо, отважные мои друзья! — отозвался Жюльен, тепло пожимая крепкую руку Перро. — Я с радостью принимаю ваше предложение и от всей души выражаю вам признательность и как друг Жака, и как ваш соотечественник-француз! На следующий день предсказания канадца сбылись почти с математической точностью. Температура ночью резко упала до минус пятнадцати. Ледяные глыбы, тут же остановившись, смерзлись друг с другом, бесновавшаяся только что река умолкла, и в лучах восходящего солнца перед обитателями форта вновь предстал закованный в зимнюю броню Юкон. При такой погоде переправиться на другой берег не составляло никакого труда. Руководство экспедицией, отправлявшейся на поиски Жака Арно, взял на себя Перро. Он решил двигаться днем и ночью, ибо ветер мог унести аэростат довольно далеко. Как уже рассказывалось в начале главы, участники похода получили последние наставления капитана Андерсона, после чего Жюльен и Алексей сердечно простились с хозяином Нулато, — впрочем, прощание их, в силу обстоятельств, было кратким. Затем спасатели разместились в трех санях, каждые из которых тянула упряжка из двенадцати сильных собак. Перро в качестве проводника ехал на передних нартах. За ним следовали Жюльен и Эсташ, а завершали кортеж Алексей и Малыш Андре. Когда приблизились к реке, канадец прежде всего проверил прочность нового льда и, лишь убедившись в его надежности, издал резкий свист — сигнал, привычный для собак, и те с громким лаем, сопровождающим обычно отъезд собачьих упряжек, весело понеслись вперед. — Смелей, мои песики!.. Вперед, зверюги! Вот вам прекрасный случай разогреть лапы! И если будете умниками, то сегодня вечером каждая из вас получит на ужин по куску оленины весом в добрых два, а то и три фунта! — Почему бедный мой Жак не подождал еще день! — вздохнул Жюльен. Наступило тридцатое апреля 1879 года. Вновь ударившие морозы моментально покрыли ледяной коркой верхний слой снега, растопленный было преждевременной оттепелью. Гололед необычайно благоприятствовал путешественникам. Собаки бежали резво, увлекая за собой легко скользившие по твердому насту сани. Перро вел маленький отряд на юго-восток, предполагая, что именно в этом направлении улетел шар. Не забывал он и расспрашивать встречавшихся им в пути индейцев о некоем объекте, летевшем по воздуху. С туземцами канадский охотник объяснялся на шинуке — своеобразном языке, вобравшем в себя лексику французского, английского и местных индейских языков и по своей структуре схожем с языком сабир, употребляемым на алжирском побережье и в странах Леванта[203]. Благодаря обостренному чутью и умению подмечать все необычное, что обусловлено кочевым образом жизни, понуждающим к постоянной борьбе с окружающей природой, краснокожие, разумеется, не могли не заметить огромный, несшийся с большой скоростью шар. Его неожиданное появление глубоко взволновало индейцев племени т-кидски, обитавших по берегам реки Шагелук, текущей по южным склонам Юконских гор и впадающей в реку Юкон немного ниже миссии, основанной посланцами епископальной церкви[204]. Простодушные дети природы, разумеется, не имели ни малейшего понятия о том, что такое монгольфьер, и испытывали невероятные трудности, отвечая на вопросы канадца. Перро спрашивал их о большом желтоватом шаре, перемещавшемся по воздуху, а индейцы убеждали его, что видели луну, летевшую по небу среди бела дня. Но она, вероятно, была больна, ибо отличалась землистым цветом, не сияла, как обычно, и в довершение выглядела какой-то обрюзгшей. В языке шинук не было подходящих слов для обозначения воздушного шара, и охотник напрасно упражнялся в перифразах[205]. Его старания во многом напоминали старания того миссионера епископальной церкви, который, отправившись однажды проповедовать Евангелие индейцам, начал свою проповедь такими словами: «О дети леса!..» К несчастью, толмач[206] не сумел найти подходящего выражения, и клирик[207] был несказанно удивлен, услышав дословный перевод его торжественного обращения: «Nyou tenass copa stick!..», что означало: «Множество человечков, живущих среди стволов деревьев!..» Обладая недюжинным запасом терпения, Перро наконец более или менее понял из наивных ответов индейцев т-кидски, что они решили, будто луна удрала, а канадский охотник Перро из форта Нулато отправился ловить беглянку! Опытный траппер, решив слукавить, не только не стал разубеждать своих собеседников, но, напротив, еще более укрепил их в этой мысли, не без основания надеясь, что подобная новость быстро облетит все соседние племена, и Жак Арно, в случае необходимости, сумеет воспользоваться преимуществами, связанными с его важным положением служителя, оберегающего планету, сбежавшую со своей орбиты. Действительно, на необъятной территории Русской Америки, вплоть до самых отдаленных ее уголков, любые новости распространяются с необычайной скоростью. Это объясняется тем, что для местных жителей совершить дальний переход, особенно зимой, не представляет никакого труда. За несколько часов аборигены покрывают такие расстояния, что нам остается только изумляться. Например, бросит корабль якорь в Сен-Мишеле, что в бухте Нортона, и уже через восемь — десять дней об этом становится известно в шести-семи окрестных племенах. Кстати, так же быстро разносятся новости и среди аборигенов Австралии. Когда прибитый штормом кит застревает посреди коралловых рифов и остается лежать на подушке из морских водорослей, весть об этом бежит словно огонь по пороховой дорожке, и голодные туземцы, предвкушая поживу, прибывают отовсюду, чтобы расправиться с горой мяса. Перро не ошибся в своих предвидениях. Как бы ни была малочисленна и безвестна их экспедиция, слухи о ней бежали далеко впереди. Не было нужды специально расспрашивать о сбежавшей луне: благодаря своим обязанностям в форте Нулато и бродячей жизни траппера Перро был довольно популярной на Аляске личностью, и сведения сами сыпались на него со всех сторон. В любую минуту находил он услужливого аборигена, что за стакан водки указывал точное направление, в котором двигалась по воздуху беглянка, а затем спешил исчезнуть, опасаясь дальнейших расспросов. Так что, образно говоря, след был взят, и собаки с головокружительной быстротой неслись вперед, стремительно приближаясь к той точке, где приземлился шар. Путешественники ехали уже три дня и две ночи, перевалили через Юконские горы, переправились через реки Шагелук и Кускокуим и оставили позади Центральное плато бывшей Русской Америки. Впереди раскинулся Аляскинский хребет, и они готовились перебраться через него по ущелью, откуда вытекает река Нушагак, образующая в устье, при впадении в Бристольский залив, маленький островок, соединенный с берегом лишь узеньким перешейком и известный тем, что на этом крохотном участке суши расположен форт Александр. Жюльен и Алексей не переставали удивляться той легкости, с которой возглавивший их экспедицию траппер ориентировался в, казалось бы, весьма непростой обстановке. Они чувствовали, что приближаются к цели, но совершенно не понимали, каким образом шар, будучи наполненным теплым воздухом всего лишь раз, смог улететь так далеко. Но, как ни велико было их стремление двигаться вперед, — желание это, впрочем, разделяли и канадцы, — Жюльен с Алексеем уступили доводам Перро, убедившим их, что необходимо дать отдохнуть собакам, а также раздобыть еды, тем более что охотник успокоил друзей обещанием, что остановка будет непродолжительной: — Дичь водится здесь в таком изобилии, что нам остается только выбирать — лосятину или оленину! — Смотрите, совершенно свежие следы… — Это лось… Поручим же Малышу Андре обеспечить нас провизией… Ты слышишь, Малыш? — Да, братец, — ответил богатырь, надевая снегоступы[208], и затем, закинув за плечо карабин, не спеша пошел по следу. — Через каких-нибудь четверть часа вы услышите выстрел, — заверил Перро. — Мы пойдем на этот звук и найдем зверя лежащим на боку, с маленькой красной дырочкой как раз между ухом и рогом, — справа или слева, в зависимости от того, где стоял Малыш. — Вы в этом уверены? — с сомнением произнес Жюльен. — Это же так просто! Вот как все будет происходить. Вы знаете, что сохатый близорук. Хотя глаза лося и велики, размером почти с куриное яйцо, он не видит ими дальше кончика своей морды. Зато обладает невероятно тонким слухом. Я не ошибусь, если скажу, что своими длинными, как у осла, ушами он улавливает малейший шорох в лесу. Завывает ветер, словно стая койотов, с треском валятся деревья, — красавец мой спит, словно медведь в берлоге. Но как только среди этого адского шума раздастся едва слышный звук скользящего снегоступа, фюить! — сохатый наш исчезает, словно тень. В охоте на лося Малыш Андре не имеет себе равных. Он находит зверя, спящего под елью. Это плохое положение для стрелка. Значит, надо поднять животину. Что может быть проще! Малыш Андре ломает веточку. Сохатый, разбуженный шумом, извещающим о приходе чужака, моментально вскакивает и бросается прочь. Слишком поздно. Малышу Андре достаточно полсекунды, чтобы вскинуть ружье, — и бум!.. Раздавшийся выстрел как бы подтвердил точность данного охотником описания разыгравшейся в лесной чащобе сцены. — Сохатый мертв, — радостно завершил канадец свое повествование. — Сейчас мы насладимся приготовленной на костре головой, да и собак ждет настоящий пир. Но следующий выстрел встревожил охотника. — Малыш в опасности, — сказал он, бледнея. — Откуда вы это знаете? — быстро спросил Жюльен. — По второму выстрелу!.. — Может быть, ваш брат сперва лишь ранил животное? — Малыш Андре никогда не тратит двух пуль на одного зверя! — с достоинством ответил охотник. — Значит, он убил пару сохатых. — Нет, я говорил ему лишь об одном… Когда мы не охотимся ради шкур, то убиваем ровно столько, сколько требуется для пропитания. — Раз так, идемте его искать. — Именно это я и хотел вам предложить… Эсташ, оставайся с санями… И вас также, господин мой, я бы попросил, если позволите, побыть здесь, — обратился Перро к Алексею и затем вновь повернулся к Жюльену: — Вы готовы, месье?.. А то я ухожу… Парижанин молча схватил карабин — дар профессора Норденшельда — и устремился за охотником. Хотя он и бежал изо всех сил, но за своим спутником, шагавшим саженной поступью, поспевал с большим трудом. Идя по следам Малыша Андре, канадец с французом быстро углубились в лес. Преодолев за пару минут метров триста, они выскочили на широкую прогалину и застыли, пораженные страшным зрелищем. — Гром и молния!.. Мы вовремя явились! — воскликнул Перро. Посреди заснеженной поляны, в широкой луже крови, бездыханно лежал великолепный сохатый. А дальше, где снова начинался древостой, вокруг толстенной сосны бегал Малыш Андре, пытаясь увернуться от преследовавшего его чудовищного медведя. Ростом с хорошего бизона, но более коротконогий и необычайно подвижный, хотя его длинное тело и могло показаться на первый взгляд неуклюжим, разъяренный зверь был полон решимости расправиться с чужаком, столь дерзновенно вторгшимся в его владения. Он, энергично прыгая, опускался на четыре лапы и, видя, что добыча опять ускользнула от него, разгневанно рычал. — Гризли! — в ужасе прошептал охотник. Действительно, это был он, страшный стопоходящий зверь, чьи необычайная сила и невероятная жестокость приводят в трепет всех обитателей североамериканских лесов. Встреча с таким чудовищем всегда малоприятна. Очень часто и нескольких пуль, поразивших жизненно важные органы, оказывается недостаточно, чтобы сразу прикончить животное, и, смертельно раненное, оно, прежде чем упасть замертво, успевает покалечить отважившихся сразиться с ним безумцев. Зная из книг и рассказов, на что способен серый медведь — гроза Скалистых гор, Жюльен испугался, понимая, какой опасности подвергался сейчас самый юный из канадцев. Перро замер в ожидании момента, когда зверь, обежав в очередной раз дерево, развернется к нему головой. Но медведь, азартно гоняя двуногую дичь и не обращая на новоприбывших ни малейшего внимания, подставлял взору стрелков лишь жирный крестец. Обессилев от отчаянного бега по кругу, Малыш Андре остановился и, тяжело дыша, схватился за нож. Дикий зверь, тотчас замерев, напряженно глядел на человека. Подобное противостояние длилось какие-то секунды, а затем состязание в быстроте и ловкости возобновилось с новой силой. — Эта гнусная образина никак не желает смотреть в мою сторону, — выругался канадец. — Но я заставлю ее показать свою харю — хотя бы на миг! — Придумал, — прошептал Жюльен. — Я выстрелю в него наугад. Тут он непременно обернется, а там уж дело за вами. — А вы не боитесь остаться с разряженным ружьем? — Ну что вы! — Тогда стреляйте, и побыстрее! Ведь если Малыш Андре поскользнется, он пропал. — К счастью, спасение совсем близко, в стволе моего нарезного карабина!
ГЛАВА 5
Скорость ветра. — Испуг французских крестьянок. — Торжество краснокожих. — Белый Бизон. — Сын луны. — Ставка Жака — его скальп. — Демонстрация чуда. — Многочисленная аудитория. — Неуемная жажда зрелищ. — Требование великого вождя. — Отказ от представления. — У столба пыток. — Венценосные особы. — Побег.Жак Арно не ошибся: корзину действительно раскачивали индейцы, карабкавшиеся по якорному канату аэростата. И это открытие окончательно вырвало француза из объятий сна. Вдали высился Аляскинский хребет, чьи голубоватые вершины в красных от заходящего солнца венцах четко вырисовывались на северном небосклоне. Шар, подхваченный воздушным течением, менее чем за десять часов проделал путь длиною около восьмисот километров. Такая скорость передвижения по воздуху может показаться поистине невероятной, но в анналах[209] воздухоплавания упоминаются случаи еще более быстрого полета монгольфьеров. В 1802 году воздухоплаватель Гарнерен при умеренном ветре пролетел на своем шаре из Ранелага в Колчестер[210] со скоростью 128,8 километра в час, или около тридцати шести метров в секунду. В сентябре 1823 года Грин за восемнадцать минут был отнесен ветром на 69 километров 230 метров, что соответствует скорости более шестидесяти четырех метров в секунду, причем шар его поднялся над землей немногим более, чем на четыре тысячи метров. Восемнадцатого октября 1863 года господин Надар на своем монгольфьере «Гигант» преодолел без остановки расстояние между Парижем и Ньебургом в Ганновере[211] — около шестисот пятидесяти километров. Вспоминают, что мужественный аэронавт, которого сопровождали в полете жена и несколько друзей, смог окончательно ступить на землю лишь после того, как шар изрядно проволок их по ухабам и колдобинам, что едва не стоило смельчакам жизни. Подобных случаев — бесчисленное множество, и поэтому мы ограничимся тем, что в нескольких словах напомним, какова бывает сила ветра. Адмирал Флерио де Дангль сообщает, что, находясь возле мыса Горн, его судно «Догоняющий» делало тринадцать узлов, или шесть метров семьдесят сантиметров в секунду. Ветер же, по мнению адмирала, имел скорость в четыре раза большую — двадцать семь метров в секунду. Генерал Бодран лично наблюдал, как ветер гнал с позиций три орудия двадцать четвертого калибра до самого защитного вала батареи. Франклин[212], желая проиллюстрировать на конкретном примере, какой большой силой может обладать поток воздуха, утверждал, что резкий порыв ветра в состоянии полностью отогнать воду в водоеме шириной тринадцать километров и глубиной девяносто сантиметров с одного берега и довести уровень воды у противоположного до одного метра восьмидесяти сантиметров, что в два раза превышает первоначальный уровень в девяносто сантиметров. Известно наконец, что во время циклонов корабли, подхваченные ветром, летят по воздуху, словно соломинки, и опускаются там, где присутствие их поистине вызывает изумление. Примером может служить американский корвет «Ваттери», переброшенный тринадцатого августа 1877 года с перуанского рейда Арика на пустынный островок посреди океана. Не претендуя на занесение в анналы, монгольфьер Жака достиг тем не менее весьма внушительной скорости — двадцати двух метров в секунду, что вполне могло удовлетворить тщеславие воздухоплавателя-любителя. Таким образом, нет ничего удивительного, что наш путешественник столь быстро оказался вдали от форта Нулато. Что же касается изумленных краснокожих, то мы, пожалуй, не рискнем предположить, какие последствия повлечет за собой появление над их головами воздушного шара. Однако автор не может устоять перед искушением рассказать в связи с этим о небольшом происшествии, к коему и сам был непосредственно причастен. Итак, если мне не изменяет память, в дни школьных каникул незадолго до начала нового, 1864/1865 учебного года, ну а точнее — вечером пятнадцатого августа, я сидел с одним из своих кузенов под огромным платаном[213] в красивейшей долине Оеф, когда нам в голову пришла заманчивая мысль сделать воздушный шар и запустить его прямо с площади Питивье. В ход пошли оберточная бумага и прочие материалы, которые смогли раздобыть в деревне два сорванца. И вот наконец мы срочно развели костер из соломы, наполнили наш аэростат горячим воздухом и, посадив в корзину несчастную, отчаянно мяукавшую кошку, отпустили в воздух. Монгольфьер, увлекаемый легким бризом, полетел не спеша над равниной на высоте около ста метров, и мы, два быстроногих школьника, изнемогавших от безделья в каникулярное время, без труда поспевали за ним. Вид бумажного, ярко разрисованного жуткими фигурами шара привел в ужас женщин, работавших в поле. Как сейчас слышу их пронзительные крики, вижу, как они испуганно машут руками, а затем бросаются бежать, теряя белые чепцы и путаясь в раздувающихся от ветра голубых юбках. Шар, сдувшись, стал вскоре медленно опускаться на головы мчавшихся в панике кумушек. Когда же бумажное чудовище приземлилось, самая храбрая крестьянка, потрясая серпом, двинулась к нему: ободренная нашим присутствием, она решила распотрошить монстра. Я попытался спасти безобидное сооружение от ее гнева, но тут кошка, погребенная под бумажным шаром, стала орать и шипеть, как это обычно делают ее соплеменники, очутившись в отчаянной ситуации. Истошные вопли четвероногого воздухоплавателя отозвались в сознании поселянок сигналом «спасайся, кто может!». Увидев, как бедное животное, разодрав когтями оболочку шара, выбралось из бумажного вороха и скачками понеслось по полю, женщины окончательно лишились рассудка от страха, а одна из них даже слегла, не выдержав потрясения. В тот вечер небольшой городок Экренн буквально бурлил. Почтенные крестьяне рассказывали с жаром о том, как они самолично лицезрели удуэр! Поскольку это варварское слово, несомненно, Французской Академии неизвестно, я позволю себе истолковать его как «домовой», «гном», «живой мертвец» или «злой дух». Если подобное событие столь сильно поразило жителей селения, расположенного в двадцати лье от Парижа, то что говорить о том изумлении, которое испытали краснокожие обитатели южных склонов Аляскинского хребта при появлении огромного сфероида[214] из кишечных пленок, к которому снизу была прикреплена раскачивавшаяся корзина! Но отдадим должное индейцам: хотя они и суеверны, но страха не знают, риска не боятся и отважно идут навстречу смертельной опасности — и явной и предполагаемой. Вспомним, как после открытия железнодорожной линии Нью-Йорк — Сан-Франциско краснокожие с копьем наперевес становились на путях и, не дрогнув, ожидали приближения стремительно мчавшегося на них локомотива. Обнаружив под странным сооружением толстенную веревку с крюком, индейцы вцепились в трос и стали тянуть что есть силы, не задумываясь о последствиях. Они полагали, что остановить устрашающих размеров шар будет им нелегко, и несказанно удивились, когда чудовище покорно поползло вниз. Причудливые прыжки и вопли возвестили о бурной радости, охватившей воинов. Притянув корзину к земле, индейцы увидели в ней такое же, как и они, существо — из плоти и крови. Изнемогавший от холода и голода, смертельно усталый, Жак являл собой жалкое зрелище. Просидев в корзине в неудобной позе, он, воспользовавшись приземлением, разминал затекшие руки и ноги и, стряхивая с себя остатки сна, пытался разобраться, чего ему ждать от краснокожих, буйно выражавших свой восторг по случаю успешного завершения операции. Выпутавшись из веревок, привязывавших корзину к сетке, Жак вылез на мерзлую землю и потянулся. И тотчас вопли и прыжки прекратились, и воцарилась полная тишина. Вперед выступил вождь, выделявшийся среди соплеменников длинной белой бизоньей шкурой, наброшенной на плечи, словно королевская мантия, и гортанным голосом произнес на плохом английском: — Хау!.. Мой брат — большой вождь!.. — Спасибо, вы очень любезны, — ответил Жак, коверкая с не меньшим усердием язык, употребляемый по ту сторону Ла-Манша. — Мой брат прибыл из страны звезд, куда воины, любимые Великим Духом, уходят после смерти? — Ваш брат, почтенный мой краснокожий, прибыл всего лишь из форта Нулато, где находился еще сегодня утром. — Хау!.. — произнес воин с непередаваемой интонацией, обозначавшей у людей его племени глубочайшее удивление. — Мой брат летает быстрее, чем орел в Скалистых горах! — Да, особенно когда свежий ветер подгоняет шар. — Что мой брат подразумевает под словом «шар»? — Да тот аппарат, что доставил меня сюда. — Хау!.. — с яростью в голосе произнес краснокожий. — Мой брат смеется надо мной? Он что, принимает Белого Бизона за глупую старуху, от которой можно скрыть, кто он и откуда? Разве пришелец не боится навлечь на себя гнев вождя меднокожих индейцев? — Успокойтесь, любезный мой, не сердитесь и объясните, чего вы хотите. — Да не будет язык моего брата раздвоенным языком змеи! Пусть он признается Белому Бизону в том, что он — сын луны… — Ах, вот как! — изумленно воскликнул Жак. — И еще он должен рассказать отцу меднокожих индейцев, почему луна, которую он привел к нам, больна и лежит на боку под этой сосной, словно пустой бурдюк. Если брату моему дорог его скальп, то ему следует хорошенько подумать, прежде чем отвечать. — Ладно! — проворчал Жак, совершенно сбитый с толку. — После всех недоразумений, с которыми я столкнулся в последнее время, мне не хватало только обвинения в похищении постоянного спутника нашей Земли. Поразительная чушь, даже в устах индейца! Герои Гюстава Эмара[215], и те не изрекают подобных бредней! Однако, Жак, мальчик мой, сохраняй спокойствие, если растительность на голове еще тебе дорога, и не требуй ее лечения медными припарками в виде ударов томагавками. Этот парень терракотового[216] цвета почему-то хочет, чтобы ты был сыном луны… Не будем его разочаровывать и постараемся воспользоваться преимуществами, связанными с нашим небесным происхождением. Черт побери, если он готов платить, то получит, чего хочет! — Мой брат понял? — спросил Белый Бизон. — Да, вождь! — Но здесь есть молодые воины, чьи уши должны быть глухи, а глаза — слепы… Тем более не следует женщинам и детям слушать то, что поведает мне сын луны. — Обещаю, Белый Бизон один будет слушать сына луны! — величественно произнес Жак и затем выдохнул в сторону: — Уф!.. Я запутался самым жалким образом! Никогда мне не найти таких внушительных и торжественных слов, что столь гладко звучат со страниц романов Купера, Ферри, Дюплесси и уже упомянутого Эмара! — Хорошо! — ответил вождь, обрадованный уступчивостью Жака, которая должна была еще более возвысить его в глазах подданных. — Мой брат получит пищу!.. У него будет отдельное жилище!.. Он станет гостем Белого Бизона! Жак, обрадованный не менее вождя, последовал за своим венценосным провожатым. Тот, великодушно взяв на себя роль камердинера[217] сына луны, ввел его в вигвам — просторную конусообразную хижину, покрытую шкурами, выкрашенными в красный цвет отваром из березового луба[218]. Воздухоплаватель съел огромный кусок жареной лосятины и, растянувшись на груде мягких шкур, заснул мертвым сном, возвращая своему организму долг за ночные бдения во время полета шара над Аляской. Первым, кого он увидел, пробудившись утром, был Белый Бизон в боевой раскраске, то есть ярко размалеванный, что придавало его лицу выражение карикатурное и отталкивающее. — Брат мой, — обратился вождь к Жаку, — идем, ты покажешь свое могущество людям племени меднокожих. — Ах, черт возьми!.. — вспомнил воздухоплаватель свои вчерашние обещания. — Что ж, игра продолжается… Луна… Сын луны… Чего желает Белый Бизон? — Сейчас луна погрузилась в сон, похожий на смерть. Пусть брат мой вернет ее к жизни и, как вчера, поднимется вместе с ней в воздух. — Согласен, но никто не должен видеть, как белый человек будет оживлять луну. — Даже великий вождь? Мой брат дал слово, и Белый Бизон приготовился увидеть, как ты оживишь луну: взгляни на боевые цвета Белого Бизона, и ты сам поймешь это! — Вождь все увидит и все узнает, но только немного позже. «Пока, — подумал путешественник, — эти достойные люди весьма нетребовательны… Если я правильно понял варварский английский язык их вождя, они просят меня всего лишь подняться в воздух, то есть, по существу, то немногое, что я в состоянии для них сделать. Для меня же главное — выиграть время, и, следовательно, надо удовлетворить их любопытство, сохранив при этом величие и таинственность. Друзья, оставшиеся в форте Нулато, наверняка не сидят без дела! Они, без сомнения, уже идут по моему следу и с минуты на минуту прибудут сюда». Белый Бизон приказал на всякий случай возвести за ночь вокруг аэростата частокол. Стоявшие у ограды вооруженные воины получили строгий наказ никого и близко не подпускать к луне. Подобные распоряжения вождя как нельзя лучше соответствовали планам Жака. Благодаря им он, возобновив запасы жира, смог один пройти за изгородь, где спокойно привел в порядок перепутавшийся такелаж и зажег генератор теплого воздуха, — словом, незаметно для индейцев приступил к подъему шара. Затем он вышел величественно из-за ограды, окинул торжествующим взором толпу больших и маленьких краснокожих, — взрослых и детей, толпившихся на почтительном расстоянии от забора, — и попросил вождя приблизиться. Белый Бизон, невозмутимый по натуре, как это вообще свойственно его соплеменникам, имеющим обыкновение не выказывать своих чувств, на этот раз не смог скрыть своей радости. — Мой брат уже приготовил великое лекарство, которое вернет луну к жизни? — быстро спросил он. Жак кивнул с достоинством и, вдохновляясь воспоминаниями о романах упомянутых выше авторов, которыми он зачитывался долгими вечерами в коллеже Святой Варвары, молвил торжественно: — О да! Не хочет ли Белый Бизон проследовать за изгородь, чтобы своими глазами увидеть, как свершится чудо?.. И пусть раскроются глаза великого вождя!.. Белый Бизон сможет лицезреть то, чего никто из людей его племени никогда не созерцал. Бизон — великий вождь… И даже под страхом самых ужасных пыток он никому не расскажет о лекарстве белого человека. — Хау!.. Сын луны получил слово отца меднокожих индейцев! Бизон будет нем, словно красные камни с берегов Атны! В эту минуту раздался отчаянный крик, один из тех адских воплей, которые издаются обычно краснокожими при сдирании волос с кожей с головы несчастного пленника и нередко сопровождаются темпераментными завываниями, задающими ритм зловещему танцу скальпа и заглушающими стоны привязанной к столбу пыток жертвы. Жак поднял глаза и понял причину внезапного волнения. Над частоколом показалась огромная округлая масса. Почти целиком заполнив огороженное пространство, она начала плавно подниматься. — Луна восходит!.. — сдавленным голосом воскликнул вождь, хватая Жака за руку. — Мой бледнолицый брат воистину избранник Великого Духа! — Этого еще не хватало! — недовольно пробурчал Жак. — Еще немного, и меня здесь канонизируют[219]. — Затем, сделав вид, что не заметил испуга своего собеседника, произнес громко: — Пусть вождь прикажет принести мне длинную веревку… Отлично! А теперь пусть Бизон следует за мной. Монгольфьер быстро наполнялся, ибо наружная температура значительно понизилась. Понимая, что нельзя терять ни минуты, Жак поспешно привязал к якорю веревку, принесенную воинами, а другой ее конец закрепил на одном из крепко вбитых в землю кольев. Заметив валявшиеся на земле большие куски металла, являвшиеся великолепными образцами природной меди, он положил несколько штук в качестве балласта в корзину и стал терпеливо дожидаться окончательного наполнения шара. Огромная сфера поднималась все выше и выше. Шар уже целиком висел над изгородью, складки оболочки из бодрюша быстро разглаживались. Путешественник молча занял место в корзине. Эта тишина, а также скупые движения Жака пугали вождя краснокожих гораздо больше, нежели сам шар, ибо он привык, что колдуны его племени любое чародейство сопровождали ужимками, прыжками и пронзительными выкриками. Поскольку аэростат уже был готов к подъему, Жак ловко выбросил несколько кусков балласта, привел корзину в равновесие, мощным выдохом погасил невидимое вождю пламя, трепетавшее на конце фитиля, потом швырнул на землю еще один кусок меди и величественно вознесся в воздух… Не стоит описывать бурныеэмоции, вызванные подобным чудом. Читатель сам легко представит себе, какие впечатления, мысли и догадки вихрем пронеслись в головах простодушных индейцев, многие из которых, несомненно, были близки к умопомешательству. Сообщим лишь, что Жак, поднявшись на высоту каната, удерживавшего в плену аэростат, несколько минут висел в воздухе, обозревая окружающее пространство. Сознавая, что с первого раза не следует полностью удовлетворять любопытство зрителей, Жак открыл клапан и, медленно выпуская из шара воздух, произвел мягкую посадку на глазах бесновавшихся вокруг краснокожих. — Ну что, — сказал он, водружая шар в отведенный для него загон, — Белый Бизон удовлетворен? Признает ли он могущество своего бледнолицего брага?.. Бедный индеец был настолько поражен случившимся, что утратил дар речи. Он ничего не понял в действиях Жака и был убежден, что сын луны поднялся в воздух потому, что просто-напросто подул на луну!.. Путешественник, ободренный первым успехом, наивно решил, что теперь хотя бы на некоторое время почитатели оставят его в покое. Но он жестоко ошибся. Как мы уже говорили, новости среди индейцев Северной Америки распространяются с невероятной быстротой, и уже вечером того же дня из соседних племен нагрянули толпы любопытных. Среди новоприбывших было изрядное число скептиков. Белый Бизон, по прихоти случая ставший хозяином невиданного чуда, не мог позволить, чтобы слова его подвергались сомнению, и Жак волей-неволей вновь был вынужден выступить в роли чародея. Утром количество гостей удвоилось, и луна должна была подняться для них. Но это было только начало. К вечеру гостей стало еще больше. Полдюжины сахемов[220] и прочих венценосных особ, прибывших с запада, тут же потребовали от Белого Бизона обещанного представления. Утомленный Жак отказался наотрез. Уговаривая сына луны, вождь сыпал жемчужинами своего примитивного красноречия. Но все напрасно, путешественник был непреклонен. — Хорошо же, — ядовито прошипел краснокожий. Не прошло и пяти минут, как отряд воинов в боевой раскраске пришел за упрямцем, и, не обращая внимания на сопротивление, индейцы потащили его и привязали, не утруждая себя объяснениями, к высокому, выкрашенному известкой столбу, врытому посреди площади, окруженной хижинами. — Известно ли моему бледнолицему брату, как называется то бревно, к которому его привязали? — спросил Жака невесть откуда появившийся Белый Бизон, вооружившийся за это время огромным луком. — Нет! — прорычал разъяренный Жак. — Это столб пыток. Сейчас сюда придут мои молодые воины, чтобы показать свое искусство владения луком. Мишенью для их стрел станет сын луны. Мой брат увидит, как вокруг его головы полетят стрелы, услышит свист пуль, почувствует удар томагавка, от которого задрожит этот ствол дерева. Мой брат прекрасно понимает, что молодым воинам надо развлечься и занять наших гостей. — Ах, вот как!.. Значит, я стану для них живой мишенью?! — Если, к несчастью, пуля, стрела или томагавк, пущенные неловкой рукой, поразят моего бледнолицего брата в один из жизненно важных органов, Белый Бизон будет оплакивать сына луны и, чтобы память о нем никогда не покинула жилище Белого Бизона, повесит его скальп у себя над очагом. — Я принимаю ваши доводы, мой достойный краснокожий брат! — с деланным смехом произнес воздухоплаватель. — Отвяжите меня. Я на все согласен. Однако же, достойный друг мой, ваши коронованные особы, хотя венцы их сделаны всего лишь из перьев, дьявольски требовательны!.. — И добавил, уже обращаясь к самому себе: — Главное, друг мой, — терпение! Прояви сдержанность. И, как говорят, поживем — увидим! Но и на третий день толпа не убавилась. Напротив, она стала еще пестрей и многолюдней. Так что Жак был уверен, что, если его пребывание у меднокожих индейцев затянется, сюда соберутся любопытные со всех концов Северной Америки и ему придется провести остаток жизни в нескольких сотнях футов над уровнем моря. Оставив, казалось, надежду на избавление, он каждое утро бодро направлялся к своему монгольфьеру, огражденному частоколом, вокруг которого медленно прохаживалась почтенная стража. Однако, постоянно приготавливая все необходимое для подъема, Жак разместил в корзине незаметно собранный им объемистый сверток с лишь одному ему известным содержимым. В тот день, собираясь в очередной раз подняться в воздух, отважный путешественник с беспечным видом побеседовал с сахемами, разместившимися на специально отведенных для высоких гостей местах, а затем отправился к себе на «взлетную площадку», названную им в шутку артистическим фойе. С особым вниманием наблюдал он сейчас за наполнением шара, хотя никто из индейцев не догадался бы, что воздухоплаватель стремится получить максимум подъемной силы. Наконец долгожданный момент настал. Жак, как обычно, забрался в тяжело нагруженную корзину, привел ее в состояние равновесия, и монгольфьер под восторженные вопли сотен краснокожих медленно поднялся в воздух. Через минуту канат, удерживавший шар на земле, туго натянулся. Однако на этот раз он был не привязан к якорю, а просто закреплен на краю корзины. — Белый Бизон! — позвал Жак, сложив руки рупором. — Ты меня слышишь? — Да, — ответил сахем. — Ты осмелился поднять руку на бледнолицего!.. Твои воины привязали меня к столбу пыток!.. Берегись, Белый Бизон! Лекарство сына луны всесильно… И, высказав сию угрозу, Жак отвязал канат. Тот со свистом упал на землю, а монгольфьер стремительно взлетел вверх и скоро скрылся с глаз удрученных расставанием с луной дикарей.
ГЛАВА 6
Игра в догонялки. — Звериный Квазимодо[221]. — Кончина старикана Эфе[222]. — Монолог Перро. — Встреча Малыша Андре с медведем. — Неизменное правило искушенного стрелка. — Оплошность. — Утрата старых традиций. — Роковой выстрел. — Отец Врачевания. — У атнов. — Опоздание.Вернемся на поляну, где Малыш Андре, спасаясь от серого медведя, бегал вокруг сосны, пока его брат и Жюльен де Клене спешили к нему на помощь. Молодому охотнику не позавидуешь. Зверь с яростным упорством преследовал его. Ни появление новых людей, ни их крики были не в состоянии отвлечь хищника от избранной им жертвы. Перро требовалось только одно: чтобы чудовище хотя бы на миг повернуло голову в его сторону. — Дай мне лишь взглянуть тебе в глаза, скотина, и я подстрелю тебя, как зайца!.. Напрасная надежда! Напрасное ожидание! Наконец, утомленный бесконечной игрой в догонялки, медведь, так и не сумев настигнуть молодого человека, внезапно остановился, словно ему надо было подумать, как быть дальше, а затем грузно осел на землю, предоставив обоим спасателям возможность любоваться его мощным крестцом. Вот тогда-то Жюльен и решил сделать выстрел, от которого зависело спасение охотника, ставшего дичью. Вскинув карабин, он выстрелил прямо в центр горы, поросшей серой свалявшейся шерстью… Пуля застряла в толстом слое жира. Гризли испустил сдавленный рык, напомнивший грохот экипажа по вымощенной камнем мостовой. Моментально перезарядив карабин, француз произнес доверительным тоном: — Не правда ли, Перро, у него прекрасный баритон? — И чудесная мордочка, как вы сейчас в том убедитесь, — ответил канадец, словно речь шла о кунице или песце. Обеспокоенный неприятными ощущениями, вызванными внезапным вторжением в плоть кусочка свинца, и, осознав наконец, что эти двое решительно добиваются его внимания, зверь, снова зарычав, сердито развернулся, готовый хоть сейчас броситься на непрошенных пришельцев. Медвежье рыло, почтительно названное Перро мордочкой, оказалось как раз напротив Жюльена. Бывалый путешественник, он многократно попадал в различные переделки, но еще никогда не доводилось ему видеть выражения столь тупой и неистовой ненависти. Действительно, разъяренный лев ужасен, но его неподражаемо гордые черты всегда сохраняют благородство, приплюснутая, словно вдавленная внутрь морда тигра не теряет гармонии форм даже тогда, когда животное охвачено неукротимым бешенством, физиономия же медведя, злобная и карикатурная одновременно, вызывает и ужас и смех. Устрашающая, нелепая образина, словно кто-то в шутку соединил воедино голову лисицы с башкой кабана!.. Жюльену хватило одной секунды, чтобы на всю жизнь запечатлеть в памяти портрет гризли и в двух словах сформулировать свое впечатление: — Звериный Квазимодо! Перро, не читавший «Собора Парижской Богоматери», не понял его сравнения. Приставив к плечу нарезной карабин, он лишь выругался сквозь зубы: — Ах ты, погань такая!.. Дорого же ты мне заплатишь за страхи Малыша Андре! Раздался выстрел. Гризли поднялся на задние лапы, а передними начал тереть морду, пытаясь вырвать оттуда кусочек свинца. — Ну что, съел?! — насмешливо произнес Перро. — Хватит с тебя и одной конфетки, старикан Эфе, и черт меня побери, если ты сумеешь переварить ее! В самом деле, чудовище затопталось на месте и зашаталось, безуспешно пытаясь сохранить равновесие. Потом медведь опустил лапы и с хрипом грузно рухнул на снег. Жюльен, заядлый спортсмен и тонкий ценитель искусной стрельбы, от всей души зааплодировал удивительной меткости канадца, тем более что великолепный выстрел был произведен после утомительной пробежки в триста метров, и к тому же Перро был охвачен мучительной тревогой за брата, которому грозила смертельная опасность. — Замечательно, дорогой товарищ!.. Браво!.. — воскликнул француз, повернувшись к охотнику, флегматично перезаряжавшему свое оружие. — Вы знаете, куда попала моя пуля? — с гордостью спросил в ответ канадец, раскрывая объятия бежавшему им навстречу Малышу Андре. — Понятно, в цель! — уверенно произнес Жюльен. — Вы найдете ее в левом глазу, месье, — уточнил охотник. — Слышите, именно в глазу, откуда она проникла прямо в мозг! Это — самое лучшее место, чтобы убить гризли наповал! Малыш Андре подбежал к брату. — Вот и ты, братишка! — начал Перро. — Не объяснишь ли мне, как эта грязная скотина застала тебя вдруг врасплох? — Брат… Не ругай меня! — воскликнул все еще бледный молодой человек. — Все обошлось благодаря тебе. — Черт возьми, я и сам это знаю… Именно поэтому, паршивец, я и сердит на тебя! Я не смогу больше доверять тебе! Не смогу спокойно отпускать тебя на охоту! И мне, Жозефу Перро, кто никогда и ничего не боялся, придется теперь всю оставшуюся жизнь дрожать за твою шкуру! Каково, а! Не за горами твое тридцатилетие, получил же ты от меня карабин, когда тебе еще не было и двенадцати. Я хотел сделать из тебя неплохого стрелка… И, казалось, мне это удалось… Впрочем, если говорить по справедливости, то и в самом деле удалось — нам обоим!.. Итак, спрашиваю тебя, как случилось, что ты повел себя как заправский мозгляк… да еще в присутствии настоящего француза! Француза из старой доброй Франции!.. Так что же случилось?.. Объясни мне… Говори же хоть что-нибудь, все равно что!.. Мы простим тебя, правда, месье? — Еще бы! — ответил Жюльен, забавляясь сим пространным монологом. — Видишь ли, братец, в этом виноват мой карабин. — Ты что, забыл, что стрелок всегда валит свой промах на ружье? Промазать — это то же, что растратить доверенное тебе имущество. Так вот, мы слышали два выстрела, а на земле лежит всего лишь один лось. Значит, растратчика зовут Андре Перро… Впрочем, расскажешь потом все по порядку. А пока я извещу остальных, что оснований для волнений больше нет и они спокойно могут направляться к нам вместе с упряжками. Перро повернулся в ту сторону, где остались Эсташ с Алексеем Богдановым, и трижды резко тявкнул, подражая койоту[223]. Это был давний условный сигнал охотников. Через десять минут все пятеро собрались возле туши гризли, сюда же подтащили и лося. Быстро разбили импровизированный лагерь. Канадцы, имевшие богатый опыт обустройства временных стоянок, мгновенно расчистили снег, и вскоре в центре образовавшейся площадки весело запылал большой костер из сухих еловых ветвей. Огненные языки с треском взвились ввысь, запахло смолой и хвоей. Напуганные соседством с убитым медведем, собаки, поджав хвосты и ощетинив шерсть, сбились в кучу в двадцати шагах от костра в ожидании, когда их постоянный кормилец Перро начнет резать мясо. Охотник приступил к разделке лосиной туши с той особенной ловкостью, которая присуща только американским трапперам. — Морду и филей я отложу для нас, остальное уступим собакам, согласны?.. А ты, Малыш Андре, отправишься в наказание снимать с гризли меховой халат. Когда закончишь, то для лучшей сохранности натрешь шкуру мозгами сохатого… Надеюсь, месье де Клене будет столь любезен, что не откажется принять ее в подарок… — Ты говоришь, «в наказание», — отозвался Малыш Андре. — Но в наказание за что?.. Я вовсе не возражаю против того, чтобы избавить старика Эфе от его зимнего одеяния, но я не заслужил, чтобы ты поручал мне эту работу в наказание за неведомый проступок. Я же сказал тебе, что если и сделал два выстрела, то виноват в том лишь мой карабин. — Ладно, братец! Давай-ка объясни нам, пока будет готовиться рагу, что же с тобой приключилось. — Нет ничего проще. Я убил лося и только собрался выпустить из него кровь… — Не перезарядив ружье, безмозглая твоя голова?! Словно я никогда не учил тебя, что это следует делать в первую очередь. — Согласен. Это моя оплошность. — Ладно уж, по крайней мере, ты не промазал. — Итак, только я собрался перерезать горло убитому лосю, как вдруг услышал сзади шаги, а затем такое сопение, какое никогда бы не смог извлечь из глубин своего носа ни один человек, страдающий насморком. Оборачиваюсь, и кого же я вижу в двадцати шагах от себя? Гризли! Учуяв поживу, он вертел своим свиным рылом, наслаждаясь запахом свежего мяса. Нельзя было терять ни секунды. Я бросился перезаряжать свой старый карабин, до сих пор служивший мне верно и безотказно. — Самое время! — Нажимаю большим пальцем на скобу затвора и жду, что сейчас выскочит пустой патрон. Но не тут-то было! Чувствую, как в механизме что-то заело. Время торопит, я жму сильнее, рискуя все сломать. Наконец медная гильза вылетает. Едва я вставил в ствол новый заряд, как гризли бросается на меня с быстротой молнии, и я уже не успеваю ни вскинуть ружье, ни прицелиться. Собрав все силы, чтобы выдержать его наскок, забыл, что проклятый карабин не только заряжен, но еще и со взведенным курком. И когда сверху на меня обрушиваются пятьсот или шестьсот килограммов звериной туши, мой палец машинально давит на собачку[224]. Раздается выстрел, пуля летит наугад, и тут же морда хищника окрашивается в красный цвет. Медведь отступает. Я вскакиваю и одним прыжком оказываюсь возле могучей сосны. Гризли, оправившись от испуга, снова переходит в наступление. Я бегу вокруг дерева, он — за мной. — Почему же ты не перезарядил карабин на ходу? — Потому что тогда-то со мной и случилась эта напасть: я не смог открыть затвор. Его заклинило так, словно в патроннике гильза расплавилась. Я решил, что, наверное, отказал эжектор[225]. Короче говоря, я лишился ружья и мог надеяться теперь только на снисходительность старика Эфраима да на охотничий нож — единственное оставшееся у меня средство защиты. — Чтобы вспороть брюхо такому зверю, нужен, пожалуй, настоящий тесак, вроде тех, что изготовляются в Шеффилде[226]. Выходит, без нас ты совсем бы пропал… — Это уж точно!.. Никак не думал, что окажусь между лосем и гризли! — В лесу, братик, надо быть готовым ко всему. Но хватит об этом: и так все ясно. Надеюсь, ты на всю жизнь запомнишь сегодняшний урок. Никогда не забудешь, что для мужчин из нашего рода прицелиться — значит поразить цель. — Затем, повернувшись к Жюльену, Перро добавил: — Видите, месье, как быстро забываются старые традиции. Во времена моей юности, — а мне уж стукнуло сорок девять лет, — у нас не было ничего, кроме штуцеров[227], да и те с ужасной отдачей. Однако это не мешало нам быть неплохими охотниками. Настоящий охотник никогда не совершил бы такого промаха, как Малыш Андре. Приняться за что-либо, не перезарядив предварительно ружья! Даже младенцы, и те помнили об этом простом правиле! Но теперь, конечно, когда появились ружья, заряжающиеся с казенной части[228], многие, понадеявшись на простоту этой операции, ждут до последнего. Однако когда-нибудь зверь все равно застанет их врасплох. — Вы что, храбрый мой Перро, сожалеете о своем штуцере, о сем почтенном оружии? — Да, месье, а особенно о том прекрасном времени, когда я им пользовался. Честно говоря, я до сих пор больше доверяю моему старому нарезному карабину, чем всякому новомодному оружию. Всякий раз я сам старательно заряжаю его, тогда как патроны для нынешних карабинов готовят где-то там, на фабрике. Это делают невесть кто и к тому же из рук вон плохо. Вы даже не представляете, какое это удовольствие — подержать на ладони сверкающие крупинки пороха, отмерить ровно столько, сколько необходимо, затем тремя точными ударами шомпола послать порох и пулю в глубь ствола и, наконец, нажать большим пальцем собачку, чтоб вспыхнул затравочный порох![229] — Вполне разделяю ваши чувства. — Впрочем, я говорю лишь о своих личных пристрастиях… Что еще можно сказать в пользу шомпольного ружья?[230] Проходит время, и ты начинаешь узнавать его повадки, словно бы оно — домашнее животное. Учишься понимать его потребности, которые не всегда одинаковы и меняются в зависимости от обстоятельств. — Неужели? — Именно так. К примеру, в зависимости от погоды я увеличиваю или уменьшаю дозировку пороха, что обеспечивает соответствующую дальность моего выстрела и его меткость, да и ружье при этом не изнашивается и не портится. А с вашими фабричными патронами, изготовленными заранее и по единому образцу, количество пороха при сильной жаре может оказаться слишком большим, и тогда после выстрела у вас будет сильнейшая отдача. Но того же самого количества оказывается недостаточно, если на дворе стоит холодный туман и, значит, снижается убойная сила заряда. Так что в любом случае вы не можете быть уверены в своем выстреле и никогда не сравнитесь в меткости с нашими старыми охотниками. В общем, я мог бы много чего порассказать по этому поводу, да боюсь утомить вас. — Нет же, напротив, отважный мой Перро, рассказывайте: все, что вы говорите, очень интересно. — Вы очень любезны, месье, но я не буду испытывать ваше терпение, добавлю лишь, что если сегодня среди наших трапперов нет таких метких стрелков, что были несколько десятков лет назад, то в этом повинно современное оружие. Жюльен недоверчиво посмотрел на канадца. — Именно так, месье, поверьте мне. Сегодня охотник легко заряжает свое ружье за несколько секунд и поэтому, не раздумывая, готов стрелять наугад. Он торопится, не прицеливается тщательно и палит невпопад, предпочитая сделать три посредственных выстрела вместо одного меткого. Да вот, к примеру. Раньше выдр убивали выстрелом в голову: целили в глаз, чтобы не испортить мех. А теперь, подумать только, в Нулато я видел шкурки, пробитые во многих местах, да еще с дырками, куда можно просунуть целый палец! Настоящее убийство, вот что это, скажу я вам! А то и того лучше! Появились охотники, стреляющие картечью, так что шкурка получается вся в отверстиях, словно решето. — Послушайте, — вступил в разговор Алексей, до сих пор молча слушавший сию содержательную лекцию по баллистике. — Но ведь это же вполне естественно. Разве вы сами никогда не пользуетесь дробью? Широкая улыбка озарила лицо канадца: — С тех пор как я имел честь впервые взять в руки огнестрельное оружие, то есть тому лет сорок назад, никогда, месье, — слышите, никогда! — я не стрелял дробью, кроме одного-единственного раза. — Одного-единственного? — переспросил молодой русский. — Слово Перро! Ох, лучше бы мне было тогда и вовсе не стрелять! Этот выстрел, хотя сам он непосредственно и не принес никому вреда, стал причиной смерти огромного количества людей, а я едва не лишился собственного скальпа. — Расскажите же нам об этом. — Нет ничего проще. Тем более что это случилось всего несколько лет назад. В то время я охотился в двух шагах от форта Мумфорд, на реке Ситкин. Несколько дней подряд кто-то ловко и нагло грабил мои капканы. Решив разобраться, в чем тут дело, и примерно наказать вора, как-то вечером я спрятался поблизости в хижине и приготовил ружье, заряженное мелкой дробью. Вконец потеряв стыд, вероятно от безнаказанности, мой мошенник пробирается крадучись к капкану и наклоняется, чтобы вынуть оттуда великолепную куницу. Как смог разглядеть я при свете звезд, то, что подставил он мне для выстрела, отнюдь не являлось головой. Между мной и этой округлой частью его тела было шагов сорок. Нажав на спусковой крючок, я слышу крик и вслед за тем — шум продирающегося сквозь кусты человека. Потом снова воцаряется тишина… Пока все идет неплохо, правда?.. К несчастью, меня угораздило угодить в колдуна, именуемого Отцом Врачевания, который давно уже держал в страхе индейское племя чиликотов. Ленивый, не способный поймать даже сурка, прожорливый, словно росомаха, он не желал тратить время на охоту, а попросту обкрадывал наши силки и капканы, а потом продавал наши шкурки в форте, у нас же под носом. Мой выстрел, положив конец ночным похождениям проходимца, лишил его верного источника доходов и, в силу этого, внушил ему острую ненависть к бледнолицым, а что такое ненависть краснокожего, я думаю, вам объяснять не надо. Воспользовавшись своим влиянием на соплеменников, он добился объявления нам войны. Больше года индейцы цеплялись к нам, словно репьи на хвост собаки. Они дрались так, как свойственно настоящим дикарям, то есть не зная жалости и не желая идти на мир. И только когда мы наконец перебили бесчисленное множество краснокожих, ибо у нас не было причин щадить их, они немного попритихли и отступили к югу. Вот, господа, каковы оказались последствия единственного в моей жизни выстрела дробью. Лучше бы уж я выпустил пулю. Колдун был бы убит, а вы знаете поговорку: «Мертва гадюка, нет и яда»… Однако я что-то совсем разболтался. Филе готово, пора и перекусить. И неплохо бы потом хорошенечко выспаться, прежде чем завтра с рассветом отправиться к атнам с Купер-Ривер. — К атнам, говорите вы, или к меднокожим индейцам, чьи земли простираются по другую сторону гор? — спросил Жюльен. — Да. Если только я правильно понял объяснения местных индейцев, которых мы повстречали последними, шар, скорее всего, упал где-то там. — Вполне вероятно, — согласился Жюльен. — Вершины Аляскинского хребта действительно преграждают путь воздушным потокам, идущим с севера, и наш бедный друг, выбрав наиболее благоприятное для этого место, смог, я надеюсь, беспрепятственно приземлиться. Вскоре путешественники получили подтверждение правильности своих предположений. Но каково же было их разочарование при известии о том, что, несмотря на скорость, с которой промчались спасатели на санях по узким извилистым ущельям Аляскинского хребта, рискуя каждую минуту сломать себе шею, они все-таки опоздали на два часа! Меднокожие индейцы пребывали в сильнейшем возбуждении. Сын луны сбежал внезапно, как и появился, нимало не заботясь о гостях племени, прибывших издалека, чтобы лицезреть его и творимое им чудо. Итак, снова в дорогу! Сперва необходимо было поточнее определить направление дальнейшего пути. И сделать это путешественникам предстояло самим, ибо краснокожие или не хотели, или не могли сказать, в какую сторону полетел шар, унесший Жака Арно.
ГЛАВА 7
Спустя восемь месяцев. — Воспоминание об улице Дюрантен. — Полет над морем. — Благополучное приземление. — Возвращение в цивилизованный мир. — Юные торговцы газетами. — Остров Баранова. — Ситка. — Край дождей. — Лечение ревматизма. — Сделка на сумму в двадцать долларов. — В отеле. — Владелец гостиницы. — На судне. — Ловкий коммерсант.«3 мая. Ставя эту дату, я задаю себе вопрос, действительно ли сегодня у нас 3 мая 1879 года. После того, как я совершенно неожиданно покинул форт Нулато, события разворачивались столь стремительно, и я постоянно оказывался в таких непредсказуемых ситуациях, что вполне мог запутаться в датах. Но продолжим… Я пишу этот отчет исключительно для того, чтобы чем-то заполнить свое время, и хронология, по сути, не имеет для меня никакого значения. Позднее я с удовольствием перечту эти строки, если только непредвиденное приземление не прервет мои подвиги воздухоплавателя поневоле. Не знаю, смеяться мне или плакать при воспоминании о том, что приключилось со мной за последние дни. Не знаю даже, стоит ли задумываться над своим трагическим положением или же просто-напросто наплевать на так называемую судьбу. А может, свалить все на обстоятельства, на людей?.. Или же убедить себя, что все к лучшему в этом лучшем из миров? Свалить на обстоятельства… Хорошенькое начало! Это было бы просто глупо. Обвинить своих ближних?.. Ну, обвинений этих хватило бы мне надолго! Можно было бы начать с Жюльена, который уволок меня, будто тюк, на Северный вокзал, а кончить этим толстяком, хозяином Нулато, влезшим, словно упитанный бычок, в мою корзину, а затем без всякого предупреждения выпрыгнувшим из нее!.. Впрочем, справедливости ради мне следовало бы пожурить и самого себя со своим дурацким организмом, не переносящим ни малейшей качки… А заодно и попрекнуть покойного дядюшку, злосчастного, но оттого не менее дорогого мне родственника, сыгравшего со мной веселую шутку, сделав меня наследником всего своего состояния! Нет… бранить ближних, а тем более себя, было бы слишком утомительно. И к тому же это расходится с моими принципами. Путешествие в Бразилию между тем продолжается. И, определенно, мои способы передвижения не лишены оригинальности. Решительно, как я уже неоднократно повторял, в жизни всякое случается! Странная вещь, несмотря на всю невероятность своего положения, я начинаю находить его вполне естественным. Этот факт весьма любопытен, как, впрочем, и тот, что многие впечатления и события, поначалу кажущиеся незабываемыми, мгновенно стираются из памяти. Например, сейчас мне кажется, что я всегда был диким гиперборейцем[231], жил в вонючих хижинах или в снежных норах, мчался на санях и питался такими малопригодными для еды продуктами, на которые и взглянуть-то тошно. Париж утонул в густом тумане прошлого, и когда я вспоминаю, что еще восемь месяцев назад был супрефектом в префектуре Сены, то в голову мне невольно закрадывается мысль о том, что само слово «супрефект» никак не приложимо к человеку, болтающемуся в данный момент между небом и землей где-то там над Североамериканским континентом. Восемь месяцев!.. Не могу без содрогания подсчитывать те бесконечные километры, что отделяют корзину моего шара от дома номер 11 по улице Дюрантен. А сколько еще километров предстоит мне преодолеть!.. Ведь на сегодняшний день я проделал не более половины всего пути. Я даже думать боюсь, где, когда и как окончится мое путешествие. Да и к чему? Похоже, что за мной по пятам следует некий вздорный гений, поставивший себе целью разрушить все мои проекты, расстроить все мои планы. Самое простое — это покориться своей участи: будь что будет! Лишь в одном у меня нет никаких сомнений: я все еще лечу на воздушном шаре и постепенно привыкаю к такому способу передвижения. Где я нахожусь? Не знаю и знать не хочу. Мерно покачиваясь, я лечу уже более двадцати часов, и одураченные мною индейцы, вздумавшие обречь меня навечно на принудительные полеты, остались далеко позади. Поднялся сильный ветер, и аэростат снова подхватило воздушное течение, пригнавшее меня из Нулато к атнам, хотя на пути его, словно гигантский экран, высился Аляскинский хребет. Ветер тогда дул с северо-запада и нес меня к Британской Колумбии. Если он сохранил это направление, все прекрасно, если нет — тем хуже для меня. Но в любом случае я буду лететь до полного сгорания топлива и, таким образом, куда-нибудь да доберусь. Запасов еды хватит еще на сутки: больше мне просто не удалось унести. Так что положение мое не такое уж плохое. У меня есть литр воды, а кувшин с жиром еще дает немного тепла, достаточного для поддержания шара в воздухе. Я ужасно устал, но надо продолжать путь независимо ни от чего. Главное, что воздушные течения уносят меня от северных широт. Не имея причин избегать водной стихии, Жюльен и Алексей проследуют за мной кратчайшим путем через леса, равнины и реки. У меня нет оснований беспокоиться за них, ибо, предвидя, что, возможно, нам придется разлучиться, мы договорились останавливаться в населенных пунктах, расположенных вдоль телеграфной линии, протянувшейся по двадцатому меридиану от Новоархангельска[232] до Сан-Франциско. Так что рано или поздно мы встретимся. Я стараюсь не думать о том, что сейчас у меня нет ни гроша за душой, ни оружия, ни компаса, ни часов, ни грамма табаку. Все мое состояние заключается в кусочке трута, огнива, кремня и записной книжки. Этот багаж, не более громоздкий, чем у покойного философа Бианта[233], совершенно не занимает места…»
Удобно устроившись в глубокой и просторной корзине своего монгольфьера, выстланной изнутри толстым слоем войлока, Жак безмятежно писал свои путевые заметки, как вдруг шум прибоя прервал его занятие. — Что за черт! — воскликнул он с дрожью в голосе. — Вроде бы уже я слышал подобные звуки… во время моей знаменитой прогулки… неподалеку от устья Орна… Яростно бившиеся о берег морские волны рокотали примерно так же — не очень громко и монотонно… Выходит, подо мною — океан?.. В таком случае поздравляю тебя, мой мальчик!.. Ты столь энергично убегал от воды и проявлял чудеса изобретательности, чтобы только избежать переправы даже через крохотную речушку, не боясь продемонстрировать свое малодушие и выставить себя в смешном виде. И все это для того, чтобы в тот момент, когда судьба твоя зависит от самого ненадежного из средств передвижения — простого шара, наполненного теплым воздухом, оказаться вдруг над бушующими волнами… Я был прав, отметив в дневнике, что «в жизни всякое случается». Ну что ж!.. Будь что будет!.. Но в ожидании неминуемого падения в морскую пучину я все же позволю себе доесть остатки мяса и выпить несколько глотков воды и уж потом положусь на судьбу… Правильно решив, что он слышит шум прибоя, Жак, однако, не мог видеть, как вспенившиеся тихоокеанские волны отчаянно бились о скалистые отроги гор, поскольку над водой висел толстый слой тумана, постепенно становившийся все гуще и гуще. Шар, гонимый воздушным течением, попал в одну из самых влажных климатических зон в мире, где за исключением двух относительно коротких периодов дождь льет круглый год. Эта зона, следуя вдоль извилистой южной границы бывшей Русской Америки, простирается над Аляской от устья Купер-Ривер до 54° северной широты. Спустившись к верховью Купер-Ривер и двигаясь по направлению к горе Святого Ильи, у границы между владениями Англии и Соединенных Штатов, шар незначительно отклонился на восток. Подхваченный воздушным потоком, несшимся между побережьем Тихого океана и горным хребтом, соединяющим гору Святого Ильи с горами Фэруэзер, он пролетел над бухтой Беринга и, двигаясь то над водой, то над сушей, продолжил свой путь. Сквозь дождевые тучи, плотно устлавшие воздушное пространство под аэростатом, до путешественника донесся грохот валов, бившихся о берег в проливе Кросс, отделяющем от континента остров Ситка, он же — остров Баранова… К счастью, дул сильный ветер, и шар, несмотря на высокую влажность воздуха, все еще удерживался наверху. Страхи Жака продолжались около двух часов, затем рев волн утих: монгольфьер пролетал над островом Ситка, пересекая его с севера на юг. Затишье было достаточно долгим, и Жак совсем уже было оставил мысли о неизбежности купания, как вдруг раздался ужасный грохот, возвестивший о волнах, рождающихся в необъятных просторах Тихого океана и не признающих в неустанном беге никаких преград. Аэростат приблизился к южному берегу острова Ситка и почти час парил между ним и островом Круз, где высится гора Эджумб. Из-за пребывания в атмосфере, перенасыщенной водяными парами, шар к тому времени отяжелел и начал медленно опускаться, чего Жак поначалу никак не мог понять. Он рисковал упасть в середине пролива, на чем и закончились бы приключения парижанина, путешествующего вокруг света, но судьба, вот уже много дней испытывающая Жака, решила наконец выказать ему свою благосклонность, ибо именно в этот момент Дама Злосчастье надумала отдохнуть. И наш воздухоплаватель, который вот уже несколько минут чувствовал, что неумолимо падает вниз, достаточно мягко опустился на землю. Благополучное приземление и избавление от риска погрузиться в пучину морскую тотчас вернули Жаку столь обычное для него бодрое расположение духа. — Итак, я на суше! Дождь льет как из ведра, но меня страшит лишь вода, что плещется подо мной, на воду же, текущую сверху, мне наплевать. Разглядев справа и слева дома и увидев обутых в резиновые сапоги и закутанных в плащи джентльменов, лавирующих среди луж, Жак подумал вдруг: а не пригрезилось ли все это ему. — С ума сошел я или все еще сплю? — произнес он, открывая клапан, чтобы выпустить последние капли теплого воздуха, и затем решительно выбрался из корзины. — Дома… настоящие европейские дома… Немыслимо! Неожиданно до слуха его донеслись громкие крики. Их издавали грязные босоногие мальчишки в лохмотьях. Юные создания фальцетом выкрикивали названия вечерних газет. Жак машинально протянул руку. — Шесть пенсов![234] — сипло протявкал оборванец, не выпуская из рук листка, по которому струилась вода. Жак вовремя вспомнил, что у него не было ни единого су[235], и отпустил мальчишку. — Газеты… дома… хорошо одетые люди… даже экипажи… Но никто так и не заговорил со мной!.. Человек вроде меня, то есть в костюме дикого гиперборейца, упавший с неба вместе с воздушным шаром в четыре часа дня на перекрестке Монмартра, вызвал бы все же некоторое любопытство прохожих… Здесь же — ничего!.. Все эти люди спешат, словно на пожар, и, мельком взглянув на сдувающийся на их глазах шар, продолжают свой бег… Странный город… Странные люди… Но не могу же я в конце концов так и стоять в грязи рядом с пустой оболочкой шара, словно кучер у опрокинувшегося фиакра[236]. Начнем с того, что я в Америке, и, хотя жители ее славятся своим крайним эгоизмом, надеюсь, мне удастся получить ответ на несколько вопросов. — И, закончив сей монолог, адресованный самому себе, он обратился к индивидууму с козлиной бородкой, который, проходя мимо, бросил на сдувшийся шар быстрый и равнодушный взор очень занятого человека: — Эй, не скажете ли вы мне, куда я попал? — В город Ситку. — Вы сказали: Ситка? — Да… Нью-Архангельск. — Но Ситка — столица Аляски… — Йес[237], сэр. — И находится на острове!.. — Йес… Баранофф-остров. — Спасибо, господин! Это все, что я хотел узнать. Но, к сожалению, ваш ответ сделал меня самым несчастным человеком на свете. Однако личность с козлиной бородкой была уже далеко. — Я на острове!.. — промолвил ошеломленный Жак. — Но остров — это часть суши, окруженная со всех сторон водой!.. Выходит, я снова пленник? И у меня нет ни единого су, чтобы наполнить мой монгольфьер! Злой гений, преследовавший Жака, взял крупный реванш, забросив его на остров Баранова, где находится Ситка, главный город Аляски. Приземление, которое обрадовало бы любого путешественника, стремящегося как можно быстрее вновь ощутить под ногами твердь земную, повергло нашего друга в отчаяние. Испытываемый им ужас перед водной стихией более, чем отсутствие элементарных материальных благ, делал его нечувствительным к утехам этого замечательного городка. Во времена владычества русских Ситка, обычная фактория, основанная русско-американской компанией по торговле мехами, постепенно превратилась в самый крупный город на Аляске — с почти двухтысячным населением. С включением территории Русской Америки в состав Соединенных Штатов значение города возросло, особенно с конца 1867 года. Уютно расположенная среди лесистых холмов, окруженная высокими горами, увенчанными снежными вершинами, и защищенная от океанских ветров потухшим вулканом Эджумб, возвышающимся на острове Круз на две тысячи восемьсот метров над уровнем моря, Ситка, как и ее окрестности, выглядит весьма привлекательно. Несмотря на то, что город находится почти на пятьдесят седьмой параллели, зима здесь мягкая, температура практически никогда не опускается ниже семи градусов. Так что путешественнику, долго странствовавшему в северных широтах и привыкшему ночевать в жалких хижинах вместе с несчастными их обитателями, есть от чего прийти в изумление, оказавшись внезапно в центре поселения, располагающего всеми благами цивилизации. В самом деле, хотя Ситка и расположена всего лишь в одиннадцати градусах от Полярного круга, она с полным правом гордится отлично построенными красивыми домами, ухоженными улицами, ресторанами, кафе, гостиницами, барами, банками, клубами, церквами и даже театром. Чуть ли не вплотную к городу подступает бескрайний лес, служивший когда-то прибежищем индейцам племени кольюжес. На его опушке выросли нарядные коттеджи, где по вечерам джентльмены могут расслабиться после утомительного дня, проведенного на бирже или в конторе. Одно плохо: выпадение осадков на Ситке составляет от двух с половиной до трех метров в год[238]. Дожди прекращаются лишь для того, чтобы уступить место снегу, а если летом случайно и выдастся несколько недель хорошей погоды, то за эти приятные денечки жители расплачиваются обычно лихорадкой и грудными болезнями. Не забудем и о ревматизме. Впрочем, напоминание это может показаться излишним, ибо и так ясно, что продолжительное пребывание в подобном климате непременно влечет его за собой. Но леди и джентльмены философски переносят эти маленькие неприятности и, в зависимости от погоды, надевают водонепроницаемые плащи, макинтоши[239] или шубы. Что же касается лечения ревматизма, то существуют растирания фланелью, смоченной бренди… Хотя помогает вроде бы и просто сухая фланель с приемом вышеозначенного напитка внутрь. Во всяком случае, злые языки утверждают, что некоторые больные отдают предпочтение последнему способу исцеления и число таковых, мол, весьма велико. Да устыдятся те, кто подумает о страдальцах сих плохо! Сетования Жака имели под собой определенные основания, ибо единственная для него возможность покинуть остров — это пересечь водное пространство, отделяющее его от континента. Но, прежде чем придумать, как перебраться на материк, необходимо было временно обустроиться и на том участке суши, куда занесла нашего героя капризная судьба. В очередной раз придя к безрадостному выводу, Жак заметил вдруг, что к нему подкатил экипаж размером с железнодорожный вагон. — Джентльмен, наверное, ищет гостиницу? — спросил его возница. — Да. Не отвезете ли вы меня туда вместе с моим багажом? — Ол райт!.. Они не без труда взгромоздили на крышу повозки шар, и через пять минут дилижанс остановился возле весьма приличного с виду отеля. — С вас один доллар[240]. — Ах, черт!.. — Вы считаете, что это слишком дорого? — Нет, я бы с удовольствием дал вам хоть два, если бы… если бы они у меня были. — Они у вас есть. Вон там, — возница указал на корзину воздушного шара, — лежит бизонья шкура стоимостью двадцать долларов… — И вы хотите получить ее за эту цену? — Йес! Вот девятнадцать долларов — стоимость шкуры за вычетом доллара, который вы мне должны. Жак молча положил в карман полученные деньги, равнявшиеся ста двум франкам девяноста восьми сантимам. Затем, сгрузив вместе с возницей монгольфьер и втащив его под навес, француз вошел в гостиницу. Хозяин, флегматичный, как и все янки, не смог сдержать удивления при виде странного посетителя, горделиво запахнувшего шубу, с которой ручьями стекала вода. — Комната и еда обойдутся вам в четыре доллара в сутки, — приступил к делу хозяин. — Согласен, — ответил Жак. — Могу я здесь позавтракать? — Да, если заплатите вперед. — Получите, — послушно протянул ему деньги путешественник, а про себя проворчал: «Экая скотина!.. Но, к счастью, перед отлетом у меня появилась блестящая идея запаковать запасы еды в бизонью шкуру, забрав и ее — со всем прочим — у индейцев-атна, благо мне были неведомы при этом ни малейшие угрызения совести. И, как оказалось, не осуществи я этого замысла, в первом встретившемся мне после Якутска городе меня бы ждала голодная смерть… Однако самое время поискать способ, как бы побыстрее покинуть эти мокрые и негостеприимные края, пока я не истратил все до последнего су». — И, движимый этой мыслью, он снова обратился к владельцу гостиницы: — А за получение сведений тоже надо платить заранее? — Сведения предоставляются бесплатно… А что бы вы хотели узнать? — спросил хозяин, явно смягчившийся при виде долларов. — Сколько отсюда до материка? — Около ста миль[241]. — Есть ли с ним регулярное пароходное сообщение? — Да, два рейса в неделю. — Когда отходит ближайший пароход? — Завтра утром. — Не подскажете ли мне, где смог бы я найти его капитана? — Это я. — Вы?! — Йес… А что вас так удивляет? — Да нет, ничего. Не возьмете ли вы и меня в качестве пассажира? — Йес. Проезд до устья реки Ситкин стоит десять долларов. Оплата вперед… при посадке на судно. — Это я уже понял… Десять так десять… Но должен вам заметить, что я собираюсь отплыть с вами отнюдь не в качестве обычного пассажира. — Для меня все пассажиры равны, ибо каждый платит равную сумму — десять долларов. — Согласен! Однако все пассажиры плывут на палубе вашего корабля, я же собираюсь находиться над палубой. — Я вас не понимаю. — Все очень просто. Согласны ли вы за стоимость билета взять на буксир мой воздушный шар? Хозяин гостиницы и одновременно капитан подумал немного, затем утвердительно кивнул и даже удостоил улыбкой предложение эксцентричного джентльмена. — Так мы договорились? И вы уже сегодня позаботитесь о доставке моего шара на пароход? — Йес. За это с вас еще доллар. — Не могли бы вы мне также продать тригаллона[242] китового жира? — Йес, по доллару за галлон… Плата вперед. — В котором часу вы снимаетесь с якоря? — Ровно в восемь. — Отлично! Буду на борту в семь и начну наполнять шар. — Как угодно. Запомните только, что я никогда никого не жду. Жак пил и ел за четверых, а после лег спать в настоящую кровать. Он искренне наслаждался комфортабельной гостиницей, вкушая за четыре доллара все блага цивилизации, имевшиеся на острове. Наутро ровно в семь часов он уже был на набережной и по сходням поднялся на разводившее пары небольшое суденышко. Свой шар он обнаружил на корме вместе со всеми приспособлениями и необходимым запасом топлива. Жак вынул пробку из большой оплетенной бутыли и при виде выплеснувшейся оттуда жидкости сперва удивился, а потом пришел в ярость. Но так как время поторапливало, он решил оставить все как есть и приступил к необходимым приготовлениям, удивляясь огромному количеству людей, собравшихся на пристани и на молу. «Странно, — рассуждал он при виде сотен лорнетов[243], направленных на пароход, — можно подумать, что эти люди разглядывают меня. Кажется, еще вчера никто не обращал на меня внимания. Неужели со вчерашнего дня интерес к моей особе так резко возрос? Впрочем, меня это не касается, мне нужно поскорее уехать. Этот жалкий кораблик качается, не знаю как, несмотря на все его швартовы… на все якоря… Поскорее бы забраться в корзину и подняться в воздух!» Палуба между тем быстро заполнялась мужчинами и женщинами самого разного возраста. Публика с любопытством созерцала приготовления к запуску шара, ибо для большинства присутствовавших полет на аэростате был в диковину. Жак, одурманенный запахом машинного масла, буквально скрючился, пытаясь ослабить действие качки на свой организм, и с тревогой смотрел, как наполняется монгольфьер. Вскоре под гром аплодисментов и восторженные крики «ура!», прозвучавшие в ужасной, перенятой американцами у англичан бравурной манере, шар, окончательно округлившись, поднялся в воздух. Пробило восемь. Раздался пронзительный гудок, и, словно по мановению волшебной палочки, палуба опустела. Зрительская аудитория переместилась на набережную, и на борту не осталось никого, кроме экипажа и нескольких пассажиров. Жак Арно плавно поднимался на летательном аппарате, соединенном с кораблем прочным канатом. — Гип!.. Гип!.. Ура!.. — ревели островитяне, повергая воздухоплавателя во все большее изумление, поскольку Жак не видел утренних газет, в которых не слишком щепетильный владелец гостиницы разместил прелюбопытное объявление, гласившее, что всего лишь за один доллар леди и джентльмены могут подняться на палубу парохода, чтобы лично присутствовать при подъеме воздушного шара и стать, таким образом, свидетелями «грандиознейшего зрелища нынешнего сезона». Реклама, кстати, оказалась весьма эффективной, и ловкий коммерсант с семи до восьми, когда он произнес сакраментальное[244] «отчаливай!», то есть за какие-то шестьдесят минут, успел прикарманить двести долларов. Индейцы предоставляли соплеменникам возможность созерцать поднимавшегося в небо сына луны совершенно бесплатно. Американец же и мысли не допускал о подобного рода благотворительности и за то же самое зрелище не преминул содрать с соотечественников весьма солидную мзду. Вероятно, в этом поступке капитана, как в зеркале, отразились пресловутые прогресс и цивилизация, которые все глубже проникают в различные сферы жизни. Эксплуатация Жака приняла особо изощренную форму, ибо осуществлялась без его ведома. Достоянием же самого путешественника к этому часу являлся всего один доллар, оставшийся у него после продажи шкуры бизона.
ГЛАВА 8
Противостояние России и Англии. — Извечные соперники — Джон Буль[245] и Джонатан[246]. — Индейцы — клиенты английской фактории. — Появление конкурента. — Сиу, ассинибуаны, чиппевеи, или «желтые ножи», черноногие, «бобры», «заячьи шкуры», сальте, «плоскобокие собаки», чиликоты, «плоскоголовые», «проколотые носы». — Жажда мести. — Маскарад. — Затея английского факто́ра[247]. — Нападение на американский склад. — Пленение. — Отец Врачевания. — Угроза шевелюре Перро.До того как Русская Америка была продана Соединенным Штатам, правительство России придавало особое значение землям, граничившим с английскими владениями в Новом Свете. Непримиримые враги как в Европе, так и в Азии, несговорчивые, наподобие крестьян, обменивающихся злыми шуточками и вытаптывающих друг у друга посевы, Россия и Англия, словно два завистливых соседа, распространили свою политику аннексий[248] и, как следствие, свое соперничество вплоть до самых удаленных территорий Северной Америки. Это противоборство, продолжавшееся уже более полувека, достигло такой остроты, что до самого 1863 года численность гарнизона маленького городка Ситка составляла пятьсот человек, располагавших пятьюдесятью восемью пушками. Подобные силы были собраны там явно не для защиты города. После многих бесконечных тяжб, которые европейские канцелярии безуспешно пытались разрешить, Россия к 1853 году подумывала о том, как бы захватить все побережье вплоть до реки Колумбия, что лишало бы Английскую Америку выхода к Тихому океану и тем самым приводило бы к ее полной изоляции от внешнего мира. Англия, понимая стратегическое значение данных территорий, заявила протест. Напряженность сохранялась, и претензии России, вероятно, привели бы к casus belli[249], если бы не Крымская война[250], где победа досталась англичанам. Несколько лет спустя между соседями возник новый конфликт. Враждебные действия исходили со стороны английской «Компании Гудзонова залива». Основав несколько новых фортов в бассейне реки Ситкин, она потребовала права свободного передвижения по принадлежавшей России территории. Спор, казалось бы, разрешился полюбовно: английская компания получила желаемое, согласившись платить «Русско-американской компании» ежегодный налог в две тысячи шкурок выдр[251]. Однако напряженность в отношениях между Россией и Англией продолжала сохраняться вплоть до 1867 года, когда территория Аляски была куплена правительством Соединенных Штатов. Заключенный между двумя компаниями договор утратил свою силу, как, естественно, и его статьи, определявшие права и обязанности подписавших это соглашение сторон. Но границы между Аляской и Британской Колумбией сохранились, и можно смело сказать, что вместе с границами сохранилась и неприязнь, правда, теперь уже между новыми соседями, поскольку место России заняли Соединенные Штаты. У государств, так же как и у людей, есть свой злой рок. Злой рок Аляски и Британской Колумбии — враждовать друг с другом. Уже сам факт приобретения Аляски Соединенными Штатами был расценен англичанами как вызов, брошенный им пронырливыми американцами. Это само по себе неудивительно: всюду, где ни появляются англичанин и американец, между ними возникает глухая вражда — возможно, из-за разницы в темпераментах. Однако в данном случае взаимная неприязнь Джона Буля и Джонатана имела под собой определенную почву: интересы обеих сторон были прямо противоположны, и, охотно унаследовав традиции давнего соперничества, почтенные джентльмены Джон Буль и Джонатан ложились спать, как говорится, с ножами под подушкой. Еще ранее мы упомянули о том, что могущественная английская «Компания Гудзонова залива», монополизировавшая торговлю мехами на всей территории к северу от пятидесятой параллели, весьма затрудняла существование своего конкурента, американской «Пушной компании» из Сент-Луиса, и нужно было обладать поистине неистовым упорством янки, чтобы устоять и не бросить коммерческую деятельность. Компания из Сент-Луиса не только выжила, но и заставила свою соперницу считаться с ней. Но какой ценой, этого никто никогда не узнает! Благодаря приобретению Соединенными Штатами Аляски американская компания, ранее не имевшая собственных владений, естественно, тут же обосновалась на месте бывшего русского товарищества[252]. Отныне у нее был свой дом, а точнее — принадлежавшая ее правительству территория, на которую англичане никак не могли претендовать, если исходить из международного права. Создалась весьма напряженная ситуация, ибо теперь противниками англичан выступали не беспечные, жизнерадостные и вечно праздные русские, а суровые искатели приключений, неутомимые в работе и падкие на деньги, — словом, янки, не понимавшие красивых слов и умевшие считать доллары. Таким образом, к тому времени, когда мы начали наше повествование, обе компании, каждая из которых воплотила дух своей нации, существовали в состоянии вооруженного мира, более грозного, нежели добрая ссора, ибо после нее победители и побежденные в конце концов мирятся друг с другом. И английские и американские факто́ры пытались всеми возможными способами первыми пролезть в тот или иной район и, возбуждая алчность охотников, особенно индейцев, установить свои цены на рынке. В результате тесных контактов с белыми коренные жители этих мест приобрели множество привычек, прежде им не свойственных и сделавших их зависимыми от белого человека. Северные индейцы — уже не тот независимый народ, который без чьей-либо помощи умел создавать различные орудия и оружие. Современный краснокожий, не имеющий ни ружья, ни веревки, ни железных изделий, ни тканей, ни одеял, чувствует себя обделенным, а племя, лишившееся поддержки той или иной компании, постепенно исчезая, просто перестает существовать. На правом берегу реки Ситкин, куда во времена русских англичане получили доступ за две тысячи шкурок выдры, в нескольких километрах от границы с Аляской, агенты «Компании Гудзонова залива» в 1872 году основали новую факторию. Самым близким к ней американским поселением был город Ситка, но до него было не менее ста лье, и фактория тотчас же стала важным торговым центром, без устали расхваливаемым англичанами. Из года в год все большее число охотников несли сюда свои трофеи, в обмен на которые они получали необычайно дешевые и разнообразные товары. Трапперы — с берегов Великих озер[253] и даже с противоположного конца материка — приходили регулярно, два раза в год, осенью и весной, и именно весной, распродав добытые за зиму шкурки, они предавались многодневным кутежам. Одним словом, фактория не страдала от отсутствия клиентуры. Американцы ревниво взирали на сие процветание и в 1879 году решили создать в окрестностях новой фактории склад товаров, дабы удостовериться, воистину ли торговля в этих краях является столь прибыльным делом. Разумеется, складские помещения строились зимой, чтобы до начала торгов успеть на санях перевезти в них товары. Индейцы стекались в факторию со всех сторон, ибо за последние годы благодаря обширному ассортименту товаров аппетиты у них разыгрались, а известие о конкурентах еще более возбудило их алчность. Жадность заставила краснокожих прекратить на время торгов распри, и, позабыв о междоусобной вражде, они разместились все вместе на специально отведенной для них англичанами площади, где и раскинули на почтительном расстоянии от стен фактории свои палатки из буйволовой кожи. На первый взгляд все индейцы — словно дети одной матери: кирпичного цвета кожа, длинные прямые черные волосы, заплетенные в две косы, спускающиеся по плечам, небольшая прядь, именуемая «прядью скальпа», которую из бахвальства отращивают до самой шеи, гладкие, тщательно выщипанные лица, орлиные носы, нависающие над жестко очерченным ртом с узкой полоской губ, живые черные глаза, настороженно взирающие из-под приподнятых век, и, наконец, величественные манеры, зачастую столь неуместные, что вызывают смех. Однако наблюдательный взгляд быстро начинает находить разницу в лицах, которая вместе с различиями в костюмах позволяет при определенном навыке определить, к какому племени принадлежит тот или иной индеец. Некоторые из прибывших на торжище аборигенов носили отдельные детали европейского костюма, чаще всего — кожаные охотничьи блузы или измятые, давно утратившие первоначальную форму шляпы, выглядевшие довольно странно в сочетании с традиционным индейским нарядом. Однако большинство индейцев были облачены в свои парадные одеяния, сшитые из шкур и украшенные перьями, ожерельями из зубов и когтей, металлическими пластинами, костями или мелкими вещицами, отнюдь не предназначенными для подобной цели. Надменные сиу, горделиво выступавшие в одеждах из бизоньих шкур мехом внутрь, дабы были видны нанесенные на кожу изображения охотничьих и военных подвигов владельца костюма, прибыли из приграничных районов Соединенных Штатов. Ассинибуаны и чиппевеи, или «желтые ножи», населяющие берега озера Атабаска, спустились вниз по течению реки Пис — реки Мира, стремительно несущей свои воды по грозным ущельям Скалистых гор. Эти миролюбивые индейцы, занятые исключительно торговлей, избегают своих свирепых собратьев из племени черноногих, отчаянных охотников за скальпами, которые, не довольствуясь подобными трофеями, вспарывают своим врагам грудь и поедают их сердце. Были здесь и индейцы «бобры», обитающие на берегах Невольничьего озера[254], — хилые бедолаги, необычайно тощие из-за вечного недоедания, и безобидные краснокожие из племени «заячьи шкуры», живущие в окрестностях реки Маккензи. Так как владения последних находятся вблизи Полярного круга и, следовательно, вдали от европейских поселений, дичь там водится в изобилии, и она менее пуглива, чем в иных местах. Поэтому им было что предложить факто́ру, и многие из индейцев племени сальте, наглые грабители с озера Виннипег, бросали на их связки мехов алчные взоры. Индейцы горы и индейцы из Арк-Форта, сильные и бесстрашные жители Крайнего Севера, расположившиеся рядом с невоинственными краснокожими, всем своим видом показывали, что в случае нужды смогут их защитить. У фактории можно было увидеть также кольюжев с Ситки и Ванкувера, многочисленное племя чиликотов, которые после многократных переходов американской границы обосновались в конце концов по другую ее сторону, и индейцев, прибывших с юга, — несколько «проколотых носов», «плоскоголовых» и «воронов». Не забудем и племя, называющее себя «плоскобокие собаки», — здоровенных, но неуклюжих парней, медлительных, с приплюснутыми лицами, напоминающими физиономию павиана[255]. Они гордо вышагивали, видом своим вызывая у всех улыбку. Представители различных племен объяснялись на шинуке, который можно было бы назвать языком «Компании Гудзонова залива», поскольку он позволял всей этой разношерстной публике свободно общаться. Атны, прибывшие с берегов Медной реки большой группой и все еще взбудораженные неожиданным появлением на их территории сына луны и его внезапным исчезновением, со множеством невероятных подробностей рассказывали о чуде и обсуждали его на свой лад, пытаясь разрешить эту неразрешимую для них загадку. Многие краснокожие из других племен также имели возможность созерцать это не виданное доселе явление, так что восхищенные слушатели не имели оснований подвергать сомнению утверждения атнов о том, что двух передвигающихся по воздуху беглецов, один из которых несет другого, преследует охотник из Нулато по имени Перро. Имя канадца, случайно прозвучавшее среди шумных восторгов слушателей, заставило чиликотов навострить уши. Ловко, с непринужденным видом, выспрашивая всех и вся, они узнали, что их заклятый враг, преследуя луну, опоздал к атнам всего лишь на пару часов и, продолжая погоню, отправился вместе со своими товарищами на юго-восток по дороге, ведущей к английской фактории. Выяснили чиликоты и то, что этот траппер, служащий компании из Сент-Луиса и рыцарь по духу, даже не подумал попросить гостеприимства у англичан и, утомленный стремительными переходами, предпочел остановиться на отдых в американском коммерческом центре, где, как и в английской фактории, уже началась торговля мехами. Ленивые, жестокие, к тому же еще пьяницы и воры, чиликоты прибыли на торги исключительно из любопытства, а также в надежде стянуть что-нибудь при случае, ибо их весьма посредственные шкурки были полностью забракованы английским факто́ром. Правда, после долгих уговоров он все же согласился их взять, но по смехотворно низкой цене. И то еще хорошо: ведь торговец мог бы сплавить этих незадачливых охотников своим конкурентам. Характеризует чиликотов, пользующихся среди своих сородичей дурной репутацией, и то, что они были единственным племенем, которому не разрешили раскинуть палатки на площади, где выросли живописные жилища краснокожих трапперов. Разведав все, что им было нужно, эти мошенники, словно подчиняясь какому-то таинственному приказу, торжественно удалились и, уединившись в своих палатках, просовещались до вечера, даже не заметив, казалось бы, что торги уже начались. А на следующий день на рассвете они снялись, не оставив и следа своего пребывания. Хитрецы ушли недалеко. Но никто бы не узнал в ярко разодетой толпе, величественно направлявшейся к американскому складу, презренных чиликотов, которым еще накануне каждый считал своим долгом выказать пренебрежение, граничившее с презрением. Около восьмидесяти воинов, переодевшись в парадные костюмы шести или семи племен, двигались отдельными группами, делая вид, будто они не знакомы друг с другом. Этот маскарад, способный ввести в заблуждение самый наметанный глаз, был подготовлен ночью всего за несколько часов. Костюмы могли бы выдержать любую самую придирчивую проверку. Раскраска и тотемы[256] были безукоризненны, каждое украшение — строго на своем месте. Превосходные лицедеи, чиликоты к тому же отлично воспроизводили манеры воинов каждого племени, словно и в самом деле выросли среди ютов, «змей», «толстых животов», кри, «вислоухих» или кердаленов. В общем, перевоплощение их было поистине безупречным. Блестящая идея подобного маскарада родилась в голове начальника английской фактории, решившего, таким образом, ввести в заблуждение своего американского конкурента, создав у того ложное представление, будто индейцы уже узнали дорогу к новому торговому центру. Переворошив содержимое складов фактории, англичанин извлек оттуда для чиликотов одежду и все необходимые аксессуары, уверенный в том, что с помощью этого старья он вполне сможет обмануть янки. Лукавый факто́р рассчитывал, что американец, открывая свой первый торговый сезон, не станет, разумеется, отпускать с пустыми руками пришедших издалека охотников и, чтобы заключить с ними соглашение на следующий сезон, раздаст им все содержимое вверенного его попечению склада. Таким образом, задолго до появления настоящих продавцов он останется без товаров, предназначенных для обмена. И в результате англичане получат преимущество в торговле с индейцами и, по крайней мере еще на сезон, сохранят свою монополию в этих краях. Представитель «Компании Гудзонова залива» усматривал в своей затее лишь забавную шутку, способную к тому же обернуться немалой для него выгодой, и не подозревал, как хотелось бы нам надеяться, что, прибегая к услугам подобных субъектов, он может стать виновником непоправимых несчастий. Когда чиликоты прибыли в своих маскарадных одеяниях к американскому складу, охранявшемуся всего одним факто́ром и двумя метисами, вид вещей, предназначенных для меновой торговли, моментально пробудил в них алчность, а зрелище ничего не подозревавшей толпы внушило им коварную мысль о том, что завладеть этими товарами не составит труда. К тому же они знали, что их заклятый враг канадец Перро находится в палатке факто́ра. Тот самый Перро, пропавший после окончания войны, развязанной сделанным им злосчастным выстрелом, поразившим Отца Врачевания! Имя Перро было ненавистно чиликотам не менее имени Злого Духа. Разрываясь между желаниями отомстить трапперу и ограбить магазин, или, скорее, стремясь совершить оба деяния сразу, индейцы, посовещавшись, решили сначала напасть на американца и метисов, а затем окружить палатку и захватить всех, кто там находится. Численность чиликотов позволяла им действовать быстро и успешно. К тому же им была обеспечена безнаказанность, ибо никто не знал, кто в действительности скрывается под их маскарадными одеяниями, и посему возмездие ожидало «змей», кри, ютов, «большие животы», «вислоухих» и кердаленов. Что же касается английского факто́ра, вдохновителя и организатора переодевания, то известно, что, единожды украв, не остановишься и перед убийством, а посему тот, несомненно, будет держать язык за зубами, как только прослышит о трагических последствиях задуманной им шутки. Уверенные, что им все сойдет с рук, и желая поскорей вкусить плоды мести, столь сладостной для каждого краснокожего, чиликоты решили безотлагательно привести свой план в исполнение. Предложив не подозревавшему подвоха американскому факто́ру лично ощупать старую бизонью шкуру, индейцы окружили его и, набросив ее ему на голову, заглушили крики о помощи. Еще через мгновение коммерсант был упакован в шкуру бизона и крепко связан веревками. Подобным же способом устранили и двух сторожей-метисов, разделивших участь своего начальника: их также упаковали и увязали, словно тюки. Осталось лишь захватить Перро и его таинственных товарищей. В любом другом месте, в густых ли канадских лесах или в бескрайних прериях Дальнего Запада, застать траппера врасплох было бы невозможно: возле бивуака всегда выставляется часовой, чью бдительность не обманет ни человек, ни дикий зверь. Но стоит ли прибегать к таким предосторожностям, находясь в четырех километрах от английской фактории, в разгар торгов, на глазах начальника фактории и его служащих, от чьих внимательных взоров никогда ничего не ускользает? К тому же существует неписаная договоренность, согласно которой индейцы не нападают на фактории, снабжающие их всем необходимым. Вот уже более двадцати лет не случалось ничего подобного. А если когда и возникали недоразумения, то виновников наказывали сами краснокожие. Так что Перро и его спутники считали себя в полной безопасности и, понятно, не предприняли никаких мер предосторожности. И сейчас, несмотря на то, что утро уже наступило, они спокойно спали, уютно закутавшись в мягкие шкуры, вкушая сладостное farniente — ничегонеделание, — чего, впрочем, и следовало ожидать от людей, измученных тридцатичасовыми гонками на санях. Чиликоты, став хозяевами положения, решили сначала покончить с оставшимися бледнолицыми и уж потом приняться за грабеж. Большая палатка, где разместились путешественники, имела единственный узкий вход, куда одновременно могли с трудом протиснуться лишь два человека. Для успешного осуществления плана индейцам необходимо было мгновенно захватить врага, ибо малейшее промедление могло повлечь за собой непредсказуемые последствия. Передвигаясь бесшумно, как это свойственно краснокожим, ступившим на тропу войны, индейцы окружили палатку, ухватились за колья, на которых были растянуты полотнища из буйволовой кожи, и стали ждать сигнала. Раздался резкий свист. И сразу же восемьдесят пар рук с силой выдернули колья из земли. Палатка упала на спящих, оказавшихся в положении запутавшейся в сетях рыбы. Представьте себе изумление путешественников, разбуженных столь бесцеремонным образом. Впрочем, изумление у Перро тотчас сменилось яростью, ибо он узнал среди нападавших своего старого врага, Отца Врачевания. Чиликоты, видя, что хитрость удалась, поспешили крепко связать пленников. Потом, чтобы как следует подготовиться к предстоящей церемонии, с завидной быстротой принялись поглощать запасы виски. Вскоре упившийся Отец Врачевания, с бутылкой в руке, отправился оскорблять канадского траппера, к которому колдун питал лютую ненависть, и это было вполне естественно для такого ничтожества, как он. Невозмутимый Перро, не удостоив негодяя ответом, лишь бросил на него равнодушный взор. Разозленный презрительным молчанием гораздо больше, нежели самыми ядовитыми выпадами, которые мог бы обрушить на него знаменитый охотник, мерзавец подошел к пленнику совсем близко, но не устоял на ногах, и его гнусная размалеванная рожа коснулась лица отважного канадца. Терпению Перро пришел конец. Он резко оттолкнул лбом Отца Врачевания. Удар был так силен, что тот откатился в сторону. Когда же колдун, мгновенно протрезвев, вскочил с проворством обезьяны на ноги, то губы его были расквашены, несколько зубов выбито, рот наполнился кровью. — Отлично, — прошипел индеец. — Перро силен… храбр… Посмотрим, как будет он вести себя у столба пыток!.. Перро ударил Отца Врачевания… Убивал чиликотов… Он умрет. Но еще раньше Отец Врачевания получит его скальп… Стремясь запугать пленника и продемонстрировать свою власть над ним, негодяй намочил в обильно бежавшей изо рта крови кончик пальца и начертил на голове канадца алый круг — путь ножа, которым снимают скальп! Но что за таинственное явление прервало вдруг восторженные вопли дикой орды, сменившиеся криками ужаса? Почему индейцы обратили к небу растерянные взоры? И отчего, вздымая в отчаянии руки, бросились лицом на землю? Огромный, непонятный предмет, окутанный пламенем, повис внезапно над толпой краснокожих, низвергая на них огненный дождь.
ГЛАВА 9
Буксировка воздушного шара. — Последний доллар. — Нефть вместо жира. — Вода или огонь — на выбор. — Без якоря. — Над поляной. — Плененные друзья. — Трудности приземления. — Отчаяние и героизм. — Гибель воздушного шара. — Ужас Отца Врачевания. — Свобода. — Приход краснокожих. — Сражение. — О скальпировании. — Поражение чиликотов. — Посрамление Джона Буля. — Дикие лошади. — Симпатия Жака к янки.— Эй, джентльмен! Эй!.. — Эй, на корабле! Эй!.. — Мы прибыли! — Отлично! Я очень рад. — Если вы хотите сойти на землю, то поспешите. — Я только об этом и мечтаю, капитан! Будьте столь любезны, чтобы приказать вашим людям подтянуть канат и опустить шар на палубу. — Это исключено. — Почему? — Пассажиры высаживаются сами, без помощи моих матросов. Для чего и существует трап, соединяющий палубу с набережной. Они проходят по нему — и до свидания! — А как же вещи? — Багаж складывают в трюм. При помощи строп, закрепленных у основания мачты, его вытаскивают наверх и выгружают на пристань. — Мой шар — тоже багаж. — Это вы так считаете, но не я. Я называю багажом лишь то, что находится на палубе или в трюме. — Не оставите же вы меня вечно висеть на высоте десяти метров привязанным к пароходу! — Оставить вас висеть над моим пароходом?.. Нет, не оставлю. Помочь же вам спуститься — дело совсем другое. — Но это же настоящая западня! Гнусная проделка! — Тише, джентльмен, успокойтесь. Я подрядился довести вас за десять долларов от Ситки до устья реки Ситкин. Свое обязательство я выполнил, так что будьте добры, спуститесь и покиньте мое судно вместе с другими пассажирами. — Вы же понимаете, что сам я без вашей помощи не смогу этого сделать. — Тогда уплатите еще один доллар. — Я дам вам его. — Плата вперед! Выслушав ультиматум, предъявленный ему наглым вымогателем, Жак Арно, держась за край корзины, качавшейся над волнами, словно майский жук на веревочке, попытался справиться с охватившим его гневом. Утомленный довольно оригинальным способом пересечения водного пространства, наш путешественник стремился поскорее опуститься на твердую землю, но столь гнусный шантаж откладывал желанный миг на неопределенно долгое время. Оба собеседника, один высоко в воздухе, а другой внизу на палубе, вынуждены были кричать, чтобы слышать друг друга. Когда надсадный голос донес до Жака решительное требование мошенника, тот решил, что у него не остается иного выхода, кроме как опять заплатить вперед. — К счастью, у меня как раз остался один доллар, — проворчал он. — Последний. — Вы слышали, джентльмен? — повторил капитан. — Платите вперед, или я отвязываю канат. — Это уж слишком… Получается, я должен верить вам на слово, вы же мне — нет. — Но ведь это я вам нужен, а не вы мне. Когда мы поменяемся ролями, я тоже буду платить вперед. — Ну что ж, пусть так! Без лишних разговоров Жак завернул доллар в кусок подкладки, вырванной из своей шубы, аккуратно завязал его в узелок и как можно осторожнее бросил на палубу. Однако бедолага не рассчитал, что волны, плескавшиеся в устье реки, без устали раскачивали хрупкое суденышко. И когда он разжал пальцы, державшие монету, корабль по воле рока качнулся как раз в сторону, противоположную той, куда падал сверток Жака. Доллар, ударившись о борт, соскользнул в волны, и его всплеск горьким эхом долетел до ушей нашего воздухоплавателя. Американец невозмутимо наблюдал за случившимся. — Это не считается, — сипло крикнул он. — Давайте другой доллар, или я отвязываю вас. — Но у меня больше нет денег! — взмолился Жак. — Нет денег!.. Что ж, тогда отчаливайте!.. Мошенник — а мы помним, что за утреннее представление он получил без ведома Жака кругленькую сумму в двести долларов (ну а каждый доллар — это 1,084 франка), — вытащил длинный охотничий нож и одним взмахом обрубил канат, полностью освободив себя от забот о человеке, который совсем недавно сумел всего за час туго набить ему кошелек. Аэростат стремительно взмыл на значительную высоту, и задувший очень кстати западный ветер понес его в глубь страны. Однако положение нашего героя не стало от этого менее опасным. И вот почему. Когда он приступил на корме парохода к подготовке шара к подъему, то с удивлением и возмущением обнаружил в бутыли нефть вместо заказанного им горючего жира. Сам ли он был виноват, не сумев как следует объяснить капитану, какое топливо ему требуется? Или, напротив, у прощелыги были свои соображения на этот счет, и он с бесцеремонностью, достойной истинного янки, заменил животный жир минеральным продуктом?.. Конечно, Жак должен был бы сразу же потребовать от плута объяснений, хотя, скорее всего, претензии его вряд ли были бы удовлетворены. Жак малодушно трусил только перед бортовой и килевой качкой и болтанкой, но в остальном, как мы не раз имели случай убедиться, был отважен и смел зачастую до безрассудства. Беспокоясь о сомнительной жидкости, содержавшейся в глиняной бутыли, не более чем если бы это была влага, столь дорогая глотке чукчи, он лишь слегка видоизменил нагревательное устройство, чтобы уменьшить риск пожара, а затем хладнокровно поджег нефть. Шар стремительно наполнялся, и навигатору некогда уже было разбираться в своих эмоциях. Ну а потом аэростат поднялся в воздух и восемь часов двигался на буксире у корабля. Вечно невозмутимый Жак, казалось, совершенно забыл о том, что один лишь сильный порыв ветра может так качнуть корзину, что опрокинет его сосуд с горючим. Для сохранения хладнокровия в подобных обстоятельствах требуется немалое мужество, почти что героизм. Действительно, нетрудно догадаться, каковы были бы последствия подобного происшествия, которое могло произойти каждую минуту. От опрокинувшегося сосуда с горючим воздушный шар тотчас бы загорелся, и несчастный воздухоплаватель оказался бы перед выбором: прыгнуть в воду или быть заживо зажаренным. Счастливый, что так дешево отделался, в восторге от одной лишь мысли, что через минуту он ступит на твердую землю и, наконец, избавится от соседства этой зажигательной торпеды, Жак пришел в бешенство, когда американец перерезал трос и тем самым, помимо всего прочего, лишил его стального якоря. Тяжесть и без того нелегкого положения аэронавта усугублялась теперь невозможностью нормального приземления. Вдали он заметил факторию, к которой нес его дувший с моря ветер. Опуститься в каком-нибудь обитаемом месте стало бы для него настоящим избавлением. Но как это сделать? Что нужно предпринять, чтобы приостановить полет? Время торопило. Необходимо было срочно принимать решение. Открыть клапан — минутное дело. Шар начал медленно снижаться. Все ближе и ближе частокол вокруг торгового центра… Жак не сомневался, что, будь у него якорь, он бы благополучно приземлился, тем более при таком слабом ветре. Но без этого простого и в то же время столь необходимого приспособления встреча его с землей вряд ли будет приятной. До фактории оставалось не более трех километров, а аэростат все еще летел над бескрайним зеленым массивом на высоте около сорока метров. Внезапно лес оборвался, уступив место обширной поляне, посреди которой толпилась оживленная группа пестро разодетых людей. Крикливые наряды, замысловатая зловещая раскраска и неистовые выкрики ясно свидетельствовали о том, что это было за сборище. — Индейцы! — воскликнул Жак. — Мне повезло. Если только, как я надеюсь, эти бездельники не имеют относительно меня тех же замыслов, что и их сородичи атны с Купер-Ривер… Однако, увлекшись дикими плясками, они, похоже, даже не заметили меня. — И тут взгляд воздухоплавателя упал на распростертых на земле пленников. — Теперь мне понятно, отчего так расшумелись эти краснокожие дьяволы: сейчас прольется кровь. Шар быстро приближался к площадке и через минуту должен был оказаться как раз над Перро и Отцом Врачевания, который уже заканчивал вычерчивать на лбу охотника зловещую линию для снятия скальпа. Разглядев находившегося в беспомощном положении богатыря, Жак содрогнулся, мороз пробежал у него по коже. — Гром и молния, — взревел он нечеловеческим голосом, — канадец из Нулато!.. Ну а кто тогда другие пленники?.. Да это же связанные, словно скотина перед убоем, Жюльен и Алексей!.. Как же помочь им?.. Я готов распороть этот проклятый шар, лишь бы поскорей спуститься к ним на помощь!.. Впрочем, кажется, у меня есть кое-какое средство… Правда, один шанс из ста, что при этом я не переломаю себе кости, но в случае неудачи я, по крайней мере, смогу утешиться тем, что, не сумев спасти друзей, погиб вместе с ними. Не теряя ни минуты, Жак, великолепный в своем праведном гневе, ударом кулака сломал хрупкое сооружение, коим являлось его нагревательное устройство, и горящая нефть вырвалась на свободу. Труба, проводившая нагретый воздух, лишившись защиты из жестяного кожуха, мгновенно воспламенилась. Нижняя часть шара, сухая, словно пакля, находясь в непосредственной близости от лампы, загорелась столь же стремительно. И через несколько секунд оболочка из бордюша уже пылала и трещала буквально в нескольких футах от головы бесстрашного воздухоплавателя. К счастью, прочная шелковая сетка пока еще выдерживала огонь. Ее густые ячейки защитили от языков пламени верхний слой оболочки, образовавший своего рода свод, превратившийся внезапно в импровизированный парашют, на котором Жак и опустился вниз. Приземление хотя и было жесткое, но завершилось довольно успешно. Ему повезло, ибо он предусмотрительно уцепился руками за край корзины, чтобы не запутаться в такелаже. И в тот момент, когда горящий шар рухнул на землю, отважный аэронавт благодаря серьезным занятиям гимнастикой успел вовремя отскочить в сторону. От удара о землю бутыль с остатками нефти разбилась, и ее содержимое огненными брызгами накрыло толпу краснокожих. Восторженные крики тотчас же сменились завываниями от боли. Ослепленные, обожженные и напуганные этим необъяснимым для них явлением, бездельники бросились на землю, призывая на помощь всех маниту[257] сразу и протягивая в отчаянии руки к небу, наславшему на них такую страшную бродячую звезду. Со стороны же бледнолицых раздались удивленные возгласы, сменившиеся затем криками радости. — Жак!.. — Алексей!.. Жюльен!.. Я не ошибся!.. У кого-нибудь из вас есть нож? — У меня, сударь, на поясе, — раздался голос Перро. Через минуту веревки были перерезаны. Все пятеро пленников встали, расправили затекшие конечности и могли хоть сейчас приступить к отмщению. Их ружья, заряженные, с запасом патронов, все еще валялись под тентом: краснокожие, опьяненные первым успехом, даже не подумали завладеть ими. Перро, взяв в руки свой карабин и нежно поглаживая ствол и деревянное ложе любимого оружия, облегченно вздохнул. Быстро, одним взглядом, оценил окружающую обстановку, запечатлевшую последствия величайшего разгрома. И заметил своего заклятого врага, Отца Врачевания, которого, похоже, внезапно поразило безумие. Негодяй, привыкнув обманывать своих соплеменников с помощью различных трюков и переодеваний, злоупотребляя тем самым их доверчивостью, не смог вынести зрелища пылавшего шара, который он счел подлинным проявлением могущества сверхъестественных сил. Достойный траппер, ничуть не смягчившись при виде обезумевшего врага, неумолимый, как и все, кто живет в этих малонаселенных краях и в области правосудия подчиняется только закону грозного судьи Линча[258], поднял карабин, взял краснокожего на мушку и приготовился размозжить подлецу голову. Хотя столь стремительное исполнение приговора обычно внушает европейцам отвращение, наши друзья не стали мешать: у себя дома каждый волен поступать так, как ему нравится. К тому же и кровавая полоса на лбу канадца не располагала к излишней снисходительности. Неожиданно, к глубочайшему удивлению путешественников, Перро с тихим смехом опустил оружие. — Не сто́ит напрасно тратить порох и пулю, — произнес он своим тягучим голосом. — Опасность миновала, так что давайте-ка позабавимся, как это принято в этой благословенной стране. — Что вы хотите этим сказать, отважный мой Перро? — спросил Жюльен. — А то, что теперь вы уже можете обнять своего друга, который, так кстати свалившись с неба, вызволил вас из этой заварушки… Да я и сам не прочь крепко пожать ему руку… А потом неплохо бы поговорить нам по душам, тем более что индейцев и след простыл. — Но разве краснокожие не могут вернуться и снова напасть на нас? — Нет, это исключено: у них тут будет столько хлопот, что они позабудут о нас. — Что вы имеете в виду? — Эти мерзавцы чиликоты переоделись в дикарей из других племен, чтобы грабить безнаказанно… Ну, словно жулики, нарядившиеся жандармами перед тем, как идти на дело… И все бы прошло у них гладко, если бы не остальные аборигены, не имеющие ничего общего с гнусной шайкой. Среди индейцев много честных людей, и к тому же им просто не выжить без факторий. Вот эти-то краснокожие и сыграют роль полиции. Прямо скажу, не хотел бы я оказаться в шкуре чиликотов! — Вы уверены в этом? — Так же, как и в том, что когда-нибудь мы все умрем… Вы небось никогда не видели, как снимают скальп? — Нет, и честно говоря, не имею такого желания. — Но ведь вы путешествуете для того, чтобы все видеть! — Конечно, но не подобные процедуры. — Дело ваше. Однако должен заметить, что такая возможность предоставляется не каждый день. — Вот как! — Да, сейчас снимают скальпы только в книжках, сочиненных в Европе, ну и, может быть, еще где-нибудь в глухих, уголках Скалистых гор. — Но, Бога ради, объясните, почему вы считаете, что нам предстоит лицезреть этот мрачный спектакль?.. — Взгляните-ка сами! Я уже давно твержу вам об этом, — прервал друзей торжествующим тоном канадец. — Видите? Они идут сюда… — Кто? — Черт подери, да остальные дикари, что расположились лагерем возле английской фактории! — Кто же успел предупредить их о случившемся? — Это, месье, так же просто, как выкурить трубку. У англичан только что открылись торги. Краснокожие, собравшиеся перед факторией, конечно, заметили ваш шар, летевший в их сторону. А всем известно, что индейцы — любопытнее малых детей. И, завидев ту самую луну, о которой все говорят на сотни лье в округе, они тотчас забыли про товары. Пусть же первая выкуренная мною трубка будет и последней, если я ошибаюсь! — Кстати, — спросил Жюльен, — куда же делся американский факто́р с двумя помощниками-метисами? Перро рассмеялся беззвучно: — Видите вон те «тюки», что шевелятся так, будто в них завернуты какие-то животины? Держу пари, что мерзавцы связали этих троих самым отвратительным рваньем… Глядите!.. Ну, что я вам говорил? Другие краснокожие их освобождают… Этих-то я знаю… Индейцы из Арк-Форта. Неплохие ребята!.. Вот и появился американский факто́р!.. И метисы!.. Ух, как они злы!.. Хоп!.. А это уже дело неважнецкое! Хозяин и его служащие недовольны и схватились за карабины!.. Па-па-пам!.. Двое чиликотов лежат на земле, третий захромал… Э!.. Три головы уже ощипаны!.. Три красных колпака!.. — Как, с них уже сняли скальпы?![259] — в ужасе воскликнул Жак. — Именно! — с неподражаемым хладнокровием ответил канадец. — Вы только послушайте… как вопит тот, кто только ранен!.. Паф!.. Американцы еще стреляют, а краснокожие уже скальпируют… Да что там говорить, я, пожалуй, пойду посмотрю. — Вы хотите поучаствовать в этой кутерьме?! Вы, Перро, такой серьезный человек?! Неужели вы и в самом деле пойдете туда? — Да, пойду, хоть и рискую ненароком заработать увесистый тумак… Смотрите, там палят уже со всех сторон! Те, кто пришел позже, стреляют как сумасшедшие, но совершенно наугад… Впрочем, иначе и не бывает. Я не знаю никого, кто бы с таким удовольствием бабахал впустую, как это делают индейцы… — Однако писатели создали им репутацию метких стрелков. — Столь же фальшивую, как и мексиканские монеты, — вступил в разговор Жак. — Слышите, как свистят пули? Эти полоумные в конце концов перестреляют и нас. — Полно, ежели это и случится, то не сегодня, — произнес, помолчав, Перро. — Чиликоты получили по заслугам. Те, кто не взят в плен и не оскальпирован, — а таких немного, — удрали… В общем, с ними покончено. Этот разговор, который занял в нашем повествовании так много места, продолжался всего несколько минут, ибо события после драматического приземления Жака Арно в вихрях пламени развивались с невероятной быстротой. Трое друзей и их отважные спутники-канадцы, спасенные столь чудесным образом, смогли наконец, обнявшись после долгой разлуки, рассказать друг другу о своих приключениях, произошедших с тех пор, как все они тем или иным способом покинули форт Нулато. Предоставляю читателям самим догадаться, стал ли Жак героем дня и был ли он чествован остальными как их спаситель. Впрочем, спутники Жака были не единственными, кто благословлял его поистине фантастическое появление. Краснокожие, покинувшие английскую факторию и словно сумасшедшие бросившиеся навстречу воздушномушару, очутились прямо перед американским складом, который чиликоты за недостатком времени не успели разграбить. Пронырливый американец не преминул воспользоваться этим обстоятельством и, вовремя до краев наполнив виски большие стаканы, предложил их выдохшимся от бега и сражения воинам. Краснокожий очень чувствителен к знакам внимания, особенно в виде горячительной жидкости, и становится в ответ необычайно общительным и гораздо более сговорчивым, тем более если при этом виски без конца течет из бочки в бутылку, а из бутылки в его глотку. За добрым стаканом нашлось время поговорить и о делах. Индейцы похвастались шкурками, что остались в палатках возле английской фактории. Американец расписывал достоинства своих товаров, дал им пощупать лучшие из них и потом показал дюжину карабинов с дешевой отделкой самого дурного вкуса, но зато сияющей!., ослепительной!., позолоченной!.. Этого краснокожие уже не выдержали: каждый захотел иметь у себя такое ружье, ибо никогда ни один индеец с Великих озер не держал в руках столь сверкающего оружия. Они тотчас же побежали назад к английской фактории, с не меньшим проворством, чем бросились навстречу луне, и быстро приволокли все запасы мехов на спинах своих жен. Теперь англичанин стоял на пороге разорения. Вот они, превратности войны, пусть и коммерческой! Что же касается краснокожих, то они вскоре уже гарцевали на великолепных диких конях, несравненных скакунах, быстрых как ветер и необычайно выносливых. — Ах, месье Жюльен, — невольно вырвалось у Перро при виде этого живописного эскадрона, с ураганной скоростью пронесшегося мимо них, — как было бы хорошо и нам заиметь по такой лошадке! Наступила весна, вот уже два дня стоит теплая погода, снег растаял и ехать дальше на санях просто невозможно. — Так в чем же дело? Кто вам мешает купить шесть лошадей за мой счет? — Индейцы ни за что не продадут их. Услышав ответ охотника, американец с видом человека, для которого время — деньги, заявил: — Джентльмены, через десять минут у вас будет шесть лошадей. — Спасибо, — ответил Жюльен. — И раз уж вы сами пожелали заняться их приобретением, то я заплачу за них любую названную вами сумму. — Вы получите их задаром. — Но… — Я ваш должник. Я обязан вам жизнью, а компания из Сент-Луиса — огромной прибылью. Поэтому не отвергайте моего предложения. — Смотри-ка, — шепнул Жак на ухо другу, — глядя на него, я, кажется, примирюсь с этими янки. Ради него я прощаю мерзавцу-капитану, чей пароход тащил мой шар на буксире, те малоприятные минуты, что мне пришлось по его милости провести в воздухе, тем более что, к счастью, все кончилось благополучно. — Кстати, — заметил Жюльен, — ты же прибыл сюда почти что на корабле… — Ах, довольно об этом! Одно лишь воспоминание о качке, которую я пережил на борту этой проклятой ореховой скорлупки, что всю дорогу швыряла мне в лицо клубы дыма пополам с пеплом, повергает меня в ужас. — Но ведь пока ты находился на борту и наполнял свой покойный монгольфьер, у тебя же не было морской болезни, ни единого приступа! — Черт побери, и в самом деле! Хотя этот морской скакун так и подпрыгивал на месте. — Выходит, ты обрел наконец тот самый иммунитет, который я давно хотел тебе привить, пусть даже ценой собственного состояния? — Увы, нет! Такие болезни не излечиваются. — Значит, оказавшись на берегу даже крохотной речушки, ты опять откажешься переплыть ее на лодке? — Но ведь речушку можно перейти и вброд… — А если нет брода? — Тогда переправлюсь через нее вплавь… — А если вместо реки перед тобой окажется вдруг открытое море?.. — Ах, мой бедный шар сгорел! — жалобно простонал Жак вместо ответа. — Господа, — резко перебил их американец, — можете выбирать ваших коней…
ГЛАВА 10
По дороге в Карибу. — Холода в Северной Америке. — Девственные леса Канады. — Трудные пути-дороги. — Карибу. — Эльдорадо Британской Колумбии. — Золотодобыча. — 262 500 франков за один день. — Оборотная сторона медали. — Бейкер-Таун. — Мытье золота. — «Длинный Том». — Золотоносная глина. — Примитивная техника. — Интерес Алексея Богданова к доходам Жюльена де Клене. — Гордый изгнанник. — Товарищество.Индейские лошади были несравненными верховыми животными, так что факто́р «Пушной компании» из Сент-Луиса сделал своим гостям и спасителям поистине бесценный подарок. Нельзя сказать, что они дорого ему обошлись, совсем наоборот. Хитроумный американец, заметив пламенное желание, вспыхнувшее в глазах краснокожих при виде карабинов, решил извлечь из этого двойную выгоду. Как человек, знающий, что чем выше цену он назначит, тем более желанным покажется его товар покупателям, одним из условий продажи ружей коммерсант поставил предоставление ему шести лошадей на выбор. И он не ошибся. Подобное беззастенчивое требование свидетельствовало в глазах индейцев лишь о высоком качестве предлагаемого товара. Лошади были отданы беспрекословно — сразу же после того, как тщательный осмотр их удовлетворил и заядлого спортсмена Жюльена де Клене, и опытного охотника канадских лесов Перро. Однако американский факто́р отнюдь не собирался отказываться и от бизоньих шкур, предложенных ему краснокожими. Лошади были, так сказать, «затравкой» перед началом большой торговли. И, зная, что индейцы не могут не поторговаться, он небрежно бросил, что в общем-то шесть лошадей за дюжину карабинов — это такие пустяки, что о них нечего и говорить. Дело было слажено ко всеобщему удовольствию, и ловкач-торговец сумел извлечь значительную прибыль, оплатив, даже не развязав кошелька, долг благодарности своим спасителям. Коммерция и чувства слились воедино: услуги — в де́бет[260], благодарность — в кре́дит[261], шесть диких коней получены, баланс сведен, остается лишь приятное воспоминание. И больше никаких янки. Ранним утром шестеро всадников тронулись в путь. Каждый вез с собой на четыре дня припасов — сушеное мясо и сухари в количестве, вполне достаточном для наших путешественников, половина из которых была записными[262] охотниками. Оставив позади реку Ситкин, они направились на юго-восток и, двигаясь вдоль телеграфной линии, связывавшей Ситку с Сан-Франциско, преодолели за четыре дня около трехсот двадцати километров, отделяющих устье указанной реки от форта Стейджер, расположенного на реке Скена, у подножия Скалистых гор. Неутомимые мустанги[263], казалось, не знали усталости. Всадники же были вконец изнурены четырехдневным переходом, во время которого они, не имея предварительной подготовки, проделывали ежедневно по двадцать лье. И поэтому землепроходцы в полной мере оказали честь великолепным кроватям и обильному столу английской фактории, где им был оказан поистине радушный прием. После двадцатичетырехчасового отдыха путешественники покинули Стейджер. Двухдневный переход до форта Бальбин, в ста двадцати километрах на юго-восток, показался им теперь приятной прогулкой. Последующие сто шестьдесят километров до форта Принс-Джонс были пройдены ими за два с половиной дня. Наши друзья спешили достичь золотых приисков Карибу. Наступило пятнадцатое мая. Повсюду бушевала весна. Природа, истомленная суровой зимой, наконец проснулась и с удвоенной энергией принялась возрождать самое себя. В окрестностях Карибу, расположенного на пятьдесят третьей параллели, то есть на той же широте, что и Ливерпуль, температура зимой падает так низко, что нам в Европе просто невозможно представить. Смена зимы и весны происходит здесь необычайно резко. Впрочем, эта особенность является привилегией — если только в этом можно усмотреть какую-либо привилегию — любой северной части Североамериканского материка, где зимой замерзает ртуть, а летом термометр достигает нередко тридцати пяти градусов выше нуля. Суровые зимы поражают нас больше всего, потому что свирепствуют они на тех широтах, на которых в Европе в то же время года температуры весьма умеренны и сильных холодов практически не бывает. Так, в Нью-Йорке, расположенном на той же широте, что и Неаполь (Нью-Йорк — на 40°42′ северной широты, и Неаполь — на 40°51′), температура зимой может опускаться до двадцати — двадцати трех градусов ниже нуля по Цельсию. В Чикаго, находящемся, как и Барселона, на сорок первой параллели, зимой иногда бывает двадцать пять — двадцать шесть градусов ниже нуля. В Квебеке[264], на 46°47′ северной широты, что лишь немногим южнее Нанта[265], широта которого — 47°13′, термометр показывает часто тридцать градусов ниже нуля. Более того, в Сан-Франциско, на 37°48′ северной широты, или на один градус южнее Лиссабона, холода достигают тридцати трех — тридцати четырех и даже тридцати пяти градусов ниже нуля по Цельсию. Но более всего удивительно, что в Пембине[266], возле сорок девятой параллели, то есть на широте Парижа, которая, как известно, равна 48°50′, ртуть в термометре нередко замерзает зимой, поскольку температура опускается более чем на сорок два градуса ниже нуля по Цельсию! Таковы же минимальные зимние температуры в Якутске и Нижнеколымске. За жгучими морозами, которые, к счастью, менее продолжительны, чем сибирские, и равны последним только по интенсивности, стремительно наступает необычайно теплая весна, а за ней — жаркое лето. Так что злаки успевают в местном климате прорасти, взойти и созреть. По мере того, как наши путники продвигались с Крайнего Севера на юг, они все явственнее замечали изменения в природе, восхищавшие всех, и особенно Жака Арно. Бывший супрефект округа Сена совершал подобное путешествие впервые. Покинув Европу и с тех пор не видя ничего, кроме заснеженных просторов, где то тут, то там торчали, словно забытые в снегу метлы, одинокие деревья, чаще всего сосны, отягощенные инеем, он теперь восторгался при виде цветущих фруктовых садов, окружавших фактории. Там росли чудесные абрикосовые деревья с розоватыми цветами, низкие яблони, все в белом цвету, раскидистые вишни, чьи ветви топорщились белыми гроздьями и горделиво возвышались над нежным ковром из трав, изукрашенным цветами, над которыми весело порхали пестрокрылые бабочки. Но вскоре эти островки обработанной земли, затерявшиеся посреди бескрайнего леса, эти неприметные оазисы, отвоеванные человеком у дикой природы, остались позади. Друзья вступили под величественные своды дикого канадского леса, где горделиво высились огромные дубы, раскинувшие могучие ветви над кряжистыми стволами с красноватой и белесой древесиной. То там, то тут появлялись великолепные американские вязы (Ulmus americana), высотой более ста футов и восемнадцати — двадцати футов в обхвате, гладкоствольный бук (Fagus americana), белый (Fraxinus americana) и черный (Fraxinus sambucifolia) ясень, упорно заселяющий влажные почвы, тонкоствольная сикомора[267], с голыми ветвями и листьями, словно запятнанными свернувшейся кровью, гигантские каштановые деревья с дуплистыми стволами и вечнозеленый лавр. Назовем также великолепную белоствольную березу (Betula populifolia), липу (Tillia americana), платан (Platanus occidentalis), одно из самых больших лиственных деревьев Америки, четыре вида орешника, растущего буквально повсюду: Caria alba, с чешуйчатой скорлупой, Juglans cinerea, или масляный орех, черное (Juglans nigra) и гладкое ореховое дерево, — и конечно же клены: сахарные, известные под названием красных кленов, пушистые, горные, крапчатые, или яшмовые, и негундо. Изящные кленовые листья удивительно сочетаются с листвой других деревьев, ибо это растение, как никакое иное, умеет уживаться со своими соседями. Хвойные деревья произрастают отдельно, высокими купами, образуя участки густой зелени, кажущейся особенно темной на фоне лиственных деревьев, только что обрядившихся в весеннее одеяние. Преобладают такие породы, как белая сосна (Pinus strobus) — лесной гигант, достигающий порой высоты в двести футов, канадская ель (Abies canadiensis)[268], Picea balsamifera — хорошенькое низкорослое деревце, из которого производится знаменитый канадский бальзам[269], Larix americana, или американская лиственница, предпочитающая, подобно белому кедру (Cupressus thyodes), влажные и болотистые почвы и обычно свидетельствующая своим присутствием о наличии поблизости любопытного травянистого растения со съедобными семенами, именуемого диким рисом, или водяным куколем. Наконец, по краям полян, где имеется достаточно света и воздуха, встречаются американская лещина (Corylus americana), красная (Sambucus pubens) и черная (Sambucus canadensis) бузина, хрупкая мушмула[270] с пурпуровыми цветами, смородина, брусника, рябина. Ехавший во главе отряда Перро в непроходимых зарослях девственного леса чувствовал себя как дома и всегда находил ту единственную, едва заметную тропинку, которую торжественно именовал дорогой, так что путешественники без особой усталости быстро продвигались вперед. В самом деле, прогалины, какими бы заросшими они ни были, необычайно облегчают путь, ибо чаща нередко становится для путешественников поистине непреодолимым препятствием. Перечисленные нами деревья растут там отнюдь не тем густым, но все-таки проходимым лесом, к которому привыкли мы у себя в Европе. Мало кто способен выбраться из чащобы девственного леса, где произрастают гигантские, не знающие топора, многовековые деревья, которые, отмирая, падают на землю и надежно преграждают путь. Достигающие колоссальных размеров ели, кедры и туи, чьи макушки теряются в вышине, напоминают колоннады соборов. У корней же топорщится молодая поросль в ожидании того момента, когда она сможет наконец занять место какого-нибудь свалившегося от старости великана. Мертвые деревья громоздятся повсюду, образуя завалы высотой два-три метра. Чудовищные стволы, подгнившие и оттого рухнувшие на землю, постепенно превращаются в трухлявый перегной, поросший мхом. Врастая в землю под собственной тяжестью, они рассыпаются под грузом других деревьев, столь же могучих, но упавших позднее. Сильные, полные соков деревья, выкорчеванные последней грозой, предстают перед путником горами земли, осыпающейся с их повисших в воздухе корней. В этом хаосе живые стволы подпирают стволы давно отмершие, засохшие деревья с облетевшей корой соседствуют с зелеными исполинами, покрытыми лишайниками, гладкоствольные деревья лежат вперемежку с ветвистыми, лесные гиганты и карлики падают то плашмя, то под углом, а успевшая разложиться древесина служит им мягкой подстилкой. Если почва болотиста, то она почти сплошь покрыта дереном[271]. В иных местах преобладают заросли колючей аралии[272] и стелющиеся по земле лианы с широкими, словно у канны[273], листьями, поднимающимися иногда чуть ли не до плеч путешественника. Стебель и листья этих ползучих растений усыпаны колючками, вцепляющимися в одежду любого, кто осмелится продираться сквозь их непроходимые сплетения. Смельчак будет исцарапан с ног до головы, ранки же эти болезненны, моментально опухают и воспаляются. Так что нетрудно понять, к чему разыскивать тропинку и неуклонно следовать по ней. От форта Принс-Джордж, расположенного на реке Фрейзер, на 23° западной широты по Гринвичу, до Ричфилда, главного города прииского округа Карибу, насчитывается едва ли сотня километров. Однако из-за плохой дороги трое европейцев и их канадские проводники с трудом преодолели это расстояние за два дня. Не из простого любопытства и удовольствия посетить золотой рудник направлялись они в Эльдорадо[274] Британской Колумбии, где обрели счастье лишь немногие, большинство же сгинуло в тяжелой борьбе. От Ричфилда начиналась хорошая дорога, по которой друзья собирались пройти на юг около пятисот лье, чтобы выйти к сорок девятой параллели, отделяющей английские владения в Америке от Соединенных Штатов. Наконец, они мечтали распрощаться в Карибу с ночевками под открытым небом, с отвратительной кухней, с реками, через которые приходилось переправляться вброд или вплавь. Последнее, кстати, оказалось возможным только благодаря удивительной выносливости индейских лошадей, великолепно выдрессированных прежними хозяевами. На протяжении всей дороги встречались гостиницы для золотоискателей, правда, не слишком комфортабельные, но в них всегда можно было поесть и переночевать. Для путешественников, покинувших столицу Восточной Сибири и с тех пор проделавших более трех тысяч лье, подобная возможность уже казалась роскошью. Ибо на этом пути только в форте Нулато и трех английских факториях — Стейджер, Бальбин и Принс-Джорж — они обедали за столом и спали на настоящих кроватях.
Изыскания в Карибу начались в 1857 году, через восемь лет после начала золотой лихорадки в Калифорнии. Город и его окрестности наводнила жадная толпа авантюристов, набросившихся на золотоносные участки, словно стервятники. Огромные барыши были получены в первый же сезон, особенно в окрестностях Вильям-Крик, самой богатой долины округа. Но рано ударившие морозы застали людей врасплох. Измученные, без полноценной пищи, жившие в наспех сколоченных хижинах, они умирали десятками. Зима свирепствовала целых шесть месяцев, и оставшиеся в живых до начала весны влачили поистине ужасное существование. Весной же лед с рек сошел, земля оттаяла и можно было снова приниматься за работу. Капризы природы немного остудили пыл первых старателей и помешали начаться той золотой лихорадке, которая менее чем за два года обрушила на земли Калифорнии более пятисот тысяч искателей приключений. В Карибу не было подобного нашествия. Иммиграция была упорядочена, вплоть до того момента, когда состоятельные компании приступили к разработке полученных в концессию месторождений, не мешая, однако, при этом работе старателей-одиночек и артелей из пяти-шести человек. Известно немало примеров внезапного обогащения предприимчивых людей, попытавших счастье в провинции Карибу. В частности, рассказывают о компании, которая, имея всего тридцать рабочих и шесть приспособлений для намывки золота, за один-единственный день добыла огромное количество драгоценного металла — две тысячи восемьсот унций[275], или 87 килограммов 50 граммов, что в слитках имеет стоимость 262 500 франков. Немец Вильям Диц, один из первопроходцев Вильям-Крика, погибший в лесу от голода, за восемь часов намыл двести унций золота (6 килограммов 250 граммов) стоимостью 18 750 франков. Смерть его была ужасна. Обнаруженный через несколько дней посланными на поиски товарищами, труп его хранил следы мучительной агонии. Сведенная судорогой рука сжимала оловянную флягу, где он попытался ножом нацарапать горький рассказ о своих страданиях. Хотя добыча драгоценного металла сопряжена с холодами, трудностями в доставке продовольствия, а отсюда и дороговизной съестного, требует больших предварительных затрат и нередко двух-трех лет ожидания, пока полученная прибыль перекроет расходы, золотые месторождения Карибу отнюдь не пустовали. К моменту прибытия туда наших троих друзей и их проводников там, как и двадцать лет назад, велась добыча. Едва подъехав к приискам, они поспешили осмотреть участки и с удивлением отметили невероятную рутину в организации труда. Жюльен де Клене, видевший рудники Австралии, и Алексей Богданов, у которого — увы! — состоялось близкое знакомство с сибирскими рудниками, не верили своим глазам. — Сколько богатства пропадает! — не уставал повторять молодой русский при виде примитивных приспособлений. Прииск, куда они попали, назывался Бейкер-Таун. Право работать здесь оспаривали множество желающих. Со всех сторон к золотоносному участку подступают каменные утесы и холмы, поросшие елями. Высоты и высотки словно налезают друг на друга по причине геологических напластований. Это не горы в нашем привычном понимании, а некие нагромождения из бесформенных осколков породы. Почва кругом вздыблена, возвышенности во множестве прорезаны узкими оврагами и лощинами. Кое-где скальные породы расположились вертикально, и с них, также вертикально, стекают ручьи. Эти бесформенные груды, несомненно, были отторгнуты из земных недр одновременно со Скалистыми горами. Между ними, описывая большой полукруг, струятся воды реки Фрейзер, куда впадают многочисленные притоки, насыщенные благородным металлом. Золото в Бейкер-Тауне, как и на большинстве других приисков Карибу, сокрыто сегодня под землей: поверхностные месторождения округи давным-давно исчерпаны или предельно оскудели. Золотоносный слой, или pay-dirt[276], как именуют слой глины с гравием, содержащий вожделенный металл и покоящийся на гранитном ложе, залегает на глубине десяти — пятнадцати метров. Чтобы до него добраться, на требуемую глубину роется колодец. Грязь, вычерпываемую из него, подают в длинный узкий деревянный лоток, именуемый «ящиком с сюрпризом» или «Длинным Томом» и имеющий двойное дно. Верхнее дно сделано из параллельных дощечек, между которыми оставлены узкие щели, и расположено на несколько сантиметров выше основного дна, где поперек прибиты деревянные брусочки. Струя воды, пробегая по нескольким деревянным узким желобам, или flumes[277], установленным на козлах, попадает в «ящик с сюрпризом» и затем — во вторую систему flumes. Золотосодержащую глину — boue-payante, — поступающую в промывочное устройство в виде вязкой массы, беспрестанно размешивают длинными, с частыми зубьями вилами, позволяющими вытаскивать оттуда особо крупные камни. Земля и мелкий песок уносятся течением, золото же, как более тяжелое, проваливается сквозь щели верхнего дна, составленного из планок, параллельных друг другу, и оседает на настоящем дне между брусочками, образующими желобки, именуемые riffle[278]. Каждый день «Длинный Том» опорожняется, и из него извлекают драгоценный металл. Таков основной способ намывания золота, при котором большое количество его не попадает к старателю, а остается в песке или в плохо промытой породе[279]. Толщина золотоносного слоя в Карибу обычно не превышает двух метров. И, как следствие, штольни в рудниках неглубокие. Крыша над колодцем покоится на деревянных столбах, скрепленных поперечными балками, а грунтовая вода вместе с породой поднимается наверх колесами с черпаками или бадейками на цепях. Зимой работы вынужденно прекращаются, потому что нет воды для промывки золотоносной глины.
Алексей, пораженный несовершенством этих примитивных приспособлений, задумался. Наконец, после продолжительных размышлений, он повернулся к Жюльену и с видом человека, принявшего для себя некое важное решение, неожиданно спросил его: — Вы богаты? — Ну, — улыбнулся тот, — достаточно богат для того, чтобы быть независимым и удовлетворять свои прихоти. Но это вовсе не значит, что я могу позволить себе предаваться безумствам. — Не будет ли нескромным попросить вас назвать хотя бы приблизительную цифру ваших доходов? — Отнюдь, дорогой друг! Она равна примерно сорока тысячам франков, если брать по максимуму. — Сорок тысяч франков!.. Неплохо. — Но, похоже, в скором времени доходы порядком поубавятся. — А не хотелось бы вам удвоить или даже утроить ваши доходы? Вам не придется рисковать основным капиталом, надо только вложить скромную сумму, и вскоре она сама начнет приносить значительную прибыль. — А зачем? Я не честолюбив и равнодушно отношусь как к ценным бумагам Банка Франции[280], так и к кусочкам металла с профилями всех суверенов[281] мира. Алексей не мог скрыть своего разочарования. — Ваш вопрос, дорогой мой, застал меня врасплох, — продолжил Жюльен. — Черт побери, что вы мне предлагаете сделать, чтобы получить эту кучу денег? — Я предлагаю вам создать товарищество, — смущенно произнес молодой русский. — С вами? — Со мной. — Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Но с тех пор, как вы стали нашим другом, я готов подписаться подо всем, что вы мне предложите, и, разумеется, без всяких формальностей. — Я тоже, со всеми своими миллионами, — поджидающими меня на фазенде Жаккари-Мирим, — со смехом добавил Жак. — Я готов вступить с вами в любое товарищество, но пока, к сожалению, без внесения своей доли капитала, ибо мой последний доллар покоится на дне устья реки Ситкин. — Мои добрые, дорогие мои друзья, вы же прекрасно знаете, что я беден, как Иов…[282] Что я изгнанник, не имеющий за душой ни гроша. Но гордости у изгнанника никто не отнимет. И я хочу нажить состояние своим трудом. Сегодня судьба привела меня туда, где я смог бы найти желанную для себя работу. Уверен, что и за короткий срок мне удалось бы многого здесь добиться. Вы, как и я, были удивлены допотопными способами, которыми пользуются местные старатели. Даже невооруженным глазом вы замечали в глине, вымываемой из «Длинного Тома», крупицы золота, уносимые потоком воды. Так вот, я готов прийти в «Общество концессионеров», владеющее правом эксплуатации золотоносных участков, и за весьма скромную цену предложить им выкупить у них те участки, где уже велась намывка с помощью «Длинного Тома». Я бы повторно пропустил породу через совершенные приспособления, не позволяющие ускользнуть даже микроскопической частице золота. Если хотите, я подробно изложу вам, каков будет результат подобного предприятия и что необходимо для его осуществления. Золотоносные глины вырабатывают тут лишь частично, при такой примитивной промывке, по крайней мере, одна четвертая часть драгоценного металла ускользает… Пусть даже одна пятая… В худшем случае одна десятая… Все равно повторная промывка с использованием последних достижений науки будет более выгодной, чем та, что делается дедовскими методами. Не придется валить деревья, строить подземные галереи, поднимать глину наверх, устраивать это громоздкое промывочное сооружение, делать отводы для воды. Добыча золота начнется сразу, как только будут установлены нужные приборы, а для этого потребуется всего несколько часов. — Отлично, дорогой Алексей, — перебил его Жюльен, — я в восторге от вашей идеи! Вы непременно добьетесь успеха и, уверен, сумеете сколотить состояние. Теперь мне понятно, почему вы начали с того, что обратились ко мне с предложением создать товарищество… Не беда, что у вас нет денег, чтобы начать дело: мой кошелек к вашим услугам. Я сделаю больше, чем мог бы сделать простой компаньон: я ссужу вас деньгами, а в случае, если в расчеты ваши вкрадется ошибка, не стану требовать их обратно. — И все-таки я предпочел бы иметь вас компаньоном, если, конечно, вы не возражаете. — Как вам будет угодно, дорогой Алексей! Вы же знаете, что денежный вопрос отнюдь не является для нас первостепенным. — Да, это так, и, зная ваше бескорыстие… — И, зная мое бескорыстие, вы хотите обогатить меня против моей воли, — закончил за русского Жюльен. — Как вам будет угодно. — Считайте, что соглашение заключено. Мы давно знаем друг друга и вполне можем назвать свой союз товариществом на доверии. — Когда бы вы хотели начать работу? — Немедленно. — Как, вы собираетесь расстаться с нами? — Так надо, друзья мои! Рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, и вы это хорошо понимаете. Однако разлука будет непродолжительной: я рассчитываю задержаться здесь самое большее до ноября, а пять месяцев пролетят незаметно. И, как знать, не придется ли мне просить вашего позволения провести зиму в Жаккари-Мирим, чтобы вернуться сюда весной и снова приняться за работу. — Мы были бы рады видеть вас там, если только туда доберемся… — ответил Жак. — Хотя цель уже близка… — И добавил в сторону: — Впрочем, сколь же долог он, этот путь из Парижа в Бразилию по суше!
ГЛАВА 11
Организаторские способности Жюльена. — Месячный срок. — Телеграмма из Ричфилда (Британская Колумбия) в Париж. — Расставание. — Дорога из Карибу в Ялу. — Паро́м в Сода-Крике. — Удивление Жака. — Вдоль берега реки Фрейзер. — Постоялые дворы. — Вторая переправа на пароме. — Роскошный обед. — Англо-американская граница. — Пронырливые янки. — Воздействие горе-удильщика и упрямых рыб на судьбы двух великих народов.Внезапное решение Алексея Богданова остаться в Карибу глубоко опечалило обоих друзей. Жак и Жюльен, одобряя планы их молодого друга, не могли без горечи думать о предстоящем расставании. Но иного выхода не было. Изгнаннику следовало позаботиться о своем будущем, а здесь ему предоставлялась прекрасная возможность честно заработать средства для независимого существования. Так что Алексею придется хотя бы один сезон провести в Английской Америке. Детально изложив свой проект относительно промышленной эксплуатации уже прошедшей промывку породы и доказав, что результат ее непременно будет успешным, Алексей, как и договорились, предоставил Жюльену де Клене улаживать необходимые формальности, будучи твердо уверен в том, что помощь, оказываемая ему французским другом, идет от чистого сердца. И каково же было удивление Алексея, — впрочем, Жак был удивлен не меньше его, — когда обнаружилось, что Жюльен — не только превосходный организатор, но и прекрасно разбирается в вопросах добычи золота. — Так как вы решили непременно покинуть нас, — заявил он Алексею, — необходимо, — вы слышите: необходимо! — в первый же месяц получить золото… — Мне кажется, что месяца будет недостаточно, — перебил его Жак. — Ведь, если не ошибаюсь, для этого требуется вполне определенное оборудование… — Которое я обязуюсь доставить сюда из Европы за тридцать дней… — Ты забыл, что только на то, чтобы отправленный тобою по почте заказ на оборудование дошел до Европы, потребуется не менее двадцати пяти дней. — А телеграф на что?.. — Как, здесь есть телеграф?! — Конечно! И если тебе, к примеру, захочется связаться с твоей конторой на улице Люксембург и спросить у своего бывшего патрона, кто теперь сидит в твоем кресле, то это очень просто: шестьдесят сантимов за слово — и никаких проблем! — Шестьдесят сантимов! Это же совсем дешево! — Англо-американский кабель доходит до Бреста[283]. Так что из Ричфилда, где мы с вами сейчас находимся, я телеграфирую своему банкиру в Париже и попрошу его поручить честному и смышленому торговому агенту приобрести пять промывочных аппаратов Базена и большой грязеотделитель системы «Сен-Морис», являющийся лучшим на сегодняшний день[284]. Я, также попрошу его купить кузнечный горн со всем необходимым, то есть со стальной формой для формования слитков, сорока металлоприемниками из молибденита[285] для отливки золота и двумя отражательными печами[286]. Через четыре дня, включая день отправки послания, эти предметы будут куплены и на скором поезде переправлены в Гавр, Ливерпуль[287], Портсмут[288] или Кинстаун — все равно куда. Из этих портов шесть раз в неделю отходят суда в Америку. Самое большее через десять дней груз прибудет в Нью-Йорк, откуда заботами французского консула без остановки направится по трансконтинентальной железной дороге в Сан-Франциско. От Парижа до одного из указанных портовых городов четыре дня пути, от порта отплытия до Нью-Йорка — десять дней, от Нью-Йорка до Сан-Франциско — шесть. Итак, всего двадцать один день. К тому времени мы уже будем в этом калифорнийском городе и сами получим наш груз. Я заранее ознакомлюсь с расписанием отхода судов из Сан-Франциско в Британскую Америку и, если потребуется, зафрахтую маленький пароход. Затем пойду в китайское иммиграционное бюро, где найму необходимое число «подданных Поднебесной империи»[289], погружу их на корабль вместе с оборудованием, и — go ahead, или вперед! — плывем до Нью-Вестминстера, расположенного, как вам известно, в устье реки Фрейзер. Прямое расстояние от Сан-Франциско до Нью-Вестминстера, без захода в Викторию, столицу Британской Колумбии, — около ста двадцати лье. Это три дня пути. Затем люди и оборудование на баржах, которые тянут паровые буксиры, поднимаются вверх по течению Фрейзера, реки, как вы сами могли убедиться в форте Принс-Джордж, прекрасно приспособленной для судоходства. От Нью-Вестминстера до Ричфилда — примерно сто сорок километров. Отводя шесть дней на плавание по реке, я и получаю мою цифру в тридцать дней. Вот и все. Как вы находите мой план? — Он просто превосходен! — заявил Алексей. — Уверен, что вы, с вашей энергией, непременно уложитесь в намеченный срок. Я же со своей стороны приложу все усилия, чтобы сделать наступающий теплый сезон весьма прибыльным… — Черт побери! — перебил Алексея долго молчавший Жак. — Где это наш друг выучил названия различных там механизмов, применяемых для добычи золота? — Твой вопрос меня удивляет, — ответил Жюльен. — Ты что же, считаешь что путешествие для меня — это лишь движение вперед, километр за километром? Или думаешь, что я брожу по земле единственно потому, что меня охватила страсть к бродяжничеству, и все, что я хочу, — это чтобы дорога никогда не кончалась? Нет, черт возьми, я смотрю по сторонам. Хоть и на лету, но я стремлюсь — и иногда весьма успешно — получить представление о местной промышленности, — разумеется, там, где она есть, — изучить географию тех мест, которые посещаю, знакомиться с людьми. В своих странствиях мне приходилось встречаться и с золотоискателями, бывать на приисках. Добыча золота интересовала меня, впрочем, не более чем поле, где, к примеру, растут картофель, сахарный тростник или табак. Увиденное и услышанное там я отложил в одну из ячеек своей памяти, чтобы, когда придет время, извлечь оттуда соответствующие знания… Но довольно болтать о пустяках. Если нам приходится расставаться, то сделаем это немедленно. — Как, уже?! — воскликнул Алексей изменившимся голосом. — Подождите, по крайней мере, до завтра. — Ни в коем случае: для меня нет ничего мучительнее ожидания неминуемой разлуки. Лучше уж сразу покончить с этим, нежели часами грустить о предстоящем расставании. — Согласен, — произнес Жак. — Позвольте же подвести некоторые итоги, — продолжил Жюльен. — Вот деньги на первые расходы, вам их, Алексей, должно хватить до получения первой прибыли. На них вы сможете приобрести у компании право на повторное использование золотоносных пород, оплачивать рабочих, закупить провиант… Оба юных Перро — Эсташ и Андре — вернутся отсюда в Нулато, если только не пожелают остаться с вами. — Они бы не прочь, сударь! — произнес вместо них семейный вожак Перро-старший. — Сезон охоты на пушного зверя, с позволения сказать, окончен, так что ребята не прочь подзаработать несколько су, задержавшись в этом городишке. К тому же, честно говоря, вокруг приисков всегда ошивается много всякого сброда. А уж мои-то мальчики сумеют защитить вас, месье Алексей! — Вы же, Перро, надеюсь, отправитесь с нами в Сан-Франциско? — Куда угодно, только назовите место. Никогда еще я не был так доволен, как сейчас: ведь мне довелось путешествовать с настоящими французами — из нашей старой доброй Франции! День, когда мы распрощаемся, будет для меня черным днем. — И для нас, отважный и благородный наш соотечественник. — Ну да что поделаешь! Разве вся наша жизнь — не одно большое путешествие, где удача сменяется неудачей, и так на всем пути, и никто ничего не может изменить? — Итак, мы расстанемся с вами, Перро, в Сан-Франциско. На обратном пути в Ричфилд вы присмотрите за грузом, который вместе с китайскими рабочими мы отправим сюда тотчас же после его прибытия из Европы… Не забудьте, дорогой Алексей, вот телеграмма, пошлите ее в Париж от моего имени. И помните, телеграфная связь проложена отсюда до самой Панамы, так что мы сможем часто общаться с вами. А теперь, друг мой, прощайте! Наша дружба, зародившаяся при весьма драматических обстоятельствах, окрепла в общей борьбе с опасностями, встретившимися на пути, в изнурительных переходах, и я уверен, что никакая разлука ей не страшна. Наше расставание временное: скоро мы снова увидимся. Французы обнялись с Алексеем, словно братья, крепко пожали руки Эсташу и Андре, сели на лошадей и в сопровождении Перро покинули золотые прииски Карибу. От Ричфилда, расположенного чуть выше пятьдесят третьей параллели, они направились на восток, к селению Кенель, раскинувшемуся у места впадения реки того же названия в реку Фрейзер. Ночь друзья провели в дрянной гостинице, заставившей их пожалеть о ночевках в сосновом лесу. Проснулись они, искусанные клопами. Впрочем, на завтрак была подана превосходная рыба. Закусив, путешественники двинулись по берегу Фрейзера и дошли до одного из его притоков — Сода-Крик. Через эту водную преграду, достаточно узкую, но весьма глубокую, ходил паром. Жак, все еще разъяренный от совместной ночевки с кучей кровососущих насекомых, машинально последовал за Жюльеном, въехавшим на плоскодонное суденышко прямо на коне, и, лишь когда паром уже отошел от берега, заметил вдруг, что находится посреди коварной стихии, к коей питал непримиримую ненависть. — Ой! — удивленно вскрикнул он. — Я отплываю! Жюльен не смог сдержать хохота. — Если бы не сегодня, то это случилось бы завтра, милый мой гидрофоб![290] — весело рассмеялся он. — В такой стране, как эта, рек — великое множество, мосты же встречаются крайне редко. — Выходит, я плыву… по собственной оплошности?.. — Ты что, жалеешь об этом? — Да, коль скоро речь идет о принципе. — Признайся честно, ты же сам предпочитаешь пересекать подобные речушки таким вот образом, вместо того чтобы пустить вплавь своего коня и промокнуть при этом до самого пояса. — Уф!.. Наконец-то мы прибыли! — Надеюсь, сие плавание протяженностью в шестьдесят метров не вызвало у тебя морской болезни? — Нет, черт побери! И, говоря по правде, я очень этим удивлен. — Вот как? Прими же мои искренние поздравления! В Сода-Крике, поселке, расположенном в семидесяти километрах от Кенеля, путешественникам снова пришлось воспользоваться гостеприимством столь же отвратительной гостиницы. Оставив позади реку Фрейзер, они поехали из Сода-Крика по дороге на Бридж-Крик и в конце дня остановились на ночь в одном из постоялых дворов под названием «Сотая миля». Эти временные прибежища для людей, находящихся вдали от домашнего очага, выглядят весьма непрезентабельно[291]. Построенные вдоль прекрасной, оживленной дороги, они ни в коей мере не украшают ее. Живут в них исключительно старатели, которые, богаты ли они или бедны, в равной степени мало заботятся о комфорте: первые — зная, что скоро смогут воспользоваться всеми удобствами, предоставляемыми большим городом, другие же — по причине крайней нужды. По сути, это просто хижины, сложенные из плохо оструганных бревен и обычно имеющие всего одну комнату. В глубине подобного заведения помещается огромный камин, у противоположной стены возвышается грубо сколоченная стойка, за которой виднеются полки, уставленные рядами бутылок, с сивушным[292] пойлом. В зависимости от сезона старатели, отправляющиеся на прииск или, наоборот, возвращающиеся оттуда, приходят вечером по двое, по трое, снимают со спины скатки из одеяла и кладут на пол — вместо сидений: стульев в этих лачугах очень мало или даже нет совсем. Пришедшие сразу же требуют выпивки. Тот, кто оказывается побогаче, обычно угощает соседей, после чего все едят, курят и снова пьют. Затем постояльцы, в той или иной стадии опьянения, раскатывают одеяла и устраиваются кто где: на стойке, на мешках с мукой, стоящих тут же, в этой единственной комнате, или же на полу, подошвами ботинок к камину. Но есть и такие, кто сну предпочитает картежную игру: сопровождаемая бранью и изрядной выпивкой, она нередко продолжается до утра. Эти жалкие придорожные пристанища находятся на расстоянии десяти миль друг от друга и могут служить одновременно своего рода верстовыми столбами[293], откуда и берутся их названия типа «Сотая миля». Нашим друзьям не раз пришлось ночевать в таких развалюхах, прежде чем они добрались до Клинтона, поселка, расположенного немного выше пятьдесят первой параллели. Начиная с этого пункта, гостиницы стали более комфортабельными. Выехав из Клинтона, путешественники следовали около двадцати километров вдоль речушки, носящей громкое имя Бонапарта, и у места слияния ее с рекой Томпсон вышли на проложенный по берегу Фрейзера тракт, соединяющий форт Камлупс с Ялой, Хоупом и, наконец, с самим Нью-Вестминстером. Горная дорога карабкалась по крутым, нависавшим одна над другой террасам, придававшим долине Фрейзера весьма живописный вид. Но в том месте, где в эту реку впадает Томпсон, она спускалась в низину и, никуда не сворачивая, устремлялась прямо на юг. В местечке под названием Бак-де-Кук через Томпсон ходил паром, один лишь вид которого вызвал на лице Жака Арно выразительную гримасу. Однако река в этом месте была достаточно широкой и бурной, чтобы у любого отбить всякую охоту переправиться вплавь. И Жаку поневоле, но на этот раз сознательно, предстояло повторить подвиг, совершенный им по оплошности в Сода-Крике. Вел он себя как герой: въехав на коне на суденышко, оставался на протяжении сей переправы в седле, недвижный, словно конная статуя, и готовый броситься в волны при первом же резком движении лошади. Жак выдержал это испытание столь же успешно, как и в прошлый раз. Гордый, словно одержавший победу полководец, он в сопровождении двух своих товарищей важно направился по тракту из Бак-де-Кука в Литтон. Хотя и говорится, что этот путь проходит вдоль ущелья, по дну которого протекает Фрейзер, в действительности же сия дорога, возможно, самая необычная во всем мире, как бы врезается ломаной линией в крутые уступы, возвышаясь над ложем реки на две сотни метров. Здесь нет ничего похожего на парапет[294], да и сам тракт нависает над пропастью, словно выступающий из стены карниз. От Бак-де-Кука до Литтона — не более шестнадцати километров. Именно здесь берут начало доходящие до Ялы слои золотоносных песков, давших уже необычайно много драгоценного металла. Породу, некогда промытую первыми старателями, время от времени снова промывают китайцы, ухитряющиеся за день извлечь из нее золотых крох на один-два доллара. От Литтона до Ялы расстояние невелико — сорок — пятьдесят километров. И трое путешественников решили остановиться в этом населенном пункте, ибо Яла — настоящий город, красивый, располагающий всеми достижениями цивилизации. Они с аппетитом уничтожили превосходный обед, сервированный на европейский манер, со столовым серебром, фарфором, камчатными[295] салфетками и прочими изысканными вещами. Достойный канадец, похоже, никогда не видел подобного великолепия и теперь лишь изумленно таращил глаза. Переночевали они в настоящих мягких постелях,пожалуй, слишком мягких, ибо, привыкнув спать на жесткой земле, с трудом могли уснуть. Выехав на рассвете из Ялы, друзья через полтора часа прибыли в Хоуп с твердым намерением незамедлительно проехать расстояние, отделяющее этот поселок от границы Соединенных Штатов, то есть двадцать шесть километров. Индейские лошади бежали привычной бодрой рысью, делая по три лье в час. Путешественники проехали так более двух часов. — Кажется, мы у цели, — произнес Жюльен, останавливая своего скакуна. — У цели… — повторил Жак. — И где же это? — В Америке, черт возьми! И, похоже, уже довольно давно. В Америке… То есть, хочу я сказать, в Соединенных Штатах. — Что ж, это меня вполне устраивает, — произнес Жак, однако в голосе его не было радости. — Но откуда ты это знаешь? Я, например, не вижу ни рва, ни изгороди, ни речки, ни ручейка, ни холма, ни стены, наподобие той, что в Китае[296], словом, совершенно ничего, что указывало бы на границу между двумя государствами. — И все же граница существует. Это астрономическая координата[297] — сорок девятая параллель, которая, начиная от Лесного озера, на девяносто пятом градусе западной долготы по Гринвичу, и до самого Ванкувера, отделяет Американские Штаты от английских владений. — Но… разве этого достаточно? — Совершенно достаточно: граждане Соединенных Штатов не допустят, чтобы кто-то даже оспаривал у них хотя бы клочок земли, не говоря уже о том, чтобы отобрал его. — Действительно, эти янки весьма напористы, — проворчал Жак, вспомнив своего дельца из Ситки. — И к тому же довольно пронырливы, — дополнил его Жюльен. — До такой степени, что им удалось одурачить самих английских дипломатов, да так, как, наверное, еще никто и никогда не обводил вокруг пальца этих чопорных особ, привыкших одним только словом приводить в трепет всю Европу. Конечно, им здорово помог презабавный случай, можно сказать, детский каприз. — Расскажи же нам об этом. Ты только порадуешь Перро: он, как истинный канадский француз, от всей души ненавидит все, что относится к Англии. — Верно, месье, — подтвердил траппер, — любая шутка, сыгранная с этими надутыми гордецами, доставит мне чертовское удовольствие! — Идет! Так вот, при установлении этой границы британская дипломатия потерпела поражение и лишила правительство ее величества куска территории, предположительно уже давно ей принадлежавшего. Это случилось в тысяча восемьсот сорок шестом году. Американские Штаты, искавшие способ расширить свои владения, вздумали потребовать себе весь огромный бассейн реки Колумбии, освоенный некогда канадскими торговцами и эксплуатировавшийся «Компанией Гудзонова залива» задолго до того, как янки перешли через Скалистые горы. Повод был избран самый странный: Вашингтон предъявил претензию на этот край на том основании, что он будто бы является частью… Луизианы![298] — Луизиана была ведь продана Соединенным Штатам Бонапартом? — Да, в тысяча восемьсот третьем году, за восемьдесят миллионов. — Можно подумать, что первый консул[299] и его представитель, Барбе-Марбуа, продавая Луизиану, не знали, где кончается ее территория! — Вот именно! Так что сам понимаешь, какое возмущение вызвали у Джона Буля наглые требования Джонатана. Казалось, вот-вот разразится война… Однако Англия, почувствовав, что может потерять все, ввязавшись в войну с таким противником, стала искать пути, как бы с честью выйти из этой заварушки. Предлог, и весьма невинный, был найден братом английского премьер-министра. Этот почтенный джентльмен был заядлым рыбаком. На берегу реки Колумбия, протекавшей по оспариваемым землям, он облюбовал себе удобное местечко для ловли. Но ничего, кроме досады, рыбалка у него не вызывала: лососи, кишащие в устье Колумбии, вели себя словно истинные янки и упорно избегали самых хитроумных приманок, предлагаемых английской рукой. Устав от бесплодной борьбы с водными обитателями, разъяренный рыбак написал брату, что сей несчастный край засушлив, как пустыня, и вовсе не стоит того, чтобы из-за него ломались копья. Короче, определение в стиле Людовика XV[300], который, как известно, изрек о Канаде: «Несколько арпанов[301] снега!..» Естественно, брат моментально воспользовался подвернувшимся ему обоснованием для полюбовного разрешения спора и последовал совету, данному горе-рыбаком. Так вот и была установлена граница по сорок девятой параллели… Насколько правдива эта история, мне неизвестно, но обе стороны приняли на веру эту идеально ровную разделительную линию… Впрочем, и англичане и американцы вряд ли согласились бы с утверждением, что именно рыбы решили участь великих народов… Подумать только, всего тридцать три года тому назад нам пришлось бы пройти еще восемьдесят лье, прежде чем попасть на свободную территорию Соединенных Штатов!
ГЛАВА 12
От англо-американской границы до Такомы. — Первая железнодорожная станция. — Американские railroads[302] и французские железные дороги. — Отрицательные стороны железнодорожного транспорта Франции. — Спальные вагоны: «вагоны-дворцы», «державные салоны» и «серебряные дворцы». — Превращение «серебряного дворца» в спальню. — Чтение газеты. — Бесцеремонность свободных граждан Соединенных Штатов. — Мнение канадца Перро о жителях Кентукки и Иллинойса. — Бесценнейший предмет личной гигиены. — Мастерский удар.Жюльен де Клене, Жак Арно и канадец Перро пересекли англо-американскую границу, проходящую ровной линией по сорок девятой параллели, почти под сто двадцать вторым градусом западной долготы по Гринвичу. От маленького городка, название которого все чаще всплывало в разговорах, их отделяли двести километров. Хотя название это само по себе ничем не примечательно, для них оно ассоциировалось с возвращением в цивилизованный мир, с избавлением от тягот бесконечных переходов по порой едва заметным тропам и с началом быстрого и комфортабельного путешествия в несравненных американских вагонах. Городок назывался Такома. Расположенный в ущелье Паджет на 47°15′ северной широты, он являлся конечной станцией железной дороги, пересекавшей южную часть штата Вашингтон и практически весь штат Орегон. Чтобы избежать многочисленных крутых спусков и подъемов, которыми изобилует северная окраина штата Вашингтон, где они в данный момент пребывали, путешественники свернули на юго-восток и подошли к проливу Георга, отделяющего от континента остров Ванкувер. Почва здесь была достаточно ровной и в полной мере позволяла использовать быстрые ноги индейских лошадей. Полудикие, горячие мустанги отважно переплыли реку Нуксак, промчались мимо форта Беллингем и, проскакав тринадцать лье, примчали всадников в поселок Свиномиш. Жак хотел ехать дальше, но согласился с доводами Жюльена, который считал, что перед завтрашним переходом им всем необходим хороший отдых. Чтобы добраться от Свиномиша до Сиэтла, надо проехать шестнадцать лье и трижды пересечь водные преграды. Первая, река Скагит, — достаточно широка, а две другие — реки с варварскими названиями Стилигаамиш и Снокальмао, — хотя и не столь велики, но переправа через них тоже требует некоторой осторожности. В Свиномише они повстречали некоего метиса, служащего «Пушной компании» из Сент-Луиса и приятеля Перро. Он радушно предложил им свое гостеприимство и сообщил, что через все три реки существует паромная переправа, правда, чтобы ею воспользоваться, путешественникам каждый раз придется забирать немного восточнее, следуя за телеграфной линией. Сведения эти пришлись очень кстати, и теперь наши герои могли избежать целых трех купаний подряд, которые, пусть они и не опасные для жизни, вряд ли пошли бы на пользу их здоровью. Таким образом, все складывалось как нельзя лучше, и наши друзья благополучно добрались до Сиэтла, находящегося всего в тридцати трех километрах от Такомы. Ночью все спали плохо. Даже Жюльен, опытный, закаленный путешественник, не сомкнул глаз, мечтая о том, как завтра наконец он и его спутники снова станут хозяевами своего времени и расстояния. Отправились они в путь ранним утром, перемахнули галопом через три или четыре речушки и столько же ручьев, поскольку, к несчастью, через эти водные артерии не было паромных переправ, и прибыли в Такому промокшими до нитки. Там они, к своему величайшему разочарованию, узнали, что поезд только что ушел, следующий же отправлялся не ранее трех часов пополудни. И посему после завтрака они вынуждены были убивать время, слоняясь по городу. Такома с ее населением в пятнадцать тысяч человек не славится ни достопримечательностями, ни живописным расположением. Рейд[303], где стоят корабли, груженные лесом и углем, деревянные домишки и железнодорожные пути, черные от окалины, — вот и все, что можно здесь увидеть. К тому же на вокзале Жюльену сказали, что рельсы кончаются в Канонвиле, маленьком городке, расположенном на 40° северной широты, поскольку строительство дороги, соединяющей напрямую Такому и Сан-Франциско, еще не закончено. Покидая Европу, он помнил о способности американских железнодорожных линий обрываться в самых неожиданных местах, но за время путешествия совершенно позабыл об этом. И теперь с досадой думал о том, что с поезда им придется пересесть в дилижанс или же ехать дальше верхом. А путь был немалый. От Канонвиля до Хенли — сто километров по отвратительным дорогам, и от Хенли до Шаста — еще сто тридцать пять, правда, по более приличному тракту. Всего же выходило двести тридцать пять километров, или пятьдесят восемь и три четверти лье. Жюльен, привыкший смиряться с любыми неудобствами, выпадающими на долю путешественника, — а он уже немало побродил по свету, — даже думать боялся о поездке в тесном и душном дилижансе. Все что угодно, только не этот узкий ящик на колесах, где рядом с тобой едет неизвестно кто и неизвестно куда. Подобные экипажи всегда перегружены сверх всякой меры, грязны, часто опрокидываются, и к тому же ты оказываешься в полной зависимости от неотесанного янки, выступающего в роли кондуктора. И поэтому молодой человек, испытывая к дилижансам то же отвращение, что Жак — к речным и морским судам, предложил отправить лошадей в специальном вагоне до Канонвиля, чтобы затем добраться до Шасты верхом. Как легко догадаться, предложение приняли единогласно. Но вот долгие часы ожидания подошли к концу, и настал вожделенный момент отправления поезда: паровоз взорвал воздух сигналом, и хотя у американских локомотивов удивительные гудки, громогласные, словно пароходная сирена, Жак, сгоравший от нетерпения, назвал на радостях этот оглушительный рев нежно-небесной музыкой. — Уф, наконец-то мы едем! — воскликнул он, когда тяжелые колеса паровоза стали набирать скорость. — Ну, это не надолго, — заметил Жюльен. — Как жаль: ведь поезда на американских железных дорогах развивают колоссальную скорость! — Не такую уж большую, как это тебе кажется. Когда же я сказал, что это не надолго, то имел в виду лишь расстояние — какую-то сотню лье, которую нам предстоит проехать, а никак не время нахождения в пути. — А я-то думал, что янки водят свои поезда с поистине головокружительной скоростью. — В таком случае тебе интересно будет узнать, что средняя скорость на их железных дорогах примерно такая же, как и на французских, — от тридцати двух до тридцати четырех километров в час. Кроме того, у американцев очень мало скорых поездов: в основном два в день, а на некоторых линиях и вовсе один. И, как бы быстро они ни неслись, наших поездов им не обставить. Так что расхожее представление о стремительных скоростях на американских железных дорогах, как и многие другие, не соответствует действительности. Впрочем, скорость — это единственное, в чем французские железные дороги не уступают американским. Взять хотя бы цены на билеты!.. Разве ты забыл, что в нашей дорогой стране путешественника начинают обдирать уже при отъезде, а за время пути раздевают окончательно? — Да, пожалуй, ты прав. Цены на билеты у нас слишком уж высоки! — А состояние дорог, не выдерживающее критики! Или те ящики, которые во Франции бессовестно именуются вагонами первого класса, в то время как немцы с трудом сравнивают их со своим вторым классом!.. Вспомним также крайне неудобные купе второго класса, куда администрация запихивает по десятку пассажиров… словно стадо бессловесных баранов… Не блещущие чистотой развалюхи на колесах, лицемерно называемые вагонами третьего класса, — это же настоящие конюшни для людей, только значительно худшие, чем те вагоны, где едут сейчас наши лошади… — К счастью, — перебил его Жак, — третий класс считается последним. Поскольку представить себе, на что был бы похож четвертый, просто невозможно. Наверное, вагоны этого класса не имели бы крыш, из спинок сидений торчали бы гвозди и осколки от бутылок, а сами сиденья были бы набиты шерстью пополам с абрикосовыми косточками, а то и с рыболовными крючками или лезвиями от перочинных ножей. — Вполне возможно, — ответил Жюльен, к величайшему удивлению Перро, у которого в голове не укладывалось, как это янки могли по качеству своих вагонов обойти «добрую старую Францию». — В Америке же необходимые для жизни удобства, роскошь, что нас окружает, — все это доступно каждому, ибо билеты здесь продаются по вполне умеренным ценам. Так что еще одно сравнение не в пользу французских железных дорог. С тех пор как поезд тронулся, Жак не уставал восхищаться, и буквально на каждом шагу он поневоле вспоминал о недостатках, вплоть до самых мельчайших, французских поездов. Благодаря прекрасной обустроенности американских железных дорог, комфорту, который выше всяких похвал, многодневное путешествие не только не утомляет, но, напротив, дает возможность отдохнуть. Начнем с первых шагов пассажира. Прежде всего ему необязательно выстаивать огромную очередь к окошечку билетной кассы, ибо та открыта круглосуточно. Однако чаще всего решивший отправиться в путь гражданин прибывает на вокзал уже с билетом, поскольку его можно купить всюду: как в гостинице, так и в любом из агентств. Вместо того чтобы, как это происходит у нас, с самого начала лишиться свободы и стать бессловесным объектом манипуляций всемогущей администрации[304], пассажир свободно прогуливается по перрону в ожидании отправления поезда. Так как существует всего один класс, он устраивается в первом попавшемся вагоне — огромном, значительно более широком, длинном и высоком, чем наши. Сиденья, очень удобные и вместительные, рассчитанные на два лица, размещаются по обе стороны от коридора, по которому каждый может прогуливаться в свое удовольствие или выйти на одну из площадок в месте сцепления вагона с другими подобными ему транспортными сооружениями. Стоя в таких открытых тамбурах, можно подышать воздухом, покурить, полюбоваться пейзажем, и, кроме того, благодаря им легко пройти поезд из конца в конец. Перед одной из подобных площадок находится печка и питьевая вода со стаканом, с тем чтобы пассажир в любой момент мог утолить жажду. Наконец, если наш путешественник предусмотрительно закрепил свой билет за ленту шляпы, контролер никогда не побеспокоит его: он молча возьмет проездной документ, пробьет его и также молча положит обратно. Выше дано описание вагонов, предназначенных для непродолжительных поездок, но для путешествий на большие расстояния существуют спальные вагоны — sleeping-cars по-английски, именуемые также в изобилующей цветистыми выражениями разговорной практике американцев «palace-cars» — «вагонами-дворцами», «state-rooms» — «державными салонами» или «silver-palaces» — «серебряными дворцами». Подобные великолепные средства передвижения доступны всем желающим и любому кошельку, разумеется, с определенными доплатами. Представьте себе огромные меблированные салоны[305], с креслами, изящными канапе[306], с резной, первоклассной работы мебелью. Столики, складывающиеся, когда в них отпадает нужда, позволяют играть в различные игры или рисовать, писать или закусывать. Электрические звонки расположены везде на расстоянии вытянутой руки пассажира. Стоит только нажать на кнопку из слоновой кости, как тотчас же появится служитель, готовый выполнить любую просьбу. Пассажир желает подкрепиться? Проще простого: кухня и коробки с провизией тут как тут. От печей доносится приятное для уха шкворчание. Через четверть часа ваш обед готов. А может, вам хочется отведать одну из тех смесей, столь дорогих желудку каждого американца, один из тех «прохладительных» напитков, которые американцы называют «ночным колпаком», «Томом», «Джерри», «петушиным хвостом»[307] или просто «дьявольским питьем»? В буфете — изобилие всяческих бутылок, напитки на любой вкус, включая парфюмерные жидкости, купорос и лекарственные настойки. Наступает ночь, и в мгновение ока происходит полная смена обстановки. Служитель расставляет скамьи, опускает верхние полки и достает оттуда необходимые постельные принадлежности: одеяла, подушки, простыни, занавесы. Он делает все так хорошо и быстро, что меньше, чем за полчаса, «серебряный дворец» превращается в общую спальню с двадцатью четырьмя кроватями, расположенными в два этажа. И обходится пассажиру великолепная, располагающая к отдыху постель всего в один или полтора доллара, что равно стоимости номера в гостинице. Кровати в таких вагонах очень широкие и гораздо более удобные, чем кушетки на пароходах. Между спальными секциями — стационарные[308] перегородки, а двойной ряд плотных занавесей отгораживает спящих от остающегося свободным прохода. При пробуждении путешественник находит свою обувь и платье вычищенными и может сразу же отправиться в туалетную кабинку, расположенную соответственно в каждом конце вагона: одна — для дам, другая — для мужчин. Кроме того, в любом из этих огромных вагонов оборудованы небольшая гостиная для дам и маленькая курительная — smoking-room по-английски. Пассажир имеет право, спокойно заняв свое место, уйти в курительную и, доплатив еще три доллара за каждые двадцать четыре часа, не покидать ее хоть до конца своего путешествия. Если же он предпочитает проводить время на своем обычном месте, дополнительная плата за ночь, как мы уже сказали, не будет превышать полутора долларов. Что же касается багажа[309], то перевозка его — поистине высочайшее достижение американской практической хватки. Все без исключения железнодорожные компании используют систему, подобную той, что принята в гардеробах театров. Два круглых кожаных номерка с одинаковыми цифрами болтаются на длинном, узком и тоже кожаном ремешке. Один прикрепляется к чемодану, другой вручается владельцу, и заботы пассажира о своей клади на этом кончаются. При приближении к большому городу агент компании проходит поезд, просит у пассажира его номерки и записывает адрес, куда направляется путешественник. Прибыв на вокзал, пассажир идет куда ему вздумается, не тревожась о судьбе чемоданов: он может отправиться в гостиницу в наемном экипаже или совершить приятную прогулку пешком. Добравшись же до места, он найдет там свой багаж, прибывший туда заботами компании гораздо раньше него. Жак без устали восхищался удобными и шикарными вагонами. Он был в восторге от возможности пройти из одного конца поезда в другой, уверяя, что подобная прогулка лишает путешествие утомительности и однообразия, и просто не находил слов, дабы воспеть новшества, с которыми ему пришлось столкнуться впервые. Однако скоро он «обнаружил на солнце пятна». Пройдя километров сорок, поезд остановился у железнодорожной станции под названием Тенино, где от основного полотна отходит боковая ветка, ведущая в Олимпию, столицу штата Вашингтон. Несколько мальчишек с кипами печатной продукции легко карабкались на ступеньки вагонов, выкрикивая фальцетом заголовки и содержание газетных листов, еще влажных от типографской краски. Жак купил номер газеты «Олимпийское время» — «Olimpia Times» по-английски — и тут же принялся ее штудировать, в то время как Жюльен, скептически относившийся ко всему, что связано с ежедневной печатью, продолжал вести с Перро нескончаемую беседу о франко-канадских метисах, прозванных в Канаде «обугленными деревьями». Жак — да простят мне это выражение! — был чрезвычайно падок до новостей и, словно истый провинциал, верил газетам. И теперь, будучи уже давно отлучен от печатного слова, он подробно, строчка за строчкой, смаковал бесценное приобретение, не обращая внимания на возбужденных попутчиков, которые время от времени громогласно объявляли об изменении цен на сало и выкрикивали последние сведения о понижении ставок на кожи или повышении курса нефтяных акций, — в общем, вели себя так, будто находились прямо на бирже. Вскоре постоянные толчки локтями и коленями, наносимые, впрочем, без всякого злого умысла неугомонными соседями, стали раздражать нашего читателя, и ему все трудней и трудней становилось сохранять хладнокровие. — Однако люди эти на редкость плохо воспитаны! — произнес он в сторону. — Ревут, словно быки в стойле, толкаются, как сбежавшие из зверинца медведи, приходят, уходят, встают, садятся, бесцеремонно упираются в тебя локтями, хватают за пуговицу и даже не подумают извиниться. Подобные манеры просто невыносимы! Решив оставить свое место и сесть поближе к Жюльену и Перро, Жак, поскользнувшись, чуть не упал в черное болото, образовавшееся на постеленном на полу ковре трудами трех джентльменов, которые, засунув за щеку по огромной порции жевательного табака, с точностью дождевальной установки посылали на ковер частые и длинные плевки. С трудом сдерживая отвращение, наш герой поневоле вернулся на свою скамью и попытался вновь углубиться в чтение. Но назойливое щекотание затылка, производимое неизвестным предметом, опять отвлекло его от вожделенного занятия. Он резко повернулся, и лицо его очутилось в обрамлении двух огромных подметок, каблуки которых вольготно лежали на спинке сиденья. Владелец сих монументальных «подпяточных» аксессуаров[310] наслаждался отдыхом. Опустив голову, он развалился в кресле, вытянув ноги под углом в сорок пять градусов и положив их на скамейку Жака. Последний счел подобную позу слишком вольной. Но требовать от бесцеремонного янки соблюдения приличий было делом бесперспективным: в подобной же позе пребывали еще пять или шесть джентльменов, и она вполне устраивала их соседей, равнодушно созерцавших шедевры американской обувной промышленности. При виде несчастной физиономии друга Жюльен рассмеялся. — Смейся, смейся, сам-то ты что бы сделал на моем месте? — спросил Жак, покидая свое сиденье. — Во Франции я бы попросил господина перейти в купе с надписью «специально для животных». А если бы месье решил, что я невежлив, то он быстро бы схлопотал пару добрых пощечин. Но Америка — иная страна, с иными нравами. Не имея возможности отправить джентльмена демонстрировать свои башмаки в другом месте, я бы просто постарался избежать подобного соседства. — И были бы совершенно правы, сударь! Совершенно правы! — заявил убежденно Перро. — Достаточно лишь взглянуть на жителя штата Кентукки, как сразу же становится дурно, а при виде молодчика из Иллинойса вспоминаешь жирную свинью… Я взял этих двоих просто так, как первых попавшихся, ибо и в других штатах жители не лучше. Все они хороши!.. Грубияны или свиньи, а иногда и то и другое вместе… Даю слово канадца, вот подлинный портрет янки! С этими людьми лучше не сталкиваться! Неопрятные сами по себе, они и вокруг все изгадят… Но коли уж этот тип так вам мешает, то, может, я все-таки уберу его? Услышав столь твердое суждение о янки вообще и об их попутчиках, в частности, а заодно и убедившись лишний раз в беззаветной преданности охотника двум друзьям, выраженной в весьма своеобразной форме, Жак разразился хохотом. Едва ли пистолетный выстрел произвел бы большее впечатление на присутствующих. Смех моментально заставил их замолчать: для вечно спешащих американцев человек, находящий время для смеха, — поистине феномен. Ни одна машина, производящая какой-либо продукт, не смеется. И американец, этот человек-машина, неукоснительно следует сему правилу. Исключение составляет театр, где ему подают знак, что пришло время посмеяться. Оно и понятно: ведь время — деньги! И истинный американец трудится совершенно бесстрастно, если только он не клоун и смех не является для него работой. Ну а если он все же клоун, то смеется только так, как другие строгают доски, закупают партии кофе, шьют ботинки или разносят коктейли, — совершенно серьезно, с видом человека, делающего свое дело отнюдь не для развлечения. Так что трое друзей на короткое время оказались в центре внимания. На них смотрели с удивлением, но потом, решив, что это, наверное, французы или итальянцы, пассажиры успокоились. Жаку, перехватившему на лету несколько изумленных взглядов, показалось, что он прочел в них изрядную долю презрения. — Черт возьми, — проворчал он, — я пересек Азию и изрядно поколесил по Америке, однако до сих пор не встречал подобных грубиянов! Мне куда симпатичнее общество якутов, бурятов, чукчей и индейцев. Многие из них, конечно, дикари и бывают порой излишне назойливы, но в основном все они прекрасно воспитаны. — Ну, довольно, — прервал его Жюльен, — не хватало только вступить в перебранку с этими мужланами!.. Право же, они не заслуживают нашего внимания. Эти мудрые слова на некоторое время успокоили раздраженного Жака. Вскоре настала ночь, и трое путешественников, воздав должное ужину, скорее обильному, нежели изысканному, смогли насладиться постелями спального вагона. По старой привычке Жак разложил на походном саквояже подле своей кровати необходимые принадлежности туалета, заново купленные им в Яле: кусок мыла, расческу, пилочку для ногтей и vade mecum[311] любого путешественника — зубную щетку, которую я отношу даже не просто к необходимым, а к необходимейшим предметам, поскольку признаю в принципе, что можно отправиться в путь без смены белья, истрепать в клочья одежду, идти босиком по пустыне или девственному лесу и терпеть отсутствие соли или табака, но не мыслю себе, как можно обходиться без этого бесхитростного гигиенического приспособления. Подобного же мнения, кстати, придерживается большинство путешественников, чтобы не сказать все. Так же считал и Жак Арно и, невзирая на самые невероятные перипетии[312], всегда хранил при себе сию бесценную вещь. И поэтому нетрудно представить себе его возмущение, когда, проснувшись, он увидел, как его вчерашний сосед, тот самый, который предоставил ему возможность полюбоваться вблизи его сапогами и которого злой рок разместил на ночь рядом с Жаком, спокойно кладет на место его зубную щетку: только что, усердно вращая локтем, он вычистил ею оба ряда своих зубов, чей вид вызвал бы зависть даже у сибирского волка. Задыхаясь от ярости, Жак наскоро натянул на себя кое-что из одежды, обулся и гневным голосом, заставившим вздрогнуть нахального янки, спросил: — Вы позволили себе… коснуться этого предмета?! — Йес, сэр, — ответил тот, удивляясь, что кому-то подобный поступок мог показаться странным, тогда как он лично находил его вполне естественным. — Моя щетка… в вашем рту… — Ну и что! Среди пассажиров, принято оказывать друг другу мелкие услуги. Разве вы не одолжили бы мне пилку для ногтей или щетку для ботинок или платья? Жак был обезоружен подобной непосредственностью и нечистоплотностью. Но, к несчастью, несколько реплик, брошенных соседями, напомнили ему вчерашние взоры, которыми удостоили его, когда он разразился хохотом, и, решив, что над ним смеются, путешественник взорвался: — Вы что же, считаете, что теперь я смогу пользоваться этой щеткой?! — произнес он прерывающимся от волнения голосом. — Это ваше дело… Я-то прекрасно почистил ею зубы после вас! Американцу явно начинал надоедать этот разговор. — Ну, ладно, — заявил он затем невозмутимым тоном, — ваша штуковина наверняка стоит не больше шиллинга[313], я же заплачу вам доллар… с тем чтобы вы оставили меня в покое. Подкрепив слова делом, он достал из жилетного кармана серебряную монетку и швырнул в лицо Жаку. Оскорбленный француз издал звук, напомнивший хриплый звериный рык. И, прежде чем разбуженный перепалкой Жюльен успел вмешаться, бросился с кулаками на янки и нанес в физиономию обидчика мастерский удар, которого бы не постеснялся даже чемпион Соединенных Штатов. Американец, не ожидавший нападения, согнулся, вытянул вперед руки и рухнул навзничь прямо посреди прохода. — Отлично сработано! — воскликнул Перро. — Может, я чего и не понял, но этому задаваке здорово начистили рыло… Чертовски славненький тумак!.. Делает честь нашей заморской старушке Франции! — И навлечет на нас массу неприятностей, — заключил Жюльен.
ГЛАВА 13
Американские нравы. — Полковник Сайрус Батлер. — Фанфарон[314]или сумасшедший? — Отсрочка поединка на две недели. — Нежная невеста, мечтающая стать свидетелем смертельной схватки. — Использование дуэли Жака с полковником в предвыборной кампании кандидата, убившего пять человек. — Возмущение Перро. — Жак в центре внимания. — От Канонвиля до Шасты. — От Шасты до Сан-Франциско. — Попрошайничество как одно из занятий индейцев.Замечательный удар, нанесенный secundum artem[315] Жаком Арно в физиономию наглого американца, тотчас же вызвал на ней появление великолепного синяка, напоминавшего по цвету трюфели, просвечивающие сквозь бока нашпигованной ими худосочной пулярки[316]. Раненый, или, скорее, побитый, был щедро сбрызнут ледяной водой, после чего быстро пришел в себя. Открыв глаза и издав несколько звучных «кха!.. кха!», он опорожнил для прочистки мозгов три стакана бренди подряд и, резко поднявшись на ноги, увидел Жака, стоявшего рядом с Жюльеном и Перро. — Уж не решили ли вы оскорбить меня? — произнес холодно янки, узнав в нашем герое человека, вроде бы осмелившегося столь действенным образом поучить его хорошим манерам. — Грубиянов вроде вас просто призывают к порядку, ибо честь для них — пустой звук! — презрительно ответил француз. — Я полковник Сайрус Батлер и уже убил на дуэли пять человек. — Вы — большой хвастун! Оставьте ваше бахвальство полковникам из комической оперы и не теряйте зря времени, пытаясь запугать меня. Или, быть может, вы хотите, чтобы я извинился за нанесенный вам удар? — Я желал бы только знать, рассматривать ли ваш необдуманный поступок, совершенный в крайнем возбуждении, как оскорбление, на которое джентльмен обязан отреагировать подобающим образом, или нет. Ибо вы так и не сказали ничего на этот счет. От такого неожиданного поворота дела Жак опешил. — А если я не стану вдаваться в подобные подробности? — в свою очередь, спросил он. — В таком случае я буду вынужден убить вас. — Это мы еще посмотрим! А теперь вот мой ответ: я хотел преподать вам урок, проучить вас, обуздать и… оскорбить. Ну как, удовлетворены вы? — Вполне. Я вас убью. — Вы — хвастун и зануда. Но если вам и в самом деле заблагорассудится драться на дуэли, я к вашим услугам. Извольте лишь прислать ваших секундантов договориться с моими, — закончил Жак, указывая на Жюльена и Перро. Полковник одобрительно кивнул и окинул взглядом зрителей импровизированного спектакля. Затем, оставив без внимания слова своего обидчика, он, словно о чем-то внезапно вспомнив, спросил: — Вы едете в Сан-Франциско? — Да. А почему это вас интересует? — задал встречный вопрос Жюльен. — Потому что это многое меняет: я тоже туда еду. А как долго собираетесь вы пробыть там? — Около двух недель. — Хотите, я убью вас именно в этом городе? — Благодарю, вы так любезны! Но почему бы не сейчас, не откладывая? — Вам, вероятно, будет приятно прожить еще пару недель. К тому же у меня дела в Сан-Франциско. Я должен жениться и принять участие в проведении предвыборной кампании моего будущего тестя, выдвинувшего свою кандидатуру в члены верхней палаты[317]. — Но, — возразил Жак Арно, которого вся эта история начинала изрядно забавлять, — почему ваши матримониальные[318] планы и выборы вашего будущего тестя должны помешать немедленному изничтожению моей персоны? — Отец моей невесты, мистер Дэниел Уэллс, также убил на дуэли пятерых… И он никогда не простит мне, если я не сделаю его свидетелем вашей гибели. Моя будущая супруга, мисс Леонора Уэллс, — поистине удивительная девушка, настоящий драгун[319] в юбке. Она занимается всеми видами спорта, но, насколько мне известно, до сих пор не видела, как убивают человека. Мисс Леонора будет моим вторым секундантом. — Полковник, — торжественно провозгласил Жак, — я был неправ, назвав вас полчаса назад занудой. Хотите знать, что я думаю о вашем предложении? — Слушаю вас, сэр. — Так вот, оно представляется мне восхитительным! И я уверен также, что вы будете бесподобным зятем и счастливейшим супругом! — Значит, вы согласны, чтобы… — Наш поединок состоялся в Сан-Франциско, в удобный для вас день. — Вы — настоящий джентльмен, и я испытываю к вам чувство глубочайшей признательности! Если бы вы только знали, как я рад, что, придя в себя после вашего удара, не выхватил пистолет и не застрелил вас, как это дозволено в случае самообороны! — Никого бы вы не застрелили, — суровым тоном произнес Перро, — и тем более месье!.. Я давно положил на вас глаз, любезный, и при малейшем подозрительном движении быстренько отправил бы вас прогуляться за дверь… Убивать месье Арно, настоящего француза из старой Франции, — это уж дудки! Он добрался сюда из самого Парижа! Пересек всю Сибирь, побродил по Америке, шел пешком, ехал верхом, на телеге, в санях и даже летел на воздушном шаре! Да месье Арно наплевать на какого-то там янки!.. Для него сам медведь гризли не страшнее дикого кролика! Так вот к чему я клоню: держу пари на сто полновесных серебряных су, что он одним выстрелом сковырнет вас так же, как я подстреливаю выдру или лося. Я в этом уверен… и уверен крепко, слово канадца, недаром родители мои родом из Нижней Нормандии, а честней моряков трудно сыскать! Энергичное вмешательство достойного охотника и красочно изложенная биография Жака Арно произвели большое впечатление на присутствующих. Намечалось большое зрелище, или, как говорят американцы, «great attraction»[320]. Тем более что Перро произнес магические для слуха янки слова: «Держу пари». Со всех сторон раздались нестройные выкрики, хотя большинство не поняли толком, из-за чего разгорелся спор. Каждый держал пари за или против. За кого, против кого, никто не знал. Впрочем, это и не имело никакого значения. Полковник, казалось, был в восторге. Рассуждения Перро вызвали на его бледно-синем лице улыбку, концы которой утонули в припухлостях щек. — Сэр, — воскликнул он, обращаясь к Жаку, — вы не представляете, как я рад найти в вашем лице столь почтенного человека! На наш поединок соберется весь город! Мы будем драться в большом зале «Альгамбра»[321], что на Монтгомери-стрит: его специально для этого снимет мистер Дэниел Уэллс. Дуэль состоится накануне выборов, тотчас же после торжественного митинга республиканцев…[322] Какая удача для мистера Уэллса! Никто из кандидатов от демократов[323] не сможет предложить своим сторонникам подобного зрелища!.. Убийство на дуэли!.. Жак, не в силах более сдерживаться, захохотал словно сумасшедший, и тут же к нему присоединился и Жюльен. — Надеюсь, вы не возражаете, сэр? — с беспокойством спросил полковник Батлер. — За вход мы будем брать пять долларов, вся сумма достанется вашим наследникам. — Ну уж нет! — заорал Перро, выведенный из себя подобной заносчивостью. — Это вам аккуратно прострелят голову! И деньги пойдут на ваши похороны! Запомните, месье Арно не нуждается в долларах янки! Его владения в Бразилии занимают никак не меньше пятидесяти квадратных лье! На принадлежащих ему землях есть леса, каких даже в Канаде надо поискать, золотые и серебряные рудники, перед которыми россыпи Карибу и Невады просто тьфу, а уж алмазов там столько, что их с избытком хватит на всех ювелиров Соединенных Штатов! Так что наплевать ему на ваши доллары! Знайте, если бы он захотел, то купил бы всю эту железную дорогу со всеми поездами, вагонами, да и с вами в придачу! Во Франции подобные признания сразу бы выставили в смешном свете того, к кому они относились, а их автор заслужил бы репутацию помешанного. В Америке же они сделали Жака героем дня и снискали Перро симпатии окружающих. Наш путешественник был взят в плотное кольцо пассажиров. Одни наперебой рекомендовали ему лучшие гостиницы Сан-Франциско, шикарные заведения, где можно развлечься, модные кафе и места для увеселительных прогулок, другие расхваливали качество смит-вессонов[324], третьи с восторгом расписывали достоинства новой системы кольта[325] и настаивали на том, чтобы в поединке с полковником Батлером он применил исключительно это оружие. Но самым неожиданным образом повел себя сам полковник. С того момента, когда он увидел в будущей кончине Жака прекрасную рекламу для предвыборной кампании мистера Дэниела Уэллса, а также уникальный спектакль, который он сможет предложить мисс Леоноре, он чуть не свел с ума несчастного француза своей услужливостью. Впрочем, как только янки начал лечить благоприобретенный синяк посредством алкоголя, то быстро опьянел, и ему снова грозила потеря чувств, вызванная на этот раз снадобьем, которое успело причинить человечеству так много вреда. Жак, преследуемый своими почитателями, перебегал из вагона в вагон, не зная, какому святому молиться, чтобы только избавиться от них, когда поезд наконец завершил свой маршрут. Путешественники проделали к тому времени немалый путь. Ночью они проехали штат Вашингтон и тогда же пересекли полноводную реку Колумбия, служащую границей между штатами Вашингтон и Орегон, оставили позади город Портленд, возникший недавно, но уже сыгравший значительную роль в жизни штата Орегон, затем — столицу этого штата город Сейлем и станцию Юджин, на сорок четвертой параллели, чье выгодное положение обещает превратить ее в недалеком будущем в крупное поселение. По мосту, один вид которого вызывает головокружение, железнодорожный состав пронесся над обрывистым ущельем в горах Калапуйа, пересек пять или шесть притоков реки Умпква, передохнул пару минут в Винчестере, где и произошла ссора, побудившая Жака пустить в ход кулак, и, оставив нескольких пассажиров в Розбурге и Миртлевиле, прибыл в Канонвиль, конечный пункт Североамериканской железной дороги. Трое друзей, выведя из специального вагона славных мустангов, проведших взаперти почти четырнадцать часов, распрощались с назойливым попутчиком, бросавшим в тоскливом ожидании дилижанса завистливые взоры на великолепных коней, которые всем своим поведением и звонким ржанием выражали недовольство вынужденным заточением. — Главное, господа, не забудьте нанести визит мистеру Дэниелу Уэллсу, Невада-стрит, двадцать четыре, — напомнил полковник. — Он примет вас как старых друзей. И будьте так любезны, передайте мисс Леоноре мои заверения в совершеннейшем к ней почтении и сообщите ей о моем скором прибытии. — Договорились, полковник! — ответили, смеясь, оба француза и, вскочив в седла, удалились в сопровождении Перро, ощетинившегося, словно дог, и ворчавшего, как разъяренный медведь гризли. — Ну же, успокойтесь, Перро, что еще случилось, отважный наш товарищ? — участливо спросил Жюльен. — Что случилось, добрый мой месье!.. И вы еще спрашиваете!.. О, силы небесные!.. Да я столь зол, что хоть сейчас готов пустить в ход мой карабин! — Почему? — Как подумаю, что месье Жаку придется меряться силами с этим шутом с козлиной бородкой, все во мне так и закипает! — Он, конечно, хвастун, но в общем-то тип прелюбопытный, — заметил Жак. — Не знаю, какой уж он там прелюбопытный, но лучше бы уж вы подали мне знак, и тогда бы я мигом избавил вас от него! А то теперь вот вы вроде как бы связаны честным словом с этим грубияном, что грозится убить вас. — Да полно, дорогой Перро, хвастовство еще никогда никого не убивало. Я, пожалуй, даже не жалею, что ввязался в эту историю. Вы даже не представляете себе, как я сгораю от любопытства увидеть достойного мистера Дэниела Уэллса, законодателя-душегуба, и нежную мисс Леонору, ласкового драгуна в юбке, жаждущего лицезреть, как убивают человека. Почтенные граждане, подобные этим американцам, совершенно не встречаются в Европе, и нам представляется возможность отлично позабавиться. — Кстати, а ты умеешь стрелять из револьвера? — спросил Жюльен. — Умею, и неплохо… По крайней мере, в случае необходимости сумею это сделать. — Превосходно! Ты же знаешь, в большинстве своем американцы не отличаются меткостью. Во время поединка они, паля вовсю, бодро идут на сближение, пока окончательно не покалечат друг друга. Таким образом, стрелок, даже посредственный, может, имея револьвер системы «смит-вессон», предупредить огонь своего противника и остановить его. — Отлично! Тогда оставим пока этот разговор и перейдем к вещам более приятным. В темах для беседы не было недостатка, и длительный переход в двадцать пять лье не утомил никого из путешественников. Их кони также не проявляли признаков усталости: изнурительные тренировки, которые индейцы устраивают своим лошадям, делают животных поразительно выносливыми. Не обращая внимания на преграды в виде возвышенностей, болот и водных потоков, они пересекли скалистое прибрежье Рога, реки, шириной более ста метров, и отроги Каскадных гор, являющихся продолжением хребта Сьерра-Невада, переправились через Кроу-Крик, один из притоков Умпквы, и уже упоминавшийся Рог, проехали мимо Форт-Лейна, пообедали в Джексонвиле и, остановившись ненадолго в Хамбурге, чтобы дать передохнуть лошадям перед переходом через горы Сескийу, прибыли в Хенли, поселок, расположенный на берегу реки Кламат, уже на территории штата Калифорния, чья северная граница проходит по сорок девятой параллели, отделяющей его от Орегона и служащей северной границей штата Невада: американцы обожают прямолинейные границы. Отсюда друзья направились в Шасту, чтобы выйти наконец к железной дороге. Торопясь попасть в этот город и без промедления сесть на поезд, направляющийся в Сан-Франциско, они решили пройти расстояние в сто двадцать километров так, как они делалиэто некогда в Сибири, то есть отдыхая лишь в случае крайней необходимости. Дорога из Хенли в Шасту, пролегающая между Сьерра-Невадой и Береговыми хребтами — прибрежной горной цепью, пересекающей Калифорнию с севера на юг, очень живописна, и, следуя по ней, путнику приходится неоднократно переходить по мостам и виадукам[326] через расселины и речки. Быстро продвигаясь вперед, наши путешественники ехали на конях на протяжении около двадцати лье вдоль одного из рукавов[327] реки Сакраменто, берущей начало на горе Шаста[328], в двадцати четырех километрах от одноименного города. Едва прибыв на станцию Шаста, друзья поспешили снова погрузить лошадей в специальный вагон, а сами устроились в салон-вагоне, решив отдохнуть до самого Сан-Франциско, куда они рассчитывали попасть через десять часов. Как только они заняли места в роскошном салоне и поезд тронулся, до их слуха долетел шум перебранки. Властный и хриплый женский голос говорил что-то на индейском языке, а другой, тоже женский, жалобно отвечал ему тоном ребенка, пытающегося избежать неминуемого наказания, пока шумный звук пощечины не прервал диалог. Поддавшись естественному любопытству, Жюльен тихо приоткрыл заднюю дверь, выходившую на площадку в месте сцепления вагонов, и увидел трех индейцев — двух женщин и мужчину в грязных обносках, расположившихся там без особых удобств. Краснокожий, огромного роста, с варварски размалеванным лицом кирпичного цвета, важно кутался в свои лохмотья, которые, в отличие от мокасин[329] из буйволовой кожи, были европейского происхождения. Держался он столь величественно, что ему мог бы позавидовать даже испанский гранд[330]. Обе женщины были молоды, хотя нищета, плохое с ними обращение и изнуряющая работа наложили на бедняжек свой отпечаток — сгорбили их плечи и придали лицам туповатое выражение. Одной из них, похоже, стукнуло лет двадцать пять, хотя сторонний наблюдатель при беглом взгляде на нее мог бы дать ей и все сорок пять. Другая — совсем еще девочка, — едва ли ей исполнилось шестнадцать, — однако выглядела она вдвое старше своего возраста. Эта последняя и рыдала вовсю, слезы так и лились из глаз юной индианки. Ее товарка, с искаженным от гнева лицом, занесла над ней руку со скрюченными пальцами, видимо, снова собираясь дать пощечину, привлекшую внимание Жюльена. И только внезапное появление постороннего человека предотвратило удар. — Эй вы, мерзавки, — строго произнес вошедший гражданин, — у вас что, не было времени поколотить друг друга у себя дома, раз вы орете теперь и беспокоите пассажиров?.. А ты, — обратился он к мужчине, — не знаешь, что ли, устава компании? Если она разрешила вам ехать бесплатно, то лишь при условии, что вы не покинете площадку и будете вести себя прилично. — Хау!.. Мой брат прав, — назидательным тоном ответил краснокожий. — Но мой брат поймет также, что старая сквау Ночной Птицы должна научить исполнять свой долг его молодую сквау. — Так это твои жены? — Мой брат совершенно прав. — И каковы же обязанности этих несчастных по отношению к такому лентяю, как ты? — Хау!.. Они должны носить оружие Ночной Птицы, следовать за ним по тропе войны, перетаскивать на себе еду, палатки и одеяла, собирать зерно, толочь его… — Достаточно: и так все ясно! Выходит, они будут изнурять себя на работе, а ты, как заправский лодырь, сидеть сложа руки! — Хау!.. Ночная Птица — великий вождь! — Великий вождь и красавец мужчина!.. Впрочем, это твое дело, а не мое, однако при условии, что ты будешь вести себя как надо… А кстати, скажи-ка мне, почему твоя старая жена «учила» таким образом молодую? — У Ночной Птицы нет денег, чтобы купить огненной воды у стюарда…[331] У него нет табака… Его старая жена хотела послать молодую попросить деньги у бледнолицых… И она побила ее, чтобы научить просить подобающим образом.
ГЛАВА 14
Индеец, столкнувшийся с цивилизацией. — Краснокожие попрошайки. — Резервации. — Странствующий путеводитель Конти. — Ошибочное мнение о положении североамериканских индейцев. — Приобщение к цивилизации. — Оседлые индейцы. — Увеличение численности краснокожих. — Превышение рождаемости над смертностью. — Индейцы — пастухи и земледельцы. — Дети краснокожих — школьники.Услышав такое обезоруживающее признание, Жак — невольный свидетель разговора краснокожего с внезапно появившимся гражданином — не поверил своим ушам. Жюльен, которого его прежние поездки по Соединенным Штатам уже примирили с некоторыми особенностями американского образа жизни, улыбнулся, видя искреннее удивление своего друга. — Ну, — спросил он внезапно, — что ты думаешь об этом индейце, столкнувшемся с современной цивилизацией? — Ничего хорошего — ни о нем, ни о цивилизации. Впрочем, я не могу поверить, что этот мрачный и карикатурный оборванец — чистокровный индеец. — По его приплюснутому, как у рептилии, черепу ты можешь узнать шошона, или индейца из некогда могущественного племени змеи[332], одного из самых древних на североамериканской земле. Его сородичи еще живут сегодня в Орегоне и на севере Калифорнии, хотя многие из них эмигрировали в штат Юта. Так что он-то и являет собой тип чистокровного краснокожего. — Как, — с жаром возразил бывший супрефект, в чьей голове после чтения классических приключенческих романов сохранилось множество юношеских иллюзий, — этот бездельник принадлежит к племени тех самых натчезов, которых любил и воспевал Шатобриан?[333] — К боковой их ветви, но в целом именно так. — Может быть, этот попрошайка — еще и сын одного из неукротимых воинов, героев чудесных повестей Купера? — Скорее не сын, а внук. — Никак не укладывается в голове, чтобы индейцы столь быстро деградировали! — Дорогой мой друг, пора уже похоронить общепринятые заблуждения. Да не прогневаются на меня маны[334] могикан, последний из которых отнюдь не умер[335], а вместе с ними и алгонкины, натчезы, делавары и прочие ирокезы, делавшие честь племени краснокожих, как и те, кто их прославил, будь то Шатобриан, Фенимор Купер, Майн Рид, Ферри, Эмар или Дюплесси, но личность, собирающаяся делать пересадку в Сакраменто, чтобы добраться до страны мормонов[336], и попутно клянчащая в поездах на железной дороге, как это делают наши европейские нищие в пригородных поездах, повторяю тебе, и есть современный индеец. От нее, может быть, отличаются лишь те, кто живет в резервациях. — Что ты подразумеваешь под словом «резервация»? — Территории, где государственные мужи Соединенных Штатов собрали индейцев, насильно согнанных со своих исконных земель. Им запрещено выезжать оттуда, как говорят, под угрозой расстрела на месте. Только эти краснокожие и сохранили еще в какой-то мере обычаи своих предков. — Поверьте мне, джентльмены, в большинстве случаев индейцев переселяют в резервации исключительно ради их же блага, — вступил в разговор незнакомец, приструнивший краснокожих пассажиров. — Если бы белое население Дальнего Запада было более многочисленным, города не столь велики, а места, где можно тайно раздобыть алкоголь, встречались бы почаще, будьте уверены, что все эти кочевые племена, чьи достоинства так преувеличили писатели, не желали бы ничего лучшего, как присоединиться к такой цивилизации. Ибо под ее сенью множество типов, подобных тому, кого вы видите перед собой, могут влачить тупое и ленивое существование, столь дорогое сердцу каждого краснокожего. — Мне кажется, вы слишком строги к ним. Вы — американец, и это мешает вам быть справедливым по отношению к индейцам. — Вовсе нет, — заметил на превосходном французском собеседник, — я — гражданин Швейцарии! Три года назад я прибыл в Америку, полный иллюзий, типичных для европейцев — поклонников равенства и филантропов[337]. Однако с тех пор мои взгляды резко изменились. — Но, — с жаром возразил Жак, — если бы американцы, вместо того чтобы травить этих несчастных, словно диких зверей, расстреливать их поодиночке и скопом одурять алкоголем, попытались воспитывать их, если бы они образовывали их ум, приобщали индейцев к благам цивилизации, а не убивали при первой же встрече с ней, тогда, быть может, у нас перед глазами не было бы подобных прискорбных примеров столь чудовищной деградации! Неотъемлемые права человека для всех одинаковы, как для белого, так и для краснокожего. — Вы позволите мне ответить с полной откровенностью? — Разумеется, но бьюсь об заклад, вам не удастся меня переубедить. — Вы утверждаете, что неотъемлемые права индейца такие же, как и у белого человека, и с этим я согласен. Но именно по причине этих прав белый человек отводит краснокожему обширную территорию, где тот может вести подобающее ему существование. Индейцы в основном живут лишь охотой и не желают видеть источника существования в обработке земли. Что же из этого следует? А то, что территория, по размерам не уступающая самому большому департаменту Франции, едва способна прокормить триста кочевников, в то время как десять тысяч земледельцев смогли бы там жить припеваючи. Разве естественно, что несколько охотников на бизонов препятствуют обработке огромных участков земли, совершенно необходимых для дальнейшего развития земледелия? Разве можно допустить, чтобы полет человеческого разума был остановлен варварством, чтобы расселение белого человека было остановлено несколькими бродягами с красной кожей? Можно ли, наконец, отобрать у тысяч белых право на существование и уступить его нескольким сотням дикарей? — Вы правы, месье, — прервал его Жюльен. — Никто не может ставить себя выше законов природы, хотя те подчас и кажутся нам жестокими. Положение таково, что из двух имеющихся рас одна непременно должна прийти на смену другой. — Скажите лучше, что одна поглотит и ассимилирует[338] другую, к величайшему благу их обеих. — Как, вы считаете, что существа, подобные этому «змею», равнодушно посасывающему сигару, которую я только что ему дал, смогут стать гражданами Соединенных Штатов? — Если сами не смогут стать ими, то, по крайней мере, подарят Штатам новых граждан. Не сомневайтесь в этом, сударь, и оставьте старушке-Европе ее предрассудки относительно полного и необратимого истребления краснокожих. — Но разве вы сами только что не говорили об этом? — Нет, не говорил. И, рискуя злоупотребить вашим вниманием, хотел бы добавить еще несколько слов к уже сказанному мною. — Вы им нисколько не злоупотребляете, напротив. Ваш рассказ, звучащий в устах человека, несомненно разбирающегося в данном вопросе, скрасит утомительное однообразие нашего путешествия и, как мне кажется, позволит нам разобраться в истинном положении вещей. — Я сделаю все, что в моих силах, — скромно ответил швейцарец, — тем более что мне платят именно за это. — Ах, вот как! Но кто же вы? — Странствующий путеводитель Конти, полиглот, нанятый железнодорожной компанией для работы в поездах, следующих на дальние расстояния. — Невероятно! — Вместе с тем все обстоит именно так, как я имел честь вам доложить. Мои обязанности — всегда быть в распоряжении пассажиров, сообщать им в меру своих познаний всевозможные сведения и отвечать на вопросы, которые им будет угодно мне задать. Вот почему я вступил в вашу беседу, не представившись… К тому же, будучи служащим компании, я обязан поддерживать порядок в поезде… Но вернемся к индейцам. Нет сомнений, что последние лет двадцать — двадцать пять их встречи с цивилизацией имеют печальные последствия. Но иногда эти контакты весьма полезны… Глядя на сего отъявленного бездельника, с наслаждением сосущего вашу сигару, вы можете себе представить, к чему привело его столкновение с цивилизацией. Посмотрите на его причудливую одежду. Она состоит из шерстяной рубашки, ожерелья из когтей медведя, кучерского сюртука орехового цвета и цилиндра без дна, но украшенного неуместной картинкой, вырезанной из крышки коробки от сардин. Наконец, на нем надеты «оскальпированные» панталоны. — Оскальпированные панталоны? — изумленно переспросил Жак. — Вот видите, месье, — насмешливо бросил Перро, не удостоив внимания индейцев, о которых шла речь, — я был прав, утверждая, что только там, в глубине Британской Колумбии, можно найти чистокровных краснокожих, до сих пор снимающих волосяные украшения со своих врагов. В этих же краях индейцы способны лишь оскальпировать собственные штаны… Такой вот прогресс! Оба француза не смогли не расхохотаться, услышав подобное умозаключение, в то время как швейцарец тем же торжественным тоном, как и подобает ходячей энциклопедии, продолжал свой рассказ: — Нелепое одеяние дикаря — одно из свидетельств влияния на него цивилизации. Этот человек устыдился своей наготы. Он захотел уподобиться белым. Его брюки очень мешают ему, он снял их и, как здесь выражаются, «оскальпировал»: убрал заднюю часть и пояс и старательно сохранил штанины. Одежда его драная и грязная. Этот нецивилизованный человек не понимает, что такое лохмотья, — я имею в виду европейское понимание лохмотьев, — и уверен, что хорошо позаботился о своем костюме. Его попытки приобщиться к европейской одежде свидетельствуют о стремлении индейцев подражать белым, оставить обычаи своего народа и распрощаться с кочевой жизнью. О результатах этих неуклюжих попыток вы можете судить по нашему колоритному типу. Да за один день и нельзя приспособиться! К тому же краснокожие совершенно не в состоянии нормально носить одежду белых, так же, как и перенимать их привычки — и достойные подражания, и порочные. Во всем мы обнаруживаем преувеличение, ибо, что бы краснокожий ни делал, он всегда переусердствует. Первое соприкосновение с цивилизацией обычно на какое-то время выбивает из колеи человека, привыкшего к естественному образу жизни, хотя иногда может кончиться для него даже гибелью. Но те, кто устоит, а таких немало, оставят после себя здоровое потомство, которое будет представлять новую, могучую расу, обладающую качествами, присущими обеим исходным расам. — Значит, месье, по вашему мнению, индейское население вовсе не исчезает в результате своих контактов с белыми, а, наоборот, имеет тенденцию к увеличению? — Уверен в этом и могу доказать на основании официальных данных. — Однако странно, — перебил его Жак. — Во Франции постоянно говорят и пишут, что скоро в Соединенных Штатах и Канаде не останется ни одного индейца. — Утверждения, казавшиеся реальными двадцать лет назад, сегодня уже не представляются таковыми. Например, численность индейского населения Верхней и Нижней Канады давно не уменьшается. Более того, переписи, проведенные с промежутком в десять лет, в тысяча восемьсот шестьдесят первом и в тысяча восемьсот семьдесят первом годах, свидетельствуют о том, что оно неуклонно возрастает из-за преобладания рождаемости над смертностью. Это связано с тем, что индейцы сменили бродячий образ жизни на оседлый. Гуроны из Жен-Лоретт работают на полях и изготовляют традиционные «индейские изделия», ирокезы из Солт-Сент-Луиса трудятся моряками и лоцманами на реке Святого Лаврентия, алгонкины, утауа и многие другие давно уже стали мирными гражданами, хорошими земледельцами, и все они непременно посылают своих детей в школу. Все более и более изумляясь, Жак с огромным интересом узнавал о новых для него фактах, которые его любимые авторы, обычно совершавшие свои путешествия, не выходя из комнаты, сознательно обходили молчанием, дабы повествование их не утратило живописности. — То же и в Соединенных Штатах, — продолжал переводчик. — Вот каковы результаты исследований генерала Лоуренса и полковника Маллери, опубликованных и обсужденных в американской прессе сразу после их завершения в тысяча восемьсот семьдесят пятом году. У ста индейских племен, находящихся в давних контактах с белыми, превышение рождаемости над смертностью составляет от шести десятых до двух целых и тридцати двух десятых процента. За последние двадцать пять лет число индейцев сиу увеличилось с двадцати шести тысяч до тридцати семи. Численность индейцев таких племен, как чероки, крики, чакта и чикоза, проживающих, подобно сиу, на индейской территории, то есть в резервации, возросла хотя и не настолько, но тоже довольно значительно. Объединение этих пяти племен образует сегодня компактную этническую группу общей численностью пятьдесят две тысячи человек, обладающую определенной автономией и уже в значительной мере приобщившуюся к благам цивилизации. Удивителен пример семинолов. В тысяча восемьсот тридцать пятом году их насчитывалось четыре тысячи человек, затем, в результате кровопролитной войны против регулярной армии Соединенных Штатов, число это сократилось до полутора тысяч, но за последующие сорок лет, к тысяча восемьсот семьдесят пятому году, увеличилось до трех тысяч. Я мог бы привести вам еще множество примеров, ибо документальные свидетельства подобного положения дел имеются в изобилии. Сравнительно быстрое возрастание численности индейцев — естественное следствие постепенных изменений, произошедших в их жизни. Этот народ, о котором всегда твердили, что он не сможет приспособиться к цивилизации, перейдя к оседлому образу жизни, достиг поразительных успехов, хотя им до сих пор и не воздали должного, особенно в Европе[339]. Если некоторые племена и в резервациях продолжают жить исключительно охотой, то время от времени они получают от администрации продовольствие. Значительная часть индейцев начала активно сотрудничать с белыми, и бывшие охотники превращаются в пастухов и земледельцев. Таким образом, сегодня уже никто не сомневается, что при каждодневном воздействии белого населения, во сто раз более многочисленного, исчезновение индейцев Соединенных Штатов, их языка, этнического типа и, как следствие, чистокровных представителей этой расы является только вопросом времени. Но, как я вам уже сказал, это исчезновение происходит не в результате истребления, а через ассимиляцию и межэтнические браки. — Я всем сердцем поддерживаю этот процесс, — промолвил Жак, глубоко потрясенный рассказом. — В завершение замечу, — произнес переводчик, — даже если в Соединенных Штатах останется лишь горстка чистокровных индейцев, то и в этом случае нельзя будет говорить об уничтожении данной расы. Став белыми, точнее, будучи признаны таковыми, они продолжат род исконных обитателей страны. Разве мы не видим сегодня, как сто тысяч мексиканских метисов из Нью-Мехико, Техаса и Колорадо, двадцать тысяч канадских метисов из Висконсина, Миннесоты и Мичигана, многочисленные потомки индейцев из Нью-Гемпшира, обращенные в христианство и цивилизованные знаменитым проповедником Окамом, стали настоящими американскими гражданами? Это хлебопашцы, земледельцы, ремесленники, моряки, заделавшиеся оседлыми жителями. Они — полукровки, но в смешанных переписях[340] не отделяются от белого населения, хотя их отцами скорее всего были спившиеся личности, наподобие того попрошайки, который в эту минуту, величественно кутаясь в свои лохмотья, просит у вас еще одну сигару. — Действительно, сей персонаж являет собой грустное зрелище, своего рода переходный тип от дикого индейца к своему будущему цивилизованному потомку. — Это потому, что он отъявленный пьяница, да к тому же ленив сверх всякой меры. Но и он начинает понимать, что его лень и пьянство становятся все более несовместимыми с нынешним временем. — Что-то не верится. — Хотите, я спрошу его самого? — Конечно. — Скажи мне, вождь, откуда ты прибыл? — Из земель, отведенных моим братьям из племени кламат. — А что ты делал в резервации кламатов? — Покупал вторую сквау. Ночная Птица беден. — Почему же ты тогда купил вторую сквау, если ты беден? — Чтобы она работала на меня. Индеец, у которого нет своей сквау, должен много работать, а тот, кто имеет много сквау, никогда не работает. Хау!.. Жены Ночной Птицы засеют его поле, а когда они соберут урожай, Ночная Птица сдаст их хозяину дороги. — Что ты будешь делать с деньгами, которые они заработают? — Куплю виски[341] и еще одну жену. — Три жены! — Хау! Святые из Города-на-Великом-Озере имеют гораздо больше жен[342]. — Почему ты взял с собой к кламатам свою старшую жену? — Чтобы она научила младшую. Сначала молодые ни на что не годятся, они лишь ревут и вспоминают хижину, где родились. Старые бьют их до тех пор, пока те не замолчат и не станут разумными… Они приучают их ходить по камням и спать с открытыми глазами… От этого молодые становятся выносливыми. — А почему ты сам не воспитываешь жену? — Хау! — воскликнул индеец с деланным изумлением. — Если бы белые увидели, что я бью жену, они бы меня повесили. — И ты предпочитаешь, чтобы твои жены били друг друга: так удобнее и безопаснее. А скажи мне, вождь, у тебя будут дети? — Да. — И как ты станешь их воспитывать? — Они пойдут в школу вместе с белыми. Жак и Жюльен, не ожидавшие подобного ответа, не смогли сдержать удивленных возгласов. — А почему ты пошлешь их в школу? — Чтобы они научились ненавидеть виски — этот яд для краснокожего человека, чтобы они научились возделывать землю, которая кормит и белого и индейца, чтобы они, как белые, стали детьми Вашингтона[343], великого отца. — Ну что, сударь, — победоносно спросил Жака швейцарец, — теперь вы убедились? У этого человека нет сил порвать со своими пороками, но он уже хочет, чтобы его дети были трезвыми, оседлыми земледельцами и носили звание граждан Соединенных Штатов. Разве он не внушает вам уверенность в будущем краснокожей расы, которая, что бы там ни говорили в Европе, не исчезнет с лица земли? — Согласен, — ответил молодой человек, — и в полной мере воздаю вам должное, восхищаясь вашими объяснениями, прояснившими для меня многое. — Признаюсь честно, я не могу говорить на равных с этим краснокожим, который напивается каждый раз, как только раздобудет алкоголь, круглый год бездельничает и заставляет работать своих жен, словно вьючных животных. Я не в состоянии зажечь в нем ту искру, которой ему всегда будет не хватать, а именно: привить ему нормы нашей морали. Вот почему я сказал вам, что мои взгляды убежденного сторонника равенства и филантропа, с тех пор как я живу в Америке, изменились, а если быть более точным, то стали реалистичнее, и, зная подлинное положение дел, я готов признать за всеми индейцами, повернувшимися лицом к труду, право на свободу, равенство и братство.
ГЛАВА 15
Малочисленность населения в столицах американских штатов. — Прибытие в Сан-Франциско. — «Палас-отель». — Неожиданный визит. — Встреча будущего тестя полковника Батлера с нашими путешественниками. — Дом мистера Уэллса. — Размышления Жака Арно об американских нравах. — Нежелание Жака становиться зятем. — Человек с электрическим мотором. — Строгость и даже, возможно, несправедливость Жака по отношению к мисс Леоноре. — Будуар драгуна в юбке. — Виртуозная стрельба. — Человек, запросто жонглирующий шестидесятикилограммовой гирей. — Заключительное слово.Поезд, уносивший Жюльена де Клене, Жака Арно и канадца Перро, задержался на несколько минут в Марисвилле, маленьком уютном калифорнийском городке, расположенном в месте слияния рек Юба и Плен, и, пополнив запасы воды, повернул на Сакраменто — столицу штата Калифорния. Однако путешественники, быстро проехав город, ибо железнодорожный вокзал находился по ту сторону его, едва успели мельком обозреть красивые дома, доки[344] и причалы, забитые товарами: глубина реки Сакраменто, куда вливаются воды Американ-Ривер, позволяет крупнотоннажным судам подниматься до этого административного центра, который, таким образом, становится своего рода морским портом, хотя и расположен вдали от океана. Пройдя, не снижая скорости, по многолюдной улице, словно трамвай, поезд замедлил ход и наконец остановился ненадолго, чтобы по сигналу, поданному колоколом локомотива, снова тронуться в путь — к величайшему огорчению опоздавших, до которых, кстати, машинисту не было никакого дела: все идет ол райт! Вокзал, выстроенный на городской окраине, напоминал французские железнодорожные станции третьего класса. Но янки это мало волновало: у них множество иных занятий, нежели обустраивать столицы штатов, и те, за редким исключением, выглядят весьма захолустно. — Американское демократическое управление, — заметил по этому поводу Жюльен де Клене, — плохо приспособлено для больших густонаселенных государств, и в результате города, где размещается администрация, хиреют и обезлюдевают. И мы, французы, не без удивления узнаем, что в административных центрах штатов насчитывается в целом не более народу, чем на территории одной супрефектуры. Жители наших провинциальных городков просто высохли бы от зависти, узнав, что столичные города типа Спрингфилда, Колумбуса или Джефферсона командуют такими крупными населенными пунктами, как Чикаго, Сент-Луис или Цинциннати[345]. Малозначимость столичных городов характерна как будто бы для всей страны. Даже столица Соединенных Штатов город Вашингтон, хотя в нем и проживает более ста тысяч человек, — всего лишь административный центр, лишенный политического влияния и коммерческой значимости, несмотря на исключительно выгодное географическое положение: американская столица сообщается с океаном через Чесапикский залив, куда, оросив предварительно земли процветающих промышленных штатов Виргиния и Мэриленд, приносит свои воды Потомак — река шириной более двух километров, проходимая для крупнотоннажных судов. Не боясь повториться, скажу еще раз: подобно другим столицам, Вашингтон — всего-навсего административный центр, стоящий в стороне от той оживленной жизни, которой живут крупные города Соединенных Штатов… Но вернемся к железной дороге, с которой в данный момент оказалась связанной судьба наших героев. Пройдя от Сакраменто до Стоктона около пятидесяти пяти километров, поезд сперва устремляется прямо на юг, затем резко поворачивает на восток и идет в западном направлении до Найлса, в двенадцати километрах от обширного залива Сан-Франциско, после чего спускается к Сан-Хосе и, обогнув южную оконечность бухты, поднимается на северо-восток, чтобы через полтора часа прибыть в Сан-Франциско. Столь сложного маневра легко можно избежать, если в Сакраменто пересесть на один из быстрых и комфортабельных пароходов, которых так много в Соединенных Штатах, но Жак энергично возразил против такого варианта и, заявив, что с него хватит переправ через водные пространства — как на пароме, так и вброд, — пригрозил наложить вето[346] на подобное предложение, если с таковым выступят его друзья. Последний отрезок пути по железной дороге был проделан достаточно быстро и без всяких приключений, не считая ужасной жары, сравнимой разве лишь с той, что иссушает Индию, Сенегал или Сирию. В какой-то момент температура в салон-вагоне достигла 48° по Цельсию! Впрочем, это обычная летняя температура Калифорнии, исключение составляет лишь Сан-Франциско. К счастью, наши путешественники смогли открыть все окна и щели в салоне и тем самым спаслись от удушья. Однако такое неудобство продолжалось недолго, поскольку по мере приближения к Сан-Франциско температура постепенно падала, пока не понизилась вскоре настолько, что у них даже мурашки побежали по телу[347]. Наконец поезд с грохотом вкатил под крышу монументального вокзала, вполне соответствовавшего своими колоссальными размерами и роскошным убранством тому богатому городу, который он обслуживал. Переводчик-швейцарец вовсю расхвалил друзьям чудеса «Палас-отеля» — новой гостиницы, недавно построенной и затмившей собой даже «Гранд-отель», считавшийся ранее одной из достопримечательностей Сан-Франциско, и путешественники, естественно, решили остановиться именно в нем. Багаж их был доставлен в гостиницу тем же способом, о котором мы уже говорили, то есть заботами железнодорожной администрации, так что нашим героям оставалось лишь занять места в наемном экипаже и менее чем через четверть часа войти в двери своего нового пристанища. Переводчик ничего не преувеличил. «Палас-отель», считающийся самой большой в мире гостиницей, представлял собою подлинное чудо в виде гигантского семиэтажного здания из железа, кирпича и стекла, с балконами, тремя лифтами, двумя дворцового типа лестницами, тысячью номеров с туалетными и ванными комнатами, несколькими великолепными салонами, курительными, читальнями и просторным крытым двором для прогулок. На первом этаже размещался колоссальный холл — своего рода общественное место, где каждый мог расхаживать в свое удовольствие, посидеть на диване, насладиться газетой, поразвлечься креслом-качалкой, полюбоваться развешанными по стенам картинами, прочитать пришедшую на его имя телеграмму — одну из многих, присылаемых сюда со всех концов света, купить лотерейный билет, провести сиесту[348] в любимой позе — задрав кверху ноги и надвинув на нос шляпу, приобрести «Биржевой вестник» или познакомиться с удивительными американскими рекламными плакатами, не опасаясь, что кто-то помешает. Новичка из Европы всегда удивляет, как это ни один путешественник не заблудится в столь огромном пандемониуме[349] и, главное, каким образом удается гостиничной администрации не терять его в бесконечных коридорах, галереях, комнатах, салонах, среди снующих туда и сюда людей, количество которых равно населению наших супрефектур. Однако все просто: прибывающие в отель тотчас заносятся в книгу и получают соответствующий номерок, после чего каждый здесь может прекрасно устроиться. — Будьте так добры, впишите свои имена в регистрационный журнал, — вежливо обратился к нашим путешественникам клерк[350] в черном костюме и с козлиной бородкой, указывая им на огромный том in folio[351], в роскошном переплете, обычном для конторских книг процветающих торговых домов. Сие произведение искусства величественно возлежало на массивном пюпитре[352] из слоновой кости, инкрустированном серебром. Реестр[353], куда путешественник вписывает свое имя и постоянное местожительство, играет важную роль в гостиницах Соединенных Штатов. Каждый из многочисленных постояльцев, да и просто из граждан, прогуливающихся в холле, в любое время может подойти, заглянуть в него и сделать для себя интересное открытие, в чем и убедились наши друзья ровно через два часа после того, как разместились в отеле. Но об этом — несколько позже. Изысканным почерком вписал Жюльен в журнал свое имя и имена своих друзей. Клерк объединил все три имени фигурной скобкой, указал в центре номер апартаментов новоприбывших и, подозвав колокольчиком гарсона[354], приказал ему проводить гостей. На этом все формальности были завершены. Устроившись с быстротой, характерной для людей, привыкших к перемене мест, наши путешественники впервые после длительного перерыва смогли совершить свой туалет самым тщательнейшим образом. Это особенно приятно после долгого пути и тем более тогда, когда в вашем распоряжении оборудованные по последнему слову техники необычайно комфортабельные американские туалетные комнаты. Вскоре друзья были уже готовы к выходу в город. Жюльен собирался нанести визит французскому консулу и получить в банке векселя на крупную сумму, переведенную им в Сан-Франциско. Но неожиданно в прихожей заурчал электрический звонок, и вслед за тем в дверях появился коридорный[355] с серебряным подносом, где лежала визитная карточка, тотчас преподнесенная Жюльену. — Этот джентльмен уже здесь, — объявил мальчик, пока тот взирал изумленно на квадратик белой бристольской бумаги. — В чем дело? — спросил Жак. — Посмотри-ка сам. — «Дэниел Уэллс. Сан-Франциско, Невада-стрит, двадцать четыре», — громко прочел Жак, удивленный не менее своего товарища. — Это же мистер Уэллс, будущий тесть полковника Батлера, отец нежной мисс Леоноры, жаждущей лицезреть мою кончину!.. — Браво! Просите. Встреча ожидалась прелюбопытнейшая!.. Человек среднего роста, худой, шустрый, седовласый и с белоснежной бородой, с живым и необычайно проницательным взором бросился навстречу нашим друзьям, словно давний хороший знакомый. — Я ведь не ошибся, господа, и имею честь говорить с графом де Клене и мистером Арно? — Совершенно верно, сударь, — холодно ответил Жюльен. — Мы к вашим услугам. — Понимаю, что поступаю вопреки правилам… Меня не представили… Хотел было попросить вашего консула оказать мне эту услугу, но я так торопился! Я узнал о вашем прибытии из регистрационного журнала «Палас-отеля». Если позволите, я представлюсь сам… — Этого не требуется, сударь, ибо мы знаем, кто вы, и уверены, что и вам, со своей стороны, многое о нас известно. Не будете ли вы так любезны изложить нам цель вашего визита? Чем мы можем быть вам полезны? — Мне?! Да ничем особенным… Просто захотелось увидеть вас, познакомиться… А также обратиться к вам с просьбой почтить своим присутствием мой дом. Я бы с удовольствием представил вас моей дочери мисс Леоноре, показал наш город и его окрестности… места для прогулок, которые поистине великолепны!.. Я знаю, что имею дело с настоящими джентльменами… Мой будущий зять, полковник Сайрус Батлер, все еще находящийся в дороге, подробно телеграфировал мне об обстоятельствах вашей… вашего знакомства. Вас ждут со вчерашнего дня. Известие о предстоящей дуэли взбудоражило местное общество… Как вы могли предположить, многие заключили пари. Всем известно, что вы — важные особы, и вы уже успели стать героями дня. Так что прошу без особых церемоний принять мое приглашение, «попросту», как говорят в вашей стране… Разрешите мне проводить вас к себе домой. Стол давно накрыт… Потом вашим чичероне[356] станет мисс Леонора, а я вернусь к своим делам… Ах, если бы вы только знали, как я спешу! — Что ж, мы согласны, — улыбнулся Жюльен, поймав утвердительный взгляд Жака. — А я, если вам будет угодно, — произнес Перро, — попрошу у вас «увольнительную», чтобы самому, по собственному вкусу осмотреть город и передохнуть после дороги. — Как хотите, дорогой друг. Действуйте по своему усмотрению и, главное, не стесняйте себя в средствах. Вам предоставлен неограниченный кредит. В случае необходимости вы знаете, где нас найти. Экипаж мистера Уэллса, в который был впряжен один из несравненных рысаков, выведенных в Америке, стрелой рванул с места и стремительно помчал через весь город наших друзей и их любезного хозяина. Оставив позади выстроившиеся по обе стороны дороги дома, покрашенные белой известью, с просторными балконами, увитыми тропической растительностью, и с яркими оконными занавесками, коляска спустилась в нижний город и понеслась по широкой улице, где вместо мостовой лежал толстый слой пыли. Это был квартал пакгаузов[357], мануфактур[358], лесопилок, сталелитейных мастерских и прочих промышленных заведений. В просветах между строениями Жак и Жюльен заметили портовую набережную, доки, суда со спущенными парусами, пароходы, украшенные плюмажами[359] из густого щелочного пара, и трепещущие на свежем ветру флаги всех стран мира. Затем повозка свернула налево и с четверть часа катила вдоль Золотых Ворот — пролива, соединяющего залив Сан-Франциско с Тихим океаном. Экипаж все дальше удалялся от центра города. Второразрядные дома и лавки сменились роскошными особняками, утопавшими в зелени. Сквозь элегантные решетки видны были восхитительные цветники или, скорее, целые леса из фуксий, поднимавшихся до второго этажа. Промчав лихо вдоль величественной ограды, пожалуй, самой изящной из всех, коляска описала причудливую кривую перед беломраморным крыльцом с навершием из матового стекла и резко остановилась.
Прервем на время наш рассказ и предложим читателю отрывок из довольно небезынтересных записок Жака Арно, дающий наглядное представление о чувствах путешественника, вызванных его пребыванием в американском доме. Фиксируя это незаурядное событие, наш герой находился под столь сильным впечатлением от рационализма янки, что был не в состоянии осмыслить до конца свои наблюдения. Его заметки, не лишенные живости стиля, отражают непосредственные ощущения от только что увиденного, что, разумеется, не могло не проявиться в несколько сумбурном характере изложения. Но это — не главное, и посему мы дословно воспроизводим текст дневниковых записей Жака:
«1 июня. Сегодня уже почти две недели, как мы оставили на золотых приисках Карибу отважного Алексея, нашего дорогого, доброго товарища и в радости, и в печали. Сколько всего произошло с того дня! И сколько еще предстоит нам пережить! Если когда-либо какой-нибудь писатель пожелает поведать о приключениях парижанина, путешествующего вокруг света, он вполне может ограничиться подлинными событиями и, не напрягая собственной фантазии, придерживаться голых фактов, сделав эпиграфом к своей книге слова, которые я не устаю повторять: «В жизни всякое случается». Действительно, случается всякое, и вот уже я — желанный гость мистера Уэллса, будущего тестя грубияна полковника, получившего от меня удар, который мог бы с полным основанием преисполнить наставников гимнастического зала Пас чувством гордости за меня. Этот джентльмен — сама предупредительность, его дочь, мисс Леонора, принимает меня с искренней сердечностью. Никогда не скажешь, что оба они тешат себя надеждой присутствовать через тринадцать дней при моей кончине, если только их внимание ко мне не является естественным состраданием, испытываемым к приговоренному к смерти. Правда, Жюльен считает, что мистер Уэллс, будучи человеком хитрым, — подобных ему называют здесь людьми плутоватыми, или sharp[360], — хочет обезопасить себя, в случае если наша дуэль станет роковой для полковника Батлера. Наследство покойного дядюшки сделало из меня, выражаясь языком меркантильным[361], то, что повсюду именуется прекрасной партией, и наш янки, кажется, вполне бы удовлетворился иметь зятем — повторяю, это не мои слова, а Жюльена, — не полковника, лошадника и забияку, а просто миллионера. Ах, довольно! Я не затем чуть ли не пешком добирался из Парижа в Сан-Франциско, чтобы совершить подобную глупость… Боже всемогущий, мне — и жениться на американке! Да к тому же еще на этом драгуне в юбке, — только так я перевожу rifle-woman[362], — по имени мисс Леонора! Лучше уж пасть от пули полковника. Впрочем, не хочу сказать, что сия юная особа столь безобразна. Напротив, она скорее прекрасна. Двадцать лет, высокая, чудесно сложена, с великолепным румянцем, правильными чертами лица, восхитительными глазами и сверкающими зубами, словом, внешность божественная! Однако она не в моем вкусе, а нравственные ее качества просто пугают меня. Наконец, без колебаний признаюсь, что, хоть я и парижанин и вроде бы не дурак и давно уже привык ко всякого рода эксцентричному поведению, меня крайне обескураживает самоуверенность этой юной американки. Я пишу «самоуверенность» лишь постольку, поскольку у меня просто нет слов, чтобы охарактеризовать ее безмятежное состояние, спокойствием своим уподобляющееся шару в индийских кеглях[363], когда тот катится, ударяясь с шумом о встречные предметы без малейшего для себя ущерба. Именно так ведет себя мисс Леонора, имеющая обыкновение беседовать обо всем и вся, включая темы, не совсем приличествующие юным особам. Мы воздали должное обильному и, что весьма редко в Америке, великолепно сервированному обеду в роскошно обставленной столовой, чье убранство свидетельствовало о богатстве, но отнюдь не о хорошем вкусе. С тех пор как мистер Уэллс стал кандидатом, он ведет такую жизнь, к какой, доведись мне быть присяжным в суде, я бы не приговорил ни одного, даже самого закоренелого преступника. Говорят, что есть люди, у которых внутри помещен паровой двигатель. К таковым, несомненно, относится мистер Уэллс, с той, однако, оговоркой, что вместо парового двигателя у него в организме скрыт электрический мотор. Изъясняется он двумя-тремя краткими словами, подкрепляя их лихорадочными жестами, и постоянно бежит, целыми сутками, делая передышку лишь на сон и еду. «…Так!.. Так!.. Брр!.. Так!.. Так!..» — слышится, словно неумолчное потрескивание телеграфного аппарата. Наспех заглотив несколько кусочков рыбы и опрокинув пинту молока пополам с минеральной водой, мистер Уэллс улетел по делам, оставив нас, Жюльена и меня, наедине с мисс Леонорой. Поглощая с прожорливостью чукчи огромные куски непрожаренного мяса, с легкостью перемалываемые ее прекрасными зубами, юная американка вцепилась в нас, — слово «вцепилась» кажется мне здесь наиболее уместным, — и завела разговор о международной политике, философии, математике, эстетике, живописи, музыке, литературе, а затем обратилась с неподражаемой непосредственностью к политике внутренней, ибо в эти дни именно она занимала все ее внимание. Я искренне восхищался Жюльеном, который с присущей светскому человеку обходительностью, смахивающей на хладнокровие врача-психиатра, взирающего на очередного пациента с помутившимся умом, невозмутимо отвечал на бредовые высказывания буйнопомешанной. Что касается меня, то я был в ярости и уже подумывал, как бы поскорее завершить этот визит. Посудите сами. Мисс Леонора, страстная почитательница литературы, произнесла длинную речь, чуть ли не зачитала целую диссертацию о ее любимых авторах «Хьюго» и «Тсоля», — читайте: «Гюго» и «Золя»[364]. Я не имею ничего против, когда кто-нибудь оказывает предпочтение общепризнанному мэтру[365] романтической школы, и польщен выбором апостола[366] реалистической школы, но было бы, по крайней мере, справедливо со стороны мисс Леоноры не называть «Девяносто третий год»[367] одним из эпизодов «Завоевания Плассана»[368] или «Западню»[369] — продолжением «Тружеников моря»[370]. Живопись, несомненно, чужда этому юному созданию, ибо мисс Леонора путает раскрашенные фотографии с полотнами, выполненными маслом, и доллар площадью в десять квадратных сантиметров — с шедеврами великих мастеров. Что касается музыки, то она призналась нам в своей любви к паровому орга́ну кафедрального собора в Чикаго. Похоже, у нас во Франции нет ничего подобного этому инструменту, от звуков которого иногда падают кирпичи из свода. Все остальное предоставляю додумывать потомкам. Слушая мисс Леонору, я даже открыл рот отизумления. Как можно отвечать ей на подобные нелепости? Самоуверенная американка была похожа на избалованного ребенка, привыкшего к всеобщему восхищению. Вероятно, она сочла меня совершенно бездарной личностью, пока наконец мне не удалось возвыситься в ее глазах, и весьма своеобразным способом. Выйдя из-за стола, где она блистала своей эрудицией, хозяйка дома пожелала показать нам, что обширные познания сочетаются у нее с прекрасной физической подготовкой, и привела нас в просторное помещение, по стенам которого было развешано всевозможное огнестрельное оружие. В глубине виднелся освещенный сверху широкий черный простенок, где были прикреплены в беспорядке белые кусочки картона, испещренные черными пятнышками. На полу лежали гири всевозможных размеров и потрепанные фехтовальные перчатки, напротив мишени висела трапеция, соседствующая с двумя гладкими канатами, прикрепленными к потолку, двумя параллельными брусьями и кольцами. Странный будуар[371] для двадцатилетней девушки! Чувствуя себя в этом зале как дома, она весьма элегантно продемонстрировала умение обходиться со всеми представленными здесь спортивными снарядами. В данной обстановке я нашел мисс Леонору гораздо более привлекательной и только собирался сделать ей комплимент, как она неожиданно протянула Жюльену спортивный пистолет и предложила выстрелить в один из кусочков картона. Мой друг, почтительно поклонившись, взял оружие, подошел к мишени, перевернул картонку, чтобы не была видна уже имевшаяся на нем черная точка, возвратился на прежнее место, хладнокровно прицелился и, выстрелив, попал в самый центр белого квадратика. Юная девица, не ожидавшая, вероятно, такой меткости, слегка покраснела и принялась кусать губы. Но Жюльен и так сделал ей достаточно уступок за обедом, чтобы допустить из вежливости промах. Он послал еще пять пуль подряд вдогонку первой — в ту же самую точку, как он неоднократно проделывал это и раньше, чему я свидетель. Мисс Леонора, побежденная уже с первого выстрела и, возможно, впервые в жизни, не осмелилась ни слова изречь о таком грозном противнике. Но ей не терпелось знать все наши таланты, и, едва умолк звук последнего выстрела, она молча указала Жюльену на гирю, желая проверить, насколько ловки мы в «игре с железом», как говаривали у нас в гимнастическом зале Пас. — Увольте, мисс, — улыбнулся Жюльен, — что касается работы мускулов, то тут я уступаю пальму первенства своему другу. Хотя мне и не по душе заниматься гимнастическими упражнениями после сытного обеда, выбора у меня не было. Преодолев отвращение, я взял хорошенькую гирьку весом в шестьдесят килограммов, самую большую из всех бывших там, и — черт возьми! — пожонглировал ею с такой легкостью, что сам удивился. Мисс Леонора, убедившись, что и я не какой-нибудь размазня, удостоила меня своей улыбки. Так мне удалось снискать у нее уважение: если я и не светоч в науке и искусстве, то, по крайней мере, у меня неплохие мускулы, и это искупало иные недостатки. Наконец мы распрощались с могучей юной американкой, почтившей каждого из нас мощным рукопожатием и пригласившей нас прийти завтра. — Что ты думаешь о мисс Леоноре? — спросил я у Жюльена по возвращении в «Палас-отель». — Что ее острые зубы вполне подходят для того, чтобы вцепиться в будущего мужа. Своими крепкими руками она вылепит из него все, что пожелает, а ее суждения обо всем… — Ну, продолжай же! — Сведут его с ума!»
ГЛАВА 16
Лихорадочная спешка. — Назойливая предупредительность мистера Уэллса. — Оборудование из Европы. — Поход в китайский квартал. — Разнообразные таланты Джона Чайнамена. — Фанатичное обожание титулов в демократической Америке. — Газетная статья. — Авантюристы от политики. — Темная личность. — Нечестивый полк. — Уличение во лжи вместо кары. — Большой парад в честь мистера Уэллса. — Двенадцать тысяч живых плакатов. — Перед фейерверком. — Убийство, совершенное полковником Батлером.Прибыв в Сан-Франциско, поначалу оба француза и их друг Перро смеялись над лихорадочной спешкой, которой охвачены все американцы, но скоро вихрь этой суеты подхватил и их, да так, что они сами того не заметили. Уже через неделю путешественники вели напряженное, лихорадочное существование, позабыв про отдых и покой. День стал казаться ужасно коротким: за него они никак не успевали сделать все, чего бы им хотелось. Друзья больше не удивлялись, видя, как в повседневных делах американцы находили повод для того, чтобы исчерпать все возможности и резервы человеческого организма. Ремесленник работает за двоих, коммерсант покупает, продает, меняет, тянет, крадет, адвокат порет чушь, проповедник ревет, певец вопит. Нет никого, вплоть до скромного почтового служащего, кто бы не надсаживал грудь, несясь рысью через препятствия. И все прочее в том же духе. Американец заглатывает обед, опрокидывает стаканчик виски, пару раз затягивается сигарой и, словно на зов боевой трубы, бежит дальше. Даже за столом не расстается янки с заряженным пистолетом и справляется о здоровье друга, поигрывая большим охотничьим ножом: подозрительный по натуре, он всегда начеку. Вспыльчивый как порох, американец готов утопить в крови своего обидчика и вполне может убить собственного брата из-за невинного смешливого замечания. Вильям X. Диксон[372], знаменитый автор «Белого завоевания», стал свидетелем одной из подобных безрассудных вспышек гнева, ярко свидетельствующей о том, что американцы ни в грош не ставят чужую жизнь: шутка, в ответ на которую у нас в Европе лишь пожмут плечами, здесь может привести к преступлению. Некий бедолага-репортер написал в своей газете об одном из приятелей, что тот обедает в уот-чир-хаусе[373], а затем с зубочисткой прогуливается перед «Гранд-отелем». Для парижанина это означает: обедает в дешевой закусочной, а потом ковыряет в зубах перед «Английским кафе». На следующий же день неудачный юморист был застрелен средь бела дня. Это лишнее подтверждение того, что в жилах янки кровь течет в два раза быстрее, прямо-таки с головокружительной быстротой. Жизнь для них — это буря, вечный бой. Никто даже не подозревает, что можно остановиться, успокоиться и поразмыслить. Подобное возбуждение, доводящее до смертоубийства, царит везде, даже в самых простых делах. Беседу за столом при завершении трапезы, которую ведут, например, в Лондоне, здесь восприняли бы как гробовое молчание: в Америке не беседуют, в Америке орут. На балу юные мисс, переусердствовавшие в занятиях верховой ездой, бегом или гимнастикой и приобретшие вследствие этого стальные мускулы, мгновенно утомили бы партнера, прибывшего из Европы. Эти особы ни в чем не знают меры, в том числе и в умении одеваться: их туалеты обычно броские, кричащих тонов и полностью лишены элегантности. Предельно энергичные, поверхностно образованные или же необразованные вовсе, пользующиеся безграничной свободой, привыкшие судить обо всем вкривь и вкось, они лишены женственности в общепринятом значении этого слова и вполне под стать американским джентльменам, вечно одетым в черное, желчным, приторно-добродетельным, а на деле представляющим из себя машины для спекуляций. Оба француза были незаметно вовлечены в этот круговорот, оглушены вечным криком и замучены предупредительностью мистера Уэллса, который четыре раза на дню изыскивал возможность забежать к ним, чтобы сообщить, что он спешит, и галопом ускакать, восклицая: «All right!» или «Go ahead!». Вынужденные сносить капризы докучливого и дурно воспитанного ребенка по имени мисс Леонора, имея немало собственных неотложных дел, они страстно желали поскорей уехать, и Жак возмущенно требовал полковника, чтобы наконец завершить их маленькое недоразумение. От Алексея поступило несколько телеграмм: в Карибу все шло прекрасно. Эсташ и Малыш Андре также прислали о себе весточки Перро, и телеграф отчасти примирил достойного траппера с этим городом буйнопомешанных, заставлявшим его жалеть о лесах и равнинах Аляски. Пришли вести и из Европы. Банкир Жюльена, приняв близко к сердцу просьбу, долетевшую к нему в Париж из Ричфилда, сделал все возможное и закупил требуемое оборудование для намывки золотого песка, после чего послал телеграфное сообщение, что все приборы приобретены, отправлены вовремя и в указанное место и поэтому должны быть на месте в точно намеченный срок. И действительно, многочисленные ящики, не задержавшись ни на минуту ни в Париже, ни при отплытии из Европы, ни по прибытии в Нью-Йорк или во время транзитной перевозки по выделяющейся своей протяженностью трансконтинентальной железной дороге, поступили на склад в Сан-Франциско на день раньше срока, намеченного Жюльеном, причем в целости и сохранности. Оставалось только нанять китайских рабочих. Это было нетрудно сделать, особенно в Сан-Франциско, где «подданных Поднебесной империи» особенно много. Друзьям следовало лишь отправиться в китайский квартал, который, вопреки предположениям, находился отнюдь не на окраине города, а, наоборот, в самом центре, в обшарпанных домах, где некогда проживали первые поселенцы, прибывавшие сюда со всех концов света. Па́годы с плоскими крышами, вертикальные вывески с иероглифами, вонючие подвалы, улочки, пыльные или грязные в зависимости от времени года, тошнотворные мясные лавки со странным и подозрительным мясом, ресторанчики, украшенные разноцветными фонариками, театрики теней, экзотическая еда, парикмахеры на улице и уродливые божки, смотрящие на вас отовсюду, создавали неповторимый облик импровизированного китайского города, возникшего в этом районе, давшем приют примерно тридцати тысячам китайцев. И сей своеобразный азиатский двор чудес исподволь неуклонно разрастался. Джон Чайнамен, как пренебрежительно именуют китайцев янки, думает только о работе. Он приезжает в «Мелику» — Америку, чтобы поднакопить денег и потом вернуться к себе домой, и для достижения своей цели не отступает ни перед чем. Довольствуясь горстью риса, щепоткой чая и затяжкой опиума, Джон Чайнамен готов взяться за любую, самую черную работу. Он трудится на кухне и роет шахты, ходит за скотом и столярничает, ухаживает за садом и плавит руду. Ему все равно, чем заниматься. Однако, когда есть выбор, он предпочитает работы по дому, в порядке очередности: повар, лакей, «швея», «прачка» или «гувернантка». В поддержании порядка в доме китаец не имеет себе равных. Джон Чайнамен приспосабливается ко всему, и если он увидит, как делают какую-либо вещь, то тут же усваивает весь производственный процесс. Китайцы стали в Калифорнии той силой, с которой уже нельзя не считаться. Именно они — главная рабочая сила на табачных фабриках Сан-Франциско, основных промышленных предприятиях города. В торговле обувью, производстве тканей, изготовлении консервированных фруктов и строительстве заняты также почти исключительно китайцы. Из них же получаются и великолепные специалисты по изготовлению относительно сложных механизмов, например, часов и будильников. Представившись главному агенту китайского иммиграционного бюро, маленькому старичку в больших круглых очках, Жюльен объяснил ему в двух словах цель своего визита. Тот, отобрав из трех тысяч форм вежливости, употребляемых в Китае, вероятно, не менее сотни и продемонстрировав их французам, полистал огромный том in folio, столь же объемистый, как и регистрационный журнал в «Палас-отеле», но неизмеримо более засаленный, затем нажал кнопку электрического звонка, чем привел в движение целую армию клерков и конторщиков, и, сохраняя ласковое выражение лица, распек их всех своим пронзительным, тонким голоском. Через несколько минут около сотни «подданных Поднебесной империи» уже ожидали в просторном зале, где Жаку и Жюльену, в сложившейся обстановке напоминавших крестьян из Боса или Нормандии, когда те нанимают сезонных рабочих, предстояло сделать свой выбор. Покончив с этой процедурой, Жюльен заплатил старичку небольшую сумму, в соответствии с числом нанятых рабочих, а также вручил ему чаевые, которые попросил распределить среди китайцев. Подобная щедрость по отношению к «подданным Поднебесной империи», столь непривычная, почти оскорбительная для Америки, где к представителям монголоидной расы относятся без особой любви, вызвала на бесстрастных узкоглазых лицах широкие улыбки. Один из китайцев от имени своих товарищей вежливо поблагодарил на ужасном английском великодушного сеньора за щедрость и сообщил, что все они с радостью уезжают из Сан-Флиско[374], чтобы приступить к новой работе. Таким образом, все формальности были улажены. Послезавтра китайцам предстояло прибыть на борт парохода, дважды в месяц совершающего рейс между Сан-Франциско и Нью-Вестминстером. Вместе с ним должно было быть отправлено в Карибу в сопровождении канадца Перро и оборудование для намывки золота. Завершив дела, оба друга вернулись в гостиницу, где снова нашли неизменного мистера Уэллса. Кандидат в верхнюю палату был озабочен больше обычного и нервничал так, что буквально приплясывал на месте. — Ах, достопочтенный граф, что за жизнь!.. Что за жизнь, дорогой мой доктор! Последнее обращение относилось к Жаку Арно, который, впрочем, не обратил на это внимания, ибо за время своего пребывания в Калифорнии привык, что его неизвестно почему титуловали попеременно то доктором, то профессором. Надо заметить, что демократические американцы фанатично обожают титулы, ученые степени и звания, особенно после войны Севера и Юга[375]. Из страха прослыть людьми никчемными они называют себя командорами[376], генералами, полковниками, президентами, судьями, губернаторами или, по крайней мере, докторами, профессорами или инженерами[377]. Встретить человека, обладающего подлинным титулом, вроде Жюльена, — истинное счастье для янки. Поэтому легко себе представить, как часто, сверхчасто графский титул Жюльена звучал в устах мистера Уэллса. — Вы правы, мистер Уэллс, не все столь безоблачно в благородной профессии кандидата, — равнодушным тоном ответил молодой человек. — Кому вы это говорите, мой дорогой граф! Но я, совершенно добровольно, готов преодолеть все мыслимые и немыслимые препятствия и возложить свое пылкое сердце на алтарь свободы моей родины!.. — Неужели кто-то посмел в этом усомниться? — ехидно заметил Жак, не выдержав напыщенной патетики[378] мистера Уэллса. — Именно так, мой дорогой профессор! — продолжил американец, яростно комкая в руках газетный лист. — Именно так!.. Со страниц этого пакостного издания низверглась клевета… — Клевета?.. — На полковника Батлера!.. Дорогого друга, которого я скоро назову своим сыном и который, к счастью, прибыл наконец, чтобы посрамить и покарать своих хулителей! — Ого, а я совсем было позабыл о достойном полковнике! — протянул Жак. — Почитайте, — сказал мистер Уэллс, протягивая газету Жюльену, — и убедитесь сами, что подобные намеки являются верхом бесчестья. — Действительно, это очень серьезно, — произнес тот, быстро пробежав указанную статью. — Столь серьезно, что обвинения, если бы они подтвердились, полностью бы исключили возможность твоего поединка с полковником, мой дорогой Жак. — Невероятно!.. — Посуди сам. Я дословно переведу тебе этот текст на французский: «Мы, в Америке, — не дураки, и наши саквояжники[379] охотно переезжают из штата в штат в поисках косточки, которую можно было бы поглодать. Этих авантюристов от политики обычно встречают без восторга, но тем не менее терпят, при условии, что у них чистые руки. Нередко саквояжник оказывается личностью темной: человеком, способным среди бела дня застрелить своего ближнего, а затем ловко избежать веревки, шулером, которого невозможно схватить за руку, кутилой, живущим на широкую ногу, не имея для этого определенных источников дохода. Политиканствующий субъект, как правило, очень общителен, вызывает восхищение молодежи, популярен среди представительниц прекрасного пола, снисходителен, любезен, при случае готов даже явить чудеса храбрости: ведь люди, склонные к авантюризму, необязательно негодяи. Они могут пойти как в хорошую сторону, так и в плохую: это дело случая. Удачное или, наоборот, неудачное стечение обстоятельств делают из них честных граждан или мошенников. Мошенник же, опускаясь, становится вором. Соотечественники мои, сегодня вечером, в преддверии послезавтрашних выборов, состоится большой парад[380]. Уэллса называют непобедимым, и, возможно, он действительно будет избран большинством голосов. Я ничего не могу сказать о мистере Уэллсе. Это одно из тех ничтожеств, словно специально созданных для того, чтобы заполнять наши представительные ассамблеи. Но остерегайтесь того, кто будет проводить сегодняшний митинг! Большинство жителей Сан-Франциско знают его как обычного пройдоху. Некоторые считают его проходимцем. Я же называю его вором!.. И готов представить надлежащие доказательства. А теперь судите сами, должны ли вы посылать в верхнюю палату человека, ставшего легкой добычей мерзавца: ведь этот негодяй, воспользовавшись нашей доверчивостью, будет думать за него и безнаказанно орудовать под его прикрытием, в то время как наши благодушные судьи без колебаний закроют на все глаза. Должен ли я назвать имя, которое и так будет сегодня вечером у всех на устах? Да, должен… Чтобы никто не усомнился: вор этот — полковник Сайрус Батлер, будущий зять кандидата Дэниела Уэллса! Полковник из того самого кавалерийского полка, где творились темные делишки! Из того полка, чьи солдаты и офицеры расплачивались фальшивыми монетами! Но хватит на этот раз. Завтрашняя статья будет более подробной, и наши доказательства, надеюсь, помогут гражданам нашего города сделать правильный выбор». — Это все? — спросил Жак. — Все, — ответил Жюльен. Затем, обратившись к мистеру Уэллсу, все еще кипевшему от гнева, спросил: — Значит, полковник Батлер уже прибыл? — Да, сегодня утром. — Надеюсь, что он в пух и прах развеет все эти наглые выпады и предоставит неоспоримые доказательства своей честности. — Наказание будет равно оскорблению: этот подонок, несомненно, заслужил смерть! — прорычал американец. — Полковник не такой человек, чтобы сносить подобные оскорбления. — Речь идет не о том, чтобы наказать обидчика, а о том, чтобы опровергнуть его обвинения, — строго заметил Жюльен. — Ибо, повторяю вам, мистер Уэллс, если ваш будущий зять не оправдается, то мы будем вынуждены прервать с ним любые отношения и, к великому нашему сожалению, поступим так же и по отношению к вам. Ужасная какофония, потрясшая до основания «Палас-отель», избавила мистера Уэллса от щекотливой задачи ответить Жюльену. По улице двигался оркестр, составленный из огромных военных барабанов и цимбал[381]. Атлетического сложения негры взрывали воздух раскатистыми очередями, прерывавшимися время от времени резкими взвизгами флейты. Все вместе это напоминало артиллерийские взрывы. Затем раздались крики или, вернее, вопли бесноватых, накачавшихся виски, и звуки те в соединении с отвратительной музыкой довели грохот до своего апогея[382]. Многотысячная толпа вступила на улицу, оттеснила пешеходов и преградила путь экипажам, трамваям и груженым фурам[383]. Людское море заполнило собой все уличное пространство, и остановленный транспорт застыл, словно островки посреди бушующей стихии. Оркестр бесцеремонно ввалился в холл гостиницы, прошел его насквозь и вышел с другой стороны, сопровождаемый аплодисментами зрителей, столпившихся у окон и сгрудившихся на крышах соседних домов. Над толпой развевались пестрые знамена и флажки, и на всех без исключения стояло имя Уэллса: «Уэллс — кандидат!», «Ура Уэллсу!», «Голосуйте за Уэллса!», «Уэллс непобедим!». Эта шумная манифестация длилась уже не менее часа, и с приближением ночи выкрики бесновавшейся толпы отнюдь не становились тише. Заслышав этот грохот, мистер Уэллс, удивленный не меньше своих собеседников, мгновенно испарился. Жюльен, не зная, к кому следует обратиться, спросил у одного из гостиничных служителей, был ли это тот самый обещанный парад. Оказалось, что это лишь легкая закуска перед обильным ужином, прелюдия митинга, устраиваемого полковником, который лично возглавит шествие. — Со времен выборов президента Гранта[384], — добавил служитель, — нам не приходилось видеть подобного… О!.. Смотрите, джентльмены, — продолжил он, открывая окна, — и убедитесь сами, прав ли я! Полковник Батлер, не дав охладиться восторгам, открыл долгожданный парад. Едва вдали угасли последние адские звуки, как на смену им явились новые, еще ужаснее и пронзительнее. Новый оркестр в своем неистовстве даже превосходил предыдущий. Казалось, что целый полк действующей армии и в придачу полк резервистов вооружились флейтами, цимбалами и огромными барабанами. На головах у музыкантов красовались белые кепи, на плечи были наброшены белые короткие плащи с всего лишь двумя словами, выведенными на них большими черными буквами: «Уэллс непобедим!» Следом за оркестрантами выступал на великолепном рыжем коне полковник Батлер собственной персоной, облаченный в черный бархат, словно фотограф, и в огромные кавалерийские сапоги, как у армейского капитана. Он величественно двигался во главе длиннющей людской колонны. Демонстранты, — а насчитывалось их не менее двенадцати тысяч, — были с такими же кепи на головах и в таких же белых плащах с черной надписью: «Уэллс непобедим!» И все без исключения несли на палочках яркие плакатики, где до одурения, до умопомрачения повторялись, как заклинание, все те же магические слова: «Уэллс непобедим!» Участники манифестации шагали по-военному, в ногу, по пять человек в ряду. Офицеры в красных плащах и кепи замыкали процессию. Колонна была разделена на отряды приблизительно по пятьсот человек, и впереди каждого, обозначенного одной из букв алфавита, шел свой собственный оркестр, исполнявший ту же мелодию, что и головной. Шествие этих живых плакатов среди двойного ряда зрителей длилось два с половиной часа. В десять часов полковник отдал команду, повторенную командирами отрядов. Манифестанты сдвоили ряды и выстроились в шеренги по десять человек, после чего колонна вышла на просторную Маркет-стрит. Приближался кульминационный момент. Печатая шаг, каждый из участников парада извлек пакет со всем необходимым для фейерверка. По сигналу, которым послужил выстрел, боеприпасы были подожжены, и улица в тот же миг превратилась в огненную реку. Изо всех окон, со всех балконов свешивались люди — сторонники того, в честь которого бушевал этот праздник. Они тоже зажгли петарды[385], шутихи[386] и бенгальские огни, и все вокруг расцвело причудливыми цветами, принимавшими самые неожиданные очертания. Пиротехнические чудеса продолжались до тех пор, пока не истощились все запасы взрывчатых устройств. Когда последние искры все же угасли, порядком охрипшие манифестанты утихомирились, оркестры смолкли, и колонна неспешно повернула к зданию своего генерального штаба, чей фасад озарял огромный костер, разведенный посреди улицы. Каждый участник парада бросал в него свой плакатик и отправлялся домой вкушать заслуженный отдых после сей многочасовой прогулки. Но вернемся к тому моменту, когда манифестанты, собравшиеся на Маркет-стрит, ждали сигнала к началу фейерверка. Полковник сиял. Он уже собирался распорядиться, чтобы дали долгожданный сигнал, которым должен был послужить ружейный выстрел, как вдруг, окинув беглым взором первый ряд зрителей, изверг из себя поистине фонтан проклятий и, пришпорив коня, сделал резкий скачок вдоль тротуара, окаймленного людской стеной. Затем, остановившись, выхватил из кармана револьвер, зарядил его и приставил к груди незнакомого человека, ошеломленного столь неожиданным нападением. Все эти действия заняли у полковника менее двух минут, и, прежде чем стоявшие рядом зрители сумели вмешаться, он нажал на спусковой крючок, и незнакомец покатился по земле. Револьверный выстрел заменил ожидаемый сигнал. Со всех сторон захлопали и запылали петарды, заглушив своим шумом предсмертное хрипение несчастного и крики ужаса и возмущения видевших это убийство людей. Воспользовавшись всеобщим гамом и треском праздничных огней, убийца стегнул лошадь, и та перенесла его на другую сторону улицы, к его соратникам, не подозревавшим, какой кровавой сценой ознаменовал их предводитель организованный им спектакль.
ГЛАВА 17
Убийца. — Последний козырь полковника Батлера. — Разговор в «Палас-отеле». — Своевременное вмешательство Перро. — Желание канадца выбросить полковника с пятого этажа. — Ненависть. — Поражение мистера Уэллса. — Запоздавшее решение судьи. — Исчезновение преступника. — Прощание с Перро, отбывающим в Карибу. — Отъезд в Аризону-Сити. — По Южной Калифорнии. — Форт Юма. — Река Колорадо. — Завершение путешествия по железной дороге.Появившееся на следующий день после митинга в газете «Дейли кроникл», или «Ежедневная хроника», продолжение статьи, содержавшей ядовитые выпады против полковника Сайруса Батлера, той самой, которую Жюльен перевел дословно Жаку, было обведено черной рамкой. На первой странице утреннего выпуска упомянутого издания в нескольких возмущенных и горьких строках излагался эпизод, послуживший своеобразным эпилогом парада. Когда манифестанты, собравшиеся на Маркет-стрит, ожидали лишь сигнала, чтобы зажечь свои фейерверки, полковник узнал, или ему показалось, что узнал, среди зрителей, толпившихся на краю тротуара, автора раздосадовавшей его статьи. Обезумев от ярости, не подумав о том, что жертвой его слепого бешенства может стать ни в чем не повинный человек, он выстрелил в упор в безоружного зрителя. Несчастный, получивший пулю в самое сердце, был братом журналиста из «Дейли кроникл»[387]. Спустя два часа после совершения преступления убийца, узнав о своей ошибке, хладнокровно бросил: — А, так я убил всего лишь его брата! Что ж, это не считается! Теперь уж я пристрелю истинного виновника! Затем негодяй спокойно отправился к своему будущему тестю, а полиция даже виду не подала, что собирается им заняться. Эта потрясающая безнаказанность, о которой узнали граждане и из прессы, и из разговоров, была с возмущением воспринята одними и, напротив, всячески поощрялась другими. Первые безоговорочно осуждали поведение судей, которым следовало бы арестовать виновного и начать следствие. Но местный судья, близкий друг мистера Уэллса, также ожидал скорых выборов. Мог ли он в сложившихся обстоятельствах нажить себе врага в лице человека, который вот-вот займет кресло в верхней палате? Возмущались недостойным поведением полковника и несколько членов комитета бдительности[388], заговорившие о том, что его надо бы схватить и предать суду Линча. Сторонники мистера Уэллса, а таковых было немало, оправдывали и убийцу и судью одновременно. Оскорбленный ошибся, он полагал, что стреляет в своего обидчика. Что ж, тем хуже для убитого! Полковник, возможно, поторопился. Но янки мы или не янки, черт побери! Что касается судьи, то кто рискнет укорять его за не совсем благовидное поведение накануне столь важных выборов? Разве он может заделаться непримиримым врагом депутата из-за слишком строгого и совершенно несвоевременного толкования своих обязанностей? И неужели арест полковника Батлера вернет к жизни его жертву? Прозвучали и прочие рассуждения, столь же пагубные, сколь и характерные для американцев. Полковник полностью игнорировал общественное мнение, что свидетельствовало о потрясающей наглости и полном отсутствии у него моральных принципов. Казалось, он не ведал ни о слухах, распространившихся по городу, ни о грозных предложениях «бдительных». Ходил по самым густонаселенным кварталам, посещал клубы, раздавал указания своим приверженцам, распределял средства, убеждал сомневающихся, укреплял колеблющихся, подкупал упрямцев, — словом, делал все возможное, чтобы обеспечить избрание мистера Уэллса. Впрочем, несмотря на все свое высокомерие, полковник Батлер не был абсолютно уверен в успехе. В нем невольно пробуждались смутные предчувствия. Он понимал, что еще не все сделано и желанный результат пока далеко. — Э, Бог ты мой, я и забыл еще об одном дельце! — воскликнул он вдруг, дергая себя за бородку. — О дуэли с французом!.. Эти выборы съели все мои средства. Если мистер Уэллс потерпит поражение, я пропал, разорен! Конечно, в поединке я рискую собственной шкурой, но без этого не обойтись, если хочешь выглядеть солидным игроком. Ну а проиграю я партию, так мне все равно уже больше ничего не будет нужно… Впрочем, я убью своего противника… Так надо, я так хочу! Дуэль в большом зале «Альгамбра»… А может, лучше было бы устроить ее при электрическом освещении в садах Вудварда?.. Поединок наделает много шуму и заставит забыть вчерашнюю историю. Я снова стану героем дня, а всеобщее голосование — столь дурацкая штука, что мистер Уэллс с этого нового скандала получит еще не менее тысячи голосов… Так что самый раз отправляться в «Палас-отель». Но мистер Батлер не принял в расчет своего противника. Он застал Жака и Жюльена в их номере, в маленькой гостиной, где они давали Перро последние указания перед его отъездом в Карибу. Канадец отплывал через день на рассвете, вместе с нанятыми китайцами и оборудованием, и поэтому оба друга решили провести оставшееся время с этим превосходным человеком. Нетрудно догадаться, какой прием был оказан личности, чье появление столь неприятным образом прервало дружеское совещание. Жюльен смерил янки презрительным взглядом с ног до головы, Перро без особых церемоний повернулся к нему спиной, Жак же пришел в ярость. — Черт побери! — воскликнул он без всякого вступления. — Надо сказать, что за недостатком иных качеств у вас явно избыток наглости! Заявляетесь к нам как ни в чем не бывало, протягиваете руку и доходите в бесстыдстве своем до того, что требуете от меня удовлетворения за преподанный вам урок! — Но, джентльмен, — начал полковник не совсем уверенно, — вы же дали слово… — Если вы не исчезнете как можно скорее, то схлопочете кое-что! — Как, вы отказываетесь?.. Отказываетесь драться?.. — Разумеется! Сначала я решил, что вы большой оригинал, хотя и плохо воспитаны. Но, в конце концов, не может же весь мир воспитываться под присмотром графини де Бассанвиль! И я из любопытства принял ваш вызов… Будущий тесть, застреливший пятерых человек… Белокурая невеста, которой не терпится увидеть, как убивают человека… Все это выходило за рамки привычного… Наконец, вы были так уверены в моей смерти, что я был не прочь преподать вам еще один урок. У нас, на берегах Луары, хвастуны и горлодеры встречаются довольно редко, и если уж дошло до дела, то мы становимся грозными противниками. Я готов был драться с авантюристом от политики. Мог бы закрыть глаза на… проделки ловкача. Но с убийцей я не желаю иметь ничего общего. Вы — негодяй, которого суд должен передать в руки палача! Убирайтесь же отсюда, чтобы вас повесили где-нибудь в другом месте! — И так как полковник все еще стоял, ошеломленный этой обвинительной речью, Жак крикнул разгневанно: — Пошли прочь! И пусть уж там, куда вы направитесь, вас схватят члены комитета бдительности или полицейские: я не хочу, чтобы вас арестовали здесь. Полковник покраснел. Внезапно охватившая его слепая ярость пробудила в нем страстное желание убивать. Не имея возможности ответить на справедливое обвинение, брошенное его противником ему в лицо, и видя себя посрамленным, презираемым, опозоренным, — после того, как он прибыл в Сан-Франциско с видом завоевателя! — он понял внезапно, что его постыдное поражение будет использовано партией конкурентов, и, значит, рухнут все его надежды. Короткий, сдавленный крик, хрип затравленного зверя, вырвался у него из горла. Мгновенно, гораздо быстрее, чем мы об этом рассказываем, он выхватил из заднего кармана револьвер и приставил дуло к груди Жака. Нападение было столь стремительным, что тот не успел пригнуться и решил было, что пропал. Однако вместо выстрела послышался глухой шум, как при падении тела. — Ах, подлец, на этот раз ты у меня не вывернешься! — проворчал знакомый голос. — Я пристрелю-таки тебя! Американец, с разбитой физиономией, хрипел, распластавшись на ковре, а Перро коленом давил ему на грудь. Ожидая любого подвоха, канадец был начеку. За тридцать лет борьбы с дикарями Дальнего Запада реакция его обострилась, и траппер распознал намерение бандита еще до того, как тот приступил к его осуществлению. Тем, кто занимается фехтованием, знакомо такое предвидение. С проворством, которое трудно было заподозрить в его массивном, кажущемся неуклюжим теле, он одним прыжком набросился на убийцу, сбил полковника с ног, прижал к полу и остался в таком положении, сжимая крепко руками его горло. Если мерзавец действовал с быстротой молнии, то реакция канадца была сопоставима по скорости только с мыслью. Жюльен при виде опасности, которой подвергся его друг, смертельно побледнел. Однако благодаря вмешательству Перро критическое положение длилось не более трех секунд. — Месье Жак, — начал Перро своим хрипловатым голосом, — мы на пятом этаже… Может, открыть окно и выкинуть этот мешок с костями и мясом на улицу? Я сумею так рассчитать, что он не упадет на головы прохожих. — Не делайте этого, дорогой друг, — воскликнул тот, невольно улыбаясь при виде столь безграничной преданности канадского охотника. — Разоружите мерзавца, и пусть он катится ко всем чертям. При этих словах покрытое бронзовым загаром лицо траппера приняло такое жалкое выражение, что Жюльен не смог удержаться от смеха, впрочем, скорее нервного, нежели веселого. — Отпустить его… ко всем чертям?! — изумленно и одновременно разочарованно произнес Перро. — А как было бы хорошо швырнуть его на тротуар вниз головой! Клянусь вам, он прямой дорожкой отправился бы в ад! — Жак прав, дорогой Перро! Мы не судьи. Поверьте мне, друг мой, заберите у этого типа оружие и отпустите его. — Но он же хотел убить месье Жака! — Я искренне рад, что вы помешали ему. Вот еще одна услуга, которой я никогда не забуду… — Бросьте, этакая малость… Вот что я вам скажу: когда краснокожий берет меня на мушку, я стреляю первым… Если я говорю «краснокожий», то имею в виду любого врага, что встречается в лесу… И до сих пор мне это прекрасно удавалось. А если бы я каждый раз ждал, пока совесть моя отправится на покой, то враг спокойно бы успевал приступить к своей работенке и я бы уже давно охотился на бизонов в краю маниту. Впрочем, дело ваше. Коли уж вам так нравится, я отпущу его. Продолжая развивать свою теорию, отважный охотник постепенно ослабил руки на горле мистера Батлера, уже давно испытывавшего на себе силу канадца. Негодяй глотнул воздуха, поднялся и, пошатываясь, словно загнанный в ловушку зверь, стал искать выход. — Извольте сюда! — насмешливо возгласил Перро, распахивая настежь дверь гостиной. С налитыми кровью глазами, с пеной у рта, американец, не говоря ни слова, переступил нетвердым шагом порог прихожей, и дверь с громким стуком захлопнулась за ним. Задыхаясь от злобы, полковник застыл на лестничной площадке. — О! — простонал он, икая и рыдая одновременно. — Доныне я не знал, что значит ненавидеть!.. Я убивал случайно!.. Убивал из любопытства, в припадке гнева!.. Без сожалений, вообще не испытывая каких-либо чувств!.. Но сегодня я понял, что значит упиваться кровью врага!.. Существует радость, о которой я и не подозревал, и познать ее меня заставит ненависть! Прощай, честолюбие… любовь… удача! Для меня больше не существует ничего, кроме ненависти!.. И горе гордецам-французам, которые пробудили ее во мне!
Выборы состоялись на следующий день. Яростная борьба между мистером Уэллсом и его конкурентом окончилась в пользу последнего: для того чтобы отец нежной Леоноры стал депутатом верхней палаты, не хватало нескольких сотен голосов. Забаллотированный[389] кандидат, вне себя от ярости после поражения, виновником которого он считал полковника Батлера, стал в отместку распространять о недавнем своем представителе и правой руке ужасные слухи. Однако тот уже исчез — сразу же после оглашения результатов выборов. Мистер Уэллс объявил, что отныне двери его дома закрыты для полковника. Мисс Леонора, возмущенная тем, что ее будущий супруг не стал драться на дуэли и тем самым лишил ее удовольствия, которое вряд ли сможет доставить ей собственный отец, также выступила за немедленный разрыв с ним. Так что с ее стороны мистер Уэллс встретил полную поддержку. Что же касается полковника, то своевременное бегство, возможно, спасло его от веревки членов комитета бдительности. Судья, видя жалкое фиаско[390] своего друга, поступил как истинный янки, то есть переметнулся на сторону противника. Желая, хотя и с некоторым опозданием, удовлетворить общественное мнение, он приказал арестовать убийцу. Но тот не был столь наивен и умело скрывался от полицейских ищеек: полковник исчез бесследно, и это после того, как в течение сорока восьми часов держал в напряжении целый город, такой, как Сан-Франциско. Ничто более не удерживало Жака и Жюльена в Калифорнии. Счастливые, что наконец покончат с этой сумасшедшей жизнью, они на следующий день после описанных нами драматических событий, а именно третьего июня 1879 года, пустились в путь в направлении мексиканской границы. Это была дата, намеченная для отправки груза Алексею, а значит, необходимые инструменты для повторной эксплуатации золотоносных пород Карибу прибудут на место вовремя. По настоятельному совету Перро путешественники сохранили своих индейских лошадей. — Видите ли, подобных коней, — говорил охотник, — не так-то просто найти, едва ли на сотню наберется четверка. Они крепки, словно стальные гвозди, послушны, как агнцы, могут долго обходиться без еды, а когда пустятся вскачь, то легко обставят и покусанного мухами лося. Берите их с собой в Мексику. Это — дикая страна, и, как вам известно, в ней нет железных дорог, там ходят дилижансы, поездки в которых многие путешественники-христиане приравнивают к восшествию в чистилище[391]. А на этих лошадях вы всегда сможете сделать пятнадцать лье в день. Двигаясь примерно с той же скоростью, что и эти колымаги, вы зато будете сами себе хозяева. Таким образом, лошади в третий раз были погружены в специальный вагон. Друзья тепло обнялись и распрощались с Перро, взяв с него обещание, что если дела пойдут неплохо и Алексей соберется провести зиму у них в Бразилии, то канадец обязательно будет его сопровождать. — Если только мы не свидимся еще раньше, — загадочно промолвил Перро и бросился бежать на пароход, чтобы скрыть охватившие его чувства. Жак и Жюльен, взволнованные не меньше их товарища, вошли в вагон. Поезд отходил почти одновременно с судном, где уже разместили китайских рабочих и оборудование. Друзьям предстояло ехать до Аризоны-Сити, города, расположенного в восьмистах километрах южнее, при слиянии рек Хила и Колорадо, возле мексиканской границы. Французы тронулись в путь на исходе дня и, перекусив в вагоне-ресторане, устроились на ночь. Жак сделал несколько заметок в своей записной книжке, Жюльен нанес проделанный ими путь на карту, и затем они улеглись спать. Колея, по которой наши герои выехали из Сан-Франциско, огибает южную оконечность одноименного залива и, оставив позади Сан-Хосе и Найл, соединяется в Латропе, в двадцати километрах от Стоктона, с Тихоокеанской южной железной дорогой, заканчивающейся у мексиканской границы. От станции Латроп рельсовый путь следует вдоль реки Сан-Хоакин и, сохраняя неизменно направление на протяжении ста двадцати километров, по меньшей мере в пятидесяти местах пересекает десять правых притоков. В Визалии, крохотном поселке, затерянном среди болот возле озера Туларе, дорога сворачивает чуть в сторону и, пройдя около двадцати лье по ровной прямой, покидает зажатую между отрогами Сьерра-Невады и Береговых хребтов огромную долину, чтобы, спустя несколько поворотов, подойти к станции Кальенте — последней в преддверии ущелья Тачипи. По выходе из этой извилистой расселины, совершенно не пригодной на первый взгляд для прокладки железнодорожной линии, она вступает в пустыню Мохаве, простирающуюся вплоть до Рио-Колорадо, и, пробежав по прерии, каких много на Дальнем Западе, врезается в горную гряду Сан-Бернардино, являющуюся продолжением Береговых хребтов и соседствующую с бескрайними равнинами, подступающими с востока к Калифорнийскому заливу. Хотя средняя высота ее и так не превышает тысячи метров, эрозия[392] ни на день не прекращает своего разрушительного действия. Проснувшись на рассвете, Жак и Жюльен с интересом созерцали постоянно изменяющийся пейзаж. Пройдя по вызывающей головокружение обрывистой кромке горной дороги, поезд дважды проскакивал ущелья и мчал теперь среди ухоженных полей пшеницы и кукурузы, плантаций табака, хлопка и сахарного тростника, виноградников, посевов конопли и льна. А потом появились и чудесные сады с множеством апельсиновых деревьев, усыпанных цветами и плодами. Машинист позвонил в колокол, и поезд, сбавив скорость, покатил не спеша по улицам хорошенького городка, между низкими домами из необожженного кирпича. Это был Лос-Анджелес, административный центр одноименного округа, насчитывающий восемь с половиной тысяч жителей. Как объяснил Жюльен своему другу, сей населенный пункт примечателен лишь тем, что он — последний расположенный на территории Соединенных Штатов город, лежащий на их пути, ибо Аризона-Сити, в восьмидесяти лье отсюда, вряд ли может быть причислен к городам. Затем поезд снова понесся по долине. Обработанные поля вскоре уступили место печальной растительности нетронутых почв. Повсюду — верески, карликовые каштановые деревца, узловатые дубки да кустарник, именуемый индейцами мазаниллой и дающий мелкие плоды, напоминающие вкусом яблоки и используемые местным населением для приготовления напитка, сходного с сидром[393]. И никаких следов жилья, — лишь маленькие станции, где машинист пополнял запасы воды и топлива. Через три часа после отправления из Лос-Анджелеса поезд вошел в проход Херонимо — довольно длинное ущелье между горами Сан-Хасинто иоконечностью хребта Сан-Бернардино — и, миновав его, опять помчал по пустынному краю. Однообразный пейзаж, который могли лицезреть пассажиры на протяжении двухсот двадцати километров, напоминал чем-то поросшие маком долины на Корсике[394] и в Тоскане[395]. Монотонное путешествие продолжалось около пяти часов. Затем вновь раздался удар колокола, паровозный гудок слился со скрежетом металла, и состав остановился перед убогим навесом, вдали от монументального сооружения — настоящей крепости, подножие которой омывалось полноводным потоком. Над фортом Юма, — а это был он, — развевался флаг Соединенных Штатов, за стенами же его размещался гарнизон, готовый отразить нападение разбойничьих банд индейцев браво[396]. На крутом берегу реки, известной как Колорадо, темнели строения из необожженного кирпича, образовывавшие поселок со звучным названием «Аризона-Сити». Поездка по железной дороге закончилась.
ГЛАВА 18
Центральная Америка. — Через Мексику. — Шоссейная дорога. — Снаряжение наших путешественников. — Слуга Сапоте. — Восторги Жака Арно. — Постоялые дворы. — «Жаркая земля», «теплая земля», «холодная земля». — Тропическая растительность в двухстах лье от тропиков. — Maguey, или американская агава. — Пульке и мескаль. — Сбор сока. — Тортильи. — Простой и верный способ набрать воды со дна недоступного водоема. — Вента Карбокенья. — Прерванный сон. — Голос полковника Батлера.Покинув Париж девять месяцев тому назад, чтобы добраться по суше до Бразилии, наши путешественники обнаружили, что расстояние, отделяющее их от фазенды Жаккари-Мирим, где Жака Арно должны были ввести во владение огромным наследством его дядюшки, еще достаточно велико. Нельзя сказать, чтобы и уже пройденный путь являлся для них увеселительной прогулкой, однако достаточно лишь бросить взор на глобус, на широты, в которых они сейчас находились, чтобы понять, что и оставшиеся километры будут не из легких. Тем более что скорых средств передвижения в этих местах практически нет. Прежде чем попасть в Южную Америку, которая издали обычно кажется всем чем-то вроде земли обетованной[397], им еще предстояло пересечь Мексику, а затем пять республик Центральной Америки: Гватемалу, Гондурас, Сан-Сальвадор, Никарагуа и Коста-Рику, то есть государства, расположенные между 30° северной широты и 10° южной широты, в непосредственной близости от засушливой зоны, опаленной раскаленным тропическим солнцем. Мы оставили наших друзей в форте Юма, на правом берегу Колорадо, напротив Аризоны-Сити, в тот момент, когда они готовились к путешествию через Мексику — страну, граничащую на севере с Соединенными Штатами, на юге — с Гватемалой и английской колонией Белиз[398] и омываемую на западе Тихим океаном и на востоке — Атлантическим, а если точнее, то водами Мексиканского залива[399]. План предстоящего познавательного путешествия был разработан еще в Сан-Франциско. Предусматривая возможность любых неожиданностей, он отводил время и для досуга. Можно единым махом проделать путь в пять тысяч километров, отделяющие мыс Принца Уэльского от южной границы Калифорнии, проявить стойкость истинного путешественника, продвигаясь пешком, на лошади, в санях, в железнодорожном вагоне и даже на воздушном шаре, и тем не менее не заслужив обвинения в малодушии, испытывать волнение, собираясь верхом пересечь почти всю Мексику. От Аризоны-Сити до границы с Гватемалой — три тысячи триста километров по прямой, но извилистые дороги увеличивают это расстояние еще на пятьсот километров, что составляет в общей сложности девятьсот лье. Трудно, почти невозможно проезжать в стране с тропическим климатом более шестидесяти километров в день, особенно на протяжении длительного времени. Если в арктических странах холод в основном становится помощником путешественника, ибо благодаря ему сани мчатся днем и ночью примерно с той же скоростью, что и железнодорожный состав, то температурный режим тропической зоны, наоборот, подвергает его жестоким испытаниям: он изнурен жарой, изнемогает от струящегося по всему телу пота и раздражен медлительностью своего коня, с которым волей-неволей приходится считаться. Жак Арно и Жюльен де Клене предполагали, что переход через Мексику займет у них никак не меньше шестидесяти трех дней, да и то если они не встретят особых препятствий. То ли нелюбовь к дилижансам, то ли пристрастие к живописным пейзажам, а возможно, и то и другое, внесли свою лепту в решение друзей ехать верхом, которое, как они полагали, всегда смогут в случае необходимости изменить. Чтобы попасть из форта Юма в Аризону, необходимо было переправиться на пароме через Колорадо, и Жак скрепя сердце согласился вновь пройти проверку на стойкость: у необходимости свои законы. Аризона-Сити, хотя и является столицей округа Юма, только называется городом. Это типично американское поселение, выросшее за несколько лет и в прозябании ожидающее своего часа, когда какое-нибудь событие, открытие или один из прихотливых путей иммиграции, на первый взгляд совершенно необъяснимых, даст толчок для его развития. Территория, где расположен Аризона-Сити, только с недавнего времени принадлежит Соединенным Штатам, и жители ее еще не воспользовались должным образом достижениями своей новой родины. Купленная у Мексики в 1854 году американским правительством за десять миллионов долларов, эта земля со столь малочисленным населением, что его даже не стали учитывать при проведении переписи, до 1863 года входила в состав штата Нью-Мексико и лишь затем была выделена в отдельный штат, именуемый Аризоной[400], со столицей в Тусоне, выросшем вокруг старинной миссии[401] в долине Санта-Круз. Согласно переписи 1870 года, население нового штата составило 9670 человек, а его административного центра — 2800. Ко времени появления в Аризоне-Сити двух французов он буквально кишел искателями приключений всех мастей — факт, свидетельствовавший о том, что это второй после столицы город штата. Открытие новых месторождений золота и серебра привлекло сюда изрядное число первопроходцев и послужило причиной строительства железной дороги, которая должна была вскоре связать форт Юма с мексиканским городом Гуаймас и гаванью Сонора. Ну а пока в распоряжении путника имелась, да и то с недавних пор, лишь шоссейная дорога, которая, пройдя через Алтар и Эрмосильо, соединила между собой указанные выше пункты. Но тракт этот — мексиканский, чем все и сказано. Протяженностью около семисот километров, положенный на глазок и во многих местах уже размытый водой, в сезон дождей он представляет собой илистую лужу, или, по-испански, atascaderos: это экспрессивное слово, переводимое буквально как «трясина» или «топь», обозначает в действительности место, которое, не запачкавшись в грязи, не пройти. Летом же шоссе превращается в сплошную череду выбоин и ям, заполненных летящей в лицо пылью. Раз в неделю по нему проезжает почта. Путешественники, которых дела призывают в эти края, также вынуждены пользоваться данной дорогой. Обычно они объединяются в небольшие группы, чтобы спастись в компании от одуряющего одиночества. Но еще не столь давно это диктовалось и необходимостью отражать возможные нападения апачей[402]. Поскольку же сейчас подобные столкновения крайне редки, так как племя это давно уже перешло к оседлому образу жизни и благодаря зачаткам цивилизации воинственности у него поубавилось, то сегодня даже бытует весьма парадоксальное мнение, что в Мексике дороги менее опасны, чем улицы больших городов, наводненные leperos, или оборванцами, легко пускающими в ход кинжал. Прежде чем пуститься в путь, Жак и Жюльен наняли слугу, чтобы ухаживать за лошадьми и, когда это будет надо, готовить пищу. Для перевозки вещей был куплен вьючный мул, на которого погрузили тюки с провизией и два небольших чемодана из мягкой кожи, содержавших несколько смен одежды, запас патронов и маленькую аптечку, а также два тонких одеяла из вигоневой шерсти[403] и прорезиненную палатку, разместившиеся между более громоздкой кладью. Этот багаж и составил vade mecum наших друзей. Себе на головы они водрузили английские колониальные шлемы, сделанные из сердцевины алоэ, с закрепленной по краям белой фланелью, оставляющей открытой только лицо: такие уборы — лучшая защита от солнца. Костюм их состоял из блузы серого мельтона[404] и панталон из той же ткани, убранных в высокие сапоги из желтой кожи, призванные защищать ноги от колючек, а при случае и от зубов гремучей змеи. На седельной сумке лежало скатанное серапе — красивое мексиканское одеяло ярких цветов с отверстием посредине, как у южноамериканских пончо, куда просовывают голову. Каждый был вооружен охотничьим ружьем, мачете — длинным ножом с рукояткой из кожаных колец, наложенных друг на друга, предназначенным для рубки кустарника, и крупнокалиберным револьвером, уложенным в седельную сумку. Как видите, ничего лишнего или громоздкого. Сидели они на лошадях, привезенных из Британской Колумбии, которые, получив суровую выучку у своих прежних хозяев и успев привыкнуть к резким перепадам температур, вели себя лучше, чем знаменитые кони Соноры[405]. Сопровождал путешественников только что нанятый ими управляющий их маленьким хозяйством — двадцатилетний метис со смышленым лицом, сверкающими глазами и задубевшей от загара кожей. Он скакал на приобретенном специально для него муле, награждая животное самыми нежными эпитетами, самыми звучными именами. Метис не знал ни откуда он родом, ни кто его родители. Он вел вольную жизнь, положившись на Господа Бога, ночуя то там, то здесь, живя то у индейцев, то у метисов, то у белых. У него не было имени, лишь кличка «Сапоте», что означало перезрелый плод ахраса, или сапотиллы[406], тронутый червоточиной. А в общем это был веселый, добродушный юноша, готовый услужить своим хозяевам и прекрасно ладивший с лошадьми. Однако во всем, что касалось кухни, полагаться на него не приходилось: единственное, что он мог еще сделать, — это вскрыть банку с консервами, да и то с большим трудом! Жюльена, который уже бывал в Мексике, ничто не удивляло на этой бесконечной дороге из Аризоны в Гуаймас. Он привык к местным пейзажам, и они его не трогали. Жак, напротив, был в восторге от окружавшей его растительности. Он становился истинным путешественником: его интересовало буквально все, он смотрел во все глаза и слушал во все уши. Какая разница с тем человеком-посылкой, передвигающимся только по суше, как он величал себя в начале пути! Не стоит добавлять, что в нем ничего не осталось от былого чиновника и записного домоседа. Мысли его приобрели возвышенное направление, горизонт познаний расширился. Словом, метаморфоза[407], произошедшая с бывшим служащим префектуры, была полнейшей. Эх, если бы не проклятая морская болезнь, Жак со своим невозмутимым хладнокровием, атлетической силой и железным здоровьем был бы идеальным первопроходцем! Но человек несовершенен. Между Аризоной и Алтаром, расположенными приблизительно в трехстах сорока километрах друг от друга, редко когда встретишь даже более или менее крупную деревушку, не говоря уже о городах, поскольку население в этом районе рассредоточено сравнительно равномерно по всей территории. Поэтому после нелегкого дневного перехода путешественник вынужден разбивать лагерь под открытым небом, если только ему не повезет наткнуться на какой-нибудь постоялый двор, именуемый здесь вентой. Расположение подобных заведений определяется расстоянием, которое в состоянии пройти за день лошадь, и когда животное уже выбивается из сил, путник, к великой для себя радости, обнаруживает придорожную гостиницу. Вента состоит из собственно постоялого двора — «meson» или «posada» по-испански — с комнатами для людей и конюшнями для лошадей и таверны или ресторана — fonda. Иногда имеется также и tienda, или лавка, где можно купить самое необходимое. В общем, это настоящий караван-сарай[408]. Жак любил останавливаться на постоялых дворах, где отсутствие изысканной кухни и мягкой постели вполне компенсировалось любопытными зрелищами и возможностью проводить интереснейшие наблюдения. Он обожал подаваемые путникам тортильи, эти пресные блины из кукурузной муки, очень тонкие и очень сухие, являющиеся национальной мексиканской едой и полностью заменяющие простонародью хлеб, и заявлял также, что пульке и мескаль — изысканнейшие напитки и что дичь со стручковым перцем — вкуснейшее блюдо. Жак стал оптимистом и приходил в экстаз от пышной тропической флоры. Мы сказали «тропической», хотя путешественников еще отделяли семь с лишним градусов от северной границы тропической зоны[409]. И не ошиблись. Известно, что Мексика разделена на три зоны, имеющие характерные названия «tierra caliente» — «жаркая земля», «tierra templada» — «теплая земля» и «tierra fria» — «холодная земля», причем географическая широта к подобной градации не имеет ни малейшего значения, поскольку в основе данного районирования лежит высота расположения территории над уровнем моря. Tierra fria — это горные склоны на высоте более двух тысяч метров, tierra templada — те же склоны, но расположенные ниже двух тысяч метров, и tierra caliente — побережье двух океанов, простирающееся от моря до подножия гор и частично охватывающее бассейны рек Ри-Браво-дель-Норте и Рио-Хила. Дорога на Гуаймас пролегала по «теплой земле», и Жак мог вволю любоваться роскошными веерными пальмами, бананами, раскинувшими свои огромные листья, бутылочными тыквами, индигоносами[410], какаовыми деревьями, хлопчатником, вернувшимся в дикое состояние и своим присутствием напоминавшим о некогда существовавших здесь древних цивилизациях. Временами вдали показывались соломенная крыша, оплетенная ползучей растительностью, рощица гуайявы[411], росшие отдельно апельсиновые и лимонные деревья, авокадо[412], увешанные плодами. Скромные жилища индейцев стояли в окружении небольших, тщательно возделанных участков земли, на которых произрастали табак, сахарный тростник, лимоны, арбузы, ананасы, маис[413] и маниока[414], защищенные от вытаптывания великолепной изгородью из кактусов и алоэ. Всякий раз восхищаясь буйной растительностью, Жак завидовал счастью обитателей этого тропического эдема[415], и ему все сильнее хотелось добраться наконец до своих владений в Жаккари-Мирим. Временами причудливый облик невиданных цветов исторгал из его груди восторженные вопли. Впрочем, даже самые хладнокровные путешественники не остались бы равнодушными при виде несравненной красоты Salvia fulgens[416] с ее багровыми пламенеющими лепестками, изящной Sisyrinchium strie[417], гигантского Helianthus[418], нежной Mentzelia[419]. Там, где начинались каменистые почвы, унылый пейзаж скрашивали высоченные кактусы, огромные молочаи[420], смоковницы[421] высотой двадцать метров, громадные агавы с их мясистыми серо-зелеными листьями, ощетинившимися грозными колючками. Здесь во всем своем величии произрастает драгоценная Maguey — американская агава, из которой делают пульке и мескаль, излюбленные напитки мексиканцев. Из волокон ее листьев получают прочную бумагу, на которой были написаны рукописи ацтеков[422], прекрасную солому для крыш, веревки и ткани. В этом растении все идет в дело, даже шипы, ибо из них изготовляют иголки и гвозди. Напомним также, что существуют сорта агавы, выращиваемые специально для получения пульке. Это Fourcraea seculaire, или Furcraea longaeva[423], достигающая своей зрелости значительно раньше, чем обычная агава, которой для этого требуется двенадцать — пятнадцать и даже двадцать лет. В момент, когда заканчивается единственное в ее жизни цветение, в середине цветоножки, или стебля, на котором расположен цветок, проделывают дырку, и та быстро заполняется растительным соком. Этот сок представляет из себя бесцветную жидкость, именуемую aquamiel. Ее собирают два или три раза в день на протяжении пяти месяцев. Количество получаемой жидкости равно восьми — десяти литрам в сутки. Потом выделение сока прекращается, и растение засыхает. Собранный сок бродит в тени в течение двенадцати часов, после чего образуется пенящийся напиток, хмельной и очень приятный на вкус. Но вернемся снова к особенностям путешествия по Мексике. Представьте себе, что намеченное расстояние наконец пройдено, день близится к концу, пора размещаться на ночлег. Если повезет и вы до ночи доберетесь до венты, то заночуете в бамбуковой хижине — meson. Вы также сможете понаблюдать, как служанки — mozas — готовят тортильи, которые затем подадут вам к столу еще горячими. Смуглые красотки Соноры давят на metate — квадратном столе, состоящем из гранитной плиты, установленной на четырех низких ножках, — вареные кукурузные зерна, смешивают их в деревянных кадках с мукой, делают очень тонкий блин и жарят его на comal — круге из красноватой глины, согреваемом на маленькой печи из необожженного кирпича. В такой точно обстановке отдыхали и наши друзья. По прибытии на постоялый двор Сапоте распрягал лошадей, отводил этих выносливых животных в конюшню и щедро наделял их ячменем и сеном. Потом переносил багаж в комнату, где на охапках свежей кукурузной соломы должны были ночевать или, точнее, располагаться лагерем на ночь его хозяева. Разложив туалетные принадлежности и развернув большие резиновые корыта, метис шел за водой с двумя брезентовыми ведрами, чтобы путники могли предаться омовению, особенно приятному после целого дня скачки по пыльной дороге и под палящим солнцем. Туалетные принадлежности с самого начала вызывали восхищение Сапоте, а случай, произошедший с ними на третий день пути, окончательно укрепил его в мысли, что его новые хозяева — очень важные персоны. В Мексике непросто раздобыть воду. Наши путешественники устали и, как и их животные, умирали от жажды. До венты же Папагос, расположенной у подножия Сьерры-Сенойты, оставалось еще два часа пути. Неожиданно лошади и мулы, принюхавшись, обрели свою прежнюю рысь. Нет сомнений: где-то рядом была вода. Инстинкт не подвел животных. Через десять минут маленький отряд оказался возле источника. К несчастью, вода находилась на самом дне глубокой расщелины с отвесными стенами — barranea — и посему была недосягаема. Разочарованный Сапоте оглашал воздух жалобными воплями, кони нетерпеливо били копытами по каменистой почве. Тогда Жюльен приказал мексиканцу достать из чемодана два брезентовых ведра, похожих на ведра пожарников и вмещавших двенадцать литров жидкости. Бедный малый решил, что сейчас его пошлют на дно ущелья, и уже молитвенно сложил руки, когда Жюльен обратил его внимание на то, что ручка каждого из ведер была сделана из длинной, тонкой и просмоленной веревки, многократно пропущенной через два кольца из оцинкованного железа, прочно пришитых друг напротив друга к брезентовым стенкам. Длина веревки, если ее развернуть, достигала почти двадцати метров. Жюльен терпеливо размотал ее, убедился, что один конец прочно прикреплен к кольцу, и бросил ведро в расщелину. Оно шлепнулось прямо в середину источника и благодаря железным кольцам погрузилось в воду. Вытащить ведро и напоить всадников и коней теперь не составляло труда. Таким образом благодаря этому простому, но поистине гениальному приспособлению путники были избавлены от жестоких мук жажды. Впрочем, это была единственная трудность, встретившаяся им за первые пять дней пути, когда они направлялись к венте Карбокенья, расположенной ровно в трехстах километрах от Аризоны и в сорока от Алтара. Путешественники прибыли туда десятого июня. Последний переход был тяжел не столько из-за своей протяженности, сколько из-за жары и отвратительной дороги. И друзья, находясь вблизи Алтара, все-таки решили заночевать в Карбокенье, чтобы вволю поспать и дать отдохнуть лошадям. Здесь они нашли больше комфорта, чем в предыдущих местах своих ночевок. Комнаты были просторные, с меньшим количеством насекомых и с довольно чистыми гамаками, которые, будучи приподнятыми от пола, становились недоступными для бесчисленного множества мелких тварей, которыми изобилует Мексика. Съев с аппетитом великолепный ужин, наши герои, блаженно потягиваясь и покачиваясь в своих гамаках, наслаждались знаменитыми мексиканскими сигарами, не уступающими гаванским[424]. Они уже успели задремать, когда звонкий стук лошадиных копыт по мощеному двору вырвал их из объятий Морфея[425]. В большом зале, где только что поужинали путешественники, раздался звучный голос, пытавшийся объясниться на ломаном английском и немецком языках. — Наверное, это американские искатели приключений, подрядившиеся на строительство железной дороги, — зевая, произнес Жак, отнюдь не в восторге от того, что нарушили его сиесту. Жюльен, собравшийся было снова заснуть, внезапно встрепенулся. — Странно, — произнес он, пытаясь собраться с мыслями, — готов поклясться, что слышу голос негодяя, называющего себя полковником Батлером!.. Впрочем, наверное, мне это снится.
ГЛАВА 19
Место, удобное для засады. — Воспоминание о классиках приключенческой литературы. — Благодушие Жюльена. — Нападение. — Гибель лошадей. — В осаде. — Белый, мстящий, как краснокожий. — Полковник Батлер. — Ответ Жюльена бандитам. — Попадание в цель. — Незавидное положение Жака. — Неожиданное явление. — Отступление противника. — Захват дилижанса. — Джентльмены с большой дороги. — Закон есть закон. — Арест.Гам, этот непременный спутник прибытия многочисленного отряда, который нарушил сиесту Жака и Жюльена в венте Карбокенья, вскоре утих. Оба друга вернулись к прерванному сну и на следующий день довольно поздно встали. Вспомнив о своем вчерашнем предположении, Жюльен не смог сдержать улыбку. Слишком невероятно, чтобы убийца находился именно здесь, в той же самой захудалой мексиканской гостинице. Скорее всего он остался в Соединенных Штатах, лишь перебрался в другой штат и попытался начать все сначала. И то, что почудилось Жюльену со сна, не заслуживало никакого внимания. Что же до незнакомцев, то они, несомненно, торопились в Алтар, ибо уехали на рассвете, то есть около полутора часов назад. Оба француза не спеша отправились в путь и, решив, что сегодня торопиться им некуда, пустили лошадей прогулочным шагом, чему гордые мустанги вовсе не противились. Так они проехали половину пути между вентой Карбокенья и вентой Бамори. Ступив на тропу, с одной стороны которой был глубокий обрыв, а с другой плотной стеной стояли высоченные цилиндрические кактусы, напоминавшие трубы органа, Жак пустился в рассуждения: — Какое превосходное место для засады! — Засада! — скептически произнес Жюльен. — На кого? Тебе прекрасно известно, что в Мексике разбойники переселились в города, а индейцы давно уже зарыли топор войны. — Согласен и вовсе об этом не жалею. Просто наша дорога навевает воспоминания о сочинениях некоторых авторов, где Сонора описана как огромный притон людей без роду и племени. — Иные времена — иные нравы! Как говорил Перро, сейчас снимают скальпы только в книгах, печатающихся в Европе, да в отдаленных уголках Скалистых гор. Я бы также добавил, что и вооруженные нападения в Мексике стали редкостью… Внезапно необъяснимое предчувствие заставило Жюльена прерваться на полуслове. — Подними свою лошадь! — закричал он Жаку и, вонзив шпоры в бока своего скакуна, подал ему пример. Жак привычно подчинился другу, успев при этом окинуть взором живую изгородь из кактусов. Сквозь просветы в зеленой стене сверкнул металл, и он тотчас же осознал своевременность предупреждения Жюльена. Стволы огнестрельного оружия холодно поблескивали в косых лучах солнца. Но не было времени размышлять, почему обычно безопасная мексиканская дорога вдруг ощетинилась ружьями. До слуха Жака донесся сухой щелчок и вслед за тем — звук выстрела. Он увидел, как лошадь Жюльена, сраженная пулей прямо в голову, тяжело рухнула на дорогу. — Прыгай на землю! — крикнул другу Жюльен, успевший вовремя соскочить с коня. Второй выстрел раздался как раз тогда, когда Жак пытался справиться со своим конем, который, испугавшись, скакнул в сторону ущелья. Пуля, вонзившись в шейные позвонки и перебив спинной мозг, сразила лошадь прямо на лету. Менее ловкий наездник и, несомненно, менее удачливый, Жак не смог повторить маневр Жюльена, и конь, упав, придавил ему ногу. В какие-то считанные секунды друзья лишились обеих лошадей. Жюльен, не терявший присутствия духа даже в самых трудных и неожиданных ситуациях, уже успел предпринять необходимые меры для защиты: извлечь из седельной сумки револьвер, залечь за трупом бедного мустанга и зарядить парой патронов ружье было для него делом мгновенным. — Ты не ранен, Жак? — с беспокойством крикнул он, не слыша и не видя друга. — Кажется, нет. Но у меня нога застряла в стремени. — Ты можешь стрелять? — Да, хотя и с трудом, так как я упал на спину… И, к сожалению, у меня нет пулевых патронов. — Тем лучше! Стреляй картечью…[426] не целясь. Сейчас начнется наступление. Едва лишь произнес Жюльен эти слова, как приблизительно в восьмидесяти метрах от него рухнула часть изгороди из органоподобных кактусов, и в заранее подготовленной бреши, свидетельствовавшей о том, что засада была тщательно подготовлена, показались шесть человек. Это были белые, о чем свидетельствовали их одежда и длинные бороды. Ловкость, с которой они, используя любую неровность местности, прячась за каждым камнем или кочкой, работая локтями, коленями, большими пальцами и даже грудной клеткой, неспешно приближались к тому месту, где лежали убитые лошади, выдавала в них техасских охотников. Позаимствовав у индейцев методы выслеживания диких зверей, они превзошли своих учителей. Нападавшие передвигались бесшумно, крадучись. Жюльен, обеспокоенный непонятной тишиной, приподнял голову над телом своей лошади. Внезапно раздался грубый голос, и нашему герою сразу все стало ясно. — Тише, приятели! Тише! — услышали друзья английскую речь. — А не то останетесь без глаз. Эти два парня не так-то просты. Если у них не перебиты кости, то схватить их будет непросто. — Ого, полковник! Так вы хотите взять их живыми? — Ты угадал, мой мальчик, и я буду в отчаянии, если с ними что-нибудь случится. — Почему? — Кажется, ты половину жизни провел среди племени навахо, самых кровожадных среди всех краснокожих обитателей прерий, не так ли? — Так. — Тогда ты знаешь, что такое месть. — Месть краснокожего? Конечно, знаю. — Так вот, хоть я и белый, но хочу отомстить, как индеец. Эти двое нанесли мне оскорбление. Так пусть же они умрут у столба пыток. — Смотри-ка! — произнес в сторону Жюльен. — Это действительно полковник Батлер! Значит, вчера я не ошибся. Негодяй прямо кипит от злости, однако до нас он еще не добрался. К тому же тот, кто хвастается своими планами, обычно далеко не уверен в их осуществимости. Он просто хочет приободрить себя. Что ж, вот мой ответ. Жюльен, не думая о том, что вражеская пуля легко может долететь до его укрытия, приподнял голову, положил дуло ружья на бедро мертвой лошади, наметил для себя находившихся шагах в сорока от него двух бандитов, хладнокровно, словно целил в косулю, выстрелил сразу из обоих стволов и тут же аккуратно перезарядил оружие. Вопли боли и яростные проклятия возвестили о том, что француз не зря истратил патроны. — Черт побери, — философски заметил Жюльен, — когда стреляешь почти в упор, картечь явно предпочтительнее пули, выпущенной из гладкоствольного ружья. Останься у меня карабин, принадлежавший губернатору Иркутска, я бы непременно прикончил одного из этих негодяев… Эй, Жак, если не ошибаюсь, противник возвращается на свои позиции! — Однако наше положение не станет лучше, если они решат взять нас в осаду. — Похоже, их действительно возглавляет полковник Батлер. — Так оно и есть… — Возможно, он идет по нашему следу от самого Сан-Франциско. Зная, что мы богаты, хочет, наверное, взять за нас солидный выкуп. Потерпев неудачу в политике, он изобрел очередной способ быстро нажить состояние. — Что же нам делать? — Ждать. — Голод и жажда дают о себе знать… Особенно жажда. К тому же боль становится просто невыносимой… Нога распухает, солнце бьет прямо в глаза. — Попытаюсь подползти и освободить тебя. — Нет, не стоит напрасно рисковать жизнью. — Не бойся: они ведь хотят взять нас живыми. — Но тебя могут подстрелить! — Тем хуже для нас обоих. От меня до тебя всего четыре метра, и, значит, сам дьявол пришел к ним на помощь, если они подстрелят меня, когда я буду преодолевать это расстояние. С этими словами Жюльен быстро вскочил и в один прыжок пересек пространство, отделявшее его импровизированное убежище за трупом убитой лошади от лежавшего на земле Жака. В ответ на его дерзкий поступок раздался выстрел. Жюльен вскрикнул. — Ты ранен? — Простая царапина на ноге. Меткость этих мерзавцев достойна почтенного Перро. — Ты прав. Они хотели лишить меня возможности убежать… — Главное, мы снова вместе. Но в нашем положении нелегко будет приподнять лошадь, всем своим весом придавившую твою ногу. — Послушай, если бы ты вырыл своим мачете у меня под ногой что-то вроде канавки… — Еще лучше: если бы я отрезал кусок бедра от твоей покойной лошади, то смог бы освободить тебя гораздо быстрее. — Пожалуй, ты прав. Как это я сам до этого не додумался! — Хватит праздных рассуждений, поспешим, ибо время не ждет, наши враги могут попытаться окружить нас… Впрочем, со стороны обрыва сделать это невозможно. Думаю, что скорее всего они будут держать нас здесь под дулами своих карабинов, пока голод и жажда не заставят нас вступить с ними в переговоры. — Ты что, действительно веришь, что этот мерзавец хочет сохранить нам жизнь? — Его интересует не наша жизнь, а наши кошельки. Сколь ни унизительна перспектива сдаться на милость бандита с большой дороги, но лучше распрощаться с кошельком, чем с собственной головой. — Ах, почему мы не дали Перро исполнить его заветное желание и выбросить полковника на улицу с пятого этажа! — Наверное, мы сочли этот поступок слишком эксцентричным. — Согласен, однако наше теперешнее положение ничуть не менее оригинально… — Тем более не на что жаловаться… К тому же тебе не грозит заполучить морскую болезнь. Несмотря на весь трагизм их положения, Жак не мог удержаться от смеха. Жюльен же быстрым взором окинул позиции неприятеля. — Что поделывает противник? — Укрылся за стенами редута[427], оставив двоих на поле битвы. — Они мертвы? — Сомневаюсь, хотя думаю, что основательно покалечил их. Если, конечно, их неподвижные позы — не очередная военная хитрость, призванная ввести нас в заблуждение. Неожиданно за поворотом дороги раздался звон колокольчиков, сопровождаемый свистом бича и скрежетом металла. При этих звуках те двое, которым уже довелось испытать на себе меткость Жюльена, с трудом поднявшись, попытались спрятаться за изгородью из кактусов. Едва они добрались до нее, как на тропе показался странный, дребезжавший от старости экипаж, чье столь своевременное появление в подобных обстоятельствах выглядело порождением больной фантазии. Это был старинный фургон, представлявший из себя длинную крытую повозку с кожаным тентом. Во Франции подобные колымаги давно исчезли, а если и сохранились, то лишь в глухих деревнях, где они вызывают изумление заезжих горожан. По бокам экипажа были расположены две скамьи, и еще одна помещалась в самой глубине. Подлинное наименование сего средства передвижения — дилижанс. Но дилижанс этот пребывал в самом плачевном состоянии, какое только можно себе вообразить. Кожа на нем заскорузла и свисала лохмотьями, местами зияли дыры, в которые нетрудно было разглядеть, что изнутри его некогда обили красным плюшем, утратившим, однако, с тех пор свой первозданный цвет, скрывшийся под слоем вековой грязи. Стекла в дверцах отсутствовали, колесные ободья давно уже разболтались, дышло поддерживалось веревочкой, оси скрипели, а сам фургон мог в любую минуту рассыпаться на части вместе с тянувшими его шестью чахлыми мулами. Каким же чудом сохранилась эта развалина на колесах, которая, наверное, уже не первое столетие подвергалась разрушительному воздействию стихий? Как удалось уцелеть этому безмолвному свидетелю борьбы Мексики за свою независимость?[428] Колеса старого дилижанса вертелись во время государственных переворотов, или prononciamentos, он бесстрастно взирал на смену правительств и слышал зажигательные речи отважных народных вождей. Почему же сей экипаж появился на дороге именно тогда, когда он больше всего был нужен попавшим в переделку двум отважным французам? Причина одна: старая колымага, пышно именуемая центральной администрацией Мексики почтовой каретой, катила из Аризоны в том же направлении, что и Жюльен с Жаком. Она отправилась из города двумя днями позже наших путешественников и, как легко можно убедиться, несмотря на свой нелепый вид и недостаток подстав[429], проезжала более ста километров в день. Появление дилижанса было вдвойне счастливым, ибо оно не только обратило в бегство врага, но и предоставляло путешественникам, лишившимся лошадей, возможность беспрепятственно доехать до города Алтар. Французы не смогли сдержать радостного возгласа при виде допотопного сооружения на колесах, следом за которым показался и Сапоте, благоразумно спрятавшийся со своими мулами за выступом скалы. Жак наконец был освобожден. Поднявшись, он первым делом расправил затекшие конечности. Жюльен обратился по-испански к чиновнику в форменной одежде, восседавшему на головном муле, и вежливо попросил его остановить повозку. Более надменный и гордый, чем все идальго[430] Кастилии[431] и Арагона[432], служивый, даже не удостоив его ответом, крикнул что-то вознице, и тот, стараясь не задеть колесами трупы лошадей, продолжал невозмутимо вести свой экипаж вперед. Жак и Жюльен не верили своим глазам. Как, эти оборванцы, лишь волею случая попавшие на государственную службу, отказываются взять путешественников с собой, хотя прекрасно понимают, что те находятся в бедственном положении?! Черт побери, это уж слишком! Жюльен, вскинув ружье, взял на мушку чиновника, а Жак так крепко схватил под уздцы первого мула, что бедное животное упало на колени. — Стой, мошенник!.. Стой, или я стреляю! — приказал Жюльен голосом, которому позавидовал бы любой предводитель traboucayres[433], этих классических грабителей дилижансов. Угроза моментально сбила с идальго всю спесь, уступившую место отвратительному раболепию. — Ваша милость! Ваша светлость! Ваше превосходительство! Только прикажите, и ваш смиренный слуга готов вам служить! — Замолчи, лакей! — гаркнул на него Жюльен. — Будешь отвечать, когда я тебя спрошу! — Затем, сделав знак метису приблизиться, он произнес: — Иди сюда, Сапоте. Сними чемоданы с мулов… Отлично. А теперь расседлай наших лошадей… А ты, Жак, постарайся взобраться на скамью так, чтобы головорезы не заметили тебя. — Готово! — Бери багаж и уложи его в фургоне… Ты же, Сапоте, теперь свободен, твои услуги нам больше не понадобятся… Вот, держи золотой! — Спасибо, хозяин! — Это еще не все. Мулы также твои: я дарю их тебе. Если ты не знаешь, куда тебе идти, следуй за дилижансом до Алтара. А если знаешь, тогда прощай! С этими словами Жюльен, внимательно осмотрев фургон изнутри и убедившись, что в нем всего лишь двое пассажиров, быстро забрался в повозку и сел рядом с Жаком, предусмотрительно поставив ружье между ног. — Если ты, мерзавец, — сказал он вознице, — дорожишь своими ушами, то поезжай быстрей, никуда не сворачивая. Тот понял по тону, что лучше не перечить. Мощным ударом кнута он взбодрил своих животных, и скоро почтенный тарантас, влекомый упряжкой мулов, чья сбруя состояла не столько из кожи, сколько из веревок, и имела больше узлов, нежели пряжек, ужасающе дребезжа, скрылся в вихре пыли. Взглянув со стороны на свою безрассудную выходку, Жюльен искренне рассмеялся. — Ну как, — спросил он своего друга, — что скажешь о нашем новом приключении? — Скажу, что такого со мной еще не случалось. И хотя, отправляясь в путь, я был готов ко всему, но на то, чтобы представить себе, как мы с тобой останавливаем силой почтовый дилижанс, у меня не хватило бы воображения. Итак, мы теперь — настоящие джентльмены с большой дороги! Лишь бы власти этой почтенной страны не сочли нашу шутку слишком дерзкой и не повели себя по отношению к нам соответствующим образом. — Ну что ты! Разве сложившиеся обстоятельства не оправдывают нас? Но, как выяснилось вскоре, «сложившиеся обстоятельства» не послужили друзьям оправданием. После четырех часов пути дилижанс прибыл в Алтар. Жак и Жюльен едва успели разместиться в довольно комфортабельной гостинице — «посаде» по-испански, как перед их взором предстали алькальд[434] и коррехидор[435] в сопровождении патруля, многочисленного и в изрядно потрепанном обмундировании. Они пришли арестовать путешественников. — Превосходно, — невозмутимо произнес Жюльен, — только этого нам и не хватало. Бандиты хотели нас убить, но в тюрьму попадаем мы. Впрочем, Мексика в этом отношении не отличается от других стран.
ГЛАВА 20
Неохраняемый дилижанс. — Хвастуны. — Телеграмма Жюльена. — Странный ответ из Мехико. — Конвой. — Триумфальное шествие государственных преступников. — Прибытие в Эрмосильо. — По дороге в Гуаймас. — Тракт, идущий с северо-запада на юго-восток. — Жак Арно в тропиках! — Начальник полиции Тепика. — Откровенность чиновника. — Гвадалахара и Гванахуато. — Вперед! — Драма в Керетаро. — Мехико. — Французская миссия. — Радушный прием. — Первый секретарь. — Дружеская беседа.В предыдущей главе мы упомянули о почтовой карете. Как известно, мексиканские курьеры возят иногда с собой довольно крупные денежные суммы. С началом строительства железной дороги, когда потребности в звонкой монете увеличились, подобные перевозки между Аризоной и Гуаймасом участились. Во избежание неприятных столкновений администрация распорядилась, чтобы каждый дилижанс, транспортирующий ценности, сопровождался кавалерийским отрядом. Плохо вооруженные, еще хуже экипированные и совершенно не обученные солдаты были обязаны стать на защиту дилижанса, если бы искателям приключений из числа рабочих, занятых на строительстве рельсового пути, пришло вдруг в голову использовать в личных интересах оборотные средства компании. Однако наличие такого эскорта[436] стало свидетельством того, что дилижанс везет деньги, и, как следствие, пробуждало алчные вожделения. Что могло остановить этих отпетых бродяг, которые успели за свою жизнь и повоевать вместе с краснокожими, и повеселиться вместе с янки? Во всяком случае, не горе-охранники на тощих одрах[437], оберегающие сокровища, обладание которыми дало бы лиходеям возможность надолго забыться в отличной выпивке! И бандиты спокойно нападали на курьеров. Служилые создавали поначалу видимость сопротивления, но затем откровенно присоединялись к грабителям, которые, в отличие от правительства, не торговались при оплате их услуг. В конце концов, устав от этой войны, администрация перестала посылать конное сопровождение, решив, что выгоднее доверить деньги заботам лишь одного охранника, по возможности честного, и хорошо платить ему: путешествуя инкогнито, деньги имели больше шансов прибыть в целости. Риск оказался оправданным: курьера грабили всего лишь в одну из четырех поездок. Итак, случаю было угодно, чтобы в тот день, когда Жак и Жюльен наткнулись на засаду, устроенную им полковником Батлером и его подручными на дороге из Карбокеньи в Бамори, дилижанс из Аризоны вес в Гуаймас крупную сумму денег. Курьер, сопровождавший вверенный ему экипаж и принятый нашими друзьями за чиновника, потерял голову при виде двух убитых лошадей, лежавших в лужах собственной крови, и двух людей, выскочивших из-за этих мрачных укрытий. Бедняга, возможно, уже подвергался некогда нападению на этом же самом месте и, сделав вид, что не слышит просьбы Жюльена, отдал распоряжение вознице не останавливать упряжку. Приказ, произнесенный вслед за тем Жюльеном суровым тоном, объяснявшимся, разумеется, тем трагическим положением, в котором оказались французы, был воспринят напуганным курьером как ультиматум разбойника с большой дороги. Хотя требования этого он не выполнил, дилижанс все же был остановлен. И в то время как Жак держал под уздцы головного мула, Жюльен целился в едва живого от страха служащего. Вид двух друзей, разместивших свой багаж и занявших место в повозке, не успокоил курьера. Он был уверен, что с минуты на минуту появятся их сообщники, чтобы безнаказанно украсть ценности. Эта мысль подтверждалась и тем обстоятельством, что Жюльен не расстался со своим ружьем. Однако он и не мог этого сделать, опасаясь, и не без оснований, преследования со стороны людей полковника Батлера, отчего и бросал постоянно внимательные взгляды на дорогу. К глубокому удивлению государственного служащего, дилижанс беспрепятственно прибыл в Алтар. Но как только воображаемая опасность ему более не угрожала, направление мыслей бездельника мгновенно изменилось. Он решил воспользоваться случаем, чтобы выставить себя героем, заявив громогласно о своей храбрости, ловкости и хладнокровии, только благодаря которым якобы ему и удалось доставить казну в сохранности до места назначения. Двое пассажиров, ехавших в дилижансе, так же, как и курьер с возницей, были едва живы от страха, когда Жак и Жюльен отвоевывали свои места. И хотя постепенно они пришли в себя, простить неожиданным пришельцам вторжение не смогли. Один из попутчиков наших героев был полковник, другой — монах. Этот последний, чье пищеварение столь грубо нарушили, находился в дурном расположении духа, тем более что он искренне поверил в нападение. Что же касается полковника, — а в Мексике все немножко полковники, — то, не желая признаться в охватившем его паническом страхе, он принялся живописать подвиги курьера и, увлекшись, приписал и себе частичку заслуг, ибо никто не мог проверить истинность его слов. Многословие и бахвальство латиноамериканцев стали притчей во языцех, так что судите сами, как пара хвастунов могли раздуть вымышленную опасность. Алькальд и коррехидор, к которым обратились эти два храбреца,охотно согласились на арест чужеземцев еще и потому, что мексиканцы обычно недолюбливают французов. Да и монах, свидетель преступления, утверждал к тому же, — и это было похоже на правду, — что оба путешественника силой заставили курьера пустить их в фургон. Не сопротивляясь, наши друзья дали себя арестовать, но выразили протест и добились того, что их пообещали содержать под стражей в той же самой гостинице, пока они будут сноситься с французским послом в Мехико. К счастью, Алтар, этот симпатичный городок с тысячью восьмьюстами жителями, расположенный на реке, носящей то же имя, имеет телеграфную связь с Гуаймасом, откуда идет прямая линия в Мехико, проходящая через города Масатлан, Дуранго, Сан-Луис, Потоси, Гванахуато и Кверетаро. Жюльен составил длинную телеграмму, где объяснял цель их путешествия, сообщал соответствующие сведения и в точности излагал события того утра, и отправил ее, уповая на справедливость полномочного министра. Прибывший на следующее утро ответ явился как для него, так и для Жака величайшей неожиданностью. Мы приводим его полностью:
«Господа граф де Клене и Жак Арно, французские путешественники, задержанные в Алтаре, являются опаснейшими государственными преступниками. Приказано в ближайшее же время препроводить их под надежным конвоем в Мехико. Предписывается также оказывать арестантам в пути всевозможное почтение. Хотя им запрещается с кем-либо общаться, нуждаться они ни в чем не должны. Власти несут ответственность за их безопасность. Принадлежащий преступникам багаж, за исключением предметов первой необходимости, должен быть опечатан и следовать за ними. Правительство требует отправить поименованных выше лиц как можно скорее».Странный документ был подписан префектом полиции, а также министрами внутренних и иностранных дел Мексики. Возражать было бесполезно, оставалось только подчиниться. Жюльен не желал ничего лучшего, как отправиться в Мехико. Он рассчитывал, прибыв на место, найти выход из тупика, порожденного, думал он, неким недоразумением. Но предоставим снова слово Жаку Арно, использовавшему свой вынужденный досуг во время их стремительного продвижения к столице Мексики для написания путевых заметок, весьма выразительных и поучительных:
«12 июня. Мы — государственные преступники! Хотел бы я знать, какого государства! Нас вывезли из Алтара в специально выделенном дилижансе. В нем можно курить, спать, разговаривать. Впрочем, это единственная свобода, которой мы пользуемся, так как администрация предприняла все надлежащие меры для точного исполнения указаний, изложенных в телеграмме. Курьер, ставший причиной этого неожиданного приключения, заважничал и раздулся, словно осел, несущий святые дары. Но святые дары — это мы. Можно подумать, что мы хрупки, как фарфоровый сервиз. Ибо, с одной стороны, нам оказывается всяческое почтение, а с другой, все невероятно боятся заговорить с нами. Это неплохо, но уже начинает надоедать. Нас сопровождает многочисленная охрана, что наводит на мысль о дорогостоящем грузе и, если верить слухам, возбуждает алчность наших неожиданных коллег, истинных джентльменов большой дороги. Впрочем, дневное или даже ночное нападение развлекло бы нас. Что, однако, вовсе не забавляет, так это вид всадников, охраняющих нашу карету. У этих метисов внешность настоящих разбойников. Одетые в полотняные костюмы и черные широкополые шляпы с трехцветными — зелено-бело-красными — кокардами, вооруженные плохенькими мушкетами и пиками с красно-зеленым вымпелом, они думают лишь о том, как бы пограбить несчастных придорожных жителей. Бессовестные бандиты забирают у них скот, птицу и расплачиваются ударами древка своих копий. Перевозка пленников вроде нас обходится стране недешево, тем более что кормят нас словно эрцгерцогов[438] и в харчевнях, где мы останавливаемся, не позволяют нам истратить ни одного су. Нас размещают мгновенно в самых лучших апартаментах. Бог мой, кто же будет за все это платить? Наш личный эскорт состоит из нескольких пехотинцев, скучившихся в конце фургона. Все они — индейцы. Среднего роста, мускулистые, одетые также в полотняные костюмы, но более чистые, краснокожие производят более благоприятное, чем всадники, впечатление. У них массивные челюсти, выдающиеся скулы, выразительные глаза, уверенно глядящие по сторонам, безбородые лица. Но главное — они совестливы… Да, забыл упомянуть, что у них короткие волосы, но на каждом виске оставлено по длинной пряди. Вооружение пехотинцев состоит из ружья и штыка. Служилые тщательно заботятся о своем оружии, и когда ружье, блестящее, словно зеркало, немного запотевает от соприкосновения с их влажными руками, они начищают металл кусочком кожи. Снаряжение их ограничено широким поясом, на котором висят ножны для штыка и огромный патронташ, почти столь же большой, как вещевой мешок французского пехотинца. Болтающийся ниже пояса, он выглядит довольно странно. Дилижанс едет… едет… Охранник кричит на возницу и на мулов, возница обрушивается лишь на этих животных… Поистине адский поезд! Трудно поверить, что, для того чтобы путешествовать быстро и с комфортом, надо стать преступником. Интересно, что думает об этом простой смертный? За два дня мы добрались до Эрмосильо, удаленного от Алтара на сто девяносто километров. 13 июня. Эрносильо насчитывает двенадцать тысяч жителей, что не так уж плохо для здешнего края. Там есть монетный двор, где три года назад отчеканили три миллиона золотых и серебряных франков. Однако же провинция Сонора вовсе не богата. Хорошо одетые господа, предупрежденные о нашем прибытии, приняли нас со всеми подобающими церемониями. Конечно, в нашу честь не произносили торжественных речей и нам не подносили на серебряном подносе ключи от города, но и без этого всего было предостаточно. Хорошо одетые господа — это алькальд и городские судьи. Они устроили роскошный банкет в нашу честь, где нас угощали хересом[439] со специальных виноградников, о которых я до сих пор храню превосходные воспоминания. 14 июня. Господа узники, карета на Гуаймас подана!.. Наше путешествие напоминает триумфальное шествие. Во Франции с преступниками так не обращаются, будь это даже государственные преступники. Мы с Жюльеном, ничего не понимая, благословляем вмешательство нашего превосходного врага полковника Батлера, благодаря которому мы так быстро продвигаемся к цели. Тридцать лье, отделяющие Эрмосильо от Гуаймаса, мы проехали менее чем за десять часов, хотя дороги здесь очень напоминают сибирские. Наша старая кибитка должна была бы уже сотни раз перевернуться на этих колдобинах. Но она на удивление прочна. Вид Гуаймаса приводит в уныние. Зажатый в кольцо известняковых гор, перерезанных извилистыми ущельями, где произрастают тощая растительность и карликовые пальмы, город насчитывает шесть тысяч жителей и выглядит заброшенным. Только в порту оживленно, и это благодаря американцам, прибывающим сюда покупать кожи, гуано[440], медь и серебро. Возможно, железная дорога повысит значение этого порта, и он станет одним из лучших на побережье Тихого океана, единственным крупным портом в Калифорнийском заливе. В Гуаймасе нет воды. Источники находятся на окраинах, по дороге к Эрмосильо. Вода, извлекаемая при помощи нории — колес с черпаками, или, иначе, черпакового транспортера, разливается по бурдюкам и водоносами, именуемыми aquadores, доставляется на ослах в город. Эти колоритные типы, своего рода мексиканские овернцы[441], — индейцы яки. 16 июня. Едва познакомившись, мы уже прощаемся с Гуаймасом. Теперь мы проезжаем вереницу маленьких, ничем не примечательных городков, связанных между собой этой ужасной дорогой, которая с успехом могла бы соперничать с дорогами Западной Сибири. Сначала мы движемся на восток и этого направления придерживаемся на протяжении восьмидесяти километров, чтобы потом, у венты Кокори, наконец выйти на тракт, пересекающий Мексику с северо-запада на юго-восток. 18 июня. Проехав венту Кокори, семнадцатого июня мы прибываем в Аламос, расположенный между реками Рио-Майо и Рио-Фуэрте. Этот город, насчитывающий шесть тысяч жителей, — уединенный, пропыленный и еще более пустынный, чем Гуаймас. Для европейца жизнь в местных домах из самана[442] и в поистине иссушающем одиночестве скоро превратилась бы в сплошной кошмар. От Аламоса до Синалоа, столицы одноименной провинции, — около тридцати пяти лье, если двигаться через Фуэрте. Переход тяжелый. Сопровождающие нас всадники утомились. Некоторые уже отстали, потому что на подставах не было сменных лошадей. Индейские пехотинцы спят в фургоне, словно медведи в берлоге. К счастью, нам удалось прекрасно переночевать в Синалоа. 19 июня. До Кульякана осталось сорок лье. Воздух все больше накаляется, появились москиты. Я узнал, что Кульякан — столица губернаторства и епископства Сонора, число ее жителей достигает десяти тысяч. Это мне нравится. Здесь так же, как в Эрмосильо, имеется монетный двор. Интересно, почему все-таки монету чеканят в Мексике? Задаю себе этот вопрос потому, что вижу вокруг неприкрытую нищету. Кому это выгодно? 21 июня. Мы еще узники, но с нами обращаются все лучше, все бережней. Власти городов, через которые мы проезжаем, прекрасно принимают нас. Незаметно мы доехали до Нориа. Пройдено еще сто сорок километров. Мы рассчитывали остановиться в Нориа, но, кажется, придется ехать до Масатлана. Ничего не поделаешь! В десяти километрах южнее Нориа Жюльен, который ежедневно наносит на карту пройденный путь, объявляет, что мы находимся в тропиках. Я как-то позабыл о познавательной стороне нашего путешествия и призна́юсь, что сообщение Жюльена вызывает во мне бурю восторгов. Невольно начинаю думать о том, что я всего лишь бывший чиновник из префектуры Сена, и вдруг — в тропиках!.. Я, Жак Арно!.. Не хвастаясь, могу сказать себе, что факт прибытия сюда по суше вызывает во мне чувство законной гордости. Жюльен, догадавшийся о моих размышлениях, усмехается и начинает напевать песенку о маленьком кораблике, который никогда… никогда… никогда не был в плавании. Это правда. И однако, этому маленькому кораблику пришлось-таки бороздить моря и океаны!.. О, зачеркнем скорее слова «бороздить моря и океаны»: язык моряков может принести мне несчастье! 22 июня. Теперь, когда я пересек тропический пояс, что мне за дело до Масатлана, как две капли воды похожего на Гуаймас, — я даже не буду описывать его. Мне столь же безразличны Рио-Президио и почтовые станции с подставами в Росарио и Акапонете. Завтра переправляемся на пароме через Рио-Сантьяго. Эту речную переправу, весьма продолжительную, было бы правильнее назвать морской, потому что Рио-Сантьяго — одна из самых крупных рек Мексики. Но разве не пересек я уже тропический пояс, чтобы чего-то бояться! Мы будем ночевать в Тепике. Оттуда всего лишь сто пятьдесят лье по прямой — и мы в Мехико! 23 июня. Все идет так, что лучше и не надо: еще никогда мы не путешествовали с такой легкостью. Мы вступили в горную страну. Температура не столь высока, не очень жарко. Мы поднимаемся медленно, покинув наконец бесконечную зону обожженной земли, тянущуюся адским коридором по берегу Калифорнийского залива. «Жаркая земля» надолго сменяется «теплой землей». Мы непрестанно поднимаемся. Находимся уже где-то на высоте двух тысяч метров, что составляет среднюю высоту обширнейшего центрального плато Мексики. 24 июня. Тепик проехали ночью. Невозможно на ходу получить представление о городе, основанном, как сказал Жюльен, в 1531 году Нуньо де Гусманом, одним из спутников Кортеса[443]. Наше путешествие становится менее познавательным, зато более быстрым. Начальник полиции Тепика получил официальные указания относительно наших милостей. С преувеличенной вежливостью, свойственной всем мексиканцам без различия сословий, от кабальеро[444] до босяка, этот чиновник заявил, что мы обязаны днем и ночью двигаться в Мехико. Мы будем спать в дилижансе, переделанном по такому случаю в спальный салон путем добавления двух соломенных матрасов. А обедать — на почтовых станциях. Но где, увы, столь желанные сейчас снега! Где калифорнийские «вагоны-дворцы»! Начальник полиции, после того как буквально утопил нас в изысканных любезностях и позаботился о нашем обильном пропитании, таинственно сообщил, что дело наше очень серьезное. Может быть, нас и не приговорят к смерти, но уж точно вышлют из страны, заставив заплатить немалый штраф. Жюльен наивно спросил, почему, на что этот тип дал потрясающий ответ: — Ваш случай очень серьезен, потому что ваше дело не выгорело! — Не выгорело что? — не унимался, сгорая от любопытства, Жюльен. — Присвоить три тысячи унций золота[445], которые вез курьер. Если бы вам удалось это, то вы легко смогли бы заручиться поддержкой судей, перед которыми скоро предстанете. — Подкупив их деньгами, украденными у правительства?.. — Да, именно подкупив их, — промолвил негодяй с обезоруживающей откровенностью. Эта скотина принимает нас за настоящих грабителей, и в его тоне слышится неуловимое презрение к неудачливым жуликам. Это уж слишком! Если наш арест — ошибка, то скажите, пожалуйста, где, когда и как это кончится. Жюльен, знающий нравы этой страны, считает, что нас хотят шантажировать: запугать, а затем заставить отвалить кругленькую сумму. — Что же делать? — Тебе сказал начальник полиции: подкупить судей и, заплатив им, уехать, — произнес Жюльен с неподражаемым хладнокровием. — Наше сегодняшнее положение — всего лишь одна из превратностей пути. Что-то вроде морской болезни. Я не нашел слов, чтобы ответить на такой веский довод. 25 июня. Венты, поселки и города сменяют друг друга, мы двигаемся вперед. До Гвадалахары ничего интересного. Мне бы хотелось задержаться на несколько часов в этом великолепном городе, насчитывающем девяносто пять тысяч жителей. Здесь впервые после Сан-Франциско ощущаешь присутствие промышленности, искусства, прогресса, цивилизации, наконец! Но — ужас! — нас буквально тащат, не давая ни с кем даже словом перекинуться. Предположения Жюльена сменились уверенностью. Теперь он доказывает, что чиновники сознательно притворяются, обвиняя нас в воровстве, чтобы с нас побольше содрать и продержать в тюрьме, пока мы все не заплатим. Похоже, такое еще встречается в Мексике. 26 июня. От Гвадалахары до Гуанахуато — около двухсот двадцати километров. Мы пересекли гористую местность, при виде которой пейзажисты лопнули бы от зависти, и поднимались на такие утесы, что нам позавидовали бы заядлые альпинисты. У меня же красоты, увиденные в оконца нашей клетки на колесах, вызвали лишь досаду. Как бы хотел я полюбоваться ими на свободе!.. Вперед! И, дребезжа, наша колымага продолжает свой путь. О, я так мечтаю увидеть, как развалится она на куски! Как и Гвадалахара, Гуанахуато с его шестьюдесятью тремя тысячами жителей быстро промелькнул мимо, так и не позволив нам познакомиться с ним поближе. А между тем город этот знаменит своими рудниками Ката, Сечо, Мельядо, Рейас, Вента-Мадре и Валенсиана[446]. Ландшафт великолепен, дома хороши, памятники впечатляют, а комфортабельные гостиницы так и манят задержаться здесь, нас же заставляют бежать, словно жуликов! Я начинаю приходить в отчаяние. 27 июня. Полдень. Мы прибыли в Керетаро — город с пятьюдесятью тысячами жителей, расположенный в великолепной долине и окруженный кокетливыми садами, роскошными плантациями и акведуком. Вид его воскрешает во мне воспоминание о Марли. И тут же, словно молния, мой мозг пронизывает еще одно воспоминание, но уже мрачное. Сегодня исполняется двенадцать лет и двенадцать дней с того дня, когда трое мужчин, стоя рука об руку под палящим солнцем в придорожной пыли, там, где проезжаем мы сейчас, бесстрашно смотрели на выстроившийся перед ними взвод мексиканских солдат. Тот, кто был в середине, уверенным голосом сам подал солдатам команду. Раздались выстрелы, и все трое с пулями в сердце упали на землю. Эти трое, кого судьба свела вместе в последнюю минуту их жизни, были генерал Мехия, генерал Мирамон и император Мексики Максимилиан Австрийский[447]. Если первые завоеватели Мексики были жестоки к несчастным ацтекам, то какой страшный реванш взяли потомки Куатемока[448] над праправнуками Карла V![449]»
Разбитые, в синяках, одуревшие от жуткой тряски дилижанса, измученные подобной ежедневной гимнастикой, со взвинченными нервами от постоянного пребывания под замко́м, оба друга забылись беспокойным сном именно тогда, когда их карета въезжала в Мехико. Это было 29 июня. Путешественники проснулись от шума, производимого их тюрьмой на колесах, катившей по городской брусчатке. Лениво потянувшись, они окинули рассеянным взором кривые улочки, где суетилась пестрая толпа. Наконец дилижанс остановился, смолк стук копыт коней охранников, и дверца отворилась. Жак и Жюльен, ссутулившиеся и несколько помятые, ступили на землю перед красивым зданием с монументальным крыльцом, над которым развевался трехцветный флаг. — Французская миссия! — взволнованно произнес Жюльен при виде национального флага. Офицер, командовавший конным отрядом, спешился. То же сделали еще четверо конвоиров. Все пятеро, без оружия, вошли в миссию осуществить передачу узников представителю их страны. Надлежащая процедура была выполнена в присутствии младших чиновников, оформивших документы по всей форме. Потом солдаты с начальником удалились, убежденные, что они только что стали спасителями отечества. Формальности заняли несколько минут, и Жак, как и его друг, уже задавал себе вопрос, что же будет дальше, когда лакей в ливрее почтительно попросил их пройти к первому секретарю миссии, исполнявшему в отсутствие министра его обязанности. Следуя за лакеем, они миновали анфиладу[450] роскошно обставленных комнат и наконец остановились перед приоткрытой дверью. — Граф де Клене!.. Господин Арно! — объявил служитель. Жюльен вошел первым и остановился, изумленный, услышав, как дружеский голос обратился к нему с малоуместным в таком месте приветствием: — Привет, узник!.. Как дела?.. А вот и ты, Жак, наш закоренелый домосед!.. Похоже, твоя первая вылазка пошла тебе на пользу!.. — Анри!.. Анри де Шатенуа!.. Наш бывший однокашник!.. Здесь!.. — Первый секретарь французской миссии в Мексике к вашим услугам, за отсутствием патрона!.. — А я думал, что ты пребываешь где-нибудь в Голландии или Швеции. Мы так редко виделись после окончания коллежа Святой Варвары! — Я здесь уже шесть месяцев… — Таким образом, наш арест и пробег через Мексику… — Дело моих рук. — Ты получил мою телеграмму… — Черт побери, такую изрезанную и искромсанную, что только твое имя и имя Жака остались в ней без изменения!.. К тому же в официальном докладе алькальда и коррехидора вас выставили опасными бандитами, способными на любое преступление. Понимая, что они вольно или невольно совершили ошибку, я сделал вид, что готов полностью выполнить их требования. — Нас хотели шантажировать, не так ли? — Именно так… Зная, что лучшее средство обеспечить вашу безопасность — это вытащить вас из когтей местного правосудия, для которого не существует невиновных без денег и которое может вершиться годами, я решил арестовать вас сам как представитель Франции. Я предупредил об этом двух мексиканских министров, внутренних и иностранных дел. С помощью этих сообразительных людей я превратил вас в государственных преступников. — Кажется, до меня начинает доходить… — Все очень просто. Государственные преступники пользуются здесь большим уважением, иногда даже бо́льшим, нежели некоторые высокопоставленные чиновники, поскольку в зависимости от политического барометра они могут неожиданно оказаться на коне. Чиновники на местах отвечают не только за безопасность государственных преступников, но и за посягательство на их имущество, и посему делают все от них зависящее, чтобы обеспечить узникам максимум удобств. Надеюсь, с вами тоже хорошо обращались? — Нас даже смущало оказываемое нам внимание. — Тогда все отлично!.. Незачем говорить, что вы свободны как ветер: комедия окончена! Вы — мои гости до тех пор, пока вам будет угодно оставаться в Мехико. Договорились? У нас здесь много мест, достойных обозрения. — Чудесно! — в один голос воскликнули друзья. — К тому же, — продолжал дипломат, — если я верно понял содержание вашей телеграммы, вы решили добраться из Франции в Бразилию по суше, ни разу не ступив на борт корабля. В Бразилии же Жака ожидает наследство. Я прав или ошибаюсь? — Нет, не ошибаешься. — Тем лучше: вот еще одна причина, чтобы отдохнуть здесь как следует. Ваши апартаменты готовы. Поскорее вступайте во владение ими, ибо я сгораю от нетерпения послушать интереснейший рассказ о путешествии из Парижа в Бразилию по суше.
Конец второй части








Часть третья ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
ГЛАВА 1
Таинственное оживление на панамском вокзале «Трансконтинентальный». — Шхуна капитана Боба. — Крейсер. — Перспектива быть повешенным. — Четыре тысячи ремингтоновских винтовок с двумя миллионами патронов к ним. — Ночное отплытие. — Курс на юг. — Под всеми парусами. — Ловкость и везение капитана Боба. — Появление военного судна. — Луч прожектора. — Коварный костер. — Невольные виновники кораблекрушения. — Полковник Батлер. — Изумление французов.Вдали послышалось что-то похожее на дуэт колокола и свистка, сопровождаемый глухим скрежещущим звуком. А затем раздался грохот, словно столкнули откуда-то груду железа. Шум все нарастал: громче звучал колокол, пронзительнее заливался звонок, а чугунные рельсы громыхали, словно пушки. И вдруг все смолкло. Наступила тишина, столь неожиданная после этакого крещендо[451]. Ломокотив межокеанического поезда «Колон[452]— Панама[453]» вкатил, окутанный плотным облаком пара, под крышу вокзала «Континентальный», отделенного портовыми сооружениями от бескрайнего пространства, именуемого Великим, или Тихим, океаном, и через несколько секунд, тяжело пыхтя, замер. Но отдохнуть ему не удалось: это истинное творение американского духа, с приземистой трубой, смахивающей на большой мушкетон[454], и с похожим на гигантский лемех специальным устройством, установленным впереди паровоза для сбрасывания с пути случайно забредших на железнодорожное полотно животных, было тотчас отцеплено от головного вагона. Два негра атлетического сложения, вдвойне черные из-за густого слоя угольных частиц, покрывавших их блестевшую от пота кожу, стоя голыми ногами на горячем полу и не обращая внимания на адскую жару, медленно повели вперед машину, которая, будто умный мастодонт[455], беспрекословно повиновалась своим вожатым. Стрелку перевели один раз — и локомотив перешел на соседний путь, перевели во второй раз — и он вернулся на прежнюю колею. Затем паровоз, найдя свой поезд, подкрался к нему сзади и, подсоединившись к хвостовому вагону, начал тихонько подталкивать состав к берегу, у кромки которого только что прокатилась огромная волна, пробежавшая без передышки целых четыре тысячи лье — через весь океан, от самого Китая. Всего четыре часа тому назад в Колон прибыли одновременно два скорых парохода — из Франции и из Соединенных Штатов. И тотчас же доставленные ими телеграммы и письма в Мексику, Гватемалу, Коста-Рику, Никарагуа, Западную Колумбию, Эквадор, Перу, Бразилию и Чили были погружены в три вагона специального, подготовленного заранее поезда, который сразу же, как только ему подали локомотив, помчал в Панаму, где вся эта объемистая корреспонденция, заблаговременно упакованная в опечатанные мешки, должна была снова попасть в руки почтовых работников для дальнейшей транспортировки на судах, отправлявшихся в указанные выше страны. У сходней уже покачивались на волнах увенчанные национальными флагами шлюпки, спущенные с пароходов, выстроившихся в открытом море в длинный ряд. Операция по перегрузке мешков в лодки совершалась необычайно медленно с раздражающей стороннего наблюдателя леностью, присущей обитателям жарких стран, где каждый, в том числе и европеец после довольно долгого пребывания под солнцем, невольно вынужден, что бы он ни делал, приспосабливаться к неспешному ритму, прозванному «колониальным шагом»: изнуряющая жара тропиков расслабляет самый стойкий организм, размягчает самые твердые мускулы. Пассажиры из северных широт, ошалев от зноя, находились в некоем полусонном состоянии и даже не пытались возмущаться носильщиками-копушами. Зато персоналом панамского железнодорожного вокзала овладел какой-то странный зуд. Каждый занял свой пост, причем — вещь невероятная — не было видно ни пьяных, ни опоздавших. Благодаря отличной организации три почтовых вагона разгрузили буквально за считанные минуты, а их содержимое доставили на пристань, так что на долю носильщиков и матросов пришлось не так уж много работы. Представитель железнодорожной компании, обслуживавшей линию «Центральная Америка — Панама», и его коллега из «Северной тихоокеанской транспортной компании», всецело занятые своими заботами, и думать позабыли о неприятных вещах, которые наговорили они сгоряча своему конкуренту — агенту немецкой пароходной компании «Космос». Начальник вокзала и его служащие, как крупные, так и мелкие, трудились столь самозабвенно, словно поставили своей целью поскорее отделаться от публики. Каждый выполнял свою работу исключительно споро, к огромному удовольствию пассажиров и получателей товаров, только что доставленных по железной дороге через Панамский перешеек в Панаму. Когда обслуживающий персонал в полном составе остался один на один с длинной вереницей товарных вагонов, запертых и тщательно укрытых брезентом, пропитанным гудроном, из пассажирского вагона выскочил, словно черт из коробочки, некий субъект, доселе невидимый. — Итак, мы одни, не правда ли? — спросил он по-английски начальника эксплуатационной службы. — Да, сэр, — коротко ответил тот. — Двери вокзала затворены? — Конечно! Вы же сами слышали, как щелкнули задвижки и замки! — Ясно. А на людей ваших можно положиться? — Вне сомнения, если им хорошо платят. — Вам известно, я не торгуюсь. — Йес… — А никому не покажется странным, что вагоны стоят на отдельном пути, у самой пристани?.. Что вокзальное помещение закрыто?.. И что люди заняты какой-то таинственной работой?.. И к тому же у платформ, обычно всегда открытых для пассажиров?.. — Все может быть. Но у нас не имелось иного выхода: есть приказ губернатора Панамской провинции, строго-настрого запрещающий провоз подобного груза… Да и консулы из разных там государств бдительно следят за такими вещами… — Консулы?! У представителей европейских стран в эти часы сиеста, и, кроме того, до завтра они будут погружены в чтение только что прибывшей почты. А отсюда следует, что им пока не до нашего… предприятия. И нет нужды говорить вам о позиции Америки: ее невмешательство гарантировано. Чилийский же консул — единственный, кто может протестовать против отправки из Панамы подобного «багажа», — прикован к постели то ли из-за простуды, то ли еще из-за какой-то болезни. — Ол райт! — Вот тысяча долларов золотом для ваших людей. И столько же они получат после погрузки. Кроме того, еще даю две тысячи долларов — для начальства. — Спасибо. Не хотите ли проверить пломбы на вагонах, поставленные в Колоне? — Нет, не нужно. Во время этого короткого диалога на хорошенькой шхуне, стоявшей метрах в ста от пристани, подняли брашпилем[456] якорь, после чего судно не спеша развернули и с помощью лебедки подтянули к пристани, возвышавшейся над палубой метра на три. И тотчас же откуда-то из трюма послышался хриплый голос, вырвавшийся из зиявшего внизу люка и бесцеремонно прервавший диалог: — Черт меня побери, да и вас тоже! Раскаркались, словно вороны, вместо того чтобы заниматься делом! Лодыри, каких свет еще не видывал! — Это наш славный капитан Боб волнуется, и не зря, — заметил с улыбкой незнакомец и, подойдя к краю набережной, посмотрел вниз, на корму шхуны. — Порядок, дружище! Все идет как надо! В ответ снова раздалось недовольное ворчание, и вслед за тем из люка вынырнула рыжая голова и показались грубая физиономия и лохматая борода. Потом высунулись плечи и бизоний торс, крепко державшийся на двух огромных ногах, под которыми прогнулись доски спардека[457]. Гигант, которому принадлежали указанные выше части тела, поднялся на планшир[458], так что его отделяло от собеседника, стоявшего на краю пристани, не более шестидесяти сантиметров. — Здравствуйте, Боб!.. Ворчите, как всегда? — Здравствуйте, Сайрус! Да, вы правы: ворчу — пользуясь последними мгновениями, отпущенными мне, чтобы насладиться подобным приятным времяпрепровождением. — Что вы хотите этим сказать? — Возможно, мне недолго уже осталось ворчать. — Что так? — Не исключено, что завтра меня возьмут и повесят. Незнакомец, как ни владел собой, невольно вздрогнул. — Вы всерьез? — проговорил он несколько изменившимся голосом. — Да, и настолько всерьез, что я с радостью отказался бы от нашей сделки, если бы вы смогли подыскать себе какое-нибудь другое суденышко. — Но это невозможно! — Я так и думал. — Перуанцы не могут ждать. Хотя, скажу откровенно, я тревожусь за судьбу сына моего отца: кто знает, не кончится ли для меня сия затея джигой[459] при свете факелов из стеблей конопли? — Опасное наше ремесло, особенно сейчас, мистер Сайрус! — А что вы хотите, славный мой Боб? Ничего не дается даром. Наши же доходы находятся в прямой зависимости от наших аппетитов, отсюда и опасности, которым мы подвергаемся. Только чего вы так боитесь в данный момент? — Вот уже в течение трех дней в двенадцати — пятнадцати милях от Панамы маячит в открытом море большой корабль, чтоб ему худо было! Он шастает туда-сюда в виду порта, словно часовой, делающий по сто шагов взад и вперед. Судно даже ненадолго не покидает своего поста и, ни на что не отвлекаясь, бдительно наблюдает за городом. — И даже ночью? — Ночью — особенно. По крайней мере, один раз в час корабль в течение нескольких минут мощным пучком электрического света озаряет рейд, да так ярко, что кажется, будто наступил день. Короче, в этом случае ускользнуть из поля его зрения не удастся никому, ибо луч прожектора рыщет, как акула. — Да, но я слышал про вашу шхуну, что она здесь — одно из самых быстрых торговых судов… — Дорогой Сайрус, это настоящая чушь! — Вы просто трусите. — Если хотите знать, моя пресловутая шхуна — крохотное суденышко, которое в любой момент может при резком ветре перевернуться вверх тормашками, — всего-навсего калоша рядом с этим чертовым кораблем! — Как жаль, что у нас нет сейчас тех быстроходных катеров, коими мы располагали во время предыдущей войны! — Да, тогда мы имели в каждой топке по тонне жидкого топлива и спокойно проходили со своим грузом где хотели: с берега видна была лишь шапка механика. И всегда доставляли оружие в срок… — Да спасет нас Бог! — Да спасет нас Бог! — торжественно повторил капитан Боб. — Право же, неприятно думать о том, что мною могут заменить на главной мачте этого судна сигнальный флажок. Даже шея начинает болеть, как представлю себе веревку с петлей на конце. — Затем он крикнул матросам: — Эй вы, там, пошевеливайтесь, черт вас подери! Не забывайте: вас ждет двойная плата, двойная порция табаку и виски, а посему и работать вы должны каждый за двоих в преддверии вечной жизни! — Убедившись, что команда бурно отреагировала на сей призыв, капитан снова повернулся к своему собеседнику: — Еще одно слово, Сайрус: что за груз вы везете на этот раз? — Четыре тысячи ремингтоновских винтовок и два миллиона патронов к ним. — И сколько же весит все это?.. — Ружья со штыками, чехлы, упаковка, итого — сорок тысяч килограммов… — То есть сорок тонн. — Да, двести ящиков по двести килограммов. — Так… Но это — не считая боеприпасов… — Два миллиона патронов, по тридцать граммов каждый… Следовательно, если я не ошибаюсь, надо прибавить еще шестьдесят тысяч килограммов. — То есть шестьдесят тонн… В общем, не так уж и много: я ожидал вдвое больше. Поскольку товара на моем судне — лишь каких-то сто бочонков, то даже с вашим грузом оно не осядет более чем на два метра, и я смогу идти спокойно вдоль берега, не опасаясь сесть на мель. — Стоп! — живо прервал капитана человек, которого Боб величал Сайрусом. — Речь идет не о том, чтобы не сесть на мель, а о том, чтобы добраться до места назначения. Снаряжение сто́ит более пятисот пятидесяти тысяч франков, включая расходы, связанные с транспортировкой, а также с реверансами[460] в сторону местных властей и персонала вокзала. И не забывайте также, что вы рискуете половиной указанной суммы: ведь мы — совладельцы этого груза. — Лично я рискую в первую очередь своей шкурой, которой привык дорожить. — Капитан Боб, вы, старый морской волк, — не единственный, кто рискует своей шкурой, ибо я отправляюсь вместе с вами. — Да ну!.. Браво, Сайрус! Вы не моряк, пусть так, но, черт побери, вам в смелости не откажешь! — Я разделю с вами все опасности, и это самое меньшее, на что я способен. Когда вы рассчитываете отчалить? — Глядя на то, как стараются эти молодцы, я полагаю, что погрузку закончат часа через четыре. Тогда и поднимем паруса. — Но к тому времени почти совсем стемнеет! — Ну и что? Речь-то идет всего-навсего о том, чтобы следовать вдоль берега. — А вы хоть знаете его? — Знаю, и неплохо. Мог бы тут лоцманом работать. — А как с крейсером? — Его осадка не позволит ему преследовать нас на мелководье. — А если он начнет палить по нам из пушек? — Я надеюсь улизнуть от него под покровом ночи. — Ну а вдруг он все-таки откроет стрельбу? — Тогда, значит, настал наш час! А в общем, Сайрус, вы мне надоели. Вернитесь к вагонам, а я спущусь в трюм — проверю, как там. Нужно равномернее распределить груз, чтобы обеспечить ровную осадку и соответственно максимальную скорость судна. В вагонах и на путях, на пристани и на шхуне железнодорожные служащие и матросы трудились, не щадя сил. Скрежетали фалы[461], фырчали блоки, стонали стропы. Ящики с ружьями, длинные и узкие, как гробы, проплыв по воздуху, медленно опускались в трюм. Затем появились ящики с патронами — тяжелые, кургузые, из толстых досок. Черные — портовые рабочие — толкали их так грубо, что они, казалось, взорвутся, что было бы, прямо скажем, ни к чему. Внезапно, как это бывает в тропиках, на землю опустилась ночь. Но работать на пристани продолжали — при свете факелов и с тем азартом, с каким вообще трудятся негры, если только они вошли во вкус, а не отлынивают от дела. Ровно в восемь погрузка, начавшаяся в четыре часа пополудни, была окончена. Люки задраили[462], паруса подняли, и шхуна в любой момент могла выйти в море. Публику снова впустили на платформы у тех путей, где только что царило таинственное оживление. Жизнь вошла в привычную колею, и никто из посторонних ни за что не догадался бы о только что кипевшей здесь напряженной работе, от которой у служащих вокзала «Трансконтинентальный» ломило все тело. Сайрус и капитан Боб то и дело во время погрузки со страхом поглядывали на горизонт, но военного судна — слава Богу! — не было видно. И, что казалось еще более удивительным, с наступлением темноты не вступил в действие корабельный прожектор, обшаривавший до этого водную поверхность все ночи подряд. Данное обстоятельство вызывало у капитана недоумение и глубоко его встревожило. Однако, ничем не выдав своего волнения, он спокойно встал за штурвал, развернул шхуну в нужном направлении, так, чтобы легкий ветерок, веявший, к счастью, с северо-востока, надул ее паруса, и уверенно вывел судно из гавани, позаботившись предварительно, чтобы на судне вопреки предписанию не горело ни одного фонаря. Легкий кораблик, покорно повинуясь опытной руке, решительно вышел в море, чтобы поймать там ветер посильнее, словно был большекрылой птицей, которой требуется дуновение воздуха, чтобы взлететь ввысь. Но, отойдя от берега всего на пять-шесть кабельтовых[463], он повернулся к нему бортом, подставив паруса под воздушный поток, текущий с севера на юг вдоль Южной Америки, от Панамы до Чилоэ на юге Чили. Капитан повел свое судно вдоль берега по двум причинам. Во-первых, он старался избежать морского течения, шедшего с юга на север, ибо оно насильно увлекло бы шхуну в открытое море и значительно снизило бы ее скорость. И во-вторых, старый морской волк твердо решил держаться берегов из-за страха перед крейсером, чье отсутствие преисполняло его душу тяжелыми предчувствиями. Подобно тому как браконьеры и контрабандисты интуитивно ощущают присутствие жандарма и таможенника, Боб, немало провернувший на своем веку сомнительных дел, нутром угадывал присутствие поблизости военного корабля. Несмотря на незначительное расстояние от берега, капитан лихо вел во мраке ночи шхуну, шедшую на раздутых парусах, проявляя бесшабашность истинного американца, которого, увы, ничему не учит даже его собственный опыт. Судно, небольшое, словно ореховая скорлупа, маневрировало с удивительной ловкостью. Палуба накренялась порой более чем на тридцать пять градусов, реи едва не касались волны. Шхуна, будто чудовищных размеров морская птица, стремительно летела вперед под белыми, туго натянутыми парусами, то грудью врезаясь в бежавшие навстречу водяные валы, то соскальзывая в образовавшиеся между ними глубокие впадины. Такая скорость в подобный час и в прибрежной полосе далеко не безопасна. К тому же при слишком большой площади парусов, как это имело место в данном случае, внезапный порыв ветра может оказаться фатальным для судна, ибо, не успей команда убрать вовремя паруса, и корабль перевернет. Но безрассудных американцев мало волнуют такие вещи. Шхуна капитана Боба была оснащена бушпритом[464] и двумя изящно отклоненными чуть назад мачтами, к которым крепились два огромных широких прямоугольных и столько же узких треугольных парусов, а также кливер[465]. Со всем этим хозяйством вполне справлялись пять человек. Подобные суда иногда превосходят по скорости даже трехмачтовые, однако управление ими требует не только ловкости, но и везения. Капитан Боб оказался и ловким и везучим: шхуна, чьему скоростному бегу не помешала даже густая темень, из-за которой легко можно было врезаться в берег, неслась по заданному курсу всю ночь, сохраняя неизменной внушительную скорость в девять с половиной узлов, или восемнадцать километров в час, а когда занялся день, она уже входила в спокойную пустынную бухту Кокалита, расположенную на колумбийском берегу на 7°20′ северной широты, где и бросила якорь. Капитан решил пробыть там весь день и вновь пуститься в путь лишь с наступлением мрака: он надеялся таким образом проскользнуть незамеченным мимо крейсера. Шхуна вышла из бухты глубокой ночью и, так же весело покачиваясь на волнах, как и при выходе из Панамской гавани, понеслась на всех парусах во тьму. Американец, вместо того чтобы соблюсти осторожность, как сделал он накануне, решил воспользоваться благоприятным ветром, и в тот миг, когда по прошествии дневного времени суток солнце исчезло за горизонтом, старый Боб узнал по далеко уходящему в море мысу остров Горгон[466]. Поскольку судно, покинув Панаму, прошло более шестисот километров, капитан Боб имел все основания полагать, что теперь он находится в безопасности. Да и зачем, черт возьми, военному кораблю охотиться в ночной мгле за какой-то ореховой скорлупкой? Морской волк, этот достойнейший человек, был в великолепном расположении духа и, чтобы как-то выразить свою радость, решил угостить экипаж отменным грогом, что матросы приветствовали громким «ура». Маленький праздник начался с песен и веселых криков и продолжался крещендо под громогласные вопли виртуозов вокала до девяти часов, ибо именно в это время из глотки капитана, переставшего на время ворчать и умиротворенно потиравшего руки в уверенности, что все прекрасно в этом лучшем из миров, внезапно вырвалось хриплое проклятие. Вдали, в открытом море, прошелся по высоким волнам нестерпимо яркий луч света, устремившийся далеко вперед, вплоть до шхуны. — Чертов кашалот! — Неужто крейсер? — спросил Сайрус, прилегший на кушетку. — Да!.. И он видит нас как днем, чума на его голову! — Вы так полагаете? — Да, дьявол нас возьми! Мы попали в этот чертов электрический луч, как в хвост кометы! — К счастью, корабль не сможет подойти к нам, не сев на мель. — Но в голову его капитана может прийти фантазия потопить нас! Ведь судовые орудия заряжены не арбузами. — Однако крейсер, по крайней мере, в четырех милях от нас. — Ну и что? У него дьявольски сильная артиллерия. — Откуда вам это известно? — Этот корабль — не иначе как «Котран», один из наиболее грозных чилийских броненосцев… Гляньте-ка, он так уверен, что расправится с нами завтра днем, что спокойно тушит свои огни, подобно доброму буржуа, отправляющемуся почивать! Он даже не удостоил нас ни единым пушечным выстрелом. — Ну и что же теперь с нами станет? — Как что?.. Нас повесят, а судно с грузом конфискуют. — Я бы предпочел поджечь два бочонка с виски в трюме, дать разгореться хорошему пожару и затем бросить шхуну на металлическое чудовище, чтобы взлететь на воздух вместе с ним. — Командир корабля — не дурак, он не даст нам подойти близко. — В общем, рассчитывать на спасение нечего… — Если только нас не выбросит волной на берег. — А это крах… — Нашегопредприятия. Конечно, мы при этом понесем значительные материальные потери, но зато спасем свои шкуры. — О, великолепно! — Что такое? — Возможно, нас не повесят и не разорят! Видите красноватый свет вон там, по левому борту, со стороны берега? — Смутно: у меня в глазах все еще мельтешит после электрического света. — Или я глубоко ошибаюсь, или это огонь у входа в бухту Бурро. Только едва ли он, вспыхивая на рейде лишь время от времени, сможет помочь нам войти в нее. — Мы были бы там в безопасности: по такому мелководью крейсеру здесь не пройти. Немедленно беру курс на свет! — А если крейсер обстреляет нас завтра днем? — Бурро, расположенный в дельте реки Искуанда, напротив города того же названия, — колумбийская деревня. У Чили слишком много хлопот с Перу, чтобы еще создавать трудности в отношениях с Колумбией. — Но с корабля могут спустить одну и даже несколько шлюпок, и нас арестуют. — У меня на шхуне несколько мин и два скафандра, так что их шлюпки сразу же взлетят на воздух! — У вас на все есть ответ! А потому поступайте, как сочтете нужным… Капитан, взявшийся за штурвал с начала этого диалога, погрузился в молчание, которое и хранил примерно в течение получаса, сосредоточив внимание на управлении судном, направлявшимся прямо на берег. Свет по мере приближения к нему шхуны становился все ярче. Капитан никак не мог взять в толк, куда подевался вход в бухту, и уже собирался было изменить курс, как вдруг на носу судна раздался треск. Корабль, подхваченный неслыханной силой порывом ветра, повернулся вокруг своей оси, несмотря на отчаянное сопротивление, оказанное этому маневру парусами и рулем, и врезался в скалу, слегка приподнятую над водой. В ответ на вопли ужаса, вырвавшиеся из глоток членов экипажа, послышались крики с берега, оказавшегося всего лишь в нескольких десятках метров от судна. Несколько человек, сидевших вокруг костра, разожженного на небольшом возвышении, находившемся от воды в каких-то двухстах метрах, устремились на помощь потерпевшим кораблекрушение, размахивая головешками, чтобы осветить себе путь. Капитан Боб выл, рычал, рвал на себе волосы: — Да обрушится кара небесная на головы этих несчастных, которые развели тут огонь! Ведь это из-за них я решил, что передо мной Бурро, и в результате разбил корабль!.. Я разорву их на куски!.. Ко мне, матросы!.. Ко мне!.. Незнакомцы, невольно ставшие причиной катастрофы, поспешили предложить свои услуги незадачливым мореплавателям, изумляясь, почему орут на них моряки, устремившиеся с пропоротой скалой шхуны на твердую землю, и отчего столь угрожающи их позы и жесты. Свет от головешек, заменивших факелы, позволил, словно в дневное время суток, различить на лицах пришедших на помощь людей выражение сочувствия. Внезапно партнер капитана издал громкий, заглушивший все остальные голоса крик: — Гром и молния!.. Мои французы: и граф де Клене, и друг его Жак Арно!.. — Полковник Батлер! — воскликнули изумленно французы. — Ах, черт побери, наконец-то я нашел вас!.. И при каких обстоятельствах! Мы здесь не в «Палас-отеле», так что, поверьте мне, памятуя многие ваши поступки, не хотел бы я очутиться в вашей шкуре!..
ГЛАВА 2
Одиссея[467] полковника Батлера. — Лютая ненависть. — Намерение капитана Боба ограбить богатых пленников. — Арифметика пиратов. — Возмещение убытков сторицей. — Развлечение Жюльена. — Характер местных властей. — Задумка морского волка. — Таинственный страж. — Дверь в каменной толще. — Страшная месть. — В лепрозории![468]Прирожденный спекулянт, отчаянный честолюбец и любитель строить воздушные замки, полковник Батлер, этот истинный янки, не знал по-настоящему, что такое ненависть, пока судьба не столкнула его с Жаком Арно и Жюльеном де Клене. Ибо чувство это недоступно человеку очень занятому, не имеющему возможности расходовать на следование эмоциям и свое драгоценное время, и силы. Но невероятное оскорбление, нанесенное наглому американцу Жаком в прихожей снятого французами номера в «Палас-отеле», отказ только что означенного лица от дуэли, использованный противоположной партией на выборах как аргумент против кандидатуры месье Уэллса, последовавшая вслед за тем вспышка ярости, поддавшись коей полковник совершил преступление и в результате был вынужден бежать, — все это споспешествовало тому, чтобы в душе презренного авантюриста проросли семена чувства, доселе практически ему неведомого. Оскорбленный до глубины души, Сайрус Батлер, однако, скорее всего проглотил бы обиду, если бы его прожекты, касавшиеся месье Уэллса, удались, так как для таких людей нет ничего выше удачи. Совесть у них всегда в покое, и, когда цель достигнута, им остается только воспользоваться плодами победы — вещь обычная, особенно в Америке, где все продается. Но полное крушение всех радужных планов, вследствие чего полковнику приходилось начинать жизнь сначала, причем в том возрасте, когда человек уже не без тревоги оглядывается на пройденный путь, родило в нем всепоглощающую, холодную, цепко ухватившуюся за него ненависть по отношению к тем, кого он считал виновниками постигших его неудач. Провал тщеславных и алчных замыслов, беспрестанно терзавших его, и не занятый ничем дельным мозг превратили Батлера в жертву ненависти, которая вскоре заменила, а точнее поглотила, все остальное. И с тех пор неукротимым янки владела лишь одна мысль: разбогатеть любой ценой и как можно скорее, чтобы расправиться со своими врагами жестоко и своеобразным образом, с некоей американской спецификой. Можно сказать, начал он удачно. Зная о намерении двух друзей добраться до Бразилии по суше и о их планах доехать до Аризоны-Сити на поезде, а потом пересечь Мексику по грунтовым и шоссейным дорогам, он выехал из Сан-Франциско двенадцатью часами раньше, чем они, завербовал в Аризоне-Сити нескольких мошенников, соблазненных щедрым вознаграждением, и с их помощью устроил засаду двум путешественникам неподалеку от венты Карбокенья, у мексиканского городка Алтар. И все это для того, чтобы взять их живыми, подвергнуть жесточайшим, изощренным пыткам, заимствованным у краснокожих, истязателей по своему духу, и взыскать со своих недругов огромный выкуп, перед тем как предать их мучительной смерти. Известно, что этот дерзкий план едва не удался негодяю. Неудача с засадой не только не обескуражила искателя приключений, но послужила ему новым стимулом для преследования французов. Понимая, однако, что торопиться не стоит, если он не желает навредить себе, и будучи твердо уверен в том, что в нужное время и в нужном месте непременно разыщет двух друзей, полковник решил отказаться пока от новых попыток настигнуть своих обидчиков и, повинуясь лишь одному из тех импульсов, которым трудно противостоять, отправился без определенной цели в Гвиану[469], где и повстречался с капитаном Бобом, старым приятелем, с которым совсем еще недавно беспутничал и прокручивал такие делишки, что только чудом избежал веревки. Морской волк промышлял в эти дни контрабандой в республиках Центральной Америки, или, как говаривал он сам, занимался каторжным трудом, едва позволявшим сводить концы с концами. В ту пору между Чили и Перу шла война, принимавшая все большие масштабы как на суше, так и на море. Обе стороны лихорадочно вооружались, особенно Перу, которая, испытывая острую нехватку оружия, закупала его где только могла и по любой цене. Оба мошенника, не имевшие за душой ни гроша, нюхом чуяли в вооруженном конфликте возможность легко и быстро поживиться. Благодаря счастливому для них случаю мошенники завязали отношения с консулом Перу в Гвиане, только что получившим от своего правительства циркуляр, предписывавший перуанским чиновникам, служившим за границей, заняться закупками военного снаряжения, и тот сразу же предложил приятелям взяться за поставки оружия в его страну, на что они, не колеблясь, ответили согласием. Консул немедленно вручил им соответствующие документы, касающиеся кредитов официальным представителям Перу в США. У капитана Боба было уже готовое к плаванию судно вместе с экипажем. Он тут же, не мешкая, поднял паруса и, доставив полковника в Панаму, спокойно стал поджидать сообщений в гавани, в то время как Сайрус Батлер, обретя прежний азарт, добрался по железной дороге в Колон, затем первым же пароходом отправился в Новый Орлеан[470], где вступил в переговоры с владельцами оружейного завода и в конце концов заключил сделку, в которой имел свою выгоду каждый: промышленники, посредники и воюющая страна. Полковник лично сопровождал товар, сам проследил за его погрузкой в Колоне, заранее предупредил капитана Боба, чтобы тот был наготове, и, как мы уже видели, организовал доставку военного снаряжения на шхуну. Все, казалось бы, шло как нельзя лучше, и по прошествии нескольких дней парусник с находившимся на его борту бесценным грузом, который с таким нетерпением ждали перуанские войска, прошмыгнув под носом у крейсера, вошел бы победоносно в порт Кальяо[471], если бы не непредвиденное обстоятельство. Нетрудно представить себе, какая ярость овладела полковником и его приятелем, когда судно ударило о скалу, а их надежды на быстрое обогащение развеялись в пух и прах, и какие чувства охватили Сайруса Батлера, узнавшего среди невольных виновников кораблекрушения жертвы своей лютой ненависти. Матросы тотчас грубо схватили Жака и Жюльена, которые прибежали на место бедствия без оружия, и в мгновение ока крепко-накрепко связали их по рукам и ногам, лишив пленников малейшей возможности даже пошевелиться. Неожиданная встреча с заклятым врагом, повергнувшая, вполне естественно, наших друзей в изумление, и внезапное нападение на них людей, к которым, как считали французы, они поспешили на выручку, внушали злосчастным путешественникам серьезные опасения относительно их дальнейшей судьбы. Вскоре на берегу шумной группкой появились метисы, — судя по костюмам, колумбийские погонщики мулов. Их не так давно наняли французы, продолжавшие свой путь из Парижа в Бразилию по суше. Несчастные пленники! Жалкий их эскорт! Стоило только метисам увидеть, в каком плачевном положении оказались их хозяева, как они тотчас же повернули назад и, подбежав к костру, в один миг потушили его. В темноте послышалось фырканье разбуженных вьючных животных и стук сабо по булыжнику, а затем наступила тишина. Жак и Жюльен, столкнувшись с такой подлостью со стороны своих спутников, только и смогли, что пожать плечами, — насколько им позволяли путы, — продолжая при этом гордо хранить молчание. Два матроса подобрали горящие головешки и, стоя неподвижно, освещали мрачную сцену, участники которой обменивались дикими взглядами, предвещавшими взрыв, не заставивший долго себя ждать. Полковник, совершенно потеряв здравый смысл и не считая нужным сдерживать свои страсти, грубо поносил пленников, не жалея мерзких эпитетов, что было необычно даже для янки. Он рычал, грозил кулаком, задыхался, хрипел, потрясал револьвером и, прервав на мгновение свои вопли, чтобы набрать воздуху, продолжал затем с новой силой: — Вонючие хорьки!.. Подонки!.. Свиньи!.. Я спущу с вас шкуру!.. Сдеру ее с ваших дрянных костей по частям!.. Я искромсаю вас на куски!.. Отдам ваши тела на съедение насекомым!.. Посмотрим тогда, чего стоит ваше высокомерное безразличие!.. Но друзья по-прежнему делали вид, что не обращают на бесновавшегося полковника ни малейшего внимания. Капитан Боб, рассмеявшись громко и, ей-богу, непочтительно, прервал наконец отвратительную брань. — Вы с ума сошли, Сайрус! — воскликнул великан. — Да, я вне себя от ярости! — Хороши же, нечего сказать! Вы же видите, джентльмены даже не замечают нашего присутствия! — Я знаю, как развязать им язык! — Я тоже, черт подери! — Так почему бы нам не заняться ими всерьез прямо сейчас! — Не спешите, приятель, прошу вас! Я знаю ваши приемы, а они не лучше моих: человек, прошедший через наши руки, годен лишь на то, чтобы бросить его на съедение акулам. — И что же вы собираетесь сделать с этими двумя недоносками? — Заставить их уплатить за разбитые горшки, если только это будет им по средствам. Я — человек дела, вот так! Клянусь, когда у меня на глазах пропоролось брюхо моего несчастного суденышка, я тоже пришел в ярость. Но эта ваша насмешившая меня вспышка гнева и изреченные вами глупости вернули мне хладнокровие. — Поверьте, мне недостаточно одних их денег! — Вы ненасытны! Я лично требую лишь, чтобы они возместили нам стоимость шхуны и груза. А потом пусть идут куда желают, хоть к самому дьяволу! — А я не согласен! Мне этого мало! — Черт возьми, что вам еще надо? — Чтобы они заплатили за все своей шкурой!.. Я подвергну их пыткам!.. Выпущу из них всю кровь, каплю за каплей!.. Нарежу ремней из их кожи!.. Они испытают все муки, какие только может выдержать живое существо, будь то животное или человек!.. — Правда, дружище, — невозмутимо продолжал капитан Боб, — джентльмены должны быть чертовски богаты, чтобы оплатить нанесенный нам ущерб. — Но разве вы не знаете, что они утопают в роскоши… неописуемой?! Особенно этот! — указал полковник пальцем на Жюльена, как никогда холодного и высокомерного. — А чего ж вы раньше молчали? Орете, как старый вождь краснокожих, готовящий пытку своему пленнику! На кой черт? Бизнес есть бизнес, и сейчас наступило самое что ни на есть время делать деньги! — Вот именно! И я иду прямо к цели, не отклоняясь. — Я не спрашиваю вас, откуда вы знаете джентльменов и каким образом вам стало известно, сколько у них денег. — И поступаете совершенно правильно: они богаты, и этого достаточно! — Позвольте, я побеседую с ними сам: вы слишком разнервничались, чтобы вести переговоры такой важности… Послушайте, сэр, — обратился капитан Боб к Жюльену, — вы ведь согласны возместить нам убытки, которые мы понесли из-за вас? — Прежде не мешало бы выяснить подлинную причину ваших убытков и сумму, на какую вы претендуете, — холодно ответил тот. — Нас, меня и моего друга, держат, вопреки всем законам, связанными по рукам и ногам, словно мы какие-нибудь мошенники, но на угрозы нам наплевать, даже если и приведет их в исполнение самый свирепый из ваших бандитов. — Клянусь, не стоит об этом! Я не хочу с вами спорить, но только, мне кажется, вы заблуждаетесь относительно моего компаньона, славного полковника Батлера. Что же касается причины убытков, то она налицо: свет от костра, у которого вы, вероятно, спали, был ошибочно принят за огни рейда Бурро. Я направил шхуну в вашу сторону и в результате налетел на прибрежную скалу. Стало быть, прямая, главная причина нашего крушения — это вы. — Простите, а кто вел это судно? — Я, капитан Боб! — Ну что ж, — произнес насмешливо Жюльен, — считаю необходимым заметить вам, капитан Боб, что мыслите вы в высшей степени логично. — Еще бы! — И посему я не стану опровергать ваш аргумент, который представляется мне в высшей степени непререкаемым. — Стало быть, вы признаете себя виновным в катастрофе? — Прежде всего я признаю, что вы самый удивительный тип на свете и вполне могли бы претендовать на титул отпетого мошенника. — Оскорбления, джентльмен, оплачиваются отдельно! — Можете предъявить ваш счет. — Моя шхуна, лучше которой не было на ходу, полностью отвечала своему назначению и отлично служила мне. Заменить ее нечем. Я думаю, двухсот тысяч франков хватило бы, чтобы купить другую и смягчить мое горе. — Совсем немного! — Да, конечно: видите ли, я проявляю при ведении дел сознательность… И еще пятьсот тысяч франков за груз. — Который состоял из?.. — Винтовок с патронами для перуанского правительства. — О! — Вас это удивляет? — Да, ибо вы похожи больше на пирата, по которому плачет веревка, чем на одного из тех честных типов, что сопровождают военную технику. — То, что лежит на поверхности, часто сбивает с толку, — произнес напыщенно капитан Боб. — Пятьсот тысяч плюс двести тысяч, — прервал его Жюльен, — равняется, если следовать правилам арифметики, семистам тысячам. Это все? — Я вижу, вы смеетесь! Мы немного не добрали до миллиона. Но этот крохотный предварительный результат — всего-навсего закуска перед обедом, если можно так выразиться. — А, понятно! И что ж, вы рассчитываете потребовать с нас не один миллион? — И не только потребовать, но и получить причитающиеся нам денежки. — А вот последнее — уже труднее. — Вы отказываетесь удовлетворить наши требования? — Черт побери, да известно ли вам, что вы никак не тянете на истинного американца, ибо ведете себя как отпетый дурак? Не видите разве, что вот уже четверть часа я вожу вас за нос и потешаюсь над вами в свое удовольствие? — Возможно, вы и в самом деле лишь потешаетесь. Про вас, французов, говорят, что вы тонко чувствуете иронию, моя же крокодиловая кожа неспособна воспринять уколы ваших насмешек. Ну что ж, развлекайтесь, смейтесь на здоровье, месье француз! Обещаю вам, хоть я и отпетый дурак, но сейчас вы сдадитесь, несмотря на все ваше остроумие. — Посмотрим! — Потерпите минутку! Я только посоветуюсь с моим напарником, расскажу ему о своей задумке. План великолепный… верный. Сами увидите! Капитан Боб, подав знак своему бледному от бешенства соучастнику, отвел его на несколько шагов и стал тихо втолковывать ему что-то. Минуты через три-четыре голоса зазвучали громче, и Жак с Жюльеном смогли расслышать отдельные слова. — Так вы уверены, — спросил полковник, — что мы всего-навсего в трех милях от Бурро? — Да, абсолютно! — А где то заведеньице, куда вы хотели бы поместить французов, чтобы сделать их сговорчивее? — Всего в полумиле отсюда. — Великолепно! Однако власти могут поинтересоваться, почему мы держим их в заточении. Капитан Боб расхохотался: — Разве вы не знаете, что в этих премилых странах власти на стороне того, кто им платит… или держит их на мушке своего револьвера? Надо только проявить выдержку, и мы, вопреки международным законам о нейтралитете, пройдем с нашим грузом куда пожелаем. За неимением долларов мне пришлось прихватить этих головорезов, способных по мановению моей руки разнести в щепки хоть целый поселок. — У вас на все есть ответ, а посему я с закрытыми глазами подписываюсь под вашим проектом. Разговаривая так между собой, негодяи вернулись к пленникам, охраняемым матросами, напоминавшими видом своим настоящих пиратов. — Итак, — прохрипел капитан Боб, обращаясь к французам, — вы твердо решили отказаться от сделки? — Да, твердо, — ответили в один голос Жак и Жюльен. — Превосходно! Я ожидал этого. А между прочим, я подумываю о том, чтобы оказать вам гостеприимство, поместив вас в такое местечко, где вы спокойно все обдумали бы, перед тем как принять наконец спасительное решение… Сайрус, я правду говорю? — Вне всякого сомнения! — прорычал тот. — Я уверен, они быстренько капитулируют и с радостью предложат нам свое состояние — конечно, в обмен не на жизнь, а на быструю смерть! — Что вы собираетесь с нами сделать? — не дрогнув, произнес Жюльен, хотя от таких зловещих слов у любого другого побежали бы мурашки по телу. — Мы уведомим вас об этом в ближайшие четверть часа, если вы окажете нам милость сопровождать нас, — съязвил капитан. — Но мы не сможем идти, если вы не развяжете нас. — О, об этом не беспокойтесь: вас отнесут мои молодцы!.. Эй вы, заберите-ка этих джентльменов и несите их со всеми почестями, подобающими типам, у которых больше миллиона долларов в кармане!.. Ну как, порядок? — Так точно, капитан! — В таком случае следуйте за мной… Вы же, Сайрус, приглядывайте за кортежем и не забудьте при этом зарядить револьвер. Мои парни — сущие ягнята, ангелы, спустившиеся с небес, но по дороге их могут подкупить, и тогда ищи ветра в поле. Сверните шею первому, кто захочет сойти с дороги. А теперь — go ahead! Процессия тронулась в путь, и через четверть часа, как и обещал морской волк, отряд остановился возле высокой белой стены, выглядевшей на фоне звездного неба частью крепостной ограды. Произнесенное по-испански тихим, без всякой окраски, немного надтреснутым голосом: «Кто идет?» — остановило капитана, который в свою очередь скомандовал: «Стой!» — и резко отступил назад. И тут же из ниши, где была встроена в зловещую каменную толщу широкая сводчатая дверь, вышел человек. — Сторож, это ты? — слегка заикаясь, спросил капитан Боб. — Да, ваше превосходительство, — ответил тот хрипловато. — Вот еще два пансионера…[472] — А!.. — Кабальеро!.. Настоящие белые, с голубой кровью![473] — А-а!.. Для несчастных чернокожих, метисов и краснокожих это будет большой честью: у нас тут нет настоящих белых с голубой кровью! — Запомни только: они не должны сбежать отсюда или связаться каким бы то ни было образом с внешним миром. Человек произнес, задыхаясь от кашляющего смеха, словно астматик: — Вы же знаете, ваше превосходительство, стена — высока, а дверь — прочна. И вам известно также, что отсюда никто не выходит… даже после смерти. — Да, и вот еще: мы хотели бы несколько позже снова увидеть обоих кабальеро. — Хорошо. Но только через решетку. — Вот и чудесно! Возьми же за труды, — сказал Боб, бросая кошелек, издавший при падении на землю металлический звук. — Большое спасибо, великодушный мой господин! — прохрипел своим странным голосом таинственный страж, подбирая вознаграждение. — Черный бедолага получит немного хлеба, фруктов и похлебки и будет благодарен вам за то, что вы подарили ему несколько минут счастья! Затем сторож молча скрылся в тени, где таился вход в загадочное заведение, вставил ключ в замочную скважину, со скрежетом повернул его, и дверь, заунывно всхлипнув, медленно повернулась на петлях. В тот же миг веревки на затекших уже к тому времени ногах и руках наших пленников были перерезаны, и французов грубо втолкнули в мрачно зиявший перед ними проем. Деревянный створ, открывавшийся наружу с помощью противовеса, с грохотом закрылся за ними, и они упали на липкий, весь в трещинах пол. — Пойдемте скорее отсюда! — проворчал капитан Боб, обращаясь к напарнику. — Меня тошнит от этого отвратительного места! Такое ощущение, будто отсюда исходят зловонные чумные пары! — Вполне разделяю ваши чувства, — ответил полковник и, повернувшись к двери, прокричал своим скрипучим голосом: — Эй, месье Арно!.. Эй, месье де Клене!.. Вы хорошо меня слышите? Хотите знать, где вы и как рассчитываю я смирить вас? — В ответ — молчание. — А вы нелюбопытны! И все же я вам скажу. Так вот, знайте, вы погребены здесь заживо, ибо отсюда не выносят даже трупы: это — лепрозорий!
ГЛАВА 3
Мнение секретаря французской миссии в Мексике о путешествии по суше. — Возражение Жака против поездки по морю. — Воспоминание о лорде Кошране. — Пеший путешественник. — Отказ Жюльена от претензий на оригинальность. — От Лондона до Камчатки — по суше. — Романтическое завершение беспрецедентного[474] путешествия. — Решение двух закоренелых холостяков. — Обещание Жака вернуться во Францию морем. — От Мехико до Гватемалы. — Через республики Центральной Америки.Сейчас мы расскажем о том, как Жак Арно и Жюльен де Клене, которых мы совсем недавно оставили в Мехико в гостях у секретаря французской миссии в Мексике, оказались в этот час в Соединенных Штатах Колумбии[475] на 2°55′ северной широты и 80°20′ западной долготы, то есть в нескольких километрах от небольшого, мало кому известного порта Бурро, затерявшегося в дельте реки Искуанда. В предыдущей главе мы напомнили об организованном полковником Батлером нападении на них неподалеку от венты Карбокенья, вблизи маленького мексиканского городка Алтар. Читателю известно также, каким образом удалось нашим друзьям спастись от злодеев, нанятых этим мошенником, ибо он не забыл, конечно, ни о неожиданном прибытии дилижанса, везшего наряду с почтой кругленькую сумму звонкой монетой, ни об отказе курьера пустить в экипаж французов, принятых им за разбойников, и ни о том, как путешественники, применив оружие, забрались в фургон, подтвердив тем самым предположения государственного служащего. Не улетучились из памяти читателя и возмущение, искреннее или наигранное, алькальда Алтара, текст телеграммы, посланной Жюльеном представителю Франции в Мехико, и довольно странный ответ на нее, предписывавший местным властям рассматривать двух путешественников как государственных преступников, не спускать с них глаз, обратить особое внимание на сохранность их багажа и как можно быстрее доставить арестантов в столицу. Жак и Жюльен, скорее заинтригованные, нежели обеспокоенные подобными причудами судьбы, без особых хлопот добрались до Мехико, где были приняты с распростертыми объятиями секретарем миссии — близким другом Жюльена, не нашедшим ничего лучшего, как — странное дело! — объявить на время своих соотечественников государственными преступниками, дабы они могли совершить путешествие до мексиканской столицы, от которой их отделяли две недели пути, в полной безопасности. Секретарь, сознавая огромные, почти непреодолимые трудности, которые выпадают на долю каждого, кто решится пересечь страны Центральной Америки, где дороги по большей части находятся в ужаснейшем состоянии, тщетно пытался преодолеть предубеждение Жака против водного транспорта. Нарисовав весьма мрачную картину путешествия по суше, рассказав о тех препятствиях, с которыми они будут сталкиваться на каждом шагу, Анри де Шантенуа заверил своих приятелей, что они даже не заметят, как доберутся морским путем до Рио-де-Жанейро. От Мехико до Веракруса[476] — всего несколько часов по железной дороге. А там садись на первый попавшийся пароход, идущий к Антильским островам, и следуй спокойно таким, к примеру, маршрутом: Гавана — Сент-Томас[477] — Пара[478] — Пернамбуку — Рио. Жак, у которого подобное предложение еще совсем недавно исторгло бы громкие вопли, внимательно прислушивался к мудрым словам секретаря, делая вид, что тщательно взвешивает их, а затем, заявив, что никак не может согласиться с мнением их друга, выдвинул в поддержку своего несогласия аргументы, повергшие в изумление даже Жюльена, давно знакомого с особенностями мышления своего спутника. — Понимаете, — сказал Жак дипломату, — чтобы проделать этот маршрут, потребуется дней двадцать пять — двадцать шесть. — Да, примерно так. — А от Рио до конечной цели нашего путешествия по-прежнему будет так же далеко, как и раньше. Но ведь скоро уже год, как мы покинули Францию, и нам надо спешить. — Пожалуй, ты прав: в общем-то, если иметь в виду протяженность пути, то действительно нет особой разницы, откуда добираться до столицы Бразилии[479] — из Веракруса или из Бордо. — Вот именно! Что касается меня, то я могу сказать по этому поводу что тебе, что Жюльену только одно: к данному моменту я уже немало побродил по белу свету и достаточно огрубел, чтобы не бояться соленой воды. — Не может быть! — Да, я бы не задумываясь сел на любое судно. — Ну а со мной всякий раз приключается морская болезнь, стоит только мне сесть на корабль, — признался советник. — И чему удивляться, если ею страдают даже некоторые адмиралы, не говоря уже о юнгах?.. И все же последуйте моему совету — отправляйтесь по железной дороге в Веракрус, а оттуда — пароходом. — Хорошо, я сяду на судно… Но лишь затем, чтобы вернуться во Францию, — естественно, после того как мы совершим свое путешествие из Парижа в Бразилию по суше. Таково мое последнее слово! — Но это же чистейшей воды безумие! — заметил Жюльен. — Ты ведь только что заявил, что с твоей… манией боязни поездок по морю уже покончено раз и навсегда! — Ты что, забыл о тысячах километров, которые преодолели мы на нескольких континентах?.. О бескрайних просторах Сибири?.. О моем стремительном броске через Аляску, пожалуй, единственном в своем роде?.. О трудностях, с которыми пришлось нам столкнуться в Британской Колумбии и, наконец, в Мексике! — Нет, не забыл, но… — Что «но»?.. Ты хочешь свести на нет все наши усилия? Чтобы мы пришли с жалостным видом в порт и, как истинные буржуа, бесславно закончили предприятие, какого еще никто не совершал до нас? — Возможно, его никто не совершал лишь потому, что просто не задавался такой целью или не страдал гидрофобией. — Впрочем, один попытался совершить нечто подобное, и не без успеха, — невольно рассмеявшись, уточнил, обращаясь к советнику, Жак. — Ты слышал о лорде Кошране? — О герое борьбы чилийского народа за независимость?..[480] Который так здорово расправлялся с испанцами, что они окрестили его дьяволом?.. — Нет, о его брате, Джоне Дандасе Кошране, прозванном пешим путешественником. Мексиканские газеты на днях поведали о нем в связи с удивительнейшей авантюрой, как величают они наше путешествие, — ответил Жак и повернулся к Жюльену: — А ты ведь совсем не читаешь газет, не так ли? — Да, так! — высокомерно отчеканил Жюльен. — Будь добр, расскажи об этом пешем путешественнике: с удовольствием послушал бы о его приключениях, о которых — да простит мне Бог! — я не удосужился прочитать в твоих газетах. — Его история в двух словах такова. Лорд Кошран решил обойти пешком наш шарик, поелику возможно, учитывая, естественно, и рельеф континентов. Его маршрут был примерно тот же, что и у нас… — Так что я, кажется, не могу претендовать на авторство идеи, легшей в основу нашего путешествия. — Бог с ней, с идеей! Ведь главное — не придумать ее, а претворить в жизнь. Итак, я сказал, что маршрут лорда Кошрана был примерно таков, как и наш, с той лишь разницей, что, достигнув Бразилии, он должен был продвигаться по направлению к Пернамбуку — точке Американского континента, наиболее приближенной к Африке. От Пернамбуку до Дакара[481] насчитывают, если не ошибаюсь, сто с хвостиком лье. В этом городе наш путешественник рассчитывал сесть на пароход «Атлантика», а по прибытии в Дакар снова перейти на пеший режим, с тем чтобы пересечь Сахару, добраться до Марокко, а оттуда, переправившись через Гибралтарский пролив, — до Испании и затем до Франции… — Понял. Его маршрут посложнее нашего! Но я и не ставил перед тобой подобной задачи. — Ты не учитываешь того, что из-за моей гидрофобии нам пришлось бы вернуться из Бразилии в Париж тем же путем. — Но это уже — в качестве компенсации за более легкий маршрут. — Продолжаю мою историю. Лорд Кошран шел отнюдь небезостановочно… — Черт возьми, я так и думал! Я знаю много таких героев у камелька…[482] этих добряков в теплых панталонах[483], в ватных безрукавках и бумажных колпаках. Им ничего не стоит преодолеть тысячи километров… греясь у каминов. Среди них не один, прочитав путевые заметки землепроходцев и ощутив в себе прилив энтузиазма, воскликнул патетически: «О, я был рожден для путешествий!» Такие люди загораются, представляя себя Мунго Парком[484] или Ливингстоном[485], когда, составив завещание, отправляются, сытые и слегка разочарованные итогами своей жизни, в Гранвиль[486] или в Сабль-де-Олон. — Твоя тирада[487] не имеет никакого отношения к нашему предшественнику, ибо если кто и был способен осуществить подобный, требующий неимоверных усилий замысел, так это, несомненно, только он. У этого человека не было ничего общего с «кабинетными путешественниками», о чем ты сможешь сейчас судить и сам. Выехав из Лондона в январе тысяча восемьсот двадцатого года, в апреле он прибыл в Петербург, который покинул в конце мая. Возле Новгорода его обчистили, но губернатор города возместил ему убытки, — это смахивает немного на нашу историю. Затем лорд Кошран посетил Москву, Казань, пересек Уральские горы, остановился в Тобольске, поднялся по Иртышу до Семипалатинска, побывал в Томске, переправился через Лену, в октябре месяце попал в Иркутск и, несмотря на ужасный холод, добрался до Нижнеколымска — и все это в одиночку и при температуре воздуха пятьдесят два градуса ниже нуля! — Черт подери! — Чукчи запретили ему ступать на их территорию, и тогда он взял курс на северо-восток, к Берингову проливу, и в конце июня тысяча восемьсот двадцать первого года достиг Охотска. Он буквально умирал от холода и голода и на протяжении шестисот пятидесяти километров не встретил ни одного живого существа! Двадцать пятого августа лорд отправился на Камчатку и без всяких приключений прибыл в Петропавловск. Дальше ему не суждено было идти… — Наверное, умер от перегрузок? — Нет, он попросту женился на дочери ризничего…[488] — А!.. — Вернулся с женой он той же дорогой и в Лондон прибыл после трех с половиной лет отсутствия. — Вижу на его месте тебя, которому не терпится реализовать то, что обстоятельства помешали выполнить англичанину. — Безусловно! Мы с тобою — пара закоренелых холостяков, и нам не надо опасаться, что наши планы будут сорваны из-за банальной истории, приключившейся с пешим путешественником. — Я, во всяком случае, за себя спокоен. — Я тоже. Следовательно, мы продолжаем наше путешествие из Парижа в Бразилию по суше. Станем и далее продвигаться только вперед, что бы ни случилось в дороге, пусть даже на осуществление нашего замысла нам потребуется много лет! — Полностью согласен с тобой, дорогой Жак, и всегда, как и прежде, мы будем вместе. — Видишь ли, Жюльен, я давно хотел сказать тебе, что мы должны и впредь следовать сухопутным путем вовсе не потому, что нам не грозят в этом случае обмороки, как у малодушных канцелярских крыс, и отнюдь не из-за страха перед соленой водой, испытываемого буржуа. Все дело в том, что у нашего проекта есть один очень важный аспект, а именно: наши честь и достоинство, сохранение коих куда важнее для нас, чем чье бы то ни было мнение о нашем путешествии. — Браво, рад видеть тебя таким! Наконец-то ты переборол в себе это старческое оцепенение и стал что надо: спокойным, решительным — без ненужных восторгов, но и без душевной слабости. С подобным настроением всего добьешься! Кстати, твое обещание вернуться во Францию морем — это всерьез? — Конечно, клянусь честью! — Великолепно! А теперь попрощаемся с нашим дорогим хозяином, пошлем Алексею и Перро депешу в Карибу со словами признательности, и завтра же — навстречу новым приключениям!
Нет смысла утомлять читателя описанием случившихся в дороге многочисленных происшествий, порой досадных, иногда опасных, но всегда банальных для закоренелого путешественника, привыкшего стойко преодолевать любые трудности. Приступы лихорадки, падение в ямы, столкновения с ядовитыми змеями, несколько встреч тет-а-тет[489] с кайманами[490], отвесные скалы, непролазные болота, лесные чащобы, бурные реки и, наконец, постоянные муки от бесконечных укусов насекомых, самым назойливым из которых был клещ, — это то, что определяло специфику жизни наших друзей на протяжении трех месяцев, последовавших за их отъездом из Мехико. Думается, читатель не станет возражать, если мы познакомим его вкратце с маршрутом, проделанным за это время Жаком и Жюльеном и представляющим, помимо всего прочего, и чисто географический интерес. Проехав по еще не достроенной железной дороге двести километров, отделявших Мехико от Теуакана, они верхом на лошадях отправились в Теуантепек. Значительная часть пути, пролегавшего через Оахаку, приходилась на гористую местность, что обусловливало медленные темпы передвижения при огромных нагрузках, которые приходилось переносить и всадникам и животным. Обогнув залив Теуантепек, друзья очутились в деревушке Метапа, у мексиканско-гватемальской границы, в семистах километрах от Оахаки, и затем не останавливаясь одолели череду холмов между южными склонами гватемальских гор и песчаным побережьем Тихого океана. И пусть местность вокруг уже не была теперь столь чарующе красивой, зато наши путешественники выиграли в скорости, что позволило им довольно быстро проехать по ровной прибрежной дороге триста километров по гватемальской территории, отделяющей Мексику от Республики Сальвадор. Придерживаясь и далее легкого для передвижения приморского тракта и восхищаясь в пути великолепными лесами, неутомимые французы за сравнительно короткое время пересекли только что упомянутое маленькое государство и, пройдя принадлежавшим Гондурасу живописным прибрежьем бухты Фонсека, вступили на территорию Никарагуа. Проведя два дня в столице Никарагуа Леоне[491], поразившей их сравнительно большой численностью ее населения, составлявшей сорок тысяч человек, и, кроме того, примечательной удивительными памятниками старины и университетом, Жан с Жюльеном двинулись в дальнейший путь по достаточно хорошей дороге, ведущей в Республику Коста-Рика, что позволило им лицезреть озера Манагуа и Никарагуа, величаемые здесь морями. Называться так, конечно, довольно лестно, но чему обязаны они подобными определениями — своему ли происхождению или просто почитанию их наподобие «господина моря Байкал», — мы не знаем. Оставив позади Гванакасту, друзья прибыли в маленький коста-риканский городок Эспарза, а затем — и в Тарколес, где, увы, им пришлось распрощаться с прекрасным, утоптанным мулами трактом и ступить на узкую тропинку, посещаемую лишь скотоводами. Совершив незабываемый переход по лесистым горным кручам Доты, они, смертельно усталые, добрались до федеративного государства Панама. А далее — ни дорог, ни тропок, ни даже смутного намека на то, что здесь существуют какие бы то ни было пути сообщения, что, однако, не помешало нашим французам оказаться вскоре на территории Панамского перешейка — узкой, вытянувшейся, как язык, полоске суши между Атлантическим и Тихим океанами, соединяющей два материка — Северную и Южную Америку — и имеющей протяженность, если принять за нее расстояние между Колоном и Панамой, не более семидесяти двух километров. Продвигаясь по этому краю, который, как замечает месье Арман Реклю[492], не предлагает вашему взору ни равнин, ни плато и где путник видит повсюду лишь хаотическое нагромождение покрытых изумрудно-зеленой тропической растительностью холмов — островерхих или куполообразных, друзья доехали на мулах до города Панама и, отдохнув там как следует несколько дней и пополнив продуктовые запасы, вновь пустились в дорогу. Обогнув Панамский залив с востока, наши землепроходцы повернули сперва на юго-восток, а потом — прямо на юг и через какое-то время ступили наконец на территорию Южной Америки. За три месяца, прошедшие после того, как они покинули Мехико, ими было пройдено более шестисот лье по путям-дорогам, потребовавшим от них немалого мужества и стойкости. Далее они переправились через многочисленные колумбийские реки, впадающие в Тихий океан, перевалили через небольшую горную цепь, не входящую в Кордильеры[493], или, как называют их здесь, Анды, проехали, не задерживаясь, Порто-Пинас, Порто-Квемадо и Порто-Купика, оставили позади мыс Коррьентес, вновь пересекли огромное количество водных потоков, среди которых были и такие довольно большие реки, как, например, Бодо и особенно Сен-Жуан, передохнули пару деньков в маленьком портовом городке Санта-Буэнавентура[494], миновали безо всяких происшествий побережье залива Чоко, насыщающего воздух ядовитыми испарениями, вызывающими ужасную лихорадку у европейцев, и одним прекрасным вечером расположились на возвышенности неподалеку от приморской деревушки Бурро, где и приключилась с ними уже известная читателю драма.
ГЛАВА 4
Тревожная ночь. — Ужасная действительность. — Элефантиаз[495]. — Человеческие останки. — Шапетоны[496], или люди с голубой кровью. — Клятва мести. — Попытка выломать дверь. — Двор чудес. — Страж порядка. — Оружие в руках Жюльена. — Усмирение толпы. — Грозный мушкетон. — Отчаяние Жака. — Проем в стене. — Разгадка чуда. — Снаряды, не попадающие в цель.Несмотря на все их мужество, Жак и Жюльен похолодели от страха, когда услышали зловещие слова, которые прорычал полковник после того, как за ними захлопнулась дверь таинственного заведения: «Вы погребены здесь заживо, ибо отсюда не выносят даже трупы: это — лепрозорий!» Им не раз случалось, особенно в субтропиках, видеть больных проказой, и вид этих несчастных вызывал у них в равной степени и ужас, и чувство жалости. Этот недуг, до сих пор считающийся неизлечимым, — явление довольно частое в местах низменных и сырых, где он ищет свои жертвы в основном среди тех групп населения, которые живут в крайне тяжелых условиях. Немало таких больных можно встретить, например, в некоторых районах вдоль западного, тихоокеанского, побережья Колумбии. Если проказа, или лепра, поражает одинокого человека, поселившегося по тем или иным причинам вдали от других людей, то он, изолированный ото всех, молча тянет тяжелую лямку своего жалкого существования, пока из-за постоянно прогрессирующей болезни не лишается способности трудиться, вслед за чем наступает смерть. Тех же, кого эта страшная хворь настигла в городах или деревнях, направляют вне зависимости от их желания в учреждения, только называющиеся лечебными, поскольку в действительности больные там лишены самого элементарного ухода. Да что я говорю! Лепрозории, за редким исключением, — это жалкое скопище грязных развалюх, возведенных кое-как на топкой земле и окруженных стеной, через которую никому никогда не перелезть — ни снаружи, ни изнутри. Чтобы больные не умерли с голоду, один-два раза в неделю им бросают через окошечко еду. У них нет больше ни семьи, ни родных, ни друзей… Никто из внешнего мира никогда с ними не общается, и ужас, который они внушают отсталому населению Колумбии, таков, что их положение еще более незавидно, чем даже у прокаженных в средневековой Франции. Капитан Боб знал все это и, как вы помните, чтобы принудить Жака и Жюльена повиноваться, решил поместить их вместе с отвратительной компанией прокаженных Бурро. — Лепрозорий!.. — прошептал Жюльен изменившимся голосом. — Я бы предпочел, чтобы меня бросили в ров с самыми ядовитыми змеями… — Бандит! — проворчал Жак. — И зачем только мы не дали Перро сломать ему шею?.. Что делать?.. Я боюсь шаг здесь ступить… Ну и кошмарная же ночь! — Подождем до утра… А пока надо взять себя в руки. Немыслимо, чтобы мы остались в таком положении… — На что тынадеешься? — Э, мой бедный друг, если б только я знал! Прислонимся к стене и постараемся не двигаться. Непосредственно нам ничто не грозит, и если ты видишь меня таким взволнованным, то это просто нервы шалят… Мне нехорошо… Тошнота подкатывает к горлу, и я ничего не могу с этим поделать. Ночь была долгой и тягостной для наших заключенных, сидевших на корточках у стены. Они слышали приглушенные жалобы, хрипы, раздававшиеся в сырой темноте то там, то здесь, чувствовали, как колышется и вздрагивает у них под ногами мягкая болотистая почва, словно в тине под ними барахтались ящерицы. Наконец занялась заря, и друзья, хотя и были не робкого десятка, содрогнулись при виде картины, представшей их взору: даже испытанная в боях храбрость пасует иногда перед зрелищем, вызывающим чувство глубочайшего омерзения. Яркие лучи восходящего солнца высветили в огромном прямоугольном дворе, обсаженном вдоль стен манговыми деревьями[497] и смоковницами, фигуры примерно сотни полураздетых людей — негров, индейцев и мулатов. Одни из них лежали, скрючившись, другие сидели или стояли на четвереньках — и все это прямо на земле, в грязи. Кто-то с изуродованным болезнью лицом — с покрытыми коростой или уже сгнившими носом, губами и щеками — безмолвно, не двигаясь, поглядывал на иностранцев своими ужасными глазами, лишенными ресниц и с костистыми надбровными дугами[498]. Многие, едва шевелясь, касались пальцами, недосчитывавшими уничтоженных смертельным недугом фаланг, изъязвленного, кровавого месива на груди и столь же страшных ран на боках и ногах. Но были и такие, кого болезнь еще не свалила совсем. Они меланхолично ходили туда-сюда, и только мертвенно-бледный цвет кожи, местами желтоватой или фиолетовой, с пятнами, окруженными беловатыми чешуйками, свидетельствовал, что бич проказы обрушился и на них. Часть постояльцев этой жуткой обители выделялась гипертрофированной[499] дермой[500] и эпидермой[501] свидетельствовавшей о наличии у них слоновой болезни. Бедняги, пораженные элефантиазом, с изъеденной проказой серой, цвета высохшей грязи, кожей, с трудом, словно каторжники, прикованные цепями к тяжелым чугунным ядрам, переставляли свои ужасные, непомерно увеличенные в размерах ноги, огромные, как у слона, и потерявшие всяческое сходство с человеческими. Находилась в этом стойбище и группа людей, давно уже ни на что не реагировавших. Они сидели или лежали на земле, а если и поднимались когда, то лишь приложив неимоверные усилия. Было ясно: летальный[502] исход их недуга уже недалек. Завершали эту ужасную картину ястребы. Черные маленькие хищники — обитатели Южной Америки, поглощающие все, что гниет, — энергично терзали труп, валявшийся у смоковницы. Там и сям в углублениях почвы виднелись человеческие останки, но остававшиеся еще в живых жертвы проказы вели себя так, словно их совершенно не пугала мысль о том, что скоро и их кости присоединятся к этим. И Жак снова вспомнил зловещие слова: «Отсюда не выносят даже трупы», — столь впечатляюще проиллюстрированные мерзкими птицами. — Бежим отсюда, — заплетающимся языком произнес он. — Мне плохо!.. Тут пахнет чумой… Эти заживо гниющие люди… Эти трупы… Как отвратительно здесь все!.. Попытаемся же выломать дверь! — Непременно! — Лучше разбить себе голову, чем оставаться здесь! Смерть не так страшна, как жизнь прокаженного!.. Двое белых людей, неподвижно сидевших на земле, стали постепенно привлекать к себе внимание все большего числа больных. Наиболее активные из прокаженных, уставившись на новеньких мутными глазами, подошли к ним поближе и заговорили между собой глухими, низкими, лишенными тембра голосами, столь характерными для пораженных страшным недугом, чьи голосовые связки[503] покрыты бугорками и в силу этого не в состоянии производить полноценные звуки. — Это шапетоны, — шептали они, глядя на полных жизни, здоровых, белокожих людей. — Настоящие белые европейцы… У них голубая кровь… Что делают они здесь, среди нас? Жак и Жюльен, видя, что мерзкое стадо под предводительством особенно отвратительных типов направилось вдруг прямо на них, вскочили на ноги. Прокаженные тотчас же остановились. — Эти несчастные не должны нас касаться! — крикнул Жак своему другу, не в силах преодолеть отвращения, которое ему внушала сама мысль о возможности контакта с отверженными. — Проказа ведь заразна, правда? — Не знаю, — ответил Жюльен. — Некоторые медики утверждают, что она незаразна, чего не скажешь о слоновой болезни. Заслуживающие доверия лица говорили мне недавно в Гвиане, что элефантиаз может передаваться через мошкару[504]. — Позволь мне все же удостовериться, и без промедления, в том, что дверь не так уж крепка. — Но сперва выслушай меня, всего пару слов! — Говори. — Так вот, прежде чем сыграть нашу, возможно, последнюю партию и рискнуть жизнью ради свободы, я хотел бы поклясться за нас двоих в том, что где бы и когда бы мы ни нашли бандитов, бросивших нас сюда, мы убьем их, как бешеных животных! Железо, огонь, засада, яд — все сгодится для этой цели! — Браво! — отозвался горячо Жак. — Я полностью согласен с тем, что ты сказал… От той перспективы, что ждет нас здесь, у меня кровь стынет в жилах… Так возьмемся же за дело! Он повернулся к двери, окинул ее взглядом сверху донизу и невольно издал разочарованный возглас. — Что такое? — спросил Жюльен. — Дело в том, что дверь в этом проклятом месте, где все как будто бы гниет и рушится, крепка, как в за́мке. — Действительно, доски и брусья у нее — из тропических пород деревьев, чьи волокна не поддаются разрушению. Такое дерево не берет даже огонь, топор — и тот отскакивает от него… А как обстоит дело со стеной? — С теми возможностями, какими мы обладаем сейчас, она для нас неприступна. Сам посуди, высотой почти в пять метров и так гладка, словно сложена из отшлифованного камня. — По-моему, тут и дырки не провертеть… Да и времени в обрез: скоро о себе даст знать голод, а у нас — ни крошки! — В таком случае сосредоточим усилия на двери: а вдруг, несмотря ни на что, и получится! Проведенное Жаком предварительное ее обследование, весьма поверхностное, создало у него впечатление, что она — из железного дерева[505]. Удрученный данным обстоятельством, он начал все же внимательно изучать строение этого, казалось бы, непреодолимого заслона и обнаружил, к радости своей, что ржавчина основательно разъела железные петли, скобы и гвозди в досках и брусьях, соединенных между собой очень грубо: судя по всему, сооружавшие дверь не обладали ни необходимыми навыками, ни соответствующим инструментом. Если дерево прекрасно сопротивлялось чудовищной сырости, царившей в этом месте, то железо, напротив, поддалось окислению, которое повсюду оставило следы своей разрушительной деятельности. Будь у узников небольшой лом или даже крепкая деревянная палка, они смогли бы, вероятно, без особого труда выломать доски. К несчастью, в распоряжении друзей не имелось ничего подходящего, например, того же молотка из их багажа, с которым так шустро удрали предавшие путешественников провожатые. Однако Жак и Жюльен обладали мужеством и волей, подкрепленными горячим желанием как можно скорее выбраться из этой проклятой западни. Напружинив мускулы, отважные французы обрушили всю свою силу на те доски, которые, представлялось им, держались в двери не столь прочно, как остальные. Деревянная конструкция содрогнулась, железные детали забренчали. — А ну-ка еще раз! — прохрипел красный от натуги Жюльен. — Это сооружение не такое прочное, как я предполагал!.. Дело движется!.. — Поднажмем же! — прокричал Жак, вновь атакуя бессловесного противника, преградившего им путь к свободе, и услышал в ответ заунывный скрип потревоженного дерева. — В добрый час! — воскликнул он с воодушевлением. — Не будем терять надежду! — Но тут взгляд его обратился внезапно в сторону двора, и он спросил обеспокоенно Жюльена: — А это еще что такое? — Дело в том, — произнес его друг с возмущением, — что эти отвратительные гниющие существа хотят помешать нам выбраться отсюда. И он не ошибся: именно это и стремились сделать прокаженные, когда поняли, что затеяли друзья. — Шапетоны убегают! — глухими голосами перекрикивались несчастные. — Они не должны уйти отсюда!.. Смерть им!.. Смерть шапетонам!.. Не дадим этим белым удрать от нас! Они выползали из всех углов своей мерзкой обители, как бы повинуясь чьему-то приказу. Лепрозорий, словно превратившись во двор чудес, как бы выплевывал каждое мгновение новых и новых калек, которые, будто тараканы из щелей, вылезали из своих зловонных прибежищ — из хибар, шалашей или просто из ям под деревьями — и, похожие на отвратительных ястребов, сбившихся в стаю, чтобы поживиться мертвечиной, тяжело дыша, шатаясь, прихрамывая, жестикулируя непослушными руками и судорожно открывая перекошенные рты, медленно надвигались на чужеземцев полукругом, при виде коего любой бы ощутил жуть. Изъеденные проказой уста извергали беспрерывно: — Смерть им!.. Они убегают!.. Белые люди с голубой кровью — такие же, как мы!.. Они должны жить и умереть вместе с нами!.. Охваченные ужасом, не дожидаясь, пока это скопище раздавит их, Жак и Жюльен снова бросились на дверь, и в тот же миг внезапно отворилось встроенное в нее довольно широкое окошко, и друзья увидели налитую кровью физиономию сторожа. — А ну-ка прочь! — грубо крикнул он и, поскольку его поднадзорные продолжали стоять не двигаясь, чуть ли не в одном шаге от двери, с силой просунул в зарешеченное отверстие некое подобие алебарды[506], чтобы пронзить грудь Жюльена, находившегося ближе к окошку. Схватить оружие за древко и вырвать его из слабых рук стража, такого же прокаженного, как и его подопечные, было для француза делом нетрудным. Овладев оружием, Жюльен бросился на помощь к другу, который, вытянув вперед руки, пытался оттеснить авангард прокаженных, едва не касавшихся белых людей. Бледный от ярости и отвращения, потрясая своеобразным копьем, от деревянной основы коего исходил, как казалось отважному путешественнику, тошнотворный смрад его недавнего владельца, Жюльен воскликнул грозно: — Назад, твари! Или я проткну первого, кто подымет на нас руку! Нередко мужество и энергия одного человека повергают в страх разъяренную толпу, усмиряют самый неистовый гнев и превращают ее в безопасное людское скопище. Проявленные белым человеком воля и отвага оказывают особо сильное воздействие на представителей других рас, в первую очередь на черных. Так случилось и на этот раз. Негры, индейцы и мулаты, услышав раскатистый голос и увидев блеск глаз, устрашивших их больше, чем оружие, отпрянули назад. Вероятно, они интуитивно испугались жизненной силы, излучавшей чужаком и давно уже покинувшей их изнуренные хворью тела. Полукруг раздался. Прокаженных словно закружило в водовороте. Стоявшие впереди стали медленно отступать назад, пока расстояние между ними и белыми не увеличилось шагов до двадцати. Затем, без сомнения утомленные сделанным усилием, злосчастные обитатели лепрозория разлеглись на земле небольшими группами и, уставившись на французов, стали с недобрым любопытством наблюдать, что еще предпримут эти люди. Сторож, лишившись оружия, исчез, оставив в спешке окошко открытым. — Не будем терять времени, — сказал Жюльен, все еще возбужденный схваткой с толпой. — Попробую сорвать с помощью этого копья один из замко́в. Наконечник вроде бы не очень-то прочный, но древко может послужить отличным рычагом. — А не попытаться ли сперва отодрать решетку с окошка? Жюльен не успел ответить, ибо к двери опять подошел сторож. — Вон отсюда! — произнес он сиплым, словно простуженным голосом. — А если я не уйду? — спросил с вызовом Жюльен, выведенный из себя тупым упорством сего стража порядка. — Я убью вас, — холодно ответствовал тот и в подтверждение своих слов просунул сквозь железные прутья ржавый ствол массивного мушкетона, способного выплеснуть из своего широкого зева немалое количество картечи. — Вы не первые, кто хотел, разбив дверь, убежать на волю. У меня достаточно зарядов. Как-то раз я одним выстрелом уложил наповал шестерых, не считая раненых. Так что отойдите подальше… Я приказываю… Вам предстоит оставаться здесь до самой смерти: даже те кабальеро, которые бросили вас сюда, не смогли бы теперь помочь вам выбраться наружу. Жак и Жюльен, поняв по решительному тону старика, что тот не преминет в случае чего привести угрозу в исполнение, уселись по обе стороны от двери, с тем чтобы ночью возобновить свою отчаянную попытку вырваться из плена. Прокаженные, ободренные столь своевременным вмешательством сторожа, злорадствовали. — Ах-ах, белые красавчики! — осыпа́ли они ненавистных им чужаков насмешками. — Как они благоразумны!.. Решили остаться вместе с черными и красными!.. Чтобы делить с нами хлеб!.. Пить ту же воду, что и мы!.. Ах-ах!.. И мы будем не раз слушать забавные истории, которые они станут рассказывать только для нас!.. Друзья, созерцая это отталкивающее представление с еще большим отвращением, чем прежде, вспоминали зловещие слова полковника Батлера: «Я уверен, они быстренько капитулируют и с радостью предложат нам свое состояние — конечно, в обмен не на жизнь, а на быструю смерть!» — О нет! Мы не умрем! — возопил Жюльен в приступе бессильной ярости. — Нет, это невозможно!.. Я чувствую, наш час еще не настал! — У меня же, — простонал Жак, совершенно подавленный, — нет более духа рассчитывать на чудо… — О дьявол! — закричал вдруг с восторгом Жюльен. — Вот оно, это самое чудо!.. Такое желанное, хотя и немного жутковатое! Когда Жак произносил слово «чудо», от стены отделился внезапно кусок шириной в четыре с лишним метра и разлетелся на мелкие каменные осколки, усеявшие почву далеко вокруг. Огромная смоковница, срезанная у основания, грузно повалилась на землю. И тотчас ужасный взрыв потряс мрачную обитель, на которую с пронзительным свистом обрушился настоящий свинцовый дождь. Одни прокаженные, парализованные смертельным страхом, сидели, сложив молитвенно руки, другие пытались втиснуться в выбоины в грунте. — В проем!.. Быстрее в проем! — воскликнули в один голос друзья и в два прыжка достигли зиявшего в стене отверстия. Через какие-то полминуты они уже были на равнине, где никому не пришло бы в голову стать на их пути. — Наконец-то! — радостно повторял Жак. — Мы снова свободны, все тревоги позади… Странно только, что никого не вижу. Кто же произвел этот взрыв? Кому обязаны мы тем, что вырвались из этого ужасного заточения? — Это был пушечный выстрел, — улыбнулся Жюльен, не менее взволнованный, чем его друг. — Выстрел, не достигший своей цели. — То есть как? — А ты взгляни вон туда. — Вижу, в пятистах метрах отсюда между двумя скалами мерцает огонек шхуны нашего врага. — А дальше — едва приметная черная точка. — Вроде бы корабль. — Крейсер, без сомнения… Он обнаружил шхуну. — А маленькое белое облачко, взметнувшееся над волнами? — Это еще один пушечный выстрел. Или я здорово ошибаюсь, или экипаж крейсера силится взять на мушку потерпевшее крушение судно. — Ты так думаешь? — Да вон оно, доказательство… Снаряд, опустившись с неслыханной точностью на маленькое суденышко, разбил корму и снес высоченную мачту. — Теперь тебе ясно, как мы очутились на свободе? — Да, исключительно благодаря снаряду, который, как говорил ты, не попал в цель… — Если быть более точным, то благодаря снаряду, который перелетел через цель. Подобные вещи порой специально делаются артиллеристами. Когда они, открывая огонь, не вполне уверены в расстоянии, то посылают обычно два пробных снаряда, один из них не долетает до цели, другой — перелетает ее. И лишь третий поражает объект. Обрати внимание, лепрозорий находится как раз на прямой линии, которая проходит через корабль в открытом море и судно, налетевшее на скалу. — Значит, первый снаряд, выпущенный с крейсера, перелетел свою цель… — И чудесным образом помог нам спастись.
ГЛАВА 5
Голодные колики. — Утренняя трапеза на потерпевшем крушение судне. — Обретенное оружие. — Засада у лепрозория. — Необъяснимое отсутствие полковника Батлера и его сообщника. — Крепкий сон. — Поход в Бурро. — Тропинка. — Два друга в погоне за бандитами. — Край повышенной влажности. — Экваториальный лес. — Великолепие тропической растительности. — Беспрерывный дождь. — Приозерная деревня. — Гостеприимство. — Утерянное завещание.Освободившись наконец от ужасного кошмара, который пережили они за несколько часов своего пребывания в лепрозории, друзья довольно скоро вновь обрели хорошее расположение духа и обычную веселость. Не расстраиваясь попусту из-за пропажи вьючных животных и поклажи, исчезнувших вместе с бессовестными погонщиками мулов, они решили отправиться в Барбакоас, самый близкий от них город, чтобы отдохнуть там и затем подумать о том, как добраться до Кито, столицы экваториальной республики Эквадор. Голод между тем становился все нестерпимее, так что путешественникам необходимо было как можно быстрее изыскать любую возможность утолить его чем бы то ни было. Поэтому понятно, с каким вожделением созерцал Жюльен водоплавающих, барахтавшихся в грязных лужах возле устья реки Искуанда или пролетавших чуть ли не над самой его головой. Упитанный вид этих созданий говорил о том, что, несмотря на исходящий от них неприятный дух прогорклого масла, они могли бы сгодиться на вполне приемлемый изголодавшимся французам завтрак. В общем, пернатые — розовые фламинго, белые и серые хохлатые цапли и морские бекасы — еще более разжигали у наших друзей аппетит. Но, увы, у них не было приспособлений для ловли птиц, которые, словно подозревая, что эти люди не в состоянии причинить им ни малейшего вреда, дразнили их, пролетая вблизи с неслыханной смелостью. Совсем обессилев, бедолаги уже собирались было покуситься на крохотных голубых крабов, передвигавшихся боком на своих длинных ногах по мягкой тине, или на улиток, облепивших погруженные в воду корни прибрежных деревьев, как Жак, ударив себя рукой по лбу, воскликнул вдруг убежденно: — Ну и глупцы же мы! — Почему? Я думаю, когда живот сводит от голода, никто не откажется ни от подобных ракообразных, ни от этих моллюсков, — возразил Жюльен. — Дело не в этом. Если не ошибаюсь, нас ожидает кое-что поаппетитнее голубых крабов или причудливых улиток. — Хотелось бы верить, что ты не ошибаешься. Говори же скорее! — Посмотри-ка, корма шхуны все больше и больше высовывается из воды. — И впрямь, сейчас часы отлива, и вода, отступая, обнажает скалы. Но что общего между этим потерпевшим крушение судном и нашим завтраком, который так нам нужен? — А то, что крейсер угомонился, выпустив пару снарядов, и мы теперь, вне сомнения, отыщем на шхуне печенье, кусок сала или обыкновенную банку консервов со сказочно вкусной фасолью. — Ты прав! И где это была у меня голова? Воспользуемся же счастливым случаем! Добраться до маленького судна, изуродованного ударом о скалы и артиллерийским снарядом, было для изголодавшихся путешественников делом нескольких минут. Каким-то чудом мощный снаряд не воспламенил патронов, что моментально разнесли бы все вокруг. Однако разрушение, причиненное шхуне, было ужасным. Предвидение Жака полностью оправдалось: среди веревочных обрывков, искромсанных досок, смятых тазов, раздавленных бочек, разбитых ящиков, искореженных ростров[507] он обнаружил своим обострившимся от голода взглядом превосходный окорок, валявшийся в клетушке, служившей, очевидно, камбузом[508]. — Свинина! — воскликнул в умилении счастливчик, подпрыгнув от радости. — Превосходный пищевой продукт и к тому же завернутый в полотняную тряпку с печатями! — Печенье! — не менее восторженно прокричал Жюльен, опуская руку на ящик с продовольствием. — Вино! Настоящее вино! — изумился Жак, извлекая из груды черепков бутылку, оставшуюся каким-то образом целехонькой. — Браво! — восхитился Жюльен. — И не столь уж важно, что печенье твердое как камень, а жесткий окорок, возможно, начинен трихинами…[509] — Попробуем же их! — Попробуем! — словно эхо, отозвался Жак, поднимаясь из-под обломков полубака. — В трюме жарко, как в печке, здесь же, на палубе, под покровом этого обрывка паруса, не пропускающего солнце, совсем неплохо! — Кстати, устроиться наверху мы должны были бы и из соображений предосторожности: отсюда можно наблюдать за окрестностью. Ведь кто знает, не пожелают ли вернуться назад владельцы шхуны. — Ай! — подскочил вдруг Жак. — Что случилось? — Я вынужден опять повторить: «Ну и глупы же мы!» И добавить при этом: «И крайне неосторожны!» — Почему? — Как это «почему»? Прожорливость, с которой ты наполняешь свой желудок, лишила тебя на время способности размышлять, о чем свидетельствует твоя непредусмотрительность. У нас же нет больше оружия… даже карманного ножа, в силу чего мы вынуждены по очереди откусывать от этого окорока, словно звери… — Согласен с тобою. — Поскольку мы не знаем, что может случиться в следующее мгновение, я прерываю трапезу и спускаюсь в этот погреб, несомненно, именуемый морскими волками трюмом. Прихвачу пару ремингтоновских винтовок, как сказал пират-полковник, набью патронами карманы и, вернувшись за стол, но уже вооруженным до зубов, вновь возьмусь за завтрак. Жак отсутствовал минут пять. Так как ящики от взрыва разбились, ему не пришлось их взламывать. Он выбрал два ружья и, удостоверившись в отличном действии механизма, взял их с собой. — Вот и винтовки! — важно произнес он. — С патронами и штыками. Закусим только и сразу же сможем начать охоту за мерзавцами, устроившими нам такую прелестную ночь! — Но прежде переберемся в шалаш. — В шалаш? — Ну да, возле лепрозория. — Понятно. — Батлер с сообщником вернутся не раньше чем через двадцать четыре часа, чтобы принудить нас к капитуляции. — Когда они объявятся, — а я в этом не сомневаюсь, — не имеет смысла вступать с ними в переговоры. Возьмем их сразу же на мушку — и конец! — Итак, отправимся в путь! Решим, кто из нас в кого будет стрелять, и, как только представится возможность, откроем огонь. — Без колебаний и без угрызений совести! Опасаясь упустить великолепный и, вероятно, единственный случай отомстить или, точнее, осуществить акт справедливого возмездия, как говорил Жюльен, французы спешно покинули шхуну, унося с собой остатки окорока и пачек двадцать печенья. Приблизившись к лепрозорию, друзья с содроганием посмотрели на это отвратительное заведение, чуть было не ставшее их могилой. Прокаженные, стоя полукругом перед брешью, проделанной в стене снарядом, осыпали бранью сторожа, угрожавшего им с другой стороны проема своим мушкетоном. Справа путешественники узрели пышную растительность — гигантские злаковые, окаймлявшие тропинку, ведущую в деревню Бурро. Это место словно специально предназначалось для засады, и друзья, укрывшись от солнца в наскоро возведенном шалаше и время от времени отгоняя прикладами ружей рептилий, пытавшихся проникнуть в их убежище, были уверены, что никто, с какой бы стороны он ни направился в лепрозорий, не минует их незаметно. Они находились на 3° северной широты, почти на экваторе. Неимоверный зной требовал от Жака и Жюльена недюжинных усилий, чтобы противиться охватывавшему их вследствие жары отупляющему оцепенению. Наши герои просидели в засаде до вечера, но, к их величайшему удивлению, противник так и не появился. Между тем скаредность капитана Боба, — а других чувств у него не было, — еще более сильная, чем продемонстрированное Батлером острое желание мести, поддерживаемое лютой ненавистью, должна была бы неизбежно привести обоих преступников к лепрозорию. Тем более что морской волк рассчитывал взыскать со своих жертв, отчаявшихся от пребывания в этом злосчастном заведении, фантастически огромную сумму. Понятно, что бандиты ничего не знали об освобождении французов, ибо в противном случае они не предоставили бы им возможность проникнуть на борт шхуны и обеспечить себя оружием и продуктами питания. Но что же стряслось с янки со вчерашнего дня? Почему они так и не вернулись назад? И куда подевался их экипаж — восемь — десять матросов, которые могли бы охранять от разграбления шхуну? Уж не стали ли они жертвой какой-нибудь катастрофы, заставившей негодяев отложить хотя бы на время осуществление подлых замыслов? Прикидывая в уме и так и этак, не зная точно, чем объяснить отсутствие своих недругов, французы закусили печеньем и окороком и заснули тем сном, каким спят мужчины, проведшие накануне ужасную, бессонную ночь и твердо вознамерившиеся наверстать упущенное. Темное время суток на экваторе длится столько же, сколько и день. И наши друзья, устроившись на тонкой подстилке из травы, самозабвенно проспали все эти долгие часы, не замечая кваканья гигантских лягушек, воплей обезьян и воя выпи: переход, совершенный ими через республики Центральной Америки, Панамский перешеек и Колумбию, научил их не обращать внимания на шум тропической ночи. Проснулись путешественники около шести часов утра — в тот миг, когда солнце, исчезнувшее внезапно за горизонтом двенадцать часов тому назад, вновь появилось на небосводе. Переход от дня к ночи и от ночи к дню происходил столь резко, что, как снова заметили друзья, по существу, не было ни вечерних, ни утренних сумерек. Обоих французов по-прежнему тревожила одна и та же мысль: «Почему эти негодяи не вернулись назад?» Рассудив, что дальнейшее пребывание у лепрозория едва ли имеет какой-то смысл, Жюльен предложил проследовать в деревню, расставшись, таким образом, со шхуной, затопленной приливом, и с прокаженными, которые — удивительная вещь! — скучились возле бреши, но, несмотря на отсутствие на этот раз сторожа с его достославным мушкетоном, выйти на свободу так и не осмелились. — Пошли, — сказал Жак, убежденный, что в Бурро они смогут получить не только продукты питания, но и какие-никакие сведения, касающиеся их врагов. Пройдя с час по тропинке, они оказались в жалком местечке, куда и стремились попасть. Несколько рыбаков-метисов — потомков негров и индейцев — сообщили друзьям, что накануне тут побывали с десяток вооруженных людей, которые купили у них рыбу, забрали, скорее силой, чем по взаимному согласию, всех мулов и, прихватив с собой проводников, отправились на юг по единственной дороге на Барбакоас. Сомнений нет: незнакомцы, знавшие, как добиваться желаемого, не считаясь с другими, могли быть только головорезами капитана Боба. Французы тотчас же решили пойти по следу проходимцев — пешком и, по существу, без запасов провизии, хотя их намерение преследовать десять здоровых, хорошо вооруженных и пренебрегавших моральными устоями людей можно было бы расценить как чистейшее безумие. Приобретя за немалую цену немного кукурузной муки, сахар и пару мачете, необходимых им, чтобы пробираться по девственному лесу, они, не задерживаясь, направились в Барбакоас, до которого от Бурро или, точнее, от Искуанды, селения, расположенного на другом берегу реки того же названия, примерно один градус, что соответствует ста одиннадцати километрам. Подобное расстояние не могло испугать наших путешественников, даже лишенных лошадей или мулов. В нормальных условиях, несмотря на крайне скверное состояние колумбийских дорог, они преодолели бы его менее чем за три дня. Но, пустившись в путь, французы увидели, что понятие «нормальные условия», предполагающее чередование ясных и ненастных дней, для провинции Барбакоас неприемлемо. Как справедливо отмечает месье Эдуар Андре, известный исследователь экваториальной Америки, климатологическая система района Барбакоас — единственная в своем роде, выражающаяся в простой формуле: там всегда льет дождь. Сухие и дождливые сезоны, четко следующие друг за другом в других теплых краях, здесь не существуют. Зная местную метеорологическую обстановку, нетрудно представить себе, какая буйная тут растительность. Это уже не прежний строгий лес, в котором стволы, словно бесчисленные колонны в соборе, безмерно вытянулись вверх, поддерживая непроницаемый зеленый полог. Экваториальная чащоба заметно поредела, в результате чего в южноамериканских джунглях стало больше воздуха и света и обогатился видовой состав растительного мира, приобретшего ни с чем не сравнимые мощь и блеск. В силу вышесказанного Жак и Жюльен, в которых, казалось бы, мог уже угаснуть интерес к зеленому великолепию, не впервой созерцаемому ими, забыли о своей усталости, и, шествуя по дороге среди пышной растительности, они, не обращая внимания на теплый дождь, буквально омывавший их с головы до пят, то и дело восхищались открывавшимся их взору несравненным зрелищем. Впрочем, мы допустили преувеличение, назвав тропу дорогой, ибо друзья в действительности продвигались вперед едва проторенным в зеленом царстве путем. Каких только растений здесь не было! Вздымавшиеся ввысь стройные пальмы с блестевшей изумрудно-зеленой листвой соседствовали с лимонными деревьями с толстыми стволами, гигантские Bertholletia[510] — со знаменитым бакаутом[511] и бесценными породами, дающими красное дерево[512]. Cyathea[513] с черными с металлическим отливом стволами выставляли словно напоказ кружево из огромных перистых листьев на мохнатых крючковатых черешках. Chamaerops[514] и Mayritia[515] шевелили листьями, похожими на пучок острых шпаг, причудливые Максимилианы поражали своими длинными, в тридцать футов, листьями, венчавшими высокий, приблизительно в сто футов, ствол. Пристроившаяся под этими гигантами Heliconia[516] уронила вниз свои трехцветные колосья. Дикая китайская роза, выросшая под боком у огромных камышей, обвитых вьюнками с лазурными и пурпурными колокольчиками, похвалялась своими цветами в форме красных чашечек с золотистым ободочком. Каждое растение, вплоть до Peperomia[517] и бегонии[518], вносило какой-то свой отдельный оттенок, обогащая и без того изумительную по многообразию палитру красок. Внизу, вверху — повсюду цветы. Бесчисленные растения-паразиты, тонкие, как нитки, или толстые, словно канаты, взбирались по стволам лесных богатырей, запутывались в их кронах, оплетали вершины и затем ниспадали с них, демонстрируя бесподобное великолепие своих цветов — пурпурных, желтых, лазурных, пестрых, матовых или как бы покрытых лаком… Bauhinia[519], Passiflora[520], Aroideae[521], Cyclanthus[522], папоротники, бегонии, ваниль[523], перец и многие другие виды растений, стоявшие одиноко или образовывавшие отдельные группы, радовали путников своей листвой или протягивали им в руки гирлянды и гроздья цветов, над которыми, сверкая, словно драгоценные камни, кружился с жужжанием рой насекомых. К сожалению, как мы отмечали выше, всю дорогу шел дождь, и друзья после длительного и тяжелого перехода стали уже подумывать, не остановиться ли им на отдых здесь, посреди леса, хотя при этом они рисковали замерзнуть ночью, что было чревато опасностью подхватить коварную лихорадку, как вдруг сквозь деревья проглянула довольно странного вида деревня — своего рода маленький приозерный городок, с домами, приподнятыми на сваях над землей для защиты жилья от влаги, пропитавшей землю и затопившей обширные пространства, ставшие из-за этого непригодными для земледелия. Каждое строение, длиной от десяти до двенадцати метров и шириной от шести до семи, как бы насаженное на четыре сваи высотой в один этаж в наших городских зданиях, состояло всего-навсего из крыши из пальмовых ветвей, поддерживаемых четырьмя столбами, которые покоились на балках, служивших обитателям этих сооружений сиденьями. Пол представлял собой простой настил из ветвей, покрытых притоптанным слоем земли, на котором разжигали огонь для приготовления пищи. Подняться в это жилище можно было лишь по древесному, с поперечными надрезами стволу. По словам уже упоминавшегося нами месье Андре, местные жители так же ловко пользуются сим своеобразным приспособлением, как мы — лестницей. Понятно, подобный дом, лишенный ненужных при таком климате стен, продувается ветром со всех сторон. Вдоль всего строения шло небольшое, высотой в метр, ограждение из крепких пальмовых ветвей, призванное оберегать домочадцев от падения вниз. Мебель сводилась к нескольким грубой работы табуреткам, а посуда — к горшку, поставленному на три камня, и к сосудам из тыкв. Хозяева этих примитивных жилищ, с наслаждением растянувшись на расстеленных на полу полотнищах, спали, таким образом, на свежем воздухе, под скромным прикрытием крыши и под монотонное, беспрестанное постукивание дождя о листья, столь же непроницаемые для воды, как черепица. Дождь усиливался, и двое путешественников, естественно, приободрились, когда обнаружили, что обитатели этих удивительных свайных сооружений еще не отошли ко сну. Набухшая почва хлюпала под ногами друзей, влага, насыщавшая воздух, проникала под одежду, но они уже не замечали этого, радуясь тому, что обрели наконец-то пристанище. Жак и Жюльен не ошиблись, рассчитывая на гостеприимство местных жителей. Едва индейцы, которые танцевали или попивали нечто вроде нашей водки, заметили приближение незнакомцев, как тотчас же устремились к ним навстречу, окружили их плотным кольцом и пригласили принять участие в веселье. Зная по опыту, что подобное приглашение исходит от чистого сердца и за ним не может скрываться намерение заманить путников в ловушку, поскольку проживающие в этом регионе краснокожие отличаются дружелюбием, французы полезли по бревну в ближайший же приозерный дом. Их прекрасно приняли, поскольку они были гостями и к тому же белыми — скромными, сильными и отважными, только что вышедшими из леса, где им пришлось проделать немалый путь под не прекращавшимся ни на миг дождем. Европейцы наслаждались обретенным уютом, и монотонный шум дождя лишь ласкал теперь их слух. Жюльен имел уже опыт подобного общения с индейцами. Он показал им самые ценные свои бумаги — кредитные письма и паспорт — со сделанными в них отметками. Заключенные, к счастью, в непромокаемый кошелек, все документы находились в прекрасном состоянии. Жак решил последовать его примеру. Перелистав свою знаменитую записную книжку с заметками, прочная обложка которой не пропустила ни капли дождя, он положил ее, как обычно, в левый карман куртки и, машинально ощупав правый, обычно аккуратно застегнутый, невольно издал удивленный возглас: пуговица исчезла, карман был разорван. — Что случилось? — спросил встревоженно Жюльен. — Когда мы находились в лепрозории, я ни разу не удосужился проверить, по-прежнему ли мой бумажник в кармане. — Ну и?.. — Он пропал. — Печально. — Еще бы! — А что в нем лежало? — Да ничего, если не считать письма, которым мой дядя объявлял меня своим единственным наследником.
ГЛАВА 6
Закупка провизии в Барбакоасе. — Маршрут полковника Батлера и капитана Боба. — Дорога на юг. — Верхом на себе подобных. — Через Кордильеры. — Безжалостный офицер-испанец. — Месть носильщика. — Первые симптомы морской болезни. — Мост через ущелье. — Сороче — горная болезнь. — Колумбийско-эквадорская граница. — Долина реки Рио-Чота. — Сахарный тростник. — Укус коралловой змеи. — Смертельная опасность.Потеря бумажника, где хранилось письмо, объявлявшее Жака Арно единственным наследником его дяди, старого владельца фазенды Жаккари-Мирим, было, в сущности, не таким уж важным делом. Что, в конце концов, могла означать эта пропажа? Всего-навсего кое-какие дополнительные формальности в момент вступления Жака в права наследования, поскольку установить его личность в Рио-де-Жанейро, не слишком удаленном от фазенды, не составляло особого труда. Кроме того, наверняка в официально заверенном завещании покойного содержались конкретные предписания, касающиеся передачи племяннику огромного состояния, а также достаточно точная характеристика наследника, что позволило бы избежать каких бы то ни было осложнений, больших или малых. Примерно так рассуждал Жюльен де Клене, узнав об исчезновении письма, расстроившем поначалу Жака Арно. Покинув под шум дождя приозерную деревню, где им было оказано сердечное, радушное гостеприимство, путешественники, так и не дождавшись изменения погоды в лучшую сторону, добрались наконец до Барбакоаса. Этот маленький с пятью тысячами жителей городок может стать впоследствии важным, процветающим населенным пунктом. Этому, в частности, будет содействовать его выгодное расположение у места слияния рек Телемби и Гуги, благодаря чему он непосредственно связан с маленьким портом на острове Тумако, куда раз в месяц заходят суда, обслуживающие грузо-пассажирскую линию Кальяо — Панама. Кроме того, хотя это селение приподнято над уровнем моря всего на двадцать два метра, климат здесь очень здоров. И наконец, проходящий через Барбакоас тракт, ведущий в Тукеррес, придает ему статус торгового центра. Полковник Батлер и достойный его сообщник капитан Боб, прибыв в Барбакоас на два дня раньше наших друзей, отправились отсюда к колумбийско-эквадорской границе. Уже это одно заставило бы отважных французов покинуть прибрежную зону, чтобы ступить на ужасную, ведущую в горы дорогу, которая, пройдя через Тукеррес, спускается к Кито, не говоря уже о том, что данное направление совпадало в целом с намеченным ими маршрутом сухопутного путешествия в Жаккари-Мирим. Жюльен, этот заядлый землепроходец, уже знал по собственному опыту о тех неслыханных трудностях, с которыми сталкивается путник в этом районе Кордильер, и поэтому прежде всего нанял четырех здоровенных носильщиков-индейцев, отличавшихся безбородыми лицами с мягкими, правильными чертами и стальными мускулами. Туземцы, занимающиеся подобной работой, переносят груз в тех местах, где вьючные животные пройти не могут. Двое краснокожих должны были тащить багаж, включая провизию, и столько же — везти на себе самих путешественников. Жак сначала воспротивился мысли ехать верхом на себе подобном, заявив при этом, что он не уступит в ходьбе индейцам: если моряк из него никудышный, то он с полным правом может гордиться собой как непревзойденным альпинистом. Жюльен молча улыбнулся в предвидении некоторых обстоятельств, которые в ближайшее же время вынудят его высокомерного друга пересмотреть свою точку зрения. Первые тридцать километров, отделявшие Барбакоас от маленького местечка Пилькуан, были преодолены более или менее спокойно. Но вскоре дорога пошла резко на подъем, что стало серьезно сказываться на лодыжках любителя альпинизма. Переправившись через несколько небольших ущелий, чье дно усеивали острые камни, загромождали стволы деревьев или перерезали водные потоки, таившие в себе смертельно опасные пучины, Жак понял наконец, сколь нелепым было его стремление следовать, даже налегке, за этими ни с кем не сравнимыми горцами. Удрученный данным фактом, он попросил одного из носильщиков на ломаном испанском взгромоздить его к себе на спину. Индеец, который молча шел все это время, не понимая, почему белый человек, заплатив за то, чтобы его несли, вышагивает вдруг пешком, остановился и, поставив на землю сиденье, предложил путешественнику устроиться на нем. Сооружение сие представляло собой крепко сбитый деревянный стул с довольно высокой спинкой и планкой для ног. Вместо веревок, используемых парижским лоточником, здесь это своеобразное кресло было схвачено с двух сторон широкими и прочными ремнями, один из которых упирался в лоб носильщику. Только тут Жак понял, что именно из-за невероятно огромного физического напряжения, требующегося постоянно от людей, взбирающихся с тяжелейшей ношей на головокружительные кручи или спускающихся с них, идущих по краю пропастей, по остроугольным уступам и кажущимся непроходимыми тропам между округлыми скалами, мышцы у носильщиков приняли столь невероятные размеры, деформировавшие их шеи. И хотя перед ним маячил Жюльен, уже взгромоздившийся на спину «своего» индейца, он еще некоторое время колебался, прежде чем усесться на это оригинальное устройство в общем-то не очень внушающего доверия вида. — Давай же! — поторопил его Жюльен. — Решай наконец: или последуй моему примеру, или по-прежнему иди пешком. — А эти краснокожие очень надежны? — Да, и в моральном, и в физическом плане. Они не знают, что такое головокружение или упадок сил, и к тому же у них исключительно развито чувство долга. Мы ведь не первые путешественники, кто обратился к ним за помощью. Правда, один из европейцев, вместо того чтобы преисполниться к ним благодарности, вздумал над ними поиздеваться, но был наказан. — И кто же он, этот, видимо, проклятый Богом и людьми человек, проявивший подобную безнравственность? — Некий испанский офицер. Пересекая Киндио, он беспрестанно ругал своего носильщика за то, что тот, мол, слишком медленно идет, хотя индеец и так выбивался из сил. Чтобы заставить несчастного краснокожего двигаться еще быстрее, наглый европеец больно стиснул ногами его с боков. Индеец, не говоря ни слова, дождался, пока тропа не подошла к краю пропасти, и тогда, опершись на свой железный посох и резко нагнувшись, сбросил обидчика в ущелье. Все носильщики Киндио знают эту историю, и три года назад один из них во время моего первого путешествия по Колумбии показал мне то место, где нашел свою гибель заносчивый испанец. — Нетрудно представить себе, какой кульбит проделал он, пока летел вниз, — произнес Жак, покорно садясь на стул. — Но с нами такого не случится: мне и в голову не придет подгонять моего дядьку — я уж лучше предложу ему неплохие чаевые, когда нас доставят по назначению. — Насчет чаевых не беспокойся: я уже пообещал их в самом начале, сказав, что их самоотверженность будет оценена по достоинству. Первые минуты были необычайно тяжелы для Жака Арно. Хотя он и не слишком нервничал, но приспособиться к ритму движения носильщика никак не мог. Инстинктивно пытаясь как бы вдавиться в сиденье, бывший супрефект раскачивался взад-вперед, то и дело испытывая сильные толчки. Так и сидел он в скованной позе, словно изваянная из камня скульптура. А дождь между тем все лил и лил, теплый и монотонный. Вскоре Жак стал ощущать подташнивание итяжесть в висках, какую испытывают люди, у которых вот-вот начнется морская болезнь. Морская болезнь! Сама мысль об этом недуге привела Жака в ярость. Он готов был на собственном опыте познать все преимущества и неудобства избранного ими способа передвижения, но стать жертвой вышеупомянутой хвори не соглашался ни за что. Жак сопротивлялся обрушившейся на него напасти — внутренне, конечно, так как он боялся даже шевельнуться, чтобы не нарушить устойчивость носильщика. И одержал победу! Головокружение и тошнота исчезли, напряжение, заставлявшее путешественника скрючиваться, спало, и он смог спокойно созерцать открывавшийся перед ним пейзаж. Это передвижение на спинах людей продолжалось много дней, в течение коих отважные и стойкие носильщики не выказывали внешне ни малейших признаков усталости. Наконец маленький отряд, идя под не прекращавшимся ни на миг дождем, достиг Сан-Пабло, приозерной деревни с единственной улицей, покрытой липкой, черноватой грязью, принесенной водой с соседних гор, и представлявшей собой зловонную клоаку[524]. В этом населенном пункте, расположенном на высоте примерно тысячи трехсот метров над уровнем моря, путешественникам предстояло пересесть со спин себе подобных на мулов. Носильщики, щедро вознагражденные за их невероятно тяжелый труд, от всей души поблагодарили чужеземцев и отправились в обратный путь. Ну а наши друзья вверили свои судьбы совершенно истощенным, одряхлевшим с виду животным, которые, однако, проявили себя в дороге существами значительно более выносливыми, чем можно было предположить, глядя на них. До Тукерреса французов сопровождал только проводник. Дорога, трудная, мало хоженная, была столь же безопасна, как и наши магистрали. Единственное, что могло угрожать им в пути, — это встреча с полковником Батлером, капитаном Бобом и матросами со шхуны, ступившими на ту же тропу, где легко можно было сломать себе шею, двумя днями раньше. Проводник, упомянув об их необычно большой для здешних краев численности, не преминул заметить: — Сеньоры очень торопились, но заплатили хорошо. Покинув Сан-Пабло, небольшой отряд достиг через три часа потока Рио-Чуеннес, обходящего стороной Кумбаль. Неистовствовавшая далеко внизу река стала бы непреодолимым для путников препятствием, если бы не мост, перекинутый через ущелье, по дну которого она проложила свое русло. Впрочем, слово «мост» не совсем подходило к сооружению, открывшемуся взору французов. — Нам ни за что тут не перейти! — воскликнул в ужасе Жак при виде примитивной конструкции, грозившей обрушиться в любой миг. Чтобы понять овладевшие им чувства, представьте себе два грубо отесанных бревна, уложенных параллельно на два поперечных чурбака по обеим сторонам пропасти, удерживавшихся на месте кольями, закрепленными в выемках в скалах. Привычный настил заменяли удаленные друг от друга, как прутья железной лестницы, ветви, привязанные лианами к бревнам, а перила — жерди, соединенные с основанием моста теми же гибкими стеблями вьющихся растений. Опираясь на это хлипкое ограждение и со страхом поглядывая на бурлящий в глубине расщелины мутный поток, путник переставляет осторожно ноги с одной ветви на другую. — Доверьтесь мулам, сеньор, — посоветовал гид в ответ на восклицание Жака. — Отпустите поводья и смотрите только вверх, если вы боитесь головокружения. Друзья, последовав этому доброму совету, благополучно переправились через ущелье. Миновав еще несколько потоков, куда более опасных, чем только что описанный нами, не раз изумляясь тому, что до сих пор не сломали себе шею, и без конца благословляя удивительный инстинкт мулов, наши герои достигли наконец Тукерреса, расположенного на высоте трех тысяч метров над уровнем моря и в восьми километрах к северо-востоку от вулкана Азифраль, над которым в этот день вился сероватый дымок. Само по себе это селение мало чем примечательно. Из-за возвышенного местоположения среднегодовая температура в нем составляет всего лишь десять градусов выше нуля. И путешественник, который совсем недавно изнемогал от жары, в этом населенном пункте буквально дрожит от холода, если находится без движения. Ну а если он вздумает вдруг пройтись быстрым шагом по горбатым улочкам маленького колумбийского городка, то ему грозит горная болезнь сороче[525] — крайне неприятный недуг, вызываемый разреженным воздухом. Пораженный этой напастью вынужден останавливаться каждые несколько шагов из-за одышки и минутами стоять неподвижно с зеленым лицом, ощущая, как у него подкашиваются ноги. Опасаясь и простуды и сороче и к тому же стремясь как можно скорее добраться до Кито, Жак и Жюльен лишь ненадолго остановились в Тукерресе. Затем, одним махом одолев приблизительно двадцать два километра — расстояние, отделявшее их от эквадорской границы, они достигли знаменитого естественного моста Румичака на реке Рио-Карчи, отделяющей одну республику от другой. Пройдя еще восемь километров, они оказались в Тулкане — первом городе Эквадора[526], где их встретили, прямо скажем, очень радушно, — в значительной степени благодаря вознаграждениям, на которые наши герои не скупились. Здесь они впервые познакомились с эквадорской кроватью — cuadro, или квадро, представляющей собой крепко обтянутую вдоль и поперек кожаными ремнями раму на четырех ножках высотой в пятьдесят сантиметров. На этот лежак, довольно жесткий, кладется простыня — и постель готова! Быстро, не задерживаясь нигде подолгу, то взбираясь вверх, то спускаясь вниз и испытывая в один и тот же день то адский зной, то холод, когда температура приближалась часто к точке замерзания воды, друзья упорно двигались на юг и в один прекрасный день подошли к долине реки Чота, или по-испански Рио-Чота, где их ожидало подлинное пекло. Привольно раскинувшаяся и даже жутковатая на вид, эта обширная впадина являет собой такой редкий геологический феномен, как расщелина в гигантской горной цепи Анд, этого позвоночного столба Южной Америки. В самом деле, если исключить чилийские Анды, изобилующие, как отмечает месье Эдуар Андре, теснинами, то в Кордильерах насчитывается лишь три места, где водные потоки свободно, подобно Дунаю, устремляющемуся в Железные Ворота[527] в Карпатах, пересекают горные громады: это долины рек Патиа, на юге Новой Гранады[528], Чота и Гаябамба, или Рио-Гаябамба. «Более глубокие и более узкие, чем долины Альп и Пиренеев, — говорит месье Гумбольдт, описывая эти места, — расселины Кордильер предлагают путешественнику тропы самые дикие, более других способные вызвать у вас одновременно и восхищение и ужас. Ущелья подчас так глубоки, что за их стенами могли бы надежно укрыться от постороннего взора Везувий[529] и Дом[530]. Средняя глубина горной впадины, в которой разместилась Ордесская долина, протянувшаяся от горы Перду, равняется девятистам метрам. Путешествуя по Андам, мы, месье де Бон-план и я, пересекли также знаменитую расселину Чота с каменными стенами высотой более полутора тысяч метров. Чтобы дать более яркое представление о величественности этих геологических феноменов, небесполезно отметить, что дно этих расселин расположено не менее высоко над уровнем моря, чем перевалы Сен-Готард[531] и Мон-Женис». Рио-Чота, — а только она и владеет сейчас нашим вниманием, — несется по дну одной из самых значительных впадин земного шара. Если вершины восточной гряды Кордильер, прорезанной руслом этой реки, образовавшей долину глубиной от полутора тысяч до тысячи восьмисот метров, исчезают в ледяном тумане, то по берегам потока отлично произрастает сахарный тростник, замещаемый выше молочаем, алоэ и агавами — типичными представителями флоры негостеприимного каменистого плато Мексики и засушливых калифорнийских земель. Спустившись по одному из труднейших для перехода склонов на широкую площадку, где из-за изгороди из алоэ проглядывал сахарный тростник, и не встретив на пути какого бы то ни было источника воды, двое наших друзей и их гид, измучившись сверх меры, мечтали всей душой о той минуте, когда они смогут наконец утолить жажду в реке, бежавшей внизу под ними на глубине свыше трехсот метров. Бурдюки были уже давно пусты, и, кроме легкого алкогольного напитка, приготовленного из сахарного тростника и различных фруктов и предназначавшегося исключительно проводнику, у путешественников не было ни капли жидкости. Для того же, чтобы достигнуть потока, требовалось пройти еще не менее трех четвертей часа. И Жюльену, вполне естественно, пришла в голову мысль хотя бы частично утолить жажду, пососав стебель сахарного тростника. Достав мачете, он с ловкостью индейца, привычного к тропическим чащобам, срубил несколько толстенных стволиков алоэ и, отскочив немного назад, подождал, пока срезанные растения с мясистыми листьями, обрамленными острыми шипами, способными серьезно поранить человека, не упали на землю, а затем осторожно протиснулся под образовавшийся в живой изгороди свод. Зная по опыту, что такие колючие заросли служат прибежищем многим тварям, стремящимся обрести здесь надежную защиту от своих врагов и укрыться от палящего солнца, он лихо размахивал во все стороны своим оружием, чтобы разогнать крабовых пауков[532], сколопендр[533], кайманов и змей, если бы таковые вздумали тут затаиться. Потом Жюльен подошел к тростниковым посадкам, срезал несколько стеблей и опустился, чтобы их подобрать. Но едва коснулся левой рукой сочных зеленых листьев, как его указательный палец пронзила такая жгучая боль, что он не смог сдержать пронзительного вопля. Не думая уже больше о тростнике, наш герой поспешно вскочил на ноги, полагая, что укололся о шип алоэ, и тут же убедился в том, что ошибся. Несмотря на всю свою отвагу и выдержку, он страшно побледнел и почувствовал, как у корней его волос выступил холодный пот, когда увидел, что в его палец вонзила острые зубки маленькая змея, немного толще ручки для письма и необычайно ярко-красной окраски. Жак с проводником, услышав крик, кинулись в проделанный Жюльеном проход в живой изгороди и, перепрыгнув через лужицы густого сока, сочившегося из свежесрезанных стеблей и листьев тростника, подбежали к бедняге. — Коралл!.. — завопил испуганно проводник. — Это коралл!.. Ах, сеньор!.. Сеньор!.. — Как? — пролепетал упавшим голосом Жак. — Это коралловая змея?![534] — Одно из самых ядовитых пресмыкающихся, — вновь обретя твердость духа, ответил Жюльен. — Ее укус не проходит даром… — Но тогда… — потерянно произнес Жак, ощутив внезапно слабость во всем теле. — Но тогда… — Он не смог закончить фразы, грудь его сотряслась от горького рыдания. — Мне осталось жить не более четырех часов… Если только… — Если только? — спросил нетерпеливо Жак, цепляясь за мелькнувший было лучик надежды. — Я вовремя не отрежу палец, по которому уже распространился яд. С этими словами Жюльен одним взмахом холодного оружия сметнул змею, не желавшую добровольно отпускать свою жертву, схватил ремингтоновскую винтовку, положил на приклад палец, на конце которого виднелись две маленькие красные точки, и поднял мачете. Жак в ужасе закрыл глаза и заткнул уши, чтобы не слышать удара, который искалечит его друга, но спасет его или нет, еще неизвестно.
ГЛАВА 7
Своевременная помощь. — Средство от смертельного яда. — Плоды цедрона. — Знакомство белых с целебными свойствами священного дерева. — Город Ибарра. — Катастрофа шестнадцатого августа 1868 года. — Сорок тысяч жертв. — Президент Гарсиа Морено. — Железный человек. — У экватора. — Вулкан, извергающий тысячи рыб. — Каямбе — соперник Чимборасо. — Восторженные чувства Жюльена. — Кито. — Самобытный облик столицы Эквадора. — Единственная в своем роде панорама. — Сложная политическая обстановка в южноамериканских странах.Решив отрубить себе палец, Жюльен, которого укусила змея, рассчитывал помешать таким образом смертельному яду распространиться по всему телу. Подобный героический и вместе с тем отчаянный поступок, требующий от человека, совершающего его, непоколебимого мужества, чреват серьезной опасностью, поскольку при такого рода ампутации в обстановке, ничего общего не имеющей с предписаниями современной хирургии, остаются открытыми артерии, которые могут закрыться лишь при условии, что рана будет обработана соответствующим образом. И кроме того, отсечь самому себе какую бы то ни было часть своего тела — разве это не ужасно? Жюльен, намеренно стараясь не думать о новой боли, которую ему предстоит испытать, и о возможных последствиях подобной операции, собирался уже было опустить стальное лезвие на обреченный палец, ибо промедление в данной ситуации смерти подобно, как вдруг ему внезапно помешали. Проводник, первым вышедший из оцепенения, успел перехватить руку Жюльена, уже занесшую вверх мачете. — Зачем ты сделал это, мой друг? — спросил Жюльен, чуть ли не разгневанный неожиданным вмешательством, поскольку задуманное им требовало как быстроты, так и решимости. — Надейтесь, сеньор!.. Надейтесь! — ответил метис своим тихим голосом. — И не надо отрубать палец. Видите ли, — добавил гид наивно, — он ведь не отрастет у вас заново. — Хорошо сказать: надеяться!.. — пробормотал Жюльен. — Но на что? — На выздоровление. — Разве это возможно? — Да, возможно: я спасу вас. Раненый скептически повел плечами, проводник же с жаром продолжал: — Послушайте, господин, в пятидесяти шагах отсюда растет дерево, которое снабдит вас безотказным целебным средством. — А если ты ошибаешься? — Я не ошибаюсь, господин, клянусь жизнью. Пусть ваш друг возьмет под прицел мою голову, если не верит в мою верность и думает, что я убегу, и пройдет со мной до дерева. И коли, приняв это снадобье, вы не поправитесь сегодня же вечером и не будете вновь в состоянии продолжить путь, он может убить меня. — Хорошо, я верю тебе, — коротко ответил Жюльен. — Иди же скорее, а то мне совсем уже невмоготу. Метис тотчас кинулся к дереву и вскарабкался на него с ловкостью обезьяны. Жак, не услышав удара мачете, который возвестил бы о том, что друг его покалечен, открыл глаза, выражавшие ужас и скорбь. Когда же до его сознания, отупленного испытанным парижанином глубоким потрясением, дошел наконец смысл сказанного гидом, в нем вновь пробудилась надежда, и он начал нашептывать другу подбадривающие слова. Жюльен, с трудом держась на ногах, с неслыханным хладнокровием анализировал появившиеся уже первые симптомы заражения. Его палец, опухший почти сразу же после укуса, приобрел мертвенно-бледный цвет. — Теперь поздно от него избавляться, — произнес он спокойно. — Онемение достигло ладони, происходит посинение руки. — Тебе очень больно? — спросил жалостливо Жак. — Нет, не так, чтобы слишком… Немного кружится голова и подташнивает, но это ерунда. — Надейтесь, сеньор!.. Надейтесь!.. — послышался радостный голос проводника. Метис подбежал, запыхавшись, с тремя налитыми плодами размером с гусиное яйцо, флягой с хмельным напитком, за которой ему пришлось сбегать специально, так как она находилась в клади, взваленной на спину мула, и с небольшим жестяным сосудом, похожим на кружки у наших солдат. — Хозяин, вот это лекарство, — сказал он Жюльену, бросавшему на плоды, от которых зависела его жизнь, нетерпеливые, как нетрудно догадаться, и выражавшие надежду взгляды. Подобного рода фрукты англичане называют словом «drupe», что означает «косточковый плод»[535]. У них довольно жесткая кожица, прикрывающая endocarp — эндокарпий, или внутриплодник, то есть, выражаясь общедоступным языком, внутреннюю часть плода. Проводник быстро разломил один из плодов, извлек из беловатой мякоти косточку, расколол ее черенком ножа, достал оттуда пару круглых ядрышек, слипшихся друг с другом, и осторожно положил их в жестяную посуду. Проделав моментально то же самое и с остальными двумя плодами, он растолок все шесть ядрышек, налил в кружку восемь — десять ложечек хмельного напитка и заставил Жюльена выпить половину полученной таким образом микстуры. Затем вынул из кармана Жака торчавший наружу носовой платок, разорвал его на четыре части, завязал одним клочком большой палец и обильно смочил повязку остававшейся в жестянке жидкостью. С тех пор как Жюльена укусила коралловая змея, столь же опасная, как и гремучая, прошло с четверть часа. Проводник вмешался вовремя: за те несколько минут, что он чистил плоды и обрабатывал палец, у Жюльена появилась одышка, его стало рвать, то есть налицо были безусловные признаки проникновения в кровь смертельного яда. Жюльен, выпив жгучее, неприятное на вкус лекарство, ибо алкогольный напиток лишь слегка смягчил содержавшуюся в ядрышках горечь, хотел было вытянуться во весь рост на земле, ожидая, когда скажется лечебный эффект эликсира. Однако гид отговорил его, убедив, что французу, наоборот, следует беспрерывно ходить. — Верьте мне, хозяин, отдых вам ни к чему, — сейчас по крайней мере. Если немножко походите, лекарство подействует быстрее. — Хорошо. Пройдемся вместе: мне хотелось бы поближе разглядеть бесценное растение, которое должно спасти мне жизнь. Все же не ходить бесцельно взад-вперед. Шли они медленно, так как Жюльен настолько обессилел, что передвигался с трудом. Добравшись до красивого дерева высотой в семь-восемь метров, со стройным, как у пальмы, стволом и пышным убранством из огромных перистых листьев, они остановились. В богатой зеленой кроне виднелись одновременно и плоды, и свисавшие вниз метелкой цветы, имевшие по пять очень узких лепестков, матово-белых снаружи и темных и пушистых внутри. Что же касается плодов, то мы их только что описали. — Как называется это дерево? — спросил Жак. — Мы, местные, зовем его «цедрон»[536], — ответил проводник. — Оно считается у нас священным. Только счастливый случай открыл европейцам ценные, а точнее, бесценные свойства этого растения, о котором теперь знают повсюду. Использоваться в медицинских целях белыми цедрон (Zimaba cedron) стал сравнительно недавно, с 1828 года, после того как индейцы принесли несколько ядрышек, извлеченных из его плодов, в Картахену[537] и заявили, что порошок из них или настойка из цветов этого дерева неизменно спасают людей и животных, ужаленных самыми что ни на есть ядовитыми змеями. В подтверждение своих слов индейцы не колеблясь дали укусить себя змеям, самым ядовитым в этом краю, и, приняв соответствующее снадобье, быстро выздоровели, в то время как ужаленные животные, не получившие лекарства, пали все до одного. Эти опыты произвели на белых столь большое впечатление, что у индейцев купили по цене один дублон[538] — примерно восемьдесят три франка — за штуку все ядрышки, какие только у них были. Однако долго еще это ценное растение использовалось лишь от случая к случаю, пока в 1869 году одному из наших соотечественников, бесстрашному путешественнику и медицинскому светиле, доктору Саффрэ не посчастливилось встретить цедрон во время его замечательной поездки по Новой Гранаде. Он глубоко исследовал его с ботанической точки зрения и стал регулярно применять изготовленные из его продуктов препараты в медицинской практике, — уже на серьезной научной основе. Результаты превзошли все ожидания врача-энтузиаста. И впрямь, индейцы, которых считают нередко великими фантазерами, ничего не преувеличили, рассказывая о целебных свойствах цедрона. Доктор Саффрэ назначал ядрышки цедрона людям, у которых еще оставались на месте раны следы от зубов ядовитой змеи. Зная, что смерть наступает через несколько часов после змеиного укуса, он спасал всех без исключения своих пациентов, если только успевал вовремя ввести в их организм лекарство, причем выздоровление наступало всегда исключительно быстро. Мало того, он решил удостовериться также и в тонизирующих и жаропонижающих свойствах цедроновых препаратов. Практика полностью подтвердила его догадку: эти лекарства оказались весьма эффективными в борьбе с эпидемией дизентерии, а также при лечении золотухи[539] и хлороза[540]. Но особенно поразительными были результаты, достигнутые при использовании цедроновых препаратов для предупреждения или лечения перемежающихся нервных приступов. Применение указанных лекарственных средств против этого бича влажных и жарких стран дало больший эффект, чем хина: радикально вылечивая страдающих этим недугом, они в то же время не причиняли никакого вреда организму. Впрочем, пора уже вернуться к основной сюжетной линии нашего повествования. Прогулка к цедрону оказала на Жюльена положительное воздействие. Ходьба, которую посоветовал проводник, чтобы облегчить организму усвоение лекарства, явилась своего рода целительной процедурой, и вскоре, словно по мановению волшебной палочки, совершенно исчезли тревожные симптомы, которые с такой настойчивостью заявляли о неизбежном конце. Это было похоже на воскресение. Жак столь бурно выражал радость по поводу удивительного спасения своего друга, что приводил в недоумение их спутника, у которого были свои представления о поведении белого человека. Жюльен, чувствуя, как силы постепенно вновь возвращаются к нему, упивался счастьем ощущать себя живым. Друзья всячески выражали проводнику свою искреннюю признательность, и хотя тот, как всегда, был сдержан и молчалив, на губах у него блуждала добрая улыбка, а черные глаза радостно светились при виде французов, громко изъявлявших восторг в связи с чудесным исцелением Жюльена благодаря его своевременному вмешательству. Привал устроили неподалеку от благословенного дерева, а с зарей, захватив с собой, само собой разумеется, солидный запас стеблей сахарного тростника, небольшой отряд тронулся в путь. Жюльен, почти совсем окрепнув, весело ехал на муле. По-прежнему двигаясь на юг, наши друзья пересекли долину Чоты, чуть не ставшую местом гибели одного из них, и в полдень уже входили в Ибарру, главный город провинции Имбабура. Этот красивый город, некогда один из самых процветающих в Республике Эквадор, расположен на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря, почти у линии равноденствия[541]. Со здоровым климатом, прекрасно построенный, знаменитый историческими памятниками и насчитывавший двадцать пять тысяч жителей, занятых в промышленности, этот богатый населенный пункт, своего рода эквадорская жемчужина, казалось бы, обладал всем, чтобы и впредь пребывать в благополучии. Но, увы, за какую-то минуту славное селение превратилось в груду камней. Шестнадцатого августа 1868 года чудовищной силы землетрясение вспучило почву, разрушило старинные строения и, по существу, полностью уничтожило этот веселый город. Под развалинами зданий погибли десять тысяч человек в самой Ибарре и тридцать тысяч в провинции. Те же, кто выжил, лишенные крова, съестных припасов и помощи, не осмеливались, насмерть напуганные грозным tremblor[542], двинуться с места, поесть или поспать. Думая, что пришел их последний час, они лишь жалобно всхлипывали, уповая на милость Всевышнего, в то время как мертвые оставались лежать непогребенными под обломками домов. Президентом республики был тогда Гарсиа Морено[543], человек беспримерной энергии. Узнав в Кито о катастрофе и ужасной панике, охватившей население пострадавшего от землетрясения района, он сел на коня и одним махом домчался до Ибарры. И кстати: парализованные страхом люди могли просто задохнуться из-за дурного запаха, исходившего от трупов. Собрав народ на площади, Морено громким голосом приказал горожанам приступить к расчистке руин, извлечь оттуда мертвых и похоронить их. Никто не шелохнулся. Но президент был железным человеком и сумел найти выход из сложной ситуации. Он распорядился, чтобы солдаты, прибывшие вместе с ним из столицы, возвели три виселицы, и затем, приблизившись спокойно, с револьвером в руке, к бездействовавшим ибаррийцам, предъявил им ужасный ультиматум: работа или виселица! Толпа сдалась. Морено лично возглавил работающих, увлекая их собственным примером. Он поднимал камни, переносил трупы, копал могилы и сделал передышку лишь тогда, когда удостоверился, что вновь вернул к жизни людей, пострадавших от катастрофы. Ибарра так и не оправилась от разрушительного удара, нанесенного ей жестокой стихией, и, когда двое друзей увидели это селение спустя одиннадцать лет после землетрясения, значительная часть его, несмотря на усилия муниципалитета, представляла собой руины. Правда, жилые дома кое-как восстановили, но было ясно, что эра процветания для Ибарры закончилась — и надолго. Пробыв в городе только двенадцать часов, наши французы вновь двинулись в южном направлении и прошли всего лишь в пятнадцати километрах от вулкана Имбабуры. Давно потухший, он время от времени выбрасывает огромное количество грязи и различных органических веществ. Говорят даже, что его название состоит из двух слов: «имба», обозначающего у местных жителей маленькую черную рыбешку Pimelodus cyclopum[544], и «бура» — «производить». И действительно, в 1691 году люди собрали несметное число выброшенных из чрева горы указанных выше крохотных существ, которые, по-видимому, кишмя кишели в некоем подземном водоеме. Передвигаясь по немыслимым дорогам, путешественники прошли через местечки Тупигаче, Тобокундо и Качиуанго, прежде чем увидели слева от себя величественно возвышавшийся на пять тысяч девятьсот метров над уровнем моря великолепный вулкан Каямбе — по высоте вторую после Чимборасо[545] вершину Эквадора. Неожиданно остановившись, Жюльен протянул руку в сторону огромного конуса, увенчанного плотным слоем снега, сиявшего под лучами жаркого эквадорского солнца ослепительным блеском. — Хочешь знать, — спросил он у своего друга, — в каком месте земного шара мы находимся сейчас? — Догадываюсь, — ответил Жак, к которому после чудесного исцеления Жюльена, спасенного плодами цедрона, вновь вернулось хорошее настроение. — Мы оказались на той самой воображаемой линии, что делит землю на два полушария — северное и южное — и где полуденное солнце не дает тени и может своими прямыми лучами осветить дно глубокого колодца, а день и ночь составляют ровно по двенадцать часов… Короче, мы на экваторе, не так ли? — Ты совершенно прав, — улыбнулся Жюльен. — Вот ты улыбаешься… А хочешь, я скажу тебе — почему? — Хочу. — Ты вообразил, будто бы твой друг, канцелярская крыса из префектуры Сена, намеревается поздравить себя с тем, что добрался сюда, не пользуясь мачтой и парусом, а также избежав знаменитого морского крещения на экваторе[546]. — Вот как? Нет, ты ошибся. Просто, очутившись в таком месте, я чувствую себя счастливым, на седьмом небе[547], и, когда гляжу на этого гиганта с шапкой снега наверху, мне приходят на память слова известного путешественника. — А именно? — Путешественник, которого я имею в виду, — это месье Гумбольдт. Если только память не изменяет мне, он закончил свое описание этого района следующими словами: «Здесь проходит эта идеальная[548] линия, проведенная как бы самой природой через один из своих самых грандиозных памятников, с тем чтобы надвое разделить земной шар». Под памятником ученый подразумевал, понятно, вулкан Каямбе. На следующее утро друзья были в Кито[549], расположенном на 0°13′ южнее экватора. Сколь бы ни было велико их желание как можно быстрее продвигаться по избранному пути, им пришлось все же задержаться на несколько дней в эквадорской столице. Выносливость человеческого организма имеет свои пределы, и небольшой отдых после тяжелой дороги и особенно тех волнений, которые пережили французы, когда Жюльена укусила змея, был вовсе не лишним. Кроме того, новости, полученные ими по прибытии в город, оказались настолько серьезными, что перед друзьями встала настоятельная необходимость углубленного изучения политической обстановки в странах, которые они намеревались посетить. Им потребовалось полдня, чтобы получить представление об этом старинном[550] и во многом оригинальном городе, обосновавшемся на высоте две тысячи девятьсот метров над уровнем моря на плато Анд, у подножия вулкана Пичинча, чей кратер шириной в сто двадцать метров не знает покоя. Обладая удивительной способностью цепко удерживать в памяти наиболее интересное из увиденного ими даже при беглом осмотре достопримечательностей, наши землепроходцы совершили короткую экскурсию по крутым улицам, не знавшим такой роскоши, как автомобиль, и взобрались на окруженный городскими строениями холм Панасильо, с вершины которого были видны развалины храма Солнца и открывалась поразительная, единственная в своем роде панорама — вершины семи вулканов: Каямбе, Антизаны, Корасона, Синчулагуа, Иниса, Котопахи и Пичинча, — из коих два последних — действующие. Вскоре путешественники вернулись к реальной действительности, а именно: сошли с холма на улицы города — это убогое местообитание козочек и лам — и нанесли визит французскому консулу, принявшему их с самой искренней сердечностью и милостиво предоставившему в их распоряжение целое собрание журналов за многие месяцы. Эта любезность была для друзей тем более бесценной, что они, практически изолированные от цивилизованного мира с тех пор, как покинули Мехико, абсолютно ничего не ведали о важных событиях, разыгравшихся в Перу, Боливии и Чили. Наконец, консул, будучи заранее осведомлен о маршруте своих соотечественников, предупредил их сперва о почти непреодолимых трудностях, которые их ожидают в пути, а затем подробнейшим образом обрисовал ситуацию, сложившуюся к тому времени в трех указанных выше странах и посвятил друзей в государственные тайны, с тем чтобы они смогли в случае, если не откажутся от своего смелого намерения, осознать, по крайней мере, суровую реальность и принять надлежащие меры с целью уменьшить риск. Именно об этой обстановке в трех южноамериканских странах и пойдет речь в следующей главе.
ГЛАВА 8
Тихоокеанская война[551]. — Схватка между кровными родственниками. — Плачевное политическое, экономическое и финансовое положение в Перу и Боливии. — Процветание Чили. — Trabajo é cordura[552]. — Сокровища пустыни Атакама. — Предприимчивость чилийских тружеников. — Возмутительный грабеж. — Объявление войны. — Секретный договор. — Военно-морские силы Перу и Чили. — Блокада Икике. — Морское сражение. — Верность клятве. — Героизм моряков «Эсмеральды». — Поднятый флаг. — Поражение перуанцев. — Гибель «Индепенденции».Начало октября 1879 года. Как уже известно читателю, три южноамериканские республики терзала жестокая война, продолжительность которой невозможно было заранее предугадать. Перу в союзе с Боливией схлестнулась с Чили. Схватка между государствами, возросшими из ствола одного и того же генетического дерева, долгое время в равной степени страдавшими от колониального рабства и населенными представителями одних и тех же рас и народов, являлась по своему характеру чуть ли не гражданской войной и оттого приняла исключительно яростные формы. Мы не будем объяснять здесь в подробностях мотивы этого конфликта, весьма неприглядные, если говорить о Перу и Боливии, чьи государственные мужи, обанкротившись окончательно, в глубине души своей лелеяли мечту о войне, которая списала бы все их просчеты и принесла бы устроителям бойни ордена и состояния. Почва для вооруженного столкновения давно уже была подготовлена, особенно в Перу. Эта страна, лишившись былого величия и обратив свое название, служившее некогда синонимом процветания, в пустой звук, начала прибегать ко всякого рода уловкам, чтобы заявлять постоянно о своем существовании. Как бы ни было строго это суждение, автор вышесказанного, располагая соответствующими свидетельствами, взял себе за абсолютное правило прибегать к жесткости и беспристрастности в своих оценках описываемых им событий и, считая возможным ограничиться некоторыми фактами, решил привести в подтверждение своих слов следующий отрывок из выпущенной парижским издательством «Плон» книги дипломата высшего класса графа Шарля д’Юрселя «Южная Америка»: «Пренебрегая своим будущим, эта страна (Перу 1876 года), владеющая несметными природными богатствами, которые видишь буквально на каждом шагу, давно уже впала в спячку. Всякое новое правительство поднимает наверх целую толпу своих фаворитов. Но при первых же политических переменах новых чиновников увольняют на пенсию, подчас очень высокую. В случае кончины такого бюрократа пенсией продолжают пользоваться его вдова и даже дети. В общем, многие граждане считают, будто государство обязано обеспечивать их всяческими благами, и посему казна, и без того истощенная, быстро скудеет в результате подобных политических перипетий. В 1868 году в Перу, когда президентом был полковник Балта, имела место целая серия авантюрных мероприятий, таких, как сооружение железных дорог, доков и памятников, явившееся для страны непомерным грузом и почти не принесшее ей доходов. По прошествии известных кровавых дней дон Мануэль Пардо, избранный в 1872 году президентом в результате некоторых манипуляций, постоянно ссылаясь на высшие интересы, полностью опустошил государственную казну и до основания разрушил систему общественного кредита. Лучшее тому доказательство — курс[553] перуанских ценных бумаг, упавший с семидесяти четырех франков четыре года назад до двенадцати в нынешнем, 1876 году. Бумажные деньги, единственные в обращении, день ото дня теряют в цене: я наблюдал падение цены соля[554] до двадцати пяти центов, тогда как еще недавно за него давали сорок восемь! Такое положение вещей, естественно, наносит ощутимый урон торговле, резко сокращается импорт, и вполне вероятно, что, когда до конца будут исчерпаны все ресурсы, все возможности, республику Перу сотрясет один из тех ужасных кризисов, из которых любая страна выбирается лишь с огромным трудом». Высказывание поистине пророческое, подтвержденное невероятно жестокими по своему характеру событиями, случившимися спустя три месяца после написания процитированных выше строк. «Однако, — продолжает месье д’Юрсель, — не следует полагать, что в Лиме всех охватила прострация. Ситуация оригинальна: каждый мнит себя экономистом и предлагает через газеты новое средство спасения страны. Что касается революции, то она уже близка, и любой претендент на высший пост, будь то реакционер или радикал, считает себя вправе, если представится случай, предать все огню и мечу исключительно во благо сограждан». Не менее шатким было положение дел и в Боливии, где некое подобие правительства, послав ко всем чертям республиканский строй, не сочло нужным сохранить даже внешние его атрибуты. «В Боливии, — говорит наш известный соотечественник Шарль Вьенер[555], — парламент существует, так сказать, лишь как забытый параграф в национальной хартии. Двести заправил, известных под именем «первый батальон», назначают и отставляют президентов, причем тринадцать из четырнадцати граждан, занимавших сей высший государственный пост после основания республики[556], или были убиты, или изгнаны из страны, или погибли сами». Не сомневаемся, что данного короткого обзора вполне достаточно нашему читателю, чтобы понять, какова была внутренняя ситуация в этих двух странах-союзниках. Еще одно слово, касающееся Перу или, скорее, ее вооруженных сил. В 1878 году — еще в мирное время — в этой сравнительно небольшой стране насчитывалось 4200 солдат, 3870 офицеров всех рангов, включая двадцать шесть генералов, и 5400 жандармов, или вооруженных полицейских, что составляет в общей сложности 13 470 человек — храбрецов, не знающих усталости, энергичных, собранных и без предрассудков. Совершенно иным было положение в Чили. Освободившись в 1810 году от жестокого, ничего, кроме разорения, не принесшего ей владычества Испании, эта республика тружеников, вместо того чтобы заниматься политикой и говорильней, взялась за осуществление девиза, выраженного в двух словах — «trabajo» и «cordura», то есть «работа» и «здравый смысл». И вскоре она стала поражать всех непривычным для бывших испанских колоний в Америке и очень редким в остальных районах мира таким явлением, как легальная смена правительства: с 1830 года все главы исполнительной власти занимали свой пост строго в соответствии с законом, а не в результате революций. Естественно, такое положение вещей привело к процветанию страны. Отвлечемся же от причин сего феномена и вдумаемся в бесстрастные и вместе с тем красноречивые цифры. При испанском владычестве население Чили не превышало 500 тысяч человек, а ее доход едва достигал двух с половиной миллионов франков. Зато в 1879 году на территории этого государства проживало уже два миллиона 225 тысяч человек, национальный же доход составил 107 миллионов 470 тысяч франков. И это убеждает в достигнутых чилийцами успехах сильнее всяких слов. Ну а что касается причин, приведших к процветанию страны, то отметим: «trabajo é cordura» — старый девиз. Здравый смысл диктовал всемерно добиваться достижения повсеместной всеобщей грамотности и развивать систему народного образования, а работа, в которую была вовлечена вся нация, позволила основать и содержать тысячу триста школ для девяноста тысяч учащихся обоих полов. Расходуя на образование восемь миллионов франков в год, Чили довольствуется армией в 3500 человек и милицией в 22 тысячи человек, содержание которых не стоит ни су. Так же решительно граждане этой республики отказались от галунов и султанов[557], коими так красуются Перу и Боливия, поощряя это пышное, но разорительное разноцветье. И наконец, национальный долг Чили погашен полностью, в то время как ее соседи не знают, как покончить с внешней задолженностью. И нет ничего удивительного в том, что такое процветание вызвало у вышеупомянутых соседей чувство зависти и неприязни, достаточное для того, чтобы, как только представится подходящий случай, вспыхнула война между Перу и Боливией, с одной стороны, и Чили — с другой. Нищета — плохой советчик, и именно она привела к кровавой схватке. В течение многих лет границы между Чили и Боливией не были четко определены. Мало что значила и нейтральная зона, представлявшая собой лишь ужасную безводную пустынную местность, которую никто не осмеливался использовать в своих интересах вплоть до 1863 года. А в означенный год туда пришли отважные чилийцы и ценой неимоверно тяжкого труда, подвергаясь неслыханным опасностям, обнаружили там залежи гуано, меди и селитры. Вскоре вслед за первыми землепроходцами в пустыню Атакама прибыли промышленники и рабочие-чилийцы. Они заселили еще недавно бывший безлюдным район, в котором отныне воцарилось благоденствие. Вот тогда-то Боливии и пришло на ум предъявить свои претензии на эти земли, заявив, что, согласно uti possidetis[558] 1810 года, они входят в состав ее территории! Десятого августа 1866 года, после весьма жестких переговоров, во время которых дело несколько раз едва не дошло до пушек, стороны пришли к следующему: Чили ограничивала свое влияние на землях, находящихся на 24° южной широты, продукт же разработок ценных залежей и пошлина, взимаемая на таможне с вывозимых за рубеж минералов и органических удобрений, добытых на территории между 23° и 25°, должны были распределяться поровну между правительствами обеих стран, обязанными, в свою очередь, также поровну возместить частным лицам нанесенный им ущерб, оцененный в 80 тысяч пиастров[559] (400 тысяч франков). До 1873 года Чили неукоснительно соблюдала договор, Боливия же довольствовалась тем, что клала в свой карман всю причитавшуюся ей сумму дохода, не выделяя при этом соседнему государству ни единого су в счет возмещения ущерба, причиненного частным лицам, и — вещь еще более неслыханная! — не позволяя второй договаривающейся стороне проверять счета межгосударственных платежей. Чили неоднократно вступала в переговоры с Боливией, настаивала на соблюдении ею условий соглашения, но все было тщетно. Мало-помалу обстановка становилась невыносимой для чилийцев — как рабочих, так и предпринимателей. В 1866 и 1868 годах двое граждан Чили открыли в этих же местах новые и весьма богатые месторождения селитры и буры[560]. Они добились от боливийского правительства концессии[561] на разработку разведанных ими залежей при условии, что будут отчислять ему ежегодно 50 тысяч франков, сооружат за счет своих доходов мол у тогда еще пустынного берега Антофагасты[562], проложат в осваиваемом ими районе двадцать пять лье благоустроенных дорог и откроют там постоялые дворы и стоянки с водой для путешественников. Созданное в Чили соответствующее акционерное общество не только скрупулезно выполнило все эти условия, но и проложило вместо грунтовой железную дорогу, израсходовав в общей сложности на строительные нужды 30 миллионов франков. Результатом подобной созидательной деятельности и явилось появление на тихоокеанском побережье Южной Америки нового порта Антофагаста. Между тем еще один чилиец обнаружил в другом районе той же пустыни богатую серебряную жилу. Сколько же сокровищ хранила эта безлюдная земля, о существовании которых ненасытная Боливия даже не подозревала! В любой иной стране эти бесстрашные труженики, занимавшиеся столь тяжелым трудом, чувствовали бы себя в безопасности. Но прежнее боливийское правительство было низвергнуто, новое же, придя к власти, не пожелало соблюдать достигнутую ранее договоренность о защите прав предпринимателей и произвольно обложило налогом чилийские компании, повысило арендную плату за эксплуатируемые ими месторождения и подняло сумму обязательных отчислений в свою казну до фантастических размеров. Представитель Чили воззвал к совести соседей. Но боливийское правительство ничего не хотело слышать и в ответ на требование чилийской стороны придерживаться условий договора приняло решение о конфискации чилийской собственности на спорных землях. Это означало крах для чилийской промышленности, которая разом лишалась имущества общей стоимостью в сорок миллионов франков, явившегося плодом двенадцатилетних беспрерывных усилий. Кроме того, тысячи рабочих оказывались не только без хлеба, но и без крова, ибо за указом о конфискации немедленно последовал изданный четырнадцатого февраля 1879 года указ о выселении чилийцев с освоенных ими земель. Тогда Чили решила принять свои меры — силой помешать грабителям претворить в жизнь их недостойные планы. Аналогичным образом складывались и отношения между Чили и Перу. В Сантьяго[563] и Вальпараисо[564]образовалось множество финансово-промышленных компаний по разработке перуанских месторождений селитры в Тарапаке. Как и на подконтрольной Боливии территории, ум и энергия чилийских тружеников в соединении с доверием, завоеванным предпринимателями мужественной маленькой республики на рынках двух частей света, привели к процветанию и освоенный чилийцами район в Перу. Хотя граждане Чили понесли внушительные расходы, работа шла отлично, и их усилия окупались. Однако Перу, стоявшая, как мы уже говорили, на грани банкротства и вконец обнищавшая, — а нищета, еще раз отметим, — плохой советчик, — последовала примеру Боливии. Презрев прошлые договоры с компаниями-концессионерами, она обрушила на производство селитры несколько ударов. Обложив промышленников непомерными налогами, государство, оказавшись на грани развала, не удовлетворилось этим и возымело намерение монополизировать эту индустрию и объявить себя единственным негоциантом, распоряжающимся в стране внешней торговлей. Назначив производителям фиксированную и довольно незначительную цену на их продукцию, всю торговую прибыль оно присваивало себе. Промышленники, устав вскоре от подобного положения вещей, при котором они практически ничего не получали, стали работать кое-как, лишь для отвода глаз, и добыча селитры свелась почти к нулю. Таким образом, Перу по глупости убила курицу, что несла золотые яйца. Обезумевшее от нехватки денег перуанское правительство решило тогда само заняться производством селитры. Но для этого надо было выкупить у частных предпринимателей рудники, заводы, оборудование и тому подобное. Выкупить!.. Перуанских государственных мужей такая малость ничуть не озаботила. Объявив себя покупателями, они заявили о своей готовности выплатить сорок миллионов за то, что стоило не менее ста миллионов. Однако и предложенная чиновниками сумма показалась им излишне большой, и они ограничились… выражением признательности. Республика Перу должна была приступить к разработкам месторождений селитры в установленный правительством срок. Но этот срок давным-давно истек, а дело не сдвинулось с места — в частности из-за того, что денежных вложений в данную промышленную отрасль оказалось явно недостаточно. Описанные выше события происходили незадолго до принятого Республикой Чили решения силой воспрепятствовать расхищению Боливией богатств, коими славилась Антофагаста. Когда Чили объявила Боливии войну, Перу, крайне удивившись такому шагу, предпринятому страной, до сих пор проявлявшей изумительную выдержку и кротость, поспешила заключить с Боливией строго секретный договор о военном союзе. Несмотря на все бахвальство с боливийской стороны, пятьсот чилийцев, высадившихся в Антофагасте, двадцать третьего марта 1879 года наголову разбили противника в городе Каламе. Это первое сражение, бывшее всего-навсего пробой сил, на некоторое время сломило военную мощь Боливии[565]. Но Перу, уверенная в боевой силе своих войск, особенно на море, убежденная, что быстро справится с Чили, и надеясь на то, что удачно проведенная военная кампания мигом выведет ее из финансового кризиса, в котором она отчаянно барахталась, решила незамедлительно оказать вооруженную поддержку союзнику и предъявила Чили ультиматум. Однако, увы, Перу с самого начала постигло горькое разочарование. В то время как перуанское правительство, развив бешеную деятельность, формировало новые полки, обучало рекрутов, готовило к бою кавалерию, снаряжало артиллерию, снабжая ее боеприпасами, повозками, упряжью и в конце концов собрало таким образом настоящую армию из двадцати тысяч сорвиголов, Чили, демонстрируя подобную же активность на своей территории, намеревалась перво-наперво блокировать перуанский порт Икике[566]. И какими кораблями, Боже правый! Нужно было обладать немалым мужеством, чтобы бросить противнику вызов при столь огромной диспропорции в военно-морских силах. Ведь Перу владела восемнадцатью кораблями: фрегатом[567] «Индепенденция», тремя мониторами[568] — «Уаскар», «Атауальпа» и «Маско-Капак», двумя корветами[569] и двенадцатью судами поменьше, из которых одно, так же, как и первые четыре корабля, было покрыто броней. Чилийский же флот насчитывал всего девять боевых единиц: два бронированных фрегата — «Бьянко Энкалада» и «Альмиранте Кочране», два деревянных корвета — «О’Хиггинс» и «Чекабико», одну деревянную канонерку — «Магеллан» и четыре маленьких, изветшалых судна, малопригодных для службы. Чилийский адмирал Ребольедо, главнокомандующий эскадры, стоявшей напротив Икике, приказал шестнадцатого мая 1879 года подняться до Камьяо и дать бой перуанцам. На рейде остались лишь два корабля, неспособные участвовать в сражении из-за ужасного состояния, в котором находились их корпуса и машины: корвет «Эсмеральда», служивший флоту уже двадцать пять лет, и маленькая шхуна «Ковадонга», захваченная чилийцами у испанцев в 1826 году. Естественно, оба судна были сделаны из дерева. Первое, водоизмещением восемьсот пятьдесят тонн, располагало восемью пушками и машиной в двести лошадиных сил, второе, водоизмещением четыреста двенадцать тонн, — двумя пушками и машиной в сто сорок лошадиных сил. Спустя пять дней, двадцать первого мая, два мощных перуанских корабля, в коих вскоре узнали «Индепенденцию» и «Уаскара», подошли к Икике в полной уверенности, что им достаточно лишь показаться, чтобы сорвать блокаду и захватить маленькие чилийские суденышки. В подобном предположении не было ничего из ряда вон выходящего, поскольку бронированный фрегат «Индепенденция» водоизмещением две тысячи тонн имел машину в пятьсот пятьдесят лошадиных сил и восемнадцать крупных орудий «армстронг», а монитор «Уаскар», водоизмещением тысяча триста тонн, — машину в триста лошадиных сил, два орудия «армстронг», установленных во вращавшейся башне, и еще две пушки на палубе. Однако дон Артуро Прат и дон Карлос Кандель, командовавшие соответственно «Эсмеральдой» и «Ковадонгой», придерживались иного мнения. Молодые, бесстрашные, верные своему долгу, они решили биться не на жизнь, а на смерть. И это не было пустым бахвальством. «Уаскар» атаковал «Эсмеральду», чья астматическая машина буквально задыхалась, а «Индепенденция» — «Ковадонгу». Завязалась артиллерийская перестрелка. Бронированные корабли вышли из нее целехонькими, деревянные же суда чилийцев получили сильные повреждения. Убедившись, что предпринятая ими попытка запугать противника и заставить его капитулировать успехом не увенчалась, перуанцы вознамерились покончить со смельчаками. Первой жертвой должен был стать корвет «Эсмеральда». Командир «Уаскара», взбешенный сопротивлением этой старой калоши, изрешеченной снарядами, но не сдававшейся, задумал продырявить ее корпус стальным тараном. «Эсмеральде» дважды удалось увернуться от столкновения с монитором. Но затем на какой-то миг оба судна сошлись вплотную и началась стрельба в упор. Снаряды рвали на куски дерево, осколки рикошетом отлетали от стальной брони. Чилийский командир приказал поднять на главную мачту флаг. Морякам известно, что это означает: «Утонем, но не сдадимся!» Получив новый удар в борт, корвет опять оказался бок о бок с монитором. Капитан Прат вместе с одним из офицеров и солдатом прыгнул с саблей в руке на палубу «Уаскара» и прокричал, обращаясь к своим, рвавшимся в бой матросам: — На абордаж! Но, к несчастью, корабли в этот момент стали расходиться, и чилийский экипаж не успел последовать за своим героем-командиром. Капитан сдержал данную им клятву сражаться до последнего: он и два его соратника погибли смертью храбрых на палубе монитора. «Уаскар» снова понесся на «Эсмеральду» и на этот раз пропорол, словно железным клинком, ее борт. Корвет, с вышедшей из строя машиной, замер на некоторое время на месте, а затем стал погружаться в воду. Артиллеристы, воспользовавшись последним оставшимся у них мгновением, выпустили по вражескому кораблю еще один снаряд. — Да здравствует Чили! — раздался крик с уходившей под воду палубы. Через какой-то миг в морской пучине исчез и трехцветный чилийский флаг. Так геройски погибли корвет «Эсмеральда» и его доблестный экипаж. Впрочем, не все моряки утонули: из ста восьмидесяти человек, находившихся на борту отважного судна, шестьдесят подобрали спущенные с «Уаскара» шлюпки. Почти все спасенные матросы были ранены и лишь чудом продержались на воде до подхода лодок с вражеского корабля. Однако корвет и павшие в сражении члены его экипажа были вскоре отомщены. Сколь неправдоподобным ни покажется этот факт, но бедная маленькая паровая шхуна «Ковадонга» мужественно выдерживала атаки «Индепенденции», в четыре раза превосходившей ее по боевой мощи. Насквозь пробитое снарядами, чилийское судно яростно отбивалось от могучего противника, противопоставляя его восемнадцати пушкам, обрушивавшим на «Ковадонгу» огненный шквал, всего два орудия. К счастью, машина шхуны не пострадала во время этой жаркой схватки. «Индепенденция» решила поступить с бесстрашным маленьким кораблем точно так же, как это только что сделал «Уаскар» с «Эсмеральдой», то есть, попросту говоря, потопить его. Однако капитан Кандель, прекрасно знавший берег, развернул судно таким образом, чтобы у противника создалось мнение, будто его судно пытается спастись бегством. Воспользовавшись неглубокой осадкой шхуны, он смело повел ее над подводными рифами. Перуанский же фрегат, устремившийся за «Ковадонгой», сел на мель. Хотя его судно получило несколько пробоин, Кандель повернул свою шхуну к «Индепенденции», открыл по ней артиллерийский огонь и покинул театр военных действий лишь после того, как убедился, что самого мощного корабля перуанского флота больше не существует. В то время, как «Уаскар» подбирал потерпевших кораблекрушение моряков «Индепенденции», «Ковадонга», с трудом держась на поверхности вод, гордо приближалась к порту Антофагасты, где она намеревалась залечить свои раны… Если при изложении политической и экономической обстановки, сложившейся в трех воюющих республиках, автор счел своим долгом в деталях рассказать о вышеописанном выдающемся факте военной истории, то им руководило желание не только обратить внимание читателя на героизм и патриотические действия чилийцев, но и показать, сколь упорно и остервенело одни испано-американцы истребляли других. Мало того, они собирались во все больших масштабах продолжить на земле и воде эту борьбу не на жизнь, а на смерть. Однако вернемся к нашему повествованию. Перу, испытывая нехватку оружия еще до начала боевых действий, заключила торговые сделки с несколькими заводами в Европе и Америке. Когда же она объявила Чили войну, торговые контрпартнеры Перу резко увеличили ей кредиты и заранее подсчитывали сумму, которую возьмут они с Чили в счет возмещения убытков, ибо никто, кроме, быть может, самих чилийцев, не предполагал, что это небольшое государство ожидает победа. Поезда с предназначавшимися Перу оружием и снаряжением не переставая следовали один за другим по узкому Панамскому перешейку — пути сравнительно короткому и надежному. Напрасно чилийские дипломаты энергично возражали против этого вопиющего нарушения рядом государств нейтралитета. Их заявления не доходили до ушей соответствующих лиц, пока успех Чили не сбил спесь с Перу и не доказал далеко не беспристрастным «нейтральным» странам, что следовало бы считаться с республикой, расположенной на западном побережье Южной Америки. Правительство Колумбии, не в силах более закрывать глаза на эти скандальные перевозки, приказало изучить все обстоятельства данного дела. Результаты расследования оказались весьма красноречивыми, и тогда пресса Боготы[570], желая дать объяснение недостойным, компрометирующим страну фактам, высказала мысль, что федеральное правительство Панамы продалось за немалую сумму агентам Перу, причем это предположение так и не было никогда опровергнуто[571]. Теперь становится ясной подоплека некоторых событий, изложенных в самом начале третьей части этого романа, когда мы рассказывали о том, как полковник Батлер, сумевший наладить поставку оружия, очутился вместе со своим компаньоном капитаном Бобом на берегу, где признал в двух французских путешественниках люто ненавидимых им людей.
ГЛАВА 9
Дальнейший маршрут. — Очередной отказ Жака от плавания по морю. — Подготовка к путешествию в Андах. — Погонщик мулов. — Проводник-мажордом. — Тасаджо. — Сахар-сырец как основной продукт питания. — Край вулканов. — Тамбо. — Оптимистическое заявление Жака. — Чимборасо. — Горная тропа. — В преддверии Ареналя. — Ежедневный ураган в Андах. — Рычащий «король». — Вихрь. — Ужасный катаклизм[572]. — Улучшение погоды. — Исчезновение проводника. — Зов о помощи.Несмотря на трудности, с которыми они, несомненно, должны были столкнуться, и опасности, подстерегавшие их, друзья решили все же пересечь Перу и Боливию. Понимая, что обстоятельства смогут внести изменения в их планы, они тем не менее наметили дальнейший маршрут, первый этап которого пролегал через Куаякиль, маленький перуанский городок Тумбез, Трухильо, Лиму, Арекипу, Пуно, озеро Титикака и Чукисаку. Далее путешественникам предстояло подыскать наиболее удобное и эффективное средство передвижения по пустынным районам Боливии, Республики Аргентины и Бразилии, с тем чтобы достичь наконец 49° западной долготы, считая от Парижского меридиана, и 21°50′ южной широты, ибо здесь, в этой именно точке, и располагалась фазенда Жаккари-Мирим. Жюльен считал, и вполне резонно, что, хотя этот путь и проходил через воюющие страны, он, однако, не был столь тяжелым, как другой, пересекавший огромные безлюдные пространства вдоль Амазонки, и, кроме того, нашим друзьям, если они изберут его, не придется испытывать нужды в продуктах питания. К тому же Перу и Боливия — цивилизованные государства, в то время как области к востоку от этих двух республик — бразильские только по имени: покрытые непроходимыми лесами и орошаемые полноводными притоками Амазонки, этой крупнейшей в мире реки, они населены в основном дикими племенами индейцев. Подобно секретарю французской миссии в Мехико, французский консул в Кито тоже попытался уговорить Жака и Жюльена отказаться от путешествия по суше, сесть в Гуаякиле на корабль, добраться Тихим океаном до Магелланова пролива и, пройдя им, доплыть по морю до Рио-де-Жанейро. — Таким образом, — убеждал он их, — вы сможете завершить свой вояж менее чем за двадцать пять дней. Ну а если вы все-таки пойдете сухопутным маршрутом, то затратите, заявляю я с полной ответственностью, уже не двадцать пять дней, а двадцать пять недель. — Благодарим вас за вашу заботу о нас, — улыбнулся Жак. — Но при выборе пути мы исходили исключительно из соображений чести, поскольку, как я уже говорил вам, качка на море более не страшит меня. И вы как француз должны понять нас лучше, чем кто-либо другой, не так ли? Мы полны решимости и впредь, не делая себе уступок, упорно двигаться к намеченной нами цели и во что бы то ни стало достойно закончить наше путешествие из Парижа в Бразилию по суше. Непоколебимые в своем намерении твердо придерживаться разработанного еще во Франции плана, друзья в последний раз обсудили маршрут и взялись за приготовления к путешествию. Не так-то легко, поверьте, собрать и уложить надлежащим образом предметы, необходимые в подобном странствовании. Ведь в тех цивилизованных странах, через которые, как мы уже говорили, пролегал маршрут отважных парижан, города отстоят далеко друг от друга и соединяются между собой — а точнее, разъединяются, — практически непроходимыми дорогами. Сознавая, что населенные пункты будут встречаться в пути довольно редко, друзья обзавелись весьма внушительным багажом, для транспортировки которого потребовалось соответствующее число вьючных животных. К счастью, у них были деньги, и Жюльен, знавший по опыту, как сложно нанимать мулов у предпринимателей, занимающихся перевозками грузов, принял мудрое решение купить дюжину этих животных. Проводник, к которому французы крепко привязались после драматического эпизода с коралловой змеей, в свою очередь проникся к ним глубокой симпатией. И когда метис попросил у друзей позволения оставаться с ними и впредь, они с радостью согласились. Обладая огромным опытом, трудолюбием и смекалкой, он взял на себя покупку вьючных животных и вербовку погонщиков мулов. Представитель этой профессии — лицо оригинальное. Повсюду в Андах — на севере ли, на юге или в центральных районах — он являет собою единый, колоритный[573] типаж. Одежда его — это своего рода униформа, состоящая из закатанных до колен тиковых[574] панталон и клетчатой рубахи, короткой, ниспадающей на брюки и схваченной в талии поясом, с которого свисает длинное, внушительных размеров мачете. На плече, свернутое вдвое по длине, висит пончо, которым он может укрыться как одеялом. Бронзовое лицо и шею, задубевшие от дождя и солнца, защищает от дневного светила широкая соломенная шляпа, на которую сверху прочно насажена тыквенная тарелка, служащая ему и чашкой и миской. Погонщик редко позволяет себе роскошь иметь пару сандалий из кожи, а сапоги ему и вообще не ведомы. Обычно он ходит босиком, опираясь на регатон — regaton, как зовется здесь длинная палка с железным наконечником шириной в четыре или пять сантиметров, используемая для многих целей: ею расчищают дорогу и рыхлят почву на слишком скользком склоне, чтобы облегчить путь мулу, а когда приходится пробираться по краю пропасти, то вовремя воткнутый в землю шест спасает нагруженное животное от падения вниз. Наконец, в заключение краткой характеристики бесценного спутника путешественника в Андах, добавим, что он точен, собран, работящ и честен, причем исключения из этого правила крайне редки. Никто никогда не слышал, чтобы погонщик мулов украл тюк, а если ему поручат купить вьючных животных, то он старается израсходовать на это как можно меньше вверенных ему денег. Проводник-метис, этот мажордом, выторговав мулов и наняв людей для их сопровождения, занялся вкупе с Жюльеном покупкой съестных припасов и необходимого в пути снаряжения. Поскольку высоко в горах бывает иногда довольно холодно, парижанин, зная, что тамбо[575] встречаются отнюдь не на каждом шагу, а лежать под открытым небом не так-то приятно, приобрел довольно легкую холщовую палатку, чтобы не отвлекаться на строительство шалашей из веток и листьев, как это приходится делать в случае отсутствия поблизости указанной выше придорожной гостиницы. Он также велел проводнику раздобыть несколько кусков энсерадо — просмоленной холстины, напоминающей наш брезент, но более легкой, чтобы прикрывать ими несомые мулами тюки для защиты груза от дождя или, с наступлением ночи, стелить их на земле вместо матраса. Позаботился Жюльен и о реджо — кожаных ремнях, медном сосуде для кипячения шоколада, железном горшке, топорах, мачете, тыквенных тарелках и мешках из растительного волокна, в которых держат провизию. Что касается продуктов питания, то француз счел нужным обеспечить путников солидным запасом муки из поджаренных зерен маиса и фасоли, нарезанных тонкими ломтями печеных бананов, тасаджо, с которым мы познакомим читателя чуть позже, тростникового сахара-сырца, или панелы, шоколада, соли и кофе. Все это было упаковано в тыквенные миски или куски бамбуковых стволов, заткнутые с обеих сторон широкими листьями, уложено в толстый слой соломы и завернуто в непромокаемые холщовые полотна. Только что упомянутое тасаджо — всего-навсего кусок мяса, разрезанный на тонкие ломти, посоленный и высушенный на солнце. Блюдо не слишком нежное, иногда с сильным запахом, но зато обладающее тем преимуществом, что стоит недорого и быстро готовится, почему оно и получило в этих краях столь широкое распространение. Если его положить в петаку — нечто вроде коробки из кожи, то оно может храниться, не портясь, много месяцев. Сахар-сырец панела — другой экзотический продукт — входит важной составной частью в рацион жителей Анд. Шахтер или фермер, например, потребляет его от трехсот до четырехсот граммов в день. Местные жители, направляясь на дальнее расстояние, часто берут с собой только маисовый хлеб и панелу. Погонщики мулов нередко питаются в дороге одним лишь сахаром, смоченным свежей водой, поскольку он помогает путнику наладить дыхание и поддерживает его энергию. В общем, маис, наиболее богатый из всех злаковых азотом, какао, немного мяса и панела обеспечивают полноценное питание человека[576]. Путешественник, заботясь о своем муле, не должен бояться нагрузить его лишними килограммами панелы: животные очень любят сахар-сырец и, время от времени лакомясь им, выказывают необычайную живость и проявляют исключительную выносливость, не чувствуя усталости при подъеме в горы. Уложить в тюк описанные выше разнородные предметы, заключенные в различные, неправильной формы сосуды и прочие емкости, — дело весьма трудное, которое под силу лишь обладающим исключительной ловкостью погонщикам мулов. Тюки не должны иметь более восьмидесяти пяти сантиметров в длину, сорока пяти — в высоту и столько же — в ширину. Желательно также, чтобы вес их не превышал пятидесяти килограммов, шестьдесят же — это почти недосягаемый предел. Правда, в обстоятельствах совершенно исключительных приходится порой взваливать на спину животного и куда более объемистый и тяжелый груз, но и в этом случае максимально допустимый вес — семьдесят пять — восемьдесят килограммов. Чтобы предохранить ящики и тюки от ударов и дождя, следует, как мы уже говорили, обернуть кладь в толстый слой соломы и прикрыть ее сверху энсерадо. Наконец все приготовления остались позади, и ранним утром второго ноября небольшой отряд, состоявший из двух французов, проводника-метиса, погонщика мулов, двух пастухов и двенадцати вьючных животных, покинул столицу Эквадора город Кито. Двигаясь с севера на юг, по восемьдесят первому градусу западной долготы к первой параллели Южного полушария, путешественники пересекли удивительный в сейсмическом[577] отношении район, над которым вздымаются кратеры потухших вулканов Атакасом, Корасон, Иниса и Руминьяуи и где ворчит грозный Котопахи[578], разрушивший два года назад окрестные поселения. По дороге, извивавшейся между пеплом и камнями, выброшенными во время яростного разгула этим эквадорским гигантом, отряд добрался до городка Токунья и, не задерживаясь в нем, продолжил свой путь, пока не оказался перед постоялым двором, где и было решено заночевать. Этот тамбо, возвышавшийся на берегу реки Рио-Амбато, выглядел просто роскошно по сравнению с теми, что встречались нашим друзьям до сих пор. Подойдя к двустворчатым решетчатым воротам, призванным надежно удерживать скотину во дворе придорожной гостиницы, уставшие мулы выжидающе подняли головы. Проводник открыл ворота и, когда отряд оказался за оградой, окружавшей тамбо, бросился помогать своим товарищам в обустройстве бивуака[579]. После того как снятые с мулов тюки разместили под навес, а животным задали корм, можно было подумать и об ужине. Метис, как всегда неутомимый, принес в кожаном ведре, висевшем во дворе на стояке, воду. Его приятель, погонщик мулов, положил прутья в очаг, сооруженный из четырех обломков горных пород, и разжег трут из волокон агавы, и вскоре под горшком, содержавшим куски вяленого мяса — тасаджо — с порезанными на кружочки бананами, весело загудел огонь. Через четверть часа сытная и, прямо скажем, довольно вкусная похлебка была готова. Путешественники дружно расселись у очага и с аппетитом, разыгравшимся на воздухе, особенно бодрящем на эквадорских плато, набросились на незатейливое блюдо, заслужившее у них высшую похвалу. На второе они отведали по кусочку сахара-сырца, а на десерт — шоколад, смешанный с маисовой мукой. Преисполненный оптимизма Жак не преминул возгласить, что все к лучшему в этом лучшем из миров, а ужин удался на славу. Однако Жюльен, чувствуя себя совершенно разбитым после ужасной верховой езды на муле, не разделял энтузиазма своего друга. Вытянувшись на своей просмоленной холстине и закутавшись в одеяло, он зажег сигару, которой, Однако, насладиться ему так и не удалось: сон моментально овладел измученным трудным переходом французом. Проснулись путники на заре, бодрые и освеженные. После столь же незатейливого, как ужин, завтрака сопровождавшие наших друзей слуги надели на животных упряжь и погрузили на них кладь. Проводник повесил кожаное ведро на место, аккуратно уложил в очаге головешки, с тем чтобы путешественники, которые остановятся здесь потом, смогли бы без особого труда разжечь огонь, и, выйдя со двора последним, тщательно закрыл за собой ворота. Проделав нелегкий путь, отряд приблизился к возвышавшейся в виде усеченного конуса горе Кариуаяраю — потухшему еще в 1699 году вулкану, поднявшемуся на пять тысяч сто метров над уровнем моря и увенчанному вечными снегами. А спустя короткое время наши друзья имели удовольствие лицезреть и Чимборасо, именуемого местными жителями «королем» и вознесшего свою вершину необыкновенной белизны, оторвавшуюся от уровня моря на целых пять тысяч шестьсот метров[580], в ярко-голубую поднебесную высь. Неровная дорога, местами перегороженная огромными глыбами трахита[581], выброшенного вулканом, вскоре перешла в узкую тропинку, извивавшуюся сперва между отвесными холмами, а затем заскользившую вдоль стены из вулканического туфа[582], на которой кое-где были начертаны имена прошедших тут ранее путников. Из проделанных в рыхлом материале отверстий выглядывали странные, гримасничавшие, оправленные черным шлаком человеческие черепа, лежавшие в окружении костей людей и животных. Заметив недоумение Жака, погонщик мулов сказал: — Ах, сеньор, не удивляйтесь: мы ведь находимся сейчас в самом страшном месте! — Правда? — Да, мы приближаемся к Ареналю. — О, это та самая знаменитая песчаная площадка, по обе стороны которой располагаются страшные пропасти, извергающие ежедневно, после полудня, настоящие ураганные ветры, сокрушающие все на своем пути! — воскликнул Жюльен. — Вы знаете Ареналь, сеньор? — изумился туземец. — Да, черт подери, столь же хорошо, как и Кебраду-де-Тоторильяс, мимо которой нам предстоит пройти завтра, и как можно быстрее, а для этого мы должны поскорее миновать это проклятое место. — Но все это отнюдь не объясняет, откуда здесь взялось столько костей, — не успокаивался Жак. — Да это просто-напросто останки неосторожных путников и их животных, ставших жертвами бурь, беснующихся тут каждый день, — проговорил Жюльен. — Ах, сеньор!.. Сеньор! — закричал вдруг испуганно проводник. — Что случилось? — Нам не добраться завтра до Тоторильяса… ибо на нас движется ураган. — Не может быть! — Взгляните на облака… Прислушайтесь, как воет ветер… Смотрите, солнце скрывается!.. Ох, и «король» зарычал!.. Святая Мадонна, смилуйся!.. Мы погибли! И впрямь, поднялась жуткая буря. Внезапно, как это часто случается в районе экватора, и бешено, словно смерч, закружились воздушные потоки, опровергая столь ужасным образом восклицание Жюльена: «Не может быть!» Ни в одном другом районе мира нет ничего подобного тому, что можно наблюдать в некоторых областях Кордильер, где практически каждое утро или в послеполуденный час неистовствует самый настоящий ураган. Не успел Жюльен найти объяснение этой аномалии в вулканической деятельности Чимборасо, как ужасающей мощи вихрь, в котором смешались воедино воздух, дождь и град, захватил его в свои цепкие объятия, швырнул наземь и покатил к распластавшимся на тропе мулам: жаркий пояс, и особенно Эквадор — страна, где природа конвульсирует особенно часто, любит преподносить подобные сюрпризы путешественникам из стран с умеренным климатом. Ослепленный, оглушенный, разбитый, не в силах шевельнуться, парижанин как бы перестал ощущать самого себя среди этого хаоса. Раскаленное небо низвергало потоки пламени, разбивавшиеся о вулкан, впадины в горах словно выплевывали молнии, раскаты грома сотрясали все вокруг. Буря с ревом вырывала из почвы валуны, тут же скатывавшиеся в бездну. Град обрушивался на землю картечным шквалом. Все, что еще недавно двигалось, дышало, теперь словно бы перестало существовать. Этот ужасный катаклизм продолжался два часа. А затем тучи, душившие гору, рассеялись, вой ветра постепенно стих, дождь прекратился, и солнечные лучи окрасили в пурпуровый цвет снежный купол, венчавший вулкан-исполин. Поскольку мулы, руководствуясь инстинктом, вовремя разлеглись плашмя на земле, ураган не смог закрутить их и сбросить в бездну, словно соломинку. Жюльен, вскочив на ноги, обнаружил, что друг его был прижат ветром к огромному камню. Жак издал радостный крик при виде товарища — целого и невредимого. Погонщики мулов, прятавшиеся от бури среди своих подопечных, поднялись и стали радостно перекликаться. — А где же проводник?! — воскликнул вдруг Жюльен, не приметив своего спасителя. И тут из пропасти раздалось жалобное стенание — отчаянный зов, в котором звучали и страх и боль: — Ко мне, мэтр!.. Ко мне!.. Спасите своего слугу!..
ГЛАВА 10
Выступ в отвесной скале. — Смелый план спасения проводника. — Спор Жака с Жюльеном. — Жюльен в роли спасателя. — Головокружение у метиса. — Пернатый хищник. — Нападение грифа. — Тревожные мгновения. — Ярость француза. — Удар мачете. — Связанные поводья. — Спасение. — Удачный выстрел. — Трогательная признательность. — Всеобщее равенство. — Ареналь. — В долине. — Ламы. — В Гуаякиль.Услышав душераздирающую мольбу слуги, Жак и Жюльен, не думая о возможном головокружении, склонились над пропастью, вглядываясь с тревогой в ее глубь. Первое, что они увидели, — это отвесную, уходившую почти вниз вертикально стену обрыва высотой метров в пятьсот, сложенную из сланца и вулканических пород. В результате геологической конвульсии склон был весь в выступах и неровностях, покрытых тут и там листвою и цветами кальцеолярии[583] и коноплей, склонившейся над провалом. Затем взор путешественников устремился к тому месту, откуда вновь раздались призывы о помощи. Оказалось, метис, подхваченный, словно перышко, ветром, упал благодаря чудесному случаю в заросли конопли. Во время бури проводник лежал неподвижно, не смея пошевельнуться, на жалком выступе в стене пропасти и вздрагивал от ужаса всякий раз, когда чувствовал, как отрывались от камней хрупкие корни растений, за которые он цеплялся в отчаянии. — Несчастный! — прошептал Жюльен с дрожью в голосе. — Как нам спасти его? — спросил Жак, не менее взволнованный. — Ведь до него примерно метров пятьдесят. — Сейчас придумаем, — коротко ответил Жюльен, в чьей голове уже начал созревать смелый план, и обратился к погонщику мулов: — Сколько у тебя свободных реджо? — Всего три, хозяин, — промолвил тот, застыв от страха при виде ужасного положения, в котором оказался его товарищ. — Каждый по десять метров, итого, если их соединить, получится тридцать. Надежны ли они?.. Выдержат человека? — Даже двоих, хозяин, если будет нужно. — Хорошо… Жак, я обвяжусь ремнем, вы же с ним возьметесь за свободный конец и будете потихоньку спускать меня в ущелье. — Нет, — решительно возразил Жак. — Это же самая настоящая акробатика, то есть моя стихия, а потому спуститься должен я. — Оставим ненужные дискуссии: время не ждет. Ты значительно тяжелее меня, так что позволь уж проделать этот трюк мне. — Послушай, горе ты луковое, ведь три ремня, соединенные вместе, составляют всего тридцать метров! Что ты будешь делать, повиснув там, у тех кустов? — Погляди-ка, видишь площадку шириной в метр, прямо над тем местом, где застрял бедный парень? — Да, конечно. — Когда я встану на нее, вы сбросите мне эту своеобразную веревку из ремней, и я спущу один конец ее проводнику. Он привяжет себя к ремню, и я подниму его наверх, на свой выступ. — А как мы вытянем вас обоих потом? — Свяжете между собой поводья мулов и опустите полученный трос к нам в пропасть. Я привяжу к нему свободный конец реджо, и по моему сигналу вы поднимете нас. Все очень просто, не так ли? — Просто-то просто, но… — Ни слова больше, пора за дело! Жюльен продел под мышки гибкий и весьма надежный кожаный ремень, который погонщик мулов обернул просмоленной холстиной, чтобы он не перетерся о камень. Затем бесстрашный француз молча повернулся спиной к пропасти и начал медленно спускаться. Жак и погонщик, крепко упершись ногами в землю, стали потихоньку отпускать ремни. По прошествии двух минут, которые показались им двумя веками, они перестали ощущать тяжесть. — Бросайте веревку! — крикнул Жюльен, без особого труда достигнув площадки, и сказал проводнику, прекратившему свои вопли, как только увидел, что к нему пришла помощь: — Мужайся, ты спасен! Жак кинул ремни. Жюльен развязал петлю на груди, лег плашмя на маленькую площадку и опустил веревку метису, находившемуся ниже его метров на пятнадцать. — Ты сможешь взобраться по ней, или мне помочь тебе? — спросил он проводника. — Нет, самому мне не подняться, — жалобно заскулил бедный малый. — У меня все тело разбито. — Тогда обвяжись веревкой и ухватись за нее покрепче. Время не терпит, не правда ли? Сохраняя удивительное хладнокровие, Жюльен, накинув конец веревки на острый камень, выступавший из скалы, закрепил его двумя морскими узлами. — Ну, как там у тебя? Все в порядке? — Да, — глухо ответил метис. Напрягши мускулы, откинувшись назад и вдавив, образно говоря, свои подошвы в камни, Жюльен начал медленно, с бесконечными предосторожностями, вытаскивать метиса. Тот же почувствовал сильное головокружение и, ослепленный ярким светом, лившимся сверху, а также оглушенный таинственным гулом, поднимавшимся из глубины пропасти, бессильно повис на веревке над бездной, не в состоянии помочь самому себе: все силы, которые у него были, ушли на то, чтобы удержаться на своей ненадежной опоре в течение двух долгих часов. Жюльен, образец отваги и физической мощи, продолжал неспешно делать свое дело, хоть это и было довольно трудно из-за полной пассивности проводника, возможно, уже потерявшего сознание. Французу удалось поднять метиса на десять метров. Еще две минуты, и жизнь его будет вне опасности. Но тут раздались страшные вопли: это кричали Жак, погонщик мулов и два пастуха, внимательно следившие за ходом спасения. И в тот же миг Жюльен заметил огромную тень, накрывшую, словно облако, площадку, на которой он едва держался, а вслед за тем услышал громкий свист и шумное хлопанье крыльев. Чудовищная, как в восточных сказках, птица с черно-белым оперением, желтыми глазами, жестким, как у тигра, взглядом, с плоской, сплюснутой головой и крепкой, облезшей красной шеей, приблизилась к забредшим в ее края людям и неподвижно зависла над ними. Это был гриф! Обитающий в Андах гигантский пернатый хищник, чьи крылья достигают в размахе четырех метров и чья сила равна его жестокости. Он нападает даже на крупных млекопитающих и не опасается встречи с самим человеком, особенно когда тот болен или безоружен. С бесконечных высот, где любят парить эти птицы, из недоступного другим живым существам мира вечных снегов, где эти хищники, широко развернув крылья, как бы замирают в поднебесье на многие часы, стервятник, опьяненный пространством и светом, узрел человека, повисшего над пропастью и недвижного, словно труп. Завороженный видом добычи, подстегиваемый постоянным чувством голода, которое он никогда не мог утолить, — ведь прожорливость этих птиц — факт общеизвестный[584], — гриф устремился, или, вернее, стал падать, как камень, с дьявольской точностью именно туда, где находился объект его отвратительного вожделения, затем раскрыл свои гигантские крылья, так что получилось нечто вроде парашюта, и, напрягши все силы, резко остановил головокружительное скольжение вниз, чтобы подготовиться к атаке на двух беспомощных, как полагал он, человек: одного — живого и другого — мертвого. И если даже первый и ускользнет от него, размышлял хищник, то уж второй-то наверняка будет принадлежать ему. А это — еда на целый день. Выбросив вперед сернистого цвета лапы с острыми и твердыми, как железные скобы, когтями, вытянув в том же направлении плоскую голову, откинув назад крылья и поискав взглядом то место на теле своей будущей жертвы, куда лучше всего вонзить когти, чтобы крепче схватить добычу и вернее поразить своим огромным клювом сердце — этот главный орган любого живого создания, хищник ринулся на проводника. Жюльен пронзительно закричал. Птица в замешательстве отпрянула в сторону от намеченной жертвы, успев, однако, ударить метиса своим мощным крылом. Бесстрашный спасатель, понимая, что при данных обстоятельствах секунды равняются часам, изо всех своих сил тянул вверх ремни, и благодаря невероятному напряжению ему удалось подтянуть по-прежнему беспомощно висевшего на веревке бедолагу до уровня каменной площадки. Эх, если б тот сам мог зацепиться за выступ и хотя бы чуть-чуть помочь вконец изнемогшему Жюльену! Гриф во второй раз обрушился на человека, возбуждавшего у него аппетит. Француза охватил гнев. Как, столько усилий, и все напрасно?! Он пытался вытащить своего спутника из пасти смерти лишь для того, чтобы увидеть, как несчастного разорвет на части это мерзкое чудовище? Из-за нависшей над метисом грозной опасности разъяренный Жюльен ощутил такой прилив сил, что решился на безумный, казавшийся безрассудным шаг. Не думая о том, что может свалиться в бездну, он, повинуясь одному из неодолимых, всегда неожиданно возникающих импульсов, обернул кожаный ремень вокруг левого запястья, достал из чехла мачете и, склонившись над зияющей пустотой, лишь одной рукой удерживая в течение шести секунд тяжелую массу человека, со всего размаха ударил своим оружием грифа, который уже нацелился на горло метиса. Острый клинок с сухим треском опустился на голову крылатого разбойника и рассек ему череп. Крылья хищника моментально свернулись, и он, обмякнув, полетел на дно пропасти — вслед за выскользнувшим из руки Жюльена ножом, который, задевая при падении торчавшие из стены ущелья камни, издавал чистый металлический звон. Метис открыл глаза, и тотчас до его сознания дошло, какую смелость проявил хозяин, спасая его. Инстинктивно уцепившись пальцами за край выступа, он хотя и не много, но все же помог Жюльену втащить себя на площадку. Однако сам француз лишился при этом последних сил и присел на минуту, боясь головокружения из-за прилива крови к голове. Но недомогания у таких людей столь же редки, сколь и кратковременны. Сверху донесся голос Жака: — Эй, Жюльен! Мы опускаем поводья. Наш конец надежно привязан к камню. Скрепи их с ремнями… Ну как, готово? — Да… — А теперь обвяжи приятеля: мы вытащим его первым. — Давай!.. Жак с помощью погонщика мулов и двух пастухов — чем больше народу, тем лучше! — начал изо всех своих недюжинных сил тянуть веревку. Метис, беспомощно раскачиваясь в воздухе, то и дело задевая за торчавшие из скалы острые камни, отчаянно вопил. — Эй, — пытался успокоить его Жак, — ничего страшного! Путешествие будет недолгим, и я предпочитаю слушать эту твою музыку, чем видеть тебя полумертвым, каким ты только что был… А, гоп! — В тот момент, когда голова парня оказалась на уровне ног спасателей, француз ловко наклонился и легко, как ребенка, поднял метиса за воротник своей мускулистой рукой. — Ты весишь куда меньше, чем чугунная гиря мисс Леоноры!.. Ну а сейчас — твоя очередь, Жюльен! Тому не пришлось повторять приглашение дважды. Уцепившись за узел на веревке, он дал сигнал и тотчас почувствовал, как его энергично поднимают наверх. И вовремя! Новые грифы, напуганные было гибелью собрата, начали вдруг, широко раскинув крылья, описывать огромные круги над малочисленной группой людей, вознамерившись, по всей видимости, напасть на них. Но при всей своей жестокости эти птицы страшно трусливы и пока что лишь издавали яростные крики, не отваживаясь никак ринуться в атаку. И эта нерешительность предоставила Жюльену и его спасателям несколько минут, оказавшихся достаточными для того, чтобы отважный путешественник смог ступить на твердую землю. Не обращая внимания ни на Жака, протянувшего к нему руки, ни на метиса, бросившегося к его ногам, Жюльен схватил лежавшую на тюке ремингтоновскую винтовку и, удостоверившись, что она заряжена, выстрелил в ближайшего хищника. — Ага, досталось! — радостно закричал он, видя, как чудовище резко качнулось и грузно полетело вниз. — Вот тебе за тот страх, который я только что испытал из-за вас! — Затем, аккуратно положив оружие на место, ловкий стрелок протянул одну руку метису, другую — своему другу: — Жестокое испытание, не правда ли? Но, слава Богу, все благополучно закончилось! — Знаешь, — произнес Жак, пораженный хладнокровием соотечественника, — с каждым днем ты удивляешь меня все больше и больше! — О чем речь? Да я просто размял немного кости, только-то и всего!.. Впрочем, мне удалось отдать долг этому славному парню, которому я столь многим обязан! Но хватит слов! Место здесь опасное, и я предлагаю как можно быстрее его покинуть. — Мэтр!.. Мэтр!.. — бормотал между тем слуга. — Я ведь всего-навсего бедный дикарь, полунегр-полуиндеец… Я приношу вам не только свою благодарность, но и жизнь мою, которой я вам обязан. Позвольте же мне всюду следовать за вами… Я буду вашей вещью… вашим рабом… — Ну что ж, оставайся подле меня, дитя мое, раз ты этого хочешь! — важно молвил Жюльен. — Но не преувеличивай ничего. Я только исполнил свой долг, понимаешь? И не забывай, что ты спас мне жизнь. — Но, спасая вашу жизнь, я не рисковал своей, как это сделали вы!.. Белый человек!.. Настоящий белый человек с голубой кровью, вы не побоялись пожертвовать собой ради спасения жалкого самбо![585] — В моей стране все люди равны, независимо от цвета их кожи. Равны как перед законом, так и в глазах общества. Этот принцип равенства и побуждает меня сделать все возможное для спасения своего ближнего, даже если при этом под угрозой оказывается моя собственная жизнь. Двинувшись снова в поход, отряд достиг к вечерурасположенного на высоте трех тысяч девятисот метров над уровнем моря Тоторильяса, не заслуживавшего того, чтобы называться даже селением, ибо он представлял собою простое скопище хижин, продуваемых насквозь ледяным ветром, из-за чего путешественники провели беспокойную ночь. Выступив в путь рано утром, наши друзья через час были в уже известном нам Аренале, а к восьми часам подошли к холму, увенчанному крестом, возле которого проходящие мимо погонщики мулов имеют обыкновение класть по камню. Ветер дул с такой силой, что затруднял передвижение по дороге, усеянной высохшими костями, указывавшими на то, что именно тут смерть настигла бедных животных, не выдержавших опасного перехода. Однако наши путешественники стойко преодолели все преграды, что в послеполуденные часы было бы невозможно, ибо в указанное время из Анд как бы выплескивается неимоверной мощи ураган, которому ничто не в силах противостоять. Пройдя через перевал, отряд спустился в славный городок Гуаранда, разместившийся в изумительной по красоте долине на высоте двух тысяч пятисот метров над уровнем моря, и здесь французы увидели чуть ли не целое стадо лам, используемых в качестве вьючного животного. Теперь дорога шла все время вниз. Снова появились южные, теплолюбивые растения: восковые пальмы[586], бамбук, эликония, цекропия[587]. Переправившись через реку Рио-Чимбо, путешественники вышли к строившейся первой в Эквадоре железной дороге, которая прокладывалась до Ягуачи[588], куда они и прибыли благополучно спустя короткое время. Не задерживаясь в этом населенном пункте, коему суждено было благодаря стальной магистрали приобрести в ближайшем же будущем особое значение, отряд решительно двинулся дальше, по направлению к Гуаякилю и к вечеру следующего дня достиг реки Гуаякиль, вбирающей в себя воду таких крупных притоков, как, например, Гуаяс, Дауле, Бабайо или Ягуачи. Разбив лагерь там, где их застала ночь, путешественники рано утром взошли на борт парохода, который должен был доставить их на другой берег реки, где широко раскинулся огромный эквадорский портовый город, в коем, впрочем, они не намеревались останавливаться слишком надолго.
ГЛАВА 11
В Гуаякиле. — Ярмарка головных уборов. — Во французском консульстве. — Лавинообразный поток корреспонденции. — Отчаяние друзей. — Два письма из Ричфилда. — Каллиграфия охотника на бизонов. — Трапперы-золотодобытчики. — Оптимизм Перро. — Представления канадца о жизни в свое удовольствие. — Проблемы с китайцами. — Настырные краснокожие. — Шевелюра в опасности. — Вооруженный отпор. — Смута на прииске. — Полное благополучие, если не считать мелких неурядиц. — Работа ради славы. — Намерение Перро отправиться в Бразилию. — Решение Жака сесть на пароход. — Отказ Жюльена от путешествия по морю.Как мы уже говорили, Жак и Жюльен решили не задерживаться особо в Гуаякиле. Они рассчитывали быстро выполнить кое-какие формальности, связанные с получением визы, забрать пришедшую на их имя корреспонденцию и тотчас же отправиться в путь по направлению к перуанской границе. А что касается проводника, погонщика мулов и двух пастухов, то друзья рассудили, что их следует разместить в некоем подобии гостиницы, расположенном на берегу реки, где они не только нашли бы удивительно радушный прием, но и смогли бы пристроить вверенных их попечению животных. Маленькое суденышко, трижды в день переправлявшее пассажиров с одного берега на другой, доставило их вскоре в город. Когда садились на этот паром, Жак привычно сделал недовольную мину, но плавание длилось столь мало времени, что выплеснуть наружу плохое настроение он так и не успел. У противоположного берега царил живописный беспорядок, придающий особую прелесть портовым городам. Поражало взор многообразие судов, резко различавшихся и по конструкции, и по водоизмещению: рядом с гигантским пароходом стояла огромная пирога[589], возле клипера[590], обшитого медью, сновали легкие, как пробка[591], бальсы[592], сооруженные из дерева, также называемого «бальса»[593] оборудованные хижиной, покрытой пальмовыми или банановыми листьями, и вызывавшие смех у наших друзей представляемым ими причудливым зрелищем той круговерти, которую устроили обезьяны, поросята и голые ребятишки, весело шмыгавшие между наваленными грудами ананасами, апельсинами, бананами и прочими дарами земли. Неподалеку от причала, к которому пришвартовался пароход, выстроились дома с колоннадами, образовывавшими крытые аркады[594], надежно защищавшие пешеходов от солнца и дождя. В большинстве своем построенные из бамбука, схваченного известковым раствором, и крытые черепицей, эти одно- и двухэтажные здания, в которых разместились магазины, выглядели опрятно и весело. Друзья отправились исследовать набережную, протянувшуюся на целых три километра и являвшую собой самую красивую и самую оживленную улицу Гуаякиля, не в последнюю очередь привлекавшую к себе публику тем, что она была своего рода крупным по местным масштабам торговым центром. Жюльен, уже посещавший во время своего предыдущего путешествия консульство Франции, расположившееся по соседству с городским колледжем, поделился с Жаком некоторыми сведениями, почерпнутыми им из этого учреждения и касавшимися города, второго по величине в Республике Эквадор, для которой он выполнял роль гигантской лавки, снабжавшей страну иноземными товарами. — До завоевания Гуаякиль, полное название которого — Сантьяго-де-Гуаякиль, именовался Кулента. Испанцы окончательно подчинили себе этот район двадцать пятого июля тысяча пятьсот тридцать третьего года, в день Святого Якова, в честь которого сей город и был наречен Сантьяго. А Гуаясом — именем, присвоенным здешней реке, — звали одного попавшего в плен к захватчикам кацика[595] — Атауальпу…[596] В общем, этимология[597] местных названий довольно интересна. — Прекрасная вещь — эрудиция! — восхищенно улыбнулся Жак. — Но это же известно всему свету, а не только географам! — Ой, гляди-ка!.. Сколько головных уборов!.. Целые горы шляп!.. — Право же, настоящая ярмарка!.. Впрочем, в городе и его окрестностях развито производство панам и прочих головных уборов[598]. Хотя Гуаякиль, насчитывающий двадцать пять тысяч жителей, процветает все же в основном благодаря каучуку, какао, плодам некоторых пальм и лечебным растениям, являющимся главными статьями его экспорта… Но, мне кажется, я узнаю этот большой дом, обшитый кедром… В нем находится коллеж, а следом за ним, вон там, расположен и французский особнячок с широко открытой для нас дверью, где мы сможем почувствовать себя как дома. Формальности заняли больше времени, чем предполагали наши французы, — не те, что касались визы, а связанные с получением поступившей на их имя корреспонденции. Даже на Жюльена, не раз бывавшего в длительных походах, никогда не сваливалась такая груда почты, о Жаке же и говорить нечего. Накопленные за долгие месяцы брошюры, газеты, письма, открытки, телеграммы, проспекты, устаревшие уже пригласительные билеты — с тысячами печатей, с разноцветными марками, с адресами, зачеркнутыми, исправленными, надписанными внизу и с пометкой «Переслать адресату», — были доставлены сюда из Франции, Сибири, Калифорнии, Мексики разными путями — морскими и сухопутными. Двое друзей, странствуя по бескрайним просторам, рекомендовали всем, желавшим поддерживать с ними связь, писать в Гуаякиль, отсюда и хлынувшая на них бумажная лавина, приведшая в изумление даже привыкшего, казалось бы, ко всему консула. На то, чтобы разложить по группам всю корреспонденцию, едва хватило бы дня, ну а на то, чтобы прочесть ее, потребовались бы многие недели. И Жак предложил пойти на решительный и вместе с тем отчаянный шаг: — Поскольку меня не мучает, по крайней мере в данный момент, вопрос о том, что происходит под другими небесами, я склоняюсь к мнению, что из подобного бумажного изобилия следовало бы сделать фейерверк. — Ну нет, — возразил Жюльен, — аутодафе[599] — это, пожалуй, слишком! — Тогда давай потопим всю эту уйму: воды здесь хватает. Никак не пойму, что мы, черт возьми, сделали им всем такое, что они обрушили на нас подобную громаду! — Не забывай, от некоторых наших корреспондентов мы ждем с нетерпением любую весточку. — Да, ты прав!.. От Алексея, например. — Или от Перро. — Но что же тогда делать? — Тебе очень нравится в Гуаякиле? — Мне?! Мы здесь всего два часа, но я бы хоть сейчас с радостью удрал отсюда. — В таком случае все проще простого. Тем более что и мне тут тоже не очень-то нравится: оглушающий шум, адская жара, вредные испарения… Сложим в пачки этот бумажный ворох, погрузим все на пароход, переправимся на левый берег реки, где нас поджидают наши спутники, поставим палатку и поживем два-три дня вдали от грохота, исторгаемого этим экзотическим чудо-городом. — Браво! Твой план великолепен, и я предлагаю немедленно приступить к его осуществлению. Сказано — сделано! И в тот же вечер двое друзей, комфортабельно устроившись в полотняном домике, разбирали при свете свечей, привезенных ad hoc[600] из Гуаякиля, манускрипты[601], как выразился с иронией Жак. Впрочем, ему вскоре повезло: порывшись в бумажной куче всего лишь четверть часа, он извлек из нее два больших, связанных тонкой бечевочкой, конверта. — Из Ричфилда! — воскликнул Жак, разглядев печати. — Одно письмо — от Алексея!.. Узнаю его почерк! — Чудесно! А на остальное нам теперь наплевать. — А другое письмо? — Клянусь честью, мне незнакома эта потрясающая каллиграфия! — Ну и буквы! Можно подумать, что адрес написан не ручкой, а веслом. — Перро!.. Это же Перро! — произнес Жак, вскрыв конверт. — Сей достойный человек взялся за писанину только ради нас! — Читай скорей… Жак, любя удобства, сложил из почты некое подобие толстого матраса и, усевшись на него по-турецки, приступил к чтению:
— «Дорогие месье де Клене и месье Арно! Я не без колебаний решился настрочить это письмо — чтобы поведать вам о нашем житье-бытье. Месье Алексей сообщил уже подробно в своем послании обо всем, что может вас интересовать, и я не собираюсь вести с вами беседу лишь для того, чтобы добавить кое-что еще к рассказу человека, чье перо нанизывает слово на слово, как уста адвоката или проповедника. Но месье Алексей считает, что вам доставит удовольствие узнать от меня некоторые касающиеся нас детали. Мой новый патрон — личность приятная во всех отношениях, но мне представляется, что он слишком снисходителен ко мне и что мое письмо наведет на вас зевоту. Однако вы оба так добры, что не будете держать зла на вашего старого слугу, не способного выразить в словах всего того, что чувствует его сердце…»— Славный малый! — умилившись, прервал Жака Жюльен. — Но продолжай…
— «Скажу вам, что мы оставили, все трое, службу в американской «Пушной компании» из Сен-Луи. Причем с одобрения месье Андерсона, буржуа из Нулато. А произошло это следующим образом. Когда я прибыл в Ричфилд с китайцами и оборудованием, переданном мною в целости и сохранности месье Алексею, то спросил обоих моих братьев, Эсташа и Малыша Андре: — Ну как, ребята, нравится вам здесь? — Что за вопрос! — ответили они. — Ты же прекрасно знаешь, что нам нелегко будет уйти отсюда. — Ну что ж, в таком случае, — молвил я, — поеду-ка прямо сейчас к буржуа и заявлю ему, что мы хотим здесь остаться. — Как, ты тоже не против того, чтобы распрощаться с ним? — Конечно же, черт побери! Месье Алексею нужны служащие… И мы можем стать у него тремя старшими мастерами — шикарными, скажем без ложной скромности. И только я собрался в путь-дорогу, как месье Алексей заверил меня в том, что берет все хлопоты на себя и что он не сомневается в положительном ответе нашего хозяина. Все так и получилось. Спустя два месяца пришло письмо от месье Андерсона. Он в восторге от того, что месье Жак отлично справился с воздушным шаром. С нами же хозяин распрощался по-доброму и был настолько любезен, что пообещал: если мы вздумаем вдруг снова вернуться к нему, нам всегда найдется работа в компании. И вот мы теперь — промышленники в золотоносном районе Карибу. Работа — не бей лежачего, свободного времени навалом, хотя иногда и приходится приналечь. Эти китайцы — люди весьма вялые, до такой степени, что когда надо поднять камень, весящий всего триста фунтов, они делают это вчетвером или впятером. Мы же с братьями кладем каждый свой кусок породы в вагонетку так легко, словно это лосиная нога. И так пять-шесть раз в день. А потом гуляй — не хочу! Правда, за исключением тех дней, когда механик, горький пьянчуга, не в состоянии работать. Случается, он так разогревает свою машину, что механизм сей, того и гляди, взлетит в воздух, а иногда двигатель у него словно засыпает, и тогда молотки останавливаются, а это нам ни к чему. Если он слишком напивается, то за дело берется Малыш Андре, — он ведь немного понимает в технике. В общем, это развлекает парня. Случается также, что китайцы, когда у них кончается опиум, отказываются работать. Тогда необходимо на них поднажать. Любопытная вещь, они так же распаляются от отсутствия зелья, как петухи — от злоупотребления купоросом. Дело в конце концов налаживается, но часто — с большим скрипом. Раньше я позволял себе дать им пару-другую затрещин, но они в ответ совсем прекращали трудиться: надо полагать, рука у меня нелегкая. Несколько раз к нам заявлялись краснокожие — купить виски. Так как расплачивались они лишь ужимками и гримасами, а у нас с провиантом — не слишком густо, мы стали отправлять их прогуляться. Они же в отместку начали покушаться на наши шевелюры. Но мы быстро навели порядок: несколько дюжин выстрелов из карабинов — и все встало на свои места. Поскольку дело у нас спорилось, к нам повалили в надежде подзаработать несчастные рудокопы со всей округи: американцы, колумбийцы, мексиканцы, венесуэльцы, аргентинцы, европейцы из многих стран. Большинство их — проходимцы. Работать они работают, но в день получки творят черт знает что. Как-то раз в одном из шурфов[602] вспыхнул скандал. Послышались крики, выстрелы из револьвера, стоны — ужас, да и только! Ни у моих двух братьев, ни у меня не было с собой оружия, что не очень-то предусмотрительно. Оказалось, рабочие напали на самородок чистого золота, здоровенный, как тыква. Он весил двадцать пять килограммов и стоил семьдесят пять тысяч франков — ни больше ни меньше. Вместо того чтобы передать находку тому, кто по праву должен был ею владеть, ребятишки решили оставить ее у себя, чтобы продать затем, а денежки прикарманить. Месье Алексей без крика, но достаточно твердо потребовал от них отдать ему то, что являлось по закону его собственностью. А эти жулики, не долго думая, решили швырнуть хозяина в колодец шахты и грубо поволокли его. Не помню точно, что и как произошло потом. Но, увидев нашего патрона в окружении орущей, разъяренной толпы, мы все трое — Эсташ, Малыш Андре и я — втиснулись с огромными ломами в руках в середину этой беснующейся оравы. — А ну-ка, детишки! — крикнул я братьям. Не прошло и полминуты, как дюжина парней оказалась на земле. Сбитые с ног нашим грозным оружием, они, — те, кому посчастливилось остаться в живых, — тяжело дыша, стонали от боли. Остальные поневоле присмирели. Тогда месье Алексей приказал смутьянам положить самородок к его ногам и распорядился немедленно выставить всех их за дверь. Прогнав прочь наглых мародеров, мы перевязали раненых, закопали мертвых, и все пошло своим чередом. Впрочем, некоторые из этих лиходеев вернулись спустя некоторое время и попросили снова взять их на работу. Мятежников приняли — из жалости и, как говорится, «без права ношения оружия». Кроме подобных, малозначимых инцидентов, ничто не нарушает нашей беззаботной жизни. Рудник, по словам патрона, дает очень много золота. Мы от всей души радуемся за месье Алексея, потому что это позволит ему занять достойное место в цивилизованном мире. Хочу добавить к вышеизложенному, что нам так и не удалось договориться с ним относительно размеров оплаты нашего труда. Мы ведь живем в свое удовольствие — кормимся и одеваемся, как и он, имеем вино, чай, сахар и табак. Чего же еще надо! В общем, мы ни в чем не испытываем нужды. Что же касается такого понятия, как «работать не покладая рук», то мы делаем не более того, что сами находим нужным, причем патрон частенько останавливает нас. Жалованье же он решил выдать нам такое, что нашего буржуа из Нулато, узнай он об этом, хватил бы удар, — столь оно было велико! И, ей-ей, мы от подобного вознаграждения отказались. Тогда хозяин, еще более упрямый, чем мы, стал настаивать, чтобы мы имели свою долю в общей прибыли».— Черт побери, — прервал Жака Жюльен, — но это — единственно возможный способ обогатить наших славных канадцев так, чтобы они даже не заподозрили ничего. Ребята как надо распорядятся своим состоянием. Жак снова уткнулся в письмо:
— «Мы ни о чем таком и не помышляли, — ответил я месье Алексею. — Поскольку скоро наступит на полгода мертвый сезон, когда из-за холодов работы на прииске будут приостановлены, я прошу вас разрешить нам втроем отправиться на это время в деревенский домишко месье Арно. В Бразилии будет потеплее, ну а солнечного удара мы не боимся. — Что ж, поезжайте! — ответил патрон, смеясь, что с ним бывает нечасто. — А затем, — продолжил я, — если дела и впредь пойдут хорошо и принесут крупную прибыль, вы оплатите одному из нас путешествие во Францию, и мы — в расчете. Это такая радость — ступить на землю своих предков! — Перро, — заявил мне тогда месье Алексей твердым тоном, не допускающим возражений, — мы оставим рудник с первыми холодами и все вчетвером отправимся в Бразилию. Месье де Клене, месье Арно и я сами определим причитающуюся вам долю, и в этом случае вы уже, надеюсь, не станете возражать: ведь эти господа — такие же ваши друзья, как и мои. И я пообещал ему принять любые предложенные нам условия: поступить по-другому было бы просто невежливо. Вот таковы наши дела. Должен сказать, что, продолжая работать, как и раньше, мы с нетерпением ожидаем первых заморозков — с настоящим белым снегом. И тогда — в дорогу, в солнечный край! В ожидании этого счастливого дня, когда мы отправимся наконец в путь, позвольте, месье, вашему старому слуге, как и его двум братьям, Эсташу и Малышу Андре, выразить вам самые искренние, самые почтительные и дружеские чувства, испытываемые нами по отношению к вам обоим.Перро, старший брат.
Карибу, 28 сентября 1879 года».— Тысяча чертей! — воскликнул Жак. — Но сейчас уже двенадцатое ноября… Там, наверное, собачий холод… И не исключено, что они давно погрузились на пароход и прибудут в Жаккари-Мирим раньше нас. — Вполне вероятно, так оно и будет, — согласился Жюльен. — Им ведь не приходится, как нам, избегать водной стихии. — Знаешь что, Жюльен… — Да? — Вернемся-ка в Гуаякиль и сядем на корабль! — И долго ты думал об этом?.. Поздно, дружище! Мы должны прибыть в пункт назначения по суше… Ты же сам этого хотел — преисполнившись, прямо скажем, героическими намерениями! — Но, повторяю, они могут прибыть туда раньше, чем мы! — Не велика беда!.. Гостеприимность тамошних жителей вошла в поговорку… И, поверь, управляющий поместьем встретит их как нельзя лучше: они же — друзья его будущего хозяина. Так что успокойся — и в дорогу, в Перу!
ГЛАВА 12
Нелегкий путь до Ламбеке. — Сорок пять лье по железной дороге. — Разговорчивый попутчик. — Воспоминание о капитане Бобе и полковнике Батлере. — Высадка пассажиров. — Английская семья. — Милорд среди тюков. — Амфитрита[603] в бочке. — В Трухильо. — Средневековый облик. — Монахи. — Западня. — В городской тюрьме. — Глава окружной полиции. — Жак и Жюльен в роли американцев.Двадцать второго ноября 1879 года, спустя десять дней после их отбытия из Гуаякиля, Жак и Жюльен оказались на набережной Салаверри, нового порта вблизи перуанского города Трухильо, выстроенного взамен порта Уанчаго, заброшенного в конце концов из-за многочисленных аварий и поломок судов, обусловленных яростным морским ветром, особо опасным, когда в гавани полным-полно подводных скал. В пути им, прямо скажем, пришлось нелегко. До Тумбеса, на эквадорско-перуанской границе, они передвигались по ужасным дорогам, извивавшимся вдоль берега Тихого океана, а дальше и вовсе шли по бездорожью, отчего, впрочем, друзьям не стало труднее. Пустыню с рассеянными по ней скалами, через которую пролегал теперь их путь, перерезали многочисленные реки, пересыхавшие летом и превращавшиеся в бурные потоки в сезон дождей, так что путнику там всегда грозит опасность или погибнуть от жажды, или утонуть в водной стремнине. Далее небольшой отряд миновал мало чем примечательный городок Тура, перешел, не сделав привала, еще через одну пустыню — Сечуру и, наконец, после долгих мытарств, прибыл в Ламбеке, где берет начало железная дорога, ведущая в Трухильо, воспринимаемая путешественниками, изнуренными переходом по безлюдным местам, как подлинное чудо и соединяющая между собой два столь разнящихся друг от друга мира: скудную пустыню, где человек ощущает себя безмерно одиноким, и шумные города со всеми достижениями современной цивилизации, выросшие чуть ли не в одночасье, словно грибы, во многих точках Южноамериканского континента. Преодолев пятьсот километров, отделявшие Гуаякиль от Ламбеке, французы отпустили погонщика мулов и пастухов. Поскольку они несли службу исключительно добросовестно, Жюльен, как всегда великодушный, щедро оплатил их труд и разделил между ними мулов. Деньги и животные составили для этих славных ребят целое богатство, и они, отправляясь в обратный путь, в Кито, от всего сердца славили своих благодетелей. Ну а друзья в сопровождении гида, метиса Эстебана, сели спустя некоторое время в поезд, доставивший их с грехом пополам в Салаверри. Путешественникам, пресытившимся головокружительными подъемами и спусками в пустынных горах, где присутствие человека и его верного мула представляется лишенным всякого смысла, небольшая, протяженностью в сорок пять лье, поездка по едва достроенной перуанской железной дороге доставила неописуемое удовольствие. Друзья заранее планировали остановиться на два дня в Салаверри, всего в двух километрах от Трухильо, расположившись лагерем на берегу реки Рио-Моче, в долине Чилу, и воспользовавшись свободным временем, чтобы раздобыть лошадей, на которых они намеревались проделать еще восемьдесят лье в том же, южном, направлении до самого Гуачо, откуда им предстояло проехать по железной дороге через Лиму в Ику. Однако в пути, уступив настойчивым советам и просьбам своего спутника, соседа по купе, они отказались от первоначального замысла. Вообще-то, относясь сдержанно к новым знакомствам, парижане не устояли перед радушием и сердечностью путешественника, предложившего себя в полное распоряжение французов. Их попутчик учился в Париже, превосходно говорил по-французски и, похоже, принадлежал к знати, хотя и был слишком уж обвешан драгоценностями, следуя привычке, столь милой сердцу испано-американцев, и обладал, как и они, естественной склонностью к болтовне. Кроме того, он, судя по всему, довольно хорошо знал этот край и, неустанно восхваляя его сказочно прекрасные ландшафты и достопримечательности, недвусмысленно давал понять, что друзья могут воспользоваться его гостеприимством, и они согласились не отвергать услуг бойкого приятеля. Разговор как-то сам собой переключился потом на кровопролитную бойню между Чили и Перу, результаты коей, по мнению французов, были неблагоприятны для последней страны, — тема, понятная в данных условиях. И тут незнакомец ощутил новый прилив красноречия. Никогда самый что ни на есть настоящий гасконец[604], взнуздывающий своего гомерического[605] дромадера[606], чтобы отправиться на нем на войну, не смог бы переговорить этого перуанца, который, предсказывая быстрый крах чилийцев, с наслаждением обрисовывал его в мельчайших деталях и при этом не проявлял ни намека на великодушие по отношению к противнику, находившемуся вовсе не в столь плачевном состоянии, как он живописал, а, скорее, в прямо противоположном. Преисполненный патриотическими чувствами, пассажир восхищался массовыми выступлениями народа в поддержку античилийской политики, восторгался героизмом милиции и энергичным поведением правительства, перечислял имевшиеся в распоряжении его отчизны ресурсы — оружие, людей, морские суда и деньги — и затронул вопрос о значении и объеме поставок в Перу военного снаряжения, беспрерывно отправляемого в эту страну из Европы и Америки. Последний предмет, коего коснулся в своей пламенной речи оратор, вызвал у Жака и Жюльена, терпеливо слушавших его, воспоминание о мрачной драме, прологом к которой послужило кораблекрушение, предшествовавшее их заточению в лепрозорий. И Жюльен совершенно естественно заметил, что из-за захвата чилийскими крейсерами судов с контрабандным грузом, эмбарго[607], наложенного нейтральными государствами на торговлю военным снаряжением, кораблекрушений и многих других, подчас непредвиденных обстоятельств перуанцы получают лишь небольшую часть того оружия, которое отправляют им их партнеры. — Никак не могу согласиться с вами, — живо возразил французу попутчик. — Гибнет в пути или задерживается вражескими судами лишь малая толика тех кораблей, которые везут нам военное снаряжение. Да и в этом случае мы не терпим особого ущерба, поскольку оплачиваем груз лишь по его получении. — Теперь мне понятна та ярость, что обуяла капитана Боба и его достойного сообщника полковника Батлера! — вмешался в беседу Жак. — Как, вы знаете этих презренных типов?! — моментально отреагировал незнакомец. — Увы, да!.. К своему несчастью, — ответил Жюльен и поведал ему вкратце об их с Жаком встрече с вышеупомянутыми проходимцами. Перуанец весь обратился в слух: повествование настолько захватило его, что он, до этого болтавший без умолку чуть ли не все время после отбытия поезда из Ламбеке, ни разу не прервал рассказчика. — Итак, — промолвил попутчик медленно, когда Жюльен закончил, — вы полагаете возможным утверждать, что кораблекрушение произошло случайно, и даже мысли не допускаете о том, что эти два янки могли умышленно разбить о скалы парусник с товаром, предназначавшимся нашей армии? — Совершенно верно. Да и какой был смысл этим людям терять корабль, чей груз представлял для них целое состояние? — А если они продались чилийцам? — Подобное предположение исключено, поскольку потерпевшая крушение шхуна была обстреляна крейсером. — Возможно, это было сделано нарочно, чтобы отвести от негодяев всяческие подозрения в измене. — В таком случае крейсер захватил бы военное снаряжение, которое пригодилось бы чилийским солдатам. — Как бы то ни было, — задумчиво произнес перуанец, — этот необъяснимый случай нанес нам большой вред, поскольку задержал на две недели вооружение нескольких подразделений нашей милиции, и если когда-нибудь эти два типа, на которых я смотрю как на обыкновенных подлецов, — комитет спасения того же мнения, — вздумают ступить на перуанскую землю… — То их выпорют хорошенько… — Нет, сеньор, они погибнут смертью изменников: будут расстреляны в спину! — В нас вы найдете людей, которые не пожалеют ни труда, ни времени, чтобы помочь вам схватить этих бандитов, — решительно заявил Жюльен, — ибо виноваты лиходеи в измене вашей стране или нет, но они покушались на нашу жизнь, и за это им не будет от нас пощады!.. Однако боюсь, что мы едва ли встретим их когда-нибудь. — Quin sabe?[608] — загадочно произнес перуанец с той неподражаемой интонацией, которая как нельзя лучше подходила к этим словам. Поезд тем временем приближался к Салаверри. Незнакомец предложил французам временно устроиться в одном из тех заведений близ железнодорожного вокзала, что лишь для красного словца именуются отелями, хотя и могут — слава Богу! — предложить постояльцам кое-какие удобства. Сам же он собирался отправиться в Трухильо, дабы позаботиться о том, чтобы разместить своих новых друзей в более комфортабельной гостинице. Эти хлопоты должны были занять всего несколько часов, после чего он вышлет за ними экипаж, который доставит их, а также слугу и багаж в город. На этом они и расстались — очень, заметим, сердечно. Друзья, сняв номер в отеле и оставив там проводника-метиса, чтобы как-то убить время, отправились на набережную и стали наблюдать за только что причалившим к пристани пароходом. Из-за слишком больших волн на перуанском побережье Тихого океана разгрузка судна и высадка пассажиров — вещи, обычно столь простые в нормальной обстановке, — становятся крайне затруднены и даже опасны в портах, недостаточно хорошо защищенных от стихии или из-за особых природных условий, или из-за людской нерадивости. Как замечает метко в первом томе своего сочинения месье Шарль Вьенер, мужественный путешественник, не знающий себе равных и занявший одно из первых мест среди самых знаменитых французских исследователей, разгружаться в этих местах не очень-то приятно. Огромный плот, подогнанный к пакетботу[609], пританцовывает вместе с ним на волнах, то поднимаясь до уровня палубы, то опускаясь вниз на четыре метра. В стоящую вертикально бочку, обхваченную крепко цепью, помещают пассажира, скрипит судовая лебедка — и человек уже над плотом. Моряки делают все от них зависящее, чтобы как можно мягче опустить этот «груз» на плот, для чего выбирается момент, когда сие транспортное средство находится на наинизшей отметке. Однако, несмотря на подобные ухищрения, как правило, бочка ударяется о плот с такой силой, что бедолагу, отважившегося залезть в столь ненадежную емкость, буквально выбрасывает из его персонального контейнера. Когда все пассажиры оказываются на плоту, он вместе с нагруженным доверху тяжелым пакетботом направляется к берегу, раскачиваемый волнами, накатывающими на путешественников и на товары на борту корабля. И судно, и бревенчатое сооружение, несущее на себе доверившихся ему людей, врезаются чуть ли не одновременно в песок. Моряки, тщетно пытавшиеся смягчить толчок, вежливо призывают пассажиров не волноваться. Но волны Тихого океана, никак не оправдывающего своего названия, подпихивают и подбрасывают и плот и пакетбот, так что уговоры тут не достигают своей цели. Моряки бросают с обоих плавсредств грузчикам, уже ожидающим на берегу, огромные канаты, которые те тут же закручивают вокруг высоких каменных столбов, вбитых в землю на недосягаемое для самого большого прилива расстояние. Затем на сцену выходят добры молодцы. У каждой пары — носилки с бочкой — вроде тех, что спускались с пассажирами с судна на плот. Богатыри почтительно приглашают путешественников снова занять свои места в цилиндрических сосудах, и те через пять минут, вымокнув до костей, оказываются наконец на твердой земле — в Салаверри. Примерно такие же сценки, красочно описанные месье Вьенером, лицезрели и наши друзья: Жюльен — с видом человека, и не такое видавшего, а Жак — с эгоистической радостью закоренелого сторонника путешествий по суше и убежденного гидрофоба, которому нечего опасаться подобных испытаний. — Подумать только, — шептал противник водных прогулок с каждой волной, подкидывавшей плот, — что бы было, если бы я сел на пароход в Гуаякиле! Достаточно только поглядеть на этот спектакль, чтобы чувство неприязни к океану вспыхнуло во мне с прежней силой. — Однако ты обещал мне, что мы вернемся в Европу морем, — напомнил с улыбкой Жюльен. — Атлантический океан — не Тихий, и бразильское побережье не столь негостеприимно, как перуанское. Между тем на корабле начало разыгрываться самое настоящее представление — благодаря появлению на палубе английской семьи, состоявшей из отца, матери, трех мисс и юноши примерно пятнадцати лет. Милорд, точь-в-точь фальстаф[610], не способный держаться на ногах, свалился на спину да и остался так лежать, заблокированный тюками, спасавшими его от резких толчков. Миледи, высокая, стройная, изящная, одетая со вкусом, отличающим женщин по ту сторону Ла-Манша, соперничающих расцветкой своих нарядов с пестро окрашенными матерью-природой попугаями, жалобно кричала на англо-испанском наречии, называя обстановку, в которой они очутились, «просто отвратительной». Мисс, в нанковых[611] одеяниях, с розовыми галстуками, голубыми головными уборами и зелеными зонтиками в руках, время от времени теряли равновесие, чем немало потешали зевак, стоявших на набережной небольшими группами или поодиночке. Рядом с девицами маячила фигура долговязого юноши на длинных паучьих ногах в не по возрасту коротких штанишках. В общем, подобная, не поддающаяся описанию сцена пользовалась бы бешеным успехом на любых театральных подмостках. — Какого черта делают здесь эти англичане? Что они потеряли в сих местах? — не без резона заметил Жак. — Англичане — это своего рода одна из статей британского экспорта, — ответил Жюльен. — Их находят в Китае и на берегах Нила, у водопадов и в кратерах вулканов… — Но чтобы они оказались здесь, в Салаверри!.. Решительно, жизнь полна несуразностей! Тут к друзьям подбежал метис Эстебан и сообщил, что обещанный сеньором экипаж уже прибыл и стоит у «Grand Hotel de la Patria, у de los estrangueros»[612]. Друзья с сожалением покинули набережную в тот момент, когда миледи, в одеянии всех цветов радуги, осторожно опущенная матросами в бочку, двигалась, положась на лебедку, над сероватыми волнами, напоминая всем видом своим Амфитриту стиля барокко[613], стоящую на плечах четырех тритонов[614] с эбеновыми[615] торсами, лохматыми шевелюрами и зубами кайманов. — Мне бы очень хотелось досмотреть картину, — не удержался Жак, садясь в экипаж, который вскоре понесла на рысях пара крепких коней чилийской породы. Четверть часа спустя повозка уже въезжала в Трухильо[616], административный центр провинции Либертад, тихий, чистенький городок, в облике которого сохранилось немало черт средневековья. Лошади немного попридержали свой бег, и коляска плавно вкатила на просторную улицу, протянувшуюся между двумя высокими стенами — без единого выступа или оконца, но с видневшимися то здесь, то там дверьми в грозных панцирях из гвоздей. За подобными оградами обычно укрываются монастыри, которых в Трухильо бесчисленное множество, о чем можно судить хотя бы по толпам монахов, красочно описанных Шарлем Вьенером: «Брюнеты и блондины, с черными, голубыми или цвета речной воды глазами, босоногие, бритоголовые, святые отцы, восседая на осликах, шествующих важной поступью и покорно повинующихся своим хозяевам с требником[617] в руках и зонтиком от солнца, приветливо улыбаются женщинам, благословляют детей и собирают подаваемые им прихожанами толстые медные и небольшие серебряные монеты, а также птицу, овощи, фрукты. Деньги они прячут в рукавах, а все остальное — в огромных тюках». Весь этот живописный католицизм, не известный французам, придает архаическую окраску стране и накладывает самобытный отпечаток на общество, в котором кишмя кишат иностранцы, принадлежащие к самым различным социальным слоям и придерживающиеся подчас диаметрально противоположных взглядов по вопросам нравственности и морали. Затем экипаж шагом пересек довольно многолюдную и весьма привлекательную на вид улицу с домами под низки-mi плоскими крышами, с верандами и балконами и с маленькой фигуркой святого в нише у самой двери или в простенке между окнами, проехал по площади и, поднявшись по боковому проулку вверх, на что ушло еще несколько минут, нырнул под свод ворот, вделанных в глухую, как у монастырей, и столь же мрачную стену. Ворота закрылись за французами в тот самый миг, когда они увидели спешившего к ним навстречу своего друга-перуанца, объявившего им с улыбкой, что апартаменты для них уже готовы. И не успели наши путешественники и слова сказать, как к ним по знаку хозяина подошел атлетического сложения негр, одетый в нечто вроде ливреи, и друзья, сопровождаемые верным метисом, прошествовали за ним следом по длинному коридору в достаточно просторную, с побеленными известью стенами комнату, с толстыми коврами на полу и с одним-единственным окном, помещенным по странному капризу архитектора под самый потолок и забранным мощной решеткой. Через проемы во внутренних стенах из твердых пород дерева помещение соединялось с двумя другими, но меньшего размера. — Квартира их высочеств сеньоров! — глухим голосом отрапортовал негр и тотчас исчез, захлопнув с шумом за собой огромную дверь, тут же из излишней осторожности закрытую им снаружи на засов. Жак и Жюльен, решив, что это какая-то мистификация[618], и найдя, что подобная шутка — плохого вкуса, забарабанили в дверь, громогласно требуя немедленно же отпереть их. Маленькое окошко в двери приоткрылось, и друзья разглядели в нем своего попутчика, попросившего их не устраивать попусту шума. — Будьте любезны сообщить, — вскричал Жюльен с негодованием, — где мы и что вообще означает эта ловушка, в которую вы так подло заманили нас? — Никакой ловушки тут нет. Просто вы в городской тюрьме. Страна, находясь в состоянии войны, вынуждена защищать себя поелику возможно от различных авантюристов, пытающихся подорвать ее мощь… — Но вам хорошо известно, что мы — французские путешественники и держимся в стороне от политики… — Как бы не так! Хватит лгать! Хоть вы и великолепно говорите по-французски, но не пытайтесь больше убедить меня в том, что вы французы. — Клянусь честью, мой друг, стоящий вот здесь, рядом со мной, — не кто иной, как месье Жак Арно, а я — граф де Клене… Но вы, по всей видимости, полицейский и как таковой не можете верить на слово, и если я поклянусь даже своей честью, то это также мало что будет значить для вас, ибо вы не признаете такого понятия, как честь. — Насчет того, что я полицейский, вы угадали! Глава окружной полиции к вашим услугам, полковник Батлер и капитан Боб! — Как вы сказали?! — промолвил ошеломленно Жюльен. — Я говорю, что вы, присвоивший себе имя графа де Клене, в действительности — полковник Батлер, янки, вор, а достойный вас ваш приятель — капитан Боб, попавший в так называемое кораблекрушение моряк! Ну, что вы сможете заявить в связи с этим? — Лишь то, что для шефа полиции вы ведете себя слишком опрометчиво! — Итак, признаете, что вы американцы?.. — Черт вас подери, соблаговолите сперва заглянуть в наши паспорта!.. — В паспортах можно написать что угодно… К тому же они у вас фальшивые. — С чего вы это взяли? — А с того, что ровно неделю тому назад я, как шеф полиции, поставил выездную визу на паспорта месье де Клене и Арно, французских путешественников, прибывших к нам из Кито и севших в Трухильо на корабль, который должен был доставить их в Бразилию. Эти месье, не делая никакой тайны из цели своего странствования, уезжали отсюда в сопровождении большой свиты, чтобы получить в наследство поместье вблизи Рио-де-Жанейро, известное под именем Жаккари-Мирим. Кстати, в подтверждение своих слов они показали мне письмо завещателя, с коим я имел удовольствие ознакомиться. Вы видите теперь, что ваша выдумка столь груба, что на нее не поймался бы даже ребенок. А теперь — до свидания, месье, до скорого. И не забывайте, изменников и шпионов убивают у нас выстрелом в спину!
ГЛАВА 13
В тюрьме. — Воспоминание о вторжении немцев во Францию. — Шпиономания. — Сложная ситуация, в которой оказались друзья. — Недоумение Жака по поводу возведения его в ранг капитана корабля. — Судебный зал. — Опереточные генералы. — Перуанские солдаты. — Обвинение. — «Смерть иностранцам!» — Жажда крови. — Вызов, брошенный Жюльеном судьям. — Настоятельное требование Жюльена. — Обещание председателя суда. — Недоумение начальника полиции. — Подлый замысел.Апартаменты, в которых, словно львы в клетке, расхаживали в ярости злополучные путешественники, не являли собой ничего отталкивающего, как мог бы подумать читатель, зная о их предназначении. Конечно, не роскошные, они тем не менее предоставляли своим обитателям определенный комфорт, и не один путешественник, любящий удобства, охотно воспользовался бы ими, не находись эта своего рода трехкомнатная квартира в мрачном заведении, именуемом городской тюрьмой. В общем, обстановка простая, но вполне терпимая. Все, что потребовалось бы для отдыха, имелось налицо. Постельное белье на кроватях было безупречно чистым. Беглый обзор места заключения убедил Жака и Жюльена, что всякая попытка бегства бесполезна. После первых минут вполне естественного в подобных обстоятельствах ступора[619] и последовавшего затем взрыва гнева друзья призвали на помощь все свое хладнокровие и спокойно проанализировали ситуацию, столь же опасную, сколь и непредвиденную, в которой они оказались. Жак, придерживаясь более оптимистического взгляда на сложившееся положение вещей, нежели Жюльен, и уверенный в благополучном разрешении всех их проблем, заявил, что рассчитывает на добрую волю перуанских властей, которые не смогут, ознакомившись повнимательнее с паспортами, усомниться в их подлинности и будут в конце концов вынуждены признать невиновность французов. Жюльен с сомнением покачал головой, не разделяя радужных надежд своего друга: — Обратимся-ка лучше к ура-патриотическому и вместе с тем благодушному умонастроению практически всех французов, даже наименее внушаемых, накануне вторжения немцев[620]. А потом мы были буквально потрясены тем, как неожиданно все обернулось, дрожали от стыда и горя при виде поруганной нашей земли и не понимали, почему это вдруг наша армия, которая еще недавно считалась непобедимой, все отступает и отступает, проигрывая одно сражение за другим и теряя в бесславных боях отважных сынов отчизны. Нам хотели объяснить эти бедствия причинами,щадящими наше самолюбие и уменьшающими заслуги немецких тактиков. Взять хотя бы тот же шпионаж. Перейдя от беспредельной доверчивости к повальному недоверию, мы везде стали видеть вражеских лазутчиков. Если кто-то выделялся своей походкой или костюмом или говорил по-французски с легким акцентом, непривычным в данном районе, на него тотчас же навешивали ярлык «шпион». Между тем вспомни-ка, часто ли приходилось тебе читать в газетах об обнаружении подлинных шпионов, засланных во Францию немецким военным командованием для несения не пользующейся у нас особым почетом службы, бывшей, однако, в таком фаворе[621] по другую сторону Рейна?[622] — Не часто, но что ты хочешь этим сказать? — А вот что: Перу сейчас находится в ситуации, аналогичной той, в которой оказалась тогда Франция. Ее государственные мужи, мало чем отличаясь от наших, полагали, что эта безумная война выльется всего-навсего в победоносный марш их войск и завершится молниеносно немалым выигрышем для Перу. Но случилось обратное: горе-воителей, вознамерившихся в мгновение ока покончить с противником, бьют на каждом шагу — как на суше, так и на море. Чилийцы продвигаются вперед на всех фронтах, вопреки хвастливым реляциям[623], публикуемым в прессе их врагом и производящим довольно странное впечатление на непредубежденного читателя, ибо получается, если сопоставить данные донесения с дислокацией[624] войск сражающихся сторон, что победители все время отходят назад, а терпящие поражение за поражением наступают и, если дела пойдут так и дальше, то не позже чем через полгода окажутся у Лимы. В общем, перуанцы не желают признавать своего поражения. Проявляя еще большую нервозность и претенциозность, чем это делали в свое время мы, французы, они менее, чем наша нация когда-то, достойны победы. Обанкротившиеся политиканы сваливают свои беды на всех и вся, кроме самих себя. Обвиняя в неудачах Бога, дьявола и чилийцев, они судорожно изыскивают всяческие, подчас весьма наивные, объяснения якобы не зависевших от них провалов и стремятся сделать козлом отпущения потомков вторгшихся сюда соратников Франсиско Писарро. В итоге именно тех, в чьих жилах бродит кровь их воинственных предков, всех этих жителей погруженных в атмосферу средневековья каменных громад — городов, куда не проник еще дух современности, и предполагается вознести на жертвенный алтарь. Злосчастная судьбы швырнула нас в это осиное гнездо… — И все же вполне возможно, что власти спокойно разберутся во всем, что касается нас. — Как ты можешь надеяться на что-то? Ведь только и слышишь, как эти полудикари вопят истошно: «Да здравствует тот-то!» или «Долой того-то!». — Согласен с тобой, Жюльен, положение наше действительно очень серьезно. — Тем более что два подлеца-американца вовремя заявились в этот город в нашем обличье и поставили нас тем самым в крайне сложную ситуацию… — Значит, перед тем как бросить нас в лепрозорий, они украли у меня бумажник с завещанием моего дяди, я же думал, что потерял их. — Ловкие мошенники, ничего не скажешь! План их прост: сойти на берег в Рио, отправиться на фазенду Жаккари-Мирим и, само собой, войти во владение поместьем вместо тебя. — И какой только умной голове пришла мысль сделать из полковника Батлера графа де Клене — из этого неотесанного янки, жующего табак и разгуливающего по комнатам в своих сапожищах! — А из капитана Боба — Жака Арно!.. — Но особенно экстравагантно[625] то, что во мне увидели капитана-торговца, хотя я всегда боялся ступить на борт корабля!.. Чтобы провозгласить меня главарем пиратов!.. Глазок на двери приоткрылся, и раздался глухой голос негра, приведшего друзей в сей каземат: — Прошу вас, сеньоры, приготовиться предстать перед военным советом! — Уже! — произнес Жак. — Эти судьи никак не дадут посидеть спокойно своим пленникам! Если я правильно понял тарабарщину этого черномазого, нам придется иметь дело с трибуналом. — Понятно, коль скоро перуанская территория находится на осадном положении. — Кстати, револьвер у тебя с собой? — Конечно. Но почему ты спросил об этом? — А вот почему: мы люди решительные, не размазни какие-то и не слишком дорожим своей шкурой, а потому с помощью дюжины выстрелов сможем попытаться в нужный момент повлиять на решение судилища. — Не говорю — «нет», но на подобную крайнюю меру я не возлагаю особых надежд, поскольку вокруг нас будет полно людей, да и в городе как-никак пятнадцать тысяч жителей. В эту минуту послышалось равномерное пощелкивание, какое обычно производит лебедка, боковая стена комнаты, в которой вели беседу наши друзья, покачнулась, а затем медленно поднялась, словно театральный занавес, и взору узников открылась крепкая железная решетка, отделявшая их от просторной, хорошо освещенной залы, в коей разместились несколько групп, заслуживающих нашего внимания. Прежде всего, за длинным столом, установленном на небольшом возвышении и накрытом зеленой скатертью, сидели пятеро членов военного совета — напыщенные, в новых, сияющих регалиями[626] мундирах, скопированных, увы, с униформы французской армии. С первого взгляда на данных субъектов в чине генералов, выставлявших напоказ галуны, становилось ясным, что «военные» в действительности — люди сугубо штатские, не имеющие никакого отношения к подлинно воинской службе: не чувствовалось в них соответствующей выправки, и им не были свойственны сдержанность и скупость в жестах, которые вырабатываются привычкой к дисциплине. Чуть в стороне, за отдельным столиком, восседал его превосходительство начальник полиции собственной персоной, одетый в полковничий мундир, а по обеим сторонам от него устроились секретарь суда и протоколист: первый — толстый, апоплексического[627] вида каноник[628], с узким лбом, надутыми, готовыми лопнуть щеками, маленькими зелеными глазками с пронизывающим взглядом и в высоком головном уборе, смахивавшем на черный корабль, обвешанный веревками и помпонами; второй, прямая противоположность только что представленного нами типа, был монахом, столь же сухим, как и его писчее перо из кости, с редкими волосами на голове, без бороды и с очами, опущенными долу. Слева и справа от возвышения разместился взвод солдат. В куртках артиллеристов, кепи пехотинцев и панталонах на любой вкус, а то и просто с патронташем поверх рубахи, эти вояки, обутые и одетые кто во что горазд, могли показаться поверхностному наблюдателю всего-навсего разношерстной толпой, в то время как в действительности они являли собой испытанных в сражениях бойцов. В минуты бездействия сии брюнеты с угольно-черными бровями, с расхлябанной походкой и с меланхолической внешностью действительно выглядят в своей карикатурной амуниции весьма гротесково. Но в пылу схватки, когда звучит горн, в воздухе стоит запах пороха, а на поле брани царит невообразимый шум, темно-карие глаза загораются, бронзовые лица искажаются в свирепой гримасе, и горячится кровь воинов. Страшные в своем ожесточении, они, пренебрегая опасностью, бросаются на врага и бьются с ним с ожесточением дикарей. При виде пленников солдаты вскочили и поставили ружья к ноге, чтобы в случае опасности грудью защитить опереточных героев-генералов, которые осмелились приступить к допросу, лишь защитив себя предварительно от подсудимых надежной решеткой. Предложив сеньорам-арестантам сесть и попросив их соблаговолить отвечать на вопросы членов военного совета, генерал, выполнявший роль председателя суда, начал допрос с выяснения таких чисто формальных сведений, как имя, возраст и национальность злосчастных иноземцев. Секретарь, у которого, судя по мрачноватому выражению его лица, плохо варил желудок, устроился поудобнее в надежде вздремнуть, предоставив протоколисту полную свободу записывать вопросы и ответы как Бог на душу положит. Его превосходительство председатель суда, перелистав рапорт, наспех составленный его превосходительством начальником полиции, пересказал содержание сего труда, выданного им за исключительно достоверный источник информации, и поддержал тем самым абсурдную выдумку, превратившую французских путешественников в американских авантюристов. Произведя затем длинные и нудные выкладки, он в заключение предложил пленникам сделать исчерпывающие признания и подписать протокол. Жюльен, до глубины души возмущенный столь странной процедурой ведения судопроизводства, обратился к господам генералам с гневной речью: — Я полагал, что люди, считающие себя благоразумными, не поддадутся сей явной лжи и положат конец недоразумению, вольному или невольному, жертвой коего мы стали. Но, как вижу, никто из всех вас пятерых, граждан цивилизованной страны, в высоких воинских чинах и наделенных, в силу обстоятельств, безмерными юридическими правами и обязанностями, даже не покраснел, бросив в лицо беззащитных путешественников обвинение столь же нелепое, сколь и подлое! Вы отказываете иностранцам в такой скромной просьбе, как заглянуть для установления их личности в паспорта, подписанные консулами… — Вам уже было сказано, сеньор, — прервал Жюльена начальник полиции, — что в паспорт можно вписать все что угодно… Да и как мы узнаем, что они и в самом деле ваши, а не украдены… или просто найдены вами? Что касается меня лично, то я не имею никаких оснований подозревать в преступных намерениях тех уважаемых особ, чьи имена вы присвоили себе. — Не скажете ли, месье полицейский, — презрительно парировал отважный француз, — сколько вам заплатили те два страшных типа, что проследовали через ваш город неделю назад?.. Я говорю о подлинных Бобе и Батлере, которым вы помогли, естественно, не бесплатно, стать месье Жаком Арно и месье де Клене. Судя по тому, как вы с нами сейчас обращаетесь, им это стоило немало! Полицейский побледнел, заскрипел зубами и выйдя из себя завопил: — Ты клевещешь на меня, иноземная собака! — Вот теперь-то вы и раскрыли свое лицо. «Иноземная собака!» — не правда ли, здорово сказано? Теперь вам недостает только признаться, что это, — то есть наша принадлежность к иностранцам, — и есть главный пункт обвинения против нас. К тому же вы, должно быть, получили плохие вести с театра военных действий и теперь, желая хоть чем-то компенсировать отсутствие побед и заодно удовлетворить звериные инстинкты толпы, решили по всем правилам юриспруденции[629] прикончить двух ни в чем не повинных граждан. «Эти иностранцы — шпионы!.. Из-за них мы терпим поражение», — заявляете вы, чтобы скрыть истинные причины своих неудач. «Смерть иностранцам!» — кричите вы, чтобы представить их кровь взамен несуществующих сводок о славных свершениях перуанской армии! С улицы послышался многоголосый шум, накатывавшийся на стены тюрьмы, как приливная волна на скалы, и затем стали различимы грозные слова, как бы эхом воспроизведшие и даже расширившие восклицание Жюльена: — Смерть иностранцам!.. Смерть изменникам!.. — Как видите, я говорил не зря, — произнес, усмехнувшись, Жюльен, в то время как члены совета озадаченно молчали. — Мне хорошо известны эти штучки! Вы сознательно подыгрываете народу, разжигая его низменные страсти. Но вы не на тех напали: вам не удастся сделать из нас жертв вашей шпиономании! — Смерть лазутчикам!.. Смерть! — раздалось совсем близко, и массивная дверь в помещение, в котором заточили бедных французов, задрожала от глухих ударов. — Что же вы молчите?! Не выносите своего приговора?! Ведь неплохое зрелище получилось бы для толпы, не хуже боя быков!.. Вы не осудите нас, я знаю. И только потому, что просто не осмелитесь пойти на сей шаг! Генералы от комической оперы издали возмущенный ропот, разбудивший секретаря-каноника. — Нет! — продолжал Жюльен. — Вы не осмелитесь сделать это, повторяю я, ибо вы все убедились в том, что мы — французы… Среди вас нет никого, кроме господина полицейского, кто говорил бы на нашем языке, но вы не можете смешать наш благородный говор с экзотической белибердой тех двух американцев, с которыми вы нас перепутали! Впрочем, произнося «вы», я не имел в виду начальника полиции, поскольку он ничего не перепутал, а сознательно совершил подтасовку. Неужели вы столь наивны, что полагаете, будто мы подпишем объемистый пасквиль[630], сочиненный этим продажным типом? Пусть сей гнусный документ остается на вашей совести! Мы не боимся вас, устроителей безобразного спектакля, для коих законы не писаны! Вам не сломить нашей воли! И, помимо всего прочего, вы не сможете уничтожить нас незаметно, так чтобы об этом не стало известно нашим дипломатам: они прекрасно знают, где мы находимся в данный момент. Или вы полагаете, что после Гуаякиля наш след затерялся? В общем, я настаиваю на немедленном предоставлении нам свободы, если только вы не желаете себе неприятностей. — Но, сеньор, — ответил смущенный и даже немного напуганный этим выпадом подсудимого председатель, — я как раз и желаю получить доказательства вашей невиновности. Вы должны понять, в какой ситуации мы оказались. Неделю назад два путешественника-иностранца сели в Трухильо на пароход, отправлявшийся в Бразилию. У них, как вы утверждаете, ваши имена и соответствующие бумаги, подтверждающие, что они — граждане Франции. Их, естественно, пропустили через территорию нашей страны, поскольку на них распространяются все законы в защиту человека, коими могли бы пользоваться и вы, не будь одного обстоятельства, которое вы должны принять во внимание. Дело в том, что вышеупомянутые лица в разговоре с его превосходительством начальником полиции так же, как и вы, упоминали о печальном эпизоде — о гибели шхуны с оружием и боеприпасами. И они дополнили свой рассказ подробностями, касавшимися одного из владельцев груза и капитана корабля, назвали их имена и страну, откуда те родом… Все это слово в слово совпадает с тем, что поведали и вы нам! — О дьяволы! — прорычал Жак сквозь стиснутые зубы. — В этих условиях, — лицемерно продолжал его превосходительство председатель суда, — нам оставалось только арестовать вас, поскольку, не довольствуясь ущербом, нанесенным нашей армии потерей боевого снаряжения, вы, присвоив себе чужие имена, собираете сведения, которыми поделились бы с нашими врагами, если бы не бдительность его превосходительства начальника полиции. Французы были потрясены, увидев, сколь изощренно действовали полковник Батлер и капитан Боб: предвидя возможность побега своих жертв из лепрозория, они заранее позаботились о том, чтобы перуанские власти, в случае чего, приняли французов за агентов враждебной страны. Придя немного в себя, Жюльен снова попытался воздействовать на суд. — Довольно! — жестко оборвал он председателя, произносившего панегирик[631] во хвалу полицейскому. — Существуют у вас законы или нет? Солдаты вы или убийцы? — Что вы хотите этим сказать? — В Лиме располагается посольство Франции с полномочным его представителем и главой флота адмиралом Дюперрей. Я лично знаком с обоими. Прикажите послать к ним курьера с письмом от меня… Вот все, что я требую от вас именем закона и взывая к вашей воинской чести! — Хорошо, сеньор, ваша просьба будет удовлетворена: курьер отбудет завтра утром… Достопочтенные господа, на этом заседание суда объявляю закрытым! Стена начала медленно опускаться, мало-помалу скрывая от взора узников решетку и находившихся за нею членов военного совета. В зале послышалось оживленное перешептывание в связи с уступкой, сделанной французам председателем суда. — Как, ваше превосходительство, — произнес ошеломленный этим неожиданным поворотом дела начальник полиции, — вы действительно пошлете курьера? — Конечно! — И он поедет в Лиму? — Да. Необходимо, чтобы посол Франции и адмирал получили письмо от арестантов: в этом наше спасение. — Я отказываюсь понимать… Если они невиновны, то в каком ужасном положении окажемся мы!.. Что подумают о нас другие? — Они не невиновны!.. Впрочем, сие уже не имеет значения. — Почему? — Слышите вой толпы? Народ жаждет крови, и он ее получит! — Да, но… что вы хотите этим сказать? — До Лимы сто пятьдесят лье, так что курьер доберется туда не ранее чем через десять дней. А за это время узники, виновны они или нет, отойдут в мир иной. — Вы уверены в том? — Абсолютно! — заявил председатель, обнажив в жестокой ухмылке белые зубы.
ГЛАВА 14
Освобождение Эстебана. — Письмо послу Франции и адмиралу. — Потомок дяди Тома. — Желе из цедры[632], варенье из кокосового молока, пастила из гуайявы и ананасовый компот. — Безумная жажда. — Изощренное истязание. — Пять дней ужасных страданий. — Упадок сил. — Беспамятство Жака. — Самоотверженный поступок Жюльена. — Пушечный выстрел. — Военный совет в составе одного человека. — Приступ безрассудной ярости. — Приказ начальника полиции. — Захват в плен перуанских солдат.После окончания судебного заседания уже знакомый нам негр — он же тюремный надзиратель — принес чернила, перья и бумагу и сообщил французам о решении военного совета, которым ему предписывалось выпустить на свободу в тот же вечер метиса Эстебана: согласно непререкаемым правилам, узники этого мрачного заведения не могли пользоваться услугами близких им лиц. — Очень хорошо, — спокойно произнес Жюльен, ничем не выдавая охвативших его чувств. Когда страж исчез, верный спутник наших друзей разразился стенаниями и плачем: его разлучали с людьми, ради которых он готов был пойти на все! Но добрая улыбка, осветившая лицо Жюльена, осушила слезы славного молодого человека. — Глупцы! — тихо сказал Жюльен Жаку. — Они, конечно, хотят превратить наше затворничество в сущий ад, лишить нас всяческой возможности общаться с внешним миром… — Не исключено также и то, что наши «опекуны» просто решили удалить нежелательного свидетеля на случай, если им вздумается совершить над нами акт насилия, — вполне резонно заметил тот. — Пожалуй, ты прав… — Ну что ж, воспользуемся постановлением военного совета в своих целях. Хотя в любом случае местным властям придется связаться с послом, а уж он найдет, к кому обратиться с требованием освободить нас. — Так что не все потеряно! — Надо сделать так, чтобы Эстебан тоже отправился в Лиму, но один, а не с курьером, посланным нашими врагами: у нас есть все основания не доверять гонцу, хотя люди, снарядившие его, заинтересованы в том, чтобы мои письма попали в руки представителей нашей страны. Спустя два часа, во время которых Жюльен написал письма послу Франции в Перу и адмиралу, чья флотилия располагалась в Кальяо, самым тщательным образом проинструктировал метиса и вручил ему конверт, с тем чтобы слуга доставил его во французское посольство, вернулся негр с двумя закрытыми салфеткой блюдами, — вероятно, с едой для узников. — Возьмите корреспонденцию, — проговорил холодно Жюльен, протягивая послания черному стражу, и затем обратился к молодому человеку: — Ну, иди!.. Тебе посчастливилось — ты на свободе! Прощай же! — Прощайте, хозяин! — рыдая, промолвил метис. — Ваш слуга никогда не забудет, как вы были добры к нему! — Раб, — проворчал негр, высокомерно пожимая плечами и подталкивая метиса к двери. — Смотрите-ка, — заметил Жак довольно кстати, когда они с Жюльеном остались одни, — потомок дяди Тома[633] неплохо устроился!.. Но шутки в сторону: у меня в желудке бурчит от голода. Сейчас самый раз, чтобы познакомиться с рационом этого дома. Открыв одно из блюд, он не смог сдержать недовольной гримасы при виде густого желеобразного месива, с воткнутой в него деревянной ложкой. — Ба!.. — Что там такое? — Да это какое-то яство. Именно — сладкое! И, я бы добавил, довольно изысканное! — И впрямь изысканное, — ответил Жюльен, отведав содержимое второго блюда. — Но этим не насытишься. — Еще бы! Десерт, заменивший нам и завтрак и обед! — Однако, поскольку потомок дяди Тома ничего другого не собирается предложить своим подопечным, возблагодарим судьбу и за то, что есть, и вспомним в связи с этим, что сахар в соединении с другими растительными субстанциями может в крайнем случае заменять в течение какого-то времени остальные продукты. Насытившись студенистой массой, друзья ощутили вдруг дикую жажду и вспомнили, что с тех пор, как их поместили в камеру, у них не было ни капли во рту. — Они забыли о воде! — сказал Жак то ли со смехом, то ли сердито. — Как, тюрьма без классического кувшина!.. Это не видано! — Они стали звать сторожа, громко стуча в дверь ногой и кулаком. Но бесполезно: мрачная темница была нема как могила. Выбившись из сил, узники бросились на свои кровати и заснули с жгучей сухостью в гортани, закусив простыни в надежде вызвать хоть какое-то отделение слюны, дабы смочить распухший язык и потрескавшиеся губы. Ночь была нескончаемо длинной, а сон — плохим. На заре вновь появился сторож с такими же, как и накануне, блюдами. — Воды!.. Воды!.. — в один голос прокричали изнывавшие от жажды заключенные. — Как, опять сладкое месиво?! Еще раз?! — О! — проговорил черный с любезным видом. — Ваши светлости должны бы заметить, что это вовсе не та еда, что вчера… — Как же, палач, не такая?.. Ты что, смеешься над нами?! — Вчера их превосходительствам давали желе из цедры, а сейчас я принес варенье из кокосового молока. — А где вода?! — Заключенным ее не положено, — сказал, осклабясь, надзиратель, открыв в жестокой усмешке два ряда зубов, которым позавидовал бы и волк. — Как это так, негодяй?! Что это значит: не положено воды?.. Вы хотите, чтобы мы сошли здесь с ума от жажды? Хорошо же, ты поплатишься за это! Негр поспешил ретироваться. Жак, в бешенстве набросившись на дверь, закрывшуюся за стражем, начал выкрикивать проклятия, — увы, столь же бессмысленные, как и удары, которыми он награждал ни в чем не повинную деревянную преграду. — Успокойся! — сказал Жюльен, более владевший собой. — Если ты будешь вот так бесцельно расходовать энергию, то лишь еще больше захочешь пить. — Ты прав… Но что же, в конце концов, они задумали сделать с нами? — Э, мой бедный друг, я знаю об этом не больше, чем ты! — Послушай-ка, а сколько дней живут без еды? Шесть дней… восемь… или, может, десять?.. — Что ты хочешь сказать этим? — А то, что нам лучше перейти на голодную диету, чем поглощать это мерзкое месиво, от которого жжет в животе. — И впрямь, попробуем отказаться от еды. — Но мне хотелось бы вознаградить себя за наши муки. Пока я еще крепко стою на ногах, покажу-ка проклятому негру — этой дряни, несущей недостойную службу пособника палача, — почем фунт лиха! Двину как следует по его атлетическому торсу, чтобы снять с себя нервное напряжение. И тогда черт с ней, с жаждой! — Ты сошел с ума! Эти негодяи под предлогом законной самозащиты немедленно расстреляют нас прямо здесь, в тюрьме! Хотя и не осмелились нас осудить: возможно, чувство стыда еще не окончательно утеряно ими или, скорее всего, их страшит спасительное для нас вмешательство посла Франции и… Черт подери, а ведь наши тюремщики действительно очень рискуют! Но вот снова наступил вечер, отличавшийся от вчерашнего лишь тем, что друзья испытывали еще большие страдания, чем накануне. Огромная дверь отворилась, и перед двумя белыми горделиво предстал их страж. Подоплека этой непонятной буффонады[634] тут же разъяснилась: за спиной негра стояла дюжина солдат с примкнутыми к винтовкам штыками, чтобы урезонить строптивых арестантов, если те вздумают протестовать и против третьей трапезы. — Паста из гуайявы! — объявил негр, разражаясь животным смехом. — А завтра утром получите ананасовый компот… На воду же не рассчитывайте!.. Жак и Жюльен не удостоили негодяя даже взглядом: так было лучше. Прошло два дня, три, четыре. Муки, которые терпели наши друзья, могли бы сломить хоть кого. Напрасно друзья пытались полностью отказаться от еды: несмотря на все усиливающееся чувство жажды, узники, чтобы вконец не ослабеть, вопреки принятому ранее решению, стали понемногу есть подаваемые им сладкие блюда, ощущая при этом временное облегчение своих страданий. Однако чем больше поддавались они искушению, тем сильнее испытывали потребность в воде. Именно на этой понятной человеческой слабости строили свой расчет изощренные истязатели, прибегнувшие к сей необычной и крайне жестокой пытке[635], уже позволявшей им не раз одерживать верх над своими жертвами, как бы ни была велика воля последних и как бы ни был крепок их организм. Пошел пятый день заключения Жака и Жюльена. Французам вновь принесли адское кушанье. Но тюремщик, увидев, что заключенные буквально не в себе, не осмелился войти в камеру, несмотря на присутствие отряда солдат, и удовольствовался тем, что, слегка приоткрыв дверь, — ровно настолько, насколько позволяла цепочка, — поставил сосуды с едой на пол и втолкнул их внутрь. Теперь узникам был предложен ананасовый компот! Вид ломтей хлеба, пропитанных сиропом, густым, как клей, исторг из груди Жака град проклятий. Издававшиеся им короткие, глухие звуки напоминали скорее вой волка, нежели человеческий голос. Неимоверная жестокость перуанцев и так уже принесла друзьям столько страданий, и теперь терпению одного из них пришел конец. Неумолимое желание пить, ни на минуту не оставлявшее бедных мучеников, выворачивало у них внутренности, обжигало глотку, лишало их голоса, а временами мутило рассудок. В этих призраках с посиневшими губами, запавшими, в темных кругах глазами, мертвенно-бледными лицами и приоткрытым ртом, из которого вырывалось лишь хриплое, прерывистое дыхание, с трудом можно было узнать бесстрашных французов-путешественников. Из-за ужасной жары, отсутствия воды и полноценной пищи друзья столь быстро теряли силы, что у них невольно возник вопрос, уж не добавляют ли им в пищу яд. Однако им было не до рассуждений: все их помыслы, все желания сводились к одному — к воде! Они жевали кожу кобуры, а затем, чтобы вызвать слюноотделение, время от времени клали на язык несколько крупинок пороха. Эти меры позволили в той или иной мере перенести пытки один день, может быть, два. Но потом кровь сгустилась и перестала выполнять свои функции. — Что делать?! Что придумать?! — в сотый раз вопрошал, — нет, рычал, — Жюльен, в то время как Жак катался в беспамятстве по простыне, издавая в бреду несвязные звуки. А ведь прошло лишь пять дней! Жюльен заметил, что Жак задыхается, бормоча что-то жалобно. — Тысяча чертей, он же умрет!.. Жак, Жак, послушай!.. — А! А! Воды… воды!.. — Воды нет, но погоди, за неимением лучшего ты выпьешь вот это!.. Закатав рукав рубашки до локтя, Жюльен с силой стянул руку своим галстуком, достал из кармана перочинный нож и вскрыл себе вздувшуюся вену. Теплая, черноватая струя крови едва не ударила Жаку прямо в лицо. Жюльен, не желая терять ни капли драгоценной жидкости, от которой зависела жизнь их обоих, пригнул голову друга к ране. Жак сделал бессознательно несколько глотков и внезапно ожил. Открыв глаза, он понял, какой мужественный и самоотверженный поступок совершил Жюльен. — Ты дал мне свою кровь! — пробормотал он. — Но ты же можешь погибнуть! — Что ты, сие небольшое кровопускание пошло мне лишь на пользу! — отвечал Жюльен, пытаясь подобной возвышенной ложью скрыть головокружение. — Если я и умру, то не от этого. Помоги мне только завязать рану… Так, хорошо! Нельзя терять ни капли: крови у меня хватит еще на два-три раза. — Что ты!.. Неужели ты думаешь, что, будучи в сознании, я согласился бы на такое? Ведь это было бы с моей стороны непростительным преступлением по отношению к тебе! — Не говори глупостей: хоть у тебя мышцы и сильнее, чем у меня, но перед голодом и жаждой ты по сравнению со мной более беззащитен. В конце концов, если и я в свою очередь свалюсь, то ты дашь свою кровь мне… Внезапно донесся грохот — откуда-то издалека, со стороны моря. — Это пушка, — произнес Жак, почувствовавший себя лучше после «возлияния». — Только бы не бомбили этот проклятый город, а то мы окажемся еще, ко всему прочему, и погребенными под развалинами нашей тюрьмы! — Хорошо, если бы это был военный французский корабль, пришедший из Лимы. — Ты же прекрасно знаешь, что такое невозможно: наш славный метис едва ли проделал полпути. — Слышишь крики горожан?.. И барабанную дробь?.. Ну и гвалт поднялся! Надо же, как забегали наши тюремщики!.. Должно быть, что-то стряслось!.. Заскрежетала, поднимаясь, деревянная стена-перегородка, и, как и пять дней назад, взору пленников предстала зала, в которой в прошлый раз заседал военный совет. По другую сторону решетки по-прежнему размещался гротесковый взвод солдат, однако судей не было видно. Уж не отправились ли эти герои на поля сражений, чтобы, пренебрегая риском порвать свои великолепные мундиры, защитить матушку-отчизну от неистовых чилийцев? Или же они попросту удрали в панике, что частенько случается с подобного сорта генералами?.. Лишь начальник полиции да еще писарь-протоколист восседали на своих местах, словно вздумали заменить собою военный совет. Судя по всему, его превосходительство полицеймейстер[636] намеревался председательствовать, обвинять, защищать, если потребуется, — поскольку до сих пор никто не позаботился о том, чтобы дать обвиняемым защитника, — и конечно же судить. В общем, получался на редкость единодушный военный совет! Жюльен, до сих пор призывавший Жака к терпению, при виде виновника их мучений потерял контроль над собой. Его мозг охватило горячечное[637] возбуждение, лишившее отважного француза обычной для него ясности ума. Всегда корректный, выдержанный и хладнокровный человек на какое-то мгновение уступил место ослепленному гневом безумцу, не способному мыслить здраво и утратившему даже инстинкт самосохранения: голод, а еще более — жажда, достигшие предела, часто вызывают подобные приступы безрассудной ярости. Бледный, в полубредовом состоянии, с блуждающим взглядом, он бросился с истошным воплем к решетке и, просунув сквозь железные прутья руку с револьвером, прицелился в полицейского. Все это произошло столь молниеносно, что Жак не успел остановить друга, способного на самый что ни на есть отчаянный поступок, чреватый для них обоих ужасными последствиями. Его превосходительство начальник полиции, нырнув с искаженным от страха лицом за спинку скамьи, крикнул из своего убежища: — Огонь по ним обоим! Солдаты с шумом вскинули винтовки. И в это время раздался оглушительный гром, потрясший тюрьму до самого основания — так что с потолка посыпалась известка, а по толстым каменным стенам расползлись в разных направлениях глубокие трещины. Жак, убедившись, что ему не под силу оттащить Жюльена от решетки, в которую тот вцепился свободной рукой, гордо встал рядом с ним, чтобы погибнуть вместе с другом. Увидев, что взрыв не причинил им ни малейшего вреда, французы радостно вскрикнули. К счастью, солдаты, не менее удивленные, чем узники, но гораздо более напуганные, чем они, не успели разрядить свои ружья. В смятении носились они по залу, пока всеми ими не овладела мрачная оторопь. Прогремел еще один взрыв, и тотчас в коридоре послышались быстрые, но размеренные шаги, а затем — произносившиеся на иностранном языке одна за другой короткие команды, сопровождаемые бряцанием металла. Дверь в залу с шумом распахнулась, и до заключенных ясно донесся отдававший команды голос, не заглушаемый теперь стенами и громко звучавший в просторной зале, где стояли испуганные насмерть солдаты и сидели на своих местах парализованные ужасом начальник полиции и писарь-протоколист. Жак и Жюльен не поверили своим ушам, когда услышали отданный на чистейшем английском языке приказ, которому было бы бессмысленно сопротивляться: — Бросай оружие! Вы взяты в плен! Каждый, кто не подчинится моему распоряжению, будет расстрелян на месте!
ГЛАВА 15
Преступные замыслы правителей, оказавшихся в затруднительном положении. — В поисках агентств пароходных компаний. — Участливый консул. — Под защитой английского флага. — Письмо государственного секретаря. — Решительность официального представителя Англии. — Пароход «Шотландия». — Консул ее величества королевы Великобритании — в бочке! — Командир корвета. — Приготовления к бою. — Ультиматум[638]. — Власти в замешательстве. — Десятиминутная отсрочка. — Пушечный выстрел. — Закрытые ворота. — Динамит. — Вовремя отданный приказ.Военное командование, призванное защищать Трухильо, но не способное в силу ряда причин выполнить свой долг, чувствуя, что вот-вот вспыхнет бунт, и не имея ничего, чем можно было бы смягчить горечь, содержавшуюся в печальных известиях с театра военных действий, решило, если вы помните, покончить с двумя французами вне зависимости от того, виновны они или нет. Обвиненные разъяренным народом в некомпетентности, следствием чего явились бесконечные поражения, горе-полководцы, понимая, что под сомнение ставится их честь и что занимаемое ими высокое положение день ото дня становится все более шатким, вознамерились, отдав на суд толпы так называемых шпионов, разрядить обстановку и вернуть себе былой авторитет. Для особ, охотно эксплуатирующих чужие предрассудки, это был наиболее простой и к тому же безопасный шаг, позволявший, за неимением лучшего, обратиться к соотечественникам со следующими словами: «Теперь вы сами видите, как мы печемся о вас и что наше чутье, никогда не подводящее нас, блестяще служит отчизне!.. Отныне каждому ясно, сколь глубоко вы в нас ошибались!» Короче, экзекуция, превращенная в грандиозный спектакль, была для сих военачальников равносильна победе на поле боя, хотя и не наносила ни малейшего ущерба чилийцам. Однако эти лицедеи[639] не были настолько безрассудны, чтобы полностью исключать возможность того, что в не столь отдаленном будущем им придется ответить за свое преступление. Стремясь всячески сохранить мундиры незапятнанными и не испытывая при этом ни малейшего желания оплачивать в случае провала гнусного замысла разбитые горшки, они задались целью заставить сознаться французских путешественников если и не в их виновности, то, по крайней мере, в своем американском происхождении. Стоило бы графу де Клене и Жаку Арно, в груди которых все горело от непереносимой жажды, согласиться признать за стакан воды, что они — янки, как им сразу бы отказали в свидании с официальными представителями Франции и тотчас же произвели новое расследование с заранее известным результатом: смерть — и без промедления! Поскольку же, как говорится, цель оправдывает средства, негодяи не преминули прибегнуть к столь распространенной в испано-американских республиках пытке — безобидной и нелепой на первый взгляд, но в действительности крайне мучительной. Пока разыгрывался этот безобразный фарс[640], в Лиму был отправлен сухопутным путем курьер с тем расчетом, что, когда он прибудет в место назначения, дело уже завершится, и если даже представители Франции приложат все необходимые усилия и для спасения своих соотечественников пошлют вооруженный корабль, они не найдут и следов их трупов. Конечно, от местного руководства потребуют объяснения. Однако перуанские власти, сославшись на признание обвиняемых, ответят: «Эти люди — американские авантюристы, а вовсе не французы: взгляните на их заявление». Примерно в таком духе размышлял Жюльен, когда он узнал о том, что их лишают слуги, и, исходя из этих предположений, он, воспользовавшись освобождением Эстебана, проинструктировал его, каким образом тот смог бы помочь им расстроить козни злоумышленников. Первое, что должен был сделать метис, — это сесть в Трухильо на корабль и морем добраться до Лимы: если всадник сможет достичь столицы Перу не меньше чем за неделю, то пассажиру парохода достаточно для этого двадцати восьми часов, тем более что между двумя указанными городами регулярно курсируют суда двух компаний — французской трансатлантической и американской. Эстебан, преданный своим хозяевам, немедленно отправился в Салаверри, служивший для Трухильо портом, и приступил там к поискам пароходных агентств. Город находился в процессе застройки, и метис увидел больше фанерных бараков, нежели обычных домов. Естественно, взгляд его задержался на здании, стоявшем у реки и выгодно отличавшемся от остальных. Негры только что водрузили над ним довольно высокую мачту с развевавшимся на ней флагом, похожим на те, что, как помнилось верному слуге, он видел на консульствах в Кито и Гуаякиле. Зная, что служащие этих учреждений выполняют иногда и функции агентов морских компаний, молодой человек смело вошел через широко открытую дверь в помещение, никем не охраняемое. За столом, заваленным бумагами, сидел в рубашке с закатанными рукавами внушительного сложения человек, покуривая сигару с приятным запахом и потягивая через соломинку какой-то напиток. — Что вам угодно, юноша? — спросил он с тем веселым добродушием, которое обычно являет собой счастливую привилегию лишь людей полных. — Мне нужно отправиться французским или американским пароходом в Лиму, — робко ответил метис. — В таком случае вы ошиблись домом, дорогой мой… Это не морское агентство, а английское консульство… обосновавшееся здесь только вчера. Эстебан вежливо извинился, толстяк же продолжал: — Ничего страшного… Скажите-ка, а вы очень спешите в Лиму? — Да, господин, очень! — Эх, приятель, вам так не повезло! Американский пакетбот ушел позавчера, а французский пароход придет не раньше чем через две недели. На лице метиса было написано такое горе, что толстяк, проникшись к нему состраданием, вместо того чтобы выпроводить его, спросил молодого человека, не смог бы он хоть чем-то помочь бедняге. — Ах, господин, — разразился рыданиями славный малый, — мои хозяева погибли! — Ваши хозяева?.. — Да, господин, два французских путешественника… Перуанцы держат моих хозяев в тюрьме, где их ждет верная смерть! — Так-так!.. Французы, значит… Расскажите-ка мне о них: хоть я и англичанин, но меня это заинтересовало — не только с чисто человеческих позиций, но и с точки зрения соблюдения цивилизованными нациями международного права. Эстебан подробно поведал участливому консулу об истории своих взаимоотношений с Жаком Арно и Жюльеном де Клене, о цели совершаемого его хозяевами путешествия, об их встрече в поезде с полицейским, об аресте французов по ошибке или же по злому умыслу и о той миссии, с которой он был послан в Лиму. Англичанин слушал его не прерывая, потягивая напиток и покуривая ароматическую сигару. — Это все? — спросил он, когда метис закончил. — Да, господин, все. — У вас с собой письма, предназначенные его превосходительству послу Франции и его превосходительству адмиралу? — Да, господин. — Позвольте мне, как представителю его превосходительства посла Великобритании, а также полномочному и единственному официальному представителю европейских интересов в Трухильо, ознакомиться с ними. — Но, ваше превосходительство… — Я понимаю вашу щепетильность, однако, — добавил он, с гордостью показывая на флаг, развевающийся на мачте, — не забывайте, что доверенная вам корреспонденция находится под защитой английского знамени! — Я верю вам, ваше превосходительство, — проговорил Эстебан, на которого произвели сильное впечатление энергичное поведение англичанина и не менее энергичные слова, столь контрастировавшие с благодушной внешностью толстяка. — Вот эти письма, господин. Консул взял конверт, прочел надпись на нем и радостно воскликнул: — Вы умеете читать? — Немного. — Так поглядите на этот адрес. — Я не понимаю по-английски. — Это по-французски. — Французский тоже не знаю. — Здесь написано: «Его превосходительству послу Франции в Перу, а в случае его отсутствия — его превосходительству управляющему английской миссией». Поскольку я представляю здесь его превосходительство посла Великобритании, я вправе ознакомиться с содержанием письма, адресованного не только послу Франции, но и английскому дипломату, тем более что время не ждет. Консул вскрыл конверт и вынул оттуда несколько листов. Его взгляд упал на один из них, надписанный по-английски и с большой печатью внизу. Развернув бумагу и быстро пробежав содержавшийся в ней текст сверху донизу, до подписи, он вздрогнул, словно от удара электрическим током. — Дорогой юноша, вы принесли документ, которого нет ни у кого!.. Одного его достаточно, чтобы взлетел на воздух город и была разрушена целая провинция! Затем, не веря своим глазам, консул громко прочел, словно желая взять в свидетели Эстебана:
«Министрам, консулам и военачальникам ее величества королевы Великобритании — в Европе, Азии, Африке и обеих Америках Господа! Граф Жюльен де Клене, гражданин Франции, которому я вручаю это письмо, — ученый, посещающий с научными целями самые разные точки земного шара. Прошу оказывать ему всяческое содействие, как если бы он был подданным ее величества королевы Англии. Буду благодарен вам за все, что вы сделаете для него.— Понимаете? — взволнованно произнес англичанин. — Чем не повод, чтобы подвергнуть город бомбардировке? Дорогой мой юноша, мы спасем ваших хозяев! — Ах, господин! — воскликнул славный метис, плача, но теперь уже от радости. — Как вы добры! Да снизойдет на вас милость Божия! — Тут дело не в доброте, а в чувстве долга… Я обязан по приказу свыше немедленно оказать именем правительства ее величества королевы Англии помощь вашим хозяевам. Вы останетесь здесь, пока я буду принимать необходимые меры, сводящиеся к одному — к требованию их освобождения из-под ареста. — А если, господин, вам вдруг откажут? — Мне, представителю ее величества королевы? Да никогда! — Однако они могут осуществить свой замысел, и не отказывая вам: найдут какой-нибудь повод выиграть время, затем, как знать, возьмут да и отравят моих хозяев. Месье де Клене советовал мне не впадать в панику, но быть готовым ко всему. — Быть готовым ко всему, — повторил консул со своей добродушной улыбкой. — Месье де Клене какнельзя более прав… Менее чем через неделю мы сможем приступить к активным действиям, ибо я не ошибусь, в чем вы вскоре убедитесь, если скажу, что самое большее через четыре-пять дней сюда прибудет военный корабль ее величества королевы. И действительно, пятый день был на исходе, когда Эстебан, которого и день и ночь грызла неотвязная тревога, сбежал с верхушки скалы, где он поджидал английское судно, и пулей влетел в консульство. — Идет!.. Пароход! — Под чьим флагом? — спросил консул. — Не знаю… Кажется, на мачте — флаг ее величества королевы. Из-за гряды скал, протянувшейся вдоль берега, выглянул искусно оснащенный корабль и медленно пополз в поисках места, где можно было бы пристать. Над ним курился легкий дымок, на гафеле[641] бизань-мачты[642] гордо развевался английский военный стяг… — Ур-ра Англии! — звонким голосом воскликнул консул. — Именно этого судна я и ждал — корвета «Шотландия», ведомого сэром Колином Кэмпбеллом! Вы можете вместе со мной кричать «ура», дорогой юноша: я совершенно уверен, что ваши хозяева теперь спасены! В то время, как на корабле с точностью, свойственной военным морякам, совершались многочисленные операции, чтобы пришвартоваться, консул, трижды приспустив флаг, сообщил соотечественникам о своем присутствии, положил аккуратно полученные от Эстебана бумаги в жестяную, герметически закрывающуюся коробку и в сопровождении юноши отправился на пристань с намерением подняться на борт судна. — Придется воспользоваться спинами людей, ведь иначе ничего не выйдет, — прошептал он с комическим отчаянием. — Явиться на корабль вымоченным до костей из-за пребывания на этом проклятом плоту, где тебя черт знает как толкает и с которого, не ровен час, ты можешь быть в любой момент смыт волною, — все это выглядит со стороны довольно смешно. И в самом деле — официальный представитель ее величества королевы, и вдруг — в бочке! Однако долг превыше всего. Трагикомическая картина, которую наблюдали шесть дней тому назад Жак и Жюльен, повторилась — с той лишь разницей, что море на сей раз было более спокойно, и крупного телосложения англичанину не пришлось поэтому забиваться в свое вместилище столь глубоко, как тогдашним пассажирам. Но он все равно вымок с головы до ног, и, когда ступил на палубу, вокруг него образовалась лужа, что, впрочем, не помешало ему сохранять вид важный и преисполненный достоинства. Приблизившись к еще довольно молодому человеку в морской форме, стройному, высокому, светловолосому, голубоглазому, с лицом холодным, бесстрастным и бледным, консул радушно приветствовал его: — Имею честь засвидетельствовать сэру Колину Кэмпбеллу мое почтение! Это и был командир корабля. — Рад вас видеть, мистер Говит! С удовлетворением отмечаю, что вы уже освоились в этом негостеприимном краю. — В более негостеприимном, чем вы могли себе представить, сэр Колин! Я рассчитывал встретить здесь людей более или менее цивилизованных, а очутился среди дикарей. — Надеюсь, вам оказывали все же должное внимание, на которое вы вправе рассчитывать как английский подданный и представитель ее величества королевы Великобритании? — Несомненно… Однако… я был бы рад услышать, как рычат ваши пушки, и увидеть на берегу ваших моряков. — Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, — произнес ровным тоном капитан, однако в глубине его голубых глаз сверкнули молнии. — Я был бы вам очень обязан, если бы, прежде чем представить вам полный отчет, смог ознакомить вас с одной из бумаг, полученных мною шесть дней назад от славного юноши, поднявшегося вместе со мной на борт вашего судна. — Хорошо, соблаговолите дать мне ее. Командир «Шотландии», хотя и ничем не выказал охвативших его чувств, испытал при чтении письма, подписанного государственным секретарем, глубокое волнение: подобные документы бывают крайне редки и посему приобретают особо большую значимость в глазах людей избранных, коим они адресованы. — И этот джентльмен, — спросил сэр Колин Кэмпбелл, чьи бледные скулы слегка покраснели, — просит английского вмешательства, не так ли? — Да, командир. Находясь в отчаянном положении, как и его товарищ, он надеется на нашу помощь. — Ну что же, мистер Говит, через три часа они будут на свободе, если даже мне потребуется для этого сжечь город и погрести всех его жителей под обломками зданий!.. Черт подери, мне давно уже хочется преподать урок этим пустословам, которые за полгода прожужжали мне уши своей похвальбой и ложью. Я буду тем более счастлив ударить по перуанцам, что нам надо свести с ними старые счеты: они — наши должники еще с тысяча восемьсот шестьдесят шестого года…[643] А теперь, поскольку время не терпит, а береговая охрана как будто не торопится проверить мою документацию, я немедленно приступаю к подготовке к военным действиям. Если выдастся свободное время, вы сможете рассказать мне о чудовищном злоключении, выпавшем на долю того джентльмена… Лейтенант, выставьте знаки оповещения о наших далеко не мирных намерениях!.. Подайте сигнал боевой тревоги!.. Канониры[644] — по местам!.. Сорок морских пехотинцев — к высадке!.. На каждого — по двести патронов! — Но, командир, это же самое настоящее развязывание войны, без предварительного объявления ее! — Вы сами отнесете в город и вручите перуанским властям уведомление о возможности объявления им войны. Затем возвращайтесь в консульство, и, как только вы опустите ваш флаг, я открою огонь. — Ол райт! — А теперь рассказывайте, что там приключилось с тем беднягой. Беседа длилась пять-шесть минут. На судне между тем царило оживление, всегда предшествующее бою, и спустя короткое время корабль был приведен в состояние боевой готовности. Сэр Колин Кэмпбелл спустился к себе в каюту, где оставался с четверть часа. Когда же он снова поднялся на палубу, в руке у него было только что составленное послание, тотчас переданное им на предмет прочтения мистеру Говиту. Это был документ ультимативного содержания:Лорд Б.,государственный секретарь».
«Я, нижеподписавшийся, командир корвета «Шотландия», принадлежащего ее величеству королеве Великобритании и Ирландии, императрице Индии, уведомляю через консула ее величества королевы перуанские власти в Трухильо (Перу) о следующем: Если месье граф де Клене и Жак Арно, беспричинно арестованные вышеназванными перуанскими властями, не будут доставлены на борт моего корабля в течение ближайших трех часов, то есть до пяти часов по хронометру[645] корвета, то я, под чьим покровительством находятся подданные ее величества королевы Великобритании и кто призван защищать международные права представителей цивилизованных наций, предприму все меры для освобождения вышепоименованных господ, даже если мне придется применить для этого силу. Сия акция будет проведена мною без требований возмещения ущерба и выплаты репараций[646] потерпевшей стороной. Писано на борту корвета «Шотландия» 16 ноября 1879 года.— А теперь, дорогой мой Говит, дело за вами. Мои люди под командованием второго лейтенанта будут сопровождать вас. Слуга французских джентльменов покажет вам, где находится тюрьма — на тот случай, если власти не решат вопрос миром. Идите же, вам дается карт-бланш[647]. Морские пехотинцы, в восторге от этой вылазки, предоставлявшей, как им казалось, возможность поучаствовать в потасовке, бодро шагали вперед. Консулу не потребовалось много времени на то, чтобы заглянуть в свое учреждение и натянуть на себя форму, и через полтора часа после того, как он покинул корабль, англичане подошли к окраине Трухильо. Бравая группа людей в нарядном обмундировании, шествовавшая по улицам города с воинственным видом, несмотря на свою малочисленность, произвела на прохожих сильное впечатление, повергая их в страх. Узнав, что выдачи арестованных требовали англичане, прибывшие на военном корабле, отцы города, охваченные паникой, исчезли один за другим, так что найти их не представлялось возможным, и консул, тщетно пытавшийся собрать военачальников, дабы довести до их сведения ультиматум сэра Кэмпбелла, вынужден был ограничиться обществом начальника полиции, который, по всеобщему мнению, был не последняя спица в колеснице. Сей же служилый, личность ловкая и изворотливая, сославшись на то, что он не полномочен решать такие дела, попросил на раздумье полчаса, дабы выиграть время. Мистер Говит великодушно предоставил ему десять минут, остававшиеся до пяти часов. — Десять минут!.. Ну что ж, десять так десять! — коротко сказал полицейский и исчез из здания городского управления, где застал его представитель Англии. Эстебан, у которого все это время были ушки на макушке, увидел, что коварный перуанец направился в сторону тюрьмы. — Господин, — обратился он к консулу, — этот человек что-то замыслил, как бы не причинил он зла моим хозяевам. — Ваши опасения не лишены основания: у этого негодяя — лицо злодея. Однако кто мешает и нам пойти к тюрьме? Что вы скажете на это, лейтенант? — Полностью разделяю ваше мнение! — ответил офицер. Когда отряд морских пехотинцев подошел к массивным воротам мрачного здания, на городских часах пробило пять. Лейтенант с силой постучал в ворота рукоятью сабли, но тщетно. — Бесполезно, — сделал он вывод. — Их нам не откроют! — Пять часов! — вскричал мистер Говит. — Сэр Колин, наверное, заждался! И тут раздался грохот от пушечного выстрела, от которого содрогнулись все деревянные строения. — Командир — сама пунктуальность! — воскликнул консул. — А вот мы запаздываем что-то. Как бы нам сокрушить побыстрее дверь в крепость? — Это дело полминуты, — взглянув на часы, которые он держал в руке, произнес уверенным тоном лейтенант и подозвал одного из своих людей. Тот вытащил из ранца снабженный фитилем некий цилиндрический предмет сантиметров тридцати длиной и толщиной с кулак и передал его офицеру. Лейтенант велел всем отойти подальше, подложил цилиндр под дверь, зажег сигаретой фитиль и сказал мистеру Говиту, с интересом наблюдавшему за этими манипуляциями: — Сейчас увидите, что ничего не стоит превратить в крошево даже такие мощные ворота, коли есть динамит. Страшный взрыв разнес толстые деревянные створы в щепки. Путь был открыт. Пехотинцы, с лейтенантом во главе, бросились в зияющий проем, а затем, следуя за Эстебаном, направились к камере, где вынесли столько страданий ни в чем не повинные узники. Вот тогда-то офицер, услышав внезапно шум, поднятый перуанскими солдатами, готовившимися расстрелять французов прямо через решетку, кинулся в сопровождении своих моряков в зал судилища. — Бросай оружие! Вы взяты в плен! Каждый, кто не подчинится моему распоряжению, будет расстрелян на месте! — крикнул он громогласно. И вовремя!Командир корветасэр Колин КЭМПБЕЛЛ».
ГЛАВА 16
Тюремщик под конвоем. — Освобождение узников. — Утоление жажды. — Торжественная церемония. — Рассказ мистера Говита о передвижении в бочке. — Реквизиция[648] экипажа. — Триумфальное шествие. — Два часа на поиски багажа. — На борту корвета. — Обед. — Бешеный успех Жака Арно. — Многочисленные тосты. — Ночь на корабле. — Из Франции в Бразилию по морю. — Бортовая качка. — Освобождение от недуга. — Энтузиазм Жака. — И снова: из Парижа в Бразилию по суше. — Оставшаяся тысяча лье.Лейтенант немедленно разоружил перуанских солдат, которые, ошеломленные внезапным появлением английского десанта, и не думали сопротивляться. Начальник полиции, а заодно и монах — этот явный еретик, исполнявший обязанности писаря, — были взяты под стражу. — Пока мы не освободим наших французов, — сказал офицер, — эти двое побудут у нас в заложниках. — Ол райт! — важно ответствовал мистер Говит. Во время этой драматической сцены оба узника, протягивая сквозь прутья решетки ослабевшие руки, хриплыми, едва слышными голосами просили своих освободителей: — Воды!.. Воды!.. — Откройте дверь в их камеру, — распорядился лейтенант, и морские пехотинцы тотчас кинулись выполнять его приказ. На другом конце коридора послышались яростные ругательства. Это был Эстебан: отобрав бесцеремонно ружье у одного из перуанских вояк, он пустился на поиски черного тюремщика и, найдя его в глубине двора, повел, приставив штык к спине, к «апартаментам», в которых томились его хозяева. Надзиратель, обезумев от ужаса, с посеревшим лицом и вытаращенными глазами, передвигался с большим трудом, ибо страх парализовал его ноги. Метис же, полагая, что негр притворяется, подгонял его бранью и покалыванием штыком. — Открывай дверь, дрянь паршивая, а не то я пригвозжу тебя к стене! — скомандовал Эстебан, когда они подошли к камере. Видя, что мерзкий палач из-за дрожи в руках не в состоянии справиться с этим заданием, проводник вырвал у него связку ключей, отпер дверь и с шумом отворил ее. — Воды!.. Воды!.. — стенали несчастные французы. Два солдата бросились во двор, наполнили фляги водой из фонтана и бегом вернулись к заключенным. Жак и Жюльен, вырвавшись наконец из мучительного плена и с трудом произнеся одно лишь слово «спасибо!», с жадностью припали к сосудам с бесценной жидкостью, которую пили с неистовством диких животных, кое-как добравшихся во время засухи до вожделенного источника. Чем ужаснее испытанные страдания от жажды, тем быстрее сказывается живительная сила воды. И узники быстро пришли в себя под воздействием целительной влаги. — Спасибо!.. Спасибо нашим спасителям! — повторяли они, узнав английские мундиры. А затем последовал весьма типичный для англичан эпизод, подтвердивший лишний раз, что и в чрезвычайных обстоятельствах они остаются приверженцами соблюдения положенных формальностей. Словно не замечая драматичности обстановки, лейтенант молча вынул из ножен саблю и, почтительно склонившись перед Жаком и Жюльеном, указал церемониально на затянутого в мундир консула: — Мистер Ричард Говит, консул ее величества королевы Великобритании! Друзья поприветствовали его. — Сэр Эдмонд Брайтон, второй лейтенант корвета «Шотландия»! — произнес с уважением консул, повернувшись к офицеру. Жак и Жюльен поклонились и моряку, после чего поочередно, столь же торжественно, представили друг друга. По окончании ритуала все четверо обменялись энергичными рукопожатиями, причем англичане, как всегда в таких случаях, проявили столько сердечной теплоты, что у французов кровь прилила к рукам. — Мистер Говит, — молвил растроганно Жюльен, пожимая толстяку руку, — нам и не снилось, что нас так вот быстро освободит английский десант! Мы слов не находим, чтобы выразить вам свою благодарность. — О! — воскликнул, широко улыбаясь, толстяк. — Если бы вы только видели, как я выглядел в бочке, когда отправился на корвет! Право же, это было смешно! Понятно, моя супруга, миссис Говит, нашла бы подобный способ передвижения шокирующим, но зато обе наших мисс забавлялись бы от души, лицезрея своего отца в столь необычном положении! Да я и сам бы не прочь был полюбоваться собой в тот момент со стороны! Только тут наши друзья поняли, что это над семьей мистера Говита потешались они в тот раз, когда, стоя на пристани, наблюдали за разгрузкой судна. — Пора уходить, джентльмены! — заявил офицер, не в силах удержать улыбку при воспоминании о том, как и ему пришлось таким же точно экзотическим образом перебираться с судна на берег. Отряд тронулся в путь. Французы, чудом вырвавшиеся из чудовищного кошмара, идя в окружении моряков, едва передвигали ноги, ослабевшие за эти ужасные, преисполненные физическими и душевными муками дни. Фортуна[649] была обязана вознаградить друзей за перенесенные ими страдания, и она не замедлила выполнить то, что ей было положено. Едва бывшие узники со своими спасителями покинули стены тюрьмы, как их взору предстал роскошный открытый пароконный[650] экипаж, в котором восседал его превосходительство начальник полиции, разодетый, как на парад. — Черт побери! — воскликнул офицер. — Это как раз то, что нам нужно! — И предложил его превосходительству тоном человека из high life[651], который, находясь в завоеванной стране, не желает ждать: — Эй вы, слезайте! Его превосходительство полицеймейстер попробовал было, продолжая сидеть в коляске, отделаться от англичанина, ссылаясь на права человека вообще и собственника в частности, но лейтенант сделал знак своим людям, и его превосходительство, поднятое двумя парами сильных рук, беспомощно плюхнулось в дорожную пыль. Эстебан, решив внести свою лепту в общее дело, подскочил к экипажу и, дернув кучера за ногу, помог ему совершить великолепный кульбит, после чего, без церемоний заняв его место, взялся за вожжи с апломбом человека, который всю жизнь правил лошадьми. Сэр Брайтон, мистер Говит, Жак и Жюльен тотчас устроились, не мудрствуя лукаво, в коляске и, торжествуя в душе, взяли курс на Салаверри, в то время как жители Трухильо, напуганные появлением в их городе англичан, коих они сразу же узнали по мундирам, и боясь, что их постигнет участь начальника полиции и писаря, шествовавших с жалким видом в арьергарде[652] процессии, забаррикадировались в своих жилищах. Когда отряд подходил к зданию консульства, с моря донеслось мощное «ура!» — такое, какое могут исторгнуть из себя лишь громогласные английские глотки. Корвет, остававшийся под парами, развернулся к берегу бортом, ощетинившимся стволами артиллерийских орудий, нацеленных на город. Экипаж, приготовившийся к битве, испытывал некоторое сожаление в связи с относительно мирным разрешением конфликта. — Итак, месье, вам также предстоит побывать в бочке, — произнес, заразительно смеясь, мистер Говит, обращаясь к французам. — Ибо, я полагаю, вы захотите пожать руку командиру корвета сэру Колину Кэмпбеллу! — Но мы одеты скорее как разбойники, а не как честные, порядочные заключенные! — Не будем тратить лишних слов, господа, поскольку я твердо намерен незамедлительно доставить вас на судно: сэр Колин не простит мне ни минуты задержки. Однако где же он… ваш багаж?.. — Переведя взгляд на шефа полиции, бледного от испытанного им позора и дрожащего от страха, который стоял в окружении четверых вооруженных людей, он жестко произнес: — Вы должны знать, где их багаж, коль скоро этих джентльменов арестовали по вашему распоряжению! — Но, ваше превосходительство, — пробормотал перуанец, — я не знаю этого… — Не знаете?! Даю вам два часа на то, чтобы выяснить, где их вещи. Если же по прошествии указанного времени вы не разыщете багажа и не доставите его в целости и сохранности — вы слышите: в целости и сохранности! — то на город будет наложена контрибуция[653], и вы лично будете нести ответственность за ее выплату! И не пытайтесь скрыться: я из-под земли вас достану! В следующий раз вы будете знать, как следует обращаться с воистину культурными людьми, коли сами похваляетесь принадлежностью к культурному слою населения. Идите же, вы и ваш компаньон: я освобождаю вас из-под стражи. И не забывайте главного: мудрость начинается с трепетного уважения к английскому флагу! В порту между тем носильщики готовили бочки и плоты для доставки своих «клиентов» на борт корабля. Погода стояла хорошая, и волны не бились о берег с той неистовой силой, которая обычно весьма затрудняет транспортировку пассажиров. Менее чем в пять минут первый плот, на котором находились Жак, Жюльен, лейтенант, мистер Говит и четвертая часть отряда, подошел к трапу[654], спущенному с корвета. Мистер Говит устремился на корабль первым, сбросив макинтош, который он прихватил на ходу в консульстве, дабы уберечь мундир от сюрпризов моря. За ним последовали Жак и Жюльен, и уже потом — лейтенант. Офицер, дежуривший у трапа, провел их на корму к командиру судна. Капитан, завидев гостей, направился к ним навстречу. — Месье граф де Клене!.. Месье Арно!.. — произнес мистер Говит с предписываемой правилами этикета торжественностью и с сознанием важности выполняемого им долга. — Командир, — сказал Жюльен с отличавшим его достоинством истинного джентльмена, — прошу вас не сомневаться в безграничной благодарности двух французов, к чьей судьбе вы проявили такое участие, словно они были вашими соотечественниками… — Не будем говорить об этом, месье, — тепло прервал Жюльена капитан. — В этом краю, населенном полудикарями, все европейцы — соотечественники. Кроме того, имеется еще письмо лорда Б., содержание коего равносильно признанию вас английскими подданными… Но вы, конечно, очень устали… Сейчас вас отведут в ваши каюты, а затем, после отдыха, советую вам воздать должное ожидающему вас обеду. Слова эти были как нельзя более кстати: друзья буквально с ног валились после столь длительной пытки голодом и особенно жаждой и отсутствием настоящего, полноценного сна в ночные часы. Судовой врач, знавший об условиях, в которых содержались друзья в тюрьме на протяжении недели, прописал лечение, предусматривающее вкусные супы, перемежающиеся стаканами хереса. По прошествии часа наши французы почувствовали, как к ним возвращаются силы, и прошествовали в кают-компанию, куда капитан пригласил на обед в их честь весь командный состав. Офицеры говорили по-французски чисто, и Жак менее, чем Жюльен, искушенный в английском, смог свободно поддерживать беседу — впервые в своей жизни с моряками и к тому же на военном корабле. Обед продолжался невероятно долго, и Жак, вновь обретший прежнюю живость, имел бешеный успех, когда поведал об их одиссее, начиная с отъезда из Парижа и кончая тем моментом, когда они были подлым образом взяты под стражу и брошены в тюрьму перуанским полицейским. Засим последовала бесконечная череда тостов. Пили за ее величество королеву, за президента Французской Республики, за Англию, за содружество народов, за английский флот, за командира Кэмпбелла, за мистера Говита, за экипаж корвета… Тосты прерывались звонкими «ура!», к которым примешивалось «виват!» моряков и солдат: им выдали тройную порцию бренди, и они славили теперь на полубаке[655] освобожденных ими французов. В заключение Жак предложил поднять тост за предшественника отважных французов — лорда Кошрана, путешественника по суше, рассказ о котором вызвал настоящий ураган «ура!». Затем все разбрелись по своим каютам. Жак под мерное покачивание корабля заснул в один миг. Ему снилось, что он совершает путешествие из Франции в Бразилию… по морю, но почему-то через Суэцкий канал и Индийский океан. Преодолев, лежа на койке в каюте корвета «Шотландия», Тихий океан, он обогнул мыс Горн и после трехмесячного плавания был уже недалеко от Рио-де-Жанейро. С того момента, как судно вышло из Суэцкого канала, Жак ни разу не видел земли и, что еще более удивительно, совершенно не страдал от морской болезни. Когда он проснулся на следующее утро, то ощутил себя бодрым и здоровым. Оглядев каюту морского офицера, в которой провел ночь, он тотчас вспомнил все события минувшего дня: освобождение из тюрьмы, веселую трапезу, дружеские тосты… В это время в дверях появился Жюльен — в цивильном[656] костюме, с отдохнувшим лицом, таким свежим, как если бы он выходил из своей квартиры на бульваре Гуамана. — О, ты великолепен! — восторженно вскричал Жак. — Наши чемоданы доставили на судно еще вчера, когда мы обедали, и я решил немного привести себя в порядок перед завтраком. — Ха, мы и впрямь сегодня завтракаем! — Отъедимся и отопьемся за все дни заключения! — Слушай, Жюльен, знаешь, о чем я сейчас думаю? — Призна́юсь, что нет. — Мы стоим на якоре, не правда ли? — Ну да: корвет находится примерно в четырехстах метрах от берега. — То покачивание, которое я испытывал время от времени, лежа на койке, причем ноги порой поднимались аж выше головы, — это что, бортовая качка? — Без сомнения. Поскольку волна здесь сильная, то судно раскачивается. — В таком случае у меня должна была бы начаться морская болезнь. — Не думаю, что это так уж обязательно. — В общем, я не ощущаю ни малейших признаков морской болезни. Не знаю почему — то ли из-за сладких блюд в течение целой недели, то ли благодаря вчерашним тостам, — но только я освободился от этой хвори… Гип-гип, ура!.. — Ты прямо обезумел от радости! — Еще бы! И знаешь что? — Да? — Я был дьявольски глуп, что не отправился морем прямехонько из Бордо в Рио! — Это признание несколько запоздало. — Как славно, наверное, плыть на корабле! — Согласен, действительно — славно… — Только что мною было во сне совершено чуть ли не кругосветное путешествие морем, и никогда я не был так счастлив, как в тот момент… — Но что мешает нам погрузиться здесь на судно, идущее в Сан-Франциско, а затем перебраться на пароход, совершающий рейс до островов Фиджи[657] и Австралии? По прибытии в Мельбурн[658] мы пересядем на другой корабль и за короткое время пересечем Индийское и Красное моря, Суэцкий канал, Средиземное море и, одолев Атлантический океан, спокойно войдем в порт Рио-де-Жанейро. — Я как раз об этом и мечтал: проделать весь наш маршрут в противоположном направлении. — С чего это у тебя? — Самому неясно… Кажется, я начинаю понимать любовь моряков к соленой воде, хотя считал ранее подобную привязанность показной и противоестественной. — Только вчера ты поднимал тост в честь лорда Кошрана, пешего путешественника, а сегодня уже грезишь об океанских просторах!.. Друг мой Жак, вспомни, как еще совсем недавно тебе, непоколебимому стороннику оседлого образа жизни, мои дальние походы представлялись какой-то несуразицей… Но кто хоть раз вкусил радость путешествий, тем навсегда овладевает страсть к перемене мест… И неизвестно, что еще ожидает тебя впереди после этого первого в твоей жизни странствования… — Ну а пока что мы идем из Парижа в Бразилию пешком, и это уже само по себе довольно мило… Кстати, сколько нам еще добираться до Жаккари-Мирим? — Немногим более четырех тысяч километров. — Тысячу лье. На это потребуется три месяца. — Однако желательно проделать сей путь побыстрее. — А посему пора собираться в дорогу. — Мы можем отправиться сразу же после обеда, если не возражаешь. Попрощаемся с командиром корвета сэром Колином Кэмпбеллом, мистером Говитом и лейтенантом Брайтоном. Эти славные люди поймут нас и не станут сетовать на то, что нам пришлось так скоро отказаться от их гостеприимства. — Ты прав, время торопит. Тем более что Батлер со своим Бобом прибудут в Жаккари-Мирим гораздо раньше, чем мы. Признаюсь, мне не по душе, что эти негодяи без стеснения расположатся в моих апартаментах, улягутся в мою кровать и будут есть из моей посуды — после того, как они осмелятся, что особенно отвратительно, выдать себя за нас!
ГЛАВА 17
Прощание с друзьями-англичанами. — В Лиме. — Собор как место казни. — Каннибализм[659] в наши дни. — В отсутствие посла. — Трансандская железная дорога. — Мост из соломы. — Один из притоков Амазонки. — Озеро Титикака. — Оригинальное топливо для паровых машин. — Влияние пищеварения домашних животных на качество пищи. — На высоте четырех тысяч метров над уровнем моря. — Победа над морской болезнью. — Десагуадеро. — Прибытие в Чукисаку[660].Придерживаясь намеченной ими программы, друзья в тот же день покинули «Шотландию», несмотря на дружеские увещевания капитана сэра Колина Кэмпбелла, который уговаривал их провести на судне еще хотя бы несколько дней. Однако, как сказал Жак, они не могли терять ни минуты, и офицер, человек достойный, видя, что решение французов непоколебимо, пожелал, насколько это было в его власти, облегчить отважным людям их путь до Лимы. Конечно, его корвет мог бы доставить путешественников в указанный город за двадцать четыре часа, но в таком случае их странствование лишилось бы в какой-то мере героического ореола, обусловленного передвижением по суше. И поскольку сэр Кэмпбелл был слишком англичанином, чтобы поставить под сомнение сие оригинальное предприятие, заменив сто двадцать пять лье по трактам и тропам плаванием на морском судне, он ограничился тем, что подарил Жаку и Жюльену три чрезвычайно быстрых лошадки, якобы в возмещение понесенного ими ущерба, вооружил обоих землепроходцев, как и их слугу, до зубов и пожелал им доброго пути. Кроме того, моряк объявил перуанским властям, что на них лежит ответственность за безопасность троих людей и что, если с ними что-либо случится в дороге, соответствующие меры не заставят себя ждать. И три всадника, оставив на корвете слишком обременительный багаж, доставленный начальником полиции, и захватив с собой лишь самое необходимое, уложенное в чемоданы, устремились налегке в Лиму. Через пять дней упорного продвижения вперед по невероятно трудной дороге, пересекавшейся многочисленными реками, которые приходилось переходить вброд, а еще чаще переплывать, отряд достиг без особых происшествий столицы Перу. Поскольку друзья прибыли сюда не для того, чтобы восхищаться слишком уж часто воспеваемыми красотами этого города с населением в девяносто тысяч человек, с улицами, неизменно неуклюже обрывающимися под прямым углом, с памятниками, довольно интересными, когда на них смотришь издалека, но слишком перегруженными деталями сомнительного вкуса, то они не откладывая стали собираться в дальнейший путь — в Боливию. Однако, несмотря на поверхностное знакомство с Лимой, наши землепроходцы заметили все же, что город, обычно спокойный, охвачен волнением как следствие того, что вести, приходившие с фронтов, были малоутешительны. Чилийцы, продолжая наступать, подходили все ближе и ближе, и, чтобы хоть как-то поддержать себя, горделивые столичные жители, разглагольствуя у своих низеньких домиков с плоскими крышами, упиваясь собственными словами, загораясь от лживых измышлений, распространяемых газетами, находившимися на службе у диктатора Никола Пьерола, распускали слухи о воображаемых успехах перуанского оружия и убеждали друг друга не более не менее как в близком разгроме врага под стенами их родного города! Слыша подобные пустые речи, Жюльен лишь пожимал плечами. Он хорошо знал чилийцев, а о перуанцах говорил Жаку: «Это народ легко возбудимый, болтливый и хвастливый, приводящий меня в отчаяние своим глупым тщеславием. Вместо того чтобы с достоинством воспринять жестокий урок, преподанный им чилийцами, откровенно заявить о причинах этих следующих одно за другим поражений, вполне закономерных, перестроить, уже на ином фундаменте, здание своей государственности, подтачиваемое их институтами власти, перуанцы горланят, вопят и грозят кулаком невидимому врагу, уподобляясь наказанным детям, которые орут и показывают язык — им, мол, ничего не страшно! — тому, кто задал им трепку. Или я здорово ошибаюсь, или они в скором времени потерпят такой крах, который будет означать конец определенной эпохе в жизни этого народа, обреченного на полную гибель, если только он не откажется от своих заблуждений». То были поистине пророческие слова, правоту коих вскоре подтвердили осада, а затем и захват Лимы после ожесточенных боев и постыдного бегства диктатора Пьерола, этого законченного образца фанфаронства и естественного порождения старой испано-американской школы. По пути в посольство Франции друзья прошли мимо знаменитого собора — величественного памятника культуры длиной в сто пятьдесят метров, увенчанного двумя башнями высотой в пятьдесят метров и обрамленного портиками[661] с многочисленными украшениями. — Знаешь, — сказал Жюльен, — вид этих двух башен напомнил мне одну страшную историю, которая после нашего с тобой злоключения в Трухильо лишь подкрепит вынесенное нами впечатление, что эти неуравновешенные люди, делающие все с чрезмерным пылом, способны дойти до абсурда. Я буду краток. Президент Республики Перу Балта был только что убит двумя узурпаторами — братьями Гуттьерез. Народ схватил этих безумцев и повесил их… Догадайся-ка, на чем? — Ну, думаю, на каком-нибудь фонарном столбе — классическом атрибуте подобного сорта операций. — Ты плохо знаешь перуанцев. Их вздернули на шпилях этих башен. — Для людей, которые стремились показать себя, обратить на себя внимание, — место не столь уж неудачное! — Это еще не все, — продолжал Жюльен, не задерживаясь на этом довольно мрачном комментарии. — После того как убийцы отдали Богу душу, веревки обрезали, и трупы распластались на церковной площади. — Бессмысленная жестокость! — Дослушай до конца… Обезумевшая толпа, разъяренная, опьяневшая от насилия, накинулась на обезображенные останки и растерзала их на куски… А затем горожане поджарили и обглодали человеческое мясо до костей!.. Старые негритянки сварили и затем высушили то, что ускользнуло от зубов этих каннибалов, и щепотки праха продали как сувениры в память об экзекуции, выполненной народным «правосудием» в Перу. — Ну и историю поведал ты мне! Это же просто антропофаги[662] какие-то, — произнес с отвращением Жак. — И этими антропофагами были вон те кабальеро, что прогуливаются сейчас в пончо, мягких сапогах и широкополых шляпах, а то и вовсе в европейской одежде! — Но со времени завоевания этого края испанцами прошло… три сотни лет… — Та же ужасная сцена произошла двадцать шестого июля тысяча восемьсот семьдесят второго года… Всего лишь семь с половиной лет тому назад. — Бр-р!.. У меня мурашки по коже побежали… То, как они кормили нас сладкими блюдами, — это еще цветочки! Вывод, сделанный Жаком, подвел черту под столь мрачной темой, тем более что друзья уже ступили на территорию посольства. Посла на месте не оказалось — они всегда отсутствуют, когда их ищешь, в чем автор сих строк не раз убеждался на собственном примере, — и посему их принял первый секретарь. Дипломат немало удивился, узнав о невероятном насилии, коему подверглись два его соотечественника. — Как?! — удивился Жюльен. — Вы не получили письма, которые должны были доставить вам из Трухильо?! — Впервые слышу о них. — Вот как!.. Тогда тем более мы должны благословлять сэра Колина Кэмпбелла, пришедшего нам на выручку… Но не стоит больше об этом говорить: главное — мы свободны… Мы рассчитываем уехать сегодня же, время нас поджимает. Но, перед тем как покинуть Лиму, нам хотелось бы проинформировать вас о попрании в этой стране прав человека — не столько для того, чтобы выразить свое возмущение, сколько для предотвращения повторения подобных случаев и в надежде на то, что полномочные представители Франции сумеют заставить перуанские власти с уважением относиться к чести и достоинству наших сограждан. В тот же вечер друзья сели в Орое в поезд — знаменитый трансандский экспресс, который, поднявшись сперва в Кордильеры на высоту в пятнадцать тысяч английских футов[663] над уровнем моря, движется затем все время под уклон и, пройдя примерно через тридцать мостов, возведенных над глубочайшими пропастями, и через сорок туннелей, проложенных сквозь сланец и кварц, заканчивает свой путь в городах Тарма и Хауха, чье значение, благодаря железной дороге, значительно возросло. В Тарме за умеренную цену путешественники купили у одного погонщика мулов трех животных под седло и одно — под поклажу. Друзья договорились с ним также, что он проводит их до Куско, километрах в пятистах от Тармы. Путешественники довольно быстро пересекли красивый маленький городок Тарму, расположенный на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря и являющийся одним из наиболее известных мест во всем мире, поскольку пребывание в нем рекомендовано больным чахоткой. В результате редкого и потому особенно ценного стечения обстоятельств довольно часто случается так, что больные, разъедаемые этой ужасной болезнью, выздоравливают, хотя недуг достиг уже второй и даже третьей степени. Согласно выводам известного медика доктора Журдане, который практиковал долгое время на высоких плато Кордильер и наблюдал многих больных, — а они живут в этом раю по два, а иногда и по три года, — смертельные исходы здесь носят единичный характер. Прибыв в Уанкайо, где кончается долина Харха, друзья отправились на следующий день в Алкучо, чудесный город с двадцатитысячным населением и обилием примечательных памятников: у его жителей какая-то непонятная любовь к скульптуре. На третий день путешественники перешли через речку Пампас, один из притоков Апуримака, по оригинальному навесному мосту — с настилом из огромной «скатерти», сплетенной из соломенных кос, переночевали в Андоуайласе и не мешкая продолжили нелегкий путь: поднялись вверх по реке Пачачака — другому притоку Апуримака — и переправились на противоположный берег по великолепному каменному мосту, увенчанному аркой, построенной испанцами. А спустя еще какое-то время им пришлось пробираться по узким тропинкам, проложенным самым причудливым образом по скалам, подмываемым снизу бурным, с грохотом несшимся через встававшие на его пути каменные глыбы потоком, спешившим влить свои воды в мощную Укаяли — один из наиболее крупных притоков Амазонки. То был Апуримак, который, как сообщил Жюльен Жаку, многие знаменитые географы считают верховьем великой Амазонки: сии ученые мужи полагают, и не без основания, что созерцаемую в данный момент нашими друзьями реку, превосходящую по протяженности Мараньон[664] и зарождающуюся в окрестностях Гуанако[665], следует рассматривать как начальный участок водного гиганта, удлиняющегося в результате этого на целых двести лье. Через два дня, первого декабря, небольшой отряд уже входил в Куско. Каким бы ни было происхождение этого довольно оригинального на вид города, построенного из гранита, песчаника, порфира[666] и других пород, отливающих серым, черным или голубым, и столь метко окрещенного месье Шарлем Вьенером Римом Южной Америки[667], французы решили здесь не останавливаться. Железная дорога, соединяющая сегодня Куско с Пуно, на берегу озера Титикака, тогда только строилась. Но, поскольку прокладка пути близилась к завершению, друзья возлагали определенные надежды на рабочие поезда, везущие материалы. Однако в тот день таковых не оказалось, и им пришлось воспользоваться, выложив довольно круглую сумму и ссылаясь на то, что они иностранцы и к тому же французы, тендером[668], который должен был отвезти одного инженера в Сикуани, расположенный на полпути, в ста двадцати километрах от Пуно. Пока все шло очень хорошо, и путешественники решили, добравшись до Сикуани безо всяких злоключений, и впредь нигде особенно не задерживаясь, столь же энергично продвигаться вперед, к конечной цели. Жюльен, распоряжавшийся финансами, предложил инженеру проехаться до Хулиаки, откуда более или менее регулярно ходили железнодорожные поезда в Пуно. Инженер живописал невероятные трудности, которые ожидают их в пути, но, благодаря солидной горсти серебряных монет, именуемых пиастрами, все в конце концов уладилось, и через три часа после прибытия в Хулиаку путешественники оказались в Пуно — крупном порту на озере Титикака. — Ну, дружок, — заявил Жюльен, — дальше мы поплывем! — Понятно… Просто смешно: плыть по какому-то озеру!.. — Зато подобное короткое плавание не привносит практически никаких изменений в наш сухопутный маршрут. — Когда отправляемся? — Ну… через минуту… Если я не ошибаюсь, вот-вот подаст свой голос корабль, которому суждено переправить нас в Боливию. — Скажи, а как высоко мы поднялись? — Коли мне не изменяет память, это место расположено на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря. — А… эти пароходы надежны? — Конечно. По озеру постоянно курсируют два драгоценных, изящных, как игрушки, судна-близнеца мощностью по десять лошадиных сил: «Явари» и «Япура». — Их здесь строили или они — пришельцы с Луны? — Корабли доставили сюда на мулах в разобранном виде североамериканские судостроители. Все детали были пронумерованы, чтобы не перепутать их, и вот теперь пароходы преспокойно плавают по Титикаке, облегчая связь между Перу и Боливией. — А уголь?.. Его тоже доставляют на мулах? Если так, то он должен стоить чертовски дорого! Жюльен рассмеялся. — Что здесь смешного? — Смех у меня вызвал вовсе не твой вопрос, вполне резонный. Просто я подумал о топливе для этих судов, по меньшей мере странном. Догадываешься, о чем я говорю? — Нет. — Я имею в виду высохшие экскременты[669] вигони, овец и лам, используемые в качестве топлива на высоких, лишенных древесной растительности плато. — Должно быть, оно очень эффективно? — Да, к тому же этот продукт нетрудно транспортировать, поскольку весит он немного. — Но ведь для этого необходимо иметь огромные стада упомянутых тобою животных и многочисленный персонал для сбора экскрементов, которых может оказаться и недостаточно для нужд пароходства. — Тут ты прав. Действительно, порой такого топлива не хватает. И однажды некий путник, которому предложили плохой обед, сославшись на то, что не на чем было приготовить еду, воскликнул: «Проклятая страна, где люди, чтобы поесть, должны ждать, когда скотина переварит пищу!» «Япура» прервал своим гудком беседу двух друзей, и те прошли на прелестный пароходик, причем Жак выглядел при этом совершенно безмятежно. Озеро, водная поверхность которого вспучивается порой довольно высокими волнами, на сей раз было сравнительно спокойно. Однако из-за ветров, дующих в Кордильерах, суденышко ввиду незначительных его размеров и легкости швыряло из стороны в сторону и то и дело подбрасывало вверх. На Жаке, впервые после своей неудачной попытки совершить водную прогулку из Гавра в Кан добровольно ступившем на борт корабля, — мы не упоминаем здесь кратковременное пребывание его на корвете «Шотландия», стоявшем на якоре, — постепенно стало сказываться совместное действие бортовой и килевой качки. Он побледнел, в висках застучало, к горлу подступила еле сдерживаемая тошнота, и затем… его вырвало. — Черт! — воскликнул он с юмором и одновременно сердито. — Кажется, мне никогда не избавиться от этой дурацкой болезни! Ну да ладно, поживем — увидим! Он начал переступать с ноги на ногу и потом зашагал взад-вперед по палубе, — насколько позволяли ееразмеры. Его усилия увенчались успехом: недуг почти отпустил его. Голова, правда, болела, но других неприятных ощущений он не испытывал. И нетрудно представить себе, с какой гордостью и триумфом путешественник по суше, закоренелый гидрофоб, одержавший победу над хворью, высадился вечером того же дня в маленьком прибрежном городишке Десагуадеро, неподалеку от моста через реку с тем же названием, служащую естественной границей между Перу и Боливией. — Браво! — поздравил Жака Жюльен, энергично пожимая ему руку. — Ты теперь окончательно сбросил с себя старую шкуру и блестяще дебютировал[670] в роли морского волка! — Ах, дружище, если бы ты только знал, чего это мне стоило! Однако, сам посуди, какова была бы мне цена, коли проклятая болезнь вновь сломила бы меня, и не где-нибудь, а в этом мини-океане и на борту игрушечного кораблика! Я во что бы то ни стало должен был выдержать схватку со своим старым недугом. — Ты просто молодец! Особенно если учесть, что мы находимся на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря и, следовательно, дышим разреженным воздухом. После ночи, проведенной в приозерном селении, друзья пустились в дальнейший путь в сопровождении индейцев, которые согласились за умеренную плату провезти всех троих — французов и метиса Эстебана — на плоту из переплетенных древесных ветвей — totora — вниз по течению Десагуадеро, вытекающего из озера Титикака и теряющегося в другом озере — Аульягас. Эта река, протяженностью триста километров, широкая и глубокая, бежит с севера на юго-восток со скоростью чуть ли не восьми километров в час. Добравшись за два дня и одну ночь до Аульягаса, путешественники пересекли его на суденышке с северо-запада на юго-восток, и еще через двое суток, пятого декабря 1879 года, прибыли, уже по суше, в Чукисаку.
ГЛАВА 18
Жак — сторонник плавания по рекам. — Густая речная сеть. — Путешествие по суше. — Из Чукисаки до реки Тукубака. — Переход через границу Бразилии. — Форт Албукерке. — Реки Парагвай и Парана. — Прибытие в Жаккари-Мирим. — Действительность, превзошедшая ожидания. — Управляющий в отъезде. — Причины, заставившие сеньора Кристобана отправиться во Францию. — В курительной комнате. — Встреча Жака со своим двойником. — Желание Жака во что бы то ни стало вычеркнуть имя полковника Батлера из списка живых. — Появление управляющего.Между Чукисакой, расположенной на 67°50′ западной долготы и 19°2′ южной широты, и фазендой Жаккари-Мирим, раскинувшейся по берегам реки того же названия, примерно на 49° западной долготы и 21°50′ южной широты, на территории двух бразильских провинций — Минас-Жераис и Сан-Паулу, по прямой — тысяча девятьсот километров. Однако, если учесть разные повороты и обходные дороги, обусловленные местным рельефом, это расстояние увеличивается на пятьсот километров, и, таким образом, нашим путешественникам в общей сложности предстояло пройти две тысячи четыреста километров. — Если у тебя крепкие ноги, верный глаз, отважное сердце и ты вынослив и испытываешь трудности с деньгами, без коих невозможны ни войны, ни путешествия, то тебе волей-неволей, вне зависимости от твоего местонахождения, придется покрывать за день не менее сорока километров, — заявил Жюльен. — Несомненно! — с важным видом подтвердил Жак. — А это значит, что мы будем проходить в день по десять лье. — Даже больше, если удастся! — Согласен! Десять лье — это минимум. — Сегодня у нас пятое декабря, следовательно, мы должны, если произведем простые арифметические подсчеты и абстрагируемся от крайних случаев, прибыть в мое будущее поместье шестого февраля тысяча восемьсот восьмидесятого года. — Совершенно верно. С учетом же непредвиденных обстоятельств, которые могут задержать нас в пути, мы окажемся там самое позднее двадцать первого того же месяца. — «Ол райт!», как говорят наши друзья-англичане… Кстати, ты уже до конца продумал маршрут последнего отрезка нашего пути? Ведь это вопрос очень важный! — Да, все дело теперь за твоим одобрением. — Ты же знаешь, я заранее голосую обеими руками «за»! — И тем не менее было бы совсем неплохо, если б ты ознакомился с моими планами. — Слушаю тебя. — Поскольку реки — это своего рода магистрали, которые сами несут путешественника, я предполагаю, насколько возможно, воспользоваться теми из них, которые текут в нужном нам направлении, тем более что дороги и тропы имеют там неприятную привычку то и дело петлять, заставляя несчастного землепроходца отмеривать лишние километры. — Ты здорово придумал! Молодец! Заставить реки нести нас к заданной цели — разве не замечательно! — В данном отношении сей регион исключительно благоприятен для нас: страны, через которые пролегает наш путь, обладают густой речной сетью, что позволит сократить приходящийся на сушу отрезок маршрута до немногим более пятисот пятидесяти километров. — Браво! — И наконец, чтобы счастье было совсем полным, эти пятьсот пятьдесят с небольшим километров мы пройдем в самом начале маршрута и без всяких помех. Таким образом, когда мы подойдем к первому водному пути, то сможем отослать наших помощников и мулов и уже одним отправиться в путешествие по рекам, сообщающимся между собой. — А большой эскорт будет сопровождать нас? — Да нет: слишком много людей — тоже плохо. Мы захватим с собой небольшую подвижную группу, способную преодолеть любые препятствия. Многочисленный отряд, к тому же состоящий из особ недисциплинированных, с которыми ты никак не можешь управиться, лишь вызывает тревогу и недовольство у местных жителей. Ну а несколько миролюбивых путешественников могут пройти где угодно, не возбуждая недоверия или чувства страха. — Полностью разделяю твое мнение. — Это обстоятельство тем более необходимо иметь в виду, что примерно в пятидесяти лье от Чукисаки мы вступаем на территорию большого индейского племени из группы гуарани[671]. Представители этого этноса вежливы, приветливы, трудолюбивы. Они обрабатывают землю и продвинулись далеко вперед по пути цивилизации. Так что с их стороны нам нечего опасаться. Я даже подумываю, а не обойтись ли нам двумя сопровождающими, которые, кстати, будут присматривать и за животными. Наше вооружение, — надеюсь, оно нам не понадобится, — состоит из трех великолепных карабинов-винчестеров и револьверов смит-вессон, подаренных нам сэром Кэмпбеллом. Походного снаряжения у нас вполне достаточно, провизии — тоже. Короче, нас ничто здесь не удерживает. — Тогда — в дорогу! Шестого декабря рано утром друзья покинули столицу Боливии — Чукисаку[672], даже не познакомившись с этим красивейшим городом, как он того заслуживает со всех точек зрения. Но ими владела лишь одна мысль — идти вперед во что бы то ни стало! Мы не будем следовать за ними шаг за шагом по этому обширному региону, куда они устремились со свойственной им энергией. Сопровождать их нам тем более ни к чему, что все дни походили один на другой. Отважные французы проходили километр за километром, и ничто не нарушало заданного ими самим себе монотонного ритма. Встав утром на заре, они сразу же выступали в поход и шли без остановок до десяти часов. С десяти до двух — привал, во время которого путешественники завтракали и отдыхали. С двух часов и до сумерек — снова дорога. А вечером они готовили ужин, стараясь при этом как можно экономнее расходовать запасы провизии. На ночлег наши землепроходцы обычно останавливались в небольшой индейской деревушке, состоявшей из нескольких хижин, а иногда и в поселке. Но порой, хотя и редко, им приходилось спать под открытым небом, а это не так-то весело в сезон дождей. В этом случае кроватью служил гамак, подвешенный между двумя деревьями, а крышей — кусок брезента, который до этого был приторочен свернутым в рулон к седлу мула, а теперь растягивался на веревках над походным ложем. В общем, получалось великолепное убежище, надежно защищавшее путников от легендарных тропических ливней. Покинув столицу Боливии, друзья прошли через городки Такопая и Пескада и деревни Акито и Сайпура и очутились в краю Чиригуано, жители которого — гуарани — оказались именно такими, как их обрисовал Жюльен. На девятый день наши французы вышли к болотцам, образуемым во время разливов реки Паранити, и, благополучно миновав эту опасную зону благодаря индейцу, проведшему их тропами, которые были известны лишь ему да его соплеменникам, на двенадцатый день достигли деревеньки Ротиха, расположившейся на берегу Тукубаки. На этом на какое-то время путешествие по суше закончилось. В среднем наши герои проходили немногим более сорока километров в день, так что за эти одиннадцать дней они одолели пятьсот семьдесят пять километров, отделяющих Чукисаку от первой судоходной реки. Французам удалось договориться с индейцами племени чикито, людьми веселыми, гостеприимными и приятными в общении, что те доставят их на своих лодках до старинной миссии Олидера у места впадения в Тукубаку ее притока Сан-Лоренцо. Верный Эстебан оказал своим хозяевам неоценимые услуги, выступив во время переговоров переводчиком, ибо он блестяще владел lingea geral — «основным языком», а точнее, одним из южноамериканских диалектов, на котором говорит большая часть индейцев, и особенно гуарани. Плавание, во время которого было пройдено триста километров, длилось неполных шесть дней, причем индейцы, ведшие свои утлые суденышки с лихостью заправских мореплавателей, не выказывали ни малейших признаков усталости. В Олидере наши путешественники распрощались с Тукубакой и прошли затем пятьдесят километров пешком — в сопровождении индейцев, которые, обратившись в добровольных носильщиков, привели их в Курумбу, первую встретившуюся им в дороге бразильскую деревню, расположенную на берегу Сан-Лоренцо на 60° западной долготы. Таким образом, на то, чтобы достичь границы Бразилии, друзьям потребовалось семнадцать дней. Они узнали от одного из проводников, где можно пополнить запасы продовольствия. Речь шла о форте Албукерке, в шестидесяти километрах к югу, там, где сливаются реки Сан-Лоренцо и Акидауана и несет свои воды Парагвай. Новые провожатые привели путешественников в бразильскую крепость. Комендант форта встретил их как нельзя лучше. Заметив удивление на лицах гостей при виде предложенного им щедрого угощения, столь неожиданного в этих диких краях, хозяин объяснил им любезно, что таким изобилием продуктов гарнизон обязан относительной близости Куябы[673]. Согласимся, и впрямь относительной, ибо до указанного пункта — около пятисот километров. Этот город — столица провинции Матто-Гроссо, насчитывающая тридцать тысяч жителей, — представляет собой странный экономический феномен, поскольку является центром оживленной торговли, хотя и расположен в четырехстах лье от ближайшего порта и связан с морским берегом лишь караванами, тратящими на путешествие туда и обратно около десяти месяцев. Однако, начиная от этого селения, река Куяба судоходна, по ней ходят небольшие пароходы и канонерки[674]. И поэтому бразильское правительство сочло возможным разместить здесь небольшой гарнизон. Счастье, улыбнувшееся наконец нашим друзьям после стольких трудных переходов, не поддается описанию. Дело в том, что комендант форта Албукерке собирался отправить на следующий день курьера, который круглый год доставляет в Рио-де-Жанейро корреспонденцию и золотую продукцию горнопромышленного округа Куябы. Это лицо, ввиду исключительного характера выполняемой им миссии, сопровождают двадцать солдат во главе с офицером. Отряд поднимается на пароходе вверх по течению Акидауны до местечка Сан-Жано, расположенного у истока этой реки. Там вся группа покидает судно и пешком преодолевает расстояние в сорок километров. Оставив позади бассейн Парагвая и перевалив через горную гряду, отделяющую его от бассейна реки Парана, солдаты с курьером прибывают в Порто-Кашоейра на берегу реки Аньянду-Уассу, где их уже ожидает суденышко. Кораблик спускается вниз по течению до Параны, а затем поднимается по ней до Рио-Гранде, берущей начало высоко в горах, затем по Рио-Пардо добирается до Мужи-Уасси, где начинается железная дорога, идущая в Рио-де-Жанейро через Сан-Паулу. Отметим попутно, что в пятидесяти пяти километрах от Мужи-Уасси в Рио-Пардо впадает справа река Жаккари-Мирим. Чтобы достичь места слияния двух водных потоков, нужно преодолеть от Албукерке примерно тысячу триста пятьдесят километров. Комендант крепости предложил Жаку, Жюльену и их слуге присоединиться к отряду, так что предстоявшее плавание на правительственном судне представлялось французам детской забавой. В сухое время года судоходство на бразильских реках нередко прерывается из-за их обмеления. Но друзьям повезло: обильные ливни на этих широтах не так давно наполнили реки, так что теперь они стали доступны для судов за исключением тех редких участков, где, как и на реках Канады, лодки и прочие легкие плавсредства приходится тащить волоком. Спустя месяц после отъезда из форта путешественники входили на небольшом баркасе[675] в русло реки, называвшейся так же, как и фазенда, — Жаккари-Мирим, готовые со свойственным им мужеством к борьбе как заключительному аккорду[676] грандиозной эпопеи[677]. Еще через два дня герои этого романа уже находились в двух километрах от фазенды. Таким образом, они проделали свой маршрут на тринадцать дней раньше, чем было намечено. Поместье представляло собой своего рода огромный муравейник, где сновали туда-сюда шумные, озабоченные группы черных, краснокожих и метисов — потомков от смешанных браков между неграми и индейцами, и реже — китайцы, молчаливые, часто перебиравшие при ходьбе ногами и с тяжелой ношей на спине. Впереди, насколько хватало глаз, протянулись просторные строения — galpones, с бамбуковыми стенами и крышами из листьев прекрасного маисового оттенка. Это складские помещения для хранения многочисленных тюков, доставленных сюда по железной дороге. Между строениями произрастали капустные пальмы[678] с тонкими и крепкими, как металлические балки, стволами, и великолепные банановые деревья, отягощенные спелыми плодами. Тут же стояло множество бочонков, полных сахара-сырца, ожидавшего дальнейшей обработки. Чуть поодаль расположились в один ряд чистенькие домики, окруженные садиками, полными цветов, где с радостными криками носилась детвора, не обращая внимание на жгучее солнце, опалявшее своими лучами каждого независимо от цвета его кожи. Здесь, несомненно, проживали рабочие. А еще дальше вздымались ввысь заводские трубы, выбрасывавшие время от времени облака дыма. Металлические устройства — мудрые творения рук человеческих — рычали, ревели, выли, тявкали, энергично перерабатывая дары земли. И наконец взору наших друзей предстало огромное здание — настоящий дворец, выстроенный в европейском стиле, но с учетом особенностей местного климата. Этот образец бразильского зодчества стоял на небольшой возвышенности, откуда видно было все поместье. Хотя Жак и Жюльен не отличались особой впечатлительностью и уже перевидали немало диковинок, тем не менее действительность настолько превзошла все ожидания, что они не находили слов, чтобы выразить свое восхищение. К охватившему путников изумлению примешивались и подчас горькие, а порой и дорогие их сердцу воспоминания о пройденных километрах, о нескончаемом переходе через сибирские снега, ледяные пустыни Аляски, залитые ослепительно ярким солнцем равнины Мексики, непролазные чащобы Колумбии, знойное побережье Тихого океана, негостеприимные Кордильеры, бескрайние пампасы, о перенесенных ими страданиях и тревогах и о нечеловеческих усилиях, в результате которых была достигнута цель. К отважным французам подошел какой-то человек и вернул их к действительности. Мамалюка, как называют тут метисов — полуиндейцев-полупортугальцев, в европейском одеянии, обвешанный цепями и драгоценностями, с кольцами на каждом пальце, приветливо улыбнулся им, прячась от солнца под зонтом: как только он узнал в незнакомцах европейцев, от его высокомерия не осталось и следа, а черты лица смягчились. Метис предложил путешественникам проводить их к одному из домов, где они смогли бы отдохнуть с дороги. — Вы управляющий? — спросил Жак. — Нет, ваше превосходительство. Сеньор Кристобан, управляющий, путешествует, я же его помощник. Но здесь хозяин… — Хозяин, вы сказали? Уж не ошиблись ли мы? Это действительно фазенда[679] Жаккари-Мирим, еще недавно принадлежавшая одному французу по имени Леонар Вуазен? — Да, ваше превосходительство, вы не ошиблись. — Он еще завещал все, чем владел, своему племяннику… — Да, вы правы, ваше превосходительство… Как раз из-за этого-то наследства и пустился в путь управляющий сеньор Кристобан. — То есть как? — А так: его превосходительство хозяин наш, дон Леонардо, оставил письмо, которое управляющий должен был вскрыть спустя год после его кончины — в том случае, если бы наследник не объявился. И поскольку наследник так и не объявился, письмо было вскрыто в означенный день. Оно предписывало управляющему отправиться на пароходе во Францию и во что бы то ни стало разыскать там племянника хозяина. И сеньор Кристобан отбыл с первым же судном. — Однако сейчас уже двадцать четвертое января тысяча восемьсот восьмидесятого года… — Мы и ждем его с часу на час. А между тем, пока он отсутствует, сюда приехал три недели тому назад, чтобы вступить во владение фазендой, дон Жак Арно. У него на руках завещание, по которому поместье должно перейти к нему, он выполнил все требования, предъявляемые в таком случае к лицу, претендующему на получение наследства, властями как в его стране, так и в Бразилии, и, кроме того, его сопровождал наделенный верховной властью судья. Ну и в результате всего этого он был признан законным наследником. — Прекрасно! — холодно ответил Жак. — Пусть нас к нему проводят. — Для меня будет честью самому проводить ваши превосходительства! Двойник Жака предавался послеполуденному отдыху в великолепной курительной комнате, открытой с той стороны, откуда дул бриз. Ловко соскочив с гамака, он направился навстречу посетителям. — Ага, полковник Батлер! — воскликнул громко Жак, не в силах сдерживаться. — Вы все время стоите на моем пути!.. Но сегодня, негодяй, вам не улизнуть от меня! Вы заплатите за все то зло, что причинили нам! Американец, на какой-то миг ошарашенный появлением двух французов, которые, как считал он, навеки погребены в лепрозории Бурро, вскоре вновь обрел хладнокровие. Этот человек крепкого сложения, сухой и желчный янки, всю свою энергию затрачивал на каждодневную битву с превратностями судьбы и посему привык к самым неожиданным ситуациям. — Не понимаю, — произнес он, притворяясь, будто впервые видит этих людей, — по какому праву осмеливаетесь вы являться сюда и к тому же еще оскорблять меня!.. Мигель, почему вы привели ко мне иностранцев, вооруженных как бандиты? — Но, ваше… — Довольно! Я вас выгоняю… — А я, — весьма кстати прервал американца Жак, — беру вас к себе на службу, так что вы ничего не потеряете… Что же касается вас, месье янки, вор, убийца и мошенник, то я поклялся при первой же встрече убить вас как бешеную собаку!.. Я дал эту клятву, сидя в мерзкой клоаке вместе с прокаженными… И вот пришло время исполнить ее. И когда я вычеркну ваше имя из списка живых, совесть моя будет чиста. Власти же этой страны лишь преисполнятся чувством благодарности ко мне, узнав, кто вы такой! — Ко мне! — заревел янки, не на шутку испугавшись, ибо Жак, смертельно бледный, уже начал заряжать карабин. В доме послышались крики, затем с улицы донесся топот копыт, смолкнувший у крыльца. Всадник, соскочив с коня, одним прыжком перемахнул через ступеньки и, влетев в курительную комнату, окинул взором всю сцену. — Бросайте оружие! — приказал он зычным голосом. — Я — управляющий Кристобан!
ГЛАВА 19
Двое претендентов на наследство. — Появление капитана Боба. — Увесистая пощечина. — Тревожные чувства полковника Батлера. — Бандиты капитана Боба. — Преступный замысел янки. — Домик на холме. — Трогательное воспоминание. — Дом в Монлуи. — Поразительное сходство. — Призыв к нападению. — Внезапный налет. — Четыре выстрела. — Неожиданная встреча. — Алексей и канадцы. — Сострадание к поверженному врагу. — Жажда. — Раскаяние и мольба о прощении.Управляющий, доверенное лицо покойного хозяина фазенды и исполнитель его последней воли, появился в момент поистине драматический. При виде Жака — настоящего — он радостно вскрикнул: — Это вы — племянник моего хозяина, месье Жак Арно? — Да, я, — степенно ответил Жак, чья ярость тут же улетучилась. — Не верьте ему! — возразил американец, успокоившийся благодаря присутствию любопытствующих слуг, теснившихся в дверном проеме. — Это авантюрист, которого никто здесь не знает… Бандит или сумасшедший… Разве вы не признаете меня прямым и законным наследником, согласно завещанию моего дяди, к тому же уже вступившим во владение в соответствии с решением властей этой страны? — Мне бы хотелось верить, месье, что вы тот, за кого себя выдаете, но ваша манера произносить французские слова по меньшей мере странна: выходцы с берегов Луары так не говорят… — Молчать, презренный! — оборвал его американец. — Вы здесь для того, чтобы исполнять мои приказы, а не обсуждать мой акцент! Управляющий побледнел, в его черных глазах сверкнули молнии. — Я — свободный человек, европеец по происхождению, — с достоинством произнес он, — и сейчас докажу это. Я представляю здесь того, кого больше нет в живых. Я был слугой лишь у него, у человека, удостоившего меня своей дружбы, и я сумею исполнить его последнюю волю… — Повторяю: молчать!.. Я — единственный тут хозяин!.. Прочь все отсюда, или я велю вас вышвырнуть! Тяжелые шаги в коридоре сотрясли заскрипевший паркет, задняя дверь отворилась, и в комнату ввалился гигант, одетый по-мавритански, с непокрытой головой и расстегнутым воротом. — Чуму на вас!.. Сайр… Жак… Поспать спокойно часок не даете!.. Так расшумелись, что даже не стало слышно гомона обезьян!.. Но тут, увидев Жака и Жюльена, он застыл как вкопанный, не в силах произнести ни слова. Жюльен, подойдя к нему, слегка коснулся его рукой: — Признавайтесь-ка, капитан Боб, раз ваш достойный компаньон, сэр Батлер, настаивает на том, чтобы называться Жаком Арно, то и вы, наверное, не прочь были бы влезть в мою шкуру?.. — В вашу шкуру?! — произнес, не двигаясь с места, великан. — В вашу шкуру?! Да я возьму и изничтожу ее! — Достойное джентльмена выражение! — невозмутимо заметил Жюльен. — Ладно, продолжаю. Вы конечно же величаете себя графом де Клене, не так ли? — Именно так! — зарычал гигант. — Здесь только один граф де Клене… И это — я! А тот, кто посмеет утверждать противоположное, он просто жалкий лгун! Едва пират произнес последнее слово, как получил увесистую пощечину. — Грабьте меня!.. Обворовывайте!.. Убивайте!.. Бросайте в зловонную клоаку, где гниют прокаженные!.. Делайте со мной что хотите, но не порочьте моего имени, слышите вы, мерзавцы?! Иначе я убью вас, как взбесившееся животное! — Вы мне сейчас заплатите за это! — взревел бандит. — Я с радостью заплачу и за это, и за многое другое! — Но что тут в конце концов происходит?! И кто эти наглецы, осмелившиеся возвышать голос и оскорблять нас в нашем же доме?! — Дело в том, — повернулся к капитану Бобу полковник Батлер, — что у нас хотят отобрать то, чем мы по праву владеем… — Кто? — Вот эти два авантюриста… — Ах, так? Да их надо просто вышвырнуть отсюда!.. Что, или у нас мало людей?.. Сила ведь на нашей стороне! — Речь идет не о силе, месье, а о праве, понятно? — оборвал морского волка управляющий. — Наследование имущества, принадлежавшего моему покойному и глубоко почитаемому мною хозяину, — дело весьма важное, и посему необходимо знать, кто именно имеет все основания стать правопреемником бывшего владельца поместья. — Что вы хотите этим сказать? — все еще высокомерно, но уже с оттенком беспокойства, спросил полковник. — А то, что нужно пройти последнее испытание, очень серьезное, из которого, я не сомневаюсь, месье выйдет с честью, — сказал сеньор Кристобан, указывая на Жака, которого он пожирал глазами. — Пусть так! — согласился янки. — Я подчиняюсь вашим требованиям, представляющимся мне по меньшей мере странными, исключительно ради выявления истины и для посрамления этих лжецов… Что вы собираетесь делать? — Обратиться за помощью к усопшему. — К чему эти мрачные шутки?.. — Я не шучу, поскольку речь идет о человеке, который любил меня как родного сына и чья воля для меня столь же священна, как если б она исходила от моего отца! — Вы взываете к воле ныне покойного человека, память о котором дорога и мне. Я так же, как и вы, с уважением отношусь к его решению. И посему делайте, как сочтете нужным! — В таком случае прошу всех пройти со мной на берег реки. Это недалеко, в пятистах метрах отсюда. — Охотно! — заявил Батлер, все более и более нервничая, так как понимал, что одной смелости или наглости может оказаться недостаточно. Оттеснив в угол капитана Боба, он шепнул: — Ваши молодцы уже здесь? — Да… Все до единого… Но они, как всегда, пьяны… — Тем лучше: не станут мешкать!.. Вооружите их до зубов… и следуйте за нами украдкой… А затем, по моему знаку, прикончите всех троих — и этих французов, и управляющего… Они должны исчезнуть… Да так, чтобы и следа от них не осталось, а не то мы погибли… Действуйте же! Все теперь зависит от вас… Этот сеньор Кристобан, может, и не догадался бы ни о чем, если бы не проклятые французы. По тому, как он смотрит на истинного Арно, чувствуется, что ему все ясно. — Можете рассчитывать на меня и моих храбрецов: провернем дельце как надо! — Отправляйтесь же, — сказал Батлер. — Мигуэль, прихватите с собой одного из ваших товарищей и идите вместе с нами, чтобы быть свидетелем того, что произойдет, — попросил управляющий своего помощника. Шестеро человек тронулись в путь двумя группами: первая состояла из Жака, Жюльена и управляющего, вторая — из полковника с двумя слугами по бокам. Шли они довольно быстро — сперва по мягко спускавшейся вниз аллее, затем — по благоухавшему цветами подлеску, где широко раскинули свои ветви пышные тропические растения, и через несколько минут оказались на берегу реки, омывавшей невысокий холм с покрытыми худосочным кустарником склонами. На самом верху возвышенности красовался хорошенький домик, построенный на европейский лад, — с зелеными ставнями, голубятней, незатейливым колодцем и двориком, в котором произрастали жимолость и тюльпаны. Жака охватило неописуемое волнение, тотчас разделенное с ним Жюльеном, не удержавшимся от крика удивления и радости. — Тише, умоляю вас! Это в ваших же интересах! — шепнул ему управляющий и затем обратился к американцу: — Месье, что вы можете сказать об этом здании? — Только то, что это хижина, за которую я не дал бы и пятисот долларов… Я не разделяю фантазии того, кто ее построил. — Сей дом… вам ничего не напоминает? — Сегодня — нет. Но завтра он напомнит мне о том, что сюда следует прислать рабочих, которые моментально снесут его. — Снести этот дом! — возмутился Жак. — Дом, который так похож на тот, на берегу Луары, в Монлуи, где выросли моя мать и мой дядя и где… протекало мое счастливое детство!.. Где я провел лучшие часы моей жизни!.. Мой дядя построил его в этом месте потому, что пригорок напоминает наш, на родине, и река у холма такая же капризная, как Луара… Здание — таких же размеров и из тех же материалов, что и тот… Глядя на него, дядя вспоминал о своей отчизне и своих близких… — И он почил здесь вечным сном, — изменившимся голосом произнес управляющий. — Именно тут покоится его прах, под цветами, за которыми, увы, никто не ухаживал с тех пор, как я уехал… А он так любил их, еще с тех пор, когда жил в Европе! — И каково теперь ваше решение? — грубо прервал его американец. — Пока я не принимаю никакого решения, а просто констатирую, что, хотя вы и выдаете себя за племянника месье Леонара Вуазена, родившегося во Франции, в Монлуи, департамент Эндр-и-Луара, в доме, как две капли воды похожем на этот, вы тем не менее не знаете ни Эндр-и-Луару, ни Монлуи, ни тот дом. Я отмечаю также, что вопреки предписанию, содержащемуся в письме человека, чьим наследником вы себя выставляете, вы почему-то не отдали должного его могиле. Но это еще не все. В маленьком домике, что вы видите перед собой, есть портрет, выполненный большим мастером, изобразившим моего покойного хозяина во весь рост еще в то время, когда ему было примерно столько же лет, сколько и этому месье, — указал сеньор Кристобан на Жака. — Месье так походит обликом на моего хозяина, каким запечатлел его художник на холсте, словно это с него писали картину. — Так вот что вы имели в виду, когда сказали, что собираетесь обратиться за помощью к усопшему! — иронично молвил американец. — Да, именно это… Точнее и не скажешь, ибо, как бы ни были вы наглы, вам не найти подтверждений своих лживых заверений! В густом кустарнике послышался шорох. — Мне наплевать на вас!.. Ибо обманщики и их пособник, которых я вижу перед собой, не смогут более помочь вам ни живыми, ни усопшими! — заявил американец и раскатисто закричал — Ко мне, Боб!.. Ко мне, морячки!.. Прикончите их!.. Смерть им всем!.. Смерть! Кусты зашевелились, и из них выскочили под предводительством старого пирата с дюжину головорезов, накинувшихся тотчас, как бешеные собаки, на четверку людей, из коих двое были безоружны. Нападение было столь внезапным, что французы не успели даже приготовиться к защите. Жак сразу же совершил грубейшую ошибку, швырнув в ноги капитана Боба свой карабин, в ответ на что морской волк, воздев вверх свою мощную длань[680], направил на противника опаснейшее оружие — огромный knife[681]. Жюльен тем временем отчаянно отбивался от четверых насевших на него бандитов. Дела наших друзей были как нельзя хуже, но тут со стороны дома раздалось четыре мощных выстрела, и над кущей садовых растений взвился легкий дымок. Капитан Боб, пораженный пулей, попавшей ему между глаз, тяжело повалился на Жака. Полковник Батлер сделал, шатаясь, четыре шага, потом упал на колени и попытался сдержать рукой кровь, фонтаном бившую из его груди. Двое из четырех пиратов, напавших на Жюльена, рухнули один на другого. — Мы уже три недели гоняемся за вами, мерзавцы! — раздалась громоподобная французская речь, и из зарослей вынырнул огромного роста мужчина, а следом за ним — еще два богатыря и некий человек далеко не столь могучего сложения. — Заряжайте ружья, ребята!.. Малыш Андре, не мешкай! Эти четверо, как гром с неба, обрушились на перепуганных до смерти злодеев, растерявшихся при виде гибели своих предводителей. — Бросайте оружие, разбойники, если не хотите на себе испытать, чего стоят две пары добрых канадских карабинов! — гаркнул гигант. — Перро! — изумился Жюльен, кидаясь навстречу канадцу. — Рады служить вам, месье! И от всего сердца… — И Алексей! — воскликнул Жюльен, узнав русского, который подбежал к ним, запыхавшись. — Месье Жак жив и здоров, — произнес Перро. — Уверен в этом: я вовремя всадил пулю куда надо… Этот боров осмелился навалиться на него! Подняв за ногу одной рукой тело капитана, он брезгливо швырнул его на середину дороги. Жак, освобожденный от прижавшей его к земле туши, под которой он буквально задыхался, радостно вскрикнул, узнав канадца. — Ау, славный мой Перро, я снова спасен вами! — бросился он в объятия бывшего траппера. — Да что вы, месье!.. Это пустяки… Эй, Эсташ!.. Эй, Малыш Андре!.. Эти мерзавцы оставили оружие, перед тем как удрать? — Да, брат. — Вот и отлично! А теперь, когда главное — позади, поздоровайтесь с господами. Жалобный стон, вырвавшийся из груди полковника Батлера, прервал восторженные возгласы. — Сразу видно, не я стрелял, а месье Алексей, — проворчал Перро. — В конце концов, это, может, и к лучшему. — И затем добавил: — Бедняга! Он был неплохим воякой, ей-богу!.. Черт возьми, не могу видеть, как он мучается! Эй, месье… месье… Это я, Перро Жозеф… Могу я что-нибудь сделать для вас? — Пить!.. — прохрипел раненый затухающим голосом. Перро бросился к реке, а Жак и Жюльен, приподняв полковника, прислонили его к дереву. У несчастного появилась на устах легкая улыбка, в которой смешались ирония и мягкость: за ним ухаживали люди, которые имели все основания смертельно ненавидеть его. — Вы очень добры, — пробормотал он. — У меня же никогда не было времени на проявление подобных чувств. — Вам нельзя говорить, — тихо сказал ему Жюльен, — вы должны беречь силы. — Зачем? Я уже свел счеты с жизнью. Для меня все кончено… Важно лишь, что… я ничего не украл… Пить… Тут как раз вернулся Перро с кожаной флягой, полной воды: — Возьмите, месье, и не держите ни на кого зла. Янки жадно припал к фляге. — Спасибо, — произнес он, не убирая с груди руку, закрывавшую рану. — А как Боб? — Он мертв, — ответил Жак. — Тем хуже… Я собирался просить вас проявить к нему милосердие… Поскольку его нет в живых, мне теперь уже ничто не мешает признаться, что я лгал управляющему… Я знаю, вы во благо употребите принадлежащее вам по праву наследство… Кажется, мне полегчало от этого признания… Я понял, что люди не так уж плохи, как думалось мне до сего дня… Месье де Клене!.. Месье Арно!.. Жизнь уходит от меня… Я не боюсь смерти… Но если вы скажете, что не питаете больше к нам, несчастным, ненависти из-за… лепрозория… — это было мерзко… не правда ли?.. — мне будет легче умереть… — И я лично, и друг мой Жак прощаем вас! — торжественно молвил Жюльен. — Благодарю! — прошептал раненый. Его дыхание прервалось, взгляд остыл, рот открылся. — Все кончено, — констатировал Перро. — Да покоится он в мире! — обнажая голову, произнес Жак.
ГЛАВА 20
Разгадка неожиданного появления на фазенде четверых друзей. — Горнопромышленники из Карибу. — Претворение в жизнь решения Алексея Богданова и братьев-канадцев отправиться в Жаккари-Мирим. — Усиленное наблюдение за бандитами. — Беспокойство Перро. — Афоризм[682] Жака. — Огромное состояние. — Управляющий имением как член семьи. — Сладкая жизнь. — Тоска по родине. — Отъезд в Европу. — Отношение Жака к вояжу через океан. — Волчий аппетит вместо морской болезни. — Буря. — Прибытие в Гавр. — В Париже два года спустя. — Посещение «Английского кафе», становящееся традицией. — Воспоминание Жака о начальном этапе странствования по суше.Каким бы неожиданным ни выглядело появление трех канадцев и русского в тот драматический момент, когда бандиты обрушились на наших друзей и управляющего имением, в действительности в нем не было ничего сверхъестественного или загадочного: вспомним о письмах Перро и Алексея, полученных в Кито Жаком и Жюльеном и извещавших французов о намерении горнопромышленников Карибу провести вчетвером зиму в Жаккари-Мирим. Когда из-за холодов работы на приисках приостановились, золотодобытчики решили привести в исполнение свой план. Покинув Британскую Колумбию, они сели в Нью-Вестминстере на первый же корабль, отправлявшийся в Сан-Франциско, а там пересели на судно, следовавшее в Рио-де-Жанейро. Этот американский пароход заходил во все порты на западном побережье Соединенных Штатов, Мексики и Южной Америки и, оставив позади Магелланов пролив, направлялся на север к столице Бразильской империи. Он останавливался, конечно же, и в Салаверри, в этом порту Трухильо, и представьте себе изумление Перро при виде полковника Батлера и его закадычного дружка капитана Боба, собиравшихся сесть на то же судно. Сразу же заподозрив благодаря своему нюху старого траппера что-то неладное, некий дьявольский умысел, канадец решил не показываться на глаза американцам, что было сделать совсем нетрудно: эти огромные лайнеры[683] являются, по сути, многолюдными плавающими городами. Однако Алексею, Эсташу и Малышу Андре, не знакомым лично с пройдохами-янки, не было никакой необходимости вести затворническую жизнь, которая вскоре осточертела бывалому охотнику. Когда пароход покидал Салаверри, Алексей узнал от дежурного на борту, что американцы направлялись туда же, куда и они, — в Рио-де-Жанейро. Известие об этом не на шутку встревожило Перро. «Какого черта понесло в Бразилию этих двух висельников? — не переставая спрашивал самого себя Перро, все более и более волнуясь. — Как знать, не собираются ли они расставить ловушку месье Арно и месье де Клене, когда те прибудут туда на заключительном этапе своего путешествия?» Но особое беспокойство благородный канадец французского происхождения ощутил после того, как по прошествии двух дней Алексей сообщил ему потрясающую новость: эти два новых попутчика заявили, будто их зовут месье Арно и месье де Клене. Посовещавшись, все четверо решили, что над янки необходимо установить неусыпный надзор, который, впрочем, мало что дал. Негодяи из предосторожности тщательно следили за каждым своим шагом. Хотя порой они и принимались разглагольствовать с таким апломбом, что невольно вызывали к себе уважительное отношение со стороны других пассажиров, в целом же их поведение можно было бы охарактеризовать как довольно скромное, что позволяло им не привлекать к себе особого внимания. Правда, янки не утерпели и намекнули одному-другому на огромное наследство, ожидающее «месье Арно» в Бразилии. Поскольку же в подробности Боб и Батлер не вдавались, цель их плавания оставалась для остальных покрытой некой тайной, проникнуть в которую не дозволено никому. После долгих размышлений Алексей и братья-канадцы сделали, казалось бы, единственно возможный в данных обстоятельствах вывод, сводившийся к тому, что фальшивый наследник и его компаньон, представляя себе примерно маршрут Жака и Жюльена, задумали опередить их, воспользовавшись морским путем, чтобы, прибыв в Жаккари-Мирим, попытаться войти в доверие к исполнителю завещания и, вступив в наикратчайший срок в права наследования, продать имение и скрыться с вырученными деньгами до появления в поместье настоящего наследника. Однако и русский и канадцы допустили в своих расчетах грубую ошибку: они не учли того, что, по мнению бандитов, законный претендент на наследство вместе со своим другом навсегда исчезли за страшными стенами лепрозория Бурро. Спустя четыре дня после отплытия судна из Салаверри четверо друзей оказались в Рио-де-Жанейро, завершив, таким образом, свое путешествие по морю, показавшееся им бесконечно долгим. Особенно тягостным оно было для Перро, вынужденного просидеть все это время в каюте, где он по нескольку раз на день посылал ко всем чертям проклятых янки, ставших невольно его тюремщиками. Как стало известно друзьям, проходимцы обнаглели до такой степени, что похвалялись перед бразильскими властями обладанием документом, долженствующим ввести их во владение огромным состоянием. Как мы уже знаем, лиходеи и в самом деле сумели соблюсти все формальности и, ловко обведя вокруг пальца чиновников, спокойно, не скрываясь более ни от кого, расположились в Жаккари-Мирим в качестве новых его хозяев. Алексей и братья-канадцы решили наблюдать незаметно за имением, пока туда не прибудут Жак и Жюльен, а этого ждать уже оставалось недолго, даже если принять во внимание возможные задержки в пути по тем или иным причинам. Устроившись прямо в лесу, друзья стали жить жизнью дикарей, невидимые для постороннего глаза, но сами не упускающие ничего важного. Затем спустя короткое время они перенесли свой наблюдательный пункт поближе к домику в европейском стиле: туда никто никогда не заходил, с холма же было видно далеко вокруг и отлично просматривался причал, к которому в любой момент могла подойти лодка с французами. Друзья рассудили, что, как только в Жаккари-Мирим прибудут Жак с Жюльеном, они сразу же вступят в схватку с мошенниками, и тут внезапная помощь им со стороны четырех их товарищей могла бы оказаться весьма кстати. Последующие события показали, что все произошло именно так, как и предполагали Алексей и братья-канадцы, и что лишь их своевременное вмешательство предотвратило гибель французов и управляющего имением. Читателю и самому нетрудно догадаться, что последовало за поражением бандитов. Сколь бы ни любили драматурги счастливую развязку сочиненных ими хитросплетений, в жизни все же благополучное, ко всеобщей радости, завершение наисложнейших перипетий случается куда чаще, чем на сцене театра. Действительность вновь подтвердила истинность слов, заключенных в излюбленном афоризме Жака Арно, ставшем его девизом, суть которого сводилась к тому, что нет ничего невозможного. После предсмертных признаний полковника Батлера Жак безо всяких проволочек вступил в права наследования имением Жаккари-Мирим. Управляющий Кристобан передал ему вместе с соответствующими документами, удостоверяющими права Жака как собственника, счета, которые были в столь абсолютном порядке, что к ним не смог бы придраться самый что ни на есть строгий бухгалтер. Жак стал миллионером. Причем миллионером, не знавшим, как распорядиться своим огромным состоянием. Свалившееся на него несметное богатство ни в коей мере не отразилось на его образе жизни. Человек непритязательный, противник всяческой роскоши и показухи и не любивший шума толпы, он поселился вскоре в домике на холме, напоминавшем ему точно такой же домишко на берегу Луары. Выбор подобного места для проживания был обусловлен в первую очередь тем, что именно здесь его дядя провел лучшие дни своей жизни, здесь же скончался и здесь нашла успокоение его душа. Само собой разумеется, половину своей новой обители Жак предложил Жюльену. Нет нужды говорить, что управляющий Кристобан, как и прежде, добросовестно исполнял роль deus ex machine[684] не только в центральной усадьбе, но и в других владениях Жаккари-Мирим. Старый хозяин любил его, словно родного сына, — и, как вы убедились сами, не без оснований, — и новый, протянув по-дружески верному служащему руку,понятно, сказал: — Считайте себя, как и раньше, членом нашей семьи! Большего этому славному человеку и не нужно было. После стольких наисложнейших перипетий потянулись безмятежные дни, когда все вокруг было напоено ничем не нарушаемым покоем, смягчающим понемногу память о былых страданиях и уравновешивающим взлеты и падения в жизни человека до такой степени, что тот начинает спрашивать себя в недоумении: «Неужто это я находился там-то в такой-то день и в таких-то условиях?» Жак буквально наслаждался непривычной для него сладкой жизнью, протекавшей на фоне чудесной тропической растительности. Обилие воздуха и солнца, приятный отдых в удобных, хорошо проветриваемых помещениях, дальние поездки по равнине и прогулки по таинственному девственному лесу преисполняли радостью владельца фазенды. Месяцы быстро следовали друг за другом. Оптимизм Жака, обаятельность Жюльена, благожелательность канадцев и исключительная эрудиция Алексея придавали особую прелесть совместному проживанию шестерых друзей. Однако в конце концов настало время, когда золотопромышленникам пора было возвращаться в Карибу. Дав слово снова посетить фазенду в следующем году, они сели в Рио на пароход, следовавший с заходом в порты Пернамбуку, Пара и Демерара в Колон, откуда поезд доставил их в Сан-Франциско. Расставание с Алексеем и братьями-канадцами было первым огорчением, испытанным Жаком и Жюльеном после того, как они обосновались в имении, и по отбытии «горных дел мастеров» французы ощутили одиночество. Прошли апрель, май, июнь, и Жак, покинувший Европу почти два года тому назад, стал поговаривать о дорогой его сердце отчизне и о родном Париже. — Признавайся-ка уж сразу, — улыбнулся Жюльен, — что тобой овладела ностальгия! — Это не совсем так, однако мне очень хотелось бы вновь увидеть великий город, в котором я жил как круглый дурак, будучи заурядным чинушей… Париж, истинный Париж — он куда мне милее, чем здешний девственный лес! — Город вскоре надоел бы тебе… — Может быть… И тем не менее я не прочь бы сорваться с насиженного места, встряхнуться немного и поразмять свои кости, одеревеневшие от долгого пребывания в тропиках. А затем, насладившись переменами, вновь вернуться сюда. — Будь по-твоему, в добрый час! Сегодня у нас восьмое июля, сможем же мы сесть на пароход лишь пятнадцатого августа. Тебя не смущает встреча с морской водой? — Я готов с нею свидеться хоть сейчас! — Ну что ж, в таком случае через пять недель отправляемся в путь! Жак не изменил своего решения. В назначенный день они с Жюльеном ступили на борт одного из великолепнейших кораблей трансатлантической пароходной компании, и пока Жак мужественно ждал отплытия, Жюльен занимался отправкой телеграмм в разные страны мира. Проревел гудок, гигантское судно качнулось, и Жак, с беспокойством наблюдавший за собой, почувствовал первые признаки морской болезни: в животе у него слегка заскребло, и он объявил… что умирает от голода. — Браво! — сказал Жюльен, удивляясь столь странному проявлению недуга, и спустился с другом в ресторанный зал. Жак, демонстрируя зверский аппетит, проглатывал буквально все и, соответственно, воздавал должное и напиткам. Затем, насытившись сверх всякой меры, проследовал в свою каюту без малейшего намека на тошноту, лег на койку и проспал двенадцать часов подряд. Разбудило же его чувство голода. Хотя корабль испытывал в открытом море и бортовую и килевую качку, подобные вещи уже не волновали Жака, как бы сделавшегося частью самого судна, и он, спокойно, словно был на земле, совершив тот же гастрономический подвиг, что и накануне, принялся расхаживать по каюте. Исцеление от недуга, от коего обычно страдают восемь десятых пассажиров, было полным и окончательным. Когда океан разбушевался, да так, что судно, следовавшее к берегам Африки, поневоле сбавило ход, не в силах противостоять ураганному ветру и высокой волне, большинство находившихся на борту людей вынуждены были запереться в своих каютах из-за сильного приступа морской болезни и даже у Жюльена началась мигрень, Жак по-прежнему сохранял ничем не омрачаемую невозмутимость человека, который ест и пьет в свое удовольствие, не испытывая при этом никаких проблем с пищеварением. Буря продолжалась двенадцать дней и двенадцать ночей, и ни разу за все это время вестибулярный аппарат[685] не подвел молодого человека. Пятнадцатого сентября, с опозданием на четверо суток, корабль прибыл наконец в Гавр, и в восемь часов вечера того же дня, через два года после начала их довольно беспокойного кругосветного путешествия, друзья сошли с поезда в Париже, на вокзале «Сен-Лазар». — И куда мы теперь отправимся? — спросил Жак. — В «Гранд-отель» или ко мне, в мою скромную обитель на улице Дюрантен? — Пошли в «Английское кафе», если ты не против! — Не возражаю, тем более что это становится у нас как бы традицией! Мы вволю посмеемся там над тем, как ловко осуществил ты мое похищение и впихнул меня два года назад, после роскошного обеда, в поезд, следовавший в Берлин. А заодно вспомним также, сколь нелегко дался нам начальный этап странствования по суше.
Конец третьей части




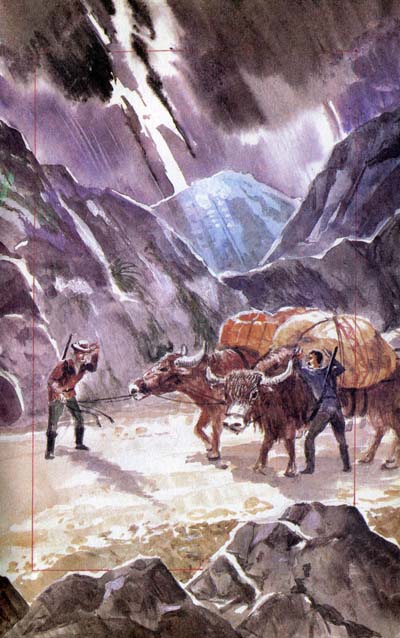


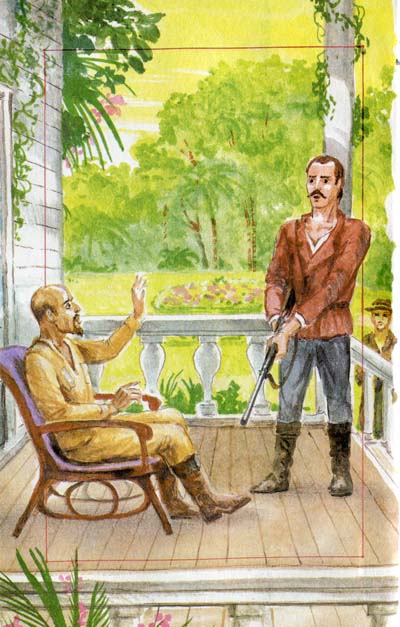
Эпилог
Если и есть на свете что-нибудь особо неприятное, так это металлический рык будильника, грубо нарушающий ваш сон. Неуемный, надрывный, мучительный трезвон буквально раздирает мозг и гонит прочь сладкую грезу, тут же замещаемую кошмарной прозой жизни со столь совершенно противоестественным проявлением ее, как принудительное пробуждение. Примерно так размышлял Жак Арно, когда, проснувшись поутру в своей квартирке на улице Дюрантен, он вновь увидел вокруг себя всевозможные, такие привычные и родные вещицы, расставленные в незыблемом порядке с придирчивой тщательностью, свойственной чинуше и закоренелому холостяку, и услышал хорошо знакомый настырный голос, в то время как заботливая женская рука протягивала ему ужасное питье из цикория и парижского молока. — Кофе для месье! — Подумать только! Но где же я?.. Как, тысяча бочек грома, это вы, Женевьева?.. Выходит, я действительно на улице Дюрантен?.. — Да, месье, — подтвердила старая гувернантка[686]. — А какой у нас сегодня день? — Шестнадцатое сентября, месье. — А вчера, значит… — Было пятнадцатое. — Я не то хочу сказать… У меня все в голове перепуталось… Вчера я высадился в Гавре!.. А приехал из Бразилии… Шестнадцатое сентября!.. Взгляд его упал на отрывной календарь, на котором красовалась выделенная крупным шрифтом цифра «15». Жак, не заботясь о присутствии Женевьевы, одним прыжком подскочил к календарю и голосом, полным неподдельного отчаяния, воскликнул: — Шестнадцатое сентября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года!.. Шестнадцатое сентября… тысяча восемьсот семьдесят восьмого года!.. То есть я за одну ночь как бы прожил два года… — Он начал торопливо одеваться. — В общем, мне лишь приснилось, будто я совершил грандиозное путешествие. Я же по-прежнему — канцелярская крыса, которая вот-вот вспрыгнет сейчас на империал[687] омнибуса, следующего до площади Пигаль, чтобы не опоздать в свою контору?.. Странствование вокруг света, арестантская колонна в Сибири, лагерь во льдах Хандыги, гостеприимный чум в стойбище чукчей, встреча с профессором Норденшельдом, схватка у островов Диомида, перелет на воздушном шаре через Аляску, золотые копи Карибу, братья-канадцы, Калифорния, полковник Батлер, знаменитый удар кулаком, Мексика, Панама, лепрозорий, Эквадор, Перу, капитан английского военного корабля, плавание по озеру Титикака, прибытие в Жаккари-Мирим и смертный бой, завершивший нашу одиссею, — неужели все это мне только пригрезилось?.. Нет, такого не может быть!.. И все же я на улице Дюрантен… А Женевьева, как всегда, приносит мне кофе с молоком именно в ту минуту, когда этот глупый инструмент, именуемый будильником, закончил наконец трезвонить… Но если то и в самом деле был сон, тогда почему же я помню все так отчетливо, в мельчайших деталях?.. Да и разве ощутил бы я, провалявшись всю ночь в кровати, тот заряд энергии, который буквально переполняет меня и может быть получен лишь тем, кто достаточно поболтался по морю и суше… Но факт остается фактом: сегодня у нас — шестнадцатое сентября… — Тысяча восемьсот восьмидесятого года! — закончил за него хорошо знакомый голос, прозвучавший у бесшумно открывшейся двери. — Добрый день, путешественник! — продолжал весело Жюльен, пропуская вперед высокого старика с правильными чертами лица и великолепной выправкой, хотя и чувствовалось, что неимоверные страдания надломили его и посему он как бы нес на себе печать неизгладимой тоски. — Мне не нужно представлять вас друг другу: вы познакомились при столь драматических обстоятельствах, которых ни за что не забыть… Жак с радостным криком бросился в объятия старца: — Полковник Михайлов!.. Наш спаситель!.. Я и мечтать не смел о таком!.. Слава Богу, вы свободны!.. Вы свободны!.. — Не совсем так: я ведь изгнанник, — ответил старик. — Свобода вдали от родины — это тюремное заключение, хотя и в облегченном варианте. — А вы знаете, полковник, что Алексей?.. — произнес Жак, но закончить фразу не успел. — Он перед вами! — воскликнул звонкий голос, и в комнату вошел молодой русский. — О! — воскликнул Жак, ошалевший от счастья. — Вы тоже здесь! Я думал, вы в Карибу, и вдруг вижу вас перед собой… Как это здорово!.. Теперь не хватает только братьев-канадцев! — Нет ничего невозможного, месье! И если вы хотите лицезреть людей, испытывающих дикий восторг от сознания того, что они ступили наконец на землю своих предков, то вот они — из плоти и крови! Тяжелые шаги протопали по полу, и Жак, все более изумляясь, увидел всех трех Перро, цветущих, жизнерадостных, в новых костюмах, делавших их похожими на преуспевающих фермеров из Нижней Нормандии. — Но ты созвал не всех наших друзей, — заметил Жюльену Жак, чье изумление сменилось вскоре бурной веселостью. — Не видно почему-то мистера Андерсона, буржуа из Нулато. Или он, может, прячется в данный момент в прихожей? — Вот письмо, в котором он дал мне знать, что ледоход на Юконе задержался в этом году из-за ужасных морозов на целый месяц. И так как у него не было воздушного шара, он не смог, следуя твоему примеру, переправиться через реку. А иначе он тоже был бы вместе с нами. Что же касается капитана «Шотландии», то сэр Колин Кэмпбелл прислал телеграмму, в которой приносит извинения за то, что не может присутствовать на дьявольски роскошном обеде, который ты закатишь сегодня. Я только что получил ее из Австралии. — Теперь мне все понятно! Вчера вечером ты воссоздал все, что предшествовало моему отъезду, но в противоположном порядке, ибо после обильной трапезы в «Английском кафе»… ты доставил меня не на вокзал, а ко мне на квартиру… — Где тебя целых два года ждала верная гувернантка. — Забавная шутка, сотворенная с помощью снотворного!.. Признаюсь, пробудившись, я испытал своего рода шок, когда представил вдруг, что я снова — канцелярская крыса! У меня голова пошла кругом, и я готов был отдать от огорчения Богу душу. К счастью, ты вовремя прибыл сюда с нашими друзьями — свидетелями того, что наше путешествие из Парижа в Бразилию по суше действительно состоялось!Конец

Луи Буссенар Адское ущелье
Пролог ВОССТАНИЕ «УГОЛЬКОВ»[1]
ГЛАВА 1
Солдаты поневоле. — Пролом. — Поручение. — Штурм. — Самоотверженность. — Предательство. — Его последствия. — Его жертвы. — Решающий момент. — Безнадежная борьба. — Продержаться четверть часа. — А потом?Раздался резкий звук рожка. — Огонь! Мощный выстрел из пушки заглушил сухие пулеметные очереди. Ветви взметнулись, словно их приподняло порывом ветра, предвещавшего грозу. Белая дымная пелена укрыла улицу и баррикаду на ней. Над поселком пронесся огненный смерч и обрушился на заграждение, сжигая сосновые бревна, выворачивая камни, дробя и сокрушая все на пути, калеча и убивая. — Смотри-ка, Луи, — заметил седой старик исполинского роста с неподражаемым выговором уроженца Боса[2],— сегодня нас удостоили пушек. Черт возьми! Идти на такие убытки ради дикарей! — Сомнительная честь, дорогой Батист, — добродушно откликнулся человек лет сорока, с живым открытым лицом, обрамленным густыми бакенбардами. — Разве можно достойно ответить, имея только ружья? — Брось! С таким командиром, как ты, наши славные ребята доберутся до самого дьявола, а может быть, и на этом не остановятся. Ведь ты — Луи Риль[3], а мы — твои «угольки»! Новый залп заставил Батиста умолкнуть. Баррикада, разбрасывая головешки, со скрипом осела. Трое из ее защитников безмолвно рухнули наземь. — Оставайся здесь, — бросил Луи Риль, — я поднимусь на колокольню, чтобы следить за атакой. — Послушай, будь осторожнее, нельзя так рисковать! Вчера только чудо спасло тебя… — Счастливо, Батист! — Последовало крепкое рукопожатие. — Самое опасное место здесь… Командуй! Ты отвечаешь за все! — Пока я на ногах, можешь положиться на меня, слово мужчины! Герой войны за независимость франко-канадских метисов, сохраняя величественную безмятежность, зашагал по улице под градом снарядов и осколков по направлению к деревенской церкви. Она была окружена зубчатой стеной кладбища только с одной стороны. Грохот не стихал ни на минуту. Батареи поочередно вступали в бой, на заграждение проливался сплошной огненный поток. Каждый удар пробивал новую брешь. Здесь укрывалось около ста человек. На первый взгляд они казались бесстрастными, но смуглые лица были искажены, а глаза сверкали от возбуждения. Их одежду составляли охотничьи куртки и штаны из оленьей кожи с бахромой, выделанной по обычаю индейцев. Большинство было вооружено автоматическими карабинами системы Винчестер — грозное оружие в умелых руках. Никаких знаков военного отличия — ни эполет, ни нашивок. Здесь каждый был солдатом, имея одинаковые карабины, револьверы или топоры. Но командирам подчинялись беспрекословно, ибо знали — истинные качества определяются не погонами. Благородные души с трудом мирились с вынужденным бездействием. Отвечать молчанием на удары — тяжелое испытание для смельчаков. Один из них, не выдержав, обратился к старику. — Эй, дружище Батист, долго мы еще будем загорать?.. Пушки английских еретиков[4] всего в шестидесяти метрах от нас… не пора ли заткнуть им глотку? — Согласен! Нужны добровольцы, меткие стрелки, чтобы подняться на крышу дома или на баррикаду. Проклятье! Там, наверху, должно быть, жарковато! Полсотни «угольков» разом выступили вперед, презрев летящие со всех сторон осколки. — Минуту! — хладнокровно промолвил Батист. — Большинство из вас — отцы семейств… Это дело для молодых! Достаточно шести проворных парней — по одному на пушку… И первыми я назначаю своих сыновей. Я уверен в их ловкости и меткости! Эй, Жан! Жак! Франсуа! Трое красивых юношей, совсем мальчиков, рослые — в отца — откликнулись по-военному: — Здесь! Они были погодками: Франсуа — не больше шестнадцати лет, Жаку — около семнадцати, Жану исполнилось восемнадцать. — Сами знаете, что делать. Пусть каждый выберет себе товарища, а затем пробирайтесь наверх и разнесите эти треклятые пушки вдребезги! Ну, ребятки, не мешкайте! Вперед! Юноши почувствовали скрытую ласку в словах старика. Готовые отдать жизнь за общее дело, они бросились к заграждению, оглашая улицу боевым кличем, с каким их предки-индейцы выходили на тропу войны. Увы! Катастрофа остановила мужественный порыв и одновременно поставила под угрозу оборону селения. Едва смельчаки целыми и невредимыми добрались до вершины баррикады, как мощный взрыв потряс громоздкое сооружение до основания. Баррикада дрогнула, покачнулась и рухнула, увлекая за собой юношей. — Предательство! — вскричал старый Батист. Сквозь густое облако дыма он видел лишь неясные очертания сыновей, которые беспомощно барахтались под обломками. — Предательство! Ко мне, «угольки»! Спасем их, если живы, и отомстим, если мертвы! Постепенно дым рассеивался. Посреди заграждения зияла огромная брешь, в которую вполне мог бы протиснуться не один смелый, решительный, хорошо вооруженный солдат. Орудия били без передышки. Теперь пролом держали под постоянным прицелом, и с каждым ударом он увеличивался. Ураганный огонь не давал метисам подобраться к бреши и восстановить разрушенное. Вдалеке колонны разворачивались для атаки. Фигуры солдат в мундирах стального цвета виднелись справа и слева среди цветущих фруктовых деревьев. Рожки трубили сигнал к штурму. Метисы кинулись к домам. Лишь несколько во главе с Батистом, не обращая внимания на рвущиеся вокруг снаряды, до крови обдирали руки, стараясь вытащить отважных юношей, — живые или мертвые, они покоились под обломками. Предательство! Слово, сказанное Батистом, переходило от одного к другому. Действительно, проход длиною не менее пяти метров мог быть делом рук только изменника. Узкий коридор начинался от углового дома с дверью, плотно заколоченной досками и замаскированной старым матрасом, набитым кукурузными листьями. До глубокой ночи метисы отражали атаки генерала Мидлтона. Скромное селение встало на пути тысячи хорошо обученных солдат английской регулярной армии. Батóш[5], оплот борьбы за независимость «угольков», как и в предыдущие дни, героически выдерживал осаду. В сумерках началось восстановление укреплений — примитивных, но внушительных. Снести дотла оборонительные сооружения не удалось ни карабинерам из Виннипега, ни гренадерам из Торонто, несмотря на троекратный отчаянный штурм. Бой продолжался. Баррикаду удалось укрепить заново, но силы оказались не равны: на одного метиса приходилось не менее трех солдат, причем лучше организованных и вооруженных. Но что же предатель, кто он? Негодяю придется держать ответ за свое преступление! Черт побери! Похоже, это владелец того самого углового дома Туссен… Ну да, Туссен Лебеф — торговец, что держал в Батоше небольшой рынок, где все жители запасались провизией. Человек не очень-то честный… Давал деньги в рост под не столь уж маленькие проценты и, как шептались, занимался контрабандой… Но ведь и такой приветливый, веселый, дружелюбный! Всегда был готов угостить трубочкой или поставить стаканчик! Кто бы мог подумать? Впрочем, быстрый взгляд его серых глаз, загадочная улыбка, таинственные исчезновения, весьма частые и продолжительные, не могли не настораживать. Да, но он сразу откликнулся на призыв командиров, показал себя пылким патриотом! Жена и дети его спали на матрасе, затыкавшем дыру. Хотя, возможно, разговоры о болезни младшего сынишки — ложь, необходимая, чтобы никто не трогал матрас, под которым Туссен копошился по ночам, точно крот. Вчера он увел семью из деревни, опасаясь за жену и детей… да и за кубышку, где хранилась выручка от торговли, подскочившая в пятнадцать раз с начала осады, деньги, нажитые ростовщичеством и предательством. С первыми залпами пушек он подпалил шнур, и теперь Батошу не продержаться. О, проклятый иуда! Но где же он прячется? Его видели здесь всего за четверть часа до взрыва. Реплики, возгласы, проклятия облетели улицу за несколько минут. Люди говорили одновременно, не обращая внимания на грохот. Раздался радостный возглас. Батист, разгребая с друзьями обломки, увидел наконец сыновей, они лежали скорчившись, тесно прижатые друг к другу, подмятые балкой, что спасла им жизнь, загородив от осколков. Братья тяжело дышали и звали на помощь. Работа закипела с новой силой. Спасатели оттаскивали бревна, отбрасывали доски и камни. Наконец Жана, Жака и Франсуа, окровавленных, контуженных и оглушенных, почти бездыханных, извлекли из ловушки. — Ну-ка, детки, — приговаривал Батист, откупоривая охотничью флягу, — поднимайтесь! Сейчас не время разлеживаться… Ну-ка, хлебните вот этого! Понемногу сознание возвращалось к юношам. Могучая природа взяла свое. Едва глотнув водки, они уже встали на ноги. — А наши товарищи? — Мертвы… Их друзьям не повезло: взрывная волна швырнула смертельно раненных смельчаков вперед. — Иуда заплатит нам за все! — сквозь зубы проговорил Батист. С момента взрыва прошло минут десять. Все это время снаряды рвались рядом с брешью, пули осыпали ее, мешая повстанцам выступить навстречу атакующим и облегчая врагам доступ к пробитому редуту. Внезапно пушки замолчали. По дороге, находившейся под прицелом артиллерийских орудий, двигались колонны солдат. Прозвучал сигнал, и они ринулись вперед, ломая ряды. С оглушительным криком «Ура!» враги ворвались на заграждение, но их встретило молчание. Англичане храбро шли навстречу опасности, готовые сразиться с чудовищем, ощерившимся штыками. Легкая победа заставляла насторожиться, и серые мундиры продвигались вперед осторожно, всякую минуту ожидая западни. Первые ряды атакующих рассыпались, и солдаты побежали вдоль домов, стараясь укрыться от пуль. — Огонь! Огонь! — надсадно кричал офицер во главе первого отряда, но вдруг тяжело рухнул с пробитой головой. Домá извергали потоки огня и дыма. Сухие отрывистые выстрелы заглушали сильный грохот. Из белой пелены вырвалось пламя. Люди в серых мундирах спотыкались, падали, корчась в конвульсиях, словно безумцы, и вопя, будто грешники в аду. В мгновение ока пятьдесят человек были расстреляны в упор из карабинов повстанцев. Это Батист, трое его сыновей и еще пятеро метисов, засев в доме Туссена Лебефа, открыли шквальный огонь. — Смелее, детки! — кричал старик. — Не жалейте патронов, цельтесь хорошенько! Бейте этих еретиков-инглизов![6] Смерть! Смерть собакам-еретикам! «Еретеки-инглизы» погибали, но не отступали. То и дело к ним прибывало подкрепление, а метисы уже почти израсходовали запас пуль. Карабины раскалились, их с трудом удерживали в руках. С каждой минутой положение осажденных ухудшалось. Требовалась передышка, хотя бы для того, чтобы перезарядить ружья. Еще немного, и круг сомкнется. Англичане, отчаявшись выгнать противников из домов, поджигали строения, чтобы выкурить осажденных или спалить их заживо. Ну а что же Луи Риль, наблюдавший за сражением с церковной колокольни? Командир «угольков» готовился действовать. Под его началом находилась сотня человек: они с тоской прислушивались к шуму сражения, до сих пор не принимая в нем участия. Неожиданно с противоположной стороны деревни донесся крик: «К бою!» Интуиция подсказала Луи Рилю, что главная опасность исходит именно оттуда. Генерал Мидлтон считался опытным воякой. Чтобы отвлечь внимание осажденных, он организовал ложную атаку с частой пальбой и громкими воплями. Сам же, обогнув селение, внезапно появился недалеко от церкви, рядом с зубчатой оградой кладбища. Одновременно прибежал посланец от Батиста и доложил командиру восставших о предательстве Туссена, о взрыве на баррикаде и о трагическом положении ее защитников. Батист просил помощи. Луи Риль разгадал план англичан. Измена Туссена уничтожила препятствие, о которое целых три дня разбивались их атаки. Части регулярной армии рано или поздно захватят дома, где обороняются Батист и его люди. И тогда Батош предстанет открытым с той стороны, а повстанцы в церкви, на площади и в обороне второй линии окажутся под двойным огнем. Обходной маневр генерала удался. Увы! Скверно сложились обстоятельства, и вождь «угольков» прекрасно это понимал. Батош падет впервые за всю свою историю, и причиной тому — предательство одного из франко-канадских метисов!
ГЛАВА 2
Гражданская война. — Знамя с геральдическими лилиями как революционная эмблема. — Угольки. — Луи Риль. — Осада Батоша. — Неожиданная идея Франсуа. — Клятва мести. — Отступление. — Как дикари обращаются с пленными. — Роковой выстрел.После невыносимо долгой и суровой зимы в Канаде впервые пахнуло теплом. Страшный мороз — он сковал реки до самого дна, дробил глыбы и раскалывал стволы деревьев — уступил место ранней жаркой весне, предвещавшей знойное лето. Еще 5 февраля 1885 года в Виннипеге, центральном городе провинции Манитоба[7], термометр показывал тридцать градусов ниже нуля. А ровно через три месяца воздух прогрелся до двадцати градусов тепла. Ледяная пустыня, казалось, навсегда укрытая под сверкающим однотонным саваном, преобразилась и ожила. Земля размякла, покрылась травой, растения распрямились и налились свежим соком, — словом, природа развернула роскошную мантию под лучами ласкового солнца. Прошло немного времени, и зацвели сады. На ветках распустились хрупкие венчики цветов; луга покрывались яркими синими, розовыми, желтыми пятнами. С резкими возбужденными криками гонялись друг за другом ласточки; без умолку стрекотали сороки и сойки; из Мексики прилетели колибри в нарядных рубиновых манишках, осыпав, словно яркими плодами, яблони, сливы, абрикосовые деревья. Но если природа праздновала пышную фиесту[8] в Манитобе — молодой, однако уже богатой провинции Канады, — то с людьми дело обстояло совсем иначе. Три дня среди весеннего цветения шли непрерывные сражения. В беспощадную борьбу между собой вступили братья, готовые истребить друг друга. Гражданская война — едва ли не худшее из бедствий — разоряла доселе мирную страну. …С юго-запада на северо-восток катила воды, еще мутные от таяния снегов, река шириной около ста двадцати метров. Примерно на 106° западнее гринвичского меридиана она чуть изгибалась по направлению к северу и, достигнув 52° и 30′ северной широты, упиралась в живописное селение, окруженное зубчатой стеной и укрепленное баррикадами. Река — Северный Саскачеван — впадала в озеро Виннипег, а деревня, населенная потомками франко-канадских колонистов, называлась Батош. Двенадцатое мая 1885 года стало страшным днем для потомков тех, кто родился в старой Франции. Батош, застроенный домами частично из камня, частично из толстых стволов деревьев, прочно скрепленных скобами, казалось, мог выдержать любой штурм. На западе деревню защищала река. Улицы были перегорожены баррикадами, устроенными по всем правилам фортификационной науки. Оборону держали черноволосые смуглые гиганты: их прозвали «угольками» за бронзовый цвет кожи и темные глаза. Метисы доказали свою отвагу, восстав под предводительством соплеменника Луи Риля, дабы защитить законные права, попранные британскими властями. Возмущение повстанцев произволом дошло, казалось, до предела. Они сменили национальный флаг. Над колокольней Батоша больше не развевался «Юнион Джек»[9]. Чтобы сильнее выразить протест против дерзких и гнусных притязаний, защитники деревни водрузили знамя с золотыми геральдическими лилиями — старинным гербом французских королей. Это был благородный стяг, овеянный славой Шамплена[10] и Монкальма[11], стяг провозвестников и мучеников борьбы за независимость Канады. Как символ героизма он свято почитался здешними французами. Это знамя напоминало восставшим — их завоеватели оскорбляли, именуя дикарями, истребляли, словно зверей, сгоняли с собственной земли — о далеких предках, тех, кто бесстрашно сражался во имя свободы. В километре от восточной окраины Батоша, где Луи Риль стоял на страже права и справедливости, раскинулся укрепленный лагерь армии английского генерала Мидлтона: здесь находились регулярные части — пехота и артиллерия, — а также ополченцы, набранные из конной полиции. Лагерь, опоясанный глубоким рвом и обнесенный высоким мощным частоколом, охраняли пушки, при них постоянно дежурили орудийные расчеты. На постах стояли удвоенные наряды. Конные патрули неустанно разъезжали по окрестностям деревни. Эта тяжкая сама по себе обязанность сулила и немалые опасности: восставшие, укрываясь в вырытых наспех окопчиках, обстреливали разведчиков и, оставаясь незамеченными, снимали часовых. В лагере с каждым днем становилось все больше раненых. Четырехтысячная[12] армия генерала Мидлтона собиралась с силами и кипела решимостью, помноженной на ярость. Ей было за что мстить: она понесла серьезные потери от противника, уступающего в численности, вооружении, дисциплинированности, — словом, от тех, кого английские колонисты и сочувствующие им газеты презрительно именовали дикарями. Накануне «дикари» с блеском отбросили части вражеского регулярного войска, уверенного, что Батош сдадут без боя. Кроме пехоты, артиллерии и кавалерии, в распоряжении генерала находился прекрасно оснащенный и вооруженный военный корабль «Норткоут». Поднявшись вверх по Саскачевану, судно принялось обстреливать Батош, что значительно усиливало возможности атакующих. Но ни отвага ополченцев, ни ярость регулярных частей, ни численное их превосходство, ни ураганный огонь парохода — ничто не могло сокрушить отчаянного сопротивления метисов. Более того, повстанцы умудрялись совершать налеты на отряды пехоты и орудийные расчеты, выбираясь из своих окопов под покровом сумерек. Меткие «угольки», засевшие на высоких берегах Саскачевана, выбили почти половину экипажа корабля и вынудили «Норткоут» покинуть театр военных действий. Повстанцы сумели оттеснить в поля и торонтских[13] гренадеров[14], и виннипегских карабинеров. Только с помощью нескольких пушек и пулемета Гатлинга[15] удалось остановить их бешеный натиск, и генералу Мидлтону удалось спастись от полного разгрома.
…Скажем несколько слов если не в оправдание, то хотя бы в объяснение братоубийственной войны, вспыхнувшей с новой силой 12 мая. В 1867 году сразу после объединения четырех провинций — Верхней и Нижней Канады, Новой Шотландии и Нового Брауншвейга — под общим именем Доминион[16] или Канада, некоторые министры юного государства, опекаемого Англией, приобрели земли Гудзонова залива площадью в семь тысяч квадратных километров. В 1870 году здесь обитало около двух тысяч белых, пятнадцать тысяч метисов и семьдесят тысяч индейцев. Потомки французских трапперов[17] и индейских скво[18], метисы населяли участки, наследуемые от отца к сыну, занимаясь земледелием и скотоводством. Никому не приходило в голову составлять опись своих владений, где все жили вольготно, никогда не покушаясь на чужую собственность. Но все изменилось с того момента, когда жители перешли в подчинение федеральному правительству[19] и получили извещения об утрате права на аренду земли. Хорошо известно, что в Канаде издавна существовала вражда между потомками английских и французских колонистов — победителей и побежденных. Взаимный антагонизм усугублялся религиозной рознью. Метисы северо-запада, или «угольки», оставались ярыми католиками. Они бережно хранили веру отцов, получив также в наследство французский язык столетней давности с его наивными оборотами и трогательными архаизмами[20]. Вовсе не дикари, как утверждали фанатичные протестанты Востока, а трудолюбивые пахари, достойные отцы семейств, они воспитывали многочисленное потомство в любви к Богу, стараясь передать детям рвение к работе и уважение к прошлому. Несмотря на это, власти отказывали им в праве быть добропорядочными гражданами нового государства, законными владельцами угодий по праву векового пользования. В них видели только людей низшего сорта, подлежащих изгнанию без особых формальностей. Для оранжистов[21] — они составляли большинство в правительстве — это оказалось удобным поводом удовлетворить свои национально-религиозные притязания и одновременно провернуть выгодную сделку. Английские землеустроители состряпали на скорую руку земельный кадастр[22], а как только метисы заговорили о своих правах, им с чисто британским высокомерием объявили, что закон, не имеющий названия, не имеет и силы. Сразу же с запада начали прибывать оранжисты из провинции Онтарио, и началось вытеснение исконных жителей! Протесты изгоняемых оказались тщетными, и тогда «угольки» восстали, выдвинув предводителем Луи Риля, метиса двадцати шести лет, бывшего ученика католической семинарии[23] в Монреале[24]. Англичанин полковник Уолсли подавил мятеж, однако вооруженное сопротивление подействовало на правительство — претензии метисов удовлетворили, бунтарей оправдали — настолько вопиющей предстала несправедливость. Мир длился несколько лет. Но плодородные земли северо-запада продолжали манить все новых переселенцев, что вскоре привело к серьезным столкновениям и жарким спорам о земельной собственности. Снова колонисты потребовали выселить метисов с плодородных земель и отправить в резервацию как кочующих индейцев, чуждых всякой «цивилизованности». Опять метисы обратились за помощью к своему защитнику Рилю, и тот снова откликнулся на зов. Ему вручили требования соплеменников, и Луи обратился к правительству, вступив в утомительные бесконечные переговоры. Похоже, что в сложной ситуации государственные мужи Канады спровоцировали «угольков», в чьи добродетели терпение никогда не входило. Столкновение оказалось неизбежным. В январе 1885 года, устав от многолетнего обмана, метисы взбунтовались и захватили в заложники представителей местных властей. Вынужденный прервать переговоры из-за этого злосчастного, чересчур поспешного выступления, Луи Риль поспешил к своим и в марте стал вождем повстанцев. Число их увеличивалось с каждым днем, и появление предводителя было встречено с энтузиазмом. Большой отряд бунтовщиков под началом Габриэля Димона заставил правительственного генерала Кроза покинуть форт Карлтон и окружил Бэтлфорд, главный город округа Саскачеван. Главнокомандующий Луи Риль укрепился в Батоше, чтобы в решающий момент соединиться с войсками Димона. Тем временем правительство и палата общин встревожились. Спешно выделили средства, генерал Мидлтон быстро собрал четырехтысячную армию и двинулся к центру военных действий, чтобы снять осаду с Бэтлфорда и захватить Батош. Страшные морозы остановили продвижение его армии. К тяготам суровой зимы прибавились постоянные набеги партизанских отрядов. Генералу пришлось стать на зимние квартиры в Фиш-Грик. Только в конце апреля военная кампания возобновилась. Мидлтон осадил Батош, предусмотрительно разбив возле него хорошо укрепленный военный лагерь. Девятого мая англичане предприняли атаку, но потерпели поражение. Столь же бесславной оказалась и вторая попытка на следующий день. Утром 12 мая готовился новый, решительный штурм.
…Луи Риль обратился к соплеменникам с речью, достойной героев Тацита:[25] «Сыны старой Франции, вы сражаетесь под знаменами ваших отцов… Будьте же достойны их и верны своему долгу». И метисы с героической простотой исполняли долг, пока не нашелся изменник, что нанес удар в спину и выдал своих братьев врагу. Предательство!.. Это зловещее слово звучало в ушах Луи Риля, когда он оценивал ситуацию хладнокровным взглядом опытного стратега. Он чувствовал, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Продолжать его любой ценой означало обречь свой народ на непоправимую катастрофу. Его люди готовы к жертвенному подвигу и будут сражаться до последнего. Но что дальше? Разве их смерть послужит делу, которое они с невероятной яростью защищают? Побледнев от скорби и бессильного гнева, он сдавленным голосом сказал посланцу Батиста: — Итак, все кончено… Надо отступать, пока не поздно, иначе ловушка захлопнется. Я отвечаю за людей и не желаю множить число вдов и сирот. Пусть будет проклято предательство! Возвращайся и скажи Батисту, чтобы он продержался еще четверть часа, а затем отходил к церкви. Через пять минут приказ дошел до защитников разрушенной баррикады, где сопротивление продолжалось со свирепой решимостью. — Прощай, Батист, — молвил в заключение гонец. — Что ты сказал? Прощай? — Когда я возвращался… меня ранило в грудь… если ты выберешься живым… поклянись, что отыщешь… хоть в самом аду… Туссена… который погубил нас… отомсти! — Клянусь! — Благодарю, — прошептал раненый, испуская дух. — Проклятье! Еще одним славным парнем меньше… Эй, берегись, малыш! — воскликнул Батист, с силой отшвырнув младшего сына, в которого прицелился карабинер. — Больше ты никого не убьешь! — вскричал Жак и, подскочив к солдату, снес ему голову топором. Жан, решив поберечь последние патроны, также выхватил из-за пояса орудие лесоруба и плотника. Старого Батиста, прижатого к стене, окружили четверо ополченцев в серых мундирах. — Сдавайся! — крикнул сержант. — Глупости! — проворчал Батист. — Только попробуй дотронуться до моего отца! — крикнул Жан, обрушив секиру на плечо сержанта. Франсуа, принятый солдатами за убитого, неожиданно вскочил. Те решили, что справиться с мальчишкой не составит особого труда, однако юнец с мощным торсом атлета без видимых усилий оттеснил врагов к дымящемуся дому. — Не двигаться! — приказал он. — Берешь в плен? — спросил отец. — Что ты задумал? — Есть одна идея, па… по-моему, неплохая! Жан и ты, Жак, хватайте их… Скорее, братья, медлить нельзя! В неразберихе стрельба утихла, и разгоряченные противники схватились врукопашную. Батист и его сыновья чудом избежали ранений, отделавшись в самых горячих схватках лишь царапинами, контузиями и ссадинами. Жак ухватился обеими руками за ствол вражеского карабина и резко рванул на себя. Солдат упал лицом вниз. Его подхватил молодой «уголек». Насмешливый по природе, он передал добычу брату: — Возьми, что бросил! — Хорошо! Троих хватит… — спокойно откликнулся Франсуа. — Луи Риль просил нас продержаться четверть часа, отец… Думаю, прошло даже больше… — Возможно, но нужно как следует прикинуть, — с сомнением произнес Батист. — Как скажете, па… но все отступают… оглянитесь, мы остались одни. Жан, взваливай на спину одного из пленных… Жак возьмет второго, а я — третьего… Вы, отец, пойдете впереди. Не обижайтесь, что я командую… Мы двинемся гуськом, как ходят индейцы. Старый Батист размышлял слишком долго. Если бы не дерзкая выдумка младшего сына, всех четверых уничтожила бы небольшая группа, наскоро сколоченная офицером. Но теперь никто не смел стрелять из опасения повредить солдатам, этим живым щитам — вполне надежным, хоть и несколько громоздким. Юноши рысью бежали за отцом, и им, казалось, нисколько не мешал дополнительный груз — англичане в полном вооружении. Добрались до церкви живыми и невредимыми. Луи Риль воспользовался передышкой и начал отводить войско к реке. Несмотря на отчаянное положение, метисы отступали в строгом порядке. Иллюзия сопротивления сохранялась, чтобы прикрыть маневр — настолько дерзкий в своей безнадежности, что генерал Мидлтон не обратил на него никакого внимания. Каменные дома превратились в крепости, и каждая из них требовала длительной осады. Деревянные же строения горели, и густой дым маскировал передвижения повстанцев. Уже большая часть «угольков» переправилась через реку, когда появились Батист и его сыновья с пленниками. Увидев серые мундиры, наиболее воинственные из метисов хотели разорвать врагов, расквитаться с ними за поражение. Солдаты, наслышанные о зверствах дикарей, в чьих руках оказались, ждали неминуемой смерти. Батист, заслонив их, произнес: — Эй, друзья, убивать пленных — варварство. Кроме того, это мы их захватили, сами и разберемся. Кто не согласен? — Таких нет! Ты прав, папаша Батист! — Что ни говори, а благодаря этим молодцам мы остались живы. Конечно, в их планы это не входило, не буду спорить… но факт остается фактом. И я, Батист, считаю, что они заслуживают награды. Короче, я отпускаю их на свободу. Кто против? — Поступай как хочешь, Батист. Твоя воля! — Слышите, господа солдаты? Одобрено единогласно. Поэтому, — с достоинством продолжал Батист, — вы свободны. Возвращайтесь к своим и расскажите, какие мы «дикари». — Сударь, — сказал по-французски один из ополченцев, отдав метису честь, — благодарю вас от своего имени и от имени моих товарищей. Вы — истинный рыцарь. — А теперь, друзья, — произнес бесстрашный старик, обращаясь к повстанцам, — пробирайтесь к реке. Здесь засиживаться нечего. Я остаюсь с моими мальчиками, чтобы прикрыть отход. Солдаты, едва веря, что выбрались невредимыми из такой передряги, бросились к своим, а серые мундиры открыли беспорядочную пальбу по повстанцам. Батист спокойно устроился на закопченной балке, набил трубку и потянулся за головешкой, чтобы прикурить. И тут раздался сухой резкий звук с противоположной от врага стороны, не похожий на выстрел из карабина. Батист привстал с хриплым криком, шагнул вперед и свалился. Пуля вошла ему между лопаток. Сыновья, тотчас оказавшись рядом, не успели подхватить его. — Милосердный Иисус! Господи! Бедные мои детки… Я умираю, — задыхаясь, прошептал раненый.
ГЛАВА 3
Смертельная рана. — Последние распоряжения. — Убийца. — Смерть храбреца. — Отступление. — Одни. — Среди врагов. — Сержант. — Расстрелять их! — Неожиданное вмешательство. — Пылкий защитник. — Враждебная толпа. — Подкрепление. — Поручительство. — Друзья!Бледные и растерянные, юноши застыли, не в силах вымолвить ни слова. Казалось, пуля, настигшая отца, ударила и в них. — Отнесите меня к ограде, — проговорил старик, — на помощь не зовите… бесполезно… Я умираю и хочу, чтобы вы все трое оставались со мной… до конца… Сыновья безропотно подчинились родительскому приказу. Лицо Батиста исказилось от невыразимой муки. — Отец! Может быть, все-таки посмотреть, — робко спросил Франсуа. — Ну что ж, сынок… Жан сЖаком осторожно повернули раненого на бок. Франсуа разрезал ножом рубаху из оленьей кожи, прорванную пулей. Из раны пролилось всего несколько капель. Пуля небольшого калибра, задев позвоночник, пробила легкое. Внутреннее кровотечение усиливалось, и Батист дышал с трудом. Франсуа побывал уже не в одном сражении. Едва взглянув на пулевое отверстие, он понял: отцу осталось жить несколько минут. Подавленный страшной правдой и почти теряя рассудок, он кинулся на колени и взмолился: — Не умирайте, отец! — Слушайте меня, дети, — из последних сил выговорил Батист, сохраняя полное самообладание и ясность разума, — прислоните меня спиной к стене… вот так! Отойдите немного назад, чтобы я видел всех… Знайте, меня убил кто-то из наших… Я слышал выстрел… в армии не такое оружие… Стрелял метис. Рана совсем крохотная, правда, Франсуа? У меня нет врагов, я никому не причинил зла… только один мог желать моей смерти… Это Туссен Лебеф… предатель, погубивший нас… У Туссена хранится крупная сумма денег… десять тысяч долларов… Они принадлежат мне! Слышите?.. Я доверил… увеличить ваше состояние… он решил присвоить… Господи! Я слабею… а еще столько нужно сказать… Жан, флягу! Старший сын послушно откупорил флягу, до половины заполненную водкой, и поднес к губам умирающего. Тот с трудом отпил несколько глотков. — Спасибо, сын… мне полегчало. Во что бы то ни стало отыщите Туссена и отберите у него деньги… слышите? Десять тысяч долларов… это ваше… Я честно заработал на золотых приисках в Карибу…[26] Как христианин, прощаю ему мою смерть. А вы сами решите, что делать… как подскажут сердце и разум… простить ли вам того, кто предал ваших братьев, кто сделал напрасными наши жертвы… потоки пролитой крови… Вы остаетесь одни… в этом мире… поступайте всегда так, как если бы я был с вами… если сомнение посетит вас, спросите себя: а что сделал бы отец на нашем месте? Никогда не причиняйте зла людям и не делайте того, что себе не желаете… оставайтесь верными честными французами… Поклонитесь от меня Луи Рилю… пусть не отступается от нашего дела… но здесь оно проиграно… Перед смертью так ясно видишь будущее! Гораздо лучше, если он с нашими товарищами перейдет в Америку… а вы поезжайте к родным… к вашему дяде Перо… к братьям моей дорогой покойной жены, вашей матери… Скажите им… Боже! Вот она, смерть!.. Я еще не кончил… прощайте, дорогие дети… ухожу верным сыном Франции и честным христианином… Слабеющей рукой Батист благословил сыновей. На губах его выступила кровавая пена, судорога прошла по телу, и он замер, пристально глядя на крест, что венчал колокольню. Там, наверху, стоял метис, пытаясь под градом пуль снять белое знамя с золотыми лилиями. Через секунду Батиста не стало. Когда Батист умирал на руках сыновей, последние «угольки» поспешно отступали. Действия тех, кто был в арьергарде[27], уже походили на бегство; отставшие желали только одного — догнать своих. Однако каждый замедлил шаг, склонив голову перед погибшим патриархом войны за независимость метисов. Слышались неловкие, но искренние слова сочувствия его сыновьям. А Жан, Жак и Франсуа на какое-то время словно забыли обо всем, не в силах справиться со скорбью и отчаянием. — Братья, — заговорил Жан, первым выйдя из оцепенения, — нужно перенести его вниз, к нашим… — Ты прав, старший, — ответил Жак, — серые мундиры будут здесь с минуты на минуту… И мы даже не сможем похоронить отца по нашему обычаю. — Братья, — вскричал Франсуа, — беда! Они уже подходят! Уверенный в своих силах, молодой человек подхватил тело отца и бросился в узкий проход между горящими домами, где собиралось разбитое войско Луи Риля. Но грубый голос приказал: — Ни с места! Еще один шаг, и я стреляю! Человек двадцать рыжеволосых и рыжебородых солдат, потных, всклокоченных, в изодранных мундирах, бежали к ним. Мгновенно юноши были взяты в кольцо штыков. Солдаты, измученные сражением, разъяренные отчаянным сопротивлением метисов, раздраженные тем, что не удалось захватить Луи Риля, готовы были растерзать пленных. Совсем недавно подобное происходило в стане «угольков». Юноши прижались к решетке ограды. Положив тело отца на землю, они прикрыли его собой, готовые сразиться с целой армией, но не отдать дорогого им человека на поругание. — Клянусь Богом! — заговорил долговязый сухопарый сержант с медно-рыжими бакенбардами и длинными лошадиными зубами. — Что с ними церемониться? Они восстали против ее величества королевы! Это поджигатели, убийцы, дикари! — Расстрелять их! Воюющие державы обычно соблюдают правила, установленные международными соглашениями: оказывают помощь раненым и сохраняют жизнь пленным. Гражданская война не признает никаких законов. Это ужасающая бойня, которая — увы! — не ведает паллиативов[28], привносимых в войну цивилизацией. Обезоруженный враг не может надеяться на пощаду, а раненый — на великодушие, хотя на первый взгляд кажется, что нет ничего более естественного и логичного, чем снисхождение к согражданам, если те оказались по разные стороны баррикад. Насколько сокрушительной должна быть ненависть между членами одной семьи, если враждующие отказывают друг другу в том, что свято исполняется по отношению к чужим! Высокий сержант принадлежал к числу тех безжалостных вояк, кто всегда готов поставить к стенке взятого в плен. Среди солдат тотчас обнаружились желающие привести приговор в исполнение. Им не терпелось расправиться с «угольками». — Позвольте нам похоронить отца, — с достоинством вымолвил Жан. — Господи, помилуй мою душу! — завопил сержант, которому ударило в голову выпитое бренди[29].— Эти дикари еще важничают! Не стоит беспокоиться! Мы похороним всех в одной могиле, чтобы доставить вам удовольствие. — И с этими словами навел карабин на Жака, намереваясь разнести юноше череп выстрелом в упор. Палец англичанина уже лежал на курке. Внезапно какой-то человек в мундире ополченца, растолкав солдат, изо всей силы ударил по стволу. Пуля попала в ограду, и каменные осколки брызнули во все стороны. — Сержант! — вскричал ополченец в негодовании. — Вы совершаете подлость! — По какому праву вы мешаете вершить правосудие? — высокомерно произнес унтер-офицер. — Вот именно! — подхватили голоса из толпы. — Это справедливый суд! Сержант поступает по закону. Чувствуя поддержку, сержант продолжал с нарастающим гневом: — Эти дикари разбойничают, грабят, поджигают, убивают, снимают скальпы…[30] — Ложь! — вскричал нежданный защитник метисов. — Вам прекрасно известно, что эти люди даже на войне никогда не допускают бесчинств, какими славятся индейцы. — Наплевать! Они наполовину индейцы… они восстали против законных властей! А ну, посторонись, приятель! Солдаты, огонь по этим подонкам! Однако незнакомец, вместо того чтобы отступить, бросился к «уголькам», хранившим полную невозмутимость, и заслонил их своим телом. — Что ж! — крикнул он в бешенстве. — Стреляйте! Убейте и меня вместе с ними! Но пока я жив, ни один волос не упадет с их головы. Естественно, сержант не мог пойти на попятный. В Канаде, как, впрочем, и в других странах, ни один человек, облеченный властью, а в особенности унтер-офицер, никогда не потерпит посягательств на свой авторитет. Великодушный порыв ополченца тронул нескольких солдат, но большинство держалось крайне враждебно по отношению к метисам. Незнакомец, опасаясь, что его оттеснят силой, тревожно оглянулся, ища поддержки. Разглядев двух бегущих к нему сквозь дым и пламя человек, он радостно крикнул: — Ко мне, Стивен! Ко мне, Питер! — Эдвард! Эдвард Мидлтон… и наши метисы! Они прорвались к другу сквозь толпу, успев задать только один вопрос. — Что случилось, Эдвард? — Что случилось? — с горечью переспросил тот. — Посмотрите на парней, которым мы обязаны жизнью… Их собираются расстрелять и говорят о каком-то приговоре! Сержант пьян или сошел с ума… — Я выше по званию, и вы обязаны подчиниться! Приказываю… — А я заявляю: дикари вы, а не они! Вы, победители, готовы убить беззащитных пленных! Вот какова ваша цивилизованность! Мне стыдно за английский флаг… В толпе поднялся угрожающий ропот, но бесстрашный незнакомец, не обращая на него внимания, еще больше возвысил голос: — Если вы не способны проявить гуманность, то будьте хотя бы справедливы. Только что, в разгар боя, старик, которого оплакивают сейчас его сыновья, захватил нас в плен. Их предали, они потерпели поражение… Но, вместо того чтобы выместить на нас законный гнев, они даровали нам свободу! И ни один, — слышите! — ни один из этих «дикарей» не выказал недовольства их великодушием. Теперь наша очередь. Я требую, чтобы им сохранили жизнь и свободу. Мы с друзьями ручаемся за них! Жизнь за жизнь! Пусть тот, кому недостаточно слова Эдварда Мидлтона, племянника и приемного сына генерала, прямо скажет мне об этом. Твердый голос оратора, его благородство, уверенность в правоте, поддержка двоих товарищей, наконец, авторитет имени Мидлтона произвели должное впечатление. Сержант, не смея больше перечить солдату, имеющему такого влиятельного родственника, вскинул на плечо карабин и удалился, бормоча сквозь зубы ругательства. Вслед за ним стали расходиться солдаты. Вскоре «угольки» и трое англичан остались одни. В едином порыве они бросились в объятия друг другу, а затем Мидлтон, желая как можно скорее покончить с тягостной сценой, сказал: — Теперь можете спокойно проститься с отцом. Мы останемся с вами, чтобы никто не помешал. Отныне мы квиты. Но этого мало. Тем, кто научился понимать и уважать друг друга на поле боя, нельзя больше враждовать… Пусть на смену старым обидам придет искренняя и верная дружба. Вы согласны? — Всей душой! — ответил Жан за себя и за братьев и протянул Эдварду руку. — Пусть наша дружба станет началом союза тех, кто сейчас исполнен ненависти. Пусть положит она конец проклятой войне, которая принесла столько горя!
Конец пролога
Часть первая МЕСТЬ ЗА ОТЦА ГЛАВА 1
Адское ущелье и озеро Дьявола. — Город растет. — Счастливое прошлое. — Суд Линча. — Завсегдатай кабака. — Убийство и поджог. — Шериф-оригинал. — Подвиги Боба Кеннеди. — Повешен на телеграфном столбе.Первого июня 1885 года, через три недели после описанных событий, город Гелл-Гэп стал местом невиданного паломничества. Гелл-Гэп — иначе, Адское ущелье — это один из крайних форпостов Дикого Запада. В то время он располагался на уровне 99° западной долготы и 48° северной широты, в пяти километрах к северу от озера Дьявола на реке Мовез-куле. Не пытайтесь найти его на карте по указанным координатам. Он пережил несколько периодов бума[31] и антибума, дважды выгорал дотла, а затем переместился на 10 лье[32] восточнее. Ныне его название — Город у Озера Дьявола — Девлз-Лейк-Сити. Итак, начиная с 1 июня 1885 года Гелл-Гэп — прежде небольшой временный лагерь или, попросту говоря, нагромождение палаток и деревянных лачуг — начал расти, будто река во время паводка. Местоположение городка, надо признать, оказалось весьма удачным. Находился он на американской земле в восьмидесяти километрах от канадской границы и в ста — от железной дороги, соединяющей Виннипег и Миннеаполис[33]. Одна небольшая ветка обеспечивала его связь с крупными городами Америки и Канады. Ее вполне хватало для быстрого расцвета неприметного городка. Однако нужен был какой-либо толчок, серьезный повод, чтобы потенциальные возможности сделались реальными. И вот, к великой радости местных жителей, неведомо откуда возник слух, что в песчаных отмелях реки Мовез-куле таятся несметные залежи золота! Судьба Гелл-Гэпа в одночасье переменилась. Среди брезентовых палаток и уродливых бараков, крытых дерном, встали первые каркасные дома из обструганных досок, где можно было жить с некоторым комфортом. Появились банк, три церкви, здание суда, четыре гостиницы и бессчетное количество салунов[34], где бессовестные торговцы за непомерную цену предлагали горячительные напитки, столь любезные сердцу янки[35]. Два месяца назад в Гелл-Гэпе насчитывалось не более двух сотен жителей, во всем терпевших нужду. Теперь городок имел вдесятеро больше обитателей, и с каждым днем прибывали новые. Предполагалось, что к концу года численность населения увеличится еще раз в пять. Бум обещал быть весьма продолжительным. Людей влекло сюда не только золото, но и здешняя земля, мягкая и плодородная, как все долины Дакоты[36]. Она сулила необычайные возможности и для земледелия, и для животноводства. Большая часть жителей — как местных, так и приезжих — ликовала при мысли о столь радужном будущем. Однако кое-кому такая перспектива отнюдь не улыбалась. Еще совсем недавно, в благословенные времена палаток и бревенчатых бараков, Гелл-Гэп являл собою райский уголок для тех, кто пребывал не в ладах с законом. Они стекались сюда с канадской границы и из восточных штатов Америки. Разорившиеся отщепенцы и отъявленные головорезы, утратившие любые социальные связи, но зато мастерски владеющие холодным и огнестрельным оружием, оседали на нейтральной территории между двумя странами — работали, попав в безысходное положение, пропивали прилипшие к рукам крохи золота, рисковали, если промывка песка сулила удачу, и резали друг друга, когда пьяный угар туманил голову и горячил кровь. Единственным законом для них было своеволие, и они защищали его доступными им способами — с помощью длинного охотничьего ножа или револьвера Кольта[37], что при всяком удобном случае выхватывался из кобуры, висевшей на поясе или на бедре. И вдруг неведомо откуда появились некие люди со странной фантазией нарушить порядок или, вернее, беспорядок анархического заповедника. Они посмели возомнить себя умнее первооткрывателей сих мест, им вздумалось установить какие-то новые правила. Дошло до того, что пальба из револьвера перестала считаться достаточной платой за выпивку в кабаках, а хозяева гостиниц стали требовать золотые кругляшки, именуемые долларами[38]. Даже принадлежность к почитаемому клану «десперадос»[39] не гарантировала больше бесплатного ночлега и утоления жажды. По наущению наглых и трусливых торгашей в городе организовали Комитет бдительности. Новоявленные блюстители порядка взяли законность в свои руки и принялись охранять ее примитивными, но действенными методами. При малейшем поползновении нарушить их нелепые законы появлялись люди в масках, хватали возмутителя спокойствия, накидывали на шею петлю и вздергивали на первом попавшемся дереве. Для разнообразия иногда использовался фонарный столб или же мост, откуда сбрасывали виновника, затянув потуже веревку. Если бы еще в городе был шериф![40] С ним наверняка удалось бы договориться. В Америке нет такого чиновника, что устоял бы перед увесистым подношением! Но вот наконец появился и шериф. Он оказался славным малым, но, к несчастью, совершенно неподкупным. А может быть, он все-таки дрогнет? Не припугнуть ли его как следует? Сказано — сделано. С полдюжины отъявленных головорезов выработали план и немедленно приступили к его осуществлению под руководством Боба Кеннеди. Этого ковбоя многие подозревали в конокрадстве[41]. Он и возглавил нападение на кабак, хозяин которого не проявлял должного уважения к старожилам Гелл-Гэпа. Зазвенели разбитые стекла, из простреленных бочек потоком хлынуло виски, заливая даже улицу. В довершение бандиты потребовали открыть кассу и отдать всю выручку Бобу Кеннеди. Несчастный торговец изворачивался и юлил, стараясь выиграть время в надежде на подмогу. Боб, теряя терпение, выхватил нож и для пущей убедительности решил слегка пощекотать адамово яблоко[42] кабатчика, дабы тот проникся должным почтением к желаниям гостей. К несчастью, владелец салуна покаяться не успел: в его горло проникло лезвие, ибо Боб слегка не рассчитал свои силы. Кабатчик со страшным хрипом рухнул к ногам ковбоя, в чьи планы никак не входила такая развязка. — Как это получилось, ума не приложу! — воскликнул тот изумленно. — Что за хлипкий народ… После такого краткого надгробного слова, лишенного излишних риторических[43] украшений, бандиты незамедлительно очистили кассу. Желая достойно завершить дело, хитроумный Боб кинул зажженную спичку на пол, залитый виски. Кабак вспыхнул, как огромная чаша с пуншем[44], став одновременно и сковородой для трупа. Разъяренные блюстители порядка примчались, дабы немедленно покарать виновников происшедшего. Но Боб с друзьями укрылся в ближайшей харчевне, с гостеприимно распахнутыми дверями: хозяин, естественно, издавна конкурировал с соседним заведением. Бандиты, забаррикадировав вход, открыли прицельный огонь. Многих блюстителей тяжело ранило. Наконец прибыл шериф — единственный законный представитель власти. Он смело направился к закрытой двери и крикнул: — Боб! Сдавайся, парень! Именем закона! — Как скажете, шериф. Только отгоните, ради Бога, этих блюстителей, не предусмотренных конституцией и нарушающих исконные права американцев. — Даю слово, что они и близко к тебе не подойдут. — Хорошо. Мы сдаемся. Но вы пойдете с нами. Предупредите этих мерзавцев-блюстителей, что, если они сунутся, мы разнесем вам череп. На пути из кабака в здание суда не случилось никаких происшествий. Блюстители тешили себя надеждой, что все равно доберутся до бандитов. Шериф же принял твердое решение предать их суду присяжных целыми и невредимыми. Тюрьмой Гелл-Гэп пока не обзавелся. Шерифу пришлось разместить арестованных в своем кабинете в здании суда на втором этаже. Опасаясь, что ночью бандитов попытаются похитить и вздернуть на ближайшем дереве, им вернули оружие для самозащиты. Нравы здесь еще оставались патриархальными. В судейских апартаментах, конечно, не было столовой. Начиная со следующего утра арестованных стали водить на кормежку в соседнюю гостиницу. Боба же, как самого опасного преступника, содержали в наручниках, и еду доставляли в кабинет шерифа. Три дня все шло хорошо. Затем шериф, вынужденный уехать по делам службы, препоручил арестантов своим друзьям — Роберту Оллингеру и Уильяму Бонни, умоляя быть начеку. Проникнувшись важностью возложенной на него миссии, Оллингер на глазах у всех зарядил картечью[45] охотничью двустволку, сообщив Бобу, что число дробин в каждом патроне равно восемнадцати. Настало время обеда. Прислонив ружье к стене, Оллингер повел своих пенсионеров в гостиницу. С Бобом остался Уильям Бонни. В ожидании, когда принесут пищу для арестованного, он углубился в чтение газеты. Боб весьма скучал в заключении и выжидал подходящего случая, чтобы навсегда проститься со зданием суда. Проявив чудеса терпения и ловкости, он высвободил одну скованную руку и обрушил на голову стража удар чудовищной силы. Не дожидаясь, пока оглушенный Бонни очнется, ковбой уложил его одним выстрелом, открыл окно и принялся поджидать Оллингера. Тот, заслышав выстрел, бросил все и мчался. — Эй, сэр! — окликнул его Кеннеди. Роберт Оллингер сразу понял, что произошло. — Вот ваше ружье… Узнаете? Видите ли, бедный мой Роберт, заряжая оружие, никогда не знаешь, кому оно послужит… А чтоб вы не сомневались в этой истине… вот вам доказательство! Шарахнул выстрел из обоих стволов, и второй несчастный страж отдал душу Всевышнему. Тем временем сообщники Боба неспешно покинули гостиницу. Один из них сбегал к кузнецу за напильником и бросил его главарю. Тот занялся распиливанием наручников. Оседланная лошадь ожидала его у крыльца. Боб, позаимствовав из арсенала шерифа винчестер[46] и два револьвера, спустился на улицу, простился с приятелями, вскочил в седло и, вежливо всем поклонившись, пустил коня в галоп, крича во все горло: «Слава Бобу Кеннеди!» В этот момент к зданию суда примчались блюстители порядка, увидев только облака пыли. Боб уже считал себя в безопасности, но его подстерегала неожиданность — тем более обидная, что случилась она с великолепным наездником. Лошадь оказалась нервной. Бросившаяся под ноги собачка испугала кобылу до такой степени, что та встала на дыбы и, не удержав равновесия, завалилась, подмяв под себя Боба. Ковбой проскакал всего пятьсот метров и вылетел из седла в совершенно пустынном месте на берегу Мовез-куле, возле телеграфной линии. Для представителей властей поимка беглеца стала, конечно, делом чести. Они примчались тут же. Оглушенный Боб лежал без сознания, придавленный лошадью. Роковая случайность сильно упростила дело. Расправа была короткой. Не теряя времени, один из преследователей извлек из-под седла пеньковое лассо[47], прикрепил к поясу и вскарабкался на телеграфный столб. Затем набросил веревку на перекладину и соскользнул вниз. В готовую петлю продели голову незадачливого ковбоя, так и не успевшего прийти в себя. Затем четверо крепких мужчин изо всех сил налегли на свободный конец орудия казни.
ГЛАВА 2
«Джентльмен» еще теплый. — Операция, противоположная предыдущей. — Энергичные, но, судя по всему, бесполезные меры. — Вполне естественное недоумение джентльмена. — Знакомство. — После бегства из Батоша. — Первый след потерян. — В Гелл-Гэпе.— Скоро мы будем на месте, как думаете? — Наверное, скоро, милый Франсуа. — Здесь нет дороги, но телеграфная линия приведет нас в Гелл-Гэп, это уж точно… — Боже! Какая даль… — Неужели утомился, малыш? — Ты смеешься надо мной, Жан, да и Жак тоже. Вы же знаете, что я не чувствую усталости, впрочем, как и вы… Просто хочется побыстрее оказаться в лагере рудокопов и приступить наконец к делу. — Терпение, младший, — прервал его Жан. — Тебе хорошо говорить, терпеливый папаша… — Только выдержка приводит к успеху. Так говорил наш бедный дорогой отец. В этом сила индейцев. Поскольку мы — метисы, то должны обладать этим качеством в гораздо большей степени, чем наши сводные братья белые… — Жан прав, — вмешался в разговор Жак, доселе хранивший молчание, — спокойствие и неторопливость должны заменить нам опыт, а он появится, боюсь, не скоро. — Нам предстоит чертовски сложное дело… — Искать иголку в стоге сена, как говорит старинная французская пословица… — Не только искать, но и найти! Внезапно Франсуа приподнялся на широких деревянных стременах, приложил руку к глазам козырьком и воскликнул: — Черт побери! Что это болтается на столбе? — Кажется, человек… — Повешенный! — Ну, — бесхитростно подвел итог Франсуа, — наконец-то мы оказались в цивилизованном государстве. Братья пришпорили лошадей — мощных приземистых канадских полукровок. Через две минуты они рысью подъехали к телеграфному столбу, где висел Боб Кеннеди с петлей на шее. Легкий ветерок перебирал провода, покачивая тело, отчего казалось, будто в казненном еще теплится жизнь. Юные путешественники так и подумали. Они, оставаясь в седлах, задрав голову, приоткрыв рот и прищурившись, смотрели вверх, не зная, как поступить. — Честное слово, — произнес Франсуа, скорый на решения, — надо бы снять его. Если он жив, попробуем спасти… если мертв… по крайней мере нам не в чем будет упрекнуть себя… Любое человеческое существо заслуживает к себе уважения. — Будь по-твоему, малыш! — одобрил Жак. — Что ж, делайте, как решили. Только вот не будет ли у нас из-за этого неприятностей в городе? — спросил Жан, у которого природное бесстрашие сочеталось с известной долей предусмотрительности. Не вдаваясь в дальнейшие дискуссии, Франсуа направил лошадь к столбу, встал в седле и, не снимая карабина, принялся карабкаться вверх, цепляясь руками и ногами с ловкостью гимнаста. Он добрался до мертвеца. Глаза Боба были широко раскрыты, изо рта вывалился распухший синий язык. — Он еще теплый! — с удивлением воскликнул Франсуа. — Что ж, в таком случае надо его отвязать, — рассудил Жан, одобряя решимость младшего брата. — Веревка закреплена внизу… Распутайте узел и придержите свой конец… Этот джентльмен… Лучше, чтобы его приземление было не слишком стремительным. Жан слез с лошади и исполнил распоряжение брата. Мистер Боб Кеннеди, покинув воздушное пространство, плавно опустился к подножию импровизированной виселицы. — Нет никаких сомнений: джентльмен жив, — уверенно заявил Жан. Тем временем Франсуа легко соскользнул вниз. Смелые охотники и опытные воины, юноши привыкли к неожиданностям, что подстерегали на каждом шагу полукочевой жизни. Их нисколько не смущала и не пугала необычная задача. Джентльмена, или, как с изрядной долей иронии любят говаривать наши крестьяне, «мосье», проворно раздели до пояса и уложили на спину. — Нужно как следует растереть его! — решительно сказал Жак, тогда как Жан, взяв лассо, стал изучать петлю, — Кровь потечет по жилам, и он придет в себя. Франсуа немедленно взялся за дело, и скоро грудь несчастного покрылась неравномерными багровыми пятнами. — Эй, старший, — окликнул брата Жак, — что-нибудь интересное обнаружил? — Да нет! Просто работа никудышная… веревка слишком новая, не намылена… петля широка… Джентльмену повезло. — Твоя очередь, Жак! — сказал, задыхаясь, Франсуа. — Уф! Я больше не могу. Давай! Натирай так, чтобы клочья полетели! Франсуа хватило на десять минут. Жак продержался пятнадцать. — Ну и ну! — вскричал он в притворном возмущении. — Даже не дернулся! А по цвету уже смахивает на освежеванную тушу. — Если ты выдохся, братишка, я тебя сменю. — Давай! Может быть, тебе больше повезет. А у меня уже руки отваливаются. Жан стал неистово надраивать по-прежнему неподвижное тело. Прошло двадцать минут. Пот струился по сосредоточенному лицу «уголька», а на коже пациента проступила кровь. — Битый час бьемся, работаем, словно нам обещали платить по двадцать пять франков в день, а он лежит бревно бревном! — Погоди, брат! Нет, я не ошибся! Он вздохнул… — Не может быть! — Точно! Он дышит… только слабо… — Пусть глотнет чего-нибудь покрепче… — У меня во фляге сливовая водка. — А по-моему, надо вложить трут между пальцами и поджечь. От этого даже мертвый встанет. Сказано — сделано. Несколько ударов огнива по кусочку кварца, и трут, затрещав, вспыхнул между пальцами, связанными той самой веревкой, что послужила для казни. Одновременно Франсуа, с силой разжав зубы, влил Бобу в рот с полпинты[48] водки. Ко всеобщему удивлению, кадык на шее умирающего дернулся, показывая, что водка прошла вовнутрь. — Братья, дело идет на лад! — радостно крикнул Франсуа. Обгоревшая кожа задымилась, распространяя отвратительный запах паленого мяса. Внезапно Боб вырвался из сильных рук молодых людей, вскочил, словно подброшенный электрическим зарядом со всей телеграфной линии Гелл-Гэпа, но тут же снова рухнул, ругаясь, как пьяный матрос. — Проклятье! Канальи решили сжечь меня живьем! — Не надо нервничать, — примирительным тоном заметил Жан, не удержавшись, впрочем, от улыбки. Он был чрезвычайно доволен результатами оздоровительного массажа и применения жестокого, но действенного средства — тлеющего трута. — Мы — ваши друзья, иначе не стали бы снимать вас с виселицы… Видите эту веревку? На ней вас вздернули… — Вздернули? Черт меня побери, если я помню хоть что-нибудь! — Ну, в жизни часто случаются вещи, о которых лучше не вспоминать. Мистер Боб, все еще туго соображая — в чем, конечно, не было ничего удивительного! — с изумлением уставился на своих юных спасителей. Он заметил их высокий рост, необычно длинные волосы, добродушные загорелые лица, открытый взгляд, одежду из оленьей кожи с бахромой и ухоженное оружие. Было видно, что он силится вспомнить, где мог их видеть, но без особого успеха. — Не старайтесь… вы нас не знаете. Мы — братья, метисы из Канады. У нас дела в Гелл-Гэпе. А вы — первый из его обитателей, кого мы встретили… правда, высоковато вы забрались. Мы решили воскресить вас… и нам это удалось! Не сердитесь, что наши средства оказались чересчур сильнодействующими. Обстоятельства этого требовали: ваше состояние было довольно-таки плачевным. — Ничего не помню! Я ехал верхом… лошадь упала на меня… я потерял сознание… и вот теперь вижу вас. — Пока вы находились без сознания, вас подобрали и вздернули. Возможно, обморок спас вам жизнь. — Как бы то ни было, друзья, я должен поставить за вас свечку… Кроме шуток! Я вам чрезвычайно признателен, слово Боба Кеннеди… это мое имя! Поверьте, это совсем немало — признательность Боба Кеннеди! Вот увидите… Я сделаю для вас все, даже если вам вздумается захватить в плен американского президента… — О, не следует преувеличивать, — возразил Жан, — эту маленькую любезность мы оказали бы любому. — Я знаю цену такой любезности и не собираюсь переплачивать. Отныне ваши друзья — мои друзья, ваши враги — мои враги. Я буду помогать вам во всем, мистер… мистер? Как вас зовут? — Жан. — Жан… а дальше? — Жан де Варенн. Мы — сыновья старого Батиста, соратника Луи Риля. — А, так вы герои Батоша! Все газеты взахлеб писали о ваших подвигах… Даже наш листок «Гелл-Гэп ньюс» целых две недели трубил… — Мы сделали все, что могли, но, к несчастью для нашего дела, Батош пал… — Ну, не все потеряно… Луи Риль еще держится. — Его армия тает с каждым днем, и запасы на исходе. — Э… а могу я узнать, что привело вас сюда? — Братья, — обратился к младшим осторожный Жан, — можем мы довериться джентльмену? — Нам нечего скрывать. Жан повернулся к ковбою: — Мистер Кеннеди… — Зовите просто Боб. Мне так больше нравится. — Я хотел спросить, в состоянии ли вы выслушать. Вам, должно быть, чертовски не по себе… все-таки виселица. А потом, вы, наверное, хотите есть и пить… И еще: тем, кто вас повесил, — не придет ли им в голову фантазия вернуться и полюбоваться плодами своего труда? — Быть повешенным дважды за один день? Сомнительно! — возразил Боб, дав свое толкование знаменитой юридической формулы «non bis in idem»[49] — что до моих переживаний, голода и жажды, то для настоящего ковбоя это пустяки. Кроме того, я пообедал незадолго… до происшествия. — Тогда слушайте. Наш отец был фермером, как говорят у нас в Батоше, что в округе Саскачеван, канадской провинции Манитоба. Отец чтил законы, никого не обижал и работал до седьмого пота. Мы тоже старались как могли. Ферма досталась нам от предка, французского дворянина родом из Орлеана. Нам и в голову не могло прийти, что кто-то может претендовать на землю, обработанную Жан-Батистом де Варенном, главой нашей семьи. Труды многих поколений ведь чего-то стоят, не так ли? И вдруг являются неведомые нам люди, посланные английской королевой, — из тех, кто наградил нашу добрую Канаду смешным именем Доминион, — и начинают говорить, что эта земля нам не принадлежит. Неслыханная наглость! Сначала мы только посмеялись. Но их число росло, они решили выгнать нас силой. Тогда мы рассердились всерьез, взяли винчестеры, оседлали наших полукровок и дали бой этим англичанам… — Браво! — восторженно крикнул американец. — Но эти люди словно сорная трава: чем больше рвешь, тем гуще растет… Они приходили сотнями, затем тысячами, а следом шли солдаты, чтобы защищать их. Тогда нашим вождем стал Луи Риль. Он смело сражался и не раз бил англичан. Увы! Батош пал из-за предательства. Нашелся негодяй, польстившийся на деньги… О! — воскликнул Жан, клокоча от ярости. От его привычного спокойствия не осталось и следа. — Меня трясет, когда я вспоминаю об этом, а перед глазами встает кровавая пелена! Этот трус бежал, спасая шкуру. Знал, что мы будем мстить. Он пытался взорвать нас, а потом, когда враг вошел с его помощью в Батош, предательски убил нашего отца выстрелом в спину. — Проклятье! — чертыхнулся Боб. — Вот мерзавец! С каким удовольствием я снял бы с него скальп! — Мистер Боб! Десять тысяч долларов, которые он украл у нас, станут вашими, если вы поможете разыскать его. — Я это сделаю, Жан, клянусь! Но запомните раз и навсегда: не желаю слышать о деньгах. Знаете ли вы, где укрылся этот негодяй? — Мы последовали за ним в Виннипег, куда он отправился, чтобы снять деньги с банковского счета. Ведь Туссен Лебеф стал очень богат, нажился на воровстве и предательстве! Из Виннипега он перебрался в Эмерсон. Но в Сен-Венсане на американской границе, где его хорошо знают, не появился. Затем его видели охотники у Красной реки, он ехал верхом вместе с двумя спутниками, у которых был довольно потрепанный вид. Мы потеряли след, но тут этот мерзавец неожиданно объявился в Грэфтоне. Кажется, затем он пересек Сарк-Ривер, направляясь в Гелл-Гэп… Неделю назад там видели человека, чьи приметы совпадают с наружностью того, кого мы ищем. Бот и все. Теперь мы едем в Гелл-Гэп, чтобы выяснить все на месте. Мы полны решимости, и нас ничто не остановит. — А потом? — задумчиво спросил Боб. — Мы отыщем его, даже если придется пересечь всю Америку… даже если мы успеем поседеть за время поисков. — Жан, хотите совет? — Говорите, Боб. — Действуя так, вы ничего не добьетесь. Только время потеряете. Денег у вас много? — На все про все тысяча долларов. — Совсем мало, если только удача вам не улыбнется. К тому же вы очень молоды… зеленые новички! Вам ничего не добиться в этой проклятой стране! Ну, да ладно! Вы мне нравитесь… и я обязан вам жизнью, хотя она меня не очень-то балует. Мне двадцать пять лет, и я побывал в передрягах, какие вам и не снились… Я сумею заварить такую кашу, что небесам станет жарко! Моему опыту столетний старец позавидует. Решено! Я помогу вам. Едем в Гелл-Гэп. — А если вас снова… — Повесят? Как бы не так! Я им еще покажу.
ГЛАВА 3
Американский гаврош[50].— Тяжкая жизнь маленьких изгоев[51] общества. — На Западе. — Встреча. — Покупка лошади и снаряжения. — Ужас удачливого торговца. — Перед зданием суда. — Шериф в затруднении. — Диалектика Боба побеждает. — Под защитой закона. — Гость шерифа.Люди, подобные Бобу Кеннеди, часто встречаются в Америке. Будучи полной противоположностью юных канадцев, он являл собой законченный тип искателя приключений на Диком Западе. Именно такими были те первопроходцы, что вытеснили индейцев. Боб Кеннеди не имел, как говорится, ни кола ни двора, равно как и семьи. В глубинах его памяти теплилось смутное воспоминание о старике и цыганке, живших где-то в трущобах Чикаго. Они дрались денно и нощно, на голодный желудок и после обильных возлияний, не обращая никакого внимания на своих троих или четверых мальчуганов. Впрочем, Боб не был до конца уверен, что детей было четверо. Возможно, их было пятеро. Кажется, старика звали Кеннеди, а его самого называли Робертом или, попросту, Бобом. Этим и ограничивалось его представление о священном семейном очаге. В десять лет он бежал из дома и стал жить на улице, подобно множеству других мальчишек, чья жизнь бесконечно тяжела, а порой и мучительна. Американский бой[52] циничен и безжалостен, ему совершенно несвойственны благородство и великодушные порывы, которые отличают нашего парижского гавроша. Уличный парнишка-парижанин сообразителен, он умеет любить и ненавидеть, способен переживать минуты истинного вдохновения. Его внешний облик столь живописен, что вызывает восхищение. Этой своеобразной прелести его американский сверстник абсолютно лишен. Боб рос, познавая различные профессии — большей частью весьма сомнительного свойства. В семнадцать лет он усвоил лишь те нравственные понятия, что исходят от полисмена или судьи. Он задыхался в бесконечной череде дней, требующих от него ежеминутных усилий, как физических, так и душевных, чувствуя себя диким зверем, загнанным в тесную клетку, и, подобно такому животному, жаждал свободы. В этой мечте заключалось его спасение. Еще немного, и он сделался бы преступником, неисправимым головорезом, чье место лишь на скамье подсудимых и в исправительных учреждениях. Конечно, он не заслуживал особого сожаления, но и не был безнадежно испорченным человеком. Его деятельная натура, находчивость, что помогала выбираться из самых сложных жизненных коллизий, даже его бунтарские наклонности могли найти себе лучшее применение. К счастью, крупные американские города, переполняясь, словно бы выплескивают излишки населения на безграничные просторы Дальнего Запада. Ежедневно сотни таких, как Боб Кеннеди, обретают свободу в краю, где человек почти не ведает ограничений, где цивилизация и варварство переплетаются настолько тесно, что с трудом удается внести хоть какое-то подобие порядка в эту вольницу. Зато здешняя земля принимает всех. Корчевать глухие леса и осушать зловонные болота доверялось каторжникам. Городские отщепенцы становились тут ковбоями, охраняя громадные стада полудикого скота от зверей и от разбойников с белой или красной кожей. Это ремесло требовало железного здоровья, нечеловеческой выносливости, ловкости циркового гимнаста и абсолютного бесстрашия. Таков был Боб Кеннеди. Не лучший и не худший среди себе подобных, он был способен порой на добрый поступок, однако не знал различий между своим и чужим, был груб, плохо воспитан — точнее, совсем не воспитан — и не признавал ничьих желаний, кроме своих собственных. Жизнь его проходила в чередовании изнурительного труда и чудовищных попоек, крайняя нищета сменялась периодами безумного расточительства. Ему ничего не стоило убить человека. По здешнему выражению, он «продырявил» по меньшей мере восемь или десять человек. Что поделаешь, горячие головы! Да и невозможно разобраться, кто был прав, а кто виноват. Гораздо более серьезным было обвинение в конокрадстве. На границе убийство легко сходит с рук, воров же вешают беспощадно. Но Боб ни разу не попался на месте преступления. Впрочем, пусть первым бросит в него камень тот, кто, нуждаясь в лошади, поборол искушение позаимствовать ее у владельца ранчо[53] с двумя или тремя тысячами скакунов. …Когда показались первые дома Гелл-Гэпа, Боб Кеннеди уже заканчивал краткое повествование своей жизни. Братья, воспитанные в строгих понятиях о чести, глубоко верующие и проникнутые духом почитания старших, были изумлены и в немалой степени смущены, ибо в их глазах многие деяния Боба выглядели просто ужасающими. Но они чувствовали, что этот незнакомец, рассказывавший о себе с бесхитростной откровенностью, обладал бесценным опытом, какого им недоставало: молодые люди понятия не имели о порядках и обычаях, принятых в этих местах. В интересах дела следовало воспользоваться случайным знакомством. Преодолев вполне понятное отвращение, они сочли, что в их положении не стоит привередничать. Без поддержки бывалого человека братья оказались бы совершенно беспомощными. Итак, они решили примириться с темным прошлым Боба и принять предложенную помощь, хотя смутно осознавали, что в будущем это может доставить им крупные неприятности. Первым, кого встретила небольшая процессия, был золотоискатель, что направлялся верхом к приискам. За спиной у него болтался винчестер, а к седлу было привязано металлическое решето для промывания песка. Увидев Боба, смело шагавшего во главе отряда, золотоискатель ошеломленно уставился на него, невольно натянув поводья. — Здорово, дружище Пим! — насмешливо приветствовал всадника ковбой. — Хороший денек, а? — Здравствуйте, Боб. Рад вас видеть… по правде говоря, не ожидал… — Значит, не ожидали, дорогой Пим? Ах да! Вы ведь по-прежнему числитесь среди блюстителей… — Чистая клевета, Боб! — У вас прекрасная лошадь, дружище, — продолжал Кеннеди, не обращая внимания на слова золотоискателя. — Мне нужна как раз такая. — Очень жаль, Боб, не могу вам ее подарить, — плаксиво проговорил Пим, не сводя глаз с рослых канадцев, принятых им за сообщников Боба. — Кто говорит о подарке? — с живостью возразил ковбой. — Мне нужна лошадь. Ваша мне нравится. Сколько за нее просите? — Сорок долларов, дорогой Боб, — ответил Пим, явно нервничая. — Ну, это вы с испугу. Лошадь стоит гораздо дороже. Что ж, я назначу цену сам. Я не такой мошенник, как вы, блюстители… Пим, заметно побледнев, сглотнул слюну. Какую шутку хочет сыграть с ним этот проклятый ковбой, кого он собственными руками повесил два часа назад? — Скажем, так, — продолжал Боб, — за лошадь даю пятьдесят, а не сорок долларов, за седло и поводья — двадцать, два кольта — двадцать пять, винчестер — столько же… Итого: сто двадцать долларов. Подходит? — Это слишком много, Боб, уверяю вас. Ста долларов вполне хватит! — Еще одно слово, Пим, и я приговорю вас к ста пятидесяти! — Ста пятидесяти — чего? — простонал Пим, совершенно сбитый с толку. — Долларов, идиот! Ну, сходи с лошади… Так! Оружие… патроны… все на месте… Закинув за спину карабин и засунув за пояс револьверы, Боб проворно вскочил в седло и обернулся к Жану: — Жан, милый друг, вы при деньгах. Будьте столь любезны, одолжите мне сто двадцать долларов. Я должен заплатить мистеру Пиму. — Охотно, Боб, — ответил Жан. Ни минуты не колеблясь, он развязал мешок и отсчитал требуемую сумму. — Боб… Дорогой Боб! — взмолился Пим, испуганный до того, что слезы выступили у него на глазах. — Не надо денег, я поверю вам в долг! — Берите без всяких возражений! — приказал ковбой. — Зарубите себе на носу: я не нуждаюсь в услугах людей, подобных вам. Подарок из ваших рук оскорбил бы меня. Прощайте, господин честный человек… Вешайте людей, но не смейте оскорблять их! Не обращая больше внимания на остолбенелого мистера Пима, Боб занял место справа от братьев, и шеренга из четырех всадников продолжала путь, вступив на главную улицу города и направляясь к зданию суда. Гелл-Гэп уже приобрел свой обычный вид. Трупы перенесли в больницу: предполагалось похоронить их на следующий день, о чем уже был оповещен методистский[54] священник. Посетители салуна, пожар коего, учиненный Бобом и его друзьями, заставил прервать попойку, перебрались в соседние заведения. Ждали свежего выпуска «Гелл-Гэп ньюс», дабы заново пережить недавние драматические события. Можно представить, какое волнение охватило падкую до сенсацийпублику при виде двойника повешенного, гордо восседающего на коне рядом с тремя вооруженными до зубов большерослыми юношами в индейском одеянии. В мгновение опустели гостиницы, салуны и даже церкви, где добровольные проповедники из числа самых рьяных верующих предавали анафеме[55] Боба и его банду. Толпа валила за великолепной четверкой и остановилась у здания суда, окна которого были открыты настежь. Шериф, только что вернувшийся из служебной поездки, выслушивал доклад о происшедших событиях: убийстве своих друзей Роберта Оллингера и Уильяма Бонни, бегстве семи заключенных и казни Боба. Услышав цокот копыт, шериф подошел к окну, и перед его изумленным взором предстал Боб Кеннеди, о чьей смерти едва успели доложить. В воскрешение казненного верилось плохо, но приходилось считаться с фактом. Боб отвесил церемонный поклон, почти коснувшись лицом гривы лошади, а затем состоялся диалог в сугубо американском духе: — Добрый день, шериф. Рад вас видеть. — Взаимно. Здравствуйте, Боб Кеннеди. Чему обязан? — Вы — настоящий джентльмен, шериф. И неподкупный человек. — Благодарю за добрые слова, Боб, но повторяю свой вопрос. Чему обязан? Толпа, став полукругом, будто у театральных подмостков, хранила молчание, напряженно следя за беседой. Помолчав минуту, страж порядка сказал: — Насколько я понимаю, вы стали жертвой… э… весьма неприятного происшествия… — Скажите прямо, шериф, что меня вздернули на телеграфном столбе граждане города, что возомнили себя хранителями закона во время вашего отсутствия. — Не может быть! — откликнулся, еще не вполне придя в себя, шериф, а толпа одобрительно загудела. — Вы не считаете этот акт законным? — Я этого не сказал, — ответил шериф уклончиво. Для виду ему приходилось осуждать действия блюстителей порядка, но он нуждался в них, ибо никакой другой организованной силы в его распоряжении не числилось. — Я убил… меня приговорили к смерти, а потом повесили именем закона! Ну же! Подтвердите законность приговора перед всеми собравшимися. — Хорошо, подтверждаю! Ваша казнь, хотя и была произведена с излишней поспешностью, является справедливой и законной. Ну а теперь что вам угодно? — Я хочу сдаться под охрану закона. — Как это понять? — проговорил шериф, по-прежнему стоя у окна и немного напоминая порывистыми жестами марионетку[56] в театре гиньоль[57]. — Все очень просто. Следите за ходом моих рассуждений! Вы не можете отрицать, что своей казнью я искупил совершенные мной убийства. Строго говоря, я уже мертв. Если в данный момент я жив, то не по своей вине и не по вине блюстителей. Меня повесили, и я принял наказание без всяких возражений. Итак, я заплатил за все. Что вы на это скажете, шериф? — Я полагаю, что мы имеем дело с весьма любопытным и в некотором роде уникальным казусом[58], доселе не встречавшимся в судебной практике. — Ответьте прямо: если я впредь не совершу ничего предосудительного, будете ли вы преследовать меня за поступки, совершенные до казни? — Идите к черту! — Я остался в живых благодаря стечению обстоятельств, возникших независимо от моей воли… Я уже был одной ногой на том свете, когда пришло чудесное спасение. — Боб Кеннеди прав, — раздался громкий голос из толпы, — нельзя дважды наказывать за одно преступление. Сам шериф признал, что казнь была законной, значит, Боб искупил свою вину. Да здравствует Боб Кеннеди! — Ничего подобного! — перебил его другой, не менее зычный голос. — Это нечестно! Вина не искуплена до конца! Нужно снова вздернуть негодяя! Смерть Бобу Кеннеди! Толпа разделилась на два лагеря: одни защищали ковбоя, другие требовали наказания. Спутники Боба, равно как и он сам, сохраняли полную невозмутимость, застыв, словно конные статуи. Человеку, незнакомому с американскими нравами, могло бы показаться, что сейчас эти кричащие, жестикулирующие, возбужденные люди вцепятся друг в друга, и начнется драка. Однако они всего-навсего заключали пари. Но с каким пылом! Отпустит ли шериф Боба или объявит повторный приговор? Будет ли ковбой ночью убит блюстителями, которые предпочитали действовать под покровом темноты? Таковы были основания для пари, и ставки делались все внушительнее. Боб насторожился, готовясь отразить нападение разгоряченного игрока, которого могла соблазнить возможность сорвать банк одним ударом. Шериф же размышлял, пытаясь найти разумное решение сложного вопроса. — Итак, шериф? — спросил Кеннеди, сохраняя прежнее благодушие. — Что вы собираетесь предпринять? — Я думаю, дружище Боб, что вам стоило бы покинуть Гелл-Гэп… Я буду огорчен, если с вами случится несчастье. — Если вы гарантируете мне защиту закона, я сумею сам позаботиться о своей безопасности. У меня есть друзья… — Стало быть, вы хотите остаться здесь, Боб? — Мне необходимо задержаться в Гелл-Гэпе хотя бы на сутки. — Ну что ж! Я готов дать вам еще двенадцать часов в придачу, если вы обещаете проститься с нами послезавтра. — Согласен! Даю вам слово, шериф. — Взамен вы получаете мое, Боб. В ближайшие тридцать шесть часов вам гарантирована защита. Смею надеяться, что вы и ваши друзья, не откажетесь воспользоваться моим гостеприимством. Места хватит и для вас, и для ваших лошадей. Мы разопьем бутылочку шерри[59]. Не правда ли хорошая идея?
ГЛАВА 4
Ростбиф[60] из конины. — Лошадь секретаря суда. — В салуне. — Бесплатная выпивка для героев дня. — Боб рассказывает о своих приключениях. — «Телеграфом до востребования». — Серьезнее, чем кажется. — Столкновение с ирландцем. — Оскорбление. — «Желторотик» и бородач. — Суровое, но справедливое наказание. — Незнакомец.Даже опустившийся североамериканец относится с большим почтением к закону. Именно поэтому одному человеку, что представляет официальную власть, но не имеет организованной вооруженной силы, удается поддерживать порядок на огромной территории, населенной по большей части своевольными и малоуправляемыми людьми. Это, конечно, не означает, что здесь, в местах, где цивилизация соседствует с дикостью, не случается прискорбных происшествий. Однако даже самый незначительный чиновник всегда найдет поддержку среди жителей и так или иначе добьется торжества правопорядка. Уважение к праву простирается настолько глубоко, что придает силу решениям выборного магистрата[61]. Боб Кеннеди, получив покровительство шерифа на тридцать шесть часов, мог считать себя в полной безопасности — конечно, при условии, что не примется вновь за прежние делишки. Казалось, ковбою пошел впрок жестокий урок тайного трибунала Гелл-Гэпа. Вся компания распила бутылку старого шерри, причем был здесь и секретарь суда, чью лошадь Боб позаимствовал для бегства. Настроенный вполне миролюбиво, чиновник вслед за шерифом принял предложение Боба отобедать в ближайшей гостинице. Как и в других приграничных местностях[62], на стол подали отвратительное мясо, жаренное на сале — излюбленное блюдо американцев, — в сочетании с не менее ужасным пеклеванным хлебом. Хозяину пришлось изрядно побегать. Выдающиеся персоны — шериф, секретарь, Боб и трое братьев, чье появление в Гелл-Гэпе стало главным событием дня, — привлекли массу любопытных. Посетителей собралось вчетверо больше обычного. Несмотря на обилие скота, в Дакоте редко едят парное мясо, но ради такого исключительного случая подали бифштексы — самые настоящие бифштексы, но только по виду смахивающие на почерневшие подошвы башмаков, политые желтым жиром. Канадцы отнюдь не были гурманами, однако, привыкнув к сочному мясу диких животных, лишь поморщились и, невзирая на молодой аппетит, не притронулись к жаркому с противным запахом пригорелого жира. — Хелло, Джонни, мой мальчик, как вам эта говядина? — О! — ответил Жан не без лукавства. — По всему видно, что это говядина для кавалеристов. — Что вы хотите сказать? — А то, что когда она бегала на четырех ногах, то ходила под седлом. — Неужели это конина? — Во всех отношениях выдающаяся кляча, уж поверьте мне! — Именно так! — раздался насмешливый голос за соседним столом. — Чужестранец прав. Джентльмены, мы лакомимся той самой кобылой, на которой бежал Боб. — Это ваша лошадь, секретарь! — Именно она! — продолжал говоривший. — У нее была сломана нога. Пришлось пристрелить бедняжку выстрелом в голову и привезти сюда… А уж здесь старушку разделали на куски. Отличный получился ростбиф! Ответом был взрыв хохота. Среди бурного веселья, под крики «Ура!», стали поднимать тосты за здоровье шерифа, Боба, секретаря и даже почившей коняги… Затем побили немного посуды — к ликованию корреспондента «Гелл-Гэп ньюс», который собирал материал для местной хроники. Хозяин, получивший изрядный доход, наотрез отказался от предложенного Бобом шиллинга, который, разумеется, был извлечен из кошелька Жана, ставшего казначеем новоявленного содружества. Шериф и секретарь пили, не отставая от других, горланя и хохоча, как простые ковбои. Когда обед близился к концу, к Бобу подошел хозяин ближайшего салуна и с таинственным видом сообщил, что если компания отправится ужинать к нему, то гостям будет бесплатно подано столько спиртных напитков, сколько может вместить в себя человек. До своей казни Боб никогда не становился центром подобного внимания. Он охотно принял любезное приглашение, и вся публика переместилась в кабак, на дверях коего тут же появился транспарант с извещением о грядущем празднестве. Боб стал героем дня. Он веселился от души, сыпал забавными историями, поглощал спиртное в неимоверных количествах, но головы не терял и рассказывал «выдающимся согражданам», как Джон, Джеймс и Фрэнсис получили его тело «телеграфом до востребования». Это словцо имело бешеный успех: оно передавалось из уст в уста и дошло наконец до репортера; тот, подхватив его на лету, умчался в редакцию, чтобы тут же вставить в свежий номер газеты. Тем временем шериф, пользуясь ситуацией и имея в виду близкие выборы, старался завоевать популярность и расширить круг своих сторонников. Его должность считалась весьма завидной, ибо не только давала большую власть, но и сулила изрядный доход. Конечно, ей сопутствовало много сложностей: шерифу надлежало быть и судебным исполнителем, и комиссаром полиции, и следователем, а при необходимости и палачом. Именно поэтому государство отпускало немалые деньги тем, кто нес столь тяжкое бремя. Оно платило и за опрос свидетелей, и за организацию поимки преступника, и за его доставку в место заключения, и за его казнь. В первый же год шериф Гелл-Гэпа получал не менее сорока — сорока пяти тысяч долларов, весьма приличную сумму для чиновника низшего ранга. Только Жан, Жак и Франсуа смертельно скучали. Они чувствовали себя чужаками в шумном сборище, их оглушили гам и крики, причем выдающиеся граждане, перепившись, орали, как простые смертные. Юноши задыхались от табачного дыма и спиртных паров, а к напиткам почти не притрагивались. Единственным их желанием было распрощаться с этой сутолокой и продолжить поиски, так некстати прерванные из-за акции по спасению этого захмелевшего ковбоя, болтливого и грубого, который, похоже, совершенно забыл о них? А они-то думали о своем погибшем отце, о селении, предательски отданном врагу, о негодяе, что сделал их сиротами, а дело метисов обрек на поражение. И молодые люди страдали, ощущая себя во власти отвратительной толпы, оскорблявшей дорогие им воспоминания. Канадцы намеревались при первом же удобном случае ускользнуть по-английски, не прощаясь, и укрыться в долине, где на них не глазели бы, как на некую диковину. Но Боб словно прочел их сокровенные мысли. Проворно выскочив из круга слушателей — почти настоящего полковника, краснорожего судьи и многочисленных профессоров без кафедры и дипломов, — он подошел к бедным братьям, которые с потерянным видом взирали на двуногий зверинец. — Хэлло! Что такие невеселые? Не привыкли? Ерунда, сейчас все будет хорошо… надо только пропустить стаканчик виски! Выговорив это заплетающимся языком и развязным тоном пьяного, Боб понизил голос и добавил уже серьезно, обращаясь главным образом к Жану: — Джонни, держитесь! Не сомневайтесь, я помню о вас. Скажите-ка, мой дорогой, как зовут того, кого вы разыскиваете. Вы рассказали мне обо всем, но имени не назвали. — Его зовут Туссен Льбе, — глухо ответил Жан, глотая звуки на манер орлеанских деревенских жителей. — Туссен Льбе, — повторил Боб, стараясь воспроизвести произношение Жана. — Иначе говоря, Лебеф, но у нас в Канаде говорят Льбе. — Хорошо! — вскричал Боб, переходя к прежнему тону. — Эти парни скромнее девиц! Я знавал скотниц более развязных, чем они… но это пройдет! И ковбой вернулся к оставленным собутыльникам, чьи глотки изрыгали всякую чушь, одновременно поглощая спиртное. Братья поняли, что Боб не столь прост, как видится. Он с упоением играл свою роль, получая огромное удовольствие и целиком отдаваясь ей, как это свойственно американцам. Было ясно, что ковбой старается выведать все что можно об их враге. С этого момента они немного успокоились, и шумная вакханалия приобрела некоторый смысл в их глазах. Канадцы так и остались бы сторонними наблюдателями и как-то примирились бы с происходящим, если бы не назойливость бородатого оборванца, говорившего с сильным ирландским акцентом. Он уже некоторое время крутился возле них, желая во что бы то ни стало с ними выпить. Ирландец едва вязал лыко, как и подобает уроженцу «Сестринского острова»[63], и с пьяной тупостью повторял одно и то же: — Эй, чужаки, выпейте со мной… что-нибудь эдакое! Коктейль, а? Не хотите? Тогда джина… Нет? Ну, так виски! — Нет, спасибо, нам не хочется, — поочередно отвечали ему братья. — Может, вам заплатить нечем? Не смущайтесь… я при деньгах… поставлю, если у вас в карманах ветер гуляет… Я люблю помогать бедным… Янки вас ни за что не угостят, а я человек щедрый… Я из королевского рода… Чего смеетесь? Мое имя Патрик О’Брайен![64] — Слушайте, вы, наследник ирландского престола, — вспылил наконец Франсуа, — пейте себе на здоровье, если вам так хочется, и оставьте в покое тех, кто в этом не нуждается! — Арра! — завопил пьяница. — Он оскорбил меня! Американец уже всадил бы вам пулю в лоб за упрямство! Но я человек терпеливый… Выпьете со мной? — Нет! — ответил Франсуа со спокойствием, удивительным для его возраста. — Во второй раз спрашиваю: выпьете? — произнес ирландец, и тон его внезапно стал угрожающим. — Не стоит усердствовать. — В последний раз спрашиваю! — Вы стойте на своем, не так ли? Ну и я также. У меня нет никакого желания глотать всякую дрянь ради вашего каприза. Не стану пить, и не просите! — Бедарра! — взвыл ирландец, хватаясь за кобуру. — Я тебе голову проломлю, желторотый! Франсуа, стремительно протянул руку через стол, ухватил ирландца за бороду в тот самый момент, когда пьяница выхватил кольт. Взревев от боли и унижения, Патрик наставил револьвер на Франсуа, но тот свободной рукой перехватил ствол и спокойно произнес: — Я часто слышал, что во хмелю люди делают глупости… Нечего баловаться с оружием в таком состоянии. Дайте сюда пистолет. Я верну вам его завтра, когда проспитесь. Клокоча от ярости, глубоко уязвленный, Патрик О’Брайен пытался вырваться, с пеной на губах изрыгая кельтские[65] ругательства: — Бедарра! Я сниму скальп с этого молокососа! Щенок от белого кобеля и краснокожей суки! Услышав это, Франсуа изменился в лице, побледнел. — Скажи, младший, — вмешался Жан, такой же бледный и спокойный, как Франсуа, — может, мне выкинуть этого пэдди вон? — Нет, позволь, я сам разберусь с ним. — Будь по-твоему, младший, — уступил Жан. — Но я пригляжу, чтобы никто не сунулся к тебе сзади. Столкновение привлекло внимание присутствующих, и шум вдруг затих. Все взоры обратились на Франсуа, а тот, по-прежнему держа правой рукой за бороду потомка ирландских королей, левой легко обезоружил его. Более рассудительные одобряли действия юноши, восхищаясь его хладнокровием и силой. Другие осуждали за отказ от предложенной выпивки — любой американец счел бы подобный поступок серьезным оскорблением. И, естественно, всюду уже заключались пари на исход схватки. — Отпусти меня, мер-р-р-завец! — рычал ирландец. Но юноша, не обращая внимания на эти вопли, лишь сильнее сжал бороду противника, приподнял его без всяких усилий на вытянутой руке, как держат напакостившую кошку, и подержал несколько секунд в этом смешном положении, а затем отвесил пару увесистых оплеух. — Вот так! — проговорил он под бурное одобрение публики. — Если вам мало, приходите завтра. Получите вдвойне. Вы назвали меня молокососом… Мне и вправду всего шестнадцать лет, и я не обиделся на это… Но иногда молокососы имеют преимущество, мистер бородач. И если вы еще раз посмеете оскорбить меня, я сниму с вас скальп. Эти слова, встреченные громовой овацией, Франсуа произнес со спокойствием и достоинством, не лишенным некоторого лукавства, — удивительными для мальчика. Впрочем, по силе и решимости он ничем не уступал мужчинам. Протрезвевший ирландец обвел блуждающим взором смеющиеся лица и понял, что потерял всех своих сторонников. Однако ему хотелось, чтобы последнее слово осталось за ним. — Мальчишка заплатит мне за это! — крикнул он, пятясь к дверям. — Посмотрим, так ли он ловок в обращении с пистолетом или карабином. — Дуэль? Это мне подходит! — воскликнул Франсуа. — Можно прямо сейчас, если желаете… Почтенные джентльмены посторонятся направо и налево. Я верну вам револьвер, но постарайтесь никого не задеть. — Завтра… когда будет светло, — пробурчал Патрик, припертый к стенке предложениями Франсуа. — Друзья, — вмешался Боб, выныривая из толпы, — оставьте ирландского ублюдка и послушайте меня. Человек, о котором вы говорили, еще утром был в Гелл-Гэпе. — Это точно, Боб? — Я совершенно уверен. Трое джентльменов из моих знакомых видели его и перекинулись с ним парой слов. Он здесь по делам, связанным с приисками. Никто не знает, покинул ли он город, но в любом случае далеко уйти не мог. …Воспользовавшись паузой, ирландец трусливо выскользнул из салуна и побрел по улице, осыпая грязными ругательствами своего молодого, но опасного противника. Неожиданно перед ним вырос какой-то высокий человек и положил ему руку на плечо. Незнакомец стоял у самой стены, слившись с темнотой, и отсюда мог видеть и слышать все, что происходит в салуне. Приняв его за вора, Патрик О’Брайен уже готов был завопить, призывая на помощь. — Тихо! — прошипел незнакомец, догадавшись о намерениях ирландца. — Я — ваш друг. — Но кто вы? — Еще раз говорю, друг! Потому что смертельно ненавижу тех, кто посмеялся над вами. — Правда? — Сомневаетесь? Идемте со мной, и вы все узнаете.
ГЛАВА 5
Два негодяя. — Клевета. — Двести долларов! — Человека убивают за грош. — Негостеприимная встреча. — О глупости черни. — Наследник ирландского престола принимается за работу. — Добровольное отступление. — На берегах озера. — Лок-хаус. — Боб возвращается в Гелл-Гэп.На свежем воздухе Патрик О’Брайен протрезвел окончательно. Таинственный спутник повел его в сторону долины, по течению реки. Прибрежные пески несли на себе следы деятельности золотоискателей. Было пустынно. В эти часы жители города либо разбредались по салунам, либо запирались дома, пытаясь заснуть, несмотря на крики подгулявших пьянчуг и духоту жаркого лета. — Нас никто не услышит? — спросил незнакомец, чья высокая фигура четко выделялась на фоне звездного неба. — Мы одни, — ответил ирландец, стараясь разглядеть лицо собеседника. — Что вы делаете в Гелл-Гэпе? — Работаю на приисках за неимением лучшего. Когда удается намыть золота, пью. Когда не везет, берусь за любое дело. — Словом, любите хорошо выпить и не любите много работать? — Похоже, что вы знаете меня с колыбели. — Прекрасно! Думаю, мы договоримся. Судя по вашим жизненным принципам, вы именно тот человек, который мне нужен. Готовы вы взяться за нетрудную и прибыльную работу? — Еще бы! — Сколько вы зарабатываете промывкой песка? — От шести до восьми долларов в день. Каторжный труд: на солнцепеке, кожа воспаляется, ноги кровоточат, горло забито пылью… — Вы получите столько же, но за гораздо более легкую работу. — Что надо делать? — Прежде всего подчиняться моим приказам. — Это зависит от того, что вы прикажете. — Верно! Вас зовут Патрик О’Брайен… так вы сказали этому молодому негодяю, который обошелся с вами… э… несколько невежливо, да еще при большом стечении народа. — Я дал клятву, что сниму с него скальп! И пусть мне придется всю жизнь пить только воду, если я не сделаю его черепушку гладкой, как тыква! — Вы — тщеславный хвастун и враль, как все ирландцы! — Джентльмен! — Не валяйте дурака! Этот юнец положит вас одной левой. Уж я-то знаю канадцев. — Что дальше? — Не ищите с ним ссоры… от вас мокрое место останется. В разобранном виде вы мне не нужны. — Но такое оскорбление можно смыть только кровью! — Вы смоете, а заодно выполните мое поручение. Моя ненависть сильнее и имеет давнюю историю. Не знаю, каковы планы этой троицы и подозрительного типа, с которым они снюхались, но я не желаю, чтобы они задерживались в Гелл-Гэпе. Нужно скомпрометировать их и сделать невозможным дальнейшее пребывание здесь. Кража лошадей или что-нибудь в этом роде… Вряд ли удастся подвести их под петлю, для этого нужно застукать на месте преступления… Но пусть они будут изгнаны отсюда вместе с этим проклятым ковбоем. Вот этим вы и должны заняться, дражайший мистер О’Брайен! — По правде говоря, это проще пареной репы, джентльмен. Достаточно пройтись по салунам и щедрой рукой заплатить за выпивку всем жаждущим… — Для этого нужны деньги, не так ли? — В высшей степени справедливо замечено. И… это все? — Это только начало. — В самом деле? — Вас все еще мучит жажда? — Ваша милость изволит смеяться надо мной? — Ничуть. Идите по салунам и наймите шестерых или семерых лихих ребят… головорезов, которым все нипочем. У вас должны быть приятели такого сорта. — За полчаса я могу собрать двадцать человек. — Остановимся на семи. Вы, их начальник, будете восьмым. Заманите канадцев в ловушку… желательно подальше от города, чтобы шериф не смог вмешаться. — И? — Убейте их. Вот вам две пачки — каждая по сто долларов. Получите столько же, когда представите несомненные доказательства, что с молодыми мерзавцами покончено. — Двести долларов! Дьявольщина! Вы удивительно щедры, хозяин. В этих местах человека могут убить за грош. — Я поручаю вам трудное дело и хочу, чтобы оно было хорошо выполнено. — Поработаем на совесть, хозяин, не сомневайтесь. — И не вздумай обмануть меня. Мои люди умеют идти по следу, а скальпировальным ножом владеют виртуозно. — Будьте спокойны. Здесь в дело вступают две мощные силы: ненависть и деньги. Где я смогу найти вас в случае надобности? — На двери вашей халупы нарисуйте голову быка[66] и тем же вечером приходите к телеграфному столбу, на котором повесили Боба Кеннеди. Там вас будут ждать — или я сам, или человек от меня. Можете ему смело доверять. Равным образом, если вы понадобитесь мне, я нарисую голову быка на ваших дверях, и встреча состоится там же. — Договорились. — А теперь прощайте. Ждите новых распоряжений. Идите направо, а я сверну налево, и, если вы дорожите своей шкурой, не пытайтесь выяснять, кто я такой. Пока ирландец и незнакомец плели заговор против канадцев и их друга Боба Кеннеди, в салуне завершалась грандиозная попойка, устроенная в честь последнего. Поздно вечером вся компания отправилась к шерифу, причем юноши не смогли скрыть вздоха облегчения. Они были совершенно измучены и, проведав лошадей, улеглись спать в деревянной пристройке наподобие крытой веранды. На закате следующего дня истекал срок, предоставленный шерифом Бобу Кеннеди. Ковбой хорошо знал нрав своих сограждан и понимал, что отсрочка даже на один час совершенно невозможна. Ровно в семь часов сорок пять минут договор, заключенный по обоюдному согласию между ним и шерифом, утратит силу. Тогда ни положение гостя, ни совместная попойка не спасут его от ареста, если он вздумает задержаться хотя бы на несколько минут. Впрочем, Боб не терял времени даром, чтобы отыскать таинственного Туссена Лебефа. Однако с момента появления трех братьев этот человек исчез. Несомненно, нечистая совесть подсказала ему, что следует укрыться в надежном месте, пока опасная троица находится в Гелл-Гэпе. Но он, безусловно, оставался в городе. Рано или поздно ему придется заплатить за все, ибо нельзя раствориться бесследно в небольшом поселении, где насчитывается всего две тысячи жителей. К несчастью, Бобу предстояло уехать. Хотя знакомство с ним длилось всего несколько часов, братья успели понять, как трудно им будет без поддержки ковбоя. Друзья договорились, что Боб станет ждать вестей на берегу озера Дьявола — на безопасном расстоянии от города, но все же достаточно близко, чтобы в нужное время прийти на помощь братьям. Сами же они поживут здесь, пока не отыщут своего врага. Им не хотелось злоупотреблять гостеприимством шерифа, поэтому было решено перебраться в гостиницу. К их удивлению, хозяин встретил естественную просьбу о предоставлении ночлега с явным смущением, хотя ему доводилось давать приют людям куда более подозрительным. Лицо его омрачилось, и, отведя взгляд в сторону, он стал жаловаться на отсутствие свободных комнат, придумывать другие отговорки, увиливать от прямого ответа, а в конце концов прямо заявил, что не может принять братьев у себя. — Мы заплатим вперед! — нахмурясь, резко сказал Жан. — Послушайте, чужестранец, — проговорил хозяин, которому было явно не по себе, — не уговаривайте меня. После вчерашней ночи тут многое болтают. Мне не хотелось бы разориться, а, впустив вас, я рискую остаться на пепелище. Кто знает, какие у вас дела. Я видел, чего вы стоите. Вы за себя постоять сумеете. — Черт меня побери, если я что-нибудь понимаю в вашей болтовне! — Вы хотя и молоды, но рассудительны, — добавил хозяин, хитро подмигивая, — однако будьте осторожны. Ваше дело может оказаться опасным. — Шериф поручится за нас! — Если шериф сделает это, я в полном вашем распоряжении. Однако, вопреки ожиданиям Боба и метисов, шериф встретил их довольно холодно. — Остаться в Гелл-Гэпе? Даже и не думайте! — заявил он напрямик. — Но именно таковы наши намерения. И мы хотели просить вас о поручительстве. — Невозможно! Совершенно невозможно… — Но почему? Разве мы не в свободной Америке, стране, которая принимает всех обездоленных? — Это всего лишь слова! В Гелл-Гэпе вам грозит опасность. Послушайте меня и уезжайте отсюда хотя бы на время. — Это приказ или совет? — Совет, конечно. Поверьте, я принимаю в вас участие, вы мне нравитесь, равно как и этот сорвиголова Боб. Будет очень жаль, если с вами случится беда. Кто-то задался целью выжить вас отсюда и действует с невероятным упорством, с потрясающей ловкостью. Короче, вот уже несколько часов поговаривают, что вы связаны с бандой конокрадов, которая совершает налеты на соседние ранчо. Их владельцы настолько озлобились из-за непрерывных краж, что вешают без разбора всех, кто попадается им в руки. — Подлая клевета! Мы лишь неделю назад пересекли канадскую границу, преследуя предателя, который убил нашего отца! — Не сомневаюсь в вашей невиновности и в благородстве ваших помыслов. Однако слухи не унимаются, и вы вполне можете оказаться в ситуации, которая едва не стоила жизни Бобу. Вам не следует здесь задерживаться. Я ничего не смогу сделать, если клеветники натравят на вас толпу. Уж вам-то это хорошо известно, не так ли, Боб? — О, мой случай все-таки несколько иного свойства… я не святой. Но, как бы то ни было, мне стыдно за моих земляков, столь странно понимающих гостеприимство. Эх! Если бы со мной была хотя бы сотня ковбоев из Блэкхилла! Мы бы живо перетряхнули ваш проклятый Гелл-Гэп! Но на нет и суда нет! Шериф, вы были добры ко мне, и я этого никогда не забуду. Прощайте! — Прощайте, Боб! — проговорил магистрат, протягивая руку вчерашнему висельнику и нисколько не опасаясь уронить тем свое достоинство. — Прощайте и вы, молодые люди, будьте осмотрительны. Потерпите, со временем все уладится. Через четверть часа друзья покинули негостеприимный Гелл-Гэп. Они были огорчены неожиданным поворотом событий, но старались не показывать виду, выехав за два часа до окончания условленного срока. Боб Кеннеди возглавил маленький отряд, так как хорошо знал окрестности молодого города. Больше часа лошади шли крупной рысью по жесткой сочной траве, которую в этих местах называли «бизонья». Вскоре путники оказались на берегу озера. В ста метрах от него стоял деревянный домик на гладкой, словно ладонь, площадке среди подстриженной и вытоптанной травы. Лок-хаус имел пять метров в длину и три в ширину. Бревенчатые стены достигали двух метров в высоту, крыша была кое-как завалена рыжеватым дерном. С правой и с левой стороны вкопаны колья с поперечинами, к ним привязывали лошадей. Внутри дом оказался абсолютно пуст. Пять или шесть колышков, вбитых в стену, предназначались для оружия и конской упряжи. Через отверстия в крыше в домик проникали лучи заходящего солнца. Стоял июнь. В Дакоте зимой мороз бывает до 40°, а летом температура поднимается до 40° выше нуля. Итак, по верному замечанию Боба, можно было не опасаться ночевать здесь: никто не рисковал отморозить руки или даже подхватить насморк. Потных лошадей, покрывшихся пеной после утомительной скачки, расседлали и оставили пастись. — Здесь мы можем чувствовать себя совершенно свободно, как дома, — объявил Боб, щелкнув несколько раз страшным ковбойским кнутом, чтобы отогнать гремучих змей, приползших сюда в поисках прохлады. — Владелец этого дома Армур был моим лучшим другом. К несчастью, его убили месяц назад во время стычки на ранчо Поркупин. Какой-то парень влепил ему пулю между глаз. Великолепный выстрел, доложу я вам! Словом, дом теперь свободен, и мы можем его занять. Здесь будет наша штаб-квартира. — Не кажется ли вам, Боб, — спросил Жан, — что мы забрались слишком далеко от города? — Расстояние не имеет значения. — Хорошо вам говорить! А если негодяй ускользнет? — Мы последуем за ним. — А если потеряем след? — Как потеряли, так найдем. — Есть хорошая поговорка: лучше синица в руках, чем журавль в небе. — Это истинная правда. Поэтому я и предлагаю вам не гоняться за журавлем, а набраться терпения и ждать. Вы рыбу ловить любите? — Еще бы! А почему вы спрашиваете? — А умеете? — Черт побери! Мы же канадцы. — Так вот, друзья мои, с завтрашнего дня вашим основным развлечением станет рыбная ловля. У меня в сумке есть несколько крючков и превосходная леска. Расскажете потом, хороша ли снасть. — Вы смеетесь, Боб! Ловить рыбу, когда идет такая большая игра! — Что до меня, я возвращаюсь в Гелл-Гэп, едва только стемнеет. — Вы не пройдете и десяти метров, как будете узнаны, схвачены и повешены! — Как только я выясню, что происходит в этой гнусной дыре под названием Гелл-Гэп, то сразу же вернусь и сообщу вам новости. Если предчувствие меня не обманывает, мне будет о чем рассказать вам. Ждите меня к завтраку — скажем, часам к одиннадцати. В этом озере водятся изумительные лобаны: поймайте двух-трех и зажарьте. А я сейчас приготовлю вам лепешки из муки на топленом сале. У меня походная сковорода. Откроем банку солонины из запасов бедняги Армура и пообедаем не хуже лордов в старой доброй Англии. Сказано — сделано. Боб, сама пунктуальность, отправился в путь ровно в восемь часов тридцать минут, крепко пожав руки ошеломленным братьям.
ГЛАВА 6
Что он за человек? — Ожидание. — Тревога. — Индеец. — Комедия, которая едва не обернулась трагедией. — Пойман лассо. — Это Боб! — Мужья индианок. — Тонкая дедукция[67].— Хитроумный преследователь. — Таинственный разговор. — Как ковбой распорядился своими тремя днями. — Мистер Джонатан.Братья, сами того не сознавая, подпали под сильное влияние этой странной личности — Боба Кеннеди. С момента их появления на американской земле события происходили столь стремительно и были так тесно связаны с ковбоем, что у канадцев не было времени остановиться и обдумать положение. Осторожные и рассудительные не по летам, они в обычных обстоятельствах никогда бы не свели знакомства с таким подозрительным типом. Даже в столь причудливой стране, как Америка, телеграфный столб и веревка на шее не лучшая рекомендация для порядочного человека. Однако сложилось так, что Боб, несмотря на темное прошлое, подозрительные связи, двусмысленное поведение и плачевную репутацию, сразу вошел к ним в доверие. В нем кипела неиссякаемая энергия, он досконально знал нравы здешних мест и изо всех сил старался быть полезным. А главное, он был обязан им жизнью. Люди часто привязываются к тем, кому сделали добро. Подобные узы оказываются куда прочнее, нежели те, что основаны на чувстве долга. Вмешательство ковбоя в дела братьев поначалу показалось им неприятным. Человек не всегда волен выбирать помощников, но им претила мысль, что этот авантюрист будет каким-то образом связан с памятью об убитом отце и преданной родине. Однако судьба, что связала их, вмешалась еще раз, подвергнув общей опасности. Отныне им предстояло делить и радость и горе. Поэтому, несмотря на вполне обоснованное предубеждение, они не отвергли протянутую руку. Боб отличался искренностью. Всякий, кто знаком с нравами американских ковбоев, у которых с множеством пороков уживаются воистину замечательные качества, мог твердо сказать, что этот парень никогда не предаст друзей. В нем, как и во многих подобных искателях приключений, было что-то от кондотьера[68],— наемника, что необязательно служит тому, кто хорошо платит, но порой действует совершенно бескорыстно, по сердечному влечению. Чувствуя это, братья поверили Бобу. Однако это чувство подверглось суровому испытанию в первые же три дня. Боб уехал ближе к ночи, через несколько часов после того, как канадцы водворились в заброшенном доме на берегу озера. Он обещал вернуться на следующий день к одиннадцати. Послушавшись его, братья принялись за рыбную ловлю. Их успехи превзошли самые смелые ожидания. К назначенному часу было готово жаркое из рыбы — подлинное пиршество для ихтиофагов[69]. Трое сотрапезников терпеливо ждали четвертого, но тот не появился. Не пришел он и к вечеру. Там протянулось три дня, и постепенно беспокойство, нарастая, превратилось в смятение. По сотне раз на дню Жан, Жак и Франсуа выглядывали за дверь жилища, поднимались на ветхую кровлю, чтобы осмотреть окрестности, но при этом не решались высказать друг другу вслух свои сомнения, хотя каждого терзали мрачные предчувствия. Боб слишком рисковал, отправившись в Гелл-Гэп, где жители проявили к нему такую враждебность. Бедняга Боб! Неужели самоотверженность стоила ему жизни? Но вот одна из канадских полукровок, щипавших траву поблизости, подняла голову, втянула ноздрями воздух, тряхнула гривой и отрывисто заржала. На ее голос отозвались другие, и великолепно выученные животные крупной рысью направились к дому. В пустынной местности конь может почуять чужака не хуже, чем собака, и предупредить о его появлении хозяина. С седлами и уздечками братья мигом оказались на дворе и стали рядом с лошадьми, намотав на руки поводья и выставив карабины. На границе предосторожность никогда не бывает излишней: здесь, как в никаком другом месте, познается справедливость знаменитого изречения «vis pacem, para bellum»[70]. Вдалеке показался человек. Увы, он шел пешком. Ложная тревога, напрасная надежда. Незнакомец приближался неспешным широким шагом. За спиной висел карабин с темным стволом и сумка, похожая на солдатский ранец. Голову украшала серая фетровая шляпа, на такую не польстился бы даже старьевщик. Из-под нее торчали блестящие черные волосы, заплетенные в длинные косы; лицо разрисовано красными, синими и черными разводами — свидетельством принадлежности к племени сиу[71]. Это был самый настоящий индеец, одетый в оборванную красную рубаху и рыжие кожаные штаны того покроя, что называется «оскальпированным» — две брючины без верха удерживались грязной тряпкой, пропущенной между ног. Походка выдавала прирожденного наездника — он шел, выворачивая ступни. Однако зоркие наблюдательные юноши обратили внимание на одну частность: его оружие выглядело безупречно ухоженным, что в общем-то не свойственно коренным жителям сих мест. Сиу остановился в пяти-шести шагах от настороженных метисов и, желая показать, что явился с миром, вынул руки из карманов, не дожидаясь приказания. — Что нужно моему брату? — спросил Жан на правах старшего. Не отвечая, индеец выпустил изо рта длинную черноватую струйку слюны и тяжело задумался, словно подыскивая слова. Он жевал табак подобно чистокровным янки. — Мой брат знает Боба? — спросил краснокожий на ломаном английском. — Да. — Боба-конокрада? Плохая ковбой… снимать скальп с индейцев… — В чем дело? — резко прервал Жан. — Что с Бобом, нашим другом? — Боб — не друг сыновьям Новой Франции…[72] Боб предатель. Выдать вас людям из города. — Ты лжешь! — Клянусь моим тотемом[73], голубой черепашкой со дна озера Минни-Вакан[74]. — Жак, — сказал Жан брату по-французски, — эта птица должна очутиться в силке. Возьми-ка лассо… А ты, Франсуа, сними шомпол со своего винчестера. Надо всыпать ему по оскальпированным штанам. Краснокожий смахивает на Иуду. Если его сцапать и высечь как следует, он скажет правду. С молниеносной быстротой на индейца набросили лассо. Братья действовали удивительно слаженно, с невероятной ловкостью и силой, которую трудно было предположить в юношах, почти подростках. Железный прут взвился над пленником и обрушился вниз, оставив на коже лиловый рубец. — Боб — наш друг, мерзавец, и ты получишь по заслугам! — проворчал Франсуа. — О! — вскрикнул незнакомец, чей тон и поведение разительно изменились. — Не бейте! Фрэнк, Джим[75], снимите с меня это чертово лассо… Комедия окончена! Франсуа в изумлении выпустил из рук шомпол, а Жак — лассо. Жан проговорил, заикаясь: — Да это же Боб! Чертов Боб! — Он сам себя не узнал бы в таком обличье! — заметил Жак, распутывая лассо, чтобы освободить лжеиндейца. — Мы так беспокоились, дружище! — добавил Франсуа, с силой сжимая его ладонь. — Уф! Полегче! От рукопожатия такого силача, того и гляди, хлынет кровь из-под ногтей. — Наш смелый друг! — воскликнул Жан. — Как мы рады вас видеть! Я бы обнял вас, но вы так ужасно намазались… — Так-то будет лучше! Вы собирались задать мне знатную трепку! — Боб смеялся и старался шутить, чтобы скрыть свои чувства. — Как глупо! — проговорил он дрогнувшим голосом. — Ваше доверие, искренняя симпатия, то, как вы бросились на мою защиту… при мысли об этом во мне все переворачивается… Черт побери! Как здорово, что я заявился сюда в этих лохмотьях и разыграл маленькую комедию! — Но где вы были? Что случилось? Ведь прошло целых три дня! Но главное вы теперь здесь. Однако какой нелепый наряд! — Ловко я изобразил краснокожего? — Куда уж лучше! Вы обманули даже нас, метисов! А где ваша лошадь? — Украли. Подозреваю, что к этому приложил руку бывший хозяин, тот самый блюститель, что вешал меня. Но это не страшно. Добуду себе другую. Я опоздал, зато набит новостями, словно почтовое отделение. — Нужно расседлать лошадей. Пойдемте в дом, закусим и поговорим. — Нет, пусть стоят наготове. Привяжите их около дома. Всякое может случиться. — Говорите же, Боб! Мы вас слушаем. — Так вот. Оставив вас, я отправился на окраину Гелл-Гэпа к другу, с которым в былые, менее счастливые времена, я разбойничал в этих местах. Это верный человек, хотя и отъявленный негодяй. Чтобы изменить внешность, пришлось перевоплотиться в индейца. Это довольно просто, особенно для нас, тех, кто взял в жены индианку. Их племя считало нас своими. Мы, право, недурно изучили язык и обычаи индейцев, вплоть до танцев и тайных обрядов. И вот я вырядился индейцем сиу и, как говорят в театре, полностью вошел в роль. Друг снабдил меня двадцатью долларами. — Эх! — прервал его Жан. — А я-то отпустил вас без цента![76] — Если будете мне мешать, я никогда не закончу. Итак, я направился в салун, где произвел-таки впечатление… Уже давно индейцы не появляются в Гелл-Гэпе. Меня окружили полковники, судьи, профессора, доктора — словом, все титулованные господа, каких в моей стране пруд пруди. Я позволил им напоить себя и стал морочить голову дурацкими историями, как и подобает настоящему дикарю. Между тем я заметил сидящего в углу ирландца — того самого подонка, кому вы наподдали. Он пил в одиночестве, что показалось мне весьма странным, и все время поглядывал на стенные часы. «Этот человек после того, как его отделали, наверняка стал врагом», — подумал я. Он страшно злопамятен, этот пэдди. Я его хорошо знаю, в нем яда столько, что хватит на целое гнездо гремучих змей. Он пил мало — стало быть, боялся захмелеть. Смотрел на часы — значит, опасался пропустить время встречи. — Очень тонкие и верные наблюдения, — заметил Жан, — ваша логика безупречна. Вы — настоящий следопыт! — Ну, это пустяки, — отмахнулся Боб, — тем временем я влил в себя около дюжины стаканов. Такая доза уложила бы на месте менее закаленного выпивоху. Затем я вышел… внезапно, будто мне стало плохо… проделал несколько номеров, изображая мертвецки пьяного, а потом рухнул на спину, раскинул руки и ноги и захрапел, словно медведь, обожравшийся медом. Но при этом один глаз не закрывал. Через четверть часа ирландец вышел, держа руку на кобуре и поминутно оглядываясь, как бы опасаясь слежки. Я двинулся за ним той легкой неслышной поступью, которойвосхищались даже индейцы. Так мы шли семь-восемь минут и оказались… ставлю один против ста… ни за что не догадаетесь! Мы оказались около телеграфного столба, чью высоту мне довелось измерить при помощи пенькового галстука. Около этой проклятой деревяшки уже кто-то стоял… Разговор велся почти шепотом… с превеликими предосторожностями я подполз поближе, и мне удалось разобрать несколько слов… кажется, было названо ваше имя, затем я уловил слова: «трое братьев», «проклятые метисы», «покончить с ними», «доллары», «след»… Конечно, хотелось услышать больше, но любое движение могло выдать мое присутствие. Впрочем, разговор продолжался недолго. Через десять минут они уже договорились. Но о чем? Вот вопрос. Потом парочка разошлась. Я дал пэдди улизнуть, а сам последовал за вторым. С ирландцем-то было просто, я выследил его играючи. Но второй знал дело как свои пять пальцев — так говаривал мой приятель Реми, парижанин, которого оскальпировали черные котелки. Десять раз он отскакивал в сторону с револьвером на изготовку, дышал мне почти что в лицо. Короче, настоящий дикарь: недоверчивый, ловкий, с тонким слухом. Однако мне удалось его обмануть. Мы играли в кошки-мышки не меньше двух часов, трижды обогнули Гелл-Гэп, преодолевая равнину, перекопанную золотоискателями, и, наконец, он скрылся в роскошном доме — самом красивом в городе, расположенном за зданием суда. Уф! Время было уже позднее, а я буквально валился с ног, так что пришлось улечься попросту возле церкви в компании с пьяными парнями, они в жару часто дрыхнут под открытым небом. Слишком долго рассказывать, как мне удалось увидеть этого загадочного типа, подобраться поближе, чтобы удостовериться, что вчерашний голос принадлежал именно ему, собрать сведения: на что живет, откуда явился, как у него обстоят дела с финансами — хотя бы приблизительно… Скажу только, что на все и понадобилось три полных дня. Я продвигался вперед маленькими шажками, был терпелив, как настоящий краснокожий. Маскарадный костюм сделал меня неузнаваемым, но зато изрядно мешал в расспросах. — Боб, опишите нам внешность этого человека, раз вы его видели. Кажется, я догадываюсь, кто он, да и вы, братья, наверное, тоже? — произнес Жан. — Ему лет сорок пять, крепкого сложения… можно сказать, гигант… не уступит вам, друзья мои. Сильный, как бизон, ловкий, как пантера. Довольно красивое лицо, открытое и приветливое… на щеках щетина месячной давности, видно, хочет отрастить шкиперскую бородку, какой так любят щеголять мои сограждане. Похоже, стремится выглядеть как настоящий янки. — При этом лживые глаза и небольшой шрам на левой щеке? — Глаза светло-серые и действительно лживые… Шрам на месте, но со временем его прикроет борода. — Сомнений нет, это он! — вскричали братья. — Вы забыли о главной примете, друзья. Он метис, в нем течет кровь белых и индейцев. — И его зовут Туссен Льбе, не так ли? — Нет, он обитает здесь под именем мистера Джонатана, но это не фамилия. Его хорошо знают местные жители. Мой друг, сообщивший кое-какие дополнительные сведения, утверждает, что он один из главных заправил контрабандного бизнеса. Товары доставляются из Канады в Америку, и торговля достигла огромных масштабов. — Так вот где причина его таинственных отлучек! Отец давно подозревал нечто в этом роде. Рынок в Батоше был лишь прикрытием. К тому же он владеет еще одним домом в Буасвене… — Маленький городок в четырех-пяти милях от границы, конечный пункт на линии Виннипег — Розенфельд — Маниту? — Именно так. — В завершение скажу, что мистер Джонатан богат. Говорят, он только что скупил половину земель в устье Мовез-куле. Этот человек уже сейчас стоит не меньше ста тысяч долларов, а через год, возможно, станет миллионером. — Это мы еще посмотрим! — проворчали братья, сжимая кулаки.
ГЛАВА 7
Двойная жизнь Туссена Лебефа. — Контрабандист, вор, предатель. — Цена крови. — Боба выследили. — Фантастические планы. — Подготовка. — Пьяное воинство. — Смерть им! — Осада Лок-хауса. — Боб вступает в переговоры и получает первую пулю.Мелкий коммерсант из Батоша, готовый на любые преступления, не был, конечно, первым, кто под видом скромника из франко-канадского селения скрывал невероятное коварство. Он был хитер, изворотлив, не ведал угрызений совести, однако лез из кожи вон, чтобы сохранить внешнее обличье порядочного человека. Только в последнюю минуту открылась истинная сущность отпетого негодяя. Хотя тщеславие его было непомерным, а алчность переходила всякие границы, он всегда умел подчинять их обстоятельствам и никогда не торопил события. Поэтому ему так долго удавалось сохранять видимость человека бескорыстного и верного. Его главная, если не единственная, сила состояла в том, что он умел ждать. От своих предков, индейцев и крестьян из Нижней Нормандии[77] Лебеф получил качества, характерные для обеих рас: вместе с европейской кровью унаследовал осторожность, последовательность, упорство и расчетливость, а от краснокожей родни к нему перешли хитроумное коварство, неумолимая решимость и свирепое хладнокровие. С виду добродушный и покладистый, приветливый и веселый, он ради выгоды не остановился бы перед убийством лучших друзей, уничтожением города или страны, истреблением целого народа — но при условии, что это не повлекло бы за собой излишнего риска. В случае опасности нормандская предусмотрительность всегда одерживала верх над индейской кровожадностью. Живя среди людей доверчивых до простодушия, верующих до наивности, бескорыстных до самоотречения, он легко улавливал их в свои сети и обманывал без всяких усилий. Именно поэтому ему удалось быстро сколотить начальный капитал: не составляло труда обирать отважных метисов, совершенно не испорченных цивилизацией. Они были доверчивыми ягнятами, сами приходили с просьбой остричь себя; безобидными птахами, подставляющими крылышки, чтобы он мог выщипать перья. Негодяй стал преуспевать, наживаясь любыми способами и держа это в тайне ото всех — возможно, и от собственной жены. Сведения, добытые Бобом, были верны. Туссен действительно входил в шайку контрабандистов — могущественную и хорошо организованную. Его вклад в общее дело оказался неоценимым, и вскоре метис уже сделался вожаком одной из преступных ассоциаций, получавшей огромные барыши. Его люди занимались прокладкой железных дорог и разработкой приисков, что служило ширмой для контрабандных операций. Акционеры действовали безжалостно, убирая всех, кто вставал у них на пути. Туссен Лебеф превратился в настоящего капиталиста под именем мистера Джонатана, что звучало вполне по-британски, и подумывал о расширении дела. Не то чтобы он пренебрегал мелкими доходами, но с некоторых пор торговля в Батоше потеряла значение в его глазах. К тому же селение метисов располагалось слишком далеко от Буасвена — центра канадо-американской контрабанды. Туссен чувствовал также по различным, еще не вполне ясным признакам, что его народу грозит уничтожение. При таких обстоятельствах самым разумным было бы навсегда распроститься с родными местами, окончательно утвердившись в новом качестве. Однако тут вспыхнуло очередное восстание «угольков», они, устав ждать справедливости от властей, взялись за оружие. Мистер Джонатан находился в то время на американской территории, но немедленно пересек границу и, сбросив личину янки, вновь превратился в старину Туссена Льбе и занял место среди повстанцев. Никого это не удивило. Все хорошо знали Туссена — отважного бунтаря и пламенного патриота, чьему рвению мог позавидовать любой из «угольков». Пожар восстания охватил Бакхэм, Кэрлтон, Бэтлфорд — однако главной цитаделью сопротивления оставался Батош. Патриот! Но и это было всего лишь маской. Негодяю были одинаково безразличны и метисы, и захватчики-оранжисты. Наблюдая за яростной борьбой двух вражеских партий, он думал только об одном — какую выгоду можно извлечь из этого столкновения? После неудачного начала военных действий генерал Мидлтон осадил Батош. Туссен не мог упустить такую блистательную возможность. Ему помогла отвага земляков. Благодаря героизму метисов Батош имел шансы выстоять, а штурм селения стоил бы генералу слишком больших жертв. Старина Туссен знал, что стратегия англичан нередко включает в себя подкуп. Он помнил о недавнем сражении при Тель-эль-Кебире, когда несчастные арабы потерпели сокрушительное поражение из-за предателей, подкупленных генералом Уолсли, — давний враг метисов одержал, таким образом, легкую победу в Египте[78]. Темной ночью негодяй отправился к Мидлтону и напрямик предложил свои услуги. Английские войска были изрядно потрепаны, поэтому генерал, преодолев первоначальное отвращение, вступил в сговор с изменником, обещав ему десять тысяч долларов. Читатель знает, как Туссену удалось подложить мину под баррикаду и взорвать ее. Но это было не все. Друг Туссена Батист доверил ему точно такую же сумму, естественно, без всякой расписки: как и все «угольки», он свято верил данному слову. Перед тем как бежать, Туссен убил товарища выстрелом в спину. Помимо прочего, негодяй опасался, что Батист, оставшись на баррикаде, сумеет проникнуть в его тайну. Такой человек, как Батист, никогда не просгил бы предательства и расквитался бы с ним за содеянное, даже если бы пришлось ждать десять лет. Одним ударом Лебеф избавился от опасного свидетеля и прикарманил кругленькую сумму. В целом операция принесла ему двадцать тысяч долларов. Вот каким образом мистер Джонатан за один день приобрел значительный капитал. Воистину восстание «угольков» оказалось ему весьма на руку. Затем он поспешно скрылся, что не составило большого труда, ибо метисы, преследуемые генералом Мидлтоном, были слишком озабочены собственным положением и не вспоминали о Туссене. Все, кроме троих. Луи Риль отпустил сыновей Батиста, так как понимал, что дело проиграно, и эти бойцы уже ничего не решат. Братья отправились на поиски Туссена и, вопреки всем ожиданиям, сумели добиться невероятного, выследив негодяя. Таким был человек, что сыграл роковую роль в трагедии Батоша и стал одним из основных участников достоверной истории, о которой речь еще впереди.
Познакомившись, даже в самых общих чертах, с характером мистера Джонатана, легко понять, как он чувствовал себя в молодом городе у озера Дьявола, куда стекались беспокойные, чрезмерно возбудимые и взвинченные люди, от которых можно было ожидать всего. Вечно подозрительный, он удвоил осторожность, поселившись в том самом доме, где располагался основанный им недавно банк с уже солидным капиталом. Персонал был невелик, но вполне надежен: служащим хорошо платили и они были лично заинтересованы в успехе предприятия, что служило гарантией их верности. Сверх того, мистеру Джонатану сообщали обо всем, что происходит в Гелл-Гэпе — в частности, обо всех перемещениях, приездах и отъездах. Как и всякий человек с нечистой совестью, он держал собственную полицию. Естественно, Туссен сразу же узнал о появлении трех братьев и предпринял меры, чтобы изгнать их из города, а затем и уничтожить. Оплаченные им клеветнические измышления принесли свои плоды, чему, надо сказать, способствовала дружба молодых канадцев с достаточно печально известным Бобом Кеннеди. На время Туссен избавился от них, но прекрасно понимал, что добился лишь небольшой передышки. Он знал упорство братьев и интуитивно чувствовал, что они где-то рядом, а потому остерегался, как никогда, послав по следу лучших своих ищеек. До него дошли сведения о появлении в Гелл-Гэпе индейца, что привлекло всеобщее внимание. А Бобу, чтобы разузнать о мистере Джонатане, приходилось расспрашивать о нем многих людей. «Почему этот индеец интересуется мной?» — вполне резонно спрашивал себя Туссен, в каждом готовый видеть врага. Лебеф велел следить за ковбоем и пришел к выводу, что загадочный краснокожий явно преследует определенную цель. Кто же он? Переодетый таможенный агент? Или же настоящий индеец, получивший от белых поручение разузнать о его контрабандных сделках? В любом случае следовало установить, откуда тот взялся и где скрывается, а затем без промедления избавиться от него. При всем своем чутье Боб не смог обмануть опытных следопытов и беспечно привел за собой шпиона прямо к дому. К тому же у друга Боба — того самого, у кого он гримировался под индейца — оказался слишком длинный язык. С наилучшими намерениями, желая выставить Боба в выгодном свете, тот принялся болтать о его приключениях в салунах, вовсю подшучивая над легковерными жителями Гелл-Гэпа. Пьяные речи немедленно довели до сведения мистера Джонатана, и истина предстала перед ним, словно при свете молнии: Боб и его знакомство с юными метисами… Нетрудно понять, что мог предпринять Туссен, сделав такое открытие. Вдобавок ему стало известно и о заброшенном доме на берегу озера… Но вернемся в маленький Лок-хаус. День, а затем и ночь после возвращения Боба прошли без происшествий. Друзья строили самые невероятные планы — увы, большей частью совершенно неосуществимые, а главное, слишком поспешные, поскольку мстители не могли выжидать и должны были торопить события. Прошел еще день, но они так и не продвинулись ни на шаг. Будучи людьми действия, по-юношески безрассудными и уверенными в своей правоте, метисы склонялись к тому, чтобы совершить вылазку на свой страх и риск. — К чему столько рассуждений, — говорил Жан, словно бы подводя итоги обсуждения. — Не проще ли отправиться в Гелл-Гэп, по возможности изменив внешность, подстеречь подонка или выманить его под каким-нибудь предлогом, а затем заколоть кинжалом прямо на улице! Урезонивать братьев пришлось Бобу, хотя тот и сам не знал удержу, предпочитая решительные меры. — В этом есть смысл, — ответил он, — и план совсем неплох. Но вы здесь чужаки. Ни один судья не оправдает вас, даже если вам удастся ускользнуть от блюстителей, линчующих на месте. — Но ведь и он пришлый человек! — Будьте уверены, у него давно американское гражданство! Терпение! Подождите хотя бы два дня. Я собираюсь еще раз навестить этот проклятый город. Нужно только обновить раскраску, которая несколько вытерлась после моего возвращения. С этими словами ковбой достал из сумки принадлежности, необходимые для туалета краснокожего щеголя, и принялся за работу. Закончив, он вышел из Лок-хауса, чтобы друзья могли на расстоянии оценить плоды его искусства, и вдруг вскрикнул от неожиданности. — Что все это значит? — Что такое? Что случилось? — К нам гости, и вдобавок вооруженные! Я не люблю подобных штучек… Не высовывайтесь, встаньте у щелей! Между бревнами оставались большие зазоры, куда вполне можно было вставить дуло карабина. Двор хорошо просматривался. Человек пятьдесят, а то и больше, окружали дом, рассредоточившись широким полукругом. — Кажется, нас собираются атаковать, — заметил Жан. — Похоже на то! — откликнулся Боб из-за двери. — У нас четыре восьмизарядных винчестера, итого: тридцать два выстрела. Мы — неплохие стрелки. Многие из них останутся лежать здесь, на траве. — Вы забыли о револьверах… двадцать четыре выстрела. Тридцать два и двадцать четыре… всего пятьдесят шесть. — Вы считаете превосходно, друг мой, однако револьвер… Э! Что они там кричат? Издалека донеслись воинственные вопли: — Смерть им! Смерть Бобу! Смерть метисам! — И эти люди считают себя цивилизованными! — Боб презрительно пожал плечами. — Однако они называют мое имя, черт побери! Значит, меня узнали… плакал мой маскарадный костюм! — Смерть им! Смерть! — У них довольно однообразные шутки, — невозмутимо произнес ковбой. — А что, если мы откроем огонь? — воскликнул Франсуа, судорожно сжимая карабин. — Терпение! Мы в укрытии, а они нет. — Но они уже в двухстах метрах! — Именно поэтому я могу разглядеть их. Да здесь все отребье Гелл-Гэпа! Остин Райен, кузнец… Стивен… Ник… Гарри Филд… Дик Фергюстон… золотодобытчики… все шлаки[79] с приисков… И ковбои… ну не позор ли это для нашей корпорации! Мой товарищ Дик… Лоуренс, тоже мой приятель… и Питер! И Мэт! Напились как свиньи! Ну и ну! Неужели придется перебить их всех? — Ладно, Боб, — прервал его Франсуа, — хватит болтать! Они подходят все ближе. — При первых же выстрелах они повалятся в траву и залягут там до ночи. А на штурм пойдут, когда стемнеет. — Не можем же мы позволить, чтобы с нами разделались, как с цыплятами! — Послушайте, у меня есть мыслишка… очень простая, но почему бы не попробовать! Если ничего не получится, от меня останутся одни воспоминания… тогда выкручивайтесь сами, как знаете. — Вы забываете, дружище Боб, что все мы заодно… — Э, надо рискнуть… впрочем, в случае чего они тоже дорого заплатят! — Что вы собираетесь делать? — Вступить в переговоры. — С этой перепившейся сворой? Они же вне себя от ярости! Послушайте, как они вопят! — Горланят здорово, надо отдать им должное. Но они остановились. Видите ли, если бы тут были только золотоискатели, то не стоило бы и пытаться. Но я насчитал около двадцати ковбоев. Похоже, они колеблются. Если мне удастся отговорить их… пусть хотя бы не вмешиваются! Атакующие и в самом деле остановились в ста метрах от дома, где скрывались осажденные с лошадьми, и, подобно героям Гомера[80], принялись поносить невидимых врагов. — Кажется, они малость растерялись и не знают, как приступить к делу, — продолжал Боб. — Предоставьте это мне. Постарайтесь обнаружить в карманах белый носовой платок. У меня такого предмета туалета отродясь не было. У Жана нашелся кусок материи, предназначенный, правда, для перевязки. Боб развернул его, привязал к дулу карабина и смело вышел, размахивая подобием белого флага, который, как известно, во всех странах мира, у диких и цивилизованных народов служит отличительным знаком парламентера. При неожиданном появлении Боба — он выглядел очень забавно из-за индейской раскраски — крики смолкли. Осаждающие сгрудились, с любопытством ожидая, что им скажет ковбой. Один из них, самый злобный или самый пьяный, вдруг прицелился в парламентера. Боб и бровью не повел. — Возвращайтесь! — крикнул ему Жан. — Этот негодяй собирается стрелять. — Пускай! Если он промахнется, остальные будут у меня в руках. В ту же секунду раздался сухой звук выстрела из карабина.
ГЛАВА 8
Промахнулся! — Первая жертва. — Злобный враг. — Предложение Боба. — Намечаются четыре дуэли. — Ринг. — За ножи! — Контраст. — Дела Боба плохи. — Центробежная сила. — Ампутация. — Пощечина. — Мир праху его!Боб стоял всего в ста метрах от стрелка, но чудом остался невредим. А из барака прозвучал ответный выстрел. Золотоискатель, открывший огонь, выронил оружие, покачнулся и задергался в последних конвульсиях. Толпа зашумела, кто-то в ужасе вскрикнул. Одни бросились ничком в траву, другие, более хладнокровные, схватились за оружие. Боб, чья отвага граничила с безрассудством, пожал плечами и произнес: — Без глупостей! Вы прекрасно видите, что я вышел как парламентер. Нужно быть дикарем или идиотом, чтобы стрелять в меня. Ведь я никому не угрожаю… Один дурак уже поплатился… и любого другого постигнет та же участь. Склонные ко всевозможным дискуссиям на политические, религиозные и экономические темы, американцы отличаются поразительной говорливостью, но при этом умеют и слушать. В любом местечке можно встретить записных ораторов, они произносят речи в салунах, на остановке трамвая или просто посреди улицы. Самое удивительное, что выступающий всегда находит доброжелательных слушателей. Короче, привилегией или, лучше сказать, неотъемлемым правом говоруна любого пола является возможность нести любую дичь, не рискуя при этом угодить в кутузку или быть освистанным аудиторией. Наоборот, он неизменно встречает понимание и даже интерес сограждан. Поэтому вооруженные налетчики, догадавшись, что к ним собираются обратиться с речью, насторожили уши. Истинные янки, они не могли поступить иначе, ведь любой разговор — это великолепный повод побездельничать. Боб, хорошо зная, с кем имеет дело, и боясь расхолодить публику, сразу взял быка за рога: — Прежде всего, что вам нужно? — Убить тебя, мерзавец! — хрипло выкрикнул могучий парень с кудлатой головой. В каждом его движении чувствовалась жестокая звериная сила. — Смотри-ка! Это ты, Остин Райен, кузнец. Разве ты — шериф или блюститель, чтобы выносить приговор? Или ты лично имеешь что-то против меня? Я тебя оскорбил, нанес какой-то ущерб? — Кончай болтовню! Мы пришли, чтобы линчевать тебя и твоих проклятых метисов. Нам оплатили выпивку и обещали дать еще денег… так что ты, гад, свое получишь! Верно я говорю, друзья? — Верно! — заорали золотоискатели, более агрессивные, чем ковбои, которые в глубине души симпатизировали Бобу. — Мы люди порядочные, — продолжал кузнец, — честно зарабатываем доллары. Тебе конец! Таков приговор суда Линча[81]. — Но чтобы привести в исполнение приговор, нужно иметь постановление суда. А для суда никаких оснований нет, значит, вы преступаете закон… — Ты самовольно вернулся в Гелл-Гэп, — не сдавался кузнец. — Кому я нанес этим вред? Просто прошелся по городу в индейском наряде, над чем мои приятели Питер и Мэтью поскалили зубы, заглянул в салун, чтобы выпить… С каких это пор жажда стала преступлением? Я, по-вашему, виноват, что здесь нет кабака, где можно промочить горло? Но пусть даже я виноват. Почему ты кричишь: «Смерть метисам»? Разве они возвращались в город, где с ними так несправедливо обошлись? — Правильно! — воскликнул один из ковбоев. — Они ничего такого не сделали. Чего мы на них накинулись? К тому же малыш здорово отделал этого хвастуна пэдди… — И я сниму с него скальп! — заорал ирландец из последних рядов толпы. — Если, конечно, не будет прятаться, как жалкий трус… Сын шлюхи! — Ни с места, Фрэнсис! — приказал Боб, опасаясь, что юный метис выскочит из укрытия. — Поверьте, вы очень скоро разочтетесь за все. — Эх, вы! — с возрастающей яростью кричал Патрик О’Брайен. — Позор! Слушаете бредни этого типа, вырядившегося индейцем. Он просто заговаривает нам зубы, чтобы мы ушли ни с чем, лишились обещанной награды, — коварно добавил ирландец. — Правильно, правильно! — поддержали его золотодобытчики и несколько ковбоев, увлеченных их примером. — Для всех славных парней настали дурные времена с тех пор, как Боб спалил салун Бена Максвелла и продырявил его самого. — Надо избавить город от этих мерзавцев, — выкрикнул Остин Райен, — ведь мы стоим за порядок и закон! Нет ничего страшнее толпы негодяев, возомнивших себя добропорядочными гражданами и спасителями общества. — Остин верно говорит! Правильно… Мы стоим за порядок… пора покончить с ними! — неслись со всех сторон голоса, обильно «подмазанные» виски. — Я буду краток, — заявил Боб, чувствуя, что ситуация осложняется, — только не надо говорить о законе. Вы хотите нас убить, не так ли? Отлично! Предупреждаю, прежде чем вы захватите дом, половина из вас окажется на земле с небольшой дырочкой между глаз, как у вашего приятеля… И вот что я вам предлагаю… — Довольно! — оборвал Остин Райен. Он, похоже, смертельно ненавидел Боба. — Ты, кажется, спешишь, кузнец? — заметил ковбой. — Что ты предлагаешь? — спросили с той стороны. — Говори! — Вы уже давно не видели дуэли… прекрасного зрелища, которое европейцы именуют «дуэль по-американски»[82]. Хотите посмотреть на смертельный поединок? Пусть свершится Божий суд, а не отвратительная бойня. — Говори яснее! — Остин Райен хочет убить меня. Давай сразимся один на один. Ирландцу не терпится заполучить скальп моего юного друга Фрэнсиса — пусть попробует его взять без посторонней помощи. Старшие братья тоже могут найти себе достойных противников. Если мы погибнем, тем лучше для вас. Тогда свершится то, что вы называете правосудием. Если же победим мы, то оставьте нас в покое. Подумайте, джентльмены. Не разумнее ли раз и навсегда уладить наши разногласия? Иначе дело может затянуться до бесконечности и будет стоить жизни многим славным парням. Спрашивать американцев, хотят ли они увидеть кровавую схватку, — это все равно как оскорбить римлянина периода упадка империи[83] подозрением в равнодушии к сражениям гладиаторов[84]. Ковбои выразили одобрение единодушными выкриками: — Ура! Ставим на Боба! Боб for ever![85] — Мы играем честно, не правда ли? — произнес Боб, радуясь, что он и его друзья получат возможность бороться на равных. — Честная игра! Честная игра! Согласны! — Дик, Питер, Лоуренс, Мэтью, клянетесь ли вы от имени ковбоев, что условия будут соблюдены? — Клянемся, Боб! Мы снесем голову любому, кто посмеет вмешаться. Черт побери! Вот уж будет потеха! Жаль, что здесь нечего выпить! Услышав это, Боб снял кусок белой материи с карабина и обратился к братьям, молча ожидавшим конца переговоров: — Хэлло, Джон, Джеймс, Фрэнсис! Можете выходить. А вы, джентльмены, подойдите поближе… нужно образовать кольцо вокруг противников. Трое юношей показались на пороге Лок-хауса. Спокойно, с большим достоинством они заняли место рядом с Бобом. — Вы слышали мое предложение? — Да. Мы согласны. — Первым буду я, не возражаете? — Как угодно, Боб. Обе группы сблизились и соединились во внезапно возникшем искреннем порыве. Этот переход от смертельной ненависти к сердечности поставил бы в тупик любого жителя Старого Света. Некоторые даже обменялись рукопожатием с недавними врагами. Кузнец, известный храбрец, сейчас выглядел смущенным. Ему достался в противники Боб — «несравненный ствол», как его еще называли. С той минуты, как дело пошло на лад — а для ковбоя «ладом» была дуэль не на жизнь, а на смерть с громадным кузнецом, — Боб ликовал. Угадав опасения своего врага, он великодушно предложил драться на ножах. — Согласен! — с облегчением воскликнул Остин Райен. — Есть предложение! — сказал один из ковбоев. — Пусть их свяжут за левую руку! Этот старинный обычай уходит в прошлое, а жаль… весьма живописное зрелище! Болельщики образовали круг. В центре остались противники и их секунданты: рядом с кузнецом — два золотодобытчика, а возле Боба — естественно, Жан и Жак. Жан крепко стянул бойцам запястья поясом, охотно предоставленным одним из зрителей. Кузнец, обретя уверенность, осыпал насмешками размалеванного Боба, а тот хохотал во все горло, отчего смотреть на него и в самом деле было жутковато. Рядом они являли собой разительный контраст. Кузнец был шести футов роста и силен, как буйвол. На фоне его мощных ручищ с чудовищной мускулатурой тонкие руки Боба казались жалкими, хотя по крепости не уступали стали. Ростом в пять футов один дюйм[86], он едва доставал до плеча гиганту. Странная идея привязывать противников друг к другу лишала ковбоя, проворного и ловкого, словно кошка, главного преимущества — быстроты передвижений. — Вы готовы, джентльмены? — спросил один из секундантов Остина. — Да! — Начинайте! Сверкнули ножи, и противники бросились друг на друга. Однако накрепко связанные левые запястья мешали им, и первые удары попали в пустоту. Беспорядочная схватка с атаками и отступлениями привела к неожиданному результату. Невольно смещаясь влево, дуэлянты начали кружиться, и этот хоровод производил комическое, но вместе с тем страшное впечатление. Впрочем, зрители веселились от души и, конечно же, заключали пари. Несмотря на очевидное неравенство сил, исход боя был неясен. Все зависело от того, кто первым заставит противника согнуть руку, чтобы, воспользовавшись этой слабостью, нанести удар ножом. Остин Райен, превосходя Боба в силе, удерживал его на отдалении вытянутой рукой. Ковбой увертывался, но уже начинал выдыхаться от прыжков, к которым его вынуждали грубые рывки великана. Крупные капли пота текли по раскрашенному лицу. Кузнец, уверовав в то, что противник находится на пределе, стал осыпать его бранью в предвкушении близкой победы. — Подожди, заморыш… я вырву твой поганый язык… Что, сипишь и роняешь слюни, как полудохлая собака? Давай поворачивайся! И силач, оторвав Боба от земли, уподобился мальчишке, что, держа за хвост, крутит вокруг себя котенка. Зрители неистовствовали. Ставки все время повышались. Слышались вопли: — Ура Остину! — Эй, Боб, держись! Мы же проиграем из-за тебя, скотина! Еще несколько кругов, и Боб, оглушенный безумным вращением, окажется в полной власти безжалостного противника. Страшная тревога охватила братьев, и их смуглые лица побелели. Внезапно ковбой резко рванул на себя левую руку, сцепленную с запястьем Райена, и взмахнул правой с зажатым в ней ножом. Движение сбилось, послышались ругательства, а затем пронзительный отрывистый хохот. Боб отлетел в сторону и, перевернувшись в воздухе, рухнул к ногам изумленных болельщиков. Казалось, он уже не встанет. Но эти ковбои, вскормленные полусырым тестом, свиным салом и водкой, отличались невероятной живучестью. Одним прыжком Боб вскочил на ноги и, потрясая окровавленным ножом, бросился к Остину. Вся сцена заняла не более пяти секунд. Кузнец застыл, разинув рот и вытаращив глаза, словно бы утратив способность двигаться. Затем раздался страшный сдавленный крик, напоминавший вопль раненого зверя. Левая рука его конвульсивно дергалась вверх и вниз, но на ней не было кисти! Из обрубленного запястья толчками изливалась густая кровь. Толпа вскрикнула как один человек. Однако в возгласе этом звучали противоречивые чувства: сострадания и досады, ликования и любопытства. Ясный и твердый голос Боба перекрыл поднявшийся шум: — Вот ты и стал одноруким, кузнец… Но это еще не все! Только что ты упивался своей силой… оскорблял меня, уверенный в победе… и я тоже не собираюсь церемониться! Никто не догадывался, что намеревается сделать ужасный маленький ковбой. Боб увидел в траве тряпичный пояс, которым были связаны руки противников, и, хладнокровно нагнувшись за ним, подобрал кусок материи, обвитый вокруг какого-то бесформенного предмета. В его руках оказалась кисть Остина! Побелевшие пальцы растопырились в зловещей, как и все мертвое, оцепенелости. Размахивая жуткой добычей, Боб подскочил к кузнецу; тот смотрел на него обреченным взглядом и тяжело переводил дыхание. — Нечего хныкать, это схватка не на жизнь, а на смерть! Ты еще можешь драться… Не беспокойся, я тебя долго не задержу… Ты не отвечаешь? Трус! Я так и предполагал… посмотрим, может быть, оскорбление взбодрит тебя, мистер силач! Среди джентльменов принято давать пощечину перчаткой… я отхлещу тебя твоей же рукой! Это было свыше сил Остина! Обезумев от ярости и боли, он поднял нож и ринулся на врага, спокойно ожидавшего нападения. Поставив на карту все, кузнец нанес мощный удар сверху вниз, стремясь вспороть грудь Боба. Не удержавшись на ногах, он рухнул на ковбоя, издав последний крик. Не прошло и двух секунд, как Боб стоял на ногах, целый и невредимый. Поднимаясь, он отодвинул плечом навалившегося на него исполина. Нож вошел в сердце Остина по самую рукоятку. — В нем не более двухсот фунтов[87] веса, — насмешливо произнес Кеннеди, — а я, когда мне было всего девятнадцать лет, убил ножом гризли[88]. Тот весил тысячу двести! И, вытащив нож, добавил: — Он мертв. Мир праху его! А теперь, джентльмены, если ни у кого нет возражений, продолжим нашу игру!
ГЛАВА 9
За карабины! — Полковник-оригинал. — Изумительная меткость. — Достойный соперник Кожаного чулка[89].— Полковнику очень хочется умереть. — Дистанция в восемьсот, ярдов[90].— Дуэль Жака. — Полковник все-таки умер! — Противник Франсуа. — Небольшая разминка. — Как Франсуа снял скальп с наследника ирландских королей.День начался совсем неплохо. Выдающиеся граждане, коих привели к заброшенному дому безделье или жажда выигрыша на пари, получали громадное наслаждение от происходящего. Многие поставили на Боба и теперь осыпали победителя поздравлениями, совсем забыв, что полчаса назад собирались линчевать его. Присутствовал здесь и вездесущий репортер, ему не терпелось поведать читателям о волнующей дуэли и гибели кузнеца. Он уже собирался мчаться в редакцию, но его отговорили, объяснив, что если город узнает эти новости из «Гелл-Гэп ньюс», то очень скоро сюда явятся представители власти с шерифом во главе. А последний, конечно же, положит конец замечательному развлечению, продолжения которого с таким нетерпением ожидают жители. Репортер сдался, заполучив автографы Боба и троих братьев, предвкушая увидеть их на первом листе в информационном разделе газеты. Посиневший труп кузнеца оттащили в сторону, положив рядом с неудачливым стрелком. Теперь можно было, пользуясь выражением ковбоя, продолжать игру. Все взоры обратились на юных канадцев, а те бесстрастно ожидали своей очереди поставить на кон жизнь. Один из джентльменов давно оглядывал их от макушки до пят с редкостной бесцеремонностью. Затем, подойдя и обращаясь преимущественно к Жану, он спросил: — Так ты из Канады, чужестранец? — Именно так. — Говорят, ваш край славится меткими стрелками. — Хотите в этом убедиться? Я к вашим услугам. Какое оружие предпочитаете? Карабин? Револьвер? — Пожалуй, карабин… — Извольте. — Вы очень любезны. Лично против вас я ничего не имею. Но раз уж драться, то почему бы и не со мной, не так ли? — Мне абсолютно все равно, — хладнокровно ответил Жан. — Признаться, я убил уже восемь человек на дуэли… Они были из разных стран, но из Канады не было ни одного. Надеюсь, вы не откажетесь занять почетное девятое место и пополнить мою коллекцию. Не беспокойтесь, я убью вас, не причинив страданий… Мое имя полковник Брайд… вы, наверное, слышали? Знаменитый полковник Брайд… — Меня зовут Жан де Варенн и… — Де Варенн? С частицей?[91] — Да, с частицей, — по-прежнему добродушно произнес Жан. — Вы настоящий джентльмен, — заметил полковник и соблаговолил наконец поклониться. — Я еще никогда не дрался с противником, имеющим частицу при имени. Весьма приятно, весьма… Свободная Америка не признает привилегий и знаков отличия. Но в глубине души янки обожают всяческие титулы и орденские ленты, хотя и стараются показать, что относятся к ним с чисто демократическим презрением. — Ну, — вмешался Боб, торопясь окончить дело, — джентльмены условились об оружии. Осталось обговорить условия поединка. — Предлагаю следующее, — сказал Жан, — противники становятся на расстоянии в сто метров. Незаряженный карабин держат у ноги. У каждого будет по одному патрону. Сигналом станет выстрел из револьвера. Подходят вам такие условия, полковник? — Вполне. Я восхищен, сударь! Но скажите, почему мы должны иметь только один патрон? — Неужели меткому стрелку нужно больше? — Это верно, — согласился полковник и отошел к своим секундантам[92]. Жак в сопровождении одного из золотодобытчиков отмерил дистанцию широкими шагами. Зрители кипятились вовсю, заключая новые пари. Жан спокойно разговаривал с Бобом и Франсуа. — Он очень любезен, этот полковник. Но как необычно одет! У нас его облаяли бы все собаки, а полисмены отнеслись бы к такому наряду с большим неодобрением. Костюм, да и вся внешность знаменитого полковника Брайда и в самом деле производили довольно комичное впечатление. Это был человек неопределенного возраста — на вид от тридцати до сорока лет — худой, с длинными костлявыми руками, бледным лицом, широкими плоскими ступнями. На голове у него красовался засаленный цилиндр, сплюснутый наподобие гармони[93], странного музыкального инструмента приезжих немцев; на плечах болтался слишком широкий черный редингот[94], похожий на одеяние священника. Рубашка отсутствовала, зато имелся фланелевый жилет. Редингот, увы, без пуговиц, был скреплен у ворота медной проволокой. Одеяние дополняли манжеты и ослепительно белый накладной воротничок. Полковник щеголял в синих штанах, какие носят чернорабочие, и в высоких болотных сапогах. Брайд явно гордился своим несуразным костюмом и держал себя со скромным достоинством выдающейся личности, на чьем счету значилось восемь человек, убитых на дуэли. — Вы уверены в своих силах? — спросил Боб, обращаясь к полковнику. — Конечно! Со ста шагов я могу попасть даже в нитку. — В добрый час! Вы меня немного успокоили, — сказал ковбой. — Но скажите, отчего мой соперник предложил держать карабин незаряженным у ноги? — спросил Брайд. — Потому что… А! Дистанция уже отмерена… У меня нет времени объяснять… впрочем, скоро вы сами все увидите и поймете! Боб и сам не понимал этого условия, но спрашивать юного дуэлянта считал неуместным. — Сигнал подадите вы, мистер Боб? — Да! — Джентльмены, по местам! Чтобы шансы были равными, оба должны стать к солнцу боком. Жан, занявший позицию, походил больше на зрителя, чем на участника дуэли. С нежностью взглянув на братьев, он поставил оружие у ноги и замер, словно образцовый солдат на часах. Секунданты полковника и Жана, проверив оружие дуэлянтов, отбежали метров на двадцать в сторону. Зрители, разбившись на две группы, торопились сделать последние ставки. — Готовы? — перекрыл общий гул голос Кеннеди. — Да! Наступила тишина. Прошло несколько секунд, и хлопнул револьверный выстрел — Боб подал сигнал к началу. И почти одновременно — более звучно и раскатисто — грянул карабин. Жан действовал с феноменальной быстротой. Для того чтобы зарядить оружие, прицелиться и нажать на курок, ему потребовались лишь доли секунды. Против ожиданий полковник по-прежнему стоял на своем месте, но не отвечал юному противнику, а тот беззвучно смеялся. — Стреляйте! Стреляйте же! — закричали секунданты и те, кто поставил на полковника. Но Брайд лишь тряхнул онемевшей рукой — жест напоминал движение кошки, ступившей на раскаленную крышу. Карабин полковника был расколот надвое меткой пулей. — Ну, Боб, — обратился Жан к ковбою, который не верил своим глазам, — теперь вы поняли, отчего я предложил именно такие условия? У нас в Канаде учат быстро стрелять с детства. Без этого не стать хорошим охотником. Вот почему я сумел разбить карабин прежде, чем полковник успел его вскинуть. Восхищаясь изумленной ловкостью Жана, зрители орали «браво!». Полковник был ошарашен и взбешен. Потрясая обломками ружья, он кричал: — Нечего восторгаться! Это случайность… Пуля джентльмена разбила мой карабин, ну и что? Что из этого следует? Говорю вам, это случайность! Случайность! Случайность! Дайте мне винчестер! Я хочу продолжить дуэль! — Что ж, продолжим, — с легкой насмешкой ответил Жан. Поединок возобновился. Вновь прозвучал традиционный вопрос: «Готовы?» Сигналом опять стал револьверный выстрел. Как и в первый раз, полковник не успел нажать на курок. Юный канадец снова продемонстрировал исключительную ловкость и быстроту. Привычные ко всему обитатели границы не скрывали восхищения, смешанного с некоторым ужасом. Жан и сейчас показал исключительную меткость, выведя из строя новый карабин полковника. Когда пуля, летевшая со скоростью пятьсот сорок метров в секунду, ударила в ствол, Брайд глухо застонал и выругался. — В чем дело, полковник? — воскликнули его секунданты. — Проклятье! Кажется, я ранен… посмотрите… мне оторвало указательный палец на правой руке! — Ну, полковник, — обратился к нему Боб со зловещей улыбкой на размалеванном лице, — это по-прежнему случайность? — Неплохой выстрел, признаю… немного поспешный. — Вы правы, — проговорил Жан, подходя со своими секундантами к противнику, — я поспешил… но в этом есть и ваша вина. Мне пришлось торопиться, ведь я имел дело с очень метким стрелком. Если бы в моем распоряжении оставалась еще хоть одна секунда, я не нанес бы вам увечья… Честное слово! Я не заметил ваш палец и весьма огорчен, что вам пришлось его лишиться. Клянусь, что не хотел причинить вам ущерб! — Вы очень добры, — ответил полковник, чувствуя, что за этими сердечными словами скрывается ирония, вполне простительная, если учесть молодость Жана и его необыкновенный успех. — Одним пальцем меньше, одним больше… Это ничего! Но мне будет трудно продолжить дуэль. — Вам должно быть известно, полковник, — твердо произнес Жан, — что третьего раза не полагается. К тому же мы в неравных условиях из-за вашего ранения… — Пустяки. Я одинаково метко стреляю правой и левой рукой. Мне только хотелось бы немного изменить предложенный порядок. — Говорите. — Мы встаем на дистанции в восемьсот ярдов друг от друга. Сигнал остается прежним. — Вы настаиваете на продолжении? — Еще в большей степени, чем раньше, клянусь моим покойным пальцем. Я горю нетерпением проверить, сумеете ли вы повторить свой достойный восхищения выстрел с более дальнего расстояния. Прежде чем Жан успел ответить, вмешался Жак и сказал полковнику, чью руку старательно перебинтовывал Боб: — Если вы не возражаете, я займу место брата. — Мне все равно. Вы, должно быть, тоже хороший стрелок. — Я почти не уступаю брату, только характер у меня не такой добрый, и я не люблю разводить церемонии. Стреляю куда придется. Хотите иметь дело со мной? — Я готов! — ответил полковник, и его серые глаза засверкали. — Боб, — позвал ковбоя Жак. — Время не ждет. Надо скорее разделаться со всем этим. Около двадцати минут ушло на разметку новой дистанции и расстановку секундантов. Между тем любопытство зрителей дошло до безрассудства, почти все разместились в непосредственной близости от дуэлянтов. С расстояния восьмисот ярдов противники хорошо различали друг друга, хотя контуры фигур вырисовывались не так отчетливо, а цвета выглядели размытыми. Сигнал раздался неожиданно для всех. Жак прицелился столь же быстро, как его старший брат, но перед выстрелом чуть помедлил. Затем дуло его карабина исчезло в облачке дыма, однако одновременно беловатая струйка поднялась и над плечом полковника. Противники действовалиодновременно. Прошла секунда. Те, кто стоял возле Жака, отчетливо услышали страшный крик. В четырех метрах от метиса неосторожный зритель — один из золотоискателей — схватился за грудь, откуда брызнула кровь, и упал, дергаясь в конвульсиях. Тут же раздались яростные вопли. Промах полковника стоил жизни одному из его самых горячих сторонников. — Хорош мерзавец! Мы на него ставим, а он нас убивает! Ну, ты дождешься! С противоположной стороны зрители также сгрудились, отчаянно жестикулируя и громко крича. Затем они бросились к Жаку узнать, что случилось, а навстречу им бежали разъяренные золотоискатели, готовые расправиться с незадачливым полковником. — Что у вас? Что с этим полковником, будь он проклят? — Мертв! Убит наповал… — задыхаясь, отвечали свидетели. — Убит! Тем лучше для него! Мы потеряли деньги, но это не важно! Да здравствуют метисы! Переменчивая толпа принялась аплодировать и кричать «Ура!», прославляя Боба, Жана, Жака и даже Франсуа, хотя тот еще не успел показать себя. От него ничего и не требовали, поскольку признали дело законченным. Юноши с честью вышли из испытания. Их спокойная уверенность, сила и хладнокровие покорили головорезов, нанятых негодяем, чтобы убить их, и еще час назад требовавших смерти для всех четверых. Однако нашелся тот, кого не устраивал подобный оборот дела, и его яростный голос перекрыл восторженные восклицания: — Вы что, джентльмены? Вами крутят как хотят! Арра! Все короли Ирландии[95] покраснеют от стыда, если я допущу подобное! Бегарра! Этому не бывать, клянусь святым Дунстаном![96] Взрыв хохота раздался в ответ на выпад Патрика О’Брайена, чей пыл был основательно разогрет джином. — Что смеетесь? Разве я не имею права вызвать на смертельный бой юного мерзавца? И пусть смеется тот, кто смеется последним… — Почему бы и нет? — рассудили джентльмены, охочие как до зрелищ, так и до новых пари. — Вы согласны? — Лицо ирландца стало пунцовым. Он успел опустошить флягу, чтобы поддержать боевой Дух. — Идет! Только не мешкай, пэдди, мы умираем от жажды, и нам давно пора навестить один из салунов. — Теперь я сниму с тебя скальп, краснокожий подонок! С неожиданным проворством выхватив нож, ирландец кинулся на Франсуа. Тот стоял неподвижно, скрестив руки на груди и глядя на врага с высокомерным презрением. Нападение было таким стремительным и неожиданным, что все мгновенно уверовали в неминуемую гибель молодого метиса. Только его братья не повели и бровью, вполне полагаясь на силу, ловкость и находчивость младшего. В тот момент, когда острие ножа почти коснулось тела, Франсуа повернулся на каблуках, припал к земле и нанес ирландцу сокрушительный удар ногой в живот. Патрик покатился кубарем. — Арра! Черт побери! Поднявшись, он принялся с пеной у рта изрыгать самые причудливые и звучные кельтские ругательства. Франсуа поджидал его, по-прежнему улыбаясь. Новый удар по ногам, и ирландец опять опрокинулся. Толпа, крайне заинтересованная этими незнакомыми ей приемами борьбы, разразилась рукоплесканиями. А Франсуа, достойный потомок французского моряка, начал молотить противника с таким остервенением, что бедный Патрик, забыв о ноже, даже не пытался сопротивляться. — А! Ты хотел снять с меня скальп! — сказал наконец юноша. Он был бледен, но улыбка не сходила с лица. — Подожди же, я покажу тебе, как это делается. Он повернулся к зрителям и спросил: — Этот человек принадлежит мне, не так ли, джентльмены? — Да. — И я могу делать с ним все, что захочу? — Он собирался оскальпировать вас… ответьте ему тем же! Его скальп, на что он годен! Рассадник вшей… и цена ему десять центов… — Боб, дружище, — обратился Франсуа к ковбою, — не могли бы вы принести мне лассо? — Вот то, что вы просили, Фрэнсис! — воскликнул Боб, обернувшись за одну минуту. — Спасибо! Франсуа без всяких усилий поднял притихшего ирландца и понес к перекладине, где обычно привязывали лошадей. Там он прикрутил Патрика к балке и достал нож. Зрелище захватило всех. С замиранием сердца присутствующие ждали, что сейчас этот юноша, наполовину индеец, завершит сражение традиционным страшным финалом, подобно своим краснокожим предкам. Все сгрудились вокруг, чтобы увидеть, как брызнет кровь, и услышать скрип кожи под лезвием ножа. — Молодец, Фрэнсис! — проворчал Боб. Жан и Жак смеялись беззвучно, как это делают индейцы. Взяв нож в правую руку, Франсуа левой ухватил густую шевелюру несчастного Патрика и провел лезвием вокруг головы, от уха до уха. Затем резко дернул жертву за волосы. От прикосновения железа ирландец взвыл, вызвав у публики приступ дикого веселья. Люди едва не катались по земле, доведенные до слез, до изнеможения. Насмешник Франсуа действовал всего-навсего тупой стороной ножа! А ирландец завопил, как резаная свинья. Но смех перешел все мыслимые границы, когда Франсуа принялся кромсать нечесаные сальные космы, и взгляду постепенно открылся жалкий грязный череп. — Вот так! — с удовлетворением кивнул Франсуа, любуясь уступами неровно подстриженной головы ирландца. — Эта операция вполне заменяет мытье и укладку волос. Я снял с тебя скальп условно, мой доблестный Патрик… Но помни, что в следующий раз я не буду столь терпелив, и все может закончиться для тебя гораздо хуже. Окончательно покоренные зрители прокричали троекратное «Ура!» и отправились в Гелл-Гэп, водрузив на плечи несчастного Патрика, хотя тому вовсе не улыбалось оказаться выставленным на всеобщее обозрение. Наконец-то Боб и его друзья вздохнули свободно!
ГЛАВА 10
Боб начинает игру. — В банке мистера Джонатана. — Следовало ожидать! — Статья в «Гелл-Гэп ньюс». — Как подготовить бунт. — Паучья слюна. — Общее возбуждение. — Осада дома. — Если бы Джонатан не был предусмотрительным человеком. — Пожар.— Ну вот, мы победили и свободны! — с облегчением произнес Боб, когда воинство мистера Джонатана отбыло в Гелл-Гэп, оглашая окрестности ликующими воплями и унося на плечах стриженого потомка ирландских королей. — А зачем нам эта победа? — Жан пожал плечами. — Пустая трата времени, — поддержал брата Жак. — Что нам делать теперь? — спросил Франсуа. Боб встрепенулся. — Вот как! По-вашему, наша славная победа — всего лишь потеря времени? И она ничего нам не дает? — А у вас другое мнение? — Конечно! Мы можем вернуться в Гелл-Гэп и устроить хорошую заварушку. — Вы уверены? — Вы совсем не знаете моих земляков, если считаете, что все они — и блюстители, и секретарь, и шериф — останутся по-прежнему вам враждебны. Да они примут вас с распростертыми объятиями! Более того, можете рассчитывать не только на благожелательный нейтралитет, но и на действенную помощь тех, кого поит и кому платит ваш враг. Подобные события скоро не забываются. Завоеванная вами симпатия не продается и не покупается ни за какие деньги! Прямо перед домом четверо друзей держали военный совет. Решили идти в город сразу после заката солнца, чтобы мистер Джонатан не узнал об их возвращении. Заверения Боба, что братья найдут самую горячую поддержку, положили конец сомнениям. Следовало поставить на карту все и совершить набег на врага. Прежде всего требовалось установить наблюдение за домом, где скрывался мистер Джонатан, уточнить полученные Бобом сведения и тогда, смотря по обстоятельствам, выработать окончательный план действий. Хорошенько помывшись после сражения, ковбой обрел внешность белого человека. На отдых после плотного ужина решено было устроиться на скале высотой в шестьдесят метров, нависавшей над озером Дьявола. Когда наступил вечер, четверка появилась в лагере золотоискателей и укрылась в доме одного из приятелей Боба. Ковбою предстояло первому вступить в игру. Контора мистера Джонатана открывалась в восемь утра. За пятнадцать минут до этого Боб неспешно приблизился к тяжелым дверям банка, хозяин и служащие которого славились пунктуальностью. Из уважения к канадцам Боб уделил больше внимание своему туалету. Широкополая фетровая шляпа с золотой тесьмой, синяя рубаха, стянутая алым поясом, за которым поблескивали серебристые рукоятки двух кольтов, штаны из оленьей кожи, украшенные бахромой на индейский манер, сапоги с серебряными мексиканскими шпорами и пряжками величиной с блюдце делали его неотразимым. Ровно в восемь он стоял у двери и, как только та распахнулась, вошел в просторное помещение, перегороженное мощной решеткой, способной выдержать любой натиск — предосторожность в таком городе, как Гелл-Гэп с его весьма сомнительной репутацией, необходима. В решетке было прорезано четыре окошка с желобками, обитыми кожей, за каждым из них восседал клерк с козлиной бородкой и карандашом, заткнутым за ухо. Непрерывно жуя табак и сплевывая, они вносили записи в толстые гроссбухи[97]. Вместо пресс-папье[98] перед ними лежало по два револьвера — дань приграничным нравам. — Что надо? — спросил один из служащих с резкостью, столь характерной для янки. — Получить деньги по этой доверенности, — ответил Боб, извлекая из кармана сложенный вдвое лист бумаги. Человек с козлиной бородкой развернул бумагу и принялся читать вполголоса:
«Настоящим просим господина Туссена Лебефа, именуемого также Джонатаном, заплатить по предъявлении сего мистеру Роберту Кеннеди сумму в десять тысяч долларов, которую он должен наследникам Жан-Батиста де Варенна, скончавшегося в Батоше (Канада) 11 мая 1885 года. Мистер Роберт Кеннеди, действующий от имени и по поручению прямых наследников усопшего, уполномочен дать расписку в получении вышеназванной суммы господину Лебефу, именуемому также Джонатаном, банкиру.
Составлено в Гелл-Гэпе 12 июня 1885 года.Подписи: Жан де ВАРЕННЖак де ВАРЕННФрансуа де ВАРЕНН
Подписи заверены в нашем присутствии:— Я должен спросить хозяина, — пробурчал клерк и скрылся за дверью, расположенной за его спиной. Появившись снова через пять минут, он сообщил Бобу, который тем временем занялся вырезанием узора на деревянной конторке кассы: — Мистер Джонатан просил передать: он не знает, что означает эта бумага, и отказывается платить. — Я так и предполагал, — спокойно ответил Боб. — Ваш хозяин — предатель, вор и убийца. Скоро он о нас услышит. Клерк уже погрузился в бумаги, не обращая на Боба никакого внимания, словно того и не было перед ним. Через три часа «Гелл-Гэп ньюс» опубликовала на первой полосе правдивую историю жизни мистера Джонатана, или Туссена Лебефа. В ней говорилось как о его предательстве во время осады Батоша, так и о подлом убийстве Батиста де Варенна, соратника Луи Риля. Это жизнеописание, подготовленное заранее, с такой силой разоблачало банкира, что население города, впечатлительное и легковозбудимое, воспылало ненавистью к злодею. События все приняли близко к сердцу, словно бы речь шла о вопросе, затрагивающем важнейшие национальные интересы и достоинство страны. У мистера Джонатана нашлись и сторонники — прежде всего среди золотоискателей, людей сравнительно зажиточных — по крайней мере в сравнении с ковбоями, которые, заполучив некоторую сумму, тут же пускались в разгул, как матросы, вернувшиеся из долгого плавания. Вот ковбои-то решительно приняли сторону Боба и канадцев. Стоило только свистнуть, и эти молодцы явились бы, как один человек, чтобы разгромить дом банкира и вздернуть его самого на ближайшем столбе. Боб, слегка возбужденный после утреннего визита в банк, шумно разглагольствовал в салуне. Тут обычно пировали ковбои, свободные от трудов праведных. Многолюдное сборище было крайне оживлено. Боб щедро поил всех, пустив в ход кошелек Жана. С каждой новой порцией спиртного голоса становились громче, а тон — все более воинственным. — Если бы я был на месте канадцев… — заявил ковбой из числа тех, кто накануне рвались растерзать Боба и метисов. — И что бы ты сделал, Джим? — спросил Боб, вовсю стараясь подогреть настроение собравшихся. — Что бы я сделал? Тысяча чертей! Я разнес бы в пух и прах дом этого Джонатана! Камня на камне не оставил бы! И поджаривал бы его самого до тех пор, пока не вытряс бы из него эти деньги… — А потом? — Застрелил бы, как паршивую собаку! — А я бы повесил его за ноги! — вступил в разговор другой ковбой. — А я, — закричал третий, — я отдал бы его поганое сердце на съедение свиньям… — И это было бы только справедливо! — заметил Боб. — Но хватит болтать. Теперь это невозможно. — Кто это сказал? — Уф! Разве я не был повешен за то, что слегка «пощекотал» хозяина бара, а потом немного подпалил его заведение? Слишком много здесь развелось всяких блюстителей… Гелл-Гэп остепеняется, скоро в нем не останется места для ковбоев… Все эти алчные золотоискатели… они хотят стать добропорядочными собственниками… — Правда! Золотоискатели — страшные скупердяи… — Они вздувают цены! — Чего будут стоить наши сорок долларов в месяц? — Особенно с такими банкирами-кровососами, как этот Джонатан… — У него от звонких кругляшков золота касса ломится… — И подвал… — Весь дом забит добром… — Но если мы захотим… — Чего захотим? — спросил Боб. — Перерезать глотку этому ворюге… — И раздать все, что он награбил… — Пусть отдает добровольно, или мы возьмем силой, тысяча чертей! — Вы не осмелитесь! — раздельно произнес Боб. — Мы не осмелимся? Мы? — Да, вы! Вы слишком боитесь расправы… суда Линча или шерифа… или почтенных господ, которые встают рано, ложатся засветло… экономят на всем и становятся знатными горожанами… — Мы не осмелимся? Это мы еще посмотрим! К тому же газета за нас! — Кажется, они дозрели, — шепнул Боб приятелю. Тот был в курсе его планов и шумел за двоих. — Теперь самое время пустить в ход сильные средства… надо налить им «паучьей слюны»! Среди бесконечного количества крепких напитков американцев самым действенным является так называемая «паучья слюна» — любимая выпивка индейцев, ковбоев и прочей приграничной братии. Рецепт приготовления очень прост: нужно взять пять литров спирта, два фунта сушеных персиков, кисет черного табака — смешать все это в бочке, залить двадцатью пятью литрами воды и дать настояться. Столь чудовищная смесь и носит название «паучьей слюны», она поистине сногсшибательна: выпив совсем немного этого снадобья, люди словно бы дуреют и приходят в пьяное неистовство, что может длиться целую неделю. Каждый торговец имеет в запасе все необходимое для приготовления этого пойла. Подобно тому как в старой Европе шампанское непременно венчает всякое праздничное торжество, так и в Америке ни одна пирушка ковбоев не обходится без «паучьей слюны». Можно представить, какой восторг вызвало предложение Боба пустить по кругу чашу с божественным напитком, сколько тостов провозгласили за здоровье канадцев и за погибель презренного Джонатана. Приятель Боба угостил всех по второму разу, затем наступила очередь хозяина салуна, с которым ковбой договорился заранее, уплатив тайком из своего кармана. Смешиваясь со спиртным, поглощенным прежде, «паучья слюна» сотворила чудеса. Минут через пятнадцать — двадцать все впали в состояние исступления. Приметы его хорошо знали местные жители: искаженные лица, блуждающий взгляд, стиснутые зубы. Все вопили как одержимые, били посуду, ломали мебель, палили из револьверов. Гам усиливался с каждой минутой. Теперь ковбои могли бы запросто перебить друг друга. Остановить их способна была только общая цель, куда направилась бы эта бешеная энергия, ищущая выход. Кто-то вдруг выкрикнул имя Джонатана, и эти три слога вызвали настоящую бурю. Раздались крики, достойные голодных каннибалов:[99] — Разгромим его дом! Смерть вору! Боб ликовал. В нем еще жил прежний дух, и он наслаждался ураганом, так ловко им поднятым. — Честное слово, — приговаривал он, потирая руки, — они все разнесут в клочья! А, дражайший мистер Джонатан! Ты напоил славных парней Гелл-Гэпа, чтобы натравить на нас. Пришла твоя очередь! Ты станешь главным героем представления, которое мы тебе устроим! Человек тридцать — сорок устремились к дому банкира, стреляя на ходу из револьверов и выкрикивая угрозы. По дороге толпа увлекала за собой посетителей других салунов. Уже давно не представлялось такой великолепной возможности поразвлечься! Многие глубоко сожалели, что согласились принять участие в расправе над Бобом и его друзьями. Проклиная себя за это, они хотели оправдаться и были настроены еще более решительно, чем все остальные. Добропорядочные граждане, включая шерифа и секретаря, заперлись в своих домах, чувствуя, что в воздухе пахнет порохом и «паучьей слюной». Дом Джонатана окружили, к обоим выходам поставили усиленную стражу: Жан и Франсуа заняли позицию с одной стороны, Жак и Боб — с другой. До этого момента братья на людях не показывались и присоединились к ковбою в условленном месте. Жажда мести слепила их, они не думали, насколько законны эти действия и не пострадают ли при этом невинные люди. Канадцы только что достигли возраста, когда страсти начинают просыпаться в человеке. Индейская кровь, лишь в некоторой степени смягченная европейской, толкала на безумные поступки. К тому же Джонатан был несомненным негодяем и заслуживал кары! Защищенные массивной решеткой и револьверами, клерки все-таки поспешили покинуть контору, сдав хозяину бумаги и ценности. Джонатан остался одиноким в своей крепости. Он не был трусом, но дикие крики, выстрелы, удары в дверь сильно встревожили его. Противостоять толпе? Затаиться, подобно хищнику? Он знал, что ему нечего рассчитывать на великодушие противников, и ясно видел фигуры братьев-великанов у главной двери, трещавшей под натиском осаждающих, и с другой стороны, у запасного выхода, через который удирали служащие, петляя, словно зайцы, среди улюлюкающей толпы. Посмотрев долгим взглядом на сейф с ценностями, Туссен заставил себя выйти из оцепенения: запер изнутри кабинет, задвинул засовы, повернув все ручки и рычаги двери, а затем надавил на кнопку потайной пружины. Тотчас же сейф весом не меньше тонны начал опускаться вниз и скрылся. Еще раз нажал банкир кнопку, и сдвинутая плита в полу встала на место. Невозможно было заподозрить, что здесь находится обширный тайник. — У меня есть еще пять минут, — прошептал Джонатан, не в силах оторвать взгляда от подвала, где он словно бы замуровал свою продажную душу. — Джонатан! Джонатан! — неслись отовсюду дикие вопли. — Победа! Победа! Снаружи заметили, как банкир метнулся к двери за решеткой конторы и приоткрыл ее… Двадцать револьверов нацелилось на него… двадцать выстрелов прогрохотало, не причинив Джонатану вреда… потом началась настоящая канонада изо всех наличных стволов… Пули отлетали рикошетом в стены, выбивали стекла, потрошили рамы. Все потонуло в адском грохоте и дыму. Наконец все патроны были расстреляны. Едкий ядовитый запах проникал сквозь вдребезги разбитые стекла. — Решетка! Решетка! — закричали в толпе. Кинувшись к загородке, каждый ухватился за прут и стал яростно его раскачивать. Через две минуты решетка с грохотом полетела на пол. Вот и дверь, через которую скрылся Джонатан… Бронированная громада! Прошибить ее можно было только пушкой. Разъяренные погромщики набросились на мебель, круша ее. Джонатан жил один и обстановку имел весьма скудную. Какое разочарование! Ни занавесок, ни обивки, ни белья, ни покрывал, чтобы разорвать в клочья… Ни денег, ни золота, ни ценностей, чтобы утешиться… Ни Джонатана, чтобы выместить на нем злобу, возрастающую с каждой новой неудачей! — Эй, ребята! Поджигай дом! Выходы охраняются! Пусть мерзавец Джонатан сгорит заживо! Запаленный с четырех концов банк сгорел дотла. Но хозяин бесследно исчез. Останков на пепелище найти не удалось.шериф БЕРК».
Конец первой части




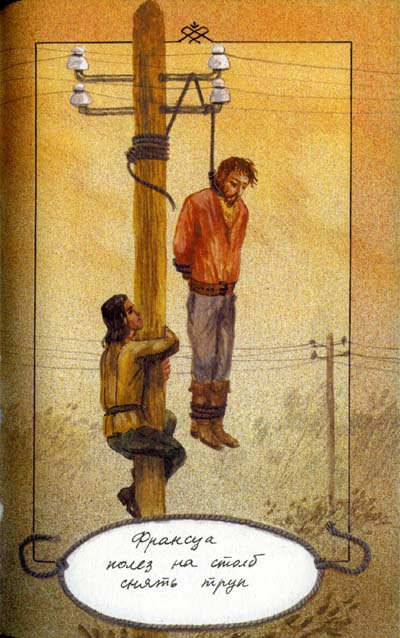



Часть вторая В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ
ГЛАВА 1
Черепаховые горы. — На границе Америки и Канады. — Финансовая корпорация, каких мало. — В дилижансе. — Ночь. — Нападение. — Люди в масках. — Скромные воры. — Десять тысяч долларов. — Полковник Ферфильд. — Пять минут.В том месте, где сотый меридиан к западу от Гринвича пересекает границу между Соединенными Штатами и Канадой, иными словами, на воображаемой линии сорок девятой северной параллели, на ровной до сих пор поверхности земли вдруг как бы вырастает гористое плато[100], называемое Черепаховые горы. Они имеют форму овала, развернутого от северо-запада к югу-востоку; первая треть его принадлежит Канаде, а нижние две находятся на американской земле. По размерам плато довольно обширно: не менее пятидесяти километров в длину и около тридцати пяти в ширину. Равнина эта не слишком высока — от восьмисот до девятисот метров над уровнем моря, однако встречаются скалы, достигающие полутора километров. С американской стороны Черепаховые горы труднодоступны: крутые склоны обрываются головокружительными ущельями, отвесные стены преграждают проход, на пути встают мощные скалы, и только с помощью проводника можно пройти по пешеходным тропам, впрочем, здесь их совсем немного. Напротив, в Канаде эта горная гряда превращается в довольно пологий спуск высотой не более двухсот метров в том месте, где вдоль границы бежит железнодорожная колея, идущая из Розенфельда. В отличие от американского, канадский ландшафт изобилует водой: вдоль воображаемой линии между двумя странами разбросано около тридцати небольших соленых озер, откуда берут начало многочисленные шумные и быстрые речушки, впадающие в Пембинаривер. Впрочем, растительный мир отличается в этих местах богатством как с засушливой, так и с влажной стороны. Здесь можно встретить чудесную желтую сосну и великолепную красную: эти колоссы достигают стометровой высоты, причем снизу их безупречно ровные стволы примерно на треть лишены ветвей. Добавим к этому несколько разновидностей кедра, гигантский тополь, березу (из ее коры делают каноэ[101]), прекрасный сахарный клен; в низинах растут ольха, тис, дикая яблоня и кизил. Деревья возвышаются повсюду: в долинах, расщелинах и лощинах, на горных склонах — везде, где есть хотя бы клочок земли. Не менее богата и разнообразна фауна[102]. На американской территории в обширных пещерах расселились черные медведи. Говорят, встречаются и свирепые медведи, на местном наречии — гризли. В горах водится карибу[103], которого старые французские трапперы вполне заслуженно прозвали «оленебык», а также лоси — их привлекают сюда солонцовые скалы, и ради любимого лакомства они готовы пренебречь опасностью. Летом же здесь раздолье для пресмыкающихся: тысяч и тысяч гремучих змей, а также змей-подвязок, они причудливыми ленточками свисают с кустов. Дикие индюки, дрофы, куропатки, вальдшнепы, утки, которым незачем улетать в теплые края от здешних горячих источников, легко находят кров и пропитание в любое время года — даже в лютые зимы, столь же студеные и свирепые, как в Западной Сибири. Короче, Черепаховые горы могли бы стать раем для натуралистов, охотников и путешественников, если бы лесорубы не разоряли их своими механическими пилами и если бы их не избрали пристанищем самые дерзкие контрабандисты, каких только видел мир. Впрочем, вряд ли можно отыскать более благоприятное место для этого ремесла, а желающих заняться им всегда хватало: хотя дело весьма опасное, но приносит большие прибыли, да и возможность пощекотать себе нервы влечет многих любителей острых ощущений. Контрабандное сообщение между Канадой и Америкой возникло совершенно естественным путем, ибо законно ввозимые товары облагаются громадными, можно сказать, неразумными пошлинами, которые в буквальном смысле слова душат торговлю. Природа же, став невольной соучастницей людей, сделала все, чтобы помочь им, и в Соединенные Штаты потекли иностранные товары — английские, французские и немецкие, причем последние представляют собой наглую грубую подделку двух первых. Итак, подведем итоги: соседство двух стран на гористом плато; легкий доступ с канадского направления, откуда переправляются товары, и почти полная невозможность установить эффективный контроль на американской стороне в силу крутизны гор; граница, проходящая через леса, озера, горные потоки, скалы и ущелья, которую можно определить только при помощи угломера и нивелирной рейки, — что достаточно трудно сделать даже днем, не говоря уже о ночи; множество потайных мест и укромных уголков, где легко спрятать и людей и товары… словом, даже половины этих условий хватило бы, чтобы контрабанда развивалась самым успешным образом. Неудивительно, что здесь возникло процветающее предприятие — совместная канадо-американская корпорация[104].
В благословенном 1885 году, когда Гелл-Гэп переживал период бума, корпорация также преуспевала, к радости своих акционеров, — среди них, уверяли злые языки, было немало таможенных служащих. Впрочем, в Америке их называют офицерами: титулы и звания размножаются здесь с такой же стремительностью, как все остальное, а потому чиновник, который получает должность в награду за политическую поддержку, не может оставаться простым таможенником. Он должен, как минимум, иметь офицерское звание. В ту пору к Гелл-Гэпу, — ему вскоре предстояло получить название Девлз-Лейк-Сити — еще не была проложена ветка из Грен-Форкса, связанного железнодорожной колеей с международной линией Виннипег — Розенфельд — Миннеаполис — Чикаго. Миннинг-Камп стоял как бы на отшибе, и сообщение с другими городами Соединенных Штатов было весьма затруднено. Ближайшие американские поселения сами нуждались во всем необходимом, а до Канады, где имелось в избытке и товаров и продовольствия, добираться было не в пример удобнее. Судите сами: от Гелл-Гэпа до Грен-Форкса, который был тогда всего лишь перевалочной станцией, — сто тридцать километров пути. А от Гелл-Гэпа до Буасвена, Делорена, Литл-Пембины и других богатых канадских поселений — только девяносто пять. К тому же в Грен-Форксе было хоть шаром покати; в Канаде же, особенно в Буасвене, самый радушный прием ожидал и путешественников, и их лошадей. Вот почему дважды в неделю между двумя населенными пунктами курсировал дилижанс[105], на котором перевозили товары, а в случае надобности — и пассажиров. Более того: поскольку официальный почтовый курьер приезжал (или уверял, что приезжал) по вторникам и субботам из Грен-Форкса мертвецки пьяным, так что потерянные им письма усеивали всю дорогу, один промышленник нанял собственный дилижанс, чтобы надежно и быстро переправлять почту и людей из Гелл-Гэпа в Канаду и обратно. Во Франции подобная предприимчивость вызвала бы недовольные толки публики и ярость местной администрации. В Америке первый встречный может составить конкуренцию государственным службам и взять на себя ответственность за исполнение общественных обязанностей. Это никого не волнует — главное, чтобы дело двигалось! Вперед — и никаких разговоров! Время — деньги. Именно эта карета, запряженная четверкой крепких лошадей, достигла юго-западной оконечности Черепаховых гор и стала огибать их по просеке с пышным названием Главная дорога, как если бы то был государственный почтовый тракт. Уже стемнело, наступила ясная студеная октябрьская ночь. Луна и звезды окутались легкой дымкой, что предвещало неминуемую бурю. Утомленные лошади тяжело дышали, и кучер слегка придерживал их, потому что предстоял подъем на крутую тропу. За ней начиналась канадская граница. Было около десяти часов. Пассажиры, завернувшись в одеяла, дремали, хотя старый дилижанс потряхивало на ухабах и створки застекленных окошек глухо хлопали. — Ни с места! — раздался вдруг властный голос. Дорогу перегораживало бревно, а за ним прятался человек. Кучер, увидев блеснувший в лунном свете ствол ружья, натянул поводья. Экипаж остановился. — Пусть выйдут пассажиры, — продолжал тот же голос, — и, смотрите, без глупостей! Одно лишнее слово, и я стреляю! Кучер, передав поводья ездовому, сидящему рядом с ним, ворча, спустился с козел. — Черт бы побрал этих проклятых десперадос… Но своя голова дороже… Пассажиры ничего не слышали из-за стука ставень и звона подрагивающих стекол, но проснулись, когда дилижанс внезапно встал, однако поначалу решили, что речь идет о самой обыкновенной поломке. Они с удивлением воззрились на кучера, который распахнул дверцу, держа в руке фонарь, и уже было посыпались вопросы, как совсем рядом раздался голос, грубо приказавший: — Всем выйти! Руки из карманов! Кучер вздрогнул, когда фигура человека в черной маске выросла у него за плечом. Один из пассажиров инстинктивно схватился за кобуру пистолета. — Оставьте это, ради собственной жизни! — вскрикнул с ужасом кучер. — Из-за вас всех перережут! Пассажир, опомнившись, сцепил пальцы, словно желая показать, что у него и в мыслях нет сопротивляться насилию. Его спутники — их было четверо — пожали плечами с видом покорного равнодушия. — Выходите! — прогремел голос, и в руке нападавшего сверкнул пистолет. — Руки вверх! Пассажиры, освещенные фонарем кучера, стали по одному спускаться по железным ступенькам, подняв руки к голове и напоминая вдребезги пьяного рекрута, который намерен отдать честь и правой и левой. — Однако, — прошептал кто-то на ломаном английском, — их всего лишь двое, а нас пятеро. Почему бы не… Но человек в маске положил руку на плечо болтуна, и тот вдруг опустился на четвереньки, как будто чертика на пружинке вновь загнали в коробочку. — Молчать, чужестранец! — Чужестранец? Очень мило… и это говорится о человеке, который родился на улице Май… о парижанине… иными словами, о гражданине мира! — Молчать, кому сказано! На дороге появились еще двое в масках. Закутанные в длинные плащи, они походили бы на опереточных бандитов, если бы в руках не было заряженных карабинов. Незнакомцы стояли безмолвно, готовые в любую минуту открыть огонь. Кучер, выполняя неизбежный в таких случаях ритуал, переводил фонарь с одного заспанного лица на другое, тогда как зловещая группа разбойников оставалась в темноте. — Что вы хотите, в конце концов? — сказал, щурясь от неприятного света, один из пассажиров, и в голосе его прозвучала не столько тревога, сколько раздражение. — Да, да! — подхватил болтливый француз. — Ну, провели ночную атаку — но это же еще не все… Пора бы уж сказать, что вам от нас нужно… А я-то думал, что подобное случается только в романах, из тех, что издаются на улице Круасан! — Среди вас есть человек, который везет десять тысяч долларов… — медленно произнес бандит с револьвером. — Это не я! — заявил парижанин с улицы Май, который скромно назвал себя гражданином мира. — Не вы, — подтвердил нападавший мягко, и его тон заметно потеплел, — не вы, господин француз, а вот этот пассажир, — дуло револьвера повернулось в сторону человека в фуражке и теплом клетчатом костюме. — Вы лжете! — воскликнул тот. — Деньги не мои, они принадлежат государству. — Я не говорил, что они ваши… или что они принадлежат государству. Я сказал только, что эта сумма находится у вас. Извольте положить эти десять тысяч к моим ногам. — А если я откажусь? — Я разнесу вам череп без разговоров, потому что вы — самый отъявленный мерзавец Америки. — Послушайте, не будем перегибать палку… Заключим сделку… Вы из банды Дика Монро? Мы всегда можем договориться… Дик, хоть и десперадо, но человек разумный… здесь его все знают… — Меня это не касается! Хватит болтовни! Деньги на бочку! — отрезал незнакомец, и голос его зазвенел. Пассажир, чувствуя, что запахло жареным, поспешно расстегнул сюртук и, достав из левого внутреннего кармана, застегнутого на кнопку, объемистый пакет, бросил его на землю. Молниеносно нагнувшись, бандит подобрал сверток, надорвал бумагу и пересчитал содержимое, тогда как его товарищи продолжали держать на мушке кучера и пассажиров. — Все в порядке! Господа, можете вернуться в дилижанс… А ты, кучер, подождешь пять минут, прежде чем ехать дальше. Прощайте, джентльмены! Тысяча извинений за задержку! — Прощайте, господин вор! — весело ответил парижанин, пока его спутники, не помня себя от радости, что отделались так легко, усаживались в дилижансе. — Для разбойника с большой дороги у вас превосходные манеры, и я был бы счастлив продолжить наше знакомство. Однако незнакомец, не обратив ни малейшего внимания на эти лестные слова, в несколько прыжков скрылся за гигантскими стволами соснового леса. — В конце концов, — пробурчал обворованный пассажир, словно стараясь утешить самого себя, — этот негодяй верно сказал… деньги не мои… Надеюсь, вы не откажетесь подтвердить, что меня ограбили, джентльмены? И зачем этот идиот поручил мне свои капиталы? — Черт возьми! — сказал француз. — Не понимаю, чего мы здесь ждем… в этом мрачном сосновом лесу… под этими темными сводами, как поют в оперетте? — Мы должны ждать, чтобы бандит, унесший добычу, убрался подальше; тем временем его сообщники держат на мушке кучера, ездового и дверцу дилижанса — на случай, если кто-нибудь проявит излишнее любопытство к тому… что нас не касается. — Поразительные люди, эти разбойники! Они могли совершенно спокойно выпотрошить всех… Да что тут говорить! Мы были в полной их власти! А они ограничились тем, что освободили этого джентльмена… — Меня зовут полковник Ферфильд, — прозвучал сухой ответ. — Освободили полковника Ферфильда от денег, которые ему не принадлежат. — Кажется, у вас было десять тысяч долларов? — Именно так! — Неплохо поживились! — Не понимаю, как они узнали… — И отлично держались… вежливые, решительные… — Но слишком уж несговорчивые! Даже Дик Монро уступил бы половину… Кто же они такие, черт побери? — Скорее всего любители… — Однако сработано лихо… — Ну, мы еще посмотрим, — задумчиво отозвался полковник в тот момент, когда кучер взял в руки поводья и колокольцы на сбруе зазвенели. — Что посмотрим? — Как схватить их за глотку, разрази меня гром! — Пять минут прошло! — крикнули из леса, и разговор прервался. — Езжайте! Кучер хлестнул лошадей, и те рванули с места в карьер. Старый дилижанс, скрипя рессорами, помчался вперед.
ГЛАВА 2
В Делорене. — Друзья полковника Ферфильда. — Волонтер. — Из любви к приключениям. — Следы. — Неизвестные люди. — Первые холода. — По Черепаховым горам. — Плато Мертвеца. — В ущелье. — Восход солнца, предвещающий снегопад. — Опровергнутая примета?Дерзкое нападение произошло именно на том участке границы, где почти или, точнее сказать, совсем не имелось видимых ориентиров — здесь не было ни рва, ни столбов, ни полосы, указывающих, что кончается территория одного государства и начинаются владения другого. Даже самому придирчивому законнику было бы нелегко определить, где было совершено преступление — на английской или американской земле — и, соответственно, властям какой страны надлежало осуществить розыск и наказание злоумышленников. — Хорошо задумано… и блестяще исполнено, — говорил полковник Ферфильд путешественнику-французу, пока почтовая карета летела по дороге, усыпанной толстым слоем сосновых игл. — Эти воры прекрасно знают свое ремесло. Они все предусмотрели. Кроме одного. Меня они в расчет не взяли, но я докажу, что они ошиблись, или я больше не полковник Ферфильд… — А кстати, зачем вы сказали им, что деньги принадлежат государству? — Неужели вы не поняли? Впрочем, вы — чужестранец. Воры обычно избегают связываться с государственным имуществом, у властей есть много способов, чтобы выследить и наказать вооруженных налетчиков… Тогда как у частного лица есть только одно действенное средство… — Защищаться самому и вершить собственный суд! — Именно. Особенно в ситуации, когда меня заставили отдать деньги под страхом смерти. Ведь мое заявление их нисколько не испугало. Но, повторяю, мы еще посмотрим, если только кучер не придержит лошадей. Эта бешеная гонка меня вполне устраивает. Все произошло по желанию полковника. Через полчаса взмыленные, роняющие хлопья пены лошади достигли цели путешествия — канадского поселка Делорена в десяти километрах от границы. Едва спустившись на землю, полковник потребовал перо, чернила и бумагу, и с удивительной точностью и четкостью изложил обстоятельства, при коих стал жертвой ограбления, попросил засвидетельствовать происшедшее кучера, ездового и пассажиров дилижанса, заверил, невзирая на поздний час, их подписи, а затем направился в салун, примыкавший к постоялому двору, где уже стоял под навесом почтовый дилижанс. Пассажиры, сидя за столиками, потягивали горячий грог и слушали разглагольствования француза. Окинув быстрым взором переполненный зал, полковник подошел к малому зверского вида, который коротал время за бутылкой можжевеловой водки… — Ага! Нед Мур… Здорово, дружище! — Здравствуйте, полковник Ферфильд. — Дик Монро ушел на дело? Отчего же ты не с ним? — Да нет! Вожак поехал в Миннеаполис, на осенние бега. — А ты чем занимаешься, Нед? — Я? Пропиваю свою долю. — Ты здесь один из… сообщества? — Можете говорить «банда», если вам так удобнее… нас это не задевает. — Как идут дела? — Плохо. — У вас появились конкуренты, Нед, пока ваш вожак играет на скачках и ведет светскую жизнь. — Вы что, шутите? — Отнюдь. Меня только что пощипали на границе. Четыре джентльмена с большой дороги непринужденно и изящно позаимствовали у меня кругленькую сумму в десять тысяч долларов… Они были в масках и действовали так решительно, что поначалу я решил, будто это люди Дика… Полковник не закончил, потому что Нед Мур от души расхохотался. — Обворовали! Вас! Полковника Ферфильда! Начальника американской таможни в Черепаховых горах! Это сделали ваши парни, бедный мой полковник! — Слушай, Нед, давай говорить серьезно. — Я серьезен, как пустая бутылка… В отсутствие Дика только они могли бы рискнуть. — Если бы я знал! — пробормотал полковник, и тон его показывал, что в голову ему приходят самые необычные предположения. — Знали что? — Нед, хочешь заработать пятьдесят долларов? — Еще бы! В карманах у меня пусто, а глотка горит, как всегда. — Найди мне еще двоих, за такую же плату. — Чтобы затравить тех, кто прикарманил десять тысяч долларов? — Да. — Если поймаем их, заплатите вдвойне? — Можешь не сомневаться. — Когда выходим? — Немедленно, если найдешь людей, лошадей и оружие. — Дьявольщина! Вожака нет, и здесь бродит много наших… — А вы бы взяли волонтера с конем и вооружением? — спросил путешественник-француз, подошедший без всяких церемоний послушать интересный разговор. — Вам, стало быть, хочется приключений, господин… э? — Фелисьен Навар, виноторговец, к вашим услугам, если вы не против… — Значит, господин Фелисьен Навар… — Почему бы и нет, полковник Ферфильд? — Ну, если вам это улыбается… — Именно так, мне это улыбается! Видите ли, я обожаю приключения… ради этого я вступил в полк африканских стрелков… и достиг звания бригадира. В тягость я вам не буду, не сомневайтесь. — Бригадира? Бригадного генерала? — спросил полковник, не подвергая ни малейшему сомнению тот факт, что генерал в отставке мог заняться виноторговлей. — Нет, конечно! Бригадира… то есть унтер-офицера кавалерии! — с подобающей скромностью поправил Фелисьен Навар, красивый черноволосый мужчина лет тридцати, со сверкающим взором и атлетическим телосложением. — Очень хорошо! Договоритесь с Недом Муром — представляю вам этого достойного джентльмена! Он даст вам все необходимое для нашей вылазки. И как вам это пришло в голову? Решительно, вы, французы, ни на кого не похожи: эти десперадос вам не досадили, и корысти в этом деле для вас нет никакой. — В этом и состоит наша оригинальность: мы никому не подражаем и действуем бескорыстно. Хотя Черепаховые горы очень хочется облазить, чтобы… Дьявольщина! И признаться в этом нельзя, ведь вы — начальник таможни! — Говорите, не стесняйтесь… вне службы я свято храню доверенные мне тайны. — Чтобы найти способ переправить в Штаты десять тысяч бутылок шампанского! — Хорошо! Капитан[106] Фелисьен Навар, вы — превосходный коммерсант! Мы договоримся, будьте спокойны! В этот момент появился озабоченный Нед Мур, который на несколько минут отлучился из зала. — Полковник Ферфильд, — сказал он, — лошади готовы и снаряжены. Ребята согласны… Это Ник и Питер, вы их знаете… — Смелые парни… Не забудь захватить по бутылке можжевеловой водки для каждого. Ну, капитан Фелисьен Навар, нам пора! Необычная кавалькада, состоявшая из начальника таможни, виноторговца и трех доподлинных головорезов, тронулась в путь легкой рысью, чтобы разогреть лошадей. Минут через пятнадцать всадники пустили лошадей в галоп, следуя по той дороге, где мчался дилижанс. Вскоре они оказались в сосновом лесу, где три часа назад произошло дерзкое нападение. Сейчас перевалило за полночь. Нед Мур спешился, зажег небольшой фонарь и, изучив следы, сказал полковнику, который также рассматривал их с тщанием опытного охотника: — Раз… два… три… их было четверо! Трое обуты в мокасины… очень странно… четвертый — в сапоги со шпорами. — Я не могу опознать эти следы… а вы, полковник? — Не больше, чем вы… — Значит, это люди пришлые… не из наших мест. — Капитан, вы, должно быть, опытный контрабандист? — Капитан? Это вы ко мне? — спросил Фелисьен. — Я и забыл, что успел получить от вас это звание… Вы, право, слишком добры! — Да будет вам, капитан! Скажите лучше, вы занимались контрабандой? — Я еще не начал, но жажду приступить. Почему вас это интересует? — Потому что вам, возможно, знакомы эти следы. — Но я же приехал в Канаду вместе с вами, после скучнейшего путешествия по Америке. Из любви к приключениям я пересек ее с юга на север, но занимался только торговыми сделками. — Не беспокойтесь, здесь вам скучать не придется. — Дай-то Бог! Во время этого разговора Нед Мур продолжал исследовать следы, обнаруженные им самим, полковником и их спутниками. Невероятная вещь. Они, знающие в этих горах всех и каждого, не могли определить, откуда взялись таинственные грабители. — В любом случае, — заявил Нед Мур, — эти люди были уверены в своей безнаказанности. — Почему вы так думаете? — осведомился француз. — Если бы дело обстояло иначе, они позаботились бы о том, чтобы не оставлять следов. Однако наши места эти молодчики знают хорошо: смотрите, как уверенно они направились в самую чащобу. — Ей-богу, — воскликнул полковник, — они, похоже, двинулись к Большому каньону, чтобы попасть на плато Мертвеца. Это значит, что лошади нам не понадобятся. — Посмотрим, отважатся ли они пойти теми тропами, по которым ходим только мы, десперадос. Контрабандисты туда не суются, так что агентов вам приходится набирать из нас, полковник Ферфильд. — Что делать, Нед, когда нет выхода, берешь то, что под руками! — Как вы сказали? — Бросьте, не обижайтесь. Лучше достаньте бутылку, надо бы хлебнуть, чтобы согреться! Брр! Собачий холод. — Ваша правда, я продрог до костей, — сказал с удивлением француз, — как будто сейчас зима! А на самом деле — только десятое октября! — Вы, наверное, не знаете, что это самые холодные места на Американском континенте. Здесь почти такой же климат, как в Западной Сибири. Извлеченная на свет бутылка прошла по рукам, и водка остудила пыл раздражительного Неда Мура, равно как и согрела озябшего Фелисьена Навара. Затем маленький отряд продолжил путь. Двигаться становилось все труднее, так что даже лошади, привычные к горным переходам, начали спотыкаться. — Куда вы, черт возьми, нас ведете? — спросил полковник Неда, который со своим фонарем, без всякого преувеличения, был путеводной звездой путешественников. — Хочу убедиться, что они действительно пошли той дорогой, о которой я вам говорил, — ответил десперадо, внимательно вглядываясь в еле заметные отпечатки на земле. — Тогда следует оставить лошадей, они только помешают. — Полковник, вы, безусловно, досконально разбираетесь в том, что касается таможенной службы, но в нашем ремесле не смыслите ничего. Скажите-ка, что вы делаете, когда пытаетесь догнать удравших нарушителей границы? — Я стараюсь перехватить их, обойдя кружным путем. — Вот именно! Мы предпримем тот же маневр, но лошадей оставлять не будем. Это было бы непростительной глупостью. У нас будет преимущество в скорости — сделаем полукруг по дороге, которая хоть и ужасна, но вполне доступна для наших славных коняшек. — А потом? — Через два часа, когда взойдет солнце, мы окажемся на пересечении двух троп, из них одна ведет в Канаду, а другая — в Америку. Наши грабители, спустившись с плато Мертвеца, обязательно выйдут к этому перекрестку. Миновать его невозможно. — Сколько туда добираться? — Миль[107] пять по горам, что равно пятнадцати на равнине. — Ладно! — коротко бросил полковник. А про себя добавил: «Это место я знаю! Для засады лучшего и найти нельзя! Укроемся за кустарником… увидеть нас невозможно… Нед хорошо стреляет… Ник и Питер тоже… что до меня… я бью без промаха. Четыре выстрела из карабина — четыре трупа! И ко мне вернутся доллары моего милейшего друга… Десять тысяч! Совсем неплохой куш по нынешним временам! Этот француз, похоже, излишне щепетилен… вполне может в последний момент отступить… но, кажется, человек он честный, и будет полезен, когда мне самому понадобится защита. Бог знает, что придет в голову моим головорезам, когда я завладею деньгами. От таких негодяев всего можно ожидать!» …С каждым часом становилось все холоднее. Ртутный столбик днем показывал пятнадцать градусов выше нуля, а сейчас, должно быть, опустился до минус десяти. Колючий ветер хлестал в лицо, нервируя и лошадей, они продвигались с трудом, выдыхая белые клубы пара. Однако животные мужественно сносили все тяготы пути. Нельзя было не восхищаться, видя, как они преодолевают впадины, лощины, тропы, где отступили бы даже горные козы, пересохшие русла ручьев, усеянные галькой, хрустевшей и срывавшейся под копытами, замерзшие болотца, скользкие, как стекло, завалы из деревьев, вырванных с корнем ураганным ветром! Каждый шаг вперед означал появление нового препятствия, но кони справлялись с ними — не столько благодаря искусству всадников, сколько подчиняясь своему изумительному инстинкту. Между тем ночь клонилась к концу, и бледные, почти желтоватые лучи солнца заскользили, словно медные языки, по голым скалам и темной громаде соснового леса, освещая мощные стволы непроницаемо-зеленого, почти черного цвета. — Плохой восход, — заметил Нед при виде чахлого солнца, выползавшего из серых пухлых облаков, за ними местами проглядывало небо, чья голубизна отливала зеленью моря. — Плохой восход, — повторил десперадо убежденно, — готов заложить душу, если вскоре не начнется снегопад. Полковник и Фелисьен, скептически пожав плечами, рассмеялись. — Смейтесь сколько угодно, — проворчал бандит, — только не забывайте, что в прошлом году уже в конце сентября до Литл-Пембины и Делорена можно было добраться лишь на санях, а по следу частенько бежали волки. Но, словно бы желая опровергнуть его слова, в ущелье, где путешественники продвигались по скале с наклоном в сорок градусов, ворвался порыв теплого ветра и принес на своих легких крыльях изумительный тонкий запах вереска, омытого росой, а затем сильные живительные ароматы свежей смолы. — Теперь совсем близко! — вздохнув с облегчением, сказал Нед и полез за бутылкой. Внезапно узкая горловина ущелья расширилась. Последний поворот, и гранитные скалы исчезли, словно по взмаху волшебной палочки. Перед ними открылась великолепная панорама Черепаховых гор, и француз не смог сдержать возгласа восхищения. — Засада в двух милях отсюда! — промолвил Нед, совершенно равнодушный к красотам природы.
ГЛАВА 3
Воры. — На вершине Большого каньона. — Необыкновенные бандиты. — О чем идет речь под соснами, на вершине скал. — Отчего честные парни превратились в воров. — Воровство ли это? — Цель оправдывает средства. — Катастрофа. — Сломанная нога. — Носилки. — Гибель лошадей.Углубившись после дерзкого нападения в сосновый лес, четверо таинственных грабителей, не сговариваясь, начали подниматься по крутой тропе, где многоопытному Неду Муру удалось, несмотря на темноту, разглядеть их следы. Они шли быстро, как люди, чья совесть не вполне спокойна, желая возможно скорее покинуть место своего подвига. Безмолвно карабкаясь со скалы на скалу, незнакомцы поднимались, не сбиваясь с пути и не оступаясь, в чем помогал не столько бледный свет луны, сколько превосходное знание местности. Как справедливо предположили Нед Мур с полковником, разбойники взбирались со дна на край шестисотметрового ущелья; в давнее время старые канадские охотники дали ему распространенное имя — «Большой каньон». Тропа прихотливо вилась между трещин и скал, сосен и колючих кустарников, иногда описывая круги, поднимаясь и спускаясь, чтобы затем взметнуться выше по склону, к верхушке обрыва, чернеющей на фоне ночного неба. Путники обладали ловкостью альпинистов, им нисколько не мешали длинные плащи, равно как и карабины за спиной; их ноги ступали так бесшумно, как если бы неизвестные шли босиком. По крайней мере трое из них, по предположению Неда Мура, были обуты в великолепные индейские мокасины, сшитые из бизоньей кожи — упругой и легкой. Четвертый или, точнее, первый, поскольку он шел во главе, хотя тоже карабкался с цепкостью и гибкостью кошки, все же время от времени задевал каблуком камешек или подгнившую ветку. Глухой скрежет и потрескивание разносились на некоторое расстояние, причем звуки эти невозможно было перепутать ни с чем другим, поскольку они сопровождались характерным позвякиванием шпор. Тогда идущий впереди, задыхаясь, шептал грубое американское ругательство и старался ступать с удвоенной осторожностью. Спутники его отличались редкой выносливостью, но и у них порой сбивалось дыхание, они дышали все тяжелее по мере того, как поднимались выше по склону — такому крутому, что его можно было бы назвать отвесной скалой. Подъем продолжался уже около часа, но ни у кого не возникало желания нарушить молчание, ибо эта изнурительная гимнастика отнимала силы, а относительная темнота ночи, требуя предельного внимания, заставляла не отвлекаться ни на что постороннее. Наконец четверка достигла рощицы из молодых дубков, откуда с пронзительными криками разлетелись с полдюжины испуганных дроздов. — Последнее усилие, и мы там! — сипло произнес первый, обращаясь к товарищам. Все четверо, ухватившись за тонкие, но упругие ветви, свисающие над пропастью, подтянулись и оказались на ровной площадке, где возвышались сосны, а почва была покрыта слоем душистых иголок. — Я больше не могу! — простонал человек в сапогах со шпорами, тяжело опускаясь на землю. — И я тоже! — в один голос воскликнули его спутники, словно по команде повалившись рядом. — Ну и работенка! Слово чести! По правде говоря, я с ужасом думаю о повторении подобного… Хотя, конечно, этого требует наше… ремесло. Профессиональный риск! — В самом деле, — отозвался, едва переводя дыхание, один из троих людей в мокасинах, — ведь мы теперь разбойники с большой дороги. — Да еще какие разбойники! Экипировку свою — и ту сохранили! Я говорю про маски, в них нас не узнать… И все залились звонким молодым хохотом. Решительно, то были грабители, не похожие на своих собратьев по ремеслу. — Однако для дебютантов мы действовали неплохо и добились чего хотели благодаря большому опыту, который вы, дорогой Боб, кажется, имеете в такого рода делах! — Пусть так! Можете называть меня профессиональным вором, поскольку я научил вас делать подобные штуки и пошел с вами, чтобы посмотреть, как вы усвоили урок. Теперь вы вполне достойные десперадос. — О Боб! Вы и наставник, и сообщник… и главарь банды! — У вас сегодня шутливое настроение, Франсуа! — Я счастлив! Мы добыли наконец эти проклятые деньги… Спросите Жана и Жака. — Ей-богу, вы меня с ума сведете своими загадками! Я ни черта не понимаю из того, что вы говорите… и еще меньше, что вы затеяли… — У нас есть время поговорить? — Десять минут, чтобы отдышаться после этого дьявольского подъема. У меня ноги словно ватные… Однако маски не выкидывайте. — Почему? — Потому что на это плато заглядывают контрабандисты и лесорубы, они ходят за выпивкой в «Одинокий дом». Лунного света вполне достаточно, чтобы разглядеть нас; дело это громкое, и шум поднимется страшный… так что если кто-нибудь нас увидит и узнает, то висеть нам в петле. — Возможно, Боб… возможно! — Никаких «возможно»! Нас вздернут, как только схватят. — Неужели? Без суда? — Вот что, выслушайте правду до конца. Вы должны ясно понимать, чем может закончиться наше небольшое приключение. На моральные принципы и на законы мне плевать. В расчет идет только наша дружба. Вы сказали мне: «Боб, в такой-то день надо остановить дилижанс, что ходит между Гелл-Гэпом и Делореном, и отобрать десять тысяч долларов у одного джентльмена». Вместе с вами я неделю изучал место, подготовил засаду, держал на мушке пассажиров… только потому, что вы решили заполучить эти десять тысяч… Если бы вы потребовали голову президента Соединенных Штатов, я бы согласился помогать. Но теперь я говорю: если нас узнают, то немедленно вздернут… Вы уверяете, что нет, а я повторяю: вздернут без всяких разговоров… Заметьте, меня это нисколько не волнует… меня уже вешали, и я начинаю привыкать… — Дорогой Боб! Вы самый лучший и самый бескорыстный друг на свете! — Клянусь Богом! Я же люблю вас всей душой… да вы и сами знаете… Вот почему предупреждаю: берегитесь, дело это пахнет веревкой. — Дорогой друг, — прервал его серьезный голос Жана, — послушайте меня две минуты, а потом судите. Старший брат, молчавший, пока Франсуа подшучивал над Бобом, сел по-турецки перед ковбоем, а тот привалился к громадной сосне, вытянув ноги и воткнув шпоры в землю. — Эта сумма — десять тысяч долларов — ничего вам не напоминает, Боб? — Черт возьми, конечно! Именно десять тысяч было украдено у вашего отца этим мерзавцем Джонатаном. — Вы знаете не хуже нас, что Джонатан, или Туссен Лебеф, является одним из крупнейших акционеров совместной корпорации. Он, кроме того, общепризнанный главарь контрабандистов Черепаховых гор, вместе с Джо Сюлливаном, хозяином «Одинокого дома». Причем оба действуют сообща с начальником таможни, полковником Ферфильдом. — Мы вместе выведывали все эти тайны, дорогой Жан, и я не вижу, какое отношение они имеют к нашей вечерней прогулке. — Когда вы с Жаком в прошлом месяце были в Регине, мы с Франсуа выследили полковника Ферфильда, а он… — Дальше! — А он и есть тот, кого мы ощипали сегодня вечером… он вез десять тысяч долларов, доверенных его другом Джонатаном, чтобы внести в кассу корпорации! — Веселенькая история! Но отчего же Джонатан не пожелал сам доставить деньги? — Оттого, что после разгрома в Гелл-Гэпе он старается показываться как можно реже… Он чувствует, что мы идем по следу… что пощады от нас не будет… и трясется при мысли об этом. — Стало быть, не имея других возможностей вернуть свой капитал, вы прибегли к силе и хитрости. Замечательно, дружище! — О, вы нас хорошо знаете: деньги для нас ничего не значат. — Однако десять тысяч… — Сущий пустяк… — Дьявольщина! Вы так богаты? — У нас нет ничего, кроме трехсот долларов. — Тогда я ничего не понимаю. — Эти деньги, которые один негодяй доверил другому, предназначены на святое дело. В них заключена свобода героя… а может быть — увы! — и мученика! Они пойдут на подкуп тех, кто охраняет в тюрьме Луи Риля! Луи Риля, слышите? Нашего друга, нашего брата, который пожертвовал собой во имя независимости метисов. Вы понимаете теперь, по какой причине мы поставили сегодня жизнь на карту, чтобы вернуть деньги, — они, без сомнения, принадлежат нам, но мы не пошевелили бы и пальцем, если бы речь шла о нас самих. — Я счастлив, что косвенным образом трудился ради освобождения Луи Риля, как говорят, безупречного джентльмена. — И мы благодарны вам от всего сердца! Вот почему нам пришлось также отказаться от планов личной мести, ибо дорога каждая минута! У французской партии множество врагов, у них есть все — и власть и деньги, и они предпринимают все усилия, чтобы покончить с метисами. Они громогласно требуют казни Луи Риля, осужденного на смерть. Его поместили в тюрьму в Регине и стерегут как никогда бдительно после неудачной попытки освобождения. Это была героическая, но безумная акция, она привела к гибели троих наших. Охрана же была удвоена. Поскольку освободить Луи Риля силой невозможно, мы решили подкупить тюремщиков… — Весьма здравая мысль… вы добьетесь своего… Точнее, мы добьемся, потому что я благодаря вам тоже стал канадским патриотом! Отныне я стою с вами и за вас! — Еще раз спасибо. А теперь в путь! Мы отдохнули, и время не ждет. Надо спешить. Доберемся до плато Мертвеца, где нас ждут кони, потом двинемся по ущелью, которое ведет в Литл-Пембину. Ошибиться невозможно: это единственная прямая дорога в Канаду. Оставим лошадей у верного человека и поедем в Регину на поезде. Чего бы нам это ни стоило, мы должны оказаться там как можно скорее! Все четверо вскочили с такой легкостью, словно не было тяжелейшего подъема, и устремились вперед с поспешностью, вполне понятной, если знать цель их предприятия. Дорога по-прежнему пролегала меж скал, но представлялась сравнительно нетрудной для людей, только что успешно преодолевших страшный Большой каньон, где осмеливались появляться только контрабандисты, да и то лишь тогда, когда им приходилось скрываться от преследователей, спасая свою жизнь. Молодые люди направлялись к пустынному плато: там в укромном месте они спрятали лошадей, крепко привязав их. К этому убежищу вела не тропа, а довольно широкая просека, некогда проложенная лесорубами, и путники, которые прежде с разумной предосторожностью шли гуськом или «индейской вереницей», ступая след в след, теперь отказались от этого, считая, что самое трудное уже позади. Расплата за беспечность последовала немедленно. Друзья двигались рядом, тихо переговариваясь, как вдруг Франсуа оступился, потерял равновесие и неловко спрыгнул в трещину, заросшую ползучей травой и совершенно незаметную для глаза. Братья и Боб даже вскрикнуть не успели. К счастью, ловушка оказалась неглубокой, и младший «уголек», успокоив их жестом, попытался выбраться самостоятельно, но без успеха. — Все в порядке, — сказал он, — дайте мне руку! Его подхватили и поставили на ноги, но он вскрикнул от боли и упал бы снова, если бы не ухватился за плечи Жана и Жака. — Проклятье! Я сломал ногу… не могу стоять! — Сломал ногу? Что ты говоришь, малыш? — встревоженно спросил Жан. — Посмотри сам! Ты же меня знаешь… я умею терпеть… Адская боль! — Подожди! Мы понесем тебя… Боб, Жан и Жак слегка приподняли беднягу, все еще надеясь, что Франсуа оправится. Тщетная надежда! Юноша, невзирая на все свое мужество, смертельно побледнел и, казалось, мог вот-вот потерять сознание. — Посадите меня… нога словно свинцом налилась… будто кто-то перепиливает лодыжку. Не теряя времени на бесплодные сетования и действуя как люди, с детских лет привыкшие преодолевать трудности, они в двух словах выработали план спасения и тут же приступили к его осуществлению. Мгновенно появились носилки: две длинные ветки, срубленные охотничьими ножами, три короткие, положенные сверху и связанные вицами[108], какими дровосеки обычно скрепляют охапки дров; поверху постелили плащ. Все это заняло не больше двадцати минут. Франсуа, неспособного пошевелить и пальцем, уложили. Жан взялся за один конец носилок, Жак за другой, а Боб встал впереди, чтобы освещать дорогу. — Ты ведь сможешь удержаться в седле, малыш? — спросил Жан, с любовью глядя на брата, но голос его предательски задрожал. — Раз надо, значит, сумею, старший! — Наши полукровки всего в одной миле отсюда… Они такие спокойные, послушные! Ты выдержишь, я уверен… — И мы, конечно, как следует осмотрим ногу, прежде чем усадить тебя верхом. Не тревожься ни о чем, Франсуа, — добавил Жак. — Бедные мои братья! Сколько хлопот я вам причиняю! — Дурачок! Нашел о чем говорить! — Я очень тяжелый? — Как свинец! Но мы сильны, как бизоны! Через двадцать минут будем на месте! Однако, несмотря на все усилия, выносливость и мужество юных атлетов, им потребовалось не меньше получаса, чтобы донести Франсуа до плато Мертвеца, ведь на каждом шагу их ожидали новые препятствия. Наконец друзья у цели! Они измучены, дыхание с хрипом вырывается из груди, а пот течет градом — но какое это имеет значение! Они дошли! Но слепая судьба приготовила им новое испытание! Боб, идущий впереди, вдруг остановился, и с губ его слетело яростное проклятие… — Лошади! Да это просто резня… от них осталась груда окровавленного мяса! Бедные твари! Погибнуть такой чудовищной смертью!
ГЛАВА 4
После визита серых медведей. — Бессильное мужество. — В путь к «Одинокому дому». — Чтобы замести следы. — На закорках. — Граница. — Кэт Сюлливан. — Боб и «старуха». — Американская мегера. — Немного табачку в кисете. — Гостеприимство. — Снежный ураган.Картина, что предстала перед путниками в бледных лучах уходящей за горизонт луны, была действительно ужасной. Четыре лошади, оставленные в месте, казалось бы, абсолютно безопасном, валялись со вспоротыми животами, растерзанные и истекающие кровью. Перед глазами потрясенных молодых людей предстала бесформенная груда из кусков мяса, сухожилий, оголенных костей и клочьев кожи, плавающих в зловонной, багровой от крови грязи. Так истерзать живую плоть могла бы, казалось, только безжалостная паровая машина, втянувшая в себя тело, или стремительный поезд, под чьими колесами нет спасения! В течение нескольких секунд все четверо, онемев, застыли на месте. Однако они были настоящими мужчинами, и жизнь, полная превратностей, закалила их души! К тому же трое из них унаследовали от своих индейских предков хладнокровие и бесстрастность, взявшие верх над нервозностью, присущей белому человеку. Итак, метисы встретили свалившуюся на них беду с непоколебимым мужеством. — Несчастье! Это большое несчастье, — произнес Жан, говоря то, что думали все… — Луи Риль ждет. Франсуа ранен! — Не тратьте на меня времени! — воскликнул смелый юноша. — Идите пешком! Торопитесь! Английские палачи не выпустят свою добычу! Каждый час приближает казнь нашего вождя и друга… Сделайте мне костыль, и я как-нибудь доплетусь до Буасвена или Делорана! — Ты бредишь, бедный малыш! Оставить тебя здесь, чтобы и ты попал в лапы зверю, учинившему это побоище! За кого ты нас принимаешь? — Это был гризли, Боб? Пока Жан и Жак с карабинами наперевес охраняли носилки, где лежал Франсуа, Боб, готовый выстрелить в любую минуту, осматривал место зловещей бойни. Предусмотрительный, будто краснокожий, он осторожно обошел кровавую лужу, зная, что зверь, упившись теплой кровью и насытившись свежим мясом, часто ложится спать на еще живые останки своих жертв. — Застрели меня дьявол! — промолвил он наконец в полном изумлении. — Здесь орудовал не один, а два гризли. Я вижу следы двоих… Ошибки быть не может… — Стало быть, мне в этот час ничто не угрожает… Вы знаете не хуже меня, что гризли бродит только по ночам, а на заре возвращается в свою берлогу и весь день отсыпается, — воскликнул Франсуа. — Не следует так уж полагаться на его привычки, — ответил Боб, явно думая о другом. — Вам известно, меня не так-то легко запугать, но я трепещу при мысли, что медведи подкрадутся к нам сзади, когда вы будете нести Франсуа. — Похоже, это крупные звери, если судить по тому, как они разделались с нашими бедными полукровками. — Громадные! Бурый медведь весит и двенадцать, и даже пятнадцать сотен фунтов… при росте до трех с половиной метров и с когтями в пятнадцать сантиметров… А на задних лапах когти достигают сорока пяти! Что же нам делать? — Мы должны любой ценой отнести Франсуа в Делорен. Это займет пять или шесть часов. — Я попробую идти, не хочу, чтобы на меня тратили время! Ведь каждая минута, потерянная по моей вине, может стоить жизни Луи Рилю. А нога уже почти не болит… думаю, я смогу… С этими словами бесстрашный юноша соскользнул с носилок, прежде чем братья успели остановить безумный порыв. Но, едва коснувшись земли, он хрипло вскрикнул, побледнел и упал на руки подоспевшего Боба. — Неужели на мне и на вас лежит проклятие! — в отчаянии и бешенстве простонал Франсуа, с трудом сдерживая рыдание. — Успокойся, малыш, — мягко прервал его Жан, укладывая на носилки с чисто материнской нежностью. — Лучше бы я разбился насмерть! — В высшей степени неразумно! — отозвался Боб со смешком. — А хоронить? А оплакивать? Сколько бы времени ушло! — Но подумайте: шесть часов, может быть, восемь — чтобы нести меня как бесполезный груз! — Есть и другой выход. — Говорите скорее, дорогой Боб. — Отправить вас не в Делорен, а поближе, в «Одинокий дом». Правда, хозяин его водит дружбу с десперадос, да и сам контрабандист, но человек он по-своему честный. Жена у него пьяница, однако с ней тоже можно сговориться… а вот дочка его Кэт — славная девчушка! Смелая, своенравная, настоящая дикарка с открытым сердцем и доброй душой. — Сколько нужно идти до «Одинокого дома», Боб? — спросил Франсуа. — Сможем быть там примерно через час. — Очень хорошо, выбираем «Одинокий дом». Я припоминаю… стоит на небольшом плато и открыт всем ветрам… от плато Мертвеца его отделяет скалистая гряда, и пробраться туда можно через северное ущелье. — Все точно! Вас встретят как родных, потому что в свое время, когда я много куролесил, мне удалось оказать услугу хозяину дома, Джо Сюлливану… — Вы не называли прежде его имени, Боб… А мы ведь знаем Джо Сюлливана как сообщника Джонатана и полковника Фэрфильда. — Гм! В жизни встречаешь многих людей, в знакомстве с которыми не всегда хочется признаваться. — Мы не можем позволить себе привередничать, — вмешался Жан, — и без того много времени потеряно… В путь! — Минуточку! — сказал Боб, который ни о чем не забывал. — Что еще такое? — А седла? И поводья? Нашу сбрую легко опознать с первого взгляда. — Что вы собираетесь с ними делать? — Спалить дотла, черт побери! Тащите сухие смоляные ветки. — Верно! — А потом мы все двинемся к «Одинокому дому», но на сей раз я пойду сзади с листвяным веником. — Чтобы заметать наши следы, не так ли, Боб? Превосходная мысль! Бесстрашно встречая все удары судьбы, крепкие духом и телом, готовые к борьбе и к лишениям, храбрые метисы и их верный друг пустились в путь к дому контрабандиста, надеясь обрести, невзирая на подозрительные связи этого человека, приют и гостеприимство — пусть не самое сердечное или щедрое, но достаточное в своей грубой простоте. Стараясь ступать как можно осторожнее, чтобы не беспокоить раненого, они обсуждали, что следует предпринять, дабы их планам не повредило это злосчастное падение. Решили, что Жан и Жак отправятся в Регину, оставив Франсуа в «Одиноком доме». Проезжая через Литл-Пембину или Буасвен, где у них есть друзья, они пришлют за раненым надежных людей с лошадьми. Одновременно из Виннипега по телеграфу вызовут доктора. Естественно, что Бобу, единственному, кто знаком с Джо Сюлливаном, также придется задержаться в «Одиноком доме» — совсем ненадолго, ибо подмога прибудет, конечно, в самом скором времени. Пока Боб и Франсуа, осужденные — увы! — на бездействие, будут по крайней мере в безопасности, Жан и Жак сделают все возможное и невозможное, чтобы вырвать Луи Риля из рук английских властей. Этот план обсуждался всю дорогу. Она оказалась очень тяжелой: измученные как своей ношей, так и бесконечными препятствиями, братья часто останавливались передохнуть. Бобу же приходилось заметать следы — свои собственные и спутников, чтобы никто не смог определить, в какую сторону направился маленький отряд. Придя к согласию и увидев, что уже занимается заря, молодые люди ускорили шаг, хотя даже их невероятная выносливость начинала слабеть под навалившейся усталостью. Обогнув плато Мертвеца, путники оказались перед скалой высотой метров в двести. — Надо взобраться туда, — сказал Боб. — Раз надо, значит, надо, — ответили Жан и Жак, — однако носилки нам теперь только помешают. Мы понесем малыша на закорках, сменяя друг друга. Подъем продолжался полчаса, а когда друзья достигли вершины, Боб протянул руку, показывая громадную поляну посреди темно-зеленого соснового леса, освещенного первыми лучами солнца. — Вот и «Одинокий дом», — сказал он, — а рядом конюшни, амбары и винный склад. Граница делила эту поляну надвое, причем дом находился на территории Соединенных Штатов, а конюшни и склады с товарами — на канадской земле. Владелец усадьбы застроил свой участок таким образом вполне сознательно, поскольку основным его занятием была контрабанда. Он мог в любую секунду перейти из Америки в Канаду и обратно, уклоняясь от уплаты налогов одному государству и прячась от таможенников другого. …Оставалось пройти всего около пятисот метров пологим склоном, чтобы оказаться у дверей дома; вблизи тот выглядел весьма неприветливо. — Для нас это прогулка! — в один голос сказали братья, едва не падая от усталости, но продолжая мужественно улыбаться. «Одинокий дом» был настоящей крепостью. Построенный из толстых сосновых бревен, скрепленных скобами на углах, он имел дополнительные поперечины из дубовых брусьев и походил на барак. Все окна были закрыты крепкими ставнями с прорезями для ружейных стволов, а сама усадьба обнесена высоким частоколом, за ним бесновалось с полдюжины злобных собак, спущенных на ночь с привязи. К тому же к этому жилью невозможно было подобраться незаметно, оно стояло на голой поляне, продуваемой всеми ветрами в любое время года. С какой бы стороны ни приближался путник, ему приходилось идти, не имея никакого прикрытия, и обитатели усадьбы могли видеть его за полмили. В этот ранний час дом казался тихим и пустынным; только собаки бешено лаяли, почуяв чужих. «Одинокий дом» вполне соответствовал бы своему названию, если бы из трубы не вырывались клубы густого дыма, указывающие на присутствие человека. Франсуа, опираясь на братьев, остановился в некотором отдалении от жилища Джо Сюлливана, а Боб, повесив карабин за спину, приблизился к окну. Подняв камень, он стал изо всей силы колотить в ставень. Собаки, завывая так, словно их обдирали живьем, яростно бросались на колья ограды. — Тише, глупые твари! Тише! Я — друг… — Если вы друг, — раздался женский голос за ставнем, — то назовите ваше имя. — Я Роберт Кеннеди, ковбой, приятель Джо Сюлливана… Это вы, Старуха? — Неужели вы, Боб? А нам сказали, что вас повесили… Мы будем рады принять вас. — Это не Старуха, — сказал Боб, — значит, это моя милая подружка Кэт? — Да, Боб! Старуха завтракает. Вы один? — Со мной трое друзей… это славные парни из Канады… Они братья… Один из них ранен. — Отчего же вы сразу не сказали, что с вами раненый? Я сейчас открою. — Скажите-ка, Кэт, — спросил Боб, пока девушка сдвигала засовы, — отца, стало быть, нет дома? — Нет, и мы очень беспокоимся, ведь вот-вот начнется снегопад. — А и верно! Я об этом не подумал… А солнце-то желтое, и ветер с севера… Тяжелая, толстая, массивная, как ворота тюрьмы, дверь повернулась на петлях, и в черном проеме возникло юное девическое лицо. Кэт Сюлливан минуло пятнадцать лет, но выглядела она на все восемнадцать; среднего роста, стройная, с темными волосами и ярко-голубыми глазами, с розовыми щеками и алым ртом, она была очень красива. Доброта в ней сочеталась с решимостью и отчаянной удалью девушки, выросшей на границах. Улыбаясь, она протянула Бобу руку, которую тот крепко пожал, на американский манер. Канадцы почтительно обнажили головы, с церемонной вежливостью, так присущей их сородичам. — Тысяча извинений, что заставила вас ждать, господа, — произнесла девушка веселым тоном, в котором, однако, сквозило и сожаление, — но мы живем на отшибе, приходится соблюдать осторожность. — Мисс Кэт, — прервал ее Боб, умевший быть благовоспитанным джентльменом, — имею честь представить вам моих друзей: Жан, Жак и Франсуа де Варенн. Господа, эта красивая девушка — мадемуазель Кэт Сюлливан, дочь хозяина «Одинокого дома» — Входите же, джентльмены, погода портится… начинается снегопад… Мы со Старухой приготовим вам постели. — Мадемуазель, мы сердечно благодарим вас за гостеприимную встречу! — сказал, поклонившись, Жан. Проворная и грациозная Кэт, впустив их в дом, тут же оказалась впереди и повела гостей в большую комнату, где из мебели были только шкаф, забитый бутылками, и грубые табуреты неструганого дерева. На полу из сосновых досок лежали в живописном беспорядке великолепные меховые подстилки и покрывала. В углу светился красноватым огнем огромный камин; потрескивая и лопаясь, в нем горели цельные стволы деревьев, а ветер бешено завывал в трубе и порой вталкивал в комнату клуб дыма, пахнущего смолой. Перед пылающим очагом сидела в кресле-качалке высокая старуха с седыми космами и рябым лицом, с полубезумным взором наркоманки или алкоголички. Она курила короткую трубочку из почернелой глины, время от времени сплевывая с чисто американской точностью на бок котелка, что висел возле огня. — Здравствуйте, Старуха! — непринужденно обратился Боб, протягивая руку. — Здравствуй, шалопай, — пробурчала та, с недовольным видом сунув ему два пальца. — Веревка, значит, оборвалась… Жаль! — Не очень-то вы любезны, миссис Сюлливан… Наверное, еще не успели заморить червячка. — Слишком много здесь шляется проходимцев… — А если они позаботились принести своей подруге, старой женушке Джо Сюлливана, кисет с лучшим виргинским табаком? — Давай сюда, пройдоха! — Берите! Пробуйте! Наслаждайтесь! Старуха бесцеремонно схватила кисет, загребла чуть не горсть, заложила за щеку и принялась жевать с видимым наслаждением. — Ну как? Настоящий нектар! — Проваливай! Договаривайся с Кэт. Теперь она здесь хозяйка, забери дьявол мою душу! Девушка, не обращая никакого внимания на бессвязные речи полупьяной мегеры, порхала по комнате, легкая, как воробышек, готовя постели из бизоньих шкур, поджаривая сало, открывая бутылки и вспарывая консервные банки. Когда раненого Франсуа уложили на меховую подстилку, она уже успела приготовить для гостей завтрак. Те накинулись на еду с юношеским аппетитом, только возросшим после трудной и опасной прогулки по горам. Жан и Жак торопливо уписывали за обе щеки простую, но вкусную снедь: им предстоял путь до Литл-Пембины, Виннипега и Монреаля. Внезапно ветер, с каждой секундой завывавший все громче, достиг небывалой силы: под его бешеными порывами могучая деревянная крепость вздрогнула до самых оснований. Солнце скрылось мгновенно, как будто его и не было, все вокруг стало серым, мутным и тусклым, так что в этой туманной мгле ничего нельзя было разобрать. — Снежный ураган! — воскликнули четверо.
ГЛАВА 5
Последствия необдуманного поступка. — Нельзя доверяться первому побуждению. — Лишние четверть часа. — Неудавшаяся засада. — Посреди снежной бури. — Пеший всадник. — Вторая компания гостей у дверей «Одинокого дома». — Холодный прием. — Приветствие с револьвером. — «На них мокасины».Фелисьен Навар, уроженец Франции и виноторговец, коммивояжер[109] по профессии, далеко не сразу осознал, в какую ситуацию попал и с кем связался. По правде говоря, подумать об этом следовало гораздо раньше. Сначала он с воодушевлением принял соблазнительное предложение отправиться в погоню за ворами — тем более что преступление совершилось у него на глазах. Впервые за время довольно скучного путешествия ему представилась возможность встряхнуться и одновременно восстановить справедливость, чему он не мог не радоваться, как истый француз, в каждом из которых есть что-то от Дон-Кихота. Итак, виноторговец ринулся в приключение очертя голову. Он мчался во весь опор, наслаждаясь ветром, бьющим в лицо, ровным стуком копыт, фырканьем резвой лошади, ни секунды не сомневаясь, что поступил правильно: погоня напоминала ему службу в Африке, где было делом чести затравить туземного грабителя или убийцу. Однако в восторженном состоянии он пребывал ровно столько, сколько длилась скачка. Когда спешившись, француз спрятался вместе со спутниками за густым кустарником, когда навел карабин на обрывистую тропу, где должны были появиться четверо, когда полковник отдал приказ стрелять без предупреждения по беззащитным, то в голову ему впервые закралась мысль, что он влез в довольно-таки грязное дело. Вступить с бандитами в рукопашную схватку, рискнуть жизнью, защищая честных граждан от грабителей, сразиться на равных с врагом, пусть даже и недостойным сострадания, — это одно! Но хладнокровно расстрелять первых встречных, как волков, без суда и следствия, без предупреждения, даже не удостоверясь, нет ли здесь ошибки, — такая перспектива не устраивала Фелисьена Навара. Это походило на обыкновенное убийство, и ему глубоко претила мысль, что он должен принимать в нем участие. Да и что, собственно, совершили эти бандиты, какими бы отвратительными они ни были? Чем заслужили столь суровое наказание? Разве они тронули кого-нибудь пальцем, хотя имели для этого все возможности? Они всего лишь ограбили… и кого же? Одного-единственного пассажира, который именует себя начальником таможни, но производит впечатление человека с весьма подозрительными связями, учитывая его близкое знакомство с несомненными головорезами. Американцы, живущие на границах, вешают воров — конечно, только тех, кто слаб, иначе пришлось бы вздернуть чуть не всех обитателей сих мест. Французы же судят их с учетом обстоятельств преступления и приговаривают к более или менее длительному лишению свободы, после чего те могут начать честную жизнь или вернуться к прежнему ремеслу. Фелисьен Навар, будучи сторонником порядка и законности, естественно, предпочитал такой способ наказания виновных, как более гуманный, более достойный людей, считающих себя цивилизованными. После получасового сидения в засаде кровь его, легко вскипавшая, подобно лучшему шампанскому, внезапно совершенно успокоилась. Он уже горячо желал, чтобы воры не появились, и горько сожалел о собственной опрометчивости, вызванной неразумным энтузиазмом. Впрочем, этому возвращению к здравому смыслу благоприятствовала и погода: температура, падавшая с необыкновенной быстротой, завершила то, что начал рассудок. Вскоре обрушился снегопад, какого нельзя было увидеть в европейских умеренных широтах. В мгновение ока небо покрылось черно-зелеными облаками, и на землю ринулись настоящие лавины… В безумном вихре огромных белых хлопьев исчезли темные сосны, поляны с пожелтелой травой и усыпанные опилками далекие штабеля побуревших досок и серо-фиолетовые скалы. — Мой совет, полковник, — раздался холодный пронзительный голос Неда Мура, — вернуться назад. — Подождем еще несколько минут! — Они не придут, а мы рискуем не добраться до Делорена. — Буря застала их врасплох, как и нас… Они не могут пройти иной дорогой, вы же сами говорили! — Через пять минут путь занесет… да и проклятая метель уже слепит глаза. — Подождем четверть часа! Что скажете, капитан? — Скажу, что холод просто зверский, снег валит так, что между хлопьями мизинца не просунешь… Воры наверняка укрылись в каком-нибудь гроте или в хижине лесорубов… И нам тоже надо искать убежище. — Я прошу всего четверть часа и даю по доллару на человека за каждую минуту. — Отлично! — в один голос сказали трое десперадос. За время этого короткого разговора буря усилилась, и снег пошел такой густой пеленой, что пятеро искателей приключений скоро стали напоминать уродливых снеговиков, сделанных неумелыми детскими руками. Быстро темнело. Громадные хлопья величиной с кулак, похожие на взбитые сливки, заволокли все вокруг, так что воздух стал непроницаемым для звуков и света, будто землю закутали в вату или покрыли толстым одеялом… Пространство исчезло, горизонт сузился до нескольких метров, словно путешественники очутились в клетке из матового стекла. Через четверть часа землю укутал слой снега толщиной сантиметров в двадцать пять. — Они не придут, — прорычал взбешенный полковник. — Делать нечего! Едем назад! — Назад! Легко сказать, — язвительно отозвался Нед Мур. — А в какую сторону, полковник, извольте объяснить! — В Делорен, черт возьми! — При всем моем уважении к вам, сделать это невозможно, — произнес десперадо с преувеличенной любезностью, за которой таилась насмешка. — Мы находимся в пяти милях от поселка, и можете быть уверены, что кое-где дорогу занесло двухметровым слоем снега. К тому же я не смогу определить направления, если не будет хоть какого-нибудь просвета. — Что вы предлагаете? — Идти в «Одинокий дом»! Другого выхода нет. — К Джо Сюлливану, отъявленному контрабандисту? И это вы говорите мне, начальнику таможни! — Слушайте, полковник, избавьте меня от этих глупостей! Если это единственная причина, которая вам мешает… А как французский капитан? Вы видите в этом какие-нибудь неудобства? — Никаких, — ответил Фелисьен, шумно отряхиваясь, чтобы избавиться от своего гиперборейского[110] одеяния. — В таком случае, идем в «Одинокий дом»! — А вы найдете путь? — Туда ведет старая просека… Впрочем, усадьба находится всего в двенадцати или пятнадцати сотнях ярдов отсюда… С такими ориентирами я не должен сбиться с пути, если только сам дьявол не ополчится против нас! — А что дальше? — А дальше, полковник, нам придется погостить у Джо Сюлливана, который всегда имеет запас еды на несколько месяцев. — На несколько месяцев! — вздрогнув, воскликнул француз. — Но сейчас ведь только начало октября! — Вы же сами видите, что этот проклятый снег не тает. Если почва промерзнет и если метель не прекратится через сутки… если через неделю не наступит потепление, то мы застрянем здесь на недели, а может быть, и на месяцы. Блиццард — пурга — черт побери, это может привести к чему угодно! — Какого дьявола я полез на эту галеру![111] — со вздохом произнес коммивояжер, растирая онемевшие руки и фиолетовый нос, чувствуя, что уже продрог до костей в своем тонком пальто. — Ну, господа, — сказал Нед Мур, прекращая бесполезные дискуссии, — садитесь на лошадей, если не боитесь замерзнуть… — А вы? — Я пойду пешком, чтобы освещать дорогу и нащупывать палкой тропу. …Трудно представить себе, с какой потрясающей внезапностью, с какой неслыханной свирепостью терзают природные катаклизмы[112] этот участок границы. Нередко в самый разгар осениразница температур достигает тридцати или даже тридцати пяти градусов за сутки. Только что термометр показывал двадцать градусов тепла, как вдруг, без всяких видимых причин, просыпаешься на следующий день при пятнадцати градусах мороза, а земля покрыта слоем снега толщиной в фут. А ведь решительно ничто не предвещало подобного изменения погоды — разве что животные накануне проявляли некоторое беспокойство. Когда нет ветра, это еще терпимо. Но надо слышать, как завывает вихрь, примчавшийся с полюса, не встречая никаких препятствий, надо видеть вырванные с корнем громадные сосны, что сметаются ураганом, словно соломинки, надо ощутить себя, оказавшись в этом чудовищном водовороте крохотной песчинкой, затерянной в снегах! Фелисьену Навару, не имевшему такой закалки, как его спутники, вскоре пришлось испытать все на собственной шкуре. В подобных обстоятельствах следует слепо довериться пограничному коню. Эти выносливые животные, которых оставляют пастись на свободе, чаще всего без всякого укрытия, умеют сносить жестокие капризы природы и в трудную минуту их выручает изумительный инстинкт. Мерин Неда Мура, — хозяин вел его в поводу, — ступал чрезвычайно осторожно, ощупывая копытом землю, занесенную снегом, принюхивался, опустив голову, словно желая уловить ощутимые только для его тонкого обоняния испарения почвы, что позволяло ему определить ямы, ухабы, разные препятствия. За первой лошадью гуськом двигались остальные — точно след в след — сгибаясь под напором ветра и резко поворачиваясь, когда шквал ударял в бок. Только это могло предохранить от падения, и умные животные становились так, чтобы ветер дул либо спереди, либо сзади. Французский коммивояжер, никем не предупрежденный, понятия не имел об этих тонкостях и решил, что лошадь просто боится. В надежде справиться со своим конем, он пустил в ход хлыст и шпоры. Как раз тут налетел шквальный порыв ветра, подняв тучу белых песчинок. Лошадь повалилась на бок, подпруга лопнула, и всадник, взмахнув руками, с головой ушел в трехфутовый белый сугроб. Дальнейшее напоминало операцию по спасению утопающего. Фелисьен, запутавшись в стременах, прижатый собственным карабином, ослепленный и оглушенный, беспомощно барахтался, не в силах обрести вертикальное положение. Встав на ноги только с помощью спутников, он обнаружил, что седло не держится на спине лошади. Рассудив, что в подобных обстоятельствах лучше не демонстрировать мастерство наездника, он по примеру Неда Мура решил идти пешим, ведя лошадь в поводу. Этот способ передвижения был хоть и прозаическим, но более разумным. На тяжком пути вслепую сквозь снежный ураган их ожидало бессчетное количество безумных спусков, головокружительных подъемов, беспрестанных падений на обледенелых скалах. Они брели, спотыкаясь и скользя в течение долгих часов, измученные, продрогшие, умирая от голода, изнывая от страха, что провалятся в ущелье или замерзнут, так и не добравшись до жилья. Они знали, что «Одинокий дом» совсем рядом, но, возможно, так и кружили бы вокруг него, ослепленные снежной порошей, если бы вдруг не натолкнулись на частокол. Несмотря на свою самоуверенность, Нед Мур с некоторой опаской принялся стучать каблуком в тяжелую дверь. На границе свято чтут обычай гостеприимства, но, когда совесть нечиста, надо готовиться к худшему. — Это вы, мисс Кэт Сюлливан? — воскликнул десперадо, узнав голос девушки. — Значит, вашего отца нет дома? — А вам какое дело? Кто вы такие? — Мы сопровождаем французского путешественника и были бы вам очень… — Повторяю, кто вы такие? — снова спросила Кэт в чьем голосе внезапно зазвучали угрожающие нотки. — Нед Мур… со мной Ник и Питер… — Вот как? Отец вас не любит… Ему ни к чему такие гости! Вы водите дружбу с американской таможней — вот и отправляйтесь туда! — Но, мисс Кэт… французский джентльмен хочет предложить выгодную сделку Джо Сюлливану… Мы покончили все дела с таможней и занимаемся теперь контрабандой. Мисс! Во имя неба!.. И ради ваших интересов, откройте! Умоляю вас… мы уже несколько часов бродим в снегу! — Если бы вы были одни, я не впустила бы вас, — отозвалась девушка после долгой паузы, во время которой, очевидно, совещалась с кем-то из обитателей дома. — Вы сказали, что с вами господин из Франции. Пусть скажет несколько слов на своем языке: здесь найдутся люди, чтобы его понять. — Нед Мур говорил правду, мадемуазель, — воскликнул коммивояжер на чистейшем парижском наречии уроженца улицы Май, — я — француз, меня зовут Фелисьен Навар, и у меня, действительно, есть деловое предложение к вашему уважаемому отцу. Речь простуженного виноторговца, — он произносил ее, стуча зубами и оглушительно чихая, — видимо, вполне удовлетворила таинственных полиглотов[113], ибо дверь отворилась — ровно настолько, чтобы путешественники, похожие на белых полярных медведей, могли пройти вовнутрь по одному. Наконец все они оказались в огромной комнате, стуча ногами, отряхиваясь и с величайшим облегчением глядя на пылающий камин. Красноречивые вздохи, вырвавшиеся у них, говорили лучше всяких слов. Когда стаял снег, облепивший волосы и бороды, странники предстали в своем обычном обличье и стали благодарить хозяйку дома, которая, однако, взирала на них весьма неприветливо, не выпуская из рук револьвера и держа палец на спусковом крючке. Но когда склонился в почтительном приветствии Фелисьен, лицо ее смягчилось, и она одарила его улыбкой, словно старого знакомого. — Так это вы француз! — произнесла она с мягкостью, которая совершенно не вязалось с враждебностью приема. — Да, мадемуазель, я имел счастье родиться на берегах Сены! И я спешу выразить вам глубочайшую признательность и уважение! Без вас мы погибли бы в снежном урагане! — Повторите по-нашему… я не поняла ни слова. Очень хорошо, — промолвила она, после того как Фелисьен объяснился на невероятно ломаном английском. — Что до ваших спутников, то им следует благодарить вас… Если бы не вы, ни за что не впустила бы в дом… особенно сегодня, когда… Тут она осеклась и ткнула револьвером в сторону ошарашенного полковника Ферфильда. — Это еще что такое? Об этом человеке речи не было! Где вы его подобрали, господин француз? А вы как посмели прийти? Или знали, что отца нет? Но в его отсутствие я охраняю дом… Отвечайте, вы пришли как враг или как друг? Полковник, видя направленный прямо в лоб ствол, машинально опустил руку на кобуру своего револьвера… — Руки вверх! — жестко сказала Кэт. — Стреляю без предупреждения! Вы пришли как друг или как враг? — Я пришел как друг! — Прекрасно! Если вы забудете об этом, то вам быстро напомнят, полковник Ферфильд! При этом имени трое людей, что сидели в другом конце комнаты спиной к пришельцам и лицом к камину, резко обернулись, не скрывая изумления. Полковник и трое десперадос, заметив это движение, быстро посмотрели на троих молодых людей и переглянулись. «Ого! — подумал полковник. — На двоих мокасины, третий в сапогах со шпорами… Где же четвертый? Если этот четвертый существует, значит… значит, мы все-таки настигли моих грабителей».
ГЛАВА 6
Слой снега в сто восемьдесят сантиметров. — Вывих. — Полковник делает выводы. — Револьвер мисс Кэт Сюлливан. — Два лагеря. — В каждом — своя героиня. — Капитан Фелисьен Навар обнаруживает талант повара. — Проигранное сражение. — Капитана повышают в чине. — Ужасающее зрелище.Снегопад продолжался без перерыва тридцать шесть часов, и осадки выпали такие обильные, что на Черепаховых горах покров достиг ста восьмидесяти сантиметров. В некоторых местах, где ветер буйствовал с особой силой, намело сугробы глубиной до десяти метров, завалив долины и почти полностью скрыв сосны высотой до пятидесяти футов. «Одинокий дом» стоял на плато, открытом всем ветрам, и его не миновала эта участь. Все строения почти целиком занесло — торчали только крыши. Гостям усадьбы — к счастью, весьма многочисленным — пришлось срочно отрывать траншеи, чтобы ходить на склады, конюшни, лесопилку, иначе жизнь была бы парализована. К тому же этот первый снег был еще слишком мягким, чтобы выдержать вес человека, даже если тот надевал лыжи. Таким образом, обитатели дома оказались в своеобразном плену, поскольку метель держит гораздо надежнее, чем даже наводнение. С этим следовало смириться, ибо прорвать блокаду было не в силах человеческих — по крайней мере, на первых порах. Две враждебные партии расположились в одном доме, не испытывая, понятно, никаких нежных чувств друг к другу. Канадцы и американцы жили здесь как кошка с собакой, если следовать удачному народному выражению: причем первые точно знали, с кем имеют дело, а вторые были почти уверены, что именно за этими молодыми людьми они пустились в погоню. Франсуа не вставал с меховой подстилки и вынужден был скрепя сердце принять помощь полковника — как оказалось, весьма сведущего в медицине. Обладающий столь многочисленными талантами начальник таможни мигом определил, что нога у юноши не сломана, а вывихнута. Одновременно он узнал то, что и желал выяснить, предлагая свои небескорыстные услуги: пострадавший был обут в мокасины. Дальнейшие его умозаключения приобрели форму простого уравнения. Пара сапог со шпорами плюс три пары мокасин равны тем следам, которые, со всей очевидностью, были оставлены ворами… Не теряя присутствия духа и не желая торопиться в сложившихся условиях, полковник, как заправский врач, прописал компрессы на больное место и заверил раненого, что выздоровление хоть и будет нескорым, но лечение непременно принесет результат. Разумеется, если бы не снежная блокада, полковник, совершив свое открытие, немедленно приступил бы к военным действиям… У него не осталось никаких сомнений. Четверо юношей, которые якобы заблудились во время охоты на медведя и попросили убежища в «Одиноком доме», когда начался ураган, и были теми самыми ворами, что дерзко напали на дилижанс. Именно их тщетно поджидал полковник со своими спутниками, надеясь, что они спустятся с плато Мертвеца. Однако Боб Кеннеди, Жан, Жак и даже Франсуа с его больной ногой производили впечатление слишком опасных противников, чтобы нападать на них в лоб без предварительной подготовки. К тому же молодые люди обрели мощного союзника: мисс Кэт Сюлливан безоговорочно встала на их сторону. От ее больших красивых глаз не укрывалось ничего. И она могла оказать не только моральную поддержку Девушка выхватывала револьвер с невероятной быстротой, а жизнь любого десперадо ценила в пенс, смотря на них примерно так же, как на волков. Лишь один пример: на следующий день после их прибытия Питер, пропойца и грубая скотина, забывшись, обозвал девушку грязным словом — вещь неслыханная и непостижимая, ибо американцы никогда не позволяют себе оскорблять женщину. В руках Кэт тотчас появился револьвер, с которым она никогда не расставалась, и пуля, посланная с шести шагов, срезала сигару в миллиметре от губ негодяя. — В следующий раз, Питер, — холодно предупредила девушка, — я буду целить в лоб. …Итак, полковник решил выждать, надеясь, что в этом бесконечном, казалось, злоключении подвернется благоприятный случай свести счеты с обидчиками. Впрочем, союзник нашелся и у американской партии: миссис Сюлливан — Старуха, как ее обычно называли — вступила в нее столь же решительно и бесповоротно, как Кэт поддержала канадцев. Старуха являла собой тип пьянчужки, распространенный и в Англии, и в Америке. С жадностью поглощая любое спиртное, она пристрастилась и к более сильным наркотикам: эфиру, лаудануму, хлоралу, что в сочетании с обычными средствами опьянения давало прямо-таки гремучую смесь. Полковник, убедившись, что имеет дело с законченной алкоголичкой, решил воспользоваться этим, чтобы завоевать расположение Старухи и выставить своего бойца в юбке против новобранца женского пола в стане врагов. Сделать это было тем проще, что старая фурия люто ненавидела собственную дочь и косо глядела на молодых людей, которым та оказывала всяческие знаки внимания. Мать Кэт перешла бы в другой лагерь из одного лишь чувства противоречия. А завершили дело Нед Мур, Ник и Питер. Их терзала та же жажда, что и хозяйку дома, они предлагали наперебой: — Старуха! Капельку джина? — Как скажешь, паренек! — Старуха! Глоточек виски? — Почему бы и нет! — Старуха… как насчет можжевеловой водочки? — У меня от нее изжога… но за твое здоровье выпью! Полковник платил за выпивку щедрой рукой, а миссис Сюлливан, предаваясь утехе, вдобавок набивала карман. Так хитрый начальник таможни легко добился цели: отныне поддержка Старухи была ему обеспечена. Все гости жили в большой комнате, но держались порознь даже за столом, где каждая партия занимала свою сторону. Янки много пили, горланили песни и играли в карты; канадцы же — включая и Боба — ходили в лес за дровами, расчищали осыпавшиеся траншеи, топили печи, пекли хлеб и не стеснялись помогать Фелисьену Навару в его кулинарных импровизациях[114]. Французский путешественник, едва увидев приветливых добрых юношей, с первого взгляда почувствовал к ним симпатию. Они же, в свою очередь, тянулись к славному малому, ощущая кровное родство по языку и происхождению. Взаимная приязнь непременно должна была возникнуть между французами из Канады и из метрополии. Однако следовало соблюдать осторожность, ибо полковник бдительно следил за всеми обитателями дома, а заподозрив сговор, мог пойти на крайности. Совместная возня у печи способствовала сближению: кулинары обменивались короткими фразами — внешне ничего не значащими, но очень важными для них — к сугубому неудовольствию полковника: он совершенно не знал французского языка. Иностранцы утверждают, что за пределами своего отечества французы выступают в качестве только парикмахеров или поваров. Парикмахеров? Это еще надо доказать! Поваров? Черт возьми! Во всех странах еду готовят так скверно, что француз, прирожденный гурман[115], просто вынужден позаботиться хотя бы о собственном пропитании, чтобы не пасть жертвой хронического несварения желудка. В Америке люди питаются прескверно. Это и едой-то назвать трудно: заглатывается невообразимая мешанина из несочетаемых между собой продуктов. Подобные, с позволения сказать, кушанья, оскорбляют вкус, бросают вызов кулинарной эстетике[116] и божественному гурманству. Вообразите себе ужасную мешанину из яичных желтков, водки, перца, сахарного песка, патоки, зернистой икры и рубленой ветчины! Или суп из устриц — консервированных! — сваренных в молоке — тоже консервированном! — вместе с салом, обжаренным на углях в печи, и маисовыми[117] лепешками вместо хлеба! Поверишь, право, что все это готовится и съедается на пари пьяницами, абсолютно равнодушными к тому, что они глотают! Поскольку желудок господина Навара немедленно взбунтовался, француз вспомнил, что был солдатом — более того, солдатом в Африке, где военный человек проходит суровую школу выживания. Чуть не все наши пехотинцы становились там изумительными поварами, а у бывшего бригадира открылся настоящий кулинарный талант. Для его товарищей из «Одинокого дома» это стало подлинным откровением. Американцы, занятые карточной игрой, потягивали свои коктейли[118], убивающие аппетит, и поначалу лишь рассеянно посматривали, как Фелисьен снует вокруг печи, поджаривая лук, подрумянивая присоленную муку, нарезая мясо и помешивая внешне непритязательное варево — короче, работая не меньше двух часов над блюдом, чей острый запах привлек наконец внимание полковника, сильно захмелевшего после обильных возлияний. — Хэлло, капитан! — бросил он повару. — Как называется ваша… ваша стряпня? — Это поджарка с луком, полковник Ферфильд. — Поджарка с луком! Похоже, это дьявольски вкусно! — Так отведайте! С хлебом это будет превосходно. — В самом деле… изумительная штука, эта ваша поджарка с луком… никогда ее не забуду! — проговорил полковник, которому никогда не доводилось пробовать ничего подобного. — Ничего удивительного, все военные любят это блюдо. Мой бывший полковник, маркиз де Г., в походе ничего другого не признавал. — Значит, у этого французского полковника и одновременно маркиза был хороший вкус, и я счастлив, что у нас с ним так много общего, помимо звания. — Но, — промолвил наивно, а может быть, и лукаво, Фелисьен, — он-то был настоящим полковником. — А я, что же, по-вашему, картонный? Я был во втором сражении при Булль-Рёне![119] — Верно, — отозвался с полным ртом Нед Мур, впервые открывший в себе свойства гурмана, — давайте поговорим об этом вашем сражении при Булль-Рёне, откуда все смылись, торопясь ухватить местечко, которое вы теперь занимаете. — Вы клевещете на федеральную армию, и я не понимаю, о чем вы говорите. — Сейчас объясню. Это произошло на второй день кровавой битвы, тридцатого августа тысяча восемьсот шестьдесят второго года… Видите, как я точен? Силы противников были равны, Поп сдерживал атаки Джексона, а Джексон ничего не мог поделать с Попом. Вдруг распространился слух, что в Черепаховых горах освободилось место начальника таможни. Первый же генерал, узнавший об этом, вскочил на коня и помчался во весь опор, надеясь поспеть вовремя и выпросить этот лакомый кусочек для себя. Второй, увидев, как улепетывает первый, решил, что сражение проиграно, и сделал то же самое. Естественно, полковники побежали за генералами, а полкам ничего не оставалось, как следовать за своими командирами… Вот что стало причиной поражения, которое стоило армии конфедератов[120] тридцати пушек и тринадцати тысяч пленных. Нед Мур, рассказывая эту забавную историю, явно желал подтвердить свою репутацию человека, который ни перед кем не пасует, и разозлить полковника, что ему вполне удалось. Начальник таможни выглядел так, словно проглотил аршин. Едва десперадо кончил, он произнес, с трудом сдерживая гнев: — Не все полковники сбежали в сражении при Булль-Рёне, а выдающийся пост, о котором вы упомянули, был по заслугам предоставлен тому, кто ни о чем не просил. — Иными словами, вам? — Почему бы и нет? — Полковник, только один вопрос: сколько вам лет? — Мне ровно сорок. — Сейчас у нас восемьдесят пятый год, а битва произошла в шестьдесят втором… то есть двадцать три года назад. Следовательно, вам было тогда семнадцать! Полковник, в таком, возрасте — прекрасное начало карьеры! Громовой хохот, раздавшийся за столом, на мгновение заглушил завывания метели за окнами. Приспешники полковника явно радовались возможности уязвить своего главаря и, глядя на его смущенное лицо, возбужденно ерзали, переглядываясь и толкая друг друга локтями. Нед Мур после того, как отведал вкуснейшей луковой поджарки, забыв даже обтереть бороду, измазанную соусом, заявил, что никогда еще не получал такого наслаждения от еды, и предложил немедленно произвести французского капитана в полковники. Фелисьен стал со смехом отказываться от этой чести, но Нед Мур настаивал. — Соглашайтесь, дружище, соглашайтесь! Хотя в Америке больше ста тысяч человек носит это звание, все-таки оно здорово звучит. — Больше ста тысяч! — Самое малое. А у вас разве не так? — У нас, — ответил француз, становясь вдруг очень серьезным, — после двадцатипятилетней или тридцатилетней службы и сорока пяти или пятидесяти лет безупречной жизни смелому воину присваивается это почетное звание — подлинный венец его карьеры. Он счастлив и горд, ибо… — Как? — вмешался полковник. — После тридцатилетней службы? У нас звания присваивают куда проще. — Это я заметил! Разговор этот весьма забавлял канадцев и Боба, однако они обратили внимание, что мисс Кэт, уйдя на винный склад за несколькими бутылками шампанского, заказанными французом, что-то слишком задерживается. Жан, опасаясь, что девушка могла поскользнуться и неудачно упасть, вышел, чтобы помочь маленькой подруге. Странное дело! Старший из «угольков», в свою очередь, тоже никак не возвращался, так что Боб и его братья не знали, что подумать. Они встали и направились к тяжелой двери, по-прежнему заваленной снегом, что вела во внутренний двор. В этот момент со двора до них донесся звериный рык — такой свирепый и мощный, что у храбрейшего из храбрых могли бы подогнуться колени, а сердце уйти в пятки. А вслед за тем раздался звенящий, как рожок, крик человека. — Жан! Это Жан! Боб и Жак ринулись к траншее, прорытой в снегу, за ними бросился Фелисьен, потом немного протрезвевшие американцы… Перед их глазами предстало страшное зрелище.
ГЛАВА 7
Самый ужасный хищник Америки. — Сильный, как слон. — Кровожадный, как тигр. — Смелый, как лев. — Ursus ferox. — Смертельная схватка. — Жан ранен. — Один из первых ножей границы. — Планы отступничества. — Гнусная мать. — Все живы. — Праздник освобождения. — Беспробудный сон.Если не считать Европы, где почти не осталось диких зверей, в Америке хищников гораздо меньше, чем на других континентах. В самом деле, Азия имеет королевского тигра и черную пантеру; Африка — льва и гиппопотама; и там и там водятся львы и слоны. В Америке среди крупных зверей числят ягуара, чья свирепость сильно преувеличена, пантеру, не столь опасную, сколь коварную, откровенно трусливого кугуара и медведей, популяция[121] которых имеет множество разновидностей. Это все. При взгляде на сей весьма краткий список, где упомянуты лишь самые известные животные, можно было бы подумать, что в Новом Свете[122] нет тех гигантов, каким мы любим присваивать королевские титулы — за их силу, размеры или свирепость. Но это представление ошибочно. В Америке есть зверь, который мог бы сразиться — и, возможно, даже одержать верх — с чудовищными хищниками, чьи имена, внешний вид и образ жизни нам хорошо известны. Это бурый медведь! Натуралисты, любящие давать своим подопечным звучные, порой странные наименования, в данном случае не затруднились, выбирая этому хищнику имя, иными словами, давая ему научное обозначение. Они нашли название, которое напрашивалось, и окрестили его попросту «ursus ferox» — «свирепый медведь». Редко случается, чтобы имя с такой точностью отражало свойства объекта, ибо в буром медведе, или гризли, как его называют американцы, природа, кажется, свела воедино страшные наклонности всех хищников, не забыв снабдить соответствующими возможностями для утоления кровожадности. Сильный, как слон, смелый, как лев, коварный и неумолимый, как тигр, серый медведь отличается колоссальными габаритами, потрясающими воображение. В самом деле, в Скалистых горах встречаются гризли ростом в четыре метра и весом в тысячу килограммов! Это вес двух лошадей, закованных в броню![123] Огромный, тяжеловесный, неуклюжий, он словно бы опротивел самой природе, и она бросила, не доделав, эту махину с бесформенной мордой и крохотными глазками, постоянно налитыми кровью, с кривыми лапами и мощным торсом, что качается на манер маятника. Если прибавить к этому грязно-белую шерсть с длинными клоками на шее и на боках, чудовищная глыба мускулов покажется еще более отвратительной. У него ужасные зубы — необыкновенно длинные и острые. Но еще страшнее — если это вообще возможно — его когти, длина их доходит до пятнадцати сантиметров. Достаточно взглянуть на него, чтобы понять, насколько он опасен — а ведь этот зверь обладает еще ловкостью и коварством, обманчиво скрытыми внешней неуклюжестью. Ему неведомо чувство страха, он никогда не отступает перед опасностью, слепо веря в свою силу, и становится неудержим, если впадает в бешенство. Даже истекая кровью, он бросается в атаку на врага, даже при последнем издыхании не ослабляет хватку. Это чудовище отличается изумительной живучестью: бывали случаи, когда с гризли не удавалось справиться, всадив в него двадцать пять пуль! Как показывает строение зубов, он принадлежит к числу плотоядных и в кровожадности не уступает тигру: любит лакомиться теплым мясом и часто убивает из одного желания убить. Ударом лапы он сбивает с ног бизона весом в шестьсот килограммов и взрезает шкуру когтями, словно охотничьим ножом; затем вгрызается во внутренности, с жадностью лакая кровь, и пожирает еще трепещущую плоть. Он с одинаковой ловкостью охотится на равнине и в горах; терпеливый, как все хищники, может часами сидеть в засаде, подстерегая оленя или горного козла, а затем набрасывается на них с быстротой молнии, не оставляя жертве никакого шанса на спасение. Если нужно, он без всяких колебаний кидается в погоню, не страшась состязаться в скорости с самыми быстрыми животными, и одерживает в этой гонке верх над бизонами, ланями и даже дикими лошадьми. Поскольку гризли нападает без предупреждения на все живое, что встречается ему на пути, будь то человек или зверь, индейцы панически его боятся и вступают с ним в сражение, только защищая свою жизнь. Вот почему самым почетным украшением воина считается ожерелье из когтей бурого медведя, ибо оно служит неоспоримым свидетельством силы и доблести.
Легко понять ужас, охвативший бесстрашных искателей приключений. Когда Боб и Жак, распахнув двери «Одинокого дома», выскочили во внутренний двор, они, побледнев, попятились, воскликнув: — Великий Боже! Бурый медведь! С первого взгляда было ясно, какая драма разыгралась за несколько секунд. Две растерзанные собаки, словно окровавленные лохмотья, валялись у частокола, продавленного голодным зверем. На краю затоптанной, полузасыпанной траншеи лежала Кэт, застыв без движения и без кровинки в лице. А в двух шагах от нее стоял на задних лапах громадный медведь — ростом, казалось, с дом. Из его широко открытой пасти исходило зловонное дыхание, и кишки вываливались из распоротого брюха! К правому боку чудовища буквально прилип свершивший нечеловеческий подвиг Жан, без устали работая ножом, тогда как страшные когти силились дотянуться до спины юноши. Издав еще одно ужасающее рычание, смертельно раненный гризли навалился всей тяжестью на плечи изогнувшегося Жана, а тот вцепился в шерсть мертвой хваткой, уткнувшись в нее лицом. Канадец сражался безмолвно, не зовя на помощь. Из его разодранной ноги хлестала кровь. Этот маневр характерен для свирепого медведя: он норовит прежде всего порвать сухожилия жертвы, лишив ее возможности бежать. Боб и Жак, догнавшие их трое десперадос, путешественник-француз и полковник затаив дыхание следили за беспощадной схваткой, не смея ринуться на зверя из опасения задеть Жана, слившегося с ним в одном объятии. Из пасти и ноздрей гризли выступила кровавая пена. Он издыхал… но и юноша, изнемогая, держался из последних сил. Голова его поникла, руки разжались, колени подогнулись… и тут родной голос заставил смельчака встрепенуться. — Смелее, брат! Еще немного! Когда метис и ковбой побежали на двор, заслышав рычание зверя и боевой клич Жана, американец машинально схватился за кобуру, но Жак резко остановил его. — Нет! Только не это! Из револьвера не убить… а раненный, он придет в бешенство! Ворвавшись в комнату, метис схватил первый попавшийся под руку карабин, быстро зарядил его и тут же вернулся во двор, растолкав остальных и крикнув брату ободряющие слова. Затем, с холодной решимостью, хотя и смертельно побледнев, поднял оружие, целясь зверю в голову. Это длилось едва ли секунду: раздался выстрел, приглушенный сугробами вокруг траншеи; потом сухой щелчок, словно хрустнула ветка. Медведь, отпустив добычу, раскинул лапы — будто человек, всплеснувший руками, — разинул огромный зев и издал вопль, от которого задрожали стены дома. Покачивая головой, отполз назад, конвульсивно прижав к глазу лапу с чудовищными когтями. — Превосходно! — послышался пропитой голос Неда Мура. — Старому Эфраиму[124] пришел конец! Браво, юноша! Жак, отбросив дымящийся карабин, устремился к брату и подхватил его. Жан, забрызганный с головы до ног кровью зверя, хлынувшей из груди, словно из пробитой бочки с вином, с отчаянием прошептал младшему брату: — Проклятие над нами! Я ранен и не смогу идти… А Луи Риль ждет! — Я пойду один! — Не сомневался в тебе, брат! Боб кинулся к Кэт, по-прежнему не подававшей признаков жизни, взял ее на руки и бегом понес в дом. — Как она? — в страхе воскликнул Жан, чувствуя, как у него сжимается сердце от тревоги, и напрягая все силы, чтобы не упасть. — Неужели я опоздал? — Да нет, она дышит, бедняжка… Пойдемте, Жан, вас надо перевязать! А девушкой займется мать. В этот момент гризли, доползший до склада, в последний раз встряхнул головой; кровь хлынула у него из горла, и он вытянулся на земле. — Застрели дьявол мою душу! — вскричал Нед, обогативший свой словарь любимым ругательством Боба. — Красивый шовчик! Тот, кто сумел так уделать старика Эфа, по праву войдет в число первых ножей границы. Ей-богу, я не прочь пойти с ним на любое дело! Что скажете, полковник? — Скажу, что это будет большой глупостью с вашей стороны, Нед. — А второй, который раскроил череп проклятому гризли! Каково? — Эка важность! В четырех шагах… — Попробуйте сами попасть в глаз зверю. Пожалуй, руки задрожат! В такой ситуации малейший промах мог обойтись дорого! Клянусь честью, эти канадцы — отчаянные ребята! Надеюсь, они и в самом деле промышляют грабежом. Если им понадобятся люди, я готов предложить свои услуги. — В любом случае они преподнесли нам фунтов триста превосходной ветчины, — заметил, облизываясь, Питер, большой любитель острого копченого мяса, из которого получается отменная закуска. — Сейчас я разделаю эту тушу. Когда-то мне приходилось работать мясником. Посмотрим, забыл ли я прежнее ремесло! «Ну, а мне надо будет присмотреть за своими наймитами, — сказал про себя полковник, возвращаясь в дом, — похоже, у нас зреет измена. Весьма жаль! Ведь наши дела складываются удачно… силы врагов тают на глазах… вот и еще один вышел из строя! Фортуна[125] на нашей стороне, надо только ей немножко помочь». Боб осторожно положил Кэт, так и не пришедшую в себя, на кресло-качалку возле матери. Фелисьен Навар бросился к Жану, который ковылял, опираясь на плечо брата. Француз решил, что девушка вполне обойдется без его помощи, а вот раненого надо было срочно перевязать. Бывший бригадир все еще не мог оправиться от изумления, смешанного с ужасом, при виде гризли, чьи размеры превосходили всяческое воображение. И ему с трудом верилось, что подобного гиганта уложил ножом восемнадцатилетний юноша. Не скрывая своего восхищения, француз рассыпался в искренних похвалах, превознося до небес доблесть метиса. — Этот болтун переметнется при первой же возможности! — проворчал полковник, косо посматривая на коммивояжера. — Он и без того держит себя все холоднее. Но мы еще посмотрим, мои дорогие! Терпение! Настанет и мой час! — Прокляни Господь мою душу! — взвизгнула пьяная мегера при виде бесчувственной дочери. — Ты померла или живая? Если померла, то это неприятно… польза от тебя была! Хотя жизнь, она долгой не бывает… всем нам придется… А если ты живая, отвечай мне… и залеживаться нечего! Подавай гостям выпивку, у них в горле пересохло! Удивленная упорным молчанием, Старуха кое-как добралась до кресла, вынула трубку изо рта, смачно сплюнула и уставилась на бедную девочку полоумными глазами, напоминающими по цвету вареную рыбу. — Ты почему не отвечаешь, скверная дочь? Я тебе покажу, как дерзить матери! Сейчас вот возьму палку… — Что вы делаете, сумасшедшая? — воскликнул в негодовании Фелисьен. — Вы что, не видите? Она в обмороке… может быть, ранена! — В обмороке! Еще чего выдумали! Я покажу этой дурехе… Стаканчик можжевеловой водки, и все как рукой снимет! Перестав слушать омерзительное лопотанье, француз устремился к Кэт и стал хлопотать над ней с трогательной неловкостью, восполняя недостаток опыта рвением. Боб в это время осматривал рану Жана, сразу определив, что она глубока и серьезна. Затем ковбой перевязал своего друга, смочив кусок пакли водкой и привязав его к ране льняным жгутом. На границе своя хирургия. Впрочем, многим она спасла жизнь. Кэт — ей Фелисьен натирал виски уксусом и брызгал в лицо холодной водой — постепенно приходила в себя. Наконец девушка открыла глаза и огляделась в изумлении, явно с трудом веря, что жива и находится в своем доме. Все еще бледная от потрясения, она едва слышно произнесла: — Где гризли? — Сдох! — весело крикнул Боб. — Я сделаю из него превосходный ковер, а мой друг Жан преподнесет его вам в подарок. — С величайшим удовольствием, мисс Кэт… — с готовностью подхватил юноша. — Надеюсь, вам лучше? Славная девочка глубоко вздохнула, выпила залпом стакан холодной воды и, поднявшись, сделала два неуверенных шага. — Мне гораздо лучше… я должна поблагодарить вас, господа! Вы спасли мне жизнь! Боже, как я испугалась, увидев этого чудовищного зверя, когда он рвал когтями собаку… Я упала от ужаса, и мне казалось, что я уже мертва… И вот я здесь! Как хорошо жить! Разумеется, пришлось рассказать ей в мельчайших деталях обо всем, что произошло: как Жан схватился врукопашную с гризли, распоров тому брюхо; как Жак метким выстрелом уложил гигантского медведя; как все бросились ей на помощь… Все обитатели дома, за исключением полковника, который о чем-то беседовал в углу со Старухой, окружили смелую девушку и говорили наперебой. Удивительная вещь! Пьяница слушала чрезвычайно внимательно, и было похоже, что у нее наступил момент просветления. — Хорошо. Вы знаете, чего хотите, полковник! — И щедро плачу за это! — Вы получите наркотик сегодня вечером… Такого добра у меня хватает… Но только деньги вперед! Вечером в «Одиноком доме» праздновали победу над гризли. Враждующие партии впервые сошлись за одним столом, испытывая друг к другу непривычно добрые чувства. Нед Мур, искренне восхищаясь подвигом Жана, излучал симпатию; Ник с Питером, привыкнув смотреть в рот Неду, следовали его примеру; Фелисьен уже давно сердцем был на стороне канадцев. Даже полковник заметно смягчился и щедрой рукой жертвовал на выпивку. Медвежье мясо поедалось во всех видах в сочетании с обильными возлияниями. На стол было подано лучшее вино, и только Фелисьен Навар, признанный знаток и ценитель, порой удивлялся странному вкусу напитков. А потом все даже не заметили, как забылись тяжелым сном.
ГЛАВА 8
Невеселое пробуждение. — Прощальное послание полковника Ферфильда. — Очередное изъятие. — Бешенство. — Каким образом полковнику удалось прорвать снежную блокаду. — Смена вождя. — В погоню. — След медведя. — Снежная траншея. — Невероятная встреча. — Джонатан и Джо Сюлливан.Обитатели «Одинокого дома» беспробудно спали двенадцать часов подряд. Вполне понятно, отчего в спячку впали некоторые из них, поглотившие не одну бутылку вина. Например, Старуха, которой вздумалось добавить в шампанское, для пущей крепости, можжевеловой водки, джина и перца, — естественно, сначала ей хотелось завести как веселые, так и печальные песни, но кончилось это неизбежной каталепсией[126]. Нед Мур, а также его безмолвные зловещие приспешники Ник и Питер, которые во время снежной блокады занимались только тем, что пили, курили, жевали табак и спали, набросились на дармовую выпивку с той же жадностью, что и полоумная хозяйка дома, а потому могли свалиться внезапно, как и она. Это было неизбежно и никого бы не удивило. Даже Боб, несмотря на благотворное влияние новых друзей, излишне разгорячился и выпил больше чем следовало — естественно, он проснулся с тяжелой головой, и у него трещал скальп, как шутят на границе. Но как могло случиться такое с Фелисьеном Наваром, многоопытным участником всевозможных застолий? Или с тремя метисами, убежденными трезвенниками? С Кэт Сюлливан — она едва пригубила стакан с шипучим «чимпеньским» — иными словами, шампанским? Непонятное явление! И эту загадку пытался разрешить каждый по мере почти одновременного пробуждения. Боб первым открыл глаза, чувствуя, что закоченел от холода — камин давно погас, — и с понимающим видом оглядел живописный беспорядок в большой комнате. Иронически поклонившись Старухе, прикорнувшей у очага, он машинально сосчитал «тела». Нед Мур сидел за столом, уткнувшись лицом в скрещенные руки и оглашая «Одинокий дом» звучным храпом. Ник и Питер валялись на полу, раскинув руки и ноги крестом, — оба дышали прерывисто, икая, словно больные животные. Фелисьен Навар, чьи густые брови и черная борода еще больше оттеняли неестественную бледность, спал в кресле-качалке. Двое раненых, Жан и Франсуа, растянулись на меховой подстилке; Боб оказался возле Жака, также совершенно бесчувственного. Ему смутно помнилось, что мисс Кэт попросила разрешения пойти к себе перед тем, как он внезапно рухнул, сраженный непобедимой сонливостью. — Вроде все здесь, — проворчал ковбой, потягиваясь, — да, все тут… Черт возьми! Голова словно свинцом налита… Кто бы мог подумать? В глотке будто пакля застряла… сейчас бы стаканчик воды! Да… воды… пожалуй… Эй, полковник! Надо бы промочить горло! Ставлю бутылку джина… Давай, Старуха, обслужи клиентов! Эй, Мур… Ник… Питер… что, скальпы трещат? Полковник Фэрфильд! Hell and dammit![127] Я ошибся… этот мерзавец исчез… Ну-ка, еще раз: француз, Нед, Питер, Ник, трое моих друзей и я сам… Пусть сам дьявол подвесит меня за галстук! Он сбежал… хотел бы я знать, каким образом ему это удалось и куда он направился? Монолог Боба, произносимый громогласно, вкупе с ругательствами и окликами, наконец пробудил спящих. — А это еще что такое? — продолжал ковбой, вглядываясь в необычный предмет на стене прямо над ложем Жана и Франсуа. Предмет оказался индейским ножом: воткнутый в кедровую балку, он придерживал большой клок грубой бумаги, на которой карандашом было написано несколько строк. — Чувствую, за этим кроется какая-то подлость, — пробормотал Боб, подходя поближе, чтобы разобрать неровные строчки. Затем он прочел вполголоса:
«Молоды вы, чтобы тягаться с таким старым лисом, как я. Вы были в моей власти, и я мог бы вас всех отправить на тот свет. Мертвых можно не опасаться. Но мне почему-то не захотелось вас убивать. Вероятно, это большая глупость с моей стороны. Я ограничился тем, что забрал деньги, которые вы добыли грабежом, обворовав меня неделю назад. А к десяти тысячам, что были зашиты в вашем поясе, Жан, я без всяких угрызений присоединил доллары из вашего кармана. Пусть это будет возмещением за потерянное время. Я был великодушен, не так ли?»— Обворовали! Нас обворовали! — завопил ковбой, которому на этот раз изменило обычное хладнокровие. — Обворовали? Кого? Кто? — посыпались встревоженные восклицания Жана, Жака и Франсуа с одной стороны и Неда Мура, Питера и Ника — с другой. Фелисьен Навар немедленно схватился за внутренний карман и со вздохом облегчения убедился, что его бумажник на месте. — Вот, читайте! — в бешенстве вскричал Боб, протягивая бумагу Жану, который внезапно побледнел. — А я сейчас поговорю по-свойски с этой бандой негодяев! За сколько долларов продались? Сколько вам обещал этот мерзавец за такую грязную работенку? — Слушай, ты, коровий пастух! — заорал Нед Мур, и без того вставший с тяжелой головой. — Я тебя научу, как вежливо разговаривать! Еще одно оскорбление, и мы пустим в ход револьверы. — Пропади все пропадом! — воскликнул Боб, ринувшись на десперадо. — Черт возьми! Я с удовольствием перережу кому-нибудь глотку. — Тихо! — спокойно произнес Питер, вставая между соперниками, которые уже выхватили ножи. — Боб спросил, сколько нам обещал полковник Ферфильд. Отвечаю: сто долларов… — Он вам заплатил? — Нет! И лучше нам немедля пуститься за ним в погоню, чем выпускать друг другу кишки. — Хорошо сказано, Питер! Ты молчалив, как Валаамова ослица[128], но, если открываешь рот, изрекаешь истину, как и она! Давай отложим наше маленькое дельце, Боб, и заключим временный союз. Нас тоже обворовали! — Хэлло! Вы что это, ребята, раздумали драться? — раздался хриплый голос Старухи. — Измельчал народ на границе. А ну-ка, выпейте по глоточку и подеритесь! Люблю смотреть, как пускают кровь! И Старуха, всклокоченная, омерзительная, с безумными глазами, заковыляла неверным шагом алкоголички к двум своим гостям, жаждая стравить их в кровавой драке. — Уймись, ведьма! — грубо приказал Нед Мур. — Говори, сколько тебе дал этот проклятый полковник, чтобы усыпить нас? — Ловкий малый: уважаю таких! Хотя и побоялся перерезать горло красавчикам из Канады. — Отвечай, гадина! Какую дрянь ты нам подсыпала? О чем сговорилась с этим мерзавцем? — Подумаешь! К чему так шуметь из-за жалкого стаканчика лауданума…[129] Вас семеро мужчин! А я, слабая женщина, пивала его не морщась, когда мой муженек Джо Сюлливан строил «Одинокий дом»! — Вот оно что! — задумчиво молвил Фелисьен Навар. — Значит, это был лауданум? То-то мне показался странным вкус шампанского! Стакан! Легко сказать! Это же лошадиная порция… Идиот-полковник вполне мог нас отравить! Удивительно, как мы вообще остались живы… — Теперь все ясно, — сказал Нед Мур, — ну, капитан, желаете поохотиться на полковника? — С величайшим удовольствием! — ответил, не раздумывая, французский путешественник. — У него двенадцать часов форы[130],— напомнил Боб. — О! — проговорил в отчаянии Жан. — Как это обидно! Лежать, словно бревно, не в силах принять участие в травле! — Мы догнали бы негодяя даже в аду! — добавил Франсуа, столь же удрученный, как и старший брат. — Повезло тебе, Жак! Ты-то сможешь расквитаться с вором! — Жак останется здесь! — решительно вмешался Боб. — Вы оба сейчас стоите меньше бессильной скво, не сочтите за обиду. При вас должен находиться надежный и сильный парень, чтобы защитить в случае нападения. А я пойду с этими отчаянными ребятами, которым не терпится вернуть свои денежки… Сто долларов каждому, так, Мур? — Сто долларов на брата! — Если поймаем Ферфильда, получите вдвойне. Я становлюсь воглаве отряда. А вы, господин француз, доверьтесь мне… Дорóгой я расскажу вам, откуда появились эти денежки, и вы увидите, на чьей стороне право и честь. — Боб, слово твое из золота! — вскричали десперадос. — Двести монет! За такие деньги можно уложить тысячу колонистов в Штатах! — Что до меня, — прошептал в сторону Фелисьен Навар, который с некоторым опозданием задумался о своем непоследовательном поведении, — то не понимаю, зачем я опять ввязался в это? Сначала очертя голову бросаюсь в объятия этого полковника от контрабанды — ибо звание его так же подозрительно, как и ремесло, — затем, убедившись, что он мошенник, заключаю союз с теми, кого преследовал. Я здесь чужестранец, никаких выгод дело мне не сулит, кроме неприятностей, и я иду на риск ради совершенно незнакомых людей. Клянусь честью! Таких безумцев, как я, надо вязать! Давно пора отделаться от этого дурацкого приключения, но я опять вляпался из тщеславия и глупого самолюбия! …Между тем Жак, согласившись с разумными доводами Боба, оставался в «Одиноком доме» с братьями. Ковбой же обещал сделать все возможное и невозможное, чтобы догнать беглеца. С момента пробуждения прошло не больше четверти часа. Как люди, привыкшие ко всем превратностям опасной жизни на границе, десперадос и Боб собрались очень быстро: поспешно проглотив несколько кусков мяса и запив стаканом вина, они подхватили дорожные сумки и вышли во двор — как раз вовремя, чтобы попрощаться с мисс Кэт Сюлливан, которая, оправившись наконец от вчерашнего потрясения, уже вовсю суетилась по хозяйству. Четыре лошади по-прежнему стояли в конюшне: они, видимо, томились от вынужденного заточения и производили дьявольский шум, всхрапывая и колотя копытами в перегородки стойла. Полковник, следовательно, ушел пешком. Каким образом и по какой дороге? Вот что не давало покоя весьма заинтригованному этим непонятным обстоятельством Бобу. Ковбой, назначив самого себя командиром отряда, — еще немного, и его станут именовать «полковником»! — шел впереди, внимательно вглядываясь в снег. Наряду с любопытством Боб испытывал смутную тревогу. Что, если он не сумеет разгадать тайну? Опытный охотник, он пока не мог объяснить себе, как удалось полковнику уйти по свежему насту глубиной в шесть футов. С другой стороны, даже в этой печальной ситуации молодому человеку не терпелось сразиться с противником, не уступающим ему в хитрости и уме. Итак, ковбой пробирался по траншее, ведущей на конюшню и к погребу, дошел до места, изрытого и истоптанного в схватке Жана со свирепым медведем, осмотрелся и заметил глубокую рытвину шириной примерно в метр. Она вела почти прямо на северо-восток и напоминала обыкновенную канаву, хотя была вырыта не лопатой. Больше всего это походило на то, как если бы неведомый великан пробивал себе дорогу в снегу, толкая огромное дерево. Хотя продвигаться по этой рытвине нелегко, она вполне выдерживала вес человека. Ноги провалились по колено, но идти вперед было можно. Десперадос с Бобом во главе углубились в снежный проход: они чуяли опасность, однако глаза горели от алчности и предвкушения мести. Пройдя двести метров, задевая плечами откосы канавы, края которой возвышались над их головами, Боб остановился и обернулся к Неду Муру, идущему следом. — Ты догадался, Нед, кто это прорыл? — Нет! Я вижу только следы проклятого полковника и твои. — Но ведь к нам в «Одинокий дом» заходил гость?» — Гризли! — Именно, черт побери! Гризли учуял запах людей и животных в «Одиноком доме». По мягкому снегу он добраться не мог. Однако силищи ему не занимать и, поднявшись на задние лапы, передними он стал разрывать наст, а задними откидывать комья. — Ты прав! — воскликнул десперадо. — Но это еще не все! — продолжал Боб. — Гризли был убит Жаном, однако я вижу еще след, ведущий от «Одинокого дома». — Невозможно! Это означало бы, что нас навестил еще один медведь. — Я точно знаю, что в этих местах бродили два гризли, ведь именно они растерзали наших лошадей на плато Мертвеца. Ничего удивительного, что второй, заждавшись приятеля, в свою очередь отправился к дому по уже прорытой дороге. Вот почему траншея так хорошо утоптана. Гризли прошлись по ней трижды… — Стало быть, полковник… — Полковник двинулся за вторым медведем, когда тот уходил прочь… Видишь следы когтей, стертые ногой человека? — Похоже, так оно и было! — Ну, пойдем дальше! В течение примерно получаса им удалось преодолеть всего лишь пятьсот — шестьсот метров, но зато с каждым шагом слой снега становился тоньше. Начинался подъем, и уже можно было увидеть крышу «Одинокого дома», стоящего в лощине, открытой ветру и почти полностью засыпанной снегом. Таким образом, толщина покрова вокруг усадьбы достигала нескольких метров, тогда как на склонах — всего нескольких дециметров. Жилище Джо Сюлливана оказалось в снежном плену, и выбраться оттуда хитроумному полковнику удалось только благодаря медведям, потрудившимся над изготовлением траншеи. Боб со своими спутниками очутился у края сосновой рощицы, каким-то чудом выросшей на крутой скале. С громадным трудом они проделали путь еще в три километра, как вдруг следы полковника исчезли в двухстах шагах от просторной пещеры. Возле входа в нее горел, весело потрескивая, большой костер, у которого на корточках сидели двое человек готовя себе жаркое. При виде Боба и его спутников они мгновенно вскочили. — Вот это да! — промолвил Боб, не веря своим глазам. — Мистер Джонатан! — И Джо Сюлливан, хозяин «Одинокого дома»! — добавил Нед Мур.
ГЛАВА 9
Каким образом Джонатан ускользнул от гибели во время разгрома своего дома. — Дурные вести. — Джонатан встревожен. — Двойная охота. — Второй бурый медведь. — В окружении. — Смерть гризли. — Содержимое его желудка. — Изумление Джонатана сменяется яростью. — Гробница полковника Ферфильда.Хотя нам до сих пор почти не удавалось встретиться с Туссеном Лебефом, это одно из главных действующих лиц нашей правдивой истории, и в подлинности его существования заверил автора один из героев его книги. В самом деле, Туссен Лебеф жил в Манитобе и оставил о себе столь отвратительное воспоминание, что жене и детям, невинным жертвам его преступлений, пришлось навсегда покинуть родные места. А теперь расскажем, что произошло с момента его исчезновения вплоть до того, как ошеломленный Боб встретил проходимца в самом сердце Черепаховых гор в компании Джо Сюлливана. …Читатель помнит, что дом Туссена в Гелл-Гэпе разгромили и сожгли, а сам он, казалось, нашел смерть под развалинами. По крайней мере, так утверждала молва. В свое время американские газеты подняли большой шум вокруг этого дела, ошибочно возлагая вину на ковбоев, будто бы решивших отплатить Джонатану за грубость и обман при расчете. Даже опубликовали фотографии предполагаемых убийц и их жертвы — как известно, здешние репортеры умеют добывать сведения даже из-под земли. Впрочем, скоро пронесся слух, что Джонатану, вопреки всем предположениям, удалось спастись от верной гибели. Это стало известно вскоре после пожара, когда приступили к расчистке обломков. Под развалинами обнаружили бронированную дверь, ее удалось вскрыть с большим трудом. Там оказалось убежище с подземным ходом в сад к резервуару с водой; выход был полностью скрыт разросшимся вьюнком. Отсидевшись до ночи в тайнике, Джонатан под покровом темноты бежал из города в Черепаховые горы, где у него были многочисленные сообщники, промышлявшие контрабандой. Затем Туссен вернулся в Гелл-Гэп под охраной самых отчаянных контрабандистов, чтобы извлечь из укрытия массивный сейф. С успехом осуществив эту операцию, негодяй какое-то время оставался в городе, обосновавшись в гостинице и соблюдая все меры предосторожности в надежде сбить со следа трех братьев и ковбоя, понимая, что те не отступятся. Однако Жану, Жаку, Франсуа и их верному другу Бобу удалось совершить почти невероятное: ценой достойного похвалы терпения и величайших хитростей они проникли в тайну негодяя. Они узнали о его связях с контрабандистами, в большинстве знакомых Боба, а также сумели выведать — что сделать было куда труднее — о таком замечательном сообщнике, как начальник таможни Черепаховых гор. Впрочем, в самом этом факте не было ничего удивительного. Подкупив полновесной монетой одного из подчиненных полковника, они в скором времени получили полное представление о совместных проделках двух мерзавцев, повязанных столькими преступлениями, что их доверие друг к другу было безграничным. Джонатан безбоязненно поручал полковнику такое деликатное дело, как переправка средств корпорации в Канаду, где оба предпочитали хранить деньги, не желая иметь дела с банками, принадлежащими слишком предприимчивым янки. Меж тем из Регины приходили дурные вести. По общему мнению, Луи Риль был обречен. Особенно повредила ему плохо подготовленная попытка к бегству. Боб с Жаком съездили туда, чтобы выяснить на месте, в чем нуждается и чем располагает канадская партия. Увы! Она нуждалась буквально во всем и ничем не располагала! В этой несчастной войне метисы потеряли почти все. Они были полностью разорены, лишившись домов, скота, урожая… а главное, земли, ибо англичане захватили все освободившиеся участки, принадлежавшие повстанцам. Боб и Жак были в полном отчаянии. Вернувшись, они стали держать совет с Жаном и Франсуа, которые оставались в Америке, чтобы не выпускать из виду своего врага. Поскольку Луи Риля нельзя было освободить силой, решили подкупить одного или нескольких тюремщиков. К несчастью, братья сами сидели без пенни, ибо их деньги украл Джонатан. Положение казалось безвыходным, но тут они узнали от своего человека, что полковник Ферфильд, который постоянно курсировал между Канадой и Америкой, собирается в путь с крупной суммой, принадлежащей Джонатану. Десять тысяч долларов! Роковая цифра! Юноши хорошо помнили, как этот прохвост обокрал их отца. Решение было принято. Поскольку деньги принадлежали Джонатану, молодые люди имели полное право потребовать возврата у его доверенного лица. Зная, в какой день и час выезжает дилижанс, они заранее отправились на место, изучили маршрут и особенности ландшафта, придя к выводу, что удобнее всего устроить засаду у Большого каньона. Остальное известно.
Джонатан, прождав три дня после отъезда полковника, не знал, что и думать, — тем более кучер дилижанса, умирая от страха, отказывался выезжать, если ему не обеспечат надлежащей охраны, а потенциальным пассажирам также не улыбалось следовать по дороге, получившей такую дурную славу. Джонатан решил наконец телеграфировать в Делорен, откуда ему сообщили и о ночном нападении, и об исчезновении полковника. Первое, о чем Джонатан подумал, читая подробный отчет своего корреспондента, это что деньги украдены самим Ферфильдом, а люди в масках, остановившие дилижанс, — его сообщники, разыгравшие комедию за весьма умеренную плату. Не смея открыто обворовать своего сообщника, подлец полковник предпринял обходной маневр и прикарманил десять тысяч без малейшего риска быть разоблаченным, все можно было свалить на незнакомцев, которых, разумеется, никто не знал. Все подтверждало это предположение: тщание, с каким полковник собирал свидетельства очевидцев преступления; торопливый отъезд из Делорена в компании головорезов с дурной репутацией; наконец, само его исчезновение. Впрочем, главным резоном было то, что Джонатан не без оснований считал полковника отъявленным мерзавцем. Поскольку в это время в Гелл-Гэпе находился Джо Сюлливан — его alter ego[131], правая рука, верный и удачливый подручный в контрабандном предприятии, Туссен решил просить у него совета, рассказав о своих подозрениях. Джо Сюлливан сразу подал дельную мысль, напомнив патрону, что на следующий день после нападения и кражи в горах начался снегопад. Полковник, вероятнее всего, застрял где-нибудь и не может выбраться — тем более что местные железнодорожники уже вторые сутки бастовали. — Затравим его! — воскликнул Джонатан. — Отлично, — ответил Джо Сюлливан, который словам всегда предпочитал действие. Выбрали нескольких контрабандистов, кому из-за непогоды пришлось торчать в городе, и отправились в путь, нисколько не страшась снегопада, ибо по силе и выносливости мало кто мог с ними сравниться. Невероятная вещь! Всего за неделю им удалось облазить весь горный массив, пройти сквозь снега по скалам и ущельям — иными словами, всюду, куда мог бы пробраться человек без риска свалиться в пропасть. Разумеется, их труды оказались напрасными, полковник со своими десперадос сидели заблокированными в «Одиноком доме». После пяти дней хождения по снегу и стольких же ночей, проведенных на морозе с одним легким одеялом, Джо Сюлливан решил пробираться домой, чтобы передохнуть и пополнить запас еды. Но в лощину намело столько снега, что пришлось отступить. Темные крыши с длинным шлейфом из дыма виднелись издалека, словно земля обетованная, недостижимая, несмотря на всю свою близость. В тот самый день, когда затворники «Одинокого дома» обнаружили исчезновение полковника Ферфильда, Джо Сюлливан и Джонатан проснулись на заре от нестерпимого холода. Они чувствовали, что промерзли до костей. Внезапно компаньоны увидели огромные следы бурого медведя, и в обоих тут же проснулся охотничий инстинкт. — Джо! — воскликнул Джонатан, который все-таки был канадцем. — След совсем свежий! Давай пока оставим этого негодяя-полковника, тем более что он как сквозь землю провалился. Затравим гризли! А доллары подождут… От такой добычи грех отказываться. — Как скажешь, друг! Доллары не пропадут, если, конечно, полковник уже не улизнул из этих мест. Что до гризли, ты сам знаешь, я люблю эту охоту почти так же, как охоту на человека! — Прекрасно! Не будем мешкать… зверь где-то недалеко. Он задрал кого-нибудь ночью, а теперь возвращается в берлогу отсыпаться. Через сто метров следы свернули в дивную сосновую рощицу, где высилось диковинное нагромождение огромных камней. У подножия скалы чернела широкая дыра: именно туда и направился зверь, лапы его четко отпечатались на снегу — замело не только вход, но и землю в самой пещере. — Вот оно, логово старого дьявола! — сказал вполголоса Джонатан. — Надо выманить его оттуда и пристрелить. — Прямо здесь? — спросил Джо Сюлливан, маленький и кряжистый, проворный, как белка, и сильный, как медведь. — Я бы тебе не советовал это делать! Охота на гризли — вещь рискованная… Я хочу получить его шкуру, но своей тоже дорожу. — Что же ты предлагаешь? — Разожжем костер перед входом. Дым выкурит зверя. Деваться ему некуда — из пещеры нет другого выхода. — А дальше? — Как только задымит, взберемся на сосну. Оттуда мы можем стрелять в полной безопасности. План тут же привели в исполнение, медведь, раздраженный едким дымом, ворча и кашляя, вышел наружу.; Чутье тут же известило его о близости врагов. Недовольное ворчание сменилось яростным рыком. Джонатан и Джо Сюлливан выстрелили почти одновременно, и оба не промахнулись: одна пуля попала медведю в голову, вторая в бок. Гризли завопил. Он наконец увидел охотников, взобравшихся на сосну. Те спокойно целились, не обращая внимания на бессильную ярость жертвы: ведь гризли, в отличие от большинства своих собратьев, не умеет лазить по деревьям. Хоть позиция и не была удобной, Джонатан и его спутник, меткие и опытные стрелки, продолжали посылать пулю за пулей, благо автоматические карабины позволяли вести непрерывный огонь. Вскоре медведь рухнул. Лапы задергались в конвульсии, но последняя пуля покончила с ним. Хотя зверь лежал совершенно неподвижно, охотники спускались на землю очень осторожно, опасаясь внезапного броска. Карабины они держали наперевес. Эта осмотрительность была излишней: гризли был мертв. Тогда друзья, вытащив ножи, принялись обдирать еще теплую тушу, что значительно облегчало работу. Им удалось довольно быстро снять шкуру, достигающую в весе восьмидесяти и более килограммов. — Гм! Уж очень он тощий! — заметил Джонатан. — Окорочки от этого хуже не будут. — Верно! Однако сегодня ночью он сытно поужинал… Смотри, как у него раздулось брюхо. — Давай распорем. Посмотрим что там. Взмахом ножа Джонатан вскрыл грудную клетку хищника и вытащил упругий мешок, похожий на огромную раздутую волынку. — Желудок, — сказал метис. Вторым ударом он взрезал пузырь, откуда сразу начала выползать густая красноватая масса с кислым запахом из полупереваренных остатков пищи, жадно проглоченной медведем. — Что же эта скотина сожрала? — проговорил Джонатан, вороша месиво ножом. — Кости! Волосы! — Ты прав… довольно длинные пряди волос… что-то похожее на изжеванные пальцы… смятое кольцо… — Пуговицы… какая-то ткань… клочья кожаного пояса, куски портупеи. — Черт возьми! Гризли сожрал человека! — И у этого человека была изрядная пачка банкнот… — Что? — Вот это бумажное крошево, — сказал Джо, который, не испытывая ни малейшего отвращения, рылся в содержимом желудка руками, — очень напоминает зелененькие… кажется, даже буквы еще можно разобрать… смотри! К несчастью, они теперь ни на что не пригодны. — Банкноты! — сдавленным голосом произнес Джонатан. — Да, это доллары… Мне страшно подумать… Этот человек, которого гризли разорвал и сожрал… пойдем туда, в пещеру! Может быть, найдем хоть что-нибудь, что подтвердит или опровергнет это предположение… Джо зажег сосновую ветку и двинулся в логово зверя. Почти разу остановившись, он вскрикнул от удивления: перед ним валялась пара лакированных сапог, из них торчали ноги, перекушенные посередине лодыжки. — Ноги какого-то джентльмена, — сказал Джо, в душе забавляясь при виде расстроенного лица спутника. — А вот и карабин… видно, не успел выстрелить… заряженный… Револьвер… на рукояти выбито имя… — Чье имя? — Гореть мне в аду! Ферфильд! Вот, значит, ты и нашел своего грабителя, бедный мой Джонатан! Такой хитрый опытный волк, а позволил задрать себя, словно молокосос! И какая невезуха! Улизнул от дружка, прикарманив десять тысяч, и встретился с гризли, а тот и пообедал им с большим аппетитом… только сапогами побрезговал, но зато на десерт взял доллары. Ну, Джонатан, придется тебе вписать эту сумму в графу убытков! А теперь попробуем все-таки подобраться к «Одинокому дому».
ГЛАВА 10
Жаркое из медвежатины. — Всем разойтись направо и налево. — Колебания Боба. — Джонатан узнает то, что хотел узнать. — Очередной наниматель. — «Не тыкайте мне и называйте меня «сударь». — Неожиданное нападение. — Первая пуля для Жака. — Героиня. — Отомщены! — Смерть храбреца.Удрученный Джонатан и Джо Сюлливан, не скрывавший насмешливого отношения к событиям, без труда восстановили истину при виде жалких останков того, кто еще недавно был начальником таможни Черепаховых гор. Джонатан, придя в неистовую ярость, сам не знал, кого больше проклинать: полковника, безбожно присвоившего десять тысяч, или хищника, сожравшего не только вора, но и его добычу. Если бы на долларах сохранились хотя бы номера, чтобы можно было предъявить их в банк! Как легко пережил бы Джонатан смерть сообщника! Но проклятый гризли проглотил свою жертву целиком, нисколько не заботясь о том, что посягает на священную частную собственность. Итак, грабителя постигла расплата, но радоваться было нечему — Джонатану оставалось только утешиться жарким из медвежьего мяса, чем он и занялся вместе с Джо Сюлливаном, когда перед ними возникли обитатели «Одинокого дома», пришедшие по следу бурого медведя и злосчастного Ферфильда. В свою очередь, Боб сразу узнал метиса. Первым его побуждением было разнести врагу череп, не вступая ни в какие объяснения, и отомстить таким образом за друзей. К несчастью, ковбой на секунду замешкался, спрашивая себя, имеет ли он право лишить молодых «угольков» возможности самим расквитаться со злым гением их семьи. Это промедление решило дело. Джонатан, всегда бывший начеку, вскинул карабин. Джо Сюлливан действовал столь же быстро и решительно, и пятеро, шедших по траншее, прорытой гризли, вдруг очутились под прицелом двух автоматических карабинов. С таким противником, как Джонатан, вернуть упущенный шанс было невозможно. Нед Мур первым обрел дар речи: — Хэлло, Джонатан! Джо! Да опустите же свои винчестеры… Разве мы вам враги, черт побери? Мы идем по одному следу, но вряд ли охотимся на одну и ту же дичь. — Возможно! — хмуро ответил Джонатан. — Наша дичь перед вами! — Дьявольщина! Да это же гризли! — промолвил Питер, выпучив глаза. — Сразу видно, что вы, ребята, времени зря не теряли, — сказал третий десперадо, Ник. — Какая громадная зверюга! — в восхищении воскликнул Фелисьен Навар. — Ничуть не меньше нашего… — Громадная, это верно, — проворчал Нед Мур. — Но, как бы то ни было, мы охотимся за другой дичью. Слушайте, друзья, — обратился он к контрабандистам, которые по-прежнему держали вновь прибывших на прицеле, — вам случайно не встретился проклятый полковник? Он обворовал нас… — Нет! — бросил Джонатан. — Полковник Ферфильд… мы идем по его следам… — Говорю же, нет! — повторил метис, выразительно взглянув на Джо. — Тогда дайте нам пройти, мы и так потеряли много времени. — Ладно! Обходите справа или слева, как понравится, — сказал Джо. — Нет, не так! — прервал его Джонатан. — Пусть первые трое идут справа от меня, а двое других — слева от Джо. Нам уже доводилось встречаться, и большого доверия вы у меня не вызываете… От десперадос всего можно ожидать! Проходите, с карабином на плече и подняв руки… И без глупостей! При малейшем подозрительном движении мы будем стрелять. Жизнь на границе требует от людей осмотрительности. Поэтому распоряжение Джонатана не встретило возражений. Все хорошо знали, что в подобных обстоятельствах сопротивляться бессмысленно и опасно: ослушник рисковал получить пулю в лоб. Итак, пятеро, разделившись на две группы, медленно двинулись вперед под нацеленными на них карабинами, и казалось, что все обойдется благополучно, как вдруг Джонатан, отбросив винтовку, бросился на Боба, идущего последним в цепочке справа. Обхватив ковбоя мощными руками, метис без труда повалил его на землю. Проворный и сильный, несмотря на небольшой рост и худобу, Боб отчаянно отбивался руками, ногами, пустив также в ход ногти и зубы. Сдавив ему горло правой рукой, Джонатан прижал ковбоя к земле коленом, так что хрустнули ребра, и произнес: — Уймись, парень! Я не желаю тебе зла, потому что ты из наших… Но если будешь дурить, придушу, как куренка! — Скотина! — прохрипел Боб. — Спокойно, иначе нажму сильнее! У меня сегодня нервы на взводе… Сейчас мы тебя разоружим и свяжем… — Лучше убей! — Нет уж! Ты мне еще пригодишься… Я хорошо разбираюсь в людях… такими ребятами, как ты, не бросаются! Все произошло настолько быстро, что французский путешественник и трое десперадос в изумлении застыли на месте. — Эй, вы! Сколько вам предложили за поимку полковника? — Сто долларов! — ответил без колебаний Нед Мур. — Кто? — Трое юношей, оставшихся в «Одиноком доме». — Их имена? — Жан, Жак и Франсуа. — Они из Канады, верно? — Да. — Метисы? — Без всякого сомнения. — А почему они сами не пошли за полковником? — Потому что… Знаете, Джонатан, вы слишком уж любопытны… Что я получу за эти сведения? — Пулю! Джо, пристрели-ка этого мерзавца… Он мне наскучил своей болтовней. — Хорошо! — Не стреляйте! Я все скажу. Но сколько вы нам заплатите? — Сто двадцать долларов… при одном условии: ты поклянешься, что будешь слепо исполнять мои приказы, что бы ни случилось… и чего бы я ни потребовал! — Сто двадцать долларов! По рукам! Все вас знают, Джонатан, и я даю вам слово Неда Мура. Отныне ваши друзья — мои друзья. Ваши враги — мои враги! — Предатель! — выкрикнул Боб, плюнув бандиту в лицо. — Никого я не предавал, — ухмыльнулся негодяй, уже в третий раз поменявший нанимателя. — Доказательства? Разве я давал слово юношам из «Одинокого дома»? Они обещали мне и моим товарищам заплатить за услугу, но мы не обязывались хранить им верность, так что честь наша не затронута. — Хорошо сказано! — одобрил Джонатан. — А теперь свяжи руки за спиной этому настырному Бобу. Оружие отбери. Но идет пусть своими ногами. А вы двое что скажете? Даете клятву, как Нед Мур? — Да, хозяин, — ответили Ник и Питер. — Прекрасно! Деньги получите в «Одиноком доме». Сейчас у меня в кармане нет ни гроша. — Мы согласны, хозяин! Ваше слово дороже золота. А Джонатан, устремив взгляд на Фелисьена Навара, добавил: — Эй ты, молчаливый! Как тебя зовут? — Извольте не тыкать и обращаться ко мне: «Сударь»! — У меня нет времени на эти расшаркивания! Ну хорошо! Кто вы? И что делаете здесь? На границе надо отвечать быстро, когда спрашивает вооруженный человек. — Я ищу Джо Сюлливана, чтобы предложить ему выгодную сделку. — Она сулит большой доход? — Как посмотреть… Нужно переправить в Америку десять тысяч бутылок шампанского. — А, так это вы француз-виноторговец? Я вас знаю… мы договоримся. — Вы меня знаете? — с удивлением переспросил Фелисьен. — Едва вы сошли с корабля, господин Навар, как мне уже сообщили о вашем прибытии. Вашу сделку вполне можно осуществить… десять тысяч бутылок по пятьдесят су каждая, итого вы должны будете заплатить пять тысяч франков. Пять тысяч на проведение операции, пять тысяч Джо, столько же таможне и десять тысяч мне… Безделица! Тридцать тысчонок. — Идет! Можете на меня рассчитывать… — И он тоже! — с горечью пробормотал Боб, видя, как француз без всякой брезгливости протянул руку негодяю. — А теперь в путь! — приказал Джонатан тоном, не допускающим возражений. — Боб пойдет первым, за ним Ник и Питер, следом Нед Мур и вы, господин Навар, за вами мой кум Джо Сюлливан… А замыкающим стану я! Вперед, к «Одинокому дому»! Ты, Боб, веди себя смирно, иначе я снесу тебе череп. По дороге — передвижение гуськом не слишком мешает вести разговоры — Джонатан узнал от Неда Мура о событиях после нападения на дилижанс вплоть до неожиданной встречи возле туши бурого медведя, которую с превеликим трудом затащили на вершину сосны, оберегая от прожорливых хищников. Узнав, что полковник не лгал, утверждая, будто его ограбили, Джонатан нисколько не изменил своего мнения о нем и добавил с изрядной долей цинизма: — Все-таки он был слабак. Ему надо было перед уходом всем вам перерезать глотки, подпалить дом Джо Сюлливана, а главное — ускользнуть от гризли. Я бы сумел проделать это. …Соблюдая бесконечные предосторожности, отряд с большим трудом пробирался к «Одинокому дому» сквозь глубокие сугробы. Путь был тяжким для всех, но для Боба он превратился в истинную муку, ибо со связанными руками ковбой без конца спотыкался, терял равновесие и падал лицом в снег. Проникшись жалостью, спутники поочередно поднимали его. Фелисьен Навар исхитрился шепнуть ковбою: — Мужайтесь, Боб! Я вас не оставлю… и их тоже! Изумленный и обрадованный, Боб, бросив на славного малого взгляд, полный признательности, просипел сдавленным голосом: — Спасибо! Вы — настоящий француз! Вскоре показалась темная крыша «Одинокого дома», над нею вился дымок; будто из-под земли среди заснеженной равнины вырос высокий частокол, а собаки заметались с оглушительным лаем, почуяв чужих. Джонатан, как опытный стратег, тут же переместился из арьергарда во главу отряда, чтобы рывком открыть дверь и неожиданно ворваться в дом, застав его обитателей врасплох. — Присматривай за Бобом, — сказал он Джо, — главное, чтобы он не пикнул и не предупредил их. Затем добавил, обращаясь к десперадос: — Вы, ребята, будьте наготове. Поможете, если что. — Не сомневайтесь! — ответил вместо бандитов Фелисьен Навар. Одобрительно кивнув, Джонатан, сжимая в правой руке револьвер, взялся левой за массивное кольцо, при помощи которого можно было приподнять тяжелый брус. Бесшумно толкнув дверь, он совершенно незаметно проник в комнату и сразу увидел Жака, сидевшего на меховой подстилке возле раненых братьев. Чтобы убить беззащитных молодых людей, выстрелив сначала в Жака, который не заметил его появления, а затем в братьев, Лебефу понадобилось бы меньше времени, чем другому просто зарядить револьвер. Джонатан уже вытянул руку, прицеливаясь, когда за его спиной раздался пронзительный крик. — Берегитесь, Жак! Берегитесь! Это Джонатан! — воскликнул Фелисьен Навар по-французски. Жак вскочил, но тут же прозвучал выстрел, и юноша опустился на землю с возгласом отчаяния и боли: — Господи! Кто же защитит моих братьев? Взбешенный Джонатан, с мертвенно-бледным, исказившимся от ненависти лицом, повернулся и всадил пулю в грудь француза. — Вот тебе! Подыхай, мерзкий предатель! — завопил он. Фелисьен упал в тот миг, когда прозвучали слова Жака: «Кто же защитит моих братьев?» — Я! — прозвучал в ответ звонкий голос. Раздался третий выстрел с другого конца комнаты: Джонатан зашатался, схватившись руками за окровавленный лоб, а затем повалился навзничь. Пуля вошла ему между глаз. Кэт Сюлливан с дымящимся револьвером в руке появилась на середине комнаты и, узнав отца, устремилась к нему. Бледная, она бросилась на шею Джо, бормоча: — Отец! Они спасли мне жизнь… Я не позволю их тронуть… Я застрелила его за то, что он хотел их убить… И девушка презрительным жестом показала на тело Джонатана. — Ты правильно поступила, дочка, — сказал контрабандист, целуя ее. — В нашей семье не бывало неблагодарных предателей… Отныне беру этих юношей под свою защиту. Мой дом всегда будет открыт для них. А ты у меня выросла настоящим стрелком! Как ловко ты уложила беднягу Джонатана! Он даже пикнуть не успел… — Спасибо, отец! Какой ты добрый… и справедливый! — Уж не знаю, заслуживает ли этих слов старый грешник вроде меня, но, клянусь Богом, ты — моя дочь, и я люблю тебя от всего сердца! — Отец, прикажи развязать Боба… и надо скорей оказать помощь этому джентльмену, иначе он заплатит жизнью за свое великодушие. — Душевно благодарю вас, мадемуазель, — прошептал умирающий, едва ворочая языком во рту, заполненном кровью. — Но это бесполезно… мне уже не помочь, я знаю! Боб! Мистер Сюлливан! Отнесите меня к моим новым друзьям… к этим смелым канадским французам… Они — мои братья… — Вы сумеете выкарабкаться, даю вам слово ковбоя! Нет таких ран, которые не излечивались бы… А вы, Жак? — Пуля вошла в бедро… Если кость не задета, через две недели буду на ногах. Вы сможете извлечь пулю? Господин Фелисьен, мы обязаны вам жизнью… вам и мисс Кэт… Мы спасем вас! Сейчас наша милая подруга сделает вам перевязку, а в нашей братской преданности вы можете быть уверены. — Нет! Не стоит даже говорить об этом, — прервал его раненый, чьи слова уже прерывались зловещей предсмертной икотой. — Лучше послушайте меня… французов часто обвиняют… что, мол, лезут не в свои дела… слишком воинственны и легкомысленны… Может, и так! Но они… бескорыстны… и умеют пожертвовать собой… во имя чести… и справедливости… Прощайте! Будьте счастливы, юноши… это последнее пожелание… из Франции… Голос пресекся, и коммивояжер конвульсивно сжал руки канадцев. Фелисьен Навар умер с улыбкой, успев еще еле слышно прошептать заветное слово — «Франция!».
Назавтра и во все последующие дни снова валил снег. «Одинокий дом» очутился в еще более плотной блокаде, чем прежде. Даже такому отменному ходоку, как Джо Сюлливан, что знал все тропы в Черепаховых горах, было не под силу выбраться из метельного плена. Следовало ждать первых морозов, только по плотному обледенелому насту можно было пройти на лыжах. Впрочем, трое братьев все равно были бы обречены на бездействие из-за ран, даже если бы и сохранилась связь с внешним миром. Они терпеливо выносили боль, но безмерно страдали при мысли, что Луи Рилю суждено погибнуть, проклинали свое невезение и с лихорадочным нетерпением ждали выздоровления. Боб Кеннеди, с преданностью истинного друга, и Джо Сюлливан, с грубоватым сочувствием человека, много повидавшего на своем веку, старались как могли отвлечь молодых людей от тяжелых мыслей. — Хэлло! — не уставал повторять ковбой. — Разве вы не сделали все, что в силах человеческих, для его спасения? — Англичане не посмеют его убить, — подхватывал владелец «Одинокого дома», сам не слишком веря в то, что говорил. Старуха, сильно присмиревшая в присутствии мужа, тоже заметно смягчилась по отношению к гостям. Теперь она гораздо реже прикладывалась к бутылке и стала походить на человека. В сущности, по натуре супруга Джо не была злой и сама не заметила, как постепенно привязалась к постояльцам. Но только прелестной Кэт удавалось развеять их хандру, которая, в совокупности с высокой температурой, сильно мешала успешному заживлению ран. Проворная и веселая, девушка была подлинной душой дома, он словно бы оживал от ее милого щебетанья и освещался взглядом ее лучистых ярко-голубых глаз. Кэт превратилась в неутомимую самоотверженную сиделку при раненых, которые относились к ней с подлинным обожанием. Вскоре Франсуа и Жак незаметно для себя полюбили девушку, словно младшую сестру, баловали и ласкали, с восторгом следя за каждым ее движением. Но Жан никак не мог побороть робости, краснел и бледнел при ее появлении, упорно обращаясь к ней: «Мадемуазель». Однако это никого не могло обмануть. Боб, ясно видевший, что творится в душах смелого канадца и восхитительной американки, только посмеивался, говоря про себя: «Кажется, дело идет к свадьбе!» Медленно текли дни, постепенно складываясь в недели, в бесконечно долгие месяцы зимы. Здоровье вернулось к гостям «Одинокого дома», а вместе со здоровьем они обрели прежнюю силу. Вскоре братья как истые северяне начали совершать небольшие походы на лыжах — только так можно было преодолеть огромные снежные равнины. Наступил февраль. Через несколько дней они уже смогут без всякого риска добраться до ближайшей железнодорожной станции. Но Джо Сюлливан, изнывая в бездействии, опередил их. Уйдя из дома на рассвете, он вернулся ближе к ночи, принеся пачку газет месячной давности и письмо, давно прибывшее в Делорен. Адрес был выведен крупными неровными буквами — рукой человека, не привыкшего писать. — Какие новости? — воскликнул Жак, бросаясь к контрабандисту, но тут же остановился при виде его мрачного лица. — Дурные вести, не так ли? — спросил метис. — Увы, да! — ответил Джо Сюлливан. — Луи Риль? — Погиб! Убит неправедным судом… казнь совершилась шестнадцатого ноября… Да падет вечный позор на голову английских властей! Гнев и скорбь одолевали юношей, обступивших хозяина дома. — Несчастный мученик! — повторил Боб, разделяя горе своих друзей. — Но при этом герой! Из тех героев, павших, исполняя свой долг, чья смерть приближает триумф свободы и справедливости. — А письмо? — нарушил наконец Франсуа долгое и тяжкое молчание. — Это от дяди Перо! — вскричал старший «уголек», разорвав конверт. — От дяди Перо? Только бы с ним не случилось несчастья… — Надеюсь, что все в порядке… но мы очень нужны дорогому дяде… Ведь там тоже дела идут неважно… Слушайте:
«Шахтерский округ «Свободная Россия»Карибу (Британская Колумбия), 1 ноября 1885 года
«Дорогие мои дети. К несчастью, я слишком поздно узнал о постигшей вас беде и не успел примчаться на помощь, чтобы стать опорой в вашей утрате. Вы остались одни, без денег, без поддержки, возможно, вам приходится скрываться. Я — ваш ближайший родственник и люблю так, как если бы был вам отцом. Получив письмо, приезжайте ко мне. Будете здесь в безопасности, и никто вас не потревожит. Да и мне самому очень нужны честные смелые люди, мои дорогие братья Эсташ и Андре сейчас находятся в форте Нулато. Меня назначили управляющим компанией «Свободная Россия», и я должен соблюдать интересы наших милых друзей Арно, де Клене и Богданова, но я один и пребываю в постоянном страхе, что не сумею отбиться от негодяев, желающих завладеть нашим добром. Может быть, они замышляют и худшее. Вчетвером мы стоим целой армии и дадим отпор любому. Обнимаю вас троих от всего сердца.Любящий вас дядя Жозеф ПЕРО.
P. S. Я вложил в письмо несколько долларов, чтобы вы могли оплатить дорожные расходы».— Это все? — спросил Франсуа. — Да, все, — ответил Жан. — Что вы собираетесь делать? — полюбопытствовал Джо Сюлливан. — Отправимся к дяде, когда путь станет свободным. Но вернемся сюда сразу же, как только минет опасность.
Конец

Луи Буссенар КАНАДСКИЕ ОХОТНИКИ
Часть первая ОХОТНИКИ СКАЛИСТЫХ ГОР[1]
ГЛАВА 1
Бигорн — коза или баран? — Клуб охотников и рыболовов. — Англичане держат пари. — Миллион за одно слово. — Сэр Джордж Лесли. — Ливерпуль, Галифакс, Виктория. — «Я поеду один». — Три месяца спустя. — Депеша. — Разорен.— Баран! — Нет, коза! — Ну нет же, нет! — А я говорю — да! — Полно, дружище, оставьте вашу самоуверенность, это все-таки баран. — Дорогой мой, самоуверенность здесь ни при чем, только любовь к правде заставляет меня утверждать, что это коза. — Это просто упрямство. — Это убежденность! — Если у вас есть хоть какие-то аргументы[2], изложите их. — Лучше начните вы. — Мне надоела наша перепалка! Уже пятнадцать минут препираемся по поводу заметки, написанной профессиональным журналистом! — Но просвещенным его не назовешь. — Вы говорите так потому, что он разделяет мое мнение. — Нет, потому что он бездоказателен. Черт возьми, дружище, если мы имеем честь быть членами Shooting and Angling club[3], то уж, конечно, вправе оспорить мнение редактора журнала «Охотник». — Мы что, до бесконечности будем перебрасываться, словно мячиками, «бараном» и «козой»? — Лучше давайте выберем арбитра[4]. — Дорогой мой Джеймс Фергюссон, наконец-то я слышу от вас разумное слово. — Дорогой Эдвард Проктор, такое согласие — уже свидетельство нашей мудрости. — Кто же нас рассудит? — Нас всего четверо — вы, я, Эндрю Вулф и сэр Джордж Лесли. — Предлагаю Джорджа Лесли. — А я предпочитаю Эндрю Вулфа. — Сэр Джордж — охотник высшего класса, мастер по многим видам спорта. Им исхожены леса всех континентов. Его мнение — для нас закон. — А я за Эндрю Вулфа. Он приветлив, искренен, легко сходится с людьми, а по компетенции[5] не уступает сэру Джорджу Лесли. — Вы не согласны иметь сэра Джорджа в роли арбитра? — А вы отводите кандидатуру Эндрю Вулфа? — Получается, — воскликнул, имитируя отчаяние, приземистый, краснощекий и пухленький Эдвард Проктор, — что мы не можем прийти к согласию даже в выборе арбитра, который должен разрешить наш спор! — Ничто не мешает нам, — ответил высокий, худой и бледный Джеймс Фергюссон, — обратиться и к тому и к другому. — А если и они начнут спорить? — Тогда, может быть, им удастся найти еще одного, уже последнего арбитра… — Ну что ж, как хотите, Джеймс, но я своего мнения не меняю. — Прекрасно, Эдвард! Я тоже не собираюсь уступать ни в чем.
Эти закадычные друзья, промышленники, забросившие свое дело, не похожие друг на друга ни внешностью, ни характером, постоянно спорящие друг с другом, вступили в Клуб охотников и рыболовов так же, как иные становятся путешественниками и членами Географического общества, не выезжая даже за черту города. Любовь к спорту проснулась в них поздно, и, как нередко бывает в Англии, где аристократия уважает физическую силу, они увлеклись охотой и рыбной ловлей. Скажем прямо: на этой стезе удача их не баловала. Впрочем, удача тут ни при чем. Говорят, препятствия только разжигают страсти. Так или иначе, наши друзья относились к самым ревностным поклонникам аристократического собрания: обедали только в обществе охотников и рыболовов, старательно запасались рекомендательной литературой, много тренировались в клубном заповеднике и, когда возвращались домой, испытывали приятную ломоту в плече и жжение щеки от соприкосновения с прикладом — прилежные охотники успевали за день пустить в воздух не меньше трех сотен патронов. Одним словом, воинственные и неуклюжие, не имеющие специальных навыков, они всерьез считали себя профессионалами только потому, что иногда преследовали дичь да задавали наивные вопросы, слушая которые становилось ясно: эти люди не имеют никакого отношения к охоте: охота ведь не только необоримая страсть, но и великое искусство. Те, кого выбрали в арбитры, играют в шахматы в дальнем углу зала. Эдвард Проктор и Джеймс Фергюссон дружно поднимаются и бесшумно встают: первый — за спиной Джорджа Лесли, второй — Эндрю Вулфа. Партия едва начата, у противников силы равные, борьба предстоит долгая. Проктор, несмотря на свою бесцеремонность, дозволенную человеку полному и богатому, не решается прервать игру, а стеснительный Фергюссон, симпатизирующий Вулфу, в смущении, используя язык жестов, щелкает языком, громко сглатывает слюну. — Вы что-то хотите? — спрашивает раздраженно сэр Джордж сухим, резким тоном, не поворачивая головы, не поднимая глаз от фигур на доске. — Мы хотели бы прибегнуть к вашей мудрости и богатому опыту, дорогой сэр Джордж, и попросить разрешить наш спор… — А вы, мой милый Вулф, надеюсь, не откажетесь присоединить вашу мудрость к мудрости сэра Джорджа, поддержав или оспорив его решение. — Да о чем вы? «Мудрость», «опыт», «решение»… И что за торжественный вид? — Действительно, — бросает Джорджмеханически, как фонограф. — Опираясь на мнение редактора журнала «Охотник», мой добрый друг Джеймс Фергюссон утверждает, что бигорн — это коза, и тут он заблуждается, — говорит Эдвард Проктор. — Милый друг! Напротив, Эдвард Проктор ошибается, утверждая что бигорн — это баран, — восклицает Джеймс Фергюссон, — ведь по мнению самых больших авторитетов, бигорн — бесспорно, коза. — Да нет, баран! — Коза! — Но его же называют «диким бараном Скалистых гор»! — Самая новая книга по естествознанию определяет бигорна как «capra canadensis»! «Capra» — значит коза, запомните хорошенько — коза! Канадская коза… — Я опираюсь на мнение не менее серьезного автора, который определяет бигорна, как «ovis montana». «Ovis» — значит овечка, слышите, овечка, иначе говоря баран, горный баран… Оба арбитра и глазом не моргнули в течение всей этой дискуссии[6]; спорящие почти кричали, уже не слыша друг друга. — А вы знаете, каков он, бигорн? — произнес наконец сэр Джордж, воспользовавшись секундной паузой. — Ну, по рассказам, по описаниям знакомых… — Это прекрасное животное. Охота на него трудна, драматична, вся на нервах, тут требуется железное здоровье, необыкновенная ловкость и редкостная удача. Я предпочитаю бигорна кейптаунскому льву, пантере с острова Ява… даже, пожалуй, королевскому тигру… Тигра можно все-таки догнать, а за бигорнами не угонишься… Скоро их уже не останется, это восхитительное животное исчезнет, как гризли[7], как бизоны[8], как многие другие виды… — Значит, — робко роняет мистер Проктор, — вы охотились на бигорна? — Одного я даже подстрелил и потом ел из него котлету. Котлета стоила мне тысячу фунтов, но я не жалею. — Поэтому никому, кроме вас, не разрешить наш серьезный спор. Вовлеченный в обсуждение любимой темы, сэр Джордж в конце концов поднялся. Это был человек неопределенного возраста, скорее усталый, чем пожилой, высокий, худой, угловатый, с бесстрастным, почти холодным лицом, равнодушными бесцветными, ни на чем не задерживающимися глазами, с прямым — почти без губ — ртом, над которым нависал нос, напоминающий ястребиный клюв. Его неподвижное лицо странной бледности обрамляли бакенбарды, словно посыпанные перцем и солью, в свисающих усах шатена сверкали седые нити. Темные, густые, с приятным блеском волосы контрастировали с седой бородой. В общем, сэру Джорджу Лесли уже перевалило — и похоже давно — за сорок. Богатый, элегантный, истинный джентльмен, убежденный холостяк, он большую часть своей жизни странствовал. Его приключения возбуждали интерес публики, уважающей спортсменов. В Лондоне несколько сезонов подряд только о нем и говорили, хотя и без особой симпатии. Рассказывали страшные истории с сэром Лесли в качестве героя, ему приписывали — не приводя, правда, никаких деталей — поступки, математически рассчитанные и убийственно хладнокровные, свойственные людям, не боящимся крови. Офицер индийской армии, погибший впоследствии при странных обстоятельствах, вспоминал даже, что сэра Лесли прозвали Вампиром… Ничем не подкрепленные слухи все-таки оставляли в общественном сознании смутный зловещий след. — Честное слово, — сэр Лесли скрестил руки на худой, но широкой груди, — мне трудно привести вас к согласию. Скорее, пожалуй, баран, насколько смутные воспоминания позволяют мне иметь собственное мнение. — Баран, я же говорю! — закричал обрадованный Проктор. — Его закрученные спиралью рога, крупные, с поперечными полосками, длинные (порой до пятидесяти двух дюймов) — это рога барана. Вулф прервал его: — Однако лежбища, и поразительная подвижность этих животных сближают их с козами. Как утверждает Джеймс Фергюссон, бигорна, на которого любят охотиться в Скалистых горах[9], можно считать и козликом. — Но он же бывает около двух метров в длину. Впрочем, какая разница — особенно сейчас, — коза это или баран? Но вы, Фергюссон и Вулф, хотите все-таки заключить пари?[10] — Конечно! Я ставлю тысячу фунтов за козу! — Я ставлю тоже тысячу… — Тысяча фунтов! Неплохая сумма, особенно когда уверен, что выиграешь… Ну что ж, спорю на пять тысяч фунтов, а вы, Проктор? — Идет! Тоже пять тысяч! — решается толстяк после долгих колебаний. — Сделка заключена, — воскликнули в один голос Вулф и Фергюссон. Сумма в пятьсот тысяч франков при таком ничтожном предмете спора кажется нам, французам, слишком большой. Для Англии же, где во всех слоях общества пышно расцветает мания пари, это обычная ставка: древняя, пресыщенная, артистичная нация жадна на эмоции. Пари, предложенное сэром Джорджем Лесли и принятое его собеседником, скоро приведет к драматическим последствиям. — Ну хорошо, — бросает Фергюссон, — но как доказать правоту или ошибочность наших утверждений? — Очень просто, — отвечает сэр Джордж. — От Ливерпуля[11] в Галифакс[12] пароход отправляется в полночь. Сейчас два часа. Чтобы собраться, времени более чем достаточно. Мы отчаливаем от пристани Ливерпуля, через семь дней прибываем в Галифакс, там садимся на канадский трансконтинентальный поезд[13] и через шесть дней будем в Виктории, красивейшей столице Британской Колумбии;[14] оттуда регулярно организуются маршруты в Скалистые горы. Вот и все. — Вы говорите «отправляемся»… Кто именно? — Да все мы, черт возьми, все заключившие пари четыре члена Клуба охотников. Мы, охотники… При этих словах Проктор, Фергюссон, да и сам Вулф, как будто привыкшие к такому глобальному[15] английскому, ни перед чем не останавливающемуся мышлению, переглянулись в смущении: сибаритов[16]-промышленников, удалившихся от шумного света, испугал проект, осуществление которого сопряжено с трудностями, усталостью и даже риском. — Но зачем же отправляться в Скалистые горы? — тихо спрашивает, внезапно успокоившись, Проктор. — Подстрелить одного или нескольких бигорнов и оценить, так сказать, de visu[17], кто из нас прав, а кто нет. — Но мы все-таки не натуралисты, — вступает и Фергюссон, — чтобы определять зоологические виды. — Это нас не должно останавливать. Возьмем фотоаппарат, снимем животное с разных точек. Привезенный скелет и снимки передадим натуралистам. Этого будет вполне достаточно, чтобы все выяснить. — Черт возьми! Скалистые горы далеко, а мы не так уж молоды. — Вы отказываетесь? Что ж, я еду один, чтобы избавить членов Клуба охотников от стыда вечно продолжать это пари. — Вы поедете? — спрашивает Фергюссон, не сводя с сэра Лесли восхищенных глаз. — В семь часов в Лондоне, в полночь в Ливерпуле. — И оттуда в Галифакс? — подает голос не менее удивленный Проктор. — Да, Галифакс, Виктория, потом берега реки Фрейзер, самой большой реки Британской Колумбии, в которой водится роскошная форель. А там недалеко и до гор, где прячутся последние бигорны. — А когда вы вернетесь? — Через девяносто дней. С вашей точки зрения, нормально? — Вполне! — Ну что ж, с Божьей помощью через три месяца я привезу скелет и кучу фотоснимков бигорна. Что же касается денег на путешествие и охоту — траты поделим поровну. — Справедливо. Если только не потребуете компенсации за вашу нелегкую работу. — Да ладно уж, — полупрезрительно усмехнулся сэр Джордж, — на это ваших денег не хватит. Ну, договорились? А с вами, дорогой мой Вулф, мы продолжим нашу шахматную партию. — Но поскольку вы уезжаете… — Мы продолжим ее заочно, и я рассчитываю выиграть. — Ну нет, тут я ставлю пари, что нет! — Можете ли вы, как джентльмен, рискнуть при этом пятью тысячами фунтов? — Пожалуйста! — Вы и впрямь хороший игрок и настоящий британец. Господа, я прощаюсь с вами. Сегодня у нас пятнадцатое мая, а я вернусь пятнадцатого августа. — Подождите, по крайней мере, пока мы составим договор, и каждый из нас возьмет копию себе. — Мы условились под честное слово. Разве этого недостаточно? Это надежнее любой подписи. Прощайте, господа! Вернувшись к себе, сэр Джордж нашел срочную телеграмму, грубо — как и бывает при кратком изложении — извещающую о бегстве банкира, которому он доверил все свое состояние — сто тысяч фунтов или два с половиной миллиона франков. Сэр Джордж дважды перечитал депешу[18], нахмурил брови, поджал губы, затем с изумительным хладнокровием скрутил бумагу, раскурил от нее сигару и прошептал с наслаждением, как истый сибарит, вдыхая ароматный дым: — У меня десять тысяч ливров на пари и в ящике еще тысяча ливров… Конечно не густо… но, кажется, достаточно, чтобы убить бигорна и полакомиться роскошной форелью. Надо обязательно выиграть и восстановить во время экспедиции состояние. Если же нет… Ну, прииски в Карибу[19] еще не истощились. Брат мой — правитель-наместник в тех краях, в крайнем случае поможет.
ГЛАВА 2
В дороге. — Канадский трансконтинентальный маршрут. — Ванкувер и последняя остановка. — Виктория и китайцы. — Шахматная партия не забыта. — Правитель-наместник. — Англичанин в своей стране. — Первое убийство. — Как ведет дела высокопоставленный чиновник. — Сэр Джордж дома у брата.И солидные и мелкие лондонские газеты — все дружно комментировали отплытие сэра Джорджа Лесли, свершившееся точно в назначенный срок. Одни газеты опубликовали фотографию и биографический очерк путешественника. Другие рассказали и о его партнерах, никому не известных вчера, обреченных на забвение завтра, но сегодня завладевших вниманием британских читателей. Все это было громкой рекламой для Клуба охотников; каждый из его членов купался в лучах славы спортсмена-аристократа, который в течение двадцати четырех часов стал самым знаменитым человеком в Объединенном Королевстве. Первые пари влекли за собой все новые и новые, их заносили в книгу ad hoc[20], к которой предстояло обратиться девяносто дней спустя. Впрочем, скоро страсти улеглись, и Джордж Лесли, Джеймс Фергюссон, Эдвард Проктор, Эндрю Вулф и даже сам бигорн — случайный повод этих бурных событий — были временно, но полностью забыты. Планы сэра Джорджа, абсолютно равнодушного к тому, что о нем говорилось, воплощались в жизнь с поразительной точностью, обычно не очень свойственной британской службе водных и сухопутных путей. Отплыв со своим необременительным багажом шестнадцатого мая 1886 года в полночь из Ливерпуля, сэр Лесли высадился в Галифаксе, столице новой Шотландии, являющейся сейчас провинцией Канады. От Галифакса до расположенного между сто двадцать третьим и сто двадцать восьмым градусами к западу от Гринвича и между сорок восьмым и пятьдесят первым градусами северной широты острова Ванкувер, словно приклеенного наискось к континенту (от материка его отделяет только узкий пролив Джорджия), насчитывается не менее пяти тысяч девятисот восьми километров. Удобно устроившись в спальном вагоне, сэр Лесли без напряжения и особой усталости преодолел это немалое расстояние и за шесть суток пересек территорию доминиона[21]. Канадская Тихоокеанская железнодорожная линия, последняя из трансконтинентальных линий, построенных на Американском континенте, являла собой подлинное техническое чудо. И что уж совсем удивительно для нас, французов, годами ожидающих, пока проложат железнодорожную ветку местного значения длиною двадцать пять миль, строительство этой колоссальной по протяженности дороги длилось всего пять лет. В июле 1885 года из Монреаля к берегу Тихого океана отправился первый поезд — на пять лет раньше, чем предполагалось проектом. Результат этот поистине поразительный, если помнить, что пути прокладывались в необитаемом краю, в трудных климатических условиях. Впрочем, все это не очень трогало сэра Джорджа, которому его принадлежность к английской расе не позволяла восхищаться феноменами[22], не упомянутыми в справочниках Карла Бедекера и Брэшоу;[23] он спал, пока поезд пересекал северо-западную равнину, ел словно людоед и успел отправить из Риджайны[24] телеграмму, сообщавшую партнеру Эндрю Вулфу: «Хожу черным слоном. Ответ — в Литтон[25]».
Путешественник курил в тамбуре сигару за сигарой, потом спал, ел, вновь курил — и так до самых Скалистых гор. Он даже взглядом не удостоил знаменитый Кикинг-Хорс, перевал Мчащейся или Лягающейся Лошади, где железная дорога поднимается на самый высокий хребет знаменитых гор. Этот отрезок пути расположен на высоте тысячи шестисот четырнадцати метров, что значительно выше, чем туннели проложенные в Альпах. Но подъем кажется плавным, благодаря тому, что на каждом метре он повышается всего на 39–45 миллиметров — и так на дистанции шести километров. Находясь в лучших условиях, чем их европейские собратья, английские и американские инженеры смогли обойти наиболее опасные для железной дороги места поверху, не прибегая к туннелям и прочим строительным хитростям, которые так усложняли и удлиняли сооружение этого чуда цивилизации в Альпах. Ни совершенство техники, изобретенной человеком, ни открывающаяся взору восхитительная панорама не могли растопить одушевленный кусок льда, расположившийся в спальном вагоне под именем сэра Джорджа Лесли. Правда, он долго, приложив к глазам лорнет[26], с дотошностью флегматичного англичанина рассматривал встречающиеся расщелины и бурчал себе под нос: — Вот где, наверное, прячутся бигорны! А потом добавлял, словно речь шла о том же самом: — Вулфу придется сделать ход королевской пешкой. В Йеле, увидев золотоискателей-китайцев, копошащихся в топкой грязи, невозмутимый аристократ почувствовал, как по телу пробежали мурашки. — Золото… В этом краю земля потеет золотом… Надо будет вернуться сюда потом!.. Конечной точкой трансконтинентальной канадской линии сейчас является не Нью-Вестминстер, а Ванкувер[27]. Но в эпоху, когда сэр Джордж пересекал доминион, Ванкувера с пятнадцатью тысячами жителей еще не было. Там, где сегодня раскинулся этот кокетливый и богатый город с домами, расположенными в шахматном порядке, как во многих американских городах, стояла стена непроходимого леса. Побежденный Нью-Вестминстер скоро станет просто пригородом Ванкувера, бум вокруг которого растет с каждым днем. В одиннадцать часов утра девятнадцатого мая сэр Джордж покинул спальный вагон, велел перенести свой багаж на пароходик, обеспечивающий связь между конечным пунктом железной дороги и столицей края, и без промедления поднялся на борт. Хотя Виктория находится на острове, добраться до нее очень легко благодаря постоянно курсирующим паровым суденышкам. Виктория — изящный преуспевающий город, опоясанный деревьями роскошного парка, сверкающий огнями, имеющий в достатке питьевую воду из находящегося в двенадцати километрах озера и насчитывающий не менее двадцати тысяч жителей. Четверть из них — китайцы. Поскольку Виктория — столица Британской Колумбии, в ней разместилась администрация штата, состоящая из правителя-наместника, министров и законодательной ассамблеи[28]. Так же как их соседи-американцы, англичане обеспокоены наплывом китайцев, которые образовали азиатскую колонию в английском городе: у них свои улицы, свои кварталы, свой театр. Не имея ни права голоса на выборах, ни гражданства, сыны Небесной империи[29] живут в каком-то ином измерении, на них смотрят как на предмет купли-продажи и перевозят по территории страны в пломбированных вагонах. Несмотря на эту изоляцию и полное смирение, несмотря на въездную таксу в пятьдесят пиастров, которую они должны платить, китайцы представляют для англичан серьезную опасность: численность их растет стремительно и не подчиняется никаким прогнозам. Не проявляя интереса к заботам молодого города, сэр Джордж, еще более флегматичный[30], чопорный, высокомерный, чем обычно, просит переправить его багаж во дворец правителя-наместника, а сам сразу направляется на почту, где находит две телеграммы: одна от его партнера Вулфа, сообщающего, что он делает ход королевской пешкой, а вторая — с поздравлениями от членов Клуба охотников. На первую адресат отвечает: «Хожу на одну клетку пешкой от ладьи королевы». А на вторую: «Все в порядке». Затем, завершив дела, словно только что вспомнив, что его брат является правителем-наместником этого края, путешественник отправляется во дворец. На широких улицах Виктории пешеходам тем не менее на них тесно, а сэр Джордж как истый англичанин не терпит препятствий, особенно когда они живые. Два китайца, несущие чемоданы-витрины, где выставлены всякие импортные безделушки, имели несчастье загородить путь и предложить сэру Лесли выбрать покупки. Он схватил их за волосы, стянутые на макушке конскими хвостами, поднял на вытянутых руках и отшвырнул словно чучела на проезжую часть, с той невозмутимой грубостью, с какой подданный Ее Величества привык обращаться с теми, кто слабее. Один из испанцев, видевших это, возмутился и, подумав, что сэр Лесли из немцев, похожих своей заносчивостью на выпь, презрительно бросил: — Прусская свинья! От удара, быстрого как молния и увесистого как дубина, он грохнулся навзничь. Второй испанец тоже ощутил силу кулаков англичанина. Вскочив, он сплюнул кровь и с ножом в руке, как тигр, подскочил к надменному драчуну. Сэр Джордж изящным движением отстраняет коснувшееся его тела лезвие, слегка поранив при этом указательный палец левой руки, и, увидев кровь, спокойно произносит: — За каплю моей крови — всю вашу! Выхватив из потайного кармана пистолет марки «смит-и-вессон», он приставляет дуло ко лбу противника и спускает курок. Полицейский, решив, что это американец из метрополии, не торопясь подходит, прикасается к его плечу дубинкой и вежливо приглашает следовать за ним к шерифу[31]. — Нет, прямо к моему брату, правителю-наместнику. — Ну тогда другое дело, — говорит полицейский, — тогда вы свободны, Ваше Высочество. — Вот вам две гинеи[32] на чай. Пять минут спустя дежурный проводит сэра Джорджа к его младшему брату — сэру Гарри Лесли; тот встречает его крепкими объятиями. — Джордж, это ты! Вот неожиданная радость! И даже не предупредил меня? Каким добрым ветром тебя занесло? — Да, Гарри, я тоже очень рад тебя видеть. На досуге расскажу о причинах моего прибытия в Колумбию — у нас будет время поболтать, я уезжаю только завтра. Кстати, на улицах вашего города много лишних людей. — В каком смысле? — Я только что намял бока двум китайцам да размозжил голову какому-то придурку. Бог мне судья. Прикажи, чтоб принесли патроны четыреста десятого калибра[33], мои остались в багаже. Сэр Лесли был истинным англичанином и потому, конечно, одобрил мотивы, приведшие сюда старшего брата. Такое серьезное пари и так мало времени… Черт возьми, дорога каждая минута, а бигорнов с каждым днем все меньше. Нужно, следовательно, быстро составить план действий, выехать без промедления, прочесать все горные массивы вдоль реки Фрейзер, дающей воду Колумбии. Только там, может быть, посчастливится встретить это величественное животное, уничтожаемое с безумным неистовством. — Если еще добавить к этому, брат мой, что я полностью разорен, у меня за душой не больше двух тысяч фунтов, ты поймешь, как необходимо мне сколотить состояние. — Ну, — добавил беззаботно правитель-наместник, — все мы в той или иной мере сидим на мели… Тем более надо поскорее добраться до богатых шахт Карибу. Там немало толстосумов-предпринимателей, забывающих заполнять предписанные законом декларации о доходах… Отправишься туда в должности инспектора с правом выносить решения и требовать их немедленного исполнения. Многие концессии[34] таким образом удастся освободить от золотоискателей, которые не в ладах с законом, и устроить туда нужных людей. — У тебя доброе сердце, Гарри, и живой, изобретательный ум. — Но заранее предупреждаю, что без риска тут не обойтись, не исключены сражения, наши «свободные рудокопы» — горячие головы. Поняв, что у них забирают концессию — хотя бы и на законных основаниях, — они, боюсь, начнут оказывать сопротивление. Найдутся и ружья, которые стреляют сами, не оставляя улик. — Ты же знаешь, Гарри, перестрелки меня не страшат, — ответил сэр Джордж, и тусклые его глаза сразу загорелись зловещим огнем. — Да, я знаю, ты скор на руку и чертовски ловок. Не стоит, однако, слишком бравировать этим, помни, что фактически мы там в состоянии войны… И обходись без ненужных убийств. — Ладно, постараюсь убивать, лишь имея серьезные основания, в трудных случаях. — Вот и прекрасно! А теперь разреши познакомить тебя с частью твоих сопровождающих. При этих словах правитель-наместник нажал кнопку электрического звонка. Слуга прибежал столь поспешно, что стало ясно: Его Высочество держит всех в кулаке. — Позови Ли. Не прошло и тридцати секунд, как на пороге комнаты для курения появился чистенький, напомаженный до блеска китаец, весь в белом, на ногах соломенные сандалии. — Господин Ли, познакомьтесь с этим джентльменом, моим братом. С сегодняшнего дня будете его сопровождать в качестве повара и слушаться как меня, какие бы приказы он ни отдавал. Советую все время помнить, что здесь всегда найдется три сажени крепкой веревки вам на галстук, если вздумаете плохо нести службу. Завтра к восьми часам будьте готовы. Идите! — Это находка, просто жемчужина, дорогой мой Джордж, — добавил сэр Гарри, когда китаец вышел… — Ты сам увидишь, какой это незаменимый слуга! Он будет тебе за повара, за прачку, за сапожника, за портного, за кого хочешь! Не загоняй только его до смерти, «господин Ли» понадобится мне после твоего возвращения. — И сердце и желудок благодарят тебя, милый Гарри, право, ты все предусмотрел. — Я дам тебе также в качестве лакея и слугу-европейца, такой сорвиголова! Он будет твоим главным помощником. Еще отряжу кучера-янки, который научился всему, кроме ремесла быть честным человеком. Это отличный всадник, прекрасный охотник, поскольку недавно еще был ковбоем. Он способен на все, даже на преданность. Кучера зовут Том, лакея — Джо. Я познакомлю тебя с ними вечером, сейчас они заняты. Ну что еще? Тебе, очевидно, будет достаточно четырех лошадей, впряженных в шарабан, да еще четырех мулов[35] при двух повозках. Дорога от Йела до Карибу прекрасная. — Отлично. — Когда прибудете в Камлупс[36], найми полдюжины носильщиков-индейцев. — Мне доводилось раньше пользоваться их услугами, здесь они зовутся возчиками. — Краснокожие понадобятся, чтобы провезти по горным дорогам все имущество — палатку, оружие, снаряжение, вещи, продукты. Если удастся отыскать в качестве гида одного-двух метисов[37]-канадцев, лучше французского происхождения, да еще заинтересовать их твоим делом, успех обеспечен. К тому же я дам телеграмму в Камлупс и попрошу во что бы то ни стало помочь найти бигорнов. Ты отправишься на охоту сам, оставив слуг в Ашкрофте и подъехав к Скалистым горам по железной дороге. Ну, а сейчас идем ужинать, окажем честь кухне Ли.
ГЛАВА 3
Самая богатая рыбой река. — Носильщики или возчики. — Гид-канадец. — В дороге. — Как метис понимает отношения между слугами. — Полный комфорт для Его Высочества. — Английский эгоизм. — «Кровавые люди». — Сэр Джордж хочет видеть обряд каннибализма[38].Фрейзер — самая большая река Британской Колумбии. Можно даже сказать, единственная, так как река, носящая имя доминиона, Колумбия, течет по его землям лишь в верховьях. Исток Фрейзер — в озере Желтая Голова, покоящемся меж западных склонов гор, с противоположных отрогов которых устремляются потоки, образующие реку Атабаску. Фрейзер вьется петлями, напоминающими букву S; в верхней петле расположен богатый бассейн Карибу, а нижняя петля прилегает к железной дороге между Литтоном и Ванкувером. Образовав широкую дельту, река впадает в залив Джорджия. Вдоль этой сильно вытянутой буквы S Фрейзер принимает притоки: Медвежья река, Ивовая река, Стьюарт-Ривер, берущие начало в высокогорных озерах и несущиеся вниз по глубоким расщелинам. Назовем еще несколько больших рек — Блэк-Вотер, Кенель, Чилкотин, Томпсон; они бегут и слева и справа — глубокие, бурные, содержащие кислотный гумус;[39] воды, например, Блэк-Вотер («Черная вода») имеют характерный темный цвет. От пятьдесят третьей до сорок девятой параллели Фрейзер, сердито ворча, несет свои клокочущие воды по горному ущелью такой глубины, что невозможно полностью проследить ее течение. Она петляет так на протяжении трехсот миль[40], окруженная живописными террасами, придающими очень загадочный вид омываемым ею просторам; потом прорывается через узкие и высокие Новые Адские ворота — ее быстрые в густой пене воды совершенно непригодны для плавания вплоть до того места, где река меняет направление, поворачивая на запад, чтобы броситься в море. Чтобы завершить описание Фрейзер уже чисто географическими данными, можно добавить, что она глубока, быстра, холодна и изумительно прозрачна. Ее волны несут от дальних притоков изрядное количество золотого песка, живым же серебром река так богата, что торговля рыбой и рыбными консервами здесь процветает уже многие годы. Ближе к устью — большое количество лососевых. Тридцать лет назад случалось, что мужчины, проводя там свои плоты, шестами нечаянно загарпунивали[41] — во время миграции[42], называемой «подъем», — огромных лососей. В верховьях реки и в ее мелких притоках — огромное количество форели, не боящейся водопадов, перепрыгивающей преграды, приобретающей в холодной, быстрой воде упругость движений и нежность плоти, так высоко ценимой спортсменами и гурманами[43].
Шесть дней прошло с момента прибытия в Викторию сэра Джорджа Лесли, покинувшего Англию после пари, суть которого состояла в определении зоологического вида бигорна, дикого барашка Скалистых гор. Сэр Джордж не терял времени даром. Благодаря помощи брата, правителя-наместника, он организовал экспедицию меньше чем за сутки — собрал людей, лошадей, мулов, повозки, отправил все это — конечно, бесплатно, — поездом до Камлупса и без промедления выехал инспектировать прииски, получив над предпринимателями, разрабатывавшими золотоносные клемы, по сути, неограниченную власть. Местная администрация, вышколенная хозяином края, готова была ради влиятельного путешественника вывернуться наизнанку. Десять индейцев-носильщиков, или, как их здесь зовут, возчиков, были не то чтобы приглашены, а просто мобилизованы для помощи сэру Лесли; сказали, что труд их будет оплачен, но когда и по каким расценкам — это определит Его Высочество. Местный шериф, сталкивающийся по работе с людьми разных сословий и классов и знающий в своем округе почти каждого, нашел для экспедиции опытного канадского охотника. Этот человек считался профессионалом, иначе говоря, содержал себя на деньги, заработанные своим ремеслом: был неутомимым ходоком, знал все леса в округе — такие люди уже почти не встречаются. На самом деле жил он на скопленное благодаря золотым приискам кругленькое состояние, позволявшее ему ни в чем себе не отказывать, и прежде всего в удовольствии быть охотником-философом, блуждающим Нимвродом[44]. Больше сорока лет ставил канадец капканы для компании «Скорняки Гудзонова залива», селился вдали от больших городов, пользуясь полной свободой, столь дорогой для людей его склада. Охотнику теперь уже было просто необходимо проводить восемь месяцев из двенадцати вне дома, вышагивать пешком километры по горам, лесам и лугам; усталость и опасности, неотделимые от подобного образа жизни, имели необыкновенную притягательность для этого здоровяка. Сэру Лесли предстояло иметь дело с гигантом приблизительно пятидесяти пяти лет от роду, ловким как юноша, неутомимым как бизон; с шевелюрой и бородой цвета воронового крыла; с чертами лица, дышавшими энергией, иронией и невозмутимостью, выдававшими в нем метиса и вызывавшими искреннюю симпатию. Этого краснокожего франко-канадца Жозефа Перро, наверное, помнят те, кто читал наш предыдущий роман — «Из Парижа в Бразилию по суше», где он — среди действующих лиц. Конец зимы Жозеф Перро проводил в Камлупсе и собирался в Баркервилл по личным делам, намереваясь совершить это путешествие пешком, «с пустыми руками», добывая пропитание охотой и рыбной ловлей. Поскольку встреча в этом славном городке провинции Карибу была назначена через месяц, он уступил настоятельной просьбе шерифа и согласился сопровождать англичанина-спортсмена, приехавшего специально поохотиться и державшего путь в том же направлении. Как человек, равнодушный к деньгам, франко-канадец согласился получать за свои услуги всего один фунт стерлингов в день, но при условии, что в путешествии будет иметь дело не со слугами, а только с хозяином и чтобы тот говорил с ним лишь по-французски. Сэр Джордж Лесли дал согласие на заключенную между шерифом и метисом сделку, узнав заранее, что только Перро и способен вывести его на бигорнов. Первого июня большой караван устроился в поезде и отправился из Камлупса в Каш-Крик. Оттуда начиналась дорога от Йела до Баркервилла, проходящая через Клинтон[45]. На месте слияния рек Бонапарт-Ривер и Томпсон люди с лошадьми, амуницией[46], узлами, повозками выгрузились из вагонов. Выстроившись, отряд медленно двинулся по дороге, которая являла собой смелый вызов, брошенный инженерами неумолимой природе. Во главе экспедиции, указывая путь и словно принюхиваясь к воздуху, шел Перро, одетый в куртку из оленьей шкуры, с ружьем на плече, трубкой в зубах. За ним двигались индейцы, нагрузившись тюками, которые не поместились на фурах. Затем следовала первая повозка, запряженная двумя мулами. Правил ею американец Том; рядом с ним на сиденье устроился повар Ли, чье курносое лицо хранило невозмутимость фарфоровой статуэтки. Затем следовала вторая повозка, нагруженная доверху, под самый брезент. Ее мулов вел под уздцы спешившийся индеец; следом шли две запасные лошади, ведомые другими краснокожими, и, наконец, замыкал процессию двухколесный экипаж, управляемый сэром Джорджем. Рядом с ним на скамейке, выпрямившись, как положено слугам в хороших домах, сидит облаченный в ливрею[47] лакей. Индейцы с любопытством разглядывают этого человека в шляпе с красно-синей кокардой[48] и в широком коричневом плаще с целым созвездием железных пуговиц, блестящих, как солнце. Краснокожие пытаются отгадать, не есть ли это главный хозяин, тем более что другой, бородатый, сам управляет каретой и одет совсем скромно. Наивным детям природы, не искушенным в нравах и тонкостях цивилизации, трудно себе представить, какими бывают у нас отношения хозяина со слугой, впрочем, они все равно не смогли бы уразуметь, зачем чистокровный англичанин берет с собой в такую экспедицию лакея, облаченного в ливрею. Благодаря послушным, хорошо выдрессированным, идущим ровной рысцой, лошадям половина пути пройдена без приключений. Предстоял полуденный привал, чтобы отдохнуть и сменить лошадей; сэр Джордж, озадаченный, как бы известить об этом Перро, останавливает экипаж и посылает вперед к канадцу человека, одетого в ливрею. Быстро подбежав к Перро, лакей обращается к нему сквозь зубы, как и положено англичанину, да еще слуге: — Эй, гид, его превосходительство послал меня, чтобы приказать вам остановиться. Перро медленно повернул голову, выпустил табачный дым, пожал плечами и продолжал свой путь. Пять минут спустя канадец, шагающий размашисто, как и положено охотнику, слышит другой голос и высокомерный окрик: — Эй, гид, я приказал остановиться, вы что, не слышали? Гигант вторично поворачивает голову, узнает самого сэра Джорджа и, смерив хозяина, как и его лакея, взглядом с головы до ног, никак не реагирует. — Вы что, не понимаете мою команду? — кричит сэр Джордж дрожащим от возмущения голосом. — Соблюдая приличия, господин милорд, — отвечает Перро по-французски на вопрос, заданный ему по-английски, — нужно знать, с кем разговариваете, и выполнять условия нашего договора. Во-первых, меня зовут Перро, а не Гид, запомните, пожалуйста, я настаиваю, чтобы меня называли именно так. Во-вторых, обращайтесь ко мне по-французски, как мы договаривались. И, наконец, если вы будете посылать ко мне этого пуришинеля[49]… — Какого «пуришинеля»? — Ну, клоуна, вашего лакея… Я разговариваю с вами, только с вами, и, если кто-нибудь из этих прихвостней обратится ко мне от вашего или своего имени, я сломаю ему хребет. А если придется еще раз все это объяснять, я вернусь к собственным делам и оставлю вас искать бигорнов самостоятельно. Уж такие мы есть — французы из Канады, не обессудьте. При этих словах, произнесенных с иронией и хитрецой, как обычно крестьянин разговаривает с господином, сэр Джордж побледнел и почувствовал безумное желание броситься на метиса с кулаками. Но этот чертов великан как бы случайно поигрывает охотничьим ножичком, готовый пройтись по ребрам джентльмена, если тот будет недостаточно вежлив. И сэр Джордж, не испытывая ни малейшего желания ждать, когда этот нож, бывавший, по всему видать, в деле очень часто, вспорет его грудную клетку, притушил свой гнев и признал претензии Перро справедливыми. Привал, обед и вторая часть пути прошли без приключений. К ночи лошади были распряжены, привязаны и получили, как и мулы, хорошие охапки овса и прекрасной сочной травы, растущей только в этих краях. Ли установил походную печь, открыл несколько банок консервов и начал колдовать над весьма аппетитными блюдами, пока лакей покрывал низенький стол тончайшей белой скатертью и расставлял на ней серебряную посуду. Тем временем бутылка кларета[50] достаточно нагрелась, начала источать волшебный аромат, и Его Высочество, привыкший к сладкой жизни даже в путешествиях, сел за стол и как заядлый гурман отдал должное кухне китайца. Палатка, в которой джентльмену предстояло провести ночь, была уже поставлена; собрана и походная кровать, которая примет аристократа после того, как он выкурит, сидя в шезлонге, несколько самых дорогих сигар. Хозяин был удовлетворен, и слуги, устроившись, чтобы продолжить пир, пили чашу за чашей, баловали себя бренди и презрительно посматривали в сторону индейцев, удовлетворяющихся скромным ужином. Дело в том, что в любой экспедиции слуги питаются за счет хозяина; в данном же случае носильщики-индейцы, мобилизованные со службы, должны были кормиться самостоятельно. А эгоистичный сэр Джордж отнюдь не рвался поделиться с ними своими запасами: подумаешь, краснокожие — вьючные двуногие животные, требующие меньше внимания, чем лошади и мулы, потому что вообще не стоят ни гроша. Пусть кормят себя сами как сумеют. Путешественник думал, что метис сядет за один стоял с лакеем и поваром, но тот демонстрировал к ним полное презрение, и хозяин предоставил ему выкручиваться из этой ситуации самостоятельно. Итак, Перро и индейцы — одиннадцать мужчин, три сопровождающие их женщины с четырьмя детьми, то есть всего восемнадцать человек — собираются ужинать почти что вприглядку после невероятно трудного дня. Но опытного охотника не так легко застать врасплох. Поняв, что ни от хозяина, ни от его лакеев ждать нечего, он вынимает из вещевого мешка трезубец, тщательно затачивает его и, передав индейцам ружье, амуницию, мешочек с огнивом и все предметы, боящиеся сырости, бросает на местном диалекте: — Я поищу, друзья, чего-нибудь поесть, а вы разводите пока огонь. Не теряя ни минуты, канадец погружается по грудь в ледяной горный поток, идет вдоль обрывистого берега, присматривается при последних лучах заходящего солнца к расщелинам и вонзает время от времени свой самодельный гарпун в толщу воды. Несколько быстрых движений, и огромная рыбина весом в семь-восемь фунтов[51] поднята сильными руками гиганта — окровавленная, с прошедшим сквозь жабры колючим штыком. В следующую минуту добыча снята и брошена на землю — ее подбирают индейцы, сопровождающие своего кормильца. Он так ловок в этом виде охоты, здесь такое обилие рыбы, что за полчаса выловлено не менее шестидесяти фунтов форели. — Ну вот, — произносит охотник, спокойно и радостно, словно совсем не озяб в ледяной купели, — теперь мы не умрем с голоду, а завтра я еще найду, чем наполнить ваши корзины, бедные мои братья. Если же господин милорд со слугами почувствует голод, с удовольствием помогу и им. Два дня спустя экспедиция подошла к Клинтону, небольшому городку, где китайцы добывают золото; это последний очаг цивилизации перед Баркервиллом, до которого еще девяносто миль труднопроходимой дороги. На всякий случай Перро купил на свои деньги сто фунтов сушеного мяса в качестве резерва для индейцев: сэр Джордж забыл о них и думать, словно это дикие звери. На следующий день, четвертого июня, сделали привал у небольшого притока Бонапарт-Ривер, что берет исток в озере Ломонд. Не успели путешественники разбить лагерь, как вдруг появились шесть индейцев — раздраженные, со злыми лицами, в рваной одежде, вооруженные луками и старыми ружьями. Перро кричит, требуя, чтобы они ушли, и, поскольку те не торопятся подчиниться, метис угрожает им карабином. Сэр Джордж, понимая, что положение серьезное, расстался со своим обычным высокомерием и спрашивает у канадца, кто эти пришельцы. — У нас их называют «Дурной народ» или еще «Кровавые люди». Это грабители, бандиты, убийцы, антропофаги[52], иначе говоря, людоеды. Их надо убивать, они хуже волков. — Да ладно, пусть уходят подобру-поздорову. Вернувшись в свою палатку, сэр Джордж позвал кучера-американца и спросил: — Знаете ли вы индейцев, которых гид называет «Кровавые люди»? — Да, ваше превосходительство, жестокие, дикие каннибалы… — Говорите ли вы на их языке? — Да, ваше превосходительство. — Тогда возьмите пять бутылок бренди, отнесите им в качестве моего подарка и попросите далеко не уходить. Постарайтесь также, чтобы ни канадец, ни индейцы вас не видели. И добавил, ни к кому не обращаясь, странно блеснув глазами: — Хочу посмотреть обряд каннибализма.
ГЛАВА 4
Рыбная ловля с подсечкой. — Искусственная приманка. — Длительная подготовка. — Сражение между спортсменом и форелью весом в двадцать пять фунтов. — Хорошая защита. — Что делает Его Высочество со своим уловом. — Размышления сэра Джорджа. — Начал с эклоги[53], кончил убийством.Рано утром пятого июня сэр Джордж просыпается свежим, бодрым, покидает палатку с улыбкой на губах, как человек, начинающий хороший день. Полчаса назад солнце поднялось над розовеющим горизонтом, и сэр Джордж, оглядевшись, решил сразу исследовать реку, чтобы отдаться первый раз в этом году любимому развлечению. Несмотря на ранний час, жарко и душно. В долине ни малейшего ветерка, так же как и в ущельях уже прогревшихся гор, по которым несутся с сильным шумом яростные потоки. Мухи во множестве роятся над поверхностью воды, словно хотят позлить прожорливого лосося, они ходят невидимыми стаями, но время от времени рыба стрелой выпрыгивает из воды и падает обратно, разгоняя концентрические круги. Форель жадна на мошку. Это выгодно рыбаку, ловящему на искусственную приманку. Такой вид рыбной ловли известен, но совсем не практикуется во Франции, для англичан же это — один из излюбленных видов спорта, они отдаются ему со всей страстью и ради долгожданного удовольствия не отступают перед самым дорогим и утомительным путешествием. У нас привыкли посмеиваться — и совершенно напрасно — над рыболовом с удочкой, а вот в Англии ловца лосося или форели уважают не меньше, чем охотника на шотландскую куропатку или на лису. Сэр Джордж, завершив осмотр, возвращается в лагерь, берет лучшую ореховую удочку, выбирает самую прочную леску из шелковой неразмокающей нити, достает из герметично закрывающегося ящика альбом, представляющий все приманки, используемые в разных странах при ловле форели, потом возвращается к быстрому потоку в сопровождении верного лакея, несущего все необходимое. Прибыв на место, рыбак изучает, какой приманке здешняя форель отдает предпочтение, — оказывается, это ивовая мушка. Между пергаментными страницами альбома, на которых изображены блестящей краской насекомые, находятся отрывные листки, к которым прикреплены искусственные мушки, сделанные из ниток и перьев, шевелящиеся на крючке так, что рыба получает полную или хотя бы достаточную иллюзию, что приманка живая… Сэр Джордж сравнивает рисунок ивовой мушки с мушкой, изготовленной продавцом, находит сходство недостаточным, укрепляет еще одно перышко — как антенну — над головой насекомого, убирает кусочек медной проволоки, щелкает языком и шепчет: — Вот теперь то, что надо. Лакей по первому знаку достает из прорезиненного чехла четыре колена из орешника, каждое длиной метр десять сантиметров, плотно ввинчивает их в медный патрон, которым заканчивается каждое колено; получается крепкая, гибкая, как китовый ус, удочка; потом протягивает шелковую нить в кольца, расположенные по четыре на каждой секции, закрепляет катушку с пятьюдесятью метрами намотанной на нее лески и подает снасть хозяину. Тот сажает подновленную мушку на конец шелковой нити и ловко сматывает с поскрипывающей катушки приблизительно пятнадцать метров лески. Теперь надо забросить приманку на середину потока так, чтобы форель — самая осторожная из всех рыб — была уверена, что насекомое опустилось само, из роя мошкары, что вьется над речной поверхностью в безумном танце и под особым углом пикирует на воду. Эта деликатная операция требует подлинной ловкости и большого опыта. Поначалу ничего не удается, сто раз придешь в отчаяние, прежде чем обретешь ловкость спортсмена-англичанина, который умеет — правда, при отсутствии ветра, — два раза из трех забросить мушку в шляпу с расстояния в двадцать метров. Сэр Джордж совершает все приготовления молча, с той лихорадочной медлительностью, которая выдает истинную страсть: прихватывает крылатую обманку указательным и большим пальцами левой руки, собирает свободными кольцами всю леску, спущенную с катушки, и не спеша идет берегом, высоко подняв удилище, устремив взгляд на воду. Вскоре он останавливается, пошире расставляет ноги, яростно взмахивает правой рукой так, что конец удилища описывает широкий полукруг, и отпускает мушку. Удилище иискусственная мушка, прикрепленная вместо наживки, следуя движению руки, со свистом рассекают воздух. Хладнокровно, с ловкостью, выдающей опытного рыбака, джентльмен подсекает этот полукруг легким, но сильным движением кисти, и приманка, подскочившая словно от удара кнута, опускается вертикально с той мягкостью, какая свойственна только живому существу. Чем быстрее течение, тем больше шансов обмануть рыбу, подстегиваемую сразу и страхом и голодом. Поскольку насекомых быстро сносит по течению, рыба торопится их схватить, не особенно разглядывая. У сэра Джорджа бросок мастера. Едва искусственная ивовая мушка касается поверхности потока, как сразу исчезает, схваченная с необыкновенной жадностью. В то же мгновение рыбак делает движение, похожее на па фехтовальщика, переходящего в защиту. Леска вдруг натягивается, того гляди, порвется. Судя по началу этого поединка, рыба огромная. Сэр Джордж, понимая, что такого натяжения не выдержит ни леска, ни прекрасное удилище из орешника, отпускает понемногу нить, которую словно с сожалением отдает поскрипывающая катушка. Попавшая на крючок форель, инстинктивно почувствовав временную передышку, начинает отчаянно сопротивляться. У каждой рыбы свой способ защиты. Усач надеется на свою массу, силу и резкие рывки; щука не хитрит, дерется в открытую; у леща кошачьи повадки, ловкость фокусника, использующего рельеф дна, заросли водорослей. Форель в борьбе за жизнь применяет все эти приемы, причем меняет их с такой быстротой, что победить ее может только настоящий мастер, искушенный во всех тонкостях этого необычайно волнующего поединка. Хитрые уловки, кружение вокруг своей оси, быстрые рывки ко дну, петляющее движение возле скалистых уступов, притворные обмороки, за которыми следуют отчаянные прыжки — отважная, энергичная, ловкая форель столь изворотлива, что, даже поймав на крючок, ее не так-то легко вытащить на берег. Но сэр Джордж — истинный артист. С изящным спокойствием, точными движениями, подчиняясь интуиции, которая никогда его не обманывает, он предугадывает самые немыслимые действия противника и искусно предупреждает их. Держа пружинящее удилище почти вертикально, он чувствует с точностью до десяти сантиметров, сколько надо отпустить лески, и до долей секунды, когда можно намотать немного нить на катушку и медленно, но неумолимо подтягивать к берегу рыбину, уже подуставшую в беспощадной борьбе, совсем затихшую. Новичок тут обязательно обманется и начнет торжествовать победу. Сэр Джордж не поддается иллюзии, он наготове, весь в ожидании. Совсем скоро форель резко бьет хвостом и стремительно погружается. Рыбак, обожающий подобные поединки, только насмешливо улыбается, шепча: — Ты у меня в руках… Опять, как кузнечик, трещит катушка, удилище наклоняется, форель стремительно удаляется, идет вверх по течению, потом обратно, резко погружается на дно, выпрыгивает из воды, но никуда не может деться от талантливого рыболова, который предугадывает, предвосхищает все ее маневры, «работает» так, что, уступая ей, утомляет ее еще сильнее. Борьба длится уже двадцать пять минут. Последняя хитрость, последняя отчаянная попытка порвать эту крепкую неподдающуюся леску, освободиться от крючка, намертво вцепившегося в губу. Все напрасно! Задыхаясь, то трепеща, то застывая без движения, форель наконец сдается, и торжествующий сэр Джордж подтягивает ее, уже не сопротивляющуюся, к крутому берегу. Зная, что теперь пришло его время действовать, лакей подбегает к роскошной рыбине, хватает ее за жабры и, не обращая внимания на липкую грязь, пачкающую ливрею, прижимает к себе, вбегает на берег и опускает на траву. Первый трофей сэра Джорджа весит почти двенадцать килограммов и имеет метр двадцать сантиметров от головы до хвоста! Джентльмен с удовольствием наблюдает, как бьется в агонии его добыча. — Я так и знал, что эта форель — таймень! — шепчет он. Затем, когда рыба заснула, говорит лакею: — Бросьте ее в воду! Британский аристократ любит рыбную ловлю с подсечкой, но рыба, обессиленная при этом, по существу, погибает и таким образом снова освобождается от того, кто ее победил, — брат правителя-наместника уснувшую рыбу не ест, а отдать ее слугам и помощникам — это было бы слишком. Нельзя же так низменно использовать улов, побывавший в руках самого сэра Джорджа. Улов должен исчезнуть, но не так банально, ведь рыбная ловля для Его Высочества — священнодействие. Форель понес брюхом кверху быстрый поток; англичанин собрался спуститься немного по течению реки, чтобы забросить новую мушку, как вдруг услышал сильный всплеск. Удивленный, он остановился и увидел в нескольких метрах от своей рыбы кирпично-красное лицо индейца. Тот схватил рыбину, подтянул ее к берегу и вылез из воды. Это был один из тех туземцев, что приходили вчера и которых Перро назвал «Дурной народ». Индеец, взбодренный выпитым бренди, тайком следовал за джентльменом, ожидая или новых щедрот или счастливого случая, который действительно не заставил себя долго ждать. Гортанным голосом краснокожий зовет своих соплеменников, затаившихся у скал, показывает им поживу, и все пускаются в дикий танец, оглашая окрестности громкими криками. Тут сэр Джордж забыл о рыбалке, ему пришла в голову мысль, что было бы интересно зарисовать эту забавную сцену. Он вынимает из кармана блокнот и начинает делать эскизы. Но попробуйте на лету схватить эти вроде бы беспорядочные движения! К тому же индейцы, увидев белый лист бумаги, из которого может выскочить пугающая их «медицина», затихает. Тогда сэр Джордж, не вступая в контакт с антропофагами, быстро говорит что-то Джо, который срывается с места и мчится в лагерь, находящийся за километр отсюда. Полчаса спустя он возвращается вместе с кучером Томом, держащим карабин-винчестер, и навьюченным, словно верблюд, индейцем-носильщиком. Сначала достают виски. Путешественник протягивает две бутылки каннибалам и просит Тома сказать им на местном наречии: — Господин дает вам огненную воду и просит продолжить пение и танцы. Потом член лондонского Клуба охотников достает фотоаппарат — чудесное изобретение современной промышленности, с помощью которого можно запечатлеть и сохранить самые удивительные движения и жесты, да еще так, что фотографируемый ни о чем не догадывается. Затем появляется продолговатый ящик, о содержимом которого трудно догадаться. — Что они говорят! — спрашивает сэр Джордж, видя, что полученная водка не заставила индейцев пуститься в пляс. — Они говорят, ваше превосходительство, что плясали бы лучше, если бы… — Если бы что? — Если бы вместо рыбы могли съесть человека, — произносит Том, опасливо поглядывая на носильщика-индейца, который ничего не слышал. При этом известии тусклые глаза Его Высочества странно заблестели, будто промелькнула молния. Потом зрачки снова стали бесцветными. Но янки заметил этот фосфоресцирующий блеск. — Том, вы любите деньги? — Очень, ваше превосходительство. — Хотите заработать десять фунтов? — Что нужно делать, ваше превосходительство? Если перестрелять это стадо, я готов выполнить ваш приказ. — Нет, этого не требуется. Подраньте как бы случайно нашего носильщика, так, чтобы он не мог убежать. — Понял, ваше превосходительство, — с готовностью отвечает Том, выдавая сразу свое прошлое — охотника за скальпами. При этих словах он хватает ружье и мгновенно стреляет в несчастного, который падает с перебитой ногой, громко воя. Потом произносит, зловеще усмехаясь: — Вот вам, Кровавые люди, мясо, какое вы любите. Прыгайте, пойте, ешьте и пейте! Господин развлекается. И никому об этом не рассказывайте, если хотите и в следующий раз получать подарки.
ГЛАВА 5
Беспощаднее каннибалов. — Фотоснимки. — Фонограф. — Как снимают скальп. — С живого снята кожа. — Каннибал съедает сердце жертвы. — Дележ. — «Спасибо, я этого не ем». — Радости цивилизованных людей.Индейцы, которых охотники давно окрестили «Дурной народ» или «Кровавые люди», как правило, — кочевники. Пробовать поселить их на одном месте на такой-то широте и такой-то долготе — бесплодная фантазия. Кровавые люди ведут свое происхождение от двух племен: одно — из Британской Колумбии, другое — из Юкона. Они кочуют по Скалистым горам, нигде не останавливаясь надолго, бродят в поисках дичи, которую съедают живьем, или в поисках самой лучшей добычи из всех возможных — человека, вкус плоти которого для каннибалов особо притягателен. Сегодня их встретишь недалеко от истока реки Лайард, месяц спустя они уже на реке Пис (река Мира). На зиму антропофаги идут на юг, к реке Фрейзер и ее притокам, а потом, без всяких объяснимых причин, направляются к Юкону или к Маккензи. Не поддающиеся никакому влиянию цивилизации, совершенно равнодушные к словам миссионеров, не меняясь ни внешне, ни душевно, самые дикие среди двуногих и четвероногих существ, они перемещаются с места на место, подчиняясь таинственным законам миграции и зову необоримой чудовищной страсти — отведать человеческого мяса. Остальные индейцы — оседлые, кормящиеся плодами земли, презирают их, проклинают и вместе с тем боятся, как в наших краях боятся возчиков-цыган, которые, проходя через села, хорошенько обчищают чужие дворы. Но если цыгане ограничиваются в своих кражах пустяками — разорят сад, прихватят курочку или гуся, то Кровавые люди днем и ночью охотятся на человека: поджидают в засаде одинокого путешественника или охотника, нападают, пока ушел мужчина, на семью, расположившуюся в палатке, убивают всех, кто им подвернется под руку, и, как хищные звери, набрасываются на свою добычу, справляя чудовищный пир. Их страсть так упорна, что ни дети не чувствуют себя в безопасности возле родителей, ни родители возле детей. Достаточно пустяка, несчастного случая, перелома ноги, болезни или смерти близкого человека, и Кровавые люди задушат сломавшего ногу, прикончат больного, съедят покойника, а то пустят кровь ребенку и пируют в окружении пострадавшей семьи, пожирая кого-нибудь из близких. Впрочем, их обычаи напоминают обычаи краснокожих Северной Америки, на которых они и внешне смахивают — те снимают с жертвы скальп[54] и предают несчастного самым изощренным пыткам. Таковы вкратце дикари, встреченные сэром Джорджем Лесли в самом начале его охоты на бигорна в Скалистых горах.
Когда носильщик-индеец упал, подстреленный американцем, раздались кровожадные вопли; бедняга, попав в руки каннибалов, напрасно звал на помощь. Несчастный, верой и правдой служивший европейцам, недавно под влиянием канадского священника принявший христианство, напоминает о своей безупречной службе, взывает к белым людям во имя Христа и в качестве последней меры осеняет себя крестным знамением. Сэр Джордж наблюдает эту сцену, чуть усмехаясь и слушая американца, который переводит ему с диалекта душераздирающие жалобы несчастного. Джо побледнел, взволнованно следит за происходящим, но не выражает своих чувств, как и положено слуге в почтенном доме. Один индеец из племени Дурной народ, похожий на вождя, с отличительным пером птицы дрофы в волосах, крепко собирает в кулак левой руки волосы носильщика, в правую берет нож… Англичанин поднимает фотоаппарат, похожий на случайно попавшуюся коробку, размером не больше шапки, без треножника, без накидки. Щелк! Мгновенный снимок в тот момент, когда нож вычерчивает кровавую линию вокруг лба, за ушами, на затылке; на лице жертвы — неописуемое выражение ужаса, гнева, муки и отчаяния. Сочетание столь разных эмоций являло взору нечто пугающее; ни карандаш, ни кисть не в силах этого запечатлеть — только мгновенный снимок. Люди, расположившиеся вокруг, представляли собой зрелище странное и страшное: каннибал снимал скальп, остальные, наклонившись, положив ладони на колени и высоко задрав головы, оглашали лес громкими криками, от яркого солнца глаза и зубы дикарей сверкали, а спины и руки отливали медью. — Какая жалость, — проговорил сэр Джордж, — что невозможно сделать цветное фото! В этот миг ему приходит в голову чудовищная мысль, и он кричит, словно каннибалы могут его понять: — Остановитесь! — Кровавые люди, остановитесь! — как послушное эхо повторяет в переводе американец. Индеец, начавший уже стягивать скальп, замер. Для несчастного это приказание прозвучало как последняя надежда, ему показалось, что белый господин, перед которым клонили головы власти Камлупса, силой своей авторитета, а может быть и оружия, спасет его от мучительной смерти. Носильщик, уверенный, что пал жертвой случая, не может даже представить, что произошло на самом деле. Не теряя времени, сэр Джордж положил на землю аппарат, достал из таинственного ящика круглый предмет пятидесяти сантиметров длиной, тридцати в диаметре; в центре — черная, блестящая, вроде бы эбонитовая трубка с отверстием, в которое с трудом прошло бы яйцо. Сбоку — маленькая слоновой кости кнопка. Больше снаружи нет ничего. Англичанин вкладывает этот аппарат в руки лакея и объясняет: — Вам надо только держать это, поворачивая раструбом все время в сторону группы индейцев. Если они поменяют местоположение, вы тоже поменяете направление трубы, так, чтобы она все время была направлена на туземцев. Поняли? — Да, ваше превосходительство. — А сейчас продолжайте! — приказал сэр Джордж. — Кровавые люди, господин приказывает вам продолжать. В этот момент индеец резким движением стягивает скальп; носильщик в судорогах падает навзничь. Череп сначала кажется белым, потом покрывается кровью. Дикарь, подняв руку вверх и отчаянно визжа, размахивает своим ужасным трофеем. «Щелк!» — вот и второй снимок, сделанный Его Высочеством в самый волнующий момент этого трагического зрелища. — Вот это будет правдоподобно, — шепчет себе под нос джентльмен, сверкая, как кошка в темноте, глазами. — Увеличим кадры, усилим звуки, записанные фонографом[55], и я буду обладать необыкновенным, да, необыкновенным документом. Обряд продолжается, и аристократ, стараясь ничего не пропустить, вставляет в фотоаппарат две новые пластинки, заменив ими отснятые. Носильщик лежит на спине — из-за простреленной ноги ему не подняться. Он пытается открыть глаза, залитые кровью, пытается шевелить руками, но их крепко держат его мучители, и кровь красной скатертью опускается вниз до шеи, при каждом стоне бьет изо рта фонтаном, к стонам прибавляются булькающие звуки. Разгоряченные всем происходящим, возбужденные присутствием белых, что как бы оправдывает акт каннибализма, Кровавые люди растягивают, так сказать, удовольствие: судорожно кривляясь и вопя, выкалывают несчастному глаза, отрубают один за другим пальцы на ногах и руках. Сэр Джордж время от времени меняет в фонографе восковые пластинки, когда они уже заполнены знаками, изображающими звук; чудо цивилизации с устрашающей точностью регистрирует чудовищную какофонию. Фотопластинки тоже меняются одна за другой, так, чтобы снимки соответствовали крикам каннибалов и стонам жертвы. Фотоаппарат запечатлевает все видимое, фонограф — все слышимое, он регистрирует самые неожиданные, самые неповторимые звуки. И сэр Джордж в который раз повторяет, что у него будет документ высшей ценности, поскольку фотоснимки прекрасно проиллюстрируют фонограмму. Фотокадры, увеличенные и показанные проектором в натуральную величину, звуки, записанные и воспроизведенные усилителем, будут сопровождать фильм, и зритель, жаждущий узнать, как это бывает на самом деле, сможет увидеть и услышать то, что сейчас видит и слышит сэр Джордж, — иллюзия присутствия будет полной. А ведь есть неженки стиля «конца века», которых пугают подобные спектакли! Нет, какая все-таки удача добавить к охоте на бигорна и к захватывающей рыбной ловле нечто такое, что будет существовать долго. Пока умирает отданный на съедение индеец, довольный джентльмен повторяет, что жить очень интересно и путешественник всегда получает компенсацию за свою усталость и разные опасности. Ужасная сцена подходит к концу. Обескровленная жертва хрипит. Вождь с пером дрофы в волосах, повернувшись к белым, понимая, что на него смотрят и, может быть, им восхищаются, высоко вскидывает голову, словно говоря: «Вы еще увидите!» Дьявольски точным ударом он всаживает в грудь носильщика нож, подрубая хрящи и кости, потом орудует ножом с другой стороны, отделяя кожу и мускулы от костей, наконец, открывает полость, где еще дышат легкие. Ужас! Сердце продолжает биться. Опьяненный видом и вкусом крови, индеец запускает руку в разверстую грудь, вырывает сердце и впивается в него зубами. В наступившей на миг тишине отчетливо слышен характерный звук: щелк! щелк! Сэр Джордж сделал еще два снимка, и, кажется, удачно выбрал момент, Его Высочество прямо сияет. Во время этой сцены он буквально преобразился, став совсем не похожим на того сдержанного джентльмена с опущенными плечами, с потухшим взглядом и презрительной усмешкой на губах. Глаза горят, грудь расправлена, губы от волнения движутся, он с трудом сдерживает дрожь в ладонях. У высокой цивилизации, как и у дикого варварства, есть свои «Кровавые люди». Сэр Джордж, взволнованный больше, чем хотел показать, поистине наслаждается этим чудовищным состоянием опьянения, как и два его слуги, те, правда, в меньшей степени. Англичанин Джо, нервы которого поначалу не выдерживали, постепенно тоже проникся интересом к развертывающейся драме, может быть, потому, что был склонен к жестокости по своей натуре, может быть, инстинктивно подражая хозяину, разделяя его пороки так же, как иногда в европейских домах слуга донашивает одежду господина, докуривает хозяйские сигары, доедает десерт. Американец Том, ковбой, для которого индеец всегда смертный враг, предается дикому веселью. Он сам мучил краснокожих, снимал с них скальп, продавая парики коллекционерам по десяти долларов за штуку, и если «джентльмена удачи» не усадили на кол, где погибли многие его товарищи, то это дело только случая. Поэтому расправа индейцев с индейцем не может его не радовать. Не вдаваясь в то, насколько грязна эта «работа», он находил ее выполненной на отлично. Муки носильщика кончились. Каннибалы поделили между собой останки, разрубленные на куски с профессиональным мастерством мясника. Большие части делились на мелкие и распределялись в зависимости от заслуг и положения в племени. Вождь, кроме всего прочего, получил мозг и руку. Сэр Джордж, довольный, что утро прошло так удачно, собирался уже уходить, как вдруг вождь, словно вспомнив о чем-то важном, ударил себя по лбу. Он начинает совещаться со своими соплеменниками, которые как будто одобряют то, что он говорит, — и голосом и жестами. Ободренный этим согласием, людоед выбирает из груды оставшегося мяса приличный кусок и на кончике ножа почтительно подносит его белому человеку, напоившему их такой вкусной огненной водой и разделившего с ними праздник этой трапезы, вместо того чтобы запретить любимый ритуал. Сэр Джордж, польщенный этим утонченным выражением благодарности, вежливо поклонился, как некурящий, которому предлагают сигару или табак, и отказался со словами: «Спасибо, я этим не балуюсь». Да, сэр Джордж пока это не ест, а в дальнейшем кто знает? Ли ведь отличный повар. Его Высочество удаляется со своими слугами, аккуратно упаковав фотоаппарат, фонограф и вложив обратно в непромокаемый футляр удочку из орешника. Объяснения по поводу исчезновения носильщика пусть дает кто угодно. Новый инспектор края не привык отчитываться перед кем бы то ни было. Подумаешь, одним индейцем меньше. Впрочем, индейцы часто исчезают. Носильщикам мало платят или не платят совсем, их плохо кормят, грубо с ними обращаются, нередко они убегают. По возвращении джентльмена уже ждал завтрак, он с аппетитом поел и приказал сниматься со стоянки. Через полчаса караван двинулся в путь, точно следуя дорогой, которая вела на северо-восток; возле Зеленого озера сделали часовую остановку, а вечером разбили лагерь под высокой скалой, поросшей густым лесом. С приходом ночи сэр Джордж не мог больше сдерживать нетерпение: удалившись в палатку, он достал пластинки, рассмотрел их при свете свечи, убедился, что вышло неплохо, и решил побаловать себя музыкой. Иначе говоря, прослушал по фонографу прекрасно записанное звуковое сопровождение ритуальной сцены. Радуясь так, словно он уже восстановил свое состояние или по крайней мере поймал бигорна, и подумав, что столь ценные документы не должны подвергаться риску во время путешествия по Скалистым горам, фотограф-любитель тщательно завернул негативы и восковые пластинки, а с восходом солнца разбудил Тома. Том без промедления отправился на главную почту Клинтона и послал ценнейшие материалы заказной бандеролью Его Высочеству правителю-наместнику края.
ГЛАВА 6
Лакей не хочет браться за другую работу. — Как сэр Джордж добивается послушания. — Джентльмен наносит удар. — На дне пропасти. — Ли становится кучером. — У края бездны. — Спасены. — Возвращение в лагерь. — Зловещий всадник. — Освежеванный человек.Отправив американца на почту, сэр Джордж вскоре спохватился и пожалел о своей поспешности. Торопясь скорее отослать «документы антропофагии», он совсем забыл о шахматной партии и даже о бигорнах. Том повез небольшую коробочку с фотопластинками и фонограммой, он вполне мог бы отправить и телеграмму. Сэр Джордж как раз подумал, что надо защитить белым офицером находящуюся под боем пешку возле королевы! Сообщить Вулфу это важное решение долго теперь не представится случая, так как между Клинтоном и Баркервиллом нет никакого почтового отделения. Жизнь теплится на этих пространствах только на постоялых дворах, куда головорезы-золотоискатели являются, чтобы отпраздновать начало работ или их завершение, то есть перед наступлением холодов или с их окончанием. Вернуть Тома и думать нечего, Клинтон на расстоянии тридцати пяти миль, что составляет шестьдесят пять с половиной километров. Кстати, стоит ли ждать ковбоя, которому предстоят сто двадцать километров пути? Решив не задерживаться больше на этом мертвом плато, где нет ни питьевой воды, ни лесов, иначе говоря ни рыбы, ни дичи, сэр Джонс отдал приказ трогаться. Горные лошади чертовски выносливы, Том отличный наездник, он догонит. Но когда запрягали хозяйский экипаж, отсутствие кучера стало ощутимым. Джо сразу энергично отказался, напомнив, что он личный лакей Его Высочества, а Ли заверещал как цесарка, боясь даже притронуться к этим четвероногим великанам, которых китаец явно побаивался. У носильщиков своя работа, другую им не предложишь. Остается гид — может быть, он согласится подменить отсутствующего кучера? — Не могли бы вы запрячь лошадей и править шарабаном, пока нет Тома? — задал сэр Джордж вопрос. — Нет, господин милорд, — флегматично отвечает канадец. — Я охотник и не собираюсь становиться слугой при ваших лошадях. Может быть, индейцы помогут вам? Жаль, что один сбежал вчера, он хорошо управляется с лошадьми. Ваши носильщики словно тают по дороге. Со вчерашнего дня уже исчезли — первый, второй, третий, четвертый, да еще три женщины, и детей сегодня не видно с утра. Вдруг их Дурной народ съел? При этих словах джентльмен вздрогнул. Неужели Перро догадывается о том, что произошло? Он, конечно, говорит правду: три носильщика с женщинами и детьми исчезли. Краснокожих осталось только шестеро. Да и они, при всей невозмутимости, свойственной индейцам, кажутся мрачнее обычного. Кровавые люди что-то рассказали? Но они больше не появлялись. А может быть, кто-нибудь из туземной обслуги наблюдал оргию каннибалов, спрятавшись за камнями? Это маловероятно, происходило все далеко от дороги, в том месте, где горный поток течет в глубокой расщелине. К тому же, устав от тяжелого перехода накануне, едва ли кто-нибудь, прервав свой отдых в лагере, отправился смотреть, как идет у Его Высочества рыбная ловля. Разве только Перро, хитрый и насмешливый, как все крестьяне. «Если бы знать точно, он недолго издевался бы надо мной», — подумал сэр Джордж и переспросил громко: — Вы отказываетесь идти запрягать лошадей? — Конечно. У вас есть слуги — пуришинель и чучело, они здесь, чтобы обслуживать вас и ваших животных. А я, чтобы помочь убить бигорна… — Ладно, я не имею права требовать от вас работы сверх ваших обязательств. Джо, идите сюда. — Чем могу служить, ваше превосходительство? — спрашивает примерный лакей, принаряженный, причесанный, начищенный так, будто он только что покинул покои правителя-наместника. — Моему превосходительству вы можете услужить, если возьмете сбрую и запряжете лошадей. — Я имел уже честь говорить однажды вашему превосходительству, что, будучи специально приставлен к вашему превосходительству… — Подчиняйтесь! — Я не должен заниматься этим низменным… — Раз! — Ваше превосходительство имеет в моем лице усердного слугу, слугу скромного, послушного… — Два! — Извините, ваше превосходительство, это невозможно, я не конюх. Услышав столь решительный отказ, сэр Джордж побледнел как мел. Не сказав больше ни слова, он с фантастической быстротой, как настоящий спортсмен, принял позу боксера, и кулаки его рванулись вперед как на пружинах. Послушались смачные удары, словно по отбивной, и сразу раздался дикий вой. Такие удары сделали бы честь и чемпиону Объединенного Королевства. Образцовый слуга с подбитым глазом, скрючившись от боли, покачнулся, попробовал защититься и чуть не упал. В Англии простому люду неведом бокс — благородный вид спорта, которому, вроде как у нас фехтованию, учат профессионалов и аристократов. — Вы хотите меня убить?! — взвыл бедняга, по лицу которого потекла кровь, забыв, кажется, впервые в жизни формулу рабской преданности, требующей обращения к его превосходительству в третьем лице. Джо пытается ответить на сыплющиеся градом удары, скорее защищаясь, чем нападая, — тут уж не до наступления. — Да, вы хотите меня убить, чтобы потом сло… Последний компрометирующий слог сэр Джордж заткнул ему обратно в глотку. Мастерски боксируя без передышки, уверенный в точности своих ударов, инспектор края бьет слугу под дых — от такого удара противник обычно надолго выбывает из игры. Несчастный захрипел, согнулся пополам, уткнув лицо в колени, и тяжело осел, сплюнув густой кровью. — Неужели этот идиот загнулся? — растерянно проговорил англичанин. — У меня дурная привычка бить смертным боем! Носильщики от страха сбились в кучу, а Перро, спокойно опершись на свое длинное ружье, проговорил, как бы ни к кому не обращаясь: — Да, с тобой, господин милорд, надо говорить держа руку на рукоятке ножа. Ничего не скажешь, клоуну — конец. — Черт возьми, тем хуже для него! — снова расхрабрился вельможа. И подумал: «Он чуть не выдал меня, а канадец сразу бы догадался, о чем речь…» Ровная площадка, на которой расположился лагерь, была на краю глубокой, не меньше пятисот метров, пропасти. Сэр Джордж, измерив быстрым взглядом эту головокружительную глубину, совершенно спокойно, неторопливо обхватил лежащего без сознания лакея, легко, как ребенка, поднес к обрыву и хладнокровно швырнул вниз. Затем подошел к позеленевшему, лязгающему от страха зубами повару. — Ну, теперь, Ли, пойдете запрягать лошадей? — интересуется сэр Джордж без малейшего волнения в голосе. Житель Небесной империи бросается к сбруе, хватает седла, уздечки, вожжи, наугад пытается надеть на мулов сбрую лошадей и наоборот, все путает и вместо того, чтобы ускорить отправку, надолго задерживает ее. Его Высочество, видя эту бестолковую услужливость, вынужден сам вмешаться, мысленно решив, что настоящий англичанин не унижает себя, занимаясь лошадьми, а запах навоза даже идет джентльмену. Ли, тараща раскосые глаза, повторяет все движения хозяина, совсем потеряв от страха голову, с трудом разбирает, какое кольцо крепится к какому ремню и какая подпруга подходит к шарабану, повозкам, вьючным животным; он обещает за два дня научиться этому искусству и, получив от хозяина фунт стерлингов на гашиш[56] — таковы чаевые у китайцев, — радостно залезает на место Тома. Перро, как и раньше, идет впереди сильно поредевшего теперь каравана. Носильщики, насытившись сухим мясом, закупленным канадцем, передвигаются, низко согнувшись к земле: их теперь меньше и ноша тяжелее. В связи с этим сэр Джордж решает сделать перегруппировку и привязать третью лошадь к экипажу вместо того, чтобы поручить вести ее кому-нибудь из носильщиков. — Ну, вперед! Перро в лихо сдвинутой набекрень шляпе, с трубкой в зубах и ружьем под мышкой легко вышагивает по поднимающейся круто вверх дороге, петляющей среди оврагов и скалистых, отвесных гор. Временами лента дороги по краю бездны становится такой узкой, что экипаж не может проехать. Тогда ее приходится расширять, навалив толстые бревна и поверх доски — получается что-то вроде помоста. При соблюдении строгой осторожности и спокойных конях настил позволяет легко разъехаться двум встречным повозкам, — даже при отсутствии ограждающих перил. Но вот лошадь, привязанная сзади к экипажу, начинает против обыкновения нервничать, пугаться. Она натягивает вожжи, продвигается с трудом, топчется на месте, разворачивается поперек, пытается встать на дыбы, словом, ведет себя не так, как всегда. А прохвост Ли, напуганный, не знающий — в отличие от наездников и конюхов, — как успокоить неповинующихся животных, начинает нервно покрикивать, приводя в движение и кнут, и вожжи, и руки, и ноги, и даже собственные волосы, завязанные конским хвостом на макушке. Мул рысцой въезжает на помост, но идущая впереди гнедая пугается грохочущих досок настила и начинает пятиться назад. Она встает поперек, оказываясь всего в полуметре от края помоста. — Стоп! — кричит сэр Джордж. Пытаясь остановить мула, китаец натягивает то правую, то левую вожжу и буквально рвет мулу губы, отчего тот, в свою очередь, начинает отступать. Лошадь, потеряв противовес, оказывается сразу отброшенной назад. Ее задние ноги соскальзывают с помоста, она из последних сил пытается удержаться передними. Почуяв под собой пропасть, животное громко, испуганно ржет, выгибается, повисает всей тяжестью на вожжах, рвет их и падает вниз. Ли, совсем перепуганный, продолжает тянуть за вожжи, мул продолжает пятиться назад. Еще два шага, и повозка, мул, незадачливый кучер рухнут с полукилометровой высоты… — Вперед! — кричит сэр Джордж, видя, что принадлежащее ему снаряжение может вот-вот погибнуть. — Вперед! Дурак! Негодяй! Китаец, ничего не видя и не слыша, воет как зарезанный. Он тоже рухнул бы в бездну, если бы железная рука не схватила мула под уздцы и не удержала бы повозку, начавшую уже скользить вниз. — Отпусти, отпусти вожжи, — злобно кричит кто-то обезумевшему от страха повару. — Олух! Растяпа! Перро! Это Перро, растолкав злорадно посмеивающихся носильщиков, успел подскочить и предотвратить неминуемую катастрофу. Едва вожжи ослабли, мул пошел вперед. — Главное, — продолжает метис, — подчиняйся животному, оно умнее тебя. С этими словами охотник, полный достоинства, возвращается на свое место во главе каравана. Три часа спустя — привал и обед близ Топорного озера. Затем, в час дня, двинулись дальше и без приключений проследовали вдоль Ножевой реки, которая вытекает из этого озера. В шесть часов уставшие люди и животные останавливаются на привал точно на уровне пятьдесят первой параллели, проехав за день не более тридцати двух миль. Оставшись без кучера и без слуги, сэр Джордж улегся спать под открытым небом, даже не поблагодарив проводника за спасение повозки и повара. Ли, как истый человек Востока, ведет себя независимо. Он ни словом, ни взглядом не удостоил своего спасителя, считая того, видно, дикарем, а Перро то же самое думал о спасенном. Канадец к тому же задавался вопросом, зачем было бросаться к мулу, и пояснял: «Мой покойный дедушка говорил, что во французской крови всегда есть что-то непредсказуемое». Восьмого июня, когда солнце осветило снежные вершины, лошади сэра Джорджа радостно заржали. Им ответила ржанием другая лошадь, еще не показавшаяся из-за поворота. — Том! Это Том! — воскликнул наш джентльмен, обрадованный, что слуга, отсутствие которого уже создавало неудобства, наконец вернулся. Перестук копыт все ближе, и сэр Джордж различает в легких сумерках под растущими вдоль дороги соснами свою золотистую чистокровку и всадника. Животное тянется мордой к ноздрям сородичей, которые вдруг фыркают и пятятся назад. — Что там еще такое?! — кричит Его Высочество, обеспокоенный, как бы снова не началась паника. — Том, давайте сюда, что вы там замешкались? Том в широкополой серой ковбойской шляпе, надвинутой на уши, с карабином через плечо, подбадривая кобылу шпорами, сидит в седле как каменное изваяние, не произнося ни слова. А лошадь, проголодавшаяся за время этого долгого перехода, нагнув голову, тянется к сочной траве. Том тоже наклоняется и застывает в позе, противоестественной с точки зрения законов равновесия. Какая странная посадка для такого, как он, наездника… Словно манекен, набитый паклей и привязанный в седлу. — Да что же это такое? — не выдерживает сэр Джордж. Откинув теплое одеяло, встав с мягкого травяного ложа, он делает несколько шагов и мобилизует все свое хладнокровие, чтобы не закричать. Слуга при помощи хитрой системы веревок привязан так, чтобы тело держалось на лошади, а ей была бы предоставлена полная свобода. Привязан… Но почему? Почему он не двигается, застыв как каменный, почему ничего не говорит? Что с Томом? Убит и привязан к лошади, которая самостоятельно догнала караван? Ударами ножа англичанин перерубает просмоленные веревки. Похоже, что они местного производства — из коры кедра. Лошадь дернулась, и Том заваливается набок, к ногам хозяина. Шляпа падает, и взору предстает обезображенная до неузнаваемости голова. С ковбоя сняли скальп? Хуже. Лицо тоже без кожного покрова, глазные впадины пусты, изо рта, лишенного губ, падает какая-то пена, щеки срезаны. Куртка слуги стала ломкой от густой запекшейся крови. С тела также содрана кожа. После зверской экзекуции ободранные ноги и ягодицы втиснуты в брюки и сапоги. Сэр Джордж, продолжая рассматривать тело, понимает, что кожа с Тома была снята сразу, причем очень искусно, — так свежуют медведя или карибу, северного канадского оленя. Руки и ноги покойного разделаны как в анатомическом театре. Обнаженные мышцы — темно-красного цвета с белыми личинками, отложенными мухами. Значит, эта таинственная чудовищная операция происходила вчера днем, ведь ночью мухи не летают. Тут инспектор края не на шутку заволновался. — Когда свежевали Тома? До или после визита на почту? — Его Высочество безо всякого отвращения засовывает руку в карман куртки, вытаскивает бумажник и находит в нем квитанцию. — Почтовая квитанция, значит, мои материалы в сохранности. Прекрасно! Ой, а это что такое? Под седлом вместо чепрака? Кожа Тома. Ну что ж! Вот и еще один документ!
ГЛАВА 7
Объяснения Перро. — Сэр Джордж понимает, что он в опасности. — Хороший совет. — Слово охотника. — Да, конечно, это носильщики. — Сэр Джордж и медведь. — Демон охоты. — В путь. — Страх Ли.Перро, услышав топот лошади, откинул одеяло и поспешил к джентльмену, подойдя как раз в тот момент, когда англичанин отдирал от спины коня кусок кожи, положенный вместо чепрака. — Что вы об этом думаете? — спрашивает сэр Джордж Лесли у канадца. — Дело плохо, сэр, очень плохо, — повторяет метис, внимательно рассматривая веревки и систему их переплетения. — Мы в опасности? — Я-то нет. Что же касается вас, посмотрим… — Что вы имеет в виду? — Пока сам не знаю. У вас есть в этом краю враги? — К чему такой вопрос? — С христианами вроде вас или меня да и вообще с белыми ни с того с сего так не обойдутся. — Не понимаю. — Нужно понять. Думаю, люди, которые освежевали вашего кучера, были обижены на него, а если они послали вам его труп, значит, вас предупреждают. Средь бела дня, на большой дороге так изуродовать белого, да еще находящегося на службе у властей, — такое не часто случается. Теперь вы понимаете… — Полагаете, это не белые изуродовали моего слугу? — Конечно нет! Белый так свою жертву не отделает — убьет и был таков, только его и видели. А индеец, когда мстит, становится диким. — Думаете, это месть краснокожих? — Бесспорно, и могу вас уверить, что освежевали беднягу живого. А глаза выдавили двумя раскаленными камнями, вложив их в глазницы, как яйцо в подставку. Говорят, это невыносимо больно. — А индейцы не могли проделать все это без всякой причины? — Никогда! Этот парень, похоже, сыграл с ними злую шутку. И повторяю, его тело отправили вам с единственной целью устрашить. Если у вас есть грех на душе, сами поймете, что это значит. — Ну я-то сумею себя защитить. — Тем лучше для вас, индейцы очень хитры. — Вы думаете, я в опасности? — Не говорю ни да, ни нет, просто не знаю. — Мы далеко от Баркервилла? — Приблизительно в семидесяти милях. — Это не меньше пяти дней. Поразмыслив, Джордж Лесли решает переменить тему разговора. — А что вы думаете об исчезновении индейцев? — По-моему, надо удивляться, что часть индейцев еще с вами. Со слугами так не обращаются. — Вы хотите сказать… — запальчиво произносит англичан, не терпящий замечаний. — Говорю, что думаю, — обрывает Перро, притронувшись рукой к рукоятке ножа. — Но если правда для вас оскорбительна, до свидания, я поступлю, как они, и оставлю вас с вашим китайцем. — Не будем ссориться. Лучше порассуждаем хладнокровно. По вашему мнению, это преступление совершили сбежавшие? — Это не преступление — месть. Это совершенно разные вещи. А чья она, не знаю, на месте событий не присутствовал. — Хорошо, Перро, не хочу быть нескромным, но ради чего вы отправились в Баркервилл? — Повидаться с племянниками, славными парнями, сыновьями моей покойной сестры Клодины Перро и ее тоже уже покойного мужа Батиста. Хочу их позвать на золотые прииски, там нужны толковые и честные люди. — Других причин у вас не было? — Нет. — Удастся ли нам встретить бигорнов недалеко от дороги, в горах между Сода-Ривер и Быстрой рекой? — Обязательно. Но путешествие плохо началось. Вы плохо обращались с носильщиками, они вас бросили, это ясно. Вы швырнули вашего лакея в пропасть. Вашему кучеру за что-то мстят… Короче говоря, с вами нет сейчас никого, кроме китайца, который родился далеко от этих мест, и меня, который ничем не может вам помочь, кроме как найти бигорна. Послушайтесь моего совета. Дилижанс[57] от Йела до Баркервилла ходит дважды в неделю. На вашем месте я попробовал бы сесть на него по пути и прибыл в Баркервилл, а оттуда снарядил бы новую экспедицию за бигорнами. Едва ли стоит добираться до Баркервилла еще тридцать часов. — А если нет? — Извините меня, но я не поставил бы за вашу голову и пяти су. — Вы преувеличиваете! — Считайте, что я ничего не сказал! — Но все-таки… — Вокруг бродят Кровавые люди, принюхиваясь к человеческой плоти. Позапрошлой ночью были слышны ритуальные крики, не иначе как они лакомились своим ближним. — А сами вы их не боитесь? — Да ни один из них не решится меня и пальцем тронуть. А вот вас, не знаю… Ведь освежевали же они американца. Дилижанс пройдет здесь сегодня, не упустите сей рыдван, как говаривал мой покойный дедушка. — А кто займется моим багажом? — проговорил сэр Джордж, почти согласившись уехать. Он не мог забыть освежеванное тело, засиженное мясными мухами. — Возьмите с собой самое ценное, а остальное оставим с китайцем и носильщиками. — А за вами они пойдут? — Как один человек. — Оставьте меня на часок, мне надо побыть одному. — Как знаете, пойду завтракать. Отважный охотник повернулся и пошел прочь, бубня себе под нос: — Что я тут делаю? Мне наплевать на этого заносчивого, злого, жестокого аристократа. Какая от него польза?.. И все потому, что я — гид, — как они говорят. Да, мы, охотники, по-рабски верны своему слову, долг — это долг. Я пообещал, что найду ему бигорна. Если англичанина прикончат, он не встретит бигорна, и тогда скажут, что Жозеф Перро не сдержал слова. Как только этот спесивец возьмет первого бигорна на мушку, я сразу скажу «до свидания». Пусть потом драгоценного сэра Лесли свежуют, режут на части, снимают с него скальп, поджаривают на медвежьем жиру, мне будет уже наплевать. Перро разговаривал с собой, как все охотники, которые, проводя много времени в одиночестве, привыкли думать вслух. Он съел добрую порцию сушеного мяса, выпил водки, раскурил трубку и, отдавшись пищеварению, продолжал размышлять: — Нет никаких сомнений, что это проделали сбежавшие носильщики. Я мог бы поспорить на пари. Уже в тот вечер, как исчез первый, у них был какой-то странный вид. Вот ведь все-таки! Я относился к ним по-дружески, а ни один не сообщил, в чем дело. Впрочем, каждый отвечает за свои поступки сам. Очень хорошо, что они ничего не рассказали. Это меня беспокоило бы. Хотя я не люблю этих ковбоев, но чтобы так его проучить! Видно, Том и его хозяин сыграли с индейцами злую шутку. Ладно, хватит, поживем — увидим. В это время наш джентльмен завтракал, запивая изрядный кусок солонины неизменным кларетом. Вспоминая, как прислуживал ему раньше Джо и что произошло с Томом, сэр Джордж ел без аппетита, подавал еду Ли. «Ехать мне дилижансом или не ехать?» — в десятый раз спрашивал себя путешественник, не зная, чему отдать предпочтение — самолюбию, запрещавшему думать о бегстве, или осторожности, советовавшей не подвергать себя опасности. Он рассеянно вынимает лорнет и подносит к глазам, как любят все путешественники, — поразительно отчетливо видны ущелья, скалы, сосновая рощица, низвергающиеся потоки и затерянные в горах,далеко-далеко тропки, неразличимые невооруженным глазом. Но в поле зрения попадают какие-то темные пятна, выделяющиеся на освещенном склоне горы, в лучах солнца они кажутся фиолетовыми. Сэр Джордж явно увидел что-то неожиданное, поразительное — он не из тех, что восхищаются просто красотами природы. — Перро, подойдите ко мне, прошу вас, посмотрите. Канадец приближается, потягиваясь, сдвинув в угол рта трубку. — Если вы не видите, возьмите мой лорнет и направьте по прямой вон к той засохшей сосне, ветви которой… — Держите свои стекляшки при себе. Я в них не нуждаюсь. Животные, которых вы там видите, — это просто семейство бурых медведей. — Бурых медведей? Вы уверены? — Если вы мне не верите, пойдите туда да посмотрите. Я уже десять минут за ними наблюдаю, они роют землю, чтобы отыскать дикий лук, который любят не меньше меда. Их четверо, так? — Да, четверо. Надо же, как вам удалось рассмотреть их отсюда? Удивительно, ведь они на расстоянии, наверное, полумили. — Держу пари, что здесь полторы мили по прямой. Воздух так прозрачен, что позволяет хорошо видеть, скрадывает расстояние. — Я доверяю вам, — вежливо, даже галантно произнес наш джентльмен, что было совсем на него непохоже. — Бурые медведи! Отличная находка для охотника… — Тут, господин, я полностью с вами согласен, — оживленно заговорил Перро, который, как все охотники Северо-Запада, обожал охоту на гризли. Да, это зверь что надо, но убить его трудно. Если не попадешь сразу в глаз, не уложишь первым выстрелом, он мгновенно растерзает вас в клочья. — По дороге две с половиной мили. Для таких охотников, как мы, хватит часа… — Извините, господин, пройти придется не меньше пяти да еще по горам, не забывайте. Предположим, три с половиной часа, ну, четыре и столько же, чтобы вернуться. — Согласен, восемь вместо двух. — Это большая разница. — Сейчас нет еще шести часов, к двум дня мы уже вернемся. — В горах ничего нельзя предугадать заранее. А у вас, как видно, чешутся руки, так хочется разделаться с медведем, не так ли? И я вас понимаю… — Так за чем же дело стало? — Я согласен, просто предупреждаю, никогда не знаешь наверняка… — Неизвестно даже, убьем ли мы медведя? — Ну тут я отвечу только, что если у вас не дрогнет при виде этих свирепых зверей рука, если вы попадете точно в цель… — Вы обещаете подвести меня к ним на расстояние выстрела? — Да, если будете выполнять мои указания. — Торжественно обещаю. — Дело серьезное. — Пойдем же скорее. Ли присмотрит за багажом, а носильщики отдохнут, пока нас нет. — Надо бы дать им немного мяса и бренди. — Дурная привычка! Но если вы так считаете, я не возражаю. — И вам советую взять с собой съестного. — А вы? — В моей котомке всегда найдется что-нибудь про запас. — А я надеюсь полакомиться отбивной из медведя. — Как знаете, в дороге каждый обеспечивает себя сам. — Да что я, ребенок? Я исходил все Гималаи, по сравнению с которыми Скалистые горы — только холмики, я размозжил там голову не одному тигру, каждый из них запросто проглотил бы вашего медведя. — Я готов, месье. Идите следом и повторяйте все мои действия: это непременное условие успеха. — Прекрасно! Сэр Джордж без промедления вынимает из металлического ящика с оружием роскошный двуствольный экспресс-карабин 557 калибра[58], изготовленный специально для него знаменитым лондонским ружейных дел мастером. К карабину прилагаются конической формы пули весом 30,72 грамма с большим пороховым зарядом — до 10,24 грамма и дальностью попадания до двухсот метров. Чтобы выдержать заряд такой силы, ружье имеет большую массу, весит более пяти килограммов. Джентльмен в двух словах объясняет Перро преимущества экспресс-пули, которая благодаря внутреннему желобку продолжает движение внутри своей жертвы и способна расширять рану почти так же, как пуля разрывная. Метис одобрительно кивает головой, рассматривает ружье как истинный профессионал, а про себя ворчит: — Мы еще посмотрим, господин милорд, как ты управишься со своим ружьем за полторы тысячи франков, посмотрим, чего сто́ят твои рассказы об охоте на тигров там, в твоих Малаях… Наконец охотники отправились в путь. Сэр Джордж больше не думал об оставленном снаряжении, словно оно стоило каких-нибудь двадцать пять фунтов стерлингов, позабыл и об изуродованном, брошенном в траве трупе Тома и о предостережениях гида. Перро отбросил все заботы, как и положено человеку, много видевшему, часто рисковавшему, прошедшему огонь, воду и медные трубы, готовому посетить дьявола и от него вернуться. Ли, объятый страхом, понимая, что остается один на один с носильщиками, которым он только что дал по приказу хозяина провизии, улегся среди ящиков и коробок, чтобы не слышать голосов, а главное — не видеть зловещих взглядов, которыми проводили носильщики англичанина и метиса, отправившихся по горной тропе.
ГЛАВА 8
Чутье охотника. — Болота в горах. — Гордость. — Приходится уступить усталости. — Медведи. — Выстрел на расстоянии двухсот шагов. — Меткий стрелок. — Звери. — Возвращаются и нападают. — Выстрелы из пистолета. — Рукопашная. — «На помощь!»Даже если вы не альпинист, но иногда путешествовали в горах, вы знаете, как трудно там придерживаться нужного направления: искомая точка то и дело исчезает из поля зрения. Сверху долины и горы видны отчетливо, все предстает как бы в обманчивой перспективе, так и хочется сказать: «Да это же совсем рядом». Скоро эта иллюзия исчезает. Сто́ит пройти небольшой участок пути, и цель уже не видна. Встречаются препятствия, издали неразличимые — то углубления, то холмы, откуда-то берутся лесные массивы и кустарники, и, например, деревья, находившиеся, казалось, в одном месте, решительно удаляются. Приходится подниматься, спускаться, обходить заросли, пробираться через бурелом, идти по дну расщелин, взбираться по крутым гористым склонам. Если у путешественника нет компаса, если солнце — спасительное светило всех странников — спряталось за тучку, двадцать раз потеряешь цель, и бывает, заблудишься — у городского человека очень плохо развито пространственное чутье. Оно есть у насекомых, птиц, млекопитающих, в совершенстве пользуются им аборигены[59]. Индеец в густом лесу, гаучо[60] в прериях, австралийский туземец в дикой чащобе, эскимос в бескрайней пустыне без всяких трудностей проходят расстояния по прямой линии, в то время как дитя цивилизации кружится на одном месте, чаще всего слева направо, описывая круги, из которых ему не выбраться. Охотники, будучи полудикарями, приобретают это чувство в результате долгого опыта — без него невозможна их волнующая и опасная профессия. Так и Перро. Без всяких усилий, не останавливаясь ни на минуту, он неутомимо, размеренным шагом идет к цели, так, словно не спускает глаз со стрелки компаса, хотя в действительности даже не глядит вперед, петляет, поворачивает, поднимается, опускается, в зависимости от того, какие препятствия встречаются на пути. Жара становится изнурительной. Появляется мошкара, особенно докучают огромные жужжащие слепни, ненасытные кровососы, которых канадец прозвал бульдогами. Подходящая кличка: крылатые вампиры не отстанут, пока не насытятся. Раз появились слепни, значит, близко болото — в Скалистых горах это не редкость. В ущельях, на плато, в долинах внезапно встречаются большие пустоши, покрытые нежной светло-зеленой травой и мхом, из-под которых выступает ледяная вода. Приходится обходить эти гнилые места, чтобы не погибнуть, как погибают в зыбучих песках Нормандии или на «мертвых» пространствах Солони. Почвенные воды сочатся тонкими ручейками, в них роится всяческая живность. Сюда приходят на водопой лоси и красные олени — их следы Перро различает хорошо. Следов бигорна нет, но зато очень много когтистых отпечатков черных и бурых медведей. Целые стаи частых в американских лесах диких красавцев голубей с длинными хвостами поднимаются в воздух, громко хлопая крыльями. Лесные куропатки и глухари, вспугнутые нашими путешественниками, перелетают с дерева на дерево, с любопытством посматривая на охотников. Куропатка еловых лесов, величиною больше глухаря, уже вывела птенцов и отважно их защищает, бросаясь навстречу опасности, взъерошив перья и загребая крылом по земле, совсем как домашние куры. — Не бойтесь, мелкота, мы оставим вас в покое, — говорит метис грубоватым, но нежным голосом. И, обернувшись к вспотевшему англичанину, спрашивает: — Может быть, сердце подсказывает вам, что нужен отдых? — Если вы устали, я согласен, — отвечает сэр Джордж. — Я? Устал? — рассмеявшись, бросает канадец. — Шутите, сэр? Предлагаю привал, потому что вы тяжело дышите. Знаете, самолюбие здесь ни при чем. Мы не прошли еще и половины пути, а впереди подъем. — Вперед! Куда вы, туда и я. Перро промолчал, но губы его дрогнули в иронически-хитрой улыбке. Скалы, овраги, горные потоки, непроходимые заросли, снова потоки, снова заросли, овраги и скалы. Жара уже нестерпимая, и сэр Джордж наклоняется к ручью, чтобы напиться, и про себя злится на этого метиса, такого же свежего, как в начале пути. Перро, конечно, немного кокетничает своей выносливостью, но самое непостижимое, как он ориентируется в этом хаосе. Карабин на плече, рука в кармане, а вторая свободна, он словно прогуливается, с легкостью юноши преодолевая препятствия, такие трудные для англичанина. Походка Перро легка — и на острых скалах, и средь колючих кустарников, и на оползнях, и по заболоченным лесам, где нога по щиколотку погружается в жижу и где сэр Джордж, вспотевший, запыхавшийся, идет, спотыкаясь и изнемогая, поддерживаемый только своей непомерной гордыней. А Перро впереди, принюхивается к воздуху, любуется белками, прыгающими в ветвях сосны, дятлом, вытаскивающим из ствола каких-то темно-золотистых насекомых, стайками стрижей, которые гоняются друг за другом и ныряют в световые полосы, словно рой комаров под лучами солнца. Для него это приятная прогулка, он наслаждается лесом с утонченным дилетантизмом[61] подлинного любителя природы. Они идут уже три часа. Сэр Джордж, потеряв все ориентиры, не знает, где они находятся. Наверное, они уже недалеко, потому что проводник пятнадцать минут назад загасил свою трубку. — Если вы разрешите, месье, — проговорил канадец с отеческим терпением, — остановимся здесь ненадолго. Мы недалеко от места, где вы видели медведей. Если, конечно, они не ушли. Вам надо отдохнуть, успокоиться, чтобы сделать меткий выстрел. — С удовольствием, — еле двигая губами, отвечает Его Высочество и тяжело опускается на сваленный бурей кедр. — Вот тут посидим четверть часа. К вам вернутся силы и свежесть, словно вы только что из баки и вы точно наведете мушку. Впрочем, я буду рядом. На случай, если промахнетесь… Знаете, этого зверя надо убивать сразу или подбить так, чтобы он не мог двигаться, а иначе плохо придется. — Я запрещаю вам стрелять в того же медведя, в которого буду стрелять я. Предоставьте мне выстрелить дважды, чтобы подбить самых крупных. К тому же с вашим ружьем… — Не смейтесь над моим «шарпом», он верно служит мне двадцать лет и не разу не подвел. Да, у меня одностволка, но я попаду из нее вернее, чем вы из вашей двустволки. — Посмотрим, — приободрился сэр Джордж, презрительно поглядывая на старый карабин Перро, с поверхности которого давно сошла бронза. — Теперь вы чувствуете себя в состоянии атаковать? — Я всегда готов атаковать. — Только что по лицу вашему струился пот и ваше учащенное дыхание… — Ближе к делу. Где медведи? — В четырехстах ярдах[62] отсюда. — А как приблизиться к ним на расстояние выстрела? — А что вы называете расстоянием выстрела? — Ну, например, двести шагов. — Это далековато. — А какая вам разница, если я уверен, что уложу их? — Ни вам, ни кому другому с такого расстояния не попасть. — Спорим на пари? — Спасибо! У меня есть менее глупые способы вкладывать деньги. — Подведите меня на двести шагов, большего от вас не требуется. — Если настаиваете, следуйте за мной, но это очевидная глупость. С этими словами Перро ложится на траву, берет в зубы ремень своего карабина с только что взведенным курком, ползет по ковру из мха и хвои, так плотно прижимаясь к земле, что его не заметишь за двадцать шагов. Сэр Джордж попробовал взять свое ружье так же, но то ли ружье его тяжелее, то ли челюсти не так сильны, но ему пришлось от этого отказаться. Он двинулся вперед — причем довольно проворно — на четвереньках, скользя по земле на локтях и коленях. Охотники попали в красивейшую рощу красных сосен, разросшихся на склоне Скалистых гор. К востоку от этой рощицы на плато и находились медведи три часа назад. — Вы думаете, они все еще там? — шепчет еле слышно наш джентльмен. — Думаю, да, — так же шепотом отвечает метис, — у них сиеста[63]: наелись лука и теперь или дремлют, или играют друг с другом. До темноты косолапые едва ли отправятся дальше. А сейчас ни звука! Они поползли дальше, хвоя и мох поглощали шум движений, только благодаря этому и можно было рассчитывать на успех. — Осторожнее, — тихо произносит Перро. — Вот! Теперь вы их видите? — Вижу только темные камни. — Это не камни, а медведи, они далеко от нас и отсвечивают на солнце, как выдры. — Подползем еще, я плохо их различаю. — Возьмите очки. — Да, действительно. Вы правы, Перро, мы, пожалуй, далековато, но приблизиться не удастся — рощица кончается. — Можно ползти по открытому месту. Гризли много, они чувствуют свою силу и едва ли пустятся в бегство. — Нет, я сказал, что буду стрелять с двухсот метров, значит так тому и быть! — Это глупо. — Я отвечаю за свои поступки, вся ответственность на мне. — Воля ваша! Сэр Джордж, опершись локтем левой руки о колено, аккуратно поддерживает ружье, поднимает его, ищет цель и тихо нажимает на курок. За оглушительным шумом выстрела последовал хриплый, сдавленный, устрашающий вой. Один из медведей, лениво гревшийся на солнышке, подскочил, словно под ним рванула мина, встал на задние лапы и тяжело упал на землю. Остальные лежебоки в тот же миг вскочили, повернули головы в сторону рощицы, откуда прозвучал выстрел, — увидев среди сосен белый дымок, уверенные в свой силе, бросились все трое навстречу невидимому противнику. Охотники одновременно отбежали в сторону от места, где еще не рассеялось облачко дыма. Сэр Джордж различает за стволами силуэт сильного красивого медведя, который замер, принюхиваясь к воздуху. Улучив этот редчайший момент, англичанин с невозмутимым хладнокровием стреляет второй раз. Медведь опрокидывается навзничь, с диким рычанием пытается повернуться, подняться, раскидывая в стороны щепки, но его усилия напрасны. — Ну что? — торжествующе кричит сэр Джордж. — Что скажете на это? Перро, которого не видно, потому что он прижался к кедру, говорит: — Для любителя неплохо, но расстояние слишком велико. Два других медведя, не понимая, где враг, замерли в нерешительности в пятидесяти метрах. Один справа от Перро, второй, — слева, наискосок. Метис быстрым красивым движением вскидывает к плечу свой старенький «шарп», разворачивается вправо, прицеливается и стреляет. Выстрел совсем слабый по сравнению с теми, что раздались раньше, гильза отскакивает; открыв ствол, Перро вставляет туда новый патрон — вся операция не заняла и трех секунд. Не глядя больше в сторону рухнувшего зверя — для таких профессионалов выстрелить значит убить, — канадец обнаруживает, что четвертый медведь, учуяв его, подобрался совсем близко. С фантастическим спокойствием, словно перед ним заяц, Перро успевает предложить: — Если хотите, сэр, этот ваш… В ответ раздаются ругательства; сэр Джордж занят странным делом: прижав к себе тяжелый карабин, обливаясь потом, он безуспешно пытается открыть затвор ружья, чтобы вставить патроны. — Черт возьми! — кричит Перро. — Скорее стреляйте, вон ваш медведь, он еще жив, он поднимается, бежит сюда. Перро еле успел повернуться лицом к своему медведю — тот уже на расстоянии шести шагов. В это же время сэр Джордж видит, как один из подстреленных им медведей, наверняка смертельно раненный, но чудовищно свирепый, несется к нему. Слабенький выстрел «шарпа» раздается вторично, и Перро с легкостью, необыкновенной для человека его возраста, отскакивает в сторону, подальше от бьющегося в судорогах зверя. Медведь убит наповал. — Что же этот болван англичанин не стреляет? — непочтительно бормочет охотник, выбрасывая быстрым движением гильзу. Словно в опровержение его слов раздается слабенький выстрел, потом второй, третий, четвертый… — Револьвер! — презрительно кричит Перро. — Да это все равно, что горохом пулять! Сэр Джордж, видя, что зверь, раненный в плечо, разъяренный, с пеной на губах, выплевывая при каждом выдохе струю крови в палец толщиной, совсем рядом, бросает свое ставшее ненужным ружье и, выхватив пистолет марки «смит-и-вессон», разряжает его в хищника почти в упор. Даже при рукопашной револьвер для таких животных слишком слаб, пуля не способна пробить плотную шерсть, толстую шкуру и пятисантиметровый слой жира. Последнюю пулю джентльмен пускает медведю прямо в рот, она сносит часть языка, несколько зубов, но зверя это не останавливает. Обезоруженный, не взявший даже ножа, настолько он был уверен в своем ружье и в своей меткости, сэр Джордж, сбитый гризли, падает на спину. Изрешеченный пулями, агонизирующий[64], но все еще опасный зверь пытается добраться до головы охотника, а Его Высочество, судорожно вцепившись в шерсть, старается увернуться от раскрытой медвежьей пасти, откуда свисает изодранный в клочья, пахнущий горелым язык. Несмотря на отчаянное положение, аристократ не зовет на помощь. — Да что же ты, — кричит Перро, подбегая со своим стареньким ружьецом, — что же ты, надутый гордец, не зовешь на помощь? Не знаю, стоит ли тебе спасать жизнь. Доволен ли ты, проклятый англичанин, охотой или нет? Сэр Джордж, раздавленный медвежьей тушей, чувствуя, как когти впиваются ему в грудь, наконец сдается. Инстинкт самосохранения берет верх над его гипертрофированным[65] самолюбием. Сдавленным голосом, совсем ослабевший, он кричит: — На помощь, Перро, на помощь!
ГЛАВА 9
Помощь странная, но эффективная. — Поразительная живучесть. — Конец. — Мнение Перро о роскошных ружьях. — Отдых под соснами. — Вечер и ночь. — Лихорадка, жажда, бред. — Галлюцинации. — Хоровод призраков. — Внезапное пробуждение. — В плену.Перро откликнулся на призыв на нашего джентльмена, задыхающегося, еле живого, исполосованного медвежьими когтями. — Не поздно ли зовешь? — бурчит он. — Посмотрим, посмотрим, чем можно тебе помочь. Широкими движениями, внешне медленными, а на деле очень быстрыми, так как они точны и рациональны, метис кладет на землю заряженный карабин, вынимает нож, хватает медведя за ногу и тянет изо всех сил. Руки Перро так сильны, что противиться им не может никто — ни человек, ни животное, даже если это шестисоткилограммовый медведь. Почувствовав сзади опасность, гризли поднимает голову, выгибается и на миг отворачивается от англичанина. С невозмутимым хладнокровием Перро пускает в ход нож и точным движением хирурга перерубает связки медвежьей лапы, отделяя от нее ступню. — Пожарю на углях к обеду, — говорит он, бросая кусок, похожий на изуродованную ладонь. Медведь взревел еще громче и приготовился броситься на второго врага. А Перро уже зажал мертвой хваткой его вторую лапу. — Можешь кричать, дрыгаться, кровь из тебя все равно вытекает. Это почти невероятно: простреленный второй пулей сэра Джорджа на уровне легких, медведь истекает кровью, она течет как из двух краников — но зверь продолжает сражаться. Неправдоподобная живучесть! Перро отточенным круговым движением повторяет операцию по расчленению лапы гризли и приговаривает: — А это — на ужин господину милорду, если он не отправился в ад к язычникам-еретикам. Медведь с необыкновенным проворством разворачивается, встает на ампутированные конечности, рыча падает, пытается снова подняться, опять падает, потом, убедившись в тщетности своих усилий, ползет на брюхе, как тюлень, к канадцу, который, подняв карабин, отступает все дальше и дальше, чтобы вконец измотать хищника… — Могу прикончить тебя одним выстрелом, косолапый дурень, да пули жалко, — говорит охотник и мстительно добавляет: — Вы, звери, коварны, я рад, что вижу, как ты мучаешься. Литра три крови уже потеряно, пора тебе подыхать. Изуродованный медведь доживает свои последние минуты, начинается агония, она длится недолго, смерть приходит, когда он оглашает лес отчаянным воем. — Ну, вот, — говорит Перро, — есть неплохое мясо, можно отнести его моим братьям, несчастным носильщикам. А англичанин-то жив? Что-то он ни рукой, ни ногой не шевелит… Подумаешь, поборолся с медведем, в котором не больше двенадцати — тринадцати сотен фунтов! Сэр Джордж действительно лежит недвижим. Глаза закрыты, лицо восковой бледности. На плечах одежда разорвана, кожа вся в крови. Метис трясет его за руку и кричит: — Эй, месье, господин милорд, приходите в себя! Все кончилось, медведи убиты. У нас пять тысяч фунтов мяса и четыре шкуры на выбор. Черт возьми! Отвечайте же! Скажите что-нибудь! Да можно ли от пощечины медведя… Он меня не слышит, бедняга в обмороке, нужно дать ему выпить. Перро торопливо роется в своем мешке, вынимает оттуда флягу в плетеном футляре и вливает содержимое в рот его превосходительства. — Льется, значит, живой, — с важным видом констатирует «эскулап». Его превосходительство начинает глотать целительную жидкость, кашляет, чихает, делает глубокий вдох, открывает глаза, потягивается и, сев, спрашивает слабым голосом: — А медведь? — Вот он, — отвечает канадец, указывая пальцем на окровавленную тушу, застывшую на ковре залитых кровью сосновых иголок. — Что произошло? Я что-то не помню. — Что произошло? Ваш карабин ценой в две тысячи франков подвел вас как старое ржавое ружье за четыре франка десять су. — Не может быть! — Ну, попробуйте открыть ствол, посмотрим что вы скажете. — Попробуйте сами, я что-то совсем разбит, — жалобно говорит наконец наш джентльмен. Перро старается перевести затвор слева направо, но тщетно. — Ваши железные гильзы расширились от слишком большого количества пороха и заклинили механизм. С медными гильзами этого не произошло бы — они быстро возвращаются к первоначальному объему. — Ну, Перро, вы мастер в ружейном деле. — Похожее случилось пять лет назад у моего брата Андре на Аляске — его чуть не загрыз гризли. И тогда друг наш господин Алексей, русский, очень образованный, все мне объяснил. Надо разобрать ваш карабин, шомполом извлечь гильзы, заменить патроны. И потом… — Что потом? — Следующий раз стреляйте с более близкого расстояния и цельтесь точно в глаз — во всяком случае, когда идете на опасного зверя, способного настичь вас и растерзать. Ваш выстрел неплох для любителя, но попали вы не туда, куда надо, чтобы медведя убить наповал. — Вы недавно говорили, что выстрел хороший, — напоминает наш джентльмен, ожидая похвалы, которая потешила бы его гордость. — Неплохой, неплохой… Но вам еще надо тренироваться… до тех пор, пока вы с пятидесяти шагов не попадете прыгающей с ветки на ветку белке точно в голову! Вот так! С этими словами метис мгновенно прижал к щеке свой старенький «шарп» и выстрелил почти не целясь. Белки во множестве развились на соснах, грызя новые почки, любимое свое лакомство. Одна из них во время прыжка дала охотнику повод проиллюстрировать свое нравоучение. Убитый хорошим стрелком в движении, в момент прыжка, изящный зверек тяжело упал на землю. — Ну вот, месье, — Перро поднял за хвост белку с размозженной головой. — Я не собирался стрелять с такого расстояния, с какого стреляли вы. У каждого из моих медведей по пуле старенького «шарпа» в мозгу. А вот ваш второй… Надо отдать должное и зверю. Он неплохо поработал на ваших плечах, хотя и был еле жив… — Правда, — кивнул сэр Джордж, решаясь наконец поблагодарить спасителя. — Хорошо, что вы были рядом и пришли мне на помощь. — Бросьте, это ерунда! Поскольку я пообещал добыть бигорна, не мог же я позволить задрать вас медведю. Ну, а теперь, если позволите притронуться к вам, перевяжу ваши раны, мы, охотники, это умеем… — Не стоят они того, — бодро ответил аристократ. — Я вполне хорошо себя чувствую и сейчас хотел бы вместе с вами разделать эти туши. При этих словах он попытался встать, но, едва поднявшись, резко побледнел, закачался, вытянул вперед руки, и упал бы со всего маху, если бы Перро его вовремя не подхватил. — Похоже, здорово досталось. — Канадец стал серьезным. — У медведя лапы тяжелые. Если вы не сможете вернуться в лагерь, я схожу за индейцами и они положат вас на носилки. — Нет! Лучше побудем здесь, может, проведем тут и ночь, я хорошенько отдохну… — Как хотите, месье. Мясо у нас есть, вода недалеко, я поджарю на костре лапы, потом скажете, как они вам понравились. Перро соорудил для раненого постель из мха и сухих листьев и в одну секунду сделал ямку, где собирался пожарить на углях деликатес — медвежьи лапы. Затем ловко разделал тушу медведя, отделил филейную часть, не менее обширную, чем у быка, и пристроил ее над огнем. Когда мясо было готово, посолил его, достав маленький мешочек из своего охотничьего рюкзака, подал сэру Джорджу на острие ножа один из кусков, вторым занялся сам, мгновенно с ним управился, запил хорошим глотком бренди, раскурил трубку и, поставив рядом свой старенький «шарп», уселся отдыхать. Сэр Джордж ел безо всякого аппетита, жадно пил воду, налитую канадцем в его чашку из кожи, потом растянулся на своем лесном ложе и забылся тяжелым сном. Перро, посасывая трубку, сидел без движения, отдавшись медленному ходу времени, испытывая огромное наслаждение от созерцания леса. Радовало ощущение безграничной свободы на бескрайних зеленых просторах, уходящих за горизонт. Невдалеке поблескивала излучина реки Фрейзер — младшей сестры величественной Маккензи. Радовали тысячи негромких звуков, так хорошо знакомых охотнику — свист ветра в сосновых ветвях; шуршание насекомых, неутомимо добывающих себе пропитание в коре величавых зеленых гигантов; гортанный, резкий клекот орла, гордо оседлавшего сухую вершину красной сосны; жалобный крик ласточки, преследуемой соколом; пронзительный призыв зимородка, летящего над долиной, сверкая своими изумрудными крыльями; глухое хлопанье крыльев голубя, непрерывное потрескивание маленькой черно-голубой сороки, верной спутницы всякого зверолова и лесоруба, вечно пристраивающейся на соседнем кусте в ожидании каких-нибудь остатков пищи… Так, в блаженном оцепенении, за часами следуют часы, солнце садится все ниже, и сотни сов начинают жалобную перекличку, покинув дупла, где они прятались в течение дня. Птица «Стегай кнутом», названная так за то, что без устали, до пресыщения, до дрожи в голосе повторяет с фантастической отчетливостью эти четыре слога, заводит свою песню; гагара роняет в озеро низкие, зловещие болезненные стоны; козодой низко вьется над отдыхающим охотником. Опускается ночь. Ужин почти готов. Когда Перро извлекает из самодельной духовки медвежьи лапы — любимое лакомство охотника, — характерный запах жареного мяса диких животных смешивается с острым бодрящим запахом смолы. Против всяких ожиданий раненый отказывается есть, но настойчиво просит пить. — Немного лихорадит, — отмечает Перро, — это бывает в подобных случаях, после хорошего ночного отдыха все пройдет. Что ж, я съем обе лапы: холодные или разогретые они уже никуда не годятся. Потом канадец готовит себе ложе, еще раз дает напиться сэру Джорджу, ставит возле него кожаную чашку с водой и, убедившись, что верный «шарп» с взведенным курком рядом, устраивается поудобнее на мягкой пахучей постели. Ночные птицы и звери заводят свой концерт, опускается ночь, сквозь верхушки сосен на небе зажигаются звезды. Перро засыпает. Обычно сон охотника так же чуток, как сон животного. Он может спать как мертвый, не слыша рычания вдали хищных зверей, уханья ночных птиц, грохота бури, но сразу откроет глаза, если рядом хрустнет веточка, пробежит заяц или куница. Перро несколько раз просыпался от стонов спящего сэра Джорджа, от его лихорадочных судорожных движений, но потом волевым усилием заставлял себя снова крепко уснуть — не лишаться же отдыха по такому пустяковому поводу! Метису с помощью самовнушения отлично удавалось управлять своим сном. Ночью, где-нибудь между одиннадцатью и двенадцатью часами, когда спят обычно особенно крепко, сэр Джордж, которого лихорадило, впал в болезненное забытье, погрузился в кошмар, где сновали бесшумные призраки, едва освещенные в сумраке ночного леса голубым светом звезд. Призраки были похожи на людей, но казались выше человеческого роста, они словно плавали в воздухе, передвигаясь плавно, как тени, и приближались к поляне, где спали рядом сэр Лесли и Перро. — Это все от температуры, — успокаивал себя англичанин, — пульс учащенный, в ушах шумит, перед глазами черные мушки. Он закрывает глаза, чтобы отогнать наваждение, но в утомленном мозгу бьется предположение: а не в реальности ли все это происходит? Проснувшись минуты через три с ощущением, что спал несколько часов, сэр Джордж снова видит цепочку призраков, находит, что они похожи на индейцев, силой воли старается вырваться из забытья и констатирует про себя: «Но это не обычные призраки! Они всегда изящно драпируются в белое покрывало, ниспадающее на лицо. А вдруг это духи индейцев? Индейцы ведь не носят белого покрывала. Да нет, я сплю, у меня лихорадка, и все-таки они мне мешают, я сейчас закричу, и они сразу разбегутся». Он пытается закричать, ему кажется, что крик очень громкий, хотя на самом деле раздается лишь хриплый стон, от которого Перро оградил себя самовнушением. Внезапно призраки остановились между спящими, расположившимися на расстоянии трех метров друг от друга. Проходит то ли минута, то ли час — лихорадка лишила путешественника представления о времени. Гости с того света передвигаются, как и положено привидениям, плавно, совсем бесшумно, словно растворяясь в ночной тишине леса. Его Высочество в полузабытьи видит, как один из пришельцев берет огромную кровавую скатерть, поднимает ее, растянув на руках. — Да это же шкура медведя, что они с ней делают? Покрывают, как одеялом, Перро… Призрак действительно подносит шкуру животного к спящему метису и быстро опускает, так что вмиг проснувшийся и чертыхающийся Перро не может ее сбросить. Сон как рукой сняло! Душераздирающий крик, оглашая лес, распугивает ночных животных. Сэр Джордж чувствует, как его хватают крепкие руки и быстро связывают, прежде чем он успевает шевельнуться.
ГЛАВА 10
Большой Волк будет отмщен. — Канадец отказывается от свободы. — Столб пыток. — Традиции теряются. — Гротескный обряд. — Последнее желание. — Сэр Джордж хочет, чтобы Перро избавил его от мучений, убив один ударом. — Как скальпировали инспектора края и вырвали все зубы.— Перро, — большой вождь, — произнес кто-то гортанным голосом на языке индейцев. — Ему мы никакого зла не сделаем. — Да кто ты такой? Кретин! Предатель! — злобно ругается охотник, полузадушенный тяжелой шкурой. — Я Лось, вождь индейцев-носильщиков из Глуна-си-Куулин. — Ты паршивая чиколтинская свинья! — Пусть Перро меня выслушает! Мое сердце, как и сердце моих братьев, близко к желудку, мы помним, как ты кормил нас, мы знаем, что ты — друг краснокожих. — Тогда отпусти меня, негодный червяк! — Перро получит свободу при одном условии. — Каком условии? — Перро — большой вождь, он никогда не лжет. — И что дальше? — Пусть он даст носильщикам обещание не препятствовать обряду мести. — Какой мести? — Этот белый человек, твой спутник, приказал своему слуге убить и отдать Кровавым людям на съедение Большого Волка, того, кого белые зовут Биллом. — Кто тебе это сказал? — Я видел, как упал Большой Волк, и Кровавые люди подтвердили, что белый человек отдал его им. — Развяжи меня, чтобы я мог дышать. — Перро силен, как гризли: пусть он даст клятву не оказывать сопротивление своим братьям. — Обещаю, но дай мне поговорить с белым человеком. Правда ли, месье, — произнес охотник дрожащим от негодования голосом, — что вы приказали убить как собаку одного из индейцев и отдали его каннибалам? Сэр Джордж, связанный, с кляпом во рту, все равно не мог ответить. — Раз он ничего не говорит, значит, это правда, — продолжает Перро, — а все-таки послушай, Лось… — Слушаю тебя, брат мой, твой голос — услада для моих ушей. — Вы все здесь? — Нас девять, с женщинами и детьми, присоединившимися после того, как убийца, слуга этого белого человека, был освежеван и привязан к седлу. — Так я и думал. Как вы сюда пришли? — Идя за вами по следу. — Понятно… Вы подкрались, когда мы спали, и накрыли меня этой шкурой, чтобы не дать двигаться? — Да. — А что вы дальше собираетесь делать? — Отомстить за Большого Волка: вырвать у белого человека все зубы, скальпировать его, спустить с него кожу, вложить в глазницы раскаленные докрасна камни. Разве это не справедливо? — Это, конечно, справедливо, — отвечает охотник, который, будучи метисом, признал право на мщение, даже очень жестокое. — Но я обещал белому человеку помочь убить бигорна, дал слово. Позволь мне сдержать его, а потом делай что хочешь. — А если мы хотим подвергнуть бледнолицего пыткам сегодня же с восходом солнца? — Я буду его защищать, собрав все мои силы. — Но ты же у нас в плену, и карабина у тебя нет… — Мое слово важнее всего. Я буду его защищать… — Тогда мы тебя свяжем. — Вы мешаете мне сдержать слово. Знать вас больше не хочу. Ты, Лось, старый мой друг, вот уж не думал… — Перро — превосходный охотник, в нем течет индейская кровь, он знает, что месть нельзя откладывать. — Будь я свободен, я уничтожил бы вас, я показал бы вам, как поднимать на меня руку и мешать быть верным слову. — Перро не по своей воле не сможет сдержать обещание, он ведь в плену, не в силах сделать ни одного движения. В конце концов он простит носильщиков, которые любят его и будут любить всегда, потому что он добрый, отважный, заботливый. Он не захочет стать врагом носильщикам из-за англичанина, который заодно с Кровавыми людьми. — Ну, хватит болтать, связывайте меня да покрепче, потому что, если вырвусь, многим не поздоровится. А вам, господин милорд, крепко достанется с восходом солнца, хотя вы и доводитесь братом правителю-наместнику этого края, получившему власть от Ее Величества королевы. Разве так обращаются с простыми людьми? Что ни день то труп, сразу поверишь моему другу Лосю, что вы с Кровавыми людьми одного поля ягода. Пока длился этот монолог, индейцы, несмотря на темноту, крепко связали Перро, сохранив, однако, ему — при сложной системе узлов — некоторую свободу движений. Сэр Джордж с той минуты, как открылась страшная реальность происшедшего, хранил презрительное спокойствие. Он разобрал несколько индейских слов, выученных им во время путешествия, узнал голос носильщика, прозванного Лосем, понял, что находится во власти краснокожих, надеяться на милость которых бессмысленно. В отчаянии он ждал утра. Индейцы не обижали бледнолицего, даже окружили вниманием, чтобы предстоящую пытку он принял с ясной головой, полный сил, поили его свежей водой, подливая немного бренди, наверное, того, что он сам им недавно дал; прикладывали к ранам компрессы, смоченные в жидкости, секрет которой был ведом только им. Джентльмен сразу почувствовал облегчение. Краснокожие вели себя вроде тех цивилизованных людей, что лечат приговоренных к смерти, дают им то куриную ножку, то рюмку коньяка перед тем, как отправить на гильотину или виселицу. Перро, закончив спор с туземцами и выкурив трубку, уснул. Индейцы же уселись вокруг белого человека в кружок и застыли, не отводя от него горящих, как у диких зверей, глаз. Женщины же и дети уснули на груде мха и ароматной сосновой хвои — они устали за день, когда надо было то быстро идти вперед, то возвращаться, чтобы не насторожить охотников. Скоро голоса птиц возвестят утро. Розоватые лучи уже освещают снежные вершины, играют на стволах деревьев, словно охваченных огнем. Бодрящий запах смолы смешивается с легким ароматом цветов, чашечки которых начинают открываться при первом поцелуе солнца. Куропатки и глухари выводят на высокой ноте свою песню, белочки носятся как безумные, насекомые жужжат: лес пробуждается, небо светлеет — жизнь кажется прекрасной. Индейцы уже бродят по поляне с присущей им отрешенностью. Они умываются, едят и — что удивительно — раскрашивают себе лица яркими красками, как их братья из Соединенных Штатов. В результате многолетней службы у белых миролюбивые носильщики потеряли часть своих привычек, одеваются на европейский лад, отказались от кочевого образа жизни и не раскрашивают больше себе лица, за исключением особых случаев. Принятые на государственную службу, они полгода проводят на перегоне от Йела до Карибу, где не носят оружия, разве только нож и американский топорик вместо древнего томагавка. Потом возвращаются в свои деревни, иногда довольно отдаленные, и остальную часть года живут со своими семьями, промышляя рыбной ловлей, охотой, покупая продукты на заработанные деньги. Этих краснокожих уже не назовешь дикарями, они оседлы, знают, что такое сберегательный банк, профессия, рабочий день, и охотно помогают промышленникам, путешественникам, золотоискателям и лесорубам, мирно с ними сосуществуя. Они легко переносят скудость пищи, не обижаются на тумаки и грубые слова. Вывести их из терпения и уравновешенности может только отвратительное преступление, нарушающее все нормы гуманности. Именно таковым оказался поступок сэра Джорджа. На этот раз индейцы пренебрегли законами послушания и отбросили страх возмездия за расправу над белым. Жестокость мести должна равняться жестокости преступления англичанина или даже превзойти ее. Брат главного начальника правителя-наместника края умрет в страшных мучениях, а мстители пустятся в бегство и, спасаясь от конной полиции, доберутся, если смогут, до ледовых долин Лабрадора, до неприветливых земель Аляски. Ради торжества справедливости они откажутся от спокойной жизни, какой живут со времени появления на их земле белых, и станут беглыми изгоями, про́клятыми, за голову каждого из них будет обещано вознаграждение в десять фунтов стерлингов. Перро проснулся последним, подкрепился, съев три килограмма холодного филейного мяса, крупно порезанного и насаженного на палку одним из индейцев. Метис внимательно смотрит, как готовится казнь, и ворчливо все критикует, замечая, что здесь не чувствуется военного опыта и, видно, нет специалистов по казни. Он презрительно говорит: — А как можно было бы все обставить! Во времена моей молодости, когда индейцы собирались казнить пленника, об этом знали все племена на расстоянии двух миль. Тогда краснокожие не ведали усталости, их песни оглашали дали, всю ночь жгли военные костры, плясали до боли в спине, пили до умопомрачения. Пленнику позволялось оскорблять своих палачей, высмеивать их за отсутствие воображения. Женщины и дети превосходили в жестокости мужчин. Они придумывали разные фокусы — то с волосами, то с ногтями, то с обнаженным нервом, то с куском висящей кожи — трясли, дергали, скручивали, рвали. А тут что я вижу? Поджаривать англичанина, придушенного медведем, да на это уйдет от силы пятнадцать — двадцать минут, а потом — привет, все кончится. Разве вы умеете продлевать пленнику жизнь, как умели раньше племена сиу, крикливые или толстопузые? У вас ни ружей, ни стрел, нет даже томагавка, вы не можете часами издеваться над пленником, щекоча его то дулом карабина, то стрелой, то лезвием топора, чтобы каждый раз он думал, что это последняя его минута, и в конце концов сходил с ума. Рисуя такую страшную картину, канадец еще больше усиливает свое недовольство, а носильщики тем временем все подготовили к казни — и правда, незамысловатой. Уложив у одного из деревьев связки сухих и сырых веток, приготовив канаты из коры кедра, они принялись лакомиться мясом медведя и класть последние мазки краски на лицо. Это совсем вывело охотника из себя. — Ради чего так мазюкаться? — пожал он плечами. — Все равно вы будете лишь карикатурой на настоящих индейцев, а ваша пытка — карикатурой на казнь. Каково, однако, будет мнение о казни самого белого человека, когда бывшие слуги начнут «работать» над его драгоценным телом? Решающий момент наступил. Связанного сэра Джорджа перенесли к дереву, превращенному в столб пыток. Его прикрутили к стволу, с которого срезали ветки, бросив их в костер. Англичанин, хоть и бледен, проявляет выдержку. Перро с удовлетворением заключает: — Смотрите-ка! Защищая честь белой расы, он держится молодцом. Индейцы тем временем запевают на своем языке песню, обращаясь к белому человеку, упрекая его за участие в гибели Большого Волка. Сначала они поют хором, потом слышно соло, потом снова хор, снова солист. Канадец неуважительно зевает: — Еще раз то же самое? Зачем тогда было разукрашивать себя как воинам? Э, кажется что-то новое. Песня кончилась. Лось, которому положено как вождю выполнять роль палача, подходит к жертве и начинает разыгрывать первую часть ритуала казни. Женщины и дети воют фальшивыми голосами, без подъема, скорее просто чтобы распалить самих себя. — Никакого эффекта, — замечает Перро, — но, может быть, первая капля крови хоть немного вас возбудит? Когда сэр Джордж видит Лося, подходящего к нему с большимметаллическим крюком, чтобы рвать по очереди зубы — резцы, клыки и коренные, он обращается к метису слабым голосом, но вполне членораздельно. — Перро, — передайте правителю-наместнику бумажник, лежащий в боковом кармане моей куртки. — Обещаю, слово охотника! — Если сможете освободить руки, прошу вас выстрелить мне в голову, чтобы избавить от пыток этих дикарей. — Хорошо, месье, пытка предстоит долгая, хотя индейцы кажутся мне достаточно проворными. — Прощайте, Перро! — Прощайте, господин милорд… Мне жаль, что я не сдержал слово и не показал вам бигорна, но, сами видите, я связан… — А, что уж об этом думать! В нарушение индейской традиции, согласно которой пленник пользуется полной свободой слова, Лось грубо прерывает прощальную речь его превосходительства, сжав ему горло. Сэр Джордж, полузадушенный, посиневший, выкатывает глаза, из открытого рта язык свисает как у утопленника. Женщины и дети понемногу возбуждаются и пронзительно визжат. Удушающим приемом Лось заставляет пленника разжать челюсти, до этого плотно сжатые. Теперь он может ввести крюк в рот несчастного. Отклонившись назад, вождь тянет изо всех сил. Черт возьми! Зубы совсем не держатся! Палач падает навзничь, потрясая какой-то странной штукой, зацепленной крюком. Нечто розовато-белое с металлическим блеском. На крюке — зубы, сразу две челюсти, сильные, как у хищников, они поддались легко, без единой капли крови! Индейцы переглядываются — к удивлению примешивается что-то вроде страха. Белому человеку, кажется, совсем не больно. На его поджатых губах даже играет ироническая улыбка, вызванная этой трагикомической ситуацией, посеявшей смятение среди дикарей, никогда не видевших искусственных зубов. Мстители, панически боясь всего необъяснимого, думают, что вмешалась сверхъестественная сила. Лось хочет понять, в чем дело; в наступившей тишине он снимает с крюка двойную челюсть, но внезапно издает глухой крик и сильно трясет большим пальцем — пружина в челюсти соскочила и сумела его «укусить»… Зубы белого кусаются на расстоянии. А белый человек дьявольски посмеивается. — Нет, черт возьми! Смеется тот, кто смеется последним! Лось отбрасывает челюсть, слегка его прикусившую, и, взбадривая себя криком — поскольку очень напуган, — бросается с ножом к сэру Джорджу, чтобы снять с него скальп. Он грубо захватывает левой рукой густые, длинные каштановые волосы и поднимает свой нож, чтобы сделать надрез вокруг лба, на висках, затылке и по щекам. Одна мысль о такой пытке приводила в трепет самых бесстрашных, а англичанин пронзительно хохочет — смелость, граничащая с безумием… — Что, черт возьми, происходит? — бурчит Перро в замешательстве от инцидента с искусственной челюстью. Разъяренный этим смехом, звучащим как самое сильное оскорбление, Лось поднимает нож, чтобы сделать надрез на лбу. Новый взрыв смеха, еще более раскатистого, издевательского, выводит его из себя. Оттягивая левой рукой кожу, чтобы удобнее было подрезать, он вдруг чувствует, что скальп уже у него в руке, скальп белого человека с волосами и кожей… Кошмар! У джентльмена голова лысая, как тыква, а он продолжает смеяться, не потеряв ни капли крови! Обезумев от страха, весь дрожа, Лось бросает нож и скальп рядом с челюстью и, охваченный ужасом, никак не может понять, что же это за странный человек, разымаемый на куски без единого стона или хотя бы слова, без капли крови.
ГЛАВА 11
Страшная пытка оборачивается фарсом. — Вмешиваются женщины. — Вдова Большого Волка. — Устоит ли белый перед огнем? — Сэр Джордж над костром. — Вмешательство Перро. — Возвращение. — В лагере. — Изумление канадца. — Сэр Джордж помолодел на десять лет.Мозг примитивного человека не расположен к вдумчивому анализу. Сохраняя основные, элементарные понятия, он подобен мозгу ребенка, испытывающему инстинктивный страх перед любым непонятным явлением. Аборигена, настроенного на выполнение простых действий, обеспечивающих, как и у животных, жизненные функции, ставит в тупик любое таинственное или просто необычное явление, — таким образом область сверхъестественного расширяется за счет предметов, рожденных развитием цивилизации. Человек, бесстрашно отражающий нападение медведя или бизона, теряется и дрожит от страха, стуча зубами, когда видит, как падает огромное дерево, подорванное динамитом, или когда прикладывает ухо к телефонной трубке. Не пытайтесь ничего объяснять туземцу, первый раз встречающемуся с каким-нибудь гениальным или совсем простеньким изобретением цивилизации. Он все равно будет растерян, напуган и тем больше, чем более неожиданным окажется объяснение. В этот момент его можно убедить в самых невероятных вещах, внушить самые абсурдные предположения, он воспримет все с полным доверием, как человек совершенно лишенный скептицизма[66] и уверенный, что следствие куда важнее причины. Можно понять поэтому, какой ужас испытал Лось и все носильщики, готовившие для сэра Джорджа Лесли обычную пытку. Скальп, снимающийся сам собой без боли и без капли крови — разве это не сверхъестественная сила? Обе челюсти, отделившиеся вроде бы как сами по себе, — разве это не причуды потустороннего мира? Скальп ведь прочно держится на черепе, чтобы снять его, нужны и сила и мастерство. А какие муки испытывает жертва! Даже один зуб удаляют с болью — что же тогда говорить о челюстях с тридцатью двумя зубами? Ничего подобного еще не видели в этом краю — от Полярного круга до границы Соединенных Штатов. Это что-то новое, неслыханное, таинственное в полном значении слова. Человек, перенесший двойную пытку, должен быть сломлен, раздавлен страданием. А тут ничего похожего! Он скорее возмущен, оскорбляет своих палачей. Что делать? Как быть? Лось в пыточном деле любитель, ему не приходилось учиться этому ремеслу там, южнее сорок девятой параллели, у виртуозов скальпирования — индейцев из племен сиу, команчи, Змеи или Черноногих. Вождь в замешательстве. «Как быть, — похоже, спрашивает он себя, — продолжать или прекратить? Стоит мне потянуть руку бледнолицего, и она отвалится как засохшая ветвь. Ногу выдерну просто как корень. Белый разломится на куски, но не будет ни страдать, ни кричать, не потеряет ни капли крови. Что же это за человек? И человек ли это? Я боюсь, мне страшно! Я ведь только бедный индеец, пришедший отомстить за своего убитого брата. Лучше бы мне совсем уйти отсюда…» Мы задерживаемся так долго на этом моменте, чтобы понять психологию вершащего месть дикаря. Замешательство длилось не больше двух минут. Но как переменились краснокожие! Какое смятение на лицах! Прервана песня, прекратились ритуальные танцы, никто не кричит, не угрожает, не потрясает ножом. Казнь не удалась! Сэру Джорджу повезло: не было среди индейцев настойчивого человека. Тот бы проверил своим ножом суставы рук-ног пленника и убедился бы, что конечности прочно крепятся к туловищу. Перро не может взирать на все это равнодушно и изо всех сил пытается освободиться от веревок. По обыкновению он разговаривает сам с собой: «Вот уж действительно любопытнее происшествие! Мои братья Эсташ и малыш Андре и мои племянники Жан, Жак и Франсуа будут хохотать до колик в животе, когда я об этом расскажу… Сейчас достаточно пустяка, и этот англичанин, самое странное существо в наших краях, окажется спасен. Но горе ему, если вмешаются женщины. Тогда он погиб». Большой Волк, подстреленный Томом и съеденный Кровавыми людьми, оставил вдову. Несчастная, конечно, очень пристрастно наблюдала за пыткой сообщника Тома. Видя смятение Лося, чувствуя, что все в нерешительности, боясь, что акт мести не будет исполнен, она гневно обращается и своим соплеменникам, упрекая их в малодушии, и заключает: — Белый человек знает секреты медицины, которая оберегает его от боли и крови. Посмотрим, сможет ли его медицина осилить огонь. Если она одолеет и огонь, мне останется только умереть. С этими словами индеанка достает из мешочка непромокаемую коробочку, трут, кусочек серного колчедана вместо кремня и небольшую полоску стали; удар по огниву, трут загорается, женщина бросает его на кучу хвои, раздувает огонь и встает во весь рост, как вакханка, радующаяся яркому пламени. Сэр Джордж, привязанный к столбу, то впадал в отчаяние, то лелеял надежду на спасение, но тут его начала бить дрожь. Будь у него на ногах протезы, прекрасное изобретение современной ортопедии, он мог бы еще побороться с костром, разожженным так некстати мстительной вдовой. Какой урок был бы для краснокожих! Не стали бы больше трогать белого человека! Первый раз в жизни Его Высочество пожалел, что нет у него ничего искусственного, кроме парика и вставных челюстей. Вокруг пляшут уже языки пламени. Нестерпимо горячо, несчастный задыхается от дыма. Его длинные, с проседью бакенбарды уже опалил огонь. Если бы не добротные длинные охотничьи сапоги, ему было бы еще хуже. Еще несколько минут, и инспектор края погибнет, задохнувшись, в страшных муках. — Но все-таки, — прогремел устрашающий голос, — я обещал ему помочь убить бигорна, а честный человек не нарушает данного слова! А ну-ка быстро, черт возьми, пошевеливайся. Перро удалось освободиться от державших его веревок, он хватает карабин, прыгает к разгоревшемуся костру, ногой раскидывает горячие ветки в разные стороны, перерезает на джентльмене веревки и кричит ему: — У вас, наверное, затекли ноги, руки, но держитесь и быстро за мной, всю ответственность беру на себя. Англичанин, весь в ожогах, еле дыша, благодарит своего спасителя, которому уже второй раз за сутки обязан жизнью. Но какой у его превосходительства голос! Какие-то стертые, шамкающие звуки, шепелявые, свистящие согласные, странные движения языка и челюстей. Перро недоумевает — где же повелевающий резкий тон? Где слова, стегающие словно кнутом? Да и сам сэр Джордж изменился — рот какого-то полишинеля, голова круглая как бильярдный шар. У охотника нет времени философствовать о причинах и следствиях этого внезапного старения. Индейцы, оправившись от удивления, похоже, собираются оказать канадцу сопротивление, считая его вмешательство несвоевременным. — У меня есть револьвер, — шамкает сэр Джордж старческим голосом, словно во рту у него каша. — Я могу дюжину уложить на месте. — Не надо никого убивать, пожалуйста. Если погибнет хоть один краснокожий, за нами погонится целое племя, и тогда костра не избежать. Дайте я с ними переговорю. Понимая, что без помощи проводника ему не спастись, аристократ подавляет негодование, от которого дергается его лысая голова. Ах, если бы можно было дать себе волю! С каким кровожадным наслаждением выбирал бы он себе жертву за жертвой, и вот — за несколько секунд стрельбы из надежного пистолета — куча трепещущей плоти… Перро беседует с индейцами, то убеждает их, то пугает, объясняет, что вина сэра Джорджа невелика, он был лишь наблюдателем, а не участником. К тому же нельзя забывать, что белый человек — брат правителя-наместника, которой наверняка пустит в ход машину мести, если его превосходительство пострадает. Носильщики слушают канадца в напряженной тишине, сгустившейся и от неутоленной злобы, и от мистического страха. Они не прерывают его и не угрожают. Это уже хорошо. — К тому же, — завершает Перро, — белый человек знает секреты медицины, которая делает его нечувствительным к вашим пыткам. Вы же видели? Да, я затушил костер, но он и против огня имеет медицинское средство. На поясе у него маленькое ружье, стреляющее без остановки, он мог бы всех вас перебить, он стрелок меткий! Отпустите нас и оставайтесь здесь, мяса вам хватит дней на восемь, ешьте этих медведей, я вам их дарю. А ну, отойдите! — гремит Перро и выставляет вперед ружье. Сэр Джордж выхватывает пистолет и с грозным видом встает рядом. Индейцы начинают отступать, устрашенные этим необыкновенным человеком, который, несмотря на пытки, сохранил свои силы; лысый череп и висящие щеки внушают дикарям суеверный ужас. Наш джентльмен успевает подобрать с земли пробковый шлем, весь помятый, но пригодный для того, чтобы прикрыть лысину. Поднял он и экспресс-карабин, лежавший возле его ложа, глазами ищет что-то еще. Черт возьми! Парик и челюсть он готов вернуть силой. Увы! Оба мастерски сделанные предметы брошены рядом с костром и погибли. Парик сгорел, а расплавившаяся, почерневшая челюсть ни на что больше не годна. Аристократ страшно возмущен — выставлены для всеобщего обозрения его лысина и беззубый рот! Он, наверное, набросился бы на туземцев, если бы не помнил о предупреждении Перро, не советовавшего вызывать гнев всего племени. Носильщики, понимая, что против них вооруженные охотники, силу и ловкость которых они узнали еще, когда сэр Джордж был их хозяином, потихоньку отступают к густому кустарнику и скрываются там — без крика, без единого слова, насмерть перепуганные. — Вы свободны, месье, — объявляет Перро, — и если послушаетесь меня, мы немедля выйдем к большой дороге и вернемся в наш лагерь. — Я свободен благодаря вам, отважный мой охотник, — отвечает наш джентльмен с неподдельной искренностью, — я вам должен… — Это я должен показать вам бигорна, — прерывает Перро, — а не то бросил бы для выяснения отношений с несчастными дикарями, которые имеют против вас такой зуб, что он сто́ит целой челюсти. Вы мне ничего не должны. Я помог вам только для того, чтобы сдержать слово. — Ну, как хотите, — отвечает сэр Джордж, пожимая плечами. — Идите вперед, я за вами. Мне, черт возьми, совершенно непонятно, в какую сторону идти. Но ни боли, ни усталости я не чувствую. — Волнение взбудоражило вам кровь, оно полезно при разных болезнях — при лихорадке, ревматизме, зубной боли и в некоторых других случаях. С помощью шомпола старенького «шарпа» они вытащили железные гильзы, застрявшие в экспресс-карабине, сэр Джордж зарядил его на всякий случай, и охотники двинулись в путь. Дорога была долгой, трудной, но ничего подозрительного не повстречалось, индейцы не стали их догонять. В четыре часа пополудни канадец и измученный, еле волочивший ноги англичанин добрались наконец до лагеря, где их поджидал Ли с лошадьми и мулами. Как всегда нервной скороговоркой, подозревая, что хозяин недоволен, Ли рассказал, как, вскрыв предварительную бочку с бренди и пообещав — если повар правильно понял — быстро вернуться и потрясти хорошенько запасы его превосходительства, со стоянки сбежали индейцы. — Они собирались, отправив вас на тот свет, присвоить ваши вещи, — пояснил Перро. — Вполне возможно, — ответил джентльмен, зевая так, что, будь у него искусственная челюсть, она уже отвалилась бы. Сэр Джордж, чтобы окончательно прийти в себя, выпил разом две бутылки кларета, проверил содержимое маленькой металлической коробочки, находившейся в ящике с оружием, завернулся в одеяло и крепко заснул. На следующее утро метис, не знакомый с усталостью, отправился к постоялому двору, расположенному в трех-четырех милях, чтобы разузнать, удастся ли нанять носильщиков. Получив отрицательный ответ проклятого ирландца, чья шея плачет по топору, Перро к девяти часам вернулся и нашел инспектора края за столом, с аппетитом расправляющегося с завтраком, поданным ему на серебряной посуде. Здесь же стояло несколько початых бутылок. Взглянув на англичанина, охотник, которого вообще трудно удивить, — был потрясен. Спать ложился измученный, обессиленный старик. А сейчас перед ним сидел почти юноша, со сверкающими белизной зубами, каштановыми волосами, хорошо выбритый, с аккуратно подстриженными усами, еле тронутыми сединой. — Ну, что, Перро, нашли помощников? Садитесь, дорогой друг, вот на этот складной стул и разделите со мной завтрак. Голос, несомненно, сэра Лесли. Но что случилось? Англичанин помолодел на десять лет. Видя, что гид не может прийти в себя от изумления, его превосходительство улыбнулся, как хорошо воспитанный ребенок, и сказал доверительно: — В маленькой коробочке была запасная вставная челюсть и новый «скальп». Обгоревшие бакенбарды я сбрил и немного подровнял усы. Вот и весь секрет моего превращения. Но держите это в секрете, Перро, у меня есть такая слабость — я хочу всегда выглядеть молодым. Три дня спустя они прибыли в Баркервилл, и канадец, поскольку срок контракта истек, сразу поехал к себе, на прииск, где его ждали племянники и где необходимо было присутствовать, так как дела не ладились.
Конец первой части

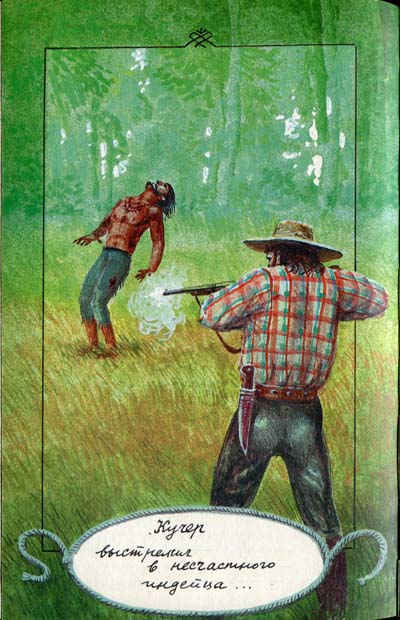






Часть вторая НА ЗОЛОТЫХ ПОЛЯХ КАРИБУ
ГЛАВА 1
Золото, найденное в Британской Колумбии. — Величие и падение. — «Свободная Россия». — Простая, но гениальная мысль. — Тряпичник золотых россыпей. — Процветание. — Мрачные дни. — Зависть. — Перро-президент. — Его помощники. — Почему необходимо разбогатеть. — Колонизация по-новому.До 1856 года в Британской Колумбии почти не было представителей белой расы. В этой прекрасной, богатой, плодородной стране иммигранты[67] не задерживались, спеша к западным берегам Америки и особенно в Калифорнию, находившуюся тогда в самом расцвете. Внезапно распространился слух, что индейцы нашли в долине реки Фрейзер крупинки золота. Сразу набежали золотоискатели, исследовали песок по берегам Фрейзера и впадающей в него реки Томпсон, обнаружили в нем крупинки или пылинки золота, устроились здесь, принялись за разработки и вскоре разбогатели. Все новые и новые группы старателей поднимались вверх по течению до района Карибу, расположенного в верхней петле реки Фрейзер. На этих территориях драгоценного металла оказывалось еще больше. Вот тогда и начался массовый прилив золотоискателей, «наступление», «атака» 1858 года, которая длилась семнадцать лет. Край, недавно еще безлюдный, заселился благодаря золотой лихорадке как по волшебству. Все новые и новые пионеры англосаксонской расы обследовали земли на границе Соединенных Штатов и Британской Колумбии. Два года спустя тут было уже сорок тысяч жителей, не считая вездесущих китайцев. Добыча золота быстро росла: сначала его намывалось на двадцать, двадцать пять, тридцать, а потом уже и на тридцать пять миллионов франков в год. Постепенно, однако, пески, эксплуатируемые независимыми предпринимателями, имевшими небольшие концессии, истощились. Из-за этого, а также из-за сурового климата, трудностей с дорогами и питанием объем золотодобычи резко сократился, и в 1888 году в пересчете на деньги составил в денежном выражении всего три миллиона двести тысяч франков. Колумбию к этому времени населяло сто тысяч жителей белой расы англосаксонского происхождения, привлеченных сначала золотом, а потом открывших и другие богатства страны, разработка которых более легка и выгодна[68]. С золотыми приисками вообще связаны всякого рода трудности — надо учитывать и протяженность реки, и относительную истощенность золотых копий, и дороговизну рабочих рук, и трудности обустройства. На шесть-семь месяцев в году разработки приостанавливались из-за сильных холодов, от которых замерзает и земля и вода, так что золотоискателям не выйти из дома. Промышленность, бездействующая несколько месяцев в году, должна или приносить очень большую прибыль, или умереть. Случилось второе, когда промывка песка стала уже невыгодной для отдельных золотоискателей или небольших объединений. Оставалась, правда, добыча золотоносного сланца или кварца. Но если золотосодержащий песок требует небольшого количества рабочих рук и умеренных вложений капитала, то при разработке горных залежей необходима и техника, и солидные финансы. Одиночки-старатели, не имеющие достаточных средств, за бесценок продавали свои концессии или просто их бросали. Тогда-то и появились компании или богатые предприниматели, решительно атаковавшие кварцевые залежи, установившие гидравлические или паровые механизмы — эксплуатация природных богатств продолжалась. Недавние рудокопы утраивались в эти компании на работу; получая сравнительно высокую плату, они управляли машинами, ремонтировали их, отыскивали новые жилы, прорубали шахты, доводили породу до такого состояния, когда ее могла взять и камнедробилка. Старателями-одиночками остались только китайцы, они работали на ранее выработанных жилах, удовлетворялись средней прибылью, что отвечало их аскетическому[69] образу жизни, бережливости и выносливости. Среди компаний, поделивших между собой богатые месторождения, золотоносный кварц и сланец, выделялась одна, по-настоящему процветающая. Основанная в 1879 году (а действие в нашем романе происходит в 1886-м) она носила имя «Свободная Россия». Преуспеяние подтверждалось высокими дивидендами, получаемыми шестью ее акционерами[70], и основывалось на довольно оригинальном принципе работы этого коммандитного общества[71]. Простой, но гениальный, он был введен молодым русским, пересекшим с двумя французами край Карибу (рассказ об их приключениях вы могли прочитать в книге «Из Парижа в Бразилию по суше»). Этот русский, Алексей Богданов, знакомый с золотодобычей по своей работе в Сибири, сразу понял, в чем недостаток организации труда англичан, и догадался, как извлечь выгоду из самой этой слабости. Тогда, в 1879 году, поверхностные залежи были уже истощены, приходилось прорывать глубокие шахты и подземные коридоры, поднимать груженые тележки лебедкой и промывать пото́м породу в желобах, система которых получила название Длинный Том. Даже сильная струя воды, используемая в Длинном Томе, даже ртуть, притягивающая к себе металл, не могли обеспечить полноценную добычу: небольшое количество золота оставалось в мелких кусках породы и фактически пропадало. Алексей Богданов знал, что в Сибири отработанная порода содержит не меньше двенадцати — пятнадцати граммов чистого золота на тонну земли или песка. Значит, и в Колумбии отвалы должны содержать столько же золота. На первый взгляд не так много. Всего на тридцать шесть — сорок пять франков. Но ведь ассоциации, эксплуатирующие кварц, получают приблизительно по шестидесяти франков, добывая двадцать граммов чистого золота с тонны, и считаются преуспевающими. Русский юноша провел простые подсчеты. Во сколько же обходится тонна кварца, которую подняли с глубин и промывают в Длинном Томе? Если подсчитать плату за земляные работы, укрепление деревянными щитами подземных галерей, за труд в этих катакомбах, за взрывчатку, доставку породы к зеву шахты и потом подъем наверх, зарплату обслуживающему персоналу и так далее, то получится, что расходуется тридцать франков на каждую тонну. А во сколько обойдется работа с тонной уже отработанной породы? Не больше двух франков, потому что труд будет состоять только в том, чтобы промывать порошкообразную массу, собранную в большие терриконики[72]. К тому же дробление и промывка кусков кварца занимает в два раза больше времени, чем промывка песка. Выходит, что порода, считающаяся использованной, потому что там слишком мало металла, при дальнейшей ее переработке может принести больше дохода, чем порода первичная. Сопоставив эти цифры, Алексей Богданов пришел к выводу, что сможет извлекать из тонны сырья, от которого все отвернулись, до тридцати франков, перерабатывая за день в два раза большую массу, чем при промывке кварца. Практика вполне оправдала его предположения. Он запросил и легко получил концессию на вымытую породу, с условием не трогать целинные земли; потом, не мешкая, привез из Европы модернизированную технику. Два его друга стали равноправными акционерами и развернули масштабные работы. Конечно, акционеров-англичан, директоров и рабочих других компаний задела за живое деятельность новичка, презрительно прозванного Тряпичником, Старьевщиком. Русский не обращал на это внимания и на первых порах промывал за день до пятидесяти тонн песка и получал прибыль по двадцать пять франков с тонны, иначе говоря, тысячу двести пятьдесят франков за день. Через месяц он нанял для земляных работ побольше китайцев, модернизировал технику и начал промывать за день до ста тонн, получая прибыль в тридцать франков, или девяносто тысяч франков за месяц и пятьсот сорок тысяч франков за сто восемьдесят дней, в течение которых шла работа в первый год. На следующий год он установил новую дробильню, чтобы перерабатывать за день еще на пятьдесят тонн больше; его компания получила восемьсот пятьдесят тысяч франков за сезон, иначе говоря, пятую часть валового продукта[73] всей Колумбии в то время. Компания процветала до 1885 года, возбуждая зависть и провоцируя желание вступить в соревнование. До этого момента «Свободная Россия» лидировала. Но администрация края, недовольная чрезмерными успехами чужака и укреплением, таким образом, иностранного капитала, подстрекаемая (а может быть и подкупленная) конкурирующими фирмами, ввела новые правила для иностранных концессий, так что были поставлены под вопрос не только прибыли «Свободной России», но само ее существование. Конечно, несправедливость этого решения была очевидной, но Богданов был не в ладах с законом и не мог обратиться за помощью к своему правительству; на это и рассчитывали противники, надеясь его сломить. Верхом беззакония был документ, предлагающий русскому покинуть страну, что шло вразрез с легендарной английской гостеприимностью. Этот приказ, лишенный каких бы то ни было оснований и который Алексей легко оспорил бы и перед главным правителем-наместником, и — если понадобилось бы — перед властями метрополии[74], был сообщен ему по телеграфу. Почему? С какой целью? Не теряя ни одного дня, он отправился в Викторию, передав дела Перро, который приехал неделю назад. Став внезапно президентом административного совета, у которого в подчинении оказались инженер, директор, механики, мастера, управляющие, Перро не знал, какому святому молиться, чтобы справиться со своими обязанностями. Но двадцатого июня прибыли его племянники, которых он пригласил, когда ситуация еще была неясной, — красивые молодые парни, бесстрашные, гигантского роста, сильные и ловкие, как он, добросердечные, решительные, преданные дядюшке всей душой. Старшему, Жану, было девятнадцать лет, второму, Жаку, восемнадцать, а младшему, Франсуа, только что исполнилось семнадцать. Они, по существу, не вышли еще из подросткового возраста, но для растерявшегося Перро стали ценными и сметливыми помощниками[75]. Племянники устроились в большом деревянном доме — конторе компании, располагавшейся среди лугов и лесов, всего в двух километрах от Баркервилла. Пообедав, они принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. Возле дома снуют рабочие, в основном китайцы, курсируют вагонетки, пыхтят паровые машины, гулко, как раскаты дальнего грома, ухает дробильная установка. — Итак, дядюшка, — начал Франсуа, — вы нас позвали на помощь, чтобы сохранить прииск? — Да. — Вы боитесь, что у вас его отберут? — засмеялся молодой человек. — Ну да… Для обороны, судя по всему, достанет пока таких бойких парней, как вы, а потом приедут на помощь мои братья — Эсташ и Андре. — Вы это серьезно? Кто же позарится на эти отвалы, песок, камни, ручьи, ямы и канавы? — Лентяи, завистники, которым не дают покоя успехи «Свободной России». Это настоящий сговор, в ход идут любые махинации, лишь бы отнять у нас дело. — Вы много потеряете, дядя? — Мои деньги в монреальском банке, вы их сможете взять в случае моей смерти как наследники. Но проблема не только во мне, о себе я бы так не беспокоился. В этом деле заинтересованы мои старые друзья-французы Жюльен де Клене и Жак Арно, а также русский, организовавший эту компанию, — Алексей Богданов. Надо постараться защитить их. А чтобы вознаградить вас за труды, я хочу, чтобы и вам это было выгодно. — Выгодно нам? — Вы разбогатеете, дорогие мои. — Нам нужны были миллионы, чтобы освободить Луи Риля, — серьезно произнес Жан. — Луи Риль сидел в тюрьме в Реджайне, англичане его повесили. А теперь зачем нам деньги? — Жан, мальчик мой, ты, как я помню, хотел связать свою судьбу с отважной девушкой, спасшей тебя и мужественно разделавшейся с убийцей твоего отца. — Да, дядюшка, — племянник отчаянно покраснел, — мы сыграем свадьбу, как только вы и дядюшки Эсташ и Андре смогут к нам приехать. — И ты собираешься завести семью, не имея ни гроша за душой? — Но мы будем работать. — Конечно, я отпишу часть состояния моей новой племяннице, Эсташ и Андре — тоже. Но дело не в этом. Большие деньги нам нужны, чтобы купить в провинциях Манитоба и Саскачеван земли, которые в концессию нам не хотят отдать. Купить и потом поселить там, в нашей дорогой Французской Канаде, французов из старой Франции. — Ну, если нужно принести пользу стране, мы готовы стать богатыми. Когда необходимо приступить к делу? — Значит, договорились? Пока нет господина Алексея, которой поехал улаживать дела к правителю-наместнику, хозяин здесь я. Будете иметь дело только со мной, но меня надо слушаться. Вы согласны? — Конечно, дядя, мы в вашем распоряжении, — радостно ответил и за себя, и за своих братьев старший, Жан. — Честное слово христианина и канадца, будем вам подчиняться. — Прекрасно, мальчики. Работа, может быть, будет тяжелой, но моя власть, надеюсь, не станет для вас обременительной.
ГЛАВА 2
Племянники дядюшки Перро. — Надо организовать защиту. — Все идет хорошо. — Телеграмма на имя эсквайра[76] Перро. — Письмо эсквайру Перро. — Щедрость джентльмена. — Перро решает отправиться на охоту на бигорнов. — День получки на прииске. — Напрасное ожидание. — Бунт. — Убит директор.В это время еще была жива память о Луи Риле, о его героической попытке освободить своих братьев-метисов — канадских охотников, о его трагической смерти. Среди тех, кто рядом с бесстрашным героем участвовал в ожесточенной борьбе, которая завершилась захватом города Батош войсками регулярной армии под предводительством генерала Мидлтона, отличились старик-метис и три его сына. В жилах старика текла французская и индейская кровь. Этот человек был потомком отважных нормандских дворян[77], высоко державших знамя с золотой лилией[78]. Звали его Жан-Жак де Варенн, он приходился дедушкой Жану-Батисту де Варенну, отцу трех молодых людей, племянников Перро. Жан-Жак и его сыновья, осажденные в Батоше, держались до последнего, прикрывая отступление. Старик был убит пулей в спину предателем, открывшим неприятелю город. Жан-Батист, которого ласково, по-свойски все звали папаша Батист, умирая, завещал своим сыновья найти дядюшек по материнской линии, трех братьев Перро, давно поселившихся в Британской Колумбии. Хотя юноши были достаточно сильными и самостоятельными, чтобы не спасовать перед авантюристами без чести и совести, превратившими нейтральные пограничные земли в свою вотчину, дяди, канадские охотники, выполняя волю усопшего, принялись опекать осиротевших сыновей Жана-Батиста. Но молодые люди, с неистовством краснокожих возненавидевшие убийцу своего отца, не могли жить спокойно. Они вынашивали план мщения и одновременно пытались освободить Луи Риля из тюрьмы Риджайны. Повидать дядюшек юноши смогли уже после гибели легендарного борца за права метисов. Во всех делах братьям помогал когда-то ими спасенный Боб Кеннеди — ковбой из Америки, остроумный, ловкий на удивление, храбрый до безумия, умевший ценить дружбу и верность. Желая отблагодарить своих спасителей, Боб отправился вслед за ними в Карибу, к дяде Перро. До того, как принять участие в деятельности компании «Свободная Россия», братья Перро промышляли охотой для компании «Гудзонов залив», потом для «Американской меховой компании Святого Людовика», они были настоящими кочевниками, которые могли бы дать сто очков вперед даже Вечному Жиду. Имея большую часть года постоянную работу, Жан, Жак и Франсуа начали привыкать к оседлой жизни и редко уезжали дальше чем на сто — сто пятьдесят миль от Карибу. Такие дистанции для отважных путешественников по лесам и горам — детская забава. Во второй половине года, когда работы на прииске из-за холодов приостанавливались, юноши оставляли всю технику верным людям, а сами отправлялись куда глаза глядят, отдаваясь свободной суровой и прекрасной жизни настоящих охотников, которым необходимы и даль горизонта и волнующие схватки с дикими зверями. Братья выбирали в качестве базового центра какое-нибудь селение, реже город, чаще просто что-то вроде хутора, где располагался приемный пункт меховой компании, и лишь для собственного удовольствия совершали радиальные походы. На этот раз, то есть в 1885 году, им пришло в голову провести зиму в Камлупсе на реке Томпсон, побродить по горам и долам вплоть до самого начала работ на прииске в мае. С американской границы племянники написали дяде письмо на адрес компании «Свободная Россия», но шло оно из-за снежных заносов долго и было доставлено в Баркелвилл с большим опозданием. Канадец уже снялся с места, послание отправилось за ним в Камлупс, но в этот момент Перро гостил у своих старых друзей Медных индейцев, охотясь вместе с ними. Письмо долго ждало его в конторе вместе с десятками других, тоже ему адресованных и сообщавших о разных махинациях, замышляемых против «Свободной России». Охотник получил почту в феврале 1886 года, но, посчитав ситуацию менее тревожной, чем представала она в глазах его друзей, зная к тому же, что с прииском, покрытым в это время трехметровым слоем снега, все равно ничего не сделаешь, отправился к индейцам племени Бобров. А племянникам ответил кратко, но вполне определенно и дружелюбно, назначив встречу в Баркервилле уже независимо от дел — на начало июня 1886 года. Кто приедет первым, будет ждать остальных, — уточнялось в письме. Будучи человеком и предусмотрительным, и заботливым, дядюшка вложил в конверт чек на тысячу двести пиастров, который мог быть оплачен предъявителю в Монреале, но на всякий случай предупредил об этом своего банкира и с легким сердцем ринулся на покорение трехсот снежных километров, отделявших его от Бобров. Мы уже знаем, что, вернувшись в Камлупс, он согласился сопровождать сэра Джорджа Лесли в Карибу, знаем, какие неожиданности ждали их на этом вполне заурядном маршруте. Молодые люди давно уже прибыли в Баркервилл, но поскольку дядюшка еще не вернулся, они, чтобы не терять времени, отправились — прогулки ради — на шестьдесят миль к северу, ближе к Оминеке, что неподалеку от реки Лайард. Трудно по-настоящему оценить страсть к движению, которая владеет людьми, выросшими среди дикой природы: просторы земли и небо над головой им также необходимы, как еда. Братья встретились с дядюшкой в тот момент, когда молодой хозяин Алексей Богданов, едва вернувшись из Сан-Франциско, где провел зиму, получил совершенно непонятный и грубый приказ покинуть страну, оставив концессию. Депеша пришла восемь дней назад, с тех пор ситуация стала поспокойнее. Городская администрация перестала строить подвохи, вела себя сдержанно, почти приветливо. Если б не отсутствие русского, можно было бы подумать, что вернулись спокойные времена процветания. — Считайте, что мы принесли вам удачу, — сказал как-то Франсуа дяде Перро, наблюдая для порядка за работой рабочих-китайцев. — Может быть, правитель-наместник понял, что он не прав? Я все время об этом думаю. Этот англичанин ведь брат моего милорда. Помните, я рассказывал об этом чудаковатом аристократе. — Из этого вы заключаете, дядя… — Мой милорд здесь большой человек — исполняет функции генерального инспектора приисков. Я ему дважды или трижды спасал жизнь; может быть, он вспомнил об этом, переговорил с братом и оттого прекратились безобразия администрации? — Чем черт не шутит. — Вполне вероятно. — Вы, очевидно, правы, — воскликнули молодые люди, уверенные по своей юношеской наивности, что у сэра Лесли пробудилось чувство благодарности. Почему бы нет? Именно в этот момент, словно подтверждая самые радужные предположения, появился запыхавшийся почтальон-китаец, прискакавший из Баркервилла на муле, погоняя бедное животное за неимением кнута, наверное собственной косицей, красовавшейся на макушке гонца. — Мэтлу Пелло, — доставая из кожаного мешка телеграмму, произнес почтальон, картавя, как и все его соотечественники. Перро бросил взгляд на депешу, громко расхохотался, дал китайцу на чай пиастр, и завопил, как ребенок: — Ну, обсмеешься! Возьми, Франсуа, прочти вслух это послание. Самое время петь «Мамаша Годишон». — Эсквайру Перро, город Баркервилл, Карибу, — прочел юноша. — Я — эсквайр? Месье Алексей, обрадовавшись хорошей развязке, захотел повеселиться и со мной пошутить… Продолжай, сынок…
«Дело улажено. Его Высочество признал наши права, которые не могут быть отторгнуты. Ведите работы, как и раньше. Я остаюсь на десять дней в Виктории, чтобы возобновить контракт. Вернусь около пятнадцатого августа. Не беспокойтесь, все идет хорошо.— Против обыкновения он поставил фамилию, а не имя и не добавил дружеских слов, обращенных ко мне. Но раз все идет хорошо, не будем обращать внимания на мелочи, — отреагировал Перро. — Теперь, дядюшка, не придется бодрствовать по ночам и быть все время начеку с заряженным винчестером. — Будем надеяться… — Так куда лучше! — Да уж вдоволь поохотимся, как только завершим дела! Смотрите — кто это? — Кто-то на лошади, странно выряженный. — Вроде того пуришинеля, которого наш дворянин избыл и швырнул в овраг. Это действительно был слуга в ливрее на прекрасной породистой чистокровке. Он проехал, не задерживаясь, мимо китайца, встретившегося по дороге, остановился у главного входа, над которым возвышалась веранда, и смерил высокомерным взглядом Перро, приняв его за слугу. Слуга без ливреи! — Эй, что тебе надо, пузырь? — спросил охотник, которому надоело это чванливое молчание. Образцовый слуга, услышав презрительное обращение, раскрыл наконец рот: — Мэтра Перро. Ему письмо от Его Высочества. — Перро — это я. Давай письмо и убирайся, я уже тобой налюбовался. Пока канадец разглядывал бегущие в наклон завитками буквы на конверте — надо бы сказать, изысканный почерк, — слуга сделал перед крыльцом полукруг и удалился; на его тщательно выбритом лице ни один мускул не дрогнул. — Эсквайру Перро… Что за утро! — разразился смехом Перро. — Опять написано «Эсквайру Перро», вот уж поистине не знаешь, кем станешь! Молодые люди, услышав этот раскатистый смех, приблизились, образовав милую семейную группу. Перро вскрыл конверт грубыми, непривычными к бумаге пальцами и начал читать вслух:Богданов».
«Господин Перро. Десять дней я старался изо всех сил найти и убить бигорна. Их или нет совсем, или люди, нанятые мной, ужасно бестолковы. Все говорят — и в этом трудно усомниться, — что только вы, обладая неоценимым опытом охотника, можете вывести нас на след. Получите авансом тысячу пятьсот фунтов, если согласитесь участвовать в двухнедельном походе по Скалистым горам за животным, о котором я мечтаю. Если эти условия приемлемы, жду вас завтра в девять часов. Сразу отправимся в путь.— Вот уж утро, так утро… Милорд идет на такие траты… — произнес «эсквайр», помолчав немного. — Он не жалеет ни денег, ни красивых слов, — заметил Франсуа. — Тысяча пятьсот фунтов, или тридцать семь тысяч пятьсот французских франков… Сто фунтов, или две тысячи пятьсот французских франков в день за бигорна, охотиться на которого все равно что выкурить трубку. — Вы поедете, дядя? — Очень хочется… Подумай, сынок, приданое для твоей невесты, заработанное всего за две недели. — А как же прииск? — Ну поскольку нас оставили в покое и месье Алексей пишет, что дело улажено… А вы приглядите за работами, пока я буду с милордом. — Это, конечно, можно, но не кажется ли вам, что такой переход от крайнего беспокойства к полному доверию… — Ты осторожен, сынок, это мне нравится! Но вы, мальчики, наверное, заметили, что англичанин добавил свой титул: генеральный инспектор приисков в провинции Колумбия. Как будто хочет сказать мне: «Знаешь, охотник, я тут главный, и лучше со мной дружить». Да и потом, пятнадцать дней — это не вечность, убьем это рогатое парнокопытное и, добавив к тридцати семи тысячам пятистам франкам, выданным авансом, всего двенадцать тысяч пятьсот франков, получим кругленькую сумму в пятьдесят тысяч, которую так хочется подарить моей будущей племяннице. — Действительно, дело кажется выгодным, — соглашается Жак, а Жан, не совсем убежденный, задумчиво молчит. Перро, чей аппетит за полгода на вольном воздухе разыгрался, приводит все новые доводы, словно школьник, откладывающий фатальный[79] день возвращения в школу. — Директор опытный, мастера тоже. Рабочие наняты, выработка началась еще пятнадцатого. Вам нужно будет лишь присматривать за налаженным делом, дожидаясь моего возвращения. В большом сейфе есть кругленькая сумма золотом для оплаты работ и мелкие деньги. Вот один из ключей, второй у директора, он вам даст его по моей записке, которую сейчас же напишу, и научит, как ими пользоваться. Похоже, Перро даже не ставит под сомнение свой отъезд вместе с сэром Джорджем. Для него этот вопрос решенный. Он поедет и поможет англичанину убить бигорна. Вторую половину дня дядя дает молодым людям разные практические советы: если учесть, чтоситуация выправилась, все сводится к формальному контролю, а главное — вокруг должны видеть, что акционеры на месте. Утром двадцать девятого июня Перро натер жиром лучшую пару мокасин[80], наполнил патронташ, смазал ствол старенького «шарпа», положил в рюкзак все необходимое и, тепло попрощавшись с племянниками, отправился к сэру Джорджу Лесли. Два часа спустя канадец и Джордж Лесли, сопровождаемый его новым лакеем, новым кучером и незаменимым Ли, покинули Баркервилл. Маленький отряд двинулся к северу, к лесистому и совершенно дикому плато, расположенному между Медвежьей и Ивовой реками — двумя основными левыми притоками верховья Фрейзер. Как и обещал, наш джентльмен вручил проводнику билеты английского банка на оговоренную сумму. Перро тут же передал деньги трем братьям, провожавшим его до Баркервилла. По возвращении в «Свободную Россию» приданое для будущей жены Жана молодые люди спрятали в сейф, настоящую стальную крепость, способную выдержать любую атаку. Все было спокойно. Два дня пробежали без неожиданностей. Добыча шла на полную мощность, металл прибывал в изобилии. Настал день зарплаты, первое июля. Триста рабочих — землекопов, погонщиков мулов, грузчиков, механиков, мастеров, — триста человек со всего света — китайцев, американцев из Северной и Южной Америки, ирландцев, итальянцев, англичан, людей без роду-племени, столпилось у окошечка кассы. Время идет. Уже восемь часов, более двух часов, как они ждут. Директор, друг Алексея Богданова, тоже русский, точность которого вошла в пословицу, почему-то не появляется. Это очень странно и уже выводит собравшихся из себя; они громко, на разные голоса, прибавляя ругательства, зовут господина Ивана. Им должны заплатить за пятнадцать дней по семьдесят пять франков, в среднем по пиастру за день. Это не шутка — пятнадцать дней работы, как при сухом законе: компания их неплохо кормит, но очень строга в отношении крепких напитков. А такие бесшабашные молодцы всегда испытывают жажду выпить. Поэтому день зарплаты превращается в нерабочий день, в сплошную оргию; трактирщики открывают этому люду свои погреба. — Господин Иван! Господин Иван! Где этот хитрюга директор? Он что — сбежал с кассой? Эй, господин Иван, мы хорошие парни, но наше горло, разъеденное сланцевой пылью, пересохло, пора его промыть спасительным спиртом. Давай, проклятый волчий сын, давай наши пиастры. Ты что, не знаешь, что такое ждать? Шум нарастал, алчущие сначала толкались, смеясь, потом потеряли терпение, извлекли из-под лохмотьев револьверы и начали стрелять по окнам. Жан, Жак и Франсуа, еще не столько напуганные, сколько недовольные этим шумом, не знают, что и думать, и не могут вмешаться. Молодых людей рабочие не знают, значит, авторитета у них никакого. — Нет, правда, — задает вопрос Жан, — почему месье Ивана не видно с вечера вчерашнего дня? С десяти часов… — Мы выпили с ним грогу, он пошел к себе с трубкой в зубах, и вот с того момента… — Черт возьми, — воскликнул Жак, — поднимемся же к нему на второй этаж, всего-то двадцать ступенек… — И давайте поосторожнее, чтобы нам не выбили глаз, эти идиоты принимают окна за мишени и готовят много работы баркервиллским стекольщикам. Жан осторожно постучал в дверь; не получив ответа, постучал сильнее. Опять тишина. Франсуа наклонился, чтобы заглянуть в замочную скважину, и увидел между двумя половицами паркета прямо под дверью черноватую жидкость. — Смотрите-ка, братцы, — произнес он тихо с сжавшимся сердцем, — можно подумать, кровь… — Это и правда кровь! — Ломаем дверь! Тяжелая кедровая дверь, которую не одолеть и четверым, легко подалась под ударами Жана. Глазам юных охотников открылось чудовищное зрелище. Директор лежал на своей кровати с перерезанным — от уха до уха — горлом, простыни были алы от крови. Чудовищная рана рассекла шею месье Ивана так, что голова держалась только на шейных позвонках. На полу — бритвенное зазубренное лезвие. В печи — пепел, оставшийся от сожженных бумаг. Ящик бюро выдвинут, многочисленные папки с бумагами, которые братьям показывал Перро, исчезли. — Месье Иван умер, — произнес Франсуа. — Убит, — сказал Жан. — Ты думаешь? — спросил Жак.Джордж Лесли,генеральный инспектор приисков в Колумбии».
ГЛАВА 3
Появление Рыжего Билла. — Два часа ожидания. — У Сэма-Отравителя. — Неожиданный кредит. — Денег нет. — Безумная ярость толпы. — Предательство. — Рыжий Билл пойман в лассо[81]. — Лохмотья. — Ключи от сейфа. — «Убийца — вы».Страшная новость о зверском убийстве директора взволновала всех работающих на прииске. Но поскольку эти авантюристы привыкли к виду трупов, то волнение было недолгим. — Ну, пусть Иван умер. Тем хуже для него. Все равно пора платить. Компания нам задолжала. Мы две недели работали бесплатно, превозмогая жажду. Давайте наши деньги. — Но ключ от сейфа исчез, — сообщает приказчик. — Это не причина, — вопит оратор в огромной фетровой шляпе с рыжей окладистой бородой, — наверняка есть запасной. — Но нужно именно два ключа — один без другого не действует, — жалобно ноет приказчик, начиная дрожать от страха. — Покажите нам сейф, мы его быстро откроем! — Денег, денег! — орет на разные голоса беснующаяся толпа, скандируя во все горло одно только слово. — Подождите немного. — Где Перро, человек-бизон? — Уехал с милордом. — Перро — бессердечный человек, если оставил нас без гроша. — Спалим его дом, пусть потом разбираются! — Но кто-нибудь заменяет Перро? — кричит человек с рыжей бородой. — Его племянники. — Где они? Что они, струсили? Прячутся как мокрые курицы? Вынужденные вмешаться, молодые люди, сохраняя спокойствие перед лицом разбушевавшейся толпы, выходят из комнаты на веранду и смотрят сверху на этих людей, столь к ним непочтительных. — Говорят, мы струсили, прячемся, — громко произнес Жан, перекрывая шум. — Кто это сказал? — Ладно, видим, что не прячетесь, не струсили, — откликнулся бородатый оратор. — Но поскольку вы здесь за дирекцию, платите сами или прикажите кому следует, чтобы нам заплатили. — Хорошо! Прекрасный ответ, Рыжий Билл. — Я пытался открыть кассу. — И что? — Невозможно. Замок открывается с помощью двух разных ключей, а ключ директора, как вам сказали, исчез. — Ну, это сказки для глупеньких, — кричит Рыжий Билл, решивший, видно, возглавить этот бунт. — Да, да, Рыжий Билл прав! — Хватит болтать! К действию! Дом на слом, давайте сейф! — Но когда вы все разрушите, разграбите, пропьете, — говорит Жан, — вы что, будете ближе к цели? Кто даст вам завтра работу, которую компания всегда своим рабочим гарантирует? — Ишь ты, молокосос, какой адвокат нашелся! — Проповедь тут читает! — Нам нужен тот, у кого денежки! — Подождите немного, — продолжает молодой человек, становясь все увереннее по мере того, как опасность нарастает. — Чего ждать-то? — До нынешнего дня «Свободная Россия», верная своим обязательствам, не разорила еще ни одного из своих работников. Я уверен, что компания имеет в Баркервилле открытый кредит. Дайте мне возможность переговорить с банкирами, которые знают ситуацию. Сколько мы вам должны? Ваша зарплата за пятнадцать дней — приблизительно двадцать пять тысяч франков, я их раздобуду. — Это все пока лишь обещания. Сколько тебе нужно времени? — Два часа. — Даем тебе два часа. А когда истечет срок, все здесь переломаем. Если не принесешь нашу зарплату, пеняй на себя! — Молокосос над нами издевается, друзья, — кричит Рыжий Билл, — он вернется без гроша и обведет нас вокруг пальца! — В сейфе есть восемь тысяч пиастров, принадлежащих нам. Если дверцу откроем, я их вам отдам. — Давай болтай больше! — бурчит Рыжий Билл. — Хочешь выиграть время и победить нас, но поживем — увидим… Я ухожу к Сэму-Отравителю. Мне пора выпить «сока тарантула». Ко дню получки трактирщик наверняка все приготовил. — Рыжий прав, идем к Сэму! Пошли, время быстрее пролетит. — Ты думаешь, Сэм-Отравитель даст нам в долг? — Долг будет за компанией! Против всякого ожидания трактирщик, так звучно прозванный Отравителем, широко открыл и двери трактира, и кредит… На памяти завсегдатаев салуна такой ласковой встречи еще никогда не было. Хозяин обычно бывал очень строг и немногословен даже с клиентами денежными и уж совсем не разговаривал с голытьбой. Еще удивительнее, что Сэм соблаговолил растянуть в подобие улыбки рот, обнажив почерневшие зубы, торчащие из десен как глиняные горшки на заборе. И, наконец, что уж совсем поразительно, он лично потчует всех закуской и самыми сильными напитками. Трактир переполнен, рядом на деревянном тротуаре временно в беспорядке расставлены столы, скамейки, ящики, пустые бочки. Китайцы, чья жадность соперничает с трезвостью, видя, что странным образом нарушено правило и — может быть единственный раз в жизни — выпить дают бесплатно, тоже приблизились, протиснув свои курносые, желтые лица между сильными, едва прикрытыми лохмотьями торсами искателей приключений, и с удовольствием прикладываются к бутылкам. Может ли трактирщик отличить среди этих нахальных посетителей своих от чужих? Маловероятно. Все китайцы на одно лицо, и всех их, оказывается, звать Ли. Но Сэму все это безразлично, он наливает, ничего не спрашивая, не считая, не глядя… Кто же все это оплатит? Веселье постепенно набирает силу — кругом шум, разговоры, крики. Все смеются, вопят, сыплют ругательствами, громко аплодируют китайцу, который, упившись, падает замертво. Самые отчаянные выпивохи ставят пари, их с энтузиазмом поддерживают, вовсю обсуждаются шансы сторон, спорщики постепенно забывают и про компанию «Свободная Россия», и про зловещую смерть директора, и про закрытый сейф, и про зарплату. Какое это имеет значение сейчас, когда пить можно вдоволь, когда начинается настоящее веселье под покровительственным взглядом Сэма: тот видит, как швыряют, бьют посуду, и ограничивается лишь легким «уф!». И это он, который раньше из-за одного разбитого стакана готов был схватиться за пистолет! Два часа, данные Жану, тем временем истекли. А разгулявшиеся клиенты не думают ни о чем и с удовольствием продолжают щедрую бесплатную трапезу. Кто-то напоминает: — А как там с деньгами? Метис, наверное, уже вернулся из Баркервилла? Это, кажется, опять Рыжий Билл. Да, он самый. Ему кричат: — А, брось торопиться. Ведь мы можем пить сколько хотим… — Пить — это хорошо. — Рыжий Билл встает на табурет, окидывая взглядом шумящий зал, — но праздник не будет полным, пока мы не сыграем партию в покер, правда? — Давай поиграем… — Но для игры нужны деньги. Да и Сэм больше не собирается нам наливать, не видя цвета наших пиастров. — Да, да, — обменявшись быстрым взглядом с Биллом, кивает головой трактирщик. — Что, не дают больше в долг? — Кончился кредит, — рычит Сэм, — пока вам не заплатили деньги, а там посмотрим. Давайте, друзья, заставьте платить этих богачей, чтобы они не мучили хороших парней! — Дай еще выпить! — Нет, больше ни капли! Идите за вашей зарплатой! Настаивать, когда Сэм ставит ультиматум, бессмысленно. Все это знают и никто не возражает. Трактир мгновенно пустеет, но все надеются быстро вернуться обратно, веселье в самом разгаре. Толпа золотоискателей, еще более возбужденная, чем утром, во второй раз собралась у окна кассы и встречает градом ругательств приказчика, который решился сказать несколько слов. Стоящие поближе его услышали; те, кто был далеко, ухватили обрывки фраз. — Что? Нет денег? Еще ждать? Приступать к работе? — Ах ты, сучий сын! Обманщик! Убийца! Вор! Скальп с тебя снять!
__________
Неожиданно для себя Жан встретил у банкиров Баркервилла прием весьма холодный и получил твердый отказ, хотя сумма гарантии под имущество «Свободной России» в сотню раз превышала кредит. Напрасно он приводил серьезные аргументы: исключительный случай, деньги в сейфе, но недоступны, директор убит, рабочие бунтуют. Все бесполезно. Похоже, был отдан какой-то приказ, и каждый демонстрировал полное равнодушие к просьбам представителя «Свободной России», даже шериф, который пожал плечами, узнав про убийство, — он слушал, посвистывая, взволнованный рассказ молодого человека. Жан вернулся обескураженным, в груди бушевала буря, брови его были сведены, ноздри подрагивали, но голос казался спокойным: — Думаю, дядя Перро напрасно пошел на охоту за бигорном. Как он нужен сейчас, чтобы отбить готовящуюся атаку! — Да, рабочие, кажется, переходят в наступление, хотят завладеть сейфом. — Мы его защитим, — заявил Франсуа. — Конечно, — согласились два старших брата. — Есть полдюжины винчестеров, сотня патронташей, а их только триста. — Но придется убивать… — Черт возьми, они нас сами вынуждают. Не отдавать же себя на растерзание. — Вот именно. Атака началась. Со всех сторон летят камни, разнося вдребезги окна — стекла градом сыплются в комнаты. — Хорошо ли закрыты двери? — спрашивает Жак. — Я их закрыл на засов. — Слуги все снаружи, орут вместе с толпой. Только приказчик внизу. — Ты, Франсуа, — говорит Жан, — спустись, принеси боеприпасы и вместе с приказчиком иди в комнату бедного месье Ивана: оттуда хорошо просматривается вся долина, — окна выходят на две стороны. А я обойду дом, проверю, все ли закрыто, и вернусь. Снаружи доносится адский шум. Вопли, пьяные угрозы, проклятия. К гулкому шуму камней, бросаемых со всего размаху по деревянным панелям стен, прибавился звук выстрелов. Жан, вернувшись, присоединяется к братьям и приказчику. Здесь же по-прежнему лежит изуродованный труп несчастного директора. Ружья все заряжены. Шесть винчестеров с автоматическим перезарядом и магазином на семьдесят два патрона. Отважные стрелки готовы открыть беглый огонь. Но они ответят только в крайнем случае, в момент смертельной опасности. Жан хочет вступить с нападающими в переговоры. Он храбро подходит к окну, открывает его, наклоняется вниз и произносит несколько слов. В ответ — гром проклятий. На него нацелена сотня револьверов. Поскольку он безоружен, то пьяные — из благородства, которое сохраняют даже самые опустившиеся, — не открывают стрельбы. Отважный юноша только что приказал своим братьям и приказчикам: — Ни в коем случае не стреляйте. Если откроем огонь, примирение станет невозможным. Словно для ответа Жану от толпы отделяется человек. Это опять Рыжий Билл, который повсюду лезет на рожон — то и дело подначивает товарищей, все время демонстрирует свою агрессивность. До стены осталось не больше пяти шагов, и тут «парламентер» быстрым движением выхватывает пистолет и подло стреляет в Жана. Будь на этом месте кто-нибудь другой, а не предусмотрительный метис, смерть была бы неизбежной. Но Жан все видит, большой опыт, приобретенный им в разных переделках, научил охотника быть бдительным перед лицом возможного предательства. Он мгновенно отскакивает от окна, и пуля, только задев его кожаную куртку, вонзается в плоть дерева. В тот же самый момент Рыжий Билл, не видя из-за дыма, что же происходит у окна, вдруг слышит резкий свист, и его шею охватывает крепкая петля; с необоримой силой его тянут вверх до самого подоконника, где громилу подхватывают сильные руки, хватают за бороду и швыряют полузадушенного на пол. Грубая разгулявшаяся толпа разражается хохотом при виде этого похищения — смелого, ловкого и смешного. Видеть, как странно извивается Рыжий Билл в петле лассо, мастерски наброшенного на него Франсуа, — достаточный повод для вспышки бурного веселья. В мгновение ока злобный, исходящий пеной детина связан как сосиска и не может сделать ни одного движения. Франсуа, обрадованный удачной операцией, поднимает тяжеленного пленника на руки и, поднеся к окну, кричит насмешливо: — Это заложник. Если будете стрелять, сразу раскрою ему голову. Два часа толпа была равнодушна к Рыжему Биллу. Это плохой работник, грубиян, задира, пьяница, его побаивались из-за силы, но не любили. Но сейчас, когда он возглавил бунт и устроил попойку в трактире, бунтари принимают его сторону — то ли из благодарности за набитый желудок, то ли чувствуя за ним какую-то тайную власть, которой подчинился даже Сэм-Отравитель. — Ладно, ладно, — раздаются хриплые голоса, — не убивайте его, может быть, удастся сговориться. — Сговориться можно совсем просто, — отвечает Франсуа. — Принимайтесь за работу и дайте нам необходимое время, чтобы найти способ, как заплатить вам. У ошеломленного Рыжего Билла взгляд попавшего в западню зверя; он трусливо, как часто случается с зачинщиками подлых дел, пытается вступить в переговоры, словно и не замышлял предательства. — Не сердитесь на меня, мальчики, если я только что погорячился. «Сок тарантула» ударил в голову. Когда выпьешь, часто делаешь не то, что хочешь. — Вот именно, — произнес Жан. — Вы хотели меня убить. Хорошо, что я был начеку, ожидая возможного предательства. Я не питаю к вам никакой злобы и, если бы ваша жизнь не была сейчас залогом нашей, отпустил бы подобру-поздорову на все четыре стороны. — Честное слово, вы настоящий джентльмен. Если я осмелился… — Комплименты ни к чему. Если бы вы осмелились что? — Попросить вас немного ослабить лассо, оно меня душит. Я не собираюсь бежать, да, впрочем, это и невозможно — со второго этажа да под вашим присмотром. — Если только за этим дело, пожалуйста, — говорит метис, ослабляя петлю и предоставляя прохвосту некоторую свободу. Рыжий Билл расправляет затекшие члены, потягивается с видимым удовольствием, поигрывая своей мощной мускулатурой. При резких движениях дыры на его лохмотьях расширяются, по ним можно изучать законы износа долго служившей одежды. Впрочем, мрачное тряпье, пропитанное грязью и смазочным маслом, истончившееся от постоянного контакта с кварцем и сланцем, с машинами и инструментами, не является только его привилегией. Товарищи Рыжего Билла тоже не заботятся о своем гардеробе, считая любое внимание к собственной внешности совершенно излишним; их правило — лишь бы никого не шокировать. Но и оно выдерживается далеко не всегда, что, впрочем, не мешает этим малым быть о себе очень высокого мнения, как и положено прожигателям жизни без всяких предрассудков… Компании любят заключать соглашения с такими субъектами. Но на этот раз изношенность костюма сыграла с Рыжим Биллом злую шутку, на что он совсем не рассчитывал. Из одной прорехи, поблескивая серебром, выпал металлический предмет, прошуршал по штанам и соскользнул с сухим стуком на пол красного дерева. Оказалось, это связка из трех ключей, совсем маленьких, с весьма хитрой резьбой. Тут пленник, при всей своей наглой самоуверенности, вдруг страшно побледнел и глазами загнанного зверя уставился на постель, где лежал убитый директор. Жан поднимает ключи, вытаскивает из кармана другие, которые дал ему дядя, сравнивает, убеждается в их полной схожести и произносит изменившимся голосом: — Это ключи от сейфа, они украдены у месье Ивана убийцей. Значит, убийца — вы!ГЛАВА 4
Счастье улыбнулось сэру Джорджу. — Почему Перро стал добрее. — Его Высочество любит все новое. — Глухарь. — Бигорну нравится свинячий хлеб. — Ленточная буря. — В эпицентре. — Озон. — Катастрофа.Сэр Джордж Лесли выехал из Баркервилла в отличном настроении, Перро пообещал ему добраться до заповедника и найти бигорнов. Наш джентльмен так и сияет, и для этого достаточно оснований. Во-первых, в столице провинции Карибу продолжалась его шахматная партия с Эндрю Вулфом: сэр Лесли посылал в Англию депешу за депешей. Для Вулфа и для всех, кто на него поставил, дела идут плохо. Он только что отдал свою черную ладью, красиво снятую белым офицером сэра Джорджа. Последняя депеша сообщала, что черному королю шах. Во-вторых, пришло известие, что члены клуба уже прослышали о добытых сэром Лесли необычайно интересных документах, касающихся антропофагов, и готовятся встретить «замечательного исследователя» самым торжественным образом. К тому же много приятных сведений поступало от брата: при каждом новом письме от правителя-наместника Его Высочество так энергично потирал руки, что того и гляди мог содрать на ладонях кожу. Настроение поднялось и после тайных переговоров с важными персонами провинции, а также с некоторыми авторитетными банкирами. Инспектор края был вполне удовлетворен. Слуг при нем стало меньше, а дела идут лучше. Нет больше ни лошадей, ни повозок, а главное, нет носильщиков. Эти прохвосты так варварски обошлись с его париком и вставной челюстью!.. Впрочем, поскольку в горах нет хороших дорог, повозки и не прошли бы. Небольшая палатка, провиант, оружие, посуда, одежда — все это разместилось на спинах шести мулов. Еще четверо животных везут участников экспедиции: его превосходительство, лакея, кучера и повара-китайца. Растянувшись цепочкой, они следуют за гигантом канадцем, который, с детства презирая такой способ передвижения, шагает столь ретиво, что грозит загнать свой отряд. Удивительно, но на этот раз заносчивость англичанина чувствуется гораздо меньше, он стал человечнее. Не со слугами, правда, а только с Перро. Когда джентльмену хочется размять ноги, он соскакивает с мула и, догнав неутомимого канадца, с удовольствием беседует с ним, интересуясь жизнью Перро, его давнишними приключениями, охотничьими подвигами и даже делами компании «Свободная Россия». Побудив отважного метиса рассказать о своей встрече с графом Жюльеном де Клене, Жаком Арно и Алексеем Богдановым (чьи похождения описаны в книге «Из Парижа в Бразилию по суше»), сэр Джордж, специально этого не добиваясь и не показывая своей заинтересованности в сведениях такого рода, получил полную информацию о друзьях проводника. Какие похвалы расточал им Перро, как высоко оценивал нравственные принципы, мужество, деловые качества товарищей! Он больше не сторонится англичанина, не отвечает ему, как раньше, грубостями за неточное выполнение условии договора, не ворчит на него и с удовольствием поддерживает беседу. Перро начал привязываться к своему спутнику именно потому, что оказал ему серьезные услуги — да еще какие! Первый раз в жизни он решил добиться расположения официального лица — генерального инспектора приисков. Конечно, не ради личного интереса, а ради дорогих друзей, доверивших ему часть своего состояния. Все это накладывало отпечаток на отношения метиса с аристократом, настроение которого все поднималось. Вот уже несколько дней он резво, как юноша, карабкался по склонам скалистого хребта, зажатого с двух сторон притоками Фрейзер — реками Медвежьей и Ивовой. Маленький отряд, несмотря на трудную дорогу, преодолевал ежедневно по тридцать пять — сорок километров. По излюбленному выражению канадца, шли «от зари до зари», делая небольшой привал в полдень. У подножья гор стояла удушливая жара, при подъеме же благодаря освежающему юго-западному ветру стало дышаться легче. От самого Баркервилла местность была абсолютно пустынной — ни следов животных, ни признаков пребывания, пусть даже давнишних, индейцев. Сэру Джорджу такая уединенность нравится; время от времени, когда открывается красивая панорама[82] — а их много в Скалистых горах, — он останавливается, наводит объектив и делает снимок за снимком. Не потому, что англичанин очарован этим краем, а потому, что хочет привезти фотографии мест, где никогда не ступала нога человека; здесь царство оленей-карибу и наверняка бигорнов. Сэр Лесли, как и многие другие, обожает быть первопроходцем. Отряд движется к северу, вернее к северо-западу, строго по хребту между пятьдесят третьей и пятьдесят четвертой параллелью по сто двадцать первому — сто двадцать второму меридиану западнее Гринвича. На второй день — остановка на горном склоне, в красивом сосновом бору, где деревья до восьмидесяти метров высотой. С восходом солнца экспедиция снимается и продолжает путь. Перро терпеть не может промедления, день обещает быть тяжелым, значит, времени терять нельзя. Группа идет в ритме, привычном для мулов, по еле заметным тропкам, словно чудом удерживающимся на головокружительных откосах. Глаз с трудом различает эту дорожку, едва хватает места для копыт мула. Слуги — все трое — закрывают от страха глаза и по настоятельному совету Перро отпускают поводья, полагаясь на инстинкт животных. Сэр Джордж спешился и идет непосредственно за канадцем, ведя своего мула за собой. Справа и слева вдоль горного хребта, по склонам ущелий, на ровных площадках в гордом неотразимом величии вздымают вверх гигантские кроны великолепные представители местной флоры[83] — сосна Дугласа и сосна Орегоны, пихты Мензи и Энгельмана, серебристая ель, сосна белая, западный кедр, кедр виргинский, кипарис желтый, сосна красная и многие другие. Они группируются на склонах и равнинах, являя глазу пятна разных оттенков, окруженные серебристыми стволами и нежно-зеленой листвой западной березы. То тут, то там породы меняются, появляются заросли виноградного клена, осиновые рощицы, массивы гигантских дубов, в них вклиниваются отдельные, но мощные экземпляры диких яблонь, кизила, рябины, боярышника, привлекающие к себе множество пернатых; обилие дичи здесь могло бы поразить воображение и совсем невпечатлительного охотника. Сэр Джордж не мог удержаться и извлек из футляра роскошное ружье с автоматическим сбросом гильз, надеясь пострелять лесных курочек, бекасов, глухарей, куропаток, взлетающих прямо из-под ног. Не объясняя почему, Перро категорически воспротивился такой бойне. Сэр Джордж заспорил, требуя, чтобы ему изложили хотя бы причину запрета. В этот момент, оглушительно хлопая крыльями, взлетел тетерев не меньше двенадцати-пятнадцати килограммов, наш джентльмен, почти против воли, вскинул ружье, нажал курок, и величественная птица упала камнем. Звук выстрела раскатился по округе длинными руладами, сэр Джордж ждал похвалы, но Перро, пройдя еще шагов двадцать пять, повернулся, пожал плечами и сказал: — А я думал, месье, что вы охотитесь на бигорна. — Конечно, Перро, но ведь тут — такой тетерев. — Да, из этой птицы получится приличное жаркое, но обойтись оно может очень дорого. — В каком смысле? — Черт возьми! Видите, по этой еле различимой тропке с трудом идут мулы, несмотря на их осторожность и привычку. — Ну и что? — А вы задумывались кто — из людей, животных — вот так пробил ее по скалам, по мху, по траве, по выступающим из-под земли корням? — Нет, никогда… — Так вот, месье, по этой тропе каждый год в течение месяца с середины июня до середины июля ходят дикие животные, которые пасутся на лугах, едва с них сойдет снег, отыскивая растение, которое они обожают. У этого растения мелкие трехцветные цветочки — белые, розовые, красные, темно-зеленые листья в белых точечках и — любимое лакомство кабанов — мясистый корень, который часто именуют «свинячим хлебом». — Расскажите, расскажите, Перро вы всегда сообщаете что-нибудь новенькое и интересное, — сказал Его Высочество, пытаясь определить вес тетерева, — на замечательный трофей с восхищением смотрели слуги. — Так вот, — продолжал метис, — не только кабаны любят это растение. К нему неравнодушны и бигорны. Вы слышите? Бигорны! — Вот тебе на! Надо было раньше сказать, я воздержался бы от выстрела. — Который загнал их к черту на кулички! — А они что, были близко? — Все может быть, я не решился бы это отрицать. Про бигорнов, которые хитрее любых других животных, никогда ничего определенно не скажешь: у них глаза рыси, ноги оленя-карибу, нос гончей, хитрость лисы… — Я уже сожалею об этом злосчастном выстреле. — Да и помимо бигорна есть причина не стрелять здесь без крайней необходимости: на склонах гор лежат снега, и раскатистое эхо выстрела может вызвать оползни. — Все-таки надеюсь, что ничего непоправимого не случилось и мы скоро достигнем мест, облюбованных этими дьявольскими созданиями. — Но мы ведь уже на их территории, и, возможно, сегодня к вечеру… — Сегодня? И вы не предупредили меня? — Зачем возбуждать мозг, предвосхищая событие, которое зависит от множества случайностей? Кстати, я, кажется, ошибся в предсказании сроков нашей встречи с бигорнами. Она состоится не сегодня. — Почему не сегодня? — Можете смеяться, если хотите, но я чую бурю. — Что вы хотите сказать? — Только то, что в воздухе появился странный запах, значит, скоро быть буре. — Я тоже чувствую какой-то запах, такой воздух бывает сразу после разряда молнии. — Вот именно, так «пахнут» раскаты грома. — А, отгадал, это озон. Здесь его, видно, необычайно много. — Да, и, похоже, ленточная буря приближается. — Ленточная буря? — Она распространяется узкой полосой, и чаще всего вдоль реки, текущей в ущелье. Справа и слева от русла относительно спокойно, а в ущелье ужас что творится. — А мы как раз находимся в долине Ивовой реки. — Иначе говоря, буря идет прямо на нас. По дну каньона, шириной не больше километра, несут свои прозрачные воды Виллоу-Ривер (Ивовая река) — мгновенные перемены погоды поразительны. Белесый прозрачный туман струится над водной поверхностью и, прижимаясь к высоким берегам, делает все более плотным воздух ущелья, потом поднимается все выше, ложится на деревья, скалы, причудливо меняя их очертания. Похоже, будто какой-то эфир — легче воды, но тяжелее воздуха — наполняет долину и начинает движение с юга на север под порывами крепчающего ветра. В глубине каньона река кажется свинцовой, кроны деревьев образуют пятна цвета позеленевшей от времени бронзы, а над ними возвышаются, словно призраки, крепкие белые стволы берез. Охотники переглянулись, их лица кажутся мертвенно-бледными в этом словно закопченном воздухе. В небе горит красное солнце, не обрамленное лучами, но достаточно горячее, жара становится невыносимой. Мулы, почуяв приближение урагана, сбились в кучу на широком выступе, где сэр Джордж только что убил тетерева. Не прошло еще и двадцати минут. Перро принюхивается и говорит: — Плохо нам придется. Еще есть полчаса, потом начнется дьявольская пляска. — Надо поискать укрытие, — советует джентльмен. — Лучше останемся на открытом месте. Буря сломает, как спички, эти красавцы деревья, и они раздавят нас, как улиток. А грота на расстоянии мили нет. — Что же делать? — Остаемся здесь, ляжем ничком на землю, чтобы нас не унес ветер, мулов же всех вместе крепко свяжем сбруей. — Не разгружая? — Ни в коем случае. Вещи, накрепко притороченные к спинам животных, составят с ними одно целое, особенно если мулы между собой будут тоже связаны — возможно, так удастся хоть что-то спасти. Туман становится все плотнее, скрывает реку, укутывает деревья и скалы, меняя их очертания. В долине поднимается ветер, он становится все сильнее, рычит, как зверь, перетряхивая темные тучи, в которых то там, то сям сверкают быстрые, раскалывающие небо молнии. Уже все как в сумерках. Туман, сначала белесый, с мертвенно-синеватым оттенком, — люди еще видят друг друга, — скоро становится совсем плотным, чернильного цвета. Он накрывает все тяжелыми облаками, словно дымом из заводской трубы. Китаец Ли, вдавливая себя в землю, воет от страха. Лакей и кучер стучат зубами как кастаньетами[84]. Сэр Джордж и Перро сохраняют спокойствие — мужественное смирение по-настоящему сильных людей перед лицом беспощадной стихии. Слепящая молния проре́зала толщу тумана, и тут же раздался оглушительный гром. Наши путешественники, ослепленные, оглушенные, помимо своей воли вскакивают и снова падают, отброшенные воздушной волной невиданной силы. Буря нарастает, смешивая все воедино — ураган, гром, молнии, кажется, эта часть Скалистых гор вот-вот будет уничтожена. Воздух до такой степени заряжен электричеством, что люди чувствуют, как на их головах шевелятся и потрескивают волосы, высекая крохотные искры. Озона в атмосфере огромное количество, его запах столь пронзителен, что путешественники дышат прерывисто, будто задыхаясь. Земля под ними дрожит, качается, треск падающих деревьев сливается с беспрерывными громовыми раскатами; охотники словно вдавленные в землю великой тяжестью, упавшей из облака, лежат ничком. Слышны приглушенные стоны, но за последним взрывом бури наступает мертвящая тишина…
ГЛАВА 5
Заработная плата. — Билла надо отдать под суд. — Оргия продолжается. — Оригинальная дуэль. — Две бочки пороха. — Одновременный финиш. — Тревога. — Ни Жак, ни Жан не вернулись. — Похороны жертвы. — Угроза, нависшая над Франсуа. — Взорванный сейф. — Украдены документы и ценности.Можно вообразить себе удивление и негодование братьев, получивших неопровержимое доказательство виновности Рыжего Билла. Когда Жак, указав на изувеченный труп директора, крикнул: «Убийца — вы!» — преступник даже не попытался это отрицать. Он побледнел, что-то забормотал, но быстро обрел прежнее нахальство. — Подумаешь, директор! Заморский негодяй, который обкрадывал рабочих, эксплуататор… При этих словах Франсуа, не помня себя от возмущения, схватил винчестер, приставил дуло к груди преступника и прокричал дрожащим от гнева голосом: — Бандит! Я убью тебя! Жан отвел карабин. — Брат, — сказал он, — не надо самосуда. Следует передать этого человека шерифу. — Вот именно, — произнес насмешливо Рыжий Билл, — я должен иметь дело с шерифом, пусть свершится законное правосудие. И после небольшой паузы добавил язвительно: — Если хотите отвести меня к властям, — пойду не сопротивляясь, и чем быстрее, тем лучше. — Братья, — продолжает Жан, не реагируя на наглость убийцы, — давайте откроем сейф и заплатим рабочим. Затем я отвезу этого человека в муниципалитет[85]. За время этого краткого диалога взбесившаяся толпа, не видя ружей — гарантов хоть какой-то почтительности, — приблизилась к дому, вооруженная мотыгами и шестами. Но ворваться в помещение ей не удалось — Жан сумел-таки охладить пыл пьяниц. — Погодите, сейчас вам будет выдана заработная плата. Работяги сразу начали группироваться по бригадам, возле своих мастеров, которые и во хмелю помнили каждого человека и готовы были проверить число отработанных им дней по специальной тетради. Двумя ключами сейф открылся легко. Приказчик вызывает каждого по фамилии, Жан отсчитывает деньги. Франсуа их вручает. При таком распределении обязанностей дело пошло споро, несмотря на то, что рабочие были сильно возбуждены. Раздачу закончили через три часа. После этого оргия у Сэма-Отравителя достигла своего апогея. Трактирщик сначала удивился и как будто даже был недоволен тем, что выдача зарплаты обеспечила щедрый приток пиастров в его кассу. — Ладно, — пробормотал Сэм себе под нос, — я сумею их обобрать, а потом… Не договорив, он разразился зловещим хохотом, сморщив плоское бульдожье лицо. Мобилизовав всю свою сообразительность, торопясь поскорее вытрясти из пьянчуг деньги, трактирщик предлагает им то новый сногсшибательный напиток, то подогревает ссоры, то провоцирует пари и довольно быстро освобождает золотоискателей от зарплаты. Расчет его прост: обрести власть над нищими всегда нетрудно. Тем временем Жан, с помощью приказчика, запрягает в экипаж двух пони[86], которые каждый день по самым разным поводам бегают по дороге от «Свободной России» до Баркервилла и обратно и дает знак Рыжему Биллу (у того связаны только руки) садиться в экипаж. — Вначале заплатите, — бросает прохвост, — компания должна мне двадцать пиастров, в тюрьме, прежде чем буду отправлен на виселицу, я хотел бы хорошенько смочить горло. Хотя еще посмотрим, повесят ли меня, — добавляет, ухмыльнувшись, убийца. Приказчик весьма учтиво отсчитывает верзиле необходимую сумму, засовывает деньги ему в карман, предварительно убедившись, что тот не рваный, и потом помогает забраться на козлы, где уже сидит Жан. Юноша натягивает вожжи, щелкает языком, и пони с тремя кое-как разместившимися седоками несутся во весь опор. Пропойцы, находясь в тридцати шагах от экипажа, не обращают никакого внимания на то, что их главаря увозят. — Вот она, цена вашей преданности, — цинично и зло бурчит Рыжий Билл, — только что на руках носили, а теперь и головы не поворачиваете, хотя вызволить меня сейчас — пара пустяков. Пулю-другую в бок этому пони… — Но здесь еще есть я, — произносит спокойно и решительно Жан, — клянусь, если они попробуют вас освободить, то живым не получат. Около трех часов пополудни. Лучи солнца, прогревая песок и мелкий белый, как снег, гравий, создают температуру раскаленной печи. В помещении, где и без солнца нестерпимо жарко, дышать совершенно нечем. У Сэма все изнывают от жажды, а трактирщик умело ее распаляет. Пьяная оргия, ненадолго стихшая после получения зарплаты, разбушевалась с невиданной силой, грубостью, экстравагантностью. Достаточно трезвым взглядом понаблюдать со стороны такое застолье, чтобы понять, сколько злобы и отчаяния в безудержном пьянстве, делающим людей безумными, абсолютно безумными. Это настоящая болезнь; отравление организма проявляется в эпилептических конвульсиях, зверской ярости, необоримом желании укусить, ударить, уничтожить, в патологическом стремлении к льющейся крови, в смещении всех нравственных критериев. Но удивительно, что при самых чудовищных эскападах[87] разнузданный мужлан, доведший себя до положения риз, может тем не менее проявлять упорную последовательность и в поступках, и в желаниях. Временное сумасшествие, вызванное разрушающим воздействием алкоголя, весьма по душе представителям англосаксонской расы. Они оскорбляют друг друга, потом, как правило, вступают в драку и — как логическое завершение — нередко убивают друг друга. Ран в потасовках не подсчитывают, на вой, шум и револьверные выстрелы не обращают внимания, чокаются, но готовы горло перерезать, если не понравилось что-то в словах собутыльника; наступают на мертвых, свалившихся у стола, словно это бревна, и без содрогания пьют из стаканов, на которых отчетливо видны следы крови. Порой какое-нибудь происшествие привлекает всеобщее внимание, вызывая то взрывы смеха, то неистовое «браво!», то бурю ругательств. Вот ирландец обещает выпить на пари четыре галлона[88] виски и храбро отправляется на тот свет, не одолев и половины, не донеся очередной стакан до губ. А тут бьются на ножах. Сверкают лезвия, глухой гул, фонтан крови, один из противников роняет охотничий нож, прижимает ладони к вспоротому животу, делает несколько шагов, запутывается в собственных кишках и падает замертво. В дальнем углу тоже ссора, драка. — Не здесь! Не здесь! — воет Сэм-Отравитель, перекрывая всеобщий шум. — Что?! Почему? — Да вы все разнесете! — вопит трактирщик. — А что происходит? — Да вот Джимми и Ребен… — Чемпион Ирландии и чемпион Англии? — Ссора? — Матч? — Дуэль! — На железных прутьях? — Ну, это и впрямь волнующее зрелище! — Смотрите, как засуетился Сэм. — У меня еще два бочонка в погребе, — доносится голос трактирщика. — Тащи их сюда, — вопят Ребен и Джимми, бледные от выпивки и ярости. — Согласен, но отойдите на сотню ярдов в сторону. Когда будете готовы, вам принесут раскаленные железные прутья. Противники, одинаково мрачные, обтрепанные, пересекают зал, неся по бочонку в пятьдесят литров каждый. Оргия на какое-то время стихает. Длинный Джимми считает, удаляясь: раз, два, три, четыре… При цифре «сто» оба останавливаются, как и вся толпа любопытных. — Сэм, мы отошли на сто ярдов. — Ну давайте, ребятки! Большими ножами вспарываются обручи на бочках, оттуда обильно сыплются черные крупинки, похожие на мелко раздробленный уголь. Это порох! Бочки поставлены на попа в полутора метрах одна от другой, противники садятся каждый на свою. — Сэм, давай прутья! Трактирщик не собирается отказывать таким славным парням, решившим повеселиться, он бежит, держа два металлических штыря, концы которых раскалены добела в кухонной печи. Один достается Ребену, второй — Джимми. Сэм-Отравитель убегает подальше, словно за ним гонятся. Зеваки наконец поняли, в чем дело, и, отходя в сторону, подзадоривают соперников: — Браво, Джимми! Браво, Ребен! Гип-гип, ура! Кажется, начинается дуэль непримиримых врагов; цель — постараться просунуть раскаленное железо в отверстие пороховой бочки, на которой сидит противник. Вы, наверное, никогда до такого не додумались бы, грустный выпивоха Старого Света, находящий радость в вине? Эх, черт возьми! Развязка не заставила себя долго ждать. Чья победа? Джимми? Ребена? Этого никто никогда не узнает. Высоко взметнулся столб белого дыма, из бочки рвануло пламя. На долю секунды можно было видеть черного человека, повисшего между небом и землей, на облаке, вместе с которым он взлетел вверх. Подброшенный словно мячик, дуэлянт не проделал еще и половины пути в поднебесье, как сдетонировал и со страшной силой взорвался второй бочонок — разорванные на куски Джимми и Ребен грохнулись наземь. В этой схватке нет ни победителя, ни побежденного, оба чемпиона мертвы, оба финишировали с одинаковым результатом. Пораженные зеваки ненадолго притихли. Когда поблизости от вас вот так «забавляются», можно ждать любых неприятностей. Поэтому Жак и Франсуа, конечно, обеспокоены. После отъезда Жана и приказчика они не выходили из дома, все больше и больше удивляясь, почему так долго нет брата. Поездка должна была занять не более трех часов. Уже восемь. Экипажу давно пора вернуться. Скоро ночь. Что делать? Ехать в Баркервилл. Но можно ли покинуть дом, когда рядом триста разбушевавшихся безумцев? К тому же надо быстро предать земле тело директора — стоит неописуемая жара, а комната расположена окнами на юг, труп начинает распространять смрадный запах, в помещении ужетрудно дышать. Поскольку в нарушение установленного порядка никто из муниципалитета не явился, чтобы освидетельствовать умершего, Жак и Франсуа займутся похоронами сами. Недалеко есть мастерская, где чинят, а иногда и делают снаряжение, необходимое для промывки золота, там найдутся инструменты каретника, кузнеца, отыщутся доски и железные гвозди. Работники, которые обычно дежурят в мастерской, отправились на кровавый аттракцион к Сэму-Отравителю. Братья спускаются в столярную, где из сосновых досок сами делают гроб и поднимают его в комнату месье Ивана. За неимением белья покойного заворачивают в шелковую штору, кладут в гроб и плотно привинчивают крышку. Завершается работа уже при свечах, кругом роятся мошки, солнце давно село. До предела уставшие Жак и Франсуа ложатся в половине двенадцатого, но не могут уснуть: их тревожит необъяснимо долгое отсутствие Жана и приказчика, да и попробуй усни, если рядом у Сэма все набирает обороты пьяный дебош. — Завтра поеду узнать что-нибудь, — говорит Жак, у которого от тревоги перехватило дыхание. — А если я поеду с тобой? — Нет, братишка, это невозможно. Дядя Перро доверил нам охранять хозяйство, надо остаться. Я уеду ненадолго. — Да, Жак, ты прав. Юноша, вооружившись двумя пистолетами и ножом, выехал на рассвете, в четыре часа утра. К восьми он еще не вернулся. С каждым часом, с каждой минутой беспокойство Франсуа нарастает. Доведенный до отчаяния, он решает отправиться в Баркервилл сам, рискуя по возвращении найти дом разграбленным. Но что значат материальные интересы дяди по сравнению с исчезновением дорогих братьев?! Молодой человек уже собрался ехать, как вдруг остановился: — А тело несчастного Ивана? Он готов отдать на разграбление дом, старинную дорогую мебель, даже ценности, но нельзя же оставить тело достойного человека на поругание негодяям, которые вот уже тридцать часов подряд пьют, дерутся и вопят как стая дьяволов! Вот только кто поможет юноше? В эту минуту послышались грубые удары в дверь и возбужденные голоса. Франсуа, вооружившись револьвером, отворяет и видит перед собой полдюжины оборванцев с красными лицами, зло сверкающими глазами. — Что вам нужно? — Извините, хозяин, — хриплым голосом начинает один из них, — мы там веселимся, но у нас не осталось ни гроша, и мы пришли сюда просить, а нельзя ли нам выдать аванс в счет будущей работы? — Это можно, — отвечает Франсуа, которого осенила неожиданная идея. — Каждый получит по два пиастра, но их надо заработать. — Если вы думаете, что мы сегодня в состоянии вкалывать, то ошибаетесь, какие сейчас из нас работники! — Да поручение совсем легкое. Помогите похоронить директора, который всегда был с вами заботлив и справедлив. — Ну, это можно, правда, ребята? — продолжает оратор, бросив на своих спутников заговорщический взгляд. — Нас шестеро, по два пиастра каждому, чтобы опустить в могилу тело христианина. За какие-нибудь десять минут работы — плата неплохая. Можете на нас рассчитывать, хозяин, с вами можно сговориться! Не мешкая, соблюдая тишину — Франсуа не рассчитывал на такое уважение к покойному со стороны этих взвинченных оргией людей, — гроб снесли в вестибюль, соорудив из стальных прутьев что-то вроде носилок. Похоронить месье Ивана юный метис решил на пустыре, именовавшемся Старой стройкой. Франсуа с простым деревянным крестом в руках, сбитым из двух досочек, первым идет за гробом; почва под ногами бугристая: то куча насыпанной земли, то ямка, повсюду следы заброшенных приисков. То слева, то справа длинные широкие рвы, откуда доставали золотоносный песок, а после так и не засыпали. — Остановимся вот здесь. — Франсуа показывает достаточно широкий ров, на дне которого нет особых бугров. Гроб поставили на белый гравий. Трудно объяснить, как догадался главный в похоронной команде запастись веревкой. Пьянчуга, действуя по всем правилам, делает скользящий узел, дает знак своим компаньонам и обходит сзади ничего не подозревающего Франсуа. Вдруг юноша чувствует, как его шею больно и резко стиснула удавка. Задыхаясь, со сведенным судорогой лицом, он падает на землю, понимая — но слишком поздно, — что ему подстроили ловушку. — Ну а теперь сбрасывайте этот ящик, — визгливым голосом командует все тот же человек. — Прекрасно, — произносит он, когда гроб с ужасающим грохотом падает в яму. — Осталось покрепче связать петушка — говорят, он весьма опасен, — и смело идти в дом веселиться! Молодой человек крепко связан и обречен на медленную смерть под палящим солнцем на раскаленном песке, рядом с широким рвом. — Даже дерева нет, чтобы его повесить, — замечает один из прохвостов. — Подумаешь, — цинично добавляет другой, — сдохнет и так. Захотим, вернемся и заставим его дрыгать ногами на конце каната. А сейчас пошли отсюда, время уходит… Они быстро зашагали к теперь не защищенному, открытому первому встречному дому и быстро нашли комнату, где стоял вделанный в стену огромный сейф, сопротивлявшийся их жадности своими сложными секретными замками. — Надо во что бы то ни стало открыть эту штуковину, — говорит вожак. — Ты что, не видишь, такую дверь иначе, как пушечным ядром, не прошибешь. — Петушок-то должен знать секрет! У него ведь есть ключи. — Но вряд ли он скажет, как ими пользоваться. — На костре подогреем мальчишке ступни — сразу заговорит. Впрочем, можно поступить и иначе. При этих словах вожак укладывает на сейф патронташи, насыпает сверху немного черного песку, поджигает шнур и командует: — Бежим! Динамит, братишки, придуман не только для того, чтобы взрывать горы… Вот вам доказательство! Оглушительный взрыв прервал его, тряхнув дом до основания. Едкий, удушливый дым валит изо всех щелей. Когда проходимцы возвращаются, они видят: сейф распался на куски, скрученные, ни на что не похожие. — А! Что я говорил? — радуется предводитель. — Вот три связки документов, бумага на владение прииском, контракт на концессию, определяющий права свободных золотоискателей. Как раз то, что нужно. Бумаги немного пострадали от взрыва, но вполне пригодны для того, чтобы Сэм поил нас бесплатно целую неделю. — А деньги? — И акции? — Набивайте себе карманы, но послушайте меня, надо и других позвать. Мы пошли против закона, рискуем головой, лучше, чтобы было побольше соучастников. Тогда меньше ответственности. А тем временем, услышав взрыв, клиенты Сэма-Отравителя уже спешили к дому. При дележке добычи не обошлось без тумаков, криков, кровавых драк. Похоже, этой вакханалией прикрывалась основная операция — изъятие всех документов на право владения богатым, лучшим в провинции прииском. Жан и Жак еще не вернулись, Франсуа лежал в беспамятстве на раскаленных песках Старой стройки.
ГЛАВА 6
Надежды не оправдались. — Под снежной лавиной. — Появление руки. — На помощь! — Коридор в снегах. — Воспоминание об искусственной челюсти. — Сэра Джорджа еще раз спасает Перро. — Бигорны. — Неописуемое изящество. — Выстрелы.Сход снежных лавин особенно вероятен и опасен на тех склонах Скалистых гор, где за зиму скапливается фантастическое количество снега. Интересно, что другие хребты в это же время года остаются совершенно оголенными. Если температура воздуха повышается постепенно, как в наших краях, снег тает постепенно, не причиняя никому вреда. Но когда ртуть в термометре поднимается резко и за какую-нибудь неделю-две жгучий мороз безо всякого перехода сменяется иссушающей жарой, земля, на которой лежит толстый снежный пласт, быстро прогревается, нижний слой подтаивает, теряет сцепление с почвой и при малейшей вибрации верхних слоев скользит вниз. Именно такую вибрацию и спровоцировала ленточная буря, разразившаяся, когда сэр Джордж, Перро со слугами и поклажей, навьюченной на мулов, дошли до места, где водятся бигорны. Пустынное плато, на котором небольшой отряд, ослепленный молниями, оглушенный громом, исхлестанный ветром, по мере сил своих сопротивлялся буре — теперь под толстым слоем снега. Взрывные волны грома сорвали с высоты огромную толщу снега, завалившую и людей и мулов. По прогнозам Перро снега́ не должны были сюда сползти. Редкая проницательность изменила на этот раз охотнику по причине совершенно исключительной. Дело в том, что на пути лавины оказались залежи металла, образовавшие на середине склона порог, скошенный в сторону плато. В результате огромная масса снега, разделившись надвое, изменила предполагаемую траекторию и засыпала путешественников. Все их снаряжение попало под левую часть снежного потока. По горькой иронии судьбы после обвала буря утихла так же внезапно, как и началась. В тучах, только что скрывавших долину, появились просветы, раскаты грома доносились уже издалека, как приглушенное эхо, солнце обрушило свои палящие лучи на деревья, кустарники и луга, засверкавшие, будто жемчужными, каплями воды. Неужели маленький отряд погиб, погребенный под снегом толщиной в два с половиной-три метра? Нет, кто-то все-таки чудом выжил, оправился от шока и решил бороться со стихией: из-под белого покрова, с пятнами сорванных лавиной растений, комьев земли, камней вдруг высовывается рука и вращательными движениями образует в снегу воронку. Потом из этой самодельной воронки появляется бородатое лицо, и сквозь ветви кустарника, припорошенного снегом, слышится глубокий вздох: — Уф! Как приятно дышать, особенно после того, как от этого почти отвык. Перро! Это голос Перро. — Как там остальные? Что-то никто не шевелится. — На помощь! Я задыхаюсь! — На помощь! — Перро, помогите! — Это вы, месье? Постарайтесь выбраться! Слуга, кучер и, наконец, наш джентльмен подают голоса хрипло, едва слышно, моля о спасении. Вот только Ли, повар-китаец куда-то запропастился. Как позже поймут путешественники, они чудом оказались не раздавленными или не задушенными лавиной. На их счастье, снег был пористым и пропускал воздух. К тому же, инстинктивно отворачиваясь от ветра, все они упали на четвереньки, выставив спины и опустив головы, поэтому над ними осталось какое-то количество воздуха. Только благодаря этому небольшому кислородному запасу англичанин и его свита смогли продержаться, пока не подоспел Перро. Канадец же спасся сам: благодаря своей силе и гигантскому росту он сумел распрямиться под гигантской толщей снега и пробиться к воздуху и свету. Чтобы высунуть одну только голову, ему пришлось разгрести рукой снежный покров не менее шестидесяти сантиметров. Глотнув воздуха, проводник слышит все более отчаянные, все менее различимые призывы о помощи. Мулы ведут себя очень беспокойно, фыркают, тянут то вперед, то назад, они совершенно обезумели и того гляди задавят находящихся рядом людей. Метису, к счастью, довольно долго прыгая на месте, подняв вверх руки, удалось проделать вокруг себя что-то вроде колодца. При этих прыжках охотник задел ногой что-то твердое. Оно жалобно попискивает. Перро встает на этот предмет и, подпрыгнув, успевает окинуть взглядом долину, заваленную снегом. Какое счастье! Слой снега кончается! В трех метрах — чистая скала! Канадец набирает полные легкие воздуха, наклоняется в ту сторону, где видна свободная от снега земля, и, прижав к груди подбородок, вытянув вперед сцепленные руки, врезается как пловец в плотную подушку снега. Невероятным усилием он расчищает небольшое пространство, потом отступает, чтобы иметь разбег, и подбадривает тех, кто еще под снегом: — Ну, давайте держитесь, я стараюсь для вас, а это нелегко… Перро бросается вперед вторично — рот, ноздри, глаза залеплены снегом, не хватает воздуха, ему кажется, что он оглох, ослеп, но упрямец работает ногами, руками, выгибает спину, раскачивает торс, упирается в преграду головой, удлиняя спасительный коридор. Ну, третий, и последний, бросок! — Господи, благослови! — горячо молится охотник. Перро передвигается по этому туннелю с величайшей осторожностью, чтобы не осыпались стенки, пробирается к твердому предмету, на который он только что наступил, но попадает ногой в петлю какой-то веревки. Опять доносятся странные приглушенные звуки. Канадец нащупывает веревку и подтягивает ее, предмет ползет следом. Перро тянет еще, отступая на три шага уже по ровной поверхности плато, и, несмотря на драматическую ситуацию, не может удержаться от смеха — веревка оказалась длинной косичкой китайца. А предметом, на который он наткнулся, был сам повар. — Ну, знаешь, обезьяна, тебе повезло, что ты не носишь парика. Твой хозяин своей шевелюре не мог бы сказать спасибо. Но хватит, однако, смеяться. Помня о серьезности момента, неустрашимый охотник без промедления опять врубается со всей силы в толщу снега, извлекая на этот раз нашего джентльмена. Тот — без сознания, лицо — восковой бледности. Засыпанным мулам дышалось легче, воздух сохранился под навьюченным на них грузом. Но его уже не хватает, и животные начинают отчаянно биться. Ведомые безошибочным инстинктом, которого, к сожалению, нет у человека, они угадывают, чувствуют, в какую сторону надо направить усилия, чтобы вырваться из снежного плена. Словно повинуясь приказу, четвероногие пробиваются коридором, параллельным коридору Перро. А канадец тем временем ныряет, вытягивая из снега лакея и кучера — одного за руку, другого за ногу. Оба недвижимы, как трупы. — Уф! — отдувается отважный спасатель. — Больше не могу. И неудивительно, черт возьми! Мулы с грузом на спине, связанные, как вы помните, вместе, устраивают такую пляску, что свод коридора рушится и едва не заваливает ослабевшего Перро. — Но! Милые мои, поосторожнее! Поосторожнее, но-но! Мулы, дрожа, с содранной кожей, охотно слушаются и останавливаются. — Животные целы-целехоньки, — бормочет метис, едва переводя дыхание, весь в поту, еле держась на ногах, — а вот люди, кажется, плохи. Начнем с хозяина. Эй, месье, опасность миновала, приходите же в себя. Он меня не слышит, ну ничего, капля спиртного его оживит. Надо открыть рот, но, Бог мой, не вытащу ли я из сэра Лесли челюсть, как грубиян Лось? Буду осторожен. Англичанин, глотнув немного виски, с трудом открывает наконец глаза, поднимает голову, видит грубоватое, доброе лицо охотника, берет флягу и, опорожнив ее на добрую четверть, потягиваясь, встает. Он может двигать руками, ногами и даже говорить: — Это вы, Перро? — Да, месье. — Вы еще раз спасли мне жизнь. — Каждый делает что может, месье. — Вы с такой самоотверженностью участвуете в этой экспедиции, заботитесь, чтобы она удалась. — Черт возьми! Я ведь дал слово помочь убить бигорна и делаю все, чтобы его сдержать. Кстати, предчувствия мне подсказывают: долгожданный момент близок. — О, если б это было так! — Я не собираюсь командовать, но послушайтесь совета: лучше ружье иметь при себе. Если в этих местах есть бигорны — а я в этом уверен, — они скоро появятся здесь, посмотреть, не завалена ли лавиной их дорога. Тут ошибиться невозможно: кто говорит «лавина», тот говорит «бигорны». Оживившись от таких обещаний и от виски, наш джентльмен очистил ствол ружья от набившегося снега, убедился, что курок и весь механизм работают нормально, вложил в оба магазина патроны и, не сводя глаз с хорошо обозреваемой горной тропы, начал с нетерпением ждать. Тем временем Перро силится привести в чувство других участников экспедиции, которые не подают признаков жизни. — Ну что за мокрые курицы, — ворчит отважный канадец, — стоит ли падать в обморок от снега, навалившегося на спину и забившего уши? И как вам не стыдно лежать без движения, когда ваш хозяин уже на ногах. И животные живы-здоровы! В ответ — ни звука. Тогда метис подтянул к себе кучера и начал так энергично массировать его торс, что бедняга заорал, зовя на помощь. Возница пришел в себя уже через две минуты — так эффективно растирание, средство простое, но надежное, тем более что канадец вкладывал в свои действия энергию и уверенность. — Ну вот, теперь, когда ты завопил как резаный, окажи такую же помощь своим товарищам — этой китайской обезьянке и вон тому пуришинелю в ливрее. Давай, давай, три сильнее, вспомни, как загораются спички от трения, недаром они и покрыты фротфором[89]. Оглушенный этим потоком слов, чувствуя, как ноет тело после снежного купания, ослепленный солнцем, кучер взял флягу, из которой пил хозяин, отхлебнул, чтобы взбодриться, хорошую порцию и послушно пошел растирать своих товарищей. Перро, быстро зарядив свой старенький «шарп», приблизился к англичанину, который со свойственным ему фантастическим эгоизмом даже не поинтересовался, как чувствуют себя слуги. Перро внимательно осматривает местность и говорит: — А я не ошибся, месье… Они появились! — Бигорны. — Голос сэра Джорджа задрожал. — Да, бигорны. Их целая дюжина. Его Высочество потянулся за лорнетом. — Я вам не приказываю, но лучше не возитесь с этим, они могут выбежать прямо на нас как молния — не успеете и глазом моргнуть. — Но где они? — Повыше, в четырехстах ярдах отсюда, на противоположном склоне расщелины. — Эти белые неподвижные пятна? — Они самые, смотрите, смотрите, двигаются… — Только и всего, — разочарованно прошептал джентльмен. (Надеюсь, читатель уже понял, что заявление сэра Лесли, сделанное в Клубе охотников, о том, что он охотился на бигорнов, является не чем иным, как хвастливой выдумкой самонадеянного аристократа.) — Вы их недооцениваете, — продолжал Перро, — это красивейшее животное. На таком расстоянии, да еще когда смотришь снизу вверх, они, может быть, и не производят впечатления, но, поверьте, редко где можно встретить таких красавцев. — Не спорю, но как их направить в нашу сторону? — Они придут сами, добровольно, держась этой темной линии — следа, оставленного лавиной. Не забывайте, мы сейчас на их дороге, бигорны по ней ходят на выпас и возвращаются обратно. — Их могут отпугнуть мулы. — С того места мулов не видать. — А нас? — И нас — с высоты мы сливаемся с камнями и кустами, сорванными лавиной. Бигорны очень осторожны, пугливы, но любопытства у этих красавцев еще больше. Сейчас они примчатся сюда во весь опор, чтобы посмотреть, в порядке ли их дорога. — На все у вас, Перро, есть ответ. — Внимание, вот они! Я их не ждал так скоро. Сэр Джордж, опытный охотник с исключительным самообладанием, чувствует, как вспотели его ладони. Сердце лихорадочно бьется. Светло-коричневые и светло-серые пятна, оторвавшись от скал, с фантастической быстротой мчатся вниз. Силуэты их неразличимы, словно катятся обросшие мхом камни. — Они… — повторяет канадец. — Одиннадцать. Что скажете об этих прыжках, этих толчках ногами? — Восхитительно! Пятна увеличиваются, теперь отчетливо видны очертания животных. Огромная голова на изогнутой шее, устрашающая спираль рогов, ноги, заросшие сверху до колена длинной шерстью грязно-белого цвета, — зимнее одеяние бигорнов в это время года начинает спадать. На их пути — расщелина десяти метров шириной. Бигорны перенеслись с одного края на другой с удивительной легкостью — без остановки, без колебаний. И опять стремительный, безумный бег. Стадо мчится по уступу, что на сотню метров выше плато, на котором притаились наши охотники. На пути отвесная скала — шестьдесят футов[90] вниз. — Им не прыгнуть, — роняет сэр Джордж. — Посмотрим, — отвечает Перро. Едва произнес он эти слова, как все стадо бросается головой вперед, в пустоту. Каждый из бигорнов в ореоле длинной шерсти на миг застывает меж небом и землей, потом мягко опускается на ноги — металлические рессоры и снова бросается вскачь, ни на минуту не замедляя бега. Едва касаясь копытами земли, прекрасные животные приближаются к месту, где сползла лавина. Неожиданно увидев в двадцати шагах мулов и людей, они останавливаются, присев на задние ноги и грациозно вскинув головы, — воплощенное совершенство. Если смотреть снизу вверх, бигорны кажутся огромными. Сэр Джордж, воспользовавшись краткой остановкой, длящейся не более двух секунд, успевает вскинуть ружье и сделать два выстрела.
ГЛАВА 7
Жертвы. — Подготовка. — Фотографии. — Перро не узнает своего милорда. — Возвращение. — Слово в защиту «Свободной России». — Как наш джентльмен понимает благодарность. — Перро на дне пропасти.— Браво, месье! — восклицает Перро. Мощное эхо выстрела из экспресс-карабина перекатывается по Скалистым горам все дальше и дальше. — Честное слово охотника, прекрасная работа! — Вы находите, Перро? — спрашивает сэр Джордж, и его равнодушное лицо озаряется гордой улыбкой. — Я говорю то, что думаю, месье. — Этот двойной выстрел, встретивший бигорнов, можно считать выстрелом мастера. — Они оба подбиты? — Насмерть, сражены как молнией. На моей памяти никому такого не удавалось. — А вам самому, Перро? — Но мне всегда достаточно одного зверя. Я стреляю, чтобы поесть, одного хватает. — Любопытно! Все стадо исчезло разом. Из-за дыма я даже не заметил, куда они скрылись. — Они бросились в сторону, фьють — и нет их. Эти животные, почуяв опасность, не теряют времени даром. Ну что ж, пойдем за добычей. — С удовольствием. Хочу посмотреть на наши трофеи поближе и сфотографировать их с разных сторон. В несколько прыжков по тропинке, идущей по склону, они добрались до необычайно красивых животных. — Не думал, что они такие большие, — удивился сэр Джордж, останавливаясь возле первого бигорна, пораженного пулей навылет, — она вошла прямо в мохнатую грудь, а вышла через тазобедренный сустав задней левой ноги. — В высоту эти красавцы приблизительно пять футов, рост средней лошади. — И называть их баранами… Какая нелепость! — Рога, конечно, напоминают бараньи. Но если бы эта спираль не была длиной три с половиной фута и толщиной как нога мускулистого мужчины! — Название «бигорны», то есть огромные рога, гораздо больше подходит, чем баран Скалистых гор, ovis montana, как убеждал нас глупец Эдвард Проктор. Ну, судить будут натуралисты на основании подлинных документов. Перро! — Да, месье. — Давайте каждый разделает по одной туше — я сделаю массу кадров. — Ну что ж, можно начинать. — Погодите, сначала снимем их словно живых. Перро, с помощью взбодренных несколькими большими глотками виски повара, кучера и лакея, поднимает обе туши — самца и самки, прислоняет одну к другой, кажется, будто они стоят. Сэр Джордж наводит объектив анфас, в профиль, в три четверти, делает снимок за снимком, стараясь запечатлеть колоссального, удивительного барана во всех деталях. Это еще не все. Поскольку сегодня фотография еще не способна передавать цвета[91], Его Высочество среди прочей информации заносит в блокнот и основные сведения об окрасе животных. Вот слово в слово это описание, краткое, но достаточно полное: «Голова — почти круглая, срезанная по прямой линии впереди. Рога у самца непропорционально большие, достигают трех с половиной футов, расположены близко к глазам и закручены в спираль с поперечными полосами, как у барана обыкновенного (позднее по этому поводу зоологи вынесут свое суждение…). У самки рога меньше и почти прямые. Шерстяной покров туловища минимален. На спине, животе и шее шерсть короткая, прямая, грубая, словно пересушена, светло-каштанового окраса, как будто выцветшая. На груди, ногах и задней части крупа — шерсть длинная, белого оттенка. Морда и нос белые, щеки светло-каштановые, хвост короткий, черного цвета». — Кажется, все, — вполголоса сказал наш джентльмен, перечитав свои записи. — А сейчас, если не возражаете, Перро, аккуратно освежуем бигорнов, стараясь не испортить их шкуры. — Доверьтесь мне, месье, я за свою жизнь столько снимал шкур — разного размера и разного цвета. — Пожалуйста, приступайте. Эта деликатная и весьма трудная работа длилась не более получаса — так споро и дружно работали мужчины. Для любителя сэр Джордж демонстрировал прекрасную сноровку. Канадец с удовольствием его похвалил. Сняв шкуры и скатав их — дубить, чтобы не ломались, придется значительно позднее, — охотники вспарывают животным брюхо, вынимают внутренности, не забывая про почки, — если пожарить их на костре, получится вкуснейшее блюдо. Потом так же быстро снимают с костей все мясо, открывая по возможности каждую кость скелета. Конечно, препарировать приходится вчерне, но пока этого достаточно. Сейчас главное — суметь донести все это до Баркервилла, чтобы туши не загнили, а мясо не испортилось. — Если хорошенько очистить кости и засушить сухожилия, — говорит сэр Джордж, — хороший натуралист сможет, изучив фотографии, «одеть» скелет, вставить глаза, придать естественный цвет морде, одним словом, сделав чучело, вернуть этим красивейшим животным подобие жизни… Итак, наша экспедиция завершена. Завтра, Перро, возвращаемся в Баркервилл. — Как скажете, месье, я удовлетворен результатом охоты, она могла потребовать куда больше времени и сил. Пока хозяин и канадец занимались тушами, слуги освободили от поклажи мулов, собрали багаж в одно место, поставили палатку, запаслись водой и нужными травами, разожгли костер, иначе говоря, все приготовили для ужина и сна. Оправившись от страха, привычные к самым разным приключениям в горах, стреноженные мулы с удовольствием жуют сочный корм, пока повар Ли поджаривает на костре заднюю ногу бигорна. Перро насадил на вертел четыре почки, общим весом в полтора килограмма, и на две минуты сунул их в огонь. Почки надо есть слегка обжаренными, с кровью, иначе они будут отвратительны. Побыв на огне ровно столько, сколько надо, они превращаются в изысканное блюдо. Его Высочеству, который по такому случаю пригласил охотника к своему столу, угощение понравилось, а он известный гурман. Перро чувствовал себя за столом абсолютно свободно, как если бы делил трапезу с простым грузчиком из Виктории. У него отличный аппетит человека, живущего среди дикой природы. Он рвет, грызет своими волчьими зубами огромные куски дичи, щедро запивая их вином. После роскошного пира — Ли добавил к столу и часть своих запасов, — после хорошей трубки и стакана коньяка метис все видит в розовом цвете. Десять часов вечера. Покачивается звездный небосклон, улеглись мулы, позевывают слуги, наш джентльмен отправляется в свою палатку. Перро, завернувшись в одеяло и положив под голову камень, тоже устраивается на ночь. — Доброй ночи, Перро. — Доброй ночи, месье, вы очень любезны. А про себя канадец добавил, глядя на звезды: «Решительно не узнаю милорда. После удачной охоты не осталось и следа от его высокомерия, гордыни, жестокости. Черт возьми, если он и утром будет таким — а ведь теперь англичанин от меня ничего не ждет, — я осмелюсь, наверное, рассказать ему в двух словах о делах прииска, распутать которые, конечно, не легче, чем ком пакли, но для генерального инспектора нет ничего невозможного, лишь бы только он захотел нам помочь… Ну, посмотрим!» Лагерь, как и в предыдущие дни, снимается с первыми лучами солнца. Скелеты бигорнов плотно упакованы в одеяла, перевязаны веревками и покоятся на спинах двух ослов. Туда же приторочены свернутые шкуры. Сэр Джордж самолично участвует в упаковке, волнуясь, как бы не повредить в дороге драгоценные экспонаты. После сытного, хоть и на скорую руку, завтрака экспедиция отправилась в обратный путь. Она обходит быстро тающую сползшую лавину, поднимается до середины склона и оказывается на тропе бигорнов — с расщелинами, крутыми спусками, подъемами, оврагами, безднами. Как всегда, Перро идет впереди, непосредственно за ним — сэр Джордж, который по-прежнему пребывает в отличном расположении духа. Шагают они жизнерадостно, никуда не спеша, получая удовольствие от ходьбы, а время от времени и от стрельбы то по внезапно поднявшемуся зверю, то по неожиданно вспорхнувшей птице. Заядлый охотник, сэр Лесли ищет любого случая дать поговорить ружью и стреляет так метко, что удивляет самого Перро. Среди многих охотничьих подвигов сэра Джорджа было и точное попадание на лету в глухаря с расстояния в шестьдесят метров. Мишень, конечно, крупная, но любой эксперт оценил бы сложность и красоту выстрела. Канадец не скупится на похвалы, и сэр Джордж сияет от гордости: он знает, что Перро не склонен расточать пустые комплименты. Первый день пути прошел без приключений. Вечером — обильное жаркое из дичины, отличный аппетит и крепкий сон — ходьба по горам действует лучше любого аперитива[92] или снотворного. До Баркервилла два дня ходьбы. Если поторопиться, можно прибыть и к следующему вечеру. Перро разговаривает сам с собой: «Если вернемся завтра, то остается совсем немного времени, чтобы рассказать милорду о нашем серьезном деле. Его превосходительство, кажется, вполне расположен выслушать меня, и нельзя упускать этот шанс». Подходящий повод для разговора представился после завтрака. Путешественники только что двинулись в путь. Они идут бодрым шагом, хотя духота стоит невыносимая. Наш джентльмен с утра всех торопит — боится, как бы скелет и шкуры не испортились от жары, хочет поскорее отдать их для выделки. Внезапно он наступает ногой на черный, блестящий, сразу раскрошившийся камень и, теряя равновесие, хватает за руку Перро. — Честное слово, — произносит сэр Лесли, — уголь лезет прямо из-под земли. — Причем уголь отличного качества. И залегает он совсем неглубоко. — Действительно! В этом месторождении, может быть, целое состояние. Разработка на поверхности очень прибыльна. — Да, да! Вообще тут под ногами столько сокровищ! Лишь наклоняйся да подбирай. Здешний край с его углем, металлом, золотом или серебром быстро стал бы самым богатым в мире, имей предприниматели надежные гарантии властей. — Но у вас есть закон, регулирующий эксплуатацию недр. — Закон!.. Он должен быть пересмотрен от первой строки до последней, поскольку помогает не промышленникам, а разным прохвостам обирать честного труженика до нитки. Может быть, я не должен так прямо излагать все вам, генеральному инспектору… — Нет, нет, продолжайте. Мне хотелось бы знать правду, кроме того, если могу чем-нибудь быть полезен вам лично, скажите, я постараюсь помочь. — Вы благородный человек, месье! Очень признателен вам, поверьте искренности охотника. Соблаговолите тогда меня выслушать. Поскольку, идя друг за другом, беседовать неудобно, сэр Джордж пошел рядом с Перро, несмотря на то, что идти по узкой тропинке вдвоем было трудно и даже опасно. — Вот, например, расскажу вам об одной из пятисот концессий — нашей «Свободной России», которую мы едва отстояли всего неделю назад. В законе не предусмотрена наша ситуация — а именно эксплуатация уже отработанной породы. Конечно, Алексей Богданов при покупке прииска документально оговорил характер и специфику нашего дела, без этого компанию давно бы уничтожили. Но недавно против нас снова выдвинуто совершенно надуманное обвинение. Не могу только догадаться — кем. Снять бы с него скальп! Ну вот, пойдем дальше. Закон гласит: «Новый участок золотоносного песка или гравия, расположенный в местности, от которой бывшие владельцы отказались, будет рассматриваться как новый прииск, и старые шахты, находящиеся неподалеку от вновь открываемой разработки, тоже будут рассматриваться как новые». Истолковать эту статью можно так, что все шахты, расположенные на нашем участке, считаются новыми. Это и пытаются доказать какие-то подлецы. — А если они одержат победу? — Это невозможно, в контракте оговорено, что данная статья закона на нас не распространяется. — Предположите на миг, что по той или иной причине вы не можете предъявить этот контракт, что произойдет? — Нас заставят платить недоимки за семь лет — по двести пиастров в год с каждого участка. — А сколько участков? — Около тысячи. — Иначе говоря, придется выложить в итоге один миллион четыреста тысяч пиастров? — Ну да, или семь миллионов франков, если перевести на нашу валюту. Семь миллионов! Никогда нам не собрать такой суммы. — Административный комитет объявил бы вас банкротами? — Да, если бы мы не смогли предъявить наш контракт. Но он, слава Богу, в надежном месте. Впрочем, даже если документы украдут, нам нечего бояться. — Тем лучше для вас. Но все-таки почему? — Директор компании, приказчик и я дали бы клятву — нашему свидетельству поверили бы. При этих словах сэр Джордж обернулся — кучера, лакея и повара не было видно за тяжелой поклажей, — бросил быстрый взгляд на канадца, шедшего по краю тропы со спокойствием человека, не знающего, что такое головокружение… Стоило охотнику произнести слово «свидетельство», как сэр Джордж со всей силы толкнул его плечом, сбрасывая в бездну. — Дорогие дети, кто же позаботится о вас?! — душераздирающе кричит Перро, понимая, что падает. — Теперь прииск мой! — шепчет англичанин, уверенный, что никто ничего не видел.
ГЛАВА 8
Бедный Франсуа. — Тот, кого не ждали. — Находка Боба Кеннеди. — Боб в Карибу. — Еще письмо. — Боб и почтальон. — Горе и подозрения изгнанника. — Как отстранили Перро. — Могущественный враг.После тщетных попыток освободиться от веревки, Франсуа, оставленный на раскаленном песке Старой стройки, чувствует, как поднимается в его груди волна гнева. Не думая о себе, хотя муки становятся с каждым часом все нестерпимее, отважный юноша переживает за пропавших братьев, от бессилия его гнев становится еще яростнее. Физически крепкие люди, привыкшие преодолевать препятствия штурмом, не ведают, что сосредоточенность и покой бывают порой куда эффективнее отчаянных метаний. Сначала бедняга попробовал перегрызть зубами веревки на руках. Тщетно, он связан так, что зубами не дотянуться до ладоней, крепко прижатых к торсу. Можно попытаться перетереть веревки о кварцевые камни. Но сколько это потребует времени! А братья ждут помощи. О! Только бы быть свободным, держать в руках ружье, нож, железный прут или хотя бы просто палку! Не важно чем, лишь бы сражаться — против десяти, против двадцати, против сотни! Франсуа, не будь он связан, как боров, отомстил бы этим негодяям, предателям, не пожалел бы десяти лет жизни за возможность найти братьев… Но что это? Или показалось? Чьи-то шаги по сыпучему гравию. Сюда идет человек. Наверняка враг. Вот он уже рядом. Франсуа, лежащий ничком, видит перед собой только кожаные сапоги. Подошедший наклоняется, трогает охотника за плечо, пытается перевернуть. Незнакомец дышит так, словно долго бежал по гравию. В руке у него нож. — Ну, давай, не медли! — кричит Франсуа, в ушах шумит, лицо побагровело от напряжения, перед глазами красная пелена. — Бог мой, это он! — слышится гнусавый голос с отвратительным американским акцентом. Рука заносит нож. Юноша бесстрашно ждет, когда вонзится в спину холодная сталь. Но острое, как бритва, лезвие, прикоснувшись к его руке, в мгновение ока разрезает пеньковый жгут; слышится тот же гнусавый, но ласковый, растроганный голос: — Малыш, я подоспел вовремя! Как они тебя разделали! Да накажет меня дьявол, если я не сниму скальп с целой дюжины этих прохвостов. Ошеломленный, обрадованный Франсуа шевелит руками, ногами, оттолкнувшись от земли, встает, расправляет могучую грудь и подхватывает того, кто освободил его от пут, кто назвал его малышом. Охотник поднимает своего спасителя, который на целый фут его ниже, горячо целует в обе щеки и шепчет взволнованно, с дрожью в голосе: — Боб, дорогой Боб! — Да, это я, Боб Кеннеди, и никто другой! — Дорогой друг, откуда ты? Я сходил с ума от ярости и отчаяния, уже не надеясь ни на чью помощь. — Иду от вашего дома, он в таком виде… — Негодяи, наверное, разгромили все от чердака до подвала. — Они полные олухи, не то что мои соотечественники — ковбои. Те ни за что не стали бы громить ваш дом. С этими словами Боб вынимает из кармана связку банкнот, потом слитки золота, некоторые оплавившиеся. — Здесь десять тысяч долларов, половина в банкнотах, половина в слитках. Поделим банкноты, слитки тяжелые, некоторые весят не менее пятнадцати фунтов. — Да это целое состояние! — И оно обнаружено мной в нижнем ящике сейфа, взорванного динамитом. Этот ящик не был даже закрыт на ключ, а воры не догадались туда заглянуть! Рассовывайте золото по карманам, и бежим скорее. — Боб! Дай разгляжу тебя, пожму твою руку, чтобы, по крайней мере, убедиться, что ты действительно рядом. Честное слово, это сон. — Проснись и подбери упавший слиток. Доллар, дорогой мой, — нерв войны. — Да, деньги понадобятся совсем скоро, нам придется сражаться, ведь исчезли мои братья. У кого бы узнать, где они? — У меня. Жан и Жак в тюрьме. — В тюрьме? Господи помилуй, почему? — Их обвиняют в убийстве джентльмена, чей гроб я, кажется, вижу здесь. — Но это безумие! Наглая ложь! — Я бы добавил: это преступление! Хорошо спланированный заговор. И во главе его — подлецы очень высокого полета. — О, Боб, обо всем, что здесь произошло, ты, похоже, знаешь лучше меня. Но откуда? — Объясню потом, а пока давай уносить ноги! Тебя считают замешанным в убийстве и могут с минуты на минуту арестовать. — Хотел бы я посмотреть, как это будут делать! Те, кому жизнь надоела, пусть попробуют! У меня, слава Богу, два револьвера. — И у меня пистолеты, да еще винчестер, спрятанный в кустарнике, под ольхой; продолжить разговор и составить план действий лучше там. — Да, надо торопиться, Боб! — Теперь, парень, ты торопишь меня?! Молодец! Напомни еще чистокровному янки, что время — деньги, и тогда он тебе ответит: в нашем случае время — больше чем деньги, время — это жизнь. Пока шла эта краткая беседа, Франсуа совсем оправился, к нему вернулась юношеская сила, мягким шагом охотника он побежал вместе с ковбоем к лесу, чтобы спрятаться на случай, если странному муниципалитету этого края вдруг взбредет на ум пополнить тюрьму еще одним канадцем. Друзья устроились в роще так, чтобы хорошо видеть дорогу, ведущую к дому. Из трактира Сэма-Отравителя до них доносился дикий вой. — Ты помнишь, дорогой Франсуа, что после зимы, проведенной с вами, я был вызван в Гелл-Гэп: выступать на суде по делу Джонатана Ферфильда в связи с контрабандой в Горах Горлицы. — Очень хорошо помню: мы провожали тогда тебя до Делорейна — ты сел в дилижанс недалеко от места, откуда намечалось начать операцию. Потом в поместье Одинокий Дом нам пришлось дожидаться, когда же будет объявлена амнистия защитникам Батоша. Без этого Джо Сюлливан не разрешал своей дочери выходить замуж за Жана. — Все точно. Тогда вы и получили от дядюшки письмо с просьбой о помощи и втроем отправились на прииск «Свободная Россия». Я же, побывав в Гелл-Гэпе и соседних с ним райских уголках, где меня едва не повесили, вернулся в Одинокий Дом, который показался еще более грустным и пустым, чем раньше. Джо Сюлливан, потеряв возможность заниматься контрабандой, не знал к чему приложить руки, малышка Кэт бродила по дому как призрак, смертельно скучая по Жану. Честное слово, я не стеснялся в выражениях, узнав, что вы уехали без предупреждения. Мне передали письмо Перро с обратным адресом, и я сказал себе: пусть друзья не предложили мне отправиться в Карибу следом, пусть даже не оставили записки, я поеду к ним сам и посмотрю, как они меня встретят. — Мой славный Боб, но ведь мы не знали, куда тебе писать, и, кроме того, были уверены, что, приехав в Одинокий Дом, ты легко установишь с нами связь — ведь Жан в своей весточке невесте добавил несколько слов и для тебя. — Это письмо, по счастью, пришло утром в день моего отъезда. Не будь его, я считал бы, что вы меня совсем забыли. — Не издевайся, дорогой Боб. Ты прекрасно знаешь, что стал нашим приемным братом… На серые, блестящие как клинок глаза ковбоя навернулись слезы. — Не близкая дорожка от Гор Горлицы, — продолжал он, не отвечая на ласковый упрек. — После долгих дней и ночей, проведенных в поезде и дилижансе, я добрался наконец до Баркервилла и, будучи весьма стеснен в средствах, остановился в одной кривой (чтобы не сказать слепой) гостинице[93]: ее посещают люди более чем сомнительной репутации, грязная пена Баркервилла и прилегающих к нему приисков. Это было вчера вечером. Я, естественно, хотел услышать что-нибудь о «Свободной России», о дядюшке Перро, о его племянниках. Неожиданно новости оказались невеселыми, о вас говорили словно об обычных ковбоях, бросивших ранчо и приехавших сюда погулять. Умышленно поддакивая клеветникам, я многое узнал: об убийстве директора компании, об аресте Жана и приказчика, доставивших в муниципалитет убийцу, о выдвинутых против них обвинениях, об аресте Жака, приехавшего вслед за пропавшим братом, и, наконец, об ордере на арест, приготовленном для тебя, тоже как соучастника убийства. — Какое-то безумие! — Гораздо хуже — разыгранная с профессиональным блеском чудовищная партия! Получив эту информацию, я поскорее добрался до «Свободной России», чтобы помочь хотя бы тебе избежать тюрьмы. Дом оказался вверх дном. В одной из комнат валялись остатки сейфа, распавшегося, словно он из картона. Мне посчастливилось сначала открыть один ящик, чудом уцелевший после грабителей, а потом в трактире Сэма встретить двух своих давних друзей — куда ни кинь, везде знакомые! — порядочных бузотеров, но славных малых и по-своему честных. Новость, которую они сообщили, меня насторожила: хозяин трактира поит всех бесплатно и вволю. О тебе я заговорил как бы между прочим. И тут же один из приятелей заглотнул наживку. «А, это тот самый юнец, новичок, который выдавал зарплату. Он вон в той стороне! Ищите, но не рассчитывайте на нашу помощь — ни за золото, ни за серебро. Мы сейчас развлекаемся да к тому же задарма!» Информация была точной. Я искал тебя и, по счастью, нашел, дорогой мой малыш. Вот и все. А теперь за дело. — Не считаешь ли ты, что нам лучше перебраться поближе к городу? — Только не днем — боюсь, нас арестуют. Нужно дождаться вечера.Смотри-ка, всадник! — Это почтальон, который приносит на прииск письма и телеграммы. — Может быть, у него есть что-то для тебя, вернее для нас? Эй, Джон, остановись! Англичане и американцы любого китайца зовут Джоном. Джон Чайнамэн[94]. Оглянувшись на крик, житель Небесной империи останавливает мула и спрашивает Боба, что он хочет. — Есть ли письма или депеши для администратора прииска господина Перро или для братьев де Варенн — Жана, Жака и Франсуа? — Я не знаю. Посмотрю, когда подойду к дому. Нам запрещается отдавать почту вне дома. — Почтальон явно напуган колким взглядом этого невысокого паренька, определенно не расположенного подчиняться правилам. — Хватит сказки рассказывать! Давай сумку! — Нет! По правилам… С грубостью истого американца, вошедшей уже в поговорку, не тратя больше времени на слова, Боб схватил почтальона за ногу, крутанул над мулом, шмякнул о землю, затем приподнял за косичку, заплетенную на голове, сильно ударил кулаком по курносому носу и без дальнейших объяснений отнял сумку. Для китайца лучший, если не сказать единственный аргумент, который он понимает — сила. Поэтому почтальон даже не протестовал, пока Боб перебирал письма, адресованные золотоискателям. — Вот, — воскликнул он, решив уже было отказаться от поисков. — «Господину Перро, «Свободная Россия», Карибу, Британская Колумбия». Письмо из Соединенных Штатов. Поскольку вашего дядюшки нет, открой письмо сам, Франсуа. Это в общих интересах. А ты, мэтр Джон, садись на своего мула, бери доллар и двигай дальше! Мы же, малыш, давай вернемся в лесок, из которого так хорошо просматриваются окрестности. Что в письме? — Прочти сам, — озабоченно произнес юноша» пробежав строчки глазами. — Но оно на французском, я не все пойму. — Тогда слушай!
«Олимпия, 25 июня 1886. Дорогой мой Перро! Наугад посылаю вам это письмо без уверенности, что оно дойдет по адресу. За вами наверняка шпионят и всю почту просматривают. Но буду надеяться на чудо. Дело срочное. Наши противники торжествуют на всех фронтах. Эти пираты, связанные с администрацией или входящие в администрацию, могут отобрать прииск. По наивности я отправился протестовать против приказа о моей высылке к правителю-наместнику и сразу был брошен в тюрьму, хорошо еще, что не отравлен. Благодаря помощи одного врача мне удалось бежать и добраться до Америки, откуда и пишу».— Так, значит, телеграмма была не от него, — прерывает Франсуа. — Какая? — Да восемь дней назад мы получили депешу о том, что все улажено. Не будь ее, дядя никогда не согласился бы отправиться с милордом охотиться на бигорнов. — С сэром Джорджем Лесли?.. Он вчера вернулся. — Ты в этом уверен? Ты его знаешь? — Абсолютно уверен. Самого милорда я не знаю, но с его кучером, ковбоем из Дакоты, мы давние друзья. — И что же? — Он сообщил мне, что вернулся со своим хозяином из экспедиции. Убили двух бигорнов. Молодой человек сильно побледнел: — Понимаешь, дядя был проводником экспедиции. Если проклятый англичанин вернулся без него, значит… Ой, Боб, я боюсь даже думать. Кажется, это катастрофа… — Ну, Франсуа, будь мужчиной. Нельзя бросать начатое. Твои братья в тюрьме, дядя тоже был, очевидно, арестован по возвращении. Поверь мне, эти факты связаны между собой. — Если бы арестован… — Подавив дурное предчувствие, Франсуа ухватился за предположение друга. — Теперь давай по порядку. Читай письмо дальше, а вечером я что-нибудь узнаю о вашем деле. — Ты прав, Боб. В письме может быть очень ценная информация.
«Ссылка и преследования, — пишет месье Алексей, — сделали меня подозрительным. На адрес «Свободной России» могут посылаться фальшивые письма, депеши. Будьте осторожны. Ничему не верьте, абсолютно ничему. Я ни разу не писал вам, так как был заточен в одиночной камере… Ситуация сейчас такова: хотят завладеть прииском, и для этого используются все средства. Поскольку сила не на нашей стороне, надо временно отступить, хотя бы для видимости. Речь идет о жизни и смерти, а я не хотел бы сокращать ваши дни, дорогой Перро. В таких условиях бороться невозможно, нас раздавят. Поэтому по получении письма бросьте все и приезжайте сюда — гостиница «Олимпия», Вашингтон. Обдумаем, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Главное, не теряйте ни минуты. Действовать надо быстро. Жду.Всем сердцем ваш Алексей.
P. S. Любой ценой нужно сберечь контракт, подтверждающий наше право на владение прииском. Поговорите с Иваном, которому я отправляю сегодня же депешу, сообщая те же факты. Будем надеяться, что хоть одно из моих посланий попадет вам в руки».— А месье Иван был убит на следующую ночь после отъезда дяди, — замечает Франсуа. — Теперь ясно: кража документов пьянчугами, распалившимися у Сэма, и была той скрытой целью, ради которой устраивалась вся эта оргия. — И вот еще что, — прерывает его Боб. — Когда точно пришло фальшивое сообщение господина Богданова? — Утром того дня, когда дядя отбывал в экспедицию. Через два-три часа после первого письма к нему прибыл курьер от сэра Джорджа, вручив второе письмо с настойчивым приглашением на охоту. Хорошо помню: известие от нашего русского друга было подписано Богданов, а не Алексей, как обычно, что несколько насторожило дядюшку. Но, успокоенный фальшивкой англичанина, он отбросил всякие колебания и уехал. С того проклятого дня начались несчастье за несчастьем: убийство директора, арест братьев и приказчика, разгром дома, кража документов и денег, наконец, ордер на мой арест… — Да, это, как ты теперь убедился, звенья одной цепи. Сначала приказом правителя-наместника удалили месье Алексея, затем услали подальше дядю Перро, дабы воспользоваться вашей молодостью и неопытностью в делах, наконец, убили директора. Даю голову на отсечение: тут не обошлось без сэра Джорджа Лесли, странного охотника на бигорнов. — Боже мой, вот что пришло мне в голову… — Что именно? — Ведь этот человек — брат правителя-наместника… Черт возьми! К тому же он генеральный инспектор приисков края. — Так чего же ты хочешь? Я уверен, охотник на бигорнов — главный вдохновитель всех этих подлых дел. А его сообщник — правитель-наместник. Нечего больше и гадать. Мы напали на след. Месье Алексей как в воду глядел, написав, что эти пираты пользуются поддержкой администрации, а может быть, и являются ею. — Но в таком случае, Боб, мы погибли, с такими людьми бороться невозможно. — Ну вот еще! Ты решил отступать? — Боб, ты меня знаешь. Без тени колебаний пожертвовал бы я собой, чтобы спасти братьев. Но, боюсь, и этого будет мало. — Ба! Такое ли мы еще видели! У нас в кармане десять тысяч долларов, а десять тысяч долларов — роковая цифра. Имея такую сумму, я готов объявить войну самой королеве и наголову разбить ее войска на море и на суше.
ГЛАВА 9
Сообщники. — Как создавалось дело «Свободной России». — «Временное изъятие» контракта на владение землей. — Поражение, мат. — Компания «Бигорны и Карибу». — Преступный суд. — Публика возбуждена. — Закон Линча[95]. — Призрак. — Все в тюрьме.Начисто лишенный совести, Джордж Лесли, выбрав какую-нибудь цель, идет к ней напрямик, используя любые средства. Презирая человечество, он безмерно эгоистичен. Этот аристократ не остановится ни перед каким насилием, чтобы осуществить свой план или просто каприз. Ни привязанностей, ни долга, ни самоотверженности, ни уважения, если только речь не идет о собственном «я», не существует для этого человека. Он способен поджечь город, чтобы прикурить сигарету и повергнуть в кровавую бойню целую армию, чтобы насладиться созерцанием чужих страданий. Уезжая из Англии, разоренный «джентльмен» сказал себе: «Я быстро восстановлю состояние и вернусь богатым per fas et nefas»[96]. Такой человек, как сэр Джордж, не может быть бедным. У него есть все, чтобы добиться своего. В жизни он цепок, умеет, как шахматными фигурами, играть людьми и скрывать под маской избалованного высокородного господина лицо низкого, жестокого и расчетливого врага. Врага всего человеческого в человеке. Отправившись в экспедицию, все поставил на кон, словно желая разом выиграть пари не только с приятелем из Клуба охотников, но и с самим Господом Богом. Прибыв в Карибу, Его Высочество сразу остановил свой выбор на «Свободной России», надеясь, что самая богатая и процветающая компания приисков станет его легкой добычей. Не откладывая дела в долгий ящик, вельможа досконально изучил дело с точки зрения юридической, просмотрел все досье, получил информацию об акционерах «Свободной России», просчитал ее расходы и доходы и, завороженный красноречиво-манящей цифрой, воскликнул: — Скоро я буду главным акционером этой добывающей компании! Ловкач-англичанин начал подыскивать себе в сообщники мерзавца, который понимал бы его с полуслова и был бы для всех вне подозрений. Таковой нашелся в лице шерифа округа — человека еще молодого, сообразительного, активного, энергичного, обвешанного долгами, испорченного пороками, до безумия амбициозного и готового на все. Несколько энергичных слов, и сэр Джордж уже держал его в руках, не связав себя никакими обязательствами, кроме обещания способствовать повышению, которое могло бы удовлетворить аппетиты самого ненасытного. — Цель такова, — объяснил он шерифу. — Нужно любой ценой вытеснить с приисков акционеров «Свободной России». Вы слышали? Любой ценой! Иностранцы нам ни к чему, вы принесете благо стране, выгнав их прочь. Место генерального прокурора округа освободится через неделю, оно будет ваше в обмен на эту услугу, а еще — станете членом нового административного совета акционеров и получите десятую часть акций. Так когда вы собираетесь начать? — Завтра же, ваше превосходительство. Сегодня я… — Ни слова о ваших замыслах, не хочу ничего знать. Главное, одержать победу. Цель оправдывает средства. Вот две тысячи долларов на расходы. Действуйте, не стесняйте себя ни в чем. Достаточно искушенный, чтобы всю ответственность взять на себя, прохвост сделал то же, что и его патрон, — начал искать вице-прохвоста, решив поручить ему проведение операции. — Сэм-Отравитель прекрасно с этим справится, — сказал шериф сам себе после размышлений и немедля вызвал в кабинет трактирщика. В прошлом фальшивомонетчик, приговоренный к восьми годам принудительных работ, он был освобожден четыре года назад с условием помогать шерифу шпионажем; негодяй оказал шефу полиции уже немало услуг, а тот крепко держал его в руках и мог в любой момент отправить на каторгу за скупку краденого золота, которой Отравитель занимался почти не таясь. — Сэм, — начал шериф без всякого вступления, — кажется, контракт на владение землями «Свободной России» фальшивый, абсолютно фальшивый. Чтобы убедиться в этом, нам нужно его посмотреть… — Но, месье, его можно взять на время, — отвечает Сэм, понявший все с полуслова. — Я рассчитываю на вас, чтобы подготовить условия для этого временного изъятия. — И правильно делаете, месье шериф, мне нужно только одно… — Я ни о чем не хочу знать, действуйте как знаете. Когда этот так называемый контракт будет у вас в руках, принесите его мне. Даю вам восемь дней! — Хорошо. Но если полетят головы и будут переломаны у кого-нибудь ребра… — Ну, Сэм, такое разве в диковинку? На этих золотых полях много отчаянных и сильных головорезов — тем хуже для голов и ребер тех, кто послабее. Держите, вот тысяча долларов на расходы. Получите еще столько же, когда принесете документы. Кроме того, мы подумаем, не пора ли отменить давно установленную за вами слежку. Пока Сэм умело готовил операцию, сэр Джордж послал правителю-наместнику шифрованную телеграмму и добился от брата приказа о высылке из страны Алексея Богданова, главного акционера «Свободной России» и души всего прииска. Когда основной противник был удален, сэр Джордж с облегчением вздохнул и решил, что легко справится с Перро и директором, но тут появились три каких-то юнца. — Пусть они вас не беспокоят, — успокоил шерифа Сэм-Отравитель. — Дело на мази, — доложил шериф Его Высочеству. За восемь дней сообщники никак себя не проявляли, так что и Перро, и его племянники, и директор поверили, что дела улажены или, во всяком случае, начинают улаживаться. Истекал срок, данный шерифом Сэму для исполнения поручения. Контракт необходимо было достать ближайшей ночью. После фальшивки за подписью Богданова, отправленной на адрес «Свободной России» самим шерифом, все успокоились, и Перро по настойчивому приглашению сэра Джорджа без колебаний отправился на охоту за бигорнами. Тем более что наш джентльмен посулил за участие в экспедиции золотые горы — отказаться было трудно. Едва Перро уехал, Сэм предоставил рабочим прииска кредит — теперь понятно, из каких денег. Возбужденные алкоголем старатели ждали получки, а трактирщик знал, что вовремя ее выплатить не смогут. Для осуществления своего плана он позвал Рыжего Билла — головореза, способного ради денег на все. — Вот тебе, Билл, двадцать пять долларов, сегодня ночью в одиннадцать часов ты залезешь на крышу дома хозяина прииска, спустишься через трубу в комнату директора, одолжишь у него связку ключей и спрячешь так, чтобы никто не пронюхал, где они. — А если директор окажет сопротивление, если он сунет мне в бок револьвер… — Не бойся, каждый вечер господин Иван приходит сюда выпить грога. Сегодня в его бокал я подолью несколько капель надежного снадобья, и русский будет дрыхнуть как убитый. — А если все-таки проснется? — Полоснешь ножом по горлу! И больше не приставай ко мне с вопросами! Вот, бери свои доллары, столько же получишь, когда справишься с делом. Рыжий Билл удалился, бормоча себе под нос: — Лучше сразу помахать ножичком, тогда точно не проснется. План Сэма был очень прост: забрать у директора ключи от сейфа и тем самым помешать выдать рабочим заработную плату. В состоянии пьяного возбуждения — а питья будет море — рудокопов легко подтолкнуть к мятежу и затем к грабежу или поджогу дома: а тогда уж ничего не стоит взорвать динамитом сейф. Замысел не совсем удался, так как Рыжий Билл, убив директора и украв ключи, попался с поличным. Ключи оказались у братьев. Сэм, лишившийся помощника, нашел другого подручного, половчей и повезучей. Тот, согласившись помочь похоронить директора, связал Франсуа и бросил умирать на краю рва. Сейф же — взорвал. Шериф, в чьи руки Жан с приказчиком передали убийцу директора, ничуть не взволновался. Он выслушал рассказ о зловещих событиях на прииске, сделал вид, что всему верит, посадил Рыжего Билла в камеру, а когда Жан со своим спутником готовы были удалиться, объявил им, что, по зрелому размышлению, их тоже должен арестовать, пока это темное дело не прояснится. Конечно, молодые люди начали бурно негодовать, тогда могущественный шериф, пожав плечами, позвал помощников и приказал запереть недовольных в камерах, соседних с камерой убийцы. К вечеру приехал обеспокоенный Жак, его постигла та же участь. Потом шериф, понимая, сколько выгоды можно извлечь из этого дела, выписал ордер на арест Франсуа и решил открыть следствие, словно он и впрямь подозревал, что братья причастны к убийству. Обвинение было абсурдным, идиотским, разваливалось на глазах, но, вовремя пущенное в ход, оно при определенном нажиме могло и должно было напугать этих здоровых парней. Тюрьма многих меняет, даже ломает. После нее, полагал шериф, этих мальчишек будет легко заставить навсегда покинуть Британскую Колумбию. А начнут упорствовать — отдам под суд, и, кто знает… не придется ли им закончить свои жизни на виселицах? Пока шеф полиции разбирался с юными защитниками прииска, сэр Джордж искал возможности расправиться со своим проводником. Поняв, что отважный канадец не собирается ни при каких обстоятельствах складывать оружие и будет продолжать при любых условиях всеми силами защищать «Свободную Россию», англичанин абсолютно хладнокровно решил отправить его на тот свет, выбрав удачный момент, позволявший все списать на несчастный случай. На той тропе, по которой они шли, случай мог представиться быстро. Негодяй, как вы видели, мгновенно им воспользовался. Резко толкнув плечом, джентльмен отправил Перро в бездонную пропасть, как раз когда охотник мотивировал силу свидетельских показаний при исчезновении документов. Совершив преступление, англичанин, сколь притворно, столь и искусно, стал сокрушаться о человеке, не раз спасавшем ему жизнь: — Бедный Перро, такой сильный! Такой ловкий! Один неверный шаг… Подумайте, один неверный шаг… Слуги склонились над обрывом, но даже не поняли, крутой или пологий у него склон, поскольку все заросло деревьями, лианами, терновником, густыми кустами. Тело Перро, падая отвесно, очевидно, угодило в стремительный поток, шум которого доносился до горной тропы. Вернувшись в Баркервилл, Его Высочество для порядка сообщил о том, что метис из Канады месье Перро, находившийся временно на службе у Джорджа Лесли, по неосторожности сорвался в бездну. Смерть наступила мгновенно. — Ну что ж! Можно передавать концессию преемнику, — цинично воскликнул шериф. — А как наследники? — вроде бы невзначай спросил сэр Джордж. — Все складывается самым лучшим образом, ваше превосходительство. Вот те самые документы, о которых вы хлопотали. — Очень хорошо, дайте мне их изучить да досуге. Да, кстати, дело о назначении вас генеральным прокурором округа продвигается. — Вы очень добры, Ваше Высочество. — Приказ о назначении, очевидно, будет подписан послезавтра, но вы можете уже сегодня приступить к выполнению новых обязанностей, поскольку место вакантно. — Ваше Высочество, не думаете ли вы, что мне представляется удачный случай начать свою деятельность в новой должности с предъявления трем молодым людям обвинения в убийстве директора прииска? — Прекрасно, дорогой прокурор. Начните следствие по делу об убийстве, и эти чудаки будут, я надеюсь, примерно наказаны, — отвечает мошенник, делая вид, что верит в виновность Жана, Жака и приказчика. — Но есть ведь и четвертый подозреваемый? — Да, Ваше Высочество, третий — племянник погибшего гида Перро. Его никто не видел с момента убийства. — Вот уж действительно порочная семейка! — бросил джентльмен на прощание. На следующий день Джордж Лесли, подумав, отправил телеграмму своему партнеру Эндрю Вулфу на адрес Клуба охотников. Она извещала об убитых бигорнах и о тех мерах, которые были приняты, чтобы зоологи могли со знанием дела определить, к какому роду относятся эти необычные величественные создания. Шкуры и скелет, выделанные местным умельцем, будут тотчас высланы в Англию. Попутно также отправятся фотографии, и компетентные ученые наконец рассудят в затянувшемся споре — коза или баран — уважаемых членов Клуба Эдварда Проктора и Джеймса Фергюссона. Сэр Джордж завершал телеграмму уточнением, к которому не мог остаться равнодушным Эндрю Вулф: «Передвигаю королеву на черную клетку, шах королю. Вам остается только ход на белую клетку. Тогда я объявляю шах моим белым офицером и… мат. С дружеским приветом, до скорого свидания, мой милый Вулф». Затем, как и положено азартному игроку, у которого мозг всегда работает, а совесть спит, джентльмен начал сочинять устав будущего финансового общества, которое он возглавит как президент. Поскольку жить «Свободной России» осталось недолго — решение о лишении владельцев прииска их прав должно быть подписано не позднее, чем через два дня, — сэр Лесли хотел быть готовым принять богатую концессию и рассмотреть обращения состоятельных акционеров. Но какое имя дать новому коммандитному товариществу? «Свободная Россия» больше не годится. Не случайно, конечно, имя бигорнов прицепилось к кончику пера будущего президента. А почему бы и нет в конце концов? Компания «Бигорны и Карибу» — звучит красиво и экзотически. «Свободная Россия» умерла! Да здравствуют «Бигорны и Карибу»! С момента возвращения сэра Джорджа прошло всего три дня. Как видим, он не терял времени даром. Уже больше недели, как Жан, Жак, приказчик и Рыжий Билл заперты в одиночках. Боба и Франсуа никто не видел, по понятным причинам они не хотели показываться на людях. Нетрудно представить себе, в каком нервозном состоянии находились молодые люди, заключенные в тюрьму, лишенные воздуха, света и новостей, возмущенные выдвинутым против них диким обвинением. С каждым часом они чувствовали себя все хуже, метались, громко кричали, требуя прекратить это несправедливое заточение и пригласить судью. Наконец их просьба была удовлетворена. В Англии следствие по уголовному делу ведется открыто, в то время как у нас его держат в глубокой тайне. Обвиняемый может иметь рядом с собой адвоката, который подсказывал бы ему, как отвечать, — судья не вправе этого запретить. За исключением тех случаев, когда обвиняемый сразу признает себя виновным, он имеет — в глазах суда — презумпцию невиновности[97], его не ловят на слове, не устраивают ловушек, не мучают, как это случается во Франции, напротив, ему дают полную свободу спорить на равных, при свидетелях, со следователем, выдвигать свои аргументы, опровергать нередко ошибочные заключения противной стороны. Конечно, на все это уходит много времени, но зато насколько уменьшается вероятность осуждения невиновного! В разрез с традициями английского правосудия наши молодые люди — два брата и приказчик — с самого начала оказались во враждебной среде. Вместо нейтральности, а иногда и доброжелательности судьи они чувствуют нескрываемую злобу, ожесточение, все разговаривающие с ними открыто демонстрируют свою предвзятость. Поскольку никого из адвокатов арестованные не знают, им прислали несимпатичного чиновника в рединготе без пуговиц, вельветовых брюках и стоптанных башмаках; от него за версту разит вином и табаком. Вместо того чтобы, как положено адвокату, защищать интересы своих клиентов, он, кажется, всеми силами помогает громоздить против них обвинения. Черпая силы в своей невиновности, подсудимые громко протестуют, когда судья, не привыкший себя сдерживать, кричит так, словно он уже приговорил их к смертной казни: «Да, вы убийцы!» Бессмысленно ждать от него доказательств, развернутых аргументов, убедительных выводов, служитель Фемиды сразу принимается рассказывать истории, вычитанные в бульварных газетенках, возмущается ранней испорченностью подростков, расписывает их зверскую жестокость, воспроизводит по-своему сцену убийства директора и всегда завершает речь словами: «Да, вы убийцы!» Такое впечатление, будто он нарочно разжигает ненависть присутствующих — людей без стыда и совести: зачастую пьяных прохвостов без кола без двора, которых всегда много на приисках и которые сейчас под угрюмым взглядом Сэма-Отравителя теснятся на грязных скамьях зала суда. Это те же самые типы, что за пригоршню монет и бесплатную выпивку недавно громили «Свободную Россию». А судья, уверенный в своей безнаказанности, открыто взывающий к негодяям, находящимся в зале, все тянет и тянет обвинительную речь! Один из бандитов, — как и следовало ожидать, — вскочив с ногами на скамью, кричит хриплым голосом: — Довольно сказки рассказывать! Дело ясное! Эти молокососы совершили убийство — или я не я! Отдать их под суд Линча! Три намыленных веревки, скользящий узел — и можно вешать негодяев на первом дереве… — Да, да, правильно! Суд Линча, и без промедления! Смерть убийцам! Смерть! Линчевать! Тут молодчики, подкупленные Сэмом, шумно встают, устремляются к перегородке, отделяющей подсудимых от зала, и хотят расправиться с обвиняемыми, не теряя ни минуты. Молодые люди, хоть и безоружны, готовятся постоять за свою жизнь, в то время как судья и пальцем не шевелит, чтобы утихомирить бурю, им же поднятую. Внезапно дверь зала суда с грохотом распахивается, и появляется человек гигантского роста — левая рука подвязана бинтом, лицо все в ссадинах. Он отстраняет здоровой рукой самых распалившихся и кричит громоподобным голосом: — Стоп, обманщики! Жив курилка, и ему есть что рассказать! По притихшему залу пробежал шепот: — Перро! Перро! Откуда он взялся? — Дядя! Дюдюшка! — воскликнули Жан и Жак, остолбеневшие от удивления и радости. — Да, ребятки мои, это я — вовремя прибыл почти с того света… — Что вам угодно, по какому праву мы мешаете слушанию дела? — с бесстыдством спрашивает судья. — По праву честного человека, знающего истину, вами тщательно скрываемую, слышите, вы, поборник закона Линча? Хотите знать, откуда я вернулся? Со дна бездны, куда отправил меня бандит, которому я несколько раз спасал жизнь и которому неймется завладеть чужим добром. О, теперь я разгадал его игру. Если я жив, то лишь благодаря случаю, которых много в нашей жизни на фронтире[98]. Падение на сто футов, сквозь плотный кустарник и перепутанные лианы. Не всякому удалось бы спастись и вовремя появиться, чтобы разоблачить негодяев. — Приказываю вам замолчать! — требовательно кричит судья, предчувствуя, что быть скандалу. — А я открыто обвиняю перед всеми здесь собравшимися человека по имени Джордж Лесли, недостойного подданного Ее Величества, выдающего себя за генерального инспектора и пытавшегося меня убить. Я обвиняю его также в том, что он украл или подбил других на кражу… Неописуемый гвалт перекрывает голос старого охотника. Размахивая здоровой рукой, он борется с полицейскими, которые по приказу судьи заполнили зал. Судья, недостойный своего звания, опасаясь публичного разоблачения махинаций в деле о «Свободной России», а также того, что выступление канадца, которого здесь очень любят, все испортит — многие в зале встанут на сторону пленников и освободят их силой, — торопится арестовать охотника по обвинению… в нарушении порядка… Увы! Во всех странах судьи имеют неограниченную власть и выносят заключение в зависимости от личного мнения. — Вот черт! — ворчит Сэм, одним из последних покидая зал суда. — Как я испугался за судью и особенно за себя. Этот дьявол Перро умеет устраивать свои делишки… Хорошо, что он теперь за решеткой. Но надо еще заставить его молчать. Иначе мы все погибли. Пожалуй, вот что: завтра ночью нападем на тюрьму, похитим пленников и линчуем их… Конечно, придется разориться на две-три бочки «сока тарантула», но, честное слово, против сильных болезней — сильное лекарство!
ГЛАВА 10
Люк, носовой платок и веревка. — Хлороформ[99]. — Трио пьяниц. — Условия Боба и Франсуа. — Капитуляция по-индейски. — Боб закручивает винт. — Побежден. — Свободны! — Путь в Америку. — Безумие.Получилось все, как задумали высокопоставленные преступники. Пока суд оскорблял невиновных и подталкивал к беспорядкам толпу, сэр Джордж составил документ на лишение «Свободной России» всех прав. Как генеральный инспектор с неограниченными полномочиями, англичанин имел право потребовать от «Свободной России» внести в казну в течение суток сумму в один миллион четыреста тысяч пиастров. Неисполнение этого приказа влечет за собой немедленно и без обжалования — аннулирование «русской» концессии. Раз директор убит, основной акционер выслан из страны, а на остальных заведено судебное дело, документ о лишении прав предъявлять некому, он остается в распоряжении шерифа, вернее, одного из его помощников. По причине отсутствия акционеров имущество концессии не может быть сохранено, все решения суд имеет право выносить заочно. Бесстыдные, преступные законы, но они пока в силе. Десять часов вечера. Если к этому же часу следующего дня «Свободная Россия» не уплатит фантастическую сумму в семь миллионов франков, она согласно закону перестает существовать и ей на смену официально придет компания «Бигорны и Карибу». Известие о чудесном воскрешении Перро и его драматическое появление в зале суда сэр Джордж выслушал равнодушно, пожав плечами. — Что ж, странностям в жизни нет конца, — произнес он, пощипывая свои седеющие бакенбарды. — Но какова дерзость — выдвигать против меня такое обвинение! Придется и с ним, и с остальными разделаться окончательно. Не позднее следующей ночи все они будут вздернуты на столбе по всем правилам суда Линча. А вот коротышка шериф далеко пойдет, ишь как все устроил! Ведь и впрямь, надо иметь талант, чтобы, служа вроде строгому и безупречному правосудию, натравить толпу на невиновных, которых нам как раз и хочется устранить! Вынеся столь глубокое и беспристрастное суждение о правовых органах страны, джентльмен сначала выкурил с удовольствием сигару, не торопясь выпил чашку чаю, потом принялся за ритуал подготовки ко сну с тщательностью человека, знающего себе цену и питающего к бренной своей оболочке истинное уважение. Он бросил последний удовлетворенный взгляд на составленный им акт, упраздняющий «Свободную Россию». Этот документ соседствовал с уставом компании «Бигорны и Карибу». Англичанин прочитал его как вечернюю молитву и лег в постель, заснув крепким сном праведника.
Резиденция сэра Джорджа расположена в центре Баркервилла, между банком и кальвинистской церковью[100], — солидный, двухэтажный дом, словно крепость, полностью скрытый от посторонних глаз стенами, решеткой и деревьями палисадника. На первом этаже находится кухня, столовая, гостиная, комната для курения, ванная, каморка повара Ли и клетушка, в которой спит кучер. На втором этаже апартаменты сэра Джорджа. Пять роскошно обставленных комнат, а также закуток лакея, который все время должен быть под рукой. Еще выше чердак, куда никто не заглядывает. Пробраться в этот массивный дом, где заперты все двери и обитатели решительны и вооружены до зубов, практически невозможно. Поэтому генеральный инспектор спит как убитый. Первый сон крепок. Разве услышишь, как над головой что-то таинственно зашуршало. Если бы спящий проснулся и взглянул хотя бы краем глаза на происходящее, то при тусклом, но достаточном свете ночника разглядел бы черный квадрат, внезапно появившийся на потолке между балок. На первый взгляд — ничего особенного, но почти в полночь это отверстие в две ладони шириной соединило спальню Его Высочества с заброшенным чердаком. В любом случае сэр Джордж подумал бы, что это ему снится, особенно когда из отверстия стала спускаться на веревке белая тряпка — все ниже, ниже, пока не коснулась постели. Действительно, возможно ли на самом деле смехотворное появление здесь банальной белой тряпки? Но вот запах ее — тонкий, всепроникающий запах эфира, заполняющий комнату своими раздражающими волнами, — банальным не назовешь. Поскольку эта тряпка — обыкновенный носовой платок, перехваченный посредине простой веревкой, — висит прямо над лицом нашего аристократа, он вдыхает сладковатый аромат в больших дозах, но никак не реагирует. Две минуты полной тишины, слышно только, что дыхание спящего стало более глубоким, с присвистом. Носовой платок быстренько взлетает, на миг исчезает и спускается вновь, опять смоченный летучей жидкостью, запах которой напоминает запах спелого ранета. На этот раз никто не держит платок над носом спящего, его просто бросили ему на лицо, а сэр Джордж не шевельнулся и совсем не знает, что за операцию над ним производят. Еще через две минуты окошечко в потолке громко захлопнулось. Кажется, теперь никто не старается соблюдать тишину. Вскоре под тяжелыми шагами содрогнется деревянная лестница, дверь в спальню сэра Джорджа широко распахнется, пропуская каких-то мужчин — лиц под широкополыми шляпами не видно. Один из пришельцев высокий, другой низенький. Они идут прямо к кровати, на которой спит, неподвижный как труп, инспектор края, вытаскивают его из-под одеяла и ловко одевают. Наш джентльмен совершенно недвижим и позволяет делать с собой что угодно, а когда его перестают поддерживать, валится на пол как паяц кукольного театра, у которого разом оборвались все нитки. — Но как же вынести его отсюда, не привлекая внимания прохожих? И не боишься ли ты, что он проснется раньше, чем мы его донесем? — Положись на меня, милый Франсуа, — отвечает низенький, так гнусавя, что и при слабом свете ночника можно узнать Боба. — Я не первый раз пользуюсь хлороформом и гарантирую, он проснется не раньше чем через час. — Ладно, пошли! — Подожди минуточку. Что там за бумаги на столе? Вот пожалуйста! Контракт на владение землями «Свободной России»! Какая удача! Франсуа, спрячь эти бумаги в карман. Каждая из них стоит не меньше пятидесяти тысяч долларов. Это очень облегчит нашу задачу. — Ну, Боб, хватит разговоров, пойдем отсюда, — торопит молодой человек, тщательно спрятав бумагу во внутренний карман охотничьей куртки. — Ол райт![101] — отвечает ковбой, беря спящего джентльмена под руку. — А ты, Франсуа, подхвати-ка его под второе крылышко. Спокойно, так, словно все слуги подкуплены, они спускают сэра Джорджа по лестнице, ступенька за ступенькой, выходят во двор, и Боб командует: «Стоп!» — Что такое? — Положи-ка Его Высочество и хорошенько вываляй в пыли. — Зачем? — Да чтобы он был похож на бродягу. Вот так, прекрасно, теперь идем. Они снова подхватывают сэра Лесли под руки и выходят на плохо освещенную улицу, где пока ни души. Американец затягивает песню пьяницы, сказав Франсуа: — Делай, как я, пусть ноги заплетаются, качайся, пой… Они шли, петляя и спотыкаясь, а похищенный, болтаясь между ними, безвольно повторял эти замысловатые па. Внезапно перед ними вырос полицейский. — Куда направляетесь, ребята? — спрашивает он с оттенком симпатии и зависти в голосе. — Вот дружок перебрал лишнего, — говорит Боб, вполне натурально икая, — а мы крепко держимся на ногах, у нас ясная голова, доведем его до дома. — Не очень полагайтесь на свои крепкие ноги, — отечески советует полицейский. — О, не беспокойтесь, мы так пятьдесят миль можем пройти, — расхвастался, как и положено пьяным, Боб. — Спасибо вам и спокойной ночи. — Спокойной ночи, друзья. Этот причудливый спектакль длился не больше четверти часа. Пятнадцать минут спустя молодые люди уже были на другом конце городка, перед стоящим на отшибе мрачным, из тяжелых бревен, домом. Боб открывает дверь ключом, который достал из кармана, и командует: — Неси его сюда. Франсуа молча подхватывает англичанина под руку, как подхватил бы ребенок куклу, и входит в комнату первого этажа. Боб зажигает лампу, одеялами плотно завешивает окна, на которых уже спущены ставни, связывает спящему руки и ноги и говорит: — Предосторожности нелишни. Эти англичане всегда рвутся в бой. Подождем, когда он проснется, теперь уж осталось не более пятнадцати минут. Ну, что скажешь, малыш, об этой операции? — Она мне кажется невероятной. Я не поверил бы, что все это происходило в действительности, если бы здесь не лежал полностью в нашей власти этот господин. Уж мы потребуем у него отчета… — Да, да, потребуем, — произнес ковбой с такой интонацией, что вздрогнул бы самый бесстрашный. — Смотри-ка, а он просыпается раньше, чем я предполагал. Сэр Джордж открывает глаза, зевает и пытается потянуться. Пробуждение длится минуты две. Боб и Франсуа застыли как каменные. Сэр Джордж, сначала удивленный, а затем обеспокоенный тем, что он в незнакомом месте, связан и два незнакомца с ненавистью пристально смотрят на него, хорохорится и спрашивает громко: — Где я? Кто вы такие? По какому праву привезли меня сюда? Франсуа решает ответить. — Вы находитесь в доме, где часто проводят ночь гуляки и пьяницы, вокруг — никакого жилья, можете кричать сколько вздумается. Моего друга гражданина Америки зовут Боб Кеннеди, а я Франсуа де Варенн, племянник Перро, за которого вы нам еще ответите, и брат тех парней, которых послушный вам шериф засадил — против всех законов — в тюрьму. Мы доставили вас сюда по праву сильного. — А если захотите узнать, каким образом, — издевательски продолжает Боб, — с удовольствием вам расскажу, поскольку это моя личная выдумка и мне не чуждо тщеславие изобретателя. Сначала мы подкупили ваших слуг, вместе с китайцем, — дали по две тысячи долларов каждому. Эти славные ребята, получив наличными, вручили нам ключ от вашего дома и сбежали — все, кроме китайца, который временно служит нам. Мы устроились на чердаке вашего дома, прихватив с собой еду, веревку, флакон с хлороформом и носовой платок, из уважения к вам — идеально чистый. Затем подняли половицы точно над вашей кроватью и терпеливо ждали, пока вы вернетесь и ляжете спать. Когда вы крепко заснули, я щедро пропитал хлороформом носовой платок, привязанный к веревке, а мой друг Франсуа — вот он — аккуратно спустил его прямо вам на нос. Хлороформ подействовал, и мы, взяв вас с двух сторон под руки, как бравого выпивоху, что после встречи с бутылкой не держится на ногах, доставили сюда. — Но что вы от меня хотите? — высокомерно спрашивает сэр Джордж, уверенный, что нет такой силы, которая бы заставила его делать что-либо против воли. — Вот чего мы хотим: шериф округа — ваш друг и такой же негодяй, слушается вас без колебаний и размышлений. Сейчас же напишите ему письмо, черновик которого мы приготовили. Читаю:
«Господин шериф! Поразмыслив, я понял, что мы совершили ошибку по отношению к двум братьям де Варенн и приказчику компании «Свободная Россия». Несчастное стечение обстоятельств побуждало думать, что арестованные виновны, но сегодня я не сомневаюсь в их непричастности к убийству, а поскольку в тюрьме они по моей вине, прошу вас, вернее приказываю, выпустить их на свободу немедленно — в какое бы время суток ни пришло это письмо, принесенное моим слугой — китайцем. Действуйте без промедления, сегодня от этого зависит моя жизнь, а завтра, быть может, и ваша. Мы проиграли, надо смириться. Само собой разумеется, что и мой гид Перро должен быть одновременно выпущен из тюрьмы».— И вы полагаете, я это подпишу? — говорит сэр Джордж, презрительно пожимая плечами. — Письмо будет не только подписано, но и написано целиком вашей рукой. — Забавное желание! — Оно действительно покажется вам невинной забавой по сравнению с тем, что ждет вас, если станете упорствовать. — Вы все сказали? — Нет, не все. Мы также требуем от вас, генерального инспектора, отменить штраф, незаконно наложенный на «Свободную Россию». — Вы слишком самоуверенны, ребята. — Подождите, и это еще не все. Вам придется письменно признаться, что вы пытались убить моего родственника — Жозефа Перро. Попытка не удалась, — но это не меняет дела. — А что я получу взамен? — Жизнь. — Это все? — Мы не можем требовать ни больше, ни меньше. — А если я откажусь? — Вы не откажетесь, поскольку Боб может вас сделать полностью послушным своей воле. — Индейцы, — продолжает Боб, — научили меня, как сделать человека абсолютно сговорчивым. — А выполнив ваши требования, я сразу буду свободен? — Не держите нас за идиотов! Мы отправимся вместе с вами, всемером, в специально нами нанятом дилижансе до первой железнодорожной станции, потом поездом доберемся до американской границы. В дороге, предупреждаем, при малейшем подозрительном жесте или слове вы будете убиты на месте. — Так вот, я отказываюсь, — вызывающе, срывающимся голосом кричит сэр Джордж. — Ладно, я так и думал, — флегматично замечает Боб. — Начнем с самых простых приемов, не оставляющих следов… Вы же придаете большое значение своей внешности, я это учту, — продолжает ковбой с угрожающей иронией. — Франсуа, обнимите покрепче этого джентльмена, чтобы он не двигался. Вот так, хорошо. Удивительно проворно Боб набрасывает на голову сэра Лесли — на уровне лба и висков — веревку, заканчивающуюся петлей. В петлю просовывает деревянную палку и добавляет: — Франсуа, держи крепче, он сейчас начнет дергаться. С этими словами ковбой начинает крутить палку, так что веревка все сильнее сжимает голову. Лицо англичанина становится багровым, он хрипло кричит, бьется в руках могучего юного метиса. Боб продолжает экзекуцию. Лицо его превосходительства становится синюшным от вздувшихся, едва не лопающихся вен, потом покрывается каплями пота. Еще поворот, и сэру Джорджу кажется, что череп дал трещину и через нее выползает мозг. Но у него достаточно энергии, чтобы прохрипеть: — Негодяи! Вы можете меня прикончить, все равно ничего не добьетесь! — Эта песенка нам знакома, — бросает американец. — Вначале все так говорят, а в конце концов уступают. Да вы не беспокойтесь, от этого не умирают. Веревка, правда, портит ваш скальп. Смотри-ка, Франсуа, у господина парик. В этом нет ничего плохого, мое замечание не должно вас обижать, месье. Ну, напишете письмо по доброй воле? Нет? Тогда я продолжаю. Чтобы освободить себе руки, ковбой засовывает конец палки за шиворот нашего джентльмена и обвязывает такой же веревкой с палкой туловище. — Эта веревка сделает вашу талию тоньше, чем у осы. Теперь сэру Джорджу кажется, что из него выдавливают кишки, он испускает душераздирающие, сдавленные стоны, а из глаз, расширенных от страшной боли, ручьями текут слезы, орошая не только щеки, но и одежду. Боб совершенно невозмутимо готовит еще одну веревку с палкой. — Теперь я вам свяжу большие пальцы ног, так делают индейцы. Когда же все три веревки будут прилажены, начну работать всеми зажимами. Вот так! — бросает он, резко крутанув палку у головы. Раздается дикий, животный вой, сэр Джордж краснеет, бледнеет, бьется в судорогах, икает, словно в агонии. — Сейчас по ребрам, — поясняет Боб, — кто молчит, тот на это согласен. Сжатые с чудовищной силой мышцы рвутся, на губы фиолетового цвета вываливается синий язык и стекают капли крови. Франсуа, бесстрастный как все индейцы, хладнокровно наблюдает эту страшную сцену. Даже если бы он по молодости лет пожалел сэра Джорджа, мысль о братьях и дяде подавила бы этосочувствие. — Ну что ж, — продолжает насмешливо ковбой, — крутим дальше. Теперь пальцы, это место чувствительное. Вы пока еще в подготовительном классе, подождите, вот когда я начну крутить все три винта одновременно… — Нет, нет, хватит, — заикаясь, надтреснутым голосом лепечет что-то нечленораздельное аристократ, сломленный болью. — Вы принимаете наши условия? — Да, да, ради Бога, ослабьте веревки. — Пожалуйста, ваше превосходительство. Вы правильно сделаете, если капитулируете, человек не в состоянии это переносить. Выпейте стаканчик виски, чтобы прийти в себя. — Нет, воды… — Воды? — удивленно переспрашивает Боб. — Значит, вам хуже, чем я думал. Вот то, что вы просите, а также бумага и ручка. Вы ведь готовы все написать, так ведь? — Да, — произносит замученный инспектор, жадно глотая воду. По лицу его с располосованного лба, смешиваясь с потом, стекает красноватая серозная жидкость. Разбитый, сломленный, побежденный, утративший волю к сопротивлению, сэр Джордж пишет, останавливаясь, чтобы сделать еще глоток и обтереть лицо, по которому струится пот и кровь. За полчаса он написал письмо с приказанием освободить пленников, распоряжение, отменяющее штраф в миллион четыреста тысяч долларов, и записку, подтверждающую, что им совершена попытка убить Перро. Когда все бумаги готовы, Франсуа выходит в коридор и громко зовет: — Ли, идите скорее сюда! Китаец, все такой же чистенький, ухоженный, с невозмутимым лицом фарфоровой куколки, почтительно кланяется своему бывшему хозяину и ждет приказаний молодого человека. — Вы получили уже тысячу долларов, так, Ли? — Да, месье. — Получите еще столько же, когда отнесете это письмо шерифу. — Да, месье. — Пойдете вместе с шерифом в тюрьму и приведете к нам четверых пленников, среди которых Перро, — его вы хорошо знаете. — Да, месье. — Идите да поскорее, вас ждет тысяча долларов. Китаец, может быть, первый раз в своей жизни бросился бежать, а Боб снова скрутил сэру Джорджу руки, не развязывая ног. Затем Франсуа передал другу два винчестера и два револьвера, столько же положил возле себя и сказал пленнику, лежащему без сил: — Если вам дорога жизнь, молитесь, чтобы шериф не усомнился в вашей подписи и не заподозрил что-то неладное. Иначе, клянусь, живым отсюда не выйдете. Прошел час в полном молчании, в нервном ожидании; даже исключительная гордость не помогала трем мужчинам скрыть свое волнение. Наконец на улице послышались голоса и писклявая речь китайца, приглашавшего сопровождающих войти. Дверь резко распахнулась, вошел Ли, за ним Перро, чья гигантская фигура закрыла на мгновение черный квадрат дверного проема; потом Жан, Жак и приказчик. — Боб! Это Боб с Франсуа! — дружно закричали братья, потрясенные и радостные. — Вы и есть Боб Кеннеди, друг и, можно сказать, брат моих ребят? — прервал Перро. — Вы настоящий человек, и я люблю вас всем сердцем. Охотник едва не удушил американца в объятиях. — Вы свободны? — спрашивает Франсуа. — Освобождены без всяких условий. — А шериф? — Отпустил нас и сбежал, позеленев от страха. Но поясните… — Больше ни слова, времени мало, — прервал Боб, прекращая излияния братских чувств. — В дилижансе мы тридцать часов будем вместе, пока доберемся до станции Ашкрофт, где пересядем на поезд. Этого вполне хватит, чтобы рассказать друг другу обо всем в мельчайших деталях. Шериф и линчеватели могут опомниться. Вот каждому винчестер, патронташ с сорока патронами и револьвер… А тут продукты, чтобы заморить червячка в дороге. Ну, дилижанс готов, лошади впряжены. Итак, господа, в путь, в Соединенные Штаты! Четверть часа спустя тяжелый экипаж, с оглушительным скрежетом подскакивая на ухабах, мчался к югу, унося всю компанию — Перро, трех братьев, Боба, приказчика, сэра Джорджа и китайца Ли. Они беспрепятственно добрались до железной дороги, пересели в забронированный заранее вагон, за десять часов преодолели южную часть Британской Колумбии, пересекли границу и прибыли в гостиницу «Олимпия», где их ждал Алексей Богданов. За все тридцать восемь часов ослабевший, подавленный, не похожий на себя сэр Джордж не произнес ни слова, его перетаскивали как тюк с вещами. Уверенные, что на американской земле они в безопасности, наши герои, не испытывая никакой злобы к поверженному врагу, отправили Его Высочество в Викторию на пароходе международной компании. Поскольку сэр Джордж с трудом понимал, что к чему, Перро попросил англичанина-капитана: — Позаботьтесь о нем, это брат правителя-наместника. Тут наш джентльмен впервые открыл рот и произнес: — У правителя-наместника брат бигорн, бигорн — это я. Кто я — коза или баран — спросите у Джеймса Фергюссона и Эдварда Проктора, там, вы знаете, в Клубе охотников… — Да он совсем помешался, — объявил Перро, вернувшись от капитана. — Что же вы хотите, — с философским спокойствием ответил Боб, — этот подлый человек все храбрился, а я все завинчивал винт, может быть, оказался затронутым мозг… Честное слово, тем хуже для него. Меня совесть не мучает.
Конец второй части
ЭПИЛОГ
Два месяца прошло после тех драматических событий. Алексей Богданов, президент общества «Свободная Россия», воспользовавшись благоприятным случаем, продал собственность коммандитного товарищества. Он заключил — можно прямо сказать — необычайно выгодную сделку. Покупатель в лице консорциума[102] английских промышленников и банкиров заплатил наличными. Перро получил пропорционально своей доле сумму в пятьсот тысяч франков. Это истинное богатство для охотника, сумевшего и раньше скопить деньжонок. Боб Кеннеди и братья — Жан, Жак и Франсуа, — спасшие концессию от неминуемого краха, получили по сто тысяч франков в виде чеков на предъявителя. Хотя славные парни не хотели ничего брать, повторяя, что не собирались продавать свою помощь, Алексей Богданов, уезжая в Европу, так настаивал, что им пришлось в конце концов согласиться. — Да что мы будем делать с такими деньгами? — спросил ковбой, не веря своим глазам. — Купите земли на северо-западе, возьмете в жены прелестных канадских девушек и нарожаете деловых фермеров, — ответил русский, в голосе которого чувствовалась горячая симпатия. — Неплохо, — ответил Боб, — я заведу семью и тоже стану франко-канадцем. Мы поселимся недалеко друг от друга и образуем великолепную колонию… Независимые, освобожденные от необходимости зарабатывать на хлеб насущный, приготовившись жить до глубокой старости, изредка, когда уж очень захочется, пускаться в приключения, молодые люди отправились на северо-запад Канады. Хорошо зная богатства этой страны, они остановили свой выбор на землях к востоку от Батлфорда, недалеко от слияния двух рек — Северного и Южного Саскачевана. Местными жителями, в основном участниками недавней войны, только что получившими амнистию[103], вновь прибывшие были встречены дружелюбно, им оставалось только выбрать любой из свободных участков земли — а те были один лучше другого. Мы не будем описывать, как устроились наши герои. Расскажем только один эпизод, имевший прямое отношение к человеку, который едва их не погубил. Однажды в Батлфорде друзья зашли в бар, чтобы освежиться после трудов праведных, и Боб увидел на столе иллюстрированный журнал с портретом на первой странице, который заставил его вздрогнуть. — Ого, черт бы меня побрал, кажется, это тот человек, помогите мне вспомнить его имя, человек с бигорном… — Сэр Джордж Лесли? — Да, да. — Наш друг Боб прав, — воскликнул Перро, бросив сердитый взгляд на фотографию. — Но почему журнал «Девятнадцатый век» печатает портрет этого негодяя? — Там, наверное, объяснено, — замечает Франсуа. — Посмотрите, Боб. — Вот тебе, пожалуйста. Это и впрямь интересно, — ответил бывший ковбой, пробежав глазами колонку текста, относящуюся к фотографии. — Читайте, Боб. — С удовольствием. «Многие, наверное, еще помнят об отъезде видного члена лондонского Клуба охотников сэра Джорджа Лесли в конце мая месяца на охоту за бигорнами в Карибу. Отъезд был мотивирован условиями пари. Мы не будем на нем останавливаться, поскольку оно интересно только для тех, кто его заключил. Речь шла об определении, к какому роду, с точки зрения зоологии, относятся бигорны — козы или овцы. Сэр Джордж, азартный охотник и спорщик, решил во что бы то ни стало поймать хотя бы одного бигорна и привезти его скелет компетентным ученым, которые бы и решили этот вопрос. Во время полного приключений путешествия по Скалистым горам сэр Джордж записывал интересные сведения, относящиеся к жизни аборигенов, и посылал их членам Клуба охотников, так что они шаг за шагом могли как бы следовать за экспедицией. Весьма ответственно относясь к сбору документов, путешественник взял с собой фотоаппарат новейшей марки и небольшой фонограф. Попав вместе со своими носильщиками-индейцами в засаду и очутившись в руках краснокожих, известных под именем Кровавые люди, сэр Джордж Лесли сфотографировал и записал отвратительную сцену каннибализма. Неизвестно, как он выбрался живым из этой переделки, но Клуб охотников получил фотографии и фонограммы. Один из предпринимателей, почуяв выгоду, купил эти документы за большую сумму и, развернув широкую рекламу, начал их демонстрировать перед публикой. Как и следовало ожидать, увеличенные проектором кадры и усиленные мегафоном звуки имели большой успех. Всем хотелось посмотреть сцены настоящего каннибализма, услышать душераздирающие крики жертвы и звериный вой людоедов. Одним словом, на демонстрацию, моральная сторона которой более чем сомнительна, был большой спрос, и она приносила крупные барыши. Но вот однажды один из миссионеров[104], хорошо знающий язык, на котором общаются индейцы, расшифровал на фоне оглушительного шума слова, вырывавшиеся у истязаемой жертвы. Эти слова являлись настоящим обвинительным заключением против сэра Джорджа. Охваченный преступным любопытством, он отдал на съедение каннибалам одного из своих носильщиков; того мучили долго, в соответствии с утонченно-жестокими традициями каннибалов, а затем разрубили на куски. По фонограмме слышно, как несчастный обвиняет своего хозяина и как каннибалы благодарят сэра Лесли за обильную пищу. Фонограф, бесстрастно зафиксировавший все звуки, не оставляет никаких сомнений в виновности сэра Лесли. Конечно, городские власти не стали закрывать на это глаза, заполучили фотографии и фонограммы и в качестве вещественного доказательства соучастия сэра Джорджа в убийстве индейца, подданного Ее Величества королевы, передали их в суд. Суд обязательно состоялся бы, тем более что общественное мнение давно возмущается обращением с подданными колониальной империи Ее Величества. Но тут узнали, что сэр Джордж потерял рассудок. Сумасшествие его не было агрессивным, он называл себя то козой, то бараном… Это спасло его от законного наказания. Но в тюремной ли камере или в доме умалишенных он все равно наказан; попранные законы нравственности восторжествовали».Конец

Луи Буссенар. Ледяной ад
* ЧАСТЬ I. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В МЕЗОН-ЛАФИТЕ *
ГЛАВА 1
Ужасный контраст.– Таинственное письмо.– Шантаж.– 50 тысяч франков или смерть.– Полицейский агент.– Княгиня ожидает.– Потерянная нить.– Дьявольская ловкость.– Лошадь без всадника.– Последняя угроза.– Зарезанный человек.– Красная звезда.– Самоубийство.Первые апрельские ласточки с веселыми криками преследуют друг друга и, как безумные, кружатся в лазури неба, где сияет великолепное весеннее солнце. Раскрываются первые почки, развертываются цветочные венчики, и в прохладном воздухе носится тонкий и нежный аромат весны… Хорошо жить на свете! Да, хорошо жить в двух шагах от великолепного Сен-Жерменского леса, в цветущих виллах, окаймляющих дорогу из Мезон-Лафита к древней королевской дубраве. Несколько парижан, тосковавших по деревне и считавших за счастье укрыться от сутолоки большого города, наслаждались этим поэтическим пробуждением природы. В числе их была семья Грандье, уже две недели как поселившаяся на вилле Кармен. На календаре было 25 апреля, 8 часов утра. Глава семьи, высокий и красивый мужчина, лет сорока пяти, с непокрытой головой, потным лбом и багровыми щеками, нервно шагал по большой конторе, из окон которой были видны рощицы, лужайки и аллеи хорошо расчищенного английского сада. На маленьком столике стояла нетронутая чашка с чаем. Забыв о ней, хозяин дома тяжело вздыхал, произносил бессвязные слова, стискивал зубы и ломал руки. Видно было, что у него страшное горе. Между тем в дверь постучали. – Войдите! Вошел слуга с подносом, на котором грудою лежали журналы, письма и газеты, и произнес: – Почта барину! – Хорошо, благодарю, Жермен! Едва слуга успел выйти, как господин его наклонился над подносом, порылся в корреспонденции и нашел крепкий квадратный конверт из толстой бумаги желтоватого цвета, на котором вместо печати была красная звезда с пятью лучами. При виде его он испустил глухой стон, побледнел еще больше и с дрожью в руках, в ужасе пробормотал прерывающимся голосом: – Красная звезда!.. Ах! Я погиб… это седьмое… последнее!.. Трепетавшие пальцы разорвали конверт, и оттуда выпало письмо, также с красной звездой. После минутного убийственного молчания он произнес глухим голосом: – Денег!.. Они хотят денег… огромную сумму… а я разорен… не имею кредита… эта роскошь только показная… Но они не хотят верить… и грозят умертвить моих детей!.. дорогих, любимых, которых так долго охраняла моя любовь. Да, они убьют всех… они перережут всех… если я не дам денег… И сегодня последний срок!.. Но денег у меня нет… и попытки мои… вернуть их… убили мой кредит… ускорили мое разорение… Вот!.. Я был добр… честен… доверчив… Ах!.. Теперь я расплачиваюсь за это. Между тем, в то время как господин этот предавался наедине своему горю, из соседней комнаты через открытое окно ворвалось несколько фортепьянных аккордов. В саду, в кустах, малиновки, зяблики и соловьи заводили свои трели. Бабочки упивались нектаром первых цветов. И очарование, разлитое в природе, составляло такой резкий контраст с отчаянием этого человека, что несчастный не мог удержаться от рыданий. Вскоре, однако, устыдившись своей слабости, он протяжно вздохнул и сказал вполголоса: – Надо с этим покончить! – и порывисто нажал кнопку электрического звонка. Тотчас же явился слуга. – Там есть кто-нибудь? – спросил господин Грандье. – Да, какой-то человек дожидается уже добрую четверть часа! – Введите его немедленно! Вошел незнакомец, еще молодой, среднего роста, с живым, проницательным взглядом и просто одетый. Лицо его свидетельствовало об уме и решительности. – Это вы – агент, присланный полицейской префектурой? – спросил господин Грандье после короткого поклона. – Да, сударь! – Как поздно вы явились!.. Если бы вы знали, с каким нетерпением я ждал вас! – Я был в отлучке и немедленно по получении депеши отправился к вам, даже не заходя домой. – Вы меня спасете? – Постараюсь сделать все, что возможно. Предупреждаю, однако, что я буду состоять при вас в качестве официального лица… чтобы содействовать Версальскому суду… так как мы уже не в департаменте Сены! – Справитесь ли вы? – Вы увидите это на деле; на всякий случай я приглашу еще двух товарищей. Но прежде познакомьте меня с сутью дела! – Читайте это письмо: оно объяснит вам все! Агент взял письмо, пощупал бумагу, вгляделся в почерк и прочел вполголоса: «Милостивый государь! Пишу вам в седьмой и последний раз. В седьмой и последний раз повторяю вам: вы богаты, а мне нужны деньги. Направляю на вас это письмо, как пистолет, и говорю: кошелек или жизнь!.. Пятьдесят тысяч франков или я убью вас, умертвив предварительно по одному всех членов вашей семьи. Мне нужны эти пятьдесят тысяч франков, чтобы сделать карьеру в Клондайке, этой золотой стране, где энергичные люди становятся миллионерами в несколько недель. И вы дадите их мне сегодня же! Я предложил вам неделю, чтобы реализовать эту сумму, и такого срока в вашем положении совершенно достаточно. Не пытайтесь меня обмануть или укрыться от меня. Я принял все меры предосторожности, я знаю час за часом все, что вы делали за эту неделю, и вы всецело находитесь в моей власти! Вы ездили два раза в Версальский суд и раз в полицейскую префектуру. Вы приказали охранять свой дом ночью и днем, что является верхом глупости по отношению к человеку моего пошиба. Но довольно болтать! Вы должны иметь пятьдесят тысяч франков… вы их имеете и вручите сегодня мне. Вложите деньги в конверт и отдайте его лицу, которое ровно в полдень будет у опушки леса. В назначенный час мужчина в каштановой ливрее перейдет дорогу в десяти шагах от въезда в лес. Вы скажете ему: «Я – господин Грандье». Он ответит: «Княгиня ожидает», и вы вручите ему выкуп за себя и свою семью. Может быть, вы попытаетесь задержать его. Это было бы глупо, так как он не соучастник мой и не отвечает за свою роль. Это наемник, считающий себя доставщиком политической корреспонденции. Во всяком случае, надо все предвидеть. Предупреждаю, что если вы измените мне,– в эту же ночь будет совершено убийство: я не отступлю ни перед чем и готов убить человека так же легко, как раздавить улитку. Итак, в эту ночь я зарежу какого-нибудь гражданина этой страны. Для большей убедительности у него будет перерезано горло от одного уха до другого и вырезана ножом на коже левого виска моя эмблема – красная звезда. Примите это к сведению!» – Ну, что вы скажете на это? – спросил несчастный Грандье слабым голосом. – Скажу,– отвечал с важностью агент,– что все это сводится к простому шантажу! – Но эти страшные угрозы, повторяемые каждый день в течение целой недели? – Шантаж, и все эти «красные звезды», бумага не обычного формата, сильные выражения этого письма, не соответствующие цели,– все это не больше, как театральные эффекты. Уверяю вас, сударь, мой полицейский нюх говорит, что вы имеете дело с простым мошенником, которого мы и поймаем… другого я ничего не могу предположить! – А если… – Я отвечаю за все; не беспокойтесь: никто не будет убит, об убийстве не кричат за целых двенадцать часов вперед! – Что же делать? – Положиться на меня, вложить в конверт пятьдесят фальшивых билетов и отправиться в полдень на свидание с человеком в ливрее. Остальное – мое дело! Уверенность полицейского ободрила господина Грандье, он начал оживать. Между тем агент продолжал: – Сейчас девять часов. У меня как раз достаточно времени, чтобы переодеться и дать знать своим помощникам. Потом мы возьмем в руки нить дела я уже не выпустим ее! – Делайте, как считаете нужным. Отдаю свою судьбу в ваши руки! – И вы правы. То, что мы спасем вас, так же верно, как то, что мое имя Жерве! И агент удалился, уверенный в успехе. В назначенный час господин Грандье находился у опушки леса, тщетно отыскивая глазами агента. Он заметил верхового, по-видимому, внимательно изучавшего план леса. Только на минуту этот всадник кинул незаметный взгляд в его сторону, и Грандье скорее угадал, чем узнал в нем полицейского агента, поразительно удачно замаскировавшегося. Несколькими шагами далее какой-то субъект в коротком пиджаке и переднике пил из стакана у прилавка с винами; там же остановился железнодорожный служащий, державший под мышкой небольшой пакет, похожий на почтовую посылку. Все. трое, казалось, совершенно не знали друг друга. С замиранием сердца господин Грандье услышал первый удар часов, бивших полдень. Он перешел дорогу в лес и увидел человека в ливрее, пересекавшего путь. Грандье приблизился к нему, держа письмо на виду, и проговорил: – Я – господин Грандье! – Хорошо! Княгиня ожидает! – ответил тот. Не прибавив ни слова более, Грандье вручил ему письмо и повернулся. Незнакомец вежливо поклонился, опустил письмо в карман и направился по дороге в лес. Между тем всадник успел уже сложить свою карту и очень ловко объехал таинственного посланника: известно, что самый верный и надежный прием выследить кого-нибудь – находиться впереди его. Железнодорожный служащий и таинственный субъект следовали на недалеком расстоянии от незнакомца, делая вид, что зевают по сторонам, а на деле готовые броситься на него. Тот шел уверенным шагом, с видом человека, имеющего спокойную совесть и средства к жизни. Таким образом он прошел около трехсот метров, пока не достиг места, где две дороги пересекались под прямым углом. На одной из них стоял лесник, держа за повод оседланную лошадь. Незнакомец остановился, обменялся с ним несколькими быстрыми словами, потом взял повод, вскочил в седло и помчался со скоростью поезда. Жерве, полицейский агент, предвидел этот маневр и, пока его помощники стояли в замешательстве, пришпорил свою лошадь и бросился ускоренным галопом преследовать беглеца. Последний, казалось, не мог ускользнуть от такого превосходного наездника, как Жерве, имевшего к тому же великолепного коня. Лесник же остался под присмотром Шелковой Нити и Бабочки – двух полицейских, переодетых один работником, другой – служащим железной дороги. Они добросовестно следили за подозрительным лесником и видели, как он направился к одной из тех решеток, какими отделяют охотничьи участки. Минут десять он шел вдоль решетки и, наконец, остановился перед маленькой железной дверцей, проделанной в палисаде. Он быстро отпер дверь ключом, проскользнул в нее, опять запер и скрылся во рву. Одураченные таким неожиданным исходом дела, агенты двинулись вперед и приблизительно через полчаса вышли на лесную дорогу, благоустроенную, но совершенно пустынную. – Постараемся сориентироваться и определить, где мы находимся! – сказал Бабочка, вынимая из кармана план леса. Неровный лошадиный галоп отвлек его внимание и заставил поднять голову от плана; его товарищ тоже насторожился. Прямо на них скакала лошадь, вся покрытая пеной; повод был закинут ей на шею, а стремена болтались по бокам. Инстинктивно они бросились наперерез ей, цепляясь за повод, за гриву и прилагая все силы, чтобы остановить обезумевшее животное. Когда это удалось наконец, то вопль горести и ярости вылетел из их грудей: они узнали лошадь, которую их начальник, Жерве, взял для себя за три часа перед этим! Господин Грандье был немного успокоен полицейским агентом; хладнокровие последнего невольно внушало доверие. Он забыл беспокойство, мучившее его целую неделю, лег рано в постель и впервые за все восемь дней уснул крепким сном. В шесть часов утра его разбудил шум голосов. Лакей его разговаривал с садовником, исполнявшим в то же время должность привратника и жившим в домике близ решетки. – Я говорю вам, Жермен, что письмо заказное, и его нужно передать барину во что бы то ни стало, как объявил человек, принесший его и чуть не оборвавший звонок! – Подайте сюда, Жермен, подайте! – сказал Грандье, уже предчувствуя беду. Ледяной холод проник ему в грудь: он заметил красную звезду, напечатанную на толстом конверте из желтой бумаги. Лихорадочно разорвав его, несчастный прочел следующие строки, ходившие ходуном перед его глазами: «Вы обманули меня! Убедившись, что необходим труп, чтобы побудить вас к повиновению, я совершил этой ночью убийство, как и предупреждал. Отправляйтесь на улицу Св. Николая и вы увидите там мертвеца с моею печатью на левом виске. Завтра в полдень вы доставите мои пятьдесят тысяч франков или ваш сын погибнет будущею ночью. Теперь вы знаете, что я держу свое слово!» Поспешно, сам не сознавая, что делает, господин Грандье оделся и бросился по указанному адресу. Вот и улица Св. Николая… Взволнованные люди суетятся, кричат… открывается дверь… растрепанная женщина испускает крики, хватающие за душу… во дворе – беспорядок и отчаяние. Жандарм прибегает в тот момент как Грандье, не сознавая, что он делает и говорит, входит в дом и произносит, почти задыхаясь. – Я хочу видеть… труп! Толпа расходится, а он входит в комнату, где рыдают какие-то люди, которых он даже не замечает. На постели, обагренной кровью, лежит труп зарезанного, с большими открытыми глазами. Страшная рана пересекает его горло от одного уха до другого. Похолодевший от ужаса, но словно влекомый неведомой силой, Грандье наклоняется над этим трагическим, застывшим лицом… Левый висок исполосован ножом… линии разрезов изображают пятилучевую звезду… – Красная звезда…– лепечет через силу несчастный.– Я также… я должен умереть! Он оставляет комнату, толкая встречных и бегом возвращается на виллу Кармен; запыхавшись, входит в контору и запирается: там, потом, без всяких размышлений и выжиданий; берет лист бумаги и пишет трепещущею рукою: «Разоренный, доведенный до отчаяния, не имея возможности удовлетворить требование бандитов, угрожающих погубить моих близких, я умираю, завещая детям мщение. Ш. Грандье». Перечитав эти слова, он склонил голову, открыл ящик бюро, вынул из него револьвер и приставил его к виску, потом решительно, без тени колебания, спустил курок.
ГЛАВА II
Два друга.– Ученый и репортер.– Поль Редон и Леон Фортен.– Как теперь убивают.– Кое-что о морских свинках.– Чудесное открытие.– Тайна золота.– Новый металл.– Леон Фортен хочет во что бы то ни стало иметь пятьдесят тысяч франков, чтобы стать повелителем золота.– Арест.– Редон, дружище! Тебя ли я вижу? Вот приятный сюрприз! – вскричал Леон Фортен, увидев приятеля, входившего к нему в лабораторию, где он занимался какими-то опытами. Тот в свою очередь радостно приветствовал его. Поль Редон был журналист или, вернее, репортер, но репортер высшего класса, действовавший по-английски и по-американски. Он владел даром разведчика и соединял чуткость, какой позавидовал бы любой полицейский, с удивительною ловкостью. Обладая небольшим состоянием, он работал, когда хотел, и получал большие деньги от влиятельных парижских журналов, ценивших его труды на вес золота. Это был красавец лет двадцати пяти – двадцати шести, с темными волосами и бородой, с матовым, как у креола, цветом кожи я голубыми глазами, острыми и проницательными. Искусный во всех физических упражнениях, страстно любящий спорт, донельзя отважный, Поль Редон имел две оригинальные слабости: он всегда зяб, кутался целый год в меха и воображал в себе всевозможные хронические болезни. Характер у него был прямой и честь незапятнана. Осмеивавший, по-видимому, все, он способен был увлекаться великими идеями. К этому надо добавить еще железную волю, какой нельзя было и подозревать в этом человеке, приходившем в ужас от сквозняков и не пропускавшем ни одного объявления о новоизобретенном средстве, исцеляющем все, даже воображаемые болезни. С Фортеном они подружились еще детьми в заведении Св. Варвары и сохранили эту дружбу до зрелого возраста. Будучи одних лет со своим другом, репортером, Леон Фортен совершенно не походил на него ни морально, ни физически. Этот здоровяк с широкими плечами и выпуклой грудью состоял как бы из одних мускулов и обладал силою атлета. Прекрасная и гордая толова его напоминала орлиные маски старых галлов, от которых достались ему в наследство большие, цвета морской воды, глаза, изящно обрисованный нос, красные губы и длинные усы. Сильный и смелый, как лев, взглянувший, казалось бы, хладнокровно даже на ниспровержение небес, он обладал мягкостью и добротой, привлекавшими к нему все сердца. По виду его можно было отнести, к героям и участникам громких приключений. Но в этом единственно его внешность была обманчива. Леон Фортен, сын, внук, правнук и т.д. по нисходящей линии, был потомком записных вояк. Однако, унаследовав от них внешность, он по профессии не имел с ними ничего общего – это был молодой и уже замечательный ученый. Да, замечательный, оригинальный и, может быть, гениальный ученый, открытия которого, еще наполовину только известные, наделали много шуму. Вся его жизнь сосредоточивалась на работе. – Скажи же, что привело тебя в мое скромное убежище? – спросил он приятеля. – Помилуй, неужели ты не знаешь, что в двух шагах от тебя совершено преступление? – Преступление! Здесь! Странно! – Скажи… необыкновенно, ошеломляюще! За время своей репортерской деятельности я повидал много убийств, и все они имели мотивы… – А тебе известно, кто жертва? – Да, погиб бедный, невинный человек, не имевший даже врагов; убит из каких-то необъяснимых побуждений… я бы даже сказал – из любви к искусству. – Странно,– произнес Фортен задумчивым и печальным тоном,– как нынче мало ценится человеческая жизнь! Убивают, кромсают людей ни за что… не зная их… Да, есть люди, для которых пролить кровь себе подобного значит то же, что для меня – кровь моих бедных маленьких свинок! – А ты еще мучишь индейских свинок? – Увы, да!.. Я только что открыл новое анестезирующее средство, которое в будущем вытеснит хлороформ… Сейчас ты о нем ничего больше не узнаешь!.. – И свинки страдают в ожидании, пока люди воспользуются им? – Да!.. да!.. мой старый филантроп! – Но покажи, что ты прячешь на этом столе! – А это, голубчик, величайшее открытие! Видишь на столе эти опилки? Ну, так знай, что я сейчас произвожу опыты над новым металлом, открытым мною благодаря периодическому закону элементов великого русского химика Менделеева. Этот металл обладает способностью притягивать к себе золото, как магнит железо. Я смешивал здесь крошки различных металлов и приближал к ним кусок мною изобретенного. Тогда все крошки оставались в покое, а золотые притягивались к нему. Пойми, что если сделать из моего металла стрелку, наподобие магнитной, то золотые россыпи будут оказывать на нее такое же действие, как на магнитную – железо. Ведь с моим изобретением можно прибрать к рукам все залежи золота на земле. Для меня больше не существует тайны, скрывающей золото в недрах земли, и сокровища Клондайка, Юкона, Аляски принадлежат мне! Свой металл я назову «леониум». Ну что, веришь ты в мое открытие? – Я восхищен им! – Теперь мне нужно во что бы то ни стало пятьдесят тысяч франков. Необходимо начать в широких размерах исследования относительно леония, получить в достаточном количестве чистый металл и, когда все это будет кончено, организовать под большим секретом экспедицию в Клондайк. – Вот это мне особенно по душе! – Но подумай: я не мог найти ни единого су на это так восхитившее тебя открытие. – О глупость!.. Непроходимая глупость нашей денежной буржуазии! – В Америке, где обращаются с деньгами не так идиотски, как у нас, я имел бы уже тысячу долларов! Напрасно я обращался к людям интеллигентным,– они не хотели даже выслушать меня. Если 6 ты видел, что с ними происходило при словах «пятьдесят тысяч франков». – Да, наша французская бережливость держится еще за старый шерстяной чулок! – В отчаянии я отправился к богатому промышленнику Грандье, живущему на вилле Кармен, которого считал сторонником прогресса, способным отозваться на все оригинальное и великое. Он рассеянно выслушал меня, а когда я попросил пятьдесят тысяч франков, то он попросту указал мне на дверь, назвав меня сумасшедшим. Хотя в его оправдание надо заметить, что я изложил ему дело в несколько резкой форме и только впоследствии вспомнил, что он имел все права на мое уважение. – Как это?! Какие права? – Это маленькая тайна, которую ты узнаешь потом! – Ну, если Грандье имел глупость тебе отказать, я ручаюсь, что ты получишь нужную сумму и в скором времени! Тяжелые шаги, сопровождаемые бряцаньем шпор, прервали беседу. – Здесь! – произнес грубый голос у самой двери маленькой лаборатории, устроенной Фортеном в углу сарая. – Он страшно силен, и вы должны находиться на расстоянии голоса, не дальше! Раздалось два удара в дверь. – Войдите! – отвечал молодой ученый удивленным тоном. Дверь растворилась, и показался жандармский унтер-офицер. Он, не кланяясь, приблизился к Фортену и строгим голосом спросил: – Вы – Леон Фортен? – Да! – Именем закона вы арестованы! – Я? Но это бессмыслица!.. В чем же меня обвиняют? – В том, что вы убили бедного невинного человека по имени Мартин Лефевр, проживавшего по улице Св. Николая! При этом чудовищном обвинении из груди Леона Фортена вырвался крик ужаса и негодования. – Я!.. убийца!.. но вы сами… – Молчите и повинуйтесь добровольно; в противном случае… – Но то, что вы сказали, ужасно! Против этого позора говорит вся моя честная жизнь! – Это меня не касается! – грубо прервал жандарм.– Я имею приказ арестовать вас и выполняю его! Поль Редон сделал было попытку вмешаться в разговор, но жандарм скользнул взглядом по этому закутанному в мех человеку, которого он видел утром вблизи места преступления, и пробормотал: – С вами я никаких дел не имею! Ну, прощайтесь скорее,– прибавил он нетерпеливо,– а вы, Фортен Леон, следуйте за мною! Бледный, растерянный Фортен окинул последним взглядом свою маленькую лабораторию, где провел столько отрадных минут, и сердце его сжалось от бели. Ему хотелось в эту минуту обнять отца и мать, приласкаться с бесконечной нежностью к своим добрым старичкам, как делал это в детстве, и уверить их в своей невиновности. Но они были в поле, занятые обычным трудом, и, может быть, так даже было лучше. – Я их увижу… я сказку им.. поддержу их, как сделал бы твой брат, мой дорогой Леон! – вскричал Редон, нервно пожимая руки своего друга.– А ты будь терпелив!.. Дело разъяснится… Я похлопочу об этом и сумею доказать правду, на зло чиновникам и жандармам. Теперь же я следую за тобою!
ГЛАВА III
Тягостный путь.– Истинный друг.– Перед судом.– Вопрос.– Цветы обвиненного.– Дама в голубом.– Донесение агента.– «Это вы – убийца!»Жандарм открыл дверь и повелительным жестом пригласил молодых людей выйти. На улице другой жандарм с трудом сдерживал шумную толпу. При виде Поля и Леона раздался дикий рев. – Убийцы!.. Вот они, негодяи!.. Бандиты! Смерть им!.. Смерть убийцам! Особенною яростью отличались женщины, готовые бить и всячески мучить мнимых преступников. Наконец, они прибыли в мэрию, где уже находился следователь и помощник прокурора Республики, приехавшие из Версаля, и мировой судья из Сен-Жермена. Редон нежно обнял своего друга и прошептал несколько слов утешения. – Ну, довольно! – положил конец их беседе жандарм. Редон дружески протянул ему руку. Он был знаком со всеми и находился в наилучших отношениях с магистратом. Пользуясь благоприятным случаем, он живо отвел в сторону своего знакомого и шепнул ему на ухо: – Поверьте, вы страшно заблуждаетесь; даю вам честное слово, что Фортен невиновен! – Я очень бы желал этому верить, но мы арестовали его, имея важную улику! – Какую же? – Этого я не могу сообщить! – Хорошо, но дадите вы мне возможность исследовать дело? – Охотно! – Тогда прикажите предоставить мне свободный доступ в дом, где совершено преступление. – Это можно! – Благодарю! Я не останусь в долгу! – Советую вам не горячиться, чтобы не попасть в оплошность и не повредить делу. – Еще раз благодарю вас! – Через два часа, после завтрака, мы будем допрашивать обвиняемого. Вы придете? – Да, до свидания! Теперь в зале остались только трое судей, писарь, жандармский унтер-офицер и Леон Фортен. Следователь приказал жандарму удалиться в коридор и не впускать никого, потом учтиво предложил подсудимому сесть и приступил к одному из тех ужасных допросов, какие приводят в замешательство даже невинных числом, неожиданностью и странною постановкой вопросов. Сначала следуют имена, прозвания и занятия. Фортен, Леон-Жан, 26 лет, доктор наук, препаратор парижского факультета, получает содержания 150 франков в месяц, живет у родителей в Мезон-Лафите, ездит по делам три, четыре, иногда пять раз в Париж, имеет абонементный билет 3-го класса Западной железной дороги. Пока писарь заносил эти сведения на бумагу, следователь впился глазами в Фортена и спросил его: – Знаете вы господина Грандье? При этом вопросе, по-видимому, ничего общего не имевшем с преступлением на улице Св. Николая, Фортен явно покраснел и в замешательстве отвечал: – Да, я знаю господина Грандье… но очень мало… я с ним говорил лишь однажды… при затруднительных… или, скорее, смешных для себя обстоятельствах! – Сообщите, пожалуйста, эти обстоятельства. – Охотно, так как это единственное свидание не оставило во мне ни стыда, ни упрека! Я – изобретатель и очень бедный. Нуждаясь в большой сумме с целью внедрить открытие, долженствующее произвести экономический переворот во всем мире, я ходил на прошлой неделе просить эту, сумму у господина Грандье. – А как она высока? – спросил небрежно следователь. – Пятьдесят тысяч франков! Услышав такой ответ, судейский чиновник слегка повел глазами и закусил губы, как человек, начинающий убеждаться в справедливости своего предположения. – Итак, вы хотели занять пятьдесят тысяч франков у Грандье? – Да, хотя эта попытка оказалась величайшею из глупостей, когда-либо сделанных мною! Тогда следователь перешел к другому. – Где вы были вчера в полдень? – В лесу! – Когда завтракаете? – В двенадцать часов, так что я должен был бы находиться в это время дома; но я вернулся, против обыкновения, только к часу! – Зачем же вы изменили своей привычке? – Я шел своей обычной дорогой, как вдруг увидел вспененную лошадь без всадника. Напрасно пытался я ее остановить… Я был отброшен и сбит с ног. – Сколько было времени тогда? – Четверть первого! – Когда же вы могли вернуться к родителям? – Для этого потребовалось бы около десяти минут! – Почему же вы вернулись через час? Вторично Леон Фортен покраснел и обнаружил волнение. – Отвечайте мне с полною откровенностью,– прибавил следователь,– скажите всю правду! – Уверяю вас, что я занимался очень невинным делом, совершенно чуждым печальному предмету, о котором мы говорим. – Я забочусь о ваших же интересах! Фортен, сделав над собою усилие, начал: – Хорошо! В тот момент, когда встретилась лошадь, у меня в руке был букет из фиалок и первоцвета… Одной свободной рукой я не мог удержать лошадь, и мой букет очутился у нее под копытом. Из-за этого я должен был набрать свежих цветов! В ответ на это следователь иронически улыбнулся, слегка пожав плечами. – Можете вы сказать, кому предназначались эти цветы? – Нет,– возразил с твердостью Леон,– не могу и не хочу! – Подумайте, к каким важным последствиям может повести ваше умалчивание при изложении этой малоправдоподобной истории! – Это мой секрет, и вы его не узнаете! – Как угодно… Встретили ли вы кого-нибудь по дороге? – Никого, сколько мне известно… или я не обратил внимания ни на кого. Может быть, я даже прошел мимо нескольких человек, не заметив их! – Однако вас видели! – Возможно: я не прятался. Впрочем, видевшие меня могут подтвердить справедливость моих слов! – Да, без сомнения, но не всех! При этом следователь наклонился к писарю, после чего тот положил перо и быстро вышел, а через несколько минут вернулся в сопровождении Шелковой Нити и Бабочки, двух помощников Жерве, все еще одетых – один рабочим, другой служащим Западной Компании. – Узнаете вы этого господина? – обратился без всяких обиняков следователь к Бабочке. – Да, я встретил его вчера в лесу, когда мы увидели лошадь своего начальника, бедняжки Жерве. Мой товарищ, Шелковая Нить, овладел лошадью и поехал на ней в Мезон-Лафит, я же возвращался пешком, когда заметил господина, находящегося теперь перед вами. Он привлек мое внимание потому, что шел быстро и казался взволнованным, но особенно меня поразила его запачканная пылью одежда и помятая шляпа. Удивленный исчезновением своего начальника, я искал причины этого исчезновения и, увидя незнакомца, так мало походившего на гуляющего, принялся за ним следить. Он достиг Мезон-Лафита, и я видел, как он шел вдоль решетки богатой виллы и наконец остановился и положил за столбом букет, который держал в руке. После этого он удалился от виллы, причем я следовал за ним на расстоянии почти двухсот метров; однако, мне удалось заметить очень элегантную даму, одетую в голубое, под белым зонтиком, которая торопливо взяла букет. – Вам известно название этой виллы? – Оно обозначено золотыми буквами на белой мраморной доске, находящейся над главным входом. Это – вилла Кармен! – Ну-с, господин Фортен, что выскажете на это? – спросил с иронией следователь. – Скажу, что это показания шпиона, которому нечего здесь делать! – ответил раздраженный молодой человек. При слове «шпион», неосторожно сорвавшемся с языка Леона, полицейский агент побледнел и бросил на него гневный взгляд. По знаку следователя он продолжал: – Тогда я проследил за этим господином до его дома и узнал, кто он такой. Потом мы занялись Жерве, которого нашли вечером того же дня в Сен-Жерменском госпитале в отчаянном положении. Он не узнал нас и не мог дать никаких показаний относительно нападения, жертвою которого стал. – Вы продолжаете думать, что здесь было преступление, а не случайность? – Преступление – утверждаю это! Кроме того заявляю, что этот господин, занятый в лесу собиранием маргариток и находившийся так близко от места преступления, причастен к нему. Тут Леон Фортен потерял свое обычное хладнокровие и порывисто вскричал: – Что же случилось, и чего вы хотите от меня? Как! Вы арестовали меня без всякого основания, как убийцу, и вот явился этот человек и под предлогом, что я собирал цветы в лесу, обвиняет меня в другом убийстве! И ваша совесть, господа беспристрастные, справедливыелюди, не возмущается?! Вы допускаете, что человек, ознаменовавший свое прошлое славной работой и неподкупной честностью, может сделаться преступником в один день! Это чудовищно!.. Я протестую против оскорбления, нанесенного моей чести! В ответ на это следователь молча вынул из кармана небольшой пакет, завернутый в газетную бумагу, потом развернул бумагу и открыл маленькую записную книжку, снабженную карандашом и каучуковой тесьмой. – Узнаете вы эту книжку? – сказал он ледяным тоном, показывая ее Фортену. – Да, потому что она принадлежит мне! – отвечал последний без малейшего колебания.– Я потерял ее вчера, вероятно, в лесу, когда был сбит с ног лошадью. – Так! А можете вы объяснить происхождение кровавых пятен на переплете и некоторых листках? – Очень легко: я изучаю на морских свинках новое анестезирующее средство и, когда произвожу вивисекцию над этими маленькими животными, то Заношу наблюдения в эту книжку. Я работаю быстро, рук не мою в это время и не могу таким образом избежать пятен на книжке. Вот вам истинная правда! – Вы лжете и бессовестно нагромождаете обман на обман! – Я говорю правду! – Мотив ваших преступлений – непомерное честолюбие. Вы просили пятьдесят тысяч франков у Грандье; он отказал вам… Тогда вы подвергли этого несчастного шантажу и страшным угрозам, доведшим его до самоубийства. – Я!.. Шантаж… против него… но это клевета! – Молчите! У нас в руках ваши письма. Чтобы запугать Грандье и подчинить его своей воле, вы совершили убийство на улице Св. Николая. – Мои письма!.. Мои письма! – пробормотал Фортен.– Я никогда не писал Грандье! – Да, ваши письма с красною звездой, почерк которых поразительно напоминает почерк вашей записной книжки. А эта книжка для заметок? Вы не в лесу ее потеряли… знаете ли, где она была найдена? У постели вашей жертвы на улице Св. Николая!
ГЛАВА IV
Редон принимается за дело.– Первые доказательства.– Труд паука.– Западня.– Это – англичанин.– Луч света.– Возвращение в Париж.– Задержание багажа.– По телефону.– Удар ножом.Допрос продолжался еще долго. От измученного Леона Фортена не услышали ничего – только негодующие возражения. Затем весь судебный персонал позавтракал с аппетитом, ничуть не пострадавшим от утреннего волнения. Это заняло добрых два часа, и ни одной минуты из них Поль Редон не потерял бесполезно. Получив разрешение товарища прокурора, он помчался к дому, где было совершено преступление. Там у входа стоял жандарм, не пропуская никого без формального приказания. Все помещение состояло из маленького домика, расположенного между двором и садом, с прачечной, каретником и дровяным сараем, упиравшимся в забор, и занимало около ста двадцати квадратных метров. Строения и забор находились в плохом состоянии; видно было, что хозяин не заботился об их поддержании. Это был мужчина старше пятидесяти лет, оригинал, избегавший общества и слывший невероятно скупым; с ним жила старая семидесятилетняя ключница, глухая и наполовину калека. Близ трупа, строгий и трагический силуэт которого обрисовывался под запятнанным кровью одеялом, дежурила монахиня. Репортер прежде всего тщательно осмотрел наружную стену забора, причем его внимание привлекли кусочки черепицы, валявшиеся под лестницей. Черепица на верхней части стены действительно оказалась облупленной, и под лестницей виден был след ног, сильно упиравшихся в землю. Следы были совершенно свежие и отчетливые. – Здесь убийца проник во внутрь ограды! – подумал репортер, изучая отпечатки ног со вниманием краснокожего, вступившего на стезю войны.– Стена не выше двух с половиною метров, и он мог перескочить ее без всякой опасности для себя. Еще утром репортер решил, что убийца пробрался в дом, разбив стекло террасы, но он не заметил тогда ни малейшего его повреждения. Теперь же он подошел к стеклу и стал его внимательно рассматривать. Оказалось, что оно было вырезано алмазом, и до такой степени искусно, что Редон покачал головой и пробормотал: – Чистая работа! Орудиями послужили, очевидно, кусок смолы и алмаз, используемый стекольщиками. Преступник, размягчив предварительно смолу в руках, прилепил ее на середину стекла и около замазки обвел алмазом; потом левою рукою схватился за кусок смолы, сильно приставший к стеклу, а правой стал легонько ударять по последнему до тех пор, пока оно не отделилось почти без всякого шума. Благодаря крепко державшей его смоле, стекло не упало, и открылся свободный проход. Редон скоро нашел и самое стекло; оно находилось вдоль стены, над окошком, и было почти совсем скрыто кустом ревеня. Он поднял его и осмотрел все четыре стороны: тут все было сделано опытной рукой. Затем взгляд его остановился на куске смолы, и радостное восклицание вырвалось из груди: два темных, слегка волнистых волоса, длиною по крайней мере пятнадцать сантиметров, пристали к смоле. При этом открытии в голове репортера сейчас же сложилась такая гипотеза: – Человек, вынувший стекло, имеет длинную бороду, волосы из которой остались на смоле во время проделанной операции. Отпечаток ног и эти волосы,– вот уже в моих руках недурная парочка доказательств. Крайне необходимо получить отпечаток следов! С этой мыслью он вышел из ограды и сказал дежурному жандарму: – Я вернусь через минуту… дайте мне, пожалуйста, адрес гипсовой лавки. Получив адрес, наш добровольный сыщик побежал в лавку, купил там полмешка гипса, взял лопату и бегом же вернулся к месту преступления. Здесь, накачав у колодца воды и отыскав в прачечной маленькую кадушку, он принялся растворять гипс, не обращая внимания на покрывавшие его одежду брызги. Когда раствор приобрел известную густоту, он наполнил им обе выемки, образованные ногами ночного посетителя. Заинтересованный жандарм, переставший уже считать помешанным этого элегантного молодого человека, подошел к нему и сказал: – Ну и хитрец же вы, сударь! – Вы поняли? – Да, и полагаю, что эти куски будут иметь в глазах суда немаловажное значение! – А вы согласитесь письменно удостоверить тождество их со следами? – Конечно, как и все, что вам удастся открыть здесь для выяснения дела! – Благодарю! Вы – храбрый и благородный человек! Пока гипс затвердевал, Редон отправился в комнату, где лежал труп. Он почтительно раскланялся с монахиней, читавшей молитвы над покойником, объяснил ей мотивы своего присутствия и приступил к исследованию. Внутренность жилища, как и наружный вид его, не отличалась привлекательностью: везде лежала пыль и тянулась паутина. Одного из прилежных ткачей последней репортер увидел в складках балдахина, осенявшего кровать. Он заботливо исправлял свою паутину, попорченную, очевидно, не особенно давно. Может быть, в момент преступления убийца наклонился над кроватью несчастного старика, потом быстро выпрямился и порвал паутину. Редон попробовал даже воспроизвести эту сцену, как она представлялась его воображению, и нашел, что человек одинакового с ним роста должен был непременно задеть паутину. Таким образом серия его доказательств пополнилась еще одним. Осмотр мебели и пыли не дал никаких результатов, так что репортер собирался уже уходить, как вдруг нога его задела что-то твердое. Он наклонился и поднял пуговицу, простую пуговицу от панталон. Но Редон знал, что при производстве следствия нельзя пренебрегать никакою мелочью, как бы ничтожна она ни казалась на первый взгляд. Он осмотрел пуговицу и заметил, что она была оторвана с силой, так что при ней остался кусочек материи. Сама по себе пуговица была довольно широкая, очень крепкая, имела особенную форму и надпись «Барров Т. Лондон»,– очевидно, имя портного и его местожительство. – Итак,– сделал заключение Редон,– ночью или утром здесь был мужчина, заказывающий свои костюмы в Лондоне. Не думаю, чтоб это был кто-нибудь из судейских или мой бедный Леон… Черт возьми! Что, если убийца – англичанин? Надо посмотреть ноги! Он крепко завязал, в уголок носового платка пуговицу и быстро спустился в сад. Гипс был тверд, как камень. С бесконечными предосторожностями Редон разрыхлил землю, не жалея ногтей, и скоро в его руках очутились два великолепных отпечатка, воспроизводившие с замечательной точностью все детали обуви. Не было сомнения, что ботинки английской работы, а нога – длинная, плоская и узкая, словом, характерная нога англичанина. Репортер торжествовал. В его руках находилась уже руководящая нить, правда, очень непрочная и предположительная, но все-таки нить к разгадке тайны преступления. – Ну,– говорил он, потирая руки,– ошибка ясна… это англичанин… и я найду его! Искать можно только в Сен-Жермене… Итак, живее туда! Не теряя времени, он направился к извозчику за каретой, а пока запрягали, стряхнул пыль и постарался привести в порядок свой туалет. Заботливо отчистив известку, он нашел еще минуту сочинить следующую записку товарищу прокурора: «Не имею возможности присутствовать при допросе. Я напал на след, совершенно чуждый вашему. Завтра подробности к вашим услугам. Берегитесь ловушки! Ваш Редон». Затем он крупною рысью мчится в Сен-Жермен. По прибытии туда наш следователь первым делом обходит все отели, начиная с самого шикарного, Павильона Генриха IV. Его появление в знаменитом отеле, как человека известного директору и части служебного персонала, вызывает только любопытство. Он отводит директора в сторону и, дружески пожимая его руку, спрашивает нетерпеливо: – Не остановился ли у вас джентльмен приблизительно такого же роста, как я, с длинною темной бородой и ногами поистине английского размера? – У нас был только один англичанин, подходящий под ваше описание, довольно-таки неопределенное, но… – Он уехал? – Да, три часа тому назад! – А, черт возьми!.. И не оставил адреса? – Он отправился, насколько я мог догадаться, в Лондон! – Не можете ли вы по крайней мере назвать его? – Охотно: его зовут Френсис Бернетт. Он прибыл из Индии и останавливался здесь только на две недели. – Благодарю! Как досадно… мне крайне необходимо было видеть его по одному делу. Но… может быть, я могу видеть человека, обслуживавшего его? Такому важному клиенту, как Поль Редон, неловко было отказать. Директор велел позвать лакея Феликса и предоставил его в распоряжение репортера. Когда они остались одни, Редон вынул из кармана два луидора, опустил их в руку слуги и сказал: – Вы знаете, Феликс, что у меня иногда являются странные фантазии? – О, барин волен иметь фантазии, какие ему заблагорассудится! Репортер продолжал легкомысленным тоном, хотя сердце со страшною силою билось у него в груди. – Сегодня утром мне попалась пуговица в таком месте, где она не должна быть… Я подозреваю, что владелец ее – господин Бернетт, и это глубоко интересует меня. Лакей улыбнулся и наклонил голову, как человек, привыкший понимать все с полуслова. – И мне думается, Феликс,– прибавил Редон,– что профессиональная тайна не помешает вам сообщить мне, насколько основательны мои подозрения? Впрочем, вот и само доказательство преступления! Он развязал уголок своего платка, вынул оттуда пуговицу и показал ее слуге, который тотчас же ответил: – Вы правы: эта пуговица от одежды господина Бернетта. Я видел у него такие же, с такой же точно надписью «Барров Т. Лондон». Я утверждаю это с тем большей уверенностью, что сегодня утром господин Бернетт, заметив, что не достает у панталон одной пуговицы, просил меня пришить ему другую на ее место, которое, впрочем, было вырвано вместе с пуговицей. Эти слова чуть не свели с ума Редона, но он сдержался и произнес, не то смеясь, не то сердясь: – Вот видите, какой плут этот англичанин. И выглядит, верно, хуже меня? – Еще бы! Ему около сорока лет, он высок, напоминает боксера и носит дымчатые очки… – Так он уехал? – Да, сударь! – И забрал свои сундуки, чемоданы? – Чемодан и три английские ивовые корзины, покрытые просмоленным полотном. – Хорошо, благодарю!.. Держите, Феликс! – сказал Редон, вручая третий луидор слуге, рассыпавшемуся в благодарностях. Узнав все, что ему было нужно, Редон вышел из Павильона, заплатил за карету и помчался на станцию. Поезд только что отошел, пришлось около получаса дожидаться другого. Кстати, репортер вспомнил, что, кроме чашки чая, у него ничего не было во рту целый день, а время близилось к четырем часам. Он съел два сандвича, выпил стакан малаги, выкурил сигару и вскоре покатил в Париж. Пятьдесят минут спустя поезд остановился на станции Сен-Лазар. Справедливо полагая, что путешественники, едущие из Сен-Жермена, редко сами заботятся о багаже, он опросил сейчас же всех носильщиков, не принимали ли они вещей у господина, похожего на Бернетта, владельца трех ивовых корзин. Никто такого не видал. Редон, однако, не потерял мужества, памятуя, что терпение – необходимая черта всякого следователя, и продолжал расспрашивать, щедро давал на чай и в конце концов добился признания, что господин высокого роста, с бородой, похожий на англичанина, вышел на станции, но только с двумя корзинами. – Это он! – сказал себе Редон.– Но где же третья корзина?.. А!.. В кладовую! При помощи денег, открывающих все двери, он проник в кладовую и сейчас же узнал корзину. Сомневаться было невозможно, так как на ней значился адрес: Френсису Бернетту,Лондон. – Однако я играю сегодня счастливо,– подумал репортер.– Теперь – к телефону! Он вошел в телефонную будочку и позвонил. – Прошу соединить с Версальским судом! Прошло несколько минут. – Кто вы? – Поль Редон, журналист. А вы? – А! Это Редон! Я прибыл из Мезон-Лафита с нашим пленником… Он упорствует… но он виновен… не пытайтесь что-либо сделать в его пользу… – Убийца, мой дорогой прокурор, англичанин по имени Френсис Бернетт, и завтра я докажу вам это. А пока прикажите задержать сундук, принадлежащий сэру Бернетту и находящийся в кладовой на станции Сен-Лазар. А затем, кроме того, необходимо навести справки во всех отелях и арестовать этого Бернетта, приметы которого сообщаю. Наконец, вы должны еще приказать охранять станционные двери. Ответственность за все эти меры я беру на себя; а что касается моего бедного друга Фортена, то не пройдет и трех суток, как вы первый заявите о его невиновности. До завтра! В девять часов я буду в Версале. – Но, Редон, вы с ума сошли! – Сделайте то, что я вам сказал, и будете благодарить меня на коленях… Слышите ли: на коленях. Прощайте! Я собираюсь заявить во всех журналах о юридической ошибке, но спасая в вас лицо, как говорят китайцы. После этого Редон возвратился к себе, наскоро почистил костюм и с аппетитом пообедал. Вечером он побывал в нескольких редакциях и к часу вернулся на улицу Рошфуко, где занимал домик, расположенный в саду. Отослав кучера, он позвонил, вошел, произнес свое имя перед сторожкой и направился к своему жилищу. Недалеко от последнего на него набросился какой-то человек. Блеснула сталь – и лезвие кинжала с поразительною быстротою погрузилось в тело Редона. Он почувствовал сильную боль в груди, потом ледяной холод. Кричать он уже не мог, хотя в мозгу его еще успела пронестись мысль: – Бедный Леон! Кто за тебя заступится?
ГЛАВА V
Брат и сестра у родителей обвиняемого.– Мадемуазель Марта.– Удивление жителей.– Следователь и помощник его.– Известие об убийстве Поля Редона.– Что заключалось в таинственной корзине.В наше время добрая половина населения имеет обыкновение следить по газетам за уголовными процессами. Для многих такое чтение стало необходимостью; они с жадностью поглощают ужасные подробности всевозможных преступлений. Это взвинчивает нервы и дает возможность пофантазировать. Понятно, что особенно заинтересованы были обитатели Мезон-Лафита, в пределах которого было совершено преступление, обещавшее им так много таинственно-заманчивого. Много лет уже не происходило ничего подобного. Само собою разумеется, что захватывающей деталью для любителей драм была прежде всего красная звезда, вырезанная на левом виске жертвы. О, эта красная звезда! Потом записная книжка, найденная в ногах кровати и принадлежащая Леону Фортену, местному уроженцу, пользовавшемуся до сих пор всеобщим уважением. Затем – самоубийство Грандье, подвергавшегося в течение целой недели шантажу и страшным угрозам с помощью писем со звездой кровавого цвета вместо печати. Опять эта таинственная и ужасная звезда! Наконец, предположение судей, странности Поля Редона, исчезновение полицейского агента, найденного затем на лесной дороге без чувств и отправленного в Сен-Жерменский госпиталь. А отчаяние родителей Фортена, на голову которых внезапно обрушился столь жестокий удар, и переход их к столь же неожиданно явившемуся призраку надежды?! Большинство было против Леона Фортена, но раздавались уже голоса и в его защиту. Погребение Лефевра-Мартина и Грандье происходило в один день и час в присутствии всего населения. У первого не было родных, за гробом шла одна ключница. А останки второго сопровождали его сын и дочь, оставшиеся сиротами и без всяких средств к жизни. Сын, едва достигший шестнадцатилетнего возраста, воспитывался в Парижском лицее и теперь шел за гробом с измученным лицом, задыхаясь от рыданий. Дочь была на два года старше, она машинально двигалась вслед за процессией, вся закутанная крепом, и все еще не могла поверить, что ее обожаемый отец и человеческий остов, лежавший на ковре с простреленным черепом,– одно и то же. По окончании печальной церемонии, когда все посторонние разошлись, сироты также покинули могилу. Молодая девушка сказала несколько слов брату, с которыми он кивком головы выразил согласие, потом взяла его под руку, и они направились более уверенным шагом не на виллу Кармен, а в город и, к удивлению всех, вошли в дом Леона Фортена. Разбитые стыдом и горем старики безмолвно ответили на их поклон. Девушка медленным движением руки подняла свою вуаль и сказала: – Я – Марта Грандье, а это – мой брат Жан! Старый Фортен-отец не нашелся, что ответить на такое представление, но жена его, тронутая неподдельной симпатией, сквозившей в больших черных глазах гостьи, взволнованным голосом произнесла: – Мадемуазель Грандье!.. Вы!.. Вы – здесь!.. – Ваш сын Леон… мосье Леон… обвинен в ужасном преступлении… но он невинен… я знаю… я уверена… и вот, когда все проклинают его и презрительно смотрят на вас, я пришла сюда… с разбитым сердцем… но с надеждою, что мы спасем его! При этих словах, шедших из глубины души, у старушки вырвалось порывистое, радостное движение и дикий вопль: – Невинен!.. О да, невинен! Она бросилась к молодой девушке, крепко, до боли сжала ее в объятиях и, потеряв голову, в экстазе воскликнула: – О, я готова жизнь отдать за только что произнесенное вами слово! Возьмите мою кровь, каплю за каплей, мое тело, часть за частью, мое последнее старческое дыхание… все… Вы, считающая моего сына, моего Леона, невинным! Вы его знаете, не правда ли? – Меньше, чем вы думаете! – отвечала мадемуазель Грандье, милое личико которой на минуту озарилось улыбкой. Она замолчала на несколько секунд, покраснела и продолжала с достоинством: – Каждый день и с давних пор… он клал на стенку решетки маленький букет из простых лесных цветочков. Эти цветы предназначались мне. Я принимала, потому что их предлагали скромно и почтительно. Но мы ни разу не обменялись ни словом, и я не знала его имени до тех пор, пока он не пришел к отцу по делу. Теперь на нас обрушилось несчастье… отец завещал нам отомстить за себя. – И мы отомстим! – энергично вмешался молодой человек. – Наше мщение и оправдание вашего сына тесно связаны одно с другим,– продолжала мадемуазель Грандье,– и, следовательно, они будут единственною целью нашей жизни! Не так ли, Жан? – Да, Марта! Такая решимость этих детей, еще совершенно не ведающих жизни, не имеющих поддержки ни дружеской, ни материальной, была поистине трогательна. Впрочем, какова бы ни была их слабость, они все-таки обладали тою верою в себя, которая сдвигает с места горы и совершает невозможное. Вид этих добрых молодых людей вызывал в стариках Фортенах добрые чувства и зажигал в их сердцах луч надежды. Выше среднего роста, скорее высокая, Марта Грандье не походила на тех искусственных кукол, какими характеризуется конец нашего века. Грациозный, но крепкий стан ее свидетельствовал о здоровье. Ее густые, волнистые, белокурые волосы составляли очаровательный контраст с большими черными, вспыхивающими по временам глазами. Изящный носик с трепещущими ноздрями указывал на пылкость характера, смягчаемую постоянно улыбавшимися губами и резко очерченным подбородком, обнаруживавшим вдумчивость и наклонность к размышлениям. В общем, это было странное, но пленительное лицо, в котором такие различные, по-видимому, черты прекрасно соединялись и служили лучшим выражением душевных качеств Марты Грандье: ее кротости, энергии, нежности, решительности. Брат был похож на нее несмотря на свои темные волосы и голубые глаза. Они охотно воспользовались приглашением супругов Фортен присесть, тем более, что на вилле Кармен их ждало одиночество и горькие воспоминания об исчезнувшем благополучии. Предстояло заняться делами: определить оставшиеся средства, отпустить слуг и установить порядок жизни. Видя неопытность, молодой девушки, госпожа Фортен предложила ей свои услуги. – В хозяйстве встретится много затруднений и мелочей, о которых вы не имеете понятия! – произнесла она. – Да, правда! – отвечала Марта. – Я буду рада оказать вам свое содействие. О, не говорите «нет!». Не отнимайте у меня удовольствия услужить вам. Вы согласны, не правда ли? – Соглашаюсь с радостью, с благодарностью! – Так едем. Чем скорее, тем лучше. Все трое покинули старика Фортена. Судите сами, какое волнение произвело это посещение в Мезон-Лафите! Обитатели его не верили собственным глазам. Но волнение перешло в настоящий столбняк, когда маленькая группа достигла виллы Кармен. Там в это время находились мировой судья и следователь со своими письмоводителями. Первый прямо обратился к Марте и Жану Грандье и сообщил им, что накануне своей смерти отец объявил их совершеннолетними. Согласно закону, господин Грандье сделал заявление судье в присутствии его письмоводителя (477 параграф Свода гражданских законов),– и этого совершенно достаточно, чтобы они получили право обходиться без опеки. Тут следователь, ведущий дело, прервал объяснения своего коллеги и пригласил молодых людей побеседовать с ним в конторе их отца. – Знаете ли вы, кто эта женщина, прибывшая с вами сюда? – спросил он их. – Да, это госпожа Фортен! – сухо отвечала молодая девушка, оскорбленная его грубостью. – Мать бандита! – Нет, милостивый государь! – гордо возразила Марта. – Да, мать негодяя, подло убившего старика на улице Св. Николая, и морального убийцы вашего отца! – Нет же, говорю вам! И если вам угодно так продолжать, мы с братом предпочтем удалиться! Немного сконфуженный, следователь быстро сорвал печать с ящика стола, вынул оттуда пачку писем и положил их на бюро; затем, вынув из кармана другие письма, вместе с записной книжкой Леона Фортена, сказал: – Вот, смотрите! Марта с братом наклонились и стали читать. – Теперь сравните почерк этих писем и заметок! – Можно подумать, что их писала одна и та же рука! – вскричал Жан. – Действительно, сходство поразительное! – подтвердила Марта, не понимая, к чему все это клонится. – Эта книжка и письма, бедные дети, принадлежат обвиняемому, то есть Леону Фортену. Что же касается других писем, взятых нами, то они написаны убийцей вашему отцу… они и довели его до самоубийства! Вы сами подтвердили тождество почерка тех и других. Ну, что вы скажете на это? – Что эти письма подделка, что у Леона Фортена выкрали его почерк, чтобы шантажировать нашего бедного отца, как похитили у него записную книжку с целью свалить на него вину за убийство на улице Св. Николая! – Эксперты решат… – О, эксперты! – с презрением произнесла молодая девушка.– Известно, чего стоит их непогрешимость! – Наконец,– сказал следователь, выдвигая свои последние аргументы,– я считал своею обязанностью предостеречь вас, как рискованно такое знакомство, по меньшей мере, подозрительно! – Но, милостивый государь, у меня не таков взгляд на вещи, как у господ судей! Я буду посещать, кого хочу, так как жестокие обстоятельства – увы! – освободили меня от всяких стеснений, от всякой власти! Однако следователь не перестал считать подсудимого виновным: ему не хотелось отрешиться от своего первоначального мнения, которое казалось ему солидно обоснованным. Действительно, все, казалось, было против Леона Фортена: его визит к Грандье с просьбой ссудить ему роковую сумму в пятьдесят тысяч франков, его проекты относительно Клондайка, ужасающее сходство почерков, окровавленная книжка, найденная на улице Св. Николая, такие же одежды, спрятанные в квартире обвиняемого. В его пользу говорили только догадки, его незапятнанная до тех пор честность и негодующий протест; он не мог даже доказать своего алиби. Следователю не были еще известны открытия Поля Редона. Когда товарищ прокурора передал ему телефонное сообщение репортера об англичанине Френсисе Бернетте, тот только пожал плечами. – Напрасно вы верите вымыслам журналиста! – небрежно проговорил он. Однако товарищ прокурора упорствовал, превозносил ловкость своего друга и выражал собственные колебания. Следователь возразил на это. – Кто устраивает свою судебную карьеру, тот должен понимать, что это дело серьезное, и не обращать внимания на разные истории, родившиеся в досужих головах водевильных писак. – Прикажите по крайней мере задержать корзину в кладовой Западной дороги! – Хорошо, я доставлю вам это удовольствие и докажу, кстати, что ваш друг комедиант. Впрочем, вы говорили, что мы завтра утром увидимся? – Да, он назначил мне свидание в суде, в девять часов! Читателю уже известно, какой трагический случай помешал репортеру прибыть на это свидание. Целый день прошел в напрасном ожидании, так что следователь начал шумно выражать свое торжество по случаю этого необъяснимого отсутствия. На другой день он должен был возвратиться в Мезон-Лафит для производства дополнительного следствия и снятия печатей как на вилле Кармен, так и на улице Св. Николая. Он просил товарища прокурора сопровождать его и всю дорогу изводил его шуточками по поводу излишней доверчивости. Сходя с поезда, товарищ прокурора купил несколько газет, развернул одну из них, вскрикнул и побледнел. Взгляд его привлекли следующие строки, напечатанные крупным шрифтом: «Покушение на убийство журналиста Поля Редона, смертельно раненного». – Вот, читайте! – сказал он следователю.– Да читайте же! Тот пробежал глазами сообщение и прибавил: – Очень жаль, но это никоим образом не может находиться в связи с преступлением в Мезон-Лафите! – Почему вы так думаете? – Вы, должно быть, изучали работу полиции по романам Габорио note 1 ! В действительности же дела делаются намного проще! – Хорошо, я вам пока не нужен? Так я еду в Париж и возвращусь сюда к завтраку! – Чудесно! Вы будете очень любезны, если пришлете мне знаменитую корзину, которую я велел задержать по вашему желанию! – Я привезу ее сам! За время отсутствия товарища прокурора на вилле Кармен и происходила беседа между следователем и Мартой Грандье, беседа, окончившаяся негодованием молодой девушки. Только в два часа товарищ прокурора вернулся. Казалось, он был очень озабочен. Оба судьи находились в мэрии, куда только что доставили корзину. Жандарм привел слесаря, и началась трудная операция отмыкания запора. – Ну, что Редон? – отрывисто спросил следователь. – Он в агонии, состояние его совершенно безнадежно, и полицейский комиссар говорил, что одно время он ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Вероятно, он не проживет и дня! – А его розыски? – Ничего неизвестно… ни малейших следов! После долгих усилий слесарь отпер корзину. Скептически, с насмешливой улыбкой на губах следователь поднял крышку и закричал: – Вот так странная вещь! Действительно, было чему удивляться: в корзине аккуратно уложены были принадлежности полного костюма лесного сторожа из зеленого сукна с желтой опушкой и суконная ливрея каштанового цвета. Обе одежды казались совершенно новыми, не надеванными ни разу.
ГЛАВА VI
Беда.– Предчувствие.– Доктор.– Раненый.– Трепанация.– Лассо.– Мнимый сторож.– Начало доказательств.– Возвращение.– Кража.– Угрозы.– Письмо.– «Красная звезда».По снятии печатей Марта и ее брат могли довольно точно определить свое материальное положение. Перебирая бумаги и записные книги отца, они узнали также все обстоятельства, побудившие его к самоубийству. С точки зрения покойного финансиста, материальное положение было, действительно, жалким, так как после уплаты долгов и расчетов со слугами, при условии продажи дома и мебели, могло остаться только несколько тысячефранковых билетов. Это было настоящее разорение, сулившее нищету в будущем. Впрочем, молодые люди храбро взглянули в глаза этому будущему, решив неустанно трудиться. Ликвидация дел должна была занять какое-то время, и они сочли за лучшее использовать его на поиски того, кто сделал их сиротами, и выполнить таким образом последнюю волю покойного. Марте было известно, что отец до последнего времени имел дела с парижской полицией, агенты которой не показывались с момента трагедии; это становилось подозрительным. Не попали ли они также в число жертв какой-нибудь махинации? Наконец, она вспомнила, что накануне убийства в лесу был подобран человек и отправлен в госпиталь. – Что, если этот несчастный – один из агентов, помогавших отцу? – спросила она брата. – Возможно! – отвечал тот. Тогда молодая девушка порывисто встала и произнесла : – Что-то непреодолимое влечет меня… Какое-то предчувствие, которому я должна повиноваться. Жак, дорогой мой мальчик, я еду в Сен-Жермен! – А я должен тебя сопровождать? – Нет, ты останешься здесь! Ни слова не говори о моем путешествии никому! Ни госпоже Фортен, ни следователю, ни кому бы то ни было другому! В течение получасового путешествия в Сен-Жермен Марта наметила себе простой, но оригинальный план действий. По прибытии на место она направилась прямо в госпиталь. Молодая девушка хорошо знала, что нельзя иметь свидания с раненым, не назвав даже его имени; да и вообще в больницах существуют свои правила, нарушать которые, не заручившись протекцией, нельзя. Поэтому она спросила у швейцара адрес главного врача и, к счастью, застала его дома. После продолжительных переговоров главный врач наконец решился допустить ее к больному, предупредив девушку, что больному пришлось выдержать серьезную операцию. – Теперь я вам скажу все,– произнесла девушка,– свое имя, происхождение, события… – Не надо, дитя мое! Храните свой секрет – он принадлежит вам одной, а мне необходимо знать его только постольку, чтобы иметь возможность помочь вам! Десять минут спустя доктор провел молодую девушку в госпиталь, где в маленькой комнатке лежал раненый, а по дороге вкратце познакомил Марту с ужасной раною полицейского агента, что повлекло за собой трепанацию. Удар был нанесен немного повыше уха каким-то тяжелым орудием, кастетом или молотком. Погруженный в глубокий обморок, раненый едва перенес операцию трепанации, единственную, способную его спасти. Доктор тихо удалился, оставив молодую девушку наедине с раненым. Марта подошла к больному, голова которого, вся покрытая бинтами, покоилась на подушке, и дотронулась до его горячей руки, но не решалась заговорить. Агент видел это колебание и, понимая, что только очень серьезная причина могла привести в госпиталь эту молодую особу в глубоком трауре, сказал ясным, но тихим, как дыхание, голосом: – Что вам угодно, сударыня? – Я – Марта Грандье!.. – А!.. Его дочь… в трауре… и одна… Боже мой!.. Что случилось? – Отец умер! В Мезон-Лафите совершено убийство… вы сами сделались жертвою преступления. И в этом обвиняют невинного!.. Сжальтесь и скажите, что знаете. Кто вас ударил?.. чем?.. при каких обстоятельствах?.. постарайтесь вспомнить… о, умоляю вас! Больной отвечал своим слабым голосом: – Все, что я могу сообщить, сводится к весьма немногому. Я на коне преследовал человека в каштановой ливрее, которому ваш отец вручил письмо. Этот человек только-только вскочил на лошадь, которую держал за повод лесной сторож. – Вы не помните, как он выглядел?.. – Он, кажется, был высок… силен… блондин… и очень напоминал слугу из хорошего дома… Он скакал… подпускал меня к себе… потом опять скакал вперед, как будто хотел завлечь меня в западню… Я это заметил слишком поздно… Такое ожесточенное преследование продолжалось с четверть часа, и хотя я не знаю этот лес… но, кажется, мы вертелись… в довольно ограниченном пространстве… в пустынном месте… где нельзя было встретить ни души… я припоминаю это место, где проезжал уже… несколько сучковатых дубов… решетка с запирающейся дверцей… я один… безоружен… официального приказания не имею… Положение показалось мне серьезным… и я все больше думал: не в западню ли хотят меня поймать? Еще несколько прыжков, и я… перед дверью решетки, широко открытой… Человек, которого я преследую, оборачивается в седле… смеется и издает свист… Он мчится, как стрела… между стволами дубов… Что-то задевает мои уши, обвивается вокруг головы… я в петле… лассо выхватило меня из седла и сбросило на землю с неслыханной силой… Оглушенный этим падением, я, однако, пытался бороться, кричать, защищаться, но не успел. Человек, одетый в костюм лесного сторожа… прыгнул из-за дуба… это он держал за повод лошадь… другого… о!.. я узнал бы его через пятьдесят лет… коренастый, осторожный, с длинною темно-русою бородой. Все это произошло с быстротою молнии! Он нанес мне страшный удар по голове каким-то инструментом… Казалось, что голова моя раздроблена… что я умираю!.. Марта, дрожащая и заплаканная., слушала этот прерывистый рассказ. – Довольно, пожалуйста, довольно! – сказала она, пожимая руки утомленного больного.– Благодарю!.. О, благодарю от всего сердца! Вы спасаете от отчаяния бедных неутешных стариков, возвращаете свободу, жизнь и честь невинному. Теперь я могу все рассказать вам, если вам не вредно! – Говорите, это успокоит меня. Я должен знать подробности этого ужасного и загадочного дела, на то я и полицейский агент. Но позвольте мне сделать сначала небольшое замечание… человек, набросивший на меня лассо, сделал это с поразительною ловкостью, на какую способны только южные американцы, гаучо или мексиканцы. Он иностранец… Марта облегченно вздохнула: часть обвинения против Леона Фортена исчезла. Он ни причем, как при краже, так и при убийстве в лесу. Раненый – живое доказательство его невиновности. Мы докажем также, что не он виновник преступления на улице Св. Николая! Потом молодая девушка рассказала все, что узнала об аресте Фортена и ходе судебного разбирательства. Жерве, которого мало-помалу охватывала усталость, находил всю историю страшно запутанной и жалел, что пока не в состоянии помочь, но обещал, как только поправится, приложить все свои силы, чтобы распутать дело. Девушка поблагодарила его от всего сердца и обещала в скором времени опять навестить, затем вырвала листок бумаги из книжки, в которую заносились заметки о ходе болезни, и написала на нем следующие строки: «Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что человек, покушавшийся на меня в Сен-Жерменском лесу, был одет в костюм лесного сторожа, на вид ему около сорока лет, коренастый, сильный, среднего роста. Сен-Жерменский госпиталь. 28 апреля 1898 года». Она прочла вслух, и спросила раненого, согласен ли он под этим подписаться. – С большим удовольствием! – ответил тот, подписав внизу листка свое имя. – Еще раз благодарю, и до скорого свидания! – сказала сияющая девушка, покидая агента. Она вкратце передала результаты свидания ожидавшему ее доктору и отправилась на станцию, чтобы вернуться в Мезон-Лафит. Идя быстро, обрадованная своею удачею и возможностью утешить родителей Леона, молодая девушка и не заметила, что за нею следуют какие-то два господина. На станции, купив билет и удостоверившись в целости записки агента, она положила портмоне обратно в карман и туда же сунула носовой платок. Вскоре один из двух следовавших за ней людей оступился на лестнице и упал на колени. К нему сейчас же подбежали, чтобы оказать помощь. Причиной падения оказалась апельсинная корка; произошла суматоха, и Марта, внесенная людской волной, вошла в вагон. Приехав в Мезон-Лафит, она вышла, опустила руку в карман и хотела вынуть портмоне, где, кроме свидетельства Жерве, лежал ее дорожный билет. Дрожь пробежала по ее телу, и из груди невольно вырвался крик – обокрали! Случай этот сам по себе был не важен, по крайней мере с точки зрения администрации, так как кражи кошельков на железных дорогах не редкость. Важно было знать, кто совершил похищение,– простой карманный воришка или один из бандитов, стремившихся погубить Фортена? Конечно, раненый агент мог дать вторичные показания, письменные или устные, в присутствии свидетелей, но ведь он был опасно болен!.. Марта рассказала все брату, но только ему одному, затем решила на другой день поехать опять в госпиталь, но прежде дождаться почтальона. Последний принес ей одно из тех ужасных писем, которые погубили ее несчастного отца. Вот оно: «Фортен виновен! Не будучи в состоянии спасти его, соучастники, товарищи „Красной звезды“, покидают его. Свидание с раненым из Сен-Жермена бесполезно. Новая попытка стоила бы ему жизни. Берегитесь сами. Вам запрещается, под страхом смерти, хлопотать в пользу того, кто должен искупить свою ошибку. При убийстве не оставляют доказательств». Как и письма, адресованные Грандье, это послание было запечатано красной звездой.
ГЛАВА VII
Маленький старикашка с улицы Ла-Рошфуко.– Молодой человек.– Париж– Кале, Дувр, Лондон.– Товарищи «Красной звезды».– Тоби номер 2-й.– По телефону.– Доказательства невиновности.Прошла неделя. К Редону допускали только доктора, его друга, на которого можно было вполне положиться. О состоянии здоровья репортера общество ничего не знало, в журналах не было ни бюллетеней, ни сообщений. Известно было только, что он вопреки ожиданию еще жив, но что жизнь его висит на волоске. Непроницаемая таинственность окружала некогда веселый павильон, всегда оживавший от шумного и частого посещения друзей и знакомых репортера. На девятый день, в восемь часов утра, из павильона вышел маленький старичок в очках, с седою бородой, закутанный в темный широкий плащ. Очевидно, он вошел к больному рано утром, когда никто не мог его видеть. У него, вероятно, были для этого важные мотивы. Впрочем, дом был обширен, так что носильщики, слуги, жильцы постоянно сновали взад и вперед, и старик мог пройти совершенно незамеченным. Он бодрым еще шагом дошел по улице Ла-Рошфуко до улицы св. Лазаря и очутился на Троицкой площади. Здесь он остановился, выбрал одну из карет, двигавшихся по Антенскому шоссе, и сделал кучеру знак остановиться. Но прежде чем сесть в карету, старик довольно долго вел переговоры с кучером, который сначала казался удивленным, а потом выразил свое согласие и даже улыбнулся, получив золотую монету.. Седок устроился в карете, и она докатилась крупною рысью по Антенскому шоссе, завернула на улицу Лафайета и дальше с быстротою поезда домчалась до улицы Тревиз. Там скопление экипажей на какой-то момент задержало ее; дверца открылась, и старичок вылез. После этого кучер сейчас же, не поворачивая головы, уехал. Но со стариком с почти белой бородой и расслабленной походкой произошло чудесное превращение. Теперь это был молодой человек с бледным лицом и отважным видом. Одет он был в клетчатый костюм с узким воротником, заколотым булавкой в виде подковы, и очень походил манерой держаться на жокея. На вид ему можно было дать двадцать два – двадцать три года. Быстрым взглядом он окинул шоссе, увидел свою карету и быстро двинулся к станции Монтолон. Здесь он выбрал кучера, заплатил ему, открыл дверцу кареты, проскользнул через внутренность последней, вышел через вторую дверцу и спокойно пошел за вереницей экипажей в то время, как кучер мчался вперед. Наконец, эта странная личность, нуждавшаяся в таких предосторожностях, села в третью карету, сказав кучеру – на Северный вокзал, Спустя несколько минут неизвестный входил на вокзал. Взяв билет первого класса до Шантильи, он занял место в купе, где осталось еще свободное место, забрался в угол и казался заснувшим, между тем как проницательный взгляд его внимательно следил за всем. В Шантильи трое пассажиров сошли, но наш молодой человек продолжал спать. В Лонжо сошли еще трое пассажиров, а он, добавив контролеру двадцать шесть франков сорок пять сантимов, продолжал путь в Кале, где, по-видимому, намеревался выйти. В Кале-приморском очутился он в двенадцать часов пятьдесят минут. У пристани уже разводил пары пакетбот, выбрасывавший густые клубы черного дыма. Наш молодой человек, не колеблясь, взошел на судно. Прошло пять минут, раздались свистки, и «Вперед» тронулся в Англию. Несколько оборотов винта, немножко боковой и килевой качки – и переезд совершен. Ровно через восемьдесят минут судно вошло в Дуврскую гавань. Поезд готовился отойти в Лондон. Таинственный незнакомец, проехавший по суше и по морю без всякого багажа, съел два сандвича, выпил стакан вина и вскочил на лондонский поезд. Через час 45 минут поезд остановился на станции Чаринг-Кросс. Было четыре часа. Незнакомец взял кэб, дал кучеру адрес и помчался по улицам Лондона, как только что мчался по улицам Парижа. Кэб остановилсяперед старым домом на Боу-стрит и путешественник смелым шагом перешел одну аллею, пересек двор, вышел по другой аллее, поднялся на второй этаж, три раза постучал в дверь, вошел и, увидев служителя, спросил, принимает ли мистер Мельвиль. Служитель встал, открыл дверь и привычным жестом пригласил посетителя войти. Тот вошел и увидел высокого, плотного господина, со сложением геркулеса, с умным и симпатичным лицом, на котором блестели два серых глаза. Это был знаменитый Мельвиль, один из самых опытных сыщиков английской полиции. Несколько выдающихся процессов принесли ему известность и уважение во Франции. Обладая удивительной памятью, он знал всех мошенников Лондона, на которых наводил настоящий ужас. Два раза пытались его убить, но колоссальная сила и ловкость во всех движениях предохраняли его от смерти. О его смелости и хладнокровии рассказывали вещи, бросавшие в дрожь любителей раздирающих душу драм и ужасных охот, в которых дичь – бандиты, а охотник – сыщик. Начальник поднялся навстречу вновь пришедшему, молча протянул ему руку и крепко, по-английски, пожал ее, так что тот не мог удержаться от легкого вскрика. – Больно? – спросил он чистым французским языком, без всякого акцента. – Легче!.. Ну и рука же у вас, мой дорогой Мельвиль! – Вы устали? – Не так, чтобы слишком, но достаточно! – Поспите два часа на моем диване! – Когда мы будем беседовать? – Вы голодны? – Как волк! – Сейчас поедим… ленч особенный… Я вас ждал и позаботился обо всем! – Дорогой Мельвиль! Вы – замечательный друг! – Равно как и вы! – Но знаете ли, что вы – настоящая ищейка, как говорится у вас! – Ба! Маленькая работа любителя! – Наконец, ваши слова особенно льстят мне, и я чувствую себя счастливым, имея возможность брать уроки у такого учителя! – Вы прекрасно пользуетесь ими! – Получили вы мое письмо? – Третьего дня! – Как вы думаете, удалось вам вернуться незамеченным? – Думаю, что да, так как я постарался запутать свой след! Хозяин встал с места, свистнул в слуховую трубу, отдал через нее несколько приказаний и, снова садясь на место, прибавил; – Дом охраняется. Теперь будем говорить за столом, который уже накрыт. Незнакомец сел за стол, сделал несколько больших глотков вина и без обиняков сказал: – Известен вам некий Френсис Бернетт, лет… – Сорока! – …Сильный, коренастый… с длинной бородой… одевается у… – Баррова, портного на Оксфорд-стрит. – Именно! Но вам цены нет, Мельвиль. Откуда вы это знаете? – Это пустяки, мой друг! – Поразительно! – Вы в таком доме, где ничему не удивляются. – Итак, вы знаете Френсиса Бернетта? – Да, еще бы! Это один из самых ужасных бандитов в Англии. Злодей, всегда ускользавший из моих рук. Я уже месяц не имел о нем известий. Правда, по моей милости, пребывание его в Англии сделалось довольно опасным. – В течение этого месяца он жил во Франции. Дело в Мезон-Лафите… – Я не сомневался в этом, читая о преступлении в ваших журналах… Красная звезда – его эмблема или, лучше, эмблема ассоциации… – А! Так это шайка? – …Называемая шайкой двух тысяч… – Их две тысячи?.. – Нет, название произошло от того, что они не берутся за дело, обещающее меньше двух тысяч фунтов стерлингов (Пятьдесят тысяч франков (прим. авт.). ). Еще их называют, то есть они сами себя называют, «рыцари Красной звезды». – О, как напыщенно, словно заглавие бульварного романа! А хорошо организованы эти «рыцари»? – Ужасно! – отвечал сыщик более серьезным тоном.– Это сборище самых ужасных отбросов, это люди чрезвычайно ловкие. Там встречаются инженеры, химики, врачи, клоуны, механики, ученые, отвергнутые обществом, объявившие ему ожесточенную войну, бандиты второго сорта, отборные молодцы, исполняющие всю черную работу. Им здорово достается от нас. К несчастью, главари ускользнули, некоторые из них переправились через пролив и работают на материке! – Да, это интересно, похоже на самый остросюжетный роман! – Да,– подтвердил английский сыщик,– летописи полиции и поставляют, главным образом, материал для подобных романов! Вы любитель и охотно познакомитесь с ними! – Но я должен записать то, что вы мне расскажете! – Не беспокойтесь! Я уже приказал одному из своих людей переписать для вас часть дел о «Красной звезде»! Вам останется только перевести ее, а это не составит для вас труда, так как вы владеете английским языком как своим! – Вы удивительный человек… успеваете подумать обо всем! – О, немного порядка в мыслях и поступках – это сущие пустяки! К тому же я рад сделать приятное такому джентльмену как вы, которого я глубоко уважаю! – Вы знаете, Мельвиль, что высокое уважение и живая симпатия взаимны! – Да, знаю и очень счастлив! – сказал англичанин, снова пожимая руку своего таинственного собеседника.– Но возвратимся к нашим баранам, напоминающим настоящих тигров. Находя, что действовать в метрополии трудно и опасно, один из них решил овладеть Клондайком, громадной сокровищницей золота… – Ага!.. Вот о чем извещал Френсис Бернетт в письме, запечатанном красной звездой! – Вот видите! – Так он для этой цели хотел иметь пятьдесят тысяч франков… – Да, две тысячи фунтов стерлингов – минимальная цель этих негодяев. На всякий случай я послал двух моих агентов следить за ними и получаю время от времени донесения из Франции. До сих пор они смогли сделать немного, так как не имели руководящей нити. Однако я рассчитываю на них. В эту минуту зазвонил телефон. – Вы, патрон? – А вы кто? – Ваш агент, Тоби номер 2-й. – Где вы? – В Париже! – Что имеете сообщить мне? – Важные сведения об убийстве французского журналиста мистера Поля Редона! – Очень хорошо, Тоби! Потом, обращаясь к своему таинственному компаньону, он прибавил: – Это очень интересно… Возьмите один из приемников и слушайте! Голос Тоби номер 2-й продолжал: – Мистер Поль Редон был убит Бобом Вильсоном, хорошо вам известным. – Да, ловкая рука, можно сказать, у этого проклятого Френсиса Бернетта. – Мистер Поль Редон, извещая по телефону Версальский суд о своих успехах, говорил слишком громко, так что слышно было по соседству. Там были Боб Вильсон или Френсис Бернетт. Эти бандиты, найдя, что мистер Редон знал слишком много, решили немедленно уничтожить его, что и сделали. – Тоби, мой мальчик, очень хорошо, что вы напали на след! Получите четыре фунта награды! – Благодарю, патрон… – Что еще? – Поймав нить дела, мы дежурили близ дома мистера Редона в надежде, что убийца или один из его помощников бродит около. Известно, что убийцы как бы гипнотизируются своей жертвой, заставляющей их возвращаться на то место, где пролита кровь. – Вы рассуждаете логично, Тоби! Продолжайте, мой мальчик! – Но не видали ни Боба Вильсона, ни Френсиса Бернетта. – Как! – Да! Комиссар по юридическим делам должен был допросить мистера Поля Редона и обратился за разрешением к своему начальству. Благодаря его званию, суд позволил ему это свидание. Он вошел в спальню мистера Редона и увидел, что постель пуста, остыла, мебель в беспорядке, и – это все… Репортер исчез. Его искали по всему дому в саду, в других павильонах. Ничего! Пропал! Несмотря на свое британское хладнокровие, агент не мог удержаться от восклицания, донесшегося по телефону до ушей Тоби No 2. Компаньон же Мельвиля, до сих пор слушавший спокойно, расхохотался так, как будто это необъяснимое исчезновение репортера было самой смешной вещью в мере. – Вы смеетесь, патрон? – вскричал Тоби No 2, но сейчас же спохватился.– Да с вами кто-то есть? – Да, надежный человек, перед которым вы можете говорить не стесняясь! – Хорошо! Так мы с товарищем узнали, как я только что сказал, что мистер Поль был убит компаньоном Красной Звезды, но у нас не было доказательств! Теперь же они в наших руках, так что в случае надобности можно передать дело в суд. – Ага! – вскричал друг Мельвиля.– Это центральный пункт дела. Если у ваших людей, дорогой Мельвиль, есть такое доказательство, то невиновность Леона Фортена очевидна! – Я думаю так же, как вы; и ваше путешествие сюда может оказать действительно громадное влияние на это загадочное дело! – потом он прибавил в телефон: – Мистер Тоби No 2? – Да!.. – Сейчас шесть часов… согласны вы завтра, в этот же час, сообщить свои доказательства человеку, объявившему подобно вам беспощадную войну товарищам «Красной звезды»? – Да! – Прекрасно! Ровно в шесть часов вы будете на улице Рошфуко у павильона исчезнувшего репортера, позвоните и спросите Поля Редона. Вы увидите его во плоти, а не в качестве призрака, хотя у него теперь есть двойник.
ГЛАВА VIII
Опять маленький старикашка.– Удивление.– Воскресший из мертвых.– Ужасная рана.– Железная энергия.– Разоблачения Тоби No 2.– Слепок ног.– Отождествление.– Свет.– Преступление в Батиньоле.Как только начало бить шесть часов, у двери павильона, занимаемого Полем Редоном, остановились двое мужчин. Один прямой, немного тощий, с длинными зубами и маленькими белокурыми локонами, имел вид английского слуги. Другой, одетый по последней моде, молодой, интеллигентный, был джентльмен с ног до головы. Последний поглядывал на англичанина; тот со своей стороны украдкой бросал на него нерешительный взгляд, нажимая кнопку электрического звонка. Дверь тотчас же открылась, и на пороге появилась экономка журналиста. – Господин Поль Редон дома? – спросил на чистейшем парижском жаргоне джентльмен. – Мистер Пол Ридонн? – переспросил по-английски слуга. – Потрудитесь пройти! – пригласила женщина, давая дорогу. Они вошли в спальню и увидели в ней низкого старичка, стоявшего спиной к камину, плешивого, с мутными глазами и дрожащими руками и ногами. – Поль Редон, – сказал он тонким, как у щура, голосом,– я! – Ах! – вскричал озадаченный англичанин.– Вы смеетесь надо мною! – Эй, голубчик, нельзя ли без подобных шуток! – воскликнул и джентльмен. Старичок быстро выпрямился и крикнул задыхающимся от смеха голосом: – Да, это я! В тот же миг плащ упал, седой парик полетел прочь, такая же борода отстала от щек и подбородка, и в результате появился молодой, немного бледный человек, с тонкими чертами лица. – Да! Это я – Редон! Не сомневайтесь в этом, дорогой прокурор! Я сам вчера телефонировал вам из Лондона в Версальский суд, назначив свидание здесь в шесть часов. Вы очень мило сделали, что не опоздали! – Но вы все еще неузнаваемы! – вскричал пораженный чиновник.– А борода… ваша настоящая борода… красивая шатеновая борода, так шедшая вам? – Сбрита совершенно! Я пожертвовал ее на алтарь дружбы и затем, чтобы сбить с толку своих недоброжелателей! – Удивительно! – произнес судейский чиновник, пожимая его руку.– Но как ваша рана? Честное слово, мы вас собрались оплакивать! – Да, я знаю… благодарю! Моя мнимая смерть принесла пользу: мы сейчас поговорим об этом… А теперь прежде всего, дорогой мой друг, имею удовольствие представить вам мистера Тоби No 2, одного из самых тонких и ловких сыщиков Англии! Англичанин поклонился просто, но с достоинством, а Редон прибавил: – Это с вами я вчера говорил по телефону у моего друга Мельвиля, в Лондоне? – Да, сэр. – Садитесь, мистер Тоби, и вам, дорогой прокурор, предлагаю это кресло. Я чувствую себя разбитым этим непрерывным путешествием из Парижа в Лондон и из Лондона в Париж, а потому прошу у вас разрешения растянуться на этом шезлонге! – Но, дорогой мой Редон, скажите, что все сие значит: эти переодевания, путешествие в скором поезде, рана, затворничество, слухи о вашей смерти… Журналист распахнул свою рубашку, снял повязку на груди и, показав ужасную рану, наполовину затянувшуюся, прибавил: – Человек, желавший моей смерти, напряг все свои силы при нанесении удара и мог рассчитывать на удачу: я должен был скоро умереть. Но удар, нанесенный со страшною силой, пришелся по узлу моего шелкового галстука, причем плотная ткань уменьшила его напряженность и заставила его скользнуть. Вследствие этого нож, вместо того чтобы пронзить мне грудь, только перерезал слой мускулов до самых ребер, на которых и остановился! – И вы ходите с этим? – Уже тридцать часов! – Ну и человек же вы! – Человек, у которого есть цель! Впрочем, в первый момент я считал себя пораженным насмерть, и мысль распространить слухи о мнимой своей кончине в ближайшие дни пришла мне только после перевязки. Этим маневром я хотел усыпить бдительность своих врагов и ускользнуть от них! – Умно придумано! – Но это ужасная рана… Она еще побаливает, хотя сегодня одиннадцатый день, и она на три четверти уже залечена. Доктор промыл ее, зашил, предупредив инфекцию, и благодаря его искусству процесс рубцевания прошел нормально, не вызвав температуры. – Поразительно, я не знаю, чему больше удивляться: вашему ли терпению, или науке, совершающей подобные чудеса. Но скажите, друг мой, вы не подозреваете, кто ваш убийца? – Вот мистер Тоби No 2, может быть, сообщит нам о нем. – Да, сэр! Я скажу вам всю правду! – Мистер Тоби, мы с этим джентльменом владеем английским языком как своим собственным; поэтому вам будет удобнее изъясняться по-английски! – Хорошо, сэр! – Но прежде, мистер Тоби, дайте мне свой адрес, чтобы, в случае нужды, я мог вас найти! – Покинув Павильон Генриха IV в Сен-Жермене, где я жил некоторое время в качестве джентльмена, я поступил в гарсоны Парижского Виндзор-отеля. – В Сен-Жермене!.. Вы были в Сен-Жермене… в момент совершения преступления?! – За неделю до него, и я видел Френсиса Бернетта с Бобом Вильсоном; мы с товарищем следили за ними в течение нескольких дней. К сожалению, агенты французской полиции в решительную минуту помешали нам! При этом сообщении неожиданная мысль мелькнула в уме репортера; он ударил себя по лбу и вскричал: – Но… вы должны узнать эти ноги! – Какие ноги? – спросил товарищ прокурора, которого поступки, слова и мысли его друга поражали своею неожиданностью и оригинальностью. Журналист подошел к двери своей туалетной комнаты, открыл ее, отыскал спрятанный под обоями маленький сундучок и вынул из него два отпечатка, сделанные в саду на улице Св. Николая. – Вот ноги, мистер Тоби; их можно зачернить для большего сходства с ботинками! – Лишнее, так как я чистил вчера утром в Виндзор-отеле совершенно такую же обувь. Я сразу узнал форму ноги: ее длину, необыкновенную даже для англичанина, обтертый задок, маленькую выпуклость большого пальца левой ноги, указывающую на начало подагры. Поверьте совести честного человека, что эти ноги принадлежат Френсису Бернетту, одному из начальников «Красной звезды». – Но тогда, если он в отеле Виндзор, нет ничего легче, как арестовать его! – вскричал Поль Редон. – Он оставил отель вчера вечером. – Тысяча молний! Вот что значит играть несчастливо! – Впрочем, мой товарищ должен за ним следить. Этот быстрый обмен фразами был совершенно непонятен товарищу прокурора, потому он с любопытством осведомился, что все это означает? – Помните, как я просил вас по телефону задержать корзину на станции Св. Лазаря? – вместо ответа спросил его репортер. – Помню! – Так эта корзина принадлежала негодяю, а вот изображение его ног! Эти отпечатки сделаны мною в саду дома, где совершено было преступление, в Мезон-Лафите… Они остались под стеной ограды, в том месте, где убийца перепрыгивал через цветник. Мистер Тоби признал их за отпечатки ног Френсиса Бернетта, английского бандита, начальника «Красной звезды»… Вы слышите? «Красной звезды»! – Подтверждаете вы все это, мистер Тоби? – Да, даже под присягой! Живо заинтересованный чиновник начал теперь замечать свет, все более рассеивавший потемки, окружавшие это трагическое и таинственное дело. Увидев свою ошибку, он, как умный и честный человек, готов был исправить ее, как только получит все доказательства. Между тем Редон продолжал: – Я передам вам все дело, врученное мне при отъезде из Лондона старшим агентом Мельвилем. Когда вы прочтете его, то будете совершенно убеждены. Тогда мы поговорим о Леоне Фортене. – Странно! – сказал тот вполголоса.– Но продолжайте, друг мой, пожалуйста! Назначив мне вчера по телефону свидание, вы сообщили, что надеетесь узнать имя своего убийцы и представить доказательство того, что он – виновник преступления. – Я думаю, что мистер Тоби удовлетворил нас обоих! Не так ли, мистер Тоби? – Да, сударь! – Прекрасно,– заявил тогда судья,– я буду вполне убежден, если этот убийца имеет какое-то отношение к «Красной звезде». Тоби No 2 порылся в своих карманах и начал: – Вот прежде всего нож, которым вы были поражены. Это прекрасный шеффилдский клинок, на буйволовой рукоятке которого вырезаны инициалы В и W, а под ними маленькая красная звезда с пятью лучами. Поль Редон взял оружие, попробовал острие пальцем, провел им легонько по нитке и сказал наполовину серьезно, наполовину смеясь: – Черт возьми! И колет, и режет: доказательство тому – мое бедное поврежденное тело. – Это нож Боба Вильсона. Я взял его из собственного его кармана! – продолжал Тоби.– Впрочем, он ценен только благодаря инициалам, красной звезде и происхождению. А вот что более важно! При последних словах агент вынул из внутреннего кармана своего пиджака конверт, в котором находился бледно-красный листок, исписанный буквами. – Это лист из бювара, находящегося в комнате, которую занимал Боб Вильсон в отеле Виндзор. Я сам поменял бумагу бювара в надежде, что Боб Вильсон воспользуется ею как промокательной бумагой для своих писем, и не ошибся. Вот потрудитесь прочитать! Так как буквы на листке бювара имели зеркальное изображение, агент поднес бумагу к зеркалу. Тогда товарищ прокурора и репортер смогли с большим трудом разобрать следующие три строки: «Я покончил с Редоном: он знал слишком много. Человек из Мезон-Лафита окончательно погиб! Боб Вильсон». – Протестую! – вскричал Редон.– Я – упрямый мертвец, да и мальчик еще жив! Тоби No 2 продолжал своим спокойным голосом: – Это письмо Боба Вильсона. Впрочем, вот образец; потрудитесь сравнить, господа! Образец и строки бювара имели такое сходство, что всякое сомнение отпадало: оба письма, несомненно, вышли из-под пера Боба Вильсона. Он – убийца Редона! Теперь прокурор был убежден. Если компаньоны «Красной звезды» хотели умертвить репортера, то значит, как подтверждало и письмо, он знал слишком много. Убежденный в невиновности Леона Фортена, он горячо взялся за розыск настоящих виновников преступления и потому сделался для них опасен. В этом не было никакого сомнения. Дрожащим от волнения голосом прокурор обратился к журналисту и его помощнику: – Ваша храбрость и изобретательность, дорогой Редон, вместе с терпением и находчивостью мистера Тоби помогут восторжествовать справедливости. Благодаря вам ошибка будет исправлена, а невиновный получит свободу и оправдание. Мне остается теперь только сообщить следователю все, что я сам узнал! Надеюсь, что вы не откажетесь мне помочь? – О, всеми силами! – отвечал журналист.– Вот документы, добытые английской полицией и доверенные мне Мельвилем. Вы прочтите их… это поразительно. А теперь нельзя ли мне свободно общаться с Фортеном, сделавшимся для меня еще дороже благодаря несчастью? Я хотел бы сообщить ему хорошие известия, осушить слезы стариков-родителей. – Я сейчас возвращаюсь в Версаль, увижу вашего друга и поведаю ему всю правду! – Благодарю, дорогой друг, благодарю от всей души! – Вы взволнованы, отдохните до завтрашнего полудня, а затем приезжайте в Версальский суд. – Не премину это сделать. – И вы также, мистер Тоби? – Да, сударь, по приказу своего начальника, старшего агента Мельвиля, я остаюсь с мистером Редоном. Я очень рад повиноваться его приказанию, и, увидите, я буду вам полезен. Прежде всего, мне нужно взглянуть на негодяев, которым только мое отсутствие позволит приблизиться к вам. Потом, увидя с вами сыщика английской полиции, они поймут, что разоблачены. Тогда они быстро оставят Францию, где им будет слишком рискованно оставаться. – Это разумно, мистер Тоби. Располагайтесь же здесь… вот комната… вы у себя… пейте, ешьте, а я ложусь в постель! – До завтрашнего полудня, дорогой прокурор! Вот документы… возьмите их! – Благодарю! – Прав я был, когда кричал вам: «Ловушка!»? – Да, вы были правы, и я благодарю вас от всего сердца, от имени правосудия, как его представитель! – Ба! Не стоит! – Нет стоит, так как вы оказали всем большую услугу, разъяснив нам печальное заблуждение. Это останется между нами, не так ли? – Даю слово! – Я иного и не ждал от такого человека, как вы! Мы иногда ошибаемся, потому что ошибки свойственны людям, а мы – люди. Но мы всегда действуем по совести и стараемся не преступить закона! До завтра! Прокурор уехал. Редон пообедал с аппетитом, лег в постель и уснул, как убитый. В восемь часов Тоби вышел из дому, взял карету, вернулся в отель Виндзор и потребовал расчет. Получив его, он сложил в маленький сундук свой тощий багаж, положил его в экипаж и вернулся в квартиру Редона. На улицах продавали второе издание «Вечера» (Le Soir). Разносчик выкрикнул у него над ухом: «Берите последние новости… Читайте о Батиньольском преступлении… убийство капиталиста… кража пятидесяти тысяч франков! Требуйте последние новости!» Тоби подумал: – Пятьдесят тысяч франков… Две тысячи фунтов… Что, если и здесь замешана «Красная звезда»? Он купил газету, пробежал глазами описание события и сел в карету, промолвив: – Если это преступление совершили компаньоны «Красной звезды», то они, конечно, бежали. Нужно их найти, а это не легко.
ГЛАВА IX
Тщетные предосторожности.– Дьявольская ловкость.– Это – английской работы.– На свободе.– Вознаграждение.– Истинный друг.– Отправимся в Клондайк! – Отъезд в Америку.Убийство в Батиньоле навсегда осталось тайной, а виновники его не были раскрыты. Совершенное с неслыханною дерзостью и смелостью, оно сильно взволновало общественное мнение; но парижской полиции, несмотря на все ее искусство, не удалось обнаружить ни малейшего следа преступников. Только, может быть, Тоби No 2 да его товарищи, агенты Мельвиля, подозревали правду. Жертвою был семидесятилетний старик, очень скупой, слывший богачом в квартале, собиравший драгоценности и деньги. С ним жила единственная служанка, почти шестидесятилетняя, немного глухая и, по слухам, любившая пропустить стаканчик. В день убийства старик получил в банке пятьдесят тысяч франков и возвратился веселый, шелестя синими бумажками и любуясь ими: потом заперся в маленьком кабинете, где находился его денежный сундук и куда никто, кроме него, не входил, даже прислуга. Впрочем, он простирал свои предосторожности до чрезвычайных размеров и сделал все возможное, чтобы превратить эту комнату в неприступную крепость: ставни, плотно закрывавшие окна, были покрыты стальными листами и снабжены целой системой запоров и пружин. Кроме того, входная дверь запиралась цепями и стальными перекладинами. Наконец, отверстие каждого камина было закрыто на уровне человеческого роста прочною решеткою. К несчастью, хозяин забыл обить железом пол и стены, тогда бы он жил в закупоренном металлическом кубе. Но как бы то ни было восьмого апреля освободилось помещение как раз над квартирою старика, находившейся на четвертом этаже старого дома по улице Бурсольд. Какие-то люди перевезли сюда скудную мебель, внеся вперед трехмесячную плату за квартиру. Они уходили и приходили в определенное время как мастеровые или служащие и рано возвращались в свое скромное жилище. Ночью с дьявольской ловкостью и смелостью они ухитрились проделать отверстие в полу, отделявшем их жилище от квартиры старого скупца. Они работали без всякого шума и выполнили эту каторжную работу за восемь ночей. Очевидно, им было хорошо известно расположение комнат в квартире старика, так как отверстие пришлось как раз над маленькой кладовой. На восьмую ночь они спустились в нее. Должно быть, старик услыхал легкий шум, потому что встал и взял спичку, найденную потом в его руке. Тогда воры ворвались в его комнату, схватили его, задушили и бросили на ковер, сами же кинулись к денежному сундуку. Зная наверняка, что лом им не поможет, они пробили металлическую стенку при помощи целого набора различных инструментов, а сделав одно отверстие, принялись за второе. Мало-помалу, менее чем за два часа, они проделали в двери круглое отверстие на уровне замка. Однако им не удалось сломать его; тогда один из них запустил руку и вытащил пачку в пятьдесят тысяч франков, находившуюся сверху. Удовольствовались ли они такой добычей или услыхали какой-то подозрительный шум вблизи, неизвестно. Ясно одно: они не смогли или не успели проделать отверстие с другой стороны денежного сундука. Поднявшись в свою квартиру, они переменили одежду и покинули помещение в три часа утра. Служанка ничего не слыхала. В шесть часов она постучалась к хозяину, дверь комнаты которого была по обыкновению наглухо закрыта. В восемь часов она опять подошла к двери, испугалась, спустилась к привратнику и попросила его привести полицейского. Убийство было обнаружено, а вместе с тем и кража. Не знали, кого подозревать. Только Тоби догадывался об истине. Он мог добыть от французских агентов некоторые разъяснения, видел улики и сказал Редону: – Это – английская работа! Ваши французские бандиты не имеют таких совершенных инструментов. – Очень возможно, Тоби,– с важностью отвечал журналист,– впрочем, у меня нет национального самолюбия! Английский агент при помощи своего товарища начал розыски, но они ни к чему не привели. Пришлось сделать заключение, что убийцы покинули Францию, увезя с собою и пятьдесят тысяч франков, предмет их преступных вожделений. Кроме того, агент заявил журналисту и его друзьям: – Я уверен, что вас сбили с толку деятели «Красной звезды». Думаю даже, что эти два злодея уехали, как и предупреждали, в Клондайк – ловить в мутной воде миллионы. В их руках был основной капитал, необходимый для начала предприятия – пятьдесят тысяч франков, добытых преступлением! – Но тогда их было бы легко арестовать в Гавре или Ливерпуле, на пути в Америку?.. – Они слишком хитры, чтобы сесть на французский или английский пакетбот. Я думаю, они уже достигли границы, бельгийской или германской, и продолжают путь в Антверпен или Бремен. Ах, если б я мог быть одновременно в двух-трех местах! – Ну, поезжайте сами в Бремен, а своего товарища отправьте в Антверпен. – Я не смел просить вас об этом! – сказал агент, глаза которого заблестели.– Ведь мне приказано оберегать вас. – Благодарю, мой Тоби, я теперь сам себя могу охранить и защитить. Не бойтесь ничего и посылайте каждый день известия! Когда оба агента уехали, Редон вернулся в Версаль и подоспел как раз к освобождению Леона Фортена. Несчастный пленник, которого содержали до тех пор в большой строгости, очутился на свободе, ничего не понимая, как и в день своего ареста. Его выпустили из заключения, как и арестовали, без всяких разъяснений. Он сначала не узнал своего верного друга Редона, с его бородой, бледностью и остатком лихорадочного блеска в глазах. По дороге в Мезон-Лафит Редон рассказал вкратце своему другу все, что произошло, скромно приписав себе только незначительную долю хлопот по его освобождению. Когда они пришли домой, Леон открыл дверь, влетел в комнату вихрем и, увидев мать, протянул к ней руки, говоря сквозь слезы: – Мама!.. Бедная моя мама! Старушка обняла его, едва сумев проронить слабым голосом: – Мальчик мой, дорогой… наконец-то… мы не жили… разлученные с тобою… несчастный… обвиненный в таком преступлении!.. О, эти судьи!.. Тебя, саму доброту, честность… тебя подозревать!.. Он вырвался из объятий матери и кинулся на грудь к отцу, бледному, почти бездыханному, не произнесшему ни слова, а только плакавшему как ребенок. Только после этого Леон и его друг заметили двух молодых людей, поднявшихся им навстречу. Это были прекрасная девушка в глубоком трауре, растроганная и не пытавшаяся сдерживать слез, и ее брат. В то время, как Поль Редон пожимал руки стариков, знавших, какое участие он принимал в освобождении их сына и не находивших нужных слов, чтобы отблагодарить, Леон с восхищением вскричал: – Мадемуазель Грандье! Вы здесь! О, да благословит вас Бог за это! – Милостивый государь,– сказала та с достоинством,– роковая судьба соединила ваши страдания с нашими. У этих страданий – один источник и потому мы с братом жаждали первыми, после ваших родителей, засвидетельствовать вам свое уважение! Растроганный, забывший все пытки заключения, все оскорбления толпы, Леон горячо пожал протянутые руки молодой девушки и ее брата. – А что у вас нового, мадам Фортен? – спросил Редон. – Плохие новости, на нас все показывают пальцем, так что на улицу нельзя выйти. Потом бедный наш Леон потерял свою должность в Сорбонне. Вот письмо, извещающее об этом! – Ах,– с горечью сказал Леон,– даже судебная ошибка не проходит даром! Теперь я без должности, имею массу врагов. Что делать, Боже мой, что делать? – Покинуть отечество,– посоветовал Редон,– устроиться за границей и отплатить презрением за презрение! – Но я беден, а мои родители тоже не имеют средств! – Это очень легко устроить! – возразил журналист.– Ну-с, папа Фортен, сколько вам нужно в год, чтобы прожить прилично? – Я не знаю, право! – робко заявил тот. – Ну, вот: у меня есть на берегу моря, в моей дорогой Бретани (я ведь бретонец) прелестный домик, с садом. Вы поселитесь в нем и будете там выращивать овощи… жизнь там дешевая… довольно ста франков в месяц. – Но, дорогой Поль…– прервал Леон. – Что ты хочешь от своего дорогого Поля? Я твой компаньон, не так ли? Мы учредим, если ты хочешь, общество. Я внесу капитал, ты – свой ум и свои технические познания, материальная жизнь твоих родителей обеспечена частью капитала. – Я перестаю понимать! – Изволь, объясню: тебе нужно пятьдесят тысяч франков, чтобы сделать карьеру в Клондайке, но не так, как «Красной звезде», конечно. Я тебе даю эту сумму, так как уверен, что заработаю на ней пятьдесят миллионов! Значит, я сделаю выгодное дело! Впрочем, мы отправимся вместе в Клондайк, так как жизнь здесь невесела. – Итак, решено, мы едем наживать капиталы? – Чем раньше, тем лучше, и я думаю, что с помощью твоей выдумки миллионы быстро потекут в наши руки. Вероятно, там мы встретим и злодеев, которые под маркой «Красной звезды» совершили столько преступлений, принесли столько горя. Я очень бы не прочь отплатить им той же монетой и испробовать на них месть краснокожего. Брат Марты поднялся при этих словах и, дрожа от гнева, произнес: – Господа, они убили моего отца, возьмите меня с собою, чтобы отомстить за него! – Хорошо, мой молодой друг! – с горячностью отвечал журналист.– Сколько вам лет? – Шестнадцать, но, клянусь, я по храбрости не уступлю взрослому! – В 1870 году многие юноши ваших лет были неустрашимыми солдатами. Вы идете с нами! – Благодарю, вы не раскаетесь. Что касается сестры, то… – Она не покинет тебя, друг мой! – прервала молодая девушка, вставая в свою очередь. – Как, мадемуазель!? – вскричал Леон.– Вы решитесь подвергнуть себя пыткам ледяного ада, лишениям, холоду, ужасному, мертвящему холоду?!.. – Наш покойный отец завещал отомстить убийцам, и я буду везде преследовать их. Я не боюсь ледяного ада, не побоюсь, если нужно, и Сахары, я перенесу самые страшные страдания, даже самую смерть, без колебания, без сожаления, без жалоб! Все это было сказано спокойно, с холодной решимостью человека, не желающего раздумывать. Чувствовалось, что под нежной кожей девушки кипит горячая кровь, а в сердце ее – отвага героя. Оба друга почтительно склонились, не в силах устоять перед такой энергией. Тогда молодая девушка продолжала: – Будьте уверены, я не помешаю. Бедный отец как будто предчувствовал и воспитывал меня по-американски. Я сильна, приучена к трудностям, занималась всевозможными видами спорта. Я буду для вас спутником, берущим на себя часть работы и опасности. Наконец, у нас есть небольшие деньги, остатки прошлого величия, около десяти тысяч франков. Это наш с братом пай в ваше предприятие. Таким образом мы станем вашими компаньонами, не так ли? – Мадемуазель,– почтительно отвечал журналист,– для нас ваши желания – закон! Теперь последнее слово! Надо приготовиться к отплытию в Америку в течение недели! – Но мы готовы! – в один голос отвечали брат и сестра. – Чудесно! А ты, Леон? – Мне надо три дня на сборы. – Решено! Я со своей стороны жду вашего известия, которое рассчитываю получить не раньше, как через два дня. От этого зависит время нашего отъезда! Я сообщу вам его тотчас по получении. Марта с братом вернулись на виллу Кармен, которую они вскоре должны были покинуть навсегда. Леон Фортен заперся в своей маленькой лаборатории и с увлечением отдался работе. Старики Фортен, удрученные мыслью о близкой разлуке с сыном, но сознавая ее неизбежность, готовились к отъезду в Бретань. Так прошли двое суток. Редон начал уже волноваться, как вдруг получил телеграмму. Он запер сундуки и в автобусе Западной Компании отправил их на станцию св. Лазаря. Сам же, дав необходимые инструкции ключнице, пешком отправился на вокзал Западной дороги. По пути встретился ему товарищ и спросил: – Вы уезжаете? – В Мезон-Лафит! – отвечал он. К ночи Редон прибыл туда. В ожидании его здесь собрались предупрежденные телеграммой Марта Граидье, ее брат и Леон Фортен с родителями. Каждый чувствовал, что решительная минута наступила. После обычных приветствий Редон вынул из кармана телеграмму и прочел: «Бремен, четверг, 5 мая 1898 года, 2 часа. Компаньоны „Красной звезды“ сегодня утром сели на пакетбот „Император Вильгельм“, отправляющийся в Нью-Йорк, потом в Канаду и Клондайк. Уезжают в полдень. Я поеду тоже и буду следить за ними до конца. Адресовать письма – Силька-Ванкувер, потом Доусон-Сити. Тоби No 2». – Поняли? – спросил Редон.– Нет, конечно! Сейчас объясню! – и он подробно пересказал им свои приключения, начиная с того момента, когда он делал отпечатки ног убийц в саду на улице Св. Николая. Когда все было выяснено, сообщены все сведения относительно «Красной звезды», он прибавил: – Сегодня четверг, вечер, 6-е мая. Завтра утренним поездом мы отправляемся в Гавр, в шесть часов. В прилив снимаемся с якоря и вперед! В Америку, куда зовет нас жажда мщения и богатства!
* ЧАСТЬ 2. ГНЕЗДО САМОРОДКОВ *
ГЛАВА I
Страна золота.– Золотая лихорадка.– Рудокопы передового отряда.– Огильви.– Бескорыстие.– Нищета и миллионы.– На приступ.– Вторжение.– Зимние лишения.Два года тому назад географы даже не слышали о Клондайке, этом скромном ручье, притоке громадной реки ледяной страны, Юкона, катящей свои воды по вечной мерзлоте Канады и Аляски. В настоящее время все знают и повторяют это название, по созвучию происходящее от индейского слова «Трон-Дюнк», означающего «много рыбы». Клондайк теперь полон золота!.. Золота до пресыщения!.. Золота в изобилии! Это – эльдорадо страны снегов, таинственное место, где должна находиться громадная золотая сокровищница… золотой мешок… «мать золота», как говорят рудокопы. the big lump of gold (большая груда золота) американцев, открытие которой вызвало бы падение стоимости золота во всем мире. Но Клондайк – это еще ледяной ад, где дрожат от золотой лихорадки, где носятся в воздухе алчные желания, где мечется отчаяние, где гибнут во множестве люди, пораженные безумием. Да, ледяной ад, где свирепствуют страшные морозы в сорок пять, пятьдесят и пятьдесят пять градусов ниже нуля, где скалы трескаются с громовым шумом, где мясо рубят топором, сало и масло пилят пилой, где ртуть доходит до плотности свинца, где жизнь кажется невозможной и где во время бесконечной полярной ночи работают, как бешеные, люди, собравшиеся отовсюду на поиски золота. Уже два года близ места, где скрещивается шестьдесят четвертая северная параллель со сто сорок вторым западным меридианом от Парижа, люди всех племен, говорящие на всевозможных языках, охваченные одинаковой алчностью, бьют кирками мерзлую почву, заключающую золотые зерна. 17 июля 1897 года судно «Портланд», возвращаясь из Клондайка, доставило в Сан-Франциско шестьдесят рудокопов. Истощенные, оборванные, утомленные дорогой, эти люди, казалось, подвергались всем болезням, какие только может вынести человеческий организм. Все они сгибались под тяжестью сундуков, мешков и всяких причудливо завязанных тюков, которых не хотели никому доверить. Они остановились у банка и здесь, перед воротами, раскрыли свои тюки. Там были слитки и золотой песок. По взвешивании оказалось около двух тысяч килограммов… миллион сто двадцать тысяч долларов!.. шесть миллионов франков. Они обменяли золото на деньги, и разбогатевшие, или по крайней мере избавленные от нужды, собирались опять эксплуатировать участки, которые взяли в концессию. На вопрос, откуда они пришли, был дан ответ: «Из Клондайка». Они рассказали о своих мучениях, о зиме, проведенной в палатке при 55-градусном морозе, об ужасном труде, о смерти товарищей… – Да!.. Да!.. Это так… Но золото? – Золото?.. Оно там везде! И это была правда. Эти люди привели в лихорадочное состояние целый город. Новость распространилась быстро, достигла Канады, Соединенных Штатов, берегов Атлантического океана, старой Европы… целого света. За несколько дней название Клондайка и его притоков сделалось популярным. Рудокопы окрестили их: Хонкер (Hunker), Бир (Bear), Эльдорадо, Бонанза, – это наиболее известные, изобилующие золотом места. Организованы были экспедиции, намечены склады, чуть не будущие города, где устраивался запас всего необходимого: одежды, орудий, провизии. Потом суда, нагруженные людьми, скотом, собаками, инструментами, припасами, стали отплывать то из Ванкувера, то из Сан-Франциско. Торговцы, ковбои, пасторы, хористы, земледельцы, авантюристы, промышленники, моряки, ремесленники – все превратились в рудокопов и присоединились к пионерам. Между ними находился В. Кормак, опытный золотоискатель. Охваченный лихорадочными поисками, он грезил о золоте под полярным кругом, скитаясь в течение двадцати лет и не теряя мужества несмотря на неудачи. Неутомимо копал он мерзлую почву, где кое-где попадались ему золотые зерна. В нескольких сотен милях от него, на юге, трудилась другая группа рудокопов; их было около тысячи, и лагерь назывался Форти-Миль (Forty-Mile). Привлеченные индейскими легендами, они в действительности очень мало находили золота и жили весьма скудно. В августе Кормак, работая вместе со своим деверем, индейцем, намыл золота на три сотни франков. Удивленный, он набрал еще земли и опять намыл на четыреста франков. В течение двух дней ему удалось добыть золота на сумму семь тысяч франков, а россыпь, казалось, нисколько не истощалась, и счастливый рудокоп собрал за неделю около двадцати тысяч франков; но вышла вся провизия. Он отправился тогда в лагерь Форти-Миль; купил сала; муки и картофеля, сообщил некоторым товарищам о своем богатстве и уехал обратно. Последние, целая дюжина, не колеблясь, последовали за ним и прибыли на берег ручья, названного Кормаком «Эльдорадо». По обычаю рудокопов, они разделили землю на участки в семьдесят шесть метров каждый и лихорадочно принялись за работу. Первые результаты были головокружительны: никогда еще рудокопы, даже в сказочные времена Калифорнии или Австралии, не видели подобного богатства. Двое из близких приятелей Кормака, старый Джон Казей (John Casey) и молодой Кларенс Берри (Clarence Berry) вступили в товарищество. У последнего была грациозная и миниатюрная жена, точно распустившийся цветок, роза севера среди снегов. Все трое, при усердной помощи мадам Берри, добыли за двенадцать дней сорок тысяч франков из выемки около трех метров глубиной. Четверо других товарищей, Жой Мак-Найт (Joe Mac-Knight), Дуглас, Фир и Гартманн, оказались еще более удачливыми: в течение трех недель они намыли золота на сто двадцать тысяч франков. Наконец, охотник меховой компании из Сан-Луи, работая один, намыл на тридцать шесть тысяч франков за восемнадцать часов. Все эти люди, до тех пор намывавшие по пяти, десяти су, казалось, обезумели. Они не пили, не ели, не спали, настолько их нервы были возбуждены лихорадочной работой. Как и у Кормака, однако, у них вышла вся провизия, так что пришлось отправиться в Форти-Миль. При виде мешков, наполненных золотыми зернами, более тысячи ста рудокопов отправились в Эльдорадо, захватив все, что могли. Двое молодых людей, Рид (Reed) и Лерминье, сделали открытие, почти беспримерное в летописях рудокопов. Они за две недели извлекли из выемки в восемь метров триста тысяч франков! Тогда канадец Жозеф Леду, владевший лесопильней на реке Сиксти-Миль (Sixty-Mile), перенес ее на новое место, туда, где Клондайк сливается с Юконом. Через два года здесь вырос уже целый город с тридцатью тысячами жителей, Доусон-Сити (Dawson-City). Однако неизбежным следствием наплыва народа в Клондайк явились раздоры между поселенцами, соперничество, убийства. К счастью, межевщик канадского правительства, Вильям Огильви (William Ogilvie) находился неподалеку, во главе группы топографов, посланных определить границу между Америкой и Канадой. Он согласился измерить все участки, установить границы владений и быть справедливым судьей между этими людьми, привыкшими пускать в ход револьверы. Он один сохранил среди всеобщей лихорадки свое хладнокровие и даже отказался от богатых даров, предложенных ему за труды, заявив, что «государство платит ему жалованье за исполнение обязанностей, а не за устройство собственногоматериального благополучия». Такой поступок снискал высокое уважение этому человеку, решения которого стали почитаться законом. Он один мог установить порядок между этими сумасшедшими. Между тем золотоискатели, рассеявшиеся было по обширным пустыням Аляски и влачившие там жалкое существование, все больше наводняли Клондайк. Сколько ужасных тайн породила эта погоня за золотом! Руководствуясь компасом, в ужасную полярную ночь, люди шли через снега, таща сани, питаясь замороженным мясом собак, когда выходило сало, страдая от страшного холода, вынужденные спать на снегу. Сколько погибло их за это время ужасной смертью! Но зато как награждены были те, кто победоносно вышел из грозного испытания! Зима прошла среди лишений и сверхчеловеческого труда. Большинство жило в снеговых хижинах или в палатках из шерстяной ткани. Впрочем, неутолимая золотая лихорадка воспламеняла их кровь, сжигала тело, держала в огне весь организм до мозгов и делала нечувствительным к холоду. Весной уехала партия из шестидесяти пяти рудокопов, почувствовавших себя достаточно богатыми, чтобы позволить себе некоторый отдых. Это были пассажиры «Портланда», прибытие которых в Сан-Франциско произвело известное уже читателю волнение. Месяц спустя «Эксельсиор» привез шесть миллионов долларов и вторую партию рудокопов из шестидесяти человек. Среди них был калифорниец Берри и его неустрашимая подруга. Берри собрал за зиму на восемьсот тысяч франков золотого песка и зерен и приобрел участок, стоящий более пяти миллионов. Его товарищ Балти (Balty) привез шестьсот пятьдесят тысяч франков; Жозеф Леду, основатель Доусон-Сити,– пятьсот тысяч. Канадцы с именами, похожими на французские, Дефонтен, Мишо, Бертонне, Денонвилье, Бержерон, Жильберт, прибыли владельцами примерно полумиллиона! Работа десяти месяцев! Многие другие тоже составили себе состояние. Тогда-то началась горячка. Со всех сторон стекались жаждущие золота, бравшие пароходы буквально приступом. Они отправлялись на поиски без провизии, не обращая внимания на ужасный климат, при котором с октября реки промерзают и затрудняется снабжение провиантом. Несчастные безумцы со всех сторон бросались на штурм страны льдов, терпя голод, холод, смерть и переступая через замороженные трупы, устилавшие заснеженную землю. Была зима, а они все шли. Отовсюду прибывали бесчисленные партии. Пароходы останавливались в Скагуэй (Skaguay) или в Дика (Dyca). От последнего пункта до Беннета, где начинается нормальный санный путь, считается пятьдесят километров. На половине пути возвышается скала высотой в 1.068 метров, покрытая снегом, на вершину которой взбираются по дорожке, протоптанной козами note 2 . Ни собаки, ни лошади, ни мулы не могут там карабкаться, словом, никто кроме человека. Каждый навьючен поклажей около 4 пудов весом. Согнув спины, с разбитыми поясницами и подбородком, чуть не касающимся колен, будущие миллионеры усердно взбираются по тропинкам, цепляясь пальцами рук и ног, пыхтя, ворча, проклиная и все-таки медленно продвигаясь вперед. Около тысячи их взбирается сразу; как муравьи, движутся они черной лентой, отчетливо виднеющейся на белом снежном покрове. Они достигают вершины изнуренные до крайности, испускающие пары, как кипящий котел. Тогда резким движением сбрасывают они с плеч ношу, и она скатывается далеко вниз. За первым тюком следует другой, потом третий и т. д., по числу забравшихся людей. Внизу все это смешивается, иные вещи наполовину зарываются в снег. Таким образом скатывается до тысячи килограммов съестных припасов и пожитков, необходимых рудокопу в течение года. Иные разделяют свой тюк на десять маленьких, которые постепенно доставляют на вершину, и спускают вниз. Таким образом, десять раз повторяется страшно опасный маневр! Это место называют перевалом Чилькот. Затем поклажа разбирается и нагружается на сани, которые бечевой тянут вместе собаки и люди. Ужасна эта дорога при леденящем ветре, поднимающем целую снежную бурю! А привал несчастных, старающихся укутаться потеплее, чтобы заснуть и проснуться потом наполовину замерзшими?! От озера Беннет до Доусон-Сити считается пятьсот километров. Это расстояние пароходы проходят за пять дней в конце весны, когда воды свободны ото льда. В разгар же зимы для этого надо по крайней мере двадцать пять дней. А как мучительно тяжело это путешествие при подобных условиях. Само Вашингтонское правительство и пароходное начальство часто смущается и телеграфирует своим агентам в Сан-Франциско и Ванкувер: «Задержите отъезд… остановите рудокопов… Скажите, чтобы дожидались весны». Но пятнадцать тысяч любителей легкой наживы вопили: «Мы хотим ехать!.. Вот деньги… плата за проезд… Нас не имеют права задерживать… Место!… Место!.. И вперед!» И пароходы отходили, а народ прибывал, все более исступленный, и замерзшие трупы присоединялись к прежним, устилавшим горестную дорогу. Ничто не могло остановить этого безумия, этой алчности, этой дьявольской погони за миллионами. Мученики «ледяного ада» падали, умирали, но, несмотря ни на что, число их все увеличивалось. Впрочем, впоследствии, когда первое волнение, произведенное вестью о клондайкском золоте, прошло, приняты были некоторые меры для поддержания порядка и спасения несчастных от гибели: образовались общества для упорядочения прибытия и отправления золотоискателей, в газетах и журналах стали появляться различные путеводители с полезными советами, перечислением необходимых в тех краях предметов и обозначением их стоимости, с некоторыми сведениями о местных требованиях гигиены и важнейшими географическими указаниями. Были также приняты меры к облегчению трудностей ужасного перевала через Чилькот. Были даже попытки устроить зубчатую железную дорогу в ожидании постройки настоящей железнодорожной линии, проведенной два года спустя через Вайт-Пасс, перевал, соседний с Чилькотом. Однако в ожидании более удобных путей сообщения и бедные, и богатые, и сильные, и слабые, словом все решавшиеся на это путешествие зимой, принуждены были выносить бесчисленные мучения и трудности, чтобы в конце концов умереть мучительной и страшной смертью среди этого «ледяного ада». Те же, что были достаточно разумны, чтобы дождаться весны, совершали это путешествие водой быстро и даже приятно.
ГЛАВА II
Впечатления лицеиста.– Новые друзья.– Канадец и его дочь.– Что следует запасать, отправляясь в Клондайк.-Летнее путешествие.-От Ванкувера до Скагуэя.– Перевал мертвой лошади.– От Скагуэя до озера Беннет.– На пути в Доусон-Сити.– Ну, что вы скажете об истекших двух неделях? – спросил Редон молодого лицеиста. – Это какой-то сон, какая-то феерия! – отвечал тот.– Я страшно восхищен! Этот неожиданный отъезд из Гавра, прекрасный переезд через Атлантический океан, неделя в Нью-Йорке, затем Монреаль, путешествие по Канадской тихоокеанской железной дороге и, наконец, Ванкувер? Мне просто даже не верится, что все это не сон, а действительность! – Да, да, Жан прав, – хором воскликнула вся маленькая компания,– все мы того же мнения, что это путешествие прелестно! Двое посторонних, прислушиваясь к их восторженным возгласам, приветливо улыбнулись. То был громадного роста плечистый человек, с ясным, светлым взглядом в крупными грубоватыми чертами лица, носившего на себе отпечаток недюжинной энергии, чистосердечия и удивительного добродушия. На вид ему можно было дать не более тридцати пяти лет, хотя в сущности ему было сорок пять, если не все пятьдесят. Рядом с ним стояла молодая девушка, красивая, рослая, румяная, с густой каштановой косой, большими синими глазами, с кротким и в то же время смелые и решительным выражением, несколько похожая на своего спутника. Очевидно, это были отец и дочь. – Ну, а вам, господин Дюшато, эти шесть суток в железнодорожном вагоне не показались скучными и утомительными? – О нет? Мы, канадцы, неутомимы, а радость встречи знакомство с настоящими французами заставили нас совершенно позабыть о скучном пути! Я уверен, что моя дочь Жанна того же мнения! Вы не поверите, господа, как все мы, канадцы, сердечно привязаны к Франции, которую, несмотря ни на что, продолжаем считать своей настоящей родиной. Мы счастливы, когда судьба сталкивает нас с людьми, прибывшими прямо оттуда, С нашей далекой родины! – Со своей стороны, мы можем сказать, что считаем за счастье встречу с вами, так как от самого Монреаля вы не переставали быть для нас самым внимательным и заботливым гидом, руководителем и советником, без которого нам трудно пришлось бы, – сказал журналист.– Вы запасли для нас и полную экипировку, и все съестные припасы, на что без вас мы потратили бы не менее недели, да и обошлось бы это нам втрое дороже! – Э, господа, стоит об этом говорить! Ведь вы же наши земляки! Случай столкнул нас в Монреале. Мы с дочерью отправляемся в Клондайк, вы едете туда же; мне издавна знакома эта страна, а вы новички. Как же мне не помочь вам при моем опыте?! Разговор этот происходил в общей столовой, откуда все перешли в комнаты, загроможденные самыми разнородными предметами. Громадный ньюфаундленд с умными глазами внимательно следил за всеми, ласково виляя хвостом. – Вот, господа,– говорил канадец Дюшато,– вот это необходимая обувь для четверых мужчин и двух дам… Шесть пар резиновых сапог, шесть пар кожаных, шесть пар сапог, подбитых гвоздями, шесть пар лыж и шесть пар мокасин из оленьей шкуры! – И только?.. – Все это необходимо в стране льдов и снегов! А вот и чулки: сперва носки шерстяные, потом чулки пуховые, чтобы надевать поверх носков, и, наконец, меховые чулки, что одевают поверх всего! – Но у нас будут ноги как у слонов! – воскликнул журналист. – Да, конечно, будет толстовато, особенно с шерстяными кальсонами, теплыми панталонами, меховыми штанами и парусиновыми шароварами, которые придется надевать сверху! – Ну, нечего сказать, завидная перспектива! Да в таком наряде и двигаться-то нельзя! – Морозы здесь суровые, и надо защищать себя от холода! – наставительно и деловито проговорил канадец. – Ой, да я не хочу здесь зимовать! Я – ужаснейший зяблик! – Что делать! Здесь никогда нельзя поручиться за то, будешь ли зимовать, или нет. Иной год здесь лето длится четыре месяца, а иной год – два; холода могут застигнуть невзначай, и тогда волей-неволей нельзя будет двинуться с места! – Боже правый! Что же будет со мной, если я так боюсь стужи, с моими нервами, столь чувствительными к холоду, при морозе в 50° ниже нуля! Я не выживу! – воскликнул журналист. Слушая все эти вопли, Дюшато не мог удержаться от улыбки и продолжал: – Мы купили фланелевые рубашки, шерстяные куртки, шерстяную верхнюю одежду и, сверх этого, капюшоны, подбитые мехом! А это вот меховые колпаки для головы. Видите, как тепло и удобно! Для рук же, которые очень чувствительны, заготовлено по две пары перчаток и по паре меховых митень. – И это все? – Ах, нет! Еще полный комплект непромокаемой одежды… Знаете, клеенок матросских! Не забыли и каучуковые плащи. – Но тогда потребуется канат, чтобы мы могли сдвинуть с места наши драгоценные тела, отягченные тремя, четырьмя, пятью обертками! – Не бойтесь, вы пойдете легко, как если б ничего на вас не было, полетите в холодном воздухе с легкостью птиц! Молодая девушка, Леон и Жан залились веселым смехом. – С одеждой покончено,– продолжал канадец, сохраняя свою серьезность,– теперь надо немного белья, платков и салфеток; затем, меховые мешки-постели, одеяла и меха… Наконец, я купил еще две печки и две палатки! Видите, как хорошо! Это покрывала из просмоленного полотна для наших тюков, содержащих от семидесяти до восьмидесятифунтов каждый, а в снегу еще есть масса вещей: кухонные принадлежности, железные тарелки и блюда, вилки, ложки, ножи; стаканы, различные инструменты, ящики для промывания золота, веревки, пакля, пилы; гвозди, топоры, ножницы, точильный камень, рыболовные снасти, прекрасные багры и красивая коллекция удочек, бечевочек, нитки, иголки, булавки, шерсть, дымчатые очки для защиты от снежной белизны, табак, фитили, спички, охотничьи ножи, ружья и патроны, сетки от москитов и масло для них. – В снегу-то москиты? – Сейчас лето, сударь! Тучи насекомых, голодавших всю зиму, не пощадят нашу кожу. Теперь перечислим съестные припасы; они остались в магазине, где под моим наблюдением были упакованы приказчиками. Там есть: пшеничная мука, овсяная крупа, морские сухари, сахар, сушеные яблоки и лук, сушеный картофель, овощи для супа, шпиг, масло, соль, перец, горчица, сушеная шептала (Шептала– сушеные персики, привезенные из Азии.), сушеный виноград, рис, чай, искусственная закваска, ящик с различными консервами, плитки лимонного сока. За исключением небольшого лакомства для дам, это все! – Прекрасно! Какая жалость, что там так холодно зимой, а то путешествие превратилось бы в прекрасную увеселительную прогулку! – Зато лето начинается, и вы можете наслаждаться жарой и москитами. Здесь жара коротка, но поистине адская. А теперь, дорогие соотечественники, если вы действительно торопитесь с отъездом и не желаете даром тратить время,– за работу! – Подавая пример, канадец схватил мешок, спрятал в него несколько вещей, измерил глазом тяжесть и объем, завернул, округлил, пристукнул и сказал: – Видите – это совсем не трудно! Несколько оборотов просмоленной бечевки, крепкие узлы, и готово. Примеру его с готовностью последовали молодые люди и девушка. Все работали безостановочно, и мало-помалу груда пакетов уменьшалась, а соответственно этому куча тюков, более или менее однообразных, возросла. Все-таки потребовалось не менее десяти часов усиленной работы, чтобы покончить с этим делом, от которого зависел сам успех экспедиции. Когда же наконец все было готово, канадец, взяв банку сурика и громадную кисть, изобразил несколько условных линий на каждом тюке, чтобы их можно было узнать с первого взгляда. Настала ночь. Французские путешественники планировали короткую поездку в город Ванкувер, но Дюшато восстал против этого. – Вы посетите его на обратном пути, когда мы будем миллионерами… Дорога каждая минута! Мы поплывем на борту «Гумфри», который отправляется завтра днем… Сейчас унесут наши тюки… Вот носильщики… плуты зарабатывают по шестидесяти франков в день. Я называю отель… мы переезжаем улицу… по другой стороне, в пятидесяти шагах – пристань. Вот номера наших кают. Понесем лучше сами наш ручной багаж, для большей сохранности. Они вышли и в толпе людей, державших мулов, тащивших дроги, сгибавшихся под тяжестью груза, достигли пристани, у которой свистел, качаясь и выпуская клубы дыма, большой пароход. Дюшато последним переправился через мостик с собакой Портосом. Суматоха кончилась. Все стиснуты, как сельди, но у каждого пассажира свое место за столом на нижней палубе, а для привилегированных – на верхней. Наши друзья устроились попарно: Марта Грандье в одной каюте с Жанной Дюшато, Леон Фортен с Жаном Грандье, Поль Редон с Дюшато; к последним присоединился и добродушный Портос. Через пять с половиной дней пароход достиг Скагуэя, конечного пункта своего пути. Началась высадка и таможенные формальности, так как Скагуэй лежит на американской территории и, чтобы попасть в него, надо миновать Канаду. Благодаря терпению и нескольким долларам, незаметно сунутым в руки неподкупных американских таможенных чиновников, Дюшато выиграл время и проводил в город, растянувшийся на километр, свою храбрую маленькую компанию. Хорошо изучив путеводитель, он избрал дорогу через Белый проход (white-pass), хотя и более длинную, но зато несравненно более удобную, чем через проход Чилькот. Разборка пакетов, переговоры с содержателями перевозок, погрузка бесчисленных тюков на лошадей и мулов заняли немного времени, и скоро наша компания отправилась в путь. Дорога, пролегавшая через Белый проход, называлась также «dead horse trait», то есть «дорога мертвой лошади». Это название ей дали потому, что в течение последней осени более трех тысяч лошадей пало на этой дороге, усыпав ее своими скелетами. Проход по ней длится около трех дней; кроме того, вверху постоянно дует страшный ветер, еще более усиливающий трудности пути. Наконец, благополучно справившись с этой ужасной дорогой, наши путники прибыли к озеру Бениет, где начинается уже речной путь, и здесь сели на пароход «Флора». Путники приобрели себе места на судне «Беннет-Клондайк Компании», владевшей тремя пароходами.
ГЛАВА III
На «Флоре».– Высадка.– Юкон.– В Доусон-Сити.– Действие оттепели.– «Высший свет» страны золота.– Гостиница Бель-Вю.– Ценой золота.– Конная полиция.– Безопасность.От озера Беннет до Доусон-Сити считается около 870 километров, то есть почти такое же расстояние, как от Парижа до Марселя. По расчетам пароходного начальства, чтобы пройти все это расстояние, требуется пятеро суток. В действительности же оказалось иначе, так как свободному плаванию очень мешали многочисленные пороги, которые нужно было обходить с осторожностью. Пословица «человек предполагает, случай располагает» особенно справедлива при путешествии. Прежде всего, пароходы совершали первые рейсы. Неизвестно еще было, как пройдут они два очень быстрых и гибельных порога, Mile canon и White horse. Река принимает в себя серию озер, которые сообщаются одно с другим естественными каналами. За озером Беннет следует озеро Тагиш (Tagish). Их соединяет Ветряная рука (Le bras-du-Vent). Озеро Тагиш вливается в озеро Марш (Marsh) Бродом антилоп, и, наконец, довольно длинный канал соединяет озеро Марш с последним озером Лабарж. Этот канал и принимает в первой части своего пути название Mile canon, а в последней – White horse. В действительности это довольно узкий канал, где течение достигает, особенно, в White horse, страшной быстроты в сорок пять километров в час. Во время ледохода эта скорость увеличивается, а с ней вместе возрастают и опасности. Стояла адская жара. Не будь в отдалении совершенно белых снежных гор и ледяных скал, можно было бы подумать, что это Прованс. Редон, вечно зябнувший и воспевавший дифирамбы солнцу, схватил на оба уха по так называемому солнечному удару. Оба они покраснели, вздулись, и из нарыва потекла сукровица, даже немного крови. Он первый же, впрочем, стал смеяться над своей неудачей. Между тем пароход прибыл к устью озера Лабарж. В обыкновенное время, или вернее – в европейской стране, самая элементарная осторожность требовала бы останавливаться ночью, но здесь в подобное время нет, собственно говоря, ночи. Солнце садится в одиннадцать часов вечера и восходит в час утра. Таким образом, заря смешивается с сумерками, и день царит в течение всех двадцати четырех часов. Поэтому пароход шел без передышки. Но вот встречаются страшные пороги «Пять пальцев» и «Ринк», находящиеся в четырех верстах друг от друга. «Флора», счастливо переправившись через первые пороги, застревает на последних и дает течь. Нужно направиться к берегу реки, закрепиться якорями, разгрузить кладь, облегчить кузов, осмотреть трещину и заложить ее с помощью кусков дерева, пакли, моха, кожи и т.п. Когда авария была ликвидирована, пароход двинулся дальше в сопровождении целой флотилии лодок с пассажирами и их пожитками… Вот и форт Селькирк, один из старых укрепленных магазинов, какие компания торговцев мехами Гудзонова Залива настроила повсюду. Вокруг магазина раскинулось шестьдесят индейских хижин и около двадцати палаток рудокопов. Это образует маленькую деревню, в которой энтузиасты видят даже будущую столицу канадского северо-запада. Отсюда, уже по Юкону, одной из величественных рек Дальнего Севера, пароход доходит до Доусон-Сити – новой столицы страны золотой лихорадки. Вид молодой столицы золотого царства, однако, не имел ничего привлекательного для людей, от самого Монреаля, то есть более двух недель, не знавших отдыха и вздыхавших по хорошей постели и ванне. Капитан «Флоры» указал нашим друзьям меблированную гостиницу, самую «выдающуюся» в Доусоне, отель Бель-Вю, единственно подходящий для столь высоких лиц, какими казались все шестеро. Сюда и направилась наша компания. По примеру американских городов, Доусон состоит из авеню и улиц, пересекающихся друг с другом под прямым углом. Улицы тянутся с востока на запад, а авеню – с юга на север. Первое авеню, модное, задающее тон, идет севернее Юкона и называется Фрой-стрит. Но вид его был далеко не привлекательный.
– Черт возьми! – произнес Редон, коснувшись земли.– Добрая пара непромокаемой обуви была бы не лишней! – А еще лучше – маленькая плоскодонная лодка или плот! – прибавил Леон. Молодые девушки только засмеялись и отважно, зная наперед, что жизнь, полная приключений, представляет много неудобств, пошли по улице. Последняя, действительно, походила скорее на болото. А между тем и там прогуливались, задравши нос и с сигарой во рту, «франты» из самых сливок общества в Доусон-Сити. – Честное слово! – вскричал озадаченный Редон.– Это можно бы назвать двором чудес… как по одеждам, так и по физиономиям! В самом деле, представьте себе, уважаемые читатели, кучу грязных и причудливых лохмотьев, плешивые, паршивые, как спины бродячих собак, меха, желтые клеенки, рваные каучуковые сапоги с бесчисленными дырами, мятые до неузнаваемости шляпы, дырявые фланелевые рубашки; набросьте все это на человеческие члены так, чтобы башмак был соседом сапогу, а мех – клеенчатым панталонам; затем прикиньте на эти плечи исхудалые головы, с лихорадочно горящими глазами, с растрепанными волосами и бородами,– и вы получите настоящее представление о сливках «золотого общества», которые бродили по грязи в ожидании шести часов. Весь этот маскарадно-нарядный, но самоуверенный люд обменивается маленькими фамильярными поклонами, а больше разговаривает о добытом днем металле и держится с апломбом сказочных миллионеров. Лохмотья (это видно сразу) ничего не значат здесь, и субъект, задирающий нос, у которого одна нога в сапоге, а другая в башмаке, штаны в заплатах, а на плечах дырявый каучуковый плащ, может обладать полумиллионом золота, положенным в Канадском коммерческом банке (Canadian bank of Commerce) или в британском северо-американском (Bank of British North America). Поэтому никого не удивляет, что дамы, одетые вполне прилично, подают руки этим джентльменам, словно не замечая, что у тех на ногах. Да и самый вид «столицы золотого царства» производит отталкивающее впечатление своей грязью и вонью. Зимой пятидесятиградусный холод придает всему плотность камня и скрывает эти грехи в общественном благоустройстве. Летом же везде стоят лужи, тепловатые, отвратительные, с тучами москитов, так как земля уже не всасывает воду. А на глубине семи вершков note 3 почва остается замерзшей, непроницаемой и твердой, как скала. Ко всему этому присоединяется еще страшная сырость, вызывающая лихорадку и невообразимую вонь от гниющих остатков пищи, валяющихся грудами повсюду. Несмотря, однако, на эту неказистую внешность, и в Доусон-Сити живут весело, и всевозможные казино, игорные дома, рестораны, танцевальные залы процветают как нигде. В такой-то город судьба и привела наших друзей. Остановились они, по совету капитана «Флоры», в лучшей гостинице, и Редон, в качестве опытного путешественника, справился у клерка о цене: – Сколько за день? – Десять долларов с человека! – был ответ.
– Хорошо, нас шестеро! – Тогда шестьдесят долларов… плата вперед! – Мы рассчитываем пробыть два дня, а потому вот сто двадцать долларов! – Собака остается с вами? – Да, а что? – Ее содержание будет стоить два доллара в день. – Браво! Вот кто умеет делать дела! – О,– продолжал с важностью клерк,– собака такого джентльмена, как вы, не может искать себе пищу в кучах мусора! Вообще, как оказалось, все в Доусон-Сити баснословно дорого. Свежий картофель стоит три франка штука, дороже трюфелей во Франции, апельсин – 5 франков, яблоко – 2,5 франка; пара цыплят – 170 франков, а в ресторане даже – 120 франков за штуку, порция бифштекса с вареным картофелем 30 франков, бутылка абсента, коньяка или даже простого виски – 100 франков, бутылка пива от 25 до 30 франков, за шампанское же и другие вина платятся баснословные суммы в 300 франков и более. Соответственно этому и цены на квартиры: на главной улице, например, нечего и думать нанять помещение дешевле 150 франков за квадратный метров месяц. А между тем, ведь это, собственно говоря, не квартиры, а грязные, вонючие конуры! Словом, жизнь в Доусон-Сити возможна только для проезжающих, которые остаются в городе всего несколько дней, или для тех, кто, обогатившись на приисках, желает спустить здесь часть своей, баснословной добычи. Также страшно высоки и цены на участки, где добывается золото. Еще в 1896 году участок в 15 саженей note 4 длины и 9 ширины продавался по 25 франков, а через 2 года – уже по сто тысяч франков. Понятно, при такой дороговизне только очень богатые решаются жить на центральных улицах города, обитатели же поскромнее нанимают квартиры на окраинах, где можно найти хижину из 2 комнаток за скромную цену 1000-1500 франков в месяц. Наконец, в самом конце седьмого авеню, почти за пределами города, тянутся пустыри, которые вскоре, конечно, будут приобретены ловкими спекулянтами, если только Доусон-Сити будет продолжать расти с той же ужасающей быстротой, как прежде; пока же здесь раскинулся настоящий «город палаток»: на грязной, вонючей земле здесь разбито 700-800 парусиновых палаток, где летом задыхаются от жары, а зимой мерзнут от холода злополучные золотоискатели, которым еще не повезло. Эти палатки служат вместе с тем и провиантскими магазинами. Здесь в течение почти семи месяцев все съестные припасы, сыпучие, мясные, жидкие, не исключая даже и спирта, замерзают, как камень, так что двое приятелей, желая угоститься рюмочкой вина, просто подходят к небольшой дощечке, служащей подносом, где стоят две небольшие ледяные сосульки в виде наперстков, берут их прямо рукой, чокаются и затем препровождают в рот, где замороженная водка и тает. Просто, мило и оригинально! Что касается общественной безопасности, то Редон получил следующий ответ клерка: – О, вы можете быть в этом отношении вполне спокойны! Здесь никогда не бывает ни кражи, ни насилия, ни каких-либо покушений, нарушающих общественную тишину и спокойствие, несмотря на то, что население города состоит в большинстве своем из весьма подозрительных элементов. Это объясняется тем, что у нас здесь превосходнейшая конная полиция из 250 человек самой бдительной стражи, строго наблюдающей за всем, что происходит в городе и его окрестностях. Это люди недюжинной силы, необычайно выносливые и всеми уважаемые, вследствие чего каждый гражданин охотно оказывает им содействие, если это понадобится. На их ответственности всецело лежит и общественная безопасность всех жителей города, и неприкосновенность тех богатств, которыми может похвастать этот город. Заметьте, что здесь во всякое время находится свыше чем на 50 млн. франков золота, и все-таки, сколько помнят золотоискатели, по настоящее время не было ни одной серьезной попытки украсть чужое золото! Что же касается съестных припасов, то их вообще принято оставлять в палатке или в избушке не закрытыми, и никто никогда не трогал ни крохи чужого добра! – Право же, наш век – золотой век для воров и мошенников,– подумал про себя Поль Редон,– все основано на доверии, а между тем какое обширное и благодарное поле деятельности представляет собой эта страна для таких ловких и искусных мошенников, как, например, товарищество «Красной звезды»!
ГЛАВА IV
Новички.– Хозяйки и работники.– Законы, указы и концессии.– Сколько золота! – Явились или слишком рано, или слишком поздно.– Эксплуатация золотоносных участков.– Первая промывка золота.– Разочарование,– Находка Портоса.– Гнездо самородков.Наши будущие миллионеры стали понемногу устраиваться. Прожив два дня в гостинице, они наняли квартиру на шестой авеню стоимостью тысячу франков в месяц, куда и сложили провизию и зимние орудия, а сами поселились в палатке за городом, где жили уже тысячи рудокопов. Настала новая жизнь, полная странностей и неожиданностей и лишенная самого элементарного комфорта. Спать пришлось на земле, подостлав шкуры вместо матрасов, чтобы предохранить себя от сырости почвы, пропитанной водой, как губка. Молодые девушки жили в одной из палаток, где хранилась провизия и орудия, необходимые для ежедневной работы. Они стряпали и занимались хозяйством, в то время как мужчины добывали воду и дрова, чтобы было совсем нелегким делом. Каждый исполнял свои обязанности с готовностью, как бы тяжел и даже иногда отвратителен ни был такой долг. Впрочем, Жанна Дюшато была для Марты Грандье опытной и любящей наставницей. Оказалось, молодая канадка еще раньше сопровождала своего отца и дядей в далекие экспедиции летом и зимой и умела ко всему приспособиться. Так, с помощью простого сучка она могла развести огонь и при ветре, ящик из-под консервов и кусок доски – все находило у нее применение и приносило пользу. В этом отношении она была незаменимой руководительницей для Марты. Ее отец, в свою очередь, вводил своих новых друзей в курс трудного и особенно утомительного дела заготовки дров. Нужно было ходить за дровами далеко, так как окрестности Доусон-Сити были уже опустошены, и дрова приходилось искать все дальше и дальше. Обыкновенно на эти поиски отправлялись Леон, Поль и Жан под предводительством канадца. От непривычной работы на руках молодых людей вздувались пузыри, поясницу ломило, с головы градом катился пот. Но это только смешило их, особенно Поля Редона; зато, когда они, нагруженные, как мулы, возвращались домой, их встречал превосходный стол из поджаренного сала, овсяного супа и тяжелых, как свинец, блинов, приготовленных на свином сале. Так прошло несколько дней, в ожидании короткого путешествия от города к золотоносным полям. Вокруг наших друзей шумела толпа, где каждый жил сам по себе, не заводя никаких знакомств, не интересуясь соседями, даже не глядя на них, как будто мысль о золоте убила всякую общительность. Всех занимало здесь золото и только золото. Теперь, чтобы читатель мог понять все этапы нашего рассказа, нужно объяснить организацию золотопромышленности, введенную почти с первого же года открытия золота в Клондайке. Золотоносные участки, или, как говорят там, северозападная территория Канады, разделены на четыре округа, получившие название от главных рек, протекающих здесь. Это округа: Юкон, Клондайк, Индиан-Ривер и Стеварт-Ривер. В долинах рек и речек, текущих здесь, и встречается золото в виде россыпей и самородков. Каждый рудокоп, прибывший сюда, имеет право за семьдесят пять франков на участок, в каждом округе, и может взять таких участков только четыре за всю свою жизнь. Зато ему предоставлено право перекупать сколько угодно участков у других. Получив это право, охотник за золотом выбирает свободное место для своей работы, руководствуясь своим опытом, раскопками, предварительным промыванием земли. Когда это сделано, появляется правительственный землемер и определяет границы для эксплуатации. Участки, перпендикулярные реке, имеют обыкновенно с каждой стороны 38 сажен, если они лежат на плоскогорье; 38 – в долине и 150-на склоне; напротив, если они лежат по реке и занимают берега ее, то 38 сажен с каждой стороны. После этого золотоискатель получает документ, устанавливающий его права и определяющий обязанности. Он имеет исключительное право производить разработку золота на своем участке, построить там дом, пользоваться продуктами своего производства и может бесплатно пользоваться водою, конечно, протекающей через указанный участок, чтобы промывать землю. На самую же землю концессия не дает никаких прав и уничтожается, как только участок перестает постоянно и добросовестно разрабатываться. Из всего этого видно, что быть свободным золотоискателем стоит недешево, принимая во внимание дороговизну жизни в Клондайке. Поэтому для свободной добычи золота сюда едут люди с капиталом. Но часто, после тщетных попыток найти богатое месторождение благородного металла, все припасенные раньше деньги исчезают, и тогда неудачник-золотоискатель становится носильщиком, поваром, работником, землекопом, словом, работает на других, пополняя пролетариат, впрочем, совершенно безобидный, так как здесь закон не шутит; кроме того, существует суд Линча, выносящий иногда ужасные приговоры, воспоминание о которых врезается в каждую клеточку мозга. Однако довольно предисловий. Возвратимся к своему рассказу. Дюшато и его дочь, грациозная Жанна, Марта Грандье, Леон Фортен, Поль Редон и Жан Грандье – все шестеро сделались свободными золотоискателями, так как Канадский закон дает мужчинам и женщинам одинаковые права на владение участками; затруднение представлял только возраст Жана Грандье, которому было всего 16 лет, тогда как по закону свободному искателю золота должно быть не менее 18. Но когда все шестеро представились правительственному агенту, чтобы сделать свои заявления, последний при виде высокого роста, широкой груди, высоких плеч и пробивающихся усов Жана Грандье далек был от мысли, что перед ним подросток шестнадцати лет, и великодушно дал ему все восемнадцать, на что польщенный Жан, конечно, не возражал, и наши друзья получили право взять по четыре концессии, или двадцать четыре участка, для эксплуатации. Ради предосторожности они выбрали по одному участку в каждом округе. Когда все формальности были соблюдены, они покинули Доусон-Сити и готовы были испытать свои первые номера грандиозной лотереи, доведшей уже до помрачения ума двадцать тысяч больных золотой лихорадкой, собравшихся со всех концов света. Дорога к этому Эльдорадо была ужасная. Грязь стояла по колено, а тут еще целые стаи москитов, укус которых может довести непривычного человека до бешенства. Можно себе вообразить, каково было при таких условиях тащить поклажу! К счастью, средства наших друзей позволяли нанять для багажа повозки, хотя цена на них стояла чудовищная: за провоз 1 фунта note 5 багажа на расстояние 20 км брали 20 су, на 50 км – 50 су и так далее. Бедняки еле тащились, согнув спину, как бурлаки. Но золото, притягивавшее всех подобно магниту, заставляло забывать про все эти неудобства: люди свыкались и с дороговизной, и с москитами, и с усталостью, только бы найти золото! Как ни странно, лето здесь – мертвый сезон. Работают только от шести до восьми недель, и единственно те, кто с ноября по конец апреля рыли шурфы (рамы) и извлекали из них золотоносный песок. Этот песок, сложенный в кучи, называемый «dumps», содержит золото во множестве. Приемы извлечения металла самые примитивные, так как рудокопы используют простые приспособления. Они называются по-английски sluice и roker. Sluice-box (шлюзный ящик) представляет собой деревянную трубу, открытую с обоих концов, в форме корыта. Дно ее устлано шерстяным ковром с продольными перекладинами. Несколько таких ящиков ставят один на другой и наклоняют на тридцать градусов посредством подставок. Сюда и кладут золотосодержащую землю, направляя на нее сильную струю воды, искусственно отведенную из соседнего ручья. Вода увлекает глину и камни по деревянным желобам, а золото вследствие своей тяжести падает между желобами и остается на шерстяной ткани. Когда рудокоп находит, что намыл достаточно, он очищает шерсть жесткой щеткой, потом продолжает промывку. Что касается roker'а (качалки), то это – колыбель, составленная из железных сит, прикрепленных к качающейся раме. Рудокоп кладет в сито столько земли, сколько может уместиться, потом одной рукой с помощью широкого ковша льет воду, а другой рукой действует, как бы качая колыбель. Вода отделяет примеси и увлекает золото, проходящее через сито и падающее на платформу, покрытую шерстяным покрывалом. Вот и все! И такие несовершенные приспособления дают сказочные сборы – так много в Клондайке золота! Но необходимо трудиться всю зиму, чтобы добраться до промывки. Поэтому новоприбывшие, думавшие собирать золото наподобие картофеля, смущенно посматривали друг на друга и, печальные, возвращались в Доусон. Им нечего было делать пока, так как летом рыть ямы невозможно: земля рыхлая, ямы обваливаются, нужно дожидаться, пока почва замерзнет. Можно понять, какое отчаяние распространяется тогда. среди несчастных, если у них не хватит средств до окончания зимы! Но наши друзья, даже Редон, стойко переносили это препятствие, и хотели уже возвращаться в Доусон-Сити, когда Марте пришла в голову новая мысль: – Так как мы имеем участок по соседству, то должны познакомиться с ним! – предложила она. – Грязь не пугает вас, мадемуазель? – сказал Редон, с важностью шлепая по колена в грязи. Девушка только беззаботно улыбнулась, проговорив: – Ба! Немного больше, немного меньше, не все ли равно? Как вы думаете, Жанна? – О, я всегда готова! – Тогда идем! Не правда ли, господа? Впрочем, это концессия моя, и я предчувствую, что наше путешествие будет не бесполезным. И вот они снова пустились в путь и шли более полусуток, совершенно выбившись из сил. С помощью плана нашли свой участок на скате холма. Благодаря этой покатости вода здесь медленно сбегала и потому можно было двигаться по сухому. Наши друзья разбили палатки и поспешили прежде всего приготовить обед, уже в пятый раз за этот день, ибо отсутствием аппетита здесь никто не страдал. Впрочем, собственно говоря, это был скорее ужин, так как было уже одиннадцать часов ночи, но солнце еще не зашло. Наконец, за полчаса до полуночи оно скрылось, и наши золотоискатели, отложив до следующего дня свои дела, легли спать. Но уже в половине четвертого утра все были на ногах. Солнце, поднявшееся целыми двумя часами раньше, стояло уже высоко и сильно пригревало. Люди, успевшие здесь получить участки, уже давно были за работой,– довольные, что день продолжается без малого круглые сутки и можно работать целый день, и работали точно негры-невольники или каторжники, до истощения сил, до полнейшего изнурения. Соседи знакомились между собой, вступали в разговоры, но и здесь все интересовались только золотом, говорили только о нем. Однако, участки здесь были бедны, что не мешало, впрочем, пытать свое счастье: авось, думал каждый, и я наткнусь на богатое месторождение? Работа в сущности – очень несложная. Сперва подымают верхний слой почвы, затем роют все глубже и глубже, добывая большие комья земли, которые кладут в железное корытце, вмещающее с полпуда. С этим корытцем идут к ручью, где рудокоп, присев на корточки, погружает его в воду по самые края, все время перемешивая взятый образец земли. Мало-помалу камешки, глина и другие примеси отделяются и уносятся водой, а на дне корытца остается только чистое золото. Этот простой прием очистки золота требует, однако, известной ловкости и уменья, которые иным золотоискателям даются как-то сами собой. Обыкновенно соседи всегда с охотой обучают новичков этому способу промывки, и обе наши молодые девушки также обучились ему, сразу выказав при этом большую ловкость и проворство; мужчины же оказались менее способными в этом отношении. Все шестеро горячо принялись за дело, но – увы! – на первых порах их ждало разочарование: после самой тщательной промывки оказалось, что на дне корытца осталось самое незначительное количество золотого песка, вернее – почти ничего. Проработав таким образом 12 часов без перерыва, наши друзья решили прекратить работу и, усталые, измученные и разочарованные, хотели уже возвратиться в свой бивуак. Вдруг какой-то маленький зверек, выпрыгнув из норки, стремглав кинулся между ногами Портоса. Обрадовавшись этому развлечению, собака стала гоняться за зверьком, но едва успела сделать три-четыре скачка, как грызун скрылся, словно провалившись под землю. – Ищи! Ищи, Портос! – крикнул ему Жан. Собака принялась разрывать землю. – Апорт! – командовал лицеист. Портос на мгновение уткнулся носом в землю и вытащил что-то, но затем, бросив этот предмет, стал рыть глубже. В этот момент луч солнца, упав на брошенный собакой предмет, заиграл ослепительно-ярким блеском. Жан поспешно схватил этот предмет и произнес: – Комок этот весит более десяти фунтов, и мне кажется, что это золото! – Золото! Покажите-ка его сюда! – и ком стал переходить из рук в руки.– Вот когда счастье-то привалило! – воскликнул Редон. Услышав про находку, с соседних участков сбежались золотоискатели. – Да, это в самом деле золото, самое чистое, самое превосходное, какое мне только случалось видеть, а я ведь двадцать лет пекусь и мерзну в этой проклятой стране! Поверьте мне, друзья, этот самородок стоит не менее десяти тысяч франков! – проговорил один старый рудокоп. – Десять тысяч франков – этот кусок металла величиной с крупную картофелину, мутно-желто-землянистого цвета! Между тем Портос продолжал усердно рыть лапами землю. – Надо посмотреть, нет ли там еще таких самородков! – проговорил Жан, взглянув на собаку. Все кинулись к яме, вырытой ею, и громкий крик радости вырвался из уст присутствующих. – Клянусь честью! – воскликнул старый рудокоп.– Вот гнездо самородков, какого я еще никогда не видал! Ну, в добрый же час вы начали свое дело!..
ГЛАВА V
Что называется гнездом самородков.– Золотая лихорадка.– Кровь и золото.– На замерзшей почве.– Почему не делают раскопок летом? – Дровосеки.– Землекопы.– Журналы, газеты и их представители.– Известность.– Планы бандитов.И в Калифорнии, и в Южной Африке, и в Австралии рудокопы называют гнездом самеродков такое место, где лежат кучей несколько разной величины самородков, подобно клубням картофеля, на которые эти самородки чрезвычайно похожи по своему внешнему виду. В данном случае таких самородков оказалось более 12 штук, причем самые мягкие были величиною с хорошее куриное яйцо, а наиболее крупные – намного больше мужского кулака. – О, вы счастливые люди! – воскликнул старый рудокоп, весь бледный от волнения при виде этого неожиданного богатства.– Ведь это сразу целое состояние! Все будутзавидовать вам! – Но это еще не все! Я уверен, что мы будем золотыми королями! – воскликнул Поль Редон и, взяв в руки два клубня, стал подбрасывать их, взвешивая на руке, играя ими.– Я никогда не поверил бы, что вид этого богатства так подействует на меня; мне хочется петь, плясать и скакать от радости. Да я вижу, что и вас всех, друзья мои, охватила та же золотая лихорадка, такой же золотой бред, как и меня. Хотя вы и молчите, но у всех у вас безумные глаза!.. И, действительно, золото вообще как-то особенно притягательно действует на человека, опьяняя, подобно хорошему крепкому вину. Вот странно: когда люди наталкиваются на громадные залежи и жилы железа, меди, угля, представляющие собой те же миллионы и сулящие людям несравненно больше богатства, чем какое бы то ни было гнездо самородков,– совсем не бывает такого безумного бреда, таких галлюцинаций, грозящих потерей рассудка. Происходит ли это оттого, что золото даже и в грубом виде является воплощением всех человеческих наслаждений и радостей жизни и предметом роковой, тяжелой борьбы целой жизни,– трудно сказать. Но даже суровый канадец сперва побледнел, затем покраснел и был не в силах произнести ни одного слова, а между тем глаза его горели, как раскаленные угли. – О, и я хочу видеть… Хочу дотронуться своими руками до этого золота… Дайте, дайте мне его сюда! – с трудом выговорил он наконец. – Ах, Жанна, дитя мое… наконец-то мы с тобой будем богаты!.. Жанна, слышишь ли?.. Ведь это богатство! Громадное богатство!.. Молодая девушка также оживилась, за нею – Леон, потом сама Марта. Только Жан остался нечувствительным к припадку сумасшествия, произведенному этим ударом судьбы, и было отчего: для Дюшато и его дочери это открытие означало конец убогой жизни, без радости и надежды, в канадской хижине; Марте оно давало обеспеченную независимость; для Леона Фортена оно облегчало положение родителей и помогало осуществлению будущих проектов. А Жан, кроме источника богатства, видел в золоте прежде всего средство отомстить за смерть отца. Но поможет ли ему в этом золото? Вот о чем думал бедный юноша, не принимая участия в общем восторге. Между тем, пока люди волновались около самородков, Портос продолжал ожесточенно рыть землю и добился-таки до грызуна, послужившего причиной находки. Это была бедная маленькая землеройка. Но, увлеченные видом золота, Редон и его друзья не обращали на это внимания. – Но сколько здесь… скажите! Тысяч на сто франков будет? – спросил журналист с лихорадочно-блестевшими глазами. – Как знать?! – отвечал старый рудокоп.– Когда найдена жила, то этим дело не кончается! – С этими словами он взял кирку и с удвоенной силой увеличил отверстие. Камни полетели, и всюду засверкали блестящие точки. – Вот!.. Я говорил! – продолжал он прерывающимся голосом.– Вот… Вот!.. Еще!.. Еще!.. Но что вы смотрите? Возьмите лопату и поднимите это все… Прекрасно! Золотая масса! Редон схватил лопату и бросился к груде обломков, среди которых блестели новые самородки. Чувствуя в себе силу атлета, он рылся с жадностью, превратившись в землекопа; из груди его вылетали короткие восклицания: «Еще, еще!» Канадец собирал куски и клал их в кучу. Вдруг кирка ударилась о твердое, как скала, препятствие. – Кончено! – сказал канадец, бросая орудие. – Как!.. Нет больше золота? Уже! – вскричал разочарованным тоном Редон. – О, его еще очень много, я это чувствую, даже уверен, но я коснулся мерзлоты, а люди еще не выдумали инструмента, чтобы раздробить такую землю! – Но как же вы поступаете зимой? – Зажигают огонь в ямах: через двенадцать часов лед растает, и земля размягчится на два фута. Вот эту землю и кладут около жерла «dumps», для летнего промывания. – Значит, надо подождать зимы? – Да, два с половиной – три месяца! – Нет, я хочу сейчас же начать разработку, как зимой! Не правда ли, ведь это и твое желание, Леон?.. И ваше, Дюшато?.. – Конечно! – энергично отвечали оба. – Смотрите, это опасно! – проговорил старик.– Почва не тверда; по мере того как вы будете рыть, она станет обваливаться, и вы рискуете быть засыпанными. – Можно укрепить лесами! – Вода доберется до вас! – Мы вычерпаем ее! – Летом из глубины земли выходят смертоносные газы: они вас задушат. – Умирают только один раз. – Ну, и молодец же вы! – воскликнул восхищенный рудокоп.– Право! Дайте мне хорошую цену, и я готов на любой риск. – Сколько же вам угодно за день? – Сто франков, если не дорого! – Вы получите двести… Мои друзья согласны? – Да!.. Да!.. Двести франков! – вскричали в один голос молодые люди и девушки. Итак, эксплуатация началась, несмотря на опасности. Теперь нужно было добыть дрова. Немедленно приступили к делу. Леон, Поль и канадец, под предводительством старика, очистили место и стали копать четыреугольное отверстие в два квадратных метра; Жанна же, Марта и Жан отправились за дровами. При помощи резаков и топоров они скоро набрали по связке сучьев. Молодой человек помог своим спутницам взвалить эти связки на плечи, положил свою на голову,– и все трое, обливаясь потом, достигли участка. Потом пришлось принести еще столько же. Затем дрова сложили в яму и там зажгли. – Теперь,– произнес Редон,– пока земля оттаивает, нам не мешает наполнить чемоданы! Эта мысль пришлась всем по душе. Самородки были собраны и снесены под просмоленную покрышку. Неслыханное количество и чрезвычайная величина их произвели настоящий фурор: на памяти рудокопов не было ничего подобного. Здесь, считая даже по низкой цене, золота было не менее шестидесяти килограммов, то есть на сумму 180 тысяч франков. Весть о счастливой находке наших друзей быстро распространилась среди рудокопов, полетела в Доусон-Сити и произвела там всеобщую сенсацию. Репортеры двух главных в «столице золота» газет – «Клондайкский самородок» и «Юконская полночь» – немедленно выехали на участок, еще не имеющий названия. Им нужны были автографы, интервью, документы, фотографии счастливцев! Конечно, Редон, как собрат по оружию, прекрасно принял их. Новые знакомые проглотили несколько кусков мяса и сухарей, выпили по стакану виски и уехали через два часа. Работа, прерванная на некоторое время, возобновилась, так как почва уже оттаяла на глубину метра. Оставалось только удалить пепел и затем продолжать работу. Кирки старого рудокопа и канадца застучали по горячей земле, а Леон Фортен и Поль Редон стали поднимать лопатой куски и бросать их наружу. Здесь Жанна, Марта и ее брат осматривали каждый комок, чтобы выбрать большие и маленькие самородки. В яме, где работало четверо мужчин, наступила адская жара. Засучив рукава своих рубашек, они ушли в работу, напрягая все силы. – Ну, друзья мои, и денек! – сказал Редон, вытирая рукой пот, струившийся по его лицу.– Мы заработаем тысячу франков в час. Недурно! – Черт возьми! – произнес в это время старый рудокоп:– Взгляните-ка сюда! Можно подумать, что мы нашли «Мать золота», пресловутое золотое гнездо Юкона! – С этими словами он отколол киркой глыбу почти такой же величины, как открытая Портосом. Леон и Поль взглянули на нее и друг на друга и без слов поняли все. – Ну, товарищ, берите ее себе! – сказал восхищенный журналист. Старичок сначала не понял. – Берите же, говорят вам,– продолжал Редон,– это вам… Не так ли, друзья? – О, от всего сердца! – воскликнули молодые девушки. Старик побледнел от волнения; кровь прилила к его худому лицу, побуревшему от двадцатилетней работы на открытом воздухе, и он едва мог произнести: – Вы… золотые сердца… как этот металл!.. Вы – достойны своего счастья!.. Моя благодарность… принадлежит вам навсегда!.. Я – ваш… возьмите меня… вы увидите, я буду вам полезен. Это так же верно, как мое имя – Пьер Лестанг, уроженец прихода св. Бонифация, близ Виннипега, в Канаде. – А, моя родина! – вскричал Дюшато, протягивая ему руку. – Я должен был догадаться об этом по вашему произношению! – Но мы соотечественники!.. Да, по старой Франции,-прибавил Фортен,– и вы будете таким образом вдвойне свои! Во время этого разговора к золотоносной яме приблизилась небольшая группа людей. Лохмотья доусонцев были все-таки не лишены живописности, а вид подошедших был очень подозрителен. Но счастливые искатели золота не обратили на это внимания и в порыве радости не заметили взглядов, брошенных вновь прибывшими на палатки, яму и на кучу самородков. После долгого немого созерцания эти люди с наружностью бандитов медленно удалились, как бы с сожалением, к досчатому бараку, где наскоро был устроен трактир. Незнакомцы уселись за бутылкой виски, и один из них, оглянувшись кругом, тихо обратился к своим товарищам: – Вы все видели? Смотрите, не забудьте! Особенно позаботьтесь о собаке! Черт возьми! У них более ста килограммов золота, стоящего по крайней мере триста тысяч франков! Нужно, чтобы все это стало нашим в течение двух дней!
ГЛАВА VI
Два человека из конной полиции,– Западня.– Два трупа.– Страшная резня.– Еще один мертвец.– Упорный сообщник.– Пожар.– Мнимые полицейские.– Охрана для гнезда самородков.Неделю спустя зловещие незнакомцы, метившие на золото наших друзей, собрались в селении Фурш. Расположенная при слиянии двух рек, Эльдорадо и Бонанзы, Фурш была малою копией Доусон-Сити, так как здесь было такое же положение, такая же грязь и топь, те же увеселительные места, те же люди. Только общественная организация была здесь более первобытная, жизнь дороже и суетливее, а удовольствия грубее. Здесь имелся полицейский пост, но люди, представлявшие это учреждение, так справедливо уважаемое, имели множество дел и никогда не сидели на одном месте, разъезжая по горам и долам. При случае они никогда не отказывались от угощения. Около трех часов того же дня, после возвращения подозрительных незнакомцев, два полисмена вернулись в Фурш. Когда они подошли к первому дому, харчевне, где радостно веселилась маленькая группа рудокопов, их остановил один из кутил, казалось, подстерегавший их. Он пожелал им доброго дня и прибавил хриплым от виски голосом: – Вы чокнетесь с нами, не так ли? – Идет! – отвечал один из полисменов.– Мы уже четыре дня в дороге и хотим пить, а особенно есть! – Ура! Мы нашли гнездо самородков и по этому случаю собрались пить и есть! Вот вы и повеселитесь с нами! – Но позвольте раньше вычистить лошадей! – Ни за что! Это сделает харчевник! Пришел хозяин харчевни. Это был высокий и крепкий мужчина лет тридцати, с белокурой бородой и волосами. Он с видом знатока осмотрел лошадей. – А,– сказал один из полицейских,– я вас не знаю! – Ничего нет удивительного! Я здесь только неделю… я наследник Жое Большой Губки, умершего от белой горячки. – Это должно было произойти! – подхватил второй полицейский.– Этот бедный Жое не пил менее галлона (4 литра) в день. Это уж слишком! – Мы познакомимся, господа, и вы будете приняты с не меньшим радушием, чем моим предшественником! Но довольно болтать!.. Входите же… Я займусь лошадьми. Сопровождаемые человеком, пригласившим их на улице, полисмены вошли в довольно большую залу, где только четверо собеседников с аппетитом пили и ели. Их познакомили и дали место за монументальным столом, заставленным напитками и съестными припасами. Перед ними очутились два бокала, наполненные немного дрожавшими руками до краев, на тарелках появилась невзыскательная пища этих мест, и для начала все звонко чокнулись. Привыкнув к шумному радушию рудокопов, уверенные в их честности, зная, что в случае нужды ничто не в силах заставить их пренебречь своими обязанностями, оба полисмена принимали угощение, не дожидаясь упрашиваний. Умевшие хорошо поесть, а еще лучше выпить, что не удивительно в людях, проводящих службу при пятидесяти и более градусах холода, они пили полными стаканами, потом принялись за еду, глотая ее с поспешностью солдата во время похода, набивая рот кусками пищи и снова запивая их. Хозяин харчевни вернулся с бутылками и закуской. Обменявшись с одним из выпивавших многозначительным взглядом, он проговорил: – Лошади приведены в порядок, джентльмены, вы можете быть спокойны! Полисмены поблагодарили и беззаботно продолжали пиршество. Они расстегнули свои сюртуки, потому что стало жарко, ослабили пояса и, работая челюстями, слушали застольную песню одного из собеседников. Правда, это была убогая поэзия, музыка – сомнительная, а талант у исполнителя вообще отсутствовал, но все-таки ему аплодировали и пили, тем более, что пища и поглощаемые напитки вызывали неутолимую жажду. Время шло. Наконец, видя, что попойка грозила перейти в.настоящую оргию, полисмены объявили, что обязанности службы заставляют их удалиться. – Как!.. Уже?.. Так весело! – вскричали их собеседники. Но те настаивали и встали. – Ну, еще бокал… прощальный! Стакан вишневого ликера… из Черного Леса, стоящий двенадцать долларов бутылка! Полисмены принуждены были согласиться. Вдруг глаза у них расширились и сделались неподвижны, рот сжался, пальцы скрючились, и стаканы выпали из рук. Конвульсивное подергивание пробежало с ног до головы,– и оба, без крика или вздоха, упали замертво. – Умерли, Френсис? – спросил один из пьяниц, которого это страшное происшествие, казалось, отрезвило. – Да, я убил их без колебания и угрызения совести! – отвечал совершенно спокойно убийца, названный Френсисом.– Добрая порция синильной кислоты, прибавленной в их стаканы,– и готово! Они перешли от жизни к смерти без страданий и без всяких криков! – Но против нас будет все население… закон Линча… – Не бойся, кара за убийство – не сильнее, чем за кражу! Здесь нет такого различия. Однако довольно болтать! Нужно раздеть догола этих джентльменов, пока они еще теплы.– С этими словами разбойник стал раздевать несчастного, который лежал ближе к нему, согнувшись пополам и упав лицом на стол, с раскинутыми руками. Он расстегнул пояс, к которому была прикреплена кожаная кобура с револьверами, вынул один рукав доломана (длинная верхняя одежда), потом другой и сказал: – Мы одинакового роста… это будет мне как раз впору! Но человек, только что выражавший опасения, прибавил: – Мы не согласны убивать… я хочу воровать, но отказываюсь убивать… слышишь, Френсис?.. Не рассчитывай же на меня, я разрываю с этого момента наш договор! – Это твое последнее слово? – Да! – Подумай, ведь ты получишь свою долю – более миллиона франков! – Цифра блестящая, но, повторяю, не хочу быть убийцей! Тогда с быстротой молнии Френсис схватил револьвер полисмена и выстрелом в упор наповал убил собеседника. – Сам виноват, дурак! Я хочу иметь дело только с готовыми на все людьми и убираю слабых, которые завтра могут сделаться изменниками! – Браво, Френсис! – вскричал охрипшим голосом один из трех оставшихся собутыльников.– Ты – настоящий предводитель! Мы последуем за тобой на дно ада, если тебе угодно будет туда спуститься. Не так ли, товарищи? – Да!.. Да!.. Френсис хорошо сделал. Долой трусов! Долой изменников! В этот момент в залу, наполненную пороховым дымом, вошел содержатель харчевни. – Пистолетный выстрел! Френсис, ты виноват? Вспомни, однако, что мы – не в Калифорнии или в Австралии! – Так нужно было, Боб. Он был ненадежен! Однако нас только четверо, а должно быть пятеро! – Ба! Брось. Мы подыщем здесь пятого товарища, а если понадобится, призовем одного из наших братьев из Англии. Там видно будет! Теперь же надо освободиться от этих трупов! – Лишь бы только выстрел не привлек никого! Разве зарыть их здесь на дворе? – проговорил хозяин. – Ты забываешь, что земля промерзла на два фута глубиной и что она тверда как скала! – Верно! Какая идиотская страна! – Ну, не говори, это – страна миллионов! – Я вижу только одно средство спровадить эту кучу мяса,– предложил один из разбойников,– разрезать на куски, зашить в брезент и бросить в воду или опустить в какую-нибудь заброшенную рудокопами яму! – Твое средство великолепно! Ну, не будем терять ни минуты. Я запру дверь, как будто ушел куда-то! С этими словами четверо бандитов, раздев несчастных полисменов донага, положили их на стол и принялись кромсать. Страшная работа была быстро исполнена злодеями, которых ничто не трогало и которые с окровавленными руками отпускали непристойные шуточки и пили вино. Внутренности и конечности были запакованы в просмоленное полотно и завязаны так, что их можно было принять по виду за свертки провизии. Оставался только труп человека, убитого из револьвера. Его собирались также убрать, как внезапно Боб, ударив себя по лбу, вскричал: – У меня появилась мысль, блестящая мысль, избавляющая нас от излишней работы! – и, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, он взял веревку, довольно длинную и прочную, сделал петлю и затянул ею шею мертвеца. – Мы сделаем так, будто он повесился или, точнее, повешен: гениальный способ объяснить выстрел в голову. – Не понимаю! – проговорил Френсис. – Увидишь! Боб взял кусок белого картона и, написав на нем «Обвиненный и казненный за кражу судом Линча», повесил картон на грудь несчастного и прибавил: – Воспользуемся ночным временем, чтобы унести его отсюда и повесить на дерево. Подумают, что это случайность. Это будет хорошим примером и спокойнее для нас! – Чудесно, товарищ! А теперь за дело! С этими словами Френсис разделся, одел полную форму полисмена и сказал Бобу: – Делай то же! Боб повиновался и, за несколько минут переодевшись, стал неузнаваем. Оба бандита в костюмах конных полисменов могли теперь обмануть самый опытный глаз. Между тем два соучастника вымыли стол, на котором производилась ужасная операция, потом принесли новые бутылки, и попойка продолжалась, словно тут и не было едва остывших трупов. Вдруг раздалось несколько ударов в дверь. – Кто там? – проревел Боб.– Убирайтесь! Здесь сидят счастливцы, желающие веселиться без посторонних! Приходите завтра! Стук прекратился: новые посетители харчевни удалились, хорошо понимая желание миллионеров веселиться в своей компании. Время шло; наступила темнота. Оба бандита, переодетые в полицейских, с бесконечными предосторожностями вынесли труп товарища, не встретив никого, повесили его на первое же дерево и возвратились в харчевню; здесь Френсис в качестве начальника отдал последние приказания: – Условьтесь относительно уничтожения человеческих останков! Будьте осторожны, никоим образом не возбуждайте подозрений и терпеливо ждите нашего возвращения в таверну «Человека-Пушки». От этой первой операции зависит, получим ли мы то ослепительное богатство, которое я обещал вам… Миллионы! – Решено, рассчитывайте на нас! Мнимые полисмены немедленно отправились в конюшню, оседлали лошадей и поехали по направлению к холмам. В харчевне остались их соучастники, чтоб убрать трупы двух конных полицейских. Это ужасное дело вызывало много затруднений. Прежде всего, тюки были тяжелы и многочисленны. Их было шесть, и каждый весил около шестидесяти фунтов. Затем возникал вопрос, куда их снести? Френсис советовал бросить в заброшенные ямы. Но таких по соседству не было. Бросить в воду – они могли всплыть потом. Кроме того, переноска потребовала бы троекратного длинного, трудного и опасного путешествия. Тогда одному бандиту пришла в голову мысль разломать внутренние перегородки харчевни, сложить доски в костер и прикрыть им останки. Они положили туда все твердые припасы: масло, окорок, сало – чтобы посильнее горело и особенно чтобы сгорело дотла, потом выпили сколько могли спирта, остатки вылили в огонь и вышли, заперев дверь. Все это в мгновение ока воспламенилось. В деревне Фурш не было ни пожарной трубы, ни пожарных – жители, расселившиеся редко, из боязни пожаров, теперь оставались спокойными наблюдателями того, как огонь делал свое дело и уничтожал последние следы преступного деяния. Тогда два товарища медленно двинулись в Доусон-Сити на свидание с двумя подставными полисменами. Между тем последние неторопливо ехали по течению Эльдорадо, провожаемые по дороге поклонами и приветствиями, получаемыми не по праву, а ценой преступления. Но это не мешало им отвечать поклоном на поклон, пожатием на пожатие, что производило на людей самое приятное впечатление. Богатые участки следовали один за другим, затем они делались все реже, по мере того как приближалась цепь холмов, отделявших бассейн Бонанзы от бассейна Индианы. Тут бандиты дали лошадям несколько часов отдыха и продолжали свой путь, направляясь к участку французов, что и было целью их поездки. Они приехали в тот момент, когда, утомленные тяжелым и непривычным трудом, счастливые рудокопы сели за стол; его, впрочем, заменяла простая подставка, перед которой каждый присел на корточки, как в деревне. Кушаний, приготовленных молодыми девушками и приправленных ни с чем не сравнимым соусом – аппетитом, было предостаточно. Прибытие полицейских было встречено приветственными возгласами: во время пребывания своего в Доусоне европейцы научились их узнавать и уважать. Что касается канадцев, то им давно было известно, что это за солдаты. Итак, прием был хороший. Полицейских пригласили освежиться и разделить завтрак. Те с готовностью приняли приглашение, слезли с лошадей и заботливо осмотрели их, как своих преданных помощников, а когда, наконец, в свою очередь присели перед брезентом, довольные этим приемом, но смущенные перед своими образованными хозяевами, старый рудокоп вскричал: – Вот так удача! Я перевожу в банк более двухсот фунтов золота, эти двое молодцов будут сопровождать нас! – Это действительно удача! – сказал Редон.– Нам много говорили относительно безопасности в этой стране, но я не совсем доверяю живущей здесь бедноте! – Я тоже,– прибавил Леон,– и буду спокоен только тогда, когда наше имущество будет в надежном месте! – Вы можете рассчитывать на нас! – с важностью произнес мнимый полисмен – Френсис. – Это наша обязанность, и мы скорее позволим себя убить, чем дотронуться до вашего добра! – подтвердил его соучастник – Боб. – Мы верим вам и будем спать как убитые! – заключил канадец.
ГЛАВА VII
Хитрость разбойников.– Во время сна.– Гнездо самородков переходит в другие руки.– Умерли ли они? – Хлороформ. – Неприятное пробуждение.– Обокрадены. – Бешенство Редона.– Non bis in idem.– Поиск Леона.– Тревоги ученого.Полицейские были, видимо, очень утомлены, что для рудокопов, знавших их трудную и изнуряющую службу, не казалось удивительным. И потому, когда ужин подошел к концу, французы предложили им отдохнуть. Те сначала отговаривались, впрочем, больше для приличия, потом согласились; им отвели место для ночлега под большой шелковой палаткой у мужчин. Марта и Жанна, как и в Доусон-Сити, поселились в самой маленькой палатке, где был еще и склад съестных припасов. Наступила ночь, и громадное багряное солнце скрылось за горизонтом, но все-таки царивший полумрак давал возможность различать на некотором расстоянии окружающие предметы, конечно, в неопределенных очертаниях. Участки золотоискателей погрузились в сон. Наши друзья, Леон Фортен, Поль Редон, Дюшато, старый рудокоп Пьер Лестанг и Жан Грандье, растянулись на своих постелях и крепко заснули. Полисмены расположились близ входа в палатку, чтобы наблюдать за лошадьми, стреноженными в десяти шагах и жевавшими стебли злаков, нарезанных поблизости. Прошло около получала. Вдруг на гладкой почве через Отверстие ткани, завешивавшей входа палатку, показалась голова, потом через минуту – другая. Около колышков отверстие осталось плотно закрытым, очевидно, преследовалась цель помешать воздуху проникнуть внутрь палатки. Однако там почувствовался как будто легкий эфирный запах, странный, возбуждающий, словно это был очень зрелый ранет. Прошло еще полчаса. Обе головы слегка зашевелились. Поднялся неясный шепот, невнятный разговор. – Дело сделано! Я налил изрядную дозу, способную превратить их в деревянных человечков. – А собака? – И она, кажется, готова! Теперь можно приняться за сокровище! – У меня есть свечка, чтобы рассмотреть самородки. – А если вдруг один из спящих проснется и поднимет шум? – У меня есть нож; первый попытающийся устроить тревогу будет зарезан, как цыпленок! Но я спокоен! – Идем же!.. Тихо и без малейшего шума, чтобы не разбудить женщин в другой палатке! Одна из двух голов появилась опять, и ее обладатель наполовину выпрямился, чиркнул спичкой, зажег свечу и внимательно осмотрелся вокруг. Никто не просыпался, а дыхание, недавно еще шумное и глубокое, теперь едва заметно вылетало из уст спящих. Все они расположились в живописном и трагическом беспорядке. Их лица, бледные и вытянутые, при колеблющемся свете казались лицами трупов. Губы были сжаты, ноздри раздуты, глаза плотно закрыты, руки скрещены. Только собака лежала с широко раскрытыми, тусклыми, мертвыми глазами. Человек, державший свечу, был Френсис, мнимый полисмен. Он потрогал своими массивными сапогами со шпорами эти неподвижные тела, как бы желая убедиться в их полной нечувствительности, потом пробормотал: – Их не разбудила бы и пушка… все идет хорошо! Боб, будь наготове! – Бандит бесшумно, ползком выбрался из палатки, держа кинжал в зубах. К счастью, утомленные Жанна и Марта спали очень крепко, не то, услышав хоть слово или заметив малейшее движение, негодяй безжалостно прирезал бы их. Самородки были разделены на четыре пакета, каждый весом около пятидесяти фунтов; пакеты эти лежали под матрацами четырех компаньонов в маленьком углублении. Френсис без всякого стеснения воткнул свечу в землю и, приподнимая одной рукой друг за другом эти неподвижные тела, второй стал выбрасывать пакеты с золотом, а его соучастник принимал их. За десять минут все было кончено. Обокрав дочиста компанию золотоискателей, бандиты оседлали лошадей, крепко привязали золото к седлам и спокойно двинулись по направлению к северу. Через несколько минут они исчезли в пустынной дали, не будучи замечены никем из немногих соседей, отдыхавших в своих палатках. Между тем, часа в два утра молодые девушки почему-то пробудились и, удивленные окружающей тишиной, медленно поднялись с мест. Жанна первая, покинув то, что Редон в шутку называл Дамским купе, направилась к мужскому отделению и принялась звать отца, не понимая, каким образом деятельный канадец, всегда встававший раньше других, мог спать таким глубоким сном. – Ну, отец, вставай! Солнце уже высоко! Но в ответ не раздалось ни шороха, ни даже лая собаки, обыкновенно очень бдительной. Молодую девушку охватил страх; исполненным ужаса голосом она позвала подругу: – Марта! Идите скорее… несчастье… О Боже мой! Я боюсь!.. Марта быстро подбежала к палатке и, войдя в нее, при виде пяти неподвижных, как трупы, мужчин испустила горестный вопль: – Мертвы… О!… Нет… это невозможно! Обезумев от ужаса, она бросилась к лежавшим и остановилась, пораженная каким-то запахом, напоминавшим запах хлороформа. В то же время ее подруга обнаружила отсутствие лошадей. – Полицейские уехали! Подозрение закралось в сердце Марты, невольно спрашивавшей себя, чем объяснить это внезапное исчезновение; однако не время было рассуждать. Как энергичный человек она овладела собой и, призвав на помощь все свое хладнокровие, закричала подруге: – Воздух!.. Нужен воздух!.. Скорее!.. Вынесем их отсюда! С силой, какой они даже не подозревали в себе, обе девушки по очереди вынесли из палатки всех четырех мужчин и положили на землю. Тела были еще теплые. – Жанна!.. Холодной воды… бегите, пожалуйста! Пока канадка, захватив кружку, бегала к соседнему ручью, Марта расстегнула воротники больных, обнажила их грудь и стала их растирать, но вскоре пришла в отчаяние, видя бесполезность этих усилий. Наконец, когда возвратилась Жанна с водой, она, смочив платок холодной водой, стала прикладывать его к неподвижным лицам. – Делайте то же, Жанна, трите сильнее! – сказала она подруге. Розоватый оттенок показался на коже, и девушка решила, пытаясь вспомнить некоторые правила гигиены и оказания помощи раненым, применить искусственное дыхание. Она нажимала на грудь старого рудокопа таким образом, чтобы уменьшить объем легких, потом внезапно освобождала грудь, чтобы вызвать таким образом сильный вздох. Средстве оказалось действенным – старик стал слабо шевелиться. Теперь очередь была за Леоном. Руки молодой девушки дрожали при прикосновении к доброму, преданному другу. Язык его был слегка сжат зубами, и пульс почти отсутствовал. С изобретательностью, удивившей ее саму, девушка схватила железную ложку, всунула ручку ее между челюстями, с силой раскрыла их и, не зная, что делать, влила большой глоток виски в рот. А нужно заметить, Леон употреблял только воду. Поэтому, как только горячительный напиток коснулся его рта и обжег его, как минеральной кислотой, горловые мускулы молодого человека подернулись, и живот слегка поднялся. Тотчас после этого кровь хлынула к лицу, легкие наполнились воздухом, тело шевельнулось, глаза открылись – и Леон внезапно ожил. Он энергичным усилием поднялся на ноги при виде молодой девушки, улыбавшейся сквозь слезы, и нетвердым голосом произнес: – Мадемуазель Марта, Вы спасли меня, благодарю Вас! Тут он заметил других мужчин, все еще распростертых на земле, и Жанну, смачивавшую их тела свежей водой. Ему тотчас же пришла в голову мысль об отравлении ядовитыми газами, вырвавшимися из почвы. – Задохнулись? – спросил он молодую девушку. – Преступное покушение, полисмены исчезли… Пробудившись, мы нашли вас умирающими! Леон тотчас поднялся, не занимаясь разговорами и спеша помочь Марте и Жанне. Он дотащился до Жана, насильно открыл ему рот, схватил пальцами, обернутыми носовым платком, его язык и произвел несколько ритмичных движений. Это средство, лучшее при удушии, подействовало очень быстро и возвратило к жизни молодого человека. В то время как Марта занялась старым рудокопом, а Жанна – своим отцом, Леон принялся за Редона. Опять вытягивание языка произвело чудо, но потребовало от еще слабого Леона доброй четверти часа трудов. – А Портос? – вспомнили тогда о собаке. Однако оказалось, что и ньюфаундленд отлично обошелся без врачебной помощи. Он появился из глубины палатки, зевая и шатаясь, как пьяный. Собака присоединилась к группе людей, старавшихся прийти в себя и удержаться на подкашивающихся ногах. – Где же полицейские? – спросили, едва ворочая языками, канадцы и репортер. – Уехали! Этот отъезд, слишком похожий на бегство, показался всем более чем подозрительным. – Лишь бы они не обокрали нас! – воскликнул Леон. Эта же мысль встревожила и остальных, и все нетвердыми еще шагами бросились осматривать кладовые под своими постелями. Кладовые эти, безусловно, оказались пусты. Только присутствие молодых девушек могло остановить поток проклятий, готовых сорваться с губ компаньонов. Но от этой сдержанности ярость не уменьшилась. – Нас провели самым жестоким образом! – вскричал Дюшато. – Но глупее всего,– пробурчал Редон,– что мы постыдно обокрадены в тот момент, когда журналы Доусона публикуют наши интервью, наши портреты, наши фотографии, когда всякий завидует нам, когда о нас рассуждают на все лады, когда мы, наконец, богатейшие, счастливейшие, сказочные владельцы знаменитого «гнезда самородков». – Ба! – глубокомысленно вмешался Леон Фортен.– Лучше внушать зависть, нежели жалость! Мы поквитаемся, добыв новое богатство! – Болтай себе на здоровье! –возразил на это с комическим смешком Редон.– Неужели ты думаешь, что найдется вторая землеройка, которая, зарывшись во вторую дыру, натолкнет Портоса на второе гнездо? – Попробуем! Ищи, Портос!.. Ищи, животина… Но собака лишь слабо вильнула хвостом. – Ты не расходился еще, не так ли, мой бедный песик? И потом, чего ты хочешь: non bis idem! note 6 В вольном переводе это значит: нельзя дважды найти апельсин в одной и той же корзине! – Как знать?! – прервал загадочным тоном Леон Фортен. – Ты думаешь? – Если не в одной и той же корзине, то по крайней мере на том же участке! – Ты прекрасно видишь, что у Портоса нет более нюха… Здесь надо бы перигорскую собаку, приученную искать трюфели!.. – Вместо Портоса я мог бы действовать сам! – Так не теряй времени и поищи! Скучно заносить в разряд убытков великолепную груду золота, похищенного полицейскими чинами! А я находил их такими добряками! – Ну, дай же мне начать поиски! – Ты хочешь остаться один? – Да! С этими словами Леон повернулся спиной к остальным членам группы и стал медленно пересекать участок во всех направлениях. Время от времени он наклонялся, потом на минуту становился на колени и вскоре продолжал поиски. Такие действия, живо заинтересовавшие его друзей, продолжались около часа. Утомленный, покрытый потом, Леон возвратился к палатке, где его ждал накрытый стол. Он сохранил непроницаемость, заставившую молодых девушек улыбаться, но раздражавшую мужчин и особенно Редона. Завтрак затянулся. За исключением Марты и Жанны каждый чувствовал боль в голове, затрудненное дыхание и боль в суставах. К ослабляющим физическим последствиям действия хлороформа присоединилось еще уныние по поводу кражи. Наконец Редон, будучи не в силах сдерживаться, воскликнул: – Ну!.. Пожалуйста, скажи нам о золоте. Так как ты инстинктивно чувствуешь, где скрыто золото, как источник подземных вод, то скажи, что ты нашел?! – Немного! На участке есть золото, но в малом количестве! – Ах, Боже мой! Мадемуазель Марта, ваш участок плох! Итак, ни малейшей надежды на гнездо самородков? – Я нашел кое-что, но не смею раскапывать. Я слишком боюсь неудачи! – Напротив, возьмем кирки и лопаты, осмотрим место и – дело с концом! А ты, дружище Портос, пошли с нами! Все семеро, мужчины и женщины, и ньюфаундленд быстро оставили палатку и отправились к месту, указанному Леоном Фортеном. Последний, слегка побледнев, кусал свой длинный ус и казался сильно взволнованным. Конечно, в нем сказывались ощущения обыкновенного человека, который никогда не может равнодушно смотреть на золото. Но ученый имел и другую причину волноваться: он хотел знать, чего стоит его необычайное и гениальное открытие, а именно открытие особого металла, притягивающего золото.
ГЛАВА VIII
Новое открытие.– Не случайность.– Гнездо самородков.– Редон пал духом.– Избалованный счастьем.– Золотая буссоль.– Периодический закон Менделеева.Итак, Леон Фортен направился на участок в сопровождении всей компании, включая и девушек; все были крайне заинтригованы поведением молодого ученого. Дюшато просто решил, что Леон не в своем уме, так странно он выглядел, когда ходил и размахивал своим брелоком. Старый канадец, с двадцатилетнего возраста исходивший золотые поля и принадлежавший к числу самых опытных рудокопов континента, усмехался с иронией, напоминая тех крестьян, которые, слушая речи профессора земледелия, поют под сурдинку: – Посмотрите, этот любезный господин из города хочет научить нас, как выращивать морковь и капусту! Группа пересекла участок и направилась к западной границе его, до которой едва осталось два метра. – Здесь! – произнес немного дрожащим голосом Леон, обозначив место крестом, начертанным на почве. – Ну, будем рыть! – сказал Редон, делая первый удар киркой. Старый канадец пожал плечами и заметил вполголоса Дюшато: – Нет!.. Это детская затея… ничего не найдут! Тот тоном сострадания ответил: – Э, я и сам хорошо знаю! Но если это доставляет удовольствие нашим землякам! – и принялся за работу, которая теперь уже спорилась в его руках. Рыли уже полчаса. Отверстие увеличилось в ширину и глубину. Через минуту должен был начаться ледяной слой. Вдруг лопата журналиста наткнулась на какое-то твердое тело и издала отчетливый звон. – Что это? Старый рудокоп, бросив свою кирку, наклонился и, подняв что-то, вскричал с изумлением: – Боже!.. Золото!.. Потом, как будто поднятый предмет жег его, он бросил к ногам Фортена прекрасный слиток, величиною с каштан. – Черт возьми! – вскричал в свою очередь Редон, разрывая рукояткой своей лопаты кусок земли,– жила возвращается! Браво! Мы вновь разбогатеем! – Это опять счастливый случай или француз приходится сродни дьяволу! Леон подобрал слиток, поднес его Марте и с улыбкой сказал ей: – Надеюсь, мадемуазель, что в этом открытии нет ни малейшей случайности, как думает наш бравый товарищ! – О! Это было бы слишком хорошо! Впрочем, я верю вам! – Это чисто научное открытие… Если позволите, я объясню вам немного позднее поистине необычайный секрет его! – А мне, мосье Лион, скажете? – спросил Жан, внимательно смотревший на слиток в руке сестры. – Да, друг мой, так как, на случай несчастья, я хочу вас сделать своим наследником, а это наследство сделает вас царем золота! – О, не говорите так! Вы не знаете, какое горе причиняете мне! Восклицание Дюшато прервало эту беседу, ведущуюся вполголоса. – Еще слиток!.. Меньший по величине, но такой же чистоты! Действительно, второй кусок золота был величиной с орех. – Еще один! – на этот раз воскликнул старый рудокоп Лестанг. Мало-помалу после трех часов работы самородков набралось около трех килограммов, то есть на кругленькую сумму в десять тысяч франков, чего еще никогда не видано было на участках Клондайка. И чрезвычайно недоверчивые люди пришли бы в изумление от подобного результата, превосходившего самые смелые надежды. Однако, вскоре все стали чувствовать сильное недомогание. Было ли это последствие влияния хлороформа или просто усталость, неизвестно. Только журналист, Леон и Жан отказавшись от работы. – В таком случае, господа, мы с Жанной останемся здесь, чтобы окончить разборку земли! – проговорила Марта. – Но, мадемуазель… – Пожалуйста, идите отдохнуть! Мы прекрасно поработаем без вас и… за вас! Мужчины медленно удалились и молча пересекли участок наискось На губах Жана Грандье был вопрос, и он с любопытством посматривал на Леона. не решаясь спросить, но все-таки в конце концов сказал: – Мосье Леон… вы обещали сейчас… – Что, мой дорогой друг? – Сказать Марте и мне… секрет открытия… вами золота… Марты нет, правда… но вы можете объяснить ей потом… Мне не терпится узнать… – Шш!.. Тише… Войдем в палатку… вы узнаете все! Убедившись, что ни одно нескромное ухо не услышит их, Леон вынул из внутреннего кармана своего жилета маленький инструмент, насаженный на прочную никелевую цепочку. – Поль, ты хочешь спать? – О нет! – вскричал журналист.– Я узнаю штучку, которая помогла нам открыть золото… по крайней мере твое… хотя вернее, что Портоса! Леон улыбнулся и, обращаясь к Жану, проговорил: – Видите ли эту «штучку», как ее назвал сейчас этот шутник Редон? На самом деле это – буссоль (геодезический инструмент для измерения горизонтальных углов на местности), но буссоль особенная: ничто не может привести в движение ее иглу. Поворачивайте ее, отклоняйте, направляйте по всем четырем сторонам света, она остается неподвижной. Но если, держа ее правой рукой, левой я поднесу кусок золота, то игла приходит в движение и направляется к золоту, которое притягивает ее, как магнит железо. Видите: она вертится, отклоняется направо и налево по мере того, как я перемещаю кусок золота. Прибавим еще, что способность к движению наблюдается только в присутствии золота, не проявляясь ни при одном из всех известных до сих пор металлов. – Но, мосье Леон, это ведь чудо! – с удивлением вскричал молодой человек. – Да, это чудо! – Я бы очень хотел знать причину этого странного явления! – И я также,-отвечал добродушный ученый,– я констатирую факт, как и вы… пользуюсь им. но не знаю больше ничего… – Из какого же металла сделана игла? – Это я могу объяснить, так как сам открыл его. Я нашел его незадолго до тех ужасных событий и назвал его «металл х», как Рентген свои знаменитые лучи. Но Редон настоял, чтобы я дал ему мое имя, и вследствие этого я окрестил его леонием. После этих первых объяснений Леон продолжал: – Я не думал поразить ученый мир своим открытием, с которым вы теперь знакомы, а решил испробовать его сначала здесь, в Клондайке. Ведь эта игла и привела меня сегодня ко второй залежи, точно указав место, где лежит «гнездо», раскапываемое в этот момент канадцами. – Как это? Скажите, мосье Леон! – Очень просто! Положив буссоль на руку, я руководствовался ею, как это делают мореплаватели с магнитной буссолью. Я держал свой инструмент поочередно в вертикальном и горизонтальном положении. Сначала игла оставалась неподвижной, потом направилась прямо к западу… Тогда я стал держать ее горизонтально, и это дало мне направление. Я поставил ее вертикально, и игла, повернувшись вокруг своей оси, как стрелка компаса, образовала некоторый угол. Таким путем мой маленький инструмент и вел меня, пока игла не остановилась вертикально. Здесь обозначилась залежь золота, которая мне кажется хорошим предвестником наших будущих разведок! – Тогда мы можем отнестись спокойно к краже, совершенной мнимыми полицейскими? – произнес все более поражавшийся молодой человек. – Судите об этом по себе! – Что же касается леония, вашего металла, то я воображаю, скольких трудов и неприятностей он стоил вам… – О нет! – возразил Леон.– У меня ведь подобно всем химикам, занимающимся открытием новых элементов, был наставник. Вся моя заслуга, если только она была, состоит лишь в использовании теории знаменитого русского химика Менделеева! – Как это? – Вы хотите знать? – Чрезвычайно любопытно. – Я постараюсь, насколько возможно, объяснить вам. Как известно, Леверье, исходя из того закона, что путь светила зависит от его массы, массы окружающих тел и от расстояния их, пришел к такому заключению: «В некотором месте небесной сферысуществует планета, которую никто не видел и существования которой даже никто не подозревал. Эта планета занимает такое-то положение, весит столько-то, описывает такую орбиту… Ищите ее, направьте свои телескопы на такое-то место, и вы обязательно найдете ее». Вычисления Леверье были так точны, что вскоре, действительно, астроном Галль нашел планету Нептун. Замечания Леверье аналогичны теории знаменитого Менделеева. С давних пор в химии было замечено, что некоторые элементы по своим химическим и физическим свойствам представляют некоторое сходство между собой, вследствие чего их и подразделяли на группы, например, группа галоидов: бром, хлор и йод. Позднее было установлено периодическое отношение между атомными весами тел и другими их свойствами. Эта идея была разработана, проверена, приложена ко всем известным фактам и дала возможность установить более рациональную классификацию. Менделеев еще глубже исследовал вопрос и придал ему полноту, приложив это периодическое отношение к будущим открытиям, так что теперь можно безошибочно описать наперед свойства неизвестных еще элементов. Великий русский химик, исходя из того принципа, что «химические и физические свойства простых элементов составляют периодические функции масс атомов этих элементов», расположил элементы по группам, в порядке возрастания их атомных весов. Таким образом, получилась таблица, где были собраны все до сих пор известные элементы, но со значительными промежутками между ними. Менделеев утверждал, что эти промежутки будут заполнены впоследствии открытием новых, еще неизвестных элементов, и затем определил физические и химические свойства их, следуя периодическому закону, связывающему эти свойства с атомными весами. – О! – произнес Редон со вздохом, похожим на мычание.– Кровь прилила мне к голове, в глазах мутится, хочется рычать, стрелять из револьвера, разбить что-нибудь!.. Леон, друг мой, говори со мной по-китайски, по-ирокезски, по-патагонски, на овернском и нижнебретонском наречии, но, ради нашей дружбы, ради моего бедного мозга, ради всего, что тебя трогает, не говори более химическим языком!.. Умоляю тебя об этом!.. – Но все это очень ясно, не правда ли, Жан? – сказал Леон.– Вы хорошо поняли? – Гм!.. немного… мне кажется, я могу так сформулировать вопрос, по моему слабому разумению: «Так же, как Леверье мог сказать астрономам после своих вычислений: „Там существует планета“, Менделеев может сказать химикам: „Там существует простое тело, ищите его“. – И он оказался прав. Упорные, настойчивые умы долго бились и, наконец; заполнили некоторые пробелы в «Таблице элементов» Менделеева. Для примера назову вам: галлий, открытый нашим соотечественником Лекоком де Буабодраном; скандий, открытый шведом Нильсоном, и германий, открытый немцем Винклером. Все свойства этих элементов в точности соответствуют тому, что предвидел Менделеев… Со своей стороны, и я пожелал добавить свое звено в эту цепь. После долгих трудов мне удалось открыть леоний, как его называет Поль. В этот момент послышался громкий храп: то Редон, тщетно боровшийся с одолевавшим его сном, поддался ему наконец; тоже сделал и Жан, а Леон, посмотрев на них, решил, что и ему не мешает последовать их примеру.
ГЛАВА IX
Печальный случай.– Спасение.– Серьезные раны.– Неожиданность.-Тоби No 2-й.-Выводы полицейского агента.– Удивление пострадавших.– Приходится покинуть участок.– Возвращение.– Тоби не терял времени.Печальный случай увенчал открытие «золотого гнезда», найденного Леоном Фортеном с помощью таинственной буссоли. Не подлежит сомнению, что лето действительно неподходящее в этих странах время для раскопок и земляных работ: несмотря на все предосторожности, всегда следует опасаться обвалов, которые могут заживо похоронить под собой неосторожных рудокопов. Другой, не менее страшной опасностью для золотоискателя является выделение газов, которое может быть вызвано каждым неосторожным движением. Лестанг и Дюшато усердно работали на участке. Усомнившись сначала в таинственных свойствах буссоли Леона, они теперь горячо уверовали в ее сверхъестественную, как им казалось, способность и, подстрекаемые жаждой наживы, трудились, не жалея ни сил, ни пота, раскапывая землю, кое-как подпирая стены ямы и углубляясь все дальше и дальше. На третьи сутки случилась та катастрофа, какую и следовало ожидать: произошел обвал и при этом сильнейшее выделение газов. Жан, Марта и Жанна возвращались из леса с вязанками дров, а Леон и Поль вертели ворот над ямой, доставая с помощью большого ведра золотоносные комья земли со дна ямы, где работали канадцы. Вдруг послышался какой-то глухой шум и страшные крики: «Помогите! Помогите!» Одновременно с этим из ямы распространился удушливый, отвратительный запах сероводорода. Не теряя времени, Леон спустился на дно ямы, имевшей всего полторы сажени глубины, и, убедившись, что рабочих засыпало чуть не до половины, крикнул: «Скорей давай лопаты, заступы! Спеши на помощь!» Подоспевшие в это время Жан и обе девушки спустили Поля Редона в яму. К счастью, выделение газов прекратилось, и на дне можно было дышать, хотя и с трудом. Подгоняемые тревогой за своих друзей, молодые люди работали с удвоенной энергией и после двух часов усилий им удалось, наконец, высвободить двух несчастных, без признаков жизни, с запекшейся кровью на губах. Со всевозможной осторожностью, совершенно изнемогая и задыхаясь, молодые люди извлекли своих пострадавших товарищей со дна ямы и при содействии остальных оказали первую помощь. Удрученная горем, испуская раздирающие душу крики, Жанна бросилась к отцу, которого уже считала мертвым. К счастью, Леон обладал очень серьезными медицинскими познаниями и скоро отходил пострадавших. После двухчасовых усилий Дюшато и Лестанг были возвращены к жизни. Правда, первый получил в некоторых местах раны, а второй сломал ногу. Леон с помощью Жана и Поля очень умело занялся пострадавшими. Раненые испытывали большое облегчение, но – увы! – на долгие недели оказались неспособны ни к какой работе. Следовало во что бы то ни стало возвратиться в Доусон-Сити, чтобы посоветоваться с врачом и доставить беднягам необходимый им уход. Но это значило, что вся летняя кампания потеряна, то есть новые раскопки участков откладывались до конца зимы! Однако, ко всеобщему изумлению, оба канадца встретили это известие скорее с радостью, чем с огорчением. – Наконец-то мы освободились от дела! – говорил старик, с благодарностью пожимая руки Леона.– Теперь обстоятельства не будут более противодействовать вам! – Да,– прибавил Дюшато с покорностью,– слишком большое счастье искуплено теперь нашими страданиями. Требовалась жертва – и ею явились мы! – И добряк продолжал с улыбкой, перешедшей в гримасу.– Все шло слишком хорошо; нужны были жертвы, чтобы удовлетворить судьбу. А вы, господин волшебник, будете желанным человеком… человеком легендарным… Вы откроете в долине Юкона громадную сокровищницу золота… гору или пещеру… неизвестно… но «Мать золота»… Вы найдете ее! Да, вы! В этот момент бедно одетый человек, с утомленным видом, робко подошел к нашей компании. Он был один и, должно быть, пришел со стороны долины, т. е. следуя по речке. Оба раненых находились уже в палатке вместе с молодыми девушками. Молодые люди вышли, чтобы подумать, как поскорее доставить Лестанга и Дюшато в Доусон. Увидев незнакомца, они ответили на его поклон с заметной холодностью: печальное приключение с мнимыми полицейскими сделало их подозрительными. Однако тот, не обращая внимания на такой прием, любезно улыбнувшись, проговорил: – А! Мосье Редон… Как я счастлив видеть вас! Удивленный журналист внимательно посмотрел на незнакомца и вдруг воскликнул: – Тоби!.. Вы здесь, мой бравый Тоби! – протянул ему обе руки, обменялся коротким и дружеским рукопожатием и прибавил: – Дорогой Леон, позволь представить тебе мистера Тоби No 2, правую руку знаменитого Мельвиля. Мой добрый Тоби, друг мой Леон Фортен, первая жертва «Красной звезды»! Оба энергично пожали друг другу руки, и Редон, который еще не пришел в себя от этой встречи, прибавил: – Каким добрым ветром занесло вас сюда, дорогой товарищ? – Усердным преследованием бандитов, которым я объявил беспощадную войну. – Ах, сколько произошло необыкновенных событий, Тоби, со времени получения вашей депеши из Бремена! Но скажите, пожалуйста, вы знали, что найдете нас здесь или только случайность привела вас сюда? – Вы забываете о Доусонских журналах, где помещены и биографии, и портреты, и автографы, и сообщение о ваших чудесных открытиях. Сообщение очень опасное, поверьте мне, так как лучше скрывать свое богатство, чем кричать о нем на всех перекрестках!.. – Кому говорите вы это?! – Разве произошло уже несчастье? – Нас обокрали, украли все наше золото около трехсот тысяч франков. И это было проделано с неслыханной ловкостью и смелостью! – Так значит, я снова прибыл слишком поздно. О, почему вы не написали мне, как я просил, в Ванкувер или в Доусон-Сити!.. – Глупость с моей стороны… Непростительная забывчивость! – Несчастье!.. Большое несчастье!.. Худшее, может быть, чем вы думаете, если мои подозрения оправдаются. – Но извините, дорогой Тоби, я заставил вас стоять и даже не предложил выпить и закусить. Извините меня и не думайте худо О нашем гостеприимстве! Моя растерянность и неожиданность вашего визита – единственная причина этого! Все, что здесь находится, принадлежит вам. Распоряжайтесь им по-своему! – прибавил Леон. – Благодарю, господа, от всего сердца, но не сейчас! Поговорим прежде всего, так как время не ждет! – Но что произошло? – Меня привело сюда нетолько желание увидеть вас: я веду слежку. – И местная полиция не хочет помочь вам? – Она пускает в ход все средства, чтобы затормозить мои усилия, и даже не хочет признавать меня! – Почему же? – Потому что стремится во что бы то ни стало скрыть все преступления, даже мелкие, совершающиеся здесь ежедневно. И все это делается для того, чтобы не помешать притоку рудокопов, главному населению Клондайка. Да, надо во что бы то ни стало, чтобы люди и капиталы были в полной безопасности… нужно, чтобы царило доверие, хотя воображаемое… Таким образом двое конных полисменов превратились в дезертиров… – Черт возьми! Наши воры! – вскричал Леон.– Они отправились в путь сейчас же и, если все еще едут, то должны быть далеко! – Я имею основание думать, что их исчезновение не будет оглашено. Его скроют с большим старанием, и, может быть, если заявят семейства, их объявят умершими случайно во время исполнения своих обязанностей. – Но это преступление! – Но, господа, не думаете же вы, что начальник полиции будет раскрывать каждому встречному истину, которую я подозреваю и которую скоро подтвердят новые доказательства: оба полисмена, завлеченные в западню, в Фурше, были убиты в харчевне и трупы их сожжены. – Черт возьми! Что это вы говорите, Тоби?! – Убийцы же, взяв их форму, вооружение и лошадей, отправились на северо-западный участок и украли у его обладателей сто килограммов золота… – Тоби! – После этого они проехали Клондайк, убили лошадей, сожгли форму, уничтожили оружие и вернулись пешком в Доусон-Сити; краденое же золото превратили в слитки и обменяли на банковские билеты… Войдя во вкус, бандиты остались в Доусоне, часто посещают увеселительные заведения, готовятся к новому подвигу и ждут благоприятного момента действовать, не подвергаясь излишнему риску. – Но, Тоби, вы рассказываете ужасные вещи! – Ужасные или не ужасные, но суть в том, что я вам сообщаю голые факты! Уж не думаете ли вы, господа, что подобное сообщение способно увеличить царящее здесь доверие, которое побуждает к работе, облегчает мировые сделки, содействует путешествиям и охраняет собственность? Понятно, что ни слова не будет сказано, все скроют, как при появлении эпидемии в гавани! Только я один буду знать, что убийцы несчастных полисменов и ваши воры – Френсис Бернетт и Боб Вильсон, вожди «Красной звезды». – Тысяча молний! – вскричал Леон Фортен вне себя.– Мои палачи! – Мошенники, продырявившие меня и собиравшиеся благополучно отправить меня на тот свет! – прибавил журналист. – Гениальные бандиты,– продолжал важно Тоби,– с которыми я один веду войну! – Но мы поможем вам! – О, господа! Я не сомневаюсь ни в вашем желании, ни в вашем мужестве, но… – В нашей ловкости, не так ли? – спросил Редон. – Или скорее в ваших полицейских способностях! – Не бойтесь, дорогой Тоби! Я сделал донесение, которое, скажу не хвастаясь, вызвало удивление самых толковых полицейских. Вы увидите, Тоби, увидите! – Если так, господа, то я думаю, лучше мне остановиться здесь. Оба бандита не оставили никакого следа в этой пустыне, но предчувствие говорит мне, что они вернулись в Доусон. Сделаем, как они, и нагрянем в столицу! – Ну, хорошо! Время, однако, и поесть! Полицейский агент, приглашенный в палатку, был представлен в качестве преданного друга из Европы, случайно встретившегося на золотых приисках; впрочем, это была совершенная правда. За столом ему рассказали о краже, о сопровождавших ее обстоятельствах, о бегстве двух мнимых полисменов. И Тоби, слушавший внимательно, произнес между глотками: «Кража при помощи хлороформа – одно из их любимых средств. Сомневаться дальше невозможно, я понял все еще раньше вашего рассказа!» По старой привычке, которую никогда не забывает настоящий полицейский, он бегло взглянул на канадцев и решил, что никогда еще не встречал их, поэтому держался настороже с ними и советовал это делать и остальным. Взволнованный Редон, выйдя из-за стола и оставив палатку, пылко запротестовал: – Дюшато – отец Жанны, этой удивительной девушки, которая безотлучно находилась около мадемуазель Грандье! Я люблю ее от всего сердца и полностью доверяю! – Кому?.. Отцу или дочери? – с улыбкой спросил Тоби. Редон не отвечал, засмеялся и вернулся в палатку, где Жан и Леон начали уже приготовления к отъезду. Они присоединились к друзьям и помогали так деятельно, что через шесть часов все было закончено, оставалось только условиться с перевозчиком, что было улажено за минуту. Затем положили в повозку обоих раненых, и она медленно двинулась. Это путешествие, совершаемое так неторопливо, заставляло Тоби топтаться на месте. Наконец, он потерял терпение, опередил других и сказал: – Я подожду вас близ вашей гостиницы. У меня будут уже, наверное, новости! –и он не ошибся. Когда, тридцать часов спустя, караван остановился перед скромным приютом, Тоби, загримированный, неузнаваемый, мог сказать Редону: – Я не терял даром времени! Как только вы устроитесь, я покажу ва.м лицом к лицу ваших воров!
Глава X
Увеселительные места в Доусон-Сити. – Тоби сдержал свое слово.– Лицом к лицу.– Воры и убийцы.– Скандал и арест.– Перед судом.– Обвинение – Свидетели.– Поражение.– Приговор.– В тюрьме – Торжество бандитов. Тоби No 2 сдержал свое слово. Наши друзья провели в Доусон-Сити уже двадцать четыре часа. Удобно устроив раненых во второй хижине, соседней, они пригласили американского врача – теперь оставалось терпеливо ожидать выздоровления. Никаких осложнений не предвиделось. Тоби No 2 прибыл, живописно одетый в широкополую шляпу, в голубую куртку с золочеными пуговицами. На нем была огромная круглая пелерина с галстуком цвета индиго с белыми горошинами, а на ногах – высокие сапоги. При этом у него был монокль в глазу, закрученные усы, довольный вид; словом, он выглядел настоящим франтом… из-под полярного круга! – Идите! – сказал он тихо в тот момент, когда наступила одиннадцатичасовая темнота. Равнодушные к обычаям европейской моды, заправив панталоны в сапоги, надев измятые шляпы, фланелевые рубашки и куртки сомнительной свежести, Леон и Поль последовали за полицейским. . Оборванцы, покрытые живописными лохмотьями, фланировали по улицам и медленно направлялись к увеселительным местам. Салоны, кафе, отели, освещенные a giorno, распространяли свои соблазны даже на шоссе, где важно шлепали по грязи джентльмены в ожидании удовольствий или приключений. Настраивались самые разнообразные инструменты, звучали нестройные музыкальные аккорды, прерываемые выкриками зазывал, которые за плату должны были завлекать посетителей в увеселительные места. Тоби провел своих спутников в обширное помещение, разделенное натри части, соответствующие концертному залу, бальному и салону. В первом отделении бритые мужчины и накрашенные дамы выкрикивали модные куплеты. Во втором джентльмены и леди, под руководством дирижера, усердно танцевали. В третьем – играли в рулетку, трант-карант, в покер и баккара и во всех трех не забывали пить, курить и жевать табак. Однако не замечалось ни тени веселости. Все делали вид, что веселятся по заказу, аплодируют без увлечения, танцуют, пьют, не чувствуя жажды, и играют, не умея. Преобладали американские манеры, а всем известно, что американская веселость далека от шаловливости. Но содержатели таких притонов удовольствий, распределив в таком порядке развлечения, знают, что делают. Слушатели концертного отделения мало-помалу приходят в возбужденное состояние, влекущее их к напиткам. Танцы приходятся кстати, а когда гости переходят в игорную залу, они уже оказываются почти готовыми… Леон, Поль и Тоби, остановившись на несколько минут из любопытства в бальной и концертной залах, прошли в салон. – Вы играете? – спросил Тоби. – Нет! – ответил Леон, – А я слегка! – сказал в свою очередь журналист. – Тем лучше! Здесь проигрываются огромные суммы, и я подозреваю, что банкометы ловко передергивают! Здесь рассчитывались не деньгами, а жетонами, обмененными на золото в слитках или в виде песка, которое тут же взвешивалось на весах. Сведенная к обмену фиктивных ценностей, игра, несмотря на азарт, теряла драматическую окраску, сделавшую ее такой убийственной в игорных домах Калифорнии, Австралии и Южной Африки со времени открытия копей. Настоящая трагедия происходила разве что в вертепе казначея, куда стекались действительно в неисчислимом количестве всевозможные ценности. Войдя в залу, трое друзей были просто ошеломлены дымом папирос и сигар, спиртным запахом и прочими подобными ароматами. Относительная тишина царила только в обширной зале, среди игроков, теснившихся у столов при свете керосиновых ламп. Здесь слышался только шепот, и то скоро смолкший, звяканье стаканов, глухой шум постоянной ходьбы, прерываемый яростными всплесками крепкой брани,– и над всем этим царил сухой, отрывистый голос банкометов, произносивших таинственные слова: – Господа, ставки!.. Больше нельзя!.. Нечет, чет, красное!.. Пробыв несколько минут в зале и привыкнув к ее атмосфере, Поль и его друг остановились близ стола, перед которым восседали двое мужчин. Они были видны только на три четверти, но голоса их заставили вздрогнуть наших друзей. Тоби бросил на них быстрый взгляд и прошептал одно слово: – Подойдем! Они, ловко маневрируя среди понтеров, скоро пробрались в первый ряд, и здесь до них совершенно отчетливо долетели два голоса. Пришедшие посмотрели на лица и взгляды их скрестились с взглядами совершенно невозмутимых банкометов. Молодые люди едва могли подавить крик удивления и гнева. Это они!.. Мнимые полисмены!.. Воры!.. Двое негодяев, злоупотребивших их гостеприимством и похитивших их самородки! Больше сомневаться было невозможно. Дрожь пробежала по телу, они побледнели и не слышали даже Тоби, напоминавшего о спокойствии. Наконец, будучи не в силах сдержаться, они раздвинули игроков, подошли к банкометам и, ни слова не говоря, схватили их за шиворот. Минутное оцепенение приковало к месту присутствующих. Застигнутые врасплох, банкометы стали сопротивляться и призывать на помощь, но руки Поля Редона и Леона Фортена держали их, как в тисках. – Что это значит? Что за насилие? – вмешались недоумевавшие понтеры, готовые принять сторону банкометов. – Это значит,– вскричал звонким голосом журналист,– что эти люди – бандиты! Переодевшись в форму полисменов, которых они убили, они украли у нас двести фунтов золота! А Леон добавил с еще большей горячностью: – Да, бандиты, совершившие в Англии и Франции самые ужасные преступления! Два вождя «Красной звезды»! При подобном обвинении симпатии общества уступили место весьма понятному негодованию. Некоторые игроки стали даже награждать тычками банкометов, лишенных возможности бежать. В интересах правосудия и справедливости Тоби в свою очередь выступил обвинителем. – Джентльмены! – громко произнес он.– Прошу выслушать! Вот указ об аресте, подписанный лорд-шефом лондонского суда, с приказанием задержать этих людей в любом месте британской территории… – Хорошо! Арестуем их! – прервал один игрок. – Отведем их к начальнику полиции! – прибавил другой. – На суд! – сказал третий. Негодяи, лишенные возможности убежать и даже сопротивляться, обрадовались. – Мы лучшего и не желаем! Ведите нас к судье! Он оправдает нас! Двое добровольных полисменов, какие всегда находятся в подобных случаях, взяли по веревке и крепко связали руки банкометов. Последние, боявшиеся сначала подвергнуться суду Линча, ободрились, подняли головы, вздернули плечи и, посматривая иронически на окружающих, изрекли: «Смеется тот, кто смеется последним!» Это была невиданная дерзость, и французы едва сдержались. Судьи не оказалось дома, как и начальника полиции. Тогда, вследствие обвинения Леона и Редона и под их ответственность, арест, впрочем, узаконенный указом Тоби, был предпринят. Банкометы были посажены в тюрьму. Через сутки, как предписывает английский закон, состоялся первоначальный допрос в присутствии двух адвокатов со стороны подсудимых: как и везде, в Доусон-Сити появились адвокаты, ищущие золота и кляузных дел. Тоби No 2 и оба француза присутствовали в качестве обвинителей. Пленники назвали себя: один – Ребеном Смитом, другой – Жое Нортоном. – Это ложь! – вскричал Тоби.– Высокого зовут Боб Вильсон, а низенького – Френсис Бернетт! Они хорошо известны лондонской полиции, как доказывают приметы, имеющиеся в Скотланд-Ярде, и следующие листки, добытые инспектором Мельвилем. Вот, впрочем, господин судья, дело, снабженное печатями и подписями. Судья взял бумаги, быстро пробежал их, обратив внимание особенно на приметы, и велел обвиняемый приблизиться; затем, сравнив приметы с подлинником, сказал: – Невозможно сомневаться… Впрочем, я громко прочту вам эти документы, чтобы все: адвокаты, свидетели и обвиняемые – могли удостовериться в тождестве! Когда он кончил, сами адвокаты не могли удержаться от выразительного взгляда: невозможно было отрицать тождество двух банкометов с убийцами. – Что вы имеете сказать? – спросил судья обвиняемых. – Прежде всего, в чем нас обвиняют? – нахально спросил Ребен Смит, или Боб Вильсон, до сих пор молчавший. – Потрудитесь сформулировать свои обвинения! – обратился судья к трем друзьям. – Я обвиняю этих людей в том, что они украли у нас из палатки около двухсот фунтов золота, усыпив нас при помощи хлороформа! – сказал Леон Фортен. – А я,– подхватил Тоби,– обвиняю их в том, что в деревне Фурш они завлекли в ловушку двух конных полисменов, убили их и сожгли вместе с домом, где совершили преступление, трупы своих жертв. – Есть у вас доказательства? – спросил судья. – В свое время я представлю их! – Хорошо! Это все? Между тем обвиняемые только улыбались, тихо переговариваясь с адвокатами, глядевшими на них с изумлением. Наконец Редон заговорил: – Я в свою очередь обвиняю их в попытке умертвить меня около шести месяцев тому назад в Париже… в подлом убийстве ночью старика в Мезон-Лафите, в преступлениях, при разборе которых предписано было британскими властями выдать преступников французскому суду… – А я,– опять возвысил голос Леон Фортен,– обвиняю их в дьявольских махинациях, доведших до самоубийства француза Грандье… обвиняю в том, что они выдали меня за виновника их преступлений и засадили в тюрьму!.. – Подтверждаю, что это истина! – прервал Тоби.– Я был тогда во Франции по приказанию своего начальника, инспектора Мельвиля, давшего мне поручение. Потеряв и вновь найдя след этих людей, слишком поздно к несчастью, я отплыл вместе с ними пятого мая из Бремена в Нью-Йорк на «Императоре Вильгельме». До сих пор я выслеживал их шаг за шагом… – Но,– спросил судья,– почему же вы не арестовали их раньше? – Потому, что английские власти не позволяют этого в случае, если преступления совершены во Франции. Кроме того, я не получал еще приказа об аресте, затребованного по телеграфу. Наконец, я не мог вмешаться, так как они еще не совершили преступления на канадской территории. Все эти условия, делая арест законным, существуют только несколько дней. – Это верно! – отвечал судья и прибавил, обращаясь к подсудимым: – Что вы имеете сказать? – Многое, господин судья! – отвечал Жое Нортон, или Френсис Бернетт.– Прежде всего, несмотря на сходство примет, вы в заблуждении; я это сейчас докажу. Полицейский агент, обвиняющий нас, утверждает, что мы пятого мая сели в Бремене на немецкий корабль. Вот паспорт и расписание, доказывающие, что мы сели седьмого мая в Ливерпуле, на «Луканию», судно общества Кунарда. Агент был, вероятно, жертвою сходства или мистификации, так как, с другой стороны, легко доказать, что мы были в Ливерпуле между пятым и седьмым мая. Это могут под присягою подтвердить капитан, счетный агент и пассажиры «Лукании». Далее, наши обвинители утверждают, что мы убили в Фурше двух полицейских и украли на участке двести фунтов золота. Я прошу их сказать, в какой день и час совершены были оба преступления. Это можно? – Конечно! – сказал судья,– Господа, вы слышали вопрос обвиняемого, потрудитесь отвечать! – Убийство полисменов было совершено второго июля между четырьмя и шестью часами вечера! – сказал твердым голосом Тоби. – Вы хорошо знаете день и час? – Наверное! – Что касается кражи,– сказал в свою очередь журналист, – то она была совершена четвертого июля, между одиннадцатью часами и полночью. – Хорошо! – проговорил Жое Нортон.– Теперь мы уличим вас в клевете, злоупотреблении силою и ложном свидетельстве. – Посмотрим! – Господин судья, прикажите, пожалуйста, привести всех свидетелей, обыкновенно посещающих наш дом. Мы, мой товарищ и я, представим вам лист с тридцатью подписями… можете получить и еще столько же, если пожелаете! – Значит, вы не признаете себя виновными?.. – О, мы невинны, как новорожденные младенцы! Судья приказал отвести их в тюрьму, пока не будут допрошены свидетели, назначил полдень для аудиенции и прибавил, обращаясь к троим друзьям: – Что касается вас, господа истцы, то потрудитесь пожаловать в этот же час! Леон, Поль и Тоби удалились, заинтересованные и даже обеспокоенные такою уверенностью бандитов, дьявольская ловкость которых была им известна. Сыщик, наскоро оценив положение, прибавил: – Надо ожидать всего, даже невозможного, особенно – невозможного и неправдоподобного! И он не ошибся. На другой день тридцать наиболее почтенных граждан Доусон-Сити явились в суд. Эти граждане, честные заслуженно уважаемые, шумно болтали, курили, усердно жевали табак, спрашивая себя, зачем этот вызов. Здесь были представители всех стран, особенно канадцы и янки, и несколько правительственных чиновников. К ним присоединились еще другие, так что к началу заседания суда свидетелей было не меньше сорока. В то же время прибыли адвокаты и обвинители; последние все больше беспокоились. Затем ввели обвиняемых, и допрос свидетелей начался. Френсис Бернетт с ироническим спокойствием сказал судье: – Мы, мой товарищ и я, обвинены в том, что совершили убийство в деревне Фурш, 2 июля, между четырьмя и шестью часами вечера, и на другой день украли между одиннадцатью часами вечера и полночью двести фунтов золота, на участке верхнего Эльдорадо. Хорошо! Я клятвенно утверждаю, что мы не покидали своего жилища с самого приезда в Доусон, что нас никто не видел эти дни, и что, стало быть, мы не могли быть одновременно в двух местах, лежащих на расстоянии трехдневного или четырехдневного пути одно от другого. Потрудитесь допросить свидетелей! Это заявление произвело действие взрыва и сразило троих друзей. Первый свидетель назвал свое имя и прозвище, коснулся губами Библил и громко произнес: – С первого июня я посещаю каждый день заведение господ Ребена Смита и Жое Нортона. Я утверждаю, что с первого июня я видел того и другого по крайней мере два раза в течение суток. – Не помните, видели вы их второго и четвертого июля? – спросил судья. – Я только что сказал и повторяю – все дни без исключения! – Хорошо! Другой свидетель! Второй свидетель дал аналогичное показание. Он также часто бывал в заведении, в 6 часов и в полночь. Никогда Смит и Нортон не отсутствовали. Третий, четвертый видели их каждый день, говорили с ними, пили в их компании, проигрывали деньги. Остальные, вплоть до двадцатого, тридцатого и далее, подтвердили то же. Ни Ребен Смит, ни Жое Нортон, обвиняемые в преступлениях, для совершения которых необходимо было несколько дней, не покидали даже на шесть часов Доусон-Сити. Сраженные, Леон, Поль и Тоби не верили своим глазам. Конечно, свидетели говорили правду. Но трое друзей сохраняли, несмотря на это, уверенность, которой ничто не могло поколебать. К несчастью, это загадочное явление было необъяснимо, а уверенности их было недостаточно; требовались доказательства. Между тем, бандиты, спасенные, благодаря алиби, считали себя оскорбленными. Устами своих адвокатов они выдвинули на обвинителей жалобу в преступном доносе, ложной клятве, незаконном аресте, оскорблении чести и т.д., и т.п. Обвинители стали обвиняемыми! Толпа свидетелей осыпала их руганью, а судья приказал взять под арест. Таким образом, в тот момент, когда убийцы получили свободу, жертвы были заключены в тюрьму. Но и это было еще не все. Смит и Нортон, в которых наши друзья более чем когда-либо видели Бернетта и Вильсона, потребовали вознаграждения, круглую сумму в двадцать тысяч долларов (100 000 франков), кроме заключения в тюрьму! Тоби, Поль и Леон, бывшие только что героями дня, восстановили против себя общественное мнение. Глас народа, редко бывающий гласом Бога, осудил их единодушно. Судья также осудил их, и даже жестоко, назначив каждому трехмесячное заключение в тюрьме и десять тысяч долларов (50000 франков) судебных издержек в пользу Ребена Смита и Жое Нортона. Затем судья приказал немедленно отвести виновных в тюрьму и дал только три дня на уплату денег. Леон и Поль с твердостью приняли этот страшный удар и не произнесли ни слова, когда судейские служители пришли, чтобы отвести их в тюрьму. Тоби же повернулся к негодяям и, взглянув им прямо в лицо, сказал на прощанье: – Не радуйтесь слишком рано и слишком сильно! Мы еще встретимся!* ЧАСТЬ 3. «МАТЬ ЗОЛОТА» *
ГЛАВА I
Восход и заход солнца.– Пятиминутный день.– При 45° ниже нуля.– Ружейный выстрел.– Возвращение Жана.– Караван.– В пути.– В стране холода.– Жестокое разочарование.– Ну, что? Сколько градусов? – Всего только 45 ниже нуля! – Только!? Вот это мило! – Но что ни говори, а ты, мой милый Поль, как я вижу, не так уж болен и не такой мерзляк, как ты сам старался себя уверить. Скажи на милость, для чего ты вылез из своего мехового мешка, служащего тебе постелью? – Все приедается, мой милый, даже сон, а я ведь проспал почти целые сутки и теперь захотел взглянуть на восход солнца. Только и лениво же оно здесь! Ну, поторопись, сонное светило, мы ждем тебя! В ответ на это раздался звонкий, молодой смех. Стоявшие посреди круга, образованного рядом нагруженных саней, на гладкой снежной полянке, Поль Редон и Леон Фортен оглянулись. В десяти шагах от них стояла заиндевевшая юрта, откуда вышли два человека, пол и возраст которых трудно было определить. Очерченные красноватым светом багрового сияния, эти две фигуры приближались к молодым людям. – Здравствуйте, мадемуазель Марта, не правда ли, я угадал, что это вы? – Ну да, на этот раз угадали! – отвечала Марта Грандье. Поль Редон и Жанна Дюшато также обменялись рукопожатиями. – Не правда ли, мы сейчас похожи на медведей, поднявшихся на задние лапы? – засмеялась Марта. – Редон и я, пожалуй… но вы… – Да мы до смешного похожи на вас в этом полярном наряде, с поднятыми меховыми воротниками, доходящими до глаз, в этих шапках, надвинутых по самые брови, и в этих меховых шароварах, заменяющих юбку, – обличительный признак вашего женского достоинства; в этих синих очках, скрывающих глаза, нас, право, трудно отличить друг от друга! – Не желаете ли вы прогуляться немного? – предложил журналист. – Охотно! – согласилась уроженка Канады.– Но надо надеть наши лыжи. Не бойтесь, я не буду смеяться, если вам случится разок-другой растянуться на снегу с непривычки. Уменье пользоваться лыжами здесь необходимо, и я. уверена, что с моей помощью вы научитесь этому очень скоро! И обе молодые пары, надев лыжи, обошли круг, огражденный санями и охраняемый надежною стражей из упряжных собак, тоже проснувшихся и лениво потягивавшихся на снегу, зарывшись в который они провели всю ночь на дворе. Такие встречи и прогулки происходят ежедневно во время восхода солнца, когда звезды постепенно бледнеют и затем исчезают, а утренние сумерки становятся все лучезарнее, и вдали выплывает из тумана безбрежная снежная равнина, окутанная идеально чистой и прозрачной атмосферой. В воздухе так тихо, что не ощущается ни малейшего дуновения ветерка. Только благодаря этому обстоятельству и можно выносить такие страшные морозы, какие бывают здесь. Но вот на краю бесконечного горизонта появляется, наконец, краешек багрово-красного круга, который затем медленно выплывает из-за снеговой линии горизонта, превращаясь в громадный малиновый диск, окрашивающий своими лучами девственно белый снег в нежно-розовый тон. Соприкасаясь нижним своим краем с линией горизонта, этот диск минуты две-три остается неподвижным, а затем постепенно начинает убывать, уходить за горизонт и наконец совершенно исчезает. Это внезапное исчезновение дневного светила невольно производит удручающее впечатление как на людей, так и на животных, и хотя после того несколько часов длятся сумерки, но все-таки день, в астрономическом смысле этого слова, уже прошел, и до следующего восхода остается ждать ни больше ни меньше как 24 часа и пятьдесят минут. За это время наши друзья готовили обед; сняв кое-что из верхней одежды, грелись у печки, затем опять выходили на двор кормить собак, а в промежутках между делом ежились от холода в юрте и на дворе, у печки и в постели, словом, повсюду и везде. – Бррр! Однако не сладко зарабатывать свой насущный хлеб в этом Ледяном аду! – Не греши, мы получили 120 тысяч долларов за наш участок. Разве это худо? Право, нам не так уж плохо живется здесь! – О, ты неисправимый оптимист! По-твоему, все прекрасно! – Да, это потому, что я счастлив! – сказал Леон Фортен, кинув многозначительный взгляд на Марту, опиравшуюся на его руку. – Да, конечно! Ты счастлив… но при всем том, страшный холод, и наше счастье – дамка за нулевой отметкой. Вперед, мадемуазель Жанна, не то я чувствую, что сейчас превращусь в ледяной столб. – Во всяком случае ваш язык еще не замерз, мосье Поль, это не подлежит сомнению! – отвечала девушка, и все трое весело рассмеялись. – Вы называете эту страну льдов и морозов Ледяным адом, господа? Но, право, грешники в этом аду – люди веселые, хотя иные и ропщут на свою судьбу! – Как долго нет Жана! – проговорила вдруг Марта, слегка озабоченная его продолжительным отсутствием. – Не беспокойся о нем,– сказала Жанна,– ведь он уже не ребенок: ему шестнадцать лет, а в этом возрасте наши молодые канадцы предпринимают в одиночку такие переходы, которые продолжаются иногда целые недели. Он, вероятно, скоро вернется! В этот момент, как бы в подтверждение ее слов, в тощих кустарниках, росших на гряде небольших холмов, тянувшихся к западу, раздался выстрел. – Вот видите! – воскликнула Жанна.– Это его винчестер… а вон и дымок от его выстрела! – Я решительно ничего не вижу! – произнес журналист.– И абсолютно не понимаю, как вы можете отличить выстрел из его ружья от выстрела такого же винчестера вашего батюшки или Лестанга! – Выстрел – это голос ружья, и каждое ружье имеет свой характерный, особый звук, который для нас, истинных охотников, различим так же, как и голоса людей! – наставительно проговорила канадка.– Что же касается отца или Лестанга, то они не могут вернуться раньше, чем через два дня, с тем индейцем, который покажет нам дорогу к Золотой горе. – У вас решительно на все имеются ответы, и мне волей-неволей приходится замолчать! – отвечал молодой человек. Между тем Жан на своих легких лыжах с удивительною быстротой приближался к ним. Чувствуя себя превосходно в своем эскимосском наряде, бодрый и румяный, юный лицеист казался сильным, здоровым мужчиной в полном смысле этого слова. – Ну, что? Как нынче охота? – спросил Леон. – Очень удачна,– весело отозвался юноша,– я уложил двух зайцев, белых, как горностаи, и, кроме того, прелестное животное, которое по некоторым соображениям принял за вапити (канадский олень – прим. авт.) , ростом с жеребенка, с роскошными рогами. Я захватил с собой всего один окорочек, но и тот весит не менее 20 фунтов! – Ну да, конечно, это вапити,– подтвердила молодая канадка,– с таким трофеем можно вас поздравить: им гордятся даже самые ловкие и смелые охотники моей страны. – Нет, право, удивительный молодчина наш юный Немврод note 7 : по двадцати часов кряду проводит в снегах, без всяких проводников, кроме небесных звезд да своего компаса, спит под открытым небом на морозе, когда и белые медведи замерзают,– и все это ему нипочем! – Нет, мосье Поль, прошу извинить – на этот раз, я спал не под открытым небом, а в чудном гроте или, вернее, пещере с песчаной почвой, где температура даже без костра и печей весьма сносная, чтобы не сказать более. Туда я стащил, как мог, разрубленного на части топором вапити и, завалив вход в пещеру снегом, явился сюда, чтобы захватить салазки или санки и затем отправиться туда обратно за остальным мясом, которое, судя по всему, должно быть превосходнейшего вкуса! – О, ваше открытие, Жан, неоцененно для нас! Мы превратим вашу пещеру в склад для провианта, и если она достаточно велика, то можем даже поселиться в ней на время, пока будем разыскивать «Мать золота». – По всей вероятности, она должна быть очень велика, так как над нею возвышается целый холм! – А далеко это отсюда? – Да часов семь ходьбы для привычного человека, а для нашего каравана с собаками и санями не менее полусуток! – Ну, все равно, как только Жан обогреется и отдохнет, надо будет пуститься в путь. Если мы поселимся в этой пещере, нам будет несравненно лучше, чем под открытым небом! – Я готов хоть сейчас! – сказал Жан. – Нет, нет, – необходимо плотно поесть перед дорогой и собраться! После хорошей, основательной закуски стали снимать палатку и вырывать железные скобы, служившие для ее установки; все это сложили, а также и всю домашнюю утварь и пожитки. Затем маленький караван, состоявший из пяти саней, запряженных двадцатью эскимосскими cобaкaми, бодро тронулся в путь. Почва почти повсюду была совершенно ровная, а плотный снег был настолько тверд, что полозья саней почти вовсе не уходили в него, и сани легко скользили по поверхности, что значительно облегчало путь. Собаки, дружно налегая на хомуты, резво везли свои далеко не легкие саночки, люди же, все на лыжах, идя за санями, частично управляли, а иногда и подсобляли им, подталкивая сани сзади. Жанна направляла передние сани, и собаки, повинуясь ее голосу, весело бежали по направлению к востоку. Луна светила, что называется, во всю, и на снежной равнине было светло, как днем. Время от времени Жанна останавливала свои передовые сани, при этом мигом останавливались и остальные. Кто-нибудь из мужчин брал привязанную сверху к саням лопату, взрыхляя ею снег так, чтобы из него образовалась небольшая, но высокая кучка – и поезд трогался дальше. Эти возвышения, или кучки должны были служить путеводными знаками для отсутствующих, когда они вернутся к месту прежней стоянки. Конечно, и от саней остается след на снегу, но всегда мог выпасть новый снег и замести его. Вот почему молодая девушка подсказала своим товарищам этот столь простой и столь же верный способ помочь отсутствующим узнать направление, по которому следовал маленький караван к новой стоянке. Долгое время путь был ровный и гладкий, томительно-однообразный, но удобный; вдруг местность совершенно изменилась: со всех сторон теснились темные глыбы камней, казавшихся черными при ярком свете месяца. Руководствуясь указаниями Жана, маленький поезд спустился в небольшую ложбинку, окруженную со всех сторон беспорядочно разбросанными скалами и замыкаемую высоким холмом, почти горою, у подножья которой, точно туннель, чернел вход в пещеру. – Вот она! – воскликнул Жан. Еще минута – и все принялись дружно отрывать вход, который молодой охотник из предусмотрительности завалил снегом. Туша вапити была здесь, только успела уже совершенно окостенеть от мороза. Собак поспешно выпрягли, предоставив их самим себе, а сани выстроили полукругом перед входом; только затем наши друзья стали осматривать свое новое жилище. Все они сильно утомились, и каждый думал прежде всего о постели. Все спешили достать из саней предметы первой необходимости и устроиться на ночлег, а Жан, вооружившись маленькой лампочкой, проник в глубь пещеры. Суженная у входа до полутора аршин note 8 , и менее сажени высотой, пещера эта представляла собою вначале подобие коридора, затем вдруг расширяласьнастолько, что напоминала большую круглую залу, стен которой не было видно в первый момент. Здесь было настолько тепло, что стали не нужны меховые одежды. Все восторгались открытием Жана, сознавая, что впоследствии, когда входное отверстие будет завешено какой-нибудь шкурой, ничего лучшего и желать не надо. Поставили печку, зажгли лампу и стали готовить чай. А в это время Леон стал сверяться со своей «буссолью для золота». Чувствительность леония к золоту и удивительная точность прибора, изобретенного молодым ученым, была такова, что ни разу с того момента, как наши путешественники вступили на золотоносную почву, игла этой буссоли ни минуты не оставалась абсолютно неподвижной. Так как золото здесь встречается почти повсюду, то игла эта постоянно отклонялась то в ту, то в другую сторону, то вниз, то вверх, указывая на присутствие драгоценного металла. Но на этот раз Леон впервые заметил, что стрелка стала совершенно неподвижно. Напрасно он наклонял и встряхивал свою буссоль, напрасно постукивал по ней ногтем – ничто не помогало. Он встревожился, уж не испортился ли этот удивительный инструмент, и, достав из маленького кожаного мешочка самородок золота величиной с орех, поднес его к своей буссоли. В таких случаях игла обычно делала быстрый поворот и следовала по направлению к самородку, но теперь она осталась неподвижна. Холодный пот выступил на лбу у молодого человека: очевидно, его леоний утратил свою удивительную способность, так как золото уже не действовало на него… Что же теперь делать?
ГЛАВА II
Фанатики золота.– Тайна индейца атна.– Отправление.– В пути.– Ожидание.– Надо воздействовать.– Первая победа.– Подвиги школьника.– Пир.– Кошмар.– Смертельная опасность.Все золотоискатели Клондайка одержимы мечтою найти «Мать золота», ту сказочную залежь драгоценного металла, которая, по рассказам, должна содержать золота больше, чем на целый миллиард. На эту тему существует древняя легенда, известная индейцам с незапамятных времен и распространяемая теперь с особым усердием золотоискателями. Многие уже стали жертвой своего легковерия, но легенда эта по-прежнему находит все новых приверженцев и фанатиков, которые добровольно переносили самые страшные мучения и погибали, не отказавшись от своей золотой мечты. Это – те же алхимики средних веков, ищущие философский камень: им мало богатейших россыпей золотоносного песка, мало даже и самых крупных самородков; подавай те сказочные залежи, те сплошные пласты драгоценного металла, что прозваны здесь «Матерью золота». Другое почти не трогает их и не представляет в их глазах почти никакой ценности. Это какие-то маньяки, одержимые жаждою несметных богатств. Одним из таких фанатиков был и старый Пьер Лестанг, канадский рудокоп и страстный золотоискатель, которого всю жизнь преследовала химера «Матери золота». Между тем он был, пожалуй, единственным человеком, невероятные, упорные усилия которого могли в конце концов увенчаться успехом, так как долгие годы жил среди индейцев, самых скрытных и недоверчивых по отношению к белолицым. В конце концов ему удалось войти с ними в дружбу, но и этого еще было мало, и только в прошлом году, когда ему посчастливилось спасти жизнь одного из вождей с риском для собственной жизни, индейский вождь еще раз доказал миру, что благодарность и признательность – добродетели, присущие и краснокожим. – Я знаю, что ты хотел бы найти «желтое железо», до которого так жадны все бледнолицые,– сказал ему однажды индеец,– и укажу тебе место, где его так же много, как простых камней, и где глыбы его так велики, как вот эти обломки скал! Лестанг слушал его с замиранием сердца. Затем индеец дал ему понять, что эти залежи «желтого железа» note 9 находятся очень далеко, что доступ в те места трудный и опасный, но что человек, упорный и настойчивый в труде, смелый и отважный, в конце концов может достигнуть желаемого. – О, это, наверное, «Мать золота»! Да! Да! Это не подлежит сомнению! – повторял Лестанг, обезумев от этой мысли. – Знаешь, брат мой, надо идти отыскать это желтое железо! – обратился он к краснокожему. – Если мой брат хочет, пойдем! – просто отвечал тот. Дело было зимою, а в том году холода доходили до 52° ниже нуля. Но это не помешало им пуститься в дальний и трудный путь. Претерпевая страшные мучения и лишения, эти отважные люди упорно шли к своей цели; однако, несмотря на все усилия, им не удалось достигнуть земли обетованной. Лишившись всего необходимого, полуживые от холода и голода, съев по дороге своих собак, даже ременную кожаную упряжку и сами шкуры собак, они вернулись к индейцам, больше похожие на живые скелеты, чем на людей, состоящих из мяса и костей. Тогда Лестанг понял, что для достижения его цели необходимы другие средства и условия, и, расставшись со своими друзьями атнасами (индейцами), отправился на Юкон, где нанялся в землекопы и стал копить деньги в надежде собрать необходимую сумму для снаряжения новой экспедиции, задуманной им и его другом – индейцем. Случай столкнул его с нашей маленькой дружественной компанией франко-канадцев. Вскоре он сделался одним из членов этой тесной семьи, окружившей его вниманием, ласками и заботами, как родного, и вызвавшей в нем чувство глубочайшей признательности и безграничной преданности, которое побудило его, подобно его другу индейцу, открыть друзьям все, что он знал о «Матери золота». И все в один голос воскликнули то же, что воскликнул и он в ответ на сообщение индейца: – Надо идти туда, надо отыскать эти невероятные залежи золота! Теперь, именно теперь такого рода экспедиция была своевременной. После первого блистательного успеха в стране золота и льдов наше маленькое общество испытало немало тяжелых неудач: во-первых, кража «гнезда самородков», затем ужасный случай с двумя канадцами, чуть было не стоивший им жизни, потом несправедливое и возмутительное обвинение, арест, трехмесячное тюремное заключение и штраф в 50 тысяч франков, которому подверглись Леон Фортен, Поль Редон и Тоби. Когда же им вернули свободу, и пострадавшие во время катастрофы совершенно оправились, уже пришла зима, холодная, упорная, суровая. Правда, это самая благоприятная пора для разведки, но, не говоря уже о том, что наше маленькое франко-канадское общество было не особенно склонно к этого рода работе, громадное большинство золотоискателей, англо-саксонцев или космополитов, смотрело на них косо и недоверчиво после их пребывания в тюрьме. Из-за подлых интриг тех двух господ, в которых наши друзья по-прежнему упорно продолжали видеть Боба Вильсона и Френсиса Бернетта, общественное мнение с каждым днем все более и более выступало против них. Им не хотели сдавать в наем ни одной, даже самой жалкой лачуги под жилье, никто не соглашался наняться даже и за большие деньги работать на их участке, при случае они наталкивались даже на публичные оскорбления. Все это заставило их понять, что дальнейшее пребывание в Доусон-Сити для них невозможно, и они решили пустить в продажу свой великолепный участок на прииске. За него они получили 120 тысяч долларов чистоганом, хотя эта концессия стоила вчетверо больше. И вот ничем не связанные более, они решились невзирая на все ужасы «ледяного ада» отправиться на розыски «Матери золота». Поспешно снарядили экспедицию, сделали громадные запасы провианта, необходимой одежды, динамита, орудий и оружия, снарядов и керосина, предназначенного и для обогрева и для освещения. Все это было размещено на шести санях таким образом, чтобы на каждые из них приходилось по одной шестой доле всего, что везли с собой наши отважные золотоискатели. Такого рода мера являлась крайне разумной на случай гибели или пропажи одних или даже нескольких саней. Пять сильных, здоровых и привычных к этому делу упряжных собак должны были везти каждые сани, чтобы сберечь их силы, столь необходимые для успеха всякой полярной экспедиции, Лестанг предложил, чтобы по крайней мере первую часть пути собаки были заменены лошадьми. С этой целью ему удалось нанять, правда за неслыханно высокую плату, достаточное количество лошадей, на которых решено было везти всю кладь на расстояние 80 миль, от Доусон-Сити к востоку. Маленький караван двинулся через проток Юкона по льду толщиною в 12 вершков; лошади везли кладь, а сами участники экспедиции шли пешком, почти по колено в снегу. За шесть дней они успели пройти намеченные 80 миль, затем лошади и их проводники вернулись обратно в Доусон-Сити, а наши друзья теперь рассчитывали на свои собственные силы. План старого Лестанга, единогласно избранного начальником экспедиции, заключался в том, чтобы прежде всего достигнуть со всем караваном того места, до которого они в предыдущем году дошли с индейцем; затем, выбрав подходящее место для более продолжительного пребывания и оставив там весь караван и все маленькое общество, вдвоем с Дюшато отправиться в индейскую деревню за старым другом, индейцем атна. Когда оба канадца и индеец вернутся, все маленькое общество двинется дальше под предводительством последнего к тому таинственному месту, где, согласно легенде, находится золотая житница Юкона, та «Матерь золота», о которой так страстно мечтают все золотоискатели. Теперь уже вся первая половина программы была выполнена, и молодые люди вместе со своими мужественными спутницами ожидали только возвращения двух канадцев с индейцем атна. Прошло более двух недель с тех пор, как Лестанг и Дюшато ушли, а остальные вели однообразную жизнь среди снеговой равнины в своих палатках. Чтобы избежать малоподвижной жизни, столь пагубной во всех полярных экспедициях, наши молодые люди ежедневно посвящали несколько часов прогулкам на вольном воздухе. Леон и Марта совершали длинные прогулки, при сорока пяти градусах мороза, беседуя о прошлом и строя планы на будущее. Что же касается журналиста, то он сначала предпочитал оставаться в палатке, греясь у печки и стойко выдерживая все нападки товарищей, пытавшихся заставить и его посвящать какое-то время движению на воздухе. Только упорство Жанны в конце концов взяло верх. Это была первая победа молодой уроженки Канады над этим парижским зябликом, этим, на первый взгляд, слабачком, и девушка в душе очень гордилась ею. Ей удалось заставить его выходить ежедневно хоть на полчаса, и с этого времени здоровье его стало заметно улучшаться. Он понемногу стал привыкать к морозу и хотя иногда снова впадал в свой прежний грех, кутался в меха и грелся у печки, но все же находил в себе силы бороться с этой привычкой и побеждать ее, как того и хотела Жанна. Напротив, Жан Грандье превосходно приспособился ко всем ужасам «ледяного ада» и чувствовал себя в этой насквозь промерзшей стране, как в родной стихии. Смелый и отважный, полный сил и здоровья, он не пугался никакой стужи, никакой непогоды, охотился целыми днями и почти никогда не возвращался без добычи. Этот шестнадцатилетний мальчик, не задумываясь, шел на медведя, на вапити, на карибу и большого северного оленя, который, даже раненный на смерть, обыкновенно кидается на охотника и одним ударом рогов пропарывает ему живот. Презирая всякую опасность, юноша уходил один, в сопровождении только своего верного ньюфаундленда Портоса, который также чувствовал себя прекрасно в этой стране морозов и снегов. Во время одной из прогулок юноше и удалось, как мы знаем, найти пещеру, где теперь все маленькое общество могло поселиться с не меньшими удобствами, чем в любом, даже лучшем из местных жилищ. Здесь им не грозила никакая опасность ни от мороза, ни от диких зверей, ни от людей. При более основательном осмотре оказалось, что уже на небольшом расстоянии от входа температура была не ниже –3°, а немного подальше вглубь термометр стоял на нуле, тогда как в палатке, несмотря на раскаленную печь, температура никогда не подымалась выше –15°. Пещера эта уходила очень далеко вглубь и разветвлялась в разные стороны в виде гусиной лапы тремя узкими коридорами. Наши друзья не дали себе труда осмотреть эти коридоры, не имея в них никакой надобности, а разместились в средней круглой зале, достаточно вместительной и просторной. Собаки устроились у входа на мягком песке и тут же принялись пожирать отбросы и остатки от убитого Жаном вапити. Между тем хозяева их принялись с особым наслаждением жарить на вертеле, приспособленном к печке, сочный окорок этой дичи. Вкусный запах жареного мяса распространился по пещере, проникая и во все темные коридоры. После долгой, веселой беседы золотоискатели с особым удовольствием предались сну. Только одна маленькая лампочка, наполненная керосином и надетая на высокую бамбуковую трость, освещала эту общую спальню, разделенную надвое занавеской из полотнищ той же палатки. Все мирно спали в продолжение нескольких часов. Вдруг Поль Редон, спавший в глубине пещеры, внезапно пробудился от жуткого кошмара. Какая-то страшная тяжесть налегла ему на грудь и сдавила его. Он чувствовал, как кто-то перекатывает его с боку на бок и топнет ногами, хотел закричать и не мог. В висках у него застучало, сердце усиленно забилось, наконец он сделал страшное усилие и открыл глаза. Невероятное зрелище представилось ему при свете маленькой лампочки и вызвало из груди страшный хрип: его кошмар оказался действительностью; дикая, смертельная опасность грозила ему и всем его друзьям.
ГЛАВА III
Серый медведь.– Прерванный сон.– Выстрел.– Жан и Леон.– Редон неподвижен.– Героиня.– Самообладание.– Свойство керосина.– Необычайная смерть гризли.Без сомнения, это был серый медведь, или гризли – страшное, самое громадное, самое сильное и свирепое животное из всех диких обитателей дремучих лесов Нового Света. Несмотря на свои колоссальные размеры, он проворен и ловок, как пантера, сильнее, чем бизон, и всегда пребывает в ярости, всегда готов с остервенением накинуться на любое препятствие и всюду оставляет за собою смерть и разрушение. Средней величины гризли имеет в длину сажень и двенадцать вершков и весит около 40 пудов, притом отличается необычайной живучестью. Были примеры, что пробитый несколькими пулями медведь, из которого кровь лилась, как вино из бочки, нагонял коня, пущенного вскачь, ударом своей могучей лапы переламывал ему хребет, сбрасывал всадника и, растоптав его ногами, раздирал в клочья и коня, и человека. Облаченный почти непроницаемой бронею из мускулов, жира и толстой, плотной шкуры, он почти неуязвим; не только холодное оружие, но даже пули редко могут достичь главных жизненных органов этого огромного зверя. Чтобы уложить его, пуля должна пройти ему в глаз, в ухо или прямо в сердце. Вот почему ожерелье из когтей серого медведя считается самым славным и драгоценным украшением у индейского воина, как явное доказательство несомненного мужества, ловкости и силы. К счастью, эти дикие звери встречаются редко, но зато там, где они появляются, они наводят ужас на целую округу. Благодаря трагической случайности пещера, открытая Жаном, оказалась берлогой пары таких страшных зверей. Находясь в состоянии полуспячки, эти медведи, вероятно, недавно поселились в одном из темных ходов, выходящих в среднюю круглую залу пещеры. Зимняя спячка у некоторых медведей довольно слабая, и они очень легко пробуждаются от нее, а под влиянием приятной теплоты, распространяемой печкой, и вкусного запаха жареного мяса и совсем пробудились. Кроме того, быть может, гризли, отличающиеся вообще чрезвычайно тонким обонянием, почуяли и присутствие человека. Так как они весьма лакомы до человеческого мяса, то не мудрено, что один из них, пробудившись и руководствуясь присущим ему инстинктом, отправился прямо туда, где наши друзья так безмятежно расположились на ночлег. В первый момент этот обитатель полярных стран остановился, удивленный зрелищем стольких непривычных ему предметов, новой и дикой для него обстановки, видом лежащих на земле неподвижных фигур. Поднявшись на задние лапы, медведь как будто размышлял; нечто похожее на зверскую усмешку исказило на мгновение его громадную пасть. Но любопытство взяло верх, и он стал оглядывать все. Вот, опустившись на все четыре лапы, страшный зверь осторожно подкрался к ближайшему от него меховому мешку, где лежал укутанный в меха Поль Редон. – Медведь! Медведь! Помогите! – закричал не своим голосом несчастный, как только успел прийти в себя. Одним прыжком Леон выскочил из своего мешка и стал озираться кругом, отыскивая оружие. Жан сделал то же. Крик ужаса невольно вырвался у них при виде смертельной опасности, грозившей их другу. От этого крика пробудились и обе девушки. Не понимая, что случилось, они растерянно засуетились, опрокидывая кое-какие вещи на своем пути, и произведенный ими переполох смутил на мгновение нежданного гостя. Тем временем Жан схватил свое ружье, а у Леона очутился в руках нож; между тем зверь при виде врагов с яростным ревом встал на задние лапы. – Не стреляйте! – крикнула Жанна, к которой вернулось все ее обычное самообладание. Но было поздно. Раздался выстрел – и густое облако дыма застлало на минуту все кругом. Жанна подкрутила лампу как можно ярче, чтобы борющиеся не поранили друг друга. Выстрел раздробил зверю челюсть, но это только сделало его еще более опасным. Он конвульсивно замотал головою, дикий рев огласил пещеру, кровь ручьем полилась из страшной раны, но чудовище продолжало стоять на задних лапах и как будто топтало что-то ногами. Боже правый! Да ведь это Леон, кинувшийся с ножом на медведя, Леон, который одной рукой вцепился в косматую шерсть зверя, а другой наносил ему бешеные удары ножом в грудную полость и живот! Сам того не подозревая, отважный молодой человек повторил в данном случае прием индейцев-охотников, решающихся вступить в рукопашный бой с могучим гризли. Помертвев от страха, бледная, как саван, Марта, полагая, что Леон безвозвратно погиб, отчаянно протянула к нему руки и с душераздирающим воплем грохнулась навзничь, лишившись чувств. Жанна подхватила ее, брызнула ей в лицо водой, не успевшей еще замерзнуть после ужина, и стала тереть виски, с замиранием сердца следя за ходом борьбы. Вдруг среди наступившей минуты затишья, когда слышалось лишь тяжелое дыхание борющихся, раздался прерывающийся сдавленный голос: – Черт возьми, господа! Я никак не могу выбраться из своего мешка… Пощадите, вы совсем растоптали меня, превратив в поле битвы! Это был голос Поля Редона, принужденного лежать неподвижно, в полном бездействии, так как он не мог шевельнуться, не только что подняться: гигантский медведь и оба борца топтали его ногами. Все это сразу стало ясно его товарищам. Жан сделал второй выстрел; на этот раз пуля снесла половину морды и глаз, но все-таки не проникла в мозг, и потому чудовище все еще осталось на ногах, хотя, по-видимому, уже не надолго. Тогда, почти задыхаясь под тяжестью громадного зверя, Леон всадил нож по самую рукоятку в живот медведя. Зверь разжал свои лапы, пошатнулся и опрокинулся навзничь. Все было кончено. Опасность миновала; теперь можно было свободно вздохнуть. Жан, бросив ружье, поспешил на помощь Леону, пытавшемуся вызволить Поля Редона, наполовину раздавленного тяжестью топтавшего его медведя. Вдруг из глубины пещеры появился другой медведь, еще больших размеров. Одним прыжком свирепое животное бросилось на золотоискателей – и вся пещера огласилась невероятным ревом. Трое мужчин, которым все еще приходилось бороться с издыхающим врагом, не могли прийти на помощь двум бедным девушкам, а на них-то и шел теперь второй медведь. При виде грозящей ей неминуемой гибели Марта, непривычная к такого рода ужасам, снова лишилась чувств. Жанна же, более сильная, находчивая и энергичная, не найдя под рукою оружия и видя опасность, схватила висевшую над печкой салфетку, смочила ее керосином. Затем, обмотав ею бамбуковую палку с железным отверстием, служившую для установки палаток и валявшуюся теперь без употребления, воспользовалась моментом, когда косматый зверь с громким рычанием, широко раскрыв пасть, двинулся на Марту, всу нула ему в пасть по самую глотку этот импровизированный горящий фитиль, который она успела зажечь от лампочки. Смоченная горючим веществом салфетка мигом воспламенилась и, подобно факелу, внезапно озарила всю внутренность пещеры. Смущенный в первый момент видом столь высокого пламени медведь на минуту приостановился, но затем рассвирепел еще сильнее. Тогда мужественная девушка, собрав все свои силы, стала толкать шест как можно глубже. Мгновенно шерсть на морде зверя опалилась, язык, небо, гортань и бронхи, в которые проникло горючее вещество, столь сильно воспламеняющееся, что горит даже в воде,– все было охвачено огнем, опалено и сожжено. Несчастное животное опрокинулось, забарахталось, сжимая передними лапами обгорелую морду, затем началась ужасная, мучительная агония, длившаяся, впрочем, всего несколько минут, после чего страшное чудовище затихло. Между тем и Леон и Жан, опрокинутые медведем при падении, оглушенные ревом, силившиеся выбиться из железных когтей зверя, подавленные его непомерной тяжестью, почти не заметили появления второго медведя и не видели того, что здесь произошло. Марта в нескольких словах рассказала о подвиге своей подруги, рассказ был встречен всеобщим восторгом. – В минуту опасности всякий делает что может и что знает! – скромно отвечала героиня в ответ на общие поздравления. – Да,– сказал Редон,– я служил только подмостками для трагической сцены, в которой вы, господа, были героями и героинями! – Тут добрых 75 пудов мяса и пара славных шкур на одеяла, постели или плащи, каждому по желанию! – заметил Жан, задумчиво следя за последними конвульсиями двух гризли. – Эти чудовища не менее ужасны, чем пресловутая «Красная звезда»! Леон невольно содрогнулся при упоминании этого названия, из-за которого он столько выстрадал и столько пережил. – Впрочем, что вспоминать об этих негодяях теперь, когда они нашли в Доусоне свою «Мать золота»; у них вероятно, нет никакой охоты преследовать нас еще и здесь! – закончил Поль Редон. Леон задумчиво покачал головой, промолвив: – Как знать!
ГЛАВА IV
Возвращение.– Канадцы и краснокожий.– Ожерелье вождя.– Неутомимые.– В пути.– Стрелка вновь вращается.– Сомнения.– Кто прав? – «Здесь!» – сказал индеец.Четыре дня или, вернее, четыре ночи, длившиеся каждая 23 часа и 55 минут, прошли с тех пор, как новые обитатели медвежьей пещеры поселились в ней. Людям, рожденным в более средних широтах, очень трудно бывает привыкать к этому надоедливому мраку полярных стран во время зимовок. Мерцающие звезды, лучезарные сумерки и пламенеющие северные сияния – все это вносит лишь кратковременное появление света при сплошном мраке полярных зим, таких тягостных для человеческих нервов. Нетрудно себе представить, как после бесконечных летних дней эта постоянная темень, в которой люди двигаются, как тени, в тумане испарений в морозном воздухе, среди снежной равнины, заглушающей шум шагов и всякий другой живой звук, удручающе действует и на самых стойких. Кажется, что и дух, и тело начинают погружаться в спячку, и единственным, хотя и весьма однообразным развлечением остается восход и невероятно быстрый закат солнца. Но и это развлечение вот-вот должно было прекратиться, так как солнце, подымавшееся все меньше и меньше над горизонтом, вскоре должно было окончательно уйти за линию горизонта. Прошло уже четверо суток со дня нападения гризли, шкуры которых были содраны и превращены в покрывала, а мясо разрублено на части, заморожено и спрятано в одной из боковых галерей, превращенных в кладовые. Наступила ночь. Обитатели медвежьей пещеры спали. Зато вблизи пещеры слышались человеческие голоса, собаки глухо рычали, проворные тени сновали у входа в пещеру в облаке беловатого тумана. Наши друзья вышли на этот шум,– и у них вырвались шумные крики радости. – Отец! Это вы, да? – воскликнула Жанна. – Да, да, дитя мое! – Ну, все благополучно? Никаких бед? – Все как по маслу! – отвечал Лестанг. Собаки вновь прибывших путников тоже братались с остальными собаками, только один Портос продолжал рычать: с двумя возвратившимися канадцами был еще третий, и Портос не мог успокоиться в присутствии незнакомца. – Молчи, Портос! – крикнул на него Жан.– А вас, друзья, прошу пожаловать в наш дом! – добавил он, указывая рукою на внутренность пещеры, ярко освещенной двумя лампочками в честь прибывших. Почти окоченев от холода, трое путников прежде всего отпрягли своих собак и прибрали сани, в чем им помогли и остальные, затем уже осторожно направились внутрь пещеры, чтобы не задохнуться от внезапного перехода к теплу после пятидесятиградусного мороза. Очутившись в круглой зале пещеры, где весело топилась печь, они сбросили с себя свой меховой наряд и ощутили невыразимое чувство блаженства и покоя после всех трудностей своего пути. – А вот и грог готов! Как мы рады, что вы вернулись, и что все обошлось благополучно! – Грог – дело доброе,– произнес Лестанг,– но всему свое время. Позвольте мне прежде всего познакомить вас с моим другом Серым Медведем, которому известна тайна местонахождения «Матери золота», тайна, которою он готов поделиться с нами! – Ах, так его зовут Серый Медведь! Какое странное совпадение! – воскликнул журналист, кидая испытующий взгляд на вновь прибывшего, типичнейшего представителя краснокожей расы, с горбоносым профилем с древнеримских медалей и монет, с железными мускулами, телом, точно вылитым из бронзы, с глазами черными как уголь и блестящими как алмаз. Одет он был в простую охотничью блузу, индейские штаны с кисточками и мокасины, а на плечах носил шерстяной плащ, заколотый спереди длинной косточкой. – Да… этот человек не мерзляк,– подумал про себя Редон,– в такой мороз и так налегке! – При этом он заметил на шее индейца любопытное ожерелье из медвежьих когтей. – Это ожерелье вождя! По нему узнают человека отважного, героя! – пояснил Лестанг, давно уже знакомый с нравами и обычаями краснокожих, в среде которых ему много приходилось вращаться. – А, ведь и мы, Лестанг, герои и героини: мы здесь убили двух серых медведей! – произнес один из молодых людей. Девушки в это время разносили кипящий грог. Индеец, постоянно живший среди канадских охотников, научился понимать по-французски. – Ax! – воскликнул он.– Брат мой убил двух гризли? Брат мой – великий вождь! – О, восторг! Он говорит языком героев Купера и Эмара note 10 ! – воскликнул журналист.– Нет, уважаемый краснокожий, не мне хвастать этим славным подвигом, а вот этой молодой девушке, мадемуазель Дюшато, и моему товарищу Леону Фортену, отважному галлу, воину, ученому знахарю, да вот еще этому юноше! – указал он на Жана.– Настоящий прирожденный траппер и вольный охотник! Заинтересованный индеец попросил подробно рассказать ему все, как было. Леон тотчас же согласился удовлетворить его любопытство, и старый вождь почувствовал невольное сердечное влечение к этим бледнолицым, совершившим тот же подвиг, каким сам он снискал себе славу и звание великого вождя. Затем мало-помалу разговор перешел к вопросу, наиболее занимавшему всех, то есть к вопросу о золоте. Под влиянием общего дружеского настроения, единодушного сердечного приема и ласки, какие встретил здесь угрюмый краснокожий, он стал и сам дружелюбней и общительней и рассказал, что «желтого железа» там, куда он хочет их свести, много-много. – Так много, что вот настолько от земли! – говорил он, показывая рукою на добрые три четверти аршина от земли.– Тянется оно далеко-далеко! – И он принялся шагать большими шагами по пещере, приговаривая: «Вот столько и еще больше, еще больше!..» Очевидно, индеец говорил о целом пласте золота таких колоссальных размеров, что это превосходило всякие предположения. – Нет сомнения, что это и есть сама «Мать золота»! – воскликнул Лестанг. – Да, да! – произнес Редон: – И это все будет наше, и золото, и его мамаша! – Надо посмотреть, так ли это? – заметил вполголоса Леон.– Во всяком случае такие пласты золота – нечто невероятное, но если моя стрелка оживет, и к ней вернется ее прежняя чувствительность, то мне весьма любопытно знать, на каком расстоянии леоний укажет нам присутствие золота на этой золотой равнине! – Скажите, краснокожий брат мой, далеко ли отсюда это золото? – спросил он вождя. – На расстоянии приблизительно восьми дней пути. – Да, но каких дней? Как теперь, в пять минут солнца и света и три часа сумерек или же летних дней, когда солнце стоит полные 24 часа над горизонтом? – Не слишком длинных и не слишком коротких дней! – серьезно отвечал индеец. – Ну если так, отправимся теперь же! – произнес журналист.– Впрочем, вы, может быть, утомились с дороги? Индеец рассмеялся, как будто Редон высказал какое-нибудь по-детски забавное и совершенно невероятное предположение. – Утомился? Я не знаю, что значит это слово, хотя и понимаю, что другие так называют! – сказал он.– Я готов сию же минуту идти, куда надо! – Тогда, отдохнув часов десять, мы тронемся в путь. На этом и порешим! Путешествие должно было продолжаться всего каких-нибудь 20 дней, потому решено было часть багажа и запасов оставить в пещере, где их зарыли в мелкий сыпучий песок, представлявший собою почву пещеры. Затем, облачившись в костюмы эскимосов, наши друзья стали припрягать собак к санкам и, когда все было готово, весело пустились в путь, рассчитывая недели через три, в крайнем случае через месяц, вернуться сюда и провести в медвежьей пещере всю остальную часть зимы. Поезд тронулся бодро и весело по твердому, хрустящему снегу. Мороз был настолько силен, что несмотря на меха и усиленное движение казалось, что кровь стынет в жилах и дыхание спирает в груди. – Пятьдесят градусов ниже нуля! – пробормотал журналист, взглянув на маленький термометр, прикрепленный к первым саням. – Да что вы смотрите на эту мерилку мороза! Смотрите лучше на индейца: глядя на него, не поверишь в мороз! – проговорил Лестанг. Действительно, Серый Медведь,– так звали индейца,– проделывал довольно своеобразную гимнастику. Отойдя немного в сторону, вероятно, из чувства стыдливости, он разделся донага и стал кататься в снегу, кувыркаясь, подскакивая и ныряя с удивительным проворством; и это на морозе, от которого трескаются камни, лопаются и распадаются на щепки громадные деревья. Поль Редон смотрел и буквально не верил своим глазам, а между тем Серый Медведь, вдоволь набарахтавшись и накувыркавшись, проворно надел свой несложный наряд, накинул на плечи плащ и, бодрый и веселый, присоединился к остальным. – Ну, что? – спросил его Редон. – Даже жарко теперь! – отвечал индеец. Путешественники стали немного согреваться от напряжения и быстрой ходьбы, но очень, очень мало. Малейшее прикосновение к чему-либо металлическому производило страшный, болезненный ожог на таком морозе. Это испытал на себе Леон: вечно озабоченный своей буссолью, он вздумал взглянуть на нее, чтобы еще раз убедиться, окончательно ли она перестала действовать. Сняв на мгновение перчатку, он достал буссоль из внутреннего кармана своей меховой куртки, рассчитывая, что мороз не сразу успеет остудить ее металлическую оправу настолько, чтобы она могла примерзнуть к его пальцам. Но, увы! Прежде, чем он успел что-либо сделать, он уже ощутил страшный ожог пальцев, и кожа пристала так крепко к металлу, что пришлось ее отодрать от пальцев. Несмотря на сильную боль, Леон поспешно натянул перчатку и все же продолжал свои наблюдения. Теперь стрелка вращалась и дрожала, но все-таки упорно останавливалась на одном и том же месте,– и странное дело,– указывала отнюдь не то направление, по которому двигался маленький караван, а смотрела именно в сторону медвежьей пещеры, покинутой нашими путешественниками шесть часов тому назад. Удивленный до крайности этим обстоятельством, Леон положил буссоль обратно в свой карманчик и долго оставался задумчивым и молчаливым. – Куда ведет их этот индеец, который, по-видимому, совершенно уверен в себе? Следует ли так слепо доверяться ему? Уж не хочет ли он завести их в какие-нибудь дебри, чтобы завладеть их санями и упряжками, несравненно более драгоценными для него, чем самые громадные глыбы золота? – невольно приходило ему в голову.– Кому верить, индейцу или его непогрешимой до сих пор буссоли? Наконец, Леон пришел к тому заключению, что буссоль после необъяснимого, странного повреждения там, в медвежьей пещере, хотя и стала снова действовать, но уже в обратном смысле, как это бывает иногда и с магнитной стрелкой после сильной бури и грозы. Усталые и обессиленные трудным и длинным переходом, наши путники сделали привал под защитой снежной стены, нанесенной недавним бураном. Голодные, главное, мучимые жаждой, они с томительным нетерпением ждали горячего грога, который готовили на маленькой печке, нагреваемой тем же керосином. Жажда, еще более мучительная, чем та, какою страдают путники в песчаных пустынях, здесь, в белоснежных пустынях, тем более ужасна, что искушение утолить ее горстью снега появляется на каждом шагу. Но стоит только поддаться этому искушению, чтобы минутное облегчение превратилось в настоящую нестерпимую пытку: вся внутренность начинает гореть, слюна пересыхает, язык прилипает к гортани, словом, человек начинает испытывать такие мучения, какие не поддаются никакому описанию. Наши друзья, зная это, не поддавались искушению и с нетерпением дожидались грога. Кроме того, им предстояла еще мучительная работа откупорить жестянки с консервами или сварить «сушеный картофель. От печки в шатре установилась приятная для наших путников температура, всего –10°. Расположившись на своих меховых мешках, служивших им и постелями, и коврами, по-татарски подогнув ноги под себя, они с особым удовольствием принялись за скромный ужин. Разговор не клеился: все были измучены и устали; печку зарядили на 24 часа и затем каждый, зарывшись в свой тройной меховой мешок-постель, постарался заснуть. Индеец же, которому была не по душе атмосфера шатра с запахом керосина, приютился под открытым небом между собаками, сбившимися в кучу, и только по настоянию друзей согласился укрыться медвежьей шкурой. И то ему было жарко, и он время от времени вставал, чтобы освежиться, и затем снова ложился на прежнее место. После восьмичасового сна краснокожий разбудил канадцев, и те принялись за стряпню; затем мало-помалу пробудились и остальные. Жан, босой, без перчаток и с непокрытой головой, вышел из шатра. – Куда ты, Жан? – встревоженно спросила его сестра. – Иду снегом умыться! Это здорово: сразу нагреешься, лучше чем у печки! – ответил он и, действительно, спустя немного времени возвратился в шатер бодрый, веселый и румяный, так что остальным было просто завидно смотреть на него. Индеец глядел на него с восхищением и, подойдя к нему, крепко пожал руки. Все принялись завтракать, с утра у всех на душе было легко, и ели с охотой, особенно Поль Редон. Леон, заметив это, сказал: – Здесь ты не можешь пожаловаться на отсутствие аппетита! – Да, моя диспепсия, от которой я столько лечился, глотая пилюли и всякие другие лекарства, излечилась пятидесятиградусным морозом! В Париже год-другой, и меня пришлось бы, наверное, тащить на кладбище, а между тем здесь я становлюсь настоящим обжорой! Жаль только, что это лечение такое нелегкое! Все рассмеялись. – Ну, пора в путь! – И санный поезд с провожатыми на легких, больших лыжах тронулся в том же порядке, как и накануне. Дни шли за днями без малейшего разнообразия; все та же беспредельная снеговая равнина, те же привалы, те же ночлеги под открытым небом, те же утомительные переходы и тот же мороз. Прошло три, четыре, пять дней; люди шли вперед, все дальше и дальше, как автоматы, почти не сознавая своей усталости, но с каким-то ноющим чувством томления, шли потому, что остановиться было нельзя и невозможно идти обратно, потому, что самый организм их требовал движения, потому, что надо было бороться со стужей, проника"шей повсюду. Несмотря на это, Леон еще раз справился со своей буссолью, и стрелка ее опять показала направление обратное тому, по какому они следовали, то есть направление на медвежью пещеру. Прошло еще два дня. Путь становился все труднее и труднее; вместо снежной равнины нашим путешественникам приходилось теперь идти какою-то изрытой холмистой местностью, напоминавшей взбаламученное море с внезапно оледеневшими волнами. Затем пришлось подниматься в гору; наши друзья стали уже падать духом, но индеец поддерживал их бодрость. – Еще, братья, немного терпения – и мы будем у цели! – говорил он. Наконец путешественники пришли к такому месту, где уже не было никакой возможности идти дальше. Тут вдруг все небо зарделось великолепнейшим северным сиянием. Окрестность озарилась чудным пурпурным заревом, придававшим всему окружающему и всем предметам какие-то фантастические размеры и очертания. Тогда краснокожий, вытянувшись во весь свой богатырский рост, указал величественным жестом на откос скалы, залитый отблеском красноватого сияния и имевший металлический блеск, и воскликнул: – Бледнолицые братья, я сдержал свое слово! Вот желтое железо! – Здесь светло, как днем. Очевидно, эти роскошные бенгальские огни предназначены для того, чтобы осветить наше торжество! – произнес журналист. – О-о! Так это «Мать золота»! – воскликнул Дюшато громовым голосом. – Тот кошель с золотом, который я искал в продолжение целых двадцати лет! – бормотал Лестанг. Что касается Леона, то он, вопреки всем, думал только о своей буссоли и своей леониевой стрелке, упорно направленной и теперь в сторону медвежьей пещеры, и вместо крика радости, торжества, с губ его сорвалось слово сомнения: – Как знать?!
ГЛАВА V
Золотой бред.– Вожделения.– Взрыв динамита.– Недоумение.– Разочарование.– Медь.– Легенда об Эльдорадо.– Вознаграждение.– Возвращение.– По пути к медвежьей пещере.Какое-то безумие, какой-то золотой бред мгновенно охватил всех при вести об открытии «Матери золота»; только бесстрастный индеец, не знавший цены золота, и рассудительный ученый Леон Фортен не разделяли общего восторга. Между тем благородный металл действительно был здесь в изобилии, виднеясь всюду толстыми пластами среди каменных глыб. Индеец был прав: передними была настоящая, феноменальная залежь чистого золота, сплошной слиток, представлявший собой целый пласт на высоте полутора сажен от земли. Лестанг с неописуемым восторгом простер руки, воскликнув: – Вот именно так я и представлял себе эту «Мать золота»! Да! Сразу видно, что здесь золота на многие миллионы. Дюшато тоже обезумел. – Жанна, дитя мое,– кричал он в восторге,– теперь мы с тобой богачи! Теперь мы будем счастливы и можем делать много добра!.. Жан на радостях дал несколько выстрелов в воздух, а Редон громко воскликнул: – Да здравствуют морозы и мы… и все, и все!.. Ура! – Все они обезумели, их хоть веревкой вяжи! – шепнул Леон Марте. – А вас, друг мой, это нисколько не волнует? – Нет, я даже сам себе удивляюсь, или, быть может, вид этих маньяков, изображающих в данный момент что-то очень похожее на пляску медведей, так расхолаживает меня, только я не испытываю ни малейшего волнения при виде этих сказочных богатств! Между тем проводник, открывший людям это сказочное богатство, безучастно смотрел на все, происходившее вокруг него, небрежно прислонившись к откосу скалы. После первых минут дикого восторга, доходившего до безумия, разум начал входить в свои права, и Дюшато первый заявил, что необходимо придумать какое-нибудь средство добыть хоть часть этого золота. – Добыть! Но как? Никакие металлические орудия не возьмут этот кварц – все наши усилия будут тщетны! – вздыхал Лестанг. – Несколько зарядов динамита сделают свое дело за несколько минут! – утешил его Леон. – Да, правда! Динамит мигом поможет нашему горю! Действительно, в ледяных равнинах Клондайка, где рабочие руки так дороги и работа так страшно тяжела, горящие нетерпением золотоискатели постоянно прибегают к помощи динамита, запас которого имелся под рукою и у наших друзей. Они заблаговременно позаботились захватить его с собою, но оказалось, что динамитные шашки совершенно замерзли. Тогда Дюшато, Поль, Леон, Жан и Лестанг взяли но снаряду и спрятали каждый свой снаряд под одежду, чтобы дать ему оттаять. Затем старый Лестанг и Леон стали отыскивать в скале трещину или щель, куда бы можно было заложить шашку. Случай помог им, а через полчаса снаряды уже достаточно оттаяли от соприкосновения с человеческим телом. Немедленно принялись за дело. Пока Леон с помощью Лестанга подготавливал взрыв, другие отводили подальше сани и собак. Наконец, когда все было готово, Леон подошел к фитилям с дымящимся трутом, спокойно зажег их и потом сам отошел в сторону. Прошло минуты четыре. Вдруг послышалось что-то похожее на глухой подземный удар, затем последовало непродолжительное землетрясение, земля как будто дрогнула под своим снежным покровом, и высокий белый столб дыма поднялся к небу. После этого раздалось еще несколько глухих раскатов, наконец, целый град обломков взлетел в воздух и посыпался во все стороны, как при извержении вулкана. Собаки страшно взвыли и пустились бежать; люди же, точно повинуясь могучему инстинкту, ринулись вперед к месту взрыва. Часть отвесной скалы оказалась взорванной, и ее черные, еще дымившиеся обломки валялись всюду, на расстоянии пятнадцати сажен. Часть металлического пласта также отделилась, и обнаженный разрез выступил ярко-желтой, блестящей полосой на темном фоне скалы. Индеец не мог надивиться тому, что только что видел: взрыв представлялся ему невероятным, сверхъестественным колдовством. Все устремились к громадной глыбе металла, весом не менее двадцати пудов, и прежний безумный восторг был уже готов снова охватить их, но несколько недоверчивых слов Леона и его скептическое отношение к этому сказочному богатству невольно остановили этот новый порыв. Нагнувшись и подняв с земли осколок величиною с крупный орех, он с минуту внимательно рассматривал его, затем проговорилкак бы про себя: «Дурной цвет и скверный вид!» Все сердца ускоренно забились, дыхание стеснилось в горле, все подвинулись ближе к нему. Между тем он, сильно потерев кусок металла о свою меховую куртку, затем поднеся его к носу, продолжал: «Скверный запах!» – Что вы хотите этим сказать?..– спросил его дрожащим от волнения голосом Лестанг, у которого даже в глазах стало мутиться от волнения. – Вы пугаете меня… Скажите же нам что-нибудь… голова у меня идет кругом!.. – Увы, мой бедный друг,– произнес Леон.– как ни неприятно мне разочаровывать вас, но я должен сказать, что это не золото… а просто медь! – Медь! Медь! – повторило несколько голосов, полных отчаяния.– Возможно ли, о Боже!.. – Правда, зато это превосходнейшая руда, когда-либо существовавшая в целом мире! – продолжал Леон, который до известной степени был уже подготовлен к подобному разочарованию, основанному на упорстве его непогрешимой леониевой стрелки. – Медь! Это медь! Значит, этот индеец – наглый лжец и обманщик! – раздраженно воскликнул Дюшато.-Значит, он насмехался над нами! – Но ты вполне уверен в том, что это медь? – спросил Поль Редон своего приятеля.– Докажи нам! – Смотри,– ответил молодой ученый,– ты, очевидно, слышал о существовании пробирного камня?! Это – особого рода твердый базальтовый камень, посредством которого испытывают золото. Кусок испытуемого металла трут о пробирный камень, на котором остается желтая полоса от легкого слоя металла, приставшего к шероховатой поверхности камня. На эту-то желтую полосу наливают несколько капель соляной кислоты, и если данный металл – медь, то она мгновенно исчезает, так как медь растворяется в соляной кислоте; если же золото, то оно останется без изменения вследствие своей безусловной нерастворимости… Все это мы имеем здесь под рукою, стоит только достать из саней… – Не утруждайте себя напрасно, мосье Леон,– вмешался старый Лестанг разбитым голосом,– я могу похвалиться двадцатилетним опытом рудокопа и могу смело подтвердить, что вы правы! Это действительно медь… стоит только попробовать на язык… Да и как можно серьезно смешивать такой подлый металл с настоящим золотом?! – презрительно добавил он. – Правда, в первый момент я хотел себя уверить, что это и есть та самая «Мать золота», о которой я мечтал столько лет, целую четверть столетия. Да, но… – Все это вина этого индейца! – воскликнул Дюшато, не находивший в себе той покорности воле судеб, какую проявлял его приятель, старый рудокоп. – Как же ты обещал нам золото, а ведь это простая медь? – с раздражением обратился старый канадец к индейцу. – Я не знаю, что значит золото и медь,– спокойно отвечал тот,– знаю только, что я обещал Лестангу указать ему и его бледнолицым друзьям место, где много-много желтого железа или, как вы говорите, желтого металла! Скажи, разве это не металл? Разве он не желтый? Разве его здесь не много? Не страшно много? Отвечай, так это или нет? – Да, так! – Так на что же ты жалуешься? – И ради этого мы претерпели столько мучений!..– задумчиво проговорил Лестанг. – А все-таки существует пресловутая легенда о «Матери золота», и легенда эта не пустой вымысел! – закончил он. – Что ни говори, а я весьма опасаюсь, что эта «Мать золота» – то же Эльдорадо полярных стран, иначе говоря – плод воображения! – произнесла Жанна.– Но вы не знаете, что такое Эльдорадо! Я сейчас объясню. Близ экватора, в Гвиане, также стране золота, где царит не мороз, а страшная жара и невыносимый зной, сохранилось предание, что где-то в таинственном, почти никому недоступном месте, стоит громаднейший, великолепнейший дворец – Эльдорадо, то есть золотой, принадлежащий одному знатному властелину, богатств которого нельзя и счесть. Весь его дворец, гласит молва, из литого золота, вся мебель, утварь, украшения, словом, все, даже статуи, изображавшие людей в натуральный рост,– все из литого золота. Замок этот, или дворец, люди отыскивали в течение нескольких веков, и многие пали жертвой своей страсти. Но вот однажды кому-то случайно посчастливилось найти громаднейший грот, поддерживаемый бесчисленными колоннами, где все горело и блестело, как чистое золото: в пещере двигались люди, совершенно нагие, но походившие на золотые статуи в натуральную величину. Оказалось, что стены грота, колонны и самый грот снаружи и даже люди – все это было натерто порошком слюды. – Что же теперь делать? – задали все вопрос. – Забыть о своем разочаровании, не оглядываться назад и бодро идти вперед! – отвечала Жанна. – Да, дитя мое, ты права! Я был жестокий безумец, когда так резко и неблагодарно отнесся к этому бедному индейцу! – произнес Дюшато.– Он неповинен, так как для него нет разницы между золотом и медью. Он сдержал свое обещание и самоотверженно переносил ради нас все, не рассчитывая ни на какое вознаграждение. Я того мнения, что его следует вознаградить за его труды и доброе намерение. – Да, да! – хором поддержали все. – Брат мой, ты сдержал слово; не твоя вина, что и ты, и мы обманулись! – продолжал он, обращаясь к краснокожему.– Видишь эти сани со всем их снаряжением, с поклажей и собаками? Возьми их, они твои! Такого рода подарок в полярной стране представляет собою громадную ценность, особенно для индейца, который ничего не имеет и постоянно ведет самое жалкое существование. Индеец едва мог вымолвить несколько слов благодарности от душившего его волнения долго-долго смотрел он на свои санки, на собак, на тщательно увязанные тюки и упряжку и, наконец, произнес: – Ax… белые люди – добры и щедры! Серый Медведь никогда не забудет этого: он будет братом для белых. Прощайте! – С этими словами он один тронулся в путь и вскоре исчез во мраке. – А мы что будем делать? – осведомился Редон. – Вернемся немедленно в медвежью пещеру,– был ответ Леона.
ГЛАВА VI
Стая волков.– Нападение.– Резня.– Как Редон греет свои пальцы.– Отступление.– Они пожирают друг друга.– Медвежья пещера.Возвращение при таких условиях, когда температура упорно держится на 50° ниже нуля, когда возбуждение, поддерживавшее бодрость и силы, исчезло, сменившись унынием, было нелегким. Ко всему этому присоединились еще опасности, грозившие со стороны свирепого, хитрого врага – волков, ужасных полярных волков. Животные эти, обладающие поистине удивительным обонянием, чуют на громадном расстоянии всякую живность, человека, собаку или какое-либо другое животное, и потому не удивительно, что уже на второй день обратного путешествия наших друзей они появились вблизи поезда. Резкий, хриплый вой этих вечно голодных разбойников преследовал путников среди томительного полумрака полярной ночи. К счастью, мужчины, скорее, впрочем, по привычке, чем из предусмотрительности, имели при себе ружья и потому не испугались непрошеных гостей. Зато собаки, охваченные паническим ужасом, вдруг остановились и, сбившись в кучу, жались к ногам людей или прятались за сани. – Берегите заряды!-вскричал канадец, видя, что его товарищи готовы дать общий залп в громадную стаю волков, выделявшуюся темным пятном на белом снегу. Мужчины и женщины выстроились полукругом, представляя сплошной ряд ружейных стволов; но против них была целая армия волков, по меньшей мере штук двести. Фосфорический блеск их глаз виднелся уже на расстоянии пятидесяти шагов. Лестанг первый дал выстрел – и один из волков передовой линии упал на месте, смертельно раненный. За этим выстрелом последовал целый ряд выстрелов – и полдюжины волков не стало. Выстрелы раздавались подобно грому в морозном воздухе снежной пустыни. Испуганные в первый момент волки на минуту приостановились, но затем устремились с новою силой на наших друзей. Пальба продолжалась. Но если из семи зарядов каждого винчестера не останется ни одного, что тогда делать, как отразить страшное нападение голодных волков? – Вот заряженный винчестер! – проговорил Редон, принимая из рук соседа уже разряженное ружье и вручая ему свое, с полным рядом патронов, и так продолжал заряжать для других одно ружье за другим из большого ящика с патронами, который он достал из саней и держал открытым перед собой. Еще две атаки были с успехом отражены отважными путешественниками – и более половины волков полегло под этим почти непрерывным огнем. Наконец звери перестало подступать; фосфорический блеск их глаз как будто угас, затем послышался хруст костей и слабый вой, точно плач ребенка: очевидно, уцелевшие пожирали теперь убитых и раненных собратьев. – Ну, я думала, что нам пришел конец! – сказала Жанна, с видимым облегчением опуская свое ружье. – Однако, как это ни прекрасно, что они отстали от нас, а все-таки у меня руки замерзли, особенно правая, – сказал Жан. – И у меня тоже!.. И у меня!.. И у меня!..– послышалось со всех сторон. – А у меня руки теплые! – подсмеивался над ними Редон. – Быть не может?! Вы – вечный зяблик!.. – Честное слово1 Последуйте только моему примеру, и вы легко поверите: грейте руки о горячие стволы ваших ружей! Это прекраснейший способ! – Да, но что нам делать теперь? – Бежать,– отвечает Лестанг,– теперь волки занялись своим делом, и дня два их не отогнать от этого места, а мы за это время успеем далеко уйти, так что, когда они опять проголодаются и вспомнят о нас, нас и в помине не будет. Не так ли, друзья? – Да! Да! Вперед, не теряя времени! – согласились все. Собаки, обезумевшие от близости волков, и без того так и рвались вперед; их едва можно было удержать на месте. Вся маленькая экспедиция тронулась с места и без оглядки полетела вперед, сколько хватало сил. Измученные, падающие от усталости, наши путники остановились на ночлег среди равнины, где, разбив палатку и сварив ужин, обогрелись, насколько было возможно. Собак же пришлось стреножить, чтобы они не разбежались: воспоминание о волках, очевидно, преследовало их и теперь. К счастью, ночь прошла благополучно, и после десятичасового отдыха наши друзья снова пустились в путь. Новый день прошел так же, как и остальные дни их пути: тот же привал, та же процедура, но теперь они уже стали немного успокаиваться, так как волки не показывались. Однако канадцы, знавшие упорство волчьей натуры, не рассчитывали, что опасность совершенно миновала, и были постоянно настороже. Вдруг Жан, шедший в хвосте поезда и поминутно оборачивавшийся назад, крикнул «волки!» и, не теряя ни минуты, вскинул свое ружье к плечу и выстрелил. Дюшато сделал то же. После этого они стали стрелять поочередно, и каждый выстрел убавлял число врагов. По прошествии нескольких секунд штук двенадцать уже выбыло из строя; уцелевшие волки приостановились, но все-таки не обратились в бегство: очевидно, голод их был сильнее страха, они стали под выстрелами, как и в тот раз, пожирать павших. Этим временем и воспользовались наши друзья, поспешив к своей медвежьей пещере, где они могли быть в полной безопасности и от стужи, и от зверей, и от людей, особенно с такими большими запасами всего необходимого, какие имелись у них. Но – увы! – по мере того, как они стали подвигаться на своем пути, и волки последовали за ними; только наученные горьким опытом, они не нападали сплошною стаей, а отдельными, разрозненными группами в пять-шесть штук, зато сразу со всех сторон. Пришлось расстреливать их чуть не поодиночке, что под силу только искусным стрелкам. Наконец четвероногие хищники как будто поотстали; пользуясь этим, истомленные путешественники сделали привал, поужинали и расположились на ночлег. Пока они спали, собаки перегрызли свои путы и пустились бежать в разные стороны, чуя за собой близость погони. Но на каждую из них пришлось по десятку волков… Между тем наши друзья, только пробудившись, с ужасом заметили отсутствие собак. Как же быть с санями? Волей-неволей пришлось тащить их на себе, тащить по глубокому снегу и вместе с тем обороняться от волков и быть настороже каждую минуту. До медвежьей пещеры оставалось еще два дня пути, В первую очередь впрягались в сани Леон, Дюшато и Редон, а обе девушки, Жан и Лестанг подталкивали сани сзади. Это было очень трудно, и не раз наши друзья спотыкались и падали, проклиная убежавших собак. Но делать было нечего, и скрепя сердце, обливаясь потом, все продолжали путь. Наконец показалась и медвежья пещера. – О! –со стоном вырвалось из груди каждого.– Мы спасены! Напрягая последние силы, несчастные достали из саней свои меховые мешки, служившие им постелями, втащили их под своды пещеры, где царила сравнительно сносная температура, затопили печь, зажгли лампу. Но ни у кого не хватило сил приняться за приготовление ужина; ни у кого не хватило сил бороться с непреодолимой сонливостью, и все, кое-как устроившись, немедленно завалились спать. Тяжелый крепкий сон сковал их веки; казалось даже, пушечный выстрел был бы не в состоянии разбудить теперь измученных людей. Между тем Портос, единственный верный пес, оставшийся при своем господине, давно уже стал рычать и злиться, наконец громко залаял и выскочил наружу, оскалив зубы и ощетинившись, как еж. Более сильный и чуткий, чем остальные, Жан, сделав над собой усилие, встал, едва держась на ногах. Вдруг ему стало ясно, что там, перед пещерой, происходит нечто необычайное. Очнувшись окончательно, он ползком направился к выходу, следом за своим верным Портосом: здесь, потерев лицо снегом, чтобы отогнать одолевающий его сон, он дополз до собаки, схватил ее за ошейник и вместе с нею исчез во мраке. Остальные продолжали спать мертвым сном.
ГЛАВА VII
Пробуждение.– Это – динамит! – Опять враги.– Быть может, «Красная звезда».– Золото! – Вот она– «Мать золота»! – Суждено ли погибнуть?Трудно сказать, сколько времени продолжался этот тяжелый сон, похожий скорее на летаргию, во всяком случае, несколько часов, после чего наступило ужасное пробуждение, Жан не вернулся в пещеру, но никто даже не подозревал об его отсутствии. Вдруг почва заколебалась, точно от землетрясения, как будто готовая осесть под спящими – и пещеру потрясло до самого основания. Одновременно с этим раздался оглушительный удар – и целый град обломков обрушился внутри пещеры, как при взрыве. Душераздирающие крики вырвались у внезапно пробудившихся, они стали окликать друг друга голосами, полными ужаса и отчаяния. – Жанна! Жанна, где ты? Где вы? – восклицали одновременно Дюшато и Редон. – Марта! Жан! – звал Леон. Но никто из них не услышал ни звука, ни слова в ответ. – Лестанг! Лестанг! – кричали несчастные. – Я здесь! – отозвался старый рудокоп.– А молодежь-то где? Господи Боже! Да где же они? – Огня! Огня! Скорее огня! – кричал Редон. У каждого постоянно были: при себе кремень и огниво, коробка спичек и свеча в небольшом футлярчике. Канадец проворно зажег свою свечу и прежде всего осмотрел постели. Постель Жана не только была пуста, но и совершенно холодная, как и постели обеих девушек; следовательно, их отсутствие продолжалось уже некоторое время. Это необъяснимое исчезновение товарищей до того поразило наших друзей, что они даже забыли на мгновение о страшном взрыве. Мужчины направились к выходу, чтобы взглянуть, что там снаружи, но, к их удивлению, самого выхода уже не было: взрыв уничтожил его, завалив громадными обломками. Несчастные были теперь заживо замурованы в этой пещере. – Черт побери! Что же случилось? – воскликнул журналист.– Вероятно, произошел какой-ни6удь обвал вследствие геологических явлений. Но у нас есть инструменты, мы дружно примемся за дело и откроем себе выход и… – Да разве ты не чувствуешь запаха? – прервал его встревоженным голосом Леон.– Ведь это – запах динамита! – Да, да… но неужели ты полагаешь, что это был умышленно подготовленный взрыв? Кто же мог это сделать? – Кто?! Да те, кто увезли наши сани, похитили наших дорогих спутниц и Жана… – Эх, черт возьми! А ведь ты, пожалуй,, прав! Нас предварительно ограбили: ведь и сани исчезли… а я готов был допустить все, что угодно, кроме умышленного злодеяния… Это весьма похоже на дело рук «Красной звезды»! – Да, я думаю о том же, именно это и пугает меня! – сказал Леон. – Как бы то ни было, нам следует как можно скорее приняться за дело! Где наши заступы и кирки? – Да я же тебе говорю, что они унесли решительно все: и оружие, и инструменты, и съестные припасы, словом, все! – Будем искать выход,– заявил решительным тоном Дюшато,– здесь ютились двое медведей, следовательно, в пещере должен быть еще другой выход! – Да, это весьма возможно, надо постараться его найти! Прежде всего осмотрим коридор, из которого проникли к нам в пещеру эти медведи. Я пойду вперед, следуйте за мной, друзья! – произнес канадец. Они вошли в коридор, широкий и высокий вначале, но затем постепенно суживавшийся и шедший книзу, так что местами приходилось пролезать ползком. Кроме того, временами становилось настолько душно, что несчастные стали бояться задохнуться от недостатка воздуха. Наконец они очутились в своего рода яме, где можно было стоять во весь рост. Яма эта из мелкого, мягкого песка имела от двух с половиной до трех сажен в диаметре и вся была устлана мягким мхом, на котором еще валялись там и сям обглоданные кости. – Это-спальня медведей,-объявил Лестанг.– Как видите, этот зверь любит удобства! Какая у него мягкая постель! Стены этой ямы состояли из мягкого сыпучего песка, и Редон, машинально поцарапав по ним ногтями, заявил: – Будь у нас когти, как у медведей, мы могли бы прорыть себе выход! – Ничего здесь не поделаешь! – проговорил Леон.– Выхода нет: я осмотрел все! – Надо осмотреть еще и другой коридор! – произнес Дюшато.– Не отчаивайтесь, посмотрим там! И они снова отправились где ползком, где на четвереньках и, наконец, вышли в главную круглую залу пещеры. Второй коридор был гораздо ближе к месту взрыва и потому значительно пострадал от него: свод его был сильно расшатан, и некоторые глыбы над проходом едва держались, грозя ежеминутно обрушиться. Ввиду этого, прежде чем решиться войти сюда, наши друзья сочли необходимым удалить эти отделившиеся от свода глыбы, для чего было достаточно малейшего прикосновения к ним. Леон, как самый сильный и самый рослый, принял эту задачу на себя. – Берегись! – крикнул он, хватаясь руками за одну глыбу. Все посторонились. Раздался треск, оглушительный шум. Когда поднятая падением пыль немного улеглась, из уст наших друзей единодушно вырвался громкий крик при виде целой груды мутно-желтых комьев величиной не меньше двух здоровых кулаков. При свете одной свечи, бывшей в руках путешественников, трудно было хорошенько разобраться, сколько было тут золота, во всяком случае на миллионы, если не миллиарды. У всех мелькнула одна и та же мысль. Лестанг первый высказал ее: «Мать золота»! Вот она, «Мать золота»! На этот раз привычный глаз рудокопа не ошибся: это было действительно золото, чистое золото, а не «желтое железо» простодушного индейца. Старик Лестанг набросился на эти глыбы, прижимая их к груди, смеясь и плача в одно и то же время, лепетал, точно ребенок: – Да… да… это то, что я так искал и уже не надеялся более найти. Теперь я могу умереть спокойно… О, как это чудесно!.. Несмотря на весь ужас своего положения и остальные невольно поддались этому странному, опьяняющему обаянию золота. Всех неумолимо тянуло взглянуть на это сказочное богатство. Поль Редон и Леон зажгли свои свечи, чтобы также насладиться этим зрелищем. И пред этими грудами все забыли про грозящую им ужасную смерть; любящий отец забыл про свое дитя, свою единственную дочь, а бескорыстные в сущности и прекрасные молодые люди забыли про своих исчезнувших невест. Все было забыто, все, кроме какого-то безотчетного чувства алчности, какого-то опьянения золотом! – Глыба эта свалилась оттуда, – точно в бреду бормотал Лестанг.– Там, может быть, есть еще золото… может быть, еще много, много! Несчастному золотоискателю уже показалось мало этих миллионов, мало всех этих несметных богатств, валяющихся под его ногами; он простирал свои дрожащие от волнения руки к своду, сверкавшему самородками, при свете поднятой вверх свечи. «О, сколько золота! Его так много, до пресыщения, до отвращения, до переутомлены глаз!» Дикий порыв безумия снова охватил всех этих людей, но Дюшато в двое молодых людей очнулись под влиянием мысли о дорогих их сердцу существах. – О Жанна, дитя мое ненаглядное, где ты? Ведь всего этого я желал только для тебя! – воскликнул несчастный отец. – Марта, это все было для вас! – прошептал Леон. – Какая злая насмешка судьбы? Теперь, когда мы стали царями золота, мы заперты здесь, как в ловушке, зарыты, замурованы? – Надо придумать что-нибудь, чтобы выбраться отсюда, если мы не хотим умереть от голода! – Умереть? Теперь? Кто сказал это страшное слово? – воскликнул старик Лестанг.– Теперь, когда мы стали царями земными, когда мы овладели «Матерью золота»! Я ничего более не желаю… ничего не хочу… это золото теперь наше!.. – А ведь моя стрелка была права,– думал между тем Леон,– вот почему она оставалась неподвижной: здесь повсюду золото; во все время нашего злополучного путешествия она упорно сохраняла направление на эту пещеру! Наконец и старый Лестанг пришел в себя и понял весь ужас положения: эти архимиллионеры были несчастнейшими из людей, так как им среди груд золота грозила голодная смерть! У них не было ни одной капли воды, ни крохи пищи, а между тем они легли даже без ужина, и голод начинал уже давать себя знать. Выхода по-прежнему не было: второй коридор был совершенно завален обрушившимися обломками. Приходилось возложить все надежды на главный выход, также заваленный, так что при самом тщательном осмотре нигде не оказалось ни малейшей трещины, через которую можно было бы вырваться из этой тюрьмы. Видя, что все их усилия не приведут ни к чему, Леон мрачно произнес: – Нет, друзья, то, что сделал динамит, мажет разрушить только динамит, а те, кто думал похоронить нас здесь заживо, позаботились, чтобы у нас не осталось ни крохи его! – Стало быть, нам остается только ожидать помощи извне? – Да, но могут пройти десятки лет, прежде чем явится эта помощь! – с горькою усмешкою произнес Леон. – Как знать?! Ведь все может случиться, даже и невозможное! – произнес Лестанг.– А Жан, а наши барышни? – Но, быть может, они более нас нуждаются в помощи! – А мне кажется, что они помогут нам, ведь они на воле, а мы здесь – в заключении! – Дай Бог, чтобы вышло по-вашему! – проговорил с глубоким вздохом Дюшато.
ГЛАВА VIII
Подвиг лицеиста,– Человек и собака.– След.– Под сенью шатра.– Бандиты и их жертвы.– Мертвецки пьяные.– От жизни к смерти.– Новый подвиг Жана.– Те, кого не ожидали.Встревоженный сердитым ворчанием Портоса, Жан, наконец, преодолел свой сон и в сопровождении собаки вышел из пещеры, чтобы разобраться, в чем дело. Он отошел уже сажен на двести от пещеры, когда вдруг спохватился, что при нем не было ни оружия, ни даже простой палки, а вблизи, может быть, бродят волки и решил вернуться обратно. Но едва успел он повернуться, как Портос, вырвавшись от него, с громким, яростным лаем кинулся вперед. Вслед за этим из мрака раздался чей-то резкий и странный голос: – Да возьмите же вашу собаку: мы – друзья! – Люди здесь? – подумал удивленный молодой человек.– Портос? Сюда! Ко мне! Собака с видимой неохотой повиновалась, но продолжала рычать; за нею на расстоянии нескольких шагов появилась кучка людей, похожих на тени. Вскоре Жан ясно мог различить очертания пяти мужчин, укутанных в меха. Один из них обратился к нему по-французски, но с сильным английским акцентом. – Мы – золотоискатели; наши сани и собаки немного поотстали! Мы возвращаемся в Доусон-Сити и ищем, где бы нам укрыться на ночь! Голос показался Жану знакомым, и какое-то предчувствие дало знать, что эти люди – враги. Тем не менее он вежливо отвечал: – Здесь неподалеку есть пещера, где находятся мои товарищи! Если хотите, я провожу вас туда! С этими словами он кинулся к пещере, надеясь добежать туда раньше и поднять тревогу, чтобы встретить, как следует этих людей. Но – увы! – его окружили со всех сторон. – Уложите его на месте, как молодого волчонка,– крикнул тот же жесткий голос,– это – маленький братец, я узнал его! Сильный удар по голове ошеломил Жана; инстинктивным движением он протянул было вперед руки, но тут же упал шепча: «Они убили меня… Марта! Леон! Я умираю!» Верный Портос с остервенением кинулся на злодеев, но сильный удар заставил его выпустить свою жертву, которую он успел было схватить за горло – и смелый пес упал почти замертво подле своего безжизненного господина. – Ну, а теперь в пещеру! – скомандовал злодей, которому беспрекословно повиновались остальные.– Надо воспользоваться минутой, пока они еще не пробудились! – Но этот-то, по крайней мере, не встанет? – Этот? – презрительно повторил бандит.– О нем нечего беспокоиться,– молокосос, мальчишка! Таких ли я мигом отправлял на тот свет! И они поспешили дальше, оставив на снегу, в луже крови, несчастного мальчика и его преданную собаку без признаков жизни. Однако Портос остался жив. Эти громадные, сильные собаки вообще очень живучи. Вскоре он стал шевелиться, сопеть, чихать и, наконец, совершенно пришел в себя. Увидев своего господина, умный пес стал лизать ему лицо, отогревая его дыханием, но так как это не действовало, и юноша не оживал, понятливая собака стала разрывать вокруг него снег и легла к нему как можно ближе, стараясь отогреть его теплотой своего тела. Затем она опять стала лизать ему лицо… Вдруг раздался глухой подземный гул, затем звук страшного выстрела, и почва заколыхалась, дрогнула; вместе с этим юноша вдруг очнулся, и слабый крик вырвался из его груди. Портос, услыхав этот крик, стал всячески выражать свою радость, визжать и ластиться к своему господину. Сделав над собою усилие, Жан сразу припомнил все – и ужас охватил его при мысли о чудовищной опасности, какой подверглись остальные в пещере. Он хотел встать, бежать к ним на помощь, пожертвовать для них последним мигом жизни, но не мог подняться: подтаявший под ним снег успел уже снова оледенеть; меховая одежда его примерзла к снегу, и несмотря на его слабые усилия он остался неподвижен. Сознание своей слабости и беспомощности вызвало невольные слезы у смелого юноши. – Но мне же надо идти! Надо спасти их или умереть вместе с ними! – шептал он и снова пошевелился, делая попытки приподняться; ему удалось ухватиться за ошейник Портоса, и доброе животное стало тянуть со всей силы и наконец оторвало его от снега. Жан приподнялся; в ушах у него шумело, в голове ощущалась невероятная боль, в глазах стоял туман, в груди он чувствовал леденящий холод, и что-то тепловатое, мокрое, липкое смачивало его рубашку и нижнюю одежду. – Вероятно, кровь! – думал мальчик. Мучительная жажда томила его, но он не поддался соблазну утолить ее снегом. Вдруг вдали послышался легкий скрип лыж. Портос глухо зарычал. – Молчи, Портос, молчи! – стал унимать его Жан, и, опасаясь, чтобы собака не выдала его своим лаем, он одной рукой зажал ему морду. Слышны были и голоса. Он узнал их: это – голос убийцы, угрожающий, злобный, и голос Марты, его сестры, молящий и рыдающий. – Боже, они уводят мою сестру!.. О, я найду в себе силы следовать за ними! Я еще мальчик, но сумею справиться с этими негодяями! – думал отважный юноша. Да, Марта плакала и вырывалась из рук злодеев. С нею была и Жанна, и никто не мог помочь им!.. При этой мысли у бедного раненого как будто выросли крылья, из слабого ребенка он превратился в атлета. Забывая и голод, и жажду, и слабость, и раны, он сделал шаг вперед в сопровождении своего верного пса, который, хотя и сильно хромал, тем неменее не хотел отстать от своего господина. Шатаясь, точно хмельной, спотыкаясь на каждом шагу, Жан стал подвигаться ползком, следуя за похитителями и не упуская их из виду. Послушная собака поняла, что надо следовать крадучись, и перестала рычать. Голосов уже не стало слышно, но Портос безошибочно вел своего господина по следу похитителей, руководствуясь своим чутьем. Несмотря, однако, на всю свою энергию, бедный Жан чувствовал, что силы его уходят с каждым шагом, что он все больше и больше слабеет. – Но я дойду, дойду!..– шептал геройский юноша, хотя дыхание хриплым свистом вырывалось у него из груди. Вскоре он увидел перед собой большое темное пятно на снегу. Ему показалось, что это – ряд саней, а за ними палатка. Не подлежало сомнению, что это был лагерь бандитов. Но вот и шелковая палатка. Жан припал к ней ухом и стал слушать с замирающим сердцем. Оттуда доносились отвратительный запах спиртных напитков и грубые, пьяные голоса. Скоро, однако, все стихло, и слышался только пьяный храп уснувших негодяев. Бедные девушки, связанные веревками по рукам и ногам, тихо плакали, съежившись в углу шатра. Вдруг легкий звук привлек их внимание, и струя холодного воздуха внезапно охватила их: острое лезвие ножа пропороло тонкую шелковую ткань палатки, и покрытый инеем человек в сопровождении такой же заиндевевшей косматой собаки вошел в шатер. – Жан! – прошептала Марта. – Тихо! Ни звука! – проговорил он чуть слышно. И этот мальчик, этот умирающий раненый, исходящий кровью, склонился над спящим разбойником, схватил его за бороду и хладнокровно, как настоящий палач, перерезал ему горло от одного уха до другого. Слабый храп, фонтан крови – и дело было сделано. Затем он точно так же поступил и со следующим. Обезумевшие от ужаса и чувства отвращения при виде этих луж крови девушки закрыли лицо руками и прижались еще плотнее одна к другой. Между тем Жан продолжал свою кровавую расправу. – Хватит ли только сил!..– прошептал он, снова принимаясь за кровавое дело. Еще один из негодяев отправился на тот свет. Рядом с ним лежал совершенно без всяких признаков жизни его сообщник, и его стал прирезывать Жан, собрав остаток сил. Теперь остался еще один. Надо покончить и с ним! Он уже занес нож и нанес удар, но в ослабевшей руке юноши не было сил заколоть негодяя, она только ранила его, притом легко. Тот вскочил на ноги и, схватив юношу поперек тела, в один миг обезоружил его. Еще секунда – и отважный мальчик стал бы жертвой злодея, но Портос, видя, что его господину грозит опасность, оскалив зубы и ощетинив шерсть, сильным прыжком кинулся на негодяя, опрокинул его, схватил за горло и довершил дело своего господина. В этот момент за палаткой послышались запыхавшиеся голоса. – Сдавайтесь или все вы не сойдете с места! – И трое мужчин ворвались в палатку с заряженными пистолетами в руках. Марта узнала этот голос. – Мистер Тоби? – воскликнула она.– О, мистер Тоби! Помогите ему, пока еще не поздно… Жан лишился чувств! – Вы здесь?! Как вы сюда попали, милые барышни? – После, после, помогите ему! Но Жан уже очнулся; шатаясь, поднялся он на ноги и с довольной улыбкой оглянулся кругом. Мистер Тоби разрезал веревки, которыми были связаны молодые девушки. – О! Мы опоздали! – проговорил он.– Все дело сделал один мистер Жан? Вы – герой, мистер Жан!
ГЛАВА IX
Сила воли.– Возвращение к пещере.– Живы.– Опять динамит! – На свободе.– Рассказ Тоби.– Вознаграждение.– Выяснившаяся тайна.– При свете пламени.– «Красная звезда».– Последнее открытие.– Жан? Жан! – воскликнула Марта, кинувшись на шею брата.– Боже? Ты ранен, на тебе кровь! Жанна, помогите мне сделать ему перевязку! – Да, да, дорогая Марта, но какой холод! Надо закрыть эту щель какой-нибудь шкурой! – проговорил юноша. – Сейчас, барышни, дайте нам только убрать отсюда эту падаль! Тут можно потонуть в крови! – проговорил Тоби и принялся вместе со своими товарищами вытаскивать одно за другим тела убитых из шатра. Девушки суетились около Жана, желая ему помочь. – Не надо,– сказал он,– я чувствую только некоторую тяжесть в голове, но это пройдет на морозе. Здесь душно и смрадно! Я ничего не ощущаю в груди; если и есть там рана, так кровь на ней запеклась и теперь она заживет сама собою. Поспешим скорее туда, к пещере, где остались наши друзья! Пока оставим все так, как есть, но захватим с собою одни сани: они ограбили все дочиста! – Зато у нас наши сани в полной исправности! – возразил мистер Тоби. – Тем лучше, избыток имущества никогда не мешает, захватим все! Порешив на этом, все без дальнейших проволочек направились к медвежьей пещере, отстоявшей на полмили отсюда. Жан и обе девушки слышали разговор разбойников, но им не хотелось верить, что их друзья безвозвратно погибли, хотя взрыв и шум разрушения говорили сами за себя. Но вот они на месте преступления; кругом мертвая тишина. Тем не менее Тоби схватил кирку и принялся бить что есть силы по стене. И вдруг – о радость! – изнутри также послышались ответные удары и крики. – Они живы! Живы! Скорее сюда петарду note 11 ! Чтобы избежать обвала, Тоби поместил снаряд как можно выше и при этом крикнул что есть мочи: – Отойдите, господа, в самую глубь пещеры: сейчас мы взорвем верхний свод! Спустя несколько минут раздался взрыв, а когда дым рассеялся, Тоби воскликнул: – Ура! Друзья мои! – Ура! – отозвались изнутри знакомые голоса. – Все ли живы? – Все! Живы и невредимы! Погребенные заживо вышли через брешь, проделанную взрывом; последовали объятия, бессвязные, радостные восклицания, поцелуи. Выждав, пока улеглись первые минуты волнения, мистер Тоби, со свойственной англичанам корректностью, поспешил представить друзьям своих товарищей, мистера Паскаля Робена и мистера Франсуа Жюно, канадцев родом. Все в теплых выражениях принялись благодарить их, причем Леон добавил: – Все мы, мистер Тоби, обязаны вам и вашим товарищам своею жизнью, а потому одной голословной благодарности мало, и хотя мы останемся вашими неоплатными должниками, но все-таки просим вас, мистер Тоби, принять от нас миллион, а вас, господа, каждого по 500 000! – Да! Да! – подтвердили все остальные. Затем все отправились в пещеру, затопили печь, стали готовить ужин. Здесь, расположившись на медвежьих шкурах у печки, Тоби рассказал своим друзьям, каким образом он явился так кстати. – Я принадлежу к числу тех людей,– говорил он,– которые, начав какое-нибудь дело, любят непременно довести его до конца. История с Жое Нортоном и Ребеном Смитом не давала мне покоя. Я решил во что бы то ни стало разоблачить эту мистификацию. – И вам удалось? – Вот вы сейчас узнаете. Конечно, это было не легко: я следил, выслеживал и в конце концов убедился, что Жое Нортон и Ребен Смит – не одно и то же, что Боб Вильсон и Фpeнсиc Бернетт, как мы полагали! – Значит, судьи были правы? – И да, и нет! Существуют все четверо: я Смит, и Вильсон, и Нортон, и Бернетт, причем Жое – двойник Боба, а Ребен – двойник Френсиса. Сходство между этими негодяями до того поразительно, что при помощи легкого грима, каблуков повыше или пониже, подкрашенной бороды и волос они становились не отличимы друг от друга. В этом и весь секрет! Узнал я это посредством целого ряда фотоснимков. Фотография показала и сходство, и некоторое характерное различие этих, столь сходных на первый взгляд личностей, которые, надо заметить, никогда не собираются все вместе! – Вы просто гений, Тоби! Тот самодовольно улыбнулся и продолжал: – Заручившись этими снимками и подружившись с этими господами, которые во всем оказывали мне помощь и содействие, я обратился к суду, и так как последний отнесся к этому делу довольно холодно, написал большую обличительную статью, в которой беспощадно громил и суд и судей, изобличал и всех четверых негодяев, перечисляя все их преступления, злодеяния и проделки. Одна из влиятельных газет приняла статью и тут же напечатала ее, уплатив мне громадный гонорар. Статья эта имела такой успех и так подействовала на судей и на общественное мнение, что немедленно были приняты меры для ареста четырех негодяев, но те успели бежать. Тогда суд пересмотрел дело – и мы были объявлены невинно пострадавшими. Негодяев преследовали, но они успели скрыться и только таким образом избежали закона Линча. Тогда я и двое моих товарищей на трех санях и с полным снаряжением полярной экспедиции пустились преследовать их по снежной пустыне. Вдруг мы заметили, что их след сливается с другим следом, с вашим. Это так напутало нас, что мы с удвоенной скоростью стали нагонять их, но несмотря на все наши усилия, если бы не мистер Жаи, явились бы слишком поздно! – Но, скажите, что же произошло с «Красной звездой»? – Вы желаете знать, что с нею сталось? Прекрасно! Потрудитесь последовать за мной! Все вышли и быстро направились к шелковой палатке. Не доходя пятидесяти шагов до нее, Тоби попросил всех остановиться и подождать немного, а сам побежал вперед, вылил на снег свою бутыль керосина и зажег его. Громадное пламя взвилось кверху и озарило кровавым заревом снеговую равнину. Крик ужаса вырвался из груди зрителей: на снегу вырисовывалось пять окровавленных тел. Случайно ли, или умышленно, эти объятые пламенем тела расположены были правильной пятигранной звездой. – Вот она, «Красная звезда»! – воскликнул Тоби, указывая на них.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теперь нашим друзьям предстоял выбор между зимовкой в медвежьей пещере и зимовкой в Доусон-Сити. Все единогласно решили вернуться в блестящую молодую столицу Клондайка, где они могли найти все удобства; выждали только несколько дней, пока Жан совершенно оправился от своей раны, а за это время добыли большое количество золотых слитков и нагрузили ими сани умерших членов «Красной звезды». Золота оказалось по меньшей мере на 9.000.000 франков, но, произведя расчистку второй галереи, или коридора, старик Лестанг воскликнул: – О нет, это уж слишком много! Смотрите! Ведь здесь все своды и стены из чистого золота! Право, я умру? Тут более чем на сотни миллионов! – Да, это поистине сон из «Тысячи и одной ночи»! – согласились с ним остальные, но теперь вид этих несметных богатств уже не опьянял их; теперь их всецело охватило лихорадочное желание вернуться скорей на родину и бежать из этой безлюдной пустыни, из этого «ледяного ада», где жизнь была одною сплошною пыткой как для тела, так и для души. И они поспешили захватить из таинственной сокровищницы столько золота, сколько могли увезти их сани. Навалив его целыми грудами, они тотчас же отправились в путь. Возвращение прошло сравнительно благополучио, без особых печальных приключений, а въезд в столицу Клондайка стал настоящим триумфальным шествием. За время их отсутствия успел совершиться полный переворот в образе мыслей обитателей этого города: их враждебное отношение сменилось восторженным благоговением перед счастливыми обладателями неисчислимых миллионов. Но эти шумные овации, эти празднества и даже самая сказочная роскошь обстановки лучшей гостиницы, оплачиваемая 100 франками в сутки с каждой персоны,– все это не удовлетворяло наших друзей. Не занимал и не радовал их и Доусон-Сити; они считали его первым этапом на пути к любимой Франции, о которой все они мечтали и куда стремились всей душой. – Мы все, все едем во Францию! – говорили они. Один только старый Лестанг пожелал здесь и умереть, в этой стране золота. – Я, видите ли,– говорил он,– должен остаться здесь! Я буду вашим доверенным, управляющим и уполномоченным, и, не сомневайтесь, никто лучше меня не сумеет вести ваше дело! Кроме того, никто, кроме меня, не должен эксплуатировать «Мать золота»! Все согласились со старым оригиналом. Предстоящее путешествие во Францию приводило в восторг и Дюшато, и его дочь: ведь это – осуществление их заветной мечты, мечты каждого канадца французского происхождения: все они мечтают хоть раз в жизни повидать свою «старую родину». Кроме того, общие печали и радости, общие волнения, лишения и опасности до того сблизили их, что даже Жанна, далеко не сентиментальная, положительно не могла себе представить разлуки со своими друзьями. У них у всех была как бы одна душа. И все это случилось как будто само собой и, по словам Леона, само собой стало ясно, что Поль Редон и Жанна созданы друг для друга, так же как Леон и мадемуазель Марта. – Не подлежит сомнению,– добавил он,– что по возвращении во Францию все это кончится, как в романе, двойною свадьбою, и если ты ничего не имеешь против, то мы поженимся в один и тот же день! – Браво! Во всяком случае, я благословляю эту страну морозов, где я нашел свое счастье! – вскричал Поль. – До сих пор ты, кажется, только проклинал этот «ледяной ад»! – Пусть же он отныне будет «снежным раем»! – воскликнул журналист.– Я никогда не буду называть его иначе!Луи Буссенар. Герои Малахова кургана
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЖАН СОРВИ-ГОЛОВА *
Глава I
Лагерь зуавов. – Накануне битвы. – Мародеры. – Севастополь. – Вина вдоволь. – Букет роз. – Жан Сорви-голова и сержант. – Оскорбление и самоуправство. – Удар… уткой.– Стой! Ружья в козлы! Вольно! Короткий отрывистый звук трубы последовал за этой звучной командой полковника. Две тысячи зуавов, идущих сомкнутыми колоннами, останавливаются вдруг, как один человек. Ряды расстраиваются. Всюду мелькают широкие сборчатые шальвары и белые гетры. Потом лязг металла – и штыки отомкнуты. Слышны веселые голоса. Переход окончен, впрочем, очень короткий, едва в пятнадцать километров. Два часа пополудни. Только накануне зуавы высадились на берег Крыма, счастливые, что оставляют корабль и могут снова начать свою полную приключений жизнь. В один миг – мешки на земле, огромные, гигантские мешки, в которых зуавы хранят всякую всячину: свое хозяйство, провизию Промежутки между палатками размечены, палатки развернуты, поставлены, натянуты, укреплены. В короткое время готов целый городок палаток. Вполне естественно, что интендантство запоздало. Продовольствия нет. Ротные командиры толпятся около полковника, который поджимает плечами и говорит: – Эти лентяи неторопятся! Завтра, господа, деремся. Это верно. Необходимо сэкономить резервные запасы… во что бы то ни стало… постарайтесь, чтобы они уцелели до последней крайности! Сегодня… сегодня же… пусть люди отдохнут! Дайте свободу людям! – добавляет он со снисходительной улыбкой. Завтра битва! Сегодня гульба! – Эти две новости облетели весь лагерь и обрадовали всех. Солдаты группируются повзводно. Начальник взводя или кашевар должны заботиться о желудках. Он обязан выполнить невозможное и накормить голодных, которым не хватило продовольствия. Впрочем, это случается часто и составляет тайну мародеров. В это время солдаты каждого взвода не теряют временя; одни собирают камни, роют ямы, устраивают костры, ломают ветки деревьев, которые дымят, искрятся и загораются. Другие бегут к реке, чтобы заполнить котелки водой, или осаждают тележку маркитантки, тетки Буффарик, и покупают у нее разные закуски. Некоторые отправляются на поиски. Трубач трубит, призывая к еде, заканчивает жалобной нотой и говорит с комической покорностью: – У меня нет супа… Горькая судьба! – Ну-ка, Жан, молодчина! Не заставишь же ты нас смотреть да облизываться… – Надеемся на тебя! – У меня в брюхе играют зорю! – Достань нам поесть, Жан! Достань, или ты не наш молодчина Жан Сорви-голова? Человек, которого так единодушно называют Сорви-головой, – великолепный солдат 23 лет, стройный, немного выше среднего роста, пылкий, как порох, мускулистый, как боец. Узкий в бедрах, широченнейший в плечах, с высокой грудью, он высоко держит свою красивую голову, на затылке которой каким-то чудесным способом прикреплена его красная феска с голубой кистью. Красивый молодец, с изящной бородкой, светлой и слегка вьющейся, с тонко очерченным носом и ртом. Его большие, голубые, как сапфир, глаза полны кротости и доброты, как глаза женщины. Красавец, но сам по себе он нисколько об этом не думает. Он занят другим, весело улыбается, показывая белые, острые, совсем волчьи зубы, и кричит: – Погодите немного! Кебир сказал: дать свободу людям! Ладно! Пусть я лишусь своего прозвища, если не достану вам выпивки и обеда! С видом человека, знающего цену времени, Жан вешает на перевязь шесть взводных котелков и отправляется в путь большими шагами, держа нос по ветру. Товарищи бегут за ним. – Сорви-голова, мы с тобой! – Пойдем, дети мои! – Тут пахнет хорошим вином и мясом… – Живо, марш вперед! Они проходят пригорок на левом берегу реки и останавливаются. Крик удивления невольно вырывается из груди. Перед ними прелестная возделанная равнина, луга, виноградники, фруктовые сады, виллы, фермы, хижины… В центре всего этого целая масса скота. Быки, коровы, овцы, козы, свиньи, кролики, индюшки, куры, утки… целый Ноев ковчег врассыпную. Чувствуется близость большого города, поглощающего всю эту живность. Там, вдали, виднеется этот город, весь белый, с зелеными домиками, блистающими, как изумруды, в лучах солнца. – Севастополь! – говорит вполголоса Жан. Его товарищи, пораженные, забыв все на свете, глядят во все глаза. Налево – целый цветник красных панталон. Французские полки расположились лагерем на огромном пространстве: батареи, артиллерия, палатки, огни бивуаков, бригады, Дивизии, словом, целая армия в тридцать тысяч человек. Под прямым углом – двадцать тысяч англичан, лагерь которых образует правильный угол на линии горизонта. Вправо, на другом берегу, стоит другая армия, мрачная, тихая, черные линии которой ясно вырисовываются на откосах. – Неприятель! Русские! – говорит Сорви-голова. Расстояние между двумя армиями не больше мили. В воздухе слышится запах пороху, чувствуется близость битвы. Передовые английские отряды перестреливаются с казаками. Вдали на аванпостах раздаются выстрелы, изредка грохочет пушка. На свободном пространстве толпятся и бродят солдаты всех армий. Мародерство в полном разгаре. Зуавы рискуют не достать даже объедков. После минутного удивления они отправляются далее гимнастическим шагом, прижав локти к телу, причем котелки, которые они несут, болтаются и бренчат. Первые аулы, хижины, обитаемые татарами, опустошены. Все взято, словно выметено, и несчастные крестьяне горько оплакивают свое разорение. Зуавы, видавшие много подобных сцен, проходят мимо, не обратив внимания, ускоряют шаг и, наконец, бегут со всех ног. На пути они встречают линейцев, нагруженных, как мулы, с раскрасневшимися от вина лицами, с воспаленными глазами. Зуавы достигают большой фермы, расположенной среди виноградников. На дворе ужасающий беспорядок. Солдаты всех армий воюют на скотном дворе. Артиллерист режет саблей свинью, которая отчаянно визжит. Венсенский стрелок взваливает себе на плечи барана, толпа стрелков толкает и тащит мычащую корову, между тем как англичане в красных мундирах охотятся и за птицей. – Черт возьми, – ворчит один из зуавов, – нам эдак ничего не останется! Сорви-голова хохочет и кричит: – Не бойся! Через минуту у нас будет всего вдоволь! Из подвала текут реки вина. Сорви-голова облизывает губы. – Что, если бы выпить глоток? – говорит он. – Отлично! – отвечают в один голос зуавы. Они бегут к подвалу и смотрят. Там можно утонуть в вине. Настоящее крымское вино, сухое, розовое, искристое, которое пахнет кремнем. В погребе находились сотни бочек вина. Солдаты прокололи втулки саблями и штыками. Вино полилось, потекло по подвалу и задержалось в его стенах, как в цистерне. – Ах, плуты! – кричит один из зуавов. – Надо пить! У меня нет предрассудков, когда тут разливанное море вина! Никто не думает об умеренности. A la guerre, comme a la guerre! Все начинают пить, пить без конца, празднуя это единственное в своем роде открытие. Зуавы напитываются вином как губки. Сорви-голова успел наполнить все котелки. – Теперь, – говорит он, – похлопочем об обеде! Они возвращаются на скотный двор, где продолжается ожесточенная битва. Сорви-голова, от которого не ускользает ничего, замечает прелестный розовый куст в полном цвету, срывает розы, связывает их былинкой в красивый букет и бережно втыкает его в складки своего шерстяного пояса. Товарищи с удивлением смотрят на него. Какие там розы, когда тут разливанное море вина, а двор полон птицы! Но у всякого свой вкус, и Сорви-голова, предводитель отряда, имеет полное право выполнять свои фантазии. Жан спокойно прикладывает руки ко рту в виде воронки и вопит: – К оружию! К оружию! Казаки! Безумная паника охватывает мародеров. Они бросают добычу, бегут через двор в ворота и исчезают, совсем перепуганные, потерявшиеся. Зуавы остаются одни и кусают себе губы, чтобы не разразиться сумасшедшим смехом. Сорвиголова весело кричит: – Все наше! Мы выберем, что нам нравится, и унесем в лагерь! Посередине двора лежит умирающая свинья, брошенная артиллеристом. Один из зуавов взваливает ее себе на спину, приговаривая: «Пойдем, госпожа свинья! Пойдем!» Другие хватают индюшек и гусей. Сорви-голова запасся петухом и жирной уткой, которых он держит за шею обеими руками. Птицы отчаянно болтают лапками и крыльями. Жан становится во главе отряда и командует: – Налево кругом марш! Он весело идет впереди, подпрыгивая, встряхивая задыхающихся петуха и утку. Между тем беглецы, заметив, что они обмануты, постепенно возвращаются. В тот момент, когда Сорви-голова, жестикулируя, проходит в ворота, он сталкивается с каким-то линейцем, толкает его и идет дальше, не обратив внимания на галуны сержанта, нашитые на его рукаве, и даже не извинившись. Очевидно, крымское вино сильно подействовало на него. Унтер-офицер сурово окликает его: – Эй ты, зуав, разве у тебя в полку не отдают честь старшим? Артиллеристы, линейцы, охотники, англичане останавливаются, образуют круг и смотрят, забавляясь затруднительным положением зуава, который обманул их. Сорви-голова пристально смотрит на сержанта, узнает его и кричит, смеясь: – Ах, в самом деле! Ведь это Леон, мой старый товарищ. Леон Дюрэ, мой однокашник… Как я рад, как счастлив тебя видеть! Очень бледный, нахмуренный, скривив рот, унтер-офицер отвечает: – Здесь нет ни товарищей, ни однокашников! Есть только унтер-офицер, которого простой солдат грубо оскорбил. Приказываю тебе сейчас же встать во фронт и отдать мне честь! Сорви-голова, совсем опешив, не верит своим ушам. Зуавы ворчат, в группе других солдат слышится ропот одобрения. Сорви-голова все еще думает, что с ним шутят, и задыхающимся голосом спрашивает: – Ты шутишь, Леон, не правда ли? Мы выросли в одной деревне, поступили вместе на службу, в один и тот же день были сделаны капралами, а потом сержантами… я снял галуны только для того, чтобы перейти в полк зуавов!.. – Я знаю только, что ты, простой солдат, не извинился за свою грубость и неловкость и не отдал чести старшему чину! Ладно, ты еще услышишь обо мне, зуав! Завидуя зуавам, этому избранному и популярному во Франции корпусу войск, пользующемуся многими привилегиями, солдаты других армий посмеиваются. Они находят, что сержант отлично прижал этого гордеца и забияку, который посмеялся над ними и присвоил себе их добычу. Товарищи Сорви-головы хорошо знают его, удивляются его спокойствию и тревожатся. Один из них толкает соседа локтем и шепчет: – Не думай! Он не спустит! – Не желал бы я быть в его шкуре! Вдруг Сорви-голова краснеет, потом его бронзовое лицо смертельно бледнеет. Жилы на лбу наливаются кровью и походят на веревки, губы синеют, а голубые глаза принимают стальной блеск. Его охватывает ужасный гнев. Отрывистые, резкие слова едва вылетают из стиснутых зубов. – Ах ты, негодяй! – кричит он, забывая всякую меру. – Ты достойный сын негодяя-отца! Я пытался забыть ненависть твоего отца к моему – ненависть плута к честному человеку… но это невозможно! А! Ты хочешь, чтобы я отдал тебе честь? Сейчас я покажу тебе свое почтение, не замедлю! Держись, сержант Дюрэ! Это тебе отдает честь зуав Бургейль, сын старого коменданта Бургейля, эскадронного начальника конных гренадер императорской гвардии… Жан охотно дал бы пощечину своему врагу, но руки его были заняты. Левой рукой он держит петуха, а правой утку, которая смешно болтается и повисла, как скрипка. От трагичного до смешного – один шаг. Но никто не смеется, всякому понятно, что зуав рискует жизнью. Его товарищи спешат вмешаться, но… поздно! С быстротой молнии Сорви-голова поднимает утку, размахивается и ударяет ей по лицу сержанта. Утка весит семь фунтов; удар так силен, что унтер-офицер шатается и падает. Голова утки осталась в руке Жана, шея оборвалась, а туловище отлетело на десять шагов. Зуав охотно продолжал бы драку, но ему противно бить лежачего. Впрочем, его гнев сейчас же стихает, когда он видит результаты борьбы, последствия которой – увы! – нетрудно угадать. Сержант с трудом поднимается и садится. Его щека страшно вспухла, раздулась, как тыква. Глаз почернел, налился кровью, из носа ручьем льется кровь. Он вбирает в себя воздух, смотрит на зуава неописуемым взглядом, в котором дикая ненависть смешивается с не менее дикой радостью, и говорит: – Ты верно рассчитал! Я увижу, как тебя расстреляют! Зрители больше не смеются. Они знают беспощадную суровость военного закона. Казнь через 24 часа, без пощады, без милосердия! Сорви-голова кажется железным человеком. Он спокойно поднимает утку, осматривает, не измялся ли его букет и, пожав плечами, говорит: – Что написано – то написано, что будет, то будет! Пойдем обедать!
ГЛАВА II
Семья Буффарик. – Букет отдан по назначению. – Генерал Боске. – Арест. – Смертный приговор. – Тщетные попытки. – Зоря. – Битва. – Пленник. – Часовые. – Бегство. – Жандармы запоздали.Зуавы отдыхают. В лагере идет чудовищная попойка. Все котлы и котелки дымятся, кипят, шипят и превкусно пахнут. В ожидании хорошего завтрака Жан Сорви-голова отправляется к маркитанту. Очень довольный, нимало не помышляя о своем проступке, он идет горделивой поступью, с обычной зуавам непринужденностью осанки. Дружеский голос с явным провансальским акцентом звучно приветствует его: – А, Жан, как живешь? Э! Мой Сорви-голова! Катерина! Жена! Роза, голубка! Тото, мальчик мой, идите сюда! Смотрите! Это наш Сорви-голова! Это сердечное приветствие исходит от старого сержанта зуавов. Лысый, украшенный медалями, с бородой до пояса, веселый, как птица, этот ветеран африканской армии. Мариус Пинсон Буффарик, чистокровный марселец, маркитант первого батальона. Сомкнутые ряды закусывающих расступились перед Жаном. К нему тянутся руки для пожатия, его приветствуют дружескими возгласами. – Здравствуй, Жан! Здравствуй, Сорвиголова! Здравствуй, старый приятель! Его прогулка похожа на триумфальное шествие. Чувствуется, что этот отчаянный, дьявольски смелый зуав известен всему полку и популярнее любого начальника. – Ну, иди же! – кричит Буффарик. – Здравствуйте, дядя Буффарик! Я очень рад видеть вас! – успевает, наконец, сказать Жан. – Стой! Ты спас нам жизнь, всем четверым… ты для меня самый дорогой друг! Раз навсегда было решено, чтобы ты говорил мне на «ты'» Да, это правда, и случилось два года тому назад в Кабиле. Сорви-голова спас тяжело раненного дядю Буффарика, спас тетку Буффарик из рук целой шайки разъяренных арабов, после того, как она выстрелила из своих обоих пистолетов, спас Розу, поддерживающую умирающего старика, и двенадцатилетнего Тото, ружьем защищавшего своего отца. Да, Сорви-голова проделал все это, что было потом прочитано в дневном приказе по армии. Он совершил много подобных подвигов, и для него это была ходячая монета обыденной жизни, которую он не считал и забывал. Жан Сорви-голова – герой второго полка зуавов – олицетворяет собой их веселую неустрашимость, безграничное самоотвержение так же, как любовь к излишествам и вспышки дикой ярости и гнева. Бескорыстный и верный друг, душа нараспашку, но порывистый, с пылкой южной кровью! Тетка Буффарик, красивая сорокалетняя эльзаска, подходит к Жану с протянутой рукой, за ней ее дочь Роза, прелестная 18-летняя блондинка. Жан, смущенный, несмотря на весь свой обычный апломб, робко вытаскивает из-за пояса красивый букет, подносит его молодой девушке и говорит тихим дрожащим голосом: – Мадемуазель Роза, я принес цветы для вас… позволите ли вы поднести их вам? – О, с большим удовольствием, мосье Жан! – говорит прелестное дитя, в то время как папа Буффарик смотрит на нее и растроганным голосом бормочет: – О, молодость, молодость! – Ну, Жан, – слышится вдруг веселый мальчишеский голос, – ты забываешь меня в моем углу… меня, Гастона Пинсона… дитя второго полка… барабанщика и твоего приятеля… – Никогда в жизни, мой милый Тото, мой старый барабанщик! – О, мне сегодня минуло четырнадцать лет! – Совсем мой портрет! – восклицает отец со своим провансальским лиризмом и после молчания добавляет: – Жан, будешь пить? – С удовольствием! Вдруг раздается крик: – Стройся! Живо! Солдаты вскакивают с мест, словно среди них разорвалась бомба. К лагерю зуавов подходит пешком генерал, один, без свиты. Его узнают и кричат: – Это Боске, неустрашимый Боске! Боске, обожаемый солдатами! Самый популярный из всех генералов африканской армии. Накануне битвы он запросто, как отец, обходит дивизию, без свиты, без штаба, без церемоний, и это еще больше усиливает его обаяние! Великолепный и еще молодой солдат! Произведенный в бригадные генералы в тридцать восемь лет, он одиннадцать месяцев тому назад как получил дивизию, хотя ему нет еще сорока четырех лет! Высокого роста, великолепно сложенный, гибкий и деятельный, с красивой энергичной головой, он внушает доверие и симпатию. В его широком жесте, огненном взоре, в звучном гасконском голосе, который гремит как раскаты грома, чувствуется великий вождь, великий знаток человеческого сердца. Да, он так красив, увлекателен, смел, что вошел в пословицу: Храбр, как Боске. И ничего банального, потому что Боске – герой, который смущается от этого восторга, криков, восклицаний, виватов. Зуавы волнуются, поднимают руки, бросают в воздух свои фески и кричат во все горло: – Да здравствует Боске! Виват! Он хочет знать, хорошо ли поели люди – полные котлы и вкусный запах кушанья успокаивают его. Проходя мимо Буффарика, которого он знает пятнадцать лет, Боске дружески кивает ему и говорит: – Здравствуй, старик! Ветеран краснеет от удовольствия и вопит сквозь свою патриархальную бороду: – Да здравствует Боске! Когда гордый силуэт любимого генерала исчезает вдали, он добавляет: – Какой человек! Как хорошо умереть за него! А пока выпьем за его здоровье! Он чокается с Жаном и вдруг вскрикивает: – Что это такое? Четверо вооруженных зуавов с примкнутыми штыками под командой сержанта приближаются к ним. – Чтоб им провалиться! Я должен арестовать Сорви-голову! – отвечает сержант. – А за что? – Он едва не убил какого-то чертова сержанта… У меня приказ кебира; он клянется казнить Жана в пример другим! – Это правда, это верно, Жан? – Это правда! – спокойно отвечает Жан. – Беда! Бедняга ты мой! Ведь тут военный суд! – Я иду… что сделано, то сделано! Сержант, я готов! Тетка Буффарик перепугана, Роза бледнеет, Тото протестует, солдаты волнуются при виде Жана, уходящего, окруженного товарищами, весьма недовольными своей ролью. Пленника ведут сначала в палатку, где его ждет товарищ, трубач-капрал, по прозвищу Соленый Клюв. Он в отчаянии и. не находя слов, бормочет сквозь слезы: – Бедный! Горе какое! Бедняжка! Сержант отбирает у Жана штык, матрикул, его добрый карабин, верного товарища в битве. Потом его ведут в центр лагеря к полковнику, большими шагами расхаживающему перед своей палаткой, входная занавеска которой полуприподнята. Внутри за складным столиком сидят три офицера, у стола стоит штабной писарь с пером в руке, готовый писать. При виде арестованного полковник разражается яростными восклицаниями. – Как? Это ты? Лучший солдат моего полка, и делаешь подобные веши! – Господин полковник! Тут старая семейная вражда, и, кроме того, он оскорбительным образом потребовал, чтобы я отдал ему честь… Я света невзвидел… и ударил его уткой! Как это было смешно! – А! В самом деле? Ты находишь это смешным, несчастный? Это сержант двадцатого линейного полка, его полковник сейчас же донес все самому маршалу Сент-Арно. Маршал требует железной дисциплины. Я получил приказ созвать заседание военного суда… Ты будешь осужден! Несмотря на всю свою храбрость, Сорви-голова ощущает легкую дрожь, но скоро оправляется и, чувствуя участие и сожаление в суровых словах полковника, с достоинством отвечает ему: – Господин полковник, позвольте мне умереть завтра в битве, в первом ряду полка… – Да, это единственный способ умереть с честью! Ну, иди же, бедный Сорви-голова, судьи ожидают тебя! Окруженный четырьмя зуавами, пленник вошел в палатку, и занавеска опустилась за ним. Через полчаса все было кончено. Зуав Жан Бургейль, по прозвищу Сорви-голова, осужден насмерть. Казнь совершится на другой день в полдень. Беспощадная суровость военного регламента не позволила судьям смягчить приговор. И как смягчить? Послать на каторжные работы, в тюрьму? Нет, все, кто знает Жана, понимают, что для него в сто раз лучше смерть с двенадцатью пулями в груди. * * * Ужасная новость поразила весь полк. Даже судьи были в отчаянии, осудив на смерть этого баловня полка, и проклинали свои законы. Всякая надежда напрасна. Кто решится просить о помиловании этого железного человека, который называется Сент-Арно? Тетка Буффарик плачет, не осушая глаз. Роза, бледная, как мертвец, рыдает. Буффарик бегает, проклинает, горячится и кричит: – Никогда не найдется зуавов, способных убить Жана! Стрелять в него! О, черт возьми! Я переверну небо и землю, буду просить, умолять… Ведь нас любят здесь! Он бегает повсюду, пытается просить, хлопотать – и напрасно. Ночь наступает. Сорви-голова заключен в палатке под охраной четырех часовых, которые должны следить за ним, так как отвечают за него головой. Буффарик неутомим. В отчаянии он собирает вокруг себя двенадцать старейших сержантов полка, говорит с ними, заинтересовывает их судьбой Жана и кричит своим резким голосом: – Ну, товарищи, скажите, неужели этот храбрец из храбрецов должен быть казнен как преступник? Нет, нет, гром и молния! Если он осужден, пусть умрет смертью солдата! Пусть падет под неприятельскими пулями, сражаясь за отечество, за нашу старую Францию! Не правда ли? Пойдемте, товарищи, просить у маршала этой милости… этой великой милости! Делегация была принята маршалом. Измученный лихорадкой, едва оправившись от приступа холеры, главнокомандующий, больной, нервный, остается непоколебим. Как бы то ни было, что бы ни случилось, Сорви-голова будет расстрелян в полдень! Это послужит примером для других. Ночь проходит, свежая и тихая. Начинает светать. Начинающийся день будет последним для многих храбрецов. Пушка! Веселая заря! Зажигают костры и готовят кофе. После бессонной ночи Буффарик с красными глазами, задыхаясь, бежит увидать Жана, сообщить ему ужасную истину, обнять его в последний раз, проститься! Увы! Осужденный не должен видеть никого, даже старого друга, даже Розу, молчаливое отчаяние которой раздирает сердце. Кофе выпит, мешки сложены, оружие приготовлено. Слышен звук трубы. Дежурные офицеры скачут верхом взад и вперед, роты вытягиваются, батальоны формируются. Через четверть часа полк готов. Все – на местах, никто не может более располагать собой. Буффарик едва успевает встать на свое место, подле знамени. Во главе первого батальона держится тетка Буффарик, в полном параде, одетая в короткую суконную юбку с маленьким трехцветным бочонком на перевязи. На голове у нее шляпа с перьями, к поясу привешен кинжал. Позади едет тележка с военным значком, сопровождаемая Розой и Тото. За повозкой идет мул Саид со своим вьюком и огромными корзинами… Вдали глухо грохочет пушка. Виден белый дымок… Это битва. Полковник поднимает саблю и кричит команду. Звучат трубы. Две тысячи штыков поднимаются вверх, полк двигается, вытягивается, волнуется, удаляется и исчезает. Остались только пустые палатки, потухающие костры и около 20 человек инвалидов, охраняющих лагерь. Осужденный находится в палатке с четырьмя часовыми по углам, которые удивляются, что жандармы не идут за преступником, и злятся, что не могут принять участие в битве. До последней минуты бедный Жан надеялся, что ему позволят умереть в бою. Увы, нет! Он остался здесь один, опозоренный, забытый, с ногой, крепко привязанной к колу. Родная военная семья уже отвернулась от него как от недостойного, не хочет ни видеть его, ни знать. Скоро придут жандармы и поведут его на позорную казнь как преступника. Это уже слишком. Вопль вырывается из груди Жана, он разражается рыданиями. Это первый и единственный признак слабости, который он позволил себе. Товарищи, которые хорошо знают его, глубоко потрясены. Они переглядываются и думают про себя, что дисциплина – вещь бесчеловечная. Один из них машинально протыкает штыком бок палатки. Перед ними Жан с бледным лицом, с полными слез глазами. Герой второго полка зуавов, Сорви-голова плачет, как дитя! Глухим отрывистым голосом он кричит: – Убейте меня! Убейте! Ради Бога! Или дайте мне ружье! – Нет, Жан, нет, бедный друг, ты знаешь – приказ! – тихо отвечает ему товарищ. Сорви-голова тяжело вздыхает, выпрямляется и восклицает: – Роберт! Вспомни… Ты лежал, как мертвый… в пустыне… пораженный солнечным ударом… Нас было пятьдесят человек, мы были окружены пятьюстами и отступили, хотя это не в привычку нам! Ни телеги, ничего… каждый спасал свою шкуру! Кто донес тебя па спине до лагеря? Кто тащил тебя умирающего? – Ты, Жан, ты, дружище! – отвечает часовой, и сердце его разрывается от скорби. Сорви-голова обращается к другому: – А ты, Дюлонг, кто поднял тебя, раненого, когда ты лежал, готовясь к смерти, во рву? – Ты – мой спаситель, Жан! Моя жизнь принадлежит тебе! – отвечает тронутый зуав. – А ты, Понтис, – продолжает Сорви-голова. – кто принял за тебя удар в грудь? Кто бросился и прикрыл тебя своим телом? – Ты, Жан, ты… и я люблю тебя как брата. Сорви-голова, продолжая это геройское перечисление, протягивает руки к четвертому часовому и кричит: – Ты, Бокамп, ты умирал от холеры в сарае Варны. Ни доктора, ни лекарств, ни друзей – ничего! Кругом стонали умирающие. Кто оттирал тебя, согревал, чистил и убирал за тобой, желая спасти тебя, кто, умирая от жажды, отдал тебе последнюю каплю водки? – Я обязан тебе жизнью! – отвечает часовой, глаза которого наполняются слезами. Все четверо повторяют: – Наша жизнь принадлежит тебе… Чего ты хочешь? – Я ничего не хочу… я умоляю… слышите ли, умоляю во имя прошлого… Пустите меня туда, где свистят пули, где гремят митральезы… где порох опьяняет людей… где звучит адская музыка битвы… пустите меня умереть, если жить нельзя! Товарищи, сделайте это! Часовые переглядываются и понимают друг друга без слов. – Ладно, Жан! – говорит Бокамп, резюмируя общую мысль. – О, дорогие товарищи, спасибо вам, спасибо от всего сердца! – Жан, мы нарушаем приказ, мы забываем свой долг – но благодарность – тоже священный долг. Мы рискуем для тебя жизнью, но эта жертва нам приятна! Не правда ли, товарищи? – Да, да, мы побежим туда вместе с тобой, наш Сорвиголова! – Славная кровь! Казаки жестоко поплатятся! В бой, в бой! – кричит Жан, совершенно преобразившись. – Не теряйте времени, развяжите меня, дайте ружье – и бежим! Через пять минут пятеро зуавов, прыгая, как тигры, выскакивают из палатки и убегают как раз в тот момент, когда двое жандармов являются, чтобы взять пленника.
ГЛАВА III
К знамени. – Человеческая пирамида. – В батарее. – Пли! – Карабин и пушка. – Изумление русских. – Амазонка. – Дама в черном. – Отчаянная битва. – Зуавы верхом. – Пленница. – Неуловимый. – Перед кебиром.Союзная армия насчитывает около пятидесяти тысяч человек: тридцать тысяч французов под начальством маршала Сент-Арно, двадцать тысяч англичан под командованием лорда Раглана, старого ветерана при Ватерлоо, где он потерял правую руку. Перед армиями прелестная река – Альма, название которой через несколько часов должна увековечить история. Правый берег этой реки – доступен, но левый весь в обрывах и откосах, в тридцать метров вышиной и отлично укреплен. На этих высотах князь Меньшиков, главнокомандующий русскими войсками, расположил свою армию, не уступавшую численностью союзной армии. Он считал эту позицию неприступной. Англо-французская армия должна атаковать эти высоты Альмы, отбить и оставить за собой. План обоих главнокомандующих очень прост. Обойти оба неприятельских крыла и врезаться в центр. Англичане зайдут справа, а французы – слева. Дивизии Боске поручено это круговое наступление, он отвечает за результаты битвы и за спасение армии. Задача очень трудная, и надо быть генералом Боске, чтобы взяться за нее. Страшно подумать, что надо карабкаться на эти утесы, взять эти укрепления, защищенные пушками и штыками. Что ни сделает бравый генерал с таким отборным войском! Зуавы, алжирские стрелки, охотники третьего батальона, пехотинцы шестого, седьмого и пятидесятого линейных полков – все отважные, смелые, отчаянные! Атака должна начаться в семь часов утра 20 сентября 1854 г. Солнце медленно выплывает из-за горизонта, озаряя поразительную и грандиозную картину. Со стороны французского лагеря барабаны и трубы призывают к знамени. Там, на высотах, русские становятся на колени и поют религиозный гимн, в то время как священники с крестом в руке обходят ряды солдат, окропляя их святой водой. – К оружию! Битва начинается! Ровно в семь часов Боске отдает приказ идти в атаку. Его полки переправляются через устье Альмы. Стрелки обмениваются выстрелами с неприятелем. Генерал хочет скомандовать: «На приступ!» Люди готовы броситься на укрепления. Трубачи готовятся дать сигнал, как вдруг летит сломя голову дежурный офицер. – Остановитесь! Стойте! Англичане не готовы! Надо сдержать порыв солдат, заставить их лечь на землю и ждать, когда господа союзники приготовят свой чай, сложат багаж, рискуя потерять всю выгоду положения! Кроме того, неприятель на виду, и дивизия, не имея права отступить, рискует быть перебитой или сброшенной в море. Эти ожидание, гнев, тоска тянутся три смертельно долгих часа, пока союзники спокойно обделывают свои делишки. Дивизия Боске ждет, не смея двинуться вперед или отвечать на выстрелы. И этот антракт спасает Сорви-голову и его товарищей. Задыхаясь, мокрые, измученные, они присоединяются к дивизии и смешиваются с артиллеристами. Прислуга, лошади, пушки стоят у подножья утеса, в то время как сверху летят гранаты и гремят пушки. Офицер смотрит на каменную стену и говорит: – Никогда нам не влезть туда! Сорви-голова слышит это, подходит, отдает честь. – Господин лейтенант, – говорит он, – можно поискать дорогу, тропинку… – Посмотри, какая крутизна! – Наверное, есть же какая-нибудь тропинка, надо поискать на склоне. Это похоже на скалы в Кабиле! – Если бы кто-то нашел тропинку, то оказал бы нам важную услугу! – Сию минуту, господин лейтенант! Прикажите только дать нам несколько кусков бечевки… лучше фуражных веревок! – Затем, указывая товарищам на вершину утеса, он кричит: – Человеческую пирамиду! Ну, живо, поворачивайтесь! Подобные упражнения им знакомы. Они кладут на землю ружья, мешки, амуницию, и Понтис, настоящий Геркулес, прислоняется спиной к скале. Дюлонг влезает к нему на плечи, Роберт становится на обоих и, наконец, Бокамп – на всех троих. Все это проделывается с такой быстротой и изяществом, что вызывает крик удивления у артиллеристов. Сорви-голова берет веревку, обвязывает ее вокруг пояса и с ловкостью обезьяны карабкается на плечи Бокампа. Его поднятые руки на высоте почти семи метров. Дальше утес более отлог, и несколько камней образуют выступ. Помогая себе руками и ногами, Сорви-голова успевает подняться еще на три метра. Радостный крик вырывается из его груди. – Браво! Здесь площадка! Он развертывает веревку, бросает ее вниз одним концом, а другой держит в руках и командует: – Лезьте! Живо! Один за другим четверо зуавов с помощью рук поднимаются наверх и становятся подле Жана. – Мешки и ружья сюда! Артиллеристы привязывают к веревке все требуемое. Зуавы втаскивают и продолжают подъем. Через пять минут все они на вершине. Перед ними расстилается обширная площадь, где можно отлично расположиться и отдохнуть после утомительного восхождения. Зуавы бегут вперед, не обращая внимания на гранаты, которые поднимают целые тучи пыли. Площадка кончается обрывом, зигзагами спускающимся вниз. Рискуя сломать себе шею, Сорви-голова бросается вниз, летит, как вихрь, попадает в терновник, ругаясь, вылезает из него и оказывается лицом к лицу с генералом Боске и его свитой. – Откуда ты, черт возьми! – кричит изумленный генерал. – Сверху, генерал! – Невозможно! – Совершенно верно. Я искал дорогу для артиллерии и нашел ее! – Молодец! Ты сделал это? Живо! Живо! Людей сюда! Расчистить тут, рубить! В две минуты с помощью топора и сабли тропинка доступна. – Господин Барраль, – говорит Боске прибежавшему начальнику артиллерии, – следуйте за этим зуавом, узнайте состояние дороги и возвращайтесь! Начальник идет с Жаном. Они влезают на холм, потом офицер бежит к генералу. – Генерал, – говорит он, – мы пройдем! Не знаю как, но пройдем! Во второй раз Боске кричит: – Людей сюда! Людей! И орудия! Смирно… без шума! Занять позицию, открыть огонь! Первое орудие поднимается по откосу. Безумная мысль! Но какое одушевление, какое неистовство! Зуавы, охотники, пехотинцы лезут под лошадей, под лафеты пушек, под фуры и помогают тащить. Все тянут, тащат, поднимаются… Пояса, галстуки, веревки – все пошло в ход. Иногда орудия ползут вниз. Люди колотят лошадей, подкладывают мешки под колеса и лезут, лезут. Эта толпа, задыхаясь, обливаясь потом, перемешивается в одну живую кучу тел. оружия, форм, и все подвигается вперед. Наконец орудие – на площадке. Вздох облегчения вырывается у людей. Внизу темные группы русских войск. – Пли! – кричит лейтенант. Раздается оглушительный выстрел. Офицер следит за гранатой, обрушивающейся на неприятельскую пушку. Пушка валится. Прислуга изувечена. – Браво! – восторженно кричат зуавы. Русское орудие готовится отвечать. Пятеро зуавов кладут карабины на плечо, прицеливаются. – Пли! – кричит Сорви-голова. Раздается пять выстрелов. Пять русских артиллеристов убиты. Великолепные стрелки! Французские канониры вновь заряжают пушку, вооружаясь банником. – Браво, зуавы! – кричит лейтенант. Они, в свою очередь, заряжают карабины. Их стальные палочки звенят: глин, глин! Сорви-голова находит даже время сказать офицеру: – Господин лейтенант, извините за смелость, знаете ли вы, что мой карабин бьет не хуже вашей пушки? Лейтенант не успел ответить. Налетел целый ураган ядер. Две лошади убиты, четверо солдат ранены. Орудие падает со сломанным колесом. Спокойно и уверенно канониры заменяют колесо другим. Теперь не до разговоров. Зуавы стреляют без остановок. Наконец появляются другие пушки, занимают позицию. Раздаются звуки трубы. Эти дьявольские звуки зажигают кровь, поднимают на ноги, заставляют сильно биться сердце, толкают вперед, опьяняют… Наконец англичане готовы и атакуют с другой стороны. Боске не может сдержать людей. Они бросаются на приступ, цепляются руками и ногами, держатся за камни, растения и лезут… лезут. – Вперед, да здравствует Франция! Целая дивизия стоит на площадке, где начинается ожесточенная битва. Между тем князь Меньшиков не хочет верить, что французы на возвышенности, оскорбляет и бранит тех, кто докладывает ему об этом. Он повторяет исторические слова: – Это невозможно! Чтобы влезть туда, надо происходить от обезьяны и тигра! Полагая, что высоты защищены рекой и утесом, он не позаботился охранять их. Меньшиков был так уверен в победе, что пригласил избранное общество из Севастополя посмотреть на поражение французов. Дамы в амазонках гарцуют на великолепных лошадях. Другие, небрежно развалясь в ландо, прикрываются зонтиками. Все они с оскорбительной усмешкой смотрят на французов. Солдаты, смеясь, поглядывают на дам, стараясь, чтоб пули не задевали их. Одна из дам, в строгом черном туалете, поражает своей красотой и выражением глубокого презрения. Бесстрастная и надменная, среди пуль и ядер, она кажется воплощением ненависти и гордости. Мужик с длинной бородой, в розовой рубахе, правит великолепными лошадьми, которые храпят и встают на дыбы среди дыма выстрелов, и рельефно выделяется мрачная, гордая фигура женщины, словно адское божество среди облаков. Сорви-голова замечает презрение на лице дамы и говорит товарищам: – Если бы нам захватить эту даму в черном! Ее манеры мне не нравятся! Это было бы отлично, прежде чем вернуться в полк! – Хорошая мысль! – кричит Понтис. – Но ведь нужны лошади! Зуавы на лошадях – вот умора! – Погоди! Вот и лошади, остается только выбрать получше! Смотри вперед и валяй прямо на кавалерию! Пораженный Меньшиков наконец замечает опасность положения. Как человек энергичный и решительный, он хочет, не медля, раздавить французскую дивизию, призывает резерв, пехоту, кавалерию, конную артиллерию – лучшее войско и посылает их на Боске. В то же время он приказывает жечь все фермы, аулы, мельницы, виллы, чтобы лишить всякой защиты стрелков, нанесших ему большой урон. У Боске шесть тысяч пятьсот человек солдат, десять пушек и ни одного кавалериста! Он должен выдержать атаку двадцати тысяч русских и пятидесяти пушек! Битва ожесточается. Маршал посылает к Боске дежурного офицера с приказанием держаться как можно дольше. Боске, видя, что гранаты уничтожают его лучшую дивизию, отвечает: – Скажите маршалу, что я не могу продержаться более двух часов. Артиллерия держится стойко. Первая батарея потеряла около сорока человек и половину своих лошадей, вторая пострадала не меньше. Обе батареи находятся пол прикрытием двух рот Венсенских стрелков, которые выдерживают адский огонь. Среди грома выстрелов слышны звуки труб. В русском войске трубят атаку. Целый полк гусар бросается на батареи, чтобы отнять или заклепать орудия. – Стреляй! – кричат батарейные командиры. Батальон зуавов пробегает гимнастическим шагом. Подле первого орудия стоит Сорви-голова и четверо его товарищей, спокойные и веселые. Гусары налетают, как молния. – Взвод – пли! Рота – пли! Батальон – пли! Карабины и пушки гремят. Целая туча дыма, в которой исчезают друзья и враги, лошади и люди. Потом крики, стоны, проклятья, жалобы, лязг металла и отчаянное беспорядочное бегство великолепных гусар, численность которых уменьшилась наполовину. Геройская атака, яростное сопротивление, раненые, умирающие – противники достойны друг друга! В момент столкновения зуавы колют штыками ноздри гусарских лошадей, сбросивших всадников. Животные, остановленные на полном скаку, встают на дыбы. Пользуясь этим, зуавы схватывают их за повод и с ловкостью клоунов вскакивают в седло. В это время гусары делают объезд и возвращаются снова. Лошади, пойманные зуавами, рвутся в свой полк, но зуавы бьют их ножнами штыков, понукают голосом, ногами и несутся в галоп, крича, как арабы: вперед! вперед! Все это так неожиданно, что канониры, охотники, линейцы восторженно кричат: – Браво! Браво, зуавы! Какой-то капитан добавляет: – Честное слово! Можно поклясться, что это Сорви-голова! Зуавы подлетают к коляске, в которой сидит дама в черном. Раздается восторженный крик товарищей: – Да здравствует Сорви-голова! Через две минуты коляска окружена. Сорви-голова вежливо кланяется даме в черном, прекрасное лицо которой искажено яростью, и говорит: – Сударыня, я обещал себе захватить вас! Вы – моя пленница! Дама в черном бледнеет еще более, глаза ее мечут молнии. С быстротой мысли она хватает лежащий возле нее пистолет, стреляет в Жана и говорит глухим голосом: – Я поклялась убить первого француза, который со мной заговорит! Голос ее прерывается, жест – ужасен, но результат плачевен. Курок щелкнул. Осечка! Зуав кланяется еще почтительнее и говорит: – Успокойтесь, сударыня! Я – неуязвим! Судите сами: я осужден на смерть и ускользнул от нее два раза. Пуля, которая меня убьет, еще не отлита. Потрудитесь следовать за нами! Скрепя сердце, дама в черном покоряется своей участи и говорит несколько слов своему кучеру. Привыкший к пассивному повиновению, крепостной щелкает языком, и лошади направляются к французским линиям. Через пять минут странная пленница со своим не менее странным эскортом въезжает во второй полк зуавов. Это появление возбуждает настоящий энтузиазм. С воспаленными глазами, с почерневшими от пороха лицами, солдаты единодушно приветствуют товарищей и радуются их триумфу. Поезд останавливается перед полковником, который, верхом на лошади, стоит подле знамени, окруженный адъютантами. В этот момент шлепается граната, разрывается и осыпает людей целым ливнем осколков. Лошадь полковника убита наповал. Русский кучер падает с раздробленным черепом, дама в черном вскрикивает и лишается чувств. Зуавы хватают и держат лошадей, в то время как полковник, не получивший даже царапины, спокойно говорит Сорви-голове: – Это ты… мошенник? Что ты тут делаешь? – Господин полковник, я вам привел другую лошадь… Смею извиниться, что упряжь ее не в порядке! – Хорошо! Ступай же, ступай в роту на свое место и постарайся, чтобы тебя убили! – Господин полковник! Как вы добры! А мои товарищи? – Такие же негодяи! Пусть идут с тобой. Скажи, чтобы пленницу отвезли к доктору! Зуавы, спокойно стоя под огнем, отдают честь полковнику, делают поворот и уходят к себе в роту, увы, очень поредевшую. Они проходят мимо обрадованного трубача, который расспрашивает их. – Очень просто. – отвечает Дюлонг, – мы сторожили лагерь, а потом видим, какой тут лагерь! – бросили его и убежали. – Потом, – добавляет Сорви-голова, разрывая зубами патрон, – мы служили в разведчиках, в артиллерии, в кавалерии, а теперь сделались пехотинцами! Пойдем, мой старый карабин, пойдем работать!
ГЛАВА IV
Во время битвы. – Жажда. – Аристократка и маркитантка. – Тайна. – Англичане. – В штыки. – Полууспех.– Башня телеграфа. – Сорви-голова водружает знамя. – Победа при Альме.Вверху, на высотах Альмы, перед лицом грозной смерти, солдаты мучаются жаждой. Ужасная, мучительная жажда во время битвы! Волнение, опасность, шум выстрелов, удушливый дым, порох, остающийся на губах, так как патрон разрывают зубами. – все это производит лихорадку и горячит кровь. В ушах шумит, глаза краснеют, голова горит, рот высох… Зуавы отдали бы жизнь за глоток воды. Но котелки пусты. Солдаты кусают пули, сосут камни, траву, чтобы утолить жажду. – А! Тетка Буффарик! Мы – спасены! Спокойная, проворная, ловкая, невозмутимая под выстрелами, появляется маркитантка с полным котелком. Но это не вода! Это водка – молоко тигра! – Тетка Буффарик! Стаканчик! Умоляю! – Пей, милый, сколько хочешь! Она быстро повертывает медный кран бочонка, наполняет стакан и подает. – Уф! Я словно огня выпил! Маркитантка торопится подать другим. – Тетка Буффарик! У меня угли в горле! – Поскорее мне! – Вот, пей, голубчик! – Спасибо, держи деньги! – Некогда получать… касса заперта… после заплатишь! – А еслименя убьют? – Тем хуже для тебя! Иди и не беспокойся! Маркитантка спокойно двигается, не обращая внимания на жужжание пуль, на летящие ядра, проворная, улыбающаяся, смелая, благодушная. Мало-помалу бочонок пустеет. Тетка Буффарик снова идет наполнить его. Неподалеку, позади полка, подле походного лазарета, стоит мул Саид с двумя бочонками. Тут же доктор Фельц, Роза и Тото. В одном из бочонков – ром для солдат, в другом – свежая вода для раненых. С ловкостью и самоотверженностью Роза помогает врачу, который роется в окровавленной массе изувеченных тел и поломанных костей. Бедные раненые! Они прибывают ежеминутно. Страшное зрелище представляет из себя этот уголок поля битвы, где вместо росы трава обрызгана кровью, где трепещут умирающие, где гордая веселая молодежь в последней агонии призывает слабеющим голосом свою мать, переносясь душой в золотые безоблачные дни детства! Тетка Буффарик подходит к своему мулу в тот момент, когда ландо с бесчувственной дамой в черном останавливается у лазарета. Не зная ничего о подвигах Сорви-головы, она не понимает, откуда взялась эта незнакомка, но ее доброе сердце сжимается при виде неподвижно лежащей женщины, бледной, как смерть, быть может, мертвой. Маркитантка подходит ближе, замечает, что незнакомка дышит, и быстро расстегивает ее бархатный лиф, причем из-за лифа падают на землю тщательно спрятанные бумаги. Зуав поднимает их в то время, как маркитантка натирает водкой виски незнакомке. Дама открывает глаза, приходит в себя и при виде французской военной формы делает гневный жест, отталкивает тетку Буффарик, видит свои бумаги в руках солдата и кричит: – Эти бумаги… дайте их сюда… они мои… возвратите мне их! – Ну, уж нет! – возражает зуав. – Я, слава Богу, знаю свою обязанность и передам их полковнику, а он отдаст их главнокомандующему. Так будет лучше! – Я не хочу! Вы не смеете! Дама в черном волнуется, нервничает, кусает губы, и тетка Буффарик спокойно замечает ей: – Бросьте, не портите себе кровь! Вы должны принять что-нибудь укрепляющее… Не надо гримасничать, я говорю от сердца! – Нет! – отвечает сухо незнакомка. – Я ничего не возьму от французов… врагов моей родины! Ее большие глаза, похожие на черные алмазы, внимательно смотрят на ужасную груду распростертых тел, и выражение дьявольской радости появляется на ее прекрасном лице. В это время появляется Роза со стаканом воды и говорит своим нежным музыкальным голосом: – Но врагов великодушных, сударыня, которые перевязывают ваших раненых, как своих, братски заботятся о них… Беленькая, с нежным румянцем на щеках, молодая девушка просто очаровательна. Просто одетая, с трехцветной кокардой на соломенной шляпе, прикрывающей роскошные волосы, она пленяет и чарует своей грацией и изяществом, Незнакомка долго и внимательно разглядывает ее, очарованная голосом и ласкающим взглядом девушки. Ее охватывает странное волнение. Что-то бесконечно грустное и нежное шевелится в ее душе… Глаза незнакомки смягчаются и увлажняются слезами. – Да… – бормочет она едва слышно, – это верно! Она была бы в ее летах… с такими же золотистыми волосами, с глубокими глазами… с таким же нежным цветом лица… с такой же благородной осанкой… Все это не похоже на маркитантку! Видя, что молодая девушка смотрит ей в глаза, незнакомка нежно прибавляет: – От вас, дитя мое, я охотно приму стакан воды! Она жадно пьет воду, не отрывая взора от Розы. Забыв о битве, о выстрелах, о стонах раненых, забыв, что она пленница, забыв свою ненависть, дама спрашивает: – Как вас зовут, дитя мое? – Роза Пинсон, сударыня! – Роза! Прелестное имя, и так идет вам! Где вы родились? Откуда ваши родители? Тетка Буффарик, несколько подозрительная, прерывает ее: – Мой муж из Прованса, я из Эльзаса, моя дочь родилась там же. Только мне, сударыня, некогда, я сейчас должна нести воду зуавам, а Розу ждут раненые… Прощайте, сударыня! Незнакомке не хочется отпустить Розу. Ощущая настоятельную необходимость установить связь между собой и девушкой, оставить в ее сердце воспоминание о разговоре, она снимает роскошную брошку, украшенную черными алмазами, поддерживающую воротник, и, подавая ее Розе, говорит: – Возьмите это от меня на память! Молодая девушка краснеет, отступает и с достоинством отвечает: – За стакан воды? Что вы, сударыня! – На поле битвы стакан воды стоит целого состояния! – Но ее мы даем всем… Даже неприятелю… – Вы горды! Позвольте пожать вам руку! – От всего сердца, сударыня! – отвечает Роза, протягивая ручку, которой позавидовала бы любая герцогиня. В этот момент является адъютант с приказанием обыскать карету и привезти к генералу даму в черном. Нежная, но сильная рука крепко сжимает руку Розы. Девушка вздрагивает, чувствуя ее мраморный холод. Коляска уезжает, и незнакомка, глаза которой следят за изящным силуэтом Розы, бормочет: – Да! Ее лета. Она была бы так же горда и прекрасна. Будь проклята Франция! Будь вечно проклята! Битва в полном разгаре. Дивизия Боске видимо тает. Бесстрастный с виду, но очень бледный, генерал считает минуты. Через короткое время он будет окружен. Остается одно средство – наступление, чтобы дать дивизии вздохнуть свободно, чтобы прорвать этот круг железа и огня. Если это не поможет, погибнут все до последнего солдата! Дежурные офицеры окружили его и ждут приказаний. – Ну, господа, прикажите командовать на приступ! Офицеры летят галопом под огнем, чтобы передать приказание командирам корпусов. Вдруг Боске вскрикивает, лицо его просияло. – Англичане! Пора! Это ожидаемая им дивизия – но с каким опозданием! Вдали, в пороховом дыму, озаренные пламенем пожаров, видны английские войска. Великолепные пехотинцы идут сомкнутыми рядами словно на параде, стройно, ровно, считая шаги. Грандиозно, красиво, но – нелепо! Почему не развернуть фронт подальше от пушек? Почему не раздробить войска, оберегая их от выстрелов? Русские артиллеристы хорошо работают. В четверть часа третья часть наличного состава солдат на земле. Неустрашимые английские солдаты все-таки перешли Альму и грозят правому крылу русских. В дивизии Боске слышится команда: – Мешки наземь! В штыки! Барабанщиков и трубачей сюда! На приступ! Раздается звук трубы под аккомпанемент барабана. Люди рвутся в бои. Зуавы и Венсенские стрелки идут впереди. Русские стоят неподвижно, подняв штыки. Вдруг все замирает. Трубы и барабаны замолкли. Несколько минут царствует гробовое молчание. – Да здравствует император! Да здравствует Франция! – вырывается восторженный крик из пяти тысяч грудей. Русские отвечают стрельбой. Французы, прыгая, как тигры, бросаются на человеческую стену. Перед ними рослые молодцы в плоских фуражках, одетые в серые шинели и большие сапоги. Ужасающее столкновение! Лязг металла, проклятия, стоны, вопли, рыдания. Спокойные, терпеливые, хорошо дисциплинированные, эти русские великаны, в усах и с баками, стоят плотной стеной под натиском неприятеля. Удивляясь храбрости русских солдат, Наполеон сказал: «Убить их – это мало! Надо заставить их упасть!» Первая линия прорвана, уничтожена, за ней стоит другая, готовая к битве… Охотники, зуавы, линейцы, опьяненные кровью и порогом, налетают как ураган. Русские не сдаются и не бегут, а умирают на месте. В несколько минут Владимирский полк потерял своего полковника, трех батальонных командиров, четырнадцать капитанов, тридцать лейтенантов и тысячу триста солдат, убитых и раненых. Из Минского и Московского полков выбыла половина наличного состава людей. В центре дивизия Канробера захватила все неприятельские позиции. Медленно, шаг за шагом, русская армия отступает к стратегическому пункту, известному под названием «телеграф». На возвышенности, окраины которой защищены насыпями, высится деревянное здание, выстроенное из досок, соединенных перекрестными брусками. Тут хотели устроить сигнальный телеграф, от этого и возвышенность, и башня получили свое название. Снова разгорается битва, ужасная, ожесточенная. По блестящему плану Боске, вперед выдвигается резервный полк алжирских стрелков. – В штыки! Стрелки отчаянно бросаются вперед. Обманутые восточным видом и голубой формой стрелков, русские принимают их за турок и презрительно кричат: – Турки! Турки! Иллюзия их кратковременна, но жестока. Одним прыжком стрелки перескакивают траншею, насыпи и попадают в середину русских. Брешь готова. Зуавы, охотники и линейцы стремительно бросаются в нее, в то время как стрелки, расширяя брешь, вопят во все горло: – Турецкие макаки! Вот вам и стрелки! Храбрые африканцы сделались героями последней битвы, которая все еще продолжается благодаря непобедимой стойкости русских. Жажда крови охватила всех людей. Всюду идет бесчеловечная резня! Стреляют друг в друга, протыкают штыками, убивают пулями или просто прикладами ружей. Обезоруженные солдаты душат, давят, кусают врагов. Всюду мертвые и раненые. Вокруг башни отчаянная борьба. Вверху развевается русский флаг, пока не найдется смельчака, который водрузит там французские цвета. Многие, кто пытался сделать это, погибли. Много смельчаков было убито, когда лейтенант Пуадевин, тридцать девятого линейного полка, успел добраться до первой площадки, взмахнул знаменем своего полка и упал мертвый. За ним последовал фельдфебель Флери. Пуля опрокинула его. Тогда полковник зуавов хватает знамя одном рукои, а другой держит свою саблю и кричит: – Сюда… храбрецы второю полка! Туда… вверх… гром и молния! Там должно быть знамя зуавов! Пятьдесят человек готовы заслужить почетную, но неизбежную смерть. – Мне, господин полковник, я! – кричит громовой голос, заглушающий перестрелку. – Это ты, Сорви-голова? – Я, господин полковник, но мои товарищи… умоляю вас… я осужден, но если… – Ступай, Сорви-голова! – просто говорит ему полковник, передавая знамя. На пути его останавливает чья-то грубая рука, и голос провансальца гудит ему в ухо: – Голубчик, ты храбрец из храбрецов! – Буффарик! Мой старый… За Францию! – и, наклонясь, он добавляет вполголоса: – за Розу! Жан быстро лезет по лестнице. Пули свистят вокруг него, ударяясь в перекладины. Вот он на первой площадке. Раздается сразу 500 выстрелов. Он смеется, показывая свои великолепные зубы, и кричит во все горло: – Да здравствует Франция! Потом он лезет все выше и выше, окруженный тучей пуль. Вот он вверху, на второй площадке, и его гордый силуэт отчетливо рисуется на голубом небе. Раздаются восторженные крики. Еще последний залп. Французы вздрагивают. Одним ударом ноги Сорви-голова сбрасывает русское знамя, которое падает вниз, как подстреленная птица, потом развертывает трехцветное знамя, победоносно развевающееся на ветру. – Молодец! – кричит восхищенный полковник. Солдаты, столпившиеся у подножия башни, надевают шапки на острия штыков и машут ими в воздухе. Восторг разражается громовым «ура». Выстрелы умолкают, словно появление французского знамени убило всякую надежду в сердцах русских. В это время трубач во всю силу своих легких трубит сбор к знамени. Раздается победный звук труб… Барабаны громко возвещают победу на Альме.
ГЛАВА V
Ссора монахов. – Претензии русских.– Союз. – Объявление войны. – Силистрия и Варна. – Холера. – В Крыму.– Маршал Франции и русская княгиня. – Шпионка или патриотка? – Алмазное кольцо. – Стакан шампанского. – Переодевание. – Бегство.Европа в огне! Франция и Англия в союзе с Турцией воюют с Россией. Ожесточенная война обещает быть долгой и убийственной. Она загорелась там, на окраинах далекого Востока, под лучами горячего солнца, среди прекрасной природы. Где искать причину войны? Поводом, скорее предлогом к ней, послужила ссора монахов, столкновение клобуков. Настоящая причина – это претензии России, которая с давних пор мечтает о свободном выходе через Черное море в океан. Черное море по праву должно принадлежать ей. Турки, мусульманская нация, владеют «святыми местами», которые охраняются общинами латинских и греческих монахов. Каждая из общин имеет свои прерогативы и свои права. Греки, – а главою греческой церкви считается русский император, – мало-помалу оттеснили латинских монахов, так что последние лишились одного из наиболее почитаемых святилищ. Франция считается официальной покровительницей латинских, или римских, монахов, которые сослались на ее поддержку. Франция заявила султану о несправедливости, но Россия заступилась за греков и показала зубы. Турция испугалась и указом одобрила поступок греков. Это решение Порты подняло серьезный политический вопрос. Старались уладить конфликт дипломатическим способом, разбирая со всех сторон вопрос, который скоро сделался общеевропейским. Пока дипломаты спорили, Россия вооружалась, император Николай I успокаивал Англию, предлагая ей разделить Турцию и подарить Египет. В разговоре с английским посланником Николай I выразился очень энергично и красиво, назвав Порту «больным человеком». Это выражение стало историческим. – Человек больной умрет своей смертью, – сказал он, – будем же готовы наследовать ему! Англия, однако, почему-то отказалась от подарка. Вопрос о «святых местах» не подвинулся вперед. Положение осложнилось назначением князя Меньшикова русским посланником в Константинополе. Этот генерал, очень заслуженный человек, был плохим дипломатом и поступал слишком резко и решительно. Меньшикову приказано было решить вопрос, и он предложил султану условия, совершенно унижавшие силу и достоинство Турецкой Империи (21 мая 1843 г.). Чаша переполнилась. Абдул-Меджид отказался, а Меньшиков сказал дерзость министрам и уехал в Петербург. – Удалось ли тебе дело? – спросил его император. – Да, государь, «je suis sorti en claquant la Porte!» note 1 Этот каламбур заставил русского монарха смеяться до слез. Понятно, что война была неизбежна. Тогда Англия, Австрия, Франция и Пруссия устроили в Вене знаменитую конференцию, которая должна была помешать войне. В ответ на это вмешательство держав Николай I захватил все дунайские провинции. Недовольная Англия присоединилась к Франции, чтобы остановить Россию, грозившую европейскому равновесию. 30 ноября 1853 г. Россия уничтожила турецкий флот в Синопе. Очевидно, русский император желал войны. Однако Англия и Франция, к которым присоединился Пьемонт, ждали до следующего года. Только 27 марта была объявлена война России. Маршал де-Сант-Арно был назначен главнокомандующим французской армии, отплыл 27 апреля 1854 г. в Марсель и 7 мая прибыл в Галлиполи. Лорд Раглан, старый ветеран Ватерлоо, командовал английской армией. Соединенные флоты Франции и Англии, под командой адмиралов Гамелина и Дундаса, перевезли войска и материалы, готовясь к долгой кампании. Странное зрелище представляли английские корабли рядом с трехцветным французским знаменем! Прибыв в Галлиполи, узнали, что семидесятитысячная русская армия под командованием генерала Паскевича осаждает Силистрию – крепость, прикрывающую Дунай. Тогда Сент-Арно ведет войска в Варну, чтобы настигнуть русских перед Силистрией. Переезд занимает не мало времени. В тот момент, когда французские войска готовятся покинуть Варну, было получено известие, что генерал Горчаков, занявший место Паскевича, снял осаду после жестокой бомбардировки и ушел (23 июня 1854 г.). Этот поступок русских приводит в отчаяние маршала. Действительное ли это отступление, или ловушка? Нужно ли сконцентрировать войска в Бухаресте? Маршал нисколько не доверяет Австрии. Что делать? Ждать? Среди всех этих колебаний и беспокойств вдруг появляется страшный бич – холера. Болезнь охватывает Пирей, Галлиполи, Константинополь, Варну. Сент-Арно решается идти в Добруджу, надеясь задержать русских. Но русские уходят, избегая холеры, которая опустошает обе армии. В две недели французские войска потеряли три тысячи человек. А сколько больных, выздоравливающих! Тогда маршал решил атаковать русских в Крыму, уничтожить Севастополь, эту страшную и таинственную твердыню, прикрывающую собой южную Россию. Эпидемия заметно ослабела. Необходимо было соединить войска, добыть продовольствие, короче – организовать экспедицию. Французские войска отплыли из Варны в Крым 1 сентября 1854 г. Около четырех месяцев находились они на Востоке, потеряв три тысячи пятьсот человек, так и не увидав неприятеля. 14 сентября союзная армия высадилась близ Евпатории, 19-го пустилась в дальнейший путь, расположилась лагерем между Булганаком и Альмой и 20-го одержала победу на реке Альме. Такова, в общих чертах, история этой знаменитой кампании, где было пролито столько крови, вынесено столько страданий, совершено столько геройских подвигов с обеих сторон, где враги научились понимать и уважать друг друга. Торжествующий маршал отправил императору и военному министру длинную телеграмму. Измученный, нервный главнокомандующий нуждается в отдыхе, уходит в свою палатку, состоящую из трех отделений: салона, столовой и спальной, убранных складной мебелью. Очень воздержанный, не пьющий ничего, кроме воды, маршал, однако, поддерживает себя теперь только шампанским. Он падает на свою постель, но дежурный докладывает ему о приходе сержанта Лебрэ в сопровождении дамы. Маршал хорошо знал старого солдата, верного, честного служаку. – Что случилось, мой друг? – спрашивает главнокомандующий ласковым тоном. – Господин маршал! Зуавы захватили шпионку… окружили коляску верхом на лошадях… – Верхом? Зуавы? Сумасшедшие! Так шпионка? – Я нашел при ней важные бумаги – она заслуживает, чтобы ее расстреляли! Кроме того, она предлагала мне две тысячи франков, если я отпущу ее! – Ты, конечно, отказался? Лебрэ, я очень доволен тобой! – Это мой долг, господин маршал! – Подай мне бумаги! Маршал просматривает их и ворчит: – Негодница! Жалкие изменники! Приведи эту женщину и держись недалеко от палатки! Лебрэ уходит и возвращается с дамой в черном. Маршал думал, что имеет дело с какой-нибудь авантюристкой, и приготовился встретить ее. Но при виде незнакомки, которая идет гордой поступью, при виде ее благородной аристократической фигуры он удивленно встает и восклицает: – Как! Это вы, княгиня? Вы? – Да, я, маршал! – Вы, которую удостаивала своей симпатией императрица Франции, вы – лучший друг моей жены? Вы – идол всего Тюльери? – Да, маршал! – Вот как мы свиделись! При каких ужасных, трагических условиях! – Трагических для моего дорогого отечества… для святой Руси! – И тяжелых для вас, княгиня! – Это правда: я – ваша пленница! – Положим, мы не воюем с женщинами, но вы – в подозрении, скажу правду, вас подозревают в шпионстве, а шпионство не имеет пола. – Фи, маршал! Какое гадкое слово! И вы говорите это мне, невестке князя Меньшикова, русского генерала и главнокомандующего? – Но… княгиня, как прикажете назвать это? Я имею в руках доказательства! – Я люблю, я обожаю мое отечество! Я – русская с головы до ног, до последней капли крови! До самой смерти! – Это очень почтенное чувство, и я уважаю его в вас, но… – Но я – женщина! Не могу воевать, не могу встать во главе эскадрона… испытывать дикую радость… опьянение кровью врагов, позорящих землю моей родины… – Да, – холодно прерывает ее маршал, – вы предпочитаете пистолетам – наполеондоры, или золотые рубли по-вашему. С помощью денег вы собираете нужные сведения о нашей армии? – Разве это преступление? Говорите и делайте, что хотите, но повторяю вам: я – патриотка, но не шпионка! – Бог мой! Сударыня, название тут ни при чем! Патриотка, пожалуй, опаснее шпионки, особенно если она молода, прекрасна, богата и смела! – Эта любезность неуместна, маршал! – Истинная правда, княгиня! И эта патриотка покупает совесть солдат, измену офицеров, наносит бесчестие нашей армии… Не отрицайте, княгиня! У меня в руках список имен, чинов и полков… сведения, которые сообщили вам эти предатели! Я прикажу арестовать, судить и казнить их! – Вы велите расстрелять меня? – Следовало бы! Я ограничусь тем, что вышлю вас во Францию и запру в крепость до окончания войны! Маршал встал с места и зашагал взад и вперед. Дама в черном, спокойная с виду, смотрит на него со странным выражением ненависти и иронии. Подле нее, на столе, стоит бутылка шампанского и полный бокал. На пальце княгини блестит перстень с большим алмазом. Этот алмаз свободно двигается и герметически закрывает собой маленькую впадину. Княгиня осторожно и незаметно сдвигает его, и, пользуясь моментом, когда маршал поворачивается к ней спиной, делает быстрый жест рукой над бокалом. Бесцветная капля падает из кольца в бокал и смешивается с вином. Маршал ничего не замечает, не подозревает. В эту минуту слышен быстрый галоп лошади и голоса. Дежурный солдат кричит: – Адъютант его превосходительства милорда Раглана просит немедленного свидания с господином маршалом! – Иду! – отвечает маршал. – Княгиня, извините, я на минуту! Дама в черном кивает головой. Маршал, чувствуя слабость, берет бокал с вином, выпивает его и уходит. – Депеша вашему превосходительству, – говорит по-английски молодой звучный голос. – Мне приказано передать вам и ждать ответа! – Хорошо, лейтенант! – Им нужно не менее десяти минут! – шепчет княгиня. – Время дорого! За дело! О, как хорошо отомстить за себя, оскорбить и убить врага! Она вынимает из кармана перочинный нож, прорезает отверстие в полотне палатки. Ей ясно виден адъютант Раглана, молодой, красивый шотландец. Дьявольская усмешка искажает ее прекрасное лицо. Она отходит и оглядывается. Никого! Никто не видит ее. На шкатулке лежит дорожное клетчатое покрывало. С удивительной ловкостью княгиня расстегивает и снимает свою атласную юбку. Оставшись в короткой юбке и русских сапогах, она быстро отрывает полотнище покрывала, прикрывает им свою юбку, что делает ее похожей на шотландский костюм, а остальной кусок ткани перекидывает через плечо в виде пледа. С лихорадочной поспешностью она обрезает поля своей фетровой шляпы и делает ее похожей на шотландскую шапочку. Это переодевание продолжается не более четырех минут. В соседнем отделении оживленно беседуют маршал и адъютант. Чтобы дополнить свое превращение, княгиня вынимает карандаш, которым светские дамы подрисовывают себе брови и ресницы, и кладет легкую тень усиков на верхнюю губу. Готово! Поразительно по ловкости и хладнокровию. Затем она прорезает ножом отверстие в задней части палатки, высовывает голову и смотрит. С этой стороны нет никого. Только привязанные лошади кусаются и бьют копытом. Княгиня берет со стола сигару, закуривает ее, пролезает в отверстие и, подражая надменной осанке английских офицеров, подходит к лошадям. Верный сторож Лебрэ медленно ходит взад и вперед перед палаткой маршала. Ему поручено сторожить даму в черном и некогда заниматься каким-то офицером в юбке, форма которого кажется ему смешной. Он отворачивается и продолжает свою прогулку. Княгиня отвязывает лошадь, вскакивает в седло и уезжает рысью, пока часовые отдают ей честь. В этот момент маршал де Сент-Арно упал без чувств. Прибежавший штабной доктор оказал ему первую помощь. Найдя состояние больного серьезным, он распорядился послать за главным врачом. Мишель Леви, личный друг маршала, совершенно расстроенный, заключил: – Холера или отравление! Маршал не проживет и недели. Он погиб!
ГЛАВА VI
После битвы. – Среди неприятеля. – Раненый лейтенант. – Снова дама в черном. – Выстрелы. – Отчаянная погоня. – Мертвая лошадь. – Засада. – Французский главный штаб в опасности. – В сетях. – Бравада. – Под кинжалом.Битва продолжалась недолго. В половине шестого все было кончено. Неприятель отступил. Все заняты ранеными, которые громко стенают и жалуются. Между ними много русских. Бедняги уверены, что для них наступил последний час. По опыту зная дикую жестокость турок, русские думают, что союзники обладают такими же кровавыми наклонностями. Когда к ним подходят носильщики и лазаретные служители с окровавленными руками, несчастные смотрят на них с ужасом. Окровавленные и изувеченные, они покорно подставляют шею и просят покончить скорее. Но французы ласково наклоняются над ними, осторожно поднимают их, дают пить, говорят несколько участливых слов. Одному подают стакан воды, другому перевязывают искалеченную ногу, там – вытирают запекшуюся кровь или очищают наполненный землей и пеной рот. Большая часть раненых начинают рыдать, как дети. Некоторые крестятся… – Эх… дружище… тебя славно зацепили… что поделаешь! Война… сегодня – ты, завтра – я. Бодрись! Выпей глоток! Доктор живо поправит тебя! Раненый не понимает слов, но угадывает смысл. Печальная улыбка появляется на бледных губах, которые шепчут: – Добрый француз! Спаситель-француз ласково отвечает: – Добрый Москов! Эти четыре слова делаются основой всех разговоров между врагами. Такие сцены повторяются на каждом шагу. Медленно, шаг за шагом, тянутся печальные носилки к походному лазарету Поле битвы снова оживляется. Зуавы ищут Там брошенные мешки со своим скромным хозяйством. Там – пакет с табаком, трубка, несколько безделушек, письмо с родины… Солдаты веселы нервной лихорадочной веселостью людей, избежавших смерти. Курят, поют, шутят. Один из зуавов свистит и кричит: – Сюда! Азор! Иди сюда, лентяй! Азор – это название мешка. Но Азор не идет. Его находят среди других мешков, потерявших своих хозяев. – Азор – сирота! Сиротка! – говорит один солдат, и в голосе его слышатся слезы. Вдруг раздается долгий печальный вой. – Постойте! Это настоящий Азор воет… надо посмотреть! Сорви-голова и его неразлучные товарищи вышли из боя без малейшей царапины. Они стоят теперь около батареи. Тут какая-то каша из людей, лошадей, сломанных орудий. Трупы русских кавалеристов, пехотинцев, артиллеристов лежат кучами, свидетельствуя об ожесточенности битвы. Заслышав вой, Сорви-голова подходит ближе и находит собаку-грифона, старающуюся лапами и зубами разгрести груды трупов. Собаке не удается это, она визжит, потом поднимает морду вверх, издает протяжный вой, затем снова возобновляет попытки. При виде зуава собачка настораживается и показывает острые зубы. – Ах ты, моя храбрая собачка! Мы будем друзьями! – ласково говорит ей Жан. С помощью Бокампа он поднимает трупы трех гусар и находит французского офицера. Очень юный, со шрамом на лбу, несчастный все еще сжимает рукоятку изломанной сабли. На нем артиллерийская форма. Собака бросается к нему, тихо визжа, лижет его залитое кровью лицо. – Гром я молния! – вскрикивает Сорви-голова. – Это наш храбрый лейтенант! Тело еще теплое, но дыхания не слышно! – Быть может, он жив? – говорит Бокамп. Сорви-голова расстегивает мундир офицера, прикладывает ухо к груди и слышит слабое биение сердца. – Надежда есть… скорее! Понесем его! Но как быть? Лазарет – далеко, темнеет… Зуавы делают носилки из ружей, кладут на них русские шинели и помещают туда раненого. Словно понимая, что солдаты хотят спасти ее господина, собака перестает лаять и ворчать. Она виляет хвостом, бегает взад и вперед и начинает прыгать, когда шествие пускается в путь. Два зуава несут ружья, два следуют позади, Сорви-голова поддерживает раненого. Кругом тихо и пустынно. На каждом шагу зуавы натыкаются на трупы. Сильный толчок вырывает стон у раненого лейтенанта. – И худое бывает к хорошему, – замечает Сорви-голова. – По крайней мере, мы знаем, что он жив! – Хорошо бы дать ему выпить! – говорит Робер. – Это мысль! – одобряет Бокамп. – Человек, который может пить, – наполовину спасен! Носилки останавливаются. Сорви-голова вливает в рот раненого каплю водки, каким-то чудом найденной на дне котелка. – Выпил! – произносит Бокамп. с интересом следивший за операцией. – Это – молодец, держу пари, что он скоро поправится! Лейтенант шевелится, открывает глаза и видит лицо Жана, озаренное доброй улыбкой. Он вздыхает, узнает его и тихо говорит: – Вы снова… спасли меня! Спасибо! При звуках дорогого голоса собачка взвизгивает и скачет как бешеная. – Только по милости собачки мы нашли вас, господин лейтенант! – говорит Сорви-голова. – Митральеза! Верная моя собака! – шепчет раненый. – Славное имя для собаки артиллериста! Пока доброе животное старается всячески выразить свою радость, лейтенант спрашивает слабым голосом: – Мы победили? – Да, господин лейтенант, по всей линии! – Я счастлив и могу умереть! С ним опять делается обморок. В этот момент зуавы замечают в темноте сумерек скачущего всадника. – Смирно! – говорит Сорви-голова товарищам… – Мне пришло в голову… увидите! Он протягивает руки к лошади, останавливает ее, потом, отдавая честь, вежливо говорит офицеру английской армии, смотрящему на него сквозь дымок сигары. – Простите, господин офицер! У меня к вам просьба… У нас тут умирает лейтенант… не можете ли вы послать ему на помощь… или не одолжите ли лошади, чтобы доставить его в лазарет? – Англичанин, флегматичный и холодный, спокойно курит и не отвечает. Сорви-голова, от которого не ускользает ничто, замечает французскую упряжь лошади, всадника без шпор, в смешном костюме… Это очень странно. – Что это? – думает он. – Шутка, измена? Жан подходит ближе и, разглядывая всадника, видит тяжелые черные косы, едва прикрытые, подрисованные усики, портящие это лицо античной статуи с безукоризненно правильными чертами. Яростный взгляд больших черных глаз сразу объясняет ему все… Он схватывает лошадь за поводья и кричит: – Черт меня побери! Это дама в черном! Во второй раз – вы – моя пленница! Незнакомка наклоняется, сжимает колени и хлещет лошадь. Измученная с утра, возбужденная битвой, лошадь встает на дыбы, толкает Жана и летит стремглав. Несмотря на атлетическую силу, Сорви-голова отлетает в сторону и слышит злобный хохот незнакомки. – Проклятый! – кричит она. – Я убью тебя при третьей встрече! Сорви-голова спокойно поднимается в то время, как его товарищи отчаянно ругаются, берет карабин, прицеливается в лошадь и стреляет. Лошадь подпрыгивает и стонет от боли. – Готово! Через четверть часа конь падет! – кричит Бокамп. – Надо бы погнаться за ней! – Что ж! Ты, Жан – лучший стрелок в полку и лучше всех бегаешь! На твоем месте… я побежал бы за ней! – Да, это хорошая мысль. Эта негодяйка еще наделает нам зла! Как же лейтенант? – Не беспокойся! Мы доставим его в лазарет! Этот разговор занял не более четырех минут. Сорви-голова решился. Он бросается бежать за незнакомкой. На первый взгляд, эта погоня кажется безумием, но для Жана возможно невозможное. Какая смелость! Какая твердость и выдержка! При этом умение бегать и легкие из бронзы! Сорви-голова прыгает через трупы, бежит и видит впереди себя коня, видимо замедляющего шаг. Благородное животное ранено, но будет бежать до последнего вздоха. Темнеет все более. Кругом пустынно и тихо. Жану не попадаются более ни раненые, ни трупы. Он оставил позади себя поле битвы и бежит вперед. Видимо, незнакомка хорошо знает местность и сумела ловко избежать линии войск, авангардов, часовых. Она несется вперед по дороге, и конь ее начинает храпеть. Сорви-голова, бодрый и свежий, прыгает за ней с ловкостью козы, все более удаляясь от своей армии. Теперь он во владениях неприятеля. Какие-то тени мелькают впереди. Мародеры? Не все ли равно! Он хочет догнать беглянку, куда бы она ни привела его: в засаду, в опасность, на смерть! Копыта лошади стучат по каменистой дороге. Погоня продолжается уже более получаса. Сорви-голова на минуту останавливается, вытирает пот на лбу и бормочет: – Куда она ведет меня? В Севастополь? Не могу же я один взять город! До его ушей доносится странный звук. Хрип умирающей лошади. Скорее! Туда! Зуав быстро бежит вперед и натыкается на конвульсивно подергивающееся тело лошади. – Я был уверен. Но куда девалась проклятая дама? Вместо ответа он слышит команду на незнакомом языке. Пять или шесть выстрелов раздаются справа и слева. С хладнокровием опытного солдата Жан кидается на землю, и пули пролетают мимо. Тогда он поднимается, хватает свой страшный карабин и стреляет в появившегося человека. Тот падает с пробитой грудью. Другой убегает. – Не торопись так! – усмехается Сорви-голова, и штык его вонзается в спину беглеца. – Теперь чья очередь? – кричит зуав. – Никого! Все убежали! Но занявшись этой борьбой, Сорви-голова потерял всякий след дамы в черном. Всякий другой на его месте отказался бы от преследования, но Сорви-голова был достоин своего прозвища и поступал всегда по-своему. Опасность привлекала его, невозможность только раздражала и усиливала его энергию. Жан бежит вперед, прислушивается к малейшим звукам; глухой шум вдали, ржание лошадей, стук колес, неопределенный хаос звуков – он различает в них движение армии. Это – русские войска отступают к югу. Сорви-голова подвигается вперед, думая, что если не догонит незнакомки, то все же принесет в лагерь драгоценные сведения. Перед ним мост. Он переходит его, идет среди виноградников, срывает спелые кисти винограда на ощупь и ест. К несчастью, подымается густой туман, луна прячется за облака. Невозможно ориентироваться. Сорви-голова бредет наудачу и после бесконечных аллей и переходов останавливается перед большим строением. В нижнем этаже одно окно освещено. Зуав различает звук человеческих голосов, прикладывает ухо к стеклу и слышит знакомый голос, заставивший его вздрогнуть. – Маршрут союзной армии назначает остановку на реке Каача. Здесь, в замке князя Нахимова, будет главная квартира французского штаба. Всех их надо уничтожить… одним ударом! – Хорошо, княгиня! – отвечает мужской голос. – Это она! Она! – ворчит зуав. – Бочки на месте? – Да, княгиня, в подвале… А этот солдат, которым гнался за вами? – Он потерял мой след и, вероятно, убит в засаде! – Ого, – иронически бормочет Жан. – я докажу тебе сейчас, что он жив. Разговор продолжается, и зуав, испуганный, несмотря на свою смелость, узнает о заговоре, благодаря которому должны погибнуть лучшие начальники французской армии. Нельзя терять ни минуты. Надо уведомить главнокомандующего и изменить маршрут во избежание катастрофы. Несмотря на усталость, Сорви-голова готовится бежать назад, в лагерь. Легкий шум заставляет его повернуть голову. Он отходит от окна, наклоняется и старается проникнуть взглядом через плотную завесу тумана. Что-то непонятное со свистом налетает и падает на него. Жан чувствует себя связанным, окутанным сетью, которую набросили на него. Сильный удар валит его на землю. Он не в силах защищаться, разорвать упругую сеть, сделать движение. Очевидно, ему грозит гибель в руках беспощадных врагов. Раздается свисток. Прибегают шесть человек, стуча грубыми сапогами, схватывают Жана и приносят его в огромную залитую светом комнату. Перед столом стоит дама в черном, играя острым стилетом. Лицо ее мрачно. Но Жан холодно смотрит на нее, и глаза его встречаются с ее глазами. – Ты олицетворяешь собой Францию, – говорит незнакомка тихим, шипящим голосом с выражением ненависти, – врагов моей родины… проклятый! Я ненавижу тебя! Я обещала убить тебя при третьей встрече… ты пришел и… ты умрешь! Сорви-голова, смелый, отважный даже перед кинжалом, перед лицом грозящей смерти, насмешливо отвечает: – Да, я первый взобрался на высоты Альмы, я нашел дорогу для артиллерии, я первый открыл огонь. Я водрузил французское знамя на башне телеграфа. Я солдат и не боюсь смерти. Я презираю вас, убийцу, низкого убийцу! Презрительный взгляд, дерзкие слова Жана выводят из себя даму в черном. Не владея собой, страшная, задыхающаяся, она ударяет зуава кинжалом и шипит: – Умри же!
ГЛАВА VII
Мщение дамы в черном. – Удар кинжала. – В подвале. – Жан избежал смерти. – Порох, вино и окорок. – Обстоятельства ухудшаются. – Мина. – Беспомощное положение.Когда кинжал коснулся груди зуава, дрожь пробежала по его телу. Заглушенный стон вырывается из его губ, отчаянный стон сильного и цветущего существа, бессильного перед лицом смерти. Он рвется в сетях, борется, потом закрывает глаза и остается неподвижным. Княгиня долго смотрит на него и отступает. Кинжал падает из ее руки. Ненависть потухла в ее глазах, гнев исчез перед этой неподвижностью трупа. – Двое в один день! – бормочет она. – Генерал и солдат! Ужасно убивать так! Как пощечина прозвучали эти слова: низкий убийца! Да! Может быть! Я согласна! Я люблю Россию до низости, до преступления… не остановлюсь ни перед чем ради ее спасения! За дело! В сторону слабость! За дорогое отечество! Люди, захватившие Жана, одеты по-крестьянски. По-видимому, это татары – с круглыми лицами, с приплюснутыми носами, хитрыми узкими глазами. Спокойно и бесстрастно смотрят они на княгиню и ее жертву, привыкшие к пассивному повиновению. Кроме того, они ничего не поняли из разговора княгини с Жаном на французском языке. Дама в черном, к которой вернулось ее обычное хладнокровие, говорит им по-русски: – Барин, господин ваш, дома? – Да! Он ждет вместе с господином полковником! – Хорошо! Уберите этот труп! – Что нам делать с ним? Бросить в колодец? – Берегитесь! Французы найдут его завтра! – Так зарыть его в парке? – Нет. Они разроют землю. Снесите его в подвал… он взлетит на воздух со всеми другими. – Да, госпожа, это хорошая мысль! При этих словах они берут зуава, неподвижного, бездыханного, с усилием поднимают его и несут вчетвером, стуча сапогами. Пройдя длинный коридор, поворачивают и останавливаются перед тяжелой дубовой дверью. Факелы освещают им путь. Один из слуг толкает дверь, она отворяется в какую-то черную яму. – Что ж, бросить его отсюда в погреб, – спрашивает он, – или нести? – Госпожа сказала: несите! – Да ведь он мертвый! Не все ли равно? А нам меньше хлопот! Они бросают зуава на первую ступень лестницы, сильно толкают его ногой, прислушиваются, как он катится со ступеньки на ступеньку, и уходят, замкнув дверь двойным замком. Тогда происходит что-то необычайное. Едва труп коснулся ступеней, он съеживается, насколько ему позволяет сеть, руки пружинят, спина горбится, голова уходит в плечи для того, чтобы смягчить толчки и избежать увечья. Что значит это? Удар кинжалом в грудь… агония… конвульсии. Значит, Сорви-голова не умер? Это необъяснимо, удивительно, но это так. Он жив, но чувствует себя неважно, очутившись в темноте, внизу каменной лестницы, торжественно скатившись по всем ступенькам. Ушибленный, контуженный, он добрую четверть часа лежит на сыром полу подвала, собираясь с мыслями, едва дыша, но довольный, что избежал смерти. Отдохнув немного, он прежде всего старается освободить одну руку, потом другую, наконец снимает с себя сеть. Ноги зуава связаны толстой веревкой, которая врезается ему в кожу. Он пытается развязать узлы и бормочет: – Баста! Я не в силах! Бедный Сорви-голова! После всех событий ему простительно прийти в отчаяние. Вдруг он облегченно вздыхает – его рука нащупывает штык. У него не отняли оружия, вероятно, потому, что не заметили его под густыми складками сети. Жан достает штык и разрезает веревки. Наконец-то он свободен! Положив правую руку на грудь, он чувствует что-то мокрое… – Кровь! Черт возьми! Я ранен… Если бы не мой крапод, сын моего отца отправился бы в далекий путь, откуда не возвращаются! Что такое этот спасительный крапод? Просто кожаный мешок с отделениями, в котором зуавы хранят свои драгоценности: деньги, бумаги, драгоценные камни. Это плоский вышитый мешок в виде портмоне, который они носят под рубашкой на груди, повесив на шее. У каждого зуава есть такой мешок, более или менее богатый сообразно состоянию его финансов. Мешок Жана очень плотный и объемистый, к счастью для своего хозяина. Дама в черном так усердно вонзила свой кинжал, что он прорезал мешок в нескольких местах, бумаги, проник довольно глубоко в мускулы груди и сделал на ней глубокую, но не опасную царапину. Еще немного, и стилет воткнулся бы в сердце или легкое, и Сорви-голова погиб бы безвозвратно! Но философствовать Жану некогда, он умирает от голода и усталости. У храброго солдата хватает сил ползком удалиться от лестницы. Ощупав стену, Жан встает, делает несколько шагов, падает и засыпает глубоким сном. Он просыпается от голода и жажды. Наступил день. Слабый луч света проникает в отдушину и неясно освещает подвал. Огромнейший подвал! Сотни бочонков стоят симметричными рядами. Сон подкрепил Жана, вернул ему энергию и силу. Неунывающий зуав смотрит на линию бочонков и говорит: – Вот лекарство от жажды! Посмотрим! – И протыкает штыком отверстие в одном из бочонков. – Странно! Вино не льется! Что это такое? – Жан нащупывает зернистое сухое вещество, кладет щепотку на язык. Ба! Знакомый вкус! – Порох! Черт возьми! – ворчит Жан, припоминая слова дамы в черном: «бочонки на месте?» И другую фразу: «он взлетит на воздух со всеми другими!» – Так эти бочки с порохом должны взлететь на воздух! Этот подвал представляет из себя гигантскую мину, от взрыва которой разлетится вдребезги замок и его гости – начальники французской армии! А! Низкий заговор подготовлен опытной рукой! Сорви-голова дрожит от гнева и ужаса при мысли о катастрофе. Несмотря на все его негодование, жажда продолжает мучить его. Он атакует второй бочонок, энергично протыкая его штыком. Вино льется ручьем. Сорви-голова прикладывает губы к отверстию и с наслаждением тянет крымский нектар, свежий, нежный, душистый, который подкрепляет и воскрешаетего. Жажда утолена. Но голод сжимает все внутренности. Жан берет горсть земли, затыкает ею отверстие в бочке и бредет по подвалу. В конце его он останавливается. Сильный запах ветчины кружит ему голову. На крюках подвешено несколько окороков. – Вот это прекрасно! – говорит Сорви-голова, снимает один окорок, отрезает от него большой кусок и ест с каннибальской жадностью. Хорошо закусив и выпив, Сорви-голова вернул всю свою бодрость и силу и снова стал прежним – отважным неустрашимым солдатом, которого трудно смутить и испугать. Что ему делать теперь? Конечно, помешать во что бы то ни стало ужасному заговору! Для начала Сорви-голова решается быть осторожным. Осторожность не принадлежит к числу его добродетелей, но особенно ценна в людях его темперамента. Он садится на бочку и размышляет. – Да, надо быть осторожным. Сорви-голова, милый мальчик, будь осторожен! Дама в черном хитра, как все арабские племена вместе, и не остановится ни перед чем. Она привела меня за собой в засаду, под выстрелы, направила меня сюда, к замку, поймала в сети, как карася, и угостила кинжалом! Славная женщина! Кто знает, может быть, и теперь несколько пар глаз подсматривают за мной! Надо найти уголок, потаенное местечко, где можно спрятаться, если они вздумают осведомиться, умер ли я! Сорви-голова ищет, но не находит такого уголка. Его найдут с первого взгляда. Ну, что ж! Он дорого продаст свою жизнь. Трудно представить себе, какое спокойствие охватывает человека, который решился на все, даже на смерть. День проходит без всяких событий. Но как долги и томительны эти часы заточения! Какая тоска для смелого солдата сидеть впотьмах с ужасной мыслью в голове, которая точит мозг и будоражит кровь: главный штаб армии в опасности! Хотя у него много вина и мяса, но куски останавливаются в горле. Ночь проходит тихо. После полудня, на другой день, в замке начинаются ходьба и суета. Дверь подвала с шумом отворяется. Люди входят, громко стуча сапогами. Их много. Все они с фонарями и держат разные орудия и материал: камни, кирпичи, гипс. По их выправке зуав догадывается, что это переодетые солдаты. Несколько человек из них отдают приказания на русском языке повелительным тоном. Вероятно, начальники. Рабочие принимаются за дело. Один из них, осветив бочки фонарем, сделал на двадцати из них знак в виде креста. Остальные берут помеченные бочонки и ставят их стоймя на середину подвала. Сделав это, они прилаживают к верхушкам бочек что-то вроде деревянных кранов, вбивая их ударами молотка. К каждому крану прикрепляют кончик какого-то черного гибкого предмета, длина которого, видимо, высчитана. Запрятавшись в дальний угол, Сорви-голова с бьющимся сердцем присутствует при этих приготовлениях и узнает трубки с фитилями. – Двадцать бочек пороху, – думает он, – по двести кило в каждой – хорошенькая цифра в четыре тысячи кило, которые взлетят на воздух! Все разлетится в щепки! Слава Богу, что я здесь! Люди работают с лихорадочной поспешностью, громоздят принесенный материал, растворяя его в вине вместо воды. За водой далеко идти. В один миг воздвигается стена, которая разделяет погреб на две части, от земли до сводов, и совершенно изолирует мину. – Если бы я находился там! – думает Жан. – Эти казаки заперли бы меня с бочками… а здесь… Что я буду тут делать? – Неприятельская армия в пути? – обращается один из начальников к другому по-французски. – Да, Ваше превосходительство… она будет здесь не позднее, чем через пять часов! – Сколько времени могут гореть фитили, которые должны взорвать мину? – Часов шесть! – Значит, через шесть часов! Стена готова. Оставлена только брешь, достаточная, чтобы пройти одному человеку и зажечь фитили. Страшная работа кончена. – Кто будет зажигать? – спрашивает первый собеседник. – Вы. Ваше превосходительство, или я? – Княгине принадлежит эта честь… она хочет сама поджечь вулкан! – Хорошо. Так предупредите ее, что все готово!
ГЛАВА VIII
Подвиги лейтенанта. – Главнокомандующий и доктор. – Мечта солдат.– Изнанка славы. – Шест тысяч убитых! – Веселый переход. – Пушка. – Русские топят свои корабли. – Мина под замком.– Раненые.– Совет. – Взрыв.Вернемся пока на поле битвы. Товарищи Жана много толковали о его погоне, потом, после его продолжительного отсутствия, начали беспокоиться. Так как состояние раненого лейтенанта требует помощи и ухода, они направляются к лазарету, где усердно работает доктор Фельц. Собака бежит за ними, не отставая ни на шаг. По дороге зуавы встречают артиллеристов, которые узнают своего офицера и, радуясь, что он жив, присоединяются к зуавам. Все они идут тихо, неся импровизированные носилки, и восхваляют храбрость раненого. – Да, мальчик еще… три волоска на губе… а храбрый, как лев! – Мы знаем это, – подтверждает Бокамп, – мы видели его на деле, так же, как вас, канониров! Вы молодцы! Честное слово зуава! – Хорошо сказано, товарищ! – отвечает артиллерист. – Делали, что могли, как истые французы! – Наш лейтенант сделал больше, чем мы, он спас пушку! – Разве вы видели? – Как же! Это было в тот момент, когда русские гусары кинулись на нас с саблями и пистолетами. Батарея вынуждена была отступить, одно орудие осталось… ни людей, ни лошадей… только квартирмейстер и бригадир остались в седлах… каким-то чудом. Конечно, орудие достанется врагам! Вдруг лейтенант бросается вперед, лицом к неприятелю, и командует: «Запрягать! Живо! Отступать… ползком!» Живо запрягают лошадей, пришпоривают их, а офицер стоит на месте и дает себя убить… Таким путем орудие было спасено. – Ах, это славный молодец, наш лейтенант! Носилки с раненым подвигаются вперед, мимо палатки главнокомандующего, где царят шум и движение. После долгого обморока Сент-Арно пришел в себя, но испытывает адские боли. Пот струится по его бледному посиневшему лицу, взор мутный; несмотря на железную волю, заглушенные стоны вырываются из его груди. Главный доктор, Мишель Леви, не отходит от больного, неустанно следит за ним и угрюмо молчит. Голосом, прерывающимся от боли, маршал говорит: – Прошу тебя… не как начальник, а как… друг юности… товарищ по оружию… скажи мне правду… я отравлен. Да? – Да, отравлен! – О, несчастная! Я погиб, не правда ли? – Я не теряю надежды, маршал! – Я понимаю… мне остается только… передать команду… генералу Канроберу… и ждать смерти!
– Нет, маршал, у вас много энергии, силы, я надеюсь! – Честное слово? – Да, даю честное слово! – Спасибо… тогда я подожду. Ни одного намека на даму в черном, на ее необычайное бегство, на роковое стечение обстоятельств, благоприятствовавших преступному исчезновению княгини. Маршал уверен, что у нее есть сообщники в армии. Разве не выкрали у него, во время обморока, обвинительный лист с именами изменников? Этот шотландский офицер, явившийся вовремя, чтобы прервать разговор маршала с пленницей, кто он? Маршал припоминает массу мелочей, которые ускользнули от него… Необходимо узнать, расспросить, беспощадно наказать изменников, а он лежит тут, измученный страданием, умирающий, пригвожденный к постели. Все эти мысли проносятся в мозгу маршала, и он шепчет: – Жизни мне! Жизни, которую я безумно растратил! Несколько дней… несколько часов… чтобы воздать высшие почести тем, кто умер за отечество, и наказать виновных! Как я страдаю! Господи! Как я страдаю! Ночь проходит, ужасная, мучительная для маршала, только опиум помогает ему забыться на время. По стратегии, союзная армия должна бы немедленно двинуться к Севастополю, преследовать русскую армию, которая, при новой атаке, была бы отрезана на высотах Херсонеса, и – почем знать? – может быть, сдалась бы… вместе с Севастополем! Какая чудная мечта для солдата! Для главнокомандующего! Но Сент-Арно умирает, делит власть с Рагланом! Приходится спорить, обсуждать в мелочах малейшие движения войск. Англичане не торопятся, потому что не подобрали еще своих раненых. А время идет. Надо отказаться от этой мечты. Войска останутся еще сутки на поле битвы, затем медленно двинутся к крымской крепости, к Севастополю. Следующий после битвы день ужасен, изнанка славы – тяжела! Ярость стихла, энтузиазм исчез, рассудок вступил в свои права. Оставшиеся в живых ощущают острое чувство боли. Сердце сжимается, на глаза навертываются слезы при воспоминании об исчезнувших друзьях, товарищах по оружию. Остается смутная надежда… В лазарете… быть может, они там, изувеченные, измученные, но все-таки живые! Увы, нет. Любимый товарищ лежит на поле битвы, холодный, с остекленевшими глазами, с пеной у рта, неподвижно смотря в небо! Стаи мух жужжат около него. Над ним вьются с шумом хищные вороны… Саперы спешно роют ямы – огромные траншеи, куда относят мертвецов. Их спускают туда по национальностям: англичан, французов, русских – в разные ямы. Спешно прикрывают землей и заливают негашеной известью. Корабли привезли огромный груз извести для будущих мертвецов. В глубине этих траншей лежит три тысячи русских, две тысячи англичан, тысяча пятьсот французов. Шесть тысяч пятьсот убитых! Целое население любого городка! На другой день после битвы на Альме армии пускаются в путь. Остановка назначена на реке Каача, а в замке графа Нахимова остановится главный штаб. Маршал еще жив. Благодаря самоотверженным заботам врача его состояние несколько улучшилось. Его переносят в знаменитое ландо дамы в черном. Он едет в полной парадной форме, бледный, как смерть, делая нечеловеческие усилия, чтобы сидеть твердо и отвечать опечаленным солдатам, которые вытягиваются во фронт и приветствуют его. Сентябрьское утро великолепно. Тепло, солнце ярко светит, чудный пейзаж перед глазами. Французская армия идет словно на прогулку, проходит луга, поля, пажити. Вдали сверкает спокойное море, на котором двигаются эскадры с белыми парусами. Вдруг раздаются выстрелы. Слышны крики. Что это? Нападение? Засада? Нет! Простая охота! Дичи множество, масса зайцев, стремительно убегающих прижав уши. В них стреляют, преследуют их. Перепуганные животные бросаются под ноги охотникам. Их ловят руками и убивают. Берега речки восхитительны. Прелестные луга, сады, виллы, зеленые рощи, чудные виноградники – все это делает местность настоящим эдемом. – Виноград-то, – замечает один из зуавов, видимо, знакомый с библейской историей, – чисто Ханаанский! – Вино в облатках, но вкусно! – добавляет другой при виде спелых гроздьев винограда. – Это доказывает, что вино в бочонках недалеко! – заключает третий, лакомясь виноградом. – А меду-то! Смотрите! У каждого дома пчельник… Берегитесь только пчел! – Совсем обетованная земля! – Тетка Буффарик! Здесь лучше всякого оазиса! – Это правда, дети мои, – говорит маркитантка, – пользуйтесь случаем! Нет известий от Сорви-головы? – Ничего нет, тетка Буффарик! – Это скверно и беспокоит меня! – Пустое! Не бойтесь! Наш Сорви-голова редкий молодчина! – Те-те-те! Это верно, голубчик! – прерывает его маркитант, который подходит к собеседникам, высоко держа голову, выпятив грудь, с развевающейся бородой. – Наш Сорви-голова – смельчак, которому не надо няньки… Пушечный выстрел прерывает его слова. – Что такое? Пушка? Нападение на авангард? Все глаза устремлены на Севастополь, который виднеется в десяти километрах. Огромная туча дыма стоит над рейдом, и пушка грохочет безостановочно. Нет, это не атака. Но рейд закрыт. Полагая, что он недостаточно защищен, и желая запереть его, чтобы помешать союзному флоту атаковать его с моря, Меньшиков приказал загородить вход, потопив русские корабли. Без колебания, но с огромной тяжестью на душе он жертвует половиной флота, решаясь на отчаянный и в то же время гениальный поступок. Три фрегата и пять кораблей затоплены моряками. Вода проникает в люки, врывается на мостики, заливает снасти. Корабли вертятся, качаются и тонут… У некоторых из этих морских великанов агония продолжается долго. Они словно не хотят погибать. Тогда их братья по оружию, другие корабли, подходят к ним, стреляют и наносят им последний удар. Флаги подняты, колокола звонят, священники служат заупокойную обедню, слезы льются из глаз, из груди вырывается крик ярости и мести. Жертва ужасна, но Севастополь спасен! План союзников – напасть па город с моря – рушится. Осада крепости – невозможна. Эту новость сообщают маршалу, произносящему пророческие слова: – Да, это достойные потомки русских, сжегших Москву. Храбрые люди! Я жалею моего преемника… кампания будет тяжелая! Между тем арьергард французской армии переходит реку Каача и подвигается вперед среди волшебного солнечного пейзажа. Переход кончен. Просто приятная прогулка. Вот и замок графа Нахимова с окружающей его деревушкой. В этой деревне расположатся счастливые зуавы второго полка. Левое крыло замка предназначено для раненых, следующих за войском в амбулаторных каретах. Маршал перенесен в парадные апартаменты. Тетка Буффарик завладевает кухней и считает своим долгом угостить штаб изысканным обедом. Роза заботится о раненых. Несмотря на уверения зуавов, на утешения отца, у нее тяжело на сердце. Она думает о Сорви-голове, дорогом отсутствующем, исчезнувшем неизвестно куда, и дрожит при мысли, что даже для привычного, смелого солдата эта неспокойная жизнь, эти неожиданные приключения могут иметь роковой исход. Но воспитанная в суровой школе долга, смелая девушка старается подавить свои чувства и не отходить от раненых. Во время пути она сделала большой запас винограда и угощает им раненых, измученных лихорадкой. Стоны и жалобы умолкают при появлении доброй феи, ласковый взгляд и нежная улыбка которой озаряют лучом надежды мрачную комнату. Раненых около тридцати человек: артиллеристы, линейцы, охотники, зуавы и несколько русских. Все они, забывая страдания под тихой лаской ее голоса и взгляда, с восторгом смотрят на нее. В то время, как она кормит их сочным виноградом, полковой врач хлопочет о размещении больных, развязывает бандажи, вправляет руки и ноги, останавливает кровоизлияние. Все идет хорошо, даже раненый лейтенант чувствует себя лучше. От него не отходит его собачка-грифон. – Посмотрите, мадемуазель Роза, какой чудесный удар саблей! – не может удержаться доктор. – Ах, господин доктор! Это ужасно! Как он должен страдать! У раненого половина головы выбрита. Ужасная рана, разделившая череп на две части, от лба до затылка, зашита у рта чудовищным швом. – Двадцать две булавки! – бормочет доктор. – Понадобилось двадцать две булавки, чтобы соединить края, зато теперь держится отлично! Видите ли, мадемуазель Роза, эти головные раны – все или ничего! Если раненый не умер после удара, он может поправиться. Этот молодец проживет еще сто лет, клянусь вам, что через три недели он будет сидеть на лошади! – Спасибо, доктор, – шепчет едва слышно раненый, – и вам спасибо, барышня! На парадном дворе замка раздается топот скачущих лошадей. Группы офицеров подъезжают к крыльцу. Перед главным рходом, у которого стоят два часовых, развевается трехцветны и значок главнокомандующего. Слышны звуки труб и барабанов. По приглашению Сенг-Арно командиры войска собираются на военный совет. Канробер, Боске, принц Наполеон, Форей – четыре дивизионных генерала; бригадные генералы: Эспинас, де-Лурмель, Бона; полковники: Клэр, Лебеф, Бурбаки. Всех их встречает полковник генерального штаба Трошю и ведет к маршалу. Маршал, совершенно измученный болезнью, делает снова нечеловеческие усилия над собой, чтобы председательствовать на этом совете… последний раз! Отдав военный поклон маршалу, офицеры садятся. В этот момент сильный толчок потрясает все здание сверху донизу и заставляет всех офицеров вскочить на ноги. Потом глухой удар, и из подвала вырываются столбы пламени.
ГЛАВА IХ
Фантазия княгини. – Огонь в мине. – Порох. – Сосиска, но не мясная.– Мани и контрмина. – Спасайтесь! – Бедный Сорви-голова. – Взрыв. – «Именем императора».Дама в черном доводит свою ненависть до того, что хочет поджечь мину, которая должна стереть с лица земли всех начальников французской армии. Эта чудовищная фантазия исполнена. Из группы рабочих отделяется один человек и бежит предупредить княгиню, что все готово. Она ждет, опасаясь внезапного прибытия врагов. Вздох облегчения вырывается из ее груди вместе с яростным криком: – Наконец-то! О, они в моей власти! Княгиня спускается. Полковник подает ей искрящийся конец фитиля, и, шутливо кланяясь, замечает: – Пожалуйте, княгиня! От вашей руки это будет апофеозом! – Да, – отвечает она с жестоким смехом, – они полетят к небу… на воздух, но в виде клочьев! Дама холодно берет фитиль, подходит к бреши и зажигает пучок фитилей, другой конец которых находится в бочках с порохом. Когда в темноте подвала заискрились красные точки, она уходит со словами: – Я подожгла вулкан, и он взорвет негодяев! Им не избежать теперь моей мести! Сорви-голова в своем углу слышит эти ужасные слова. В нем кипит гнев против коварной женщины – олицетворения гения зла. – Я должен был бы броситься на нее и всадить штык ей в грудь. Живая она наделает нам много зла! Ну, а потом? Его убьют… Нет, он должен жить, чтобы предупредить катастрофу, и если ему суждено погибнуть, то он погибнет ради серьезного дела, ради отечества… Рабочие бросаются к бреши, кладут доски, кирпичи и заливают все это гипсом. Через десять минут все это превращается в камень, и дама в черном командует своим металлическим голосом: – Назад! Люди проходят перед ней, за ними оба начальника, она идет последней, бледная, надменная, но довольная. Сорви-голова слышит, как запирают дверь, слышит глухие удары и удаляющиеся шаги. Черт возьми, они замуровывают вход, сейчас заткнут отдушину. Тогда я примусь за дело. Сорви-голова, мой милый, постарайся пробить стену и добраться до бочек с порохом! Не теряя ни минуты, он хватает свой штык и втыкает его в гипс. Но стена не поддается, твердеет все более и образует камень. Сорви-голова ругается и ворчит: – Как плотно… нужен бурав… мой штык – это игрушка! Клак! Резкий звук… штык сломался! – Проклятье! – сердится зуав, чувствуя себя обезоруженным против неодолимого препятствия, но не хочет при знать себя побежденным, берет обломок штыка, тычет им в стену и успевает только ободрать себе ладони и пальцы. Мало-помалу воцаряется полная темнота. Слабый луч света, проникавший сверху, гаснет. Наступает ночь, ужасная ночь в подземелье. Отдушина заткнута. Сорви-голова решается продолжать борьбу, кажущуюся теперь верхом безумия. Он садится на ступеньку лестницы и начинает размышлять. – В моем распоряжении еще четыре часа, может быть, пять… я должен пробраться через стену… У меня нет ничего, кроме карманного ножа и обломка штыка… мало времени… Есть только мина… петарда… Если бы у меня был порох… Однако… Ах, Боже мой… это было бы чудесно… надо взглянуть… Взглянуть! Конечно, это только манера говорить… риторическая фигура, потому что Сорви-голова погружен в непроницаемый мрак и не может видеть ничего. Он быстро встает и как человек, хорошо знакомый с топографией местности, ползет на четвереньках по подвалу. Поза, не имеющая ничего грациозного, но тем не менее она нисколько не унизительна для достоинства зуава, так как ведет его к намеченной цели. Это ползанье продолжается около десяти минут. Сорви-голова решил исследовать подвал. Вдруг он поднимается и кричит: – Хорошо! Очень хорошо. Отлично! Я сплясал бы, если бы было время! Ого! Сударыня в черном! Мы посмеемся! Что это значит? Не сошел ли с ума Сорви-голова? Чему он так обрадовался? Сорви-голова так же хитер, как и смел. Ему припомнилась первая бочка, которую он проткнул своим штыком, наполненная порохом. Когда зуав утолил свою жажду вином из другого бочонка, он заткнул отверстие и совсем забыл о первой бочке. А порох, подобно вину, наверное, высыпался на землю через широкое отверстие, сделанное штыком. В этом Сорви-голова не замедлил убедиться, ползая на четвереньках. На земле лежало до сорока фунтов пороху. Русские, занятые своим делом, не заметили этого. Сорви-голова радостно подпрыгивает и бережно, на ощупь, собирает рассыпанный порох. Он торжествует, скачет, стоит на четвереньках, чтобы не наделать больших глупостей, и говорит себе вполголоса: – Время летит… не надо глупостей… у меня есть порох… надо только смастерить сосиску! Сосиску, т.е. оболочку снаряда, которая не имеет ничего общего с мясной сосиской. Сорви-голова вспоминает о своих полотняных кальсонах. Прекрасная мысль! Он снимает их, завязывает узлом низ одной штанины, потом другой, разрывает их пополам и получает два мешка, длинных, узких и завязанных с одного конца. Ощупью, со всякими предосторожностями, он высыпает весь запас пороха в эти мешки и завязывает узлом открытый конец. – Ну, – говорит он весело, – у меня две сосиски вместо одной… лишняя мне не помешает! Все так же ощупью, бродя, как слепой, Сорви-голова переносит снаряды к верхушке лестницы, ставит их на землю один на другой и прислоняет к двери. Эта возня, эти хлопоты отнимают у него много времени, и он с ужасом думает о том, что время идет, фитили горят и вулкан готов разрушиться. Во всяком случае, самое трудное и опасное – сделано. Теперь надо поджечь этот первобытный, но ужасный снаряд, и много шансов за то, что сам он, Жан, взлетит вместе с ним на воздух. И все-таки он усердно работает, чтобы воспламенить возможно скорее порох и вызвать взрыв. С помощью ножа он прорезает петарду, высыпает горсть пороху и усыпает им дорожку до края площадки лестницы, потом спускается вниз за остальным запасом пороха, наполняет им феску, снова поднимается по лестнице и сыплет порох на ступени. В этот момент он слышит шум, различает топот лошадей, стук колес, размеренные шаги солдат, звуки барабана, труб. Трубач играет марш его полка. Сердце Сорви-головы готово разорваться, в ушах шумит, искры мелькают в глазах… Это французская армия. Товарищи его и весь главный штаб попали в западню! Скорее, скорее! Сорви-голова, спеши! Время уходит, фитили горят, и жизнь всех тех, наверху, в опасности. Страшная смерть ожидает их всех, без различия лет, чинов и пола. Старые служаки, юноши, заслуженные генералы, простые солдаты и тетка Буффарик, и дорогая Роза… – О, надо спешить! – ворчит Сорви-голова. Он громоздит на петарду всякую дрянь, которая валяется в подвале, чтобы сконцентрировать извержение на верхней части двери. Наконец все готово. Задыхаясь, покрытый потом, зуав тропится поджечь свою адскую машину. Чтобы несколько уменьшить для себя опасность, Жан решает поджечь порох у площадки лестницы и вместо спичек, довольно редких в эту эпоху, употребляет свое огниво. Живо! Он зажигает кусок трута, раздувает огонь, ощупывает ступень лестницы, порох и, без малейшего колебания, кладет на него трут. Словно молния вырывается вверх с шумом и свистом, пробегает по ступеням лестницы, добирается до площадки… затем ослепительный свет и оглушительный треск. Пламя, дым наполняют подвал… Происходит ужасное извержение газа! Сорви-голова не успел прыгнуть назад и только закрыл лицо руками. Подхваченный взрывом, словно циклоном, он завертелся и упал, обожженный, ушибленный, отброшенный в сторону. Проходит минута. Зуав лежит неподвижно. Сверху есть еще боковой вход в подвал. Люди прибегают… несколько зуавов. Один из них держит факел. Это Буффарик. Старик всматривается в неподвижное тело и узнает своего друга. Громкое рыдание вырывается из его груди. – Сорви-голова! Бедняга! Он поднимает его, как ребенка, и кричит: – Ты еще жив, голубчик! Ты не умер. Боже мой! Скажи мне… – Под этим зданием… мина, – едва слышно говорит зуав, – двадцать бочек пороху… все взлетит… Спасайтесь! Я сделал, что мог! Прощай! Несмотря на свою храбрость, вошедшую в поговорку, Буффарик вздрагивает при этих словах, прижимает к себе неподвижное тело друга и летит вверх по лестнице, крича: – Живее! Спасайтесь! Замок взлетит! Солдаты в неописуемой тревоге бегают по коридорам. Повсюду звучит тревожный крик: «Спасайтесь! Живее! Замок взлетит!» Буффарик вытаскивает на свет Божий Жана, неподвижного, без голоса, без взгляда… Руки его обожжены, борода опалена, лицо опухло, глаза закрыты опухшими веками. Сорви-голова неузнаваем. На крик Буффарика прибегают тетка Буффарик и Роза, предчувствуя несчастье. При виде Жана у молодой девушки вырывается раздирающий вопль: – Жан! Мой бедный Жан! Вот как мы с вами увиделись! – Он спас нас! Еще раз и ценой своей жизни! – говорит, захлебываясь рыданиями, старый сержант: – Пойдем, Роза, понесем его… под этот платан! – Да, отец, да. Мы спасем его, не правда ли? Как женщина энергичная и хладнокровная, тетка Буффарик тащит ведро с водой и тряпки, чтобы сделать первую перевязку. Роза поддерживает голову раненого, которого Буффарик кладет под дерево, среди толпы солдат, прибежавших со всех сторон. Тревога распространяется с быстротой молнии и производит настоящую панику. Полуодетые, босые, прибегают зуавы, таща провизию, мешки, оружие. Котелки и кастрюльки бренчат, люди кричат, лошади ржут, шум усиливается… Появляется доктор Фельц и кричит: – Раненые! На помощь раненым! Скорее! В самом деле! Раненые! О них забыли. Все бросаются спасать больных товарищей. Это – священное дело! Чтобы спасти раненых, солдаты бросятся в огонь, на штыки, куда угодно, презирая смерть. Раненых выносят в одну минуту, заботливо, тихо, со всеми предосторожностями. В это время главный штаб, генералы, полковники спокойно уходят из замка. Последним появляется маршал, которого четверо зуавов несут на носилках. До сих пор никто ничего не знает наверное, никто не может думать и рассуждать. Все слышали взрыв, видели, что сержант Буффарик нес какого-то мертвого зуава и кричал: «Спасайтесь!» И больше ничего. Теперь и солдаты, и раненые, и коляски, и провизия, и амуниция – все в безопасности. Маршала положили в тени большого платана, неподалеку от безжизненного тела Сорви-головы. Главнокомандующий смотрит на солдата, на жестикулирующего Буффарика, на женщин, хлопочущих около зуава, и говорить слабым, но надменным голосом: – В конце концов, что все это значит? Объясни мне, сержант! В этот момент земля дрожит, замок качается и вдруг раскрывается, как кратер. Из середины его поднимается столб пламени вместе с тучей дыма. Потом ужасный взрыв, сопровождаемый настоящим ураганом, который разносится далеко вокруг громовыми раскатами… Когда туча дыма рассеялась, когда перестали падать разные осколки и обломки, на месте роскошного здания виднелась только почерневшая стена над зияющей ямой, откуда медленно тянулись столбы дыма. Тогда Буффарик становится навытяжку и, отдавая честь, отвечает маршалу: – Вот что это значит, господин маршал! Этот храбрый солдат, которого вы видите здесь умирающим, спас армию от великого несчастья. Настоящий герой, господин маршал! – Его имя? – Жан Бургейль, по прозвищу Сорви-голова! –Я не в первый раз слышу это имя! – Немудрено, господин маршал, – с гордостью отвечает Вуффарик, – его знает вся африканская армия! В полку Бургейля обожают, и сам кебир уважает его, в доказательство чего обнял и поцеловал его, когда он водрузил наше знамя на башне телеграфа! – Почему же он не награжден… почему не было приказа по полку? – Это потому, что он… как бы сказать… он был осужден на смерть! – Ах, да, припоминаю… за оскорбление старшего чина. – О, господин маршал, – возражает маркитант снисходительным тоном, – это была глупость… Вы поймете это потому что командовали полком зуавов! Сент-Арно не отвечает и задумывается. Конечно, этот солдат позволил себе нарушение дисциплины и заслуживает наказания по всей строгости военного устава, но обстоятельства сложились так, что он избежал кары и благороднейшим образом исправил свою ошибку. Его видели всюду… в разгаре битвы… Осужденный на смерть, он искал ее… Он, этот Бургейль, водрузил на высотах Альмы победоносные французские цвета, он спас несколько тысяч человек, спас главнокомандующих, жертвуя собой… С одной стороны, нарушение дисциплины, с другой – героизм, заслуживающий блестящей награды. Сент-Арно не колеблется более. – Подойди, – говорит он Буффарику, – дай мне твой крест! Старый сержант снимает орден и подает маршалу, слабая рука которого дрожит от лихорадки. Вдруг, как по мановению руки, мертвая тишина воцаряется кругом. Зуавы замирают на месте, стоя кучками, группами, в полном беспорядке. По инстинкту, без всякой команды, они отдают честь, стоя лицом к главнокомандующему. Маршал приподнимается и твердым голосом, смотря на Жана, поддерживаемого Розой и теткой Буффарик, говорит – Жан Бургейль, именем Его Величества императора Франции за твое геройское поведение жалую тебя орденом Почетного Легиона! Генерал Боске, будьте добры, передайте новому кавалеру знаки его ордена и обнимите его за меня. Я не могу более… не в силах! Сорви-голова, полумертвый, слышит эти слова. На минуту безумная радость и волнение словно наэлектризовали его. Он выпрямляется и стоит неподвижно, страшный, обожженный, ничего не видя, трагический под своими победоносными лохмотьями. Правой рукой, представляющей собой одну сплошную рану, он отдает честь. Боске подходит к нему, поддерживает его, обнимает и говорит: – Именем императора, именем главнокомандующего вручаю тебе крест Почетного Легиона и добавлю, что счастлив возможностью украсить им твою доблестную грудь! Едва дыша, стоит Сорви-голова, не способный произнести слова. Бодрость покидает его в тот момент, когда красная ленточка ордена прикреплена к лохмотьям его куртки. Он качается и падает на руки сияющего Буффарика, который кричит ему своим громовым голосом: –Не бойся, голубчик… все пройдет… ты поправишься… Видишь ли, маршал наложил на твои раны пластырь, который живо залечит их. Конец первой части.
* ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АДСКИЙ ПАТРУЛЬ *
ГЛАВА I
Крым. – Его стратегическое значение.– Херсонес. – Опасения русских.– Корнилов и Тотлебен. – Импровизация защиты. – Прибытие союзной армии.– Важные позиции. – Траншеи, – Бомбардировки и приступ.Крым расположен на северном берегу Черного моря и соединяется с континентом Перекопским перешейком. Поверхность Крыма занимает не более двадцати шести тысяч квадратных километров, что равняется четырем французским департаментам, но значение этой маленькой территории необъятно. Удобное положение Крыма среди вод Черного моря делает его абсолютным владыкой этого большого интернационального озера, которое омывает обе Турции, дунайские провинции и Кавказ, куда впадают реки Днепр и Дон, великие артерии юго-западной России. Хозяева Крыма всегда будут владыками Черного моря. Поэтому обладать Крымом стремились еще малоазийцы, Митридат, византийцы, генуэзцы, турки вплоть до нынешних хозяев его, русских. Крым – это крепость южной России, а Севастополь – крепость Крыма. В юго-западной части его находится узкая полоса земли, вдающаяся в море острым концом, где горит маяк. Это – мыс Херсонес, образующий вершину треугольника, омываемого с двух сторон морем, а с востока закрытого линией утесов. Треугольник представляет собой возвышенность Херсонеса, простирающуюся на сто двадцать пять квадратных километров. В продолжение долгих месяцев здесь, на этих исторических высотах, четыре великие народности – русские, турки, англичане и французы вели отчаянные битвы. Эта возвышенность достигает трехсот метров вышины и окружена холмами. Некоторые из них получили кровавую известность, например «Ravin de la Quarantaine», «Ravin des Anglais», «Ravin du Carenage». На левом берегу южной бухты расположен Севастополь, русский город, богатый и красивый, гордый своими сорока двумя тысячами жителей, лепящийся по склонам горы. С севера на юг его пересекают две великолепные улицы: Морская и Екатерининская. Масса бульваров, общественных и частных садов с прекрасными вековыми деревьями. Повсюду прекрасные дома, богатые магазины, административные здания, которые выглядят настоящими дворцами, – все это образует грандиозное целое, над которым высятся и сияют золоченые купола церквей. На правом берегу находятся больницы, казармы, военные магазины, бассейны, доки. Административный, морской и военный город развернулся в Корабельной бухте, около которой высится Малахов курган. Город оставляет впечатление богатства, цветущего благоденствия и силы, но только с первого взгляда. Если со стороны моря стены и крепости могут создать иллюзию безопасности, зато со стороны Херсонеса не сделано ничего, чтобы защитить город от нападения. Всего несколько подготовительных работ, окончание которых требует много времени, людей и денег. Кроме того, никто не ожидал атаки Севастополя и этой победы на Альме. Русская армия отступила, Севастополь открыт, и союзная армия в пяти днях пути. Если не хватило денег и времени, зато остались люди. И какие люди! Корнилов, Тотлебен! Первый – контр-адмирал, второй – инженер-полковник! Разбитый Меньшиков, конечно, не решился запереться в Севастополе. Боясь, что его армии придется выдержать блокаду, голодать и в конце концов сдаться неприятелю, он двинулся усиленным маршем в глубь Крыма и здесь решился ждать. Назначив Корнилова главнокомандующим, а Тотлебена присоединив к его штабу, Меньшиков сказал им: – Оставляю вам двадцать пять тысяч войска, поручаю именем Государя, защищать Севастополь до… смерти и отдаю в ваши руки спасение отечества! Корнилов отвечает просто: – До самой смерти! Мы исполним свой долг! По отъезде Меньшикова Корнилов дает Тотлебену все полномочия, чтобы защищать город. Севастополь – в тревоге! Повсюду – прокламации… Отечество – в опасности! Воззвание к патриотизму, к самопожертвованию! Великие слова, которые всегда находят отзвук в русском сердце! Барабаны и трубы гремят, колокола звонят… Сердца содрогаются, глаза увлажняются слезами, руки сжимаются, крики гнева и энтузиазма звучат в воздухе! Какое геройское зрелище! Солдаты, матросы, чиновники, рабочие, торговцы, горожане, старики, женщины, дети бегут по улицам, крича: – Защищаться! До смерти! До смерти! Сначала самое главное – укрепления… Надо окружить траншеями находящийся в опасности город. Десять тысяч импровизированных работников готовы; разумеется, неловких, но дышащих горячим патриотизмом, который творит чудеса. Из арсеналов достают орудия, ломают деревья… Потом, под предводительством офицеров, толпа бросается к тем пунктам, которые надо укрепить. Во главе толпы идет женщина в черном и несет русское знамя. Ее приветствуют восторженными криками: – Княгиня! Да здравствует княгиня! Да здравствует русская патриотка! Живо! Офицеры намечают места. За работу! Княгиня требует, чтобы ей позволили сделать первый удар лопатой. За ней толпа набрасывается на твердую почву возвышенности и беспощадно взрывает ее. Эта работа продолжается целые часы, дни, ночи – неустанно, безостановочно. Дама в черном в первом ряду рабочих с ожесточением отдается грубой работе. И когда ее окровавленные руки не могут более держать кирку или лопату, она, совсем разбитая, едва двигаясь, находит в себе силу схватить русское знамя и гордо пройтись с ним по всей линии укреплений. Прекрасная в своем черном одеянии, она кричит своим металлическим голосом: – Бодритесь, дети! Бодритесь! За Государя! За святую Русь! Все эти труды и усилия увенчались успехом. Быстро углубляются траншеи, растут насыпи, бастионы, укрепления Так как для работ не хватало дерева, в ход пустили все: доски, мебель, сундуки, ящики – все годилось для молодцов, готовых защищать город своими трупами. В это же время привозят пушки, ядра, маскируют амбразуры мешками с землей. Эта гигантская работа длится сто двадцать часов… Четыре дня и четыре ночи. Защитники Севастополя сделали больше, чем было в человеческих силах. Когда все было готово, Корнилов попросил духовенство благословить войско и работы. Священники появились на укреплениях в сопровождении адмирала, который после службы обратился к солдатам с этими историческими словами: – Дети, будем драться до последнего! Всем начальникам я запрещаю бить отбой, если кто из начальников прикажет бить отбой, заколите такого начальника! Товарищи! Если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас будет подлецом, кто не убьет меня! Все готово. Русские спокойно ждут неприятеля. Англо-французская армия подошла к Херсонесу только 26 сентября. Ей понадобилось почти два дня, чтобы подобрать своих раненых и похоронить убитых, и не менее четырех дней, чтобы пройти двадцать пять километров расстояния, отделявшего Альму от Севастополя. Правда, все продовольствие и амуниция солдат заключается в их мешках, потому что весь резерв находится на кораблях союзного флота, и снабжение продовольствием армии находящейся в пути, было очень длинной и трудной процедурой. Как бы то ни было, время было потеряно. Историки единодушно порицают англичан за их медлительность, которая становилась легендарной и страшно раздражала французских офицеров и солдат. Англичане никогда не были готовы, опаздывали есть, спать, идти далее Это был какой-то кошмар: вечно в запоздании! Их нарочно ставили впереди других войск, боясь оставить их позади или потерять где-нибудь! Сейчас за англичанами шли зуавы генерала Боске, буквально наступавшие им на пятки. Эти неутомимые ходоки болтали, шутили, смеялись, подбадривая англичан. – Ну, ну, поскорее, англичане! Ползите! Идите, милорды, идите, заставьте работать ваши пятки… Ну… плетитесь… поскорее! – Ба! да это устрицы! Надо перевернуть их лицом назад… они сейчас отлично поползут! Англичане шумно смеялись, показывая свои национальные челюсти, и шутливо отвечали: – Добрые, славные французы! В ответ им кричали: – Славные англичане! Когда обе армии подошли к Херсонесу, свершилось чудо. Севастополь был готов к защите. Решили начать правильную осаду, которая, по общему мнению, не должна была затянуться надолго. Союзные флоты заняли два пункта. Англичане взяли себе бухту Балаклавы, а французы – бухту на юго-западе Севастополя. Затем выгрузили на берег материал для осады, продовольствие и амуницию для войск. Нужно было еще укрепить набережные, организовать транспорт до самого театра предстоящей битвы. Все это заняло много времени. Русские, защищенные сетью стрелков, продолжали неутомимо рыть землю. Их укрепления заключали в себе два страшных для противников пункта: первый – на корабельной пристани, вправо от южной бухты, второй – перед самым Севастополем. Решено было, что англичане займутся осадой первого пункта и расположатся справа, а французы начнут осаждать второй и устроятся слева. Перед англичанами находились русские укрепления, названия которых тесно связаны с историей этой памятной осады. Это были Большой Редут, Малый Редут, Малахов курган, первый, второй и третий бастионы. Французы обратили все свое внимание на центральный четвертый бастион. Небольшую колокольню сделали арсеналом и траншейным депо. Тут же расположился командир траншей подполковник Рауль, достойный противник Готлебена. В беговой беседке устроился походный лазарет, а поблизости от него склад габионов. Все эти труды и заботы занимали армию до 7 октября, когда была открыта первая траншея. Ночью около тысячи пехотинцев, сопровождаемых саперами, тихо двинулись вперед с ружьями на перевязи, вооруженные кирками и лопатами. Три батальона следуют позади, а пять остальных находятся в резерве, готовые прибежать на помощь при малейшей тревоге. Каждый из солдат нагружен габионом (цилиндрическая корзина, открытая с обоих концов, которая наполняется землей и поддерживает внешние насыпи траншеи). Отряд разделяется на две линии, которые сначала идут рядом, потом одна поворачивает – вправо, другая – влево. По сигналу каждый солдат кладет на землю свой габион, свое оружие и свои орудия. Намечают линию габионов и с бьющимся сердцем ждут сигнала. В это время отряд, обязанный защищать рабочих, делится на роты, взводы и ставит повсюду часовых. Строго запрещено стрелять, стучать оружием, шуметь. Приказы отдаются шепотом. Наконец капитан тихо произносит команду, которая передается по всей линии: «Руки вверх». Тысяча лопат поднимаются вверх и опускаются, взрывая землю. Каждый хранит молчание, которое представляет из себя вопрос жизни и смерти. Ночь очень темна, и русские не подают и признака жизни. Солдаты работают с лихорадочной торопливостью. Разрытая земля бросается в габион, который мало-помалу наполняется и представляет собой отличную защиту против огнестрельного оружия. В полночь новые рабочие приходят заменить усталых. Траншея растет. Вдруг раздается оглушительный выстрел из пушки, другой, третий, и русские укрепления заволакиваются дымом. Несмотря на огонь, работы продолжаются, число рабочих увеличивается. Артиллеристы прорезают амбразуры для пушек, громоздят мешки с землей, уравнивают площадки. Саперы устраивают настоящие лестницы для стрельбы, которые годятся и для осады, когда пушка пробьет брешь в неприятельских укреплениях. Но есть и серьезное затруднение. Не хватает земли для насыпей, кирки колотят о каменистый грунт. Приходится взорвать скалу, брать землю издалека, с полей, и таскать ее мешками сюда. Каждый солдат соперничает в усердии и энергии с другими, работая над траншеей, готовясь затем к бомбардировке, к приступу и полной победе. Через пять дней насыпи готовы. Несмотря на адский огонь русских, вооружают батареи, ставят на места восемьдесят орудий, снабжают их порохом, ядрами, гранатами. Все готово, чтобы атаковать город с суши. Со стороны моря флот также детально готовится к осаде. Ожидают только сигнала. Каждый нетерпеливо, стоской и надеждой задает себе вопрос: не завтра ли это будет?
ГЛАВА II
Новый главнокомандующий. – Капитан Шампобер. – Сорви-голова делается капралом и начальником патруля. – Вольные стрелки. – Бомбардировка. – Гибель русских артиллеристов. – Дама в черном стреляет из карабина.Прошел месяц со времени победы при Альме. Сент-Арно умер через неделю, 29 сентября, передав командование войсками генералу Канроберу. Новый главнокомандующий еще молод: сорока четырех лет, энергичный, деятельный, добрый к солдатам, также отвечающим ему любовью, неустрашимый до крайности, он вполне отвечает своему высокому положению. Это человек среднего роста, живой, подвижный, с огненным взглядом. Особая примета: носит длинные волосы, покрывающие воротник его вышитого золотом мундира. Известен его ответ императрице, подшучивавшей над его шевелюрой. – Мои волосы, государыня, принадлежат истории! Увы, он ошибся, история забыла о нем и его волосах. Прежде всего это человек битвы, бросавшийся в середину врагов, солдат, с безрассудной смелостью рисковавший своей жизнью. Тяжело раненный в сражении на Альме, он велел посадить себя в седло и, бледный, окровавленный, каким-то чудом остался на лошади до конца битвы. Превосходный исполнитель, он самый нерешительный из всех главнокомандующих. Огромная ответственность, желание пощадить солдат, переговоры с английским главным штабом, предчувствие всяких затруднений – все это парализует в нем всякую инициативу и отдает его во власть событий. Но теперь, в начале кампании, ничего этого не видно. Дела идут хорошо, на завтра назначена бомбардировка. Сопровождаемый своим штабом, главнокомандующий обходит траншеи. Он идет пешком, держа руку на перевязи, рядом с Боске, который на целую голову выше всех окружающих. Они подходят к центральной траншее. Двести артиллеристов ждут около орудий. В группе офицеров находится молодой капитан, бледный после недавнего ранения. Над двумя потертыми галунами на его рукаве нашит третий золотой галун. Это – повышение по службе, столь же недавнее, как рана. Несколькими секундами ранее прихода генералов прибегают, запыхавшись, пятеро зуавов. С ними мальчик в форме зуава с огромным букетом осенних цветов в руке. При виде их капитан делает дружеский жест, как вдруг раздается команда: – На караул! Громко звучит Труба, и звуки ее сливаются с громом пушек, мортир, с ружейной стрельбой. Канробер подходит к капитану, салютующему ему саблей, останавливается подле него и громко произносит: Именем Императора объявляю вам, поручики, подпоручики, унтер-офицеры, бригадиры, канониры и барабанщики, что вы должны повиноваться присутствующему здесь – капитану Шампоберу, как своему непосредственному начальнику во всем, чего он потребует от вас по долгу службы и по правилам военного регламента! Потом добавляет ласково: – Капитан, я счастлив пожать руку такому храбрецу, как вы! Ваша рана вылечена? – Да, ваше превосходительство! – Чудесно! Что делают здесь эти зуавы? – добавляет главнокомандующий, улыбаясь им как старым друзьям. – Они спасли меня там, на Альме, ваше превосходительство, после того как защищались и отбили орудия вместе с капонирами! – И хотели первыми поздравить вас с повышением? Браво, мои смелые шакалы! Браво! Затем, остановившись перед статным зуавом, начальником маленького отряда, главнокомандующий замечает на его груди крест Почетного Легиона и говорит ему: – Как, у тебя крест, и ты еще не капрал? – Ваше превосходительство, я только сегодня вышел из лазарета! – Твое имя? Боске вмешивается и отвечает: – Генерал, имею честь представить вам Сорви-голову, героя второго полка зуавов, храбреца, который спас нас при взрыве замка графа Нахимова! Старый сержант, прекрасный солдат, умный, но горячая голова… – Тем лучше… мы сделаем из него офицера! Но так как ты, будучи сержантом, не можешь стоять на часах и нести солдатскую службу, я делаю тебя капралом… в ожидании лучшего… Вольно, ребята! Отдохните теперь и повеселитесь! Завтра утром приглашаю вас к бомбардировке! – Да здравствует Канробер! Да здравствует отец солдат! До здравствует Боске! Эти восторженные крики раздаются далеко кругом. Перед уходом оба генерала обмениваются несколькими словами, и Канробер делает утвердительный жест. – Это хорошо! Превосходная мысль! – добавляет он. – Потрудитесь заняться этим! Боске кричит своим громким голосом: – Сорви-голова! – Есть, ваше превосходительство! – Завтра на рассвете мы бомбардируем Севастополь! Ты начнешь действовать и повторишь свой маневр на Альме… Понял? – Точно так, ваше превосходительство! – отвечает сияющий зуав. – Я должен зайти впереди французских траншей и стрелять в русские орудия, в русских артиллеристов! – Прекрасно! Ты выберешь себе сотню людей из самых лучших стрелков… засядешь с ними… выберешь удобное место… я предупрежу твоего полковника… Остальное – твое дело, и ты устроишься, как захочешь! – Я устроюсь на спине у русских, генерал! – Желаю тебе удачи, Сорви-голова! – Благодарю вас, ваше превосходительство, за вашу доброту! Гордый своей миссией, Сорви-голова идет к капитану Шампоберу, радушно встречающему его. – Господин капитан, как я счастлив! Вы знаете, мы пришли к вам от всего нашего полка, видевшего вас на деле и искренне уважающего! Собачка, испуская радостный визг, скачет, лижет его прямо в лицо и бегает, словно бешеная. – Митральеза! Милый мой пес! Тото Буффарик поднимает вверх свои цветы, подает их офицеру и кричит: – Господин капитан, это от зуавов второго полка и от моей семьи… Мы празднуем ваши эполеты и выздоровление! Капитан хватает мальчика за плечи и целует в обе щеки. Артиллеристы оглушительно кричат: – Да здравствуют зуавы! И все вместе вопят: – Да здравствует капитан Шампобер! Капитан, совсем растроганный, пожимает протянутые руки, хочет ответить ласковыми словами, благодарит, как вдруг трубач зуавов, Смоленый Клюв, яростно кричит: – Берегись, бомба! С неприятельской стороны, на высоте тридцати метров, летит металлический шар, из которого курится дымок. Слышно, как свистит воздух в кольцах снаряда. Бомба быстро приближается. Все присутствующие бросаются на землю. Бум! Снаряд разрывается с грохотом пушки, вырыв глубокую яму в два метра и разбросав целый ливень обломков: железа, камней, щепок. К счастью, никто не задет. Все поднимаются на ноги, и капитан, смеясь, говорит: – Ну! Бомба, наверное, желала участвовать в нашем разговоре! Благодарю, зуавы! Друзья мои, спасители! Благодарю, канониры, дорогие товарищи по оружию! Я желал бы выразить вам мои чувства, но время не ждет, эти черти русские не дают передышки. Слушайте! У меня есть кварта крымского вина, несколько окороков и корзина шампанского… поселимся всем этим по-братски, выпьем за ваш успех, за счастье тех, кто думает о нас, за наше отечество, за славу французского знамени! – Вы правы, господин капитан, – отвечает Сорви-голова, – время не ждет, и минуты бегут. Мне надо идти в полк! – Но ты едва оправился от ужасных ожогов! – Как вы от удара саблей! – Но ведь я капитан, у меня ответственность… – А я сделан капралом и командующим… – Как? Уже командующим? – Да, командующим отрядом, который я должен собрать в несколько часов и о котором вы услышите завтра. На рассвете мы откроем охоту на казаков, пока вы будете истреблять их работу пушками! – Браво, милый Сорви-голова! Вы пойдете к маркитантам. – Да, господин капитан! Я обойду торговцев… там, наверно, сидят мои верные товарищи, которые будут отличными рекрутами для нового патруля! – Вы составите настоящий адский патруль! – Это название мне нравится, господин капитан! Вы – крестный отец патруля и будете гордиться своим крестником! – Поблагодарите там за меня сестру Елену, тетку Буффарик, мадемуазель Розу, всех этих самоотверженных женщин, заботы которых спасли и вас, и меня от смерти. Мы лежали там оба, умирающие, измученные лихорадкой, с верной Митральезой около нас! Дежурный офицер спешно подъезжает к капитану и подает ему конверт. Капитан разворачивает бумагу и читает: «Приказ командиру третьей батареи. Ровно в шесть часов бросить три бомбы на бастион и продолжать безостановочно огонь». Он пожимает руку зуаву и говорит: – Я должен дать сигнал к битве, до свидания, друг мой! – До свидания, господин капитан! Вся союзная армия охвачена лихорадкой. Новость облетела войско. Солдаты испытывают дикую радость при мысли о бомбардировке. Никто не сомневается в успехе. На завтра назначают друг другу свидание в Севастополе. Ночь кажется томительно длинной. Никто не смыкает глаз. В три часа утра солдаты выбегают из палаток и закусывают. Через два часа они солидно завтракают, запивая завтрак двойной порцией вина и глотком водки. Последние приготовления закончены. Пехотинцы осматривают свою экипировку до самых подошв. Кавалеристы седлают лошадей, саперы и понтонеры грузят на повозки доски, помосты, лестницы. Канониры заряжают орудия. Погода великолепная. Занимается заря. Через двадцать пять минут взойдет солнце. Явственно доносится бой городских часов в Севастополе. Шесть! На батарее номер три раздаются три ужасных выстрела с промежутками в десять секунд и разносятся далеко в городе. Это – сигнал! Весь фронт французских и английских войск заволакивается дымом, и громовой улар следует за тучей дыма. Сто двадцать пять пушек и мортир выпускают целый ураган огня на русские укрепления. Неприятель отвечает непрерывным огнем. В адском шуме ничего не слышно, в густом дыму нельзя ничего разобрать. Стреляют без передышки. Понятно, что неприятель терпит большой урон от огня артиллеристов, но что особенно раздражает и удивляет русских – это потеря большого числа артиллеристов, убитых ружейными выстрелами. Время от времени наступает затишье. Тогда раздается сухой легкий выстрел, потом свист, и русский канонир падает на свое орудие с размозженным черепом, с пробитой грудью, с простреленным плечом. Эта убийственная стрельба продолжается беспрерывно. Русские внимательно смотрят во все стороны, разглядывают в бинокли все неровности почвы и наконец замечают между батареями и траншеями маленькие насыпи земли, которые прикрывают собой ямы, где укрываются по два человека стрелков. Этих насыпей около полусотни – везде, где вчера не было ни малейшего возвышения. С русских укреплений видны только концы двух карабинов да красный лоскут, свидетельствующий о засаде. Там, за этими холмиками, засел адский патруль, так живописно окрещенный капитаном Шампобером и заставивший говорить о себе даже русских. По приказу генерала Боске Сорви-голова отлично устроился. На его призыв сбежалась толпа волонтеров. При одной мысли об экспедиции с ним, весь полк хочет следовать за любимым товарищем. Сорви-голова выбирает себе семьдесят человек и комплектует свой отряд Венсенскими стрелками. Все это лучшие стрелки в дивизии Боске. В девять часов вечера они отправляются в путь, – каждый снабжен лопатой, мешком с провизией, патронташем и котелком с кофе, – проходят траншеи и уходят искать удобное место. Сорви-голова заранее заботливо осмотрел из амбразуры все укрепления. Теперь в темноте он отлично ориентируется и ведет своих товарищей. Вот они ползут но земле, избегая шума, и волокут за собой инструменты, обмотанные тряпками, чтобы не звенели, подходят ближе с безрассудной смелостью, с неслыханным везением. Готово! Они находятся не далее, как в 400 или 450 метрах от русских бастионов. Тогда каждый со всевозможными предосторожностями погружает лопату в землю и роет яму. Землю бросают вперед, и она образует холмик. Сорви-голова в центре линии, вместе со своим товарищем-трубачом. В четыре часа утра ямы и насыпи сделаны. – Мы словно в пустой купальне засели! – замечает Соленый Клюв. – Тише! – говорит Сорви-голова. – Я закурю трубку! – Нельзя! – Ну, выпью… – Береги напиток… будет жарко! – Ну, если нельзя ни говорить, ни курить, ни пить, я усну, пока не начнется музыка! – Как хочешь! Я бодрствую! – Еще бы! Ты – начальник! Через пять минут трубач, завалившись на дно ямы, спит как сурок. Его будят три выстрела из мортиры. Он встает и кричит: – К вашим услугам! Как человек предусмотрительный, он запасся котелком с водкой, открывает его и подает товарищу, заряжающему карабин. – Выпей глоток, Сорви-голова, это не повредит! Совершив возлияние, Сорви-голова берет оружие, прицеливается и стреляет. Трубач следит за полетом пули и радостно кричит: – Полетел бедняга! Славно! Действительно, русский артиллерист выронил банник и упал на пушку. – Хорошо! – добавляет Сорви-голова. Соленый Клюв делает хороший глоток водки, берет карабин и целится в артиллериста, заменившего собой убитого. Паф! Он падает, убитый наповал. – Верно, старый товарищ! – Ну, я пойду подкрепиться… – Берегись… напьешься! – Ну, ну! Не теряй надежды! Ничто так не освежает зрение и мысли! Вправо и влево над засадами поднимаются облачка дыма. Выстрелы из карабинов теряются в громе пушек, мортир и треске гранат. Но отчаянные головы продолжают безостановочно свою ужасную работу, настолько ужасную, что огонь русских слабеет и прерывается на минуту. Дым, гром, треск повсюду. Стрелки спокойно сидят в своих ямах, созерцая ураган огня над собой, курят трубки, выжидая удобного момента. Вдруг земля дрожит, раздается страшный взрыв. На французской линии появляется столб пламени с тучей дыма. Взорвало пороховой погреб. Двадцать пять человек убито, три орудия исковеркано. Русские шумно радуются, издавая торжествующие крики. Через полчаса взлетают на воздух два русских пороховых погреба. – Ответ пастуха пастушке! – замечает серьезно трубач. Повинуясь одной и той же мысли, французы и русские замедляют огонь, желая видеть результаты бомбардировки. Одиннадцать часов. Конечно, потери большие, но не столь важные, как можно было думать. Русские, под сильнейшим огнем, с неустрашимостью, вызывающей восторженный крик союзных войск, быстро исправляют повреждения. Это далеко не победа французов – к вящему разочарованию солдат, мечтавших о взятии Севастополя. Пушки и мортиры гремят издали. Во время этого затишья на русских укреплениях собирается масса любопытных: штатские и дамы в богатых туалетах смотрят в бинокли. Сорви-голова различает среди них даму в черном с карабином в руках. Она оживленно разговаривает и указывает на засаду стрелков. – Что она собирается делать? – говорит Сорви-голова своему товарищу. – Она хочет навести на нас пушки и мортиру! Хорош гарнизон, где командуют бабы! Смотри… берегись! Бум! Выстрел из мортиры в двух шагах от дамы в черном. Бомба летит вверх быстро, с шумом, потом падает. Сорви-голова и Соленый Клюв видят, что она летит на них, и одним прыжком, как лягушки, выскакивают из своей ямы. Снаряд с дьявольской точностью падает в яму и разрывается. В этот момент раздается выстрел из карабина. Сорви-голова делает быстрое движение и прикладывает руку к груди. – Задело? – с тоской спрашивает его товарищ. – Не знаю, – прерывающимся голосом отвечает зуав, – мне показалось… что-то ударило меня… – Иди… иди скорее в яму… бомба еще глубже вырыла ее… опасности нет… – Да, да! – бормочет Сорви-голова. бледный, как полотно. Ползком добирается он до ямы и тяжело падает в нее. Соленый Клюв дрожит с головы до пят. заметив на красной ленточке креста, украшающего грудь его друга, маленькую круглую дырочку.
ГЛАВА III
Смерть русского героя. – Семьдесят тысяч пушечных выстрелов. – Смелость русских. – Нападения на батарею номер три. – Сорви-голова отправляется в экспедицию.– На кладбище. – Бегство русских. – Фокусничество. – Тайна.Сорви-голова видимо слабеет. Трубач открывает свой котелок и вливает ему в рот водки. – Выпей… это отлично! Молоко тигра! Оно воскресит мертвого! Сорви-голова тяжело вздыхает и говорит уже окрепшим голосом: – Мне лучше! – Ну, снимай куртку… надо видеть, чем тебя задело! Соленый Клюв снимает с товарища куртку, расстегивает рубашку и замечает на теле, ниже сердца, фиолетовое пятно с черными краями. Но крови нет. – Царапина! Просто царапина! – серьезно говорит трубач. Сорви-голова чувствует какое-то твердое тело в своем поясе, ощупывает его и вынимает пулю малого калибра. – Вот так штучка! Какое-то игрушечное ружье… точность в прицеле, но не в ударе! Твое счастье, нечего тебе жаловаться! – Да, но выстрел был верно направлен! – Это – дама! Она подстерегает нас. Погодите минуточку, милая дама! – Не убивай ее! – Предрассудки! Потому что дама? Ну, плевать мне на дам! Она ведет себя как солдат, и я смотрю на нее как на солдата! Во время этого короткого разговора дым снова сгустился, закрыв собой бастион и гордую княгиню. Снова начинается ожесточенная бомбардировка. Флот также принимает участие в битве. Двадцать семь роенных кораблей открывают огонь, обстреливая укрепления, защищающие рейд. И берег, и море покрыты дымом, в котором сверкают молнии. Шум так ужасен, что кровь брызнет из ушей канониров, и многие глохнут навсегда. У русских несчастье. Убит адмирал Корнилов. Всегда впереди, верхом, он неустанно следил за бомбардировкой с Малахова кургана. Вдруг английская пуля раздробила ему левую ногу. Он падает на руки опечаленных офицеров, смотрит на них потухающими глазами и говорит: – Поручаю вам защиту Севастополя. Не отдавайте его! Его относят в госпиталь, где он, несмотря на все старания врачей, умер после долгой агонии. Последние слова его были: До смерти! Защищайтесь до самой смерти! Эта катастрофа вместо того, чтобы обескуражить русских, усилила их ярость и энергию. Город весь в дыму и в огне. Бастионы обрушиваются на французские батареи целым вихрем огня. Досталось и кораблям. У адмиральского корабля «Город Париж» пробит корпус, попорчен такелаж и грузовая ватерлиния. Бомба опрокидывает адмирала Гамелина, одного из дежурных офицеров и ранит двух адъютантов. На некоторых кораблях начался пожар. Да, эти русские – бравые и смелые солдаты! Обольщаться нечего, наши дела неважны до такой степени, что генерал Тьери, командир артиллерии, приказывает прекратить огонь. Никто не помышляет теперь о приступе, тем более что в Севастополе появился князь Меньшиков с тридцатью батальонами войска. Ночью все затихает с обеих сторон. Каждый считает свои потери и поправляет повреждения. Со стороны французов – триста человек убитых и раненых. У англичан – около четырехсот. У русских около тысячи человек выбыло из строя. Англо-французская армия насчитывает десять тысяч пушечных выстрелов, русская – двадцать тысяч. Союзный флот бросил тридцать тысяч снарядов на рейд. Русские ответили шестнадцатью тысячами. За эту бомбардировку с обеих сторон насчитывалось семьдесят тысяч пушечных выстрелов. Русские понесли особый урон от стрелков из отряда Сорви-головы. Из них самих немногие получили лишь легкие контузии. Сорви-голова был контужен сильнее всех. Вернувшись ночью в лагерь, адский патруль был встречен поздравлениями. Попытка была исключительно удачна, и отныне адский патруль начал свое официальное существование. Ночью десять тысяч рабочих поправили русские укрепления, и наутро они высились грознее, чем когда-либо. Назавтра, как и во все последующие дни, снова начинается яростная бомбардировка. Напрасно союзники роют траншеи, работают с лихорадочной торопливостью – все безуспешно. – Это значит стараться укусить себе нос! – энергично заявляет Сорви-голове капитан Шампобер. Несмотря на ужаснейшую канонаду, Севастополь, благодаря гению подполковника Тотлебена и патриотизму защитников, сопротивляется врагу и наносит ему жестокие потери. Зная, что наступление – лучшая защита, русские атакуют безостановочно. Дерзкие вылазки гарнизона, неожиданность, с которой Меньшиков захватил англичан в Балаклаве и едва не истребил всю кавалерию, – все это заставило союзников призадуматься и понять, что они имеют дело с очень сильным неприятелем. Битва при Балаклаве была коротка. Инкерманское сражение, где без помощи французов погибла бы вся английская армия, было очень кровопролитным. Наконец, вещь очень важная и серьезно беспокоящая французский главный штаб – это факт, что система шпионства организована у русских так хорошо, что они знают все происходящее в неприятельских войсках. Движение войска, размещение батарей они знают прекрасно, даже пароль. На другой день после Инкерманской битвы, когда все были заняты своими делами – перевязывали раны, оплакивали умерших, глубокой ночью было сделано нападение на батарею капитана Шампобера. Впереди центрального бастиона русские воздвигли люнет с шестью пушками и наделали много хлопот и неприятностей капитану Шампоберу и его батарее. Капитан, посетовав, обратился к Сорви-голове: – Ты свободен и можешь распоряжаться собой, можешь маневрировать как угодно, командуя своими приятелями, не боящимися ни Бога, ни черта. Окажи мне услугу, дорогой Сорви-голова! – К вашим услугам, господин капитан! – Это очень трудное дело, пожалуй, невозможное… – Трудное? Может быть! Невозможное… я его сделаю! – Ну, слушай! Надо пойти заклепать орудия этой батареи, вот там, между южной частью кладбища и выступом центрального бастиона. – Господин капитан! Сегодня вечером я возьму с собой пятьдесят человек… отвечаю за успех! – Заранее благодарю тебя от всего сердца, мой смелый друг! – Ба! Оставьте, господин капитан! Это сущие пустяки! В десять часов вечера адский патруль во главе со своим умелым начальником, узнав пароль, отправился в путь. Проходит два часа. Полнейшее безмолвие. Тишина прерывается только окриками часовых да лаем собак в Севастополе. Пушки молчат. С обеих сторон полнейшая неподвижность и оцепенение. Городские часы бьют полночь. Часовой, стоящий у траншеи, слышит приближение отряда, идущего открыто, не прячась. – Кто идет? – кричит он. – Франция! – отвечает голос из темноты. – Какого полка? – Стрелки второго полка зуавов! – Пароль! – Маренго! – Проходи! – добавляет часовой. В этот момент какая-то тень бесшумно скользнула позади часового. Вдруг он получает сильнейший удар топором по голове. Несчастный падает и бормочет: – Это не те, не Сорви-голова! Измена! Его не слушают. Отряд молча бросается вперед в батарею. Капитан чувствует опасность, но поздно. Он вынимает саблю и кричит: – Живо! Канониры! Сюда! Неприятель! В один момент в батарее поднимается неописуемая тревога. Артиллеристы быстро готовятся к обороне. Завязывается ожесточенная борьба в темноте. Дерутся, борются, душат друг друга. Но осаждающие рвутся не к людям, а к пушкам. Некоторые из русских вооружены тяжелыми молотками и длинными гвоздями. Они ощупывают запал пушек, вводят туда гвоздь и вбивают его ударами молотка. Четыре пушки и три мортиры заклепаны и совершенно непригодны к делу! Капитан видит перед собой гиганта с обнаженной саблей. Шампобер инстинктивно опускается на колено и втыкает свою саблю в живот врага. – Это в отместку за мой шрам! – говорит он холодно, вставая на ноги. Помощь спешит со всех сторон, но слишком поздно. Достигнув своей цели, русские перелезают через траншею, толкают часовых и убегают, оставив своих раненых в батарее. Зажигают фонарь. Капитан освещает им лицо своего противника и видит молодого человека своих лет в чине морского лейтенанта. Он поднимает голову раненого и говорит ему: – Скажите, что я могу сделать для вас? – Ничего, – отвечает раненый, – я погиб… все бесполезно! – Сейчас я позову хирурга! – Спасибо вам, спасибо… я умираю и прощаю вам свою смерть… Вы исполнили долг так же, как и я! Война! Раненый приподнимается и кричит: – Да здравствует русский царь! Да здравствует Россия! – Потом падает мертвый. В это время, по странной случайности, Сорви-голова проделывает то же самое в русской батарее – с таким же успехом, но с большими затруднениями, потому что не знает русского языка. Ему удалось заклепать шесть пушек и четыре мортиры. Адский патруль возвращался уже домой, оставив четырех человек убитыми в схватке, как вдруг до слуха зуавов донесся топот ног. Трубач, очень наблюдательный, тихо заметил: – Это стук русских сапог… слышно по звуку! – Верно! – Значит, это русские бегут к нам… – Мы хорошо встретим их! – добавляет сержант Буффарик, в качестве волонтера присоединившийся к патрулю. Образцовые солдаты вытягиваются в линию и скрещивают штыки. Русские в беспорядке сослепу бросаются на них. Отчаянная схватка, несколько пронзительных воплей, потом команда на незнакомом языке. На земле лежит около пятидесяти человек раненых и убитых, которых зуавы словно проглотили. Остатки русского отряда смыкаются в линию и отступают вдоль кладбищенской стены. Монументальная решетка, служащая входом в некрополь, открыта. Беглецы, очевидно. знают это, пробегают и запирают ее за собой. – Смелей! – кричит Сорви-голова. – Смелей! Они у нас в руках! С ружьем на перевязи, он пытается перелезть через решетку, но гвозди, которыми она утыкана, останавливают его. – Берегись, – говорит трубач, – разорвешь платье, и это будет скверно! – Влезем на стену, – говорит Сорви-голова. спускаясь на землю, – они заперты, как в клетке! Наиболее сильные из зуавов прислоняются к стене и устраивают лестницу для товарищей. Эти упражнения проделываются без всякого шума, без разговоров. Индейцы, выслеживая врага, наверное, не могли бы сделать это лучше. – Ложись! – командует Сорви-голова. Зуавы вытягиваются на стене и остаются неподвижными. Странная вещь! Не слышно ни малейшего шума. Вероятно, русские прячутся, готовясь к битве. Обеспокоенный этой тишиной. Сорви – голова скользит вниз, исследует почву, ощупывает ее и убеждается, что нет ничего похожего на засаду или западню. – Тихо спускаться! – командует он. Зуавы спускаются со стены и собираются около начальника, заинтригованные, почуяв тайну. Кладбище представляет собой широкий прямоугольник в четыреста метров длиной и в сто метров шириной. Сорви-голова решает, что им не трудно будет обшарить все кладбище, несмотря на темноту. Зуавы продвигаются вперед, держа штык перед собой, строго соблюдая приказ: не стрелять ни в каком случае. Они ощупывают землю, задевая кресты и памятники на могилах, сомкнувшись в одну линию, прислушиваются, поджидают… Ничего! Ни шуму, ни шороху. Через четверть часа они подходят к другой стене и останавливаются. – Ровно ничего! – кричит трубач. Сорви-голова размышляет с минуту и говорит товарищам: – Пятьдесят человек не могут затеряться, как орехи… Тут какая-то тайна! Здесь нам нечего делать. Пора домой!
ГЛАВА IV
В кармане мертвеца. – Доказанная измена. – Один! – На кладбище. – Опять дама в черном. – Сорви-голова в ожидании. – Что он слышит. – Под алтарем русской часовни.Едва успел Сорви-голова вернуться, как капитан Шампобер сообщает ему о происшедшем. Он внимательно слушает и говорит: – Русские ответили часовому по-французски? – Да! – Назвали себя зуавами и сказали пароль? – Да. – Следовательно, они знают о существовании адского патруля и знали о нашей экспедиции! Господин капитан, дозвольте мне взглянуть на труп убитого вами русского офицера. Шампобер указывает ему в угол, где на носилках лежит темная масса. Сорви-голова берет фонарь, просит артиллериста посветить, подходит к трупу и расстегивает запачканный кровью мундир. – Сорви-голова! Что ты делаешь? – кричит капитан укоризненным тоном. – Мертвый неприятель! Ты такой великодушный! – Капитан! Я начальник разведчиков, и чувствительность не входит в мои обязанности! Этот человек ворвался сюда благодаря предательству. Мы потеряли людей и пушки. Мне кажется, что эта позорная тайна – в его кармане. Мой долг – обыскать его, и я обыщу со спокойной совестью! Болтая, Сорви-голова обшаривает карманы мертвеца, находит сначала пакет с письмами на имя графа Соинова и записную книжку. – Не то! – решает зуав, засовывая книжку обратно в карман. Во внутреннем кармане его пальцы нащупывают бумагу. Сорви-голова вынимает большой конверт с подвижной печатью, обыкновенно употребляемый французским главным штабом, на лицевой стороне которого написано: «Экспедиционный корпус Крыма. Главный штаб». – Разве я не прав? – говорит Сорви-голова, вскрывая конверт. – Я-то совершенный дурак! – восклицает капитан. Зуав вынимает из конверта оттиски плана размещения первой, третьей, пятой и седьмой батарей с подробным указанием количества орудий и орудийной прислуги. – Я думаю, вас это заинтересует! – говорит Сорви-голова, протягивая капитану бумагу. Он находит еще рисунки, чертежи и кричит: – Вот и обо мне есть… Почитаем! «Адский патруль, состоящий из лучших солдат, работает отлично. Невозможно что-либо предусмотреть в данном случае. Командующий патрулем зуав, Жан Бургейль, по прозвищу Сорви-голова, интеллигентный, смелый, выносливый солдат»… – Очень благодарен! – вставляет Сорви-голова. «Его нельзя купить»… – Да, я не продаюсь ни за какие деньги! «Необходимо уничтожить его!» – продолжает читать Сорви-голова и добавляет: – Это мы еще увидим, потому что Сорви-голова присутствует здесь, смотрит во все глаза и готов защищаться. Что вы скажете об этом, господин капитан? – Я поражен! – Я – тоже! Ночь сюрпризов! В огороженном кладбище исчезли, словно провалились, пятьдесят человек! – Все это очень странно! – Я думаю, что при некотором уме и смелости можно раскрыть эту тайну! – Это будет важной услугой французской армии! – Завтра же я попытаюсь, пойду один ночью и узнаю! – Могу я помочь чем-нибудь? – Будьте добры, господин капитан, достаньте мне список всех атташе при главном штабе… Эта измена – дело рук человека очень осведомленного благодаря роду его службы! – А сейчас? – Сейчас… я попрошу вас дать мне уголок, где бы я мог выспаться! – У меня две охапки соломы и покрывало. Предлагаю вам это от чистого сердца. – Принимаю с благодарностью! День проходит спокойно. Вечером большое разочарование для стрелков. Адский патруль свободен. Начальник его отправился один неизвестно куда. Он выкрасил в черный цвет ствол карабина и штык, заботливо собрал свой меток и молчит, отказываясь сказать, куда идет, даже своим лучшим друзьям. В восемь часов вечера он смело идет в темноту, к русским, через двадцать пять минут достигает кладбища, находит дверь незапертой и входит. – Значит, сюда кто-то входил, – решает Сорви-голова, – мне остается только открыть глаза и уши! Он находит защищенное от ветра место, снимает мешок, кладет его на землю, накидывает на себя плащ с капюшоном, берет в руку карабин и вооружается терпением. Уединение кладбища, шум ветра в решетках и памятниках, шорох кипарисов, угрожающая опасность, таинственность – все это, наверное, произвело бы тяжелое впечатление на самого спокойного человека. Но Сорви-голова – образцовый солдат, один из тех, у кого чувство долга берет верх над слабостью, осторожностью и страхом. Он выжидает спокойно и уверенно. Проходит час. Он развлекается, считая удары городских часов и следя издали за полетом бомб. Вдруг над Севастополем взлетает ракета, оставляет за собой светящийся след и лопается, разбрасывая во все стороны искры голубого цвета. – Это – сигнал! – заключает Сорви-голова. Через тридцать секунд появляется новая ракета, разбрасывающая искры белого цвета. Наконец, спустя тридцать секунд – третья ракета, прорезающая темноту ночи. Она лопается, оставляя после себя снопы искр красного цвета. – Странно, – думает зуав, – голубой, белый и красный. Французские цвета. Для кого же этот сигнал? Не назначается ли он для изменника, продающего кровь своих братьев, славу Франции? Надо узнать, выследить и наказать его за бесчестие! Сорви-голова, скорчившись на своем мешке, терпеливо ждет. Время идет. Десять часов, одиннадцать… никого и ничего. Вдруг тонкий слух зуава ловит тихий шорох, заглушенные шаги… Он задерживает дыхание и ждет. Глаза его, привыкшие к темноте, различают какую-то тень, которая входит, останавливается, прислушивается и тихо идет по аллее кладбища. Незнакомец закутан в широкую русскую шинель. Сорви-голова оставляет свой мешок и карабин и, надеясь на свою атлетическую силу, следует по пятам за таинственным посетителем. Шаг за шагом, с ловкостью кошки, он двигается вперед. Они проходят около двухсот метров и приближаются к белому строению, окруженному кипарисами. Это русская часовня. Слышится легкий свист, и незнакомец останавливается перед часовней, где его ждут. Я не напрасно потеряю время, – говорит про себя Сорви-голова, – узнаю что-нибудь интересное! Начинается быстрый разговор по-французски. Зуав прячется за кипарисы, закрывается их ветвями и слушает. Он узнает голос женщины, звонкий, металлического тембра, и вздрагивает. – Дама в черном! – бормочет он. Ее слова явственно доносятся до него, и Жан холодеет от ярости. – Да, мой милый, ваши сведения превосходны… – говорит княгиня, – они были очень полезны для нас… К несчастью, бумага осталась в кармане убитого графа Соинова! Незнакомец глухо вскрикивает. – Но тогда… это будет официально доказано… и я рискую, что меня расстреляют! – Ну, полно, ободритесь… никто и не подозревает вас, никакой опасности! Продолжайте работать ради спасения святой Руси… – Что же вам угодно еще? – Прежде всего вознаградить вас за ваши услуги… вот золото… прекрасное французское золото! Тут двести луидоров… маленькое состояние. Звон золота доказал зуаву, что деньги перешли в руки изменника. – Негодяй! – шепчет Сорви-голова, сжимая кулаки. – Вы спрашиваете, что мне угодно? Слушайте! Я хочу, чтобы вы отдали мне связанным по рукам и ногам этого демона, который стоит один всех ваших полков! Я хочу завладеть этим разбойником – Сорви-головой! Зуаву очень хочется прыгнуть к ним и крикнуть, что он здесь, но он сдерживается изо всех сил, остается неподвижным, заинтригованный разговором, желая знать, что будет дальше. – То, чего вы требуете, – невозможно! – отвечает незнакомец. – Даже если я заплачу очень дорого? – Не все можно купить золотом! – Я хочу этого, хотя бы мне пришлось истратить миллион! Сорви-голова, единственный зритель драмы, разыгравшейся на кладбище, слушает. – Мне знаком этот мужской голос, – шепчет он, – где я его слышал? – Ненависть может совершить даже невозможное, – продолжает негодяй, – надо попытаться! – Вы ненавидите его? – Да, всей душой, и месть, которую я готовлю ему, будет для Сорви-головы хуже смерти… слышите, сударыня, хуже смерти! – Например? – Бесчестие… разжалование… стыд и потом казнь, заслуженная изменником! – Отлично! Когда вы рассчитываете выполнить этот план? – Я уже начал… посеял клевету, она растет быстро, как дурная трава… и буду продолжать в том же духе! – Я не понимаю! – Будьте добры войти в часовню… я покажу вам… мою находку! Зуав слышит, что дверь часовни заперлась за ними. – Откуда появилась эта проклятая дама? – раздумывает он. – Словно призрак из могилы! Нужно все это выяснить. Не останутся же они целый век в часовне. Подождем! Зуав продолжает лежать под кипарисами и ждет. Никого! Ни малейшего шума, ни луча света в часовне, которая холодна и безмолвна, как окружающие ее могилы. Время проходит, и Сорви-голова начинает тревожиться, но не решается покинуть свой пост и ждет, не спуская глаз с двери. Тишина и молчание! Медленно тянутся бесконечные мучительные для зуава часы ожидания. Наконец брезжит заря, а часовня по-прежнему заперта и молчалива. – Гром и молния! – кричит Сорви-голова, охваченный гневом, оглядывается, замечает обломок креста на могиле, хватает его, сует в скважину двери и слегка нажимает. Дверь отворяется. Сорви-голова бросается в часовню. Она пуста. У него вырывается крик гнева и удивления. – Черт возьми! Я одурачен! Четыре метра в длину и ширину, выложенный мозаикой пол, два стула, алтарь со святыми иконами – вот весь небогатый инвентарь часовни. – Тут и крысе негде спрятаться, – бормочет Сорви-голова, – но я сам видел двух людей, вошедших сюда! Стены крепки, другого выхода нет, и никого! Ну, исследуем все не торопясь и приготовимся к сюрпризам! Он выходит из часовни, находит свой мешок, достает оттуда лепешки, кусок свиного сала, щепотку соли и поедает все это с жадностью волка. Запив свой завтрак хорошей порцией крымского вина, он бодро кричит: – За работу теперь! Он стучит прикладом карабина по всем стенам и по мозаичному полу. Всюду полный звук, исключающий всякую мысль о потайном входе. – Теперь алтарь! Тут что-то новое… увидим! – Алтарь – деревянный, с тяжелыми дубовыми панелями, разрисованными под мрамор. Нигде ни малейшего украшении только на верхней части его большой позолоченный крест. Сорви-голова наклоняется, внимательно разглядывает крест, ощупывает его, стучит кулаком по его подножью. – Я чувствую тут тайну, – бормочет он, – я уверен в этом! Зуав сильно нажимает большие гвозди у креста. Второй гвоздь подается, углубляется, «крак!» – стена медленно опускается вниз. Под ней, в глубине, видны ступеньки лестницы. Сорви-голова потирает руки от радости и выделывает отчаянные прыжки. – Конечно! Я узнал все фокусы! Ловко! Славно! Он роется в мешке, вытаскивает спички и свечку, зажигает ее и задумывается. – Я нашел вход… но как же закрыть его? Оказывается, что это дело не трудное. Под алтарем находится другой такой же крест с такими же гвоздями. Сорви-голова нажимает их, и стена закрывается. Снова открыв вход, он идет по лестнице, держа в одной руке ружье, а в другой свечу, проходит восемнадцать ступеней и спускался в сводчатый коридор, ведущий в город. Несомненно, что русские проходят здесь, готовясь к ночной атаке. Зуав проходит еще около двухсот метров и замечает, что коридор суживается до такой степени, что едва дает возможность пройти человеку плотного сложения. Сорви-голова бесстрашно продвигается дальше по узкому лазу, где едва помещаются его атлетические плечи, помогает себе пальцами, ногами и, наконец, видит перед собой обширную залу, уставленную иконами с горящими перед ними лампадами. Около двухсот пятидесяти ружей симметрично стоят у стены, тут же мортира и разное оружие. Над своей головой зуав слышит глухие удары, от которых трясется земля, и звенят клинки оружия. – Я нахожусь под укреплениями, – шепчет Сорви-голова, – да, под бастионом. Это – пушечные выстрелы! Он осматривает комнату и видит герметически закрытую дверь, утыканную гвоздями. Пора уходить! Вдруг он замечает большой деревянный сундук, из любопытства поднимает его крышку и вскрикивает. Перед ним лежит полная солдатская форма зуава второго полка. Тут и куртка, и феска, голубой пояс, широкие шальвары, белые гетры, башмаки – все, даже оружие: карабин, пороховница, сабля-штык. Но что всего удивительнее – на левой стороне куртки висит на красной ленте крест Почетного Легиона. – Можно с ума сойти! – вскрикивает Сорви-голова. Что мне делать? Надо уходить, пора! Я вернусь… я предупрежден! Он быстро складывает все на место, в сундук, как вдруг что-то со звоном падает на пол. Зуав поднимает «крапод», кожаный кошель, который зуавы носят на груди, наполненный золотом, громко смеется и спокойно перекладывает деньги в свой карман. – Военная добыча! – смеется Сорви-голова. – Взято у неприятеля! Отлично! Адский патруль славно выпьет сегодня… все до последнего сантима! Теперь домой!
ГЛАВА V
Бухта Камышовая. – Патруль гуляет. – Русское золото. – Шпионы. – Пир. – Тяжелая действительность. – Клевета. – Неосторожные слова. – Сержант Дюрэ. – Оскорбление. – Позорное обвинение.Бухта Камышовая очень просторна, защищена от ветра и служит отличной гаванью для французского флота в продолжение всей Крымской войны. К северо-западу от бухты расположился импровизированный военный город: набережные, сараи, бараки, продуктовые лавки, магазины платья, артиллерийский парк, походные лазареты, даже корпус пожарных, организованный для тушения пожаров. В глубине бухты преобладает гражданское население, всюду ютятся торговцы, слетевшиеся сюда со всех сторон. Греки, левантийцы, англичане, французы, итальянцы, татары по-братски делят добычу, грабят солдат, продают все что угодно, назначая на товары бешеные цены. Тут видны палатки, земляные мазанки, бараки, лавочки; все это пестрое население толпится на пыльных и грязных улицах. Телеги, коляски, кареты, арбы, возы, запряженные лошадьми, мулами, верблюдами, волами, движутся непрестанно по улицам, подвозя оружие, товары, провизию. Слышны крики, брань, проклятия на всех языках. Везде выставка товаров: на бочках, на камнях, на досках. Плоды, овощи, птица, консервы, окорока, рыба свежая и сушеная… И целый ряд лавок – булочные, мясные, колбасные! Огромная толпа, продающая разные напитки… Кафе-концерт с рестораном, казино, где развлекаются солдаты, отдыхая после битвы. И все эти торговцы, пришлые люди, обделывают свои дела, получая за свои товар золотом. Что делать! Никто не уверен в завтрашнем дне, пули и ядра не щадят. Каждый торопится опустошить свой карман, получить хотя бы иллюзию удовольствия, прежде чем умереть. Таким образом, самое бесстыдное обирание сделалось здесь чем-то дозволенным и обычным, и обобранныене особенно огорчались этим. Кроме того, сюда прибыло много англичанок и француженок, которые, испытав массу неприятностей, решились присоединиться к своим мужьям. Им живется очень дурно в этом городе, полном шума, гама, криков и оргий, где нельзя достать самых необходимых вещей для обихода. Но они с достоинством переносят свое положение ради своих мужей. В это время Сорви-голова, после посещения подземелья, испытывает потребность угостить своих товарищей. Он ощущает безумную радость при мысли, что взятое им русское золото послужит для выпивки французам, и двести луидоров, найденные в сундуке, вполне оплатят пирушку, которую он даст в честь своих шакалов, смелых и отборных зуавов второго полка. Эта пирушка адского патруля производит эффект необычайный. Зуавы собираются кучками, ходят взад и вперед, веселые, с горящими глазами, задрав нос кверху. Возлияния следуют за возлияниями, и Сорви-голова, карман которого набит золотом, платит по-царски, не считая. Тосты не прекращаются. Пьют за здоровье императора, королевы Виктории, генерала Канробера, генерала Боске, полковника Клэра, капитана Шампобера. Сорви-голова заказал обед в ресторане. Зуавы, уже подвыпившие, но еще держащиеся на ногах, с песнями направляются обедать. Обед изобилует вкусными яствами, острыми приправами, которые возбуждают жажду. Едят хорошо, но пьют еще лучше. Соленый Клюв, профессиональный пьяница, блистательно оправдывает свое прозвище. А Сорви-голова платит, платит за все, словно первоклассный банкирский дом. Товарищи, пораженные обилием золота, струящимся из его рук, не верят своим глазам. – Что ж, ты нашел золотой рудник? – спрашивает трубач. – Или получил наследство? Сорви-голова смеется и требует шампанского. – Не продал ли ты душу черту? Отвечай же мне! – настаивает трубач, который, пьянея, становится упрямым как мул. – Это, мой старый трубач, – восклицает Сорви-голова, – не больше не меньше как московское золото, которое я нашел в потаенном месте, куда вас сведу как-нибудь! – Русское золото? Не может быть! – Да, плата за измену, которую я нашел и взял себе! Неосторожные слова, о которых Сорви-голова горько сожалел потом! В самом деле, космополитическое население Камышовой бухты представляло собой целый очаг шпионства. Среди этих подозрительных левантийцев, хитрых пронырливых татар, среди всех этих людей, потерявших понятие о чести, об отечестве, нашлось много людей, готовых ради денег служить шпионами. Поэтому в Севастополе, в армии Меньшикова, знали все, что происходило в союзной армии. …Но время идет. Скоро потушат огни. Пора покидать ресторан, заканчивать пирушку. Последнее возлияние. Бутылки пусты. Шум, крик, тосты, песни – все это мешается в какой-то хаос. Вдруг зазвучали трубы и барабаны. Тушить огни! Все здесь подчинено военному режиму, даже воровские лавчонки и казино закрываются, словно по волшебству. Сорви-голова платит по счету и выворачивает свои карманы. Все проедено, пропито до последнего сантима! – Ну и обед! – говорит Соленый Клюв. – Один восторг! – Да, замечательный пир! – повторяют гурманы, пересчитывая блюда. – Жареное мясо, суп… филе… овощи и масса всяких вкусных вещей! – Мы съели верблюда! – Не может быть! – Да, сегодня утром верблюд сломал себе ногу… Его забили и приготовили нам под разными соусами. Мы съели целого верблюда! Зуавы громко хохочут и кричат: – Браво! Верблюд! Целый верблюд! Пошатываясь, веселые и довольные, они направляются в траншею, где тянется длинный ряд палаток, ложатся и засыпают праведным сном. На другой день адский патруль чувствует себя скверно, но с обычной смелостью принимается за свое дело, полное тревог и опасностей! Проходит десять дней. Русские учащают ночные атаки, и – странная вещь! – они всегда проходят успешно. Измена, предательство помогают им в дерзких вылазках. Главный штаб меняет пароль два раза за ночь. Фальшивые батареи маскируют настоящие. Тщательно скрывается движение войск. Напрасно! Неприятель всегда предупреждается с дьявольской точностью. Между тем начинают распространяться разные слухи о людях, которые бесконтрольно куда-то уходят, Бродят около русских укреплений, делают что хотят. Можно ли доверять этим людям, можно ли быть уверенным в их честности, верности долгу, отечеству и знамени? Начинают говорить об адском патруле и, наконец, о Сорви-голове. Кто первый назвал его? Трудно сказать. Какой-то коварный аноним. Да, Сорви-голова – предатель! Этот пир, заданный им товарищам… Позорная оргия, где адский патруль хвастался русским золотом! Это золото – цена его измены, его бесчестия! А ночные отлучки Сорви-головы? Ночью его видно всюду. Он подглядывает, подслушивает, подстерегает, исчезает, появляется у своих друзей – русских. Конечно, он изменник! И на груди изменника крест Почетного Легиона! Теперь уже громко обвиняют в измене этого неустрашимого солдата, этого храбреца, которому завидуют втайне. Так продолжается целую неделю. Наконец гроза разражается. Однажды после полудня Сорви-голова, свободный и веселый, один гуляет по улицам, наблюдая уличную жизнь. Он надеется встретить товарища, который поможет ему истратить деньги, только что полученные от отца. Но Сорви-голова встречает сержанта Дюрэ, которого он не видел после того драматического эпизода. Как кавалер ордена Почетного Легиона, Сорви-голова имеет право на салют солдат и унтер-офицеров. Ему лично это вовсе не нужно, но эта честь отдается кресту Почетного Легиона – символу военной заслуги, как выражение величайшего уважения к солдату со стороны отечества. Остановившись в четырех шагах от зуава, сержант Дюрэ посмеивается и закладывает руки за спину, чтобы показать свое пренебрежение. Сорви-голова чувствует легкую дрожь – предвестник гнева, и говорит спокойным голосом: – Сержант, устав требует, чтобы вы отдавали честь кавалеру ордена Почетного Легиона. Потрудитесь повиноваться уставу! Сержант поворачивается, оглядывается, замечает вблизи отряд линейцев и злобно отвечает: – Я не отдаю честь кресту, опозоренному изменником, продажным негодяем, шпионом русских! Эти ужасные слова падают на зуава, как пощечины. В ушах у него звенит, в глазах мутится, горло сжимается, сердце перестает биться. Ему кажется, что он умирает. Дикий вопль вырывается из его груди… – Негодяй… подлец! Я впихну эти слова тебе назад в глотку! Я убью тебя! Яростным прыжком Сорви-голова кидается на сержанта, швыряет его, как мяч, бросает на землю, вскакивает на него, лелея мысль убить его, истерзать. – Ко мне! Товарищи! На помощь! – кричит сержант. Линейцы бросаются на зуава. Их около десяти человек, предупрежденных заранее, знающих, в чем дело. – Ах вы негодяи, десять против одного!.. И это французы! – кричит Сорви-голова, колотит их ногами, кулаками, валит на землю. – Смелее, товарищи! Смелее! – кричит сержант. – Держите его, изменника, позорящего французскую армию! Держите! Возбужденные этими словами, уверенные, что зуав виноват, солдаты снова кидаются на него. Трое или четверо из них падают на землю под яростными ударами Сорви-головы. – Скоты! – кричит он громко. – Я – изменник, я – продажный!.. Я убью вас! К несчастью, поблизости нет ни одного зуава, чтобы помочь товарищу. Несколько торговцев подошли к месту происшествия и с любопытством глазеют на драку. – Надо кончить с ним! – решает Дюрэ, наклоняется, поднимает обломок сабли, подкрадывается к зуаву и швыряет ему в лицо. Залитый кровью, зуав останавливается, шатаясь, и подносит руки к глазам. – Негодяй! – кричит он. – Я вырву твое подлое сердце! Ко мне! Шакалы! Ко мне! – испускает он отчаянный вопль. Солдаты хватают его, валят на землю, впихивают ему в рот платок и связывают. Вот Сорви-голова – обезоруженный, неподвижный, как труп, с окровавленным лицом – в полной власти своего смертельного врага! Сержант наклоняется к нему и говорит ему тихим, шипящим от злобы голосом: – На этот раз ты в моих руках, храбрец. Ты погиб! У тебя сорвут крест и расстреляют тебя. Я буду счастлив! Товарищи! Отнесите изменника и заприте его до суда – его ждет казнь!
ГЛАВА VI
Ярость патруля. – Вмешательство полковника. – Надо успокоить волнение. – Сорви-голова и его полковник. – Протест. – Надо проверить. – Ночная экспедиция. – Ничего. – Отчаяние. – Буффарик. – Пистолет. – Энергичный отказ. – Свобода!Арест Сорви-головы ошеломляет солдат. Весь полк протестует, как один человек. Начинается волнение. Волонтеры адского патруля беснуются, ругаются, ломают оружие и хотят, чего бы им это ни стоило, освободить любимого командира из тюрьмы. Трубач трубит сбор. Вокруг него собираются зуавы. Повсюду видны сжатые кулаки, поднятые карабины, искаженные гневом бронзовые лица, растрепанные бороды… Буффарик, Дюлонг, Роберт, Бокамп, близкие друзья Жана, производят адский шум, усиливающийся с каждой минутой. – Сорви-голова! Мы хотим видеть Сорви-голову! Вперед, товарищи, вперед! Освободить его! Дело становится серьезным… Офицеры бросаются в толпу, стараясь восстановить порядок, успокоить солдат. Полковник хорошо знает своих зуавов. Образцовые солдаты, ясные головы, золотые сердца! Он умеет говорить с ними твердо, но ласково, и, видя их возбуждение, командует: – Стройся! Живо! В силу привычки и дисциплины зуавы строятся, но продолжают кричать: – Сорви-голова! Мы хотим видеть Сорви-голову! Заметив около себя Буффарика, полковник говорит ему: – И ты, старый боевой конь? – Господин полковник, – с достоинством отвечает сержант, – Сорви-голова – жертва клеветы! Это пощечина зуавам всего полка! – Хорошо сказано! – кричат зуавы. – Да здравствует Буффарик, да здравствует Сорви-голова! – Дети мои! – говорит полковник. – Я думаю так же, как вы. Сорви-голова – образец честности и мужества… Он будет возвращен вам! – Сейчас же! Сейчас! – кричат самые нетерпеливые. – Молчать, когда я говорю! – прерывает их полковник. – Я займусь этим немедленно, но прошу вас, ради Сорви-головы, не делайте глупостей… Нельзя же доказывать его невиновность стрельбой из карабина! Ступайте в палатки и верьте моему слову. Вольно, ребята! – Да здравствует кебир! – раздается громогласный крик. Успокоенные зуавы возвращаются в свои палатки, а полковник направляется в лагерь в сопровождении двух офицеров – батальонных командиров. Командир линейного полка – личный друг полковника. Он не разделяет оптимизма полковника и смотрит на дело очень серьезно. Обвинение, предъявленное Сорви-голове, основывается на солидных данных. Подана целая бумага, очень хитро и умно составленная. Полковник пробегает глазами бумагу и говорит: – На вашем месте я бросил бы все это в огонь! – Но от этого мы ничего не выиграем, ни я, ни ваш зуав! Сорви-голова впутан в серьезное дело… – Которое его опозорит! – Ему придется доказывать свою невиновность! – Хорошо, позвольте нам повидать его! Я поговорю с ним. Спрошу его. В сущности, я убежден в его верности долгу и знамени! Офицеры входят в каземат, где сидит несчастный Сорви-голова. Каземат этот, с амбразурой вместо окна, довольно обширен и не похож на тюрьму. В нем много воздуху, стоит кровать, стол и стул. Любой офицер батареи мог бы позавидовать такому помещению. При виде входящих офицеров Сорви-голова, который мечется, как зверь в клетке, останавливается как вкопанный и отдает честь. – Ну, мой бедный Сорви-голова, – дружески говорит полковник, – опять беда! – Господин полковник, разве можно принимать всерьез низкую клевету негодяя, моего заклятого врага?.. Из-за него меня присудили к смерти тогда, на Альме… – Сержант Дюрэ? – Да, он! –Тем не менее он обвиняет тебя в сношениях с врагами в измене… Тебе придется защищаться! – Господин полковник! Господин капитан! Это же подлая ложь, это глупо, возмутительно! Вся моя жизнь является опровержением этой клеветы! – Я согласен… все мы согласны с этим! Но если бы ты знал, бедный, как этот сержант все исказил… какие улики нашел против тебя! – Господин полковник! Я сын старого служаки, одного из верных слуг Наполеона, и с детства воспитан в правилах чести и повиновения своему долгу. Наконец, если я совершил преступление, то для чего? С какой целью стал бы я позорить безукоризненное прошлое, всю мою солдатскую жизнь? Ведь нет действия без причины, и каждое преступление имеет свою цель! Ну можно ли подозревать меня в позорном преступлении, в измене отечеству для того, чтобы устроить пирушку товарищам? – Это верно, мой друг! Но тебя все-таки спросят, откуда ты взял эти деньги! – Господин полковник! Я расскажу в двух словах. Я нашел на севастопольском кладбище подземный ход, который ведет в часовню и проходит под центральным бастионом. Там много оружия, амуниции, и, кроме того, я нашел сундук, в котором лежала полная солдатская форма зуава, с крестом Почетного Легиона, и кошелек с четырьмя тысячами франков золотом, которые я взял себе без зазрения совести и истратил на угощение для товарищей! – Слушай, Сорви-голова, что за романы ты нам рассказываешь? – Истинную правду, господин полковник! Клянусь честью! – Это надо проверить. Но почему ты не доложил начальству о своем открытии? Ведь это очень важно! – Приберегал это для себя, чтобы раскрыть одну тайну и взорвать бастион! – Это возможно, и мы верим тебе, но нужно все это проверить. Сегодня ночью ты поведешь нас!.. – К вашим услугам, господин полковник! Полковник подходит к зуаву, дружески кладет ему руку на плечо и, всматриваясь в его глаза, тихо говорит: – Сорви-голова! Я верю в твою невиновность… – Благодарю вас, благодарю, господин полковник! – Я поручусь за тебя перед главнокомандующим, он один может дать тебе свободу… – Как, господин полковник? Разве я не свободен? – с тоской говорит зуав. – Дай мне слово, что ты не убежишь! Сорви-голова выпрямляется. – Клянусь честью, господин полковник, что не буду пытаться скрыться! – Хорошо, я верю тебе! Оружие тебе вернут, и ты войдешь с нами как свободный солдат! – Благодарю, господин полковник, вы увидите, что я достоин вашего доверия! Наступила ночь. Экспедиция готовится в глубокой тайне. Приказано идти целой роте. Заинтересованные таинственностью, люди весело отправляются в путь. Полковник держится вдали, в группе офицеров, закутанных в шинели. Воздух свеж, и ночь очень темная. Рота с бесконечными предосторожностями направляется к кладбищу. Тут опасно, повсюду русские. Часть роты оставлена в резерве; отряд останавливается у кладбища, все остальные проникают за ограду и занимают позицию. Во главе группы офицеров уверенно шагает Сорви-голова, спокойный и решительный. Подходят к часовне. Сорви-голова толкает дверь и просит офицеров войти, вынимает из мешка свечу и зажигает ее. Офицеры молчат. – Фокус очень прост и остроумен! – говорит Сорви-голова, подходя к алтарю, наклоняется и нажимает гвоздь на кресте. Стена не двигается. Зуав нажимает сильнее… Напрасно! Панель неподвижна, как скала. Кровь бросается ему в лицо, тело покрывается холодным потом. – Значит, механизм испорчен! – лепечет он. Потом его охватывает ярость, и он кричит: – Увидим! Схватив карабин, он колотит им по стене с таким воодушевлением, что тяжелая панель разлетается в куски. – Наконец-то! Сорви-голова, задыхаясь, берет свечу, подносит ее к отверстию и говорит: – Господин полковник, сейчас мы увидим лестницу. Посмот… Слова останавливаются в горле. Бледный, дрожащий, он видит перед собой только ровный мозаичный пол. Ни следа отверстия, ни лестницы, ни малейшего намека на подземный ход! Можно думать, что это простая мистификация! Сорви-голова чувствует и понимает это, хочет говорить, защищаться, доказать свою правдивость, но только хрип и рыдания вырываются из груди. Кровь шумит в его ушах, в глазах – красное облако, и ему кажется, что череп его лопнет. Потом он теряет сознание и погружается в пустоту. – Я невиновен! – бормочут его посиневшие губы. Полковник пожимает плечами и холодно говорит: – Господа, нам здесь нечего делать! Я рассчитываю на вашу скромность… прошу вас, ни одного слова об этом. Этот несчастный – виновен! Если умрет, тем лучше для него. Ради чести всего полка необходимо, чтобы он исчез! Я позабочусь об этом! Через сутки Сорви-голова, принесенный солдатами в каземат, очнулся от своего кошмара. Он лежал на постели, с головой, обложенной компрессами, с ноющей болью во всем теле. Подле него, на стуле, сидел зуав с длинной бородой, с грудью, украшенной крестами и медалями. – Буффарик! – тихо шепчет Сорви-голова. – Ах, мой голубь… бедный Жан! – Ну, что случилось? – Скверные вещи… у меня камень на сердце! – Говори же, умоляю тебя! Понимаю… меня считают виновным! И полковник тоже? – Да, он послал меня к тебе… потому что… черт возьми! Потому что я старейший солдат полка и люблю тебя… – Он послал тебя? Зачем? – Да, гром и молния! Проклятое поручение! – Говори же! Ты уморишь меня! – Он послал меня сказать… передать тебе… одну вещь… – Какую вещь? Бледный, убитый происходящим, сержант вынимает из кармана пистолет, кладет его на постель и глухо бормочет: – Игрушка смерти! Бедный ты мой! – Понимаю! – кричит Сорви-голова, срывая с головы компрессы. – Кебир хочет, чтобы я убил себя во избежание позора! Не правда ли? Старый сержант молча кивает головой. – Хорошо, – говорит Сорви-голова, – повтори мне его слова! Что он сказал тебе? – О, немного! «Старик, – сказал мне кебир, – снеси этот пистолет Сорви-голове… Если у него есть сердце, он покончит с собой, а я замну это грязное дело, и его имя не будет опозорено! Это все, что я могу сделать для него ради его прежних заслуг!» Сорви-голова вскакивает с кровати и кричит: – Буффарик, старый друг, отвечай мне откровенно, как следует честному солдату. Ты веришь, что я продался неприятелю… изменил долгу, отечеству, знамени? – Нет, не верю! Тысячу раз нет! – А твои? Мадемуазель Роза? – Она, моя дочь, милое создание… Она готова отдать свою жизнь, чтобы доказать твою невиновность! – Отдай мне твою дочь, Буффарик! Если бы я попросил ее быть моей женой? – Охотно, Жан! Я буду счастлив назвать тебя моим сыном! Лицо Сорви-головы сияет. Он бросается в объятия Буффарика, крепко обнимает его. – Спасибо тебе от всей души! Твой ответ решил все! Я невиновен и не убью себя! – Как! Что же ты сделаешь? – Да, в минуту отчаяния, при мысли, что мое будущее погибло, что мое имя обесчещено и любовь моя разбита, я послушался бы полковника, но теперь… я – человек, люблю Розу и хочу жить для нее! – Я давно угадал твое чувство, – говорит растроганный Буффарик. – Роза разделяет его… – Мы никогда не говорили с ней о нашей любви! – Я знаю, мой милый… Но пока в сторону чувства! Что ты хочешь делать? – Найти предателя… доказать свою невиновность! Я чувствую в себе много сил, энергии… я разобью все препятствия и добьюсь своего! – Но ты не свободен! – Ночью я попробую убежать! – И тебе помогут, дружок! Надейся и потерпи!
ГЛАВА VII
Сорви-голова в тюрьме. – Неожиданное счастье. – Самоотверженность Розы. – Пароль. – Бегство. – Свободен. – По дороге в Севастополь. – Перед батареей номер три. – Дезертир.Буффарик ушел. Наступила ночь, холодная туманная ноябрьская ночь. Сорви-голова сидит и размышляет, устремив взор на окно с железной решеткой. Да, надо бежать. Снова приходится ему нарушать регламент и открыто восставать против закона. Но как бежать? Буффарик обещал помочь, и это не пустые слова. Но Сорви-голова привык сам помогать себе. Он переносит стол ближе к окну, вскакивает на него и пытается расшатать железную решетку амбразуры. – Трудно… железо крепкое… известь и цемент, – бормочет он. – За амбразурой – часовой, может быть, не один! Но бежать надо сегодня же! В это время горсть камушков падает на стол, брошенная чьей-то рукой в окно. Сорви-голова думает, что это Буффарик, и с бьющимся сердцем тихо говорит: – Кто там? Это ты, старик? – Нет, мосье Жан, это я! – отвечает ему нежный молодой женский голос. Он узнает этот певучий музыкальный голос, доносящийся к нему из-за решетки, как небесная мелодия. Растерянный Сорви-голова бормочет: – Роза! Мадемуазель Роза! Я так счастлив! – Мой бедный друг! Вы счастливы! – отвечает ему голос с оттенком лукавства и нежности. – Счастливы теперь? Вы нетребовательны! – Я восхищен, я с ума схожу от счастья… зная, что вы здесь и… пришли ночью, несмотря на усталость… опасности… пришли для меня… одна! – Одна, это правда! Но мы обязаны вам жизнью, Жан! – Роза! Дорогая Роза! Я дрожу при мысли, что вы… одна!.. Столько негодяев тут… часовые… могли выстрелить! – С этой стороны нет часовых! Вам легко бежать. Что касается негодяев-торговцев, которые не пропустят ни одну женщину, то разве они заденут зуава? – Как, зуава? Молодая девушка от души смеется. – Это правда. Ведь вы не видите меня… Я надела платье моего брата Тото, а на поясе у меня кинжал мамы Буффарик, на плече – ваш добрый карабин, а на спине ваш мешок… – Боже мой! Вы тащили мешок… – Да, он тяжел, и я охотно сниму его с себя. Трубач притащил его тихонько к нам. Мой геройский вид, да еще с мешком на спине, оградил меня от всякого подозрения! – Проклятая темнота! Я не вижу вас. Роза! – Напротив, надо благословлять ее… вам удобнее бежать. Слушайте, время дорого! Мы все устроили это втроем… мама, Тото и я… Папа делает вид, что ничего не знает, иначе его могут заподозрить! – Да, – грустно говорит Сорви-голова, – полковник поверил клевете, а вы… – Полковник судит вас по рассудку, а мы – по сердцу! Рассудок ошибается, сердце – никогда! Однако я болтаю… не прерывайте меня! Слушайте! Папа ничего не знает, но оставил на виду клинок и маленькую пилку, я принесла их сюда; потом он рассказал мне историю, из которой я узнала пароль и отзыв… – Какой пароль? И отзыв? – Смелость! Честь! – Роза, дорогая! Ваша доброта, ваша самоотверженность трогают меня до слез! – Тише! Кто-то идет! С бьющимся сердцем, тяжело дыша, молодые люди стоят неподвижно, он – согнувшись у решетки и любуясь грациозным силуэтом, она – взобравшись на земляную насыпь. Через пять минут Роза тихо продолжает: – В мешке есть провизия, но не надолго… Куда принести вам еще? – Я рассчитываю устроиться на севастопольском кладбище… – Хорошо! Там ночью вам положат провизию и сообщат все, что будет нужно! – Спасибо! В двадцати шагах от решетки, вправо, вдоль стены, в яме! – Отлично! А теперь, милый, за дело! Бегите, боритесь за свою честь, потому что она – и моя тоже. Устраивайте наше счастье! Возвращайтесь счастливым, отомщенным. Мое сердце будет с вами! Прелестная девушка скользит вниз и тихонько уходит, мелькнув, словно тень, мимо часовых, и спокойно идет по дороге, ведущей во французский лагерь. Сорви-голова тяжело вздыхает, опускает голову и шепчет: – Она права! Надо действовать! В руке его осталась маленькая пилка и клинок, принесенные Розой. Зуав кладет клинок на стол, берет пилку и начинает пилить решетку. Работа не требует особых усилий. Инструмент образцовый по прочности и силе. Сорви-голова усердно работает. Через час решетка падает. Неподалеку звучно бьют часы. Одиннадцать! Сорви-голова прячет в карманы пилку, клинок и пистолет, присланный полковником. Держась руками за оставшиеся прутья решетки, он поднимается к амбразуре и вползает в отверстие, с усилием, кое-как выбирается из амбразуры. – Уф, устал! – говорит он, стоя на земле. – Чуть не застрял. Сорви-голова нащупывает свой мешок, свой карабин и бормочет: – Эта тяжесть под силу только мулу или зуаву! И Роза несла это! Милое, самоотверженное создание! Как она добра, и как я ее люблю! Жан надевает мешок на плечи, берет карабин и идет в темноте несколько минут, с бьющимся сердцем, боясь окрика часового или выстрела. Слава Богу! Все идет хорошо. Часовые уверены, что с этой стороны не грозит никакая опасность. Зуав хорошо знает местность, направляется по узкой тропинке вперед, потом ложится и ползет. Что делать! Необходимо пройти это расстояние, не привлекая внимания. Сорви-голова, неутомимый ходок, человек, известный своей силой и храбростью, ползет, как улитка, толкая перед собой карабин, по пять метров в минуту. Сорви-голова предпочел передвигаться подобным способом, потому что, даже зная пароль, не хочет возбудить подозрение часового и навлечь на себя беду. Наконец его труды и терпение вознаграждены, он находится за чертой военного лагеря, вне опасности, и спокойно шагает по дороге к Севастополю. – Не встретил даже собаки! – смеется он себе в бороду. – Жаловаться не приходится… Ну, Сорви-голова, вперед теперь… ради Франции и моей Розы! Впереди, на расстоянии добрых пяти километров, сверкают огни Севастополя. Слышен гром пушек и мортир. Море шумит в ответ этим выстрелам и отражает вспышки огня. Вместо того чтобы направиться прямо на кладбище, зуав сворачивает вправо, к батарее номер три. Вот он идет по разрытой бомбами земле, спотыкаясь о камни, ядра и разные обломки. Налево от него – русские укрепления, направо – французы. Час ночи. Батарея капитана Шампобера молчалива и тиха. С безрассудной смелостью, рискуя жизнью. Сорви-голова приближается к амбразурам, прячется в воронку и тихо свистит. Никто не движется со стороны траншеи, кроме… собаки Митральезы. Верный пес часто сопровождал зуава в его ночных экспедициях и узнает сигнал. Но почему его друг в красных шальварах и куртке не идет в батарею, где его всегда радостно встречают?! Собака начинает волноваться, выбегает из траншеи и нюхает воздух, бегая взад и вперед. Снова едва слышный свист. Митральеза начинает подвывать, ее волнение, видимо, усиливается. – Что такое сегодня с собачкой? – говорит капитан Шампобер своему товарищу. – Она что-то чует! Собака, видя, что никто не понимает причины ее волнения, садится, испускает долгий печальный вой и одним прыжком исчезает в темноте. Добрая собака, верный друг человека, присоединилась к одинокому зуаву, который страдает и борется с судьбой. Найдя его в воронке, Митральеза ласкается к нему, лижет ему руки и, наконец, ложится около него с довольным видом. Потом они идут по дороге к кладбищу – человек, согнувшись под своим мешком, собака, прыгая около него. На другое утро собака не вернулась в батарею и была зачислена в… дезертиры.
ГЛАВА VIII
Дезертир. – Генерал Боске. – Его сомнения. – Зима. – Непримиримые враги. – Призрак или действительность? – Добрый гений. – Англичане атакуют. – Кровавая битва. – Диверсия. – Русский и зуав. – Пение шакалов. – Их двое. – Сорви-голова. – Он явился.Обвиняемый в серьезном преступлении, Сорви-голова скрылся, предпочел постыдное бегство смерти. Он – дезертир. Скоро его будут судить, даже отсутствующего, вычеркнут его имя из списков легионеров, из состава армии. Весь корпус офицеров с полковником во главе требуют суда над дезертиром. Только один генерал Боске колеблется, считает это преждевременным. Несмотря на улики, генерал Боске сомневается, потому что питает большое доверие к смелому зуаву, командиру адского патруля. Умный и хитрый Боске умеет понимать людей и взвешивать обстоятельства. Таинственное, запутанное дело Сорви-головы тревожит его совесть. – Я думаю, мой милый, что вы слишком спешите! – говорит он полковнику. – Но, генерал, ведь это мистификация! – Почем знать, быть может, Сорви-голова сам сделался жертвой мистификации! – Видите ли, генерал, несчастный не думал, что мы отправимся туда… проверить его! – Вы уверены в этом? – Да, генерал. Это была удивительная наивность с моей стороны. Черт возьми! Мы выглядели совершенными дураками, когда поняли, что вся эта история не более чем фарс! – Да, конечно, ваше самолюбие было задето, вам было досадно, но все это не мешало вам видеть вещи в истинном свете. Во всяком случае, нужно подождать! Ждали очень долго. Между тем началась суровая зима. Ветер, дождь, холод, грязь! Какое терпение, какую твердость должны иметь бедные солдаты, которые безостановочно роют землю! Роют сверху и снизу, проводя целые дни в траншеях, чтобы отвоевать несколько метров земли! В промежутках стреляют из пушек, ружей, мортир. С обеих сторон огромные жертвы. Молодые, старые храбрецы, отборные смельчаки обеих наций гибнут, гибнут без конца! Снаряды, раны, болезни уносят людей. Ожесточение растет. Если атаки отличаются особой яростью, то и сопротивление полно отчаянной отваги. Всем понятно, что кампания будет долгая и убийственно трудная! Под дождем, под снегом войска ждут лучших времен которые никогда не настанут. О Сорви-голове ничего не слышно. Конечно, это не значит, что его забыли. Никогда раньше не говорили о нем так много, как теперь! Три недели как исчез Сорви-голова, а его имя у всех на устах. Он сделался легендарной личностью. Однажды ночью, при свете звезд, двое часовых заметили зуава, вернее, тень его, в сопровождении собаки… Казалось, он не шел, а скользил… Остановившись в двадцати шагах от солдат, призрак закричал им странным голосом, похожим на сдержанное рыдание: – Тревога! Русские! Это было верно. Глубокой ночью неприятельский батальон подкрадывается к французам, чтобы уничтожить часовых, овладеть траншеей и заклепать орудия. Предупрежденные часовые не медлят, стреляют и кричат: – К оружию! Неожиданная атака отбита. Спустя три дня часовые-артиллеристы батареи номер три слышат крик: – Берегитесь, канониры! Берегитесь! Бригадир высовывает голову в амбразуру и при блеске ракеты видит огромный силуэт человека, сопровождаемый каким-то чудовищным животным. Призрачная, огромная до ужаса тень! Оба скользят и исчезают в темноте. Через минуту гремят пушки с русского бастиона, маскируя новую вылазку русских. Но в батарее уже приняты все меры, русские встречены орудийным залпом и отступают. Несколько ночей спустя новая тревога. Французы работают в траншее, храня глубокое молчание, как вдруг около них раздается выстрел из карабина и крик: – Берегитесь, саперы! Русские! Работающие бросают кирки и лопаты, хватают ружья и отбивают нападение. Целый ряд таких фактов. Какое– то таинственное сверхъестественное вмешательство! Но кто он, этот таинственный человек, пренебрегающий всякой опасностью и охраняющий французскую армию? – Это похоже на Сорви-голову! – говорят солдаты. – Да, Сорви-голова или его призрак! Рассказы о нем продолжаются, дополняются и превращаются в легенды. Призрак-зуав, который бродит каждую ночь около французов, молчаливый, неуловимый, таинственный, – добрый гений армии! Это продолжается до памятной ночи страшной атаки на подкрепления англичан. День прошел тихо. Вдруг целый ураган гранат, бомб, ядер обрушивается на английские линии, траншеи, ломает пушки и калечит людей. Малахов курган, третий и второй бастионы стреляют изо всех орудий и извергают столбы огня, словно кратеры. Паника продолжается недолго. Англичане оправляются и отвечают выстрелом на выстрел. Но у них только половина наличного состава людей. Смертельные раны и болезни унесли много народу. Могут ли они долго продержаться? Увы! Они отступают, покидают посты… Русские стремительно наступают… – Русские! Русские! Внезапно со стороны французского лагеря взмывает вверх сигнальная ракета… Трубы звучат… Тревога! Три тысячи человек выскакивают из палаток и хватают оружие. Охотники, пехотинцы, зуавы бегут на помощь союзникам. Пора! Русские обрушиваются, как ливень, испуская дикий крик. Страшный залп! Обе массы войск сталкиваются и бьются, как звери. На рассвете ожесточеннейший бой продолжается. Русские не отступают ни на шаг. Все смешивается в какой-то ужасающий хаос. Русские бастионы буквально осыпают ядрами и бомбами французские траншеи. Восходящее бледное декабрьское солнце освещает отвратительную бойню. В этот момент раздается ужасный взрыв, земля дрожит под ногами сражающихся. В углу севастопольского кладбища поднимается целый столб огня и дыма. Шум битвы затих. Наступила мертвая тишина. На севастопольских укреплениях раздаются тревожные сигналы труб и барабанов. По-видимому, случилось что-то серьезное. Русские офицеры подносят к губам свистки. Звучит резкий продолжительный свист. Солдаты останавливаются и отступают. Все облегченно вздыхают, никто не думает о преследовании. Каждый торопится в свой лагерь, не понимая причины этой паники. Что случилось у русских? Вероятно, взрыв порохового погреба. Нет, хуже. Взорван знаменитый люнет с двенадцатью пушками и мортирами – совершенно уничтожен, истреблен! Ничего не осталось, кроме огромной ямы – страшной бреши в севастопольских укреплениях. Если бы у французов было больше людей, какой это был бы прекрасный случай для атаки! Но это невозможно! Проходит полчаса. Белый флаг развевается на бастионе русских. Передышка! С французской стороны тоже водружается белый флаг. Отряды выходят подбирать раненых и убитых. Мир на несколько минут! Горькая ирония! Англичане, французы и русские выходят из своих прикрытий. На виду двух армий появляется странная группа: два человека и собака. Они выходят буквально из-под земли и видны всем. Один из них – человек среднего роста, с бородой, в русской шинели и фуражке. Другой – такого же роста, тоже с бородой, одет в форму зуава. На груди его сверкает крест Почетного Легиона. Но вид его ужасен! Этот капрал зуавов едва тащит ноги и не хочет идти. Руки у него связаны за спиной, как у преступника, голова опущена, феска надета, как чепец. Волей-неволей он должен идти. На шее у него узлом завязана веревка, которую русский намотал себе на руку и тащит его. Очевидно, русский наслаждается унижением зуава и кричит ему по-французски: – Ну, двигайся, негодяй! Подвигайся вперед! Зуав пытается упираться, но собака кусает за ноги и ворчит. Кое-как, крича, подгоняя зуава, они проходят десять шагов. Зуав опять останавливается. Русский подгоняет его штыком и кричит: – Иди, голубчик! Иди же! Товарищи ждут! Следует сильный удар ногой, и зуав испускает вопль ярости и боли. Ему, очевидно, хочется убежать, спрятаться, ничего не видеть и не слышать! Человек в русской шинели, беспощадный, неумолимый, затягивает веревку, и несчастный полузадушенный зуав, подгоняемый штыком и собакой, шатаясь, взбирается на укрепления. Артиллеристы третьей батареи с недоумением смотрят на странную группу. – Бог мой! Кажется, Митральеза! – кричит один из них. – И Сорви-голова! – добавляет капитан Шампобер вполголоса, со сжавшимся сердцем. – Несчастный! Так ужасно кончить! Я не могу видеть этого! Ужасная, тяжелая минута! – Ну, иди же, сударь! – кричит русский зуаву и толкает его ногой. Собака скачет на ноги зуаву, и капли крови показываются на белых гетрах. В этом несчастном человеческом существе, которое не видит и не слышит, артиллеристы с негодованием узнают своего победоносного товарища, героя второго полка зуавов. – Сорви-голова! Гром и молния! Это он! – Негодяй! Изменник! Продажный! – Каналья! Тебе сорвут твой крест! – Смерть изменнику! Оба человека и собака останавливаются, осыпаемые градом насмешек, оскорблений, проклятий. Человек в русской шинели кричит зуаву: – Да тебя знают здесь! Они ошибаются… покажи им себя… скажи что-нибудь… пароль, спой песню твоего полка… Не знаешь? Странно. А я знаю! Прекрасным звучным голосом русский поет любимую песню зуавов. Артиллеристы изумленно молчат. Пользуясь тишиной, русский восклицает: – Вы не знаете Сорви-голову? Нет, не знаете, потому что вот он перед вами! С быстротой молнии он сбрасывает русскую фуражку, шинель и появляется в блестящей форме зуава. Бледный от волнения, с бьющимся сердцем, с огненным взглядом, он кричит на всю батарею: – Вот он – Сорви-голова! Вы не пошлете его на смерть! Не сорвете с него креста! – Сорви-голова! Не может быть! Сорви-голова! – кричат артиллеристы. – Есть! – отвечает он своим сильным голосом и презрительно, небрежным жестом, указав через плечо на пленника, который стоит, как мертвый, без движения, без взгляда, без голоса, добавляет: – Господин капитан! Есть два Сорви-головы, как два креста! Один настоящий, на моей груди, на ленте, простреленной неприятельской пулей. Другой – не стоит говорить о нем! Что касается до фальшивого Сорви-головы… посмотрите на лицо этого Иуды! Двумя сильными пощечинами он сбивает с пленника фальшивую бороду, и перед глазами зрителей появляется бледное, искаженное лицо сержанта Дюрэ. Звучат восторженные крики: – Да здравствует Сорви-голова! Да здравствует настоящий Сорви-голова! Солдаты поняли все. Капитан бросается в объятия своего друга, крича: «Прости, прости меня!» Митральеза прыгает, скачет, лает, визжит, здороваясь с друзьями-артиллеристами. Сильные руки хватают пленника, его готовы убить. – Прошу вас, товарищи, – говорит Сорви-голова, – не трогайте его. Он принадлежит правосудию, он нужен мне живой, его позор будет моим оправданием! – Блестящее доказательство! – восклицает капитан. – Да, конечно, его нельзя убивать! Вокруг Сорви-головы и пленника сомкнулся тесный круг артиллеристов. Восторг усиливается. Все хотят пожать руку зуаву, сказать ему доброе слово. Мало-помалу, Сорви-голова теряет почву под ногами и оказывается на плечах солдат, как настоящий триумфатор. – Понесем его к зуавам! – предлагает кто-то. – Чудесная мысль! Да здравствует Сорви-голова! Кортеж отправляется в путь с криками и шумом. По дороге к нему присоединяются новые солдаты. Начинается адский шум. Пятьсот человек жестикулируют и кричат, словно бешеные. Отовсюду сбегаются солдаты узнать причину шума. В центре толпы находится Сорви-голова, которого несут на руках. Он весел, голова его гордо поднята. Сбегаются зуавы второго полка, между ними Соленый Клюв. Он узнает своего друга и бормочет прерывающимся от волнения голосом: – Да это Жан! Наш Сорви-голова! Не зная, чем выразить свою радость, трубач теряет голову, хватает трубу и трубит сбор. Является полковник, думая, что это генерал Боске… Нет, это зуав! Растерянный полковник смотрит на него, узнает и восклицает: – Сорви-голова! Отдавая честь по всем правилам военного артикула, герой зуавов отвечает: – Есть, господин полковник!
ГЛАВА IX
Один. – Кто же двойник? – Приписка Розы. – Надо достать шинель. – Луч солнца. – Добрый зуав. – Трехцветная ракета. – Изменник. – В подземелье. – Пистолет кебира. – Мина. – На аванпосты! – Сержант.Что же случилось со времени дерзкого исчезновения Сорви-головы? Чувствуя себя свободным и вне опасности, зуав думает только об одном: открыть тайну подземного хода. Ему приходит в голову мысль завести себе спутника – не человека, нет! Собаку Митральезу из батареи номер три. Это настоящая военная собака, выносливая, смелая, верная, послушная, с необычайно развитым чутьем – неоценимый спутник для подобного предприятия. Но придет ли собака на его зов? Надо попытаться. Заслышав знакомый сигнал, верная собака без колебаний покидает батарею и бежит к нему. Человек и животное обмениваются нежными ласками, потом отправляются на кладбище. Зуав выбирает место между стеной и аллеей кипарисов и устраивается здесь. Он заряжает карабин, кладет мешок на землю, завертывается в плащ и одеяло, ложится на землю и делает знак собаке лечь подле него. Оба засыпают, но просыпаются еще до зари. Собака сторожит, зуав размышляет. Прежде всего он задает себе вопрос: зачем русские так ловко и внезапно заделали вход в подземелье, что причинило ему столько горя? Да потому, что он, Сорви-голова, совершил страшную глупость, взяв двести луидоров из сундука. Эта неосторожность показала шпионам, что секрет известен. Затем Сорви-голова ломает себе голову над вопросом: зачем эта форма зуава? Зачем этот крест? И мало-помалу он уясняет себе все. Его служба в качестве командира разведчиков, полное доверие командования позволяет ему свободно бродить ночью и днем по укреплениям. Он делал то, что находил нужным, действовал самостоятельно, отдавая отчет только полковнику. Изменник, шпион русских, отлично знал все это и воспользовался этим с дьявольской ловкостью. Он достал себе форму зуава, орден, узнал пароль и разгуливал в этой форме, где хотел. Негодяй одевался в его шкуру и делал свое позорное дело, компрометируя его честь и доброе имя. Но кто этот враг, этот предатель? Конечно, Леон Дюрэ, сержант, его личный враг, отъявленный негодяй! Разозленный похищением денег, негодяй ускорил события, открыто пустил клевету и, наконец, оскорбив зуава, формально обвинил его в измене. При этой мысли кровь бросилась ему в лицо, и он ворчит сквозь зубы: – Негодяй! Предатель! Это он. Ну, погоди! Смеется тот, кто смеется последний! Сорви-голова встает, ласкает собаку, смотрящую на него любящими и умными глазами, и говорит: – Знаешь что, Митральеза, давай позавтракаем! Собака садится и ждет. Сорви-голова развязывает мешок и достает оттуда всякую всячину: сухари, окорок, свечи, спички, бутылку водки и три пакета с табаком. На маленькой бумажке поспешно нацарапаны карандашом несколько слов: «Друг, будьте осторожны и думайте о тех, кто вас любит!» Это – приписка Розы. Суровый солдат узнает почерк и бормочет, смахивая непрошеные слезы: – Роза, дорогая Роза! Мои мысли всегда с тобой… Дорогое воспоминание придаст мне сил и научит осторожности! Сорви-голова быстро заканчивает завтрак, запивая его глотком водки, а собака ищет поблизости дождевой воды. – Теперь, –говорит зуав, – покурим – и за работу! Он тщательно исследует часовню. Все по-старому, от подземелья не осталось и следа. С наружной стороны решетка исправна, позади нее тянется двойной ряд кипарисов, образующих сплошную, почти непроницаемую стену. – Отлично! – говорит Сорви-голова. – Прекрасное убежище… ни ветра, ни дождя! Мы будем, как в палатке, все увидим и услышим! Но придут ли сюда? Конечно, придут! В нескольких метрах от этого уютного уголка он замечает длинную и широкую каменную плиту с надписью. – Странно, – шепчет зуав. – Я не замечал этого камня… увидим потом! Собака, очень довольная возможностью побегать, шныряет взад и вперед, обнюхивает, прислушивается. Первый день проходил спокойно. Ночью Сорви-голова отправлялся в экспедицию. Ему нужно достать себе русскую шинель и шапку. Он ползком приближается к русским аванпостам. Собака ворчит. Зуав поглаживает ее, и умное животное умолкает. Целых полчаса лежит Сорви-голова, притаившись, как дикий зверь. Наконец он замечает темный неподвижный силуэт человека, слышит человеческое дыхание. Одним прыжком бросается он на часового и наносит ему страшный удар по голове. Человек падает без крика, без стона. Сорви-голова снимает с него шинель и убегает со всех ног. На другой день, надев русскую шинель, он снова обшаривает часовню, исследует все аллеи. Ничего! Мертвая, печальная тишина кладбища. Ночью он ждет ракеты, но напрасно. Севастополь освещен, слышны окрики часовых, вой собак и гром пушек. Но сигнала нет. На пятую ночь ему принесли провизию. Сорви-голова нашел недалеко от двери, у стены, свежий хлеб, говядину, кофе, табак, бутыль с водой и записку, написанную карандашом. «Дорогой Жан! Тото и я – мы принесли вам провизию. Далеко и тяжело тащить мне одной. Не бойтесь! Тото скромен и любит вас. Я считаю дни и часы, чтобы не расставаться с вами более. Надейтесь, бодритесь! Мое сердце с вами, дорогой Жан! Роза». Несмотря на всю свою энергию, Сорви-голова печален. Подобная жизнь невыносима даже для самого мужественного человека. Как обрадовался Жан, читая эти строки! Словно луч солнца засиял для него – измученного бедного отшельника. День показался ему светлым, надгробные плиты – менее печальными, уединение – не таким ужасным. На губах его сияет улыбка, глаза блестят, сердце бьется. Он ощущает необходимость говорить, высказать свою радость. Его единственный компаньон – собака – жмется к его ногам. – Слушай, Митральеза, – говорит Сорви-голова, – вот письмо… провизия… все это Роза… твой друг, наш друг! Помнишь, она ласкала тебя и кормила, когда я был болен! Ты знаешь Розу – да, добрая, любящая – она не забывает нас с тобой! После веселого завтрака начинается адская жизнь. В сотый раз Сорви-голова ищет следы подземелья, колотит своим карабином по камням, по полу… Напрасные усилия. Он один – один на большом кладбище. Отчаявшись найти подземелье. Сорви-голова принимается искать изменника. Каждую ночь под градом пуль и ядер, ежеминутно рискуя жизнью, он бродит около укреплений. Но тщетно: фальшивого зуава не видно, не слышно! Бродя таким образом около аванпостов каждую ночь, Сорви-голова привык видеть в темноте так же хорошо, как и при свете, и мог различить малейший, едва уловимый звук. Его чувства удивительно обострились, и, с помощью чутья собаки, от него ничто не могло ускользнуть теперь. Он отлично обходит засады, русских часовых, узнает всякую вылазку неприятеля и торопится предупредить своих. Рискуя жизнью, он бродит со своей собакой около французских укреплений и кричит: «К оружию! Русские!» – и скрывается. Такая жизнь продолжается три бесконечных мучительных недели, без минуты отдыха, без луча надежды. Наконец однажды ночью он замечает над Севастополем три ракеты: голубую, белую и красную – и как сумасшедший бежит на кладбище. «Это на завтра!» – думает он. День проходит, долгий, мучительный. Ночью Сорви-голова ложится под кипарисы и походит на неподвижный камень. В осажденном городе тишина. Бьет полночь. Легкие шаги раздаются по песку аллеи. Сердце зуава готово разорваться. Собака ворчит. Сорви-голова зажимает ей пасть рукой. Умное животное понимает, что надо молчать, и замирает. Темная тень продвигается вперед и останавливается в двух метрах перед большой каменной плитой. Сорви-голова различает силуэт фальшивого зуава, ему хочется броситься на него, задушить негодяя, но он сдерживается и остается неподвижным. Переодетый мошенник трижды ударяет ногой по плите. Проходит пять минут. Вдруг плита поворачивается на своей оси, одна часть ее поднимается вверх, другая опускается. Появляется человек, который говорит по-французски: – Это вы? – Да, я! – Приняты ли все предосторожности? – Да, самые тщательные! – Идите! Человек исчезает, за ним следует фальшивый зуав, вход остается открытым. Сорви-голова быстро решается: снимает башмаки, гетры, тихо говорит собаке «не двигайся!» и спускается в дыру. Его босые ноги бесшумно скользят по лестнице. Он достигает сводчатого коридора. В пятидесяти шагах от него идут оба человека. Сорви-голова следует за ними, останавливается, всматривается и видит их в оружейной комнате, слышит разговор вполголоса, шелест бумаг, звон золота. Проклятое золото! Переодетый зуав кладет его в кошелек и собирается уходить. Пора действовать! Одним прыжком Сорви-голова достигает негодяя и сильным ударом валит его на землю. Другой человек, одетый в офицерскую форму, не теряет присутствия духа, вынимает пистолет и целится в зуава. В этот момент какое-то мохнатое существо бросается на незнакомца, прокусывает ему руку до кости. Пуля попадает в стену. – Митральеза! Ты? – кричит Сорви-голова. Почуяв врага, смелая собака бросилась на помощь своему другу и спасла ему жизнь. Все это произошло в несколько секунд. Русский, отбросив собаку, снова хватает ружье, но Сорви-голова с быстротой молнии вытаскивает свой пистолет и стреляет в офицера-Тот падает с раздробленным черепом. Другой, переодетый зуав, стонет и шевелится. Вдруг глухие раскаты потрясают землю. Начинается бомбардировка. Сорви-голова находит связку веревок, связывает негодяя, надевает ему петлю на шею и ведет его под кипарисы, в свое убежище. В этот момент Севастополь окружен кольцом огня. Пушки и мортиры гремят без умолку. «Неудобный момент, чтобы идти к своим, – думает Сорви-голова, – как бы это сделать?» Вдруг ему приходит в голову новая мысль. «Ладно, – думает он, – тут не менее тысячи кило пороху, и, если не ошибаюсь, как раз под русским люнетом. Отлично!» Уверившись, что пленник не может пошевелиться, Сорви-голова оставляет подле него собаку, берет свечу, спички, пилу и спускается в подземелье. Отодвинув труп русского офицера, он начинает подпиливать бочонок с порохом. Через десять минут виден сухой порох. У Сорви-головы нет времени делать фитиль, он просто втыкает в порох свою свечку. – Через два часа все это взлетит в воздух! – говорит он, поднимает свою русскую шинель и смеется. – Я надену ее, и меня примут за русского, который тащит зуава! Потом, вернувшись под кипарисы, Сорви-голова обувается, ласково поглаживает собаку, берет мешок и говорит пленнику: – В путь! Негодяй пришел в себя, понимает весь ужас своего положения и упирается. Сорви-голова наматывает веревку на руку и тащит его. Полузадушенный, спотыкаясь, подгоняемый человеком и собакой, несчастный плетется за ними. Через два часа они появляются перед батареей номер три. Остальное известно читателю: взрыв люнета, бегство русских и триумфальное появление Сорви-головы на батарее. В тот момент, когда Сорви-голова стоял перед своим полковником, к ним верхом подъехал генерал Боске. Он видит сияющее лицо Сорви-головы, переодетого сержанта и, пораженный, восклицает: – Сержант Дюрэ! Теперь я понимаю все! Негодяй что-то бормочет, хочет оправдаться, но Сорвиголова прерывает его: – Молчи, негодяй! Суд спросит тебя, почему твои карманы полны золота, почему на тебе форма зуава, зачем ты был там, в подземелье? Факты говорят за тебя… Ты – негодяй, изменник! Ваше превосходительство, господин полковник, прошу прощения, что осмелился говорить без разрешения… я не могу! – Ты прощен, Сорви-голова! – отвечает с доброй улыбкой генерал Боске. – Иди в свой полк! – Вы позволите, полковник? – Иди, сержант Сорви-голова! – Сержант? О, Ваше превосходительство… – Да, в ожидании лучшего! Главнокомандующий обещал тебе офицерские эполеты. Ты скоро получишь их! Конец второй части.
* ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БРАТЬЯ – ВРАГИ *
ГЛАВА I
Генерал Пелиссье. – Новый главнокомандующий. – Конец зимы. – Спектакль зуавов. – Артисты-любители. – Фарс. – Возвращение героя. – Виктория и Грегуар. – Прерванное представление. – К оружию!Зима 1854 года была ужасная. Тяжело было людям осажденного города, но еще тяжелее доставалось осаждающим. Стояли морозы в двадцать градусов, выпало много снегу, потом начались оттепели при резком ветре и сильные дожди, превратившие все работы солдат в сплошное море грязи. Люди стыли на месте или тонули по колено в грязи. Их снабдили сапогами, наколенниками, бараньими шкурами, меховыми шапками. Если б не оружие, они совсем не походили бы на военных. Какой-то маскарад людей с изможденными лицами, блестящими глазами, бородами, покрытыми инеем и ледяными сосульками. Несмотря на болезни, лишения, затруднения в доставке провизии, служба шла четко, дисциплина соблюдалась строго и работы продолжались аккуратно. Союзная армия яростно осаждала город. Постоянные тревоги, бомбардировки, гром пушек. Дни проходили в страданиях, тяжелых лишениях, в работе. Ничего выдающегося за этот тяжелый период времени, кроме самоотверженности и героизма солдат и офицеров! 26 января 1855 года король Сардинии подписал договор с Францией, Англией и Турцией, которым обязывался выслать в Крым корпус армии, чтобы сражаться с русскими. На другой день после заключения этого памятного договора в Крым приехал генерал Ниэль, адъютант Наполеона III. Вместе с генералом Бизо он дал новое направление осадным работам. После долгих переговоров было решено, что англичане, потерявшие три четверти наличного состава, будут заменены французами на правом фланге. Действия англичан ограничатся центром впереди Большого редута, тогда как французы займут траншеи перед Малаховым курганом, важность которого с точки зрения стратегии была несомненна. 5 февраля князь Горчаков назначен главнокомандующим русскими войсками вместо Меньшикова, а 2 марта внезапно умер русский император Николай I. Эта новость сообщена русским парламентером. С 9 по 18 апреля, когда погода заметно смягчилась и в природе чувствовалось дуновение весны, продолжилась ожесточенная бомбардировка. В продолжение девяти дней и ночей было сделано до трехсот тысяч выстрелов из пушек, и восемь тысяч человек выбыли из строя. И в результате – ничего! 9 мая из Сардинии прибыло пятнадцать тысяч превосходных солдат под командованием генерала Альфонса де ла Мармора. 16 мая французская армия поражена известием об отставке генерала Канробера и о назначении генерала Пелиссье новым главнокомандующим. Этот главнокомандующий составил себе репутацию человека почти легендарной энергии. – С этим не будем канителиться! – говорят солдаты. – Он не даст топтаться на одном месте! Генерал Пелиссье – человек шестидесяти лет, плотный, смуглый, с серебристо-белой шевелюрой и густыми черными усами. Солдаты называют его Свинцовой головой, что очень забавляет генерала, – он смеется, но от этого смеха дрожат все генералы, покорные ему, как дети. Истый нормандец, хитрый, холодный, спокойный, он умеет приказывать твердым монотонным голосом, которого боится вся армия. Еще в Африке, будучи бригадным генералом, он забылся до того, что ударил одного из унтер-офицеров. Человек побагровел, выхватил пистолет и выстрелил прямо в генерала. К счастью, произошла осечка. Пелиссье спокойно посмотрел в глаза стрелявшему в него человеку и сказал: – Пятнадцать дней тюрьмы за то, что твое оружие не в порядке! Унтер-офицер не был разжалован и впоследствии сделался превосходным офицером. Со времени появления Пелиссье работы продолжаются с двойной энергией. Чувствуется железная рука и сильная направляющая воля. Пелиссье хочет взять Малахов курган и энергично идет к своей цели. Несмотря на усталость, лишения, на все ужасы войны, французская веселость не иссякает. Солдаты забавляются и устраивают спектакли. Театр зуавов второго полка считается лучшим и называется Инкерманским театром. Сцена устроена на земле, на сваях. Сшитые куски полотна представляют собой декорации, раскрашенные порохом, разведенным в воде, мелом, желтой и красной красками. Костюмы и реквизит очень оригинальны. Платья сделаны из русских шинелей, есть даже костюмы маркизов, расшитые серебром. Туалеты дам не менее роскошны, хотя сшиты из полотна, но вышиты серебром, украшены бахромой и раскрашены. Парики сделаны из шкуры баранов, дамские шляпы – из тюрбанов или шерстяных поясов, закрепленных на каркасе из проволоки. Все это производит поразительное впечатление перед рампой, освещенной свечами с рефлекторами, сделанными из ящиков с банками консервов. Зала в двенадцать метров длиной, под открытым небом, огорожена маленькой стеной в пояс вышины. В огороженном пространстве места для французских и английских офицеров, которые умирают со смеху, глядя на артистов. Эти привилегированные зрители сидят на скамьях и платят за места. Позади стены толпятся даровые зрители. Играют драмы, водевиля, комедии, но более всего нравятся фарсы, в которых вышучивают начальников, союзников, русских и т.д. Артистов набирают из солдат полка. Между ними есть очень способные исполнители, которые вызывают восхищение. В этот вечер в театре зуавов дается фантастический фарс. Огромная афиша перечисляет имена персонажей. «В Камышовой бухте» (Фарс в 3 актах и 5 картинах) Гpeгуар Булендос – солдат водолазного парка, Лорд Тейль – английский полковник, Жан Габион – солдат, Разибус – торговец. Потапов – русский гренадер, Виктория Патюрон – невеста Грегуара Булендоса, Мисс Туффль – ирландка, Госпожа Пило – молодая одалиска, Госпожа Кокинос – торговка, Солдаты, купцы, воры и обворованные, Начало ровно в 9 часов. В назначенный час полковой оркестр играет увертюру. Зал полон. Занавес поднимается. ЯВЛЕНИЕ I Грегуар Булендос и Виктория Патюрон. Грегуар одет в турецкие шальвары и тиковую тунику, на голове – мягкая шапка с петушиным пером. У пояса привязаны три надутых пузыря. Правый глаз его завязан, нос – искусственный, из серебра, левой руки нет, одна нога деревянная. Он поигрывает тростью и напевает. Входит Виктория в крестьянском костюме, с корзиной в руке.
ГЛАВА II
На приступ и только на приступ! – Битва. – Победители. – Полковник Брансион. – Безумная атака. – Трубач трубит. – Дама в черном. – Раненые.– Пленник.Со всех ног бегут артисты-зуавы к своему полку, находящемуся позади редута Виктория. Луна ярко светит на небе. Светло как днем. Далеко растянулась темная линия войск. Полковник стоит около знамени и курит сигару. Сорви-голова и его товарищи бегут мимо. – Сорви-голова! – останавливает его полковник. – Есть, господин полковник! – Сколько вас здесь? – Семьдесят человек, господин полковник! – Хорошо. Через пять минут полк идет в атаку… проберитесь вперед… через насыпи… убивайте всех, кого встретите, но ни одного выстрела… штык… и больше ничего! Поняли? – Да, господин полковник, понял! – А ты, трубач, – добавляет полковник, – когда вы будете на последней траншее… труби на приступ! – Слушаю, господин полковник! – отвечает довольный трубач. – Труби на приступ, слышишь, и ничего больше! – Слушаю, господин полковник! – Разведчики, вперед! – раздается звучная команда полковника. Семьдесят человек группируются около Сорви-головы. У всех сумки, в которых находятся молоток и гвозди, чтобы заклепывать неприятельские орудия. Сорви-голова окидывает быстрым взором свой отряд и говорит: – Мы готовы, господин полковник! – Вперед, ребята! Солдаты адского патруля быстро пускаются в путь. Впереди чернеет русский люнет Камчатка. Ни одного выстрела. Позади габионов, зияющих отверстий амбразур, разрытых насыпей – русские ждут атаки. Между неприятельским редутом и последней французской траншеей расстояние в триста метров. Направо, недалеко от бухты, на Селенгинском и Волынском редутах уже начинается атака. Резкие звуки трубы, человеческие вопли и выстрелы. Сорви-голова приказывает лечь на землю своим людям и выжидает. Проходит минута. Позади, словно море, надвигается полк зуавов. – Вперед, товарищи! – командует Сорви-голова. «На приступ!» – звучит труба. Согнувшись, сжимая в руке карабин, солдаты адского патруля бросаются вперед. Раздаются выстрелы, крики. Буффарик, живой и подвижный, успевает лечь на землю, встает невредимый, и закалывая врага штыком, говорит: – Ах ты, негодный! Хотел поджечь мою бороду! Словно по сигналу со всех сторон раздаются выстрелы. Залегшие по двое и по трое в ямы, враги отчаянно защищаются и умирают на месте. Разведчики поминутно останавливаются. Повсюду воронки, засады и трупы лошадей. Два взрыва, один за другим! Изменнически скрытые под землей, эти мины взрывают землю, увечат четырех разведчиков. Целый град осколков, камней летит на людей. Вдруг загораются парапеты люнета. Пушки гремят. Отчаянная перестрелка, крики, вопли. Соленый Клюв трубит команду на приступ. Подходит полк. Лязг металла, шум, крик: – Да здравствует император! Да здравствует Франция! Вперед зуавы! В первом ряду полка – разведчики под адским огнем. Ядра, пули летят градом. Никто более не владеет собой, никто ничего не сознает, не слышит адского шума! Все эти добрые, сердечные люди, готовые пожертвовать жизнью ради спасения ближнего, охвачены яростью, стремлением убивать, резать! Какое наслаждение всадить штык в грудь врага, ощутить струю грызнувшей крови, услышать отчаянный вопль, топтать эти ужасные трупы! Размышлять и жалеть некогда. Надо взять неприятельское укрепление. Пелиссье хочет этого! А если Пелиссье хочет, то надо повиноваться! Разведчики сделали свое дело, но не останавливаются и бросаются на защитников укрепления. Ужасное столкновение! Выстрелы, зловещий лязг стали, вопли и стоны! Бьются повсюду, уже около пушек, бьются как звери. Штыки ломаются, вступают в рукопашный бой. Собирают камни, осколки, бьют друг друга ногами. Буффарик колотит вправо и влево своим молотком. Русские безропотно умирают на месте. Целая гора трупов! Зуавы влезают по ней… Одна траншея взята. Трубы весело звучат: – Вперед! Вперед! Возбужденные сопротивлением, зуавы бегут ко второй траншее. Целая человеческая стена из серых шинелей! Шесть тысяч человек русских стоят тройной линией перед ними. Зуавы бросаются на врагов и, в свою очередь, падают, падают… Подходит третий полк зуавов, алжирские стрелки, пятидесятый линейный полк. К неприятелю также прибыло подкрепление. Линейцы бьются как львы. Во главе полка полковник Брансион со знаменем в руке. – Ко мне, храбрецы пятидесятого полка! Линейцы бросаются за любимым командиром, отбрасывают русских, убивают артиллеристов и занимают главный пункт редута. – Да здравствует Франция! Победа! – кричит полковник, стоя на габионе и держа знамя. Русская пуля убивает его наповал. Он падает, и знамя покрывает его, как погребальный покров. Победа полная, но дорого купленная. Позиция занята великолепным армейский корпусом генерала Боске. Но не все еще кончено. Снова звучит труба. Трубач обещал полковнику трубить на приступ – и трубит, надрывая себе легкие. Соленый Клюв – лучший трубач армии. Его слышно повсюду, даже в Севастополе и на союзном флоте. Он считается трубачом адского патруля. Заслышав трубу, солдаты говорят: – Трубят атаку, надо идти! Понтис, огромный геркулес, спрашивает Сорви-голову: – Куда же идти? Что брать? Сорви-голова смотрит вперед, на силуэт Малахова кургана. Это – крепость с тремястами пушками, защищаемая шестью тысячами человек. У Сорви-головы около шестидесяти человек. Со своими головорезами он может попытаться выполнить невозможное. Указывая на Малахов курган, Сорви-голова говорит: – Идем туда! – Ладно, – отвечает Понтис. – Если бы отдохнуть полминутки? Выпить? – Хорошо. Выпейте для храбрости! Котелки открываются. Соленый Клюв в один миг опустошает свой котелок. – Готово? – говорит он с комической важностью. – Полковник велел трубить только на приступ! – Он подносит трубу к губам и трубит. – Вперед! На Малахов! Адский патруль уносится вперед, и каждый из солдат полка находит их поступок сумасшедшим. Возбужденные битвой, к ним присоединяются Венсенские стрелки, охотники, линейны и, конечно, значительная часть зуавов. Позади Сорви-головы бегут около семисот человек, идут офицеры, увлеченные этим энтузиазмом. Беспорядочными толпами бегут солдаты к Малахову кургану, усталые, запыхавшиеся. Уже светло. Русские не верят своим глазам, торопятся открыть огонь по этой грозной приближающейся толпе. Батареи гремят, с укреплений летит град снарядов. Боске видит опасность и велит трубить отступление. – Макака! Кебир запретил это! Только на приступ! – ворчит Соленый Клюв. Не обращая внимания на ядра, гранаты, пули, первые ряды колонны уже во рвах бастиона. Повсюду препятствия – волчьи ямы, острые камни. Смелые солдаты идут вперед и убивают русских канониров на их орудиях. Впереди всех неуязвимый Сорви-голова, за ним Понтис, Бокамп, Робер, Дюлонг, Буффарик. Сорви-голова указывает на широкую амбразуру, откуда выглядывает огромное жерло орудия. – Ну, заставим замолчать это чучело! – кричит он. – Я займусь этим! Ну, живо! Человеческую пирамиду! – Ладно! – отвечает Понтис, сгибается и подставляет свои могучие плечи. Русские обрушивают на них целый ливень камней, досок, свинца, гранат. Соленый Клюв трубит. Вдруг у него вырывается яростный крик. Два зуба выбиты и труба изломана. – Гром и молния! – ворчит он. – Я повиновался кебиру до конца… теперь ничего не поделаешь! Вторая граната падает к его ногам. Трубач отбрасывав ее, поднимает голову и слышит оскорбления, проклятия, произносимые звучным металлическим голосом. В облаках дыма он замечает темный силуэт женщины. – Дама в черном! – ворчит он. – Бешеная баба бросает нам гранаты. Ладно, я тебя угощу! Он берет карабин, прицеливается… стреляет. Слышится гневный крик. Тяжело раненная дама в черном, стоявшая на краю рва, падает вниз, испустив дикий крик. Все это продолжалось несколько секунд. В это время Бокамп влез на плечи Понтиса. Сорви-голова, с карабином на перевязи, карабкается по обоим, уже достигает амбразуры. Бум! Граната падает к ногам Понтиса, и он не успевает отбросить ее. – Тысяча дьяволов! – вскрикивает он. Нога раздроблена! Солдат тяжело падает на землю с окровавленной ногой, с лицом, опаленным порохом. Бокамп, стоявший на нем, также падает, но Сорви-голова, вместо того чтобы упасть, поднимается вверх, влекомый неведомой силой, болтая руками и ногами, как бы желая защищаться и протестовать. Что же случилось? В тот момент, когда Понтис падает, а Сорви-голова касается рукой амбразуры, около пушки показывается русский, огромного роста, с длинным железным крюком в руке, который он держит за деревянную рукоятку. Он опускает крюк и цепляет им за складки шальвар и за пояс зуава. Сорви-голова чувствует, что его поднимают вверх, барахтается некоторое время между небом и землей. Потом чьи-то могучие руки втаскивают его в амбразуру. Он отбивается как лев и кричит: – Ко мне, адский патруль! Ко мне! Зуавы! Ко мне! Проклиная и ругаясь, он раздает здоровые удары кулаками, дерется за десятерых. Его валят, связывают ноги. Он продолжает рычать, кусаться, драться. Тогда человек, поднявший его на крючке, прикладывает пистолет к виску Сорви-головы и спокойно говорит по-французски: – Вы – мой пленник! Сдавайтесь, или я убью вас. Мне будет очень жаль, если придется сделать это, потому что вы – один из удивительнейших храбрецов! – Сдаться? Это ужасно! Я опозорен. Лучше убейте меня! – бормочет Сорви-голова и хочет сорвать с груди свой крест. – Я понимаю ваше отчаяние, – тихо говорит русский, – никто больше меня не удивляется вашему мужеству… но война! Придется покориться! Пусть этот крест – награда вашей доблести – останется у вас на груди. Его чтут здесь так же, как у вас! Эти добрые, полные достоинства слова производят сильное впечатление на зуава. Гнев его утихает. – Врагу… такому великодушному, снисходительному… я сдаюсь… без всяких условий! – говорит Сорви-голова дрожащим голосом. Русский помогает ему встать и, протягивая руку, говорит: – Я – Павел Михайлович, майор главного штаба и командир гвардейского полка! Зуав пожимает его руку и отвечает: – Я – сержант Сорви-голова! Господин майор, в ответ на вашу дружбу, которой вы меня почтили, примите выражение моей глубокой симпатии и уважения!
ГЛАВА III
Отступление. – Раненые. – Дама в черном и Понтис. – В лазарете. – Изнанки славы. – Ампутация. – Героическая твердость. – Награда. – Визит генерала. – Самоотверженность Розы.В тот момент, когда Сорви-голова был поднят вверх на крючке, дама в черном, тяжело раненная, падает вниз, прямо на капрала-трубача. Соленый Клюв, не имея времени посторониться, наклоняется, подставляя спину. Бух! Дама в черном падает на него, как бомба. Обыкновенный человек сплющился бы от такого удара, но этот маленький худой нервный парижанин сделан из стали. Он пружинит ногами, раненая падает на землю и лежит как мертвая. – Уф! Славно! – говорит трубач, тяжело вздыхая. – Слава Богу, я крепко сшит! Он поднимает голову и видит, что Сорви-голову втаскивают в амбразуру. – Вот несчастье! Сорви-голова взят! – бормочет трубач и замечает Понтиса, пытающегося ползти на руках и коленях, подтягивая свою изуродованную ногу. – Гром и молния! Тебе худо! Ко мне, товарищи, сюда! – кричит Соленый Клюв. Прибегает Буффарик, окровавленный, в дыму. – Что случилось? – Ах, сержант… Наш Сорви-голова! – Я видел… ничего не поделаешь… Бедняга! – Помоги мне отнести Понтиса… не оставлять же его русским! – Вали его мне на спину! – Спасибо, сержант, спасибо, Соленый Клюв, – едва слышно бормочет раненый. – Я-то кого понесу? – спрашивает трубач. – Даму… тащи ее на спине! – Ну, стоит ли тащить эту злодейку… она со своими гранатами – причина всего зла! – Трубач – а дурак! Делай, что говорят, – отвечает Буффарик, – у нас осталось две минуты времени. Трубят отступление! Не то придут русские… Я пойду вперед, понесу Понтиса, ты следуй за мной по пятам с дамой на спине. Если русские начнут стрелять, она будет твоим щитом… габионом из мяса и костей! – Сержант, вы хитрец из хитрецов! – Ладно, взвали мне на спину товарища… ах, бедняга, тяжело ему… Теперь бери даму – и в путь! Тяжело нагруженные, оба солдата продвигаются вперед, минуя воронки, габионы, насыпи, и спокойно идут под градом пуль. Понтис – без чувств. Дама в черном не шевелится. ''Если она померла, – говорит себе Соленый Клюв, – я оставлю ее тут». Через некоторою время дама слабо стонет. – Оживает! – бормочет трубач. – Верно, она жива! Время от времени сержант и трубач останавливаются передохнуть. Трубят отступление, и русские охотятся за опоздавшими. Товарищи пожимают руку Буффарику и подшучивают над трубачом с дамой на спине. – Смейтесь! – отвечает Соленый Клюв. – Эта баба настоящий солдат. Из-за нее захватили в плен нашего Сорви-голову, она оторвала ногу у Понтиса и выбила мне зубы! Наконец Буффарик и трубач подходят к укреплению. Оба – измучены. Изувеченная нога бедного Понтиса бессильно болтается Дама в черном приходит в себя, стонет, сердится. Ясное июньское солнце освещает ужасную картину: трупы убитых, пушки, обращенные на Малахов курган, окровавленные штыки, закоптелые лица. – Кто вы такие? – восклицает вдруг дама в черном, обводя окружающее блуждающим взором. – Куда вы несете меня? – Я – трубач и капрал, несу вас в лазарет! – Я не хочу, оставьте меня! – Сударыня, – тихо возражает трубач, – вы не можете сделать шага… будьте благоразумны! Вы тяжело ранены. В лазарете доктор Фельц будет ухаживать за вами! – Оставьте меня, говорю вам! Трубач ставит ее на ноги и поддерживает. Бледная, как мертвец, окровавленная, с неподвижной и распухшей до локтя рукой, она, по-видимому, начинает сознавать всю серьезность своего положения. Ее раздробленная рука тяжела, как свинец, и причиняет невыносимые страдания. Обычная энергия изменяет ей. Изувеченная, взятая в плен, зная о новой победе французов, она чувствует дрожь во всем теле, и крупные слезы катятся из ее глаз. Вдруг в двух шагах от нее останавливается украшенная двумя Трехцветными значками карета, подъехавшая с легким звоном колокольчика, Юноша в костюме зуава и молодая девушка выскакивают из кареты. Дама в черном готова упасть, молодая девушка принимает ее в свои объятия. – Роза… дитя мое… это вы? – тихо шепчет раненая. – Я умираю! – Нет, нет, – с волнением восклицает Роза, – вы не умрете! Мы спасем вас! Дама в черном грустно улыбается сквозь слезы. С помощью брата Роза усаживает раненую в карету, потом возвращается к отцу, держащему на руках Понтиса. – Местечко для товарища, правда, Роза? – говорит сержант, с любовью глядя на дочь. – Папа, милый папа! Ты невредим! Какое счастье! Бедный Понтис! Мы позаботимся о нем! Зуава кладут рядом с раненой, потом отец и дочь горячо обнимаются. – А где Жан? – тихо спрашивает Роза, беспокоясь, что не видит любимого человека. – Баста! Представь себе, его взяли в плен! – В плен? Тогда он умрет? Боже мой! – Клянусь тебе, что нет! Он вернется. Его выменяют на полковника. Генерал Боске устроит это! – Соленый Клюв, выпьешь? – спрашивает Тото своего приятеля-трубача с окровавленной рукой. – Да, это лучшее средство против всех болезней. За твое здоровье, друг! – Роза, милая, – говорит Буффарик, – скорее в лазарет! Бодрись, не скучай! Все будет хорошо. А ты, трубач, иди на перевязку. Твоя рука нехороша. Тото пойдет пешком, а для тебя найдется местечко в экипаже! Соленый Клюв беззаботно улыбается. – С траншеей вместо лазарета, – говорит он, – с кухней тетки Буффарик вместо аптеки и с новым инструментом, чтобы трубить на приступ, я быстро поправлюсь! – Ты смельчак и молодец! Это я тебе говорю, я, Буффарик, и расскажу капитану о твоем поступке и твоей ране! – Расскажешь? Правда? – Это мой долг! Я буду доволен, когда увижу на твоей груди медаль, давно тобой заслуженную! * * * Благодаря этой победе осада Севастополя сделала решительный шаг вперед. Обратная сторона победы: убитые, похороны, раненые, ужасная работа в лазарете. Раненые прибывают со всех сторон. Их несут на носилках, на ружьях, на спинах, везут в каретах. Доктор Фельц в фартуке, с засученными рукавами, теряет голову. Его помощники не знают, за что приняться. Всюду кровь, которая струится, течет, капает. Кровью окрашены матрацы, полотно палатки, покрывала, люди, земля, на которой лежат умирающие. В нескольких шагах – ампутированные члены, сложенные в кучу, как дрова. Крики, жалобы, рыдания, вопли! Отвратительный запах крови, смешанный с запахом хлороформа! Бедные солдаты! Бедные молодые люди, крепкие, сильные, цветущие! Бедные матери, которые там, далеко в деревнях, с трепетом прочтут известие о победе! Работа хирургов в самом разгаре. Доктор Фельц собирается оперировать русского солдата, когда Понтис и дама в черном появляются на пороге этого ада. Скоро пять часов. Буффарик спешит к Понтису, ободряет и утешает его. Роза не отходит от княгини. Княгиня, мрачная, бодрится и молчит. Однако при виде заботы и ухода, которыми окружены русские раненые, ее взор смягчается и складка гнева на лбу исчезает. Не выказывая ни малейшего удивления при виде элегантной женщины, доктор почтительно кланяется ей и говорит: – Сударыня… я страшно занят… каждая минута на счету! Все, что я могу сделать для вас… это уделить вам несколько минут… Охваченная волнением, княгиня говорит доктору: – Благодарю вас, сударь… Но этот солдат страдает более меня. Займитесь им. Я подожду! – Это ты, Понтис? – наклоняется доктор к раненому. – Что у тебя такое? Смертельно бледный, но твердый и решительный, зуав поднимает свои шальвары до колена и показывает раздробленную ногу. – Ничто не поможет, господин доктор? – спрашивает он слабым голосом. – Одно только средство, бедный мой… ампутация! Зуав вздрагивает и сейчас же говорит: – Начинайте, господин доктор! – Усыпить тебя? – Вы очень добры… не стоит труда! Сержант Буффарик, пока господин доктор отхватывает мне ногу, я выкурю трубочку… – Да, да, голубь мой, я сейчас раскурю ее тебе! – отвечает Буффарик с влажными глазами. Приготовления к операции окончены в одну минуту. Понтис берет трубку и затягивается. – Готов? – Валяйте, господин доктор! Одним ударом хирург отрезает лоскут кожи. Понтис вздрагивает и курит. Еще несколько секунд… скрип пилки по кости… отрезанная нога падает на землю. Пот градом льется по лицу зуава, продолжающего, сжав челюсти, курить. Бледный как полотно Буффарик смотрит на него. Княгиня отвернулась, Роза тихо плачет. – Ты молодец, Понтис! – говорит доктор. – Ты выздоровеешь и будешь награжден! – Сейчас же! – произносит звучный голос, заставляющий всех обернуться. Доктор кланяется, Буффарик выпрямляется, раненый, приподнимаясь, отдает честь и бормочет: – Генерал… Ваше превосходительство! Это Боске, черный от порохового дыма, прибежал неожиданно сюда, где страдают и умирают. – Доктор, – говорит он, – я исполню ваше обещание! Он вынимает из кармана медаль и передает ее раненому, который рыдает, как дитя. – Зуав Понтис. – продолжает Боске. – именем императора я награждаю тебя этой медалью в награду за твою храбрость! – Благодарю… благодарю! – шепчет раненый и, собрав все силы, кричит: – Да здравствует Боске! Да здравствует отец солдат! Боске замечает даму в черном и почтительно кланяется ей. Со всех сторон к нему тянутся руки, раненые приветствуют его, умирающие собирают последние силы и приподнимаются. Он обходит этот уголок ада, старается утешить, ободрить, приласкать несчастных… Но Боске, наконец, уходит, и доктор снова принимается за дело. Дама в черном лежит подле него на носилках, поддерживаемая Розой. – Я к вашим услугам, сударыня! – говорит доктор. – Пожалуйста! Доктор быстро разрезает ножницами рукав и верх лифа. Кость руки раздроблена у плеча, рана почернела и загноилась. Доктор качает головой и молчит. – Это серьезно, доктор? – Конечно, очень серьезно… я боюсь… – Пожалуйста, смотрите на меня, как на солдата. Я с первого дня находилась под огнем и готова пожертвовать жизнью! – Нужна ампутация, сударыня! – Ни за что! – И не только ампутация, но и расчленение плеча! – А если я не хочу этого? – У вас девяносто девять шансов против одного, что вы умрете! – Я попытаюсь… Лучше смерть, чем увечье!
– Как вам угодно, сударыня! Я всегда к вашим услугам! – Благодарю вас! – Видите ли… необходимо, чтобы около вас был верный, надежный, любящий человек, который ухаживал бы за вами и днем и ночью! Тогда… возможно, что вы поправитесь! – Я буду ухаживать… я! – говорит Роза с трогательной простотой. – Милое дитя! – шепчет растроганный Буффарик. Крупные слезы катятся по щекам княгини. Здоровой рукой она крепко обнимает девушку и бормочет: – Роза! Дорогое дитя! Вы – ангел доброты, грации и самоотверженности! Затем, посмотрев на доктора, Буффарика, Понтиса и всех раненых, княгиня добавляет: – О, французы, французы! Неужели вы победите нас величием души?!
ГЛАВА IV
Почетный пленник. – Лев в клетке. – Сорви-голова не хочет дать слона.– Русские отказываются обменять его на полковника. – Недавняя, но прочная дружба. – Боске в немилости. – Поражение французов. – Боске снова делается командиром.У русских захват в плен Сорви-головы производит сенсацию. Его слишком хорошо знают в осажденном городе. Плен Сорви-головы – это действительно победа, потому что он душа адского патруля и превосходит других энергией, хитростью, выносливостью и безумной смелостью. Лишенный начальника, адский патруль не опасен. Прощай эти дерзкие выходки, безрассудные атаки! Прощай ночные вылазки, слишком опасные для неприятеля! В Севастополе начинают дышать свободнее: теперь Сорви-голова не будет мучить аванпосты. Русские выказывают пленнику большое уважение. Он – герой дня. Адмирал Нахимов поздравляет его, Тотлебен пожимает руку, генерал Остен-Сакен приглашает обедать. Новый приятель Сорви-головы, майор, осыпает его любезностями. Часовые отдают ему честь. Все это прекрасно, но Сорви-голова не из тех людей, которых опьяняет слава. Солдату в душе, человеку долга, ему тяжело сидеть в клетке, хотя бы она была вызолочена. Он жаждет свободы, жаждет полной свободы и возможности снова начать свою жизнь, биться днем. ночью, рисковать жизнью и заслужить обещанные эполеты. Зная репутацию Сорви-головы, генерал Остен-Сакен сказал ему в первый же день: – Дорогой товарищ! Я хочу оставить вас здесь. Лучшей гарантией для меня будет ваше слово. Если вы дадите слово непытаться бежать, вы будете совершенно свободны! – Очень благодарен вам, генерал, но я умер бы, если бы мне пришлось отказаться от своего долга и обязанностей! – Вы отказываетесь дать слово? – Генерал… слово – вещь священная! Не могу… нет, я не могу дать вам слова! – Тогда, вместо почетной свободы, я буду вынужден запереть вас в каземат! – Что же делать, генерал! – Вы будете находиться день и ночь под строгим караулом, который убьет вас при первой попытке бежать! – Конечно! – Малейшее насилие с вашей стороны – и вас ожидает смерть, без милости и пощады. И вы все-таки отказываетесь дать слово? – Да, генерал. Простите мою неблагодарность. Я говорю вам откровенно, что попытаюсь бежать при первой возможности… если бы даже часовым удалось убить меня! – Вы смелый и достойный солдат! Мне очень жаль, что я должен принять строгие меры… На вашем месте я поступил бы так же! – Генерал, быть может, есть возможность уладить дела? – Каким образом? Пожалуйста! – Генерал Боске очень добр ко мне, позвольте мне написать ему! – Сейчас же садитесь и пишите. Сорви-голова написал: « Генерал! Я обещал вам водрузить французское знамя на Малаховом кургане. Но я – пленник! Конечно, я убегу, но это будет и трудная, и долгая вещь. Смею надеяться, смею думать и просить Вас предложить Его превосходительству графу Остен-Сакену обменять меня на русского пленника. Умоляю вас, генерал, позвольте мне вернуться в полк и сдержать свое обещание. Примите, генерал, выражение моего высочайшего почтения и уважения к Вам. Ваш солдат Сорви-голова». Написав письмо, Сорви-голова протянул письмо генералу. Остен-Сакен, не взглянув на письмо, запечатал его и позвал дежурного офицера. – Передайте парламентеру и принесите ответ! Боске получил письмо и передал его генералу Пелиссье. Пелиссье высоко ценил заслуги Сорви-головы и сейчас же написал Остен-Сакену: « Главнокомандующий французскою армией имеет честь предложить Его превосходительству коменданту Севастополя обменять французского сержанта Сорви-голову на русского полковника Хераскина. Пелиссье». Остен-Сакен ответил: «Комендант Севастополя имеет честь отклонить предложение главнокомандующего французской армией. К великому сожалению, он отказывается обменять французского сержанта Сорви-голову на полковника русской армии. Остен-Сакен». – Вот письмо вашего генерала, – сказал он зуаву, с нервным напряжением ожидавшему результата переговоров, – прочитайте! – О, Ваше превосходительство, это слишком лестно… я не стою этого! – Вы думаете? Прочитайте мой ответ. Он покажется вам еще более лестным! – Как, генерал, вы отказываетесь… меня, простого солдата… на полковника?! – Милый товарищ! Вы из тех солдат, которые могут быть генералами! Нет, вы останетесь у меня! Через час Сорви-голова был заперт в каземате позади бастиона Мачты. Один, в темной конуре, с часовыми для охраны. Полная темнота, сырость, тяжелый, спертый воздух, непрестанный гром пушек вокруг – жизнь бедного Сорви-головы была не веселая. Каждый день массивная дверь каземата с шумом отворяется. Добрый майор приходит посидеть с пленником часок. Это новое выражение симпатии Остен-Сакена, дозволившего эти свидания по просьбе майора. Русский офицер и французский сержант болтают, как старые друзья. Майору сорок лет. Это – гигант, с красивыми чертами лица, с огненным взглядом и звучным голосом. Он прекрасно говорит по-французски, и, слушая его, Сорви-голова часто думает: – Мне знаком этот голос! Что-то странное есть в нем, особенное, что волнует меня! Этот голос похож на голос моего отца! Офицер рассказывает ему новости, говорит о Франции, которой не знает, но которую любит. Сорви-голова описывает ему военную жизнь в Африке, борьбу с арабами, засады и разные приключения своей разнообразной жизни. Эти беседы продолжаются около десяти дней. Их прерывает только бомбардировка. Ночью с 17 на 18 июня все орудия союзной армии гремят безостановочно. Снаряды пушек, мортир обрушиваются на осажденный город. Целый вихрь пуль, гранат, ураган огня, пожирающий доки, склады, дома. Сомнения нет, это – атака. И Сорви-головы там нет! Какой ужас! Успех битвы и победа 7 июня, очевидно, вскружила все французские головы, даже голову Пелиссье, человека положительного и серьезного. Он торопится пожать плоды победы. Взяли один бастион, почему же не взять и Малахов курган? Вперед! Главнокомандующий торопится, потому что имеет на это причины. С некоторых пор у него возникли серьезные разногласия с императором. Он суров, даже груб со своими подчиненными генералами, и те успели наговорить на него императору. Они критикуют его действия, порицают его характер, подрывают его авторитет. Хитрый и ловкий, под своей суровой оболочкой, Пелиссье хочет одним верным ударом вернуть себе милость императора и смутить врагов. Зная суеверие императора, Пелиссье назначает атаку на 18 июня, день битвы при Ватерлоо, желая своим успехом изгладить всякое воспоминание о роковом дне и добавить блестящую страницу в истории Франции. Кроме того, командир императорской гвардии, генерал Рено де С-Жан-д'Анжели, – личный друг императора. Пелиссье дает ему главную роль в атаке, он будет командовать вторым корпусом зуавов – армией Боске. Все это очень легко сделать такому человеку, как Пелиссье, который не боится ничего. Боске получает 16 июня в два часа пополудни приказ передать командование своим полком генералу Рено де С-Жан-д'Анжели и присоединиться к резервному корпусу. Нелепый расчет! Жалкая идея! Новый командир д'Анжели, самый обыкновенный солдат, совсем не знает местности, не знает войска. Солдаты также не знают его. Тогда как Боске, любимец солдат, отлично изучил топографию местности и знает всех своих людей наперечет. Его орлиный взгляд, горячее слово, могучий жест, геройская осанка и легендарная храбрость делают его живым олицетворением своего полка. Одним словом, жестом он умеет воодушевить дивизии, бригады, полки, батальоны и роты! Нет ничего удивительного, что его грубое и несправедливое замещение встречено с гневом и удивлением. Соленый Клюв с новой трубой на спине и с рукой на перевязи, резюмирует общую мысль: – Боске! У нас один Боске! Когда крикнешь: «Да здравствует Боске!» – это идет из сердца, из уст. звучно, красиво! Попробуйте закричать: «Да здравствует Рено де С-Жан-д'Анжели!» Я вас поздравляю! Перед фронтом полка очень будет красиво! Тарабарщина, и не выговоришь! Битва продолжается целые часы. Сорви-голова с тяжелым чувством прислушивается к шуму ожесточенной битвы. Мысль о решительной победе французов заставляет биться его сердце, он надеется на освобождение. Н о когда он вспоминает, что там дерутся без него, что он не может сдержать обещание, хотя находится недалеко от своих, – им овладевает отчаяние. Сорви-голова бегает, как лев в клетке. Голова его горит, в ушах шумит, горло пересохло. У него вырываются крики гнева и ярости. Это продолжается пять часов, пять часов тоски и гнева! Ежеминутно Сорви-голова прислушивается, надеясь услышать победный крик французов… Мало-помалу шум битвы стихает. В городе, на бастионах, на батареях слышны радостные восклицания на незнакомом языке. Колокола громко звонят. Русские, видимо, торжествуют. Значит, французы разбиты? – Несчастье! Эти мужики торжествуют… победили наших стрелков, линейцев, зуавов! Несчастье: русские гонят нас – и с таким генералом, как Боске! – восклицает Сорви-голова и мечется в своей мрачной клетке. Ему неизвестна обида, нанесенная Боске, его замещение. Попытка Пелиссье захватить Малахов курган оказалась преждевременной и закончилась полной неудачей. Битва началась при неблагоприятных условиях. Дивизии слишком рано открыли огонь. Плохо переданное приказание задержало прибытие бригады. Беспорядок, нерешительность, колебание! Вместо того чтобы бросится на приступ массой и ошеломить русских, полки тянутся поодиночке – по приказанию нового начальника, который медлит и не умеет воодушевить людей. Русские успевают ввести резерв и защитить бастион. В восемь часов утра французская армия нaсчитывает двух убитых и четырех раненых генералов и три тысячи пятьсот человек, выбывших из строя… Русские потеряли пять тысяч пятьсот человек. Пелиссье понимает, что новые жертвы не приведут ни к чему, и приказывает отступить. Через два дня Пелиессье отослал назад генерала д'Анжели и снова поручил Боске командование вторым полком зуавов.
ГЛАВА V
Дама в черном в лазарете.-Она оживает. – Бред. – Букет цветов.-Тотлебен тяжело ранен.-Удивительные работы русских. – Мост. – Письмо. – Удар молнии. – Тайна. – Форт Вобан. – Рождественская роза.Против всякого вероятия дама в черном не умерла от своей раны. Благодаря искусству доктора Фельца и самоотверженности Розы она поправляется. Днем и ночью, забывая усталость, сон, лишения, Роза следит за каждым жестом, словом, движением раненой, исполняет ее малейшие желаний, предупреждает ее нужды, успокаивает одним словом ее гнев, возбуждение. Это ангел-хранитель больной! Сначала доктор хотел перевезти княгиню в константинопольский госпиталь, но она упорно отказывалась, потому что ее терзала одна мысль о разлуке с Розой, к которой она глубоко привязалась. – Роза, дорогое дитя! Я предпочитаю умереть здесь, подле вас, чем выздороветь там, вдали… – говорила княгиня. – Сударыня, не говорите о смерти, – отвечала Роза со слезами на глазах, – мне тяжело это слышать… вы поправитесь… я уверена в этом! – Дорогое дитя! Как вы добры! Вы заботитесь обо мне, как о матери! – Я так люблю вас, как будто вы – моя мать… другая мама Буффарик! – А я, Роза… мне кажется, что вы – моя дочь Ольга, которую я потеряла… – Она умерла? – Нет, она не умерла. Пожалуй, лучше было бы, если бы умерла. Я не могу вспоминать без ужаса. Подумайте… ее украли цыгане, отвратительные люди… отребье человечества. – Боже мой! Это ужасно! – Что с ней сталось? Я оплакиваю ее восемнадцать лет! Я разучилась смеяться… Сердце мое разбито. Ах, Роза, я очень несчастна! На что нужны мне богатство, почет, слава, когда я живу без радости, без надежды… Кротко и деликатно Роза прерывала эти мучительные для больной разговоры, старалась развеять ее, находила тысячи пустяков и нежностей, чтобы утешить страдающую мать. Ее нежный, ласковый голос казался больной чудной музыкой. Дама в черном еще в начале болезни была помещена в маленькую комнату, где стояли железная кровать, стол и табурет, на который присаживалась Роза, измученная усталостью. Над кроватью был привешен большой котелок со свежей водой, снабженный каучуковой трубкой, из которой струилась вода. В ту отдаленную эпоху хирурги не имели понятия об антисептических средствах и делали перевязки наудачу. Гангрена, гнилостное воспаление были обыкновенным явлением. Доктор Фельц придерживался того мнения, что рана должна находиться в абсолютной чистоте и для этого должна непрестанно обмываться холодной водой. Эта постоянная струя воды, обмывая рану, уничтожала воспаление, не допускала заражения и производила легкое возбуждение тканей. Наступил тяжелый период болезни. Дама в черном металась в лихорадке. Ужасные видения осаждали ее мозг, и отрывочные несвязные слова вырывались из воспаленных губ. Она звала свою дочь, крича, как раненая львица, или горько плача, как изувеченная птица. Роза, совсем измученная, подходила к ней, обнимала ее, тихо успокаивала, целовала, и бедная страдалица улыбалась ей. – Ольга, родная, мой ангел, любовь моя, – кричала больная, – ты здесь… я узнаю тебя… твои глаза… твои кудри! Ольга, доченька моя! Это я, твоя мать… тебя зовут Розой? Да, Розой! Я полюблю французов… они тебя любили, моя дочь, я обожаю тебя! Потом княгиня на несколько минут приходила в себя, узнавала Розу, которая улыбалась ей сквозь слезы. Жизнь больной висела на волоске. Иногда вокруг пробитой кости появлялась опухоль. Приходил доктор Фельц со своими ужасными инструментами, резал, скоблил и выпускал струю черной крови. Смертельно бледная, дама в черном не испускала ни единого стона, только скрежет зубов да предательские слезы на ресницах выдавали ее страдания. Ее твердость была удивительна. Однажды утром больная видит громадный букет цветов у изголовья. – Роза, дорогая… какой прелестный букет, – восклицает она радостно, – как я благодарна вам! – Это не я, сударыня, – отвечает Роза, – мне некогда было собирать цветы… – Кто же это? – Солдат, который ранил вас, – трубач Бодуан по прозвищу Соленый Клюв… Золотое сердце… храбрец… – Этот зуав действительно молодец! – Он в отчаянии и не знает, как выпросить у вас прощение! – Роза, я хочу его видеть, поблагодарить, пожать ему руку как товарищу! Пока, дитя мое, разделите этот букет на две части и снесите половину моему соседу – ампутированному зуаву! – Понтису, сударыня? – Да. Понтису, которого я изувечила. Ему лучше? – Да, много лучше! – Я очень рада! Позднее… я позабочусь о нем… Я богата и хочу исправить зло, которое причинила! Жизнь упорно боролась со смертью в этом странном пылком существе, полном контрастов. Нежная, вспыльчивая, великодушная, мстительная, она страдала вдвойне – за исчезнувшую дочь и за страдающую родину. Дама в черном поправлялась в этой обители слез, воплей, смерти и грома пушек. Окруженная заботами и любовью, она чувствовала, что ее ненависть и злоба смягчались, что она научилась уважать врагов, беспощадных на поле битвы и великодушных в победе. 18 июня поражение французов доставило ей большую радость, но, уважая нравственную доблесть своих врагов, она ничем не выказала этой радости. Наконец-то новые чувства расцвели в этой до сих пор неумолимой душе. Перенеся тяжелые страдания, общаясь с больными, ранеными, видя вокруг себя любовь к страдающим, самоотверженность, княгиня научилась ценить этих скромных людей. Она поняла обратную сторону славы и раздирающий антагонизм двух слов: «война» и «гуманность». Между тем княгиня теперь беспомощна и не может принять участие в битве, но как истинная патриотка интересуется всем и молится в душе за успех России, хотя война стала ей ненавистной. Из Севастополя приходит известие, что Тотлебен тяжело ранен и отдает последние распоряжения по защите города. Русские еще ожесточеннее бросаются в битву, усиливают огонь, чаще совершают вылазки. Начинает свирепствовать голод. У русских уменьшены рационы питания. «Уничтожение союзниками кладовых на Азовском море вынудило нас пойти на эту крайнюю меру, – гласило постановление, – но еще ранее мельницы не успевали удовлетворять требований военной администрации». Пришлось просить о доставке муки для войск из Екатеринослава, Воронежа. Харькова, Курска. Но дороги были так неудобны, что требовалось более месяца для доставки провианта в телегах из Перекопа в Симферополь. Тогда ценой нечеловеческого труда и огромных затрат была прорыта траншея, соединяющая Симферополь с Севастополем. Но часть провианта часто пропадала в дороге, а то, что достигало назначения, – оказывалось в сильно уменьшенном количестве, так как было съедено людьми во время долгого пути. Русская армия жестоко страдала. Наконец, ужасная холера начала свирепствовать в Севастополе. Англичане, сардинцы и французы бросаются на приступ. Русские решаются бороться до последней крайности. Изнуренные голодом, болезнью, они строят ограду позади Малого редута и Малахова кургана, под сильнейшим огнем устраивают насыпи, казематы, укрепленные стволами деревьев. Окруженные с трех сторон, русские могут отступать только к северу. Но для этого надо пройти с оружием, багажом, артиллерией большой рейд шириною около девятисот шестидесяти метров. Гений Тотлебена помогает выйти из затруднения. Строят мост – легкий, укрепленный на стволах деревьев. На севере он тянется от форта Михаила, на юге примыкает к форту Николая, и, несмотря на бомбы и гранаты, работы продолжаются. Эта нечеловеческая работа сделана в двадцать дней и ночей. Дама в черном знает об этом, как и все находящиеся во французском лагере. Терзаемая страхом и надеждой, она безумно волнуется за свою родину, как вдруг неожиданное событие заставляет ее забыть все, даже тяжелое положение России. В этот день в лагере царит радостное оживление. Солдаты бегают с какими-то бумагами, собираются группами, что-то обсуждают. Генералы, офицеры, солдаты – все выказывают лихорадочное оживление и радость. Прибыл курьер из Франции с письмами и новостями. Награды, повышения, отпуска – все это заставляет биться сердца воинов, жаждущих получить весточку о милых сердцу людях. Сержант первого батальона подает Буффарику большой конверт и говорит: – Бери, письмо тебе… дашь выпить? – Э, голубь, пей сколько хочешь и позавтракай у нас! Ба, да это письмо Розе! Вот будет довольна дорогая малютка! – добавляет Буффарик, читая адрес на конверте. – Ну, прощай, побегу к ней. Ветеран бежит к бараку, где Роза неотлучно находится при больной. Жарко, дверь барака открыта настежь. Он вежливо покашливает и входит. Бледная, с блестящими от лихорадки глазами, раненая сидит на постели в подушках. Справа от нее тетка Буффарик, которая держит кружку, слева Роза, вооруженная ложкой, кормит больную вкусным бульоном, заботливо приготовленным маркитанткой. – Ну, сударыня, еще ложечку! – говорит тетка Буффарик. – Еще капельку бульону… вам это будет очень полезно! Она старается смягчить свой эльзасский акцент и упрашивает больную очень нежно и ласково. Буффарик, растроганный, кланяется так почтительно, как будто перед ним император или генерал Боске. Больная дружески кивает ему. – Здравствуйте, друг сержант! – говорит она ему. – Какие новости? – Ничего особого, сударыня! Письмо из Франции для нашей милой девочки. – О, это от дедушки! – весело восклицает Роза. – От дедушки Стапфера, – добавляет Буффарик. – Старик очень любит нас, а мы его обожаем! Дама в черном вздрагивает. – Стапфер! Эльзасское имя! – Да, сударыня, конечно, эльзасское… Храбрец великой армии, которого Наполеон наградил собственноручно крестом… гигант-кирасир… герой и до сих пор крепкий, как дуб, несмотря на свои семьдесят лег. Простите, сударыня, что надоедаем вам!.. – Вы ошибаетесь, сержант! Все, что касается вас и Розы, интересует меня… Одно слово «Эльзас» волнует меня и пробуждает во мне тяжелые воспоминания. – Простите, сударыня, не будем говорить об этом. Роза читай письмо! Молодая девушка распечатывает конверт и читает: «Форт Вобан. 8 июня 1855 года. Дорогая моя рождественская Роза!» Глухой вопль вырывается из груди больной. – Боже мой! Вы прочли: форт Вобан… близ Страсбурга… – Да, сударыня! – А Роза! Почему рождественская Роза? Боже милостивый! Перед фортом Вобан… есть цветник… там много зимних цветов… этих снежных роз… рождественских роз! – Да, сударыня! Вот уже сорок лет дедушка заботится о них и в Рождество всегда несет большой букет к памятнику генерала Дезекса! Но больная не слышит ее. Бледная, она бьется в нервном припадке, ломает руки. С побледневших губ срываются несвязные слова: – Форт Вобан… Рождественская роза! Господи! Сжалься надо мной! Помоги мне!
ГЛАВА VI
В клетке. – Безумное желание свободы. – Бомба. – Сорвиголова открывает дверь. – Патруль. – Один против восьмерых. – Кровавая стычка.– Брешь. – Спасение ли?Запертый в тесном каземате, Сорви-голова считает дни, часы и минуты. Его щеки впали, глаза горят, как у зверя, губы разучились улыбаться. Он не похож на прежнего Сорви-голову. Измученный, с растрепанными волосами, в грязной одежде – он просто страшен. Убедившись, что бежать невозможно, он желает смерти, колотит в дверь кулаком, ругается, проклинает, рычит. – Черт возьми! Дождик из бомб! И ни одна не хочет разнести проклятый каземат! Ну же, бомба! Сюда! Бум! Нет, не сюда! Милый друг Шампобер! Если бы ваши стрелки целились сюда! Какую бы услугу они оказали мне! Взрывы снарядов раздаются с оглушительным треском. Ядра падают на укрепления, на доски, на стены. Бомбы летят, как дождь, разнося все на своем пути. Словно исполняя желание Сорви-головы, канониры капитана Шампобера меняют направление. Бомбы падают на дорогу и разрывают ее. Одна из бомб падает перед дверью каземата. Часовые разбегаются во все стороны. Сорви-голова хохочет. – Браво, Шампобер! Глухой удар, удушливый дым, столб пламени… Дверь стучит, как барабан. Полы шатаются, гвозди выскакивают. Дверь еще держится, но достаточно одной бомбы, чтобы выбить ее и заодно убить пленника. Сорви-голова замечает в щели луч солнца, и мгновенно к нему возвращается хорошее настроение. Вторая бомба обрушивается на крышу каземата, ломает ее и падает на землю в двух шагах от Сорви-головы. Он погиб! Дверь заперта, выломать ее нельзя. Куда бежать? Фитиль горит и наполняет каземат удушливым дымом. Сейчас будет взрыв. Погиб! Ничто не спасет теперь Сорви-голову! – Ничего не поделать! – говорит он спокойно, выпрямляется и, скрестив руки на груди, стоит перед бомбой. Тише! Фитиль шипит… Проходят секунды, мучительные, тоскливые! Перед умственным взором человека, готовящегося к смерти, проходит вся его жизнь… …Его детство, отец – старый наполеоновский солдат. Мать. Дорогая матушка! Потом полк, знамя… прелестное лицо Розы… И апофеоз, венчающий его мечты: трехцветное знамя на вершине Малахова кургана, и он, Сорви-голова, держит это знамя в руке! Твердый, спокойный, Сорви-голова ждет взрыва, удара… смерти. Вдруг в каземате водворяется мертвая тишина. Дыма нет… ничего. Фитиль погас! Сорви-голова облегченно вздыхает. Все его существо оправляется, расцветает, ощущая прелесть бытия. – Фитиль погас! Это бывает редко, но случается! – восклицает он. – Я обязан этим моему другу капитану Шампоберу. Но может явиться другая бомба и разорвать меня в клочья. Надо бежать! Бежать? Но как? Через отверстие, пробитое бомбой в своде? Нет, ему не достать. Напрасно карабкается он на обломки досок, тянется – все впустую. А время идет. Сорви-голову охватывает гнев, он бросается на дверь и старается вышибить ее. Вдруг ему приходит в голову новая мысль. Зуав наклоняется, хватает снаряд, с трудом поднимает его, отступает на несколько шагов назад, потом, сжав зубы, призывает на помощь всю свою силу и бросает бомбу в дверь. Дверь с треском рушится. Сорви-голова высовывает в брешь голову и замечает отряд солдат. Унтер-офицер видит зуава и делает ему знак войти в каземат. Сорви-голова вылезает совсем и, смеясь, говорит: – Батарея Шампобера совсем близко… Ну, один хороший прыжок! Унтер-офицер багровеет от гнева и бросается со штыком на зуава. Сорви-голова уворачивается, отскакивает и, прежде чем унтер-офицер опомнился, бросается на него, вырывает у него оружие и кричит: – Ты не умеешь владеть штыком, приятель, я тебя поучу… Раз, два, три… нос утри! – Восемь человек солдат скрещивают штыки и окружают зуава. – Долой оружие – или я покончу с вами! – звучно командует Сорви-голова. Ошеломленный унтер-офицер хватает саблю и бросается на зуава. С быстротой молнии штык вонзается в грудь унтер-офицера. С искаженным от боли лицом он шатается и падает без единого стона. Глаза Сорви-головы сверкают, ноздри раздуваются. – Один! – кричит он изменившимся голосом, одним прыжком бросается на солдата и убивает его. Солдат испускает вопль и падает в лужу крови. – Два! – кричит Сорви-голова. Остальные шесть человек пытаются окружить неустрашимого бойца. Зуав наклоняется, прыгает, бросается вперед. в сторону, назад, стараясь укрыться от штыков. Легкие из бронзы, мускулатура атлета и ловкость тигра! Крик отчаяния и боли покрывает шум выстрелов и лязг штыков. Один из солдат тяжело ранен и корчится на земле. – Три! – вопит Сорви-голова. Солдаты, пораженные его смелостью, готовы видеть в нем что-то сверхъестественное. Вдруг один из них вспоминает о ружье, вынимает его и делится. Но Сорви-голова предупреждает его выстрел. Он хватает брошенное раненым солдатом ружье, стреляет и бросается на землю. – Четыре! – говорит он. Его пуля пробила череп солдата. Зуав встает и бросается вперед со штыком наголо. Солдаты окружают его, но один получает сильный удар между плеч, а другой в затылок. Кровь льет ручьем. Два оставшихся солдата стоят неподвижно, потом крестятся, принимая зуава за самого дьявола. Сорви-голова жестом приказывает им бросить оружие. Солдаты повинуются и убегают со всех ног. Сорви-голова – один. Живо! Нельзя бежать в этой форме. С лихорадочной поспешностью он снимает с убитого унтер-офицера шинель и надевает ее. – Теперь саблю, сумку… шапку, – бормочет он, – в путь скорее! Переодевшись, Сорви-голова поднимает ружье и идет размеренным шагом русского солдата. Бомбы и гранаты летят тучей. Но он верит в свою звезду. Что такое жизнь, когда речь идет о свободе?! Навстречу ему – никого. С бьющимся сердцем идет он вперед. Французские укрепления – близко… Проклятье! Появляется отряд русских под командой офицера. Шестьдесят человек с габионами и разными инструментами в руках! Сорви-голова останавливается и отдает честь. Но одна деталь привлекает внимание офицера. Он удивлен, что русский военный носит гетры. Сорви-голова не подумал об этом. Офицер спрашивает его. Он не понимает ни слова, но сознает, что погиб. Бросив ружье, зуав бросается бежать, надеясь на свои ноги. Увы! Столько храбрости, хладнокровия и все это – напрасно! Один из солдат бросает ему в ноги габион. Сорви-голова спотыкается и падает. Двадцать пять человек окружают его. Он встает, сбрасывает шинель и появляется в своей форме перед глазами пораженных солдат. – Сорви-голова! – восклицает молодой офицер. – Да, это я, капитан, – спокойно отвечает зуав, выпрямляясь, – я сдаюсь и знаю, что меня ожидает! – Бедный товарищ! Бегство… насилие, убийство солдат… – Да, знаю, я проиграл игру. Я хотел быть свободным или умереть. Меня расстреляют. Это будет лучше, чем гнить в вашем каземате!
ГЛАВА VII
Часовые и пленник. – Военный суд – Долг. – На смерть. – Взаимная симпатия. – Прости! – Письмо. – Роза. – Последний туалет. – Целься! – Братья.Бедного Сорви-голову повели в другой каземат. Новая тюрьма защищена от бомб и отнимает всякую возможность побега. Походная кровать, стол и три табурета потому что двое часовых находятся при нем неотлучно, им позволено сидеть. Сорви-голова желал бы поболтать с ними стряхнуть с себя тяжелый кошмар, но никто не понимает его. Все трое поглядывают друг на друга добродушно, с нескрываемой симпатией. Желая выразить свое уважение, один из солдат произносит два классических слова: – Добрый француз! – Добрый русский! – отвечает зуав. Другой солдат пытается жестами завязать разговор. Он считает на пальцах до двенадцати и делает вид, что заряжает ружье и целится. – Я понимаю! – говорит Сорви-голова. – Двенадцать человек расстреляют меня! Увидим! Часы идут. Наступает ночь… Сорви-голова бросается на свою кровать и засыпает сном праведника. На заре часовые меняются. Сорви-голова просыпается, зевает, потягивается. – Хороший француз! – говорят солдаты. – Хорошие русские! – отвечает зуав. Солдаты принесли с собой кварту водки, кусок черного хлеба и по-товарищески делят все это с пленником. Сорви-голова пьет водку, с аппетитом ест хлеб и пожимает руки солдатам. В восемь часов раздается звук шагов, и тяжелая дверь отворяется. Зуав замечает за дверью взвод солдат под командой унтер-офицера. Он чувствует легкую дрожь. – Неужели меня расстреляют так вдруг, без суда? – думает он. – Ну, все равно, надо идти! Унтер-офицер делает ему знак идти. Он спокойно и с достоинством идет. Зуава приводят к зданию позади собора, на фронтоне которого развевается русский флаг, вводят в большую залу, в глубине которой сидят члены военного суда. С болезненным чувством Сорви-голова узнает в председателе своего друга майора. Долг – прежде всего. По бледности, покрывающей лицо майора, зуав понимает, как страдает его друг. Сорви-голова отдает военный поклон и стоит, подняв голову, спокойный и твердый. Слегка изменившимся голосом председатель говорит: – Ваши имя, лета и место рождения! – Меня зовут Сорви-голова, сержант второго полка зуавов, мне двадцать три года. Что касается моего настоящего имени, позвольте мне скрыть его. Я знаю, что буду казнен… И вот ради моей семьи, ради чести моего имени я хочу быть расстрелянным под именем Сорви-голова. В полку решат, что я умер в плену. Никто во Франции не узнает, что я был казнен как преступник. – Я ценю и понимаю это! Признаете ли вы себя виновным в том, что напали на шестерых солдат Его Величества и убили их? – Да, господин комендант, но я убил их, защищаясь, лицом к лицу! – Конечно, но это не прощает вас!.. – Я пленник, хотел быть свободным и действовал в полном рассудке! – Солдаты не вызвали вас на это? – Нет, господин комендант… они противились моему бегству, исполняя свой долг! – Вы не сожалеете об этом? – Нет, не сожалею. Идет война, а я солдат – солдат должен драться до последнего вздоха! Наконец, я не давал слова, что откажусь от свободы! – Я знаю это. Ничего не имеете сказать еще в свою защиту? – Ничего! Через десять минут совещание судей окончено. Офицеры входят. Председатель, бледный как смерть, громко произносит: – Сержант Сорви-голова! Мне очень тяжело сообщить вам, что совет единодушно присудил вас к смерти. Регламент не допускает смягчения. Вы будете расстреляны через двадцать четыре часа! Зуав спокойно отдает честь. Офицеры встают и печально уходят. Майор остается с пленником, протягивает ему обе руки и восклицает: – Сорви-голова! Друг мой! Я в отчаянии! Что-то говорит мне, что, посылая вас на смерть, я совершаю преступление, убиваю брата… все мое существо возмущается… сердце болит! Между тем вы – враг, опасный враг… я судил вас по совести, по закону… Будь проклята война! При этих теплых, полных симпатии словах взгляд Сорви-головы смягчился. Его руки энергично отвечают на пожатие майора, и он бормочет: – Я тоже испытываю к вам глубокое, почти братское чувство. Как будто я знал вас раньше… всегда… я чувствую, что между нами есть таинственная связь… Будь проклята война, которая сеет повсюду скорбь и слезы! Оба солдата долго смотрят друг на друга, растроганные, с влажными глазами, неспособные вымолвить слово. – Господин комендант! – говорит Сорви-голова. – Милый Сорви-голова! – Окажите мне последнюю услугу… Завтра в девять часов будьте около меня на месте казни, помогите мне умереть спокойно! Я умру не один, покинутый всеми… – Я обещаю вам это! – Спасибо! Сегодня ночью я напишу последнее письмо другу нашей семьи, чтобы он приготовил моих стариков, отца и мать… Вы найдете это письмо на моем столе… Когда все будет кончено… снимите крест с моей груди… положите его в письмо и отправьте во Францию… Обещайте мне это. – Клянусь вам, Сорви-голова! Ваше желание для меня священно! – Обещайте мне еще, что никто из моего полка не узнает, что я расстрелян! – Обещаю от чистого сердца! – Спасибо, спасибо вам! Оба обмениваются рукопожатием, и осужденного уводят в каземат. Сорви-голова снова надевает на себя маску беспечности. Ему приносят обильный завтрак, который он с аппетитом поедает: сыр, холодная говядина, бутылка вина, кофе, сигары… – Настоящий пир для осужденного на смерть! – думает зуав, давно не видавший такого обилия еды. Он закуривает сигару и ходит взад и вперед по каземату. Ничто не нарушит спокойствия этого последнего дня в его жизни, хотя бомбардировка продолжается. Но к этому так привыкли, что никто не обращает внимания. Наступает ночь. Сорви-голова получает роскошный ужин, бумагу, конверты, сургуч, чернила и перья. В каземате зажжены лампы, светло как днем. Солидно закусив, Сорви-голова задумывается, потом берет бумагу, перо и начинает писать… «Дорогие родители!»… Вдруг перо выпадает из его руки, сердце начинает биться, рука дрожит, и раздирающее рыдание вырывается из груди… Железная энергия его сломлена. Но русские солдаты смотрят на него. Надо скрыть от них всю эту муку, это страдание. Сорви-голова глотает слезы, вздыхает, раскуривает сигару и пишет. Долго пишет он, потом останавливается, перечитывает и подписывается. Затем, забывая о русских, он подносит письмо к губам и целует его. На конверте он пишет: «Г. Мишелю Бургейлю, отставному начальнику эскадрона в Нуартерре. Франция». С минуту Сорви-голова сидит неподвижно. – А Роза? – бормочет он. – Зачем писать ей? Уже шесть недель, как я исчез… Меня, конечно, считают мертвым. Милая Роза! Она уже оплакала меня, не надеясь на мое возвращение. Зачем усиливать ее скорбь? Бедная моя Роза. Прощай навеки! Прекрасные мечты! Смерть все уничтожит! Надо покоряться! Он сидит у стола, поддерживая голову рукой и глубоко задумавшись. Светает. Через решетки каземата проникает луч зари. –Уже день! Я не буду спать эту последнюю ночь. Скоро усну навеки! Сорви-голова замечает, что его форма загрязнена, запылена. Он хочет идти на смерть в полном порядке, как на парад. Знаками зуав просит сторожей принести ему мыло, воду, щетку. Они сейчас же доставляют ему все требуемое. Он моет руки, шею, лицо, чистит все платье и снова становится красивым молодцом-зуавом. Русские с удивлением смотрят на этого солдата, собирающегося идти на смерть, как на праздник. Часы идут, а майора нет. Что могло задержать его? Почему он не исполняет обещания? На колокольне бьет девять часов. Роковой момент наступил. Унтер-офицер входит в каземат и приглашает Сорви-голову следовать за ним. Сорви-голова встает, кладет письмо на стол и идет за унтер-офицером. У двери взвод солдат. Короткая Команда-Солдаты окружают зуава и пускаются в путь. Снаряды падают безостановочно. Для казни выбрали уголок дороги позади третьей линии укреплений. Сорви-голова идет вперед, бросая тоскливые взгляды вокруг. «Майор не идет! – думает он. – Почему? Что с ним случилось?» Через пять минут приходят на место казни. Унтер-офицер объявляет зуаву, что ему не свяжут руки и не завяжут глаза. Это выражение симпатии врага глубоко трогает Сорви-голову. Спокойно, без театральных поз, он встает лицом к солнцу, не надеясь более, ожидая смерти. Раздается короткая команда и теряется в шуме выстрелов и грохоте пушек. Солдаты заряжают ружья и целятся… Сорви-голова стоит спокойный и смелый. – Прощай, отец! Прощай, мать! Прощай, Буффарик, Соленый Клюв, прощайте товарищи, полк, Роза… все, кого я любил! Унтер-офицер открывает рот, чтобы произнести последнюю команду, как вдруг раздается ужасный крик, отчаянный вопль, от которого вздрагивают солдаты и Сорви-голова. Солдаты опускают ружья, сбитые с толку. К ним, задыхаясь, подбегает бледный окровавленный человек огромного роста. Лицо его покрыто кровью, форма порвана. – Стойте! Стойте! Слава Богу… я пришел вовремя! Двумя прыжками он бросается к зуаву, закрывает его своим телом и кричит: – Сорви-голова! Это письмо… Мишель Бургейль… я хочу знать правду… Кто ты, Сорви-голова? – Я вас обманул, – тихо отвечает зуав. – Мишель Бургейль – мой отец, я – Жан Бургейль! – Я знал это… если б я не поспел вовремя! Ты будешь жить… я твой брат! Слышишь, Жан Бургейль, я твой брат!
ГЛАВА VIII
Мучения матери. – 18 лет. – В Эльзасе. – Похищение ребенка. – Цветник. – Нечеловеческая радость. – Мать и дочь. – Воспоминание о Сорви-голове.Между тем в лазарете, окруженная заботами доктора Фельца, дама в черном медленно, каким-то чудом стала поправляться. В тот момент, когда майор с криком «я твой брат!» прикрывает собой и спасает Сорви-голову, дама в черном случайно узнает о существовании цветника перед фортом Вобан. Она сильно взволнована. Конвульсии потрясают все ее тело. Кровь с силой приливает к голове. Несчастная женщина кричит и лепечет несвязные слова. Бегут за доктором. Доктор Фельц делает кровопускание и хлопочет около больной. Наконец все облегченно вздыхают. Княгиня приходит в себя, спазмы утихают, она спасена! Теперь она говорит, говорит без умолку, спокойно, тихо. Доктор скромно удаляется. Роза, ее мать и сержант подходят к больной. – Да, – говорит больная монотонным голосом, – я покинула Россию и приехала во Францию… Быстрое путешествие… мы спешили… отчего? Да, да… мой муж был секретарем русского посольства в Париже, и я ехала к нему… О, как давно это было! Восемнадцать лет, как я оплакиваю мое счастье… свою скучную, безрадостную жизнь! Восемнадцать лет! Это было в 1835 году. – В 1835 году, слышишь, Кэт? – говорит Буффарик, – Слышу, слышу… Бедная женщина! – Две кареты следовали одна за другой, – продолжает больная, – в первой находился багаж и слуги, во второй сидела я с моей дочкой, моей радостью, малюткой Ольгой. Ей было шесть месяцев… я кормила ее сама, обожала и жила только ей. Долго ехали мы, проехали герцогство Баденское, оставалось перебраться через Рейн, и – Франция! Цыгане, негодяи, украли мою дочку! Понимаете, украли! Мою дочь, мою любовь! Я не знаю, как это случилось… Вероятно, пытались захватить наш багаж, деньги… Первая карета проехала благополучно, наша перевернулась на бок… Я думала только об одном – сберечь мою дочку, охранить ее от ушибов… я сжимала ее в объятиях… мою Ольгу! Потом я потеряла сознание и когда очнулась на свое несчастье, ребенка не было со мной… она исчезла… Я звала, кричала, как сумасшедшая… Никто ничего не знал, никто не мог сказать, меня сочли за сумасшедшую! Роза, с глазами, полными слез, слушает печальный рассказ. – Сударыня, не говорите более, – произносит она, наклоняясь к больной, – эти воспоминания тяжелы для вас. Вам будет дурно… – Не бойся, дитя мое, – прерывает ее больная, – я должна говорить, высказать мое горе. Что-то неумолимое заставляет меня рассказывать вам. Мне лучше теперь! Слушайте, добрые, верные друзья мои! Я узнала только одно, что в момент катастрофы около кареты толпились оборванные подозрительные люди. Несомненно, они украли мою дочку и убежали с ней. Гнаться за ними – поздно! Что делать? «Вперед, живее, без остановок!» – кричу я кучеру. Лошади понеслись. Мы приезжаем на берег Рейна. Таможенные чиновники останавливают кареты, хотят осмотреть багаж, чемоданы… Я прихожу в отчаяние, думаю только об одном – отыскать мое дитя! Кричу, подгоняю кучера… Лошади несутся, но таможенники снова останавливают нас, задерживают, рассматривают сундуки и пакеты… Время идет! Я кричу, плачу, проклинаю их! Эти люди безжалостны… Они пропустили негодяев, укравших мою дочь, и остановили меня, чтобы взять с меня деньги. Я бросаю им кошелек, прошу поскорее отпустить меня. Меня обвиняют в сопротивлении, в насилии, в оскорблении, везут в Страсбург и сажают в тюрьму. Боже мой! Мой русский паспорт кажется им подозрительным, они кончают тем, что подозревают меня в шпионстве. Шпионка! Я, княгиня Милонова, подруга царицы, жена известного дипломата! Три дня и три ночи тянулась эта история, пока не выяснилась вся нелепость обвинения. Чиновники явились ко мне с извинениями. За меня вступилось русское посольство. Министр иностранных дел и министр юстиции приказали найти ребенка, и полиция усердно исполняла свой долг. Обыскали города, местечки, деревни, фермы, пока я сама бегала по всем дорогам и звала мою дочь. Дни проходили в тоске и унынии. Один раз у меня мелькнул луч надежды. Лесники напали на след цыган, которые торопились добраться до Бадена, и успели захватить старуху-цыганку. Испугавшись угроз и надеясь на награду, она рассказала многое. Цыгане действительно украли дитя, но, испуганные преследованием и грозящей им тюрьмой, бросили дитя по дороге, положили его перед дверью маленькой крепости, находившейся неподалеку от дороги в Кельн. «Когда это было?» – спрашиваю я. «Сутки тому назад», – отвечает старуха. «Веди меня туда!» Мы идем, спешим. Вот и крепость, называемая форт Вобан. Перед ней целый цветник рождественских роз. «Вот тут положили ребенка!» – говорит цыганка. Я бросаюсь в крепость и встречаю сторожа, старого солдата. «Дочь моя! Где дочь моя? – кричу я. – Вы слышали, видели, должны были видеть… найти ее!.. Отдайте мне мою дочь, ради Бога, и я отдам вам целое состояние!» Сторож не понимает меня! Он ничего не видел… не знает. Никакого следа моей дочери… ничего… Всякая надежда потеряна… дочь моя исчезла, я никогда не увижу ее! Удар слишком жесток… Мозг мой не выдерживает, сердце перестает биться… Я падаю и теряю сознание. Долго боролась я со смертью, много дней и ночей лежала без сознания. Я звала мою дочь… мое потерянное дитя! Смерть не взяла меня, я осталась жить и проклинать Францию, где потеряла свое счастье. С того дня я не переставала оплакивать моего ребенка, не снимала траура! Тяжелое молчание воцаряется по окончании этого трагического рассказа. Тетка Буффарик отчаянно рыдает. Сержант, бывавший во многих битвах, видавший смерть лицом к лицу, плачет как ребенок. Он спрашивает свою жену взглядом. – Говори! Все говори! – отвечает она. – Боже мой! Бедная дама! – Да, сударыня, вы жестоко страдали, – говорит Буффарик. – но вы были неустрашимы в скорби. Будете ли вы сильны перед большой неожиданной радостью? Княгиня вздрагивает всем телом. – Говорите, друг мой, говорите… я не надеюсь более… я так страдала… – Ваши страдания кончаются, сударыня, честное слово солдата! Но не пугайтесь! – Умоляю вас, говорите! – Позвольте мне окончить в нескольких словах историю бедной покинутой малютки! Княгиня делает нетерпеливый жест. – Старая цыганка сказала вам правду, – продолжает сержант, – цыгане положили малютку в цветник и убежали. Была ночь. Бедное создание отчаянно кричало. В это время три человека вышлииз форта Вобан: старик, молодая женщина и молодой человек; последние повенчались только накануне. Он, солдат, должен был присоединиться к своему полку. Жена со своим отцом сопровождали его. Молодая женщина слышит крик ребенка, поднимает его и прижимает к груди: – Покинутое дитя! Маленькое бедное создание! Возьмем его с собой… воспитаем, вырастим! – Я буду ему дедушкой, – добавляет старик, – вы усыновите ребенка? – Откуда вы знаете все это? – прерывает княгиня сержанта. – Минутку терпения! Это покинутое дитя – ваша дочка! – Ну, дальше, говорите же! Умоляю! – Старый солдат был сторожем крепости Вобан и направлялся вместе со своими детьми в отпуск. Вместо него сторожем назначен был другой солдат, прибывший в крепость накануне вечером. Вы спрашивали именно его о ребенке; понятно, он ровно ничего не знал. К довершению несчастья, в ту эпоху не было ни железных дорог, ни телеграфа, ни газет! Никто из нас ничего не знал о вашем несчастье! – Но кто эти честные люди, эти золотые сердца? – Старик, – отвечает сержант Буффарик с влажными от слез глазами – это дед Стапфер! Молодая женщина – это моя жена Кэт, мужчина – я, сержант Буффарик! – А дитя? Где дитя? – спрашивает хриплым нечеловеческим голосом княгиня. – Где моя дочь? – Мы не знаем ее имени, мы назвали ее Розой… в память цветника с розами, где мы ее нашли! Роза – наше приемное дитя… Она – ваша дочь, сударыня! Буффарик рассказывает медленно, действует с таким тактом, что по мере его рассказа княгиня понемногу узнает, что ее дочь жива, что она увидит ее, что ее маленькая Ольга превратилась в прелестную девушку Розу, которая спасла ее от смерти. Таким образом, радость не сразу нахлынула на измученное сердце матери. Что-то безумное на минуту мелькает в глазах княгини, потом слезы текут ручьем и гасят старую скорбь. – Ольга! Дорогой мой ангел! Любовь, жизнь моя! Любимая моя Роза! Моя гордость! Моя радость! Красавица, добрая, великодушная! – лепечет счастливая мать. Молодая девушка стоит на коленях перед постелью. – Вы моя мать! Как я люблю вас… давно, давно… Знаете… в первый раз. когда я увидела вас на Альме, я почувствовала словно удар в сердце! – говорит она нежно, целуя руку княгини. Сержант и его жена, совсем растроганные, тихонько встают и хотят удалиться… – Останьтесь, друзья мои! – говорит княгиня. – Вы никогда не будете лишними, мое счастье лишено эгоизма, я хочу делить его с вами. Роза – моя дочь, но и ваша! – Как вы добры, сударыня! – восклицает тетка Буффарик. – Нам очень тяжело при мысли, что мы можем потерять нашу любимую Розу! – Да, сударыня, – с достоинством отвечает сержант, – мы очень счастливы, видя вашу радость, но мы очень любим Розу… Роза тихо обнимает маркитантку и сержанта и говорит им: – Вы оба останетесь для меня папой и мамой Буффарик! Я всегда буду любить вас всем сердцем! Благодаря вам я нашла свою мать… Не сердитесь, я хочу своей любовью и нежностью вознаградить ее за все страдания! – Ах, Розочка, маленький соловей! – отвечает сержант. – Люби свою мать, люби горячо, она так много страдала! Княгиня нежно улыбается. – Поверьте, я не отниму у вас Розу… Когда кончится эта ужасная война, мы не расстанемся более… Но когда это кончится? Словно в ответ на слова княгини вдали слышится грохот пушек. Пока они упиваются своим счастьем, французы и русские продолжают убивать друг друга. – Когда? – говорит, тяжело вздыхая, княгиня. – Скоро, сударыня, надо надеяться, – отвечает Буффарик, – война унесла много жизней, не считаю нашего Жана, и мы очень беспокоимся о нем. Милый Жан! По нем кое-кто очень скучает, не правда ли, Роза? – Бедный Жан! – вздыхает Роза, краснея. – А, Роза! Ты интересуешься каким-то Жаном? – спрашивает княгиня улыбаясь. – Простите, сударыня, – наивно прерывает ее Буффарик, – наш Жан – простой солдат, первый зуав Франции! Красив, как сказочный принц, силен, как Самсон, храбр, как Боске… вся армия обожает его… – Значит, настоящий герой, – улыбается княгиня. – Ты очень любишь этого солдата, Роза? – Очень! – Как его зовут? – Сорви-голова! – Мой враг! – восклицает княгиня, нахмурив брови. – Но какой великодушный враг, сударыня! Сколько раз рисковали вы погибнуть от его пули! Но он удивлялся вашей храбрости и приказывал щадить вас. – Хорошо, но Сорви-голова – это прозвище, каково же его настоящее имя? – Жан Бургейль, – отвечает Роза. – Бургейль! – восклицает княгиня. – Не родственник ли он старому гвардейскому офицеру из армии великого Наполеона? – Да, сударыня, Жан – сын командира конных гренадер, старого Бургейля! – О Роза, Роза! – восклицает княгиня. – Новая радость! Ты не могла сделать лучшего выбора, как полюбив Жана Бургейля!
ГЛАВА IX
Братья-друзья. – Приключения офицера Великой армии. – Новая семья. – Неумолимый губернатор. – Перед Остен-Сакеном. – Та, которой не ждали. – Двоюродные братья княгини. – Последняя битва.Вернемся в Севастополь. Сорви-голова, суровый солдат, едва может прийти в себя и испускает радостный крик. Как хорошо чувствовать себя живым, спасенным! На одну минуту герой испытывает слабость, сердце его бьется, на глазах слезы… Он жив, и человек, который спас его, неприятель, русский офицер, называет его братом, душит в объятиях! – Жан! Брат мой! Тебя не убьют, не тронут! Нет! – бормочет майор. – Вы – мой брат! Мой спаситель! Но как же? Я сойду с ума от радости! Какое счастье! Мой брат – храбрейший солдат русской армии… благороднейшее сердце! – Жан! Я горжусь еще более. Ты – герой французской армии! Между тем унтер-офицер и солдаты, разиня рот, созерцают эту трогательную сцену, и, не зная, что делать, стоят неподвижно. – Казнь отменяется! – кричит им майор. – У меня приказ. Ступайте! Я отвечаю за пленника! Солдаты мгновенно исчезают. Офицер и сержант, братья-друзья, идут под руку. – Но, брат мой, – говорит Жан, – ваше русское происхождение… ваше имя… – Жан, прежде всего говори мне «ты» как брату. Это моя просьба! – Хорошо, постараюсь! Огромная бомба падает в десяти шагах от братьев и осыпает их ливнем осколков. – К вашим услугам! – кричит Жан, смеясь. – Правда, я должен сознаться, что схожу с ума, вернувшись издалека… ощущая в себе жизнь, обязанный всем моему брату Павлу Михайловичу! Все же тут тайна, и я ничего не понимаю! – Ты скоро поймешь, Жан! В России называют по отчеству… Нашего отца зовут Мишель. Значит, я – Павел Михайлович. Фамилия моя Бургейль! Все это просто и в то же время необыкновенно. Но знаешь, Жан, с первого взгляда ты удивительно походишь на отца. У тебя – его взгляд, его голос, улыбка, его рост и жесты. Постой, мы пришли! Братья останавливаются перед низеньким домиком с разбитыми окнами. – Я живу здесь! – говорит майор. – Пойдем, у нас остается два часа… времени… – Только два часа!? – Ведь если я спас тебя от смерти, Жан, все же ты осужден на смерть! Надо выиграть время, получить помилование… У нас законы беспощадны! – Хорошо! Подождем, – беспечно отвечает Жан, – а пока поболтаем! Расскажи мне, дорогой Поль, каким образом ты – мой спаситель – оказался моим братом? – Это очень печальная история, – отвечает майор, – я дрожу при мысли, что мы могли убить друг друга! Я все расскажу тебе. Слушай! Это было в 1812 году. Россия и Франция воевали. Война была ужасная, ожесточенная, беспощадная. Французская армия победоносно вступила в Москву. Потом пожар Москвы… разрушение… Французы намеревались провести зиму в Москве, и разрушение ее было несчастьем для них, так как они рисковали умереть от голода и холода. Началось отступление, ужасное, гибельное. Зима стояла суровая, и французы гибли тысячами. Наш отец принадлежал тогда к Великой армии Наполеона и был героем войны. Ему только что исполнилось 29 лет. Капитан конных гренадер, он отличался удивительной храбростью и завоевал все чины саблей. Наполеон лично знал его, ценил и уважал, так что капитан Бургейль мог смело рассчитывать на высшие чины. В одной из битв отец находился вместе с маршалом Неем в арьергарде и, несмотря на чудеса храбрости, должен был уступить численности врага. Окруженный казаками Платова, он получил опасный удар копьем в грудь и был оставлен на снегу как мертвый. Его увидели крестьяне и из сострадания, так как он еще дышал, взвалили его на сани и привезли на конюшню. Умирающий ожил. Его поили снегом вместо воды, кормили корками черного хлеба, и он, этот железный человек, вернулся к жизни. Тогда его свезли во Владимир и хотели предоставить относительную свободу, если он даст слово не делать попыток к бегству. Понятно, он отказался, достойный отец милого Сорви-головы! – Это у нас фамильное! – серьезно произносит зуав. – Несмотря на строгую охрану, отец бежал, был схвачен и сослан в Сибирь… – Но вернулся? – Да, каким-то чудом… Я продолжаю. Бегство из Сибири было невозможно, и пленник походил на льва, грызущего свою цепь. Ужасное существование для солдата, триумфально прошедшего всю Европу! Он умирал от голода, холода и отчаяния. Случай свел его с русским княжеским семейством Милоновых, когда-то очень богатым и известным в России. Семья состояла из отца, матери, двух сыновей и двух дочерей. Несчастье сблизило изгнанников, и, в конце концов, капитан Бургейль женился на старшей княжне Милоновой Берте в 1816 году. В 1818-м у них родился сын Павел. Это я! Мы жили тихо и счастливо в своем уединении, вдали от цивилизации, как дикари. Но мой дед, князь Милонов, не мог успокоиться, не мог забыть свой чин, свое состояние и отчаивался, видя, что его сыновья живут, как рабы. Он впал в немилость императора, и хотя при дворе у него были могущественные и богатые друзья, но, по проискам более сильных недоброжелателей, князь все-таки был обвинен в государственной измене вместе с сыновьями, был арестован, осужден и казнен! – Ужасно! – восклицает Сорви-голова. – Это еще не все, – продолжает майор, – наш отец, капитан Бургейль, неповинный ни в чем, был сослан на вечные каторжные работы. Это случилось в 1822 году, и мне было только четыре года. Рассудок бедной матери не выдержал тяжких испытаний, она тронулась умом и умерла шесть месяцев спустя. Я остался сиротой и жил с теткой Ольгой Милоновой. Как мы жили? Ужасно. В пять лет я был пастухом, тетка прислуживала где могла. Мы терпели голод, холод и всякие невзгоды! В 1825 году взошел на престол император Николай 1. Ему сказали о нас. Он заинтересовался нашим делом, простил нас и вернул нам все имущество. Мы вернулись в Россию. Мне было восемь лет. Моя тетка вышла замуж за посланника, и мы зажили богато и открыто. Но я не мог забыть отца и горько оплакивал любимого человека; я задался мыслью найти его. Мой дядя, посланник, делал розыски в Сибири, но безуспешно. Убежал ли он, или погиб? У нас оставалась надежда, что он бежал с рудников и вернулся во Францию. Мы обратились с запросом во Францию, в военное министерство. Ответ был печален. Капитан Бургейль давно исчез и не появлялся, давно вычеркнут из списка армии и легионеров. Всякая надежда исчезла. Я долго оплакивал обожаемого отца и никогда не забуду его! Майор умолкает, хватает за руку Жана и долго смотрит на него. – Суди же, брат мой, о моем ужасе и удивлении, когда увидал на столе, в каземате, твое письмо, адресованное нашему отцу! Тебя хотели казнить… Слава Богу, я поспел вовремя. Теперь, Жан, доскажи мне то, чего я не знаю, говори поскорее… время идет. Я должен увидеть губернатора, получить помилование. Наши законы беспощадны! Говори скорее, милый Жан! Сорви-голова, с покрасневшими глазами, бьющимся сердцем, старался преодолеть свое волнение. – Слушай, Поль! Отец никогда не говорил ни мне, ни матери о России, хотя любил рассказывать про свои походы с Наполеоном. Стоило произнести слово «Россия», и он умолкал. Мы понимали, что ему тяжело и больно говорить об этом, и никогда не намекали даже на кампанию 1812 года. Никогда мы не слыхали ни слона о Сибири, знали только, что он вынес там ужасные мучения и что побег его был ужаснейшей драмой. Он вернулся во Францию неузнаваемым, совершенно не похожим на блестящего офицера из гвардии Наполеона. Это было в 1825 г., и отцу исполнилось 42 года. Реставрация отнеслась очень сурово к старому наполеоновскому солдату, и капитан Бургейль дошел до крайней нищеты. Он решился бороться с судьбой и поступил в качестве слуги на ферму одного землевладельца, бывшего квартирмейстера его эскадрона. Огромного роста, бодрый, кроткий и веселый, он понравился своему хозяину, который не мог узнать в работнике своего командира и спасителя, так как отец спас ему жизнь при Фридланде. Пикар, так звали землевладельца, по окончании жатвы сказал отцу: – Здесь, на десять лье кругом не найдешь такого работника, как ты. Оставайся у меня и проси, чего хочешь! – Я хочу немногого, – отвечал отец, – сто экю в год! – Согласен! Мне нужно твое имя – для формы, понимаешь? – Мишель Бургейль, солдат из армии Наполеона! – Ах, командир! Я не узнал вас. Я обязан вам жизнью! Оба радостно обнялись. – Здесь все ваше, – сказал Пикар, – берите, распоряжайтесь! – Мне достаточно твоей дружбы, Пикар, и местечка у очага! С тех пор они не расставались, и отец женился на красивой дочери Пикара. Началась революция 1830 года. Правительство Луи-Филиппа, желая загладить несправедливость реставрации, вызвало старых солдат Наполеона и в том числе нашего отца. Ему вернули орден Почетного Легиона и назначили пенсию соответственно его чину. Это было настоящим счастьем для отца, измученного прошлыми невзгодами. Я родился в конце 1831 года. Обожаемый отцом, матерью и дедом, я с самых ранних лет мечтал быть солдатом. Наоборот, мои родители желали, чтобы я сделался фермером. Странная идея! С моей натурой, с моей кровью – и вдруг фермер! Не правда ли, брат? Восемнадцати лет я поступил в линейный полк, потом перешел в полк зуавов и вот теперь сержант второго полка с орденом Почетного Легиона, стараюсь оправдать свое прозвище – Сорви-голова… Разговор двух братьев был внезапно прерван приходом унтер-офицера с запечатанным конвертом в руках. Русский офицер хмурит брови, вскрывает конверт и читает вполголоса: «Приказ майору Бургейлю отправиться вместе с французским пленником к военному губернатору Севастополя. Подпись – Остен-Сакен». – Вот чего я боялся! – добавляет майор. – Пойдем, брат. Я попытаюсь умолить этого железного человека – выпросить у него для тебя помилование! – Пойдем! – хладнокровно отвечает Сорви-голова. Они идут под ураганом бомб и снарядов. Через десять минут они приходят ко двору губернатора. Граф Остен-Сакен, красивый старик шестидесяти пяти лет, прямой, крепкий, подвижный. Острым взглядом голубых глаз, хитрым лицом, спокойной уверенной осанкой этот человек напоминает скорее дипломата. Он корректно отвечает на поклон майора и Сорви-головы и резко говорит: – Господин майор, вы нарушили военный регламент, помешав казни этого человека. Отдайте вашу шпагу дежурному офицеру и идите в тюрьму! – Слушаю, Ваше превосходительство! – холодно отвечает майор, в то время как Сорви-голова бледнеет, стискивая зубы, чтобы не закричать. – Но, принимая во внимание ваши заслуги и вашу семью, – резко добавляет губернатор, – я желал бы спросить, какими мотивами вы руководились в данном случае? – Ваше превосходительство, в тот момент, когда хотели расстрелять этого храброго француза, я узнал, что он мой брат! – Объяснитесь! – холодно отвечает Остен-Сакен. Дрожащим голосом майор Бургейль рассказывает необычайные события и свою встречу с братом. – А теперь, Ваше превосходительство, – добавляет он тоном горячей мольбы, – умоляю вас именем военных заслуг этого солдата, во имя великодушия, свойственного русскому сердцу, во имя уважения, которое вы питаете к моему брату, наконец, во имя священных уз, соединяющих нас… умоляю вас… вы можете все… вы хозяин Севастополя… задержите казнь, прошу вас… Пока государь простит его! Остен-Сакен встает, выпрямляется и говорит ледяным тоном: – То, что вы просите, невозможно! Сержант Бургейль, ваш брат, умрет! Если бы он был мой сын – слышите ли? мой сын, – он был бы расстрелян! – Ваше превосходительство, немного человечности! – лепечет майор, бледнея. – Государь поручил мне защиту Севастополя, и я буду защищать его до последнего вздоха. Какая тут человечность? – отвечает Остен-Сакен. – У меня четыре тысячи пленников, французов и англичан. Предположим, что все эти четыре тысячи пленников восстанут и проделают то же, что сержант Бургейль, что тогда будет? Нужен пример, чтобы подавить все зачатки возмущения. Повторяю вам: сержант Бургейль, ваш брат, храбрец, которого я уважаю, умрет сейчас! Губернатор произносит эти слова совершенно спокойно, не возвышая голоса. Майор понимает, что все пропало, и с отчаянием смотрит на Сорви-голову. Сорви-голова стоит, спокойно вытянувшись. Губернатор подносит к губам серебряный свисток. Портьера двери поднимается, но, вместо дежурного офицера, появляется женщина в трауре, с рукой на перевязи. Одновременно раздаются три восклицания. – Княгиня! – Кузина! – Дама в черном! Бледная, но улыбающаяся, она подходит к Остен-Сакену и говорит: – Генерал, я все слышала; сержант Бургейль должен жить, его надо освободить сейчас же! – Нет, только государь может простить его, а я не могу! – Я вовсе не прошу простить его! – Чего же вы хотите? – Я предлагаю обмен пленниками. – Это невозможно! – Я предлагаю обменять сержанта Сорви-голову на меня, княгиню Милонову! – Но вы свободны! – Я связана словом и пришла освободить Сорви-голову. – Он бунтовщик! Он убил своих часовых! Княгиня подходит к губернатору и говорит ему тихо на ухо: – Если он убил нескольких солдат, так ведь я убила главнокомандующего Сент-Арно! Согласны вы на обмен? – Княгиня… дисциплина… мой долг… – Значит, я должна вернуться в лагерь? Сознаться во всем? Для меня это бесчестие, смерть, вечная разлука с моей дочерью, которую воспитали добрые, великодушные враги… Генерал, ради моих заслуг, прошу, освободите сержанта! – Хорошо, берите его! – отвечает с усилием губернатор. Пока губернатор пишет приказ, зуав подходит к даме в черном и бормочет несколько слов благодарности. – Не благодарите меня, кузен! – говорит княгиня. – Как кузен? Ваш, сударыня? – Да, мой друг, моя мать и мать твоего брата Поля были родные сестры! – Ax, я понимаю все! – восклицает молодой человек, с почтением целуя руку смелой женщины. – Одно слово, генерал! – говорит княгиня губернатору. – Мой кузен Жан свободен. Простите же и кузену Полю его вину! – Ошибка майора из тех, которые легко прощаются! – отвечает с достоинством Остен-Сакен. – Благодарю, генерал, от чистого сердца, – продолжает княгиня. – Жан Бургейль, ты свободен, иди! Снеси Розе, твоей невесте, мой поцелуй. Иди, дорогое дитя, обними брата, поблагодари генерала и возвращайся к своим французам. Исполняй свои обязанности, как мы исполним наши. Бог да поможет нам!
ГЛАВА Х
Сражение при трактире. – Бомбардировки. – Генеральная атака. – Сорви-голова – знаменосец. – Ни башне. – Зуав Малахова Кургана. – Дорого купленная победа.– Брат, ты мой пленник. – Письмо дамы в черном.Севастополь умирает. После годовой героической борьбы защитники готовы сдаться. Это только вопрос нескольких дней. Подкрепление стекается в осажденный город из Архангельска, Финляндии, Перми, Вологды, Казани, Уфы, Астрахани. Со всех концов колоссальной империи стекаются сюда, к Черному морю, резервы, амуниция, оружие, провиант. Севастополь умирает. Арсеналы пусты, запасы истощены. Россия потеряла двести тысяч человек, больше ста тысяч раненых и больных. Защитники Севастополя, от главнокомандующего до простого солдата, понимают, что все потеряно, и готовятся к последней битве. Севастополь будет бороться до последнего вздоха. Русские атакуют французов в устье Черной речки и 16 августа 1855 года проигрывают битву, известную в истории под названием сражения при трактире. Союзники назвали это сражение так, потому что вблизи был расположен трактир, или гостиница. Три французских дивизии расположились на левом берегу Черной речки и заняли Федюхины высоты. У французов восемнадцать тысяч человек и сорок восемь пушек. У сардинского войска – девять тысяч человек и тридцать шесть полевых орудий, всего двадцать семь тысяч человек и восемьдесят четыре орудия. Перед бомбардировкой произошел драматический инцидент – взрыв четвертого бастиона. Взорвано десять тысяч килограммов пороху и пятьсот бомб. Триста человек были ранены и убиты. Доски, стволы деревьев летели на Корабельную, в домах были выбиты стекла. В сорок восемь часов, однако, артиллерия и инженеры уничтожили всякий след катастрофы. Бомбардировка начинается 5 сентября в шесть часов утра. Это что-то ужасное! Все смешивается в оглушающем думе и дыме. Над Севастополем стоит туча, сквозь которую вырываются столбы пламени! Горят корабли на рейде, горят дома. Повсюду смерть, опустошение! 8 сентября, по плану Пелиссье, в полдень французские колонны должны броситься на Малахов курган и взять город. Русские упали духом. У них мало воды, тиф и холера уносят людей. – Севастополь наш! – восклицает Пелиссье. – Но его агония обойдется нам дорого!
x x x
Боске ведет атаку справа. Двадцать тысяч человек атакуют Малахов курган. В двадцати шагах от неприятельского бастиона сгруппировались зуавы. В первом ряду полковник, с саблей наголо, за ним знаменосец. Вокруг знамени пять сержантов, среди которых находится Буффарик… пятый сержант – Сорви-голова! Нечего и говорить, с какой радостью было встречено возвращение Сорви-головы в лагерь! Все, начиная с полковника до последнего барабанщика, были в восторге. Полдень, 8 сентября. Вдруг воцаряется мертвая тишина. Затем звуки барабанов. Трубят на приступ. – Вперед! Французы бегут вперед, бросаются на бастионы, траншеи, габионы. Русские хладнокровно встречают атаку французов ужаснейшей стрельбой. В рядах зуавов проносится дуновение смерти. Знамя в опасности. Буффарик бросается к знамени, но падает в воронку. Остальные четыре сержанта лежат на земле. Сорви-голова, целый и невредимый, хватает знамя. Трубач Соленый Клюв трубит приступ. Сорви-голова бросается вперед, держа в руке знамя, прыгает через камни, получает сильный удар в плечо, обливается кровью и несется вперед. Наконец он видит, что стоит на Малаховом кургане рядом с раненым полковником. – Победа! Победа! – восклицает полковник. – Сорвиголова, ты – офицер! Сорви-голова поднимает знамя, и тысячи людей салютуют ему и кричат: – Знамя! Знамя! Сорви-голова! Да здравствует Сорвиголова! Соленый Клюв трубит сбор к знамени. Гордость сияет в глазах Сорви-головы, когда он стоит на Малаховом кургане со знаменем в руках, как живое олицетворение победы. После затишья снова начинается битва. Бастион взят. Надо удержать его. – Артиллерия, вперед! – командует Боске, появляющийся во всех опасных местах. Две батареи ожидали только сигнала и сейчас же открывают огонь. Битва занимает собой весь фронт Севастополя. Французы, англичане, сардинцы дерутся, как фурии. Русские отступают, позиции взяты! Но какие потери! Боске несется вперед, воодушевляя людей. Русские в последний раз стреляют из всех пушек, из всех мортир и ружей. Боске падает. – Боске убит! Отомстим за него! – раздается яростный крик среди зуавов. Генерала кладут на носилки. Он бледен, почти без дыхания. Кровь ручьем течет из раны. Пуля задела легкое. – Будем надеяться, что рана не смертельна! – говорит врач, останавливая кровь и зондируя рану. Между тем вокруг Малахова кургана продолжается ожесточенная битва. Русские умирают на своем посту. – Сдавайтесь! Сдавайтесь! – кричат им. – Никогда! – отвечает громовой голос, который заставляет Сорви-голову вздрогнуть. – Он, Боже мой, он! – бормочет зуав. – Канониры! Пли! – командует капитан Шампобер. Обе батареи оглушительно гремят. Под ураганом огня башня рушится. Русские укрываются в подземном каземате, их осталось около шестидесяти человек. Кому-то приходит в голову сжечь их. Сейчас же приносят габионы, кладут на обломки и зажигают их. Столбы пламени вырываются из разрушенной башни, раздаются стоны и проклятия. Вдруг маленькая группа людей появляется вблизи. Это – русские, предводимые гигантом с саблей наголо. Он весь окровавлен, в лохмотьях, рука на перевязи. На них направляются двести ружей. Сорви-голова испускает крик и бросается к гиганту. – Поль, брат мой! Товарищи, долой оружие! Брат – ты мой пленник! Малахов курган взят. Майор смотрит на торжествующих французов и говорит: – Хорошие будут похороны! Десять тысяч человек сразу! Брат, дорогой, ты будешь первой жертвой, а я хочу, чтобы ты жил! – Что ты хочешь сказать. Поль? – спрашивает испуганный зуав. – Под Малаховым – мина… электрические проволоки… пароль… Прощай, брат, прощай, Жан! Если я умру, скажи отцу, что я честно исполнил свой долг по отношению к моей родине – России, и его родине – Франции! – Майор падает без чувств. Французы яростно копают землю лопатами, чтобы засыпать огонь, обнаруживают мины и обезвреживают их. Всякая опасность предотвращена. Малахов курган окончательно взят. Русские готовятся к отступлению. Но, прежде чем отступить, Остен-Сакен, подражая Ростопчину, задумывает сжечь город. В полночь, пока войска готовятся отступить в полном порядке, начинается беспощадное, дикое, ужасное истребление. Редуты, укрепления, бастионы, батареи взлетают на воздух. Дворцы, памятники, дома, казармы, церкви загораются. К грохоту взрывов присоединяется рев пожара. Зарево пожара поднимается над городом, отражаясь в небе. Первыми вступают в город зуавы, со знаменем и музыкой. Сорви-голова идет, гордо держа в руке знамя второго полка. Когда он проходит мимо Пелиссье, главнокомандующий спрашивает: – Отчего знаменосец простой сержант? – Генерал, это – Сорви-голова! – говорит полковник. – Сержант Бургейль, который водрузил наше знамя на Малаховом кургане. Герой Малахова кургана! – Очень хорошо! – отвечает Пелиссье, останавливает полк, спешивается и подходит к побледневшему от волнения зуаву. – Сержант Бургейль! – говорит он холодным надменным голосом. – Именем Его Величества Императора в награду за твои заслуги жалую тебя чином подпоручика! Потом, пожав зуаву руку, добавляет: – Главнокомандующий счастлив пожать руку герою Малахова кургана и сдержать обещание, данное сержанту Сорви-голове.ЭПИЛОГ
Прошло восемь месяцев. Война давно окончена, войска вернулись домой. После бесконечных дипломатических переговоров мир подписан. Русские и французы стали друзьями. С обеих сторон масса наград, повышений, крестов, медалей и… слез! В небольшом уютном предместье Нуартерр веселая военная свадьба. Целый цветник мундиров. Полковники, сержанты, капитаны, солдаты, артиллеристы, зуавы… Эполеты, галуны, кресты, медали… Озабоченные и сияющие лица… Пьют, закусывают, кричат. Подпоручик Жан Бургейль, герой Малахова кургана, женится на Розе Пинсон, урожденной княжне Милоновой. Три офицера являются представителями трех маршалов Франции – Пелиссье, Канробера и Боске. Свидетели со стороны Розы: полковник второго полка зуавов и полковник Павел Михайлович Бургейль, совершенно излечившийся от своих ран. Свидетели со стороны жениха: капитан Шампобер, награжденный после войны, и Соленый Клюв, сержант-трубач, гордый своей медалью и честью, оказанной ему старым другом. Сияющий и великолепный Буффарик ведет к алтарю свою приемную дочь, восхитительную в белоснежном подвенечном туалете. Княгиня, мать Розы, пожелала, чтобы в этот день приемный отец Розы Буффарик исполнял обязанности настоящего отца. Сама княгиня, веселая и цветущая, опирается на руку старого Бургейля. Крепкий и прямой, этот герой великой армии с гордой радостью смотрит на своих двух сыновей. Дорого куплено их огромное, полное счастье. Много испытали они горя и забот! Оба они – русский и француз – являются живыми символами России и Франции, вчера враждовавшими между собой, а сегодня – искренне уважающими друг друга союзниками! Прошло полвека. Человек 1903 года имеет полное право задать вопрос: какое дело было Франции, вступит Россия в Константинополь или нет? Россия расположена далеко от Франции, ее интересы не мешают нашим. Ее появление на Средиземном море раздражало бы только Англию, нашего врага. Какое дело Франции? Увы! Такова была политика Наполеона III, имевшая ужасные последствия! В 1854 году Наполеон III победил русских, к великой выгоде Англии, в 1858-м он освободил от австрийского ига Италию, которая скоро объединилась с Австрией против нас. В 1866 году он заключил союз с Германией, которая раздавила нас в 1870-м. Теперь, когда Россия стала нашей союзницей и другом, интересно было бы знать, что сделала бы Франция, если бы русское государство пожелало заполучить себе наследство «Больного человека»? Наверное, поддержала бы Россию. Но зачем же тогда в 1854 – 1855 гг. была война, в которой погибло 400.000 человек?!Луи Буссенар КАПИТАН СОРВИГОЛОВА
Часть первая МОЛОКОСОСЫ
ГЛАВА 1
Смертный приговор. — Бур и его друг. — Просьба отсрочить казнь. — Отказ. — Рытье могилы. — Расстрел. — Трагическая сцена. — Жажда мести. — Колючие акации. — Капитан Сорвиголова. — Погоня.Сержант, исполнявший обязанности секретаря военно-полевого суда, поднялся и резким, сухим голосом, отчеканивая каждый слог, начал читать только что нацарапанное на клочке бумаги решение: «Военный суд в составе совета полка единогласно постановил: Давид Поттер, виновный в отравлении двадцати пяти лошадей четвертой артиллерийской батареи, заслуживает смерти. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение немедленно…» С надменным и презрительным видом джентльменов, вынужденных исполнять неприятную и скучную обязанность, пять членов суда в белых касках, с кобурами на поясе сидели на складных стульях, небрежно придерживая коленями сабли. Один из них, молодой капитан, пробурчал: — Бог мой!.. Столько церемоний, чтобы отправить на тот свет какого-то мужика-мошенника — белого дикаря, мятежника, грабителя и убийцу! Председатель суда, красивый мужчина в форме полковника Гордонского полка шотландских горцев, остановив его легким движением руки, обратился к осужденному: — Что скажете в свое оправдание, Давид Поттер? Бур[1], который был на голову выше конвоиров-артиллеристов, стоявших по обе стороны от него с шашками наголо, лишь презрительно пожал плечами, отвернулся и через тройное оцепление из солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками, устремил ясный взгляд туда, где стояли возле фермы его неутешные родные и друзья. Молодая женщина рыдала, ломая в отчаянии руки, душераздирающе кричали дети, несчастные родители осужденного грозили завоевателям немощными кулаками. Сквозь причудливую листву акаций и гигантских мимоз пробивались яркие лучи солнца и, словно высвечивая картину великой скорби, светлыми зайчиками играли на лугу, уходившем зелеными волнами в недоступную для глаза даль. Здесь он жил, любил, страдал и сражался с врагами. На какой-то миг взор бура затуманился слезой умиления, но ее тотчас же осушил гнев. — Вы осудили меня за то, что я боролся за независимость своей родины… Что же, раз вы так сильны — убейте меня! — выпрямившись, сжав кулаки, ответил он хриплым голосом полковнику. — Мы судьи, а не убийцы! — возмутился председатель. — Вы же, буры, действуете бесчестно, недостойно цивилизованных людей. Но у войны свои законы, по которым, кстати, мы и судим вас. — А по-вашему, это честно, когда десять, а то и двадцать человек нападают на одного? — вскричал бюргер[2]. — Мы сражаемся с поднятым забралом и не считаем преступником того, кто в открытую идет на нас с оружием в руках. Но прибегать к яду — подло! — заявил полковник. — Сегодня вы травите лошадей, а завтра и до людей доберетесь. Так что суровый приговор — справедливое возмездие за ваше деяние. Бур, не дав запутать себя, возразил: — Как патриот, я вправе уничтожить все, что может быть обращено против моей родины: людей, скот, военное снаряжение. И вам не втолковать мне, почему стрелять в людей дозволено, а лошадей травить нельзя. — К чему говорить с этим мужланом! — процедил тот же капитан, хотя и был сбит с толку незамысловатой логикой крестьянина. — Слушание дела закончено! — прервал затянувшийся спор председатель. — Давид Поттер, готовьтесь к смерти! — Уже готов! И скажу: будь я помилован, взялся бы за прежнее. Но за меня отомстят — и жестоко! Смерти же не страшусь: такие, как я, кровью своей приближают освобождение отчизны! Эти произнесенные во всеуслышание слова нашли живой отклик в сердцах толпившихся возле фермы людей. Сержант, крякнув неодобрительно, возобновил чтение: «Могилу роет сам осужденный. Казнь осуществляется командой из двенадцати человек. Ружья заряжает сержант: шесть — боевыми патронами, остальные — холостыми». В ответ на столь странное решение бур разразился леденящим душу смехом: — Ха-ха-ха!.. Я слышал об этом трюке, но, признаюсь, не верил! Боитесь, как бы солдатам не отомстили за расстрел? Надеетесь обезопасить их такой уловкой? В одном вы правы: если сам солдат не знает, какими патронами стреляет, то другие и подавно не догадываются. Но только к чему, глупцы, этакая хитрость? Солдатам и так ничто не грозит: мстить за меня будут не им, подневольным соучастникам преступления, а вам, устроителям гнусного судилища, приговоренным мною, стоящим одной ногой в могиле, к смерти — и нелегкой! От заслуженной кары не спасут никого ни собственная физическая сила или ловкость, ни двухсоттысячная английская армия. Председатель встал. — Мы судим по праву и совести, и не нам бояться угроз, — бесстрастно произнес он. — Закон не дозволяет осужденному общаться с кем бы то ни было перед казнью, однако из чувства человеколюбия я вам разрешаю все же проститься с близкими. Сквозь разомкнувшуюся тройную цепь солдат втиснулись родные и друзья бура — человек тридцать. Жена Давида, не в силах вымолвить ни слова, исступленно сжала в объятиях любимого, верного спутника жизни. Рядом с ней был красивый юноша, привлекший внимание англичан изящно скроенным охотничьим костюмом, резко отличавшимся от скромной одежды буров. — Давид!.. Дорогой!.. Вот как довелось нам встретиться! — воскликнул молодой человек. Лицо приговоренного озарила грустная улыбка: — Вы ли это, мой мальчик?.. Как я рад!.. Сами понимаете, это конец. Не дождаться мне великого дня, когда моя родина вновь обретет свободу! — Рано отчаиваться!.. Попробую переговорить с ними, — произнес юноша. Он подошел к собравшимся было уйти членам полевого суда и, сняв шляпу, что, однако, не нанесло ущерба его чувству собственного достоинства, обратился к председателю: — Прошу вас, милорд, отсрочить казнь… Сжальтесь над этой несчастной женщиной, над детьми, над самим осужденным, действиями которого руководило лишь благородное чувство патриотизма. Вы — сыны выдающейся могущественной нации, так будьте же великодушны! — Мне очень жаль, — ответил полковник, отдавая честь затянутой в перчатку рукой, — но это — не в моих силах. — Речь-то идет лишь о нескольких днях! Обождите только неделю — и я берусь выхлопотать для несчастного помилование. — Не могу, молодой человек. Приговор вынесен именем закона, а все мы рабы его, начиная от ее величества королевы и кончая последним из наших парней. — Я внесу залог. — Нет. — Десять тысяч франков за каждый день отсрочки. — Нет. — Сто тысяч… За десять дней я даю вам целый миллион! — Миллион? Но кто вы? — Человек, умеющий держать слово! — ответил юноша обычным для него решительным тоном. — Давид Поттер спас меня от смерти, и я готов ради него все отдать до последнего гроша и даже пожертвовать своей жизнью!.. — Такое чувство делает вам честь, — прервал его полковник, — но на войне не до эмоций. А теперь выслушайте меня внимательно. У меня есть сын, примерно вашего возраста, он — офицер в моем полку. На нем сосредоточил я всю свою отцовскую нежность, все честолюбие солдата… Так вот, предположим, что он находится в плену у буров и тоже должен быть расстрелян. И вдруг мне, отцу, предлагают обменять его на Давида Поттера… — И вы?.. — задыхаясь от волнения, спросил юноша. — Не согласился бы! Хоть и обрек бы единственного сына на смерть. Юноша опустил голову под тяжестью этих слов. Он понял: настаивать бесполезно, друга его уже ничто не спасет. Ему открылось подлинное обличье войны — позорящего род людской отвратительного чудовища, во имя которого узаконивается убийство и нагромождаются горы трупов. Вернувшись к буру, окруженному рыдающими родными, он взял его руку в свои и с чувством глубокого сострадания и с болью в голосе воскликнул: — Мой добрый Давид, ничего не вышло!.. Надеяться не на что! — И все же я от всего сердца благодарю вас, мой маленький храбрый француз, за ваше участие! — ответил бюргер. — Бог — свидетель, душа радуется, когда видишь, что за наше дело борются такие люди, как вы! — Неужели я так и не смогу ничего сделать для вас? — прошептал юноша. — Сможете — вместе с женой моей и детьми побыть возле меня до самого конца… Отомстить за меня! Всегда сражаться так же, как… поняли? И ни слова больше… Здесь слишком много ушей. — Обещаю, Давид! Офицеры, расходясь по палаткам, с любопытством поглядывали на юнца, который жонглировал миллионами и говорил уверенно, как взрослый мужчина. На месте казни остались только сержант, два артиллериста, стоявшие в оцеплении пехотинцы и команда, призванная исполнить приговор. По распоряжению сержанта один из солдат отстегнул от пояса саперную лопатку — непременный атрибут английского пехотинца — и подал ее буру. Сержант, указав на землю, пояснил: — Копай!.. Пожав плечами, бур спокойно ответил: — Я не стану этим английским изделием марать своих рук и родную землю, в которой мне покоиться вечно. Принесите-ка славные мои орудия — кирку да лопату, которыми вскопал я когда-то целинную землю, поруганную ныне завоевателями! Когда требование было выполнено, осужденный энергично ухватился за отполированные долгим трением о натруженные ладони рукоятки своих инструментов, коротко звякнувших поблескивавшим на солнце железом. Отложив на время лопату, он двумя длинными шагами замерил на красноватой земле длину могилы и по обеим сторонам ее сделал киркой глубокие заметки. Английские солдаты, ценившие мужество, не смогли скрыть восхищения. Поплевав на ладони, бур крепко сжал рукоятку кирки: — Ну-ка, Давид, повороши в последний разок вскормившую тебя землю! Согнув спину, напрягая руки и шею, на которых, словно веревочные узлы, выступили мускулы, приговоренный мощными ударами стал вгрызаться в землю вельдта[3], и она, проносясь между ног, послушно ложилась позади него. Затем он старательно выровнял лопатой края образовавшейся выемки, придав ей прямоугольную форму могилы. Жена и дети, стоя на коленях под знойными лучами полуденного солнца, тихо плакали. Солдатам, которым предстояло совершить казнь, разрешили присесть, и они, вполголоса переговариваясь, перекусывали не торопясь. Могила между тем становилась все глубже и глубже. Лишь изредка, чтобы тыльной стороной руки отереть струившийся по лицу пот, прерывал великан-бур свою ужасную работу. Взглядывая украдкой на жену и детей, он, невзирая на усталость, начинал копать еще быстрее, спеша покончить со столь мучительным для них зрелищем. Один из солдат, охваченный состраданием, протянул буру флягу, полную виски: — Выпей, приятель, это от чистого сердца. — Виски?.. Нет, спасибо. Подумают еще, что я выпил для храбрости. Но от воды бы не отказался. Так как близким осужденного нельзя было выходить за оцепление, на ферму пришлось сбегать солдату. Давид жадно припал губами к деревянному ковшу свежей воды, солдат же, вернувшись на свое место, принялся рассуждать: — Вода!.. Разве это христианский напиток, да еще перед тем, как навсегда забыть вкус виски? Если бы мне предстояло вот-вот сыграть в ящик, уж я бы не постеснялся осушить фляги всего взвода. Это так же верно, как и то, что зовут меня Томми Аткинс! Солнце безжалостно клонилось к западу. Все глуше звучали удары кирки в зияющей яме, поглотившей бура уже по самые плечи. Жена его, с ужасом сознавая приближение роковой минуты, не отрывала глаз от двух огромных бугров, нараставших по обе стороны могилы. Послышалось щелканье затворов: сержант, достав из патронташа двенадцать патронов и из шести вырвав пули, заряжал ружья. Затем, уложив винтовки на землю, подошел к буру, все еще рывшему яму: — Давид Поттер, пора! Тот, прервав работу, поднял голову и спокойно ответил: — Я готов. Уложив рукоятку кирки поперек ямы, он ухватился за нее и, подтянувшись, перемахнул через земляную кучу. Стоя в косых лучах солнца, огромного роста, в перепачканной красноватой почвой одежде бур являл собою поистине трагически величественный образ. Жена и дети бросились к нему, но караул по знаку сержанта оттеснил их. Двенадцать солдат, разобрав наугад ружья, выстроились в ряд шагах в пятнадцати от приговоренного, вставшего спиной к могиле. К осужденному подошел сержант — завязать ему глаза и помочь опуститься на колени. Но бур энергично запротестовал: — Единственная моя просьба к англичанам — позволить мне умереть стоя, глядя на Божье солнце, и самому скомандовать: огонь! — Я не могу отказать в этом столь мужественному человеку, как вы, — ответил сержант, отдав честь. — Спасибо! Мертвая тишинаповисла над лагерем. Смолкли рыдания и стоны. Жгучая мука охватила сердца родных и друзей несчастного смертника. Отрывистая команда, бряцание металла — и двенадцать стволов вытянулись ровной сверкающей линией, нацеленной на бура. Осужденный, с обнаженной головой и открытой грудью, глубоко вздохнул. — Прощайте, жена, дети, друзья! — воскликнул он. — Прощай все, что я любил! Да здравствует независимость Родины!.. Солдаты: огонь! Грянули двенадцать выстрелов, отозвавшихся в окрестности глухим эхом. Бур пошатнулся и рухнул навзничь на земляной бугор. Смерть была мгновенной. Из груди, пробитой шестью пулями, хлестала кровь. Из уст жены вырвался крик отчаяния, заголосили дети. Солдаты взяли на караул, сделали полуоборот и двинулись в лагерь. Оцепление сняли, доступ к могиле открыли. Тяжело опустившись на колени, жена благоговейно закрыла покойнику глаза и, омочив пальцы в крови, ярко алевшей на разодранной одежде мужа, осенила себя крестом. — Сделайте, как я, — сказала она детям. — И помните всегда, отец ваш — убитый англичанами герой, и кровь его вопиет об отмщении! Дети последовали ее примеру. Старший сын, рослый четырнадцатилетний мальчик, взял за руку плакавшего француза. — Ты возьмешь меня с собой, правда? — спросил он решительно. — Да, — ответил тот. — У меня найдутся для тебя и пони и винтовка. — Иди с ним, дитя мое! — благословила сына бедная женщина. — Как и подобает мужчине, борись за независимость своей страны и отомсти за смерть отца! Из дома принесли широкую простыню вместо савана и веревку, чтобы опустить останки в могилу. Но тут прибежал запыхавшийся подросток, коренастый и юркий, как белка. Увидев молодого француза, он подскочил к нему и взволнованно прошептал: — Нас предали!.. Беги!.. Англичане знают, что ты здесь, у них на передовой… Торопись же! Лошади рядом! — Спасибо, Фанфан, иду, — сказал француз и обратился к юному буру: — Обними свою мать, Поль, и следуй за мной. Фанфан уже исчез. Поль с французом последовали за ним. Фанфан направился к колючим акациям, метко прозванным в тех местах «не спеши». Там, покусывая листву, переминались с ноги на ногу два сильных пони, снаряженных по-боевому — с винтовками у седел и с туго набитыми переметными сумками. Ловко вскочив на одного из них, француз крикнул Полю: — Подсаживайся к Фанфану!.. Дело будет жаркое. С аванпостов[4] прозвучали одиночные выстрелы — сигнал тревоги, и, как только пони рванули бешеным галопом, над головами беглецов зажужжали пули. Возле дома Давида Поттера поднялась суматоха. — Окружить дом! Никого не выпускать! — крикнул примчавшийся на взмыленном коне полковой адъютант. — Где сержант? — Здесь, господин лейтенант! — ответил тот. — Вы не приметили юношу, вернее — мальчика, в охотничьем костюме? — Так точно, господин лейтенант, приметил! — Где он? — Думаю, на ферме. — Немедленно схватить и доставить в штаб полка живым или мертвым! — Живым или мертвым!.. Да ведь он — безобидный ребенок! — Круглый идиот!.. Ваш ребенок — сущий дьявол, один стоит целого полка! Это же сам капитан Сорвиголова, командир разведчиков!.. Всем кавалеристам, которыми располагаете вы, — в седло! В мгновение ока были взнузданы и оседланы тридцать коней, и бешеная погоня началась.
ГЛАВА 2
Гон. — Человек в роли дичи. — Самозащита. — Подвиги капитана Сорвиголовы. — Бесстрашные юнцы. — Инстинкт лошадей. — Попытка окружения. — Ранение Фанфана. — Отчаянное бегство. — Гибель пони. — Смертельная опасность. — Меж двух огней.Англичане, эти страстные любители спорта, весьма изобретательны, когда дело касается неистовых скачек. Например, если нет лисицы для травли собаками, довольствуются комками бумаги, разбрасываемыми егерем в разных местах. Такое подобие охоты вполне удовлетворяет спортсмена: испытывая опьянение, хорошо знакомое каждому искусному наезднику, он перелетает на коне через самые неожиданные препятствия и с задором добывает пусть и бумажные, но все же трофеи! Когда же джентльмену предоставляется возможность принять участие в преследовании человека, которого, как дичь, можно изловить и при желании убить, национальный спортивный дух под воздействием первобытной свирепости, выраженной в формуле — «homo homini lupus est»[5], приобретает особо неистовый характер, и бумажные призы и даже исключительно жестокая лисья охота уже теряют всякий смысл. Наблюдать предсмертную агонию замученного беглеца — это ли не высшее наслаждение для цивилизованных варваров! И если англичане кричат: «Вперед! Вперед!» — то это означает: «Посмотрим, кто придет первым!» Они готовы соперничать и во время охоты на человека! Так что стоило только объявить о погоне за капитаном Сорвиголовой, как тотчас сформировался офицерский конный отряд — из драгун, улан, гусар и иоменов[6], этих бесстрашных охотников, еще более одержимых, чем их братья по оружию из регулярной армии. «Вперед! Вперед!..» Солдатский долг и спортивный азарт, слившись воедино, придавали скачке особую напряженность. «Вперед! Вперед!.. По следу человека!» Отряд то смыкался, то растягивался — в зависимости от темперамента всадников и горячности их коней. Впереди мчался молодой уланский лейтенант на великолепном, породистом жеребце. Удаляясь от соратников, он постепенно настигал беглецов, опередивших преследователей не более чем на шестьсот метров. Бедные парни мчались во весь опор на неказистых с виду, но смелых и умных пони, честно служивших своим хозяевам. Когда луг кончился и пошли высокие травы, у пони, выросших в этих краях, появились преимущества. Перейдя на своеобразный аллюр, они, почти не снижая скорости, ловко пробирались сквозь заросли. На голой равнине мальчишек догнали бы минут за десять, здесь же, в саванне[7], между ними и англичанами сохранялось прежнее расстояние. Только уланский лейтенант да еще трое всадников медленно, но неуклонно приближались к преследуемым. Пони молодого француза, которого англичане назвали капитаном Сорвиголовой, не обнаруживал ни малейших признаков усталости, зато удила скакуна, на котором неслись Фанфан с Полем, покрылись обильной пеной. — Фанфан! — крикнул Сорвиголова. — Ты не на деревянной лошадке, а на коне! Так отдай же поводья и положись на него! — Ладно, хозяин! — ответил Фанфан и, ласково потрепав по шее пони, сказал ему: — Придется тебе, Коко, думать за нас обоих. Впрочем, для тебя это не так уж и трудно. Сорвиголова обернулся и, увидев вырвавшихся вперед англичан, поспешно взял в руку винтовку. — Внимание! — вполголоса обратился он к спутникам и свистнул. Оба пони замерли на месте. Проворно соскочив с коня, юноша пристроил на седле ружейный ствол и, прицелившись в уланского офицера, мягко спустил курок. Раздался сухой выстрел. Сорвиголова стоял не шелохнувшись, с широко раскрытыми глазами, словно желая проследить полет пули. Офицер выпустил поводья и, взмахнув руками, запрокинулся на круп жеребца. Когда же лошадь шарахнулась в сторону, он, мертвый или тяжело раненный, свалился наземь. Лишившись седока, обезумевший от испуга конь, подстегиваемый бившимися о бока стременами, понесся куда глаза глядят. — Спасибо, Сорвиголова! Может, это один из тех, кто убил моего отца! — воскликнул Поль Поттер. Послышался второй выстрел. Это Фанфан решил последовать примеру своего командира, — без малейшего, впрочем, успеха. — Эх, чистый проигрыш! — раздосадованно проворчал подросток. Трое всадников, скакавших за лейтенантом, остановились, чтобы оказать ему помощь. Бах!.. Фью-ю-ю-ю-ю!.. — запела, разрывая воздух, пуля. То снова выстрелил Сорвиголова. Одна из лошадей под англичанами поднялась на дыбы и, пройдя несколько шагов на задних ногах, подобно геральдическому льву, грохнулась, подмяв под себя всадника. — Второй туда же! — с дикой радостью завопил маленький бур. Бах!.. — с прежним азартом и с тем же успехом разрядил свое ружье Фанфан. — Ты стреляешь как сапожник! — возмутился Сорвиголова. — Передай винтовку Полю. — Давай, давай! — обрадовался тот. — Посмотришь, как я стреляю. С деловитостью старого солдата мальчик, щелкнув затвором, загнал патрон в казенную часть[8], спокойно навел ружье на одного из двух оставшихся в живых англичан и выстрелил в тот самый миг, когда они собирались возобновить преследование. — Ух, здорово! — воскликнул Фанфан, радуясь меткости маленького бура. — Ну, Поль, четвертый — на нас двоих! — крикнул Сорвиголова. — Тебе — человек, мне — конь. Два выстрела слились в один. Всадник и конь, сраженные на полном скаку двумя не знавшими промаха стрелками, упали на траву. — Ты будешь отомщен, бедный мой отец, и отомщен как надо! — воскликнул бледный от гнева мальчик. Кровавая расправа над англичанами, столь долго описываемая в повести, длилась какие-то полминуты. Пора было удирать. Конный отряд примчался к месту гибели четырех офицеров, и, уже садясь на пони, Сорвиголова заметил, что англичане целятся в них. Пронзительно свистнув, он крикнул: — Ложись! Прекрасно выдрессированные животные тотчас повалились на землю — одновременно со своими хозяевами. Над беглецами пронесся град пуль. Фанфан вскрикнул от боли. — Что с тобой? — встревожился Сорвиголова. — Угостили… Нужно же было такому случиться! — Гром и молния!.. Бедняжка! — воскликнул капитан. — Покажи! — В левую ходулю угодили, — пытался отшутиться подросток. — Погоди… Поломки, кажется, нет — только голень продырявили, и все. Кровоточит, правда, но ничего, терпеть можно. Обмотаю ее платком и стану таким же петухом, как и раньше. — Дай перевяжу. — Не стоит. Потом… Сейчас есть дела поважнее. Становится жарко. Англичане не ожидали встретить таких опасных противников в каких-то мальчишках, которых думали взять голыми руками. Взбешенные сопротивлением, они решили изменить тактику. Из двадцати четырех оставшихся в живых семеро поскакали направо, семеро — налево, с тем чтобы, описав полукруг, отрезать беглецам путь к отступлению, а десять остальных, рассредоточившись, вели огонь в том направлении, где прижались к земле юнцы. — Теперь уж не до смеха, — сказал Сорвиголова, приподнявшись и осматривая местность. — Они хотят взять нас в кольцо. Поспешим же удрать! Ты можешь двигаться, Фанфан? — Каждый может все, чего захочет, хозяин. Будь покоен! Уж я-то не повисну колодой на ваших ногах. — Мы — в смертельной опасности! — предупредил капитан. — Вся наша жизнь — смертельная опасность, — заметил молодой парижанин. — Не разбив яиц, яичницы не приготовишь. Если бы я дрожал за свою шкуру, то остался бы у себя на родине, на улице Гренета[9]. Покуда Фанфан философствовал, Сорвиголова не терял времени. Установив по карте и компасу, что примерно в двух километрах направо находится большой лес, он перекинул стремена на седла и связал узлом, чтобы пони, когда побегут, не зацепились за кусты. Англичане не заметили этих приготовлений и продолжали лениво постреливать, отложив более энергичные действия до момента, когда беглецы окажутся в окружении. Повесив на плечо винтовку и приказав товарищам следовать за ним, капитан с удивительной быстротой пополз сквозь густую траву высотою в метр, а то и больше. Поль и Фанфан, видно, тоже знакомые с приемом индейцев, который решил применить Сорвиголова, присоединились к нему. И только пони по-прежнему лежали, не шелохнувшись. Англичане, ставшие более осмотрительными, приближались осторожно, мелкой рысью, время от времени переходя даже на шаг. Не обращая на них никакого внимания, капитан двигался к опушке леса. Противник не переставал стрелять наугад, и Сорвиголова, скользя по земле с проворством ящерицы, сказал вполголоса: — Только бы не искалечили они наших лошадок!.. Эх, будь со мной хотя бы дюжина молокососов, ни один из этих хаки[10] не вернулся бы в свой лагерь! — И, обернувшись к Фанфану, спросил: — Как дела, старина? — Потеем, трудимся, — ответил Фанфан. — Не ручаюсь, что мог бы прыгнуть с трамплина, но что касается ходьбы на четвереньках… одной лапой больше, одной меньше — невелика важность. Между тем правая и левая группы англичан сблизились и совместно с третьей, остававшейся на месте, оцепили, как считали они, беглецов. Но те, сменив северное направление на восточное, проползли уже метров четыреста в сторону от первоначального маршрута и находились теперь примерно в полутора километрах от спасительного леса. Будь у них достаточно времени, они, конечно, добрались бы до него, но невероятно трудный способ передвижения истощил силы Фанфана. Ослабленный потерей крови, которая не переставая струилась из раны, еле волоча ноги и чувствуя, что ползти уже невмоготу, он умолял товарищей оставить его. — Ни за что! Или ты вернешься в лагерь вместе с нами, или мы все погибнем здесь! — воскликнул Сорвиголова. — Но подумай! Командующий ждет сведений о противнике, ведь без них наш отряд что без рук, — возразил Фанфан. Пожав плечами, Сорвиголова присел на корточки и, чуть высунув голову из травы, окинул взглядом равнину. Он увидел, что от противника их отделяло не менее пятисот метров. Если бы они и дальше могли продвигаться под прикрытием трав! Но бедный Фанфан!.. Он совсем плох!.. Сорвиголова решил рискнуть. Вложив пальцы в рот, он трижды пронзительно свистнул. И тогда произошло поистине чудо. Бурские лошадки, затаившиеся в траве, стремительно вскочили и понеслись бешеным галопом, раздувая ноздри и ловко проскальзывая, как антилопы, между кустами. Тонкий слух полудиких животных верно уловил направление сигнала, да и чутье, более острое, чем у ищеек, тоже вело их по правильному пути. Растерявшись от неожиданности, англичане сделали вдогонку несколько выстрелов, но, увидев, что пони без седоков, потеряли к ним интерес. Хотя преследователи слышали свист, определить, откуда он доносился, они не смогли. Более того, вначале англичане приняли его за поданный кем-то из них сигнал к сужению кольца, но, съехавшись, выяснили, что беглецов и след простыл. Когда пони примчались к хозяевам, Сорвиголова остановил их легким прищелкиванием языка и в какие-нибудь две секунды развязал стремена. — Давай, Поль! — скомандовал он. — Не заботься обо мне и жми прямо в лес. Подняв Фанфана, капитан усадил его на холку своего пони и, вскочив позади раненого в седло, устремился за буром. Англичане, поняв, что их одурачили, осыпали мчавшихся как ветер беглецов проклятиями и открыли пальбу. Вокруг молокососов засвистели, завыли, зажужжали пули, безжалостно срезая траву под собственный, далекий от благозвучия аккомпанемент. Пока одни из преследователей стреляли, другие возобновили погоню. Впрочем, юнцов она не особенно страшила: еще минут пять — и они укроются в лесу. Но внезапно лошадка Поля отпрянула в сторону и чуть не упала. Из левого бока у нее заструилась кровь. — Твой пони ранен! — крикнул Сорвиголова товарищу. Бур и сам уже почувствовал, что лошадь под ним оседает. Он подбадривал ее голосом и вонзал в бока шпоры, но все напрасно, и тогда Поль принялся покалывать пони ножом. То и дело спотыкаясь, послушное животное преодолело еще метров триста, потом зашаталось и тяжело повалилось на землю. Изо рта и ноздрей его выступила кровь. — Бедный Коко! — всхлипнул Фанфан, обожавший своего коня. А маленький бур, этот ловкий наездник, успел уже соскочить и стоял целый и невредимый. Остановив своего пони, Сорвиголова крикнул Полю: — Прыгай позади меня и держись крепче. Чем мы хуже сыновей Аймона?[11] Уставший пони, несший к тому же трех седоков, уже не мог бежать быстро. И хотя до леса оставалось не более трехсот метров, расстояние между беглецами и англичанами уменьшалось с каждой секундой. Раздался новый залп, и Поль, застонав, скатился в траву. Правда, он тут же вскочил и крикнул, догоняя товарищей: — Ничего страшного, но я теперь без оружия! По счастливой случайности на пути пули, которая должна была угодить подростку между лопаток, оказался ствол ружья, и она, отскочив, расщепила приклад. До леса оставалось полтораста метров! Англичане приближались, улюлюкая, с неистовыми криками «ура». Еще бы! Что за чудесная охота! Маленький бур бежал вслед за пони, но трава теперь была уже не такая высокая. А тут еще конь споткнулся о муравейник, и Сорвиголова с Фанфаном, перелетев через голову пони, шлепнулись оземь шагах в шести от него. Хотя удар был сильным, капитан мгновенно вскочил, но парижанин с улицы Гренета лежал без сознания. — Сдавайтесь!.. Сдавайтесь!.. — орали англичане. — Ни за что! — гаркнул им в тон Сорвиголова, прицеливаясь из винтовки. С изумительным хладнокровием выстрелил он три раза подряд и сшиб с коней трех мчавшихся впереди англичан. Потом передал оружие Полю: — В магазине еще четыре патрона. Задержи их, а я понесу Фанфана. Юный парижанин по-прежнему был без памяти. Капитан поднял его и побежал к лесу. Но когда до опушки оставалось всего несколько шагов, из-за деревьев раздалась резкая команда: — Огонь! В то же мгновение отовсюду загромыхали выстрелы, и Сорвиголове, окруженному дымом и пламенем, показалось, что он угодил прямо в преисподнюю.
ГЛАВА 3
«Ледяной ад». — Решение молодого миллионера. — За буров! — Встреча с Фанфаном. — В путь! — Набор добровольцев. — В заливе Делагоа. — Португальская таможня. — Претория. — Президент Крюгер. — Молокососы.Не так давно «Журнал путешествий» опубликовал под заголовком «Ледяной ад»[12] рассказ о приключениях французов в Клондайке[13], краю богатейших золотых месторождений. Напомним кратко об этой захватывающей драме. Несколько молодых французов, которых преследовала известная своими злодеяниями преступная организация «Красная звезда», отправились искать счастья в упомянутое выше таинственное заполярное Эльдорадо[14]. Не раз оказавшись в смертельной опасности, преодолев неимоверные трудности, они и в самом деле обрели баснословное состояние. Но от банды не скрылись. Тайно прибыв в Клондайк, головорезы узнали, что молодым людям удалось открыть «Золотое море», или «Мать золота» — крупнейшее месторождение драгоценного металла, упорно разыскиваемое всеми старателями, и, понятно, решили завладеть несметным сокровищем, стоимость которого, даже по предварительным подсчетам, превышала, и к тому же значительно, ослепительную цифру в сто миллионов долларов. Главными героями этой остросюжетной истории, где были замешаны и золото и кровь, являлись семь человек: молодой ученый Леон Фортен и его прелестная невеста Марта Грандье, газетный репортер Поль Редон, присоединившийся к ним старый канадец Лестанг, Дюшато и его отважная дочь Жанна и, наконец, брат Марты Жан Грандье. Жану, воспитаннику коллежа Сен-Барб, исполнилось тогда всего пятнадцать лет. Природа одарила мальчика недюжинным умом, физической силой и необыкновенной для подростка выносливостью. Этот школьник, с честью выдержавший все выпавшие на его долю испытания, совершил чудесные, почти легендарные подвиги. Не будем говорить об изумительной способности юного француза переносить пятидесятиградусные морозы, о поразительной ловкости, проявленной им в борьбе с дикими зверями — огромными полярными волками, а скажем лишь, что, тяжело раненный, ослабленный потерей крови и к тому же обмороженный, он собственноручно прикончил пятерых бандитов из «Красной звезды» и освободил свою сестру и Жанну Дюшато, находившихся в плену у этих злодеев. Во Францию Жан вернулся сказочно богатым и одержимым той жаждой приключений, которая не дает покоя всем, кто хоть раз вкусил прелесть полной опасностей жизни. Отдохнув несколько месяцев, юноша заскучал. Его деятельная натура требовала применения своим силам. Но когда он начал было подумывать об организации географической экспедиции в неизведанные еще области, вспыхнула англо-бурская война. Пылкая и благородная душа Жана Грандье мгновенно преисполнилась сочувствием к двум маленьким южноафриканским республикам[15], боровшимся за свою независимость. Его восхищали спокойствие, достоинство и величие старого, патриархального президента — благородного Крюгера[16], в котором он видел живое воплощение добродетелей мужественного бурского народа. Юноша влюбился в буров, нежелавших войны и взявшихся за оружие только ради такого святого дела, как защита отечества. И в то же время он всей душой возненавидел завоевателей, которые развязали войну, обрушив на два крошечных государства всю военную мощь многочисленной и могучей английской нации. Он считал, что сам факт вопиющего неравенства сил — достаточно убедительное свидетельство величайшего преступления, совершаемого против всего человечества. В самом деле, с одной стороны — сильнейшая и богатейшая в мире империя с населением в четыреста миллионов человек, обладающая превосходной армией, флотом, колониями, высокоразвитой промышленностью и огромными финансовыми ресурсами, — в общем — колосс, господствующий на морях и на суше, занимающих чуть ли не треть земного шара! С другой — два крошечных народца, едва насчитывающих четыреста тысяч человек — мирных крестьян, землевладельцев и скотоводов, мечтающих только о том, чтобы жить со всеми в мире и согласии и держаться подальше от неурядиц, сотрясающих людское сообщество. Жан Грандье горячо переживал за буров и возмущался равнодушием цивилизованных народов, даже не пытавшихся воспрепятствовать коварному нападению на южноафриканские республики на следующий же день после завершения работы Международной мирной конференции[17]. И однажды сказал самому себе: «Если крупнейшие державы так эгоистичны и подлы, а эта отвратительная вещь, которую называют политикой, потворствует их эгоизму и подлости, то все честные граждане, люди большого сердца должны откликнуться и действовать, не щадя своей жизни. Я молод, смел, люблю приключения и, к тому же, живу один, а значит, волен в своих поступках. Так почему бы мне, готовому душой и телом служить благородному делу защиты слабых, не вступить добровольцем в трансваальскую армию?» Он поделился своими мыслями с сестрой Мартой и ее мужем, Леоном Фортеном. Те от души поддержали юношу. Да и кто бы смог помешать ему свободно распорядиться своей жизнью и состоянием? После трогательного прощания с Полем Редоном, женившимся к тому времени на Жанне Дюшато, юноша отправился в путь. Жан Грандье уезжал в восемь тридцать утра скорым поездом «Париж — Лион — Средиземное море», следовавшим до Марселя, откуда нашему герою предстояло совершить морское плавание до залива Делагоа, у юго-восточного побережья Африки. Провожали его Марта и Леон. Когда они подкатили к огромному вокзалу, какой-то подросток лет пятнадцати бросился открывать дверцу роскошного экипажа. Но соскочивший с облучка лакей Жана, обиженный непрошеным вмешательством в его дела, грубо отшвырнул мальчика, и тот, растянувшись во весь рост, больно ударился лицом о мостовую. Богатство не ожесточило сердца героев Клондайка. Все трое невольно вскрикнули, а Жан, поспешно выйдя из кареты, подхватил парня под мышки и поставил на ноги: — Не очень больно?.. Все цело?.. Прости, друг, и прими, пожалуйста, небольшое вознаграждение. Подросток, хотя из носу текла кровь и было очень больно, заставил себя улыбнуться. — Вы так добры, но, право, ничего… — пробормотал он. Ни упрека, ни попытки извлечь выгоду из происшествия. От взгляда Жана не ускользнуло, что мальчик обладал приятном внешностью, был опрятно одет и не имел ничего общего с классическим типом открывателя каретных дверей. Гаврош, одним словом, но не уличный хулиган. Порывшись в жилетном кармане, Жан вытащил несколько луидоров[18] и протянул подростку: — Бери, не стесняйся! И не поминай лихом нашу встречу. Мальчик краснел, бледнел, в изумлении глядя на золотые монеты. — И все это мне? — воскликнул он наконец. — Из-за какого-то шлепка о мостовую? Здорово!.. Благодарю вас, князь! Наконец-то я выберусь отсюда и полюбуюсь на белый свет! — Ты хотел бы попутешествовать? — спросил Жан. — О да! С пеленок мечтал… Теперь же, благодаря вам, смогу купить билет до Марселя. «Неужто и у него те же планы, что и у меня?» — подумал юноша и решил проверить догадку: — Постой, постой, но почему туда? — Потому что рассчитываю попасть оттуда в страну буров. — Так ты хочешь в волонтеры?[19] — Очень! Вот бы поколотить этих англичанишек, чтобы не мучили буров! Леон Фортен и его жена с интересом прислушивались к разговору, в котором собеседники перескакивали с пятого на десятое. — Как тебя зовут? — без лишних предисловий спросил Жан. — Фанфан. — Где живешь? — Раньше жил на улице Гренета, двенадцать, а теперь так, вообще… ну, просто на улице. — Родители есть? — Только отец. Он пьянствует все триста шестьдесят пять дней в году и уж никак не меньше двух раз в сутки награждает меня колотушками. А позавчера совсем из дому выгнал. — А где же мать? — Пять лет, как умерла, — ответил мальчик, и на глазах у него блеснули слезы. — Так, значит, ты твердо решил записаться в трансваальскую армию? — Да! — В таком случае беру тебя с собой. — Не может быть!.. Благодарю от всего сердца! С этой минуты я ваш, и на всю жизнь! Увидите, как предан будет вам Фанфан! Так капитан Сорвиголова завербовал первого добровольца в свой разведывательный отряд. В Марселе Жан нашел еще одного — поваренка с морского парохода, оказавшегося без места. Его, как и всякого провансальца[20], звали Мариусом, но он охотно отзывался и на прозвище «Моко». В Александрии добровольческий отряд пополнился двумя юнгами — итальянцем Пьетро и немцем Фрицем, незадолго до этого выписанными из больницы и ожидавшими отправки на родину. Жан сказал Фанфану в шутку: — Четыре человека — целый наряд, ну а я — капрал! Формирование разноязычного интернационального подразделения продолжалось всю дорогу. В Адене Жан повстречал двух арабов, говоривших на ломаном французском. Они были вывезены из Алжира губернатором Обока[21], но бежали от него и теперь искали работу. Познакомившись с Сорвиголовой, оба друга охотно согласились следовать за внушавшим доверие молодым человеком, предложившим к тому же великолепное жалованье. Наконец, уже на пароходе, Жан Грандье сблизился с семьей французских эмигрантов, решивших попытать счастья на Мадагаскаре. Их было пятнадцать человек, включая племянников и более дальних родственников, и они находились в столь бедственном положении, что даже Иов[22], известный своей нищетой, наверное, показался бы им богачом. Молодость и энтузиазм Жана произвели сильное впечатление на этот маленький клан, и ему удалось уговорить трех юношей отправиться с ним в Трансвааль. Под предлогом возмещения убытков за потерю трех пар здоровых молодых рук, которых он временно лишал семью, Жан вручил ее главе десять тысяч франков и обещал выплатить столько же по окончании кампании. «Надо бы довести численность отряда до дюжины», — думал Жан, теперь уже не капрал, а взводный. Но результаты, которых он добился в Лоренсу-Маркише[23], превзошли все его ожидания. Как человек, привыкший надеяться только на самого себя, Жан привез из Франции на сто тысяч франков оружия, боеприпасов, одежды, обуви и упряжки. Он знал, что на войне все может понадобиться. Правда, его немного тревожил вопрос о выгрузке этого более чем подозрительного багажа на португальской территории. Однако, несмотря на свою молодость, наш друг был достаточно дальновиден и опытен, ибо опасные приключения — лучшая школа жизни. И когда корабль пришвартовался, Жан преспокойно оставил на его борту огромный груз, а сам отправился к начальнику португальской таможни. Лузитанское правительство не утруждало себя заботой о своих служащих. Жалованье им выплачивали редко, а зачастую и вовсе не выдавали, предоставляя полную свободу выкручиваться как угодно. Они и выкручивались, да так ловко, что жили совсем неплохо и довольно быстро сколачивали солидные состояния, свидетельствовавшие, несомненно, об их изумительных административных способностях. Жан Грандье, осведомленный об этой особенности бытия местной администрации, поговорил несколько минут (ведь время — деньги!) с его превосходительством и тут же получил разрешение на немедленную выгрузку своей поклажи. Его превосходительство потребовал лишь устного заявления о том, что в многочисленных и тяжелых ящиках находятся исключительно орудия труда. Жан, не моргнув, охотно выполнил требование и тотчас уплатил таможенные пошлины, которые многим показались бы, вероятно, несколько раздутыми, ибо составили кругленькую сумму в тридцать пять тысяч золотых франков. Правда, из них лишь пять тысяч приходились на долю правительства, остальные же тридцать шли в карман его превосходительства. И это понятно: его превосходительство, в свою очередь, должен был вознаградить за временную слепоту английских контролеров, что стоило ему нескольких крон![24] Жан был в восторге от сделки и приказал, не мешкая ни минуты, выгружать «орудия труда», которые тут же были отправлены по железной дороге в Преторию[25]. Неистощимое великодушие и неиссякаемая веселость юноши производили сильное впечатление на всех, кто сталкивался с ним. Умение одним лишь словом или жестом заставить повиноваться себе, сдержанность, преисполненная чувства собственного достоинства, непринужденность в обхождении с людьми, уверенность в своих силах — все выдавало в нем вождя. Товарищи, первыми фанатически поверившие в Жана, вербовали все новых и новых добровольцев. Таким образом, отряд пополнился двумя юными креолами[26] из Реюньона[27], которые, попытав счастья в шахтах Трансвааля, возвращались домой без единого лиарда[28], а затем — еще двумя молодыми португальскими солдатами, дезертировавшими по какой-то веской причине из своих частей, и, наконец, юнгой торгового флота, страстным любителем приключений, покинувшим свой корабль, чтобы примкнуть к отважным сверстникам. Хотя среди пятнадцати парней, мечтавших о подвигах, оказались представители самых различных национальностей, все они отлично уживались друг с другом, слившись в тесную, дружную семью. Через двадцать четыре часа после прибытия в Лоренсу-Маркеш поезд уже мчал юных искателей приключений в Преторию, куда они и прибыли без особых осложнений. Жан Грандье отправился к Крюгеру и был тут же принят вместе с товарищами, так как в Трансваале ничто не преграждало доступ к президенту — ни приемные, ни адъютанты, ни секретари — и каждый, у кого было дело, мог свободно встретиться с этим необычайно популярным государственным деятелем, воплощавшим в себе неизбывную энергию отважных, сражавшихся за независимость своей родины жителей героической республики. Волонтеров ввели в обширный зал. За заваленным бумагами письменным столом сидел президент. Секретарь, стоя рядом, перелистывал депеши и по указанию патрона делал на них пометки. В уголке крепко сжатых губ старика свисала его неизменная трубка, дымившая после методических и коротких затяжек. Выразительное, с крупными чертами и массивным подбородком лицо великана, знакомое по фотографиям всему миру, было обрамлено густой бородой, чуть прищуренные глаза пронизывали собеседника острым взглядом, отражавшим твердость характера и внутреннюю силу. Достаточно было взглянуть на его крепко сбитую фигуру и сдержанные, неторопливые движения, чтобы ощутить сокрытую в нем мощь и железную, непреклонную волю. Короче говоря, ничего общего с Крюгером на английских карикатурах! Этот человек производил величественное впечатление, несмотря на простоту нескладно скроенной одежды и вышедший из моды смешной, единственный в своем роде и неизменный, как и его трубка, шелковый цилиндр, без которого он нигде и никогда не появлялся. Но шляпа эта — предмет особый: она словно бы являлась частью самого президента Крюгера и в данном отношении была столь же уникальна, как и чепчик королевы Виктории[29], монокль мистера Джозефа Чемберлена[30] или треуголка Наполеона. Цилиндр поражал всякого, кто видел его впервые, и у Фанфана, ошеломленного подобным шедевром шляпного мастерства, невольно вырвалось по меньшей мере непочтительное восклицание: — Боже, ну и колпак! К счастью, президент не разбирался в тонкостях парижского жаргона. Впрочем, Крюгер не знал — точнее, уверял, что не знает и не понимает, — ни одного языка, кроме голландского, хотя благоразумнее было бы не очень доверять этому. Президент медленно обернулся к Жану Грандье, легким кивком ответил на его приветствие и спросил через своего переводчика: — Кто вы и что вам угодно? — Я — француз, желающий сражаться на вашей стороне, — последовал лаконичный ответ. — А эти мальчики? — Завербованные мною волонтеры. Я за свой счет вооружаю, снаряжаю и одеваю их, покупаю им коней. — Вы так богаты? — Да. Всего я намерен собрать сотню молодых людей, чтобы сформировать из них роту разведчиков, которую передам в ваше распоряжение. — А кто будет командовать ими? — Я. Под начальством одного из ваших генералов. — Но ведь они еще совсем молокососы! — Молокососы? Неплохо! Отныне так и будем называться: отряд молокососов. Могу вас заверить, вы не раз услышите о нас! — Сколько же вам лет? — Шестнадцать. — Гм… молодо-зелено. — Но своего первого льва вы убили в шестнадцать лет, не так ли? — Верно! — улыбнулся Крюгер. — И разве не в юном возрасте человек полон дерзновенных мечтаний, способен на беззаветную преданность, жаждет самопожертвования и с презрением относится к опасностям и даже к смерти! — Хорошо сказано, мой мальчик! Будьте же командиром ваших молокососов, вербуйте сколько хотите волонтеров и сделайте из них солдат. Бог свидетель — вы мне нравитесь, я верю в вас. — Благодарю, господин президент! Вот увидите, как славно мы повоюем. Старик поднялся, намекая на конец аудиенции, пожал капитану молокососов руку, да так, что у другого бы она хрустнула, и почувствовал, что рука Жана тоже не из слабых. Когда дверь за добровольцами закрылась, Крюгер произнес с улыбкой: — Убежден, этот маленький француз совершит большие дела! Старый президент, или, как его любовно звали буры, «Дядя Поль», оказался хорошим пророком. На следующий день пятнадцать молокососов, в широкополых фетровых шляпах, шагали по улицам Претории в полном боевом снаряжении — с маузеровскими винтовками[31] и с патронташами на поясе. А еще через пятнадцать часов они уже молодцевато гарцевали живописной кавалькадой на своих собственных пони. Юный капитан не в игрушки играл! Какое глубокое знание людей он обнаружил! Как верно рассчитал, что нет лучшей рекламы для набора волонтеров, чем появление на улицах города этого, пусть небольшого, конного отряда! Добровольцы так и стекались к нему со всех сторон. Не прошло и недели, как Жан Грандье набрал свою сотню молокососов, самому младшему из которых было четырнадцать, а старшему — семнадцать лет. Поскольку весь этот народ изъяснялся между собой на какой-то невообразимой тарабарщине, Жан стал искать переводчика, который знал бы английский, французский, голландский и хотя бы несколько слов по-португальски. И он нашел его — тридцатилетнего бура с длинной волнистой бородой, тотчас же прозванного подростками «Папашей». На седьмой день пребывания в Претории молокососы парадным маршем прошли перед домом президента. С трубкой во рту и в своем неизменном «колпаке», Дядя Поль, улыбаясь, произвел смотр. Сердце его было преисполнено любовью к юным храбрецам, готовым отдать свою жизнь во имя независимости его родины.
ГЛАВА 4
Военные будни. — Разочарование. — Обозники и землекопы. — Боевое крещение. — Атака. — Победа. — Песенка Фанфана-Тюльпана. — Походный марш молокососов. — Сорвиголова и его генерал. — В разведке. — Неожиданное появление молокососов. — Послание английским судьям.Интернациональный отряд Жана Грандье доставили по железной дороге в распоряжение генерала Вильжуэна, руководившего осадой Ледисмита[32]. Начало кампании оказалось довольно тягостным для маленького конного отряда и разрушило немало иллюзий молодых людей. Как известно, всякий доброволец, увлеченный парадным блеском военных торжеств, мечтает о боевых подвигах и в армию идет, чтобы драться. И вот первое и жестокое разочарование: сражение на войне — редкость. Война — это прежде всего нескончаемые марши и контрмарши, маневры, караульная служба, ночные дозоры в любую погоду, приказы, нередко противоречащие друг другу, переутомление, недоедание и неизбежная суматоха. Все это, ничего общего не имеющее с непосредственно боевыми свершениями, угнетающе действует на нервы солдата-добровольца, обманутого в своих ожиданиях. А у этой войны была еще одна неприятная сторона. Известно, что в мирное время буры — самый гостеприимный народ, они принимают путника с сердечным и щедрым радушием, зачастую граничащим с расточительством. Но, как это ни удивительно, во время войны с англичанами эти же самые буры холодно, почти с недоверием встречали иностранных добровольцев, стекавшихся к ним со всех концов света. Они никого не звали к себе на помощь, и потому их как будто удивляли все эти энтузиасты, которые несли им в дар жизнь свою и кровь. Замешательство, с каким они принимали бескорыстное самопожертвование добровольцев, граничило с неблагодарностью. Бурский генерал, принявший молокососов более чем холодно, не мог придумать ничего лучшего, как возложить на них конвоирование и охрану обозов. Подумать только, одержимые страстью к подвигам юнцы, преодолевшие по морю и по суше тысячи километров, обречены на сопровождение грузов! Занятие, бесспорно, полезное, но весьма прозаическое. Жан Грандье еще сдерживался, но остальные молокососы роптали не хуже ворчунов старой гвардии[33]. Даже переводчик Папаша, наделенный присущим бурам хладнокровием и крепкими нервами, ругался и клял судьбу на всех четырех языках. Так шли дни за днями, не принося никаких изменений, если не считать земляных работ, на которые их иногда посылали. Что могло быть хуже этого! Молокососы все теснее сближались друг с другом, у них появилось чувство локтя, и они начали — пока еще с большим трудом — понимать друг друга без помощи переводчика. Молодые буры — а их было большинство в отряде — занимались дрессировкой пони и превратили их в исключительно послушных и сметливых животных. Но однажды, в тот самый момент, когда у наших сорванцов совсем опустились руки, внезапно была замечена конная разведка англичан. — Враг!.. Хаки!.. Там!.. — Где?.. — Направо!.. — Они отрежут нас!.. Все кричали разом и на разных языках. Пони, насторожившись, рыли копытами землю. Молокососы ждали приказа, но его не было. И тогда Фанфан, зевака по натуре, не в силах совладать с любопытством, вскочил на лошадь и поскакал вперед. За ним последовал другой молокосос, такой же любопытный, затем еще четверо, потом десять, пятнадцать и, наконец, весь отряд. Ведь это же война, самая настоящая война, с боевым сражением!.. О нет, такого случая они не упустят!.. Юные безумцы с криком и гиканьем мчались во весь опор, думая только об одном: эх, столкнуться бы с англичанами, ударить по ним! Сорвиголова, растерявшись, даже не пытался остановить молокососов или внести какой-то порядок в стихийную атаку. Пришпорив коня, он обогнал товарищей и голосом, покрывшим весь этот гам, скомандовал: — Вперед! Поистине великолепен был этот натиск — неожиданный, беспорядочный, но преисполненный отчаянной решимости и неистового мужества. Обычно кавалеристы пользуются в бою шашкой или пикой, но так как у молокососов не было ни того, ни другого, они неслись на врага, потрясая винтовками. Это глупо, безумно, нелепо, но все же именно столь необычное в данной ситуации оружие и принесло им успех. Английские кавалеристы — народ нетрусливый и отнюдь не из тех, кого легко захватить врасплох, — обнажили шашки и ринулись на скакавшего рассеянным строем противника. Близилась страшная схватка, а сорванцы даже не выровняли ряды по правилам конного боя. Но тут Жан, сохранивший еще какие-то крохи хладнокровия, за несколько секунд до трагического столкновения принял решение. Бросив поводья и вскинув винтовку к плечу, он выстрелил и закричал во всю глотку: — Огонь!.. Целься пониже!.. Папаша проорал этот приказ по-голландски. И открылась ожесточенная пальба. Магазины маузеровских винтовок были полны, и каждый молокосос успел выстрелить по три раза. Лошади англичан валились одна на другую вместе со своими всадниками. Боевой порядок был расстроен, контратака захлебнулась. Пони молокососов, не чувствуя натянутых поводьев, понесли. На полном скаку врезались они в английский эскадрон и, промчавшись сквозь него, летели дальше. Но не все: некоторые, наткнувшись на валявшихся коней, вздымались на дыбы и опрокидывались. Убитые и раненые люди и лошади лежали вперемежку. Воздух оглашался проклятиями, стонами и предсмертными хрипами. Но никто из остававшихся целыми и невредимыми не обращал на это внимания. Англичане — их было шестьдесят человек, — потеряв треть своего состава и предполагая, что за молокососами следует другой, более сильный неприятельский отряд, повернули коней и бросились наутек к своим аванпостам. Однако на полдороге они снова наткнулись на молокососов — тех, чьи пони пронеслись сквозь вражеский эскадрон. Сорванцы, успев перестроиться, опять напали на них. Не было спасения от этих одержимых! Окружив противника, они под угрозой расстрела в упор потребовали сдаться. И англичанам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Потери англичан — тридцать убитых и раненых и почти столько же пленных, которых молокососы повели торжественно к своему генералу. Потери молокососов — трое убитых и шестеро раненых бойцов и десять искалеченных лошадей. Вот это война!.. Сражавшийся с неистовой отвагой Фанфан, обладавший кроме воинских талантов и красивым голосом, по пути в лагерь затянул громко песенку Фанфана-Тюльпана[34]. Его товарищи французы хором подхватили ее, остальные подпевали вполголоса. Песня была дьявольскиживой и веселой. — Великолепно! — воскликнул восхищенный ею Жан Грандье. — Это ты ее сочинил, Фанфан?.. Теперь она станет гимном молокососов! — Нашим боевым маршем! Отлично, хозяин, с этой песней ты будешь вести нас от одной победы к другой!.. О, простите! Я и позабыл, что вы мой хозяин и благодетель. — Слушай, Фанфан, ты просто злишь меня своими бесконечными «хозяин» да «благодетель»! Хватит! Все здесь просто товарищи, солдаты, только что получившие боевое крещение. Отныне мы в обязательном порядке будем обращаться друг к другу на «ты», таков мой приказ. Когда отважные сорванцы привели к генералу пленных, он горячо поздравил юнцов. До сих пор почти не замечавший молокососов, бур никак не мог прийти в себя от изумления. И действительно, рядом с английскими кавалеристами — гигантского роста богатырями — юнцы на своих пони выглядели как мартышки верхом на собаках. — Да ведь это же дети, Melkbaarden[35],— произнес Вильжуэн. Папаша перевел его слова, и сорванцы воскликнули в один голос: — Ну и что же! Молокососы, а дело сделали! — Что же касается вас, — продолжал генерал, обращаясь к Жану, — должен признаться, вы сманеврировали, как настоящий Temmer van wilde paarden. Но будьте осторожны: во второй раз это может кончиться не столь удачно. Папаша, дойдя до тяжелой, как булыжник, фразы генерала «Temmer van wilde paarden», что означает дословно «укротитель диких лошадей», сумел точно и метко перевести ее чисто французским выражением «сорвиголова». — Сорвиголова? Подходит! Как раз по мне. К тому же меня и в Клондайке так звали. — Да здравствует капитан Сорвиголова! — воскликнул Фанфан. Молокососы доказали, что способны на более серьезные дела, чем конвоирование обозов, и их зачислили в качестве разведчиков в диверсионный отряд генерала Вильжуэна. На этой нелегкой службе они проявляли поистине удивительную ловкость, энергию и выносливость. Однажды Сорвиголова, словно задавшись целью оправдать свое многообещающее прозвище, находился в разведке на левом берегу реки Тугелы, где на каждом шагу его подстерегала смертельная опасность. Не желая подвергать своих товарищей риску, он решил действовать в одиночку. Неожиданно его приметили английские кавалеристы, скрывавшиеся за каким-то холмиком, и, выскочив из-за укрытия, прижали к воде. Сорвиголова, положившись на своего пони, заставил животное одним прыжком броситься в реку. Англичане, не отважившись последовать за ним, открыли бешеную пальбу. По воде забарабанил град пуль, и просто чудо, что ни одна из них не задела беглеца. Но с пони что-то случилось: он забил судорожно ногами и пошел ко дну, увлекая за собой и всадника. Оторвавшись от седла, Сорвиголова некоторое время держался под водой. Когда же высунул голову, чтобы глотнуть воздуха, она тотчас превратилась в мишень для англичан. И началась игра со смертью: Жан то скрывался под водой, то всплывал и в конце концов выбился из сил. Стало трудно дышать, одеревенели руки и ноги. Еще несколько секунд — и отважный юноша пошел бы ко дну. Эту отчаянную борьбу увидел человек, стоявший на другом берегу. Не обращая внимания на пули англичан, направивших теперь свой огонь на него, смельчак бросился в воду и подхватил молокососа в то самое мгновение, когда Жан уже терял сознание. Одна из пуль задела плечо спасителя, но он, не обращая внимания на рану, оставлявшую кровавый след на воде, поплыл с удвоенным упорством и, сам почти лишившись чувств, вынес на берег юного командира разведчиков. Неизвестный, спасший Жана с опасностью для собственной жизни, был не кто иной, как фермер Давид Поттер. Храбрец отнес юношу к себе на ферму, находившуюся в двух километрах от реки, и стал ухаживать за ним с отеческой заботливостью. Надо ли говорить о том, какую благодарность испытывал молодой француз к своему спасителю! Выздоровев, он всякий раз, когда выдавалось свободное от службы время, приезжал на ферму пожать крестьянину мозолистую руку и отдохнуть несколько часов в тесном кругу его семьи. Выше мы уже рассказали, при сколь страшных, трагических обстоятельствах оборвалась эта дружба. Читатель вполне может теперь представить себе, в какую ярость привела капитана Сорвиголову расправа с его другом и спасителем, совершенная англичанами у него на глазах с утонченной жестокостью, недостойной солдат великой нации. Он поклялся жестоко отомстить, а клятва, произнесенная таким человеком, как Жан Грандье, не могла остаться невыполненной.
Как мы уже знаем, после отчаянного бегства по травянистой равнине и хитрых, чисто индейских приемов, с помощью которых молокососы избежали окружения, юный Поль и Сорвиголова с Фанфаном на плечах очутились перед непроходимыми зарослями колючей акации. Они надеялись найти в них спасение, но оттуда неожиданно раздалась частая пальба. Однако произошло чудо: ни одна из пуль не задела молокососов. И это было тем более удивительно, что таинственные стрелки, хорошо укрытые ветвями и стволами деревьев, могли спокойно целиться. Зато с полдюжины англичан, подстреленных на расстоянии тридцати метров, перекувыркнулись в воздухе, как кролики. — Будь покоен, хозяин! — воскликнул ослабевший, но неунывающий Фанфан. — Будь покоен, это друзья! — Верно! — сказал Сорвиголова. — Верно, это свои… Вперед, товарищи! Поль бесстрашно полез в колючую чащобу, за ним, прихрамывая, последовал Фанфан, а Жан замыкал шествие, подталкивая раненого друга. И вскоре они очутились перед строем гремевших маузеровских винтовок, стволы которых то и дело извергали легкие клубы дыма. Сидевшие в засаде юнцы встретили беглецов радостным криком: — Спасены!.. Спасены!.. Сорвиголова узнал самых отважных молокососов: Мариуса, по прозвищу Моко, Фрица, Пьетро, юных арабов Макаша и Сабира, юнгу Финьоле, трех направлявшихся на Мадагаскар эмигрантов — Жана Луи, Жана Пьера и просто Жана, обоих португальцев — Фернандо и Гаетано, и шестерых молодых буров — Карела, Элиаса, Жориса, Мануса, Гюго и Иохима. Лица других трудно было разглядеть за стволами продолжавших грохотать ружей. Всего бойцов было не меньше двадцати, и они, каким-то образом оказавшись здесь, уже немало успели натворить. Вражеские кони вместе со всадниками представляли легкую мишень для таких метких стрелков, как молокососы, и юнцы, стреляя без перерыва, укладывали англичан одного за другим. И на этот раз сорванцы одержали верх над представителями отборного рода войск ее королевского величества! Почти все лошади у англичан уже валялись на земле вместе со своими хозяевами, когда шести оставшимся в живых кавалеристам пришла в голову спасительная мысль повернуть коней назад. Бегство противника сопровождалось оглушительным «ура» молокососов, которые тут же прекратили огонь и чуть не задушили в объятиях спасенного ими командира. Впрочем, излияния длились недолго: надо было подумать о раненых и контуженых, лежавших на земле. Сорвиголова направился к англичанам, которые только что преследовали его с торжествующими возгласами охотников, заметивших, что дичь выбивается из сил и вот-вот попадет к ним в руки. Помимо чувства человечности, еще одно соображение заставило капитана Сорвиголову поспешить на помощь врагам. Его взгляд случайно упал на красивого парня, чью ногу придавил мертвый конь. В этом беспомощном «охотнике» Сорвиголова узнал сержанта, исполнявшего обязанности секретаря суда. Когда англичанина извлекали из-под лошади, Сорвиголова с удовлетворением отметил, что тот не ранен, а лишь слегка контужен. — Хотите получить свободу? — без дальних оговорок спросил его капитан молокососов. — Конечно, если только это не сопряжено с условием, противным моей воинской чести, — стараясь соблюсти чувство собственного достоинства, ответил тот. — Я слишком уважаю себя и дело, которому служу, чтобы не уважать чести обезоруженного противника. Взамен предоставленной вам свободы я требую от вас только одного — лично вручить мои письма каждому из членов военного суда, вынесшего смертный приговор Давиду Поттеру. — Охотно, — ответил англичанин, не ожидавший, что так дешево отделается. — В таком случае сообщите мне их фамилии. — Извольте. Председатель — лорд Леннокс, герцог Ричмондский, полковник Гордонского полка шотландских горцев. Судьи: Колвилл — майор третьего уланского полка, Адамс — капитан четвертой артиллерийской батареи, Рассел — капитан второй роты седьмого драгунского полка и Харден — капитан первой роты шотландских стрелков. — Благодарю вас, — сказал Сорвиголова. Жан Грандье принадлежал к людям, которые не любят терять времени даром. Тут же достав из кармана бумажник, он извлек оттуда пять визитных карточек и быстро бисерным почерком написал на каждой из них:
«Убитый вами ни в чем не повинный Давид Поттер приговорил вас к смертной казни. Я — исполнитель его воли, и вам от меня не скрыться. Вы были безжалостны, я буду таким же. Погибель — ваш удел!Проставив на обороте карточек адреса членов военного суда, Жан вручил послания сержанту: — Дайте честное слово доставить их по назначению! — Клянусь честью! Ваши записки я лично передам их адресатам. — Отлично, вы свободны!Сорвиголова».
ГЛАВА 5
Сражение. — Гордонцы и молокососы. — Огонь! — Истребление офицеров. — Герцог Ричмондский и его сын. — Ожесточенная борьба. — Последний патрон. — Разгром врага. — Великодушие. — Волынщик. — Письмо. — Несчастная мать. — Победа.Служба молокососов — не синекура[36]. Из этих сорванцов вышли отличные бойцы, в чем с каждым днем все более убеждалось командование. С ними считались, как со взрослыми, им поручали опасные дела. Их капитан, недаром получивший свое прозвище Сорвиголова, водил их иногда чуть ли не в пасть к самому дьяволу и всегда находил выход из любого положения. Порой они несли тяжкие потери, но это ничуть не уменьшало их энтузиазма. В предыдущих главах уже рассказывалось, какой опасности подверглись Сорвиголова с Фанфаном, проникнув в расположение войск английского генерала Джорджа Уайта[37], явно готовившегося перейти в наступление. Эта если и не бесполезная, то, во всяком случае, преждевременная операция началась примерно в двадцати трех километрах к северо-востоку от Ледисмита, со стороны Эландслаагта. Генерал Вильжуэн, основываясь на подробном докладе Жана Грандье о силах англичан, принял совместно со своим правофланговым соседом, генералом Жаном Коком, все необходимые для отпора врагу меры. Буры заняли сильные позиции, удачный выбор которых говорил о том, что они мастерски овладели военным искусством. Оборонительная линия проходила по цепи пологих холмов, защищенных траншеями и находившихся под прикрытием скал. В густой траве скрывалась целая сеть заграждений из колючей проволоки, которая должна была охладить боевой порыв противника. Там и сям в разбросанных на некотором расстоянии друг от друга передовых окопчиках засели стрелки. Под скалами, позади траншей, притаились пушки, подле них — готовая к бою орудийная прислуга. Над трансваальскими позициями с их невидимыми защитниками нависла мертвая тишина. Словно по мановению руки, люди и кони в поразительном порядке, без шума и суеты занимали отведенные им места и вдруг бесследно исчезали. Лишь изредка то там, то здесь блеснет вдалеке и тотчас исчезнет бронзовый ствол маузеровской винтовки или покажется на секунду круп лошади, прижавшейся к скале. Чем не фантасмагория![38] Англичане же, наоборот, двигались по открытой равнине, с использованием по всем правилам современной тактики трех основных родов войск: артиллерии, кавалерии, пехоты. У них была замечательная армия, укомплектованная достаточным штатом опытных сержантов и офицеров и способная выдержать самое суровое испытание. Любая великая держава могла бы гордиться такими солдатами. И не они повинны в том, что их послали сражаться за неправедное дело, не по доброй воле шли они бесстрашно проливать свою кровь, чтобы у не сделавших ничего дурного людей отнять их самое драгоценное благо — свободу. Английский главнокомандующий спешил дать сражение не столько ради того, чтобы прорвать окружение, сколько потому, что лично ему до зарезу нужна была победа — любой ценой и именно сегодня. Дело в том, что в Кейптауне[39] уже высадился новый главнокомандующий, сэр Редверс Буллер[40], а сэр Джордж Уайт стремился доказать Англии, что гораздо проще было бы предоставить командование всеми английскими войсками ему, Уайту. Такова истинная причина этого наступления, столь безумного, что бурские генералы долго отказывались поверить в его реальную возможность. Из глубины долины донеслись глухие раскаты: английские пушки открыли огонь. Снаряды, начиненные лиддитом[41], с пронзительным свистом рассекали воздух и, упав среди холмов, разрывались градом стальных осколков и клубами зеленоватого дыма. Четыре непрерывно гремевшие батареи и колонны англичан, перестраивавшиеся на ходу, постепенно приближались к холмам. Пушки буров лениво отвечали на этот скорее шумный, чем опасный, концерт. Их артиллеристы заранее разметили прицельные квадраты и теперь терпеливо выжидали, когда можно будет открыть огонь из всех орудий, чтобы разить врага с близкого расстояния. Два пехотных полка, поддержанные двумя батальонами Гордонского полка шотландских горцев, выстроившись поротно в колонны, подошли к позиции буров и решительно бросились в атаку. Генерал Вильжуэн, находившийся недалеко от молокососов, внимательно следил за продвижением англичан. — Безумцы! — воскликнул кто-то из его свиты. — Храбрецы! — возразил генерал беспристрастный судья в вопросах доблести и чести. Стрелки, залегшие в передовых окопчиках, начали пальбу. Несколько англичан упало. Английские пушки неистовствовали. Непрерывно шлепались и взрывались снаряды, зеленой пеленой расстилался дым. Горнисты трубили атаку, шотландские волынки наигрывали самые боевые свои мотивы… Слабо защищенная первая цепочка укрытий — обычных окопчиков — была взята англичанами без особых усилий. Шагавшие в авангарде солдаты Гордонского полка, опьяненные этим слишком легким успехом, который они приветствовали бурным «ура», решили сделать новый бросок, но, запутавшись в сети проволочных заграждений, падали, кувыркались и застревали в самых невероятных комических позах, которые при других обстоятельствах вызвали бы смех. Вильжуэн скомандовал спокойным тоном: — Огонь! И загремели ружейные выстрелы. Привстав немного, Сорвиголова метнул взгляд на своих сорванцов и крикнул: — Внимание!.. Беречь патроны! Каждому выбрать свою жертву и тщательно целиться. В следующее же мгновение по всей оборонительной линии загрохотали пушки буров, открыв стрельбу по противнику с расстояния всего лишь в девятьсот метров. На застрявшую в проволочных заграждениях английскую пехоту обрушился ураган снарядов. Пули поражали солдат одного за другим, ядра косили их целыми рядами. — Сомкнуть строй!.. — командовали английские офицеры, и в этой ужасной бойне сохранявшие хладнокровие. Сержанты специальными ножницами перерезали проволоку, громче запели горны, с новой силой загнусавили волынки, и волна людей, многие из которых были уже в крови, бросилась в ожесточении на приступ. Весь путь англичан был усеян телами убитых и раненых. Звуки труб сливались с предсмертными воплями людей, с жалобным ржанием искалеченных коней. Буры встретили неистовую атаку с непоколебимым мужеством. И вдруг, совершенно неожиданно, они покинули один за другим три холма, связанных между собой системой защитных укреплений, и отошли на заранее подготовленные позиции, представлявшие собой неприступную крепость: расстилавшееся впереди поле было тщательно разбито на квадраты, каждый из которых находился под прицелом бурских орудий. Маневр выполнили организованно, без малейшего признака смятения, врагу не оставили ни одного убитого или раненого. Англичане не поняли, что их просто заманивали в засаду с целью нанесения сокрушительного удара, и, уверовавшись в близости столь желанной победы, продолжали упорно идти навстречу собственной гибели. Новая позиция, занятая молокососами, господствовала над широким проходом между холмами, куда должны были ринуться солдаты Гордонского полка. Рядом с капитаном Сорвиголовой залег Поль Поттер. Одна и та же мысль промелькнула у них, когда они следили за упорным натиском противника: «Во главе гордонцев — полковник, герцог Ричмондский». Взгляды юнцов были прикованы к самой гуще битвы, где они надеялись найти своего врага. Он чудился им в каждом офицере, по которому они тотчас же открывали огонь. Но как можно было распознать человека в этой сумятице! И кончилось тем, что друзья стали стрелять во всех офицеров без разбора. — Если перебить их всех, то и герцога не станет! — воскликнул командир молокососов. — И мой отец будет отомщен! — в неистовом восторге подхватил сын расстрелянного бура. Вскоре английское войско втянулось в ожесточенную схватку с бурами, мало походившую на сражение. Никакого руководства. Роты потеряли боевое единство, и лишь взводы в какой-то мере еще сохраняли его. Большинство бойцов, опьяненных кровью, орудовали каждый на свой страх и риск. Стреляли в упор, сходились врукопашную. Даже раненые, катаясь в обнимку по земле, давили, душили и кусали друг друга. В течение какой-нибудь четверти часа буры потеряли двух генералов. Знаменитый командующий бурской артиллерией Жан Кок, пораженный двумя пулями в грудь и в бок, воскликнул перед смертью: — Да здравствует свобода! Вильжуэн, раненный в грудь, упал со словами: — Бейтесь до последней капли крови, ребята! Утрата этих героев, столь тяжелая для борцов за независимость южноафриканских республик, сопровождалась громом проклятий по адресу англичан. Последние, впрочем, и так уже дорого поплатились, потеряв убитыми и ранеными почти всех офицеров: трех полковников, пять майоров, одиннадцать капитанов и двадцать шесть лейтенантов. Из четырнадцати офицеров второго батальона гордонцев уцелели только двое. Один из них, выделявшийся ростом и ярким мундиром, поражал неуязвимостью. Находясь все время в первых рядах, он сплачивал людей и вел их на приступ, воодушевляя собственным примером. Это был герцог Ричмондский. Под ним пало уже три коня, он служил мишенью для пятисот стрелков, попадал под стальной дождь снарядов и все же оставался живым и невредимым, без единой царапины. Так как не осталось ни одного свободного коня, полковник бился пешим. Рядом с ним дрался горделивый юноша, вернее мальчик, в форме лейтенанта Гордонского полка, с револьвером в левой руке и с тяжелой шотландской саблей со стальной рукояткой — в правой. Он так же, как и герцог, на которого походил лицом, выказывал высокомерное пренебрежение к смерти, каким-то чудом обходившей и молодого человека, хотя пули словно ножом раскроили в нескольких местах его мундир. Это были отец и сын. Время от времени, не прекращая ни на секунду выполнять свой долг солдата, герцог бросал на сына взгляд, выражавший и страх за него, и восхищение его мужеством. Юноша уже не один раз кидался вперед, чтобы прикрыть собою отца и командира. Но полковник неизменно отстранял его жестом: — На место, Патрик! Вернись к своим солдатам! Воинский долг превыше всего! Судьба свела лейтенанта лицом к лицу с капитаном Сорвиголовой. Англичанин и француз, смерив один другого взглядом, схватились в поединке. Винтовка без штыка — единственное оружие француза. Жан прицелился и на расстоянии четырех шагов спустил курок. Но в пылу боя он и не заметил, что израсходовал все патроны, не оставив даже одного, на крайний случай. Раздался сухой треск и все. Лейтенант выпустил в ответ последний заряд и, хотя стрелял почти в упор, промахнулся. Командир молокососов схватил свою винтовку за ствол и, замахнувшись ею, как дубиной, обрушил бы смертельный удар на голову шотландца, если бы тот не парировал его саблей. Стальное лезвие разлетелось на куски, но удар был смягчен. Скользнув по плечу юного офицера, приклад ударился о землю и разбился у казенной части. Вскрикнув от бешенства, молодые люди отшвырнули обломки оружия и сцепились в драке. Равные по силе, они падали, вскакивали, снова летели с ног и катались по полю, крепко обхватившись и стараясь задушить друг друга. Вдруг Сорвиголова заметил на земле обломок клинка только что разбитой им сабли. Рискуя искалечить руку, Жан схватил его и замахнулся, как кинжалом: — Сдавайтесь! — Нет! — зарычал офицер. Жан ударил противника острием клинка: — Сдавайтесь!.. Да сдавайтесь же, гром и молния! — Ни за что! — истекая кровью, отвечал шотландец. Видя, что сын упал, полковник поспешил к нему на помощь с поднятой саблей. Казалось, еще миг, и он рассечет голову юному капитану, который в исступлении, ничего не замечая, все наносил и наносил лейтенанту ожесточенные удары. Но Поль Поттер спас своего друга. Этот удивительно хладнокровный подросток в течение всего боя предусмотрительно пополнял патронами магазин своей винтовки. Узнав полковника, он, взревев от радости, прицелился и выстрелил. Однако в тот самый миг, когда Поль спустил курок, волынщик, не перестававший наигрывать боевой марш гордонцев, бросился вперед, чтобы заслонить командира. Это был красивый семнадцатилетний парень с румяным лицом, почти мальчик, как и большинство участников этой бесчеловечной драмы. Пуля, пронзив его навылет немного выше сердца, угодила полковнику прямо в грудь. Несчастный юноша уронил свой инструмент и, зажав рукой рану, прохрипел: — О мама… бедная моя мама! Я умираю… Я знал, что так случится… Герцог Ричмондский зашатался и, взмахнув руками, опрокинулся навзничь. — Прощай, Патрик!.. Прощай, мой любимый!.. — с усилием вымолвил он. Лейтенант увидел сквозь красный туман в залитых кровью глазах, как упал его отец. Отчаянным усилием он вырвался из рук Жана Грандье, привстал на одно колено и заметил Поля, ружье которого еще дымилось. Голосом, прерывавшимся от рыданий, он воскликнул: — Будь ты проклят, убийца моего отца! — Он убил моего! — возразил разгневанно юный бур. Но Патрик уже не слышал. Кровавая пелена все плотнее застилала его взор, прерывалось дыхание, и он свалился без чувств к ногам капитана молокососов. Ярость Жана Грандье мгновенно угасла, и он кликнул санитаров: поверженный противник был для него всего лишь вызывавшим жалость человеком, чьи душевные и физические муки заслуживали сострадания. Санитары подбежали и, оказав первую помощь, уложили лейтенанта на носилки. Снова послышались жалобные стоны умиравшего волынщика, звавшего слабеющим голосом свою мать. Похолодевшими руками он достал из кармана еще не запечатанное письмо и, протянув Полю, молвил едва слышно: — Моей бедной маме… отправьте… умоляю вас… — Клянусь! — ответил бур со слезами на глазах. — Благодарю… — прошептал солдат. Кровь двумя алыми струйками брызнула из пронзенной груди военного музыканта, на губах показалась пурпурная пена, глаза остекленели, и все тело содрогнулось в предсмертной конвульсии. — Письмо… маме… — в последний раз пробормотал он коснеющим языком и, сжав кулаки, вытянулся и умер. Шотландцы потерпели поражение. Остатки гордонцев стали поспешно отступать. Буры, гуманность которых, проявленная во время этой войны, завоевала им всеобщую симпатию, поспешили оказать помощь раненым. Сорвиголова влил Патрику в рот несколько капель спирта. Шотландец вздрогнул и, открыв глаза, узнал своего противника. Прочитав в его взоре глубокое сочувствие, схватил Жана за руку и тихим, как дыхание, голосом произнес: — Что с отцом? — Пойду узнаю… Обнаружив полковника среди груды недвижных тел, Сорвиголова заметил, что тот еще дышит. Он подозвал санитаров и уже собирался вернуться к Патрику с сообщением о том, что отец жив и состояние его не совсем безнадежно, как вдруг услышал поблизости рыдание. Поль, стоя на коленях возле волынщика, держал в руке предсмертное письмо шотландца к матери. — На, посмотри, — сказал Поль, увидев Жана. — Это так ужасно!.. Сорвиголова прерывающимся от волнения голосом прочитал:
«Под Ледисмитом, 23 ноября 1899 года Дорогая мамочка! Сегодня не ваша очередь, сегодня я должен бы писать отцу. Но я не могу не писать вам, потому что, кажется, это последнее письмо. Не понимаю, что со мной происходит. Я здоров и чувствую себя превосходно, но прошлой ночью привиделся мне страшный сон… Наверное, завтра буду убит. Тяжко на душе, и сердце ноет… Только что выходил из палатки — стоит чудная ночь. Глядя на синее ясное небо, на яркую звезду над моей головой, подумал, что она смотрит сейчас и на вас, моя милая мама, и я позавидовал ей… Вы даже не представляете себе, что здесь творится!.. На днях возле меня в окопе упал солдат из моей роты. Осколок снаряда попал ему в живот, но он не сразу скончался. Как страшно было смотреть на него!.. Он рыдал, умоляя врача прикончить его, чтобы избавить от невыносимой боли, и даже сам доктор не смог сдержать своих чувств. «Воистину проклятая штука война!» — воскликнул он. И знаете, дорогая мама, мне очень не хотелось бы умереть так. Думаю, вам было бы очень горько, если бы вы узнали о моих страданиях. Куда лучше смерть мгновенная, без всяких мучений. Но будьте покойны, что бы ни случилось, я не поступлюсь честью своей. И хотя мне очень жаль покидать вас, я все же счастлив, что отдаю жизнь за нашу королеву и Великобританию. Прощайте же, мамочка, крепко вас целую.— И это я убил его! — дрожавшим от слез голосом произнес бур. — Как ужасно! Сердце разрывается… Единственное утешение, что я лишь исполнял свой долг. — Верно, Поль, и выполнил ты его прекрасно! — ответил Сорвиголова, указав рукою на отступавшие по всей линии английские войска.Джимми».
Королевскую армию разбили. Ее потери составили две тысячи человек убитыми и ранеными и двенадцать орудий. Бессовестные политиканы, рыцари разбоя и наживы, развязавшие эту войну, могли быть довольны! Грохот сражения сменился полной тишиной. Англичане, потерпев еще одно поражение, в беспорядке отошли к Ледисмиту. Буры затаились в неприступных оборонительных сооружениях, искусно возведенных вокруг находившегося в кольце противника и представлявших собой своего рода укрепленный лагерь под охраной выдвинутых вперед конных дозоров. Жизнь вернулась в привычную колею. Подлечивали раны, ухаживали за ранеными лошадьми, исправляли повреждения, чистили орудия, чинили разорванную одежду, с невозмутимым спокойствием готовясь к новой битве. Под прикрытием холма были разбиты четыре большие палатки, над которыми развевался белый флаг с красным крестом. Здесь размещался бурский полевой госпиталь. В каждой палатке до сотни раненых — буров и англичан, последних — вдвое больше. Они лежали на маленьких походных койках, на носилках, а кто и прямо на земле. Сведенные вместе единой судьбой, недавние противники относились друг к другу без всякой вражды. Между ранеными, принадлежавшими к враждовавшим армиям, не делалось различий. Их укладывали вперемежку: рядом с бородатыми, заросшими до самых глаз бурами — атлетического сложения королевских стрелков, рослых краснощеких юношей и зрелых мужчин, так и не сменивших шотландский костюм на форму хаки. Бледные, худые, потерявшие много крови, гордонцы стойко подавляли стоны, боясь уронить свое достоинство.
ГЛАВА 6
В госпитале. — Доктор Тромп. — «Современные» ранения. — «Гуманная» пуля. — Оригинальная теория. — Изречение ворчуна-генерала. — Предписания врача. — Осколочные ранения. — Душа джентльмена. — Непризнанные герои. — Ночной выстрел.Среди раненых, преисполненные сострадания, бесшумно и скромно сновали женщины, разнося чашки с укрепляющим бульоном, сосуды с разведенной карболовой кислотой и лекарства. Это были жены, матери и сестры бойцов, покинувшие фермы, чтобы делить с близкими трудности войны. С одинаковой самоотверженностью ухаживали они и за своими, и за теми, кто совсем недавно угрожал их жизни и свободе. В одну из палаток вихрем влетел Жан Грандье в сопровождении своего неразлучного друга Фанфана. Юный парижанин, хотя и прихрамывал еще, был счастлив, что уже не числился больным. В ожидании того дня, когда, поправившись окончательно, он смог бы вернуться в разведку, Фанфан устроился в полевой госпиталь санитаром. Взгляд командира молокососов устремился к двум койкам, стоявшим рядом в центре палатки. На одной из них лежал герцог Ричмондский, на другой — его сын. Герцог, казалось, умирал. Из его груди вырывалось тяжелое дыхание. Бледный как полотно, он сжимал руку с отчаянием глядевшего на него сына. Сорвиголова, быстро подойдя к ним и сняв шляпу, обратился к молодому человеку: — Простите за опоздание. Я прямо с дежурства. Как себя чувствуете? — Неплохо… Вернее, лучше… Благодарю. Но мой бедный отец… Взгляните! — Доктор сейчас придет. Он обещал мне заняться вашим отцом в первую очередь. Я уверен, он извлечет пулю. — Спасибо за участие! Вы благородный и честный противник! — сказал молодой шотландец. — Есть о чем говорить! На моем месте и вы, наверное, поступили бы так же. — Судя по вашему произношению, вы — француз? — Угадали. — В таком случае, мне особенно дорого ваше дружеское расположение. Вы даже не представляете себе, как мы с отцом любим французов! Однажды вся наша семья — отец, сестра и я — очутилась в страшном, прямо-таки отчаянном положении. И французы вырвали нас буквально из объятий смерти. — А вот и доктор! — воскликнул Сорвиголова, тронутый доверием, оказанным ему вчерашним противником. Врачу было лет сорок. Высокий, сильный, ловкий в движениях, с чуть обозначившейся лысиной, со спокойным и решительным взглядом и плотно сжатыми губами, оттененными белокурыми усами, он походил скорее всего на партизана: за спиной — карабин, на поясном ремне — туго набитый патронташ, и ни галунов, ни каких бы то ни было других знаков отличия. Голландец из Дортрехта[42], ученый-энциклопедист и замечательный хирург, доктор Тромп после первых же выстрелов в Южной Африке прибыл в Оранжевую Республику и вступил добровольцем в армию буров. Он мужественно сражался в ее рядах, а в случае необходимости превращался во врача. Добрый, самоотверженный, он страдал только одним недостатком — был неисправимым болтуном. Впрочем, недостаток ли это? Уроженец Нидерландов действительно по каждому поводу мог разразиться целым потоком слов, но мысли его были настолько интересны и оригинальны, что окружающие его охотно слушали. Доктор извлек из подвешенного под патронташем холщового мешка медицинские инструменты, разложил на походном столике и сразу же потерял воинственный вид. Захлопотали санитарки. Одна принесла воды, в которую врач погрузил губку, другая зажгла большую спиртовку. Добродушно улыбаясь направо и налево, врач благодарил, отвечал на приветствия, мыл руки и приговаривал: — Раствор сулемы! Превосходное антисептическое средство!.. Я к вашим услугам, Сорвиголова… Так. Отлично. Теперь оботрем губкой лицо. Прокалив на спиртовке инструменты, доктор Тромп направился к полковнику. Раненые, лежавшие поближе, заворчали. — Терпение, друзья! Позвольте мне прежде сделать операцию этому джентльмену. Кажется, он при смерти. — У этого чудесного врача была своеобразная манера преподносить больным горькие истины. С помощью Жана Грандье и Фанфана он усадил раненого на кровати и поднял его рубашку. — Великолепная рана, милорд! — воскликнул доктор. — Можно подумать, я сам нанес ее, чтобы облегчить впоследствии свою работу. Нет, вы только взгляните! Третье правое ребро точно резцом проточено. Ни перелома, ни осколка! Одно только маленькое, узенькое отверстие. Через него пуля прошла по прямой сквозь легкое и должна была выйти с другой стороны. Нет?.. Куда же она в таком случае девалась? Странная история… Ба! Да она застряла в середине лопатки! Сейчас я извлеку ее… Потерпите, милорд. Это не больнее, чем когда вырывают зуб. Раз… два… Готово! Глухой хрип вырвался из уст офицера, конвульсивным движением он до боли сжал руку сына. Из раны брызнула струя крови, и одновременно раздался тихий свистящий вздох. — Превосходно! — продолжал хирург. — Легкое освободилось… Дышите, полковник, не стесняйтесь! Герцог Ричмондский глубоко вздохнул, в его глазах появилась жизнь, щеки слегка порозовели. — Ну как, легче теперь, а? — О да! — Я так и знал… Ну, что вы теперь скажете, Сорвиголова, а?.. Терпение! Немного терпения, ребята… Тромп трещал без умолку то по-английски, то по-голландски, то по-французски, но делал при этом все же гораздо больше, чем говорил. Обратившись к полковнику, он произнес: — Через три недели вы будете на ногах, милорд. Видите ли, эта пуля — прелестная вещица, чистенькая, как голландская кухарка. Благодаря своей огромной скорости — шестьсот сорок метров в секунду! — она, как иголка, проходит через живую ткань, не разрывая ее. Ничего общего с этим дурацким осколочным снарядом, который все рвет и кромсает на своем пути. Нет, решительно, пуля от маузеровской винтовки — очень деликатная штука… джентльменский снарядец! И неумолчный говорун, ни на секунду не прерывая словесного потока, вставил во входное и выходное пулевые отверстия большие тампоны гигроскопической ваты, пропитанной раствором сулемы, и наложил сверху обеззараживающие компрессы. — Вот и все! Диета? Супы, молоко, сырые яйца, немного виски с содовой водой… А через восемь дней — ростбиф, сколько душа запросит. Благодаря вашей крепкой конституции у вас даже не повысится температура. — И, не дожидаясь благодарности, этот чудак крикнул: — Следующий! — и перешел к другому больному, бросив на ходу: — А вы, Сорвиголова и Фанфан, за мной! Молодой лейтенант, изумленный говорливостью врача, но еще более восхищенный счастливым исходом дела, нежно обнял отца. А доктор с помощниками продолжил обход. На каждом шагу им приходилось сталкиваться с необычайно тяжелыми ранениями. Современная баллистика[43] словно глумилась над современной хирургией, позволяя ей излечивать раны, считавшиеся ранее смертельными. Например, четыре дня назад, во время схватки на аванпостах, один ирландский солдат был поражен в самое темя. Пуля пронзила мозг, нёбо, язык и вышла через щеку. Положение раненого казалось безнадежным. В той же стычке другому ирландцу свинец угодил в висок и, пройдя через мозг, насквозь пробил череп[44]. — Что вы на это скажете, молодые люди? — с гордостью воскликнул доктор. — В былые времена, при старинном оружии, головы этих молодцов разлетелись бы, как тыквы. А деликатная, гуманная пулька, запущенная маузеровской винтовкой, сумела нежно проскочить сквозь кости и мозговую ткань, причинив моим пациентам только одну неприятность: они лишились на время возможности нести боевую службу. — Сногсшибательно! — воскликнул Фанфан, не веря своим ушам. — Изумительно! — подтвердил Сорвиголова. — Через две недели они будут здоровы, как мы с вами! — торжествовал доктор. — И даже без осложнений? — спросил Сорвиголова. — Даже без мигрени!.. Впрочем, я опасаюсь, как бы один из них не стал страдать страбизмом[45]. — То есть, попросту говоря, не окосел? — Да, да, вот именно. — Но какой же тогда смысл воевать, если мертвые воскресают, чтобы биться с новой силой? — изумился Жан. — Воевать вообще нет смысла. Но раз уж наша идиотская и звериная цивилизация не в силах избавиться от такого бича, как война, надо, по крайней мере, сделать ее как можно менее жестокой. В чем, в конце концов, цель боевых операций? На мой взгляд, в том, чтобы вывести из строя как можно больше врагов, а вовсе не в том, чтобы убить их. Для достижения победы нет необходимости уничтожать все и всех, достаточно просто помешать противнику драться в течение некоторого времени, сократив до определенного уровня его численность. Кстати, в случае успешного воскрешения сраженных пулями солдат приобрело бы реальность фантастическое изречение одного ворчуна-генерала: «На войну идут умирать всегда одни и те же». — А вот еще более удивительный случай! — воскликнул хирург, исследуя очередного шотландского солдата. — Да разве он ранен, доктор? — удивился Жан. Солдат спокойно потягивал трубку и, казалось, чувствовал себя совсем неплохо. На его шее зияла рана, нанесенная «гуманной» пулей в то время, когда он, в ожидании атаки, лежал, прижавшись к земле. Доктор принялся искать выходное отверстие и нашел его над правым бедром. — Смотрите-ка! — восхищенно воскликнул он. — Пуля пробила себе дорогу через легкие, брюшину и таз! Таким образом, этот бравый горец прошит ею сверху донизу. Тут уж нам и вовсе нечего делать… — Значит, он обречен? — печально спросил Сорвиголова. — Напротив, встанет на ноги без малейшего хирургического вмешательства, которое только повредило бы ему. Постельный режим. Диета: супы, сырые яйца, виски с содовой и, разумеется, трубка, раз уж он такой курильщик. — И, обратившись к раненому, добавил: — Продолжайте в том же духе, мой мальчик, и поправляйтесь… Следующий! Осмотрев больного, Тромп продолжал: — Поражена печень. Тут нам тоже нечего делать. Иначе говоря, вмешательство излишне. Постельный режим, антисептика и поначалу легкая пища… Рана в пояснице? Такое же лечение… Ранение желудка? И в этом случае ничего другого рекомендовать не могу. Отходя от пациента, доктор каждый раз приговаривал: — Отлично. Все идет как по маслу. Быстрое и верное излечение. Но вот он подошел к пятерым бурам, лежавшим на матрацах прямо на земле: — Черт возьми, вот это мне уже не нравится! Им единственным удалось остаться в живых после взрыва английского крупнокалиберного снаряда, уложившего наповал десять бойцов. Вид этих несчастных был ужасен: растерзанные мышцы, раздробленные кости, разорванные сосуды — отвратительное месиво из мяса, обломков костей, тряпья и сгустков запекшейся крови! Но, изуродованные до неузнаваемости, буры без малейшего стона переносили неимоверные страдания. У Фанфана и Сорвиголовы сжалось сердце. Даже доктор утратил свой дар красноречия и умолк: несмотря на профессиональную выдержку, он был не в силах скрыть волнение. С помощью Фанфана и Жана Грандье, исполненных усердия, но близких к обмороку от жалости и страха, врач приступил к делу. Он ампутировал конечности, резал живое тело, рылся в нем в поисках осколков или разорванной артерии, накладывал швы. Ему приходилось теперь иметь дело с серьезнейшими травмами, лечение которых затруднялось к тому же неизбежными осложнениями. О том, что процесс выздоровления пациентов будет не из легких, свидетельствовал не только характер ран, но и сопутствовавшие обстоятельства. Например, сопротивляемость организма, эту могущественнейшую помощницу хирургии, должны были значительно ослабить перенесенные бурами два нервных потрясения: шок, причиненный ранением, и шок, вызванный самой операцией. Кроме того, раненых истощила и сильная потеря крови. Как долго тянулись и как мучительны были эти операции, проводившиеся без наркоза! Но мужественные буры держались стойко. Наконец, наступила очередь лейтенанта, терпеливо ожидавшего помощи. Его левая ключица была надломлена ружейным прикладом, рука не действовала, грудь исполосовали глубокие порезы, сделанные обломком сабли, превратившимся в руках командира молокососов в опасное оружие. Доктор тщательно промыл раны обеззараживающим раствором и наложил тугую повязку, чтобы воспрепятствовать проникновению в них болезнетворных микробов. Покончив со своими печальными обязанностями, врач вскинул на плечо карабин, нацепил на поясной ремень патронташ и вновь был готов наносить с помощью маленькой «гуманной» пули «человеколюбивые» раны, которыми так восхищался, исцеляя их. Сорвиголова и лейтенант Гордонского полка шотландских горцев сразу же почувствовали взаимную симпатию, несмотря на то, что во время первого своего знакомства они, мягко выражаясь, так неучтиво обошлись друг с другом. Оба молодые, почти мальчики, в высшей степени мужественные и прямые, они проявили себя решительными противниками во время битвы. Но их благородным натурам претила и ненависть оскорбленного самолюбия и низкая злоба национальной вражды. Каждый из них лишь уважал другого за отвагу. И теперь уже не существовало ни англичанина, ни француза-бура, ни победителя, ни побежденного, а были двое храбрых юношей, ставших друзьями. После сражения прошло около недели. Ежедневно в свободное от службы время Сорвиголова часами просиживал у изголовья раненого, который встречал его неизменной улыбкой и дружеским рукопожатием. Патрику становилось лучше, точно так же, как и его отцу, хотя выздоровление последнего шло гораздо медленнее, чем предсказывал слишком уж оптимистически настроенный доктор. Сорвиголова приносил им новости, всячески стараясь облегчить участь пленников. За задушевной беседой время текло незаметно. Патрик рассказывал о своих приключениях в Индии, Жан — о том, что пережил в «Ледяном аду». Все это — к немалому возмущению Поля Поттера, непосредственная и простая натура которого никак не могла примириться с дружбой между вчерашними смертельными врагами. Ненависть к завоевателям пылала в сердце юного бура с той же силой, что и в первый день их вероломного вторжения в Трансвааль. Чувство патриота обострялось еще неукротимой враждебностью к убийце его отца. Ничто не могло ни смягчить, ни тронуть юношу. Затаив мысль об отмщении, он, не сворачивая, шел к намеченной цели и сожалел лишь о том, что пуля, уложившая волынщика, не покончила также и с полковником. В душе его постепенно вызревал мрачный план кровавой расправы с герцогом Ричмондским. Офицеры-шотландцы, в свою очередь, не могли понять, как это вдруг Жан Грандье, образованный и богатый человек, увлекся борьбой каких-то мужиков за независимость южноафриканских республик. Однажды Патрик, желая объясниться, со своей обычной прямотой спросил Жана: — Выненавидите Англию? — Нисколько. Англия — великая страна, вызывающая у меня чувство восхищения. Но сейчас она ведет несправедливую войну, и я вынужден сражаться против нее. — Но это наше внутреннее дело: мы подавляем бунт в своей собственной стране — Британской империи. — Отнюдь нет. Буры не являются подданными Англии, следовательно, их нельзя рассматривать как мятежников. — Не будем играть словами, — возразил Патрик. — Южноафриканские республики находятся в сфере английского влияния, и мы считаем, что они составляют неотъемлемую часть королевских владений. — Но, черт возьми, тут я с вами не согласен! — Напрасно! Они наши на том же основании, что и Бечуаналенд[46], и Родезия[47], и Капская земля, и Англо-Египетский Судан[48], и другие аннексированные империей территории. И разве буры — не дикари? Это тупые крестьяне, в массе своей безграмотные, отказавшиеся от благ современной цивилизации, нравственно и физически нечистоплотные, закосневшие в примитивных способах производства… Да, да, повторяю, дикари, вернее, белые, вернувшиеся к первобытному состоянию. Мы, англичане, ставим их не выше краснокожих, или арабов, или кочевников Центральной Азии… Сорвиголова вспыхнул, потом побледнел и готов уже был взорваться и выложить собеседнику начистоту свое возмущение, однако сдержался и, решив юмористически парировать этот выпад, ответил добродушным тоном: — Но, милейший, буры пользуются электричеством, строят железные дороги, производят современное вооружение, имеют собственные типографии… Забавные дикари, не правда ли? Думаю, они неплохо выглядели бы и в Европе, хотя бы, например, в вашей Ирландии[49], а?.. Что же касается главы этих «дикарей» — президента Крюгера, то князь Бисмарк[50] ставил его куда выше биржевых спекулянтов, этих вождей европейских сиу[51]. А Бисмарк разбирался в людях! — О, Крюгер! Бесхвостая макака!.. Шут, еще более смешной и нелепый, чем его изображают карикатуристы! — А буры находят, что он самый прекрасный человек в обеих республиках, как и вы, вероятно, видите в своей королеве Виктории самую прекрасную женщину Соединенного Королевства. Охотно присоединяюсь к обоим суждениям: старый бур и старая английская леди прекрасны, как полубоги, но каждый в своем роде. Этот меткий ответный удар так точно попал в цель, что ни отец, ни сын не нашли слов для возражения. После неловкого молчания полковник обрел наконец дар речи. — Все это только слова, мой юный друг, — задумчиво произнес он, — одни слова. Война — страшная вещь, и тот, кто начинает ее, должен быть неумолим. Мой сын прав, буры — бунтовщики и дикари и как таковые подлежат уничтожению. Английские солдаты здесь вовсе не для того, чтобы миндальничать. Они сражаются за самое существование Британской империи, и последнее слово в этой войне скажем мы, хотя бы и ценой двухсот тысяч человеческих жизней и двухсот миллионов фунтов стерлингов! Сорвиголова осознал на этот раз в полной мере всю пропасть, отделявшую его от джентльмена, только что обнажившего перед ним всю свою высокомерную, эгоистическую и жестокую душу английского аристократа. Возмущение, охватившее Жана, было столь глубоким, что голос его задрожал: — Не говорите так, милорд! Посмотрите, как добры и человечны к пленным эти патриоты, которых вы хотите уничтожить. Они усердно ухаживают даже за вами, несмотря на то, что вы крайне безжалостно поступили с фермером Давидом Поттером. — Это был мой долг как председателя военного суда, и я готов снова исполнить его хоть завтра. — И снова приказали бы убить, фактически без суда и следствия, патриота и лишить семью супруга и отца только потому, что он защищал свою жизнь и свободу? — Без колебания! В полном соответствии с волей ее величества королевы, желающей завоевать и окончательно присоединить к своим владениям обе республики. Сорвиголова вскочил, чтобы дать решительный отпор, но чей-то крик, раздавшийся извне, остановил его: — Ты больше никого не убьешь, английский пес! Угроза была произнесена дрожавшим от ярости юношеским голосом, показавшимся командиру разведчиков знакомым. Очевидно, кто-то подслушивал их разговор, стоя за тонкой полотняной стеной палатки. Сорвиголова, не сказав ни слова, поспешно вышел, чтобы выяснить, кто кричал, а заодно и прервать этот возмущавший его разговор. — Не сердитесь же! — крикнул ему вдогонку Патрик. — Все это ничуть не относится к вам. Лично вас мы глубоко уважаем. А угрозы не боимся. Каждый в этом лагере отлично знает, как жестоко поплатятся за убийство герцога Ричмондского буры, находящиеся у нас в плену. До капитана Сорвиголовы не дошел смысл последних слов. В ушах у него шумело, лицо пылало от негодования. Он машинально обошел вокруг большой прямоугольной палатки, но никого не встретил. Единственное, что обнаружил его острый взгляд, — это резко выделявшийся на белом полотне черный, словно нанесенный углем какой-то кружок. Возможно, то было старое, не замеченное раньше пятно. И теперь-то оно бросилось в глаза только потому, что, как показалось Жану, находилось у того места палатки, где размещались кровати полковника-шотландца и его сына. Жан не придал никакого значения этому открытию, оказавшемуся, впрочем, весьма существенным для герцога, которого ему не суждено было больше увидеть. Вечером того же дня Сорвиголова с десятью молокососами ушел на ночное дежурство. С ними должен был идти и Поль Поттер. Однако юный бур, всегда добросовестно исполнявший свои воинские обязанности, почему-то не явился на перекличку. Было около десяти часов вечера. Над обоими лагерями — бурским и английским — нависла тишина. Сквозь дымчатые облака мягко струился свет луны. Внезапно из ложбины, подходившей чуть ли не вплотную к госпиталю, кто-то выскользнул безмолвной тенью и быстрым, решительным шагом направился к палатке, в которой спали полковник и его сын. Человек с винтовкой на плече шел босиком, вероятно, чтобы его не услышали. Оглянувшись и убедившись, что никто не следит за ним, он остановился у черного пятна, несколько часов назад привлекшего внимание капитана Сорвиголовы, достал из кармана нож и с бесконечными предосторожностями, не спеша, нитку за ниткой, стал разрезать толстую ткань. Когда образовалось отверстие, достаточное, чтобы просунуть сквозь него руку, он заглянул внутрь. Прямо напротив стояла тускло освещенная ночником кровать, покрытая клетчатой материей, из которой шьется для шотландцев военная форма. Легкая дрожь пробежала по телу таинственного визитера, когда он узнал мужественное лицо крепко спавшего полковника. Обнаженная голова шотландца находилась всего в тридцати сантиметрах от полотна. Без малейшего колебания пришелец просунул в отверстие ствол ружья, приставил к голове своей жертвы и твердой рукой спустил курок. Грянул выстрел, удушливый пороховой дым поплыл по палатке. Поднялась невообразимая суматоха. Сестры милосердия, прибежавшие на испуганные вопли больных, застали младшего лейтенанта-гордонца бьющимся в жестокой истерике у тела отца, распростертого на кровати с пробитой головой.
ГЛАВА 7
В дозоре. — Азарт разведчика. — Пленение. — В каземате. — Опасная популярность. — Допрос. — Пренебрежительное отношение к угрозе. — «Охота на кабана». — Глумление над военнопленным. — Генерал. — Великодушие врага. — Заслуженное наказание.Во время трагической гибели герцога Ричмондского Сорвиголова стоял на посту у переднего края. Буры — храбрые, но беспечные воины — были плохими караульными и разведчиками. И это понятно, если учесть, что в этой скроенной по-семейному армии с дисциплиной обстояло далеко не все благополучно. Приказы командиров выполнялись спустя рукава, а часовые, в отличие от дозорных европейских армий, имели слабое представление о лежавшей на них огромной ответственности. Трудно поверить, но именно наши юные сорванцы лучше всех справлялись с нелегкой сторожевой службой. Их бдительность никогда не ослабевала, и военное руководство бывало спокойно, когда ночная охрана бурского лагеря поручалась молокососам. В тот вечер Сорвиголова, который, подобно истому сыну могикан[52], смотрел во все глаза, заметил в ничейной зоне, разделявшей передовые линии обеих воюющих сторон, какие-то медленно двигавшиеся серые тени. Но луна скрылась за облаками, и стало совсем темно. Командир молокососов решил разобраться, в чем дело. А для этого надо было пойти и самому посмотреть. Шаг верный, хотя и рискованный: можно угодить под перекрестный огонь буров и англичан. Но Сорвиголова отважился, о чем тут же известил юнгу Финьоле, бура Иориса, итальянца Пьетро, португальца Гаетано и креола из Реюньона. Все шестеро скинули винтовки, которые стесняли бы их движения, и оставили при себе только револьверы. Юнцы поползли, сдерживая дыхание и с чисто кошачьей ловкостью обходя малейшие препятствия, и продвинулись таким образом на триста-четыреста метров, когда Сорвиголова, находившийся впереди, различил шагах в двадцати от себя какой-то темный предмет. Вглядевшись, Жан понял, что ему навстречу, распластавшись на животе, полз человек. Легкий, еле слышный шелест выдавал каждое его движение. Разведчики должны по возможности избегать боя, и поэтому Жану Грандье следовало бы незаметно от противника предупредить товарищей об опасности. Но попробуйте говорить о благоразумии с парнем, который так и ищет случая оправдать свое прозвище! «Английский разведчик! — мелькнуло в голове Жана. — Сам просится в плен!» Поднявшись, юноша в несколько гигантских прыжков очутился возле врага и что есть сил сдавил его в своих объятиях. Но что за чудо! Пальцы ощутили лишь пустоту, вернее, рыхлую грубошерстную ткань, по всей вероятности, одеяло, которое, однако, не оставалось на месте: чьи-то невидимые руки тянули его к себе, — очевидно, за привязанные к нему бечевки. — Меня провели! — прошептал Сорвиголова, постигший наконец легкомысленность своего поведения. Увы, провели не одного Жана! Его товарищи точно так же, как и он, полонили вместо вражеских разведчиков тряпье. Но к чему была эта уловка? Лишь для того, чтобы взять их в плен и уже затем напасть на бурских часовых, мирно дремавших с трубкой во рту. Все произошло в несколько секунд. Два взвода англичан — о, теперь они не скрывались! — окружили молокососов, схватили и, зажав рты, повалили на землю, прежде чем те успели крикнуть своим. Насмешливый голос сказал по-английски: — Эти юные болваны попались все же на удочку. Полузадушенный, Сорвиголова зарычал от бешенства. — Молчание или смерть! — приказал тот же голос. — Вперед, и без шума! Сорвиголова думал о грозившей бурам опасности. Стремясь во что бы то ни стало, хотя бы ценою собственной жизни, предупредить их, он, подобно рыцарю д’Ассасу[53], ни минуты не колеблясь, отчаянным усилием вырвался из рук солдата, сжимавшего ему горло, и громко закричал: — Тревога!.. Тревога!.. Англичане!.. Солдат занес саблю и непременно рассек бы Жану голову, если бы тот не увернулся. Выхватив револьвер, юноша в упор выстрелил в противника и, понимая, что все равно пропал, воскликнул насмешливо: — Не вышло с сюрпризом, господа англичане!.. Запомните эту последнюю шутку, которую сыграл с вами Сорвиголова! Он сделал было попытку выпустить во врагов еще несколько оставшихся в револьвере пуль, чтобы как можно дороже продать свою жизнь, но множество рук уже схватили его. Десятки здоровенных кулаков обрушились и на других молокососов. Жана, вероятно, прикончили бы тут же, если бы до чьих-то ушей не дошло так гордо брошенное им «Сорвиголова». — Не убивайте его! Это Брейкнек![54] За него обещано двести фунтов! — завопил кто-то истошным голосом. Юноше повезло куда больше, чем герою Клостеркампа: хотя он криком и выстрелом предупредил своих об опасности, его не растерзали на месте. В бурском лагере уже протрубили тревогу. Мгновенно ожили окопы, загремели выстрелы, загрохотали пушки… Ночная атака была отбита. Зато навсегда умолкли креол из Реюньона и молодой итальянец Пьетро, а Сорвиголова с тремя оставшимися в живых товарищами оказались в плену. Капитан Брейкнек, как называли англичане Жана, мог самостоятельно передвигаться, остальные же были в таком состоянии, что их пришлось нести. По тому, как часто повторялось его имя в английском лагере в Ледисмите, капитан молокососов понял, что пользуется тут столь же почетной, сколь и опасной популярностью. Пленников побросали как попало в каземат, стены которого были выложены, словно блиндаж, железнодорожными шпалами, и заперли, не дав ни корки хлеба, ни глотка воды. Бедные сорванцы провели тяжелую ночь: их мучила жажда, они истекали кровью и задыхались. Сорвиголова утешал и подбадривал товарищей, насколько это было возможно, однако перевязать их раны в кромешной тьме так и не сумел. Но вот рассвело и наступил день, когда должна была решиться их участь! Первым из каземата вывели капитана Сорвиголову. Судя по доломану[55] цвета хаки и двум золотым звездам, вышитым на эполетах, его доставили к драгунскому капитану. С нескрываемой иронией разглядывал офицер командира молокососов, охранявшегося четырьмя солдатами, стоявшими прямо и неподвижно, словно деревянные истуканы, и, как и подобало истым англичанам, с надменным выражением лица. Вдоволь насмотревшись, драгунский капитан без околичностей приступил к допросу: — Значит, вы и есть тот самый француз, известный под именем «Сорвиголова», который возглавил интернациональный отряд юных волонтеров? — Да, это я! — гордо ответил Жан Грандье, глядя прямо ему в лицо. Офицер зловеще улыбнулся, вынул из внутреннего кармана доломана небольшой бумажник и достал оттуда сложенную вдвое визитную карточку. С нарочитой и насмешливой медлительностью он разогнул ее и, поднеся к глазам Жана Грандье, произнес: — Значит, вы — автор этого фарса? Сорвиголова узнал одно из пяти писем, отправленных им членам военно-полевого суда. Читатель уже знает, что в этих посланиях командир молокососов напоминал убийцам Давида Поттера о смертном приговоре, который вынес им бур, и уведомлял их о том, что он, Сорвиголова, исполняя последнюю волю своего друга, поклялся истребить их всех. Сорвиголова был оскорблен столь откровенно пренебрежительным отношением к его угрозе. — Этот фарс кончится вашей смертью! — крикнул он, покраснев. — Я капитан Рассел, — продолжал, улыбаясь, офицер, — командир второй роты седьмого драгунского полка. Как видите, осужденный на смерть чувствует себя неплохо. — Поживем — увидим, — ответил Жан. — Милый мой французик, вы — настоящий хвастун! Советую изменить тон. Взбесить меня вам все равно не удастся, честное слово! А вот кнута вы отведаете. — Человека, которого оценили в двести фунтов, не наказывают кнутом… Между прочим, голова моя сто́ит гораздо дороже. Кроме того, я — солдат и требую, чтобы со мной, как с военнопленным, обращались подобающим образом. Я столько поубивал ваших, что вполне заслуживаю этого. Офицер побледнел, закусил ус и уже без улыбки, отрывисто, точно пролаял, крикнул: — Нужна информация! Отвечайте! Отказываться не советую. Все равно заставим. — Спрашивайте! — Сколько буров против наших линий? — Не все ли равно, если восемь дней назад они сумели нанести вам сокрушительный удар, хотя их и было во много раз меньше, чем вас? Офицер побледнел еще сильнее: — Сколько у вас стволов? — Маузеровских винтовок? Не знаю. А вот ли-метфордовских — около тысячи, мы отобрали их у ваших солдат. — Последний вопрос: что стало с герцогом Ричмондским и его сыном? — Я лично приказал перенести этих двух тяжело раненных джентльменов в бурский госпиталь. Теперь они вне опасности. — Достаточно. Вы отказались ответить на два первых вопроса, и я вынужден передать вас в распоряжение Колвилла — майора третьего уланского полка. Это имя заставило молодого француза вздрогнуть. Колвилл! Еще один из убийц Давида Поттера. Сорвиголова, не скрывая ненависти, пристально взглянул на вошедшего офицера. Это был длинный, как жердь, сухопарый и желчный англичанин с высокомерным и жестоким выражением лица. Жан поклялся в душе всегда помнить о нем, если только удастся вырваться из этого осиного гнезда. — Дорогой мой Колвилл, позвольте представить вам мистера Сорвиголову, небезызвестного вам нашего будущего палача. — Вот как! — презрительно ответил майор. — Тот самый мальчишка, который осмелился послать офицерам ее величества идиотские, оскорбительные письма? Ну что же, повеселимся! — Право же, — пробормотал Рассел, — не хотел бы я очутиться в шкуре этого хвастунишки, с которым Колвилл решил развлечься! Майор поднес к губам стек[56], к рукоятке которого был прикреплен свисток. Раздалась пронзительная трель, и тотчас в кабинет влетел уланский сержант. — Максуэл, — процедил сквозь зубы Колвилл, — забери-ка этого парня и сыграй с дружками в охоту на кабана. Речь шла о свирепой, варварской забаве английских улан, которые с азартом предавались ей, заменяя дикую свинью пленными из «низших» рас. Но никогда еще, насколько известно, в роли «вепря» не выступал европеец. Бедному Жану первым из белых людей предстояло стать жертвой глумления, которому вскоре подверглись многие попавшие в плен буры. Услыхав передававшийся из уст в уста призыв «подколем свинью!», десятка два улан схватили оружие и вскочили на коней. Жана поставили лицом к полю, на котором выстроился взвод сержанта Максуэла. Майор Колвилл, желая продлить удовольствие, приказал одному из пехотинцев: — Дать ему ранец! Передавая его Жану, солдат, более человечный, чем его командир, шепнул: — Защищайся им, как щитом. Главное, не бойся и старайся парировать удары. Вокруг толпились офицеры всех родов войск, с любопытством ожидая зрелища, которое по жестокости мало с чем можно сравнить. Прозвище «Сорвиголова» не сходило с уст, но произносилось оно без ненависти, скорее с оттенком сочувствия, к которому примешивалась известная доля уважения. — Сорвиголова!.. Так это он и есть?.. Бедный парень! — Смотрите, да он совсем и не боится. Ну и храбрец! Хотите пари, Рассел? — предложил майор. — Ставлю десять фунтов, что этот мошенник пустится наутек, как лисица от гончих, и его с одного маху подколют чуть пониже спины. — Идет! — смеясь, ответил драгунский офицер. Взвод стоял в двухстах метрах от пленника. — Вперед! — проревел сержант. И взвод помчался бешеным галопом. На Жана Грандье несся ощетинившийся пиками, сверкавший сталью смерч из людей и коней. Сорвиголова заслонил ранцем грудь и, крепко упершись ногами в землю, ждал удара. И он не заставил себя ждать. Юноша почувствовал, что его буквально подбросило в воздух. Перекувыркнувшись два или три раза, он грузно рухнул на землю. Левое плечо было изодрано, правая рука кровоточила. Но все же ранец отвел и ослабил удары, направленные в грудь. Под крики «ура» уланские кони молнией пронеслись мимо, даже не задев Жана. — Вы проиграли, Колвилл! — воскликнул капитан Рассел. — Этот мошенник ведет себя неплохо. — Подождем, — с холодной ненавистью ответил майор. Оглушенный падением и тяжело дыша, Сорвиголова с трудом встал и поднял свой разодранный ранец. Он был намерен бороться до конца. Уланы не теряли даром времени: быстро повернув назад, взвод перестроился. — Вперед! — вновь скомандовал сержант. Вид крови пробудил в зрителях зверя, и первоначальное сострадание сменилось у них нездоровым интересом. Сорвиголова выпрямился огромным усилием воли и крикнул всадникам: — Трусы! Подлые, низкие трусы! — и тотчас был сбит сокрушительным ударом. Против всяких ожиданий ранец и на этот раз защитил юношу: рисуясь своим мастерством, уланы старались попадать пикой только в импровизированный щит. Все, что за ранцем, само по себе не существовало для них, ибо Жан был лишь осужденной на казнь жертвой. Несчастный мальчик был в ужасном состоянии: одежда изодрана в клочья, тело изранено. Он едва поднялся. Ноги дрожали и подгибались, взгляд налившихся кровью глаз потускнел, шум в ушах заглушал ироническое «ура», рядом валялся ранец, непомерно тяжелый для ослабевших рук. Юноша понял, что для него все кончено, сейчас его растопчут. Но он нашел в себе силы выпрямиться, скрестить на груди руки и с гордо поднятой головой повернуться лицом к уланскому взводу. Мысленно он простился с жизнью, до сих пор так улыбавшейся ему, и послал последний привет сестре и горячо любимой родине, которую ему не суждено было больше увидеть. И когда в третий раз прозвучала команда сержанта: «Вперед!» — он воскликнул: — Да здравствует Франция!.. Да здравствует свобода!.. Пригнувшиеся к шеям коней уланы проскакали уже половину расстояния, отделявшего их от Жана. Еще несколько секунд — и омерзительное преступление совершилось бы. Но между уланами и их жертвой врезался на всем скаку какой-то всадник — один из тех замечательных наездников, при виде которых невольно вспоминается легенда о центаврах[57]. Подняв стек, он повелительным тоном выкрикнул слова, заставившие атакующих остановиться, а толпу — умолкнуть: — Стоп!.. Ни с места!.. Увидев генерала — ибо всадник оказался именно им, — уланы так круто осадили коней, что те, вздыбившись, едва не опрокинулись вместе с седоками. Остановив скакуна в четырех шагах от пленника, генерал привстал на стременах и оказался на целую голову выше смешавших свои ряды кавалеристов. Красный от гнева, он прокричал, отчеканивая слова, каждое из которых хлестало, как пощечина: — Подлецы! Низкие трусы, позорящие английский мундир! Кем дозволена эта гнусность?.. Отвечайте, сержант! — Майором Колвиллом, — произнес Максуэл, превозмогая страх. — Прислать его ко мне! Немедленно! Сорвиголова окровавленной рукой отдал честь генералу. Тот, в свою очередь, поднес к козырьку каски пальцы, затянутые в перчатку, и, увидев перед собой мальчика, спросил его невольно смягчившимся голосом: — Кто вы? — Француз на службе бурской армии! — ответил пленник, держась почтительно, но с большим достоинством. — Ваше имя? — Жан Грандье, по прозвищу Сорвиголова, командир разведчиков. — Так, значит, это вы и есть знаменитый Брейкнек?.. Поздравляю! Вы храбрец! — Такая похвала, и к тому же из ваших уст, генерал… Я смущен и горжусь ею! — Вы так молоды! Право же, любого пленника вашего возраста я тут же отпустил бы на свободу. Любого, да… Но вы слишком опасный противник и слишком много причинили нам неприятностей. Я оставляю вас в качестве военнопленного, но вы будете пользоваться всеми привилегиями, каких заслуживает столь храбрый солдат. Вконец обессиленный и оглушенный, Сорвиголова с великим трудом пробормотал несколько слов благодарности и тут же, побледнев и мягко осев на землю, потерял сознание. — Юношу отправить в госпиталь! — приказал генерал. — И чтобы проявить о нем заботу, проверю лично! Слышали?.. А, вот и вы, майор Колвилл! За жестокую расправу с военнопленным отправитесь на пятнадцать суток под домашний арест. Сержант, руководивший мерзкой игрой в охоту на кабана, лишается своего звания и переводится в рядовые. Всем непосредственным участникам пакостного представления по пятнадцать внеочередных караульных нарядов. Вольно!
ГЛАВА 8
В вагоне. — На крейсере. — Плавучая тюрьма. — Бегство. — Акулы. — Подземный ход. — В женском платье. — В пригороде Саймонстауна. — Старая леди. — Новая служанка миссис Адамс.Капитану Сорвиголове было нанесено много ран, но ни одна из них не оказалась тяжелой. После пятнадцати дней лечения в госпитале почти все они зажили. Приказ генерала строго выполнялся, благодаря чему в течение двух недель юный француз был предметом особого внимания врачей, что, разумеется, немало способствовало быстрому выздоровлению Жана. В его душе навсегда осталось чувство бесконечной благодарности к великодушному джентльмену. Поднявшись с постели, Сорвиголова разделил участь трехсот буров, захваченных в плен в самом начале блокады Ледисмита. Присутствие их в осажденном городе представляло немалую обузу для коменданта, ибо, несмотря на бдительный надзор, буры то и дело совершали побеги. Для большинства беглецов дело кончилось трагической смертью, зато те, кому удавалось ускользнуть, доставляли осаждавшим важнейшие сведения о противнике. Кроме того, питание пленных значительно уменьшало запасы продовольствия, находившегося в распоряжении гарнизона. И если бы осада, как предполагалось, затянулась, это обстоятельство неизбежно вызвало бы дополнительные трудности и, возможно, привело бы к капитуляции. Поэтому высшее командование распорядилось эвакуировать всех здоровых военнопленных в Наталь, а затем на Капскую землю. В то время кольцо окружения было не столь уж плотным, и поезда время от времени прорывались в Дурбан, расположенный примерно в двухстах километрах от Ледисмита. Хотя Колензо, наиболее важный в военном отношении пункт, и обстреливался бурской артиллерией, пока он все же находился в руках англичан, и мост через Тугелу мог еще пропускать легкие составы. Пленников разместили в товарных вагонах, приставили к ним достаточное число солдат-конвоиров — и в путь! Путешествие было рассчитано на один день. Однако из-за плачевного состояния железных дорог переезд длился вдвое дольше — двое суток без хлеба и воды, в вагонах, набитых людьми, как бочка сельдями. Пленные ни на минуту не имели возможности выйти оттуда. Подумай, читатель, ни на минуту! Легко представить себе, в каком положении находились все эти несчастные, усталые, измученные голодом и жаждой и задыхавшиеся в смраде, тогда как англичане, удобно разместившись в блиндированных[58] вагонах, ели, пили и шумно веселились. Так по-разному складываются судьбы народов, натравленных друг на друга страшным, коварным чудищем — войной! В Дурбане английские власти приступили к санитарной обработке пленников и чистке вагонов. И сделали это очень просто: в вагоны направили рукава мощных насосов, служивших для мойки кораблей в доках, и стали обильно поливать водой все и всех. Насквозь промокшие, ослепленные с силой хлеставшими по ним струями, буры отбивались, падали, фыркали, как тонущие собаки. Но гигиена — превыше всего! А теперь обсушивайтесь, если сможете, — и за еду! Огромные котлы были наполнены слипшимся в густую плотную массу протухшим и полусырым рисом. Поскольку ложек не полагалось, пленные черпали отвратительное месиво прямо руками и, давясь от жадности, заглатывали его, что красноречивей всяких слов свидетельствовало о перенесенной ими голодовке. — Плохое начало! — ворчал Сорвиголова. — Профессия пленника меня мало устраивает, и я, разумеется, не заживусь тут. Пленных связали попарно и теми же веревками соединили последовательно одну пару с другой, так что весь конвоируемый отряд имел вид индейской цепочки:[59] что и говорить, практичные люди эти англичане! Несчастным объявили, что их посадят на военный корабль, стоявший под парами на рейде, и повели. Посмотреть на пленных сбежалось все население города, выстроившееся тесными рядами по обеим сторонам дороги. Сколь горек был путь побежденных среди враждебной и насмешливой толпы! Ее жестокость не знала границ, оскорбления так и сыпались на бедняг, чья ужасная участь, казалось бы, должна была вызвать в людях святое чувство сострадания. Под палящими лучами жаркого солнца, от которого трескались губы и дымилось клубами пара мокрое платье, пленников разместили по шаландам, и мрачный караван битком набитых барж подошел вскоре к крейсеру «Каледония». Узники войны слегка приободрились: наконец-то можно хоть немного отдохнуть, поспать, свободно растянувшись, забыть про голод и оскорбления конвоиров. Но не тут-то было! Опять нумерование, перекличка и та же «куча мала», на этот раз — в бронированной башне, без воздуха, без света, откуда видны лишь смутно вырисовывавшиеся жерла пушек, нацеленных на живую массу людей. Протяжно завыла сирена, заскрипела якорная цепь, раздалось монотонное сопение винта. Началась килевая и бортовая качка — предвестница морской болезни. «Каледония» со скоростью акулы понеслась по волнам бурного Индийского океана. Буры рыдали, как дети. Этим простым людям, никогда не видавшим моря, казалось, что их навсегда отрывают от родной земли, обрекая на вечное изгнание. Корабль, немилосердно дымя, пожирал милю за милей, держа курс на Саймонстаун — морской форт в тридцати шести километрах к югу от Кейптауна, а от Дурбана — в тысяче четырехстах километрах, или в сорока восьми часах пути, возможно, еще более тяжкого, чем переезд по железной дороге. По прибытии крейсера на рейд пленных разместили на четырех понтонах[60], стоявших на якоре в трех милях от берега, а «Каледония» отправилась в обратный путь. Сорвиголова и шестьдесят пленных буров оказались на понтоне «Террор», представлявшем собой подлинный ад, что вполне оправдывало его название. Грязная плавучая клетка была до отказа набита людьми. Тела их покрывали раны, по которым ползали насекомые. Невыносимая жара сводила с ума, питание отпускалось лишь в количестве, необходимом, как изысканно изъяснялись англичане, для «поддержания жизни». Иначе говоря, паек спасал от голодной смерти, но не более. Такая норма имела вполне разумное обоснование. Во-первых, это исключительно экономно, и, во-вторых, ослабевшие от постоянного недоедания люди не могли бежать. А если они и мерли как мухи, — «тем хуже для них!». Похороны были недолгими: открывали орудийный люк и со смехом: «Тем лучше для акул», — бросали тело в залив, воды которого кишели хищными рыбами. Уже через сутки Сорвиголова почувствовал, что не в силах больше терпеть грубого обращения, голода, вшей, жалкого вида товарищей по заключению, похожих скорее на призраков, чем на людей, и решился на побег. Утонуть, быть расстрелянным, съеденным акулами — и то лучше, чем медленное и мучительное умирание. Он поделился своим намерением с несколькими бурами, но те не захотели рисковать: «Террор» стоял на якоре посередине залива шести милей шириной, значит, до берега было по крайней мере три мили. Хороший пловец и мог бы, пожалуй, доплыть, несмотря на акул, часовых и сторожевые суда. Но как проникнуть в Саймонстаун? В этом городе — военном порту, арсенале и судостроительной верфи одновременно, — кажется, не было такого уголка, который не охранялся бы со стороны моря. Но Жан не колебался: будь что будет, а в ближайшую же ночь он бежит! Товарищи отдали ему веревку, прихваченную где-то одним из пленных, у которого в первые дни заключения не хватило решимости бежать, а теперь не было на это сил. Наступила ночь. В трюме, едва освещенном двумя фонарями «летучая мышь», было темно. Сорвиголова разделся донага и ремнем привязал за спину свою одежду: штаны, куртку, шляпу, шерстяную фуфайку. Башмаки он не взял. Простившись с товарищами, которые, стоя вокруг, не переставали восхищаться его силой и отвагой, юноша пробрался к кабельтову[61], свисавшему из пушечного люка до самой поверхности моря. — Кто там? — раздался сверху окрик часового, стоявшего на баке. Казалось бы, элементарное благоразумие должно было подсказать Жану вернуться в трюм и переждать несколько минут. Куда там! Он с такой быстротой скользнул по тросу, что содрал кожу с ладоней, но не издал ни вскрика, стона и даже вздоха. Часовой, услышав всплеск воды, решил, что это резвятся акулы, и успокоился. Теплая, насыщенная солью вода, будто серная кислота, обожгла ободранные руки беглеца. «Ничего, соль обеззараживает раны», — подумал, ныряя, Жан. Он проплыл под водой около пятидесяти метров, потом вынырнул, набрал воздуха и снова ушел под воду. Бр-р!.. Под ним, над ним, во всех направлениях тянулись и пересекались длинные фосфорические полосы. Акулы! Не очень, правда, крупные и не очень проворные, но сколько же их было тут, этих невероятно прожорливых бестий! Беглецу вспомнился совет побольше барахтаться, вертеться, дрыгать ногами и, наконец, в тот момент, когда акула повернется брюхом вверх, чтобы схватить добычу, нырнуть поглубже. И он вертелся что было мочи, дрыгал ногами, барахтался. Но кругом стояла такая темень, что разглядеть этих морских гиен не было никакой возможности, и об их присутствии говорила лишь фосфоресценция. Проплыть три мили — это не шутка для мальчика шестнадцати с половиной лет, да к тому же едва оправившегося от ран и изнуренного двумя мучительными переездами — сначала в вагоне для скота, потом в бронированной башне крейсера, не говоря уже о том, что все последние дни он почти ничего не ел. Его преследовала целая стая акул. Были минуты, когда юноша холодел от страха, чувствуя прикосновение плавника или слыша, как лязгают зубы хищника. Морская вода, разъедавшая израненные руки, причиняла невыносимо острую боль. И все же наш храбрый Сорвиголова бесстрашно плыл вперед. Трудно было дышать, ломило все тело. Волны то и дело опрокидывали юношу, ударяя по тюку с одеждой, который он тащил на спине, как улитка раковину. Береговые огни уже были недалеко. Самое трудное позади. Мужайся же, Сорвиголова! Крепись! Еще четверть часа — и ты спасен! К несчастью, чтобы уберечься от шнырявших вокруг акул, беглецу приходилось прибегать к довольно неритмичной гимнастике, которая вконец истощила его силы. Хлебнув изрядную порцию морской воды, он понял, что тонет. Жан тут же прекратил барахтанье, скоординировал свои движения и снова поплыл вперед. Но через какое-то время его опять потянуло вниз. Еще раз он глотнул непроизвольно соленой воды. Закашлялся. Сперло дыхание. Отяжелели ноги… «Неужели конец? — подумал наш герой. — Скверная штука!.. А впрочем, все лучше, чем заточение!» Бум! — загремел и отдался по воде первый пушечный выстрел, прорезавший огненным пламенем ночную тьму. И в то же мгновение вспыхнули электрические прожекторы на кораблях и в форту, по заливу забегали широкие яркие полосы, и стало светло как днем. Неужели конец? Столько усилий — и все напрасно! Но в ту самую минуту, когда Сорвиголова уже считал себя погибшим, его ноги коснулись твердой почвы. Помутневшим взором юноша различил в темноте за застывшим посреди гавани ослепительным лучом прожектора какую-то темную массу. То были слегка выступавшие из воды прибрежные валуны. Жан вылез и растянулся на них, чуть живой. Зарывшись из предосторожности в густые водоросли, он тут же заснул мертвым сном — под грохот пушек и под лучами электрических прожекторов. Казалось, пушки гремели, а прожекторы светили во славу его мужества! Проснулся Жан утром. И хотя на небе сияло солнце, морские водоросли отлично скрывали беглеца от постороннего взгляда. Юноша чувствовал себя менее утомленным, но зверски голодным — до боли сводило живот и бурчало в кишках. Кругом царила удивительная тишина. Оглядевшись осторожно, Жан убедился, что его пристанище, вплотную приткнувшееся к крепостной стене, нельзя было увидеть ни через бойницы, ни даже с вышки форта. Обнаружив в воде множество устриц, Сорвиголова, воспользовавшись шумом прибоя, стал разбивать камнем раковины и заглатывать с жадностью одного моллюска за другим. Этот своеобразный завтрак длился довольно долго. И неудивительно, если принять во внимание аппетит беглеца, род пищи и способ ее приготовления. Насытившись, юноша снова уснул под спасительным покровом морских растений. Всего на каких-нибудь три часа — небольшой послеобеденный отдых! Выспавшись, молодой человек, уверовав в свою относительную безопасность, облачился в промокшее платье и приступил к разведке, чтобы получше запомнить расположение строений в крепости, из которой выбраться намеревался этой же ночью. Но, прокрадываясь вдоль стены, он внезапно провалился по самые плечи в яму. Прямо напротив него начиналась высеченная в камне крутая лесенка, ведшая к потерне[62]. «А что, если взобраться!» — подумал Сорвиголова. На первый взгляд эта мысль может показаться безумной. Однако чаще всего бывает так, что самые дерзкие замыслы осуществляются наиболее легко. Когда начало темнеть, юноша снова спрыгнул в яму и, тихо ступая, поднялся по лесенке в потерну. В ее стене имелось окно в форме бойницы, откуда раздавался звон стаканов и тарелок. Заглянув внутрь, Сорвиголова увидел пустое помещение с полуоткрытой дверью, за которой, по-видимому, и располагалась кухня или столовая, а может быть, и кладовая, и тотчас же пролез в окно. Убедившись, что в соседней комнате тоже никого нет, вошел в нее. На столе стояли наполненные какой-то едой судки, на стене висели серое домашнее платье и белый передник, оставленные, очевидно, служанкой. У Жана мелькнула нелепая, а быть может, и гениальная мысль. Смельчак влез в платье прямо в своей одежде, взял в руки судки и решительно толкнул еще одну дверь. Очутившись в узкой открытой галерее, он прошел по ней на небольшую площадку и, низко опустив голову, прошмыгнул мимо стоявшего там часового. — Как вы сегодня торопитесь, мисс Мод! — заметил ему вдогонку солдат. Округлые щеки, свежий цвет и женственные черты юношеского лица Жана — все это при сумеречном свете ввело англичанина в заблуждение. Сорвиголова пересек широкий двор, вышел через ворота на подъемный мост и удачно проскользнул мимо другого поста. — Спокойной ночи, мисс Мод! — донеслось ему вослед. С сильно бьющимся сердцем, сам не веря в свое освобождение, Жан шагал по улице. И если бы не боль в ладонях с содранной кожей, все было бы прекрасно. Он превратился в известную всему гарнизону мисс Мод, чье платье надежно защищало беглеца от подозрительных взглядов. Кроме того, в его распоряжении оказался изрядный запас съестного, достаточный, чтобы накормить целый взвод английских солдат. Он шел наобум, стараясь как можно быстрее покинуть город, и вскоре оказался на широкой дороге с жилыми домами по обеим сторонам. Очевидно, это было предместье Саймонстауна. Послышались паровозные гудки и лязг вагонов: где-то поблизости находился вокзал. А Жан все топал и топал, преследуемый поднимавшимся из судков вкусным, щекочущим ноздри запахом. «А не присесть ли пообедать? — подумал он. — Мой желудок уже давно успел позабыть об устрицах, и я голоден, как акула». Юноша подошел к особняку, окруженному легкой проволочной изгородью, обрамленной пышно разросшейся высокой душистой травой. Теплая лунная ночь… Как чудесно жить на свете! Особенно узнику, вырвавшемуся из плавучего каземата. Расположившись на лужайке перед коттеджем, Сорвиголова открыл судки, извлек оттуда свежеиспеченный хлеб, нежный и сочный ростбиф, полцыпленка, сыр, две бутылки эля[63] и прочие деликатесы, неопровержимо свидетельствовавшие о разнообразии гастрономических вкусов солдат ее величества. Юноша с жадностью заправского обжоры набросился на съестное, оросил его доброй порцией пива и нашел, что первое бесподобно, второе же — божественно. Наевшись досыта, он уснул сном праведника. Разбудил его, уже на рассвете, яростный собачий лай. Но Жан уже выспался и чувствовал себя бодрым и веселым. Потянувшись, он взглянул на датского дога, свирепо скалившего из-за изгороди клыки. В нижнем этаже здания открылась дверь, и в сад вышла старая леди, высокая, сухопарая, седая, с длинным, оседланным очками носом, с огромными широкими зубами, похожими на кости домино, и с не менее внушительных размеров руками и ногами, — словом, истая дочь Альбиона[64]. Увидев приближавшуюся к нему даму, Сорвиголова мысленно сказал себе: «Не плошай, старина!» Женщина, погладив и успокоив ласковым словом собаку, обратилась к нему: — Кто вы и что вам нужно, дитя мое? Сорвиголова сделал реверанс, потупил глаза и, приняв скромный вид, который так удивительно шел к нему, тоненьким фальцетом ответил: — Я несчастная служанка, миледи… Господа прогнали меня. — За что же? — Я наполняла лампу и нечаянно пролила керосин, он вспыхнул. Весь дом сгорел бы, если бы не эти бедные руки, которые я сожгла, гася огонь… Нет, вы только взгляните на них, миледи! — О да, это ужасно! — посочувствовала старушка. — И, несмотря на это, меня выгнали, не заплатив ни шиллинга[65], не дав мне белья, почти без одежды! — Жестокие люди!.. Но почему вы так плохо говорите по-английски? — недоверчиво спросила она. — Очень просто, миледи: я из Канады, а родители мои — французы по происхождению. И мы никогда не разговариваем дома по-английски… Мое имя Жанна Дюшато. Я родилась в городе Сент-Бонифейс, что близ Виннипега[66]. — Что же мне с вами делать, дитя мое? Хотите поступить ко мне в услужение? — Как мне благодарить вас, миледи?! Таким образом знаменитый Брейкнек, отважный капитан Сорвиголова, превратился в служанку миссис Адамс, старой леди из Саймонстауна. Чего только не случается в жизни!
ГЛАВА 9
Образцовая служанка. — Тоска. — Телеграмма. — Поспешный отъезд. — Санитарный поезд. — На пути в Кимберли. — Военная машина. — Трудное путешествие. — Смерть сына. — Несчастная мать. — Бегство. — Между двух огней. — Белый чепчик. — Походный марш молокососов.Сорвиголова, не видя другого выхода, вынужден был примириться с более чем скромным положением. Правда, та легкость, с которой он сошел за девушку, немного удивила его, а может быть, даже задела где-то в глубине души его самолюбие. Подумайте только: капитан разведчиков, герой осады Ледисмита, солдат, бежавший из плена, — и вдруг служанка! Но события следовали с такой быстротой, что у него не хватало времени задумываться. Хозяйка уже ввела его в дом. — Я буду платить вам один фунт в месяц. Согласны? — На старом месте мне платили полтора, — не моргнув, ответила мнимая Жанна Дюшато. — Но леди так нравится мне, что я согласна и на один фунт. — Отлично! Платье у вас еще довольно чистое, оставайтесь в нем. Я дам вам белье, башмаки и чепчик… Да, да, вы будете носить чепчик. Я на этом настаиваю. А почему вы так коротко острижены? — У меня был солнечный удар, и косы мешали прикладывать лед, пришлось их обрезать. О, если бы вы только видели, миледи, какие они были длинные да толстые! А какого красивого, золотистого цвета! Я так горевала!.. — Довольно, довольно! Уж не кокетка ли вы? Терпеть этого немогу! — Я?! Кокетка?.. Господь с вами, миледи! Я не ношу даже корсета. — И хорошо делаете! Девушка вашего класса должна быть скромна, трудолюбива, бережлива, предана своим господам… — Надеюсь, миледи скоро убедится, что я обладаю всеми этими качествами. — Отлично!.. Вот кухня. Приготовьте чай. Эта задача — сущий пустяк для капитана Сорвиголовы: в бытность свою в Клондайке он приобрел недюжинные кулинарные познания. Первый успех на новом поприще! Чай заварен отменно, тосты запечены в меру, ветчина нарезана тонкими, как кружева, ломтиками, а сгущенное молоко разбавлено водой в должной пропорции. Чепчик, надетый на слишком длинные для мужчины и слегка вьющиеся волосы, — новый успех! Теперь, когда Сорвиголова оставался один, он тщательно отрабатывал перед зеркалом все манеры служанок: придавал смиренное выражение лицу, опускал глаза и аккуратно поправлял чепчик, тщательно следя за тем, чтобы привычным мужским движением не сдвинуть набекрень свой более чем скромный головной убор. Переодевание удалось на славу! В этой высокой и сильной девушке, немного нескладной, молчаливой, застенчивой и охотно бравшейся за любую работу, трудно было бы узнать молодого борца за независимость Трансвааля. Настоящая находка эта служанка, мастерица на все руки! Герои трагических приключений в «Ледяном аду» — Леон Фортен, Поль Редон, Лестанг, Дюшато, Марта Грандье, настоящая Жанна Дюшато, Тоби номер два, Серый Медведь, — поглядели бы вы на вашего Жана, охотника на гризли[67], победителя бандитов «Красной звезды», в комичном облике служанки! Или вы, отважные молокососы и мужественные буры, оплакивающие храбрейшего из храбрых — капитана Сорвиголову! Что стало бы с вами, если бы вы увидели, как он в белоснежном чепце, завязанном бантиком под подбородком, в юбке до пят и переднике орудует возле печки, бежит на звонок и отвечает своим фальцетом: «Да, миледи… Нет, миледи…» Нетрудно представить, какой бешеный взрыв хохота вызвал бы у вас этот маскарад, сменивший драму воинской жизни. А между тем для самого Жана Грандье в этом не было ничего забавного. Дни шли за днями, не внося никаких изменений в несуразное и полное риска существование, грозящее каждое мгновение при малейшей оплошности с его стороны превратиться в настоящую катастрофу. Для человека более зоркого, чем старая леди, достаточно было бы одного неловкого движения или случайно вырвавшейся нотки мужского голоса, чтобы тотчас же разгадать тайну, скрытую от миссис Адамс. А это повлекло бы за собой страшные для беглеца последствия. К счастью, вечно молчаливая, всегда чем-то озабоченная и часто грустившая леди жила в полном одиночестве. Провизию ей доставляли на дом. Единственное занятие затворницы состояло в усердном чтении описаний военных событий в местных газетах. Терпение Жана истощалось. С каждым днем он ощущал все острее безвыходность и нелепость своего положения. Отважного юношу тянуло на поле битвы, откуда доходили до него лишь отрывочные известия о новых победах, одержанных друзьями-бурами. Но как бежать из Саймонстауна без денег, без платья? Как, ускользая от цепких лап полиции, пройти через Капскую землю, где каждый незнакомец оказывался под подозрением? Или, может, по-прежнему оставаться служанкой миссис Адамс? Нет, лучше смерть! Лучше сто смертей, только не это! На шестнадцатый день своего пребывания в коттедже Жан уже готов был совершить безумный шаг, как вдруг к нему явилось неожиданное спасение в образе почтальона. Телеграмма для миссис Адамс! Леди лихорадочно открыла ее, прочла и в полуобморочном состоянии упала на кушетку. — Сын… Бедное дитя!.. Боже, помоги нам! — бормотала она. Лжеслужанка привела хозяйку в себя: — Миледи, что с вами? — Мой сын, артиллерийский капитан, тяжело ранен под Кимберли, осажденным этими проклятыми бурами. «Артиллерийский капитан Адамс? Знакомое имя! Уж не он ли был в пятерке палачей Давида Поттера?» — размышлял Жан Грандье. Но раздумывать было некогда. Старая англичанка уже взяла себя в руки и поднялась. — Немедленно туда! Ухаживать за ним, утешать, окружить его материнской заботой… Да, да, как можно скорей! — твердила она. — Готовы ли вы сопровождать меня, Жанна? Сорвиголова замер от восторга при мысли, что ему представляется возможность без малейшего риска, без затрат и быстро вернуться на театр военных действий. — О, конечно, миледи! — ответил он. — Благодарю вас, дитя мое, вы славная девушка! Ничего лишнего не брать, только самое необходимое. По небольшому саквояжу для каждой из нас — и в путь! Миссис Адамс наскоро уложила вещи, набила карманы золотыми монетами, заперла дом на ключ, который отдала соседям, поручив их же заботам собаку, и устремилась на вокзал. От Саймонстауна, или, вернее, от Кейптауна, до Кимберли примерно девятьсот километров по прямой и тысяча сто по железной дороге, — столько же, сколько от Парижа до Ниццы. Но продолжительность путешествия не всегда соответствует расстоянию. Если, например, из Парижа до Ниццы экспрессы идут восемнадцать часов, то даже в мирную пору самым скорым поездам на путь из Капа[68] до Кимберли требуется не менее тридцати часов, а в военное лихолетье — и того более. Человек, который не принадлежал к военному сословию — не был солдатом, хирургом или газетным корреспондентом, считал себя счастливцем, если ему удавалось попасть на поезд. Именно перед такого рода затруднением и очутилась старая леди со своей служанкой. Шум стоял невообразимый: протяжно выли сирены, лязгали вагоны, громыхали поворотные круги. Каждую минуту отходили от дебаркадеров[69] и медленно двигались на север поезда, набитые солдатами и трещавшие под тяжестью пушек и снарядов. Напрасно бедная мать бегала от одного железнодорожника к другому, расспрашивала, умоляла, совала деньги. Все составы были загружены до отказа: среди этого невероятного нагромождения смертоносных машин и пушечного мяса не нашлось бы места даже для крысы. Старушка, совсем отчаявшись, пустилась в слезы при мысли, что ей никак не попасть туда, где страдают и терпят жестокие лишения несчастные жертвы войны, как вдруг перед ней остановился с почтительным поклоном человек в форме капитана медицинской службы. Это был знакомый миссис Адамс военный хирург. — Доктор Дуглас! Если бы вы только знали!.. — воскликнула леди. — Миссис Адамс! Какими судьбами? Вы покинули Англию? — Да. Чтобы отыскать дорогого Дика. Он тяжело ранен под Кимберли, а я не могу поехать к нему. Мне повсюду отказывают. Подумайте только: нет места для матери, которая хочет повидать умирающего сына! Как жестока она, эта война! — Так едемте со мной, миссис Адамс! Через десять минут в Магерсфонтейн отправляется санитарный поезд номер два. Я его начальник. И будьте уверены, уж у меня-то найдется местечко для матери лучшего друга. — Да благословит вас Бог, доктор! Врач подхватил леди под руку и повел к поезду, а нагруженная двумя саквояжами лже-Жанна замыкала шествие. Расталкивая толпу, наше трио направилось на запасной путь, где уже пыхтел и содрогался под парами паровоз, подцепленный к кухне, аптеке и двенадцати просторным, оборудованным двухъярусными койками, вагонам с красным крестом на дверцах. Два хирурга, четыре сестры и двадцать четыре санитара поджидали там своего начальника. Больные пока, естественно, отсутствовали. Не успели доктор Дуглас, миссис Адамс и лже-Жанна разместиться в одном из вагонов, как раздался гудок, и состав мягко покатил по единственному еще свободному пути. Если ничего не случится, поезд будет останавливаться лишь для того, чтобы набрать воды или сменить локомотив, поскольку обладал вполне обоснованным правом обгонять другие составы, которые должны были почтительно уступать ему дорогу. Паровоз мчался на всех парах через горы и долины, мимо городов, сел и деревушек, догоняя и обгоняя воинские составы, следовавшие один за другим. Сорвиголова, в ком проснулся дух разведчика, не в силах был даже сосчитать эти поезда, количество которых изумляло, а еще больше тревожило его. Какая напряженная жизнь, что за неистовое движение царили на стальных путях! Военные, скот, фураж, продовольственные запасы — целая армия, да нет, несколько армий устремились в маленькие южноафриканские государства! Вся Англия, вся Британская империя вместе с колониальными войсками шла на приступ Трансвааля и Оранжевой Республики. Грандиозное, потрясающе жуткое зрелище! Канадцы, африканцы, австралийцы, бирманцы, индусы вперемежку с бесчисленными жителями метрополии! И все пели. Впрочем, солдаты, идущие в бой, всегда поют: ведь надо же как-то забыться. Но, увидев красные кресты на дверцах мелькавших мимо вагонов, они мгновенно умолкали: санитарный поезд сдергивал завесу с жестокой действительности, ожидавшей их впереди. «Бедные буры!» — с грустью думал Сорвиголова, глядя на всю эту мощь, на огромное скопище людей. Тут, как нигде, чувствовалась железная решимость врага победить любою ценой, даже если бы для этого пришлось пожертвовать последним золотым и последним солдатом. Чтобы обеспечить безопасность движения, специальные воинские части охраняли железнодорожные пути, вдоль которых повсюду виднелись сторожевые посты, окопы, редуты для защиты виадуков, мостов, туннелей и станций. В целом это была прекрасно продуманная система неприступных укреплений. — Сколько же тут солдат! — забывшись, прошептал Сорвиголова, но голос миссис Адамс вывел его из раздумья: — Жанна, сходите за чаем! Жанна?.. Ах да! Ведь он все еще служанка у старой леди. В санитарном поезде жизнь протекала как на корабле. Персонал ел, пил и спал, не выходя из вагона. А лже-Жанне по-прежнему приходилось прислуживать хозяйке. Впрочем, не такое уж это было тяжелое бремя. Миссис Адамс не отличалась требовательностью, к тому же все необходимое находилось под рукой. Старуха совсем ушла в свое горе. Снедаемая тоской и тревогой, она целые часы проводила в молчании. Ей казалось, что поезд совсем не двигается. Каждую минуту она спрашивала себя: «Успею ли?» А между тем состав несся с поразительной скоростью: двадцать пять миль в час, более сорока километров! Просто чудо в условиях войны. До железнодорожного узла Де-Ар он прошел более восьмисот километров, не потеряв ни единого часа. Но тут с графиком было покончено, и дальше приходилось идти наудачу: эшелон приближался к театру военных действий. До английской передовой оставалось еще около двухсот пятидесяти километров, но казалось, что образовавшаяся на путях плотная пробка никогда не рассосется. Санитарный поезд, свистя, шипя, фыркая, то пробивался вперед на десяток километров, то отползал назад километра на два, чтобы потом снова пойти в нужном направлении и благодаря настойчивости и мастерству машиниста достигнуть наконец реки Оранжевой. Составу удалось проскочить через мост, и он продолжал свой путь с бесконечными предосторожностями, то и дело топчась на месте. Это начинало действовать на нервы. Создавалось впечатление, будто исполинская черепаха старается побить рекорд медлительности. В Бельмонте стояли три часа. Все наспех проложенные саперами боковые пути были забиты вагонами. Но как только между двумя составами показался просвет, санитарный поезд проскользнул в него и со скоростью тачки, подталкиваемой инвалидом, с грехом пополам дотащился до Граспана. Новая остановка, на этот раз на четыре часа! Опять протяжные свистки, лязг тормозов, выхлопы пара, внезапные толчки, рывки с места и прочие прелести. Все чаще попадались обугленные и изрешеченные снарядами станционные постройки, все сильнее подскакивали вагоны на исправленном кое-как полотне. Было с чего сойти с ума! Но, пусть и медленно, поезд все же шел. А вот и Моддер — река, известная теперь во всем мире. Между двумя крутыми берегами катила она свою красноватую муть — человеческую кровь, смешанную с охрой вельдта. Разрушенный бурами мост восстановили, и тоже на скорую руку. Поезд с огромными предосторожностями пробирался по шпалам. Теперь он был всего в восемнадцати километрах к северо-западу от укрепленного лагеря в Магерсфонтейне. Недремлющее око командира разведчиков высматривало случай для побега. Доктор Дуглас расспрашивал всех встречных о своем друге. Старая мать, обессиленная тревогой, была не в состоянии произнести ни слова. — Не слышали ли чего о капитане Адамсе? — кричал доктор проходившим мимо раненым офицерам. — Нет. — Адамс, артиллерийский капитан с четвертой батареи, — настаивал Дуглас. — Знаем только, что батарея сильно пострадала, но о капитане ничего не слыхали. Немного дальше — снова тот же вопрос и тот же ответ. Миссис Адамс рыдала. Бедная женщина в отчаянии: она постигла наконец оборотную сторону воинской славы, оплачиваемой кровью сыновей и материнскими слезами. Навстречу попадались платформы с пленными бурами. Одни конвоиры пели иронические куплеты по адресу мистера Чемберлена и лорда Солсбери[70], другие горланили «Правь, Британия!», с которой чередовался гимн «Боже, храни королеву!». Солдаты словно жевали слова, выплевывая отдельные слоги, и, как пули, бросали в лицо пленникам относившиеся к Англии эпитеты «победоносная» и «прославленная». А те только пожимали плечами. Эти песни причиняли душевную боль миссис Адамс, воинственные чувства которой, еще недавно столь пламенные, совершенно испарились во время скорбного пути. Наконец они в Магерсфонтейне, в укрепленном лагере. Здесь, раскинувшись веером запасных путей, заканчивалась главная магистраль. — Где Адамс?.. Кто знает, где капитан Адамс из четвертой батареи? — без передышки выкрикивал доктор Дуглас. — Я знаю, — ответил вдруг один сержант. — Он ранен в грудь пулей навылет. Лежит в дивизионном госпитале, в Олифантсфонтейне. — Благодарю! А как его состояние? — Безнадежен. Может, уже и умер. — Тсс… тише! Тут его мать. Но несчастная женщина уже услыхала. Душераздирающий вопль вырвался из ее груди: — Нет, нет, неправда! Мой Ричард… Его не могли отнять у меня! Идемте же к сыну!.. Скорее, доктор, умоляю! Вылечите его! Я знаю, ваше искусство способно творить чудеса, так спасите же мальчика!.. — Располагайте мною, миледи, — грустно ответил доктор. — Достану только коляску, и поедем. Экипаж скоро нашелся. Это была санитарная повозка, которую предоставил в распоряжение доктора один из его собратьев по ремеслу. Олифантсфонтейн находился в тридцати километрах, в часе пути. Доктор и миссис Адамс со служанкой добрались туда без помех. На высокой мачте над дивизионным госпиталем развевался флаг с красным крестом. — Он тут… — чуть слышно прошептала миссис Адамс. Опираясь на руку доктора, она в полуобморочном состоянии вошла в госпиталь. Сорвиголова все с теми же двумя саквояжами остался у входа. До аванпостов буров — рукой подать, каких-нибудь два километра к северо-востоку, а возможно, и ближе. Соблазн был велик. Около госпиталя рыла копытами землю великолепная офицерская лошадь, привязанная недоуздком к столбу. Весь этот участок, отведенный для раненых, был почти безлюден. Искушение удрать все сильнее мучило Жана. Из госпиталя донесся душераздирающий вопль. То миссис Адамс остановилась возле санитара, прикрывавшего простыней лицо только что скончавшегося раненого. Несчастная мать узнала своего сына, отнятого у нее войной, развязанной английскими биржевиками. — Ричард! — нечеловеческим голосом выкрикнула миссис Адамс и упала, точно сраженная громом. — Несчастная мать… — прошептал доктор. И пока санитар укладывал на койку старую леди, которая была в обмороке, доктор Дуглас обратился к вошедшему врачу: — Капитан Адамс был моим лучшим другом. Отчего он погиб? — От пули необычной величины и совсем не военного образца. Вероятно, ее выпустили из одного из старинных голландских ружей — «роеров». Рана оказалась неисцелимой. Разговор врачей прервали крики и бешеный конский топот. Это Сорвиголова, воспользовавшись отсутствием часовых, подошел к лошади, отвязал ее от столба и, несмотря на то, что юбка сильно стесняла его движения, одним прыжком вскочил в седло. Чистокровный конь, разгоряченный сильными ударами, которые Сорвиголова под прикрытием юбки непрерывно наносил ему каблуками, пустился с места в карьер. Прохожие, видевшие эту мчавшуюся верхом женщину, не могли сообразить, в чем дело, тем более что Сорвиголова все время выкрикивал своим фальцетом: — Остановите лошадь!.. Я служанка миссис Адамс!.. Остановите!.. Умоляю!.. Однако никто так и не решился остановить взбесившуюся, как видно, лошадь. Люди склонны были скорее посмеяться над ошалевшей от страха потешной амазонкой. Ухватив коня за холку, подскакивая при каждом прыжке и ежесекундно рискуя свалиться, лжеслужанка голосила во всю глотку, в то же время незаметно и с изумительной ловкостью управляя конем. Зеваки, заранее предвкушая удовольствие, тщетно ждали неизбежного падения наездницы. А конь, все более горячась, набирал скорость. Он мчался вихрем, проходя не менее восьмисот метров в минуту, и вот-вот должен был перемахнуть через английские позиции. А Сорвиголова все орал уже охрипшим голосом: — Остановите!.. Спасите служанку миссис Адамс!.. Он пронесся мимо небольшой группы кавалеристов. Один из них, внимательно наблюдавший за наездницей, воскликнул вдруг: — Глядите-ка, эта женщина держится в седле с ловкостью циркача! Нас провели — это шпион!.. Вперед! В погоню! За мной!.. Кавалеристы энергично пришпорили коней, и погоня началась. Раздались револьверные выстрелы. Пули, пущенные на полном скаку, редко достигают цели, и все же они свистали у самых ушей беглеца. «Черт возьми! Дело как будто портится», — подумал Сорвиголова, пригибаясь к шее лошади. Конь домчал его до траншеи, к стенке которой прильнули шотландцы. Двое из них попытались преградить путь штыками. Но Сорвиголова с непостижимой силой и ловкостью заставил послушное животное одним броском перескочить укрытие, оставив позади солдат и штыки. — Огонь! — прокричал командир шотландцев. Загремели сотни выстрелов. Однако, как всегда бывает в таких случаях, солдаты, поторопившись, лишь щегольнули друг перед другом своими промахами. А тут и буры, со своей стороны, подняли пальбу, и наш бедный Сорвиголова очутился между двух огней. Соратники были сейчас для Жана страшнее, чем враги — англичане. Как дать им знать, что он свой? Как прекратить эту стрельбу, которая при исключительной меткости буров могла оказаться для него гибельной? У него не было белого платка, зато нашелся чепчик! Сорвав его с головы и держа за одну из тесемок, Жан принялся отчаянно размахивать им в знак мирных намерений. Огонь тотчас прекратился. И вовремя! До трансваальских линий оставалось всего триста метров. Пораженный в грудь, конь Жана хрипел и припадал на ноги. Еще минута — и он упадет. Беглец соскочил на землю, скинул с себя женское платье и предстал перед бурами в шерстяной рубашке и в засученных до колен штанах, сохранив только чепчик, которым вертел, как пращой. Так добежал он до траншеи, где его весьма неучтиво схватили руки друзей. — Кто ты? — основательно встряхнув его, спросил обросший до самых глаз бородатый гигант. — Капитан Сорвиголова, командир разведчиков. — Врешь!.. А пароль знаешь? — Болван! Ты, может быть, думаешь, что англичане сообщили его мне? Пароль не знаю, но зато могу исполнить марш разведчиков. И звонким голосом он затянул веселую песенку, которая разнеслась далеко по окопам, вызывая улыбку на хмурых лицах буров:
Конец первой части
Часть вторая БОРЬБА ИСПОЛИНОВ
ГЛАВА 1
Еще одно сражение. — Форма цвета хаки. — Хаки как явление. — Снова шотландцы. — «Роер» Поля Поттера. — Белые шарфы. — Двенадцатый, — Человек чести. — Смерть храбреца. — Поражение. — Упрямство. — Псалом. — Пророчество.Под Кимберли стояли обе армии — буров и англичан. Их столкновение было неизбежно. Лорд Метуэн[71] готовился освободить город, осажденный войсками Кронье[72], тот же был намерен непоколебимо защищать свои позиции. Регулярная армия англичан, точно так же, как и добровольческая армия буров[73], спешно заканчивала последние приготовления к бою. Над обоими лагерями нависла зловещая тишина, всегда предшествующая урагану сражения. Буры, эти сознательные противники наступательной стратегии, все свои надежды возлагали на оборону. Надежно укрытые скалами, холмами, пригорками и окопами, они спокойно поджидали англичан, внимательно следя за их передвижением. И все же добровольцы были немного сбиты с толку. Их противников словно подменили. Куда девались белые каски, султаны на шлемах, яркие мундиры и кожаная амуниция! Как сквозь землю провалились медные и жестяные воинские побрякушки. Не осталось и намека на яркую окраску: ни следа белого, черного или другого резкого цвета. Тусклый, блеклый строй английской пехоты двигался на буров широкой громадой. Что бы это значило? Фанфан, лежа рядом с Сорвиголовой, метко охарактеризовал эту странную перемену во внешнем облике армии противника: — Можно подумать, что англичанишки выкупались в патоке. А, хозяин? Сорвиголова рассмеялся и ответил: — Они получили форму хаки. — А что это такое? Растолкуй, если можешь, пока не началась потасовка. — Ну что ж, слушай. Англичане, желая стать как можно незаметнее для слишком уж зоркого глаза наших друзей буров, ввели новую форму цвета не то ржавчины, не то испанского табака. Этот тусклый цвет диких каштанов почти сливается с землей, благодаря чему войска, находящиеся на большом расстоянии, становятся невидимыми. Тем более что у них решительно все окрашено в цвет хаки: шлемы, каски, куртки, брюки, ремни, ранцы, ножны сабель и штыков, одеяла, футляры полевых биноклей, фляги, гетры и патронташи. Поэтому, куда бы ты ни направил взгляд, он всюду встретит однотонную тусклую окраску, ничто не бросается в глаза. — Славно придумано! Но раз уж господа англичанишки занялись этим, почему бы им не разукрасить себе заодно руки и лица? Вот был бы маскарад, сударь ты мой! — Ты воображаешь, что шутишь? Не знаю, дошли ли они действительно до того, чтобы красить лица и руки, но в санитарном поезде рассказывали, что белых и серых коней перекрашивают в хаки. — А почему бы не выкрасить и полковых собак? Тогда хаки стал бы национальным цветом англичан. Национальным цветом? Да, это верно! Фанфан был прав. Превратив армию в одно тусклое пятно, хаки обесцветил и всю английскую нацию. В каких-нибудь несколько дней он стал символом крикливого, грубого, агрессивного и кровожадного империализма. В гражданской сфере этим цветом прежде всего завладела мода. Женщины нарядились в платья цвета хаки. Ленты, занавески, белье, кошельки, табачные кисеты, носовые платки — все окрасилось в цвет хаки. Газеты, выпущенные на бумаге хаки, выдерживали десятки изданий. Их листки развевались над ликующей толпой, как развернутые знамена. Нищие, одетые в отрепья хаки, собирали прямо-таки золотую дань. Потом буйно разрослась литература хаки. Ибо разве не хаки вся эта писанина, до безумия возбуждающая британский шовинизм, сводящая с ума великую английскую нацию и пытающаяся доказать ей, что двести пятьдесят тысяч ее солдат, побитых и посрамленных двадцатью пятью тысячами бурских крестьян, — лучшие в мире войска!.. Хаки стал также символом теперешнего правительства и останется им и у правительства завтрашнего дня, ибо выборы будут проходить под знаменем хаки. У Йорка была белая роза, у Ланкастера — алая[74], у Чемберлена — цвета хаки. Для упрочения славы Великобритании хороши все средства! Нельзя, однако же, сказать, чтобы дебют нового национального цвета под Кимберли был слишком славен. Генеральное сражение еще не началось, но прелюдия, предшествовавшая ему, оказалась поистине величественной. Откуда-то издалека, из-за линии горизонта, английские пушки, со стволами и лафетами цвета хаки, выплюнули несколько лиддитовых снарядов. Буры не отвечали: безмолвствовали «Длинный Том» и другие пушки из Крезо[75], «максимы»[76] и даже обычно говорливые винтовки. Но неожиданно над их окопами зазвучал хор низких мужских голосов и поплыла плавная, торжественная мелодия. Постепенно присоединялись все новые голоса. Пение крепло, ширилось и, разливаясь все дальше и дальше, донеслось до английских линий. Стоя прямо, со шляпой в правой руке и ружьем — в левой, буры, не обращая внимания на град снарядов, исполняли псалом своих предков-гугенотов[77], взывая о помощи к богу-воителю. Со стороны противника раздалась в ответ столь же торжественная и протяжная мелодия, величавостью своей напоминавшая религиозное песнопение. То был государственный гимн в честь британской владычицы, от слишком частого и громкого воспроизведения которого со времени воцарения в Англии хаки охрипли все глотки в Соединенном Королевстве. Выводившееся пятнадцатью тысячами военнослужащих лорда Метуэна «Боже, храни королеву» производило ошеломляющее впечатление. Даже самые обыкновенные слова приобретали в устах солдат-агрессоров угрожающий характер. Но буры, спокойно нахлобучив на головы шляпы, уже затаились в боевых укрытиях. Наступил роковой миг: сейчас произойдет столкновение. Лорд Метуэн со свойственным ему высокомерным презрением вельможи и вояки решил атаковать буров с фронта, не сомневаясь в том, что его отлично вымуштрованные и закаленные в боях войска в два счета вышибут с позиций темное мужичье, весь этот недисциплинированный, необученный сброд, лишенный опытных командиров. — Вперед! Ша-a-гом марш! Взмахнув саблями, офицеры повторили приказ. Горнисты протрубили атаку, а волынщики, прижав к губам мундштук своего инструмента, заиграли народный напев. Сегодня еще раз, и более чем когда-либо, противник оказался вынужденным бросить на первую линию огня шотландскую пехоту. Но неужели это те самые воины, которые еще недавно красовались в своей живописной форме? Куда девались их красные кители? А кильты, эти знаменитые шотландские юбки в разноцветную клетку? А чулки с отворотами? А белые гетры и башмаки с пряжками? Все заменил хаки. Славный сын гор превратился в невзрачного солдата, одетого в мундир, брюки и гетры цвета дикого каштана. На смену яркому пледу пришло одеяло цвета лошадиного помета. Единственным воспоминанием о костюме, которым он так гордился, служил большой, окаймленный мехом кожаный кошель, висевший, словно сума нищего, у него на животе. Но не одежда красит человека, и не красный китель и кильт придавали гордонцам отвагу. И под формой хаки шотландский воин сохранил всю храбрость и стойкость горцев. Прикрывшись цепью стрелков, их бригада выступила парадным маршем, в то время как артиллерия, заняв позиции на флангах, осыпала буров градом снарядов и шрапнели[78]. Последние отвечали им тем же, и не без успеха. Артиллеристы-буры, демонстрируя изумительную точность, вносили жестокое опустошение в ряды противника. Время от времени, оглушая всех вокруг громоподобным грохотом, посылал англичанам чудовищный снаряд и «Длинный Том». Сорвиголова прижал к глазам полевой бинокль, как бы следя за полетом очередного ядра, и, увидев, что оно опрокинуло вражескую пушку вместе с ее прислугой и конями, радостно воскликнул: — В самую точку!.. Браво, господин Леон, браво! Леон — француз на службе у южноафриканских республик. Один из тех, кто вместе с Галопо, Грюнсбургом, графом Вильбуа де Марей[79] и многими другими храбрецами примчался сюда, готовый пролить свою кровь за священное дело свободы. Выдающийся инженер, он взялся исполнять обязанности артиллериста: руководил передвижением и установкой смертоносных орудий, находил точный прицел и, как выразился Сорвиголова, бил в самую точку. Англичане, терпя от артиллерийского огня огромный урон, с яростью произносили его имя. Молокососы, заняв отведенную им позицию, оживленно болтали. Точнее, молокососы-иностранцы. Ибо у молодых буров проявлялась отличительная черта их национального характера — молчаливость. Поль Поттер заряжал свое ружье. Работа не из быстрых: надо засыпать порох в дуло, опустить туда с помощью шомпола пулю, обернутую в пропитанный жиром пыж, потом надеть на затравочный стержень медный пистон. На это уходило полминуты, тогда как маузеровская винтовка успевала за то же время отправить противнику с десяток пуль. Но юный бур дорожил не столько количеством, сколько качеством выстрелов. — Вот и все, — спокойно произнес он. — Ружье к вашим услугам, господа «белые шарфы»! Нетрудно было сообразить, к кому адресовались грозные слова юного бура, поскольку белые шелковые шарфы носило как отличительный знак своего положения только английское командование — от младшего офицера до генерала. — А разве хорошая винтовка хуже услужила бы им? — спросил Сорвиголова. — Ах, не говори ты мне о современном оружии! — возразил Поль Поттер голосом, в котором так и звучало злопамятство. — Оно, видишь ли, не обязательно убивает! Вспомни госпиталь под Ледисмитом… Гуманная пуля!.. Ну нет, пуля моего «роера» не знает пощады! Тот, в кого она попадает, обречен. Да вот, можешь сам убедиться… Видишь того офицера, налево от нас?.. Да, да, того самого, что взмахнул саблей. Англичанин, о котором говорил Поль, находился на расстоянии не менее пятисот метров. Несмотря на это, острое зрение молодого бура уловило даже движение его руки. Поль слегка приподнял дуло старинного ружья, секунды три прицеливался и спустил курок. Раздался громкий выстрел, и, когда густой дым рассеялся, Сорвиголова, не отрывавший глаз от бинокля, увидел, как офицер судорожно схватился рукой за грудь, замер на секунду и грохнулся, растянувшись ничком. — Ужасно! — невольно вырвалось у командира молокососов. А Поль, вынув из кармана нож, сделал зарубку на прикладе ружья, затем поднял курок, прочистил дуло и снова спокойно, не торопясь, как охотник, решивший добить весь выводок куропаток, зарядил свой «роер». Засыпать порох из бычьего рога, достать пулю из кожаной сумки, уложить ее в пропитанный жиром пыж, надеть пистон на затравочный стержень — вся эта процедура казалась слишком долгой командиру молокососов, стрелявшему без передышки. — Двенадцатый с тех пор, как мать принесла мне ружье покойного отца, — пробормотал Поль. — Что двенадцатый? — удивился Сорвиголова. — Этот офицер. Одиннадцатым был артиллерийский капитан… — Адамс! — воскликнул Сорвиголова. — Из четвертой батареи!.. Так это ты его убил? — Да. Он потешался над нами. Самые меткие стрелки не могли его достать. Я же мигом снял его с коня. — Так, значит, ты ничего не знаешь? Ведь он же… это был один из палачей твоего отца. У Поля вырвался звук, похожий на радостный рев: — А, так это был он? Тот самый бандит?.. Спасибо, Жан!.. Ты даже не представляешь, какую доставил мне радость!.. Слышишь, отец? Ты отомщен! Ты страшно отомщен! Между тем мужественные шотландцы, попав под адский ливень пуль, явно заколебались. Их шеренги, поредевшие от сокрушительного огня, дрогнули. — Сомкнуться! Сомкнуть ряды! — то и дело кричали офицеры. Строй сомкнулся, но не двинулся с места. Человеческую волну остановил свинцово-стальной ураган. Еще несколько мгновений — и начнется беспорядочное отступление, быть может, паническое бегство. Генерал Уохоп[80], командовавший шотландцами, понял грозившую им опасность. Это был старый вояка, отважный и добрый, обожаемый солдатами, которых всех до одного знал по именам. Почти вся его воинская служба прошла в Гордонском полку, и он, единственный из всех, категорически отказавшись от хаки, носил еще нарядное обмундирование гордонцев. Когда накануне лорд Метуэн приказал ему атаковать позиции буров в лоб, генерал Уохоп почтительно заметил, что подобная задача выше человеческих сил. Но Метуэн заупрямился так же, как Уайт при Ледисмите. Недооценивая буров, их твердое, как гранит, несокрушимое упорство, он верил в победу и требовал ее во что бы то ни стало. Уохопу оставалось либо повиноваться, либо отдать свою шпагу. Отдать шпагу?.. Ни за что! Но повиноваться — значило идти на смерть. Что ж, раз так, он сумеет умереть достойно! Со стоицизмом[81] древнего римлянина Уохоп отдал последние распоряжения, написал жене трогательное прощальное письмо и, как рыцарь без страха и упрека, повел бригаду на приступ. И вот наступил момент, когда начали сбываться его печальные предсказания. С фронта позиции буров оказались неприступными. Но все же — на штурм! Еще одно усилие, последнее, чтобы спасти воинскую честь. Генерал приподнялся на стременах и, потрясая саблей, зычным голосом крикнул: — Вперед, солдаты!.. Вперед! За королеву! Шотландцы, воодушевленные пылким призывом, ринулись на врага. Пальба усилилась, а Уохоп, спокойный, как на параде, не переставал выкрикивать своим звучным голосом: — Вперед, храбрецы! За королеву! Вперед!.. Старый генерал, служивший яркой мишенью для самых метких бойцов бурской армии, казался неуязвимым. Его каска была продырявлена, мундир изодран, люди вокруг него так и падали, а он оставался цел и невредим. По ходу битвы он очутился в зоне огня молокососов. Те стреляли без остановки, молниеносно заменяя в винтовках опустошенные магазины новыми, и все же ни одна пуля не задела смельчака. Но вот Поль Поттер, хладнокровно наведя на него «роер», спустил курок смертоносного ружья, заглушившего своим грохотом сухое щелканье автоматических винтовок. Генерал Уохоп, повторяя трагический жест людей, пораженных в грудь, судорожно схватился за нее рукой, зашатался в седле и, скользнув на круп коня, свалился на землю, убитый наповал. — А-а… еще один! — радостно воскликнул молодой бур. — Это уже тринадцатый! — И он тут же нанес новую зарубку на ложе своего ружья. Увидев, что генерал убит, шотландцы остановились в нерешительности. Они еще не отступали, но и вперед уже не шли. Пальба продолжалась, все более жестокая. Ряды шотландцев быстро редели. Уже треть бригады лежала на земле убитыми и ранеными. — Отходить! — раздалась чья-то команда. Это конец! Англичане, снова побитые, отступали в беспорядке, с поспешностью, похожей на панику. Как просто было бы теперь превратить их поражение в полный разгром и захватить в плен все десять тысяч обезумевших от страха солдат! Но для этого пришлось бы перейти в наступление, а буры никак не хотели расстаться со своими укреплениями. Иностранные офицеры умоляли Кронье атаковать противника, но он наотрез отказался. Однако иностранцы не сдавались. Они упорно указывали ему на деморализацию обратившейся в беспорядочное бегство вражеской армии и на необходимость отправки в обход королевских войск хотя бы двух тысяч кавалеристов, которые отрезали бы англичанам путь к отступлению. Кронье же на все доводы только презрительно пожимал плечами, даже не удостаивая соратников ответом. А время между тем шло, приближалась ночь. Скоро уже будет поздно что-либо предпринимать. Иностранцы, взбешенные идиотским упрямством, из-за которого гибли плоды блестящей победы, продолжали настаивать. — Да поймите же вы, — кричал австрийский офицер, — если мы возьмем в плен корпус Метуэна, то войдем в Кимберли без единого выстрела! Кронье опять лишь пожал плечами и, даже не потрудившись объяснить причину своего отказа отважным людям, которые покинули свои семьи и оставили все дела, чтобы сражаться на его стороне, повернулся к ним спиной и обратился к бурам: — Восславим Господа Бога и возблагодарим его за дарованную нам победу! — и первым затянул псалом. — Ничего не поделаешь, — с грустью прошептал полковник Вильбуа де Марей. — Он не знает даже азбуки современной войны. И заранее можно предсказать, что благодаря раздутой славе и слепой вере в него буров Кронье станет злым гением своего отечества. Эти воистину пророческие слова меньше чем через два месяца получили печальное подтверждение.
ГЛАВА 2
Злополучие иностранного легиона. — Ночной обстрел. — Горькая судьба «Длинного Тома». — Бронепоезд. — Задание генерала Кронье. — Диверсанты. — Динамит. — Лунки под рельсами. — Приказ Фанфану. — На мосту. — Ирландец. — В пучину.Нет слов, Европа обнаружила у малоизвестных ей до сих пор буров много благородных и прекрасных черт. Они отличались трезвостью, выносливостью, бескорыстием, отвагой, патриотизмом, чем вызвали восхищение всего мира и заставили даже врагов относиться к ним с уважением. Но все же надо признаться, что одно из прекраснейших качеств человека — чувство благодарности — было знакомо им лишь в весьма умеренных дозах. Как уже отмечалось выше, буры с самого начала платили недоверием тем, кто, рискуя своей жизнью, нес им в дар неоспоримый военный опыт. А ведь эти люди — французы, австрийцы, немцы, русские — были не обычными искателями приключений, а выдающимися офицерами, чьи блестящие способности высоко ценились в их странах. Иностранных волонтеров долго держали в стороне от серьезных дел, на самых незначительных постах. С трудом пробивали они себе дорогу, как бы насильно оказывая бурам те или иные услуги. Но, вопреки всем прилагавшимся ими стараниям, их так и не оценили по достоинству до самого конца войны, так и не сумели извлечь из них всю ту пользу, которую они могли бы и хотели принести. К их советам редко прислушивались, и по отношению к ним проявлялось возмутительное равнодушие, переходившее часто в пренебрежение и даже жестокую неблагодарность. Об этом в один голос свидетельствуют все иностранцы, сражавшиеся в армии Трансвааля. Их рассказы о бурской войне пропитаны горечью разочарования. Более того, буры при каждом удобном случае пользовались иностранцами для выполнения самых трудных и опасных операций. На долю этих благородных людей выпадали самые изнурительные повинности, им поручали самые тяжелые дела, ими сознательно жертвовали и их часто посылали на верную смерть лишь для того, чтобы сберечь жизнь бурам. Словом, европейские добровольцы были в Трансваале на положении иностранного легиона, которым буры распоряжались всецело по собственному усмотрению подобно тому, как мы во Франции обращаемся с нашим иностранным легионом. Нельзя, впрочем, утверждать, что такое положение вещей было не по душе отважным молокососам. Ведь этим отчаянным ребятам предоставлялась полная возможность драться как одержимым и совершать прямо-таки легендарные подвиги. И мы сочли уместным упомянуть здесь об этой не лишенной известного исторического значения черте характера буров, в частности, и потому, что именно благодаря ей нашему храброму капитану Сорвиголове вскоре представился новый случай отличиться. В ночь после кровавой битвы, закончившейся разгромом английской армии, истомленные буры крепко уснули на тех самых холмах, которые они столь храбро защищали. С огромным усилием превозмогали дремоту часовые, и даже стрелки, несшие службу охранения на далеко выдвинутых постах, отяжелев от усталости, сидели на дне своих окопчиков, полузакрыв глаза и с неизменной трубкой во рту. Вдруг темень на юге прорезали яркие вспышки огня, загрохотали орудия, и, тревожа своим воем ночную тишь, на буров полетели фугасные снаряды, разрывавшиеся фонтаном осколков. Началась бестолковая суета, послышались призывы «к оружию!», крики командиров, с большим трудом устанавливавших боевой порядок, — короче говоря, налицо была вся та катавасия, которую всегда создает неожиданное ночное нападение. Наконец по всей линии загремели ответные выстрелы. Но пушки били наугад, лишь по вспышкам залпов. Разумеется, шуму было гораздо больше, чем пользы, — по крайней мере, для буров. И, напротив, создавалось впечатление, что англичане заранее выверили свои прицелы. Несмотря на темноту, их снаряды падали с изумительной точностью. В короткое время лиддитовые снаряды вывели из строя две рядовые пушки буров, и, главное, знаменитое детище Крезо, что повергло буров в отчаяние. Гневные, полные ужаса возгласы сотрясали воздух: — «Длинный Том» взорван!.. «Том» взорван!.. Проклятые англичане! — Негодяи! Подлецы! Разбойники!.. Неизвестнооткуда пущенный английский снаряд угодил прямо в ствол «Длинного Тома» и, перевернув орудие вместе с лафетом, едва не проник в механизм зарядки и наводки. Расплющенное, словно от удара парового молота, жерло раскалилось докрасна. Словом, с лучшей пушкой буров, по калибру и дальнобойности превосходившей все английские, было покончено. «Длинный Том»! Бедняга «Том»! Создавалось впечатление, что вместе с этим орудием англичане поразили и дух сопротивления. Люди теснились вокруг него, как возле смертельно раненного главнокомандующего. Отважный французский инженер Леон, словно врач, горестно исследовал повреждение. — О, я вылечу «Тома», непременно вылечу![82] — сказал он, грозя кулаком англичанам, продолжавшим стрелять со стороны Моддера. Кронье, склонившись над столом в своей палатке, внимательно изучал при свете свечи крупномасштабную карту местности. Когда ему доложили о несчастье, он спросил с неизменным спокойствием: — Да разве вы не догадываетесь, откуда стреляют? — Нет, генерал! В той стороне не было ни одной английской батареи, — ответил адъютант. — Значит, ее установили недавно, минут пять назад. — Не понимаю. — А бронепоезд? Забыли? — Проклятье! — Его в таких случаях тихо подводят и останавливают на отрезке железнодорожного полотна, заранее отведенном для математически точного прицельного огня, — продолжал Кронье. — Морские орудия, которые шлют нам сейчас свои снаряды, установлены на специальных платформах и наведены под известным углом, тоже предварительно выверенным. И вот результат! — Но что же делать, генерал? — Надо захватить крепость на колесах. Для этого необходимо разрушить позади нее железнодорожный путь. А еще лучше снова взорвать мост через Моддер. — Немедленно? — спросил адъютант. — Да. Но у нас едва хватит людей для защиты позиций, если англичане вздумают вдруг возобновить наступление. А это вполне возможно, поскольку нападение бронепоезда — не что иное, как диверсия с целью отвлечь наше внимание. Враг полагает, что нас гораздо больше. Эх, будь у меня десять тысяч солдат!.. — Но ведь отрезать бронепоезду обратный путь смогут и несколько решительных людей, — возразил адъютант. — Правильно. Только где найти таких? — А молокососы? А их командир? — Дети! — заметил генерал. — Да, дети, но смелые, как львы, и хитрые, как обезьяны! Подумав немного, Кронье согласился: — Хорошо. Позовите капитана Сорвиголову. — Слушаюсь, генерал! Через несколько минут адъютант вернулся в сопровождении отважного француза. Жан стоял перед знаменитым главой бурских войск, почтительно вытянувшись по-военному, но, как всегда, уверенный в себе и сохраняя чувство собственного достоинства. Кронье, устремив на юношу ясный и твердый, как сталь, свой единственный глаз, спросил без всяких околичностей: — Сколько людей в вашем распоряжении? — Сорок, генерал! — Можно на них положиться? — Как на меня самого, генерал! — Умеете обращаться с динамитом? Жан вспомнил о своих странствиях по Клондайку, где ему чуть ли не ежедневно приходилось прибегать к взрывчатке, и, не колеблясь, ответил: — Да, генерал, и уже давно! — В таком случае у меня есть для вас трудное, почти невыполнимое задание. — Если только трудное — считайте, что оно уже выполнено. Если невыполнимое — то мы либо выполним его, либо погибнем. — Умереть не хитро́, важно успешно провести операцию. — Слушаю, генерал! — Я не обещаю вам за это ни звания, ни даже награды. — А мы и не продаем своей крови, генерал! Мы сражаемся исключительно во имя независимости Трансвааля. Распоряжайтесь нами как зрелыми солдатами, исполняющими свой долг. — Именно это я и делаю! Приказываю вам взорвать мост и тем самым преградить бронепоезду путь к отступлению. Действуйте немедленно! Ступайте, мой мальчик, и лишний раз оправдайте ваше славное прозвище. Отдав честь генералу, Сорвиголова вышел и вихрем помчался по лагерю, на который продолжали сыпаться снаряды англичан. Собрав сорок молокососов и приказав им седлать коней, он каждому выделил по пять динамитных патронов с бикфордовыми шнурами. На все это ушло не более десяти минут. — Вперед! — раздалась команда, и сорванцы бешено поскакали, рискуя сломать себе шею среди скал и рытвин, потому что единственными источниками света в этой кромешной тьме были звезды да всполохи пушечных залпов. Но у добрых бурских лошадок такая сноровистая и твердая поступь и ими руководит столь безошибочный инстинкт, что ни одна из них ни разу не только не упала, но даже не споткнулась. За пятнадцать минут диверсионная группа преодолела четыре километра. До железной дороги было уже рукой подать. В пятистах — шестистах метрах сверкали воды Моддера. В качестве разведчиков молокососы изъездили эту местность вдоль и поперек и теперь, несмотря на темноту, узнавали мельчайшие неровности. Спешились, не проронив ни слова. Чувствовалось, что англичан здесь полным-полно. Десять юнцов остались охранять лошадей, остальные, с динамитными патронами, отправились пешими за своим командиром. Молодые люди, словно истые индейцы, передвигались с бесконечными предосторожностями: ползли, останавливались, прятались то за скалой, то за кустарником и снова упорно продвигались к цели. Бронепоезд находился всего в полутора километрах от них. Орудия его неумолчно грохотали, оглушая молокососов. По железнодорожному полотну сновали какие-то тени, вырисовывались силуэты часовых, расставленных попарно через каждые полтораста — двести метров. Отважные сорванцы с поразительной быстротой и ловкостью прямо голыми руками проделывали под рельсами лунки. Сорвиголова вставлял в патроны бикфордовы шнуры и вместе с Фанфаном укладывал взрывчатку в углубления и прикрывал сверху землей. Неосторожное движение, малейший удар по стальным рельсам — и все взорвется. От одной мысли об этом людей менее хладнокровных бросило бы в дрожь. К тому же юных диверсантов могли заметить часовые, хотя молокососы и работали лежа, плотно прижавшись к шпалам и как бы сливаясь с ними. Слава Богу! Наконец-то уложены все патроны — целая сотня, каждый весом в сто граммов. Десять килограммов динамита! Так встряхнет, что чертям тошно станет! — Назад! — чуть слышно скомандовал Сорвиголова. Молокососы отползли от рельсов на несколько шагов. — Ты, Фанфан, останешься здесь, — продолжал Сорвиголова, — а я побегу на мост. Понадобится четверть часа, чтобы добраться туда и заложить гостинец. Когда услышишь взрыв, подожги шнуры и беги. Понял? — Да, хозяин! — Если через четверть часа все будет тихо, значит, меня уже нет в живых. Но ты все равно поджигай… Скажешь Кронье, я сделал что смог. — Есть, хозяин!.. Только вот что я тебе скажу: фейерверк фейерверком, да не вздумай сам кокнуться. У меня сердце от горя лопнет. — Молчи и выполняй! Общий сбор — после взрыва, у лошадей. Сорвиголова принялся укладывать патроны в две провиантские сумки по пятьдесят штук, или по пять килограммов взрывчатки в каждую. Со стороны могло показаться, что он имеет дело не с динамитом, а с деревянными чурками — столь быстро и уверенно орудовал француз боевыми зарядами. Одну порцию смертельного груза через правое, другую через левое плечо — и в путь. Сделав небольшой крюк, Жан свернул прямо к берегу и минут через шесть был уже на месте. Мост, как и следовало ожидать, охранялся часовыми. Юноша бесшумно обошел наскоро сооруженные англичанами защитные укрепления и добрался до обвалов, вызванных предыдущим взрывом. Он был в числе тех, кто взрывал тогда этот важный в военном отношении объект, и отлично запомнил конфигурацию местности. Как и всегда. Жану невероятно везло: ему удалось незаметно взобраться по контрфорсу[83] до решетчатого настила — продольных брусьев, поперек которых лежали шпалы с укрепленными на них рельсами. Слева от железнодорожного пути тянулся дощатый проход, такой узкий, что два человека разошлись бы с трудом. А внизу река, пучина! Положившись на свою счастливую звезду и находчивость, Сорвиголова смело ступил на пешеходную дорожку и направился к первому устою моста, чтобы взорвать его. Но не прошел и пятнадцати шагов, как раздался резкий окрик: — Кто там? Уловив ирландский акцент в английской речи часового, командир молокососов решился на отчаянный шаг. — Это ты, Пэдди? Без глупостей, дружище! — с деланным смехом ответил он. Поясним, что «Пэдди» — общее прозвище ирландцев, закрепившееся за ними, как «Джон Буль» — за англичанами, а «Джонатан» — за янки. — Томми! Ты, что ли? — с явным недоверием откликнулся часовой. — Подойди поближе… Руки вверх! — Да не ори! Смотри, что я стянул… В сумках у меня — закуска и бутылки виски… На вот, попробуй! Надо сказать, ирландцы такие же отчаянные пьяницы, как и храбрецы. Услышав о выпивке, Пэдди прислонил ружье к перилам и почти вплотную подошел к этому любезному мародеру. Они едва различали друг друга впотьмах. Но Сорвиголова успел уже откупорить флягу, и до ноздрей истинного ценителя веселящих напитков донесся божественный аромат. Сосуд мгновенно перешел из рук лже-Томми в руки Пэдди, и тот, припав к горлышку губами, жадно, не переводя дыхания, принялся поглощать содержимое. Пока солдат наслаждался неожиданным и чудесным даром, Жан, протиснувшись к парапету, дал ирландцу подножку и что было сил толкнул раззяву в проем между двумя шпалами. Несчастный парень не успел даже вскрикнуть и, как был с флягой у рта, так и полетел. Послышался глухой всплеск, и Пэдди исчез в волнах. «Бедняга! — пожалел Сорвиголова. — Впрочем, от ныряния не всегда умирают». Но размышлять было некогда. Время текло, а в его положении каждая минута стоила часа. Вода с шумом билась об устой — тот самый, который надо подорвать. Отважный сорванец, рискуя разделить участь ирландца, полез под шпалы и зацепился за одну из них ногами и левой рукой. Нелегко было, находясь в таком положении и действуя одною лишь правой рукой, достать с мостового настила сумки с динамитом и уложить их под настил. Но командир молокососов сделал это, и теперь оставалось только вставить в патроны бикфордов шнур и поджечь. Работа одной рукой отняла бы слишком много времени, и Жан, чтобы высвободить другую руку, плотнее обвил ногами шпалу и повис над бездной вниз головой. Внезапно доски задрожали под тяжелыми шагами. По мосту бежали люди, щелкали ружейные затворы. А внизу как резаный вопил выплывший на поверхность ирландец. «Пропал!» — подумал Сорвиголова. Заряжать все патроны уже не было времени. Да и зачем? Вполне достаточно одного, чтобы взорвались остальные. Жану удалось извлечь из сумки патрон и вставить в него шнур. Юноша по-прежнему висел вниз головой, готовой лопнуть от прилива крови. В ушах шумело, перед глазами плыли круги. Едва хватило сил чиркнуть спичкой. Подбежавшие солдаты заметили мерцавший во мраке язычок пламени и силуэт человека. — Огонь! — раздалась команда. Пули зажужжали у самых ушей отважного разведчика, расщепляя шпалы и рикошетом отскакивая от стальных рельсов. Сорвиголова, не обращая на пальбу внимания, поднес спичку к шнуру и стал дуть, пока тот наконец не занялся. В запасе — лишь две минуты. А у ног — двадцать фунтов динамита с горящим шнуром, сверху — караульные, ведшие прицельный огонь, внизу — бурный поток. Юноша, ни секунды не колеблясь, разжал ноги и полетел в Моддер. В то же мгновение раздался оглушительный взрыв.
ГЛАВА 3
Крепость на колесах. — Два взрыва. — Фанфан-воитель. — Сорвиголова в реке. — Гибель ирландца. — Незадачливый волонтер. — Обретенная шляпа. — Снова марш молокососов. — Капитуляция. — Вероломство пленного капитана. — Смерть убийцы.Бронепоезда используются в боевых операциях уже давно. Защитники осажденного в 1870 году Парижа[84] помнят, как эти махины регулярно сновали по Восточной[85] и Орлеанской[86] железным дорогам между двумя оборонительными линиями французов вплоть до нейтральной зоны. Шуму от их пальбы было много, а толку — почти никакого. Да оно и понятно: о маршрутах, по которым следовали бронепоезда, знали заранее, и к тому же они обладали крайне ограниченными тактическими возможностями, значительно уступая в маневренности полевой батарее, а по степени неуязвимости — бастиону. Применялись бронепоезда и при осаде Плевны[87], и во время войны на острове Куба[88], впрочем, также без особого успеха. К этому орудию войны обращались и англичане, причем неоднократно. В частности, они воспользовались им во время военных действий против мятежных афридиев, которых бронепоезд повергал прямо-таки в мистический ужас. Прибегли к нему англичане и в войне с бурами, ясно сознавая неизбежно связанный с этим риск: ведь достаточно сущей безделицы, чтобы превратить крепость на колесах в груду металлолома. Первое и самое главное условие успешного применения бронепоезда — тщательная охрана железнодорожного пути с тем, чтобы он в любой момент мог беспрепятственно отойти назад. Кроме того, необходимо вдоль всего его маршрута размещать на некотором расстоянии одна от другой подвижные части, которые в случае неожиданного нападения пришли бы ему на помощь, поскольку, предоставленный самому себе, бронепоезд не сможет долго защищаться. В начале осады Кимберли англичане принимали эти разумные меры предосторожности. Но так как буры поезд не трогали, несмотря на его участившееся появление на передовой, командование, ослабив бдительность, стало выделять для его охраны явно недостаточное сопровождение. В то же время, по мере того как крепла уверенность завоевателей в неуязвимости бронепоезда, его операции приобретали все более дерзостный характер. Подвижная крепость, действовавшая в районе Моддера, представляла собой три платформы с корпусами из листовой стали, тщательно заклепанной и скрепленной стальными брусьями. В общем, это было сооружение из сплошного металла, не пробиваемого пулями и шрапнелью. За его стенами, прорезанными двумя горизонтальными рядами амбразур — для стрельбы стоя и сидя — укрывалось шестьдесят бойцов. В задней части каждой платформы располагалось по легко вращавшейся пушке, способной обстреливать веером. Мощный паровоз также был закован в броню, незащищенной оставалась лишь верхушка трубы. И, разумеется, все, не исключая орудий, было окрашено в цвет хаки. Но вернемся к описанной выше ночной вылазке бронепоезда, для которой, учитывая позорный разгром, понесенный всего лишь несколько часов назад войсками ее величества королевы, не было вроде бы никаких оснований. Чем же она была вызвана? А тем, что паника среди английских солдат, бежавших врассыпную, как обезумевшее от страха стадо, была так велика, что лорд Метуэн, опасаясь того самого преследования, о котором иностранные офицеры тщетно умоляли Кронье, приказал выдвинуть бронепоезд на передовую позицию. Генерал решил прибегнуть к этому крайнему средству в надежде предотвратить или хотя бы ослабить контрнаступление противника, диктовавшееся простой логикой военных действий. О, если бы только он знал, что буры, пропев свой псалом, завалились спать! Между тем Фанфан лежал, растянувшись на шпалах, и с тревогой в сердце ждал взрыва моста. Сорвиголова сказал: «Через четверть часа». Но в такой ситуации, особенно ночью, минуты тянутся, как часы, и юный парижанин, естественно, волновался. Ему чудилось, что указанное время уже давно прошло, а огонь бронепоезда становится все реже. А что, если эта подвижная крепость и вовсе прекратит стрельбу и укатит восвояси?.. Действительно, прильнув ухом к рельсам, он уловил глухой шум медленно двигавшихся колес. «Действуй, Фанфан! Самое время поджечь шнур!» Чирк!.. Вспыхнула спичка, бикфордов шнур загорелся. Подросток одним прыжком отскочил от колеи и помчался к товарищам. Найдя их, бросил команду, не имевшую ничего общего с военной терминологией: — Давай драла! Юнцы отбежали метров на двести. Вдали появился бронепоезд. По мере его приближения тревога в душе Фанфана росла: не слишком ли поздно поджег он фитиль? Бум!.. — донесся страшный гул со стороны реки, сопровождавшийся яркой вспышкой огня. «Браво, Сорвиголова! Браво!» Бум!.. — раздалось теперь совсем уже рядом, на железнодорожном полотне. Так и казалось, что там разверзся кратер вулкана: земля задрожала, во все стороны брызнули осколки металла и щепки, вспыхнуло ослепительное пламя. Оба взрыва последовали один за другим с промежутком секунд в пятнадцать. Моста, очевидно, уже не существовало, железнодорожный путь был перерезан обвалившейся насыпью, грудами исковерканных рельсов и деревянной трухой шпал. Бронепоезд круто остановился на расстоянии трехсот метров от разорванного полотна. Солдаты попрыгали на землю и устремились к разрушенному участку. Сбежались часовые, прискакали кавалеристы. Послышались крики, ругань, проклятия, порядком потешавшие залегших в траве молокососов. Кто-то из англичан, стоявших группой человек в тридцать, зажег фонарь. Увидев огонек, Фанфан шепотом приказал самым метким стрелкам: — Давай!.. Бей в кучу! Приказы Фанфана все меньше и меньше походили на военные, но молокососы исполняли их точно, и все шло, как положено. Сухо щелкнули винтовки. Ружейный огонь мгновенно разметал толпу. Воздух огласился стонами и воплями раненых. Уцелевшие солдаты в страхе разбежались. — Здорово! Вот здорово!.. — шептал Фанфан. — Рази их, ребята! Сыпь! Сыпь!.. Эх, если бы нас видел Сорвиголова!.. Но куда же он запропастился? Не хочу вот, а боюсь за него… И было от чего тревожиться. Положение командира молокососов действительно казалось безвыходным. Мы уже знаем, что, оторвавшись от железнодорожной шпалы, служившей ему опорой, он ринулся вниз головой в реку Моддер. А как сказал один свалившийся с крыши кровельщик, «лететь не так уж скверно, упасть — вот в чем мало забавного». Река Моддер глубока, и хотя Сорвиголова врезался в нее пулей, вода все же смягчила падение. В то мгновение, когда Жан погрузился в воду, раздался оглушительный взрыв, сопровождавшийся дождем осколков. Произойди это секундой раньше — Сорвиголова взлетел бы вместе с мостом, секундой позже — был бы убит обломками. Теперь же его защитила четырехметровая водная толща. Опять счастливая звезда! Жан проплыл несколько метров под водой, но не хватало воздуха, и пришлось вынырнуть. И тут его счастливая звезда закатилась. Когда он, приблизившись к отброшенному взрывом бревну, торчавшему из воды под углом в сорок пять градусов, потянулся к нему, чтобы перевести дыхание, юношу неожиданно схватила сильная рука, и у самого уха раздалась кельтская[89] брань: — Ага! Поймал!.. Вот он, язычник! Лжебрат! Убийца! Поджигатель! Исчадие ада!.. Сорвиголова узнал ирландца, которого он так любезно отправил в реку. — Караул!.. Держите!.. — орал тот. — На помощь! Да помогите же доброму христианину взять в плен этого… Окончание фразы растаяло в следующих, весьма выразительных звуках: буль… буль… буль… Жан обеими руками сдавил шею незадачливого крикуна, который должен был, казалось, удовлетвориться тем, что ему уже удалось один раз избежать смерти. Оба ушли под воду, и их понесло течение. Но руки молокососа не ослабевали. Спустя какое-то время всплыл наверх только один из них — Сорвиголова: ирландец, задушенный руками юного атлета, исчез навсегда. Отважный сорванец, с упоением вдохнув струю воздуха, постарался разобраться в том, что произошло. Устой был взорван, и мост, несомненно, поврежден. Наверху суетились люди с фонарями, и все они неизменно останавливались на одном и том же месте. Значит, через реку нельзя было пройти даже пешеходам, не говоря уже о поезде. До ушей Жана то и дело долетали английские ругательства, крепкая солдатская брань, советы, которые каждый давал и никто не исполнял. И, наконец, ясно донеслась фраза: — Какое несчастье! Тут работы дней на восемь, не меньше! «Отлично! — с восторгом подумал Сорвиголова. — Кронье будет доволен. Теперь остается только присоединиться к своим». Но для этого надо было выбраться из реки. Жан тихо поплыл вдоль крутых берегов в поисках места, где он мог бы выйти на берег, и вскоре заметил нечто вроде расщелины среди нагромождения скал. Подтянувшись на руках, вскарабкался на один из валунов и, мокрый, как водяной, присел на корточки. Инстинктивно чувствуя пока еще незримую опасность, он, точно истый могиканин, пристально озирался по сторонам и напряженно прислушивался. Со стороны железнодорожной колеи раздавались выстрелы. Жан узнал щелканье маузеровских винтовок. «Наши! — обрадовался он. — Видно, полотно взлетело, когда я возился в воде с этим болваном ирландцем. Итак, отправимся к молокососам». С гибкостью кошки и ловкостью акробата Жан полез по каменистой осыпи, но прежде чем подняться наверх, на отлогий берег реки, осторожно высунул голову и осмотрелся. Тишина, весьма, впрочем, относительная, мало успокаивала его. Вдруг он вздрогнул: в пяти шагах, лицом к берегу, стоял, опираясь на ружье, английский солдат. Его силуэт четко вырисовывался на фоне ясного неба. Сорвиголова различил даже фетровую шляпу с приподнятым по-мушкетерски левым бортом. Такие головные уборы носили английские волонтеры-пехотинцы. Что же, ползти опять вниз по шатавшимся под ногами и срывавшимся камням? Бросаться снова в реку и отыскивать другое место? Нет, это невозможно! Только вперед! Невзирая на штык в руках добровольца и на тревогу, которую он несомненно поднимет! «Будет дело!» — решил Сорвиголова. Да, дело будет короткое, но жаркое. С тем благоразумием, которое почти всегда уживалось с безудержной отвагой, Жан быстро оценил ситуацию. Он вспомнил, что в бытность свою в Капе в качестве служанки видел этих только что прибывших тогда из Англии волонтеров, с ног до головы облаченных в хаки и с шиком носивших свои широкополые фетровые шляпы с тремя буквами на приподнятых левых бортах: — CIV: Civil Imperial Volunteers, или Императорские гражданские волонтеры. Эти карикатурные солдаты, насквозь пропитанные идеями воинствующего империализма, строили из себя всамделишных героев. — Пора! — скомандовал себе Сорвиголова, подобрался, уперся ногами о камни и приготовился к прыжку. Раз, два… гоп! Волонтер, увидев человека, который, как чертик из шкатулки с секретом, выскочил откуда-то из-под земли, отступил на шаг и, наклонив штык, крикнул по-английски: — Стой! Ни с места! Приходилось ли вам, читатель, наблюдать плохую выправку новобранцев, когда инструктор командует: «к штыковому бою… готовсь»? Правая рука у них бывает поднята чересчур высоко, левая нога слишком вытянута, правая недостаточно согнута. Вместо того чтобы стоять твердо, как глыба, новичок находится в состоянии самого что ни на есть неустойчивого равновесия. Достаточно малейшего толчка — и он опрокинется, чем и пользуются иногда некоторые инструкторы, любители позабавиться. Они хватаются за острие его штыка, слегка толкают и без особого усилия сшибают беднягу с ног. Командир молокососов, удивительно проницательный для своего возраста, это знал. «Ты, верно, стоишь как на ходулях, милейший!» — подумал он сразу же, как только увидел волонтера. Обращая на штык, который вот-вот готов был проткнуть его, не больше внимания, чем он уделил бы какому-нибудь гвоздю, Сорвиголова сделал второй прыжок, еще более ловкий, чем прежний, и, схватив ружье за дуло, толкнул парня что было сил. Но сил-то на этот раз и не требовалось: доброволец — воин столь же усердный, сколь и храбрый, — управлял штыком с мастерством деревенского пожарного. Тотчас же опрокинувшись навзничь, солдат задрал вверх руки и ноги, а ружье, которого он, конечно, не смог удержать, осталось в руках капитана Сорвиголовы. Зато орать вояка принялся как оглашенный. «Сейчас поднимется тревога, прибегут с соседнего поста», — промелькнуло у Жана в голове. Черт возьми, из двух зол надо выбирать меньшее! Командир молокососов так и сделал: пригвоздив волонтера к земле штыковым ударом в грудь, сорвал с него шляпу, нахлобучил на себя и со всех ног бросился прочь. И вовремя! Хотя сам волонтер уже перестал дышать, крик его был услышан. Прибежали солдаты и, увидев мертвое тело, прежде всего начали ругаться: ругаются на войне много и часто. А Сорвиголова что было духу мчался туда, откуда доносился треск маузеровских и ли-метфордовских винтовок. То молокососы и защитники бронепоезда вели перестрелку, впрочем, и те и другие — без особого успеха. Открыли огонь и солдаты у реки. Но и эти палили наугад. Словом, отовсюду неслись звуки выстрелов, никому не приносивших вреда. Но Жану грозила новая опасность. Его подкованные железом сапоги гулко стучали по камням. Услыхав топот, молокососы подумали, что к ним приближается неприятель, и наиболее рьяные из них взяли бежавшего человека на мушку. — Эти дураки решили, кажется, выбить мне глаз. Не хватает только, чтобы и Полю вздумалось пальнуть из своего «роера»… — ворчал Сорвиголова, прислушиваясь к жужжанию пуль. Предусмотрительно припав к земле, он стал соображать, как бы дать знать о себе товарищам. — Ну и дурак же я все-таки! — вдруг воскликнул он. — А марш молокососов!.. Ничего лучшего не придумаешь! — И юноша принялся насвистывать веселую мелодию. Фанфан первым уловил задорный мотив, звонко раздавшийся в темноте. — Хозяин!.. — радостно вскричал он и скомандовал сорванцам: — Эй, вы, хватит палить! Жан услышал эти слова, но из предосторожности продолжал воспроизводить игривый напев, не двигаясь с места. — Ты, что ли, хозяин?.. Не бойсь! Признали. Иди на единение… Фанфан хотел сказать на «соединение», но в такие минуты не очень-то обращаешь внимание на всякие тонкости, особенно если знаешь, что тебя и так поймут. И Сорвиголова понял. Поднявшись, он легким шагом двинулся к молокососам. Фанфан встретил его в десяти шагах впереди отряда: — Ну что, хозяин, вернулся? Все в порядке? — Да, дружище Фанфан! Все в полном порядке: взорвал мост, утопил одного ирландца, насадил на штык волонтера, потерял свою шляпу, зато нашел другую и, вдобавок ко всему, промок до нитки. — Ну и мастак же ты, хозяин! Только и мы тоже не ударили в грязь лицом: порядком исковеркали путь и помяли бронепоезд. Все как ты приказал. — Но это только начало. Теперь надо окончательно разделаться с чудищем, — сказал Сорвиголова. — Верно, но для этого нас слишком мало. Необходимо подкрепление, — ответил Фанфан. — В лагере, конечно, услышали взрывы и, надо полагать, уже послали подмогу, — продолжал Сорвиголова. — А все-таки лучше самим съездить туда, осведомить обо всем Кронье и попросить у него две-три сотни бойцов. — Я поскачу! — вызвался Фанфан и сорвался было с места, но тут до него донесся мерный шаг приближавшегося отряда, послышался знакомый говор. Свои!.. Присланные на всякий случай генералом Кронье буры, числом около трехсот, с легкой пушкой и начиненными мелинитом снарядами, прибыли как раз вовремя. Примчавшись во весь опор, они, как и молокососы, оставили невдалеке своих коней, подошли к ребятам и, пока сорванцы вели перестрелку, чтобы отвлечь внимание неприятеля, начали рыть траншеи. Ловко орудуя кирками и лопатами на коротких черенках, они выкопали первое укрытие, затем второе, уже с редутом[90] для пушки. На эту работу, подвигавшуюся с удивительной быстротой, ушел остаток ночи. Только на рассвете и буры и англичане смогли разобраться в позициях друг друга. Результаты осмотра оказались далеко не утешительными для последних, с изумлением обнаруживших прямо напротив бронепоезда укрепленный, ощетинившийся штыками вражеский фронт. А пока сыны Альбиона рассматривали неприятельские траншеи, буры навели прекрасно замаскированную ветками пушку на тяжелое орудие бронепоезда. И, уж конечно, она не крикнула англичанам: «Берегись!» — отправив в виде утреннего приветствия подарочек в девяносто пять миллиметров. Бронированная стена корпуса была снята, словно резцом, а снаряд, начиненный этим дьявольским веществом — мелинитом, взорвался на левой цапфе[91] английского орудия. Страшный удар вдребезги разнес мощный стальной лафет, смял механизм наводки и припаял ствол к башне, изувечив при этим пятерых солдат. «Длинный Том» был отомщен. Англичане, взвыв от бешенства, произвели по бурам несколько залпов из своих ли-метфордовских винтовок, не причинив никакого вреда. Бурская пушка ответила новым снарядом, который пробил корпус другой платформы и разметал орудийную прислугу, одних артиллеристов обратив в бегство, других — уложив на месте. Англичане, проявляя безрассудную отвагу, решились все же на еще один залп. И тогда в третий раз прогремела пушка буров. — Они устанут раньше нас, — произнес командир бурских артиллеристов. И он угадал! Сквозь дым, окутывавший среднюю платформу, уже показался белый платок, которым махали, нацепив его на кончик штыка. Англичане решили вступить в переговоры. Огонь прекратился, и начальник бурского отряда, присланного Кронье, некий фермер по фамилии Вутерс, в свою очередь, водрузил над траншеей белый платок. Молодой английский офицер тотчас проворно спрыгнул на рельсы, прошел половину расстояния, отделявшего поезд от траншеи, и остановился. Вутерс также вылез из укрытия и подошел к парламентеру. — Мы согласны капитулировать, — сказал англичанин, высокомерно кивнув буру. — Каковы ваши условия? — Наши условия? Да никаких, — спокойно ответил бюргер. — Вы сдадитесь в плен, только и всего. Покинете бронепоезд, оставив там все оружие, и остановитесь на расстоянии двадцати шагов от первой нашей траншеи. Оттуда вас отведут в лагерь. — Надеюсь, нам оставят наши вещи? — А что же вы думаете, — насмешливо заметил Вутерс, — мы поведем вас нагими? — Я имел в виду рюкзаки, — угрюмо уточнил англичанин. — Пожалуй, но после осмотра. — Нас трое офицеров, и нам не хотелось бы расставаться со своими шпагами. — Об этом будете договариваться с Кронье. Мое дело только доставить вас к нему. Если ровно через пять минут вы не выстроитесь здесь без оружия, мы возобновим огонь. Солдаты покинули крепость на колесах и под водительством офицеров встали в ряд перед траншеей. Буры вышли из укрытия, с любопытством, не лишенным уважения, рассматривая англичан. Те сохранили прекрасную выправку, хотя большинство из них даже не пытались скрыть радость по поводу такой развязки, избавлявшей их от опасностей войны. Осторожный Вутерс скомандовал по-английски: — Руки вверх! Приказ был немедленно выполнен всеми, за исключением капитана, старшего по чину офицера. Затем Вутерс в сопровождении Жана с остальными молокососами и тридцати бюргеров приблизился к военнопленным, чтобы проверить, нет ли в мешках оружия. Когда он проходил мимо капитана, тот выхватил из рюкзака револьвер и выстрелил в бура в упор. — Вот тебе, негодяй! — крикнул он. — Всех бы вас перебить! Вутерс упал навзничь с раздробленным черепом. Это отвратительное, мерзкое убийство вызвало у буров взрыв бешенства. Сорвиголова с молниеносной быстротой приложил ружье к плечу и выстрелил в капитана, который тут же рухнул на тело своей жертвы… На мгновение оба отряда оцепенели. Но расправа с подлецом на месте злодеяния не успокоила буров, негодование их не знало предела. Все они, старые и молодые, жаждали крови остальных англичан, которые, по мнению защитников обеих республик, должны были жестоко поплатиться за гнусность, совершенную одним из интервентов. — Смерть врагам! Смерть!.. Еще минута — и пленники будут перебиты: ружья сейчас сами начнут стрелять. Командование перешло к Жану. Его бросило в дрожь при мысли, что вот-вот произойдет одно из тех массовых убийств, которые вписываются в историю народов и накладывают позорное пятно как на людей, их совершивших, так и на того, кто не помешал выполнению задуманного. С риском стать первой жертвой обезумевших от гнева соратников Сорвиголова бросился между англичанами и уже нацеленными на них винтовками буров и, подставив свою грудь под выстрелы, крикнул: — Опустите ружья! Друзья, умоляю — опустите ружья! Буры спорили, кричали, жестикулировали, но пока что никто из них не выстрелил. Победа была наполовину одержана. А Сорвиголова продолжал своим звонким голосом: — Вы люди благородные и сражаетесь за праведное дело и во имя справедливости, во имя свободы, которую вы непременно завоюете, не карайте этих солдат за преступление, в котором они неповинны. — Верно! Он прав! — раздалось несколько голосов. Наиболее непримиримые молчали, но и они не решались уже кричать: «Смерть врагам!» — и вынуждены были, пусть и с явным сожалением, опустить свои ружья. Военнопленные были спасены. Английский лейтенант подошел к Жану Грандье и, отдав ему честь, сказал: — Вы — великодушный противник и настоящий джентльмен. Благодарю вас лично от себя и от имени этих честных воинов, порицающих отвратительный поступок капитана Хардена. — Харден? Командир первой роты шотландских стрелков? — Вы его знали? — Так это точно был он? — Да. — В таком случае и я, в свою очередь, благодарю вас, лейтенант, за то, что вы сообщили мне имя этого преступника. Буры между тем осмотрели рюкзаки и, убедившись, что в них не спрятано оружия, решили отправить пленных в лагерь. Честь конвоировать их досталась молокососам — они ее заслужили. Англичане двинулись в окружении юных ворчунов. Сорвиголова, наклонившись к уху Поля Поттера, прошептал: — А знаешь, кто этот офицер, которому я размозжил голову?.. Капитан Харден, один из пяти членов военного суда, убийца твоего отца!
ГЛАВА 4
Лагерь буров. — Сорвиголова у генерала. — Новое задание. — Велосипеды Дяди Поля. — Солдаты-самокатчики. — Переправа через Моддер. — Уланы. — Преследование. — Падение.Возвращение молокососов в лагерь Кронье было воистину триумфальным. От вошедшей в поговорку невозмутимости буров на этот раз не осталось и следа, и они устроили отважным сорванцам восторженную встречу. Пленных же они приняли с обычным своим добродушием и оказали им всякие мелкие услуги. Такое отношение глубоко тронуло англичан. Неужели эти великодушные и гостеприимные люди и есть те самые буры, которых британские газеты называли мужичьем, тупицами, белыми дикарями? Солдаты, напичканные колонизаторскими идеями, не могли прийти в себя от изумления. Кронье, бесконечно обрадованный успешным завершением операции, превратившей грозный бронепоезд в груду металла, пожелал увидеть того, кому он был обязан славной победой. Когда Сорвиголова явился по его приказу, в палатке уже собралось много народу: знаменитые военачальники, родственники и друзья главнокомандующего, рядовые волонтеры. Чувствовалось полное отсутствие иерархии, чванливости, высокомерия. Здесь были только братья по оружию, с едиными воинскими знаками отличия: винтовкой и патронташем. Они тихо беседовали, попыхивая трубками. Полководец поднялся навстречу капитану молокососов и, пожимая руку, сказал: — Вы — храбрец! От имени бурской армии благодарю вас, мой юный друг! Глаза отважного юноши увлажнились, сильнее забилось сердце. — Генерал, — ответил он, — вы говорили, что у вас нет возможности наградить меня чипом или орденом. Но, поверьте, честь, которую вы мне оказываете, произнесенные вами слова во сто крат дороже любой нашивки на рукаве или значка на куртке! Слова Кронье и ответ командира молокососов были встречены громом аплодисментов.
Двенадцать последующих дней протекли относительно спокойно, если не считать обычных на войне инцидентов, являющихся как бы своеобразной разменной монетой военного времени. А между тем в других областях Оранжевой Республики и Трансвааля происходили серьезные дела. Буры неизменно одерживали победы, но воспользоваться их плодами не умели. Ледисмит энергично защищался, все еще держался Мафекинг, Кронье с его маленькой армией так и не смог сломить сопротивления Кимберли. Высшие бурские военачальники поговаривали о том, чтобы, объединив силы, начать генеральное наступление и, нанеся по английской армии массированный удар, попытаться разгромить ее до прибытия победителя при Кандагаре, лорда Робертса[92], поставленного во главе английских войск в Южной Африке. Назревали важные события. Поднявшись однажды с зарей, Сорвиголова, в который уже раз, наслаждался ярким зрелищем бивачной жизни. Полная живых красок и неожиданностей картина бурского лагеря превосходно описана знаменитым французским полковником Вильбуа де Мареем[93], бесстрашным солдатом и исключительно благородным человеком, павшим в Трансваале от английской пули. Позвольте же мне, дорогой читатель, воспроизвести здесь его строки, чтобы дать вам возможность насладиться бесценным ароматом, которым обладает только пережитое лично: «Бурский лагерь с его приземистыми палатками, напоминающими по форме военную фуражку, кухнями, расположенными прямо под открытым небом, и говяжьим рагу с приправой из овощей вполне мог бы сойти за французский в Алжире[94], если бы не огромные фургоны, установленные длинными рядами или в каре[95], если бы не многочисленные стада, возвращающиеся с пастбища или размещенные позади всей линии фронта, если бы не молчаливое спокойствие буров, так резко отличающееся от шумливой оживленности нашей французской военщины. Вы не услышите здесь трубных сигналов. Ночную службу несут небольшие группы бойцов, добровольно сменяющиеся через определенные интервалы. Шатер генерала, комманданта[96] или фельдкорнета[97] служит клубом, куда может войти каждый желающий. В бурских войсках не применяют наказаний и не дают наград, не принуждают и не судят: все исполняется точно в указанные часы по долгу гражданской и воинской чести. Подобно всем современным армиям, этот лагерь имеет в своем распоряжении почту, телеграф, электрические прожекторы, хорошо оборудованные госпитали. Самое любопытное в нем — высокий религиозный дух, которым весь он пронизан. Все тут приписывается «Божьему промыслу»: судьба Трансвааля, защита свободы и прав угнетаемого народа. Когда генерала поздравляют с победой, он отвечает: «На то была воля Божья». Человек, которому привелось видеть, как буры ежедневно отправляются на ночные посты, — кто пешком, кто на лошади, всегда ровно в определенное время и при любой погоде, — не может не склониться перед высшей силой, превращающей этих вольных, как ветер, людей в строго дисциплинированных воинов. Сплошь и рядом они идут на свои посты, согнувшись в три погибели под дождевым потоком. Легкая одежда едва защищает их, кругом беспросветная тьма, ливень хлещет как из ведра, а бюргеры, наперекор стихии, стоически продолжают свой путь. И так — изо дня в день. Прильнув к склону холма, утопая в грязи или хлюпая по лужам, они бодрствуют до зари и спят под открытым небом, каждую секунду готовые отдать жизнь за свое трансваальское отечество». Но вернемся к нашему герою. Сорвиголова прогуливался по лагерю, присматриваясь ко всему, восхищаясь виденным или отмечая недостатки. Он дышал полной грудью в этой атмосфере боевого горения и снова и снова поздравлял себя с тем, что принял участие в суровой, полной трагизма борьбе, от исхода которой зависела судьба целого народа. Случайно ли или в силу предчувствия, но только забрел он в то место, где стоял шатер генерала. Непринужденно войдя внутрь, Жан застал там Кронье, писавшего что-то. Оторвавшись от своего занятия, командующий дружески улыбнулся: — Добрый день, Сорвиголова! — Добрый день, генерал! — А я как раз собирался послать за вами. Вы мне нужны. — Рад вам служить, генерал! Я уж и так почти две недели веду праздную жизнь. — И скучаете? — Еще бы! Ведь после взрыва моста у меня ни разу не было случая поколотить англичан. — А если я предоставлю вам такой случай? — Чудесно, генерал! Эх, если бы со мной по-прежнему была рота молокососов! Но, увы, она почти вся рассеялась. Остались каких-нибудь человек тридцать. — По возвращении вы сможете восстановить ее в полном составе. — Значит, мне придется уехать? — Да, и довольно далеко, под Ледисмит. Вы повезете Жуберу[98] секретные документы чрезвычайной важности. Дело в том, что на телеграф положиться нельзя: вражеские разведчики проникают всюду, — почта же идет слишком медленно. Надо будет мчаться без остановки дни и ночи, избегая засад, ускользая от шпионов, превозмогая сон и усталость, с тем чтобы выполнить задание как можно скорее и любой ценой. Вы обладаете всеми необходимыми для этого качествами: храбры, выносливы, предприимчивы, находчивы, никогда не теряетесь и находите выход из любого положения. И я имею полное основание надеяться, что вы справитесь с обязанностью курьера. — Буду стараться, генерал! Когда прикажете отправляться? — Через полчаса. — Одному? — Так, пожалуй, было бы лучше. И все же, поскольку нельзя исключать и самого худшего, возьмите с собой надежного товарища, который при необходимости заменил бы вас. Если вас обоих ранят или захватят в плен, документы должны быть уничтожены. — В таком случае я возьму своего лейтенанта, Фанфана. — Ну что ж, Фанфан так Фанфан. А теперь давайте обсудим маршрут, конечно, без учета возможных изменений. От нас до Ледисмита по прямой триста миль. «Около пятисот километров», — подумал Жан. — Накинем еще пятьдесят миль на окольные пути, которые вам придется выбирать. Отсюда до Блумфонтейна[99] по шоссе восемьдесят миль. От Блумфонтейна до Винбурга по железной дороге — тоже восемьдесят миль. От Винбурга по шоссе до Бетлехема восемьдесят пять миль. От Бетлехема до нашей передовой под Ледисмитом снова по железной дороге — около девяноста миль. Если Винбург занят англичанами, о чем вы сможете узнать на узловой станции Смолдиил, проедете поездом до Кронстада и доберетесь до Бетлехема через Линдлей. Рекомендую вам как можно меньше полагаться на железную дорогу. Самое простое было бы, конечно, из Блумфонтейна доехать поездом до Претории, а уже оттуда спуститься до Ледисмита, но это отняло бы не менее восьми дней: дороги забиты военными составами, и поезда движутся медленнее хорошихлошадей. Так что шоссейные дороги, дающие выигрыш во времени, предпочтительнее. — Но, генерал, где и как мы найдем лошадей по выходе из вагона? — А вам они и не понадобятся. Кстати, Сорвиголова, ездите вы на велосипеде? — О да, генерал! — ответил Сорвиголова, весь просияв при мысли о таком оригинальном путешествии. — Отлично! — Велосипед мой любимый вид спорта, и, не хвастая, могу сказать, я в нем очень силен. — Охотно верю. Кронье взял со стола большой конверт, тщательно запечатанный, перевязанный и с обеих сторон покрытый лаком: — Здесь документы. Конверт непромокаемый. Зашейте его за подкладку вашей куртки и вручите лично генералу Жуберу. Вот пропуск. Он обеспечит вам содействие на территории обеих республик. Зайдите на склад, там широкий выбор велосипедов. Предусмотрительный Дядя Поль прислал их нам вместе с другим военным снаряжением. А теперь, мой мальчик, не теряйте ни минуты. До свидания! Да защитит вас Бог! И да поможет он вам вернуться живым и невредимым! Сорвиголова помчался в свою палатку и, застав там Фанфана, с места в карьер спросил: — Скажи, ты хороший велосипедист? И Фанфан ответил важно: — Спрашиваешь!.. Я же тренером был. И каким! — Тогда пойдем выберем машины — и айда на прогулку. — На войну? На каталке? Шик!.. Багаж и оружие брать? — По одеялу, по ружью, по дюжине сухарей и по сотне патронов. Они тотчас отправились в велосипедное отделение склада, где увидели сотню сверкавших новизною машин. Сорвиголова как истый патриот принялся искать изделия французской марки и скоро нашел то, что хотел. Это были два велосипеда военного образца — легкие, прочные и удобные, с отличным ходом и пятискоростной передачей. Каплю масла в педали и оси, проверить гайки и тормоза — и в палатку! А там — свернуть одеяла, перекинуть их через плечо справа налево, а ружья — слева направо, привязать к поясу кожаные сумки с сухарями и патронами. На все это ушло не более десяти минут. Фанфану хотелось отправиться на велосипедах прямо из лагеря. Но здесь не было дорог, а им предстояло спускаться под уклон в двадцать пять градусов. Пришлось идти пешком, волоча за собой машины. Передовые посты остались позади, и перед ними раскинулась степь, безлюдная, на каждом шагу таящая засады и гибель. — Послушай, хозяин, — предложил Фанфан, — а не нажать ли на педали? Чем мы рискуем! Только ноги поразомнем да проверим, как пойдет у нас это дело. — Идет! Оседлав велосипеды, друзья покатили прямо на восток. Дороги, правда, не было, но голая, ровная и твердая земля вельдта очень удобна для велосипедной езды. Впрочем, Фанфану все казалось, что они едут недостаточно быстро. — Слышь-ка ты, хозяин, молоко мы, что ли, боимся расплескать? Двенадцать километров в час! Махнуть бы со скоростью двадцати пяти… А, хозяин? — Ну да! Чтобы свалиться в первую попавшуюся яму, наскочить на камень или на какой-нибудь пень? Двенадцать километров в час, а может быть, и того меньше! Ты — солдат-велосипедист, а не спортсмен-гонщик. — Понял, хозяин! Кстати, куда это мы направляемся таким аллюром? — На Якобсдальскую дорогу, что тянется с севера на юг. Каких-нибудь двадцать минут и мы там. Через пятнадцать минут оба друга выехали на широкий, проложенный бесчисленным количеством воловьих упряжек тракт. Колеи здесь были глубоки, но зато дорожки, утоптанные быками, превосходны. Сияющий Фанфан трещал, как сорока, и называл себя самым счастливым велосипедистом обоих полушарий. А Сорвиголова, слушая его болтовню, поднимал время от времени голову и тревожно вглядывался в даль. Однако ничего подозрительного, по крайней мере до сих пор, он не приметил. Так без каких-либо помех они проехали семь-восемь километров. Но вдруг дорога круто пошла вниз и привела к реке. — Это Моддер, — спокойно произнес Сорвиголова. — Я знал, что мы встретим его. Тут есть брод. Перейдем. И оба, вскинув на плечи велосипеды, смело вошли в воду. Течение, даже у берегов, было очень быстрое. Приходилось крепко упираться ногами в дно, чтобы не унесло потоком. Река становилась все глубже, вода дошла сначала до пояса, потом до груди и, наконец, до шеи. — Эх, ходули бы! — вздохнул Фанфан, тащивший свой велосипед над головой. Ружья, патроны, одеяла — все вымокло, за исключением сухарей, которые из предосторожности привязали к рулям велосипедов. Но патроны воды не боятся, остальное — просохнет! К счастью, вода в реке была в это время года на самом низком уровне, в противном случае нашим друзьям не удалось бы перейти через нее. Вот наконец и берег. Отдышавшись и отряхнув с платья воду, они вскарабкались на прибрежный откос и снова покатили. Не было еще и восьми часов утра, но солнце стояло уже высоко. Начинала донимать жара. Фанфан достал из мешка сухарь и прямо на ходу стал жадно грызть. — Постноватая закусочка, — промолвил он, набив полный рот. — Не мешало бы добавить к ней хоть каких-нибудь овощей. — Позавтракаем в Якобсдале, — коротко ответил Сорвиголова. — Ты ничего не ешь и все молчишь, хозяин. А между тем обычно ты не дурак покушать, да и за словом в карман не лезешь. — Опасаюсь неприятных встреч. — А далеко еще до Якобсдаля? — Менее пятнадцати километров. — Хо! Всего какой-нибудь часок езды! Дорога хорошая… Поднажмем на педали, а? — Давай! И они промчались еще добрых тридцать минут. Внезапно Жан Грандье, ехавший впереди, заметил справа, на расстоянии двух километров, небольшую конную группу, человек пять-шесть. Всадники перевели лошадей на крупную рысь с явной целью перерезать дорогу велосипедистам. — Фанфан, можешь припустить до двадцати и даже двадцати пяти километров. Видишь? Наверное, уланы. — Слева, да? — Нет, справа. — Значит, их две группы… Да, это уланы. Не дрейфь и пошевеливай ногами! Жарь! Жарь!.. Друзья припали к рулям и понеслись со скоростью курьерского поезда. Но и уланы пустили лошадей в карьер. С пиками на изготовку они бешеным галопом мчались наперерез велосипедистам. Состязание было недолгим, но захватывающим. Ведь шел не один из безобидных матчей на ровном шоссе, опасный разве только для кошельков зрителей или для самолюбия его участников. Ставкой в этой отчаянной гонке служили жизни двух молодых людей, а может быть, и судьба целой армии. Под густым слоем красной пыли коварно притаились рытвины и камни, которых не увидишь, пока не наскочишь на них. — Ничего. Прорвемся! — пробормотал Сорвиголова. Его мускулы готовы были лопнуть от напряжения, взгляд не отрывался от дороги. Крепко сжимая руль, он интуитивно объезжал попадавшиеся на пути препятствия. Уже доносились крики улан. Жану явственно послышались слова, от которых закипела вся его кровь: — Подколем свинью!.. Подколем! «И никаких возможностей подстрелить этих свирепых зверей!» — вздохнул он. Фанфан, следивший за левым отрядом, радостно крикнул: — Не порть себе кровь, хозяин!.. Обогнали! Пройдем! Однако правая группа приближалась с молниеносной быстротой. Дорога, правда, немного улучшилась, но велосипедисты начали уже выдыхаться. Фи-ю-ю-ю!.. Фи-ю-ю-ю!.. — просвистели пули. Это открыл огонь левый, отставший отряд. Не столько ради того, чтобы подстрелить беглецов, сколько в расчете на то, что они испугаются, потеряют самообладание, необходимое при быстрой езде, и свалятся с велосипедов. Но капитану Сорвиголове и Фанфану была чужда такого рода слабость, они давно привыкли к подобной музыке. Вдали показались окруженные деревьями строения, до них всего километра два. Якобсдаль! Еще пять минут этого адского хода — и они спасены. Левый отряд мчался за ними следом, правый находился всего в ста пятидесяти метрах от дороги. — Поддай, Фанфан, поддай! — Жарь! Жарь!.. — подхватил парижанин. Англичане взревели от ярости: бесстрашные мальчишки пронеслись буквально под самым их носом. А тут еще разгоряченные кони правого отряда перемахнули по инерции через дорогу и проскакали метров пятьдесят, прежде чем их удалось остановить. Но кавалеристы не мешкали. Круто повернув лошадей, они продолжили преследование. Расстояние, отделявшее велосипедистов от Якобсдаля, сокращалось буквально на глазах. Но в окрестностях этого городка дорога, к несчастью, оказалась истоптанной и изрытой стадами, и молокососам пришлось замедлить ход. Внезапно велосипед Жана попал в засыпанную пылью яму, заднее колесо занеслось на полном ходу, и Сорвиголова, подскочив в воздух, перекувырнулся и, пролетев метров шесть, растянулся в грязной выбоине. Фанфан, наткнувшись на валявшийся посреди дороги велосипед, также перемахнул через руль своей машины и после невообразимого кульбита растянулся рядом со своим командиром: — Видал? Вот так падение — блеск!
ГЛАВА 5
Отчаянная схватка. — Истребление людей и лошадей. — Замечательный стрелок. — Потерянный кончик уха. — Последний улан. — Напоминание майору Колвиллу. — Якобсдаль. — В путь!Все перемешалось в неописуемом беспорядке — руки, ноги, ружья, сумки. Фанфан, с обезьяньей ловкостью вскочивший первым, нашел в себе силы позубоскалить: — Ничего страшного!.. А знаешь, я вообще, наверное, резиновый. Сорвиголова с трудом поднялся на одно колено, тяжело перевел дух и провел рукой по лбу. — А меня так хватило по голове, — признался он, — что в глазах будто миллионы электрических лампочек засверкали. — Ничего не развинтилось, а, хозяин? — спросил Фанфан с какой-то особой, нежной и простодушной тревогой. — Чепуха! Разве можно в наши годы бояться таких пируэтов! — ответил Жан. Обе конные группы соединились, и теперь уланы неслись во весь опор единым отрядом. Их была целая дюжина, и они не сомневались, что в два счета покончат с мальчишками, потерявшими, как им казалось, способность к сопротивлению. Сорвиголова собрал все свои силы. Скинув с плеча винтовку, прицелился в улан, которые, припав к холкам своих коней, с копьями наперевес летели прямо на них. — Не стреляй! — бросил он Фанфану. Читатели «Ледяного ада» помнят, вероятно, каким замечательным снайпером стал Жан Грандье в Клондайке благодаря урокам одного канадца. Уланы скакали по четыре в ряд, и столько же прозвучало выстрелов, частых, как бы слившихся в один: крр… — точно полотно разорвалось, и первая четверка грохнулась оземь с раздробленными черепами. Кони второго ряда инстинктивно отскочили в сторону, чтобы не раздавить упавших, но лошади убитых продолжали мчаться вперед и без седоков. Одна из них гнедая, с темно-каштановыми манжетами у копыт и с белой звездочкой на лбу стремглав бежала по дороге, грозя наскочить на велосипеды и раздавить обоих молокососов. Грянул пятый выстрел. Пуля попала точно в центр звездочки, и бедное животное тяжко рухнуло в двадцати шагах от велосипедистов. — Черт возьми, вот это меткость! — пробормотал Фанфан, такой же спокойный под огнем, как и его командир. Англичане обрушили на молокососов потоки брани, которые, однако, произвели на них не большее впечатление, чем карканье ворон. Уланы уже не решались на лобовую атаку и двинулись на противника с флангов. Их строй напоминал острый угол, вершина которого как бы упиралась в мальчишек. Сорвиголова с невозмутимым спокойствием навел ружье сначала на правофлангового головного кавалериста, затем — на левофлангового. Он стрелял, как охотник, бьющий дуплетом по куропаткам. Оба солдата упали, даже не вскрикнув и не взмахнув руками. Шесть всадников и одна лошадь уложены семью пулями! Есть от чего прийти в ужас! Впрочем, в Клондайке Сорвиголова превзошел и это достижение, когда во время полярной ночи истреблял волков, целясь в единственно видневшуюся мишень — сверкавшие фосфорическим блеском глаза хищников. Снайпер протянул Фанфану свою винтовку с опустевшим магазином: — Дай твою! Снова ощутив в руках надежное оружие, Сорвиголова вздохнул с облегчением. Англичане на мгновение заколебались. Да и понятно: они желали поохотиться за двумя подозрительными велосипедистами, позабавиться излюбленной своей игрой в охоту на кабана, а напоролись на двух молодцов, которые в одно мгновение уничтожили шестерых улан. Предпринятая кавалеристами новая атака опять не удалась: двое ближайших к молокососам улан попытались на полном скаку пронзить их пиками, но те оказались слишком коротки, а пущенные в карьер кони вихрем пронеслись мимо юнцов. Просиявший Фанфан показал уланам нос: — Проваливайте-ка вы со своими палками от метлы! Они годны только на то, чтобы сшибать с деревьев орехи да яблоки! — Погоди еще радоваться, — заметил Сорвиголова. — Думаешь, они вернутся? — Ничуть не сомневаюсь. Всей душой ненавижу их, но в мужестве им не отказываю. — Значит, по-твоему, им мало полученной взбучки? — Да. А вот и доказательство… Ложись!.. Сорвиголова, столкнув в канаву товарища, распластался рядом с ним. И вовремя! Грянуло шесть выстрелов. Взвились столбики пыли, взлетели осколки камней. — Ба! — торжествовал Фанфан. — Да что они, ногами, что ли, стреляют?.. Точь-в-точь как я! Убедившись, видно, что конной атакой ничего не добьешься, уланы отъехали метров на триста, спешились и, укрывшись за конями, открыли огонь. Весьма неосторожный ход, когда имеешь дело с таким стрелком, как Сорвиголова! Глубокая выбоина, прорытая бурскими повозками, служила не хуже траншеи. Сорвиголова, не обращая внимания на град пуль, которыми осыпали их англичане, прицелился в одну из лошадей противника чуть пониже уха. Конь вздыбился, прежде чем упасть, и приоткрыл скрывавшегося за ним солдата. И в следующий миг улан с пробитым лбом опрокинулся навзничь. — Всего пятеро осталось! — завопил Фанфан, но тут же вскрикнул: — Ужалили!.. — Он неосторожно приподнял голову, и пуля сняла, как резцом, мочку его правого уха. — Да ты не волнуйся, сущие пустяки! — Пора кончать! — отозвался Сорвиголова. Уланы, легкомысленно опустошив магазины своих винтовок, прекратили на время огонь. Но пока они наспех, торопливо роясь в патронташах, перезаряжали ружья, Сорвиголова успел перестрелять их коней. Ни одна лошадь не падала сразу. Все они бились, поднимались на дыбы и отскакивали в сторону, лишая солдат укрытия. Один из пяти остававшихся в живых улан, стоя на колене, прицелился в молокососов. Но Жан успел опередить его, и, пораженный меткой пулей, тот опрокинулся навзничь. — Теперь только четверо! — восторженно крикнул Фанфан, зажимая рукой кровоточащее ухо. Драма длилась не более пяти минут. Уцелевших улан охватил несказанный ужас. Если бы у них были кони, как охотно бросились бы они наутек! Но безвинным животным досталось сильнее людей: они были перебиты все до одного. Уланам оставалось только поплотнее прижаться к земле. Однако кругом — ни ложбинки, ни камня, чтобы затаиться, лишь кое-где скудные клочья степной травы. Молокососы же, хотя и уступали уланам в численности, были надежно спрятаны от взора противника. — Пора кончать! — повторил Сорвиголова. — Нам нельзя терять времени, ведь путешествие только началось. Гром и молния, как охотно уничтожил бы я целый полк этих проклятых вояк! Жан научился у буров без промаха бить врага из засады. Он умел, не обнаруживая себя, следить за всеми действиями противника, мог незаметно для неприятеля изменить позицию или зайти ему в тыл. Вот и теперь, зарядив свое ружье, он шепнул несколько слов Фанфану, а сам пополз по выбоине. Продвинувшись метров на пятьдесят, Сорвиголова едва слышно свистнул сквозь зубы. Фанфан тотчас, вытянув в сторону руку, приподнял над выбоиной насаженную на ружье шляпу. Англичане клюнули на приманку и открыли бешеную пальбу. Хотя их головы лишь чуть приподнялись над землей, для Жана и этого оказалось достаточно. Паф! Паф! — раздались выстрелы. И тотчас же за ними последовали два других: паф!.. паф!.. Наступила полная тишина. А потом от земли отделился один — всего один! — объятый смертельным ужасом человек. — Погибли! Вес погибли! — вопил он, размахивая белым платком. — Вы всех убили!.. Я сдаюсь, сдаюсь! — Откуда он взялся? — удивился Сорвиголова, поднимаясь в свою очередь. — Значит, я все-таки промахнулся… Эй, Фанфан! Вставай! Победа за нами! Улан подходил, шатаясь, растерянный, с обезумевшими от ужаса глазами. — Руки вверх, молодчик! — скомандовал Сорвиголова. Тот поднял дрожащие руки и, заикаясь, пробормотал: — О нет, я не обману… У меня нет больше охоты воевать… Об одном прошу: пощадите! — С удовольствием, — ответил Сорвиголова, из обычной своей осторожности не опуская, однако, ружья. Внезапно его осенила мысль. — Номер вашего полка? — спросил он англичанина, который лязгал от страха зубами. — Третий уланский, — с трудом произнес тот. — В таком случае, вы должны знать майора Колвилла. — Конечно, я знаю его. Он — заместитель командира третьего уланского. Наш полк стоит в Ледисмите, а мой эскадрон был отправлен под Кимберли для разведочной службы. — Вот что, я отпущу вас, но с одним условием. Согласны? — Только скажите, все исполню, что ни прикажите. — Мое имя Сорвиголова, я — Брейкнек, капитан молокососов. Это я взорвал мост на Моддере. — Я очень много слышал о вас, — промолвил улан. — Видели, как я разделался с вашими товарищами? — О, это ужасно!.. Вы страшный человек! — Я говорю об этом не из хвастовства, а только для того, чтобы вы, зная, с кем имеете дело, не обманули меня и слово в слово сказали бы майору Колвиллу следующее: «Человек, которого вы сделали жертвой идиотской и варварской игры в охоту на кабана, поклялся убить вас и убьет. Вам не уйти от его мести». А теперь можете идти, вы свободны! Солдат отдал честь и поплелся прочь, пошатываясь, точно пьяный. — И передайте вашим привет! — крикнул ему вдогонку Фанфан. — А теперь займемся каталками, добавил он, обращаясь к Жану. Велосипед, на первый взгляд необычайно хрупкая машина, в действительности очень прочен. Когда смотришь на изогнутые под различными углами эмалированные трубочки, из которых построен его корпус, на колеса с тонкими, как лапки паука, спицами, так и кажется, что среднего веса тяжесть, самый незначительный удар могут разладить весь этот механизм. А между тем он не гнется даже под грузным толстяком и может устоять против сильнейших ударов, что и подтвердилось на примере машин, выбранных молокососами. После внимательного осмотра сорванцы убедились, что в рамах их велосипедов нет даже намека на искривление, и собрались катить дальше, но тут Фанфан, с одной ногой уже на педали, задержался и, окинув взором ужасное нагромождение человеческих тел и мертвых лошадей, печально произнес: — Пока защищаешь свою шкуру, все тебе нипочем — знай себе колотишь, будто издеваешься над смертью. Потасовка так и подсыпает тебе пороху в кровь… А кончилась битва, прошла опасность, да как поглядишь вот на такую кучу Маккавеев[100], которые всего пять минут назад были цветущими парнями, невольно подумаешь, до чего же это грязная штука — война! — Да, но война за независимость священна, — заметил Сорвиголова. — На нас напали, и нам вдвоем пришлось защищаться против двенадцати человек. Моя совесть спокойна, и я не жалею о случившемся. — Я понимаю, лучше самому убить дьявола, чем дать ему укокошить себя, — согласился Фанфан. — И уж конечно, я предпочитаю стоять на земле, чем лежать в ней, да еще вечно. Но все-таки, что бы ты там ни говорил, а война грязная штука… Едем, однако, завтракать. Они снова оседлали велосипеды и через десять минут уже въезжали в Якобсдаль — большое село или, если хотите, маленький городок. Сорвиголова и Фанфан вошли в лавку, позади которой было пристроено что-то вроде таверны, и потребовали завтрак. Им подали яйца, две копченые селедки, лук, яблоки ранет, бутылку эля и буханку черствого хлеба. Изголодавшийся Фанфан забыл все треволнения и ужасы войны и, широко раздувая ноздри, жадно вдыхал запах съестного, словно сказочный людоед, учуявший где-то человеческий дух. — Копченая селедка, как, впрочем, и ящерица, — друг человека, — глубокомысленно изрек он. Фанфан надрезал селедки в длину, отделил головы, положил на блюдо, потом очистил и нарубил мелко лук, снял кожуру с яблок, нарезал их ломтиками, перемешал все и, обильно полив эту мешанину маслом и уксусом, принялся поглощать свое невообразимое кушанье. — Ты попробуй только, хозяин, — сказал он, набив полный рот. — Пища богов! Но Жану эта кулинария внушала мало доверия, и он приналег на яйца. Через четверть часа оба друга, расплатившись, катили в Блумфонтейн по тропинке, называвшейся громким словом «дорога».
ГЛАВА 6
Бешеная езда. — В поезде. — Взрыв. — Самоотверженный труд. — Бегство. — Встреча с Жубером. — Пробитое легкое. — Доктор Тромп. — Черный, но не негр. — Находчивость Фанфана.Дорога была довольно прямая, но скверная, если вообще можно назвать дорогой путь, проложенный повозками. На ее прокладку не пришлось тратиться. Никто не позаботился вымостить трассу камнем, прорыть по бокам водосточные канавы. О нет! Она возникла совсем иначе. Кому-то надо было проехать от одного селения к другому. Он запряг в повозку пару быков и покатил себе прямиком. За первой повозкой последовала вторая, потом третья… Так с течением времени образовалась широкая колея. Ее-то и величали дорогой! Повозки передвигались по ней легко, устраивала она и пешеходов, а подчас даже велосипедистов, о чем свидетельствует тот факт, что Сорвиголова и Фанфан проехали по ней без остановки сорок шесть километров, отделявших Якобсдаль от Эммауса. Но что особенно замечательно, они потратили на это всего-навсего четыре часа! Конечно, на шоссейных магистралях департамента[101] Сены и Марны такой рекорд показался бы более чем скромным, но для проселочной дороги, столь типичной для Оранжевой Республики, подобная скорость просто чудо! А если к этому прибавить еще семнадцать километров, которые они проделали от лагеря Кронье до Якобсдаля, да переход через Моддер, да схватку с уланами, то каждый охотно согласится, что оба молокососа отнюдь не были «шляпами». В Эммаусе, крошечном городишке с библейским наименованием, где остались одни старики, женщины и дети, поскольку все здешние мужчины были на войне, пришлось сделать остановку. Сорвиголова предпочел бы, правда, без передышки мчаться до другого селения, в двадцати четырех километрах отсюда, но Фанфан запротестовал: — Селедка с яблоками и сырым луком развела во мне чертов костер. Хозяин, да угости же ты бедного Фанфана хоть кружкой пива, или молока, или какого-нибудь дешевенького винца, а то и просто свежей воды! Все что угодно, только бы напиться! Умоляю тебя! Сорвиголова рассмеялся и вошел в ближайший дом. Причудливо путая английские слова с голландскими, он попросил немного молока. Хозяйка, молодая женщина, посматривала на него с недоверием. Тогда Сорвиголова вспомнил о пропуске Кронье и показал его своей собеседнице. Мгновенно все изменилось. Молокососам расточали улыбки, пожимали руки, предлагали отдохнуть, непременно хотели накормить их всякой всячиной, — словом, готовы были ради них перевернуть все вверх тормашками. — Благодарю, молока, только молока, — сказал Жан. И молока у друзей оказалось более чем достаточно. Его несли горшками, кувшинами, ведрами, — тут было чем утолить жажду целой роты! Фанфан пил, рискуя лопнуть, Сорвиголова — более умеренно. Закончив трапезу, оба, несмотря на самые настойчивые уговоры задержаться, вскочили на велосипеды и покатили дальше. Путь из Эммуаса до ближайшего селения, где остановились юнцы, прошел без приключений. Они переночевали в одной бурской семье, оказавшей им братское и самое великодушное гостеприимство. Молокососы заснули сном праведников, но, как истые воины, проснулись с зарей, наскоро поели — и снова в путь. До Блумфонтейна оставалось еще восемьдесят четыре километра. На полдороге пришлось перейти вброд Крааль, приток Моддера, то есть, проще говоря, искупаться. Этот более чем трудный переход был проделан за восемь часов, включая три получасовые остановки. В Блумфонтейн прибыли в четыре часа. Не позволив себе даже осмотреть город, они отправились прямо на вокзал. Впрочем, этот маленький городок был лишен каких бы то ни было достопримечательностей. Десять тысяч жителей, слишком новые и слишком претенциозные дома, которые к тому же совершенно терялись на непомерно широких улицах. Пропуск Кронье и на вокзале открыл перед молокососами все двери. Но оказалось, отсюда нет ни одного поезда на Винбург. Связь поддерживалась лишь с Преторией. Так что друзьям предстояло доехать по железной дороге только до Кронстада, а оттуда до Бетлехема добираться на велосипедах. Особой беды, в сущности, не было, потому что дорога из Винбурга в Бетлехем — одна из самых скверных в Оранжевой Республике. От Блумфонтейна до Кронстада — сто двадцать миль, или сто девяносто три километра. Поезда шли со скоростью не более двадцати пяти, а порой и пятнадцати — шестнадцати километров в час. Приняв во внимание возможные задержки, молокососы рассчитали, что этот путь займет у них около пятнадцати часов. Они были в восторге. Подумать только: спать и в то же время двигаться вперед! — Ведь не быки же мы, в самом деле, — рассуждал Фанфан. В шесть вечера отходил товарный состав в Преторию. В одном из его вагонов комфортабельно устроили уже начавших уставать посланцев Кронье. Получив по две охапки соломы, они соорудили себе постели, от которых успели отвыкнуть, и заснули богатырским сном. Поезд медленно тронулся и покатил. Время от времени он останавливался, свистел, пыхтел, снова трогался, и так — час за часом. Прошла ночь, наступил день. Молокососы проснулись, поели, попили и снова завалились спать. Им теперь не оставалось ничего другого, как философски относиться к бегу времени. Поезд полз все медленнее и медленнее: в Трансваале пути были загромождены так же сильно, как и в Оранжевой Республике. Кронстад. Наконец-то! Путешествие длилось целые сутки. Сорвиголова и Фанфан, совсем одеревенев от неподвижности, рады были снова помчаться по проселкам и отмахали без остановки тридцать километров. На ночь пришлось сделать привал на берегу маленького притока Вельша, который, в свою очередь, впадал в реку Вааль. Перед сном — по сухарю и яблоку. Встали с зарей. На завтрак опять по сухарю и яблоку. До Бетлехема еще сто километров. Что ж, они их одолеют! И действительно, в шесть часов вечера оба молокососа, измученные, вспотевшие, покрытые красноватой пылью, были уже в этом городе. Кронье мог гордиться своими посланцами. Скорей на вокзал! Там им надавали в дорогу еды и питья и усадили в поезд, отошедший через час. Утолив голод и жажду, друзья заснули под мерный стук колес с чувством людей, хорошо исполнивших свой долг. От Бетлехема до последнего пункта под Ледисмитом, куда доходили поезда буров, всего восемьдесят миль, то есть около ста двадцати девяти километров. Составы шли здесь быстрее, чем на других линиях. Начальник станции уверил молокососов, что в три часа утра они проскочат через ущелье Ван-Реннен, и самая трудная часть пути будет пройдена. Поезд уверенно пожирал пространство, как вдруг раздался сильный взрыв, от которого содрогнулся и остановился на полном ходу весь состав. Все его сцепления разорвались. Оглушенные и контуженные, Сорвиголова и Фанфан, шатаясь, поднялись на ноги. Светало. — Вот так штука! — вырвалось у маленького парижанина любимое словечко. На сей раз «штука» оказалась миной, с великой отвагой и ловкостью подложенной англичанами. — Нас подорвали! — вне себя от гнева вскричал Сорвиголова. — Пастух откликнулся на песню пастушки[102], а, Фанфан? Ущелье Ван-Реннен было давно пройдено. Состав находился между Бестерсом и Уолкерс-Геком, далеко от позиций буров, в совершенно безлюдном месте, где трудно было рассчитывать на чью-либо помощь. Правда, вагоны были обиты стальными листами, однако недостаточно толстыми, чтобы служить надежной защитой, хотя, в известной мере, и заслоняли от пуль. Охрана поезда состояла из пятидесяти решительных людей, которые не собирались дешево отдать свои жизни. Впереди локомотива буры поместили порожний товарный вагон и тендер[103] с углем. Эта мудрая предосторожность вполне оправдала себя: искалеченный взрывом вагон полетел под откос с высоты четырех метров, тендер же свалился набок и загородил путь паровозу, который, видимо, не пострадал. Шедший за локомотивом вагон не упал, но правые колеса соскочили с рельсов и по самые оси врезались в землю, так что паровоз не мог дать и задний ход. Положение осложнялось еще тем, что англичане, устроившие засаду по обе стороны от железнодорожного полотна, открыли пальбу. Под прикрытием ответного огня буров машинист полез под состав, чтобы исследовать путь. Авария оказалась значительной. Несколько рельсов были вырваны и скрючены. Впрочем, эта беда была поправимой, так как в хвостовом вагоне их достаточно имелось в запасе. Самое трудное — это сбросить с пути тендер. Одна группа добровольцев вызвалась заняться ремонтом пути, другая с тем же самоотвержением, что и первая, полезла, рискуя жизнью, под сошедший с рельсов поврежденный вагон и, выкапывая землю из-под увязших колес, старалась свалить его с насыпи. Все эти работы отняли много времени и стоили немало крови. Были тяжело ранены два бура, но они решительно отказались от помощи: — Нет, нет! Спасайте оружие. А нами займетесь потом. Фанфан и особенно Сорвиголова не находили себе места от бешенства. Наконец, после нескольких часов упорного труда и потери двух человек, бурам удалось уложить и закрепить перед локомотивом новые рельсы. Теперь все зависело от того, сможет ли он отойти немного назад. Тогда можно было бы пустить его с разгону, как таран, на тендер и сбросить эту преграду под откос. Поскольку спасением поезда пришлось заняться почти всем бурам, стрельба с их стороны, естественно, ослабла. Англичане осмелели, и их кавалеристы гарцевали теперь на расстоянии револьверного выстрела от вагонов. — Опять уланы! — пробормотал Сорвиголова. Всадников было около сотни. Две трети из них спешились и вели огонь по бурам, работавшим на пути. Пришлось бросить все и снова взяться за ружья. Завязалось настоящее сражение. Впервые в жизни Сорвиголова благоразумно отказался подвергать себя риску, зная, что до тех пор, пока не передаст Жуберу пакет Кронье, он просто не имеет на это права, и потому юноша стрелял из-за укрытия, что, впрочем, ничуть не отражалось на меткости. Англичане несли потери, и в их рядах уже наметились признаки замешательства, как вдруг подошло значительное подкрепление. Положение буров стало критическим. Несколько лошадей, испуганных выстрелами, бешено носились по степи. Одна из них запуталась в болтающихся поводьях и грохнулась наземь в пятидесяти шагах от поезда. В уме Жана Грандье мгновенно созрел смелый план, и, спрыгнув с площадки вагона, он побежал к упавшей лошади. — Куда помчался? В уме ли ты? — крикнул ему Фанфан. Забыв об осторожности и не слушая возражений друга, Сорвиголова думал только о поручении Кронье. — Дорога преграждена! Выкручивайся как знаешь, а я попытаюсь совершить невозможное. До свидания! — попрощался он. Пули так и свистели вокруг него. Но Сорвиголова, не обращая никакого внимания на эту музыку и приводя буров в восторг своим бесстрашием и самообладанием, освободил ноги лошади от поводьев. Доброе животное тотчас же вскочило, Сорвиголова прыгнул в седло, дал шпоры и послал коня галопом к Ледисмиту. Вдогонку ему открыли огонь из двадцати винтовок. Капитан молокососов странно подпрыгнул в седле и зашатался, но тут же выпрямился, и, вскрикнув не то от боли, не то от бешенства, продолжал свой путь вдоль скалистых берегов, среди которых змеилась река Клип перед впадением в реку Сюрприз-Гилль. — Браво, Сорвиголова! Браво!.. — закричал просиявший от гордости Фанфан при виде нового подвига своего командира. — Браво, Сорвиголова! — вторили восхищенные буры. «А все-таки мы пропали, — размышлял Фанфан, — если только скоро, очень скоро не подоспеет помощь… Эх, попадись и мне такой конек, уж я бы тоже не отказал ему в чести спасти меня на своей спине. Но что поделать — его нет! Придется, видно, пошевелить мозгами». В эту минуту грянуло радостное «ура». Бурам удалось наконец, выкопав землю из-под колес, сбросить вагон с насыпи. Путь назад был свободен, по крайней мере на известное расстояние. Машинист дал задний ход, чтобы сцепить вагоны, потом, разогнав состав и рискуя разбить паровоз, погнал его вперед. Первый удар только сместил тендер, второй сдвинул его на край полотна, третий сбросил вниз. Мужество и ловкость сделали свое дело: вновь положенные рельсы не подвели, и поезд благополучно прошел опасный участок. Правда, буры понесли тяжелые потери, но вооружение спасли. Машинист дал полный ход. Локомотив понесся на всех парах и… налетел на огромный обломок скалы, сброшенный на рельсы. Удар оказался сильнее первого. Он повредил механизм паровоза, из всех отверстий которого повалили густые клубы пара. — Теперь-то уж совсем погорели! — воскликнул Фанфан. — А так как вы не питаете ровно никакой симпатии к понтонам, господин Фанфан, то вам придется выкинуть свой номер. И покуда англичане обстреливали замерший на месте состав. Фанфан стал потихоньку пробираться к паровозу. А Сорвиголова по-прежнему мчался на рослой английской лошади к бурским аванпостам. Всадник явно слабел. Бедному молокососу стало трудно дышать, на лбу у него выступил холодный пот, розовые щеки побледнели. Ему приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не вылететь из седла и выдержать боль, терзавшую его при каждом скачке коня. — Домчусь ли? — шептал он. — Надо доехать, надо… И снова пришпоривал теперь уже взмыленную лошадь, а чтобы не упасть, хватался за ее гриву. — Задыхаюсь!.. Пить!.. Пить!.. Кажется, отдал бы весь остаток своей жизни за стакан воды! На секунду юноша выпустил из рук гриву коня, достал носовой платок и, просунув его под куртку, зажал им рану на груди. Вдруг ему почудилось, что показались бурские траншеи. Так оно и было: над гребнями холмов мелькнуло около дюжины желтоватых вспышек, и над его головой засвистели пули. — Ружейные выстрелы! — прошептал Жан с горькой усмешкой. — Теперь это единственный вид приветствия между людьми. Он вытащил из-за пазухи платок и замахал им в знак своих мирных намерений. И хотя белая ткань стала красной от крови, огонь все же прекратился. Из ближайшей траншеи выскочили бойцы и побежали навстречу всаднику. Сорвиголова, бледный, как тяжело больной человек, собрал последние силы, чтобы прямо и гордо держаться в седле, и остановил коня, которого буры мгновенно схватили с обеих сторон под уздцы. — Кто вы? Откуда? Зачем?.. — Я капитан Сорвиголова. Привез бумаги генералу Жуберу от Кронье. Там дерутся… Поезд, на котором я ехал, будет захвачен англичанами. Буры заметили наконец, как он бледен, увидели кровь, большим темным пятном проступившую на его куртке. — Вы ранены?.. Мы понесем вас. — Ведите меня к генералу Жуберу. — Он сейчас в Нихолсонснеке, а это совсем рядом. — А «рядом» означает у буров по меньшей мере километр. В сопровождении группы всадников Жан Грандье направился к генералу. — Это ваш почетный конвой, дорогой товарищ, — произнес узнавший его фельдкорнет. — Сейчас мне больше нужна, пожалуй, простая сиделка[104], — ответил Сорвиголова, бледный как полотно, но сумевший еще найти в себе силы шутить. Наконец они подъехали к большой палатке, над которой развевался национальный флаг. Через открытые полы ее было видно, что она полна народу. — Вот мы и приехали, — заметил фельдкорнет. Сорвиголова, сделав отчаянное усилие, сам слез с коня и твердой поступью, но с искаженным отболи лицом приблизился к генералу. Отдавая правой рукой честь, Сорвиголова левой протянул ему обагренный кровью конверт и, не успев ничего сказать, даже не вскрикнув, тяжело рухнул навзничь. Видно, последнее усилие оказалось ему не по плечу. — Отнесите этого храброго мальчика в больницу, — взволнованно приказал Жубер. — И пусть о нем заботятся, как обо мне самом. Жана уложили на носилки, и дружеские руки с бесконечными предосторожностями понесли его в ближайший госпиталь. Через полчаса Сорвиголова пришел в себя. Едва открыв глаза, он тотчас же узнал очки, добрую улыбку и воркотню своего друга, доктора Тромпа. — Ну конечно, это я, мой дорогой Сорвиголова! Я — Тромп, по профессии целитель. «Тромп — обманите смерть»[105], как вы однажды удачно выразились. Надеюсь провести ее и на сей раз. — Так, значит, я серьезно ранен? И не скоро смогу снова сражаться? — встревожился Сорвиголова. — Очень серьезно! Пробита верхушка легкого. Пуля ли-метфордовская, не так ли?.. Она попала вам в спину и вышла через грудь. Как вы знаете, этот английский кусочек свинца весьма гуманное создание. Но тем не менее, несмотря на все его человеколюбие, я просто теряюсь в догадках, как могли вы добраться сюда? Вы молодец, мой мальчик, настоящий герой!.. Герой дня! Сейчас все в лагере только о вас и говорят. Да это и неудивительно. — Значит, доктор, вы уверены, что я выживу? — Вполне! Но пока вам надо молчать и отбросить от себя все тревоги. Животное существование, и ничего больше! Старайтесь даже не думать — и, увидите, все пойдет как по маслу. — Еще одно только слово, доктор! Что с подорванным поездом? — Он взят англичанами, оставшиеся в живых захвачены в плен. — Бедный Фанфан! — вздохнул Сорвиголова. Доктор Тромп, с обычным своим искусством перевязав Жана, дал ему успокоительного, и самоотверженный юноша погрузился в крепкий сон. Время бежало. Наступила ночь, потом утро, а Сорвиголова все еще крепко спал. Его разбудил шум: где-то рядом спорили. — Убирайся вон, черномазый! — кричал бур-санитар. — Не уйду!.. Мне надо с ним повидаться. — А, не уйдешь? Так на тебе, получай! — По-видимому, в ход пошла палка. Но тут негр заговорил довольно странным для африканца языком: — Отстань, чертов дуралей!.. Он сразу узнает меня, если только жив… — И, не обращая внимания на бдительного стража, затянул марш молокососов. — Фанфан! Да это же Фанфан! — радостно воскликнул Сорвиголова. Рьяный поборник порядка по-прежнему не пускал молокососа, но юный парижанин, услыхав голос друга, с ловкостью заправского Гавроша дал упрямцу подножку, от которой тот растянулся на полу, а сам вихрем влетел в палатку и подскочил к койке Жана, ожидавшего приятеля с распростертыми объятиями. Но… перед раненым оказался черный чертенок, вращавший белками глаз и распространявший вокруг себя нестерпимый запах машинного масла и колесной мази. Сорвиголова так и затрясся от неудержимого смеха. А обрадованный Фанфан воскликнул: — Ну, если больной хохочет, значит, наполовину уже здоров. Да, хозяин, это я! Ты жив, я свободен. Мы счастливы!.. Пойду умоюсь. Потом обнимемся и поболтаем. — Нет, Фанфан, нет! Постой, расскажи только, как удалось тебе выбраться оттуда? — Ты же сказал мне: «Выкручивайся», — вот я и выкрутился… Когда уланы подошли, чтобы подцепить нас на пики, я пробрался к углю и вывалялся в нем с головы до пяток. Потом навел косметику превосходной черной краской из колесной мази и стал негром, настоящим негром наичудеснейшего черного цвета. Англичанишки приняли меня за кафра[106] и величали не иначе, как «боем»[107]. А невеселое, скажу тебе, занятие — быть здесь кафром или боем. Англичане, едва увидев меня, тут же влепили несколько здоровенных пинков сапожищами по задку моей кареты, приговаривая: «Пошел прочь, мошенник!» Я, разумеется, не заставил их повторять напутствие и помчался в бурский лагерь. Там меня дубасили за черную кожу. А здесь тоже побили да еще наврали, что ты умер. Но, как видишь, я решил сам убедиться в этом. Теперь я с тобой. Ты, слава Богу, жив… Молчи, тебе нельзя говорить… Я счастлив! Бегу мыться. Потом вернусь и буду ухаживать за тобой, как родной брат.
ГЛАВА 7
Выздоровление. — Тягостное бездействие. — Снова в строю. — Луис Бота. — Сражение на Спионскопе. — Наступление буров. — Сокрушительный огонь. — Плен. — Смерть генерала Вуда. — Горе капитана Сорвиголовы. — Последняя воля. — Патрик Леннокс. — Возвращение под Кимберли.Современная «пулька», как, по свойственной ему склонности к деликатному обращению, называл ее доктор Тромп, и на этот раз оказалась «гуманной». Выздоровление Жана Грандье шло с поразительной быстротой. Этому немало способствовали, кроме неустанного внимания врача и ухода преданного Фанфана, крепкий организм и присущая нашему герою неугасимая жажда жизни. Не обошлось, конечно, и без асептики[108]. — Видите ли, дорогой мой, — внушал своему пациенту медик, — без асептики нет и не может быть настоящей хирургии. Вас здорово поддели… Случись это лет двадцать назад, вы через два-три дня умерли бы от такой раны. А теперь от этого не умирают. Я хотел бы даже заполучить вас с обоими пробитыми легкими, насквозь пробуравленной печенкой и пусть даже с дыркой в желудке… — О, вы слишком добры ко мне, доктор! — стараясь сохранить серьезность, отвечал Сорвиголова. — Благодарю вас и в следующий раз непременно постараюсь устроить так, чтобы меня привезли к вам изрешеченным, как шумовка. — И увидите тогда, что процесс выздоровления не станет от этого ни более длительным, ни более трудным. — Итак, доктор, до следующего раза! Этот разговор происходил спустя восемь дней после ранения Жана. Фанфан, отмытый добела, покидал своего друга только для того, чтобы побегать по лагерю и собрать для него свежие новости. Под Ледисмитом продолжали драться. На фронт то и дело отправлялись партии подлечившихся раненых. С нетерпением ожидал своей очереди и Сорвиголова. В конце второй недели он уже отлично ходил, проявлял волчий аппетит и во что бы то ни стало хотел вернуться в строй. Однако доктор Тромп настоял, чтобы Жан пробыл в госпитале еще неделю. И все эти дни Сорвиголова сгорал от нетерпения ринуться в битву. Битва действительно произошла. Жестокая битва! Она прославилась бесстрашным наступлением буров и вошла в историю под названием «сражение на Спионскопе»[109]. «Коп» — это на языке буров более или менее крутой холм, подъем на который не представляет, однако, больших трудностей. Полевые укрепления, траншеи, нагромождения скал и засеки превращали один из «копов», Спионскоп, в важный оборонительный пункт, возвышавшийся над долиной Вентера, левого притока Тугелы, и повернутый к английским позициям тремя валами или, вернее, тремя контрэскарпами[110]. Англичане сильно преувеличивали стратегическое значение Спионскопа, буры же недооценивали его, — возможно, потому, что в их руках были высоты, господствовавшие над этим холмом. Но, какова бы ни была причина, бюргеры плохо охраняли свои позиции на Спионскопе. Настолько плохо, что однажды ночью англичанам удалось выбить оттуда весь бурский гарнизон, состоявший из ста пятидесяти человек. А заняв холм, они затрубили победу, искренне убежденные, что овладели ключом от Ледисмита. Телеграф немедленно разнес эту весть по всей Европе, а падкая до сенсаций британская печать преувеличила и раздула ее до размеров события огромной важности. Словом, известие о взятии бурских позиций на Спионскопе вызвало в Англии один из тех взрывов энтузиазма, которые превращают великую нацию в посмешище всего мира. Ведь, по существу, то была простая военная операция, стычка на аванпостах, хотя в результате ее, как это часто бывает на войне, вскоре завязалось действительно большое сражение. И на другой же день англичанам пришлось запеть совсем иную песню. Жубер понял, какой стратегический и моральный ущерб нанесла бурам эта потеря, и приказал молодому, тридцатипятилетнему генералу Луису Бота[111], по праву слывшему выдающимся полководцем, во что бы то ни стало отобрать у англичан позиции на Спионскопе. Бота — энергичный человек, прекрасный знаток маневренной войны, умевший быстро принимать решение и неуклонно претворять его в жизнь, уже четыре дня успешно бился под Колензо, где его противником выступал генерал Уоррен[112]. Сорвиголова еще накануне сражения вступил в отряд генерала Бота, которому горячо рекомендовал нашего героя сам Жубер. В виде единственной награды за свой подвиг командир молокососов выпросил у старого генерала позволение идти в бой в первых рядах. И, вспомнив о происхождении Жана Грандье, тот произнес, пожимая ему руку: — Я тем более горжусь таким храбрым и преданным нашему делу солдатом, как вы, что и в моих жилах течет французская кровь. Бота тепло встретил отважного посланца Кронье и доверил ему командование небольшим отрядом в составе авангарда, которому предстояло действовать в ближайшую же ночь. Авангард насчитывал триста пятьдесят буров, набранных во всех частях из числа самых выносливых и ловких. Молокососы, рассеянные теперь по всем фронтам, были представлены в нем Жаном Грандье и Фанфаном. Это было отборное подразделение. Опираясь на него, Бота впервые в военной практике буров решился на обходный маневр. Речь шла ни больше ни меньше как о том, чтобы взобраться ночью на один из трех валов Спионскопа и на рассвете ударить по первой английской траншее. Дерзкий замысел, который именно благодаря своему безрассудству должен был увенчаться успехом, — однако какою ценой! Никто из бойцов не сомневался в своей участи, но с тем большим мужеством шли они на приступ. Авангард поддерживали пятьсот человек, сосредоточенных у подножия второго вала, и столько же — у третьего. Сорвиголова и Фанфан, отлично знакомые с этой местностью, которую успели изучить, когда молокососы действовали тут в качестве разведчиков, выступили со своим отрядом в полночь. Оставив лошадей у подножия первого вала, буры стали карабкаться вверх. Положение их было ужасно. Под ногами — пропасть, наверху — траншеи англичан, откуда в любой момент мог обрушиться шквальный огонь, а еще повыше, слева от траншей, — английская артиллерия. Взбирались медленно. Затаив дыхание, избегая малейшего шороха, бойцы с ловкостью кошек цеплялись за каждый выступ. Это опасное и утомительное восхождение длилось три с половиной часа. На рассвете передовые английские караулы подняли тревогу. Измученные и задыхавшиеся от усталости буры сгрудились за выступом земли, чтобы передохнуть, прежде чем ринуться на штурм оборонительной линии. Отличительная черта этой операции — наступление, и притом один из труднейших его видов — ночная атака. Ни громких команд, ни криков «ура», ни театральных эффектов. Только винтовки с полными магазинами, примкнутые штыки да пронзительный свисток, означающий «Вперед!». О, какие же храбрецы! Какой стремительный порыв! Откуда такая горячность у этих бесспорно отважных, но обычно спокойных буров, характеру которых противно всякое бравирование опасностью! Между бурами и первой английской траншеей, плотно набитой солдатами, простиралась открытая местность. Бойцы генерала Бота бесстрашно устремились на врага, хотя бурская военная школа и не учила их наступательному бою. — Да здравствует свобода! — Эти магические слова рвались у них прямо из сердца, преисполненного горячим патриотизмом, и часто переходили в предсмертный хрип. Буров встретил убийственный ружейный залп. Пушки грохотали без перерыва, поливая их шрапнелью и лиддитовыми снарядами. Скошена была уже половина отряда. Но и тяжело раненные буры собирали последние силы для ответного огня. Даже те, кому уже не суждено было вырваться из объятий смерти, судорожно хватали ружья и, спустив курок, тут же умирали с возгласом: «Да здравствует свобода!» К ним смело можно было отнести слова, сказанные о русских одним из наших знаменитых генералов: «Для того чтобы вывести из строя русского солдата, нужны две пули: одна — чтобы повалить его, другая — чтобы убить»[113]. Наступил все же момент, когда буры дрогнули. И это заметил Жан. Они с Фанфаном сражались в первых рядах, и лишь чудом никто из них не получил еще ни единой царапины: война всегда чревата неожиданностями. — Вперед! Вперед! От этих пуль не умирают!.. — крикнул Сорвиголова, бросаясь на неприятеля. — Вперед! — вторил бесстрашный Гаврош, ни на шаг не отстававший от друга. Как раз в эту минуту вступили в действие резервные отряды буров. Они только что вскарабкались на другие валы и с ходу пошли на штурм английских позиций. Загремела артиллерия генерала Бота. Пушки Круппа и орудия Крезо извергали на английские траншеи убийственный град стальных снарядов, беспрерывно трещали станковые пулеметы «максим». Теперь и дублинские[114] стрелки, защищавшие английские передовые укрепления, стали нести тяжелые потери. Их ряды буквально таяли, и скоро положение ирландцев стало совсем безнадежным. Из пятисот защитников триста уже выбыли из строя, а оставшиеся в живых были окружены. Ничего не поделаешь — приходилось сдаваться! Английский капитан с раздробленным левым плечом размахивал белым платком, нацепленным на кончик сабли. — Руки вверх! — приказали Сорвиголова, Фанфан и несколько буров, первыми спрыгнувшие во вражескую траншею. Англичане побросали оружие, подняли руки и сдались на милость победителя. Их немедленно отправили вниз, в бурский лагерь. Трудно переоценить значение этого первого успеха, купленного столь дорогою ценой. Но то было лишь начало, поскольку предстояло еще отвоевать остальные позиции. На помощь англичанам подошел генерал Вуд с двумя пехотными полками, представлявшими собой отборные английские войска. Солдаты храбро ринулись в штыки под водительством своего отважного командира. Сорвиголова прицелился в генерала и уже собирался было нажать спусковой крючок, как вдруг вздрогнул и отвел винтовку: он узнал того самого англичанина, который некогда избавил его от злейшей и оскорбительной пытки под названием «охота на кабана». Разумеется, это враг. Но честный и благородный! И в душе юного француза никогда не умирало чувство благодарности к своему спасителю. Жану хотелось как-нибудь помочь ему, укрыть от пуль. Он отлично понимал, что Вуда сейчас убьют, и думал о том, как было бы хорошо взять его в плен, избавить от всех опасностей войны, окружить заслуженным вниманием. Бюргеры стреляли, пользуясь мельчайшим прикрытием, причем каждый из них целился в заранее намеченную жертву. Их огонь косил ряды англичан. Протяжные, тоскливые стоны на несколько мгновений заглушили пальбу. Предпринятая англичанами контратака захлебнулась. Солдаты отступали, невзирая на просьбы, угрозы и даже удары своих офицеров. Вуд пал одним из первых. Сорвиголова бросился к тому месту, где он свалился, и отыскал генерала среди мертвых и раненых. Высвободив его из-под трупов, бледного, окровавленного и еле дышавшего, Жан воскликнул: — Это не я, генерал! О нет, не я! Клянусь! Сорвиголова расстегнул раненому мундир, поднял рубашку и увидел по обеим сторонам груди круглые синеватые отверстия с дрожавшими на них каплями крови. Фанфан, подскочив к другу, помог ему осторожно усадить генерала. С первого же взгляда молокососам стало ясно, что раны смертельны. Да и сам Вуд, казалось, не питал никаких иллюзий относительно своего состояния. — Генерал! — снова заговорил Сорвиголова. — Мы отнесем вас в тыл, в госпиталь. Вас будут лечить, вас спасут! Тот, напряженно вглядываясь в лицо Жана, словно старался что-то вспомнить, узнал наконец это юное честное лицо, на котором нетрудно было прочесть выражение глубокого горя. Из побелевших губ его вырвалось тихое, как дыхание, слово: — Брейкнек! — Да, генерал, это я. И я в отчаянии, что вам так плохо! Но мы спасем вас. — Благодарю. Мне уже ничто не поможет. Умираю… Я прошу вас только… Во внутреннем кармане мундира бумажник, в нем завещание… Передайте его после боя кому-нибудь из английских офицеров, пусть отошлет моей семье. А меня снесите туда, поближе к моим товарищам по оружию… Обещаете? — Клянусь, генерал! — Благодарю… Вашу руку… Прощайте! Взгляд его потускнел, на губах показалась струйка розоватой от крови пены, он глубоко вздохнул и замолк навсегда. Между тем со всех сторон сбегались и вступали в бой резервы буров. Англичане, терпя поражение, отходили к месту слияния Вентера и Тугелы. Было около двух часов пополудни. Там и сям еще шла перестрелка. Но пушечные выстрелы раздавались реже. То были последние судороги ожесточенной битвы. Буры одержали верх. Спионскоп снова в их руках! Победители пропели благодарственный псалом, а генерал Жубер в ответ на многочисленные поздравления обнажил голову и скромно ответил: — С Божьего соизволения. Обе стороны понесли жестокие потери. На поле битвы осталось более полутора тысяч убитых и раненых. Генерал Уоррен попросил перемирия, и Жубер, верный своим правилам, великодушно согласился. Но другой на его месте, безусловно, отказал бы и тем самым сделал бы свою победу более полной и надежной. Увы, спустя непродолжительное время именно так и поступят англичане, воспользовавшись неизмеримо более тяжелым положением буров. Мы увидим, как они будут испепелять огнем стопятидесятиствольной артиллерии своих великодушных противников и жестоко истреблять истощенных, умирающих от голода и ран бойцов, не зная жалости ни к женщинам, ни к детям. Впрочем, для буров скоро вообще пробьет час, возвещающий конец их победам, плодами которых они не умели пользоваться. В самом ближайшем будущем им предстоит столкнуться с новой стратегией, на службу которой англичане поставят еще более мощные силы. И драма на этом завершится. Но если буры и падут на глазах равнодушной Европы, они, как хорошо сказал старик Крюгер, все же удивят весь мир и спасут свою национальную честь. Как только перемирие было подписано, Сорвиголова поспешил исполнить волю генерала Вуда. Он потребовал носилки и попросил у Бота почетный караул, чтобы воздать генералу последние почести. Получив разрешение бурского полководца, Сорвиголова в сопровождении двадцати солдат, трубача и носильщиков отправился на поле битвы. Шествие двинулось в нейтральную зону, где буры и англичане бок о бок мирно выполняли скорбное дело — разыскивали и уносили с поля боя раненых и мертвых. При виде траурной процессии все они бросали работу и, вытянувшись в струнку, отдавали честь. Но вот кортеж приблизился к вражеским линиям. По приказу Жана Грандье трубач заиграл парламентерский сигнал. Из траншеи выступил взвод англичан во главе с юным офицером. Сорвиголова удивленно воскликнул: — Лейтенант Патрик Леннокс! Вы? И свободны? — Счастлив приветствовать вас, капитан Сорвиголова! — Но как же вы очутились здесь? — Мне удалось бежать… после того, как мой отец был убит на моих глазах в бурском госпитале. — Его убили?! Кто же мог совершить столь низкое преступление, противное сердцу каждого порядочного человека?.. Верьте мне, лейтенант, моими устами все буры осуждают этот гнусный поступок. — Да, Сорвиголова, я знаю, вы — честный противник, и я жму вашу руку с искренней симпатией, которая навсегда останется неизменной. — И вы, лейтенант, также можете быть уверены в моем к вам расположении. После того как оба молодых человека обменялись теплым рукопожатием, Сорвиголова произнес: — Выполняя волю генерала Вуда, павшего на поле брани, имею честь, лейтенант, передать вам останки этого храброго солдата, а также вручить находившиеся при нем личные бумаги, с тем чтобы они в целости и сохранности были доставлены семье усопшего. Офицер-шотландец обнажил саблю и скомандовал: — На караул! — На караул! — повторил за ним Жан. Буры и англичане, стоя по обе стороны носилок, одновременно отдали последнюю честь благородному воину. — От имени офицерского корпуса ее величества королевы, — взволнованным голосом произнес Патрик, — от имени семьи генерала благодарю вас, друг! А теперь прощайте! Желаю вам благополучно вернуться на родину, в прекрасную Францию, к тем, кто вам дорог. — Прощайте! Желаю и вам также счастливо избежать опасностей войны и вернуться на родину… На другой день генерал Жубер вызвал к себе капитана Сорвиголову: — Вы проявили себя как самоотверженный, находчивый и отважный курьер, доставив мне важные бумаги генерала Кронье. Посылаю вас обратно с документами, не менее важными. — Я весь к вашим услугам, генерал! — Вы с помощником отправитесь через два часа поездом в Блумфонтейн через Преторию. В Блумфонтейне достанете коней и во весь опор поскачете в лагерь Магерсфонтейн. — Слушаюсь, генерал! — До свидания! Желаю успеха. Если предчувствие не обманывает меня, — добавил Жубер, — у вас там скоро будет жарко.
ГЛАВА 8
Старый Боб. — Предчувствия Жубера. — Слепота Кронье. — Обходное движение. — В окружении! — Вольверскраальский лагерь. — Ожесточенная бомбардировка. — Героическое сопротивление. — Капитуляция. — Четыре тысячи пленных! — Капитан Жюно. — Два друга. — Побег.Фатальная для англичан стратегия генералов Метуэна, Уайта, Буллера и Уоррена отжила свой век. Английское правительство поняло свои ошибки и решило во что бы то ни стало исправить их, не скупясь на деньги и не щадя людей. Командующим английскими силами в Южной Африке назначили маршала Робертса. Прошло уже с месяц, как он прибыл сюда вместе с начальником своего штаба лордом Китченером[115]. С первого же дня они оба неустанно работали над переустройством армии и подготовкой ее к операциям совершенно нового типа. Неутомимая деятельность лорда Робертса, его воинственное, чисто солдатское красноречие, его бесспорный авторитет полководца быстро подняли воинский дух армии. Уже одно сознание, что с ними их «старый Боб», вызвало у солдат взрыв энтузиазма и внушило им уверенность в победе. Ежедневно приходили пароходы, до отказа набитые людьми, лошадьми, продовольствием и боеприпасами. Состав английской армии утроился, и она превосходила теперь своей численностью все население обеих республик, включая женщин и детей. Помимо сказанного выше приведем еще некоторые данные, также свидетельствующие о вопиющем неравенстве сил противников. Например, Британская империя насчитывала тогда четыреста миллионов жителей, а население противостоявших ей двух крохотных государств составляло всего лишь двести тысяч человек[116]. Великобритания отправила в Южную Африку двести двадцать тысяч солдат, тогда как буры за все время войны не смогли выставить более тридцати тысяч бойцов. В английские войска беспрерывным потоком вливались подкрепления из метрополии, в то время как бурские отряды, отрезанные от всего мира, несли ничем не восполнявшиеся потери в людях и снаряжении. Могущественная Англия, стремясь покончить с небольшим, но героическим войском патриотов, вынуждена была изыскать все возможности и бросить против буров такие силы, каких она никогда не выставляла даже против Наполеона. Опираясь на не виданное ранее численное превосходство, британское командование рассчитывало сломить наконец упорное сопротивление колониальной политике финансовых воротил. Но если англичане и одержат верх, им не придется особенно гордиться успехом, оплаченным великим множеством человеческих жизней и не поддающимися подсчету материальными потерями. Короче говоря, лорд Робертс начал свои военные операции, располагая армией, отлично оснащенной и достаточно многочисленной, чтобы вступить на территорию обеих республик. И при этом он был избавлен от необходимости идти на помощь находившимся в окружении войскам генералов Метуэна и Буллера, терпевшим от буров поражение за поражением. Готовясь нанести решающий удар под Кимберли, старый маршал сосредоточивал главные силы перед войском Кронье, которое, таким образом, должно было выдержать первый натиск. Бурский генерал, как уже отмечалось, славился не только гражданской доблестью и военными способностями, но и упрямством, и, заартачившись, не признавал ничего, даже самой очевидности. Забегая вперед, заметим, что это отрицательное качество привело полководца к катастрофе. В пакете, который Сорвиголова доставил Кронье, вместе с другими документами находилось письмо Жубера, содержавшее несколько советов в связи с новой военной ситуацией. «Остерегайтесь старого Боба, как самого дьявола, — писал Жубер. — Говорят, он задумал что-то новое. Это искуснейший стратег. Он строит все на маневре и избегает лобовых атак. Боюсь, что нас ожидают обходные движения широким фронтом, которые он в силах осуществить благодаря чудовищно огромной численности своих солдат…» Кронье, горделиво взглянув на действительно грозные укрепления, возведенные бурами для успешного противостояния лорду Метуэну, тихо, как бы про себя, проговорил: — За такими стенами я не боюсь никого и ничего, даже обходного движения, столь пугающего Жубера. Робертс — такой же английский генерал, как и все прочие, с которыми мне приходилось иметь дело. На обход он не решится. Рассуждая подобным образом, Кронье совершил двойную ошибку. Во-первых, Робертс — прирожденный солдат, обязанный возвышением исключительно своему таланту полководца, — не был таким же английским генералом, как и все прочие. Во-вторых, на обход он решился. Причем произошло это без лишнего шума и треска, без ненужной болтовни и бряцания оружием. По возвращении в лагерь Кронье Сорвиголова снова впрягся в тяжелую службу разведчика. Находясь под началом полковника Вильбуа де Марея, он выполнял эту опасную работу с обычной своей находчивостью и усердием. Набрал отряд в два десятка молодых людей, таких же смелых и ловких, как он сам. В их числе были, конечно, и лейтенант Фанфан с Полем Поттером. С невероятной отвагой, но и с неслыханной для таких юнцов осторожностью молокососы совершали дальние рейды вдоль всей линии фронта и возвращались всегда с целым коробом ценных сведений. Четырнадцатого февраля Сорвиголова примчался во весь опор сообщить своему полковнику, что английские войска заняли Коффифонтейн. Известие это было настолько серьезно, что Вильбуа де Марей решил проверить его лично. Он отправился один и вернулся страшно взволнованный: Сорвиголова не ошибся. Полковник немедленно известил о случившемся Кронье. Последний спокойно ответил, что все это вполне вероятно, но оснований для беспокойства нет никаких. Однако Вильбуа де Марей, обладавший непогрешимой проницательностью питомца современной военной школы, чувствовал, что захват Коффифонтейна — лишь один из этапов широкого обходного движения. На следующий день полковник, еще более озабоченный, чем накануне, снова поскакал в направлении занятого противником города, на этот раз в сопровождении австрийского офицера графа Штернберга. Гром пушек красноречивей всяких слов говорил о том, что в районе этого населенного пункта шло сражение. Раненый английский солдат, попавший в плен, уверял, что сюда подходит лорд Китченер с пятнадцатитысячной армией. Действительно, оба офицера сами видели, как вдали промаршировало несколько вражеских полков. Марей и Штернберг помчались в Магерсфонтейн, чтобы ознакомить с ситуацией Кронье. Но генерал выслушал их равнодушно и, пожав плечами, ответил: — Да нет же, господа, вы ошиблись! Какое там обходное движение! Его нет и не может быть. Даже очень крупные силы не решились бы на столь рискованную операцию. Прошло еще двадцать четыре часа. На рассвете полковник Вильбуа де Марей, взяв с собой восемь кавалеристов, отправился в разведку в сторону Якобсдаля. На полпути он увидел английскую армию, тянувшуюся бесконечной лентой, и во весь опор поскакал обратно. К своему великому удивлению, офицер не заметил в бурском лагере ни малейшего признака тревоги: беззаботные бойцы мирно почивали у повозок. Полковник попытался рассказать своим братьям по оружию о реальном положении вещей. Однако над ним лишь посмеялись. — Неприятель совсем рядом! Его войска вот-вот окружат и захватят вас, — в который уже раз произнес Марей. Буры ответили новым взрывом хохота и вскоре опять захрапели. Полковник бросился к генералу и, оповестив об огромной опасности, готовой обрушиться на немногочисленную армию, с волнением, от которого исказились благородные черты его лица и задрожал голос, умолял отдать приказ об отходе: — Генерал Кронье, вы берете на себя страшную ответственность… Вы будете разгромлены, а между тем в ваших руках исход борьбы за независимость!.. Послушайте меня, я не новичок в военном деле. Угроза велика. Умоляю, прикажите отступать! Вы пожертвуете при этом только обозом, который и так уже можно считать потерянным, но спасете людей — четыре тысячи бойцов. Еще не поздно! Кронье выслушал полковника с тем безропотным терпением, с каким взрослые относятся к шалостям избалованных детей, усмехнулся и, покровительственно похлопав его по плечу, ответил следующими, вошедшими в историю словами: — Я лучше вас знаю, что мне надо делать. Вы еще не родились, когда я был уже генералом. — Но в таком случае поезжайте убедиться лично, что английская армия наполовину завершила окружение! — не унимался полковник. Вместо ответа Кронье, как всегда, пожал плечами и отвернулся. День 16 февраля прошел в том же преступном по своей тупости бездействии. Семнадцатого после полудня кавалеристы Вильбуа де Марея во главе с ним самим вернулись на прежнее место. Перед взором полковника, как и накануне, нескончаемым потоком тянулись колонны английских войск. Выяснить обстановку решил и граф Штернберг. Сопровождавший его военный интендант, бур Арнольди, насмешливо заметил: — Хотел бы я увидеть хоть одного из тех английских солдат, которые так преследуют ваше воображение! — Ну что ж, взгляните! — ответил австрийский офицер, простирая руку к горизонту, потемневшему от сплошной массы людей, лошадей и пушек. Арнольди побледнел, пришпорил коня и, обезумев от волнения, помчался в лагерь Магерсфонтейн. Еще издалека он принялся кричать: — К оружию!.. К оружию!.. Англичане!.. — Слишком поздно! — с грустью в голосе заметил Штернберг, скакавший рядом с ним. — Да, слишком поздно! — как унылое эхо, повторил Вильбуа де Марей, тоже примчавшийся во весь опор в стан буров. Кронье убедился наконец в своей ошибке, понял, в какое тяжелое положение поставлена благодаря его слепоте лучшая бурская армия. И, надо все же отдать ему должное, в нем мгновенно пробудился бесстрашный воитель. Приказ об отступлении был отдан. В лагере поднялась невообразимая суматоха. Да и неудивительно: обоз состоял из четырех тысяч быков, такого же количества верховых коней и несметного множества повозок. Запрягли, как попало, быков, нагрузили наспех повозки. Но еще предстояло снять пушки с их гнезд, установить на лафеты и определить с помощью разведчиков, какими путями отходить, чтобы не напороться на врага. Подумать только, потеряно целых четверо суток! А Кронье и теперь из-за своего бурского упрямства никак не хотел бросить обоз и налегке, пользуясь чудесной подвижностью бойцов-соотечественников, вывести их из окружения. В два часа ночи лагерь наконец опустел. Вперемежку с кавалеристами, погонщиками и повозками ринулись во мрак ночи женщины и дети, перепуганные и оглушенные щелканьем бичей, скрипом телег, мычанием быков, топотом коней и криками людей. Что это — отступление? Нет, бегство! Бежали, то замедляя, то ускоряя шаг, всю ночь и весь следующий день. К вечеру вконец изнуренные животные — и лошади, и быки — не могли уже двигаться дальше. Генерал вынужден был разбить лагерь. Его маленькая армия заняла большой изгиб долины Вольверскрааль на Моддере, между Кудусрандом и Паардебергом. Оказавшись теперь в полном окружении, Кронье не мог собственными силами прорвать железное кольцо, и ему не оставалось ничего иного, кроме как надеяться на помощь со стороны других бурских войск. Надо было только во что бы то ни стало продержаться до их прибытия. Но как и каким образом? Женщин и детей укрыли за скалистым выступом в глубине оврага, вымытого водами Моддера. Телеги установили на склоне холма, а животных, которых негде было спрятать, привязали к деревьям на речном берегу. Весь день 19 февраля ушел на земляные работы. Сеть укреплений была создана по всем правилам военного искусства. Укрытие шириной у основания в один метр выходило на поверхность узкой, двадцатипятисантиметровой, щелью. Траншеи, как правило в форме буквы «Т», имели лишь по одному входу. Здесь и суждено было окопавшейся, исчезнувшей под землей в ожидании помощи армии Кронье выдержать такую страшную бомбардировку, какой не знала еще ни одна из современных войн. Причем генерал не мог даже отвечать на стальной ураган, разразившийся в тот же день, 19 февраля, над его лагерем: осажденные не обладали полевой артиллерией, а установить тяжелые орудия под смертоносным огнем было немыслимо. Бойцы, не покидавшие траншей, несли сравнительно небольшие потери, что объяснялось тактикой англичан. Сто пятьдесят пушек, половина которых были крупного калибра, сосредоточили свой огонь сперва по повозкам, которые через два часа, подожженные снарядами, запылали гигантским костром невиданной силы. Затем противник принялся за животных, устроив чудовищную бойню: берег реки покрыли окровавленные туши четырех тысяч быков со вспоротыми животами и изодранными внутренностями. И лишь после этого бомбардировка временно была прекращена. Огонь не угасал целых двое суток. От сильного жара трупы животных начали разлагаться. Лагерь наполнило отвратительное зловоние, дышать стало невозможно. Да и траншеи, в которых были битком набиты четыре тысячи людей, лишенных возможности хотя бы на минуту покинуть свои убежища, вскоре превратились в очаги всяческой заразы. Все ужасы войны обрушились на смельчаков. Но они, задыхаясь от смрада и зеленоватого дыма лиддитовых снарядов, изнуренные и искалеченные, стойко держались под непрекращавшимся ураганным огнем, не желая капитулировать. Вода в реке, отравленная гниющим мясом, стала ядовитой. Смерть косила женщин и детей. На четвертый день Кронье попросил перемирия для погребения мертвых. Лорд Робертс категорически отказал: — Никакого перемирия! Сдавайтесь на милость победителя! — Не сдамся! — с достоинством ответил Кронье. — Делайте с нами, что хотите, но я не сдамся! И старый Боб, твердый, как сталь, приказал возобновить бомбардировку. Снова загремели сто пятьдесят английских пушек, снова стала расти гора мертвых тел — и людей, и уцелевших после первого обстрела животных… И так — целых три дня, уже после отказа от капитуляции. Всего же — целая неделя мучительной пытки. Неделя, прославившая на весь мир патриотов, которые еще раз продемонстрировали мужество и стойкость, и покрывшая позором тех, кто по-варварски воевал с честным, благородным противником. С каждым днем, с каждым часом все теснее сжималось кольцо окружения. Расстояние между траншеями противников, составлявшее вначале восемьсот метров, постепенно сократилось — сперва до пятисот, потом до четырехсот и, наконец, до восьмидесяти метров! Стреляли теперь чуть ли не в упор. Гордонские шотландцы и канадские добровольцы даже перебрасывались с бурами короткими фразами. В осажденном лагере начали поговаривать о капитуляции. И действительно, другого выхода не было. В семь часов утра буры выкинули белое знамя. Огонь прекратился, и Кронье верхом на коне отправился сдаваться лорду Робертсу. При виде побежденного врага старый Боб снял шляпу и произнес, пожимая ему руку: — Вы мужественно защищались, сэр! Похвала, прозвучавшая надгробным словом над лучшей армией республики… Случилось так, что укрытие, служившее Жану Грандье, Фанфану и Полю Поттеру убежищем, находилось напротив траншеи канадцев, многие из которых были французского происхождения[117]. Когда перестрелка окончилась, между парижанами и канадцами завязался разговор, который, впрочем, скоро был прерван в связи с предстоявшим разоружением буров. Сорвиголова и Фанфан сломали свои винтовки, а Поль Поттер, узнав, что придется сдать англичанам старый «роер», куда-то исчез. Вернувшись четверть часа спустя, юный бур шепнул на ухо командиру молокососов: — Я спрятал ружье. Оно еще поможет мне перебить немало англичан. Рота канадцев французского происхождения приступила к операции. Пытаясь превозмочь усталость, вполне естественную после целой недели жестоких испытаний, и успокоить боль, сжимавшую их мужественные сердца, буры уныло брели между двумя рядами рослых солдат, одетых в столь ненавистное патриотам хаки. Лишаясь оружия, верно служившего им более пяти месяцев, пленные испытывали такое чувство, словно на их глазах ломали молот, который должен был выковать независимость родной земли. Ружья всегда были для этих отважных людей символом свободы, и к горлу недавних бойцов подкатывали едва сдерживаемые рыдания, а на ресницах сверкали жгучие слезы. Надо самому пережить весь позор незаслуженного поражения и ужас капитуляции, испытать боль от сознания, что ты уже не солдат, ощутить невыносимую муку при виде любимого отечества, попранного сапогом завоевателя, чтобы понять душевное состояние военнопленных буров и проникнуться горячим сочувствием к ним. Впрочем, англичане в большинстве своем обращались с бывшими противниками вежливо и даже сострадательно, а канадцы жалели их почти по-братски. Ротой канадцев командовал великан, добряк с голубыми глазами и длинными рыжеватыми усами. Он плохо владел английским и то и дело пересыпал свою речь французскими словечками, сильно отдававшими привкусом местного наречия. — Да вы не горюйте, ребята, все это чистая превратность войны, — утешал он буров. — В жизни не видал таких храбрецов, как вы! Мы одолели вас только потому, что нас больше. Один против десяти — тут уж ничего не поделаешь! Богатырь крепко пожимал пленным руки, от души стараясь хоть как-то смягчить их горькую участь. И вдруг увидел Жана Грандье, гордо, с высоко поднятой головой приближавшегося к нему вместе с неразлучными своими друзьями Фанфаном и Полем. Слова точно застряли в горле канадца, из уст его вырвались какие-то хриплые звуки. Опрометью бросившись навстречу Жану, он подхватил юношу, как ребенка, на руки и, чуть не задушив в объятиях, воскликнул сдавленным от волнения голосом: — Ну конечно же он!.. Жан Грандье, маленький Жан… Наш дорогой маленький Жан! Сорвиголова, ошеломленный тем, что его называют по имени так далеко от родины, с вполне понятным недоумением взглянул на капитана-канадца и тотчас узнал его. — Жюно?.. Франсуа Жюно! — произнес он растроганно. — Неужели это вы, дорогой мой друг? Славный товарищ! Какая чудесная встреча! Встреча и в самом деле была чудесная, ибо судьба вновь свела двух героев «Ледяного ада», Жана Грандье и Франсуа Жюно, конного полицейского из Клондайка, спасшего золотоискателей, замурованных в пещере Серого Медведя злодейской шайкой «Красная звезда». — Вот и еще одна из превратностей войны, — заметил канадец, прослезившись при виде вновь обретенного друга. Этот добрейший великан ничуть не возгордился тем, что из простого солдата дослужился до капитана добровольцев. — Ребята! — гаркнул он своим подчиненным. — Этот милый юноша-француз — с нашей любимой старой родины. Он знатный храбрец, даром что у него еще и усы не выросли. Перестрелял десятки матерых волков и бандитов, этих двуногих гризли, что опаснее всякого зверя. — Француз из Франции, — размышлял сержант, — это вроде как брат. — Ясное дело, брат! — хором поддержала вся рота. Жану устроили овацию, со всех сторон к нему потянулись руки. — Брат-то брат, а все же вы мой пленник, — продолжал капитан. — Увы! — вздохнул Жан. — И даже не один, а вместе с другом Фанфаном, он тоже парижанин. — Фанфан?.. Подходящий товарищ! — А это Поль, тоже мой друг. — И Поль хорош! А раз они ваши друзья, значит, и наши. И можете быть уверены, еще не было и никогда не будет пленников, с которыми обращались бы так же хорошо, как будут обходиться с вами. И потом, — таинственно шепнул капитан на ухо Жану, — у меня есть кое-что на уме… Когда с разоружением было покончено и буры ясно осознали свой новый статус — положение военнопленных, мужественные люди, хотя и испытывали горечь поражения, ощутили спад нервного напряжения, как это всегда бывает после сильных душевных потрясений и длительных страданий, и стали понемногу приходить в себя. Они получили возможность пообчиститься, помыться, перевязать раны, поесть и, главное, поспать: бессонные ночи вконец изнурили их. В лагере захватчиков царило бурное веселье. Сорок пять тысяч англичан торжествовали победу над четырьмя тысячами буров! Сорвиголова, Фанфан и Поль с новыми приятелями, которые только что взяли их в плен, расселись в кружок на берегу Моддера, у палаток, где разместились канадские волонтеры. Было совсем неплохо: много пили, много ели и без устали болтали. Жан, откликнувшись на просьбу капитана Жюно, с таким жаром и так интересно рассказал о своих приключениях, что привел слушателей в дикий восторг. Но около часа ночи мощный храп начал сотрясать палатки канадцев. И наконец в компании троих молокососов остался один лишь Франсуа Жюно. Наклонившись к уху Жана, он чуть слышно прошептал: — У самой реки стоят три бурских пони, оседланные и со всей амуницией… Сейчас я пойду в палатку. И когда усну, — ну, понимаете, захраплю, — проберитесь к лошадкам, осторожно спуститесь с ними в воду и, держа их под уздцы, переправьтесь на тот берег. Там вы будете в безопасности. Вы оплакивали свою свободу, и я, ваш друг, хочу вернуть ее вам. — Франсуа, дорогой, но нас же могут расстрелять! — с замиранием сердца возразил Сорвиголова. — Черта с два! Плевать я хотел на них! Ведь по крови-то я все-таки француз… Ну как, согласны? — Конечно! — В добрый час! Увидите часовых, не беспокойтесь — они отвернутся, если им прикажут стрелять — промахнутся, а если отправят в погоню за вами — поскользнутся и упадут. А теперь, друг мой, прощайте! — О Франсуа, как вы великодушны! — Тсс!.. Ни слова больше! Вашу руку — и в путь, французы из Франции! Крепко обняв Жана, капитан Жюно проскользнул в свою палатку, а трое молодых людей пошли к берегу, где их ожидали оседланные пони. Следуя совету канадца, сорванцы вошли в реку и, ухватившись за уздечки бурских лошадок, тихо поплыли по течению.
ГЛАВА 9
Опасная переправа. — Водоворот. — Горькая утрата. — Вдвоем на коне. — В Питерсбурге. — Англичане. — Осечка. — Капитан Рассел. — Пленники. — Приготовления к казни. — Возвращение пропавшего. — В Блумфонтейн.Всплески воды выдали присутствие молокососов и лошадей. Открылась пальба, но, как и предупреждал капитан, вреда она не причинила. Тем не менее свист пуль, вздымавших вокруг смельчаков бурунчики, действовал отнюдь не ободряюще, а минутами вызывал подлинную тревогу. К тому же река была очень широка, течение ее — стремительно, а ночь черным-черна. В довершение всего, на самой середине Моддера юнцы попали в водоворот, который завертел и закружил их, швыряя из стороны в сторону, как щепки. Жан почувствовал, что идет ко дну. Инстинктивно он еще крепче ухватился за узду своего пони, который, так же как и его новый хозяин, никак не мог выбраться из пучины и уже начал бить по воде передними копытами. Жан и сам не понимал, как он вместе с лошадью вырвался из омута и очутился на противоположном берегу. Быстро придя в себя, юноша протер глаза и стал пристально вглядываться во тьму в надежде отыскать друзей. И прямо напротив обнаружил пловца, который явно был не в ладах с водной стихией: отчаянно барахтаясь, бедняга то выскакивал наверх, то вновь уходил вниз. — Ты, Фанфан? — тихо спросил Сорвиголова. — Буль… буль… буль… — Смелей, Фанфан, я здесь!.. — Ап-чхи!.. Ап-чхи! Если Фанфан… то, очевидно, это я, хозяин. — А Поль?.. Где ты, Поль?.. По-оль!.. До этого командир молокососов не беспокоился о подростке: подлинный сын своей страны, закалившийся к тому же в трудностях войны, юный бур обладал силой и находчивостью взрослого мужчины. Теперь же его отсутствие встревожило Жана. Сорвиголова все громче и громче звал товарища, невзирая на риск быть услышанным английскими часовыми на противоположном берегу. В ответ — ни звука. Когда Фанфан выбрался наконец из воды, Сорвиголова спросил: — А где же твоя лошадка? — На дне. — Жаль… Поль!.. По-оль!.. — снова принялся кричать Жан, а Фанфан начал насвистывать марш молокососов. Им отвечала все та же зловещая тишина, прерывавшаяся лишь выстрелами из ли-метфордовских винтовок и доносившейся издалека английской бранью. Никаких следов юного бура! Сорвиголова и Фанфан, пренебрегая опасностью снова оказаться в плену, ходили взад и вперед вдоль берега, окликая Поля. Они потеряли целых полчаса драгоценного времени, пока с болью в сердце не убедились в бесполезности дальнейших поисков. Сомнений не оставалось: их злосчастный друг погиб в водах Моддера. Бедный Поль! Еще одна жертва этой ужасной войны, еще одного бойца лишилось святое дело борьбы за независимость. Юные парижане приняли эту утрату молча, не в силах произнести ни слова. К горлу подкатывали рыдания. Сорвиголова вскочил в седло, Фанфан примостился позади, и пони, почувствовав шпоры, пустился с места в галоп. Жан взял курс на юго-восток. Ориентируясь по звездам, он надеялся вскоре выехать на дорогу, ведшую из Якобсдаля в Блумфонтейн. Юноша знал, что этот тракт, находясь на значительном расстоянии от английских войск, замкнувших кольцо вокруг Вольверскрааля, представлял собой единственный путь, который мог быть еще свободен. Африканская лошадка быстро несла седоков по вельдту. Друзья, промокшие до костей, дрожали и лязгали от холода зубами. Утешала их только мысль о винтовке, с радостью обнаруженной Жаном у седла: по крайней мере, было чем защититься при более чем вероятной встрече с неприятелем. Степь оказалась далеко не безлюдной: время от времени до беглецов явственно доносился конский топот, слышались отдаленные крики и редкие выстрелы. Это могли быть и английские разведчики, и такие же, как и молокососы, бежавшие из плена бойцы. Бурская лошадка, которой Сорвиголова предоставил полную свободу самой выбирать дорогу, руководствуясь своим чутьем полудикого животного, старательно избегала всяких встреч. Так прошел час. Но вот и дорога! Беглецы проскакали еще минут тридцать. Вдали показались укутанные предрассветной дымкой дома. Сорвиголова узнал город Эммаус. — Помнишь, — спросил он Фанфана, — как около двух месяцев назад мы проезжали здесь на велосипедах? — И как удирали от уланов?! Лучше не вспоминать! — Зато как ты потом упивался молоком! — Это да! Я и сейчас не прочь бы. — Что ж, попробуем! Друзья остановились у первых строений. Ни души! Никаких признаков жизни. Даже коровы не мычали. Фермы разграблены, некоторые сожжены. Скот угнан, люди разбежались. Разгром и запустение. Кладбищенская тишина. — Едем дальше. Это чертовы англичане учинили разбой! Дорога была испещрена свежими следами копыт. Среди мелких отпечатков, оставленных бурскими пони, Сорвиголова заметил более крупные и глубокие, указывавшие на то, что здесь прошли кони завоевателей. — Недавно тут побывали хаки, — произнес он, снимая с седла винтовку. — Надо смотреть в оба! Жан послал галопом добрую бурскую лошадку, и та резво понеслась, несмотря на двойную нагрузку. От Эммауса до ближайшего поселка — десять миль, или шестнадцать километров. Пони пробежал это расстояние за час сорок пять минут. До ближайших домов оставалось уже не более трехсот метров. Молокососы не сомневались больше в своем спасении. Они смертельно устали и проголодались. Да и пони начал заметно сбавлять ход. — Придется сделать привал, — сказал Фанфан. — Разумеется. Проклятие! В ту самую минуту, когда друзья уже собирались слезть с лошадки, из неподалеку расположившейся фермы выскочила конная группа. Заметив молокососов, всадники, в которых нетрудно было узнать англичан, ринулись прямо на них. Уставший пони не мог взять галопа, между тем как солдаты неслись словно ветер. — Всего пятеро! — воскликнулСорвиголова. — Я уложу их. Он навел ружье и, привстав на стременах, нажал спусковой крючок. Увы, вместо сухого щелчка раздался жалкий, приглушенный звук: осечка! Сделав еще две попытки выстрелить, Сорвиголова понял, что пользы от винтовки не будет никакой: то ли патроны испортились, подмокнув, то ли произошла какая-то неполадка в механизме. — Гром и молния! — вскричал он. — Мы погибли! Ухватив ружье за дуло, юноша замахнулся прикладом на первого подскочившего к нему всадника. Мощный удар пришелся драгуну прямо по голове. Ружье разлетелось вдребезги, но прикончило солдата, который замертво рухнул на землю. Разгоряченный скакун англичанина, налетев в стремительном беге на измученную бурскую лошадку, опрокинул ее на спину. Жана отбросило шагов на десять в сторону, Фанфан же, соскользнув с проворством обезьяны с крупа пони, стоял целый и невредимый, но — без оружия! В тот же миг оставшиеся в живых четверо кавалеристов, не заботясь о товарище, валявшемся с раздробленной головой, спрыгнули с коней и, накинувшись на Жана, стали крутить ему руки. Сорвиголова отбивался, кусался, царапался, но его все же связали, а вслед за ним та же участь постигла и Фанфана, который, пытаясь помочь другу, отважно набросился на противников и в ожесточении дубасил их кулаками и ногами. Жан с налитыми кровью глазами, с пеной на губах, задыхаясь от ярости, кричал прерывавшимся голосом: — Вы оказались сильнее, мы в ваших руках… Пусть так! Но честные, благородные люди не должны унижать других только за то, что те защищались до конца. Если вы считаете себя порядочными, то будьте добры обращаться с нами как с военнопленными! Эти веревки позорят вас куда больше, чем нас. Развяжите же! Мы не убежим, честное слово! Рядом с молокососами стояли двое рядовых драгун, сержант и капитан, который, понятно, был за старшего. Узнав по голосу командира молокососов, офицер слегка вздрогнул и покраснел, но быстро справился с собой. Его губы сложились в ехидную улыбку. — Брейкнек, мальчик мой! — саркастическим тоном произнес он. — Я не искал вас, видит Бог! Но уж раз вы попались, мне придется ради собственного спокойствия уничтожить вас. — Капитан Рассел?! — воскликнул Сорвиголова и, несмотря на все свое мужество, побледнел. — Так точно! Перед вами командир второй роты седьмого драгунского полка, — злобно усмехаясь, ответил англичанин, — один из пяти членов военного суда, которых вы преследуете с яростью краснокожих… — И трое из которых уже отправлены к праотцам, — резко прервал его Сорвиголова. — Знаю! Улан, единственный уцелевший из всего отряда, который вы истребили близ Якобсдаля, передал майору Колвиллу ваши слова, а тот повторил их мне. Но теперь вы у меня в руках — и уж не ускользнете! Прежде мы только смеялись над вашими угрозами, принимая их за пустое бахвальство, но теперь вынуждены относиться к ним всерьез, так как убедились, что вы — человек, способный выполнить обещанное, и поэтому дали себе слово — я и мой друг, майор Колвилл, — при первом же удобном случае вычеркнуть вас из списка живых. Поскольку же я теперь не могу проливать кровь безоружных людей и не хотел бы, чтобы так поступали другие, то мы вас просто повесим. — Повесите?! — зарычал Сорвиголова, напрягая все силы, чтобы вырваться из пут. — Быстро и без затей. Вздернем при помощи самой обыкновенной фуражирской веревки на одной из веток вот этой прелестной акации, — произнес офицер, указывая рукой на дерево, раскинувшее свою пышную крону над шпилем одного из домиков Питерсбурга. — Разбойники! Мало же я перебил вас!.. — Продолжайте, продолжайте!.. — усмехнулся Рассел. — Приговоренному к смерти все разрешается. — Приговоренному?! Не лучше ли сказать, вашей жертве, убийца?! Расправляться с невинными людьми это так пристало вам, подлец! Иногда вы творите злодеяние, прикрываясь законом, чаще же — пренебрегая даже простейшими юридическими формальностями, но всегда без риска для себя, жалкий трус! Палач! — Пора кончать! — заорал капитан, взбешенный тем, что его подчиненные, устыдившись мужественного протеста пленника, смущенно опустили головы. — Веревку! — приказал он одному из рядовых. Тот протянул ее капитану. — Сделать петлю! Драгун медлил. — Исполняйте же, мой Бог! — загремел Рассел, взмахнув стеком. — А теперь накиньте ему на шею! Под пристальным взглядом офицера, готового обрушиться на него за малейшее неповиновение, солдат дрожащими от стыда руками выполнил позорный для воина приказ. Привлеченные шумом, из домов выбежали женщины и дети. Приготовления к казни привели их в ужас. Дети всхлипывали, женщины, рыдая, молили о пощаде. Внезапно в степи показался всадник, скакавший во весь опор. В голове у Жана мелькнула безумная мысль: уж не спешат ли к нему на помощь бежавшие из плена буры? Увы, на всаднике — форма цвета хаки, и, кроме того, метрах в трехстах от них он свернул с дороги и скрылся за фермой. Наверное, то был английский курьер. Исчезла последняя надежда. Сорвиголова понял, что для него все кончено, позорной смерти не избежать. Солдаты повели несчастного к дереву. Вне себя от горя, Фанфан унижался, умоляя бандита в офицерском звании пощадить его друга. Англичанин рассек хлыстом ему лицо. Но, невзирая на резкую боль, несмотря на стыд, подросток продолжал взывать к милосердию. — Э, черт возьми, повесить и этого! — рявкнул капитан. Женщины, заливаясь горючими слезами, которые, наверно, тронули бы и тигра, обступили Рассела. — Господин, пощадите его! Вы же видите — это мальчик, ребенок еще. Так сжальтесь же! Наши мужья обращаются с военнопленными по-человечески, будьте же и вы таким… — Молчать, индюшки! — гаркнул затянутый в хаки офицер и, бросившись на беззащитных женщин, начал раздавать направо и налево удары стеком. Ни одного слова не вырвалось больше из уст Жана, ни одним движением не выдал он душевной муки. Юноша постарался придать себе невозмутимый вид, призвав на помощь всю свою волю. Как это часто случается в трагические минуты, в сознании обреченного промелькнула вся его жизнь, такая короткая и в то же время такая богатая событиями. Как она улыбалась ему! Богатый, красивый, отважный и сильный, поборник всего великого и благородного, командир молокососов находился в том возрасте, когда человек смело глядит в будущее и стремится помочь всем угнетенным, обездоленным, слабым. Увы, все это уже позади, сейчас он умрет! В последний раз взглянул Сорвиголова на солнце, только что озарившее восток праздничным сиянием, на яркую синеву неба, на широкие просторы вельдта, в бесконечную даль которого уходили, колыхаясь, высокие травы. — Прощай, Фанфан! — ласково прошептал он. Обязанности палача взялся выполнить сержант, более выутюженный дисциплиной и потому более покладистый, чем рядовой солдат. Встав на седло и задрав руки вверх, он старался перекинуть веревку через самую крепкую ветвь акации, и, когда после нескольких попыток это ему удалось, верный служака, держа за конец орудие казни, спрыгнул на землю. — Вздернуть! — скомандовал душегуб-офицер. Сержант и один из солдат приготовились выполнить приказ. Казалось, уже ничто не сможет помешать злодеянию, как вдруг произошло невероятное. Над каменной стеной, ограждавшей ближайшую ферму, показалось дуло ружья. Почти одновременно прогремели два выстрела. Драгуны, державшие веревку, даже не вскрикнув, свалились на землю с раздробленными черепами. Молокососы тотчас узнали родной звук маузеровской винтовки. — Дуплет! — завизжал мгновенно оживший Фанфан. Капитан Рассел, остервенев от столь неожиданного поворота событий и боясь, как бы жертва не ускользнула, выхватил револьвер с явным намерением всадить Жану пулю в лоб. Но не успел даже прицелиться: раздался еще один выстрел, и кусочек свинца раздробил руку, державшую оружие, а заодно разбил рукоятку револьвера. Капитан, махая изуродованной кистью, взвыл от бешенства и боли. На гребне стены появился молодой человек, вернее подросток, в форме английского лейтенанта, и ловко спрыгнул на землю. Сжимая в руке ружье, он метнул в капитана, близкого к обмороку, полный ненависти взгляд: — Разбойник!.. Вовремя же я подоспел! Сорвиголова и Фанфан, узнав верного друга, которого считали погибшим, вскрикнули в один голос: — Поль! Солдат, приняв юного бура за офицера, уже поднес было пальцы к козырьку, но, тотчас осознав свою ошибку, схватился за винтовку. Однако молокосос опередил противника и, мгновенно разрядив ружье, убил его наповал. Из всех англичан в живых остался теперь только капитан Рассел. Он рычал и скрежетал зубами, не помня себя от бешенства, но рана не позволяла ему ни сражаться, ни даже бежать. — Поль, неужели это в самом деле ты? — не веря своим глазам, твердил Сорвиголова. — Конечно я! И как раз вовремя… Какое счастье! Не спуская глаз с врага, Поль, держа в одной руке наготове винтовку, другой перерезал ножом путы, стягивавшие его друзей. — А вот сейчас вместо них мы вздернем тебя, как разбойника и убийцу! — объявил он офицеру-садисту. — О да, — поддержал Фанфан, — повесить его! Я сам накину петлю! — Таков закон возмездия! — безжалостно-насмешливым голосом добавил Сорвиголова. — Превратности войны, как говорит мой друг Франсуа Жюно. И, сняв с шеи веревку, Сорвиголова передал ее Фанфану. — Действуй! Капитан, видя свою погибель, бросился было бежать, но Фанфан, мастер шоссона[118], ловко сшиб его подножкой. Затем, крепко прижав подлеца к земле, наш Гаврош просунул голову недруга в петлю и передал конец веревки Полю. Бур с проворством белки вскарабкался по стволу акации и перекинул веревку через ветвь. Спрыгнув на землю, он сказал Жану: — Приведи лошадь. Привыкшие к выстрелам животные не испугались и стояли на том самом месте, где их оставили. Сорвиголова подвел одного из коней к дереву, а Поль, привязав веревку к седлу, ударил скакуна ногой по животу. Тот вздыбился, потом бросился вперед, затягивая петлю на шее осужденного палача. Рывок был так силен, что тело преступника подскочило до самой ветви. Лошадь, остановившись было, снова метнулась вперед, разорвав толстую веревку, как нитку. Капитан рухнул на землю. — Отец, мы мстим за тебя! — в диком восторге воскликнул Поль Поттер. Избавившись наконец от врагов, трое друзей крепко обнялись. Сорвиголова и Фанфан, спасенные чудесным вмешательством Поля, с жадным любопытством расспрашивали товарища обо всем, что с ним случилось за то время, пока они не виделись. Молчаливый по природе, бур в нескольких словах рассказал о своих приключениях: — Течение Моддера уносило меня, но я кое-как все же выбрался. В водовороте потерял лошадь, но винтовку спас. Я был уверен, что вы погибли. Столкнувшись нос к носу с каким-то воякой, всадил ему штык в живот. И тут мне пришла в голову мысль взять у бедолаги взаймы форму. В два счета я напялил ее на себя и смог теперь преспокойно расхаживать среди бивачных костров противника. Уведя в одном месте коня, помчался к блумфонтейнской дороге. Когда рассвело, мой хаки, оказавшийся офицерским мундиром, стал служить мне вместо пропуска, разумеется, если не приглядываться к костюму. Я никак не думал, что скачу по вашим следам, и вдруг застаю вас в одной компании с драгунами. «Плохо дело!» — понял я. Сворачиваю с дороги, объезжаю ферму и задами пробираюсь во двор этого домика. Гляжу, совсем вам худо… Быстро карабкаюсь на стену и только-только успеваю прицелиться и уложить тех, кто собирался вздернуть тебя, мой дорогой Сорвиголова. Вот и все! А теперь, поверьте мне, надо, не теряя ни минуты, драпать в Блумфонтейн… Тем более что у нас свежие кони. — Удирать от англичанишек на их же собственных лошадках — честное слово, за всю жизнь ничего забавней не видал! — заметил Фанфан. — Да, да! — согласился с Полем Сорвиголова. — Поспешим! Здесь так и кишат неприятельские разведчики, а нам непременно надо остаться в живых, чтобы отплатить врагам за поражение при Паардеберге! — И отплатить сполна! — подхватили оба молокососа.
Конец второй части
Часть третья ДИНАМИТНАЯ ВОЙНА
ГЛАВА 1
Трагедия баролонгов. — Три пастушки. — Тысяча фунтов стерлингов против одного пенни. — Катастрофа. — Исчезновение одиннадцати улан. — Нелепые кумушки.На возвышенности Таба-Нгу, что означает в переводе с языка баролонгов «Черная гора», когда-то находилась носившая то же название столица небольшой республики этого малочисленного африканского племени. Но Оранжевой Республике не нравилось существование крошечного негритянского государства, вклинившегося в ее территорию. Как всегда в таких случаях, большая страна искала повода для присоединения к себе маленькой. Им послужила неприязнь, которую более или менее открыто выказывали по отношению к своему соседу сыновья Марока, усопшего вождя баролонгов. И в 1884 году простым декретом президента Оранжевой Республики маленькое государство баролонгов было аннексировано, и его гражданам объявили, что отныне они обязаны следовать законам и обычаям большого государства. Буры всегда жестоко обращались с представителями черной расы, поэтому значительная часть баролонгов покинула землю своих предков и переселилась в Басутоленд, английское владение, входившее в состав Капской колонии. Здесь вполне уместно провести печальную аналогию между насильственным покорением бурами беззащитного народа и той завоевательной войной, которую вела теперь против них самих Англия и которая, несмотря на все жертвы буров, должна была в конце концов привести к порабощению их родины. Но довольно философии, перейдем к фактам. В настоящее время Таба-Нгу, покинутый своими исконными обитателями, превратился в жалкое, хотя и живописное, селение с семью тысячами жителей, преимущественно негров, и с разбросанными там и сям редкими туземными хижинами и принадлежащими белым фермами. От прежнего величия древней столицы остались только сохранившиеся в его окрестностях огромные, поистине циклопических размеров прочные сооружения для сбора дождевой воды, удовлетворявшие некогда потребности всего населения и его бесчисленных стад. Резервуары располагались в степи, у самого выхода из ущелья или между двумя холмами, и ограждались с трех сторон обмазанными глиной каменными стенами: четвертая стена отсутствовала, чтобы вода в сезон дождей могла свободно приливать в бассейны. Благодаря водохранилищам, всегда наполненным чистой и свежей влагой, этот город стал важным в военном отношении пунктом. Один из таких искусственных водоемов, размещенный между Блумфонтейном и Ледибрандом, на расстоянии семидесяти километров от обоих городов, имел столь большое стратегическое значение, что англичане поспешили овладеть им еще до того, как вошли в столицу Оранжевой Республики. Поражение генерала Кронье повлекло за собой, как известно, снятие блокады с Кимберли и Ледисмита. И лорд Робертс получил полную возможность, не заботясь о флангах, сосредоточить войска для вторжения в Оранжевую Республику с востока и запада. Буры, отступавшие очень поспешно, не успели даже взорвать это водохранилище, а бдительность, с какой следили за ним англичане, казалось бы, исключала возможность какого бы то ни было диверсионного акта. Охрана бассейна была возложена на два эскадрона улан, два батальона драгун и одну артиллерийскую батарею. Это были довольно внушительные силы, если даже не считать проходивших мимо полков, которые ежедневно устраивали здесь привал. Часовые, находившиеся друг от друга в пределах слышимости и размеренно вышагивавшие вдоль вековых стен, за которыми поблескивала на солнце вода, не разрешали приближаться к сооружению сколь-либо подозрительным людям. Однако окрестным фермерам англичане позволяли по-прежнему поить скот, — разумеется, не по душевной доброте своей, ибо англичане ничего не делают без заднего умысла. Расчет на сей раз заключался в том, что у фермеров было пять-шесть сотен дойных коров (упряжные быки находились в военных обозах), дававших превосходное молоко, из которого крестьянки сбивали вкусное масло. А этими продуктами, как известно, особенно любили полакомиться уланы, драгуны, артиллеристы, да и волонтеры не прочь были их отведать. Скот мог пригодиться также и в случае перебоев с поставками продовольствия для армии. Мужчины, и молодые и старые, ушли на войну, и скотину на водопой гоняли женщины. Да и дело-то было нехитрое: послушные животные прекрасно знали дорогу и шли не задерживаясь. В тот день, о котором пойдет наш рассказ, три молодые крестьянки пригнали сюда сотни полторы коров. Впереди, рядом с телкой с бронзовым колокольчиком на ошейнике, шествовала крепко сбитая белокурая девушка в чепчике, похожем на голландский, и с большой корзиной в руке. За ней следовала другая — живая смуглянка в невообразимой соломенной шляпке с поблекшими искусственными розами. Как и первая, она шла, скромно опустив глаза, но было заметно, что это давалось ей нелегко. У нее на руке висела точно такая же корзина, как, впрочем, и у третьей, худенькой, неловкой, почти жалкой на вид девушки, замыкавшей процессию. Уланский сержант, подойдя к первой погонщице, поклонился с утонченной изысканностью гарнизонного вояки и отпустил банальную любезность. Девушка остановилась как вкопанная, немая и равнодушная к нему. Ко второй погонщице обратился капрал, а один из солдат — к третьей. Результат тот же: ни взгляда, ни слова, ни движения! Солдаты расхохотались, а сержант воскликнул: — Настоящие дикарки! Бог мой, до чего же они глупы! — и уже серьезно сказал первой девушке: — Я вижу вас здесь впервые, красотка, и вам должно быть известно, что мне приказано осматривать вещи у всех, кто идет к водоему. Что там у вас в корзине? Но «красотка» стояла по-прежнему не шевелясь и тупо глядела перед собой широко раскрытыми глазами. — Да она просто деревянная, клянусь честью! А может быть, из папье-маше? — И, снова рассмеявшись, он осторожно взял корзину и, заглянув в нее, произнес: — Бутерброды с маслом, фрукты, какие-то тряпки, вязанье… В общем, ничего страшного. Проходите! Капрал и рядовой, подражая сержанту, со смехом заглянули в корзины двух других крестьянок и, в свою очередь, повторили: — Проходите! Но те, словно окаменев, не двигались с места. Тогда солдаты жестами предложили им продолжать свой путь. Девушки поняли наконец и скрылись за стеной водоема. И все время, пока их коровы пили, громко фыркая, солдаты потешались над подружками, не скупясь на весьма грубые шуточки. — Честное слово, будь моя невеста Фанни Уолтер, на которой я женюсь после войны, столь же болтливой, как эти девчонки, я считал бы себя счастливейшим человеком во всем королевстве! — заметил один из них. — А может быть, они глухонемые? — предположил другой. — Говорят, глухонемые — самые идеальные хозяйки! — гоготал третий. — Дикарки, по-английски не понимают! — пожал плечами сержант. А девушки открыли между тем свои корзины, достали оттуда по куску хлеба с маслом и, храня все то же невозмутимое молчание, принялись с аппетитом уплетать завтрак, запивая его водой из бассейна, которую черпали прямо пригоршнями. Когда огромное стадо потянулось обратно, одному из солдат взбрела в голову мысль напиться молока. Он остановил шествовавшую впереди корову, подозвал товарища, у которого была выкрашенная в цвет хаки жестяная кружка, и, попросив его подержать сию емкость, принялся доить. Но то ли у него не было опыта в этом деле, то ли он причинил животному боль, но буренка вырвалась и так угостила задней ногой обоих томми[119], что они полетели в разные стороны и брякнулись оземь. Обескураженные и взбешенные любители молока смущенно поднялись под взрыв оглушительного солдатского хохота. Худая и с виду неуклюжая девушка, не проявлявшая до сих пор никаких признаков любезности, подняла с земли кружку и, мигнув черноволосой товарке, нежным тремоло[120] успокоила рассерженное животное. Взявшись за соски коровы с чисто профессиональной ловкостью, она в несколько секунд наполнила посудину пенящимся молоком и просто, без церемоний, неловким движением протянула солдату, потиравшему ушибленные места. Залпом осушив сосуд, англичанин улыбнулся: — У вас доброе сердце. Не стану предлагать денег, чтобы не обидеть вас, но благодарю от всей души. Тут же, помахивая кружками, к девушке подошли и другие солдаты, прося и им нацедить молока. В ответ странная пастушка тихонько свистнула, и коровы, тесня друг друга, рысью пустились прочь. Образовалась настоящая живая стена, пробиться через которую было нельзя. Красивая блондинка в голландском чепчике заметила между тем на стене бассейна объявление, на котором рукою ротного писаря были начертаны следующие недостойные цивилизованного человека слова:
«Тысячу фунтов стерлингов тому, кто доставит живым или мертвым капитана Сорвиголову.Прочитав объявление, девушка прикусила губу, чтобы сдержать лукавую улыбку, и спокойно пошла дальше. А через сутки те же самые часовые увидели то же самое стадо и тех же погонщиц. Никаких перемен в поведении бурских пастушек: та же вялая походка, тот же тупой взгляд, те же корзины. Только третья из девушек, та, что вчера так ловко доила, несла, кроме корзины, еще большой деревянный подойник. Зато солдаты были теперь куда любезней, чем накануне. Сержант даже не заглянул в корзины. Когда скот напился и животные, блестя от струившейся по бокам воды, двинулись в обратный путь, крестьянка с бадейкой остановила стадо. Поставив на землю ведерко, она опустилась возле одной из коров на колени и, надоив посудину, знаками дала понять солдатам, что молоко находится в их полном распоряжении. Те встретили этот неожиданный дар звучным «ура». Пехотинцы, уланы, артиллеристы бросились на штурм подойника и, черпая молоко своими походными кружками, быстро опорожнили его. Но девушка снова наполнила бадью. Вокруг стоял несмолкаемый гул радостных людских голосов, коровы мычали и били копытами землю. Никто уже не обращал внимания на двух других погонщиц, скрытых стеною водоема и сгрудившимися животными. Неутомимая доильщица занималась своим делом добрых двадцать минут. Только завидя подходивших подруг, она вскочила и, схватив подойник, молча пошла им навстречу. Но солдаты ни за что не хотели отпускать ее с пустыми руками, не отблагодарив за угощенье, как того настоятельно требовали их ублаженные желудки. Кто-то из улан снял с головы каску, бросил в нее мелкую монету и пустил по кругу. Каждый вносил свою лепту, исходя из имевшихся средств и понятия о щедрости. Через минуту собранные денежки серебряной струйкой посыпались в ведерко. Не поблагодарив солдат, все с тем же деревянным лицом, девушка побежала вдогонку за товарками и, исчезнув из виду, с отвращением выбросила чужеземные деньги в первую попавшуюся канаву. Едва она присоединилась к подругам, как все трое бросились наутек вместе со стадом, которое, точно взбесившись, понеслось во всю прыть. Англичане же, довольные тем, что хоть немного нарушилось нудное однообразие их жизни, радовались, как дети, и оборвал их веселье лишь тревожный крик часового. К водоему мелкой трусцой приближался отряд из двадцати улан, одетых в хаки. Трое всадников, офицеры, были без пик, но с белыми шарфами. Возглавлял группу высокий мужчина с седеющей бородкой, жесткими чертами лица и бегавшими рысьими глазами. На эполетах его мундира поблескивали золотые короны — отличительный знак майора. Цифра, вышитая на воротнике, указывала на то, что он принадлежал к третьему уланскому полку. Черт возьми, да ведь это же наш старый знакомый, палач Давида Поттера, заклятый враг капитана Сорвиголовы, последний оставшийся в живых член военного суда майор Колвилл собственной персоной! Он казался чем-то серьезно озабоченным и встревоженным, словно какая-то мрачная мысль неотступно терзала его душу. Нет спору, майор — храбрый солдат. Но даже самый смелый человек не может оставаться спокойным, зная, что где-то рядом кружится и ходит по его следам неугомонный дьяволенок, приговоривший к смерти пятерых членов военного суда и уже сдержавший свою страшную клятву в отношении четверых. Попросту говоря, майора бросало то в жар, то в холод. День и ночь не мог он отделаться от мысли о подстерегавшей его на каждом шагу кончине. А жизнь в постоянном ожидании смерти — это уже не жизнь. Вот почему офицер, готовый на все, лишь бы справиться с неуловимым врагом, прибегнул к недостойному солдата средству — обещал денежную награду за голову командира молокососов. Так как Колвилл был богат, то, не задумываясь, он предложил кругленькую сумму в тысячу футов стерлингов. У англичан, кстати, подобные действия образно называются обращением за помощью к кавалерии Святого Георгия, поскольку на одной стороне золотого фунта стерлингов изображен Святой Георгий на коне, поражающий дракона. Еще накануне по приказу майора на самых видных местах расклеили объявления. Он делал ставку не столько на врагов капитана Сорвиголовы, сколько, и пожалуй даже больше, на алчность его друзей. Проезжая мимо объявления, наклеенного на стене бассейна, майор пробежал его глазами, точно желая на самом себе проверить силу воздействия такого приема борьбы. И вдруг англичанин побледнел, из уст его вырвался сдавленный крик. Остановив коня, он широко раскрытыми от ужаса глазами уставился на несколько карандашных строк, приписанных твердым и крупным почерком прямо под его подписью:Майор Колвилл».
«А я предлагаю только пенни[121] за голову майора Колвилла, хотя она не стоит и того.Голос майора дрожал от гнева, а может быть, и от страха, когда, указывая на объявление, он крикнул: — Кто это написал? Отвечайте!.. Да отвечайте же вы! — Не знаю… — пролепетал сержант, приложив пальцы к козырьку. — Смею заверить вашу милость, только что, совсем недавно, этого еще не было. — Кто приходил сюда? Кто проходил мимо? Кто здесь останавливался? — Никто, кроме трех бурских пастушек, которые, как обычно, пригоняли на водопой стадо. — Я должен их допросить — и немедленно! — Но они все равно что бревна: ничего не слышат и не понимают — хуже дикарей. — Тем более! Чтоб сию же минуту они были здесь! Поняли, сержант? — Слушаюсь, ваша милость! — Возьмите с собой десяток солдат и во что бы то ни стало приведите ко мне этих пастушек. — Слушаюсь, ваша милость! Минутное дело! И десять солдат во главе с сержантом, вскочив на коней, помчались во весь опор по следам скрывшегося стада. Майор и его эскорт, спешившись, молча ожидали возвращения отряда. Никто еще не видел майора Колвилла в таком возбужденном состоянии. Точно неведомый рок или некая необоримая гипнотическая сила притягивала его к объявлению, перед которым он, расхаживая взад и вперед, то и дело останавливался. Прошло десять минут. — Ужасный копун этот сержант, — ворчал приговоренный к смерти член военного суда, в сердцах ударяя стеком по голенищу сапога. Издалека донеслось несколько выстрелов. Кони насторожили уши, люди вздрогнули. — Что там еще? — крикнул майор, возбуждение и гнев которого все возрастали. Но тут из повернутой к англичанам стены резервуара взметнулись столбы белого дыма, и под грозный аккомпанемент оглушительных взрывов каменное ограждение, веками выдерживавшее мощный напор дождевой влаги, рухнуло в нескольких местах на протяжении ста двадцати метров. Через пробоины ринулись стремительные потоки и с громоподобным гулом устремились вниз по склону, взрывая на своем пути землю, увлекая камни, опрокидывая палатки, унося фураж и заливая склады оружия. — Спасайтесь! Спасайтесь!.. — вопили солдаты, охваченные ужасом при виде леденившего душу зрелища. Даже находившиеся на взгорье орудия, зарядные ящики и артиллерийские повозки в любую минуту могли быть затоплены. Напуганные лошади громко заржали и, сорвавшись с привязи, понеслись в открытую степь. Вздыбившаяся волна смыла последние остатки стены. Образовавшийся гигантский водопад шириною в полтораста метров быстро превратил веселую долину в бурную реку. Непоправимая катастрофа! Уничтожен бассейн Таба-Нгу, безвозвратно утрачены запасы бесценной жидкости. А посему этот пункт потерял стратегическое значение. То было подлинное бедствие для всей английской армии и, в частности, для майора Колвилла, которому доверили охрану этой местности. Взрыв резервуара задевал самолюбие командира и бросал тень на его воинскую честь. Колвиллу не оставалось теперь ничего иного, как отступить перед потоками все прибывавшей воды. Солдаты, опасавшиеся новых взрывов и обезумевшие от страха, бежали без оглядки. Но не все: некоторых задавила рухнувшая стена, другие, унесенные, как жалкие щепки, стремниной, погибли в пучине. Потери составили человек пятьдесят. Однако майора куда больше беспокоила непонятная задержка отряда улан, посланного на поиски бурских пастушек. Все мысли этого маньяка вертелись вокруг дерзкого ответа, начертанного на его объявлении неизвестной рукой. И ужас его все возрастал по мере того, как он вспоминал находчивость, смелость и сбивавшую с толку ловкость своего невидимого, но вездесущего врага, который неотступно преследовал, унижал и позорил его, и все это с безнаказанностью, способной довести человека до исступления. Солдат, потеряв голову, не знал, что ему делать, что предпринять. Обоснованно или нет, но Колвилл полагал, что бурские пастушки кое-что знают обо всем этом и, может быть, наведут его на след. И ждал посланного за ними сержанта с явным нетерпением. Между тем доносившиеся издалека выстрелы прекратились, и майора бросило в дрожь, когда он подумал, что эта стычка могла оказаться роковой для посланных им солдат. Рев водопада заглушал все остальные звуки в долине. Лишь изредка доносились призывы тонувшего человека о помощи или предсмертное ржание коня. Внезапно на горизонте показались силуэты трех всадников, быстро приближавшихся на рысях. Кто они? Может, уланы? Но у них не было пик. Да и солдаты ли это? Конечно же нет: хотя и ехали они верхом на полковых конях, в глаза не бросался цвет хаки. Когда всадников уже можно было разглядеть, майор с подчиненными буквально остолбенели при виде нелепого маскарада. Не случись это при столь трагичных обстоятельствах, появление несуразного трио заставило бы расхохотаться даже англичан — людей, как правило, подверженных сплину[122]. То были три обряженных в женское платье кавалериста. Их упиравшиеся в стремена ноги были босы, торсы затянуты в корсажи, головы украшали неописуемые шляпки, а кое-как напяленные юбки развевались по ветру. И никаких следов сержанта и остальных семи солдат уланского отряда!Капитан Сорвиголова».
ГЛАВА 2
Герилья. — Чистейшее безумие. — Двоюродные сестры Поля. — Шутка капитана Сорвиголовы. — Поспешное бегство. — Уланы. — Снова смерть. — Пленники. — Переодевание. — Поклон майору Колвиллу.После капитуляции армии Кронье действия буров приняли совсем другой характер. Они отказались от нанесения противнику мощных ударов крупными войсковыми соединениями. Республиканские армии были разбиты на мелкие отряды, и генералы кончили тем, с чего им следовало бы начать, — герильей. Герилья — это удары, неустанно наносимые врагу неуловимыми подвижными отрядами. Партизаны нападают на обозы и отставших солдат, взрывают железнодорожные пути, уничтожают телеграфные линии, перехватывают разведчиков, налетают, как рой ос, на воинские эшелоны, отрезают войска от продовольственных складов, держат противника в постоянном напряжении, изнуряют голодом солдат и коней и совокупностью всех этих действий причиняют тяжкий урон неприятельским армиям, ряды которых тают с каждым днем. Только благодаря войне подобного рода испанцы сумели справиться с закаленными в боях войсками Наполеона, которые одержали немало блистательных побед над знаменитейшими полководцами того времени и разбили несколько европейских коалиций. В искусстве нанесения дерзких ударов и внезапного нападения Жан и его молокососы не знали равных. И когда командир юных партизан явился к генералу Бота за очередным заданием, тот немедля решил использовать замечательные способности Сорвиголовы с наибольшей пользой для дела. Но, к несчастью, сорванцы были раскиданы по всем фронтам, и группа Жана состояла теперь всего из трех бойцов: самого капитана, лейтенанта Фанфана и рядового Поля Поттера. Два офицера, чтобы командовать войсковым соединением, — это еще куда ни шло, но один солдат никак не мог составить целого отряда. Генерал Бота обещал отважному разведчику обратиться ко всем командирам с просьбой предложить находящимся в их распоряжении молокососам немедленно вернуться к своему капитану. Учитывая подвижность бурских отрядов, можно было надеяться, что юнцы соберутся дней за десять. Но Сорвиголова не мог примириться с бездеятельностью даже в течение такого срока и просил дать ему пока хоть какое-нибудь поручение. — Но у меня нет для вас ничего подходящего. Не забывайте, вас всего-навсего трое. — А вы подумайте, генерал. На войне всегда найдется что-нибудь особо трудное и не терпящее отлагательства. — Если бы в вашем распоряжении находилась сотня молокососов, я поручил бы вам взорвать водохранилище Таба-Нгу. — Но, генерал, я берусь это сделать с помощью Фанфана и Поля. — Бассейны охраняет тысяча англичан. У них кавалерия, артиллерия, пехота, — возразил Бота. — В таком случае сто человек скорей помешали бы мне. Мы вполне справимся втроем, даю вам слово. — Но это же чистейшее безумие! — Знаю. Потому-то и убежден, что дней через десять, если только мы не погибнем, данный объект будет уничтожен. Мы снова приступим к динамитной войне. Это так увлекательно! Вдвоем-втроем делаешь огромное дело, заменяя целый армейский корпус! — Хорошо, мой дорогой Сорвиголова, разрешаю, но с условием — непременно вернуться! Храбрейшие из храбрых отказались бы от подобного, практически невыполнимого задания, но не молокососы, не знавшие колебаний. И трое наших сорванцов отправились в Таба-Нгу. Там у Поля жили родственники. Впрочем, в тех местах все были немного сродни друг другу. Дядюшки и двоюродные братья бились на войне, зато тетушки и двоюродные сестры встретили юных воинов как нельзя более сердечно. А те, не теряя даром драгоценного времени, сразу же приступили к разработке плана действий. В голове Жана созрел оригинальный и вполне осуществимый замысел. Ему было ясно, что женщины легко пройдут там, где мужчин задержали бы на первом же шагу. Значит, молокососы позаимствуют платья из гардероба двоюродных сестер Поля и обратятся в девиц! Так Сорвиголова превратился в сестрицу Бетие, рослую девушку, носившую голландский чепчик, Фанфан стал сестрицей Гриэт, черноволосой девицей в невообразимой шляпке, а Поль преобразился в сестрицу Наати, неказистую по внешности, но обладавшую несравненными способностями доильщицы. Сорванцы учились ходить в юбках, перенимали, насколько это возможно, скромные девичьи повадки, — словом, делали все то, что Фанфан непочтительно называл «кривляньем». Вечером устроили генеральную репетицию. Все сошло отлично. А на утро следующего дня импровизированные пастушки уже гнали скот на водопой, не забыв захватить корзины, в которые, кроме завтрака, положили немного тряпья, и с честью выдержали опасное испытание. Случай с коровой, не позволившей уланам доить себя, подсказал Жану мысль захватить в следующий раз подойник, в который сестрица Наати — она же Поль — должна была нацедить молока, чтобы отвлечь внимание солдат. И на другой же день, как уже известно читателю, юные диверсанты, рискуя быть расстрелянными на месте, привели в исполнение дерзкий замысел. Фанфан и Сорвиголова — то есть сестрицы Гриэт и Бетие — спрятали на дне своих корзин под тартинками[123], платками и вязаньем по полудюжине динамитных патронов, снабженных бикфордовыми шнурами, — и будь что будет! Замысел капитана молокососов удался на славу. В то время как Поль без устали поил молоком жаждущих солдат, лже-Гриэт и лже-Бетие незаметно и осторожно начиняли щели в стене водохранилища динамитными патронами. Сбившееся в кучу, мычавшее и топтавшееся на месте стадо совершенно скрывало их во время этой опасной работы от взоров солдат. Затем отважные сорванцы, не теряя самообладания, подожгли шнуры. Теперь уже ничто не смогло бы воспрепятствовать разрушительному деянию. А у Жана, этого безрассудного смельчака, хватило еще дерзости приписать к объявлению Колвилла, которое он заметил вчера, уже известные нам слова, и при этом подписаться. Пусть знает! Пора было, однако, сматываться. Удирали они довольно быстро, то и дело подгоняя животных. Только бы добраться до фермы! Благоразумная предосторожность, мудрое решение! Ибо, во-первых, у водохранилища вот-вот должно было завариться горяченькое дельце, и, во-вторых, уланы, отправленные им вдогонку майором Колвиллом, уже скакали во весь опор. К счастью, отряд задержался в пути: кавалеристы наткнулись на кучу мелких монет — щедрый дар ценителей молока, с отвращением выброшенный сестрицей Наати. «Солдат не очень-то богат. Кто этого не знает?» — гласит одна песенка. А уланы этого взвода, как нарочно, все были такими голяками, что у них не водилось и гроша за душой. Поэтому они спешились и стали жадно подбирать пенсы и шиллинги. А это значило, что беглецами или беглянками, как будет угодно читателю, было выиграно еще минут пять. Сестрица Бетие, часто оглядывавшаяся назад, заметила вдруг англичан, которые снова успели вскочить в седла. — Кажется, погоня… — Вот так штука! И, конечно, уланы! — воскликнула Гриэт. — Как охотно переколотил бы я их всех до одного!.. — Как ты думаешь, Поль, — спросила Бетие, она же Сорвиголова, — добредут коровы домой без нас? — Доберутся! — коротко ответила Наати. — Тогда позабавимся! Еще пять минут назад мы бы пропали, но теперь можно и подраться. Вместо ответа Наати пронзительно свистнула. Услышав знакомый сигнал, головная корова пустилась в галоп и увлекла за собой все стадо, которое с грохотом снежной лавины помчалось к ферме. Дорога круто поднималась в гору. Слева от нее высилась скала, в которой зияла расщелина шириной в два метра и высотой в метр. Это был вход в пещеру. Сестрицы забежали туда на секунду и, выйдя, встали плечом к плечу. Уланы мелкой рысцой одолевали кручу. Утомленные кони едва плелись. Пастушки легко могли бы удрать, однако не двигались с места и с любопытством поглядывали на всадников. Те заметили подружек и стали кричать, чтобы девушки спустились к ним. Но юные крестьянки не удостоили улан ответом. Тогда сержант, скакавший впереди, подъехал к пещере и, не слезая с коня, попытался обнять Гриэт. — Сдавайтесь, плутовки, и марш за мной! — крикнул он. И тут произошло непредвиденное. С невозмутимым спокойствием Гриэт, она же Фанфан, ухватила кавалериста за сапог и, приподняв без всякого видимого усилия, сбросила с седла. Трах-тарарах! Раздалось бряцанье железа, прозвучала крепкая солдатская брань, и послышался стук копыт убегавшего коня, который, оставив сержанта вместе с пикой, саблей, ружьем и всем остальным достоянием улана, предоставил хозяина самому себе. Девицы, внезапно «оттаяв», закатились неудержимым хохотом. Видимо, шутка показалась им очень забавной. Уланы же, напротив, нашли ее весьма неуместной. С полдюжины их спешились и, наставив на бедняжек длинные копья, крикнули: — Следуйте за нами, если не хотите, чтобы вас насадили на пики, как куропаток на вертел! Шесть остроконечных копий угрожающим полукругом вытянулись перед девушками на расстоянии лишь одного метра. От рассвирепевших солдат всего можно было ожидать! Сброшенному с коня сержанту удалось наконец выпутаться из доспехов и присоединиться к остальным. Он полагал, что более высокий чин дает ему право орать громче и ругаться грубее своих подчиненных. Между тем пастушки, как хорошо срепетированный ансамбль, отступили на шаг к пещере, вытянули вперед носки левых ног, поставили каблуки правых ног под углом к левым, извлекли откуда-то винтовки и мгновенно и ловко прижали приклады к плечу. Вся эта изящная пантомима была проделана буквально в течение трех секунд. Раз! Два! Три!.. — как на ученье. На войне следует быть готовым решительно ко всему. Но бывают ситуации, предугадать которые выше человеческих возможностей. И совсем не трудно представить себе состояние кавалеристов, когда на их глазах три молодые девушки превратились вдруг в грозных воителей. Пика вообще не идет ни в какое сравнение с винтовкой, ну а когда приходится действовать в пешей схватке и бить ею снизу вверх, и вовсе беда: движения скованны, моральное состояние отвратительно. Даже наиболее храбрые повинуются при подобных обстоятельствах инстинкту самосохранения, подсказывающему бежать без оглядки от смертельной опасности, если, конечно, страх не успел еще парализовать несчастного копьеносца. Так случилось и на этот раз. При виде девиц, действовавших с выучкой настоящих солдат, уланы растерялись: о, эти пастушки, оказывается, совсем не такие дубины! Правда, потрясение длилось не более двух секунд, но и столь малого времени оказалось для маузеровских винтовок более чем достаточно. — Паф! — сверкнули три огненных языка, и поднялся легкий дымок. И тотчас же: паф! — еще три выстрела, слившиеся, как и первые, в один. Шесть пуль за две секунды — ужасно! Ментики[124] пораженных в упор противников порыжели от ружейного пламени, пики грохнулись на землю. Простреленные навылет, бедолаги судорожно взмахнули руками, зажимая ими раны, нанесенные «гуманными снарядцами». Сержанту свинец угодил в самое сердце, и он тут же свалился ничком. Один из улан пробежал с дико блуждавшим взором и неистовым воплем чуть ли не пятьдесят метров и только затем, покачнувшись, упал, извергая потоки крови. Другие же, пошатываясь, рухнули навзничь, не проделав и нескольких шагов. Шестеро — болееполовины отряда — уже на земле! Сорвиголова сдержал злобную усмешку, промелькнувшую было на его губах, и зычно, несообразно с его женским нарядом, гаркнул: — Долой оружие, мошенники! Я — Брейкнек!.. Слышите?.. Сдавайтесь! Но кавалеристам, а их оставалось еще пятеро, казалось чудовищной нелепостью быть плененными какими-то карикатурными, несмотря на весь внушаемый ими ужас, солдатами. Уланы построились в два ряда, отделенных один от другого метрами шестью. Двое воинов, вставших впереди, вздыбили лошадей. Однако данный прием, хорошо знакомый всем конникам, годен был разве лишь на то, чтобы привести в замешательство новичков, но отнюдь не таких испытанных бойцов, как наши молокососы. Грянули еще два выстрела, и, пораженные в голову, всадники замертво соскользнули с седел. Находившиеся во втором ряду трое англичан, всерьез перепуганных, решили улепетнуть. Однако, прежде чем перейти в галоп, им пришлось бы сделать крутой поворот и пробраться по узкой тропе между двумя глубокими оврагами. И неизвестно, чем бы завершилась вся эта эпопея, если бы не донесшийся внезапно из долины оглушительный грохот взрыва, от которого почва задрожала, как при землетрясении. — Водохранилище взорвано! — раздался повелительный голос Сорвиголовы, перекрывший далекий шум. — Это сделали мы… Да, мы одни!.. Сдавайтесь же, гром и молния, пока не поздно! — Сдаемся! Сдаемся!.. — Отлично!.. Бросить оружие! Спешиться! Руки вверх!.. А вы, Фанфан и Поль, возьмите этих плутов на мушку и при малейшем подозрительном движении стреляйте их, как зайцев. Уланы, осознавая всю унизительность своего положения, все же вынуждены были покорно исполнить приказ Жана, и только один из них не без достоинства произнес: — Хоть и в плену, но мы солдаты, а не мошенники, и вам не следовало бы нас оскорблять! Командир молокососов с пылающими от гнева глазами, с исказившимся лицом, страшный, несмотря на свое шутовское одеяние, приблизился к поверженным противникам: — Да как вы смеете говорить об уважении к военнопленным! Или это не вы грабите фермы, предаете огню нивы, убиваете женщин и детей и подвергаете попавших к вам в руки бойцов-буров жестокой и позорной пытке, именуемой вами охотой на кабана?! Вы — палачи, позорящие свои мундиры, бандиты, которых следовало бы беспощадно истребить всех до единого! У вас нет никакого права называть себя солдатами! Вы всего-навсего — уланы Колвилла, верные подручные этого убийцы в звании майора! Незадачливые вояки, сраженные жестокой, но вполне заслуженной отповедью и к тому же весьма неважно чувствовавшие себя под двумя ружейными дулами, опустили головы. Овладев собой, Жан сказал им уже более спокойным тоном: — Кто послал вас в погоню за нами и зачем? Ведь мы вполне сошли за пастушек. — Дело в том, — ответил один из пленных, — что после вашего ухода к водохранилищу прибыл майор Колвилл. Увидев на своем объявлении приписку, сделанную капитаном Сорвиголовой, и узнав, что, кроме трех девушек-скотниц, здесь никого не было, он, желая проверить свои подозрения, приказал нагнать вас и во что бы то ни стало доставить к нему. — Значит, только для того, чтобы поймать каких-то девиц, он послал целый отряд? — Выходит, так, — подтвердил улан. — Что ж, если Колвиллу так нужны три пастушки, я, пожалуй, отправлю их к нему. При этих словах лукавая улыбка озарила лицо капитана Сорвиголовы. — Разденьтесь! — приказал он собеседнику. — Снимите с себя доломан, брюки, сапоги. — Но, мистер Брейкнек… — Без возражений! А то сами видите — сестрица Наати уже косо поглядывает на вас и играет собачкой своей винтовки. Поспешите же… Не рискуйте жизнью. В мгновение ока солдат сбросил с себя военную форму, а Жан столь же быстро освободился от одежды сестрицы Бетие. — Теперь, — с насмешливой серьезностью продолжал юнец, — получайте мой наряд в обмен на ваш. Поворачивайтесь, поворачивайтесь!.. Натяните корсет… Влезайте в юбку… Да не забудьте чепчик, эту существенную принадлежность женского туалета. В полном отчаянии, подавленный смешной и жалкой ролью, которую заставил его играть неумолимый победитель, улан угрюмо повиновался, а командир молокососов облачился тем временем в военную форму цвета хаки. — Отлично! Если бы не усы, вы вполне сошли бы за кузину Бетие. Не угодно ли вам по такому случаю срезать их?.. Нет? Ну что ж, тогда подержите лошадей, да смотрите без предательства… Эй, номер два! Ваша очередь! Снимайте форму… А ты, Фанфан, отдай этому джентльмену свои тряпки. Номер второй заколебался было, но Сорвиголова навел на упрямца винтовку и холодно произнес: — Считаю до трех. Если при счете «три» вы не будете раздеты, я всажу вам пулю в лоб. Раз… два… Отлично! Вы чудесно поняли меня. — Затем Жан обратился с улыбкой к своему соотечественнику: — Теперь твоя очередь, Фанфан. Второй улан был высокого роста и плотного телосложения, парижанин же тощ, как скелет, а ростом — от горшка два вершка. Так что мундир доходил сорванцу чуть ли не до колен, а брюки пришлось подтянуть до самых подмышек, и все же они волочились по земле. Жан разразился гомерическим хохотом, и даже на губах не склонного к смеху Поля появилось что-то вроде улыбки — до того потешно выглядел его друг. Но Фанфан не растерялся. Засучив рукава и подвернув края брюк, он иронически, с комизмом подлинного Гавроша разглядывал свой наряд. А злосчастный солдат, невообразимо смешной в слишком коротком и узком женском платье, походил на одну из тех жалких марионеток, которых сваливают ударом мяча на деревенских ярмарках. Третий улан сам догадался, что самое лучшее для него — как можно скорее покончить с переодеванием. Обмен одежды с Полем произошел без инцидентов, и в две минуты все было закончено. Сорвиголова снова стал серьезным. — Вы свободны! — властно, с достоинством сказал он англичанам. — Садитесь на коней и возвращайтесь назад. Поклонитесь от меня майору Колвиллу и передайте, что вместо пастушек посылаю ему их тряпье. Ничего больше на этот раз, к сожалению, сделать для него не могу. Взбешенные, подавленные стыдом и совсем одуревшие от всего пережитого, уланы вскочили на коней и, путаясь в юбках, из-под которых свешивались их босые ноги, во всю прыть помчались в лагерь. А Сорвиголова, Фанфан и Поль, вскинув за плечи винтовки, направились к ферме.
ГЛАВА 3
Старые друзья. — Саперы. — Бурский Наполеон. — Беспечность. — Окружение. — Парламентер. — Требование капитуляции. — Гордый отказ. — Артиллерийский обстрел. — Пролом в стене. — Покупка стада. — Чек на тридцать тысяч флоринов[125]. — План Сорвиголовы. — Необыкновенные приготовления. — Обреченные коровы. — Тревожное ожидание.На ферме юнцов ожидал приятный сюрприз. Они обнаружили во дворе восемь оседланных, снаряженных по-военному лошадей, с наслаждением жевавших початки кукурузы, — то были бурские пони. А когда вошли в гостиную, их встретили радостным «ура». Из-за стола встали восемь человек. Двое из них, обладатели роскошных бород, воскликнули взволнованно: — Сорвиголова! Дружище! Принимайте первых волонтеров нового отряда молокососов! — Доктор Тромп! Переводчик Папаша!.. Рад вас видеть! Но какие же это молокососы с бородищами, широкими, как лопаты? — Они вполне могут быть саперами, — вмешался Фанфан. — Браво! Молодец, парижанин! — воскликнул доктор. — Да, — продолжал он, — в госпитале я почувствовал, что старею. Дайте мне боевое дело. Поражать одной рукой и исцелять другой — вот мое призвание! Папаша с набитым едою ртом перебил товарища: — Приказ генерала Бота был объявлен нам третьего дня, и вот мы уже тут, а с нами, как видишь, и Жан Пьер, и Карел, и Элиас, и Гюго, и Иохим, и Финьоле, бежавший с понтонов. Скоро прибудут и остальные. Жан, сияя, пожимал протянутые к нему со всех сторон руки: — Ого! Да нас и так уже одиннадцать человек! Крепко же мы ударим теперь по англичанам! — Смерть врагу! — Да. И особенно уланам! — заявил Сорвиголова. — С этого дня мы объявляем им беспощадную и непрестанную войну — войну на уничтожение. Как я их ненавижу! — И тем не менее носите их форму. — Так же, как Поль и Фанфан. — О, я не очень-то задираю от этого нос! — рассмеялся парижанин. — Вы только взгляните на меня: хорош нарядик, а? Что за чучело, друзья мои! Видали вы когда-нибудь такого урода? — Но каким чудом попали к вам эти мундиры? — Уморительная история! Сейчас поведаю… Можно, хозяин? — Валяй, только покороче. Все равно перед дорогой надо перекусить: от тартинок сестрицы Бетие давно уж и след простыл. Фанфан с жаром рассказал о смелом налете на водохранилище Таба-Нгу, о последовавшем затем бегстве и переодевании улан. Не трудно догадаться, какой успех имел его рассказ. Боевые друзья плотно закусили, запивая еду кафрским пивом. Когда на столе появились две бутылки выдержанного капского вина, все чокнулись за успех кампании и почтенного президента Трансвааля, чье имя вызвало взрыв энтузиазма. — Да здравствует Дядя Поль!.. Да здравствует бурский Наполеон! — орал Фанфан, пьянея от собственных слов. Наполеон! Сравнение это прозвучало слишком высокопарно, почти фантастично, так что даже сам парижанин почувствовал необходимость объясниться хотя бы перед теми из гостей, которые понимали по-французски: — Да, Наполеон! Я не отказываюсь от своих слов. Доказательство? Пожалуйста! У Бонапарта была единственная в своем роде треуголка, а у Дяди Поля — цилиндр, подобного которому не сыщешь на всем белом свете. Надо быть гением, чтобы решиться носить такую шляпу… И еще доказательство! Наполеон смертельно ненавидел британцев, испытывавших при виде его треуголки неимоверный страх. Дядя Поль также невзлюбил их, и его колпак тоже повергает этих мерзавцев в дикий ужас… Кстати, здорово мы расщелкали англичанишек, а? Будут помнить молокососов! — сам захлебываясь от восторга, закончил Фанфан свой тост, вызвавший бурное одобрение слушателей. Но тут в залу вихрем ворвалась сестрица Гриэт — настоящая — и прервала шумную овацию: — Уланы! Бог мой, о врагах-то и позабыли! А много ли их? Наверно, какой-нибудь сторожевой патруль? Узнают сейчас, почем фунт лиха! Сорвиголова стремглав выскочил в дверь и, взобравшись на каменную ограду, взглянул на равнину. Черт возьми, дело серьезное! Мчась развернутым строем, более сотни кавалеристов обходили ферму, чтобы отрезать ее от Таба-Нгу. Бежать было поздно. — К оружию! — приказал юноша, вернувшись в гостиную. Бойцы повскакали с мест, разобрали винтовки и, выбежав во двор, закрыли тяжелые ворота, подперев их для верности трехдюймовыми досками. Заметим в этой связи, что бурские фермы, укрытые высокими и толстыми стенами, представляли собой небольшие крепости, приспособленные для отражения внезапных налетов. Замкнув кольцо, уланы бодро устремились к импровизированному бастиону. За их спиной, у линии горизонта, замаячили крохотные, словно оловянные солдатики, фигурки еще каких-то всадников, по-видимому, драгун. — Уж не думают ли эти джентльмены почтить нас осадой? — заметил доктор Тромп, заряжая винтовку. — Я должен был расставить часовых! Такая ошибка непростительна для командира разведчиков! — сокрушался Жан, пока, взвесив все обстоятельства, не изменил ход рассуждений. — А впрочем, где бы я взял для этого людей? Да и не все ли равно, где сражаться — здесь или в поле… Главное — не сдаваться! К тому же нас целых одиннадцать человек, и мы, хотя и молокососы, не дадим перерезать себя, как цыплят. Сорвиголова не знал колебаний, его самообладание в критические минуты было прямо-таки непостижимым. — Сколько у вас патронов, Папаша? — спросил он. — Около двухсот на человека. — Отлично! А у нашей тройки — по двести пятьдесят. Итого, около двух тысяч четырехсот. И, уж конечно, мы не станем палить по воробьям! Жан умело выбрал позиции для десяти бойцов, составивших гарнизон форта-малютки, а сам решил остаться в резерве, чтобы в случае необходимости поспеть на помощь ослабленному или подвергнувшемуся особо яростному нападению посту. Издалека донесся пронзительный звук рожка. В сопровождении трубача к ферме приближался улан с белым платком на острие пики. — Парламентер, — сказал Сорвиголова, потирая от удовольствия руки. — И конечно, с требованием капитуляции. Ну ничего, мы устроим ему достойный прием! Узнают, с кем имеют дело! Вместе с земляком, украсившим свой штык белой салфеткой подлинной сестрицы Бетие, командир молокососов поднялся на гребень стены. — Жаль, нет у меня дудочки, — пошутил его друг, — не то сыграл бы я им песенку! — Лейтенант Фанфан, смирно! — с насмешливой торжественностью скомандовал Жан. Офицер, осадив коня в пятнадцати шагах от фермы, закричал зычным голосом: — По приказу его милости майора Колвилла я требую от обитателей этой фермы открыть ворота и безоговорочно выдать человека, именуемого капитаном Сорвиголова. В случае неповиновения дом будет взят штурмом и сожжен, а жители его — судимы со всей строгостью законов военного времени. Ответ не заставил себя ждать: — Я, капитан Сорвиголова, взорвавший водохранилище Таба-Нгу, оценивший всего в пенни голову человека, именуемого Колвиллом, и уничтоживший отряд улан, посланный в погоню за мною, предлагаю вам немедленно убираться! В противном случае буду стрелять. Парламентер должен быть вежлив, а вы — невоспитанный грубиян. Что же касается Колвилла, то я приговорил его к смерти и потому не считаю нужным вступать с ним в переговоры. Видимо, смущенный, парламентер произнес более мягким тоном: — Должен предупредить, нас пятьсот человек и в случае сопротивления мы не будем брать пленных. — Пятьсот человек — это не так уж много. Пленных же вам не удастся взять даже при желании. — Это ваше последнее слово? — Да, сэр! Убедившись, что настаивать бесполезно, парламентер повернул коня и ускакал в сопровождении трубача. Прошло четверть часа. Англичане, постепенно сужая кольцо, приближались очень осторожно: не зная, каковы силы противника, они не решались идти напролом. Примерно в полутора тысячах метров от фермы застыл неподвижно уланский отряд из двенадцати человек. Непростительное легкомыслие! Сорвиголова не мог противостоять желанию послать им приветственный залп, который должен был показать осаждавшим, на что способны молокососы. Подозвав к себе буров — самых метких стрелков, он указал на конную группу: — Положите ружья на стену, прицельтесь получше и по моей команде стреляйте. Напрасная и безрассудная попытка, скажут иные. Действительно, из-за огромного расстояния контуры всадников расплывались, а цвет хаки и вообще делал живые мишени почти невидимыми. Но ведь буры — лучшие в мире снайперы, да и маузеровская винтовка не знает себе равных. Вес ее — четыре килограмма, длина, не считая штыка, — один метр двадцать три сантиметра, калибр, или диаметр канала ствола, — семь миллиметров. В патроне два с половиной грамма бездымного пороха. Скорость полета пули из твердого свинца в рубашке из никелированной стали — этого снарядца в одиннадцать целых и две десятых грамма — достигает внушительной цифры в семьсот двадцать метров в секунду, тогда как скорость пули английской ли-метфордовской винтовки не превышает шестисот десяти метров. Маузеровская пуля смертельна даже на расстоянии четырех тысяч метров, между тем как ли-метфордовские винтовки бьют всего на три тысячи двести метров. Наконец, летит маузеровская пуля более отлого, чем английская, что позволяет попадать в цель с невероятно большой дистанции. Следовательно, взятые на мушки такими искусными стрелками, как молокососы, к тому же вооруженными маузеровскими винтовками, уланы не должны были бы чувствовать себя в безопасности. — Огонь! — вполголоса скомандовал Сорвиголова. Один за другим, почти единым протяжным звуком прогремели шесть выстрелов — и отряд улан пришел в замешательство, выбитые из седла всадники кувырком полетели наземь, а их испуганные кони понеслись по степи. Правда, издали все это выглядело не так уж драматично: казалось, будто ребенок запустил шариками в оловянных солдатиков. Несмотря на солидное расстояние, ни одна пуля не пропала даром. И кто знает, не сразила ли какая-нибудь из них сразу нескольких жертв? Ведь маузеровская винтовка — оружие страшное! Англичане мгновенно разбились на мелкие группы, чтобы не представлять столь легкую мишень для пуль. Впрочем, и молокососы, чувствуя, что в них со всех сторон целятся, как улитки, попрятали головы. Сложилась вполне ясная стратегическая обстановка: пятьсот англичан против одиннадцати храбрецов, обложенных на ферме, будто крысы в норе. В малом масштабе воспроизвелась судьба армии Кронье при Вольверскраале, с тою, однако, разницей, что молокососы, не связанные обозом, сохранили подвижность, да и кольцо окружения на этот раз не было таким плотным, хотя любая попытка пробиться сквозь ряды англичан заранее была обречена на неудачу. Ну а что же задумал противник? Разумеется, он не станет тратить времени на осаду, которая задержала бы его на несколько дней, а предпримет нападение: попытается сделать брешь в стене и штурмом овладеть фермой. А отразить приступ предстоит всего одиннадцати бойцам! Было около пяти часов пополудни. Очевидно, Колвилл, желая избежать лишних жертв, предпочитал ночную атаку. Сорвиголова предвидел это, и, хотя ситуация на первый взгляд казалась безнадежной, не терял присутствия духа. О хорошем настроении говорила улыбка, светившаяся на его красивом юношеском лице. — О, мы еще повоюем! — сказал он Папаше, который с невозмутимым спокойствием философа курил свою трубку. Внезапно донесся вой летящего снаряда, усиливавшийся по мере его приближения. В ста метрах перед фермой раздался глухой взрыв. — Недолет! — крикнул Фанфан при виде взметнувшегося столба из земли и камней. Снова выстрел. На этот раз снаряд, едва не задев ограду, упал в двухстах метрах позади усадьбы. — Перелет! — с важным видом знатока заметил Фанфан. Третий выстрел. Бум!.. Теперь уже не до смеха: снаряд угодил в самый гребень стены и вспорол около кубического метра каменной кладки. Женщины и девушки, давно уже свыкшиеся с превратностями и ужасами войны, проявляли замечательное мужество. Пройдет несколько часов, и враг захватит старинное жилище их предков, разграбит и спалит, а обитателей фермы предаст смерти. А если кто и останется в живых, то, лишенный крова и всего имущества, будет обречен на нищенское существование. Но нигде не слышалось ни жалоб, ни возгласов отчаяния. Ни признака страха! Хозяйка собрала в гостиной своих дочерей и кафрских служанок. Женщины стояли вокруг большого стола, как на вечерней молитве. Мать, заменив ушедшего на войну отца, открыла старинную Библию и торжественно читала ее вслух. Время от времени весь дом сотрясался от выстрелов, взрыв заглушал слова бюргерши, но голос ее ни разу не дрогнул. Орудия англичан были наведены с математической точностью. Снаряды методично долбили по одному и тому же месту в стене, намеченному для бреши. Каменная кладка крошилась и осыпалась. Скоро пролом будет достаточно широк, и неприятель ворвется во двор. А что же молокососы? Наблюдали за противником, забавлялись тем, что время от времени подстреливали какого-нибудь неосторожного пехотинца или кавалериста. Мы не ошиблись, они действительно забавлялись, ибо мир еще не видывал подобных осажденных — столь невозмутимых, так мало озабоченных своим положением, так беспечно, по крайней мере внешне, относившихся к страшной беде, которая неотвратимо надвигалась на них. А все дело в том, что бойцы безгранично доверяли своему юному командиру, непоколебимая бодрость которого передавалась всему маленькому гарнизону окруженной неприятелем фермы. Сорвиголова сказал друзьям: — Я все беру на себя! Майор Колвилл надолго запомнит встречу с нами! Жан с помощью Фанфана занялся какой-то таинственной возней в отдаленном строении фермы. Остальные молокососы вели по приказу Сорвиголовы энергичную перестрелку, чтобы внушить англичанам преувеличенное представление о численном составе защитников усадьбы-крепости. Покончив со своей загадочной работой, Сорвиголова отправил Фанфана на боевой пост, а сам попросил Папашу пройти с ним к тетке Поля Поттера: участие переводчика в переговорах с ней было необходимо, так как эта добрая женщина ни слова не понимала по-французски. Почтительно поклонившись, Жан, как человек, которому дорого время, сразу же приступил к делу: — У вас полтораста голов скота — коров и телок. Не продадите ли их мне? — Но, дорогой мой мальчик, англичане все равно заберут их и сожрут. Если коровы могут вам на что-нибудь пригодиться, возьмите их даром. — Во сколько цените вы каждую корову? — По меньшей мере, флоринов в двести… Но зачем говорить о цене, когда… — Двести флоринов, помноженные на сто пятьдесят, составят тридцать тысяч флоринов. Да, так — ровно тридцать тысяч. А теперь будьте любезны вернуть мне книжечку, которую я отдал вам на хранение, перед тем как отправиться к водохранилищу в наряде сестрицы Бетие… Благодарю вас, милая тетя! Получив назад чековую книжку, он открыл ее и, что-то черкнув, оторвал листок: — Вот чек на тридцать тысяч флоринов. Вы можете предъявить его банку Претории или банку Лоренсу-Маркиша. В любом из них вам выдадут указанную здесь сумму. Это плата за стадо, которое принадлежит теперь мне. — Но ведь я хочу подарить его вам! — Хорошо, хорошо… Благодарю вас, до свидания! Я спешу. А бумажку вы все-таки припрячьте. К этому времени снаряды снесли уже огромный участок стены. Образовался достаточно широкий пролом. Близился закат. Через час будет совсем темно, а у англичан не видно никаких приготовлений к штурму. Сорвиголова не ошибся. Колвилл и в самом деле подумал, что на ферме не менее сотни молокососов, и, желая избежать слишком больших потерь, решил идти на приступ под покровом ночи. Жан между тем не принимал никаких, даже самых элементарных, мер для отражения атаки. А ведь он, несмотря на свою молодость, был опытным командиром. Мало того, глядя на него, можно было подумать, что он бесконечно радовался бреши, пробитой в стене снарядами. И если бы не беспрерывный обстрел из пушек, командир молокососов, пожалуй, отдал бы даже приказ очистить пролом изнутри и снаружи от щебня и камней. Фанфан, ровно ничего не понимавший во всем этом, пришел в изумление, услышав, как его друг бормочет: — Если они пройдут здесь, то помчатся… — Кто они? — спросил Фанфан. — Скоро увидишь, — ответил Сорвиголова, с лукавой улыбкой потирая руки. Солнце зашло. Сумерки быстро сгущались. — В нашем распоряжении еще час, — сказал Сорвиголова. — За дело! Он велел молокососам нарезать колючих веток с акаций, окружавших двор, а старую мать семейства и многочисленное племя двоюродных сестер Поля попросил пройти с ним в то самое строеньице, где он недавно трудился с Фанфаном. Там на столе были аккуратно разложены двести динамитных патронов, снабженных бикфордовыми шнурами разной длины. Сопровождавший шествие Папаша изумился при виде такого количества этого чудовищной силы взрывчатого вещества. — Эти патроны прислал генерал Бота — для уничтожения водохранилища. Мы израсходовали тогда всего двенадцать штук. А теперь пустим в ход остальные. Пожалуйста, объясните им, Папаша, что такое динамит, — попросил Сорвиголова. — Да тут даже малые ребята умеют с ним обращаться! — ответил переводчик. — Отлично! Пусть женщины привяжут покрепче шпагатом по патрону к рогам каждой коровы. Да побыстрей. Понял? Скотина знает своих хозяек и будет спокойно стоять во время этой операции. Папаша раскусил наконец замысел командира. Широкая, во весь рот, улыбка озарила его лицо. Неприятель продвигался вперед медленно, короткими перебежками. Пушки молчали, прекратилась и ружейная пальба: Колвилл намеревался взять молокососов живьем. Со стен фермы тоже уже не стреляли. Женщины, захватив взрывчатку, вошли за ограду для скота и принялись бесстрашно и ловко выполнять опасное поручение. Коровы доверчиво позволяли прикреплять к их рогам смертоносный груз. Прошло около получаса. — Кончили наконец? — волновался Сорвиголова. Ночь лишила Жана обычного спокойствия, и время тянулось теперь для него слишком медленно. Принесли фонари, и работать стало легче. — Скорей! Скорей!.. Минуло еще с четверть часа. Враг был уже близок, доносилось даже бряцание оружия. — Поджигайте фитили! Живей! Все сюда!.. Тащите из камина головешки!.. Мужчины и женщины бросились в гостиную, схватили горящие поленья и, вернувшись к животным, начали запаливать провода. Испуганные коровы тревожно мычали. Успокаивая их ласковым, привычным тремоло и пощелкиванием языка, хозяйки отважно сновали с головешками среди потрескивавших бикфордовых шнуров. А ведь достаточно было догореть одному из них, чтобы все погибли. По просьбе Папаши старая мать семейства открыла загон. Молокососы и двоюродные сестры Поля привязывали к хвостам попадавшихся им под руку животин ветки с дерева «не спеши»: при первом же ударе хвостом колючки, впившись в тело, приведут обреченную скотину в ярость и погонят неистовым галопом. Передовые цепи англичан передвигались ползком, все еще не решаясь подняться в атаку. Тишина, прерываемая лишь мычанием коров, пугала гораздо больше ружейного огня. — Вперед! — раздался вдруг в темноте голос, пронзительный, как звук рожка. — Стадо — в пролом! — скомандовал Сорвиголова. Если коровы направятся в брешь, то англичанам — конец! Если же заупрямятся и в бешенстве, которое все сильнее овладевало ими, начнут метаться по усадьбе, занимавшей около гектара, все здесь будет уничтожено: строения, люди, стадо. Взорваться должно сорок фунтов динамита. Но только где? Невыразимая тревога охватила осажденных…
ГЛАВА 4
Бесстрашные женщины. — Героический подвиг. — Взрывы. — Победа. — Похороны патриоток. — Пожар. — Короткая стычка. — Опять уланы! — Окружение. — На краю гибели. — Неужто конец?Раздраженные колючками и напуганные раздававшимся у самых ушей пощелкиванием воспламененных фитилей и искрами, мельтешившими перед глазами, словно светляки, коровы сначала отказывались идти вперед, а самые норовистые даже закружили по двору, грозя взбаламутить все стадо. Сорвиголова содрогнулся. Его тело, лицо, руки покрылись холодным потом, к спине неприятно прилипла рубашка. Еще несколько секунд — и мощный смерч разнесет все вокруг. — Да, — с грустью прошептал бедный юноша, — я оказался слишком самонадеянным… Все пропало! Но так ли это? В темноте послышался звучный суровый женский голос, заглушивший и позвякивание оружия, и топот людей, ринувшихся на приступ, и мычание буренок: — За мной, дочки! За мной… Старая мать, сохранившая несмотря на преклонный возраст свою подвижность, с развевавшимися по ветру волосами, трагически прекрасная, бросилась с фонарем в руке к проему в стене. — Спасем мужчин! — крикнула она. — Спасем защитников нашего отечества! Дочери без колебаний присоединились к матери, хотя отлично понимали, что идут на верную смерть. — Вперед!.. Вперед!.. — орали офицеры. Прародительница, нежно покрикивая, скликала коров. Девушки вторили ей, всячески стараясь успокоить взволнованную скотину, и ошалевшие животные действительно начали было приходить в чувство и вслушиваться в мягкий говорок хозяек, как вдруг, снова поддавшись страху, метнулись в панике — на этот раз к бреши. Самоотверженные женщины очутились между двух огней — неотвратимо надвигавшейся на них щетиной штыков и устремленной в пролом живой лавиной со множеством острых рогов… Крик сострадания и ужаса вырвался из уст Жана Грандье и его товарищей, которые только сейчас разгадали героический замысел мужественных бурских патриоток. — Нет, нет!.. Только не это!.. — срывавшимся от слез голосом крикнул Сорвиголова. — Спасем защитников нашего отечества! Да здравствует свобода! — еще раз отчетливо и громко прозвучал голос матери. — Да здравствует свобода! — звонким эхом откликнулись дочери. То были последние их слова. Обезумевшие от страха и разъяренные уколами привязанных к хвостам шипов, коровы, сбив с ног, топча копытами несчастных женщин, вихрем понеслись сквозь брешь и, с разбегу навалившись на англичан огромной неудержимой массой, в мгновение ока смели первые ряды солдат ее величества королевы. Ободрав себе бока об острые углы искореженной стены, животные ревели от бешенства и боли и, как только оказывались в поле, разбегались во все стороны, ломая боевой строй англичан. А вслед за стадом, верхом на конях, вырвались из усадьбы и молокососы. Воспользовавшись смятением, охватившим противника, понесшего от внезапного налета охваченной ужасом скотины такой урон, какой едва ли смог бы нанести даже ураганный артиллерийский огонь, они проскочили через передовое оцепление. Однако неприятелю нельзя было отказать в отваге и упорстве. Рожок проиграл сбор, офицеры не более чем за пять минут перестроили ряды и опять бросили свои подразделения на молокососов. Внезапно ночную тьму прорезало пламя, прогремел сильный взрыв. За ним — второй, третий… Так и пошло! Каждый миг то там, то здесь воздух сотрясал оглушительный грохот. Огонь вспыхивал в самых различных местах, не обойдя стороной и артиллерийские позиции, где от зарядных ящиков остались лишь разбросанные далеко вокруг деревянные и металлические обломки. Высоко вверх взметались окровавленные останки людей и животных, перемешанные с землей и камнями. Из-за рева коров и гула от срабатывавших динамитных патронов перепуганные бойцы не слышали ни слов команды, ни воплей раненых. Замысел Жана удался. И хотя взрывы становились все реже и отдаленнее, англичане решили, что наткнулись на целую армию, и отошли к водохранилищу. Остаток ночи они провели в тревоге, ежеминутно ожидая нападения. Не спали и молокососы. Остановившись поблизости от своих преследователей, немного восточнее Таба-Нгу, они ожидали рассвета, чтобы вернуться на ферму и исполнить священный долг — предать земле тела женщин, спасших им жизнь. И при первых же лучах солнца смельчаки двинулись в путь, не забывая и об осторожности, поскольку неприятель мог быть где угодно. Когда до фермы оставалось совсем немного, молокососы спешились. Сорвиголова шел впереди, ведя за уздечку пони и свободной рукой держа наготове винтовку. На подходе к усадьбе взору бойцов представилось жуткое зрелище: прямо напротив пролома — десятка два затоптанных коровами англичан, пропитанная кровью почва, исковерканное оружие. А за стеной, у самой бреши, Жан обнаружил жестоко изуродованные тела матери и дочерей. Сняв шляпу, не в силах вымолвить ни слова, он знаками подозвал товарищей. Те подошли с обнаженными головами и, упав на колени, зарыдали при виде горестной картины. Вокруг царила мертвая тишина. Ни одного живого существа — ни людей, ни животных: домашняя птица, и та разбежалась. Но покой этот был обманчив: враг находился совсем рядом и каждую минуту мог вернуться назад, чтобы лишить молокососов столь дорого купленной ими свободы. Сорвиголова вытер глаза и, стараясь говорить как можно тверже, промолвил негромко: — Довольно слез, друзья! Выроем могилу… А ты, Фанфан, стань в дозор за стеной. Отыскав лопаты и кирки, молокососы с неистовым ожесточением принялись рыть рыхлую землю, красную, словно от людской крови. Когда работа была закончена, Сорвиголова и Поль застлали дно ямы белоснежной простыней, извлеченной из массивного шкафа, где старая мать хранила белье. Потом молокососы подняли осторожно тела героинь, бережно опустили их в могилу и прикрыли другим полотнищем. Сорвав со своей фетровой шляпы кокарду расцветки национального трансваальского знамени, Жан бросил значок на простыню и дрожавшим от волнения голосом произнес: — Прощайте, благородные и дорогие нашему сердцу жертвы бесчеловечной войны! Прощайте! Покойтесь с миром… Остальные бойцы последовали примеру командира и тоже побросали свои кокарды на саван, тотчас засверкавший ярким созвездием красного, белого и зеленого цветов — символов измученной, окрававленной, но все еще живой родины буров. Затем, снова вооружившись лопатами, бледные, задыхаясь от подступавших к горлу рыданий, молокососы молча засыпали могилу. Сорвиголова хотел уже дать приказ об отходе, но Поль, срезав с акации длинную ветку, остановил его. — Погоди! — крикнул он командиру, а сам побежал на сеновал, обкрутил сухой травой палку, чиркнул спичкой и, бросившись с этим факелом в дом, поджег занавески, постели, одежду в шкафах — словом, все, что быстро воспламеняется. Потом понесся в конюшню, где запалил солому под стойлами, оттуда — в сарай и наконец, вернувшись к скирдам, с размаху швырнул туда пылающую ветвь. И только после этого сказал Жану: — А теперь уходим! В несколько минут заполыхала вся огромная ферма. Взлетели ввысь огненные языки, затрещало, разбрасывая искры, горящее дерево, из-под крыши, из дверей и окон жилых и хозяйственных строений вырвались густые клубы темного дыма. Не обращая внимания на подступавшее к ним пламя, молокососы выстроились перед свежей могилой, где покоился прах отважных женщин, павших смертью храбрых за свободу своей отчизны. — На караул! — раздалась команда капитана. Воздав мужественным патриоткам последнюю почесть, бойцы церемониальным шагом двинулись через пролом к встревоженным пожаром лошадям, которые уже начали нервно бить копытами. Оказавшись по ту сторону стены, Поль обернулся и, побледнев сильнее прежнего, воскликнул хрипловатым голосом, дрожавшим от гнева и боли: — Пусть эти развалины будут их гробницей! Да не осквернит нога завоевателя землю, в которой лежат они! И тут же раздался пронзительный возглас Фанфана: — Тревога!.. Неприятель!.. Среди высоких трав мелкой рысцой трусил отряд в десяток улан. — По коням! — крикнул Сорвиголова. — Отходить! Он торопился доложить генералу Бота о выполнении данного ему задания и поэтому вновь повторил приказ вскочившим в седла молокососам: — Отходить! Но чего это ему стоило! Ускакать, не дав боя жестоким грабителям, которых он так давно и так люто ненавидел… — Неужели каждый из нас не уложит хотя бы по одному из них? — пробормотал Сорвиголова. — А почему бы и не попробовать? — молвил вкрадчиво доктор Тромп, расслышав его слова. — Но генерал ждет… — Ба! Четвертью часа раньше или позже — что за важность! Зато маленькая стычка даст превосходную разрядку нашим нервам. — Да меня и самого это дьявольски соблазняет. И я спорю-то больше для проформы. Пока длился этот короткий диалог, молокососы удалились от фермы уже метров на триста. Уланам, принявшим их отступление за трусливое бегство, взбрела мысль напасть на них, и они пришпорили лошадей. На пути наших друзей оказались две широкие, словно вырытые минами, ямы. Вокруг них высились груды камней и земли, а на дне виднелись куски изодранного мяса и обломки костей. — Динамит! — вполголоса заметил доктор. — Он самый! По-видимому, здесь нашли свой конец две коровы, — заявил Сорвиголова. — Превосходная засада для стрелков, — заметил Папаша. — Идея! — вскричал Сорвиголова и, спрыгнув с пони, скомандовал: — Спешиться! Уложить коней! Бойцы выполнили приказ с изумительной быстротой. Бурские лошадки, услышав свист, повалились в траву и замерли, прижавшись друг к другу, как зайцы в норе, и напоминая неподвижной массой своих тел чудовищных размеров кротовые кучи. Зная, что умные животные не шелохнутся, что бы теперь ни случилось, молокососы спокойно соскользнули в ямы и стали поджидать приближения противника. Уланы, скакавшие галопом, были поражены мгновенным исчезновением противника и, заподозрив военную хитрость, сбавили скорость. Но, как нередко случается в подобных, неожиданных ситуациях, сбились с курса и утратили чувство расстояния. Именно на это и рассчитывал Сорвиголова, превратившийся за время войны в превосходного вожака партизан. Он отлично знал, что, мчась на коне по ровной степи, где нет ни единого ориентира, почти наверняка собьешься с прямой линии и что невидимая цель всегда кажется дальше, чем она есть в действительности. Англичане испытали это на своей шкуре: сами того не замечая, они отклонились вправо и объехали ямы, в которых засели их враги. Приподняв головы, молокососы навели ружья прямо в спины уланам и, услышав команду, дружно выстрелили. — Беглый огонь! — крикнул Сорвиголова, выглядывая из укрытия. Раздался новый залп, за ним третий и четвертый… Уланский отряд таял на глазах. Люди падали, лошади опрокидывались. Раненые вопили от ужаса и боли, цеплялись за изувеченных животных и снова валились, скошенные не знавшими пощады стрелками. В две минуты отряд был полностью уничтожен. — Больше нет? А жаль! — сокрушенно заметил Сорвиголова, все еще не утолив жажды мести. — Ничего, другие найдутся, — вставил Поль, перезаряжая винтовку. Он, наверное, и не подозревал, что его слова сбудутся так скоро. Откуда-то справа, на расстоянии метров восьмисот, вынырнула вторая группа улан. — Вот здорово! — радостно закричал Фанфан. — Ты думаешь? — заметил чем-то внезапно озабоченный Сорвиголова. — А почему бы и нет? Переколотим и этих! Они для того и существуют, чтобы их бить. Но лицо юного командира все больше мрачнело: слева показался третий отряд, еще более многочисленный, чем оба первых, насчитывавший никак не менее тридцати человек. При таких обстоятельствах было бы чистейшим безумием вступать с уланами в схватку. И Сорвиголова с явным сожалением отдал приказ отступать. — Двинем на север! — вполголоса скомандовал он, решив удирать единственным оставшимся свободным путем. — Генерал Бота стоит, вероятно, под Винбургом. Мы встретим его где-нибудь на железнодорожной линии. Но бойцы так и не смогли покинуть свои убежища, поскольку вовремя обнаружили появление еще одного, четвертого отряда. Опять уланы! Везде и всюду они! — Гром и молния, мы окружены! — воскликнул Сорвиголова. — По-видимому, так, — своим обычным спокойным тоном подтвердил Папаша. Было ясно, что обстановка создалась если не безнадежная, то, во всяком случае, исключительно опасная. Англичан было почти в десять раз больше. Пытаться прорвать кольцо ощетинившихся пик — значило бы безрассудно жертвовать собой: несмотря на отчаянную храбрость молокососов, их продырявили бы, как куропаток. Пустой затеей оказалась бы и стрельба с такого расстояния по мчавшимся во весь опор уланам, тем более что патронов осталось немного, и их следовало беречь. И, в довершение всего, бушевавший на ферме пожар лишил наших друзей возможности спрятаться за ее стенами. Между тем отряды улан, несясь галопом, все теснее смыкали кольцо вокруг затаившихся противников, молча и с тревогой посматривавших на своего командира. Отважные борцы за независимость уже различали поблескивание пик и отчетливо слышали воинственные возгласы кавалеристов, рассчитывавших на легкую победу. И действительно, гибель молодых людей казалась неизбежной. Еще несколько минут — и все будет кончено: капитана Сорвиголову и его соратников возьмут в плен, а затем перебьют. Колвилл отпразднует победу, а бурская армия потеряет своих самых бесстрашных бойцов.
ГЛАВА 5
Возвращение на ферму. — Среди пламени. — Динамитный патрон. — Спасительный взрыв. — Бешеная скачка. — Меткий огонь. — Спасение. — Бурский картофель. — Замысел капитана Сорвиголовы. — Трогательное прощание. — Переодевание.Оставался единственный выход. Единственный и отчаянный. Но Сорвиголова со свойственной ему решительностью не колебался. Он сорвал с себя уланский доломан, накинул на голову своего пони, плотно закрыв им глаза и ноздри животного, а рукава обвязал вокруг шеи. — Сделайте то же! — сказал Жан удивленным товарищам. Те, ничего не понимая, беспрекословно повиновались. — За мной! — послышался короткий приказ командира. И, пришпорив лошадку, Сорвиголова бешеным галопом понесся к пролому в стене фермы. Остальные помчались следом: и это понятно, ведь они сопровождали бы своего капитана даже в ад. Путь через брешь, рядом с которой полыхали набитые маисовой соломой сараи, был поистине ужасен. Но и усадьба, куда всадники влетели во весь опор, чтобы тотчас исчезнуть в вихре дыма и пламени, оказалась не лучше преисподней. На смельчаков обрушивались пылающие головешки, их лизали языки огня, едкий и удушливый дым стеснял дыхание. Испуганные кони фыркали, пятились и бились. Молокососы пробились в центр усадьбы. Здесь также стоял нестерпимый жар. Однако, тесно прижавшись друг к другу, можно было, по крайней мере, не так опасаться летевших со всех сторон головешек. Не подумайте, что отчаянная обстановка хоть чуть смутила наших сорванцов. Они были стойкими, эти ребята! Фанфан даже и тут не упустил случая пошутить. — Эй, Папаша! — крикнул он. — Гляди-ка, твоя борода так и пылает, а ваша, доктор, мирно поджаривается. С минуты на минуту положение друзей все ухудшалось, хотя и трудно было представить себе что-нибудь более страшное. Воздух до того раскалился, что обжигал горло. Пони, задыхаясь, поднимались на дыбы и брыкались. — Черт побери! — ворчал Фанфан. — Мы прямо-таки раскаленные угли глотаем. А ну-ка, сударь Коко, прекрати свои штучки! Ты ведь не на свадьбе, да и хозяин твой тоже! — прикрикнул подросток на свою лошадку, окрещенную так в честь его любимого конька, погибшего в день казни Давида Поттера. До молокососов доносились оскорбительные выпады англичан. Уланы стояли шагах в пятидесяти от пролома двумя группами: одна стерегла у бреши, другая — у ворот, превратив, таким образом, ферму в западню для своих врагов. Кавалеристы спокойно выжидали появления осажденных либо их гибели в пожарище. Безвыходное положение, в котором оказались бесстрашные бойцы, видимо, очень забавлялосолдат. Но куда же девался Сорвиголова, только что покинувший товарищей? Не сказав никому ни слова, он погнал своего пони сквозь густую пелену черного дыма, в которой то и дело вспыхивали длинные языки пламени. Достигнув стены, извлек из кармана последний динамитный патрон, который, заранее снабдив его бикфордовым шнуром, таскал с собой с риском погибнуть от взрыва. Спешившись, юноша спокойно уложил опасный груз у самого основания каменной ограды и, с опаленными ресницами и едва дыша, вскочил на лошадь и вернулся к своим. — Внимание! — произнес он хриплым голосом. На молокососов то и дело летели искры и горящие головешки. Пони, обжигаемые огненным вихрем, начинали беситься, и справляться с ними становилось все труднее. Да и сами бойцы были в сильных ожогах. На дымившихся рубашках появились прорехи, сквозь которые виднелась вздувшаяся волдырями кожа. Бедняги гасили огонь сильными шлепками по своим бокам и груди и стоически, без жалоб и стонов, ожидали смерти или спасения. После возвращения Сорвиголовы прошло полминуты — тридцать секунд неимоверных мук! И вдруг раздался громоподобный грохот, заглушивший и рев огненной бури, и крики англичан. Затряслась под ногами земля, и часть раскаленной добела стены рухнула. — За мной! — крикнул командир разведчиков. Из растрескавшихся губ его соратников вырвался вопль — вопль надежды и облегчения. Капитан дал шпоры своему пони и первым ринулся в огненное горнило. Лошади, обезумев от жара, исходившего от тлевших доломанов, которыми были обвязаны их головы, исступленно понеслись среди пылавших бревен, раскаленных камней и полыхавших снопов и, проскочив новый пролом, карьером умчались в степь, где с них смогли наконец сорвать загоревшееся тряпье. Беглецы проскакали уже четыреста метров, прежде чем уланы их заметили и бросились вслед. Рослые кони, подгоняемые криками и ударами шпор, мчались с изумительной быстротой. Но и бурские лошадки, раздраженные ожогами, не сдавали, и расстояние между противниками не уменьшалось. Пони, издавна привыкшие передвигаться среди исполинских растений Африки, умудрялись, как крысы, проскакивать между высокими стеблями, в которых путались ноги английских скакунов. И в конце концов молокососы, менее чем за четыре минуты пройдя два километра, значительно опередили врагов. При всей своей смелости уланы все же были вынуждены прекратить погоню и повернуть назад: они слишком оторвались от своих и, оказавшись в непокоренной зоне, опасались встречи с неприятельской кавалерией. Бешеная скачка успокоила бурских лошадок, и они заметно сбавили ход. — Хаки убираются восвояси… Честное слово, убираются! — воскликнул, оглянувшись, Фанфан. — Можно теперь и передохнуть, а, хозяин? — Стоп! — скомандовал Сорвиголова. Все одиннадцать пони остановились как вкопанные, и… молокососы очутились лицом к неприятелю! Храбрецы, не сговариваясь, схватили винтовки: борьба настолько вошла в их обиход и так соответствовала темпераменту отважных бойцов, что они уже снова рвались в битву. О, находись в распоряжении их командира хотя бы человек тридцать! До англичан было не более шестисот метров. — Не поддать ли им жару, а, хозяин? — спросил Фанфан с фамильярностью, не имевшей ничего общего с воинской субординацией. — Попробуем! — ответил юный командир. Молокососы навели ружья на отряд улан. — Пли! Несколько секунд выстрелы гремели без перерыва. Неприятель пришел в смятение: люди судорожно вскидывали руки и кубарем валились с лошадей, кони вздымались на дыбы и падали, мелькали пики. Настигнутые на таком расстоянии метким огнем, остававшиеся в живых англичане, ряды которых быстро таяли, сочли за лучшее ретироваться и скоро исчезли из виду. — Увы! — произнес как бы в заключение Сорвиголова. — Больше нам здесь нечего делать. Так продолжим свой путь и попробуем добраться до Винбурга. Вскоре молокососы доехали до полноводной реки: то был Верхний Вет, один из левых притоков Вааля. Вконец истомленные, умирая от жажды, покрытые ожогами, они с наслаждением бросились в красноватый поток и, фыркая от удовольствия, плавали, ныряли и жадно глотали свежую речную воду, — словом, вознаградили себя за недавние лишения. Но когда мучительная жажда была утолена, проснулся волчий аппетит. Еды же не было. Однако, на счастье, в этом районе в изобилии встречался батат, именуемый бурским картофелем. — Айда за жратвой! — крикнул Фанфан. Выскочив из воды, молокососы стали выкапывать малопитательные клубни, годные разве лишь на то, чтобы обмануть чувство голода. Быстро собрав обильный урожай, друзья развели большой костер, слегка пропекли бататы и принялись жадно уплетать их в полусыром виде. — Нашему обеду не хватает только английского ростбифа, — пробурчал Фанфан. — Вы просто-напросто избалованный лакомка, маэстро Фанфан, — отметил доктор Тромп. — Бурский картофель — весьма ценный крахмалистый продукт. — Крахмалистый? Согласен. А все-таки ростбиф тоже весьма ценное кушанье! При одном воспоминании о нем слюнки так и текут. Верно, хозяин? Но Сорвиголова, никогда не терявший хорошего расположения духа, на этот раз молчал, погрузившись в неотвязные думы. Гастрономические разглагольствования Фанфана не доходили до сознания капитана, мысли его витали далеко. Прошло два часа. Одежда едва пообсохла, голод был лишь слегка утолен, времени на отдых после столь длительных и жестоких волнений и беспощадной борьбы еще не было, но бойцы уже не выказывали ни малейшего признака усталости. Да не железные ли они? — Поиграем в чехарду! — предложил Гаврош с улицы Гренета, которому звание лейтенанта не придало ни на йоту солидности. Это по меньшей мере нелепое предложение, точно выстрел, вернуло к действительности командира молокососов. — Фанфан!.. Да ты, кажется, тронулся! — воскликнул он. — Боже мой! Надо же чем-то заняться! — В таком случае, собирайтесь. — Отлично! — Вы немедленно отправитесь к Винбургу под началом доктора… Передаю вам командование, добрейший Тромп. Доложите генералу Бота об успешном завершении порученной мне операции — взрыве водохранилища Таба-Нгу. — Будьте уверены, дорогой Сорвиголова, исполним все ваши приказы. Но что собираетесь делать вы сами? — Покинуть вас. — Покинуть? — Да. Надеюсь, ненадолго. Необходимо во что бы то ни стало разведать численность и состав неприятельских войск и направление их передвижения. — Ну и как вы думаете осуществить свое намерение? — Проникнув за нужными нам сведениями туда, где их легче всего добыть, — во вражеский лагерь. — Слишком опасное предприятие! Девяносто шансов из ста за то, что вы будете пойманы и расстреляны. — Скажем, — восемьдесят, и прекратим этот разговор. Самое важное — достичь успеха. И я обязан его добиться, поскольку от этого зависит судьба армии генерала Бота. Англичане, вероятно, уже заняли или скоро займут Блумфонтейн. Овладев железной дорогой, они попытаются вторгнуться в Оранжевую Республику, не слишком удаляясь от стальной магистрали. Бота, разумеется, будет стойко защищать рельсовый путь. У меня есть все основания полагать, что старый Боб постарается обойти буров тем же маневром, которым он окружил недавно Кронье и лишил республику четырехтысячного войска. И я хочу узнать, с какого фланга — справа или слева — производится обходное движение. Подобные сведения явились бы важным подспорьем для генерала Бота. Мне же на их сбор понадобится три дня. Я отправляюсь один, без ружья, лишь с карманным револьвером… А теперь, друзья мои и товарищи по оружию, прощайте или, лучше, до свидания! Мужественные сердца молокососов дрогнули при последних словах командира. Ни один из этих смелых людей, сотни раз смотревших в лицо смерти, не пытался скрыть своего волнения, ибо не душевная слабость сказывалась в их тревоге, а искреннее и непосредственное чувство боевого братства. К Жану со всех сторон тянулись руки, и он молча, порывисто пожимал их, не в силах вымолвить ни слова. Фанфан, с трогательной гримасой на лице, надтреснутым от слез голосом пробормотал: — У меня просто сердце упало, хозяин… Тошно мне, ей-богу, тошно! Взял бы ты меня с собой. Уж я сумел бы, если понадобится, перехватить за тебя несколько оплеух, а то и шкуру свою отдать… — Спасибо! Сердечное тебе спасибо, мой храбрый земляк, дорогой мой француз! Но, увы, это невозможно: я должен идти один. Низко опустив голову, Фанфан подавил вздох и замолк. Пришла очередь Поля Поттера. Он сжал обеими руками руку командира и, выражая мысль всех буров из отряда Сорвиголовы, произнес: — Благодарю тебя, брат! Благодарю от имени всей нашей родины, ради которой ты жертвуешь своей жизнью! Наша дружба, наше восхищение, наша благодарность будут всегда и повсюду следовать за тобой, и ты, я знаю, вернешься. До свидания, брат, до скорого свидания! — Конечно же, я вернусь, непременно вернусь! — воскликнул капитан, голос которого снова обрел всю свою звучность. — Мы бывали не в таких еще переделках, и все же выкручивались. Кстати, мне надо повидать небезызвестного вам майора Колвилла. У меня предчувствие, что в ближайшее же время я сыграю с ним одну из лучших моих шуточек. С этими словами, оставив своего пони на попечение Фанфана, Жан двинулся в путь и вскоре скрылся в высоких травах. Движимый смелым замыслом, он шагал к тому месту, где после ночного бегства молокососов из осажденной фермы от их пуль погиб первый уланский отряд. В изодранном и полуистлевшем от пожара доломане, который едва прикрывал тело, Сорвиголова походил на самого настоящего бродягу. Между тем, чтобы проникнуть в неприятельский лагерь, нужна была приличная форма. И он рассчитывал, что ее любезно предоставит ему один из тех усопших джентльменов в хаки. Через час капитан был у цели. На примятой траве он увидел изрешеченные пулями тела пяти солдат и четырех коней. А немного поодаль, на некотором расстоянии друг от друга, валялись остальные жертвы бесстрашных бойцов. Позы, в которых лежали люди и кони, искаженные судорогой лица и тела говорили о том, что смерть настигла их мгновенно. Взгляд Жана упал на молодого англичанина, чуть постарше его самого и такого же роста и телосложения. Пуля поразила его прямо в затылок, и он умер, не успев даже вскрикнуть: не всегда, видно, пуля маузеровской винтовки «гуманна». Хотя решиться раздеть мертвеца нелегко, колебания Сорвиголовы длились недолго: война есть война, да и время было неподходящее для того, чтобы церемониться с жестокими завоевателями, с грабителями без стыда и совести, творившими неправедное дело. Командир молокососов влез в брюки цвета хаки, облачился в доломан, напялил на голову каску и тут только заметил, что тело улана обмотано несколькими метрами гибкого и непромокаемого шнура толщиной в палец. — Да это же пироксилин, взрывчатка английских разведчиков, тот же динамит! — обрадовался юноша. — Славный подарочек! Может прийтись весьма кстати. Обвив вокруг груди находку, Сорвиголова застегнул доломан и вновь углубился в густой травостой. Сумерки застали его у передовой противника.
ГЛАВА 6
В разведке. — Оправдавшиеся предположения. — Пора возвращаться. — Норовистый скакун. — Падение. — Суматоха. — Схватка с кузнецом. — Отчаянное бегство. — Игра в прятки. — У майора. — Сон пьянчуги. — Находчивость. — Верный Билли. — Тревога.Нет в жизни ничего страшнее, чем ощущать себя затерянным в чужом стане, одиноко бродить среди жестоких недругов, чувствовать, что жизнь твоя зависит от малейшей случайности, от ложного движения, от нечаянно оброненного слова, и знать, что каждую минуту тебя могут схватить и расстрелять на месте, как шпиона. Но опасности, подстерегающие разведчика на каждом шагу, и необходимость быть постоянно начеку — не главные его заботы, а как бы дополнительная нагрузка к основной работе. Лазутчик должен всюду побывать, все увидеть, оставаясь в то же время невидимым, набить голову, и без того отягощенную мыслями о личной безопасности, бесконечным количеством сведений о солдатах, лошадях и пушках, которыми располагает неприятель. Необходимо также разобраться во вражеских позициях, запомнить топографию лагеря, изучить передвижение войск, постигнуть замыслы противника и до известной степени попытаться их предугадать. Так какой же выдержкой, каким присутствием духа, какой находчивостью, какой способностью делать глубокие выводы из незначительных на вид фактов, какой наблюдательностью и слухом, каким мужеством и какой энергией надо обладать, чтобы с честью выполнить подобное задание! Нашему герою щедро были отпущены судьбою все эти качества, дополнявшиеся к тому же незаурядным и несвойственным такому юнцу опытом. Ему, например, ничего не стоило, скользя, как ящерица, меж высоких трав, пересечь линию боевых охранений, в чем мы сами сейчас убедимся, поскольку уже показались передовые посты с двумя часовыми на каждом из них. Томми раскуривали коротенькие вересковые трубки и тихо беседовали о своей далекой родине, по которой отчаянно тосковали. Табачный запах, приглушенный шепот, поблескивание штыков помогли Жану определить их местонахождение. Ему было нечего или почти нечего опасаться этих стражей: англичане — люди «цивилизованные», а, как известно, «цивилизованные» ничего не смыслят в тайной войне. Легко обманув бдительность часовых, командир молокососов очутился в холмистой местности, где, как зубья пилы, торчали остроконечные палатки. Сорвиголова сразу же насчитал их до сотни. Юноша пробирался по лагерю противника ползком, при малейшем шорохе прижимаясь к земле. Ориентируясь на палатки, которым, казалось, не было конца, он огибал холмы и переваливал через них. Узнав примерно, сколько у неприятеля полотняных домиков, Жан без особого труда определил общую численность войск. Итог оказался внушительным: там, где еще два дня назад стояли всего лишь четыреста улан майора Колвилла, теперь сосредоточилась десятитысячная армия. Продолжая ползти, Сорвиголова заметил на фоне белых перистых облаков, покрывавших горизонт, бескрайние линии коновязей, за ними — орудия с зарядными ящиками: четыре батареи по четыре пушки в каждой, — а еще дальше — повозки с круглым брезентовым верхом. Полевая пекарня выдала себя ароматом свежеиспеченного хлеба, а удары молота по наковальне говорили о наличии кузницы. «Да тут целый корпус! — подумал Жан. — Я был прав: враг, несомненно, попытается зайти в тыл бурскому войску, обойдя его с левого фланга. Во что бы то ни стало и как можно скорей надо предупредить генерала Бота!» Сорвиголова — человек быстрых решений, а решить значило для него действовать. Поскольку пешком идти слишком долго, нужен был конь. Чего же проще, их здесь тысячи! — Немного смелости, побольше самообладания, а главное, твердая вера в успех! — сказал себе Жан. С деревянной выправкой английского солдата, размеренным шагом Томми, он приблизился к цепочке лошадей, шумно жевавших у коновязей свое месиво. Перед каждой из них были разложены в образцовом порядке седла и уздечки. Дремавшие часовые легко пропустили Жана, приняв его за одного из своих товарищей по оружию и даже не окликнув, настолько далека была от них мысль, что по лагерю может так спокойно расхаживать вражеский шпион. Сорвиголова не торопясь взнуздал ближайшего коня и, не надев седла, чтобы не терять зря времени, вскочил на скакуна, стремясь как можно скорее выбраться из лагеря, где его могли в любую минуту разоблачить. Но всего не предусмотришь! — Ты ошибся, приятель, — предупредительно заметил часовой. — Это лошадь Дика Мортона, норовистая стерва! Она переломает тебе все ребра. Увы, предупреждение запоздало! Сорвиголова, убежденный, что он открыт, дал коню шпоры. Но упрямец, вместо того чтобы тронуться с места, низко опустил голову, поджал круп, изогнул дугой спину, сдвинул вместе все четыре ноги и принялся неистово бить то передом, то задом. Затем принялся подскакивать на месте, приседать и снова прыгать, — короче, занялся невообразимой гимнастикой. Укротить проклятое животное было бы под силу разве что ковбоям американского Запада, этим чудесным наездникам, которые как бы воскрешают в своем лице легендарных центавров древности. Сорвиголова тоже отлично управлялся с лошадьми, но не так. К тому же, сидя на неоседланном коне, он был лишен точек опоры в седле и стременах. И какой-то уж слишком дьявольский рывок скакуна заставил юношу разжать шенкеля[126] и перекувырнуться в воздухе. Бедняга тяжело шлепнулся о землю, а освободившийся жеребец резво понесся в поле. Ошеломленный на миг ударом, Сорвиголова, однако, тут же вскочил, явно встревоженный таким поворотом событий. Падая, отважный разведчик потерял свою каску, и часовой, увидев при свете бивачного костра его лицо, вскричал: — Он не из нашего эскадрона!.. Да это какой-то мальчишка, зеленый юнец, молокосос! Последнее слово, произнесенное без тени намека, отдалось в ушах командира молокососов словно пушечный выстрел. «Меня узнали!» — решил Сорвиголова. Прибежал другой часовой. Размахивая шашкой и не разузнав даже, в чем дело, он попытался схватить чужака. Но тот со всей силой врезал головой торопыге в живот, и горе-воин, скорчившись от боли, упал навзничь. — К оружию! — неистово заорал первый часовой. Со всех сторон послышались ответные возгласы: — К оружию!.. К оружию!.. Заспанные люди сбегались на крики и сами вопили: «К оружию!» — хотя никто из них не знал, что же, собственно, случилось. Сорвиголова, увернувшись, опрометью кинулся прочь. Когда он пробегал мимо кузницы, работавший там солдат швырнул на землю раскаленную болванку и, преградив беглецу путь, замахнулся кувалдой. Сорвиголова, вовремя отклонившись, дал герою подножку, и незадачливый молотобоец, неистово бранясь, растянулся ничком. Суматоха все росла: — Тревога!.. Тревога!.. К оружию!.. Солдаты, будто рои встревоженных пчел, выскакивали из палаток. Одни спрашивали, другие отвечали, и никто ничего не понимал. И вдруг кто-то, то ли не очнувшись ото сна, то ли под влиянием паров виски, завизжал: — Буры! — Буры!.. — подхватил Сорвиголова, как жулик, который громче своих преследователей кричит: — Держи вора! На какое-то время эта уловка помогла ему, — главным образом потому, что охваченные паникой воители, не распознав своих при неверном свете костров, принялись палить друг в друга. Сумятица становилась невообразимой. Вопли, крики, беготня, выстрелы, стоны… Но заблуждение не могло продолжаться бесконечно. И вскоре в лагере остались лишь лазутчик и великое множество его преследователей. Началась драматическая, напряженная игра в прятки среди палаток, мимо которых задыхавшийся Сорвиголова проскальзывал молниеносно с ловкостью акробата. Оказавшись перед большим конусообразным шатром, разведчик обежал его и, положившись на свою счастливую звезду, юркнул внутрь. На маленьком складном столике мерцал ночник, освещая пустые бутылки из-под шампанского и ароматных ликеров. На бамбуковой мачте, поддерживавшей полотняный верх, висело оружие — армейский револьвер и офицерская шашка. На низенькой походной койке, под одеялом цвета хаки, дрых какой-то джентльмен. Судя по его неподвижности и раскатистому храпу, можно было догадаться, что он без стеснения прикладывался к горячительным напиткам, очевидно, немало способствовавшим его сну, близкому к каталепсии[127]. На фоне матерчатой стены отчетливо вырисовывалось лицо выпивохи — строптивое, с крючковатым носом, широким подбородком и плотно сжатыми губами. — Майор Колвилл! — невольно вырвалось у Жана. Вояка, чей покой не смог нарушить царивший вокруг шум, тотчас пробудился, едва услышав свое имя, произнесенное вполголоса. Зевнул, потянулся и пробормотал, как человек, все еще пребывающий во власти сна: — Сорвиголова? Брейкнек?.. Вот сейчас я прикончу тебя, негодяй! Англичанин потянулся к револьверу. Но Сорвиголова с молниеносной быстротой перехватил правой рукой дуло смертоносного оружия, а левой туго скрутил ворот рубахи на шее противника. Ткань затрещала, майор, задыхаясь, старался вырваться, позвать на помощь, но вместо вопля издавал лишь глухой хрип. — Молчать! — прошептал Сорвиголова. — Или я всажу вам пулю в лоб! Однако англичанин, вскормленный ростбифами, вспоенный виски, а главное, преуспевший во всех видах спорта, был настоящим атлетом и, не собираясь сдаваться, отбивался что было мочи. Еще мгновение — и он вырвался бы из рук юноши и закричал. Жану, разумеется, ничего не стоило разрядить в него револьвер, но на выстрел сбежались бы солдаты. Решив усмирить упрямца без лишнего шума, Сорвиголова с силой ударил его по затылку рукояткой оружия. Колвилл тяжко охнул и затих. Не теряя ни секунды, Жан завязал салфеткой майору рот, носовым платком скрутил ему руки за спиной, а уздечкой стянул ноги. — Самое трудное сделано, — прошептал он. У палатки послышались чьи-то тяжелые шаги и бряцание шпор. Сорвиголова погасил ночник, затолкал связанного джентльмена под кровать, улегся на его место и, натянув одеяло до самых глаз, принялся храпеть. Кто-то осторожно вошел: — Это я, ваша милость, ваш верный слуга Билли. — Пошел к черту! — сиплым голосом пьянчуги прорычал разведчик. — В лагере тревога, ваша милость… Юноша, пошарив вокруг, нащупал сапог и со всего размаха запустил им в верного Билли: отношение английских офицеров к своим денщикам отнюдь не всегда проникнуто благодушием, эти изысканные джентльмены любят давать волю рукам, а подчас и ногам. Сапог угодил слуге прямо по лицу, и он, застонав, ушел, прижимая ладонь к раскроенной шпорой щеке. До слуха Жана донеслись тихие причитания несчастного, которого приучили покорно переносить побои: — О Господи Боже! Кровь! Его милость, видно, выпили сегодня слишком много французского коньяка и шампанского, вот рука-то у них и отяжелела. Лучше мне убраться отсюда… «Да и мне тоже», — подумал Сорвиголова, находивший, что его пребывание здесь несколько затянулось. Переполох в стойбище врага, достигнув своего апогея, начал стихать. Не найдя никаких разумных причин суматохи, обитатели лагеря приписали ее проделкам какого-нибудь пьянчуги, к счастью для себя оставшегося неузнанным. Жизнь входила в обычную колею. Одной тревогой больше, только и всего. Сорвиголова сгорал от нетерпения. Прошел добрый час с тех пор, как он занял место майора. Было уже, наверное, часа два ночи. Надо немедленно уходить, если он вообще хочет выбраться из этого осиного гнезда! «Но как? — размышлял Жан. — Верхом? Невозможно! Значит, пешком. Конечно, это не так быстро, но зато больше шансов уцелеть». Когда юноша собирался покинуть пристанище, до него донеслось чуть слышное дыхание майора, и Жан послал по его адресу не очень-то милосердное послание: — Хоть бы ты сдох, скотина! Несомненно, Поль Поттер перерезал бы горло этому заклятому врагу буров, но Сорвиголова удовлетворился тем, что оставил противника в довольно смешном положении. Очутившись под открытым небом, лазутчик не успел сделать и двух шагов, как споткнулся о чье-то тело. Человек, молниеносно вскочив, заорал: — Караул! Вор! Он обокрал его милость!.. Это был верный Билли, денщик майора, уснувший, как пес, у порога своего господина. Черт возьми, где только не свивает гнезда верность! Билли пытался ухватить за шиворот бешено отбивавшегося Жана, не переставая в то же время вопить во всю глотку: — Караул! Помогите! Опять тревога! Бедный Сорвиголова!
ГЛАВА 7
Верный раб. — Схватка. — Пушки выведены из строя. — Распивочная. — Покупка виски. — В роли пьяницы. — Патруль. — Первое угощение. — Часовые. — Второе угощение. — Проделки лже-пьяницы. — Конный патруль. — Третье угощение. — Подозрение. — Выстрел. — С места в карьер.Один философ утверждал, что самые верные псы — это те, которых больше всего бьют. Ну а люди? Неужто найдутся такие, к кому также применимо это далеко не бесспорное положение? Увы, найдутся. И примером тому мог бы служить улан Билли. Ни с одним денщиком в британской армии не обходились, наверно, хуже, чем с ним. А один лишь Бог знает, сколько ругательств, пощечин и зуботычин отпускают английские офицеры, эти «утонченные» джентльмены, по каждому поводу, за малейшую оплошность, а чаще всего просто так, безо всякой вины. Хлестать подчиненного с утра до вечера — это своего рода спорт для военных чинов. Билли защищал своего господина с остервенением дога. Заключив Жана в цепкие объятия, он, не переставая, голосил во всю глотку, сзывая на помощь. Юноша прилагал неимоверные усилия, чтобы вырваться на свободу, наносил противнику удар за ударом, но денщик, привыкнув на службе у майора к побоям, не обращал на них никакого внимания. Еще бы немного, и разведчик оказался бы в плену. Но тут, себе на беду, недруг слишком приблизил к нему свою физиономию, вероятно, чтобы получше разглядеть и запомнить вора. Сорвиголова тут же применил один из известных ему приемчиков, и преданный слуга, взвыв от боли и волчком завертевшись на месте, упустил добычу. Положение Жана оставалось нелегким. Надо было бежать, но куда? Отовсюду уже мчались солдаты. Правда, бедняга Билли задерживал их, умоляя: — Скорей туда, в палатку! Там его милость майор… Его обворовали, убили!.. Несколько человек, предоставив другим преследовать лазутчика, вошли в палатку и увидели там полузадушенного майора с кровоточащей раной на затылке. Офицер, впрочем, довольно быстро пришел в себя и, не успели его развязать, возопил: — Сорвиголова!.. Где Сорвиголова? Никто ему не ответил, поскольку его вопли не принимали всерьез: все думали, майор просто пьян или спятил с ума. — Да говорят же вам, болваны, Сорвиголова в лагере!.. И, схватив шашку, Колвилл опрометью понесся по военному городку, исступленно вопя: — Брейкнек! Брейкнек! Ловите Брейкнека!.. Тысяча фунтов тому, кто его задержит! Сорвиголова пользовался у англичан столь же лестной, сколь и опасной для себя популярностью, и его имя вместе с обещанной наградой, повторенное вслед за Колвиллом несколькими солдатами, вскоре подхватили сотни, тысячи вояк. — Брейкнек!.. Тысяча фунтов!.. — неслось вокруг. Разумеется, Сорвиголова вторил им в унисон, переходя иногда и на более высокие ноты. Эта уловка снова удалась ему, во всяком случае помогла хоть немного выиграть время. Но без каски, в измятом мундире он не мог долго сходить за английского военнослужащего. Командир молокососов принадлежал к людям, которые в случае необходимости умеют все поставить на карту. И он прибегнул к остроумной, хотя и весьма рискованной диверсии. Убегая от преследователей, он наткнулся на лошадей из артиллерийской части. Надо заметить, что служба охранения несколько ослабевает в центре лагеря, окруженного двойной цепью пеших и конных дозоров, и особенно — после тяжелых дневных переходов и ночных тревог, которые, как это случилось сегодня, нарушают покой измученных людей. Потому-то и удалось Жану подойти к животным, не возбуждая подозрения заспанных да к тому же и малочисленных часовых. Кони были привязаны незамысловатыми узлами. В какие-нибудь полминуты, рискуя получить удар копытом, юноша отвязал десятка три лошадей, и те, почуяв свободу, понеслись с громким ржаньем по лагерю, сшибая с ног людей, растерянно бегавших с криками: — Брейкнек!.. Брейкнек!.. Смятение все росло, ибо Сорвиголова продолжал под прикрытием ночи свою дьявольскую работу, отпуская на волю все новых и новых коней, а те, возбужденные непривычной обстановкой, бешено мчались кто куда, опрокидывая палатки и давя солдат. Артиллеристы бросились ловить лошадей, и пушки на какое-то время — совсем ненадолго! — остались без охраны, чем тотчас же воспользовался Сорвиголова. — А, господа англичане, вы предлагаете за мою голову тысячу фунтов? Но я же говорил вам, что стоит она значительно дороже! Сейчас вы сами убедитесь в этом… Жан знал, как обращаться с прихваченной им взрывчаткой, пожалуй, более страшной, чем динамит. Быстро вытащив шнур, он разорвал его на три равные части, обмотал ими механизмы трех пушек и поджег. «Жаль, что пироксилина так мало», — думал юноша, убегая сломя голову. Взрывы раздались почти сразу же: — Бум! Бум! Бум!.. И тут же послышался грохот металла. Лафеты опрокинулись, орудия вздыбились. О ночном отдыхе не было и речи. Тревожная суета грозила перейти в панику. Одни хлопотали вокруг искалеченных пушек, другие охотились за никак не дававшимися лошадьми, третьи толпились вокруг пьяного и разъяренного майора, который, не переставая, горланил: — Сорвиголова! Говорю вам, это — Сорвиголова!.. Тысяча фунтов тому, кто его задержит!.. Никто уже не мог разобраться в происходившем. Одни командиры приказывали играть тревогу, другие — отбой, однако ни те, ни другие приказы так и не исполнялись. Кончилось тем, что о Жане совсем забыли. А Сорвиголова, добившись своего, не терял понапрасну времени. Взамен каски он нашел фетровую шляпу с буквами CIV, видно, оброненную в суматохе каким-то волонтером, и, напялив ее, преспокойно, с беспечным видом гуляки, направился к границе лагеря. Его уверенная походка, хорошая военная выправка и форма хаки, которую он успел кое-как привести в порядок, служили ему пропуском. На него никто не обращал внимания, хотя имя Брейкнек в сочетании с кругленькой суммой, обещанной в награду за его поимку, так и вертелось у всех на языке. Приметив кабачок, двери которого только что открылись, Жан вошел туда с непринужденностью человека, карман которого туго набит золотом. Содержатель распивочной, почуяв в нем солидного гостя, почтительно вышел навстречу. Сорвиголова, у которого уже созрел новый план действий, потребовал шесть бутылок виски самого лучшего качества. Хозяин, галл по происхождению, изъяснялся на таком же фантастическом английском языке, как и Сорвиголова, и даже не заметил, что его покупатель говорит на жаргоне, который, несомненно, вызвал бы подозрения у чистокровного англосакса. Зато трактирщик тотчас же догадался содрать с Жана двойную цену, вероятно, по случаю столь позднего, или, наоборот, столь раннего часа, поскольку близилось утро. Но что поделаешь, такова уж повадка всех содержателей ночных питейных заведений. Сорвиголова, притворившись слегка опьяневшим, расплатился не торгуясь, но попросил еще провиантскую сумку. — Хочу отнести бутылки своим товарищам на посту, — пояснил он. За сумку ценою в пять шиллингов кабатчик взыскал целую гинею[128]. Из распивочной Жан вышел покачиваясь, со шляпой набекрень. — Товарищи хотят пить, — во всеуслышание рассуждал он. — Канадцев всегда мучает жажда. Отнесу-ка я это виски землякам. Когда его остановил патруль, Сорвиголова протянул капралу бутылку. — Только не все, — приговаривал он, — товарищи на посту томятся жаждой… Канадцы всегда хотят пить. Капрал улыбнулся, припал губами к бутылке и одним могучим глотком опорожнил ее до половины, а остаток отдал своим подчиненным. У англичан неистощимый запас снисходительности к пьяным, поэтому начальник патруля собирался уже отпустить подвыпившего волонтера, находя его объяснение весьма убедительным. Но в благожелательности трезвого человека к подвыпившему всегда есть небольшая доля зависти. И солдаты патруля решительно возроптали: им было мало оставшегося вина. Жан, опасаясь осложнений, вынужден был отдать вторую бутылку. Поскольку осталось всего четыре, то при мысли, что придется, быть может, утолять жажду еще одного патруля, разведчика бросило в дрожь. Впрочем, все шло отлично, если не считать того, что восток начинал алеть, предвещая рассвет. «Ого-го! — подумал Сорвиголова. — Пора уносить ноги!» Но не прошел он и полсотни шагов, как набрел на окоп. Забряцало оружие, грубый голос резко окликнул: — Кто идет? — Виски! — вполголоса произнес юноша. Для английского часового нет более красноречивого и убедительного ответа, особенно в четыре часа утра, после холодной ночи, проведенной в сырой яме. — Подойди ближе, — хрипло прорычал солдат с сильным ирландским акцентом. Сорвиголова несказанно обрадовался: более счастливого случая нельзя было и желать. Ведь мы уже говорили, что ирландцы, эти самые храбрые солдаты Соединенного Королевства, славятся и как самые одержимые и закоренелые пьяницы. Жан знал, что на английских постах всегда двое часовых. Но так же хорошо знал он и то, что с помощью двух бутылок виски даже от двух Пэдди можно добиться решительно всего. Шатающейся походкой Сорвиголова направился к окопу, держа в каждой руке по раскупоренной бутылке, и, отрыгнув пьяной икотой, протянул часовым вожделенный напиток: — Вот и я!.. Говорю тебе, я и есть это самое виски. — Славненько!.. Славненько!.. Молодец!.. — сказал один ирландец. — Ты говоришь ну прямо как по книге! Бьюсь об заклад, что ты лучший солдат армии ее величества… — За твое здоровье, братишка! — провозгласил тост другой Пэдди. Сорвиголова достал третью бутылку, чокнулся ею с ирландцами и заплетающимся языком, но стараясь придать голосу как можно больше любезности, ответил: — Будьте счастливы, друзья! Ирландцы, запрокинув головы, пили, не отрываясь от горлышка. А виски было настоящий огонь, что твой купорос. Щеки любителей хмельного так и запылали. Проглотив каждый по полбутылке, они прищелкнули языками — то ли от удовольствия, то ли в знак не вполне удовлетворенного желания. — А ну-ка, еще по глоточку! Вот так! Поехали!.. Готово — до дна! Сорвиголова, притворясь мертвецки пьяным, с урчанием повалился на землю и захрапел. Ирландцы разразились смехом. — Приятель-то, кажется, уже того! — заметил один из них. — А может быть, у него в бутылке осталась хоть капелька? — прибавил другой. — Пойти, что ли, взглянуть. Солдат выполз из ямы и, нащупав в темноте капитана Сорвиголову, прижавшего к губам едва початую бутылку, осторожно отнял ее, вернулся в окоп и одним глотком опустошил ее до половины. — Добавочная порция, — заявил он, икая. — И мне добавок, — потребовал его товарищ и потянулся за бутылкой. Докончив ее, признался: — А знаешь, я бы тоже не прочь уснуть, как тот парень. — Еще бы! Но ведь минут через десять придет смена, и тогда нас перестреляют, как зайцев. «Через десять минут! — ужаснулся Сорвиголова. — Черт возьми, надо удирать!» Он притворился, что просыпается, поднялся, качаясь из стороны в сторону, на ноги и принялся, бормоча и ругаясь, искать виски. — Проклятье! Где же моя бутылочка? Убежала?.. Ах, каналья!.. Ведь я вижу, все вижу! Удрать хочешь?.. Нет, голубушка, не выйдет!.. Иди сюда, мошенница, а не то я сам тебя поймаю!.. Не хочешь?.. Ну погоди, сейчас я тебя догоню!.. Я человек, и тебе не уйти от меня, безногая… Так, спотыкаясь на каждом шагу, падая, снова вставая, охая, ахая и ругаясь, он прошел мимо хохотавших до слез стрелков. Погоня за бутылкой казалась им самой уморительной и забавной штукой, какая только могла зародиться в насквозь пропитанном алкоголем мозгу. Оба Пэдди даже и не заметили, что неизвестный, которому они были обязаны угощением, уходит из лагеря. Не обратили они внимания и на то, что незнакомец перестал уже спотыкаться и пошатываться, а походка его по мере того, как он удалялся, становилась все более уверенной и быстрой. Горизонт между тем светлел, окружающие предметы вырисовывались все отчетливее. Почувствовав себя вне опасности, Сорвиголова облегченно вздохнул и собрался было пуститься бегом, как вдруг за его спиной послышался топот скакавшего галопом коня. — Кто там? — окликнул его резкий голос. Едва сдержав готовое сорваться с языка проклятие, Жан снова притворился пьяным и, пошатываясь из стороны в сторону, достал последнюю бутылку. На полном скаку возле него остановился всадник. Конный патруль. Улан! — Что ты тут делаешь, парень? — угрожающе спросил верховой. — Выпиваю и гуляю… гуляю и выпиваю. Если и тебе охота выпить, дам… На вот, пей! Я не жадный. Увидав невооруженного пьянчужку, улан улыбнулся, отставил пику, потянулся за бутылкой и припал к ней губами. Пока он сосал виски, Сорвиголова левой рукой ухватил его коня под уздцы, а правой полез в карман своего доломана. Улан — не то что ирландцы. Его ублаженный алкоголем желудок не знает чувства благодарности. Изрядно глотнув и не выпуская из рук бутылки, он продолжал допрос: — Что-то слишком далеко от лагеря ты прогуливаешься. — Как ты сказал, как? — притворяясь ошарашенным его словами, ответил Сорвиголова. — Он далеко, этот… как его… ах да, лагерь!.. Смешно, правда? Лагерь — и вдруг далеко… Да мне, в сущности, наплевать. Я парень не из робких! А для смельчаков расстояний не существует. — Брось свои штучки и следуй за мной! — приказал улан, в душу которого закралось подозрение. — А вот не пойду! Я в отпуску. Где мне нравится, там и гуляю. — Мне приказано приканчивать всякого, кто попытается выйти за пределы лагеря или войти в него. Повинуйся, не то заколю! С этими словами улан отшвырнул бутылку и нагнулся, чтобы отстегнуть от ботфорта пику. Жан мгновенно вытащил из кармана револьвер и, не выпуская из левой руки уздечку, выстрелил. Пуля, пробив кавалеристу глаз, застряла у него в мозгу. Улан качнулся вперед, потом откинулся назад, соскользнул с коня и тяжелой массой рухнул на землю. Испуганная лошадь норовила встать на дыбы, но Сорвиголова, сильно дернув поводья, удержал ее на месте. На звук выстрела со всех сторон мчались конные патрули. Жан одним прыжком вскочил на скакуна и пустил его в карьер. Когда расстояние между ним и англичанами достигло пятисот метров, солдаты, убедившись в бесполезности дальнейшей погони, прекратили преследование. Сорвиголова был снова спасен!
ГЛАВА 8
Натиск. — Борьба с партизанами. — «Цивилизованные» изуверы. — Уничтожение ферм. — Драма в Блесбукфонтейне. — Убийство столетнего старца. — Истребление женщин и детей. — Мстители. — Кровь за кровь. — Отступление.Сорвиголова вернулся в лагерь генерала Бота как раз вовремя. Командующий находился в неведении относительно расположения неприятельских сил, а юный разведчик, рискуя жизнью, раздобыл и привез ему необходимую информацию, точную, исчерпывающую, ясную. Благодаря отважному вожаку молокососов генерал Бота мог теперь избежать окружения, задуманного маршалом Робертсом. Тщетно войска англичан — кавалерия и артиллерия — старались обойти левый фланг бюргеров. Хотя противник передвигался с молниеносной быстротой, Бота, без колебания оставив укрепленные позиции между Винбургом и железной дорогой, взял еще более стремительный темп. И огромные клещи, образованные людьми, лошадьми и пушками, зажали пустоту. Катастрофа при Вольверскраале многому научила буров! Они поняли, что минуло время безумных лобовых атак, предпринимавшихся англичанами, и теперь, вместо того чтобы выжидать врага на заранее подготовленных позициях, своевременно отходили, когда того требовала обстановка. Но если бурам удавалось таким образом избегать встреч с неприятелем, то остановить его они, разумеется, не могли. Имея десятикратное численное превосходство, англичане обходили республиканцев, теснили их, гнали на север. Это было неизбежно. Но и теперь еще бурам не раз удавалось вершить славные боевые дела. Вынужденные уходить постепенно с территории Оранжевой Республики, бюргеры не оставляли врагу ни коня, ни повозки. Дорого обходились англичанам их успехи. Не проходило и дня, чтобы неуловимый противник не нанес им ощутимого удара, оскорбительного для их самолюбия и чувствительного для финансов и людского состава британской армии. Буры угоняли обозы, снимали часовых, захватывали врасплох разведывательные отряды, уничтожали мелкие воинские подразделения… Партизаны героически отстаивали каждый клочок земли, каждый холмик, каждое деревце, каждый дом и при этом оставались скрытыми от взора врага, тогда как силы и маршрут англичан были прекрасно известны бурам: патриотам сообщали об этом женщины и дети — единственные обитатели разграбленных неприятелем ферм. Война с партизанами — борьба с невидимым и вездесущим противником — деморализовала весь состав британской армии, от главнокомандующего до последнего пехотинца. Первое время завоеватели пытались бороться с патриотами при помощи простых мероприятий: было объявлено о наложении штрафа за укрывательство в доме партизан, за снабжение их продовольствием, за сообщение им сведений военного характера. Штрафные санкции не произвели никакого впечатления. Тогда непокорным стали грозить изгнанием. Но и это ничего не дало. Взбешенное сопротивлением буров, английское командование не погнушалось прибегнуть к жесточайшим мерам, опозорившим великую нацию и вызвавшим возмущение всего цивилизованного мира. Лорд Робертс, озлобленный, как, впрочем, и вся его армия, непрерывными потерями, которые им приходилось нести от бурских партизан, возвел в приказном порядке в ранг тягчайшего преступления верность бюргеров борьбе за независимость своей родины. Зашумели господа колониалисты, поскольку империализм был раздражен топтанием на месте. Военным же и подавно надоели бесславные стычки. Отовсюду, из метрополии и доминионов, понеслись крики: «Пора кончать с бурами — во что бы то ни стало, не стесняясь в средствах!» В подобных случаях солдат, развращаемый «общественным» мнением, тщеславием, эгоизмом и славолюбием, становится карателем. И лорд Робертс не был исключением: старый Боб не побоялся обесчестить свое безупречное прошлое чудовищным приказом. Бессильный сломить героическое сопротивление буров, он стал превращать в пустыню те места, через которые проходила его армия. Английские солдаты методически грабили и сравнивали с землей не только хутора, фермы, селения, но и небольшие города. Началось беспощадное истребление буров. Женщины, дети и старики безжалостно изгонялись из своих жилищ. Лишенные крова, голодные и оборванные, они бродили по степи и гибли от истощения и усталости. Находились, конечно, и упрямцы, которые наотрез отказывались покинуть старый дедовский дом,где протекла вся их жизнь, где они любили, страдали, надеялись и трудились. Тогда дело принимало еще более серьезный оборот, ибо нежелание людей расстаться с родным кровом приобретало в глазах захватчиков характер преступления, караемого смертью. И завоеватели совершали казни с жестокостью и свирепостью новоявленных палачей. Те самые англичане, которые не переставали кичиться своим либерализмом, благотворительной и цивилизаторской миссией, творили здесь, под снисходительным оком высшего руководства, такие мерзости, какие только может придумать зверь в человеческом обличье. Кровавое безумие охватило многих офицеров. Находились джентльмены, с истинным наслаждением исполнявшие обязанности палача. Одним из них был и вечно пьяный, свирепый маньяк майор Колвилл, кавалеристы которого завоевали в тех местах, где они орудовали, позорную славу карателей, ставшую несколько позднее достоянием и волонтеров генерала Брабанта[129]. В те дни, о которых идет наш рассказ, уланы майора Колвилла, входившие, как разведчики, в состав авангардных частей британской армии, оторвались от своего корпуса и наводили ужас на жителей района, раскинувшегося между Рейтцбургом, Вредефортом и железнодорожной линией Блумфонтейн — Претория. Солдаты не щадили ничего, даже деревьев. А бурское войско, сосредоточенное на границе Оранжевой Республики, не могло прийти на помощь несчастным жертвам английского варварства, ибо за спиной у него несла свои воды река Вааль — граница Трансвааля, которую должны были защищать буры, а под боком располагался нуждавшийся в охране брод Ренсбург, дававший англичанам возможность обойти противника и напасть на него с тыла. Столь напряженная стратегическая обстановка не позволяла генералу Бота покинуть укрепленный лагерь и перейти в наступление. Подверглась нападению карателей и ферма Блесбукфонтейн, куда в один злосчастный день прибыл уланский отряд человек в двести. Усадьба эта состояла из нескольких строений, где обитали десять — двенадцать крестьянских семей. Все здесь дышало сельским покоем и незатейливым достатком патриархального быта, созданным несколькими поколениями, которые в поте лица обрабатывали землю, собирали и перерабатывали ее плоды. День за днем упорно и терпеливо трудились они, с любовью созидая свой маленький мирок — зародыш будущего селения, а возможно, и города. Рождались и вырастали дети, создавались новые супружеские пары, которые селились в отдельных домах, построенных рядом со старыми. Так, словно мощные ветви огромного и прекрасного дерева, крепко вросшего своими корнями в священную землю отчизны, разрастались бурские семьи. Как счастливо пролетали здесь годы беспечного детства и деятельной зрелости, за которой следовала почтенная старость! А как опьяняли душу эти бескрайние просторы степей, светлая радость щедро вознаграждавшегося труда и сладостный отдых в семейном кругу! Пожалуй, никогда еще и нигде счастье не было таким совершенным и полным, как у этих людей, превративших ферму в маленький эдем. И вдруг весь этот уклад, казавшийся нерушимым, рухнул в одночасье. Ураган войны, разразившийся над райским уголком, унес всех его юношей и мужчин, оставив без защиты слабых и больных его обитателей. Из двадцати шести мужчин Блесбукфонтейна на ферме остался лишь столетний слепой старец, с трудом добиравшийся до своей любимой скамейки на солнышке, да мальчуганы не старше десятилетнего возраста. Остальное население фермы состояло из женщин: девяностолетней прародительницы, славной и преданной подруги главы клана, ее дочерей, внучек и правнучек, то есть матерей, сестер и дочерей бурских воинов. Всего около семидесяти беззащитных людей. Появлению вражеских солдат в усадьбе предшествовали резкие звуки трубы и стук лошадиных копыт. С улицы прибежали ребятишки. — Англичане! — задыхаясь от бега, кричали они. Уланы, бряцая оружием, вихрем ворвались на просторный двор фермы. Во главе отряда галопировал майор. Рядом с ним скакали сержант и два трубача. — Хозяина сюда! Где хозяин? — гаркнул сержант. На пороге показался старый бур. Его вела прелестная белокурая девочка лет шести. — Я хозяин, — с достоинством произнес бур. — Что вам угодно? — Огласите, сержант! — приказал своим резким голосом майор, даже не удостоив старца ответом. Тот извлек из-за обшлага мундира бумагу, развернул и стал читать, нарочито отчеканивая каждое слово: — «Именем ее величества королевы и по приказу его превосходительства лорда Робертса всем лицам, пребывающим в этой усадьбе, предписывается немедленно покинуть ее. Малейшее сопротивление будет караться смертью». И уже от себя сержант добавил: — Даю вам пять минут сроку. Ошеломленный старик устремил невидящий взор в то место, откуда исходил голос, объявивший этот варварский приговор. Ему казалось, что он плохо расслышал, не понял чего-то. Полным трагизма жестом простер он костлявые руки, а его старый, беззубый рот шевелился, не произнося ни звука. — Дед, — заплакав, пролепетала девочка, — этот человек сказал: надо уходить. — Уходить?! — замогильным голосом пробормотал старик. — Да, да, убираться вон отсюда! — злорадно выкрикнул майор. — Пошли прочь, змеиное отродье, а не то живьем вас зажарим в этой норе! Женщины поняли. Выбежав из столовой, где, охваченные леденящим страхом, спрятались от оккупантов, они окружили кавалеристов и, умоляя сжалиться, с душераздирающими воплями протягивали им младенцев, которых завоеватели хотели лишить крова и последнего куска хлеба. Бандиты, злорадно хохоча, подняли на дыбы лошадей и, опрокинув ближайших к ним женщин, стали их топтать. Послышались вопли ужаса и боли, заглушенные гиканьем улан. Когда истязатели отвели коней, на земле остался лежать младенец с раздробленной головкой. Мать с помертвевшим от горя лицом свалилась без чувств возле бившейся в агонии невинной жертвы изуверов. Майор взглянул на часы и с невозмутимым спокойствием процедил сквозь зубы: — В вашем распоряжении осталось четыре минуты. К майору приблизился старик. Догадавшись по властному тону Колвилла, что он и есть начальник, высокий старец низко склонился перед англичанином. — Коснись это меня одного, — пролепетал он дрожащим голосом, — я бы не просил вас. Я бы сказал вам: возьмите мой старый скелет и потешайтесь над ним сколько угодно… Но эти женщины и дети они же не причинили вам никакого вреда. Пощадите их ради всего святого… ради вашего Бога, которому молимся и мы! Пощадите, умоляю вас! — Осталось три минуты! — прервал его майор. — Вы теряете понапрасну драгоценное время, милейший: приказ королевы исполняется беспрекословно. — Не может быть, чтобы ваша королева приказала истреблять людей! Она ведь женщина, она — мать. Сжальтесь же над нашими женами, сжальтесь над детьми!.. Никогда еще я не склонял головы перед человеком и если и преклонял колени, то только перед Богом… А вас умоляю на коленях! Заклинаю вас всем, что у вас есть дорогого на свете, вашей честью солдата, сжальтесь, сжальтесь! И благородный старец, решившийся ради спасения семьи на это величайшее унижение, тяжело упал на колени, простирая к майору дрожащие руки. Из его потухших глаз брызнули слезы и заструились по седой бороде. Несколько солдат, сердца которых еще не совсем очерствели от грабежей и насилия, отвернулись, чтобы скрыть свое волнение. У остальных это зрелище вызвало взрыв мерзкого смеха. Майор молчал. С непринужденностью баловня судьбы он высвободил ногу из левого стремени, подле которого стоял на коленях старик, и нанес горемыке страшный удар сапогом по лицу. Искалеченный старец свалился подле трупика младенца. Из его рассеченных ударом губ и носа хлынула кровь. Двор огласился негодующими и скорбными воплями женщин: — Проклятые!.. Палачи!.. Убийцы!.. А Колвилл хохотал, полагая, видно, что выкинул отличную штуку. Потом, снова взглянув на часы и небрежно опуская их в карман, заметил: — Ну, три минуты уже истекли. Минутой больше или меньше — какое это имело значение для несчастных, которые знали, что все мгновения их жизни уже сочтены. Женщины вновь окружили улан. Бледные, трепещущие от гнева они поносили солдат, грозили им своими слабыми кулаками, порывались даже их бить. Солдафоны отвечали громким гоготом, ругательствами и плоскими казарменными шуточками. — Поднять коней! — скомандовал Колвилл. — Гип-гип… ур-ра! — заорали уланы, пришпоривая лошадей. И хорошо выдрессированные животные ринулись на толпу сокрушенных горем женщин. Смятение охватило бедняжек. Одни ползли по земле, изувеченные железными подковами разгорячившихся скакунов, другие бежали по двору, стараясь спасти исходивших криком детей. — Отстегнуть пики!.. — скомандовал Колвилл, обнажив свою шашку. — А ну-ка, мальчики, подколите мне всех этих маток вместе с их поросятами! Что за великолепная игра — «охота на кабана»! Будет о чем вспомнить! Повинуясь гнусному приказу, уланы взяли пики наперевес и бросились на женщин с криками: — Ур-ра!.. Ур-ра!.. Подколем свинью! Подколем свинью! К старцу вернулось сознание. Он с трудом поднялся. Его ноги дрожали и подкашивались, лицо было окровавлено, изо рта текла алая струйка. Слабеющим уже голосом он бросил в лицо убийцам: — Подлецы, будьте вы прокляты! Колвилл взмахнул шашкой, и тяжелое лезвие со свистом резака обрушилось на голову старца и раскроило ее до самого рта. — Черт возьми! Ну и ручища у вас, майор! — восхищенно воскликнул лейтенант, ехавший рядом со своим командиром. — Да и лезвие не из плохих, милейший, — ответил майор, явно польщенный похвалой. Кавалеристы яростно преследовали исколотых пиками женщин. Опьянение кровью, от которой подчас хмелеют сильнее, чем от вина, туманило их рассудок и толкало на возмутительные по своей свирепости поступки. Одной из первых упала прародительница. Ее грудь раскроил целый пучок пик, вонзившихся одновременно и сбивших старую женщину с ног. Маленькая белокурая девочка, служившая поводырем своему дедушке, была буквально вздернута сержантом на пику. Резким рывком копья назад изувер сбросил малютку на землю, где она продолжала биться в предсмертных муках. Женщины падали одна за другой, истерзанные умелыми руками опытных палачей, отлично знавших, как наносить удары, от которых неизбежно погибают, но не сразу, а лишь после страшных мучений. Вскоре с женщинами было покончено: некоторые умерли, остальные находились при последнем издыхании. Кони то и дело спотыкались об их окровавленные тела, валявшиеся по всему двору. Теперь пришел черед нескольких обезумевших от страха ребят. — Ур-ра… Подколем свинью! Новый бросок бандитов. Последний. Дети убиты. Истребление завершено. Но неужели злодейство так и останется безнаказанным? Неужели не явятся мстители? Вложив в ножны шашку, Колвилл приказал трубить сбор. Уланы быстро выстроились по взводам и замерли в ожидании распоряжения, содержание которого они предугадывали. — А теперь, мальчики, — обратился к ним майор, — позабавьтесь иллюминацией. Подпалите-ка все эти лачуги. Исполнять! Убийства, потом поджог — в глазах озверелых лиходеев это вполне естественный ход вещей. И, чтобы участвовать в потехе, во дворе собрался весь отряд: англичане настолько были уверены в своей безопасности, что не выставили даже дозорных. — Ура! Да здравствует майор! — заорал сержант. — Действуйте, мальчики, действуйте!.. — начал было командир улан. Но дружный залп прервал его речь. Колвилл подпрыгнул в седле, закачался и грузно рухнул с коня, ударившись головой о землю. Это явились мстители и защитники обездоленных, но, увы, уже после свершившейся трагедии! За первым залпом последовал второй, длинный, прерывистый, а затем — и третий. Опытное ухо солдат тотчас же распознало в убийственной пальбе мастерство отборных стрелков. Уланы похолодели от ужаса. Их строй, поредевший от града пуль, мгновенно распался. Взбесившиеся кони опрокидывали всадников. Охваченные ужасом, уланы попытались обратиться в бегство, но было поздно: над стеной фермы показался длинный ряд маузеровских винтовок. И молодой негодующий, пылкий голос крикнул: — Ни один из этих бандитов не должен уйти! Огонь!.. Снова раздалась частая, беспощадная пальба. Стреляли более сотни буров, этих чудесных снайперов, о которых можно было смело сказать, что ни одна их пуля не пропадала даром, каждая несла смерть врагу. Несколько каким-то чудом уцелевших улан метнулись в панике к воротам, но наткнулись там на тройной ряд винтовок. — Огонь! — прозвучал тот же звеневший от гнева голос. Снова загремели выстрелы, и упали, сраженные наповал, последние из оставшихся в живых уланы. Изуверы вместе со своим главарем, майором Колвиллом, были уничтожены все до одного. Во двор фермы ворвались десятка два молодых людей, вернее — подростков, составлявших авангард отряда, в то время как основные силы из осторожности расположились в поле. Юные бойцы направились к тому месту, где уланский эскадрон был застигнут огнем первого залпа. Майор еще бился в агонии подле мертвых тел сержанта и двух трубачей. Раненный в грудь, он задыхался, харкал кровью и, разумеется, нещадно ругался. Узнав командира бурского авангарда, Колвилл прохрипел сквозь предсмертную икоту: — Сорвиголова… будь ты проклят! — Да, майор Колвилл, это я! И, как видите, я сдержал слово и заставил вас заплатить кровью своей за смерть Давида Поттера… — …Моего отца, которого убил ты, подлая собака! — прервал Жана бледный от гнева Поль, приближаясь к врагу, ответившему ему полным ненависти взглядом. — Остальные неправедные судьи, приговорившие к смерти Давида Поттера, — продолжал Сорвиголова, — уже погибли от нашей руки. Полковник герцог Ричмондский, капитаны Рассел, Харден и Адамс — все они давно уже на том свете. Да и вам осталось жить всего лишь несколько минут. — Как знать, иногда возвращаются… очень издалека, — произнес с иронией Колвилл, бравируя даже на смертном одре. Возможно, впрочем, что злодей рассчитывал при этом на великодушие своего благородного и всегда сострадательного к раненым противника. — Увидим! — молвил глухо Поль. И хладнокровно, без малейшего колебания, приставил дуло ружья к виску майора и спустил курок. — «Есть мертвецы, которых надо убивать!» — продекламировал в заключение Фанфан, весьма кстати вспомнив этот трагический стих. — Тревога! Англичане!.. — послышались крики. Молокососы стремительно покинули ферму, не успев предать земле тела невинных жертв английских захватчиков. Присоединившись к отряду, они вскочили на коней и вместе со всеми отступили перед неприятельскими войсками, темными линиями застлавшими горизонт.
ГЛАВА 9
Мрачное предчувствие. — Отступление. — Задание чрезвычайной важности. — Переправа через Вааль. — Поль и Патрик. — Упорное сопротивление. — Фермопилы. — Шквальный огонь. — Последний подвиг. — Капитан Жюно. — В преддверии смерти.Незачем приписывать чуду неожиданное, хотя и запоздалое появление молокососов на ферме Блесбукфонтейн. Отважные юнцы производили в этих местах точно такую же разведку для маленького войска генерала Бота, какую совершали уланы для армии старого маршала. Так что встреча обоих отрядов была вполне закономерна. С военной точки зрения, рейд бурского отряда удался на славу, поскольку результатом его явились уничтожение эскадрона улан и обнаружение приближения английской армии. Теперь, вовремя предупрежденный об опасности, генерал Бота сумеет принять срочные и необходимые меры. Вылазка оказалась успешной и с точки зрения личных интересов отдельных ее участников: майор Колвилл, ненавистный командир улан, был убит, а Давид Поттер отомщен. Так что сыну казненного бура, казалось бы, следовало только радоваться от сознания исполненного долга. А между тем его терзала какая-то неизъяснимая печаль. Молокососы мчались карьером к Ваалю, спеша доложить командующему о передвижении неприятеля. Поль, опустив голову на грудь, молча скакал между Фанфаном и Сорвиголовой. Гаврош с улицы Гренета, находивший, что все идет отлично, с беспечностью парижанина насвистывал веселый марш юных героев. Жан, часто оборачиваясь, обозревал горизонт. На его глазах отряды противника все более растекались по степи. — Честное слово, дело, видать, предстоит горячее, — пробормотал он. Поль, по-прежнему погруженный в молчание, казался ко всему равнодушным. — Что с тобой? — обратился к нему Сорвиголова, удивленный состоянием друга. — Проснись, старина! Скоро бой. Мальчик вздрогнул и окинул капитана необычным для него взглядом, полным грусти и нежности. — Да, скоро бой, — ответил он. — Последний бой. — Да ты что, в своем уме? — возмутился командир молокососов. — Да, последний, — мрачно повторил юный бур. — По крайней мере, для меня. — Это еще что за бред?! — воскликнул Жан. — Скажи лучше — предчувствие, — возразил Поль. — Где-то глубоко-глубоко в душе я чувствую, близок мой конец. Не дышать уж мне воздухом вельдта дорогой отчизны, каждую пядь которой мы защищаем, не щадя жизни своей, не скакать на коне рядом с тобой, дорогой мой француз, любимый мой побратим. Никогда не увижу я больше родных и не смогу порадоваться победе вместе со всем народом… — Полно, дорогой мой мальчик! Не говори так, умоляю, ты надрываешь мне сердце! — прервал его Сорвиголова. — В конце концов, все это вздор. Разве можно верить в предчувствия! — И все же я знаю, меня убьют, — уныло ответил подросток. — Пока был жив хоть один из палачей моего отца, я никогда и не думал об этом. А теперь все кончено, пойми меня. — Нет, нет и нет! Говорю тебе — нет! — убеждал Жан. — Я не боюсь смерти, давно уже привык глядеть ей в глаза. И жизнь мне жаль только потому, что после моей смерти защитники отечества недосчитаются одного ружья, — сказал Поль и с наивной гордостью добавил: — И неплохого!.. — …Которое к тому же разнесет вдребезги еще не один английский череп, — попытался Фанфан внести веселую нотку в разговор, принявший столь мрачное направление. — А потом, право, не такая уж ты, брат, развалина, чтобы помышлять о вечном покое. Однако шутка парижанина не имела успеха и прозвучала вхолостую, как подмоченная петарда[130]. Ничего не ответив, Поль посмотрел на него с таким грустным и мягким выражением своих больших, красивых глаз, что у Фанфана екнуло сердце. Вдали показались одинокие всадники — конные патрули генерала Бота. Приметив молокососов, они сомкнулись и помчались известить сгоравшего от нетерпения командующего о возвращении разведчиков. Положение партизан становилось день ото дня серьезнее. Они еще не были побеждены в буквальном смысле этого слова — бурское оружие еще не знало поражения в открытой схватке, но отважные воины вынуждены были все время отступать под натиском превосходящих сил противника. А результат получался тот же, что и при поражении в бою: буры теряли свою территорию. Жестокая печаль терзала сердце генерала при одной лишь мысли, что ему придется оставить врагу Оранжевую Республику и позволить англичанам вторгнуться в братский Трансвааль. Как хотелось бы полководцу избежать отступления, необходимость которого диктовалась сложившейся обстановкой! Бота отдавал себе отчет в том, что отход бурского войска будет воспринят всем миром как блестящая победа английского оружия. Он предвидел, какое тяжелое впечатление произведет на бурских патриотов уход его армии из Оранжевой Республики и как подбодрит неприятеля. И в глубине души генерал надеялся все же избежать этого фатального исхода. Однако сообщенные командиром молокососов известия разрушили последние его иллюзии. Грозный противник надвигался неудержимо, как морской вал. Надо было уходить за реку, в Трансвааль. И немедленно! — Отступать! — мрачно скомандовал Бота. С болью в сердце послал он обоз к броду. Но, к несчастью, как раз в это время Вааль вышел из берегов, и поднявшийся за каких-нибудь несколько часов уровень воды в реке значительно затруднил переправу. Не слишком ли долго тянули с решением? Медленно двинулись первые вереницы повозок. Огромные быки все глубже уходили в воду — сначала до живота, потом до боков — и наконец погрузились по самую шею. Их ноздри раздувались от напряжения, а из пенившихся волн цвета охры виднелись только мощные рога да лоснившиеся морды. Посередине потока сильные животные попали в водоворот и потеряли почву под ногами. Порядок нарушился, прямая вереница повозок перекосилась. Еще мгновение — и она распадется. У остолбенелых от ужаса буров вырвался крик отчаяния. Бота уже считал свой обоз погибшим. Но тревога оказалась напрасной. Головные быки скоро снова нащупали твердую опору, выровняли шаг, приналегли и потянули с еще большей силой и усердием, чем прежде. Катастрофа, которая нанесла бы огромный ущерб борьбе за независимость, на сей раз была отвращена. Переправа через Вааль оказалась возможной. Но эта операция, достаточно сложная даже в обычных условиях, теперь, благодаря проклятому наводнению, грозила отнять уйму времени. А враг приближался с невероятной быстротой. Действительно, с решением медлили слишком долго! Чтобы обеспечить переправу, надо было задержать продвижение неприятельской армии, что обошлось бы бурам в сотни драгоценных жизней. Взгляд полководца упал на молокососов, пони которых еще дымились от бешеной скачки. — Капитан Сорвиголова, — решительным тоном, пытаясь прикрыть им свое волнение, произнес Бота, — мне нужны люди, готовые на все… Да, — продолжал он, — люди, готовые биться до последней капли крови, до последнего вздоха. — И вы рассчитываете на меня, генерал? Так я вас понял? — не моргнув глазом, ответил Жан. — Да, мой друг. Вы и так уже много сделали для защиты нашей родины. Не раз жертвовали собой, проливали за нас свою кровь. И все же я вынужден снова просить… — Вам нужна моя жизнь? — прервал его Сорвиголова. — Она принадлежит вам. Возьмите ее, генерал! Приказывайте! Я готов на все. — Вы — храбрец! Я не встречал еще человека столь бескорыстного и отважного… Видите позицию, что повыше брода? — Да, генерал. Позиция превосходная. Весьма удобная для обороны. — Даю вам пятьсот человек. Продержитесь с ними часа два? — Достаточно будет и двухсот бойцов с пятьюстами патронами на каждое ружье. — Отлично! Благодарю вас, капитан, от имени моей Родины! А теперь обнимите меня. И, по-братски обласкав Жана, молодой генерал сказал: — Прощайте!.. Подберите себе две сотни товарищей и спасите нашу армию. Сорвиголова тотчас же стал вызывать добровольцев, желавших присоединиться к его небольшому отряду из сорока молокососов. Откликнулась тысяча человек. Буры любили командира юных разведчиков, верили в него и пошли бы за ним хоть в самое пекло. Сорвиголова быстро отобрал нужных ему людей, не обращая внимания на ворчание оставленных, выстроил пополнение, приказал наполнить фляги и, получив патроны, скомандовал: — Вперед! Через десять минут арьергард армии Бота уже занимал позицию, господствовавшую одновременно и над бродом и над степью. Оборонительный рубеж, проходивший по скалистым взгорьям и пролегшей между ними горловиной извилистого ущелья шириной в шестьдесят метров, был неприступен с флангов, но открыт для нападения со стороны равнины. Чтобы затруднить подходы к расселине, следовало возвести земляные укрепления, однако для этого не имелось ни времени, ни инструмента. И все же Сорвиголова, снова прибегнув к динамиту, нашел способ укрыть насколько возможно бойцов, расположившихся непосредственно у входа в каменную щель, и по его приказу прямо напротив горного прохода наскоро закопали штук пятьдесят патронов с взрывчаткой. Отряд был разбит на три равные группы. Одну разместили на правом фланге, другую — на левом, а оставшуюся — в центре, перед самой тесниной. Вскоре показались головные подразделения английского авангарда — несколько отрядов улан и драгун, мчавшихся во весь опор. Буры, засевшие среди скал, устроили им достойную встречу, заметно охладившую пыл врага: из строя сразу же были выведены до тридцати всадников вместе с конями. Само по себе неплохое начало дало защитникам выигрыш в две минуты. Внезапно дрогнула земля, взвились густые клубы белого дыма, взметнулись вихри красного песка и обломки скальных пород. Взрывы следовали один за другим, а когда умолкли, подступ к горному проходу был прегражден сплошной цепью выемок-окопов со своеобразными брустверами[131] из выброшенных динамитом камней и почвы. В этих укрытиях тотчас же разместились решившие стоять насмерть отважные герои: Сорвиголова с отрядом в шестьдесят стрелков, среди которых были Фанфан, Поль Поттер, доктор Тромп, Папаша-переводчик, Элиас, Иохем и другие молокососы, неразлучные его товарищи на протяжении всех этих долгих дней войны. Бойцы сжались и тесно прильнули к земле. Единственное, что выдавало их присутствие, — это выставленные наружу дула винтовок. Командующий английским авангардом решил одним сильным натиском захватить позицию, защищаемую столь малочисленным отрядом. Проиграли атаку. Грянуло солдатское «ура». Вихрем помчались драгуны. — Залп! — скомандовал Сорвиголова, когда всадники были на расстоянии четырехсот метров. Буры выполнили приказ с удивительной четкостью: в одно и то же мгновение справа, слева, в центре раздался сухой треск выстрелов. Секунда затишья — и снова: — Залп! На земле корчились в предсмертных судорогах и катались от боли сраженные на полном скаку люди и кони. — Вперед! Вперед!.. — командовали офицеры. Оглушительно ревели горны, солдаты орали, подбадривая себя криками. — Беглый огонь! — приказал Сорвиголова. Ошеломляющая пальба в один миг скосила половину всадников. Трудно было поверить, чтобы такой сокрушительный отпор могла дать какая-то горстка воинов, пусть и самых что ни на есть решительных, смелых и дисциплинированных. Однако драгунский полк, сильно поредевший, расстроенный, истекавший кровью, домчался все же до укрытий, занятых непоколебимыми, как скала, молокососами. Кавалеристы топтали бойцов конями, с ходу расстреливали из винтовок, и все — без видимого успеха: их противники держались стойко, не отступая ни на шаг и сметая один за другим первые ряды англичан, тогда как перекрестный огонь с флангов разил последние ряды. Только один взвод — десятка два чудом уцелевших солдат с юным лейтенантом на великолепном коне — прорвался сквозь цепь засевших в окопах героев, но тотчас оказался отрезан от своих. Сорвиголова и Поль Поттер узнали так запомнившегося им офицера, хотя на нем и не было теперь живописной шотландской формы. — Патрик Леннокс! — вскричал Жан. — Сын убийцы! — прорычал Поль с неукротимой ненавистью. Просвистели пули, и из всего отряда остался в живых лишь командир. Потеряв убитого наповал коня, Патрик повернулся лицом к врагам и заметил Поля, целившегося в него с расстояния в десять шагов. С молниеносной быстротой лейтенант разрядил в бура свой револьвер, но и тот успел спустить курок ружья. Два выстрела слились воедино. Выронив винтовку, Поль прижал руку к сердцу. — Умираю… — прошептал он. — Я это знал… Захрипел и зашатался Патрик. Из простреленной навылет груди фонтаном забила алая кровь. Однако и перед лицом смерти ярость их не угасла, глаза сверкали вызовом, с губ, покрытых розовой пеной, срывались проклятья: возведенная войной стена взаимного ожесточения по-прежнему возвышалась между ними неодолимой громадой. Сорвиголова наблюдал сквозь завесу дыма и огня эту полную драматизма сцену, но оставить свой пост и броситься между врагами не смог. Сойдясь, молодые люди вцепились друг другу в горло. Каждый старался отнять у противника еще остававшиеся немногие минуты жизни. И, даже упав и покатившись по земле, хватки своей они не ослабили. — Будь ты проклят, английский пес! — с трудом выдавил из себя один. — Бандит!.. Убийца!.. — прошептал другой. Последние силы покинули их. Взор помутился, руки закоченели. И все же умирающим удалось судорожным движением вскинуть головы. — Да здравствует королева!.. Да здравствует Англия с ее новой колонией! — промолвил угасающим голосом Патрик. — Да здравствует независимость!.. Да здравствуют наши свободные республики! — на последнем дыхании произнес юный бур. И обоих не стало. В сражении между тем наступило временное затишье. Огонь прекратился. Потери буров оказались сравнительно невелики, но весьма ощутимы для небольшого по численности отряда. Противник все же понес огромный урон. Все подступы к горному проходу были завалены телами убитых и раненых и трупами лошадей. Устрашенный этим зрелищем, командующий решил отказаться от лобовой атаки. Шутка сказать — из строя выбыла половина его войска! Англичане выдвинули вперед две батареи и направили эскадроны в обход обоих флангов защитников ущелья, чтобы ударить по ним с тыла. Таким образом, они теряли драгоценное время, чего как раз и добивался Сорвиголова. Прошел час. Если бы молокососы сумели продержаться еще шестьдесят минут, армия генерала Бота была бы спасена. Но возможно ли это? Фанфан, лежа в окопе между командиром и доктором, услышал последние возгласы Поля и Патрика и, обернувшись, увидел их недвижные тела. — Боже!.. Поль убит! — вырвалось у него. Две крупные слезы, которых он и не пытался сдержать, скатились по щекам парижанина. Подросток рванулся было к своему другу, но Сорвиголова, подавив подступавшие к горлу рыдания, одернул его: — Ни с места! Рисковать ты не имеешь права! — Верно… Бедный Поль! — Да! Но минутой раньше, минутой позже наступит и наш черед… Жан был прав: после недолгого перерыва вновь вспыхнула битва — еще более ожесточенная. Английский командующий стремился во что бы то ни стало сломить сопротивление бурского арьергарда, оградившего от него армию генерала Бота, и не собирался останавливаться ни перед какими жертвами, лишь бы уничтожить эту горстку отважных людей. На защитников африканских Фермопил[132], бросивших вызов целому войску, обрушился новый шквал орудийного и ружейного огня. Стоило буру чуть приподняться, чтобы выстрелить, как тысячи пуль навсегда пригвождали его к земле. С замиранием сердца замечал Сорвиголова, что с каждой минутой все реже взвивались светлые дымки, по которым судил он о численности оставшихся в живых товарищей. Сколько их еще у него — сорок, пятьдесят, шестьдесят? Но буры не сдавались. И тот из них, кого пуля пока пощадила, высунувшись на миг из окопчика, бил в плотную массу людей и коней, лавиной надвигавшуюся на них. Тяжело раненный, весь в крови, прибежал гонец генерала Бота и рухнул возле командира молокососов. — Что слышно? — спросил Сорвиголова. Подъем воды задерживает переправу… Генерал умоляет вас продержаться еще хоть четверть часа. — Продержимся! Бойцы доставали последние патроны. Теперь, не считая командира, их было двадцать стрелков: остальные, в том числе и на флангах, погибли. Драгуны, спешившись, приближались медленно и осторожно. Минуты тянулись, будто часы… Свалился убитый наповал Папаша-переводчик. Умер, даже не вскрикнув, пораженный в лоб доктор Тромп, доказав тем самым, что, увы, далеко не всякая пуля бывает гуманной. Сорвиголова, Фанфан и другие израненные, обагренные кровью воины поднялись во весь рост. Десять последних солдат и десять последних патронов! — Сдавайтесь! Сдавайтесь!.. — закричали англичане. Вместо ответа Фанфан засвистел марш молокососов, а Сорвиголова скомандовал перед смертью: — Огонь! Вслед за слабым залпом послышался дружный хор звонких голосов: — Да здравствует свобода! Слившиеся в сплошной грохот звуки ружейных выстрелов громовым эхом прокатились по всему ущелью. Юные герои, сраженные вражескими пулями, все до одного пали на боевом посту. Путь через ущелье был свободен. Но отряд молокососов не зря принес себя в жертву: армия генерала Бота была спасена. С опаской озираясь по сторонам, победители продвигались к горному проходу. Впереди, ведя на поводу коней, шли драгуны. За ними следовал конный отряд рослых, дородных волонтеров в фетровых шляпах с приподнятым бортом. Возглавлявший их капитан с грустью взирал на картину кровавого побоища. Внезапно при виде двух недвижных тел из груди его вырвался возглас отчаяния: — Сорвиголова!.. Мой побратим, маленький Жан! То был капитан Франсуа Жюно, которого превратности войны вторично свели с юным другом. Нагнувшись, он приподнял командира разведчиков. При виде остекленевших глаз, посиневших губ и мертвенно-бледного лица у канадца замерло сердце. — Нет, — шептал он, — маленький Жан не погиб!.. Не мог погибнуть!.. А как товарищ его? Осмотрев Фанфана, добряк убедился, что тот еще дышит. — Попробуем же спасти их обоих!.. Капитан Жюно взвалил Жана себе на плечи. — Бери другого и следуй за мной, — приказал он одному из солдат. Тот легко поднял Фанфана, и канадцы зашагали вдоль ущелья, унося юношей с поля боя, где их неминуемо раздавили бы лошадиные копыта и колеса пушек. Выйдя из расселины, Жюно с помощником опустили молокососов на землю и стали поджидать полевой госпиталь. Почти тотчас же откуда-то вынырнул всадник с повязкой Красного Креста на рукаве. — Доктор Дуглас! — воскликнул капитан Жюно. — Какая удача! — Капитан Жюно! Чем могу быть полезен, друг мой? — На вас, доктор, вся надежда… Умоляю во имя нашей дружбы!.. — Говорите же, говорите скорей, в чем дело, дорогой капитан! Можете не сомневаться… — Я и не сомневаюсь. Видите молодого человека? Это Сорвиголова, знаменитый командир молокососов. А другой — его лейтенант, Фанфан. — Дети, настоящие дети! — тихо промолвил доктор. — Но герои! — Герои! — согласился Дуглас. — Так вот что, доктор, Сорвиголова — француз. Я встретился с ним в Канаде и полюбил его, словно сына. Душа обрывается, как подумаю, что он может умереть! — Увы, бедный мальчик, кажется, уже скончался, — сказал доктор. — А впрочем, посмотрим. — И, скорее для очистки совести, врач прильнул ухом к груди Жана. — Подумать только, сердце бьется! Хотя и слабо, едва-едва… — Значит, жив?! — не помня себя от радости, вскричал капитан Жюно. — Какое счастье!.. — Погодите радоваться, жизнь его на волоске. — О нет, доктор, он выкарабкается! Ни разу не встречал другого такого молодца, как Жан. Да и ваше искусство врача совершило уже не одно чудо… — Клянусь, я сделаю все, чтобы спасти этих мальчиков! — Благодарю вас, доктор! Отныне я ваш до гробовой доски! Порядочному человеку вовек не забыть той услуги, которую оказываете вы мне сейчас.
Вместо эпилога
«Кейптаун, 20 октября 1900 года
Дорогая сестра! Хотя и не без труда, но из объятий смерти я вырвался. Вне опасности и Фанфан, которому также пришлось нелегко. Одна пуля в животе, другая в печени, три или четыре — уже не помню точно — угодили в ноги! Но парижанин с улицы Гренета живуч как кошка. А я хоть родом и не оттуда, но все же из Парижа, и, следовательно, меня тоже не так просто убить. Представь себе только: одна пуля попала мне в левое бедро, другая — в руку, тоже в левую, третья — в правую ногу, четвертая вторично продырявила легкое, да еще возле самого сердца. Да, сестренка, когда мой друг Франсуа Жюно подобрал нас обоих, дела наши были совсем плохи. Мы валялись на земле, как выброшенные на берег карпы. Этот добрейший канадец передал нас в искусные руки доктора Дугласа, которому мы и обязаны теперь жизнью. Врач — настоящий рыцарь, таких немного в английской армии. Он ухаживал за нами, словно родной брат, не жалея ни сил, ни времени, и, воскресив нас из мертвых, совершил подлинное чудо. Мы пробыли без памяти двое суток. А когда очнулись, увидели, что лежим рядом в тесной клетушке, пропахшей йодоформом и карболкой. Мне почудилось, что нас плавно несет куда-то. «Санитарный поезд», — подумал я. И не ошибся. Это был тот самый поезд, в котором я некогда сопровождал миссис Адамс к ее умирающему сыну. Доктор и вообще весь медицинский персонал трогательно заботились о нас. Наши товарищи по несчастью — опасно раненные английские солдаты — относились к нам по-дружески. Состав, как и во время первой моей поездки, перемещался той же поступью военного времени: то уверенно мчался в заданном направлении, то пятился назад, чтобы тут же снова рвануть вперед. Оба мы пребывали тогда в плачевном состоянии. Доктор то и дело появлялся у наших коек: менял повязки, очищал раны от гноя, измерял температуру и, отмечая что-то в своем блокноте, то сокрушенно покачивал головой, а то, наоборот, довольно ухмылялся. Добрая душа этот врач! Путешествие длилось долго, очень долго, но мы на это не жаловались: нам было хорошо! Мы всем своим существом наслаждались покоем, столь необходимым для нас после пережитого. Сознание того, что нас вернули к жизни, с которой мы простились было в Ваальском ущелье, преисполняло наши сердца радостным восторгом. Наконец, мы испытывали чувство гордости при мысли о том, что с честью выполнили свой гражданский и воинский долг в один из самых трудных периодов в истории борьбы двух маленьких южноафриканских республик за свою независимость. По прибытии в Кейптаун, на восьмой день пути, доктор Дуглас объявил нам, что теперь он окончательно готов поручиться за наше благополучное выздоровление. Врач перевез нас в больницу, где передал на попечение своего собрата по профессии, который пользует нас и поныне. Ты можешь, конечно, представить, как горячо благодарил я доктора Дугласа, когда он зашел к нам попрощаться! Перед уходом он предупредил, что для полной поправки нам потребуется длительный больничный режим. Я, разумеется, стал горячо с ним спорить, а Фанфан заворчал, как заправский наполеоновский генерал. Сама посуди: мы так мечтали вернуться как можно скорее в Трансвааль, чтобы собрать новый отряд молокососов и опять броситься в схватку! Невольно вырвавшееся у меня признание в наших планах рассмешило милейшего доктора. — Да вы же — пленники! — заметил он. — Что ж из того! Пленники бегут. — Дорогой Сорвиголова, — мягко сказал доктор, взяв меня за руку, — оставьте эту опасную игру. Поверьте, с вами говорит сейчас не англичанин, не патриот своей страны, а только врач и друг. Восемь месяцев вы вели тяжелую боевую жизнь, потребовавшую невероятного напряжения всех ваших физических и духовных сил. Вы были дважды опасно ранены, нервная система испытывала постоянно огромные нагрузки. — Мы слышали, будто современная пуля отличается гуманностью, — насмешливо произнес Фанфан. — Не слишком-то доверяйте этим толкам, — продолжал Дуглас. — Как бы там ни было, но эти пули вкупе с переутомлением так расшатали ваш организм, что вполне здоровыми людьми вы станете не раньше как через пять-шесть месяцев. А до тех пор, надеюсь, эта проклятая война окончится. Предсказания доброго доктора исполнились лишь наполовину: прошло уже четыре месяца после нашей последней встречи, и мы действительно почти поправились, но война вспыхнула с новой силой. Положение наше как пленников становится все более тягостным. Дело в том, что по мере нашего выздоровления милые друзья-англичане, по меткому выражению Фанфана, все туже «завинчивают» нас. И вот наконец так «завинтили» и установили за нами столь строгий надзор, что бегство практически невозможно. Но мы попытаемся! Хитрые англичане предложили нам свободу под честное слово, если мы не станем больше участвовать в войне. Благодарим покорно! Это значит быть своим собственным тюремщиком, изо дня в день расходовать всю свою бурную энергию только на то, чтобы подавлять в себе свое самое пылкое желание. Нет, мы не могли пойти на такое! И, не колеблясь ни секунды, решительно отказались. Ну а дальше, сама понимаешь, лазарет превратился в тюрьму. А так как больничная клетка кажется нашим стражам не вполне надежной, нам предстоит заманчивая перспектива недели через две отправиться на понтоны. А может быть, и на остров Цейлон или на Мыс Доброй Надежды. Но поживем — увидим… Какую же великую силу ощущает в себе человек, решивший жизнью своей пожертвовать во имя священной борьбы за свободу! Проще говоря, при первом же удобном случае мы постараемся удрать. И если при этом меня настигнет пуля, я буду знать, что умер как достойный сын Франции, чьи граждане не раз уже проливали свою кровь за слабых и угнетенных. Но я не погибну! Если предчувствие не обманывает меня, дорогая сестра, ты еще услышишь о своем брате, который более чем когда-либо горит желанием оправдать свое прозвище — капитан Сорвиголова».
Конец






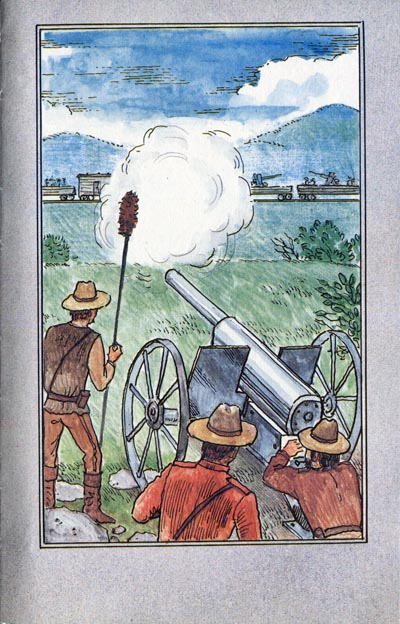









ПЕРВЫЙ АНТИВОЕННЫЙ РОМАН XX ВЕКА
Луи Буссенар написал свой знаменитый роман «Капитан Сорвиголова» в самом начале нашего столетия. К тому времени он был уже всемирно известным автором приключенческих и научно-фантастических романов. Этот талантливый продолжатель традиции Гюстава Эмара, Фенимора Купера и Жюля Верна отличался необыкновенной литературной плодовитостью. До конца 1890-х годов из-под его перавыходили преимущественно романы-путешествия, героями которых были отважные искатели приключений и добыватели сокровищ. Своим успехом у читателей, особенно у юношества, эти произведения обязаны писательскому мастерству Буссенара — сочинителя увлекательных историй, популяризатора научных знаний о далеких землях и странах, об экзотической флоре и фауне. Луи Буссенар симпатизировал свободолюбивым, сильным и решительным людям, умеющим, когда это необходимо, «все поставить на карту». Таковы неутомимые путешественники, открывающие тайны шести континентов. Таковы и новые его герои — борцы за свободу Кубы и Южной Африки, пришедшие к читателю со страниц романов «Остров в огне» (1898) и «Капитан Сорвиголова» (1901). Эти остросюжетные произведения уже нельзя отнести исключительно к жанру приключенческого романа. Герои Буссенара, как и прежде, попадают в смертельно опасные «истории», но за совершаемые ими поступки отвечают уже не только перед собственной совестью, но и перед товарищами по оружию, сражающимися за независимость своей родины. Героика, романтика с заметной долей авантюризма и другие атрибуты героико-приключенческого жанра — все это присутствует и в новых романах Буссенара, в которых обнаруживаются также черты исторической хроники и даже политического памфлета (о чем позднее). Характерно, что главный герой романа «Капитан Сорвиголова» — юный Жан Грандье — уже был известен читателям Буссенара: этот удачливый золотоискатель из романа «Ледяной ад» (1895). Благодаря золоту Клондайка Жану удается добраться до Южной Африки, сформировать интернациональный отряд и обеспечить его всем необходимым. В романе, воссоздающем важнейшие события англо-бурской войны, которую называют «первой грязной войной XX века», наряду с вымышленными персонажами действуют и исторические лица. Роман «Капитан Сорвиголова» Буссенар писал по горячим следам войны, которая еще продолжалась. О ходе боевых действий ежедневно сообщали газеты, имена героев были у всех на устах. Дети далекой России играли в «англичан и буров», и «буры», конечно, всегда побеждали. Тогда же родилась знаменитая песня «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…». В 1900–1901 годах от граждан России на имя государя поступило более одиннадцати тысяч писем, в которых выражалась солидарность с борьбой буров. Лев Толстой назвал английскую кампанию в Южной Африке «ужасной войной», преступный характер которой очевиден даже гимназистам. Много лет прошло с тех пор, и для читателей конца XX века, думается, не будет лишним наш небольшой исторический комментарий.* * *
Столкновение буров, потомков первых колонизаторов Южной Африки, с новыми колонизаторами, англичанами, не прекращались на протяжении всего XIX века, в начале которого Англия захватила голландскую Капскую колонию, населенную бурами. Следующим этапом этой второй «столетней войны» была борьба Лондона с бурскими государствами — Оранжевой Республикой и Республикой Трансвааль. У буров было несомненное моральное преимущество перед англичанами: они родились на этой земле, считали ее своей отчизной, а о Голландии, Франции или Саксонии, где проживали их предки, имели весьма смутные представления. Но мораль буров была весьма своеобразной: отстаивая свои права на Южную Африку, они отказывали в этом коренным жителям — племенам негроидной расы, составлявшим подавляющее большинство населения бурских республик. Буры вели себя здесь как единственные хозяева, захватывали земли африканцев и всюду использовали их подневольный труд. Конституции обеих республик были откровенно расистскими: избирательное право только для белых — не для «цветных или мулатов до десятого колена». Кстати сказать, новейшие исследователи полагают, что предки африканеров (буров) настолько часто вступали в смешанные браки, что не может быть и речи о «чистоте крови», на которую и поныне претендуют южноафриканские расисты. В 1877 году Англия предприняла первую попытку захвата Трансвааля, объявив его «навеки английской территорией». Однако успешные военные действия буров вынудили Лондон заключить в 1880-е годы перемирие и признать независимость республики. Между тем, английские предприниматели заметно активизировали свою экономическую деятельность в Трансваале и Оранжевой Республике. К середине 1890-х уитлендерам — европейцам, главным образом англичанам, переселившимся в бурские республики в последние десятилетия XIX века, — принадлежало более половины бывших бурских земель. К тому времени в Южной Африке были открыты богатейшие месторождения золота и алмазов, рядом с которыми быстро росли города Кимберли и Йоханнесбург. Президентами золотодобывающих компаний и владельцами алмазных приисков стали англичане. Большинство уитлендеров поддерживали идею колонизации бурских республик, к осуществлению которой вскоре приступили политики — премьер-министр Великобритании Роберт Солсбери и министр колоний Джозеф Чемберлен, а также премьер-министр Капской колонии Сесил Родс — крупнейший бизнесмен, основатель многих британских владений в Африке. В конце декабря 1895 года английский вооруженный отряд во главе с Линдером Джемсоном совершил новую попытку захвата власти в Трансваале. Провал этой авантюры, задуманной Родсом и проводившейся явно с ведома правительства Солсбери, укрепил лондонских политиков в мнении, что нужно готовиться к большой войне. Поначалу они утверждали, что якобы главная цель южноафриканской политики Англии — поддержка уитлендеров, которым буры отказывали в предоставлении избирательного права. Буры понимали, что войны не избежать. В 1896 году Трансвааль и Оранжевая Республика заключили между собой оборонительный военный союз. Незадолго до начала боевых действий президент Южно-Африканской Республики Паулус Крюгер обратился к Великобритании с предложением немедленно отвести английские войска от бурских границ и отозвать назад все воинские подразделения, направленные в Южную Африку, решив имеющиеся спорные вопросы за столом переговоров. Правительство Солсбери отказалось обсуждать эти законные требования буров. Не прислушалось оно и к мнению одного из умнейших людей Англии того времени, Артура Конан Дойла, который, осудив давление на Трансвааль, призвал Лондон к «сдержанности». Войска двух бурских республик во главе с коммандант-генералами Петрусом Жубером и Питом Кронье сосредоточились у границ этих государств. Зная, что война неотвратима, и надеясь ограничить боевые действия территорией противника, 11 октября 1899 года, в пять часов пополудни, как только истек трехдневный срок ультиматума президента Крюгера, буры первыми перешли границу. Благодаря успешным военным операциям, осуществленным бурами в начальный период войны, были блокированы стратегически важные объекты — города Ледисмит, Кимберли и Мафекинг. Английские дивизии терпели одно поражение за другим, допуская серьезные тактические ошибки. Обличение «старой стратегии старых генералов» было излюбленной темой британской прессы того времени. Редьярд Киплинг, огорченный неудачами английского оружия, писал: «Это была война глупцов». Примечателен эпизод, относящийся к первым неделям войны: в середине ноября отряд буров под командованием Луиса Боты взял в плен корреспондента «Морнинг пост» Уинстона Черчилля — премьер-министра Великобритании в годы второй мировой войны. Черчилль, бежав из плена, признавался впоследствии, что буры были «самыми добросердечными врагами», с которыми ему когда-либо приходилось иметь дело. Но это — позднее признание, а в годы англо-бурской войны лондонская пресса создавала миф о «звериных инстинктах непросвещенных буров», о «белых дикарях». Бывало и так, что мобильные, выносливые, отлично ориентировавшиеся на местности бурские отряды, руководимые талантливыми военачальниками, вызывали искреннее восхищение у своих врагов. У. Черчилль в одном из своих репортажей из района боевых действий заметил, что один вооруженный бур «стоит трех-четырех солдат регулярной армии». Попытка английских войск под командованием Редверса Буллера перейти в наступление окончилась неудачей (сражение у Колензо 15 декабря 1899 года). В 20-х числах января 1900 года бурский отряд во главе с Л. Ботой разбил при Спионскопе войско генерала Чарлза Уоррена. Трижды англичане пытались прорвать блокаду Ледисмита и каждый раз терпели поражение, неся большие потери. В том же январе 1900 года королева Виктория в тронной речи призвала английских солдат «вести войну до победного конца для сохранения Британской империи и упрочения господства Англии в Южной Африке». Правительство Солсбери вынашивало планы создания владений от долины Нила до Мыса Доброй Надежды. Буры сохраняли в своих руках военную инициативу до февраля 1900 года, однако в осажденные города так и не вошли. Каждую неделю в Южную Африку прибывали новые подразделения британских войск. Против нескольких десятков тысяч защитников Трансвааля и Оранжевой Республики выступило более 220 тысяч солдат и офицеров армии ее величества. В середине февраля 1900 года была снята осада Кимберли. Английские дивизии во главе с новым главнокомандующим фельдмаршалом Фредериком Робертсом перешли границу Оранжевой Республики и взяли Якобсдаль — главную базу отряда П. Кронье, снабжавшую буров боеприпасами и продовольствием. Коммандант-генерал вынужден был отдать приказ об отступлении от Магерсфонтейна в направлении к Блумфонтейну. Но вскоре у Паардеберга, на подступах к столице Оранжевой Республики, его отряд попал в окружение. Захват англичанами в плен одного из лучших подразделений бурской армии во главе с легендарным полководцем, пользовавшимся большим авторитетом в двух республиках, произвел тяжелое впечатление на буров. Многие из них были деморализованы и сложили оружие. Наступил переломный момент в англо-бурской войне. В начале марта англичане вступили в Блумфонтейн. Тогда же была снята осада Ледисмита. В связи с кончиной шестидесяти шестилетнего П. Жубера, последние недели являвшегося сторонником мира с Англией на неприемлемых для большинства буров условиях, главное командование армией Трансвааля в конце марта перешло к Луису Боте — энергичному и опытному военачальнику. Однако это уже не могло повлиять на последующие события. В мае была снята блокада Мафекинга, а 5 июня 1900 года английские войска торжественно вошли в столицу Трансвааля Преторию. И все-таки война продолжалась — теперь уже партизанская война буров с английскими оккупантами. Патриоты взрывали мосты и железнодорожные пути, пускали под откос поезда, разрушали телеграфную связь. Летучие отряды возглавили Л. Бота, X. Бота, X. Девет, Д. Деларей, Я. Смэтс и другие. Уже в июне 1900 года партизаны под командованием Л. Боты действовали вокруг Претории, вдоль железной дороги Рустенбург — Комалтикорт. К западу от Претории против англичан выступил отряд Д. Деларея, к юго-востоку — партизаны X. Боты. По данным английского историка Э. Героварда, за 29 дней, с 6 июня по 4 июля 1900 года, бурские партизанские отряды предприняли 255 боевых операций в зоне трансваальских железных дорог. В 1901 году английские войска приступили к широкомасштабным действиям против партизан. В первой половине года буры потеряли почти шесть тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Четвертого июня 1901 года министр иностранных дел России граф В. Н. Ламздорф, выражая волю императора, направил телеграмму российским послам в европейских государствах с поручением выяснить, поддержат ли правительства этих стран предложение России организовать совместное политическое давление на Англию. Приведем хотя бы фрагмент этой обширной правительственной телеграммы, свидетельствующей о желании политиков России помочь Трансваалю и Оранжевой Республике, оккупированным англичанами, но не сдавшимся: «Телеграфные известия с юга Африки ежедневно приносят все более ужасающие подробности о бедствиях, переживаемых населением двух маленьких республик, решившихся до последней крайности отстаивать свою независимость в непосильной борьбе с могущественною великою державою, прибегшею ныне к содействию полудиких кафров. Между тем, правительства всего цивилизованного мира, считающие себя последователями Христова учения, провозглашающие началами государственной жизни идеи добра и человеколюбия, на заре 20-го столетия безмолвно взирают на продолжающееся около двух лет жестокое кровопролитие, глубоко возмущающее повсюду общественную совесть…» Правительства европейских государств так и не смогли договориться… Последняя точка в англо-бурской войне была поставлена 31 мая 1902 года, когда в Претории лидеры буров подписали мирный договор с Англией, согласно которому Южно-Африканская Республика и Оранжевое Свободное государство фактически прекращали свое существование, хотя и сохраняли некоторую внутреннюю автономию. Многие бурские генералы в дальнейшем активно сотрудничали с англичанами, которым надо отдать должное: они приложили немало усилий для развития экономики своих новых колоний, амнистировали большинство «мятежников»-партизан, выплатили бурам три миллиона фунтов на восстановление сожженных домов и ферм. Бывший президент Трансвааля П. Крюгер, эмигрировавший в Европу, так и не вернулся на родину. Перед смертью непримиримый «Дядя Поль» сказал: «Я родился под британским флагом, но не хочу умирать под ним»[133].* * *
Напомним, что события 1901–1902 годов выходят за хронологические рамки романа «Капитан Сорвиголова», написанного несколько ранее и изданного в 1901 году. Восемь месяцев боевой жизни главного героя этого произведения приходятся на период от окружения Ледисмита до начала партизанской войны; заключается повествование датой 20 октября 1900 года. Буссенаровские «три мушкетера» — Жан Грандье (он же капитан Сорвиголова), Фанфан и Поль Поттер — плод писательского воображения, причем первый из этих литературных персонажей, как уже отмечалось, перешел из одного романа в другой. Вместе с тем, отряды добровольцев, подобные эскадрону «молокососов», действительно создавались в годы англо-бурской войны. Всего на стороне буров действовало тринадцать иностранных отрядов, в том числе французский, итало-немецкий, черногорский, американский и русско-голландский во главе с полковником Е. Я. Максимовым. Эти подразделения объединялись на какое-то время в интернациональный легион, командиром которого был избран полковник французской армии Вильбуа де Марей, а после его героической гибели — Е. Я. Максимов, ставший бурским генералом. По современным данным, на стороне буров сражалось несколько тысяч французов и не менее двухсот пятидесяти русских добровольцев. Буссенар пишет о воинах-интернационалистах (от советских воинов-«интернационалистов» последних десятилетий они отличались прежде всего тем, что не были посланы правительствами своих стран, а поехали по собственному почину и на свои средства): «…Эти люди — французы, австрийцы, немцы, русские — были не обычными искателями приключений, а выдающимися офицерами, чьи блестящие способности высоко ценились в их странах». Многие из них во имя независимости Южной Африки отдали свою жизнь. Немало среди буров было и таких юных героев, как четырнадцатилетний Поль Поттер, взявший оружие, чтобы отомстить за своего отца, расстрелянного англичанами. Известно, что в английских лагерях для военнопленных вместе со взрослыми воинами томились и двенадцати-шестнадцатилетние буры, подростки и юноши, ушедшие на войну после получения известия о гибели их отцов. Идиллическое описание патриархальной жизни бурской фермы Блесбукфонтейн — «маленького эдема» — возникает у Буссенара совсем не потому, что писатель закрывал глаза на расизм, отчетливо проявлявшийся у буров и в быту, и на «высшем государственном уровне», — ведь автор не забывает рассказать о бурах-колонизаторах, покоривших землю баролонгов (неудивительно, что вооруженный отряд баролонгов помог англичанам покончить с блокадой Мафекинга). Фермерская идиллия — это прощальный взгляд бура, уходящего на войну, и это плач бурского партизана, возвратившегося домой — на пепелище. Идиллия сменяется страшной картиной уничтожения фермы, гибели ее хозяев, отказавшихся покинуть свой дом. Такой прозы скорбного, эпического, почти библейского звучания у Буссенара раньше не было. И все написанное им о Блесбукфонтейне — правда. В середине 1900 года, когда только разгоралась партизанская война, «цивилизованные» английские дивизии по приказу Ф. Робертса перешли к тактике «выжженной земли». К концу войны число уничтоженных ферм достигло тридцати тысяч. Эти акции были варварским нарушением принципов международного права, согласно которым война не может вестись против мирного населения. Известны также факты массового расстрела бурских партизан, сдавшихся в плен. И еще одним «новшеством» прославились Ф. Робертс и его начальник штаба Г. Китченер, со временем сменивший фельдмаршала на посту главнокомандующего, а именно созданием первых в истории XX века концентрационных лагерей для десятков тысяч женщин, детей, стариков — членов семей сражавшихся буров. Каждый месяц в английских концлагерях умирали от голода и болезней сотни узников. Рядом с Блумфонтейном, где находился один из самых больших концлагерей, ныне стоит обелиск, на котором высечены слова: «Нашим героиням и любимым детям». Крайне тяжелыми были и условия содержания в английских лагерях для военнопленных. Как мы узнаем из «Эпилога», в один из таких лагерей англичане, возможно, отправят Жана Грандье — «на остров Цейлон или на Мыс Доброй Надежды». Буссенар знает о войне не понаслышке — он служил армейским врачом во время франко-прусской войны 1870–1871 годов и был тяжело ранен. Первая его профессия часто даст о себе знать в романе, где немало внимания уделяется организации медицинской помощи в годы англо-бурской войны. В первые дни боевых действий в отрядах буров вообще не было медицинской службы. Врачебную помощь бурам оказывали общества Красного Креста многих стран. В Южную Африку прибыли немецкий, бельгийско-немецкий, ирландско-американский, русско-голландский и еще три голландских отряда Красного Креста. О труде медиков в годы англо-бурской войны рассказала С. В. Изъединова в книге «Несколько месяцев у буров. Воспоминания сестры милосердия» (смотрите прилагаемый список литературы). Надо признать, роман «Капитан Сорвиголова» отвечает самым строгим требованиям, которые могли бы предъявить историки к документально-художественной прозе. Созданные Буссенаром портреты бурских полководцев, описание хода боевых действий, оценка военного мастерства, стратегических просчетов и тактических ошибок как англичан, так и буров, в целом соответствуют уровню современных исторических знаний об этих лицах и событиях. Панорама англо-бурской войны воссоздана писателем с документальной достоверностью. Возможно, письмо, найденное «молокососами» у погибшего шотландца Джимми (с пометкой «Под Ледисмитом, 23 ноября 1899 года»), и не из числа подлинных документов, но оно могло быть таким: много было убитых на этой войне, много было подобных писем, оказавшихся последними. Документализм — несомненное, хотя и не единственное, достоинство романа «Капитан Сорвиголова». Автор чаще всего не пересказывает воспоминания очевидцев и другие документальные источники (отметим, что еще до окончания войны они публиковались в газетах и журналах и даже выходили отдельными изданиями), а, творчески используя их, создает свой мир — предметный, объемный… и в то же время предельно приближенный к реалиям англо-бурской войны. В этом — секрет невероятной популярности романа, одного из наиболее удачных в художественном отношении произведений Луи Буссенара. Действие романа развивается так стремительно, как будто он написан «на одном дыхании». Между тем, трехчастная композиция произведения тщательно продумана автором. Буссенар нередко меняет стиль повествования, и каждая такая перемена художественно обоснована. Авторская речь, кажущаяся бесстрастным голосом самой Истории (например, при описании крупных сражений), вдруг становится настолько эмоциональной, что похожа на раскавыченную прямую речь «молокососа», только что вышедшего из боя. Например, сообщая сведения о значительных потерях у противника и сравнительно небольших у отряда Сорвиголовы — «трое убитых и шестеро раненых», автор не удерживается от рискованной, казалось бы, реплики: «Вот это война!». Но это — лишь стилистический прием: сквозь авторскую речь слышен голос восторженного «молокососа» — победителя, оставшегося в живых. Что ж, «на войне как на войне». А то вдруг, когда Буссенар дает подробнейшее описание маузеровской винтовки, в повествование как бы вклинивается отрывок из пособия по стрелковому оружию. «Полноте, а не сочинил ли Буссенар свой увлекательный роман только ради того, чтобы заставить читателя испытать острые ощущения, не для развлечения ли юношества придуман неуловимый капитан Сорвиголова?» Пусть этот вопрос останется на совести читателя-скептика. Буссенар не идеализирует «молокососов». Они бывают подчас жестокими и даже преступают неписаные законы воинской чести (вспомним, как расправляется Поль Поттер с герцогом Ричмондским). У совсем еще юных воинов заметны такие возрастные особенности, как неровность характера, повышенная эмоциональность. С «дикой радостью» бросаются они в бой, а на привале, ведя себя как дети, устраивают шумную возню. «Молокососы», скачущие на своих верных пони, словно на игрушечных лошадках, не раз били рослых английских кавалеристов на мощных и холеных конях, но Буссенар снова и снова замечает следы недавнего детства в делах и словах своих героев. Тем очевиднее становится жестокость и абсурдность этой войны, унесшей десятки тысяч молодых жизней. Это неравенство сил становится символом другого, более масштабного неравенства, о котором с горечью пишет автор: «Вся Англия, вся Британская империя вместе с колониальными войсками шла на приступ Трансвааля и Оранжевой Республики». Увлеченность схваткой — «есть упоение в бою…» — еще не означает, что война — любимое занятие «молокососов». Буссенар любуется ими — меткими стрелками, разведчиками, партизанами, умеющими воевать, разглядевшими «подлинное обличье войны — позорящего род людской отвратительного чудовища, во имя которого узаконивается убийство и нагромождаются горы трупов». Взятые в кавычки слова отражают образ мыслей автора и его героя, капитана Сорвиголовы. А вот что говорит неразлучный друг капитана Фанфан: «Пока защищаешь свою шкуру, все тебе нипочем — знай себе колотишь, будто издеваешься над смертью. Потасовка так и подсыпает тебе пороху в кровь… А кончилась битва, прошла опасность, да как поглядишь вот на такую кучу Маккавеев, которые всего пять минут назад были цветущими парнями, невольно подумаешь: до чего же это грязная штука — война!» Когда писатель размышляет о причинах англо-бурской войны, раскрывается еще одна грань литературного таланта Буссенара — страстного публициста. Читателю, конечно, запомнится блестящий политический памфлет в начале второй части романа — о шовинистической истерии, поднявшейся в Англии незадолго до начала войны с бурами, о цвете хаки — новом цвете английской военной формы, ставшем цветом правительства, прессы, литературы, короче, «национальным цветом» Британской империи, символом великодержавных амбиций ее политиков и бизнесменов, рассуждавших о своей «цивилизаторской миссии». Имперская спесь, золотая и алмазная лихорадка — таковы, по мысли Буссенара, причины войны, «развязанной английскими биржевиками» (заметим, что к теме колониальной политики Англии в Южной Африке писатель впервые обратился в романе «Похитители бриллиантов», изданном в 1883 году). Много суровых слов сказано Буссенаром об английских завоевателях, немало язвительных замечаний адресуют «англичанишкам» его герои, видя при этом разницу между солдатами — «рабочими войны» — и «рыцарями разбоя и наживы», пославшими их на бойню. Война — противоестественное состояние человека. Она может превратить его в зверя — как иначе назвать английских кавалеристов, забавляющихся игрой в охоту на кабана? И все-таки Буссенар верит в победу правды и добра в человеческой душе, потому и отмечает проявления рыцарского благородства и боевого товарищества и у буров и у англичан — от солдата до генерала. Английский солдат протягивает осужденному буру свою флягу: «Выпей, приятель, это от чистого сердца». Друзьями становятся капитан Сорвиголова и его ровесник, младший лейтенант Патрик, сын герцога Ричмондского. Потом юный шотландец погибнет в смертельной схватке с Полем Поттером. Погибнет и Поль. «До чего же это грязная штука война!» Луи Буссенар, автор первого антивоенного романа XX века, умер в 1910 году, за четыре года до начала первой мировой войны.Игорь ЛОСИЕВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРА
АСОЯН Б. Р. Сквозь 300 лет — от Кейпа до Трансвааля. Штрихи к портрету Южной Африки. М., 1991. ВИЛЬБУА де МАРЕЙ. Англо-трансваальская война. Записки бурского генерала. Пер. с фр. СПб., 1902. ВИНОГРАДСКИЙ А. Англо-бурская война в Южной Африке. В 3 вып. СПб., 1901–1903. ВОРОНКОВ В. Англо-бурская война (1899–1902 гг.). Краткий военно-политический очерк. М., 1933. ДАРМШТЕТТЕР И. История раздела Африки (1870–1919 гг.) Пер. с нем. М., 1925. ДЕБЕТ X. Борьба буров с Англией. Воспоминания бурского генерала. Пер. с гол. СПб., 1907. ИЗЪЕДИНОВА С. В. Несколько месяцев у буров. Воспоминания сестры милосердия. СПб., 1903. КРЮГЕР П. Мемуары. Пер. с гол. СПб., 1903. (Прил. к журн. «Всемирный Вестник», 1903, №№ 1, 2, 4–9, 12). КУЛЬБАКИН В. Англо-бурская война (1899–1902 гг). Военно-исторический журнал. 1941, № 1. НИКИТИНА И. А. Захват бурских республик Англией (1899–1902 гг.). М., 1970. РОТШТЕЙН Ф. Л. Международные отношения в конце XIX века. М., 1960. СИЛЬВА Ж. де. Португальские колонии в Африке. М., 1962. ЦЕТЛИН М. Война буров за независимость (1899–1902). М., 1940. ШИЛЬ А. Двадцать три года под солнцем и среди буров Южной Африки. Пер. с нем. СПб., 1903. ШТИГЛИЦ А. Н. Великобритания и ее южно-африканская политика. СПб., 1901.
Луи Буссенар «Приключения парижанина в стране львов, в стране тигров и в стране бизонов»

Часть первая ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАРИЖАНИНА В СТРАНЕ ЛЬВОВ

ГЛАВА I
Дикая симфония. — Соперники. — Львиный турнир. — Три охотника в засаде. — Джентльмен, гамен и жандарм. — Два выстрела. — К сведению любителей фотографировать животных. — Смерть кокетки. Разрывная пуля. — Воспоминание об открытии охотничьего сезона. — Губительная сеть. — Похищение женщины гориллой. За густой завесой листвы раздался ужасающий рев и прокатился под деревьями-великанами. — Вот это да! Кажется, органная труба дала течь, — раздался насмешливый голос. — Замолчи! — приказал другой. — Хорошо, что не газовая. — Перестанешь ты или нет? По твоей милости нас могут растерзать. Вновь раздалось рычание, да такое, что листья задрожали. Эти чудовищные звуки прозвучали своеобразным сигналом со всех сторон из таинственных глубин тропического леса загудел оглушительный рев, разносясь далеко вокруг отчетливыми, резкими нотами, несмотря на то что воздух был густо насыщен сыростью. — Теперь вступили большие барабаны, — не унимался неисправимый болтун. — Нет, видимо, этого ты и добиваешься, — сказал собеседник, понизив голос. — Чего именно, месье Андре? — Чтобы нас растерзали или, по меньшей мере, чтобы мы вернулись ни с чем. — Последнее было бы обиднее. — Конечно, черт побери, проехать тысячу двести миль только затем, чтобы остаться с носом! А кто будет в этом виноват? Ты один. — Довольно, капитан. Молчу… Ай да киска! Вот это я понимаю. Непочтительное «киска» относилось к великолепной львице, которая выпрыгнула из чащи и замерла при виде троих охотников, стоявших посреди поляны. Львица не столько испугалась, сколько изумилась, смотрела не со злобой, с любопытством и была похожа на великолепное изваяние. До сих пор она видела людей только с черной кожей; теперь перед ней были люди с бледной кожей, одетые в белую одежду. «Это кто еще такие?» — казалось, спрашивала красавица. Опершись коленом о землю, они с необыкновенным хладнокровием людей бывалых и неустрашимых ждали, что будет дальше. Нервы у них были, несомненно, крепкие. Впрочем, только с такими и можно идти на крупного зверя, вроде льва или тигра: охотника ежеминутно подстерегают неожиданности, малейшая оплошность грозит роковыми последствиями. В такой ситуации, перед лицом опасности, которую ты сам искал, решающей оказывается вовсе не храбрость, а крепкие нервы. У нашей троицы по этой части все было безупречно. Ни один и глазом не моргнул, когда появилась львица. Только крепче сжали они тяжелые двустволки, дула которых не шелохнулись. Главным в этой компании был мужчина лет тридцати двух — тридцати пяти во цвете сил — высокий, смуглый, могучего сложения. Болтун называл его месье Андре. Сам болтун — юноша двадцати трех лет, на вид которому едва можно было дать восемнадцать. По произношению это был парижанин из предместья, парижский уличный мальчишка — гамен. Небольшого роста мускулистый крепыш, он смело смотрел на львицу серо-голубыми плутовскими глазами. Третий, бесстрастный, как факир, выправкой напоминал старого солдата, коим, собственно, и был: испещренное шрамами костлявое лицо, густые брови дугой, нос крючком, длинные, концами вниз, усы, бородка в виде запятой, грудь колесом. Ему было не больше сорока пяти. Закончив осмотр, львица глухо зарычала, скорее даже промурлыкала что-то, ударила себя хвостом по бокам, наморщила нос, прижала уши и подобралась, готовясь к прыжку. Месье Андре, медленно поднимая винтовку, предостерегал товарищей: — Главное — не стрелять! Ни в коем случае! Ты понял, Фрике? Вы слышали, Барбантон? — Понял, — ответил молодой человек. — Слышал, — сказал старый солдат. Охотник прицелился. Он уже хотел спустить курок, не дав львице прыгнуть, как вдруг та — не то из каприза, не то из любопытства — распрямилась и медленно отвернулась от охотников, тем самым подставив себя под выстрел. Но месье Андре спокойно, будто перед ним какой-то кролик, опустил винтовку, вглядываясь туда, куда обернулась львица. Очевидно, он был абсолютно уверен в себе. Львица вздрогнула, справа и слева раздался рев — точно гром прогремел. Зашумели лианы и кусты, на поляну выскочили два огромных льва. С первого взгляда они признали себя врагами. Хуже, чем врагами: соперниками. Сверкая глазами, ощетинившись, грозно стояли друг напротив друга и рвали когтями траву. На охотников, находившихся от них шагах в тридцати, они не обратили ни малейшего внимания. Взглядом не удостоили. Разом испустив короткий сдавленный рык, звери бросились друг на друга, подпрыгнув вверх метра на три. В воздухе они и сшиблись. Послышался хруст костей, звук разрываемого мяса — и оба тяжело рухнули на землю. — Черт возьми! Недурно, — тихо сказал своему соседу, господину Андре, молодой человек, которого звали Фрике. — Жаль, растерзают друг друга. — Почему — жаль? — Шкуры. Тебе не кажется, что три такие великолепные шкуры были бы недурным началом для нашей будущей коллекции? — Согласен. Но помешать этим диким дуракам портить друг другу одежду мы можем только одним способом — немедленно застрелив их. — И впрямь дураки! — вставил свое слово солдат. — Дерутся из-за самки! — Не слишком-то вы галантны, дружище Барбантон, — возразил Фрике. — А мне так даже нравится эта борьба. Я видел львов в цирках Биделя, Пезона. В сравнении с этими экземплярами те — просто чучела набитые. Эти же — настоящие молодцы. — Не спорю. Но это только доказывает, что можно быть молодцом и дураком одновременно. Не проще ли было им поделить свою мамзель, чем скусывать друг другу носы и рвать шкуры ей же на потеху? Взгляните: она же смеется над ними! — Не беспокойтесь, служивый, месье Андре скоро положит этому конец. Все трое будут наши — и молодая особа, и ее воздыхатели. Схватка тем временем продолжалась. Львица, присев на задние лапы, томно следила за ожесточенной дуэлью, прикрывая глаза и позевывая. Андре снова поднял винтовку, прицелился, рассчитывая, что соперники хотя бы на секунду остановятся, замрут. Надежда не оправдалась. Львы продолжали поединок. Стрелять было нельзя. Раздосадованный охотник обратился к Фрике: — Говоришь, застрелить их. Чего, казалось бы, лучше, но боюсь, рана окажется несмертельной. — Хотите, я заставлю их на минуту остановиться? Времени будет достаточно, чтобы уложить хотя бы одного. — Что ж, давай. — Идет. Вы готовы? — Готов. — Начинаю. Молодой человек поднес к губам два пальца и с силой свистнул. Оказалось так похоже на свисток паровоза, что можно было подумать, будто недалеко идет поезд. Звери смутились и прервали бой. — Вот бы сделать моментальный снимок! — воскликнул Фрике. Его слова заглушил выстрел — месье Андре воспользовался короткой передышкой. Один из львов, получив пулю между глазом и ухом, подскочил на задних лапах, взмахнул в воздухе передними и упал бездыханный, даже не застонав. Другой, не разбирая, откуда прогремел гром, сваливший противника, приписал победу себе и громко прорычал в знак своего торжества. Он гордо выпрямился над трупом врага и бросил на львицу победоносный взгляд. — Ну и болван! — пробормотал Фрике. Не дожидаясь, когда рассеется дым, охотник снова прицелился и выстрелил в «победителя», который в этот момент был прекрасной мишенью. — Великолепный двойной выстрел! — с восторгом воскликнул парижанин. — Чисто сделано, — похвалил Барбантон. — Винтовку мне, — коротко произнес месье Андре, протягивая товарищам свое разряженное оружие. Увидев убитым и второго поклонника, львица забеспокоилась. Пока соперники дрались, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, она заметила две молнии сквозь клочок беловатого дыма. Слышала и выстрелы и, наконец, сообразила, что это дело рук людей, которые держались в стороне, не привлекая внимания. Смутно чуя опасность, львица решилась идти ей навстречу. Уверенная в своей силе, смелая, ловкая хищница понимала, что лучший способ защиты — напасть самой и как можно скорее. Решившись, прянула в сторону, делая вид, что хочет обратиться в бегство, потом сделала боковой прыжок и устремилась прямо на охотников. Новичок был бы сбит с толку этим неожиданным фокусом, а дорого было каждое мгновение — львица находилась метрах в двадцати. Два-три прыжка, то есть семь-восемь секунд, и она навалилась бы на них. Но месье Андре не терял самообладания — выстрелил, когда она собралась прыгнуть. Пуля попала в бедро и перешибла его. Львица упала в пятнадцати метрах от охотников. Прыгнуть уже не могла, но была еще очень опасна — могла ползти, перебирая передними лапами, и даже броситься на врагов. Она громко рычала от боли и ярости. Охотник подпустил ее к себе на восемь шагов и разрядил винтовку зверю в пасть. Тот упал с раздробленной головой. Но почему выстрел оказался столь сокрушительным, буквально раскрошив череп? — Чем вы зарядили свою винтовку? — спросил месье Андре Барбантона. Жандарм в первый раз засмеялся: — Разрывной пулей, только и всего. Разве плохо? — Напротив, прекрасно. Не знаю, удалось бы иначе мне справиться со львицей. — Когда имеешь дело с самкой, нужна особая осторожность. Я чувствовал, что она наделает нам бед. Что поделаешь, женщина! Самцы погибли честно, благородно, безо всяких фокусов, а она и тут не могла обойтись без хитростей. Я знал это и принял меры. Берите с меня пример, месье Андре, никогда не доверяйте женскому полу. Не верьте ни человеческим самкам, ни самкам животных. Положитесь на мой опыт — опыт старого жандарма и обманутого мужа. Молодой человек улыбнулся в ответ на эту речь и сказал, указывая на мертвых львов: — За работу, друзья! Снимем шкуры, а тем временем подойдут наши негры и отнесут их в лагерь. Охотники тотчас принялись за дело. Работа спорилась и не мешала оживленно болтать. Видно было, что они испытывали искреннюю приязнь друг к другу, несмотря на разницу в возрасте и общественном положении. — Черт возьми! — говорил Фрике. — Недурно для начала! Как вы находите, месье Андре? Думаю, вы довольны. — Я в восторге и чувствую себя счастливейшим из охотников. — Вот вы и вознаграждены за неудачное открытие сезона охоты в Босе. Первого сентября вернуться в Париж с пустым ягдташем! Вот это был удар. — Немудрено, когда на твоей земле потрудились браконьеры. — Неужели браконьерство по-прежнему процветает? — Теперь особенно, потому что жандармы им все спускают, только что не потворствуют. Слышите, Барбантон? Это камешек в ваш огород. — Нет, месье Андре, не в мой! Я никогда не служил в жандармах на континенте, только в колониях, а там браконьерствуют канаки, дичь для них — люди. Им нужна еда, а не шкуры. — Как же, мы помним! — засмеялся Фрике. — Нас двоих и еще доктора Ламперрьера вы стащили уже с вертела. — Ну, это пустяки. Я только хотел сказать, что жандармы бывают разные и браконьеры не все одинаковы. Месье Андре, а в этой стране есть людоедство? — Могу положительно утверждать, что здесь, в Сьерра-Леоне, в ста километрах от берега — нет. Здесь британские владения, а англичане очень суровы с нефами. За беседой работа продвигалась быстро. Все трое работали усердно и старательно, несмотря на жару и духоту. Через час шкуры были искусно сняты, на зависть любому натуралисту, аккуратно свернуты, а носильщики-негры все не шли. Господин Андре вновь прислушался к лесному гулу, среди которого различил вдали нестройные крики. — Наконец-то! Идут. На поляну выбежали человек двенадцать негров с копьями и ружьями. Они вопили, выли, махали руками, словно опившиеся пальмового вина обезьяны: — Масса!.. Несчастье!.. — Масса!.. Иди скорей!.. — Ах, какое несчастье!.. — О!.. Бедная мадам!.. — Где мадам? Какое несчастье? — недовольно спросил охотник. Негры кричали все вместе, ничего нельзя было разобрать. Месье Андре приказал им замолчать. Выбрав того, что казался посмышленее, спросил, в чем дело. — Масса, там белая женщина. — Что за женщина? — Не знаю. — Нечего сказать — объяснил. Дальше? — Горилла… — Какая горилла? — Из леса… — Хорошо. Верю, что из леса, живая, а не чучело из музея. Ну? — Горилла похитила белую мадам… Понимаете, масса? Месье Андре невольно вздрогнул. Негр, по-видимому, говорил правду, хотя какими судьбами могла попасть сюда, в африканский лес в двадцати милях от Фритауна, белая женщина? Но гориллы часто похищают женщин, и надо было узнать, что произошло. Он позвал товарищей, приготовил оружие и во главе своего небольшого отряда кинулся в лес.ГЛАВА II
Через лес. — По следам гориллы. — Бывший жандарм действует безо всякого воодушевления. — Беда от брака со «зверинцем». — Растерзанные тела. — Тело майора. — Крик гориллы. — На баобаб. — Отчаянное сопротивление. — Помогите! — Выстрел. — Смертельно ранен. — Агония. — Спасена! — Удивление Андре. — Изумление Фрике. — Жандарм поражен. Идти девственным лесом трудно, в особенности опушкой или краем поляны. В глубине, поддеревьями, высокая трава не растет, потому что солнце туда никогда не заглядывает. Там нет лиан, только гладкий мох покрывает почву. Путнику здесь надо остерегаться скрытых трясин, невидимых топей, предательских оврагов, неожиданно возникающих на пути кочек, да еще стараться не споткнуться об упавшее дерево. Но истинное мучение — идти лесами, наполовину выгоревшими из-за тропических гроз, что не редкость. Молодые деревья с необычайной быстротой вырастают на месте погибших, их украшают огромные лианы, из жирной почвы с силой вырывается густая, высокая трава и древовидные растения. Ботаника все это, несомненно, приведет в неописуемый восторг, путешественника или исследователя — в ярость: продвигаешься вперед с трудом, для каждого шага прочищая дорогу тесаком или топором. Со всех сторон его будут опутывать лианы, бросаться под ноги корни, впиваться в тело колючки; задыхаясь от жары, обливаясь потом, искусанный мухами, путник измучается вконец, потеряет терпение, проклиная себя за то, что забрался в эти непроходимые дебри. В такой ситуации и оказались три европейца, когда покинули лесную поляну, услышав от испуганных негров весть о похищении гориллой белой женщины. Месье Андре и Фрике, благородные и великодушные, избранные натуры, рвались вперед, прокладывая дорогу тесаками; старый жандарм не отставал и тоже энергично работал тесаком, но при этом поминал всех чертей, проклиная вместе с гориллами тех, кто не принадлежит к сильному полу. — Женщина — в девственном лесу! Занесет же нелегкая! Если бы не моя преданность вам, месье Андре, и этому мальчишке Фрике, ни за что бы я не пошел выручать эту особу. Пусть бы сама разбиралась со своей обезьяной. — И это говорит Барбантон, старый солдат, столько лет верой и правдой служивший Венере и Беллоне! — Верой и правдой, месье Андре, в том-то и дело. — Неужели бы вы оставили несчастную женщину на произвол судьбы? — А какого черта она сюда забралась? Кто ее звал? — Что ж, сначала спасем ее, а потом устроим разнос. — Знаете, месье Андре, я не чувствую ни малейшего воодушевления. — Тем лучше! Самообладание — первое дело на войне. — Я совсем не то хочу сказать! Я хочу сказать, что иду с вами против воли, как бы по принуждению. — Барбантон, у вас нет сердца. — Точно так, месье Андре. — Его сердце съела жена, Элоди Лера, не так ли, жандарм? — с насмешкой сказал Фрике. — Верно. Фрике. Старого солдата, не раз награжденного, она едва не ввела в страшный грех… — К счастью, теперь выв тысяче двухстах милях от вашего домашнего бича.
— Тут и десяти тысяч мало. Это гиена, ведьма! Настоящий черт в юбке. Волчица. Тигрица. Змея подколодная… — Да вы никак всех зверей решили перебрать, — рассмеялся Фрике. — Назовите ее зверинцем — и дело с концом. — Вы ведь сам ее знаете, и знаете, на что она способна. — Это верно. Вам не повезло. В брачной лотерее вам достался несчастливый номер. Но это все же не повод, чтобы валить всех женщин в одну кучу и ненавидеть их всех разом. — За ребенком я бы кинулся к акулам, в огонь, в расплавленное олово. — Нисколько не сомневаюсь. — Но ради женщины — слуга покорный! — Уж очень вы суровы. — Но справедлив. Я знаю, что, спасая женщину, поступаю во вред какому-нибудь мужчине, не сделавшему мне ни малейшего зла. А я этого не хочу. — Не малюйте себя чернее, чем вы есть. Я отлично знаю, что вы и сами вырвали бы эту несчастную из когтей чудовища. Вы неспособны отказать в помощи, когда вас о ней просят. — Гм!.. Гм!.. — Так-то, старый ворчун. — Ну, если еще какая-нибудь незнакомая, — может быть… — Даже если это оказалась бы ваша жена, сама Элоди Лера… Я ведь вас знаю! — Ну, нет! Миллион миллионов раз — нет. Не говорите пустяков. Это может принести нам несчастье. — Повторяю: даже и тогда вы бы выручили. Милый мой друг, вы же добрейший человек, только притворяетесь злобным. — Думайте, как хотите, но только я вам верно говорю: эту… особу (у него язык не повернулся сказать: мою жену) я бы от гориллы спасать не стал. Кажется, горилла из всех обезьян самая свирепая? — Говорят. А что? — А то, что через неделю сожительства с гориллой эта особа совсем бы замучила бедную обезьяну; через две недели горилла сошла бы с ума, а через месяц умерла бы от разрыва сердца. Не ее нужно было бы спасать от гориллы, а гориллу от нее. Вот мое мнение, — закончил солдат, неистово уничтожая тесаком лианы и кусты. Фрике и месье Андре от души расхохотались столь неожиданному выводу. — Впрочем, это невозможно, — сказал Андре. — Ваша жена преспокойно сидит в Париже, торгует в своей лавочке, а вы опять странствуете по белу свету. — Нет худа без добра. Благодаря ей я путешествую с теми, кого люблю больше всего на свете, то есть с вами и с Фрике. Что, конечно, ничуть не исключает моей привязанности к доктору Ламперрьеру и нашему матросу Пьеру де Галю. — И это взаимно, — отвечал месье Андре, крепко пожимая ему руку. Молодой лес уступил наконец место старому. Вместо зарослей показались деревья с высокими гладкими стволами, тянувшиеся рядами до бесконечности и терявшиеся вдали под густым непроницаемым для солнца сводом. Стало темно и душно; в воздухе чувствовалась тягостная, знойная влажность, он был насыщен испарениями гниющих растений. Тут могли жить и прятаться только дикие звери. Три друга шли теперь довольно быстро, но они уже были утомлены. С каждым шагом усталость давала знать о себе все сильнее. Негры едва поспевали за ними, те, которым поручено было тащить львиные шкуры, и вовсе отстали. Вдруг вдали послышался какой-то гул, затем звук выстрела, приглушенный влажным воздухом. Усталость как рукой сняло. Охотники бросились бегом вперед, как солдаты на штурм, перепрыгивая через препятствия, и, запыхавшись, остановились рядом с незнакомыми, очень испуганными людьми. Глазам их предстало ужасающее зрелище. На земле навзничь лежал человек с распоротым животом, с вырванными внутренностями; вокруг валялись клочья разорванной одежды вперемешку с изодранными кишками. Цела была только голова и синий матросский воротник на плечах мертвеца. Это был труп белого человека, судя по одежде — матроса. Месье Андре взглянул на лицо, искаженное короткой, но, вероятно, мучительной агонией, и воскликнул: — Ведь это один из наших матросов!.. Взгляни, Фрике! — Увы… — отвечал, бледнея, молодой человек. — Это с нашей шхуны… — А вот и еще мертвец!.. Да тут была настоящая бойня. В нескольких шагах лежало тело негра: одна рука оторвана, сквозь ребра виднелось легкое, с лица содрана кожа. — Боже! Мы опоздали! — пробормотал Фрике. — Мне эти раны знакомы. — Становитесь ближе к стволу, джентльмены! — крикнул им вдруг по-английски господин в европейском костюме и с двустволкой в руках. — Спешите! Обезьяна начинает бомбардировку. С дерева с шумом полетели огромные ветви. Кто-то бросал их с самой вершины. Наши охотники последовали разумному совету и подошли к незнакомцу, возле которого стояли четыре испуганных негра. У одного была проломлена голова, из раны текла кровь. — Жертвы гориллы? — спросил господин Андре, указывая на растерзанные тела. — Да, сэр, — флегматично отвечал европеец. — Она сидит на баобабе, почти прямо над нами. Я ее ранил, и она еще сильнее рассвирепела.Месье Андре и Фрике рвались вперед, прокладывая дорогу тесаками.
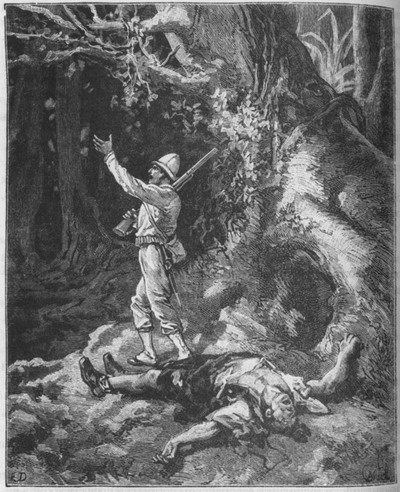
— Мои негры сказали, что обезьяна унесла какую-то женщину. — Это правда. Обезьяна схватила ее у нас на глазах и утащила на дерево. Матрос хотел ее защитить — и вот что с ним сделало чудовище. Негр тоже поплатился за свою попытку. — А женщина? — Все произошло так быстро, что я не успел сделать ни выстрела. Я боялся задеть даму вместо гориллы. Впрочем, думаю, обезьяна не сделала ей ничего плохого. Кажется, посадила добычу на нижних ветвях баобаба, потом, испугавшись выстрелов, оставила там, сама же забралась на вершину. Я видел ее несколько раз, когда она ломала ветви, которыми в нас бросает. Но она очень хитра и ловка: покажется и сейчас же спрячется. Никак не могу за ней уследить… Ага! Слышите? С вершины дерева раздался резкий, отрывистый, громкий крик: — Кэк-ак!.. Кэк-ак!.. Казалось, он исходил из металлического горла и чередовался с глухим рычанием, словно животное, перед тем как крикнуть, старалось набрать в легкие как можно больше воздуха. Негры в ужасе выбивали зубами дробь. Этого крика они не могут слышать без дрожи. — Так вы не можете точно показать, где жертва? — продолжал месье Андре, упорно следуя своему. — Даже не знаете наверняка, жива ли она? — Да. Но, надеюсь, жива. Я сделал все, что обязан сделать в подобном случае каждый порядочный человек. — Нисколько в этом не сомневаюсь и всеми силами готов оказать вам поддержку, и мои друзья тоже. Если не спасем, хотя бы отомстим за нее. Итак — за дело! Временами обезьяна переставала кричать. Тогда был слышен треск сучьев, которые, задевая о ствол баобаба, летели на землю. Господин Андре пристально всматривался через бинокль в листву, пытаясь отыскать обезьяну. Вдруг, несмотря на все свое хладнокровие, вздрогнул. — Я ее вижу, — сказал он тихо. — Она на высоте около двадцати пяти футов. У нее из бедра течет кровь, но рана, должно быть, легкая, потому что незаметно, чтобы обезьяна ослабела. Посмотрим, не удастся ли ее свалить. — А если вы вновь только разозлите ее, но не убьете? — спросил незнакомец. — Постараюсь убить, — ответил месье Андре. — Моя винтовка заряжена пулями восьмого калибра с семнадцатью с половиной граммами английского пороха. Если с таким оружием я не убью гориллу, значит, как-то особенно неудачлив. Со свойственным ему изумительным самообладанием он медленно поднял винтовку и прицелился, вглядываясь в густую путаницу ветвей и листьев. Но выстрела не последовало. В бинокль обезьяну увидеть удалось, невооруженным глазом охотник никак не мог ее отыскать. — Вот несчастье! — пробормотал он. — Я потерял ее из виду. Только какая-то неопределенная масса… — Помогите!.. Помогите!.. — раздался женский голос почти над самой его головой. Кричали по-французски. Три друга вздрогнули. Надо было спешить — крик неминуемо привлечет внимание гориллы. Господин Андре неожиданно решился. Грянул оглушительный выстрел, эхом прокатился по лесу. Раздался и ужасающий вой. — Попал! — воскликнули Фрике и Барбантон, англичанин же взирал бесстрастно и безмолвно. С вершины летело на землю огромное мохнатое тело, цепляясь за ветви и кувыркаясь. Рана была смертельной, но горилла еще представляла опасность. Она ухватилась за один из суков, встала лапами на другой, устремила на врагов маленькие свирепые глаза. Между противниками оказалось не более шести метров. Громадные челюсти с длинными желтыми зубами громко стучали одна о другую. Морду, эту устрашающую карикатуру на человека, искажала зверская ухмылка. Обезьяна выла, хрипела, харкала кровью, потоком хлеставшей на мох. Собрав остаток сил, она намеревалась ринуться на охотников. Возможно, им дорого пришлось бы заплатить за свою победу. К несчастью, в этот момент вновь раздался женский крик, призывавший на помощь. Горилла была метрах в трех от жертвы. Между тем женщина, вместо того чтобы хорошенько спрятаться в ветвях, неосторожно выпрямилась, стоя на одной из них. Обезьяна раздумала прыгать на землю. С криком «кэкак» устремилась на свою пленницу, которая снизу не была видна охотникам. Господин Андре выстрелил еще раз. Пуля попала ниже, чем хотел стрелок: не в висок, а в челюсть гориллы. Рана была тяжелая, но не остановила обезьяну. Похищенной грозила гибель — горилла наклонилась и уже схватила ее… Грянул третий выстрел. Он оказался решающим — пуля пронзила сердце. Обезьяна вытянулась, постояла, схватилась огромными лапами за грудь и упала навзничь с глухим вздохом. Роковой выстрел сделал жандарм. Своим спасением пленница была обязана ему. Осторожный англичанин подошел к горилле и на всякий случай выстрелил ей в ухо, месье Андре подозвал двух негров и стал что-то быстро объяснять, указывая на ветви баобаба. Лазить по деревьям они умели прекрасно. В несколько секунд взобрались по висячим корням, которые выпускают боковые ветви. Они вертикально спадают на землю и укореняются. Фрике полез вместе с неграми, чтобы руководить их действиями. Он был ловок, почти как убитая горилла, залезть на баобаб ему ничего не стоило. Вдруг он вскрикнул, точно наступил на змеиное гнездо, схватился за лиану и быстро-быстро спустился вниз, бледный, с перекошенной физиономией. — Что с тобой? Что случилось? — спросил встревоженный месье Андре. — Скажите, я похож на сумасшедшего? — Очень, я даже хотел спросить, не сошел ли ты с ума? — Действительно, друг мой, кажетесь каким-то чудаком, — подтвердил Барбантон, заряжая свою винтовку. — Чудаком!.. Только чудаком? Да мне нужно кровь пустить, а то у меня голова, пожалуй, лопнет. Впрочем, и с вами скоро произойдет то же. — Почему? — А потому… Смотрите. Незнакомка тем временем медленно спустилась с дерева. Господин Андре и Барбантон одновременно обернулись к ней. Первый невольно вскрикнул. А жандарм… Невозможно описать, что выразило его энергичное, бравое лицо: изумление, тревогу, гнев, недоумение. Он стоял как вкопанный, не в силах ни думать, ни говорить, ни даже пошевелиться. Единственное, что он смог — пролепетать глухим, замогильным голосом: — Элоди Лера!.. Жена!..На земле навзничь лежал человек с распоротым животом.
ГЛАВА III
Приезд охотников из Парижа. — Открытие сезона охоты. — Край дичи. — Жилище охотника-космополита. — Разочарование. — Браконьеры. — Губительная сеть. — Печальное возвращение. — Клин клином. — Драматическое путешествие по… столовой. — Благотворное действие вина. — О том, как горе-охотники затеяли охотничью экспедицию по всему белу свету. — Кто будет начальником экспедиции? — Единогласно выбран Андре. — Через два месяца быть отъезду. Чтобы понять происходящее, вернемся немного назад, за четыре месяца до начала нашего повествования. Было 31 августа 1880 года. В семь часов вечера на станции Монервиль (первая остановка после Эстампа) остановился пассажирский поезд. Из него вышли семеро охотников-парижан в полном охотничьем снаряжении: сапоги, гетры, пояса, ружья, сумки — все честь по чести. У каждого было еще и по собаке. Милые песики, радуясь освобождению из специального вагона, где они, протестуя, выли два часа подряд, теперь весело лаяли и прыгали. Они понимали, что предстоит охота, потому что их господа вырядились в охотничьи доспехи, которых не нале ват и уже месяцев семь. Итак, завтра утром открытие сезона охоты. Люди радовались не меньше собак. Во-первых, потому что первое сентября — начало охотничьего сезона, во-вторых, потому что это произойдет в Босе, где в изобилии куропатки и хороший стрелок может похвастаться своим искусством. У станции дожидался вместительный шарабан, запряженный парой крепких першеронов. Охотники уселись в него вместе с собаками, возница в блузе хлопнул бичом, и монументальный экипаж покатился. Дорогой все оживленно беседовали. Обсуждали предстоящее торжество. Шесть километров от станции до деревеньки С. промелькнули незаметно. Засыпали расспросами и возницу, краснощекого крестьянского парня из местных, и пришли в восторг от его сообщений. Уже лет девять, с самой войны, не было такого обилия куропаток и зайцев. В прошлую среду юноша делал вместе с хозяином обход имения и видел более сотни стай, а фермеры и их работники говорили, что наберется втрое больше. Делая скидку на некоторое преувеличение и хвастовство парня, охотники все же остались весьма довольны, предвкушая грядущий успех. Поэтому, когда шарабан подъехал к дому и остановился у крыльца, они пребывали в приятном возбуждении. Дом был современной постройки, простой, без архитектурных излишеств, но просторный и вместительный, прекрасно обставленный и очень комфортабельный. Сезон охоты можно было провести в нем со всеми удобствами. Заслышав шум экипажа, с гамака из волокон алоэ, подвешенного под липами, поднялся навстречу гостям хозяин — мужчина лет тридцати с небольшим. — Андре!.. Андре Бреванн!.. Здравствуйте, Андре!.. Приветствую!.. Гости шумно ринулись к нему, собаки с громким лаем прыгали по клумбам и грядкам. Компания мужская, все свои — а потому все церемонии отброшены. Хозяин приветливо и просто пожимает руки гостям. Он одет в синюю фланелевую блузу, в полотняные штаны и в высокие сапоги из желтой кожи. Скромно, даже чересчур скромно — но уж не взыщите, каков есть. Обед готов, специальный, для охотников, но не без кулинарных изысков. Готовила Софи, великолепная кухарка, знающая свое дело. Суп уже стоял на столе, все прочее жарилось, варилось, пеклось, кипело, бурлило, дожидаясь своей очереди. — За стол, господа! Пожалуйте! Гости расселись в просторной столовой, стены которой были увешаны трофеями, добытыми хозяином в разных уголках света. Приехавшие поохотиться на обычных куропаток парижане восторгались слоновьими бивнями, рогами лосей и карибу, буйволов, антилоп и носорогов, чешуей ящериц, шкурами львов, тигров и леопардов, чучелами гигантских и микроскопических птиц, одеждой и утварью дикарей, головными уборами из перьев, ожерельями из когтей и зубов, амулетами, раскрашенными веслами, оружием и многим другим. Такое убранство в деревенском доме создавало особую атмосферу. Не будем подробно описывать вкусный обед и передавать разговоры. Компания просидела за столом больше трех часов. У Андре Бреванна был винный погреб, доставшийся ему от дяди-миллионера, большого любителя вкусно поесть и славно выпить. Разумеется, Андре не поскупился для гостей. Когда решили, что пора расходиться, прощаясь «до завтра», кто-то заметил: — Завтра!.. Да ведь это уже сегодня. Но в семь часов утра, в назначенный час, все были в сборе в столовой, хотя и чувствовали себя невыспавшимися. Подали легкий завтрак. Наскоро перекусив, восемь охотников весело рассыпались по равнине в сопровождении егерей, нагруженных запасными патронами. Андре сказал своим гостям накануне за обедом: — Без преувеличений — дичи так много, что будете стрелять без остановок. Прошло полчаса. Охотники усердно ходили по лесу. Но не раздалось ни одного выстрела, ни одна куропатка не взлетела. Андре не знал, что думать. Прошел час. Ничего! Взлетели несколько куропаток и несколько стай перепелок, штуки две-три, но и только. По ним, конечно, били. Но где же обещанные несметные стаи? Стало быть, охотников обманули? Дичи не было. Вернее — уже не было. Она исчезла дня три тому назад. Охотничьи угодья Андре подверглись нашествию браконьеров, которые всю ее истребили. А он так хотел доставить удовольствие приятелям!
Нагрянула шайка браконьеров, которые переловили куропаток сетью, что губительно для дичи. Сеть протянули над долиной и в два приема поймали не меньше трех тысяч птиц. Подобные случаи нередки. Владельцы охотничьих угодий терпят немалый урон от браконьеров и боятся их ужасно. Будь Андре один, он отнесся бы к произошедшему спокойно, но гостей положительно не знал, чем утешить. Очень им было обидно записываться в горе-охотники. С досады они обрушились на жаворонков и погубили несколько десятков. Завтрак назначили в половине двенадцатого, но уже в десять бедолаги вернулись. Грустно было смотреть на их трофеи: куропатка, заяц, три перепелки и штук сорок жаворонков. Охотники горько жаловались и проклинали судьбу. Сам хозяин не сделал ни единого выстрела. Дабы утешить приглашенных, он прибегнул к верному средству — угостил лучшими винами из своего погреба. Средство подействовало великолепно, проложив путь многочисленным кушаньям, изумительно приготовленным Софи, которая на этот раз превзошла себя. Вкусная еда и чудные вина улучшили расположение духа, досада на неудачную охоту потеряла свою остроту. Умы разгорячились. Тон разговора сменился с минорного на мажорный. Оно и понятно. Не все же ныть и жаловаться, не все проклинать браконьеров, ворчать на пагубную сеть и толковать о давешних несчастных жаворонках, перепелках, куропатке и зайце. Да и в столовой было так славно, уютно, она была так красиво убрана цветами и зеленью, и тосты были такие симпатичные… Немудрено, что гости воспряли духом и развеселились. И вот нашими охотниками за жаворонками овладела страсть к путешествиям. В мечтах они пустились бороздить океаны, исследовать джунгли, прерии и девственные леса, стрелять бизонов, тигров, львов, сокрушать слонов. Ничто не могло устоять перед их отвагой и удалью. Путешествие оказалось в высшей степени интересным и совершенно безопасным, ведь совершили его не выходя из уютной столовой. А как интересно слушать хозяина, с жаром рассказывавшего об удивительных странах! Гости увлеклись. Каждый воображал себя героем приключения. То и дело раздавались возгласы: — Браво!.. И я бы так поступил!.. Да, превосходная вещь — путешествия… Как страстно хотелось мне путешествовать, когда я был моложе… Я родился путешественником… Какой вы счастливец. Бреванн: вам удалось объехать весь свет. — А вам кто мешает? — спокойно заметил Андре. — Все вы люди со средствами, холостяки и любители охоты. Неужели вы так привязаны к нормандским равнинам и пикардийским болотам, что прожить без них не сможете? — Вовсе нет! — зашумели наэлектризованные гости. — Так за чем же дело стало? Вам нравятся мои трофеи? Нравятся? Поезжайте добывать такие же: встряхнетесь, наберетесь впечатлений, испытаете здоровое волнение. Пережитые тревоги заставят вас сильнее почувствовать прелесть домашнего очага… — Все это так, — заметил один из гостей. — Желание у нас есть. За деньгами остановки не будет. Но у нас нет случая, нет повода, нет руководства. Впрочем, повод, если хотите, есть; но зато руководство… — Так ли я вас понял? — спросил Андре. — Вы хотите сказать, что, не имея опыта путешествий, боитесь столкнуться с затруднениями, не имеющими прямого отношения к охоте. Верно? — Вот именно. Ясно ведь, что нельзя сесть на первый попавшийся пароход, приехать бог знает куда, выйти на берег и идти на охоту. Есть множество вещей, которые надо продумать заранее, подготовить. Нельзя действовать очертя голову. — Что ж, что верно, то верно. — Наконец, путешествовать и охотиться одному… Бывают минуты, когда одиночество становится невыносимым. Я бы предпочел поехать компанией. — О да! Конечно!.. Компанией гораздо лучше! — Этот вопрос считаем решенным. Но по-прежнему остается вопрос руководства и отсутствия опыта. — Именно. — А если бы нашелся бывалый человек, предложил свои знания и опыт, вы бы с ним поехали? — С восторгом! — Только уговор: чтобы уж дичь была непременно. — На этот счет будьте спокойны. Он заведет вас туда, где сетей не ставят, где не встретить дичь нельзя, хотя и там есть браконьеры, но только иного рода. — Кто же этот человек? — Да хоть бы и я, если вам угодно. — Вы, Андре? Мы думали, вы решили больше не путешествовать. — Пять минут тому назад я и сам так думал. — А теперь? — Теперь думаю поехать с вами и угостить охотами, где мистификации, вроде сегодняшней, невозможны. Правду сказать, я просто обязан сделать это для вас. — Вы серьезно? — Серьезно.Но где же обещанные несметные стаи? Стало быть, охотников обманули?

— Знаете? Вы удивительный человек. — Ничуть. Просто всегда быстро принимаю решения. Как раз в эту минуту громко хлопнули пробки нескольких бутылок с красными этикетками, искрясь и пенясь, разлилась по бокалам дивная влага шампанского «Монополь»… Веселое настроение достигло высшей точки. — Итак, — заговорил Андре, вставая с бокалом, — решено, мы едем охотиться. — Все едем!.. Все!.. И чем скорее, тем лучше. — Чтобы приготовить все как следует для экспедиции, мне понадобится два месяца. — Почему так долго? — Два месяца — долго? Да ведь надо корабль подыскать, приспособить его для наших целей, починить, если необходимо, попробовать его ход, подобрать экипаж… А еще заказать оружие и снаряжение для экспедиции, проследить, чтобы качество было безукоризненным… Дня через два я вам представлю полный список необходимого, и вы сами увидите… Неужели два месяца на все это — долго? Ведь экспедиция наша протянется месяцев десять, а то и год. — Ну хорошо. Два месяца так два месяца. Но не дольше! — Дня не просрочу, не беспокойтесь. Теперь о расходах. — Расходы мы не обсуждаем. — Напрасно. Это важно. Полагаю, по двадцать пять тысяч достаточно, чтобы покрыть все расходы. Без личного оружия и снаряжения. — А корабль? — Я куплю его для себя. Я давно собирался завести увеселительную яхту. Вот вместе ее и опробуем. — Когда вы думаете начать приготовления? — Немедленно. Охоту нашу можно считать законченной. Через час я еду в Париж. Если хотите остаться здесь — располагайтесь. Весь мой дом к вашим услугам — от погреба до чердака. — Нет, спасибо. Мы тоже поедем. — Как угодно. Завтра вечером я буду в Гавре, послезавтра вы получите от меня подробное наставление, что купить для экспедиции. — А как же вы? — Мне ничего не надо. Я готов выехать в любой миг. Сегодня первое сентября. Сбор в Гавре тридцать первого октября, в гостинице Фраскати. Опоздавших не ждем. Утром первого ноября яхта будет готова к отплытию, все должны быть на борту. Час отплытия зависит от прилива. — Куда мы направимся? — Решим, выйдя в море. Можно начать с Южной Африки, оттуда в Индию, в Индокитай… потом в Океанию… Впрочем, пока рано говорить об этом. Дорогие мои друзья, пью за наше путешествие и… за незыблемость ваших намерений!..— Итак, — заговорил Андре, вставая с бокалом, — решено, мы едем охотиться.
ГЛАВА IV
Домик на улице Лепик. — У парижанина. — Встреча побывавших у черта на куличках и собирающихся туда опять. — Занятия Фрике. — Особое поручение. — Набор матросов. — Прогулка парижанина. — Улица Лафайет в 9 часов утра. — Несчастья владельца табачной лавки. — Нервы мадам Барбантон. — Домашняя сутолока, грозящая трагическим исходом. — Вернуть бы то время, когда нас хотели посадить на вертел. — Нашего полку прибыло. Андре Бреванн и его гости сели в поезд, проходивший через Монервиль в четыре часа дня, и уехали в Париж. Охотники были шумно веселы. Они вполне утешились принятым решением. Люди праздные, они были в восторге, что им предстоит участие в экспедиции чуть ли не по всему белу свету. Мысленно они уже осваивали неведомые земли, участвовали в богатырских охотах. Бреванн, радуясь воинственному настрою друзей, которые за два часа пути до Парижа еще сильнее укрепились в своих намерениях, крепко пожал им на прощание руки. Наняв фиакр, что-то тихо сказал вознице, и фиакр помчался неожиданно быстро, что так несвойственно этому виду транспорта. За три четверти часа он доставил Андре от Орлеанского вокзала на улицу Лепик и остановился у дома № 12. Миновав длинный коридор, Бреванн оказался в очаровательном саду. В глубине был уединенный павильон. По усыпанным песком дорожкам цветника он прошел к нему, отворил двустворчатую дверь и оказался в большой комнате, которая была, по-видимому, и кабинетом, и мастерской. Комната, по всей видимости, была ему хорошо знакома — он не обратил ни малейшего внимания на обстановку, которая, безусловно, того заслуживала. Прежде всего, два громадных шкафа, набитых книгами. Большая черная доска, исчерченная геометрическими фигурами и исписанная алгебраическими формулами, явно решение какой-то задачи по механике; чертежи и карта мира, множество деревянных и гипсовых моделей странных инструментов. Справа — верстак из древесины вяза, стальные тиски, токарный станок, инструменты, необходимые слесарю-механику. Наверху — клетка со скворцом. Напротив верстака — большой дубовый письменный стол, заваленный бумагами и папками, набросанными одна на другую. По стенам — экзотические безделушки, шкуры животных, пара ружей, абордажная сабля, салакко, напротив двери — портрет Андре Бреванна в полный рост. Колокольчик у входной двери пронзительно зазвенел. Скворец прекратил свою болтовню и стал подражать звуку металла. Из большой плетеной корзины вылезла, махая хвостом, некрасивая облезлая собака с живым и добрым взглядом и своим влажным, черным, как трюфель, носом дотронулась до руки гостя. Отворилась боковая дверь. В комнату вошел молодой человек в синей блузе, как у Андре, с непокрытой головой: — Месье Андре!.. Вы!.. Вот здорово! В нем сразу чувствовался настоящий парижанин, типичный гамен, который остается шутником даже в самые серьезные минуты. — Здравствуй, Фрике, — отвечал Андре, крепко пожимая руку юноши, который ответил ему таким же сердечным пожатием. — Что за добрый ветер вас занес? — Очень странное приключение. — Не может быть! Наши приключения давно закончились. Ах да! У вас сегодня открытие сезона охоты. — Вот тут-то и начинается приключение, могущее завести нас с тобой очень далеко. — Ну, нам не страшно. Мы у черта на рогах побывали и домой вернулись. — И опять, пожалуй, попадем к черту на рога. — Что ж, я готов. А что, предстоит постранствовать? — Месяцев восемь или десять. — Когда отправляться? — Мне и тебе завтра. — Стало быть, будут и другие? — Вечером все тебе расскажу. — Хорошо. Составите мне компанию? Я собираюсь ужинать. — Разумеется. Но только предупреждаю: я основательно позавтракал сегодня и буду неважным сотрапезником. — Вы здесь у себя дома. — Ну а как твои труды? — Три дня назад я завершил механический промыватель. Настоящее сокровище! Действует превосходно. Могу ручаться, что при промывке не будет оставаться ни крупинки золота. Амальгаматор тоже готов к действию. Я снабдил его аппаратом, предупреждающим кражу золота и ртути. — Молодчина! — Кроме того, доделал модель металлического патрона, непосредственно соединяемого с капсюлем пистонного ружья. Вот она! — Превосходно! — Вы довольны? — Я в восторге. — Мне это очень приятно. — А ты патент на себя выправил? — Как же я это сделаю? Ведь изобретатель — вы. — Не говори пустяков. Патент для тебя деньги, понимаешь? Если даже у меня есть права, я уступаю их тебе и требую, чтобы ты ими воспользовался. А теперь о нашем путешествии. Завтра в восемь вечера ты выезжаешь в Брест. — Хорошо. — Там мы подыщем десять опытных матросов, корабельного повара и юнгу. Наймем их на год с пятнадцатого сентября. — Раз посылаете меня в Брест, значит, хотите, чтобы все матросы были бретонцами, не иначе? — Разумеется. Потом двух машинистов и двух кочегаров, двух гребцов для лодок, двух канониров, рулевого и боцмана. Всего, стало быть, двадцать один взрослый и один юнга. Капитана, помощника, метрдотеля и повара для пассажиров я поищу сам. — Все? — Пока все. Выбирай людей надежных, с безупречной репутацией. Полагаюсь на тебя всецело. Скажи, что они поплывут на увеселительной яхте с очень добрым капитаном, который, однако, не шутит с дисциплиной. Прибыть должны в Гавр через две недели. Хочу как можно скорее иметь их в своем распоряжении. Жалованье определишь сам. Знаю, что выкажешь надлежащую щедрость без излишеств. Кроме того, по окончании плавания каждому будет награда по его заслугам. — Все? — Теперь все. Надеюсь, ничто не помешает тебе выехать? — Что может мне помешать, месье Андре! Я вольная птица. — Пожалуйте к столу, господа, — сказала, отворив дверь, добродушная женщина с седыми волосами, типичная парижская прислуга. — Идем, мадам Леруа. Бедняжка! Мой отъезд для нее катастрофа. Впрочем, я обеспечу ее на все время своего отсутствия. Пусть дожидается меня здесь в компании с моим скворцом Мальчишкой и собакой Бедой.На другой день утром Фрике пешком дошел от дома до Монмартрского предместья и свернул на улицу Лафайет. Было девять часов. Молодой человек шел с неповторимой непринужденностью парижского фланера, не думая о том, что вечером предстоит отъезд в Брест. Разглядывая трамваи и витрины, читая афиши, то и дело закуривая папиросы в табачных лавочках, он шел вверх по бесконечной улице Лафайет, наслаждаясь водоворотом толпы, который так мил всякому парижанину и так смущает приезжего из провинции. Но Фрике не гулял. У него была цель — навестить друга. Знакомых в Париже у молодого человека было много, друзей только двое — месье Андре и еще один человек, живущий в самом конце улицы Лафайет, почти в Пантене. Фрике думал проститься с ним перед отъездом. Другой, отправляясь в такую даль, взял бы извозчика, но Фрике это даже в голову не пришло. Хотелось напоследок пройтись пешком по парижскому асфальту, пробежаться по любимым улицам, надышаться родным воздухом. Дойдя до одной табачно-винной лавочки, он смело вошел в нее, поклонился молодой особе, сидевшей у конторки, и собирался пройти в комнату за лавкой, как вдруг услышал за дверью крик, брань и остановился. — Вот незадача, — прошептал он. — У мадам Барбантон нервы расходились, а когда это случается, для моего бедного друга настает сущий ад. Такой ад, что самому Вельзевулу сделалось бы тошно. Но все-таки зайду и пожму ему руку. Он постучался и вошел, не дождавшись сакраментального «войдите». — Имею честь кланяться, сударыня! — произнес он как можно любезнее. — Здравствуйте, дружище Барбантон! На это приветствие к нему быстро обернулся высокий мужчина в узких панталонах, жилетке из трико, с лицом суровым, но симпатичным, и дружески протянул молодому человеку обе руки. — Ах, Фрике! Я очень несчастлив, дитя мое! Дама бросила на вошедшего косой взгляд и ответила, точно хлыстом ударила: — Здравствуйте, сударь! Ледяной, чтобы не сказать более, прием не смутил Фрике. Он всякое повидал и решил храбро выдержать бурю, не отступая со своей позиции. — Что случилось, милый мой солдатик? Что тут у вас? — Я в бешенстве. Взгляните на меня. Еще чуть-чуть — и до греха недалеко. — Боже, да у вас лицо исцарапано в кровь! — заметил Фрике, невольно рассмеявшись. — Должно быть, вы дрались с полудюжиной кошек. — Нет, это все мадам Барбантон. Вот уже час она пробует на мне свои когти. Попутно осыпая оскорблениями. Позорит честь солдата, безупречно прослужившего отечеству двадцать пять лет. — Ну, что там… Может, и вы немного вспылили, — ответил Фрике, зная, что говорит пустяки. — Если я и вспылил, то ведь я ничего же себе не позволил, — возразил исцарапанный муж. — А между тем я мог бы… Женщина разразилась противным, злым хохотом, от которого передернуло бы и самого невозмутимого человека. — Что бы ты мог? Ну-ка скажи! Тон был вызывающий. — Несчастная! Хорошо, что я с бабами не дерусь, считаю это позором, а то ведь мог бы убить тебя одним ударом кулака! — Это ты-то? — Я. Но не для того я верой и правдой прослужил двадцать пять лет в жандармах, чтобы самому усесться на скамью подсудимых. — Постой же, я тебе покажу. Жена наступала, он отстранялся. Вытянув вперед руку, схватила его за седую бородку и стала теребить, приговаривая: — Да где тебе, ты трус и подлец! Фрике был изумлен, не понимал, во сне видит это или наяву. При всей своей находчивости — растерялся. — Сударыня, — нерешительно заметил он, — до сих пор я думал, что подлец и трус тот, кто бьет женщину, даже если он совершенно прав. Мадам Барбантон ничем нельзя было урезонить. Продолжая таскать отбивавшегося от нее мужа за бороду, отвечала глупо и грубо: — Вы еще тут со своими рассуждениями! Очень они мне нужны! Да я и не знаю вас. Явился неведомо кто, неведомо откуда… С улицы, первый встречный… Фрике побледнел как полотно. Выпрямился, устремил на мегеру стальные глаза, засверкавшие особенным блеском, и глухо проговорил: — Ответь мне так мужчина, плохо бы ему пришлось. Но вы женщина. Я вас прощаю. Отставному жандарму удалось наконец избавить свою бороду от мучительной экзекуции. И он не преминул вставить свое слово: — Фрике прав. Тебя спасает, во-первых, то, что ты женщина, во-вторых, что мы французы. Будь я турок, тебе бы голову отрубили за то, что ты посягнула на бороду мужа: борода у мусульман священна.

— Бездельник! — взвизгнула мадам Барбантон, которую раздражало спокойствие обоих мужчин, и вдруг выбежала вон, хлопнув дверью. — Эх, Фрике, милый мой товарищ! Я гораздо счастливее чувствовал себя у канаков. Тот день, когда нас в Австралии хотели нацепить на вертел, с нынешним я не сравню. Он был гораздо приятнее. — Да, характер вашей супруги не улучшился — был уксус, теперь серная кислота. — И так каждый день! Не одно, так другое. Последнюю неделю она изводит меня, требуя, чтобы я что-то подмешивал в вино и водку. А я не желаю быть отравителем. Во всем ей уступил, а в этом нет. И не уступлю ни за что. Скорее всю свою торговлю к черту пошлю. Ах, если бы можно было поступить опять на службу! — Кстати, я ведь зашел проститься. — Уезжаешь? — Сегодня вечером и, вероятно, на целый год. — Счастливец! — Вы сейчас хотели послать все к черту. Поезжайте со мной. Ведь меня увозит месье Андре. — Месье Андре? Тысяча канаков! — Вы знаете, как он вас любит. Поехали с нами. Решено? Увожу вас в Брест. Укладывайтесь, потом вместе позавтракаем, погуляем, как матросы на берегу, а вечером к восьми часам — на вокзал. — Согласен, — энергично заявил Барбантон. — Через четверть часа я буду готов. Четверти часа не понадобилось. Через десять минут отставной жандарм вышел из спальни с чемоданом, под ремни которого был просунут какой-то длинный и твердый предмет в чехле из зеленой саржи. Исцарапанное лицо Барбантона сияло. Он прошел с Фрике в лавку, где за конторкой среди сигарных ящиков теперь восседала его жена, успевшая прийти в себя после передряги. — Вы часто выражали желание расстаться со мной, — сказал ей слегка насмешливым тоном жандарм. — Желание это сегодня исполняется. Я уезжаю с Фрике и оставляю вам все деньги, какие есть в доме, беру только двести пятьдесят франков — пенсию за крест. Можете искать развода через суд, я протестовать не буду. Мне все равно. Надеюсь, за время моего отсутствия наши депутаты проголосуют за упрощенную процедуру развода. Счастливо оставаться, Элоди Лера. Прощайте! — Скатертью дорога! — взвизгнула мегера, испытывая, однако, смутное беспокойство. Ей было очень не по себе в эту минуту, хотя она и старалась это скрыть. — Спасибо, — ответил Барбантон. Фрике тем временем насвистывал — по правде говоря, весьма фальшиво — подходящую к случаю знаменитую песенку «Господин Дюмолле»… В тот же вечер на вокзале Сен-Лазар друзья сели в поезд, отходивший в Брест.Жена наступала, он отстранялся. Вытянув вперед руку, схватила его за седую бородку…
ГЛАВА V
Покупка корабля. — Шутка повешенного. — «Голубая антилопа». Экипаж яхты. — Ее снаряжение. — Последний день на суше. — Завтра! — Приход почтальона. — Заказные письма. — Свадьба. — Злоключения охотника за утками. — Кандидат в депутаты. — Пословицы!.. Еще и еще! — Трус, но, по крайней мере, не врет. — Нас только трое. Прошло два месяца. Наступило 31 октября — срок, который назначил своим товарищам Андре Бреванн. На следующий день должна была начаться экспедиция, экстренно затеянная вследствие неудачной охоты. Андре добросовестно выполнил все свои обязательства. Благодаря недюжинным организаторским способностям, неутомимой энергии и немалым средствам ему удалось в столь короткий срок запастись решительно всем необходимым для задуманного путешествия. Ему везло с самого начала. Отправив Фрике в Брест нанимать экипаж, Андре обосновал в Гавре штаб-квартиру, откуда списался с морскими агентствами Франции и Англии, в которых сосредоточены сведения о найме, постройке и покупке кораблей. Поскольку за подходящее судно он обещал хорошую комиссию, его вскоре уведомили, что в Брайтоне продается отличная яхта. Подробно описывая судно, маклер не утаил и причины продажи. Фирма «Шоу, Тернер и Бингэм» построила ее два года назад в Ливерпуле по заказу страдавшего сплином богатого баронета. Она совершила всего два плавания: в Капскую колонию и на Ближний Восток. Путешествия не помогли избавиться от сплина, и баронет обратился к другому чисто английскому средству — веревке, которая избавила его от тягостного существования на земле. Повесился он на рее своей яхты в самый день ее возвращения из плавания на Брайтонский рейд, отослав предварительно весь экипаж. Идея чисто британская. Случилось это месяц назад. Наследники обрадовались, яхту немедленно выставили на продажу. Андре не признавал суеверий. В тот же день сел в Дьеппе на пароход, добрался до Ньюхэйвена, оттуда ближайшим путем поехал в Брайтон, побежал на яхту, тщательно ее осмотрел, сторговался и тут же уплатил наличными. Добыв лоцмана и четырех матросов, чтобы вернуться в Гавр, Андре покончил с необходимыми формальностями, наскоро купил кое-какой провизии и поплыл обратно к нормандскому берегу. Через восемь часов он был в Гавре. Во время этого короткого плавания Андре убедился, что сделал чудесную покупку. «Увеселительная яхта». Читатель, вероятно, думает, что это нечто непрочное, несолидное, рассчитанное на красоту и быстроту, а не на крепость и силу. Вовсе нет. Это далеко не всегда так; что касается яхты, купленной Андре, она была выстроена особенно прочно. Внешне напоминала трехмачтовую шхуну с прямыми парусами на бизань-мачте и с косыми латинскими на гроте и на фоке. Длина — пятьдесят метров, водоизмещение — пятьсот сорок тонн. Машина в семьдесят две лошадиные силы развивала скорость до десяти с половиной узлов. Угольные камеры вмешали восемьдесят пять тонн угля при расходе около четырех тонн в день. Из сохранившегося корабельного дневника было видно, что яхта ходила в среднем со скоростью восемь с половиной узлов, другими словами, делала от пятнадцати до шестнадцати километров в час. Итак, судно было крепким, сильным, могущим смело плавать в океанах, идя навстречу морским опасностям. Андре оставил за яхтой имя, данное ей англичанином-меланхоликом. Для непосвященных оно ничего не значило. «Blue-Bok», «Голубая антилопа». Эта антилопа, научное название Antilope caeruloea, водится в Южной Африке, ее мясо очень ценится местными жителями. Имя, как нельзя более подходящее кораблю, купленному для охотничьей экспедиции. Оно было написано голубыми буквами по золотому полю на доске, прибитой у кормы, на носу красовалось резное изображение грациозного животного. Символ весьма уместный. Машина и оснастка были в хорошем состоянии, требовался незначительный ремонт, и, если бы не внутренние переделки для устройства семи спален пассажирам, новому хозяину не о чем было бы заботиться. Не будучи моряком, Андре обладал довольно обширными познаниями в мореплавании, которые приобрел во время путешествий. Обычно пассажиры на корабле спят, едят, пьют, играют в карты, не зная, как убить время; Андре пользовался свободным временем, чтобы изучить техническую и практическую стороны мореходства. В результате, не имея звания капитана, на своей увеселительной яхте мог быть полноправным хозяином. Помощником он взял опытного шкипера дальнего плавания, чтобы тот вел корабль указанным курсом, не вмешиваясь в управление экспедицией. Еще недавно подобное было невозможно, яхтой должен был управлять настоящий, дипломированный капитан, но теперь специально для увеселительных яхт из общего Устава торгового мореплавания исключили ряд положений. Фрике тоже успешно справился с порученным ему делом. Подобрал образцовый экипаж из матросов-бретонцев, которые были в восторге, что на корабле не будет товаров, с погрузкой и выгрузкой которых приходится немало повозиться. Фрике привез их к назначенному дню в Гавр и представил Андре Бреванну. Тот сейчас же пустил их на борт.
Вновь прибывших обуяла страсть к чистоте. Они принялись мыть, чистить,скрести корабль внутри и снаружи, от киля до верхушки мачт. Реи, паруса, канаты, все снасти были внимательно осмотрены и старательно уложены, все пазы заново проконопачены; яхта выглядела как новехонькая. Началась заготовка провизии. Заполнили угольные камеры и емкости для пресной воды, равно как кладовые и камбуз. Поскольку яхте предстояло посетить места не вполне благонадежные, Андре счел нужным имевшиеся на ней две маленькие сигнальные пушечки заменить одним настоящим артиллерийским орудием четырнадцатисантиметрового калибра на вращающемся станке. Большую паровую шлюпку вооружили картечницей Норденфельда. Малайские острова кишат пиратами. Они легко могут соблазниться «Антилопой». Вооружиться на всякий случай было необходимо. Мудрая пословица гласит: «Хочешь мира — готовься к войне». За хлопотами время прошло незаметно. Андре был так уверен в своих друзьях, что даже не писал им. Зачем? Подробное наставление он своевременно отправил, они наверняка запаслись всем необходимым. Бреванн не сомневался, что они явятся в срок. Срок наступил. Через несколько часов яхта должна была выйти в море. В последний момент на борт приняли живность: баранов, свиней, кроликов, кур, уток, гусей, индюшек. Разместили по стойлам и клеткам, где они громко протестовали против насилия кто как умел: блеяньем, хрюканьем, квохтаньем, кудахтаньем, пока морская болезнь не заставила их замолчать.Фрике подобрал образцовый экипаж.
Восемь часов утра. Завтра в это время на яхте взовьется флаг отплытия. Из трубы повалит дым. Все будет готово к путешествию. Андре встал с рассветом, наскоро проглотил чашку чая, пересматривая бортовые бумаги. Он ждал почты. Последней почты перед отплытием. В дверь постучали. Вошел почтальон. — Что это? Заказное письмо? — удивился Бреванн. — Несколько, — отвечал почтальон, доставая из сумки пачку пакетов и внимательно просматривая надписи на них. — Вот, извольте, всего семь. — Странно! — прошептал Андре, расписываясь в получении. — Ужасно странно! Он щедро дал на чай почтальону, и тот ушел, сияя. Пакеты — тяжелые, толстые, каждый с пятью печатями — лежали на столе. Бреванн смотрел на них с нерешительностью. — Ясно, что это от них. Неужели в последнюю минуту все струсили? Вот будет комедия. Что ж, посмотрим. Он распечатал первый попавшийся под руку пакет. В нем оказались банковские билеты — целая пачка — и коротенькая записка.
Милый друг! Человек предполагает, а Бог располагает. Два месяца назад я был свободен. Теперь нет. Через две недели моя свадьба. Комментарии излишни. Только это одно и мешает мне поехать с вами. Надеюсь, причина уважительная. Впрочем, у вас и так остается очень приятная компания, так что вы ничего не теряете. В убытке один я.Сердечно преданный вам А*** Д***.
P. S. Из-за меня вам пришлось сделать лишние траты. Считаю необходимым возместить свою долю издержек. Прилагаю двенадцать тысяч франков. Довольно ли этого?Андре расхохотался. — Так! Он женится и потому не едет, а Барбантон уезжает, чтобы расстаться с женой. Одно другого стоит. Ну-ка, что еще мне пишут?
Милый друг! Я очень люблю охоту на уток — и поплатился за это. Прошлой зимой я чересчур много бродил по болотам, и теперь у меня острый ревматизм злейшей формы, лежу в постели и едва ли скоро встану. Это обстоятельство исключает для меня всякую возможность ехать с вами. Если бы меня можно было провезти по железной дороге до Гавра, я бы приехал к вам, несмотря ни на что. Но сейчас я без рук и без ног и не могу двинуться с места. Итак, поезжайте без меня и пожалейте меня, а вам желаю счастливого пути. Прилагаю двенадцать тысяч франков, считая эту сумму моей долей в ваших расходах. Если нужно больше — уведомьте. Я вышлю. Не забывайте меня и знайте, что я рвусь к вам всей душой.— Утки придуманы довольно удачно. Будем читать дальше. Очень занятная сегодня почта. Фрике останется доволен. Он рад будет посмеяться.Г*** Б***.
Мой милый Андре! Одним монахом меньше… Вы знаете эту пословицу? Так вот, не сердитесь, что нарушаю слово: ей-богу, не виноват. Обанкротились две фирмы, с которыми у меня дела. Я теряю половину моего состояния. Усиленно хлопочу спасти и упрочить остальную половину и потому никак не могу уехать из Парижа: мое присутствие там необходимо. Вы уяснили себе, надеюсь, полную невозможность для меня поехать с вами. Передайте мои извинения нашим общим друзьям и верьте моему всегдашнему искреннему расположению.Ваш Э***Л***.
P. S. Довольно ли будет двенадцати тысяч франков для покрытия моей доли издержек?— Бедненький! Наполовину разорен! — вновь рассмеялся Андре. — Но ведь путешествие позволило бы хорошо сэкономить. Идем дальше. Как! Теперь начинается пословицей?
Дорогой друг! Делу — время, потехе — час… Я знаю, что упускаю единственный случай, но ехать с вами не могу. Того, что потом произошло, я совершенно не предвидел. Судите сами: депутат от моего округа неожиданно умер, и избирательные комитеты выставили мою кандидатуру. Меня принуждают. Я и сам не рад. Уступаю насилию. Грустно, что не увижу вместе с вами со всеми тропических морей и земель, но что же делать?.. Я себе уже не принадлежу. Прилагаю несколько банковских билетов, чтобы покрыть мою долю расходов.Бреванн пожал плечами и не удержался, чтобы не сказать: «Дурак!» Пятое письмо с вложенной роковой суммой в двенадцать тысяч франков тоже начиналось пословицей:Преданный Вам А***Л***.
Лбом стену не прошибешь. Не правда ли, дорогой Андре? Не осуждайте меня чересчур сурово, если я не явлюсь на сборный пункт. Причина ужасная и в то же время секретная. Я никак не могу!.. Не спрашивайте меня больше ни о чем.— И не подумаю спрашивать. Очень нужно! Замечу только, что мой друг Ж*** Т*** даже утки не в состоянии был выдумать… Ничего, для коллекции сойдет и это. Андре распечатал шестое письмо. — Они меня задушили пословицами! — воскликнул он. Действительно, автор начал свое письмо так:Ж*** Т***.
Настоящая правда всегда неправдоподобна. Дорогой Андре, когда я договаривался с вами насчет путешествия, совершенно забыл, что мне в будущем марте нужно явиться на двухнедельные сборы. Глупо, но это так. И отсрочку взять нельзя: мне давали ее в прошлом году. Вы не можете себе представить, как досадно и обидно упустить такой исключительный случай для необычайного путешествия, но что же делать? Приходится выбирать между дезертирством от вас и дезертирством с военной службы. Военное начальство у нас не шутит, поэтому я выбираю первое. Верьте мне — я страшно огорчен.— Раз от разу все лучше… Посмотрим, какую пословицу подобрал седьмой и последний.Преданный Вам Ж*** Б***.
Дорогой Андре! Есть русская пословица: не хвались, когда едешь на рать. Да, я чувствую, что слишком на себя много взял тогда. За завтраком у вас в усадьбе после выпитых бургундских вин, белых и красных, я был очень храбр, даже чересчур храбр, а потом опомнился и много раз бранил себя за излишнюю пылкость. До последней минуты я не решался вам написать, все надеялся, не вернется ли ко мне мой героизм. Но он не вернулся. Нет, дорогой Андре, я не создан для путешествий. Со стыдом признаюсь, что мне мое буржуазное прозябание больше по душе, чем все ваши приключения. Я люблю основательно поесть, выпить и поспать и как можно меньше работать. Излишнее волнение дурно отзывается на моем желудке, чрезмерная усталость вызывает бессонницу. Таков не я один, таково большинство, только другие не решаются сознаться открыто, а я сознаюсь. Оцените же мою откровенность и, когда отправитесь в свое интересное путешествие, не поминайте меня лихом. Я же предпочитаю путешествовать… при помощи книг. Вы поедете не один, а с нашими друзьями… если и у них в последнюю минуту тоже не пропадет вся храбрость, как пропала у меня. В этом, по-моему, не будет ничего удивительного; удивит, скорее, обратное. Позвольте мне вознаградить вас двенадцатью тысячами франков за то, что вы потратили на меня, и засвидетельствовать вам мою искреннюю симпатию. Я тоже путешественник, но только комнатный. Я вами восхищаюсь, но не намерен вам подражать.— По-моему, так гораздо лучше. Этот, по крайней мере, хоть не врет. Вошел Фрике. — Вот, возьми, почитай, — сказал Андре, указывая на письма. — Что это? От наших будущих товарищей? — У нас нет никаких товарищей. Нас только трое. — Не может быть! Неужели все сдрейфили? — Именно так, как ты говоришь. — Когда же мы едем? — Завтра непременно. Мы ничем не связаны и всем обеспечены, мы можем смело идти вперед без всякого хвастовства и бахвальства, но твердо и непоколебимо. — Я даже рад, что с нами нет никого лишнего. Итак, да здравствуют приключения! Вперед — без страха и колебаний! Мы люди закаленные, и на нашем корабле есть веревка повешенного. Это залог удачи. Я уверен в успехе.Ф*** А***.
ГЛАВА VI
Как познакомились наши путешественники. — Геройский поступок парижского гамена. — Жертвы собственной храбрости. — В плену у людоедов. — Обожествление жандарма. — Воин, бывший у дикарей божеством, может быть очень несчастным в супружестве. — Приключения парижского гамена в Австралии. — Возвращение в Париж. — Фрике бросает все и едет с Андре. — Слишком много комфорта. — Последнее слово о дезертирах. — Вооружение современного охотника. На следующий день «Голубая антилопа» вышла в море, воспользовавшись утренним отливом. Она шла неведомо куда и увозила троих путешественников. Расскажем тем временем, как они познакомились, читатель, должно быть, удивляется, как возникла между ними дружба. Миллионер Андре Бреванн, парижский гамен Виктор Гюйон и отставной жандарм Филобер Барбантон… Компания довольно странная. Однажды Фрике пустился в кругосветное путешествие, не имея других капиталов, кроме железного здоровья, молодости, силы и отваги (этому посвящен роман «Путешествие парижанина вокруг света»). Во время этого странствия и сблизились три наших героя. Андре в то время управлял в Аданлинанланго, в Экваториальной Африке, большой факторией своего дяди, богатого гаврского судовладельца. Однажды он возвращался из поездки во Францию и плыл на казенной паровой шлюпке по реке Огоуэ, на берегу которой находилась фактория. Шлюпка была выслана на поиски врача, которого украли прибрежные дикари, людоеды из племени осиебов. Они напали на шлюпку и непременно завладели бы ею, если бы не одно неожиданное обстоятельство. Шлюпка готовилась ринуться на лодки дикарей и прорвать их линию, как вдруг винт запутался в лианах и ветвях и перестал действовать. Французам грозила гибель. Молоденький кочегар выпрыгнул из лодки и несколько раз поднырнул под нее, пытаясь освободить винт, это ему удалось. С лодки тем временем вели адский ружейный огонь, дабы держать дикарей на почтительном расстоянии. Шлюпка вновь могла плыть. Кочегару бросили канат, чтобы он взобрался на борт. В эту минуту осколок пироги, разбитой картечью, упал ему на голову. Паренек пошел ко дну. Тогда Андре прыгнул в воду и бросился юноше на помощь. К несчастью, шлюпка как раз разворачивалась, ее подхватило быстрым течением и отнесло далеко от тех, кто оказался в воде. Они поплыли к берегу. Доплыли — и угодили в плен к людоедам. Кочегар был не кто иной, как Фрике, совершавший свое кругосветное путешествие. Так он и познакомился с Андре — в африканской реке, между зубами крокодилов и челюстями людоедов. Немудрено, что знакомство сразу оказалось очень близким. Затем — нужно ли вновь описывать, как они жили в плену у людоедов, как их там откармливали, чтобы потом съесть; описывать их побег и что они претерпели в африканской пустыне? Нужно ли повторять, как Фрике, расставшись с Андре, попался пиратам, которые увезли его в Аргентину, как он опять убежал и подвернулся краснокожим, опять спасся, перешел через Кордильеры и вновь снова встретился с Андре в Вальпараисо? Вместе поплыли они через океан и на австралийском берегу вновь угодили к людоедам. Их уже собирались нацепить на вертел, изжарить и съесть с картошкой на гарнир, когда неожиданно раздался зычный голос: — Стой!.. Именем закона!.. Возникла высокая фигура в полной жандармской форме. Дело происходило вечером, в мерцающем свете костра она казалась исполинской. То был Онезим-Филибер Барбантон. Он служил жандармом в Новой Каледонии, вышел в отставку, возвращался во Францию, но корабль, на котором плыл, потерпел крушение. Дикари остолбенели. Барбантон выхватил саблю и заявил, что, если они не разойдутся, он разгонит «незаконное сборище» силой. Впопыхах споткнулся обо что-то, упал, сейчас же вскочил и поднял свалившуюся с головы треуголку. Надевая, пригрозил рукой и повторил: — Ну же, расходитесь, а не то плохо вам будет! Терпение мое на исходе! (по-французски, a bout, «а бу»). Дикари по-французски не понимали, но им послышалось, будто высокий человек произнес слово «табу». Они решили, что он объявляет «табу» свою шляпу. Все разом встали на колени, восклицая жалобно: «Табу! Табу!»
Жандарм в шляпе «табу» сам становился «табу» — то есть священным и неприкосновенным, божеством в глазах дикарей. Так случайно ему удалось спасти Андре и Фрике. Разумеется, они подружились. Вернувшись на родину, жандарм сбросил военную форму и открыл в Париже табачную лавочку, получив на нее права за долгую службу в придачу к пенсии. Увы! Барбантон, немало потрудившийся на нелегкой службе в колонии, не нашел на родине желанного покоя. Мы уже видели, как его жена, урожденная Элоди Лера, превратила домашний очаг в преисподнюю. Непрестанная изощренная и злобная тирания до того измучила бравого жандарма, что он с сожалением вспоминал то время, когда был среди людоедов-канаков. Тем временем Андре и Фрике опять путешествовали, на этот раз по Океании (об этом рассказано в романе «Приключения парижанина в Океании»), Они хотели основать на Суматре торгово-земледельческое предприятие, что сулило немалые барыши. Но обстоятельства сложились чересчур неблагоприятно. Им пришлось уехать с Суматры, на их долю выпало множество удивительных приключений. Сутки парижский гамен Фрике был султаном острова Борнео. Домой они вернулись ни с чем, обогатившись лишь надеждами на лучшее будущее и изрядным опытом. Тут подоспела смерть дяди-миллионера, который оставил Андре Бреванну все свое громадное состояние. Первым делом наследник попытался устроить Фрике новую жизнь, оградив от нужды. Но тот не шел ни на какие сделки, как ни старался щадить его самолюбие Бреванн. Юноша не желал «примазываться к чужому богатству». Хотел зарабатывать самостоятельно. — Тогда возьми хотя бы взаймы, отдашь, когда у тебя будут деньги. Процентов я не спрошу. На это Фрике согласился. Принявшись пополнять свое скудное образование, занялся и слесарно-механической работой, в которой был весьма искусен. У него был талант на изобретения. К тому же он был терпелив, как бенедиктинец, упорный, трезвый, почти как аскет. Всего за какой-нибудь год он изобрел или усовершенствовал инструменты, наиболее востребованные в промышленном производстве, в частности, аппарат для штамповки металлических пуговиц. В кармане завелись деньжата, что его немало удивило. Конечно, сам он никогда бы не получил прибыли от своих изобретений, но в этом ему помогал Андре. Теперь Фрике трудился над аппаратом для промывки золота. За него он мог получить целое состояние, но бросил все, даже любимый Париж, по первому зову «месье Андре», как он звал своего земного бога. Бросил без колебаний, не спросив, куда ехать, зачем и надолго ли. Лишь позаботился обеспечить свою экономку. — И что в этом плохого? — рассуждал молодой парижанин. — Путешествуем мы по-царски. Наша яхта — настоящий дворец, моя спальня не уступит будуару светской дамы, стол не хуже, чем в Café Anglais. Плывем, куда хотим, делаем, что нравится, а можем и вовсе ничего не делать. На мой вкус, комфорта у нас многовато, это меня пугает. — По мне так нет комфорта, которого мы трое не были бы достойны, — возражал Барбантон. — Вы — как бывший султан острова Борнео, я — как состоявший некоторое время в ранге божества у людоедов, и, наконец, месье Андре — как человек, достойный быть кем угодно, даже императором. Зато вот эти господа, обманувшие нашего патрона… не знаю, как их и назвать… — Жалкие люди, вот и все. Действительно, кем нужно быть, чтобы с легким сердцем отказаться от такого интересного путешествия, упустить столь необыкновенный случай? Мы говорим: «с легким сердцем», потому что очевидна надуманность всех отказов. Каждый был уверен, что дезертирует он один, остальные едут, потому норовил подгадать, чтобы письмо пришло перед самым отъездом. Кто мог предвидеть, что трусами окажутся все семеро? Но довольно. Бог с ними. Мы и вспомнили-то о них только потому, что избытком комфорта на яхте обязаны им, кому предназначалась эта роскошная обстановка и изысканная еда. Трое закаленных путешествиями смельчаков привыкли к условиям поскромнее. Андре рассчитывал на десять пассажиров, семеро из которых люди изнеженные, избалованные столичными удобствами. Исходя из этого и готовил плавание. Не его вина, что потенциальные потребители увильнули от экспедиции. Хотя, следуя договоренностям, каждый должен был сам позаботиться об оружии, на яхте его было достаточно и самого современного. Андре по опыту знал, что запас хорошего оружия необходим не только для охоты, но и для обеспечения надлежащей безопасности. Потому еще до отъезда в Гавр отправился к оружейнику Гинару, и после долгого с ним совещания было решено, что каждый охотник получит винтовку Гринера восьмого калибра с тройным замком и двойным стволом длиной пятьдесят сантиметров; обыкновенную двустволку того же калибра с гладкими стволами длиной семьдесят семь сантиметров для охоты на птиц и винтовку «Экспресс» калибра одиннадцать с четвертью для защиты от крупных зверей, которую он должен постоянно держать при себе. Этим арсенал не исчерпывался. Также путешественникам полагалось ружье шестнадцатого калибра для охоты на мелких животных и птиц, американский револьвер калибра одиннадцать с четвертью для самозащиты. Гинар выполнил заказ в срок с присущей ему аккуратностью. Его замечательная фирма изготовила и ящики для патронов, футляры для ружей и прочие необходимые предметы. Все это доставили на яхту, не забыв и вооружение для матросов — скорострельные винтовки Винчестера. Фрике и Барбантон истинными охотниками не были. Конечно, встретив дикого зверя, умели постоять за себя, но охотничий огонек в них не горел. А потому условились, что они всегда будут держаться Андре и лишь помогать ему, не совершая самостоятельных вылазок. Их первые подвиги на западном берегу Африки, в лесах Сьерра-Леоне нам уже известны. Андре оставил яхту во Фритауне, и они с друзьями отправились в страну горилл, где произошла неожиданная встреча с госпожой Барбантон, удачно спасенной мужем от смертоносных объятий богатыря обезьяньей породы.Дикари разом встали на колени, восклицая жалобно: «Табу! Табу!»
ГЛАВА VII
Кошмар наяву. — «Какая это прелесть — благовоспитанный человек!» — «Сельская местность». — «Что вы тут делали на дереве?» — «Я вас разыскивала». — В путь. — Два гимна: «Боже, храни королеву!» и «Барбантон-Табу». — Путешественница. — Перед Фритауном. — Лотерейный билет. — Счастливый номер. — Триста тысяч франков. — Выигрыша не выдают! — По следам трех товарищей. — За подписью. — Желтая лихорадка. — Все на яхту. — Катастрофа. Бывают потрясения слишком сильные и для самых крепких нервов. Именно такое обрушилось на отставного жандарма, когда, подстрелив гориллу, он узнал в спасенной им женщине госпожу Барбантон, урожденную Лера. В голове помутилось, мысли закружились вихрем, понеслись в дикой пляске, и для их выражения не находилось подходящих слов. Первая реакция выглядела так — Барбантон разразился нервным хохотом. — Ха-ха-ха!.. Вот забавно-то! Мне приснилась моя любезнейшая супруга!.. Ведь это, разумеется, сон, месье Андре? Правда, Фрике?.. Что вы оба смотрите на меня так странно?.. Или у меня солнечный Удар?.. Кошмар какой-то… Послушайте, ущипните меня, уколите. Фрике, ударьте меня хорошенько кулаком. Разбудите меня, я не желаю спать… Не хотите? Тогда я сам.
Барбантон достал свой прибор для разжигания сигар и трубки, состоящий из огнива и фитиля, высек огонь, зажег фитиль и приложил к руке. Больно. — Значит, я не сплю! — воскликнул он. — Тысяча чертей! Это действительно она. Что за несчастье! Андре не слушал Барбантона, ухаживая за несчастной женщиной, которая чудом осталась в живых. С ней случился нервный припадок; она едва дышала и с нечеловеческими усилиями пыталась выдавить из себя хоть несколько слов. Наконец удалось привести ее в чувство. Она невнятно поблагодарила и хотела встать, но охотник удержал ее: — Ради бога, лежите и молчите. Вам необходим абсолютный покой. Мы сделаем носилки, и негры вас понесут. — Зачем, я не хочу причинять столько хлопот. — Голос ее успел окрепнуть. — Ни с кем не посоветовавшись, я пустилась в путь, вот и поплатилась… Ничего, пойду сама. Я одна во всем виновата и не имею права затруднять других. — Если я вам это позволю, преступлю законы человеколюбия. Мои негры понесут вас до Фритауна. — Ну, хорошо, только при условии… — Вот так-так! — прогудел жандарм на ухо парижанину. — Она еще и условия ставит! — Тсс!.. Молчи и не бойся. Наш патрон человек вежливый, но вертеть собой не даст никому. — Сударыня, я сделаю для вас все, что смогу, — отвечал Андре. — Сходите со мной во французское консульство. — Я к вашим услугам. — Ах, что за прелесть — благовоспитанный человек! — мысленно воскликнул Фрике. — И хорошо бы с нами пошел господин Виктор Гюйон и… мой муж. — Я не могу им этого приказать как начальник экспедиции, но могу попросить как друг… Что скажете, Фрике? И вы, Барбантон? — Охотно провожу вас, сударыня, — ответил парижанин, — ради того, хотя бы, чтобы вы вновь не попали в какой-нибудь переплет. Жандарм открывал рот, но не мог произнести ни слова. — Гм!.. Кхе!.. Кхе!.. — только и вылетело из его уст и звучало неблагозвучно и невразумительно. — Благодарю вас, господин Гюйон, — продолжала дама. — Перед вашим отъездом я, кажется, была с вами довольно груба… — Пожалуйста, не будем об этом говорить… — Напротив, сударыня, об этом-то мы и будем говорить и ни о чем больше! — загремел вдруг жандарм командирским голосом. — Черт бы вас драл! Это очень мило — оскорбить до последней степени и потом к нам же сюда нагрянуть, в эту сельскую местность, смущать наш покой!.. — Сельская местность!.. Удачно сказано! — не удержавшись, заметил вполголоса Фрике. — Наконец позвольте вас спросить: что вы тут делали на дереве вместо того, чтобы скучать у себя дома? — Разыскивала вас, — кротко ответила героиня драки в табачной лавке на улице Лафайет. Ответ и тон, которым он был дан, привели старого солдата в растерянность. — Что касается лавки, не беспокойтесь, я оставила ее вполне благонадежному человеку. — Очень мне нужна ваша лавка! — заявил Барбантон с великолепным презрением. — Я туда не вернусь, можете делать с ней, что хотите. Но зачем вы меня искали? Какого черта я вам вдруг понадобился, что вы не постеснялись совершить варварское нашествие на здешние земли? — Мне нужна ваша подпись… у консула и при двух свидетелях. — Что за подпись? — Довольно, — вежливо, но твердо вмешался Андре. — Теперь не время для обсуждений. Мадам Барбантон нужен покой. Не тревожьте ее, не волнуйте. — Хорошо, месье Андре. Слушаю и повинуюсь. Куда вы пойдете, туда и я. — Спасибо, дорогой друг. Тем временем негры соорудили из палок, связав их лианами, носилки, устлали дно ветками и листьями. Несмотря на обнаруженную несомненную энергию, путешественница оказалась столь слаба, что едва на них забралась. Андре распорядился устроить над ней нечто вроде балдахина из листьев, дабы укрыть от солнца во время перехода по лесным полянам. Отряд тронулся в путь. Фрике, Барбантон и один из негров остались, чтобы содрать шкуру с гориллы, — Бреванн пожелал сохранить ее как трофей. Справились быстро и уже к вечеру догнали остальных, — они устраивали ночлег. — Нет у нее ко мне никакого человеческого чувства, — жаловался Дорогой Барбантон. — Ехала такую даль — ради чего? Ради моей подписи!.. Подпись моя ей понадобилась… Ладно. Посмотрим. — Посмотрим, дружище, но ничего не увидим. Вы храбрец, молод, чина, своего рода теократический монарх у дикарей, которые называют вас «Барбантон-Табу» и чтут, как идола. Но тут вы уступите, я это знаю наперед. — Посмотрим! Посмотрим! Даю честное слово. Слово Барбантона! — Я знаю, что слово Барбантона крепко. Но и женщина, учинившая такое, тоже человек не слабый. Вы должны это признать. Фрике был абсолютно прав. После такой передряги другая чувствовала бы себя совершенно разбитой, мадам Барбантон, несмотря на пятичасовую тряску в неудобных носилках, спокойно восседала под деревом и как ни в чем не бывало с аппетитом уплетала холодное мясо с бананом вместо хлеба. Такое по силам лишь очень здоровому организму, и энергия должна быть недюжинной. Госпоже Барбантон было тридцать пять, но она выглядела моложе благодаря полноте, которая разглаживала морщины. Физиономия ее на первый взгляд не казалась симпатичной, но и не производила неприятного впечатления, чему способствовало ее спокойное выражение. При взгляде более пристальном она много теряла. Несвежая, сероватого оттенка кожа, хотя довольно тонкая, негрубая. Маленькие глазки неопределенного цвета, изжелта- или искрасна-каштанового. Стиснутый у висков лоб только в профиль был недурен, на самом деле — непомерно узок. Нос напоминал и утиный клюв, и морду змеи. Крепкие, жадные челюсти с острыми редкими зубами, тонкие бесцветные губы, заостренный подбородок. В общем, черты неправильные, хотя и не безобразные. Что-то кошачье замечалось в форме и характере головы. В целом впечатление создавалось скорее отталкивающее. Прибавьте к этому высокий рост, широкие плечи, пышную грудь, большие, хотя и хорошей формы руки, довольно пухлые, с заостренными пальцами и с ямочками на суставах. Барбантон знал по опыту, что эти руки обладают значительной силой… Такова была эта женщина — сдержанная, не болтливая, не увлекающаяся. Энергии в ней было хоть отбавляй, владела она собой прекрасно. Говорить не любила и, по-видимому, не особенно умела, но все о чем-то, казалось, упорно думала. Для нее устроили из ветвей шалаш, и она отправилась спать, сделав всем общий легкий поклон. Мужчины поправили костры, подвесили гамаки и тоже улеглись. Весь следующий день и часть еще одного прошли под знаком упорных трудов — идти приходилось девственным лесом, а это не шутка. Госпожа Барбантон ни на что не жаловалась и не теряла своей удивительной энергии. Наконец прибыли во Фритаун, главный город британских владений на западном берегу Африки. Город многолюдный, а потому и нездоровый. У предместья Кисси-стрит, где живут почти одни туземцы, путешественница попросила Андре остановиться. Подозвала англичанина, который сопровождал ее в лесу и как-то странно стушевался после смерти гориллы, заплатила ему и отпустила вместе с неграми. Покончив с этим, обратилась к Андре: — Я рассчиталась с проводником. Это торговец слоновой костью. Мне его рекомендовал наш консул, чтобы разыскать вас. Хотите узнать, зачем я сюда приехала? — Сударыня, я к вашим услугам, — раскланялся Андре. Все уселись под большим манговым деревом и приготовились слушать. Дерево росло на холме, с которого просматривался город. — Странные случаи бывают в жизни, — продолжала дама. — Представьте, не прошло и месяца после… по… после отъезда моего мужа… — Так и говорите: после побега, — перебил старый солдат. — Я действительно от вас сбежал. — Побег так побег. Я из-за слов не спорю. — Зато спорите из-за другого. — Позволите вы мне говорить или нет? — Позволения просит!.. Первый раз в жизни!.. Ну, хорошо, позволяю. — Так вот, я узнала, что мой лотерейный билет в пользу «Общества поощрения искусств и ремесел» выиграл триста тысяч франков. — Так что же вы? Получили бы выигрыш, поместили бы денежки под проценты и зажили бы припеваючи… О чем тут еще рассуждать? — Я так и хотела сделать, — продолжала рассказчица с легким замешательством. — Я тогда же предъявила билет лотерейному комитету. — И получили выигрыш? — Нет, не получила. — Значит, билет не годился?.. Жалко мне вас. — Билет годился и годится, номер выиграл действительно, но комитет потребовал, чтобы явился мой муж или прислал форменную доверенность. Старый солдат залился громким хохотом. Фрике кусал губы. Андре призвал на помощь всю свою джентльменскую выдержку и даже не улыбнулся. Рассказчица продолжала как ни в чем не бывало: — Я доказывала, что мой муж в безвестной отлучке, представила почтенных свидетелей, бумагу от мэра… Напрасно. Закон — ничего нельзя сделать. Комитет передал деньги на хранение в кассу депозитов. Не зная, где мой муж и скоро ли он вернется, я решила немедленно приступить к поискам. Обратилась в справочное агентство. С меня спросили пятьсот франков, чтобы за десять дней собрать о вас все сведения. Я предложила вдвое и через шесть дней узнала все подробности, вплоть до самого вашего отплытия из Гавра. Это было много, но еще недостаточно. Куда направился ваш корабль? Агентство осталось довольно моей щедростью и потому старалось изо всех сил. Разослало телеграммы во все порты Англии и Франции, куда заходят почтовые пароходы, и вскоре из Сенегала пришло сообщение, что ваша яхта в Дакаре. Поскольку вы собирались охотиться, было ясно, что от берегов далеко удаляться не станете, и яхта будет периодически заходить в порты. Все это мне объяснили агенты и сказали, что, если, не теряя времени, отплыть по вашим следам на первом же английском пароходе, вас можно будет скоро догнать. Я немедленно приняла решение. Поручив торговлю приказчику, собрав все деньги, какими могла располагать, пустилась в путь, хотя агенты советовали послать кого-нибудь вместо себя. Но мне кажется, что в таких делах гораздо полезнее действовать самой. Я прибыла на почтовом пароходе в Сьерра-Леоне, где и догнала вашу яхту «Голубая антилопа». Тотчас поплыла к ней… Вас не застала! Капитан предложил подождать вашего возвращения. Я предпочла броситься за вами вдогонку. Капитан дал мне провожатого, того матроса, который погиб, защищая меня. Во французском консульстве меня убеждали не ездить за вами, но, когда увидели, что меня не переубедить, рекомендовали в проводники торговца слоновой костью… того самого англичанина, которого я сейчас отпустила. Он взялся навести меня на ваш след и сделал это. Остальное вы знаете. — И вам ни разу не было страшно? — удивился Андре. — Нет. Только когда меня схватила обезьяна, я очень беспокоилась, как бы не потерялся мой билет. Но он у меня отлично спрятан. Вот! Она вытащила из-под платья большой золотой медальон на желтой шейной цепочке, достала из него билет и подала мужу. Барбантон развернул и машинально прочитал: — Две тысячи четыреста двадцать один! Как раз мой метрический номер! Неужели это судьба?.. Сударыня, возьмите ваш билет. Поздравляю. Однако вы молодец: приплыть из Франции в Африку только для того, чтобы получить от меня доверенность! Ну-ну!.. — И вы ведь дадите ее мне? Это проще простого. Господин Андре и господин Фрике поставят свои подписи в качестве свидетелей, и на первом же пароходе я уеду обратно. — Это я еще посмотрю, сударыня. Надо подумать. Сказано это было весьма насмешливым тоном, чего друзья Барбантона никогда за ним не замечали. — Поскольку мы состоим в браке и у нас общее имущество, само собой разумеется, вы получите половину выигрыша за вычетом расходов на мое путешествие. Старый служака выпрямился, словно к нему подползла какая-то гадина. Сначала побагровел, потом побледнел. — Мне предлагают деньги!.. — прорычал он сдавленным голосом. — Да за кого же вы меня принимаете?! Вы меня мучили, высмеивали, били, царапали, но никогда прежде не оскорбляли. — Не понимаю. У нас же общее имущество. Тогда как… — Очень мне нужно это имущество! Нравственного чувства в вас нет, вот что скверно… Довольно. Сначала я хотел только подразнить вас немного в отместку за все ваши пакости, а потом и уступил бы, пожалуй. Но теперь — нет! Слуга покорный! Раз вы думаете, что меня можно купить за деньги, не будет вам ничего. Я не дам доверенности. Слышите? Не дам, не дам, не дам. Вмешался Бреванн, вступился Фрике. Бывший жандарм был неумолим. Видя, что спор ни к чему не приведет, Андре велел продолжать путь. Барбантон вполне мог передумать, он был отходчив. Когда отряд миновал предместье, путешественники увидели над городской больницей и над казармами огромные желтые флаги. К ним подошел полицейский и объяснил, что в городе желтая лихорадка. Эта болезнь смертельна для европейцев. В зараженном городе оставаться не следовало. Бреванн велел всем возвращаться на яхту и пригласил госпожу Барбантон. Та не решалась принять приглашение. — Сударыня, с желтой лихорадкой шутить нельзя. Остаться в городе равносильно самоубийству. Я не отпущу вас, хотя бы пришлось применить силу. Наконец, — прибавил он вполголоса, — возможно, удастся сломить упорство вашего мужа. — Хорошо, месье Андре. Я согласна. «Ну и патрон! — думал Фрике. — Обделал дельце!.. Барбантоны будут на яхте вместе, муж и жена! Бедняга жандарм! Проплыть тысячу двести миль и так и не избавиться от своего домашнего бича. Могу сказать только одно: ничего хорошего из этого не выйдет. А суеверный человек сказал бы даже: быть беде!» Фрике и думать не думал, что его предсказание так скоро сбудется. На следующее утро растерявшийся дворецкий доложил Андре Бреванну, что Барбантона на яхте нет. Сбежали также два негра, сопровождавшие их в вылазках на суше. Из спальни появилась мадам Барбантон, бледная, едва держась на ногах. Она пронзительно причитала: — Мой медальон!.. Его украли!.. Вместе с билетом! И женщина упала в обморок. Вслед затем послышался крик. Кто-то тяжело упал на пол возле машинного отделения. Андре запнулся на лестнице, скатился вниз и сломал себе ногу.— Ха-ха-ха!.. Вот забавно-то! Мне приснилась моя любезнейшая супруга!..

И женщина упала в обморок.
ГЛАВА VIII
Хирург-англичанин. — Фрике проводит дознание. — Рассказ носильщика. — Сунгойя. — Переворот в государстве куранкосов. — Прокламации претендента. — На гвинейском берегу опасно говорить о политике. — Ладанка белой женщины. — Барбантон капитан. — Погоня. — Трудное плавание. — Первые известия о беглецах. — Вторая ночь на реке. — Таинственные звуки. — Шлюпка на мели. — В окружении крокодилов. Эта череда неприятностей кого угодно могла расстроить. Даже Фрике на мгновение потерял голову, когда Андре, которого подняли двое матросов, тихо сказал ему: — Я сломал ногу! Парижанин чуть не заплакал, хотя был не особенно впечатлительным. Но это несчастье так его потрясло, что Бреванну пришлось утешать друга. Больного отнесли в каюту и уложили в постель. Он был спокоен и делал необходимые распоряжения. — Первым делом, — сказал он Фрике, — вели спустить лодку, плыви в город и во что бы то ни стало привези врача. Потом отправишься на поиски Барбантона. Не понимаю, куда он исчез. В любом случае далеко уйти он не мог, и если поторопишься, скоро его найдешь. Делом о краже медальона я займусь сам и проведу дознание, пока тебя не будет. — Хорошо, месье Андре, — ответил юноша. — Все сделаю. К нему успела вернуться вся его молодая энергия. По свистку боцмана матросы спустили лодку и в один миг приготовили ее к плаванию. Фрике прыгнул в нее, как белка, сел у руля и сказал гребцам: — Живее у меня!.. Хозяин в беде. Вернемся — угощу на славу. Через два часа он вернулся и привез флотского врача-англичанина. После тщательного осмотра тот констатировал перелом левого бедра, прописал больному полную неподвижность, обещая через шесть недель окончательное выздоровление. Андре скрепя сердце покорился необходимости. Доктор уехал, наотрез отказавшись от платы за визит, но согласившись навешать пациента в свободное от службы время. Успокоившись за друга, Фрике занялся Барбантоном. Куда он сбежал и почему? Что с ним? Совсем рехнулся, когда увидел перед собой свою домашнюю тиранку? Нет, Барбантон не таков. Он уехал сознательно, потому что взял с собой чемодан и, разумеется, не забыл знаменитый чехол из зеленой саржи. Стало быть, не желает видеться с женой, появившейся на яхте по случаю эпидемии во Фритауне? Хотел отомстить ей за прежние неприятности, заставив поволноваться, если не за него лично, то хотя бы за судьбу лотерейного билета? Возможно. Но куда он мог уйти? Фрике расспрашивал на верфи каждого встречного. Никто не видел Барбантона идущим в город. Да он и не настолько глуп, чтобы сунуться в самое гнездо заразы; он отлично знал, что такое желтая лихорадка. Все указывало на то, что он убежал, сговорившись с неграми. Кто же они такие? В Дакаре Андре нанял двух лаптотов-сенегальцев, бегло говоривших по-французски и знавших множество местных наречий. Один из них исчез. Другой беглец был родом из внутренней Африки; приведенный в Кайор невольником, он перебрался оттуда на французскую территорию, вновь обретя свободу. Почему они сбежали? Не они ли украли медальон? Или эта ценная вещь просто завалилась куда-нибудь? Фрике склонялся к первому. Мадам Барбантон ничего не могла сказать. Она не помнила. Всю ночь проспала как убитая, что немудрено после таких передряг. Медальон, несомненно, исчез ночью. Юноша вспомнил, с какой жадностью смотрел на безделушку один из негров, когда путешественница показывала ее троим друзьям. Он пригласил оставшегося на борту сенегальца, угостил ромом и основательно расспросил. Сенегалец сообщил важные подробности. Беглеца звали Сунгойя, он был родом из страны куранкосов. Фрике раскрыл карту, легко отыскал к югу от земли мандингов землю куранкосов и у 10°45′ западной долготы и 9°30′ южной широты нашел название Сунгойя — вероятно, то место, откуда был родом беглец. Здесь истоки реки Рокель, неподалеку — истоки Нигера, который местные жители называют Джиолиб. — У себя в селении Сунгойя был вождем, — рассказал лаптот. — Такие вожди, в общем, независимы, хотя признают, и скорее номинально, власть верховного вождя, которого выбирают на пожизненное правление. После смерти очередного из них Сунгойя стал добиваться избрания на его место и почти преуспел, как вдруг у него появился беззастенчивый соперник. Не обращая внимания на выборы, голосования, этот субъект задарил страусовыми перьями и напоил ромом местных головорезов, с их помощью захватил власть, лишний раз делом подкрепив афоризм: «Сила выше права». Как человек, умеющий властвовать, он объявил, что все, ставшие на его сторону, получат гри-гри (амулеты или талисманы), страусовые перья или ром; недовольных продадут в рабство, непокорные лишатся головы. На беду, Сунгойя не умел держать язык за зубами и все критиковал нового правителя. Критиковал по делу и потому был особенно неправ. Кончилось тем, что его схватили, без суда наказали палками и продали в рабство.
— Однако как опасно говорить о политике на берегах Гвинеи, — заметил Фрике. — Ну, арапушка, продолжай! Это очень интересно. — Сунгойя из рабства освободился и задумал свергнуть своего врага. Но как напасть на человека, владеющего, быть может, лучшим гри-гри во всей стране? Тогда Сунгойя принялся разыскивать талисман, который помог бы ему одолеть противника. Собрал настоящую коллекцию фетишей. Когда познакомился с Андре, нанялся к нему на службу, стал свидетелем чудесного избавления мадам Барбантон от обезьяньих объятий. Очевидно, у белой женщины имелся гри-гри необыкновенной силы. — Понимаю!.. Угадываю!.. — воскликнул Фрике. — Сунгойя видел, как барыня вынимала медальон, а из медальона билет, и принял медальон за ладанку с талисманом, который помог одержать победу над гориллой. Естественно, ему захотелось его присвоить… Так?.. Конечно… Однако будущий правитель куранкосов сыграл с нами хорошую шутку… Теперь я все понял. Не знаю только главного: где Барбантон? — Капитан уехал с ним в пироге. Сенегальцы, едва поступив на службу к Андре, с первого дня стали звать Барбантона капитаном. Им казалось, этот чин как нельзя больше шел к его бравой фигуре, мужественной осанке, молодецким усам и орденской ленточке в петлице. Барбантон протестовал. Тогда его произвели в полковники. Пришлось уступить. Так его стали звать капитаном. — Ты точно знаешь, что он уехал? — Конечно! Сам видел. С ним один негр и Сунгойя. — Раз ты сам видел — значит, так оно и есть. Обстоятельства прояснились. Фрике побежал к Андре советоваться. Выслушав рассказ, Бреванн вполне согласился с парижанином. Несомненно, Сунгойя украл медальон, воспользовавшись крепким сном изнуренной путешественницы. Сделал это, чтобы вернуться на родину и произвести государственный контрпереворот. Лучшей дорогой в землю куранкосов была река Рокель. Скорее всего, беглецы поплыли вверх по ней, добывая пропитание рыбнойловлей и охотой. Теперь надо было придумать, как настигнуть их и не спугнуть. В погоню мог пуститься только Фрике. Решили, что он возьмет паровую шлюпку, на которой надо только развести пары и загрузить провизию. Ему выделили двух матросов и троих негров, в том числе сенегальца, который знал местные наречия не хуже своего беглого товарища и мог служить переводчиком. Негр и европейцы будут вооружены скорострельными винтовками Винчестера, а Фрике возьмет с собой и полное охотничье вооружение. Не будучи записным охотником, юноша согласился продолжать дело прикованного к постели Андре, добывая новые трофеи. Впрочем, охота в таких странах не столько спорт, сколько необходимая самооборона. Погрузили на шлюпку и запас лекарств, главным образом хинина, необходимого при малярии, гамаки, каучуковые одеяла для защиты от ночной сырости и дневного жара. Не забыли и складную резиновую лодку на случай, если придется временно прервать плавание. Если река Рокель окажется несудоходной — в некоторых местах она усеяна камнями, — предполагалось, что Фрике отошлет шлюпку обратно и продолжит путь в туземной пироге, посадив негров грести. Яхта будет дожидаться его возвращения или стоя на фритаунском рейде, или, если станет чересчур скучно, курсируя вдоль берегов Сьерра-Леоне.Его схватили, без суда наказали палками и продали в рабство.
Фрике пустился в погоню. Шлюпка зашла в устье реки, которая в этом месте называется Сьерра-Леоне, миновала английский берег и храбро вступила в воды собственно Рокели. Благодаря приливу и превосходной машине она быстро продвигалась вперед, наполняя сердце парижанина надеждой на скорый успех предприятия. Но когда начался отлив, эта надежда окончательно побледнела: обнажились камни, между которыми надо было осторожно лавировать под малыми парами. — Так мы нескоро до них доберемся, — задумчиво бурчал себе под нос юноша. — Негры — великолепные гребцы, их лодки плавают, как рыбы. И зачем так много камней? Встретилось несколько пирог с фруктами и овощами. Негры везли их продавать в город. Через сенегальца Фрике задал вопрос о беглецах. Оказалось, те опережают их на сутки. Приближалась ночь. Пора было становиться на якорь. Молодой человек сам выбрал место для стоянки. Взошла красавица-луна, расстроив преследователей еще сильнее — при лунном свете беглецы вполне могли продолжать свой путь. На другой день с первыми лучами солнца шлюпка отчалила. Камней стало меньше, плыли быстрее. Фрике расспрашивал встречных, но беглецов никто не видел. Это его удивило. Впрочем, река была еще довольно широка, они могли проплыть, держась другого берега, и остаться незамеченными. Придавало сил то, что скоро шлюпка минует место, с которого прекращается влияние прилива и отлива, нагоняющих сырой, наполненный миазмами туман. Этот туман несет в себе губительный яд болотной лихорадки, смертоносной даже для очень крепких людей. Юноша приказал подойти к берегу, чтобы набрать дров, так можно было сэкономить уголь. Вновь наступила ночь. Шлюпка стала на якорь, и все, кроме вахтенного, заснули под плеск воды. Светало по-тропически, без зари, когда Фрике проснулся от странного шума. Тут было и шуршание, и стук, и какое-то щелканье. Парижанин открыл глаза и понял, что лодка не шелохнется. Вскочив, закричал: — Гром и молния! Мы сидим на мели. Экипаж проснулся, в том числе и вахтенный — оказалось, он заснул. Шлюпка действительно стояла на мели, на илистом дне. Во всем был виноват отлив. При других обстоятельствах большой беды в этом не было бы: сменивший отлив прилив поднял бы шлюпку. Но дорога была каждая минута. Между тем разбудивший Фрике шум усилился. Он внимательно пригляделся к илистому дну, на котором застряла шлюпка, и невольно вздрогнул. По этой жиже в разных направлениях двигались странные удлиненные живые существа. Прибрежный тростник временами расступался и шуршал, длинные тела прыгали в ил, топтались в нем, толкаясь и задевая друг друга, и в конце концов окружили шлюпку кольцом из грозных пастей. — Господин! — воскликнул в ужасе сенегалец. — Крокодилы! Да, это они производили странный шум, разбудивший Фрике. Толкая друг друга, стучали чешуей, щелкали голодными челюстями. Слышно было их дыхание, противно пахло мускусом, неподвижные глаза свирепо и алчно сверкали. Их были сотни, появлялись все новые и новые. Словно демоны призвали сюда всю местную крокодилью армию, с резервом и ополчением. И она оказалась весьма многочисленной. Передовые отряды тыкались мордами в железные стены лодки и пытались взобраться на борт, пока, к счастью, неудачно. Но когда подойдет подкрепление, новые силы заберутся им на спины, и тогда опасности не миновать. Фрике не стал этого дожидаться. Оценив положение, приказал экипажу вооружиться, выдал всем по стаканчику рома и произнес ободряющую речь. — Теперь, друзья мои, вы знаете, что вам делать, — сказал он в заключение. — Крокодилы лакомы до человеческого мяса и не отличают белых от негров. Значит, каждый из нас защищает свою шкуру. Нам надо продержаться шесть часов до прилива и не пустить крокодилов на борт. В противном случае все мы будем съедены, и это не кажется мне забавным.
ГЛАВА IX
Первый выстрел. — Словечко тем, кто считает крокодила неуязвимым. — Общая пальба. — Современные пули. — Затвердевшие пули. — Все опаснее. — Неожиданное убежище. — Капитан уходит с корабля последним. — Крепость занята неприятелем. — Шутки голодных ящеров. — Тропическое солнце жжет больно. — Прилив. — Осажденные и осаждающие одинаково не знают, что делать. — Попались в ловушку. — Для коллекции. — Очередное происшествие. Как же Фрике так опростоволосился с местом для якорной стоянки? Избежать мели можно было, стоило лишь принять во внимание обычную глубину реки и высоту прилива. Нет, место он выбрал правильно. Но дно реки здесь усеяно ямами, в одну из них и попал якорь. По длине ушедшей в воду части якорного каната можно было думать, что глубина достаточная и после отлива останется довольно воды. Случилось иначе. Якорь после отлива оказался в воронкообразной яме, шлюпка — на мели, погруженная килем в ил. Случилось это задолго до того, как Фрике проснулся, разбуженный крокодилами. И теперь гнусная армия земноводных штурмовала шлюпку. Экипажу предстояла трудная работа. У них были скорострельные винтовки Винчестера и большой запас патронов. На всякий случай парижанин приготовил винтовку и ружье восьмого калибра и открыл стрельбу из винтовки «Экспресс». Он целился в громадного крокодила, ползавшего по илу в пяти метрах от шлюпки, широко расставляя лапы и щуря глаза. Пуля пробила череп. Крокодил привскочил и растянулся бездыханный. — Удачный выстрел! — радостно воскликнул юноша. — А комнатные путешественники рассказывают, будто крокодила не пробьешь никакой пулей, разве в глаз или в глотку… Эй, друзья! — обратился он к матросам. — Палите в них. Уничтожим этих гадин. Ведь это обычные ящерицы — не более того. Бретонцы прицелились и выстрелили почти одновременно. Один крокодил получил пулю в затылок и был сражен наповал; другой ранен в середину туловища и полз по илу вперед, хотя кровь из него хлестала во все стороны. — Не годится, — сказал Фрике. — Цельтесь в голову, чтобы сразу прикончить, а то они живучи. Негры тоже принялись стрелять, но ни разу не попали, не то от испуга, не то от неумения. Из них троих только сенегалец довольно прилично управлялся с винтовкой. Парижанин понял, что может рассчитывать на себя, двух матросов и сенегальца — всего, стало быть, на четверых. Маловато, принимая во внимание численность врага, его силу и свирепость. Чтобы действовать на два фронта, защитники шлюпки разделились: Фрике с сенегальцем поместились с левого борта, бретонцы — с правого. Неграм было велено не стрелять. Первые выстрелы почти не произвели впечатления на крокодилов. Они лишь ненадолго приостановили атаку, но тотчас возобновили. Они продвигались вперед сомкнутым строем, иногда вскакивая друг на друга. Вся илистая отмель покрылась ими. Они кишмя кишели на ней, сверкая чешуей и щелкая зубами.
Европейцы, особенно Фрике, творили чудеса. Целились спокойно, хладнокровно и ни разу не промахнулись. Пули всякий раз пробивали чешую, которая с треском разлеталась в осколки, и маленький кусочек затвердевшего свинца глубоко проникал в тело. Таковы современные пули. Чтобы они не сплющивались при ударе о крепкую поверхность, а пробивали ее, их отливают из смеси свинца, олова и ртути. Пули, отлитые из смеси свинца и типографского сплава, еще тверже. Когда они выпушены из «сильной» винтовки, например «винчестера», Мартини-Генри, «Экспресс», то перед ними ничто не устоит — ни чешуя, ни толстая кожа. Вскоре вокруг шлюпки лежали груды мертвых крокодилов. К сожалению, они служили подспорьем для живых, осаждавших шлюпку. Безобразные ящеры на коротких широко расставленных лапах наседали и наседали. Особенно свирепствовали раненые. Осажденным грозила печальная участь, несмотря на их отвагу. В конце концов крокодилы неминуемо взобрались бы на шлюпку и всех растерзали. Скорее бы прилив!.. Но нет, до него еще долго, три часа. А счет идет на минуты. Вдруг Фрике закричал: — Тент!.. Ах, где у меня была до сих пор голова!.. Но только выдержит ли он нас всех? И все-таки надо попробовать. Выбора у нас нет. Он подозвал матросов и негров, указал им на тент из толстенной парусины, протянутый надо всей палубой, и велел лезть на него. Тент был натянут на раму, закрепленную на тонких железных столбиках. — Только не трясите, не толкайте, да и вообще — потише. Этот полотняный пол — наше единственное убежище. Ложитесь поближе к раме и не шевелитесь… Ну, черномазые, проворней! Все наверх!.. Испуганные негры посерели от ужаса — они не бледнеют, а делаются пепельно-серыми — и с ловкостью обезьян вскарабкались по столбикам. — Готово дело? Да? Счастливчики, теперь вы в ложе первого яруса. Жарко? Не дать ли вам по зонтику? Парижский гамен и тут продолжал балагурить. — Ну, теперь ваш черед, — обратился он к бретонцам, которые невозмутимо и методично продолжали расстреливать крокодилов. — Полезайте теперь вы! Матросы перекинули винтовки за плечи и проворно исполнили приказание. — Есть? — спросил Фрике. — Есть! — отвечал старший из них. Тогда юноша тоже вскарабкался на парусину. Капитан всегда покидает корабль последним. Поскольку стрельба на время прекратилась, крокодилы обнаглели и полезли на шлюпку с левого борта и с носа. Ворвавшись, обнаружили, что никого нет. Между тем только что так вкусно пахло свежим мясом! Со стороны уморительно было глядеть, как вели себя гости в непривычной обстановке. Фрике, лежа на животе, смотрел и потешался от души, забыв про опасное положение. На шлюпке собралось около десятка крокодилов; они были заперты, точно в ящике, открывали и закрывали пасть, царапали перепончатыми лапами металлическую стену, хлопали хвостами по полу и грызли что попало. Один сунул морду в бочку с дегтем и весь перепачкался. Другой заинтересовался глыбами каменного угля и стал было их грызть, но сейчас же выплюнул. Третий принялся добросовестно жевать подвернувшийся гамак. Четвертый залез головой в маленькую машинную камеру, застрял в ней и не смог вылезти, несмотря на отчаянные судорожные прыжки. Так он бился, бился и задохнулся от жара.Они продвигались вперед сомкнутым строем, иногда вскакивая друг на друга. Вся илистая отмель покрылась ими.

Главные силы армии чешуйчатых продолжали стоять неподвижным кольцом вокруг шлюпки, переполненной омерзительными пассажирами. Разгоряченные боем члены экипажа не могли освежиться, потом появилось солнце и принялось печь изо всех сил. На лодке было еще терпимо, но на тенте, без всякой защиты, без капли воды и малейшей возможности пошевелиться стало невыносимо. — Как долго не наступает прилив! — бормотал Фрике. Теперь и ему сделалось не до шуток. — Да и прилив не решит проблему. Как мы избавимся от этих гадин? Стрелять отсюда нельзя — пули изрешетят лодку… С другой стороны — как же мы отчалим?.. Ох, до чего жарко! Я никогда так не пекся, даже когда служил в кочегарах… Эй, приятель, это не дело! Так нельзя! Теперь не время! Один из бретонцев лишился чувств, другой тоже был близок к обмороку. Из троих белых только парижанин браво переносил нестерпимую жару, ни дать ни взять саламандра. Он принялся энергично растирать потерявшего сознание, поручив другого одному из негров. — Делай как я, господин Белоснежкин. Три его хорошенько, как можно крепче. За кожу не бойся — она у него толстая… Наконец-то! Давно пора! Последнее восклицание было вызвано пронесшимся по реке отдаленным рокотом. То был голос начавшегося прилива. К нему вскоре присоединился гул прибоя. На илистую отмель, все еще наполненную крокодилами, набежала первая волна и тихо лизнула борт шлюпки. Прилив надвигался. Это было спасение. Но требовались осторожность и терпение. Фрике снял с себя длинный шерстяной пояс и опустил конец в реку. Ткань впитала в себя воду — теплую, мутную от ила, но все-таки воду. Можно было облегчить страдания бретонцам. Прилив радовал — вода поднялась, всплыли убитые, ряды осаждавших расстроились. Шлюпка вздрогнула, закачалась, повернулась на якоре и встала против прилива. Крокодилы на шлюпке, обнаружив, что она качается, пришли в замешательство. От их возни лодка раскачивалась сильнее. Нахальная свирепость ящеров испарилась. Они легли на брюхо, расставив в стороны лапы и сощурив глаза. Хвосты замерли. Крокодилы растерянно озирались по сторонам, чувствуя западню. Амфибии показали себя плохими матросами. Однако надо было сниматься с якоря. Как это сделать? Крокодилы в воде не представляли опасности — борт у шлюпки достаточно высокий, взобраться на нее из воды они не смогут. Но как избавиться от непрошеных пассажиров? Пока они здесь, ничего нельзя делать. Запутанное положение грозило оказаться безвыходным. Парижанин был очень огорчен и приговаривал: — Как бы поменяться с ними местами — нам в тень, а их на солнце. Тогда бы еще полгоря, тем более что мы могли бы стрелять в них снизу вверх. Изрешетить тент не опасно, а вот корпус… Э, вот что. Они струсили и присмирели. Воспользуемся этим и сцапаем их втихомолку… Браво! Сейчас я им устрою… Вот что, приятели, вы достаточно оправились, чтобы посидеть минуту верхом на раме? — Да, — отвечали матросы. — Черномазых и спрашивать нечего: эти куда угодно взберутся. Вот что: берите по ножу, садитесь верхом на раму и перережьте все завязки, которыми держится на раме парусина. Поняли? — Поняли! Крокодилы попадут в невод. — Прекрасно. Подрежем же разом, в один миг, чтобы парусина спикировала на них ястребом. Раз, два!.. Режь!.. Так. Теперь летим. Затея удалась. Парусина свалилась на крокодилов и накрыла их. Они так перетрусили, что не пошевелились. Фрике и члены экипажа спрыгнули с рамы, закрепили парусину над крокодилами, достали веревки, связали им хвосты, которые у них опасны не меньше, чем челюсти. Негры опомнились от ужаса и стали умолять, чтобы им позволили перебить крокодилов, что теперь не представляло ни малейшей опасности. Крокодилов перерезали и без церемоний побросали в воду. Впрочем, не всех. Один крокодил был восемь метров длиной; его Фрике велел оставить и сделать из него чучело. — Вы, господин, будете украшением моего кабинета, — сказал парижанин. — Я вас подвешу под потолок. Так закончился этот эпизод, едва не принявший весьма трагического оборота. Увы! Это было не последнее происшествие. Шлюпка благополучно снялась с мели и поплыла вверх по реке. Десять часов шла она без остановок и без обходных маневров, поскольку фарватер был свободен. Капитан высчитал, что они сделали в этот день шестьдесят миль — почти столько же, сколько в первые два дня. Машину топили дровами. Шлюпка шла на всех парах мимо поросших высоким лесом берегов и, попыхивая трубой, вспугивала легионы разноцветных птиц. Хотя впереди не было видно никаких препятствий, другой матрос, не занятый у машины, стоял на вахте на носу шлюпки. Фрике держал руль. Казалось, все меры приняты и ничего непредвиденного не случится. Вдруг шлюпка резко остановилась от сильнейшего толчка, опрокинувшего разом и европейцев, и негров, все они повалились друг на друга.На шлюпке собралось около десятка крокодилов; они были заперты, точно в ящике, открывали и закрывали пасть, царапали перепончатыми лапами металлическую стену.
ГЛАВА X
Дело не в названии. — Безобразен, архискот, прожорлив. — «Отец» кровопускания. — Изобретатель средства, сталь любимого мольеровскими докторами. — Сравнительная неуязвимость. — На какой камень наткнулась шлюпка. — Крик лошади. — Смерть гиппопотама. — Разрывная пуля. — Стратегия четвероногих. — Разнести живую баррикаду. — Избиение. — На всех парах. — То были звери, теперь человек. — Этакий этот жандарм! — Перерыв, а не бегство. Если есть животное, менее всего похожее на лошадь, то это гиппопотам, что в переводе с греческого значит «речной конь». Так назвали его древние греки, и название это почему-то оставили за ним ученые, несмотря на то что оно совершенно противоречит здравому смыслу. Вспомните лошадь: гордая, гибкая шея, поджарые бока, закругленный круп, тонкие ноги, быстрые и нервные. Теперь взгляните на гиппопотама: бесформенное туловище, какой-то обрубок на четырех подпорках, напоминающих плохо обтесанные столбы. Что тут лошадиного? Что общего с лошадью у этой чудовищной свиньи? Сравните наконец голову лошади с головой гиппопотама. Трудно найти хотя бы намек на сходство. А между тем название дано и остается. Что же такое этот «речной конь»? Млекопитающее из семейства толстокожих, из порядка жвачных, из отдела свиней. Стало быть, ничего лошадиного, только свинячье. После слона это самое крупное из четвероногих, но ни силы, ни ловкости, ни смышлености слона у гиппопотама вы не обнаружите. Особенно плохо со смышленостью. Огромная голова с маленькими, косо посаженными глазами, едва заметными смешными ушами, наморщенным лбом и малоразвитым черепом. Морда толстая, квадратная, с широчайшими ноздрями, огромной пастью, усаженной великолепными зубами. Зубы чудные, настоящая слоновая кость — белые, твердые, не желтеющие. У гиппопотама нет бивней, как у слона, но все тридцать шесть зубов превосходны, как на подбор, клыки взрослого гиппопотама достигают иногда сорока сантиметров при весе от шести до семи килограммов. Бегемочьи зубы пользуются спросом почти наравне со слоновьими бивнями. Все остальное напрочь лишено привлекательности. Неуклюжее туловище соединяется без шеи с карикатурной головой, отвислый живот почти касается земли, темно-свекольного цвета шершавая кожа выглядит отталкивающе. Но этот безобразный увалень не зол, напротив, скорее миролюбив, даже робок и до некоторой степени, если хотите, добродушен. На человека не нападает, даже избегает людей, но только при условии, что его не трогают. Если дразнить, становится опасен. В нем немедленно пробуждаются зверские инстинкты, и тогда ярость его неудержима и не знает преград. Обычно это добродушная крупная скотина сангвинического типа, несмотря на преобладание в рационе исключительно растительной пищи, которая поглощается в невероятных количествах. Ежедневно бегемоту необходимо сто килограммов питательных веществ и соответствующее количество воды. Впрочем, не только количество, но и качество. Этот обжора — настоящий гурман и любит полакомиться. Довольствуясь травой, корнями и тростником по берегам рек и даже на дне, с жадностью набрасывается на рис, просо и сахарный тростник. Это его пирожное, десерт. Проход гиппопотама по туземным плантациям — настоящее бедствие, погром. Он не столько съест, сколько истопчет и испортит. От такой пищи у гиппопотама под кожей образуется, как у свиньи, толстейший слой сала, который очень любят туземцы, но европейцам оно не нравится своим специфическим запахом. Я выше назвал гиппопотама сангвиником. Он действительно очень полнокровен, до склонности к апоплексии. Уверяют, что сам себе пускает кровь, дабы избежать удара, делая это так: выбрав острый камень, трется о его острые края, покуда не брызнет кровь, и следит, чтобы вылилось не больше, чем необходимо, после чего ложится на густой ил, устраивая себе компресс и перевязку. То есть гиппопотам — изобретатель кровопускания. Некоторые ученые этому верили, например Гален. Почему бы и нет. Естественная история знает и другие подобные случаи. Морская птица баклан, питающаяся исключительно рыбой, освобождает свой желудок от попадающих в него костей с помощью средства, столь любимого мольеровскими докторами. Его название мы приводить не станем, оно громко произносится со сцены Комеди Франсез. Под клювом у этой птицы перепончатый мешок, куда она набирает воду в объеме, потребном для операции, и действует клювом, как тем инструментом, над усовершенствованием которого потрудились многие врачи, начиная с Флерана и кончая доктором Эгизье и бароном Эсмархом… Шкура взрослого гиппопотама толще, чем у носорога. Из нее делают чрезвычайно прочные щиты, от которых отскакивают намазанные ядом стрелы туземцев. Только благодаря толстой шкуре гиппопотам пока не вычеркнут из списков природы: охотятся на него много, и он имеет обыкновение подпускать к себе человека очень близко. В прежние времена туземцы редко его убивали, разве что при помощи западни, ямы или капкана им удавалось одолеть животное. С распространением огнестрельного оружия и ростом спроса на слоновую кость бегемотов истребляют безжалостно и скоро они будут редкими зверями. На суше гиппопотам вял и неповоротлив. Бегать не может, не создан для этого, достаточно взглянуть на его фигуру. Зато превосходно плавает и ныряет. Может довольно долго пробыть в воде и проделывать на глубине всевозможные фокусы, может бесконечно держаться на поверхности, плавая, благодаря своему жиру, как буек. Он любит спать на воде, отдаваясь течению и наслаждаясь, как истинный сибарит, мягким ложем, которое даже мягче постели из розовых лепестков. При этом из воды видны только его глаза, ноздри и уши. Он все видит, слышит и чует, находясь в полнейшей безопасности. Его тушу не всегда заметишь. Встреча с дрейфующим гиппопотамом очень опасна для лодок. Полученный толчок приводит его в ярость. Он бросается на лодку и грызет ее крепкими зубами или подденет спиной и перевернет. Если при столкновении получит рану, горе экипажу! Гибель неизбежна. Чудовище всех загрызет. В реке Рокель бегемоты встречаются пока довольно часто, несмотря на близость британской колонии Сьерра-Леоне. Климат нездоровый, охотники не стремятся сюда, предпочитая Капскую землю. Туземцы отваживаются нападать на гиппопотамов только на суше, где животные почти не появляются, предпочитая воду. Так что в местности, где происходят события, о которых мы рассказываем, «речные лошади» еще не перевелись.Когда шлюпка остановилась от внезапного толчка, все решили, что она напоролась на камень и пойдет ко дну. Но вода вдруг покраснела, поднялось сильное волнение, послышался громоподобный вой. Лодка продолжала идти тихим ходом. Вновь раздался крик, только еще громче. Шел он из воды. — Я узнаю этот звук! — воскликнул Фрике. — Так кричит умирающая лошадь. Я слышал его в аргентинских пампасах и никогда не забуду. У гиппопотама единственное сходство с лошадью — голос. Только «речь» его гораздо резче и неприятнее. Из бурлящей воды показалась голова бегемота, потом и часть туловища. Он распахнул огромную пасть с лиловым небом и ослепительно-белыми зубами, ухватился этими зубами за железный борт лодки и давай трясти ее изо всех сил.
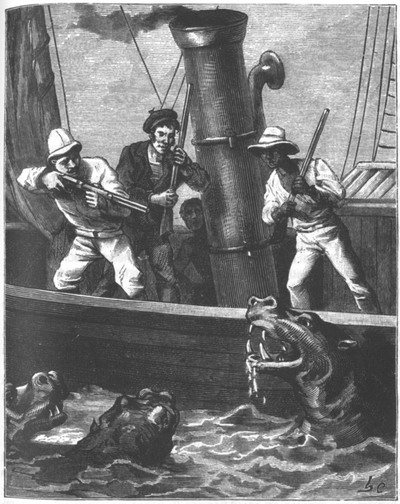
Опасность грозила серьезная, Фрике понимал это, но не пошутить не мог. — Вот тебе раз! Подводный камень плавает и даже кусается. Это глупо. Убирайся прочь, старый урод! Обшивка стальная, все равно тебе ее не изгрызть. Пошел прочь! Твердая сталь только сильнее разозлила зверя. Он тряс лодку как игрушечную. Парижанин понял, что пора принимать меры. Достал винтовку восьмого калибра, не спеша зарядил, встал в двух метрах от зверя, грызшего зубами стальной борт с такой силой, что искры сыпались. — Вот что, мой мальчик, ты чересчур долго злишься, — сказал он, прилаживая винтовку на плече. — Уходи-ка лучше домой. Не хочешь? Знаешь, я не любитель убивать, но, видно, придется угостить тебя свинцовой бомбошкой. Раз!.. Два!.. Ну, сам виноват… Три!.. Пеняй на себя. Бум!.. Раздался оглушительный выстрел. Гиппопотам, которому пуля попала в глаз, разжал челюсти и пошел ко дну. Он тонул медленно, и можно было рассмотреть, что натворила пуля. Это было ужасно! Верхнюю часть черепа снесло, к клочкам оторванной кожи прилипли обожженные частички раздробленных костей. Как будто бросили гранату или взорвалась бомба. — Они очень милы в зоологическом саду, когда глотают копеечные хлебцы, но у себя дома не особенно любезны, — заметил Фрике. — Положим, мы сами приласкали его шлюпкой, и вдобавок паровой, но ведь не нарочно… Эй, друзья, полегче! Не наткнуться бы еще раз. Вода что-то подозрительно волнуется вокруг нас. Так. Что я говорил? Со всех сторон из воды поднимались новые экземпляры. Что их возмутило? Гибель сородича? Или шум паровой лодки, винт которой сверлил и пенил воду? На суше гиппопотам вполне добродушен, в воде часто раздражителен. Возможно, шлюпка с бурливым винтом, пыхтящей и кашляющей трубой, выплевывающей дым, вызвала у травоядных сангвиников приступ ярости. Вероятно, не оставили они без внимания и предсмертный крик своего товарища. Услышав его, переполошились окончательно и решили дать бой. Их было штук двадцать. Они выстроились двумя полукругами справа и слева от лодки, в конце концов кольцо замкнулось. — Невероятно, но придется опять устраивать бойню, — сказал парижанин. — Необходимо пробить брешь в этой стене из живого мяса. Что делать, зачинщики не мы! — Он встал на носу лодки, держа в руке винтовку восьмого калибра, вооружил свободного матроса такой же, положил возле себя винтовку «Экспресс» и приказал кочегару быть наготове, чтобы немедленно выполнить его команду. Шлюпка шла тихо. Рискованно было с разбегу натолкнуться на такие громады. До гиппопотамов оставалось метров десять. Их головы торчали из воды, хлопали челюсти. Фрике условился с матросом целиться каждому в свою жертву, лучше в висок, стрелять одновременно, снова целиться и стрелять, не торопясь, но и не медля, и всякий раз не раньше сигнала. — Целься! — приказал парижанин. — Готово? — Готово! — отвечал матрос. — Пли! Два выстрела слились в один. Два бегемота с разнесенными черепами, не вскрикнув, пошли ко дну, как полные бочки. Брешь была пробита. — Целься!.. Пли!.. Кочегар, полный ход. Грянули два выстрела. Брешь расширилась. Между живыми подводными камнями образовался проток. Шлюпка устремилась в него, пустив две струи горячего пара направо и налево. Это был фокус кочегара. Не имея возможности принять участие в стрельбе, он решил хотя бы обжечь паром противные морды, высовывавшиеся из воды. Шутка удалась. Свистящий горячий пар напугал зверей сильнее выстрелов, они нырнули в воду и скрылись из виду. Избавившись от опасности, шлюпка замедлила ход, но двигалась все-таки довольно быстро. Река стала уже, течение — быстрее. Плыть было хорошо и легко. Фрике радовался и уже стал забывать о неприятностях. Вдруг на крутом повороте он приметил зрелище, заставившее его вскрикнуть от удивления. — Опять преграда!.. Что за проклятая река! После крокодилов — гиппопотамы, после гиппопотамов — худшее из животных, человек. Если эти прохвосты не пожелают нас пропустить, что нам тогда делать? Фрике был прав. От одного берега до другого, поперек реки, протянулась цепь узеньких лодок. В каждой было по десятку или дюжине вооруженных негров. Что за преграда? Парижанин вывесил белую тряпку, везде, во всем свете, обозначающую мирные намерения, и приказал тихо двигаться вперед, держа тем не менее оружие наготове. Приблизившись, попросил сенегальца окликнуть негров. Тот объяснил им, что шлюпка везет мирных путешественников, которые друзья черным людям, и что они просят пропустить их на земли куранкосов, где их ждут. Слова сенегальца выслушали в глубоком молчании, но потом поднялся адский шум. Негры выли, как бешеные, потрясая луками, дротиками, некоторые прицеливались из ружей. Одним словом, давали знать, что не пропустят. Фрике повторил просьбу, предполагая, что возникло недоразумение. Но нет. В ответ крики лишь усилились. Просвистело несколько пуль, блеснуло несколько выстрелов. Настаивать парижанин счел неблагоразумным и скрепя сердце отдал приказ об отступлении. Положим, он был уверен в том, что прорвет цепь лодок и проложит себе путь, но его остановило следующее соображение: — Конечно, всю эту эскадру можно разнести одним выстрелом из картечницы, кроме того, у нас есть смертоносные винтовки. Победа обеспечена. Но что потом? Среди местных жителей о нас пойдет слава как о врагах, нас будут травить, как зверей, у нас будут ежедневные сражения. В иной ситуации и пускай бы, но сейчас это в полном противоречии с нашей мирной миссией. Этакий этот жандарм! Вот черт! Заварил кашу. Где он теперь? Проскочил через эту преграду или остался где-нибудь в лесу? Кто бы рассказал… Я бы заплатил… Очевидно, туземцы думают, что мы англичане. Скверно. Что ж, первым делом надо выбраться из-под выстрелов этих негостеприимных господ, а там видно будет. И то сказать — перерыв на бегство… Кочегар, задний ход!Он распахнул огромную пасть с лиловым небом и ослепительно-белыми зубами, ухватился этими зубами за железный борт лодки и давай трясти ее изо всех сил.
ГЛАВА XI
Смел, но благоразумен. — Философия лентяя. — Парламентер уходит. — Квартет пьяниц. — Сначала пиво, потом ром. — Гомеопатия. — Вести о беглецах. — Капитан, генерал, военный министр, и все это за тридцать шесть часов. — Шлюпка идет назад. — По суше. — Жара, лихорадка. — Носорог. Каждый, кому знаком воинственный характер Фрике, понимает, скольких героических усилий над собой стоило ему, чтобы удержаться и не пустить ко дну лодки тех, кто осмелился встать у него на пути. У путешественников были все шансы на победу, хотя она и дорого обошлась бы им. Паровая шлюпка, вооруженная картечницей, экипаж с сокрушительными винтовками — разве могли устоять жалкие туземные скорлупки? В исходе битвы сомнений не было. И все-таки Фрике отступил! Да, он был неудержимо смел, но и благоразумен. Хорошо. Он разобьет негров в первом сражении. А потом? Каков будет результат этой пирровой победы? Ведь задача не просто проникнуть во враждебную страну, а провести там какое-то время. Шлюпка для продолжительного похода не приспособлена. Цель у нее исключительно мирная, между тем придется поминутно сражаться с бешеной ватагой дикарей. Обдумав ситуацию с присущим ему здравым смыслом, парижанин крикнул кочегару: — Задний ход! Негры завыли от восторга, когда увидели, что лодка идет назад, но преследовать не стали, и хорошо сделали: Фрике решил на дальнейшие уступки не идти, и встреча оказалась бы жаркой. Очевидно, туземцы не возражали, чтобы путешественники продолжили путь, но только не вверх по реке. Ретировавшись задним ходом, шлюпка развернулась и через два километра бросила якорь на середине реки. Предварительно экипаж пополнил запас дров. Фрике подозвал сенегальца, вполне доказавшего свою благонадежность. — Не съездишь ли ты к ним в челноке расспросить о капитане? — Мой съездит. — Не боишься, что убьют? — Мне все равно. Убьют — работать не надо. — Звучит убедительно. Ну а если они заберут тебя в неволю? — Не боюсь. Твой придет на шлюпка, с большими ружьями, и отберет лаптота обратно. — Разумеется, я вырву тебя из их рук, чего бы это ни стоило. Даю слово, что они жестоко поплатятся за оскорбление моего парламентера. Но, думаю, они этого не сделают, если ты объяснишь, что мы не англичане, а французы. — Да. Прощай. Мой сейчас сядет в челнок. Сенегалец сел в небольшой челнок, который все время буксировала за собой шлюпка, схватил весло и смело поплыл вверх по реке. …Прошло два, четыре часа. Шесть. Никаких вестей! Фрике хотя и знал, что переговоры с дикарями всегда большая канитель, все-таки начал тревожиться. Настала ночь, он попробовал заснуть, но ему не спалось. Он решил с первыми лучами солнца ехать на поиски сенегальца. Вдруг вдали на реке послышались веселые громкие голоса, шум весел — и при свете луны появился челнок бок о бок с туземной пирогой, в которой сидели несколько негров. Это могла быть западня. — Кто идет? — крикнул Фрике, чтобы разбудить экипаж. — Это мой, хозяин. Ваш добрый лаптот. Юноша узнал голос и очень обрадовался. — Хорошо. А они кто? — Перебежчики. Мой пил, они пили… много пили… мой привел их на службу к тебе, если хочешь. Не хочешь — отрезать им всем головы и дело с концом. — Несчастный! Он пьян, как сапожник, — рассмеялся Фрике. — Все-таки очень приятно, что ты вернулся. Добро пожаловать. И товарищей своих давай сюда. Полезай, да смотри, не свались в воду, а то после попойки неожиданно окажешься в ванне. Сенегалец обстоятельно привязал челнок к шлюпке, проделав это с той особенной методичностью, которой пьяные люди обыкновенно хотят показать, что они вполне трезвы. Влез на шлюпку с кормы и стал звать приятелей. Те немедленно вскарабкались на борт со свойственной дикарям обезьяньей ловкостью и, слегка пошатываясь, остановились на палубе.
— Вижу, ты не терял времени даром. — О, хозяин, мой пил… много пил. — Вижу, черт возьми. За четверых, должно быть, нализался. — Мой пил, хотел напоить других, других поил, хотел расспросить новости. — Действительно, здесь никто против такого соблазна не устоит. Что же ты узнал? Про капитана есть что-нибудь? — Хозяин… угости сперва своего доброго слугу ромом… и беглых негров тоже угости. — Милый мой, да ведь ты языком не в состоянии будешь ворочать… Впрочем, раз тебе так хочется… — О, мой пил сорговое пиво… и просяное пиво… а ром все покроет. — На, глотай! Только, черт возьми, не знаю, куда ты после этого будешь годиться. — Им тоже дай пить, — назойливо повторял лаптот. — И они пусть пьют, — согласился Фрике с обреченностью человека, знающего негров и готового ждать. Африканские негры ужасно любят выпить. Осушив по большому стакану рома, вновь прибывшие не только не стали пьянее, но, напротив, оживились. У сенегальца перестал заплетаться язык, речь стала более связной и понятной. — Вести о капитане… Капитан проплыл мимо, когда мы стреляли крокодилов. Капитан теперь генералом у Сунгойя… военным министром!.. А Сунгойя верховный вождь… — Ну, теперь я ничему не удивляюсь. Барбантон ударился в приключения. Пустился во все тяжкие. Не прошло и тридцати часов, как он угодил в генералы и министры. Недурно для начала. Наше австралийское божество в прекрасной форме. Для него нет ничего невозможного. Фрике продолжил расспросы. Выяснилось, что появление Сунгойи вызвало революцию. Узнав от гонцов об его прибытии, приверженцы сенегальца ударили в большой барабан и все как один бросились ему навстречу. Белого человека, которого он привез с собой, приняли с почетом: наружность, осанка, обличавшие в нем великого воина, произвели впечатление. Их немедленно усадили в большую пирогу с ежечасной сменой гребцов и помчали в Сунгойю. Немудрено, что шлюпка отстала: ей пришлось лавировать между скал, потом эти посиделки на илистой отмели… — Ну а те, другие негры, кто такие? Почему они нас не пропускают? — Они нехорошие… Они из противной партии… Они заперли реку… Не хотят, чтобы мы плыли. — Вот как!.. Нас не хотят пропустить! Мой жандарм сделался главнокомандующим у будущего правителя. Не помочь ли мне ему нападением на арьергард неприятельской армии? Впрочем, какое я имею право вмешиваться в дела этих чучел? Все они хороши, одни других стоят… Нет, мы предпочитаем мирные средства. Не пойдем напролом, постараемся обойти препятствие… Скажи, далеко ли отсюда до Сунгойи по суше? Сенегалец поговорил с приятелями, те подняли вверх пять пальцев правой руки и три — левой. — Это значит восемь дней пути. А если идти на шлюпке? Ответ был дан неопределенный. Через два дня на «огненной лодке» нельзя будет идти из-за камней и мелководья. Придется плыть в пироге. А это, по меньшей мере, пять дней. — Понимаю. Раз уж все равно придется покинуть шлюпку и пересесть на ваши душегубки, так не лучше ли теперь же пойти по берегу и безо всякого шума прибыть в Сунгойю? На следующее утро Фрике приступил к осуществлению этого плана. Спросил прибывших с лаптотом негров, хотят ли они поступить к нему на службу и отправиться с ним в путь. Те с готовностью согласились — им было лестно пойти в поход с белым господином. Когда же молодой человек пообещал каждому по ружью и ром в придачу, пришли в неописуемый восторг и сплясали какой-то сумасшедший танец, после чего объявили, что белый господин им отец, и они пойдут за ним хоть на край света. Покончив с этим, Фрике решил отослать шлюпку с обоими матросами во Фритаун, чтобы не оставлять их в этой нездоровой местности на растерзание лихорадке и комарам. К тому же на них могли напасть жившие по берегам туземцы. Он выделил им одного негра из экипажа шлюпки, двух других и сенегальца взял с собой. Таким образом, его сопровождал отряд из шестерых здоровых молодцов. Трое из них досконально знали местность, а вшестером могли спокойно нести багаж, провизию и амуницию. Командир снабдил свою экспедицию всем необходимым, не позабыв ни одного нужного инструмента, ни одной мало-мальски полезной вещицы. Складную лодку, разумеется, также взяли с собой. Сенегальцы и два негра из экипажа вооружились «винчестерами», Фрике взял «Экспресс», американский револьвер и тесак. Свои крупнокалиберные ружья поручил нести неграм. Кроме того, парижанин положил в карман компас и огниво с фитилем, хотя сам не курил. Месье Андре он написал записку, в которой рассказал обо всем случившемся, вложил ее в непромокаемый конверт и вручил кочегару. Потом велел отвезти отряд на правый берег, на прощание крепко пожал матросам руки. Спустя пять минут он скрылся в лесу, а шлюпка двинулась во Фритаун. Идти пешком по тропическому лесу — нешуточное дело для европейцев. Тут требуется особенная энергия и железный характер. Мучений на долю путешественника выпадает немало. Во-первых, температура. Вообразите колоссальную оранжерею, насыщенную водяными парами, с тяжелой, знойной, сырой атмосферой, которая никогда не освежается ветерком — ни днем ни ночью. Европеец в таких условиях непрестанно обливается потом, что приводит к истощению. У некоторых даже развивается острое малокровие. Для поддержания сил необходима питательная, укрепляющая пища, хорошее вино, между тем приходится есть что попало: кое-как изжаренную дичь без соли, подпорченные консервы, запивая мутной, нечистой, вонючей водой. Дыхание не насыщает кровь кислородом, потому что в таком лесу нет чистого воздуха, он наполнен сыростью и миазмами от продуктов разложения органических веществ. Можно позволить себе частые привалы — торопиться-то некуда. Но они не приносят отдохновения — со всех сторон несчастного атакуют комары и мошки, колют, жалят, кусают, и нет никакой возможности от них избавиться. Это вконец изматывает утомленного путника. Что до диких зверей, по правде говоря, они не представляют большой опасности, поскольку сами стараются избегать человека. Исключение составляют разве что буйвол и носорог. Прочих обитателей надо специально отыскивать, преследовать. Охотники, мечтающие о крупногабаритных трофеях, нередко бывают разочарованы тем, что добыча Упорно от них убегает и прячется. Не так уж опасны и змеи, что бы о них ни говорили. Змея нападает на человека только тогда, когда он застигнет ее сонной или наступит на нее, а это случается редко: она уползает прочь при малейшем шуме. Конечно, гигантские экземпляры в счет не идут, но это явление исключительное. Фрике шел по лесу уже два дня, проклиная жару и климат, посылая ко всем чертям негров, посоветовавших ему покинуть шлюпку, в которой так удобно жилось. Доставалось — что греха таить — и старому другу Барбантону. — И ведь этим, пожалуй, не ограничится! — яростно восклицал парижанин. — Намучившись дорогой, нам по прибытии на место придется, чего доброго, вмешаться в междоусобье, воевать, сражаться, делать революцию, посещать митинги, слушать идиотские речи, читать прокламации и даже, может быть, участвовать в составлении конституции! Ах, жандарм, жандарм! Что вы наделали, сударь мой! За что вы нас так подвели!.. И найдем ли мы вас целым и невредимым? Смотрите, не сломайте себе зубы о пирог земных почестей… Кстати, лес кончается. Не так душно, но зато еще жарче. Мы на берегу реки, среди гигантских камышей. Это мне не нравится. Эй, лаптот! — Что, хозяин? — Спроси у своих приятелей, почему они держатся так близко от берега. Мы ввалимся в трясину. — Они говорят, что так лучше. — Пусть возьмут правее. — Они говорят, что там много буйволов и носорогов, нас растерзают в клочья. — Скажи им, что они мне надоели. Когда я приказываю, они должны исполнять. Если им не нравится, могут уходить, но только тогда не получат ни рому, ни ружей… Буйволы!.. Носороги!.. Да это как раз то, что мне нужно. Свежего мяса поедим. Носорога я не пробовал, но мясо буйвола очень вкусное — язык, например, или вырезка… Пойдем искать буйвола. Лаптот,где моя винтовка? — Вот она, хозяин. — Будь с ней все время около меня и стой смирно, что бы ни случилось. — Мой понял. — Это что за шум? Точно стадо диких вепрей мчится по мягкому илу. Не буйволы ли это? Шум приближался. Послышалось фырканье и быстрый тяжелый бег через камыши. Вот камыши раздвинулись. Показалась чудовищная голова, остановилась и злобно потянула в себя воздух, чуя человеческий запах.Те немедленно вскарабкались на борт со свойственной дикарям обезьяньей ловкостью и, слегка пошатываясь, остановились на палубе.

Негры взвыли и в ужасе пустились наутек. Сенегалец сделался пепельно-серым, но остался на месте. — Хозяин, — проговорил он упавшим голосом, выбивая зубами дробь, — защити твоего верного слугу. Это носорог!Показалась чудовищная голова, остановилась и злобно потянула в себя воздух, чуя человеческий запах.
ГЛАВА XII
Рациональная этимология. — Белые и черные носороги. — Уязвимость. — Рог носорога. — Птица при носороге. — Мнение Гордона Кумминга. — С глазу на глаз с носорогом. — Первый выстрел. — Брешь в живой крепости. — Пуля из «Экспресса». — Один на один. — Трусишка! — Фрике на земле и без оружия. — Победный крик. — Спасен. — Как можно стать охотником. Носорог, в отличие от гиппопотама, совершенно оправдывает свое название. Хотя, кажется, его это мало заботит. Носорог. Да, у него действительно рог на носу, а то и два, смотря по породе. Бывают и двурогие носороги. Нечего и говорить, что он типичный толстокожий: кожа его славится классической толщиной и непробиваемостью. Водится он не только в Африке, как бегемот, но и в Азии и даже на больших азиатских островах. Нас, конечно, интересует только африканский носорог, который, впрочем, мало чем отличается от своего азиатского сородича. Носорог, подобно гиппопотаму, может служить олицетворением материальной, грубой силы, не управляемой разумом. Треугольная короткая голова посажена без шеи на безобразные плечи, туловище обтянуто шершавой кожей, покрытой буграми и мозолями, кажется, будто к ней присохли комья грязи. Лба нет, вместо него какое-то углубление. Где тут поместиться мозгу? Короткие прямые уши свернуты в трубочку. Близорукие, крошечные глаза прикрыты напоминающими корку веками. Пасть небольшая, с плоскими губами. Верхняя губа, очень подвижная, легко оттопыривается вперед, висит над пастью остроконечным придатком. Носорог может хватать ею небольшие предметы. На приподнятом носу в виде полумесяца торчит огромный, грозный и неуместный рог. Это и оружие нападения, и орудие труда: носорог выкапывает им из земли коренья, до которых очень лаком. Он не похож ни на какие другие рога, будь то оленя, барана или коровы: чрезвычайно крепкий, он состоит как бы из сросшихся между собой волокон или, точнее, из шерсти, склеенной роговым веществом. Костяного вещества нет и следа. Кроме того, этот рог ничем не связан с необыкновенно толстыми черепными костями, идущими до самых ноздрей. Он крепится на коже, и его легко срезать ножом. Рог носорога отлично полируется и находит применение даже в промышленности. С толстой, как броня, кожей носорог был практически неуязвим даже после появления огнестрельного оружия, но, совершенствуясь, оно делает его все более уязвимым. Прежние пули отскакивали от его природного панциря, чтобы ранить животное, надо было попасть в одну из складок кожи или в глаз, что весьма непросто, об этом известно каждому охотнику. Теперь гиганта можно сразить наповал, прицелившись из винтовки Гринера или «Экспресс» в темное пятно позади плеча. В Африке два вида носорогов: черный и белый. И тот и другой бывают однорогим и двурогим. Следовательно, всего четыре разновидности. Белые больше, массивнее, неповоротливее, редко нападают на человека. Они жирнее черных, мясо их съедобно. Рог однорогого животного достигает метра и загнут назад, у двурогого передний больше метра и загибается вперед под углом 45°. Задний рог — не более двадцати сантиметров, напоминает шишку. Черные носороги меньше и проворнее белых. Они очень опасны, злобно кидаются на все, что им покажется странным, даже если их никто не тревожит. Мясо у них жесткое, сухое, даже неприхотливые в еде негры его не признают. Многие считают носорога существом смирным, как большинство травоядных. Может быть, это и справедливо в отношении белых особей. Черный же зачастую беснуется безо всякой причины. Роет рогом землю, ожесточенно выдирает кусты. Порой это продолжается несколько часов, в слепой ярости оказываются уничтожены безобидные неодушевленные предметы. Животное успокаивается, истерзав их в клочья. В противоположность слонам носороги почти никогда не ходят стадами, чаще в одиночку или парами. Только там, где их особенно много, бродят иногда группами по три, реже четыре или пять экземпляров. Нельзя не упомянуть и неразлучного спутника носорога, который, кажется, им одним живет и только для него одного. Это маленькая птичка из семейства воробьиных, ученые называют ее Buphaga africana (быкоед африканский), в капских колониях она известна как Rhinocerosbird (носорогова птица). Она следует за своим другом повсюду, по-видимому, бескорыстно, потому что поживиться ей от него почти нечем: на коже носорога не слишком много паразитов, годных в пищу быкоеду. Таким образом, привязанность оказывается скорее платонической. Малыш сопровождает своего приятеля во время переходов, останавливается вместе с ним, охраняет его сон — при малейшей опасности пронзительно кричит, чтобы разбудить, если тот не просыпается, клюет в уши. «Сколько раз я проклинал эту необыкновенную дружбу, — рассказывал знаменитый охотник Гордон Кумминг, исключительную правдивость которого подтверждает доктор Ливингстон. — Носорог отлично понимает сигналы, подаваемые птицей, насторожившись, немедленно вскакивает и убегает. Мне часто приходилось охотиться на носорога верхом. Он заводил меня далеко и получал несколько пуль прежде, чем свалиться. Птицы не покидали его до последней минуты. Сидели у него на спине и на боках, при каждом выстреле взлетали футов на шесть, тревожно кричали и опускались на прежнее место. Носорогу приходилось порой бежать под деревьями, низкие ветки сгоняли птиц с его спины, но при первой возможности они садились на нее опять. Мне случалось убивать носорогов ночью, на водопое. Птицы, думая, что те спят, оставались с ними до утра, потом долго старались разбудить и улетали, только окончательно убедившись в их гибели». Мы упомянули, что белые носороги смирнее черных. Но все в мире относительно. Встреченный парижанином экземпляр был белым и однорогим, а между тем рассвирепел, едва завидев людей. Это был настоящий гигант. Опустив голову, пыхтя, как рассвирепевший бык, направив прямо перед собой свой огромный рог, он яростно устремился на Фрике, который стоял перед громадной, грязной мясной тушей и не знал, куда целиться. К счастью, почва была болотистая, топкая, тяжелый зверь увязал то одной, то другой лапой, что замедляло его бег. Не рассчитывая попасть спереди в уязвимое место, юноша отскочил в сторону и выстрелил, почти не целясь. Но за десятую долю секунды до выстрела носорог почуял спрятавшихся в камышах негров и быстро развернулся в сторону Фрике. Голова животного вновь оказалась напротив стрелка, и пуля ударилась в рог, почти вровень с носом. Рог был снят, как серпом. Он пошатнулся и упал, повиснув на лоскутках кожи. — Я не сюда целился, — сказал парижанин, — досадно. Но погоди минутку, приятель, у меня для тебя еще есть заряд. Оглушенный носорог припал на колени. Но рог у него не связан с черепом, держится на надкостнице, поэтому сотрясение было легким. Зверь вскочил с устрашающим ревом, вконец рассвирепев, и снова бросился на Фрике и сенегальца. Несмотря на неблагоприятные условия, молодой человек выстрелил еще раз. Опытный охотник никогда бы так не поступил. Он бы повернулся, чтобы прицелиться в бок. Но Фрике не был настоящим охотником, как не был и первоклассным стрелком. Он был только неустрашим и хладнокровен, а это далеко не все. И потому он допустил большую неосторожность. Носорог несся с опущенной головой. Пуля восьмого калибра попала ему немного выше плеча, в складки кожи. Обыкновенная пуля шестнадцатого или четырнадцатого калибра не могла бы пробить этой толстой шкуры. Но смертоносная пуля из винтовки «Экспресс» пробила ее насквозь и раздробила лопатку, как стекло. В подвижной твердыне образовалась брешь. Сквозь разорванные мускулы и кожу, сквозь обломки костей обнажилось нечто бледно-красное. То было легкое. Такая рана была, конечно, смертельна. Минуты чудовища были сочтены. Но носорог был так крепок и живуч, что едва покачнулся. Смерть должна была наступить через несколько мгновений, после сильной потери крови. Фрике повесил на плечо разряженную винтовку и проворно посторонился, чтобы дать дорогу врагу. У сенегальца он взял свою двустволку восьмого калибра, заряженную круглой пулей. Это ружье длиннее винтовки и не так удобно, но бьет тоже очень сильно, хотя его дула и не нарезные. На коротком расстоянии действие этого ружья одинаково с действием винтовки. Два выстрела, сделанные Фрике, образовали густое облако дыма, закрывшее его и сенегальца. Носорог некоторое время не мог их видеть. Он стоял, ворча и воя. Сквозь дым можно было лишь смутно различить его движения. — Что же он до сих пор не валится? Ведь я его подстрелил, как умел. Эй, лаптот! Подержи-ка ружье, а я пока снова заряжу винтовку. Сенегалец не отвечал. Фрике повернул голову. Негра не было. — Трусишка, больше ничего! — пробормотал парижанин. Над камышом пронесся легкий ветерок и рассеял дым от выстрелов. Парижанин увидел своего носорога. Он стоял неподвижно и усиленно нюхал воздух. Юноша прицелился и выстрелил в другое плечо животного. Было слышно, как пуля ударилась в твердую кость. Несмотря на смертельную рану, животное все-таки нашло в себе силы броситься на стрелка. Пораженный такой невероятной живучестью, Фрике еще раз выстрелил, на этот раз совсем второпях, и не нанес врагу существенного ущерба. Теперь он оказался беззащитен, с двумя незаряженными ружьями перед разъяренным носорогом… Правда, у него был револьвер, но что револьвер в подобной ситуации? Чудовище издыхает, но его агония опасна. Фрике решился. Отбросив ложный стыд, бросил оба ружья и убежал в тростник. Ведь издохнет же носорог когда-нибудь. Только вот когда? Успеет ли он убежать? Он уже чувствовал на себе горячее дыхание зверя, который гнался за ним по пятам. Еще мгновение, и парижанин будет смят, раздавлен, истоптан. Сделав прыжок назад, юноша попал ногой в яму, только что вытоптанную носорогом, спотыкнулся и упал, растянувшись во весь рост. Он погиб… Но что это? Носорог остановился, издал душераздирающий рык и повалился на бок в каком-нибудь метре от Фрике. Вою животного вторил крик человека — такой же дикий и громкий. Размахивая окровавленным тесаком, появился сенегалец. Молодой человек вскочил, удивляясь, что жив, и закричал: — Откуда ты? — Вот, посмотри, — ответил лаптот, подводя своего хозяина к носорогу, судорожно бившемуся на земле. — Превосходно, парень. Чистая работа. А главное, вовремя. — Ты доволен, хозяин? — Еще бы не быть довольным! Помимо удовольствия, что остался жив, приятно знать, что у тебя есть на кого положиться. А я только что назвал тебя трусишкой! Между тем ты сделал для меня то, за что… дай я пожму пока твою руку в преддверии большего. Похвала парижанина была более чем уместна. Сенегалец действительно спас ему жизнь. Подав молодому человеку другое ружье, сенегалец под прикрытием порохового дыма кинулся в камыши, дополз до носорога и тихо встал позади него. Он собирался перерезать тесаком жилу на одной из задних лап. В это время Фрике выстрелил. Носорог, хотя и был смертельно ранен, ринулся вперед. Сенегалец — за ним, настиг его и удачно перерезал поджилки. Зверь упал.
Как раз вовремя. Фрике стоял, опираясь на ружье, и глядел на мертвого великана. Он впервые почувствовал прелесть охоты. Не той охоты, когда безо всякого смысла истребляются живые существа, а такой, когда речь идет о самозащите или о пропитании. Парижанин подвергся нападению. Защищался. Это в порядке вещей. Он должен прокормить семерых, включая себя, — беглецы уже возвращались, заслышав победный крик сенегальца, — что ж, можно приготовить на завтрак обильное жаркое из белого носорога. Так порой люди становятся охотниками.Сенегалец настиг его и перерезал поджилки.
ГЛАВА XIII
Затишье. — Фрике сидит без приключений и не жалуется. — Всеобщее возбуждение на побережье. — Невольный вербовщик. — Туземное земледелие. — Лентяи. — Экваториальные леса. — Потерянное богатство. — Без разведчиков ходить опасно. — Сюрприз. — У друзей. — Подданные Сунгойи. — Фрике думает, что он во сне. — Черные рекруты на учении. — Селение претендента. С той минуты, как Фрике оставил фритаунский рейд, прошло десять дней. Виной тому — жандарм, неожиданно сбежавший с яхты, на которой вследствие непредвиденных обстоятельств оказалась его мучительница. Теперь он, по всей вероятности, находился в селении Сунгойя, недалеко от истоков реки Рокель, в обществе негра по имени Сунгойя, претендента на местный престол. Череду приключений сменила пора затишья, но парижанин не жаловался. Не все же сражаться с крокодилами, гиппопотамами и носорогами! Надо и отдохнуть. Он шел вдоль реки по трясинам и болотам, положившись на своих негров. Дикие звери встречались все реже, зато люди попадались чаще. Обыкновенно апатичные туземцы были крайне возбуждены в ожидании важных событий. В селениях, попадавшихся на полянах среди лесов, привычные полевые работы прекратились. Перед легкими хижинами, покрытыми листвой, собирались люди — спорили, произносили речи, беседовали, выпивали. Последнее было особенно популярно. Говорили о Сунгойе, о фетише необыкновенной силы, который должен дать ему победу, о белом человеке, который с ним прибыл, о начинающейся войне и грядущих событиях. И пили, пили, пили. Превосходная вещь — политика на гвинейском берегу. Фрике принимали радушно. Свита его все увеличивалась. Его люди рассказывали по дороге о подвигах француза, восхваляли его храбрость, ловкость, щедрость, грозную силу его оружия, убивающего гиппопотамов и носорогов, — и вот вокруг него оказался отряд, состоявший в основном из тех, кто любит пожить в свое удовольствие, не слишком себя утруждая. «Если так пойдет дальше, — размышлял юноша, — наберется экспедиционный корпус. Эти бродяги пошли за мной, чтобы вдоволь поесть и насладиться моим ромом. В Сунгойю они придут с пустыми желудками и будут сражаться. С кем и за кого?.. Выходит, я, сам того не желая, окажу влияние на местную политику. Что ж, ничего не поделаешь. Будь что будет, лишь бы только отыскался наш Барбантоша». Все явственнее ощущалась близость многолюдного селения. Появились обработанные поля на просеках, которые обыкновенно вырубаются среди леса и где с большим трудом выкорчевываются огромные пни. Просеки засеваются маниоком и бананами, их плоды и вяленая рыба — основная пища туземцев. Бананы и маниок (кассаву) мы описывали неоднократно и не будем возвращаться к ним еще раз. Стоит только добавить, что африканский маниок, в отличие от американского, совершенно не ядовит. Из него получают грубую муку, но хранят не ее, а мягкое забродившее тесто, довольно вонючее, с острым привкусом, который так нравится туземцам. Хозяйство ведется подсечное. После двух сборов урожая поле забрасывается, устраивается новая просека. Между тем последовательная смена культур помогла бы земле надолго сохранить плодородность. Но туземцы даже не задумываются над этим. Им подавай маниок и бананы, для чего достаточно вырубить еще один уголок в лесу. Покинутые поля с невероятной быстротой зарастают совсем не тем, что росло на них прежде. Вместо прочных первобытных деревьев, на которых обыкновенно не бывает съедобных плодов, вырастают более нежные породы, могущие дать человеку то, что потребно для его существования. Прорастают занесенные ветром или птицами зерна, дают ростки орехи и ягоды, брошенные неграми, прорастают семена, намытые паводками. Все это быстро разрастается и созревает на благодатной, могучей почве. Через несколько лет на месте просеки возникает дикий фруктовый сад. Тут и манговое дерево с сочными, вкусными плодами, ядрышки которых наполнены веществом, сходным по вкусу и цвету с шоколадом; тут и Sterculia acuminata, дающая несравненные орехи кола, или гуру. Этот орех, невероятно пряный и в то же время очень сладкий, быстро напитывает вкусовые бугорки языка, перебивая любой дурной вкус. Тухлая вода кажется тогда свежей и сладкой. Поэтому орехи гуру очень ценятся в Судане, являя предмет весьма бойкой торговли. Кроме того, им приписываются повышающие тонус и противолихорадочные свойства, засвидетельствованные многими путешественниками. Вырастает на просеках и великолепная пальма Eloeis guineensis, из плодов которой добывается пальмовое масло, множество других полезных деревьев. Из нежных кустарников назовем имбирный куст, перцовое дерево, разные виды кардамонов и другие растения, которые находят применение на кухне и в медицине. Не забудем про виноград с гигантскими лозами и с очень сладкими плодами, хотя и недостаточно мясистыми. И все это пестро украшено цветущими растениями-паразитами с пышными листьями и роскошными цветами: бромелиями, орхидеями, ароидами. Фрике и его люди двинулись в путь после отдыха на одной из таких заброшенных просек, которая дала им и тень, и возможность кое-чем поживиться. Они готовились окончательно расстаться с лесом и выйти на обширную равнину, над которой голубым куполом сияло небо. Неприятельская территория осталась позади. Отряд вступил в земли Сунгойи. Поэтому о боевом порядке забыли, не скрывая усталости. Не успели негры, завидев равнину, издать протяжный, радостный крик, как их окружил плотным кольцом неизвестно откуда появившийся отряд черных воинов. Все произошло с быстротой мысли. — Что это еще такое? — шутливо спросил Фрике. Он не встревожился, только удивился. Болтливые негры заговорили все разом, стараясь объяснить, в чем дело, и парижанин, конечно, ничего не понял. — Так, орите все вместе, если вам кажется, что так скорее пойму… Только прочь лапы, а то от вас воняет вашим противным маслом. Я хоть и не бог весть какой щеголь, но все-таки предпочитаю иланг-иланг. Лаптот, ведь ты у меня записной толмач. Спроси, что им нужно. — Они нас не пропускают. — А!.. Тогда объясни цель нашего прихода сюда… Смотри-ка, бойко ты по-ихнему болтаешь. Что они говорят? — Что нас отведут к вождю. — К какому еще вождю? Кто он такой? Если сам Сунгойя, я согласен, а если кто другой, тогда заговорят мои винтовки. — Вождь — Сунгойя. — В добрый час. Нечего больше и время тратить. Пусть ведут! Фрике вскинул винтовку за плечо, сдвинул набекрень пробковый шлем, выгнул грудь колесом и пошел во главе своего отряда. Конвой пристроился с тыла и флангов. Сунгойя, несомненно, знал, как позаботиться о своей безопасности. Парижанин первым вступил на поляну, посреди которой стоял укрепленный поселок. Опрятные хижины окружены бамбуковым забором, не в пример прочим туземным поселкам. Но не это заинтересовало Фрике. Удивительные звуки поразили его слух. — Положительно — я сплю!.. Нет, не может быть. Звуки раздавались все отчетливее. — Раз, два! Раз, два!.. На площадке французский жандарм в полной форме обучал европейскому военному искусству пехотный отряд цвета черного дерева. Их было около сотни, прикрытых лишь собственной стыдливостью да украшенных амулетами (гри-гри). Виноградный листок изображал тряпичный лоскуток. «Для коллекции недоставало только этого, — подумал Фрике. — Наш жандарм положительно неподражаем». Почтенный воин увидел друга, отсалютовал ему саблей, окинул отряд гипнотизирующим взглядом бравого командира и продолжил ученья. — Стой!.. Равнение направо!.. На плечо!.. К ноге!.. Шагом, марш!.. — доносилось до парижанина. Черные рекруты проделывали все это довольно исправно или, во всяком случае, усердно. Но вот Барбантон степенно вложил саблю в ножны и направился наконец к парижанину, раскрывая объятия. — Здравствуйте, дорогой Фрике. Знаете, я вас давно поджидаю и уже начал беспокоиться. — Вы ждали меня? Вы что — колдун? — Вовсе нет. Просто хорошо знаю своих друзей. Я был уверен, что вы пуститесь по моим следам и непременно догоните. Я, впрочем, позаботился послать вам отсюда людей навстречу. — Кого это? Уж не тех ли, что мы встретили на прошлой неделе? — Это наши, мы послали их, чтобы они провели вас сюда. — Однако позвольте вас поздравить. Вы здесь генерал и командуете армией, хотя и черной. Это всегда очень лестно. — Что ж, от безделья и то рукоделье. А моему приятелю Сунгойе очень хочется попасть в монархи. «Удивительно! Жандарм — делатель королей!» — пробормотал про себя Фрике и прибавил вслух: — Вы, значит, скоро собираетесь утвердить нашего друга Сунгойю на здешнем престоле? — Да, мой друг. А пока обучаю его воинов. — Удивляюсь одному: неужели они понимают ваши команды? — Не понимают, а все-таки исполняют… механически.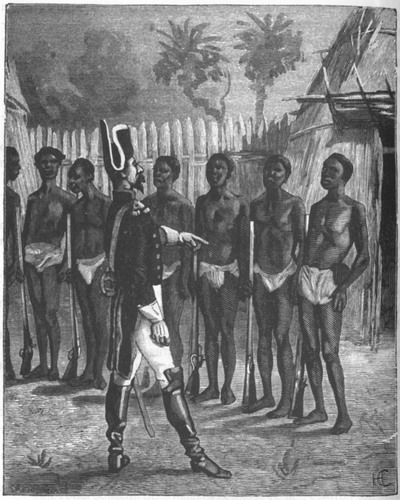
— Как им это удается? — А как у нас в армии инородцы, не понимая ни слова по-французски, заучивают команды? Так и они. — Ясно. — К тому же мои здешние рекруты вовсе не тупы — вон как выучились всего за неделю. Правда, у Сунгойи есть очень действенное средство, стимулирующее понятливость. — Понимаю. Что-нибудь в немецком вкусе: оплеухи, палки… — Нет. Он объявил, что тем, кто окажется бестолковым, отрубят голову. Вы и представить себе не можете, как подействовало это нехитрое средство. Однако пойдем в хижину. Важным персонам неприлично долго беседовать под открытым небом. Да и форму мне хочется скинуть: конечно, уважение она внушает, но жарко в ней невыносимо. — Это ее вы так бережно увозили в чемодане, когда покидали улицу Лафайет? — У меня во всем доме только это одно и было, чем я дорожил. Сказано это было с таким чувством, что вся комичность положения, в котором оказался старый солдат, на время забылась. Не хотелось смеяться ни над его непризнанным генеральством, ни над тем, что эту глупость он принимал всерьез. — Как месье Андре отнесся к моему… бегству? — Очень жалеет и послал меня за вами. — Я не вернусь на яхту, пока там моя жена. Лучше сделаюсь канаком и умру здесь. — Ну что это вы! Желтая лихорадка не век будет продолжаться, и месье Андре отправит вашу сердечную половину в Европу с первым почтовым пароходом. Я и сам буду рад, когда она нас покинет. Знаете, едва она появилась, на нас посыпались беды и несчастья. Наш патрон сломал ногу, потом… — Что вы говорите? Месье Андре? Жандарм побледнел. — Доктор говорит, что ничего опасного нет, но шесть недель надо лежать, а это для энергичного человека очень тяжело. Не случись этого, он бы тоже был здесь. Но это еще не все. С вашей женой тоже приключилась неприятность. — Вот что, Фрике. Я вас очень люблю и очень дорожу вашей дружбой. Ради этой любви и этой дружбы дайте мне слово никогда при мне не упоминать о моей жене. Я ее имени не желаю больше слышать. Хорошо? — Извольте, но только я вам должен сначала рассказать… — Довольно. Ни слова. Вы мне обещали. — Ну, как угодно, — согласился молодой человек. — В конце концов это не мое дело. Друзья шли по длинной-длинной улице, застроенной по обеим сторонам хижинами и обсаженной красивыми тенистыми деревьями. Позади хижин поляна была очищена огнем от пней, и на ней в изобилии росли бананы, маниок, сорго, просо. Селение казалось более благоустроенным и опрятным, чем те, что встречались ближе к побережью. Бамбуковые хижины, крытые пальмовыми листьями, выглядели нарядно и даже кокетливо. Фрике и Барбантон дошли до хижины, что была явно больше других. У дверей стоял часовой, молодецки взявший на караул. Барбантон отдал честь. — Мы пришли, — сказал он.На площадке французский жандарм в полной форме обучал европейскому военному искусству пехотный отряд цвета черного дерева.
ГЛАВА XIV
Претендент на престол. — Монарх — добрый парень. — Фрике узнает, что и он входит в состав правительства. — Три недели в ожидании. — Вооруженный мир. — Барбантон и «орлиный взгляд». — Наполеоновские позы. — Александр Македонский из Судана. — Не на что нацепить знаки отличия. — Воспоминание об украденном фетише. — Тревога. — Сунгойя пьет нашатырный спирт и готовится к битве. — Бой. — В обход. — Армия в плену. Фрике и жандарм вошли в просторную комнату, где стояли два больших плетеных дивана из пальмовых листьев. На них можно было и сидеть, и спать. Меблировку дополняли грубые скамьи, разнообразные вещи европейского производства, сундуки. На одном из диванов сидел, поджав под себя ноги по-турецки, негр в матросских брюках на трехцветных подтяжках и фланелевой жилетке.
Вокруг него на сундуках сидели негры вовсе без одежды, зато в полном вооружении. Перед каждым стояла посудина с сорговым пивом. Ведь было так жарко! Человек, сидевший по-турецки, подал вошедшим правую руку, левая была занята — ею он поглаживал свою ногу. Потом величественным жестом пригласил их сесть рядом. Парижанина он ласково приветствовал: — Здравствуй, муше! — Здравствуй, Сунгойя, — отвечал Фрике. — Ты теперь во всем великолепии. Очень рад тебя видеть. — И Сунгойя рад видеть белого вождя. Белый вождь поможет Сунгойе одержать победу. — Рады стараться, ваше величество, — шутливо отвечал молодой человек. — Сделаем для вас, что можем, хотя вы убежали с «Голубой антилопы» довольно бесцеремонно. — Мой пошел с Бабато… Бабато большой генерал. Негры постоянно коверкают иностранные слова, особенно имена собственные. — Правда, мой жандарм выдающийся военный и притом глубокий теоретик. — Великий вождь муше Адли не приехал? — Нет. Он выезжает только в случаях особой важности. Про сломанную ногу парижанин не счел нужным сообщать. — Впрочем, — добавил он, — довольно будет и одного Барбантона. Не так ли, генерал? — Разумеется, — отвечал отставной жандарм, польщенный отзывом о своих военных способностях. — К тому же главное сделано. — Действительно, я ожидал, что застану вас сражающимися, а вы тут благодушествуете, спихнув прежнего правителя с трона. Очень рад за Сунгойю, ведь это, деликатно выражаясь, наш бывший служащий, а теперь — глядите-ка! — какая важная персона. В сторону Фрике проговорил: — Вот бы напомнить, что он стащил у генеральской супруги медальон-фетиш. Но нет! Молчание! Барбантон не желает слушать… Странная, однако, бывает судьба: товарищ мой попадает в генералы, а лотерейный билет его жены превращается в талисман для негра-претендента на престол и дает моральное право на государственный переворот. Тут есть над чем пофилософствовать. Но — молчание, молчание! — Это произошло очень просто, — продолжал Барбантон, видя, что его друг молчит. — Когда мы плыли на пироге, Сунгойю всюду узнавали и провозглашали королем. Я этому отчасти содействовал. Дело в том, что Сунгойя проведал, что у меня в чемодане мой прежний мундир, и заставил надеть его. Мундир — великое дело не только у нас во Франции, но даже здесь. Воздействие его велико. К нам отовсюду начали стекаться люди. Число приверженцев росло, как снежный ком. — Снежный ком и — негры. Хорошенькое сопоставление. Мне нравится. — Так говорится. Одним словом, у нас собралось такое большое войско, что мы без выстрела вступили в столицу. — Значит, все сделано и вам незачем больше здесь оставаться. — Напротив, у нас много дел впереди. Мы, в сущности, находимся в осаде, хотя это и не заметно. Каждый час ожидаем нападения. Вот почему я и обнес дома забором, а солдат ежедневно муштрую. Мало одержать верх, победу надо упрочить. — Это так, — подтвердил Сунгойя. С французским языком он, пока жил в колонии, освоился настолько, что понимал разговор вполне, хотя сам говорил с трудом. — Хорошо. А потом что? — Потом? Ну, будем почивать на лаврах, охотиться, кататься на лодке, а когда отступит желтая лихорадка, вернемся на яхту… Полагаю, на сегодня аудиенция закончилась. Мы посидели на диване у его величества и благодаря этому стали сановниками первого класса. Формальность очень важная, теперь все будут нам повиноваться. — Значит, я тоже вошел в состав здешнего правительства? — Без сомнения, мой дорогой! Теперь у нас с вами полное равенство в смысле государственной службы здесь. — Причем никаких служебных столкновений у меня с вами быть не может, за это я ручаюсь. В военном отношении я охотно вам подчинюсь и буду все ваши приказания исполнять толково и аккуратно, не за страх, а за совесть. — Сказано было насмешливо. — Однако мне бы хотелось отсюда уйти. Здесь козлом пахнет. — Простимся и пойдем ко мне в хижину. Она дверь в дверь. У входа тоже стоит часовой. — Надеюсь, теперь их будет два, хотя бы для того, чтобы не позволять любопытным копаться в моих вещах… Идем, стало быть? До свидания, Сунгойя, до свидания, милейший монарх. До скорого!На одном из диванов сидел, поджав под себя ноги по-турецки, негр в матросских брюках на трехцветных подтяжках и фланелевой жилетке.
Третью неделю жил Фрике в поселке туземцев. О неприятеле ничего не было слышно, но присутствие его ощущалось повсюду. Разведчики ежедневно рассказывали о встречах с подозрительными личностями. Не будь при нем двух белых, Сунгойя не избежал бы столкновения с противником. Этот вооруженный мир, эта оборона от невидимого врага изводили хуже любой войны. Особенно изнывал Фрике. Невозмутимый Барбантон уговаривал парижанина запастись терпением. Тот неизменно отвечал, что уже и так слишком долго терпит. Отставной жандарм все больше входил в роль, принимая знаменитые наполеоновские позы: то часами держал руку просунутой между пуговицами на груди, то упирался ею в бок, как на бронзовой колонне. Во время учений то окидывал солдат орлиным взглядом, то насквозь пробуравливал глазами. Давно он не был так счастлив. А потому жалобы и брюзжание парижанина были ему неприятны, они портили его радужное настроение. Впрочем, по правде говоря, он многое сделал для усиления обороны. Научил негров не сыпать в ружье порох горстями, так как оно от этого только портится и может даже разорваться, не причинив неприятелю никакого вреда. Перешли на свинцовые пули вместо железных и чугунных, стрельба стала гораздо действеннее. «Генерал» обучил своих солдат шагу и другим приемам. Для предстоящей битвы это не имело большого практического значения, но для дисциплины — огромное, подчиненные приучались слушаться команды. Негры обычно сражаются по вдохновению, безо всякой тактики Теперь было ясно, что победу одержит тот, кто лучше будет повиноваться своему вождю. Для Фрике дни тянулись бесконечно долго. Барбантон не замечал, как летит время. Не желая останавливаться на полдороге, он решил пройти со своими солдатами курс стрельбы, научить их рассыпаться цепью и прочим премудростям военного дела. — Дайте мне десять тысяч таких солдат, как эти, и я завоюю всю Африку, — сказал он приятелю, приняв сразу две наполеоновские позы — и аустерлицкую, и такую, как на колонне. — Очень хорошо, — не без досады отвечал Фрике. — Двиньтесь долиной Нигера до Тимбукту, покорите Сунгойе Массину, Гурму, Боргу, Сокото, Борну, Багирми и Вадаи. Захватите, пожалуй, мимоходом Дарфур и Кордофан. Дайте подножку абиссинскому негусу, пройдите долиной Нила и задайте перцу египетскому хедиву. Сделайте все это, но только не томите меня здесь. — С удовольствием, дорогой Фрике, но надо подождать, пока я соберу эти десять тысяч. Возразить было нечего. Парижанин умолк и стал ждать развития событий. На мгновение у него мелькнула свирепая мысль — бросить этого суданского Александра Македонского на произвол судьбы и вернуться на яхту. Но разведчики доносили, что река заблокирована. От скуки юноша решил освоить мандингский язык. Впрочем, бывали и веселые минуты. Об одном эпизоде Фрике долго не мог вспомнить иначе, как задыхаясь от хохота. Барбантону хотелось, чтобы его ополчение как можно больше походило на европейское войско. И он ввел чины. Лаптот сразу получил звание капитана. Другие воины, в зависимости от толковости и деловитости, были произведены кто в сержанты, кто в капралы. Сержанты и капралы — это бы еще ничего. Но обычно отличить их от рядовых можно лишь по нашивкам. На форму, на одежду. А если одежды нет?.. Оказалось, можно прекрасно обойтись без нее! Вытатуировать нашивки на руке, под плечом, и тогда они останутся с человеком на всю жизнь. Нашивки можно спороть, татуировку — нет. Разжаловать, значит, будет нельзя. Пожизненные капралы и сержанты! Фрике хохотал до упаду, едва челюсть не вывихнул, и Барбантону это доставило несколько наивно-радостных минут. Татуировку на теле господ офицеров делал все тот же мастер на все руки — лаптот, для себя мечтая в недалеком будущем о густых эполетах. Интересно знать, какими эполетами он будет украшен: вытатуированными или всамделишными? Между делом Фрике наводил справки о судьбе медальона госпожи Барбантон. Это было непросто. Потребовались чудеса дипломатического искусства и внушительное количество рома, чтобы с пристрастием допросить Сунгойю. Медальон действительно был у него. Он бессовестно обокрал путешественницу. Когда негром овладевает жадность, он теряет всякое нравственное чувство. На эту вещицу он, впрочем, смотрел как на могущественный талисман, благодаря которому супруга жандарма избавилась от обезьяны, а он, Сунгойя, отвоевал себе престол. Он во всем сознался парижанину, будучи безобразно пьяным, и все-таки до талисмана не только не позволил дотронуться, но и взглянуть на него не дал. Медальон висел у него на шее, на цепочке, в кожаном футляре, ведь от одного постороннего взгляда мог утратить свою силу. Фрике хотел взять его в руки хоть на секунду, чтобы вытащить лотерейный билет. Пусть у него не было причин быть особенно довольным госпожой Барбантон, все же он считал своим долгом отыскать пропажу. Он стал наблюдать за вождем, решив при первом удобном случае вытащить из медальона содержимое, оставив оболочку в его пользу. Случай не замедлил представиться. Как-то Фрике сидел с Сунгойей, угощая того пивом и ромом. Чтобы не возбуждать подозрений в чернокожем монархе, делал вид, что тоже пьет — всякий раз подносил стакан ко рту и выливал себе за рубашку. По окончании попойки пошел к себе переодеться, как вдруг со всех сторон раздались бешеные крики. Часовые с передовых постов отступали с воплями: — К оружию!.. Неприятель!.. Селение встрепенулось, наполнилось движением и шумом. Черные ополченцы в относительном порядке собрались в указанных местах. Появился и сам Барбантон при полном параде, важный, торжественный, на голову возвышаясь над толпой. Поскольку все распоряжения на случай атаки были сделаны заранее, каждый знал, что ему делать, и оборона была организована в один миг. Фрике наскоро вооружился скорострельным винчестером, который для боя гораздо удобнее тяжелых охотничьих ружей, и принял начальство над отборным отрядом, чтобы защищать королевскую хижину и священную особу монарха, совершенно невменяемую, надо заметить. Крики усилились. Сражающиеся перекликались подобно гомеровским героям, перестрелка трещала со всех сторон. Бой разгорался по всей линии. Штурм, к которому давно готовились, начался. Тут-то и выказалась во всем блеске гениальность вояки, который в продолжение месяца был душой обороны. Не будь им сделано известных распоряжений, оказавшихся теперь весьма дельными, вчетверо сильнейший неприятель овладел бы столицей без единого выстрела. А так первый же вражеский удар был остановлен бамбуковым забором, из-за которого осажденные довольно успешно палили, сами не неся никаких потерь. Тем временем Фрике, будучи, так сказать, в резерве, достал у себя из походной аптечки флакон с нашатырным спиртом, накапал в воду надлежащее количество капель и влил в рот пьяному королю. Сунгойя вскочил, точно выпил расплавленный свинец, отряхнулся, потянулся, протер глаза, стал чихать и в конце концов пришел в себя. В двух словах ему объяснили, что наступила решительная минута. Он выказал себя молодцом и собрался принять деятельное участие в драме, в исходе которой, впрочем, был заинтересован больше, чем кто-либо.

Перестрелка как будто стала утихать. Неужели осажденные ослабевают? И раскатистой команды «генерала» что-то не слышно. Между тем враги кричали все громче, с их стороны выстрелы участились. Что же это значит? Неужели непредвиденная катастрофа изменила положение дел и первоначальный относительный успех сменился поражением? На войне все так переменчиво, все зависит от случая. Забор был проломан во многих местах, разъяренные черные демоны со всех сторон врывались в селение. Стрелки Сунгойи отступали в полном боевом порядке, без потерь, и заняли королевский дворец, который Фрике непочтительно называл «правительственной избой». Число нападающих росло в геометрической профессии. Дворец был прекрасно защищен. Обороной командовал Фрике. Сунгойя рядом с ним — взволнованный, пепельно-серый. Парижанин его успокаивал: — Ну, ну, монарх, ободрись. Защищай свою шкуру. Ведь если ты будешь побежден, твоя песня спета. Около дворца кипел бой. Стрелки не успевали заряжать ружья. Началась рукопашная. Вдруг раздался знакомый резкий свисток. Стрелки узнали сигнал, легли на землю. Хрупкие стены дворца будто воспламенились. Прогремел залп сотни ружей! На врага обрушился ураган свинца. Десятки черных тел повалились на землю, окрашивая ее кровью. Раненые корчились и выли от боли и ярости. Атакующие были деморализованы, но скоро оправились и снова пошли на штурм. Их вел высокий негр в мундире английского генерала. Сам низложенный король, молодчина — храбрый и энергичный. Но лицо уморительно выкрашено в белый цвет, на щеках — розовая краска. Подделка под белого человека для пущей важности. Он дрался отчаянно-храбро, умея подбодрить своих воинов. Те с безумной отвагой лезли вперед, совсем не похожие на выродившихся негров с побережья. Впрочем, отсюда до берега больше пятисот верст. Защитники дворца старались изо всех сил. Поддерживали непрерывный ружейный огонь, но нападающих было слишком много, прибывали новые и новые толпы. «Эти ребята дерутся молодцами! — воскликнул мысленно Фрике. — Мне даже неприятно бить их из ружья, как кроликов. Я вообще не люблю убивать, и, если бы дело шло не о спасении собственной жизни, я бы теперь чинно и благородно сидел сложа руки. Черт бы побрал этого жандарма с его побегом и его черномазого приятеля с его монархией и армией… К черту всю эту поганую лавочку!.. Однако дела наши из рук вон плохи… Между тем у меня нет ни малейшей охоты подставлять свою шею под ножи. Делать нечего. Надо прибегнуть к сильному средству». Он схватил свои тяжелые ружья, бывшие у него под рукой, и начал расстреливать негров, ломившихся в дверь. Окутанные облаком порохового дыма, осыпаемые всесокрушающими пулями, нападающие в беспорядке отхлынули. Вождь пробовал вернуть их на поле битвы, но тут произошло нечто, что довершило поражение. У них в тылу раздался зычный голос «генерала». Барбантон, взяв с собой отборных стрелков, сделал обходной маневр и подоспел к месту сражения. — Пли!.. Нападающие оказались меж двух огней. Увидев, что сопротивление бесполезно, они побросали оружие и хотели пуститься в бегство. Но «генерал» принял меры. На побежденных со всех сторон направили ружья. Бегство оказалось невозможно. Барбантон вложил саблю в ножны, взял в левую руку револьвер и подошел к потрясенному, растерявшемуся вождю. Схватив его правой рукой по-жандармски за шиворот, произнес: — Вы мой пленник… И вы, солдаты. Долой оружие! Сдавайтесь, не то хуже будет. Я не могу ни за что ручаться.Сунгойя вскочил, точно выпил расплавленный свинец, отряхнулся, потянулся, протер глаза, стал чихать и в конце концов пришел в себя.
ГЛАВА XV
После победы. — Неверная пословица. — Пленники. — Недостойное обращение. — Массовое убийство. — Бесполезный протест. — Друзьям все это кажется отвратительным. — Приготовления к отбытию. — На другой день после расправы. — Негр полагает, что белые поступают так же. — Дипломатия дикаря. — Сунгойя собирается угостить своих воинов слоном. — Великие полководцы не любили охоты. — Барбантон тоже не любит. — Поиски. — Нет слона! — Похищен змеей. Выполненный Барбантоном обходной маневр решил исход битвы. Сунгойя торжествовал. Победа была тем более полной и окончательной, что удалось взять в плен главного конкурента в борьбе за престол. Схватил его «генерал» собственными руками. Количества убитых никто не знал, да это никого и не заботило. Все внимание победителей обратилось на пленных. Их было около пятисот, в том числе много раненых. Обезоруженные, крепко связанные, они валялись на солнцепеке, как скот, назначенный на убой. Фрике и жандарм не без тревоги задавались вопросом, что с этими несчастными сделают. Победители пока лишь утоляли жажду, поглощая неимоверное количество пива. Сунгойя, победой окончательно упрочивший свою власть, казалось, поставил себе целью опровергнуть пословицу, неверную, конечно, как и большинство других, будто «благодарность —добродетель негров». На оказавших ему поддержку европейцев он почти и не смотрел. — Каков болван! — ворчал Фрике. — Дует пиво, а нам ни слова благодарности, ни даже взгляда. — Да, он что-то не особенно предупредителен с нами, — согласился смущенный Барбантон. — С его стороны это довольно мерзко. Я вовсе не претендую на титул герцога для вас или для себя, но сказать спасибо не мешало бы. Впрочем, чего ждать от этих черномазых? Все они дрянь страшная. — Боже! Что они хотят делать? — У меня мороз по коже. Сунгойя отдал приказ, который взволновал всех его подданных. Даже самые отчаянные пьяницы прекратили возлияния. Бросившись к пленным, победители потащили их к забору и привязали к кольям. Несчастные, несмотря на крайне грубое и жестокое обращение, вооружились гордым терпением и не издали ни стона. Все было проделано с невероятной быстротой. Сунгойя встал и объявил, что пленных сначала накажут розгами женщины и дети. Очевидно, этого ждали. Заявление было встречено дикими криками. Изо всех хижин, вопя и потрясая палками, высыпала армия отвратительных мегер и противных маленьких уродов с толстыми животами, на тонких ножках. На пленников посыпался град ударов. Несчастные корчились, скрежетали зубами и, наконец, завыли, как звери, которых свежевали заживо. И человеческому терпению есть предел. Победители тем временем точили сабли, одобрительным хохотом поддерживая истязателей. Фрике и Барбантон боялись поверить… Покрасневшие от крови палки ложились на спины истязаемых все реже. У палачей устали руки. Сунгойя дал знак. Они остановились, отдышались. Посудины с пивом пошли по кругу. Стар и млад, женщины и дети, все с жадностью пили. Воины покрепче, то есть не раненые и не слишком пьяные, подошли с поднятыми саблями к забору, к измученным, истерзанным, обливающимся кровью пленникам. Европейцы все поняли. Изверг, которому они помогли одержать победу, собирался отдать приказ о массовом убиении. Этого они выдержать не могли. Оба бросились к негодяю и принялись уговаривать, чтобы он не пятнал победы гнусной жестокостью. — Ты жил с белыми, — воскликнул Барбантон, — ты видел, что они щадят побежденных! Убивать пленного — низость, если ты хочешь править своим народом по примеру белых, ты должен перенимать их обычаи. Я тебе помог одержать победу, проводив тебя сюда, обучив твоих воинов. В награду я прошу пощады этим людям. — Мой друг говорит дело, — с важностью вмешался Фрике. — Пленных нельзя убивать. Если ты это сделаешь, мы сейчас же покинем тебя и призовем проклятие на твою голову. — Что же мне делать? — возразил плут-король на ломаном французском языке. — Кормить их я не могу — нечем. У нас у самих мало еды. Отпустить? Они завтра же снова на меня нападут. Продать в рабство тоже нельзя — вы, белые, не позволяете, вешаете тех, кто покупает. Единственное средство покончить с ними — убить. На моем месте они сделали бы то же самое. Таков обычай. И вождь должен умереть первым. Всегда нужно убить того, на чье место садишься. Назад не возвращаются только мертвецы. Вы же, белые, если хотите остаться моими друзьями, не вмешивайтесь в мои дела и уважайте наши обычаи. Я здесь единственный повелитель. Негодяй взмахнул саблей над низложенным королем и снес ему голову одним ударом. Это было сигналом. Над каждым пленником уже стоял палач. Одновременно с саблей Сунгойи на головы пятисот пленников опустилось по сабле. Но не все палачи-победители оказались такими же ловкими, как их достойный вождь. У многих сабли не перерубили позвонков или врезались выше шеи, в череп. Последовали новые взмахи, новые удары. Слышались стоны, крики, хрипенье… Кровь брызгала из перерезанных артерий, дождем окатывала палачей, обливала землю, забор. Образовалось кровавое болото. Возмущенные европейцы отвернулись с отвращением и ушли в свою хижину. Они не могли присутствовать при последовавшем живодерстве, когда вырывались внутренности и еще трепещущие сердца поедались победителями, опьяненными вином и кровью. Не желая больше ни минуты здесь оставаться, французы принялись укладываться. Барбантон, браня себя за помощь, оказанную этим скотам, проклинал свое бегство и объявил, что вернется на яхту, несмотря на присутствие там госпожи Барбантон. Воинственный пыл угас, охлажденный потоками крови и гнусной жестокостью. Изнанка военной славы предстала перед ним во всей наготе — и он от души ее возненавидел. Проворно скинул с себя мундир, уложил в чемодан, сунул саблю в чехол из зеленой саржи, перевел дух и сам себя, в качестве главнокомандующего, отправил в отставку. Верный сенегалец пришел проведать своих господ. Он давно не видел их и тревожился. Ему тоже не по вкусу была эта бойня и людоедство. Пожив с европейцами, он стал вполне цивилизованным человеком. Сунгойя наотрез отказался выпить и закусить, что вызвало негодование и недовольный ропот. Прочие негры были мертвецки пьяны. Они были ни на что не способны. К сожалению, без них нельзя было обойтись — нужны были носильщики и гребцы, потому что решено было возвращаться по реке. Отъезд пришлось отложить. Настала ночь. Поужинав на скорую руку рисом с овощами, испеченными в золе, легли спать. Сон был тревожным, одолевали кошмары. На всякий случай положили около себя винтовки, но ночь прошла мирно. Взошло солнце, осветив поселок, успевший принять привычный облик. Тела убрали. О битве и бойне напоминали только опрокинутые кое-где хижины, сломанный забор, следы пуль на деревьях и не успевшие просохнуть лужи крови. Протрезвевший, но сильно помятый Сунгойя по-соседски заглянул к своим друзьям-французам. Он был в английском генеральском мундире, в том самом, который был вчера на его сопернике. Барбантон набросился было на него с упреками за вчерашнее безобразие, но благоразумный парижанин сразу его перебил. К чему бесполезные разглагольствования? Что сделано, то сделано. Находясь среди дикарей, следует считаться с их обычаями. Чем ссориться, спорить, лучше молча уложить багаж и уходить, раз не нравится. Сунгойя увидел сборы и очень удивился. Будучи дикарем, он не подозревал об истинной причине спешного отъезда европейцев.
Белые друзья чем-то недовольны? Обиделись на него? За что? Быть может, он чересчур повысил голос, когда спорил из-за пленных, которых добрые белые люди просили пощадить? Но ведь это оттого, что он вчера был возбужден — и битвой, и пивом, и ромом. Правда, он казнил всех пленных, но ведь и у европейцев такое случается. Ему рассказывали белые матросы. — Неправда! — резко возразил Барбантон. — У нас казнят только пленных бунтовщиков. — Ну вот видишь, — возразил негр. — Казнят, стало быть. — Так это не одно и то же. Тут междоусобица, гражданская война, когда между собой воюют люди из одной и той же страны. — Все белые из одной и той же страны и все негры из одной и той же страны. Есть земля белых людей и есть земля черных людей. Почему же одних можно расстреливать, а других нельзя? Я этого не понимаю. Во всяком случае, дело сделано. Не для того я пришел, чтобы попусту спорить. Я успокоился, обезопасил себя от врагов, и мы можем с вами позабавиться. — Спасибо, — холодно отвечал Фрике. — Нам пора домой, на наш корабль. Мы и так задержались. Наш командир давно нас ждет. — Успеете… а сегодня позабавимся. — Нам не до забав. Ехать пора. — Успеете… а сегодня позабавимся. — Да что ты заладил? — нетерпеливо воскликнул парижанин. — Хуже кукушки! Чем нам забавляться? — Охотой. — Охотой?.. Какой? — На слонов. — Почему тебе пришла эта мысль? — Потому что ты великий охотник, и ружья у тебя большие, они бьют по крупным животным. И потому еще… — Ну? Почему? — Потому что у нас нет провизии. Завтра будет нечего есть, а слона хватит на несколько дней. — Вот хитрый король! Давно бы сказал. Хочешь сделать с нашей помощью запас мяса. Хорошо. Я согласен. А после можно будет уйти? — Можно. — И ты дашь нам пирогу с гребцами, чтобы доплыть до Фритауна? — Дам, если убьете слона. — А когда надо его убить? — Завтра. — Завтра? Хорошо. Значит, у тебя на примете есть слон? — Я приведу его, куда договоримся с Бабато-генералом. — Хорошо. Постараюсь добыть для тебя эту мясную гору. Снарядились и толпой пошли в лес, где, по словам Сунгойи, скрывался слон. Время было дорого. Обитателям поселка грозил голод. За время, предшествовавшее сражению, вся провизия была съедена. Слона необходимо было убить. Фрике не разделял радужных надежд Сунгойи, доказывал возможность неудачи. Не потому, что парижанин боялся встречи со слоном, просто он заметил, что новоявленный монарх чересчур уповает на могущество своего талисмана. С позиций здравого смысла это выглядело весьма сомнительно. Барбантон и вовсе отнесся к этому известию крайне апатично. Ему было все равно. Он шел и молчал. Быть может, великий полководец мечтал о новой славе, обдумывал план завоевания Судана? Или оплакивал кровавый эпизод, положивший конец его карьере? Впрочем, он по своей природе не был охотником. Да и все великие полководцы не любили охоту, смотрели на нее как на пустую, недостойную забаву. Тюренн, Конде, Густав-Адольф, Карл XII не были охотниками. Ни Фридрих Великий, ни Наполеон. Они охотились на людей, травили, избивали, науськивали на них свои армии. Но гоняться за каким-нибудь зверем, тратить на это время — никогда! Заниматься столь ничтожным делом, когда от них зависели судьбы царств, судьба мира! Как бы то ни было, но только жандарм о чем-то размышлял и молчат в наполеоновской позе номер один, держа руку на груди. Углубились далеко в лес, слоновьих следов видно не было — не только свежих, но и старых. Тем не менее Сунгойя уверял, что слон непременно появится. Его вера в талисман была безгранична. Он то и дело дотрагивался до него руками, не то затем, чтобы убедиться в сохранности, не то из желания пробудить в нем прежнюю силу, чтобы перелить ее в себя. Фрике искоса посматривал на него и думал: «Пусть бы на эту скотину дерево, что ли, свалилось и придавило его хорошенько! Я бы открыл медальон, вынул билет госпожи Барбантон, а саму вещь оставил бы, пожалуй, этому плуту, если бы его не раздавило». Солнце зашло. Сделали привал в лесной чаще, развели костры во избежание чересчур короткого знакомства со львами, которые всю ночь с рыканьем бродили вокруг огней, немалым количеством оправдывая название страны (Сьерра-Леоне значит «Львиная гора»). Слышно было ворчание леопардов, рев горилл, визг гиен и блеянье антилоп, но ни разу — ни вдали, ни вблизи — не протрубил слон, а его звучный металлический зов ни с чем не спутаешь. Между тем Сунгойя продолжал непоколебимо верить. Он проспал всю ночь сном праведника, зажав рукой талисман, и утром объявил, что сегодня еще до заката солнца слон будет найден и убит. Белым друзьям обещал рагу из слоновьего мяса, какое не приготовит ни один европейский повар. Фрике только плечами пожал, насвистывая утреннюю зорю, вскинув на спину большую винтовку, он вместе с Барбантоном занял свое место в хвосте отряда. Впереди, как и подобает вождю и по совместительству двуногой ищейке, шел Сунгойя. За ним гуськом тянулись приближенные, потом толпой чернь и, наконец, европейцы. Такой порядок приняли ввиду того, что европейцы стучали обувью и могли отпугнуть зверя, тогда как босые негры шли беззвучно, как ползают змеи. Фрике перестал насвистывать. Зарядил винтовку Гринера двумя пулями в металлических гильзах, срезал палку, чтобы легче было идти, и тронулся в путь. Барбантон молча шагал, чередуя наполеоновские позы и все что-то обдумывая. В лесу стояла полная тишина, лишь где-то наверху, в непроницаемом зеленом своде, чуть слышно чирикали птицы. Вдруг за колоннами, на которых покоился этот свод, раздался крик ужаса. Колонна всколыхнулась с одного конца до другого и разорвалась. Фрике хладнокровно взял ружье на прицел, выведенный из задумчивости Барбантон сделал то же. Быстрым шагом, но стройно — видно, уроки отставного жандарма пошли впрок — к ним приближались испуганные люди авангарда. Старый вояка смотрел на них с удовольствием. — Стой! — скомандовал он. Услышав знакомую команду, туземцы разом остановились, как на учении. — Что случилось? — спросил Фрике, призвав на помощь все свои познания в наречии мандингов. — Господин!.. Сунгойя!.. — В самом деле, где он? Что с ним случилось? Или гри-гри сыграл с ним какую-нибудь штуку? — Сунгойя!.. Бедный Сунгойя!.. Такой великий вождь! О, горе!.. — Смирррно!.. — прогремел Барбантон. — Нельзя говорить всем вместе. Говорите кто-нибудь один. Разом все стихло. — Ну вот. Хоть ты, что ли, номер первый, отвечай и объясни, что произошло. Да только без околичностей. Отвечай, как по команде: раз, два! Где Сунгойя? — Его схватили и утащили. — Кто? — Змея. — Дело дрянь для него. — Позвольте, позвольте! — вскричал Фрике. — Я не согласен. Пусть змея утащила его — это ей ничего не стоит, они здесь толстые, как дерево. Но я не хочу, чтобы она его съела. Тогда как же гри-гри?..Он был в английском генеральском мундире, в том самом, который был вчера на его сопернике.
ГЛАВА XVI
Каких размеров бывают змеи. — Как змея унесла Сунгойю. — Фрике заявляет, что у него нет рекомендательной конторы для безработных монархов. — Трясина. — Устройство гати. — Барбантон все еще командует, и его слушаются. — Саперы. — Что осталось от черного властителя. — Две ноги и два лоскутка от костюма. — Змеиное пищеварение. — Смерть змеи. — Копченое мясо. — Вместо мяса слона. — Возвращение. — На реке Рокель. — На рейде. — Яхта. — Перетянутый флаг. Известно, что самые крупные змеи обоих полушарий не ядовиты, боа, например, анаконда или питон. Но хотя у них нет ядовитых зубов, они очень опасны, обладая невероятной мускульной силой. Опасны даже для крупных млекопитающих. К счастью, эти чудовища редко выползают из непроходимых экваториальных лесов и вязких болот, недоступных человеку. Сколь велики бывают змеи? Вот несколько примеров, которые мы почерпнули из надежных источников. В 1866 году капитан Кэмбден убил в окрестностях Сьерра-Леоне питона длиной двадцать восемь английских футов, то есть девять метров восемь сантиметров, при сорока сантиметрах в диаметре около желудка. Несли его шесть человек. Капитану посчастливилось сделать из него превосходное чучело. Теперь оно в частном музее в Лондоне. Капитан Фредерик Буйе рассказывал об одном служившем во французской Гвиане жандарме, которого изувечила напавшая змея. Ему удалось убить гада длиной около двенадцати метров. В 1880 году жандарм был еще жив и служил смотрителем маяка в Иле-ла-Мер. Исследователь Амазонки Эмиль Карре видел в этой реке водяную змею анаконду длиной двенадцать метров шестнадцать сантиметров при шестидесяти сантиметрах в диаметре. Семь человек насилу смогли ее перевернуть. Француз Адансон, пять лет странствовавший по Сенегалу, описал страшных питонов от тринадцати до шестнадцати метров в длину и шестидесяти пяти — восьмидесяти сантиметров в диаметре. Пишущий эти строки, путешествуя в 1880 году по реке Марони в Гвиане, остановился однажды у гостеприимных индейцев аруагов. В хижине вождя заметил странный табурет, присмотревшись, обнаружил, что он сделан из позвонка змеи диаметром сорок шесть сантиметров. Индеец ни за какие деньги не согласился уступить табурет, который являлся частью колдовского арсенала. Возможно ли сопротивление, когда человека или животное обовьет спираль из холодного крепкого тела, стиснет, задушит, изомнет, раздавит и превратит в бесформенную массу? Следует учесть, что змея всегда нападает предательски, украдкой, застает врасплох. Встреча с крупным диким зверем менее опасна — возможна защита, борьба с надеждой на успех. Сунгойя, разумеется, погиб, раз его утащила змея. Очевидцы рассказывали, что змея была огромная. Таких они не видели ни разу. Барбантон скомандовал: — Вольно!.. К неграм сразу вернулась обычная болтливость. Они принялись на все лады обсуждать происшествие. Особенно их смущало то, что они остались без короля. Если бы Сунгойя не убил того, другого, можно было бы столковаться. — Что я могу для вас сделать? — серьезно сказал Фрике. — В короли к вам пойти не могу и рекомендовать мне некого. У меня нет конторы по найму монархов. Обратитесь к вашему генералу, хотя после неудачного опыта с одним едва ли он пожелает взять на себя поставку вам другого правителя. Но довольно шутить. Хотя ваш Сунгойя не сильно меня интересует, я должен его отыскать. Змеиный след, наверное, остался. Покажите мне место, где это произошло. Скажите, генерал, что с вами? Вы словно воды в рот набрали. — Мне жаль своих трудов. Эти люди скоро забудут, чему я их выучил. — Ну, так оставайтесь у них. Довершите их военное образование. Станьте их королем. Или объявите республику и назовитесь президентом. Барбантон тяжело вздохнул и молча побрел рядом с другом. Ничего другого делать ему не оставалось. Скоро дошли до места трагедии. На земле, поперек дороги, по которой шел отряд, лежало упавшее дерево. Сунгойя перепрыгнул через него и свалился на другое, лежавшее рядом. Вдруг это второе дерево выпрямилось с громким свистом, в один миг обвилось вокруг несчастного негра, который успел только прохрипеть, и унесло его в лес. Второе дерево оказалось змеей. След ее был хорошо виден на топкой почве, будто тащили круглое бревно или мачту. Скоро он пропал в жидкой трясине, идти по которой было нельзя. Но Фрике упорствовал. Топко, нельзя идти? Надо устроить гать из палок и ветвей. Не оставлять же на произвол судьбы змею, которая только что проглотила человека с тремястами тысяч франков на шее. Негры поняли намерения Фрике. Нарезали камышей, которых было много по краям болота, связали их в пучки и принялись устилать ими трясину по змеиному следу. Поначалу они работали усердно, и камышовая настилка протянулась на значительное расстояние. Но то ли им надоело работать, то ли страх одолел, они трудились все ленивее, и наконец дело встало. Что вовсе не входило в планы Барбантона. Видя упорство своего друга, причины которого не знал, не понимая, зачем тому нужны змея и ее жертва, тем не менее громко скомандовал: — Стройся!.. Стой!.. Смиррно!.. Негры послушались. Жандарм умел командовать, умел влиять на этих чернокожих людей и подчинять их своей воле. Они боялись блеска его серых глаз и слепо ему повиновались. Он объяснил им частью сам, как умел, частью через переводчика-сенегальца, что от них требуется безусловное повиновение. Работа должна быть выполнена. Пусть работают по-военному, а не то! Что не то? Что он мог сделать? Барбантон забыл, что уже вышел в отставку, что его генеральство рассеялось как дым, что ему даже опереться не на кого, поскольку и короля, от которого он получил власть, больше нет. И все-таки он приказал, и его послушались. Он встал во главе отряда и скомандовал: — Марш!.. Пехотинцы превратились в саперов и двинулись в болото за своим командиром. Работа закипела. Настилали гать и двигались по ней вперед. Но вот Фрике увидел перед собой примятый камыш, словно прошло стадо гиппопотамов. Подойдя ближе, он вскрикнул от удивления. Шагах в пяти или шести перед ним торчали две черные ноги, покрытые роем разноцветных мух. Выше колен виднелись два красных лоскутка — очевидно, остатки генеральского мундира, в котором щеголял Сунгойя. Остальное заглотила змея. Сама она была тут же и продолжала трапезу. Она измяла черного короля, превратила в подобие теста, смочила слюной и начала глотать с головы. Операция была закончена на две трети. Оставались только ноги. Но что за страшилище! Фрике много повидал, много читал, но и представить не мог ничего подобного. В эту минуту змея была не опасна, она была набита пищей так, что могла лопнуть. Пищеварение еще не началось — тогда змеи впадают в полное оцепенение. Но челюсти уже не шевелились. Зубы у змей, как известно, отогнуты назад, так что, ухватив крупную добычу, змея не может от нее освободиться иначе, как съев, но проглотить ее сразу не получается. Бывает, крупное животное, покрытое мухами, уже начинает разлагаться в той части, что еще не проглочена змеей и находится вне ее пасти. Парижанин смотрел на змею спокойно, с холодным любопытством. Живыми в этом жутком пресмыкающемся были только глаза — круглые, черные, маленькие, подвижные, как у птицы. Длинное тело медленно извивалось, совершая глотательные движения. Но змея могла ударить хвостом. И Фрике решил покончить с ней. Приказав всем отойти, приблизился, прицелился и выстрелил. Сквозь дым увидел, как что-то вдруг выпрямилось, точно мачта, и сейчас же рухнуло в трясину. Бултых!.. Во все стороны полетели липкие, вонючие брызги. Охотник разглядел, что у змеи пробит затылок. Шейные позвонки перебиты. Конечно, она была убита наповал, но все-таки у нее хватило сил на миг судорожно выпрямиться и только потом упасть. Ну и живучесть! Молодой человек стоял и смотрел на чудовище, половина которого погрузилась в ил. Он позвал Барбантона, который тотчас же подошел со всеми неграми. — Взгляните, жандарм, какого червячка я застрелил. Недурен, а? — Да, она должна весить не меньше центнера! — А длина — не меньше двенадцати метров. — И толщина с бочку. Что же с ней делать? — Ваши негры привяжут к ней лиану и вытащат из трясины, кожу мы сдерем и подарим месье Андре… Мяса тут около тысячи килограммов. Не пожелают ли подданные Сунгойи взять его вместо слоновьего. Кажется, они едят змеиное мясо. Предложите им. — Хорошо. А как быть с телом Сунгойи? — Я сам вытащу его из змеи, потом мы его похороним. — В этом я вам не помощник. Мне противно. Я не выдержу. — Все зависит от нервов. Для меня это ничего не значит. Фрике подошел к мертвой змее, выломал ей тесаком челюсти, раздвинул с помощью деревяшки и вытащил тело Сунгойи. Черты его лица еще можно было узнать. На шее несчастной жертвы висел медальон в кожаном мешочке. Юноша оборвал цепочку и спрятал медальон в карман. Больше ему, в сущности, ничего не было нужно.
…Тело своего короля негры без дальнейших церемоний закопали в ил, а змею лианами вытащили из болота. Они помогли содрать с нее кожу, мясо разрубили на куски, прокоптили и унесли к себе в поселок. На несколько дней они были обеспечены продовольствием. Фрике собрался домой. Мандинги упрашивали его и «генерала» остаться у них, но, разумеется, безуспешно. Отъезжающие выбрали крепкую просторную пирогу, устроили на ней навес из листьев, велели перенести на нее весь свой багаж и решили ехать в тот же день. Три негра и сенегалец, из сухопутных капитанов разжалованный в простые гребцы, заняли свои места, и лодка быстро помчались вниз по течению реки Рокель. Через четыре дня они увидели фритаунский рейд. Барбантон по известным причинам не желал появляться на яхте, поэтому причалили к верфи, несмотря на то что всюду еще развевался зловещий желтый флаг — на сигнальной мачте, казармах, больнице. Вдруг Фрике вздрогнул и тревожно вскрикнул. — Что с вами, дитя мое? — спросил Барбантон. — Посмотрите! — отвечал юноша, указывая рукой на изящный кораблик, стоявший на якоре в двух кабельтовых. — Вижу: яхта «Голубая антилопа»… А как же мне грустно, что мне туда нельзя… Что-то я не вижу месье Андре… — А что на мачте? Видите? — Боже!.. Проклятый желтый вымпел!.. Болезнь проникла на яхту! — Не только это. Неужели вы не замечаете траура на реях и приспущенного французского флага? На яхте покойник. Тоска овладела в равной мере обоими. Барбантон уже не хотел высаживаться на пристани, он указал гребцам на яхту и крикнул сдавленным голосом: — К яхте, ребята! Живей!.. Через несколько минут они были на борту — запыхавшиеся, расстроенные… И увидели торжественную, но мрачную и тяжелую сцену.Змею вытащили из болота.
ГЛАВА XVII
На яхте гроб. — Тоска и тревога. — Жертва эпидемии. — «Прощай, матрос!» — Во время отсутствия двух друзей. — Что делала мадам Барбантон, пока «генеральствовал» ее муж. — Самоотверженность. — Самообвинение. — Фрике отдает медальон владелице. — Он пустой! — Жандарм сознается в краже с добрыми намерениями. — Два выигрыша. — Отъезд домой. Палуба яхты являла собой драматическую картину. В кормовой части на палубе выстроился в два ряда весь экипаж в угрюмом безмолвии. Впереди строя, ближе к рулю, стоял узкий длинный ящик, покрытый флагом. То был гроб. Возле гроба стоял капитан. Фрике и Барбантон обмерли, не видя месье Андре. Невыносимая тоска и тревога овладели ими. Но через минуту оба облегченно вздохнули. Кошмар рассеялся. О, эгоизм дружбы! Они увидели голову месье Андре, поднимавшегося на палубу. Он едва мог ходить, но все-таки счел долгом отдать покойному последний долг. Жив! Они готовы оплакать того, кого забрала безжалостная смерть, но слава богу, это не Бреванн. Это было бы ужасно! — Неужели это она умерла, а я и не помирился с ней перед смертью, — проговорил тихонько жандарм. Андре подошел к гробу, снял шляпу и, обращаясь к матросам, сказал: — Я счел своим долгом лично проводить в последний путь нашего рулевого Ива Коэтодона, жизнь которого унесла лихорадка. Нашего бравого товарища приходится хоронить на чужбине, но его могила не будет забыта. Я позабочусь, чтобы ее содержали в порядке. Увы! Это все, что я могу сделать. На всю жизнь останется нам памятной несчастная стоянка в Сьерра-Леоне, и в своих сердцах мы воздвигнем жертве долга монумент, который будет прочнее пышных монументов с громкими словами. Прощай, Ив Коэтодон! Прощай, матрос! Покойся с миром! Капитан подал знак. Прозвучал свисток боцмана. Четыре человека подняли гроб и поставили на лодку, висевшую на блоках вровень с поручнями штирборта. Грянул пушечный выстрел. Лодка медленно опустилась на воду вместе с гребцами, державшими весла кверху. Затем спустили баркас, в котором был капитан и члены экипажа, они сопровождали гроб на английское кладбище. Тут только Андре заметил Фрике и Барбантона. — Наконец-то вы вернулись!.. И при каких печальных обстоятельствах! — На яхте желтая лихорадка? — Увы, да!.. И дай бог, чтобы обошлось без новых жертв. — Разве есть и еще больные? — Есть… не больной, больная… Бедняжка!.. Барбантон, вас ждут с нетерпением. Идите скорее. — Сейчас, месье Андре… Фрике, пойдемте со мной… Я… не знаю, что со мной делается при мысли… Ведь она все же носит мое имя… болезнь тяжелая… — Она была в отчаянном положении два дня, теперь ей гораздо лучше. По-моему, она на пути к выздоровлению. — А если так, я опять начинаю бояться. У женщины, которая перенесла желтую лихорадку и осталась жива, наверное, черт внутри сидит. — Не говорите глупостей, старый ребенок! Предупреждаю, после перенесенного потрясения вашей жены не узнать. Она переменилась не только морально, но и физически. — Что вы говорите, месье Андре? — Только правду, мой друг. Желтая лихорадка появилась на яхте дней десять тому назад. Сначала мы перепугались, потому что сразу заболели двое. Я был прикован к постели и мог лишь заочно давать Указания относительно ухода за больными. Зато ваша жена — вот молодец! — стала сиделкой, день и ночь дежурила около больных, отбросив всякую брезгливость. Все изумлялись ее мужеству, самоотверженности и твердости. Я положительно утверждаю, и это может засвидетельствовать навешавший нас доктор-англичанин, что ее энергия больше всяких лекарств помогала больным и поддерживала бодрость духа остальных членов экипажа. Один из заболевших, безусловно, обязан ей своим выздоровлением. К несчастью, четыре дня тому назад, когда выхоженный ею больной был уже вне опасности, она сама заболела. За другим некому стало ухаживать без нее — и вот мы его сегодня хороним… Идемте же к ней скорее. Она о вас поминутно спрашивает, ваш приход может только ускорить ее выздоровление. — Да так ли это, месье Андре? — спросил жандарм, к которому вернулись прежние опасения. — Даю вам честное слово. Она только того и боялась, что умрет, не помирившись с вами. — Что ж, тогда идем. Но я гораздо меньше трусил, когда первый раз шел в огонь. Бреванн, сломанная нога которого только начала заживать, оперся на руку Фрике и сошел вниз. Там остановился у приотворенной двери в одну из спален. Оттуда высунулась хорошенькая головка юнги, исполнявшего, очевидно, обязанности сиделки. — Она спит? — спросил Андре. — Ее разбудил пушечный выстрел. — Войдемте в таком случае… Сударыня, я к вам с хорошими вестями. — Что мой муж? — Вернулся. Фрике отыскал его. — Пришел бы он сюда. — Он уже здесь… Ну, мой друг, подходите, не будьте ребенком. — Месье Андре, у меня ноги подкашиваются, — отвечал глухим голосом жандарм, входя в каюту. Сзади его подталкивал Фрике, Андре тянул за руку. Больная сидела на постели в подушках. Барбантон увидел бледное, худое лицо с лихорадочно блестевшими глазами. К нему протянулась худая рука… Кто-то зарыдал… Барбантон бросил на жену растерянный взгляд, машинально взял ее руку, откашлялся, поперхнулся и… не произнес ни слова.
На лице, преображенном страданиями, он не находил прежних жестких, бездушных черт, которые так его раздражали. Куда делись пронзительный взгляд, плотно сжатые саркастические губы… Да, Андре сказал правду: в физическом отношении перемена была полная. Ну а в нравственном? Судя по началу, можно было подумать, что и здесь перемены нешуточные. Больная заговорила тихим, ласковым голосом: — Друг мой, я уже и не думала с вами увидеться… Такая страшная болезнь! Что за мучение… Мой друг, я вас не понимала. Я с вами очень дурно обходилась. Можете ли вы меня простить? Барбантон стоял с покрасневшим носом и с мокрыми глазами и теребил бородку. — Сударыня… мой друг… дитя мое… Я — старый дурак. Больше ничего. Нужно сказать прямо. Я хотел вести дом по-военному, по-жандармски. В чувствах я смыслил не больше австралийского дикаря. Вы возмутились против деспотизма — и хорошо сделали. Я ведь тоже вас не понимал… а потом было поздно. — До чего вы добры! Вы себя же обвиняете, взваливаете на себя несуществующую вину!.. Ну, будь по-вашему. Скажу лишь одно: я решила начать новую жизнь, если избавлюсь от желтой лихорадки. — Но ведь опасности больше нет… Так сказал месье Андре. — При этой болезни бывают внезапные рецидивы. Потом… я хоть и очень рада, что вы вернулись, но меня тревожит, что и вы можете заболеть. — Об этом не тревожьтесь, сударыня, — прервал ее Бреванн. — Фрике и ваш муж закалились, совершив путешествие по болотам. Здешние миазмы на них не подействуют. С другой стороны — нами приняты необходимые гигиенические меры, так что едва ли стоит ожидать дальнейшего распространения эпидемии. Наконец, мы уходим из этих мест на юг, машина уже разводит пары, и свежий воздух открытого океана сразу освежит корабль… Сударыня, мы оставляем вас наедине с супругом. Вам, вероятно, о многом надо поговорить с глазу на глаз. Пойдем, Фрике. — Сейчас, месье Андре. Но я должен отдать госпоже Барбантон отысканную мною вещь, которой она несомненно обрадуется. Парижанин вынул из кармана кожаный мешочек, из которого высовывались концы оборванной цепочки. Он открыл его и достал знаменитый медальон. — Эту вещь я вытащил из желудка змеи семь с половиной метров длиной. Змея нечаянно проглотила ее вместе с вором. Я не открывал медальон, не желая быть нескромным. Да и запирается он, вероятно, с каким-нибудь секретом. Впрочем, это неважно. Не угодно ли вам, сударыня, удостовериться, на месте ли билет? Горячо поблагодарив юношу, который, в сущности, возвратил ей и семейное счастье, и состояние, мадам Барбантон дрожащими руками открыла медальон и вскрикнула от разочарования. Медальон был пуст. Фрике и Андре не знали, что думать, и только Барбантон хранил спокойствие. — Ну что ж! — сказала больная, быстро все обдумав. — Билет потерян, значит, выигрыш пропал. Лучше не думать об этом. Хотя все-таки жаль: ведь он обеспечил бы нам безбедное существование. Ничего, мы оба будем работать — не правда ли, мой друг? — Элоди, вы потрясающая женщина. Уж как мне понравилось то, что вы сейчас сказали, вы и представить себе не можете. Конечно, мы будем работать, если захотим. А не захотим — будем жить на свои доходы. Вам это знакомо? Он неторопливо вынул из кармана видавший виды бумажник, из него также неторопливо достал сложенную вчетверо бумажку и подал жене. — Как!.. Билет!.. — Две тысячи четыреста двадцать один. Мой метрический номер, если вы не забыли. — Вот это да! — вскричал изумленный Фрике. — Как же так, жандарм, билет у вас, а вы все время молчали? — Я о нем совершенно забыл. Дело было так. Приехав в Сунгойю после моего побега отсюда, я заметил, что этот непорядочный негр украл у вас медальон. Будь я на службе, я бы его преспокойно арестовал, но тогда надо было действовать иначе. Не оставлять же такую ценность у этой скотины! На другой же день я напоил Сунгойю до положения риз, чем он был очень тронут и тут же произвел меня в генералы, а я воспользовался его состоянием, открыл медальон, вынул билет и закрыл опять. Вор вора обокрал! Конечно, это было нехорошо, в особенности со стороны человека, служившего в жандармах, но, принимая во внимание обстоятельства… Наконец я действовал с самыми добрыми намерениями. Я имел в виду передать билет вам вместе с моей доверенностью. — Правда? — Честное слово. Когда мы прибыли на фритаунский рейд, я хотел передать его Фрике, прежде чем мы расстанемся, но при виде желтого флага и признаков траура на яхте я обо всем забыл. — Теперь все объясняется, — заметил Фрике. — И за разбитые горшки пришлось поплатиться одному Сунгойе… Но вы, генерал, — и везет же вам, однако! — Правда, мне повезло, но это в первый раз в жизни и, вероятно, в последний. Мы с женой оба выиграли на один и тот же билет. Вы, дорогая Элоди, выиграли приличный денежный куш, а я — добрую жену. Разумеется, из нас двоих я богаче, — прибавил с несвойственной ему галантностью бывший жандарм.Сзади его подтыкивал Фрике, Андре тянул за руку.
От желтой лихорадки умирают не все. С ней можно бороться. И лучшее средство — как можно скорее бежать из очага заразы, переместиться в более холодный климатический пояс или горную местность. Само собой разумеется, не следует забывать гигиенические меры и, прежде всего, уничтожить все, чего касались больные. В борьбе с этой болезнью надо уметь сохранять хладнокровие, самообладание и занять свое внимание, сосредоточив его на борьбе с ней, чтобы не оставалось времени предаваться унынию и боязни. В ожидании возвращения матросской делегации с похорон Андре распорядился произвести тщательную дезинфекцию яхты, а как только делегация вернулась, «Голубая антилопа» вышла в море, взяв курс на мыс Доброй Надежды. На другой день после отплытия обнаружили еще один случай заболевания, но течение болезни позволяло надеяться на лучшее, и матросы успокоились. Кажется, лихорадка покидала корабль. От Фритауна до Капштадта около четырех тысяч пятисот километров. «Голубая антилопа» доплыла за десять дней безо всяких приключений и по прибытии восемь дней стояла в карантине. На это распоряжение английских санитарных властей роптать не приходилось, оно было вполне уместным и оправдывалось обстоятельствами. Барбантоны сияли счастьем, точно молодожены, которых только что повенчали. У жандарма не было больше причины продолжать плавание на «Голубой антилопе». Госпожу Барбантон оно тем более не интересовало. Условились, что в Капштадте они сядут на пароход, отходящий в Европу. Прощание было трогательным. Весь экипаж, от капитана до юнги, дал Барбантонам слово навестить их в Париже. Отставной жандарм сказал, что это станет для него настоящим праздником, и он угостит матросов на славу. Взяв запас угля и живности, яхта в одно прекрасное утро ушла неизвестно куда. Быть может, мы с ней еще встретимся.
Часть вторая ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАРИЖАНИНА В СТРАНЕ ТИГРОВ[1]

ГЛАВА I
Детские слезы. — Переводчик. — Жертва Людоеда. — Подвиги старого тигра. — Пятьдесят человек в полгода. — Неожиданный мститель. — Фрике, парижский гамен. — Послание. — Делить шкуру неубитого тигра. — Тигр-филантропофаг. — Не судите по наружности. — Охота. — След. — По джунглям. — Под высокими деревьями. — Поляна. — Человеческие останки. — Кладовая Людоеда. — Не плачь, ну не плачь! Лучше скажи, что случилось. Может, найду, чем тебя утешить. Как жаль, что здесь негде купить игрушки, я бы подарил тебе барабан, рожок или бильбоке[2] — и ты бы успокоился. Ребенок не понимал, что ему говорят, но голос был ласковым. Он с серьезным видом поднял на иностранца свои черные глаза и продолжал плакать — без слов, без рыданий, даже без вздохов. По этим безмолвным слезам тот догадался, что горе у мальчика не детское. — Послушай, — продолжал он, — так нельзя. Рыдай, кричи, катайся по земле, но только не плачь этими тихими слезами. Я первый раз такое вижу. Ты плачешь, как мужчина. У меня внутри все переворачивается. Впрочем, я и сам не так давно ношу усы и не забыл, что у ребенка может иногда быть большое… о, очень большое горе. Послушайте, может кто-нибудь поговорить со мной по-французски или хотя бы по-английски? — обратился он к стоявшим поблизости. — По-английски я еще с грехом пополам могу объясниться, а вот по-здешнему — не взыщите. Не успел научиться. Только что приехал в Бирму из Парижа. Не ближний свет. — Я могу, — раздался голос из толпы, в которой были и мужчины, и женщины, и дети, всего человек двадцать. — Мальчик плачет действительно от большого горя. С ним случилась ужасная беда. К путешественнику подошел высокий индус в огромной белой чалме, бронзовый, как дверь пагоды, и тощий, как факир. — Здравствуйте, сударь, — сказал он и по-военному отдал честь. — Здравствуйте. Вы хорошо говорите по-французски. Где вы научились? Удивительно слышать французский здесь, на берегах Иравади, в глубине независимой Бирмы. — Я индус, из французской части страны, из Пондишери. Служил у губернатора, умею обращаться с оружием и готовить. Охотно поступлю к вам на службу. Французов люблю, англичан ненавижу. — Что же ты здесь делаешь, прости за нескромность? — Так… гуляю. — Да, не бог весть какое занятие. Если у тебя нет в виду ничего другого, пойдем со мной. Я собираюсь в Мандалай и, может быть, дальше. Будешь моим переводчиком. Вознаграждением останешься доволен, ручаюсь. Согласен? — С удовольствием, сударь. Очень рад. — Превосходно. Вступай в должность и объясни мне, почему плачет этот мальчик. — Ах, сударь, это очень грустная история. Яса был единственным сыном у матери, которая души в нем не чаяла. Ему жилось очень хорошо. Но два дня тому назад несчастную женщину подстерег у фонтана Людоед, утащил и съел. Яса остался сиротой и плачет. Вот и все.
— Бедный ребенок! — сказал иностранец со слезами на глазах. — А что это за «людоед»? Кто это? — Это старый тигр, отведавший человеческого мяса и не желающий больше никакого другого. — Я знавал крокодилов, разделявших его пристрастие. Но это довело их до беды. Продолжай. — За полгода он съел пятьдесят человек. — Двое в неделю. У него хороший аппетит. Но неужели не нашлось ни одного смельчака, готового пристрелить его? Что за трусы! Позволять так с собой обращаться! — Здесь редко кто решится помериться силами с тигром. — Да? Покажите мне вашего Людоеда, сведите меня с ним — и я берусь с ним расправиться. Индус встрепенулся. В его глазах загорелся огонь. Он обратился к толпе по-бирмански: — Это француз. Он убьет Людоеда. В ответ послышались недоверчивые возгласы и иронический смех. Молодой человек искоса поглядел на толпу. — Скоты! — пробормотал он с презрением. — Дают себя есть, как телята, и смеются над тем, кто хочет избавить их от напасти. По мне — пусть вас сожрет тигр, раз вам это так нравится. Не ради вас, ради себя и этого ребенка я покончу с ним, вот увидите. Я отомщу за мать этого мальчика. Туземцы не понимали ни слова и продолжали смеяться. — Смейтесь, бедолаги, смейтесь, — продолжал молодой человек. — Посмотрим, что вы скажете завтра, когда тигр будет убит. А что он будет убит, ручаюсь я, Фрике, парижский гамен и путешественник. Он взял ребенка за руку и сказал: — Пойдем со мной, маленький мужчина, мы сделаем дело вдвоем. Ребенок понял только фразу, сказанную индусом: «Он убьет Людоеда». Слезы мгновенно высохли, в черных глазах загорелся огонек. Он не отрываясь смотрел на незнакомца, в лице которого нашел мстителя за мать. Парижанин растолкал толпу и сопровождаемый недоверчивыми взглядами вошел со своим спутником в хижину, где хранил вещи, за которыми присматривали два негра. Что-то торопливо набросал карандашом на листике белой бумаги, завернул в непромокаемый конверт и отдал одному из негров, приказав: — Отнеси это месье Андре и завтра возвращайся. В записке было несколько слов:Несчастную женщину подстерег у фонтана Людоед, утащил и съел.
«Месье Андре! Я нашел живность. Нанял переводчика, выследил человеколюбивого тигра, который „любит человека… есть“, как выражался покойный г. Гань. Через два дня явлюсь к вам с продовольствием, толмачом и шкурой Людоеда. Думаю, вы останетесь мною довольны.Жителибирманской деревни, где остановился молодой человек, вовсе не разделяли этой уверенности. Однажды сюда уже приезжали из английской части Бирмы офицеры британской армии, здоровенные, бородатые богатыри в ослепительных мундирах, специально охотиться на тигров. Им рассказали про Людоеда. На великолепных конях — не кони, загляденье, все в пене удила, пар из ноздрей — они пронеслись по джунглям вдоль и поперек и никого не обнаружили. Попытались выманить зверя — наняли загонщиков, которые подняли адский шум, бросали петарды в «тигровую траву». Удалось вспугнуть носорога, черную пантеру, лося, леопарда. Красномундирники погубили уйму живности, но Людоед как в воду канул. Он оказался не только свиреп, но и хитер. Неужели этому чужестранцу, приехавшему сюда с двумя неграми и двумя какими-то ружьями, удастся то, что оказалось не по плечу заправским охотникам? Да он и невзрачный какой-то. Не на что посмотреть: низенький, бледненький, одет неважно. Так сказал бы всякий поверхностный наблюдатель. Но обратите внимание на светло-голубые глаза, сверкающие из-под козырька пробкового шлема, как стальное лезвие; взгляните на широкие плечи, шею атлета, мощную грудь, которой тесна фланелевая рубашка… Нет, у Людоеда появился весьма опасный противник. Парижанин не любил терять время, знал ему цену. Надел через плечо сумку с патронами, не забыл ремень с револьвером в кобуре и с неизменным тесаком в ножнах, сунул два металлических патрона в тяжелую винтовку и подозвал второго черного слугу: — Лаптот! — Хозяин?.. — Возьми винтовку, с которой я охочусь на слонов, свой тесак, револьвер и мешок с сухарями и сушеным мясом. — Готово, хозяин, — отвечал негр по прошествии двух минут. — Мы идем искать большого старого тигра. Быть может, придется заночевать где-нибудь в лесу или в джунглях. — Нам это не впервые. А кто будет стеречь наши вещи? — Да никто. Они сами себя постерегут. Впрочем, в хижине может посидеть мальчик и дождаться нашего возвращения. А ты, господин толмач, — имени твоего я еще не знаю, — изволь проводить нас к источнику, у которого подкарауливает добычу Людоед. — Меня зовут Минграсами, сударь. — Очень хорошо. Когда покажешь фонтан, можешь вернуться, но если захочешь остаться, пожалуйста. Ты волен выбирать. — Мне случалось охотиться на тигров в Индии. Я останусь с вами. Я такой же француз, как и вы. А здесь останется мальчик. Но когда сирота узнал от переводчика, что ему придется сидеть в хижине, пока охотников не будет, он решительно запротестовал и опрометью выбежал вон. — Не с нами же он собирается идти! — заволновался Фрике. — С моей стороны будет безумием, если я это позволю. Послушай, вернись в хижину! — попросил он. Мальчик не обратил ни малейшего внимания на этот ультиматум, проворно ступил в пересохшее русло ручья, что тек из джунглей. И знаком пригласил идти за собой. — Позови назад этого маленького безумца! — закричал юноша. — Скажи, что я, так уж и быть, беру его с собой, но только пусть он держится рядом. Как знать, тигр, чего доброго, прячется где-нибудь в тростнике и готов броситься на нас. Поверив обещанию, ребенок остановился, подождал и пошел позади парижанина. Глаза его горели, личико пылало решимостью. Почти четверть часа шли молча, быстро и дошли до рокового источника, где чудовище завело обычай поджидать жертву. Фрике никак не мог понять, почему жители деревни упорно ходили сюда за водой вместо того, чтобы поискать другой источник. Впрочем, ключи на этом плоскогорье встречаются не слишком часто. На сырой глинистой почве видны были многочисленные следы. Охотник принялся разглядывать их, стараясь отыскать тигриные. Это было не слишком трудно, тем более что Яса встал там, где в момент катастрофы находилась его мать. — Да, это здесь, — говорил про себя Фрике, разглядывая следы тигра. — С этого самого места проклятый зверь кинулся на несчастную женщину и вцепился в нее когтями передних лап, видны отпечатки только задних. Некоторое время назад местные жители пытались поджечь джунгли, чтобы около ключа не было зарослей, в которых бы мог прятаться тигр, подстерегая добычу. Попытка удалась лишь отчасти — ветер направил огонь в одну сторону, и пламя выбрило в «тигровой траве» полосу, напоминавшую хвост кометы. Молодой человек подумал, что этой тропой тигр, вероятно, уносил добычу, и затея туземцев только облегчила ему жизнь — бежать выжженной полосой гораздо легче, чем пробираться сквозь высокую густую траву. Догадка оказалась верной. Метрах в двадцати от источника на золе виднелись отчетливые следы, причем передние лапы отпечатались лучше — ведь в зубах у Людоеда была его жертва. Следов борьбы не было. Несчастная женщина, очевидно, погибла мгновенно, едва хищник вцепился ей в горло. У всех представителей кошачьей породы мертвая хватка. Метров через сто он остановился и положил добычу на землю, чтобы перехватить ее поудобнее. На белесом пепле бурело большое пятно засохшей крови. Над ним с жужжанием носились омерзительные зеленые мухи. Фрике и его спутники шли по следу километра два и остановились перед высохшим ручьем. Выжженная полоса здесь заканчивалась — русло остановило огонь. Тигр, судя по следам, пустился дальше по руслу и бежал еще почти километр, не испытывая ни малейшей усталости, о чем говорили все те же следы. Затем ручей соединился с высохшим болотом, поросшим обильной густой травой и могучими деревьями. Чего здесь только не было! Туи, тамаринды, бамбук, дерево резиновое, камедное, тековое, арековая пальма, nux vomica, латании и фикусы… Все это возвышалось над невообразимой путаницей из всевозможных кустарников, карликовых лимонных деревьев и могучей травы. Сквозь эти заросли пришлось пробираться друг за другом. Держа в правой руке винтовку, Фрике левой раздвигал ветви, которые шипами кололи ему руки, но рубить их было нельзя, чтобы не вспугнуть тигра. Жил он, скорее всего, именно здесь: на колючках часто попадались лоскутки одежды — хищник проносил добычу. Вдруг парижанин услышал странный шум. Он тихо обернулся, знаком приказав шедшему сзади мальчику остановиться, то же приказал негру и индусу. Эти двое держались молодцами, хотя негр пошел серыми пятнами, а у индуса зуб на зуб не попадал. Юноша двинулся вперед один. Вскоре почувствовал чудовищный запах гнилого мяса, который усугублял знойно-сырой воздух. Тем не менее шел именно на эту вонь и вдруг очутился на полянке, окруженной, словно стеной, кустарником, под непроницаемым сводом высоченных деревьев. При всем своем изумительном хладнокровии, многократно испытанном и доказанном мужестве молодой человек насилу мог подавить в себе крик удивления и ужаса. На поляне по влажной, почти лишенной растительности земле раскиданы были обглоданные человеческие скелеты, на которых оставались клочки разлагающегося мяса. Фрике насчитал их не менее тридцати. Между костями виднелись золотые и серебряные браслеты, серьги, ожерелья, лоскутки одежды, волосы. Парижанин набрел на кладовую Людоеда. Но почему в логове никого не было? Куда делся хозяин, совершавший здесь свои гнусные пиршества?Фрике».

Фрике не мог ошибиться. Слух у него был чуткий, тренированный. Он ясно слышал хруст костей, разгрызаемых крепкими челюстями. А теперь — никого и ничего! Только нестерпимая вонь. Охотник почувствовал, что не может больше оставаться возле поляны, и хотел уйти, как вдруг в чаще вновь послышался хруст костей. Раздалось глухое, сдержанное рычание. Прочь сомнения. Неустрашимый парижанин поднял голову, стиснул рукой винтовку, всмотрелся в густую листву и тихо проговорил: — Людоед.Парижанин набрел на кладовую Людоеда.
ГЛАВА II
Ошибочные представления о характере диких зверей. — Они не нападают на человека первыми. — Охотничье бахвальство. — Почему Людоед? — Труслив и кровожаден. — В логове. — Тигр отступает. — Бесполезный вызов. — Фрике не хочет возвращаться с пустыми руками. — Вновь у источника. — Мальчик соглашается стать приманкой. — В засаде. — Прыжок тигра. — Выстрел. — Смерть Людоеда. — Пуля «Экспресс». Многие охотники, рассказывая о своих подвигах и диких животных, не заботятся о правде, ими руководит исключительно тщеславие. Хочется порисоваться, поразить воображение слушателей, чтобы те внимали, разинув рот. Ради этого они что-то преувеличивают, что-то приукрашивают, и дикие животные, если верить им, оказываются гораздо свирепее, чем в действительности. Но опровергать их россказни, уличать во лжи некому — подвигов их никто не видел, а звери протестовать не могут. Так что не любо — не слушай… Самая большая опасность на охоте — схватить простуду, подцепить лихорадку, да еще ревматизм скрутит или свалит воспаление легких. Зверь становится опасен лишь тогда, когда охотник берет его на прицел и спускает курок. Поверьте, так оно и есть. Возможно, лев, тигр или пантера увидели или услышали врага (у представителей кошачьей породы слух тонкий, глаза видят ночью, как днем, чутье — превосходное). Но если, встревоженные, они не успели скрыться, цельтесь смело — эти животные и не подумают нападать сами. Стоит охотнику тихонько свистнуть — зверь немедленно пустится наутек. Опустите ружье, не стреляйте, и «свирепый» противник убежит, не тронув. Никогда хищник не нападает на человека первым, разве что самка да и то если она с детенышами. Но раненый зверь страшен и грозен и защищается отчаянно. Ранить хищника опасно, надо либо сразить его наповал, либо вовсе не стрелять. Впрочем, даже и раненый он не всегда бросается на человека, зачастую пытается скрыться. Известный охотник и писатель Жюль Жерар по прозвищу «истребитель львов» не стеснялся рассказывать небылицы и как никто другой способствовал тому, что бытует мнение, будто дикие звери нападают на человека первыми. Не станем оспаривать ни заслуги Жерара, ни его титул, который, впрочем, не стоило указывать на визитных карточках. Он был первым французом, охотившимся на львов. И мог не преувеличивать, писать только правду, тем более что многие из его утверждений знающие люди опровергли еще при жизни писателя, и это нанесло страшный удар по его самолюбию. Нет, нет и еще раз нет. Ни лев, ни тигр, ни пантера не нападают на человека, если он их не ранил. Не было случая, чтобы охотник был убит, не будучи зачинщиком. Пулю в зверя послать — дело нехитрое, а вот найти такого, что убегает, скрывается, которого приходится отыскивать ночей пятнадцать подряд, а порой двадцать или тридцать, надо постараться. Публика обожает страшилки и всяческие преувеличения. Поэтому здравый взгляд на вещи только-только берет верх над предрассудками, привитыми Жераром. Из правдивых охотников-писателей назовем генерала Маргарита, Жака Шассена, Гордона Кумминга, Уильяма Болдуина, Констана Шере, Ипполита Бетуля и Пертюизе. Последний не раз сходился со львом один на один и в своей полной юмора книге забавно описывает волнения и неудачи африканского охотника. В замечательной статье, опубликованной в журнале «Chasse Illustrée» в 1875 году, Бетуль говорит: «Жаль, что об охоте на львов писал Жюль Жерар, теперь публика уверена, будто этот хищник нападает на человека. Если бы это было так, Жерар недолго путешествовал бы — не первый, так второй лев растерзал бы его. У животных слух и зрение лучше, чем у человека, и, следовательно, они всегда застигали бы его врасплох, а сами никогда не попадались». «Тогда, — справедливо возразит читатель, — как объяснить подвиги Людоеда? Нет ли здесь противоречия?» Есть, но только кажущееся. Встречаются исключительные случаи, но они крайне редки и только подтверждают правило. Состарившись, тигр не в силах был добывать себе пропитание в джунглях, где раньше нападал на животных. Голод вынудил его приблизиться к человеческому жилью. Однажды у источника он увидел женщину и решился на нее напасть. Поверьте, он сделал это после долгих колебаний, отчаяние вынудило. Голод утолить удалось. И, устав гоняться за сернами и антилопами или караулить буйвола, он стал частенько наведываться за добычей, которую так просто отыскать и которая так доступна. Одним словом, тигр нападает на человека только в крайнем случае, и только на слабого, безоружного. Утверждать, что он предпочитает человеческое мясо, тоже нет оснований. Он питается человечиной, когда не может добыть ничего другого. А безоружный человек самое слабое животное. Тигр подкрадывался к жертве столь же коварно, как делал это прежде в джунглях, охотясь на животных, и, схватив добычу, спешил убежать и съесть ее на свободе, в безопасности. Нападал преимущественно на детей и женщин, реже — на безоружных мужчин, бросаясь из засады. Но когда появились шумной охотничьей ватагой английские офицеры, кровожадный Людоед поспешил укрыться и голодал, пока его искали. После устроенного британцами переполоха, после всех этих петард наш тигр спрятался так далеко, что не показывался недели две. Жил впроголодь, как затравленный волк, питаясь крысами, ящерицами и лягушками. Жители деревни надеялись, что навсегда избавились от него, как вдруг он напал на мать Ясы. Услыхав хруст костей, Фрике приготовился к немедленному нападению. Но осторожный хищник, почуяв врага, думал об одном — как бы скрыться. С этого начинает при встрече с человеком каждый зверь, кто бы он ни был — от слона и до последней маленькой зверюшки в джунглях или в лесу. Потревоженный в своем логове, тигр двинулся в чащу, взяв с собой кусок, который грыз. Это отступление пришлось не по нраву парижанину, он приготовился к схватке с тигром один на один и хотел непременно победы. Между тем дальше идти было нельзя — путь преграждала непролазная чаща из лиан, ветвей, колючек. Тигр при необходимости проползал под ними, но вооруженный человек оказался бессилен. Отважный Фрике решил раздразнить врага и заставить ринуться в бой. Он взял камень и бросил его в ту сторону, откуда доносились хруст костей и сердитое рычание. Рассчитывал, что зверь в тот же миг выскочит из чащи, разыскивая дерзкого оскорбителя, но против ожидания хруст и рычание смолкли, послышался шорох быстро раздвигаемых ветвей, наступила полная тишина. Людоед отступил. Разочарованный и сбитый с толку молодой человек вернулся к своим спутникам. Смертельно напуганные негр и индус в оцепенении стояли на том самом месте, где он их оставил. — Хозяин! — воскликнул дрожащим голосом черный слуга. — Мой боится. Мой никогда тигра не видал. Мой рад, что гадкий зверь убежал от вас. — Это правда, — сказал велеречивый индус, — вы обратили тигра в бегство, сударь. Этот страшный зверь испугался вас. — Ну и что с того? Я-то остался с носом. Это не особенно приятно. Я не хочу, чтобы здешние желтолицые куклы смеялись надо мной, когда я вернусь… Что нужно мальчику? Что он хочет мне сказать? Яса, видя, что его новый друг разочарован, невероятно быстро затараторил что-то. — Что он говорит? Переведи, — обратился Фрике к переводчику. — Он говорит, сударь, что нужно вернуться к источнику, тигр непременно придет туда. — Кто же выманит его на открытое место? — Мальчик берется это сделать. Вы останетесь с ним вдвоем, он будет приманкой. — Смелый мальчуган! Готов на роль приманки! Что ж, будем ловить тигра вдвоем. Ручаюсь, что не дам ему тебя съесть. Они пошли обратно по руслу, той же дорогой, что шли раньше, не заботясь о тигре, который, вероятно, после их ухода вернулся в свое вонючее логовище. Сделав привал под тамариндом, перекусили сухарями и консервами. Дождались заката. Мальчик встал первым и дал понять, что пора в путь. Фрике велел индусу и лаптоту возвращаться в деревню и не подходить к источнику, пока не услышат выстрел. Оба были счастливы избавиться от опасности и уже собирались уйти, но Яса задержал индуса, у которого, согласно обычаю, было много браслетов на руках и ногах, украшения все время тихонько позвякивали. Он попросил себе несколько браслетов — для успеха охоты, сказал он. Индус не понимал. Тот пояснил: — Кого съел тигр, все носили браслеты. Они бренчали: динь-динь-динь. Я тоже буду бренчать ими. Людоед придет меня есть, а белый сделает: «Бум!» — и убьет его. — Великолепный план! — весело воскликнул Фрике, когда Минграсами перевел ему слова мальчика. — Он очень прост и потому должен удаться. Отдай ему побрякушки и уходи. Дорога каждая минута, надо спешить. Индус и негр поспешно скрылись. Парижанин и ребенок остались вдвоем дожидаться тигра. У каждого бывает предчувствие удачи или неудачи. Молодой человек непоколебимо верил, что не успеет кончиться день, как тигр будет сражен. Чутко прислушиваясь и вглядываясь в темноту, охотники пытались уловить малейший шум. Вдруг Фрике заметил, что высокая трава заволновалась шагах в двадцати от него. «Тигр!» — подумал он. Повинуясь какому-то инстинкту, юноша быстро отошел метров на пять или шесть, увлекая за собой мальчика, который перестал позвякивать браслетами. Это отступление спасло обоих — едва они скрылись, из джунглей выпрыгнул огромный тигр, и как раз туда, где они только что стояли. Изумленный тем, что добыча ускользнула, зверь присел на задние лапы, готовясь к новому прыжку. Момент был самый благоприятный. Парижанин его не упустил. В один миг приклад винтовки лег на его плечо, грянул выстрел, прокатился словно гром.
Тигр делал прыжок. Сраженный в то самое мгновение, когда все его четыре лапы только что вытянулись, он перевернулся, точно кролик, и упал навзничь. — В точку! — вскричал охотник, к которому разом вернулась способность шутить в любой ситуации. Выстрел и впрямь был превосходный. Редко удается сразить тигра с первого выстрела. Ребенок, до сих пор державшийся смирно, разом утратил невозмутимость, столь несвойственную его возрасту. Он пронзительно вскрикнул, точно зверек, и бросился к тигру, еще конвульсивно дрыгавшему лапами. Фрике едва успел удержать его за руку. — Постой, малыш. Погоди, пока он перестанет дергаться. Они невероятно живучи, так и до беды недолго. Однако в тебе сидит бесенок. Яса высвободил руку, проворно схватил камень, изо всех силенок бросил им в тигра. Камень упал ему на грудь. Хищник не пошевелился. — Вот тебе, свинья! — крикнул звонким голосом ребенок. Парижанин подошел к Людоеду, чтобы рассмотреть рану. Разрывная пуля из винтовки «Экспресс» вошла в череп немного ниже уха и произвела страшные разрушения — эта часть головы была снесена, истерзана в клочья. В широкое отверстие виднелась окровавленная масса. — Вот она, разрывная пуля, — проговорил Фрике. — Я и сам не ожидал такого. …Выстрел переполошил жителей деревни. Выполняя приказ, индус и негр прибежали со всех ног, с ними несколько любопытных. Счастливый охотник стоял, опираясь на винтовку, и хладнокровно разглядывал добычу. Восторженные поздравления бирманцев он принял с прохладцей, почти презрительно. — Хорошо, хорошо. Так всегда бывает, когда человеку везет. На что мне ваши поздравления? Вы лучше возьмите-ка тигра да перенесите в деревню. Только уговор: когтей, усов, ушей не трогать. Мне нужна цельная шкура. Ну-ка, «сударь», объясни им это на их жаргоне. — Слушаю, сударь. — А ты, храбрый мальчик, — продолжал парижанин, обращаясь к ребенку, — можешь идти ко мне, если тебе скучно с этими горланами. Знаешь, я тебя уже полюбил, ты здесь единственный мужчина.Момент был самый благоприятный.
ГЛАВА III
Взгляд назад. — Почему «Голубая антилопа» ушла в плавание. — От Сьерра-Леоне до мыса Доброй Надежды. — Прощание с Барбантонами. — «Куда теперь?» — Рай для охотника. — Дичь, пернатая и четвероногая. — В Бирму! — По реке Иравади. — Удачный почин. Прежде чем продолжить рассказ, напомним события, описанные в предыдущей книге — «Приключения в стране львов». Богатый землевладелец, а теперь и судовладелец Андре Бреванн, в прошлом — неутомимый и неустрашимый путешественник, пригласил несколько приятелей на открытие сезона охоты в Босе. Семеро охотников — все парижане — приехали радостные, веселые, предвкушая наслаждение от удачной охоты на пернатых, которые в той местности в изобилии. К несчастью, накануне ночью прошлись с сетью браконьеры, истребив всю дичь. Гости Бреванна остались с носом. После роскошного завтрака, какой мог устроить, конечно, только сведущий в гастрономии миллионер, угостившись редкими винами, насмотревшись на охотничьи трофеи хозяина и наслушавшись рассказов его о странствиях, парижане загорелись желанием отправиться с ним на корабле в длительное путешествие по странам, где водятся крупные звери. Планировали посетить Экваториальную и Южную Африку, Азию. Бреванн согласился возглавить экспедицию и предложил полностью взять на себя ее подготовку. Расставаясь, дали друг другу слово встретиться ровно через два месяца в Гавре. Андре поехал в Париж, где прямо с вокзала направился к своему другу Виктору Гюйону по прозвищу Фрике, с которым когда-то совершил кругосветное путешествие. Узнав, что Андре хочет взять его в новое странствование, молодой человек вне себя от радости бросил все свои дела и поехал в Брест нанимать экипаж для будущей яхты. На прощанье навестил их общего друга Барбантона, служившего когда-то в колониальной жандармерии, а позже ставшего спутником наших двух путешественников. Бравый жандарм оказался несчастлив в семейной жизни. Супруга превратила домашний очаг в адское пекло, и бедняга с грустью вспоминал то время, когда жил среди людоедов. Узнав, что друзья вновь отправляются в путь, Барбантон немедленно принял решение — упаковал чемодан, оставил все имущество жене и поспешил с Фрике в Брест. Тем временем Андре купил в Англии роскошную яхту, привел ее в Гавр, куда уже прибыли Фрике, жандарм и члены экипажа. Все приготовления закончены в срок. Приближался час отплытия. Накануне Бреванн получает семь писем с отказом семерых приятелей от поездки. Хлопоты, траты — все насмарку? О нет! Комнатные путешественники струсили, изменили. Тем хуже для них. Андре пустится в плавание с парижанином и жандармом. Яхта называется «Голубая антилопа». Они держат курс на Экваториальную Африку, высаживаются в Сьерра-Леоне, в девственном лесу охотятся на львов, спасают от гориллы белую женщину, которую обезьяна схватила на глазах у сопровождающих и утащила в лес. Велико было изумление жандарма, когда похищенная оказалась его женой! Оправившись от потрясения, она объяснила, зачем приехала в Африку. Через несколько дней после отъезда супруга госпожа Барбантон обнаружила, что ее лотерейный билет выиграл триста тысяч франков. Придя за выигрышем, получить его не смогла — требовалась доверенность от мужа. Будучи дамой решительной, принялась разыскивать беглеца, навела справки в агентстве и с первым пароходом направилась в Сьерра-Леоне. Завершив рассказ, показала спрятанный в медальоне билет и попросила мужа оформить в консульстве доверенность на ее имя. — Посмотрим, — насмешливо ответил Барбантон. Вернувшись во Фритаун, путешественники узнали, что в городе свирепствует желтая лихорадка. Андре предложил даме поселиться на яхте. С этим бывший жандарм смириться не мог. Не для того проплыл тысячу двести миль, чтобы очутиться бок о бок со своей напастью. В ту же ночь он сбежал с двумя неграми и скрылся в неизвестном направлении. Этот побег стал началом череды неприятностей. Андре упал и сломал ногу, у мадам Барбантон пропал медальон с лотерейным билетом. Фрике отправился на поиски Барбантона. Он снарядил паровую шлюпку, взял с собой двух матросов и трех негров, один из которых — сенегалец, и поплыл вверх по реке Сьерра-Леоне, полагая, что беглецы могли двинуться только в этом направлении ввиду свирепствовавшей в городе эпидемии. Ловко выспросив сенегальца, молодой человек узнал, что один из спутников жандарма, негр-мандинг Сунгойя, был на родине вождем племени, но лишился трона и был продан в рабство. Поступив на службу к Андре в Сен-Луи, задумал бежать с яхты, едва она окажется у берегов его родины. Сунгойя, как и все африканские негры, был невероятно суеверен и слепо верил в могущество гри-гри, амулетов. Когда белую женщину спасли от гориллы, он решил, что причиной тому — амулет необыкновенной силы. Увидев билет, который был спрятан в медальоне, мандинг окончательно убедился в существовании этого гри-гри. «Если завладею им, стану непобедимым и верну себе престол», — сообразил он. Мандинг воспользовался крепким сном утомленной госпожи Барбантон и украл медальон. Расспросив лодочников на рейде, Фрике узнал, что жандарм поплыл вверх по реке с двумя неграми, и пустился по их следам. Путешественников ожидали сражения с крокодилами и гиппопотамами, блокада реки врагами Сунгойи. В конце концов Фрике отослал свой корабль во Фритаун и продолжил путь по суше. После многих приключений парижанин добрался до поселка Сунгойи и застал жандарма в полной форме, обучающего европейскому военному делу черных солдат своего нового друга. В результате жестокой битвы Сунгойя одержал победу над соперником, но запятнал ее зверским убийством пленных. Возмущенные европейцы решили ни минуты не задерживаться в его селении. Черный монарх согласился отпустить их лишь после того, как они убьют для него слона — подданным нечего есть, за время войны вся провизия вышла, а одной славой сыт не будешь. Туземцы с Сунгойей во главе пошли на поиски слона, процессию замыкали Фрике и Барбантон. Вдруг новоиспеченного короля схватила гигантская змея и унесла в болото. Ее нашли — практически в полном оцепенении она переваривала несчастного новоиспеченного правителя. Парижанин убил змею, выпотрошил, вытащил из нее останки Сунгойи, снял с его шеи медальон, украденный у госпожи Барбантон. Через три дня они благополучно достигли Фритауна и с ужасом увидели на «Голубой антилопе» желтый флаг. Национальный флаг приспущен. Значит, на борту покойник. Умер матрос. Друзья попали на яхту в момент прощания. Узнали от Андре, что госпожа Барбантон во время эпидемии на яхте проявила редкое мужество и самоотверженно ухаживала за больными. Правда, заразилась сама и едва не умерла, но теперь выздоравливает. Эти события произвели необычайную перемену в ее характере. Она стала совсем другой. Делая добро, поневоле становишься добрым. Вместо прежней полуведьмы жандарм обрел милую, кроткую жену. «Голубая антилопа» идет в Капштадт. Там стоит в карантине, после чего Барбантоны покидают яхту и отплывают в Европу. Какой им смысл путешествовать — они счастливы и богаты.
Оставшись вдвоем, Фрике и Андре решают продолжить путешествие. — Куда теперь? — задаются они вопросом. Бреванн предложил отправиться в Бирму. Это рай для охотника: там есть тигры, носороги, слоны, леопарды, буйволы, черные пантеры, рыси, речные бобры, бабируссы, антилопы. И пернатые: фазаны, видов без малого двадцать, павлины… — Павлины?.. Дикие?.. Неужели? — воскликнул Фрике. — В огромных количествах… А еще индюки, тетерева, рябчики, куропатки, голуби всех сортов, аисты, калао, попугаи, колибри. И вся эта благодать — в Бирме?.. В таком случае — да здравствует Бирма! Вперед. «Голубая антилопа» взяла курс на Рангун, столицу английской Бирмы, 16°45′ северной широты и 94°4′ восточной долготы. Короткая остановка у острова Реюньон, еще одна на Цейлоне, и вот после тридцати пяти дней безмятежного плавания яхта бросила якорь перед Рангуном, построенным у реки Иравади, в том месте, где она впадает в Мартабанский залив. Англичане полностью отрезали независимую Бирму от моря, захватив всю область между юго-восточной границей Бенгалии и перешейком, соединяющим Малайский полуостров с Сиамским королевством. В Бирманскую империю остался единственный путь — по реке Иравади. Она в полтора раза превосходит Рейн, но, как все реки Индокитая, очень переменчива, и судоходство здесь дело непростое. Тысячу двести километров от Рангуна до Бама можно проплыть только на судах с небольшим водоизмещением. Грузовыми перевозками занимается лишь одна британская компания. Андре приехал в Индокитай вовсе не затем, чтобы сидеть в английских владениях. Поэтому в Рангуне пробыли ровно столько, сколько потребовалось для приготовлений к длительной экспедиции во внутренние области. Яхту решили оставить на рейде, а по реке плыть на паровой шлюпке, снабдив ее всем необходимым, то есть оружием, боеприпасами провизией, одеждой, инструментами. Поручив корабль капитану, Бреванн взял на шлюпку двух кочегаров, Сенегальца-лаптота и двух негров, принявших участие в экспедиции по реке Рокель в Сьерра-Леоне. Лодку прицепили к буксиру вместе с несколькими гружеными шаландами. Потеря во времени компенсировалась безопасностью. Когда все было готово, Андре и Фрике заняли места в шлюпке. У Иравади огромная дельта, река Рангун, по сути, один из ее рукавов. Ниже города в нее впадает речка Пегу со множеством других речек и ручейков, отчего рукав расширяется, и к городу могут подходить суда водоизмещением в полторы тысячи тонн, но выше он сужается и без лоцмана там не обойтись. Через день пути добрались до местечка Ниунгун, где Рангун соединяется с главной артерией. Отсюда буксир пять дней тащился до Мидая, английского таможенного поста в четырех километрах от англо-бирманской границы. Эта обычная деревня ничего собой не представляла бы, не будь так удачно расположена — здесь взимают пошлины с европейских и туземных товаров, идущих вверх и вниз по реке. Французская администрация измучила бы Андре всевозможными таможенными придирками по поводу груза шлюпки. Начался бы осмотр, перечисление, оценка всего на ней находящегося до самого ничтожного пустяка, потом содрали бы солидную сумму, заставив в результате потерять массу времени, что всегда очень скучно и иногда — хуже убытка. Одним словом, взяли бы путешественника измором. Иное дело англичане. Досмотр производил начальник таможни в сопровождении младших чиновников. Бреванн отрекомендовался, объяснив, что он охотник, а не торговец, прибыл на яхте из Франции, побывал в Сьерра-Леоне, где охотился на львов. Англичанин, сам превосходный спортсмен, вежливо поклонился французскому собрату и произнес: — All right! Шлюпка прошла под орудиями форта, где сосредоточено командование судоходством на всем нижнем течении реки. Французский флаг, редкий гость в этих местах, обменялся приветствием с британским, и спустя час шлюпка миновала английскую границу. Андре по рекомендации капитана буксира нанял лоцмана и решил продолжить путешествие на свой страх и риск. До него стали доходить рассказы о разной дичи в реке и на берегу. Охотники после долгого вынужденного бездействия не прочь были размяться и сделать несколько метких выстрелов. Они подстрелили двух гигантских аистов-марабу с великолепными белыми перьями, к которым так неравнодушны модницы-щеголихи. На следующий день Бреванн решил идти в глубь страны, поднявшись вверх по течению реки Джен, левого притока Иравади, впадающего в нее около Менгуна. Вот тут-то, устав от переговоров с лоцманом, знавшим по-английски лишь несколько слов, он отправил Фрике на берег с поручением нанять переводчика и добыть свежих припасов. Мы уже знаем, что парижанин успешно исполнил оба поручения и, кроме того, сразил наповал Людоеда.Барбантоны счастливы и богаты.
ГЛАВА IV
Триумфальное возвращение. — Знакомство с новыми участниками экспедиции. — «Я буду есть тетерева». — Старый бирманец-охотник и его таинственный помощник. — Дах — национальное оружие. — Через джунгли. — Сигнал тетерева. — Первый выстрел. — Первая жертва. — Тетерки. — Что у старика в корзинке. — Уж вместо легавой собаки. — Фрике стреляет и промахивается. — Тетерка и змея. — Пир рептилии. — Истребитель тигров обращен в бегство тетеркой. Андре, оставшийся на шлюпке с двумя матросами-европейцами и негром, очень встревожился, когда получил от Фрике известную читателям записку, в которой парижанин извещал о своем походе на Людоеда. — Вечно он что-нибудь придумает! — ворчал Бреванн. — Пуститься в такую экспедицию, не посоветовавшись со мной! Хоть бы знать, в какую сторону он направился! Ему кажется шуткой пойти на огромного старого тигра… А я изволь тут волноваться. До вечера не было никаких известий. Наступила ночь. Андре не находил себе места. Вдруг увидел справа на берегу движущиеся огни и услышал радостные крики. Он улыбнулся и сказал весело: — Тигр убит. Бирманцы чествуют моего шального мальчишку. Он не ошибся. Вскоре показались люди с факелами, оравшие во все горло, за ними четыре бирманца с чем-то вроде носилок, на которых лежали останки тигра, и, наконец, Фрике с винтовкой на плече, высоко поднятым носом, с видом самым торжествующим, рядом — индус, негр и мальчик Яса. Шествие замыкали крестьяне, тащившие всякую живность и свежие овощи и на все лады прославлявшие подвиг истребителя тигров. Бреванн радостно встретил парижанина и его свиту. Взволнованно пожав руку друга, Фрике подозвал Минграсами и Ясу: — Вот переводчик, месье Андре, он родом из Пондишери, следовательно, наш индийский соотечественник. А вы, сударь Минграсами, знайте, что этот джентльмен — господин Андре Бреванн, наш общий командир.
Индус поднял над чалмой куполом обе руки, степенно поклонился и проговорил: — Я буду служить вам, сударь, верой и правдой. Я настоящий француз и ненавижу англичан. Поверьте. — Ты говоришь по-бирмански? — Как по-французски, так же бегло. — Хорошо. Завтра мы обсудим с тобой жалованье. — Я вполне полагаюсь на вас и, кроме того, считаю большой честью быть на службе у французов из Европы. — А этот мальчуган, — продолжал Фрике, — будет нашим новобранцем, я его усыновил. — Как? Опять приемыш? — сказал, улыбаясь, Андре. — С этим их всего трое. К тому же негритенок Мажесте уже совсем взрослый, а китайчонок Виктор скоро станет мандарином. Знаете, месье Андре, до встречи с вами я был так глубоко несчастлив, что не могу равнодушно видеть брошенных детей или сирот. — У него нет ни отца ни матери? — Его мать — последняя жертва тигра-людоеда. — Ты правильно поступил, Фрике, и я очень рад этому прибавлению семейства. — Если б вы знали, как он понятлив… Я скоро выучу его болтать по-французски. И какой храбрец! Согласился служить приманкой для тигра и даже бровью не повел. — Кстати, я тебя и не поздравил. Это великолепный почин на азиатском берегу. Я в восторге. — Я старался следовать вашим урокам, чтобы стать охотником. И теперь люблю охоту. А поскольку мы приехали сюда именно охотиться, я не хочу почивать на лаврах, у меня на примете новая добыча. — Вы меня избалуете, господин обер-егермейстер. — В двух словах: от переводчика Сами я узнал, что здесь в окрестностях изобилие чудных тетеревов. В деревне только поросята, и я с наслаждением съел бы тетерку. А вы? — Я очень люблю эту великолепную дичь, но известно ли тебе, что тетерева и тетерки крайне пугливы? — Известно, и все-таки думаю, что охота будет удачной. — Почему ты так уверен? — Сами, от которого я это узнал, взялся подготовить все необходимое. «Будьте спокойны, — сказал он мне, уснащая свою речь бесконечными „сударями“, — я приглашу старика, который отведет вас на место, где вы убьете столько дичи, сколько душе вашей будет угодно. У него есть животное, которое умеет находить след тетеревов и в особенности тетерок». — Тетерев или тетерка — мне все равно. Я сторонник полного равноправия полов по отношению к вертелу. А как проберемся сквозь чащу? — Не беспокойтесь, проложим дорогу дахами. Я прислушался к совету Сами и привел человека, которого он рекомендовал. Вот тот старик, что жует бетель с важным видом бронзового идола, у него на плече корзинка из прутьев. Вы согласны прибегнуть к его помощи? — Конечно! Теперь я тоже почему-то уверен в успехе, хотя и не знаю, что за средство использует старик. — Эй! Сами! — Что вам угодно, сударь? — Пригласи старика поужинать. Я поручаю его тебе. — Не беспокойтесь о нем, сударь! Он ляжет на подстилку из листьев на берегу реки. А я разведу огонь, который будет гореть всю ночь, и приготовлю на нем ужин. — Хорошо. Что нужно этим людям? — Они хотят вернуться в деревню. — Справедливо. Раздай им деньги, — сказал Андре. Пять минут спустя бирманцы удалились с громкими радостными криками, прославляя щедрость и храбрость европейцев. На другой день с зарей друзья приготовились идти на охоту. Выпили по чашке горячего кофе с сухарями и рюмку можжевеловой водки — настоящий матросский походный завтрак и, кроме того, отличное средство защиты от лесной лихорадки. Старик-бирманец получил хорошую закуску и выпивку и пришел в полный восторг. Он бодро изложил свои наставления толмачу, тот перевел их Андре и Фрике. Предстояло, разбившись на две группы, идти параллельно шагах в семи-восьми друг от друга. Впереди первой пойдет старик, другой — Сами, они будут прорубать путь. Следом — Андре и Фрике, с ружьями шестнадцатого калибра и гринеровской двустволкой. Позади — двое негров с крупнокалиберными винтовками на случай опасности. Индусу и старику-бирманцу не полагалось иного оружия, кроме туземной сабли — даха. По форме это скорее тесак — широкая, тяжелая и без заостренного конца, срезанная под прямым углом, очень некрасивая. Она служит в домашнем обиходе подобно тесаку южноамериканцев и мачете мексиканцев, но только не так удобна, хотя все-таки ею рубят дрова, крошат табак, разделывают мясо, срезают прутья, бамбук, сдирают кору с пальм, сбивают лианы и ветки, мешающие идти. Рукоятка у нее длинная, деревянная, так что можно действовать обеими руками. Ножны сделаны из двух деревянных планок, в которых выдолблены углубления и которые скрепляют проволокой или металлическими обручами. Таков дах у простонародья, одновременно орудие труда и оружие. У представителей среднего и высшего классов дах имеет такую же форму, но рукоятка и ножны украшены, вместо дерева используют слоновую или носорожью кость, проволока, гвоздики и обручи серебряные или золотые, на обручах — драгоценные камни. Ножны обтягивают выделанной кожей. Это национальное оружие служит и знаком отличия. Когда бирманский император хочет наградить сановника за его заслуги, жалует отличившемуся дах с ножнами, обвитыми серебряным или золотым листом. Такой дах носит впереди сановника кто-нибудь из его подчиненных. Кавалеристы пристегивают дах к седлу или надевают на ремне через плечо за спину. Пехотинцы засовывают его за пояс или носят просто в руках или на плече, не вынимая из ножен. Короче говоря, без этого предмета ни один бирманец, будь он богат или беден, не сделает ни шагу. Фрике и Андре ожидали, что проводники будут шуметь, прорубая дорогу, но, к удивлению обоих, индус и бирманец ловко и бесшумно срезали мешавшие ветви в поросших колючим кустарником джунглях. Вдруг среди тишины раздался громкий призывный крик тетерева. Охотники прошли еще шагов пятьдесят. Крик повторился, и так близко, что Бреванн ожидал вот-вот увидеть птицу прямо перед собой. Но нечаянно наступил на ветку, она громко хрустнула. Из чащи послышался сначала хрип, потом тревожный крик, потом шуршанье крыльев. Андре увидел, как над деревьями поднялась почти вертикально, точно фазан, огромная птица. Выждал, пока та двинется параллельно земле, и выстрелил. Подстреленная на лету, она перевернулась в воздухе и рухнула вниз. Флегматичный старик-бирманец вытаращил узенькие глаза и с почтением уставился на человека, сделавшего такой удивительный выстрел. Негр проворно сунул винтовку в руки хозяину и, как змея, уполз в чащу. Вскоре вернулся ликующий — тащил великолепного черно-серого тетерева с голубыми, зелеными и лиловыми переливами, весом килограммов пять. — Месье Андре, поздравляю! — послышался из-за кустов веселый голос. — Ловко! — Сам-то ты что же не стрелял, когда от моего выстрела всполошились и взлетели все местные тетерева? — Я растерялся и не знал, в которого целиться. Фррр!.. Потом хлопанье крыльев — и ничего. Нет, мне еще долго надо практиковаться, чтобы научиться стрелять птиц на лету. — Знаешь что? Присоединяйся ко мне. Будем ходить вместе. Мы оба пойдем за стариком, который в эту минуту делает мне какие-то знаки, но только я их не понимаю. Сами, спроси, что случилось. — Он говорит, сударь, что тетеревов больше нет. Ваш выстрел всех вспугнул. — Вижу, знаю. — Остались одни тетерки. — Где? — Не знаю, сударь, но зверь нам сейчас укажет. Вот, извольте взглянуть. Старик поставил корзину на землю и снял крышку. Французы невольно вздрогнули, увидав на дне корзины огромную змею. — Чего вы испугались? — тотчас воскликнул Андре. — Точно дети!.. Ведь это уж, безобиднейшая из змей. — Пусть безобиднейшая, но мне все равно не нравится, — пробормотал Фрике. — Во всяком случае, очень странная легавая. Старик вынул из корзинки змею длиной метра два, с колпачком на голове, ни дать ни взять — сокол. Снял колпачок, привязал на шею колокольчик, открыл пасть, плюнул в нее слюной, окрашенной бетелем, и отпустил на свободу, сказав какие-то странные слова. Змея мгновенно исчезла в кустах, ее бы и след простыл, если б не громкое позвякивание колокольчика. Вскоре за деревьями послышался испуганный птичий крик и хлопанье крыльев. — Тетерка! — прошептал Минграсами. — Она на гнезде и защищает яйца. — Ползи-ка туда, Фрике, — сказал Андре. Парижанин нагнулся, но бирманец удержал его. Он издал резкий свист и знаком показал юноше, чтобы тот хорошенько посмотрел между деревьями. — О, вижу,вижу!.. Бедненькая! Она на гнезде. — Убей ее. — Не могу!.. Ведь наседка. — Без нежностей. Охота так охота. Ведь нам надо людей кормить. Тетерка, вероятно припертая невидимым врагом, тяжело взлетела. Фрике сделал два выстрела и оба раза промахнулся. — Черт возьми! — воскликнул он. Раздался третий выстрел. Несчастная птица, описав большой круг над гнездом, распласталась на земле. Старик свистнул еще резче и повелительнее. Уж как бы нехотя приполз обратно к хозяину. Старик водворил его в корзину и поглядел на Андре восторженно, а на Фрике лишь покосился. Охотники шли дальше лесом, который, к счастью, стал заметно редеть. Пройдя шагов сто, старик остановился и опять выпустил змею. — Еще гнездо! — сказал переводчик. Фрике, начинавший приобретать опыт, хотя и был посрамлен, бросился за ужом, прислушиваясь к звуку колокольчика. Вновь испуганный крик и хлопанье крыльев. Подкравшись, он забыл о своих кровожадных намерениях перед удивительным зрелищем. Тетерка, ощетинившись, откинулась назад и, выставив вперед когти, отчаянно вертелась, защищая гнездо. Старалась помешать ужу схватить яйца. Ужа нисколько не смущали ни крики, ни удары когтями и клювом. Он быстро двигался вокруг несчастной, не спуская с нее глаз. Утомленная тетерка ослабевала, взгляд змеиных глаз, холодных и тусклых, гипнотизировал ее. Змея кружилась все ближе, все быстрее. Измученная, истомленная птица вдруг упала навзничь, словно в каталептическом припадке. Уж проворно вполз в гнездо — то была простая ямка в земле — схватил одно яйцо, разбил зубами, съел с видимым наслаждением желток, потом принялся за другое, третье, не обращая внимания на тихо подошедшего Фрике. — Приятного аппетита, красавец мой, — сказал парижанин, — а я тем временем овладею нашей курочкой, не истратив ни одной дробинки. Но он ошибся в расчетах. Тетерка, избавившись от гипнотизировавшего ее змеиного взгляда, пришла в себя. Увидав, что кто-то осмелился подойти и протягивает к ней руку, чтобы схватить за шею, пришла в ярость и с бешенством наседки, защищающей птенцов, набросилась на врага, жестоко исцарапав ему руки и едва не выклевав глаз.Фрике подозвал Минграсами.

Не имея ни малейшей возможности пустить в дело ружье, так как наседка была слишком близко, не зная, чем и как защититься от ее когтей и клюва, Фрике развернулся и побежал к своим спутникам, прыская со смеху. Насытившийся уж полз за ним следом на свист хозяина. — Что случилось? — спросил Андре, не понимавший причины этого странного бегства. — Ничего не случилось. Бешеная тетерка, вот и все. Вы видели, как большие собаки убегают от наседки с цыплятами? — Видел. — Вообразите себе десятифунтовую курицу, прыгающую на лицо, царапающуюся, клюющуюся — словом, разъяренный зверь, да и только. Я чуть глаза не лишился. Ей-богу, тигр не так страшен. — Что же ты теперь будешь делать? — Да ничего. Я бы мог вернуться и пристрелить ее, но за необычайное мужество она заслуживает пощады. Пусть живет. Во всяком случае, я очень рад, что познакомился с этим стариком-фокусником, и надолго запомню «легавого ужа». А когда мы будем рассказывать об этом в Европе, нам никто не поверит.Тетерка набросилась на врага.
ГЛАВА V
Дурное настроение лоцмана. — Жертвоприношение Гаутаме. — Лодка туземцев. — Рея тридцать девять метров. — Красных рыб золотят, а белых серебрят. — Будда останется доволен. — Иравади. — Непостоянство этой реки. — Периодические разливы. — Семьдесят тысяч лодок, составляющих торговый флот. — Бирманские столицы. — Причуды монархов. — Ава, Амарапура и Мандалай. — Туда, где растут тековые деревья. Довольствовавшись этой небольшой экскурсией по берегам реки Джен, друзья решили спуститься вниз по течению до места ее слияния с Иравади, по которой и продолжить путь. Шлюпка была прекрасная, машина великолепная, кочегар превосходный, лоцман опытный, казалось бы, чего еще желать, знай себе путешествуй и радуйся. Между тем лоцман с каждым часом становился мрачнее. Не заметить этого было нельзя. Пришлось прибегнуть к помощи переводчика. Минграсами, или просто Сами, как его стали звать для краткости, осведомился у лоцмана, почему тот в таком дурном настроении. Последовал короткий, но эмоциональный разговор. — Ну, что он сказал? — спросил Андре. — Лоцман отказывается от службы, сударь. — Вот как? Чем же ему у нас плохо? — Не плохо, напротив, очень хорошо, но только с вами должна непременно случиться беда, и он боится, что местные власти сочтут его виновником вашей гибели. — Что за вздор! — воскликнул Бреванн, теряя терпение. — Более уважительной причины у него нет? — Он полагает, — Сами понизил голос до шепота, — он полагает… Сударь, я боюсь, вы будете смеяться. — Да говори скорее, что за пытка, не тяни! — Лоцман, сударь, сетует, что вы не совершили молитвенного обращения к Гаутаме. — Что? — Да, сударь. Обычай требует, чтобы каждый, кто собирается плыть вверх по реке, приносил жертву Будде, которому поклоняются бирманцы. — Не может быть! Где я только не бывал, чего только не повидал, но, признаюсь, впервые от меня ждут соблюдения обрядов чужой религии. — Сударь, он вовсе не говорит, чтобы вы сами приносили жертву. Он только просит разрешения самому это сделать. Иначе он уйдет от вас. — Да сколько душе угодно! Пусть приносит. Я человек веротерпимый, каждому предоставляю полную свободу в этом вопросе. Готов даже оказать ему посильное содействие. — У него нет рыб. — Каких рыб? — Для жертвоприношения Гаутаме. — Вот что, парень, ты говоришь какими-то загадками, а теперь чересчур жарко, я не желаю ломать над ними голову. Добудьте рыб, я заплачу за них, пусть лоцман приносит свою жертву, а меня оставьте, пожалуйста, в покое. Нахмуренное лицо лоцмана просияло, когда индус передал ему слова Андре. Не теряя ни минуты, он направил шлюпку к шедшей навстречу большой лодке и быстро поравнялся с ней. — Что он хочет делать? — спросил Бреванн, с любопытством разглядывая истинный шедевр местного кораблестроения. Лодка была построена с полным пониманием условий речного плавания. Киль из выдолбленного ствола дерева, подобно пирогам первобытных народов, и уже по нему выведен кузов. Высокая, как у гондол, корма. Руль в виде широкого весла, которым кормчий правит, стоя на украшенном резьбой возвышении. Замечательные в своем роде мачты и паруса. Внизу мачты — два столба, у реи они соединялись, образуя треугольник, выше реи шел один столб. Рея из одного или нескольких бамбуковых стволов была чрезвычайно длинной и изгибалась дугой. Вдоль реи была протянута веревка, по которой на кольцах натягивался парус, похожий на занавес. Паруса делают из того же очень тонкого и легкого бумажного полотна, что одежду туземцев. Легкость необходима, поскольку парус по сравнению с лодкой очень большой. Английский инженер Генри Юль измерил рею одной такой лодки водоизмещением сто тонн, оказалось — тридцать девять метров в длину. Поверхность натянутого на ней паруса была не менее трехсот семидесяти квадратных метров. Очевидно, что лодки туземцев против ветра идти не могут. Шлюпка сошлась борт к борту с одной из таких гнау, в носовой части на небольшом возвышении сидели самые почитаемые пассажиры. На корме развевался белый флаг, на котором довольно грубо был нарисован красной краской герб Бирманской империи — павлин с распушенным хвостом. Курьезная подробность: флагшток венчал… европейский графин! У бирманцев в ходу подобные украшения, порой они ими злоупотребляют. Например, на верхушке пагоды сверкает скромная бутылка из-под сельтерской воды. Лоцман перепрыгнул в лодку. Кочегар замедлил ход шлюпки. После кратких переговоров с собратом оба подошли к люку, скрылись в нем, но вскоре вновь показались. Простились, горячо пожав друг другу руки. Фрике и Андре с интересом наблюдали за этой сценой, иллюстрировавшей местные нравы. Лоцман вернулся на шлюпку и сел к рулю, держа в руке бамбуковое ведерко, до половины наполненное водой. Парижанин подошел и заглянул в него. Там плескались штук десять красных и белых хорошеньких рыбок. — Должно быть, это и есть будущее жаркое для Будды. Наш лоцман купил или взял взаймы этих рыбок. Вернувшись домой, буду сторониться аквариумов.
Не обращая внимания на присутствующих, которые, впрочем, ничем не выдавали своего отношения к происходящему, лоцман вытащил рыб из ведерка, обтер их кисеей и разложил на сухой салфетке. Потом вынул из-за пояса небольшой деревянный лакированный ящик, достал оттуда несколько тонких листиков золота и серебра. Взяв красную рыбку, завернул ее в золотой листок, который тотчас присох к чешуе, выделяющей клейкое вещество, и бросил в реку, произнося таинственные слова. Затем взял белую рыбку, завернул ее в серебряный листок и, сопровождая тем же заклинанием, тоже бросил в воду. Десять рыб — пять белых и пять красных — по очереди оказались в реке. Завершив жертвоприношение, лоцман вернулся к рулю с видом человека, которому нечего больше бояться. — Это все? — спросил Фрике у переводчика. — Все, — серьезно и важно ответил индус. — Злые духи укрощены. Гаутама подарит нам добрый путь. — Спасибо на добром слове. Каждый труд должен быть вознагражден, вот ему пять франков на чаек. Шлюпка пошла в привычном темпе. Мимо проносились берега Иравади. Улетали прочь, хлопая крыльями, водяные птицы, напуганные отрывистым кашлем паровика. — Странный обычай, — сказал парижанин, лежа на корме рядом с другом, курившим сигару. — Вы знали о нем раньше, месье Андре? — Приходилось кое-что читать и слышать. Во всяком случае, в нем нет ничего удивительного, если принять во внимание непостоянный характер той реки, по которой мы плывем. Вполне естественно, что люди хотят умилостивить злых духов, которым приписывают беспорядочные разливы Иравади. — Сейчас она вполне мирная. — Да, но доверять ей нельзя. Иравади — самая ненадежная река в мире. К тому же теперь март, самое сухое время года в этой стране. А вот в августе после проливных дождей она разливается так, что становится многоводнее Конго, чуть ли не с Ганг. — Эти разливы, должно быть, наносят немалый урон, — заметил Фрике, — неудивительно, что местные жители всячески стараются огородить себя от этой напасти. И мне ничуть не жаль пятифранковой монеты, которую я дал лоцману за десяток рыбок, кажется, я дешево отделался. — Урон не столь велик, как может показаться. Разлив бывает регулярно, вода достигает определенной высоты, все затопляемые места известны. Когда вода спадет, жизнь немедленно налаживается, навигация становится даже оживленнее. — Мне кажется, что навигация и сейчас очень оживленная. Лодки снуют беспрестанно. А я-то ожидал увидеть страну дикую и почти безо всякой торговли. — О, как ты ошибался. Представь, тридцать пять пароходов ходят ежегодно вверх и вниз по реке, семьдесят тысяч лодок, из которых иные в полтораста тонн, ходят и по реке, и по ее притокам. Внешняя торговля одной английской Бирмы дала за тысяча восемьсот семьдесят восьмой — тысяча восемьсот семьдесят девятый годы пятьсот пятьдесят миллионов франков, по официальным данным. — И в то же время здесь есть слоны, тигры, носороги… Удивительная страна! — Это-то в ней и прельщает. Порой утонченность соседствует с дикостью. Между тем туристы посещают ее гораздо реже, чем Индию, это и заставило меня выбрать Бирму для нашей охотничьей экспедиции. Мы поднимаемся вверх по одному из притоков, чтобы побывать в тековом лесу, потом вернемся назад и отправимся в путешествие по главной водной артерии, увидим развалины столиц, покинутых местными монархами. — Вот тебе раз!.. Значит, здесь столицы меняют, как… сюртуки. — Положим, реже, — улыбнулся Андре. — Три столицы сменились за семьдесят пять лет. — Двадцать пять лет не слишком большой срок для столицы. — Конечно, к тому же я ошибся, не три раза, а пять. — Не может быть. — Суди сам. Более четырех веков столицей Бирмы была Ава. По капризу короля, одного из сыновей знаменитого Аломпры, ее оставили и перебрались в Сагаин, нечто вроде бирманского Версаля. Через три года, по велению нового короля, столицу перенесли в Амарапуру, или «город бессмертия», на берегу Иравади, в семнадцати километрах от Авы. В тысяча восемьсот девятнадцатом году двор покинул и эту резиденцию и до тысяча восемьсот тридцать седьмого года пребывал опять в Аве. — Три столицы! — В тысяча восемьсот тридцать седьмом году двор без всякой причины расстался с Авой и до тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года обретался вновь в Амарапуре. — Четвертая перемена!.. Воображаю, как доставалось мебели и какие были убытки. Ведь недаром говорят: два переезда — один пожар. — В тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году, по очередному капризу монарха, Амарапура была оставлена окончательно, и сейчас это груда развалин. В семи километрах к северу возникла новая столица — Мандалай. Ее строительство завершилось лет пятнадцать назад. — Меня удивляют и страсть монархов к переменам, и слепое повиновение подданных их прихотям. — Ты забываешь, что здесь монарх владеет абсолютно всем: лесами, полями, реками, даже слонами, не говоря уж о людях. Человек здесь — вещь в руках короля. Стены Мандалая, новой столицы, воздвигнуты на человеческих трупах. — Боже! — В этом нет ничего нового. В древней Палестине, например, во главу угла при постройке здания закладывали «живой камень» — отгонять злых духов. — Ну, хорошо… А как же иностранцы, жившие в Амарапуре? Они, надеюсь, имели право остаться там и не переезжать? — Так и случилось в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году. Когда король приказал всем жителям переселяться, покидать свои дома, китайцы, которых было очень много и которые только что построили пагоду в своем квартале, отказались исполнить приказ. Их не тронули. В конце концов они все-таки перебрались в новую столицу, простая выгода заставила их это сделать — они остались без покупателей, с товаром на руках. Им еще пришлось унижаться и просить, чтобы их приняли в Мандалай. — Город-то, по крайней мере, заслуживает внимания? — Сам увидишь. Надеюсь, мы в нем побываем. Но сначала побродим по западу страны, боюсь, на северо-востоке не будет тековых деревьев. — Разве в северной Бирме их нет? — Некоторые авторы утверждают, что тек не растет дальше шестнадцатого градуса северной широты, но это неверно, он встречается много севернее. Мы увидим его непременно и сделаем в тековых лесах много удачных выстрелов, потому что они изобилуют всевозможной дичью. В них водятся и самые свирепые и грозные звери на планете. — Буду рад продолжить серию метких выстрелов, которую начал Людоедом. Если в тековых лесах есть звери, есть опасность, есть из-за чего поволноваться охотнику — в таком случае едем туда, где растут теки!— Должно быть, это и есть будущее жаркое для Будды.
ГЛАВА VI
Вверх по притоку Иравади. — Обработанные земли. — Фрике становится отличным стрелком. — Утро на реке. — Восход. — Неожиданная встреча. — Слон? — Нет, всего лишь носорог. — Черные пантеры — супружеская пара. — Двое на одного. — Страдания носорога. — Уникальный двойной выстрел. — Спасенная жертва. — Неблагодарность. — Не делать добра, не нажить врага. — Ярость дикой скотины. — Череп носорога и пуля «Экспресс». — Не слишком крепкая броня. — Для коллекции. Поднявшись еще немного вверх по течению Иравади, шлюпка вновь вошла в один из бесчисленных притоков, впадающих в реку-богатыршу. Лоцман превосходно знал не только местную гидрографию, но, как оказалось, и изобилующие дичью подходящие для охоты места. Друзья, главной целью которых и была охота, решили вполне на него положиться. Жалеть об этом им не пришлось. Лодка, замедлив ход, вступала в места все более дикие. Реже показывались поселки, по большей части издалека, обработанные поля исчезли вовсе. Дикая природа вступала в свои права. Фрике и Андре, хотя и мимоходом, имели возможность полюбоваться, с каким трудолюбием и терпением бирманцы, близкие родственники китайцев, мастеров оросительного дела, смогли обустроить свои плантации. Всюду, где во время разлива можно организовать орошение, рос рис, который в высшей степени толково и разумно чередовался с другими культурами — табаком, кукурузой, бобами, чечевицей, сладким картофелем, сахарным тростником. Небольшие поля были разбиты на квадраты, как шахматная доска, и каждый получал ежедневно свою долю воды из запасов в природных бассейнах. Вода растекалась по полям с помощью системы каналов и шлюзов, устроенной просто, но с умом. Среди ровных ухоженных полей высились фруктовые деревья, приспособленные к местному климату, — финиковые и фиговые пальмы, масличные деревья, гранаты, персики, и даже сливы, груши и вишни, которые особенно странно смотрелись рядом с гуайявами, манго и бананами. А еще кусты индиго и хлопчатника, лимонные, апельсиновые, ореховые, тамариндовые, камедные, резиновые деревья и многое другое. То тут, то там из-за деревьев показывалась и снова пряталась блестевшая на солнце маковка пагоды, и вновь тянулись джунгли с колючим тростником, островками бамбуков, травой в человеческий рост — и среди этого великолепия сияла многоводная Иравади. Нечего и говорить, что водная и болотная птица попадалась в изобилии: то и дело взлетали, испугавшись вздохов паровика, ибисы и фламинго, марабу и чайки, цапли и пеликаны. Парижанин практиковался в стрельбе на лету. Неудача с тетеревами не забылась, он дал себе слово стать превосходным стрелком. Стоя на носу шлюпки, азартно стрелял и ставил все более трудные задачи. Он явно делал успехи, Андре нахваливал его, ощипывая подстреленных птиц, которые подбирали члены экипажа. Вечером бросили якорь посредине реки и беззаботно уснули. Три дня прошло с тех пор, как лоцман принес в жертву Гаутаме посеребренных и позолоченных рыбок. Шлюпка рассекала глубокие и прозрачные воды Яна, или Киук-Яна, притока Иравади, впадающего в нее под двадцать первой северной параллелью. На протяжении тридцати километров Ян поднимается от устья к северо-западу и делится на четыре рукава, расходящихся гусиной лапой. Первые три очень короткие, не более пятидесяти километров, четвертый, идущий с севера на юг, протянулся почти на двести. Река Ян и ее притоки орошают почти незаселенную часть страны, простирающуюся на запад до английской границы. Можно представить, как она богата дичью. Посмотрев по карте, куда ведут эти четыре рукава, охотники направились по самому длинному, полагая, что по его берегам растут тековые леса. На четвертый день рано утром Фрике проснулся от озноба — опустился туман, как это обычно бывает по ночам в сырых низинах. Полагая, что согреться лучше всего движением, парижанин вылез из-под одеяла и решил отправиться на берег с неграми, которые собирались плыть за дровами для паровика. Андре тоже проснулся от озноба и принял такое же решение. Оба страшно удивились, встретившись у лодки — каждый думал, что другой спит. Фрике взял ружье шестнадцатого калибра, Андре — винтовку «Экспресс» калибра четырнадцать с четвертью. Друзья молча кивнули друг другу и тихо уселись в лодку, приказав неграм как можно меньше шуметь веслами. Вскоре красные лучи пронизали туман, и он моментально рассеялся. Верхушки деревьев, до этой минуты невидимые, вдруг словно загорелись, засверкали, тогда как внизу их еще застилала сероватая пелена, постепенно исчезавшая. Воздух делался все свежее и прозрачнее. Предметы выступали особенно резко и ярко, звуки слышались особенно отчетливо. Одним словом, то было настоящее утро в тропиках, где солнце восходит без зари и заходит без сумерек. Восход солнца здесь похож на взрыв света. Друзья наслаждались хорошо знакомой картиной. Они столько раз ее видели, а все никак не могли налюбоваться. Однако художественное чувство не заглушило в них охотничьего инстинкта. Фрике первым заметил, что между широкими листьями водных растений с остатками росы движется нечто черное. Он сделал знак гребцам остановиться. — Что там? — тихо спросил Андре. — У берега барахтается в воде какое-то крупное животное, вроде слона. — Черт возьми! — Слышите? Фр!.. Фр!.. Фр!.. Точно наш покойный приятель Осанор, когда, бывало, умывался утром… — Может, и слон, их много в бирманских лесах. — Но я-то, я! Нечего сказать, хорош буду. — Что такое? — Да ведь у меня только ружье, заряженное дробью. — Зато у меня винтовка. Впрочем, оставим его в покое. Сегодня мы не готовы. Как-нибудь в другой раз. Клыки от нас не уйдут, еще успеем пополнить коллекцию. — А если он на нас нападет? — Послушай, Фрике, не говори глупостей… Виданное ли дело, чтобы слон напал на человека первым, если его не трогают! — Ох, да, что-то не то я говорю… Начитался когда-то страшных историй комнатных охотников и все не могу освободиться от детских фантазий. Андре ничего не ответил, только улыбнулся и, осторожно приподнявшись, пригляделся. — Это не слон, — сказал он шепотом, — носорог. — Гадкий зверь. Терпеть не могу. Один меня едва не растерзал в Африке, когда я отыскивал нашего жандарма. — Черт возьми! — проговорил Бреванн, одним ухом слушая, что говорил Фрике. — Я думал, он ближе, а он метрах в ста двадцати, не менее. — Неужели вы хотите стрелять отсюда? — Почему бы нет? Его можно смертельно ранить, а то и убить, так или иначе, но я заставлю его уйти отсюда. Соседство с ним мне не нравится. Только он да буйвол кидаются иногда в слепой ярости на предмет, который видят впервые. Он может наброситься на лодку, перевернуть ее. Надо попробовать. Эй, вы! Пригнитесь пониже и прижмитесь друг к другу. И ты, Фрике. У моей винтовки такая сильная отдача, что вас собьет с ног. Андре медленно поднял винтовку и стал целиться в заветное черное пятно около плеча. Условия были самые благоприятные — стрелку ничто не мешало, торопиться незачем, носорог стоял спокойно и ничего не замечал. Охотник уже хотел спустить курок, как вдруг раздался сдавленный, но громкий крик, словно кто-то провел громадной пилой по самому твердому дереву. Изумленный, даже испуганный носорог бросился было вон из воды, где был стеснен в движениях, но выскочить не успел. Вслед за криком, очевидно послужившим сигналом, из густых кустов позади этой махины выскочили два гибких, проворных зверя и разом обрушились на толстокожего. — Черные пантеры! — воскликнул Андре, спокойно опуская винтовку. — Черные пантеры? — повторил Фрике. — Это интересно. Я видел их только в зоологическом саду. Говорят, очень злые… Ай-ай! Плохо тебе приходится, толстяк.
Носорог испустил отчаянный крик — мощный, сипло-металлический. В нем слышались и боль, и бешенство, и испуг. Положение его было ужасно. Застигнутый врасплох молниеносным нападением свирепой супружеской четы, он лишатся какой бы то ни было способности защищаться. Самец сидел на его спине впереди, запустив когти всех четырех лап в кожу, и грыз зубами затылок, стараясь добраться до мозжечка. Самка оказалась слабее — сделав прыжок, передними лапами достала до крупа, но задние остались на земле. Она яростно теребила ляжки врага, царапала когтями и рвала зубами. — Месье Андре, — тихо проговорил молодой человек, — мне было бы жаль этого увальня, если бы я не знал, какой у него самого злобный нрав. Пантеры съедят его заживо! — Если только я им это позволю. Хотя я не особенно сочувствую носорогу, этих кошек положительно не терплю. Кроме того, мех черных пантер так красив и так редок, что их шкуры нам с тобой не помешают. — Вы хотите стрелять отсюда? — Конечно. С расстояния в сто двадцать метров обычный стрелок должен всадить пулю в дно шляпы, а голова этого самца шире. Выстрел из винтовки «Экспресс» потряс воздух и вызвал многократное эхо с разных сторон, оно походило на раскаты грома. Самец привскочил на спине носорога, изогнув туловище и вытянув вперед лапы, точно геральдический зверь, и тяжело упал на самку. Та, не обращая внимания на выстрел, который приняла, вероятно, за гром, испустила отчаянный рев, когда увидала своего товарища мертвым. Приписав его гибель носорогу, атаковала жертву с головы, пытаясь перегрызть горло, выцарапать глаза, и когда это не удалось, вцепилась в оттопыренную нижнюю губу. Андре вновь прицелился. — Вот это да! — пробормотал Фрике. Охотник выстрелил как раз тогда, когда пантера вцепилась носорогу в морду. Пуля попала ей между плеч и перебила хребет, но она не отцепилась от добычи, лишь глухо завыла. Терзаемый гигант, вне себя от ужасной боли, изо всех сил тряхнул головой. Но умирающая пантера не разжимала челюстей. В результате часть губы оторвалась, и красавица с размаху упала рядом с самцом. Избавившись от врагов, носорог стал вертеться кругом как безумный. Вода окрасилась кровью. Вдруг он перестал выть от боли и зарычал от ярости — заметил лодку с людьми и белый дымок. — Не хватает только, чтобы он на нас напал, — заметил парижанин. — Непременно нападет, — сказал Андре, аккуратно вставляя в винтовку два металлических патрона. — Да вот он уже и плывет на нас. Тем хуже для него. Я ему голову размозжу. Сидите, не шевелитесь. Пусть подплывет ближе. Бреванн встал на носу лодки и хладнокровно смотрел на зверя, который подплывал необыкновенно быстро. Выглядел он отвратительно — исцарапанная морда с откушенной губой, обнаженная челюсть. Глаза сверкали злобой. Он бешено ревел. Минута нерешительности, легкое головокружение, осечка или что-нибудь в этом роде — и лодка опрокинута, люди раздавлены. Носорог в десяти шагах. — Боже, какой он гадкий! — пробормотал неисправимый болтун Фрике. — Стой, красавец! Ни шагу дальше! Это послужило командой: «Пли!» Андре прицелился и выстрелил в третий раз. Он метил в череп, в ту кость, которой прикрыт мозг. Настоящий блиндаж. Но против пули «Экспресс» не устоять и этому блиндажу. Гибельный снаряд ударил по черепу. Носорог резко остановился, точно окаменев, выпучив глаза и разинув пасть. Не стонал, не хрипел. И вдруг, как пробитая лодка, пошел ко дну и замер там среди растущей на иле травы. По воде разошлись круги, всплыли и лопнули огромные воздушные пузыри — и все. — Ну, парижанин, что ты мне на это скажешь? — спросил Андре. — Скажу, месье Андре… Скажу, что это ужасно. Голова треснула и разлетелась, как тыква. Я сам видел мозг. Как жаль, что носорог исчез под водой! У него великолепный рог, голову можно было бы препарировать. — Зачем же его оставлять там гнить? Часть можно будет сохранить. Прикажем неграм привязать к его лапе канат и вытащить на берег. Впрочем, пусть лучше шлюпка сюда подплывет, надо взять на нее и пантер. К тому же я отказываюсь оставаться в лесу — устал и голоден, как собака. Вернемся завтракать.— Черные пантеры! — воскликнул Андре.
ГЛАВА VII
Яванская пантера, которая водится не только на Яве. — Об отсутствующих. — Два превосходных трофея. — Вперед! — Тековый лес. — На что идет тековое дерево. — Тек и императорская казна. — Птица-носорог. — Охотник усердный, но неопытный. — Неудача. — Убежище калао. — Новая попытка. — Важные предосторожности. — Ружье шестнадцатого калибра недостаточно хорошо. — Клюв и рог птицы-носорога. — Парижанин и его приемыш. Красавица черная пантера меньше обыкновенной, но гораздо злее, и у нее великолепный мех. С виду она скорее стройна и грациозна, чем сильна, но на самом деле это невероятно могучий и проворный зверь. Голова — как у громадной черной кошки, с короткими ушами и золотисто-желтыми глазами. Пасть всегда полуоткрыта, белые зубы кажутся ослепительнее от черного фона. Желтая шкура барсов, усеянная красивыми розовыми пятнами, у черной пантеры действительно черная с дымчатым отливом. На первый взгляд кажется, что она окрашена равномерно, но если приглядеться, окажется, что и на ней есть пятна, только не розовые, а черные. Эти пятна и узоры проступают не так ярко, потому что мало отличаются от общего фона. Фрике сдирал шкуру с самки, Андре — с самца, оба любовались красивым мехом. Парижанин спросил, почему черную пантеру называют яванской. Бреванн улыбнулся: — Вероятно, потому что кроме острова Ява она водится в Индокитае и в Бенгалии. — Странный ответ. — На тебя не угодишь. Другого я не знаю. Ученые мудро решили, что черная пантера живет только на Яве, и назвали ее яванской. Между тем она встречается и в других местах. Майор индийской армии Левисон нередко убивал черную пантеру на материке, наш соотечественник Томас Анкетиль встречал ее в Бирме… Есть много других примеров, взять хоть нас с тобой. — Так-то вот пишется история… естественная, — заметил Фрике. — Во всяком случае, пантера очень интересный зверь, где бы она ни жила, я бы дорого дал, чтобы посмотреть, какие лица будут у ваших парижских охотников, когда из ящика камфорного дерева мы достанем эти две шкуры, натертые мышьяковым мылом. — Я об этих изменниках и думать забыл. Пусть сидят себе дома. Займемся теперь носорогом. Кстати, каковы эти пантеры в длину? Кажется, больше, чем описывают в книгах. — У меня нет метра, но длина дула моего ружья — семьдесят пять сантиметров. Вот и можно измерить. Так. Самец от морды до хвоста — метр сорок пять, его супруга — метр тридцать. Недурно. Шлюпка, приведенная к месту боя, стояла под парами. Один из негров отважно нырнул в реку и привязал к лапе носорога веревку. Берег был невысокий, вытащить его оказалось нетрудно. Зверя положили на траву. Андре хотел снять и с него шкуру, но пантеры так обработали ее когтями и зубами, что местами она являла собой лишь бесформенные лоскутки. Заслуживала внимания только голова, хотя исцарапана оказалась изрядно. Замечательный рог семидесяти сантиметров в высоту при диаметре двадцать пять и, конечно, пробоина в черепе, оставленная пулей «Экспресс»! Бреванн не без труда отделил тесаком голову от туловища, велел перенести ее на шлюпку и сам принялся ее препарировать по всем правилам. Шлюпка двинулась вверх по течению.
Два дня спустя по берегам реки появился чудный тековый лес. Тековые леса невероятно красивы. Величественно поднимаются кверху, точно громадные столбы, прямые, стройные, сероватые стволы, поддерживающие свод из темно-зеленых бархатистых листьев с белыми точками на нижней стороне. Под деревьями в лесу — тьма, почва совершенно голая. Рядом с этими великанами растительного царства, не пропускающими ни воздуха, ни света, расти не может ни что. Если и попадется какое-нибудь другое дерево или растение, это всегда ровесник, случайно выдержавший борьбу за существование. Как правило, в тековых лесах одни теки. Тековое дерево не боится червей — оно им не по зубам, не гниет в воде — ни в соленой, ни в пресной, нечувствительно к переменам климата, словом, неизменно. Индусы и жители Индокитая строят из него дома и пагоды, и всюду оно идет на постройку кораблей. В Бирме все тековые леса считаются собственностью императора и приносят ему огромный доход. За их эксплуатацией следят специальные чиновники, но, разумеется, без злоупотреблений не обходится. И все же, несмотря на неправильную вырубку, хищническое истребление, тековые леса все еще огромны и густы, сохраняя первобытный, девственный характер, в них до сих пор в изобилии плодятся и множатся всевозможные дикие звери. Шлюпка стала на якорь на выбранном Андре месте. Фрике сейчас же разглядел на берегу следы буйволов и слонов. — Завтра, кажется, у нас будет случай отличиться, — сказал он, — а пока я сделаю маленькую рекогносцировку. — Как?.. В два часа пополудни, в самую жару? Ты с ума сошел. Ложись-ка лучше в гамак и отдыхай. — Не могу, месье Андре, у меня зуд в ногах. Я и сам не засну, и вам спать не дам. Чу! Это что за шум? Какая-то возня там, наверху, в листьях! Дежурный кочегар, когда выпускал пары, решил порадовать мальчика Ясу и дал сильный свисток. Вероятно, такого здесь еще не слышали. Спрятавшиеся от жары в листве птицы испугались, подняли крик и принялись летать. Молодой человек не обратил бы на это особенного внимания, если бы среди обычных птичьих криков не различил что-то похожее на мычание, сопровождаемое громким хлопаньем крыльев, щелканьем клюва и карканьем. С вершин деревьев, стоявших у реки, тяжело слетела примерно дюжина пернатых величиной с индюшку. Неуклюжие, с огромными, безобразными, ни на что не похожими клювами. Они отлетели на несколько сот метров и вновь уселись на деревьях. — Я знаю этих птиц. Видел на острове Борнео. Зовут их… Эх, память у меня дырявая… — Калао, ты хочешь сказать? — Да, именно так… калао. — Я тоже разглядел их. Они из породы так называемых «носорогов». Вот бы подстрелить хоть одну, это очень украсило бы нашу коллекцию. Эти слова были порохом, брошенным на уголья. Пятки у парижанина загорелись. Он моментально схватил ружье шестнадцатого калибра и бросился в ту сторону, куда полетели птицы. Прошло не более двух минут, прогремели выстрелы — один за другим. Опытный охотник сказал бы: «Плохо дело». Так и подумал Андре, сидя спокойно на складном стуле. Вскоре показался Фрике — расстроенный, весь в поту и безо всякой дичи. — Я бы мог сказать — не повезло, но я сам виноват. Я просто неловкий дурак. — Шальной, я бы сказал. — Почему, месье Андре? — Да, бросился со всех ног, как сумасшедший, не отдавая себе отчета в том, насколько высоки эти деревья, хватит ли дальнобойности ружья. Ну, какова, по-твоему, высота этих теков? — Ну… метров сорок. — Не угадал. Прибавь еще двадцать, и будет, пожалуй, так. — Неужели вправду шестьдесят? — Если не больше, но уж никак не меньше. Шестьдесят метров — это приличное расстояние для охотничьего ружья при горизонтальном прицеле, а когда приходится стрелять почти вертикально, то ружья шестнадцатого калибра тут не хватит, тем более что эти огромные птицы очень живучи. — Хорошо. Возьму винтовку «Экспресс» и пойду опять. — И что в результате? Птицу разнесет в клочья. Возьми лучше ружье восьмого калибра, как раз подойдет. — Так и сделаю — и побегу. — Да что с тобой? Я тебя таким еще не видел. Будто бес вселился. — Бес охоты, месье Андре! — Я очень рад за тебя, но нужно хорошенько все обдумать. Мы здесь не в Босе. Во-первых, потрудись доложить патронов в сумку, чтобы в ней был полный запас: двадцать патронов с дробью и десять с пулями. Во-вторых, изволь взять с собой кожаный мех с кофе и несколько сухарей. — Чтобы отойти на два километра? — Никогда нельзя знать заранее, насколько застрянешь в девственном лесу. — Я через час надеюсь быть дома. — Я тоже надеюсь, иначе я бы тебя не отпустил. Но ведь ты не ребенок, и к тому же ради пары калао стоит сделать прогулку. Ты увидишь странную птицу длиной метр двадцать от клюва до хвоста, с черно-сизыми перьями прелестного отлива на спине и крыльях и с белым брюхом. Хвост белый, прорезанный черной полосой. На голове хохолок из тонких перышек. Все это было бы, впрочем, вполне обыкновенно, если бы не величина птицы и, главное, не ее чудовищная голова. Вообрази себе, что к этой голове прицеплен клюв тридцати пяти сантиметров длиной и толщиной у основания десять, а у того вида калао, что называют «носорогом», на верхней части клюва нарост, загнутый спереди, как у четвероногого толстокожего собрата, порой он достигает восьми сантиметров. — Тяжеловесное, должно быть, сооружение! — Ничуть. Он не плотный, а ноздреватый, губчатый и только прикрыт роговой оболочкой, очень тонкой, хотя весьма прочной. Поэтому никак не отягощает птицу. Длинный клюв и короткие лапы не позволяют ей клевать пищу подобно мелким птахам или терзать, удерживая лапами. Калао заглатывает ее целиком: схватив концом клюва ягоду, зерно или плод, подбрасывает добычу, ловит с ловкостью жонглера и глотает. — Я видел, как туканы проделывали то же самое своими напоминающими банан клювами. — Совершенно верно. Туканы очень похожи на калао, только гораздо меньше. Однако ну ее к богу, теорию: первый же выстрел в один миг научит тебя больше и лучше, чем все мои рассказы. — Вы меня только еще больше раззадорили. Побегу. До скорого, месье Андре! — До свиданья, мой друг. Смотри, возвращайся не с пустыми руками. Фрике приготовил все, что советовал Бреванн, и устремился в тековый лес. Не успел сделать и десяти шагов, как услыхал позади топот маленьких ног. За ним бежал Яса. Первым движением парижанина было отослать ребенка обратно, но мальчуган с такой любовью на него смотрел, с такой мольбой протягивал к нему свои руки, повторяя «Фрике!», что молодой человек передумал. — Месье Андре, мальчик пойдет со мной! — крикнул он. — Очень хорошо, тогда скорее вернешься и не заберешься чересчур далеко. Через четверть часа Фрике дошел до места, куда, по его расчету, перелетели калао, испугавшись свистка. Они, по всей вероятности, сидели теперь на верхушках самых высоких деревьев. Юноша шел тихо, осторожно, надеясь застигнуть птиц врасплох и нанести удар своим чудовищным ружьем. Вдруг вновь послышалось щелканье клювов, хлопанье крыльев, карканье. Очевидно, птицы его обнаружили. Неприятель вторично отступил. — Что ж, я буду их преследовать, хотя бы они полетели к черту на рога! Я вспотел и весь мокрый, а мальчуган — как ни в чем не бывало. Скоро я высуну язык, а он будет еще совершенно свеж. Эти люди отлиты из бронзы. Впрочем, если он устанет, мы отдохнем, пока же надо идти вперед и вперед, чтобы не возвращаться с пустыми руками.Бреванн принялся ее препарировать по всем правилам.
ГЛАВА VIII
В погоню за калао. — Разочарование и ожесточение. — Наконец! — Первая жертва. — Как мало весит калао. — Поляна в лесу. — С глазу на глаз с царственным тигром. — Отступление. — Кровавый след. — Убит! — Изуродован. — Пристрелили. — В обратный путь. — После трех часов ходьбы. — Изумление. Андре сказал: «Никогда нельзя знать заранее, насколько застрянешь в девственном лесу». Скоро парижанину пришлось убедиться в справедливости этих слов и от души поблагодарить друга за прозорливый совет основательнее запастись в дорогу, пусть только самым необходимым. Калао летают тяжело и неуклюже, восполняя недостаток летательных способностей чрезвычайной бдительностью и осторожностью. Чем бы они ни были заняты — чисткой ли перьев, срыванием ли плодов с деревьев или просто громким карканьем, они все время настороже, все время приглядываются, прислушиваются и при малейшем шорохе поднимают тревогу. Приметив подозрительный предмет или живое существо, шумно вспархивают и перелетают, испуганно крича, на другое место, метров за двести. При этом тяжело опускаются на ветку и начинают уморительно качаться, опуская книзу то голову, то хвост, точно чаши весов, рискуя, что та или другая перетянет. Видя столь неуклюжий полет, столь неустойчивое равновесие, глядя на эти короткие перелеты, указывающие как будто на физическую слабость, неопытный охотник полагает, что он непременно настигнет калао, если будет неутомимо их преследовать и осторожно подкрадываться. Сами птицы поддерживают это заблуждение, коварно подпуская к себе, порой довольно близко. Полный надежды, охотник потихоньку следует за ними, прячется, пригибается, трепещет от страха и волнения, и вот уже готов вскинуть на плечо ружье, как вдруг стая вспархивает и улетает с нестройным криком. От этого можно сойти с ума. Фрике увлекся именно такой бесплодной погоней и незаметно для себя проходил часа полтора, тешась надеждой подстрелить хотя бы одну птицу. Не раз он приближался к стае на расстояние выстрела, но не стрелял, сбитый с толку прежним невезением, которое приписывал неудачному выбору оружия, забыв, что ружье, которое взял на этот раз, бьет вдвое дальше. Наконец усталый, измученный, расстроенный, он вдруг, когда птицы опять от него улетали, схватил ружье, прицелился и выстрелил в самую середину стаи. Бухнул оглушительный выстрел, прогремел и затих. С верхушки тека послышались отчаянные крики: — Краа!.. Краа!.. Краа!.. Одна из птиц, настигнутая полным зарядом дроби из патрона номер три, висела вниз головой, зацепившись лапой за ветку.
— Наконец-то! — вскричал обрадованный парижанин. — Однако ружье восьмого калибра бьет далеко. Ну, птица, спускайся скорее, дай на себя посмотреть… Так. Коллекцию ты собой украсишь, что и говорить. Калао перестала кричать, сорвалась с ветки, за которую судорожно цеплялась лапой и упала на землю. Яса резко вскрикнул и бросился поднимать добычу, чтобы подать ее Фрике, а тот, как ребенок, поставив ружье у ствола дерева, начал выделывать фантастические па, которым позавидовала бы сама тропическая Терпсихора. — Спасибо, мальчик, ты очень любезен. Но положи ее, ведь она ростом с тебя и, наверное, очень тяжелая. Ты настоящий силач, раз принес ее сюда, как воробья… Ба! Да она прелегонькая! Вот так штука! Настоящий фокус!.. Птица величиной с откормленного гуся весит не более трех фунтов, хотя должна бы весить не меньше двенадцати! Странно!.. Странно!.. Не стоит быть такой легковесной и летать так плохо. Впрочем, я от этого не в убытке: удобнее нести, раз она так легка. Если бы молодой человек лучше знал анатомию птиц, не назвал бы фокусом столь малый вес калао. У них есть так называемые воздушные мешки, или резервуары, в которые через легкие поступает воздух, и которые сообщаются с костями. У калао они особенно велики, потому птица такая легкая, несмотря на значительные размеры. Она буквально наполнена воздухом и, будучи величиной синдюшку, весит не более полутора килограммов. Фрике полюбовался глянцевым черно-синим опереньем спины, белыми перьями подбрюшья, подивился на громадный клюв с красным наростом и сказал: — Ничто так не ободряет охотника, как удача. Куда девалась моя усталость — я вполне бодр. А ты как, мальчуган? — спросил он, будто Яса мог его понять. Маленький человек взял калао за голову, перекинул птицу за спину, вцепился обеими руками в клюв и двинулся вперед, словно приглашая последовать за собой. Немой ответ был красноречивее иной длинной речи. — Превосходно! — воскликнул Фрике. — Ты у меня молодец. Надо подстрелить еще одного летучего носорога, чтобы и мне было что нести. Будучи человеком осторожным, он вновь зарядил ружье, спрятав в карман пустую латунную гильзу, которую можно наполнять вновь и вновь, используя сколь угодно много, и пошел за своим храбрым маленьким товарищем. Удивительно, но птицы исчезли. Мощный выстрел, свист крупной свинцовой дроби в ветвях дерева, гибель собрата — все это заставило калао улететь гораздо дальше, чем обычно. — Делать нечего, придется довольствоваться одной птицей, — разочарованно произнес парижанин. — В таком случае идем домой, а то мы незаметно для себя сделали изрядный крюк. Хорошо, что месье Андре посоветовал мне взять с собой козий мех с кофе и запас сухарей! Съедим, мальчуган, по сухарику, выпьем кофейку, отдохнем и, приободрившись, пустимся в обратный путь. Так, Яса? — Да, — доверчиво откликнулся ребенок. — Вот хорошенькая поляна с цветами и невысокими деревьями, не такими угрюмыми и мрачными, как теки. Может, на них есть плоды? Или они растут близ источника? Недурно было бы украсить сухарь каким-нибудь плодом и испить свежей водицы, чтобы поберечь кофе. В таком случае — вперед. Эти лесные поляны очень красивы, и сколько на них бывает зверья! С этими словами наш болтун, не перекидывая ружья за спину, а держа его в руке, в позе крадущегося охотника, пошел на поляну, до которой было не более двухсот метров. От тековых деревьев ее отделял почти пересохший ручей, последние теки стояли шагах в десяти от берега. По ту сторону ручья росли великолепные тенистые деревья с пышными кронами, благодаря которым почва сохраняла влагу. Среди них Фрике с удивлением различил стройные и прямые стволы кокосовых пальм. Он не ожидал их увидеть в таком месте. — Да мы здесь будем как сыр в масле! — сказал он, собираясь перейти ручей шириной метров шесть. — Что такое? Кто это теребит кусты?.. Э, да тут дело нешуточное. По ту сторону ручья раздвинулись нижние ветви кустов, покрытых цветами, и на откосе появился огромный тигр, очевидно отдыхавший в этом благоуханном убежище. То был настоящий королевский тигр, желтый с черными полосами, на коротких лапах, с широкой грудью, длинными усами, короткой мордой, с большими янтарными глазами, разделенными зрачком в виде буквы I. Он потягивался и зевал, когда появился парижанин, несколько смутившийся от неожиданности, несмотря на всю свою самоуверенность. Тигр смутился не меньше и стоял, не зная, как поступить. Молодой человек проворно прицелился, чувствуя, что по спине у него забегали мурашки. Увидев направленную на себя железную полосу, тигр припал к земле, так что почти коснулся ее грудью. «Собирается прыгнуть», — подумал Фрике. Не медля ни секунды, сделал два выстрела, один за другим. Бац-бац! Оба почти слились в один, но грохот не заглушил яростного крика, вылетевшего из пасти изуродованного зверя. Все его четыре лапы вытянулись, как пружины, и сквозь дым было видно, как он подпрыгнул выше головы и тяжело обрушился назад. Для парижанина было делом минуты схватить в охапку маленького Ясу, не выпускавшего из рук птицы, и отбежать прочь. «Спрятать мальчугана, а там видно будет», — думал Фрике. В несколько секунд он пробежал шагов тридцать и остановился, убедившись, что погони нет. Тогда вынул из ружья пустые гильзы, вновь зарядил его и с облегчением вздохнул. — Если кот еще жив, этим я уложу его наверняка. Вот так неожиданная встреча! И ружье-то было заряжено дробью. Правда, оно восьмого калибра и в каждом заряде двенадцать с половиной граммов пороха и семьдесят граммов свинцовой дроби номер три. Это очень серьезно. По-видимому, весь заряд угодил между глаз: порох, свинец и пыжи. Все въехало… Пойти взглянуть, что ли?Одна из птиц висела вниз головой, зацепившись лапой за ветку.

Он вернулся на прежнее место. Маленький бирманец шел за ним. Глаза его сверкали, как черные алмазы, птица болталась за спиной, ударяя по икрам. Молодой человек без труда нашел след тигра по пятнам крови, которые свидетельствовали о серьезной ране. Пройдя почти двести метров, увидел перед собой лежащего хищника. Тот пока не был мертв, его бок конвульсивно вздымался, но подняться он уже не мог и только бессильно перебирал лапами. Зверь издыхал. Агония, по-видимому, была мучительной, тигр терзал когтями то почву, то твердую тековую кору. Фрике не мог поверить глазам. — Королевский тигр, убитый дробью! Невероятно. Буду рассказывать охотникам — не поверят, назовут хвастуном. А между тем это правда. Ужасный зверь! Он задрал бы меня насмерть одним ударом лапы. Не меньше Людоеда. Однако мы с месье Андре действуем недурно. Здесь действительно страна тигров. Впрочем, довольно болтать, я становлюсь похож на деревенскую трактирщицу. Судороги прекратились, бока успокоились, тигр едва слышно хрипел. Охотник понимал, зверь убит, но все же решил выстрелить еще раз для пущей безопасности. Он прицелился ему в плечо и выпустил пулю «Экспресс». Протяжно вздохнув, тот содрогнулся всем телом и замер. Стрелять не стоило. Яса, молча глядевший во все глаза, пронзительно вскрикнул, когда тигр издох, и крепко схватил Фрике за руку, залившись слезами. Парижанин успокоил его словами и ласками и принялся рассматривать рану. Верхняя часть черепа оказалась раздроблена на мелкие крошки, глаза выбиты, носа не было, на морде не осталось шкуры, она представляла собой месиво из костей, кожи, шерсти и крови. Свинцовые дробины через пролом в черепе проникли в мозг, но кошачьи живучи, и изуродованный тигр нашел в себе силы проползти почти двести метров. Пора было подумать о возвращении. Великолепную шкуру пришлось бросить, вдвоем они не могли донести ее до шлюпки. К тому же надо было спешить, чтобы добраться до наступления темноты. Парижанин достал из кармана два сухаря — для себя и для мальчика, они принялись грызть их, не жалея зубов. Сухари оказались тверды и жестки, как кирпичи. Потом два друга отхлебнули кофе из козьего меха и собрались в обратный путь. Фрике торопливо сориентировался, вскинул на плечо заряженное ружье, убитую птицу привязал себе на спину ремнем от патронташа и пошел рядом с маленьким спутником, который от него не отставал.«Спрятать мальчугана, а там видно будет», — думал Фрике.
Теки тянулись без конца и почти без перерыва. Фрике начал уставать. — Не думал, что зайду так далеко, — рассуждал он сам с собой по своей всегдашней привычке. — Месье Андре, как всегда, был прав. Уж не сбился ли я с дороги? Эти деревья так похожи одно на другое. По солнцу идти нельзя, за лесом его не видно. Инстинкта, как у дикарей, у меня нет, потому что я парижанин и мой нос лишен первобытной чуткости. Ну, Фрике! Леса на Борнео прошел насквозь, а здесь запутался, как дурак, гоняясь за калао! У меня даже компаса с собой нет. Забыл захватить. Хорош! Хоть бы догадался делать тесаком зарубки на этих однообразных громадных кольях, именуемых тековыми деревьями — и того нет. Глупее, чем мальчик-с-пальчик. Молодой человек посмотрел на часы и удивился, когда оказалось, что они идут уже три часа. Тигра он убил в половине второго. Значит, скоро покажется шлюпка, если, конечно, он идет в правильном направлении. Он взглянул на мальчика, который бодро шагал своими маленькими ногами, не обнаруживая усталости, и ласково улыбнулся ему. А лес все тянулся и тянулся. Фрике насторожился. Вдруг он радостно вскрикнул: — Наконец-то!.. Мы скоро дома!.. Эти деревья я видел раньше, я узнаю их. Да. Я не ошибся. Мы тут уже были. Молодой человек был уверен в успехе. Но, пройдя еще шагов пятьдесят, замер как вкопанный… перед убитым тигром.
ГЛАВА IX
Без компаса трудно идти по прямой. — Как плутают в лесу, в океане, среди снежных равнин. — Лагерь на поляне. — Вырезка из тигра на обед. — Шкура тигра вместо перины. — Гастрономические предрассудки. — «Бооль». — После ночлега в лесу. — Бесполезные планы. — Сигналы без ответа. — Фрике высказывает предположение, что приключение затягивается, и совершенно прав. — Взаимное обучение. — Эхо. — Гора. Поставьте здорового умом и телом человека на плоскую поверхность, площадь, например, завяжите ему глаза и попросите, чтобы он пробежал пятьсот шагов по прямой. Пусть перед ним все будет гладко и ровно, пусть он знает, что на его пути нет ни одной преграды, ни малейшего препятствия, что он может смело двигаться вперед. Вот он пошел. Идет. Через тридцать шагов он уже сошел с прямой, через сто шагов отклонился от нее еще больше. И начинает описывать, слева направо, весьма заметную кривую. Он считает шаги. Пройдя пятьсот, останавливается, снимает повязку, ищет глазами поставленную цель. С изумлением убеждается, что стоит к ней спиной. Следуя от исходной точки, он описал почти правильный полукруг. Увеличьте, если можно, это расстояние. Пусть будет два, три, четыре километра. Возобновите опыт с кем угодно, и вы убедитесь, что человек с завязанными глазами идти по прямой не может, он будет блуждать по довольно ограниченному периметру и описывать, почти всегда слева направо, круги. Человек, заплутавший в тумане, бессознательно проделывает то же самое, кружит около одного и того же места. Какому охотнику не случалось блуждать по болоту, преследуя в туманный, сырой, ноябрьский день бекасов? Матросы без компаса, когда терпят крушение, тоже сбиваются с пути в туманную погоду, если не видно ни солнца, ни звезд. Что бы они ни делали, им приходится бороздить моря и океаны, описывая все те же фатальные круги, пока не подхватит течение или не появятся на небе звезды. Беглые сибирские каторжники, захваченные в степи метелью, тоже кружат, кружат и роковым образом возвращаются по собственным следам на прежнее место. Как хотите объясняйте этот странный феномен, но факт остается фактом: человек без компаса, не видя солнца и звезд, не может идти в заданном направлении будь то в лесу, в море, в заснеженной степи или песчаной пустыне, он начинает кружить слева направо и в конце концов запутается в собственных следах. Особенно коварен девственный лес. Горе охотнику или путешественнику, который углубится в дебри, не ознакомившись подробно с местностью, тщательно не сориентировавшись, не сделав по пути зарубок. Горе ему, если он забудет, что девственный лес для европейца, что день без солнца, ночь без звезд, море без компаса. Горе ему, если он забудет так или иначе обеспечить себе возвращение. За подобное упущение и расплачивался теперь наш парижанин. Он сам был виноват. Между тем стоило ему по пути сделать на деревьях несколько зарубок или срезать ветки, каждый раз с одной стороны (принято с правой), и они бы не заблудились. Фрике охотился в девственном лесу на Борнео, в Экваториальной Африке и все это прекрасно знал. Но на этот раз не думал заходить далеко, предполагал почти немедленно вернуться. Осознав положение, не стал делать бесполезной попытки отыскать собственные следы. Хладнокровно уселся недалеко от убитого тигра, подозвал мальчика и стал обдумывать, что делать дальше. — Так, — сказал он, — на одном месте топтаться не будем. Я поступил как новичок, что верно, то верно, но не стоит над этим ахать и охать. Пусть этой музыкой занимаются слюнтяи и глупцы. Да, калао заманили меня в лес, я милях в двух от месье Андре, поскольку погоня за птицами продолжалась полтора часа. Покружив, мы вернулись на прежнее место, стало быть, расстояние в две мили отделяет нас от шлюпки и сейчас. Задача — как можно скорее его преодолеть. Сегодня это невозможно. И думать нечего. Через час наступит ночь, до темноты мы едва успеем подготовить ночлег. Завтра утром — в дорогу чуть свет… А вдруг мы опять пойдем не туда? На всякий случай надо подумать о продовольствии. В нашей кладовой два сухаря. Есть чем поужинать. А завтракать чем? Съесть калао — досадно. Кусочком тигра разве? А что? Гм! Вырезка из тигра — как жаркое… Я едал и хуже. Огонь высечем — огниво и фитиль всегда со мной. Может, зажарить сейчас? Что долго раздумывать? Сытнее поужинаешь, крепче заснешь. За дело. Парижанин достал складной нож — с пилкой, штопором и лезвиями трех или четырех видов — и принялся потрошить тигра. Поскольку беречь шкуру не собирался, операцию завершил быстро — за каких-нибудь четверть часа. — Вот и перина готова, — сказал он, сворачивая шкуру. Отрезав порядочный кусок мяса, добавил: — А вот и жаркое. Скорее на поляну. До темноты только три четверти часа.
Вместе с Ясой они набрали дров, устроили подставку для вертела, сложили костер, опытной рукой молодой человек быстро разжег его, сбегал к ручью, разбавил кофе водой, чтобы стало побольше, срезал для вертела душистую палку коричного дерева, подождал, пока костер перестанет дымить, и начал жарить мясо. Многие гастрономы утверждают, будто мясо хищников не может идти ни в какое сравнение с мясом травоядных. Это не так. Французские солдаты в Алжире нередко с успехом прибавляли к казенному пайку мясо убитых пантер. Кто пробовал, говорят, что очень вкусно, пальчики оближешь. Львиное мясо тоже оказалось вполне пригодным для желудков французов. Правда, у них была хорошая приправа — молодость, скудость казенного пайка, большие переходы с ранцем за спиной. Чего не съешь в такой ситуации? Что касается пишущего эти строки, он дважды пытался отведать мяса леопарда и не мог проглотить: жесткое, тягучее, как резина, мочалистое, с самым неприятным запахом. А ведь у него нет и никогда не было никаких предрассудков по части питания. Итак, мясо кошачьих есть можно. Фрике насладился тигрятиной с аппетитом двадцатидвухлетнего юноши, позавтракавшего сухарем, после трехчасовой прогулки по тековому лесу. Он ел, не обращая внимания, что одни куски были с кровью, а другие — обугленные, не вспоминая о соли. В маленьком бирманце он нашел хорошего товарища, который от него не отставал и уплетал за обе щеки. Пока жарилось мясо, молодой человек заготовил дрова. Поужинав, разложил костер, который мог долго гореть без присмотра, чтобы не подпитывать его. Затем расстелил на земле окровавленную шкуру тигра, собрав у изголовья кучку земли — подушку, зарядил ружье, пристроил его под рукой, воткнул в землю тесак, завел часы, уложил мальчика на пушистый атласный мех, лег рядом с ним. Как все нервные люди, парижанин долго не мог заснуть. Он не сомкнул глаз до полуночи, прислушиваясь к нестройному концерту лесных обитателей: выл шакал, лаял олень, ревел тигр, рычала черная пантера, мычал лось и ухали ночные птицы. Заснул он только в первом часу, различив напоследок в этом хоре, кажется, крик слона, бирманцами передаваемый как «бооль». Животных, по-видимому, было несколько, поскольку бооль слышался неоднократно и с разных сторон. Отчасти этот крик похож на звук выстрела из крупнокалиберного ружья в лесу. Ночь прошла без приключений, и, хотя костер потух, звери держались на почтительном отдалении, отгоняемые запахом тигровой шкуры, служившей ложем двум приятелям. Фрике проснулся до рассвета, с поляны ему был виден восток. Когда на горизонте появилось солнце, он быстро сориентировался. Река Ян, где стояла шлюпка, течет с севера на юг, значит, надо было двигаться с востока на запад. Но это не означало, что они беспрепятственно доберутся до Бреванна. Вновь предстояло идти тековым лесом, через листву которого лучи солнца не проникали. — Попробую придерживаться прямой, — сказал Фрике. — Это почти бессмысленно, потому что все равно вскоре начну сворачивать вправо. Километра не успею пройти, как собьюсь с пути. Поэтому буду забирать влево. Попытаюсь. Вдруг по дороге встретится ручей, впадающий в нашу реку. План был хорош. В самом деле, попались такой ручей, и путники спасены. Им останется только идти по течению, разводя по ночам костры и делая выстрелы, которые по воде разносятся слышнее и громче, чем по лесу. Разумеется, шлюпка поспешит на помощь. Но ходить берегами тропических рек — дело непростое, влажная почва густо покрыта разнообразной растительностью. Однако Фрике был не из тех, кто боится трудностей. Убедившись, что мальчик ничуть не устал, он покинул поляну и стал углубляться в лес. Шел неторопливо, понимая, что надо беречь свои силы и не переутомлять ребенка. Минуло полтора часа. Полагая, что пройдено расстояние, которое они пробежали накануне, когда гнались за калао, молодой человек остановился. К несчастью, он не знал, верного ли направления придерживается. Могло статься, что они шли не к шлюпке, а от нее. — Впрочем, скоро мы это узнаем. Месье Андре наверняка нас ищет. Ходит, наверное, по лесу, дав наставления оставшимся на шлюпке. Звук наших выстрелов знаком им всем. Выстрелю два раза из ружья. Может быть, мне ответят. Он выстрелил несколько раз так, чтобы можно было догадаться — это сигнал. Подождал. В ответ — ничего. Даже эхо не прокатилось, плотный лиственный свод приглушил звук. — Дело дрянь, — сказал парижанин. — Мы сбились с дороги. Куда теперь идти? Если бы хоть на минуту увидеть солнце, можно было бы определить направление. Хоть бы маленькая полянка встретилась! Назад, что ли? Или налево повернуть? Или направо? Остается одно — идти вперед наудачу, вдруг встретится ручей. В дождливое время года это не редкость, но теперь почти все пересохли и не текут, так что и по ним трудно ориентироваться. Все, как на грех, прескверно. Что ж, пойду вперед наугад! Была не была! Куда-нибудь выберусь. Во время этих размышлений Фрике пытался беседовать с Ясой. Разговор получался довольно скудный ввиду взаимного непонимания. Но мальчик упорно интересовался французскими названиями всевозможных предметов и запоминал их. Молодой человек, в свою очередь, спрашивал у Ясы бирманские, но, надо признаться, запоминал их не в пример хуже. Много было смеха из-за взаимного коверкания слов. Так, за учением, прошло еще полтора часа. — Итак, мы идем уже три часа, — сказал парижанин, посмотрев на часы. — Этому проклятому лесу конца не будет. Ни полянки, ни ручейка, ни горушки, только мох под ногами и бесконечная колоннада, поддерживающая зеленый свод, непроницаемый для солнечных лучей. Если нам и сегодня повезло, как вчера, мы удалились от исходного пункта верст на двадцать. Такое бывало. Повторим наш сигнал, хотя боюсь, только даром патроны истратим. Опять раздался парный выстрел — и опять ничего не ответил безмолвный лес. Только на этот раз их сопровождало многократное и очень шумное эхо. — Эхо! — проговорил Фрике. — Значит, характер местности меняется. Поблизости есть гора, ручей или река. Вперед!.. Так! Начался подъем, и довольно крутой. Поднимемся и мы. Горы — это хорошо. С высокого места будет виднее, в этом наше спасение. На земле виднелись крупные следы. Валялись сломанные молодые деревья. На многих старых стволах кора оказалась содрана. Молодой человек продолжал: — Здесь только что прошло большое стадо слонов. Следы совсем свежие. Жать, что нельзя на них поохотиться, парочка клыков была бы очередным недурным украшением нашей коллекции.— А вот и жаркое.
ГЛАВА X
Болезнь Белого слона бирманского императора. — Лечение не дало результата. — Предвестие великих бед. — Слон — белый? — Альбинос или больной? — Белый или серый? — Почему обожествляют слона? — Буддизм. — Переселение душ. — Как трудно найти преемника. — Торг с уполномоченным. — Новая информация, новая экспедиция. — Взаймы у Схен-Мхенга. — Поиски Белого слона. Здоровье Белого слона бирманского императора уже год внушало тревогу окружающим. Мрачный, печальный, раздражительный, он почти ничего не ел, и, видимо, его ждала неминуемая смерть от изнурения. Между тем был трижды священным животным и в продолжение восьмидесяти лет олицетворял три вида власти: религиозную, военную и гражданскую. Окружающие всячески старались развеселить его степенство, но усилия оказывались напрасны. К территории, которой он владел на правах принца крови, добавили другую, огромную, с неисчерпаемыми богатствами. Слон сделался самым богатым вельможей в государстве. Его воон, или министр, будучи изобличен в злоупотреблениях по административной и денежной части, предстал на высший суд его степенства. Схен-Мхенг, или Государь-Слон, презрительно обнюхал его концом хобота, бросил на землю и наступил ему на голову. Она разлетелась, как яйцо всмятку. Проделал он это с рассеянно-скотским видом. Слон ничего не понимал в смене министров, подобные тонкости ему недоступны. Прежде у него был только один драйвинг-хоук — золотой, с драгоценными камнями, украшенной рубинами и сапфирами хрустальной ручкой. Теперь щедрый император поднес ему еще один, побогаче. Драйвинг-хоук — это кинжал, которым пользуются вместо кнута слоновожатые, когда правят слонами. Обновили пурпурную тиару, сверкающую рубинами и алмазами дивной красоты. Сам император своими августейшими руками прикрепил к ней алмазную эгретку. Каждый день слону надевали парадный костюм. На голову, как у императора и знатных вельмож, прикрепляли дощечку с указанными титулами, между глазами сверкал полумесяц из драгоценных камней, в ушах болтались крупные золотые серьги. Исхудавшее тело покрывал роскошный пурпурный чепрак, вышитый золотом и шелками, сверкавший жемчугом и каменьями. Любимые вожатые держали над ним четыре золотых зонтика, и, чтобы он мог всегда любоваться собственным великолепием, за яслями установили большое зеркало, выписанное из Парижа. Обошлось оно недешево.
Золотые ясли всегда были наполнены свежей сладкой травой, вкусными почками, сочными плодами, которые император, по безумной восточной расточительности, приказывал пересыпать драгоценными камнями. Ничто не помогало. Немощное тело Схен-Мхенга колыхалось на толстых ногах. Хобот бессильно висел между клыками, неприятный, подчас жестокий взгляд оставался тусклым и неподвижным в красноватой, как у альбиноса, орбите. Слон был ко всему равнодушен. Лишь изредка притрагивался к лакомствам, которыми его наперебой угощали слуги, сторожа, чиновники и даже сам император. Все предвещало скорую развязку. Каждый понимал, что Схен-Мхенг умирает. Смерть Белого слона, если у него нет преемника, считается в Бирме предвестием великих бед. На императора и его семью обрушатся несчастья. Империя подвергнется разным напастям: моровому поветрию, землетрясению, наводнению, голоду. Поэтому всюду разослали указы, чтобы подданные следили, не появится ли где белый слон, могущий сменить Схен-Мхенга. Обещана была и щедрая награда.Каждый день слону надевали парадный костюм.
Но что такое «белый слон»? Действительно существует и можно ли его назвать безусловно белым? Одни говорят — да. Другие соглашаются с оговорками. Grammatici certant. Достопочтенный отец Сан-Джермано в своем «Описании Бирманской империи» рассказывает о белом слоне, обнаруженном в 1806 году к величайшей радости императора, слон которого незадолго до того пал. Сан-Джермано утверждает, что он был именно белым. Говорят, именно из-за него и волновалась теперь Бирма. Английский инженер Юль видел белого слона в 1850 году. Он показался ему нездоровым. Белизна животного «напоминала белые пятна, которые нередко встречаются на ушах и на хоботе обыкновенных слонов». Но, в общем, по мнению Юля, его можно было назвать белым. Определенно и ясно. С другой стороны, француз Анкетиль, историк Бирмы, в этой белизне, не такой уж и чистой, видит результат кожной болезни. Если следовать его рассуждениям, белый слон — не альбинос, а чесоточный или даже прокаженный. И цвет-то вовсе не белый, а грязно-серый. На коже много трещин, пятен, бугров. На хоботе, на сочленениях — пустулы, из прыщей вытекает серозная жидкость. Характером такой слон ничуть не похож на обыкновенных собратьев — добродушных, терпеливых, покорных. Он вял и в то же время болезненно-раздражителен. Ростом велик, голова огромная. Походка нетвердая. Взгляд пугливый. Глаза тусклые и всегда красные. Приближаться к нему надо с опаской. Своих вожатых, сторожей он убивает и калечит десятками. Не может быть, чтобы он понимал исключительность своего положения и потому зазнавался. «По-моему, он просто больной», — говорит Анкетиль. Возможно, французский писатель прав, тем более что и капитан Юль нашел белого слона в болезненном состоянии. Но кем бы ни был Белый слон, альбиносом, белым, серым, худосочным, золотушным, тем не менее в Сиаме и Бирме он священное животное, божество. Как возникло почитание нездорового толстокожего буддистами Сиама и Бирмы? Кажется, так. Буддистов на земном шаре около трехсот пятидесяти миллионов, не меньше. Буддизм — господствующая религия на больших малайских островах — Яве, Суматре, Борнео, в Тибете, Монголии, Пегу, Лаосе, Непале, Бутане, Ассаме, на Цейлоне, в Индии, в Манипури, Бирме, Сиаме, на полуострове Малакка, в Камбодже, Кохинхине, Китае. Буддизм берет начало в религии браминов, это, так сказать, реформированный, видоизмененный браманизм, состоящий из множества сект, весьма терпимо относящихся друг к другу. Все они признают Верховного Будду, вечносущего, олицетворяющего безусловный Разум и непрестанно ведущего человечество к совершенству. С этой целью он время от времени воплощается в мудрецов, являющихся к людям учить их добру. Эти пророки, апостолы, провозвестники — часть божества. Будды. Божественный элемент должен через них проявить себя в течение определенного времени, продолжительность которого по-разному определяется сектами — от нескольких тысяч до миллиона лет. По истечении этого времени Будда дарует эру счастья, нравственного совершенства, вечного покоя, одним словом — начнется для людей нибам, или созерцательное Ничто, безусловно освобожденное от всяких материальных потребностей. Но воплощения Будды совершаются не сразу, а лишь после цепи переходов из одного существования в другое. Другими словами. Будда воплощается в человека лишь после того, как перебывает в целом ряде низших животных. А потому буддийские духовные лица — ламы и бонзы, или талапойны, обязаны питаться исключительно растительной пищей, из уважения ко всякому живому существу. Принцип жизни распространяется последовательно с человека на всех животных, на млекопитающих, на гадов, рыб, насекомых, даже моллюсков и обратно. Самое сильное и умное животное — слон. И вот буддисты решили, что в слонах воплощаются самые видные пророки. Что касается редчайшего Белого слона, в нем, конечно, достойнейший из избранных, заканчивая этим цикл своих превращений. Таким образом. Белый слон, заключая в себе душу одного из Будд, одной из частиц Верховного Будды, становится сам чем-то вроде Будды. Понятна теперь та тревога, которая овладела императором, двором и всей Бирманской империей. Король сиамский гораздо счастливее своего соседа — у него всегда есть штук шесть белых слонов про запас, и сиамцам не грозит катастрофа, готовившаяся вот-вот разразиться в Бирме. В этой стране исключено междуцарствие, если только не какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Император бирманский, когда его слон захворал, отправил к своему сиамскому брату посольство с просьбой уступить одного из белых слонов, причем ассигновал на это предприятие огромную сумму денег. Тот наотрез отказался. Посол не смутился и написал своему государю, что дело устроено, он везет Схен-Мхенга. И с абсолютной бессовестностью, присущей всем азиатским чиновникам, отправился в увеселительную поездку по английской Индии, почти полгода жил там роскошно, как набоб. Истратив последнюю рупию, вернулся в Мандалай в трауре, являя собой воплощенное отчаяние. — Где мой слон? — вскричал пораженный монарх, не обнаружив обещанного Будды. — Прикажи отрубить мне голову! — жалостно сказал министр, ударив лбом о ступеньку трона. — На что мне твоя голова! Мне нужен слон. — Увы! Коварные англичане, из страха и мести, отравили Государя-Слона. Их власть над Индией должна была прекратиться, едва Схен-Мхенг ступил бы на твою землю. — Проклятые англичане! — воскликнул император. — Проклятые англичане! — завопил двор, в том числе и вернувшийся посол, никак не рассчитывавший отделаться так дешево.

Слон же продолжал хворать, приводя в отчаяние монарха, который не мог отыскать себе нового Будду. Проходимцы всех мастей принялись спекулировать на монаршей доверчивости, эксплуатировать предрассудок и порядком растрясли императорскую казну. Из нескольких отдаленных мест пришли сведения о белых слонах, встреченных будто бы в тековых лесах, недоступных для человека. Император снарядил несколько экспедиций, которые дорого ему обошлись, их возглавили все те же подозрительные личности, но они не дали никакого результата, только рупии перебрались из казначейства в карманы мошенников. Император впал в отчаяние. Опасались теперь и за его здоровье. Тут обнаружился бедный пунги, или монах, явившийся к монарху и доложивший, что ему известно местопребывание подлинного белого слона, и он берется проводить туда тех, кому поручат его поймать. Раз монах, значит, ему можно верить. У императора появилась надежда. Решено было снарядить новую экспедицию. Но покупка слона у сиамского короля и выдача авансов обманщикам существенно истощили казну. Выручил тот монах. Он придумал гениальную вещь — возложить бремя расходов на поиски будущего Схен-Мхенга на нынешнего. Решили так и сделать. К слону явилась торжественная депутация с грамотой от императора, написанной на пальмовом листе. Монарх настоятельно просил Белого слона не гневаться, что часть его доходов употребят на поиск для него преемника, и удостоверял, что расходы возместят в ближайшее время. Разумеется, Государь-Слон не возражал; немедленно начали готовить экспедицию. Пунги говорил, что Белый слон живет близ реки Киендвена и его в тех местах видят довольно часто. Монах был абсолютно уверен, что его удастся поймать, и брался навести охотников на верный след. Выстроили огромный плот с дощатым полом и навесом из желтого шелка на столбах, украшенных богатой резьбой. Он предназначался для будущего Будды, лодки должны были тянуть его сначала по Иравади, потом по ее притоку Киендвену до места, где, по словам бонзы, обитал искомый экземпляр. Шесть других, гораздо менее комфортабельных плотов, предназначались для дюжины обыкновенных животных, с которыми предполагалось ловить их белого собрата. Эти плоты также планировали тащить парусными или гребными лодками. К слонам приставили вожатых, которые только и умеют управлять ими. На буксирные суда погрузились многочисленные загонщики, дрессированные лошади, опытные наездники, не следовало забывать и о провизии для людей и животных, чтобы не тратить время не его заготовку. Водный путь был короче и не так утомителен, участники экспедиции могли прибыть на место бодрыми и свежими. Лишь гребцам пришлось бы не сладко в случае штиля или встречного ветра. Не исключено, что некоторым из них предстояло умереть, но об этом никто и горевать бы не стал. Благополучие и безопасность империи и императора требовали жертв. Это в порядке вещей. Когда флотилия отплывала, ветер был довольно слабый, но гребцы усердно, не жалея себя, налегли на весла, и лодки, скользя по воде, быстро скрылись вдали под неистовые крики собравшегося народа. Гребцы работали изо всех сил. Благодаря ветру и течению в один день флотилия прошла все сто километров, отделяющих Мандалай от места слияния Иравади с Киендвеном. По Киендвену плавание предстояло трудное, навстречу течению, зато расстояние короче — всего километров пятьдесят. Но течение было таким сильным, что от гребцов требовались нечеловеческие усилия. Ни один из них не дал слабины. Все оказались молодцами, и пунги с полным основанием пообещали им в награду все блага загробной жизни, когда экспедиция остановилась у селения Амджен под двадцать второй северной параллелью. Немедленно высадились на берег, чтобы продолжить путь по лесу.— Прикажи отрубить мне голову!
ГЛАВА XI
Ловля слонов. — Поиск следов. — Злобное отношение ручных слонов к диким. — Загоны, обнесенные забором. — Самки-приманщицы. — Предательство. — Экспедиция в действии. — Министр. — Разведчики. — Гоуда. — Опасность солнечного удара. — Иссушающая жара. — Первые следы. — Слоновье пастбище. — Будда велик! — Белый слон. — Неуместное любопытство начальника экспедиции. — Неосторожность. — Тревога. — Выстрел. — Смерть Белого слона. Бирманцы ловят слонов, пользуясь теми же приемами, что индусы. Приемы эти столь рациональны, что практичные англичане усвоили их для поимки вьючных слонов на нужды своей армии. В Бирме каждый дикий слон — собственность императора, который один имеет право распорядиться им, после того как животное поймают, конечно. В связи с этим в стране есть особые округа или участки, куда назначают специальных чиновников со штатом служащих, которых содержат на средства казны. Эти люди пользуются почетом и завидными привилегиями, поскольку их обязанности действительно весьма не простые — не только ловля слонов, но их укрощение, дрессировка, разведение. Так что крупное вознаграждение лучшим разведчикам и дрессировщикам, равно как и лицам, выказавшим особую ловкость и неустрашимость, вполне оправданно. Собственно говоря, есть два способа ловли слонов. Первый заключается в преследовании диких особей прирученными. Это очень опасно, и нередки весьма драматичные происшествия.
Разведчики выследили стадо слонов. Охотники, верхом на ручных животных, окружают его и начинают атаку на самого сильного и красивого. Преследуют его без пощады, стараясь набросить на шею мертвой петлей аркан, привязанный другим концом к сбруе верхового слона. Если это удалось, вожатый трубит, призывая на помощь товарищей. Дикого слона окружают, пытаются остановить, даже повалить в случае необходимости. Когда дело сделано, надзор за пленником поручают ручным животным, которые обнаруживают какую-то странную злобу по отношению к диким родичам. В отчаянной схватке дикий слон не жалеет своих окультуренных родственников и наносит им тяжкие удары. Достается и слоновожатым. Случается, что, обезумев от полученных ран, дикий слон бросается бежать напрямик, не обращая внимания на преграды, наталкиваясь на деревья, и в результате сваливается в овраг, увлекая за собой преследователей. Все погибают. Во время такой охоты строго запрещается стрелять в слона, за исключением случаев, когда он может уйти или безусловно угрожает жизни кого-нибудь из охотников. Гауду, или беседку в виде большого ящика, прикрепленного ремнями на спину слона, некоторые охотники заменяют открытым седлом, если местность неровная, холмистая или в джунглях. Но это опасно, поскольку слоны входят в азарт и забывают о людях. Тряска такая, что можно вылететь из седла и разбиться насмерть. Второй способ — возведение загонов — годен только весной, во время течки. Для этого существует многочисленная армия служащих и прекрасно выдрессированные самки для приманки. В Бирме и в Индии такой способ называется кеддой. Собственно это слово и означает «загон» или «загородка». На месте, где растет особенно любимая слонами трава, устраивают круглый загон из толстых бревен и неотесанных древесных стволов. Бревна должны быть очень крепкие, потому что слоны сильны. Два забора ставятся на расстоянии четыре метра один от другого. Между бревнами должно быть такое расстояние, чтобы слон не мог просунуть голову. Когда загонщики и разведчики выследят стадо, выпускаются самки для приманки, отлично понимающие, что от них требуется. Они заходят иногда очень далеко, отыскивая самцов. Совершая эту коварную операцию, самки обнаруживают изумительную ловкость. Подзывают дикого слона нежным криком, приближаются к нему с отлично разыгранной робостью, ласкают хоботом и незаметно приманивают к загону. Дверь опускается. Слон попался. Удивительно только, что за удовольствие находят коварные слонихи-предательницы в такой службе? Ведь сами они какой-нибудь год назад разгуливали на свободе. Откуда вдруг такое полное, рабское подчинение человеку? Но это еще не все. Заманив слона за забор, самка порой ухитряется так его запутать, что он не в силах защищаться. Тогда охотникам и делать нечего. Впрочем, бывает, что приманенный слон, увидав необыкновенные приспособления, вдруг проявляет недоверчивость настоящего дикаря и упирается, не входит в загон, несмотря на заигрывание обольстительницы. Тогда она пронзительным криком выражает неудовольствие. Этот крик заменяет сигнал. Сбегаются ручные самцы, набрасываются на изумленного дикаря и волей-неволей заставляют его зайти в коридор. Если он упрямится, они его забивают почти насмерть, но все-таки проталкивают в загон. Тогда через промежутки между столбами в загон вбегают люди, натягивают веревки, о которые пленник спотыкается, опутывают его ими, словом, вполне им овладевают. Через полгода дикое, озлобленное животное становится образцом кротости и смышлености. Он все понимает, и управлять им может ребенок.Есть два способа ловли слонов. Первый заключается в преследовании диких особей прирученными.
Отряд охотников, высланный императором по совету монаха, намеревался действовать первым способом. Командир отряда на правах министра был наделен неограниченными полномочиями. Поскольку начальник округа своевременно не уведомил монарха о пребывании на подчиненной ему территории белого слона, приказано было немедленно его сместить и выслать в Мандалай для привлечения к ответственности за столь важное упущение. Чиновнику грозило обвинение в государственной измене, пытка и мучительная казнь — никто и мысли не допускал, что тот просто не знал о присутствии священного животного на подведомственном ему участке. Впрочем, незнание было тем более преступно при существующих обстоятельствах. Лодки и плоты привязали к берегу, усталые от непрестанной в течение двух дней работы гребцы получили заслуженный отдых, охотники направились в лес. Впереди — конные разведчики, отборный отряд, состоящий при императоре для укрощения слонов или на случай, если ему самому вздумается поохотиться. Они получили подробные топографические указания и должны были рассыпаться в разные стороны веером, найти следы и немедленно скакать к главному отряду, едва обнаружат что-нибудь заслуживающее внимания. В отряде было двенадцать слонов, на двух возвышались гауды, на остальных десяти — обычные седла. На каждом слоне ехали двое — вожатый на шее и охотник в седле. В гаудах восседали министр и подчиненный ему чиновник. Гауда, как мы уже говорили, представляет собой ящик, крепко привязанный ремнями к спине слона. В ящике две скамейки, одна напротив другой, так что можно сидеть, не мешая друг другу. Сзади — сиденье вроде кучерского седла для слуги, держащего зонтик даже тогда, когда нет ни дождя, ни солнца, — только для этикета — и веер, чтобы отгонять мух, это никогда не помешает. К углам ящика привинчены железные кольца, в которые вставляют столбики кисейной палатки, если жарко, если дождь — натягивается более плотная материя. Палатка напоминает балдахин гондолы. Императорская гауда имеет форму трона. Верхнюю часть закругляют куполом и насаживают на нее хти — священную императорскую эмблему из позолоченного железа, какую можно видеть на маковках всех пагод.
До леса пришлось долго двигаться по выжженной солнцем равнине. Слоны страдали от зноя, и вожатые боялись, как бы не случился у них солнечный удар, хотя их головы и были выкрашены белой масляной краской. Но вот стали появляться отдельные деревья, потом рощи, вскоре начался большой лес. Наступил вечер. Сделали привал на опушке. Разведчики свежих следов пока не нашли, только старые, оставленные недели три-четыре назад. Монаха это ничуть не удивило. Он объяснил, что трава на равнине выгорела на солнце, стала жесткой, невкусной, и слоны перебрались на другое пастбище. На следующий день к вечеру охотники, наверное, на них набредут. Наутро боох, заведующий технической частью охоты, разослал загонщиков, как и накануне, веером. Монах улыбнулся, не стал ему мешать, только заметил, что это бесполезно, потому что он ведет охотников правильным путем и приведет, куда нужно. До полудня ничего интересного не произошло. Министр стал косо поглядывать на пунги, тот был невозмутим. — Ты уверен, что не ошибся? — Я сказал, ты увидишь слонов еще до вечера — и мы увидим их. Почему ты нетерпелив, точно белый или женщина? Умей ждать. Прошло еще три часа. Монах за это время не произнес ни слова. Возглавлявший процессию слон вступил на тропинку, хорошо утрамбованную разными животными. Она вела на обширный, круглый луг, лежавший точно озеро среди леса, деревья которого становились все выше. Почва была теперь болотистой. Среди густых кустов и водных растений журчали струйки свежей, прозрачной воды. — Сюда слоны приходят на водопой, — спокойным голосом проговорил монах и прибавил, указывая на луг: — А здесь их пастбище. — Хорошо, коли так! — отвечал министр. — Послушай и убедись. Раздался топот лошадиных копыт. Появился загонщик на взмыленном коне. — Господин!..Слоны!.. — кричал он, запыхавшись. — А белого среди них нет? — Схен-Мхенг среди них. Будда велик! Со всех сторон появились другие разведчики, подтвердившие слова первого. Все ожили, приободрились, у всех откуда-то появились силы. Забыта усталость, забыта тревога. Люди наперебой поздравляли друг друга. Каждый представлял себе обрадованного императора, щедро раздающего награды направо и налево. Слонов было немного. Не более десятка. Вожаком — Схен-Мхенг. Они мирно паслись на другой стороне луга, так что ручных слонов можно было расставить по опушке за деревьями. Так и сделали. Окружили слонами луговину, по кругу поставили и всадников. Дикие животные хорошо просматривались сквозь деревья. Успех казался неизбежным. Министр, замирая в трепетной надежде, вздумал поближе взглянуть на предмет их поисков. Он сошел с гауды и тихо прокрался сквозь чащу, подобравшись к стаду метров на двести. Это было крайне неосторожно. В стороне от стада, шагах в пятидесяти, то есть не далее чем в ста пятидесяти от опушки, стоял настороже сам вожак — гигантский белый слон. Сомнений не оставалось. Его видел монах. Собственно говоря, он был не белый, скорее бледный, беловатый. Увидав это живое воплощение Будды, министр не удержался и вскрикнул от радости. Сейчас же вслед за этим возгласом послышался гнусавый трубный звук, напоминавший тромбон. Вожак давал стаду сигнал спасаться бегством. Мастодонты вздрогнули, насторожились, подняли хоботы, завертели короткими хвостами — и бросились в лес. Проклиная себя за неуместное любопытство, министр хотел приказать пуститься в погоню, как вдруг по лесу прогремел чудовищно громкий выстрел. Белый слон остановился как окаменелый, испустил ужасный крик, зловеще слившийся с отголоском выстрела, и тяжело рухнул на землю.
ГЛАВА XII
Ходьба по лесу утомляет. — Если нельзя идти, лучше бежать. — На холмах. — Под гору. — Поляна. — Солнце. — Фрике убеждается, что шел не к шлюпке, а от нее. — Кобра-капелла, или очковая змея. — Пора! — Воды!.. — Муки Тантала. — Еще минута ожидания. — На смену жажде пришел голод. — Четыре тысячи килограммов мяса на двоих. Фрике сказал: «Горы — это хорошо. С высокого места будет виднее, в этом наше спасение». То, что парижанин громко назвал «горами», оказалось всего лишь лесистыми холмами, высотой не более четырехсот метров. Он решил подняться на них. Как человек опытный, пошел не прямо вверх, взбирался, словно по серпантину. Мальчику это показалось чересчур медленным, против такой скучной, тихой ходьбы он протестовал прыжками и скачками, постоянно убегая вперед и возвращаясь обратно. Фрике удерживал его, пытаясь убедить, что по горам в такую жару нельзя ходить быстро, и если Яса не уймется, то скоро вспотеет и выбьется из сил. Действительно, уже через четверть часа мальчик прибежал весь мокрый, точно из бани, и жалобно попросил пить. Он чувствовал себя совершенно разбитым. — Что, уморился? Я ведь говорил… На, выпей кофе. И давай посидим минут пять, отдохнем. Они сели на корень могучего тека, протянувшийся по земле точно спина крокодила, перевели дыхание и продолжили подъем. Адская жара начинала действовать и на Фрике, на холмах она была невыносимой. Но он все равно поднимался, превозмогая усталость и делая частые остановки ради ребенка. Вскоре, однако, мальчик совершенно выбился из сил и едва тащился. — Давай руку, я тебя поведу. Умираешь от жажды? Отпей немного. Довольно. Через некоторое время получишь еще, а я обойдусь. Сделали более продолжительный привал. Когда встали, мальчик не мог двигаться. Молодой человек вытер ему лоб, помахал, словно веером, лоскутком коры, содранным с дерева, дал выпить еще несколько глотков воды с кофе. Дав ему в руки самодельный веер, парижанин сильной рукой поднял его и посадил себе на спину. — Эй! Поехали! — крикнул он со смехом. — Нужда-то что значит! Сам еле двигался, а вот взял теперь груз — и ничего, иду. Здесь оставаться нельзя, здесь место нехорошее. И он шел, шел, опасаясь, что, если остановится, будет не в состоянии продолжить путь. — Ух, больше не могу! — сказал он наконец и вовремя успел спустить мальчика на землю, а то упал бы вместе с ним. Но не упал, прислонился сначала к дереву, потом сел под ним, будучи не в силах не только двигаться, но даже о чем бы то ни было думать.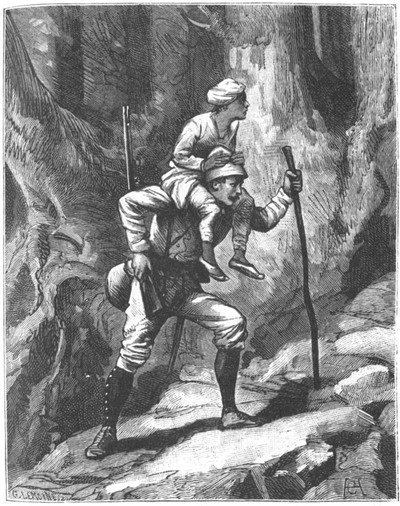
И на беду все питье вышло, не осталось ни капли, нечем было промочить горло, смочить пересохший язык. — Кажется, комедия окончена, — пробормотал бедный юноша. Глаза его блуждали, горло сдавил спазм. Лиловые губы запеклись. Вдруг он радостно вскрикнул. Нескольких минут отдыха оказалось достаточно, застилавший глаза туман рассеялся. Он видел яснее и понял, что находится на площадке, а не на склоне. На вершине холма! Возможно, по другую сторону есть вода. Фрике встал и храбро двинулся вперед. Отдохнувший мальчик мог теперь идти сам. По спуску они шли легко и довольно быстро. Вскоре очутились на неширокой поляне, ярко озаренной солнцем. Парижанин невольно рассмеялся, забыв свои мучения. — В добрый час! Ловко! Шли целый день, думая, что на запад, а пришли как раз на восток. Стало быть, шлюпка позади нас. Если месье Андре меня ищет, ему придется непросто. Вставай, мальчуган! Если не можешь больше идти, побежим. Друзья нашли несколько кислых ягод, обманули ими жажду и стали спускаться — поневоле бегом — по крутому спуску сквозь густую траву, хворост и всякую мелкую растительность. Теки неожиданно закончились к великой радости Фрике, которому они порядком надоели. Появились другие представители лесного Царства. Пришлось пустить в ход тесак, прочищая дорогу. Молодой человек был полон энергии, не думая больше о голоде и жажде — у него появилась надежда. Вдруг раздался свист. Особенный. Фрике остановился. — Змея! — воскликнул он. — Я-то удивлялся, что их не видно Бррр!.. Мурашки по спине побежали. Надо идти осторожнее. Через пару шагов вновь услышал свист и остановился, смертельно побледнев. В двух шагах от него поднималась змея, готовая броситься на врага. По широкой шее с темно-желтой чешуей он узнал ужасную «найю», или очковую змею, называемую так за два кружка на голове, напоминающие очки. Эта змея, толщиной в руку и длиной не более двух метров, чрезвычайно опасна своим ядом и славится злобным нравом. По-португальски она называется коброй-капеллой. Ее укус смертелен. Молодой человек понял, что погиб, если допустит малейшую оплошность. Стрелять некогда. Надо защищаться иначе. — Кобра!.. Очковка!.. — пробормотал он. И в то же мгновение змеиная голова, точно подброшенная пружиной, кинулась к нему на грудь, грозя впустить в нее ядовитые зубы-крючки. Фрике взмахнул тесаком — и голова рассталась с туловищем, но все-таки, по инерции, долетела до его груди.Парижанин опасался, что, если остановится, будет не в состоянии продолжить путь.

— Это не в счет, — сказал парижанин. — Она уже мертвая. Снова вперед. Вдруг до его слуха долетел шум… — Вода!.. — закричал он. — Ручей!.. И бросился вперед как сумасшедший. Вскоре он был у ключа. Вода чистая, свежая, холодная. Но пить ее, не остыв, безумие. Надо подождать. — Яса! — позвал Фрике. — Скорее сюда! Мальчик прибежал со всех ног и кинулся к водоему. Старший товарищ без церемоний ухватил его за штанишки и сказал: — Стойте, господин мальчик! Вы все утро сосали, как из рожка, воду с кофе, я вам ничего не говорил, а теперь погодите. Я не хочу вашей смерти. Погодите, вместе попьем. Нет ничего хуже ожидания. Но прошли минуты, и они утолили жажду, сжигавшую их изнутри. Жажда прошла, дал знать о себе голод. Что бы съесть? Надо поискать какой-нибудь дичи. Фрике пошел по лесу, ходил долго, но ничего не попадалось. Вдруг взгляд его упал на лужайку, на которой паслось стадо слонов. — Слоны! — вскричал он, вытирая платком потное лицо. — Чего лучше! Я бы удовольствовался и меньшим — например, косулей, зайцем, фазаном или даже павлином. Слон весит четыре тысячи килограммов. На завтрак двоим этого многовато. Жаль убивать. Но, с другой стороны, что же нам делать? Не умирать же с голоду. Вот там ходит большой серый самец. Подстрелим его. Парижанин пополз по траве к стаду. Слоны не могли его почуять, ветер дул в его сторону. Вдруг стадо, охваченное непонятной паникой, покинуло пастбище и галопом устремилось в лес, на опушке которого были Фрике и Яса. Они спрятались за дерево — стадо неслось на них подобно смерчу. Слоны пробегали шагах в двадцати, не больше. Охотник мог свободно прицелиться в того, кого наметил. Он спустил курок как раз в ту минуту, когда серый слон повернулся к нему плечевой впадиной. Стрелок видел, как толстокожий великан тяжко обрушился наземь почти одновременно с выстрелом. — Обед у нас есть, а слона все-таки жаль. Бедный! Даже не вскрикнул.Фрике взмахнул тесаком — и голова рассталась с туловищем.
ГЛАВА XIII
Меткий выстрел. — Удивление чересчур удачливого охотника. — Окружен. — Французский бокс. — Арест из-за слона. — Отчаяние из-за гибели Белого слона. — Фрике третирует бирманского министра. — Англичан боятся и уважают. — «Голубая антилопа» — военный корабль. — Фрике объявляет войну бирманскому императору. — Лестно получить выкуп. — В путь по реке. — Посадка на суда. — Внезапное появление Андре. — Не робей! Сам Фрике еще ни разу не видал столь разрушительных последствий выстрела, с тех пор как стал пользоваться крупнокалиберными ружьями. И ведь он стрелял не из винтовки восьмого калибра пулей «Экспресс» с семнадцатью с половиной граммами пороха, а из гладкого ружья. Правда, оно того же калибра, и хотя пуля круглая, но из твердого металла, весит шестьдесят пять граммов, и заряд пороха семнадцать с половиной граммов. На небольшом расстоянии результат выстрела чудовищный. Полагая начальную скорость четыреста сорок метров в секунду, сила удара получается равной двум тысячам сорока восьми килограммам. Слон, конечно, должен был погибнуть. В несколько прыжков молодой человек преодолел двадцать метров, отделявшие его от поверженного гиганта. Слон, получив удар, свалился головой вперед, вероятно потому, что передние лапы отказали раньше задних. Длинные клыки, на которые всей тяжестью навалилось тело, глубоко воткнулись в землю, один из них сломался на уровне челюсти. Хобот пригнулся ко рту, наполнившемуся кровью и землей. Глаза были открыты, веки не двигались. Бока не вздымались дыханием, только по складкам кожи еще пробегали мелкие судороги. Позади левого плеча виднелась круглая дырочка, из которой вытекала струйка алой крови. — Пуля пробила сердце, — сказал Фрике. — Не хвастаясь скажу — выстрел замечательный… Бедный слон! Не будь мы так голодны, не стал бы я тебя убивать. Но какой странный цвет! Я такого никогда не видел. Точно пеклеванное тесто с серым войлоком. Он вынул тесак и приготовился вырезать из этой горы мяса кусок на обед, как вдруг послышался стук лошадиных копыт, яростные крики скачущих людей и характерный топот бегущих слонов. Парижанин увидал себя окруженным всадниками на конях и двенадцатью слонами, на двух из которых были гауды, на остальных — седла. Слоны остановились по знаку вожатых. Охотники проворно шмыгнули вниз, важные персоны, восседавшие в гаудах, степенно опустились по шелковым лесенкам. Все они с криками горя и отчаяния бросились к мертвому слону. Некоторые рвали на себе одежду, царапали себе грудь, лицо. «Кажется, я совершил важный проступок, — подумал про себя Фрике. — Надо было установить таблички с надписью: „Охота запрещена“… Эй, вы! Прочь лапы! Я не люблю, чтобы меня трогали. Вас тут два десятка». Охотники справедливо предположили, что это и есть убийца, пусть совершивший преступление по неведению. Они подходили к нему, чтобы схватить. Сунувшийся ближе других получил удар ногой в живот и упал навзничь без движения. Крики усилились. Один слоновожатый, проворный как обезьяна, бросился на Фрике, который прислонился к дереву, повернувшись лицом к толпе. Он вытянул левый кулак и хватил им нападавшего по лицу. Тот свалился с разбитой физиономией. — Вот и два, — насмешливо произнес парижанин. — Из ружья стрелять в них я не могу — это только усугубит мою вину! — Сунулись третий, четвертый и получили свое. — Желтомордые дураки! Совсем тактики не знают! — насмехался юноша. — Чтоб им всем сразу напасть, а не поодиночке?.. Ай, попался!
Бирманцы тихонько подвели к дереву одного из слонов, поставили его позади молодого человека, по команде вожатого животное вытянуло хобот, обхватило им парижанина и подняло на воздух, как мальчишка поднимает мышь. Несколько мгновений раскачивал метрах в четырех над землей, как бы спрашивая: «Хватить, что ли, о дерево?» Вожатый сделал знак и что-то сказал. Слон тихо опустил Фрике на землю или, точнее, на дюжину протянувшихся рук. С удовольствием дал бы парижанин встряску этим людям, ухватившим его довольно грубо, но удержался. К чему? Тесак свой он выронил в объятиях слона, ружьем овладели бирманцы. К тому же мальчик Яса, быстро-быстро обсудив что-то с начальником отряда, подошел к своему другу и как бы уговаривал его не сопротивляться. — Ну, хорошо. Я уступаю силе. Вас двадцать четыре, а я — один. Как только пленник перестал брыкаться, хватка ослабла и его даже не связали. Подошла другая толпа и стала орать при виде мертвого слона. На убийцу кидали испепеляющие взгляды. Фрике никак не мог сообразить, за что на него так сердятся, но потом понял. Задав тому, кого он принимал за начальника, несколько вопросов на французском и не получив ответа, повторил вопросы по-английски. Министру, как всем бирманцам из высшего класса, этот язык был знаком. Но сам он не стал отвечать, приказав своему помощнику бооху сказать незнакомцу, чтобы тот держался почтительнее. Фрике прыснул от смеха и спросил: — А кто он такой, этот господин? Старший повар при папе? — Это министр его величества императора бирманского, — невозмутимо отвечал боох. — Ах, очень приятно-с! Только скажите ему, что мне на его министерство наплевать и что я вовсе не желаю принимать от него наставления, как мне держать себя. Боох передал эти слова министру, который, видимо, оскорбился. — Передайте ему, — продолжал молодой человек, — что в моих глазах он такой же дикарь, как и все вы, и что если кто-нибудь здесь имеет право на уважение и почет, то только один я — в качестве европейца и француза. — Так вы не англичанин? — с живостью переспросил боох. — Вам это не нравится? — Нет, ничего… Но… — Понимаю. Если я не англичанин, со мной можно не стесняться. Королева британская не позволяет беспокоить своих подданных, а французского представительства в Бирме нет. Но вы, сударь-министр, хвост-то все-таки не очень распускайте. За меня будет кому заступиться. Ведь я приехал сюда на военном корабле. — Правду ли вы говорите, иностранец? — удивился министр, испугавшись слов «на военном корабле». — Вы скоро узнаете о нем. Попробуйте тронуть хоть один волос на моей голове. — Зачем вы убили белого слона? — горестно воскликнул министр. — Что такое белый слон? Не все ли равно, какой цвет? Я его убил потому, что мы оба умирали с голоду — я и мальчик. Но все равно вам заплатят за вашу животину, не бойтесь. — За священного слона нельзя взять никакой платы. — Не хотите деньгами — получите пулями и картечью. Министр окончательно испугался и не знал, что ему делать. С одной стороны — рискуешь навлечь на страну репрессии, за которые сам же потом ответишь; с другой — француз совершил тяжкое преступление, кощунство. Оставлять это безнаказанным нельзя. Нужно представить его императору, пусть тот решает сам. Может быть, согласится взять хороший выкуп. Министр, боох и пунги посовещались, боох объявил Фрике, что его доставят в Мандалай. Пришлось покориться. Парижанина сытно накормили и поместили в гауде самого министра. Ясу поручили бооху. Караван тронулся. У пристани погрузились на плоты. Гребцы осыпали убийцу Схен-Мхенга бранью и оскорблениями. Флотилия отчалила. Вдруг молодой человек вскрикнул и хотел броситься с плота в воду, но десяток рук удержали его. На его крик отозвался с берега гневный голос: — Гром и молния! Я так и думал! Это Фрике, его взяли и везут! На берегу виднелись два всадника на взмыленных конях — европеец и негр. Парижанин узнал Андре и сенегальца. — Месье Андре, — кричал он, — меня везут в Мандалай за то, что я убил белого слона. Меня обвиняют в страшном преступлении. — Ах! Вот как!.. — насмешливо отвечал Бреванн. — Не робей, мой мальчик. Старайся протянуть время, угрожай, хвастай… даже обратись за поддержкой к англичанам. Я поскачу к шлюпке, потом на всех парах помчусь на «Антилопу» и освобожу тебя, хотя бы пришлось для этого сжечь город. Не робей! — Берегитесь, месье Андре. В вас хотят стрелять. — Где им! — презрительно отозвался тот и пустил коня вскачь. Сенегалец поспешил за ним. Оба скрылись в густой чаще панданусов. — Кто этот человек? — спросил у парижанина министр, стараясь скрыть свое беспокойство. — Человек, который серого слона не убивал, но в которого вы собирались выстрелить за то, что он со мной говорил. — Никто не стрелял. — Не успели — вот почему. Но вы за это покушение поплатитесь. — Вы решительно не хотите сказать, кто этот путешественник? — Отчего же не сказать, раз это доставит вам удовольствие?.. Начальник французских морских сил в Рангуне, и вы о нем скоро услышите…Сунулись третий, четвертый и получат свое.
ГЛАВА XIV
Сигналы без ответа. Следы Фрике. — Едкий сок моха. — Тигр и его шкура. — Встреча с четырьмя охотниками. — Бирманские лошади. — Андре и сенегалец из пехотинцев превращаются в кавалеристов. — Аргумент, на который не возразишь. — Цель оправдывает средства. — Слишком поздно. — Возвращение. — Уплата долга. — Великодушие. — Шлюпка. — К английской границе. — Топка дровами и спиртом. — На всех парах. Пока Фрике гонялся за калао, Андре оставался на шлюпке. Через два часа он начал беспокоиться. Сигналы, которые парижанин подавал ружьем, не долетали до его слуха, выстрелы замирали в лесу. Прошло три часа, четыре. Беспокойство Бреванна перешло в тревогу. Наступила ночь. Андре решил, что с другом случилось нечто непредвиденное. Скорее всего, он заблудился. Завтра надо непременно начать поиски. Он тоже сделал два выстрела. Ответа не было. Тогда велел открыть пальбу всему экипажу. И это ни к чему не привело. Развели пары, дали резкий протяжный свисток. Выстрелили из картечницы. Ее характерные крикливо-трескучие выстрелы, как она начинает метать ураганом свои пули, слышны издалека. Всю ночь до рассвета подавали сигналы, без результата. На другой день утром Андре с Сами и сенегальцем пошел на поиски, вооружившись как следует и взяв съестных припасов на два дня. Определив по компасу положение шлюпки, сориентировался, отыскал следы Фрике и углубился в лес. Следы обутого в тяжелые кованые сапоги парижанина ясно отпечатались на мху. Из них сочился едкий сок, окрашивая в темный цвет, вот почему они были видны так отчетливо. Дорогой Андре старательно отмечал путь, так что теперь по нему мог пройти и вернуться назад даже ребенок. Так дошли до места, где был убит калао. Андре обнаружил войлочный пыж восьмого калибра. Калао завлекали Фрике на восток. Бреванн догадался: — Сумасшедший мальчишка погнался за другой птицей. Хотел принести пару. Охотник взглянул на компас, направление почти не изменилось. Они шли еще довольно долго. — Куда это его понесло? — пробормотал Андре. — Сударь, — сказал Сами, — господин Фрике заплутал. Взгляните на компас. Он кружил. — Да, это так, — подтвердил негр. Бреванн сверился с компасом. — А ведь верно. Но как же он не нашел собственных следов? Ведь мы же видим их ясно. — Сок, вытекающий из мха, делает их темными не сразу, а через несколько часов, — объяснил Сами. — Ты прав… Однако он кружит все сильнее. Понял, что заблудился, и ищет солнце. Для того и устремился к этой поляне… Это что такое? — Тигр! — вскричал Сами. — Сударь, это тигр без шкуры. — И убитый дробью. Молодчина Фрике! — А вот здесь он жарил мясо тигра, вырезанное около почки. Здесь спал на тигровой шкуре. — Покуда все слава богу, — сказал Андре. — Идем дальше. — Сударь, дорога все загибается. Охотник держал компас в руке и то и дело на него взглядывал. — Да, он так упорно делает круг, что, кажется, скоро придет к тому месту, где ночевал. И действительно — Андре и его спутники снова оказались на том же месте. Здесь они сытно позавтракали и двинулись дальше. Вскоре добрались до цепи холмов, взошли на них и внизу противоположного склона увидели четырех человек, сидевших у источника, где Фрике пил воду, умирая от жажды. Возле кучи маиса стояли четыре лошади бирманской породы и жадно уписывали вкусный корм. Всадники лежали на траве под панданусами и весело болтали. Андре направился к ним. При виде белого они почтительно встали. Сами стал расспрашивать их о Фрике. Бреванн любовался лошадьми. Они живут на свободе в верхней Бирме, их ловят и укрощают. Они невелики, но красивы, быстры и замечательно выносливы. — Ну, что говорят? — спросил Андре у вернувшегося Сами. — Удивительные вещи. Это честные бирманцы, охотники, сударь. — Они видели Фрике? — Да, сударь. — Он жив? — Да, сударь. — Здоров? — Да, сударь, но он арестован. — Как? Кем же? — Бирманцами, охотившимися за священным белым слоном, за Буддой… а господин Фрике его убил. — Будду убил? — Да, сударь. — И за это его увезли? — По-видимому. — Куда? И кто? — Люди, посланные императором за белым слоном. — А эти кто такие? — Они мне все объяснили. Сейчас расскажу. — Поскорее, пожалуйста. Я сгораю от нетерпения. — В каждом слоновьем округе есть свой чиновник, при котором состоит отряд охотников. — Знаю. Дальше. — Начальник округа выслал этих людей, чтобы они шпионили за людьми, посланными императором, и всячески мешали им поймать слона. Господин Фрике одним выстрелом все спутал. — Эти люди видели, как его увозили? — Да, сударь. На слоне, всего их было двенадцать, и, кроме того, сколько-то всадников. Весь отряд, вероятно, садится уже на плоты и лодки, чтобы плыть по реке обратно в Мандалай. — Спроси у них, далеко ли это? — Пешком два часа пути. — Стало быть, верхом полчаса. Он резко обернулся к охотникам и спросил, словно те могли его понять: — Хотите разбогатеть? Сами перевел слово в слово. — А что для этого сделать, господин? — Продать мне этих лошадей. — Нельзя, господин. Они казенные. — Можно сказать, что они пали. — Невозможно. — Хорошо. Я их все-таки беру. Сами и ты, лаптот, хватайте каждый по одному охотнику, а я двоих. Свяжите им руки и ноги. Цель оправдывает средства. Негр и индус прыгнули, как на пружинах, схватили каждый по бирманцу, повалили их и скрутили. Двое других сдались под направленным на них револьвером Андре. Их тоже связали. — На коня, лаптот! Ты поедешь со мной. А ты, Сами, стереги этих людей. Ты за них отвечаешь. — Сударь, вы можете на меня положиться. — Скажи им, что им не причинят ни малейшего вреда, лошадей возвратим, я надеюсь, и в любом случае они получат щедрое вознаграждение за невольную услугу. Дождись меня. Вперед, лаптот! Андре вскочил на крепкого темно-гнедого коня, негр — на другого, и они помчались берегом ручья туда, где собирались садиться на плоты и лодки императорские охотники.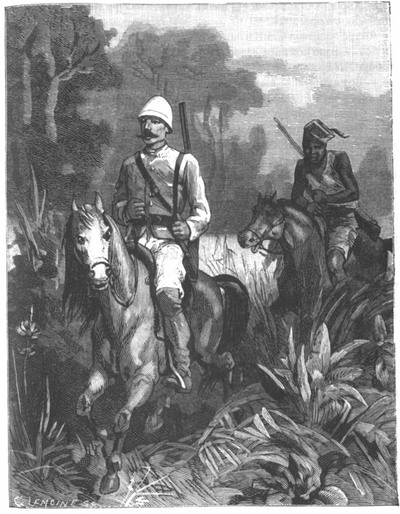
Как мы уже знаем, они опоздали: суда отплыли, Фрике увезли. Это было счастьем, поскольку они, по всей вероятности, пошли бы на риск и оба могли погибнуть. Андре вернулся в холодном бешенстве. Бирманцы лежали связанные. Сами их стерег. Они были совершенно спокойны, подчинившись силе, как умеют подчиняться ей только азиаты. — Освободи их, Сами. Сядь на одну из лошадей, кто-то из бирманцев на оставшуюся. Мы вернемся на шлюпку. Трое остальных пусть идут за нами пешком, как могут. След найти легко — по заметкам на деревьях — объясни им как. Скажи также, что лошади будут им возвращены, мы передадим их товарищу, который с нами поедет, и деньги для них для всех. Да поторопись, дорога каждая минута. Бирманцы с готовностью согласились на все. Обещание денежной награды сделало их кроткими и послушными. Бирманские кони быстро домчали всадников до того места, где под парами стояла шлюпка. Андре проявил присущую ему щедрость. Бирманец получил для себя и товарищей столько рупий, сколько не видел за всю свою жизнь, и, кроме того, Бреванн подарил им всем на память по ружью из запаса, предназначенного для подарков и обмена. Бирманец глазам не верил и благодарил, благодарил без конца. Ему, как азиату, казалось невероятным, что человек исполняет обещание, когда мог бы этого не делать. Андре, лаптот и индус взошли на шлюпку. Громко и резко загудел свисток. Шлюпка понеслась по воде, как чайка. Винт буравил воду, из трубы летели искры. — Больше жару, друзья! — говорил Бреванн. Через десять минут он спросил кочегара: — Какова наша скорость? — Семь — семь с половиной миль в час. — Нельзя ли прибавить милю? — Будь уголь, можно бы. Но у меня только дрова. — Хорошо. Он подозвал лоцмана: — Можешь вести шлюпку ночью? — Могу. — Сколько нам нужно времени, чтобы добраться с этой скоростью до английской границы? — Часов двадцать. — Мы через пятнадцать часов должны быть в Мидае. — Невозможно. До Мидая сто семьдесят миль. — Знаю. Это одиннадцать с половиной узлов. Кочегар и машинист переглянулись. — Машина выдержит? — спросил Андре. — Машина может выдержать какое угодно давление. — Хорошо. Дров у вас на шесть часов? — Да, сударь. Андре подозвал Сами и лаптота и велел им принести из задней рубки бочку. Взяв кожаное ведро, которым черпали воду из реки, он подставил его к крану бочонка и наполнил до трети. — Вот вам, машинист. Полейте этим дрова и поливайте до тех пор, пока не получится скорость в одиннадцать с половиной узлов. — Сударь, ведь это спирт. — Превосходный, почти стоградусный. Если клапаны будут подниматься, наложите на них груз. — Сударь, если вы дадите мне нужное количество спирта, я доведу скорость до двенадцати узлов, — сказал машинист, обливая дрова спиртом. — В добрый час. Машина сердито захрапела, винт завертелся с необычайной быстротой, кузов шлюпки задрожал. Из-под клапанов со свистом вырывался пар. Вскоре, однако, давление стало уменьшаться. Тогда на дрова вылили новую порцию алкоголя. Андре вернулся в рубку следить за расходом спирта, который был для него теперь дороже всех сокровищ в мире.Они помчались берегом ручья.
ГЛАВА XV
Кочегар завидует своему паровику. — Спирт закончился. — Давление уменьшается. — Ветчина — отличное топливо. — Английская граница. — Телеграммы. — Шлюпка вновь в пути. — Фантастическая скорость. — Четырнадцать узлов. — В Рангуне. — Яхта. — У губернатора. — Британская политика. — Фрике приговорен к казни за воспрепятствование свободному отправлению дозволенного вероисповедания. — Через неделю. — Рекрутский набор. В продолжение десяти часов шлюпка шла так же быстро благодаря известному американскому способу, к которому прибегают соперничающие компании в этой стране, заставляя речные пароходы мчаться с сумасшедшей скоростью. Впрочем, теперь подобные гонки устраивают все реже, мода на них проходит. Дрова поливали спиртом, поддерживая высокое давление, винт работал с необычайной быстротой. Но Андре был чем-то недоволен, упорно молчал, не спускал глаз с манометра. Если стрелка шла кверху, напряжение отпускало его, если падала, хмурил брови, будто она была виновата. — Сударь, в бочонке пусто! — горестно объявил Сами. — Malar D’oué! — закричал кочегар. — Экая счастливица эта машина: все выпила, мне, бедняку, хоть бы капля досталась. — Давление уменьшается, — объявил машинист. — Так и должно было случиться, — сказал Бреванн. — Лоцман, далеко ли до Милая? — Пятьдесят миль. — Нам надо пройти их за четыре часа. — Приказывайте, хозяин. — Течение стало быстрее? — Быстрее, хозяин. Мы можем выиграть на нем полмили в час. — Хорошо. Сами и ты, лаптот, достаньте мне из камбуза вон тот ящик. Индус и негр не без труда вытащили большой ящик, внутри обитый цинком. — Возьми топор и сними крышку. В ящике оказались копченые окорока, запас на случай, если экспедиция затянется. — Понимаю, сударь! — весело вскричал машинист. — От этих окороков дрова у нас загорятся, как смола. — Тут сто килограммов. Довольно этого? — С двадцатью пятью килограммами в час, даже если дрова не слишком хороши, мы успеем, ручаюсь. С треском вспыхнули несколько кусков ветчины, искусно разбросанные среди дров по печи. Из трубы повалил едкий дым. — Давление увеличилось! — воскликнул обрадованный Андре. — Это не хуже угля и гораздо безопаснее спирта. — Счастливец наш паровик! — ворчал себе под нос кочегар. — Сначала получил такую выпивку, теперь его угощают такой закуской. В первый раз вижу подобное. Машину поят водкой и кормят мясом, точно человека. — Многого ты, значит, не видал, — возразил машинист. — Если бы ты побывал в Америке, видел бы, как там сжигают иногда все содержимое камбуза, потом принимаются за сам кузов парохода… Дело кончается взрывом, пароход взлетает на воздух. Бреванн успокоился, когда увидел, что новое топливо действует успешно. Он не спал с той самой минуты, как пустился по следам Фрике, и был разбит усталостью и душевным потрясением. Теперь можно было прилечь. Ом крепко заснул. Его разбудил свисток машины. — Где мы? — спросил он. — Подходим к Мидаю, — радостно ответил Сами. — Пришли на три четверти часа раньше. — Браво, браво, друзья мои! Вы все получите на чай. — Я бы предпочел на водку, — пробурчал кочегар Мериадек. — Я тоже, как паровик, люблю алкоголь и могу выпить много. — Стоп! — скомандовал Андре. — Причаливай, лоцман, осторожнее. Шлюпка подошла к пристани. Бреванн немедленно отправился на телеграф и дал такую депешу:«Капитану Плогоннеку, яхта „Голубая антилопа“, рангунский рейд. Готовы ли сейчас идти Мандалай несмотря низкий уровень реки? Необходимо. Понадобится весь наличный экипаж, и даже больше. Предстоит опасная, щекотливая экспедиция. Жду ответа Мидай, телеграфная станция.Через два часа пришел ответ:Андре Бреванн».
«Господину Андре Бреванну, Мидай. Нужно полсуток облегчить яхту, уменьшить осадку. Уровень очень низкий. Яхта будет задевать дно, но пройдет. Кажется, понял смысл телеграммы. Будете довольны. Рангун — Мидай сто шестьдесят миль. Потребуется шестьдесят часов, десять миль час, помимо течения. Жду новых указаний. Плогоннек, капитан яхты „Голубая антилопа“».
«Спасибо. Рассчитываю на вас. Выхожу навстречу яхте. Дожидайтесь меня».Андре бегом вернулся на шлюпку, стоявшую возле угольной пристани. — Машина в порядке? — спросил он машиниста. — Никаких повреждений, меня это даже удивляет. Я ее хорошо осмотрел. — Сможет она выдержать еще раз подобную нагрузку? — С углем — да. — Хорошо. Бреванн поспешил к агенту угольной компании, купил у него две тонны лучшего угля и распорядился немедленно загрузить его. Пары развели, на клапаны положили гири. Андре поднял на корме национальный флаг и скомандовал: — Вперед! Потом сел у руля рядом с лоцманом и переводчиком. — Нам надо пройти около ста семидесяти пяти миль? — спросил он через Сами у бирманца. — Да, хозяин. — Мы должны пройти их за двенадцать часов. За двенадцать часов, во что бы то ни стало. — Это дело машиниста. Я берусь провести шлюпку, не посадив на мель, избежав столкновений с плотами и лодками. — Хорошо. Награду получишь по заслугам. Машинист, сколько миль мы делаем? — Двенадцать. — Слишком мало. Нельзя ли разогреть сильнее? — Опасно. — Необходимо четырнадцать миль в час. — Невозможно, сударь, но эту прибавку даст нам течение. — Лоцман, какова скорость течения? — Две мили в час, хозяин. — Превосходно. Вперед! Вперед! Шлюпка неслась на всех парах. Поршень лихорадочно работал, винт бешено вертелся, из трубы клубами вылетал густой черный дым, стлавшийся далеко по реке. Кузов трещал, котел, казалось, вот-вот взорвется. Через двенадцать часов после выхода из Мидая шлюпка подплывала к Рангуну. Андре отыскал глазами «Голубую антилопу», она стояла под парами, на фок-мачте развевался флаг отплытия. Долгожданную шлюпку встретили громким продолжительным «ура!» — телеграмма Бреванна взволновала весь экипаж. Андре проворно взобрался на борт, сердечно поздоровался с капитаном, ждавшим его на кубрике, и увел к себе в каюту. Через двадцать минут появился в костюме для визитов, успев за это время обсудить все необходимое с капитаном. — Значит, вы непременно хотите встречи с английским губернатором? — говорил тот. — Хочу, по меньшей мере, гарантировать себе его нейтралитет, — отвечал Андре. — Англичане считают себя передовыми борцами за цивилизацию и при случае не прочь поддержать белых против цветных туземцев. Если бы они согласились заступиться за Фрике, он, конечно, был бы немедленно спасен, но пусть они хотя бы не вмешиваются, когда я начну бомбардировать Мандалай. — А если они не пожелают сделать ни того ни другого? — Тогда я все-таки буду бомбардировать бирманскую столицу… Вернусь через два часа. Ждите. Шлюпка высадила Андре у верфи, и он поспешил в стоявший неподалеку губернаторский дом. Француз-миллионер, известный спортсмен и владелец увеселительной яхты был немедленно принят. Бреванн без лишних слов объяснил, как и зачем прибыл в Бирму, и перешел к приключению с Фрике. Тут губернатор его остановил: — Это дело я знаю. Полагаю, что осведомлен о нем лучше вас. Жизнь вашего друга в большой опасности. — Я так и думал, ваше превосходительство. И прежде чем сделать отчаянную попытку его спасти, решил обратиться к вам с просьбой о заступничестве, о поддержке. — Увы, сэр! Это совершенно невозможно. — Ваше превосходительство! Почему невозможно? — Случай исключительный. Замешано религиозное верование местных жителей. Будь что другое, я бы непременно заступился. Но правительство британской королевы отличает терпимость в вопросах вероисповедания. Скажу больше — оно активно поддерживает свободу отправления всевозможных культов. — Но ваше превосходительство! Европейца, француза, цивилизованного человека хотят казнить за то, что он убил животное. — Священное животное, имейте это в виду. Я знаю, что это нелепость, но это — вопрос религии. Нам не нужны проблемы с фанатиками. Ваш друг совершил преступление — он воспрепятствовал свободному отправлению вероисповедания, признаваемого нашим правительством.
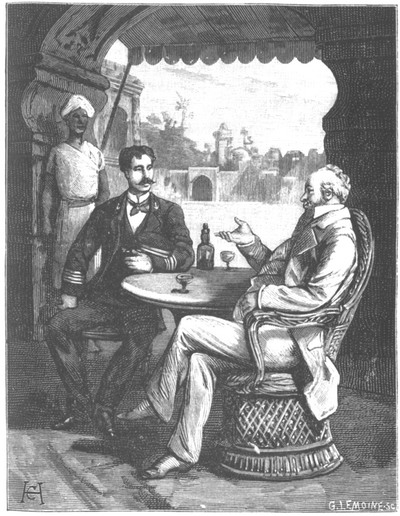
— Но ведь это произошло не в ваших владениях, а в независимой Бирме. — О! Эта независимость такая призрачная. И наши подданные исповедуют ту же веру. Андре понял, что ничего не добьется. Национальный эгоизм дело серьезное. — Хорошо. В таком случае я буду действовать по своему усмотрению. — Пожалуйста, сэр. Как представитель нашей королевы, я вам содействовать не могу, но как европеец — всей душой желаю успеха. — Весьма благодарен вам, ваше превосходительство. При вашем благосклонном нейтралитете надеюсь справиться. — Мой нейтралитет, сэр, еще благосклоннее, чем вы думаете, — улыбнулся губернатор. — Ваше вмешательство, я уверен, вызовет большое потрясение в этой разложившейся империи, и наша политика останется только в выигрыше. Можете запасаться у нас всем, что вам понадобится, — провизией, боеприпасами, углем… Кроме того, сэр, могу дать вам отличный план Мандалая, составленный нашими инженерами. Пригодится для бомбардировки. Ваш друг заперт в пагоде, где живет Белый слон. По сведениям моих агентов, его казнят через неделю, в день праздника коронации императора. До свиданья, сэр. Торопитесь. — Еще раз благодарю вас, ваше превосходительство, — сказал Андре, прощаясь с губернатором. — Недели мне хватит. Фрике будет освобожден, или я сам погибну. Через полчаса шлюпка заняла свое место на палубе яхты. Лоцман встал у руля. «Голубая антилопа» пошла вверх по Иравади. На яхте Бреванна ждал сюрприз. Капитан прекрасно понял из его телеграммы, что надо делать. Слова «понадобится весь наличный экипаж, и даже больше» объяснили ему все. Опытный морской волк сейчас же распорядился нанять в гавани двадцать человек решительных молодцов, свободных от предрассудков. Такими молодцами кишат обыкновенно все портовые города. За деньги они готовы служить кому угодно и делают это, по большей части, довольно усердно. Капитан предупредил — вам будут хорошо платить, вас будут хорошо кормить и немедленно расстреляют при неповиновении. На яхте они держали себя пристойно, хотя выглядели весьма непрезентабельно. Андре одобрил распоряжение капитана, обещал каждому двести франков в неделю и двести франков в качестве награды, если пленник будет освобожден. Такое же вознаграждение обещано было и всем членам экипажа. Это известие встретили громовым «ура!». Капитан не скрывал восторга. — С такими людьми, сударь, можно рисковать, — сказал он Андре, когда они остались одни. — Я надеюсь на успех, — отозвался тот. — Теперь у нас сорок человек строевых. Мы способны на многое. — Черт побери! Франсуа Гарнье взял Тонкин, имея под командованием сто двадцать человек. Отчего нам не овладеть бирманской столицей, имея втрое меньше?— Я знаю, что это нелепость, но это — вопрос религии.
ГЛАВА XVI
Немного о ящерицах. — Легенда об Аломпре. — Мертвый город. — Перед Мандалаем. — Столица и ее стены. — Лошади китайского купца. — Рекогносцировка. — Императорский город. — Ворота заперты. — Двор в трауре. — Ввиду предстоящей казни богохульника. — Поход. — Взвод кавалерии. — Чтобы обеспечить отступление. — Удушливая температура. — Подземный гул. — Землетрясение. — Первый пушечный выстрел. — Динамитная петарда и тековая дверь. «Антилопа» сидела в воде неглубоко, но двигалась все-таки с трудом и с опаской — в отсутствие дождей Иравади покрылась многочисленными отмелями и перекатами. Андре места себе не находил — боялся не успеть вовремя и не спасти друга. Но требовалась осторожность, если яхта сядет на мель, опоздание неминуемо. Предвидя бомбардировку города, Бреванн тщательно осмотрел четырнадцатимиллиметровую пушку. Она оказалась в порядке. Приказав вновь накрыть орудие просмоленным чехлом, увидел на внутренней стороне омерзительную ящерицу, глядевшую на него ледяными глазами. Бреванн терпеть не мог пресмыкающихся и невольным движением стряхнул ящерицу на пол. Уже собирался столкнуть ее ногой за борт в воду, как подбежал лоцман и, схватив ящерицу, умоляюще проговорил: — Хозяин, не губите ее. Сделайте это ради вашего слуги. — Опять священное животное? Ну ладно. Пусть будет по-твоему. — Спасибо, хозяин. Дух Аломпры да хранит вас за это. Андре подозвал Сами и поручил подробно расспросить лоцмана. Побеседовав с бирманцем, переводчик сказал: — В ящерице живет дух Аломпры, основателя нынешней бирманской династии. В тысяча семьсот пятьдесят втором году близ Авы жил зажиточный фермер Алоон. Рядом с его усадьбой стоял богатый монастырь, настоятель которого пользовался большим уважением окрестных жителей. Жители округа Пегу напали на жителей округа Ава и разграбили монастырь. Алоон снабдил монахов провизией, чем спас их от голодной смерти. Караван с провиантом он сопровождал лично. Уезжая обратно, вдруг услышал подземный гул. — Фра![3] — сказал Алоон настоятелю. — Уходите немедленно, иначе все погибнете. — Начинается сильное землетрясение. Бегите, скорее бегите! Настоятель послушался. Как только он с братией вышел за ограду, монастырь обрушился. Алоона стали считать посланцем Бога. Через некоторое время пегуанцы опять напали на аванцев, стали опустошать их земли. Алоон собрал соседей и прогнал их. Ободренный успехом, составил ополчение из представителей бирманских племен и наголову разбил пегуанцев. Отнял у них Аву, изгнал из страны, короновался императором под именем Алоон-Фра, что значит «владыка Алоон», постепенно его имя стало звучать как «Аломпра». Он сделался могущественным государем, завоевал Пегу, Майцур и другие области, планировал захватить Сиам, но умер на восьмом году царствования. — И при чем здесь ящерица? Что общего между ней и Аломпрой? — Этого я не могу вам сказать, — отвечал лоцман. — Это тайна многочисленных потомков Аломпры. Я тоже один из его потомков, хотя и занимаюсь скромным ремеслом. Но тайну не раскрою даже вам. На шестой день утром яхта прошла мимо грандиозных развалин Авы, мертвого теперь города, бывшего в течение четырех веков столицей Бирмы. Сохранилась только городская стена, окружавшая вместо города парк с аллеями на месте прежних улиц. Еще через шесть километров яхта миновала Амарапуру, бывшую столицей до 1857 года, пока ею не стал Мандалай. Наконец еще через шесть километров показался и самМандалай. «Голубая антилопа» держалась левого берега, где река глубже — местная пароходная компания проводила здесь работы по углублению реки. Яхта встала на якорь в двух километрах от юго-восточного угла городской стены. Мандалай был построен по традиционному плану китайских городов, находился в двух с небольшим километрах от реки, к ней вела своего рода улица, по обеим сторонам которой стояли дома, сараи, склады. Город имел форму квадрата со стороной два километра, его защищала зубчатая кирпичная стена, с каждой стороны в город вели трое ворот. Мощенные камнем улицы пересекались под прямыми углами. Помимо больших улиц был лабиринт переулков и тупиков. Дома простые, по большей части из бамбука, крытые рогожей, пальмовыми листьями, даже дерном. Все они возвышались на столбах в полутора метрах от земли. Каменных построек было мало, в основном на главных улицах. Еще одна стена окружала внутри города императорский дворец с домами для жен, министров и Белого слона. От места стоянки яхты до дворца было три с половиной километра — расстояние пушечного выстрела. Андре, взяв с собой Сами и лаптота, основательно изучил город, руководствуясь планом, полученным от губернатора. Нанял у торговца в китайском предместье несколько десятков верховых лошадей. Тремя они с индусом и лаптотом воспользовались немедленно — поехали во дворец. Тековые ворота дворцовой ограды оказались закрыты. Перед ними вышагивал часовой с пистонным ружьем, в красном мундире, на манер английского. Через переводчика Бреванн попросил пропустить. Солдат сказал, чтобы они обратились к офицеру в караульном помещении. Дверь его отворилась, вышел офицер. Увидев чужестранца, вежливо поинтересовался по-английски: — Что вам угодно, фра?[4] — Поговорить с императором. — Сейчас, фра, никак нельзя. — Ну, тогда с первым министром. — И этого нельзя. Двор в глубоком трауре. Все дела прекращены до тех пор, пока убийца Белого слона не искупит своей вины, то есть до послезавтра.
Услышав это, Андре вздрогнул. — Тем более я должен немедленно поговорить с императором или министром. — Говорю вам, нельзя. Если я доложу о вас, меня казнят. Да я и не могу доложить, дверь заперта изнутри. Послезавтра, пожалуйста. — Хорошо. Андре повернул коня и поскакал в предместье к китайцу. — Когда будут готовы остальные лошади? — спросил он. — Сейчас. Только оседлаем. — Смотрите же. Они нам понадобятся очень скоро. Пять минут спустя Бреванн был на яхте, еще через две капитан объявил поход и бой, по сигналу боцмана люди собрались на палубе. Отобрав тридцать и полностью вооружив, Андре повел их на берег. Четырнадцать во главе с капитаном остались на судне. Приготовления заняли четверть часа. Динамитные петарды несли четверо, которым объяснили, как с ними обращаться. Отряд двинулся в путь. Предварительно Андре и капитан Плогоннек сверили часы, чтобы они шли секунда в секунду. Миновали предместье. Китаец ожидал их. Все было готово — лошади стояли оседланные, взнузданные. Бреванн достал из кармана упаковку золотых монет, распечатал ее и высыпал условленное количество новеньких фунтов стерлингов в руки просиявшего торговца. Каждый выбрал себе коня и вскочил в седло. Теперь они были настоящим кавалерийским отрядом, к тому же превосходно вооруженным. Доехав до первой стены, Андре оставил у ворот шестерых всадников, чтобы они обеспечивали им тыл, с остальными поскакал к дворцовой стене. Стояла невыносимая жара, духота была чудовищная. Всадники обливались потом, лошади покрывались пеной. Кажется, саламандры и те бы не вынесли такого пекла. На улицах было тихо и совершенно безлюдно, все жители попрятались в дома от зноя. Вдруг раздался какой-то гул. Не гроза, не гром — на небе не было ни облачка. Что это? Земля будто колеблется, дрожит. Лошади отказывались идти вперед. Землетрясение! Справа и слева заскрипели, зашатались дома. Даже каменные дали трещины, готовые вот-вот обрушиться. На минуту все успокоилось. Всадники вновь пустились вскачь, достигли дворцовой стены. У ворот стояли те же часовой и офицер. Тековые ворота, окованные железом и некрасиво утыканные гвоздями, по-прежнему были наглухо заперты. Караульные узнали Андре. Он крикнул, чтобы они сдались, и те тотчас побросали оружие. — Фра, свяжите нам руки и ноги. — Хорошо, — согласился Бреванн. — Эй, скрутите их хорошенько. Матросы принялись вязать караульных, Андре заложил под воротами динамитную петарду. Взглянул на часы, приказал спешиться и отойти назад. Люди отступили шагов на двадцать, держа коней на поводу. Француз спокойно зажег фитиль петарды и присоединился к ним. Вдруг со стороны реки послышался свистящий гул, он быстро приближался. Воздух с хрипом разрывался, сквозь него что-то стремительно неслось. Летел артиллерийский снаряд. По ту сторону стены раздался взрыв. — Капитан Плогоннек молодчина. Сама пунктуальность, — прошептал Андре. Затем раздался ужасающий треск. Облако дыма поднялось вверх, во все стороны полетели обломки ворот. Образовалась брешь, достаточная, чтобы проехали одновременно два всадника. В городе послышались крики. — Вперед! — скомандовал Бреванн. Матросы и наемные авантюристы, вскочив на коней, готовы были ринуться вперед, но в это время опять раздался подземный толчок. Лошади остановились. Стена рухнула, дав огромную трещину. Поднялись облака красной пыли от кирпичей. Вопли и стоны наполнили город со всех сторон. Вторя им, из императорской резиденции доносились яростные крики ее озлобленных обитателей. Забыв про землетрясение, Андре приблизился к пролому в воротах, хотя мог быть погребен под обломками. Он заглянул за ограду и вскрикнул почти испуганно, но тотчас овладел собой, схватил коня за повод, прыгнул в седло и поскакал в пролом, не интересуясь, скачут ли за ним его люди.Дверь отворилась, вышел офицер.

Андре поскакал в пролом.
ГЛАВА XVII
Дальнейшие злоключения парижанина. — Прибытие в Мандалай. — Зал для аудиенций. — Фрике отказывается снять сапоги. — В присутствии короля. — Смертный приговор. — Казнь слоном. — Кассационная жалоба Фрике. — Почет. — Появление ящериц. — Музыка. — Как ведет себя ящерица перед землетрясением. — Побег. — Пушечный выстрел. — Кавалерийская атака. — Спасен. — Возвращение в Ранг. — Отплытие. Когда, как помнит читатель, парижанина повезли в Мандалай, он не впал в уныние. Фрике видел Андре, перемолвился с ним словом и был уверен, что тот непременно его выручит. Присутствие министра не смущало молодого человека, на ломаном английском языке он принялся расписывать ему технические характеристики, мощь артиллерии и храбрость матросов корабля, которым командует его друг. Это возымело свое действие — бирманский сановник, сидя в гауде глаза в глаза с арестованным иностранцем, чувствовал себя неважно под его холодным, пронзительным взглядом и охотно отпустил бы его, если бы не роковой выстрел. Слушая «страшные» рассказы самоуверенного парижанина, сановный азиат сопел и потел, опасаясь, «как бы чего не вышло». Фрике же своим поступком снискал почет окружающих. С ним обращались, как со знатным лицом, обвиняемым в государственном преступлении и подлежащим суду самого монарха. Правда, оружие у него отобрали, но с поклонами и любезными словами, на что азиаты большие мастера. Его не связали, не заковали, только караулили. Кормили хорошо, спать было мягко, сидеть в гауде удобно. — Я, — говорил он себе, — похож на человека, который летит вниз с шестого этажа и думает: «А на воздухе, право, не так уж дурно». Ну, будь что будет потом, тогда и успеем задуматься, а сегодня пока посмеемся. Все время пути до Мандалая он сохранял полнейшую невозмутимость. Когда сошли на берег, ему подвели коня, он легко вскочил в седло и поехал рядом с министром, в сопровождении верхового конвоя. Слух о том, что экспедиция, снаряженная с такой помпой, возвратилась, быстро облетел столицу. На все лады обсуждалось отсутствие белого слона, над неудачными охотниками зло подшучивали. Отряд подъехал к воротам дворцовой ограды. Фрике вступил в обширный двор, где слева стояла небольшая пагода с колоколом, справа — довольно невзрачные постройки. Окруженный солдатами с саблями наголо, он прошел через двор и остановился перед узкой дверкой. Министр распорядился ввести пленника не в обыкновенный зал для судебных заседаний, а в зал для аудиенций. Сказав несколько слов офицеру, командовавшему конвоем, министр пошел с докладом к императору. Офицер открыл дверку и ввел пленника в манхгау, или хрустальный дворец. Дойдя до парадной лестницы, разулся и предложил Фрике снять сапоги, ссылаясь на придворный этикет. В присутствии бирманского императора все должны быть босиком. Парижанин решительно отказался: — Если вашему императору мой костюм кажется неприличным, он может меня не принимать, я в претензии не буду. Не я добивался свидания с ним, меня ведут к нему насильно, следовательно, я не обязан соблюдать ваш этикет. Офицер настаивал. Молодой человек оставался непреклонен. — Сказал, не сниму — и не сниму. Разувайте меня сами, если посмеете. И вот Фрике, быть может, единственный европеец, вошел в зал в болотных сапогах, в костюме охотника за утками. Зал был весьма просторный, с высоким троном под роскошным балдахином. Не найдя нигде стула, пленник завладел одной из подушек и уселся по-турецки. Зарокотал барабан. Поднялись занавеси, закрывавшие предназначенный для императора вход. Настежь распахнулись широчайшие двери, вошли солдаты в медных касках, красных рубахах, босиком, с саблями наголо. Они выстроились справа и слева от трона. За ними вступил сам император, следом хлынул поток придворных. Монарх уселся на трон. Одна из жен поставила перед ним золотой ящичек с бетелем, золотую плевательницу и чашу с водой. Придворные были одеты роскошно, а император очень просто — в длинную белую полотняную блузу до колен с шелковым поясом, легкие широкие штаны, стянутые у щиколоток, и черные туфли с загнутыми носками. Роскошное платье, усеянное драгоценными камнями, монарх надевает лишь в особо торжественных случаях. Это уже не одежда, облачение, которое, говорят, весит пятьдесят килограммов. Фрике встал и вежливо приподнял свой пробковый шлем, приставленные к нему караульные распластались на полу. Он стоял в трех шагах от монарха, но тот все-таки поднес к глазам лорнет, чтобы рассмотреть его. Молодой человек и без лорнета заметил, что император волнуется, хотя старается скрыть это под маской бесстрастия. «Красивый мужчина, — подумал Фрике. — Жаль только, что в мочках ушей у него дыры, в которые можно всунуть палец. Это его очень портит. К чему это?» Какой-то залитый золотом субъект выступил перед троном и на довольно сносном английском принялся подробно описывать совершенное иностранцем злодеяние. Принесли винтовку Гринера в качестве вещественного доказательства. Никто не умел с ней обращаться, и сам Фрике любезно показал, как она действует без собачки. Монарх так увлекся этим объяснением, что на время перестал выпускать в золотую плевательницу длинные струи красной от бетеля слюны. Нарушая этикет, сам задал первый вопрос: — Вы француз? — Да, француз. Фрике гордо выпрямился. Грудь вперед, колесом. — Зачем вы прибыли в мое государство? — Познакомиться с ним — оно у нас мало известно — и поохотиться. — Очень жаль, что вы француз. Я французов люблю, они мне оказывали услуги. Зачем вы убили слона? Император говорил медленно, тянул слова, подыскивал выражения. Видимо, не привык говорить. — Я заблудился в лесу с ребенком, мы оба умирали от голода, никакой дичи не было. — Все слоны принадлежат мне. За убийство слона полагается смертная казнь. Вы — иностранец, поэтому я мог бы оштрафовать вас и выслать из империи. К несчастью для меня, моей семьи и моего народа, вы убили священного слона. За такое кощунство будете казнены. Даже англичане вас не спасут. Через неделю готовьтесь к смерти. Вашу голову раздавит нога Белого слона. До тех пор вас будут содержать под стражей в одном помещении со Схенг-Мхенгом, и все ваши желания будут выполняться. Вы должны стать жертвой, приятной Гаутаме. Все это он произнес вялым, монотонным, печальным голосом, нараспев, хотя брови его хмурились, рот судорожно кривился. — Ступайте пока! — закончил монарх, вставая. — Меня вы увидите только перед казнью. Я дам вам послание Гаутаме. Поскольку казнь намечалась в торжественной обстановке, в присутствии императора, двора и толп народа и слон должен был раздавить голову на тековой плахе, преступника приказали тщательно стеречь. Четверо солдат, сменяя друг друга, не спускали с него глаз. Пагоду Белого слона окружала рота желтолицых воинов. Впрочем, пленника кормили, как министра, придворным поварам велели стараться для него изо всех сил, так, чтобы вышла жертва, угодная Гаутаме. — Меня балуют, как настоящего преступника перед казнью, — говорил Фрике. — Но мы еще посмотрим! Ничто не могло поколебать его уверенности в том, что Андре придет на помощь и выручит. На другой день после аудиенции он увидел, что по стенам его нового жилища бегают проворные ящерицы, большеголовые, серого цвета с желтыми, зелеными и красными пятнами. — Ба! У меня гости! — сказал он. — Пришли навестить узника. Дам им поесть — гостей всегда угощают. Ящерицы с удовольствием пробовали сласти, которые давал им молодой человек, и даже позволяли дотрагиваться до себя к величайшему удовольствию Ясы, который все время твердил: «Тау-тай, тау-тай», Фрике заключил, что это и есть бирманское название ящериц.
На следующий день ящерицы исчезли, лишив их развлечения. Потянулись часы и дни угрюмой, тоскливой, томительной скуки. В одно прекрасное утро парижанин сказал вслух: — Э-э! Мне остается жить всего два дня, считая нынешний. Послезавтра Белый слон должен раздавить ногой драгоценную оболочку, содержащую мой мозг. Любопытно, однако, как Андре и его спутники ухитрятся меня выручить. Просто из любви к искусству желал бы я знать их план… Ба! Ящерицы-то возвратились. Это не иначе к добру. Здравствуйте, ящерицы! Добро пожаловать! Первые часы утра прошли обыкновенно. Фрике лишь обратил внимание, что воздух стал особенно душным. Он чувствовал себя скверно, как перед сильной грозой. — Брр! — говорил он. — Не знаю, что такое творится там в воздухе, но только я нервничаю, как кошка. Из моих волос можно искры высекать. Вдруг с потолка послышалось тихое кваканье, похожее на лягушачье. Молодой человек взглянул на потолок. Кроме ящериц, там никого не было. Квакали, очевидно, они. Как только раздалось кваканье, стражники и Яса о чем-то быстро-быстро между собой заговорили. Фрике не понимал ни слова, но расслышал, что они то и дело повторяли: «Тау-тай, тау-тай». — Их волнует пение ящериц, — решил он. Даже Белый слон, от которого его отделяла лишь кирпичная стена, метался как ненормальный. — Ну, и ты туда же, бешеный толстяк!.. Впрочем, и то сказать, духота нестерпимая. Точно в печке. Дворец наполнился шумом, криками. Сновала испуганная челядь, металась по коридорам, залам. Три раза проорал слон, так что стены задрожали. Словом, началась сумятица. — Вот когда бежать-то! — проговорил Фрике, исподлобья поглядывая на солдат и в особенности на саблю одного из них. Послышался подземный удар. Почва заколебалась, здание зашаталось, затрещало. Стена, отделявшая помещение слона от комнаты парижанина, треснула, посыпались кирпичи. Отворилась дверь, вбежали испуганные солдаты и слоновожатые. Они бросились к пленнику, чтобы укрыть его в безопасное место, другие старались вывести из полуразрушенной пагоды упиравшегося, бесившегося слона. Этой части императорского дворца действительно грозила большая опасность. — Ну, час настал, — сказал себе Фрике. — Бедного моего мальчугана оставлю здесь, среди его соотечественников. Будем надеяться, кто-нибудь заменит ему отца. А сам покину дворец, выйду из города и побегу к реке. Все эти соображения промелькнули в его голове быстрее молнии. Он бросился на одного из солдат, вырвал у него саблю и, ловко прикрываясь ею, прыгнул к дверям, крикнув резким звенящим голосом: — Прочь с дороги! Выпущу кишки! Пулей вылетел он во двор. Солдаты сначала опешили, но скоро опомнились и погнались за ним — слишком хорошо знали, насколько важен этот арестант. За его побег им пришлось бы жестоко поплатиться. Но едва они выбежали из здания, разрушаемого подземными ударами, на несчастную столицу обрушились новые ужасы, довершившие общее смятение. С шипением и свистом принеслась откуда-то бомба и разорвалась над преследователями, многих убила, еще больше ранила и перекалечила. — Победа! Победа! — вскричал парижанин. Он сразу догадался, что это значит. — Браво, браво, месье Андре! — продолжал он. — Но погодите! Бомба перебила не всех. Эти негодяи хотят бежать за мной. Кричат встречным, чтобы меня не пускали. Боже, как еще далеко до ворот!.. Ах!.. Всадник в белом пробковом шлеме!.. Это месье Андре. Он штурмует город. Я спасен. Впрочем, рано торжествовать. Жители покидают дома и теснятся на улицах. Пробраться сквозь толпу не так просто. Люди видели, что за европейцем с криком гонятся солдаты, и понимали, что его надо задержать. Именно в эту минуту Андре верхом на коне помчался через пролом, пробитый в воротах динамитным патроном. Бреванн бросился на толпу, давя людей конем, стараясь протиснуться к Фрике, который прочищал себе дорогу саблей. Не видя рядом своих всадников, решил, что они струсили и покинули его. Обнажив саблю, решил дорого продать свою жизнь.Ящерицы даже позволяли дотрагиваться до себя.

Но его не покинули. Отряд лишь немного отстал — понадобилось время, чтобы все перебрались через пролом. Догнав командира, они тоже врубились в толпу, которая с воем расступилась и разбежалась. Андре приблизился к Фрике. Тот бросил изломанную, затупившуюся саблю и протянул ему руку. — Месье Андре! Вы опять меня спасаете! — После поговорим! Надо скорее отступать. — Как? Мы разве не останемся здесь императорами… хоть ненадолго? Бреванн невольно рассмеялся и с ним весь отряд. — Будет шутить. Садись ко мне за седло — у меня нет для тебя запасной лошади. Поспешим. Через пять минут за нами будут гнаться десять тысяч человек. Да вот, смотри! Бирманцы, видя, что неприятель немногочислен, вооружились кто чем попало и перешли в наступление. Толпа росла с каждой минутой. Андре и его спутники пустили лошадей быстрой рысью, удирая от преследователей. Когда проехали ворота, Бреванн велел заложить под ними еще два динамитных патрона. Взрыв произошел в тот момент, когда в ворота вступила толпа. Беглецы могли спокойно продолжать путь. У городских ворот к отряду присоединились еще шестеро всадников, остававшихся там в резерве. Капитан Плогоннек продолжал бомбардировать город с яхты. Снаряды рвались над императорской резиденцией. Через четверть часа все были на яхте. Бреванн приказал прекратить бомбардировку. Яхта приготовилась к отплытию, спустила военный флаг и отсалютовала подошедшему английскому пароходу, матросы и пассажиры которого криками «ура!» приветствовали отважного француза. Четыре дня спустя «Голубая антилопа», идя по течению, вступила на рангунский рейд. Пополнив запас угля и высадив наемных авантюристов, получивших щедрую награду, яхта вышла в море в неизвестном направлении.Бреванн бросился на толпу, давя людей конем.
Часть третья ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАРИЖАНИНА В СТРАНЕ БИЗОНОВ[5]

ГЛАВА I
Убийство краснокожего и вероятные его последствия. — Охотники за бизонами сами стали дичью. — Билл, полковник в кавычках. — Быстрее! — Полковник-пастух. — Кто такой ковбой. — Жизнь пионеров. — Лошади без всадников. — Фрике — зоркий глаз становится капитаном. — Он отказывается от назначения и хочет быть просто Фрике. — Но Андре приходится стать майором. — Новое вооружение индейцев американского Запада. — Отвратительное зрелище. Под стоявшей посреди долины небольшой купой деревьев раздался треск револьверного выстрела. Упал с пробитой головой индеец. — На коней, джентльмены, на коней! — громко крикнул тот, кто выстрелил. Два его товарища, сидевшие на земле во время неожиданного нападения, вскочили, кинулись к лошадям, которые были привязаны к тонкому стволу мимозы, и принялись распутывать кожаные ремни. — Нет, не тратьте время, это я сделаю сам, — сказал стрелок. Они не замедлили подчиниться, их спутник карманным складным ножом в один миг обрезал все три ремня и с ловкостью вольтижера вскочил в седло. Возбужденные происшествием лошади сразу взяли в карьер. Индейцы завыли от ярости и досады. Раздалось несколько выстрелов. Пули просвистели над всадниками, но ни одна не задела. Двое машинально схватились за винчестеры, проводник остановил их: — Вперед, джентльмены, пожалуйста, вперед — и без стрельбы. Сражаться сейчас — безумие. Нельзя терять ни секунды, если вы дорожите своими скальпами. — Ладно, — сказал тот, что был моложе. — Мы вас послушаемся, потому что действительно дорожим своими париками. Парикмахеров поблизости нет, никто не сделает новый, придется щеголять с лысой головой. Это будет неприятно. — Француз надо всем готов смеяться, — проворчал с недовольным видом проводник, с гнусавым акцентом типичного американца. — Думаете, я смеюсь?.. Нисколько. Мне вовсе не до смеха. Помилуйте, мы приехали мирно поохотиться на бизонов и вдруг — бах! Убит человек, а охотники сами стали дичью. Вот вам и свободная страна, вот вам и Американские Штаты. Обидно, ведь правда, месье Андре? — Мне кажется, мистер Билл чересчур скор на руку. — Полковник Билл, — поправил янки. — Хорошо, хорошо. Вероятно, вы цените человеческую жизнь не слишком дорого. — Во-первых, это не человек, а краснокожий подонок. — Для вас — может быть. Вы — бывший офицер американской милиции. Ну а мы — французы, путешественники, люди штатские, не бывшие даже капралами у себя в национальной гвардии. У нас иной взгляд. — Во-вторых, это самый опасный конокрад в здешних местах, а краснокожие конокрады способны на все. Два месяца назад он снял скальп с целой семьи ирландцев-эмигрантов — отца, матери и восьмерых детей. — Что вы говорите! — И наконец, вы не видели, с какой жадностью он поглядывал на наших лошадей и оружие. Не слышали, какие приказания отдавал шепотом своим людям. Иначе вы со мной согласились бы. Хорошо, что я вовремя его обнаружил. Мне помог счастливый случай. — Как бы то ни было, за нами теперь гонится целая стая краснокожих… — Как за героями Майн Рида, Купера или Густава Эмара. — Но без излишней поэзии. По-моему, эти индейцы в рваных пиджаках и брюках, в обтрепанных шляпах так банальны. — И как скучна эта пыльная песчаная равнина. — Они оборванцы, но у них хорошие винчестеры, — заметил практичный «полковник». — Хорошо, что они плохие стрелки. Вот вы говорите — равнина, так я вам скажу, и хорошо, что равнина. Скоро доберемся до прерии. Трава, яркие цветы. Красота. Но чувствуешь себя, как цыпленок на огне. — Вы хорошо говорите, полковник. Однако мне кажется, что погони больше нет. Не сделать ли привал после бешеной скачки? Янки обернулся, привстал на стременах, всмотрелся в даль и сказал: — Лучше, если бы этот сброд гнался за нами. Я подозреваю недоброе. Видите ту высокую траву? Давайте к ней. Полковник достал табачную «тянучку», засунул за щеку и с наслаждением стал жевать. Это был высокий, худой, крепкий человек с энергичным, но холодным и суровым лицом, грозным взглядом, подвижными глазами, большими густыми бровями, опустившимися углами рта, порыжелой от солнца и дождя длинной бородой. На первый взгляд он казался несимпатичным. Одет был неважно — скорее, как джентльмен с большой дороги, а не добропорядочный гражданин североамериканского союза. Широкая серая войлочная шляпа, весьма и весьма поношенная. Красная шерстяная рубашка. Кожаные желтые индейские штаны. Сапожищи. Мексиканские шпоры величиной с блюдце. Револьвер Кольта, нож, винчестер. Одно слово — бандит. Несмотря на полковничий чин, мистер Билл был обыкновенным ковбоем, или пастухом. Впрочем, занятие это далеко не мирное. Американские ковбои ничем не напоминают библейских пастухов. Это страшные люди, и в большинстве случаев трудно определить, где заканчивается ковбой и начинается разбойник. Им поручают многочисленные стада в глухих, малонаселенных областях Дальнего Запада. Жизнь они ведут дикую, безалаберную, чередуя труды и опасности с самым необузданным разгулом. Набирают их по большей части из неудачников, из «бывших людей». Хозяева их, владельцы ранчо, скотоводы, нанимая ковбоев на службу, никогда не интересуются их прошлым, не спрашивают, кто они и откуда. Были бы только дерзки, смелы и на все готовы. А главное — выносливы и неприхотливы. Под началом каждого ковбоя шесть лошадей, тысяча двести голов скота на пятерых, у них есть оружие, телега для провизии — очень неважной, ветчина, мука, и — ступай, паси. Целыми днями в седле охраняют они стада, за этот труд им положено сорок долларов в месяц. Получив жалованье, почти всегда немедленно его пропивают. В газетах вы всегда найдете рассказы об их «подвигах». Недели не проходит, чтобы эти отчаянные пьяницы не натворили чего-нибудь. Раз, например, компания ковбоев до того перепилась, что овладела маленьким пограничным городком, разграбила, жителей вывели на площадь и заставили плясать. Если кто-то плясал недостаточно проворно и усердно, ему простреливали икры из револьверов. За подобные вещи, конечно, и достается порядком. Жители другого городка, выведенные из терпения безобразиями ковбоев, организовали собственную милицию, изловили полдюжины первых встречных ковбоев и повесили их на первом попавшемся дереве. Это подействовало. Ковбои унялись и сменили направление деятельности. Таков был полковник Билл, американский пастух. А кто были его спутники, читатель, конечно, догадался, если читал «Приключения парижанина в стране львов» и «Приключения парижанина в стране тигров». Если нет, пусть обязательно прочитает. Доехав до места, где начиналась высокая трава, всадники остановились и оглянулись назад. Они были достаточно далеко от тех деревьев, у которых произошло столкновение с индейцами. Ничего тревожного охотники не обнаружили. Впереди расстилалась сверкавшая ослепительными цветами прерия. В самом ее начале, перед небольшой рощей, паслось десятка два лошадей. Полковник жевал табак, сплевывал, восседая на коне спокойно, грузный, точно монумент, но, видимо, что-то его заинтересовало. Фрике тоже разглядывал пасшихся лошадей пронзительным взглядом и находил их движения, по меньшей мере, странными, хотя поверхностный наблюдатель не обнаружил бы ничего необыкновенного. — Обратите внимание, месье Андре, — сказал он, — эти лошади двигаются будто не сами по себе, а точно по команде. Встают полумесяцем. — А что? Ведь ты прав. — Ну, так вот. Я догадался, в чем фокус. У каждой лошади есть всадник. Взгляните на ту, белую, в полукилометре от нас. Я вижу у нее на боку ногу в желтых кожаных штанах. Индейцы в аргентинских пампасах часто проделывают такой акробатический трюк. Я знаю. — У вас отличное зрение, капитан! — вскричал американец. — Кто это капитан? Это я-то? Какой же я капитан, позвольте вас спросить? И прибавил по-французски, обращаясь к Андре: — До чего забавен этот фантастический военный. Служит у нас проводником, почти лакеем, и осмеливается называть меня капитаном, именуя себя сам полковником! Выходит, я у него в подчинении. Хороша же эта хваленая американская демократия! — Но, капитан… — продолжал янки. — Пожалуйста, просто мистер Фрике, без всяких званий и титулов! — перебил молодой человек. — Я этого не люблю. — Слушаюсь, мистер Фрике, — продолжал ковбой, удивленный отказом от капитанского чина, от которого рукой подать до майора, а там и того выше. — Вы, очевидно, знакомы с их хитростями. Я с вами согласен. — Месье Андре, вы стреляете, как никто в мире. Попробуйте подбить эту белую лошадь. — Изволь. Постараюсь доставить тебе удовольствие. Охотник прицелился, не слезая с седла. Из дула вылетел дымок. Грянул выстрел. Белый конь взвился на дыбы и тяжело упал на бок. Наездник, скрывавшийся за его белым боком, успел соскочить на землю. — Вот ловко-то! — восторженно воскликнул парижанин. — Браво, майор, — одобрил ковбой. — Он опять за свое, — сказал Фрике. — Вот вы и в майоры попали! Послушайте, мистер Билл, раз для вас это так просто, вы уж лучше произведите его сразу в генералы. Он имеет право — все-таки начальник экспедиции. Скажите, вы можете сделать это или нет? От затруднительного ответа полковника избавило неожиданное происшествие. Индейцы, поняв, что их обнаружили, яростно закричали, сели в седла как следует и, не скрываясь, ринулись вперед. Охотники не стали их дожидаться и во весь опор помчались по прерии. Драться с индейцами было бессмысленно — шестеро на одного при равном вооружении. Фрике очень удивился, что американцы разрешают индейцам обзаводиться современным оружием, тем самым навлекая на себя немало бед. Лошади у наших путешественников были превосходные, часа четыре они могли скакать вперед, не подпуская к себе индейцев. Достаточно, чтобы добраться до лагеря, где фура с провизией, лагерными принадлежностями, запасные лошади и семеро ковбоев, нанятых одновременно с полковником. Проводник прекрасно знал дорогу и уверенно скакал по океану зелени вместе со своими двумя спутниками. Индейцы тоже не останавливались, и понемногу расстояние между ними сокращалось. Но охотники не тревожились — вот-вот покажется лагерь, их встретят свои, а десятерым преследователи уже не страшны. Вот и лагерь. Они закричали «ура!», давая знать о своем приближении. Но что это? Никто не отвечает. Пусто. Не видно ни людей, ни лошадей. А индейцы приближаются. Фура одиноко стоит среди потухших головней. Охваченные дурным предчувствием беглецы вгляделись в помятую траву, и все трое вскрикнули от ужаса. Их глазам предстало отвратительное зрелище.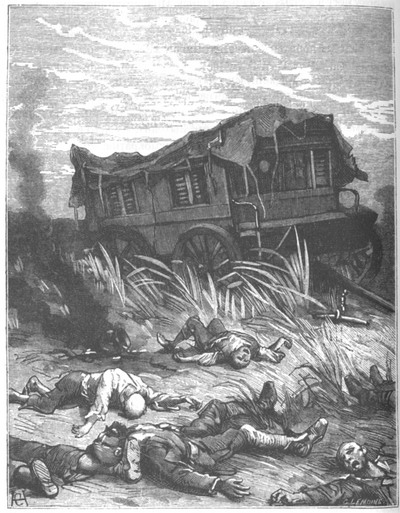
Фура одиноко стоит среди потухших головней.
ГЛАВА II
Бойня. — Похоронная речь. — Вражда белых и красных. — Уничтожение или поглощение индейцев. — После разграбления. — Бизонья трава. — Прерия горит. — Между живосожжением и столбом пыток. — Пэлуз-ривер. — Обойдены справа. — Стычка и гибель белой лошади. — В обход слева. — В обход сзади. — Андре принимает командование. — Фрике поливает водой три одеяла и режет их пополам. — Андре произведен в генералы. — Сквозь огонь. Дюжина волков с окровавленными мордами нехотя бросили свой пир и удалились прочь при виде подъехавших всадников. Коршуны вились над трупами, но опуститься боялись — трусость этих птиц превосходит их алчность. В нескольких шагах от фуры возле потухшего костра лежали шесть обезображенных тел. Людей застигли врасплох, когда они сидели у костра и ужинали. Напали сзади. Со всех шестерых сняли скальп — их черепа были сплошной кровавой раной. Лица изгрызли волки. Смотреть на это было невозможно. Полковник передвинул табачную жвачку справа налево, кашлянул, сплюнул шага на четыре перед собой и проворчал глухим голосом: — By God! Как они обработали моих товарищей!.. Но и те хороши, а еще уэстенеры[6]: дать захватить себя врасплох, дать перерезать себя как телят! Где же седьмой? А! Он стоял на часах. Вон его труп, в пятнадцати шагах отсюда. На подбородке остался клочок рыжих волос, все прочее сожрали волки. Узнаю по этому клочку моего приятеля, полковника Джима. Хороший был человек, очень любил виски. Не удивлюсь, если окажется, что в наше отсутствие он добрался до ваших запасов и забыл, что напиваться допьяна, находясь на часах поблизости от резерваций, по меньшей мере, неосторожно. Ну что, джентльмены? Разве я был неправ, уложив того негодяя? — Думаете, они сговорились? — Этот сброд всегда успевает сговориться. — Я думал, что индейцы в мирное время никогда просто так не нападают, сначала объявляют что-то вроде войны. — Так было раньше. Теперь они стали смышленее и нападают, где только можно и когда только можно. Правда, и мы не теряем бдительности. — Значит, на Дальнем Западе почти все время война? — Все время, джентльмены. И она не прекратится до тех пор, пока краснокожая раса не будет полностью уничтожена или не сольется с белой. — Кто же убил так подло наших товарищей? — Полагаю, мародеры, которых мы встретили около Уэтсбурга. Они уверяют, что принадлежат к племени «просверленных носов», но на самом деле не принадлежат ни к какому и живут на границе резерваций около факторий, устроенных пионерами. — И нам не добиться на них управы от краснокожих вождей? Американец грубо расхохотался. Его хохот показался особенно циничным вблизи изуродованных трупов. — Сразу видно, французы, — сказал он с иронией, — ишь чего захотели! Управы! Вот она наша управа — винтовка, если ты силен, — он хлопнул рукой по своему винчестеру, — а коли не силен, так удирай со всех ног и во все лопатки, иначе снимут скальп. — Не хотелось бы покинуть эти места, не поохотившись, — перебил Фрике. — Может, попробуем организовать оборону? Фура-то цела. — И это меня удивляет, — сказал Андре. — А меня ничуть, — возразил американец. — Они взяли лошадей, сбрую, оружие и боеприпасы. Но как тащить огромные ящики с провизией и запасным оружием? Взломать их нельзя — они у вас дубовые, с железными гвоздями, их и топор-то не берет. — Из фуры можно было бы сделать настоящую крепость, — заметил молодой человек. — В которой из нас наделали бы копченых окороков на манер чикагских. By God, мистер Фрике, вы совсем не знаете, что такое война в прерии. Единственное спасение сейчас — наши быстрые кони. Увидите, эти негодяи не преминут поджечь траву… Им это на руку. Трава чудная, настоящий бизоний корм. Есть на чем разбогатеть десятерым владельцам ранчо. Впрочем, об этом я подумаю после. А пока… Наши лошади, кажется, передохнули немного. Вперед, в резервацию индейского племени «плоскоголовых». — Далеко? — Тридцать пять миль. — Шестнадцать французских, то есть шестьдесят тысяч восемьсот метров. — А наши лошади выдержат? — Это я скажу вам завтра, если до тех пор с меня не снимут скальп. Даже не взглянув на убитых товарищей, мистер Билл пришпорил коня и поскакал в бескрайнюю прерию, сопровождаемый французами. После часа езды по высокой траве Фрике спросил: — Полковник, вы уверены, что за нами гонятся? — Безусловно, капитан… то бишь мистер Фрике. И даже думаю, что число преследователей увеличилось вдвое. Слишком уж я насолил им в разное время, они ни за что не упустят случая снять с меня скальп. Но только мы еще посмотрим… Черт возьми! — вдруг прибавил он, тревожно придержав коня. — Что случилось? — Господа, как вам кажется, пахнет гарью или нет? — Нет, — хором ответили французы. — Сразу видно, не прожили вы, как я, десять лет на открытом воздухе. Тут обоняние поневоле обостряется. — И что же оно вам говорит, ваше острое обоняние? — с некоторой насмешкой спросил парижанин. — Можно узнать? — Разумеется, можно, мистер Фрике. Я еще не утверждаю, но опасаюсь, что бизонья трава подожжена недалеко отсюда и нам грозит опасность сначала задохнуться в дыму, а потом сгореть заживо. — Если только… — Если только мы не попадемся в лапы краснокожих бродяг. — Ах да!.. Знаю! Столб пыток… Читал об этом в книгах. — Не смейтесь, молодой человек, — серьезно заметил ковбой. — Я видел сам, как моих товарищей подвешивали над угольями и жарили на медленном огне, а женщины выдергивали им суставы пальцев и вырезали из кожи узкие ремешки. Мужчины в это время орали бравые песни. — Если они при этом фальшивили, мучения оказывались еще нестерпимее. Полковник покосился на молодого человека, но ничего не сказал. — Из ваших слов я делаю вывод, — невозмутимо продолжал Фрике, — что здешние индейцы весьма талантливы на подобные операции, но не имеют ни малейшего понятия о нормальных общественных отношениях. Отчего бы не поучить их немного? Почему бы не ввести среди них всеобщее обязательное обучение и притом бесплатное? — Ладно, ладно! Посмотрим, как вы будете веселиться, когда дело примет нехороший оборот. — Вас, я вижу, сердят мои шутки? Мы ведь всегда так. Мы шутливо храбры, а вы храбры ворчливо. У каждого своя манера. Не правда ли, месье Андре? Тот улыбнулся, привстал на стременах, лизнул палец и поднял кверху, как делают моряки, когда хотят узнать направление ветра. — Полковник, по-моему, прав, — сказал он вместо ответа. — Бизонья трава несомненно горит, хотя огня и не видно, и горит от нас по ветру. Пожар, по-моему, находится впереди. Что скажете, полковник? — Скажу, что вы правы, майор. Впереди пожар, позади краснокожие. Недурное положеньице. — Что же делать? — Во что бы то ни стало добраться до той голубоватой полосы в четырех милях от нас. Я полагаю, что это лес на берегу Пэлуз-ривер. Вдруг послышался шум, похожий на гул прилива. Между беглецами и голубой полосой поднялись тонкие столбики беловатого дыма. Через десять минут их было уже около тридцати. Они располагались на одной прямой и скоро должны были слиться в сплошной костер. Тогда путь к реке окажется отрезан. — Ну-с, мистер Фрике, что вы теперь скажете? — Скажу, что индейцы подожгли траву, чтобы не пропустить нас к реке, а сами скачут позади нас полукругом. — Совершенно верно. Только их теперь не двадцать, а не меньше двухсот, и они окружают нас с трех сторон тремя отрядами. Попробуем сначала проскочить справа.
Всадники поскакали вправо и через десять минут достигли вершины кургана, и оттуда им открылось полсотни индейцев, яростно заоравших при виде беглецов. — Так и есть, — проворчал американец. — Здесь дорога перерезана. Полковник остановил коня, схватил винтовку и выстрелил с расстояния четыреста метров. Взвился на дыбы чудный белый конь и упал, придавив седока. — Черт знает что! — воскликнул ковбой. — Вы недовольны? — удивился Фрике. — По-моему, замечательный выстрел. — На что мне лошадь, я хотел свалить седока. Браво, майор! Хорошо!.. Капитан, великолепно! Андре и Фрике тоже сделали по выстрелу. Тот, в кого целился Бреванн, упал на землю, мишень парижанина — на круп лошади. Индейцы, довольно плохие стрелки, что бы о них ни говорили, опасливо спрятались за лошадей. — Конечно, здесь нам не пробиться, об этом и думать нечего, — сказал Андре, заменяя пустой патрон новым. — Попробуем слева, — предложил ковбой, делая крутой поворот. Они проскакали триста метров и увидали перед собой новый отряд. Индейцы, видимо, были уверены в успехе и спокойно обходили белых, оттесняя их к огню. Положение становилось критическим. Американец бесстрастно жевал табак и с удивлением поглядывал на неустрашимых французов, явно восхищаясь ими. Фрике насвистывал свою любимую песенку «Господин Дюмолле», Андре смотрел в бинокль на огненную полосу, из которой все чаще и все слышнее раздавался треск. Три линии индейцев медленно сближались. — Ну, полковник? — спросил Бреванн. — Гм! — Ваше мнение? — Я нахожу, что мы серьезно больны и за все три наших скальпа я не дал бы и доллара. — И все-таки отсюда надо уйти. — Я тоже так думаю. Броситься на индейцев и убить их как можно больше — никуда не годится. Они перебьют наших лошадей, а нас самих схватят и привяжут к столбу. — А не пробиться ли нам через огонь? — Попробуем. — Полковник, я на одну минуту приму командование. — С тем, чтобы каждый спасался как может. — Хорошо. Только следуйте моему плану. Право же, он хорош. Фрике, скорее отвяжи все наши одеяла. Вы, полковник, следите за правой стороной, я буду следить за противоположной. Мех с водой у тебя полон? — В нем восемь литров воды, месье Андре. — Расстели одеяла на траве и полей их хорошенько. А вы, полковник, уложите-ка вон того, на пегом коне. Что он там гарцует… Браво! А я вот этого. Раздались два выстрела. Упали двое. Индейцы сомкнули ряды и не отвечали. Они были уверены, что захватят врагов живыми. — Готово, Фрике? — Да, месье Андре. — Хорошо. Он выстрелил еще раз и продолжал: — Разрежь одеяла пополам… Полковник, ну-ка, в того, что высунулся из рядов… Да вы превосходный стрелок! Ну, Фрике? — Одеяла разрезаны. — Одной половиной замотай головы лошадям, чтобы глаза и морды были полностью закутаны и часть груди. — Месье Андре, пламя приближается. — Вижу. Готово? — Готово. — На коня, мальчуган. Отдай одну половину одеяла полковнику, другую мне, третью оставь себе. Закрой себе голову и грудь. — Браво, генерал! — вскричал ковбой. — Я понял. Полоса огня была всего в ста метрах. Сзади, метрах в трехстах, надвигались слившиеся в одну толпу все три отряда индейцев. Белые повернулись лицом к пожару, которого не могли видеть лошади, закутанные в мокрые одеяла. — Вперед! — скомандовал Андре, пришпоривая коня и пригибаясь под своей половиной одеяла. — Вперед! — крикнули его товарищи, делая то же. Все трое ринулись в пламя. Индейцы увидели, что добыча ускользает, и подняли яростный крик.— Ну-с, мистер Фрике, что вы теперь скажете?

Все трое ринулись в пламя.
ГЛАВА III
Через Тихий океан. — Сан-Франциско. — Впечатление, произведенное двумя французами, путешествующими для собственного удовольствия. — Блеск американской рекламы. — Индейцы «каменные сердца». — Первый маршрут. — Долина реки Колумбия. — Портленд. — Далеко не все и не всегда благополучно в городах свободной Америки. — Городок Туканнор. — Пульмановские вагоны. — Левый берег реки Колумбия. — В прериях. После громкого приключения в бирманской столице Мандалае (о чем рассказано в «Приключениях в стране тигров») Андре и Фрике вернулись на «Голубой антилопе» в Рангун и составили план новой охотничьей экспедиции. На этот раз они задумали посетить Дальний Запад Северной Америки и поохотиться на бизонов. Яхта сначала пошла в Сингапур, оттуда — в Сайгон, где сделали запас угля. Отправив письма в Европу с первым отходящим почтовым пароходом, проследовали в Гонконг. Пополнили запасы угля и провизии и направились в Иокогаму. Преодолев три тысячи километров, на седьмой день пути яхта вошла в японский порт. Всего за три недели плавания от Рангуна прошли восемь тысяч километров. В Иокогаме Андре распорядился основательно обновить все запасы, поскольку предстоял длительный переход через Тихий океан до Сан-Франциско — десять тысяч семьсот километров. При средней скорости яхты десять узлов путешествие должно было продлиться не менее двадцати четырех дней, без единой остановки — на всем пути от Дальнего Востока до Америки нет ни клочка земли. Полностью доверяя яхте, матросам и капитану Плогоннеку, утром 15 мая 1880 года Андре отдал приказ сниматься с якоря, взяв курс на Сан-Франциско. Восьмого июня после вполне благополучного плавания «Голубая антилопа», подняв на корме национальный флаг, вошла в гавань Сан-Франциско через Золотые Ворота. Визит к французскому консулу, посещение нескольких клубов, куда его пригласил дипломат, этого оказалось достаточно — Андре решил поскорее отправиться в прерии. Он не был ни инженером, ни скотоводом, не торговал салом, кожами, мукой, не занимался спекуляциями, а потому казался окружающим диковинным зверем. Нервные, речистые люди, вечно в движении, вечно в поисках новизны, понимали, что можно поехать куда угодно, чтобы заработать или пусть даже потерять доллар. Но чтобы человек богатый мог путешествовать по Америке только ради удовольствия, ради охоты — этого они понять не могли. И никто не мог посоветовать французам, куда им направиться. Тогда Андре положился на случай, на свою счастливую звезду. Закончив приготовления, они с Фрике пошли прогуляться по Монтгомери-стрит. Им пришла фантазия зайти запросто, как это принято у американцев, в холл одного отеля. Какой-то джентльмен с козлиной бородой молча подал им лист, разрисованный яркими красками, с разноцветными буквами:— Это как раз для нас! — засмеялся Бреванн, показывая объявление Фрике. — Значит, здесь есть бизоны, если только реклама не врет. Мистер Джонатан любит все преувеличивать. — Что это такое — Северо-Западная железная дорога? — Посмотри, здесь есть схема. Она проведена от озера Верхнего до реки Колумбии к Тихому океану через самые дикие места, в которых укрываются последние бизоны, загнанные краснокожими и бледнолицыми охотниками. Здесь, между прочим, находится округ, где живет индейское племя «каменных сердец», с которыми нам надо будет встретиться. — Каменные сердца! Какое странное название! — Это ветвь большого племени «плоскоголовых», или «змей». Они когда-то хорошо приняли канадских французов-трапперов и выказали во многих случаях такое презрение к смерти, такую нечувствительность к самым ужасным мучениям, что наши соотечественники дали им это прозвище, которое так за ними и осталось. Сейчас они вполне цивилизованные, благодаря католическим миссионерам, сумевшим в тысяча восемьсот сорок первом году обратить их в христианство. И продолжают вести дружбу с белыми. В их язык вошло немало французских слов. — У них много дичи? — Вероятно, много, потому что они живут исключительно охотой. — И вы думаете, они хорошо нас примут? — Наверное, как французов и как охотников. — Значит, решено. — Что решено? — Если хотите, отправимся к «каменным сердцам». — С удовольствием, дорогой Фрике. Друзья вернулись к себе в гостиницу. На другой день выехали из Сан-Франциско, но не по Тихоокеанской дороге, как первоначально намеревались, а сели в пульмановский вагон приморской ветви, идущей с юга на север параллельно Тихому океану, через Сакраменто, Ред-Блафф, Юджин-Сити, Сайлем, Портленд и Олимпию. Яхта осталась в Сан-Франциско, где ей предстоял большой ремонт — сказалось десятимесячное плавание. Спустя два часа прибыли в Портленд, где остановились на несколько дней, чтобы сделать необходимые приготовления и навести справки. Прежде всего, Андре выяснил, что в завлекательном объявлении Северо-Западной дороги о бизонах не приврали, а это главное. Впрочем, была в этом объявлении одна маленькая неточность — дорогу еще не довели до озера Верхнего, а только до Валлулы, небольшого местечка в трехстах километрах от Портленда. От Валлулы до местности, где жили «каменные сердца», Андре и Фрике предстояло проехать верхом двести двадцать километров — этот отрезок железной дороги существовал пока только на бумаге. Что, впрочем, не смущало друзей. Они не торопились, им было все равно, как ехать, лишь бы охота оказалась хорошей. К тому же они узнали, что в Валлуле можно найти и повозки, и тягловых лошадей, и верховых коней. Чтобы не сбиться с пути, Бреванн заранее проложил маршрут, от которого, впрочем, можно было отступать, если на то будет необходимость. Он пролегал от Валлулы через форт Уолла-Уолла, городок Уэтсбург, Туканнор и Пэлуз-фарм на правом берегу Снейк-ривер. Пэлуз-фарм был последним цивилизованным пунктом, после которого охотников ожидала ночевка под открытым небом. Но и это нисколько не смущало французов. Известие об их отъезде в опасную экспедицию произвело большое впечатление на служащих в гостинице. В их числе был конторщик, родом канадец, с самого приезда оказывавший «французам из старой Франции» особенное внимание. Вместе с другим конторщиком, чистокровным янки, он помогал Андре составлять маршрут. Когда Бреванн произнес слово «Туканнор», клерк-француз вдруг перебил его. — Слышите, Дик, — обратился он к товарищу-янки, — джентльмен хочет ехать в Туканнор. — Слышу, — отвечал Дик, устроившийся в кресле-качалке и метко сплевывавший на колонну слюну с табаком. — Разве «просверленные носы» не там сняли скальп с мужчин и увели в плен детей и женщин? — Нет, это было в Элк-сити, в Айдахо. — Это там река вышла из берегов и смыла весь город? — И это было не там, а в Льюистоне, неподалеку оттуда. — Между тем я наверное помню, что в Туканноре что-то такое случилось. — Yes. Ковбои взяли город и три четверти домов сожгли, поскольку жители не хотели дать им виски. — Вот видите! — Это было уж месяц назад. С тех пор деревянные дома отстроили вновь, а несколько ковбоев повесили. Даже телеграф восстановлен. — Все-таки, господа, примите меры. Тут не Канада, где правительство хорошо обращается с индейцами и они друзья белых. Мне будет жаль, если с вами случится несчастье. Ведь мы одной крови! — Спасибо, дорогой земляк, — проговорил Андре, пожимая руку конторщику, — мы будем осторожны. Друзья смогли выехать лишь через день, вверив свою жизнь пресквернейшей железной дороге, проведенной полевому берегу реки Колумбии. Полотно было отвратительное, шпалы лежали почти без балласта. Состав, впрочем, оказался недурен. В Европе почти ничего не знают о пульмановских вагонах, названных по имени их изобретателя и бегающих почти по всем американским дорогам. Это настоящие залы двадцать пять метров длиной, с раздвижными креслами, попарно поставленными друг напротив друга. На ночь их сдвигают, и получается великолепная постель с безукоризненно чистыми матрасом, подушками, простыней и одеялом. По вагону можно пройти в курительную комнату, в уборную со свежей водой, мылом, полотенцами и прочим необходимым и, наконец, в ватерклозет. Вагоны соединены между собой тамбурами, так что свободно и безопасно можно разгуливать по всему поезду. На протяженных линиях в поездах есть специальные вагоны-рестораны, на небольших перегонах их заменяют вагонами-буфетами. Впрочем, у нас еще будет случай поговорить обо всех этих американских приспособлениях, и тогда опишем их подробно, а теперь не к месту и не ко времени.ИССЛЕДОВАТЕЛЮ! ПИОНЕРУ! РАБОЧЕМУ!
ТУРИСТУ! ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКУ! ОХОТНИКУ!
РЕШИТЕЛЬНО ВСЕМ!!!
ВСЕ, КТО
ХОЧЕТ УСПЕШНО ЗАНИМАТЬСЯ СКОТОВОДСТВОМ.
ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЕ УРОЖАИ.
ИЩЕТ ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ,
БОГАТЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
РАЗНООБРАЗНЫХ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
С КРАСИВЫМ МЕХОМ. МЕДВЕДЕЙ И БИЗОНОВ.
ДОЛЖНЫ ПРОЕХАТЬ ПО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ,
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРОЛЕГАЮЩЕЙ ПО САМЫМ ЧУДНЫМ
ЗЕМЛЯМ СОЮЗА
Где смертность — 1 на 120,
Тогда как в восточных штатах она — 1 на 88,
А в Европе — 1 на 42.
!!!СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!!!

Поезд вышел из Портленда и благополучно прибыл в город Дале, где заканчивается речное судоходство по Колумбии. Все притоки этой обширной реки с бассейном восемьсот тысяч квадратных километров, то есть в полтора раза превосходящим территорию Франции, соединяются здесь в одно русло шириной одна тысяча двести метров. Но выше города оно сужается до ста метров, будучи сдавлено базальтовыми стенами, здесь глубина достигает местами тысячи метров. Через этот единственный проток, без которого весь бассейн сделался бы внутренним озером, как это и было раньше, река Колумбия вбрасывает свои воды в Тихий океан. Таких проломов, пробитых в Каскад-рэндже водами, стремящимися туда же, всего два — этот и еще один на севере, через который несется в океан река Фрейзер. Андре едва успел все объяснить и показать своему другу, как поезд, адски качаясь и прыгая на скверно уложенных рельсах, взял направление на восток и покатился по бесконечной прерии вдоль левого берега реки.Пульмановские вагоны — это настоящие залы.
ГЛАВА IV
Железная дорога будущего. — Валлула. — Салуны. — Чудовищная еда. — Обед пастора. — Поиски лошадей. — Маленькие люди любят большие вещи и рослых коней. — Лошадь Фрике. — Фрике отказывается от услуг незнакомца, предлагающего подсадить его на громадную лошадь. — Драматические последствия этого отказа. — Яростная, но непродолжительная схватка. — Полковник-кентуккиец шести футов ростом поколочен не слишком высоким парижанином. — Все хорошо, что хорошо кончается. В то время, когда путешествовали наши герои, Северо-Западную железную дорогу еще не достроили, хотя и вовсю рекламировали. Отправившись в путь в Чикаго, можно было добраться до Бигорн-сити на реке Йеллоустоун, устремившись с запада на восток — до Валлулы. Оставалось проложить более одной тысячи двухсот километров рельсов между ними. Американцы, прекрасно знающие железнодорожное дело, с легкостью справились бы с этой задачей, но препятствие в виде Скалистых гор затрудняло и замедляло строительство, несмотря на обилие долларов. Поезд, в котором ехали Андре и Фрике, неимоверно трясло, тем не менее он благополучно прибыл в Валлулу. Служащие на железной дороге рассказывали, что в Валлуле полторы тысячи жителей, а года через три-четыре их число возрастет до двадцати. Пока это был маленький городок, хотя и явно расстававшийся с детством. Его обитатели сменили палатки и фуры на дома, по большей части кирпичные, стоявшие вдоль широких улиц с деревянными тротуарами, защищавшими от местной липкой грязи, известной под именем гумбо. Три гостиницы давали кров тем, кто не вел собственного хозяйства, а таких было почти четыре пятых. В многочисленных салунах, или, проще говоря, кабаках, продавали замечательные напитки — невероятные смеси аптекарских и парфюмерных средств, столь милых американскому горлу. Были и три церкви разных христианских общин, которые, впрочем, редко кто посещал, а также два банка, тюрьма и суд. Граждане Валлулы любили свой город, пребывая в уверенности, что это последнее слово цивилизации. Фрике и Андре придерживались иного мнения: с трудом переправив багаж в одну из трех гостиниц, они едва смогли найти место в большой общей зале, где ели, пили, жевали табак и бешено ораторствовали жители нового города, разбившись на тесные группки. Хозяйка-немка, крупная женщина, невозмутимая как корова, медленно обходила узкие длинные столы, покрытые грязными скатертями. Остановившись перед двумя заезжими иностранцами, она монотонно, на манер нюрнбергской куклы, проговорила: — Солонина. Корнед-биф. Ветчина. Картофель. Десерт. Чай. Кофе. По-английски, но с убийственным немецким акцентом. Друзья все-таки поняли, что им предлагали, оценив по достоинству столь блестящий набор блюд. Но в ответ ничего сказать не успели, матрона тотчас исчезла. Через пять минут вернулась с дюжиной блюдечек, двумя грошовыми ножами, двумя железными вилками и куском пресного хлеба, похожего на кирпич. Жаловаться не приходилось — друзьям подали не только предложенное хозяйкой, но и многое сверх того, о чем они и спросить не догадались бы. Фрике окинул залу инквизиторским взглядом парижанина, умеющего подмечать мельчайшие подробности. Молодой человек сидел с самым степенным и важным видом, но в душе забавлялся. Уж очень курьезно выглядели эти «выдающиеся» горожане, prominent citizen, тыкавшие железными вилками в блюдечки, накладывавшие на тарелки груды еды, которую поливали горчицей и соусами, невероятно крепкими и острыми, и запихивали ее в рот посредством ножа и вилки. Вступив в битву с поданным ему куском говядины, жесткой, точно мясо акулы, он вдруг остановился, сраженный неожиданным зрелищем. Джентльмен весьма почтенного вида, вероятно пастор, занимался кулинарными приготовлениями, которых европейцу ни за что не понять. Он нарезал кубиками жареную ветчину, полил ее консервированным молоком, густым, почти как мед, накрошил туда грибных консервов. Выдавил в эту смесь свежий помидор, полил все яйцом, разведенным в виски, круто посолил, насыпал, не жалея, перца и обложил ломтиками ананаса. Затем сдобрил это блюдо каким-то черным составом. «Не иначе тут пари», — сказал себе парижанин. Его передернуло, когда пастор принялся с аппетитом поглощать эту смесь. — Месье Андре, — шепнул он другу, — даже китайцы не смогли бы придумать ничего подобного, а уж они-то мастера смешивать несовместимое. Сколько я ни ездил по белу свету, ничего подобного не видел. Вот это меню! Ну и американцы! Андре невозмутимо поедал ветчину, хлеб, огурцы и помидоры с видом человека, торопящегося окончить неприятную формальность и поскорее расстаться с этой передовой цивилизацией, забравшись в дикую глушь, где воздух чист, люди гостеприимны, пища проста и съедобна, где живется вольно и дышится полной грудью. После этой еды — кажется, они в жизни своей не пробовали хуже — друзья отправились на поиски лошадей. Их в Валлуле было предостаточно. Малорослые, но красивые и крепкие кони. Настоящие ковбойские — неутомимые и выносливые. Андре выбрал себе рыже-бурую лошадку с черным хвостом и черной гривой, крепкими сухими ногами, тонкими, но твердыми, как мрамор, копытами. А Фрике… Бреванн невольно улыбнулся его выбору. Люди небольшого роста очень любят все объемное: носят шляпы с широкими полями, курят сигары, путаются в длинных пальто, предпочитают просторные комнаты, держат крупных собак, женятся на рослых женщинах. Это известно всем. Хотите знать, какая лошадь приглянулась Фрике, который, по правде говоря, не слишком вышел ростом? Долговязый конь, необыкновенно высокий по сравнению с местными лошадьми, казавшийся страусом среди журавлей. То был, по всей вероятности, скакун-неудачник, неизвестно как застрявший на последней станции Северо-Западной железной дороги. Молодой человек подошел к нему, взял за повод, потрепал по груди, осмотрел со всех сторон с видом знатока и сказал Андре: — Этот конь как раз для меня. Я его беру. «Выдающиеся граждане» высыпали из гостиниц и салунов, чтобы посмотреть, как будут выбирать себе лошадей приезжие французы. Решение Фрике всех удивило. Уж очень велика разница между лошадью и седоком. Среди публики раздался хохот, впрочем, отнюдь не враждебный. Парижанин выпрямился, как задорный петух, но, подумав немного, пожал плечами и приготовился вскочить в седло. — Смейтесь, дураки! — процедил он сквозь зубы. Вдруг на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука и кто-то проговорил осипшим басом: — Если у вас нет лестницы, полковник Джим может вас подсадить. Фрике обернулся и увидел перед собой ковбоя-богатыря, неотесанного не только снаружи, но, судя по всему, и изнутри. Такие люди говорят о себе, что они полукрокодилы-полулошади. — Что за чудище! — возмутился француз. — И потом, что за фамильярность? Прочь лапы, не то я так тресну… Зрители окончательно развеселились, бурный хохот одолел почти всех. Ковбой руки не снял, поэтому молодой человек оттолкнул его и так сильно, что тот — правда, он был пьян — отступил шага на три и едва не упал. Оправившись, поднял кулак и хрипло прокричал: — Я тебе башку размозжу! — А я тебя сломаю, как спичку! — пронзительно воскликнул Фрике, делая быстрый прыжок и становясь в безукоризненную позицию боксера. Американцы вообще очень плохо воспитаны, можно даже сказать, не воспитаны вовсе, но они не задиристы и в глубине души скорее добродушны и благожелательны. Многие любопытные хотели прекратить ссору, один из них обратился к Андре: — Джентльмен, увели бы вы вашего друга. Полковник Джим пьян, может выйти несчастье. — Спасибо, джентльмен, — холодно отвечал Бреванн, — но ваш полковник поступил с моим другом чересчур грубо и дерзко и заслуживает хорошего урока. Не робей, Фрике! — обратился он к парижанину. Массивный кулак ковбоя опустился, но встретил пустоту — молодой человек ловко увернулся. — А еще полковник! Вы боксируете, точно стоптанная туфля. Вот вам за это! Раздался глухой удар. Кентуккиец завыл от боли. Глаз его моментально вздулся, закрылся и посинел. Растерявшийся гигант, видимо не привыкший к настоящему боксу, вообразил, что, схватившись с противником грудь в грудь, легче его одолеет. Фрике отпрыгнул на три шага назад и сказал в публику, что так как противник не соблюдает правил, то и он не будет их соблюдать. — Совершенно верно!.. Француз прав!.. Пусть действует, как хочет!.. — послышались голоса. — Ну, так вот вам! — сказал молодой человек и взбрыкнул обеими ногами. Ковбой упал как подкошенный. В бешенстве он вскочил и кинулся на противника как ошалелый бык, окончательно ничего не видя и не соображая. Парижанин вновь ускользнул, еще раздвинул ковбою ногой и почти немедленно кулаком в грудь. На несчастного верзилу сыпались удар за ударом. Трещали кости, текла кровь, появлялись шишки и синяки. Избитый богатырь рухнул на землю почти без чувств. Фрике, даже не запыхавшись, взял за повод свою громадную лошадь и подвел к поверженному противнику. Публика смотрела с удивлением. — Полковник, — сказал он своим пронзительным голосом, — хотел подсадить меня, но сделал это грубо, недостойно джентльмена. Я проучил его за это. Больше ничего против него не имею. Поскольку вернуться в гостиницу на своих двоих он не может, я помогу ему. С этими словами он схватил несчастного одной рукой за ворот, другой за пояс штанов, легко приподнял и посадил на лошадь. Тот лихорадочно ухватился за гриву. — Я думал, он тяжелее, а в нем не больше сотни килограммов. Верзилы всегда легковесны. Что ж, вперед. Тут к нему потянулись десятки рук, вырвали у него повод, а его самого схватили и высоко подбросили. — Гип!.. Гип!.. Ура!.. Вверх летели шляпы. Фрике понесли в ближайший салун, куда направился и Андре. Его тоже хотели нести на руках, но он отвертелся.
Полковник верхом на лошади парижанина подъехал к кабаку. У таких людей обморок, как правило, недолог. К тому же хозяин, человек бывалый, сейчас же выбежал из-за стойки и вылил в рот раненому знатную дозу лекарства, которое американцы называют корпс-ривайвер, оживитель трупов. Это огненная жидкость, обжигающая все нутро. Едва отведав ее, полковник встряхнулся и опомнился. Обнаружив Фрике, протянул ему руку и сказал: — Помиримся, джентльмен! Вы невелики ростом, но молодчина. Теперь я ваш друг. Парижанин сердечно пожал протянутую руку под громкие аплодисменты зрителей. Толпа делалась все громче, чему способствовало неумеренное питие. Но Фрике и Андре прибыли в Валлулу вовсе не затем, чтобы любоваться празднествами американских авантюристов. Трезвенники и умеренные в еде, они ненавидели обжорство, пьянство и всякие излишества, а потому решили при первом удобном случае улизнуть из салуна. Новый друг угадал их намерение. — Не беспокойтесь, джентльмены, — сказал он, на скорую руку ознакомившись с их проектом экспедиции в страну бизонов. — Доверьтесь мне, я помогу вам достать все необходимое. Сейчас увидите. И он крикнул сиплым голосом на всю залу: — Эй, Билл!.. Куманек любезный! Эй! Полковник Билл! — Как? Опять полковник? — не удержался Фрике. — О, джентльмен, это у нас ничего не значит, — отвечал с грубым смехом ковбой, — мы очень падки на титулы и звания. Каждый непременно хочет быть кем-нибудь: генералом, полковником, инженером, судьей, профессором, доктором… Более скромные довольствуются чином капитана. — А, вот оно что. Ну, а вы, полковник, вероятно, недавно вышли в отставку? — Кто? Я? Да я на военной службе никогда и не был. Моего брата, полковника в армии Шермана, убили при Кинстоне. Я, выходит, получил его звание в наследство… А вот и Билл. — Зачем я вам нужен, Джим? — Эти джентльмены ищут двух хороших лошадей по разумной цене. Не добудете? — Для вас, Джим, с большим удовольствием. — Кроме того, им необходим проводник, знакомый с местными индейскими наречиями. Не хотите наняться? — Отчего ж, если за разумную плату… — Вот именно — разумную. Кроме того, вы должны будете добыть для них фуру, пару тягловых лошадей, четырех верховых, наконец, лошадей для конвоя, если они пожелают взять с собой сопровождающих… — Ладно. Все это я обдумаю и устрою завтра, а сегодня не мешай мне пить. Не так ли, джентльмены? — сказал Билл, протягивая руку Андре и Фрике, которые за все время беседы не вымолвили ни слова. — Так, так, — отвечал Андре, которого забавлял подобный способ вести переговоры и устраивать дела. Однако он оставил за собой право проконтролировать все действия будущего проводника. Тем временем молодой человек случайно познакомился и разговорился с одним из инженеров-путейцев, который, оказалось, учился во Франции в Центральном училище искусств и ремесел и имел диплом гражданского инженера. Значит, был почти соотечественником. Он знал лично обоих полковников, ему приходилось пользоваться их услугами. Оба были настоящие авантюристы, пьяницы, драчуны, задиры, всегда готовые схватиться за нож или револьвер, но добросовестно исполняли принятые на себя обязательства, твердо держали данное слово и, вообще, годились для самой разной службы. Местность знали отлично, равно как и туземные наречия, умели выпутаться из любой затруднительной ситуации. Для наших путешественников такие люди были просто клад. Получив эти сведения, Андре немедленно нанял на службу обоих и в качестве награды угостил фантастическим пуншем, какого ни разу не пробовали в питейных заведениях американского Северо-Запада.Полковник хотел подсадить меня, но сделал это грубо, недостойно джентльмена. Я проучил его за это.
ГЛАВА V
Мистер Билл немного больше полковник, чем его кум. — Эпизод гражданской войны. — Величие и упадок двух командиров. — В страну бизонов. — Первый переход. — Встреча с индейцами. — Разочарование парижанина, мечтавшего встретить краснокожих, о которых пишут в книгах. — Скальпы они тем не менее продолжают снимать. — Опасения полковника Билла. — Лишняя, по всей видимости, предосторожность. — Третий и четвертый переход. — След бизонов. — Фрике засыпает на часах. — Вновь индейцы. — Предательство. — А полковник Билл? — спросил Фрике у инженера, собираясь уходить, поскольку в салуне стоял невыносимый шум. — Он такой же полковник, как Джим? — Не совсем. Он действительно командовал отрядом волонтеров… и каких! — Стало быть, настоящий? — Сами увидите. Во время гражданской войны президент южных штатов Джефферсон Дэвис решил вовлечь в конфедерацию индейцев криксов и ирокезов. И отправил к ним некоего Алберта Пайка, типичного авантюриста. Этот Пайк кем только не побывал: прокурором, пионером, учителем, кавалерийским офицером, приказчиком, газетчиком и, наконец, траппером. За время своего трапперства он коротко узнал индейцев и близко сошелся с одним молодым техасцем, человеком без предрассудков. Звали его Биллом. Пайк приблизил Билла к себе, сам назвался генералом, его произвел в полковники. Вместе они принялись проповедовать среди индейцев, торговавших неграми, рабовладельческий поход. Опоив виски, посулив полную свободу торговать рабами, завербовали на службу около пяти тысяч краснокожих. Полковник и генерал обрядились в шитые золотом мундиры, нацепили огромные сабли, надели шляпы с перьями и привели свой корпус в одну из конфедератских армий, а именно к Ван Дорну. Индейцев приняли, уважительно обходились с ними, всячески стараясь привязать к себе и к делу. Но вот генерал Кертис, командовавший одной из армий Севера, начал наступление и открыл сильный артиллерийский огонь по противнику. Индейцы, никогда еще не видевшие артиллерии, решили, что ядра сыплются на них с неба, и разбежались, прячась где попало. Когда же с наступлением ночи битва прекратилась, вышли на поле боя и сняли скальпы со всех убитых и раненых, не отличая своих от неприятелей. Взрыв негодования в обоих лагерях был ответом на это безобразие. Генерал Кертис написал Ван Дорну протестующее письмо. Опасаясь репрессий и прислушавшись к товарищам, протестовавшим против таких союзников, генерал распустил отряд краснокожих. Пайк и Билл разом лишились шитых золотом мундиров, шляп с плюмажем и огромных сабель. Пайк стал чиновником в земельном ведомстве, мистер Билл сохранил звание полковника и взялся за ремесло ковбоя, которое вполне соответствовало его независимому характеру и любви к приключениям. На следующий день ровно в полдень полковник Билл был готов и явился к Андре. Тот с удовольствием заметил, что авантюристу пошла впрок его недолгая служба в армии Юга: по крайней мере, он сохранил военную пунктуальность. Пропьянствовав всю ночь, он утром успел подыскать и сторговать лошадей, фуру и даже устроить всему этому смотр. Бреванн убедился, что все купленное очень хорошо и при этом дешево. Не считаясь со вкусами Фрике, Билл вместо громадного скакуна купил для него обыкновенную, местную, небольшую лошадку. Тем временем пришел в себя и Джим, даром что пил за четверых ковбоев, то есть за десяток обыкновенных мужчин, подыскал нескольких надежных ребят из безработных джентльменов и привел их к Андре. Тот нанял шестерых сроком на три месяца с условием полного повиновения его приказаниям и уважительного отношения к индейцам. Затем занялся фурой, в которую погрузили все необходимое для экспедиции: консервированное мясо, чай, сахар, кофе, виски, муку, сухари, окорока, прочую провизию, лагерный материал, запасные инструменты и оружие. Сборы завершили к вечеру. Новобранцы старались, без устали проработав целый день. За это Андре разрешил им гулять всю следующую ночь, с условием, чтобы спустя час после восхода они были на месте, готовые двинуться в путь. Обещание было выполнено, и в назначенный час экспедиция выступила из Валлулы, приветствуемая попадавшимися навстречу жителями. Первый переход составил сорок километров, половину расстояния до городка Уэтсбурга. Ночевали на холме, что было очень хорошо, поскольку низины здесь болотистые. Дальше низины исчезали, перед путешественниками расстилалась необозримая, однообразно-монотонная прерия. Путники двинулись вперед и в первый раз встретили индейцев. Вид у этих «воинов» был неважный: Фрике, знавший о них лишь из книг, был страшно разочарован. Неужели эти лишенные всякой оригинальности некрасивые люди и есть потомки героев Купера, Майн Рида, Густава Эмара и Габриэля Ферри? Неужели эти мерзкие оборванцы в грязных лохмотьях и шляпах, которые даже самые небрезгливые старьевщики не решились бы взять в руки, бывшие хозяева прерии? Чистое Сердце, Анкас, Косталь, Большая Змея, где вы? Куда пропали? Нет больше изящно вышитых мокасин, отделанных разноцветной бахромой и иглами дикобраза. Вместо них какие-то омерзительные штиблеты, починенные бечевками. Нет раскрашенных яркой краской лиц, пусть и не слишком красивых, но оригинальных. Вместо краски — слой грязи, что выглядит совсем уж непривлекательно. Нет пряди волос, украшенной перьями, которую краснокожие воины носили как вызов врагу. Вместо нее длинные, прямые, жесткие волосы, выбивающиеся из-под трепаной войлочной шляпы и беспорядочно падающие на шею, лицо и плечи.
Да, Фрике был весьма разочарован. Что до скальпов, то полковник Билл сказал ему, что скальпы снимают по-прежнему, хотя и этот обычай вырождается, не имея ничего общего с героической борьбой индейцев с пионерами. Все гораздо проще: молодой воин встречает в глухом углу мирного ирландца-эмигранта или спящего мертвецки пьяного ковбоя и крадет с него скальп. Тем не менее этот подло украденный трофей торжественно приносится домой, приводя в восторг женщин, хотя, если белые узнают о происшествии, виновника вешают. Наши путешественники встретили человек двадцать индейцев, вооруженных винчестерами и хорошими ружьями. Их лошади местной породы были неказисты с виду, но очень быстры и выносливы. Несмотря на предостережение обоих полковников, что это напрасный труд, Андре дал индейцам разные яства и угостил их виски. — Вот что я вам скажу, джентльмен, — ворчал Билл, — у этих негодяев нет ни малейшего чувства благодарности. Большая ошибка показать им, что имеешь с собой запас крепких напитков. Только раздразнишь их жадность. — Вы смотрите на вещи только с дурной стороны. — Я забочусь о том, чтобы сохранить свой скальп, а также и ваши, господа. Не так ли, Джим? — Совершенно верно, Билл. Андре заговорил с индейцами по-английски. Их вождь весьма вразумительно ответил, что его зовут Красный Пес и что он принадлежит к племени «просверленных носов». — Скажите лучше отъявленных плутов, — перебил полковник, становясь все мрачнее и недоверчивее. Что до бизонов, вождь объяснил, что по ту сторону Снейк-ривер их сейчас очень много, хотя уже не сезон. — Вот то, что мы ищем. Не так ли, полковник? — обрадованно воскликнул Андре. — Не верю я ничему, — возразил ковбой. — Эти собаки все врут. Они нарочно выдумали. Вот увидите. Два отряда дружески простились и разъехались в разные стороны. Путешественники благополучно прибыли в Уэтсбург. На следующий день вечером были в Туканноре, сожженном, как рассказывал портлендский конторщик, недавно ковбоями. Дощатые бараки и палатки были в плачевном состоянии. Все свидетельствовало о недавнем бедствии. После встречи с индейцами полковник Билл стал невероятно подозрителен. Ежеминутно высказывал опасения, которые казались особенно странными в устах закаленного авантюриста. На разведку он не посылал никого, кроме своего кума Джима, доверяя только ему. Сам с утра до вечера рыскал позади и возвращался всякий раз на взмыленном усталом коне, отчаянно жуя табак и не переставая ворчать себе под нос. Андре удивлялся и спрашивал, что все это значит. — Как хотите, джентльмен, но я опасаюсь. — Чего именно? — Всего. — Тем не менее? — Нутром чую опасность, грозящую нам сзади. Черт бы драл этих проклятых индейцев! — Так это они вас так встревожили? Мне кажется, в этой встрече нет ничего удивительного. — Решительно ничего, потому что они тут живут. И все-таки я опасаюсь. Охотники благополучно доехали до Снейк-ривер и переправились на другой берег на каком-то первобытном плоту как раз напротив Пэлузской фермы. На ферме их приняли радушно. Она стояла на плоскогорье, изобиловавшем бизоньей травой, и ее хозяин был очень богат, владея многочисленными стадами рогатого скота. Пэлуз-фарм — последнее владение белых в этой части прерии. Фермер, к удивлению Билла, подтвердил, что на северо-западе действительно есть бизоны, и Андре решил выступать на следующее же утро. Ковбои были огорчены: им хотелось еще денек погостить у своих товарищей, работавших здесь. С момента отъезда из Валлулы прошло пять дней. Через двое суток путешественники должны были оказаться в землях «каменных сердец». Проехав цепь холмов, покрытых бизоньей травой, они вступили в Камас-прерию, растянувшуюся перед ними насколько хватало глаз. Полковник Джим, скакавший, по обыкновению, впереди, примчался галопом и радостно объявил: — Бизоны!.. Джентльмены!.. Бизоны!.. Известие приняли с восторгом. Тотчас составили план действий. Джим не видел бизонов, но заметил в шестидесяти милях к северу несомненные их следы. Французы настаивали немедленно двигаться вперед. — Фура не сможет ехать за нами, — справедливо заметил полковник Билл. — Что ж, она может остаться здесь с мистером Джимом и шестерыми нашими людьми, а мы поедем втроем, — сказал Андре. — Если заберемся чересчур далеко, заночуем в прерии. У вас есть какие-нибудь возражения? — Ровно никаких, — холодно отвечал мистер Билл и начал собираться в путь. Фрике и Андре занялись тем же. Через несколько минут выехали. Несколько часов скакали они по бизоньим следам, точно по дороге, но все не могли догнать стадо. Лошадям требовался отдых. И, несмотря на беспокойство Фрике, пришлось сделать остановку. День клонился к вечеру. Наскоро устроили обед, настоящий охотничий, — сухари, вяленое мясо, чай с виски. Ночлег оказался вполне походный — бизонья трава вместо перины, седло вместо подушки, шерстяное дорожное одеяло вместо простыни. Лошадей стреножили и пустили в высокую траву, которую они с наслаждением принялись щипать, а насытившись, улеглись на ней спать. Фрике, пристроившись на пушистой траве под открытым небом, заснул рядом со своей верной винтовкой, чувствуя себя счастливее всех президентов и монархов обоих полушарий. Возможно, он был прав. Полковник не спал, остался караулить. Подобная предосторожность никогда не бывает лишней в прерии, как бы ни казалось все кругом тихо и безопасно. Пробыв в карауле два часа, разбудил Андре. Тот тихонько встал, вооружился винтовкой и стал расхаживать вокруг лагеря. Все было тихо, только лошади звучно жевали траву. Прошло еще два часа. Настала очередь Фрике. Походив четверть часа кругом, полюбовавшись небом и звездами, он… преспокойно заснул сном праведника. Горизонт побелел. Полковник прекратил свой звучный храп. Андре открыл глаза. Парижанин спал как сурок, обнявшись с винчестером. — By God! — вскричал хриплым голосом ковбой. — Хорошо нас охраняли, нечего сказать. Капитан, вы заснули на часах, точно рекрут. — Черт возьми! — воскликнул, вскакивая, парижанин. — Меня за это надо в кандалы заковать. Это ни на что не похоже. — В следующий раз, капитан, я буду стоять на часах не два часа, а четыре. — Не называйте меня капитаном, называйте капралом и поставьте под ранец. Но все же я думаю, что заснуть здесь было не опаснее, чем на батарее броненосца. — Ну а я другого мнения. И меня, по правде сказать, удивляет, что вы, бывалый путешественник, так легко к этому относитесь. — Вы по-прежнему полагаете, что здесь неспокойно? — Больше, чем когда-либо, мистер Фрике. А желал бы ошибиться. — Ну, не сердитесь, полковник. Больше этого не будет, вот увидите. — Надеюсь, что не будет, иначе я бы сию же минуту вас бросил.Мерзкие оборванцы в грязных лохмотьях и шляпах.

Лошадей оседлали, взнуздали, напоили водой из кожаных мехов. Наскоро закусив, три всадника вновь поскакали по следам бизонов. Прошло несколько часов, бизоны не показывались. Охотники решили ехать обратно в лагерь, но вдруг увидели новый отряд индейцев, остановившихся в небольшой рощице, среди невысоких деревьев. — Они тоже гонятся за бизонами, оттого у нас и неудача, — тихо сказал полковник. — Бизоны бегают от краснокожих, как от чумы. Вождь отряда на сквернейшем английском пригласил охотников присесть к костру и выкурить трубку мира. Те согласились, привязали лошадей ремнями и подошли. Андре прихватил с собой козий мех с виски, зная, что алкоголь хорошо развязывает дикарям языки. Индейцы были такие же оборванные, как и встреченные раньше, но по-английски говорили совсем скверно. Их с трудом можно было понять. Вождь заметил это и заговорил на своем языке, который знаком большинству ковбоев. — Черт вас дери совсем! — грубо отвечал ему полковник. — Белые охотники приехали из-за моря. С чего вы взяли, что они знают ваш язык? — Мой брат не знает языка «просверленных носов»? — Это я-то ваш брат? Гм! Пасторы говорят, что все люди братья, но я давно не слушал проповедей. Ваш брат, господин индеец, ничего по-вашему не понимает. Это верно. — Но мне казалось, полковник… — вступил было Андре. — Молчите. Я весь обратился в слух. Держитесь поближе к лошадям. Тут затевается пакость. — Разве мои братья не присядут к очагу волков прерии? — спросил опять на дурном английском языке вождь, видимо, взволновавшись при известии о том, что белые не знают его языка. — Нет, не присядут. Ваши братья охотятся за бизонами и очень торопятся догнать стадо. Если волки прерии дадут им какие-нибудь указания, получат за это огненной воды. — Го! — ответил индеец. Этот горловой звук можно было принять за согласие. Потом он стал неторопливо отдавать своим людям — их было человек пятнадцать — какие-то приказания. Полковнику пришла весьма удачная мысль притвориться, что он ничего не понимает. Индейцы слушали, не моргнув глазом. Затевалось самое гнусное предательство. Негодяй велел своим людям броситься на охотников и захватить их живыми. Полковник, не выказывая ни малейшего волнения, спокойно достал из-за пояса револьвер и выстрелил негодяю в лицо.— Хорошо нас охранят, нечего сказать.
ГЛАВА VI
Страшный выбор. — Через огонь. — Спасены! — Резервация «каменных сердец». — Контраст. — Индейцы-хлеборобы. — Вооруженный мир. — Здравствуйте, здравствуйте! — Внучата дедушки Батиста. — Франко-канадский жаргон. — Селение. — Школа. — Кюре, он же учитель. — Бесплатное обязательное обучение. — Дома. — Импровизированный обед. — Будет охота на бизонов. — Накануне охоты. Затем произошли события, описанные в первой главе: убийство вождя индейцев, бегство через прерию, погоня и, наконец, прибытие в лагерь, где все их товарищи оказались перебиты и обезображены. Положение было отчаянное. Охотникам оставалось выбирать между огнем и индейцами. Лучше огонь. Он не всегда безжалостен. От него можно и спастись. И, по крайней мере, смерть от него наступает быстрее, индейцы же подвергают пленников таким пыткам, что у самых отважных волосы на голове становятся дыбом. И вот тогда-то, накрыв себя и лошадей мокрыми одеялами, три всадника понеслись прямо в пламя. Ощущения были не самые приятные: дышать они не могли, волосы опалило, пламя облизывало их со всех сторон, бушуя с треском и свистом. Страдали и лошади. Ноги им жгло горячими углями, бока ошпариваю огнем. Они жалобно ржали, задыхаясь в дыму. Словом, путешественники оказались будто в раскаленной печи. Это продолжалось секунд тридцать. Но каждая стоила часов. Люди и лошади были близки к обмороку. Они погибали. Вдруг жар спал, и сквозь гул пожара раздался звонкий голос Фрике: — Смелее, друзья! Мы не погибли! Мы спасены, а дикари остались в дураках! Парижанин сдернул с себя подгоревшее одеяло и сквозь поредевший дым видел перед собой волнующуюся траву прерии. Справа кто-то громко чихнул. — Исполнения желаний, полковник! — сказал парижанин. У полковника глаза были красные, ресницы опалены. Он едва мог смотреть. — Месье Андре, снимайте ваш капюшон, — продолжал звенеть юноша. — Все кончено. — Ах, мальчуган, я уж и не ожидал, что мы с тобой увидимся, — нервно ответил Бреванн. — Спасибо, вы очень добры, но оставим это до другого раза. Лошади остановились сами, с жадностью вдыхая свежий воздух, веявший от реки, вода которой сверкала метрах в пятистах впереди. — Господа! — сказал американец, разволновавшись едва ли не впервые в жизни. — Настоящую цену человеку узнаешь только в подобных обстоятельствах. Вы оба храбрецы. Позвольте пожать вам руку и сказать: я ваш на жизнь и смерть. — С удовольствием, — весело отвечал Фрике. — Как это просто: пожали друг другу руки — и друзья, да еще на всю жизнь. Ай! Не так крепко. У меня пальцы болят. Месье Андре, когда мы в Париже расскажем обэтом героям охоты в Босе, они нам не позавидуют. Не особенно приятно играть роль каштана в огне. Лошади вздрогнули, жалобно заржали и поскакали к реке. Они пострадали от огня, но могли еще продолжать путь. Несколько минут спустя кони и всадники с наслаждением купались в спокойной и тихой реке Пэлуз. Небольшая территория, на которую мудрые североамериканские правители втиснули племя индейцев, известных под именем «каменные сердца», не превышала одной тысячи шестисот километров. Впрочем, и племя было немногочисленным — всего полторы тысячи душ.
Прошло уже лет сорок с той поры, как «каменные сердца» превратились в оседлых землепашцев. Переправившись через Пэлуз-ривер и оставив за собой горящую прерию, беглецы через три четверти часа прибыли на территорию «каменных сердец» и сразу встретили двух индейцев, одетых по-европейски и работавших в поле — один пахал, идя за парой волов, другой следовал за ним с корзиной и сеял кукурузу. Оба были вооружены винчестерами. Заметив незнакомых всадников, первый горловым криком остановил волов, пронзительно свистнул и приготовил винтовку. Его товарищ поставил корзину на землю, распряг волов, ткнул их рожком и тоже приготовил винтовку. Волы умчались крупной рысью, громко замычав, а к земледельцам подбежали два великолепных коня, без узды и без седел, и весело, резко остановились перед хозяевами. Оба труженика лихо вскочили на них и хотели скакать прочь, но Андре догадался вынуть из кармана белый платок и замахать им. — Друзья! — крикнул он. — Не бойтесь!.. Мы французы! Эти слова произвели магическое действие. Индейцы передумали, подъехали к охотникам, хотя и готовые в любой момент отступить. — Действительно индейцы! — с удивлением воскликнул Фрике. Бесстрастные лица пахарей осветились улыбкой. Они закинули винтовки за плечи и протянули руки, радуясь, как дети: — Здравствуйте! Здравствуйте! Говорили они на плохом французском. Один из них сказал: — Так вы французы! Французы! — Из Франции? — спросил другой. — Да, друзья мои, — отвечал растроганный Андре, — мы французы из Франции. А вы кто и почему говорите на нашем языке? — Я Блез, а это мой брат Жильбер. — Значит, вы не индейцы? — Чистокровные «каменные сердца», из резервации. Мы здесь живем. А по-французски знаем потому, что мы внучата дедушки Батиста. — Да, старого Батиста, нашего деда, который был в Канаде траппером. Милости просим к нам в дом. — Наши лошади выбились из сил, и мы сами тоже. — Это видно, но всего-то две мили, тут близко. Охотники и индейцы тотчас двинулись в путь. Плуг остался на недопаханной борозде, а волы чрезвычайно обрадовались неожиданным каникулам и отправились щипать траву. Полковник Билл, не понимавший ни слова, молча поехал сзади. Фрике тоже понимал с трудом. Индейцы говорили на французском простонародном языке, да и тот коверкали. Зато Андре, превосходно знавший язык простонародья — выучил его, общаясь со своими фермерами и работниками в Босе, понимал индейцев свободно, и они его тоже. Бреванн рассказал новым друзьям все: зачем приехали в Америку и как на них предательски напали индейцы. Блез и Жильбер слушали, прерывая рассказ гневными возгласами. Они объяснили, что это были не индейцы, а какая-то дрянь, и уж вовсе не «просверленные носы». «Просверленные носы» хорошие люди, живут в резервации, занимаются земледелием и охотой, путешественников не трогают. Мошенники и негодяи есть везде. В прерии много шатается разного сброда — убийц, воров. Но на индейской оседлой территории они не посмеют показаться. Тут пятьсот человек взрослых мужчин, воинов-пахарей, отлично вооруженных. Явись только сюда эти предатели, им зададут! Путь до поселка показался нашим охотникам очень трудным и долгим ввиду болезненного состояния, в котором находились они сами и их лошади. Но вот показалось красивое селение, выстроенное довольно правильно и защищенное от ветров пологими возвышенностями. Домики из соснового леса живописно обступили небольшую церковь, окруженную деревьями. Женщины в опрятных ситцевых платьях хозяйничали около хижин, подле просторного деревянного дома у церкви бегали и играли ребятишки в рубашонках и штанишках, но босиком. У окна стоял и поглядывал на них старик, важно куривший длинную трубку. — Наша школа, — пояснил Жильбер. — А это наш священник, он же и учитель, — добавил Блез, видимо гордившийся благоустройством своей деревни. — Как? У вас даже школа? — перебил изумленный Фрике. — Школа. У нас все грамотные, все читают и пишут. Родители обязаны посылать детей в школу. — Даже обязаны? Кто же может их заставить? — Сельский совет. У нас всеми делами управляют выбранные нами старики. Француз и даже американец были изумлены. Они оказались в каком-то оазисе среди пустыни. Старик вынул изо рта трубку, поздоровался с путешественниками и пригласил их в дом, но Блез и Жильбер запротестовали на индейском наречии, непременно желая сами оказать им гостеприимство. — Ну, хорошо, детки, хорошо, — отвечал старик на превосходном французском. — И все-таки, господа, я надеюсь с вами увидеться. Если вы не боитесь поскучать со стариком, пожалуйста, приходите ко мне обедать. Обед будет простой, но от чистого сердца. — Да вы француз! — вскричал Андре, пожимая ему руку. — Я канадец, а это почти одно и то же… Однако вы измучены, ваши лошади тоже. Блез и Жильбер тащат вас к себе, а мои ученики еще не доделали задачи. До свидания, господа! Кюре-учитель затряс колокольчиком, дети бросили игру, выстроились в два ряда и молча пошли в школу. Спустя пять минут путешественники остановились у деревянного дома, похожего на все другие. Лошадей расседлали, разнуздали, поставив к корму. Приезд французов поставил весь дом вверх дном. Женщины приготовили скромный, но сытный обед. В печке горел огонь, готовилась на настоящем коровьем масле румяная яичница. На некрашеном столе появились железные блюда и тарелки, положили хлеб, не белый и слишком плотный, но и такого в прериях почти не видят американцы. Стояло блюдо с жареной свининой. Изголодавшиеся охотники как волки набросились на эту незатейливую деревенскую трапезу. Индейцы, мужчины и женщины, молча смотрели на гостей. Когда гости насытились, братья провели их в соседнюю комнату, где стояли три хорошие постели из маисовой соломы с мягкими бизоньими шкурами. — Вот, господа, отдохните. Доброго вечера! — Скажите, — сказал, зевая, Фрике, — есть у вас здесь бизоны? — Есть, и я думаю, что вам удастся убить нескольких. — Значит, можно будет устроить охоту? — Сколько угодно. — Спокойной ночи, друг Жильбер! Спасибо вам за все. Молодой человек с наслаждением растянулся на бизоньей шкуре и сладко зевнул. — Знаете, месье Андре, о чем я сейчас думал? — Нет, не знаю… А я вот думаю, что тебе пора спать. — Я думаю, что мы не в Америке, а в Босе и что мы не у индейцев, а у наших крестьян-земледельцев. И вот в этой мирной обстановке мне предстоит охота на бизонов, как настоящему герою Майн Рида или Эмара. Не правда ли, какой контраст? Что вы на это скажете? Андре ничего не сказал. Он уже успел крепко заснуть.Несколько минут спустя кони и всадники с наслаждением купались в спокойной и тихой реке Пэлуз.
ГЛАВА VII
Пробуждение. — Ранний завтрак. — Отец Батист. — Разлив озера Виннипег и его последствия. — Прежние «каменные сердца». — Варварство. — Загадка цивилизации. — Причина всех войн между белыми и краснокожими. — Бедность. — Лихоимство чиновников земельного ведомства. — Бунтовщик. — Ситтинг-Булл, великий вождь сиу. — Эпилог битвы при Уайт-Маунтейне. — Канадские индейцы. — Потомок куперовского героя служит нотариусом в Квебеке. Путешественники проспали долго, их разбудил ворвавшийся в комнату веселый солнечный луч, добравшийся до постелей, на которых они отдыхали. В одну минуту и совершенно отчетливо охотники вспомнили все, что с ними приключилось накануне. Это особенность солдат, моряков, охотников, словом, любых искателей приключений. Только они встали, послышался голос старого кюре, улыбавшегося в бороду и попыхивавшего трубкой. Рядом с ним стоял высокий старик, загорелый, но белее, чем другие индейцы, очевидно метис. Чертами умного, энергичного лица он напоминал молодых пахарей-индейцев Блеза и Жильбера, и прежде чем кюре представил его французам, назвав Жаном-Батистом Картье, они уже догадались, кто это. Восьмидесяти летний дед пожал им руки так, что кости хрустнули, и фамильярно, будто век был с ними знаком, потащил к столу, едва дав им время умыться и привести себя в порядок. — Как? Сразу за еду? — воскликнул удивленный Фрике. — Да, молодой господин, — отвечал старик. — Не знаю, как у вас, на старой родине, у нас тут едят с утра, как встанут. Кто хорошо работает, должен хорошо и есть. Не правда ли, господин кюре? — Правда, правда, Батист. — А где же наши друзья Блез и Жильбер? — спросил Андре. — Они ушли по делу, можно даже сказать по вашему делу, и вернутся к вечеру. Ну же, земляки, пожалуйте к столу, и вы, господин американец. Компания уселась за стол, уставленный всевозможными яствами, среди которых красовалась пирамида из превосходных фруктов. Тут были яблоки, груши, персики, абрикосы, виноград, да такие, что художник, пишущий натюрморт, пришел бы в восторг, а у лакомки потекли бы слюнки. Гости выразили свое восхищение, но и пожурили хозяев — зачем такая расточительность. Батист сказал: — Это все господин кюре. Он опустошил для вас свой сад. Сначала хотел взять вас к себе, но я упросил этого не делать. У меня вам будет удобнее. Впрочем, у кого бы вы ни остановились, вы наши общие гости. Фрике хотя и удивился столь раннему завтраку, но, по совести говоря, отнесся к кушаньям с большим вниманием и с отличным аппетитом отведал всего. Американец тоже пробовал все весьма исправно, хотя не было тут ни соленого окорока, ни пресного хлеба, ни соевого соуса, ни обжигающих приправ. Он ел много, внимательно слушал, мало говорил. Чувствовал себя, видимо, не в своей тарелке, но держался вполне прилично. Беседа зашла, прежде всего, о том, как хорошо устроилось и живет это маленькое индейское племя. Между тем о нем знают разве что въедливые географы. — Таких результатов мы достигли не без труда, — сказал кюре. — Лет сорок тому назад «каменные сердца» были порядочными негодяями. Не так ли, Батист? Много усилий, хлопот, терпения положили, чтобы сделать их иными. — Расскажите, как это было, господин кюре, — попросил Андре. — Ведь это очень интересно. — С удовольствием, мой молодой друг. Да и рассказать-то недолго. Сорок лет тому назад мы с Батистом жили близ озера Виннипег в небольшом канадском приходе, теперь даже места того не найдете. Сильное наводнение смыло за несколько часов маленькое село, почти все жители утонули! Я выплыл на каком-то бревне, и наутро меня прибило к берегу, к наполовину вырванному из земли дереву. На нем ютился едва живой от голода и холода человек, державший на руках мальчугана лет двенадцати. Дерево остановило мое бревно. Я узнал Батиста и его младшего сына. — Где твоя жена? — спросил я. — Умерла. — А дети? — Утонули… Кроме вот этого. — Дом-то хоть цел? — Разрушен. — А скотина? — Пропала вся. — Мы потужили вместе, погоревали и стали согревать мальчика, который едва дышал. Потом нас подобрала лодка и привезла в Сент-Бонифейс на Ред-ривер. Там мне посчастливилось встретиться с отцом де Сме, просветителем сиу, благодаря которому, как признают сами американцы, предотвращено было много убийств. Отец де Сме стал меня просить, чтобы я перешел через границу и стал его помощником. Он был стар, я молод и полон сил. Я согласился. Батист и его сынишка остались с нами. Его подруга лежала на дне Виннипега, ему было все равно где жить. Отец де Сме дал нам указания и возвратился в Дакоту, а мы отправились к верховьям Миссури и с большими трудностями перебрались через Скалистые горы. Измученные, усталые, встретились с толпой индейцев, охотившихся за бизонами. Язык их мы не знали. Это были совершенные дикари, грубые, неразвитые, не имевшие никакого понятия о добре и зле, о правде и справедливости. Жестокие от природы, они, казалось, были абсолютно неспособны воспринять когда-либо идеи добра и правды. Они увели нас к себе в деревню, заставили выполнять самую тяжелую и грязную работу, кормили мало и очень плохо. К счастью, мы были крепки и сильны, — не так ли. Батист? — Настоящие канадцы! — Прошло несколько лет, надежды обрести свободу не было. Между тем дети наших хозяев, сначала всячески озорничавшие, полюбили нас от души. Мы с Батистом поняли, что единственное средство исправить наших дикарей — овладеть душой и сердцем подрастающего поколения. Усилиями и трудом мы достигли того, что победили их предрассудки. — Труда много было! — вставил свое слово Батист. — Я сам полудикарь, но никогда не думал, что дикари могут быть столь дики, как эти сиу. — Я учил их и развивал, развлекая, и был вознагражден быстрыми, поразительными успехами. Прошло десять лет. Сын Батиста превратился в великолепного молодого человека, которого племя усыновило и выбрало помощником вождя. Он женился на молодой девушке, у них родились Блез и Жильбер. Наше положение совершенно переменилось. Старики племени незаметно поддавались влиянию молодежи и оставили многие гнусные привычки. Мы заставили их полюбить землю, оседлость, почти отучили от кочевой жизни. Видя, что мы вдвоем и только с помощью детей успешно обрабатываем землю, получаем хорошие урожаи и всегда сыты, обеспечены, избавлены от голода, они тоже принялись расчищать землю, пахать, сеять, копать, сажать и, разумеется, тоже стали получать хорошие урожаи. Успех был полный — я с полным основанием мог сообщить отцу де Сме, что его желание исполнилось. Таковы были первые шаги нашего племени на пути цивилизации. Но впереди было еще много работы. Прежде всего, обеспечить индейцев землей. Первопроходцы продолжали осваивать Северо-Запад и теснили местные племена. Надо было получить от государства разрешение на участок из «земельного запаса». Правительство Союза охотно раздает их индейцам, гарантируя спокойное владение ими и уже не позволяя белым занимать эти территории. Это и есть так называемые «резервации» или «резервные земли». Они предназначены исключительно индейцам, но, к сожалению, обещанное не всегда выполняется. Только племя устроится на участке, как вдруг окажется, что здесь есть руда, или он порос ценным лесом, или по нему пройдет железная дорога, и он из ничего не стоящего вдруг становится страшно дорогим. Появляются эмигранты, открыто нарушающие распоряжение министра. Индейцы, конечно, оказывают сопротивление. Драки, сражения, выстрелы, убийства!.. Взаимное сдирание скальпов… — Как взаимное? — вознегодовал Фрике. — Неужели и белые сдирают? — Спросите полковника, — сослался старик. — Сдирают, — лаконично подтвердил американец, не переставая есть. — Появляются войска. Индейцы подавлены, выселены на новый участок и должны начинать все сызнова, пока их не вытурят вновь с только что насиженного места. — А знаете, полковник, ведь это очень грустно, — не удержался парижанин. Ковбой с набитым ртом только поднял верх обе руки, как бы говоря: «Я-то что могу?» — Но это еще не все, — продолжал кюре. — Бывают и другие препятствия. Вы знаете, что индейцы-кочевники питаются почти исключительно мясом бизонов. Между тем бизонов становится все меньше, поскольку бывшие трапперы охотятся на них из-за шкур и истребляют тысячами. Скоро, кажется, не останется ни одного. С другой стороны, резервные участки раздают все скупее, выбирая из самых скудных земель, где мало пастбищ и почти совсем нет бизонов. Тут наконец в беседе принял участие полковник. — Но ведь правительство, достопочтеннейший господин кюре, — сказал он, — в своих договорах обязуется производить справедливую раздачу мяса, орудий труда, одежды и прочего. Раздача происходит под наблюдением особых чиновников, так называемых «уполномоченных по делам индейцев». — Да, на бумаге все это очень хорошо, а результаты плачевные. Уполномоченными-то назначают кого? Обыкновенно агитаторов. Они знают, что продержатся на местах только до тех пор, пока останется у власти их партия, и думают лишь о том, как бы поскорее нажиться. И уж тут они, конечно, не церемонятся. В верхней палате во весь голос обсуждали их злоупотребления. Кто-то вычислил, что они расхитили больше половины отпущенных кредитов. В результате несчастные индейцы, умирая от голода, принимаются грабить приграничных фермеров. С этого и начинаются все индейские войны. Помните ужасную войну с семинолами, продолжавшуюся с тысяча восемьсот семьдесят четвертого по тысяча восемьсот семьдесят седьмой год? — Не та ли это война, когда знаменитый Ситтинг-Булл, вождь семинолов, обнаружил замечательные военные способности? — спросил Андре. — И наголову разбил генерала и полковника, — добавил Фрике. — Генерала Костера и полковника Крука, — вставил свое слово мистер Билл. — Он был гораздо сильнее их, вот и все. Но зато какой он устроил эпилог к битве при Уайт-Маунтейне, где были убиты оба — и Костер, и Крук. — Какой же? — Это всем известно!.. Велел подать оба трупа, сам вскрыл им грудь и тут же, перед своими воинами, съел оба сердца'. Я на него за это не особенно сержусь, хотя с Костером мы были старинные друзья, — мирно продолжал полковник. — Не сердились на него и наши политические деятели. Сначала Ситтинг-Булл скрывался в Канаде, в Манитобском округе, потом заключил мир с федеральным правительством. Правительство согласилось забыть прошлое и гарантировало выполнение всех положений договора, заключенного еще до восстания.
— Не может быть! — Уверяю вас, это факт. Ситтинг-Булл перешел обратно через границу и поселился с семью тысячами своих сторонников в Стэндинг-Роке, в штате Дакота. С тех пор он полюбил сельское хозяйство, живет в доме, делает время от времени визиты начальству и поддерживает со всеми добрососедские отношения. — Не лучше ли было с самого начала соблюдать все пункты договора? — продолжал кюре. — Тогда не было бы и этих ужасных войн. Ведь в конце концов правительство признало вину своих чиновников. Никогда индейцы не нарушали соглашений первыми. Вот потому-то, наученный опытом, я решил устроить так, чтобы мои друзья «каменные сердца» были навсегда гарантированы от произвола уполномоченных по индейским делам, от всяких разделов и переделов. Я поехал в Вашингтон, представился министру, поговорил с ним. Он согласился с моими доводами и разрешил, хотя это и не вполне соответствует закону, в порядке эксперимента устроить моих индейцев на земле по канадскому образцу, дающему повсеместно отличные результаты. В результате «каменные сердца» получили за двенадцать тысяч долларов в полную собственность всю территорию, на которой жили с незапамятных времен, и, кроме того, из земельного запаса участок в десять квадратных километров на западном склоне Каскадных гор в долине реки Колумбии. — И вот мы живем здесь, усердно трудимся. Живем сытно, но трезво. Спиртные и хмельные напитки у нас строго запрещены. Ввоз их не допускается. Все жители поголовно грамотны. Кроме своего языка говорят по-английски и на французском народном, который им почему-то особенно легко дается. Мы не только сами вполне обеспечены, но и помогаем соседям, когда у тех случается неурожай. Старик замолчал. Слушатели сидели молча, зачарованные его рассказом. Первым нарушил паузу Андре. — Позвольте мне, господин кюре, — сказал он, — почтительно поклониться вам, приветствуя, как скромного героя. Я вами восхищаюсь. Удивляюсь вам бесконечно. Во Франции не знакомы с индейским вопросом. Там слышали только о чиновничьих злоупотреблениях и жестоких репрессиях. Неужели американские государственные люди всерьез убеждены, что единственное решение вопроса — окончательное истребление индейцев? Неужели уверены, что индейцы неспособны к мирной оседлой жизни и хотя бы к самой примитивной гражданственности? Скажите по совести, полковник Билл, неужели так? — Так, — подтвердил ковбой с некоторым смущением. — Я очень рад, что здесь вы видите обратное, — сказал кюре. — Впрочем, пример канадских индейцев также показывает, что они легко поддаются цивилизации и что кротостью с ними многое можно сделать. Об этом свидетельствует вся история Канады. Когда ее заняли французы, они заключили с индейцами соглашения, которые свято соблюдали, строго наказывая чиновников-нарушителей. Это дало немедленные результаты. Во всех войнах, которые французы вели с англичанами, индейцы всегда поддерживали французов. Когда французы потеряли Канаду, англичане не стали нарушать административных традиций прежних ее хозяев и обеспечили добрые отношения с краснокожими, в противоположность североамериканцам. Сейчас канадские индейцы, сохраняя свое старинное общинное устройство, почти слились с белой расой. А что к цивилизации они вполне способны, вот вам доказательство: потомок великого вождя племени «черепах», знаменитого Чингачгука, воспетого Фенимором Купером, служит в Квебеке нотариусом! Однако, господа, если вам угодно поближе взглянуть на нашу цивилизацию, прогуляйтесь со мной по нашей территории. Лошади готовы и дожидаются нас. Позвольте мне показать вам нашу резервацию, прежде чем вы отправитесь в большую охотничью экспедицию за бизонами.Сам вскрыл им грудь и тут же, перед своими воинами, съел оба сердца.
ГЛАВА VIII
Новый повод для удивления. — Современные индейцы. — О скальпе. — Разменная монета ковбоев. — Сюрприз. — Фура. — Проверка инвентаря. — Неожиданное богатство. — Виски. — Расстрел бунтовщиков. — В путь-дорогу. — Плохие земли. — Цветущая прерия. — Размышления практика. — Бизоны! То, что увидели французы и американец на земле «каменных сердец», превзошло все их ожидания. Фрике и Андре согласились с тем, что краснокожая раса, безусловно, способна к цивилизации. Даже американец переменил свое мнение о «красных братьях» и вынужден был согласиться, что его соотечественники обращаются с ними чересчур жестоко, и это, пожалуй, напрасно. — Однако ведь далеко не у всех индейцев есть такие священники-просветители и метисы, — сказал он. — Представьте, что вместо двух таких апостолов среди здешнего племени появились бы два отчаянных плута из прерии или хотя бы просто два ковбоя. Во что бы они превратили тех же самых индейцев? — Это не особенно лестно для ковбоев, полковник, — заметил Фрике. — Что ж, my dear, я говорю правду, признавая в то же время за ковбоями умение трудиться. Говоря откровенно, понятия о чужой собственности у них самые… широкие, а уважение к чужой жизни… весьма умеренное. Вообще недоразумения между белыми и краснокожими еще не скоро прекратятся, много еще будет с обеих сторон убито народу и много снято скальпов. — Скажите, пожалуйста, для чего белые делают такую гадость — снимают скальпы? Я понимаю индейцев — для них это трофей, украшение, признак военной доблести. Но не за трофеями же гоняются белые? Что за интерес для них скальпы? Какую выгоду они из этого извлекают? Ведь янки народ практичный. — Какую выгоду, вы спрашиваете? Обыкновенную, денежную. Ведь женский, например, скальп стоит десять долларов. — Но убивать женщину из-за сорока франков! Это гнусно. Неужели нельзя просто сбрить ей волосы, если уж так… — Полные скальпы ценятся дороже. Коллекционеры очень их любят и охотно покупают. У населяющего прерии народца скальпы играют роль разменной монеты. Мужские ценятся дешево — не дороже двух долларов, потому что волосы короче и не годятся для устройства париков и женских причесок. Их покупают только сами индейцы. — Индейцы покупают скальпы своих? Да что вы говорите? — Молодой воин не успел еще убить ни одного врага, а хочется украситься скальпом. И вот он покупает скальп убитого за две или три бизоньих шкуры и с торжеством приносит домой. На него тогда уже смотрят как на героя. — Ну, теперь я понимаю все, даже то, почему индейцы так упорно сопротивляются вашей цивилизации. Три друга, ведя эту беседу, прохаживались по площади, совершая предобеденную прогулку. Из школы выбегали ученики, крича, толкая друг друга и рассыпаясь по равнине, точно стая воробьев.
Вдруг они примчались обратно, весело приветствуя многочисленный отряд вооруженных всадников, окружавших какую-то фуру, которую тащили два быка. — Наша фура! — закричал Андре, не веря глазам. — Невероятно, но факт, — согласился Фрике. — Где они ее добыли? — Мы нарочно приготовили вам сюрприз, господа, — сказал кто-то. Они обернулись и увидели попыхивавшего трубкой кюре. — Блез, Жильбер и их отец, посланные старым Батистом, как только вы приехали, отправились с полусотней молодцов туда, где с вами случилось несчастье, чтобы похоронить с честью ваших товарищей и спасти, что можно, из имущества. Они привезли фуру и кое-какие вещи. Быков распрягли и увели, повозку поставили во дворике, примыкавшем к дому, приютившему путешественников. Отец Блеза и Жильбера, Батист-младший, которому было пятьдесят лет, и роста он был почти в сажень, доложил деду об экспедиции. Батист-младший лицом походил на Батиста-старшего, только был смуглее. К отцу он относился с почтением, словно десятилетний мальчик. Говорил по-английски, радуя этим американца, не понимавшего ни слова по-французски. По следам охотников Батист-младший со своими воинами добрались до Пэлуз-ривер, переправились и вскоре нашли фуру, брошенную на поляне. Кругом трава сгорела, а так как на месте лагеря ее не было, гореть было нечему, и фура уцелела. Мародеры, спасаясь от пожара, который сами устроили, удалились на юг и еще не успели вернуться, чтобы завладеть ею. Выкопав глубокую могилу, индейцы похоронили убитых ковбоев, а в повозку запрягли приведенных с собой быков и пригнали ее домой. Андре горячо поблагодарил всех участников доброго дела и занялся осмотром фуры и уцелевших вещей. Провизия и оружие сохранились. Разбойники, видимо, пробовали рубить дубовые ящики топорами, но твердое дерево не поддалось. Унесли только одежду, сбрую и то, без чего можно было обойтись. Продолжая осмотр, Андре нашел четыре бочонка по пятьдесят литров — грабители их не заметили. Он велел вынести их во двор и дать буравчик или сверло. — Впрочем, нет, не надо, — сказал он. — У меня есть подходящий инструмент. Он отошел шагов на двадцать и попросил присутствующих сделать то же. Вынув револьвер, выстрелил по каждому из бочонков. На землю полилась душистая жидкость. — Что вы делаете, генерал? — вскричал раздосадованный американец. — Видите — расстреливаю бунтовщиков, — отвечал, улыбаясь, Бреванн. — Да ведь это виски! — Совершенно верно. Но так как сюда запрещен ввоз крепких напитков, я счел своим долгом уничтожить контрабандный товар. — Мы ничего не теряем, поскольку не пьем, — вставил свое слово Фрике. — А вы, полковник, поговейте. «Тигровое молоко» слишком вредно для индейцев. С этим нельзя не считаться. Полковник недовольно промолчал и в знак протеста засунул себе за щеку удвоенную дозу табака, отчего щека вздулась, как при флюсе. Индейцы много смеялись, особенно их развеселила досада американца. После «казни» старый вождь приказал ускорить приготовления к охоте, которой собирался как можно скорее угостить французов. Он выбрал лучших охотников, вытребовал лучших лошадей, чтобы заменить измученных, опаленных и отчасти «обезноженных» животных своих гостей. На приготовления ушел целый день, на следующее утро из деревни выехала и направилась на северо-запад кавалькада из полусотни всадников под предводительством Батиста-сына, с фурой, запряженной на этот раз лошадьми, так как быки идут слишком тихо, и с тремя легкими повозками местного производства. В тот же день миновали границу резервации и вступили на дикую, необработанную землю, в прерию. Перед французами раскинулось необозримое пространство с бесчисленными, ослепительно-яркими цветами, разнообразными животными, чудным свежим воздухом, которым как-то особенно легко и радостно дышится полной грудью.Из школы выбегали ученики, крича, толкая друг друга.
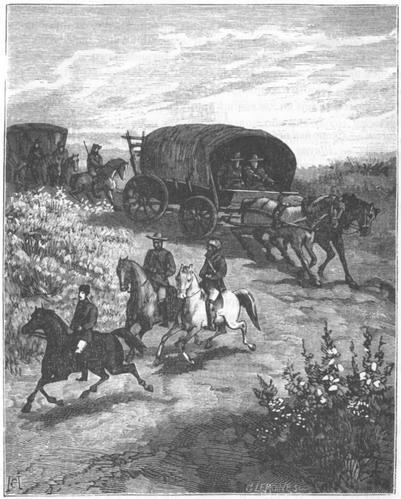
Но это была пока не настоящая прерия — не появилась бизонья трава. Тут росли только красивые цветы, трава же была несъедобной. Полковник сердился и все требовал бизоньей. Подождите, полковник! Будет и она. Увидите вы и настоящую прерию, столь любимую скотоводами, владельцами ранчо, с антилопами, оленями, бизонами. Французы восхищались роскошной картиной цветущего луга, американец ворчал: — By God! Конечно, джентльмены, у всякого свой вкус, но я не понимаю, как можно восхищаться никуда не годной травой, где даже лошади ущипнуть нечего. Я не собиратель трав, не ботаник, а охотник. — Люблю доброго молодца за повадку, — насмешливо сказал Фрике. — Вы, полковник, человек положительный, настоящий американец. Недаром у вас все произведения искусства обложены пошлиной в сорок процентов стоимости. Доллар — вот ваш национальный бог. На третий день во время привала разведчики вернулись и что-то сообщили Батисту-младшему. Сердца французов радостно забились, когда он объявил: — Господа, потерпите еще немного. Бизоны близко.В тот же день миновали границу резервации и вступили на дикую, необработанную землю, в прерию.
ГЛАВА IX
Бизон. — Скоро они исчезнут совсем. — Поезда, которые останавливают бизоны. — Шкура бизона. — Охота. — Погоня. — Столкновения. — Безрассудство индейцев. — Фрике и бизон. — Первый выстрел. — Фрике убивает бизона и получает новое звание. — Пуля «Экспресс». — Трофей. — Свалка. — Избиение. — Подвиги Андре. — До завтра. Бизон стоит того, чтобы хотя бы кратко его описать. Американцы неверно называют его buffalo, что значит буйвол, а не бизон. Это самое крупное, самое полезное и вообще самое замечательное из животных Северной Америки. Он гораздо крупнее европейских быков, у него огромная голова, широкий треугольный лоб и горбатая спина, на горбу растет густая, длинная, жесткая грива. Передняя часть туловища развита у бизона значительно сильнее задней. Его круп узок, покрыт очень короткой шерстью и совершенно несоразмерен с остальной фигурой. Голубоватые глаза, пристально глядящие из-под нависшей гривы, черные, твердые, как железо, рога, крепко сидящие на несокрушимом гранитном черепе, — все это делает облик бизона не слишком приятным. Чувствуется, что животное готово яростно броситься на то, что приведет его в раздражение, на любую преграду. Блестящая, черная в начале зимы, летом его шкура буреет, потом становится серой, затем и вовсе лишается цвета и, наконец, летом полностью вылезает. Именно грива, которая всегда темнее основного окраса, придает бизону столь устрашающий вид. Это смесь грубого, жесткого, длинного волоса и тонкой, мягкой шерсти, лучше мериносовой. До появления в Америке европейцев бизонов там было бесчисленное множество, но безудержная охота привела к почти окончательному их исчезновению, кажется, вот-вот они будут истреблены. Крупными стадами животные теперь встречаются только между Скалистыми горами и рекой Миссисипи, не далее места ее слияния с Миссури. В Мексике их почти нет, в Техасе они попадаются близ верховьев Рио-Браво и Рио-Колорадо. Бизоны часто кочуют с места на место в поисках новых пастбищ и во время этих переселений несутся вперед всем стадом, подобно урагану или лавине, не обращая внимания на преграды на своем пути, так что их путь оказывается усеян телами собратьев, разбившихся об эти преграды. Когда только начала действовать Тихоокеанская железная дорога, поезда застревали, врезавшись в стадо бизонов, которых невозможно было согнать с полотна. Машинист направлял на них паровоз, снабженный приспособлением для отгона быков, обдавал паром, пассажиры расстреливали их из ружей, из револьверов. Бизоны не сходили с дороги и напирали, напирали, а поезд не мог двигаться, окруженный грудами раздавленных и убитых животных. Охотятся на бизона ради его мяса, очень вкусного, напоминающего отборную говядину, но с прелестным ароматом дичины, а также шкуры, которую продают за семьдесят — сто франков, она заменяет путешественникам и матрас, и одеяло, и непромокаемый плащ. Но предприятие это довольно опасное… Впрочем, не будем забегать вперед, вернемся к нашим путешественникам, обрадованным известием: — Бизоны близко! Прискакали другие разведчики и тоже сделали доклад Батисту. Тот немедленно привел людей в боевой порядок. Осмотрели ружья, сбрую. Двинулись к холму, откуда просматривалась вся равнина, при фуре и повозках оставили для охраны несколько человек, предполагая на следующий день прислать им смену. С вершины охотники увидели стадо в высокой траве. Одни животные паслись, другие резвились, иные лежали и жевали жвачку. Их было больше полутысячи. Андре. Фрике и даже флегматичный американец закричали «ура!». В боевом порядке спустились, не растревожив бизонов, которые подпускают к себе обычно только на километр. Но вот стадо что-то почуяло. Быки глухо промычали, все шумно поднялись и, теснясь друг к другу, помчались прочь бешеным галопом. Вождь бросил военный клич — и цивилизованные индейцы разом превратились в первобытных дикарей. Их раздразнил вид любимой индейской дичи. Лошади понеслись за бизонами, образовав огромную римскую V, постепенно охватывавшую стадо. Испуганные животные мчались все быстрее, плотно прижавшись друг к другу, так что и пушечное ядро не могло бы проделать брешь в этой массе. Андре и Фрике с упоением отдались сумасшедшей скачке и почти не правили лошадьми. Умные животные сами преодолевали неровности почвы, истоптанной бизоньими копытами. Постепенно всадники нагоняли животных, которые, по-видимому, и не думали защищаться. — Месье Андре, — крикнул на скаку Фрике, — на бизонов взвели напраслину. Вон как они удирают! Только зад видно да изогнутые хвосты. Это не значит грудью встречать врага. — Погоди. Дай им утомиться. Тогда они себя покажут. Только предупреждаю, если на тебя нападет бизон, предоставь своей лошади полную свободу. Она лучше тебя сумеет от него отделаться. — Хорошо, месье Андре. Порядок преследования изменился, едва животные начали обнаруживать признаки усталости. Каждый индеец наметил себе жертву и старался, чтобы она отделилась от стада. Для этого они с безрассудной отвагой подскакивали к стаду, вытягивали животных хлыстами, но не стреляли, ожидая, когда те кинутся врассыпную. Когда, получив удар, бизон бросался на охотника, лошадь ловко увертывалась и скакала прочь, увлекая того за собой. Но через некоторое время он возвращался к стаду, если охотник не успевал отрезать ему путь. Многие животные начинали раздражаться. Страх, внушаемый близостью человека даже самому свирепому зверю, проходил. Бизоны останавливались, отделившись от стада. Фрике понял, что скоро можно будет стрелять. Он придержал коня, пустил его сначала рысью, потом шагом, затем остановил. Взял винтовку Гринера восьмого калибра, осмотрел и хотел вновь тронуть коня, как вдруг послышались крики и выстрелы. Парижанин поднял голову. Охотники были от него в двухстах шагах. Сквозь их ряды прорвался огромный бык, раненный в круп и оттого рассвирепевший. Увидев молодого человека, понесся прямо на него. Фрике стоял спокойно, точно конная статуя. Бизон приближался как вихрь. — Это мой, — сказал юноша. — Сейчас я его угощу. Стой ты! — прикрикнул он на лошадь, которая хотела развернуться. Не желая упускать случая, набросил ей на голову попонку, лежавшую впереди, на седле. Лошадь остановилась, она дрожала.
Бизон был в сорока шагах. Фрике прицелился и подпустил его еще ближе. — By God! — вскричал американец. — Он целится в голову! Да ведь бизон разнесет его вдребезги! Разве бизоний череп пулей пробьешь? Бизон был шагах в двадцати. Белый дымок заклубился из дула винтовки неустрашимого парижанина. Бухнул выстрел, похожий на взрыв торпеды. Бизон взвился на дыбы и опрокинулся навзничь, судорожно дрыгая всеми четырьмя конечностями. Полковник несся к Фрике во всю прыть своего коня. Француз снял с глаз лошади попонку, вложил в винтовку новый заряд и приблизился к убитому быку. — Гип!.. Гип!.. Ура!.. — ревел изумленный полковник. — Замечательно!.. Блестяще!.. Very splendid indeed!.. Молодчина, майор! — Вот у меня и новое звание, — пробормотал молодой человек. — К вечеру, вероятно, дослужусь до полковника, если это так же трудно… Спасибо, полковник, — прибавил он вслух, — вы очень добры и любезны. Но я ведь ничего особенного не сделал. — Ничего особенного!.. Разнесли череп бизону, свалили его, как зайца. Ничего особенного! — Да это не я, а винтовка Гринера и пуля «Экспресс». — Череп раздроблен, — продолжал полковник, — мозг выскочил вон. — Так и должно быть. Однако и безобразен же ваш бизон, если приглядеться. — Погодите уходить. У нас обычай — охотник, убивший бизона, отрезает и берет себе его хвост в качестве трофея. — Смешно, но все-таки я это сделаю, пожалуй. — Готово дело, — сказал полковник, успевший вытащить нож и отрезать хвост, который он подал Фрике. Они помчались догонять своих, оставив добычу. Вдали ничего нельзя было разобрать — бизоны, люди перемешались в густой пыли. В общий гул сливались крики охотников, яростный рев и стоны животных, выстрелы из винчестеров. Сквозь облако, окутавшее поле битвы, сверкали огни выстрелов, свистели пули. Тут и там виднелись груды поверженных животных. Временами гремели особенно громкие выстрелы — давали знать о себе винтовки французов. Они положили много бизонов, накопили немало хвостов. Между тем Андре сделал двойной выстрел, который привел индейцев в неистовый восторг. Зная, что мясо коров гораздо вкуснее мяса быков, хотя шкура последних ценится дороже, Андре наметил себе жертву и приготовился стрелять. Вдруг на него с другого бока ринулся огромный бык. Фрике хотел помочь другу. — Оставь, я сам, — сказал Андре. — Хочу сделать двойной выстрел. На охоте за бизонами это редко удается. Исключительный случай. Первый выстрел свалил быка. Второй. Упала бизониха. — Ура, французы из старой родины! — кричали забрызганные кровью, запыленные индейцы. Но вот выстрелы и крики стали стихать. Люди и лошади утомились. Вождь пронзительно засвистел. Индейцы собрались вокруг него. — На сегодня довольно. Не следует неразумно истреблять бизонов. Убили сколько надо для пропитания и будет. Мы ведь не дикари. Закончить охоту!Фрике стоял спокойно, точно конная статуя.
ГЛАВА X
После охоты. — Все становятся мясниками. — Ошибки новичка. — Что такое «зеленый рог». — Совет старого охотника. — Колбаса прерии. — Как выделывают шкуру бизона. — Фрике блаженствует. — Запоздавшие охотники. — Тревога не особо впечатлительного человека. — След иноходца. Все разом прекратилось. Охотники спешились, расседлали и разнуздали коней, выпустили их на траву. Временами вдали слышались выстрелы — кто-то продолжал охоту. Но большинство собралось там, где оказалось особенно много поверженных животных. Предстояло переработать мясо и шкуры, чтобы ничего не пропало. Приступили к самой прозаической работе — сдирали шкуры, разделывали туши, потрошили их. Это вовсе не так просто, особенно для новичка, коим и был Фрике. В результате парижанин совершил множество ошибок. Ему приходилось снимать шкуру со слонов, тигров, пантер. Неужели он не справится с бизоном? И с присущей ему самоуверенностью молодой человек взялся за дело. Вынув нож, уселся рядом с американцем, у которого грудь и руки были перепачканы в крови — он ловко и умело потрошил тушу одного из животных.
Фрике распорол шкуру своего бизона вдоль всего тела от нижней губы до промежности и стал ее снимать, просовывая нож между мясом и кожей. И что же? Да ничего. Между тем он старался изо всех сил. — Да ее сам черт не отдерет! — вскричал юноша. — Уж очень плотно пристала. Полковник ехидно улыбнулся, сплюнул табачный сок и продолжал быстро отдирать шкуру от мяса своего зверя. — Право, не знаю, что это такое, — продолжал парижанин бурчать себе под нос. — Какие-то комки сала перекатываются под руками. Нож скользит, шкура ползет… Легче справиться с тигром, даже с бенгальским. — Это верно, — коротко отозвался американец. — Вот что, мистер Фрике, жаль портить такую прекрасную шкуру. Дайте, я сделаю за вас. А вы потом попрактикуетесь… над коровами, это проще. — Очень рад, полковник. Принимаю ваше предложение. Но все-таки мне бы не хотелось сидеть сложа руки. — Так работы полно! Вот мой бизон, вырежьте язык, горб, выпотрошите его, отделите филейную часть… — Прекрасно. Сейчас. — By God! Послушайте, что вы делаете? — Разве вы не видите? Хочу отрезать заднюю ногу полностью. Не беспокойтесь, я знаю, где она сочленяется, и все… — Недаром местные жители говорят, что «зеленый рог» может умереть с голоду, стоя перед бизоньей тушей. — «Зеленый рог»? Что такое «зеленый рог»? — Новичок. — Спасибо, вы очень добры. Но покажите, пожалуйста, как надо делать. Мне надоело быть «зеленым рогом». — All right! Вонзите нож между ребер за плечом. Так. Режьте глубоко, до хребта… внизу до груди. Отделите и остальные ребра до брюха. Так. У вас ловко получается, мистер Фрике. Теперь возьмите мой топорик и рубите ребра в том месте, где они соединяются схребтом. — Да это легко и просто! — Ну вот. Теперь осталось разнять обе четверти, как открывают створчатую дверь, и вынуть внутренности. — Грязная работа, но надо так надо. — Снимайте часть горба. Сделайте круглый надрез. Тащите. Так. — А язык, знаменитый язык? — Сделайте надрез в горле между двумя челюстями. Ухватите этот лиловый кусок и подрежьте у основания. — Ого! Тут фунтов десять! — Very well! Десять фунтов. Вот так, мистер Фрике, и разделывают бизона. — А остальное мясо? — Это дело индейцев. Они сумеют его заготовить. Охотники берут себе только отборное. Остатки идут в пользу волков и коршунов. Всем надо жить. Вот ваша шкура и готова. Потом мы ее выделаем, пока покажу вам, как делать «колбасу прерий». — Что-то особенное? — Yes, sir. Изысканное блюдо. Вот, промойте эту кишку с таким аппетитным слоем жира. Готово? Выверните ее жиром внутрь. Теперь мелко порубите язык, горб и филей, перемешайте и начините фаршем кишку. Если есть кровь молодого теленка, ею заполняют образовавшиеся пустоты, но обычно используют свежую воду. Колбаса готова, остается только поджарить ее на угольях. Раз отведав, не захотите никакого другого блюда. — А как же выделать шкуру? Мне кажется, это будет непросто. Здесь нет никаких скорняцких инструментов и приспособлений. — Индейцы умеют. Представьте, они изобрели способ, не требующий никаких специальных инструментов. Будем делать, как они. Возьмите топорик, расколите им череп бизона. Так. Силы и ловкости вам не занимать. Пока я буду вынимать мозг, разложите шкуру на земле мехом вниз. Американец взял медный котелок, налил воды, примерно треть, бросил туда мозг и размешал, получилась густая каша. Ею он тщательно смазал шкуру, втирая смесь не меньше четверти часа. Потом свернул, обвязал ремнем и привязал к седлу. — И все? — спросил юноша. — Не совсем. Через сутки она хорошенько пропитается смесью, я ее промою, натру куском дерева, чтобы она стала мягкой и волнистой, как бархат. Потом прокурю дымом, и она приобретет красивый светло-желтый оттенок. И уж тогда шкура ни за что не испортится, не сядет, не затвердеет. Вот и все, мистер Фрике. — Благодарю вас, полковник. Вы очень снисходительны к «зеленому рогу».Вынув нож, уселся рядом с американцем.

К ним подошел Андре, завершивший карандашный набросок — вид их лагеря. — Скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? — спросил он приятеля. — Обучаюсь скорняжному делу. Не хотите попрактиковаться? — Нет, я сегодня не расположен к ручному труду. Доделаю набросок, осмотрю наше оружие, в порядке ли оно. Его надо основательно почистить. Ты доволен охотой? — Я блаженствую! Но каковы индейцы! Охота превратила их в настоящих демонов. — Трудно изгнать из себя древнего человека. Поскоблите любого земледельца — вскроется охотник. Поскоблите охотника — увидите краснокожего. Взгляни вон на тех, что только теперь возвращаются. Как они возбуждены! Как опьянели от крови, которой забрызганы с головы до пят! — Мне кажется, что и теперь вернулись далеко не все. — Немудрено — азарт завел их далеко. Во время этого разговора полковник флегматично сидел на только что отрубленной голове бизона и жевал свою бесконечную табачную жвачку. — Ну а вы как себя чувствуете, полковник? — спросил Андре. — Вам, я думаю, все это не в диковинку. — Действительно, сэр, не в диковинку. Тем не менее я очень встревожен. — Не может быть. Вы ведь многое повидали? В чем дело? — Вот именно потому, что многое повидал, я и тревожусь. — Но в чем дело? — Что вы скажете о лошадях наших индейцев? — Чудесные кони. Красивы, выносливы, резвы… — Я не о том. Хоть у одной из них была иноходь? — Кажется, нет. — И я тоже не заметил, — вступил в разговор Фрике. — Насколько я знаю, индейцы избегают иноходцев. Это приятно и спокойно для всадника, но утомительно для коня, который при этом часто спотыкается. — Все это правда. На десять тысяч краснокожих едва ли у двоих найдется такая лошадь. — Так что же в конце концов? — А то, что сегодня я пересек следы коня-иноходца. Следам не больше двух дней. — И что же из этого следует? — Что если не у двоих, то, по крайней мере, у одного индейца есть иноходец. — Несомненно, раз вы видели следы. — Господа, вы, я полагаю, поняли, что я не принадлежу к числу особо впечатлительных людей. Всякое повидал, меня мало чем удивишь или испугаешь. — Мы знаем это. Но к чему вы клоните? — К тому, что лучше нам повстречать самого черта с рогами, чем владельца этой проклятой лошади. Вы думаете, полагаю, что в прерии сейчас спокойно и безопасно. Дай бог, чтобы вы были правы, и дай бог, чтобы этот человек был от нас как можно дальше.Американец взял медный котелок, налил воды, примерно треть, бросил туда мозг и размешал, получилась густая каша.
ГЛАВА XI
День на день не приходится. — Странное исчезновение бизонов. — Фрике, оставшись один в прерии, предается своим думам. — Неприятный сюрприз. — Лошадь и седок на земле. — Короткая, но решительная схватка. — Четверо немирных индейцев. — Пойман лассо. — Тайна не проясняется. — Что это — восстание или частный случай насилия? — Три пленника. — Белый охотник за скальпами… — Кровавый Череп!.. Весь следующий день выделывали шкуры и заготавливали мясо. Из арьергарда доставили повозки, на которые грузили приготовленные туши. На третий день «мясники» вновь стали охотниками, вскочили на коней и рассыпались по прерии. Но, должно быть, гекатомба окончательно напугала бизонов — они бесследно исчезли. Обыкновенно такого не происходит. Как правило, едва преследование прекращается, животные останавливаются, словно не желая покидать пастбище, где растет их любимая трава. Значит, случилось что-то особенное. Как быть? Охотники собрались на совет, пригласив, конечно, и троих белых. Решили разбиться на несколько групп, которые независимо друг от друга двинутся вперед, продолжая поиски бизонов. Прежде такой план сочли бы рискованным, поскольку племена постоянно враждовали, теперь ситуация была иной — едва ли десятая часть индейцев выжила после истребления их белыми, им пришлось сплотиться, дабы защитить себя, впрочем, силы были не равны. Прилив надвигался, пока почти полностью не смыл их. Андре, Фрике и полковник вошли в состав отряда под командованием Блеза. Батист дал сигнал, и все помчались по прерии. Мы, конечно, будем следить за отрядом, в котором оказались наши путешественники. Они скакали, напряженно вглядываясь в даль. Андре не отнимал от глаз бинокль и очень сердился, что бизонов все еще не видно. Фрике балагурил по поводу досадной неудачи. Американец был сумрачнее обыкновенного, хмурился и решил отказаться от всяких поисков. Половина дня прошла безрезультатно. Охотники утомились. Хотелось отдохнуть. Блез распорядился сделать привал. Неудача, впрочем, никак не повлияла на аппетит — все с жадностью набросились на сочное бизонье мясо, лошади тем временем поедали бизонью траву. Поскольку предмет их поисков так и не появился, Блез предложил рассыпаться цепью по одному. Поскольку прочие группы, несомненно, поступят так же, бизонов вскоре удастся обнаружить. Первый, кто их увидит, даст сигнальный выстрел и остановится. К нему поспешат соседи справа и слева, тоже сделав по выстрелу, таким образом, все вновь соединятся и возобновят охоту. Прошли часы, много часов, а бизонов не было. Фрике, оставшись один между Андре и полковником, удалившимися от него на километр, заскучал. Он не привык так долго заниматься поисками, до сих пор добыча сама его находила. Парижанин бранился, поминал чертей, не переставая при этом зорко вглядываться в даль. — Все шло как по маслу, и вдруг это непонятное исчезновение! Не нравится мне это. У меня какое-то предчувствие. Тем более что и наш полковник расстроен. Его смутили следы иноходца. Что бы это значило? Своей биографии он нам не рассказывал, но нетрудно догадаться, что у него было в жизни по крайней мере девятьсот девяносто девять приключений… Однако трава становится все выше и почти совсем закрывает мою лошадь, волнуясь от ветра, точно море… Вдруг лошадь заржала. — Ты поешь? Что это тебе вдруг вздумалось? Дичь почуяла или, быть может, других охотников? Как я глуп! Если бы они были поблизости, над травой возвышались хотя бы всадники. Что она ржет, в самом деле? Юноша бросил поводья и хотел взять винтовку, но не успел: лошадь его вдруг упала, он вместе с ней, через ее голову, и растянулся на траве. — Гром и молния! — вскричал он в бешенстве, стараясь встать, но почувствовал, что сзади его схватили чьи-то грубые руки и крепко держат.
Невысокий и тщедушный с виду Фрике был чрезвычайно силен. Одним движением стряхнул руки нападавшего. Быстро выпрямившись, увидел перед собой индейца и двинул ему кулаком по лицу. — Вот тебе, старая обезьяна! Дикарь упал. Но парижанина обхватили сзади две другие руки и крепко сомкнулись на его груди. Третий враг выскочил из травы и занял место упавшего. Лишившись оружия, Фрике нагнулся, схватил зубами большой палец державшего его индейца и раздавил его, как щипцами. Тот взвыл от боли и выпустил добычу. Третьего нападавшего юноша свалил ударом ноги в живот. — Западня!.. Ловушка!.. Что вам надо? Вы, должно быть, ошиблись, принимаете меня за другого. Прочь, или я вас уничтожу. Фрике бросился к лежавшей в траве лошади. Но та вскочила и в безумном испуге убежала. — Хорош же я теперь, — сказал он. Между тем индейцы оправились и с хриплым коротким криком бросились на парижанина. Тот отступил на два шага и приготовился отразить удар. Борьба была не безнадежна, тем более что враги не пускали в дело ни топора, ни ножа, которыми были вооружены. Очевидно, хотели взять Фрике живым. Вдруг позади него что-то прошуршало. Он обернулся и увидел длинный ремень, который скользнул по траве и быстро скрылся, влекомый невидимой рукой. Очевидно, то было лассо, которым повалили лошадь. Индейцы несколько секунд стояли в нерешительности. В траве послышался крик. Молодой человек хотел броситься вперед, но почувствовал себя крепко стиснутым на уровне локтей. Руками шевелить он больше не мог — попался в лассо, стянувшее его мертвой петлей. Индейцы подошли, молча связали по рукам и ногам, завязали рот ремнем из бизоньей кожи. Пленник тем временем рассматривал их не столько с тревогой, сколько с любопытством. Оборванцы в европейских лохмотьях, как те индейцы, что Фрике уже видел в прерии. Лица выкрашены в красную краску — знак войны. Раздался новый сигнал. Зашуршала и раздвинулась трава, показались четыре великолепных мустанга. Они примчались с четырех разных сторон и остановились, чутко принюхиваясь — они чуяли чужих, «слышали» их запах. Юношу взвалили на одну из лошадей, как мешок, и крепко привязали, индейцы вскочили в седла и поскакали, очевидно, знакомой дорогой. Но почему Фрике подвергся нападению? Кто были эти люди? Между индейцами и белыми заключен мир. Почему они напали? Очевидно, это какие-то разбойники. Парижанин вспомнил слова полковника Билла, что он видел след иноходца, его пожелание избежать встречи с владельцем этого коня. Тут была какая-то тайна, известная ему одному. Очень скоро, впрочем, она стала известна и юноше. Скачка продолжалась часа три, затем всадники остановились у довольно широкой реки, делавшей в этом месте большую круглую петлю. Они сошли с коней, развязали пленника, освободили его рот и дали есть, сами сели на землю в стороне, как будто даже и не обращая на него внимания. К своему глубокому удивлению, молодой человек насчитал вокруг шестьдесят краснокожих, с раскрашенными лицами и вооруженных с ног до головы. По их размалеванным маскам невозможно было понять, как они намереваются поступить с добычей. Лошадей они отпустили в траву, но не расседлали. Очевидно, то была лишь непродолжительная остановка. Вдруг эти бесстрастные люди разом испустили радостный крик. Послышался лошадиный топот, появился отряд человек двенадцать. Они везли еще двух пленников в европейской одежде. Один был Андре. Другой — полковник Билл. — Негодяи! — вскричал молодой человек при виде связанного друга. — Да с вас мало шкуру содрать за это! — Фрике! И ты здесь! — воскликнул Андре. — Ничего, месье Андре, мы и не такое видали. Перемелется — мука будет. Выкрутимся! Американец молчал и с тревогой оглядывал тесные ряды индейцев, в свою очередь пристально и злобно уставившихся на него. Вдруг он побледнел и невольно вздрогнул. Один из воинов медленно направлялся к нему. У этого индейца, не в пример остальным, на голове была меховая шапка с длинным хвостом, падавшим на плечи. Он нахлобучил ее на лоб и на уши. В двух шагах от ковбоя человек остановился, долго глядел на него с невыразимой ненавистью, потом проговорил по-английски хриплым от злобы голосом: — Белый охотник за скальпами узнает свою жертву? Полковник Билл растерянно глядел на индейца и молчал. Тот сдернул шапку и обнажил неприятный, абсолютно голый череп, покрытый розовой кожей, без единого волоска. — Кровавый Череп! — сдавленным голосом проговорил ковбой.Сзади его схватили чьи-то грубые руки.
ГЛАВА XII
Янки и индейцы. — Колорадская война. — Сиу, чейенны и аррапагу. — Союз против общего врага. — Партизанская война. — Резня в Сэнд-Крике. — Что творили американцы. — Белые охотники за скальпами. — Три года борьбы. — Первая встреча полковника Билла с Кровавым Черепом. — Жестокие расправы. — Мир с пятью племенами Юга. — Два непримиримых врага. — В отместку за сэнд-крикскую резню. — Ненависть. В 1864 году, после короткого перерыва, между белыми и индейцами Северной Америки разгорелась война, которая не прекращалась, в сущности, в течение нескольких веков. Она постоянно тлела, то затихая, то снова вспыхивая безо всякой видимой причины. Впрочем, причина была — белые не могли остановить своего продвижения вперед, занимая все новые и новые земли. Порой эти земли оказывались принадлежащими какому-нибудь индейскому племени. Оно бралось за оружие, к нему присоединялись соседи — начиналась война. Белых подкарауливали, снимали с них скальпы. Дома их жгли, грабили, скот похищали, женщин и детей уводили в плен. Белые вооружались, составляли военные отряды и мстили индейцам жестокими расправами. Война 1864 года вспыхнула и велась главным образом в штате Колорадо, который, впрочем, тогда еще был не штатом, а просто территорией. Всякая новая земля, входившая в состав Северо-Американского союза, сначала называлась территорией, и лишь когда население превышало сто тысяч, получала права штата, и на государственном флаге Северо-Американской республики появлялась новая звезда. Колорадо был признан штатом в 1874-м, когда численность населения еще не достигла ста тысяч. Он лежит по обоим склонам Скалистых гор, граничит на севере со штатом Небраска и территорией Вайоминг, на востоке — со штатом Канзас, на западе — с территорией Юта. Его площадь — двести пятьдесят тысяч шестьсот квадратных километров, то есть половина Франции. В 1850 году здесь почти не было белых, лишь несколько мексиканцев, поселившихся в Сан-Льюс-Парке. В 1860-м, благодаря быстрому развитию горного дела, белых насчитываюсь уже тридцать пять тысяч. В том же году Колорадо стал территорией с двумя городами — в сущности, деревушками — Денвером и Сентрал-Сити. Столицей был Денвер. Объявление Колорадо территорией повлекло за собой необходимость индейцам подчиниться федеральным законам или покинуть эти земли. Но их населяли сиу, чейенны и аррапагу, самые неукротимые из краснокожих племен. Они не желали ни подчиняться, ни переселяться и оказывали отчаянное сопротивление. А белые упорно надвигались, захватывали земли, строили фермы, города, заводы, добывали из земли уголь, ценную руду. Индейцы действовали порознь и постоянно терпели поражение. Наконец они одумались, заключили между собой мир и союз против общего врага, но было уже поздно. Прежде чем начать борьбу не на жизнь, а на смерть с сильным противником, они сделали попытку договориться с представителем федерального правительства и добиться некоторых уступок. В 1863 году к губернатору Колорадо прибыла депутация, чтобы заключить мирный договор, но это не удалось, борьба возобновилась. Чейенны, сиу и аррапагу не делали прежних ошибок, держались вместе, выработали план борьбы. Опустошительные набеги, которые, как правило, сопровождались убийствами, совершались теперь обдуманно. Началась настоящая партизанская война, на первых порах давшая прекрасные результаты. Сообщение между Джулсбургом и Денвером было ликвидировано. Все фермы на пути между ними сожжены, скот разграблен. Убивали мужчин без числа, снимали с них скальп, женщин и детей уводили в плен, где они подвергались жестокому и недостойному обращению. Истреблялись целые партии эмигрантов, даже отряды милиции. Ободренные этими успехами воины прерии решились осадить форт Сэджвик, но тут их усилия разбились об артиллерию форта, осыпавшую врага картечью. Колорадские первопроходцы сражались мужественно, проявляя свойственную американской нации холодную неустрашимость и железную настойчивость. Гражданская война Севера с Югом в то время была в полном разгаре. В ней принимали участие все регулярные войска. На военную помощь от Союза нечего было рассчитывать. Жители Колорадо сами организовали милицию, назначили офицеров, за свой счет снарядили и вооружили отряды. Вскоре они научились у индейцев тактике засад и внезапных нападений, укрепили ее тактикой европейских армий, превосходным вооружением и железной дисциплиной. И хотя численность этих отрядов по сравнению с индейскими была невелика, вскоре они оказались сильнее. Тогда, в свою очередь, стали преследовать индейцев и делали это с большим ожесточением. В иных случаях позволяли расправы, от которых становится не по себе. До сих пор всем памятна ужасающая резня в Сэнд-Крике, устроенная полковником Чайвингтоном, командиром третьего полка колорадских волонтеров. Она превосходит все зверства индейцев или, по меньшей мере, сравнима с ними. Случилось это 29 ноября 1864 года. Ловким маневром третий полк окружил шестьсот человек сиу, чейеннов и аррапагу, с женщинами и детьми. Полк состоял из двухсот волонтеров, вооруженных винтовками Спенсера. — Вспомните ваших жен и детей, перебитых в Ла-Плате и Арканзасе! — крикнул полковник своим солдатам, и без того дрожавшим от нетерпения и ярости. Они бешено устремились на лагерь индейцев, застигли их врасплох, и те не могли защищаться. Вывесив белый флаг, предложили переговоры. Полковник не пожелал их слушать… Произошла неслыханная резня. Индейцев расстреливали в упор, давили конскими копытами, рубили саблями… Краснокожие воины полегли все до одного, не щадили ни женщин, ни детей. Этим дело не кончилось. Последовало жуткое завершение — со всех раненых и убитых белые сняли скальп. Солдаты распарывали женщинам животы, разбивали о камни головы детям, отрезали пальцы с кольцами и уши с серьгами, вели себя хуже дикарей. «Доблестная» операция обошлась белым всего в пять человек убитых, погибло пятьсот индейцев, половина — женщины и дети. Тяжело раненных бросили на поле битвы. Спаслись человек двадцать. Вождь сиу Черный Котел и вождь чейеннов Белая Антилопа получили тяжелые раны. Знаменитые воины Вывихнутое Колено, Одноглазый, Кривой и Малый Плащ — убиты. Читатель помнит, как полковник Билл, когда правительство распустило его отряд, набранный из краснокожих, лишился полковничьего звания и мундира. Тогда он оставил регулярную армию и отправился в Колорадо, где поступил в волонтеры простым солдатом, но скоро выдвинулся и был назначен капитаном в полк Чайвингтона. Он участвовал в сэнд-крикской бойне. Сражался храбро, а после битвы проявил особую жестокость. Вложив в ножны окровавленную саблю, достал нож и принялся снимать скальпы с убитых и раненых, попадавшихся ему под руку. У него уже набралась порядочная коллекция скальпов, как вдруг он увидел молодого воина, помощника вождя, легко раненного в грудь, но лежавшего без движения. Недолго думая мистер Билл ухватил его за волосы и привычной рукой провел круглую линию вокруг головы. Раненый вздрогнул. Тогда с изуверской жестокостью Билл стал водить ножом по коже медленно-медленно… Раненый не издал ни единого стона. — Если очнется — простудится и насморк получит, — засмеялся полковник и перешел к следующей жертве. К его изумлению, несчастный поднял изуродованную голову, вскочил на ноги, ухватил за повод первую попавшуюся лошадь и прыгнул в седло. — Я уже не Черный Орел, а Кровавый Череп! — закричал он. — Запомни это имя. Белый охотник за скальпами! Помни его до тех пор, пока твой скальп не покроет мою голову! Полковник схватился было за револьвер, но он оказался разряжен, индеец ускакал.
Полковник Чайвингтон повсюду трубил о своей победе, утверждая, что в битве пало пятьсот краснокожих воинов. Рассчитывал получить в награду звание генерала и перейти на службу в регулярную армию. К чести федерального правительства, оно тщательно расследовало это дело, Чайвингтону пришлось уйти в отставку. Сэнд-крикская бойня не забыта в Колорадо до сих пор, ее называют чайвингтоновской резней. Индейцы пришли в неистовство. В январе 1865 года разграбили и сожгли все фермы и станции на севере Колорадо. Поселенцы подверглись беспощадному уничтожению. Аррапагу и чейенны соединились с тремя другими племенами — кайявайсами, команчами и апачами — и повели с белыми беспощадную войну. Сиу отошли на север и пока держались в стороне, хотя воин из их племени по имени Кровавый Череп был душой краснокожей коалиции. О нем рассказывали ужасные вещи. Его ненависть к белым изумляла даже соплеменников. На голове он неизменно носил меховую шапку и ездил верхом на иноходце. С него снял скальп белый человек, он страдал головными болями, которые делались невыносимыми от тряской лошадиной рыси, поэтому он ездил только на лошадях, ходивших иноходью, а они встречаются в прерии крайне редко. Кроме ненависти к белым вообще, у него была причина и для личной мести. Ее мы уже знаем. Он хотел отыскать человека, который снял с него скальп, поступить с ним так же и предать самой мучительной смерти. Во время войны, продолжавшейся до 1867 года, они нередко встречались в боях, но при всем обоюдном желании никак не могли сойтись лицом к лицу. В октябре 1867 года в Канзасе был подписан мирный договор между пятью главными племенами Юга и правительством Союза. Колорадских волонтеров распустили. Мистер Билл вернулся к мирной жизни и к прежнему чину полковника. Кровавый Череп скрылся у сиу, покрытый славой и обвешанный скальпами, которые с радостью бы отдал за один — с жесткими и сухими волосами, за скальп полковника Билла. Последний не был спокоен за свою жизнь, часто встречая след иноходца и справедливо полагая, что договор договором, а личная вражда — личной враждой. В продолжение девяти лет враги неоднократно обменивались выстрелами, но оставались невредимыми. Нашла коса на камень. Трудно было сказать, за кем в конце концов останется победа. В 1874 году вспыхнула война с сиу, которые начали ее первые, принялись грабить и жечь поселки, снимать скальпы с колонистов. Разумеется, Кровавый Череп и полковник Билл оказались в числе сражавшихся. Главный вождь соединенных племен сиу, знаменитый Ситтинг-Булл, выставивший семь тысяч воинов, взял Кровавого Черепа помощником. Американскими войсками командовали генерал Костер и полковник Крук. Ситтинг-Булл ухитрился заманить главные силы федералов в ущелье Уайт-Маунтейн, близ городка Бисмарк, и полностью уничтожить их. После битвы велел подать трупы Крука и Костера, вырезал у них сердца и съел на глазах у своих воинов. Это было под стать чайвингтоновской бойне. Полковник Билл и Кровавый Череп вновь встретились. Индеец был уверен, что жертва на этот раз от него не уйдет и он утолит наконец свою жажду мести. Полковник чувствовал, что его скальп держится на волоске. Случилось иначе. Когда Кровавый Череп устремился на полковника, тот выстрелил из револьвера и ранил его в плечо. Индеец упал с коня, со своего пегого иноходца. Полковник моментально воспользовался этим, вскочил на иноходца и ускакал, хотя и получил вдогонку шальную пулю, ранившую его на излете в левую руку. Едва ли не десятая их встреча окончилась ничем. С тех пор они не виделись до 1880 года, когда полковник Билл, полагавший, что окончательно избавился от врага, неожиданно попался ему в руки во время охоты на бизонов.— Я уже не Черный Орел, а Кровавый Череп! — закричат он.
ГЛАВА XIII
Индейцы как они есть. — Дурные предчувствия полковника. — Фрике проголодайся. — Парижанин завоевывает сердце старого дикаря. — Дела ковбоя идут все хуже. — Последствия опасного прыжка. — Снисхождение. — Прыжок через лошадей. — Победа Фрике. — Рукопожатие. — Фрике получает прозвище Железная Рука. — Новые опасения. — С краснокожими ничего не выйдет. Североамериканских индейцев многие представляют себе людьми серьезными, молчаливыми, а если и говорящими, то весьма напыщенно. Это не так. Они очень веселы, просты в общении, высокий слог им чужд. Серьезность и молчаливость напускают на себя только на советах, там же можно услышать и выспренные речи. У себя в деревне краснокожий охотно посмеется, споет, пошутит и спляшет. Но в его характере уживаются крайние противоположности. Сейчас он весел и добродушен, через минуту проявит чудовищную жестокость. Андре и Фрике, знавшие индейцев лишь по книгам, были удивлены, когда увидели их такими, каковы они есть. Пленники больше не занимали дикарей, которые принялись торопливо набивать себе желудки. Все болтали, смеялись, шутили, поглощая при этом с невероятной жадностью огромные куски бизоньего мяса. Кровавый Череп тоже принимал участие в беседе, рассказывал, должно быть, что-то очень пряное, поскольку слушали его с видимым удовольствием, прерывая дружным хохотом. Фрике и Андре дивились этой жизнерадостности индейцев, тогда как физиономия американца становилась все мрачнее. Он понимал, о чем идет речь. — Однако, полковник, наши враги довольно веселый народ, — сказал парижанин, — а никакой весельчак не может быть безнадежно жестоким. Нельзя ли с ними на чем-нибудь столковаться? Как вы думаете? — Я думаю, мистер Фрике, что самый здоровый из нас опасно болен. Если б вы только могли понимать, что они говорят! Они смеются, как тигры, если только это можно назвать смехом. — Стало быть, дело очень серьезно? — Неужели вы сомневались? Эти негодяи придумывают для нас самые утонченные муки и пытки — и при этом хохочут. Вы, господа, храбрецы оба. Я видел вас в деле. Вы тоже знаете, что я не трус. И, уверяю вас, я в эту минуту испытываю страх. Не умереть я боюсь, нет. Раз смерть пришла, так чего уж ее бояться. Но боюсь тех ужасных мучений, которые нас ожидают перед смертью. — Перспектива не из приятных. — Если бы у меня были свободны руки, я бы всадил в себя нож. Если бы случайно у меня дрогнула рука, я бы стал умолять вас: ради бога, убейте меня, господа! — Значит, для нас все потеряно? Нам конец? — Во всяком случае, не сегодня, потому что нам не дают есть. — Правда, не дают, и я начинаю чувствовать сильнейший голод. Кстати, разве наши друзья «каменные сердца» не могут явиться сюда и выручить нас? — Не смею на это надеяться. — А я смею. Двести молодцов с винчестерами — это ведь сила! От здешнего сброда немного тогда останется. — Они их и ждать не станут. Кажется, сейчас мы двинемся. До мест, где живет их племя, несколько дней пути, нас приведут в главную деревню, чтобы показать женщинам и детям. Там нас будут неделю, по меньшей мере, сытно кормить, чтобы мы хорошенько отъелись и дольше могли вытерпеть казнь, а не умерли в самом начале. — Спасибо, полковник, за разъяснение. Стало быть, у нас есть еще впереди несколько дней, а там, быть может, и выручка подоспеет. Но я проголодался и намерен потребовать, чтобы мне дали есть. Что вы скажете, месье Андре? — Скажу, что совершенно с тобой согласен. У меня в желудке черт знает что делается. Хочу попросить себе кусок мяса. — Эй, вы, там! — крикнул Фрике на своем фантастическом английском. — Не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить? Ответа не последовало. — Что вы на меня уставились, точно гуси, услыхавшие тромбон? Кажется, все и так ясно: мы голодны, надо нас покормить. Пленных всегда кормят. Никто и бровью не повел, будто не поняли. — Вот дикари! — проворчал по-французски Фрике. С земли вдруг поднялся старик-индеец, одетый в разную полуевропейскую мишуру, и подошел к пленным. — Дикари? — проговорил он с удивлением. — Ну да, дикари, а то кто же? Мало того, что вы нас связали, так еще и голодом морите. — Зачем голодом? Надо кушать. — Да ты, ирокез этакий, умеешь говорить по-нашему? — Французы?.. Вы французы?.. — Ну да, французы. Из самого Парижа. А тебе что? — Я… знавал… отца де Сме. — Ты знавал отца де Сме, миссионера? — с живостью вскричал Андре. — Да, отца де Сме… Отца сиу-дакотов. — Не похвалил бы он вас за такое обращение с нами, — перебил Фрике. — Но об этом после. А пока дайте нам есть и пить и развяжите нас, а то у нас отекли и руки и ноги. Старик отошел к группе воинов, среди которых ораторствовал Кровавый Череп, и произнес какую-то длинную фразу. Ему возражали, потом долго горячился индеец с изуродованной головой, но старик упорствовал и в конце концов, должно быть, убедил, потому что через четверть часа вернулся к пленным и положил перед ними большой кусок мяса. — Вот за это спасибо, дедушка. А теперь развяжи-ка эти веревки, они совсем сдавили ножки и ручки бедненькому мальчику Фрике. Старик несколько секунд колебался, потом исполнил просьбу парижанина. — Браво, старик! Теперь господину Андре разрежь. Месье Андре — вон тот брюнет, который все молчит, все думает. Так. Господин краснокожий, да вы добряк. Ну, теперь ему, — продолжал юноша, указывая на американца. — Нет! — резко ответил старик. — Почему? — Нет, нет и нет, — повторял тот с невыразимой ненавистью. — Он не француз. Он — Длинный Нож.[7] — И что? — Нельзя! — отрезал старик и на кончике ножа поднес к губам ковбоя кусок мяса. — Так вы его будете кормить сам с ножичка? Ну что ж. А по-моему, лучше бы просто развязать. — Нет. — Ну, дедушка, не будь таким сердитым. Ведь мы от вас все равно никуда убежать не можем. Фрике встал и потянулся, разминая отекшие члены. Потом ему вдруг пришла странная фантазия сделать прыжок через голову. И он сделал. Индейцы перестали есть и громко захохотали. — А! Им это нравится! Что ж, будем продолжать в том же духе. С пронзительным и веселым клоунским криком отчаянный шалун еще раз прыгнул через голову, еще и еще, несколько раз прошелся колесом перед почтеннейшей публикой, проделав ряд уморительных штук, как настоящий коверный, и закончил представление умопомрачительнейшим grand-ecart. Индейцы пришли не только в изумление, но и в восторг. По рядам их пробегал одобрительный ропот.
— Вот что значит получить всестороннее образование! — балагурил Фрике. — Но и это еще не все. Если угодно, милостивые государи и милостивые государыни, я вам покажу и другие фокусы. Господа, не желает ли кто-нибудь из вас посостязаться со мной в искусстве французского или английского бокса? Молчат. Неужели никто не хочет? Андре хохотал от всей души, глядя на проказника. — Итак, — продолжал молодой человек, — бокса вы не хотите. Ну а сумеет ли кто-нибудь перепрыгнуть через трех лошадей, поставленных рядом? Он бесцеремонно схватил за повод одну из лошадей, стреноженных неподалеку, и повел было на открытую площадку, поросшую густой короткой травой. Лошадь испугалась белого человека и встала на дыбы. Индейцы, предполагая побег, окружили юношу с угрозами. Тот обратился к старику и объяснил свое намерение. Добряк, чувствовавший к юноше расположение, знаками показал, что понял суть дела. Сам подошел к лошади, взял ее под уздцы, успокоил свистом и подозвал юношу, чтобы тот ее взял за повод. — Прыгать через одну лошадь — пустое ребячество, — сказал тот. — Не правда ли, месье Андре? — Не всякий это может. — Я могу и через несколько, да только у меня суставы заржавели от веревок. Но все-таки я им утру нос, покажу все, на что способен. Привели вторую лошадь, третью и поставили их в ряд. — Кто желает? — спросил Фрике. Подталкиваемый товарищами, из толпы выступил молодой рослый индеец с мускулами гладиатора, с профилем, как на старинной римской медали, и степенно приблизился к парижанину. Он, не стесняясь, скинул с себя кожаные панталоны, куртку из бизоньей шкуры, мокасины и отошел на несколько шагов для разбега. — Стильный парень, — проговорил парижанин с видом знатока. — Но что за прихоть — упражняться голым, в чем мать родила! А, приятель, хорошо! Браво, браво! Индеец сделал бросок. За несколько секунд преодолел расстояние, отделявшее его от лошадей, и ловко перепрыгнул через всю тройку. Индейцы завыли от радости и не без насмешки поглядели на француза, который рядом с богатырем-индейцем казался таким бледным и тщедушным. — Ах вы тюлени! Ну, смейтесь. Радуйтесь. Посмотрим, кто будет смеяться последним… Вот что, дедушка, приведите мне еще трех лошадей. — Трех? — переспросил старик. — Да, трех. Я буду прыгать через шесть. — Ах!.. — Что — ах? Удивлены? Да в нашей стране это могут сделать не только мужчины, но даже женщины и дети. Поставили еще трех лошадей рядом с прежними тремя. Фрике увеличил между ними расстояние. Индейцы окончательно забыли свою еду и возбужденно следили глазами за белым юношей. Он отошел назад, скинул тяжелые желтые сапоги и, прокричав: «Раз!.. Два!.. Три!..», сделал несколько быстрых мелких шагов, потом прыгнул, как на пружине… Словно молния промелькнула. В один миг он легко перемахнул через всю шестерку лошадей и очутился по другую сторону. Индейцы громко вскрикнули от восторга. — Пустое дело, — сказал Фрике. — Пожалуй, можно было бы добавить еще парочку. Ну, сударь, теперь ваша очередь, — прибавил он, обращаясь к молодому человеку. Тот отрицательно покачал головой. — Отказываетесь? Ну что ж. Будем друзьями. Давайте руку. И протянул ему руку. Индеец вложил в нее свою. Вскоре на его лице изобразилось глубокое изумление, потом тревога и боль. Брови нахмурились, рот раскрылся. Он завертелся, изогнулся пополам, будто рука попала в тиски. — А-гу! — крикнул он хрипло. — Что — а-гу? — спросил парижанин, выпуская его обескровленные пальцы. — Это не агу, а дружеское рукопожатие. У нас так жмут друг другу руку сплошь да рядом. Спросите хоть месье Андре. Но краснокожий парень в ужасе расправлял сдавленные пальцы и глаз не смел поднять на удивительных белых людей. Вскоре он затерялся в толпе, бормоча про себя какое-то слово, его вполголоса повторяли другие. Фрике обратился к американцу: — Скажите, полковник, что за слово они все твердят? Я и выговорить его не могу. — Они называют вас Железная Рука. И это по шерсти кличка. By God! У вас в руках удивительная сила. Вы дикарям очень понравились и кое-что выиграли через это. — Думаете, они нас отпустят? — Слишком вы прытки. Вас избавят от столба пыток, убьют без мучений. Но и это уже много. — Спасибо. Вы очень добры. По мне, этого мало. Я им готовлю или, вернее, мы все им готовим ряд сюрпризов. Уверен, мы от них благополучно улизнем. — Хотел бы я разделить вашу уверенность, мистер Фрике, но, увы! Не могу. Послушайтесь меня, оставьте ваши иллюзии. Разочарование будет ужасно. В любом случае, едва появится хоть малейшая возможность, не забудьте дать мне нож. Повторяю, я согласен умереть, но не желаю подвергаться пыткам.Фрике пришла странная фантазия сделать прыжок через голову. И он сделал.
ГЛАВА XIV
Преклонение индейцев перед телесной силой и ловкостью. — Фрике не хочет пользоваться никакими привилегиями один, без Андре. — На Север, потом на Юг. — Индейская собака. — Вигвамы. — Неласковый прием. — Как Кровавый Череп лечит обмороки. — Хижина вождя. — Фрике — Железная Рука узнает, что он великий воин. — Планы побега. — Как Кровавый Череп захватил троих пленников. Часть предсказаний американца относительно двоих пленников исполнилась. По окончании дружеского состязания вождь приказал сниматься с лагеря и выступать. Связанного полковника без церемоний взвалили на лошадь, словно тюк, привязали и повезли. Парижанин с неудовольствием ожидал той же участи, но ему подвели оседланного и взнузданного коня и предложили на него сесть. Старик-индеец объяснил, что снисхождение оказано за его доблесть, но ему все-таки придется смириться с тем, что руки будут связаны на груди. — Что делать, — сказал Фрике. — Если иначе нельзя, то я подчинюсь. Но только как я буду править лошадью? — Ее поведет воин, который будет ехать рядом с тобой. Юноша дал себя связать и с помощью воина влез на лошадь. — Все же и это плюс, — рассуждал он. — А потом увидим… Эй, нет, стойте! Так нельзя! Для месье Андре извольте сделать то же, что и для меня, иначе я не согласен. Индейцы не понимали. Бедовый парижанин поднатужился — и ремни, которыми он был связан, лопнули как простые бечевки. Быстро спрыгнув на землю, он схватил у одного воина висевший сбоку нож для скальпов и в один миг перерезал ремни, сковывавшие друга. Дикари были ошеломлены. Молодой человек спокойно взял нож за острие и с самым любезным видом подал владельцу, говоря: — Вот вам, душенька, ваш ланцет. У меня и в мыслях не было употреблять его во зло. Я только хочу, чтобы с месье Андре, который стоит дюжины таких, как я, вы обращались не хуже, чем со мной. Только и всего. Поняли? Индейцы опять заволновались и ударились в бесконечный спор. Им вовсе не улыбалось исполнять требование пленника. — Как угодно, только тогда вяжите и меня. Правда, он не устраивал перед вами акробатического представления, но я старался и за него, и за себя. Если награждать, то обоих. Я сказал. Индейцы не поняли слов, но уловили смысл происходящего. Догадались, что Фрике желает остаться связанным, если не будет освобожден от пут его друг. Это еще больше расположило их в пользу молодого человека. В сущности, любая попытка убежать была обречена. Поэтому дикари согласились развязать Андре ноги, оставив связанными руки. Но на этот раз друзей скрутили крепче прежнего. Отряд наконец выступил, задержавшись из-за этого происшествия почти на полчаса. Двигались сначала в северном направлении, мимо цепи так называемых Теземенских озер, потом свернули на запад к озеру Калиспелм и, проведя в дороге весь остаток дня и всю ночь, на рассвете прибыли в долину, по которой в живописном беспорядке были разбросаны хижины из бизоньих шкур. Послышалось яростное рычание, к ним кинулась стая собак весьма злобного вида. «Друзья человека» почти совсем не ласкались к своим хозяевам, зато на пленников оскалили острые белые клыки. Индейские собаки действительно не ласковы со своими хозяевами. Во-первых, потому что те дурно с ними обращаются, равно как, впрочем, и с лошадьми, и с женами, ну и потому, что в голодные времена собак убивают и едят. Собачий лай и вой перебудил обитателей хижин. Индейская хижина, или вигвам, стоит хотя бы краткого описания. В землю втыкаются жерди длиной пять-шесть метров, вверху они соединяются в одной точке. На этот остов натягиваются бизоньи шкуры или холст. Наверху оставляют отверстие, чтобы выходил дым. Войти в нее можно только ползком. «Дверь» занавешивается прибитой сверху гвоздями бобровой шкурой или просто холстиной. В этом неудобном жилье постоянно горит в очаге огонь, вокруг огня разложена кухонная утварь, всегда идеально грязная — котлы, чугуны, горшки и прочее. Меблирован вигвам бизоньими шкурами, которые служат и постелями, и одеялами. Одежда — грязная, рваная — развешена по жердям на гвоздях вместе с копчеными бизоньими тушами и сыромятными ремнями. Прибавьте к этому деревянные сундуки с более ценной рухлядью и вещами, присоедините невыносимый аромат — и вот вам жилище, где ютится обыкновенно с полдюжины индейских душ обоего пола. «Двери» всех хижин приоткрылись, показались кирпичного цвета лица с черными глазами. Отвратительные старухи, настоящие мегеры, злобно растягивали до ушей беззубые рты и визжали как гиены, перекрывая временами собачий лай. Потом из вигвамов вылезли дети, обезумевшие от ненависти к белым женщины и, наконец, люди солидные, считавшие ниже своего достоинства открыто выражать чувства. Хотя кони устали, воины не могли отказать себе в удовольствии покрасоваться перед собратьями. При пленных остались только Кровавый Череп и старик с очень странным именем — Тот-кто-видел-Великого-Отца. После оживленного спора, причем старик был вынужден в чем-то уступить, последний помог Фрике и Андре слезть с лошадей, а Кровавый Череп снял полковника Билла, как тюк. Видя, что тот почти без сознания, несколько раз кольнул его ножом в ладони, дабы привести в чувство. Ковбой открыл глаза, вздохнул глубоко-глубоко и устремил на врага блуждающий взгляд. Тот-кто-видел-Великого-Отца объяснил пленникам, что они вместе с американцем будут жить в хижине Кровавого Черепа, пока совет вождей не решит их участи. Старик очень хотел взять их к себе, но Кровавый Череп не согласился. Единственное, чего он добился, — пищу им будет доставлять его жена. Мать Троих Силачей, потому что он не доверяет своему мстительному товарищу.
Друзья поблагодарили старика и пошли за Кровавым Черепом, сопровождаемые кричащими ребятишками, орущими женщинами и лающими собаками. Женщины, кроме того, грозили пленникам кулаками, а псы свирепо скалили зубы. Полковник не мог двигаться. Ноги распухли, отказывались служить. Кровавый Череп, желая сохранить врага для предстоящих пыток, сам растер ему больные члены и в конце концов понес его на руках. Ненависть исполнила долг любви! Пленники дошли до хижины вождя и поспешно скрылись в ней от шума и гама. И хотя ко многому привыкли за время скитаний, невольно вскрикнули от отвращения — такая грязь и зловоние царили здесь. Индеец вошел, положил полковника на бизонью шкуру и присел рядом, замерев, словно изваяние. Дым, копоть, вонь полусгнившего мяса вызывали тошноту. — Ф-фу!.. По-моему, это начало пыток. Вот омерзительное логовище! — сказал Фрике. И он по-английски обратился к хозяину, который продолжал глядеть на полковника с утоленной ненавистью. — Послушайте, гражданин, вы ведь говорите немного по-английски. Неужели нельзя приоткрыть немного дверь? Очень у вас тут душно. Кровавый Череп нехотя отвел взгляд от ковбоя и важно ответил: — Железная Рука — человек молодой, но великий воин. Он может поступить, как ему угодно. — Железная Рука?.. Это что такое?.. Ах да, вспомнил: мое индейское прозвище. Спасибо, почтеннейший. Я воспользуюсь разрешением и проветрю немного хижину. Здравствуй, ветерок, добро пожаловать! Что же вы, месье Андре? Говорю все только я один. Примите и вы участие в беседе. — Продолжай свои шутки и развлекай по возможности этого плута, — отвечал вполголоса Андре. — Я буду молчать, соображать, как нам освободиться. — Я заранее согласен на любой план, как бы мало ни было шансов на успех. У вас уже есть какие-нибудь наметки? — Да. Но надо подождать, когда полковник соберется с силами. — Понятно. И тогда? — Свяжем негодяя-индейца, овладеем оружием — его в хижине много, переоденемся индейцами… — Схватим по мустангу и были таковы. Разыграем «Дочь воздуха». — Да. И если первая часть нашего предприятия удастся, поскачем в прерию. — Само собой. — Но тут начнутся всевозможные затруднения. — Вез труда ничего не дается. — Так вот ты и предоставь мне на свободе все обдумать как можно основательнее. — Идет! А я тем временем буду любезничать с мерзким индейцем и, быть может, вытяну из него какие-нибудь полезные сведения. Тсс!.. Он что-то говорит полковнику. Послушаем, это, наверное, интересно. Кровавый Череп не обращал внимания на французов. Он был поглощен своим врагом и наслаждался будущим мщением. Теперь принялся рассказывать ему на ломаном английском, как удалось взять полковника в плен.Тот-кто-видел-Великого-Отца объяснил пленникам, что они вместе самериканцем будут жить в хижине Кровавого Черепа.

— A-а!.. Белый сниматель скальпов считал себя в полной безопасности. Он забыл, что ненависть краснокожего воина не засыпает никогда. Кровавый Череп бывал в среде белых, одевался в их одежду. Живал в деревянных и каменных домах. Много раз близко-близко подходил к Белому снимателю скальпов, но тот его не узнавал. Кровавый Череп часто имел возможность убить его и снять с него скальп. Но Кровавому Черепу этого мало. Он хочет видеть своего врага привязанным к столбу пыток. Хочет послушать, как будет шипеть его тело на огне, как будут трещать его кости, хочет видеть, как потечет его кровь, насладиться его страданиями, чтобы услышать просьбу о смерти как милости. Когда Белый сниматель скальпов выезжал с отрядом охотников из Валлулы, он не узнал Кровавого Черепа среди других индейцев. С тех пор Кровавый Череп все время следил за ним, не выпуская из виду. Он собрал своих друзей, воинов из трех племен, и устроил засаду, в которой погибли белые. Он взял их скальпы. — Так вот кто убийца-то! — проговорил в сторону Фрике. — Принимаю к сведению и при случае не пожалею. — Кровавый Череп великий вождь, — продолжал индеец, все больше воодушевляясь. — Он поджег прерию, когда Белый сниматель скальпов убил Лосиного Рога, собиравшегося его схватить. Он последовал за белыми, когда те направились в землю «каменных сердец». Он отогнал бизонов и заманил белых туда, где их взяли в плен. И вот теперь Белый сниматель скальпов во власти Кровавого Черепа. Теперь ему не уйти от заслуженного мщения. Воины Кровавого Черепа сейчас не на своей земле, а на земле мирных индейцев-выродков, сделавшихся подданными Великого Отца, живущего в Вашингтоне. Поэтому с казнью надо поспешить. Завтра соберется великий совет вождей, послезавтра белых привяжут к столбу. Ты слышишь это, Белый сниматель скальпов? Послезавтра. Кровавому Черепу можно будет успокоиться и закопать в землю топор войны, потому что твой скальп заменит у него на голове эту шапку. Я сказал. — Черт возьми! — пробормотал юноша. — Это не особенно весело. Если я верно понял, что говорил этот урод, у нас впереди только две ночи и один день. Над этим надо хорошенько подумать.Кровавый Череп был поглощен своим врагом и наслаждался будущим мщением.
ГЛАВА XV
В индейской хижине. — Мать Троих Силачей. — Шествие. — Хижина совета. — Семеро вождей. — Их одеяние. — Шляпы, шляпы, шляпы. — Какофония. — Церемониал. — Слепой Бобр, великий вождь. — Кровавый Череп в роли прокурора. — На выставке. — Небольшой, но ценный подарок. — Предположительный обмен скальпами. — Осуждение полковника. — Кровавый Череп требует трех жертв. — Речь Фрике. Несмотря на вонь и миазмы, пленники крепко заснули. Тяжелый, удушливый сон с кошмарами продолжался до позднего утра. Когда они пришли в себя, огонь в очаге давно потух, в верхнее, дымовое, отверстие хижины врывались веселые солнечные лучи. В хижине никого, кроме них, не было, но стража находилась поблизости — снаружи доносились голоса. Велись какие-то переговоры. Вдруг все смолкло. Дверную занавеску подняла чья-то сухая, изможденная рука. Появилась старуха, истощенная не столько годами, сколько непосильным трудом. Она принесла пленникам пищу. — Мать Троих Силачей исполняет обещание Того-кто-видел-Великого-Отца, — сказала она. — Пусть белые едят, но только поскорее — сейчас их поведут на суд вождей. Фрике и Андре торопливо проглотили несколько больших кусков жареного мяса, сгрызли несколько очень вкусных маисовых лепешек, накормили американца. Женщина сказала правду. Едва пленники успели завершить свой незатейливый, но сытный завтрак, в хижину вошел Кровавый Череп в полном вооружении, на лице — военный окрас. — Белые должны встать и идти за мной, — грубо проговорил он. — Они предстанут перед судьями и увидят великих воинов. — Так нас будут судить? — перебил Фрике. — Мы, значит, не осуждены заранее? Это любопытно. Нам предстоит много интересного. И добавил, обращаясь к вождю, который в новом обличье казался еще непреклоннее: — Вот что, гражданин, извольте развязать нам ноги. Так идти неудобно, от этого страдает наш престиж, и вообще мы не желаем. — Кровавый Череп согласен, — со злой улыбкой проговорил индеец. — Пусть белые попользуются свободой несколько минут, прежде чем их привяжут к столбу пыток. — Уж и показал бы тебе, молодчик, если б не было рядом двухсот таких же негодяев, как ты, — пробормотал парижанин. — Ну, да мы еще посмотрим. — Идем, — сказал Андре, когда индеец развязал ноги полковнику. Они вышли из хижины. Впереди следовал вождь, позади — воины, стоявшие с ружьями у хижины. Появление пленников произвело на толпу заметное впечатление, но по бесстрастным лицам краснокожих трудно было судить, относится к ним толпа с ненавистью или только с любопытством. Женщин и детей не было. Очевидно, им запретили показываться. Только мужчины. Шествие приблизилось к хижине явно больше других. В ней свободно могли поместиться человек двадцать. Серую холстину, которой она была покрыта, со всех сторон подняли, чтобы было не так душно и темно. Воины разместились вокруг хижины, дабы преградить доступ любопытным и лучше видеть самим. Кровавый Череп вошел через промежуток между двумя жердями. Вокруг очага, где среди золы тлело несколько угольев, сидели семеро индейцев в полном воинском одеянии — с нелепыми украшениями и амулетами, похожими на шутовские погремушки, придававшими им чрезвычайно странный и смешной вид.
Когда пленники без страха, но и без пустого бахвальства остановились перед вождями, те затянули что-то дикое, нестройное, с выкриками, похожими на звериный визг или вой. Пение тянулось довольно долго, Андре и Фрике воспользовались этим, чтобы осмотреться, американец нашел у себя в кармане немного табаку, положил в рот и стал с наслаждением жевать. В центре сидел древний старик с мутными слепыми глазами. Хотя он был очень стар, вполне сохранил бодрость и свежесть, только лишился зрения. Фрике обратил внимание, что у всех на головах были шляпы американского производства, но какие, боже мой! Волосы цвета вороного крыла старика были покрыты шелковым цилиндром, порыжелым и взлохмаченным так, что ворс сделался похож на мех чесоточной черной кошки. Кроме того, он был изрядно помят и сплющен. Но все-таки шляпа… На другом вожде тоже был цилиндр, но в худшем состоянии — без полей, с укороченной тульей. Под этим убором Фрике опознал своего друга и покровителя — Того-кто-видел-Великого-Отца. На остальных были мягкие фетровые шляпы в более или менее затасканном состоянии. Лица расписаны синей, желтой, красной и черной краской. Все это выглядело нелепо и безобразно. Костюмы оказались не менее чудовищными — оборванные, засаленные мундиры американских офицеров, пиджаки, фланелевые блузы с разрезом сзади, как у сюртука, обрезанные и оборванные брюки, старые сапоги и башмаки, да еще к тому же разрозненные — на одной ноге, например, сапог, на другой — башмак или мокасин. Зато всех украшали ожерелья из раковин, серебряных долларов, зубов, когтей и даже металлических ружейных гильз. Самым ценным украшением был золотой мексиканский пиастр на веревочке. Главного вождя вместо пиастра украшало круглое грошовое зеркальце, Того-кто-видел-Великого-Отца — большая серебряная медаль, пожалованная президентом Линкольном, принимавшим его в Вашингтоне в числе индейских депутатов. Потому он и получил свое длинное прозвище. Когда пение закончилось. Кровавый Череп встал справа от пленников. Он не сел рядом с судьями, выступал в роли прокурора. Взяв трубку с камышовым чубуком, насыпал в нее табак, на табак положил уголек и вложил чубук в руку слепого вождя. Тот затянулся три раза, прокричал: «Ату!» и медленно произнес: — Я — Слепой Бобр. Передал трубку соседу. Тот тоже затянулся три раза, прокричал: «Ату!» и прибавил: — Я — Лосиный Рог. Трубка пошла по кругу, каждый вождь затягивался трижды, вскрикивал «Ату!» и заявлял: — Я — Тот-кто-видел-Великого-Отца. — Я — Серый Медведь. — Я — Длинный Шест. — Я — Похититель Меда. — Я — Раненый-в-Лицо. Потом все разом крикнули: — Ату! Кровавый Череп затянулся последним. Он разломал чубук и сказал: — Я — Кровавый Череп, помощник Ситтинг-Булла, великого вождя сиу-огаллалов. — Мой сын Кровавый Череп — великий воин, — отвечал, помолчав, Слепой Бобр. — Привет ему от нас! Остальные шесть вождей повторили по очереди: — Кровавый Череп — великий воин, привет ему от нас! Ату! Слепой Бобр заговорил вновь: — Кровавый Череп такой же вождь, как и мы. Почему он не садится рядом с нами? — Его место не рядом с великими вождями Запада. Он перед ними стоит, как проситель. — О чем же просит мой сын, вождь огаллалов? — Отец, твои глаза слепы, они не могут меня видеть, но твои уши могут слышать голос несчастного. Отец, я умоляю о правосудии. — Мой сын, мои уши открыты твоему голосу. Правосудие будет тебе оказано. — Братья!.. Я умоляю о правосудии! — Правосудие тебе будет оказано, брат мой! — проговорили поочередно вожди. Слепой Бобр продолжал: — Говори безбоязненно, сын мой. Вожди дали тебе слово. Кровавый Череп на минуту задумался, потом вдруг выпрямился, дрожа от злобы, сорвал с себя меховую шапку и швырнул наземь. Перед судьями обнажился его изуродованный череп, покрытый блестящей розовой кожей. Вожди не могли удержаться, чтобы не вскрикнуть от гнева и ужаса. До сих пор сиу никому не показывал своего увечья, в первый раз открыл его полковнику, теперь — вождям. — Отец, — произнес он задыхающимся голосом, становясь на колени перед Слепым Бобром, — твои глаза не могут видеть того места, где у меня вились раньше длинные пряди черных волос, краса и гордость воина. Положи твою руку на мою голову, голую, как горб ободранного бизона. Старик тихо, без малейшего волнения, провел рукой по голому черепу и проговорил мрачным, глухим, замогильным голосом: — Мои руки осязают. Моя мысль видит. Мой сын лишился скальпа. Мой сын очень несчастлив, но о бесчестии для такого знаменитого воина не может быть и речи.Вокруг очага сидели семеро индейцев в полном воинском одеянии.

— Ату! Отец сказал хорошо! — подтвердили вожди. — Спасибо, братья. Вы не отвергаете Кровавого Черепа. Но что скажут наши предки, когда мое тело останется здесь, а дух полетит в вечнозеленую прерию, где люди нашей расы скачут на быстрых, как ветер, мустангах и охотятся на бизонов? Они не примут воина, у которого голова похожа на панцирь черепахи… — Ату! — печально согласились вожди, не находя возражений. — Однако, отец мой, — продолжал Кровавый Череп, — ты носишь звание великого вождя и обладаешь мудростью, свойственной старости. Скажи, как ты полагаешь, если я добуду скальп своего врага и оскорбителя, не простят ли меня тогда наши предки? Старик минуту размышлял. Потом медленно приподнялся, ощупал свой пояс, снял с него нож для скальпов и сказал, подавая Кровавому Черепу: — Вот, сын мой, возьми этот нож, снявший много скальпов. Порази им того, кто поразил тебя. Иди смело, сын мой! Пусть глаз твой будет спокоен, рука тверда, сердце крепко. Предки примут тебя, если ты добудешь скальп врага. Прочие вожди восторженно одобрили слова председателя. Индейцы по натуре мстительны и кровожадны. — Узнай же, отец мой, — вскричал Кровавый Череп, потрясая ножом, — узнай, что я с другими воинами, твоими сыновьями и моими приемными братьями, захватил в плен этого врага. Это белый. Это Длинный Нож. Он здесь, перед тобой! — Ату! — перебил старый вождь, будто только сейчас узнал эту новость. — Мой сын знает, что ему делать! — Моему отцу должно быть ведомо, что мой враг. Белый сниматель скальпов, тоже великий воин. Он много лет воевал с Кровавым Черепом. Разве он, прежде чем лишиться скальпа, не должен показать краснокожим людям, что не боится мучений? Не должен ли он поплатиться за тот позор, с которым я из-за него живу уже много лет? Не следует ли нам привязать его к столбу и принести в жертву предкам? Ведь таков наш обычай. — Сын мой, ты сказал хорошо. Белый сниматель скальпов — великий воин. С ним должно поступить, как с воином. Он будет привязан к столбу. Что скажут на это мои сыновья, другие вожди? — Мой отец хорошо сказал, — отвечал Лосиный Рог. — Снимателя скальпов возьмут сначала наши младшие воины, потом его получит Кровавый Череп и после пытки снимет с него скальп. Ату! Пятеро остальных вождей слово в слово повторили эту формулу. Первая часть заседания закончилась. Американец был безоговорочно осужден. Три пленника не произнесли ни слова. Кровавый Череп засунул полученный нож за пояс и сел на пол, не глядя на полковника. Тот был презрительно спокоен и время от времени метко сплевывал на очаг, словно хотел употребить все свои способности на то, чтобы потушить головню. Настала пауза, продолжавшаяся не менее пяти минут. Кровавый Череп встал и, указывая на двух французов, вновь вступил в роль публичного обвинителя. — Послушай дальше, отец мой. Какого наказания заслуживают люди, которые держат сторону наших врагов, опустошают наши земли, истребляют наших бизонов и вообще всячески нас притесняют? — Что ты хочешь сказать, сын мой? — Твои воины под моим начальством взяли в плен еще двоих бледнолицых; эти люди — товарищи Белого снимателя скальпов. Я требую казни и для них, их скальпы украсят пояса двух самых младших наших воинов. Американец переводил французам слова индейца. Сиу собирался продолжать речь, как вдруг Фрике перебил его своим звонким голосом: — Эй, вы, злобный человек с голым, как камень, черепом! Что за вздор вы несете? К чему вы обманываете старика? Коли говорить, так уж правду. Во-первых, мы вовсе не держим сторону ваших врагов, мы просто мирные путешественники. Во-вторых, мы охотились не на вашей земле, а у наших друзей, «каменных сердец», с их разрешения. Напротив, это вы пришли на их землю браконьерствовать. В-третьих, мы здесь никого не притесняем, ни у кого землю не отнимаем, приехали попутешествовать и скоро собираемся домой. В ваши дела мы не вмешивались и не вмешиваемся, у нас и своих дел довольно. С американцами у вас сейчас мир, а не война, поэтому по какому праву вы лишили нас свободы? — Что говорит белый человек? — спросил старик, который, конечно, ничего не понял из этой речи — Фрике произнес ее на одном дыхании и по-французски. Полковник перевел ее слово в слово. — Правду ли говорит бледнолицый? — спросил старик. Американец перевел. Фрике ответил: — Вот что, старик, я иногда шучу — для смеха, но не лгу никогда. — Что скажет Кровавый Череп? — сказал старик. — Я скажу, отец, что все белые люди наши враги. Они нарушают договор, захватывают наши земли, похищают у нас женщин, убивают нас, где только могут, и вообще хотят истребить всю нашу расу. Мы должны их всячески истреблять, если не хотим сами быть уничтоженными. Если я имею перед вами какие-нибудь заслуги, много лет прожив с вами бок о бок и командуя вашими воинами, прошу себе награду — предать смерти обоих этих белых.Старик провел рукой по голому черепу.
ГЛАВА XVI
Дела идут все хуже. — Кровавый Череп не выпускает добычу из рук. — Андре защищается. — Французы в Канаде. — Напрасное красноречие. — Смертный приговор. — Мечты о побеге. — Бывший медиум. — Сюрприз. — Экзамен. — Подвиги стрелка. — Всадник, каких мало. — Восторг. — Фрике и Андре получают предложение стать индейцами. Совет не был готов к такой постановке вопроса, ситуация складывалась не в пользу французов. Участь американца вожди решили легко — они знали, что он старинный и заклятый их враг, и не беспокоились о нем нисколько. Считали себя вправе поступить с ним так, потому что и он, в случае чего, поступил бы с ними не лучше. По отношению к нему совесть у них была спокойна и чиста. Но Фрике и Андре — дело другое. Краснокожие редко встречали путешественников, похожих на этих французов. Чувствовали, что люди они незаурядные, что следовало бы оставить их в покое, тем более что это гости «каменных сердец», с которыми индейцы поддерживали мирные отношения. Кроме того, им был симпатичен Фрике с его физической силой и фокусами. С другой стороны, и Кровавый Череп играл не последнюю роль, пользуясь уважением даже у соседних племен. Влияние его было очень велико. Отказать ему казалось невозможным. Случай выдался весьма затруднительный. Слепой Бобр счел, что лучше повременить с окончательным решением. После длительной паузы, во время которой полковник переводил французам слова сиу, он произнес: — Белые охотники слышали, что сказал Кровавый Череп. Пусть отвечают откровенно и смело. Уши вождей открыты для всякого слова правды. Андре, до сих пор спокойно молчавший, знаком показал, что хочет говорить. — Отец, — сказал он своим приятным голосом, — и вы, мои братья, выслушайте меня. Хотя мы и не принадлежим к американскому народу, к тем людям, которых вы называете Длинными Ножами, тем не менее мы с ними братья по крови и по цвету кожи, подобно тому, как братья все краснокожие. Мы не отделяем себя от человека, который переводит вам мои слова, мы не хотим для себя никаких преимуществ. Мы познакомились с ним совсем недавно, но он был нашим верным проводником среди опасностей, жил одной жизнью с нами, ел с нами хлеб, мы обменивались рукопожатиями. Он такой же белокожий, как и мы. Или и мы умрем вместе с ним, или вы выпустите его на свободу. — Сэр, — перебил американец, — должен вас предупредить, что на краснокожих это не подействует. Я их знаю. Вы только себя напрасно погубите, а меня не спасете. — Не мешайте мне говорить, полковник, и переводите точно. Я делаю то, что считаю своим долгом… Слышит ли меня мой отец и мои братья? — спросил он невозмутимо сидевших индейцев. — Слепой Бобр понимает Белого Охотника, и уши моих сыновей также открыты. — А-ту! — подтвердили они. — Теперь вы знаете наши мысли. Узнайте же, кто мы такие и зачем здесь. Мы — французы. Не может быть, чтобы вы не слышали про этот народ, издавна принимавший участие в судьбе людей краснокожей расы. Вы знаете миссионера, отца де Сме, который сорок лет был другом краснокожих. Ваш вождь, которого зовут Кровавый Череп, говорит, что все бледнолицые враги индейцам. Неправда! Отец де Сме — ваш лучший друг, а он француз! Он наш соотечественник! Наконец, вы живете недалеко от Канады. Вы должны знать, что там французы и индейцы — давние друзья и никогда не враждовали между собой. И даже теперь, во время ваших войн с солдатами вашингтонского Великого Отца, где вы находите себе убежище в случае неудач, как не в той же Канаде, среди тех, в ком французская кровь перемешана с индейской? Это смешанное население свято хранит старинные французские предания и остается неизменно дружественным к вам, оказывает вам покровительство и заступничество. Если бы белые люди всегда были врагами краснокожих, как утверждает Кровавый Череп, разве могли бы появиться такие люди, что живут сейчас в Канаде? Кровавый Череп, вы сами сиу. Скажите, где и у кого ваш главный вождь Ситтинг-Булл нашел себе убежище и защиту?.. Что скажет на это мой отец Слепой Бобр? — Мой сын Белый Охотник говорит хорошо. Слепой Бобр и вожди слушают его с удовольствием. — Зачем мы сюда прибыли, вы знаете, — продолжал Андре. — Мы люди свободные и любим охотиться. Мы путешественники и приехали сюда посмотреть страну Великого Запада и познакомиться с людьми красной расы, с которой вели дружбу наши предки. Мы честно и благородно охотились на земле дружественного нам племени «каменных сердец», а соседних племен не трогали, равно как и их собственности. Ты, отец, и вы, вожди, выслушали правду. Семеро вождей совещались некоторое время, потом вновь заняли свои места. Лица их не выражали ничего. — Что скажет на это Кровавый Череп? — спросил Слепой Бобр. — Отец и вы, мои друзья! — вскричал сиу, скрежеща зубами. — Не верьте белым людям, не верьте их словам. Они вам очки втирают, стараются представить белое черным, а черное белым. Взгляните лучше на мою обезображенную голову, вспомните ваших зарезанных братьев, похищенных женщин! Вспомните сожженные деревни, отобранные земли! Белый Охотник может говорить, что ему угодно, но он не возвратит мне скальп, не воскресит ваших убитых, не вернет вам женщин и земель, не выстроит хижин. Нет, этого он не сделает. Вы отдали мне скальп и жизнь Белого снимателя скальпов, вы дали мне слово… Слово вождей! Казнь должна совершиться. — Но ведь сиу заключили мир с Соединенными Штатами, — возразил Андре. — Вы зарыли в землю топор войны. Ситтинг-Булл снова поселился на резервной земле. Ваш главный вождь лично объявил о прекращении военных действий. Берегитесь. Вы очень рискуете. Ваш поступок не останется без наказания. Опять польется кровь, опять запылают селения. Опять повсюду промчится смерть и разрушение. И виноваты будете вы. Слепой Бобр медленно встал и произнес твердым монотонным голосом: — Совет обсудил дело и объявляет решение. Белый сниматель скальпов принадлежит Кровавому Черепу. Завтра он будет казнен. Это справедливо. Что касается двух охотников из Франции, они умрут вслед за ним. Если они вернутся в землю белых, то расскажут про смерть снимателя скальпов, и тогда придут солдаты Великого Отца и отомстят нам. Если же будут уничтожены, мы спокойно вернемся домой, и никто ничего не узнает. Ату! — Ну что, генерал? — вскричал американец. — Не прав ли я был, когда говорил, что от этих негодяев нельзя ожидать ничего путного? By God! Я много их истребил и нахожу, что все-таки мало. Надо было больше. Знайте, что наша участь была решена заранее. Весь этот суд — комедия, обряд, не более. Представьте, как эти плуты хохотали над вами в душе, пока вы тут перед ними распинались!.. Андре, ошеломленный неожиданным оборотом дела, опомнился, вновь обрел присущее ему хладнокровие. — Я сделал то, что считал своим долгом. Моя совесть чиста. Впрочем, у нас впереди целые сутки, а за сутки такие люди, как мы, могут многое задумать и выполнить. Заседание завершилось. Пленников отвели обратно в хижину, связав их на этот раз по рукам и ногам. Кроме того, к ним приставили хорошо вооруженного индейца. Этот сторож устроился так, чтобы поднять тревогу при малейшей попытке пленников совершить побег. Фрике насмешила эта чрезмерная предосторожность. Он расхохотался. — Что ты смеешься, шальной мальчишка! — спросил Андре, не понимая причины подобной веселости. — Мне кажется, в нашем положении мало забавного. К тому же оно осложняется тем, что мы связаны. — Пфф!.. Простые бечевки. — Однако. — Берусь за две минуты сбросить их с себя, кинуться на сторожа и придушить его как мышонка, так что он и не пикнет. В две секунды развязываю вас и — вперед!.. Если у вас есть план, говорите!.. — Ты уж очень легко относишься к нашим узлам. Не прогадай. — Пустяки. Перед тем как с вами познакомиться, я работал у господина Робер-Удена. — Да, помню. И что из этого следует? — Я был у него «медиумом», проделывал разные фокусы при помощи шкафа братьев Девенпорт. Никто лучше меня не умеет развязывать веревки и узлы. — Значит, можем бороться до конца. Если и умрем, то защищаясь до последней минуты — и то хорошо. Запасемся же терпением и подождем ночи. — Кстати, этот наш старик совсем нас бросил. Я начинаю соглашаться с вами, дорогой полковник, что индейцы, в сущности, не многого стоят. Прошло еще два часа. Фрике раз десять успел пожаловаться, что не приходит Мать Троих Силачей и не приносит еду. Несмотря на близость смерти, у них разыгрался аппетит. Вдруг поднялась дверная занавеска, в хижину вошел индеец. — Это вы, папаша? — вскричал парижанин, узнав Того-кто-видел-Великого-Отца. — А я уж думал, вы нам изменили. Это хорошо, что не забываете друзей. Старик, не говоря ни слова, ножом перерезал узлы молодого человека, потом сделал то же для Андре. Молча подал знак, чтобы они шли за ним, сказав несколько слов шепотом угрюмому сторожу. Изумленные Андре и Фрике повиновались. Они с наслаждением потянулись и оставили свою вонючую тюрьму. Стоящий неподалеку отряд воинов молча пропустил их. Старик привел пленников на просторную площадку, где были в сборе все вожди и воины с раскрашенными лицами и в полном вооружении. «Что они хотят с нами делать? — спросил себя парижанин. — Убить немедленно или отпустить на все четыре стороны?» Индейцы смотрели на белых не враждебно, скорее с любопытством. Старый вождь наконец заговорил, обращаясь к Фрике: — Мой сын Железная Рука очень молод, но он великий воин. Тот-кто-видел-Великого-Отца взял его под свое покровительство, и, если Железная Рука захочет, ему не причинят никакого зла. — Приятно слышать, папаша. Что же для этого надо сделать? Старик продолжал, не ответив на вопрос: — Его друг Белый Охотник, может быть, тоже великий вождь, но он не продемонстрировал краснокожим людям ни своей силы, ни ловкости, ни меткости. — Да говорят же вам, дедушка, что я господину Андре в подметки не гожусь. Вы можете поверить мне на слово. — Краснокожие люди хотят сами в этом убедиться, прежде чем окончательно решить его участь. — Значит, хотите устроить ему экзамен? У вас губа не дура, господа. Что ж. Вы останетесь довольны, за это я ручаюсь. — Пожалуй, и я не против этого «экзамена», — сказал Андре своему другу. — Может быть, благодаря ему у нас появится средство к спасению. Слушайте, вождь, я согласен. Дайте мне винтовку. Последние слова были сказаны по-английски. Вождь очень обрадовался и перевел их присутствующим. Потянулась дюжина рук, предлагая винтовки. Андре схватил первую попавшуюся. На счастье, она оказалась в полном порядке. Осмотрев ее, опробовал, примерился к ней и, зарядив, стал искать цель. В это время высоко над головой реял коршун, упиваясь солнечными лучами. Охотник поглядел на него, подумал, потом быстро прицелился и выстрелил. На глазах изумленных индейцев птица, подстреленная на лету, сложила крылья и стала падать, кувыркаясь, вниз, точно бумажный змей с оборвавшейся веревкой. Индейцы завыли от восторга. Андре решил показать, что этот удачный выстрел — не случайность, и стал искать глазами другую цель. В пятидесяти метрах от него, испугавшись выстрела, билась прелестная молодая лошадка, привязанная за лассо к колу. Андре прицелился в ремень лассо и выстрелил. Пуля перерезала ремень, как ножом. Лошадь, почувствовав свободу, хотела было убежать в прерию, но, когда пробегала мимо Андре, он схватил ее за лассо и разом остановил. Лошадь взвилась на дыбы, стала брыкаться. Не обращая на это ни малейшего внимания, Андре подошел, взял ее за гриву и так, без седла и узды, вскочил ей на спину.
Индейские лошади не любят белых людей. Что только не выделывал мустанг под неожиданным седоком, чтобы его сбросить, но неустрашимый француз сидел неподвижно и невозмутимо. Лошадь понемногу успокаивалась. Вдруг остановилась, вся дрожа, что-то жалобно проговорила, согнула колени, опустилась на задние ноги и легла пластом на землю. Андре успел вовремя соскочить. Индейцы были изумлены. Белый Охотник одним давлением ног укротил за пять минут полудикого жеребца-мустанга! — Ну что, дедушка? — торжествующе закричал Фрике. — Разве не правду я вам говорил, что другого такого человека, как месье Андре, днем с фонарем не сыщешь? Индейцы вопили от восторга. — Они, по-видимому, довольны, — продолжал он в сторону. — Пусть орут. Это все же лучше военных криков! Индейцы едва верили своим глазам. На Андре смотрели с обожанием. Ни он, ни Фрике не могли объяснить себе перемены в обращении с ними дикарей. Парижанин отвел Того-кто-видел-Великого-Отца в сторону и спросил, что все это значит. — Краснокожие люди любят силу и храбрость, — отвечал старик. — Тот-кто-видел-Великого-Отца объяснил вождям, что французы друзья индейцам и что жаль убивать без вины таких великих воинов. Вожди пожелали узнать, такой же ли силач и смельчак Белый Охотник, как Железная Рука. Теперь они убедились, что Белый Охотник великий вождь. — Все это очень мило, но как решили поступить с нами? — спросил Фрике. — Отпустят нас к «каменным сердцам» и отдадут ли нам нашего несчастного товарища? — Мой сын говорит, говорит, говорит… как птица-пересмешник. Но мое сердце его все-таки любит. Нет, его не отпустят в землю белых людей. Они с Охотником останутся в вигваме. Они женятся на моих дочерях и станут великими вождями нашего племени. Только на этом условии им сохранят жизнь. Что же касается Белого снимателя скальпов, завтра он будет казнен.Пуля перерезала ремень, как ножом.
ГЛАВА XVII
Фрике не желает быть зятем Того-кто-видел-Великого-Отца. — Знакомство. — Две невесты. — Желтая Кобыла и Бутылка-с-виски. — Отеческое внушение. — Под строгим надзором. — Приготовления к казни. — Невозможно вступиться. — Геройское, но безумное решение. — Месть Кровавого Черепа. — Казнь огнем. — Борьба. — Двое против двухсот! — Сигнальный рожок. — Американская кавалерия. — «Каменные сердца». — Око за око, зуб за зуб. — Возвращение. — Придется носить парик. Скажите, месье Андре, вас не бросает в дрожь от спокойствия, с которым Тот-кто-видел-Великого-Отца распоряжается нашей судьбой? — Бросает, но что же делать, бедненький Фрике? У нас пока нет выбора. — Так-то оно так, но все же провести жизнь рука об руку с краснокожей подругой… Брр! В особенности для нас с вами, для таких неисправимых холостяков… Не сказать ли, что мы женаты? — Это не подействует. Здесь можно иметь сколько угодно жен. — Черт возьми! Превращаться в индейцев невесело, а жениться на индианках прямо-таки тошно. — До этого еще не дошло, события быстро сменяют друг друга. Мы пока не знаем, что будет. Покоримся для виду, чтобы позже вступиться и спасти полковника. Приняв молчание французов за согласие, старик-индеец объявил об этом землякам, они встретили известие одобрительным криком — счастливы были заполучить таких воинов и охотников. Французам предоставили относительную свободу — развязали, забрали от Кровавого Черепа, торжественно водворили в хижину Того-кто-видел-Великого-Отца, где женщины уже готовили пир на весь мир. Краснокожий патриарх был человеком светским, умел жить и не упустил случая представить женихам их невест. При свете солнечных лучей, врывавшихся в хижину, Андре и Фрике увидели двух молодых, но уже поблекших, надорванных работой индианок, некрасивых до такой степени, как только могут быть некрасивы женщины. — Вот это Желтая Кобыла, — сказал вождь, обращаясь к Андре и указывая ему на высокую девицу с прямоугольной фигурой футляра для часов. Одета она была в грязные лохмотья, нарумянена и набелена. Смотрела исподлобья, робко и хмуро. Волосы растрепаны. Андре не знал, что сказать, и с брезгливой жалостью глядел на это существо, стоявшее почти на одном уровне с животными.
— А вот это Бутылка-с-виски, — продолжал старик, указывая Фрике на особу, носившую столь диковинное имя. — Боже, что за чудо-юдо! — пробормотал парижанин. — Козья голова на журавлиной шее! Что-то вроде модных коньячных рюмок. И нарожал же себе потомство наш старик! Я обратил внимание, что здешние женщины нехороши, но эти две барышни перещеголяли всех. Изумление женихов старый вождь истолковал в самом благоприятном для себя смысле и обратился к дочерям с несколькими словами. Те подняли крик — по-видимому, протестовали. Тогда старик поднял с пола валявшийся обломок жерди и вытянул обеих девиц по спине. Аргумент подействовал. Обе разом подошли — одна к Андре, другая к Фрике и легли перед ними на пол. Каждая обхватила ногу жениха и поставила ее себе на затылок. Это означало признание над собой полной, неограниченной власти. — Никогда не освоюсь с такими обычаями, — ворчал недовольный Фрике. — Как не похожи эти особы на веселых и милых кумушек «каменных сердец»! К счастью, я не планирую оставаться здесь надолго. Что вы думаете, месье Андре? Хотя французы и не надеялись обрести полную свободу, все же ожидали, что им будет предоставлена некоторая самостоятельность. Они ошибались. Хитрый старик не отпускал их от себя ни на шаг. К участию в надзоре за будущими зятьями привлек сыновей, рослых парней атлетического сложения, потому их мать и получила прозвище — Мать Троих Силачей. Воспылав внезапной нежностью к будущим шуринам, краснокожие парни не отходили от них ни на минуту. Кроме того, к хижине то и дело подходили соседи, друзья, родственники, так что французы все время были под присмотром, всякая попытка к бегству исключалась. День завершился обжорством и пьянством, любимым занятием индейцев, способных поглощать жидкую и твердую пищу в невероятных количествах. Наступила ночь. Следили еще строже. Десять воинов, не таких пьяных, как остальные, устроились вокруг хижины с оружием в руках. У Кровавого Черепа тоже шел пир горой, и его хижину тоже караулили. Взбешенные Андре и Фрике провели тревожную ночь. Они теряли надежду на спасение. Настало утро, а с ним и роковой для американца час. Старый вождь объявил французам, что не пустит их смотреть на казнь товарища — они могут не выдержать страшного зрелища. К его удивлению, те выразили непременное желание присутствовать при казни. Старик пытался их отговорить. — Ведь мы же теперь ваши соплеменники, — возражал Андре. — Имеем такие же права, как другие воины. Старый вождь уступил, но его подозрительность только усилилась. У французов было по ножику, украденных в хижине, но они все же решили предпринять отчаянную попытку, пусть даже шансов на успех почти не было. Вскоре появился полковник, окруженный ревущей толпой, не помнившей себя от ярости. Он был очень бледен, но спокоен и шел гордо, со скрученными сзади руками и спутанными ногами. Увидев французов, вздрогнул и произнес, обращаясь, собственно, к Андре, несколько слов по-английски, но проглотив при этом некоторые слоги, так что индейцы его не поняли: — Спасибо, что пришли. Вы можете оказать мне огромную услугу. Сократите мою пытку. Когда меня привяжут к столбу, из меня сделают мишень для выстрелов, но так, чтобы ни одна пуля меня не задела серьезно. Вызовитесь и вы пострелять. Вам не откажут. И убейте меня. — Надейтесь, надейтесь, мой друг, — отвечал сдавленным голосом Андре, хотя и сам утратил всякую надежду. Палачи грубо потащили ковбоя дальше, и он скрылся в толпе. Вот и место казни — площадка, на ней темно-красный столб. Странное дело, индейцы, большие любители подольше помучить человека, на этот раз почему-то торопились, и особенно сам Кровавый Череп. Не думал же он, что жертва от него ускользнет. Это было невозможно. Вероятно, опасался другого — племя находилось на чужой земле, земле мирных индейцев, которые могли внезапно появиться и помешать казни, чтобы не навлечь на себя неприятностей со стороны американского правительства. Кровавый Череп схватил пленника, положил на землю, раздел донага и с помощью нескольких палачей-любителей растянул ему руки и ноги, привязав к четырем кольям. Не было предварительной стрельбы в цель ни из ружей, ни излука. Приступили прямо к делу. Кровавый Череп разложил на обнаженной груди пленника ветки смолистого дерева, устроил небольшой костер, поджег его с нескольких сторон.— Вот это Желтая Кобыла, — сказал вождь, обращаясь к Андре.

Ветки затрещали, задымились. Появился запах паленого… Несчастный американец, корчась от боли, завыл не своим голосом, сжигаемый заживо. Его стон заглушил дикий рев. Озверевшая толпа пустилась в бесовскую пляску вокруг живого костра. Фрике и Андре, затерявшись в густой толпе, не видели этой ужасной сцены. Они услыхали только крик несчастного товарища. Ни слова не говоря, ринулись на стоявших ближе к ним, повалили пятерых или шестерых, вокруг них образовалось свободное пространство. Индейцы никак этого не ожидали и не были готовы дать ответ. В один миг французы обзавелись винтовками. — Прочь, канальи! — громовым голосом прокричал Андре. — Назад, негодяи! — пронзительно завопил Фрике. Конечно, эта отчаянная попытка окажется безрезультатной, в тесноте друзья не могли стрелять, действовали прикладами. Индейцы опомнились и уже теснили их. Сейчас их сомнут, раздавят. Они напрасно принесли себя в жертву. Вдруг среди индейцев началась паника. Путешественники не моли понять, что это значит. Струсили даже самые храбрые. Вдали послышался звук сигнального рожка. Горнист играл атаку. Кавалерийскую атаку. Затем «ура!» белых и военный крик дикарей. Топот стройно идущих коней. Во весь опор мчались кавалеристы, окружая лагерь. Солдаты в голубых мундирах рубили саблями направо и налево. Отряд индейцев не давал проскочить беглецам, беспощадно убивая их. — Американские солдаты!.. «Каменные сердца»!.. — закричали Фрике и Андре и бросились к несчастному ковбою, рассчитывая поспеть вовремя. Индейцы — мастера нападать врасплох, но внезапного нападения отразить не в состоянии. Окруженные, гибнущие от ударов томагавков «каменных сердец» и сабель американцев, они не смогли оказать достойного сопротивления и ударились в бегство. Друзья побежали к ковбою, который выл и корчился на огне. Их глазам предстало жуткое зрелище. Какой-то индеец, должно быть Кровавый Череп, наклонившись над ним, снимал с него скальп и уже заканчивал эту операцию. Андре хотел свалить его прикладом, но дикарь быстро отскочил в сторону и исчез в толпе беглецов, размахивая на бегу окровавленным лоскутом кожи с волосами. Подоспевший Фрике разбросал рукой горящий костер и освободил грудь полковника от головней. Несчастный лежал без признаков жизни. Его развязали, осмотрели. Оказалось, что ожоги несмертельны, опалена только кожа, а мышцы не пострадали. К несчастью, мстительный враг успел содрать с него скальп, и кость черепа белела сквозь кровавые струи. Разбойничье племя было совершенно рассеяно. Командир американского отряда приказал трубить отбой. Раздавались лишь отдельные выстрелы по беглецам, обнаруженным в траве, да еще пристреливали раненых. На этой страшной войне в плен не берут, обе стороны соперничают в жестокости. Ковбоя окружили заботой. Андре и Фрике подошли пожать руку Батисту-младшему и его сыновьям Блезу и Жильберу, а также всем, кто спас их от неминуемой гибели. Им рассказали, как помощь подоспела вовремя. Охотники за бизонами, когда не досчитались трех белых, сразу поняли, что те попали в засаду. Отыскать их следы не составило ни малейшего труда. Бросив охоту, индейцы тотчас погнались за похитителями, хотя и были в явном меньшинстве. Но пока отыскивали следы, похитители успели уйти вперед довольно далеко. К счастью для «каменных сердец», они встретилиотряд федеральной кавалерии, человек пятьдесят, шедший в форт Оканоган на одноименной реке, впадающей в Колумбию. Узнав от Батиста, в чем дело, начальник отряда решил сделать небольшой крюк и соединился с вождями цивилизованных индейцев для совместных действий. Результатом, как мы видели, было полное поражение бандитов. Спустя три недели после этих кровавых событий Фрике и Андре под конвоем из двух десятков хорошо вооруженных «каменных сердец» трогательно прощались с краснокожими друзьями и покидали их земли. Впереди ехала хорошо снабженная провизией фура, в которой на мягкой подстилке из бизоньих шкур лежал выздоравливавший полковник Билл — друзья ухаживали за ним с трогательной предупредительностью. Ковбой, в свою очередь, благополучно перенес потерю скальпа, что не столько смертельно, сколько болезненно. Действительно, если пострадавший не был перед тем ранен и если не брошен безо всякой помощи, то он, как правило, выздоравливает, так как жизненно важные органы не задеты. Рана на голове мистера Билла почти полностью зажила и только ужасно его обезобразила, хотя, впрочем, полковник и раньше не был красавцем. Гораздо медленнее заживали ожоги на груди, но нет худа без добра — у полковника прекратились невралгические боли, которыми он страдал уже много лет, словом, пословица показала себя в действии. Нечего и говорить, что краснокожих он возненавидел еще пуще и собирался при случае отомстить за свое увечье. Благополучно прибыли в Валлулу, откуда французы решили немедленно вернуться на «Голубую антилопу» и прямиком плыть в Европу. Полковник, от души привязавшийся к ним, упрашивал их остаться еще погостить в Америке и попутешествовать по Дальнему Западу, но они не соглашались, решив, что достаточно было здесь приключений. В свою очередь Фрике уговаривал полковника отказаться наконец от столь опасного образа жизни. — Право, полковник, с вами могло случиться и нечто похуже, — сказал он на прощание ковбою. — На вашем месте я бы успокоился и стал носить парик. Как только приеду в Париж, закажу для вас новенький скальп у лучшего парикмахера и вышлю вам это чудо искусства с первой почтой. И если вы когда-нибудь встретитесь с Кровавым Черепом, советую вам вместо всякого мщения показать ему вашу новую прическу. За успех ручаюсь. Послушайтесь меня, помиритесь вы с этим сердитым дикарем. Из-за чего вам теперь ссориться? Сдирать вам друг с друга больше нечего, вы оба одинаково плешивы.Кровавый Череп разложил на обнаженной груди пленника ветки смолистого дерева, устроил небольшой костер, поджег его с нескольких сторон.
Луи Буссенар АРХИПЕЛАГ ЧУДОВИЩ
Часть первая МАДАМ ЖОНАС
ГЛАВА 1
Прогулочная яхта. — Восторги мальчишки, который ничему не удивляется. — Роскошь. — Отплытие. — «Морган» и его экипаж. — Несчастливое число тринадцать. — На борту яхты миллиардера. — Торресов пролив. — Внезапная смерть?.. Убийство?Элегантный экипаж, запряженный двумя великолепными лошадьми, остановился у причала Барм-Коув в Сиднее. Трое подростков, по сути совсем еще дети, спрыгнули на землю — красивая девушка лет пятнадцати, за нею два молодых человека, лет по семнадцати. К пирсу была пришвартована великолепная яхта, белая, словно лебедь, сверкающая золотом, будто пагода[1], изящная и прочная, как эскадренный миноносец[2]. Бойкий светлоглазый юноша восхищенно воскликнул по-французски: — О Боже, какой прекрасный корабль! Какая стройность, какие формы!.. — Хотел бы побывать на нем? — улыбаясь, спросил его товарищ. — Еще бы! — Я знаком с капитаном. — Так пойдем скорее! Только захочет ли мисс Нелли составить нам компанию? — С удовольствием! — отозвалась девушка. Все трое быстро поднялись по трапу и оказались на спардеке[3] прогулочного судна. Увидев молодых людей, седобородый капитан добродушно улыбнулся. — Мисс Нелли, рад вас видеть. — Здравствуйте, мистер Гаррисон! — Здравствуйте, капитан Гаррисон! Позвольте представить вам моего лучшего друга — мистера Тотора. Он из Парижа. Отличный товарищ и к тому же очень веселый малый. — Рад познакомиться, месье. Добро пожаловать на борт. Пожав прибывшим руки, капитан добавил: — Господа, будьте как дома. — Спасибо. С вашего разрешения мы осмотрим судно, — произнес Тотор. — Пожалуйста, яхта в вашем полном распоряжении! — Капитан удалился. Молодой человек по имени Гарри спустился по большой лестнице вниз и откинул портьеру: — Вот апартаменты[4]. Тотор изумленно всплеснул руками. — Боже! Как красиво!.. Чудо из «Тысячи и одной ночи»![5] Сказочный дворец фей! — Ты так думаешь? — Думаю?! Да меня как пулей сразило! Слов не нахожу! Счастливчик хозяин такой яхты! А я-то млел перед нашими пакетботами[6], жалкими шлюпками по сравнению с нею. Тотор в восторге рассматривал большую столовую, отделанную красным кедром[7], тиковой[8] и лимонной древесиной, оклеенную тиснеными обоями и увешанную охотничьими трофеями. Посередине стоял массивный стол розового дерева[9], уставленный хрусталем и столовым серебром. Еще большее впечатление на юношу произвел замечательный салон с коврами, драпировками, фортепьяно, картинами знаменитых мастеров, орхидеями на этажерках, зеркалами, диванами, скульптурами и электрическими бра. Нелли и Гарри улыбались, слушая восторженные возгласы Тотора, впрочем, вполне обоснованные, — прогулочная яхта являла собой один из лучших образцов корабельной архитектуры. Через несколько минут парижанин внезапно почувствовал, что пол под ногами слегка дрожит. — Честное слово, по-моему, запустили машину… надо посмотреть! — удивленно проговорил он. Прыгая через три ступеньки, Тотор взбежал по лестнице на палубу и застыл в изумлении: швартовы отданы, с железным скрежетом убирается трап, собравшиеся со всех сторон люди восторженно кричат. Друзья, смеясь, поднялись следом. Оглушительно взревела сирена. Капитан наклонился к переговорному устройству и громко скомандовал в машинное отделение: — Go ahead![10] Винт под кормой вспенивал сине-зеленую воду. Похожая на готовую взлететь гигантскую морскую птицу, яхта напряженно дрожала. В тот же миг прогремели два пушечных выстрела, на корме гордо поднялся флаг Соединенных Штатов. — Я не ошибся! — произнес Тотор дрожащим голосом. — Мы отчалили, отплыли… Как в сказке… Правда? — Как в сказке, если угодно, — загадочно ответил Гарри. Корабль скользил по водной глади. Яркое солнце отбрасывало еще по-утреннему нежные лучи на волны, горы, леса, дома, превращая большой австралийский город в феерической[11] красоты картину. Звездный флаг трижды приспустился перед стоящими на банках[12] броненосцами. Военные суда ответили тем же. На удаляющейся набережной трепетали на ветру платочки и слышались восторженные приветствия: — Гип-гип-гип ура «Моргану»! «Morgan» for ever![13] Ура-а-а! «Morgan» for ever! — Они кричат «Morgan»!.. — изумился Тотор. — Но ведь так называется твой корабль! — Это он и есть! — Я думал, он в Америке! — Прибыл оттуда… к твоим услугам! — Значит, корабль, который не знает себе равных, принадлежит тебе! Ты его владелец, хозяин, адмирал! — Он принадлежит мне, тебе, моей сестре Нелли, нам троим. Можем плыть куда захочется… По-американски! — С ума сойду! — Ну зачем же! — Неужели все это всерьез? — Вполне! — Но я не попрощался с твоими родителями! — Считай, что попрощался. — И даже не предупредил своих в Париже. — Я отправил им длинную телеграмму. — А ответ? — Думаю, он уже ждет нас. Вот, пожалуйста. Свежевыбритый стюард[14] в белых перчатках и безупречном черном костюме принес на серебряном подносе телеграмму. «Тотору, яхта «Морган», Сидней, Австралия, — прочитал парижанин. — Сынок, приятного путешествия. Поклон семье Стоун. Нежно целуем, мама и я, Фрике». Тотор нашел руку товарища и крепко сжал ее. Он улыбался, а глаза его подернулись влагой. — Знаешь, ты самый лучший друг на свете!.. Потрясающе все придумал!.. От всего сердца спасибо! Получается, что отец и мама в четырех тысячах лье[15] отсюда знали о моем отплытии, а я сам и не догадывался. — Это сюрприз. — Сногсшибательный сюрприз… но объясни же все по порядку. — Мистер Тотор, — с улыбкой произнесла девушка, — берегитесь! Сейчас мой брат произнесет речь… вы ведь знаете, американец в любую минуту готов обрушить на собеседника поток красноречия… — Ну и хорошо, мисс Нелли! Пусть ораторствует сколько хочет. — Сначала присядем. Все трое уселись в кресла-качалки под тентом. Яхта медленно скользила по огромной бухте Порт-Джексон. — Так вот, — начал Гарри, — мой отец, мистер Стоун, король шерсти, за услуги, которые ты мне оказал и которые я считаю неисчислимыми… — Ну уж, неисчислимыми. — Именно. Итак, Стоун-старший решил в благодарность дать тебе возможность закончить кругосветное путешествие — вот «Морган» и прибыл из Сан-Франциско в Сидней. Что касается дорожных расходов, мой замечательный батюшка буквально набил трюмы… долларами! На яхте их триста тысяч наличными. — Черт побери! Полтора миллиона франков! Какой у тебя щедрый предок! Такого отца не заменит и сотня дядюшек из Америки… — А так как без доллара не обойтись ни на войне, ни в путешествии, папа расщедрился настолько, что к горе золота добавил толстую чековую книжку, открыв мне неограниченный кредит в банках обоих полушарий, и при этом сказал: «Тотор, которого я люблю как сына, сделал из тебя мужчину, не покидай же его ни на минуту, будь щедр, мы перед ним в неоплатном долгу». К концу сборов сестра заявила, что тоже хочет отправиться в плаванье. Отказать ей было невозможно. Отец решил, что в наше путешествие Нелли привнесет очарование женственности. — И мы втроем пустились в плавание… как миллиардеры! — Ну вот, дорогой Тотор, и все объяснение. Не обижаешься, что тебя похитили? — Меринос![16] Ты замечательный, выдающийся американец, хотя нос у тебя вроде никуда не выдается. Ты мне как брат! — Да, как брат, дорогой Тотор. А теперь, позволь, я познакомлю тебя с «Морганом» и командой: восемьсот тонн водоизмещения, двигатель в тысячу двести лошадиных сил, оснастка — как у трехмачтовой шхуны… Шутя делает шестнадцать — восемнадцать узлов…[17] бесподобен на парусах… сам все увидишь. Двадцать отборных матросов и восемь человек в машинном отделении, судовой механик и доктор, если вдруг кто-то вздумает захворать… Капитан — лучший во всем американском флоте. К нашим услугам два повара, два стюарда и горничная для сестры. Полные трюмы угля и провизии, две пушки, два пулемета «максим», пятьдесят винчестеров[18], сто кольтов[19], много топоров, пик, сабель, тесаков… все это на случай встречи с пиратами. И дюжина охотничьих ружей… А еще одежда, книги, музыкальные инструменты, лекарства, фотоаппараты, палатки, упряжь, если взбредет в голову покататься на лошадях во время стоянки… Ну, дорогой Тотор, что скажешь? — Скажу, что мы путешествуем по-королевски! Я готов молиться на твоего отца. Только… черт! — What?[20] Что-нибудь омрачает картину? — Назовем это волоском в супе! — Что-то не нравится? — Да нет! Только… не смейся… Я просто подумал, что мы отплываем тринадцатого… Вот и все. Гарри и его сестра не удержались от улыбки. — Как, мистер Тотор, вы боитесь числа тринадцать? — укоризненно покачала головой девушка. — А еще говорят об отваге французов. Неужто вы суеверны? — Да ничуть! Но все же… Не случайно у всех транспортных компаний Старого Света каждого тринадцатого сборы летят вниз, словно турецкие ценные бумаги. Тринадцатого в путь не отправляются. Мисс Нелли не выдержала и рассмеялась — словно колокольчик зазвенел. — Как странно! А у нас, в Америке, все начинается с тринадцатого! Америка была открыта тринадцатого октября тысяча четыреста девяносто второго года… — Действительно, от этого ей хуже не стало. — О, это еще не все. Наша республика первоначально состояла из тринадцати штатов, и на ее первом флаге насчитывалось тринадцать звезд и тринадцать полос… Ее девиз — E pluribus unum[21] имеет тринадцать букв. Голова статуи Свободы украшена тринадцатью звездами. Американский орел сжимает в когтях тринадцать молний и оливковую ветвь с тринадцатью листьями. На его груди щит с тринадцатью лучами, а в каждом крыле тринадцать перьев. И, как видите, такая сверхнасыщенность числом тринадцать не мешает нашей замечательной стране занимать подобающее ей место в мире! — Да, вы десять, сто раз правы, мисс Нелли, это вздор, и все-таки… Гарри и девушка продолжали смеяться, смех наконец разобрал и Тотора. Человек остроумный, он любил подшучивать над самим собой и быстро находил общий язык с друзьями. Между тем «Морган» мчался на всех парах. Остался позади плавучий маяк, указывавший подводные камни Сау и Пигз, яхта обогнула мыс Хорнби, и вот перед путешественниками — открытое море. Колокол отбил полдень — время завтрака. Вышколенный стюард подал отменную, изысканную еду. Закончив трапезу, друзья детально осмотрели яхту. — Прогулка по своим владениям! Неплохо! — радостно воскликнул Тотор. После бокала шампанского парижанин все видел в розовом свете и болтал без умолку. Он познакомился с командой — с помощником капитана мистером Роулендом, судовым механиком мистером Смитом и доктором мистером Филдом. Представили ему и боцмана Алекса, ладно скроенного гиганта с умным и добрым лицом. — Надежный человек, — прошептал Гарри на ухо другу, — и тем более нам предан, что он жених Мэри, горничной сестры. — Великолепная будет пара! — отозвался Тотор, видевший мельком красивую американку, которая прислуживала Нелли. — А матросы, как видишь, — настоящие молодцы. — Черт возьми! Рядом с ними мы выглядим дикарями. — Как на подбор — все чистосердечны, дружелюбны. Мы тоже платим им добрым расположением, ну и, конечно, звонкой монетой. — Да, экипаж хорош. Приятно видеть открытые лица… Одна только физиономия мне не нравится — мистера Дика, стюарда. — Ты знаешь, мне тоже… хотя он безукоризненно вежлив. Его нанял отец по рекомендации одного из близких друзей, уверявшего, что этот человек для нас находка: он несколько лет плавал в краях, которые мы должны посетить, говорит на всех языках Азии и Океании… владеет многими ремеслами… — Понятно!.. Уникум![22] — Бросив беглый взгляд на будущий маршрут, мистер Дик тут же пообещал снабжать нас свежайшим и разнообразнейшим провиантом даже в тех местах, где достать его будто бы невозможно. — А кстати, какой у нас маршрут? — Если обойдется без чрезвычайных происшествий — Торресов пролив, Новая Гвинея, Молуккские острова, Целебес, Борнео, Филиппины, а затем — через Тихий океан… — Мечта!.. Голубая мечта моей жизни. — И мы ее осуществим, мой друг. Вот увидишь!
Корабль взял курс на север. Он плывет… плывет… Под ним зыбь бесконечного океана, от огненного солнца вода пламенеет словно золото или медь, а за кормой тянется перламутровый след. — Семнадцать узлов, мистер Гарри! — потирая руки, сообщил капитан, приказав бросить лот[23]. — Через четыре дня будем у Торресова пролива. Любопытству Тотора не было предела. Он обследовал все закоулки на судне, спускался в трюм, ходил по нижней палубе; забирался в машинное отделение и пытался разобраться в устройстве судовых механизмов. Расспрашивал, восхищался, изумлялся. За сутки парижанин стал любимцем экипажа: всегда хорошее настроение и острый язык действовали безотказно. Все Тотору нравилось, и в конце концов забылось даже зловещее тринадцатое число. Да и мистер Дик, похоже, больше не внушал ему опасений. И все же!.. Кто знает, не следует ли и в самом деле пристальнее присмотреться к этому человеку? Коренастый, плечистый, среднего роста, мистер Дик как бы не имел возраста. Выглядел он весьма импозантно[24]. Лет тридцати пяти? Возможно, больше, а может, и меньше. Смуглый, черноволосый, горящие глаза, профиль будто с римской медали, волевой рот. Изысканная речь, осанка, нечто странное, даже пугающее в облике, — внешность этого человека как-то не вязалась с подчиненной должностью стюарда. Откуда он?.. Никто не знал! Невозможно было определить его национальность. Пожалуй, похож на испанца. Словом, несмотря на безупречную вежливость, образцовый стюард был типом загадочным и странным. Людям более опытным, чем наши юные герои, он несомненно показался бы весьма подозрительным. Впрочем, пока ничто не омрачало плавания трех друзей. Предсказание капитана сбывалось. Четыре дня «Морган» сохранял среднюю скорость 16 узлов, то есть тридцать километров в час. За 96 часов яхта сделала неплохую пробежку в две тысячи восемьсот восемьдесят километров, удаляясь от материка, чтобы избежать рифов, образующих сплошной барьер перед восточным берегом Австралии. Потом, поднимаясь к северу, она преодолела большой коралловый риф и устремилась прямо к мысу Йорк, крайней точке Австралийского континента. Там и начинался усеянный опасными подводными скалами пролив, которому португальский мореплаватель Торрес[25] дал свое имя. — Настоящее кладбище кораблей! — заметил капитан. — Но я начеку, хотя время и торопит. Сейчас два пополудни. Начинается прилив. Нужно еще четыре часа, чтобы пройти опасное место, а в шесть уже стемнеет. Малый вперед! Пролив широк — целых сто пятьдесят километров, но буквально ощетинился островами и островками, скалами и едва скрытыми водой рифами. Есть всего пять-шесть пригодных для судоходства проходов, местами очень узких, и знать их нужно в совершенстве. Неосторожный поворот руля, слишком быстрое течение, ошибки на карте могут привести к катастрофе. По проходу Принца Уэльского «Морган» шел с величавой медлительностью, рассекая волны, которые с громовыми раскатами бились о подводные камни. Вот скалы Вторник, близ которых из воды торчат три мачты затонувшего корабля. А вот и остров Среда, отмеченный двумя мачтами, видными до марселей[26]. Потом риф Юго-Западный или Хэммонд, над которым кружатся тысячи морских птиц. Молодые люди не отрывались от бинокля. На душе у них было тревожно: опять зловещие останки кораблей! Вот островки Ипили — тонкие коралловые иглы, красными призраками поднимающиеся из воды на два метра и, наконец, Буби-Айленд, пустынный клочок земли, который служит приютом для потерпевших кораблекрушение; на нем действует телеграфная связь со всей континентальной Австралией. — Уф, кончено! — с облегчением вздохнул капитан, покидая мостик. Нелли и ее брат решили отправить родителям телеграмму. Островок всего в миле от судна, это будет легко сделать. — Хорошо! Завтра в прилив, — сказал капитан, не отрываясь от подзорной трубы. — Смотрите-ка, флаг приспущен!.. Они просят помощи… тем более надо причалить. Бросили якорь. Наступила ночь. Неподвижная, освещенная яхта покачивалась на волнах. Все поужинали и заснули под охраной вахтенных. В шесть часов, едва рассвело, Нелли, Тотор и Гарри уже были на ногах. Спустили шлюпку, но капитан заставлял себя ждать. Внезапно трое друзей увидели бегущего к ним доктора — мертвенно-бледного, дрожащего, с широко раскрытыми от страха глазами. — Что случилось, доктор? — воскликнул Гарри. — Капитан!.. Я нашел его мертвым в постели. — Мертвым!.. О Боже! — Да, мистер Гарри!.. И боюсь… он убит!
ГЛАВА 2
Ужасные подозрения доктора. — Бдение над телом. — Потерпевшие кораблекрушение с Буби-Айленда. — Шторм. — Люди за бортом. — Гибель помощника капитана. — Корабль в опасности. — Благодарность. — Находки Тотора. — Нет, это не молния. — Остатки взрывателя. — Динамит.Умер капитан Гаррисон!.. Эти ужасные слова как громом поразили молодых людей. Нелли разрыдалась, слезы показались на глазах Гарри и Тотора. Для Гарри и его сестры капитан был другом, преданным наставником, alter ego[27] их отсутствующего отца. Они плакали взахлеб, не в силах произнести ни слова. А тут еще ужасающее предположение доктора: возможно, убит! Значит, на борту предатель, враг? Доктор медленно продолжал печальным голосом: — Капитана так долго не было, что я забеспокоился и зашел в его каюту. Я увидел Гаррисона, скорчившегося на постели… уже холодного. На губах — пена со следами какой-то подозрительной желтоватой пыли. — Какой ужас! — воскликнула Нелли. — Ужас, — вздохнул Гарри. — Бедный капитан!.. И ничего нельзя сделать, мистер Филд? — Увы, ничего! Смерть наступила более пяти часов назад. Мисс Нелли вытерла глаза и откашлялась. — Доктор, мы хотели бы пойти к нему… вместо отсутствующей семьи, которую он так любил… совершить траурное бдение… — Да, сестра, мы должны исполнить благочестивый долг… Пойдем, Тотор! А вас, мистер Филд, я прошу… ни слова о подозрениях, по крайней мере сейчас. Ужасная новость повергла в смятение экипаж, который обожал капитана. Волнение охватило не только матросов, но и людей из машинного отделения. Несчастье было так неожиданно, так загадочно, что, конечно, вызвало тревогу! Но опасное местонахождение судна и неотложные текущие дела отвлекали команду от проявлений горя. Вода поднималась, волны бились о рифы. Через пятьдесят минут прилив достигнет высшей точки. Надо было сниматься с якоря. Самое время идти на Буби-Айленд, где все еще развевался флаг — сигнал тревоги. Помощник капитана мистер Роуленд взял на себя командование кораблем. Бледный, подавленный смертью любимого капитана, заменившего ему отца, Роуленд собрал всю свою волю и действовал как опытный моряк. С яхты спустили паровой катер. Четыре хорошо вооруженных матроса, механик и боцман Алекс заняли свои места. Гарри Стоун в спешке настрочил телеграмму отцу.
«Буби-Айленд, 16 августа, шесть часов утра. Ужасное несчастье. Капитан Гаррисон внезапно умер. Немедленно возвращаемся в Сидней. Чувствуем себя хорошо. Целуем.Он вручил телеграмму боцману с настоятельной просьбой отправить немедленно. Катер отчалил и полным ходом пошел к островку. Не прошло и десяти минут, как Алекс с удивлением убедился, что остров пуст. Единственное, что сохранилось, — сигнальная мачта. Телеграфное отделение было стерто с лица земли, не осталось и следа от оборудования, строений и аппаратов. Хижины служащих превратились в развалины, продовольственные склады исчезли. Похоже было, что по острову пронесся циклон или цунами[28]. У подножия сигнальной мачты два изможденных человека едва слышно звали на помощь. Матросы бросились к ним, и Алекс быстро стал задавать вопросы: «Кто вы? Откуда? Как попали сюда?» — Потерпели кораблекрушение… Нас выбросило на риф… Два дня назад… — А телеграфисты?.. Их слуги?.. Что с ними? Что случилось? — Не знаем. Мы увидели такую картину… И остались без крова, без воды и пищи! Сжальтесь, спасите нас! — Помогать морякам, терпящим бедствие, — священный долг!.. В катер! Но сам Алекс остался на берегу, желая удостовериться, что тут в самом деле никого нет и отправить телеграмму невозможно. Боцман быстро обежал островок и через пять минут убедился: на пустынном рифе, исхлестанном ветрами и волнами, ничего не осталось. Нужно возвращаться на «Морган». Тем временем пострадавшие с помощью матросов сели в катер. Алекс взялся за штурвал: — Полный вперед! Через десять минут боцман уже докладывал помощнику капитана обо всем увиденном и знакомил с потерпевшими кораблекрушение. Стоя на мостике, Роуленд скомандовал отплытие. Он вежливо приветствовал вновь прибывших, но в подробности вдаваться не стал. — Я занят, господа — извинился он. — Вы моряки и поймете меня. Мы скоро увидимся. Алекс, расскажите все мистеру Гарри и проследите, чтобы к этим двум джентльменам были внимательны: дали одежду, накормили… Пусть доктор займется ими, если это необходимо. Спасенные поблагодарили Роуленда и, шатаясь, ушли, а помощник капитана, вглядываясь в горизонт, тревожно прошептал: — Шквал![29] Он приближается молниеносно… На горизонте появилось черное облако. Оно поднималось, растягивалось. Матросы, глядя на эту темную массу, переглядывались: — Шквал!.. Черный шквал… мощный black squall! Атмосферное давление падало с неслыханной быстротой. Послышалась команда: — Закрепить все на борту! Матросы удвоили найтовы[30], задраили люки и иллюминаторы, приладили заглушки, на всякий случай установили поручни, чтобы кого-нибудь не снесло волной. Хлопоты, разумеется, заинтересовали Гарри, который с сестрой и Тотором сидел в каюте капитана. Юноша взбежал на мостик: — Что такое? Что происходит? — Шторм, мистер Гарри! — хладнокровно ответил Роуленд. — Что вы собираетесь делать? — Единственно возможное… постараться его опередить в Арафурском море… — Значит, повернуться спиной к проливу Торреса… — Да, мистер Гарри. — И отказаться от возвращения в Сидней? — Совершенно верно… Даже просто остаться на якоре смертельно опасно. — Когда же мы сможем вернуться? — Один Бог знает… шторм предвидится жестокий… Видите, давление понизилось на двадцать пять миллиметров и, как показывает барометр, продолжает падать. Мистер Гарри, вы мне доверяете? — Абсолютно, дорогой Роуленд. — Тогда возвращайтесь, пожалуйста, к мисс Нелли и вашему другу. Что бы ни случилось, оставайтесь в каюте… вам не место на палубе… Вы подвергнете себя смертельному риску без какой бы то ни было пользы. Корабль прочен, машина великолепная, экипаж отборный… я отвечаю за все. Гарри протянул помощнику капитана руку. — Спасибо! Вы — хозяин на борту… я всего лишь пассажир и подчиняюсь. Когда молодой человек удалился, Роуленд снова осмотрел такелаж[31], якорное и грузоподъемное оборудование, инвентарь. Все на месте, люди спокойны, решительны. На борту, похоже, все готово к шторму. Роуленд склонился к переговорной трубке и скомандовал: — Сто двадцать оборотов. Go![32] Яхта медленно тронулась в путь. Черные тучи, пришедшие с востока, уже достигли зенита. Небо казалось расколотым надвое. Солнце исчезло. Мягкий, тусклый свет окутал «Морган», словно по воде скользил призрак корабля, населенный призраками людей. Легкий бриз нагонял волны, они дробились и покрывались барашками. Вдруг резкий порыв ветра потряс мачты от клотика[33] до основания. «Морган» встал на дыбы, словно пришпоренный скакун, и прыгнул на подвижные барьеры, разрезаемые его тонким форштевнем[34]. Волнение усилилось. Ветер с пугающей скоростью и силой налетал со всех сторон. И это было еще только начало. В широтах, близких к экватору, жара изнуряет, сильный ветер обжигает, как дыхание вулкана, а дождь сыплется крупными каплями и горяч, как вода для стирки. Далекие молнии прочерчивают грозовые тучи. Однако гроза еще далеко, хотя ее дыхание порывами уже доходит со стороны колоссальной массы туч, пропитанной электричеством. И это длится часами — смертоносными часами, когда ветер и море неистовствуют, соперничая в ярости. Помощник капитана и подручный матрос не сходили с мостика. Они наспех перекусили и готовились отразить главный удар. Внезапно, в несколько минут, наступила тьма, непроницаемая чернота ночного шторма, темнота тюремного карцера окутала все кругом. Прошел час, и буря разразилась во всем своем устрашающем великолепии. Ослепляющие молнии опоясали «Морган» огненным кольцом. Непрестанно, с ужасными раскатами, гремел гром, и длинные языки пламени, вырывающиеся из громоотводов, опускались до середины мачт. Капитан и рулевой распорядились привязать себя к мостику. Посреди беснующейся стихии они то возникали при коротких вспышках молний, то исчезали во тьме кошмарной ночи. Несчастные, растерянные подростки продолжали сидеть у тела покойного капитана. Их встряхивало, подбрасывало. Каждую секунду корабль могла поглотить пучина. Хорошо хоть электричество освещало каюту, где лежал безучастный ко всему труп. Но внезапно свет погас, наступил кромешный мрак. Друзья не решались даже пошевелиться и инстинктивно вцепились в ручки кресел. — Господи, это конец! — всхлипнула Нелли. — О Боже, спаси нас! Тут среди непрестанно грохочущего грома, рева волн, сотрясающих корпус судна, воя ветра, гнущего мачты, раздался еще более грозный звук. Он сопровождался зеленоватой вспышкой и потряс яхту до самого киля. Тревожный крик вырвался сразу из нескольких глоток: — Человек за бортом!.. Два человека за бортом! О ужас! Мостик, на котором находились Роуленд и матрос, исчез, унесенный как перышко! Несчастных смел с палубы гигантский водяной обвал. Снова душераздирающий крик: — Человек за бортом! На этот раз волна унесла рулевого. На какое-то время яхта, предоставленная самой себе, стала игрушкой волн. Она сошла с курса, кружилась, кренилась, клевала носом, винт резкими рывками крутился вхолостую. Даже самых смелых пробирала дрожь. Только один человек бросился к бешено крутящемуся штурвалу, схватил его железной рукой и удерживал, изогнувшись, как аркбутан[35]. Обреченный корабль выпрямился, снова устремился вперед и возобновил борьбу. О спасении трех несчастных не могло быть и речи. Даже сама мысль об этом была бы безумием, несомненно возвышенным, но безумием. Судно, потерявшее двух капитанов, мчалось через шторм, ведомое рукой неизвестного. Человек с непокрытой головой, промокший до нитки, вел его умело, проявляя чудеса отваги. Устремившись вперед, «Морган» снова противостоял шторму, который, похоже, уже выдыхался. Ветер понемногу стихал, хотя еще подвывал злым зверем. Облака рвались. Наконец над все еще бурными свинцово-синими волнами показалось бледное солнце, Гарри поднялся на палубу. Боцман Алекс рассказал ему об ужасных событиях роковой ночи. Бывалый моряк не смог сдержать волнения, голос его прерывался: — Погиб и он, капитан Роуленд!.. И бедные матросы, жертвы долга!.. На нас какое-то проклятие! Ошеломленный Гарри подошел к штурвалу и узнал бесстрашного спасителя. Это был один из тех, кого подобрали на Буби-Айленде. — Так это вы! Сэр, мы вам обязаны жизнью! — Сударь, — с достоинством ответил неизвестный, — я моряк и, к счастью, хорошо знаю эти опасные места. Счастлив, что смог доказать свою признательность. — Моя признательность будет достойна оказанной вами услуги! Что я могу сделать для вас уже сейчас? — Просто позволить мне немного отдохнуть… Видите, яхта на правильном пути. Достаточно держать курс на запад. — Но я хотел бы как можно быстрей вернуться в Торресов пролив, пройти его и добраться до Сиднея. На борту больше нет никого, кто мог бы управлять кораблем. Только боцман… если вы не возьметесь сами выполнить эту сложную задачу, не знаю, что и будет. — Я кадровый капитан английского флота, и вы можете на меня положиться. Но изменить маршрут сейчас невозможно! Подумайте сами: волнение еще слишком велико, чтобы идти против ветра. Кроме того, опускается туман, через несколько часов его можно будет хоть ножом резать, и он простоит не менее двух дней. — Так что же делать? — Лучше продолжить плавание на запад, это не представляет никакой опасности. Когда стихнет, мы сможем вернуться. — Договорились! Итак, распоряжайтесь кораблем ради нашей общей безопасности. Устроиться можете в каюте бедного Роуленда. Гарри распорядился выдать экипажу двойной рацион и, опечаленный, отправился к сестре и своему другу. Не пытаясь скрыть волнения, он сообщил им все, что узнал, предложил тоже отдохнуть. — Отправить меня в постель? — запротестовал Тотор. — Да никогда в жизни! Я ведь непоседа и задыхаюсь в четырех стенах. Мне нужно дышать вольным воздухом, ходить куда хочу. Вы позволите, мисс Нелли? — О, разумеется! — Спасибо! Юноша быстро выбрался на палубу. Матросы приветствовали его. Вскоре Тотор оказался на месте исчезнувшего мостика. «Черт побери! Не думал, что мое пророчество насчет тринадцатого числа сбудется», — подумал юноша и вдруг заметил, что пиллерсы, железные стояки, служившие опорой капитанскому мостику, почернели, скручены и раздроблены, как от мощного взрыва. «Странно. Столбы стальные, могли бы выдержать башни собора Парижской Богоматери[36], а они — на тебе! — сломались, как палочки из леденца! От удара молнии?.. Вряд ли, хотя причудами и мощью молнии пренебрегать не следует, — рассуждал Тотор. — Нет ли другой причины? Похоже скорее на взрыв динамита. Мастерский к тому же взрыв. Пожалуй, я прав. Когда в школе проходили сопротивление материалов, мы ломали рельсы подрывными шашками, получалось точь-в-точь». Парижанин подошел поближе и принялся тщательно исследовать разломы. Это были ровные, несколько шероховатые трещины с блестящими кристаллами и характерным изгибом справа налево. Молодой человек не на шутку встревожился: — Странно: чтобы так разбить все четыре стояка, требуется разряд огромной силы и высокая температура, достаточная для оплавления металла. Такой разряд покорежил бы не только пиллерсы, но и все вокруг. Однако следов оплавления на металле нет и основание цело. Даже доски палубы не треснули. Тут что-то не так… дело нечисто! Несколько минут Тотор внимательно изучал характер разрушений, будто надеялся обнаружить хоть что-нибудь, что подтвердило бы его подозрения. И вдруг воскликнул: — Это еще что такое?! Кто ищет, тот всегда найдет — у ног парижанина сверкнул крошечный осколок металла, впившийся в шов спардека. Парижанин быстро наклонился, раскачал его и выдернул. На его ладони лежал гладкий кусочек красной меди с неровными краями длиной сантиметра в два. Совсем пустяк. Юноша повертел находку в руках, тщательно разглядывая, и вдруг вздрогнул и побледнел. Ясно, что первоначально эта штука имела трубчатую форму и толщиной была примерно с карандаш. Срывающимся голосом он прошептал: — Разрази меня гром, если эта медная финтифлюшка не взрыватель… А если взрыватель?.. Тогда дела плохи… Нужно предупредить Мериноса. Молодой человек отправился к друзьям. Чтобы не испугать девушку, Тотор откашлялся и произнес безразличным тоном: — Гарри, можно тебя на минутку? Покажу кое-что. Извините, мисс Нелли. В соседней каюте, закрыв дверь на задвижку и удостоверившись, что они одни, Тотор прошептал: — Есть новости, очень скверные. — Говори скорей, ты меня пугаешь… После всего, что произошло… Что там еще? Парижанин спросил с необычной для него серьезностью: — Динамит на борту есть? — Да, несколько ящиков… в пороховом погребе. — А ключ? У кого ключ? — Он в сейфе. Один Алекс может его открыть. — Ему можно доверять, не так ли? — Уверен в нем, как в самом себе. А что? — Гарри, по мнению доктора, с бедным капитаном Гаррисоном кто-то расправился… — Да, его отравили… и с этих пор моя жизнь — кошмар. — Так вот, я утверждаю, что капитана Роуленда тоже убили! — God bless![37] Что ты такое говоришь? — Не молния сорвала пиллерсы мостика, а… — Ну же! — Динамит!Гарри».
ГЛАВА 3
Подозрения. — Тотор не доверяет. — Судно изменило курс. — Сонная болезнь. — Оправданная тревога. — Ужасное пробуждение. — Парижанину ясно, что его убьют. — Правда о стюарде мистере Дике. — Спасательный пояс. — Два ныряльщика.Прошло двадцать четыре часа. Новый капитан яхты не ошибся. Отовсюду полз туман. Такой плотный, что дальше бушприта[38] ничего не было видно. Судно шло вслепую. Непрерывно ревела сирена, приглушаемая туманом, от которого болели глаза и сжималось в тревоге сердце. Гарри и Тотор обменялись впечатлениями. Обсудив все за и против, они снова осторожно взялись за расследование. Никаких сомнений: где-то рядом бандит, подло убивший обоих капитанов. Да, бандит, тем более страшный, что неизвестно, кто он. Мостик был подорван, это уже не вызывало сомнений. Молодые люди тайком спустились в пороховой погреб и обнаружили полупустой ящик с динамитом. — Вот видишь, — проговорил Тотор, — кража налицо, остальное объясняется просто. Подрывные шашки прикрепили к стоякам мостика и вставили запал, он сработал от электричества. Ничего сложного. Преступник действовал во время урагана в полной безопасности. Все шито-крыто. Вспышка и звук взрыва смешался с молниями и раскатами грома, мостик как перышко снесло волнами в море вместе с людьми, а случившееся приписали шторму! — Да, все так! — Но кто же он, этот негодяй? Жизнь бы отдал, чтобы узнать! — Тот же, кто отравил капитана. Ведь доктор не сомневается… — Знаю. Он уверяет, что бедняге сделали во сне инъекцию смертельного малайского яда! — Я все думаю: кто и зачем убил двух безобидных людей, у которых и врагов-то не было? — Зачем? А ты не подумал, что яхта и ее богатства могут быть неплохой добычей? — Так, значит, из-за нее убили обоих капитанов? Не понимаю! — Да, — задумчиво произнес парижанин, — чтобы заставить тебя доверить командование первому встречному!.. — Как же ты несправедлив к человеку, который всех нас спас! — Поверь, я ничего не утверждаю! Я только сомневаюсь… и подозреваю. Предполагаю даже невозможное… особенно невозможное! — Но тогда нужно было задумать все это за целый месяц! — Или за две недели. — Хорошо. Так ты считаешь, что на рифе Буби-Айленд могли все подстроить. Снести строения, убрать персонал и высадить двух потерпевших кораблекрушение?.. — Все подстроено! А почему бы и нет? Время у них было. Ведь все, кроме меня, знали о твоей экспедиции, маршруте, целях. Известна и роскошь «Моргана», и содержимое его сейфа, наконец, ни для кого не тайна, что ты — сын короля шерсти, миллиардера! — Проклятье! И что из этого? — Повторяю, нет у меня доверия… Ведь я уже поплатился после нашего сумасшедшего рейда по Австралии! Папа когда-то повидал виды, странствуя в этих местах… которые можно назвать раем для закоренелых пиратов или, если тебе больше нравится, адом. — И что же ты предполагаешь? — Пока не знаю! Но я держу ушки на макушке, говорю себе, что этот первый встречный капитан — настаиваю на таком определении — может оказаться как образцовым джентльменом, так и бандитом высокого полета. Он может завладеть судном и увезти нас как пленников к черту на кулички. Осторожный стук в дверь прервал разговор. — Войдите, — откликнулся Гарри. Створка из тикового дерева медленно открылась, и в дверном проеме показалась высокая фигура боцмана. — Добрый день, господа! — Ах, это вы, Алекс! Здравствуйте, друг мой. Что нового? — Что-то странное происходит, сэр… Да, клянусь головой, очень странное, даже сказал бы — тревожное. Но он знает свое ремесло… — Кто «он»? — Да новый капитан… Конечно, он моряк… — К чему вы клоните? — Я все думаю: почему мы не идем по курсу? Гарри вздрогнул: — Что вы сказали?! — То, что мы плывем на север! И давно уже оставили Торресов пролив справа по борту. — Так куда же, черт возьми, он хочет нас завезти? — вступил в разговор Тотор. — Ей-ей, хотел бы это знать… пойдемте со мной. В тот самый миг, когда они собирались выйти, в дверях появился доктор: — Прошу вас, мистер Гарри, на минутку. По вашему приказу я сделал вскрытие тела бедного капитана… и распорядился поместить покойника в герметический гроб из металлических листов, нарезанных из банок для консервов и спаянных в мастерской машинного отделения… — Хорошо, доктор… Благодарю вас. Гарри уже шагнул за дверь, но врач остановил его: — Это еще не все… У меня важное сообщение. Прошу вас, вернитесь на минуту. — Доктор с тревогой произнес: — У двенадцати человек появились странные симптомы… — Как, эпидемия?.. В такой момент!.. — Эпидемия?.. Не знаю… Матросы все какие-то одуревшие, едва ходят, мутный взгляд, идиотский оскал… Сначала шатаются как пьяные, потом ноги перестают держать, человек тяжело падает и засыпает. Многих я только что нашел храпящими в коридоре по левому борту. — И что вы об этом думаете? — Должен признаться, абсолютно ничего не понимаю… но, насколько мне известно, вина они не пили. Скорее всего им дали наркотическое снадобье… Но кто и когда? Гарри украдкой бросил взгляд на Тотора, который, вскинув руки, воскликнул: — Меня это не удивляет. Обстановка все более осложняется. Ошибки быть не может, их отравили… подло отравили! Доктор, скажите, а у стюарда мистера Дика, капитана и его товарища по кораблекрушению проявляются такие симптомы? — Кажется, нет… Но я ведь только бегло осмотрел этих странных больных. И всех ли я видел? — Ах да… — произнес Тотор, неудержимо зевая. Он потянулся, снова зевнул и проговорил: — Вот так штука! Что-то хочется вздремнуть! Парижанин почувствовал, как у него подкосились ноги, попытался удержаться, но пошатнулся и еле выдавил: — Вот и я… тоже… Какой-то дурной… — Мистер Тотор… Что вы пили? — вскрикнул озадаченный доктор. — Воду… из бака. — Вы не почувствовали особенного привкуса? — Привкус?.. Оставьте меня… Особенный? Мне надо вздремнуть… как следует. Все, я вышел из строя! Спокойной ночи, друзья! Гарри Стоун изумленно смотрел, как Тотор сделал несколько нетвердых размашистых шагов пьяницы, устремил на собеседников невидящие глаза и тяжело осел на ковер. — Вот… видите, мистер Гарри! — произнес озадаченный доктор. — Но это настоящая эпидемия! Было бы смешно, если бы не предвещало чего-то ужасного. Доктор, нужно найти какое-нибудь лекарство, действовать решительно… спасти нас всех от этой болезни, странной и опасной перед… Ибо… вот видите… я и сам… меня тоже одолевает сон… — Мистер Гарри! Держитесь! — Невозможно! Я ощущаю что-то очень приятное, но и тревожное… потому что еще думаю… сознаю опасность… Соскальзываю в нее, это непреодолимо! Я пил только воду, как и Тотор. И как он, как другие… я падаю. Сестра! Нелли! Спасите мою сестру! Доктор, на помощь! Ах!.. Гарри в свою очередь попытался сделать несколько шагов, но шатался, раскачивался и после напрасных попыток удержаться на ногах упал посреди салона. Сколько длился этот странный и страшный сон, близкий к каталепсии[39], — проснувшийся Тотор не имел никакого представления. Казалось, прошло несколько дней. Он чувствовал себя совершенноразбитым и в первый момент не мог собраться с мыслями. Виски словно стянуло железным обручем, а из пересохшего рта с трудом вырывалось горячее, прерывистое, хриплое дыхание. Юноша потянулся так, что хрустнули суставы и проворчал: — О-ля-ля! Мамочка!.. Я будто с похмелья! Бедные мои мозги, как яблочный мармелад! На языке шлак, а в глотке — пакля. Ап-чхи! Ап-чхи! Будь здоров!.. А где же мы находимся, черт побери? Темно, как в бочке. Я в постели… А уснул, кажется, в салоне, там еще был доктор и дела были плохи, все дрыхли… настоящая сонная болезнь!.. Но я по-прежнему на борту: чувствую качку и слышу шум винта. Нужно бы пройтись и посмотреть, нет ли чего новенького… Уверен, что есть. Но где же Гарри? Эй, Меринос! Ты здесь? Откликнись! Парижанин услышал хриплые вздохи, прерванные продолжительным зевком. Затем неясный шорох, похоже, кто-то потягивался после долгого сна. Послышался приглушенный голос друга: — Тотор, это ты? Уф! Голова раскалывается! — И у меня то же самое. — Что происходит? — А я тебя хотел спросить. — Ты помнишь?.. То, что рассказали Алекс и доктор, ужасно. — Сколько мы проспали? — Не представляю! Провалиться мне на месте, должно быть, худо сейчас на яхте. — Боюсь узнать что-нибудь страшное… А сестра!.. Моя Нелли! — Будем надеяться, что с нею ничего не случилось! — Тотор, я должен ее увидеть… беспокойно очень. — Я с тобой… только не шуметь! Друзья лежали одетые в своих постелях. Должно быть, кто-то уложил молодых людей, когда неодолимый сон свалил их с ног. Гарри встал и пошел в соседнюю каюту к Тотору. — By Jove![40] Ни зги не видно! Где тут выключатель?.. — Нет, нет! Не зажигай света! Лучше в темноте, так вернее! — Пожалуй, ты прав. Они бесшумно вышли в коридор, стараясь ощупью найти дверь в каюту девушки, что было непросто. Каюта Нелли находилась на корме, по другую сторону коридора, шагах в десяти. У лестницы послышались голоса. Юноши замерли на месте. Кто-то грубо и громко говорил, не стесняясь, словно у себя дома или в завоеванной стране. Раздался громкий, характерный стук ружейных прикладов о палубу. — Патруль! — удивленно произнес Тотор. При появлении вооруженных незнакомцев юноши прижались к стене. — Послушаем, — прошептал Гарри. Сердце его бешено колотилось. Снова раздался голос: — Я сказал: прикончить Тотора, этого проклятого француза! Парень хитер, как мартышка, и сильней бизона. Очень опасный человек! Он должен сдохнуть, и сейчас же! А что касается Нелли и Гарри Стоунов, будьте внимательны к ним. Ни один волос не должен упасть с их головы… за этих детишек можно получить от папаши миллиард… Драгоценные заложники. Потрясенные друзья узнали голос говорившего. Это был мистер Дик, стюард, образцовый слуга, уникум, которого так расхваливали. — О, негодяй! — прошептал Гарри. — Послушай, Дик, — сказал один из сообщников, — земля близко, берег — в миле по ветру… может быть, просто оставить там этого француза… Зачем лишнее убийство брать на душу? Жестким, повелительным тоном стюард прервал его: — Нет! Он должен умереть! Вы его не знаете! Это же тот самый чертов парижанин, который отхлестал по щекам и заставил отступить Дана, предводителя бушрейнджеров[41] — лесных пиратов… — Ну и скажешь! — Его надо убить немедленно! Хозяин — я, выполняйте приказ! Вас восемь человек, этого должно хватить. Отправляйтесь! — Да полно! Куда торопиться, корабль в наших руках. Что за спешка — отправить в ад семнадцатилетнего мальчишку! Из этих слов бедные юноши узнали ужасную правду. Подозрение Тотора оправдалось — яхта попала в руки бандитов. Для короля шерсти это означало разорение. Но детям, по крайней мере, гарантировалось сохранение жизни за огромный выкуп. Тотору же грозила неизбежная смерть. По тону стюарда Гарри понял, что вести переговоры с убийцами, умолять или обещать что-то бесполезно. Эти негодяи знают об австралийских бушрейнджерах и, может быть, даже принадлежат к их банде. Однако Тотор сохранил потрясающее хладнокровие. Конечно, сердце у него колотилось, но это не помешало ему тут же составить отчаянный план, на которые он всегда был мастак. В шепоте его слышалась насмешка: — Ах так! Хотят проткнуть меня ножом, как цыпленка. Пустить кровь сыночку знаменитого Фрике! Это мы еще посмотрим!.. Пошли, Меринос! Он увлек друга в каюту. На ощупь, со всей яростью и силой, удесятеренной опасностью, парижанин соорудил баррикаду, придвинув к двери мебель, чемоданы — все, что было под рукой. — Это даст целых пять минут отсрочки. Быстро, спасательный пояс! Тотор схватил пояс, приладил на груди и попросил: — Застегни побыстрей и покрепче. Не судьба мне путешествовать богачом. — Что ты хочешь делать? — Ты слышал: земля близко, в миле по ветру… Я смываюсь через иллюминатор… изображу воздушную… нет, морскую, фею и доплыву до берега под покровом ночи! А там уж как-нибудь выпутаюсь… Как Робинзон! Почему бы и нет… все лучше, чем быть убитым. Застегнул пояс? Готово? Тогда обнимемся, старина Меринос, и — плюх в воду! Послышался топот пиратов, спускавшихся по лестнице. Парижанин нащупал раскрытый иллюминатор и воскликнул: — Пролезть можно. Пора! — Хорошо, тогда и я с тобой, — решительно проговорил Гарри. — Да никогда в жизни! Во-первых, ты ничем не рискуешь. А твоя сестра… Кто защитит ее? — Отцовский миллиард. Она в большей безопасности, чем английская королева. О, я не беспокоюсь! Вот мой пояс. Застегивай, твоя очередь! Слышишь? Они уже у двери, пытаются открыть… — Нет, я не согласен. — Так надо! — Покинуть мисс Нелли одну, среди бандитов! Нет, твое место рядом с нею. Было бы трусостью позволить тебе такое. — Значит, трусом должен быть я? — Ты меня заставляешь говорить глупости! Но здесь ты в безопасности, а следуя за мной, рискуешь жизнью. Подумай еще раз о мисс Нелли! — Ты знаешь, как я обожаю сестру. Я без колебаний отдал бы за нее жизнь… Сильные удары в дверь заглушили голос Гарри. Он прокричал: — Повторяю… Никакой опасности для Нелли нет. Клянусь. А вот для тебя, бедняга Тотор… Она сама приказала бы мне: «Иди, брат, не бросай друга в беде!» — Если бы знать, чем это кончится… — Друг, я тебе десять раз обязан жизнью и разделю твою судьбу, это мой долг! Мы спасемся вместе или вместе погибнем! — Гарри, умоляю тебя! — Во имя сестры — я последую за тобой! Удары в дверь становились все яростнее. — Застегни же на мне пояс, гром и молния! — завопил Меринос. — А то будет поздно! Дверь разлетелась в щепки. Раздались яростные крики, угрозы, проклятия. Гарри рванулся к иллюминатору и решительно бросился в море. — Ныряй и берегись винта! — успел крикнуть ему Тотор. Парижанин вылез в иллюминатор, мощно оттолкнулся, проделал в воздухе победное сальто[42] и полетел вниз головой во мрак.
ГЛАВА 4
Во мраке. — В безбрежном океане. — Волнения Тотора. — Ужасное одиночество. — Как избежать солнечного удара. — А чего же поесть? — На кокосовых пальмах. — Неожиданная помощь. — Странные работники и забавный труд. — Sic vos non vobis![43] — Первый завтрак.Скользнув по железной корме, Меринос и Тотор нырнули в волны. Несмотря на пробковые пояса, они погрузились достаточно глубоко, чтобы избежать смертельного удара винтом. И вот уже яхта прошла мимо. Подростки бодро плыли вперед и были уже вне досягаемости, когда разбойники на судне перебрались через баррикаду. Под защитой темноты друзья слышали яростную перебранку — крики, проклятия разносились из иллюминатора с удивительной четкостью. — Сбежали! Сбежали оба! Чтоб они дьяволу достались, эти проклятые мальчишки! — Застопорить машину, быстро! Шлюпку на воду! Где факелы, оружие? Верните их живыми или мертвыми! — Ну-ну, приятель, — проговорил Тотор, мастерски загребая саженками, — бегай, кричи, пока не сорвешь глотку… здесь темно как в бочке… теперь мы плевать на тебя хотели! Эй, Меринос… ты здесь? — Да! Главное, нам нельзя терять друг друга! — Ты прав: сейчас это было бы очень некстати… В общем, надо держаться в виду друг друга и плыть рядом, как добропорядочные морские свинки, которые собираются порезвиться. — Черт! Злую, однако, с нами шутку сыграли! Наступило молчание. Оба друга пытались сориентироваться или хотя бы определить, откуда дует ветер, чтобы найти берег. С помощью поясов пловцы хорошо держались на поверхности и не уставали. Время от времени они высовывались из воды, чтобы почувствовать направление бриза. Во мраке ночи, безмерном морском пространстве, плеске волн вопли с яхты слышались все слабее. Видно было, как меркли огни; корабль удалялся и терялся из виду. Хотя враги были уже не страшны, но в тот момент, когда «Морган» исчез навсегда, беглецы осознали весь трагизм своего положения. Еще вчера, богатые, счастливые и свободные, преисполненные радости, они отплывали в дальнее путешествие. Все улыбалось им. Казалось, осуществимы самые смелые мечты. Будущее представлялось незыблемым, как скала. И в один миг все рухнуло, вокруг — беспощадные враги, позади устланный трупами путь. Беспомощность, тревога и страх угнетали молодых людей. Они всего лишь жалкие человеческие существа, которые сражаются с океаном за свое хрупкое существование. Впереди ни приюта, ни еды, возможно, нет даже надежды! Но Тотор был взволнован по другой причине. Его растрогала простота, с которой Гарри по велению души, не раздумывая, принес себя в жертву другу. Честное, склонное к самопожертвованию сердце Тотора сильно билось в груди. — Черт побери! Бедняга Меринос, — проговорил он срывающимся голосом, — в скверную же ты попал переделку из любви ко мне! — Да нет же! Я просто решил искупаться. — Все шуточки! Это ты умеешь… И все же здорово! Ей-богу, ты настоящий мужчина! Потрясающе… Я плачу, как малое дитя. Меринос ответил в духе насмешников-янки: — Осторожно, Тотор! Море может переполниться! — Молодец! Знаешь, чтобы отнестись ко всему этому так просто, нужно быть богачом! Точно, Меринос, ты герой! — Стараюсь как могу, друг мой, я прошел твою школу, суровую и доблестную, в которой узнают, что такое долг, самопожертвование. — Засыпаешь меня комплиментами, хотя очередь — моя! — Ладно, кончай! Хватит, дружище, давай попытаемся быть серьезными жертвами кораблекрушения. — Образцовыми потерпевшими! Что ж, давай. Но я должен был сказать то, что сказал. А теперь обдумаем наше положение. — Все очень просто! Мерзавец Дик меня похитил! Тебя хотели убить, но упустили случай. Яхта пропала, и я в трауре по ней. Мы держимся на воде как поплавки, и я ощущаю бриз[44]. — Я тоже! Ветер сзади… значит, земля впереди. — Тише! Слышишь? Прибой… — Отлично! Поплыли. Еще немного! Юноши плыли еще добрую четверть часа. Шум прибоя усилился. Потом в звездном мерцании появились белые барашки пенящихся волн. Тотор радостно вскричал: — Ура! Я достаю ногой до дна… Приплыли! Они продвигались медленно: волны на отмелях сшибали с ног. Друзья поднимались, снова плелись и наконец добрались до берега. Вода текла с них ручьями. Выжав одежду и не рискуя в потемках идти дальше, оба растянулись на песке. — Может, вздремнем? — предложил Тотор. — Жарко, во сне обсохнем. — Well![45] — ответил Меринос, — так и сделаем, а когда рассветет, оглядимся. Через два часа утреннее солнце осветило самый тусклый и унылый из пейзажей. Бедняги находились в огромной, почти круглой бухте, окаймленной белесоватой, сухой и рыхлой землей. Лишь у самой кромки берега морские водоросли образовали слой перегноя, где росли кокосовые пальмы. Избитые и искривленные ветром их тонкие стволы редкой колоннадой обрамляли бухту. Вдали, насколько хватало глаз, простиралась белесая земля, залитая первыми солнечными лучами. Не видно было ничего живого — ни птиц, ни зверей, ни людей. Впору было сойти с ума от одиночества. — Черт возьми! Здесь, похоже, не так людно, как на Итальянском бульваре в Париже! — Yes![46] И не так оживленно, как на Бродвее или Бруклинском мосту… Indeed![47] Не хватает автобусов, трамваем, кэбов[48], телеграфных проводов, восемнадцатиэтажных домов, автомобилей, пешеходов, разносчиков газет… — Даже ни одного кафе или поилки Валласа[49], а уже пить страшно хочется! — И есть тоже, Тотор! — Да-да! Сейчас как раз то время, когда образцовый стюард мистер Дик приносил гренки с маслом, ветчину, чай, сгущенное молоко, холодные закуски, пирожные… Ну попадись он мне!.. — Замолчи, изверг! Я и так истекаю слюной. — А я и в самом деле попробую раздобыть еды. — Тогда давай торопись! — Видишь пальмы? Эти достойные представительницы флоры[50] дают плоды, так называемые кокосы, которые заключают в себе съедобное ядро и молоко, или, если угодно, питьевую воду. — Целый завтрак. Правда, скудный. — Пища анахоретов[51] или робинзонов… пойдем же за ней! Меринос с Тотором тронулись в путь, но, пройдя всего лишь сотни две метров, убедились, что солнце печет нестерпимо, а прикрыться нечем. — Этим шутить нельзя, — воскликнул Тотор, — мы почти на экваторе, и солнечный удар по темечку прикончит нас в пять минут. — Ах, Тотор, где мой старый добрый шапокляк[52], который ты набил в Австралии свежей травой, чтобы спасти меня от теплового удара. — И птичьи яйца, которые так восхитительно пахли рыбьим жиром и тухлой рыбой… При этих словах, напоминающих о трагических и смешных событиях, парижанин сделал победный кульбит[53] и воскликнул: — Не могу предложить тебе цилиндр, но зато получишь потрясающий колпак цвета хаки, совершенно клоунский. Смотри! Соображаешь? Друзья стояли под пальмами, перед грудой огромных орехов, прикрытых волокнистой оболочкой. Парижанин, от которого ничто не скроется, заметил, что на некоторых упавших орехах сохранился широкий и длинный карман, прикрывающий орех, и большой моток волокон. Сам карман, табачного цвета, высотой сантиметров в шестьдесят, состоял из прочных, очень эластичных волокон, которые переплелись так, что получилась грубая, плотная, непроницаемая ткань. У него строго коническая форма с крысиным хвостиком сверху. Тотор вынул орех из оболочки, растянул ее обеими руками в длину, подвернул края и радостно воскликнул: — А вот и шляпа! Похожа на бумазейный чепец, гасильник для свечей и, главное, на колпак звездочета. Солнцезащитный и водонепроницаемый, стоит на голове, словно картонный! Требуйте товар бесплатно у дипломированного изготовителя-изобретателя! Никакой государственной гарантии! А ты, голубчик, прикрой-ка свой черепок. Наверное, горяч, как страусиное яйцо всмятку! Меринос с серьезным видом натянул шапку до ушей. — Hello! Тотор, ты гений! Во всем мире один ты можешь до такого додуматься! — Ты мне льстишь, однако приятно. Надеюсь, папа был бы доволен. Жалко, что нет «кодака»[54], ей-богу, тебя надо бы снять с поясом, с которым ты похож на свирепого зверя, и в шляпе некроманта[55]. Но я болтаю, а моя тыква греется! Еще заработаю мигрень[56], а аспирина нету! Парижанин в свою очередь украсил голову остроконечным колпаком и добавил: — Полюбуйся-ка на меня! — Ты великолепен, я и о себе теперь лучше думаю! Пожалуй, самое время позавтракать. — Точно, неплохо бы слопать один такой фрукт и выдуть стакашек! Поищем! Порывшись в куче упавших плодов, они с удивлением обнаружили, что большинство орехов пусты, а в нижней части отчетливо видна круглая дыра — словно кто-то просверлил крепкую древенистую кожуру каким-то идеально заточенным инструментом. — Чистая работа, — произнес Тотор. — Кто же мог так продырявить скорлупу, чтобы съесть мякоть? Внезапно раздался шум: полдюжины орехов отделились от вершины и тяжело упали на землю. Один из них чуть не попал в Мериноса, который отскочил назад. — Нас обстреливают! — крикнул он. — Еще немного, и мне проломили бы голову! — Какой-то безмозглый шутник устроил представление знаменитой басни «Желудь и Тыква»! — Кто же это? Обезьяна? Оба подняли головы и, вытянув шеи, всмотрелись. У начала кроны скользили большие бугорчатые, глянцевитые, неуклюжие, бесформенные существа с короткими лапами. Казалось, у них нет ни голов, ни хвостов. Друзья хорошо различали, как на пятнадцатиметровой высоте двигаются между ветвями эти противные существа. Ощупывают кокосовые орехи, вероятно, оценивая их зрелость, а затем быстро срезают у основания. — Так это же крабы! — воскликнул Тотор. — Крабы. Карабкаются по деревьям, точно так же, как медведь Мартэн в парижском Ботаническом саду! — Чудо природы! — рассудительно заметил Гарри. — Черт возьми, какие огромные! Наверняка не меньше пятидесяти сантиметров. Вот они — ловкие сверлильщики кокосов! Подождем немного, уверен, и мы поживимся с этого барского стола! Друзья отошли в сторону, спрятались и вскоре стали свидетелями оригинального зрелища. Тотор не ошибся, это были действительно огромные крабы. Сбив достаточно орехов, они поползли вниз. На каждом стволе были видны кольцевые рубцы, ежегодно возникающие в местах отпадения ветвей. На рубцах образовались толстые, шероховатые и извилистые валики, наподобие ступеней. Крабы сумели использовать образовавшиеся выступы. Они осторожно зажимали зазубренными клешнями край каждого валика, затем на передних лапах скользили вниз, а задние ноги с короткими крепкими шипами опирались на нижний валик. Затем странным, но очень точным движением клешни впивались в валик, за который ухватились лапы с шипами, и так далее, со ступеньки на ступеньку. За две минуты чудовища достигли земли и с жадностью набросились на орехи. Каждый плод, как известно, имеет в основании три отверстия одно из них достигает зародыша, из которого возникает будущее растение. Обладая удивительным нюхом, крабы никогда не ошибаются. Они вонзают клешню в маленькую дырочку — ворота плода. Твердая и острая, как сталь, невероятно мощная клешня быстро крошит края дырочки. Крак, крак… клешня работает уверенно и быстро, мелкая стружка так и брызжет из-под нее. Отверстие увеличивается. Через пять минут уже можно просунуть туда пальцы. Заинтересовавшись этой гимнастикой, а еще больше вылущиванием орехов, Меринос и Тотор проворно подобрались поближе. — Думаю, кокосы уже готовы. Пора провести реквизицию. — Yes, реквизируем. Очень хочется пить. — А я помираю от голода. Маленьким блестящим глазкам членистоногих явно не доводилось видеть человека. Вторжение людей вызвало у крабов естественное беспокойство. Не поймешь, то ли в мольбе, то ли с угрозой, они забавно вздымали свои полуоткрытые грозные клешни. Тотор, видя, как друг дерзко протянул руку к соблазнительным орехам, закричал: — Осторожней! Они будто ошалели. Могут и руку отхватить. Но Гарри не слушал его: голод не тетка! Он расшвырял ногами, разбросал участников пиршества и решительно схватил пару орехов. Внезапность нападения вызвала панику. Наверное, эти твари, закованные в панцири, испугались монстра[57] с пробковым поясом и островерхим колпаком. Они разбежались, двигаясь как-то боком, будто тарелки с ногами, и, останавливаясь неподалеку, находили новые орехи и как ни в чем не бывало возобновляли прерванную работу. Один из орехов Меринос подал Тотору, другой поднес ко рту. — За твое здоровье! — провозгласил Тотор. Но американец не слышал, не отвечал. Захлебываясь от жажды, он с лихорадочной алчностью пил большими глотками. Орех мгновенно опустел. Пока Тотор осушал свой орех, смакуя каждый глоток, Меринос взялся за следующий. — Ах, как хорошо! — произнес он наконец с долгим вздохом полнейшего блаженства. — Еще бы — выдул столько молочка! — Сладкое, свежее, жирное. — Ты прав, это первоклассный кокосомолочный продукт! К тому же некому его разбавлять, по примеру молочников из Пантрюш, моей деревни у Монмартра, во Франции. — Теперь нужно подумать о более существенном. — Проще простого! Кокнем кокос! Так они и сделали. Разбили волокнистую скорлупу о коралловые скалы, достали ядро и неплохо подкрепились. Таким был первый завтрак.
ГЛАВА 5
Небольшая разведка. — Сюрприз. — Подводная битва. — Кит и нарвал. — Незавидное положение. — Это риф! — Тотор свежует добычу. — Вторжение. — Вегетарианцы, но могут быть плотоядными. — Отступление. — Оправданные опасения. — Без огня. — Парижанин хочет сотворить чудо.— Кое-как, но мы поели, — заметил Тотор, — а теперь боюсь, как бы нам не пришлось попоститься. И долго! — Да, кроме кокосов, здесь ничего не растет, да и пальмы чахлые. — Уж не говоря о том, что в конце концов нам эти кокосы осто… кокосят! — Тотор, ты неисправим! — Увы, да! — А если крабы забастуют? — Проклятье! Это будет для нас смертельным ударом! — Не надо пока об этом думать, продолжим прогулку. Друзья уже давно начали обход своих владений. От спасательных поясов стало жарко, они сняли их и несли в руках, как корзины. Медленно брели под жгучим солнцем, уже обогнули половину бухты — все так же пустынно. — Где же мы находимся, черт возьми? — воскликнул Тотор. — Не очень-то я разбираюсь, но, может быть, на побережье Новой Гвинеи[58]. — Это было бы в сто раз лучше, чем на рифе из мадрепоровых кораллов[59], которыми изобилуют эти места. Идя на северо-восток, мы обнаружили бы леса, птиц, зверье и людей. — Да, каннибалов[60]. — С ними можно договориться!.. Но все равно, хорошего мало. — Да, вот не повезло так не повезло! — Проклятье! Настоящим жертвам кораблекрушений всегда достаются обломки судна, провизия, оружие, одежда, шлюпки, короче — все, что нужно для их профессии робинзонов. А у нас ничего в руках и ничего в карманах! — Зато у меня — нож. — Вот здорово! А у меня ничего, кроме носового платка, а без него, следуя примеру Адама, можно и обойтись. — By God![61] Эта проклятая земля еще и жесткая! — Она быстро сотрет подошвы наших башмаков… — Нет даже ручейка. Ни пресной воды, ни дров, чтобы развести костер… — Ни даже спичек… Иначе говоря, у нас нет, во-первых, ничего, а во-вторых — всего прочего. — Что же с нами будет? — Дьявол! Надо выкручиваться, будем вкалывать, делать из ничего хоть что-то и жить, используя все возможное и даже невозможное! — Ты хорошо сказал: «невозможное»… Никогда еще мы не бывали в более безнадежном положении! И если ничего не изменится, то нас ждет ужасная смерть в мучениях от голода и жажды. — Ну-ну, не дрейфь! Я же сказал — выкрутимся!.. Смотри-ка! Толку мало, а все равно забавно! Целый фонтан! Соображаешь, настоящий фонтан! В ста метрах от берега над волнами на семь-восемь метров поднялся столб воды, изящно изогнулся и рассыпался дождем. — Видишь, — продолжал Тотор, — наверняка это владелец здешних мест устроил водяную феерию в нашу честь. Меринос рассмеялся: — Лучше бы он предложил нам отобедать. — В самый бы раз! Только праздничек уже кончился, не долго гости веселились! Струя иссякла и больше не появлялась, но спокойные до сих пор воды бухты пришли в движение. Они пучились и вспенивались, местами стремительно закручивались и водоворотами обрушивались на берег. Вдруг всплыла чудовищно огромная голова. Показалось и гигантское туловище с сероватой кожей. Хвост хлестал волны громовыми ударами. Это был гигант морей, длиною более двадцати пяти метров. — Черт побери! Кит! — God! A whale![62] Поразительно! Я думал, они встречаются только в северных морях. — Оказывается, нет. Ого, ничего себе прыжок! Какого дьявола ему здесь нужно? И что это он выделывает? — Развлекается. — С легкостью кита, черт возьми! И тут что-то черное, быстрое, как веретено, прорезав светлую воду, оказалось рядом с морским исполином. — Смотри-ка, еще одна зверюшка. «Зверюшка» достигала не более шести метров в длину, но сразу видно было, насколько она опасна. Сильная, агрессивная, она носилась как бешеная, с невероятной скоростью подплывала, отплывала, ныряла, всплывала и кружилась вокруг кита. Порой выпрыгивала до середины туловища, и тогда друзья видели на передней части головы страшное оружие: длинный рог, белый, как слоновая кость. Огромное острие длиной не меньше трех метров. — Ну и чудище! Ты знаешь, кто это, Тотор? Парижанин, подкованный в зоологии больше своего друга, уверенно ответил: — Это, должно быть, нарвал[63]. — Но он нападает на кита! — Ничего удивительного. Натуралисты утверждают, что они всегда как кошка с собакой. — Значит, и кит не ради удовольствия сюда заплыл. Выдающийся матч увидим! — Да, он спасает свою шкуру, это дуэль не на жизнь, а на смерть. — На кого поставишь? — Смеешься надо мной? — Просто пари — национальная традиция. Несмотря на отчаянное положение, друзья с любопытством наблюдали за битвой, которая напоминала атаку торпедного катера на броненосец. Кровопролитная дуэль коротка. Надеясь на ловкость, бесстрашие и отточенное оружие, нарвал всплыл, снова нырнул и решительно устремился на противника. Более тяжелый и менее подвижный кит явно устал. Неотступно преследуемый, вынужденный тратить много сил в бою, он уже не мог избежать атаки. Бивень нарвала погрузился в бок кита. Чувствуя, как острие рвет внутренности, кит отбивался с неописуемой яростью, а нарвал не мог освободить бивень из толщи жира и мускулов. Раздался сухой треск. Рог обломился и остался в ране. Выброшенный невероятно сильным ударом, нарвал показался из воды целиком, лишенный своего оружия. — Вот и стал курносым, как лягушка! — закричал Тотор. А кит развернулся на месте и, подняв огромный хвост, обрушил его на врага. — Вот это шлепок! Каково, Меринос! Нарвал от такого не оправится! И действительно, в огромном фонтане брызг, возникшем вслед за «шлепком», показалось недвижное, безжизненное тело оглушенного нарвала. Пока его, как обломок корабля, сносило к берегу, кит нырнул и удалился, снова выбросив столб воды. — Так-так! — продолжал Тотор. — Пожалуй, не было бы счастья, да несчастье помогло. — Какое несчастье? — Да гибель нарвала, конечно! Сейчас волны принесут нам много еды. — Фу, есть это чудовище, да еще сырым! — Я тоже предпочел бы камбалу по-нормандски или семгу под соусом из каперсов[64], но у нас нет выбора, и спасибо небесам за подарок! — Ну ладно. А что будем пока делать? — Я приму аперитив[65]. — Тьфу!.. Ну и гурман[66] же ты! — Не нравится? Тогда устрою себе массаж живота при помощи вон той высокой пальмы! — А зачем? — Чтобы осмотреться с вершины. И, подкрепляя слово делом, Тотор с проворностью белки стал карабкаться на пальму. Забравшись на самый верх, он долго изучал сушу, море, все пространство вокруг себя. Затем мощными ударами ноги принялся выламывать огромные ветки, которые грузно падали, увлекая за собой несколько орехов. Тотор молча спустился и стоял, озабоченно наморщив лоб. — Ну, что ты выяснил? — спросил Меринос. — Увы, должен сказать, ничего не скрывая и без обиняков, наше положение еще более незавидное, чем мы предполагали. — Говори прямо, не бойся! — Мы находимся на рифе не более трех миль шириной. Это выжженная солнцем скала, на которой нет ни травинки! Глыба кораллов. Только у кромки воды растет несколько пальм… А единственные обитатели — крабы! — А пресная вода? — Ни малейших признаков! — Ну а что видно дальше? — Мне кажется, я разглядел еще островки… Но точно такие же! — Тогда мы пропали! — Да, — ответил Тотор, — точно, пропали, если не выберемся как можно скорее из этой чертовой дыры. — Но плыть на наших поясах нет смысла. Выбиваться из сил, чтобы оказаться на другом таком же рифе… — А надо плыть дальше. Намного дальше. — Мы не сможем. Как ни старайся, человеческие силы имеют предел. — Кто знает! — Тотор, ты что-то придумал! — Может быть. — Скажи, прошу тебя. — Ты преподнес мне сюрприз, увезя меня из Сиднея. А теперь моя очередь удивить тебя. Я, правда, не уверен, что получится. Но все-таки попробуем… Видишь ли, дружище, нам потребуется нечто большее, чем воля и храбрость. Придется отчаянно, яростно пытаться сделать невозможное! Мы должны трудиться почти без надежды, питаясь этими идиотскими кокосами, едва смачивая глотку молоком из орехов, и все это на экваторе! Для разнообразия можно съесть сырой кусок акулы, которая скоро превратится в падаль… Вот так! А теперь давай займемся делом. Море отступает, нарвал обсох… Сейчас около десяти часов, до наступления темноты у нас есть еще восемь часов. Начнем же!.. Прежде всего поделим работу. Пока я буду крутиться тут, ты будешь отнимать у крабов орехи, чем больше, тем лучше. Дай мне свой ножик. — Держи. Я пошел. — Подожди-ка. Тотор раскрыл нож — хорошее, прочное лезвие, прекрасно заточенное, вправленное в рукоятку из кости. Он поднял пальмовую ветвь, быстро отсек листья и вырезал двухметровую крепкую увесистую дубину. — На, возьми, чтобы колотить крабов, если они вдруг вздумают показать норов. — Спасибо, я пошел. Тотор тут же принялся сдирать с нарвала шкуру. К счастью, во время отлива туша опустилась на спину меж двух больших коралловых обломков, которые и зажали ее брюхом вверх. Для начала юноша разрезал во всю длину кожу, толстую и жесткую, как у акулы. Эта трудная операция под тропическим солнцем оказалась мучительной. Очень скоро парижанин весь взмок. Он отирал пот, пеленой застилавший глаза, и ожесточенно продолжал работу. — Дьявольщина! Какая жесткая шкура! И чертово солнце кипятит мне котелок… Мозги скоро подгорят! Между нами, я погибаю от жажды. Ничего себе кругосветное путешествие! А я еще жаждал приключений! Ох! Обслужили по первому разряду и весьма щедро! Проклятая работенка! Свежевание все же продвигалось. Шкура, отсеченная ловким поворотом ножа, падала широкими складками. Но солнце было в зените — ужасная иссушающая жара угрожала тут же сделать ее тверже доски. — Вот этого не надо! — воскликнул Тотор. — В таком виде шкура мне не нужна. Она должна быть мягкой. Что же делать? А, придумал! Недаром у парижанина всегда наготове куча идей. Тотор разложил на отрезанной части шкуры несколько охапок пропитанных водой водорослей и вновь принялся за противную работу живодера. Время от времени нож тупился. Тогда Тотор принимался быстро водить лезвием по кораллам, с грехом пополам натачивая его. Возвратился Гарри с четырьмя орехами: по одному в руках и под мышками, ступал осторожно, чтобы не разлить драгоценную влагу. — Держи, Тотор, дружище, пей и ешь! — Глоток сиропа! Вот что больше всего нужно! У меня будто угли в глотке! Меринос сновал челноком, убегал, возвращался, снова убегал и без передышки носил вскрытые орехи. — Ну а что крабы? — поинтересовался Тотор. — Начинают проявлять недовольство и показывают клешни. Думаю, они скоро рассердятся. — Хватит бегать! Уже темнеет. Я кончил свежевать нарвала… Уф! Это было не просто! А сейчас давай-ка потянем изо всех сил и вытащим шкуру на берег — подальше от прилива, который уволочет ее к черту на кулички. Раз, два, взяли! Еще раз! Давай-давай, Меринос! Несмотря на огромный вес шкуры, друзья оттащили ее метров на тридцать и накрыли водорослями, после чего, изможденные, провалились в сон. Лежа ничком на еще теплом известняке, они смогли поспать только до четырех часов утра. Новоявленные островитяне проснулись от странных звуков: то ли потрескивания битого стекла, то ли шуршания щебенки под ногами. Сухой, непонятный стук. И вместе с тем — ощущение чего-то живого, которое копошится, шевелится, окружает. Парижанин угадал, что это было, вскочил и закричал: — Крабы! Черт возьми, почуяли мясо… Идут на добычу. Несомненно, хотят съесть нарвала и его шкуру, а затем приняться за нас… Ну нет, погодите! Вокруг, при свете звезд, кишели несметные полчища крабов. Тысячи безликих существ, как в кошмарном сне, угрожающе обступили их полукругом. Панцири терлись друг о друга с отвратительным скрежетом. Чудища подступали сомкнутыми рядами к людям и шкуре хищника. Тотор не ошибся — крабы сбегались на дележку добычи. Эти добропорядочные вегетарианцы, питающиеся исключительно кокосами, охотно становятся кровожадными хищниками. В рассказах о путешествиях парижанин вычитал, что сухопутные крабы[67] иногда очень опасны. Животные и люди, попадавшие в западню на коралловых островах, нередко становились добычей крабов. Их разрывали на куски и съедали живьем. Пока крабы не отведали плоти, они, как утверждают, достаточно боязливы. Животные и, конечно, человек могут обратить их в бегство. Но стоит им вкусить мяса, даже только почуять его, храбрость их и прожорливость становятся безграничными. С неслыханной свирепостью они набрасываются на все живое и в несметном количестве смертельно опасны. — Эй! Меринос, старина! — прокричал Тотор. — Больше шума! Смелее! Бей куда попало! — All right! Чудища нас атакуют. Будем защищаться! Схватив на ощупь по пальмовому листу, путешественники с яростными воплями стали метаться как черти и дубасить врага изо всех сил. Яростная, суматошная оборона, крики, беспорядочные жесты сдерживали нашествие. Крабы оторопело останавливались, в замешательстве пятились, с треском стукаясь друг о друга. Наступила пауза, и друзья смогли перевести дух. Кроме того, начинало светать, занимался день, — а храбрость членистоногих убывает вместе с темнотой. Крабы — не ночные животные, но тем не менее предпочитают действовать с наступлением сумерек и до зари. Часы знойной жары и ослепляющего света, к которым они мало приспособлены, ракообразные посвящают сиесте[68]. По мере того, как поднималось солнце, они медленно пятились назад. Отступлению сопутствовали такие странные жесты, что в другое время Тотор покатился бы со смеху. — Победа, — закричал Меринос, — победа! Враг отступает! — Да! Но он еще вернется, — проронил Тотор, — и Бог знает, что тогда произойдет. У меня уже сейчас мурашки по коже бегают. Несмотря на всю храбрость, бедняга вздрогнул от ужаса и продолжал приглушенным голосом: — Следующей ночью они соберутся тысячами вокруг нас, и уже ничто их не остановит. Все сожрут: нарвала, его шкуру, которой я дорожу больше, чем своей собственной, а затем и нас. Чтобы остановить нападение, понадобится огненная преграда. Большой костер, яркое пламя! — Эх, дружище, откуда ты его возьмешь? — Вот это меня и бесит! Когда-то, в Австралии, получилось… но тогда у нас была растопка. А здесь, с этими пальмами, пропитанными соком, с корой, влажной как губка, это невозможно. — Но посмотри на кокосовые волокна, они сухи, как… как трут! Так это у вас называется? — Правильно, tinder[69]. Но как ты его подожжешь? — Если постучать камнем о тупую сторону ножика, посыплются искры. — Попробуй! Меринос подобрал обломок и постучал им о кресало[70] изо всех сил. Увы, ни искринки. Известняк стирался, крошился зернистой, жесткой пылью. Американец лишь содрал кожу на пальцах. После десяти минут бесплодных усилий он, расстроенный, признал свое поражение. — Вот видишь, — произнес Тотор, — не получается! Нахмурив брови, наморщив лоб, парижанин наклонился, вглядываясь во что-то, как бы ища нечто неуловимое, могущее породить огонь. — Нет! Ничего нет! А найти нужно, иначе мы погибнем. Гром и молния! Такое солнце — и впустую вся его энергия! Была бы у меня лупа! Или хоть просто кусок двояковыпуклого стекла. Всегда с собой нужно иметь бинокль! — Взгляд Тотора остановился на освежеванной туше морского хищника. Луч солнца ударил в глаз чудовища и сверкнул, отражаясь, будто в полированном кристалле. — Да! Нужна лупа, чтобы собрать лучи, которые жгут пламенем и прожаривают до костей. Тогда бы я в момент управился, черт побери! Он раздумывал, завороженный ослепляющим лучом, потом вскинул руки, подпрыгнул, восклицая: — Это глупо, безумно, тут нет ни на грош здравого смысла, и все же… — Ты что-то придумал? — Да, предел безумия! Тут уже надеяться остается только на чудо! Но попробую!
ГЛАВА 6
О катаракте. — Глазной хрусталик и собирательные линзы. — Тотор-хирург. — Парижанин извлекает огонь из глаза мертвого нарвала. — Свежее вино и поджаренное мясо. — Что можно сделать из кожи китообразного. — Изумление Мериноса. — Опасения.— Скажи-ка, Меринос, ты читал «Путешествие парижанина вокруг света»? Услышав вопрос, по меньшей мере странный в такой момент, озадаченный американец посмотрел на своего друга так, будто сомневался, все ли с ним в порядке. Потом ответил: — Нет, а что? — И напрасно. Во-первых, потому, что это замечательное произведение, переведенное на все языки — английский, немецкий, итальянский, испанский, ирокезский, яванский и патагонский; оно повествует о необыкновенных приключениях моего отца во время прославившего его путешествия. Это, можно сказать, молитвенник образцового путешественника… Vade mecum[71] бедствующего исследователя новых земель. — Смиренно прошу прощения. Продолжай! — Во-вторых, потому, что из этого увлекательного чтения ты узнал бы о существовании Онезима-Филибера Барбантона, легендарного жандарма колониальной армии моей славной страны… — Увы, не имею чести знать этого бравого вояку. — … который был бесстрашным спутником моего вышеупомянутого прославленного отца. Вот так! Гарри Стоун качал головой и глядел на друга, грустно бормоча: — Бедняга Тотор бредит! У него солнечный удар. — Да не пялься же на меня, будто я проглотил Вандомскую колонну![72] Я в полном рассудке. — Я тебя внимательно слушаю! — И очень хорошо! Это крайне важно. Вот увидишь! Обогати ты себя этим душеспасительным чтением, знал бы о подвигах знаменитого Барбантона, восхитился бы его красноречием и заинтересовался, что стало с этим выдающимся представителем нашей армии. — Не просто желаю, но буду счастлив узнать об этом, — ответил Меринос со снисходительностью, которую проявляют к сумасшедшим. — Так вот, этот достойный командир, который далеко не молод, чуть не потерял зрение. С возрастом наваливаются болезни, и у него развилась катаракта. Ты ведь знаешь, что это такое? Весьма неприятная глазная болезнь, помутнение хрусталика[73] — лучи света не проникают в заднюю часть глаза. Так вот, бедный Барбантон ослеп. Но ему не нравилось бродить по улицам за собачкой на поводке, и он решился на операцию. Потрясающий окулист, месье Демар, сделал ее. Я наблюдал вместе с отцом, как месье Демар заменил у Барбантона оба хрусталика. Выздоровление было полным. Наш дорогой командир заплатил за пару двояковыпуклых линз. Свои прежние хрусталики поместил в сосуд со спиртом и хранит как драгоценность. Сейчас он видит как мы с тобой… Что скажешь? У Гарри Стоуна больше не было сомнений. Этот странный рассказ!.. Тотор явно потерял рассудок. Но тот продолжал как ни в чем не бывало: — Весьма любопытно и поучительно, не правда ли? Пока солнце поднимается, я продолжу. Мне нужно, чтобы солнце стояло высоко, как можно выше, в зените. Одним словом, я узнал особенности хрусталика, его форму, твердость, прозрачность. А теперь позволь спросить, знаешь ли ты, что такое чечевицеобразная линза. Да нет, не в супе, а в оптике. Конечно же, я не оскорблю тебя подозрением в незнании. Меринос ответил с печальным смирением: — Yes, прозрачное тело из стекла или хрусталя, ограниченное двумя выпуклыми наложенными друг на друга поверхностями вращения, оси которых совпадают. — Замечательно! Ты просто ходячий учебник оптики!.. Итак, двояковыпуклые линзы называются также собирательными, ибо обладают свойством концентрировать проходящие через них лучи света. А в лучах, сведенных таким образом в пучок на каком-либо предмете, достаточно тепла, чтобы зажечь этот предмет, если он горючий. — Yes! Фокус линзы и фокусное расстояние… Знаю! — Отлично! Ну, хватит о линзе. Солнце скоро будет на нужной высоте. — Ну, и что же мы будем делать? — Собирать кокосовый волос… Самый сухой и самый тонкий… Его нужно много… Начнем! Молодые люди принялись за работу. Не прошло и четверти часа, как они собрали целый ворох. Часть его Тотор свалил около нарвала, выбрал самые длинные волокна, раздергал их и превратил в невесомую, пушистую массу, похожую на нащипанную корпию[74]. — Отлично, — проговорил он, заканчивая, — должно загореться в мгновение ока. — Как это? — спросил Меринос с еще большим замешательством. — Так вот, дорогой мой принц шерсти, знай, что глазной хрусталик представляет собой природную двояковыпуклую линзу, с теми же физическими свойствами, что у стеклянных или кристаллических линз. Понимаешь?[75] — Ну и что? — Чтобы зажечь эту груду волокон, за неимением стеклянной линзы, я обойдусь линзой природной… хрусталиком. — Как это? — Что-то ты сегодня туго соображаешь! Смотри! Парижанин подошел к нарвалу и рассек ножом левое глазное яблоко. Глаз был виден целиком, страшный, размером с два кулака. — Эй, что ты делаешь?! — озадаченно воскликнул американец. — Не видишь? Удаляю нарвалу катаракту и забираю у него хрусталик. — О, Тотор, мой дорогой Тотор! А мне-то показалось, что ты спятил! Да ты просто гений! Парижанин ответил с обезоруживающим хладнокровием: — Похоже, одно недалеко от другого! Ну, займемся операцией! Остекленевший глаз был тверд как камень. Острым, хорошо наточенным ножом юноша ловко сделал надрез. Осторожно расширил рану и кончиком пальца исследовал ее. Нащупав что-то упругое, он прошептал: — К счастью, пациент не дергается и не кричит. И я не боюсь, что он окривеет. Юный препаратор расширил отверстие, дал вытечь жидкости, затем запустил палец поглубже. Нажал — и внезапно нечто прекрасное, сверкающее чистотой, прозрачное, как хрусталь, упало ему в руку. Это что-то было чуть больше стекла карманных часов и около двух сантиметров толщиной в середине. Парижанин извлек хрусталик нарвала. Впрочем, Тотору некогда было рассматривать его. Он не без основания опасался иссушающего действия атмосферы по отношению к поверхности этой органической, такой уязвимой линзы. Над головой, в раскаленном добела небе пылало ужасное солнце экватора. Тотор подставил под солнечные лучи еще влажный хрусталик. В нескольких сантиметрах под ним находился ворох размочаленных, превращенных в пух кокосовых волокон. Прерывисто дыша, морщась, обливаясь потом, Гарри молча наблюдал за необычной операцией, от которой зависело их существование. Совершенно спокойный Тотор направил сконцентрированные хрусталиком лучи на тоненькие волоконца. О, чудо! Под хрусталиком появилось рыжее пятно с разводами всех цветов радуги по краям. Парижанин хладнокровно определил фокусное расстояние, при котором спроецированное лучами пятнышко имело бы наименьшую площадь. Но время торопило. Под неумолимым жаром солнца оболочка хрусталика уже потускнела, затуманилась, скоро она покоробится, потеряет прозрачность. Меринос затаил дыхание. Его товарищ наводил линзу еще две секунды. Готово! Ожидание стало невыносимым. Лупа покоробилась, сморщилась. О, Боже! Сколько находчивости, сколько мужественных усилий — и все впустую? …Появился небольшой дымок и, закручиваясь в спираль, поднялся в красноватом пучке света. Запахло гарью. Среди тончайших волокон возникала черная точка, она увеличивалась, растягивалась, плавилась и потрескивала. Края ярко светились. Вдруг наружу выбился огонек, он выплескивался языками, увеличивался… Хрусталик больше непригоден, но чудо уже свершилось! Меринос, вне себя от радости, больше не сдерживался. Испуская неистовые вопли, он прыгал и скакал, крича: — Ура Тотору! Да здравствует Тотор! Totor for ever! Гарри хохотал и плясал как одержимый, пока парижанин не заметил: — А ведь это ты спятил! — Да, да, спятил от радости и восхищения! Во всем мире не сыскать такого, как ты! — Спасибо! Ты сама любезность. Только не слишком дергайся, на таком солнце это вредно. Нам удалось, и я счастлив! Я верю в будущее, теперь можно подумать и о настоящем. — Ты прав! Хотя и меня можно понять. — Особенно когда ты выражаешься жестами, свойственными краснокожим, танцующим вокруг скальпа, да еще в этом остроконечном колпаке! Только хватит шуток, нужно поддерживать огонь, собирать пальмовый волос, подбирать листья, ветки, подтаскивать упавшие от старости стволы, короче — все, что может гореть. — Правильно, и этого еще мало, чтобы создать между нами и крабами огненную преграду. — К вечеру устроим большой костер, полукругом. А теперь — за работу. — Но я же умираю от голода! — воскликнул Меринос. — Ладно, ладно, за работу, нам есть чем заняться. Тотор подошел к нарвалу и ловко отрезал чуть ниже ребер огромный кусок мяса. — Тут не меньше десяти фунтов… Нацепи-ка это на вертел и сунь в огонь. Американец посмотрел на толстый, плотный, малоаппетитный кусок мяса и проворчал: — Должно быть, как подошва. — Молчок! При наших-то зубах и голодном брюхе! Еще бы щепотку соли кинуть, так только пальчики оближешь! Живей к плите, поваренок! — Но я пить хочу! — Я тоже. И неудивительно, крутиться у такого огня, да еще при сорока градусах!.. Черт побери, да мы идиоты! — Ну уж, клевета! — Нет, повторяю: круглые дураки! Нам даже в голову не пришла самая очевидная вещь. С этими словами Тотор подошел к пальме, глубоко прорезал кору и пояснил: — Похоже, тут много сока. Говорят, он начинает течь, как только проткнешь кору. Это называется пальмовое вино. Неплохо будет получить полштофа, чтобы оросить наше жаркое! Прошло несколько минут. Вскоре жидкость, прозрачная, как ключевая вода, потекла из надреза тонкой струйкой. Тотор всосал ее губами, причмокнул языком и воскликнул: — Потрясающе! Божественный напиток! Прохладный, сладкий, вкусный и в горло проскальзывает, как бархатный. — Да ты прямо дьявол! — Не льсти мне! Давай прикладывайся к крану! Не захлебнись и, главное, не задирай носа, а то шибанет если не в голову, то в нос! И пока его друг жадно пил, неисправимый болтун продолжал: — Хм, кто бы сказал, что мы получим пальму в кормилицы, когда у нас уже усы пробиваются! — Благодаря тебе, мой дорогой, мой славный Тотор, мы стали весьма достойными робинзонами, и я вновь начинаю надеяться. — Что это, аперитив на тебя так подействовал? Ну, тем лучше. А теперь за работу! Утолив жажду, Гарри умело приступил к установке вертела. А парижанин занялся не столь приятным делом. Он возвратился к нарвалу и решительно вспорол ему брюхо. Часть кишок выпустил наружу, быстро отсек несколько метровых кусков, разрезал их в длину на тонкие ремни, натер жиром и принялся мять, размягчать, и пробовать на прочность, затем намотал на камни и наконец сказал: — Будет прекрасная бечева! Есть уже двадцать пять или тридцать метров, sufficit![76] Проделав все это, парижанин проговорил: — Теперь нужно изготовить иглу. Конечно, не стальную, хотя бы деревянную. Он отрезал от пальмового листа кусок стебля длиной сантиметров двадцать пять и с одного конца проделал дырку — ушко будущей иглы. Потом заострил другой конец, тщательно отполировал свой инструмент и заключил: — Ей-богу, похоже на кинжал. Юноша продел конец кишки в эту монументальную иглу и подошел к шкуре нарвала, погребенной под грудой водорослей. Шкура сохранилась свежей и мягкой. Тотор расправил ее и покачивая головой, сморщил лоб, будто обдумывал план работы. Потом принялся обрезать кожу возле головы животного, после чего сшил разрезанную шкуру, при этом размышляя вслух: — Ничего не получится! Будет пропускать воду, как корзина. Ну-ка, а если так? Парижанин поднял спасательный пояс, их единственное имущество, и вынул кусок пробки. Разрезал его на части толщиной в один сантиметр, обложил ими обе половины шкуры и все вместе прошил. Работа продвигалась медленно, но зато шов стал абсолютно непроницаем для воды. Тем временем подоспело жаркое. Меринос принес его прямо на вертеле, пахнущее дымом. Озабоченный Тотор молча поглощал кусок за куском, потом сказал Мериносу: — Нам потребуется штук двадцать больших пальмовых ветвей, самых крепких и самых длинных. — К чему ты клонишь? — Я же сказал — сюрприз! Вскарабкаться на деревья, подобно мартышкам, обломать ветви, спустить их на землю, ровно обрезать, убрать листья, затем согнуть ветви на огне — все это заняло у «робинзонов» остаток дня. До того, как солнце исчезло за горизонтом, они успели только приготовить новое жаркое и разложить костер. Разбитые усталостью, друзья бросились на листву и заснули как убитые. Под утро они проснулись еще до рассвета и увидели, что окружены раскаленными углями, а крабы наступают с неслыханной храбростью. Штук пятьдесят, подталкиваемые, вероятно, сородичами, уже упали в огонь и тут же поджарились. Это обеспокоило Тотора. — О, мерзкие твари! Их миллионы, и если они все сползутся сюда, то погасят огонь и пройдут, тогда нам крышка! Меринос, старина, придется вкалывать, как никогда! А сейчас слопаем поджарившихся, ведь о нарвале уже нечего мечтать, он протух! Каждый подобрал по копченому крабу. Оказалось, что это великолепное блюдо, и друзья с аппетитом позавтракали. Теперь — за работу! Все готово. Стебли, согнутые накануне в полукольцо, Тотор вставил в огромный карман из сшитой шкуры нарвала. Расположил он их перпендикулярно по всей длине шкуры на расстоянии тридцати сантиметров одно от другого. Крепко натянутая на тонкую арматуру мягкая и гибкая шкура превратилась в длинное, вытянутое тело, напоминающее туловище нарвала. Одним словом, получился прочный, легкий, водонепроницаемый корпус. — Я уже давно догадывался, — вскричал Гарри, — это лодка! — Да, вроде эскимосского каяка! Если бы было побольше времени, я бы построил образцовое судно! Но эти сволочи крабы меня напугали. — Тотор, ты неподражаем! — Молчок! Некогда паясничать, за работу! Минуты сейчас стоят часов, а часы — дней! На запах гниющего нарвала сюда сбегутся все чудовища островка.
ГЛАВА 7
Тотор-корабел и Меринос-конопатчик. — Когда не стоит иметь тонкое обоняние. — В сумерках. — Добыча. — Скелет. — После испытаний. — Смотри-ка, мадам Жонас! — В стране грез. — Ужасное пробуждение. — Окружены! — Бегство со всех ног. — В море. — Шторм. — Без пищи. — По воле волн.Часы проходили в нечеловечески трудной работе. Еще не были смонтированы основные части хрупкого сооружения, которому они доверят свои жизни. Тотор разрывался на части, за всем следил и обо всем заботился сам. — Гоп-ля! Меринос, конопатим, смазываем, закрепляем! Вот видишь, уже на что-то похоже! Мы с тобой — инженеры-судостроители, рабочие верфей, изобретатели! И мы сами сооружаем орудие нашего спасения без инструмента, без бюджета, без плана, без жалованья, почти без пищи и из фантастических материалов! — All right!.. Ты великолепен, друг Тотор! — Ты тоже молодец! Друзья весело болтали, как будто им не грозила ужасная опасность: они работали, словно не зная, что смертельный солнечный удар может их испепелить, и скорей были похожи на двух больших детей, играющих в потерпевших кораблекрушение. Американец и француз ели кое-как, страдали от жажды, изнывали от пота, были возбуждены пальмовым вином, лохмотья едва прикрывали их от вертикальных солнечных лучей, но тем не менее оба сохраняли удивительную работоспособность. О, прекрасный возраст, когда сила и энергия неисчерпаемы! Можно двигаться без передышки, поглощать самую немыслимую пищу, крепко спать и смеяться над трагическими обстоятельствами жизни. А если случится оступиться на трудном пути, запросто поднимаешься, не теряя надежды, какой бы химерой[77] она ни была. Вперед же, молодые люди, скорей, скорей за работу, время не ждет! …Теперь нужно было закрепить верхнюю часть шпангоутов[78], чтобы они не смещались по борту. Этим занялся Тотор. С помощью самодельной деревянной иглы он накрепко пришил бечевой с обеих сторон все черешки, толщиной чуть шире большого пальца. Еще предстояло смазать жиром лодку изнутри и снаружи. Эта отвратительная работа досталась Мериносу. От разлагающегося нарвала исходил отвратительный запах, но миллиардер-конопатчик, не обращая внимания, изо всех сил втирал руками протухшее сало в корпус лодки, чтобы сделать его водонепроницаемым. Конечно, Гарри морщил нос, но улыбался, вспоминая свой дорожный несессер[79], серебряную ванну, тонкие духи, опьяняющий запах которых так любил, все прихоти юного щеголя с неистощимым кошельком. — God! Как скверно пахнет этот зверь! — ворчал Меринос, стараясь держать голову подальше от рук. — Еще не самое страшное. Вонь все больше привлекает крабов. Ты видишь, даже днем они тычутся в огонь. Смотри, еще один лопнул! И в самом деле, огненная преграда уже не могла сдержать привлеченных запахом разложения гигантских ракообразных. Во что бы то ни стало нужно предоставить им добычу на приближающуюся ночь. Молодые люди спешно изменили расположение огромного костра. Оставив в стороне нарвала, они окружили себя тройным кольцом огня и запаслись сушняком на ночь. Осталось бросить последний взгляд на лодку, чей удлиненный силуэт вырисовывался на берегу. Все в порядке, бояться нечего. Обессиленные «робинзоны» улеглись, но на этот раз, несмотря на усталость, не могли уснуть от беспокойства. Едва мрак окутал островок, отвратительные крабы, все как один, устремились за добычей. Несмотря на свою доказанную уже храбрость, Тотор и Меринос дрожали от страха, слыша рядом странные, отвратительные звуки. Клацанье клешней, хруст челюстей, стук сталкивающихся панцирей огромного числа невероятно прожорливых мерзких тварей. И никаких других звуков в ночной тишине. В самом деле, было отчего прийти в смятение даже человеку с железными нервами! Время от времени друзья поддавались усталости, их глаза на мгновение закрывались. Но тяжелый, населенный кошмарами сон вскоре прерывался гулом осатаневшей орды. Восход солнца принес облегчение. Но как только рассвело, друзья вскрикнули. Нарвал исчез, изъеденный, разорванный на мелкие кусочки тысячами изголодавшихся ракообразных. От огромной туши остался всего лишь ослепительной белизны скелет, остатки мяса с которого жадно поглощали последние участники пира! Тем не менее на первый раз добыча удовлетворила аппетит членистоногих. Но завтра! Что будет следующей ночью? — Черт возьми, — проговорил Тотор, — тут не до шуток! У нас всего двенадцать светлых часов, а еще столько предстоит сделать! Прежде всего, нужна пара весел, во что бы то ни стало. Для этого сойдут опять же две пальмовые ветви — опять они! С большими усилиями Тотору удалось расщепить концы ветвей. Известно, что они достигают пяти или даже шести метров в длину. Затем юноша вставил в разрез две перекладины, по двадцать и тридцать сантиметров, привязал их последними кусками кишок и на каждую из этих рамок натянул по куску кожи. К счастью, у него осталось достаточно бечевы, чтобы закрепить обтяжку лопастей со всех четырех углов. Это все, на что хватило сил. Все эти приспособления выглядели, конечно, примитивно, но они должны были сослужить свою службу. Теперь осталось спустить лодку в воду и убедиться, что она управляема и выдержит двух человек, не утонет. Суденышко было легкое, и столкнуть его не составило труда. — Браво! Держится на воде, как поплавок. Не хватает скамеек. Ну и ладно, обойдемся и так! Тотор влез в лодку и уселся по-турецки. Меринос передал ему весла и устроился рядом. Отчалили. Гарри, умелый гребец, первый опустил весло в воду. Тотор, как капитан, скомандовал: — Греби, матрос, греби потихоньку! Лодка тронулась с места, парижанин ловко правил веслом. — Прямо сама плывет! Смелей, матрос! Вот они уже посреди бухты. Раздались радостные крики восхищенных друзей. Спасены! Однако кит, о котором юноши уже забыли, не покинул бухту. Два фонтанчика, поднявшиеся из воды и рассыпавшиеся брызгами неподалеку, указали на его присутствие. — Смотри-ка, Иона[80] резвится. — Почему Иона? — Да так, шучу. Это я в память о пророке, которого когда-то кит проглотил, а на третий день изрыгнул. — Ты все смеешься! — Плакать, что ли? Боишься, что он и нас проглотит? — Нет, но если он примет лодку за нарвала и повторит свой slap…[81] — Черт возьми! Раздавит нас, как лягушат! Вот он приближается! Тсс… Иона, без глупостей! Гигантское млекопитающее плыло в большом водовороте, отдуваясь и наполовину высовываясь из воды. Лодочники заметили теперь и китенка, забившегося под плавник. — Да это мать семейства, мадам Жонас![82] С нею малыш, и она прогуливает его по бухте. — Yes! Бухта — это whale-square![83] Кит не был настроен враждебно. Удовлетворив свое любопытство, он снова стал отдуваться, резвясь, подпрыгивая на волнах. — Какой он игривый и, кажется, не желает нам зла! — заявил Тотор. — Какой великолепный буксир получился бы, если бы он захотел! — Нарвал на буксире у кита! Вот было бы здорово! — Стоп! «Нарвал» — подходящее имя для судна. Ты будешь крестным отцом! — Прекрасно, да здравствует «Нарвал»! — Ну вот, теперь, когда мы испытали наш корабль и дали ему имя, пора вернуться на землю. — Да, все прекрасно, лучше и быть не могло! — Хм! Весла яйца выеденного не стоят, а судно неустойчиво, и еще я боюсь, что в открытом море его будет захлестывать вода. — Возможно! Но что же делать? — Вот увидишь. Путешественники без труда пристали к берегу и вытащили «Нарвал» на сушу. Веревок из кишок больше не осталось; парижанин сплел кокосовые волокна и умело подтянул ими края бортов, оставив ровно столько места, чтобы обоим поместиться в лодке. Для прочности он пристроил вокруг каждого места спасательные пояса. — Вот так! Меньше будет качки. Работу двух друзей легко описать в нескольких строках, на самом деле это трудное дело заняло почти весь день. Они едва выкроили время, чтобы поесть. Кстати, пора было подумать о съестных припасах. Но где их взять? Может быть, выручат кокосовые орехи? А как их открыть? Захватить воды? Во что налить? Тотор соображал. — Ладно, погрузим все те же орехи, они послужат балластом, а потом как-нибудь проткнем скорлупу. Главное, у нас есть нож. Добавим и крабов, попавших в огонь. Ракообразные в собственном соку и собственном изготовлении. Забавная кулинария! Но им не везло. Нашелся только один свежий орех в волосяной оболочке. Меринос положил его в лодку, находившуюся на песке у самой кромки, и сказал: — Завтра продолжим погрузку. — Правильно, завтра. Сейчас успеем только собрать дрова: их потребуется много для адского огня. А потом перекусим. Последние минуты дня были посвящены этим заботам. С бешеным аппетитом друзья уплели жареного краба, выпили пальмового вина и улеглись в нескольких шагах от костра. В предыдущую ночь им едва удалось сомкнуть глаза, а тут еще и усталость валила с ног, они сразу же крепко заснули под защитой пляшущих огненных языков. Сколько времени продлился этот здоровый, несмотря на жесткое ложе, восстанавливающий силы сон, трудно сказать. Тотору приснилось быстроходное судно, которое он строит и которым командует; приснился кит, стремящийся проглотить корабль и капитана; нарвал, протыкающий корабль своим гигантским мечом; колоссальный краб клешнями, как ножницами, хотел разрезать Тотора пополам, и у этого чудовищного краба — человеческое лицо, бритое, корректное, загадочное лицо мистера Дика, странного и таинственного похитителя «Моргана». Но тут парижанин вскрикнул от острой боли. Он проснулся и вскочил на ноги. Меринос уже вопил как одержимый, прыгал, отбивался. Что случилось? Что происходит? Какая ужасная драма разыгрывается во внезапно опустившейся тьме? Страшная действительность предстала перед беднягами. Пламени уже не было, виднелись лишь умирающие огоньки, хотя топлива — дров, ветвей, волосяных оболочек, кокосовой скорлупы было хоть отбавляй. Вся земля вокруг кишела крабами. Членистоногие сбежались отовсюду тысячами, как вчера на тушу нарвала. Они уже отведали мяса, и теперь ничто не могло их остановить. Последние неумолимо толкали вперед первых, уже преодолевших барьер огня. Сотни погибли, задохнувшись или сгорев, и тела их в конце концов погасили пламя. Живые, презрев страх и опасность, взбирались по сгоревшим. Они просто кишмя кишели, их становилось все больше и больше. Тотор, с искусанными ногами, прыгал, кричал, метался. Меринос, прокушенные руки которого уже кровоточили, вопил и расшвыривал ногами поганых тварей. — Крабы! О, Боже! Крабы! Перед взорами подростков предстал совершенно белый скелет нарвала, препарированный ужасными челюстями, которого крабы сожрали в одну ночь. Куда бежать? Что делать? Они окружены, их растерзают в клочья! Остается одна надежда: лодка. Но успеют ли добежать? — В лодку, быстро в лодку! — завопил Тотор. Он бросился через шевелящееся кольцо, оступился, упал, поднялся, за ним — Гарри, который прыгал, тоже оступался, спотыкался о панцири. Как удалось преодолеть десять метров, которые отделяли их от «Нарвала», одному Богу известно. Искусанные, в изодранных штанах, с исполосованной кожей, беглецы добрались до лодки. Не сговариваясь, поволокли ее к берегу и отчаянным усилием столкнули в воду. «Робинзоны» спасены! Сухопутные крабы еще могут преодолеть огонь, но никогда не приближаются к воде, испытывая к ней непреодолимое отвращение. Меринос и Тотор забрались в «Нарвал», нашли весла, устроились по-турецки на дне и испустили вздох облегчения. — Уф! Знаешь, Тотор, я не трус, но меня просто мороз по коже продрал! — А мне ее крабы уже продрали! Проклятье! Шкуру содрали прямо до ляжек. — И мне! Кровь идет… — Хорошо еще, что морская вода прижжет. Но все равно, мы удачно выкрутились! — Увы, нет провианта! — Есть — один кокосовый орех! Мы поболтаемся на рейде до рассвета, а там высадимся и поищем еду. — Если у крабов будет не такое каннибальское настроение. — Смотри-ка! На это мы не рассчитывали! — Да, поднимается ветер… — И небо заволакивает. Только бы шквал не налетел! Действительно, подул свежий ветер. Волны становились все выше. «Нарвал» плясал, переваливаясь с борта на борт, но в общем вел себя замечательно. Понемногу ветер в бухте стих. Чего не могли предусмотреть два друга, так это очень сильного отлива. А он неотвратимо понес их в открытое море. Внезапный вихрь подхватил лодку как перышко и под раскаты грома унес прямо через отмель, наполовину прикрывавшую вход в бухту. И вот суденышко посреди бурунов, в облаках пены. Оно выделывает пируэты в протоках между камнями, и мало-помалу рев прибоя остается позади. Путешественники в открытом море! Их качает, мотает, они промокли, не в состоянии управлять лодкой, стали игрушкой волн, но плывут. Плывут с неслыханной скоростью через неизвестность мрака и океана! Иногда молодые люди слышали справа или слева, спереди или сзади неумолчный шум прибоя. Они различали движущиеся силуэты волн, разбивающихся о скалы. Лодка то и дело стрелой проносилась мимо рифов. Так продолжалось всю ночь. Всю ночь ревела буря и раздавались чудовищные раскаты грома.
Наконец последний порыв ветра разорвал тучи. Светало. «Нарвал» с приличной скоростью шел по течению на север. Молодые люди определили направление по солнцу, которое вставало справа по борту. Мало-помалу море успокоилось. Вдали смутно виднелись очертания голубоватых берегов. Эта относительная близость твердой земли принесла надежду. — Ну, как тебе приключение? — спросил Тотор. — Совершенно выдающееся событие! Very prominent![84] — По-нашенски — сногсшибательное! Однако согласись, дело могло кончиться скверно. — О да! Я до сих пор дрожу! — Точка! Не будем больше об этом. Когда идешь навстречу приключениям, не надо ни теряться, ни шапки вверх кидать… тем более кидать придется наши остроконечные колпаки. — Если б у нас была еда! Хотя бы немного воды! Я задыхаюсь от жажды! — У меня будто соль на языке. — Что, если пристать к берегу? — Это не просто! Смотри, какое сильное течение. Бьюсь об заклад, что скорость больше шести миль[85] в час. — Все же попробуем! — Давай! Юноши согнулись в дугу над веслами в попытке направить нос к далекому берегу. Невозможно! Слепая сила непреклонно возвращала их в течение. — Черт возьми! — проворчал раздосадованный Тотор. — Все впустую, нас будто нечистая сила несет. Внезапно какой-то водоворот вспенил воду слева, метрах в шестидесяти. — What is this?[86] — удивился Меринос. — Подводный камень? Косяк сардин? Водоросли? — Нет, кит! — Вот это да! В самом деле, мадам Жонас со своим малышом! Да она нас полюбила и не хочет покидать! И похоже, она в прекрасном настроении. Хотелось бы и мне поплавать так вольно. А тебе, Меринос? — Я бы сто тысяч долларов отдал за это!
ГЛАВА 8
Китиха завтракает и развлекается. — Танталовы муки. — Пелагии. — Морская манна. — Добыча чудовищ. — Планктон. — Что Тотор называет «пюре с гренками». — В водорослях. — Буксир. — Бешеная гонка. — Берег близко. — Китиха выброшена на отмель.Как выразился Тотор, китиха со своим отпрыском пребывала в отличном настроении и не скучала. Казалось, она очень довольна и радуется жизни. Мягко увлекаемая течением, китиха лениво переваливалась в волнах, делая лишь необходимые движения, чтобы сохранить направление. Малыш разделял настроение матери и резвился со свойственной его возрасту живостью: отплывал, выпрыгивал из воды, кружил вокруг матери, потом снова забивался в свое любимое место — под ее плавник. Нашалившись всласть, будто шла игра в прятки, оба выбрасывали большие фонтаны, рассыпавшиеся мелкими брызгами. — Ну и ну! — удивился Тотор. — Они вовсю веселятся, эти киты! Время от времени мать открывала пасть, огромную, как пещера или пропасть. — Да, — кивнул Меринос, — она веселится, а заодно плотно завтракает. Хотел бы и я последовать ее примеру! — Вот это глотка! И какой аппетит! Должно быть, желудок у нее не маленький! — Что же она ест? — Не знаю, нужно посмотреть. Тотор склонился над водой, посмотрел против света и вскрикнул от удивления. Все вокруг и в глубине моря было буквально забито плавающими телами. Миллионы этих тел, стиснутые так, что касались друг друга, образовали жидкое месиво. Были они чуть больше апельсина, желтоватые, с едва заметными оттенками розового и лилового. Из-под сферического купола видны были грациозно изогнутые в виде грибных шляпок завитки маленьких щупальцев, которые проворно вытягивались и убирались. Но щупальца эти были едва видны из-под купола, и само животное сверху казалось полупрозрачным студенистым шаром. — Ей-богу, — воскликнул Тотор, — не будь они такие легкие, я бы сказал, что это морская картошка! — Да нет, они шевелятся, это животные! — Их-то она и глотает! Черт возьми, какое жерло, настоящий туннель! — Хотелось бы узнать, что это за странные существа и нельзя ли их есть. — Не знаю, не стоит рисковать. Тотор серьезно занимался механикой, но не слишком был силен в зоологии. Впрочем, не стоит корить его за незнание. Эти плавучие тела — простые пелагии[87], примитивные организмы, которые в определенное время года размножаются в неслыханном количестве. А об их свойствах Мериносу вскоре довелось узнать. Американец хотел есть и упорно держался мысли, что эти странные животные съедобны. Ведь он пробовал морских ежей, моллюсков, — все разнообразие frutti di mare[88], представляющих собой изысканное лакомство. Тогда почему бы этим плавучим апельсинам не стать если не слишком плотным блюдом, то хотя бы достаточным, чтобы обмануть голод? Почему то, что хорошо для кита, не сойдет и для человека? Гарри опустил руку в воду и схватил одну пелагию. Животное тотчас съежилось, втянуло щупальца и свернулось шаром. Оно оказалось холодным, липким, дряблым, студенистым, словом, очень противным. Вдруг Меринос вскрикнул: ему обожгло пальцы. Кожа мгновенно покрылась красной сыпью, волдырями. Отбросив пелагию, он тряс рукой и кричал: — God bless me![89] У меня все пальцы онемели. Жжет, будто за крапиву схватился! — Ладно, придется положить зубы на полку. Так я и думал. Обойдемся без завтрака, подождем другого случая. — Увы, ничего не попишешь. Между тем Тотору показалось, что мало-помалу скорость «Нарвала» замедляется. Сомнений не было, течение становилось менее быстрым. Вода приобрела блеклый, зеленоватый цвет и стала похожа на жидкую, маслянистую кашу; надо полагать, что и плотность ее изменилась. Пелагий по-прежнему было очень много, но они как бы растворились в этом месиве. — Вот это да! — удивился Тотор. — Море превратилось в настоящее пюре с гренками. Кит по-прежнему глотал с поразительным прожорством. Его гигантские челюсти ритмично, без остановки, двигались, поглощая целые колонии медуз, которые исчезали в его пасти, как в бездне. Но кит оказался не единственным гостем на этом роскошном пиру. Подводный мир возникал из пучин. Со всех сторон к добыче поспешали чудища всех форм и размеров, безобидные и хищные, плотоядные и травоядные, одинокие и семейные, медленные и быстрые, кольчатые и щупальцевые, длинные, плоские, заостренные, короткие, круглые, изящные, несуразные, отливающие, как драгоценные камни, разными цветами, и темные, как скалы, — все это перемешивалось, перепутывалось, давилось, сталкивалось, забывая врожденные страхи и свирепые вожделения перед этой манной небесной, перед небывалым пиршеством, устроенным отцом Океаном своим обитателям. За бортом виднелись лишь дрожащие плавники, трепещущие хвосты, конвульсивные подскоки и разомкнутые челюсти… Головокружительная гимнастика, безумное обжорство; жадное, зверское беспощадное поглощение — непрестанное и неутолимое. Несмотря на свое отчаянное положение, молодые люди с изумлением и любопытством наблюдали это зрелище. К тому же они ничем не рисковали. Чудища таинственного моря, поглощенные грандиозным обедом, соблюдали лучшее и самое надежное из перемирий — на время приема пищи. Тотор смотрел во все глаза; его друг, по натуре не столь восторженный, тоже был восхищен. Глубины моря буквально выворачивались наизнанку. Свесившись над пучиной, парижанин закричал: — Старина, мне сейчас голову до плеч отхватят! Нет, в самом деле, такого на Монмартре и вообразить не могли! Знаешь, я бы никому не уступил своего места! Ради одного этого стоило прыгать в воду, сражаться с крабами, подвергаться опасностям и всему прочему! Сам отец, который столько повидал, не слыхивал о таком! Вот это пирушка! Пятьсот миллионов глоток пожирают шарики… гренки из пюре. — Пюре! Сидим мы с тобой по уши в этом… пюре! — Ого, и чистокровный американец пускается в игру словами! — Стараюсь, как могу. — Значит, у тебя отличное настроение, поздравляю! — Ах, если бы игра слов могла заменить завтрак! — Терпение! Раз мы по-прежнему движемся, значит, доплывем до мест, где есть еда и питье. А пока я хотел бы узнать, почему и как все обитатели моря сбегаются на этот пир Валтасара[90]. Это неведение огорчительно со всех точек зрения. К сожалению, обстоятельства против Тотора. На «Нарвале» отсутствует библиотека и нет необходимых источников, а между тем достаточно нескольких строчек, чтобы просветить читателя. Субстанция, которая слегка сгущает морские воды на большом пространстве, то есть вещество, прозаически называемое Тотором пюре, — это планктон, нечто вроде светлого бульона, скопление органических частиц, микроскопических водорослей, самые большие из которых, гиганты этого вида, едва достигают половины миллиметра в длину. Планктон состоит из бесчисленных видов простейших животных и растений, образующих однородную массу. Микроскопические существа, чрезвычайно быстро размножающиеся, буквально переполняют некоторые части океана. Их масса не смешивается с водой, не растворяется, сохраняет собственные свойства, подхватывается ветрами и течениями и перемещается на разных глубинах, иногда на поверхности. Этот богатый питательными веществами бульон, это желе из организмов — неисчерпаемый источник пищи для обитателей моря. Все морские животные, от кита до простейших, жадно поедают его. Можно сказать, что это их эликсир жизни[91], в котором рождаются, пассивно живут и умирают миллиарды странных созданий. Их можно найти и в полярных морях, и в экваториальных водах, повсюду, где планктон появляется и исчезает по воле течений и штормов. В один из таких потоков и попали по воле случая Тотор с Мериносом. Планктон увлекал с собой несметные колонии пелагий, для которых он родная стихия и пища. А пелагии придают остроту похлебке, весьма ценимой всеми морскими чудищами. Инстинкт помог пелагиям быстро обнаружить присутствие столь питательной массы. Потому и собрались они со всех сторон и жадно кормились, на зависть обоим друзьям.
Ожидание длилось долгие часы. Знойное солнце отвесно пускало свои огненные стрелы. Ослепительный свет отражался в мелкой зыби, на которой плясал «Нарвал». Жара становилась удушающей. Обливаясь потом, сгорбившись и опустив головы, бедные путешественники буквально запекались в вонючей шкуре, превращенной выдумкой Тотора в корабль. Не стоит и говорить, как жестоко они голодали и как чудовищно хотели пить! Усталые, изможденные, друзья уже не могли двигаться, и лишь гордость не давала вырваться стонам из груди. В голубоватой дали время от времени возникали берега, но прихотливые волны не давали к ним пристать. Раз двадцать гребцы пытались выйти из течения, раз двадцать принимались бешено работать веслами, чтобы выбраться в спокойное море, и каждый раз поток неумолимо отбрасывал их. Исчерпав силы, мореплаватели снова отдались дрейфу, рассчитывая теперь только на случай. К вечеру море понемногу изменялось. Время от времени поверх планктона появлялись плавающие водоросли. Поднимался свежий ветер. Он вертел лодку, нес ее боком, ускорял ход. Подталкиваемый таким образом «Нарвал» догонял водоросли и вскоре застревал в их перепутанных стеблях. Обессиленные Тотор и Гарри не обращали на это никакого внимания. А между тем им стоило быть повнимательней. Среди водорослей есть странное растение огромной длины. В некоторых местах оно полностью покрывает океан. Например, в Саргассовом море[92], где остановились когда-то корабли Христофора Колумба во время славного плавания к неведомым берегам Америки. Это морское растение цвета желтой охры называется Fucus natans[93]. Оно часто достигает длины в три, четыре и пять метров. Несмотря на такие размеры, диаметр его мал — не толще палки. Оно круглое, гладкое, кое-где есть утолщения, откуда отходят тонкие веточки, усеянные маленькими черными ягодами. У этого рода растений много видов, сходных внешним обликом и очень разных по свойствам. Одни из них хрупкие и ломкие, другие прочные, как канаты. Внезапно кит, который не отставал от лодки, оказался посреди этих гигантских трав, расстелившихся по поверхности. Вынужденный всплыть, чтобы перевести дыхание, он запутался в них, стал ворочаться, барахтаться, шумно дышать. Эти звуки, водовороты и хорошо знакомый фонтан пробудили от дремы совершенно разбитого Тотора. — Смотри-ка, опять мадам Жонас! И тут юноше показалось, что некоторые фукусы, задевающие «Нарвал», быстро обгоняют его. Они скользили вдоль корпуса и убегали, убегали вперед по непонятной причине. Инстинктивно, еще не зная, зачем, парижанин схватил пару водорослей обеими руками. Лодка тотчас развернулась против течения и пошла с предельной скоростью, будто ее кто-то взял на буксир. — А ну, Меринос, ну-ка, старина! Ухватись со мной за эти веревочки! — завопил Тотор, изо всех сил вцепившись в стебель. — А? Что такое? — Кто-то на том конце тянет, и сильно! Мы идем под сорок миль в час. Выше нос! Совершенно сбитый с толку американец в свою очередь схватил фукусы и сжал что было силы. Путешественники почувствовали резкие рывки, отчаянные прыжки, но мужественно терпели. А «Нарвал» как сумасшедший мчался по волнам. Иногда бешеная гонка ненадолго замедлялась, но тотчас возобновлялась со всеми вольтами, резкими остановками и скачками. Гарри не мог уразуметь, в чем дело. — Честное слово, ничего не понимаю, — пробормотал он, — кажется, я с ума схожу. — Это все штучки нашей подружки. — Что? Whale? Миссис Жонас? — Наверное, да! — Она попалась на удочку? — Не знаю. Странное дело. Если она заглотнула конец веревки, ей бы ничего не стоило выплюнуть его. Наверное, не обошлось без крючка. — Загадка. Но она так тянет, эта добрая миссис Жонас! Боюсь, выпустим удочку из рук. — Ни в коем случае! Я что-нибудь придумаю! О, у бравого Тотора всегда что-то припасено! Его выдумка проста и хитроумна. В мгновение ока парижанин упер оба весла в сделанные для них отверстия, затем несколько раз обернул вокруг весел водоросли и сильно прижал их. Трение не давало им смещаться, и тяга стала автоматической. — Готово! И руки у нас свободны! — All right! Лодка быстро шла вперед. Время от времени кит в сотне метров от них шумно отдувался, затем снова нырял. Но присутствие малыша сдерживало мать: легкие детеныша больше нуждаются в воздухе, и она не решалась погрузиться в пучину. Приходилось держаться почти на поверхности воды. Наконец китиха покинула поток планктона, выплыла за пределы течения и направилась к далеким берегам, едва видневшимся на северо-востоке. Ничто не могло ее удержать — ярость, а еще более испуг гнал животное вперед. При всей несравнимости размеров гигант морей был похож на собачонку, к хвосту которой жестокие мальчишки привязали кастрюлю: она бросается бежать, обезумев, несется без оглядки напрямик, ничего не соображая, пока, выдохшись, не упадет. Точно так же перепуганная мадам Жонас неудержимо стремилась вперед и тянула за собой дьявольский снаряд, от которого не могла избавиться. Тотор и Меринос отчетливо видели ее в чистых уже волнах. В десятый раз они задавались вопросом: «Каким же образом, черт возьми, мы за нее зацепились?» Через несколько часов жестоких страданий все стало ясно. Кит заметно уставал, тяжело дышал, а скорость замедлялась. Он все ближе подходил к берегу, куда его подталкивал начинающийся прилив. Берег вырисовывался ясней, вскоре показались привычные кокосовые пальмы, песчаный берег, над которым возвышались скалы. Вот и тихая бухта. Тотор, заметив красный след на боку кита, воскликнул с жалостью: — Бедная зверюга, она истекает кровью! Большой вал подхватил кита, перевернул и потащил в бухту. Волна отступила, и кит оказался на рифах, которые зажали его. — Ура, мы спасены! — закричал американец.
ГЛАВА 9
Загадка разъясняется. — Тотор и Меринос упиваются молоком. — Тотор-хирург. — Песчаные блохи. — Невзгоды. — Через лес. — Пальмовые черви. — Неожиданное лакомство. — Дни нужды. — Неизвестность. — Спасательная операция. — Чудовище. — Золотые часы. — Бриллиантовая монограмма.Осознав, что спасены, два друга вновь обрели бодрость. Солнце клонилось к закату, но оставался еще час светлого времени. Целый час! Это даже больше, чем требуется двум таким молодцам, чтобы выкрутиться. Земля близко, совсем близко, в нескольких сотнях метров. Они отшвырнули ставший ненужным буксирный «трос» и взялись за весла. Но прежде, чем отплыть, парижанин осмотрел кита. Как мы помним, его наполовину выбросило на берег, перевернуло, и он застрял в острых рифах. Сейчас была видна левая часть живота. Первое, что заметил Тотор, было нечто белое, жесткое, вроде рогатины, косо торчавшее из бока кита. — Бедняга! — пожалел молодой человек. — Он нас спас. Не будем же неблагодарны, подплывем поближе и посмотрим, нельзя ли помочь. — Yes! Подплывем, только осторожно… Стоит ему ударить хвостом… Они подгребли к киту. Исполин смотрел на них своим маленьким, чуть больше, чем у быка, глазом, но не шевелился. — Это же бивень покойного нарвала. От него и кровотечение, — установил Тотор. — Видишь, обломок высовывается наружу на метр под углом сорок пять градусов. А в теле еще по меньшей мере два метра. Великолепный удар! Теперь я понял! Все объясняется! — Что? — Плавающие водоросли-канаты зацепились за этот «гарпун», когда мы проходили отмель. — Похоже, что так. — Когда их сопротивление стало беспокоить кита, он помчался как безумный, таща за собой связку водорослей. Парочку из них я подхватил на ходу, и мадам Жонас, у которой защекотало еще больше, стала удирать. Вот она — разгадка буксира! Стебли так крепко обмотались вокруг бивня, что невозможно было отодрать. Я уже не удивляюсь, что бедная пришпоренная зверюга так мчалась, и в конце концов рана стала кровоточить. — Верно. — Надо попробовать выдернуть обломок. Хоть это мы должны сделать для нашей спасительницы. — Согласен заняться хирургией, но только чуть позже. — Почему? — Ты еще спрашиваешь, изверг! Я умираю от голода и жажды! Прежде всего хочу молока, упиться потоками молока, а потом хоть лопнуть! — Ты свихнулся? — А ты ослеп? Молоко! Оно бьет из сосцов миссис Жонас! — Тысяча чертей! Ты прав, а я — простофиля! Куда только смотрел! Меринос не ошибся: придавленные к скале сосцы источали ручьи молока, которое, смешиваясь с морской водой, окрашивало ее в опаловый цвет. Тотор подвел лодку к скале и причалил. Затем ухватился обеими руками за молочную железу размером побольше бочки. Меринос не медля сделал то же самое, и оба принялись пить с неистовой жадностью, большими глотками. Они укрылись за выступом мадрепоровых кораллов, и мадам Жонас больше не видела их. Оглушенное животное оставалось спокойным во время великолепного и комичного обеда спасенных мореплавателей, которые пили и не могли оторваться. Боже, какое упоение! Какое блаженство! О, это замечательное молоко, густое, сладкое, теплое, пенящееся, столь же питательное и вкусное, как у коров в долине Ож.
Невольные робинзоны были ненасытны. Но их можно понять, если вспомнить о постигших их лишениях и страданиях. С тех пор как друзья покинули «Морган», юношам не приходилось пить ничего, кроме кокосового молока, которое им осточертело, и пальмового вина, горячившего их кровь. Почти четверть часа Тотор и Меринос с жадностью упивались молоком. Наконец Тотор остановился и проговорил, размазывая по лицу живительную влагу: — Уф! Больше не могу. Надулся до безобразия, как теленок. — А я как young whale[94]. — Да, как китенок, это точней. Прекрасный обед! Ах, мадам Жонас, дорогая благодетельница, как вы милосердны! А ты, дорогой мой отец, герой легенд! Если бы ты мог взглянуть на своего малыша! А вы, король шерсти! Почему не дано вам лицезреть вашего наследника в шутовском колпаке, сосущего кормилицу-китиху! Меринос, который вновь обрел хорошее настроение, расхохотался и продолжал: — Это уж верх несуразицы! Как жаль, что нечем сфотографировать! Какую открытку можно было бы послать! А то на слово никто не поверит. — Черт возьми, наше слово твердо! И если кокосовая пальма служила нам соской, почему бы не взять в кормилицы китиху? Не поверят — тем хуже для них! А теперь будем оперировать мадам Жонас. Парижанин крепко ухватил обеими руками длинное костяное острие и потянул изо всех сил, а Гарри, упершись в скалу, удерживал лодку. — Черт возьми, глубоко сидит. Китиха шумно дышала и вздрагивала. — Ну-ну, не шевелитесь, мамаша Жонас, это для вашего же блага! Тотор снова дергал, качая острие из стороны в сторону. Бивень шатался в ножнах из живой плоти. Обильно текла кровь, забрызгивая хирурга, который тужился, стонал и кряхтел. — Пошло, пошло! Держись, старушка! И главное, чур, без оплеух! Тяжелый бивень стал понемногу подаваться и наконец неожиданно выскочил из раны. Китиха содрогнулась всем телом. Плюх! Бивень упал в воду, увлекая за собой парижанина, который барахтался и кричал: — Не было бобо! Прошло как по маслу! Прекрасная ванна! Заодно можно поплескаться в приливе. Отведи лодку к берегу, а я за тобой вплавь. Через пять минут друзья выбрались наберег. Ничуть не расслабленный послеобеденным купанием, Тотор встряхивался как собачонка, вытягивая «Нарвала» на сушу. — Солнце садится, пора в постельку. — Жестковата эта bed[95], но мы слишком устали. На берегу — тонкий песок, усеянный кусками белых, как снег, кораллов. Молодые люди раскидали ногами мадрепоры, расчистили себе маленькие площадки, улеглись и тут же заснули. Утром они позавтракали молоком: мадам Жонас все еще лежала на берегу. Путешественники получили обильную и питательную еду. Насытившись, они наполнили свое судно песком и кораллами, чтобы не дать ему пересохнуть. Этот тяжелый труд из-за отсутствия инструментов занял почти весь день. Вечером друзья рассчитывали вплавь добраться до китихи и попросить у нее ужин, но она уже снялась с мели и резвилась посреди бухты, высоко выбрасывая фонтан и медленно выбираясь в открытое море. — Не повезло! — пожалел Тотор. — А я-то надеялся приручить мадам Жонас и устроить здесь образцовый молочный завод! Мы бы делали китовые сыры типа грюйера, камамбера, честера[96] и двойного сливочного. Увы, несбыточные мечты. — Придется лечь без ужина. — Аминь! Путешественники снова улеглись на песке, но бесчисленные жгущие, колющие укусы мешали им сомкнуть глаза. Накануне вечером Тотор и Гарри настолько устали, что ничего не почувствовали, но сегодня! Легионы песчаных блох накинулись на них, кусали, свербили — поистине адская мука. Устав ворочаться, друзья поднялись, отступили во мрак на несколько сот метров, и повалились на слой ила. Восход солнца принес избавление. В одном лье от бухты начинался лес. Пустые желудки погнали подростков к огромной зеленой стене, закрывавшей окрашенный пурпуром горизонт. Несмотря на весь свой оптимизм, парижанин начал роптать: — Все-таки надоедает постоянно бороться за похлебку. Хочется минуту побыть жалкими путешественниками-любителями, людьми на прогулке, которые могут и порадоваться жизни! В Австралии были еще цветочки! — О да, дружище, то были цветочки! Мы — робинзоны волн, робинзоны песков, робинзоны лесов, бродячие робинзоны… да, наша жизнь сурова. Ох, попадись мне этот мерзавец Дик! — Думаю, он от нас не уйдет. Вот тогда ему придется дорого заплатить за наши беды и невзгоды! А пока суд да дело, нужно что-то придумать. Придумать-то нужно, но им не везло. Вскоре путешественники были уже в лесу — великолепном, но совершенно бесплодном. В зарослях мускатных деревьев[97] находят себе пищу голуби самой разнообразной расцветки, взлетающие стаями с шумом громового раската. Среди них — голубые с пурпурной шапочкой, зеленые с сапфировым хохолком, фиолетовые с блестками золота. Чудесная россыпь драгоценных камней, под которой живая плоть, сочная и душистая. — Я бы их прямо сырыми съел! — сглотнул слюну Тотор. — Эх, где ты, мое ружье! Тут и там возвышались огромные тиковые деревья, эвкалипты[98], голубые камедные деревья[99], магнолии[100], усыпанные нежными фиолетовыми цветами, утыканные шипами акации, гигантские папоротники, саговники[101], хвощи[102], казуарины…[103] — Ничего стоящего нет, пошли дальше! По земле стелились мхи, нога погружалась в них чуть не до колена, росли огромные, как зонтики, грибы, поляны заполняли плауны-ликоподиумы[104] с мелкими листочками, потом появились заросли неизвестных растений, в которых изредка проскальзывала игуана[105], змея или просто пальмовая крыса. Истекая потом, измученные невыносимой жарой, с урчащими от голода животами молодые люди уже начали отчаиваться. Но зоркий, внимательный глаз парижанина заметил каких-то толстых белых червей, скорее гусениц, карабкающихся по ветвям невысокой, не более пяти метров, широкоствольной пальмы. Личинки красивого белого цвета с перламутровым оттенком, длиной сантиметров тридцать пять и толщиной в ружейный ствол обгладывали пористую кору и устраивали себе просторные гнезда. — Повезло! — Тотор подскочил от радости. — Наконец есть чем перекусить… Думаю, не слишком рано для завтрака? — Питаться червями, гусеницами? Мерзость! Тьфу! — «С удовольствием» или «тьфу» — это уж как тебе нравится, дружище. Но вкусно! Это пальмовые черви, их пища — все то же вино, что мы пили, живут они в коре, как крысы в норах. — Ты уверен? — Отец их ел. Когда рассказывал, у него слюнки текли. Начали! Раз-два! Он схватил личинку, напоминающую ломоть колбасы, не колеблясь, отхватил зубами изрядный кусок и тут же радостно проглотил его. — Ну как? — спросил Меринос, кривя рот. — Потрясающе! Сладко, изысканно, прекрасно пахнет. Можно подумать — макароны с сахаром, ванилью и взбитым белком. Давай, не бойся, делай как я! — Придется, потому что я умираю от голода. И без малейшего энтузиазма американец принялся за червяка, который корчился, складываясь вдвое, извивался. — Да не глотай ты его целиком! А то бунт поднимет у тебя в желудке! А сейчас, черт возьми, не время принимать рвотное! Лицо Мериноса понемногу светлело. Он жевал с растущим удовольствием и вскоре воскликнул с набитым ртом: — Ты прав, Тотор! Это изысканное блюдо! — Правда? Мне кажется, я сто порций съем! Забавно, что жизнь дикаря преподносит такие сюрпризы. Мы в конце концов еще не вышли из детского возраста и, ей-богу, от сладостей не откажемся! Наевшись досыта, друзья нашли родник и с наслаждением утолили жажду. И вот Тотор с Мериносом, снова полные отваги и сил, строят новые планы, с надеждой смотрят в будущее, ищут выход. Прежде всего: где они находятся? Возможно, на западном берегу Новой Гвинеи. Затерянная страна, вдалеке от проторенных морских путей, без связей с цивилизованными странами; короче — неизвестность, пустыня! Молодые люди вынуждены рассчитывать только на самих себя, они могут лишь с трудом поддерживать свое существование без провианта, постепенно теряя силы, а возможно, и надежду. Им придется предпринимать сверхчеловеческие усилия, приспосабливаться, нужно найти местных жителей, добиться помощи от них. Только кто эти жители? Может быть, каннибалы? — Ну, хватит! — беззаботно подвел итог Тотор. — Нечего пугать самих себя! И с каннибалами договоримся! Папа в свое время укротил тигра и орангутанга, а мы… разве не собирались мы дрессировать кита? Планы, конечно, разумные, но выполнить их не так-то легко. Затерянные в лесу, утонувшие в огромном и бесплодном море растительности, Тотор и Меринос плутали бесцельно и бессмысленно. Время уходило на то, чтобы урвать у природы необходимую пищу. Их неотступно преследовали голод и жажда, мучила усталость, подавляла жара. Одежда превратилась в лохмотья, кожа была иссечена шипами, лица сожжены солнцем, путешественники отощали и стали похожи на дикарей. Потеряв счет дням и неделям, они уже не знали, давно ли блуждают по лесу. Бодрость испарилась, веселость улетучилась, друзья лишь изредка обменивались короткими фразами. Опустив руки, они брели согнувшись, едва держась на ногах, в поисках плода, ягоды, личинки, насекомого, почки, думая лишь об одном: как утолить голод, ужасный, непрерывно терзающий голод. Огромный лес держал наших героев в плену и не хотел отпускать. Сколько они еще выдержат? Страшно и подумать о будущем. Однажды утром они настолько ослабли, что не смогли встать, и долгие часы лежали под голубоватым кустом с красными ягодами, где провели ночь. Над головами — шелестела ветвями стая падких до ягод райских птиц[106], оглушая друзей назойливыми криками. Вдруг ужасный вопль заставил обоих вскочить. Никакого сомнения, это был зов человека. Из последних сил юноши побежали на крики. Тотор переложил нож в руку, Меринос размахивал дубиной. В пятидесяти шагах раскинулась небольшая поляна. На ее краю каталась по земле одетая в яркий саронг[107] женщина. Она извивалась, выла, отбиваясь от чего-то отвратительного и страшного, прилипшего к ее лицу… Это нечто походило на огромную гусеницу сантиметров пятнадцати толщиной и примерно тридцати сантиметров длиной, с жестким, длинным, черным ворсом. Чудовище присосалось с такой силой, что руки жертвы не могли его оторвать. Незнакомка погибнет, если ей не помочь. Преодолевая отвращение, Тотор вонзил свой нож в мохнатую спину мерзкой твари. Брызнул поток черной серозной жидкости[108]. Существо сжалось и тяжело упало на землю. На лице женщины оказалось более дюжины ран, из них на грудь тонкими струйками текла кровь. Несчастная с трудом переводила дух, а ее глаза с благодарностью смотрели на спасителей. Концом палки Меринос перевернул чудовище. Показалось отвратительное брюхо, гладкое, мягкое, бледно-желтое с голубоватыми пятнами, с двойным рядом мощных присосков и хоботков. Вот почему это ужасное животное прилипало с такой силой. Несчастная непременно оказалась бы его жертвой: она была бы высосана добела, а потом задушена. Женщина приподнялась, села, наконец встала на ноги. Вытирая тыльной стороной ладони все еще сочившуюся кровь, она внимательно слушала Мериноса, похоже, понимая его. Американец обращался к ней по-английски. Стоун подошел поближе и внезапно побледнел: на шее у туземки на золотой цепочке висели небольшие часы. На их корпусе переплетались две алмазные буквы. Отвесно падающие солнечные лучи отражались в бриллиантах ослепляющим светом. Гарри растерянно посмотрел на Тотора и едва слышно произнес: — Посмотри! На монограмме Н и С — инициалы Нелли, а сами часы… подобных им на свете нет, они мне знакомы, это мой подарок сестре… На «Моргане» они были у нее! — О, Боже!
ГЛАВА 10
Женщина с отрезанным языком. — В пути. — Обереги. — Перед дверью. — Трудный вход. — Впереди море. — Те, кого не ждали. — Сюрприз за сюрпризом. — Вместе! — Все больше тайн. — Обыкновенный дом. — Немая охрана.Гарри был потрясен, узнав часы своей сестры на шее негритянки. Сомнений быть не могло — это те самые часы, которые он купил за умопомрачительную цену у первого ювелира Нью-Йорка. Каприз миллионера. Шедевр роскоши и тонкого вкуса. Но как попали часы к туземке, женщине из племени лесных каннибалов? Задаваясь этим вопросом, Гарри содрогался от страха и душевной боли. Слезы показались на его глазах. — Сестра моя! Бедная Нелли! — всхлипывал он. — Добрая, нежная — во власти чудовищ! Быть может, искалечена или погибла! О, Боже, какой ужас! Я этого не вынесу! Тотор, друг мой, у меня в сердце гробовой холод, будто я умираю! Ах, сестра, моя сестра! У Тотора тоже увлажнились глаза и стеснило горло. Он взял руки Гарри в свои и шептал ободряюще: — Нет, не верю я в эти ужасы! Не может быть! Я даже чувствую, что это добрый знак. Смотри, женщина, похоже, не злая, кроткая. Она чисто одета. Наверняка люди ее племени вовсе не жестокие выродки. Несомненно, твоя сестра живет у них. Кто знает, — кораблекрушение или «Морган» стоит у берега… Во всяком случае, я надеюсь и верю, что наши беды кончатся. — Добрый мой Тотор, как бы я хотел, чтобы это было правдой! — Давай расспросим женщину. Мы ей оказали большую услугу, она нам все скажет. Медленно, четко выделяя слова, Гарри спросил туземку по-английски, кто она, откуда, кто дал ей часы и, наконец, знает ли она их владелицу — белую девушку с волосами солнечного цвета. Папуаска[109] внимательно слушала, ее большие карие глаза с эмалево-белыми белками искрились умом. Ей было на вид лет двадцать, недурна собой, светло-шоколадного цвета. Кровь уже не текла по лицу, но изуродованная присосками кожа вздулась большими пузырями, продырявленными посредине, словно пробойником. Должно быть, обнажившаяся в этих местах розовая плоть очень болела. Женщина еще дрожала, грудь ее вздымалась, она отвечала жестами, сопровождая их тихими хрипами и не произнося ни слова. К несчастью, ничего понять не удавалось. Туземка подошла к друзьям и бесцеремонно провела рукой по лицу Гарри, погладила его рыжие, слегка вьющиеся волосы, осторожно, наивным жестом ребенка, рассматривающего картинку, обвела кончиком пальца голубые глаза и улыбнулась, покачивая головой. — Можно подумать, она тебя знает, — проговорил парижанин, — или, скорее всего, ты кого-то напоминаешь ей. Конечно, она видела мисс Нелли — ты ведь на нее так похож! — Странно, что она ничего не говорит! Обращаясь к молодой женщине, Гарри начал снова: — Вы меня слышите? Вы понимаете меня, не так ли? Прошу вас, ответьте. Гортанно рассмеявшись, незнакомка отрицательно качала головой. Потом совершенно непринужденно и естественно она широко раскрыла рот с белыми, по-кошачьи острыми зубами. Оба друга испуганно вскрикнули. — Бедняжка! — произнес потрясенный Меринос. — У нее отрезан язык! Впрочем, сделали это очень давно, и папуаска, кажется, спокойно относится к своему увечью. — Значит, мы ничего не узнаем, — горестно заметил американец. — Нужно пойти с нею, пусть приведет нас к своим. Будто угадав их желание, туземка подобрала плетеную корзину, до половины наполненную ярко-красными ягодами, и знаком пригласила следовать за ней. Конечно, друзья очень ослабли, едва держались на ногах от голода и усталости, но так встревожились, что готовы были отправиться куда угодно, как в давние дни, когда были крепки и полны бодрости. Впрочем, расстояние невелико. Не более километра лесом, редеющим на глазах. Бесплодные растения девственных джунглей уступили место плодовым деревьям. Посаженные рукой человека, они быстро распространились благодаря естественному самосеву и образовали настоящий оазис. Тут росли бананы, саговые пальмы, апельсины, хлебные деревья, цитроны[110], манго, а за ними — старые посадки ямса[111], аронника[112], таро[113], бетеля[114], табака, огурцов и дынь. Маленькая группа продвигалась вперед и подошла к длинному ряду хижин, построенных на больших деревьях. Поднимались в них по бамбуковым лестницам. Странно, но просторные хижины оказались пустыми. Это был настоящий некрополь[115], подступы к нему загромождали человеческие останки. Целые скелеты, чьи кости держались на сухожилиях, крутились на тростниковых подвесках, зловеще раскачиваясь от ветра. Далее головы с пустыми глазницами гримасничали на шестах, затем показались скелеты птиц, зверей и рептилий. Нескладные эму[116], безобразные кенгуру, черепахи в панцирях, крокодилы в бугорчатой шкуре — все это болталось, вертелось, позвякивало, медленно кружась в страшном, зловещем танце. Тут же валялось оружие туземцев: дротики, луки, дубины, копья с кремневыми остриями, каменные топоры, рядом — цветные лохмотья грубой ткани, уродливые идолы, вычурные сосуды, пробитые тамтамы[117], — мрачная фантасмагория, отвратительный хлам, вероятно, означающий табу[118]. Известно, что туземцы испытывают неодолимый страх при виде таких таинственных предметов — настоящих пугал, помещаемых в то или иное место, чтобы сделать его абсолютно недоступным. Это и были обере́ги[119] — грозная, дьявольская защита, более мощная, чем самые крепкие стены и непроходимые преграды. Круг оберегов непреодолим! Изобилие амулетов, идолов объясняло заброшенность и безлюдье округи. Тем не менее молодая женщина шла смело, не колеблясь, не дрожа. Вероятно, она была приобщена к тайнам этих мест или просто не верила в них. Тотор и Меринос, возбужденные, молчаливые, голодные, до крайности встревоженные, следовали за ней. Вот они подошли к изгородям из тиковых деревьев, оплетенных ротанговыми прутьями, образующими дорогу шириной всего в два метра, — идеальное место для разбойничьей засады. Через триста метров дорога привела их к массивной двери, окованной железом. Оба молодых человека подумали одно и то же: «Вот это да! Обработанное железо!» К двери был подвешен широкий бронзовый гонг. Женщина ударила молотком по металлическому диску, раздались вибрирующие гулкие раскаты. — Наконец хоть что-то увидим и узнаем, — сказал Тотор. Бесшумно, как во сне, дверь открылась. За нею — абсолютная темнота. Лишь где-то, очень далеко, мерцал слабый огонек. Вперед, вперед! Дверь неслышно закрылась за ними. — Тайн все больше, — прошептал Тотор. После яркого солнечного света друзья ничего не видели в пещерной тьме. Еще несколько неуверенных шагов, и грубые руки схватили их, стиснули. Они не могли пошевелиться, даже крикнуть и потеряли точку опоры. Их подхватили, снова повалили как вязанки хвороста и с необычайной скоростью поволокли куда-то во мраке. Вскоре бешеная гонка прекратилась. Несколько сильных толчков, затем их прислонили к чему-то, друзья испытали мучительное ощущение падения с высоты, будто находились во внезапно оборвавшемся лифте. Затем пленники почувствовали под ногами колеблющуюся палубу судна. Небольшая зыбь, слышно, как работают весла. — Где же мы, черт возьми?! — воскликнул Тотор. Острый нож, приставленный к его горлу, принудил юношу к молчанию. Заскрипели шкивы, судно остановилось. Молодых людей вытолкнули на сушу, загрохотал засов. Задыхающихся под наброшенной на них тканью пленников сурово подтолкнули в спину. Кляпы и повязки упали! Они вскрикнули от внезапно ослепившего их солнечного света. Свежий воздух обволакивал друзей мягкими волнами. Перед ними, насколько хватало глаз, расстилалось море, оно с шумом билось о тысячи рифов. Пленники были одни или им казалось, что они одни на укрытой тенью больших деревьев отвесной скале, образующей мыс шириной метров в триста. Шестьюдесятью футами ниже красивый паровой катер с тентом на корме изящно покачивался на волнах, вздымавшихся на всю длину якорной цепи. Сзади возвышалось что-то вроде покрытого дерном вала, с прорубленной в нем дверью, только что закрывшейся за ними. — Что это? — воскликнул Тотор. — Мне мерещится? Или я сошел с ума? У меня галлюцинации, бред? А Меринос, глаза которого еще ни на чем не остановились, воздев руки, с силой топнул ногой. — Да, это видение, бред воспаленного мозга, и мы проснемся в лесу или под кокосовыми пальмами, а может быть, даже на борту «Моргана»! — Мы оба бредим, или я сошел с ума? — Стой, я вижу… Даже не решаюсь тебе сказать… — Что ты увидел? — Нет, невозможно! Было бы слишком жестоко, если это галлюцинация. И все же… Смотри! Смотри сюда! Американец обернулся и испустил радостный вопль, смешанный с болезненным изумлением: — О, Боже! Она! Невероятно! Две одетые по-европейски женщины сидели в качалках под белыми зонтиками спиной к путешественникам. Восклицание Мериноса заставило их вздрогнуть и быстро встать. Они увидели двух человек — бледных, худых, оборванных, в нелепых колпаках. Одна из них в свою очередь вскрикнула и кинулась навстречу, отбросив зонтик, который упал ручкой вверх. — Боже, Гарри! Мой брат, Гарри! — Нелли, сестричка! Брат и сестра протянули друг другу руки, обнялись, целуясь и рыдая. — Гарри, дорогой брат! Я уж не надеялась увидеть тебя больше! — шептала девушка. — Ты жив! Гарри! Я думала, они тебя убили и море стало твоей могилой… Я так плакала по тебе! — Нелли! Наконец-то я тебя нашел! Нелли, сестренка!.. О, как мне было тяжело без тебя! Не могу поверить своему счастью! Как ты здесь оказалась? У меня голова кругом идет! Потрясенный, сияющий Тотор скромно держался в стороне. «Это посильней, чем в самых закрученных романах, в самых невероятных мелодрамах![120] — думал он. — Теряются неизвестно как, находятся неизвестно почему, ищут друг друга и не находят, а находят — не ища. Смысла тут нет, все это нескладно, как бег дромадера[121]. И так же невероятно, как «появление жирафа в Палате депутатов». Еще дрожа от волнения, со слезами в прекрасных глазах, девушка разняла объятия и улыбнулась парижанину; затем протянула ему обе руки и проговорила с глубочайшей искренностью: — Ах, мистер Тотор, поверьте, я так рада… Я не смогу этого объяснить, вы — друг необыкновенный… Юноша был так взволнован, что чуть не расплакался, однако ни за что на свете не выдал бы своего смущения. С серьезным видом он снял остроконечный колпак, раскланялся и сказал: — Мисс Нелли, позвольте нижайше приветствовать вас. Меринос вмешался: — Знаешь, сестренка, путешествие по Австралии — пустяки! Там Тотор был героем, но здесь он оказался еще на сто голов выше, если это только возможно. — Не верьте ему, мисс Нелли. Герой — это он! Только подумайте: смело пожертвовал собой ради меня, ради дружбы. Когда меня собирались убить, не колеблясь бросился в море через иллюминатор «Моргана». Вот это подвиг! О да, чертовский подвиг, и герои древности по сравнению с ним — ничто. Американец с дружеской бесцеремонностью прервал друга. Радость от встречи с сестрой вернула ему хорошее настроение. — Да замолчи же, болтун! В краску меня вгонишь, — сказал Гарри с нервной усмешкой. — Ты возносишь меня на пьедестал, подвергаешь испытанию мою скромность и забываешь, что мы голодны. — Это точно! И уж не знаю сколько дней, потому что всякое представление о времени потеряли, но мы буквально погибаем от голода. — Три недели тому назад вы покинули «Морган», а мы прибыли сюда неделей позже. Правильно, Мэри? Спутница Нелли, скромно стоявшая в стороне, подошла ближе: — Да, мисс Нелли, мы здесь ровно две недели. Меринос дружески протянул ей руку: — Мисс Мэри, простите меня, огромное счастье увидеть вновь сестру помешало мне сразу сказать, как я рад видеть и вас. — Вы очень добры, мистер Гарри, — ответила девушка, — но… Растроганная Нелли перебила ее: — Если б ты знал, Гарри, как добра она была ко мне, нежна и преданна, какое участие приняла во мне, как меня поддерживала, ободряла, утешала! Мери, дорогая Мэри, я счастлива сказать брату и его лучшему другу, что, когда несчастья обрушились на нас, я умерла бы без вас от страха и отчаяния! — Я лишь выполняла свой долг, мисс Нелли, а почтив меня дружбой, вы отплатили за мои незначительные заслуги так, как я не могла и надеяться! Но господа голодны, позвольте мне позаботиться о них. Все четверо покинули террасу и направились к двери. А Тотор удивлялся про себя легкости речи и достоинству, с которым держалась девушка довольно скромного положения. По дороге вопросы так и сыпались — многочисленные, торопливые. Друзья хотели бы все узнать сразу. Столькими новостями нужно было успеть обменяться! — Сестренка, как вы здесь оказались? — А вы? — Слишком долго рассказывать; правда, Тотор? Поговорим во время еды. — Мы — пленницы. — Чьи же? — Не знаю! Но, по крайней мере, обращаются с нами хорошо. Дверь открылась. Они вошли в просторный зал, обставленный простой, но чистой и, главное, удобной мебелью. Плотные циновки, стол, стулья из бамбука, одно кресло-качалка, буфет, посуда, короче — случайный, безличный инвентарь какой-нибудь фактории. Ничего, что могло бы сказать хоть что-то о хозяевах. Папуаска, похожая на ту, которую друзья спасли, принесла огромную корзину великолепных фруктов и испеченного в золе ямса, поставила все на стол и ушла, ни слова не говоря. Как настоящие голодающие, Меринос и Тотор набросились на еду и принялись уписывать съестное за обе щеки. — А теперь, — попросил американец с набитым ртом, — расскажи, пожалуйста, сестренка, обо всем, что произошло на «Моргане» после нашего вынужденного… отплытия. — Но я ничего не знаю, дорогой Гарри! Услышав бряцание оружия, крики, угрозы, я хотела выйти, но меня затолкали обратно. И мы с Мэри целую неделю оставались пленницами в наших каютах. Потом они спустили в море шлюпку, нас, несмотря на наши крики и мольбы, посадили в нее и доставили сюда. — Ты ничего не заметила? — Заметила! Матросы и капитан были не из экипажа «Моргана», они нам абсолютно неизвестны. — А здесь? — Мы не знаем, где и у кого находимся. Нас не обижают, мы ни в чем не нуждаемся, но не видим никого, кроме сторожей. К тому же невозможно даже словом перекинуться с ними, потому что все — и мужчины и женщины — немы. У них отрезаны языки.
Конец первой части


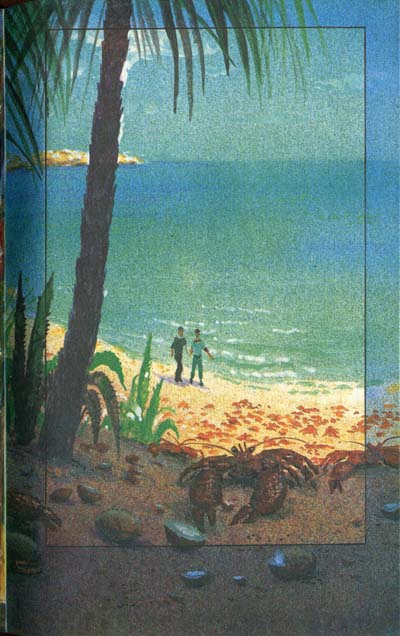





Часть вторая ГЕНЕРАЛ ТОТОР
ГЛАВА 1
Вилка может стать отмычкой. — Главный склад. — Все вооружаются. — Карта. — Буссоль. — Перелистывая иллюстрированный журнал. — Король воров. — Старый знакомый. — Признательность. — Бегство. — Эй, уж не хотите ли вы нас покинуть?— Не слишком веселая картина, — с досадой заметил Меринос. Тотор пылко запротестовал: — То есть как! Ты привередничаешь! Подумай хоть немного. — Вот этим я и занимаюсь. Испытываю свой бедный мозг китайскими головоломками[122] и, поскольку нет результата, снова делаю вывод: картина невеселая. — Мисс Нелли! Простите юного янки, недостойного быть вашим братом. Как, несчастный! После стольких передряг тебя не радует цветная картинка счастья в книге нашей судьбы? Неожиданность, собравшая нас вместе после стольких неприятностей; нежданная радость встречи с сестрой — разве все это ничего не значит? — Ты изрекаешь чудовищные вещи, дорогой Тотор! Я вовсе не это хочу сказать! — А что же? — А вот что: несмотря на радость быть рядом с Нелли, меня бесит неизвестность. Где мы находимся и, главное, как выбраться отсюда? — Это уже другое дело. Только позволь заметить: беситься недостаточно, нужно искать! — Браво, мистер Тотор, вы одним словом подвели итог. Итак, давайте искать! — А что нужно искать? — Сведения, черт возьми! — Сведения можно поискать, пожалуй, за дверьми. — Это уже кое-что. Только их нужно открыть. — By Jove! Ты так спокойно об этом говоришь! Они такие массивные, прочные и неприступные, что оторопь берет. — Можешь нагромождать эпитеты[123] и дальше. Но вся проблема не стоит обыкновенного крючка. — Какого крючка? — Да хоть такого! Пока его друг досадовал, парижанин отломил три зуба у вилки, с помощью которой только что завтракал. Оставшийся зуб согнул под прямым углом. — Ну и что? — Тсс! Не мешай. Из просторной комнаты, служившей одновременно холлом, спальней и столовой, вели, вернее, никуда не вели три наглухо закрытые двери. Не выбирая, Тотор подошел к средней и внимательно исследовал замок. Потом покачал головой, улыбнулся и ввел импровизированную отмычку в скважину. Легкими и очень ловкими движениями он толкал, тянул, поворачивал крючок и наконец произнес со своей всегдашней хитрецой: — Никудышный замок! Огромный, тяжелый, чудовищный, но в брюхе у него пусто! Достаточно гвоздя, шпильки для волос, любого пустяка, да что там, дунешь — и откроется! Вот так: фу! Прошу вас, дамы и господа, входите! Что-то негромко стукнуло, щелкнула пружина, скрипнули ржавые петли, и дверь подалась. — Невероятно! Да ты волшебник, Тотор! — О, мистер Тотор, вы самый необыкновенный человек на свете! — Да ничего особенного. В нашей школе, в Шалоне, я немало замков выпотрошил. — Вы не можете себе представить, как это здорово! Мы уже давно хотели узнать тайну закрытых дверей! К тому же я не менее любопытна, чем ваша французская мадам Синяя Борода. И вы тоже, Мэри, не правда ли? — О да, мисс Нелли! Меня тоже эти двери просто бесили. Все быстро вошли в соседнюю комнату и от неожиданности вскрикнули. Но неожиданность оказалась приятной. — Провиантский склад! Библиотека! Арсенал! И действительно, в огромном зале оказалось даже более богатств, чем привиделось вначале. Целое нагромождение вещей, мало-помалу накопленных привычными к приключениям людьми, хранившими все, что может пригодиться в этой дикой стране. Тотор и Меринос от радости пустились в своих лохмотьях в пляс и стали выделывать немыслимые антраша[124]. Нелли хлопала в ладоши и смеялась, а Мэри, тоже довольная, сохраняла привычный скромный вид. Наконец оба молодых человека, запыхавшись, остановились, и Тотор сказал: — Целое богатство для нас, оборванцев! Но — спокойно! И быстрей выбрать из завалов самое необходимое. — Первым делом оружие, правильно? — Еще бы! Суровый строй из сотни новых и хорошо смазанных многозарядных винчестеров стоял у стены. Меринос вынул один из пирамиды[125], щелкнул затвором и протянул Тотору. — Держи, а я возьму вон тот. — Мистер Гарри, — решительно перебила его Мэри, — а мне вы разве ничего не дадите? — Как, мисс Мэри, вы разбираетесь в оружии? — Я из Канады, отец научил меня обращаться с ружьем еще в детстве. — Браво, тысячекратное браво! Ну, а про тебя, сестренка, мы знаем — умеешь держать винтовку в руках. Возьми карабин. О, прекрасно! Пополним наше вооружение еще и револьверами, кинжалами, патронами! — Лом железный собираем! — рассмеялся Тотор. — Я и в самом деле превратился в арсенал. Как, и вы! Но девушки грациозны, несмотря на обилие оружия, а мы, в лохмотьях, выглядим просто бандитами с большой дороги. — Но тут есть и одежда, — прервал его Меринос, который рылся по всем углам. — Вот, посмотри-ка: целые шкафы ношеных костюмов, обуви, головных уборов и всего прочего! — Прекрасно, господа, наряжайтесь джентльменами, — сказала Нелли, — мы оставим вас одних. Пойдемте, Мэри. Друзьям хватило пяти минут. Шерстяные рубашки, белые тропические шлемы, сапоги из желтой кожи, брюки, куртки в мгновение ока заменили жалкие обноски. Два молодых человека совершенно преобразились, словно воскресли, и вновь обрели бравый вид. — Меринос, мы великолепны! — Тотор, я в восторге! — Готово, девушки, вы можете вернуться! Пораженные их метаморфозой[126], Мэри и Нелли воскликнули: — Браво, господа! Вот теперь вы похожи на настоящих рыцарей приключений, поздравляем! — Вы чересчур снисходительны, мисс Нелли! Полагалось бы присобачить плюмажи[127] к нашим остроконечным колпакам! Нужно еще пошарить тут. Теперь настала очередь книжных богатств. Вся компания принялась торопливо рыться в мешанине всевозможных сочинений на английском, французском, немецком, испанском и голландском языках. Сориентироваться было непросто. Математика, романы, химия, физика, иллюстрированные журналы, география, ботаника — все что угодно можно было найти. Однако парижанину повезло: ему попался великолепный атлас. — Удача! — радостно воскликнул он. — Карты! Наконец-то можно разобраться, где мы находимся! Юноша принялся быстро перелистывать атлас с картами на отдельных листах, засунутых между переплетенных страниц. Одна карта, наклеенная на ткань, выскользнула из атласа. Тотор подхватил ее, вгляделся и восхищенно воскликнул: — Взгляни-ка, Меринос! И скажи, разве не на нашей стороне удача! Это был великолепный чертеж голландской части Новой Гвинеи. Дополняли его рукописные примечания, придававшие находке особую ценность. Были указаны никому не известные реки, горы и леса. Белые пятна, приводившие в отчаяние географов и путешественников, исчезли благодаря новым сведениям. Одна важная деталь сразу бросилась в глаза: красная метка у морской стоянки, подступы к которой были указаны тщательно и детально. Ниже от руки, и тоже красными чернилами, написано: Норт-Пойнт. — Что-то мне подсказывает — нас заточили именно здесь, — произнес Тотор. — Черт возьми, далеко же мы забрались! Какие зигзаги и какие скачки через неведомые миры! Парижанин сложил драгоценную карту. — Смотри-ка, план! — воскликнул Меринос, перелистывавший атлас. — Тут есть ссылка на Норт-Пойнт, стрелки показывают подземные ходы, укрытия на местности, кучу всего… — Удача! Это, должно быть, план таинственного хода, которым нас сюда вели. Нужно быстро разглядеть! — А я, господа, — вмешалась Нелли, — нашла карманный компас, который нам наверняка пригодится. — Ах, мисс Нелли, ваша находка не имеет цены! Без нее мы оказались бы как без рук, компас укажет нам путь бегства, спасения! И Мэри не сидела без дела. Она раскрывала иллюстрированные журналы и рассматривала загнутые страницы. Некоторые тексты были отмечены карандашом, на полях иных фотографий и гравюр имелись пометки. Вдруг девушка воскликнула с удивлением, близким к испугу: — О, Боже! Это же он! — Кто, мисс Мэри? — Господа, посмотрите сами, может быть, я ошибаюсь. Под превосходно выполненным портретом значилось: «Ричард Сеймур, знаменитый бандит». Меринос бросил на портрет взгляд и вздрогнул от изумления. — Он! Это он, Ричард Сеймур, гениальный и поразительный негодяй, который украл пять миллионов долларов в Национальном банке! Убил Джеймса Никольсона, знаменитого главу медного треста, шантажировал «Арнхейм Бразерс энд Компани», потребовав миллион долларов, прямо на улице заколол кинжалом знаменитого детектива Пауэлса, преследовавшего его! Так вот какой этот Ричард Сеймур, поднявший на ноги всю полицию Старого и Нового Света. Он был приговорен к смертной казни во Франции, Испании и Англии, ловко избежал гильотины[128], гарроты[129] и веревки, попался в Нью-Йорке и сбежал за день до казни на электрическом стуле. На время исчез, потом вновь заявил о себе еще более наглыми преступлениями… И этот Ричард Сеймур, прожигатель жизни почище миллиардера, хитрый, как лиса, более жестокий, чем краснокожий, этот… но взгляни же и ты, дорогой мой! — Вот так да! Мистер Дик, образцовый слуга, твой стюард на «Моргане»! Ну и ну! Если это он оказал нам здесь гостеприимство, в хорошие же руки мы попали! — Теперь я все понял, — глухо произнес Меринос. — Получается, что мы жили на яхте бок о бок с таинственным и опасным бандитом. Меня и сейчас дрожь пробирает! Ошеломленный молодой человек продолжал машинально листать журнал, читая то одну, то другую фразу из этой сенсационной биографии: «…О Дике[130] Сеймуре, ставшем героем легенд, рассказывают невероятные истории — о его храбрости, жестокости, дьявольской ловкости. …Его операции, охватывающие весь мир, поражают разнообразием и в то же время последовательностью, взаимосвязью, масштабностью… как в крупнейших банках или торговых фирмах, где функционируют сотни филиалов, приводящие в движение сложнейшие механизмы и доводящие дело до бирж, рынков, прилавков, доков и самых мелких лавок. …Мистер Дик именно так организовал мир краж и убийств… Стал всемирным директором треста преступлений. …Он точно такой же король воров, как другие — короли золота, нефти, меди!.. Он миллиардер-грабитель и в то же время грабитель миллиардеров! Конечно, у него сообщники во всем мире, бандиты, которые повинуются ему фанатично и слепо. Само собой разумеется, он располагает недоступными укрытиями и неистощимыми запасами, его удары готовятся с математической точностью и с бесконечными предосторожностями, которые делают их неотразимыми. Он умеет взглянуть сверху, предвидеть издалека и с чудовищным наслаждением вычисляет рискованность своих операций, словно гениальный биржевик, играющий на повышение или понижение на рынках обоих полушарий». Меринос все еще листал журнал и читал краткие заметки, более увлекательные, чем самый захватывающий роман. Ведь с этим человеком была связана пережитая ими драма, игра, в которой на кон поставлена их судьба, свобода и сама жизнь. «Мистер Дик, как уверяют, особенно свирепствует на больших островах Малайского архипелага. Там, в пиратском царстве, бандит находит себе многочисленных бесстрашных помощников среди преданных ему морских разбойников. К тому же его владения простираются и на не разведанные еще острова, которые служат ему неприступным убежищем. Между появлениями в Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Петербурге, где он проносится метеором, затмевая всех великолепием, Сеймур возвращается на острова к роскошному существованию раджи[131] в окружении сообщников и рабов. …Наконец, некоторые утверждают, что из чудовищной предосторожности он приказывает сообщникам отрезать языки несчастным дикарям, чтобы принудить их к вечному молчанию!» — Ну, это мы сами видели, — прервал товарища Тотор, — если и остальное правда, в хорошенький переплет мы попали! И это все? — О, тут еще много столбцов, страниц… так глупы эти журналы с их манерой возвеличивать негодяев! — Тогда хватит! Мы уже довольно знаем об этом господине. Однако не стоит пугаться! Конечно, мы еще ребятишки, но плевали мы на буку, будь он хоть король воров, как мистер Дик! Пусть только сунется к нам, узнает, почем фунт лиха! Эта взволнованная речь, в которой соединились и дополняли друг друга шутка и бесстрашие, вызвала энтузиазм маленькой армии. Воины и воительницы встали, как один, потрясая винчестерами, а Меринос воскликнул: — Прекрасно! Объявляем королю воров войну! А ты, Тотор, будешь нашим генералом. Приказывай, мы повинуемся тебе! Выступай в поход, и мы последуем за тобой! Да здравствует генерал Тотор! Парижанин приосанился и выпятил грудь. Он так забавно преувеличивал строгость своей воинской выправки, так лихо закручивал отсутствующие усы, что вся армия покатывалась со смеху. Тотор решил произнести речь: — Солдаты, я доволен вами… Внезапно юноша умолк и нахмурился: как в волшебном за́мке, тихо отворилась дверь. — Ну и ну, — прошептал Тотор, быстро возвращаясь к действительности, — кто это затыкает мне глотку? Появились трое туземцев: двое мужчин и женщина. На высоких, хорошо сложенных мужчинах с взъерошенными волосами, кожей шоколадного цвета и толстыми бананообразными носами были надеты лишь набедренные повязки. Оружия при них не было. Девушку с красивым личиком, вздувшимся от присосков мерзкого животного, друзья узнали с первого взгляда. — Ведь это Дженни! — воскликнула мисс Нелли. — Подойдите же, дорогая! — Ты ее знаешь? — спросил сестру Меринос. — Конечно. Она служит нам с тех пор, как мы сюда прибыли. Очаровательная, добрая, мягкая и преданная, она прекрасно нас понимает. Мы назвали ее Дженни. — И ты отдала ей свои часы? — Да, эта безделушка нравилась ей до сумасшествия. — А мы ее спасли. Нет, не безделушку, а твою Дженни. Кстати, представляешь, каким ударом для нас было посреди леса узнать эти часы на ее шее! Мы сочли, что ты убита… задушена каннибалами! — И съедена — ты хотел сказать? Да, понимаю, есть от чего испугаться! Между тем у папуаски вид был крайне взволнованный. Ее лицо стало пепельно-серым, руки дрожали. Не менее взволнованные мужчины суетились, мычали, приближались к Тотору и Мериносу, пытались увести их. Папуаска взяла руку Нелли и осторожно потянула девушку к полуоткрытой двери. Тотор, Меринос, Нелли и Мэри догадались: что-то ужасное угрожает всем четверым. А славные папуасы в благодарность за спасение девушки хотят им помочь. Да, именно так! Нужно немедленно бежать. — Дети мои, — сказал Тотор, — когда-нибудь я непременно произнесу речь! Но сейчас наш долг поторопиться и немедленно смыться. Возьмем же в руки оружие, набьем карманы патронами, приберем все разбросанное! Буссоль?[132] Есть! Карта? Есть! Девушкам — в два счета подобрать шлемы. И-и рысью, марш! Туземцы всячески выказывали нетерпение и с опаской оглядывались вокруг, а увидев, что их поняли, бросились вперед с такой скоростью, что беглецы едва поспевали за ними по темному коридору. Время казалось нескончаемым. Наконец они очутились под довольно высоким сводом. Пошли дальше и увидели усеянный цветами луг и великолепную пальмовую аллею. Они уже считали себя вне опасности, когда раздался дьявольский смех, заставивший их отпрыгнуть назад, будто каждый наступил на хвост гремучей змеи. Затем голос с нотками металла насмешливо обратился к ним: — Уж не хотите ли вы нас покинуть? О, этот голос! Они обернулись и увидели бывшего стюарда с «Моргана»! Да, мистер Дик собственной персоной, держа руки в карманах, нагло разглядывал их и потешался. Беглецы застыли в изумлении и гневе. Вспылив и припомнив пережитые беды, Тотор внезапно кинулся к нему, крича: — Это шельма Дик! Ну, я ему всыплю!
ГЛАВА 2
Не судите по виду. — Кучачные удары. — Да, но мистер Дик держит удар. — Малайская борьба. — Танец, гипноз и боевое искусство. — Тотор в опасности. — Мимо! Удар в лицо. — Отступать! — Генерал Тотор. — Небольшая передышка. — Правый, левый фланг и центр. — Тотор сожалеет, что не сдавил сильней.Мистер Дик как будто был безоружен, он походил на мирного домоседа: широкая панама на голове, руки в карманах. Ни дать ни взять добрый буржуа, вышедший в домашних тапочках проведать свои грядки с дынями и клубникой. Действительно, тот, кто ничего не знал о нем, легко мог ошибиться. При виде кинувшегося на него, как пушечное ядро, парижанина Дик продолжал смеяться и лишь чуть отступил в сторону. И все. Но этот человек в полной силе своих лет, за плечами которого были ожесточенные схватки, вероятно, обладал крепкими мускулами и непревзойденной ловкостью. Как породистый дог рядом с шавкой, он испытывал презрение к хлипкому противнику и был невозмутим. К тому же бандит наверняка не был одинок. У него должны были быть сообщники, готовые оказать патрону немедленную помощь; насколько она ему необходима, он еще и не подозревал. Тотор, хоть и мальчишка, противник не простой. Крепко сбитый, коренастый, ловкий, с мускулами, в которые будто сталь вплетена, юный француз — настоящий атлет. Мощные плечи, не умещающаяся в воротничке шея, мускулистые руки, от которых мнутся и лопаются рукава — вот что мистер Дик, кажется, недооценил или чего попросту не заметил. А может быть, мальчишеская физиономия сбила его с толку. К тому же нужно сказать, что Тотор с младенческих лет занимался физическими упражнениями. Чтобы подготовить к неожиданностям жизни, отец приобщил его к разным видам спорта. Так что в гимнастике, борьбе, плавании, стрельбе, верховой езде для молодого человека секретов не было, а уж в таком живописном и грозном состязании, как французский бокс, — и подавно. Не довольствуясь физическим развитием сына, Фрике любовно воспитывал его дух. Один из привычных его афоризмов гласил: «Будь сильным, чтобы стать добрым, будь добрым, чтобы стать справедливым ивеликодушным. И главное, будь храбрым! Ввязавшись в борьбу, не бойся раздавать удары и особенно получать их. Человек, решивший скорее погибнуть, чем уступить, непобедим». Поэтому с таким противником, как Тотор, следовало серьезно считаться. К сожалению, парижанин страдал донкихотством, считая, что не по-рыцарски вооруженному нападать на безоружного. Будто благородство по отношению к хищникам не самообман! Абсурдным и великолепным жестом он бросил весь свой арсенал на траву, убеждая самого себя: — Без этого даже удобней. Но Меринос закричал: — Тотор, берегись! Освободившись от ноши, ловкий, как тигр, разгневанный парижанин стал наступать на бандита: — Защищайся! Все еще улыбаясь со спокойным и насмешливым видом, держа руки в карманах, мистер Дик и бровью не повел. Два удара, которые признал бы отличными даже лучший боксер Соединенного Королевства, обрушились, как молот, на его грудь. Обычный человек опрокинулся бы вверх тормашками, как кролик от хорошего заряда свинца, но мистер Дик даже не покачнулся. Только лицо его, сохранявшее до того ироническое выражение, помрачнело. Почувствовал ли он опасность? Пожалуй, да, — вынул наконец руки из карманов. Но не успел произнести ни слова. Тотор работал кулаками, снова бил в грудь, будто руки толкала стальная пружина. Бам, бам! Звук — как от удара по наполненному бурдюку. — Черт побери! Несносный мальчишка. Придется его убить. Одним ударом, — добавил мистер Дик. — А жаль! Эта первая стычка длилась всего четыре секунды! Одно мгновение, в течение которого остолбеневший Меринос не успел даже подготовиться к атаке, отвлекающему маневру, просто тронуться с места. А Тотор тем временем вышел из стойки, отскочил назад и в досаде воскликнул: — Ну и ну! Эта шельма — raw-flesh! Ничего не поделаешь! Raw-flesh, сырое мясо — это хлесткий, образный термин в боксе, которым обозначают спортсмена, хорошо держащего удар. То ли от природы, то ли в силу привычки такой человек бывает настолько закален, что не подаст и вида, что ему больно! Его бьют, непрерывно осыпают кулачными ударами, но противник этого raw-flesh сам понемногу устает, побежденный обескураживающей пассивностью соперника. К тому же raw-flesh опасен, удары на него действуют не больше, чем на мешок с солью, и он может, выбрав момент, нанести смертельный удар своему уже измотанному противнику. Но, слава Богу, Тотор знал все до точки, как говорят в армии, и не упорствовал в боксировании, ибо отлично понял бесполезность предпринятой атаки. Но у него имелись в запасе другие уловки, и он чувствовал себя в силах одолеть противника. Не медля, парижанин снова напал на мистера Дика. Быстрый финт, прекрасный выпад ногой, чтобы ударить десятью сантиметрами ниже колена, и следовательно, сломать большую берцовую кость, или малую, или даже сразу обе. Но жесткая подошва Тотора встретила пустоту: с ловкостью кошки бандит отскочил. Затем вдруг, словно поддавшись внезапному безумию, мистер Дик принялся медленно танцевать, проделывая плавные движения, будто заимствованные у баядерок[133]. Это не обычный танец: время от времени одна из ног танцора вытягивалась, как бы брыкаясь, а рука пыталась отпустить подзатыльник. Пораженный Тотор стал в боксерскую стойку, глядя во все глаза, а потом сказал: — Да ты псих! Но я все равно тебя убью, потому что мы хотим свободы, а ты — грязная тварь! Бандит украдкой бросил взгляд на беглецов. Он видел Нелли и Мэри, укрывшихся за стволами пальм; чуть ближе Меринос угрожал ему своим карабином. Выжидая момент, чтобы поразить бандита наверняка, Гарри не решался стрелять, боясь попасть в своего друга. Двое папуасов со своей подружкой скрылись. Мистер Дик изрыгал проклятия: — Проклятые черномазые! Эти дикари предали меня! А где же остальные? Стычка длилась не более полминуты. Все буквально оторопели от неожиданности. Между тем бандит кружился, раскачивался, резко поворачивался и неуклонно продвигался к Тотору, который чувствовал себя словно в водовороте и не знал, куда бить. Странная гимнастика, похожая на танец и схватку одновременно, напоминала малайскую борьбу, еще более необычную и смертоносную, чем знаменитое японское джиу-джитсу[134]: она запрещает захваты и борьбу лицом к лицу. Это комбинация круговых и волнообразных движений в необычном ритме, сопровождающаяся внезапными выбросами конечностей. Нападающий надежно защищен, а его несведущий противник вскоре оказывается полностью парализован, подавлен, приведен в замешательство неожиданными ударами по всем частям тела. Потеряв ориентировку, ничего не видя, противник падает от смертоносного удара в одну из жизненно важных точек, хорошо известных восточным борцам. Тотор, знавший многие виды борьбы, ощутил смертельную опасность. Невозможно было отразить непрестанный град ударов, который обрушился на него со всех сторон. Невозможно вынести это скачкообразное вращение, эти резкие движения, похожие на выпады фехтовальщика и в то же время на обманные финты, от которых в глазах рябит до боли. Предметы перед ним кружились, силуэты расплывались, а сам он мало-помалу как бы подчинялся гипнозу и уже неспособен был действовать, теряя энергию и волю. Но парижанин еще различал бледное лицо мистера Дика, который зло улыбался: Тотор, несравненный борец, будет побежден еще до боя. Грянул оглушительный выстрел. Наваждение рассеялось. Мистер Дик подпрыгнул и закричал: — Мимо! Да, мимо, но очень близко! Пролетевшая со свистом пуля сбила с бандита шляпу и оцарапала голову! Бывший стюард решил — есть еще время для последнего, решительного удара, чтобы избавиться наконец от бесстрашного мальчишки. Дик послал удар, который готовил с начала схватки, и глухо произнес: — Так умри же! Но парижанин уже вышел из оцепенения. За дымом выстрела он увидел мисс Нелли, умело, как старый солдат, перезаряжавшую винчестер. Именно ей он был обязан передышкой, и мысль об этом придала ему сил. Тотор знал: отразить этот дикарский удар невозможно. Он молниеносно бросился на землю, оперся о нее левой рукой и изо всех сил ударил мистера Дика ногой в лицо. — Браво, Тотор, браво! С расплющенным носом, разбитыми губами, выбитыми зубами, бандит вытянул руки, зашатался и упал, изрыгая проклятия. Победитель вскочил на него, всеми десятью пальцами крепко сжал горло и уперся коленом в грудь. Потом насмешливо воскликнул: — Так и есть, ты — сырое мясо! Только морда у тебя скорей похожа на растертый о стенку помидор. Мистер Дик потерял сознание и не шевелился. Но парижанин, крепко держа его, стал звать друзей: — Меринос, мисс Нелли! Мисс Мэри! Скорей сюда! Нужно связать этого кривляку из мелодрамы. — Нет веревок! — Как это нет! А ремни винтовок? Есть чем обкрутить с головы до ног. — А потом? — Будем держать в плену, пока он сам не освободит нас по доброй воле или подчиняясь силе. План был великолепен, дерзок и прост, он наверняка удался бы, но, к несчастью, выстрел из карабина уже поднял тревогу. Из-под свода послышались крики, бряцание оружия, голоса взбешенных мужчин. Появилась небольшая толпа. Из темноты бежали люди в матросской одежде. К несчастью, беглецов было слишком мало: подумайте — всего только два подростка и две девушки! Мэри, которая оказалась напротив, закричала: — Берегитесь! Она подняла револьвер и решительно нажала на спусковой крючок. Один из мужчин упал под ноги своих товарищей, другие кричали: — Сбежали! И Дика скрутили! Проклятье! Их было около двенадцати. Но при виде целившихся в них Мериноса и Нелли бандиты застыли в нерешительности. — Первый, кто шевельнется, — умрет! — решительно воскликнул американец. Увы! Как из-под земли со стороны моря возникла еще группа людей и стала окружать друзей. Они едва успели отскочить. — Go back! Totor, go back![135] Парижанин с досадой отпустил разбойника и отпрыгнул назад. Он быстро подобрал оружие и патроны, сердито бормоча: — Проклятье! Не успел прикончить! — Назад, назад! — снова закричал Меринос. Следовало отдать должное негодяям: то ли из чувства долга, то ли из страха, а может, из настоящей привязанности к своему главарю, они прежде всего занялись им. Именно это позволило беглецам выскользнуть из окружения и укрыться за стволами пальм. Но мистер Дик быстро пришел в себя: такие жестокие люди — не хлипкие барышни. Он дернулся, открыл один глаз и, освободившись от железных объятий парижанина, глубоко вздохнул. Затем попытался подняться, но вновь тяжело упал на спину, будто его стукнули в лицо дубиной, как быка на бойне: полученный удар явно не способствовал работе мозга. Из разбитого рта вырывалось бессвязное мычание, сквозь дыры от вышибленных зубов высвистывались обрывки слов. Наконец бандит выплюнул несколько сгустков крови и, приподнявшись на руках, обвел окружающих злобным взглядом. Его пораженные сообщники не могли опомниться. Как! Их главаря, человека, который держит в страхе оба полушария, измочалили, превратили в жалкую тряпку! Он, непобедимый, валяется на земле! Но кто мог, кто осмелился помериться с ним силами! Одно слово, вернее, хрип вырвался изо рта, столь живописно уподобленного Тотором раздавленному помидору: — Парижанин! Потом едва слышно мистер Дик добавил с ненавистью, которая заставляла вздрогнуть даже храбрецов: — О!.. Я вырву… и съем… его сердце! Тотор не ведал о сей людоедской угрозе. Но если б и знал, вряд ли бы так уж взволновался. Но вся эта сцена дала беглецам передышку. Хотя Тотор совсем недавно был возведен в чин генерала, он вполне соответствовал должности. Как знаток тактики, одним взглядом юноша оценил местность и определил каждому его место, задачу и маневр. — Мисс Нелли, вы — правый фланг, мисс Мэри, вы — левый фланг. Отступайте справа и слева от аллеи. Ты, Меринос, — в центре. Отходите, скрываясь за стволами деревьев. Перебежками! Браво, вы передвигаетесь, как гренадеры[136] Наполеона! Левый и правый фланги повиновались беспрекословно, но центр уперся. Меринос, сурово сжимая в руках оружие, повернулся, поглядел на компанию бандитов, проворчал: — By Jove! Знал бы ты, как у меня чешутся руки! — Ну так почеши! — ответил генерал Тотор. — Смеешься! — Да нет же! Просто даю полезный совет: если чешется, то нужно почесать. Вот и все! — Я хочу сказать, что был бы счастлив влепить заряд в толпу негодяев. — Ни в коем случае! Не время, нас может отрезать второе войско. — Всего семь выстрелов из моего винчестера! — Нет! Не нужно бесполезных стычек, не стоит дразнить этих господ по пустякам, а главное, будем беречь патроны и стрелять только наверняка. Отступать! Отступать! Друзья отходили все дальше и дальше, вот они уже в двухстах метрах, а на них, похоже, не обращали внимания. На таком же расстоянии от беглецов высился густой лес — прекрасное укрытие для маленького войска. Именно туда следовало добраться как можно скорее. Когда опасность миновала, оба фланга и центр совершили маневр схождения, покинули аллею и сконцентрировались без всякого приказа главнокомандующего. Теперь они шли бок о бок, держа оружие как попало, а генерал брюзжал, как и полагается старому вояке: — Эх, если бы я сдавил сильней! — Сдавил… что? — спросил Меринос. — Горло мистера Дика. Тогда бы он стал «покойным Диком», и мы были бы в безопасности. Не представляешь, как это трудно — задушить человека, я еще никогда не пробовал, и вот — слабо надавил ему на глотку. — Не расстраивайтесь, мистер Тотор, вам еще представится возможность. — Но мне не следует упускать ту, которую вы, мисс Нелли, даете мне — поблагодарить вас за выстрел, который придал мне уверенности… — Пожалуйста, не будем об этом. Я тоже могла быть более меткой, но рука дрогнула, и я не жалею: это ужасно — убить человека, каким бы гнусным он ни был. Девушка остановилась на мгновение, обернулась и, вновь обретая милую живость, добавила: — Но, генерал, мне кажется, враг вооружается и готовится к решительным военным действиям! — Верно! Где ж это моя голова! Ей-богу, за невнимание к противнику я достоин военного трибунала! Да, нас преследуют, но мы почти вне досягаемости. Благодаря вам мы выиграли первую партию. Теперь — не проиграть бы вторую. Сделаем все ради этого.
ГЛАВА 3
Трудное начало. — Исправленная оплошность. — Интендантство всегда запаздывает. — Сто фунтов бананов. — Изнуряющая жара. — Первый привал. — Залив Геельвинк. — Кто идет? — Отчаявшаяся. — Бедная Дженни! — Стрела. — Плюмаж генерала Тотора. — Ответный выстрел. — Нападение.Еще сто метров — и беглецы достигнут опушки. Дремучий тропический лес с его изобильной растительностью, тайнами, западнями, опасностями и невзгодами, но и надежностью нетронутой глухомани стоял в нескольких шагах от поселка. Прежде всего, не следует удивляться тому, что лес начинается сразу вот так, на краю равнины, как зеленая стена. Когда-то он, вероятно, простирался до моря и достигал прибрежных скал. Однако туземцы раскорчевали небольшой участок. Пожар, — единственное средство свести лес, — срезал его как топором и придал новые силы деревьям на опушке. Там, на местности, испепеленной огнем, возник мощный подрост, который благодаря воде и изобилию солнца образовал непроходимую чащу. Именно туда поспешила армия генерала Тотора, пока враги хлопотали вокруг своего поверженного главаря. Жара стала невыносимой, что неудивительно в двух или трех градусах от экватора. Тяжело нагруженные оружием и патронами девушки шли очень быстро. Они задыхались, их прелестные раскрасневшиеся лица заливало потом. Но ни единой жалобы, ни слова, ни даже жеста, выдающего испуг или усталость. Неутомимые и очаровательные, они изнемогали на солнце, ожидая, когда смогут нырнуть под ветви. К счастью, Тотор мудро заставил их взять колониальные шлемы. Этот головной убор, который им очень шел, — единственное, что может спасти белого от смертельного солнечного удара. Они уже собирались скрыться в чащобе, в «священном ужасе» тропических лесов, когда генерал Тотор хлопнул себя по лбу и воскликнул в гневе на самого себя: — Чтоб мне провалиться! Надо же быть таким простофилей! Стойте! — Что такое? — удивился Меринос. — Зачем ты нас останавливаешь? Надо спешить! — Меня следовало бы расстрелять! — Ладно, не говори глупости! — Я оплошал, это уж точно, оплошал. И оплошность нужно исправить. А потом можете отдать меня под военный трибунал, вот так! — Мистер Тотор, объяснитесь. И пожалуйста, без опрометчивых поступков! Прежде скажите, что случилось. — Дело в том, мисс Нелли, что я ничтожный генерал и никудышный интендант![137] Забыл о съестных припасах! Понимаете, ни больше ни меньше — о продовольствии! Из-за меня армии нечего жевать! — Мистер Тотор, ничего страшного, мы сразу найдем фрукты и ягоды. — Мисс Нелли, в этом лесу мы найдем только голодуху, можете справиться у Мериноса! Но я знаю, где раздобыть провиант. У меня еще есть время на вылазку. А вы, солдаты, прикройте своего командира! Как несколько минут назад, при стычке с мистером Диком, юноша освободился от оружия и боеприпасов, оставив при себе один кинжал; потом, не сказав ни слова, бросился назад по пальмовой аллее. Справа и слева шелестели листвой небольшие сады туземцев, обнесенные забором. Меринос и девушки не успели и рта раскрыть, а Тотор уже мчался во весь дух и вскоре оказался в ста метрах от ограды. — О, Боже! Его могут убить! — прошептала Нелли. — Не бойся, сестренка! Он храбрец, наш Тотор! Генерал прыгнул в сторону и ураганом ворвался в один из садов. Бандиты заметили его и, естественно, осыпали градом пуль из винтовок. Но они слишком спешили и мазали. Не обращая внимания на свистящие над головой пули, Тотор оглядел банановую плантацию и выбрал самую крупную, полностью созревшую гроздь весом больше ста фунтов[138]. Отрезать двумя ударами кинжала черенок и взвалить огромный груз на спину было секундным делом. Затем, согнувшись под ношей, которая заставила бы дрогнуть обыкновенного человека, парижанин во всю прыть побежал обратно. Бабах, бах, бах! Выстрелы гремели безостановочно, пули свистели, щелкали, гудели, а Тотор улепетывал. Побледневшие, испуганные, едва дыша, Гарри и девушки смотрели на него, не решаясь проронить ни слова, боясь увидеть, как он рухнет на траву. Расстояние уменьшалось, оставалось еще пятьдесят шагов. Скорей! Еще двадцать пять! Последний выстрел, в последний раз просвистела пуля, и Тотор, чудом оставшийся живым и невредимым, добежал, задыхаясь, но и улыбаясь во весь рот. — Ах, мистер Тотор, как мы боялись за вас и как я счастлива! — Мисс Нелли, вы слишком добры ко мне! Видите ли, интендантская служба должна была искупить свою промашку. Дело сделано! Интенданты всегда запаздывают, но на этот раз могли совсем не прибыть к войскам, потому что враг атаковал обоз. В конце концов, за неимением лучшего армия получает сто фунтов свежих бананов. С ними еще можно пожить, правда? Молодой человек сказал это просто, со смешком, даже не догадываясь, что совершил поступок, ошеломляющий дерзостью и отвагой. Меринос, голос которого еще дрожал от волнения, энергично встряхнул руки друга и воскликнул вне себя от радости: — Тотор, ты герой! — Да нет же, я просто помародерствовал немного. — Ты достоин креста Почетного легиона![139] — Я предпочел бы порей[140]. Вкуснейшая штука — этот овощ, скромный порей, с которым едят семейное жаркое. Но хватит болтовни! Эти господа все постреливают, как бы они не вышибли кому-нибудь глаз. Вперед! — И не ответим им? — Никаких ответов! Не стоит тратить патроны. Тотор подобрал оружие и, согнувшись под тяжестью бананов, первым ступил в неприветливый лес. Армия построилась в колонну по одному и последовала гуськом по стопам командующего, не обращая внимания на адскую жару, на ветки, которые хлестали по лицу, на колючки, раздиравшие в кровь руки. О, эта жара! Самый страшный враг любого экспедиционного корпуса[141] — и большого и малого! Конечно, температура Сахары или сирийских песков[142] ужасна. Но жара на равнине все же менее страшна, чем в девственном лесу. Под раскаленной добела листвой нет ни ветерка. Кажется, что тебя перенесли в оранжерею с тошнотворными испарениями, где с человека рекой льется пот. — Черт побери! — проворчал Тотор. — От такой жары скорпионы[143] вылупятся, а саламандры[144] в обморок попадают. Ну точно как при Ватерлоо[145]: «Старая гвардия в пекло вступает!..»
Часа полтора беглецы шли, не выбирая направления, с одним желанием — во что бы то ни стало уйти подальше. Они не разговаривали: слишком жарко! Задыхались, а их мысли были сосредоточены на одном: переставлять ноги, двигаться вперед. Такая гонка в лесу, у самой линии экватора, измотала бы и выносливых мужчин, даже идущих налегке. Но тут и девушки несли не менее двенадцати килограммов, если вспомнить о карабинах, патронах и револьверах. Но ни единая жалоба не вырвалась из их уст! Тотор и Меринос не могли помочь им. Еще бы! Они продели ствол винчестера через гроздь бананов, и, взявшись за ствол и приклад, тащили чудовищно тяжелый груз через препятствия. К счастью, густой и неприветливый подрост занимал лишь край леса, где огонь когда-то изменил состав флоры. Пышная растительность понемногу редела и внезапно исчезала у берегов чистого ручья, текущего с востока на запад. — Стой! — скомандовал генерал Тотор. Задыхающаяся, уставшая, потная армия остановилась как вкопанная и свалилась на толстый ковер мха, обрамлявший русло. Однако муки жажды еще более невыносимы, чем усталость, по крайней мере для девушек, не обладавших выносливостью своих спутников. О, эта жажда, которая здесь, в прокаленных солнцем местах, валит с ног и сводит с ума! Девушки склонились над ручьем и принялись жадно пить из пригоршни. — Пожалуйста, будьте благоразумны, — мягко посоветовал Тотор, — прошу вас, только несколько глотков. Видите, мы с Мериносом воздерживаемся, и не потому, что не хочется. — Да-да, всего несколько капель, правда, Мэри? — Но не стесняйтесь поесть вволю. Можете очистить сколько угодно бананов. Тем более что это порадует обозников. Не мешкая армия начала подкрепляться, наслаждаясь передышкой. Но командующий, верный долгу, не тратил времени на отдых. Он достал из кармана карту и принялся изучать местность. Искал, рассматривал, ориентируясь с помощью буссоли, и наконец воскликнул: — Смотрите-ка, мне не померещилось! Если не ошибаюсь, мы всего в семидесяти километрах от Геельвинка[146]. — Что это такое — Геельвинк? — спросил Гарри с набитым ртом. — Большой залив, прорезающий северо-западное побережье Новой Гвинеи, он делит полуостров на две части. Вершина полуострова подходит к экватору. Залив прикрыт островами Жоби и Схаутен, его ширина у входа сто лье, а в глубине — шестьдесят, и, заметьте, побережье залива населено людьми, не похожими на отвратительных каннибалов внутренней части острова. Это относительно цивилизованный и довольно многочисленный народ. Говорят, их тысяч двадцать, они торгуют со своими соседями-малайцами и, главное, с голландцами. — Меринос, взгляни-ка на карту… И вы, мадемуазель, посмотрите. Всем нужно хорошо заучить эту местность, потому что неизвестно, что будет дальше. Кто знает, не придется ли одной из вас взять на себя командование и выбирать дорогу! — О, мистер Тотор, вы все видите в черном цвете! — Всего лишь простая предусмотрительность, мисс Нелли. Суровый опыт бродячей жизни приучил к ней вашего брата и меня. Так вот, вы видите залив Геельвинк, расположенный к северу от нас… Я говорю «к северу», потому что мы находимся у оконечности вот этой узкой глубокой бухты с поворотом направо, которая вдается в сушу с запада на восток. Бухта называется Киуру-Бей или Этна-Бей. Значит, нам нужно неуклонно идти на север, потому что мы находимся строго на юг от Геельвинка, около сто тридцать пятого меридиана к востоку от Гринвича. Итак, от пятнадцати до восемнадцати лье по прямой, ну, значит, двадцать со всеми поворотами, это не так уж страшно. А прибыв туда, мы сможем, надеюсь, выбраться домой без особых затруднений. При этих словах Нелли вскочила со всей живостью своих пятнадцати лет. — Но это же всего три перехода! Просто прогулка по лесу! — Сестренка моя дорогая, ты не знаешь, что говоришь. По девственному лесу не погуляешь, особенно когда по пятам за тобой идут головорезы Дика Сеймура, а может быть, и сам Дик Сеймур. В эту минуту легкая дрожь пробежала по раскаленным листьям. Оба молодых человека бросились к оружию, а генерал Тотор, выставив отсутствующий штык, закричал, как простой солдат на посту: — Стой! Кто идет? Ответа не последовало, но шелест листьев стал сильней. Внезапно над ручьем возникла изящная и ловкая фигурка. Несколько быстрых ее прыжков, и уже можно было разглядеть, что к группе беглецов приближалась молодая женщина. — Смотрите, это Дженни! — воскликнула Нелли. — Так вы нас не покинули! Как хорошо! В самом деле, это была туземка. Но как она изменилась за несколько часов! На плече кровоточила глубокая рана, тонкая кожа из бронзовой стала совсем серой, горькие рыдания, которые она тщательно пыталась сдержать, вздымали грудь, а слезы ручьем текли из больших, как у газели, глаз. — Дженни! Бедная Дженни! Боже! Что с тобой случилось? — с состраданием спросила Нелли. Очаровательная девочка, до глубины души потрясенная чужим горем, как сестра протянула руки юной туземке. Отчаявшаяся бедняжка бросилась к ней. У этой горлинки[147], которая не могла издать четко ни одного звука, вырывались рвущие душу стенания, крики, от которых бросало в дрожь. — В чем дело? Вы одна? — спрашивала Нелли. — Где те люди, которые вместе с вами спасли нас? Один — ваш брат, а второй — муж, не так ли, добрая моя Дженни? Несчастная сокрушенно кивала головой, била кулаком по своему исстрадавшемуся сердцу, потом закрыла глаза и упала навзничь, рассказывая в выразительной и трагической пантомиме, что обоих только что убили на ее глазах. — О, я уже все понял, мисс Нелли, — дрожащим голосом произнес Тотор. Глаза его наполнились слезами. — Негодяи! Дорогую же они взяли плату за нашу свободу. Девушка сама чудом спаслась от убийц. Посмотрите, сколько на ней крови! Да, Тотор был прав. Добрые туземцы еще раз доказали, что благодарность — опасная добродетель. Они на собственный страх и риск открыли дверь тюрьмы белым, которые спасли жену, сестру, — и гнусные бандиты подло убили их! А обезумевшей от горя свидетельнице кровавой драмы удалось бежать. Теперь, когда ее гнездо разорено и ее подстерегала смерть, она укрылась у белых, доверилась им. В благородном порыве она пришла, чтобы поделиться опытом дикарки, предложить свою преданность, спасти еще раз или погибнуть вместе с ними! Преисполненные благодарности и жалости, Мэри, Тотор и Гарри подошли, протянув навстречу ей руки. Растроганные, умиленные друзья окружили несчастную; парижанин принялся перевязывать ей рану. На минуту маленькая армия забыла о необходимом благоразумии. Волнение, вполне естественное, но очень несвоевременное, заставило их пренебречь мудрыми предписаниями устава полевой службы. И наказание последовало немедленно. Тотор стал искать в кармане носовой платок и радостно воскликнул: — Вот из чего сделаем повязку! Резкий свист прервал его. Послышался сухой удар: «Чпок!» Бамбуковая стрела с железным наконечником проткнула насквозь крепко державшийся на подбородном ремне шлем Тотора. Наконечник вышел сзади почти на метр, а красное оперение застряло и трепетало над козырьком, словно украшение. Испуганные девушки вскрикнули, а Тотор отреагировал с поразительным спокойствием: — У генерала должен быть плюмаж, вот я его и получил, к тому же шикарный. Спасибо! Меринос, убедившись, что друг невредим, принялся всматриваться острым взглядом во мшистые стволы. Шагах в сорока он заметил черный торс, чуть согнутый в характерной для лучника позе. Гарри осторожно поднял винчестер, нашел мушку и прошептал, нажимая на спусковой крючок: — Rascal[148], больше не будешь стрелять! Прогремел выстрел. Дикарь вскинул руки, выронил лук и упал ничком. Одновременно, будто выстрел послужил сигналом, глубины леса огласились ужасными воплями и множество чернокожих выступило из-за деревьев. Парижанин сказал девушке с хладнокровием, которое никогда его не покидало: — Вот видите, мисс Нелли, прогулки в лесу не лишены неожиданностей.
ГЛАВА 4
Каннибалы. — Кровавый отпор. — После битвы. — Как стать замечательным стрелком. — В пути. — Ночь на экваторе. — Лагерь. — Бессонница и страхи. — Ночные звери. — Свист и выстрелы. — О чем больше всего жалела мисс Нелли.Армия генерала Тотора считала, что имеет дело с одиночками, но ее окружили и внезапно кинулись в атаку десятка три человек. Такое массированное нападение и впрямь могло ошеломить. Люди возникали из-за деревьев, кустов, отовсюду. Они сомкнули вокруг белых кольцо, грозили, прыгали, испуская дикие крики. Этнограф[149] сразу признал бы арфаков или альфуру — самых смелых, но и самых жестоких из папуасов. Однако беглецы не были знакомы с этнографией и в данный момент вовсе не собирались изучать эту приятную, спокойную науку. Почему нападают эти неистовые туземцы? По своей воле или им платит Дик Сеймур? Сейчас и эти проблемы некогда было решать. Друзья заметили, что в левой руке у каждого из нападавших — большой лук из железного дерева и пучок из трех индейских стрел, длинных и гибких; в правой паранг — режущее оружие, нечто среднее между саблей и резаком, которым они отхватывают голову поверженному врагу. Невзирая на отчаянное положение, Гарри Стоун, любитель фотографии, не смог удержаться, чтобы не прошептать, снова вскидывая карабин: — Какой кадр! Надо бы броситься под прикрытие деревьев, притаиться за стволами! Но это невозможно! Кольцо сжималось. Беспорядочные телодвижения, дикие крики!.. Точным движением генерал Тотор обломил за своей каской мешавшую ему стрелу и громко скомандовал: — Спиной к спине и лицом к врагу! Стрелять только наверняка! Огонь! — Мэри, вам не страшно? — Нет, мисс Нелли. — Вот и хорошо! Будем защищаться! Безоружная Дженни держалась в середине маленького каре. Четыре выстрела грохнули под густолиственным сводом. Четыре альфуру упали, скошенные на бегу. Снова загремели винчестеры. Четыре врага, расстрелянные в десяти шагах, выделывая пируэты, полетели кувырком. Перекрывая вопли нападающих, послышалось сухое, вибрирующее клацанье металла — это стрелки лихорадочно передергивали затворы карабинов сверху вниз и снизу вверх. Раз! Два! Клац! Клац! Новый патрон, поднятый пружиной, уже занял место в патроннике под автоматически взведенной собачкой. Это заняло всего две секунды — и карабин снова готов к бою; приклад даже не отрывался от плеча стрелка. — Огонь! — опять раздался звучный голос генерала Тотора. В третий раз на врага обрушился град свинца. Пороховое пламя буквально обжигало волосы и подпаливало бороды арфакам, так близко они подошли в слепом порыве! — Черт возьми! Какой карамболь![150] — вскричал Тотор. Действительно, ужасный карамболь. Каннибалы находились так близко друг к другу, что пуля пробивала сразу двоих. Половина наступающих была уже на земле, со всех сторон на расстоянии шести — десяти шагов можно было наблюдать жуткое зрелище: кучу тел, дергающихся в последних судорогах агонии[151]. Кольцо прорвано, окружение разбито, вместо воинственных воплей, которые сначала, казалось, предвещали легкую победу, послышался хриплый вой. Это был сигнал к отступлению. Разгромленные в пух и прах папуасы засверкали пятками. Они наконец поняли, что им не разбить маленький сплоченный отряд, не одолеть отважных и энергичных людей, чье оружие бьет без промаха. — Огонь! — в четвертый раз скомандовал генерал Тотор. Бабах! И пули опять прошили темные тела, которые улепетывали, корчились и падали как скошенные! А голос парижанина гремел неумолимо: — Добить врага! Чтобы нечестивцы дрожали и помнили! Вероятно, туземцы и в самом деле не скоро забудут оказанный прием. Какая бойня! Но и какой урок! Наконец опасность миновала. Противник скрылся. Генерал счел, что должен произнести перед войском речь. — Мадемуазель Нелли и Мэри, вы были великолепны, ваша сноровка достойна вашей отваги, а это немало. Тут он заметил, что из больших голубых глаз Нелли тихо катятся две слезы. — Да, я понимаю, — сказал он негромко, — убивать ужасно, даже защищая свою жизнь! — О, мистер Тотор, это отвратительно… Отвратительно! Я с радостью отправилась в плавание, увеселительную прогулку, и не думала, что окажусь в таких жестоких обстоятельствах, о каких только в книгах читала! Я не знала зла, любила все живое; никогда не думала, что мне придется убивать! О, эти крики, угрозы оружием, падающие тела и ужасная опасность, которой мы подверглись!.. Пойдемте, пойдемте отсюда поскорей! В самом деле, даже если не принимать в расчет девичью чувствительность, нужно было срочно покинуть поле битвы. За папуасами придут белые, это уж наверняка: Дик Сеймур не такой человек, чтобы выпустить добычу из рук. Значит, придется перешагнуть через лежащие вокруг трупы или обойти их! Девушек пробирала дрожь, когда они уходили, преследуемые застывшими взглядами мертвых глаз. Тотор и Меринос собрались снова взвалить на себя гроздь бананов, оставшуюся на берегу ручья. Но Дженни, которая только что подобрала паранг, выскользнувший из рук одного арфака, жестом остановила их. Она быстро прицепила оружие к поясу саронга и, подхватив тяжелую гроздь фруктов, взвалила себе на плечи. — Она не слабей двух мужчин! — воскликнул Тотор. — И к тому же привыкла к тяжелой ноше, — добавил Меринос. — Знаешь, пусть меня сочтут недостаточно галантным кавалером, но согласен, пусть поступает как хочет, зато у нас руки свободны, а это очень важно. Спасибо, Дженни, спасибо! И снова на север. Друзья на ходу обсуждали бой, короткий, но такой ожесточенный и кровавый. Тотор никак не мог опомниться от удивления — настолько поразила его сноровка девушек, особенно Нелли, которой едва исполнилось пятнадцать лет. — Ничего странного, — ответил Меринос. — Ты ведь знаешь, что я без ума от стрелкового спорта. — Да, я видел, ты здорово стреляешь. — Так вот, в моей ловкости нет ничего удивительного, это увлечение многих молодых американцев. Из любви к стрельбе я велел установить во всех своих резиденциях ball-trapp. Знаешь, что это такое? — Да, машинки на пружинах, которые автоматически выбрасывают глиняные тарелочки. — Правильно! Так вот, каждый день я расстреливал сотню патронов. Нелли понравилась эта игра. Ей захотелось принять в ней участие, и я был счастлив стать учителем. Сестре удавалось, честное слово, разбить девяносто тарелочек из ста, как чемпионам! — Великолепно! — Так что, понимаешь, черномазые, которые побольше наших глиняных тарелочек, были легкой мишенью для такой мастерицы.
Маленькая армия продолжала марш через лес. Ведомая Тотором, который все время посматривал на компас, она неуклонно продвигалась на север. Друзья никого не видели, никого не встречали. Поверхностный наблюдатель мог бы успокоиться. Однако генерал Тотор был озабочен, хмурил брови и покачивал головой, не доверяя абсолютному затишью: оно казалось неестественным. Что-то говорило парижанину, что за его армией шпионят, следят, вокруг лазутчики, которые как ищейки идут по следу. Тотор хотел бы идти дальше, но ночь и непомерная усталость заставили беглецов остановиться. Известно, что на экваторе день начинается и кончается внезапно. Особенно это поражает вечером, когда после захода солнца сумерки едва заметны, коротки. В шесть часов дневное светило скрылось, и менее чем через десять минут наступил полный мрак. Неопытный путешественник, застигнутый внезапной темнотой, не успевает даже подготовить себе ложе. Но давно уже привыкшие к приключениям друзья чувствовали приближение ночи. Деревья и кусты скрывали от них горизонт и, следовательно, заход светила, однако нервы, интуиция или быстрая адаптация к кочевой жизни подсказали: ночь близко. Осмотрительный Тотор остановился, вгляделся в вершины деревьев, принюхался и сказал: — Через минуту великий газовщик выключит свой счетчик, и будет черно, как в дымоходе… Привал! Быстро! Устраиваем лагерь… тут — для леди, а тут — для джентльменов… вместо матрацев — земля, а вместо кровли — листья. Вам, девушки, эта большая, красиво цветущая мимоза[152], а нам — толстая акация, благоухающая сандаловым деревом[153]. Трава и мох будут общими. — Прекрасно сказано, генерал! Будем стелить постели. Они сложили оружие и патроны к корням деревьев, а Дженни уложила между ними провиант. Сделав это, папуаска срезала парангом большую покрытую листьями ветку и принялась изо всех сил колотить по траве и мхам. — Неглупо! — заметил Тотор. — Она выбивает матрац, чтобы прогнать насекомых. Поступим так же и мы. — Хоть блох нет, как там, на песке, в бухте миссис Жонас, — улыбнулся Меринос. — Нету, но зато здесь пауки, крабы, скорпионы, сороконожки, муравьи-бульдоги и даже зловредные змейки. Бейте! Бейте сильней! Лучше будете спать! Оставалось всего пять минут на ужин. По пять бананов каждому! Нет ничего проще и скромней этой еды. Здоровая, сытная пища, которая не требует ни приготовления, ни приправ. — К тому же, — серьезно заметил Тотор, — раз нет костей, можно есть не глядя, в темноте. Ночь уже наступила. Армия на ощупь добралась до своих квартир, которые находились всего в десяти метрах, и стала укладываться на пахучей траве. — Спокойной ночи, мисс Нелли! Спокойной ночи, мисс Мэри! Спокойной ночи, Дженни! — Спокойной ночи, генерал! Спокойной ночи, мистер Гарри! Бедная Дженни не ответила ничего, и ясно почему! Девушки тесно прижались друг к другу, а папуаска у них в ногах села на корточки в странной позе, свойственной некоторым черным племенам, которые любят спать, положив голову на руки, а локти на колени. Но она прислушивалась и всматривалась, пока Меринос и Тотор спали как убитые. Конечно, Нелли и Мэри проявили во время боя чрезвычайное бесстрашие, особенно если учесть их молодость и ужас перед каннибалами. Несмотря на опасность, хрупкие девушки устояли и не дрогнули. Однако, по мере того как кромешная пещерная темнота окутывала лес, ими все более овладевала тревожная дрожь, сотрясая с головы до ног. Сердце учащенно билось, к горлу подступала непонятная дурнота. Девушки не могли заснуть, ворочались, потягивались, таращили во мраке глаза, чтобы увидеть своих близких, но перед ними по-прежнему расстилался мрак! Они испытывали неодолимую жажду действия, хотелось встать, двигаться, что-то предпринять, но приходилось лежать неподвижно. — Мэри, вам страшно? — спросила Нелли подругу тихим, как дуновение ветерка, голосом. — О да, мисс Нелли, я очень боюсь! — Чего же, Мэри? — Не знаю, мисс Нелли. Всего и ничего. — Вот и я точно так же. Может быть, это усталость или жар… Или воспоминание об ужасной битве… Незнакомые звуки леса раскалывают мне голову, пронзают сердце. — Мисс Нелли, ничего страшного! Да, небольшой жар, нужно поспать. Придвиньтесь, положите голову мне на плечо, закройте глазки, как ребенок. А теперь спите! Сам по себе лес не грозил почти ничем. За малыми исключениями фауна[154] Новой Гвинеи, как дневная, так и ночная, совершенно безобидна. Она похожа на австралийскую — в ней нет опасных плотоядных хищников, которые водятся на соседних больших малайских островах. Странные существа привычно кишели в темноте, заполняя ее криками, топотом и шорохами. В ветвях деревьев суетился любопытный клан летучих мышей, которых там видимо-невидимо, начиная от совсем миниатюрной никтеры до гигантской филлосомы, чьи крылья раскрываются как зонтики. Мыши тихо порхали прямо над спящими, хватая насекомых — свой корм. Семьи опоссумов[155], сумчатых куниц[156] и кускусов[157] кувыркались и раскачивались на хвостах, испуская пронзительные крики, заглушающие страшный рев лягушки-быка[158]. Был тут и древесный кенгуру, замечательный прыгун, который, отталкиваясь ногами, забирается на самые высокие деревья, превращая их ветви, на которых и у обезьяны закружилась бы голова, в воздушные пастбища. Тут и там охотились на мелкую дичь змеи, а кабаны сшибались клыками и с бессмысленным хрюканьем тяжело проносились мимо. Мириады насекомых жужжали, летали, ползали, бегали, забираясь в колосья, набрасываясь на ягоды, точа фрукты, высасывая нектар из цветов, грызя почки, работая коготками, хоботками и челюстями. Полчища крошечных кровожадных москитов, этих ненасытных вампиров, набрасывались на белую кожу и буравили ее насквозь, вливая жгучий яд… Да, все это было бы скорее неприятным, чем тревожным, если бы время от времени не раздавался резкий свист, а вдали иногда не гремел бы раскат выстрела. Побежденные усталостью, девушки наконец заснули. Но теперь Тотор и Меринос вслушивались в необычайные звуки — сигналы тревоги и сбора. Сомнений не было. Их преследовали с диким остервенением. Огромная цепь смыкалась вокруг. Сигналы звучали справа, слева, в центре: преследователи двигались полукругом. Их будут подталкивать к побережью и в конце концов прижмут к берегу моря, где неизбежно настигнут! — Похоже, мобилизовали целую армию, — проговорил Тотор вполголоса, — но нас так просто не возьмешь! — Конечно нет, — решительно вторил ему Гарри, — пусть только сунутся! — Мы их перебьем, как вчера! Часы незаметно бежали в таком полусне. Наконец наступил рассвет. Солнце уже золотило самые высокие вершины деревьев, и ночные страхи отлетели. Армия генерала Тотора поднялась совершенно мокрой от росы. С лиц, рук текли ручьи, а одежда прилипала к телу, как после ливня. Но уже наступила жара. Через десять минут воины совершенно просохнут. А пока они брызгались, отряхивались и желали друг другу доброго утра. Однако Нелли о чем-то задумалась. — Вы что-то забыли, мисс Нелли? — спросил Тотор с чуть заметной дружеской иронией. — Да, генерал, целую кучу туалетных принадлежностей. Конечно, можно встряхнуться, как собачка, вылезшая из конуры, но не находите ли вы это неудобным? — Увы! Ваш багаж утерян! — Ах да, багаж, и не говорите! Его было слишком много! И все же, о чем я всего больше жалею, так это не о шелковых чулках, не о туфлях, платьях и прочем! Я даже забыла, что ботинки из лощеного шевро вот-вот развалятся и я рискую остаться босой… — Так что же это за драгоценность, мисс Нелли, отсутствие которых вы оплакиваете? — Гребень и зубная щетка, мистер Тотор! — By God! — воскликнул Меринос. — Проще королевство завоевать… А может быть, взять на абордаж «Морган», где остались наши несессеры? — Почему бы и нет? — решительно проговорил Тотор.
ГЛАВА 5
Погоня. — Пагубная неосторожность. — Тепловой удар. — Потерянное время. — Как продолжить путь. — Замысел Тотора. — Phormium tenax. — Бамбук. — Как построить плот. — Все на борт! — Отдать швартовы! — Вниз по течению.На экваторе вращение светил таково, что они каждый день описывают перпендикулярные горизонту крути с общим центром на оси север-юг. Вследствие этого все они остаются равное время над и под горизонтом. Значит, на экваторе дни строго равны ночам и в течение всего года длятся ровно двенадцать часов. Это вызывает немалое удивление европейцев, у которых понятие жары неизменно связывается с летом, то есть в наших широтах с очень длинными днями; к тому же в это время года утренние и вечерние зори так долги, что темноты почти не бывает. А в тропиках людям трудно привыкнуть к долгой темноте, которая наступает так скоро, что дни с их обжигающей жарой и ослепляющим светом кажутся короткими. Вот почему по вечерам, в шесть часов, слышатся удивленные восклицания: «Как! Уже ночь!» А утром, в тот же час, —нетерпеливые вздохи: «Что, все еще не светает?» На эту забавную и упорную аномалию[159] можно не обращать внимания в городе, где есть искусственное освещение, но она становится серьезной помехой для путешественника в необжитой стране, если он на долгие часы застревает на равнине, на реке или в лесу под деревьями. А что делать, когда ужин уже съеден? Не будешь же спать двенадцать часов. Вздремнув сначала, вскоре просыпаешься, куришь, предаешься мечтаниям, слушаешь симфонию звериных голосов, без конца ворочаешься в гамаке или на голой земле… Лихорадочное ожидание утра, нетерпение доходят до такой степени, что появление солнца становится подлинным избавлением. Эти впечатления полностью овладели маленькой армией генерала Тотора во время ночевки. Они были тем сильнее, что беглецы сознавали грозящую им огромную опасность. Тем не менее бедняги нашли в себе силы смеяться над отсутствием гребня и зубной щетки — беззаботность и веселый задор свидетельствовали о замечательном состоянии духа. Слегка приведя себя в порядок и проглотив скудный завтрак, состоящий из пяти бананов, который, как и вчерашний ужин, не занял и пяти минут, друзья готовы были выступить. Конечно, армия не жаловалась. Солдаты страдали безропотно, молча. В этом смысле они превосходили старых гвардейцев-«ворчунов», которые оправдывали прозвище, брюзжа по любому поводу. Так что главнокомандующий, у которого, как и у простых бойцов, живот подвело от голода, счел нужным объяснить скаредность интендантства. — Пять бананов! Хм! Прекрасно знаю, что это голодный рацион, но на вечер осталось всего двадцать пять. Чертова гроздь! Эти ветви как свинец, в них столько же веса, сколько в самих фруктах! А нам придется поголодать, если не найдем чего-нибудь съестного. — Но, генерал, — насмешливо прервала его Нелли, — раз эта гроздь — бесполезный груз, нужно немедленно избавиться от нее. — И я того хотел бы, мисс Нелли, но как быть с бананами? — Давайте засунем их в карманы, и у Дженни освободятся руки. — О, Боже! Какой же я дурак! Мисс Нелли, в вас вселилась душа великого военачальника! Шагая с оружием на плече мимо больших, с широко раскинувшимися кронами деревьев, они смеялись и шутили, словно компания школьников на каникулах. Время от времени вдали слышались выстрелы — приглушенные, но достаточно отчетливые, чтобы понять, что они исходят из широкого полукруга, который отсекает огромный кусок леса так, чтобы исключить любую попытку прорваться назад. — Все ясно, — сказал Тотор, — нас преследуют люди, хорошо знающие эти места. Как тогда, в Австралии, когда мы залезали на дерево с дорогим Бо, только сейчас наши дела еще хуже! — Да, — отозвался Меринос, — мы снова стали дичью! Нас хотят загнать в угол, спокойно, не спеша, но наверняка. — Так что же, господа, — вмешалась в разговор Нелли, — пойдемте вперед без остановок, опередим погоню. По-моему, это единственный способ ускользнуть! — Но вы не боитесь устать, мисс Нелли? — тревожился Тотор. — Ужасная жара отнимет у нас много сил. — Пойдемте же! — потребовала девушка с бесстрашной улыбкой. — Я никогда еще не чувствовала себя так хорошо! Сами увидите! Подчинившись возбуждению, которое поначалу охватывает белых, недавно прибывших в жаркие края, она встала впереди колонны рядом с Тотором и потребовала: — Быстрей, генерал, быстрей, шире шаг! Тотор, который с компасом в руке вел войско через подлесок, едва поспевал за ней. К несчастью, он не знал, как губительно такое легкомыслие. Неразумно ускоренное движение вызывает в молодом, еще хрупком организме резкий скачок температуры, который не уравновешивается испарением, несмотря на ручьи пота. Дыхание становится недостаточным для кровообращения; и венозная кровь полностью не превращается в артериальную. Наступает тепловой удар, асфиксия[160]. Прошел всего лишь час, и Нелли, у которой вдруг потемнело в глазах, остановилась, подняла руку к лицу, пошатнулась и еле слышно вскрикнула: — О, Боже! Она покраснела, затем побледнела, и ее начала бить дрожь. Заметив, что девушка падает, Тотор бросился к ней; поддерживая, спросил испуганно: — Мисс Нелли, что случилось? Что с вами? Подбежали Гарри, Мэри и негритянка, шедшие следом. — Нелли, сестренка! О, Боже, смилуйся над нами! — воскликнул испуганный Гарри. Тотор осторожно положил больную на толстый травяной ковер и устроил ей подушку из своей сложенной вчетверо куртки. Она посмотрела на растерянную группу потухшим взглядом прекрасных больших глаз и прошептала: — Все обойдется… Гарри, Тотор, добрая моя Мэри… друзья, брат мой любимый! Я… я не вижу вас больше, я засыпаю! — Она же умирает! — всхлипнул Гарри, а Тотор, бледней самой Нелли, смотрел на нее безумным взглядом. Бедные друзья, такие храбрые перед лицом опасности, как молнией были поражены неожиданной бедой. Бесстрашие готовых к бою мужчин, хладнокровие невозмутимых бойцов, находчивость искателей приключений — все это испарилось перед лицом внезапной напасти, поразившей сестру, подругу. Только рассудительная и энергичная Мэри сохранила завидное спокойствие. — Господа, — властно распорядилась она, — принесите воды. Вы, Дженни, останьтесь. Пожалуйста, поскорей, прошу вас. Я отвечаю за все. Воды! Она тут совсем недалеко! На карте, которую непрестанно изучал Тотор, была обозначена река. Юноши ушли и, пройдя лесом около пятисот метров, нашли по правую руку поток, несущий свои воды на север. Быстро наполнив каски, они бегом — не прошло и десяти минут — возвратились. За это время Мэри расстегнула одежду больной и с помощью Дженни принялась растирать ей руки и грудь; затем, видя, что Нелли лежит недвижно, сжав губы, закатив глаза, стала умело делать ей искусственное дыхание. Когда вновь появились задыхавшиеся, бледные друзья, Нелли глубоко вздохнула и открыла глаза. Она увидела их, попыталась улыбнуться, хотела что-то сказать, но не смогла. Тем не менее эти первые движения успокоили путешественников. — Что с ней, мисс Мэри? — спросил Тотор срывающимся голосом. — Вы видите, ей лучше, гораздо лучше, — ответила девушка. — Наверно, тепловой удар, мисс Мэри? — Да, месье, тепловой удар. Он мог быть смертельным. Но потребуется всего лишь день отдыха. В глазах друзей мелькнуло отчаяние. Меринос прошептал: — Через двенадцать часов, а может быть, и раньше, появятся бандиты, преследующие нас по пятам, как свора собак. Верно, Тотор? Парижанин кивнул и после минутного раздумья сказал: — Это уж точно, как пить дать! И все же мисс Нелли необходимо отдохнуть, и не двенадцать, а все двадцать четыре часа. А нам нужно ускользнуть от проклятого Дика… — Но это невозможно! — Попробуем! Мне кое-что пришло в голову. — О, Тотор, у тебя наверняка есть план, какая-то гениальная идея, из тех, что так часто выручали нас в самых отчаянных ситуациях! Тем временем Мэри взяла одну из наполненных водой касок и щедро облила лицо больной, которая понемногу возвращалась к жизни. Гарри опустился на колени рядом с сестрой и поцеловал ее в лоб: — Надейся, дорогая моя сестренка! Надейся. Лежи спокойно и, главное, ничего не бойся. Вот увидишь, наш Тотор еще раз спасет нас. Девушка вяло протянула руку парижанину, пытаясь изобразить шаловливую улыбку, придававшую ей невыразимое очарование, и прошептала: — Спасибо, генерал! Тотор, восторженно глядя на сестру Гарри, пожимал ее слабую кисть. — Вы так напутали нас, мисс Нелли! Мы совсем потеряли голову. Если б не мисс Мэри, еще неизвестно, чем бы это кончилось! Но хватит болтать, у нас всего десять минут, чтобы устроить носилки… — Носилки! Не хочешь ли ты нести на них Нелли через… — Вот именно! До реки. — А потом? — Потом — увидишь! А сейчас нужно хорошенько поработать. Они работали так хорошо, что менее чем через полчаса, без толчков и сотрясений, с бесконечными предосторожностями донесли девушку до реки. Носильщики бережно положили ее на второпях устроенное ложе из папоротника, а затем Тотор скомандовал: — Теперь все за работу! Мисс Нелли, вы будете наблюдать за нами, если только не захотите поспать. Начнем! Сначала дамы… Мисс Мэри, вы, конечно, видите на берегу красивые листья великолепного темно-зеленого цвета, похожие на камышовые. Должно быть, это и есть phormium tenax… — Тотор, — прервал его Меринос, — ты просто кладезь премудрости! — Скажем даже — пропасть, и не будем больше об этом. Я продолжаю. Мисс Мэри, пожалуйста, вместе с Дженни срезайте самые длинные, не меньше двух метров, и связывайте концы. Они толстые, волокнистые и послужат нам прочными канатами. А мы, Мериносик, пойдем валить эти огромные, как в Австралии, шесты, у которых такие красивые тонкие листья, посеребренные снизу. — Да, генерал, но какие они твердые! Похожи на солому, но толще ноги и высотой метров под двадцать. — Ну да! И ты не знаешь, что это такое? — Нет. — Это просто бамбук. Здесь — его излюбленные места, и он растет вольготно, во всю мощь. Пустой внутри, как печные трубы, сухой, как рог, будет плавать как пробка, и из него получится самый шикарный в мире плот! — Браво, браво, Тотор! Да, на плоту мы быстро спустимся вниз по течению! Болтая, они рубили изо всех сил. Косо срезанные стволы бамбука наклонялись и тяжело падали. Вот на земле оказалось уже штук двадцать. Тотор разрубал их на равные десятиметровые части и с помощью Мериноса укладывал вдоль берега, даже не тратя времени на очистку от ветвей. Он связывал их на обоих концах канатами из формиума, которыми обильно снабжали его две женщины, получившие точные инструкции. Через два часа тяжелой работы остов плота длиной в десять и шириной в семь метров был готов. Общими усилиями беглецы столкнули в воду примитивное судно и крепко привязали его к деревьям. — Надо рубить еще! — воскликнул Тотор, отирая лоб рукой. И друзья с новой силой принялись рубить бамбук, пока обе женщины без передышки резали, скручивали и связывали листья формиума. Новые стволы также были разрублены на десятиметровые куски, принесены на берег и положены напротив начатого плота. Гордый Тотор забрался на остов плота и радостно сообщил: — Он уже выдержит нас. Только ноги будут в воде по щиколотку. Передай мне еще один ствол! Гарри подтащил огромный бамбук к парижанину, тот подхватил его и уложил поперек первых стеблей, удерживая конец на колене. — Хорошо, теперь немного бечевки! Француз быстро привязал с двух сторон и в центре первую поперечную балку к продольным, это заняло около десяти минут. — Давай, давай, пошевеливайся! Бегом! Еще один ствол! Еще бечевки! Мисс Мэри, уже довольно, благодарю вас, можете отдохнуть. А как вы, мисс Нелли? Получше стало? Тс-с! Не галдеть! Наша больная уснула, пусть отдохнет. Хороший сон — лучшее лекарство! Болтая без умолку, плескаясь в воде, подгоняя стволы и связывая их, приглядываясь ко всему, одержимый парень с проворными движениями и отточенным языком работал так споро, что за два часа трудная задача оказалась выполненной. Сооруженный в спешке плот способен был выдержать любое испытание на прочность. Собранный из соединенных поперечинами стволов, он оказался тем более прочным, что вода стянула все узлы импровизированных канатов. Словом, плот вел себя на воде как единый блок, который ничто не может ни разметать, ни поколебать. — Такой и двадцать человек выдержит! — гордо выпятил грудь Тотор. Великолепный результат всего четырех часов работы — дело рук двух женщин и двух юношей, которым не больше семнадцати лет! Американца Гарри удивить трудно, но он был поражен до глубины души. — Знаешь, — обратился он к другу, — не могу прийти в себя от изумления, я просто рот разинул! Еще немного — и зареву от восторга, запрыгаю, глупости буду во весь голос кричать, вот только боюсь разбудить нашу Нелли. — Тс-с! Придержи язык! Ну и хорошо, что уже кончили. Теперь нужно нарезать побольше папоротника, чтобы заткнуть щели и превратить плот в хороший матрац. Жаль, мало времени! Мне бы хотелось поставить хижину, как на сампанах[161], установить руль, запастись продовольствием. Но удовлетворимся тем, что есть! — Да, друг мой! Не стоит искать лучшего, которое часто враг хорошему! Достаточно оказалось получаса, чтобы заполнить все промежутки папоротником. Теперь плот представлял собой ровную, абсолютно устойчивую площадку. В завершение Тотор срезал две прочные жерди и, очистив их от листьев, сказал: — А это будут отличные шесты! С их помощью мы без резких толчков поведем наше великолепное судно к морю. — Замечательно! Я горжусь им больше, чем «Морганом»! — Ну, хватит болтовни, не вгоняй меня в краску. Сейчас, наверное, уже полдень, пора отплывать! О, Боже, сколько времени потеряли! — Ничего, наши преследователи тоже нуждаются в отдыхе. — К счастью! Все готово? Все на борт! Полюбуйтесь Тотором — настоящий адмирал! Ну точно так же, как когда строил и спускал на воду «Нарвал», а затем командовал импровизированным судном! Плот, прочно привязанный с двух концов канатами из формиума, стоял у берега. Меринос, единственный матрос, держал наготове шест. Он посмотрел на больную, все еще спящую в тени на своем ложе: — Мисс Мэри, разбудите, пожалуйста, мисс Нелли. Девушка всего лишь дремала. Она открыла глаза, увидела плот и прошептала: — Господа, я все вижу. Вы — настоящие волшебники! Нелли попыталась подняться, но слабость заставила ее опереться на Мэри и папуаску. Шатаясь, она сделала несколько шагов, отделяющих ее от плота. Тотор поднял девушку, как ребенка, и бережно положил на пахучий слой листвы. Обе женщины тоже сошли на плот, и возбужденный Тотор скомандовал: — Отдать швартовы! Американец обрубил оба каната, и плот медленно поплыл вниз по течению.
ГЛАВА 6
Восторги. — Полезно и приятно. — Набег. — Фруктовое пиршество. — В темноте. — Подозрительный сон. — Терзания Тотора. — Все недвижимы. — Тотор предпочитает умереть! — Знакомые звуки. — Паровой катер. — В плену.Река спокойно текла в высоких берегах. Ширина ее была невелика — двадцать — двадцать пять метров, глубина два-три метра. Вода чуть солоноватая, спокойная. Вершины высоких деревьев, смыкаясь, образовали нечто вроде туннеля, скрывая реку от безжалостных огненных лучей. Это предвещало беглецам безопасность и легкость передвижения, тем более что размеры и прочность плота были идеальны. Если бы не погоня, вынудившая наших героев отступать, плавание можно было бы счесть прогулкой подростков — любителей приключений, которые отправились в поход, чтобы насладиться природой. — Как вы себя чувствуете, мисс Нелли? — спросил Тотор, правивший при помощи шеста. — Как под балдахином, генерал. — Теперь можешь называть его адмиралом, — смеясь, уточнил Меринос. — Прекрасно! Тем более что вы отлично выносите тяжесть совместительства, адмирал Тотор. Мне кажется, что я лежу под балдахином и плавно двигаюсь посреди сказочного пейзажа! — Правда, это смахивает на движущиеся тротуары. — Лежа с полузакрытыми глазами на удобной папоротниковой постели, убаюканная медленным и плавным движением, я с восторгом наблюдаю парад деревьев, цветов, трав, прелестных красок… меня опьяняет яркий свет, который умеряется зеленым сводом и мягко ложится на все вокруг… Я не могу отвести глаз от волшебной, почти сверхъестественной картины! Мэри и Дженни, сидевшие рядом с девушкой, внимательно слушали ее, а Меринос легкими движениями шеста направлял плот, такой устойчивый, что даже не качался. Можно было подумать, что это ковер, прилипший к поверхности реки, или колоссальный лист виктории-регии[162] — гигантского водного растения жарких стран. Время от времени они проплывали мимо огромных зарослей канн[163] с длинными атласными листьями, из которых поднимались величественные пурпурные цветы. Взлетали вспугнутые неуклюжие, шумные, толстые утки, проворные и быстрые мандаринки, несколько одиноких цапель, стаи комичных голенастых жакана[164], которые, казалось, вот-вот потеряют свои несоразмерно большие лапы. Иногда реку пересекала пара фазанов. С золотом и изумрудом на крыльях, блеском эбенового дерева на манишке, лазурью[165] и пурпуром[166] на мантии, они пролетали с пронзительным криком, а тем временем стая опьяненных солнцем райских птиц, неумолчно щебеча, резвилась в вышине. Сияющая, восхищенная Нелли воскликнула с некоторым возбуждением, вызванным повышенной температурой: — Мы действительно в стране чудес, и я готова забыть все ради этого великолепия. Прежде мне такое могло лишь присниться. Никогда не предполагала, что природа может быть столь щедрой! — Да, мисс Нелли, — ответил Тотор, — мы тоже, можно сказать, зачарованы! — Однако, — вступил Меринос, — это не мешает нам думать о сложившейся ситуации. — Не слишком-то она весела, эта мадам Ситуация, — покачал головой Тотор, — и может разрешиться совсем просто и однозначно. Представьте себе, некий человек падает с площадки Эйфелевой башни или просто с собора Парижской Богоматери. Пока он между небом и землей, — ничего, сносно… он не чувствует ни толчков, ни неудобств и вправе сказать себе: «Сейчас мне очень хорошо!» Но, подумав, добавит: «Да, но что же произойдет, когда долечу до земли?» — Адмирал, у тебя похоронное настроение! — Пусть так! Главное, я не питаю иллюзий. — Я тоже! И не настолько далек от реальности, чтобы не испытывать голод, настоящий голод матроса, которому вчетверо урезали паек. Нелли, которая сидела к юношам спиной и, следовательно, смотрела вперед, прервала их, хлопая в ладоши: — В самом деле, одно наслаждение быть беглецами в таких условиях, можно поверить, что нас хранит добрая фея! Смотрите же, адмирал Тотор, смотри, Гарри! Такой сад и миллионер не мог бы насадить! Обернувшись, плотогоны увидели настоящий земной рай, где теснились апельсиновые, цитроновые, манговые, хлебные деревья. Бананы, банкули, драцена[167] соседствовали с арековыми[168] и саговыми пальмами. И ни живой души вокруг! — Причаливаем, причаливаем! — закричал Тотор. — О, радость для глаз и пиршество для зубов! — И восторг желудка! Фрукты, которые можно есть и в то же время пить! — Которые можно пить и в то же время есть! — Я сойду на берег! Адмирал, ты позволишь? — Конечно! — Хочу заготовить целую гору, чтобы мы могли наесться до несварения желудка. — Иди. Но прихвати револьвер. И, знаешь, будь осторожен, вдруг появится хозяин или сторож. А я буду начеку и винчестер положу рядом. Дженни угадала намерение Мериноса и, пока Тотор привязывал плот к прибрежным кустам, ловко спрыгнула на берег вслед за Гарри. Американец и папуаска кинулись опустошать сад. Но он оказался так велик, деревья так гнулись под тяжестью фруктов, что этот налет был ему совершенно не страшен. Тут могли целый месяц кормиться сто человек! Так как корзин не было, Меринос снял куртку, набил ее всем, что попадалось под руку, и быстро отнес груз на плот. Дженни наполнила свой саронг, вслед за Мериносом сгрузила добычу и быстро вернулась. Ловкие и старательные мародеры работали с таким усердием, что менее чем за двадцать минут на бамбуковой площадке возникла живописная груда замечательных, совершенно спелых фруктов, аромат которых щекотал ноздри изголодавшихся путешественников. — Черт возьми, — проговорил Тотор, забрав целую охапку, — трем зеленщикам хватило бы нагрузить свои тележки! Да это затмит самые шикарные витрины месье Шеве! Начали, дети мои! Навались! Надо ли говорить, что после стольких лишений каждый постарался отпраздновать удачу. Матрос Гарри предоставил плоту дрейфовать по течению, адмирал Тотор забыл, что должен отдавать команды. Выздоравливающая пассажирка Нелли и не вспоминала о своем недуге, сиделка Мэри снабдила едой хозяйку, не забыв и о себе, добрая дикарка Дженни прямо-таки из кожи лезла, стараясь объяснить, как туземцы чистят, обдирают, лущат, обрезают и делят прекрасные плоды. Каждый ел в три горла, а за плотом рыбы по-свойски хватали шелуху, кожуру, семечки, зернышки и прочие мелкие остатки пиршества. На время были забыты опасности, погоня, Дик Сеймур, его бандиты и их помощники, загонщики-дикари, которые прочесывали лес. Впрочем, плот по-прежнему спускался по течению. Значит, время не терялось даром. Прямо на борту они хорошо поели, утолили жажду. Пассажиркам осталось лишь отдохнуть после обеда, а адмирал и его матрос снова взялись за шесты. Тотор и Меринос считали, что плот движется со скоростью двух узлов, то есть около четырех километров в час. Если плыть всю ночь, можно надеяться, что к утру они достигнут моря. А это означало свободу, безопасность, надежду на скорое возвращение домой! Парижанин снова всматривался в карту и тщательно изучал реку. — Все в порядке! Поток неуклонно скатывается к заливу Геельвинк… ничего подозрительного, ни плотин, ни водопадов, ни перекатов, ни порогов… только две красные полосы на половине расстояния между ними и морем да непонятная надпись от руки. — Покажи-ка, — попросил американец. — Ну и ну! Я ничего не понимаю! На каком же языке это написано? — Вероятно, на малайском. — Жаль! Тут наверняка ценные сведения. — Нечего делать, придется плыть и пробиваться дальше во что бы то ни стало. Восторгам путешественников не было конца. Адмирал и матрос стали энергично отталкиваться шестами, и движение ускорилось. Так продолжалось до заката. С последними лучами солнца путешественники скромно поужинали, и пассажирки принялись устраиваться поудобней, чтобы хорошо выспаться. Наступила ночь. Тотор предложил Мериносу заступать на вахту по очереди. — Как на корабле! Идет! — ответил американец. — Кто первый? — Я, потому что вечерняя вахта после целого рабочего дня самая трудная. Я не хочу спать, а ты зеваешь так, что вот-вот челюсть свернешь. Давай, старина, вздремни, я тебя разбужу около полуночи. — Договорились! Спокойной ночи, Тотор! Спокойной ночи и спокойной вахты! — Спасибо! А тебе приятных снов! Как всегда в этих местах, резкое исчезновение солнца погрузило всю природу в непобедимую сонливость. Один Тотор, человек со стальными нервами, противостоял ей. Вскоре глубокая тьма поглотила плот. Тотор ничего не видел и правил наугад, радуясь, когда луч какой-нибудь звезды проникал сквозь свод листвы, тихонько падал вниз и исчезал, отражаясь и дрожа в воде. — Наверняка они вынуждены прервать погоню, у них же нет судна, — говорил себе бравый Тотор. — А завтра мы оставим их в дураках. Будь благословенна ночь, которая покровительствует нашему бегству. Однако часы бежали. Тотор уже прикидывал, много ли осталось до полуночи и не пора ли будить Мериноса. Растительность на берегах внезапно исчезла — не было больше гигантских деревьев, высоченных трав; река будто вошла в коридор, образованный невысокими скалами. При свете звезд, уже не скрытых листьями, Тотор увидел мрачный пейзаж, охваченный мертвенной тишиной. «Должно быть, это то самое подозрительное ущелье, обозначенное на карте двумя красными чертами, — подумал он. — Нужно держать ухо востро, придется маневрировать вдвоем! Наверняка здесь подстерегает опасность!» — Эй, Меринос! Вставай, на вахту! Вставай! — принялся он тормошить друга. Никакого ответа, ни малейшего движения, даже вздоха! Не только юноша — не шевелилась Нелли, ее верная Мэри и добрая негритянка тоже оставались недвижны. Тотор повысил голос: — Меринос! Эй, Меринос, проснись! Мисс Нелли! Мисс Нелли, проснитесь, ответьте мне! Скажите хоть слово! Эй, Меринос! Четверо спящих по-прежнему хранили странную, тревожную неподвижность поверженных статуй. Несмотря на свою бесспорную храбрость, Тотор испугался, сердце его тревожно забилось. Его бросило в жар, по телу пробежала дрожь, волосы стали мокрыми от пота. Предчувствуя несчастье, парижанин застыл в растерянности, вцепившись в шест руками. Вдруг в окружающей глухой тишине он различил идущий от воды смутный шумок, что-то вроде звука лопающихся пузырьков, шипения пенящегося шампанского, закипающей жидкости. Опустив шест, он принялся трясти американца за плечо, взывая: — Меринос, дружище, ответь же! Но юноша остался неподвижен, руки его вялы, как у человека в коматозном состоянии[169]. Тотор бросился к Нелли, взял ее за руку и проговорил прерывающимся голосом: — Мисс Нелли! И вы меня не слышите? Мисс Нелли! Как и брат, девушка была недвижна, безмолвна и бездыханна. Ужасная мысль как раскаленным железом пронзила мозг Тотора, он пробормотал в отчаянии: — О, Боже, неужто они мертвы? Но это же невероятно — так погибнуть! Может быть, отравлены? Значит, эти фрукты… Но нет! Ведь я жив и здоров. Тогда что же? Смертельный газ, исходящий из реки, это бульканье со всех сторон… Запаха нет. Что за газ? Может быть, углекислый? Он легче воды и поэтому проходит через слой жидкости… Он тяжелей воздуха, поэтому скапливается на поверхности реки… Да, это он! Говоря с самим собой, Тотор по-прежнему держал девушку за руку, склонившись над ней. Вдруг он почувствовал в горле и в носу легкое покалывание; воздух вокруг был какой-то тяжелый, со странным кисловатым запахом. Внезапно закружилась голова, помрачилось сознание, юноша пошатнулся. Голова стала тяжелеть, тупеть, наливаться кровью, в ушах зазвенело, в глазах потемнело. Ничего сделать Тотор не успел. Он медленно наклонился, упал на колени, помутневшим взглядом смотря на тела, от которых, похоже, уже отлетела душа. Всхлипывания перешли в хрип, юноша рухнул на бок, последней мыслью было: «Я тоже умираю, как они… я с ними. Пусть. Я не смогу их пережить…» Однако зрение и слух еще не отключились. Сначала парижанину показалось, что плот останавливается. Какое-то препятствие преградило путь — вероятно, скала. Резкий удар сотряс судно… И тогда сквозь шум, который раскалывал виски, головокружение и звон, раздиравший уши, сквозь сердцебиение, готовое разорвать грудную клетку, возник странный, знакомый звук. Тюх… тюх… тюх… тюх! Прерывистое дыхание, что-то вроде металлического кашля, ритмичное пыхтение, сопровождаемое стуком колес и зубчатых передач. Его опытный слух механика не ошибался относительно происхождения этих звуков, усиливающихся под аркадой деревьев. Тюх… тюх… тюх… тюх… «Паровой катер… погоня… враг… лучше умереть!» Грохот усиливался, убыстрялся, вызывающе громко прозвучал свисток. Команде катера незачем было скрываться. К тому же установленный впереди электрический прожектор широким лучом ослепительно освещал реку и ее берега. — Спокойно! — послышался повелительный голос, перекрывший шум мотора. — Не торопиться! — Капитан, — прокричал другой, голос низкий и хриплый, — я вижу этот проклятый плот! — Далеко? — Нет, в пятидесяти ярдах! — Стоп! Катер продолжал движение по инерции и медленно приблизился к плоту, упершемуся в выступ скалы. — Багры! — послышался снова первый голос. Два длинных шеста протянулись слева и справа от прожектора, как усы чудовищного зверя из кошмарного сна. Нос катера уткнулся в плот. — Зацепляйте быстро и надежно! Готово? — Да, хозяин! А их тут много! — Держи хорошенько! Осади назад! Таща за собой плот на железных крюках, катер задним ходом вышел из ущелья, наполненного смертельными испарениями. Снова лес, высокие деревья над водами, которые уже не пузырились так странно и беспокойно. Катер подошел к берегу и пришвартовался. Два человека спрыгнули на землю и привязали плот. Затем осторожно подняли по-прежнему недвижные тела беглецов и по одному передали через борт матросам. — Эй, они не мертвые? — Вряд ли! — Вот пошла бы работа коту под хвост! — Они и двух минут не дышали газом. — Это уже много! Слишком много! — Подумаешь! Бывает, что возвращают даже из более далеких путешествий в иные миры, а уж этих постараются вернуть к жизни. — Готово? Все на борт! Нелли, Мэри, папуаска и двое юношей лежали на большом брезенте, расстеленном на палубе. Катер развернулся и отошел от плота. Вскоре он уже мчался на предельной скорости вверх по течению, следовательно, в направлении, противоположном заливу Геельвинк, и возвращался к Норт-Пойнту. …К Норт-Пойнту, где их ждал Дик Сеймур, смертельный враг!
ГЛАВА 7
Об углекислом газе. — Грот Собаки. — Пробуждение. — Бандит Дик Сеймур. — Признания. — Выкуп. — В закладе голова! — Двухнедельная отсрочка. — Убийца. — Бедная Дженни! — За оскорбления отдельная плата. — Тотор приговорен к смерти.Углекислый газ повсеместно распространен в природе, источники его бесконечны. Назовем некоторые из них. Прежде всего, он получается при горении угля и органических веществ, содержащих углерод. Значит, нет открытого огня без углекислого газа. На земле он встречается повсюду, начиная с вулкана и кончая спичкой. Еще он выделяется при обжиге известняков или их окислении. Именно так изготавливаются газированные воды, в частности, сельтерская вода[170]. Углекислый газ является еще продуктом дыхания людей и животных, а также алкогольного или гнилостного брожения. Вулканы освобождают огромные его количества, а в некоторых странах он спонтанно выделяется из земли[171] через известняковые участки и покрывающие их воды. Жертвой именно такого выделения газа стали на плоту юные герои этой драматической истории. Добавим, что атмосфера на четыре десятитысячных состоит из углекислого газа. Плотность его равна 1,529, он в полтора раза тяжелей воздуха, в чем и заключается одно из самых любопытных свойств этой субстанции. Он может как жидкость переливаться из одного сосуда в другой. Именно благодаря своей плотности он собирается в низких частях тех мест, где выделяется: в колодцах, шахтах, пещерах, ложбинах, трубах, подвалах, бочках для вина и так далее. Газ не ядовит, но дышать им нельзя. Живые существа, вдыхая его, погибают из-за отсутствия вытесненного им кислорода. И удушение происходит довольно быстро, даже если углекислый газ перемешан с атмосферным воздухом. Все слышали, хотя бы краем уха, о знаменитом гроте в Поццуоли, недалеко от озера Аньяно в Италии, который называют гротом Собаки. Его покрывает слой углекислоты толщиной в шестьдесят пять — семьдесят сантиметров, возникший, кажется, от термального источника[172], газ которого выделяется из почвы. У сторожа есть собака, которая сопровождает хозяина, когда тот показывает грот туристам. Через две-три минуты собака, поневоле дышащая углекислым газом, падает от удушья, а посетители не испытывают никаких неудобств и дышат чистым воздухом, так как слой углекислого газа доходит им только до колен. Теперь понятно, почему наши юные друзья, лежавшие на плоту, задохнулись во сне. Объясняется и то, почему Тотор был неуязвим, пока стоял на ногах, и тоже потерял сознание, когда, наклонившись, погрузился в слой углекислого газа, выделявшийся из миллионов пузырьков в русле реки. Все это было наверняка известно Дику Сеймуру, который руководил яростной погоней за беглецами. Прошло двадцать четыре часа. Нелли, Мэри, папуаска, Тотор и Меринос вернулись к жизни. Перенесенные в темноте в закрытые помещения, еще без сознания, друзья проснулись совершенно разбитыми и не понимали, что происходит. Они оказались запертыми поодиночке, в темных комнатах и считали себя во власти страшного кошмара. Понаблюдаем за пробуждением начальника экспедиции. Генерал Тотор был не в лучшей форме. В голове тяжесть, ни единой мысли, ломят ноги. Он хотел было сладостно потянуться, но это ему не удалось. «Что со мной? — удивился юноша про себя. — У меня все одеревенело! Ей-богу, я еле двигаюсь. Тьфу, черт! Руки и ноги связаны! И бечевка отнюдь не тонкая, едва позволяет шевелить конечностями. Все ясно! Я в плену. Или у меня котелок не варит, как после солнечного удара…» — Эй, Меринос! Мисс Нелли! Ну-ка, вспомним! Плот, река… о, я припоминаю… жуткая картина, головокружение… А потом что? Катер, шум винта, электрический прожектор, вот-вот… меня… нас схватили! А теперь я один, разлучен со своим войском. Ему нечего бояться, моему войску, есть кому заплатить выкуп. А вот со мной… что же со мной будет? А то будет, что я прежде всего поем, потому что в жизни всегда нужно позаботиться о желудке, пока можешь. Вот галеты, ветчина, фрукты и кувшинчик, значит, перекусим, промочим горло, а потом… Ну да ладно, будь что будет! Прошли долгие часы. Наконец Тотор услышал глухой скрип, потом скрежет засова. Дверь его клетушки отворилась, и на пороге появился человек в матросской одежде, с револьвером. — Come here![173] — приказал неизвестный. Тотор ответил, не тратя лишних слов: — Хорошо! Неизвестный бесцеремонно схватил его за лацкан куртки, сунул дуло револьвера в ухо и повел за собой. Связанный Тотор мог передвигаться только мелкими шажками. Оба шли по длинному, обитому толстыми досками коридору, в конце которого видны были дверь и охраняющий ее матрос с винчестером. «Черт возьми, военное положение!» — заметил Тотор. Ничему не удивляющегося парижанина ввели в обширный, уже знакомый ему зал. Именно здесь произошла первая встреча с чудесно обретенными вновь Нелли и Мэри. Радостные крики приветствовали его: — Тотор, дружище! Генерал! Мистер Тотор! Он ответил, поднимая связанные руки: — Какое счастье! Мисс Нелли, мисс Мэри, старина Меринос и храбрая Дженни, которая не говорит, но зато думает… Что вам известно? — А тебе? Какое ужасное пробуждение! Вдруг с противоположной стороны распахнулась двухстворчатая дверь, выходящая на эспланаду над морем. В проеме появилась мощная фигура человека, которого они только мельком видели после захвата «Моргана». Это был мистер Дик, или, вернее, Ричард Сеймур, знаменитый бандит! Глубокая тишина наступила при его появлении. Пришедший буравил пленников острым взглядом черных глаз. Он был прилично одет, костюм элегантен, движения раскованны. Поприветствовав всех высокомерным кивком головы, вошедший небрежно бросил: — Поговорим! Мистер Дик сел за стол, перед которым то ли случайно, то ли намеренно выстроились беглецы и испуганная, дрожащая туземка. Нелли, Мэри, Тотор и Меринос разглядывали бандита с великолепным хладнокровием, к которому примешивалось любопытство. Безупречно вежливо, с мягкой интонацией он обратился к Нелли: — Прошу вас, мисс Нелли, принять мои извинения за все неприятности. Но они происходят отнюдь не по моей вине, ибо я приказал, чтобы с вами обращались со всем уважением, которого вы заслуживаете. И вы, мистер Гарри, также простите мне, если я невольно стал виновником перенесенных вами страданий. Вступление было столь неожиданным, что оба юноши и девушки, не смея верить собственным ушам, в изумлении переглянулись. Какую новую ловушку, какую жестокую иронию скрывают медоточивые речи, подчеркнутая вежливость негодяя, для которого человеческая жизнь не дороже жизни насекомого и который похваляется, что никогда не знал милосердия! «Точно, он насмехается над нами! — решил Тотор. — Ну погоди же, страшилище! Я тебе отплачу той же монетой!..» — А как же я, мистер Дик? Почему вы у меня не просите прощения за свинство по отношению ко мне? Это, знаете ли, невежливо! Бандит хладнокровно ответил: — Уж слишком вы остроумны, мистер Тотор, это погубит вас во цвете лет! Но позвольте закончить разговор с мисс Нелли и ее братом, а потом буду к вашим услугам… Мисс Нелли, я должен был принести извинения как вам, так и мистеру Гарри, и я рад это сделать. До сих пор я не совершил по отношению к вам никакой жестокости, позорящей джентльмена. — Но тогда, — прервал его Меринос, — зачем же вы уничтожили мой экипаж и украли мой корабль? Зачем, наконец, держите нас в плену? — Потому что я веду крупное дело, которое будет самым знаменитым в этом веке, а вы — неотъемлемая часть хорошо разработанного, подготовленного и проведенного мною со всей подобающей тщательностью плана. Что касается лиц, которых я счел необходимым устранить, то лучше об этом помолчать. Торговля, бизнес, предпринимательство невозможны без жертв, как и война. Или вы считаете, что на миллиарде вашего отца нет крови? Но хватит об этом. Я хочу сказать вам, что не испытываю ни ненависти, ни злобы… вы мне, пожалуй, даже симпатичны, ведь с тех пор, как мы расстались, вы проявили поистине замечательные качества — инициативу, выдержку, смекалку… — Мистер Дик, позвольте одно слово. — Да хоть десять, сто, тысячу, мистер Гарри! Я в полном вашем распоряжении. — Вы умертвили капитана Гаррисона и приказали сбросить в море капитана Роуленда. — Дурным тоном было бы отрицать это, мистер Гарри, я даже добавлю, что доктора, механика, двенадцать человек экипажа, восемь машинистов и поваров тоже пришлось выкинуть за борт. — Какой ужас! — испуганно вскричала Нелли. — Вы их подло убили, наших бедных моряков, наших друзей. — Что поделаешь, мисс Нелли, не разбив яиц, не сделаешь омлета… Но я им прежде кое-чего подсыпал, они не мучились и утонули тихо. — Но ведь, — снова начал Гарри, — некоторых вы пощадили. — Мистер Гарри, я никогда и никого не щажу. Те, кто выжил на борту «Моргана», — все мои люди, сообщники, преданные до гроба, повязанные кровью! Как и подобранные на Буби-Айленд жертвы кораблекрушения, оказавшиеся там по моему приказу. Тут у Мэри, которая смертельно побледнела, слушая откровения бандита, вырвался душераздирающий крик: — Алекс, мой жених! Они его убили! Бедный Алекс! Мистер Дик посмотрел на нее, улыбнулся и с пугающим безразличием сказал: — Мисс Мэри, вы можете успокоиться! Боцман жив, он хороший моряк и пригодился мне. Я ему предложил камень на шею или службу у меня с некоторой денежной выгодой. Он парень умный и предпочел службу. Теперь это один из самых ревностных моих помощников. — Алекс — бандит! О, я предпочла бы увидеть его мертвым! Бедная девушка, несмотря на всю свою волю и решительность, разразилась рыданиями. А мистер Дик по-прежнему бесстрастно продолжал, лишь слегка пожав плечами: — Довольно, оставим сантименты[174]. Давайте говорить серьезно. Итак… Гарри резко перебил его: — В конце концов, что вам от нас нужно? К чему вы клоните? — Благодарю, мистер Гарри, вы избавляете меня от поиска перехода к деликатной теме. Вы спрашиваете — я отвечаю. Пожалуйста! Ваш отец, король шерсти, располагает самое меньшее двумястами миллионами долларов! — Вы знаете больше меня, мистер Дик. — Знать большие состояния во всем мире — обязанность при нашем ремесле. Итак, раз ваш отец располагает двумястами миллионами долларов, я хочу, чтобы он уступил мне половину. Добровольно или, если угодно, поневоле. — Вот в чем дело! Спекулируя на родительских чувствах, вы держите нас заложниками, чтобы вырвать огромный выкуп. — Логика этого умозаключения делает честь вашей проницательности. — Вам легко глумиться, но я не буду обращать на это внимания. Продолжайте, прошу вас. — Вы облегчаете мою задачу тем, что избавляете от разговора на щекотливые темы. Спасибо, мистер Гарри! Итак, я требую от вашего отца выплаты скромной суммы в сто миллионов долларов[175], после чего высажу мисс Нелли и вас в добром здравии на причале Фарм-Коув. — А если нет? — Возможно, моя откровенность обеспокоит вас, но, раз вы требуете… И кроме того, дела есть дела, не так ли? Так вот: если через две недели я не получу указанную сумму либо наличными, либо векселями, либо кредитными билетами, я отрежу вам оба уха и отошлю отцу с такой запиской: «Мистеру Сиднею Стоуну предоставляется новый двухнедельный срок, по истечении отсрочки он, в случае неуплаты, получит голову своего сына Гарри, которую я лично и весьма чисто сниму с его плеч. Подпись: Дик Сеймур». — Не могу этого слышать! — вскрикнула Нелли, побледнев. — Гарри, брат мой! О, Боже! — Успокойтесь, мисс Нелли, это всего лишь предположение, на тот случай, если ваш отец заартачится. — Но вы же знаете, — возразил побледневший Меринос, — невозможно высвободить огромную сумму в такое короткое время! — Или ваш отец выкрутится, или вы лишитесь головы, мистер Гарри! А потом, если этого будет недостаточно, я пошлю ему голову его любимой дочери. — Вы способны убить мою сестру! — Как невинную голубку! — Вы негодяй! — Ну зачем такие слова! Я все сказал, а свои решения я никогда не меняю. Конечно, мне не по душе бесполезная жестокость, но я умею считать. Я бандит современный и придерживаюсь определенных правил, но никогда не отменяю своих решений! Итак, ни слова больше. Жизнь или кошелек! А теперь, когда вы уже все знаете, позвольте мне заплатить должок одному, как бы это сказать, случайному, да, пожалуй, так, случайному участнику ваших приключений. Это Маона, туземка, которая предала меня и прячется за ваши спины, догадываясь, что ее ждет! Маона, ко мне! Быстро! При звуке резкого, повелительного голоса бедная Дженни задрожала всем телом. У нее стучали зубы, золотистое лицо стало серым, а из прекрасных больших глаз потекли ручьи слез. Она смотрела на палача взглядом, который смягчил бы и тигра, а ее немой рот открывался и закрывался, как бы взывая о милосердии. — Эй, бездельница, мне что, идти за тобой? — вновь резко скомандовал мистер Дик. — Это ведь ты открыла белым потайную дверь и дала им таким образом ускользнуть отсюда… Ты их сторожила и головой отвечала за них. Твой брат и муж уже заплатили жизнью за предательство… — Мистер Дик, — с достоинством вмешалась Нелли, — прошу вас пощадить эту женщину… В благодарность за одну услугу она нас полюбила и помогала нам. Позвольте ей жить при нас! — Мисс Нелли, — снова проговорил бандит с ироничной вежливостью, — я в отчаянии! Это единственное, чего я не могу сделать для вас. У меня твердые принципы: она предала и должна умереть. В моем положении, несколько в стороне от приличного общества, можно простить все, кроме измены. — Мистер Дик, умоляю вас, подарите жизнь моей бедной Дженни, или Маоне, как вы ее называете. Я заплачу такой выкуп, какой вы скажете! — Довольно! Не раздавайте милостыню некстати, вам нужно учиться экономить,ибо вашему отцу будет нелегко заплатить пятьсот миллионов франков, которые он мне должен! Кроме того, я уже сказал: нет! Ибо, повторяю, я никогда не прощаю и никогда не меняю своих решений. Лучше смотрите и постарайтесь не забыть. Уже некоторое время тому назад Сеймур незаметно опустил руку в карман куртки. Теперь его рука сжимала заряженный револьвер. Испуганный крик вырвался у Нелли, Мериноса и Тотора. Бандит молниеносно, даже не целясь, выстрелил в папуаску, которая инстинктивно жалась к Нелли. Миг — и направленная с дьявольской точностью пуля попала несчастной в межбровье. Онемев от ужаса, молодые люди и девушка зажмурились. Бедная Дженни испустила ужасный хрип, судорожно вскинула руки, полуобернулась, и ее мертвое тело с глухим стуком упало к ногам Нелли. При виде этой зверской казни, перед недвижным телом, в котором жила любящая душа скромной и преданной подруги, Нелли почувствовала, что умирает. Возмущенные Гарри и Тотор в ярости выкрикивали палачу: — Убийца! Трус! Бандит! Подлец! Мистер Дик убрал револьвер в карман и сказал еще спокойнее: — Тихо, голубчики мои, тихо! Мистер Гарри, предупреждаю вас, отныне за оскорбления — отдельная плата. Так что укоротите язык, не то разорите отца. А что до вас, мэтр Тотор, можете делать что хотите. Приговоренным к смерти все прощается, а вас я приговорил!
ГЛАВА 8
Благородные сердца. — Напрасные усилия. — Тотор дерзит и не облегчает своей судьбы. — Сражаться до конца. — Прощание. — Воспоминание о Мальбруке. — Дорога. — Тотору нелегко. — Пещера. — Единственный выход. — Стена. — Припасы. — Лицом к лицу. — Взрыв.Несмотря на многократно доказанную храбрость, у генерала Тотора побежали по спине мурашки. Черт возьми! Приговорен к смерти! Да еще неумолимо жестоким типом, который только что на их глазах убил бедную Дженни! «Тысяча чертей! — думал про себя Тотор. — Моя жизнь висит на волоске, а за шкуру не дадут и одного су! Но надо держаться!» Он гордо выпрямился в своих путах, бросил на друзей взгляд, в который вложил всю душу, перевел взгляд на бандита и с вызовом посмотрел ему в лицо. Мистер Дик отвернулся от света, и тут Тотор заметил, что его губы вздулись и покрыты струпьями, а от обширного кровоподтека посинели нос, щека и подбородок. В те несколько мгновений, когда острые взгляды искали друг друга и столкнулись, как шпаги, парижанин сказал себе: «Это я разукрасил ему физиономию! Неудивительно, что он так взбесился!» Нелли и ее брат содрогнулись до глубины души, услышав ужасные слова: «Я приговорил вас к смерти!» Неужто Тотору придется разделить судьбу бедной Дженни? Неужто бывший стюард у них на глазах убьет их друга? Эта страшная мысль глубоко потрясла Нелли и Гарри. Нет, во что бы то ни стало Тотор должен жить! Они постараются воспользоваться алчностью Дика Сеймура и будут умолять родителей, которые не смогут отказать им. Заложат все, что оставит им этот разбойник. Если понадобится, пожертвуют всем, до последнего доллара… превратятся в горемык, вынужденных суровым трудом зарабатывать на хлеб насущный. Но Тотор будет жив! Тотор больше чем друг. Разве он не брат Мериносу, которого столько раз спасал? Нелли испытывала к парижанину такие же чувства, как к самому Гарри, более того — не ощущала ли она бессознательно еще более нежную привязанность, как Виргиния, дивно плененная преданным, бесстрашным и веселым Полем?[176] — Нет, мистер Дик, вы не сделаете этого, — вырвалось у нее. — Вы соедините судьбу нашего друга с судьбой моего брата и моей. Видите ли, Тотор — член нашей семьи. Считайте, что у наших родителей трое детей, и вы можете требовать тройной выкуп. Они его выплатят, каким бы огромным он ни был. — Всей душой присоединяюсь к словам сестры, — горячо добавил Меринос, и призываю вас к ясному пониманию своих собственных интересов. Мы еще богаты, отнимите у нас все, доведите до нищеты, но пощадите нашего друга, нашего любимого брата! Дьявольская улыбка заиграла на опухших губах бандита. С жестокой насмешкой он поспешил ответить: — Мисс Нелли, мистер Гарри, с сожалением вынужден констатировать, что вы повторяетесь: вы уже пели мне эту старую песню в пользу Маоны-Дженни, но не помогло. Я тоже вынужден повторить вам, что не забываю и не прощаю. — Мистер Дик, сжальтесь! — Главное, не твердите о выкупе. Я беру у вас все, что возможно вырвать без риска вызвать крах, который стал бы разорением и для меня… а королю шерсти придется еще крепко поработать, чтобы за две недели найти сто миллионов долларов. — Нет, это не может быть вашим последним словом! — воскликнул Гарри. Нелли разразилась рыданиями. — Но разве вы не видите, что эти бесконечные мольбы вызывают у меня только желание прикончить его на ваших глазах, как только что Маону? Я бы уже сделал это, если б не находил такую смерть слишком легкой для мерзкого недоноска, который… До сих пор Тотор молчал, наблюдая за происходящим как зритель: до него еще не дошло, что спор идет о его жизни. Но он был потрясен до глубины души безграничной преданностью друзей и молча смотрел на них любящим взглядом больших серых глаз. Однако слова бандита вызвали у него приступ неподдельной ярости. Он продолжил: — … который подбил вам глаз, дал взбучку, сломал челюсть и чуть не удушил! — И, неожиданно перейдя на «ты», пылко добавил: — Унижая противника, ты унижаешь самого себя! У тебя же в голове пусто! Я тебя считал преступником высокого класса, джентльменом с большой дороги, но все же джентльменом! А ты просто вульгарный жулик, и притом подлый, оскорбляющий беззащитных людей! Да у тебя передо мной, семнадцатилетним мальчишкой, коленки дрожат! Лицо мистера Дика налилось желчью, в синеве свежевыбритых щек появился зеленоватый оттенок, разбитые губы задергались. Бандит содрогнулся от злости и выхватил из кармана револьвер, хрипло крича: — Rascal, я тебя убью! — Попробуй! Духу не хватит выстрелить! Ты трусливый мерин, подлый бахвал! Усилием воли мистер Дик умерил свою ярость. Он глубоко вдохнул, стиснул зубы и четыре раза нажал на звонок. Дребезжащий звук разнесся по комнате. Тотчас отворилась дверь, вошли четыре гиганта. Нелли и ее брат, смертельно бледные, смотрели на своего друга с удивлением и безграничным восхищением. — Вы знаете, что нужно делать, — холодно бросил успокоившийся мистер Дик, — уведите. Вошедшие, не произнеся ни слова, набросились на юношу с неслыханной грубостью. О, если бы у бедного генерала не были связаны руки и ноги! Он позволил им подойти, потом вдруг присел и отчаянно бросился головой вперед. Несмотря на то, что удар в таких условиях не может быть особенно сильным, голова как ядро врезалась в живот одного из бандитов. Гигант только охнул и повалился на спину. — Гром и молния! — вопил Тотор. — Если б не путы, я бы вас всех расколошматил! Он упал под молотящие его три пары ног, но не сдался. Его таскали по земле, били. Но он сотрясал груду навалившихся тел, колотил ногами, руками, коленями, локтями, брыкался, кусался, отбивался, выкрикивая: — Отец говорил… никогда не уступать… надо бить и бить, покуда жив! Нелли душераздирающе кричала, Меринос обрушивал на негодяев все свое презрение, но он был связан и не мог броситься на помощь другу. Наконец Тотора схватили и потащили, а он продолжал вопить, извиваться, лупить трех бандитов, которые чертыхались и ворчали: — Hell damit! Ну и прыть! Тотора волокли к двери, а он глядел на своих друзей, которых, быть может, видел в последний раз, и, отбиваясь, кричал им: — До свидания, мисс Нелли! До свидания, Меринос! — Тотор, дорогой наш Тотор! — всхлипывала девушка. — Мисс Мэри, и вам… всем — до свидания! — снова прокричал храбрый парижанин. — Мы еще увидимся, потому что я так хочу! Всегда и отовсюду можно возвратиться! Человек, отброшенный ударом головы, поднялся и, ругаясь на чем свет стоит, присоединился к своим товарищам, уносившим бедного юношу. Дверь за ними захлопнулась. Тотор еще пытался сопротивляться, но отчаянная борьба превратилась в настоящее избиение, после чего пленника накрепко связали и потащили словно мешок. В руки врезались веревки, избитый, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но дух его не был сломлен. Язык невозможно привязать, и наш легендарный Гаврош[177] с помощью этого хорошо отточенного оружия показал, что он крепкий орешек. Лишенный возможности высказать мистеру Дику все, что он о нем думает, Тотор, к глубокому удивлению бандитов, которые волокли его незнамо куда, принялся петь. Ему вспомнились другие носильщики, из песни о победителе битвы при Мальплаке, знаменитом Мальбруке[178], и он запел высоким голосом:
ГЛАВА 9
Зловещие угрозы. — Письмо. — Никакой передышки. — Серьезный просчет. — Бесполезные поиски. — Страхи. — Далекие сигналы. — Виден корабль. — Посадка. — У вещей и у людей своя судьба. — Во что превратился «Морган». — Пьяница. — Бедная Мэри!— Что вы сделали с Тотором? — Мисс Нелли, позвольте мне не отвечать. — Мистер Дик, но вы же не убили его! Нет, это невозможно! Скажите же, что он жив! Умоляю вас! Бывший стюард только что вернулся в Норт-Пойнт. Закончив ужасную экспедицию, он первым делом посетил юных пленников. Бандит холодно смотрел на бледную, заплаканную девушку. Лицо ее выражало неподдельное горе, сердце колотилось. Он наклонился над нею с наигранной подчеркнутой учтивостью. — Забудьте о нем, и оставим эту тему. Бедная девушка испустила пронзительный вопль и, пораженная нервным шоком, упала на тростниковую циновку. Мэри бросилась к ней. Гарри, все еще опутанный веревками, не мог прийти сестре на помощь. Во власти яростного гнева, охваченный отчаянием, он закричал, скрипя зубами: — Подлец, если ты его убил, мы отомстим! О, жестоко отомстим! Мистер Дик снова взглянул на Нелли, пожал плечами и спокойно буркнул: — Пустяки, детские капризы! Это пройдет. И, повернувшись к Мериносу, добавил: — А вы, молодой человек, поберегитесь, ваши дела плохи. Мистер Стоун, король шерсти, плачется, что он нищий, что я его обдираю как липку и ему никогда не собрать денег на выкуп. Так что ваши уши держатся на волоске, а голова опасно шатается на плечах. — Отец сделает все необходимое. А я вас не боюсь и готов ко всему, даже к смерти… Прежде всего к смерти! — А я прежде всего готов оприходовать сто миллионов долларов! Это выдающаяся финансовая операция. В случае осложнения она посодействует получению королем шерсти двух ваших ушей, а при необходимости, и вашей головы, мистер Гарри! — Вы повторяетесь, мистер Дик! — А вы бравируете, мистер Гарри. Осторожно! Я принадлежу к породе людей-тигров, которых не принято дергать за усы! — Опять угрозы? — Да, не уподобляйтесь Тотору! И знайте — ваша жизнь в моих руках. Я могу вас убить без разговоров, если мне того захочется. У меня останется мисс Нелли, которая по-прежнему стоит моих ста миллионов долларов! Несчастный юноша, бледный и подавленный, опустил голову, сжав кулаки. Хриплый стон вырвался из горла, слезы ярости жгли глаза. — Вот теперь вы благоразумны, и это очень хорошо, — спокойно проговорил бандит. — Видите, мисс Нелли уже лучше, она сделала вывод из кончины вашего спутника… Теперь вы оба подготовлены к сообщению, которое вас заинтересует. — Кроме родителей и друга, нас ничто интересовать не может! — с достоинством ответила девушка, пытаясь говорить уверенно. — Вот записка вашей матери, которую я любезно согласился передать вам… Попробуйте сказать теперь, что я не достоин благодарности. Брат и сестра обменялись долгим взглядом, в котором сквозило сомнение. Мистер Дик пожал плечами и вынул из кармана элегантный черепаховый бумажник, инкрустированный золотом. Достал из него бумагу, подал Мериносу и добавил: — Ах да, понимаю, вы, вероятно, считаете письмо поддельным. Какой же смысл подделывать? К тому же я, джентльмен высокого полета, никогда не опущусь до фальсификации[179]. Нелли подошла, склонила голову к голове брата. Его связанные руки дрожали. — Да, — сказала она вполголоса, — это мамин почерк. Бедная мама! И оба жадно стали читать строчки, в которые мать вложила всю душу.
«Дорогие мои, любимые, крепитесь! Мы делаем все мыслимое и немыслимое, чтобы возвратить вас. О, вы знаете, мы ничего не пожалеем… От всей души целую вас, тебя, моя Нелли, тебя, мой Гарри, вас, мой Тотор. Нас заверили, что с вами хорошо обращаются, и это нас немного утешает. Крепитесь, и тысяча поцелуев, дорогие, любимые!Нелли вытирала глаза и тихо шептала: — Должно быть, они очень страдают, Гарри, я это чувствую между строк. — Да, — серьезно ответил молодой человек, — они страдают даже больше нас! Ах, если б с нами был наш бедный Тотор! Я уверен, что они сделают невозможное, но столько денег трудно получить так быстро. — Вы совершенно правы, мистер Гарри, тем более что ваши родители по своей вине потеряли драгоценное время! И если с их сыном, а также с мисс Нелли случится несчастье, которое я первый буду оплакивать, они окажутся единственными виновниками. — О чем это вы? — спросил Меринос, встревоженный вкрадчивым многословием бандита. — Как американец и миллиардер, ваш отец не знает никаких ограничений. Это неистовый, импульсивный человек[180], перед которым все должно склониться. Представьте себе, вместо того чтобы подчиниться, он приказал схватить и передать судебным властям посланного мною к нему доверенного человека за шантаж и похищение людей. Эта оплошность обошлась мне в сто тысяч долларов, которыми пришлось подмазать судью. — Подмазать? — не понял Гарри. — Да, подкупить его, если вам так больше нравится, и добиться освобождения моего полномочного посла… я никогда не оставляю в беде своих! Вот вам и первая потеря времени и денег! Кроме того, мистер Гарри, вы помните знаменитую шутку, брошенную вашим отцом в Атенеум-Клубе? Пересказанная в прессе, она порадовала снобов[181] обоих полушарий. — Не знаю, о чем вы говорите. — Я был там и помню, как сейчас, это оригинальное изречение. Король шерсти сказал: «Удивительно, как мал наш мир. Земля — всего лишь место для прогулок, где все знакомы друг другу, встречаются и толкутся! Невозможно уединиться, узнать радости инкогнито[182], каждый заметный человек — мученик интервью, жертва газет и добыча фотокамер. Вызываю любого на пари, что ему не удастся даже на неделю скрыться от всевидящего ока, который зовется Господин По-секрету-всему-свету». Хорошо сказано, но в корне неверно, потому что я вот уже пять недель удерживаю одну из лучших яхт Соединенных Штатов и детей одного из финансовых магнатов, и никто в целом свете не может догадаться, где вы спрятаны. Известно одно: Дик Сеймур похитил вас, все за вас боятся, и правильно делают. Но это все! Речь Сеймура, похоже, не произвела особенного впечатления на молодых людей. Негодяй продолжал: — Исходя из весьма иллюзорной идеи, ваш отец счел, что легко сможет вас найти. Он человек решительный и действует с размахом. Тотчас были отправлены телеграммы во все страны мира. В них привлекалось внимание правительств, дипломатических представителей, портовых властей к «Моргану», он был поставлен вне закона, ему запрещалась стоянка в цивилизованных странах. Это отняло ровно два часа! Затем были отправлены депеши с приказом зафрахтовать по любой цене все свободные суда в Австралии и соседних государствах. Пакетботы, грузовые суда, яхты, лоцманские суда, привлеченные колоссальной премией, обещанной тому, кто найдет «Морган», незамедлительно наполнили трюмы углем, загрузили продовольствие и вышли в море. Правительство предложило Стоуну военные корабли, и огромный флот стал прочесывать во всех направлениях моря, где, как предполагалось, укрывается «Морган». Суда прибыли из Мельбурна, Сиднея, Аделаиды, из голландских колоний, отовсюду… они обыскали берега, бухты, острова, островки и даже рифы! Все это было чистым убытком! Ибо то, что Дик Сеймур решил спрятать, найти невозможно! У меня есть свои запасы продовольствия, свои угольные склады, свои экипажи, свой флот, есть и сообщники среди тех, кто меня искал! А я в это время сделал самую простую вещь: перекрасил «Морган», который стал неузнаваем, и дал ему другое имя, другой номер, другие документы, другое гражданство и… присоединил ради забавы к другим судам, чтобы участвовать в собственных поисках! В таких обстоятельствах ваш отец неизбежно должен был совершить самую плачевную ошибку, и он ее совершил! Он потерял на этом много времени, еще больше денег. Мистер Стоун мог убедиться, что я неизмеримо сильней, и поставил под угрозу вашу жизнь, мистер Гарри. — Угрозу? Что вы такое говорите? — удивился Меринос. — Да ведь установленный мною срок неуклонно сокращался, и с завтрашнего утра составит всего лишь тринадцать дней. Ваш отец жалуется на финансовые трудности, сообщает, что фонды поступают медленно… Тем хуже для него и для вас! Я не соглашусь ни на час отсрочки, мистер Гарри! Если через тринадцать дней выкуп не будет полностью доставлен, вы сначала лишитесь ушей, а потом и головы… — Как же вы жестоки! — Вовсе нет! Просто умею считать и выдерживаю срок платежа. — Но мы далеко от Сиднея, может случиться непредвиденное событие, которое парализует самые лучшие намерения отца. — Это невозможно, мистер Гарри! Я принял меры и полностью владею ситуацией. Буби-Айленд всего в четырехстах милях отсюда. Телеграф был восстановлен и отремонтирован благодаря частной инициативе… моей! Так что есть постоянная связь с вашим отцом. С другой стороны, у меня тысяча двести людей и двадцать судов, которые находятся в постоянном движении, крейсируют и предотвращают неожиданности… О, вас очень хорошо охраняют! Кроме того, все знают, что при малейшем подозрении в предательстве вы оба будете безжалостно уничтожены! Бандит выложил все эти ужасные подробности с хладнокровием промышленника, излагающего ход деловой операции. Нелли и ее брат были перепуганы до смерти, а Мэри, безмолвная свидетельница ужасной сцены, как ребенок, забилась в угол, не в силах сдержать слез, которые тихо струились по ее щекам. При последних словах изверга, произнесенных со спокойной наглостью, Нелли испустила жуткий крик. Она бросилась на шею брату, шепча срывающимся голосом: — Гарри! Я не могу больше, я вся дрожу, кровь стынет в жилах. Схожу с ума от страха. Хочу быть твердой, но не могу. У меня сердце сжимается! О, эта ужасная мысль о постоянно грозящей нам смерти. Она отравляет каждое прожитое мгновение! Гарри, брат мой, страх убьет меня раньше, чем это чудовище! Испуганный возбуждением сестры, которое последовало за нервным припадком при известии о гибели Тотора, Меринос не знал, что делать, какими словами утешить ее. Гарри сам очень нуждался в мужской поддержке, но Тотора, храброй и пламенной души их маленького войска, не было больше с ними! Тотора, который одним неожиданным словом снимал усталость, прибавлял бодрости и сил! Связанными руками Гарри прижимал сестру к груди и ласково шептал ей на ухо: — Умоляю, будь твердой, не показывай подлецу слабость. Такое зрелище его восхищает, наши страдания — его радость! — Ну-ну, мисс Нелли, — вмешался мистер Дик, — не считайте ваше положение хуже, чем оно есть. Другого выхода, кроме уплаты денег, нет, но ваши родители, без сомнения, сделают что надо. У вас еще тринадцать дней впереди. Тринадцать дней, роковое число, которое одним приносит счастье, а другим несчастье… Напуганная Нелли слушала эти слова банального ободрения и одновременно ужасного ультиматума, срок которого истекал через тринадцать дней, и, несмотря на ужас положения, внезапно припомнила, как Тотор в день отплытия «Моргана» из Сиднея произнес слова, вызвавшие веселые протесты: «Но мы отплываем тринадцатого! Это мне не нравится!» Бедный Тотор! Как у многих сильных духом, у него был странный и нелепый предрассудок насчет несчастливого тринадцатого числа. Но зато как же все посмеялись, и он первый! А Нелли еще говорила ему об изобилии числа тринадцать на славных эмблемах Американской республики! Ах, как весело было на причалах и огромном рейде при отплытии «Моргана»! Из грубых глоток матросов вырывались крики «виват», ревели сирены, флаги словно горели под ярким солнцем, их учтиво приспускали, чтобы обменяться приветствиями… Да, число тринадцать… «Тринадцать дней» — только что змеиным шипом прозвучало из беззубого рта мистера Дика. — Это рок! — сказала себе Нелли. — Неужто в самом деле числа влияют на наши судьбы? Она вспоминала, обдумывала, рассуждала, а в ушах звучали последние угрозы бандита. Все еще обнимая брата, девушка начала всхлипывать. Довольный произведенным впечатлением, уверившись, что пленники будут послушны и не попытаются снова сбежать, мистер Дик встал, чтобы уйти. Вдруг три взрыва прогрохотали вдали, в открытом море. Три раскатистых, звучных, с равными промежутками выстрела. Их вибрирующий звук словно ударялся о волны и эхом отдавался в высоких деревьях. Наверняка палили из пушки, да еще полным зарядом. Гарри и Нелли вздрогнули и тревожно переглянулись. Мистер Дик побледнел, сжал кулаки и в ярости вскрикнул. Он выбежал навстречу людям, которые мчались со всех сторон, выспрашивая друг у друга, что случилось. — Присмотрите за пленниками, — приказал бандит, — подзорную трубу, быстро! Ему принесли трубу, он навел ее на горизонт, целых пять минут всматривался в далекие сигналы, невидимые для его товарищей, и наконец произнес: — Ну да, да! Отвечайте так же! Три пронзительных свистка разорвали воздух, и почти сразу из невидимой амбразуры, пробитой в вертикальной скале, трижды выстрелила пушка. Затем четверть часа прошло в абсолютной тишине. Понемногу над четкой линией, отделяющей воды от небесного свода, возникли стройные мачты. Затем вдоль горизонта потянулся огромный чернильно-черный султан дыма. Казалось, что корабль поднимался из бесконечных таинственных глубин. Он возникал на глазах, рос, вот прорисовалась корма, стало видно, что корабль отважно движется сквозь пенные буруны. Он отсалютовал флагом, просигналил, что на борту все в порядке, и бросил якорь в двенадцати кабельтовых[183]. После появления корабля мистер Дик казался все еще крайне обеспокоенным. По-прежнему бледный, он топал ногами и восклицал: — Наконец-то! Затем кинулся в большую комнату, где находились пленники, и бросил им: — Будьте готовы к отплытию. От судна, покачивавшегося посреди бурунов, уже отошел вельбот[184]. Матросы дружно гребли и остановились лишь тогда, когда киль коснулся песка. Нелли, Меринос и Мэри спустились по лестнице с обрыва. Мистер Дик замыкал шествие. Моряки перенесли несчастных на суденышко, бандит уселся рядом с пленниками и скомандовал: — Вперед! Хмурые, молчаливые, снедаемые беспокойством, Гарри и Нелли ежеминутно задавались вопросом, что с ними будет. Однако, как ни тревожно было, Меринос не переставал вглядываться в судно. Вдруг у него вырвался стон. Несмотря на толстый слой черной краски, покрывающей бывшую когда-то бело-золотой корму, несмотря на то, что мачты, реи и снасти обмазаны грязью и сажей, а надстройки на палубе снесены, он узнал законченность линий, слияние изящества и силы, элегантные формы, которые не поддались грязи и повреждениям; он узнал свою яхту, дорогого «Моргана»! Бедный корабль, какая несчастная судьба и у него! Но юноше некогда было философствовать по поводу их общей горькой участи. Матросы уже подгребли к яхте. Трапы остались на месте. Вельбот, подвешенный на талях[185]; поднялся вместе с экипажем и пассажирами до уровня борта. На отвратительно грязной палубе сновали около пятнадцати матросов, большей частью пьяные, на вид — отъявленные головорезы. Мистер Дик первым ловко спрыгнул на спардек, бросился к мостику и оживленно заговорил с капитаном. Тем временем несколько матросов подошли к пленникам, чтобы помочь им спуститься. Вдруг крик испуга и отвращения вырвался у Мэри. Среди пошатывавшихся людей она узнала Алекса, своего жениха, с поглупевшим лицом, красными глазами, в грязной одежде. Он едва стоял на ногах. Как, это опустившееся существо с измазанными руками, торчащей клочьями бородой, от которого исходил отвратительный запах алкоголя, — тот самый гордый матрос, ее суженый, с которым она мечтала соединить свою жизнь! Он подошел, выписывая кренделя, подал Мэри руку и хриплым голосом, по американскому выражению, «чудовищно смазанным виски», произнес: — Да это Мэри! Добрый день, дорогая! Как дела? Я очень счастлив… счастлив в-вас в-видеть! Слезы затмили глаза девушки, она не смогла удержаться от брезгливого жеста. — Чего там? — снова проговорил пьяница. — Манеры не по душе? А я просто немного взволнован! А чего, жизнь такая! Еще не то увидите, когда станете мне женой, потому… потому что мы ведь обручены… Правильно? — Пустите меня! Вы мне отвратительны! Раздался громкий хохот матросов, посыпались круто посоленные шутки. Алекс сжал кулаки и упрямо повторил: — Ишь недотрога! Только я тебя приструню! Просмоленным концом вместо хлыста! — Вы мерзавец! Трус! — Пустяки! Милые бранятся — только тешатся! Пронзительный свист прервал пьяную болтовню. Затем еще один, сопровождаемый трелями. Пьяницы отошли и подчинились хорошо знакомому им сигналу. Он означал: «Все по местам!» Мистер Дик с озабоченным видом возвратился к пленникам и со словами: «Следуйте за мной!» — отвел их в каюты на корме, которые должны были заменить им прежние апартаменты. — Вы пока останетесь здесь. Не скрою, положение серьезное. Поговорим завтра. Тем временем корабль потихоньку пошел вперед. Ведомый отличным лоцманом, он двигался среди подводных камней, потом развернулся. Похоже, препятствия были ему нипочем. Так продолжалось до темноты. На следующее утро яхта возобновила движение среди бурунов и через восемь часов плавания, которое казалось вызовом здравому смыслу, встала на якорь. Корабль стоял метрах в пятистах от отвесной скалы, которая вздымалась над морем футов на триста. Мистер Дик возвратился к пленникам и произнес: — Никакая сила, кроме моей, не сможет вызволить вас отсюда! Сто миллионов долларов, и вы свободны… а нет, так море станет вашей могилой.Ваша мать Маргарет С. Стоун».
Конец второй части
Часть третья «MORGAN» FOR EVER
ГЛАВА 1
Временный упадок сил. — Можно поплакать. — Всплеск энергии. — Внимательный осмотр. — Замечательная находка. — За работу! — Стена пробита. — Тотор прокладывает галерею. — Упорный труд. — Девять дней и девять ночей. — Скала. — Обвал. — Катастрофа.Сотрясения от взрыва динамита кончились. Со свода сыпались мелкие камни и пыль. Легкий шум их падения усиливался в гулкой пещере и отзывался в потаенных, мрачных глубинах. Молчание смерти обволокло могилу, в которой был заживо замурован Тотор. В первый момент бедного юношу объял ужас. Он сидел на корточках у коптящего фонаря, глядя на колеблемые во все стороны подвижные тени, не в силах двигаться, действовать и даже думать. Пока негодяй был здесь, Тотор еще мог вести себя вызывающе, быть решительным, мужественным, презирать смерть, чем поразил всех бандитов. Но теперь он сдал. Тело и душа его были разбиты. Все в юноше будто налилось свинцом — мускулы, мозг и сами мысли. Парижанину вдруг привиделось, будто он малыш, потрясенный отчаянным детским горем, а мать смотрит на него большими бездонными глазами, в которых отражаются все его невзгоды. Зачем ему сверхчеловеческая сила, дьявольское упорство, неукротимое мужество и изобретательность, которые до сих пор всегда побеждали? Будто завороженный пламенем фонаря, он неподвижно смотрел перед собой, ничего не видя; едва дышал, будто грудь его сжало тисками. Он вспоминал необычайные схватки, из которых всегда выходил победителем; друзей, таких дорогих, неразрывно связанных с его жизнью… Мериноса, названого брата, прелестную Нелли, при мысли о которой его сердце забилось чаще… вспоминал отца, никогда не знавшего поражений, мать, которой ему больше не увидеть… В то время, как Тотор вызывал в памяти дорогие образы, наполнявшие воображением ужасную пещеру, под ресницами его возникло легкое покалывание, глаза заволокло туманом, и душераздирающие рыдания, которые он даже не пытался сдержать, сотрясли юношу. Хлынули слезы, отчаянный крик замер на губах: — Мама, о, мама, бедная мама! Он долго плакал навзрыд, не стыдясь и не сдерживаясь. Плакал, вопреки своей насмешливой мужественной натуре, всегда восстававшей против слез и сантиментов. Этот совершенно естественный кризис, оправданный ужасными обстоятельствами, наконец миновал и даже пошел Тотору на пользу. Юноша будто пробудился от кошмара, вздрогнул и тут же взял себя в руки. В гробовой тишине подземелья, как посвист скворца или иволги, гулко разнесся его насмешливый голос: — Это еще что такое, мэтр Тотор! Уж не потоп ли начался? Право, с меня течет, как с морского бога в фонтане на площади Согласия! Тьфу, сколько воды, мой дорогой, сколько воды! Довольно! Закроем шлюзы. Ну вот и все! А теперь будем серьезны! В мгновение ока парижанин стал самим собой, то есть отважным мальчуганом, привычным к смелым поступкам и, как всегда, готовым совершить даже невозможное. Тотор быстро поднялся, но пошатнулся и чуть не упал. Это напомнило ему, что ноги и руки все еще связаны. Тонкие, прочные веревки мешали двигаться, оставляя, однако, рукам и ногам относительную свободу. — Ах да! Бечевки мистера Дика! Нужно от них избавиться! Молодой человек наклонился над фонарем, открыл его и подставил огню веревку, охватывавшую запястья. Пенька тотчас почернела, покраснела и задымилась, распространяя сильный запах паленого. Нетерпеливый Тотор стал дергать руками. Крак! Руки свободны. Теперь ноги. Минута — и готово. Он посмотрел на обожженные руки и покачал головой: — Браслеты, от которых мне долго не избавиться! Но на войне как на войне!.. Тотор потянулся, похрустывая суставами. — Стоит посмотреть склады продовольствия и убедиться, что жулик Дик не наврал. Тотор разговаривал сам с собой во весь голос, но слова звучали приглушенно, и пленник содрогнулся. Гулкое эхо, красноватый свет, в нескольких шагах переходивший в кромешную тьму, пахнущий затхлостью воздух — все жестоко напоминало об отчаянном положении. Но парижанин всеми силами души противостоял боязни и эмоциям, стараясь не думать об этом ужасе. Он решительно встряхнулся: — Конечно, местечко не из приятных… Но привыкнуть можно ко всему. У меня уже бывали в жизни приключения, так что, пожалуй, я готов и к этому испытанию. Тотор поводил фонарем над разбросанными запасами, оставленными мистером Диком. Негодяй сказал правду. Экономя с самого начала, Тотор сможет продлить жалкое существование на две недели. — А потом? Тьфу, пора перестать об этом, не будет никаких «потом»! Значит, нужно так поступить, чтобы жизнь длилась долго… до бесконечности, черт возьми! Но, прежде чем зариться на вечность, следует сохранить свет, не дать погаснуть его переносному источнику, называемому фонарем. Можно сказать — полночному солнцу или солнцу ночей моих! Без него не обойтись! Обшаривая все вокруг, юноша нашел толстую оплетенную бутыль с промасленной пробкой. Осторожно вытащил пробку и, засунув в горлышко палец, убедился, что бутыль полна. — Ура, масло! Не оливковое, конечно, но для освещения годится! Нет ничего проще, чем подкармливать огонек. Фонарь похож на корабельный и должен гореть все двадцать четыре часа. Раз нет часов, будет отмечать мне дни. Я же сказал, что это солнце! А это что еще такое? Он наткнулся на длинный, твердый, тяжелый предмет, который не заметил раньше под камнями и песком, покрывавшими дно пещеры. Тотор наклонился и удивленно вскрикнул. Это был толстый металлический прут, заостренный с одной стороны и расплющенный с другой так, чтобы получился скошенный край. — Это же инструмент, которым дробят камни! Великолепный лом, метр двадцать пять в длину, очень прочный. Откуда он взялся? Наверняка не подарок мистера Дика. Тогда чей же? Парижанину вспомнился стук от падения какого-то предмета перед самым взрывом динамита, когда Тотора замуровали. Тогда еще послышалась милая канадская песенка — ее насвистывал один из матросов, смутно различимый в полумраке. Случай это или хорошо обдуманный поступок? Может быть, кто-то из людей Дика хотел помочь несчастному пленнику? Если стальным ломом орудовать умело и энергично, можно пробить камни и обломки, загромоздившие вход в пещеру. Юноша совсем было поверил в чей-то благородный поступок, как вдруг острое подозрение пронзило его сердце. А может быть, это новая дьявольская выдумка мистера Дика — внушить пленнику ложную надежду, увеличить его страдания и истощить побыстрейсверхчеловечески трудной работой? — Надо попробовать, — сказал себе Тотор. Его рыцарская душа предпочла допустить, что это благородный порыв. — Начали! Он поднял лом и, подойдя к стене, попытался на ощупь отыскать щель, хотя бы трещину, чтобы вставить его. Но ничего не нашлось. — Темно, как в печи! Юноша взял фонарь и тщательно осмотрел наглухо зацементированную горловину пещеры. — Вот, — весело сказал он, — тут можно поработать. Между двумя неровными камнями проходила глубокая щель. Вставив в нее плоский конец лома, юноша попытался выломать один из камней. Огромная масса вздрогнула и немного подалась. Стиснув зубы, натужившись, напрягая все мускулы, Тотор пыхтел, стонал, ворчал, выкрикивал: — Пошла, черт возьми, пошла! Эх! Дернем как следует! Загнешься от такой работы! Скрипит, крошится! Давай, Тотор! Не жалей ни крови, ни пота! Еще раз! Готово! Объемистый камень, величиной с тыкву, внезапно выпал и покатился к фонарю, едва не раздавив его. Отважный юноша так напрягся, что не смог удержаться на ногах и растянулся на земле. Моментально вскочил и, посветив фонарем, увидел дыру сантиметров сорок в диаметре. — Главное — начать, теперь само пойдет! — радостно воскликнул он. — Сегодня же снесу порядочный кусок стены, а первый результат прибавит сил. Однако какая замечательная идея — оставить мне лом! Благословен тот друг, которому я буду обязан жизнью! Конечно же, это друг! Догадываюсь, нюхом чую, уверен, что это не проделки канальи Дика. А теперь за следующий камешек! Главное, когда ломаешь стену, — вынуть первый камень. Самое тяжелое уже было сделано. Благословляя неизвестного доброхота, Тотор азартно продолжал трудиться. Однако дело шло не так споро, как казалось поначалу. Большие, свинцово тяжелые и, главное, неровные камни были накрепко схвачены цементом. Юноше почти вслепую в темноте приходилось откалывать кусок за куском от стены толщиной в добрых два метра. Он провел за работой долгие часы, чтобы только наметить проход. Длинный… такой длинный, что оторопь берет. О, если бы у Тотора было время, как у заключенных, которые могли по крохам, постепенно делать подкопы в самых страшных застенках и недоступных темницах! Но у нашего героя не было и двух недель, а ему требовались месяцы! Довольный первым результатом, он сжевал галету, глотнул из бурдюка и сказал себе: — Я проглотил бы в десять раз больше, но придется экономить крошки и капли! Сил больше нет, хорошо бы вздремнуть! Эй, стоп! Не забыть масло в фонарь: если он погаснет, я пропал! Приняв эту меру предосторожности, юноша заснул, унесшись в страну мечтаний. Ему снились дирижабли, скафандры, замечательно удобные дрели; деревья и цветы, птицы и бабочки под ярким солнцем. Ему виделась юная Нелли: улыбаясь и опираясь на его руку, она уводила его в роскошные луга, сверкающие лазурью и пурпуром. Проспав десять часов, отважный парижанин внезапно проснулся во мраке могилы, куда палач бросил его живым. Не давая себе послабления, бравый Тотор потянулся, встал и, снова взяв в руки тяжелый стальной лом, сказал себе: — За работу! Наконец ему удалось пробить циклопическую стену[186]. Прекрасный результат превосходил даже самые смелые ожидания… Казалось, свобода уже близко: Тотор дошел до породы, обрушенной взрывом динамита, и поверил в возможность пробить себе дорогу. А почему бы и нет? С тех пор, как его замуровали, прошло около тридцати часов. Тотор лихорадочно принялся рыть породу, к счастью, легкую и рыхлую, в которой, увы, встречались крупные глыбы известняка. Лишь время от времени он прерывал работу для еды и сна. Какая-то лихорадка овладела им и удесятерила силы. Он рыл неустанно. Но как убрать обрушенную породу? Лом не годился, а другого инструмента не было. Голь на выдумки хитра. Тотор расплющил консервную банку и сделал из нее подобие совка. Потом вынул бутыль с маслом из ивовой оплетки, превратив ее в корзину. Совком он насыпа́л в корзину разрушенную породу, чтобы освободить проход, который понемногу удлинялся. Его ногти были содраны, пальцы в крови. Не обращая внимания на боль, недостаток сна, лишения, он все дальше продвигался вперед. Уже образовался туннель длиной метров в десять! Неслыханный подвиг занял неделю. Выбрасывая завалы породы, наш землекоп нашел штук пятнадцать динамитных шашек, которые по неизвестной причине не взорвались. Они сохранились заряженными, с куском погасшего фитиля. Тотор осторожно вытащил их и отложил в сторону: — Могут пригодиться! Грубое орудие, но действенное! Хорошая находка! Потом он снова копал без отдыха. По его оценке, каторжная работа длилась уже дней девять. Быть может, немного больше, но наверняка не меньше. Девять дней и почти столько же ночей, потому что спал наш бедный Тотор мало. А ел еще меньше. Несмотря на жесткую экономию, запасы уменьшались с пугающей скоростью. А он бодро говорил себе, ежедневно заправляя фонарь: — Еще восемь, еще шесть, еще четыре дня! Ведь количество затраченного масла приблизительно показывало ему количество истекших часов. Был, наверное, девятый день, а может быть, даже десятый, когда, согнувшись, скрючившись в глубине огромной норы, он наткнулся окровавленной рукой на твердую поверхность. — Черт возьми, — ужаснулся он, — целая скала! Этого можно было ожидать. Он сходил за ломом, тотчас вернулся и стал бить по камню, который отзывался приглушенно, слегка резонируя, что указывало на значительный его объем. Встревоженный пленник подземелья простукивал сверху вниз и справа налево, обливаясь холодным потом. Скала закупорила туннель. Продолжать подкоп было невозможно. Тотор попытался расшатать ее ломом, но лишь истощил силы в бесплодных стараниях. — Эта штука весит тысячи килограммов! Не повезло мне, — проворчал он. Вернувшись в пещеру совершенно измотанный, ожесточенный сражением, он решил: — Отдохнем, поспим, а потом подумаем. Попробую подорвать скалу динамитом. Он устроился на разбросанной по пещере земле, которую вытащил из подкопа. Прошло четверть часа. Он уже начал засыпать, когда послышался глухой шум. Тотор вскочил, подобрал фонарь и бросился к туннелю. — Гром и молния! Я пропал! Прохода не стало! Внезапный обвал свода завалил его совершенно! И следа не осталось от огромного проделанного труда! Девятидневную работу придется начать сначала. Но еды у Тотора было едва ли на три дня, а воды и того меньше.
ГЛАВА 2
Тотор не теряет мужества. — Экскурсия. — Таинственные звуки. — Под ногами пемза. — Соленая вода. — Подводный вулкан. — Трудное возвращение. — Тотор хочет воспользоваться вулканом. — Динамит. — Зарядная камера. — Взрыв. — Землетрясение.Человек, менее закаленный, чем наш герой, сошел бы с ума, потерял бы голову и предался бы самому ужасному отчаянию. Но Тотор хладнокровно взирал на картину бедствия и с удивительным спокойствием произнес: — Да, это удар ниже пояса! И все-таки даже в беде я счастливчик! Меня могло раздавить, как крысу. Положение не из веселых. Правда, три-четыре дня еще будет чем прокормиться, хотя бы и впроголодь, и, кто знает, если с толком потратить оставшееся время, все может измениться. Самое главное, пока жив, не терять надежды! Худшее, что может случиться — протяну ноги. И это не будет неожиданностью. Я ко всему готов, — решил он. Отважный юноша понял: бесполезно, да и невозможно снова приняться за подкоп. Так что же делать? Уже примерно двое суток с противоположного конца пещеры до Тотора доносился подземный гул, все более отчетливый и сильный, похожий на далекие раскаты грома. Иногда он также ощущал слабый запах сернистой кислоты. Занятый земляными работами, юноша не обращал на это особого внимания. Но теперь его любопытство росло с каждым часом. — Что-то там необыкновенное происходит, — сказал он себе, — но что? Раз проклятый обвал прервал мою карьеру сапера, самое простое — пойти посмотреть. Не откладывая, Тотор наполнил маслом фонарь, взял галету, чтобы пожевать на ходу, и решительно тронулся в путь. Как человек опытный, он предусмотрительно стал считать шаги: эта мудрая предосторожность поможет ему определить пройденное расстояние. Он двигался довольно быстро. Пещера была просторна, пол несколько шероховат, но ровный и прочный. К тому же фонарь светил достаточно ярко, чтобы видеть препятствия и избегать их. Отсчитав тысячу двести шагов, Тотор заключил, что он в километре от нужной точки. До сих пор уклон в пещере был невелик, но тут стал очень заметным и даже крутым, а подземный путь начал заметно изгибаться кольцами, радиус которых понемногу становился все меньше. Тотор понял: он спускается словно по винтовой лестнице. Парижанин все шагал и удивлялся: — Странно. Ей-богу, это напоминает раковину улитки, колоссальную раковину, конечно! Что бы это значило? А какая пальба! Бах! Ба-бах! Бум! Скверная музыка в аду! Уклон становился все круче, и Тотор, быстро спускаясь, подумал: — Придется попотеть, чтобы вернуться назад! Он все еще считал шаги и, чтобы не сбиться в счете, после каждой сотни клал в карман камешек. — Две тысячи двести… раз, два, три четыре, пять… две тысячи триста. Ого! Уже почти два километра, а я все спускаюсь! Пальба все громче, а серный запах сильней. Что там варится в этой адской кухне, и в какой дьявольский котел сунут меня головой вниз? Две тысячи четыреста… Юноша уже заметил, что почва быстро меняется. Сначала неровная, каменистая, но зато твердая, она стала рыхлой, сухой и скрипела под ногами. Тотор подобрал комок и принялся внимательно изучать его при свете фонаря. Неровно обломанное легкое, серебристо-серое вещество было пористым и жестким, как терка или наждачная бумага. При ходьбе от этих комков поднималась тонкая пыль, оседавшая в горле. Парижанин воскликнул, удивляясь все больше и больше: — Но это же пемза![187] — Наш герой остановился, вытер вспотевшее от духоты лицо рукавом и добавил: — Нелишне бы немного отдохнуть. Тотор уселся прямо на слой вулканического шлака и продолжил свой монолог: — Значит, я иду по потоку пемзы. А в природе это вещество не образуется само по себе, его происхождение связывается с вулканами. Следовательно, где-то рядом — вулкан. В этой части океана вулканов много. Расположенные здесь тысячи коралловых островков и островов на самом деле — потухшие кратеры. Миллиарды бесконечно малых частиц — молекулы построили на них рифы, барьерные рифы и атоллы. Среди подводных вулканов есть еще действующие. Шум, что я слышу, наверняка исходит от вулкана. Вулкан! Да еще подводный! Посмотрим, что можно извлечь из этого! Я рвусь к вольному воздуху, к свободе, работаю как каторжный, чтобы увидеть Мериноса и Нелли, и вдруг оказываюсь нос к носу с вулканом! Черт возьми, на Монмартре такого и представить невозможно! Он раздумывал с минуту, потом провел языком по ссохшимся губам и прошептал: — Надо было захватить с собой воды, умираю от жажды, а источников в этих местах не видно. Что же делать? Черт возьми, идти вперед во что бы то ни стало и вглядываться во все дыры и щели. Чтобы найти, я должен рисковать. А потом, кто знает?.. Бедный Тотор, какая безумная надежда заставляла биться его смелое сердце? Что думал он найти в глубинных пропастях, где все вещества расплавлены? Он сам этого не знал и тем не менее шел вперед без страха, не поддаваясь усталости, не обращая внимания на жажду и удушающую адскую жару. Он шел и шел навстречу таинственной неизвестности по огромной спирали, которая все дальше и дальше проникала в недра земли. Должно быть, Тотор спустился уже на большую глубину. Он все чаще останавливался. Но не потому, что ослабевало его железное упорство. О нет! Он дойдет, иначе не был бы Тотором. Но дышать становилось все труднее. Глаза слезились, во рту пересохло, сердце бешено колотилось. Тотор снова остановился, боясь потерять сознание, сел и тотчас ощутил неожиданную в таком месте сырость. — Подо мной вода! — проговорил он. — Странное место и время для приема сидячей ванны! Но зато вода! Умираю от жажды. Вот если бы она оказалась пресной! Тотор осмотрел стенку и увидел струйку воды толщиной в палец. Он опустился на колени, приложился к ней губами, но тотчас с отвращением сплюнул. — Фу! Так и знал, жутко соленая. Значит, я ниже уровня моря и это инфильтрация[188] под огромным давлением. Полезные сведения! Юноша вымыл лицо и руки, поплескался, смочил одежду и почувствовал себя лучше, затем спустился еще ниже, отметив, что струек становится все больше. Вода сочилась отовсюду. — Странный вулкан, — удивился Тотор, — его огонь питается водой! Наконец парижанин ступил на что-то вроде лестничной площадки, ниже которой зияла пустота. Насколько мог проникнуть взгляд — головокружительная пропасть в ярких огнях, над которыми вихрились клубы пара. Все это пылало, скрывалось на время и снова возникало в разрывах облаков непрекращающейся, постоянно громыхающей грозы. Ниже площадки острыми пиками громоздились затвердевшие конусы из лавы и пемзы. А выше, в остатках старых извержений, фантастически отражались огненные сполохи. Сама площадка состояла из одной плиты лавы, по которой, в глубоком желобе, проторенном непрестанным течением вод, бежал ручей. — Потрясающе! Сногсшибательно! А главное, какая феерия! — воскликнул Тотор, снова присаживаясь. — И какая жалость, что видит все это несчастный бедняга, которому и жить-то осталось дня два! Он смотрел долго, завороженный волнующим зрелищем, но мозг его неустанно работал. — Итак, мы под водой, — рассуждал он вполголоса, — и на довольно значительной глубине. «Мы» — потому что нас двое: я и вулкан. Сейчас он кажется спокойным, хотя и ворчит, как дог на привязи, но и он когда-то яростно рычал и брызгал лавой. У вулканов прескверный характер! Так вот у моего, а я могу называть его своим по праву первооткрывателя, так вот мой, трясясь с обычной для его собратьев яростью, приподнял морское дно… Эта поднятая часть вздулась довольно высоко… Газы, выделявшиеся от чудовищного жара, прошли через плавящуюся массу и вырвались наружу… Все проще простого, и я заключаю только, что вершина и стенки укрывающего меня приподнятого свода очень тонки. Как раз эта приподнятая часть земной коры уравновешивает давление окружающей воды, поэтому она и просачивается отовсюду. Вывод: достаточно небольшого усилия, чтобы нарушить равновесие. Скажем, щели, дыры шириной всего в два метра, проделанной мгновенно в этой ермолке, прикрывающей вулкан… Какой возникнет водяной смерч, какой серо-зеленый поток хлынет в огромный пожар! Под страшным давлением воды отверстие увеличится и настоящая Ниагара обрушится в раскаленное добела пекло. Затем проявится непримиримая вражда между водой и огнем… Внезапное испарение миллионов литров… Освобождение неисчислимых сил… Взрыв свода, который лопнет под неудержимым напором скопившегося пара… А потом? Наверное, пещера будет обрезана поперек в тысяче или тысяче двухстах метрах отсюда, а остальное разлетится на куски в океане… Тут в разрыве может появиться уголок синего неба, если только вулкан, которому наверняка не понравится душ, не рассердится по-настоящему и не разнесет все в клочья! Вот так! Хватит рассуждать! Я уже не могу больше, умираю от жажды, поджариваюсь как на сковороде. Пора сматываться отсюда! Неисправимый балагур встал, забрал фонарь и начал трудный подъем. — Главное, не забыть переносное солнце, — говорил он себе. — Оно же — глаз пехотинца и принадлежность Диогена[189]. Нужно ко всему относиться философски, ни о чем не жалеть, вооружиться мужеством, самому разобраться в жизни, минуты которой у меня отныне скупо отмерены. Бедный Тотор! Он действительно переоценил свои силы. Уставший от изнурительной работы последних дней, с иссушенной адской жарой гортанью, он шел с большим трудом, спотыкаясь на каждом шагу крутого подъема. Он затратил едва ли три четверти часа на спуск к вулкану, но, возвращаясь к своему убогому лагерю, прошагал более четырех часов. Задыхаясь, шатаясь, Тотор едва дотащился до завала, куда уже не надеялся дойти, и повалился среди своих скудных припасов. О, с каким исступлением набросился он на бурдюк, где булькало еще несколько глотков застоявшейся воды, показавшейся ему восхитительным напитком! Но он не выпил все сразу с жадностью обезумевшего зверя, и это был настоящий героизм. Поев немного, совершенно разбитый, он заснул у фонаря, который только что заправил.
__________
Неизвестно, сколько он спал. Вероятно, очень долго: фонарь был почти пуст. Юноша потянулся, размялся, протер глаза и сказал: — Черт побери! Неплохо же я поспал! Еще немного — и остался бы без света, а значит, пропал бы! Но зато чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было! Очень кстати, потому что все, что осталось от сил, вскоре пригодится. А ты, мой светильник, послужи еще раз! Проглоти последнюю порцию масла, а я съем последнюю галету и выпью последний глоток воды! Все у нас кончается, и сегодня предстоит трудное дело. Да, через несколько часов все будет поставлено на карту: жизнь или смерть! А теперь — назад к вулкану, который освободит или уничтожит нас. Наш герой подобрал динамитные шашки, рассовал по карманам, а те, что не поместились, засунул за пазуху; повесил на шею галстук из нескольких колец фитиля и водрузил на плечо лом, под который подложил вместо подушки опустевший бурдюк и сказал: — Теперь сыграем ва-банк! Сгибаясь под тяжестью груза, он снова направился к вулкану. Что же задумал Тотор? Какой шаг он предпримет, чтобы вступить в игру, ставка в которой — жизнь и которая, увы, заранее кажется проигранной? С фонарем в левой руке, придерживая лом на правом плече, он бодро отправился в путь, как человек, принявший решение и счастливый тем, что так или иначе все кончится. Чтобы сберечь силы, парижанин шел в глубину пещеры все тем же размеренным шагом и часто отдыхал. Вскоре до него донеслись сернистые испарения и все более усиливающийся шум. — Вперед, — приказал себе Тотор, — все в порядке. Я совсем проснулся и нахожусь в прескверном настроении, а уж под душем так взбрыкну! Спуск становился все круче. Тяжело нагруженный Тотор замедлил шаг и сказал: — Как-никак я начинен динамитом, чего доброго, упаду и взорвусь до времени! Он шел еще долго и наконец нашел то место, где морская вода сочилась из каменных стен. Остановился, подумал, пошарил в темноте и решил: — Здесь-то и нужно действовать. Тотор вынул заряды и отложил их подальше, потом подошел к стене и с помощью лома и фонаря тщательно изучил ее. У самой земли он заметил длинную щель, похожую на подпечье. Парижанин пролез туда на животе и определил, что она более чем на три метра уходит в толщу скальной стены. В восторге от находки, он выполз обратно, шепча: — Удача! Прямо-таки нарочно сделано. Настоящая взрывная скважина. Это избавит меня от тяжелой работы. Осталось только начинить ее и заткнуть. Как умелый взрывник, юноша осторожно заложил динамитные шашки в глубину выемки на расстоянии двадцати пяти сантиметров друг от друга и засыпал шлаком. Так были размещены четырнадцать шашек, пятнадцатую Тотор оставил для фитиля: ее взрыв вызовет детонацию всех остальных. Работа, выполненная с удивительным хладнокровием, заняла три четверти часа. Когда шашки были хорошо завалены обломками и шлаком, Тотор приладил фитиль и вывел его наружу. Подготовка закончена. Но чтобы быть уверенным, что взрыв пойдет в нужном направлении, он отколол ломом большие куски камня, собрал обломки и плотно заложил ими взрывную камеру. Вулкан тем временем ворчал и оглушительно громыхал. Парижанин закричал ему: — Ну, погоди немного, зверюга! Ты, наверное, хочешь пить. Подожди, я тебя напою! Камера плотно заложена, фитиль на месте. Наступил торжественный миг. Тотор вытер лицо и посмотрел на жалкий огонек в фонаре, который вызовет ужасную катастрофу. Несмотря на бесспорную храбрость, он не мог сдержать биения сердца, которое прямо-таки выскакивало из груди. Его одолевали сомнения: — Пятнадцать шашек. Хватит ли их, чтобы пробить стену и обрушить море в огненную пропасть? Приходится надеяться! Но не время мямлить и заниматься пустяками. Вперед, Тотор! Смельчак открыл фонарь, поднес пламя к фитилю и воскликнул: — Готово! Он будет гореть десять минут, пора удирать, да побыстрей! Закрыв фонарь, Тотор кинулся прочь во всю прыть, повторяя: — Десять минут, я успею!Истекло едва ли четыре минуты, когда ужасный взрыв потряс стены пещеры и заглушил голос вулкана… Через несколько мгновений судорога землетрясения, сопровождаемая следующими один за другим взрывами, рвала землю в клочья, обрушивала своды и постепенно откатывалась вдаль грозовыми раскатами и грохотом извержения.
ГЛАВА 3
Горечь плена. — Неожиданный визит. — План Алекса. — Счастливые обрученные. — Герой! — Освободиться! — Сюрприз. — Расправа. — Наконец хозяева распоряжаются на борту. — Удачная пулеметная очередь. — Отомщены! — Новые враги. — Волны из глубин. — Извержение. — Тот, кого не ждали.На «Моргане», по-прежнему стоявшем на якоре среди рифов, жизнь была ужасна. Нет, Меринос, Нелли и преданная Мэри ни в чем не испытывали нужды. Их обильно снабжали всем необходимым для существования. Но дни, которые отделяли друзей от роковой даты платежа, бежали неслыханно быстро, и несчастные дети короля шерсти со страхом считали, сколько остается до назначенного бандитом срока. Их мучил вопрос, смогут ли родители собрать нужную сумму для ненасытного Дика Сеймура. О Тоторе никаких известий. Сперва еще теплилась надежда, что мистер Дик пощадит их друга. Но время шло, и понемногу братом и сестрой овладела ужасная уверенность, что они не увидят больше славного малого. Эта мысль отравляла им жизнь. Гарри был неутешен, сердце Нелли обливалось кровью. Перед нею постоянно возникал храбрый, неизменно веселый Тотор, обволакивал ее добрым, ясным взглядом с немой, нежной лаской. Иногда очертания словно размывались, большие светлые глаза со стальным отблеском тускнели и пропадали, и девушка безудержно плакала, уверенная в потере дорогого друга, в котором уже видела неразлучного спутника жизни. А Мэри не находила себе места с того часа, когда увидела своего жениха Алекса пьяным, опустившимся, спевшимся с бандитами, сообщником которых он стал. Верная канадка, видя, что надежды ее погибли, любовь поругана, а будущее разбито, плакала вместе с юной хозяйкой, и столь же безутешно. О да, такая жизнь ужасна для всех троих! К тому же все напоминало им о плене: «Морган» стал настоящей тюрьмой. Друзья не только не могли подняться на палубу, им даже запрещено было покидать каюты. В определенное время узникам приносили еду. Но человек каждый раз был новый, а ни один не проронил ни слова: говорить с пленниками прислуге было строго запрещено. Конечно, они дышали свежим морским воздухом через широко открытые иллюминаторы, но не могли выйти даже в коридор. Совершенно как в тюрьме. Судовой колокол только что пробил шесть утра. Моряки заступили на вахту. — Ну вот, сегодня двенадцатый день! — с содроганием сказал себе Меринос. — Завтра — конец. В эту минуту на корабле началась суматоха. Палубу сотрясали беготня, тяжелый топот, скрипели шкивы, перекликались голоса. Затем послышалась короткая команда и дружный всплеск весел: отчалила и удалялась тяжело груженная шлюпка. Прошло несколько минут, и в дверь каюты на корме, где были заключены подростки, трижды постучали. Мэри, которая находилась в первой комнате, служащей одновременно прихожей и столовой, громко ответила: — Войдите! Дверь открылась, и пораженная канадка отступила на шаг, увидев перед собой Алекса. Боцман нес под мышкой длинный сверток в парусине, кажется, очень тяжелый. Мэри, не видевшая его с тех пор, когда бывший жених так недостойно повел себя на палубе, вытаращила глаза от изумления. Алекс твердо держался на ногах и, глядя прямо в лицо Мэри, улыбался ей во весь рот. К тому же он был аккуратно одет, подбородок чисто выбрит, крепкие руки ухожены, короче, это был тот самый безупречный матрос, которого она любила в счастливые дни их обручения. — Здравствуйте, Мэри, — вежливо приветствовал он девушку. — Все в порядке? Мэри не могла прийти в себя. Помня подлое предательство этого сообщника бандитов, оскорбления, которыми он ее осыпал, девушка воскликнула с гневом и презрением: — Вы! Это вы, негодяй, трус, пьяница, предавший любовь и честь! Алекс рассмеялся. — Браво, дорогая моя Мэри, браво! Продолжайте в том же духе, не щадите меня! — Разбойник, пират! — Вот-вот, великолепно! Кричите громче, главное — чтобы вас хорошо услышали! — Что все это значит? — Ваш голос далеко слышен. Важно, чтобы негодяи из экипажа знали, как хорошо вы думаете обо мне. — Трус! Вы еще смеетесь надо мной! — Да ни в коем случае! — Что же вам надо? Он закрыл за собой дверь и положил на стол сверток, в котором звякнуло что-то металлическое. — Ничего особенного, я хочу, чтобы вы позволили мне встретиться с мисс Нелли и мистером Гарри. — Уходите! Убирайтесь отсюда! Вы им так же отвратительны, как мне! — Это не важно… вот увидите. Повторяю: мне необходимо поговорить с нашими молодыми господами. — Как вы сказали «нашими молодыми господами»? — Да, попросите их безотлагательно принять меня, потому что время бежит, а у меня всего десять минут. Слышите — десять минут! Но они стоят ста миллионов долларов и от них зависит жизнь мисс Нелли, мистера Гарри, ваша и моя тоже, в конце концов! Скорей, скорее же! Привлеченные криками, брат и сестра выбежали из своих комнат и тоже застыли в недоумении. Алекс почтительно приветствовал их: — Здравствуйте, мисс Нелли, здравствуйте, мистер Гарри! Прошу вас ничему не удивляться, главное — не терять времени на объяснения, потом все поймете. Дело в высшей степени срочное, как я уже сказал Мэри, речь идет о жизни и смерти всех нас. — Говорите, Алекс, мы вас слушаем. — Вот, мистер Гарри, в этом свертке три карабина винчестер, три револьвера «смит-и-вессон» и сто патронов. Вы раздадите оружие, когда я выйду, зарядите его и… — Но зачем эти карабины и револьверы? — спросил удивленный Меринос. — Чтобы захватить, точнее, вернуть себе «Морган», мистер Гарри! — Как, втроем? — God bless! Вчетвером, мистер Гарри! Сейчас на борту всего десять человек, считая меня, остальные только что отправились на берег. — А Дик Сеймур, главарь? — Его ждут только завтра. — Ах да, завтра, — вздрогнул Гарри. — Значит, сегодня настал час, тот самый, которого я так терпеливо ждал! Вчетвером мы устроим большую уборку на корабле и уничтожим негодяев. Они ничего такого не ждут, это будет легко, вот увидите! О, если б мистер Тотор был с нами! — Вы ничего не знаете о нем, Алекс? — Нет, мистер Гарри. Мы еще поговорим об этом позже, когда завладеем кораблем. — Но у вас есть надежда? — прервала его Нелли трепещущим голосом. — Скажите же мне, Алекс, умоляю, скажите! — Да, мисс Нелли, возможно… Я знаю, куда его заточили. Но позвольте мне уйти! И ждите вскоре сигнала, это будет выстрел из карабина и команда: «К оружию!» Тогда выходите все вместе и стреляйте в эту свору. Главное, никакой жалости! — О нет, никакой жалости! — свирепо повторил Гарри и добавил: — Алекс, еще слово. Мы всерьез поверили, что вы против нас с негодяем Диком. Простите. Вашу руку, дорогой Алекс! — Good by. Так нужно было, мистер Гарри! И это значит, что я хорошо сыграл роль разбойника и пьяницы, это я-то, который никогда не пил ничего крепче чая! — Алекс, дорогой мой Алекс, — Мэри со слезами на глазах протянула ему руки, — вы герой! — Дорогая Мэри, это слишком сильно сказано. Я просто честный малый, верный своему долгу и хозяину, любящий свою невесту… До свидания, я убегаю! Бравый моряк бросился к двери и пересек коридор, чтобы взбежать по ступеням, ведущим на палубу, но натолкнулся плечом на человека, который подслушивал, а теперь кричал, чертыхаясь: — Негодяй! Ты разговаривал с пленниками, я слышал! Дик запретил это под страхом смерти, и тебя это касается больше, чем других. Я прикажу заковать тебя в кандалы. Пусть Дик решает твою судьбу! Этот человек был душой и телом предан Дику Сеймуру. Зная его силу и решительность, Алекс испугался, однако попытался заговорить бандиту зубы, чтобы выиграть время и дать пленникам возможность приготовить оружие. — Но, — лгал он, не краснея, — я пошел к мистеру Гарри и его сестре по приказу самого Дика… — Наглая ложь! А потом, что это за сверток ты отнес туда? — Подарок Мэри, моей бывшей невесте. — Не похоже. Но мы еще проверим. Марш вперед, иди передо мной и без фокусов! Видя, что все потеряно, Алекс побледнел, но его голубые глаза сверкнули. Покорно повернувшись, он незаметно сунул руку в карман куртки, куда положил на всякий случай револьвер. Противник заметил это движение, отскочил назад, поднес к губам свисток и оглушительно засвистел. Поздно! Быстрый, как мысль, Алекс выхватил револьвер, взвел курок и молниеносно разрядил обойму в бандита. Алекс целил под ложечку, как все американцы, — промахнуться невозможно. Человек взмахнул рукой, пошатнулся и упал ничком. — К оружию! — громовым голосом закричал Алекс. — Уничтожим всех! Встревоженные свистком, грохотом выстрела и криками боцмана, пираты сбежались на палубу. Восемь человек появились из носового трюма и центрального люка, стараясь понять, откуда шум. Все эти разбойники были крепко скроенные кровожадные гиганты, но при них не было никакого оружия, кроме ножей, к тому же полупьяные, они не могли сообразить, что происходит. Открылась дверь каюты пленников, и появился Меринос с карабином на изготовку. Нелли и Мэри храбро шли за ним, всматриваясь в грязную орду матросов, которые выли и метались в двадцати шагах. Алекс вновь поднял револьвер и разрядил его в толпу, крича: — Огонь! Пли! Грянули четыре выстрела, засвистели пули, палуба огласилась отчаянными воплями и предсмертным хрипом. Стрельба продолжалась. За тридцать секунд все бандиты были уложены, палуба окрасилась кровью. Некоторые еще дергались в последних конвульсиях и просили пощады. — Алекс, Гарри! Пощадите их! — вскричала Нелли, которой овладела жалость. — Их уже можно не бояться, они могли бы вылечиться и раскаяться… Да… пощадите их! Меринос зловеще ухмыльнулся. — Оказать милость негодяям, которые убили капитана Гаррисона и капитана Роуленда, и доктора, и механика, и весь экипаж, и, может быть, моего бедного друга Тотора! Разве щадят раненого тигра или волка? Нелли, Мэри, идите к себе, прошу вас, теперь это наша забота! Вы поняли, Алекс? — Да, мистер Гарри! В море их, никаких полумер! Чувствуя, что произойдет нечто ужасное и неизбежное, девушки скрылись в столовой. Как только они ушли, мужчины, не сговариваясь, бросились к пиратам. Подхватили за голову и ноги первого попавшегося и бросили в море. Бледные, стиснув зубы, дрожащими руками они выполнили свой ужасный долг, беспощадно выкидывая за борт и мертвых и живых. В десять минут страшная, но необходимая работа была закончена. Море сомкнулось над трупами хищников. Гарри, взволнованный, окровавленный, воскликнул, крепко пожимая руку боцмана: — Наконец-то мы стали хозяевами на борту, как когда-то, и все это благодаря вам, Алекс! Теперь мы друзья до гробовой доски! — Не будем об этом, мистер Гарри, тем более что самое трудное еще впереди. И время не ждет. — Да, конечно, дорогой Алекс. Но мой долг — выразить вам свою признательность, что я и делаю с удовольствием. — Вы слишком добры, мистер Гарри! Видите ли, я совершенно счастлив, что пока все идет хорошо. Я ужасно боялся, видя, что дни проходят, а случая восстать и завладеть кораблем все никак не представляется. А теперь, повторяю, время не ждет! — Да, есть куча важных дел, одно срочней другого… вытащить корабль отсюда, а нас всего двое, чтобы работать у топки, с парусами и у штурвала… Это первая непреодолимая трудность… Или же нам придется покинуть «Морган» на шлюпке и немедля приняться искать Тотора… — Вы забыли еще более срочную вещь, мистер Гарри. — Нет ничего более святого, чем попытаться спасти моего друга. — Более святого — нет, а вот более срочное — есть! — Что же это такое? — Защищаться от негодяев, которые спешат к нам на шлюпке! Они услышали выстрелы и, едва достигнув берега, повернули назад к «Моргану», вон они, среди рифов… шлюпка вертится, танцует… они вооружены… минутку! — Куда вы, Алекс? Боцману было не до объяснений. Одним прыжком он добрался до пулемета, укрепленного чуть впереди мостика, сорвал с него просмоленный кожух, склонился, прицелился, снова выпрямился и, не глядя уже в прицел, положил руку на спусковую гашетку. Он медленно повернул ствол, и сухие хлопки выстрелов защелкали по освещенным солнцем волнам: тра-та-та-та! Летящие одна за другой пули градом сыпались в лодку, превращая ее в решето, пробивали борта, дно, обшивку, уничтожали перепуганный экипаж. — Вот что я делаю, мистер Гарри, — спокойно ответил боцман, — как из шланга поливаю! Расстрелянная шлюпка, продырявленная во многих местах, остановилась, покачалась с кормы на нос, с борта на борт и пошла ко дну вместе с мертвыми и живыми. Лишь слабые крики долетели до корабля. Вся операция длилась не более минуты. — Браво, Алекс, браво, дорогой! — кричал Меринос, счастливый тем, что удалось избежать новой смертельной опасности. — Гром и молния! Вот это возмездие! Пойдем успокоим Нелли и Мэри. — Чуть позже, мистер Гарри! Хотя я вовсе не хочу командовать вами. — Что там еще, Алекс? — Взгляните сами и увидите, что из нас двоих никто лишним не будет. Вдали, за высоким мысом, появился султан дыма, а под ним — нечто темное, движущееся с огромной скоростью. Это нечто, напоминающее акулу, Гарри узнал по белому навесу, который сливался с пеной волн. Юноша яростно закричал: — Паровой катер! Чертова посудина! И набит людьми! Откуда они взялись? — Это резерв, мистер Гарри, и он наделает нам хлопот! Потребуется пушка, а она поднимет тревогу далеко вокруг. — Ну и пусть! Топить их, Алекс, топить! Боцман сорвал с пушки просмоленный чехол: — Орудие готово, я сам зарядил его ночью, чтобы смести всех с палубы в случае неудачи. Я буду стрелять с близкого расстояния, шрапнель разобьет машину и всю корму. — Вы уверены, что попадете, Алекс? — На таком расстоянии промахнуться невозможно. Да вы сами увидите. Моряк склонился над орудием, навел его так же, как пулемет, и выпрямился, готовый обрушить на врага ураган огня. Но катер двигался в рифах зигзагом, попасть в такую мишень было нелегко. Алекс напряженно выжидал со шнуром в руке, готовый резко натянуть его, чтобы выстрелить, но тут ужасный удар сбил его с ног. С невероятным хладнокровием он отпустил шнур и крепко выругался: — Hell damit! Неужели торпедная атака? Тот же удар опрокинул и Гарри. Спотыкаясь, он пытался встать. «Морган» взбрыкивал кормой, натягивал якорный канат, дергался от страшного давления внезапно возникшей донной волны. В этот момент растерянные Нелли и Мэри, стараясь удержаться на ногах, вышли из каюты и подбежали крича: — Что такое? Мы тонем? — Держитесь хорошенько! Еще не кончилось! Девушки вцепились в планшир[190] мостика в ожидании нового удара. И вовремя! Вторая волна поднялась из глубин, пенилась, росла, встряхнула корабль и рассыпалась в водовороте. Все море казалось огромным кипящим котлом, а из глубин морских шли ужасные звуки, похожие на раскаты грома. Алекс обвился вокруг лафета орудия. Гарри железной хваткой вцепился в бакштаг[191] фок-мачты. Предвидя новый натиск волн, они кричали девушкам: — Держитесь! Неподалеку от катера, который крутился, потеряв управление, возник огромный столб пара, за которым вырвался длинный язык пламени и тут же погас. Раздался мощный взрыв, сопровождаемый выбросом осколков, они сыпались, как при извержении вулкана. И тут же третья волна, еще более высокая и быстрая, поднялась из обезумевшего моря. Она встряхнула яхту, как буек, обрушилась на палубу, прокатилась по ней от края до края, сметая все, и стекла в море… Удивительное дело, эта волна катила тело недвижного, оглушенного человека. Из носа его и рта текла кровь, а оцепеневшая рука сжимала ручку корабельного фонаря. Выброшенное на палубу тело оказалось у ног Нелли, державшейся за люк большого трапа. Пораженная девушка всмотрелась и испустила крик, который потряс Гарри: — Тотор! О, Боже, Тотор!
ГЛАВА 4
Внезапный выход, неожиданное прибытие. — Как действовал Тотор. — Радость и горе. — Надежда и печаль. — Жив! — Серия чудес. — Сели на мель. — После возвращения к жизни. — Благодарность. — Что делать? — Завтра! — Неосуществимый план. — «Морган» обречен.Обнаружив подводный вулкан, Тотор задумал необыкновенный, потрясающий и, надо сказать, отчаянный план: дать морским водам одним броском достичь раскаленного пекла. Не без оснований парижанин считал, что пар, возникший от соприкосновения воды и огня, создаст неодолимое давление, которое взорвет всю погруженную в воду часть подземелья и обрежет в месте выхода в море пещеру, в которой он был заточен. Просочившаяся влага подсказала ему, что естественный купол, под которым на невероятной глубине содрогался вулкан, был небольшой толщины, и у Тотора возникла гениальная идея взорвать этот купол. Вот для чего он решил использовать найденные во время раскопок невзорвавшиеся динамитные шашки и проделать в подводном куполе брешь. Юноша заминировал ту часть, которая показалась ему потоньше, и поджег фитиль. Тотор полагал, что фитиль будет гореть целых десять минут, прежде чем воспламенится заряд, — за это время он рассчитывал добежать до той части пещеры, которая не находилась под водой. К несчастью, расчет оказался неверным — фитиль горел всего четыре минуты. Освещая путь неразлучным фонарем, парижанин, согнувшись, быстро взбирался по кускам пемзы, которые скрипели и рассыпались под его подошвами. — Вперед, рысью, старина Тотор, — подгонял он себя. — Рысью! А то будет жарко! Земля задрожала, и взрыв потряс все, что находилось под водой. Резкий порыв воздуха толкнул юношу в спину, страшный грохот прокатился по подземелью. Шум водопадов, гудение пламени, непрекращающиеся взрывы газа, треск терзаемой земли, вой вырывающегося из глубин и ищущего выход пара — все слилось в оглушительный грохот, сопровождающий великие катаклизмы. Тотор оцепенел. Сила и воля были парализованы. Он уже ни на что не реагировал. В ушах звенело, глаза замутились, дыхание стало прерывистым, кулаки конвульсивно сжались, благодаря чему фонарь, который стал светить ярче, остался в руке. Юноша испытывал тягостное ощущение человека, оказавшегося в слишком тесном помещении, где его толкают, мнут, сжимают до потери сознания. Уже изнемогая, теряя последние силы, он хрипел: — Пары и газы… давят снизу. О, этот сжатый воздух рвет меня на куски! Все удалось, вулкан затоплен, он взорвется, но слишком рано… Ты пропал, бедняга Тотор! Ему казалось, что прошли часы, а на самом деле буря разразилась всего минуту тому назад. Давление паров все возрастало, грохот усиливался. Земля дрожала и трещала в глубинах, верхние слои рассыпались, а взрывы звучали страшными раскатами. Наконец давление снизу на купол вулкана стало сильнее давления моря сверху. Корка, образованная продуктами прежних извержений, разом обрушилась и, поднятая паром, взлетела, опрокинулась, но сжатый воздух, находившийся под нею, освободился и устремился вверх из глубины растревоженных вод. Заключенный в этой воздушной подушке, как насекомое или микроорганизм, Тотор взлетел, пересек огромную донную волну, которая еще более ускорила подъем. Она яростно встряхнула его, ворвалась на палубу стоящего на якоре судна, и с шумом откатилась. Судно это — «Морган», черт возьми! Как мы уже говорили, Тотор растянулся у ног своей подруги Нелли, вцепившейся в планшир у капитанского мостика. Девушка испустила крик, в котором смешались испуг и радость. Да, посрамив все опасения и превзойдя надежды, именно Тотор явился вдруг из морских глубин. И это не удивило Нелли, настолько ее мысли были упорно связаны с Тотором, а ее горячие мольбы взывали о чуде. Чудо произошло, только и всего! Даже не вспомнив, что судно в опасности, а новая волна может снести ее в море, Нелли бросилась к юноше, опустилась на колени, подняла его голову и ужаснулась, чувствуя, как болтается голова в ее дрожащих руках. Сердце девушки сжималось от страха, когда она всматривалась в закрытые глаза, бледные щеки, сжатые губы. — Тотор, друг мой, посмотрите на меня! Услышьте меня! — всхлипывала Нелли. Бедный юноша по-прежнему не смотрел, не дышал, не шевелился. Гарри и Алекс осторожно ощупывали Тотора, неловко, но преданно пытаясь оказать ему помощь. Тревога сжала сердце Гарри перед этим по-прежнему недвижным телом. Ужасная мысль о непоправимом пронзила его, крупные слезы выползли из-под ресниц. — Неужели он действительно мертв? — со страхом проговорил он. — Нет, это невозможно! Тотор не может умереть вот так! — Бедный мистер Тотор, — в голосе боцмана слышалось сострадание, — ему так худо! Однако кровь течет. Это хороший знак, если течет кровь! — Да, верно! Ведь так, Алекс? — с надеждой отозвался Гарри. Нелли все еще всхлипывала и взывала надломленным голосом: — О Боже, ты совершил чудо. Соверши же еще одно — воскреси его! О Боже, умоляю тебя! Она судорожно обнимала бедную голову, ища в застывших чертах хоть малейший признак жизни, и ощущала в душе ужасную пустоту, в которой тонула радость былых времен, краткое счастье и нежно вынашивавшаяся мечта о светлом будущем. Гарри совсем потерял голову. Алекс и Мэри переворачивали все в каютах в поисках лекарств и ничего не находили. Да и к чему лекарства? Без медицинских знаний они могли стать опаснее, чем сама болезнь! Короче, душиэтих смелых и преданных людей поглотило смятение и отчаяние перед лицом неожиданных горьких испытаний. Но это длилось недолго. Мучительный кризис миновал. Если сверхчеловеческая воля иногда способна совершать чудеса, то какую почти беспредельную мощь могут обрести соединенные усилия энергий двух существ, действующих ради одной и той же цели! У Тотора, терявшего сознание и чувствовавшего, что умирает, последняя мысль была о подруге, милое лицо которой явилось ему в ту минуту, когда все вокруг гибло. Одно желание завладело его душой: «Освободиться, выжить и найти Нелли… уже навсегда!» А Нелли, чудом обретя вновь своего друга, сосредоточилась на единственной цели: оживить его. — Это необходимо. Я хочу, чтобы он пришел в себя. Я хочу, чтобы он слышал меня, видел, говорил со мной. И эти две энергии, таинственно соединенные вместе, сказались на физическом состоянии умирающего: чуть порозовели бледные щеки, едва уловимый вздох всколыхнул его грудь, и легкая дрожь пробежала по коже. — Он жив, — воскликнула преобразившаяся девушка, — жив! Смотрите, Мэри! Смотрите, Алекс, смотри, Гарри, он жив! Я знала, чувствовала! Тотор, дорогой мой Тотор, вы снова с нами! Веки Тотора медленно приподнялись, и его голос, тихий, бесконечно нежный, как у ребенка, ответил: — Мисс Нелли! Да, к вам я взывал из глубин. О, дорогая Нелли, я вас слышу, вижу… и счастлив, как никто в этом мире! Наверное, это сон, прекрасный сон, в который хорошо бы погрузиться навсегда! О, умереть вот так, рядом с вами. Не просыпаться в пещере без воздуха, света, надежды, в ужасной могиле, в аду! А здесь, рядом с вами, под солнцем, которое я уже не надеялся увидеть… Девушка долго смотрела на него не отвечая, угадывая ужасные муки, через которые прошел ее друг, боясь слишком резкого возвращения его к чудесной реальности. Она склонилась над Тотором и осторожно пыталась остановить платком кровь, которая текла из ран на лице и ссадин на губах, а Меринос, Алекс и Мэри сгрудились возле них в порыве безумной радости. — Он бредит, — воскликнул Гарри, — но он жив, и мы его спасем! Алекс, перенесем его на мою кровать… Резкий толчок не дал юноше договорить. Все четверо чуть не упали. Судно, болтавшееся на якорной цепи, внезапно остановилось и дважды вздрогнуло. Боцман в тревоге закричал: — Беда! Мы сели на мель! — Не может быть! — Но это так, мистер Гарри! Слышите, киль скребет по твердому дну, а совсем недавно до дна здесь было далеко. — Да, извержение подняло его. Тут мы бессильны. Но сейчас не до этого. Меня интересует лишь Тотор, остальное не имеет значения! — Да, вы правы, мистер Гарри. Прежде всего — ваш друг, не так ли? А я пойду взгляну, что можно сделать. Прямо не знаешь, над чем прежде голову ломать. Действительно, извержение вулкана, буйство морской стихии, фантастическое появление парижанина — все было так неожиданно и необычайно, что осмыслить сразу было невозможно. От толчка судна Тотор вздрогнул и услышал слова, произнесенные незнакомым грубоватым голосом: «Мы сели на мель!» Юноша начал приходить в себя. Конечно, он был разбит, истерзан, но боль понемногу возвращала его к жизни. Рассеянный мутный взгляд заметался, оживился, остановился на Нелли. Он увидел улыбающуюся, счастливую, преобразившуюся девушку и воскликнул крепнущим голосом: — Мисс Нелли, значит, это правда! Я жив, и вы рядом со мной! — Да, дорогой Тотор, это просто чудо, что-то неслыханное, невероятное! Вы явились к нам из глубин морских! — Все так! Прыжок в воду, только наоборот, вверх и через вулкан. Нелли нервно рассмеялась и повторила, счастливая: — Через вулкан! Вы и на такое способны! А что вы делали в вулкане? Он ответил с великолепным апломбом[192], который мало-помалу возвращался к нему: — Я искал вас с фонарем. Вот и доказательство, держите. Вот он — сувенир, тотем[193], оберег, амулет, который я захватил с собой из преисподней. О, Боже, как это далеко и глубоко! Меринос, старина, как дела? Вот мы и снова встретились! Что скажешь? — Тотор, друг мой, я счастлив, даже не знаю, что и сказать. Прямо с ума схожу! Но как ты здесь очутился? — А вы сами как оказались на «Моргане»? А где те, что им распоряжались? — Сразу не расскажешь. — Мне тоже трудно… Слишком долго… — Нужно попить и поесть! Ты, должно быть, очень ослаб. — Не слишком! Прежде всего мне требуется другое. — Что же? — Вода и мыло, чтобы хорошенько помыться, одежда и белье, чтобы сменить свои обноски. — Сейчас мы с Алексом отнесем тебя. — Ни в коем случае! Я сам побегу вприпрыжку, как зайчонок! Вот так! Тотор вскочил на ноги, но слишком понадеялся на свои силы. Едва выпрямившись, он пошатнулся и чуть не упал — Нелли с братом очень вовремя подхватили его под руки и удержали в вертикальном положении. Через две минуты он уже плескался в ванне под внимательным присмотром Гарри, который, как брат, не оставлял его ни на минуту. Закончив туалет, Тотор бодро принялся за еду. В охотку уплетая припасы, парижанин позволил себе полстакана вина и принялся вдохновенно рассказывать о своих необычайных приключениях. От усталости и недомоганий не осталось и следа — уверенный в себе француз, похоже, был скроен из стали. Гарри, его сестра и Мэри, вздрагивая от волнения, слушали, а боцман тем временем внимательно осматривал трюм, чтобы проверить состояние обшивки. — Чем же это кончилось? — спросил Гарри, когда рассказ стал подходить к завершению. — Тем, что все мы встретились, — уже неплохо. Я бы добавил только, что есть в моей истории одна загадка. — Какая? — Стальной лом. Своим спасением я обязан этому инструменту и отдал бы жизнь, новенькую мою жизнь, которой так дорожу, чтобы увидеть того, кто сознательно кинул его в мою сторону. В этот момент Алекс поднялся из трюма. Несомненно, осмотр обшивки был удовлетворительным, ибо бравый боцман весело насвистывал свой любимый мотив: «Светлый ручей». Заслышав знакомые звуки, Тотор вскочил с криком: — Алекс, дорогой мой Алекс, только один вопрос! — Да хоть сто, если угодно, мистер Тотор. — Вы были там, в пещере, когда муровали стену? — Да, мистер Тотор. — И это вы оставили мне лом? — Конечно. Жаль только, что не мог сделать больше, но я думал, что такой удалец, как вы, сможет воспользоваться подарком и выкрутиться. Ведь так и случилось. Тотор встал, схватил обе руки канадца, сжал их и, с увлажнившимися глазами, дрожащим голосом сказал: — Алекс, вы спасли мне жизнь! Теперь мы друзья до гроба! — Я то же самое сказал ему несколько часов назад, и тоже от всего сердца. Он спас нас всех, — прервал Меринос. — Да, друг мой, Алекс — наш общий благодетель, — продолжал юноша, а Мэри послала долгий, восхищенный, нежный взгляд бравому, простому и такому замечательному моряку. Смущенный Алекс что-то бормотал, не зная, как избежать уверений в бесконечной признательности. Храбрец из храбрецов хотел бы скрыться, провалиться под палубу, предпочел бы подставить вздымающуюся от волнения грудь урагану или ружейному залпу. Лицо его светилось доброй, застенчивой улыбкой. — Господа, вы меня хвалите… вы меня простите, если… не умею выразить радость… счастье, которое сейчас испытываю… Ваша драгоценная дружба — лучшая награда для меня. Вот что я хочу сказать: не буду по-настоящему счастлив, пока вы не окажетесь свободны, целы, невредимы и ничто не будет вам угрожать. К сожалению, до этого еще далеко. — Совершенно справедливо, — сказал Меринос, — события сменяют друг друга с такой быстротой и неожиданностью, что нам до сих пор физически не хватает времени, чтобы обсудить, что мы делаем или должны делать. Мы не смогли ни поговорить, ни сговориться, ни выработать план и даже не знаем, где находимся! — Около мыса Каффура, недалеко от точки, где сто тридцать третий от Гринвича меридиан пересекает четвертую южную параллель. Как видите, мы среди рифов, а земля совсем близко. Пещера, в которой был замурован мистер Тотор, выходит наружу с другой стороны. Я и не знал, что она продолжается под водой. — Каков же был ваш план, дорогой Алекс? — Войти в доверие к экипажу и Дику Сеймуру, при первой же возможности завладеть судном и с вашей помощью постараться выручить господина Тотора. Сделав это, мы могли бы вернуться на «Морган», оставленный на волю волн. Помаленьку развели бы пары, выбрались бы кое-как отсюда и высадились на голландском острове Серам, лежащем на запад от нас, не дальше ста пятидесяти миль. К несчастью, случай, которого я так ждал, все не представлялся, а дни шли… — Ох, даже в дрожь бросает. Только подумайте, завтра последний срок, назначенный негодяем Диком! Ей-богу, мои уши висят на волоске! — Но где он, этот подонок? — прервал его Тотор. — Я бы хотел свести с ним кое-какие счеты. — Не знаю, мистер Тотор. Да и кто может похвалиться, что знает про отъезды и приезды этого чудовища? Хоть бы догадаться, где его убежище! — Вы его давно не видели? — Порядочно, но его отсутствие ничего не меняет, все работают и без него. Будьте уверены, мы увидим мистера Дика раньше, чем хотели бы, кто знает, может быть, через час, может, через десять, но завтра он наверняка появится! — О каких бы счетах ни говорил Тотор, не хотелось бы встретиться с ним здесь, — решительно произнес Гарри. — Скажите, Алекс, вы сможете провести судно через тысячи рифов? — Нет ничего проще! У меня есть карта, а с нею я готов пройти где угодно. — В таком случае, все в порядке. Врагов не видно, катер пропал, потонул в водовороте вместе с экипажем, море спокойно. Что нам мешает отплыть? — Господа, и я бы того хотел, но это невозможно. — Как это — «невозможно»? — Вы забыли, что мы сели на мель! «Морган» встал на киль… Это целая гора железа и дерева. Потребуются мощные буксиры, много людей, чтобы разгрузить судно и сняться. — А иначе? — А иначе — здесь, в море, посреди рифов, и будет его могила. Ничто другое не вырвет яхту отсюда!
ГЛАВА 5
Дикие животные очень любопытны. — Неожиданное появление мадам Жонас. — Она тоже любопытна. — Доброжелательный осмотр. — Загадочная попытка мэтра Тотора. — Канат, малый якорь и ялик. — Обед и сон кита. — Необыкновенная ловля на удочку.Все дикие животные невероятно любопытны. Когда они оказываются рядом с непривычными предметами, их охватывает неукротимая любознательность, зачастую доводящая до беды. А те, которые притерпелись уже к цивилизации, гораздо менее впечатлительны. Они с презрением или просто равнодушно проходят мимо необычного, как будто своими примитивными мозгами думают примерно так: «Тьфу, мы и не такое видали!» Ничто их не возмущает и не привлекает, тогда как самые подозрительные и самые нелюдимые порой забывают всякое благоразумие и страх. Так, стадо из пяти жирафов собралось, чтобы посреди огромной равнины полюбоваться вблизи доктором Ливингстоном в красной фланелевой рубашке, который брился перед зеркалом, укрепленным на повозке. Знаменитый охотник Болдуин видел, как к сушившемуся на кусте английскому флагу подошел носорог. Конечно, толстокожее животное ничего не знало ни о Старой Англии, ни о ее славной эмблеме. Лагерь был совсем близко, но носорог долго стоял, словно завороженный, а потом не торопясь удалился. Болдуин не тронул его. Английский майор Левесон, друг Бомбоннеля[194], охотился в Индостане[195]. Он любил удобства и возил с собой большую свиту, в том числе повара со всем необходимым снаряжением и припасами. Однажды повар устроился в лесу, повесил кухонную посуду на протянутые между деревьями веревки и затопил походную печь. Неожиданное зрелище — белый человек, хлопочущий среди блестящих предметов, — привлекло стадо слонов. Оторопелые, будто загипнотизированные, они подошли с поднятыми вверх хоботами, хлопая ушами, почти касаясь кулинарного капища[196], а его служитель, ни жив ни мертв, не решался даже пошевельнуться. Слоны неспешно исследовали странные предметы, а затем, когда их любопытство было удовлетворено, удалились, не причинив вреда. Примеры можно множить до бесконечности, их немало в рассказах самых правдивых авторов. У обитателей морей любопытства не меньше, чем у сухопутных животных, если не больше. Никто не избавлен от него, все — большие и маленькие, от сардинки до кита — отдают дань. …Вблизи «Моргана», недвижно стоящего среди бурунов, вдруг образовался водоворот. Под ярким солнцем экватора, обжигающим блеском плавящегося металла, море покрылось барашками и плескалось у бортов. Три часа прошло после истребления бандитов и фантастического появления Тотора. Взаимные рассказы о приключениях были закончены, молодые люди уже все знали друг о друге. Их положение ясно, оно весьма серьезно и, несмотря на недавние успехи, почти безнадежно. Что делать дальше? Что предпринять? — А я-то мечтал доставить вас на Серам! — вздохнул Алекс. — Невозможно, — ответил Меринос. — «Морган» сидит прочно, как скала. Может быть, стоит высадиться на берег и снова углубиться в лес? — Дик отправился на вельботе, спасательная лодка при нем. Шлюпку мы только что потопили. Значит, остался один ялик[197], а он ненадежен. Облокотившись на планшир, трое мужчин излагали свои проекты, пока девушки сидели в каютах. — Это еще что такое? — вскричал молчавший до сих пор Тотор при виде водоворота. — Опять глубинная волна? Не может быть! Напившись до отвала, вулкан должен уже посапывать во сне.
ГЛАВА 6
Как управлять кораблем. — Парус или пар. — Безветрие. — Девушки в роли кочегаров. — Настоящий ад. — У топок. — Изнурительный труд. — Героини. — Как превратить воду в пар. — Сверхчеловеческая энергия. — Семидесятиградусная жара.Китиха резко дергалась из стороны в сторону. Возник водоворот, в котором, как пробка, крутился ялик с Алексом и Тотором. Кроме того, бухта троса, разматывавшаяся с молниеносной быстротой, могла в любую минуту перевернуть утлую посудину. Ловкими и рискованными маневрами боцман старался избегать этой смертельной опасности. Ялик крутился, но устойчиво держался на плаву. — Браво, Алекс, — прокричал Тотор, — браво! Это настоящая работа! — Да вы сами, мистер Тотор, великолепно знаете дело, — отвечал моряк, налегая на весла. — Так снять корабль с мели! Просто великолепно! Чудовищная сила морского гиганта сорвала якорь, застрявший в кораллах, и теперь освобожденный «Морган» медленно, рывками, но неуклонно продвигался на буксире в открытое море. — Вот бы утянула она нас так в Сидней! — вздохнул Тотор. А наверху, на палубе, Нелли, Мэри и Меринос в восторге хлопали в ладоши. — Нам не проплыть и мили: выбросит на рифы, — заметил Алекс. — Эй, мистер Гарри, рубите! Скорей рубите канат! Меринос подчинился с сожалением: он не понимал грозящей опасности. Обезумевшая, задыхающаяся, взбешенная мадам Жонас ныряла прямо вперед, унося с собой малый якорь и канат. — Счастливого пути и всего вам хорошего, мадам Жонас! — кричал Тотор. — И главное, спасибо за все! Бедняжка! Она освободится, конечно, от якоря: на его лапах нет заусениц, как у рыболовного крючка. Но все равно, как она, верно, перетрусила! Дрейфовавшее на якоре судно тут же остановилось. Вот тут-то и сказалось отсутствие экипажа. Меринос подал за борт канат, по которому Тотор поднялся с обезьяньей ловкостью. Алекс задержался на минуту, чтобы завести ялик под шлюп-балку и подготовить к подъему на борт: больше лодок не было. Только после этого боцман на руках подтянулся по канату. Но, чтобы поднять даже на талях эту скорлупку, у них едва хватило сил. Нелли и Мэри, видя, как надрываются мужчины, пришли на помощь и тянули изо всей мочи, сдирая кожу на руках. Вот так отважные жены моряков, не уступая мужьям, водят по каналам свои тяжелые баржи. Впятером, удвоив усилия, они наконец водворили ялик на место, в походное положение, гордые первым успехом. Но время торопило, нужно было хорошенько продумать дальнейшее, и никому не приходило в голову смеяться или вспоминать любопытные события, которые только что произошли. — А теперь что делать? — в один голос спросили Меринос и Тотор у Алекса, единственного профессионального моряка на судне, естественно, сразу произведенного в капитаны. — Во что бы то ни стало уйти отсюда и добраться до голландского острова, — не задумываясь ответил он. — Хорошо бы, но как? — снова задал вопрос Меринос. — Сейчас штиль, ни ветра, ни легкого бриза, прямо беда! А то поставили бы большой парус, в помощь ему — кливер[203], и вперед, на Серам. — Да, раз нет ветра, плыть на парусах невозможно. — Тогда пар? — сообразил Тотор. — Но кто будет заниматься машиной? — Тотор. Не хвалясь, скажу, что я хороший механик. — Хорошо. А кто же будет кочегарить? Мне придется остаться у руля. Если б не это, я не отошел бы от топки… — Я буду кочегаром! — браво заявил Меринос. — Вас недостаточно, мистер Гарри. — Мы тоже! — не менее решительно подхватили Нелли и Мэри. — Это ужасная работа, особенно на экваторе. Даже опытные мужчины не выдерживают! — Гораздо хуже быть в плену у мистера Дика, да еще с такой перспективой, как вы знаете! — твердо заявила Нелли. — Да, вы правы, — сказал Тотор, — иногда жизнь требует от нас больших испытаний. — Неужели это так страшно — превращать воду в пар? — О, мисс Нелли, если б вы знали! Ничего хуже быть не может! — Так я хочу узнать, прямо сейчас! — Мы узнаем! — задорно добавила Мэри. — Увы, это необходимо! Девушки никогда не бывали в машинном отделении, таинственном чреве, где бьется, дышит, ворочается, воет и рычит потрясающая машина, дающая жизнь кораблю. Тотор спустился первым, за ним последовали Нелли и Мэри. Меринос замыкал шествие. Железо, медь, сталь, никель и сплавы, смазанные горячим маслом и неустанно протираемые умелыми, внимательными и аккуратными матросами, прежде блестели как в часовых механизмах, все сверкало и пламенело. После захвата корабля бандитами замечательная машина, неухоженная, покрылась ржавчиной, появились пятна яримедянки, но от грязи она не стала работать хуже. Быстрый осмотр успокоил Тотора, а девушки пока еще опасались прикасаться к чему бы то ни было, боясь испачкаться. Открыв железную дверь, Тотор зажег фонарь и проговорил: — Кочегарка. Сейчас тут будет светло и жарко! — Но тут уже сейчас нечем дышать среди железок и потоков горячего воздуха. — Пустяки! Всего сорок градусов! Вот когда будет шестьдесят… К счастью, тут хорошая вентиляция, и воздуховоды работают отлично. Эй, Меринос, за уголек! Давай-ка вдвоем! Нужно сложить перед топками большую кучу. Бедные девушки не смогут поднять его из трюмов. Начали! Огромные куски принесены и расколоты. Тотор разжег огонь. Один паровой котел… Три топки… К тому же кочегары — слабые новички. Смогут ли они справиться с работой? О, если бы парижанин мог быть повсюду одновременно! Скоро он уже не сможет отойти, управляя переменой хода! К счастью, на этой замечательной машине все операции исполнялись автоматически, иначе Тотор не справился бы и с помощниками. Впрочем, ни за чем не требовалось следить. Не важно, если колосники горят, огонь иногда касается труб, а та или иная деталь не получает вовремя свою порцию смазки! Требуется одно — во что бы то ни стало давать пар и двигаться вперед. Алекс уже помог им. Теперь он раздал лопаты и кочерги. Лопатой нужно бросать уголь в пылающую топку, а кочергой хоть как-нибудь разравнивать его. Нелли и Мэри стиснули тонкими пальцами грязные черенки лопат, пропахшие потом и углем, и Нелли спросила: — Что нужно делать? Пламя уже гудело, как всегда в котельных. Во всех трех топках уголь хорошо горел и температура становилась невыносимой. Не нужно ли подбросить угля? Быстрым движением Тотор открыл верхнюю заслонку. Шумно вырвалось пламя с отсветом плавящегося металла, с темными пятнами, голубыми языками и адским жаром… — Ах, — воскликнула девушка, — вот оно, дыхание пекла! Тотор подобрал лопатой уголь, бросил его в середину топки и сказал: — Вот что нужно делать! — Теперь моя очередь! — бесстрашно проговорила Нелли. — Нужно победить или умереть… мы победим! Лицо ее было обожжено, глаза ослеплены пламенем, грудь тяжело вздымалась, но она загребла полную лопату и опрокинула ее в адский костер. Тотор восхищенно взглянул на девушку и прошептал с умилением: — Вы прекрасно работаете, мисс Нелли! — Но смотрите, Мэри делает то же самое! — Тяжело, не правда ли? — Да, тяжело дышать огнем, кажется, что умираешь, но в этом что-то есть… О, как мне жаль кочегаров, которые трудятся так дни напролет, месяцы, годы, всю жизнь! Бедные люди! Настоящие мученики! Тотор смотрел, как надрывается его подруга, как пот заливает тонкое лицо, и сердце его сжималось от сочувствия. Он произнес с нежностью: — Когда будете совсем задыхаться, подойдите подышать к вентиляционной трубе, но осторожно, потому что это опасно. Теперь я обмотаю ваши руки мокрой паклей, там есть чан с водой, держите паклю всегда мокрой, иначе она загорится. Держитесь и берегите силы! — Да, друг мой, очень дорогой мне друг, я сделаю, как вы говорите, а еще… рассчитывайте на меня всегда… всю жизнь! — О, как хотел бы я избавить вас от тяжкого труда! Но мне нужно немедленно занять место на площадке управления машиной и уже не покидать его. Алекс сделал Тотору быстрый знак. — Пора, мистер Тотор, идите на свой пост. Давление уже поднялось. Я встану у руля, как только избавлюсь от якоря… для этого достаточно убрать одно звено из цепи, и с этим я справлюсь сам. До свидания, дорогая Мэри, исполняйте свой долг. — До свидания, друг мой! Я буду достойна вас, — просто отвечала канадка. — А вы, мистер Гарри, остаетесь старшим на вахте, — снова проговорил боцман, — к счастью, вы немного знаете, как кочегарить. Если будет что-нибудь не так, предупредите меня, тогда застопорим. — Да, Алекс. — Именно у вас самая трудная задача. Мужайтесь, мистер Гарри! — Спасибо, Алекс, крепко жму вашу руку, дорогой друг. Go ahead! Тотор и боцман ушли. Меринос и девушки остались одни в адском пекле. Прошло десять минут. Все трое, опершись на лопаты, переглядывались в сполохах света, брызжущего на железные стены. Гул вырывался из открытых створок зольников, свет от языков пламени лизал их ноги и лица. Жар был такой сильный, что хотелось только одного: бежать, бежать отсюда на палубу! Организм человека неспособен выдерживать это долго. Но отважная троица была верна своему долгу и не сдавалась, несмотря на огонь, от которого закипала кровь и пылали легкие. Гарри открыл дверцу топки. Ему показалось, что огонь начинал опадать. Он отрывисто бросил: — Нелли, еще лопату угля! Вы тоже, мисс Мэри! И я, в глубину топки. Теперь заглянем в следующую. В следующей — то же самое. Пора немного подбросить. Они снова взялись за лопаты. Пот катил ручьем. Кочегары отирали его рукой или рукавом. Нелли громко рассмеялась, что прозвучало странно в раскаленной добела железной пещере. Она увидела чумазое лицо брата с белыми округленными глазами, странно выделяющимися на маске из сажи. — О, Гарри, какой ты перемазанный, ты на себя не похож. Ты выглядишь… ну да, негром! — А ты сама-то, чудачка! Если б ты только могла увидеть свои золотые кудри и милую мордашку, запорошенные угольной пылью… — Негритянке не хватает рисовой пудры!.. Вы тоже, дорогая Мэри, совсем черны, да еще такого странного оттенка! Ох уж эти лопаты, пыль, дым… Но мы хоть мило выглядим? — Конечно, вы очаровательны! — Ладно, тоже утешение… единственное, какое может быть. — Есть еще одно: мы движемся! — Верно, корабль покачивается. О, когда мы лениво растягивались в качалках и плыли, мягко укачиваемые волнами, вдыхая морской бриз, я и не подозревала, что люди надрываются здесь, в металлической клетке, где их поджаривают живьем! — Да, за три шиллинга в день. — Какой жестокий урок для меня! Мне стыдно, что так дешево достаются нам удовольствия, наша роскошь и наше богатство! Ведь так во всем, не правда ли? — Да, чем больше мучений, тем меньше заработок. Но хватит философии, давайте уголька! У чудовища бешеный аппетит, нужно его подкормить! В кочегарке наступила тишина, прерываемая гудением пламени, скрежетом лопат и громким хлопаньем массивных заслонок. Нелли охватило лихорадочное, неукротимое желание говорить, Мэри же, напротив, задыхалась, машинально отирала пот и работала, не говоря ни слова. — Но вы молчите, Мэри, — заметила Нелли, — вам ведь тоже нелегко, дорогая? — Не труднее, чем вам, мисс Нелли. Ваш пример ободряет меня и зовет выполнить долг. — Дайте вашу черную руку, я сожму ее в своей, также совершенно черной… от всего сердца… как сестра. — О, мисс Нелли, я так счастлива и горда, так люблю вас! — Я тоже! Боже, как мне жарко! Я вся — сплошной ожог! И пить хочется! Во мне все пересохло! Гарри, что пьют кочегары? — Виски, целыми пинтами, до отвала. Они не чувствуют крепости алкоголя, который поддерживает их силы, пока не убьет! Я сейчас дам вам горячего чаю, это лучше всего. — Но я задыхаюсь, — воскликнула Нелли, — у меня уже нет сил. Брат, Мэри, у меня в глазах сплошной огонь, а в голове — красные сполохи. — Быстро подойди к вентиляционной трубе! С помощью Мэри Гарри подвел сестру к мощному потоку воздуха, идущему с палубы. — О, — проговорила она, дрожа от удовольствия, — мне кажется, что я вдыхаю саму жизнь! — Довольно, сестренка, довольно! Воздух ледяным душем падал на плечи девушки. Она сама отстранилась, шепча: — Да, можно и погибнуть, если забыться в опьянении этого свежего бриза. Теперь — за работу! И все трое героически возобновили едва прерванный ужасный труд. О да, ужасный и даже убийственный, особенно в этих широтах. Гарри машинально бросил взгляд на термометр и вздрогнул — он показывал шестьдесят два градуса. Напрягаясь, чтобы открыть топку, американец сказал себе: — Мы не выдержим. Особенно девушки! Мы здесь всего час, а я уже теряю сознание. И неужто мы идем со скоростью всего пять узлов? По сути дела, подростки выполняли работу, непосильную даже для многих мужчин. Известно, что идущие на Дальний Восток корабли, оказавшись в Красном море, используют в качестве кочегаров только негров. Обычно это гиганты-сомалийцы, худощавые, мускулистые, в расцвете сил. Тем не менее, не проходит и дня без того, чтобы кто-то из них не потерял в кочегарке сознание. Разве могли трое подростков, из них две девушки, выдержать работу, валящую с ног мужчин из жарких стран, выносливость которых вошла в поговорку?
ГЛАВА 7
В кочегарке. — Мученик. — Появляется Тотор. — Масло и керосин. — Пушечный выстрел. — Без страха и сомнений! — Капитан, боцман, рулевой и артиллерист одновременно. — Сражение. — Две героини. — «Мы прошли!» — Пожар.Заточенные в отвратительном металлическом отсеке при ужасающей температуре, истекающие потом, измученные подростки уже не в состоянии были выполнять выматывающую работу. Сильного потока воздуха из вентиляционной трубы было недостаточно. Напрасно встали они прямо под воздушную струю: облегчения не было. Их тела горели, кровь спекалась, обожженные легкие не могли больше выносить этого пекла. Скорее кончать, иначе — смерть. Вспомните, что они находились в зоне экватора, и там, наверху, на свежем воздухе, было больше тридцати пяти градусов! Меринос шатался от усталости, но еще держался. Отяжелевшей рукой он загружал несколько кусков угля, желая взять на себя всю работу, пока его подруги плакали от отчаяния, повалившись на пол у железной двери. — Мы погибнем, — бормотала Нелли погасшим голосом, — да, погибнем, не увидев больше неба! Мэри, я задыхаюсь! Верная канадка побрела к ней, приподняла, положила ее голову на свои колени и тихо стала уговаривать: — Мужайтесь, мисс Нелли, мы плывем, и наши страдания когда-нибудь кончатся. Корабль движется, значит, есть надежда! — Дорогая Мэри, как вы добры и отважны! Мне стыдно, что я такая слабая. О, я хотела бы стать сильной, как мужчина! Однако надо снова подбросить угля. Она встала, шатаясь, подошла к одной из топок и, обжегшись, всхлипнула: — О, это настоящий ад! — Мужайтесь, мы спасемся! — Я больше не могу, не могу! Но вы и сами, Мэри… — О да, мне тоже тяжело, невыносимо. Гарри сокрушенно смотрел на них, чувствуя, что и сам на пределе сил. Однако он напрягся, в последний раз заполнил топки и, совсем изнемогая, шатаясь, отошел и упал на железный пол, хрипя: — Конец! Ох, как тяжело бывает в жизни! Еще десять минут, и топки начнут затухать, потом погаснут, и корабль остановится! Задыхающиеся, совершенно разбитые, неспособные шевельнуть рукой, друзья отдали бы остаток жизни за глоток свежей воды, чистого воздуха. Они молчали, тяжело дыша, не было сил, чтобы произнести хоть слово в гудении пламени, грохоте железок, шипении пара. Внезапно наверху какой-то взрыв покрыл шум машины, потряс корабль и отдался во всех его углах. Пушечный выстрел! Они приподнялись и с тревогой посмотрели друг на друга. Гарри яростно закричал: — Hell damit! Что там еще случилось? Наверное, нас атакуют, а Алекс отвечает. Но кто же стоит у руля? Кто ведет корабль? Если уж погибать, то под солнцем и голубым небом, а не запертым здесь, как таракан, заблудившийся в кухонной печи. — Да, да, наверх! Вон из этого ада! — вторила теряющая сознание Нелли. — Ничего хуже с нами уже не случится, а если умирать, то лучше наверху! Они собрались покинуть свой пост и, хотя бы полумертвыми, выбраться на палубу. Но тут дверь герметического отсека, которая отделяет кочегарку от машинного отделения, распахнулась, и в расстегнутой рубашке появился Тотор, истекающий потом, задыхающийся, но вовсе не потерявший мужества и стойкости. Он воскликнул, видя всеобщее смятение: — В чем дело, кочегары? Забастовали в самый ответственный момент? Нелли бросилась к нему, схватила за руку и хрипло, запинаясь, лепетала: — Тотор, друг мой… вы видите… мы погибаем! — Шестьдесят пять градусов, черт возьми! Тут даже у саламандр заболела бы головка!.. Мисс Нелли, еще хотя бы пять минут! Возможно, от этого зависит наше спасение! — Что там, Тотор? — спросил Гарри. — Нас атакуют, и Алекс обороняется. — В одиночку? — Конечно, если только не упали к нам помощники с луны. — А кто же стоит у штурвала? — Закреплен намертво! И «Морган» мчится вперед, наудачу! — Как ты это узнал? — По переговорной трубке. — А как же машина? — Пущена на полный ход. Теперь во что бы то ни стало нужен пар, и немедленно! — А если корабль наткнется на риф? — Это уж как повезет! От нас требуется пар. Нужно выполнить приказ, и быстро. Побольше огня в топках! — Мы уже не можем… видишь, Нелли и Мэри совсем выбились из сил. Они отчаянно старались и показали чудеса выдержки. — Бедняжки! Удивляюсь, как вы до сих пор терпели. Раздалсявторой пушечный выстрел. Затем голос Алекса в переговорной трубке прорычал: — Прибавить пара, гром и молния! Go! Go ahead! — Придумал! — воскликнул Тотор. — Возиться с углем слишком тяжело и долго. Пошли со мной! Есть идея! Получше, чем с абсентом в бензобаке автомобиля там, в Австралии. Все трое устремились за Тотором в машинное отделение, где в небольшом складе находились бидоны со смазочным маслом и керосином. В грохоте машин послышался голос парижанина: — Уносите столько, сколько сможете! Он и сам подал пример, бежал к кочегарке и живо возвращался. За пять минут в коридоре оказалось штук двадцать бидонов. — Отойдите, — приказал Тотор. Он открыл первую топку и с размаха кинул туда бидон масла и бидон керосина. Затем во вторую, а затем столько же — в третью. Готово! Юноша бегом возвратился к своим удивленным друзьям и расхохотался, когда Меринос сказал ему: — Ты нас взорвешь! — Ну и что? Это не самое страшное. Не будь как тот чудак, который боялся дождя, утопая в реке. Тут же в топках послышались глухие взрывы. Бидоны лопались, огонь ручьями тек через колосники в поддувала, языки пламени вырывались как ракеты во время фейерверка. — Не бойтесь, все в порядке! — радовался Тотор. — Ура Тотору! — закричал Меринос. — Вот это пар! — Вперед, без страха! Такое давление, что всем чертям тошно станет! Девушки могут подняться на палубу. — А вы? — спросила Нелли. — И мы с вами, но только на пять минут, а потом снова спустимся наполнить топки маслом и керосином. Кочегары поднялись по трапу на палубу. Несмотря на палящее солнце, отвесно бьющее копьями своих лучей, жара показалась им вполне сносной. Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить потрясающий «спектакль одного актера», разыгравшийся на спардеке «Моргана». На всем пространстве, от пустоты кажущемся огромным, один-единственный человек — и капитан, и боцман, и рулевой, и артиллерист — бегает, все видит, совершает чудеса и успешно решает неразрешимую задачу — быть всюду одновременно! Это Алекс. Бесстрашный моряк только что перезарядил орудие. Увидев черных от угля, задыхающихся девушек, которые бессильно упали у капитанского мостика, он крикнул им: — Осторожно, по вам будут стрелять! Алекс присел и резко дернул шнур, зажатый в правой руке. Шнур привел в действие спусковое устройство и поджег заряд. Из жерла пушки вырвалось облако белого дыма, прогремел выстрел. Остолбенев от удивления и восхищения, Тотор и Меринос смотрели в море, следя за полетом осколочного снаряда, который ввинчивался в слои воздуха и со свистом удалялся. — Полетел! — закричал Тотор. — Браво, Алекс! — отозвался Меринос. Оба поняли, почему корабль мчится вперед с закрепленным намертво штурвалом, чем вызван призыв к кочегарам и что это за сражение, которое ведет один-единственный человек. На расстоянии мили наступала целая флотилия. Небольшие суда образовали полукруг и перегородили путь к голландскому острову. Вельботы? Шлюпы? Лоцманские катера? Тут было всего понемногу, а посреди строя — пароход, похоже, адмиральское судно флотилии. Осколочный снаряд попал в суденышко, в котором сидело около двадцати гребцов, и негромко взорвался, образуя небольшое облачко дыма. Суденышко остановилось, переваливаясь с борта на борт, и мгновенно исчезло в водовороте. — Алекс, вы великолепны! — Спасибо, мистер Гарри, но я хотел бы, чтобы нас стало больше хотя бы на полдюжины. Вы же видите, как нас мало. — Это Дик Сеймур, не правда ли? — Да, мистер Тотор, это он, со всеми своими головорезами. И мы должны прорваться через строй судов. Как у нас с давлением в котле? — Посмотрите на трубу, черный дым, который идет из нее, — это от масла, керосина, угля, заполнивших топки. — Мы делаем всего узлов шесть, а нужно по меньшей мере десять, чтобы прорвать этот строй. — Гром и молния! Мы, черномазые кочегары, не лентяи! Меринос, старина, бегом! Быстрей в кочегарку… Больше пара, даже если машина разлетится на куски! — Даю вам две минуты, и возвращайтесь! Вы мне нужны у пушки и пулемета. Мисс Нелли, Мэри, на помощь! Прошу вас, пока их нет… — Что нужно делать? — решительно откликнулась Нелли, а Мэри подбежала к своему жениху, который восхищенно смотрел на нее. Нарастающий гул помешал боцману ответить: на борту парохода, наступающего в центре подвижного полукруга, раздался выстрел. Снаряд молнией пролетел над палубой «Моргана» на уровне брам-реи[204] и упал в море в нескольких кабельтовых. — Перелет, — спокойно отметил Алекс. — Вам не страшно, мисс Нелли? А вам, Мэри? — Мы ничего не боимся! — Это уже настоящая война. Дик Сеймур хочет нас запугать. Одновременно с выстрелом на флагштоке парохода над кормой поднялся большой черный квадрат — с вызывающей наглостью Дик Сеймур водрузил пиратский флаг, ужасный символ людей вне закона, и подкрепил свой жест пушечным выстрелом. А это значило, что война объявлена и будет беспощадной. Но Алекс ничуть не смутился, а девушки, которые все видели, держались просто великолепно. Слишком узкая труба изрыгала вихри дыма. Все дрожало, скрипело и стонало под люком машинного отделения. Тотор и Меринос исполняли свой долг. Алекс бросился к переговорной трубке и закричал: — Кочегарьте! Мы сближаемся! Держитесь! Он возвратился к девушкам и сказал: — Знаю, что вы неустрашимы и храбро исполните ужасную работу. Через минуту наша судьба решится… Я заряжу и нацелю пушку и пулемет. Вы, Мэри, останетесь при пулемете… Когда я скомандую: «Пулемет, огонь!», вы будете крутить ручку. — Хорошо, Алекс, я не подведу. — Мисс Нелли, возьмите, пожалуйста, шнур, который свисает с тыльной части пушки, и, когда я закричу: «Орудие, огонь!», изо всей силы дерните за шнур. А мне придется вернуться к штурвалу. Над кораблем с развевающимся черным стягом снова возникло облачко белого дыма, и в тот момент, когда снаряд упал в двух кабельтовых от «Моргана», послышался выстрел. Алекс ухватился за штурвал, сорвал закреплявшие его веревки и закричал: — Недолет! Но берегитесь третьего выстрела! Прошла минута тревожного ожидания, показавшаяся бесконечной. «Морган» увеличивал скорость. Подвижный строй флотилии приближался. О, если б на борту была команда! Хотя бы восемь человек на этом судне, маневр которого требует не менее двадцати пяти человек. — Даже шести было бы довольно! — пробормотал Алекс, стискивая зубы. — Да, шестерых бывалых матросов! Какую победу мы одержали бы над пиратами! Но сейчас их всего пятеро, считая двух юных девушек, героинь, конечно, но выносливость и сила которых, в отличие от неустрашимости, поневоле имели свой предел. Алекс немного повернул руль к правому борту, и безлюдный корабль слегка повернул вправо, чтобы врезаться в строй вражеских судов. Нелли и Мэри, охваченные тревогой, ждали команды. Но вот суровый голос боцмана произнес: — Внимание! Пулемет, огонь! Мэри схватила рукоятку и стала ее крутить. Бортовая качка приподымала корабль. Воздух рвался от трескотни пулемета. — Орудие, огонь! Нелли чувствовала, что ее сердце вот-вот выскочит из груди. Она закрыла глаза и дернула спусковой шнур. Бум!.. Девушка на миг застыла в изумлении. Раньше, когда салютовали из пушки, ее охватывал непреодолимый страх, она вскрикивала, дрожала, даже затыкала уши. А теперь она сама вызвала этот раскат грома, запустила железный смерч, который разметал шхуну, уже идущую ко дну. Алекс навел орудие так точно, и скомандовал так вовремя, что строй нападающих был разбит или, вернее, прорван. Образовалась брешь! Проклятия, яростные крики все более приглушенно доносились до яхты, которая мчалась вперед под клубами дыма. — Мы прошли, прошли! — в восторге кричал боцман. — Ура! Ура! В это время из люка появились Тотор и Меринос с обожженными лицами и обгорелыми волосами. — Что с давлением? — прокричал Алекс. — Все растет и еще как! — отвечал Тотор. — Да, даже больше, чем хотелось бы, — подтвердил Гарри. Нелли послышалось в их тоне что-то странное. — В чем дело? — спросила она. — Вы меня пугаете. — Мисс Нелли, минутку, вы все узнаете, — сказал парижанин. — Алекс, по вашему мнению, на каком расстоянии мы от Серама? — Милях в восьмидесяти. Может быть, немного меньше, но наверняка не больше. А что? — Следовало бы поторопиться. — Да, вы правы, но… — Подождите, с какой скоростью мы идем? — Сейчас, наверное, пятнадцать или шестнадцать узлов… Вот это да! Не понимаю, в чем дело? — Но мы-то слишком хорошо понимаем. Правда, Меринос? Короче, нам потребуется пять часов, чтобы оказаться в виду голландских берегов? «Морган» с необыкновенной скоростью рванулся вперед по волнам. Казалось, он проскользнет в брешь, проделанную с помощью пушки в строе судов. Снова раздался выстрел на корабле с черным флагом. Снаряд попал в корму яхты, задев руль. — Да, пять часов, — спокойно ответил боцман, — но при условии, что они не повредят нам руль и не поразят жизненные центры «Моргана», потому что тогда… — Тогда мы спеклись! — прервал его Тотор. — Или почти спеклись, — спокойно поправил Меринос. — В чем дело? — спросил боцман. — Да, в чем же дело? — повторила Нелли. — Ну ладно, пожалуйста: мы раскочегарили так хорошо, что допустили серьезную оплошность. — Да, неосторожность, которая может одновременно стать смертельной и спасительной… — Какую же, в конце концов? — воскликнула взволнованная девушка. — Все просто, — ответил Тотор с великолепным спокойствием, — горящие масло и нефть разлились в кочегарке, попали в трюм и подожгли весь уголь. — О, Боже, мы горим! — Да, на борту пожар, мисс Нелли. Огонь разогревает котел как никогда, но мы не сможем с ним справиться! Нужно продержаться пять часов и при этом не поджариться!
ГЛАВА 8
Привести себя в порядок. — Ответный удар. — Артиллерийская дуэль. — На вулкане. — Яхта выпотрошена снарядами. — Машина останавливается. — Взрывы. — Конец корабля. — Идем ко дну! — В водовороте. — Все, что осталось от корабля. — Агония. — Плеск весел. — В плену!Ужасные слова, произнесенные парижанином, будто даже не слишком взволновали девушек. А что вы хотите! В конце концов ко всему привыкаешь! До такой степени, что самые невероятные и отчаянные ситуации превращаются в стертую монету. С начала этой, так сказать, прогулки друзья так притерпелись к опасности, что, кажется, уже не замечали ее. Нелли тотчас пришла в себя. — Да, конечно, это не так уж и важно, главное — пройти! А потом — взрываться так взрываться, не правда ли, Мэри? — Конечно, мисс Нелли, вы правы, уж лучше взлететь на воздух, чем поджариваться на медленном огне, как только что у топок! — О да! Я долго буду помнить свое кочегарство! — Я предпочитаю пушку. — Я тоже! Хотя и это вовсе не женское занятие. — Как и работа кочегара, мисс Нелли! — Еще бы! Боже, наверное, мы ужасно выглядим… — Не считаете ли вы, мисс Нелли, раз это еще возможно, полезно было бы привести себя в порядок? — И полезно, и приятно! Золотые слова, Мэри! Пойдемте скорей, пока мы еще не взорвались. — Или не потонули… — Или не поджарились… — Мы уже прошли! — закричал Меринос, прервав этот странный разговор. Действительно, яхта прорвала строй нападающих. — Мы не нужны вам больше, Алекс? — спросила Нелли боцмана, по-прежнему склонившегося над штурвалом. — Сейчас нет, мисс Нелли. — Хорошо, спасибо! Девушки бегом кинулись в каюту, а из люка машинного отделения уже поднимались тонкие струйки дыма, и сильно запахло горелым. — Наш вертел работает, — отметил Тотор. — Смело вперед, и будь что будет! — Go! Go ahead! — закричал Меринос, видя, что линия судов пройдена. — Вперед, без страха! — снова призвал одержимый Тотор. Со стороны противника раздался пушечный выстрел. Снаряд попал в носовую часть яхты и глухо взорвался, не причинив, однако, ущерба, если не считать дыры в обшивке правого борта. — Hell damit! — в ярости воскликнул Алекс. — Попали в парусный трюм… загорится, как пакля. — Ну и что! Еще неизвестно… а вообще-то, нечего волноваться, мы доплывем, я вам говорю! Такой корабль, с сотнями тысяч заклепок и болтов, живуч как кошка, ему нипочем огонь внутри и превращенные в решето борта. — Возможно, — ответил Алекс, — вот только у меня руки чешутся разбить хотя бы одно из этих чертовых судов. — Не лишайте себя этого удовольствия! — All right… Мистер Гарри, пожалуйста, смените меня у штурвала и правьте прямо вперед. Хочу сыграть в кегли с пароходом под черным флагом. В мгновение ока орудие было заряжено и подготовлено к открытию огня. Еще несколько секунд Алекс целился… — Огонь! — скомандовал Тотор. Бум! Через три секунды фок-мачта[205] парохода внезапно осела и упала, как срубленная, посреди хаоса разбитых штагов[206], перепутавшихся рей, вырванных досок. Алексу удался замечательный выстрел, которым гордились бы лучшие наводчики давних корсаров. — Еще раз! — завопил Тотор. — Снаряды кончились. — Но есть в трюме… — Нам и вдвоем не сдвинуть с места ящик. Закрыто на вертлюг[207], который нужно отвинчивать. Пойдемте, у меня есть ключ. Но они не сделали и десятка шагов, как новый снаряд со стороны моря с грохотом обрушился на поворотный лафет орудия и разбил его вдребезги. Пушка покатилась по палубе, глухо затрещавшей под ее весом, а осколки снаряда рассыпались огненным ливнем. — Гром и молния, мы пропали! — воскликнул Тотор. — Там мачта, здесь пушка, вот что называется достойный ответ в споре! — О, мистер Тотор, — проговорил в отчаянии Алекс, — я предпочел бы получить этот снаряд в живот! — У вас случились бы выдающиеся колики, как скажет Меринос. — Вы все смеетесь! — Слезами горю не поможешь! — Но нас обезоружили… Как жаль пушки! С нею я сбил бы этот проклятый черный флаг, как дохлую собаку! Просто сердце разрывается, когда видишь, во что она превратилась! — Да, конечно, было бы прекрасно пустить ко дну этого «звездного пирата», как говорил отец. Но что поделаешь, на нет и суда нет, и раз мы еще движемся, нечего жаловаться. — Послушайте, мистер Тотор, вы ведь механик? — И горжусь этим. — Ну хорошо, скажите откровенно, долго ли еще сможет работать машина? — А почему бы ей не поработать?.. Там, внизу, все трещит, скрипит и рушится. Все переполнено горючим, перегрето до предела, все в избытке, как у человека, который, чтобы бежать быстрей, напился горячего пунша так, что чуть не лопается. Только следует договориться, что значит «долго». Допустим, что сейчас это означает несколько часов. — Но у нас еще пожар в парусном трюме! — Ну и что! Там горит себе потихоньку, ведь герметические люки задраены. — Горит и уголь… — Значит, два пожара. Но корабль большой, и есть чему гореть! — Поймите, мы совершенно как на вулкане! — Плевать мне на вулкан. Я там был и прекрасно выбрался оттуда. — Удивительный вы человек, мистер Тотор. — Из-за пустяков не беспокоюсь! Веселые голоса зазвучали на корме, и две подвижные тени появились среди клубов дыма, которые вырывались отовсюду. К друзьям подбежали обе девушки, основательно отмытые, в легких платьях, со свежими, розовыми лицами и мило распущенными волосами. Нелли, не обращая внимания, как и ее подруга, на вулкан, ревущий под ногами (Алекс не преувеличивал!), спросила: — Ну как мы выглядим? — Великолепно! — в один голос, убежденно ответили Алекс и Тотор. — Прежде чем взорваться, поджариться или утонуть, мы решили привести себя в порядок, а не оставаться чумазыми, грязными и пропахшими дымом кочегарами «Моргана», тем более что для нас это, вероятно, последняя возможность… — О, мисс Нелли, что вы говорите!.. Металлический скрежет, сопровождающий два выстрела, заглушил голос парижанина. Два снаряда почти одновременно попали в борт яхты, глухо взорвались где-то около машин, и те зловеще откликнулись всей своей массой. Затем еще два и еще два — почти в то же место. Остолбеневшие Тотор, Алекс и обе девушки инстинктивно отступили к планширу, в который вцепился Меринос. Они видели пароход под черным флагом и тотчас поняли его цель и маневр. Наверняка бандиты не знали, что отважных пассажиров на «Моргане» так мало. Видя, что машина работает, артиллерия ведет огонь, корабль маневрирует, они вообразили, будто на борту слаженный и опытный экипаж в полном составе. Вот почему Дик Сеймур применил военную хитрость, уверенный, что «Морган» набит защитниками. Присутствие на палубе пассажиров, которых он видел в бинокль, лишь подтвердило предположение. Так что Дик Сеймур и не пытался взять корабль на абордаж. Он распорядился атаковать яхту с траверса[208] своей носовой частью, поставив ее перпендикулярно правому борту «Моргана», и безжалостно расстреливать его из пушек, повредить машину, чтобы судно потеряло управление, а затем потопить, подобрав из воды только тех, кто ему нужен. Снаряды сыпались дождем, дырявя обшивку, скручивая шпангоуты, пробивая борта, делая на уровне ватерлинии[209] смертельные пробоины, в которые потоками хлестала вода. В машинном отделении всё сильнее разгорался пожар. — Все, каюк машине! — закричал Тотор, сжимая кулаки. Перестук мотора прекратился, исчезла кильватерная струя с ее длинным пенным следом. Цилиндры взорваны! К облакам черного дыма, вырывавшимся из горящих трюмов, добавились вихри пара, бьющие с оглушительным свистом, который становился еще более пронзительным, встречая препятствие на своем пути. «Морган» еще двигался по инерции, но все медленней, с внезапными толчками бортовой и килевой качки. В носовой части, как и предполагал Алекс, горел парусный трюм. Но кто будет заботиться об этом втором пожаре, видя смертельную рану машины, можно сказать, сердца огромного организма, который уже агонизировал! Юноши и девушки, герои и героини, отвага которых ни на миг не была поколеблена, удрученно наблюдали это страшное зрелище. Рухнула их последняя надежда. Больше рассчитывать не на что. Через несколько минут настанет конец. И какой ужасный конец! Или погибнуть в водовороте тонущего судна, или позволить спасти себя смертельному врагу, беспощадному и изощренному палачу — Дику Сеймуру. Столько трудов, столько сверхчеловеческих усилий и преодоленных опасностей… столько находчивости, храбрости и отваги, и все понапрасну! Такая неудача в последний момент, удар слепой судьбы, неожиданная катастрофа всего в нескольких милях от голландской колонии, где несчастные нашли бы надежное убежище! Тотор и Алекс переглянулись, поняв друг друга без слов. Для них это означало немедленную и неумолимую смерть, если только Дик Сеймур не сохранит им на время жизнь для такой муки, сама мысль о которой заставит содрогнуться даже храбрейших! Еще несколько пушечных выстрелов. Пять или шесть снарядов взорвались один за другим, затем наступила тишина. «Морган» остановился. В борту его зияла огромная пробоина. Море устремилось в нее мощным потоком, затопляя горящие трюмы, перегретые котлы, машинное отделение и вызвав новый взрыв, еще более мощный, чем первый. Половина палубы взлетела на воздух; на ее месте зияла огромная, заполнившаяся водой яма, в которую с шипением ушли раскаленные металлические части и откуда торчали чудом сохранившиеся мачты. Корабль тонул… — Спасательные пояса! — закричал Алекс, пытаясь хотя бы последним усилием спасти девушек. Но поздно. Уже просто не было времени добежать до кают, где были пояса. «Морган» завалился на левый борт, затем выпрямился, дал страшный крен вправо, снова выпрямился и разом пошел ко дну. Агония не длилась и двух минут! Едва ли несчастные и отважные герои этой душераздирающей сцены успели осознать происходящее. Собравшись на корме, прижавшись друг к другу, они созерцали катастрофу, не произнося ни слова. Только короткие восклицания вырывались из их уст по мере того, как «Морган» неумолимо погружался в пучину. Нелли инстинктивно прижалась к Тотору, а Мэри — к Алексу. Понимая, что это конец, они искали утешение в стойкости и привязанности преданных друзей. — Тотор, друг мой, значит, все кончилось… мы погибнем! — шептала угасающим голосом Нелли. — О, это ужасно… умереть через несколько секунд! Я хотела бы жить долго… рядом с вами, всю жизнь… друг мой, дорогой мой друг! Бесстрашный парижанин долго смотрел на нее с бесконечной нежностью и шептал: — Я не смел надеяться, мисс Нелли… жизнь, которую мы, быть может, покинем, была бы сладостной рядом с вами. — Вы говорите: «быть может»! На что же вы надеетесь? — Пока дышу, надеюсь… до самого конца! Вода уже омывала их ноги, волны перекатывались сквозь решетку у штурвала, где они стояли, прижавшись друг к другу. — Алекс, спасите меня! — всхлипывала Мэри. — Тотор, помогите! — приглушенно взывала Нелли. Гарри грозил кулаком черному флагу и цедил сквозь стиснутые зубы: — Бандиты! Значит, я не смогу рассчитаться с вами! Яхта уходила под воду. Обычно, когда судно тонет, оно на некоторое время застывает на воде, пока внутреннее давление воздуха не продавит палубу. Но взрыв машины сорвал половину спардека, и в короткой агонии «Моргана» не было даже такой отсрочки. Молодые люди знали, что там, где море поглощает корабль, образуется ужасный водоворот, смертельно опасный водяной вихрь, который увлекает на головокружительную глубину потерпевших кораблекрушение и даже лодки, которые не смогли вовремя отойти. Во что бы то ни стало избежать этого! — На мачты! — закричал Алекс срывающимся голосом. — На мачты, и держитесь за них! Поддерживая Мэри левой рукой и загребая правой, он подплыл к оттяжкам фок-мачты. Тотор таким же образом подхватил Нелли и последовал за боцманом, а Меринос мастерски плыл саженками за ними. Несчастные цеплялись за выбленки[210] на вантах[211], но яхта погружалась так быстро, что им едва удавалось пальцами перехватить частые веревочные ступени. Палуба исчезла. Под ними только коварное, злобное море с губительным вращением его возмущенных вод. — Держитесь! Держитесь что есть силы! — опять закричал Алекс. Они ощущали круговое движение, которое затягивало их в водоворот, на дно вращающейся воронки, и цеплялись с отчаянием утопающих. Понемногу водоворот замедлился, исчез его пенный край, море вновь стало спокойным и прозрачным. Огромная масса корабля все еще опускалась. Мачты погружались прямо в светлые воды, сквозь которые с необыкновенной четкостью были видны мельчайшие детали затонувшего судна. Вода уже достигла гафеля[212], на котором крепился большой парус. Останки «Моргана» ушли на глубину тридцать метров. Прижимая подругу к груди, Тотор нежно говорил: — Расслабьтесь, мисс Нелли, не напрягайтесь и, главное, не бойтесь. — С вами, Тотор, я ничего не боюсь. — Не мешает ли вам одежда? — Нет, а к тому же я хорошо плаваю и, когда вы меня поддерживаете, совсем не устаю. Все пятеро ухватились за гафель — тяжелую рею, которая под влиянием водоворота медленно описывала полукруг. Прошло полминуты, и она тоже погрузилась в воду. Никакой опоры не осталось. Как в дурном сне, они зависли над зияющей бездной! Не видно уже было и вант. Остались тонкие фалы[213] из гальванизированной[214] железной проволоки, удерживавшие верхушку мачты. Тотор и Алекс висели на них, а Меринос схватился за провод громоотвода. В метре над ними еще высовывались из воды клотик и сам громоотвод. И это все, что осталось от «Моргана»? Терпящие бедствие ощутили легкий толчок. Затонувший корабль больше не опускался. Киль натолкнулся на дно. — Уф! Давно пора! — сказал Тотор. — Оказывается, не так это весело — не сходя с места подниматься по мачте, которая уходит в глубину! Фалы образовали с вершиной мачты острый угол, поэтому юноши и обе девушки оказались рядом, на расстоянии вытянутой руки, а Гарри, чтобы дать им место, зажал между ног громоотвод и уселся на клотик. Только представьте себе этих пятерых несчастных, вцепившихся в жалкие остатки корабля, ежеминутно накрываемые зыбью! Со стороны открытого моря с шумом катила волна. Меринос, едва высовывавшийся из воды, увидев ее приближение, закричал: — Внимание!.. Держитесь! Тотор и Алекс, Нелли и Мэри изо всех сил вцепились в жесткие металлические жгуты, пока морская волна перекатывалась через них, ударила, волочила. Друзья отчаянно пытались удержаться. Наконец волна прокатилась над ними. Теперь — пятьдесят — шестьдесят секунд передышки. Конечно, так не могло продолжаться долго. Мало-помалу пальцы начали затекать, руки деревенели, шеи болели. Сколько же они еще продержатся? Полчаса? Четверть часа? Пять минут? А дальше? На что надеяться? Еще одна волна обрушилась на них… — Тотор, все кончено… Тотор! Нелли почувствовала, как фал ускользает из ее рук. Она обратила последний призыв к своем другу, который и сам чувствовал себя скверно. У Мериноса, конвульсивно сжимавшего железный стержень, уже не было сил, чтобы предупреждать об опасности. Алекс хрипел, а Мэри задыхалась. Храбрецам пришел конец! По крайней мере, они сами так считали, когда до их ушей донесся скрип уключин. Затем суровый голос скомандовал: — Стоп! Осторожней, ребята, осторожней! Грубые руки схватили их, и тот же голос радостно сообщил: — Кажется, в самое время поспели! Чисто сработано. Дик Сеймур будет доволен!
ГЛАВА 9
Умирающий Тотор. — Подъем на судно. — Оскорбления. — Возмущение. — Воскресение. — Японский удар. — За борт. — Убедительная речь. — Торпедные катера. — Тот, кого не ждали. — Необходимые объяснения. — Постскриптум.В тот момент, когда они должны были пойти ко дну, терпящих бедствие оторвали от ненадежной опоры, в которую судорожно вцепились их руки, и мокрых, теряющих сознание, положили на дно шлюпки, спинами к борту. — Весла на воду! — скомандовал суровый голос. Под ритмичный скрип уключин шлюпка поплыла к стоящему в двух-трех кабельтовых судну под черным флагом. Странное дело, именно Тотор, несомненно самый крепкий и выносливый, казалось, изнемог больше всех. Взгляд его бессмысленно блуждал, он безвольно перекатывался между Нелли и Гарри, которые поддерживали его и старались подбодрить. — Тотор, друг мой, — упрашивал Гарри, — ну что ты, держись! Что с тобой? Скажи хоть слово, прошу тебя! — Тотор, дорогой, — шептала Нелли, — что с вами? Ответьте мне! Посмотрите на меня! Вы меня пугаете! Веки парижанина были полузакрыты, он, похоже, ничего не видел. Голова бессильно моталась на плечах, дыхание стало прерывистым. Казалось, он впал в беспамятство. Вдруг Алекс схватил руку Мэри и сжал ее. Он смотрел на приближающийся корабль. Невнятное проклятие сорвалось с его губ и заставило вздрогнуть девушку. О ужас! Четверо повешенных мрачно раскачивались на реях при каждом ударе волны. Молчаливые до сих пор гребцы злобно рассмеялись, а старший сказал с жестокой иронией: — Видишь, Алекс… это предатели. Найдется и для тебя местечко, чтобы подсохнуть на солнышке вместе с ними. Боцман презрительно пожал плечами, обменялся с подругой нежным пожатием рук и не удостоил бандита ответом. Шлюпка пристала к судну. С правого борта спустили трап, нижняя площадка которого касалась воды. — Причаливай к трапу! — послышался повелительный голос, резкий тембр которого потерпевшие кораблекрушение узнали сразу. — God bless! Мистер Гарри, сам негодяй Дик принимает нас. Хорошего мало! Все это время Тотор находился в странной прострации, что немало тревожило друзей. Напрасно Меринос звал его и пытался приподнять. Тотор вновь тяжело падал на дно шлюпки, будто рессоры железного организма внезапно лопнули. Несчастный молчал, ничего не видел и не слышал. Крупные слезы жемчужинами катились из глаз Нелли. Она смачивала платок морской водой и мягко отирала лоб и щеки больного друга. — Поднимайтесь! Или я заставлю вас силой! — высокомерно приказал Дик Сеймур. — Я не позволю кому бы то ни было прикоснуться к нему! — решительно сказала девушка. — Гарри, давай понесем его сами! — Да, конечно, понесем. Бедный Тотор! Хотя сил почти не было и мешала мокрая одежда, брат и сестра взяли Тотора под руки и по крутым ступенькам втащили на палубу. Алекс поднялся вслед за ними, держа под руку Мэри, которая тихо плакала и дрожала от ужаса при виде повешенных. Их встретили на борту грубым смехом и отвратительными криками. — Молчать, гром и молния! Молчать! — вопил Дик. Закую в кандалы первого, кто осмелится вякнуть! Из последних сил Меринос и Нелли добрались до парапета и усадили Тотора. Дик смотрел на него с невыразимой ненавистью. Подойдя ближе, он сухим, шипящим голосом бросил полные ненависти и презрения слова: — Ба, Тотор! В самом деле! Тот самый, которого я замуровал, опять здесь! Глазам своим не верю! Значит, он в моей власти, этот бахвал, фанфарон, мерзкий недоносок, от которого мне пришлось натерпеться… неплохо будет расквитаться, нарезав лохмотьев из его шкуры, высосав кровь каплю за каплей! Но, кажется, он в агонии! Он хочет лишить меня возможности отомстить, сдохнув на моих глазах? Дик яростно ударил Тотора ногой по ляжке и добавил, скрипя зубами: — Ну-ка вставай, притворщик! Тотор не пошевелился. Но Нелли, храбро встав между бандитом и своим другом, возмущенно закричала: — Трус! Тот, кто бьет умирающего врага, — трус! — Да, трус! — подхватил Гарри. — Если есть что-то достойное уважение для кого бы то ни было, это мужество! Мужество Тотора имеет право на уважение, и прежде всего ваше, Дик Сеймур! Вы об этом забыли, значит, еще более бесчестны, чем я предполагал! Вы не джентльмен! Около тридцати вооруженных до зубов негодяев окружили молодого человека. Его гневный протест произвел впечатление разорвавшейся бомбы; раздался ропот одобрения. В отличие от главаря, подлого негодяя, не знающего благородства, у пиратов еще сохранились остатки совести, что-то отзывающееся на слова: отвага и честь. — Молчать! — завопил Дик. — А вы, мой петушок, — насмешливо обратился он к Мериносу, — рассуждаете хорошо, да слишком много. И вам, курочка, пора забыть о замашках принцессы. Сегодня тринадцатый день… Пришел срок, а отец не захотел выкупить вас. Он предпочел войну до победного конца, беспощадную войну! Даже подкупил моих людей… — Картинным жестом он указал на повешенных. — Вот как я поступаю с предателями! Ты меня слышишь, Алекс? Но это еще не все, я окружен кораблями, нанятыми королем шерсти… Глупец! Как будто ваше присутствие здесь не лучшая гарантия для меня!.. Пора кончать! Раз мне бросают вызов, придется прежде всего предъявить Сиднею Стоуну голову его сына, а завтра — его дочери! Повернувшись к своим, презренный бандит проговорил зловещим тоном: — Вы знаете, что нужно делать. Выполняйте! Пираты мгновенно набросились на несчастных, схватили Нелли, Мэри, Алекса, Мериноса и скрутили их так, что те не могли даже пошевелиться. Дик, зловеще улыбаясь, подошел к недвижному Тотору. Глаза юноши были закрыты, рот полуоткрыт, а тело — как бесформенная масса без костей. Бандит склонился над ним и насмешливо крикнул: — Эй, Тотор! Прославленный Тотор! И вдруг — о чудо! — умирающий воскрес и мигом вскочил на ноги! Глаза его сверкали. — К вашим услугам! — насмешливо бросил он. Ошеломленный Дик выпрямился, отступил и схватился за оружие, но поздно. Правая ладонь Тотора со свистом рассекла воздух и ударила горизонтально ребром по горлу. Короткий удар под подбородок, как раз на уровне адамова яблока. Удар точный, страшной силы, смертельный! Дик произнес короткое «Ах!», глаза его закрылись, руки бессильно упали, ноги подкосились, и он тяжело рухнул на палубу. В ту же секунду Тотор прыгнул на обмякшее тело, схватил Дика под мышки и закричал: — Малыш еще жив! А тебе, негодяй, тебе конец! Это японский удар, такого человеку не выдержать! Ты хотел поиграть в кегли головой Мериноса, а теперь акулы будут обгладывать твой жалкий костяк! Мощным усилием он поднял труп, швырнул его за борт и закричал вдогонку: — Эй, внизу, поберегись! Плюх! — и все было кончено. Пират пошел ко дну. Эта неслыханная сцена заняла куда меньше времени, чем ее описание. Ошеломленные пираты не могли поверить собственным глазам. Вот это новость! Дика Сеймура больше нет! Король воров, гениальный и чудовищный бандит, перед которым дрожали даже храбрецы, самые богатые и самые сильные, погиб в короткой схватке! Он, который устрашал две большие страны, с которым считались главы могущественных государств, убит одним ударом и выброшен за борт, как дохлая кошка! Пираты, столь внезапно лишившись главаря, растерялись. Весь разношерстный люд, который порабощала, дисциплинировала и гнула одна железная рука, вдруг оказался свободен. У этих людей, принужденных к слепому послушанию, привыкших не думать, родилось смутное опасение, которое они еще не осмеливались высказать: «Что с нами будет»? Однако это народ буйный, непредсказуемый, кровожадный, и естественная мысль отомстить за главаря также возникла в их головах. Яростный крик вырвался из многих глоток: — Смерть ему! Отомстим за Дика Сеймура! Послышалось бряцание оружие, пираты стали наступать на Тотора, который гордо выпрямился и уже не казался малорослым перед лицом неистовой толпы, готовой убивать. Он спокойно скрестил на груди руки и, не обращая внимания на сабли, топоры, револьверы, сделал три шага вперед. Вопли смолкли, наступила напряженная тишина. Меринос, Алекс и девушки, встревоженные до глубины души, с трудом сдерживали крик. Стало очень тихо. И вот перед безоружным юношей с бесстрашным взглядом светлых глаз убийцы опустили оружие! Правильно сказал Меринос: «Мужество внушает уважение!» Тотор глубоко вздохнул, выдержал паузу и твердым голосом произнес: — Нет, джентльмены, вы меня не убьете! Это было бы слишком трусливо. Да, трусливо, а еще несправедливо и, главное, бесполезно! Тридцать на одного, да еще безоружного! Весь свет будет осмеивать и презирать вас! Вы получите плохую прессу в обоих полушариях, прямо-таки скверную, это уж точно! И не говорите, что вам все равно. С такими вещами не шутят! А вообще-то, в чем вы меня можете упрекнуть? Что я защищался? Но кто из вас не поступил бы точно так же? Разве мужчина не должен бороться за свою жизнь? Дик Сеймур напал на меня, собирался убить… Но убил его я. Тем хуже для него, не так ли? А это доказывает, что вашего главаря, знаменитого дельца, сильно перехвалили, раз его оказалось так просто устранить!.. А потом, уж между нами, признайтесь откровенно, вы, по сути дела, рады, что отделались от него. Он принуждал вас жить как на каторге, управлял вами палкой, платил мало и редко, обращался с вами как с собаками. Я-то его знаю, и никто из вас не скажет, что это неправда. Теперь, когда хозяин сгинул, вы оказались в затруднительном положении — придется пожинать плоды… ну, скажем, иногда долгих, часто трудных и всегда опасных затей… С первых слов удивительный молодой человек с феноменальной самоуверенностью завладел вниманием бродяг. Держась спокойно, говоря просто, не претендуя на высокопарное красноречие, он заставил пиратов слушать себя. Парижанин явно преследовал какую-то цель. Успокоившийся Меринос спрашивал себя: «Куда же это он гнет?» — Да, джентльмены, — продолжал Тотор, — вам предоставляется уникальная, замечательная возможность приобрести, illico[215] солидный, прочный достаток. Что бы вы сказали тому, кто, например, предложит каждому из вас кругленькую сумму в двадцать тысяч долларов? Подумайте хорошенько, отвечайте не торопясь… Или, пожалуй, нет! Нечего ломать себе голову, отвечайте сразу… — Да, да, мы согласны! — послышались хриплые голоса пришедших в восторг пиратов. — В добрый час! — А что нужно для этого сделать? — спросил один из мечтателей о чудовищной пьянке. — Если даже каждому придется прикончить человек двадцать… — Гром и молния! Да никого не нужно приканчивать! — прервал его Тотор. — Убивать — это уже вышло из моды. Нужно просто оставить в живых тех, кого покойник Дик приговорил к смерти, то есть нас пятерых. — Можем договориться! Но кто подтвердит ваше обещание? — Я! — сказал Меринос, выступая вперед. — Мы! — решительно подтвердила Нелли, поднимая руку, как бы давая торжественную клятву. — Черт возьми, если бы вы еще поклялись, что забудете наши прежние проделки… даже самые рискованные… Вы понимаете? — Да, да, договорились! Дело кончено… Рассчитываем на вас. — Можете на нас рассчитывать. Приказывайте! — Прежде всего спустите черный флаг. Это всего лишь пугало для ворон, но может повлечь неприятности. И замените-ка его американским. — Сию минуту! — Снимите с рей несчастных, которые были вашими товарищами, и достойно похороните их, как моряков. — Хорошо, мы этим займемся. — А теперь будет справедливо, если Алекс возьмет на себя командование кораблем и поведет его в цивилизованную страну. — Правильно! — Тогда, капитан Алекс, вступайте в свои права. В эту минуту зловещий кусок черной ткани, как смертельно раненный гигантский ворон, упал на палубу, а освещенный солнцем американский флаг взвился на мачту. Будто приветствуя его, в море раздался пушечный выстрел. Все вздрогнули от неожиданности, но пираты тут же вспомнили слова Дика Сеймура «Я окружен!» Раздался крик: — Корабль по левому борту! Низкобортный, удлиненный как акула, торпедный катер серо-синего цвета, почти сливающийся с волнами, возник неизвестно откуда. Вспарывая волны на скорости в тридцать узлов[216], он мчался к пароходу, который троекратно приветствовал его при помощи флага. Это с него только что стреляли! — Корабль по правому борту! — снова прокричал сигнальщик. Второй торпедный катер возник с противоположной стороны и направился к мелким судам флотилии, которые плыли к пароходу, как утята к матери. Третий и четвертый торпедные катера появились одновременно, блокируя флотилию Дика Сеймура. Наконец на горизонте вырисовался внушительный силуэт одного из лучших кораблей военно-морского флота — эскадренного миноносца. Над всеми пятью реял британский флаг. — Ну, как, — спокойно спросил Тотор членов экипажа, — попали в клещи? — Но наш уговор в силе, не так ли? — Конечно, тем более сейчас! Деньги и амнистия. Правильно, Нелли? Правильно, Меринос? Мы дали слово и сдержим его. Пока шли переговоры, торпедные катера оставались невдалеке. Один из них спустил на воду вельбот, где разместились шестеро гребцов, четверо вооруженных матросов, офицер и один штатский. Вельбот подошел на веслах и причалил. Первым поднялся офицер, за ним — штатский в сопровождении четверых моряков. Меринос, Тотор, Алекс и Мэри бросились к трапу, чтобы встретить их, пираты на всякий случай отступили. Раздались возгласы удивления, счастья, бешеной радости: — Отец!.. — О, мистер Стоун!.. — Отец!.. Это мы и уже свободны! Да, пассажир оказался самим королем шерсти! Он побледнел и протянул руки к недавним пленникам. — Дети мои!.. Дорогие мои… О, я уже не надеялся вас увидеть!
Конец третьей части








ЭПИЛОГ
После радостных объятий незнакомых быстро представили друг другу. Бывшие пленники тут же покинули пароход. Торпедный катер отвез их на миноносец, однако только после того, как король шерсти подтвердил обещание, данное пиратам его детьми и Тотором. Оказавшись в безопасности на военном корабле, они наговорились всласть. Прежде всего дети Сиднея Стоуна узнали о переговорах между их отцом и Диком Сеймуром относительно выкупа. Несмотря на все старания, непрестанные хлопоты и отчаянные мольбы, королю шерсти не удалось собрать огромную сумму, которую требовал пират. Стоун сильно подорвал свой кредит и чуть не разорился, ничего не достигнув. А неумолимый Дик Сеймур и слышать не хотел об отсрочке! Час от часу все более опасаясь за жизнь своих детей, король шерсти обратился за помощью к правительству. Оно и предоставило в его распоряжение корабли военно-морских баз этого региона. Великолепно организованный поиск был проведен с молниеносной быстротой. Тем не менее помощь опоздала бы, если бы Тотор, притворившись умирающим, не прикончил Дика Сеймура прекрасным ударом джиу-джитсу, которому его научил отец, знаменитый Фрике. Потом Тотор и Гарри рассказали о своих приключениях, крайне изумив офицеров миноносца, — а ведь англичане мало чему удивляются. Нечего и говорить, что офицеры высоко оценили героизм и выдержку юношей: они и сами любили спорт и рискованные путешествия в неизведанное. Через две недели «Man-of-War» уже входил в Сидней, и Тотор добавил в длинном письме, адресованном родителям, следующий постскриптум:«Я обласкан семьей Стоунов так, будто я дома, с тобой, самым замечательным из отцов, и с тобой, мама, самой чудесной из матерей. Меня не хотят отпускать под предлогом опасений за мою драгоценную персону во время долгого плавания. Но клянусь вам, я не скучаю! Подчиняюсь тем более охотно, что вскоре мы должны отплыть все вместе в Америку. Это мне по дороге, совершу виток вокруг шарика. А потом меня, все в этой же компании, собираются отвезти во Францию! Вы понимаете, что я подчиняюсь, потому что для меня это отличный способ вернуться к вам, дорогие родители. Всем сердцем — с вами. Любящий васТотор».

Луи Буссенар СНЫ ПАРИЖАНИНА
Часть первая
ГЛАВА 1
Юный путешественник. — Без приключений! — Слишком много удобств. — Жертва и палач. — Мститель. — Бал на «Каледонце». — Оскорбление. — Борьба. — Двое за бортом.«В море. 119 градусов восточной долготы и 20 градусов южной широты, 1 января 1904 г.
Мои дорогие, я очутился по ту сторону шара, который зовется Землей, если только можно говорить о сторонах шара… Ну да вы понимаете. Объявленные сегодня в полдень в большом салоне «Каледонца» наши координаты[1], их я гордо обозначил в самом начале письма, докажут, что ваш малыш действительно в стране антиподов[2]. Ты ведь помнишь эти места, папа? Западный берег Австралии, немного выше тропика Козерога[3], и мы движемся на юг, чтобы свернуть затем на восток. Стоянки — в Перте, Кинг-Джордж-Саунде, Аделаиде и Мельбурне[4]. Сегодня 1 января — с Новым годом, но это еще и день моего рождения, с чем я также поздравляю вас обоих. Несмотря на расстояния, целую и шлю вам, дорогие, горячий сыновний привет. Сегодня мне стукнуло семнадцать, и я, как и ты в этом возрасте, отец, совершаю кругосветное плавание. Но какая разница! Путешествие вокруг шарика принесло тебе славу! Чудесные приключения прямо-таки осаждали тебя, они заполнили целые тома и кажутся всего через двадцать пять лет романом из другой эпохи и другой жизни. А меня приключения ну просто избегают! Я, твой сын, жаждущий безумных, рискованных предприятий, охваченный тем же энтузиазмом, который сделал из тебя нечто вроде странствующего рыцаря и героя легенд — не более чем тюк! Этот тюк возят по свету, вот и все! Ем, пью, сплю и тем не менее двигаюсь со скоростью шестнадцать узлов[5]. Исправная, хорошо смазанная машина работает без поломок, и это в конце концов выводит из душевного равновесия. Одно утешение — я избежал чумы почтовых открыток, а это уже кое-что. К сожалению, еще одна чума свирепствует на борту «Каледонца» — обилие фонографов[6] разных марок! С утра до вечера только и слышны марши, куплеты, монологи, оперные арии, патриотические гимны! Хрипенье, визжанье, вой, грохот… Музыкальная фальшь царствует в салонах, несется из иллюминаторов, прорывается через коридоры, проникает в каюты, даже в машинное отделение! Легко представить, как это выводит из себя моих друзей-механиков. Словом, развлечений хоть отбавляй! И все же, по правде говоря, временами я почти скучаю. Черт возьми! Это совсем не то, о чем мечталось. Конечно, мимоходом удалось повидать немало красот, но — ничего по-настоящему нового! Все уже было известно по книгам и картинкам, и, как бы вам это сказать, дорогие родители, реальность меня несколько разочаровала. Я ведь жаждал восхищений, живых непосредственных чувств. А тут — извольте созерцать в назначенный день и час заранее объявленные чудеса: с бедекером[7] в руке разделять восторги стада, ведомого агентством Кука[8]; слышать дамский щебет и щелканье кодаков[9], когда хочешь собраться с мыслями! А на стоянках — видеть тех же гидов и те же надоевшие «тройки» на всех мужчинах… Этого, право, достаточно, чтобы испортить любое путешествие. Вот поэтому, несмотря на долгожданное кругосветное плавание, несмотря на осуществление великой, единственной мечты моей жизни, я разочарован! Хочется то ли лучшего, то ли худшего, уж не знаю чего… Того невыразимого «чего-то», которое никак не появляется, а без него невозможно отдаться очарованию этой длящейся одиссеи![10] Так что мне почти ненавистен гостиничный комфорт экстра-класса на нашем большом корабле, и я кажусь себе смешным, потому что плыву через океаны ну если не как тюк, то как хрупкий предмет, заботливо обложенный ватой. Однако не обвиняйте меня в пессимизме, дорогие родители. Жизнь хороша, грех утверждать обратное. Ваш сын вовсе не неврастеник, и болезни праздных людей мне не присущи. Но я делюсь с вами своим настроением, потому что считаю: нет настолько незначительной личности, состояние души которой не заслуживает хотя бы описания. После этого, дорогой отец, ты, возможно, подумаешь: «Ах так! Значит, мой отпрыск увлекся бумагомаранием и не до конца осознал свое истинное призвание?» Нет, осознал, да и как иначе, — наследственность сказывается! Так в чем же дело? Да все в том же: я жду любого события, хотя бы и неприятного, лишь бы оно бросило пассажира I класса в пучину приключений. Но, к сожалению, до этого, кажется, далеко! Мы должны бы различать очертания берегов, но темно — уже одиннадцать ночи. Как быстро проходит время за приятным занятием — писать вам! Я один в каюте, которую занимаю с отплытия из Батавии[11]. Стоит чудесная погода. Теперь здесь лето, но в море мы не задыхаемся от австралийской жары, температура приятная. В открытый иллюминатор врывается легкий ветерок, полный странных благоуханий ванили, лимона, смолы, розы и еще чего-то тонкого, опьяняющего… Эти смешанные ароматы долетают с земли, которую мы увидим завтра на рассвете. Красивый корабль, принадлежащий «Steam steamship Company»[12], мчится по Индийскому океану, без видимых усилий взбираясь на медленно катящиеся огромные валы — шумно, тяжело обрушиваются они вдали на невидимые рифы. Весь в электрических огнях, наш корабль в ночи — как ракета на каком-нибудь фейерверке. Ослепительный свет брызжет из тройного ряда иллюминаторов, из дверей и окон кают на палубе — отовсюду. Да что там ракета! Оргия света, пылающая атмосфера, окружающая корабль, превращают его в метеор. Как всегда, вечером танцы. Пары увлеченно скачут, музыка гремит; скоро подадут ужин. Но что хорошего в этой сутолоке… Вот забавно, до чего я разговорился на бумаге! Словно вызубрил урок краснобайства и шпарю, как по писаному. Получается это само собой и, наверное, из-за одиночества среди толпы. Я здесь всем чужой, и мне это безразлично. Зато есть иная окружающая среда (не правда ли, папа, великолепное выражение?) — вот истинный источник вдохновения. Откровенно говоря, ваш малыш бряцает на поэтической лире, чтобы доставить удовольствие маме, которой нравятся красоты языка, — вот я и позволяю себе чуточку подсиропить слог и расцветить это послание. Вернусь, однако, к нашим баранам, в данном случае к праздным пассажирам. Никого в этой человеческой мешанине я не знаю, всем чужд, но не чувствую себя ущемленным. Этого точно нет. Как бы то ни было, я уже обзавелся и другом и врагом. Друг — славный двенадцатилетний юнга[13], скромный и кроткий, кажется, ирландец. Он подносит курильщикам на палубе просмоленный фитиль, к которому они и тянутся со своими сигарами, трубками и сигаретами. Беднягу преследует один заносчивый пассажир — это прямо деспот какой-то, всеми командует, и никто ему на борту не смеет перечить. Сей диктатор — молодой человек моих лет, одетый по последней моде, будто только что сошел с витрины, да к тому же увешанный драгоценностями. И вот он-то вмешивается во все, сорит деньгами, курит сигары по десять франков[14] штука и корчит из себя миллиардера. Чего не сделают деньги! Он всеобщий любимец, все перед ним раболепствуют, подхалимничают, теряя разум и достоинство. Ладно скроенный, напористый лоботряс. Спортсмен, помешанный на массажах, водных процедурах, тренировках, словом, один из тех, кто навязывает в жизни самую мерзкую из тираний: тиранию мускулов. Случилось, что во время качки юнга нечаянно обжег ему нос фитилем. Вместо того чтобы рассмеяться, он поколотил мальчишку. И с тех пор мучает его невыносимо, и никто, даже капитан, не решается вмешаться. Но я решился. Ровно шесть часов тому назад я, расхаживая по палубе, услышал голос юного деспота: — Бой, огня! Произнес он этак гнусаво в нос, я сразу узнал янки. Дрожащий юнга подошел к нему, глядя так, что и тигр смягчился бы. Подал фитиль. Но на сей раз не он тирану, а тиран ему, бедняге, дал, что называется, прикурить: подставил юнге подножку, да еще насмехается: — Осторожно, не разбей стеклышка от часов! Мальчик с трудом встал, но тут — снова подножка, и он вновь — хлоп — задом о палубу! Так, при каждой новой попытке подняться — бесконечные подножки, да такие ловкие, что бедный юнец распластался просто, как оглушенный теленок. И никто не возмутился, никто даже не попробовал заступиться за него! Я подошел и спокойно сказал: — То, что вы делаете, недостойно джентльмена. Оставьте в покое ребенка! Рослый этот янки смерил меня взглядом, усмехнулся: — А, француз! Должно быть, повар или парикмахер. Ну, милейший, убирайтесь-ка отсюда. Со мной таким тоном не говорят. Придется дать вам пощечину. Он поднял руку… И вот тогда-то я оттолкнул ее и ответил хорошим ударом под пятую пуговицу его жилета. Получив свое сполна, американец только ахнул и свалился рядом с юнгой. Оба поднялись. Мальчик крикнул мне: «Thank you, sir»[15], — и убежал со своим фонарем и фитилем. Янки еще не мог перевести дыхание, а уже бранился: — Негодяй, ты предательски ударил меня! — Сам негодяй, я-то действовал честно; правда, джентльмены? — обратился я к зрителям, свидетелям стычки. — Да, да, честно! — прозвучало несколько голосов. — Ах ты, недоносок! — взбесился он. — Да я двух таких измордую! — Ой, не похоже! — со смехом говорю ему. — Хорошо, если ты не последний трус, то согласишься на реванш, на честный бой… на палубе «Каледонца». — Да хоть сейчас, если душа просит. — Нет, завтра, — уперся американец. — Когда, где и как тебе угодно! Вот единственное приключение, дорогие, которое я пережил, и вы согласитесь, что это все пустяки».
…Молодой человек отложил письмо и перечитал его вслух, вполголоса. Набросаем пока подлинный портрет нашего героя. О нет, автор письма вовсе не похож на недоноска, как назвал его тот, кто получил удар. Правда, в свои семнадцать лет он далеко не исполин. Ниже среднего роста, но крепко сложен, коренаст, с огнем в крови. Широкие плечи, голова сидит на крепкой шее как надо, а на груди под тонкой шелковой рубашкой кукурузного цвета так и ходят ходуном мышцы. Лицо подростка, готовящегося стать мужчиной. В каждой черте живость, ум, веселость. Несмотря на всю серьезность задуманного юношей кругосветного путешествия, чувствуется, что это славный, откровенный, прямой малый, немного сорвиголова. При всем этом — розовые щеки, немного по-детски пухлый рот, ослепительно белые зубы. Нос прямой, однако кончик чуть-чуть вздернут. Шатен — густые, короткие, слегка вьющиеся волосы. И большие серые глаза — светлые, веселые, смеющиеся, которые, впрочем, умеют иногда яростно сверкать. Этого беглого наброска пока что, пожалуй, достаточно. Закончив чтение, путешественник оставил незапечатанное письмо на столе под лампой и сказал себе: «Закончу завтра, после матча… Это повеселит отца. А что теперь, спать? Нет, еще не хочется, лучше пойду на палубу покурить». Он надел серую фетровую шляпу, фланелевую синюю куртку, туфли из толстой кожи на каучуковой подошве и направился к лестнице. Наверху, на корме, ежевечерние танцы были в самом разгаре. Джентльмены в черных фраках, леди и миссис в великолепных, сверкающих драгоценностями бальных туалетах. Дамы обмахивались веерами. Порывы музыки, бешеный вихрь крутящихся пар, упоение движением и ритмом на борту большого корабля, залитого светом и раскачиваемого зыбью, невольно завораживали. Это любопытное, даже впечатляющее зрелище посреди одиночества, и молодой человек снисходительно усмехнулся: — Дамы и господа не скучают! То и дело хлопали пробки от шампанского, обозначая этим вульгарным звуком не столько экзотику, сколько буржуазную радость жизни. Слуги ловко скользили среди толпы, не роняя подносов с пенящимися бокалами. Ироничный зритель, растянувшийся в кресле-качалке, воскликнул: — Ну, не парадокс ли? Шампанское extra-dry[16], чтобы хорошенько промочить горло! Пили крепко, и буфет торговал вовсю. Многие джентльмены уже поднабрались и развеселились. Но так как в их поведении не было ничего шокирующего, это малое прегрешение англосаксов вызывало у дам лишь снисходительные улыбки. Среди любителей выпить юноша вдруг узнал мучителя юнги, своего противника, который отошел от танцующих, обмахиваясь складным цилиндром, потом засунул его между жилетом и манишкой, несомненно, чтобы освободить руки, и вынул из фрачного кармана портсигар. Случай подвел его к французу, сидевшему на свету у левого борта. Узнав его, он, опередив свою свиту, подошел к креслу, в котором тот курил и покачивался, демонстрируя безразличие. В американце вспыхнула злоба. Ему никто никогда не перечил, он привык презирать человечество. А тут — этот французишка! С надменным выражением янки бросил ему в лицо: — Ага, вот он где! Сидел бы на кухне, чем подсматривать тут за нами исподтишка! Молодой человек пожал плечами и насмешливо ответил тоном настоящего обитателя пригородов: — Выпил маленько и сам не знаешь, что болтаешь! Сматывай отсюда удочки! Возбужденный вином и усмешками своих друзей, американец продолжал с презрительным жестом: — А может быть, у этого бедняка нет денег даже на стаканчик кисленького? — Нарываешься? — усмехнулся француз. — Ну, на первый раз прощаю: у тебя еще молоко на губах не обсохло. Но кончай, не то получишь свое! Янки издевательски захохотал, выхватил из жилетного кармана пригоршню долларов и швырнул их в лицо противнику: — Это ты получи — милостыню жаждущему! Подбери и выпей за мое здоровье! Да не забудь прокричать: «Да здравствует…» Договорить он не успел. С изумительным хладнокровием молодой француз поднялся с кресла. Бледный, с горящими глазами, он со всего размаха отвесил оскорбителю звонкую оплеуху, которую услышали даже на корме. — Получил? Я держу слово! — крикнул смельчак. Американец дико зарычал и схватился за револьвер. Но соперник с быстротой молнии вырвал у него оружие. Еще миг — и револьвер полетел за борт. — Ну и характер! — обернулся он к разъяренному янки. — Но поверь, так просто меня не убить! Вдвойне пьяный — от гнева и вина — зачинщик ссоры совсем потерял голову. Отплатить во что бы то ни стало, или — прощай, престиж! Грубое проклятие сорвалось с его окровавленных губ: «Hell dammit!»[17] Он набросился на француза, — сейчас этот выскочка узнает что к чему! Противники намертво сцепились, тяжело дыша, стараясь сбить друг друга с ног. Остальные попятились, давая им свободное место. Кое-кто уже начал заключать пари: чья возьмет? Борцы, все так же намертво сцепленные, катались по палубе. То один, то другой оказывался сверху. Вдруг без видимой причины пароход страшно накренился. Что случилось? Неудачный поворот руля? Поломка винта? Как знать. Так или иначе, но исполинская волна прокатилась по палубе; раздался крик ужаса. Затем вода отступила с шумом отлива. Пассажиры инстинктивно ухватились — за планшир[18], за брезенты, за решетки — кто за что! Все, кроме боровшихся двух, отделались неожиданным душем. А вот янки и француз… Сперва водная гора накрыла их, потом подняла, как два перышка, и бросила в пучину. Какое-то время их видели на волне, потом ее гребень обрушился, и молодые люди скрылись в пучине в тот самый момент, когда корабль выпрямился. Раздался крик, от которого леденеют сердца матросов: — Двое за бортом!
ГЛАВА 2
Отчаянный призыв. — Затеряны в океане. — Акулы. — Древесный ствол. — Среди ветвей. — Оригинальный разговор. — Шерстяной король. — Тотор и Мериносик. — Берег! Виден берег! — Пресная вода. — Эгоизм. — Ссора. — Берегись!Корабль, делающий приблизительно 16 узлов, проходит в час шестнадцать раз по 1852 метра, то есть около 30 километров. Словом, это то, что называют коммерческой скоростью на железной дороге. Но пассажирский поезд можно легко остановить — на это есть тормоза. Пароход — иное дело! Водный исполин, не имеющий твердой опоры, должен сначала остановиться, затем дать винтом задний ход. Эти маневры требуют времени, ибо большую скорость сразу не погасить, — судно по инерции уходит далеко вперед. Так получилось и с «Каледонцем», — несмотря на крики и судорожные усилия остановить судно, громада из дерева и металла удалялась от места происшествия с быстротой болида. Ожесточение обоих противников не выдержало испытания ужасным купанием. Видели вы когда-нибудь готовых разорвать друг друга собак, на которых с размаху выливают ведро воды? Свара немедленно прекращается, а собаки разбегаются, прижав уши. Вот и молодые люди, оказавшись за бортом, конечно, вынуждены были забыть о драке и употребить все силы на спасение. Выплыв на поверхность, они увидели темный корпус и светящиеся мачты «Каледонца», который стремительно удалялся от них. Оба пришли в ужас, оба закричали, но бесконечная водная пустыня поглотила их слабые голоса. А яркий свет все удалялся, постепенно затухая в волнах. Во внезапно наступившем мраке юный янки высунулся до пояса из воды и закричал срывающимся голосом: — Сюда! На помощь! Тысяча фунтов… десять тысяч спасителю! Мой отец богат, — кто хочет золота?! Помогите, помогите! Француз уже оправился и не тратил силы на крики. Чувство юмора вернулось к нему, и он предложил вопящему янки: — Ну, дружок, спой-ка это на мотив песенки «Каде Руссель» и попроси заодно халат на ночь. — Сюда! Помогите! Дам золота… Миллион, два, слышите… — Да брось ты чушь молоть! Мы в огромной лоханке, и ты здесь такой же бедолага, как и я. Прошли две долгие, жестокие минуты. «Каледонец» пронесся целый километр и только тогда сумел остановиться. Стали спешно снаряжать спасателей. Наконец — взмах весел, и лодки отошли к месту несчастья. Так как на борту не было светящихся буйков, предстояло отыскивать попавших в море буквально на ощупь, в полном мраке, пока пакетбот не развернется и не подойдет к тому же месту. А это не менее двадцати минут! Американец продолжал бессмысленно кричать. Француз же, не терявший головы, заметил, что, хотя они изо всех сил плывут к пароходу, их неуклонно относит в сторону. Всего за несколько минут электрическое сияние оказалось далеко слева. — Слышишь, ты, — обратился он к янки, — нас подхватило сильное течение и несет к берегу. — На помощь! На помощь! — был все тот же ответ. — Сто тысяч долларов, только помогите! — Ну, ты довольно однообразен, зайчик мой, напрасно кричишь… Не все можно купить за деньги. Разве не видишь, мы удаляемся. Самое время спеть: «Прощай, кораблик ми-и-лый». В это время юный француз заметил и еще кое-что, сильно его встревожившее. Между тем янки совсем упал духом: — Проклятье! Это правда… Пароход далеко. Я погиб!.. — Зато они близко… Все-то ты твердишь «я» да «я». Ты, право, эгоист. Я-то нет, и вот доказательство. Говорю тебе, греби! Колоти лапами изо всех сил, слышишь! — Что? В чем дело? — Плыви, понятно? И постарайся наделать побольше шума! Тогда они уйдут, — мне отец говорил… — Кто уйдет? — Акулы! По-английски «shark», милейший… Действительно, вокруг то и дело вспыхивали фосфорические полосы. Они то перекрещивались, то вновь отдалялись друг от друга, но главное — неуклонно приближались к терпящим крушение людям. Молодой американец, вскрикнув от ужаса, начал судорожно барахтаться. — God bless me![19] Акулы — это ужасно! — С ними шутки плохи! Они с непрошенными гостями не церемонятся… Черт возьми, в открытом море рискуешь угодить в скверную компанию! Расстояние между пловцами и пароходом увеличивалось с пугающей быстротой, зато акулы, увы, не отставали. Однако осторожные хищницы, испуганные резкими движениями пловцов, пока что на них не нападали. Между тем спасательные шлюпки безнадежно отстали. Течение слишком далеко унесло молодых людей. Янки проклинал вся и всех, француз стойко переносил свое несчастье и думал только о том, что хорошо бы в конце концов куда-нибудь доплыть. Первый, чувствуя ледяное дыхание смерти, оплакивал счастливую, беззаботную жизнь, которая была для него незаслуженным подарком с колыбели. Второй же, сохраняя великолепное хладнокровие, прикидывал, что берег, пожалуй, не так далек. Но вот что-то и впрямь зачернело перед ними. Громадное, вырванное с корнями дерево, также уносимое течением. Шестидесятиметровый ствол с сучьями — настоящий плавучий островок! — Удача! — закричал француз. — Отец говорил, что каждому потерпевшему кораблекрушение попадается плывущее дерево, посланное Провидением[20]. Вот и оно! Влезем-ка на него! Готово! Он ухватился за огромную ветку. Ноги, руки заработали вовсю — и вот с обезьяньей ловкостью юный пловец взобрался на ствол. При скудном свете звезд товарищ по несчастью увидел его и последовал хорошему примеру. Хоть на какое-то время скрыться от акульих челюстей. Ощупью каждый нашел по развилке в ветвях и устроился поудобней, предоставив течению нести дерево. А что же свет парохода? Исчез! Они одни на шатком древесном обломке, одни, если не считать хищниц, острые зубы которых, как ножницы, клацали впустую, вдали от людей, брошенных на милость прибоя или любой волны, которая, всего лишь чуть-чуть переместив центр тяжести, может окончательно сбросить их с кроны во власть морских чудовищ… Часы тянулись нескончаемо долго. Ужасные часы! А там, на небесной тверди, медленно, в величавом спокойствии вечности перемещались звезды. Вцепившиеся каждый в свою ветвь, с затекшими ногами, оба, промокшие до костей, юноши дрожали, несмотря на теплую тропическую ночь. Время от времени дерево странно вздрагивало. Это американец, уставший от неудобного положения, менял позу. Парижанин, более закаленный и более осмотрительный, разумно сохранял неподвижность. — Осторожней, приятель, осторожней, — урезонивал он недавнего врага, — не то дерево перевернется, а тогда — шутки плохи! Американец, не переставая стонать и чертыхаться, никак не отозвался на это обращение. — Ты болен? — с участием спросил его француз. Ответа не было. — Значит, все еще дуешься? Ну и нрав! Послушай! Дуться в такую минуту не просто мерзко, это еще глупо! Я тебе напрямик говорю! Тогда наконец послышался сердитый ответ: — Это все из-за вас! С какой стати вы влезли в мои дела? Я вас не знаю и знать не хочу! С людьми такого сорта у меня нет ничего общего… Вы не принадлежите к моему кругу! Из ветвей послышался звонкий хохот. И вот на обломке шаткого дерева между не видящими друг друга собеседниками начался во мраке безумнейший из разговоров: — А между тем меня тебе представили — мой кулак и нога. Неужели в твоем высшем свете этого недостаточно для знакомства? — О, если мы только выберемся на сушу, я отплачу, я вам шею сверну! — Ну и ну! Ты думаешь, я так и буду этого дожидаться? О нет, малыш, я тебе покажу, как люди моего сорта намыливают шею таким, как ты! — Да кто вы такой?.. Я говорю с вами по-английски, а вы, хоть отлично понимаете этот язык, отвечаете по-французски, правда, употребляя далеко не классические обороты! — Оказывается, ты не такой дурак, каким казался! — Кто же вы? — Меня зовут Тотор. — А фамилия вашего отца? — Фрике! — Что он делает? Какое положение занимает в обществе? — Просто любопытствуешь или боишься уронить свое достоинство? Изволь: отец ради забавы совершил кругосветное путешествие… Его девиз: «Чем дальше, тем ближе!» А во время этой сказочной гонки вокруг планеты — помогая слабым, бил сильных… Он освобождал рабов, уничтожал пиратов, завоевывал государства. И веселился, как блаженный, ввязываясь в драку когда надо и не надо. И всегда ему улыбалась удача! — Вот как! А теперь? — Описав свои приключения и закончив «Учебник умелого робинзона[21]», он, как бы это сказать, почетный парижский мальчишка на отдыхе, а я — его преемник. Ну а теперь ты, господин, которого я тоже не знаю, находишь ли ты меня достаточно знатным, чтобы вместе со мной сидеть на дереве посреди моря? — Право, не поймешь, что тут в шутку, что всерьез! И почему вы все время говорите мне «ты»? — Сам начал, помнишь, на палубе «Каледонца»? Теперь же это вошло у меня в привычку. А твой-то родитель что поделывает? — Отец — миллиардер. — То, что у нас называется «человек с мошной». Чем же он занимается? — Король шерсти! — Черт возьми! Властелин руна, султан овечий! Смею надеяться, что твой папаша — не из Шампани… — А что? — Потому что девяносто баранов да один шампанец, это получается… Нет, не могу сказать! — Вы потешаетесь надо мной! — На такую дерзость я бы не решился. Так, значит, ты в некотором смысле сын монарха — шерстяной дофин![22] У нас во Франции сына кондитера называют «маленький кондитер». Говорят еще: «маленький литейщик», «маленький угольщик». А американцы в твоем лице будут иметь «маленького мериноса»[23], Мериносика. И я делаюсь твоим крестным отцом! Совершенно оторопевший от потока слов американец уже не знал, смеяться ему или плакать. Но высокомерие велело ему не сдаваться. Привыкнув, что все склоняются перед золотым тельцом[24], с колыбели избалованный безудержной лестью, он увидел в забавном прозвище оскорбление своего «сана». «Его величество» никогда не отречется от престола, даже при кораблекрушении. И он ответил с повелительной высокомерностью: — Я запрещаю вам называть меня так. — Слышу, Меринос. — Вы поняли? — Так точно, Меринос. — Имейте в виду, я заставлю вас слушаться, хотя бы и силой. — Ой, как страшно, Меринос! Я жду рассвета, чтобы узреть черты героя! Но вот горизонт начинает розоветь… Скоро взойдет солнце, и я увижу тебя, о Меринос, во всей твоей славе… Но на этот раз американец не принял вызов. Он заметил темную линию, пересекающую океан, и воскликнул: — Слава Богу! Берег! Тропическая ночь за несколько минут уступила место дню. И, промокшие, закоченевшие на своем «плоту», спутники наконец увидели друг друга сквозь пахучие листья эвкалипта. Парижанин рассмеялся: — Однако! Знаешь, ты похож на обезьяну, старина Меринос, на несчастную разодетую обезьяну, которая красуется перед ярмарочным балаганом! Наверное, и я так выгляжу! Спутник хотел ответить, но вдруг расчихался. — Будь здоров! — уже серьезнее продолжал парижанин. — Здесь тебе не найти ни пилюль, ни таблеток, так что о простуде не может быть и речи… Потом добавил, всмотревшись в берег: — Черт возьми, шикарная картина: восход солнца над пустынным берегом! Любопытные чайки кружили над молодыми людьми, издавая резкие крики, какие-то птицы с серыми спинками покачивались на волнах, хохлатые цапли, поклевывая перламутровые блики на прекрасных деревьях с темно-зеленой листвой, казались мириадами[25] гигантских камелий[26]. Пара черных лебедей взлетела, громко хлопая крыльями, а баклан стал доверчиво устраиваться на другом конце «плота». Рядом со стволом, который дрейфовал, медленно кружась, плавали огромные гладиолусы, пурпурные кувшинки, ирисы, словно усеянные аметистами, ярко-синие алоэ со светло-желтыми стеблями, подсолнухи размером с колесо, мирты, папоротники… Всю эту растительность принес в морс какой-то яростный ураган. В километре отсюда берег был прорезан узким эстуарием[27] — там текла красивая река, окаймленная могучими деревьями. Голубовато-зеленые кроны эвкалиптов благоухали вовсю. Чем ближе «плот» подплывал к берегу, тем очевидней становилось богатство жизни на этой земле. Там было все… кроме людей. Глубина воды на глазах уменьшалась, и акулы, отчаявшись заполучить добычу, убрались восвояси, яростно взмахивая плавниками. Вдруг ствол вздрогнул, натолкнувшись на встречное течение реки, и начал отходить от берега, до которого было еще метров четыреста. — Одну минутку! — воскликнул парижанин. — Если мы хотим высадиться, некогда заниматься пустяками. Меринос, в воду, и — саженками! В мои планы не входит огибать Австралию верхом на ветке. — А в чем дело? — Я отчаливаю, а ты оставайся, если хочешь. Прощай, спасительное древо! С этими словами француз бросился в воду и поплыл к берегу. Его спутник наконец понял, что происходит, и последовал за Тотором. Не без труда пробирались они между листьями и цветами. Отфыркиваясь, пловцы удивлялись бесстрашию водных птиц, которые плескались рядом с ними, как домашние утки. Вода становилась все прозрачнее. Теперь она была кристально чиста. Парижанин жадно хватал ее губами и кричал: — Ура! Пресная вода! Куда лучше марочного вина! Умираю от жажды! Буду пить, пока не лопну… Загребая руками, он одновременно пил — с наслаждением, с невыразимым ощущением счастья. А прополоскав заодно горло, прибавил: — Знаешь, это великолепно! Вода не хуже вина… в отсутствие последнего. Попробуй. Американец сухо ответил: — Нет! — Как! Даже после такой ночи у тебя не пересохло в горле? — удивился Тотор. — Чудо природы… Ты что, может, боишься микробов? — Не все ли вам равно? Каждый волен сам устанавливать себе правила гигиены. — Как хочешь. Только мне на это наплевать. Где гигиена, там — никакого удовольствия! Янки даже не моргнул и предпочел терпеть жажду. Молодые люди, отличные пловцы, пересекли наискось широкий поток. Их немного отнесло, но наконец они вышли на отмель в маленьком заливе. Кругом красовались роскошные тростники с пунцовыми цветами. С бедных робинзонов ручьями стекала вода, они жестоко устали и едва держались на ногах. Но какое счастье — вот она, земля! Американец, верный своему эгоизму, воскликнул: — Спасен! Я спасен! — Ты спасен, он спасен, мы спасены! — поправил француз. — И неудивительно! В море только ленивые погибают, отец объясняет это в своей книге… Всегда можно уцепиться за какой-нибудь обломок, удрать от акул и выйти на гостеприимный берег… — На котором я надеюсь пробыть недолго, — отозвался янки. — Капитан отыщет меня и доставит на место. Удивляюсь, что он не пошел вдоль берега, — я бы уже увидел шлейф дыма «Каледонца». Американец сказал это уверенно, капризно, как человек, которому никогда еще не противоречили. «Его величество» привык гнуть людей и подчинять себе обстоятельства! — Ба! — возразил Тотор. — Это его долг, но будет ли он в состоянии его выполнить? Течение отнесло нас далеко. — Мой отец — главный акционер судоходной компании. Он хозяин всех этих пароходов, матросов. И посмотрел бы я, как это они не явятся сюда! Я хочу, чтобы меня отыскали, хочу, чтобы отвезли домой… Не то я прикажу не выдавать жалованья капитану, машинисту, матросам и — by God![28] — велю затопить пароход на глубине пятисот сажен! — Давай, давай, трепли языком. Твои приказы бессмысленны. Так только детишки требуют, чтобы им дали луну, да еще грозят ей кулачком. А миллионы короля шерсти — это еще меньше, чем клок той же шерсти во время урагана. — Что вы хотите сказать? — Что ты — бесприютный бродяга, выброшенный морем бог весть куда… Что тебе придется работать и терпеть больше нужды, чем последнему нищему в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. — Вы рассуждаете, как наивный дурак, потому что не знаете нашей силы. С нами сравнятся разве что монархи Старого Света! Усвойте себе, что и на этом пустынном берегу я не более заброшен или забыт, чем сын короля Эдуарда[29], кайзера Вильгельма[30] или царя Николая[31]. Никто не осмелится позабыть меня здесь! — Слово «дурак» лишнее, — ответил Тотор, — и ты мне за него заплатишь. Но прежде чем я дам тебе урок вежливости, должен сказать: тебе придется голодать, терпеть жажду, печься на солнце, может быть, дрожать от холода… Ты будешь подвергаться неведомым и бесчисленным опасностям. Страшное дело! Приготовься к тому, чтобы стать игрушкой в руках рока. Будь уверен: нужда, болезни, звери и прочее, прочее нанесут твоей заносчивости такой удар, от которого слабые натуры вроде тебя могут и не оправиться… — Месье Тотор, вы лжете! — Сэр Меринос, я заставлю вас подавиться вашими же оскорблениями! — Защищайтесь! И покончим с этим делом… — Ну, давай еще раз подеремся! Глупо, но необходимо.
ГЛАВА 3
Парижанин корчится от смеха, а Меринос оскорбляет его. — Рассвирепевший человек смешон. — Довольно смеяться! — Тотор сжимает Мериноса руками, и тот сдается. — Гордость, гнев, озлобление. — Расстались. — Тотор убивает двух цапель, ест сырые яйца и засыпает.Вот они, непримиримые противники! Подростки, чуть не дети, которых поджидает голод… Едва избегнув смерти в волнах, на суше они уже мечтают убить друг друга! Меринос встал в боксерскую стойку: грудь колесом, кулаки сжаты, голова вздернута… Словом, поглядеть — отменный кулачный боец! Тотор подобрался, готовый, в зависимости от обстоятельств, ударить ногой или влепить оплеуху. Острым взглядом он следил за американцем и, казалось, обдумывал молниеносную атаку, но вдруг перекинулся назад через голову, да так, что ему позавидовал бы любой клоун. Потом принялся хохотать, его просто трясло от смеха. — Вы что, с ума сходите? — надменно бросил Меринос. — Берегитесь! — Погоди-ка, сейчас начнем… Буду я твоим противником, буду… Только дай посмеяться вволю… Ой, не могу… Умора! Ха, ха! Чертов Меринос! Ха, ха, ха! — Вы или трус, или дурак, а может, и то и другое… Но ваше шутовство на меня не действует, — ответил американец. — Вижу, вы трусите! Ну и отколочу же я вас! — Погоди, говорю, — со смехом продолжал Тотор. — Ах, если бы ты себя видел! Ха, ха! Ну, посмотрись в воду… Скажи честно сам, ведь даже деревянные лошадки подавятся от смеха! Разве можно тонуть в таком виде? Ах, бедняга! У тебя ни подходящего костюма, ни призвания для таких приключений. Ты похож на выпущенного из кутузки могильщика, которого перед тем выловили из лужи! Действительно, юный миллиардер выглядел неважно. Его фрак, вырезной жилет, лакированные туфли, крахмальный пластрон рубашки, жесткий воротник — весь этот роскошный хлам обесцветился от морской воды и жалкими складками прилип к телу. — И в довершение всего, — продолжал парижанин, покатываясь со смеху, — в твоих штанах прореха, и оттуда торчит рубашка, как белый султан[32] Генриха Четвертого…[33] Нет! Уж слишком ты нелеп! Дай посмеяться вволю над твоей рожей, жертва кораблекрушения! Такой и отец вообразить не мог! Грубоватые шутки, град уколов по самолюбию довели американца до бешенства. В глубине души он и сам сознавал, что смешон. Только подумайте, в какое положение он попал! Элегантный молодой человек, привыкший чуть не ежечасно менять одежду! Обворожительный принц, который посчитал бы бесчестьем для себя не быть одетым так, как требуют обстоятельства! И вот его-то так унижает, представляет в карикатурном виде, даже хлещет по щекам этот веселый товарищ по несчастью! Яростный приступ гнева овладел сыном магната. Пора кончать, во что бы то ни стало. О! Заткнуть глотку этому гаврошу, дать ему по губам, чтобы не слышать больше его острот! Американец набросился на Тотора и попытался ударить правой, рыча: — Подлец, убью! Движение было молниеносным, и все же рука янки встретила пустоту. Ведь даже молния уступает быстроте мысли! С редким проворством парижанин присел, схватил ноги Мериноса повыше икр и дернул. Бедный Меринос внезапно потерял равновесие и во весь рост грохнулся на спину. Густая трава смягчила удар, однако от жилета отлетели все пуговицы! — Готов! — крикнул неисправимый насмешник. — Грохнулся, как чурбан! В добрые старые времена говаривали: получил билет в партер! Ну, вставай! Когда рассерженный, бледный Меринос, скрежеща зубами, поднялся с земли, какой-то сплющенный, черный, блестящий «блин» вывалился из-под его распахнутого жилета. Тотор подскочил, поднял упавшее нечто и закричал с торжеством: — Шапчонка, колпак, печная труба для довершения твоего наряда! Удачно, очень кстати! Вы помните, что перед стычкой на палубе «Каледонца» молодой янки, чтобы освободить руки, сложил свой шапокляк[34] и засунул его между жилетом и манишкой? Судьбе было угодно, чтобы именно этот парадный головной убор, шелковый цилиндр, предмет гордости и зависти негритянских королей, избежал гибели в волнах. Теперь он внес оттенок бурлеска[35] в трагикомедию драки. Меринос вскочил на ноги и снова яростно набросился на Тотора. Тот сделал вид, что хочет сбежать и улепетывает Меринос кинулся за ним с проклятьями. Тогда Тотор, хохоча как сумасшедший, повернулся, держа сложенный цилиндр обеими руками, и крикнул: — Заряжено! Берегись! Он нажал на пружину. Хлоп! Лепешка превратилась в жесткий, блестящий цилиндр. Шляпа воскресла и чуть не ударила по лицу оторопевшего Мериноса, который, зажмурившись, инстинктивно отшатнулся. — Боишься? — забавляясь, крикнул француз. Но американец в приступе ярости уже ничего не видел и не слышал. Его глаза пылали, из горла вырывались хриплые, нечленораздельные звуки. Он ринулся на Тотора, как зверь: схватить его, задушить, разодрать на куски! Вдруг парижанин отбросил шляпу, обеими руками схватил своего противника под мышки и по-прежнему с улыбкой стал его сдавливать. Выражение лица Мериноса менялось: изумление, мука, страдание поочередно отражались в его чертах. Челюсти американца сжались, глаза закатились. Под страшным нажимом рук, которые продавливали ему бока, его щеки побледнели, губы приняли лиловый оттенок. Он, задыхаясь, скрипел зубами, чтобы не застонать. Какой удар его гордыне! Как, миллиардеру признать себя побежденным! Ни за что! Это продолжалось всего секунд десять, а он уже терял сознание! Парижанин давил все сильнее… Задыхавшийся Меринос чувствовал себя так, будто попал в тиски, слышал, как трещат кости под охватившими его невероятно сильными руками. К нестерпимой физической муке добавилась смертная тоска погибающего человека. Уже не было сил защищаться, с губ сорвались лишь слабый стон и одно слово, которое уже невозможно было удержать: — Пощады! — С тебя довольно? — странно спокойным голосом спросил Тотор. — Да… не могу больше… умираю, — пролепетал Меринос. — Полно! Я просто нажал довольно сильно. Пройдет! Раз ты признаешь себя побежденным, на этом кончено. И грозный человек со стальными мускулами разжал страшные объятия, в которых погибал противник. Парижанин поднял Мериноса, как ребенка, положил его под широкие, пахнущие медом листья растений с ярко-красными цветами, затем принес цилиндр и, наполнив его травой, просто сказал: — Солнце поднимается, под тропиками его лучи смертельны, лучше надень свою шляпу. Я набил ее листьями и травой, чтобы сохранить немного прохлады. Но место для головы еще есть. Ну как? Тебе лучше? Американец сделал еще несколько жадных вдохов и ответил: — Да, сейчас лучше, но уйдите. — Как? Ты все еще сердишься? — Больше прежнего! — Не понимаю… — И незачем понимать. Мы чужды друг другу. Каждому — свое… — Да у нас одна судьба, как у креветок в банке! Ты что, сбрендил? — Да, сбрендил от ненависти к моему злому гению[36], виновнику всех моих злоключений… Не могу смотреть на вас, ненавижу всеми силами души. Побои, насмешки… Разойдемся в разные стороны… чтобы не встречаться больше… Не ручаюсь, что не убью вас во время сна… — Да ты, оказывается, хорош фрукт, — ответил Тотор. — Послушай, мы в ужасном положении, а вместе у нас две головы и четыре руки! Вдвоем легче защититься от ударов судьбы… — Из-за вас я стал несчастнее последнего нищего, все потерял… Будь я сильнее, убил бы вас, — твердил американец. — Прощайте! Желаю вам издохнуть от голода и невзгод раньше меня! Он поднялся и, бледный, шатающийся, ушел, грозя кулаком. Удивленный парижанин посмотрел ему вслед, пожал плечами и сказал: — Как угодно! Злости и гордыни — хоть отбавляй… Но ты присмиреешь, мой Мериносик, присмиреешь! Ну что ж, постараюсь обойтись без тебя и прежде всего поищу завтрак. Смешной и удручающе печальный в своем парадном костюме, янки быстрым шагом направился к небольшой возвышенности, откуда надеялся увидеть темный корпус «Каледонца» и его дымный шлейф. Надежда на скорое спасение не оставляла его. Тотор огляделся и подумал: «Нет у меня еще сноровки. Попади сюда отец, все пошло бы как по маслу. Вот человек! Уж он-то смог бы разыскать салат в кратере вулкана… Да что там: раздобыл бы клубничное мороженое посреди Сахары! Жареную картошку на Южном полюсе! Но он в Париже: улица Монмартр, дом сто сорок шесть. А мне, Тотору, могут помочь только унаследованные отцовские гены… Прежде всего посмотрим: каково мое имущество?» Молодой человек порылся в своих еще влажных карманах и вынул платок, никелированные часы, записную книжку с карандашом, перочинный ножик, пилку для ногтей и зубочистку. Парижанин рассмеялся и сказал вслух: — Ну, пилка еще туда-сюда, но зубочистка! Экое изящное излишество! Вот нож — это настоящее сокровище! Поднеся к уху часы, он с сожалением прибавил: — Зверюшка захлебнулась… Жаль. Может, попробовать оживить? Я бы поставил ее по солнцу, и было бы забавно знать, который час. Тотор поднял крышку часов, вылил воду из корпуса и изо всех сил продул колесики. Освобожденный от воды, маленький разумный механизм задвигался, и француз радостно вскрикнул: — Ожила зверюшка! Теперь буду знать время завтрака, обеда и ужина, которых нет, и говорить себе, что пора класть зубы на полку и потуже затягивать пояс! Чего бы, однако, мне поесть сегодня, в первый день приключений и спасения из воды, за отсутствием несуществующих плодов, неуловимых рыб и птиц, к которым не подберешься? Вдруг его осенило: — Боже, как я глуп! Тут гнезда, а в гнездах яйца, хотя и не вареные! Если бы этот дурачок Меринос остался, можно было бы попытаться проделать фокус с омлетом в его цилиндре… Благодушно пошучивая сам с собой, наш робинзон подошел к росшим у устья реки деревьям, среди которых виднелось множество хохлатых цапель. Некоторые из деревьев возвышались на пьедестале из воздушных корней, другие, больше похожие на кусты, давали своим ветвям достичь земли, чтобы те укоренились и пустили новые побеги. Тотор протиснулся в эту густую, как кукурузная плантация, чащу и стал осматриваться. Его поразило невиданное количество гнезд, устроенных кое-как из веток и травы! Лепясь вплотную друг к другу, они поднимались рискованной Вавилонской башней. Стоило руку протянуть, и в каждом — по три-четыре красивых зеленых яйца! Однако их надежно охраняли белые или серые птицывеличиной с цаплю. Золотистые глаза засверкали при виде непрошенного пришельца. Острые, как кинжал, клювы щелкали и дергались навстречу руке Тотора. — Без глупостей, я хочу есть, — со смехом, но и сердито сказал он. — Я люблю птиц и не желаю причинять вам вреда! Дайте мне всего лишь совершить маленький заем… Пожалейте несчастного, у которого живот подвело… Куда там! Несмотря на увещевания, непрошенного гостя клевали со всех сторон, норовя попасть в глаза, исколоть лицо, окровавить руки. Воинственные птицы самоотверженно защищали свои гнезда. — Так что, вы не хотите поладить со мной добром? — снова заговорил Тотор, начиная сердиться. — Тогда придется брать силой! Не обращая внимания на боль, парижанин схватил двух ближайших хохлатых цапель за шеи и сволок их с гнезда. Голенастые птицы яростно отбивались. Их сородичи возбуждались все больше и тоже подавали голос — крики цапель напоминали плач чибисов. Смятение увеличивалось с каждой минутой, слышалось щелканье клювов, хлопанье крыльев. Вдруг все громадное население приречной чащи слетело с кустов. Среди оглушительного шума парижанин овладел вражескими позициями. Двух птиц Тотор придушил. Бросив пернатых на землю, он печально посмотрел на них и сказал: — Я еще никогда в жизни не убивал. И мне тяжело! Бедные птицы! Ну что же, это борьба за существование, и кто знает — может быть, я с наслаждением съем их даже сырыми… А сейчас поищем яйца. Пока в воздухе кружились десять или двенадцать тысяч хохлатых цапель, пронзительно вопя и хлопая крыльями, парижанин, невидимый под ветвями, взял одно яйцо, проколол его ножом с обоих концов и выпил содержимое. Он прищелкнул языком и заметил: — Не первой свежести! А вкус… бррр! Но все же недурно… Второе яйцо, третье… Тотор вновь заговорил: — Черт возьми! Так и шибает в нос рыбой… нет, пожалуй, рыбьим жиром… Ой, бедный мой живот! Но надо привыкать… Проглотив два десятка яиц, молодой человек почувствовал, что силы возвращаются к нему. Он вытер губы рукой и с новым воодушевлением продолжил свой монолог: — Хорошая пища — сырые яйца! В них полно лецитина[37], они укрепляют нервы и кровь… Никакой тебе худобы, зато — что за мускулы! Словом, универсальное питание! Я вычитал это в научном журнале, а теперь вот пользуюсь плодами просвещения. Это местечко — неистощимая кладовая, я уж постараюсь тут поправиться! Эх, если б у Мериноса характер был получше, он тоже мог бы недурно позавтракать и чувствовал бы себя сильным, как никогда. Ну странный тип!.. А теперь — до чего же хочется вздремнуть! Сытый Тотор вышел из зарослей и поискал, где бы растянуться на земле и поспать всласть. Но… тут он подумал об обеде. Исклеванные пальцы и израненные щеки навели его на мысль, что дневное вторжение, пожалуй, обойдется еще дороже, чем утреннее. Поэтому, как человек предусмотрительный, Тотор, пользуясь отсутствием птиц, набрал из гнезд столько яиц, сколько смог унести, и спрятал их подальше, под карликовыми камедными деревьями, листья которых бросали непроницаемую тень. Найдя, что запасов маловато, он несколько раз возвращался к гнездам и собрал около сотни яиц. К ним Тотор присоединил и двух убитых цапель. Наконец, усталый, обливаясь потом, он заснул свинцовым сном рядом с провиантом.
ГЛАВА 4
Тотор обращен в бегство. — Опять сырые яйца. — В одиночестве. — Тотор не отчаивается. — Зов в темноте. — Голод, жажда! — Напоминание о Навуходоносоре II, царе ассирийском[38]. — Превращение. — Два друга. — Что делать с тридцатью тысячами франков? — Отправление. — Тревога. — Пресмыкающееся?Тотор спал, и спал поистине мертвым сном. Разбудил его сумасшедший птичий гомон. Стаи белых какаду[39] с желтыми гребешками вились над его головой в солнечных лучах. Парижанин пришел в себя не сразу. Не слышно было знакомых корабельных звуков — размеренного стука винта, грохота угольного подъемника по утрам у самой его постели. Значит, все это не кошмарный сон: борьба на палубе, падение в море, берег, хохлатые цапли, сырые яйца, одиночество… да, все правильно, он оказался на западном берегу Австралии. Солнце высоко над горизонтом, уже очень жарко. — Сколько же сейчас времени? — Молодой человек взглянул на свои часы. — Одиннадцать! Я проспал сутки! Но как хочется есть! Поскорей сварганю яичницу — пусть без масла и огня! Сказано — сделано, и он тут же, без передышки, но с невольными гримасами, слопал полторы дюжины яиц. — Однако неплохой завтрак! Хотя и неаппетитно, все же лецитин, альбумин[40], рыбий жир… Лишь бы бедный желудок не слишком привередничал! Что-то меня поташнивает, неплохо бы холодной воды испить. Парижанин пошел к реке мимо мангровых деревьев, на которых сидели цапли. И вдруг поднялся страшный шум! Тысячи голенастых птиц взлетели и бросились на него, грозя клювами. Окруженный, оглушенный, ослепленный, он бросился бежать, понимая, что рассвирепевшие птицы могут растерзать его в клочья[41]. Француз успел вовремя забраться под камедное дерево и, согнувшись в три погибели, спрятался среди ветвей и листвы. Удовлетворившись бегством противника, птицы прекратили преследование и вернулись в свою колонию. — Какая агрессивность! И как хорошо я вчера сделал, что запасся провизией… Но теперь уже не до шуток! Нужно осмотреться, уйти отсюда и найти себе другую пищу. Но что же произошло с Мериносом? Если нечем было червяка заморить, бедняге пришлось плохо. Конечно, у него скверный характер, но все-таки жалко, если он мучается от голода. В нашем возрасте это ужасно. Знать бы, где он, — отнес бы ему подкормиться. Но он способен встретить меня в штыки… Придется подождать. Скоро новые заботы осадили Тотора. Он умирал от жажды, но птицы отрезали ему путь к реке. Тучи москитов вились кругом, кусали, вливали в его кровь малыми дозами свой жгучий яд, что приводило молодого человека в бешенство. Жара стала невыносимой. Место было явно негостеприимное, и Тотор понимал, что надо бы убраться отсюда. Но куда? Он не решался двинуться в глубь страны, по крайней мере сейчас. Кроме того, американец заразил его своей уверенностью, что «Каледонец» вот-вот появится. И француз тоже цеплялся за эту надежду — все более, к сожалению, иллюзорную. И он остался сидеть, загипнотизированный видом неумолимо синего, пустого горизонта. Так в пассивных мечтаниях прошел день, затем наступила тропическая ночь, удивив парижанина своей внезапностью. Он съел несколько яиц, на этот раз их резкий рыбный запах вызвал отвращение. Затем снова лег на густую траву и начал вторую ночевку на берегу. Но Тотор не мог сомкнуть глаз. Уже скоро его начали выводить из себя писк и укусы комаров. Напрасно ворочался он с боку на бок, зевал, потягивался — сон не приходил. И мало-помалу, подавленный одиночеством, парижанин затосковал. Им, таким веселым, таким общительным, овладела тревога. Насколько ужас подобного одиночества страшней заключения в самом зловещем застенке! По крайней мере, рядом с тюремной камерой всегда есть охрана. Неприветливые, невидимые люди, но они есть. А тут, на пустынном берегу, только ночь с ее таинственными звуками и фантастическая призрачность неведомого. Монотонно шумел океан, беспрерывно обрушиваясь на берег, ухал филин, квакала исполинская лягушка, заунывно мяукала птица-кот, глупо клохтал болотный фазан, и все это составляло бесконечную какофонию, которую перекрывал иногда, как флейтой, резкий выкрик большого зимородка. А совсем рядом бесшумно проносились вампиры[42] и ночные бабочки, нескончаемо стрекотали надкрыльями гигантские насекомые, муравьи-бульдоги прожорливо скрипели челюстями, откусывая стебли злаков. В мозгу молотком стучали эти навязчивые звуки, тело горело от неведомого яда, который впрыскивали в вены мельчайшие существа, — и парижанин вдруг пал духом. О, эта гнетущая тоска бесконечной ночи… и опасения перед будущим, с его тревогами, западнями, опасностями… Если бы хоть рассвело! Так медленно вращается на небесной тверди Южный Крест[43], заменяющий здесь Полярную звезду![44] А эти великолепные, такие яркие южные созвездия вовсе не торопятся скрыться за невидимый горизонт! Молодой человек долго любовался незнакомыми ему звездами, потом протяжно вздохнул, откашлялся и сказал уже окрепшим голосом: — Довольно тосковать! Стыдись, Тотор, гражданин Парижа! Путешественник мужественно и энергично стряхнул с себя уныние. Что за темперамент у этого коротышки! А темперамент и воля — это уже кое-что! И посреди странного и дикого великолепия этой ночи, в одиночестве, которого не выносят даже самые храбрые, опять раздался звонкий, насмешливый молодой голос, который, бросая вызов неизвестности, запел ироничный, веселый куплет:
ГЛАВА 5
Как Тотор приготовил угря. — Соперник Вателя[50] и Прометея[51]. — Деревья без тени. — С посудой, но без вилок. — Лук и стрелы. — Тотор всегда мечтал об этом! — Черные лебеди. — Новый подвиг Тотора. — Отправление.Уверенность Тотора поразила Мериноса и вызвала в нем как восхищение, так и страшный аппетит. Подумайте только! Вызвать из небытия божественную искру! Запросто создать стихию, которая была и останется самым замечательным завоеванием человечества, — огонь! И на нем поджарить большого malacopterygien apode, как выражаются натуралисты, или угря, как говорят обыкновенные смертные! Стать одновременно Вателем и Прометеем — вот на что посягнул мэтр Тотор, вот чем он сейчас, не откладывая, займется! У Тотора есть план. Есть и метод. Прежде всего Ватель и еще раз Ватель, потому что речь идет о кухне и о рыбе. Француз взял угря левой рукой за голову, а правой на уровне жабр сделал круговой надрез, отделил кожу и быстро стащил ее, вывернув как перчатку. Меринос, в начинающем рыжеть цилиндре, несвежем, мягко говоря, фраке, в лакированных, потрескавшихся туфлях, карикатурный в своей торжественности, со страстной заинтересованностью следил за действиями Тотора. И это понятно. Если попытка удастся, им уже не будет грозить голодная смерть. Парижанин вырезал из холодной, скользкой кожи во всю ее длину ремень, скрутил его, завязал по петле на концах, растянул изо всех сил и радостно объявил: — Пятьсот фунтов выдержит! Сносу не будет! — А что ты из него хочешь сделать? — спросил заинтригованный Меринос. — Это струна, которая станет смычком. — Хочешь сыграть на скрипке? — Может быть, только не сейчас. Тотор сделал маленькие зарубки на концах палки, согнул ее и закрепил на зарубках обе петли, которыми заканчивался ремень. Палка осталась согнутой благодаря стягивавшей ее тетиве. — Но это же лук! — вскричал Меринос. — Потом увидим… а сейчас это смычок, я же сказал тебе. Он уже приметил в чаще казуарии несколько упавших деревьев. Что свалило их? Старость, буря, молния? Они медленно разлагались на земле. Некоторые из них, с оголенными, сухими и рыхлыми стволами, сохраняли рассыпающуюся зернистой пылью и пропитанную смолой кору, напоминавшую пробку. Вокруг лежали сломанные ветви. Среди них Тотор выбрал кусок уже выпавшей из заболони[52] сердцевины толщиной в палец, отрезал сантиметров сорок и тщательно заострил концы. Сделав это, он вырезал на ровной поверхности одного из лежавших стволов-исполинов маленькую дырочку, от которой на несколько сантиметров отходили лучами три желобка. — Как долго! — прошептал Меринос, который уже начал нервничать. — А ты знаешь, как сделать быстрей? — Мне кажется… я слышал, что достаточно сильно потереть одним куском дерева о другой, чтобы они загорелись. — О да, знаменитый способ путешественников по гостиным, описанный сочинителями того же толка! Попробуй сам… Три обеими руками, три долго и упорно, от этого вскоре с тебя пот ручьями потечет! Так вместо огня добудешь воду, но это — разные вещи… А теперь — начали! Тотор тщательно сгреб все мелкие стружки. Потом обернул вокруг палочки с заостренными концами тетиву, которая стягивала лук. Сбросив с ноги башмак, молодой человек упер его в свой живот, подошвой наружу. В подошву воткнул одно острие, а другой вставил в дырочку и наклонился, слегка давя на него. Так, подготовка закончена. Француз протянул руку к «смычку» и задвигал его туда и обратно. — Видишь? Движение смычка линейное, но оборот струны вокруг палочки превращает движение во вращательное и заставляет палочку крутиться то влево, то вправо, — пояснил он. Меринос смотрел как зачарованный. Нижнее острие из твердого дерева, которое крутилось в более мягкой древесине ствола, стало быстро нагреваться. Вжик-вжик! Задымилось… вжик-вжик… появились искры… пробковая пыль загорелась! Тотор отбросил свое приспособление, подгреб стружки к смолистой пыли и осторожно раздул огонь. Вот запылали и стружки! Тогда он стал подкладывать веточки потолще, и через пять минут запылал, заискрил, затрещал в сучьях настоящий костер. Тотор не скрывал радости: — Вот видишь, дорогой Меринос, не так уж и трудно! С такой штукой жизнь потерпевших кораблекрушение уже может считаться сносной, верно? Если бы отец увидел, он был бы доволен мной. — Тотор, — со всей серьезностью сказал Меринос, — как бы это сказать… ты грандиозен! — Всего-то! Грандиозен! Ой, помру со смеху! Но это еще не все, ты еще не такое увидишь. А теперь — за жаркое! В ближних кустах парижанин нашел две раздвоенные ветки, обрезал их, воткнул в землю слева и справа от костра, затем вырезал солидную жердь, заострил ее с одного конца, проткнул ею все тело угря, положил концы жерди на развилки и сказал: — Через часок у нас будет обед, от которого и банкиры не отказались бы. Вот если б еще посуда была! В Австралии деревья и кусты — вечнозеленые. Растения весь год сохраняют листву — потрясающей красоты убор странного, как бы поблекшего, цвета, от пыльно-серого до серо-голубого, который так удивляет европейцев. Однако каждые двенадцать месяцев происходит большое сокодвижение, а за ним следует полное опадение коры. Подобно пресмыкающимся и ракообразным, деревья в Австралии сбрасывают кору и как бы обретают новую кожу. Итак, в определенную пору стволы вдруг теряют свою «одежду», она опадает кусками, достигающими иногда колоссальных размеров. Вот и сейчас кора лежала в траве вокруг молодых людей и свисала со стволов гигантских деревьев семейства лавровых. В мозгу парижанина вспыхнула идея, и он воскликнул: — Посуда? Но вот же она! Только что не серебряная, но зато согнутая желобком, небьющаяся, с приятным ароматом! Молодой человек оторвал два куска, поднес их к носу и сказал: — Понюхай-ка, очень хорошо пахнет, лавровым листом. — Yes! Такая приправа при отсутствии соли и перца будет кстати. — Конечно, друг мой! По четыре фунта рыбы в миске перед двумя молодцами, сидящими в позе турка; клыков полон рот, вилка праотца Адама наготове — так еще можно жить. — Уже готово? — Почти. — Тогда за стол! Мне уже живот подвело! Взявшись за концы жерди, они сняли с огня дымящееся жаркое, которое потрескивало и аппетитно сочилось пахнущим жиром, и выложили его на кусок коры, но когда Тотор уже собирался приступить к дележке, Меринос остановил его: — Мы братья по приключениям и невзгодам, давай есть с одной тарелки. — Как хочешь, — ответил Тотор, решительно потянувшись к угрю всеми пятью пальцами. — God by![53] Как горячо! — Подуй. — Некогда! Рискуя обжечь язык, щеки и гортань, Меринос все ел и ел, проглатывал, снова кидался к блюду и без передышки снова принимался жевать с жадностью, которая напоминала о перенесенных им страданиях. Тотор, не уступая товарищу, доблестно, с тем же воодушевлением сражался с жарким. Один за другим куски исчезали так быстро, что через десять минут угря уже как не бывало! — Никогда в жизни так вкусно не обедал! — проговорил Меринос, губы и щеки которого лоснились от жира. — Дело в том, что у тебя никогда не бывало такого аперитива[54] перед едой, — заметил Тотор. — Теперь хорошенько запьем из реки, а потом подумаем о завтрашнем дне. Парижанин предусмотрительно испек в горячей золе яйца, принесенные с места ночевки, проткнув их перед этим с обоих концов, чтобы они не лопнули. Меринос, хорошо поев, устроился как можно удобней под деревом, чтобы спокойно переварить обед. Но вскоре он заворочался, потому что его неутомимый приятель принялся за новую работу. Тотор раздобыл на берегу реки, куда ходил на водопой, полдюжины сухих, прочных как бамбук, камышей и столько же длинных шипов, найденных в колючем кустарнике; затем обрезал тростник на расстоянии полутора метров, вырезал на одном конце паз, а на другом прикрепил шип. Прочно привязал острие к стеблю ремешком из кожи угря и победно воскликнул: — Вот, готово! — Что? — спросил Меринос. — Стрелы для моего смычка, провозглашаемого отныне луком. Вот увидишь, это получше карабина… которого нет! — В самом деле! А ты умеешь пользоваться луком? — Будь спокоен, в пятидесяти шагах даже навскидку не промахнусь. — Но это же замечательно! — Да ничего особенного! А без этого не стоило вылетать за борт! Меринос вздохнул: — Можно подумать, что ты счастлив нашей бедой… Неужто тебе по нраву эта суровая жизнь, которую мы урываем по кускам у враждебных обстоятельств? — Признаться, по сути… я не очень-то в этом разобрался… Прежде всего, это не скучно! А потом, может быть, это атавизм[55], как сейчас говорят, но я всегда, еще на школьной скамье, мечтал стать путешественником, исследователем, робинзоном! И вот получилось! — Значит, ты ни о чем не сожалеешь? Не думаешь о горе родителей, которых внезапно известили телеграммой о твоей смерти? — Ну, отец-то поймет, что телеграмма — вранье! Он знает, что я в состоянии выкарабкаться из беды. А когда капитан «Каледонца» перешлет ему мое письмо — оно осталось в каюте, то станет хохотать, как кашалот[56], и поймет, что я с удовольствием странствую по Австралии. — А мать? — Мама знает, что отец возвращался отовсюду и что его сын поступит так же. Но что тебя беспокоит? Ты красен, как помидор, и дергаешься, как пескарь на сковородке. — Ищу хоть немного тени и не нахожу… У этих австралийских деревьев листья свисают вертикально, и солнце печет как сквозь решето… Мозги поджариваются! — С телячьими мозгами тут опасно: съедят! — А еще я должен признаться: у меня есть недостаток… — Только один? Ты скромен! — Но этот — прежде всего. У меня привычка, страсть к эфиру, бешеная, неутолимая… и отсутствие любимого яда заставляет меня страдать больше, чем все другое. — Как, в твоем возрасте! — Да понимаешь, все из дурацкого снобизма[57], подражания кому-то. Хотелось покрасоваться, вот и вдохнул этой отравы. От нее прямо заболеваешь, начинаешь снова, хочется еще, возникает привычка, а потом и страсть! — Похоже, от этого можно загнуться скорей, чем от опиума и спиртного. — Разве думаешь об этом, когда душа горит! Хуже лихорадки! Тут уж эту отраву подай, и точка! — Так что, ничем не спастись? — Можно — полным воздержанием. Но какие это страдания! Какие сверхчеловеческие усилия! — Не было бы счастья, да несчастье помогло! Ты вылечишься поневоле, потому что в этих краях аптекари не водятся. — Да, несомненно! Я вылечусь вопреки самому себе. У меня не хватило бы решимости! О Тотор, друг мой, как я страдаю! — После такого обеда не страдают. Вот если ешь, как птичка, найдется птицеед и сожрет тебя из сострадания. Как и все токсикоманы[58], Меринос резко переходил от депрессии[59] к взрывам веселья. Он судорожно захохотал, едва выговорив: — Как, нечестивец, ты еще способен играть словами? — И не жалею, потому что рассмешил тебя… А теперь ляг под этот куст и постарайся заснуть, это лучше всего поможет. Кризис миновал. Совет друга не пропал даром: молодой человек послушно погрузился в оздоровляющий сон. Так длилось до самого заката. Тотор, который тоже слегка вздремнул, вскочил, услышав резкое хлопанье крыльев. Полдюжины огромных птиц опустились в маленький заливчик, где таким странным образом был пойман угорь. Парижанин узнал в них черных лебедей, орнитологическое[60] чудо Австралии. Никого не опасаясь, они, никогда не видевшие людей, величественно плыли по реке, беззаботно резвясь, ныряли, погружая в воду змеиные шеи, над которыми красовались гордые головы с длинными кораллового цвета клювами. — Ей-богу, — размечтался Тотор, — каждый из них весит двадцать фунтов, будет что лопать дня четыре. Придется одного добыть! Осторожно и ловко он взял лук и приложил стрелу. Медленно, незаметно присел и прицелился. Дистанция — всего двадцать пять шагов… С бьющимся сердцем, боясь, что Меринос проснется и спугнет птиц, парижанин натянул тетиву… Миг — и стрела со свистом улетела. Резкое движение обратило в бегство великолепных пернатых, которые шумно поднялись в воздух. Но один лебедь остался на месте! Проткнутый насквозь, он закрутился, упал навзничь, задергал длинными перепончатыми лапами, такими же красными, как клюв, и упал на берег. Охотник испустил победный клич, от которого Меринос вскочил на ноги. В несколько прыжков Тотор подбежал к берегу, схватил за шею издыхающую птицу и, с луком в одной руки и добычей в другой, сплясал бешеную джигу, ну точно как индеец команчи[61]. Парижанин радостно кричал: — Вот видишь, вот видишь! Это и есть настоящее: жизнь робинзонов на пустынном берегу, исследование неизвестных земель! Такое и с отцом редко случалось! А какой пир мы устроим, какой пир, мой император! Заразившись этой буйной горячностью, Меринос пританцовывал, тряс руками и кружился, восклицая: — Splendicle! Beautiful! Wonderful! Гип-гип-ура Тотору! Totor for ever![62] — Спасибо, старина! У тебя замечательно получается, особенно в цилиндре и фраке! А теперь — к делу. Сейчас я ощиплю эту еще теплую птаху, нанижу ее на вертел, поджарю, как покойника угря, и мы поужинаем при свете костра. — Золотые слова, друг Тотор! — А завтра утром отправимся делать открытия. Сверкающее, как огонь в горне, солнце опускалось в океан. Быстро наступала ночь. Костер был разожжен, вертел снова установлен, и вскоре великолепное жаркое, облизываемое языками пламени, стало уже потрескивать. Друзья с интересом следили за серьезной кулинарной операцией, длившейся два часа. Затем, в огненных отсветах, которые окрашивали в пурпурный цвет листья и ветви, Тотор и Меринос торжественно приступили к праздничному блюду. Утром, когда начинающие робинзоны набросились на угря, это было обжорством голодающих, вынужденных удовлетворить свою самую насущную потребность. Но неторопливое поглощение лебедя вечером — это уже пиршество гурманов. — Вот если бы еще и щепотка соли с горбушкой хлеба! — сказал Меринос со вздохом, в котором смешались сожаление и блаженство. — А я предпочел бы получить накомарник! — ответил Тотор, видя тучи танцующих перед огнем москитов. Желание спать еще не свалило парижанина с ног, и он готовился к завтрашнему маршруту. Среди обломков коры нашлись достаточно тонкие, которые можно было легко сгибать. Тотору удалось превратить один такой обломок во что-то вроде грубой, но прочной корзины. У него еще остался большой кусок угревой кожи, от которой наш изобретатель отрезал ремень, сделав дужку для корзины. Затем молодой человек уложил в эту посудину роскошное жаркое. Он рассчитывал на несколько дней сытой жизни и, как человек хорошо поработавший днем, заснул сном праведника. Меринос уже опередил его на пути в страну сновидений и громко храпел. Друзья проснулись, когда вершины невысоких гор на востоке заблестели в первых лучах солнца, и торопясь проглотили несколько больших кусков жаркого. Тотор показал на горы и объявил: — Идти нужно вон туда! — All right![63] — кивнул Меринос. …Обильная еда придала им сил, и юноши, как хорошие скороходы, пройдя шестьдесят километров, поднялись на вершину горной цепи. Крик удивления и восхищения невольно вырвался и у того, и у другого.
ГЛАВА 6
У антиподов. — Синева. — Дорога в Ребурн. — Землетрясение. — Его последствия. — Наводнение. — На дереве. — Отставшая кора. — Плот. — Во тьме. — Десять лье в час. — Пустыня. — Соленая вода. — Озеро. — Повешенный.Австралию можно сравнить с тарелкой для бритья, ибо, как в шлеме Мамбрина[64], ее центральная часть — впадина, берега же образуют приподнятый край. Средняя высота впадины колеблется между ста — семистами метрами, а высота борта достигает на юго-западе приблизительно двух тысяч метров (Маунт-Кларк). Весьма своеобразная конфигурация, и она служит причиной геологических явлений, о которых будет рассказано позже. Все знают, что этот континент, расположенный в Южном полушарии, простирается между 10 градусами 39 минутами южной широты и 110 градусами 45 минутами и 150 градусами 56 минутами восточной долготы; что поверхность его к югу от Азии равна восемнадцати Франциям. Известно также, что наибольшая его длина с востока на запад превосходит восемьсот лье; ширина, с юга на север, достигает шестисот пятидесяти лье, а поверхность равняется приблизительно пяти миллионам пятистам тысячам квадратных километров[65]. Английская колония, существующая всего столетие, Австралия сегодня — одна из самых богатых стран земного шара благодаря изобилию ее недр, упорной работе жителей и их несравненному умению вести дела. Но страна эта населена еще не так, как требуют ее пространства. Только в восточной части, где жителей больше, расцветают замечательные города, неслыханная роскошь которых идет рука об руку с утонченной цивилизацией. За исключением некоторых пунктов на южном и юго-западном берегах, где колонизация также движется гигантскими шагами, остальное пространство Австралии — можно сказать, две ее трети — пустыня. Там есть районы размером в две Франции, пока совершенно не исследованные! Встречаются каменистые, песчаные или зеленые пустыни; великолепные, странные и бесплодные леса; чудесные, сказочные, полные цветов уголки и пугающе бесплодные районы, в которых даже туземцы не могут жить! Это край странностей и парадоксов, где наши устойчивые привычки ежеминутно опрокидываются ни на что не похожей природой. Что же вызвало у молодых людей возглас удивления и восхищения? Они только что взошли на гребень прекрасных лесистых гор, на вершине которых росли лишь кусты да исполинские травы. — Да это настоящая сине-голубая симфония! — вскрикнул Тотор, указывая широким движением руки на необозримую равнину, реки, леса и луга. Действительно, под ногами колыхалась нежно-голубая трава, совсем прямая, с серыми метелками. Этот сочный злак, кстати любимый корм овец, так и называют синей травой (blue grass). Цветовую гамму усиливали камедные деревья, blue gum, висячие листья которых издавали сильный аромат, истекая светло-лазоревым густым соком. Виднелись также кроны blue wood с копьевидными сизыми листьями, с изнанки отливавшими серебром. Подальше — древовидные злаки с оловянно-синими стеблями, бледно-розовыми цветами, источавшими легкий аромат розы. Они соседствовали с дикими индиго — цветы казались роем мелких голубых бабочек. Кое-где красовались деревья герани, исполинские ирисы аметистового оттенка. Листья их, отливая сталью, торчали, как поднятые сабли. Дальше все сливалось в неоглядную лазурь, тут и там прорезанную резкой синевой рек; вдали тонкая дымка становилась у горизонта неотличима от небесной голубизны. — Что за странный пейзаж! — сказал Меринос, вытирая вспотевшее лицо под странноватым здесь цилиндром. — Неужели вся Австралия такая? — Конечно нет; только некоторые области, хотя, по правде говоря, голубой оттенок преобладает всегда там, где есть зеленая растительность. — А причина? — Климат, вода, почва… Кто его знает! Но довольно. Осмотримся и постараемся найти или жилье, или дорогу на восток, к поселениям. — К каким? — Ближайший город, вероятно, Ребурн. — Далеко? — Думаю, километрах в трехстах… если только дерево не слишком отнесло нас в ту ночь, когда мы оказались в воде. Кажется, это река Де Грей-Ривер[66], но я не слишком уверен. — Так ты знаешь географию? — Немного. Но достаточно, чтобы дать солидную промашку. — Все же, наверное, ты прав, это и есть Де Грей-Ривер! — Помнится, она описывает гигантское кольцо, как и эта река, которая течет с юга на северо-восток, потом отклоняется на север и в конце концов поворачивает на запад. А Ребурн должен находиться в трехстах километрах от ее устья. — Достаточно! Давай спустимся на равнину и, ориентируясь по солнцу, постараемся отыскать этот город… Дней через двенадцать доберемся до цивилизации. — Проект, кажется, разумный. Устроим лагерь пониже, дождемся ночи, поспим, а завтра утром отправимся в путь. Быстрый спуск, стоянка среди трав, обильный ужин, чудесная ночь, крепкий сон — все прекрасно. На заре легкий завтрак и снова в путь. Трудный переход до полудня. Все более душил зной, пекло солнце и обжигал воздух. Туфли Мериноса трещали по всем швам. Брюки его, уже повидавшие виды, обтрепались снизу, а белье приобрело неожиданно красивую буланую масть[67]. Измученные молодые люди наконец упали к подножию громадных деревьев из породы тех австралийских пробковых дубов, которые особенно широки у основания. Путники обглодали косточки черного лебедя, хотя мясо уже начало припахивать. Несмотря на свою выдержку, Тотор больше не пытался шутить. Меринос бормотал что-то печальное; оба заснули, чувствуя себя совсем разбитыми и измученными. Их разбудил ужасный грохот. Неслыханное зрелище предстало перед ними. Повсюду деревья будто ожили и закружились в бешеном танце. Ветви-руки в немом отчаянии трепетали, качались, взлетали ввысь, хлестали воздух… Стволы гнулись с треском терзаемой древесины, — какие-то чудовищные, невидимые силы закручивали их в спираль. Через несколько секунд вращательное движение повторялось в обратном направлении, сбрасывало кору и рвало древесную ткань с треском перестрелки. И в то же время — ни малейшего ветерка. Воздух был абсолютно спокоен, а знойное солнце палило нещадно. Молодые люди вскрикнули, им показалось, что не только древесная, но и земная кора кружится под их ногами. Вскочив, оба также попали под власть центробежной силы — она закрутила и отбросила их в сторону метров напять-шесть. Наконец они почувствовали, что почва задышала с новой силой, словно собираясь расколоться, а толчки стали сопровождаться ужасной подземной канонадой. Это длилось секунд пятьдесят или шестьдесят, всего одну нескончаемую, трагическую минуту, когда казалось, что все проваливается в тартарары. Как конькобежцы-новички, они вытягивали вперед руки, ошеломленно всматриваясь в окружающее и балансируя на земле, которая вдруг вновь стала твердой. Надолго ли? — Похоже, что природа взбесилась, синий черт побери эту синюшную природу! — энергично выразился парижанин. — Да уж, — откликнулся Меринос, — это землетрясение выдающееся, как у нас в Америке говорят. — Голова еще кружится. Мне дурно… Забавно все же, что дрожит-то земля, а получается — морская болезнь! Молодые люди посмотрели на еще трепещущие деревья, из которых многие были настоящими исполинами, и Тотор добавил: — Ну и вид! Ветви перепутаны, кора болтается, как парус… — А погляди, какие громадины! Они похожи на секвойи, наши родные исполины. Настоящие небоскребы! Еще немного, и они бы рухнули, раздавив нас, как майских жуков. — Будем надеяться, что этого уже не случится… — Да, слава Богу, все кончено… Но не успел янки договорить, как тишину, наступившую после грохота природного бедствия, прорезал рев водопада. Мощный порыв ветра донесся со стороны близкой реки, как будто нечто могучее, неотвратимое, отталкивало слои перегретого воздуха. Это была мчавшаяся со скоростью галопирующей лошади громадная волна. Пенясь, начисто приминая траву, брызгая на деревья, она хлынула в долину. — Извольте видеть! Запуск всех фонтанов, да еще без предупреждения! — крикнул парижанин. — Ну можно ли тут быть спокойным? Ах, мой арсенал[68] уплывает!.. Молодой человек быстро поймал свой лук и стрелы, подхваченные течением. А корзина с остатками лебедя так и исчезла, унесенная, как перышко, потоком. Вода сразу дошла до колен молодых людей и продолжала стремительно подниматься. Бегство было немыслимо, оставалось лишь одно средство не утонуть. — Нечего стоять! — крикнул Тотор. — Нужно последовать примеру моего земляка, медведя Мартена в Ботаническом саду. — Что? — спросил, недоумевая, Меринос, которого ставили в тупик некоторые выражения товарища. — Ах да! Ты же не парижанин и не знаешь… Лезь на дерево. Скорее… я за тобой! Нижние ветви огромного пробкового дуба свешивались почти до земли. Меринос схватился за одну из них и быстро поднялся на толстый сук. Когда американец уселся, Тотор передал ему лук со стрелами, сам залез на ветку и сказал: — Теперь мы в безопасности, хотя бы временно! Пусть себе вода поднимается, мы последуем ее примеру. — Удивительные вещи происходят, — воскликнул Меринос, тонкосуконные панталоны которого продрались еще в одном месте, — невероятные, поразительные! Приключения прямо преследуют нас! — Да, и все потому, что река изволила подняться со своего ложа и решила пошляться. — Лучше бы ей остаться на месте, как подобает порядочной реке, а то получается shocking… indeed shocking[69], — проговорил янки. — Согласен, но, наверное, ее вынудили подняться. — Кто? Как? Почему? — Землетрясение! Это оно уничтожило ее берега, изменило течение. — Ты, вероятно, прав, — согласился Меринос. — Бедствия не приходят в одиночку! А вода-то продолжает прибывать! — Ну так последуем примеру медведя Мартена и залезем повыше, — предложил Тотор. Они так и поступили и, надеясь, что вода перестанет подниматься, отметили на стволе ее уровень. Но наводнение вовсе не прекращалось, а, напротив, увеличивалось с ужасающей быстротой. Через час глубина потока дошла до пяти метров, и молодые люди, несколько утратив свою уверенность в благополучном исходе, стали беспокоиться. Вдобавок ко всему пробковое дерево, пострадавшее от землетрясения, зловеще потрескивало. По временам Тотор и Меринос чувствовали, как оно качается на корнях, уже расшатанных подземными толчками и подмываемых водой. Еще часа четыре — дольше ему не простоять! В довершение несчастий близилась ночь. Что будет с ними, если дерево рухнет в темноте? — Есть одна мысль, — сказал Тотор, повесив лук через плечо и привязав к его тетиве пучок стрел. — Выкладывай свою идею, — ответил Меринос, который абсолютно уверовал в изобретательность парижанина. Довольный, что друг полностью доверяет ему, Тотор продолжал: — Видишь кору, которая свисает с нашего насеста? Это пробка, и пробка первосортная. — Охотно верю на слово. Неужто ты вздумал торговать пробками для бутылок? — Не шути. Хоть ты и американец, но практичности в тебе ни на грош. — Но я же учусь у тебя! — О, низкий льстец! Вон, видишь, во время землетрясения от ствола отделился кусок коры, длиной метров в шесть-семь, шириной — в два. Толщина — не меньше пятнадцати сантиметров. Настоящий плот, и заметь, он еле держится. Если хорошенько дернуть, отвалится совсем. — Понял… Пробка упадет в воду, в которую уже погрузилась на добрую треть, и поплывет… — Nec mergitur![70] Как ладья с герба моего родного Парижа… Она выдержит десять таких молодцов, как мы… Усядемся в неразбиваемую, непотопляемую лодку и отдадимся на волю волн и случая. — Отлично сказано; за дело, да поскорей… В этом наше спасение! Молодые люди встали на ветки, на которых прежде сидели верхом. Оба схватились за край коры и стали изо всех сил одновременно дергать ее. — Трещит, трещит! — радовался парижанин. — Еще взяли! Меринос вскрикнул. Он не так твердо держался на ногах, как заправский моряк Тотор, да и обезьяньей ловкости у него не было. Поскользнувшись, американец потерял равновесие и упал. — Хватайся, держись! — крикнул француз, мечась как бесноватый. Меринос не выпустил из рук коры, и рывок его падения окончательно сдернул со ствола ее громадный пласт. Вожделенный «плот» отвалился и исчез в брызгах и водовороте пены. Молодые люди последовали за ним, потом быстро вынырнули. Тотор оказался прав. Обломок выдержал бы и десятерых. Схватившись за края, они в конце концов уселись на нем. — Уф! Все в порядке, не зря трудились! Видишь, Меринос, какая плавучесть! — Да, жаль только, что у нас нет ни весла, ни багра, ни шеста, ничего, чтобы управлять плотом. — Приспособлений маловато, — согласился Тотор, — но будем мужественны. Хотя дела не блестящи, а все же куда-то плывем, и то хорошо! Правда, в сидячей ванне, где даже скамеечки нет! — Подумаешь! Промокнем чуть больше, чуть меньше — какая разница! Конечно, этому обломку далеко до моей яхты «Морган». Представляешь, — четыре сотни лошадиных сил в паровой машине. Паруса, бело-золотая корма, кают-компания отделана кленом и палисандром![71] Первоклассный экипаж — двадцать пять человек! — Черт возьми! Согласен, что мы с тобой — не на увеселительной прогулке. Но мы все же движемся, смотри! Плот, который несколько раз развернулся, теперь плыл между полузатопленными деревьями. Легкое течение подхватило его, и он медленно скользил под ветвями, иногда задевая стволы, но не опрокидывался. Благодаря устойчивости, объясняющейся его весом и размерами, молодым людям не грозила ежеминутная опасность упасть в волны. Мало-помалу скорость увеличивалась, плот вошел в большой лес, постепенно редевший, и наконец выплыл на залитую водой, простиравшуюся до бесконечности равнину. — Куда же мы направляемся? — размышлял Тотор, глядя на солнце, исчезавшее за горами. — Вот это да! Кажется, на восток! — Значит, в глубь страны? — Конечно! Иными словами, уходим от Ребурна и цивилизации. — Ужасно! Положение осложняется! — Да и темнеет… Где же мы пристанем? — Где повезет. Минут через десять мрак накрыл всю округу. Плот, подхваченный, как соломинка, сильным течением, несся неизвестно куда. Молодые люди прижимались друг к другу, сидя по-турецки на морщинистой коре, и вслушивались в страшный грохот наводнения, поглощающий все остальные звуки. Они мчались по водной глади, в которой дрожали отражения звезд, стрелой проносились мимо каких-то черных глыб. Им поминутно казалось, что их «плот», того и гляди, налетит на скалы, попадет в стремнину водопада, будет сброшен в бездну. Так, в предсмертной тоске, проходили мучительные часы. — Черт побери! Мы идем со скоростью больше десяти лье в час, — заметил парижанин, — должно быть, попали в лапы дьявола или скоро к нему прибудем. — Ну и хорошо! Лишь бы скорее кончилось. Хватит с меня, не хочу болтаться словно щепка, сил больше нет, ноги свело, в желудке урчит от голода. Не глупо ли все это? Лучше уж сразу на дно… — Как, ты еще недоволен? После такого-то букета приключений? Чего же тебе еще надо? Я так в восторге — иду по славным следам отца! Потерпи чуток… Скоро рассветет, оглядимся, где мы, тогда попытаемся пристать и поищем еды. — Хотя бы хорошую сигару, чтобы перетерпеть, — проговорил Меринос. — А мне хотелось бы еще и картошки слопать. — Опять ты надо мной смеешься, — заметил американец. — Ничуть. Я только говорю о своих вкусах, — отозвался Тотор. — Но вот и солнце… О сияющее светило! Привет тебе и благодарность! Ага, — перемена декораций! Действительно, местность совершенно изменилась. Наводнение окончилось. Его шум, впрочем, прекратился еще раньше. Плот мчался по узкому, быстрому и глубокому потоку, который окаймляли скалы, выступавшие из красного песка. Справа и слева тянулась унылая равнина без зелени, без цветов и птиц. Видны были лишь выжженные солнцем травы да редкие карликовые кусты с пожухлыми листьями. — Невесело, — заметил разочарованный Тотор. — Настоящая пустыня, в которой мы умрем от голода, — проворчал Меринос. — Во всяком случае, не от жажды, — ответил Тотор. Говоря это, он протянул руку и зачерпнул горстью прозрачную воду, но тут же выплюнул ее с гримасой отвращения. — Да она соленая, как в море! — Видишь! Ни воды, ни плодов, ни дичи, ни корней. Нам конец, — сказал Меринос. — Погоди, на паникуй. — Чего же ждать? — А лук и стрелы, которые издали придают мне сходство с Аполлоном, богом искусств и охоты? Я берусь наполнить наши кладовые… Вдруг плот начал раскачиваться и зарываться носом. Берега сузились. Течение становилось все быстрей, и вскоре друзей внесло в ущелье. — Держись! — крикнул парижанин. — Тут придется нелегко! Пробковый плот стрелой летел по теснине. Тотор и Меринос чувствовали, как он обламывается на невидимых острых камнях, но все же проскальзывает, обходя самые опасные места. Вдруг они выплыли в чудесное ярко-синее озеро. Течение понесло их к берегу. Невдалеке от воды возвышалось дерево необыкновенных размеров. Одно-единственное. Измученный, мокрый Тотор поднялся, готовясь прыгнуть на берег, взглянул на дерево и вдруг сказал: — Эй, Меринос, успокойся!.. Мы в цивилизованной стране — на дереве повешенный!
ГЛАВА 7
Неизвестная жертва. — Муравьи-солдаты. — Пуговицы американского портного. — Пересмешник. — Обезоружены, — Съедобная кора. — Неприятное пробуждение. — Мистер Пять и мистер Шесть. — Обвинены в убийстве. — Удар кнутом. — Живыми или мертвыми!Тотор и Меринос спрыгнули с плота. Спины ломило. Разминая сведенные ноги, они, шатаясь, подошли к очень странному дереву, сам вид которого изумил их. Представьте себе громадную глиняную бутылку[72], высотой в семь-восемь метров! «Бутылка» стояла на желтом песке. Суженная у основания (метра два в диаметре), она расширялась в середине, снова делалась ýже и образовывала «горлышко», от которого во все стороны расходились ветви этого великолепного представителя флоры. Серая кора казалась гладкой, и по ней струился сок. Капли блестели на солнце, как россыпь драгоценных камней. Несмотря на неважное состояние духа и тела, Тотор, конечно, не преминул бы отпустить какую-нибудь шутку по поводу сего феномена[73] австралийской природы, чудеса которой неисчислимы. Но всегдашний насмешник, готовый смеяться даже над самим собой, застыл, опустив голову. Его сердце сжалось при виде повешенного, и он тихо прошептал: — Несчастный, несчастный… Не менее взволнованный Меринос был потрясен до глубины души. Ему казалось, что существует какая-то таинственная связь между ним и этим безвестным страдальцем, давно, впрочем, уже отстрадавшим свое. Взяв друга за руку, американец сказал: — Это преступление, отвратительное преступление. Мало того что его повесили, так еще головой вниз! Они подошли ближе. Несчастный и в самом деле был подвешен за ноги. Толстая цепь стягивала его лодыжки, а массивный железный штырь через два звена с силой вбит в ствол. Утонченно жестокие палачи сделали так, чтобы голова обреченного касалась земли. Должно быть, он вставал на руки, приподымал затылок, отчаянно борясь с приливом крови — а нестерпимая боль обручем сжимала его мозг, раскалывала череп… — Уйдем! Не могу больше… — пробормотал Меринос. — Ну-ну, успокойся, — ответил ему парижанин. — Держись! — А что ты хочешь делать? — Хотя это ужасно, но следует осмотреть платье несчастного. Может быть, найдем какие-нибудь указания, бесценные и для его родных, и для правосудия, а потом постараемся руками выкопать ему в песке могилу… Ах, нет… его невозможно снять. Еще раз осмотрев цепь и штырь, француз страшно побледнел. В толстой коре бутылочного дерева ножом были глубоко вырезаны слова: «Смерть предателям», буквы «Б. Р.», а ниже — пятиконечная звезда. — Это подпись бандитов, которые хладнокровно отомстили таким ужасным образом, — сказал Тотор. — Но мужайся, друг! Дрожащей рукой француз дотронулся до платья мертвеца. Изящного покроя сероватый костюм, на ногах — шелковые носки… Богатый турист? Белые руки тонки, ногти ухожены… Похоже, что смерть наступила не более трех дней тому назад. Тотор осмотрел карманы несчастного, но не нашел ровно ничего. — Убийцы все вытащили, — сказал он. — Взглянем на его лицо, — предложил Меринос, немного овладевший своими нервами. Голова жертвы была полузасыпана песком — виднелся только затылок. Короткие рыжеватые волосы… Парижанин приподнял тело, повернул его и вскрикнул от ужаса: лица… не было. Целая армия ужасных плотоядных насекомых бросилась врассыпную. Австралийцы называют эти прожорливые создания «soldiers emmets», муравьями-солдатами. Сантиметра в два длиной, с красным щитком, голубоватым брюшком, они впрямь напоминали солдат: шли вперед сомкнутыми рядами, шевеля челюстями, острыми, как кусачки. Времени, похоже, они не теряли, о чем свидетельствовали проделанный ими подземный ход и уже исчезнувшее лицо жертвы. — Мы ничего не узнаем, — печально заметил Тотор. — А впрочем… Гляди-ка: на пуговицах — фирменная метка портного: «Диксон и Вебер»… — Не может быть! — вскрикнул потрясенный Меринос. Приподняв свой некогда роскошный жилет, который час от часу приобретал все более жалкий вид, он показал парижанину пуговицы, на которых читалось то же: «Диксон и Вебер, Нью-Йорк». — Удивительно, — продолжал он. — Диксон и Вебер — лучшие портные в Америке. Они шьют только на избранную публику и дерут бешеные деньги. Так что этот джентльмен наверняка выдающийся гражданин моей страны. А элегантная тройка — не самый обычный наряд в ужасной пустыне! Подавленные всем увиденным, молодые люди несколько минут стояли неподвижно. Наконец Меринос, прервав тягостное раздумье, первым нарушил молчание: — Что же нам теперь делать? Сознаюсь… к своему стыду… мне смертельно хочется есть… — У меня так живот к спине прилип! — сказал Тотор. В это время над их головой среди ветвей раздался мрачно-иронический смех. «Ха, ха, ха!» — звучало в ветвях. Кажется, кто-то насмехался над людьми и их несчастьем. Тотор взглянул вверх и увидел крупную серовато-коричневую птицу с хохолком, торчащим как пакля, и уродливым клювом. Птице, впрочем, было не до людей: она пожирала громадную зеленую ящерицу. — Ха, ха, ха! — заливалась отвратительная хищница, разрывая на части рептилию[74]. Та отчаянно извивалась в ее когтях. — Что за безобразное создание! Туда же, насмехается! Ну погоди, мерзкая курица! — воскликнул Тотор. Он даже не подозревал, насколько прав: «курица» действительно была кошмарной птицей. Друзьям довелось увидеть австралийского пересмешника[75] — злого гения здешних пустынных мест. Раскаты его мрачного хохота нередко отдаются в ушах несчастных, умирающих здесь от голода. — Противный голос, скверные перья, но, может быть, из нее выйдет недурное жаркое? — прибавил парижанин. Он нагнулся, чтобы поднять лук и стрелы, которые положил у подножия, и вдруг вскрикнул от ярости: — Я обезоружен… И уже не могу развести огонь! — Неужели? Вот незадача! — Хуже: бедствие! — Но что случилось? — спросил Меринос. — Муравьи накинулись на тетиву — ведь она, ты знаешь, была из кожи угря! Вот они ее и сожрали. Мой лук теперь — просто палка! — Что же будет с нами? — печально спросил американец. — Ба! Придется затянуть пояс потуже… Разве случайно найдем что-нибудь съестное. — Ах, опять страдать! Ужасно — постоянно ощущать пустоту в желудке. Никогда прежде я не знал этой пытки. — А сколько людей терпят ее? — заметил Тотор. — О, эта милостыня, которую рассеянно суют горемыкам! О, кусок хлеба, который так чудесно «лечит» от голода! — А я, как беззаботный и пресыщенный дурак, не хотел и слышать о благотворительности… Тотор, если я спасусь, вокруг меня никогда не будет голодных! — Представляю, какую ты задашь работу отцовским поварам, — сказал Тотор. — Я теперь понимаю обязанности богатых относительно неимущих! Слушая товарища и покачивая головой в такт его словам, Тотор в то же время машинально наблюдал за исполинскими муравьями. Теперь эти прожорливые насекомые напали на кору дерева-бутылки. Парижанин видел, как они жадно поглощали сок, сочившийся изо всех трещинок и тонких стружек, вырванных их челюстями. Взяв пальцем одну из полусгустившихся капель, Тотор лизнул ее — и нашел, что вкус довольно приятный. Вынув из кармана нож, он проговорил: — А почему бы и нет? Находчивый француз быстро вырезал квадратный кусок коры, толщиной сантиметра в три. Она была мясиста, нежна, сочна. — Смотри-ка ты! Желтая, как репа… а пахнет шампиньонами! Юноша смело поднес кору ко рту и съел ее. — Берегись! — тревожно вскрикнул Меринос. Кто боится, останется ни с чем… И потом, все равно от чего-нибудь да придется умереть! Впрочем, чем позже, тем лучше. За первым ломтем коры последовал второй, и Тотор произнес довольным тоном: — Прямо райская еда! А заодно — и питье… Попробуй-ка! Меринос больше не колебался. Он схватил влажный, истекающий соком кусок и принялся за него с жадностью обезьяны, похрустывающей сахарным тростником. — Еще, еще! Она восхитительна, — сказал Меринос, — я съел бы все лохмотья с этого дерева! Снимать кору стало гораздо легче. Тотор, не теряя времени, отдирал большие куски. Они легко отделялись от ствола — достаточно было сделать круговой надрез. Получались большие тартинки[76], быстро исчезавшие в желудках голодных юношей. — Ха, ха, ха! — смеялась «мерзкая курица», пожиравшая ящерицу. Набив рот, Тотор и Меринос лишь пожали плечами: наплевать им на ироничные крики зловещей птицы! Наконец-то у них есть пища! И они поглощали ее как голодные звери, забыв о повешенном. Каким лакомством казалась им кора, все равно — ядовитая, не ядовитая! Так прошло около получаса. Утолив голод и жажду, Тотор и Меринос почувствовали усталость. Еще бы! В течение тридцати часов они не смыкали глаз, а последняя ночь на пробковом плоту была особенно изматывающей. Отыскав место в тени, бедняги легли на горячий песок и тотчас же заснули. Было около семи утра. Живительный сон длился долго. Солнце прошло половину своего пути; зной в иссушенной пустыне стал нестерпим. Тень постепенно сместилась, и лучи солнца жгли спящих. Тотора мучил кошмар. Ему снилось, будто что-то невыносимо тяжелое давит на грудь, душит… неведомые узы до боли стягивают руки… Он вздрогнул и с криком проснулся. Сон превратился в ужасную действительность. На грудь Тотора давило колено черного исполина. Одет негр был, однако, как белый: желтые сапоги и фуражка с козырьком, прикрывавшим затылок. Необыкновенно ловко он тонким шнурком стянул руки Тотора повыше кистей. С Мериносом было то же самое. Он открыл глаза и яростно вскрикнул, увидев, что второй, столь же огромный негр связывал его со сноровкой кузнеца, ворочающего свои железяки. Едва опомнившись от нападения, молодые люди заметили двух великолепных, оседланных по-военному лошадей, с закинутыми на шею уздечками. Конечно, они принадлежали чернокожим молодчикам. Как большинство янки, Меринос жестоко презирал всех негров. Настоящий потомок таких аболиционистов[77], которые, невзирая ни на какие декларации о равенстве, ни за что не сядут с негром за один стол. Дрожащим от возмущения и гнева голосом он крикнул: — Грязная свинья! Как ты смел поднять руку на меня, чистокровного белого, джентльмена? Негр выпрямился и детским голосом, жестоко коверкая английский язык, ответил: — Я не есть свинья, я слуга его величества король Эдуард. — Лжешь! — Я не лгать. Я инспектор конная полиция мистер Пять. — А я — бригадир полиции мистер Шесть, — прибавил второй чернокожий, сняв колено с груди Тотора. Наконец-то можно дышать! Парижанин сделал глубокий вдох и сказал примирительным тоном: — Вы полицейские? Отлично! Но почему же вы безо всякого повода схватили мирных путешественников? Вы меня понимаете, конечно, мистер Шесть? Черным и сухим, как лакричная[78] палочка, пальцем мистер Шесть (вероятно, шестой номер) почесал кончик своего носа, подумал и ответил, выражаясь по-английски гораздо правильнее своего товарища: — Вас надо арестовать и отвезти… живых или мертвых. Это закон. — Да за что же? Вы нас знать не знаете, мы иностранцы и в Австралии-то всего неделю, — продолжал француз. — Не надо лгать! — воскликнул мистер Шесть. — Да, мы доставим вас живыми или мертвыми куда следует, потому что вы — агенты бушрейнджеров… — Буш… Кого? — недослышав, спросил Тотор. — Бушрейнджеров — беглых каторжников, лесных бродяг, разбойников, воров и убийц… страшного сообщества, которое действует по всей Австралии. Да вы сами знаете лучше меня, — ответил негр. — Мистер Шесть и мистер Пять, если вы не насмехаетесь над нами, то попали пальцем в небо, — сказал парижанин. — Я — мистер Тотор из Парижа, а мой спутник — мистер Меринос из Нью-Йорка. Мы были пассажирами парохода «Каледонец», плыли из Европы и, по несчастью, оказались за бортом. — Неделю тому назад? — Да! — И вы прошли пешком через леса и пустыни, все четыреста миль от океана досюда? И вы хотите в этом уверить нас? Ну, не так-то мы глупы, — сказал мистер Шесть. — Да, да, — с торжеством закричал номер Пять. — Вы — плохой белый! Вы лгать! Вы резать! Вы — бушрейнджеры и убили этот несчастный! — Теперь этот презренный грубиян обвиняет нас в убийстве! — с негодованием воскликнул Меринос. — Да как и чем могли мы его убить?.. Да посмотри ты, идиот, на цепь, на громадный штырь, крепко вбитый в ствол… — Не наш дело, — ответил мистер Пять с жестокой усмешкой. — Может объяснять все шерифу и прокурору. — Мы этого и хотим! Поедем поскорей, все устроится, объяснится, — сказал Тотор. — Да, я с наслаждением посмотрю на цивилизованных людей, — прибавил Меринос, — рад отправиться к шерифу и к прокурору. Скоро ли мы увидим их? Далеко они? Мистер Шесть холодно ответил, точно говоря о самой обыкновенной вещи: — До них около пятисот или пятисот двадцати пяти миль. — Как от Парижа до Лиона, недурно! — серьезно проговорил Тотор. — И вы здесь одни?.. Так далеко от начальства, в дикой стране? — На половине дороги — инспектора Три и Четыре, им-то мы и передадим вас, — объяснил бригадир. — И найдется пара лошадей для нас? А может, автомобиль или хотя бы купе в приличном поезде? Мистер Шесть со спокойной иронией человека, которому подвластны жизнь и смерть, произнес: — Пешедралом пойдете. — Ах ты, дерзкая обезьяна! — вскрикнул выведенный из себя Меринос. — Я не двинусь с места. Номер Пятый засмеялся, снял из-за плеча stock-whip, ужасный кнут погонщиков скота. Быстрым движением кисти он щелкнул ремнем, который развернулся со звуком пистолетного выстрела. Ремень хлестнул несчастного Мериноса по ляжке. Американец подскочил; вырванный клок его одежды упал на землю. Капля крови покатилась по обнажившейся ноге молодого человека. От ярости и боли тот взвыл. Потрясая связанными руками, Меринос сжал кулаки, грозя ими мистеру Пять. Но тот, ухмыляясь, сказал: — Пробный удар, чтобы советовать вам идти добровольно. Когда мистер Пять щелкнет посильней, вы поскакать как Джон Рэббит, братец кролик из буша![79] Мистер Шесть, тоже вооруженный кнутом, прибавил тоном, не терпящим возражений: — Вперед! И знайте: доставлю вас куда следует живыми или мертвыми!
ГЛАВА 8
Туземная полиция. — Мученики. — Возмущение. — Обморок. — Почему мистер Пять хотел отрезать Мериносу голову. — Тотор, действуй! — Полная победа. — Как пахнут черные и белые. — На коня. — В путь!Во многие области бесконечной австралийской территории цивилизация не проникла. Еще и сейчас, на заре XX века, сила владычествует там над правом, а человеческая жизнь ничего не стоит. И первые колонисты, скваттеры, рудокопы, изыскатели — словом, все одиночки, борцы с неизвестностью рискуют либо быть съеденными черными людоедами, либо пасть жертвами охочих до грабежей белых разбойников. Так что безопасности на этих огромных и плодородных равнинах ожидать нечего. Чтобы постоять за права цивилизации, власти учредили и содержат за свой счет туземную полицию, native policy, предназначенную для охраны работающих людей. Намеренно завербованные в дальних провинциях, черные агенты полиции воспитаны, натасканы. Они сведены в бригады, получают жалованье. Их учат верховой езде, и, надо признать, негры становятся замечательными наездниками. Они гордятся своей униформой, хорошо вооружены, пользуются уважением местных жителей, ревностно выполняют свои обязанности. Весьма скромные в потребностях, они умеют и от своих лошадей добиться максимальной выносливости, совершая таким образом дальние походы. Выполняющих таинственные задания всадников-призраков можно встретить повсюду, в самых диких местах. Это настоящая гроза людей вне закона. Они выслеживают преступников с неутомимостью ищеек и хитроумной ловкостью дикарей. Шаг за шагом, неустанно, в течение недель и месяцев, на протяжении сотен километров будут преследовать они черного ли, белого ли правонарушителя. Живым или мертвым, бандит все равно попадет им в руки. Полицейских немного, но, обладая такими личными качествами и почти безграничной властью, они проделывают поистине огромную работу. К несчастью, продолжением их достоинств являются и многие недостатки. Они и в мундирах остаются дикарями, не имеющими представления ни о чем, кроме профессиональной выучки. За пределами этого для них не существует ни мыслей, ни инициативы. Они плохо рассуждают, логику им заменяет импульсивность. Наивные и хитрые, недоверчивые и суеверные, бесстрашные и трусоватые, они теряются перед тем, что не укладывается в привычные рамки, и в этих редких случаях совершают непростительные промахи. Словом, это хорошо натасканные, неподкупные и верные псы. Но — и только. Именно в руки таких служак по глупому недоразумению попали Тотор с Мериносом. Напрасно пытались они снова начать переговоры. Полицейские, несомненно принимая молодых людей за разбойников, ничего не хотели слышать. Щелканьем кнута они подтвердили команду «Вперед!» и вскочили в седла. Волей-неволей молодым людям пришлось подняться и идти, несмотря на то, что полуденное тропическое солнце палило вовсю. Перегретый песок обжигал ноги. Под безжалостным безоблачным небом, среди безводной пустыни дышалось не легче, чем в раскаленной печи. Для полуголодных, измученных, непривычных к таким испытаниям молодых людей этот переход и подавно был пыткой. Согнув спины, волоча ноги, они едва протащились около мили и, хватая ртом раскаленный воздух, остановились, чуть не падая. Хлоп! Хлоп! Опять удары. Ремни рвут одежду, рассекают кожу. Тотор сжал связанные кулаки и, теряя самообладание, закричал: — Вы звери, звери! Меринос, с глазами, налившимися кровью, с искаженным от муки лицом, прохрипел: — Злодеи! Я иду босиком! Разве не видите? Действительно, его тонкие лакированные туфли, которые то мокли в морской и пресной воде, то коробились на солнце, теперь совсем развалились. — Бедняга, — печально сказал Тотор, — возьми мои башмаки. — А ты сам? — Ничего, у меня кожа задубенелая. — Go!.. Go on![80] — бесстрастно кричали чернокожие… И снова кнуты хлестали пленников. Меринос только подпрыгивал на песке, который буквально поджаривал ему ступни. На коже вздулись волдыри, как от горячего утюга или кипятка. Меринос выл и испускал бессвязные крики, а конные полицейские снова и снова поднимали свои ужасные кнуты. — Вы — разбойники! — рычал на них Тотор, теряя выдержку. — И хуже людоедов… Вы — чудовища! Вы позорите человечество и народ, который держит на службе таких диких зверей! Вы — бандиты, убийцы!.. — Нет, это вы — убийцы, — холодно возразил мистер Шесть. — Да, вы — бушрейнджеры, которые живьем содрали кожу с агента Семь и его товарища Восемь. Вы сделали из них чучела и отослали губернатору. Значит, или идите, или подыхайте. Закон дает нам право убивать или миловать таких людей, как вы. Скрежеща зубами, Тотор осыпал их бранью. Меринос, бледный как смерть, с глазами, полными слез, вдруг кинулся бежать сломя голову. Но, коснувшись горячего песка, вскрикнул, как раненое животное. Из-под кожи брызнула сукровица… Бывают муки выше человеческих сил. Сжав руки, американец пошатнулся и пробормотал еле слышным голосом: — Мой друг… единственный друг… Я умираю… так лучше… Прощай! Он тяжело опрокинулся на спину и замер. — Нет, — отчаянно закричал Тотор, — ты не умрешь! Я помогу тебе, я понесу тебя… Я умолю этих чудовищных людей… Я трону их сердца. Негры поговорили между собой и закинули кнуты за плечи. Мистер Пять соскочил с лошади, вынул нож и подошел к Мериносу. Тем временем мистер Шесть достал из своего вьюка небольшой мешок из лакированной кожи, стянутый затяжным ремешком. Полицейский широко раскрыл отверстие мешка, и Тотор почему-то содрогнулся. Мистер Пять хладнокровно наклонился над Мериносом и поднял нож. — Что ты делаешь, негодяй? — вскрикнул оледеневший от ужаса парижанин. — Отрежу голову да отвезу шерифу, вот и все, — невозмутимо ответил полицейский. — Шериф заплатит мне четыре гинеи[81]. Мы их поделим. Если не может идти, значит, нужно отвезти его голову. Поэтому у меня мешок с солью… Все по закону. — Ну, это мы еще посмотрим, — ответил парижанин с ужасным смехом. Страшная злоба вспыхнула в нем. Он уже не рассчитывал своих сил, уже не сдерживал нервы и мускулы, напряженные до предела. Даже не думая, что может искалечить себя на всю жизнь, он невероятным усилием разжал стянутые веревкой кисти. Кровь разлилась под кожей, но веревка лопнула, как нитка. У Тотора освободились руки! С воплем ярости он тигриным прыжком бросился на мистера Пять. Напрасно полицейский пытался защититься. Тотор нанес ему удар в висок, которого не вынес бы и самый крепкий из боксеров Соединенного Королевства[82]. Послышался глухой стук, будто ударили дубиной. Негр вскрикнул, его лицо приобрело пепельный оттенок, и он упал, точно пораженный молнией. — Один готов! — сказал парижанин, поворачиваясь к мистеру Шесть. Тот, окаменев, смотрел на него, не выпуская из рук ужасного мешка. Тотор схватил его за ногу и перекинул через лошадь, которая тут же унеслась вскачь. — Вот и второй! Но сброшенный наземь сильный, смелый полицейский пришел в себя, поднял револьвер… Еще миг и… Тотор присел и прыгнул головой вперед. Как будто ядро попало мистеру Шесть под ложечку! Он отлетел шагов на десять. — Туда вам обоим и дорога! — насмешничал француз. — Уж не думал ли ты, что я позволю упражняться в стрельбе по живой мишени? Лошадь мистера Пять тоже ускакала. Тотор остался хозяином на поле боя, где лежали три тела в живописных и жалких позах. Он глубоко вздохнул, удовлетворенно кивнул головой и сказал серьезно: — Недурно. Теперь обезоружим неприятеля. Молодой человек заткнул за пояс нож, выпавший из рук мистера Пять, и забрал кобуру с револьвером. Обыскав карманы негра, парижанин нашел обычную для курильщика зажигалку с фитилем и кремнем. — Эта безделушка стоит целого состояния, присваиваю ее без угрызений совести… По сути дела, это военный трофей. Тотор нашел еще плоскую оплетенную бутылку с немалой дозой виски[83] и воскликнул: — Повезло! Лучшее лекарство! Молоко от бешеной коровы, чтобы поставить беднягу Мериноса на ноги. Подбежав к мистеру Шесть, тоже лежавшему без сознания, француз забрал и у него револьвер, нож и зажигалку. Потом, скрутив полицейскому кнутом руки и ноги, возвратился к мистеру Пять и связал его тем же способом. Теперь можно было спокойно заняться товарищем. Парижанин влил в рот Мериноса немалую толику виски и сказал с комичной нежностью: — Хлебни, мой зайчик. Это сивуха с купоросом, тройная настойка на битом стекле, от такой и мертвый оживет. Меринос выпил жгучего напитка, закашлялся, поднял веки, приподнялся. Мутными глазами посмотрел на своего спасителя, узнал его и воскликнул со слезами на глазах: — Тотор, мой дорогой Тотор! Друг мой, брат!.. Парижанин просиял и радостно улыбнулся. Перерезав веревки на руках спасенного, он сказал: — Видишь, жизнь все-таки неплохая штука, и никогда не нужно отчаиваться. — Верно, Тотор, особенно, если рядом ты. Но где же… эти злодеи? — прибавил он. — Посмотри сам. — Ты их убил? — Не потребовалось! Так, встряхнул немного, не делая бобо… только чтобы они… не заставили тебя потерять голову. — Один справился с ними? О, молодчина, — сказал американец, который не понял мрачной шутки. — Да, совсем один, да еще со связанными руками! Ты замечательный человек, Тотор! Потрясенный мужеством друга, Меринос взглянул на него с откровенным восхищением. — Значит, ты еще раз спас мне жизнь! — Мне таких услуг не жалко, просто за тобой должок. Ну, довольно, займемся-ка делом. — Что же может быть важнее выражения моей благодарности? — Прежде всего полечить твои лапы, которые почти поджарились. Еще немного, и можно подавать под белым соусом. — Да, ужасно болят. Когда же я смогу передвигаться? — Не беспокойся, я все устрою, вот увидишь. Парижанин подошел ко все еще не очнувшемуся мистеру Пять и, взявшись одной рукой за шпору, а другой за носок, короткими подергиваниями стянул с него сапог. — Прекрасно! Теперь — второй. Неплохо! У мистера Пять наверняка сорок шестой размер, твоя нога войдет в его сапог, как скрипка в футляр. — Так это для меня? — Да, как видишь, взяты на поле боя у поверженного врага. Они тебе подойдут. Меринос натянул сапоги и сказал: — Морщиться не приходится. Спасибо, Тотор! — Когда вернемся к озеру, хорошенько прополощи в соленой воде и содержимое и оболочку. Все продезинфицируешь и вылечишься в сорок восемь часов. — Мне не дойти до озера… — Доедешь на лошади мистера Пять, который уступит тебе седло и сбрую за ту же цену, что и сапоги… — Кстати, где они, эти лошади? — спросил Меринос. — Увидишь, — ответил Тотор. — Теперь замени свой шапокляк фуражкой, и солнце не будет печь. Отлично, у тебя вид президента спортивного клуба. А раз фрак столь же неудобен, как десятилитровый цилиндр, смени его на доломан[84] замечательного мистера Пять. Он широковат, но ничего. Как говорит пословица, бычку хорошо и в амбаре. Не обиделся? В эту минуту послышался стук копыт. Прекрасно выдрессированные лошади, промчавшись галопом, вернулись на прежнее место. С распущенными гривами, болтающимися стременами, они приблизились к месту побоища, но, почуяв белокожих чужаков, стали нервно фыркать, перебирать ногами. Тотор бросился к ближайшей из лошадей, чтобы ухватиться за поводья, но та проворно обернулась и дважды взбрыкнула. — Проклятье! Трудно будет ее поймать, — разочарованно заметил он. — Не спеши, — проговорил Меринос. — Не делай резких движений. Они не просто боятся нас, мы прямо-таки наводим на них ужас. То же было в Америке с лошадьми, воспитанными неграми; потому-то отец не берет больше темнокожих на работу в конюшни. Поразмыслив, Тотор воскликнул: — Идея! Постараюсь обмануть их обоняние и зрение. Сперва — обоняние. Парижанин подошел к мистеру Шесть, по-прежнему лежавшему как огромная черная марионетка с оборванными веревочками, быстро развязал ему ноги и руки, снял с него мундир, сапоги, всю одежду, кроме белья, снова скрутил негра и надел на себя его платье. — Негры уверяют, будто белые пахнут свежей рыбой. Не спорю, — пробормотал Тотор. — Зато мне кажется, что от чернокожих австралийцев несет одновременно козлом и мускусом. — Верно, — подтвердил Меринос. — Особенно если судить по этим обноскам. — А теперь дай-ка мне твой фрак. Благодарю. Пожалуй, подойдет. Сейчас увидишь. С лукавой серьезностью Тотор отрезал одну из фалд, проделал в ней два отверстия для глаз и, прижав к лицу, надвинул фуражку на верхнюю часть этой маски, чтобы она не свалилась. Глядя на него, Меринос невольно засмеялся, забыв про боль в ногах. — А для довершения иллюзии, — прибавил Тотор, — я сделаю себе черные митенки[85] из рукавов мастерского произведения Диксона и Вебера, нью-йоркских портных. А теперь осторожно, не спугнуть бы! Лошади стояли довольно близко. Одна из них подошла еще ближе, опустив голову и волоча по земле поводья. Тотор уверенно двинулся к ней. Животное посмотрело на него, понюхало воздух — и, надо полагать, удивилось, что его черный хозяин стал таким маленьким-маленьким. Но фуражка на нем все та же, и запах его… Значит, можно успокоиться! Повод оказался в пределах досягаемости Тотора. Он не замедлил схватить его, как кошка мышку. Лошадь фыркнула, стала пятиться, пытаясь вырваться. — Слишком поздно, родная моя! Попалась, придется тебе носить другого хозяина и не кобениться! С непревзойденной обезьяньей ловкостью Тотор вскочил в седло. Лошадь прядала ушами, брыкалась, вставала на дыбы, отчаянно сопротивляясь, но француз сильно пришпорил ее и пустил карьером по раскаленному песку. Через четверть часа он вернулся. Животное, покрытое пеной, тяжело поводило боками. Укрощение строптивой состоялось! Значит, все прекрасно. Удача на этот раз на их стороне. Судьба, которая была столь сурова к молодым людям, улыбнулась им. Вторая лошадь, привыкшая всегда держаться бок о бок с первой, послушно возвратилась на свое место. Тотор без труда схватил ее за повод и подвел к другу. Американец уже ничему не удивлялся: сила духа, энергия и упорство Тотора приучили его к тому, что даже несбыточное сбывалось. Но, с трудом поднявшись на ноги, он все же воскликнул: — Тотор, ты велик! — Мой рост — один метр и шестьдесят четыре сантиметра в обуви на каблуках, — отозвался парижанин, — ровно на двести девяносто восемь метров и тридцать шесть сантиметров ниже Эйфелевой башни[86], так что нечего пыжиться! Спасибо только, что напомнил: нужно укоротить стремена. А теперь, мой Меринос, — на коня! Лошадь, которую сдерживала железная рука Тотора, дрожала, но не двигалась. Меринос с трудом взобрался на нее. Попав же в седло, проявил себя отличным наездником. Какое счастье — оказаться верхом на чистокровном скакуне, который, можно надеяться, унесет его в страну обетованную! Черные полицейские, лежавшие до сих пор неподвижно, начали глубоко втягивать воздух, задвигались в своих путах и мало-помалу ожили. Что же предстало их глазам! Они увидели, что лежат раздетые-разутые, в одном шерстяном белье, без мундиров, оружия. Их престиж растоптан! Их лошади в руках разбойников! О, их лошади! Негры завопили, они угрожали, рыдали, как дети, катались по земле, извивались, наконец освободились от пут и закричали: — Отдайте наших лошадей! Полицейские бросились к поводьям, но Тотор поднял револьвер и произнес гоном, не допускающим возражений: — Уберите руки! Не то мозги брызнут! — Хватит! — жестко прибавил Меринос. — Довольствуйтесь тем, что мы забыли причиненное вами зло. — Что будет с нами, мы же погибнем! — крикнул один из негров. — Спасайте себя сами, как спасались мы, отыскивая себе пищу… Вам это легче; вы дикари и у себя на родине… Вот вам зажигалка, вот нож… у нас и этого не было. Бегите, да смотрите не попадайтесь нам! — А мы — рысью, в путь, — прибавил американец и, пришпорив лошадь, поехал к соленому озеру.
ГЛАВА 9
Люди вне закона. — Остановка, не входящая в программу. — Таинственная мольба о помощи. — Бушрейнджеры. — Сухой лес. — Опять «Б. Р.». — Тягостное безлюдье. — Отдаленные звуки. — Адская свора, — Слой дохлых кроликов.Вскоре завывания и проклятья полицейских замерли вдали. Избавившиеся от них молодые люди вернулись к дереву-бутылке и грустно склонили головы, глядя на несчастного, которому они не могли даже отдать последний долг. Потом беглецы решительно двинулись в пустыню, которая простиралась перед ними насколько хватало глаз. Тотор внимательно вглядывался в рыхлую песчаную почву. Его пытливый взгляд уже заметил следы. Здесь было немало отпечатков лошадиных копыт, человеческих ног, обутых в сапоги или ботинки, элегантный изгиб которых угадывался в следе. — Вот что я искал, — сказал парижанин. — И куда приведут нас эти следы? — спросил Меринос. — К людям. — Может быть, к ужасным разбойникам, — заметил американец. — Еще неизвестно, что лучше, — отозвалсяТотор. — С джентльменами из полиции мы уже имели дело. Только подумать: мистер Пять хотел отрезать твою голову и увезти в мешке с солью. Меринос вздрогнул и побледнел. — Ты мне еще не говорил об этом, мой Тотор, — прошептал он. — Времени не было в суматохе схватки, принесшей нам свободу, пару великолепных лошадей и редкое удовольствие вздуть агентов общественного порядка. — God bless me! Я, кажется, прикончил бы их, если б знал, — проговорил Меринос. — И стало бы только хуже, — ответил Тотор. — Нас и без того могут отправить на виселицу. — Да, на виселицу, — серьезно подтвердил Меринос, — потому что англичане не шутят перед лицом таких действий против власти… Так что, — мрачно скаламбурил он, — повесят нас чуть-чуть или чуть больше — уже не важно. — По совести говоря, мне бы не хотелось преждевременно закончить жизненный путь, болтаясь на веревочке. — Мне тоже. — А раз так и мы вне закона, — продолжал Тотор, — чего же нам бояться разбойников? — Если бы мы были в более или менее цивилизованных местах, все устроилось бы при помощи денег. Имя и сейф моего отца — сила! — Да, да, помню, — сказал Тотор. — Ты говорил мне, что он важная шишка, и это меня немного успокаивает… Но вот беда — где его искать? — Наверняка в Сиднее, где я собирался встретиться с ним, но… — …Но, предпочтя вцепиться в меня, ты поневоле избрал карьеру робинзона… хотя зачем тебе думать о карьере — о яме, из которой Робинзон добывал бутовый камень![87] Меринос посмеялся шутке и прибавил: — Да, я закончил свое образование в Англии и отплыл в Сидней. Отец же недавно явился туда из Америки по делам шерстяного треста. — А нельзя узнать, чем именно он занимается в Австралии? — спросил Тотор. — Хочет завладеть на этом континенте всем запасом шерсти… скупить все и во что бы то ни стало поднять цены. Он и меня намеревался приобщить к своему бизнесу. — Но эта закупка, наверное, разорит множество людей? — заметил парижанин. — Пожалуй. Мы называем это спекуляцией. А ты-то сам куда направлялся, когда мы с тобой вдруг так славно нырнули с борта «Каледонца»? — Пожинал плоды своего усердия. Я, видишь ли, успешно окончил первый курс художественно-промышленного училища. Между прочим, меня туда приняли раньше положенного — все мои сокурсники старше. В награду отец отправил меня в путешествие вокруг шарика, о чем я мечтал с детства. Маршрут наметили такой: Марсель, Порт-Саид, Аден, Коломбо, Сингапур, Батавия, Кинг-Джордж-Саунд, Мельбурн, Гавайские острова, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Антонио, Новый Орлеан, Вашингтон, Нью-Йорк и Гавр![88] Круговой билет стоит безделицу — три тысячи триста сорок франков в первом классе — и действителен целый год. У отца в моем возрасте не было ничего подобного, так что мне повезло. А на полдороге я сделал вместе с тобой не включенную в программу остановку, и, ей-богу, несмотря ни на что, путешествие получается занимательным! — Лишь бы не заехать слишком далеко! — Не дрейфь! Пусть все идет само собой, а там будь что будет! Болтая так без умолку, они пустили лошадей размашистой рысью и проехали уже порядочное расстояние. Хорошо тренированные лошади отлично слушались новых всадников. Если бы не страдания Мериноса из-за обожженных ног, путешественники, гордые как капитаны, свободные, как школьники на каникулах, были бы совершенно счастливы. Но вот животные стали тяжело дышать, и молодые люди пустили их шагом. До сих пор Тотор и Меринос не успели осмотреть вьюков на седлах черных полицейских. А теперь они обнаружили там сухари, вяленое мясо, табак, соль, сахар, немного виски, прессованное сено для лошадей, — словом, запас дней на пять. — Вот это да! — восхитился Тотор, хрустя сухарем. — Великолепно! — подтвердил янки, обкусывая пластину мяса. — Глоток виски, и наши бедные желудки совсем придут в порядок. Лошади внезапно остановились и шарахнулись в сторону. Занятые разговором и едой всадники ничего не заметили, как вдруг Тотор вскрикнул: — Что это такое? На тропе, по которой шли лошади, лежало что-то отливавшее металлическим, сероватым блеском. — Надо взглянуть, — сказал Тотор, соскакивая на землю и передавая свой повод Мериносу. Парижанин поднял большое оловянное блюдо со слегка закругленным дном. Повертев его в руках, он сказал: — Мне кажется, это одно из корытец, в которых золотоискатели промывают золотоносную почву. Но вот странность! — А что? — Тут слова. Похоже, что царапали ножом. — Прочти. — Трудно, — заметил Тотор, — буквы неразборчивы. Погоди-ка… ах, вижу: «Жертвы бушрейнджеров… грозит смерть… Помогите несчастным…» Все, больше не могу разобрать. — Что это за бушрейнджеры?.. Ты знаешь что-нибудь о них, Тотор? — Да, понаслышке. Отец в бытность свою в Австралии имел дело с этим обществом… — Обществом? — Да! Союз что надо! Эти австралийские бушрейнджеры — разбойники, бродяги, которые обирают население буша. — Так вот к какому союзу хотели причислить нас во что бы то ни стало мистер Пять и мистер Шесть? — Именно! — Послушай-ка, — сказал Меринос. — Может быть, буквы «Б. Р.», вырезанные над повешенным, — сокращение слова «бушрейнджеры»? — И вместе со звездой составляют знак, эмблему этого собрания негодяев? Думаю, ты прав. Но довольно, не могу же я вечно торчать здесь с этим блюдом! Пусть себе лежит, где лежало, а я сяду в седло. Рысью, марш! Заинтригованные надписью, слегка обеспокоенные, друзья снова пустились вперед. И теперь уже не останавливались до самого заката. — Слушай, я больше не могу, — сказал наконец Меринос. — И лошади спотыкаются на каждом шагу, давай остановимся. Всадники подъехали к лесу, который давно синел на горизонте. — Вероятно, мы отмахали громадное расстояние, — заметил Тотор. — Пора дать отдых скакунам, да и сами поужинаем, поспим. К седлам были привязаны ремни. Воспользовавшись ими, молодые люди стреножили лошадей. Затем расседлали их и пустили пастись. Почву покрывал толстый ковер «синей травы», которую тотчас же принялись жадно поедать животные. А их новые хозяева устроились у подножия гигантского дерева и с наслаждением растянулись на траве. Меринос снял обувь и с удовольствием заметил, что несмотря на отсутствие лечения, а может быть, именно поэтому, его ногам не стало хуже. Ужинать раздумали: усталость и недавние переживания лишили молодых людей аппетита. Седла — под головы, карабины — подле себя, и вот они уже крепко спят… Разбудило их ржание. Это кони, наевшись и отдохнув, устроили побудку. Переминаясь на спутанных ногах, они удивленно рассматривали бледнолицых в полицейских мундирах, заменивших их черных хозяев. Тотор и Меринос открыли глаза, зевнули, потянулись и замерли от изумления. Повсюду, насколько хватало глаз, стояли сухие деревья; большие и поменьше, но все сухие до единого! Рядом со скрюченными и зачахшими mullees возвышались башнеобразные красные эвкалипты, вершины которых гордо вздымались на стометровую высоту. Гиганты и карлики печально вытягивали свои оголенные, почерневшие ветви, похожие на корабельные снасти. Нигде ни листа, ни цветка, ни почки. Лес-кладбище, населенный призраками деревьев-скелетов! В ветвях стояла могильная тишина. Веселые, шумные, пестрые попугаи давно покинули этот кошмарный лес. Только синяя трава, которую так ценят отважные австралийские пастухи, изо дня в день бороздящие здешние просторы и понемногу заселяющие их, разрослась тут изобильно и беспорядочно. Молодые люди, недоумевая, смотрели на лесную пустыню, ограждавшую, как стеной, пустыню песчаную. Еще больше поразило их, что характер растительности изменился так быстро, без всякого перехода — уже метров через сто, рядом с этой пустошью возвышался великолепный лес. Они еще не успели обсудить это действительно странное явление, как Меринос вдруг подскочил, будто на него напал целый отряд гигантских муравьев-солдат. — Невероятно!.. Уж не померещилось ли мне? Посмотри, посмотри же! — кричал он, указывая пальцем. — Что там еще? — спросил Тотор. Он поднял голову и увидел знак, глубоко вырезанный на чудовищно большом стволе того красного эвкалипта, под которым они спали: таинственные буквы «Б. Р.», на этот раз очень большие, а также пятиконечную звезду. — Поразительно, — сказал парижанин, комически разводя руками. — Да, изумительно! Мы, можно сказать, в лесу спящей красавицы, где нет ни души. И вдруг — опять эта азбука? И здесь, и вон там — все те же «Б. Р.»! Смотри, еще и еще. Действительно, повсюду на самых больших деревьях были вырезаны огромные таинственные символы бушрейнджеров, то ли как условный знак вблизи тропы, то ли как запрет заходить в лес. По крайней мере, так предположил Тотор. — Удивительно, — проговорил он, — позади нас честные люди, которые вешают за шеи нарушителей закона. Впереди — разбойники, которые вешают за ноги тех, кто нарушает их правила. Случай сложный, и я задаюсь вопросом, что же нам делать? — Поедем вперед, — сразу предложил Меринос, — разбойники еще не собирались отрезать мне голову… С ними будет легче сговориться. Тотор пожал плечами. — Пусть так! — сказал он и, как человек, который никогда не отступает от принятого решения, стал седлать и взнуздывать лошадей. Это было нелегкое дело: белая кожа все еще пугала животных. Только через час молодые люди вскочили в седла и пустили коней крупной рысью. Они двигались между деревьями-призраками, завороженные нерушимой тишиной смерти, под палящими лучами солнца, которое обращает в уголь иссохшие деревья и еще более выделяет синеватую окраску прерий[89]. Так тянулись долгие часы, пока всхрапывающие, покрытые пеной лошади не остановились. — Ну и местечко, нечего сказать! — сказал Тотор, отирая лоб. — Но куда же запропастились жители? В конце концов это становится однообразным! — Да, да, однообразным, — как послушное эхо повторил Меринос. — Я многое дал бы за то, чтобы услышать хоть что-нибудь: пение птицы, крик животного, человеческий голос. Какой-то туман обволакивает мою душу… Точно злобная фея услышала желание американца и тотчас исполнила его. Издали долетели звуки, схожие и с тявканьем шакалов, и с волчьим воем, и с визгом терзаемой собаки, но в целом не похожие ни на что. Встревоженные лошади насторожили уши и, коротко заржав, поскакали во весь опор, точно охваченные безумным испугом. — Какая-то адская свора гонится за нами! — сказал Тотор. Несмотря на бешеную скачку, странные звуки приближались, делались все ужасней, все отчетливей. Неведомые животные настигали коней. Молодые люди обернулись и в ста метрах за собой увидели свору — около пятидесяти чудовищных зверей, которые неслись за ними со страшным воем. Дикие австралийские собаки? Но динго[90] всегда молчат, и они вдвое меньше. Волки? Их нет на этом континенте. Еще несколько прыжков, и страшные звери, летящие с поистине непостижимой скоростью, догнали лошадей и стали хватать их за ноги. Бедные кони заржали, отбиваясь копытами от злобных преследователей. При виде крови всадники переглянулись: — Они растерзают нас! Между тем незаметная ограда перерезала им путь: это была одна из тех проволочных сеток, которые скваттеры[91] ставят, чтобы отделять одно пастбище от другого и не позволять смешиваться стадам. Тотор наконец увидел тонкую железную сетку и воскликнул: — Во весь опор! Нужно перескочить, не то погибнем. Молодые люди пришпорили лошадей, животные напрягли все свои силы. Ограда возвышалась метра на два, самое меньшее. Сделав невероятный прыжок, чистокровные кони очутились по ту сторону сетки. Спасены? Нет еще! Но хотя бы минутная передышка. Воющая стая остановилась перед сеткой и стала бешено рвать ее зубами. Выдержит ли тонкая железная проволока? Нет, это невозможно! Лошади дрожали, вырывались, но Тотор снял с себя куртку, накрыл ею голову своего коня и завязал рукава под челюстью, крикнув Мериносу: — Сделай так же. Ослепленная лошадь Тотора успокоилась. Отважный молодой человек соскочил на землю, держа в одной руке карабин, в другой револьвер. Перед ним горели, как багряные угли, глаза, зияли кроваво-красные, полные пены пасти. Он мысленно сказал себе: «Собаки… помесь датских догов[92] с динго. Эти звери сильны, как львы, и кровожадны, как тигры. Нет, постой!» Один из псов, серый, с широкой грудью, с ловкостью пантеры подпрыгнул, метнулся поджарым телом на решетку, которая лишь немного задержала, но не остановила его. Он уже спрыгивал с другой стороны, когда Тотор поднял револьвер, и в перегретом воздухе щелкнул негромкий выстрел. Пес упал через голову и, простреленный насквозь, стал кататься и биться в судорогах. — Один готов, — сказал парижанин. Тут он наступил на что-то и вскричал: — Но в какую тухлятину мы угодили?.. Что за вонь! Однако промедление было действительно смерти подобно. Тотору и Мериносу ничего не оставалось, как ожесточенно сражаться против озверевшей своры, которая вот-вот прогрызет ненадежную преграду. С американским хладнокровием Меринос подошел к сетке. Через ее петли, стреляя в упор, он без единого промаха уничтожал взбесившуюся стаю. Тотор подкарауливал собак, которые пытались перескочить через ограду. С необыкновенной ловкостью он убивал их, так сказать, на лету и каждый раз приговаривал: — Получай, грязная псина! Больше не будешь прыгать, чтобы полакомиться моей филейной частью! За револьверами пошли в ход карабины. Друзья перезарядили оружие и продолжили стрельбу. Уже больше половины врагов лежали на земле. Пули, что насмерть сразили одних, рикошетом ранили других псов, и те жалобно скулили. Поле битвы было усеяно трупами, окрасившими землю в красный цвет, как на бойне. Атака захлебнулась… — Ну, — сказал Меринос, — еще залп! Два друга выстрелили. Несколько собак упали, а уцелевшие, всего какой-нибудь десяток, отошли. Они не совсем отказались от нападения, но благоразумно спрятались за сухие деревья, сели и громко завыли, как на волчьей охоте. — Победа, победа! — закричал Тотор, подбрасывая в воздух свой карабин, как араб на джигитовке. — Но откуда все-таки этот ужасный запах? Смотри, что за падаль валяется у нас под ногами? Слой не меньше фута, и конца ему не видно! — Могу ответить, так как много слышал об Австралии. То, что покрыло всю почву, насколько хватает глаз, — это тела кроликов, подохших от голода!
ГЛАВА 10
Бич. — Почему засох лес? — Подальше от трупов. — Удивление Тотора. — Автомобиль в пустыне. — Преследование. — Подозрительный маневр. — Засада. — Битва. — Побеждены превосходящими силами! — Похищение. — На полной скорости.Странная вещь случилась с индийским царем Сирханом, который жил в начале V века. Мудрец брамин Сиса изобрел шахматы. Он научил царя игре, и Сирхан был так восхищен ею, что в благодарность предложил брамину самому определить себе награду. Сиса скромно попросил, чтобы ему дали одно зерно пшеницы за первую клетку шахматной доски, два за вторую, четыре за третью, восемь за четвертую и так далее, до шестьдесят четвертой клетки, удваивая каждый раз число зерен. Считая, что щедрость обошлась ему дешево, царь согласился, не подумав как следует. Посчитали. Перемножив цифры и зерна, обнаружили, что урожая всей страны не хватит, чтобы наградить мудреца. Почти то же самое получилось и с размножением кроликов в Австралии. Тот, кто первым привез туда пару симпатичных грызунов, конечно, не мог и предположить, что наш братец кролик всего через несколько лет станет бедствием, бичом всей страны! Эти зверьки размножаются необыкновенно быстро. Каждые два месяца у крольчихи появляется восемь или десять детенышей, которые в пятимесячном возрасте и сами начинают плодиться. А так как каждая особь живет, в среднем, девять-десять лет, количество неутомимых грызунов растет с фантастической быстротой[93]. Найдя в Австралии идеальные условия обитания: бесконечные прерии, почти полное отсутствие хищников, — кролики расплодились невероятно. Обнаружив, что можно заняться приятным спортом, поселенцы стали увлеченно охотиться на зверьков, но братец кролик плодился быстрей, чем пуля успевала вылетать из ружья. Некогда милый зверек стал уже мешать, да к тому же оказался вороватым. Началось буквальное опустошение зеленого континента! Размножению кроликов всячески пытались помешать. Ей-богу, длинноухих не жалели. Но — как с гуся вода. Братец кролик продолжал плодиться. В короткое время все новые колонии зверьков возникали, росли, утверждались, образовывали стада, армии, кочевые орды, которые пускались в путь, подчистую выбривая пастбища, выгрызая кору и оставляя за собой землю такой, будто по ней прошел пожар. Вообразите себе сплошной слой саранчи, опустошающей Капскую колонию[94], Аргентину или наш Алжир, только замените каждое насекомое кроликом. Люди объявили ушастым разбойникам беспощадную войну, но проиграли ее. Оружие, засады, огонь, яды, даже чума, которую кроликам пытались привить, — все было бесполезно! Стремительно и неотвратимо, как наводнение, они затопляли собою континент. За одни сутки, оголив стволы, смахнув под метелку стебли и обглодав все до последнего корешка, они обрекали на голодную смерть овец, коров и лошадей. Правда, в конце концов и сами погибали от истощения. Чтобы избежать полного разорения, поселенцы, не жалея никаких сил и затрат, огородили железной проволокой обширные пастбища и пустили по ней электрический ток. Пришлось заземлить металлические сетки, чтобы не дать кроликам подкопом проникнуть в земной рай голубых трав и чистых источников. Нашествия сразу прекратились. Кролики расквасили себе носы об ограды и обломали зубы о железную проволоку. Они прыгали, скакали у решеток, скапливались тысячами, выжидали сутками и наконец умирали от голода. Их трупы покрывали толстым слоем многие квадратные километры земли и быстро разлагались под жгучим тропическим солнцем. Ущерб от кроликов понесли не только луга и посевы. Если б Тотор и Меринос внимательней пригляделись к деревьям в засохшем лесу, они заметили бы, что все они, большие и маленькие, были обглоданы до высоты примерно в двадцать пять сантиметров от земли. Лишенные питательных соков, обгрызенные до заболони, многовековые гиганты погибли. И это опустошение совершили мелкие животные! Не все, впрочем, оплакивали эту потерю. Иногда и несчастье приносит пользу. Лесная тень и корни — смертельные враги пастбищ. Ни травинки не может вырасти в лесу! Но если деревья погибали, мертвый лес мало-помалу превращался в великолепный луг, отраду овцеводов. После гибели кроликов они сохранили изгороди на молодых лугах, чтобы защитить их от нового нашествия грызунов. Скоро и овцы прибыли сюда, а там, вместе с людьми — их лошади и собаки. Вот так и обосновались тут первые поселенцы. На свое счастье, Меринос и Тотор очутились подле одной из таких преград длиной около десяти лье, и она спасла их, задержав свирепую свору. Избежав опасности, друзья вернули зрение лошадям, сняв с их голов куртки, и потихоньку двинулись дальше. — Нужно выбираться отсюда, — сказал Меринос, — меня уже тошнит. — Да уж, такое кроличье фрикасе[95] только для любителей выдержанной дичи, с запашком. Лошади с трудом вытаскивали ноги из отвратительного гнилья, скользили, спотыкались, но шли вперед. — Тотор, — заметил американец, придерживая поводом лошадь, — ты бредил приключениями, и мне кажется, последние были из ряда вон. — Великолепные, дружище, — ответил Тотор, — отец будет очень доволен, когда услышит рассказ о них! Ну, а тебе разве не больше нравится жить так, чем быть смешным франтом, рисоваться перед окружающими, дуть спиртное, держать пари и распускать хвост на борту «Каледонца»? — Ей-богу, я с тобой согласен! — Вот теперь мы живем по-настоящему, не каждый миллиардер может позволить себе такое путешествие. — Конечно, только здесь не хватает населения, удобств, городов. Хотелось бы увидеть дом в двадцать два этажа, фабричную трубу, трамвай, газетчика. — А мне нравится безлюдье… Вдумайся, дружище: мы должны рассчитывать только на себя, непрестанно бороться за свое существование. — Ну, это безлюдье относительное, мой милый Тотор. — Нет, полное, абсолютное, — возразил парижанин. — Я знаю географию этой местности и ручаюсь, что на шестьсот — семьсот километров кругом нет ни одного поселка. — А повешенный? А оловянное блюдо? А мольба о помощи, нацарапанная на нем рукой умирающего? — Вероятно, тут были бродяги, разбойники из австралийского буша. Они отомстили кому-то и убежали от полицейских, чьи обноски на нас. — Я другого мнения, — заметил Меринос, — и как знать, не предчувствие ли это? Мне все кажется, что мы в засаде, окружены, и скоро что-нибудь да случится. — Но ведь с нами постоянно что-нибудь случается, — ответил Тотор. — Вечные неожиданности бога Случая. — Что ты думаешь о собаках? — Они давно убежали от своих хозяев и одичали, — сказал парижанин. — А кто поставил ограду? — Ее поставили больше года тому назад и не скоро придут к ней опять. — А следы лошадей, «Б. Р.» со звездой? — Ба! Пустая угроза! — беспечно проговорил Тотор. — Забавы тех, кто хочет сойти за буку! Так что я повторяю: мы одиноки, вокруг нас одна пустота. Разговаривая, робинзоны мало-помалу выехали из ужасного места, покрытого падалью. Им понадобилось для этого минут двадцать, потому что с этой стороны слой дохлых кроликов простирался километра на два. А с другой — уходил в бесконечность. Зрелище было необычным: огромная равнина, покрытая ковром из серых шкурок и украшенная миллионами задранных белых хвостиков. Два друга держались ограды. Мертвый лес стал редеть. Вдали показались невысокие горы, до которых путники надеялись добраться на следующий день. Теперь же им пришлось остановиться, чтобы дать отдых измученным лошадям. В хорошем настроении наши герои стали устраивать бивак, вспоминая целую серию выпавших на их долю приключений. Потом славно пообедали. С аппетитом уничтожая припасы черных полицейских, попивая их виски и куря их табак, друзья составили план действий. Он был прост. Тотор и Меринос решили двигаться на восток. Они погрузятся в угрюмое одиночество австралийских пространств, где нашли свою смерть многие храбрецы. Друзья попытаются решить трудную задачу — пересечь всю Австралию с запада на восток, употребив на это, может быть, долгие месяцы, побеждая невероятные опасности. Придется преодолеть тысячи километров, не встречая ни живой души на неисследованных, пустынных, бесплодных просторах. Но это не поколебало их ни на минуту. — Упорство, уверенность, немного везения — и мы доберемся! — сказал Тотор. На следующий день они поехали навстречу восходящему солнцу к горам, увиденным накануне. Часа четыре не останавливались. Посреди испепеленных солнцем прерий им стали попадаться большие оголенные пространства плотных песков. Меринос, обливаясь потом, полузакрыв глаза, убаюканный движением лошади, дремал, еле отвечая Тотору, который, как всегда, прокладывал путь и всматривался в окружающее. Вдруг парижанин подскочил в седле, будто у него над ухом выстрелили из карабина. — Меринос, Меринос! — закричал он. — Что там? — Кричи! Ущипни меня, стукни кулаком! — Зачем? — удивленно спросил американец. — Чтобы увериться, что я не брежу. — Скорей всего, у тебя солнечный удар. — Ну-ка… тебя я вижу и слышу хорошо… не сплю… не свихнулся, значит, все так и есть! — А что такое? — Черт возьми! Невероятное явление! Посмотри сам… там, на песке! — Ах, это, — спокойно заметил Меринос, — следы колес. Твое безлюдье — людно, милый мой. — Не в том дело. Не следы удивляют меня, они нам уже попадались, а их вид. — Не понимаю. — Посмотри. Раз есть колеса, значит, они принадлежат какой-то повозке, карете, экипажу, телеге… — Да, повозке, в которую запряжено какое-нибудь четвероногое, но бывает, и двуногое… — Правильно! Но почему же тогда между параллельными следами нет следов ног? Да и колеса оставили не обычную гладкую колею с острым краем, а небольшое полукруглое углубление в виде желоба. — Странно, — проговорил, заинтересовавшись, Меринос. — Посмотрим поближе! Тотор, соскочив с лошади, нагнулся и вскрикнул: — С ума сойти! Это невероятно! В таком месте — даже предположить невозможно! И все же — черт меня побери, и пусть дикарь насадит меня на вертел, если здесь не проезжал автомобиль! — Что ж, мой милый, всякое бывает. Автомобиль? Его владелец, конечно, джентльмен, который подбросит нас поближе к дому. — Я не так доверчив, как ты, — живо прервал друга парижанин. — Спортсмен, который раскатывает по пустыне, наверняка что-нибудь скрывает, или не в своем уме, или просто автокретин! — Браво! Я запомню это словечко в ожидании разгадки. — Наверное, ждать долго не придется. — Говоря это, Тотор приложил к уху ладонь. — Ты что-то услышал? — спросил янки. — Неясно слышу клаксон…[96] — Значит, это джентльмен… Он подает нам сигнал. Тотор, ты действительно слышал? В эту минуту вдали послышался отчетливый трубный, как у довольного жизнью слона, голос стального чудовища. Меринос шумно захлопал в ладоши, а пораженный Тотор вскочил в седло. И вот показался блестящий, красный с золотом автомобиль, катившийся точно по французским дорогам, но поднимавший за собой облако мелкого песка. — Урра-а-а! — закричал Меринос. — Спасены! Я говорил, что это джентльмен! Пока Меринос в восторге аплодировал, автомобиль приближался, теперь до него оставалось всего сто метров. Два друга разглядели странную удлиненную форму герметически закрытого, с широким сиденьем спереди, кузова, в стеклах которого ослепительно отражались солнечные лучи. Из-за их блеска молодые люди не смогли рассмотреть сидевшего за рулем джентльмена-избавителя. От шума и сверкания огромной машины, которая мчалась, как метеор, лошади испугались, поднялись на дыбы. Всадникам пришлось употребить всю свою силу и ловкость, чтобы сдержать, успокоить их и самим усидеть в седлах. Машина замедлила свой бег, почти остановилась, но вдруг сделала быстрый поворот и умчалась. — Оказывается, наш джентльмен довольно хамоват, — насмешливо заметил Тотор. — Да нет, ты увидишь, увидишь… — Я уже вижу, что он улепетнул и оставил нас с носом… Может быть, узрев наши полицейские мундиры, он испугался штрафа за превышение скорости? — Ну, ты шутник! Он, наверное, просто боится опять испугать наших лошадей. Смотри, как медленно он едет! Восемь миль в час, как галоп на охоте. Вероятно, для того, чтобы мы последовали за ним… Слышались отрывистые звуки автомобильного гудка. Машина двигалась не быстро, будто желая подтвердить слова американца. И довольный Меринос воскликнул: — Вперед, вперед! — Хорошо, — ответил француз, — я изумлен… но что-то я не в восторге и не знаю, чем все это кончится. — Тотор, не узнаю тебя! — А что ты хочешь? Точно тебе говорю: со мной такое первый раз в жизни случается! Янки не ответил, пожал плечами и припустил лошадь в галоп. Радуясь приключению, он обдумывал про себя эту странную встречу и мечтал о счастье увидеть через недолгое время кого-нибудь из своих близких. Да, черт возьми! Именно так… наверняка какой-то богач, свихнувшийся на автомобилизме… состоятельный оригинал, для которого не существует ни времени, ни расходов, ничего, что могло бы помешать удовлетворению бьющей ключом фантазии. Ибо не каждый сможет разъезжать вот так по пустыне, на машине неизвестной модели, стоящей не меньше двадцати тысяч долларов. И Меринос сочувственно взглянул на Тотора, малого, конечно, храброго и доброго, но неспособного понять, даже представить себе роскошную жизнь миллиардеров… этот непрестанный трепет души и тела, отчаянную гонку за всевозможными удовольствиями… безумное существование, одно воспоминание о котором опьяняет американца, как добрый глоток шампанского «extra dry»!.. И на одну минуту юный искатель приключений в австралийском буше, бедолага, которого подстерегают голод, страдания и смерть, снова стал снобом, так сурово наказанным Тотором на борту «Каледонца». Видимо, нельзя разом снять коросту[97] дурных привычек. Для этого требуется несколько жестоких ударов судьбы. И они, пожалуй что, не заставят себя ждать. Американец поскакал рядом с Тотором за автомобилем, который ехал все с той же скоростью. Сумасшедшая скачка продолжалась уже более двух часов, когда окружающий пейзаж стал понемногу меняться. Близились горы. Песчаная пустыня сузилась, показались коричневые скалы, которые обступили ее как реку в теснине. Вскоре исчезли деревья и кусты, не осталось никаких растений, даже травы. Повсюду виднелись только темные глыбы да песок у их подножия. Местность становилась все более зловещей. — Настоящая ловушка, — прошептал Тотор, инстинктивно кладя руку на пистолет. Меринос снова пожал плечами и ответил покровительственным тоном: — Ты ничего в этом не понимаешь. Но все равно — вперед, старина. Будь спокоен, я за все ручаюсь. Следуя за автомобилем, пыхтевшим, как задыхающийся мастодонт[98], всадники уже втянулись в ущелье. Теперь было поздно отступать. К тому же никакая человеческая сила и никакие доводы не заставили бы ретироваться американца, который все кричал: — Вперед, вперед! Автомобиль ускорил ход, и всадники были вынуждены пришпорить лошадей, чтобы не отстать. Еще несколько сотен метров, и гудок, давно умолкнувший, подал два прерывистых сигнала. Тут же раздались два выстрела, которые обдали лица всадников огнем и дымом. Тотор и Меринос услышали сухой стук разбитых костей: их пораженные в лоб лошади рухнули убитыми наповал. Оба юноши пролетели по инерции вперед метров десять, перекувырнулись и полуоглушенными остались на песке. Человек десять, скрывавшиеся между камнями справа и слева, бросились к ним, чтобы схватить, а может быть, и убить. Но храбрые молодые люди, вскочив, смело взглянули опасности в глаза. Револьверов вынуть они не успели. — Смелей! — крикнул Тотор, нанося удары кулаками, головой, ногами. — Негодяи, негодяи! — рычал Меринос, боксировавший с яростью отчаяния. Но разве могли они, почти дети, отбиться от десяти силачей, по-видимому, поднаторевших во многих драках и готовых к любым сюрпризам? Неприятель одолел их числом, но они еще отбивались изо всех сил и вывели из строя половину своих врагов. Тотора и Мериноса связали, и резкий голос закричал: — Тысяча чертей! Это не они! — Значит, ошиблись. Раз так, нужно сейчас же их убить. Юноши увидели воздетые ножи в мускулистых руках. Блеснула сталь. Щелкнули затворы карабинов. Смерть надвигалась. — А жаль — они молодцы, — продолжал тот же голос. — Они узнают тайну, а значит, смерть им! — раздались голоса. — Он один распоряжается! Властитель приказал захватить и привести к нему живыми двоих людей в платье полицейских. Мы должны повиноваться. Он решит их судьбу. — Раз вышла ошибка, проще всего застрелить их. — Довольно! Еще слово, и вышибу мозги у спорщиков. Мериноса и Тотора подняли, как мешки, и унесли на руках к остановившемуся при первых выстрелах автомобилю. Друзей бросили в широкий багажник сзади. Крышка захлопнулась, и громадная машина снова помчалась полным ходом.
Конец первой части








Часть вторая
ГЛАВА 1
Пленники. — Пещера. — Душераздирающие вопли. — Негр и его нож. — Начало драки. — Эпическая борьба[99]. — Победа. — Бегство. — Земной рай. — Свет и тень на картине. — Под градом пуль. — Дьявольское оружие. — Побеждены!И вот друзья в заточении. — Ну, Тотор, получай твое безлюдье, где ни души, одна пустыня! — сказал американец. — А ты, Меринос, радуйся автомобилю и образцовому джентльмену — то-то он из вежливости подавал сигналы и даже притормаживал ради нас! — Да, пустыня оказалась населенной, а мой джентльмен — хамоватым! Мы оба влипли, и гордиться нам нечем, правда? — Эх, если б только это! — сказал Тотор. — Ведь теперь и ты и я в самом деле пленники. — Пока что нас просто крепко-накрепко заперли. — Настаиваю: мы пленники. — Да чьи?.. Зачем? — удивился Меринос. — Чьи? Ты еще спрашиваешь? — ответил Тотор. — Конечно, разбойников… нечего и сомневаться. Эти молодчики смертельно ненавидят полицейских… Вероятно, они хотели изрешетить мистеров Пять и Шесть… Зря, что ли, они устроили стрельбу из винчестеров? Их ввели в заблуждение наши костюмы… — Но ведь и мы неласково обошлись с господами из черной полиции, — возразил Меринос, — а мы не разбойники. — О чем ты говоришь! — возмутился Тотор. — У нас хотели отнять жизнь и свободу. Разве мы виноваты, что эти дикие мужланы упорствовали, видя в нас убийц! — И что же? — Думаю, что типы, которые вот уже сутки держат нас… — Без еды и питья… — …Бандиты с большой дороги, которым есть что скрывать. К чему им свидетели? Будь уверен, они постараются от нас избавиться. — Бррр! От твоих слов мороз по коже подирает, — сказал Меринос. — Что делать! Я смотрю на вещи прямо. Наше положение серьезно, очень серьезно, поверь. Два друга разговаривали вполголоса, сидя по-турецки на циновке, затейливо сплетенной туземцами из исполинских листьев. Их заключили в пещеру, достаточно мрачную, чтобы подтвердить опасения Тотора. Сквозь зияющую в потолке узкую, длинную трещину едва проникал тусклый свет. Под ногами хрустел мелкий песок. Отвесные шероховатые, синеватые стены, кажется, были из слоистого песчаника. Все напоминало гробницу. Пещера имела в длину метров десять, в высоту не меньше трех с половиной, в ширину же около шести. Больше всего она походила на подземный ход — его перегораживали громадные, из толстенных досок, двери. Одна дверь, другая… И на каждой — могучие замки. Кроме брошенных на пол циновок, в пещере не было ничего похожего на мебель… Тюрьма, настоящая тюрьма, только без классической кружки с водой, чашки для супа и табурета. Разговаривая, парижанин стягивал с сапог шпоры. — Что ты делаешь? — спросил Меринос. — Как видишь, снимаю шпоры. Очень нужная вещь для петушиных боев, да я-то не петух. Бить ногами — наш национальный спорт, однако драться я привык честно. Обойдусь без вспомогательных средств. — А я буду боксировать, и ты увидишь, что я не косорукий, — заметил Меринос. — Жаль, они забрали наши револьверы! — И даже нож. Наверняка готовят какой-то подвох. Жди нападения, — сказал француз. — Впрочем, нас не так-то легко запугать, правда, дружище? В эту минуту раздался нечеловеческий вопль за одной из дверей. Еще… потом глухой удар… Друзья побледнели, вскочили на ноги, вслушиваясь в предсмертные хрипы неведомой жертвы. Последний вскрик, шум падения… — Кого-то убивают! — воскликнул Меринос. Парижанин всем телом навалился на дверь, но тяжелая панель даже не подалась. Обезумев от ярости, Тотор молотил по двери ногами, кулаками и отчаянно кричал: — Негодяи… убийцы… трусы! — Молчи, они убьют и нас, — шепнул испуганный Меринос. — Не могу, я возмущен до глубины души… В двух шагах от нас совершают преступление! Помешать им — мой долг! И француз снова стал неистово колотить в дверь. Оттуда послышались хриплые голоса, раздались проклятия, брань, угрозы. — Держись, Меринос, сейчас нам будет жарко! — Ну что ж, будь что будет! — смело откликнулся американец, к которому мгновенно вернулось все его хладнокровие. Послышался щелчок замка, скрип отодвигаемого засова. В открытую дверь хлынул поток света, а затем вошел чернокожий исполин. Все в нем впечатляло: длинная борода веером, спутанные волосы, грудь колесом, громадные руки… Великан был обнажен до пояса. Короткие штаны держались на одной подтяжке, диагональю пересекавшей могучий торс. Глаза его были налиты кровью, как у быка. Бросая свирепые взгляды, он двинулся к молодым людям, размахивая мясницким ножом, до рукояти красным от крови. За ним в нескольких шагах от входа стояло человек шесть белокожих рослых малых, одетых по-европейски и в сапогах со шпорами. Три-четыре секунды… Казалось, атлет выбирал первую жертву. Тотор был перед ним. Подняв нож, исполин ринулся вперед с рычанием дикого зверя. И тогда, демонстрируя удивительное мужество, парижанин насмешливо крикнул: — Да это обезьяна! Понял ли противник великолепное, неслыханное, ранящее как кнут презрение? «Пигмей»[100] осмелился оскорбить его, гиганта?! Да, несомненно. По крайней мере, интонацию он уловил вполне! Меринос содрогнулся и инстинктивно бросился вперед — заслонить собой друга. — Нет, нет, — прозвучал резкий голос Тотора, — не двигайся! Парижанин молниеносно присел и швырнул пригоршню песка в глаза чудовищу. Негр снова зарычал. Тотор тотчас же развернулся и совершил маневр «ногой назад», секрет которого знают только виртуозы французского бокса. Лошадиное копыто не нанесло бы удара сильней! Чернокожий раскинул руки, его глаза закатились, и со слабым стоном он рухнул как подкошенный. Все заняло не больше шести секунд. — Отлично! — восхитился Меринос. — Это отец научил меня так отбивать бифштекс. Он был бы доволен… Крики бешенства заглушили ответ француза. Стоявшие у входа белые, увидев, как упал черный гигант, набросились на юношей. — Вперед, Меринос, вперед, — ободрял Тотор, — лупи их! Друзья бросились к двери и бесстрашно вступили в схватку с нападающими. Бац! Бац! Это Меринос нанес два великолепных удара прямо в глаз длинному худощавому малому, который замахал руками и завопил. — Так ему и надо, долговязому! Хороший удар, Меринос! — ликовал Тотор. И с обезьяньей ловкостью он прыгнул на следующего. Это был тоже исполин, как большинство белых в Австралии. Заросший бородой до самых глаз, жилистый и крепкий, как дуб. Силач был уверен, что легко осилит хлипкого недоноска. Но едва он протянул свои огромные лапы — юркий Тотор выскользнул из его клешней, резко дернул гиганта за бороду и в ту же секунду ударил его в нижнюю челюсть. Противник француза издал страшный крик, прерванный сухим треском выбитой из суставов челюсти. Миг — и она повисла на дряблых щеках. Рот стал бесформенной щелью, откуда неслись невнятные стоны. Потрясенный чудовищной болью, раненый вдруг пошатнулся и упал, потеряв сознание. А Тотор веселился как одержимый. С раскатами хохота, напоминавшими пересмешника, он крикнул: — Ага, зайчик мой! Теперь тебе уже не спеть «Пойдем со мной, моя курочка», — и, подскочив к самому крепкому на вид из врагов, подбодрил друга: — Смелей, Меринос, смелей, старина! Да, вот когда американец порадовался, что еще во время своего учения в Англии увлекся боксом! Смелый, ловкий и редкостно сильный, он вскоре стал боксировать на уровне профессионалов… А сейчас наш герой так и рассыпал страшные удары, от которых гудели торсы и кровоточили носы! В отличие от Тотора, он молчал, но все более входил в ритм матча, от которого зависело само их существование, и за несколько минут обрел поистине чемпионскую форму. А парижанин, который заметил великолепное мастерство Мериноса, нашел время, чтобы выразить свой восторг. — Ты классный боксер! Браво, браво! Уж я-то в этом разбираюсь! — А ты, Тотор, похож на волчок среди кеглей![101] Очень точное сравнение. Парижанин прыгал, вертелся, бил руками, ногами, головой, опрокидывал всех, к кому прикасался. Меринос не отставал. И вот — с нападающими гигантами покончено. И это — в мгновение ока! Поле боя было очищено. Выдохшиеся, но целые и невредимые, друзья победоносно посматривали на живописную груду тел. Брань поверженных казалась им музыкой. Но… какой ужас! Справа от них, под нависшим камнем, как туша на бойне, висел труп совершенно голого негра с зияющей раной на горле. На земле, в луже крови, лежала туземная дубинка. Робинзоны вспомнили вопли, предсмертный хрип, глухой удар, которым все закончилось, и поняли, что произошло. Сомнений нет! Они — в пещере разбойников и, может быть, каннибалов! Тем не менее за распахнутой дверью расстилался чудесный австралийский пейзаж. Вдали виднелись великолепные пастбища. Сновали стаи попугаев всех расцветок и видов. Над венчиками ослепительных цветов порхали тысячи бабочек, в траве топтались сорные куры и странные наземные попугаи, длинноногие, с эбеново-черным и изумрудным оперением, которые никогда не садятся на деревья. Наконец молодые люди, все более приходившие в изумление, увидели мирно резвящихся гигантских кенгуру, которые вообще-то пугливы и недоверчивы, но тут выглядели почти ручными. Настоящий тропический рай среди гор, которые кажутся его естественным ограждением! Да, рай, о котором мечтали бы любители красот на всех континентах. О, как хорошо было бы пожить здесь под щедрым солнцем, посреди всех этих чудес! Вдали от оглушающего шума городов, страшной скученности! Никаких тесных жилищ, шумных развлечений, зловредных испарений! А главное, светских условностей и жизни на пределе возможностей! Словом, всего того, что раздражает и доводит людей до изнеможения! Вот о чем подумалось парижанину, едва он охватил взглядом цветущий райский уголок. Но что же тогда означает этот труп… убийцы… беспощадный бой, опасность, которая снова им угрожает… Увы, это тоже входит в сияющую картину дня, но только как ее тени, как ее душераздирающая реальность! — Бежим, бежим отсюда! — крикнул Тотор. — Путь свободен! — Да, мы хорошо поработали, — подхватил Меринос. — Бежим, во второй раз может и не повезти! Чувствуя себя сильными, ловкими, друзьянадеялись спрятаться где-нибудь в чаще, добраться до гор, словом, скрыться от преследователей. Они побежали изо всех сил куда глаза глядят, побежали, стиснув зубы, прижав локти к телу. Позади слышалась брань; избитые разбойники поднимались, приходили в чувство, брались за оружие. Прозвучал выстрел, над головами злой пчелой пропела пуля. Молодые люди побежали еще быстрей. Меринос не обращал внимания на жгучую боль в еле заживших ступнях, поспешая в сапогах мистера Шесть, которые при каждом его прыжке деревянно стучали, как кастаньеты, над чем Тотор охотно посмеялся бы в других обстоятельствах. Бах, бах! Снова выстрелы. Пули летели с неприятным свистом, от которого вздрагивают даже храбрецы. Тотор понял, что бежать по прямой линии опасно, крикнул: — Зигзагами, Меринос, зигзагами! Это помешает им целиться! Мудрая предосторожность! И действительно, пальба продолжалась, но все мимо: двигающиеся цели явно сбивали врагов с толку. — Наша берет! — крикнул парижанин. — Палят-то из револьверов, пустяки! — ответил Меринос. — Кишка у них тонка! Вот из винчестеров нас давно бы уложили. — Давай, давай, быстрее! — крикнул Тотор, видя, что сам он уже вне досягаемости. Превосходные бегуны! Вот перед ними уже показались первые деревья. Скоро молодые люди скроются за их огромными стволами… Еще двадцать метров, и наконец передышка, если не спасение. Но крики и выстрелы привлекли внимание человека, которого беглецы не успели хорошо рассмотреть. Он появился метрах в пятидесяти от них на пороге деревянной постройки, служившей как бы продолжением пещеры, и спокойно следил за беглецами. Прилично одетый в теннисный костюм незнакомец держал в руке предмет из темного дерева, тонкий и плоский, как лезвие сабли, но значительно больше изогнутый. Внезапно он отбросил куртку, соломенную шляпу и взялся обеими руками за деревянную пластинку. В мгновение ока он резко наклонился вперед, затем назад, вертя своей дощечкой, и внезапно выпустил ее из рук. Вращаясь, она со свистом и жужжанием полетела по направлению к беглецам. Странный снаряд несся над самой землей, выделывая бешеные прыжки. Он издавал громкий, странный шум, который то прекращался, то возобновлялся вновь. Не дубинка и не метательный дротик, но стоит обоих! Можно было подумать, что эта деревяшка одушевлена, что ею движет ярость, и она сознательно ищет, куда лучше всего ударить. Тотор услышал странное завывание и отскочил, но снаряд точно преследовал его и, продолжая вертеться, с неимоверной силой ударил по ногам. — Бац! Прямо по ходулям! — закричал парижанин, рухнув на землю. — Меня подшибли! Вот это тумак! Берегись, Меринос! Я уж попробовал, что это такое… В ту же минуту ужасная пластинка, прочная и плотная, как железо, отпрыгнула в сторону и с дьявольской точностью ударила по ногам и Мериноса. — Hell dammit! У меня кости разбиты, — рухнул янки. — Недобрый карамболь[102], — прибавил Тотор, все еще не теряя присутствия духа. Исполнив свое дело, но все еще жужжа, сатанинский снаряд упал. Но что это! Едва коснувшись земли, он вновь ожил, поднялся под углом в сорок пять градусов, описал правильную параболу и мягко опустился к ногам своего господина, который неторопливо надевал шляпу и куртку. Разбойники, увидевшие падение беглецов, ринулись к ним, чередуя хохот и проклятия. Потрясая оружием, они с дикарской радостью выкрикивали: — Позабавимся!
ГЛАВА 2
Вовремя! — Простой рассказ. — Метатель бумеранга[103]. — Нужно идти. — Австралийское оружие. — Неожиданности. — Удивительная роскошь. — Тотор рассказывает свою историю. — Никто не уходит отсюда живым. — Испорченный автомобиль. — Умирающий механик. — Начало службы.Мрачное видение смерти возникло в воображении юношей. Их уже окружала яростная толпа бандитов. Теперь-то наверняка растерзают… — Черт возьми! Это уже серьезно! — пробормотал Тотор. — Не о том я мечтал… — Умереть под ножами разбойников, — прибавил Меринос, — ужасно! Они взглянули на яркое солнце, на зелень, на цветы, на птиц, на улыбающуюся природу и молча пожали друг другу руки, не ожидая ничего хорошего. — Тотор, — тихо шепнул американец, — мне жалко, что я так глупо прожигал свою жизнь, был пуст, жесток, всех презирал… С таким другом, как ты, я стал бы настоящим человеком. Тотор не успел ответить на трогательные и полные достоинства слова. Негр, которого он так ловко сбил с ног, уже пришел в себя и, потрясая ножом, устремился к нему с людоедскими криками. Он явно собирался первым броситься на парижанина, который подобрался, вытянул руку, чтобы отразить удар. Еще несколько секунд, и все кончится! По подоспевший метатель деревянной сабли сильно ударил ею плашмя по руке австралийца, и тот выронил нож. Повелительным тоном джентльмен сказал негру несколько слов на странном наречии, и гигант мгновенно отошел, ворча, с видом побитой собаки. Затем странный человек обратился к белым на правильном английском: — Джентльмены, впредь до новых распоряжений этим людям даруется жизнь. Такова моя воля. Слышите? — Хорошо, Ден, — хмуро ответил один из «джентльменов». — Воля твоя, хотя это против правил… — Довольно, Нед! Я сказал, и точка. Ни слова больше, не то до утра вам не дожить. Как и австралиец, белые опустили оружие и ушли, ворча. Только теперь Тотор и Меринос могли рассмотреть черты незнакомца. К своему великому изумлению, они увидели под широкополой шляпой негра, вернее, одного из австралийских негроидов, так не похожих на жителей Африки. Кожа его имела цвет не то сажи, не то шоколада. Прямой нос; взгляд живой и колючий; губастый рот плотно сжат. Очень густые волосы, как и длинная, непроглядная борода, слегка вились. Лицо этого человека прежде всего поражало выражением жесткости, а может быть, и жестокости. Под платьем, которое на нем сидело изящно и ловко, угадывалось атлетическое сложение, не хуже, чем у полуголого дикаря в драных штанах, державшихся на одной лямке. Можно подумать, что тот был его братом: совпадали не только признаки расы, но повадки, позы. И такое же мощное телосложение, внушавшее трепет. Однако костюм, тонкое белье, осанка, правильность речи и неожиданная изысканность манер отличали его от соплеменника-каннибала. Вот что заметили с первого взгляда друзья, едва придя в себя после падения и неожиданной нервной встряски. Незнакомец бросил взгляд на молодых людей и, нимало не заботясь, хватит ли у них сил выполнить его приказ, грубо крикнул: — А ну, вставайте! За мной! Да не мешкать! Слова благодарности за спасение от каннибалов застыли на устах юношей. Друзья почувствовали что-то таинственное и пугающее в этом человеке, совершившем благородный поступок столь несообразно грубо. Приходилось повиноваться. Тотор с трудом поднялся, снова упал, напряг все силы и наконец удержался на ногах. Правда, он испытал боль, но обрадовался, поняв, что кости не сломаны. Парижанин протянул руку Мериносу, чтобы помочь ему подняться, но американец, вероятно, ушибленный сильнее его, не мог встать даже на колени. Бледный, с исказившимся от муки лицом и с лбом, покрытым потом, бедняга жалобно простонал: — Не могу, не могу! — Как? — насмешливо сказал незнакомец. — Столько стонов из-за какого-то слабенького удара бумерангом? А я еще вас пожалел… при желании мог бы переломить вам лапки, как сургучные палочки. Теряя силы, держась только благодаря своей железной воле, Тотор приподнял друга и сказал ему по-французски: — Мужайся, дружище. Встань! Умри, но покажи этому черномазому, что у белых есть и воля и сила. Человек улыбнулся, будто понял сказанное, что, конечно, было, по мнению Тотора, совершенно невероятно, затем пожал плечами и ушел, помахивая бумерангом. Именно так называлось странное, невероятное оружие австралийских туземцев, которые пользуются им с удивительной ловкостью. Бумеранг не походит ни на одно из орудий охоты или войны нынешних или древних времен;[104] противоречит всем законам баллистики, бросает вызов нашим понятиям и привычкам, кажется чем-то невероятным — и тем не менее существует. В руках европейца, как бы он ни старался правильно обращаться с ним, бумеранг — бесполезная щепка, которую ни к какому делу не приспособить. А вот в руках привыкшего к нему с детства австралийца он может стать несравненным оружием. Брошенный ловко, он разбивает задние ноги исполинского кенгуру и опрокидывает громадного казуара — большую птицу, похожую на страуса. Его полет может по воле метателя быть горизонтальным, наклонным или вертикальным. Брошенный параллельно земле, бумеранг внезапно поднимается ввысь, вихрем врывается в стаю попугаев или зеленых голубей, сокрушая все, к чему прикасается, а затем — дело сделано, и он послушно падает рядом с умелым охотником. По-разному объясняют действие и применение этого странного, смертоносного орудия. Говорят, что изогнутый в середине бумеранг имеет слегка развернутые в разные стороны концы, что делает его похожим на пропеллер. С силой запущенный, он ввинчивается в слои воздуха, опирается на них, что и объясняет его вихреобразное, скачками, движение. А внезапные изменения траектории полета и возвращение к охотнику задается неуловимым движением кисти — и это похоже на приемы бильярдистов, выполняющих эффектные удары из-за спины. Правильно ли такое объяснение? Может быть. Но что за упрямство нужно проявить в изготовлении снаряда! А эти особые приемы? Их ни за что не может вполне освоить человек белой расы! Шатаясь, спотыкаясь и прихрамывая, Тотор и Меринос с большим трудом все же прошли небольшое расстояние, отделявшее их от прилепившихся к скале построек. Вслед за незнакомцем они вошли в просторный холл, полный приятной прохлады. — За мной, — приказал он им. Друзья едва успели заметить охотничьи трофеи, оружие, украшавшее большие кедровые щиты на стенках, и скользкий кафельный пол. За бархатной красной портьерой, подхваченной толстой золотой цепью, оказалась другая комната, вроде просторного кабинета. Молодые люди остановились в полном изумлении от обстановки: шезлонги[105], кресла-качалки, низкие кресла с подвижными спинками, роскошные и удобные бамбуковые скамьи и табуреты тонкой работы… На стенах, изящно задрапированных великолепными коврами, висели картины и фотографические пейзажи. Повсюду — этажерки с безделушками; книжные полки с множеством томов; гавайские ящички прихотливых очертаний; витрины с минералогическими образцами, наконец, фортепьяно! И к тому же у широкого окна — письменный стол из эбенового дерева![106] Мало того, еще один стол — широкий, малахитовый[107], на котором в беспорядке с раскрытыми книгами, нотами, газетами соседствовали коробки сигар, украшенный драгоценными камнями кальян и янтарные мундштуки… Тотор и Меринос не могли поверить своим глазам, видя неожиданную роскошь этого убранства. И это в забытом Богом уголке земли! Поразительный контраст… — Сядьте, — предложил им незнакомец, который остался стоять, разглядывая гостей. Когда они тяжело упали в кресла, он спросил: — Теперь скажите, кто вы на самом деле, зачем и как попали сюда? — Я — Тотор, — ответил парижанин, — а моего друга зовут Мериносом. Мы — туристы и свернули с пути, намеченного круговыми билетами, из-за несчастного случая на море. Нам обоим на двоих — тридцать пять лет. — Значит, вы не полицейские? — Что за небылица! Я — из Парижа; Меринос — из Нью-Йорка. Мы оба сходили с ума по путешествиям, и наши родители, далеко не миллионеры, с трудом купили нам круговые билеты. Американец понял, почему друг ни словом не обмолвился о его отце — шерстяном короле. Опасно упоминать о богатстве в логове разбойников — хотя бы и самого высокого полета! — Пусть так, — сказал незнакомец, — тогда вот ты, у которого язык хорошо подвешен, расскажи-ка мне о ваших приключениях, которые кажутся мне не очень-то правдоподобными! — К вашим услугам, патрон[108], — ответил, не смущаясь, парижанин, — только не будете ли вы так любезны, не угостите ли нас рюмочкой или даже бокалом чего-нибудь жидкого, хотя бы чистой воды, aqua fontis…[109] Это не шутки, мы умираем от жажды. Человек улыбнулся, нажал кнопку электрического звонка, сказал французу: — Хорошо, теперь говори, да покороче. Тотор потер болячки на ногах, поудобней уселся в кресле и с обычным спокойствием стал рассказывать обо всем, что случилось с ними, вплоть до того, как они увидели повешенного. — Дальше, дальше, — проговорил их странный собеседник. Тотор с наслаждением выпил несколько глотков превосходного эля, который им подал китаец, и продолжал свое пространное повествование: — А наевшись коры дерева-бутылки, мы заснули. Тут-то нас и сцапали двое черных полицейских по имени Пять и Шесть. Им пришла в голову нелепая мысль отвести нас связанными в полицейский участок. Эти звери, под предлогом, что Меринос не мог поспевать за ними, хотели отрезать ему голову: видите ли, тяжело было везти то, что ниже шеи. Довольно странный способ сажать людей в кутузку! Я, конечно, стал возражать. А так как они не хотели меня слушать, пришлось их вздуть, и так основательно, что нам достались их клячи, пожитки, шмотки, словом, все их манатки. — Ты, мальчишка, смог их одолеть? В одиночку, связанный? — Что поделаешь, патрон, в жизни приходится выкручиваться. — А почему они вас взяли в плен? — Они вбили себе в головы, что мы — бушрейнджеры, и не могли отступиться от этой мысли. Конечно, мы бродяжили в австралийских кустарниках, но не в том смысле, как они понимали! Мне кажется, они приняли нас за других, настоящих рейнджеров… в дела которых лучше не путаться. — Благоразумно! Продолжай, мой мальчик. Начав говорить, Тотор уже не мог остановиться. Меринос, растянувшись в кресле, не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой, а его друг, жестикулируя, без умолку болтал, не упуская красочных подробностей. Кажется, он уже позабыл об ударе бумерангом и вполне освоился в этой странной, если не сказать подозрительной, обстановке. Незнакомец ничем не выражал нетерпения, то ли надеясь извлечь из болтовни нечто существенное для себя, то ли дожидаясь, когда молодой человек вконец запутается, станет противоречить себе и сам обличит себя во лжи. Но Тотору незачем было петлять, он говорил только правду, рассказывая о мертвом лесе, о буквах «Б. Р.» со звездой, о расправе с собаками, о встрече с автомобилем. Его подробный рассказ, впрочем, ничуть не смягчил сурового хозяина, который в глубине души, конечно, признал, что ошибся. Эти молодые люди, подумалось ему, вероятно, именно те, за кого себя выдают, сомневаться в этом не приходится. Но загадочному набобу[110] это явно не понравилось, он нахмурился, и его лицо, и без того суровое, приняло выражение неумолимой жестокости. Меринос, наблюдавший за ним, содрогнулся. Никогда не падавший духом, Тотор мысленно сказал себе: «Право, он похож на людоеда, почуявшего свежатинку». А вслух самым любезным тоном прибавил: — Теперь вы видите, патрон, что мы и в самом деле настоящие туристы, совсем безобидные малые, и хотим лишь продолжить наше сентиментальное путешествие вокруг земного шара. И вы были бы очень любезны, если бы просто отпустили нас отсюда, на наш собственный страх и риск. Его слушатель усмехнулся, показав белые, острые зубы. Он погладил бороду черноватыми, сухими пальцами, на которых блеснуло множество колец, и сказал медленно, недобрым голосом: — Ни один посторонний не выходит отсюда живым. — Значит, мы осуждены на пожизненное?.. — спросил Тотор. — На смерть, милейший мальчик, мы не любим нескромных глаз и лишних ртов. — На смерть! — бледнея вскрикнул Меринос. — Полно, патрон, — бесстрашно возразил Тотор, — вы этого не сделаете. Посмотрите на нас и подумайте, не найдете ли вы для нас другого занятия, кроме роли Маккавеев?[111] В эту минуту в передней послышался говор; казалось, кто-то вопреки запрету хотел войти в гостиную, но его удерживали. Хозяин встал, резко откинул портьеру и раздраженно крикнул: — Что еще за шум? Кто смел войти сюда? А, это ты, Джим… Показался белокожий с непокрытой головой, растрепанный, заросший бородой до самых глаз, с безумным выражением лица. Он оттолкнул китайца, который преграждал ему дорогу. — Убирайся, ты! — крикнул он. — Я должен поговорить с хозяином. Ах, господин, если бы вы знали! — Что? Что случилось? Отвечай скорее, да берегись, если ты напрасно побеспокоил меня… — Автомобиль совершенно выведен из строя, — ответил Джим. — Гром и молния! Час тому назад он был в прекрасном состоянии! Ты сторож. Что же ты делал? Ты головой отвечаешь за него, и ты умрешь! — Хозяин, жизнь вашего слуги в ваших руках, — пробормотал Джим. — Свою должность я исполняю, но разве я виноват, что шальная пуля только что прошила мотор? — О, идиоты! Целили в беглецов, а расстреляли мой автомобиль, — сказал тот, кого звали господином. — Но его можно починить? Что говорит механик? Джим присвистнул и развел руками. — С механиком дело плохо. Хоть на кладбище неси. Лицо «господина» приняло пепельно-серый оттенок, он процедил сквозь зубы: — Он, этот гигант? Единственный механик… Кроме него, не найдешь ни одного на протяжении пятисот миль! — Да, господин. Харкает кровью, челюсть разбита, щеки порваны… Самый крепкий из нас, а превратился в мокрую тряпку. — Кто же так его изувечил? — спросил «господин». Джим заметил Тотора, который спокойно смотрел на него, и с изумлением произнес: — Нечего ходить далеко за виновным: вот этот мальчуган… этот дьявольски сильный коротышка уложил полдюжины наших! Искалечил беднягу. Да и не его одного… Хозяин взбесился. Схватившись за кобуру, он крикнул: — Разрази тебя гром! Это уж слишком! Я, может быть, простил бы порванные шкуры моих молодцов, но увечье, а может быть, и смерть единственного механика! Ты за это ответишь! Тотор поднялся с кресла, выпрямился и, подходя к наведенному на него револьверу, с поразительным спокойствием ответил: — Незачем стрелять, это бесполезно. У вас нет механика? Извольте, патрон, я его заменю. — Ты, недомерок? — Попробуйте дать мне токарный станок, тиски, каких-нибудь железяк, обломков бронзы, стали, и вы увидите, сумею ли я воскресить вашу пыхтелку. — Пожалуй, я испытаю тебя, и немедленно, — ответил «господин». — Но горе тебе, если не сможешь ничего сделать! — Положитесь на меня! Итак, я могу считать место механика своим? — Да, временно. Посмотрим, на что ты годен! — О, тогда я спокоен. Но теперь, раз я имею у вас прочное социальное положение, позвольте рекомендовать вам моего замечательного друга, присутствующего здесь Мериноса… Сейчас он — всего лишь болящий, не может пошевелить ни ногой, ни рукой, страдает и молчит… потому что истинные страдания немы! Но он мечтает поправиться, чтобы стать вам полезным, дайте же должность и ему! — Мой китаец Ли ошалел от опиума… Я охотно заменил бы его твоим другом, который, я уверен, будет прекрасным лакеем. Меринос подумал, что плохо расслышал. Он сжал кулаки, побледнел и воскликнул дрожащим от гнева голосом: — Лакеем! Я, сын… — Герцога? Принца? Короля? — Сын белого гражданина! — Ну и ладно! Будешь мальчиком на побегушках у негра. Дядя Том[112] порадовался бы такому обороту! Кроме того, оставьте эти манеры! Я требую, чтобы мои приказания исполнялись немедленно, днем и ночью! Своих слуг я бью, а иногда и убиваю! Значит, от тебя самого, мой мальчик, зависит знакомство с палкой или револьвером.
ГЛАВА 3
Тотор за работой. — Сторож или нянька? — Дружба. — Починенная машина. — Пробная поездка. — Последствия завтрака на траве. — Знаменитые ослицы. — Французский и латинский языки. — Нелепая история человека, купавшегося в фонтане Сен-Мишель.Несмотря на всю самоуверенность, Тотор не мог опомниться от изумления и выразил свои чувства смелой метафорой: — Никаких сомнений! Я плыву по океану сюрпризов. Подумать только: среди пустыни, в сотнях миль от цивилизованных мест, посреди пещер, обращенных в дворцы, стоит лишь заикнуться, и тебе предоставляют прекрасную мастерскую, в которой есть все, даже с избытком! Машины, инструменты, всяческие приспособления… Знакомые, привычные вещи приводили новоявленного механика в восторг, и, устраиваясь в мастерской, он вскрикивал от удовольствия: — Черт возьми, просто металлический рай! Тотор чувствовал себя как дома, демонстрируя своему новому господину удивительную профессиональную сноровку. Несмотря на молодость, он и в самом деле был первоклассным механиком. Юноша разобрал мотор. Сколько поломок! Тотор даже присвистнул и поставил диагноз: — Видите, патрон, как говорят в парижских предместьях, — зверушка нездорова. Вашим молодцам наплевать, что мишень у них — ценой в сто тысяч франков! — Ужасно, — мрачно сказал «патрон». — Ничего! Поверьте, я все поправлю, — успокоил его Тотор. Парижанин тотчас же принялся за работу, которая требовала исключительных навыков и глубокого знания всех тонкостей ремесла. «Патрон» приходил к нему каждый день и мог убедиться, что Тотор совершает настоящие чудеса. Мало-помалу этот загадочный, жестокий человек, который управлял своими владениями с помощью палки и револьвера, стал проявлять что-то вроде благосклонности к маленькому парижанину. Тотор не мог ни на минуту выйти из мастерской. Он и ночевал в ней. Ел то, что ему приносили… Заключение стало для него просто нестерпимым, и наконец однажды утром он сказал хозяину: — Патрон, нельзя ли мне немного поразмять ноги и глотнуть свежего воздуха? Я тут скоро превращусь в сушеную грушу. Так дело не пойдет. — Хорошо, — подумав немного, ответил негр. — Но Татамбо ни на шаг не отойдет от тебя. — Благодарю вас, патрон, — обрадовался парижанин, — за то, что даете мне свободу и няньку. Вы — само милосердие! Тотор сиял. Он был особенно доволен тем, что его нянькой оказался… Нет, вы не догадаетесь! Тот самый негр-гигант, которого молодой человек в схватке опрокинул ударом ноги под ложечку! А дело в том, что Тотор просто приручил это чудовище. Так быстро? Но каким образом? Он сумел завоевать его сердце, угождая желудку. Исполину с первого же дня поручили приносить Тотору провизию. Сперва они смотрели друг на друга довольно недружелюбно. Но с каждой порцией еды выдавалась и порядочная доза виски. Тотор, пивший только воду, предложил свою долю алкоголя сторожу. Известно, что черные очень неравнодушны к этой жидкости. И австралиец, вероятно, давно уже не пробовавший ее, с восторгом принял предложение. Черного звали Татамбо. Тотор нашел, что это слишком длинное имя и ампутировал его, превратив сначала в Тамбо, а потом просто в Бо. Австралиец охотно отзывался на односложное прозвище. Впрочем, что значит «отзывался»? Он никогда не вступал в разговор с французом. Хотя, очевидно, очень хорошо понимал по-английски, так как исполнял буквально все, что Тотор требовал от него. Не был Бо и немым, потому что иногда произносил «yes» или «по». Но и только! Остальное заменяли жесты. Австралиец восхищался железной хваткой Тотора, хотя знакомство с нею ему так дорого обошлось, и это восхищение, к тому же политое виски, постепенно зародило в нем собачью привязанность к юноше. А предосторожность — приставить к нему сторожа — казалась Тотору бесполезной и смешной. — Он что, думает, что я по воздуху улечу? Да ни за что, во всяком случае, без Мериноса. Бедняга! Уже две недели его не видно… задал ему забот этот господин Крепко-бей! Стать рабом, вещью! Но мы еще посмотрим! Итак, тюрьма стала для француза попросторней. И он воспользовался относительной свободой, чтобы оглядеться как следует. Прежде всего парижанин обнаружил, что эту большую долину, подступы к которой неизвестны, отделенную от пустыни, окружали непроходимые горы. Бегство поэтому казалось невозможным. Затем его очень заинтересовала необычная фауна. Рядом с дикими животными бродили стада коров и баранов. Великолепные лошади паслись на свободе. Туземцы, жившие в бесхитростных хижинах из коры, держались в отдалении. Тотор отметил, что всего их человек пятьдесят. Селятся небольшими кланами. Вид у них неважный… Юноша решил, что это тоже пленники. Великолепный овал автодрома длиной километров пятнадцать, а шириной — восемь или девять окружал это странное владение. Больше всего привлекали внимание молодого человека таинственные люди, которые и появлялись и исчезали неизвестно как. Вооруженные до зубов, головорезы сидели на великолепных лошадях, говорили повелительно, держались вызывающе. В один прекрасный день они возникали неизвестно откуда группами: человек по десять, двадцать, пятьдесят, разъезжали туда-сюда, шумели, как у себя дома. Дня два-три эти незнакомцы оставались в долине; устраивали адский шум, попойки, потом, под сенью ночи, уезжали. Тотор был заинтригован. Он нюхом чуял что-то неладное, быть может, преступное; за всем этим угадывалась мощная рука. Дни шли за днями. Упорно трудясь, наш робинзон почти закончил ремонт автомобиля. Как раз в это время произошел странный случай, который имел впоследствии решительное влияние на судьбу юношей. Француз не видел хозяина уже двое суток, и это отклонение от заведенного порядка раздосадовало его. Дело в том, что он хотел вывести машину из мастерской. — Бо, — сказал он негру, — пойди, скажи патрону, что нужно попробовать автомобиль на ходу. — Нет, — проворчал австралиец, показывая острые зубы. — Почему? Бо присел, точно всадник, и очертил рукой широкий круг. — Уехал? — спросил парижанин. — Да. — Досадно. А что, если я прогуляюсь сам? Почему бы и нет? Отлично, поедем, — предложил Тотор. — Ты со мной? — Да, — снова ответил исполин и умчался, оставив парижанина в недоумении. Через четверть часа он вернулся с запасом еды и воды. Считая, что в обязанности Бо входит при каждом выезде тяжело загружать ящик для провизии, Тотор не удивился. Уложив груз, парижанин сел на место шофера, Бо поместился рядом с ним. Странное зрелище представлял этот полуобнаженный, заросший волосами каннибал, развалившийся в ультрасовременном автомобиле. Последний крик моды нашей утонченной цивилизации! Тотор осторожно запустил мотор. Пых-пых! — Все в порядке! Удача! А теперь побыстрей… Пых-пых-пых. Машина бодро тронулась, выехала на круг. Пых-пых-пых. Обжитые места, пещеры, странные постройки, назначения которых парижанину были еще не известны, остались позади. Несколько человек белых с изумлением посмотрели на двух спутников в автомобиле, исчезавших за деревьями. Время от времени в моторе что-то трещало, шипело. Тотор останавливался, поворачивал гайку, подтягивал винт, осматривал все, ощупывал и ехал дальше. — Быстрей, быстрей!.. Зверушка воскресла! Вперед, и как можно быстрей! Они мчались, пожирая пространство, почти касаясь эвкалиптов, с которых испуганно взлетали сотни попугаев, огибали роскошные луга, приводя в волнение коров, овец, вспугивая кенгуру, скакавших точно исполинские лягушки. Захваченные скоростью, быстро опьяняющей даже самых благоразумных, пленник и его страж мчались вперед. О, эта дикая радость избавления от тяжести, обладание легкостью птицы, возможность мчаться, как болид! Хотя бы на время не ощущать себя неуклюжим пентюхом, прикованным к земле, по которой едва тащишься, как улитка… Скоро был пройден первый круг. — Еще раз! — воскликнул увлекшийся Тотор. — Ах, если б сюда еще Мериноса! Они снова помчались под лучами знойного солнца. Пыль набивалась в глаза, глотки пересохли, несмотря на обдувающий ветер, пот лился ручьями. Но вот показалась тенистая лужайка с красивым источником, высокой травой и цветами. Мучась от жажды, парижанин вспомнил, что еще не завтракал. Приятно устроить завтрак на траве! Он снизил скорость, остановил автомобиль у источника и сказал: — Знаешь, старина Бо, давай-ка погуляем здесь. Накрой на стол, раскупорь для себя бутылочку виски. Нужно чего-нибудь слопать. — Да, — сказал негр, и его глаза блеснули. Вскрыв банку тушенки, Тотор с аппетитом стал грызть damper, австралийскую галету[113], которая в пустыне хорошо заменяет хлеб, а Бо приник губами к бутылке и одним духом опорожнил ее. — Ого, — сказал Тотор, — недурно! Но знаешь, поосторожней. Это же сивуха! Глаза на лоб вылезут! — Нет, — отозвался чернокожий, жадно облизывая влажные губы. — Как хочешь, если душа требует… Ты крепко сшит, а у нас не каждый день праздник… Можешь еще приложиться. Содержимое и второй бутылки проскочило одним махом. Бо с горящими глазами открыл рот в широкой улыбке, размахивал руками и подпрыгивал; казалось, он был на седьмом небе. — Вот так, — сказал Тотор, — пляши, пока твое чертово полоскание не свалит тебя с катушек. Но Бо еще крепко держался на ногах. Не ожидая приглашения, он взял третью бутылку и начал пить, но на этот раз не жадно, а потихоньку, с наслаждением, смакуя напиток, будто находя в этой адской смеси вкус божественной амброзии[114]. Скоро опьянение стало явным, затуманило мозг дикаря. Точно обезумев, он вдруг принялся бешено отплясывать канкан[115], воя, как макака[116]. Негр не владел собой, и Тотор забеспокоился. — Послушай, Бо, — сказал он, — ты уже перебрал. Довольно, а то станет худо. Парижанин машинально сказал это по-французски. Дикарь взглянул на него безумными глазами и запросто ответил на том же языке: — Не бойся, у меня желудок закаленный! Тотор так и подскочил от удивления, будто заряд динамита взорвался под его ногами, выронил изо рта кусок мяса, но решительно ни слова не мог выговорить. Австралиец расхохотался, затем произнес: — Ты смотришь на меня так, будто я совсем… обалдел!.. Да, правильно, «обалдел». Si forte virum quern… conspexere, silent…[117] как сказал божественный Гораций. — Он говорит по-французски и по-латыни! — воскликнул Тотор, думая, что видит кошмарный сон. — Это треклятое виски действует… выхватывает у меня из головы и гортани… полузабытые слова, которые застряли в мозгу. Я грежу и вижу многое… Ах… очень многое. Ох, дай мне выпить… Еще, еще… Преодолев волнение, Тотор вернулся к обычному для себя хладнокровию. Он подошел к австралийцу, который, казалось, преобразился, посмотрел на него, комически развел руками и сказал: — Точно, ты феномен! Никаких сомнений! Я сражен! Даже отец такого не видал. Кто ты? Не вселился ли в тебя дух ослицы библейского пророка Валаама, которая когда-то болтала по-еврейски? Или, может быть, ты проглотил фонограф, который застрял в желудке и разговаривает помимо твоего желания? — Пить… Гром и молния! Я же говорю, что хочу пить еще, хочу все припомнить; ах, если б ты знал, — проговорил чернокожий. — Да, я знаю! Знаю даже, что если ты не валаамова ослица, то робеспьерова, которая пила, пила… пока в поговорку не вошла[118]. — Не говори глупостей, подай бутылку, — простонал негр, скрипя зубами, — мне нужно виски! Еще и еще! — Пожалуй, только одну стопку, — сказал Тотор, — придется пожертвовать огненной водой, чтобы спасти огонь разума. Но стопка лишь увеличила жгучую жажду Бо. — Еще, еще, — молил он. — Нет, погоди, прежде поговорим, — твердо ответил Тотор. — Скажи, кто же ты? Ноги дикаря подогнулись, он тяжело упал на траву, вцепившись руками в спутанные волосы, взгляд его застыл, как у загипнотизированного. Бо отдувался, как бизон, и пробормотал прерывающимся голосом: — Мои родители… детство… первые годы радости, свободы… Я помню это, когда не пью. — Понимаю; ты, так сказать, двойной; одно помнишь натощак, другое, когда напьешься… Но, скажи, почему ты говоришь по-французски, как парижанин, а по-латыни, как человек образованный? Австралиец глубоко вздохнул и продолжал, точно во сне: — Я вижу дома… бульвары, дворцы… ночью фонари на улицах, необыкновенное оживление, кареты, толпы людей. Я — подросток среди товарищей, но это все белые… только белые… Меня учат вещам, которые меня смущают и приводят в восторг… Зачем я здесь? Ах… помню! Я неплохо соображал, и консул решил дать мне воспитание цивилизованных людей. Он послал меня в свою Францию… в Париж. Я… в лицее…[119] — В каком? — спросил пораженный парижанин. — Сен-Луи. — На левом берегу Сены… Бульмиш…[120] Знаю! Вдруг австралиец захохотал, судорожно, болезненно, пронзительно. — Бульмиш! Это словечко напоминает мне окончание моего блестящего ученья. Ведь я был круглым отличником, все восхищались, приходили взглянуть на меня. Знали, что я из племени каннибалов, и поражались, слыша, как я без запинки декламировал вторую книгу Энеиды…[121] Но бац! Случилась катастрофа. Однажды в день отпуска школяры напоили меня… Я не вернулся в лицей… и в полночь полицейские застали меня… в школьной форме… купающимся в фонтане Сен-Мишель. — Неплохая идея! — заметил Тотор. — Но продолжай! — Я хотел бы еще глотнуть… немножко… чуть-чуть, — едва ворочая языком, взмолился Бо. — Погоди. Рассказывай, и, если все выложишь, дам тебе хорошенько промочить глотку, вот увидишь. — Тогда… больше не помню… на чем же я застрял? — Ты застрял в фонтане! Это довольно смешно. — Ах да!.. Сильный, рослый… я оглушил ажанов, которые хотели меня отвести в полицейский участок, отдубасил комиссара, кому-то выбил зубы… Меня выгнали из лицея, арестовали, хотели судить… Английское посольство заступилось, во избежание скандала заплатило за убытки, очень дорого заплатило… Меня посадили на первый же пароход. — А потом что? — спросил нетерпеливый Тотор. — Я снова оказался в Австралии… где я ничего хорошего не совершил… я отупел… снова ушел в леса, в буш… одичал… Туземцы, мои собратья, с которыми я жил, занимались рыбной ловлей и охотой… они приучили меня к своим обычаям, я все забыл. Наконец он взял меня к себе. — Кто он? — Он! Хозяин! Довольно… — проговорил пьяница с испугом. — Что это за человек? — спросил Тотор. — Молчи! Он все знает… все видит… я его боюсь… Он убьет меня. — Что вы здесь делаете? — Не знаю… не спрашивай. — Кто убил человека в тот день, когда нас схватили? Того негра… ты же помнишь… когда я тебя опрокинул ударом ноги? — Я выпустил ему кровь. — Зачем? — Затем… чтобы съесть. Бо уже давно боролся с неодолимой сонливостью, после этого признания чернокожий наконец свалился, сраженный невероятной дозой алкоголя. «Ну, — подумал раздосадованный парижанин, — кончено! Ничего больше я сегодня не узнаю, но позже — постараюсь!»
ГЛАВА 4
Возмущение американца. — Мериноса бьют. — Бой, огня! — Величие и упадок. — Обед господина. — Толченые муравьи. — Обязанности миллиардера, ставшего лакеем. — Заключение в темницу. — Свет. — Меринос видит странные вещи.В общем, Тотор не чувствовал себя несчастным в мастерской, где занимался любимым делом. Положение американца было гораздо хуже. Конечно, оно и раньше было не блестящим, когда Меринос с парижанином одолевали непредсказуемые, опасные повороты судьбы. Но тогда, по крайней мере, он, юноша из хорошей семьи, мог приспособиться к обстоятельствам, не лишаясь достоинства. Более того, неожиданности и острота ситуаций были не лишены привлекательности для американца — любителя приключений, привыкшего всегда быть хозяином положения. Даже работа на пределе человеческих сил, отчаянные прыжки в неизвестность забавляли его, настолько контрастировали они с прежней жизнью юного сноба. Но представьте себе: рухнула крепость, прочней трона! Какое унижение! Какая неслыханная катастрофа превратила миллиардера в лакея! Дофина шерсти, как выражался насмешник Тотор, сына финансового короля! Его, которого с колыбели баловали с безрассудной щедростью! Обладателя прогулочной яхты, экипажей, конюшни, автомобилей, целой армии слуг, так унизили презренной должностью мальчишки на побегушках, да еще у негра! В первый момент ему показалось, что он задохнется от стыда и унижения. И это ощущение, это отчаяние лишь росли, пока проклятый негр занимался устройством рабочего места Тотора. Через час довольный, уверенный в себе хозяин вернулся. Неспособный сдерживаться Меринос посмотрел ему прямо в лицо и, забыв всякую осторожность, закричал: — Нет, вы не решитесь унизить меня! Мне быть слугой? По какому праву? Что я вам сделал? Разве вы можете меня упрекать в том, что я защищался, как свободный человек! Я ваш пленник. Заставьте меня заплатить выкуп… но слугой… никогда в жизни! Хозяин засмеялся, показав свои волчьи зубы. Пожал плечами и надавил на кнопку из слоновой кости. Раздались звонки, вошло пятеро человек: прежде всего китаец Ли с лицом фарфорового болванчика, с косыми глазами и с длинной косой на голове, а за ним четверо белых верзил, вооруженных с головы до пят. — Ли, — холодно сказал ужасный человек, — вот новый «бой». Он будет под твоим начальством; приучи его служить мне. — Скорей умру! — вскрикнул возмущенный американец и бросился к бюро, на котором заметил револьвер. Бедный Меринос! Белые перехватили его и повалили на пол. — Он немного своеволен, — продолжал хозяин, — нужно его утихомирить! Дать ему двадцать пять ударов тростью по пяткам! Меринос содрогнулся: раны на его ногах едва закрылись и еще болели. И по этому-то живому мясу его будут бить! Ужасная пытка! Даже если он оправится от нее, то останется калекой, неспособным передвигаться! Он опустил голову, сжал зубы, и слезы ярости выступили у него на глазах. С него мигом сорвали обувь… Увидев раны на ступнях, хозяин снова улыбнулся, с полнейшим хладнокровием, от которого мурашки пробегают, сказал: — Нет, не по ногам, по крайней мере не сейчас. Тогда он не сможет мне служить… Давайте дрессировать скотину, а не калечить ее! Бейте по спине! Бандиты разложили вопящего, извивающегося, разъяренного Мериноса на бамбуковой скамье и крепко привязали ремнями. Ли успел тем временем мелкими шажками сбегать за двумя тонкими тростями, гибкими, как хлысты. Он вперил в хозяина свои змеиные глаза, как бы вопрошая. — Начинай! Палач-любитель поднял руку. Послышался свист и стук трости по обнаженному телу. Меринос испустил душераздирающий крик. Китаец ударил снова. Уже две белесые борозды появились на спине. Третий и четвертый удары рассекли кожу. Несчастный только хрипел. На десятом ударе брызнула кровь. После двадцатого он потерял сознание. — На сегодня хватит, — сказал хозяин. В глазах китайца сверкнуло сожаление, но он не возражал, снял с Мериноса ремни и проворно одел его. Затем без церемоний плеснул в лицо водой из кувшинчика. Меринос открыл глаза и застонал. — Вот так-то, — усмехнулся хозяин. — Я ведь сказал тебе, что бью слуг… вот видишь, не соврал! И учти, это только предупреждение. Теперь изволь усердно служить мне, не то… — Что? — погасшим голосом спросил несчастный американец. — Не то Ли снова возьмется за трость и будет бить тебя до тех пор, пока я не устану от твоего упрямства и не велю повесить тебя за ноги над муравейником… Последние слова объяснили американцу, что за человек перед ним: чудовище, от которого нельзя ждать ни жалости, ни пощады. Меринос еще согласился бы на скорую смерть, но все его существо восставало при мысли о бесконечных, изощренных пытках! В глубоком вздохе юноши отозвались все страдания души, но протестовать бедняга больше не осмелился. Он склонил голову, готовый на все, чтобы избежать ударов тростью и подготовить страшную месть. Уж не читает ли мысли чертов негр! Со спокойной, ироничной улыбкой он сказал: — Молчание — знак согласия. Ты смиряешься, и правильно делаешь! Ну, раз мы договорились, приступишь к своим обязанностям. Но знай, если сделаешь хотя бы одно подозрительное движение — подвергнешься таким мукам, какие не снились и мастерам пыточных дел — американским краснокожим. Ну, все сказано. Нечего мне ронять себя, толкуя с челядью. Ли, аргументы которого… неотразимы, объяснит, в чем состоит твой долг. Будь внимателен! Бой, огня для сигары! Эти последние слова прозвучали в ушах Мериноса, точно гром… Он покраснел, затем побледнел и едва не упал в обморок. Неуловимое воспоминание ранило его душу: перед ним возникли палуба «Каледонца», ночной праздник, феерия[122] электрических огней и маленький дрожащий юнга, тот самый мальчишка, которому он надменно кричал в лицо: «Бой, огня!» Меринос мгновенно припомнил свои недостойные преследования, глупую жестокость к малышу, удары, которыми осыпал тихо плакавшего юнгу. Вся гнусность собственного поведения предстала перед ним. «Это искупление, но как оно ужасно!» Молодой американец выпрямился, преодолевая боль от недавних ударов. Поверьте, это было совсем нелегко! Он посмотрел на хозяина, потом на все еще ухмылявшегося Ли. Китаец зажег свечу в бронзовом, странной формы, подсвечнике, и Меринос, схватив его, поднес к сигаре, кончик которой хозяин откусил. Как и тогда у юнги, рука его дрожала, и Мериноса охватил отвратительный страх: как бы не поджечь огромную, густую и жесткую, как грива бизона, бороду! Нет, помимо обычных для новичка волнений, операция прошла нормально. Хозяин развалился в кресле-качалке и после нескольких затяжек сказал: — Ли даст тебе подходящее платье, будешь постоянно сидеть в передней и тотчас приходить на звонок, слышишь: тотчас! А теперь — вон! Вот так бедный Меринос, американский миллиардер, когда-то заносчивый сноб, приступил к скромным обязанностям мальчика на побегушках у загадочного негра. Вечером он, несмотря на сильную лихорадку, пришел в столовую, чтобы вместе с Ли прислуживать хозяину. Тот обедал один. Меринос, надев белую ливрею[123] и тапочки на мягкой подошве, двигался бесшумно и недурно справился со своим делом. Он отлично знал, что требуется от хорошего слуги — ведь лакеи окружали его с детства! Эти знания пригодились ему теперь, и его сноровка неимоверно изумляла Ли, быть может возбуждая в нем зависть. Хотя все тело болело, Меринос не утратил наблюдательности и отметил, что обед роскошный, блюда одновременно изысканны и грубы. Ли подал ароматное жаркое с картофелем, а Меринос— соусник, полный красноватой подливки, издававшей едкий, кисловатый, странный запах. «Но это же пюре из раздавленных муравьев», — подумал американец, украдкой заглянув в соусник. Ну конечно же! В этих местах подобная приправа — дело обычное. Толченые муравьи — любимое угощение австралийских вождей. Это nec plus ultra[124] соусов для каннибальских пиров. Если угодно знать, для этих гурманов особо ценимый кусок — человеческая рука или нога с муравьиными яйцами. К ней обязательно подают подливку из толченых пахучих насекомых, это и есть национальное блюдо. Но тогда этот «хозяин»… несмотря на окружающую его роскошь и явную образованность… неужто он?.. Меринос, не имея представления о привычках и обычаях варварских народов, все-таки интуитивно содрогнулся, прикоснувшись к соуснику с красной подливой. Первый день рабства, который начался так ужасно, закончился, впрочем, мирно. Китаец отвел разбитого, горящего лихорадкой янки в свое помещение, угол пещеры, вся обстановка которого состояла из двух циновок, сундука и нескольких кувшинов с водой. С нездоровой жадностью приник к одному из них Меринос, а напившись, упал без сил на свою циновку. Ли вынул из ящика принадлежности для курения опиума, разжег одну за другой несколько трубок и отбыл в страну грез. Почти тотчас же и Меринос, несмотря на запах горелых тряпок, издаваемый мерзким наркотиком, провалился в сон. На следующий день на заре раздался звонок. Мериносу пришлось приготовить ванну для хозяина. Выпрямившись, как палка, с кровоточащей спиной, с головой, точно обручами сжатой, Меринос должен поторапливаться, не то — снова тростью! Новый звонок — одевание, долгое, тщательное… Этот негр из-под австралийских кустов не чужд изысканности щеголя! Потом прибрать в комнатах, уборной. Звонок все звенит, резко, назойливо. Завтрак, сигара… — Бой, огня! И зубчатое колесо скучных, мелких обязанностей захватило бедного Мериноса, не давая ему ни минуты отдыха, ни минуты покоя. А могло ли и быть иначе? Память о жгучей боли призывала его к послушанию, мешала сопротивляться. Вот и приходилось без передышки, неустанно ловить каждое слово, каждый жест хозяина. За четыре дня американец совсем смирился. По крайней мере его хозяину, наблюдавшему за ним исподтишка, хотелось так думать. Но он не знал, что Меринос с хитростью индейцев апачи[125] смог выкрасть замечательный кинжал, заостренный, как игла, режущий, как бритва. Это оружие, смертельное в решительных руках, он носил под платьем и выжидал случая, чтобы воспользоваться им. Иметь оружие означало возможность мести, а может быть, даже свободу!.. При этой мысли, внушающей надежду, сердце билось чаще, а ужасная жизнь казалась не такой уж отвратительной. Несмотря на ежеминутные хлопоты и заботы, одиночество очень угнетало янки. Вот если бы Тотор был здесь! Хотя бы узнать, что с ним, получить какую-нибудь весточку о дорогом друге, энергия, храбрость и веселость которого так поддержали бы его! Но никаких новостей. Да и от кого их дождешься? От китайца Ли? Меринос так и не смог вытянуть ни словечка из этого флегматичного и коварного болванчика. Между прочим, не вселилась ли в него проклятая душа хозяина? Окруженный стеной молчания, Меринос вынужден был запастись терпением и ждать. Время шло, и неизвестность стала волновать его. Но вот однажды ночью, когда в опиумном дыме янки спал глубоким сном на своей циновке, он проснулся в испуге, почувствовав, что его грубо схватили чьи-то сильные руки. Меринос кричал, отбивался, думая, что пришел последний час. Его подняли, несли в темноте, потом, как вещь, сунули в какое-то тесное помещение, настоящий каменный мешок. Никаких других неприятностей, ни одного произнесенного слова. Он ничего не видел, ничего не ощущал и понял только, что его бросили в карцер. Зачем? Американец абсолютно ничего не понимал. К тому же его даже не обыскали, и под одеждой у него по-прежнему хранился выкраденный кинжал. Меринос терялся в догадках и сперва не смел даже пошевелиться, чтобы не провалиться в какую-нибудь трещину. Мало-помалу его глаза привыкли к темноте, и он разглядел, что лежит в подземной галерее шириной метра в три, довольно высокой и очень длинной. Юноша приподнялся, медленно, с бесконечными предосторожностями пополз на четвереньках, ощупывая тонкий песок под собой и скальные стены. Нигде не было ни трещин, ни проломов. Меринос продвинулся таким образом метров на тридцать и остановился. Осыпавшиеся камни преградили ему дорогу. Он вернулся обратно, сел и мысленно сказал себе: «Какого черта им надо? Зачем меня так запрятали? Хотят уморить здесь голодом? Маловероятно: они и так могут в любой момент избавиться от меня. Значит, я стесняю их. От меня желают что-нибудь скрыть?» Такой ход мыслей показался ему разумным, и он стал ждать. Прошли долгие часы. А вот и нечто новое! Луч света показался у входа в темницу. Дверь приоткрылась и снова быстро закрылась. В мгновение ока невидимая рука поставила на пол воду, кусок холодного мяса и полную корзину печенных в золе плодов ямса[126]. Первый и очень приятный вывод: его не собираются морить голодом. Успокоившись и поев, Меринос уснул. Время шло; узник не знал, ночь или день. Он потерял представление о времени и не мог догадаться, что происходит наверху. Единственное проявление жизни — появление пищи. Остальное — мрак, тишина, могильное одиночество. Американцу начало казаться, что он провел так целые годы, когда однажды в конце пещеры, над обломками обвалившихся скал, замерцал слабый свет. В чем дело? Удивленный Меринос прошел к месту обвала и стал взбираться на камни. Он полз, карабкался и через полчаса, после нечеловеческих усилий, достиг узкой трещины. По мере того как молодой человек подвигался вперед, мерцание усиливалось. Действительно, свет исходил отсюда, из дыры, образовавшейся недавно в результате новых обвалов. Обливаясь пóтом, задыхаясь, он наконец взобрался на один из камней, прижался лицом к отдушине и чуть не вскрикнул от изумления. Перед ним был громадный зал, нечто вроде естественной крипты[127], ярко освещенный факелами, вставленными в приделанные к стенам железные лапы. От одного края зала до другого тянулись ряды столов, заставленных бутылками и кушаньями. Около сотни более или менее неряшливых людей сидело за ними. До него доносился смутный шум голосов… Жадное чавканье, бульканье крепких напитков, лившихся из полных стаканов, сопутствовали речам. Восклицания, призывы, проклятия… Порой раздавались приветственные крики — когда появлялись новые посетители, входившие непонятно откуда, будто через стену. «Что же это означает? — подумал юноша. — Кто эти люди и откуда они?» Недалеко от себя, в хорошо освещенном углублении слева, Меринос заметил трех часовых. Один был вооружен револьвером, другой — топором, третий смотрел и прислушивался. Вот раздались четыре глухих удара: два и два. Средний из трех сторожей слегка нажал на стену; тотчас же часть скалы бесшумно повернулась, открыв отверстие. Там возник человеческий силуэт. Новый посетитель. Один из часовых приставил револьвер к его груди. Другой поднял топор. Средний протянул руку и шепнул несколько слов, вероятно, это условное касание и пароль. Действительно, новый гость пожал руку, сделал какой-то знак и ответил на слова. Это длилось несколько секунд. Отзыв правильный — человека пропустили; его узнали и приняли с радостным криком: — Да это Джим! Ура Джиму! За твое здоровье, товарищ! Давай выпьем! Проход был закрыт и почти сразу же открыт снова после нового стука снаружи. Та же церемония повторялась много раз. Люди появлялись, обменивались знаками, немногими словами, входили в зал, и гостей встречали криками. — Да это Наб!.. Это Джек!.. Это Алек! Ура!.. Ура! Скорей стакан, тарелку! Пейте и ешьте, товарищи! Главное — пейте! Начавшись задолго до сделанного Мериносом открытия, съезд гостей длился уже свыше трех часов. В крипте скопилось более трехсот человек, все в широких фетровых шляпах, в шерстяных расстегнутых на груди рубашках, в желтых сапогах со шпорами. Бородатые, растрепанные, с хриплыми голосами — настоящие бандиты, вооруженные с головы до пят. Они ели и пили, сквернословили и курили, пока в подземный зал не принесли высокий — метра в два — деревянный помост; сооружение это застелили красным ковром и водрузили на него три стула, средний — повыше остальных. Все стихло. Со стороны, противоположной входу, показались три человека. Они важно направились к помосту, поднялись по маленькой лесенке и уселись с поклоном. Раздались бешеные рукоплескания. — Председатель, председатель Ден! Ура Дену! Да здравствует Ден! — закричала толпа. Меринос вскрикнул, но, к счастью, в царившем шуме его не услышали. В председателе этого странного сборища Меринос узнал метателя бумеранга, своего тирана! Хозяин слегка наклонил голову и заговорил с большим достоинством, высокомерно и повелительно, но крики восторга заглушали его голос. Председатель обратился к своим помощникам, но те лишь бестолково размахивали руками. Теряя терпение и не имея звонка — непременного атрибута председателя собраний, он нетерпеливо выхватил из-за пояса револьвер и несколько раз разрядил его прямо перед собой. Пули свистели, рикошетом отскакивали от стен и, расплющенные, падали на пол. В ответ на такое изобретательное, громом прогремевшее «Quos ego!»[128] воцарилась тишина. Ясным, звучным голосом, заполнившим всю пещеру, Ден сказал людям, растерявшимся от такого вступления: — Добро пожаловать, товарищи. Великое собрание бушрейнджеров открыто… Время дорого. Слушайте меня.
ГЛАВА 5
Разбойники в стиле модерн[129]. — Страшный союз. — Угроза. — Противник. — Война. — Меринос слышит, что говорят об отце. — Король шерсти приговорен. — Состязание на ножах. — Первая дуэль Мериноса. — Победитель.Громадная территория Австралии изобилует плодородными долинами и безжизненными пустынями; золотыми рудниками, чудесными лесами, райскими пастбищами и песчаными степями; великолепными городами. Скороспелая рафинированная цивилизация, и тут же — людоеды, погрязшие в скверне. Диковинные животные, а рядом с этим царством первозданности — процветающая промышленность. И… абсолютное дикарство! Постоянные, острые противоречия между всем и вся. Явный анахронизм: люди двадцатого века действуют на фоне доисторических декораций. Такую краткую характеристику можно дать Австралии. Это страна мечтаний, чудес и парадоксов[130], в которой еще ничто не отлилось в неразрывное целое. Повсеместно тут можно наблюдать столкновение идей, интересов, слияния которых можно ожидать лишь через века. Это также страна невиданных махинаций, упорного труда, свалившихся с неба состояний, громких разорений, безумных надежд, смертельных просчетов. Ибо золото, шерсть, медь, лес, скот порождают миллионеров, а среди стольких званых слишком мало избранных! Есть еще неотразимый соблазн быстрого обогащения, который превращает плодородную землю в приманку для всяких авантюристов, в арену, где борются за выживание хищные одиночки, негодяи с загребущими руками, бандиты с акульими аппетитами. Весь этот пестрый сброд и образует страшный союз бушрейнджеров. В переводе с английского bush — куст, и ranger — бродяга, скиталец. А вместе — неологизм, вполне подходящий для обозначения стоящих вне общества мародеров. Они воруют, грабят, а при случае пускают в ход ножи и револьверы. Настоящая чума здешних мест! Их аппетиты постоянно росли, а времена наступили суровые, и эти бродяги, некогда одиночки, обложенные со всех сторон, ради самозащиты и процветания создали свой синдикат. Они образовали союз вольных бушрейнджеров, который вскоре стал всемогущ. Теперь его сеть раскинулась по всей стране, и горе угодившим в эту сеть! Австралию планомерно грабят и обирают. У союза есть свой бюджет, кассы — взаимопомощи и пенсионная, свои чиновники, начальство и даже почетные члены! К бушрейнджерам охотно примыкают представители всех кругов и сословий: подпольные фабриканты, вылетевшие в трубу торговцы, разорившиеся негоцианты[131], потерпевшие неудачу скотоводы, бездельники, авантюристы, прожигатели жизни. Они исповедуют абсолютное равенство между собой, подчиняются законам, которые сами установили, отдавая должное лишь превосходству ума, диктату кулака и… профессиональной ловкости. Есть в союзе и просто отбросы общества — хулиганы, проходимцы (larrikin — называют их в Австралии). Законченный, красочный тип воришки, наглого бездельника с хорошо подвешенным языком! Подобных, впрочем, немало нашлось бы в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Все в этом мирке тесно связаны, легко узнают «своих» — благодаря паролям, пропускам и условным знакам. Один из таких знаков — буквы Б. Р., сокращенное «бушрейнджер», в сопровождении пятиконечной звезды. Такую эмблему можно встретить повсюду, где орудуют эти проходимцы, они нередко используют ее и в собственном быту — в виде украшений, татуировки, метки на белье, инкрустации на оружии или клейма на копытах лошадей. Само собой разумеется, что у них прекрасная полиция, даже туземная, из тех, кого колонисты притесняют и безжалостно уничтожают. Эти парии[132], которых бушрейнджеры защищают и в то же время спаивают, верно служат им разведчиками. Мудрено ли, что союз превратился в большую силу! Рудокопы, скотоводы, земледельцы, торговцы и промышленники — все платили бушрейнджерам дань. Не подчиниться их требованиям было бы безумием. Некоторые решались на это, но тогда… копи взлетали на воздух или затоплялись, оборудование уничтожалось, рабочие разбегались, скот погибал. Еще немного — и непокорные обнаруживали, что леса их опустошены, верфи сожжены, а сами они — окончательно стали нищими. Приходилось смиряться и платить десятину! А что же правительство? Оно оказывалось бессильно: злоумышленники, прекрасно организованные, умело скрывались от преследований… Но была еще одна причина, совершенно невероятная для нас, жителей Старого Света, по которой беспомощное правительство иногда умышленно закрывало глаза на бесчинства бушрейнджеров. Оно предпочитало, чтобы пустыни и неисследованные земли доставались бандитам, чем оставались ничьими! Волей-неволей бушрейнджеры ведь открывают новые месторождения и даже защищают колонистов, которых они же и эксплуатируют. Конечно, они орудуют не в белых перчатках… Но вспомните, первыми поселенцами Австралии вообще были каторжники, по сути дела, предшественники бушрейнджеров. А теперь вернемся к сборищу в пещере. Ден открыл пленарное заседание главарей. — Братья, — сказал президент, — вы явились на мой призыв, благодарю вас. Но, поверьте, нужны были очень важные обстоятельства, чтобы я решился созвать вас со всех концов Австралии. Пьяный голос глухо проворчал: — Правильно, я скакал десять дней и ночей… до изнеможения. — Тише! Кляп ему в глотку! — Да, — повторил хозяин, — из-за пустяков я не стал бы собирать вас здесь, в нашей крепости и главном убежище. Речь идет о нашей жизни и смерти. Послышался ропот, восклицания: — Не может быть! Неужели? Проклятье! Кто осмелится на нас напасть? Горе тому, кто тронет нас! — Да, братья, — продолжал Ден, — само существование союза под вопросом. Нам грозит разорение и гибель! Поднялся невообразимый шум, крики. Негодяи боялись потерять краденое благополучие, бесплатные пиршества, безнаказанность, делающую разбой приятным делом. Самые несдержанные вопили: — Мы еще посмотрим!.. Нас много, мы не страшимся ни Бога, ни черта… Можем свергнуть правительство, предать огню и утопить в крови всю Австралию! Бушрейнджеры не пропадут! Повелительным жестом Ден заставил всех умолкнуть: — Тихо! Не смейте прерывать меня! Времени мало, промедление грозит бедой… Тихо же! В мире есть человек богаче Пирпонта Моргана[133], Джея Гульда, Эндрью Карнеги[134], всех Ротшильдов[135] вместе и даже самого Рокфеллера![136] Он еще молод, храбр, как самые отважные среди нас, лучший бизнесмен среди магнатов промышленности и финансов… Я говорю о Сидни Стоуне. — Стоун! Король шерсти! — зазвучало в зале. До сих пор, приникнув к трещине, Меринос внимательно слушал. Услышав же имя, которое он никак не ожидал здесь услышать, он отпрянул, сердце готово было выскочить из груди. — Они говорят об отце! — прошептали его губы. — Так вот, — снова заговорил председатель, — этот король шерсти поклялся уничтожить нас… — Почему? Как так? Послушай, Ден, с чего бы это? Никто не будет воевать ни с того ни с сего с такими молодцами, как мы! — Ну и простаки же вы! Король шерсти прежде всего деловой человек, и уничтожение бушрейнджеров разом принесет ему больше тридцати пяти миллионов франков. Вот почему: в прошлом году из Австралии было вывезено за границу шерсти приблизительно на семьсот миллионов. С этой цифры мы, понятно, взяли обычный налог — пять процентов, то есть кругленькую сумму в тридцать пять миллионов. Ведь имеем мы право красиво жить, не так ли? Теперь Сидни Стоун, желая ради своей выгоды учредить шерстяной трест, не только заранее закупил весь запас шерсти, но и все, что должно быть настрижено потом. — Ну и что? Нужно и с него взять дань, как мы это делаем с мелкими закупщиками, — сказал кто-то. — Как бы не так! Я сразу послал к нему одного из агентов, и тот предъявил ему наши требования, которые должны почитаться выше закона. А что сделал Стоун? Ударил ногой моего посланца так, что у того застряло слово в глотке, и засадил в тюрьму за шантаж! — Проклятье! И этот наглец еще жив?! — Да. Ни денег нам, ни почтения! Он попросту смеется над нами. Стоун объявил нам войну, беспощадную войну! О, этот человек не теряет времени даром! Закупленные им газеты начали против нас ожесточенную кампанию, которая ведется умело, по-американски; общественное мнение на его стороне. Правительство, принужденное действовать, мобилизует милицию. Промышленники тоже организуют сопротивление. Сегодня нас уже ищут. Завтра — выследят, выдадут, удар будет нанесен! Недели три тому назад два сыщика из туземной полиции были всего в каких-нибудь двадцати милях отсюда. Тогда же один предатель намеревался выдать им тайну нашего убежища… но я велел повесить его за ноги у Соленого озера на бутылочном дереве. Но дело не только в нем! В течение двух недель я притворялся праздным путешественником, встречался с пастухами, стригалями, владельцами складов, промывщиками шерсти, извозчиками. И что же я выяснил? Они далеко не такие послушные, как раньше! Еще дрожат, но нет былого ужаса перед бушрейнджерами… уже готовы к бунту. Это тоже влияние шерстяного короля, через месяц они у него все в кармане будут! — Нужно захватить его, — прервал один из бандитов, — пытать, заставить вернуть добычу… с кровью выплюнуть те миллионы, что он у нас украл. Ведь он только человек, а разве мы не брали городов, не опустошали их? — Да, но у него одного сил не меньше, чем у Австралийского Союза, он богаче короля Эдуарда! — ответил Ден. — Попробуйте до него добраться — он на вооруженной яхте, в заливе Порт-Филлип! — Значит, мы пропали… придется исчезнуть… стать бедняками, «честными людьми», — раздалось несколько голосов. — Нет еще, — ответил Ден. — Есть еще одно средство, чтобы отвратить бедствие. — Какое?.. Скажи!.. Ты же хозяин, мы тебе верим!.. Приказывай! — Я знаю, что могу на вас рассчитывать. Слушайте же: в нашем почти отчаянном положении поможет только крайнее средство — террор! Прежде всего мы должны совершенно сознательно, до конца методично уничтожить то, чем мы кормимся, — шерстяную промышленность. При этих словах, которых никто не ждал, бандиты онемели от ужаса. Они еще не понимали, куда клонит хозяин и каким образом полное разорение может породить благополучие. — Нужно, — хладнокровно продолжал их властелин, — окончательно истребить стада. Увозите пастухов, убивайте их собак, валите изгороди, отравляйте водопойные ямы, поджигайте прерии, фермы. Главное, уничтожайте склады и магазины шерсти… Пусть не останется ни одного тюка! — Но, — сказал кто-то, — это разорение и для них, и для нас! — Глупец! Голландцы спасли свободу, прорвав свои плотины[137], Америка заставила капитулировать Англию, выбросив в море чая на много миллионов[138]. Наконец, разве трава в сожженных прериях не отрастает гуще и сочней? — ответил Ден. — Так будет и с шерстяной промышленностью! — Согласны! Только чем мы будем жить? — Наш запасный фонд достигает пятидесяти миллионов! Деньги эти спрятаны, мы пустим их в дело. Кроме того, другие отрасли будут платить нам из страха, чтобы избежать подобного несчастья… А мы им поможем убедиться, что страхи не напрасны. Не бойтесь, с голоду не помрете. А король шерсти ничего не получит. Он, конечно, рассчитывал на понижение цен, мы вызовем их повышение. Цена взметнется высоко! И не только в Австралии, но на всем зарубежном рынке. Результат не трудно представить. Наш враг разорится, а мы завоюем себе покой на много лет. Всем ясно, братья? Собрание разразилось бешеными криками одобрения. Конечно, они поняли адский план повелителя, который, казалось, воплощал в себе мировое зло. А сама суть плана прекрасно согласовалась с их отвратительными привычками, так что бандиты были в восторге. Разразилась буря ликования. Звучали радостные крики вперемежку с крепкими словечками: — Уррр-а-а-а господину! Браво! Прекрасно сказано! Да, будем разорять, опустошать, обирать всех, беспощадно! Смерть тому, кто встанет на пути! Какая дикая радость — губить фермеров, в несколько дней порушить все, что они создали за годы терпеливого, грандиозного труда! Когда шум немного затих, Ден произнес нечто вроде заключительного слова: — Значит, война объявлена, война без перемирий и без пощады! Война людям и вещам! Отправляйтесь, братья, немедленно! Несите с собой огонь, уничтожение, смерть! Превращайте Австралию в пустыню. Убивайте любого, кто попытается перечить! А тот, кто бросил нам вызов, гордец Сидни Стоун, пусть побережется! Да, он один из денежных королей, зато я — Король Ночи! С этой минуты выношу ему окончательный приговор! Будет сделано все, чтобы его захватить… Хочу увидеть этого короля со связанными ногами и руками, в моей власти… но пока пусть ни один волос не упадет с его головы. Пусть живет, чтобы страдать и расплатиться с нами. Двадцать пять тысяч фунтов[139] тому, кто поймает его и приведет ко мне живым! Прощайте, братья. Настала ночь! При этих словах чернокожий главарь медленно встал, поднял в приветствии руку, сделал знак своим помощникам, которые все время сидели неподвижно, как каменные, и все трое покинули помост так же таинственно, как появились. Оставшись одни, бушрейнджеры переглядывались в оцепенении. Не слышалось больше ни криков, ни проклятий. Они только повторяли вполголоса слова, имевшие для них глубочайшее значение: «Настала ночь!» Это был тайный и страшный знак начала истребления, который отменял любые запреты, освобождал сборище душегубов от всякой дисциплины. Словом, это был военный клич бушрейнджеров. Теперь мокрый от пота, задыхающийся Меринос знал правду во всем ее безмерном ужасе. Ему уже нечего было делать в темной пещере. Пока разбойники уходили через открывшийся проход с подвижной скалой, он отполз от трещины, в которой погас последний свет. Истомленный, беспредельно уставший, он прополз через завалы, думая лишь об одном: поскорей добраться до той части пещеры, которая служила тюрьмой. Его внезапно обожгла одна мысль: «О, Боже! Лишь бы они не заметили моего отсутствия! Тайна, в которую я проник, смертельно опасна… Я пропал, если у них будет хотя бы смутное подозрение! Я должен жить, чтобы спасти отца… спасти всех и предотвратить несчастье. Во что бы то ни стало мне нужно разыскать Тотора, все рассказать ему и найти средство выбраться отсюда!.. О, свобода!» Ощупью он добрался до двери и стал искать, не принесли ли ему еды во время его отсутствия. Нет, ничего! Его таинственный кормилец еще не приходил. Он удивился, считая, что сборище бушрейнджеров длилось долго. Потом, сломленный усталостью, лег на песок и заснул. Сколько времени длился тяжелый сон? Бедный молодой человек не мог дать себе отчет в этом, когда проснулся от жестокой боли. Безжалостный удар по тому же месту, которое еще болело от недавнего избиения! Он пронзительно вскрикнул и открыл глаза. Его ослепил свет большого фонаря. Перед ним стоял китаец Ли и злобно смеялся, размахивая тростью и собираясь ударить вторично. Кровь бросилась американцу в лицо, его охватил безумный припадок ярости. Он вскочил и со всего размаха влепил палачу-любителю страшную пощечину. Прозвучала она сухо, точно тарелка разбилась, а ошеломленный китаец завертелся от удара, как волчок. — Ах ты, пугало! Мерзкий урод! — закричал американец. — Ты осмелился поднять на меня руку? Погоди, ты заплатишь мне за все разом… и дорого! Молодой человек встал в боксерскую стойку и нанес Ли два сильнейших удара в грудь. Следовало бы ожидать, что тот полетит вверх тормашками, как кролик от заряда дроби, но китаец, пропитанный желчью и опиумом, устоял. Казалось, он был невозмутим. Но вдруг его челюсти сжались, черные зубы, похожие на битое стекло, скрипнули, змеиные глазки заблестели. Ли быстро отступил и выдернул из ножен широкий нож, который прятал под белой курткой. — Ага, — спокойно сказал Меринос. — Состязание на ножах? Отлично! Сразимся по-честному! Он тоже вытащил свой кинжал, выкраденный у хозяина, и насмешливо добавил: — Подонок, ты думал, у меня такого нет, что я безоружен! Китаец как будто не удивился, но украдкой взглянул на дверь и стал потихоньку, мелкими шажками, подвигаться к ней, чтобы сбежать. Меринос понял, что если упустит Ли, то погибнет. Одним прыжком янки очутился подле двери, загородил ее и глухо проворчал: — Злодей, я не выпущу тебя отсюда живым! Поняв, что его хитрость не удалась, Ли храбро решился драться, но по-своему. Вероятно, подумал Меринос, он опасный противник. Сверкая глазами, китаец весь сжался, присел на корточки и вдруг выпрямился, точно на стальных пружинах. Опустив голову, закрывая одной рукой лицо, а другой, полусогнутой, готовясь нанести удар, он пулей бросился вперед. При свете фонаря Меринос увидел, как лезвие ножа Ли молнией блеснуло по направлению к его животу. Но как опытный боксер, американец привык ко всем финтам[140] и неожиданностям. К тому же он сохранял хладнокровие и, кажется, забыл, что его собственная жизнь висит на волоске. Меринос оказался проворней китайца и отпрянул в сторону. А кинувшийся вперед с опущенной головой Ли не мог остановиться. Он чуть не задел противника, но пролетел мимо. Его нож поразил пустоту. В ту же секунду американец, не размышляя, нанес сильнейший удар. Он почувствовал, что его нож на что-то наткнулся и услышал глухой хрип. Ли упал ничком и замер. Несколько секунд стояла трагическая тишина. Китаец убит? Только ранен? Притворился? Юноша, сжимая рукоятку кинжала, поднял фонарь и осторожно подошел к распростертому на земле телу. Тонкая струйка крови стекала с затылка по черной косе. Меринос нагнулся. На задней части черепа, под затылком, он увидел маленькое отверстие. Кинжал попал в мозжечок[141], и Ли умер мгновенно. Молодой человек почувствовал, что дрожь сотрясает его с головы до пят, но, собрав все силы и мужество, сказал себе: — Верно, я его убил… Но я всего лишь защищал самое дорогое, что у меня есть, — свою жизнь!
ГЛАВА 6
Что придумал Меринос. — Как можно воспользоваться фальшивой косой. — Нежелательная встреча. — Прерванная беседа. — Схватка. — Немного соляной кислоты. — Сломанный кинжал. — Не болтай лишнего! — Тревога! — Бегство. — Помощник. — Тотор взволнован.Меринос полностью овладел своими нервами и бестрепетно смотрел на бездыханную оболочку врага. Еще так недавно этот человек суетился, ненавидел, угрожал… Невредимый, но сильно обеспокоенный, янки задавал себе вопрос: — Что теперь делать? Он был вынужден обороняться, но кто здесь посчитается с его законной самозащитой! Как же быть? Конечно, надо бежать! Мыслимо ли? Ведь его тотчас узнают, схватят и отведут к хозяину. А тогда — без разговоров — неотвратимая казнь. Остаться в подземелье? Но как объяснить смерть китайца, душой и телом преданного своему властелину?.. Попробуйте втолковать его хозяину священную необходимость и неизбежность происшедшего? Порассуждайте с этим бездушным бандитом, вспыльчивым как порох! Да для него жизнь пленника — и вообще чья-то жизнь — не ценнее ничтожной козявки! Меринос задумался на минуту и решился на смелый поступок. Не стоит удивляться: необходимость — суровая школа выдержки и инициативы! — Все! Не колебаться! Да, именно так! Сам Тотор не смог бы придумать лучше! Американца озарила идея, довольно неожиданная. Он поспешно снял с покойника мягкие сапоги из черного войлока с толстыми белыми подошвами и загнутыми носками. Раз-два! Готово! Потом настала очередь шапочки и длинной, до пояса, косы китайца, которую Меринос принялся перепиливать кинжалом. Завершив это странное дело, он взвалил на плечи труп, не без труда поднял фонарь и, согнувшись под тяжестью, пошел к концу подземелья. Среди обвалившихся камней Меринос отыскал большое углубление в почве, скинул в него тело, завалил камнями и песком. Но этого было недостаточно. Тогда он сдвинул все глыбы, которые мог перекатить на это место, получился настоящий холм. Теперь убитого найдут еще не скоро. Правда, на песке остались следы, но американец решил, что в этой путанице никто не разберется. Не стоит тратить времени на их уничтожение. Задыхаясь, обливаясь потом, он вернулся к месту схватки. В два счета натянул войлочные сапоги на свои белые штаны, одной рукой приложил к голове косу китайца, а другой надвинул до самых глаз китайскую шапочку. Прижатая ее краями коса выглядела естественно и держалась крепко. Так янки превратился в подданного Поднебесной империи[142]. Правда, выдавало лицо. Но кто разглядит ночью, особенно издалека? И он сказал себе: — В общем, у нас одинаковая одежда, а с шапочкой, косой и сапогами я, возможно, сойду за болванчика. Попробовав ходить вразвалку, как китайцы, Меринос взял фонарь, потом выбрался из своей тюрьмы, закрыл за собой дверь и мелкими шажками побежал вперед. Стояла спасительная темнота, но перед пещерой, оказывается, была широкая площадка, где наслаждались прохладой человек десять. Покачиваясь в креслах-качалках перед столом, уставленным бутылками, бандиты курили и шумно разговаривали. О, проклятье! Защищенные стеклом свечи ярко освещали все вокруг. Меринос содрогнулся до мозга костей. Придется пройти мимо них. Боже, что будет, если кто-нибудь повторит обычную глупую шутку — дернет китайца за косу, как за шнурок звонка?! А если они что-нибудь заподозрят? Ведь он, Меринос, выше Ли, шире его в плечах. В довершение всего кто-то грубо пригласил его подойти, выпить стаканчик. Меринос отрицательно помотал головой. — Как? Не хочешь пить? Ты что, заболел? — Оставь, он бежит курить свой опиум, — возразил другой собутыльник. — Каждый волен наслаждаться по-своему. О, ужасное мгновение… Мериносу хотелось помчаться во всю прыть или исчезнуть, но нужно было играть роль, семенить ногами, согнув спину. Наконец-то американец вышел из освещенного круга. Он так хорошо подражал китайцу, что никто не заподозрил обмана. Но повезло и беглецу: все были пьяны. Юноша глубоко вздохнул, погасил фонарь и сказал себе: — Удачно выкрутился! Неплохое начало… но теперь нужно найти Тотора, а это непросто. Он пошел дальше, пытаясь припомнить расположение строений. К сожалению, Меринос никогда не видел их вблизи и не знал ни их назначения, ни расположения. Куда же стучаться? Кого спросить? Ведь он ни разу не выходил из апартаментов хозяина, который зорко наблюдал за пленником. Американец по-прежнему продвигался мелкими шажками, боясь наткнуться на каких-нибудь ночных бродяг, крался вдоль стен, с надеждой всматривался в темные фасады: — Может быть, здесь? Поиски затягивались, а Меринос ничего не находил. Им овладело отчаяние, потом пришел и страх, неясный, животный страх, который подмывал его убежать как можно дальше, спрятаться, — инстинкт затравленного зверя… Он хотел уже подчиниться велению натянутых как струна нервов, но вдруг услышал вдалеке человеческий голос. Это была веселая песенка парижского гавроша, в которой каждый куплет заканчивался фантастическим тирольским[143] припевом: «Ти-ла-ли о ла! Ла-у-ли ла у!» «Это Тотор!» — подумал янки, и сердце его заколотилось. Он побежал вперед и оказался перед домом, точнее мастерской. За верстаком, освещенным лампой с рефлектором, у тисков работал Тотор. Наслаждаясь ночной прохладой, такой приятной в этом климате, друг Мериноса подгонял какую-то деталь. Вот он прервал вокализ[144] и стал насвистывать под скрежет напильника, который выгрызал из металлического бруска мелкую стружку. Янки пододвинулся к окну, полузакрытому шторой, и прошептал: — Тотор, скорее впусти… это я. От неожиданности парижанин уронил напильник и вскрикнул: — Ты?! — Тише! Без шума! Скорей открой! Тотор радостно бросился к двери: — Так это ты! Как здорово! Иди за мной, да не зацепись за железки! Меринос вошел в мастерскую. При свете лампы Тотор сразу увидел его нелепый наряд и захохотал как сумасшедший. — Меринос, друг мой, как я счастлив… и какой ты смешной! — говорил Тотор, прижимая его к груди. — Тотор… Тотор… Ах, если бы ты знал… — ответил Меринос, — до чего я рад! Столько искал тебя, совсем отчаялся… — Ой, что это? — прервал его француз. Дружеские объятия что-то нарушили в наряде беглеца. Нечто холодное и дряблое упало на руку Тотора, он нагнулся и захохотал еще сильнее. — Фальшивая коса! Где ты ее раздобыл? Может быть, Ли подарил на память прядь своих волос? — Я только что убил и похоронил его! — Ага, значит, мелодрама всерьез! — Да, все ужасно… — Ну, особенно не волнуйся! Мы же повидали виды с тех пор, как нырнули с «Каледонца»! — Это еще цветочки были, Тотор! Если б ты знал, как все усложняется, запутывается! — Тогда это уже не мелодрама, а полная мело-каша! — Ты не умеешь быть серьезным, а между тем… — Серьезности — ни на грош, но, знаешь, это не мешает соображать, когда надо. Теперь из предосторожности потушим огонь и поговорим шепотом в темноте. Парижанин задул лампу и добавил: — Пойдем, сядем в глубине моей фабрики, в двух словах расскажешь свою историю. Покороче, потому что мы должны illico[145] составить план действий, а не киснуть здесь. Друзья сделали несколько шагов, и вдруг американец остановился, пораженный: кто-то громко храпел в темноте. — Мы не одни? — прошептал Меринос. — Ничего, — ответил парижанин, — это Бо дрыхнет. Знаешь, тот черненький, которого я угостил ударом под ложечку. Я приручил его… Невероятная история… Потом все расскажу… Нужен был помощник, хозяин разрешил… Мне удалось подружиться с ним, он предан мне, как собака. Но довольно. Скажи, почему же ты убил китайца? — Меня заперли в пещере, уж не знаю с каких пор, не видел ни живой души, даже тех, кто бросал мне еду. А недавно я крепко спал, пришел Ли и стал полосовать меня тростью… Я рассвирепел… Он был вооружен, я — тоже… Он убит, вот и все про него. — Хозяин вернулся вчера. Наверняка Ли приходил за тобой по его приказу. — Возможно. Но дай рассказать о моем открытии. Я узнал тайну этого бандита… О, это ужасно! — Никогда ему не доверял! Продолжай… В эту минуту их прервал надрывный собачий лай, который раздавался совсем близко, у дверей, но отзывался эхом даже от гор. Бо моментально проснулся и вскочил со своего ложа из сухой травы. Меринос инстинктивно обнажил кинжал, а Тотор бросился искать заточенный трехгранный напильник, припрятанный на случай отчаянной борьбы, но тот куда-то задевался… И вот яркий свет осветил снаружи мастерскую. — Беда! По твоим следам пустили собаку. Мы попались. Дверь отворилась. Показался человек. Одной рукой он держал на поводке чудовищно крупного дога, другой — смоляной пылающий факел, который трещал и дымил. Собака яростно рвалась с поводка. — Тихо, Цезарь, тихо, — проговорил вошедший, изо всех сил сдерживая собаку, и, оглянувшись назад, прибавил: — Видите, хозяин, они в наших руках. Тотор и Меринос увидели предводителя бандитов, тоже с факелом. Его темное лицо дышало сатанинской злобой. — Будет тарарам, — сказал негромко Тотор, — внимание! Собакой займусь я. Ден тоже разглядывал их. Он зловеще рассмеялся и крикнул: — Что это? Вы смеете противиться мне, недоноски? Букашки, которых я одним пальцем раздавлю! Идти за мной! Не пытайтесь сопротивляться. И никаких хитростей, не то собака сожрет вас живьем. При этих словах Меринос, охваченный диким бешенством, воскликнул: — Так нет же, я не сойду с места, разбойник! — Как хочешь, мой мальчик, — холодно ответил глава бушрейнджеров. — Боб, спусти-ка Цезаря. Цезарь, пиль! Смелей! Дог, настоящий лютый зверь, уже унюхал белую кожу. Едва его спустили, как он с рычанием кинулся вперед, открыв страшную пасть. Тотор нырнул в темноту, а когда тут же показался вновь, в его руках была большая фаянсовая кювета[146], до половины заполненная желтоватой жидкостью. В тот момент, когда пес бросился на него, парижанин выплеснул ему навстречу содержимое сосуда и закричал: — Глотай живьем! И умойся! В кювете было около двух литров очень крепкой соляной кислоты, которой Тотор протравливал металлические детали. Едкая кислота попала прямо в собачью морду. Шерсть, кожа, глаза тотчас словно закипели пузырями и затрещали, как на горячей сковородке. Обожженное чудовище перевернулось в прыжке и упало, визжа, будто ободранное заживо. Хватило всего нескольких секунд. Что за молодец, этот Тотор! Какое хладнокровие и какое мужество! Боб схватился за револьвер, но выстрелить не успел. Парижанин согнулся и прыгнул головой вперед. Его противнику досталось под ложечку — как ядром из пушки! Он раскинул руки и упал без чувств. Вот что значит ударить головой по-бретонски! Тотор подхватил выпавший из рук бандита факел и воскликнул: — Марионетка сломалась, нитки порвались! Двоих уж нет! А ты говорил, что мы букашки! Во время этой короткой схватки Меринос тоже не бездействовал. В тот момент, когда Тотор сносил с ног бушрейнджера, американец храбро бросился на его командира, который, несмотря на свое бесстрашие, остолбенел. Геройская защита молодых людей положительно ошеломила его. Наверное, впервые главарь был в растерянности, ибо рассчитывал на легкую победу. Уповая на силу, подкрепленную оружием, ощущая за своей спиной целую армию, он думал, что достаточно показаться, сделать знак — и эти двое нашкодивших щенков в страхе побегут за ним, скуля. Но перед ним были львята с когтями и зубами, уже такие же опасные, как и их родители! Американец в приступе ярости бросился на Дена, занеся кинжал. У того не оказалось времени даже шевельнуться, хотя бы прикрыть грудь. Меринос с налета ударил его под сердце, воскликнув: — Негодяй, ты хотел разорить и замучить моего отца! Умри же! Сила удара была такой, что черный гигант пошатнулся. Янки счел, что насквозь пробил ему грудь… Увы, лезвие сломалось и разлетелось осколками, точно попав в гранитную глыбу. У бедного юноши в руке осталась всего лишь безобидная рукоять из эбенового дерева, инкрустированная серебром. Противник захохотал и с насмешкой произнес: — Глупец, разве ты не знаешь, что Король Ночи неуязвим? — Но он не несгораем! — вмешался Тотор. У него не было другого оружия в руках, кроме поднятого с земли горящего смоляного факела. Его-то он и прижал к лицу темного колосса. — Как бы у тебя нос не обгорел! Борода вспыхнула, опаленная кожа побурела. С хрипом агонизирующего пса смешались вопли негодяя. Закрыв обожженное лицо руками, главарь отступил. На мгновение ему показалось, что он ослеп, но, открыв глаза, Ден убедился, что видит. А раз зрение уцелело, вернулось и самообладание. Он отбежал в темноту, и оттуда послышался его дьявольский смех. — Ха-ха! Мой лакей — сын шерстяного короля! Ха-ха! Не следует так много болтать, мальчик! Такой заложник стоит миллиарда!.. Ты станешь приманкой, на нее и клюнет твой негодный папаша! — Проклятие, — крикнул Меринос. — А ведь я ударил его изо всей силы! — Партия откладывается! — хладнокровно заметил Тотор. — В следующий раз бей в лицо или в горло… — Что же теперь делать? — спросил Меринос, сжимая кулаки и топая ногами от ярости. — Бежать, не отвлекаться пустяками! — Без оружия? — Вот этот покалеченный одарит нас, — ответил Тотор. Он наклонился к поверженному его ударом Бобу и вынул у него из-за пояса кольт и bowie-knife[147]. — Бери ножик, я возьму револьвер, и — ходу! — спокойно сказал француз. — Через пять минут здесь будет слишком шумно. В самом деле, Ден убежал, громко сзывая клан бандитов: — К оружию! Все сюда! Окружайте строения… В мастерскую! Из-под земли достаньте моего белого слугу и механика-француза! Взять живыми! Тысяча фунтов тому, кто их найдет! — Несомненно, здесь будет жарко, — сказал Тотор, — но мы еще не пойманы! Быстро смываемся! Молодые люди побежали спортивным шагом и скоро оказались на хорошо знакомой Тотору дороге, готовые броситься в кусты, если погоня будет близко. Приблизительно через пять минут за ними послышались приглушенные шаги. — Что это? — спросил Тотор, — Стоп! Он остановился, зарядил револьвер и отошел в сторону. В эту минуту перед ним выросла издававшая сильный козлиный запах черная фигура и раздался сладостный посвист, напоминавший пение ночной птицы: — Фью-у! Фью-у! Изумленный и восхищенный Тотор узнал знакомый сигнал — чудесное подражание трелям «мальми», австралийского соловья с лазоревым и пурпурным оперением. — Бо, мой славный Бо! — воскликнул он, дрожа от волнения. — Ты не бросил меня! Тотор не ошибся. Это появился необыкновенный австралиец, дикарь-лицеист, латинист-людоед, который давал о себе знать птичьей песенкой. Он ничего не ответил парижанину,но в темноте отыскал руку француза и прижал ее к своей атлетической груди. Это простое движение было красноречивее всяких слов. Какое странное и трогательное превращение свершилось с ним? Какие воспоминания давно стершегося из памяти прошлого толкнули к двум белым несчастным беглецам этот жалкий обломок слишком высокой цивилизации? Не только волшебная сила алкоголя заставила прирученного кровавого скота жертвовать собой. И не просто обыкновенная благодарность желудка! Тотор почувствовал это. Несомненно, в Татамбо частично пробудился оцепеневший ум, произошла вспышка mens divinior[148], запрятанного в мозгу первобытного человека. Так случайный удар освобождает драгоценный камень из пустой породы или крупицу золота — из гранита. А роль удара сыграли веселая откровенность, дружелюбие Тотора, его мягкость и особенно бесконечная доброта. И вот чудо свершилось. Бо телом и душой теперь с Тотором, окончательно решил бросить своего хозяина — разбойника и больше никогда не покинет юного белого друга, которого он попытается спасти. Парижанин соединил его жесткую черную руку с рукой Мериноса и сказал дрожащим от волнения голосом: — Бо, я люблю этого белого, как брата. И ты полюбишь его? Да? Австралиец проворчал что-то с довольным видом, а Меринос высокопарно сказал: — У меня было большое предубеждение относительно людей твоей расы, Бо, но я совсем их не знал! Благодаря тебе я смогу вернуть им долг признательности.
ГЛАВА 7
Бегство. — Чтобы обмануть собак. — Три часа сна. — Выше колонны на площади Бастилии[149]. — Кхамин. — Как взбираются на пятидесятиметровое дерево. — Двойная ноша. — Невероятный трюк. — Головокружение. — Ужасная опасность. — Спасены!Тотор, Меринос и австралиец побежали дальше в темноту, стремясь уйти от опасности, выиграть хотя бы несколько минут, а может быть, и целый час. Но скоро должна была начаться погоня, ужасная охота на людей, с огромными догами вместо ищеек и бандитами вместо егерей. Впереди — безумная травля, улюлюканье, агония сопротивления собачьим клыкам, неизбежная поимка алчущими крови чудовищами и несомненно какая-нибудь утонченная пытка, изобретенная искусным мучителем. Однако Меринос сохранял смутную надежду, потому что ни разу не выходил на вольный воздух и не ведал, что это за таинственный оазис, затерянный в песках. А вот у Тотора иллюзий не было. Он-то знал, что долину разбойников окружали непреодолимые стены отвесных гор. Даже обезьяна не смогла бы вскарабкаться на них, а белка напрасно обломала бы свои коготки. Словом, это огромная тюрьма — правда, с большими деревьями, лугами, цветами, птицами, но не менее отгороженная от воли, чем самый угрюмый карцер. Если бы молодые люди были предоставлены самим себе, они неизбежно погибли бы, но к ним присоединился австралиец, о пособничестве которого хозяин не догадывался. Бо, которому вся окружающая местность, с ее деревьями, скалами, рощицами, источниками, болотами, была знакома как свои пять пальцев, умело руководил беглецами. Вскоре он заставил их бросить круговую дорогу, служившую автодромом, и повел друзей через многочисленные препятствия, запутывая следы, забегая вперед, не раз возвращаясь на то же место, чтобы сбить с толку собак, лай которых уже слышался вдали. Истерзанные шипами, ежеминутно натыкаясь на камни и деревья, друзья молчали. Так прошло часа два. Наконец Бо негромко свистнул. Измученные молодые люди задыхались, пот покрывал их лица, и они охотно остановились. Беглецы были в роще деревьев с широкими, гладкими, мясистыми листьями. Бо сорвал их целую охапку, растер в руках и сочной мякотью с силой натер ноги Тотора. — Понятно, — тихо, как вздох, сказал француз. — Чтобы помешать псам учуять нас? Так, старина? — Да, — ответил австралиец. — Как, — спросил потрясенный Меринос, — он говорит по-французски? — Лучше учебника, — ответил Тотор, — а по-латыни — как покойник Цицерон[150]. — Невероятно! — Тсс, — шепнул Бо, не обращая внимания на похвалы. Все трое стали натирать себя с ног до головы листьями, из которых бежал липкий сок со странным, неожиданным запахом, и это заставило неисправимо болтливого Тотора сказать: — Пахнет хлебом, вынутым из печки. Вот бы поесть!.. И от этого исчезнет наш аромат? — Тсс, — опять прошипел австралиец, явно волнуясь. — Все, проглатываю язык и работаю. Наконец кожа и одежда обильно пропитались соком. Бо снова повел своих юных друзей через поросли, тихо посмеиваясь при мысли, что собаки скоро потеряют след, и тогда можно будет отдохнуть. А это было необходимо! Измученный усталостью и голодом Меринос, несмотря на возбуждение, едва стоял на ногах. Он спотыкался на каждом шагу и давно бы упал, если бы добрый Тотор не поддерживал его, хотя и сам держался из последних сил. Весь превратившись в слух, раздвигая руками ветки, Бо молча расчищал дорогу. Молодые люди шли за чернокожим, задавая себе вопрос, долго ли еще продлится бешеная гонка. Было около двух часов. Стояла чудная, теплая, благоухающая ночь. Внимание, лесная поляна! Почва стала сухой, каменистой, но идти по ней было все же удобно. Прошли еще немного. И вдруг перед ними встала стена исполинских деревьев. При свете звезд можно было различить их чудовищные стволы, настоящие башни, над которыми раскидывались широкие кроны. Бо засвистел, Тотор понял и тихо сказал: — Да, остановимся, мы на краю света. Можно вздремнуть, старина? — Да, спите, — ответил австралиец. Молодые люди повалились у подножия громадного эвкалипта, от которого исходил приятный запах, и заснули свинцовым сном. Неутомимый Бо уселся подле них, прислушиваясь и наблюдая. Лай прекратился. Вероятно, собаки потеряли след беглецов; раздавались только обычные ночные звуки. Хотя бы небольшая передышка, пока погоня прекратилась. Но для того, кто хорошо знает хозяина, ясно, что она возобновится с первыми лучами солнца и будет еще более ожесточенной. Бо дал молодым людям крепко поспать целых три часа. Вот проснулись попугаи, притаившиеся на вершинах самых высоких деревьев. Горизонт слегка побледнел. Ночь подходила к концу. Австралиец разбудил своих спутников, которые зевали и потягивались, не желая просыпаться. Он резко потряс их и при свете еще далекой зари показал Тотору на самое высокое, толстое дерево. Тотор очнулся, но Меринос, блуждая взглядом по сторонам, еще ничего не видел и не слышал. Парижанин понял выразительное движение руки Бо и удивленно спросил: — Ты хочешь сказать, что нужно забраться на дерево? — Да, да, забраться! — Если б я тебя не знал, подумал бы, что ты меня дурачишь! — заметил француз. — Я сказал: забраться… — А ты случайно не сошел с ума? Посмотри, твое дерево — высотой около семидесяти пяти метров, на треть выше колонны[151] на площади Бастилии… страшно толстое, а ветви начинаются только в пятидесяти метрах от земли… И гладкое, как корка тыквы! Австралиец пожал плечами, будто говоря: «Это безразлично». Он, пожалуй, был скуп на слова и не склонен к свойственному ему в опьянении нервному словоизвержению, которое позволило французу узнать тайну этой странной личности. Преображение произошло слишком недавно, и, несмотря на постоянные усилия Тотора, языковые навыки новообращенного еще не развились. Бо говорил мало, но постоянно действовал. Он огляделся вокруг, потом, уже не обращая внимания на парижанина, встал и в несколько прыжков, которым мог позавидовать кенгуру, очутился подле тонких, похожих на бамбук, растений с синеватыми листьями. Их стебли достигали порой свыше пятнадцати метров и грациозно клонили свои метелки. Немного знакомый с ботаникой, Тотор узнал в этом растении так называемый ротанг, calamus australis, австралийский тростник. Не толще пальца, как бы сплетенный из прочных нитей, он надежней, чем стальной трос, и не порвется, даже если на нем подвесить тысячекилограммовый груз. Бо выбрал на ощупь одно из здоровых растений высотой метров в двенадцать, наклонился и своими волчьими зубами надкусил его сначала с одной стороны, потом с другой, несколько раз перегнул, наконец сильно дернул. Странное дело: прочный стебель лопнул, как нитка. Бо торопливо завязал узел на одном из его концов и бегом вернулся к наблюдавшему за ним Тотору. Остановившись, негр натер руки и ноги пылью, чтобы не скользили, и встал у подножия гигантского дерева. Левой рукой он схватил узел и бросил тонкий и гибкий стебель кругом чудовищного ствола. Растение, послушное этому вращательному движению, обвило ствол, и Бо ловко схватил его на лету правой рукой. После этого австралиец накрутил гибкий стебель спиралью на предплечье и зажал его в руке. Таким образом дерево было опоясано стеблем ротанга как дужкой, за концы которого держались человеческие руки. Бо уперся ступней в кору дерева и откинул корпус назад, потом поддернул тростник вверх примерно на сорок сантиметров и поставил вторую ногу на ствол. Теперь он уже оторвался от земли и держался только благодаря усилиям конечностей и натяжению стебля ротанга, который обвивал ствол эвкалипта. Так, откинувшись назад, напрягая все мышцы, австралиец с силой и ловкостью четверорукого животного совершал удивительное и опасное восхождение. Его ступни поочередно поднимались, а сжатые руки заставляли передвигаться вверх тростниковый канат. Удивительный гигант двигался вверх необыкновенно быстро. Вот Бо уже на высоте десяти… двенадцати метров от земли! Даже непохоже, что он когда-то касался ее, и, видя его, прилипшего к скользкому стволу, едва можно поверить, что видишь человека. Но это еще не все. Странное восхождение, которое наверняка требует много сил, происходит плавно, без сбоев и так же быстро, как это мог бы делать матрос, поднимаясь по выбленкам[152]. Тотор, сам ловкий и сильный спортсмен, был потрясен. Вдруг Бо остановился и начал спускаться с ловкостью обезьяны. Подъем занял минуту, а спустился он за десять секунд и не запыхался, ни капли пота не выступило на лбу. Сойдя на землю, Бо взглянул на Тотора, точно спрашивая его: «Ты понял?» — Да, — сказал парижанин, — я понял, но знаю, что не все смогут управлять этой штукой. Кстати, как она называется? — Кхамин[153]. — Отец рассказывал мне об этом орудии, — сказал Тотор, — но, друг мой, несмотря на преподанный тобой урок, мне его никак не повторить! Тридцать сантиметров выше уровня моря — мой предел! Не обижайся, но для таких фокусов нужно быть помесью обезьяны и дикаря, да к тому же иметь мускулы бизона! Австралиец улыбнулся, пожал плечами и заметил: — Болтун, попугай! — Хотел бы я попасть к попугаям, туда, наверх! — Пойдем, я доставлю тебя к ним, — предложил Бо. — А Меринос? — После тебя… Но скорей… Скорей! — Так ты берешься поднять меня туда… поэтому ты и устроил эту репетицию? Но знаешь, затея рискованная! И куда мне сесть? Тебе на спину? На плечи? На грудь? Бо торопился. Не говоря ни слова, он схватил парижанина под мышки и как ребенка прижал к своей груди. Тотор инстинктивно соединил пальцы на затылке дикаря, который глухо проворчал: — Держись крепче. Кхамин лежал в виде полукруга у подножия исполинского дерева. Бо поступил с ним, как и в первый раз, набрал в легкие воздуха и, не обращая внимания на двойную нагрузку, двинулся вверх. Меринос спал. Тотор украдкой взглянул на него и подумал: «Вот удивится, когда увидит меня наверху!» Страшный подъем начался. Сберегая силы, стараясь дышать ровней, австралиец поднимался с поразительной быстротой и ловкостью. Через его плечо Тотор видел, как расширялся понемногу горизонт, как становились плоскими кусты, отдалялась земля. Все это, едва различимое в предшествовавшей рассвету полутьме, имело странный, пугающий вид. Повиснув над пустотой на груди Бо и рискуя стать жертвой неверного шага, обморока, парижанин сохранял великолепное спокойствие. Он предоставил нести себя, как мешок, с кротостью спящего младенца, хотя подобная пассивность противоречила его боевой натуре. У такого нарочито болтливого Тотора не возникало охоты произнести хоть словечко. Честно говоря, ему было не по себе. Но они поднимались и поднимались! Черный атлет все более явно демонстрировал ловкость и сверхчеловеческую выносливость. Казалось, он разогревался в захватывающей борьбе с собственной усталостью и его силы росли по мере того, как увеличивалась опасность. Тотор чувствовал, что сердце Бо бьется страшными толчками, слышал, как свистел воздух в его острых зубах, ему даже казалось, что видно, как волны крови переполняют сосуды его черного друга. Он думал: «Вот полетим, если Бо вдруг отдаст концы! Вот загремим вниз! В лепешку расшибемся!» Минуты ползли — изматывающие, долгие, как часы пытки, как месяцы плена. Тотор перестал видеть землю, а вершина дерева-гиганта стала вырисовываться яснее. Сотни попугаев подняли неистовый крик, протестуя против вторжения человека в их небесные владения. Вдруг что-то слегка ударило парижанина по голове. Он поднял глаза, увидел громадную, тянувшуюся горизонтально ветвь, с облегчением вздохнул и сказал: — Прибыли!.. Я восхищаюсь тобой, старина Бо, ты, оказывается, вовсе не слабак! От всей души благодарю тебя. Чернокожий с налитыми кровью глазами, весь покрытый потом, постарался улыбнуться и остановился, чтобы передохнуть. Осматриваясь, Тотор заметил, что выше, где от ствола отходили крупные ветви, кора была морщинистой и с выступами, за которые можно ухватиться. Он разжал руки, оторвался от груди Бо и стал карабкаться вверх. Еще немного, и француз оказался в кроне дерева, которая была шириной более десяти метров и почти горизонтальной. — Вот это уже похоже на дерево Робинзона, тут мы будем как дома! Не так ли, старина Бо? Но австралиец не ответил. Увидев, что друг в безопасности, он быстро спустился к продолжавшему спать сном праведника Мериносу и стал будить его. — А? Что? Где Тотор? — спросил проснувшийся наконец американец. — Тсс, — сказал австралиец, — тише, пойдем, не подымай шума. — Куда пойдем? — В небо. — Что за дурные шутки! Где мой друг? Хочу видеть Тотора. — Так поднимись сюда, — послышалось издалека, как из-под облаков. Меринос узнал этот голос, едва слышный, но совершенно четкий — Тотор свесился с одной из главных ветвей и смотрел вниз. — У тебя бывают головокружения? — спросил парижанин. — Еще какие, — ответил Меринос. — Жаль! Ну ничего, схватись за шею Бо и закрой глаза. Скорее, Мериносик… Я вижу всадников, слышу вой собак. Там все пособники и прихвостни, двуногие и четвероногие, собрались, чтобы поохотиться на нас… Вперед, Бо, вперед, старина! Не очнувшийся еще от сна, пришедший в ужас при одной мысли о смертельном акробатическом номере, янки повиновался. Австралиец снова начал свое невероятное восхождение. Тотор с тревогой молча наблюдал за каждым шагом Бо, который, опасаясь неприятностей, не останавливался даже для того, чтобы перевести дыхание. Француз, замирая от страха, следил за движениями бесстрашного гимнаста и удивлялся его малой скорости, а между тем Бо, подстегиваемый тревогой, поднимался уже не щадя сил, не давая себе ни малейшей передышки! Вскоре парижанином овладел ужасный, безрассудный страх за друзей. Ничего подобного он не испытывал, когда подвергался опасности сам. До него донеслось тяжелое, как из кузнечных мехов, дыхание Бо, наконец показалось смертельно бледное лицо Мериноса, который, кажется, уже терял сознание. — Помоги… Тотор, — простонал американец, — я умираю… — Не время умирать! Держись, черт возьми! Держись и закрой глаза. С замиранием сердца Тотор заметил, что Бо зажал зубами куртку Мериноса, сшитую из толстой бумажной материи. Несчастный молодой человек, обессиленный головокружением, опустил руки… Только железные челюсти бывшего людоеда удерживали его. О, эти головокружения! Смертельно опасная болезнь, которая поражает и доводит до жалкого состояния даже самых смелых! — Боже, он упадет, — прошептал Тотор и сам, рискуя упасть, склонился над бездной. Бо, обе руки которого заняты кхамином, был бессилен помочь ему. Только парижанин мог спасти Мериноса. Изловчившись, одной рукой Тотор уцепился за ветку, а другой схватил американца за ворот куртки. Освободившись от тяжести, когда Тотор с силой, удвоенной опасностью, приподнял друга, Бо глубоко вздохнул и напряг плечи. Ноги Мериноса встали на могучую спину чернокожего, Тотор сделал последнее нечеловеческое усилие… Удерживая Мериноса рукой, он поднес его поближе и положил на жесткую площадку, образовавшуюся в развилке первых ветвей. — Гоп-ля! Готово, — сказал Тотор посиневшими губами. — О, спасен, — пробормотал Меринос. — Молчи, не двигайся! И прижмись к стволу. Тут хватит места на десятерых! В ту же минуту Бо ловко навернул спиралью свешивавшуюся часть кхамина на свою ляжку. Убедившись, что кхамин держится прочно, он смог освободить одну руку. Цепляясь пальцами за неровности коры, Бо вскарабкался по стволу, подтянулся и очутился рядом со спасенными им молодыми людьми.
ГЛАВА 8
Тотор счастлив. — Боже, сколько тут попугаев! — Охота на людей. — Перед подвижной сетью. — Среди беглецов. — Туземец. — Скот на подножном корму. — Людоед. — Неудачное падение кхамина. — Обнаружили, но кого? — Дело осложняется.— Так что мы поселились на дереве! Да еще на каком! Дерево-гигант! Прямо-таки монумент, целый мир! — восклицал Тотор. — По-моему, нечего радоваться! — ответил Меринос. — Ну, знаешь, ты никогда не доволен. — Поскорей бы убраться отсюда! — Нет уж! Не уступлю своего места и за большие деньги. — Если б я не страдал морской болезнью! — Что, опять головокружение? — Нет, сейчас получше. Только не решаюсь даже пошевелиться и вздрагиваю, когда вижу, что ты по-обезьяньи скачешь по ветвям, которые сами по себе — целые деревья! — Если б ты знал, как это интересно и забавно! Таких приключений у отца не было! А он коллекционировал самые необыкновенные и опасные! — Значит, ты доволен? — Как перепел… или как кит… Эти два существа мне почему-то представляются полюсами счастья. — Ты живой парадокс, — заметил янки. — Ты мне льстишь. А если поминать парадоксы, то я знаю здесь только одно животное под этим именем: ornithoryngue paradoxal… Это утконос, пушистое четвероногое, которое кладет яйца и вспаивает молоком своих малышей. — Прошу извинения, — заметил американец, — но я тебя утконосом не называл, призываю в свидетели Бо. Австралиец, сидевший на корточках, засмеялся и мотнул отрицательно головой. — Я только хотел напомнить, — продолжал янки, — что голод уже подводит нам животы, жажда сушит гортань, жара изнуряет, усталость одолела… а главное, нас преследуют смертельные враги. Словом, положение наше отчаянное. — Когда-то ты питался травой и заставил меня вспомнить о Навуходоносоре… а сейчас твои жалобы напоминают о другом покойнике — пророке Иеремии, плаксивом изобретателе иеремиад[154]. — Да ты действительно феномен! — Что ты хочешь! Просто мы по-разному смотрим на вещи. — А слышишь ли ты, несчастный, собачий лай, крики, выстрелы, пугающие людей и зверей? Вспомни, что мы здесь в осаде, что нам грозит голодная смерть! — Ничего, — ответил Тотор. — Мы съедим Бо в сыром виде! Но прежде задушим парочку-другую попугаев, из тех, что тысячами порхают вокруг нас… А раз мы народ привередливый, они пойдут на закуску к нашему благодетелю. Вот как я оцениваю ситуацию, мой дорогой Иеремия! Безутешный пессимизм Мериноса не смог выдержать испытания неожиданной шуткой. Осмеянный американец громко расхохотался, чем вызвал под голубоватой кроной дерева панику среди ее пернатых обитателей. — Кажется, все попугаи этих мест слетелись сюда? — спросил Меринос. — Похоже, что да! — отозвался парижанин, в восторге при виде тысяч попугаев, больших и маленьких, всех расцветок — они весело сновали вокруг, как комары в луче солнца. — Это необозримый вольер, рай для пернатых. Очень уж напоминает толкучку на Кэ-де-ла-Феррай! Вот если бы нам их крылья или хотя бы когти! Действительно, тут было чем удивить даже самого невозмутимого орнитолога. Бесконечно разнообразные попугаи собрались группами и семьями на этих гигантских деревьях, вершины которых достали бы до первой платформы Эйфелевой башни. Счастливые, то спокойные, то крикливые, непоседливые, искрометные птицы-болтуны жили там, вдали от врагов, большими колониями, объединенные сходством вкусов, нужд и способностей. Серые, краснощекие жако, коренастые и неуклюжие, с толстым клювом в виде кусачек и злыми змеиными глазами; привычные какаду — белые, черные, даже розовые — непоседливые, подпрыгивающие, со странными светло-желтыми, черными или пурпурными хохолками; попугаи-гиганты и чуть поменьше, с голубоватой головой, зеленое оперение которых как бы присыпано серым; элегантные и подвижные попугаи красивого темно-фиолетового или не менее великолепного ярко-фиолетового цвета — перелетали с места на место, переворачивались, как акробаты, цеплялись лапами и клювами за мелкие ветки и испускали душераздирающие крики — это и есть песни попугаев. Другим нравилось упиваться синевой неба и солнцем, они беспрерывно летали, укачиваемые сладостными ритмизованными движениями своих разноцветных крыльев. Очаровательно выглядели попугайчики, грациозный взлет которых так красив благодаря длинному распущенному хвосту, переливающемуся разными цветами. Кажется, чтобы украсить их, природа не пожалела сногсшибательного великолепия из своего чудесного ларца. Похожие на живые цветы, ожившие драгоценные камни, с изумрудами на крыльях, в розовых и пурпурных шлемах, с синими или аметистовыми мантиями, попугаи как бы выставляли напоказ свою несравненную красоту. Многие отсвечивали радугой, краски их оперения переливались. И все это сверкало, блистало, рдело в волнах света перед восхищенными молодыми людьми, заставляя последних забыть об их ужасном положении. У всех птиц — сходная форма, одинаковая грация и красота, но были здесь особи солидные, большие, а иные — размером с голубя, даже с ласточку, как бы для того, чтобы служить переходной ступенью к совсем маленьким попугайчикам, которых можно было бы считать воробьями отряда попугаев. Эти драчливые, крикливые опустошители живут стаями, завидев корм, опускаются на минуту, подчистую подбирая все, доступное их толстым клювам, и с гулом улетают, кружатся, снова взлетают фейерверком. А микроскопические tonis, это совсем уж миниатюрные создания — настоящие мухи среди птиц. Сами они едва больше бабочки, их яйца — с горошину, а гнезда — не больше ореховой скорлупки. Они жужжали крыльями, как колибри, почти касаясь Тотора и Мериноса, распевая хриплую, совсем коротенькую песенку: «Крра! Кррао-о-о!» Пока Меринос прислушивался к приближавшемуся неясному шуму, парижанин, неисправимый оптимист и более внимательный к красотам природы, любовался птицами и не мог не восторгаться вслух: — Черт побери! Просто замечательно! О подобной красоте в Бютт-Шомон и парке Монсо[155] не слыхивали! Ради одной такой птичьей выставки стоило отправиться в путешествие! Бо не обращал внимания на привычные для него красоты. Как и американец, он прислушивался к звукам, которые становились все более отчетливыми. Охота возобновилась. Уже совсем рассвело, и с вершины эвкалипта была видна вся шайка, снова созванная ради облавы. Около шестидесяти человек, а может быть, и больше. С ними собаки, уцелевшие при истреблении своры. Пешие и конные выстроились цепочкой во всю ширину долины, их отделяло друг от друга не больше ста пятидесяти шагов. Продвигались медленно, обыскивая взглядом каждый метр пространства, не оставляя без внимания ни клочка земли. Это было движущееся заграждение, или, еще точней, огромная сеть, которая захватывала по пути все живое. Спасаясь от нее, уже давно скакали целые стада вспугнутых исполинских кенгуру, достигающих шести футов в высоту. Были и поменьше, размером с козленка, и совсем маленькие, не больше кролика, но всех сотворила по единому образцу добрая австралийская Исида[156], которой явно нравились самые неожиданные и даже комичные формы. Насторожив уши, с испуганными глазами, эти несравненные прыгуны, из брюшных сумок которых выглядывало по паре детенышей, скакали, дрыгали ногами, как заводные игрушки. Висевшие на хвостах опоссумы, похожие на люстры, удивленно всматривались в охотников большими прищуренными глазами ночных зверьков. Со всех ног улепетывало несколько больших и сильных, как страусы, черноголовых эму. Громадные стаи больших зеленых голубей взлетали, громко хлопая крыльями, и снова садились невдалеке, как бы не в силах оставить привычные луга. Там они копошились в невероятной скученности, пока люди или лошади не наступали им буквально на хвосты. В этом мирке, жившем до сих пор в ничем не нарушаемом спокойствии, теперь была заметна изрядная суматоха. Вместе с представителями фауны можно было углядеть и людей, жалких аборигенов, оставшихся дикарями, которых Тотор уже видел мельком во время поездок по автодрому. Почему-то охваченные страхом, они бежали вперемежку с животными, будто им грозила смертельная опасность. — Зачем же они удирают, ведь не на них охотятся? — Кто знает! — странно ответил Бо. Цепь преследователей подошла к роще эвкалиптов, и два друга с вершины своего дерева-гиганта могли отчетливо разглядеть непонятный для них отчаянный бег несчастных дикарей. К подножию дерева приблизились две женщины и молодой мужчина, сложенный как гладиатор. В ту же минуту из поросли красивой, покрытой множеством цветов древовидной жимолости выехал глава бушрейнджеров. Тотор и Меринос узнали его по белой каске, теннисному костюму и, главное, по раскатам голоса, казалось, призывавшего к расправе. Чернокожий с вздымавшейся от бега грудью, с пеной у рта, пытался скрыться, но бандит выстрелил из револьвера, ранив несчастного в ногу. — Чем объяснить эту бесполезную жестокость? — задавали себе вопрос юные друзья, спрятавшись в развилке ветвей. — Ведь чернокожий не нападал, он убегал! В чем же дело? Хозяин со звериной ловкостью спрыгнул на землю, вытащил кинжал, схватил перепуганного насмерть чернокожего и одним взмахом перерезал ему горло от уха до уха. Хлынувший поток крови окрасил песок и образовал большую лужу. Но убийце показалось, что дело идет слишком медленно. Встав ногами на труп, он потопал, чтобы выдавить все, что еще было в груди, и недовольно крикнул: — Тысяча чертей! Куда же запропастился негодник Татамбо! Голос четко доносился до беглецов, похолодевших от ужаса. Двое белых прибежали на звук выстрела. Один из них ответил: — Хозяин, вы знаете, что Татамбо бесследно исчез вчера вечером, как и Ли… — Вот бездельники! Они получат по пятьдесят палочных ударов, но пока вам придется исполнять обязанности мясника и повара… — All right! — сказал бандит, подбирая нож, отброшенный хозяином. Пока его товарищ обрывал листья карликовой папайи, изобиловавшей в этих местах, несколькими быстрыми ударами он взрезал грудную клетку и живот мертвеца. Вытащив внутренности, потрошитель бросил их к корням эвкалипта, потом оба принялись набивать листьями вскрытые внутренние полости. Хозяин с интересом следил за этой операцией, исполнявшейся с неслыханной скоростью, и распорядился: — Оберните его листьями, накройте ветками и отнесите на склад, как только кончится облава… А устрашенный Тотор не мог не прошептать на ухо Бо: — Что он собирается делать с этим несчастным? — Съесть! — ответил австралиец, опустив глаза. — О, какой негодяй! Злодей! Значит, этот монстр, подлакированный цивилизацией, говорящий на многих языках, окруженный роскошью, он еще и каннибал! — Да… ужасная страсть, от нее не избавиться, тут убивают по человеку еженедельно. — Значит, все эти черные бедняги, расселенные здесь, — это пленники, убойный скот на подножном корму! — Я подавал чудовищу нечистую еду! — прервал его Меринос, которого едва не стошнило. Все еще боясь головокружения, американец невольно отступил назад и задел висевший за ним на ветке кхамин, спасительное орудие, позволившее подняться сюда. Стебель тростника скользнул по отполированной, как слоновая кость, коре, сорвался с сучка и упал вниз. Тотор, который заметил это падение, едва не вскрикнул в отчаянии. — Гром и молния! Мы пропали! Отсюда нам не спуститься! Стебель падал, крутясь, и ударился как раз о колониальную каску главы бушрейнджеров, который поднял голову и, еще не догадываясь, в чем дело, воскликнул: — Это что еще такое? Кхамин с неба свалился? Мои пленники занимаются гимнастикой, решили влезть на дерево… спрятаться, чтобы не попасть на вертел… Он искренне верил, что это черные влезли на дерево, и не желал поверить простой, но невероятной правде: в ста пятидесяти футах над землей — Тотор, Меринос и Бо. Переходя с места на место, Ден осмотрел крону, но ничего не увидел и разочарованно проворчал: — Что-то или, верней, кто-то притаился в листве, но нужно выяснить, кто именно. Пристально всматриваясь в листву, он углядел нечто белое, вероятно, короткую блузу или штаны покойного Ли, надетые Мериносом. Не веря собственным глазам, злодей крикнул: — Это безумие, вещь невероятная, а между тем это верно… Тот, кто прячется в листве, одет, как Ли… или как мой белый лакей, сын короля шерсти. Точно, белое пятно переместилось… Я его не вижу… Тревога! Тревога! Все сюда! Бандит сложил руки рупором и во всю силу легких протрубил сигнал сбора австралийских аборигенов: — Ку-у-у-и-и-и! Конные и пешие тотчас рассыпали строй и устремились со всех сторон к главарю галопом или бегом. Охота была остановлена. Люди и собаки собрались вокруг Дена. Возбужденные псы отчаянно лаяли, лошади ржали, ничего не было слышно. — Молчать! — решительно приказал главарь. — Ищите следы на земле, на коре эвкалипта, ищите в кроне, будьте внимательны! Сто долларов тому, кто что-нибудь заметит! Негодяи таращили глаза, но ничего не могли увидеть, разочарованно роптали, изрыгали проклятия, однако все напрасно. Они топтались на кишках мертвеца, укрытого листьями папайи, грубо толкали двух перепуганных женщин, сидевших на корточках, сжав головы сложенными крест-накрест руками. А так как обе своими стонами выводили дикарей из себя, женщин безжалостно прогнали ударами бичей. Поиски были безрезультатны, хотя каждый хотел быть первым, и сразу кричал, если ему казалось, что он что-то углядел: — Белый… черный… человек… нет, животное! Предводитель сердился, терял терпение, бушевал. — Есть, я видел! Это черный!.. Это шевельнулось! Кто-то поднял карабин, прицелился и сказал: — Сейчас узнаю, человек это или зверь! Ден едва успел оттолкнуть ружейный ствол в самый момент выстрела. Уклонившаяся от цели пуля просвистела в листве. Темная тень наверху исчезла. — Первый, кто выстрелит, будет повешен за ноги, — в бешенстве крикнул предводитель. — Что же прикажете делать, господин? — почтительно спросил его Джим, доверенное лицо. — Сбегай домой, принеси мой бинокль… хочу сам увидеть, во всех подробностях! И нужно придумать, как забраться наверх. Тысяча долларов тому, кто найдет такой способ. — Господин, — ответил Джим. — Через два часа у вас будет сразу и бинокль, и готовый план, и даже все необходимое, чтобы его применить! Вот увидите!
ГЛАВА 9
Необычная лестница. — Медленный, но верный подъем. — В десяти минутах от цели. — Ночь. — На вершине дерева. — Две куртки! — Больше никого. — На ветви. — Отчаянное бегство. — В поселке. — Автомобиль. — Убитые часовые. — Тайный проход. — Полный вперед!Прошли два, а потом и три часа. Ден, плохо переносивший ожидание, начал топать ногами от нетерпения. Уже одиннадцать часов, жара становилась невыносимой. Чтобы успокоиться, бандиты решили перекусить на скорую руку. Расправляясь со съестным, все продолжали вглядываться в крону колоссального эвкалипта, но безуспешно. Ничего разглядеть не удавалось. Наконец послышались бубенчики, появилась английская коляска, в которую была запряжена мчавшаяся во весь опор сильная верховая лошадь. На сиденье — верный Джим с измученным лицом. — Хозяин, простите мне опоздание, — сказал он без предисловий, — я его уже наверстал отчасти… подготовка закончилась… уверен, что получу приз. — Хорошо, давай бинокль. — Вот он! Пока Король Ночи наводил на вершину дерева оптический инструмент, Джим в спешке распаковывал целый набор причудливых предметов. Сначала — около сотни железных стержней с заостренными концами. Потом веревки разных размеров, еще молотки и, наконец, состоящее из подвесной люльки, ремней и крюков маленькое устройство, напоминающее то, каким пользуются маляры. — Что ты собираешься делать с этой чертовщиной? — спросил заинтригованный глава бушрейнджеров. — Сейчас увидите! Только прошу убедиться, что пришлось нарезать и заострить стержни, отыскать кучу веревок, собрать эту штуковину, и вы поймете, что я времени не терял. — Довольно болтать! За дело! Джим наклонился, взял в левую руку один стержень, а в правую — молоток. Потом, приставив к стволу эвкалипта острие, размашистыми ударами вбил в толщу древесины шестидесятисантиметровую, толщиной в палец, железку. — Я понял, ты хочешь устроить лестницу. — Да, хозяин!.. С единственной стойкой, которой будет сам ствол. — Довольно просто. Это мне в голову не приходило. — Не сразу сообразишь. А обойдется это вам всего в тысячу обещанных долларов. — Договорились, я не отказываюсь от слова. Первый штырь был вбит на высоте человеческого роста и высовывался сантиметров на сорок пять. Джим подвесил на него крюками маленькую ступеньку и поудобней устроился на дощечке. К стержню он привязал тонкую веревку, другой конец которой остался свернут кольцами на земле. Кроме того, у Джима на шее висел парусиновый мешок, в котором лежали молоток и пять-шесть будущих ступеней. Освоившись, он вбил следующий штырь, затем молоток вернулся в мешок, а покоритель высоты, стоя на первой ступеньке, привязал следующую, повыше. Продвигался он медленно, но верно. Со ступени на ступень, и так — до высоты четырех метров. Уже начала вырисовываться спираль будущей лестницы, которая обовьет гиганта флоры, как фабричную трубу. Удары молотка звонко стучали по древесине, резонировали и отдавались во всем дереве. Попугаи, взволнованные стуком, беспорядочно вспархивали отовсюду, протестуя резкими криками. Джим на минуту перестал стучать: его мешок опустел, штырей больше не было. Отвязав веревку от ступеньки, на которой сидел, он перекинул ее через ту, что была выше, спустил конец на землю и сказал: — Хозяин, прошу вас, распорядитесь, чтобы мне послали несколько железных стержней. — Да, это все разумно, хорошо налажено, только медленно. — И утомительно, но иначе не получится. Во время этого короткого разговора полдюжины штырей были уложены в пучок и привязаны к нижнему концу веревки. — Готово, подымай! — скомандовал хозяин. Джим потянул за другой конец, подвел груз к себе, переложил стержни в мешок, подобрал веревку и снова стал стучать. Постукивая, карабкаясь, подвешивая ступеньку за ступенькой, он поднялся еще на три метра. Спираль, как бы на огромных гвоздях, все ясней вырисовывалась вокруг ствола. Теперь снова нужно было протянуть веревку, привязать новые железные штыри, поднять их, развязать, переложить в мешок, один за другим забить… Да, все это отнимало время, много времени. Но другого способа уверенно, безопасно добраться до вершины просто нет. А главным требованием была именно безопасность. Чем выше, тем более усложнялась и затягивалась работа. Вскоре подвеска одной ступени требовала уже пяти или шести минут. На середине потребуется десять. А какая адская усталость наваливается на человека, который, несмотря на силу и выносливость, все же должен хоть немного отдохнуть! Наверху ничто не шевелилось, не появлялось. Беглецы упорно не показывались и молчали. Хорошо укрытые за огромными ветвями, они никак не попадались на ухищрения главаря, который напрасно суетился с биноклем под деревом. В тени, которую скупо отмеряли висевшие вертикально листья, мужчины лежали, дремали, порой тихо переговаривались. Обсуждали, сколько времени требует установка одной ступени, сколько — всей лестницы, и то, почему это главарю пришла такая фантазия. Дело двигалось. Однако заключившие пари, что оно будет кончено к вечеру, проиграли. На закате Джиму оставалось еще метров двенадцать до окончания изнурительной работы. Он спустился полумертвым от усталости, поел, вытянулся на песке и заснул со словами: — Завтра начну еще в сумерках… через два часа буду в этом чертовом попугайнике! На рассвете все были на ногах. Джим промочил горло и полез вверх. Внизу начали уже волноваться в ожидании, когда же раскроется томившая их тайна. Несмотря на внешнее спокойствие, волновался и хозяин. Он считал, что наверху засели беглецы. Только когда же Джим доберется до них? Может быть, они решили показаться внезапно и сбросить вниз смелого восходителя? На всякий случай он крикнул беглецам: — Вы попались! Не сопротивляйтесь… Я все забуду… Король шерсти заплатит за вас выкуп! Слышите? Сдавайтесь, и я вас пощажу. Ни слова в ответ! Ни единого движения, которое могло бы выдать присутствие людей. Джим все стучит. Это уже последняя ступенька. Вот он испустил радостный крик, который был едва слышен из-за стрекота попугаев. — Ура! Я добрался! Хозяин, я добрался, ура! — Браво! — сказал хозяин, отчетливо выговаривая слова. — Получишь лишних сто долларов! Джим сунул кинжал в зубы, чтобы двигаться свободно, и ловко поднялся в середину кроны. Послышался его победный крик: — Хозяин, я их вижу… вот, надо мной… в белой куртке! Сдавайтесь, шельмецы! Сдавайтесь! Сейчас я вас! Бандит кричал во все горло, и слова, отраженные массой листвы, доходили особенно четко. Они вызвали внизу напряженную тишину, которая длилась минут пять. Потом снова послышался голос Джима, но на этот раз голос ярости, отчаяния: — Негодяи, мошенники, прохиндеи! Сукины дети!.. Они нас обвели вокруг пальца… как маленьких! Будьте вы прокляты! И тут же нечто белое, два больших предмета, пронизали толстый свод листвы. Они отскакивали от ветви к ветви и обрушились на землю. Толпа испуганно ахнула, еще не поняв, в чем дело. Вдруг яростный, возмущенный вой послышался изо всех глоток. Перевернувшись в воздухе еще раз, оба предмета грохнулись оземь. Трудный и опасный подъем, нечеловеческая усталость, изматывающее волнение, назначенная и заработанная награда, надежда, ожидание и тревоги… короче, весь этот спектакль и финальный ультиматум, все это привело к жалкому результату — обретению двух набитых эвкалиптовыми листьями курток! Если бы Тотор мог услышать этот град проклятий… если бы мог увидеть оторопь на ошпаренном лице главаря бушрейнджеров! Беглецы исчезли, как шарик фокусника. Напрасно Джим, с риском сломать себе шею, упорно искал их по всей густолиственной кроне. Там не было никого, абсолютно никого! И ему пришлось подчиниться жестокой, издевательской очевидности: никаких следов человеческих существ, кроме двух курток! Но это еще не все: когда все неистовствовали и ругались, и главарь больше всех, со стороны поселка послышались три взрыва. Что это? Нападение? Или сигнал? Пожалуй, это пушечные выстрелы. Главарь страшно выругался и закричал дрожащим голосом: — Тревога! Тысяча чертей! Тревога! Быстро, галопом! Должно быть, случилось что-то ужасное!
__________
А вот что произошло с того момента, когда Меринос уронил кхамин на каску человека, напыщенно именовавшего себя Королем Ночи. Сначала Меринос и Тотор сочли, что безнадежно пропали. Бо успокоил их жестом и сказал: — Они нас еще не заполучили! — Но что с нами будет, раз мы не можем спуститься? — спросил Тотор. Бо ответил загадочно: — Кто знает?! — Так что же делать? — Не двигаться до ночи. — Без еды, питья? — простонал Меринос, который слишком любил хорошо покушать. — И без сна, — всерьез ответил Бо. — Но разрешаем тебе пососать палец, — не менее серьезно добавил уже воспрянувший духом Тотор. Внезапно австралийцу пришла в голову мысль. Всего можно было ожидать от столь жестокого и испорченного человека, как Король Ночи. Прежде всего могут заметить и подстрелить из карабина. — Сними куртку, — сказал дикарь Тотору. — Зачем? — Увидишь… только не размахивай руками. А дело было так. Пока Тотор осторожно раздевался, Бо оборвал рядом с собой листья и набил ими куртку, превратив ее в чучело. Закончив работу, он сказал Мериносу: — Твоя очередь. Через несколько минут блуза покойного Ли также была набита листьями. Американец догадался: — Понимаю, это приманка… — Да, у нас это называют еще наживкой для простаков, — уточнил Тотор. — Так и есть! Бо усадил две куклы — лже-Мериноса и лже-Тотора, чтобы позволить настоящим передвигаться с меньшим риском. — Так, старина? — В самую точку, — ответил дикарь, смеясь. Именно эти хождения, перемещения были замечены вначале. А пятна, то черные, то белые, которые были едва видны снизу разбойникам, — и были военной хитростью Бо. Убийственно долго текли мучительные часы страданий на жаре от голода, жажды, усталости. Беглецы все время слышали надоедливый стук молотка, от которого раскалывалась голова. Лестница все поднималась… поднималась… и каждый метр, отвоеванный у непреодолимой, казалось, высоты, отнимал у них чуточку надежды. Еще немного, и доверие Тотора к другу-австралийцу было бы поколеблено. — Бо, старина! Эта обезьяна, что карабкается на колонну, уже метрах в десяти, — сказал он тихим, как дыхание, голосом. — Да, но наступает ночь, ему придется остановиться, — прошептал Бо. Так и произошло. — Наконец-то передышка! — сказалвоспрянувший духом парижанин. В последних лучах солнца австралиец показал друзьям огромную поперечную ветвь метра в три диаметром. Она отходила от ствола горизонтально и доходила почти до горы. — Хозяин хитер, — сказал каннибал улыбаясь, — но об этом он не подумал. — Что это? — спросил Тотор. — Мост! — А зачем нам так называемый мост? — Чтобы перелезть с дерева на скалы. — Вот здорово! Это и есть твой план? Потрясающе! Он по меньшей мере достоин академических лавров[157], старина! — Тсс! Довольно болтать… тихо! Давайте готовиться. Когда настала ночь, Бо первым, расставив пошире руки и ноги, пополз по ветви. Меринос, дрожа, последовал за ним. К счастью, темнота не давала возможности вспомнить о мучительном головокружении. Тотор был третьим. Постепенно, бесшумно и решительно вся троица проползла над пропастью. Время от времени они останавливались, чтобы передохнуть и вслушаться в подозрительные звуки от подножия дерева. Но все было спокойно. Никто ничего не заподозрил. Они снова поползли вперед, согнув спины, обдирая руки и колени, сдерживая свистящее дыхание. Это длилось около часа. Наконец Бо остановился. Ветвь понемногу сужалась, теперь она была не толще человеческого тела. Меринос, отчаянно вцепившийся в нее, терял последние силы. До Тотора донеслись его едва слышные стоны: — Скоро конец… больше не могу… кружится голова… задыхаюсь… Я не удержусь… Тотор! Парижанин содрогнулся до глубины души. Его железному организму усталость не страшна, но он чувствовал, что друг совершенно растерян. Зажав ветвь ногами, он схватил Мериноса за плечи и тихо сказал: — Не шевелись, я тебя держу! Отдохни, расслабься! Не бойся… Эй, Бо, еще долго пробираться? Австралиец не ответил. У Тотора выступил холодный пот на лбу, когда он вдруг услышал прямо под собой шум падения. С бьющимся сердцем он продолжал: — Бо, ответь… ты упал? Если с тобой несчастье, мы пропали! — Все в порядке! Парижанину показалось, что едва слышный шепот донесся снизу. Сомнений больше нет, Бо уже не на дереве. Но тогда… — Куда ты провалился? — Тихо! Я тебя вижу… на фоне звезд… спускай Мериноса, это не опасно… — Ты слышишь? Эй, Меринос! — снова заговорил Тотор. — Хорошие новости, не теряй головы!.. Главное, не вскрикни… Ты готов? — Да! — Оп-ля! Он приподнял друга и спустил его вниз, как мешок. Тотчас он услышал легкий шорох и сразу голос Бо: — Твоя очередь! Раз… два… три! Не колеблясь, он смело прыгнул вниз. Уже через секунду его на лету поймали сильные руки атлета и мягко поставили на толстый слой пахучих папоротников. — Старина Бо! — с чувством сказал он, узнав черного друга, утонувшего по пояс в опавшей листве. — Конечно, я! — Ах, так! Это не сон… Где же мы оказались? — На горе. — А где Меринос? Громкий храп, раздавшийся рядом, сделал ответ ненужным. Измученный переживаниями, усталостью и бессонницей американец был повержен на землю сном, близким к каталепсии. — Неплохая идея! Хорошо бы и мне вздремнуть! Я так устал… пусть Бог меня простит, я тоже лягу. — Поспи, малыш, — посоветовал из темноты ласковый голос австралийца, — поспите оба, и через несколько часов вы будете бодры и отважны, как молодые кенгуру. — А ты? — Я буду бодрствовать! — Спасибо! Спасибо, мой добрый, дорогой друг… потому что без тебя… видишь ли… я… мы… Фраза осталась незаконченной. Исполненный бесконечной благодарности голос замолк, Тотор уснул в папоротниках рядом с Мериносом. Было около девяти часов вечера. Сидя на земле на согнутых под прямым углом ногах, положив руки на колени, а голову на руки, австралиец не шевелился. До сих пор ему все удавалось в этом, казалось, невероятном предприятии. После подъема на дерево он заметил, что главная ветвь отходила очень далеко в горизонтальном направлении и нависала над небольшим выступом горы. Этот скальный выступ образовывал что-то вроде высокого мыса, где в течение многих лет накапливался слой перегноя из опавших листьев. Мыс от ветви отделяли всего три метра, на нем обильно росли папоротники. И Бо сразу подумал, что было бы неплохо под прикрытием темноты соскользнуть туда. Папоротники могли к тому же смягчить падение. Все так и произошло, события подтвердили правоту австралийца. Теперь партия наполовину выиграна. По сколько еще предстоит трудностей! В три часа утра пришла пора снова действовать. Бо разбудил друзей, которые спали как убитые. Они уже двадцать четыре часа ничего не брали в рог, а в их возрасте полное воздержание от еды переносится плохо. Кроме того, сказывались волнения и усталость. Еле слышно Бо посоветовал им не шуметь, пообещал, что скоро они смогут утолить жажду. И медленно, шаг за шагом, идя впереди, вывел их из опасного места. Тотор замыкал шествие. Друзья пробирались в полной темноте по скалам, через колючие заросли, опасаясь неверного шага, падения, просто шороха веток, любого пустяка, который мог выдать их присутствие. Мало-помалу, рискуя переломать себе ноги, они продвигались вниз. Каким образом, какой дорогой? Этого они и потом не могли себе объяснить. Через два часа ожесточенной борьбы с невидимыми препятствиями они оказались на автодроме. — Передохнем немного, — попросил Тотор. — Какие приключения, — сказал Меринос, — и как я рад, что оказался на твердой почве! Ох уж это головокружение! Затем, не сговариваясь, молодые люди в порыве благодарности схватили руки негра, сердечно жали их, а Тотор сказал. — Старина Бо! Ты нас спас, и теперь мы друзья до гробовой доски! — Да, друзья навек! — подтвердил Меринос. — Никакая благодарность не сможет сравниться с твоей преданностью. В нарождающемся свете дня стала видна добрая, широкая улыбка Бо, которая изменила его угрюмое лицо. Глаза сверкали от радости, все его существо ликовало. Но время подгоняло, не способствуя долгим излияниям чувств. Австралиец был, конечно, счастлив, что вырвал из лап смерти юных друзей, но опасность еще не миновала. Таинственная долина, закрытая со всех сторон, совершенно недоступная, оставалась их тюрьмой. Бо сильно втянул ноздрями утренний воздух, огляделся по сторонам, прислушался и сказал, покачав головой; — Они еще суетятся там, под эвкалиптом… У нас есть в запасе часа три. — А что дальше? — спросил Тотор. — Скажи, — снова заговорил австралиец, — автомобиль готов? И может выехать? — В любой момент! Даже заправлен бензином по приказу хозяина, — ответил парижанин. — Тогда мы посмеемся над ними! Но последнее усилие! Быстро, в путь! Друзья стремительно пошли по дороге, забыв о еде, воде, усталости, зато подкрепившись надеждой, прозвучавшей в словах австралийца. Через два часа бешеной гонки они дошли до жилых зданий. Везде было пусто, ведь люди собрались в другом конце, у рощи гигантских эвкалиптов. Вскоре три беглеца остановились перед гаражом, где под полотняным чехлом дремала машина. — Подождите здесь, — сказал Бо, — и приготовьтесь к отъезду. Чернокожий убежал, но тотчас вернулся, нагруженный, как мул, вещами, которые накидал в одеяло. Меринос и Тотор уже сидели в автомобиле. Бо бросил к их ногам свою ношу и скомандовал: — Запускай машину — и за мной! Мотор потихоньку заработал, автомобиль двинулся за Бо, бежавшим в хорошем темпе. Въехали в длинный сводчатый туннель, конец которого терялся в темноте. Тотору показалось, что он видит смутные отблески на стали. Что это, оружие? Наверное, кто-то стоит на часах? Послышались два глухих удара, потом стоны… Вдруг стена, которая закрывала конец туннеля, с глухим скрипом сместилась. — Я здесь был! — сказал Меринос. — Это подвижная скала, тайный проход. О, молодчина Бо! Хлынул поток света. Перед машиной, как видение свободы, открылось безграничное пространство: мелкие пески, пустыня. На земле дергались в конвульсиях два тела. Появился смешной и ужасный Бо с лицом, засыпанным мукой, с окровавленными руками. Одним прыжком он вскочил на заднее сиденье и скомандовал: — Вперед, полным ходом! Машина вздрогнула, подскочила, переехав тех двоих, и помчалась стрелой. Тотор, сжимая рукой руль, крикнул: — Полный вперед, и да здравствует наш Бо!Конец второй части








Часть третья
ГЛАВА 1
Бегство в автомобиле. — Две фуражки и две пары сапог. — Окорок. — Слишком солоно. — Страшная жажда. — Без воды. — Дорога. — Деревья. — Запах горелого. — После пожара. — Истребление овец. — Отравленный источник. — «Б. Р.»Бум!.. Бум!.. И снова: бум! С равными промежутками прогремели три оглушительных взрыва, и эхо отдалось вдали, как от пушечных выстрелов. Меринос и Тотор инстинктивно нагнулись, ожидая жужжания снарядов. Приникнув к рулю, парижанин внимательно посмотрел на солнце и проворчал сквозь зубы: — Что это, Бо? По нам стреляют? — Нет, это сигнал тревоги, — ответил австралиец. — Значит, из пушки по попугаям! — беззаботно пошутил опьяненный скоростью Меринос. — Тут не до смеха, выстрелы слышны всем в округе, и нужно постараться не попасть в засаду! Это было бы так глупо! — Да, очень глупо! Но, к счастью, перед нами открытое пространство, препятствий нет — ни деревьев, ни камней… только шелковистый песок… И мы катимся вперед! — Смотри на дорогу, болтун! И ты тоже, Бо… Я не знаю местности. Не хотелось бы угодить в какую-нибудь рытвину или в болото. — Тогда вперед! Гони! Go on! — Вот янки! Да ты настоящий лихач! — Скорее, я сошел с ума от счастья! Подумать только: мы свободны, как воздух, который обвевает нас, как ласточки, которые не быстрее нас… да, я сошел с ума! Мы ловко скрылись, и все благодаря тебе, Бо… Никогда нам не отблагодарить тебя! Ты настоящий andge. Это слово, произнесенное по-американски, рассмешило чернокожего: — Ангел, повалявшийся в гудроне! Но все равно хорошо! Большая машина катилась, как локомотив на большой скорости. Она жадно пожирала пространство, не тормозившее ее бег. А как прекрасно вел себя ее организм, такой простой и одновременно сложный, такой хрупкий и такой надежный! Это чудовище из стали, дерева и каучука, с вулканом в своей утробе, обладало легкостью антилопы. Вращение колес было настолько выверено, подвеска была так отлажена, что машина лишь слегка виляла на ходу. Если бы столб пыли не поднимался за ней, ее след на всепоглощающем ласковом песке можно было бы найти с трудом. Как настоящий американец, фанатик спорта, Меринос пришел в экстаз. Он жестикулировал, суетился, будто участвовал в международной гонке, воображал, что они теряют время, и все вскрикивал охрипшим от волнения голосом: — Быстрей, черт возьми! Быстрей! — Ну-ну, не кипятись! — прервал его Тотор. — God bless, ты же топчешься на месте! — Меринос, дорогой, что за муха тебя укусила? — Сам не знаю! — Еще и десяти минут не прошло, как мы дали тягу! Слышишь: даже десяти минут! — Не больше? А мне кажется, мы уже много часов едем! — Значит, ты уже забыл о наших несчастьях… включая игру в прятки на вершине дерева, где тебе было не по себе… Поздравляю! — О, Боже! Конечно… Забыты опасности, удары, стыд рабства… Вот что такое подлинная страсть! Я опьянел от скорости. — Так вот, за эти десять минут мы проехали пятнадцать километров… если только счетчик не перегрелся, как твоя голова. Ты доволен? — Конечно нет. Девяносто в час — это же черепашья скорость! На такой машине мы должны были бы делать по меньшей мере все сто двадцать! — Все ясно, ты тронулся, малыш! — Но посмотри же… препятствий нет, пространство бесконечно, а поверхность земли идеальна!.. — Да, для того, чтобы мы внезапно опрокинулись. Что-то неохота переломать руки-ноги и рассыпать наши ошметки по всей этой чертовой пустыне! Нет, спасибо, лучше сделаем по-другому. Теперь, когда первая опасность позади, я притормаживаю. Уж не сердись. — Как, уже? Слушай, Тотор, неужели ты боишься? А еще француз! — Да, очень боюсь дешевой храбрости. — Тогда дай мне руль, увидишь, как я поведу эту пыхтелку! — Господин Меринос, думаю, что титула дофина шерсти вам мало… — Почему? — Вы явно претендуете на другой. — Какой же? — Бесконечно более опасный титул короля шоферюг-лихачей. — В нашем демократическом государстве мы без ума от королей. — Ты неисправим! — Конечно! — А раз так, придется мне быть осторожным за обоих… сбавляю скорость до пятидесяти. — Несчастный, ты позоришь замечательную машину — королеву автомобилей, разрази меня гром! — Еще слово, и мы потащимся на двадцати пяти! — пытался остудить друга Тотор. — Тогда уж лучше сразу остановиться! — Неплохая идея! И перекусить сможем! Я-то питаюсь не скоростью и не ветром, поэтому хочу есть, очень хочу и смиренно сознаюсь в этом. — Да-да! — закричал Меринос. — И у меня живот к спине присох! — Тогда остановка на пять минут, как раз хватит, чтобы проглотить чего-нибудь. — All right! Машину остановили, и трое спутников попытались разобраться в причудливом багаже, которым запасся Бо в суматохе бегства. Солнце уже сильно припекало, и только теперь юноши заметили, что сбежали с непокрытыми головами. Бо развернул узел, в который свалил разнородную добычу. Сапоги фамильярно соседствовали там с окороком, винчестерами, шляпами, консервными банками, мешком муки… — Ура, шляпы! — радостно воскликнул Тотор. — Вот это находка! Бо, ты не просто ангел, ты — отец родной! Парижанин надел серую широкополую шляпу и обратился к Мериносу: — А эта — твоя! И знаешь, она идет тебе больше короны! — А мне она напоминает о покойнике цилиндре, который не был лишен оригинальности. — Как же ты был смешон во фраке и лакированных туфлях, в парадных брюках и накрахмаленной рубашке! Забавляясь воспоминаниями, юноши покатывались от хохота, а Бо вторил им, веря, что это смешно. Еще вспомнили, что уже давно порвали свою обувь, пробираясь по камням, шипам и колючим скалам. А Меринос, который не мог забыть о своем беге по горячим, как листовое железо, пескам, в восторге всплеснул руками и воскликнул: — Сапоги! За них и десять тысяч долларов не жалко! Я-то помню, как без них поджаривался живьем! — Да, — серьезно ответил Тотор, — не хватало только чуточки белого соуса к твоим лапкам! Господа каннибалы пальчики бы тебе облизали! — Наденем же сапоги и снова возблагодарим нашего преданного друга! — И пора поесть! — предложил Тотор, подняв двадцатипятифунтовый окорок и помахав им как дубиной. Поискал нож, но такового не обнаружил. — Черт побери! Даже откромсать нечем! А как у вас с этим делом, ребята? Выяснилось, что ни у Бо, ни у Мериноса тоже — ничего. — Ну и ну, — развел руками Тотор. — И выхода нет, разве только по очереди откусывать… А может быть, нож найдется в ящике для инструментов? Открыли ящик, посмотрели. Ничего похожего. Из острых инструментов — одно зубило. Что же делать? Как это глупо, с самого начала сели в лужу из-за пустяков! — Нашел! — вдруг радостно воскликнул парижанин. — Что? — Ножовку. Справится с железом — справится и с окороком. Не откладывая дела, Тотор взял маленькую пилку с острыми зубьями и стал быстро водить ею прямо по розовой плоти окорока, на котором написано: «Армур энд Компани, Чикаго». В мгновение ока он отпилил три толстые пластины розового мяса и сказал: — Тут каждому по фунту, расправляйтесь поскорей, костей не попадется. За две минуты от кусков ничего не осталось. — Повторим? — спросил Тотор. — Нет, — ответил американец, — видишь ли, эта ветчина солоней Тихого океана. — Верно, у меня горло горит от соли. — Вот стакан воды бы — это да! — Чего же проще! У нас должно быть несколько бидонов в запасе — для охлаждения мотора. Построенный и специально приспособленный для долгих поездок по дикой стране, автомобиль не был похож ни на какую обычную марку. Прежде всего его колеса были расставлены шире обычного, и, таким образом, кузов был гораздо вместительней. Кроме того, установлен он был на вогнутый, закрытый со всех сторон металлический поддон, похожий на днище судна. Под сиденьями в машине были устроены большие ящики для провизии и других запасов, которые приходилось брать с собой. Тотор снял крышки, почти с ногами влез в одно из этих хранилищ, обыскал все сверху донизу и выбранился: — Тысяча чертей! Ни капли воды! Позавчера я заправил машину бензином, но, зная, что бак для воды залит доверху, не подумал о запасных бидонах. — Что же делать? — Пить воду прямо из бака. — Фу, теплую, отравленную отработанной смазкой! Настоящее рвотное! — Может быть, ты предпочтешь бокал шампанского, или светлого эля, или… — Или просто чашку молока. — В следующий раз захвачу корову, а пока пососи собственный палец. — Ты еще смеешься надо мной, палач, — сказал Меринос. — Но мы в одинаковом положении, — заметил Тотор, — и у меня язык горит от перца… — Тогда помчимся дальше! — Напрямик, пока не встретим источник, или ручей, или просто лужу. И они двинулись вперед на хорошей скорости. Перед ними по-прежнему простиралась угрюмая равнина — бесплодная и выгоревшая от солнца до белизны песчаная пустыня. — Кстати, — спросил Меринос, — куда мы едем? — Все время прямо вперед, на восток. — Ты так много знаешь, друг Тотор, особенно из географии; скажи, эта проклятая пустыня далеко тянется? — Да, ужасно далеко, на сотни километров! — Черт! А бензин хотя бы у нас есть? — Около четырехсот литров, в двух боковых резервуарах. — Браво! Четыреста раз браво! Значит, есть на чем проехать половину Австралии! — Не увлекайся, малыш! — остановил его Тотор. — Автомобиль мощностью больше ста лошадиных сил не только опьяняет скоростью, но и сам здорово пожирает бензин, он требует свой литр за каждый километр, так что машина отвезет нас как раз на сто лье отсюда. — Уже неплохо! — Согласен. И нужно быть отчаянными неудачниками, чтобы на таком расстоянии не найти, где заправиться. Наверняка тут есть хоть какие-то поселения, ведь скваттеры то и дело перебираются на новые места, а их жилища — настоящие склады, в которых все можно найти. — Да, но где эти жилища? — сказал Меринос. — Ты, наверное, знаешь, Бо? Ведь ты из этих мест… — Нет, я из Нового Южного Уэльса[158] и никогда не выходил из «Country-house» шефа бушрейнджеров. — Какое изысканное название — «Сельский дом»! — воскликнул Тотор. А Меринос продолжил: — Жаль, потому что мы вынуждены ехать наудачу, терпеть жажду, от которой горит горло, а может вспыхнуть все тело. — И все равно мы — замечательное трио дураков! — Почему? — Потому что нужда, мать предприимчивости, делает из нас идиотов! — Похоже на матросский комплимент, пожалуй, доброжелательный, но незаслуженный, — немного обиделся американец. Тотор только пожал плечами и сказал: — Посмотрите-ка на песок. Что вы видите? — Ничего, — ответил Меринос. — Мы едем слишком быстро. — А ты, Бо? — Я вижу лошадиные следы. — Так это же прекрасно! — Ба, — презрительно заметил Меринос. — Овсяные моторы! Плевал я на них! Предпочитаю хорошую скорость на автомобиле. — О шерстяной дофин и король лихачей, придется тебя провозгласить еще принцем идиотов! — Спасибо. Но за что? — Да ведь следы копыт указывают нам верную дорогу. — Куда? — Это путь посланцев хозяина. — Ну и что? — Сколько может проскакать лучшая скаковая лошадь без еды и питья? — Миль шестьдесят пять — семьдесят. — Значит, около ста двадцати — ста тридцати километров за семь или восемь часов. — Только если загнать до смерти. — Возможно. Но ведь они куда-то доезжают, где хотя бы есть укрытие, вода, животные, люди. — Ты прав, — сказал Меринос, — границы их переходов — как раз границы цивилизации! — Вот до этой цивилизации и нужно доехать, хотя бы до примитивной, на первый раз нам этого достаточно… А лошадиные следы ведут туда прямиком. — Но скорее, умираю от жажды, проклятый окорок жжет желудок! — Поехали! Тотор нажал на рычаг, и автомобиль снова помчался, как вихрь. Бешеная гонка длилась уже часа полтора. Надвинув шляпу, чтобы закрыться от солнца, и внимательно смотря вперед, Тотор думал только о дороге. С лицом красным, как помидор, Меринос роптал, облизывая языком растрескавшиеся губы. Бо, не спускавший глаз с постоянно голубого горизонта, вдруг вскрикнул: — Деревья! Меринос радостно откликнулся, прохрипев осипшим голосом: — Вода, вода!.. Быстрей, Тотор, еще быстрее, прошу тебя! — Да… водичка не помешает, я тоже умираю от жажды. Прошло еще пять минут. Деревья, которые Бо углядел в дрожавшем перегретом воздухе, уже подросли над горизонтом, их контуры стали четче. Над землей торчали какие-то клочки порыжевшей травы — робкое начало прерий. А вот и плодородная земля. Большие эвкалипты, казалось, бежали навстречу автомобилю. Вот мелькнули остатки постройки, и в воздухе повеяло характерным запахом гари, который вскоре пересилило зловоние гниющей плоти. — Что это значит? — спросил встревоженный Тотор. — Не все ли нам равно! — ответил Меринос. — Деревья, трава — значит, вода близко. Ой, как хочется пить… пить… Последние двести метров, последний рывок машины. Наконец парижанин выключил сцепление, нажал на тормоз, и машина остановилась. Молодые люди и их черный друг быстро соскочили на землю и с изумлением переглянулись. Путь им преграждали три лошадиных трупа, над которыми вились рои мух. Ни седел, ни поводьев. Благородные животные, вероятно, пали на месте, внезапно. Кругом отпечатались следы сапог со шпорами. Справа чернели остовы строений, погибших при пожаре. Обуглившиеся балки, скрученная огнем толевая крыша, покореженный металл — печальные руины того, что было процветающей фермой. — Воды, воды, — задыхаясь, стонали Меринос и Тотор, неспособные думать ни о чем другом. Спотыкаясь в хаосе разрушений, они искали скважину, источник живой воды, дающие жизнь оазису. Отвратительный запах тления еще более усилился. Они шли среди низких кустов с черными ветками, увенчанными красивыми пучками серебристых листьев, и вдруг вскрикнули: насколько хватало глаз, земля была усеяна трупами овец, которые гнили под лучами жгучего солнца… Молодые люди бросились прочь от ужасной бойни и через сотню шагов заметили листья водяных растений. Они кинулись туда с криком: — Там… там источник! Но тотчас же из иссушенных жаждой глоток раздался другой крик — ярости и отчаяния. Перед ними предстал источник: высеченная киркой водопойная яма длиной в двадцать пять — тридцать метров, с росшими по краям гигантскими тростниками, казуаринами с ниспадающими ветвями, большими лилиями с венчиками цвета слоновой кости… Но вода, за каждую каплю которой они отдали бы десять капель своей крови, эта вода, которая для них — сама жизнь, омывала множество овечьих трупов!.. Искромсанные ножами несчастные животные разглагались прямо в источнике, чистые воды которого стали смертельным ядом. А чтобы все знали причину бедствия, на коре одной из казуарин были вырезаны ненавистные молодым людям, преследовавшие их, как кошмар, буквы «Б. Р.» и звезда с пятью лучами.
ГЛАВА 2
Муки жажды. — Пасленовые. — Бедный Меринос! — Экстравагантное, но действенное лекарство. — Отъезд с задержкой, — В бреду. — Спящий часовой. — Нападение. — В полной темноте. — Подвиги человека, видящего в темноте.Незачем мешкать. Уничтоженная ферма ничего уже не могла дать беглецам. Радующий взор зеленый уголок, где честные люди любили, страдали, надеялись, эта частица земли обетованной превратилась в страшный могильник. — Нет ничего, — разочарованно сказал Тотор, — ровно ничего… Ни атома съедобного мяса, ни капли питьевой воды! Да, иногда жизнь становится тяжкой. Это означает скорый голод. Но главное — ужасные муки жажды, которые терзают все сильней и сильней. — Едем, скорей едем! — вскрикнул Меринос. Его затошнило. — Хорошо, — ответил Тотор, — лучше нам убраться отсюда поскорей! — О, эти бандиты! Какая подлость, какая тщательность и изощренность опустошения! — И в такой короткий срок!.. Но если судить по масштабу ущерба, их, должно быть, было много… — Нет, не думаю… всего несколько человек, но одно их прозвище внушает страх даже самым храбрым… всем известна беспощадность их банды. Они просто пригрозили смертью фермерам, заставили их самих уничтожить свои стада и бежать… Так, Бо? — Да, так, — ответил чернокожий. — Подумать только, — заметил Меринос, — они опередили нас всего на сорок часов! — Это очень много для людей их закваски. Тем более что они нашли здесь свежих лошадей и смогли помчаться во весь опор дальше, чтобы творить то же самое. Да, их жуткого хозяина хорошо слушаются! — Что же делать, о Боже, что делать? — А вот что! Они разъехались из своего укрытия в разные стороны… Надо бы их обогнать, пройти между двух групп, поднять тревогу среди скваттеров и попытаться организовать оборону. — Но даже автомобиль не способен пробегать по восемьдесят лье в час, да и мы нуждаемся во многом. А кроме того, сейчас я вообще не могу строить планы: жажда с ума сводит… так и помереть можно. Давай поищем воды! — Да, нужно искать! Должны же быть другие источники в округе! Три друга сели в автомобиль, медленно тронулись, вернулись назад, где вдруг, без перехода, кончились бесплодные пески, и снова поехали наудачу по неведомым местам. Они продвигались теперь по ковру густой, короткой, как бы истоптанной травы. Объезжали зигзагами кусты и радовались, что хотя бы сейчас до них не доходил тошнотворный запах разложения. Кустарники становились все гуще, а трава — зеленее. Но теперь машина застревала на каждом шагу, а жара стала невыносимой. Ни тени, ни ветерка. Как в печи. Тотор и Меринос задыхались. Их лица побагровели, губы запеклись. Наконец американец сказал: — Слушай, так дело не пойдет. Давай остановимся, разойдемся в разные стороны и обшарим все кусты. Будет удивительно, если мы ничего не найдем. — Ты прав, — ответил Тотор и остановил машину, — только не нужно отходить далеко. — Главное, осторожность, — посоветовал Бо, — не пейте без меня. — Хорошо, договорились! — сказал Меринос, припрыгивая от нетерпения, и помчался вперед. Прошло пять минут… Вдруг раздался нечеловеческий вопль, в котором звучали и мука, и жадность, и восторг. Это кричал Меринос: — Все сюда! Тотор, вода! Бо, скорее! О, вода! Бегите сюда. Парижанин остановился, прислушался, откуда крики, и бросился напрямик через кусты. Но австралиец, прыгая, как кенгуру, уже опередил его. Ветки хлестали его наполовину обнаженное тело, и он кричал: — Подожди меня, не пей! Осторожно! Ответа не было. В несколько гигантских прыжков чернокожий очутился подле Мериноса. Янки лежал ничком на краю водопойной ямы и со звериной жадностью пил светлую, чистую воду. Бо грубо схватил его за ноги и отбросил подальше, говоря: — Да не пей ты!.. Дай сначала попробовать. Меринос отбивался, отталкивал чернокожего локтями и вопил во всю глотку: — Отпусти, мошенник… злодей… не мешай мне пить! Отпусти, не то убью! Он царапался, колотил Бо кулаками, катался по земле, кусался как бешеный. Подоспевший Тотор подумал, что друг в припадке безумия, охватил его руками и освободил Бо, который посоветовал: — Держи крепче! Австралиец стал на колени, зачерпнул ладонью воды, понюхал, коснулся губами. Гримаса исказила его лицо. Он печально сказал: — Я так и думал! Меринос продолжал отбиваться. Между тем Бо нырнул в естественный бассейн. Тотор с удивлением увидел, как он вскоре снова появился на поверхности, держа в вытянутой руке связку раздавленных растений. Из брошенных на берег обезображенных стеблей сочилась резко пахнущая зеленоватая жидкость. Парижанин, немного знавший ботанику, узнал белладонну и несколько других видов пасленовых растений. Ядовитые травы! Особенно опасные под жарким солнцем тропиков. И, замирая от страха, он спросил: — Что это значит? — Источник отравлен, — ответил чернокожий. — Видишь, друг, дно ямы устлано этими растениями, и на них насыпаны камни, чтобы они не всплыли. — О, злодеи! Бедный мой Меринос! Но ничего, не бойся, мы тебя спасем, — сказал Тотор. Янки понял, что проглотил один из самых страшных ядов, и его экзальтация[159] мгновенно испарилась. Он побледнел и, задрожав, спросил: — Тотор, милый Тотор, что мне делать? — Прежде всего очистить желудок. Открывай рот! Меринос послушно выполнил приказ, а друг засунул ему два пальца прямо в горло — это способ известный. Напрасные усилия! Организм пытался, но не мог извергнуть яд. Тотор испугался. Если Меринос не избавится от ужасного сока пасленовых растений, он пропал! Нужно было что-то придумать, а время торопило. Смерть могла забрать его друга с минуты на минуту. Что же делать? Вот она, идея! Как всегда, у Тотора их много! — Теплая вода! Только это спасет! Возьмем тебя под руки и пойдем к машине. Быстро! Через пять минут они подошли к автомобилю. Меринос уже чувствовал в горле и на языке жжение, не имевшее отношения к жажде, все в глазах у него расплывалось, а ноги стали подгибаться: яд начал действовать. Парижанин поискал какой-нибудь сосуд, но ничего не нашел. Было бы слишком долго открывать консервную банку и очищать ее от содержимого… — Тотор, — прошептал больной, — у меня туман перед глазами, едва вижу солнце… Нет сил держаться на ногах. — Ничего не случится! Слушайся меня: делай все, что я скажу… — Да, друг мой! У меня уже нет надежды… разве только на тебя… Схватив американца под мышки и положив на спину, прямо под радиатор машины, Тотор нащупал сбоку сливной кран. — Не бойся, все в порядке! — сказал он, демонстрируя хорошее настроение, чего на самом деле не было. Француз приподнял голову друга поближе к крану и добавил, крутя ручку крана справа налево: — Разинь пасть пошире и заглатывай… Противная теплая вода, пахнущая смазочным маслом и металлом, полилась в рот американца… Меринос жадно, захлебываясь, пил, а сидевший на корточках Бо сочувственно глядел на него, покачивая головой. — Попей, милый, — приговаривал Тотор, — это чистейший моторный сок, эликсир[160] шоферюг-лихачей, нектар автолюбителей-автогубителей… Что? Душа уже просится наружу? Давай, еще глоточек… а потом главное — не стесняться. Экстравагантное, гениальное лекарство подействовало, да еще как! Меринос едва успел вылезти из-под радиатора и встать на колени. — Ну вот и хорошо… опасность миновала, но ты едва не опоздал. Лучше теперь? — спросил Тотор. — Благодарю, гораздо лучше… — ответил Меринос. — Опять ты мне спас жизнь! — Брось! Но что ты чувствуешь? — У меня по-прежнему в глазах туман, я слаб, не могу стоять на ногах, дрожу, несмотря на жару… Мне и вправду еще нехорошо. Смущенный этими нарушениями зрения, Тотор осмотрел глаза Мериноса и с удивлением заметил, что зрачки необыкновенно расширены. Он не знал, что это главный признак отравления соком пасленовых растений. Тотор был обеспокоен, но все же не слишком, с основанием надеясь, что этот симптом со временем исчезнет. Что же делать дальше? Продолжить гонку в неизведанное? Тотор так и думал поступить. Но вдруг лежавший на траве Меринос начал бредить. Дрожа и жалуясь, что холодно, он невнятно заговорил еще о том, что видит двойных Тотора и австралийца. — Как странно, — сказал янки бесцветным голосом, — два Тотора… два Бо… а я один. Не хочу быть один! О, Боже, как холодно! А еще сосал корову… ты знаешь… корову, которая автомобиль… безрогую машину… Понимаю, что говорю глупости, но я сплю и хочу проснуться… Сейчас я… в своей каюте на борту «Каледонца»! Бой, огня!.. Ха-ха… Но нет, это плохо… прости, Тотор… Бой — это маленький юнга… и Меринос тоже… Все мы подносим огонь… О, этот огонь у меня в желудке!.. Тотор нервничал, слушая этот бред. Неужели ужасный яд сделает свое дело, несмотря на принятое рвотное? Парижанин хотел бы верить, что отравы было выпито немного. Думая о друге, он забыл про собственную жажду и проклинал свое невежество в медицине. Без лекарств и посторонней помощи он бессилен! Можно надеяться только на защитные силы организма. — И это еще не все, — говорил парижанин раздраженно и в то же время сочувственно, — мы вынуждены оставаться на месте! Черт возьми! Вот это авария! И надолго? Ведь пока Меринос бился в судорогах, совершенно невозможно было везти его куда-то на автомобиле. Конечно, за ним нужно следить, как за мальчишкой, у которого судороги, и дать ему хорошенько отдохнуть. К счастью, рядом — небольшая рощица. Тотор уложил друга в тени и принялся ухаживать за больным, приговаривая: — Ты дрожишь… Не потому, что холодно… при такой температуре и саламандры[161] изжарятся! Но кожа у тебя сухая, как пергамент… Подожди-ка, я заверну тебя в одеяло, и разрази меня гром, если ты не пропотеешь как алькарас[162]. Бо тоже занялся делом. Прежде всего он вынул из стоявшего неподалеку автомобиля оружие и патроны, аккуратно зарядил винчестеры и поставил два из них рядом с Тотором. — Понимаю, — сказал парижанин, — всякое может случиться. Бо взял третий карабин и просто сказал: — Пойду поищу провизии. — И главное, воды. — Ты очень хочешь пить, малыш? — В горле — будто клок пакли… разогретый в духовке и политый расплавленным свинцом! Давай рысью и не задерживайся! Парижанин остался с другом, который продолжал бредить. Бо вернулся только через три часа, но зато принес на плече длинные стебли с тонкими листьями. Тотор сразу узнал их. — Повезло! Сахарный тростник! Утром ветчина, вечером сласти… Прекрасно, жаловаться не на что! Тут больше ста фунтов. Но каким чудом ты их срезал? Ножа у тебя нет, а пилку ты не захватил… Бо показал свои людоедские зубы. — Обгрыз у корней, — прибавил он. — Ого! Тебе может позавидовать акула! А какой прекрасной вывеской ты мог бы послужить дантисту! Огромное спасибо, старина! — сказал Тотор. — Тебе этого хватит? — спросил чернокожий. — Конечно. Мне больше хочется пить, чем есть… Но ведь сахарный тростник утоляет и жажду и голод? Парижанин принялся грызть и сосать сочный сахарный тростник с аппетитом молодой обезьяны. Он жадно поработал зубами, щеками и языком, всасывая сладкий сок, проглотил немного прожеванной сердцевины и сказал: — Чуть-чуть смазал глотку, и живот не прилипает больше к спине. Уже неплохо! Но хватит болтать! Вот Меринос что-то бормочет, наверное, просит пить. Сейчас мы тебя обслужим! К счастью, тростник уже совсем созрел. Парижанин выбрал лучшие стебли и, сильно скручивая их, стал терпеливо выжимать сладкую жидкость в рот больного. — Пей, зайчик, — говорил он. — Еще, еще, мне кажется, я пью саму жизнь! — полубессознательно повторял больной. Медленное и продолжительное поглощение благотворного сока, его капельная дозировка сотворили чудо. Мало-помалу возбуждение Мериноса утихло, и Тотор с радостью отметил, что на теле друга показалась испарина, а временами возвращалось и сознание. Но симптомы отравления еще сказывались. Глаза Мериноса не выносили солнечного света, а уши болели даже от негромких звуков. Тотор слышал его шепот: — Лучи бьют по глазам, как раскаленным железом… и еще, прошу тебя, не говори громко… для меня твои слова звучат как трубный глас. В общем, больному стало получше. Он приходил в сознание, не было болей, судорог. Это хорошо. Но сколько волнений, а главное, какая потеря времени! Наступала ночь, а приходилось оставаться на месте. Нельзя забывать о возможной, даже неизбежной погоне… Нужно готовиться к обороне, терпеть протесты полупустого желудка и пересохшего горла. А их всего трое, считая больного, почти безумного. На закате Меринос заснул, Тотор и Бо приготовили оружие, решив караулить по очереди. — Если ты не против, — сказал парижанин, — я буду дежурить первым, я так возбужден, что все равно едва ли засну. Тотор чутко всматривался в горизонт, цвет которого постепенно переходил от розового к светло-коричневому, постепенно угасал и вскоре стал невидим. Наступила ночь. Великолепная ночь под южным небом, усеянным незнакомыми созвездиями… Легкий бриз подул из прерий и освежил еще недавно горячий, как в печи, воздух. Тотор глубоко дышал, пока ветер не донес до него вонь недалекого гноилища. Он заткнул нос и проворчал: — Я же не просил ставить меня на постой к живодеру! Но в конце концов на войне как на войне, и раз не происходит ничего похуже, можно и притерпеться! Время для Тотора, который, вслушиваясь в таинственные шумы, исходившие из прерий и пустыни, искал им объяснение, тянулось медленно. Напряжение нервов после резкого возбуждения перешло у юноши в неодолимое оцепенение. Он понимал, что проваливается в дремоту, пытался противостоять этому, до крови щипал себе руки, кусал язык… Хотел подняться, чтобы сбросить с себя отупение. Но все было напрасно. Тогда ему в голову пришла неудачная мысль — пристально всматриваться в звезды и считать их… Мерцание звезд на темном небосводе загипнотизировало его. Оцепенение увеличивалось, глаза непроизвольно моргали… Тотор медленно осел на землю и заснул.
__________
Сколько времени он проспал? Два, три, а может быть, и четыре часа. Этот свинцовый сон мог продлиться до утра. Но вдруг молния прорезала мрак, раздался громкий выстрел. Тотор проснулся, вскочил на ноги и выругался: — Тысяча чертей! Я уснул! В облаке порохового дыма он увидел силуэт Бо, тоже проснувшегося и прыгнувшего с земли, как чертик из коробки с пружинкой. Рука Тотора инстинктивно потянулась к винчестеру, а глаза стали искать врага — все это в первые же две тревожные секунды. На выстрел ответили странным, ужасным кличем, звериным воем, который заканчивался визгом: «Коу-у-у-и-и». Это военный клич и сигнал сбора австралийских каннибалов. Парижанин разглядел что-то черное, двигавшееся в ночной тьме. Это был враг: туземцы-людоеды, союзники бушрейнджеров! — Тревога! — закричал Тотор и наудачу выстрелил в темноту. Рядом раздался другой выстрел, и хорошо знакомый голос гневно произнес: — Ах, шельмы, вы хотели застать нас врасплох… но я вас слышу уже с четверть часа, и вижу как днем. Бо, Тотор, не стреляйте, предоставьте это мне! Это голос Мериноса! Да, именно Мериноса, который стоя, почти в упор, вел беглый огонь по противнику.ГЛАВА 3
Подвиги видящего во тьме. — Бегство каннибалов. — Победа, но ненадолго. — Новые враги. — Отступление. — Ночь в автомобиле и без огня. — Меринос больше не видит. — Отчего бывает сумеречное зрение.Внезапное пробуждение, выстрелы, крики, неожиданное воскресение Мериноса, его мастерская стрельба произвели на Тотора сильнейшее впечатление. На секунду француз вообразил даже, что и он поддался бреду, который мучил его друга. Он едва мог поверить своим глазам и ушам, особенно ушам. Но искаженные лица, ухватки чертей, предстающие лишь в пороховых вспышках, поистине адская музыка, ритмизованная выстрелами и яростными криками, — все это неоспоримая, ужасная правда! Видение преисподней предстало на секунду перед ошеломленным парижанином. Но этот семнадцатилетний коротышка, как мы уже могли убедиться, — на самом деле большой смельчак, веселый и неутомимый малый, скроенный по образцу самых отважных искателей приключений. Перед лицом опасности он тут же овладел собой и воскликнул: — Они хотят отведать нашей филейной части, но нет, дудки! Мы не отдадим ее без боя, и да здравствует Меринос! Американец держался героем. Тотору не верилось, что перед ним тот самый человек, который так недавно, отравленный, задыхался, стонал, бредил. Сейчас он спокойно и метко вел огонь: вот уже третий, четвертый выстрелы… Два каннибала упали, а Меринос воскликнул: — Не двигайся, Тотор! Бо, дай мне твой карабин! Бах! Бах! Еще два выстрела… два языка пламени… два предсмертных крика! Несмотря на темноту, американец стрелял так же метко, как днем, подтверждая свою репутацию снайпера. Он взял винчестер Бо, отбросил свой австралийцу и прибавил: — Поскорей заряди! Поневоле превратившемуся в зрителя, да к тому же ничего не видящего, Тотору оставалось только восхищаться. — Поразительно, Меринос! Ты видишь, счастливец! Верно, у тебя в голове электрические лампочки! А я слеп, как крот. Грохот выстрелов, которые следовали один за другим, заглушил его слова. Винчестер выпустил семь быстрых пуль подряд. И неясная линия нападающих, бывших в каких-нибудь тридцати шагах, разорвалась. Послышались крики бешенства, жалобы, стоны… Потом — тишина. Все кончилось? Или жди нового нападения? Тотор передал другу свой заряженный карабин, прибавив: — Получили эти людоеды! Будут знать, как охотиться на дичь из Нью-Йорка и Парижа! Насколько парижанин был нервно-болтлив, настолько же Меринос был спокоен и скуп на слова. Поглощенный обороной, зная, что от него одного зависит общее спасение, он, держа оружие на изготовку, смотрел во все стороны всепроникающим взглядом человека, обладающего сумеречным зрением. Небольшая группа черных начала обход, чтобы напасть на троих друзей сзади. Американец, от которого ничто не ускользало, засмеялся и сказал: — Тотор, я бы много дал, чтобы ты мог видеть эту картину! — А в чем дело? — Около полудюжины дикарей ползут на четвереньках. Вот один встал и хочет метнуть в меня копье. С молниеносной быстротой Мериносвыстрелил, сказав: — Опоздал, my boy! Нападающий рухнул, а остальные замерли, ничего не понимая, и эта остановка была для них роковой. С невероятным спокойствием, с пугающей меткостью, американец выстрелил снова, и еще один людоед упал. После этого испуганные туземцы, чувствуя, что смерть подстерегает их на каждом шагу, побросали копья и бросились бежать во весь дух. Раздался тот же звук: «Коу-у-у-и-и», но на этот раз был не вибрирующий, кровожадный клич, а негромкий сигнал к отступлению, вернее, к бегству. — Они свое получили! Больше не вернутся! — сказал Бо, который хорошо знал дикарей и не мог ошибиться. — Значит, победа, победа! — крикнул Тотор. — Ах, Меринос, мы тебе должны поставить свечку! Хочешь газовую? Или электрический фонарь? Так хорошо будет смотреться в этом пейзаже! И нападение и защита длились не более пяти минут. Тотор хотел бы расспросить друга, узнать, как это он оказался на ногах, с ясной головой, и оказался способен выдержать такое трудное испытание. Он взял Мериноса за руку и, почувствовав, что она покрыта потом, сказал: — Из тебя течет, как из водозаборной колонки! Никогда бы я не смог… — Тсс, молчи! — решительно прервал его американец. — Слушай! Прошло секунд двадцать. — Я не ошибся, — продолжил Меринос. — Что ты услышал? — Топот галопирующих лошадей, крики людей, бряцание металла. Так я и думал, — сказал он. — Ты феномен… Видишь, когда другим требуются собаки-поводыри, слышишь, когда простые смертные не улавливают ни звука. Скорей это тебя нужно звать Королем Ночи… — Теперь я вижу, — вскрикнул Меринос, — их целая команда, человек двадцать. Мчатся во весь опор на выстрелы. Они метрах в пятистах… Через две минуты будут здесь. — Гром и молния! Что же делать? Меринос, старина, теперь тебе придется соображать за всех… Я глуп как пробка, когда ничего не вижу! — Не будем терять времени… Нужно собрать оружие, патроны, не забыть мое прекрасное одеяло и быстро — в автомобиль! Сказано — сделано. Друзья бросились к машине, стоявшей в нескольких шагах, Меринос вскочил на переднее сиденье, на место, которое обычно занимал его друг. Открывая бензиновый кран, он крикнул Тотору, оставшемуся на земле, перед машиной: — Заводи мотор! Парижанин несколько раз крутанул ручку и вскочил на соседнее сиденье, рядом с Мериносом. Бо уже уселся сзади с ворохом карабинов между колен. Американец поставил ногу на педаль сцепления, отпустил тормоз, взялся за руль и включил зажигание. Машина, пыхтевшая и дрожавшая на месте, двинулась вперед с привычным уже судорожным кашлем: «Тюх-тюх». Отряд приближался. Слышались яростные крики. Потом раздалась короткая команда: — Огонь! Огонь по этим мошенникам! Беглецы узнали высокомерный и резкий голос предводителя бушрейнджеров. Мчавшимся во весь опор всадникам пришлось придержать коней, чтобы исполнить приказание; снять карабины, зарядить их, хоть как-то прицелиться, — на это тоже требовалось время… К тому же они не поняли смелого маневра автомашины, темная масса которой была почти незаметна на песке. При свете звезд бандиты едва различали неясное поблескивание металла, которое вскоре пропало. Четко различая все препятствия, Меринос уверенно вел автомобиль, как днем, и постарался увеличить скорость. Бушрейнджеры могли вести огонь только наугад. Послышалась беспорядочная стрельба. Трое беглецов слышали, как свистели и визжали пули. Тотор, вспоминая недавнюю аварию, прошептал: — Только бы они не испортили еще раз нашу маслобойку. Но все шло хорошо. Робинзоны отделались испугом. Через несколько секунд автомобиль, ставший совсем невидимым, был уже далеко от разбойников. Можно было не опасаться ни пеших, ни конных. Трое друзей неслись по равнине, поросшей редкими чахлыми кустами. Меринос, отличный шофер, ловко маневрировал между ними с таким умением и спокойствием, какого Тотор от него никак не ожидал. Время шло, расстояние между беглецами и преследователями постепенно увеличивалось. К счастью, местность благоприятствовала этой фантастической гонке по дикой стране в полной темноте, без фонарей. Сначала, думая только о бегстве, молодые люди молчали. Так длилось около часа. Но час — слишком много для Тотора, у которого, как известно, ежесекундно чесался язык. Он смотрел, как мимо, почти задевая машину, проносились бесплотными тенями кусты, и один естественный вопрос сорвался с его губ: — Какая у нас скорость? Меринос взглянул на спидометр и коротко ответил: — Пятнадцать миль. — Значит, тридцать километров в час… Неплохо. Но скажи, дружище, ты, наверное, страшно вымотался, из последних сил держишься? — Вовсе нет! И сам не понимаю почему. От всей этой передряги я, правда, дико вспотел, у меня вся одежда промокла, зато сейчас я уж ни о каких болячках не помню. — Потрясающе! — Только вот странно, что я вдруг стал видеть в темноте. А в остальном — вроде бы полный порядок. — Несомненно, бешеная атака тебя исцелила! — Но что будет со мной днем? — Будем надеяться, зрение не ослабнет. — Боюсь, чудеса не вечны. Если бы ты знал, как это необычно — пронзать взглядом мрак! Вокруг меня все серое с бесконечно мягкими оттенками голубого. Вижу четко, но это не свет, а что-то странное, волнующее… пейзаж из сна, со звездами, которые сияют, как маленькие солнца. Большие ночные птицы охотятся, летучие мыши проносятся стремглав, выделывая безумные пируэты[163] в воздухе… А вот порхающие бабочки и целый рой насекомых… Все живет, движется, но совершенно бесшумно. Что за непостижимая фауна! — Ну вот тебе еще одно приключение, вовсе не банальное даже после стольких других! Знаешь, когда мы это расскажем, наверняка кто-нибудь брякнет: «Ну и брехуны эти путешественники, настоящие врали!» — и нам точно никто и никогда не поверит! — Однако все бывает. И какое счастье для нас, что я отравился! — Это уж точно! Если бы ты не попробовал бульона из трав, нас бы прикончили, насадили на вертел, закоптили, обжарили и обглодали бы до костей! Что называется, рисковали собственной филейной частью. Но расскажи нам, как это случилось, ты же знаешь, я просто рот разинул, совершенно обалдел… — Все было просто. Я спал как сурок, а потом, наполовину проснувшись, дремал в каком-то оцепенении, довольно приятном. От этого яда мой слух очень обострился: любой звук казался громом, уши болели. И вот, дремля под деревом, проклиная Бо, который храпел как органная труба, я с необычайной ясностью услышал шорох травы и листьев, чье-то сдерживаемое дыхание и даже сухой хруст сустава! Нетрудно было понять, что нам грозит опасность, тайком подползает какой-то враг и, уж конечно, не с добрыми намерениями… Тут я окончательно проснулся и открыл глаза. О, счастье! Я все видел… да, четко видел вооруженных копьями чернокожих, которые ложились на землю, ползли на животах, скрытно подбирались к нам на четвереньках. — Конечно, чтобы понежничать с нами? — Вот-вот… Но они были уже в тридцати метрах! Я призвал на помощь все свое хладнокровие, тихо взял карабин, резко поднялся, прицелился в человека, который подобрался ближе всех, и сразу выстрелил. Вот и все. Остальное вы знаете. — Да, мой храбрый друг! Ведь остальное — это просто наше спасение, добытое твоим великолепным спокойствием, неслыханной меткостью и несравненным бесстрашием… — Перестань, пожалуйста! Но я старался изо всех сил, и твои похвалы, дорогой Тотор, меня радуют… Внезапно американец замолчал, а потом заговорил снова: — Как странно! Вдруг стала пропадать удивительная ясность, уменьшается этот голубоватый нежный свет, идущий от звезд. По правде говоря, он меркнет… Я вижу на горизонте огромную черную полосу, заставляющую меня щуриться… — Но, — откликнулся Тотор, — эта полоса — не черного, а ярко-красного цвета. Прямо светоносный пурпур! Да это и есть заря… Солнце встает. — А я воспринимаю ее все более и более черной. Заря для меня — ночь… Я опять слепну, — сказал Меринос. — Ну, это уж слишком странно, — заметил Тотор. Пока два друга разговаривали, внезапно разгорелся тропический день. — Тотор, — сказал американец, — веди машину дальше сам… В глазах темно. — Хорошо, подчиняюсь, но я ровно ничего не понимаю. Между тем все обстояло просто, и, немножко подумав, Тотор мог бы легко разобраться что к чему. Ведь что такое зрение? Это связь человека и животных с внешним миром при помощи глаз и посредством света. Внешние предметы, будучи освещены, отражаются на самой глубокой оболочке глаза — сетчатке. Эта вогнутой формы оболочка, получив световой сигнал, передает его в мозг через оптический нерв, продолжением которого она и является. Если бы свет был всегда одинаково ровен, зрение оказалось бы очень простой штукой и действовало бы непрерывно, без осложнений. Но свет, напротив, весьма неравномерен, и его вариации огромны, от абсолютной темноты до ослепляющего сияния солнца. Требуется, чтобы в разных условиях сетчатка могла бы реагировать на лучи, без ущерба для органа зрения и пропорционально вариациям света. Поэтому-то глаз снабжен в своей передней части другой оболочкой, называемой радужной. Это окрашенная часть глаза, прорезанная в середине круглым отверстием, зрачком. Радужная оболочка нужна, чтобы дозировать количество световых лучей, необходимых для нормальной работы сетчатки. Вогнутая и расположенная напротив сетчатки радужная оболочка имеет нервы, которые отдают ей приказ расширяться или сужаться от света. Если наблюдаемый предмет ярко освещен, зрачок сужается, чтобы в глаз проникло нужное количество лучей. Если, напротив, предмет темный, зрачок сам расширяется, чтобы пропустить лучей побольше, но по-прежнему необходимое количество, ни больше, ни меньше. Значит, радужная оболочка — автоматический и очень важный регулятор зрения и является таковым, пока работает нормально. Но если по какой-нибудь причине — из-за болезни, травмы, отравления — она теряет чувствительность, происходят необычные вещи. Возьмем случай отравления стрихнином или калабарскими бобами. Радужная оболочка сожмется и сузит зрачок. Такой пациент тем не менее сохраняет зрение, пока светло. Но если сужение зрачка сохранится и в темноте, в его глаза не будут проникать лучи и ночью он будет слеп. С другой стороны, если человек наглотается белладонны, белены или дурмана, которые не сужают, а расширяют зрачок, происходит обратное: во время действия яда в глаз проникает слишком много света. Отсюда боли, светобоязнь, прилив крови, невозможность видеть. Но зато ночью широко распахнутая радужная оболочка может пропустить много лучей. Малейший источник света освещает предметы и позволяет различать их с необычайной четкостью. Такой человек слеп днем, но становится зрячим ночью. Вот это последнее и произошло с американцем. Послушные приказам хозяина, туземцы отравили источники пасленовыми растениями. Меринос жадно пил воду и, несмотря на крайнее средство, примененное Тотором, почувствовал симптомы, свойственные этому виду отравления. Но то, что должно было погубить беглецов, спасло их. Став обладателем сумеречного зрения, Меринос заметил врага, отразил нападение, храбро сражался, обеспечил отступление, мастерски вел машину в полной темноте и спас своих!
ГЛАВА 4
Песок и вода. — Восторг утоления жажды. — Травянистая равнина. — Проклятое растение. — Опять пустыня. — По куску ветчины. — Пожар. — Сигнал тревоги, призыв к уничтожению. — Равнина соленых кустов. — Аромат жаркого.С парижанином за рулем автомобиль помчался еще быстрей. Меринос, который не мог вынести дневного света, дремал подле Тотора, надвинув шляпу на закрытые веки. Бо вглядывался в даль, пытаясь обнаружить какую-нибудь рощицу. Но ничего похожего. Вокруг все еще виднелась бесплодная выжженная равнина, устрашающая соленая пустыня под огненным солнцем. Прямо геенна огненная![164] Если бы показалась зелень, появилась бы и слабая надежда отыскать воду. — Чертовски хочется, — бормотал про себя Тотор, — сделаться рыбой. Лучше быть рыбой в воде, чем человеком на сковороде. А я жарюсь в собственном соку. К счастью, чувствуя, что земля довольно твердая, нет ни камней, ни корней, можно хоть гонку на скорость устроить, Тотор прибавил ходу. — Это скажется на расходе бензина, — сказал он, покачивая головой, — но пусть! На войне как на войне! Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Главное, мы едем, лишь бы покрышки выдержали! Они неслись так в течение часа, с разгоряченными лицами, истекая потом, едва не обжигая легкие горячим воздухом. Меринос начал жалобно стонать. Несчастный юноша до того обессилел после ночных подвигов, что не мог даже сидеть, и австралийцу пришлось поддерживать его сзади! У парижанина тоже по временам кружилась голова, сердце замирало, в глазах темнело. Он еле замечал, что почва стала понемногу понижаться, образуя ложбину. Смутные образы-галлюцинации[165] проплывали перед глазами Тотора, потом, в каком-то мираже[166], он увидел реку. Хриплым голосом юноша пробормотал: — Похоже на воду! Если это только привиделось, я умру. Меринос услышал и простонал: — Ты сказал «вода»? Где? Ради Боги, отведи меня! Колеса стали глубже погружаться в размякший песок. Тотор успел выключить мотор и нажать на тормоз. Это действительно была река, довольно широкая, которая прорезала песчаную равнину и тихо несла свои воды, не омывая ни деревца, ни пучка травы. Поток воды, у которого не увидишь ни четвероногого, ни птицы, ни насекомого. Нечто бесплодное, унылое, напоминающее безжизненные ледовые пейзажи. Австралиец выскочил из автомобиля, приник к влаге и обрадованно сказал: — Не соленая, пить можно! А ведь действительно, она могла оказаться и соленой, как во многих внутренних реках этой страны, изобилующей парадоксами. Ощупывая предметы как слепой, Меринос хотел тоже поскорей выбраться из машины. Тотор подхватил его, как ребенка, на руки, положил на песок и сказал: — Вот, только не спеши… Прежде всего вымой лицо, прополощи глотку, но главное, пей не спеша, а то заработаешь колики в желудке! Наученный горьким опытом, последствия которого он ощущал и теперь, Меринос пытался сдержаться, пока Тотор, лежа ничком, заглатывал воду с алчностью агонизирующего[167] зверя. Сделав несколько жадных глотков, парижанин приостановился и только тогда, скривив гримасу, разочарованно сказал: — Не первой свежести… не как из настоящей водозаборной колонки… И заметно солоновата… Но все же может залить пламя, бушующее в наших животах, так что повторим! О, конечно, повторим! Три друга пили и не могли напиться. Их хорошо поймут те, кто испытал муки жажды! Потом они искупались, поплескались, наконец, намочили свое сухое, как пакля, платье, освежили свою почти пергаментную кожу, чтобы хоть на минуту спастись от солнечного зноя. Так прошло добрых двадцать минут. Бо и Мериносу хотелось отдохнуть еще, но благоразумный Тотор решил, что пора уезжать. — Как? Уже? — с сожалением воскликнул американец. — Так нужно, — твердо ответил Тотор. — Но почему? — Потому что это страна голодухи, а у нас припасов всего-то три четверти окорока… да и бензина остается все меньше… и, наконец, потому что нас преследуют не совсем приятные люди, и во что бы то ни стало нужно расстаться с ними по-английски, не попрощавшись, а иначе можно нарваться на неприятности… Вот, дорогой Меринос, главные причины, которые велят нам забраться в авто. Будем как можно ближе держаться к реке, тогда не погибнем от жажды… Нам уж очень не повезет, если, поднимаясь вверх по течению, не наткнемся на какую-нибудь ферму. Ввиду таких неоспоримых доводов, гонка возобновилась. Беглецы проехали еще километров сорок, не найдя ничего, кроме песка. Потом желтую пустыню вдруг сменила зеленая равнина. — Браво! — крикнул Тотор, которого смена пейзажа привела в восторг. — Браво! Это бесконечные прерии, самые богатые пастбища, где мы найдем любую дичь, а возможно, и селения… Браво! Еще раз: браво! Тотор осмотрительно притормозил. Усыпанные лиловыми цветочками, сгибавшиеся под колесами короткие стебли образовывали нечто вроде густого ковра, ехать по которому можно было без особенного труда. Тотор ликовал и болтал как сорока с Мериносом, который радовался и восхищался, доверяя другу. Только Бо кусал губы, покачивал головой и беспокойно поглядывал на бесконечную зелено-голубую, совершенно ровную равнину без единого дерева и даже кустика. Но парижанин, предавшись ликованию, не замечал озабоченного вида аборигена. Автомобиль катился так уже полчаса, и Тотор начал задавать себе вопрос, почему под колесами неизменно одно и то же растение. Нельзя сказать, что это трава, не назовешь его и деревцем. Это злак с жестким, ломким стеблем светло-коричневого цвета с узелками, от которых отходят длинные, слегка зазубренные листочки. На каждом листочке — крошечные колоски с микроскопическими, ничем не пахнущими лиловыми цветами, как бы искусственными. Беглецы ехали по густому ковру, не ощущая жизни в этих растениях. Злаки трещали, как хворост, под колесами — и только. — Да это все еще пустыня! — сказал наконец парижанин, удивление которого росло. — Травяная после песчаной. Какая необычная страна, тут все не так, как в других местах! Автомобиль проносился километр за километром, а травянистая равнина оставалась неизменной. — Неслыханная вещь! — воскликнул Тотор, который никак не мог прийти в себя от изумления. — Ничем не лучше песков! А я-то воображал, что тут вспархивают птицы, прыгают кенгуру, жужжат насекомые! Поди ж ты! Тут нет ничего, абсолютно ничего живого, кроме нас да этой липовой зелени, карикатуры на траву, которая создана, наверное, специально, чтобы жестоко обманывать несчастных беглецов. Нужно посмотреть поближе. Он остановил машину, сошел на землю, потрогал растения ногой, потом сорвал пучок и взглянул на него: — Точно, какая-то поддельная трава с серо-зеленым налетом, будто неживая… Первое, что поражало в одновременно немощном и сильном растении, — это абсолютное безводье всех его волокон, листьев, колосьев, цветочков. Кажется, оно живет, растет и размножается без единой капли сока. Ну, точь-в-точь зеленая бумага, прилипшая к венику! Сравнение с нашим пыреем может дать только смягченное представление о ненасытности этого растения. Оно возникает где угодно, на черноземе и шлаке, на песке и битом стекле, губит вокруг себя травы и даже большие деревья, ему нипочем засухи и наводнения. Зеленым неживым потоком растекается лжетрава по равнинам, взбирается на холмы, спускается в долины, заполоняет и уничтожает все вокруг. Нет абсолютно ничего полезного в этом дьявольском создании. Ни одно четвероногое, даже умирающее от голода, не станет есть эти стебли и листья, ни одно насекомое не станет копошиться в неживых цветках и никакая птица не будет клевать таких зерен. Раздосадованный Тотор спросил австралийца, который не скрывал более беспокойства: — Ты знаешь, что это за противное растение? — Мои сородичи называют его бур-бур и боятся больше чумы! А научного названия я не знаю. Это сущий бич для пастбищ, — бур-бур моментально распространяется и губит хорошие травы, — ответил Бо. — Но его можно сжигать! — После пожара бур-бур снова быстро вырастает, еще гуще и выше, — ответил Бо. — Он не боится ни солей, ни керосина, ни кислот… — Значит, ты правильно сказал: бич. Однако пора выбираться отсюда. — Да, но кто знает, далеко ли еще тянется эта проклятая равнина! Удивительно живучее растение, вероятно — разновидность spinifex из семейства злаковых. До сих пор она не была изучена в достаточной степени, а свойства, которые отличают ее от собственно spinifex, еще не были установлены. Как бы то ни было, растение стало занимать обширные пространства, и произведенные им опустошения невольно напоминают историю с кроликами. Неизвестно, давно ли завезли сюда эту «чуму» — как кролика, как филоксеру[168] к нам или туберкулез на острова Океании. Во всяком случае, здесь лжетрава нашла новую территорию, идеальную почву, которая способствует ее зловещему распространению. Если вторжение зловредного злака будет продолжаться, придется принимать самые энергичные меры против этого бур-бура. Травяная пустыня расстилалась необозримо, и ничто не предвещало ее конца. Так что трем друзьям из-за отсутствия подножного корма пришлось опять приняться за окорок. Тотор подъехал к реке. Конечно же, нужно обильно оросить пересоленные копчености. Тотор снова отпилил огромные куски. Поработав челюстями пять минут и запив из реки, друзья снова пустились в путь. Между тем Меринос, все еще незрячий, стал волноваться. — Долго ли еще так ехать? Мы уже около пятидесяти миль отмахали по проклятой равнине… — Точно, девяносто километров, — ответил Тотор, все более и более волнуясь. — А как с бензином? — Так мало остается, что даже страшновато. — Какая ужасная страна! Подумать только, если не считать «Country-house» бушрейнджеров и разоренную ферму, мы не обнаружили обжитых мест. Значит, тут и нет ничего, кроме пустыни! — Просто невезение завело нас в глушь, которая только-только стала заселяться. — И конца ей не видно… — Вообще-то такие места — всего лишь небольшие пятна цивилизации на карте континента. Вспомни, что Австралия в четырнадцать раз больше Франции! Американец неожиданно прервал друга: — Что это?.. Ведь я вижу… могу открыть глаза! Какое счастье! — Зато я вижу плохо, что бы это значило? — откликнулся Тотор. Они ехали на восток, и солнце давно светило им в спину; теперь Тотор заметил, что свет внезапно померк. Вокруг них все посерело, мрак неотвратимо заполнял пространство. Тотор остановил автомобиль, все трое обернулись в сторону горизонта, но тот исчез; голубоватый пейзаж, сливавшийся с оловянно-серым небом, пропал. От травянистой пустыни густыми крутящимися вихрями поднимался черный дым, точно над десятком вулканов, и, как гигантский задник, занавешивал половину неба. Вот он скрыл солнце, перехватывая малейший отблеск, и странная ночь опустилась на землю — так бывает только при затмениях и пожарах! Время от времени над равниной вспыхивало что-то пурпурное, освещавшее снизу черные клубы дыма. — Это огонь! — вскрикнул Меринос. — Да, прерия горит, — добавил Тотор, — и огненный фронт шириной в двадцать пять лье движется к нам со скоростью пятидесяти километров в час. — Черт возьми! А если, не дай Бог, авария? — Очень было бы некстати, тогда мы поджаримся, как кровяная колбаса! — Да это поджог, гигантский поджог… Но кто же решился на такое? — спросил Меринос. — Мои соплеменники, — серьезно ответил Бо. — Жестокость скваттеров заставила их стать союзниками бушрейнджеров. — О, это ужасно! — Да! Господин сказал им: «Делайте ночь». Они повинуются и вызывают красный мрак! — И сжигают бесполезные травы… вместо того чтобы грабить фермы… угонять скот… — О, белые могут подождать! Это только первый сигнал, который поймут даже в двухстах милях: днем дым, а ночью огонь… постепенно и другие пожары возникнут… Это их телеграф! — Бррр! Вредно стоять перед таким телеграфным аппаратом, — проговорил Тотор. — Надо удирать! Автомобиль покатился быстрее прежнего, опережая пожиравший равнину огонь. Мотор работал прекрасно, и стало очевидно, что победа останется за ним. Беглецы уже заметили вдали голубую линию на горизонте, что предвещало появление больших деревьев. Пустыня кончалась, и растительный покров стал меняться; почва приобрела краснокирпичный цвет, появились деревца с длинными узкими листьями серо-металлического оттенка. Сначала можно было видеть соперничество двух растений, походившее на стычку двух враждующих армий. Spinifex захватывают плацдармы на территории противника, окружают неприятелей, иногда сразу же убивают их. В этой зоне, общей для обоих видов, но где нет никаких других, есть островки, где война идет с переменным успехом. Немного дальше серые кустарники остались хозяевами положения. Прорывая твердую красную почву, они занимали всю, насколько хватало глаз, землю на востоке. К счастью, они отстояли достаточно далеко друг от друга, чтобы дать машине проехать, однако все же замедляли движение. — Чем дальше, тем необыкновенней! — сказал Тотор, пораженный этой новой австралийской достопримечательностью. — Позади нас — серо-зеленые травы, а впереди — растения с оловянными листиками. Забавная страна! — …Но удивительно плодородная! — добавил Меринос, который уже мог рассмотреть кусты в тусклом свете. — Слушай, счастливчик, ты знаешь, что это? — Да, понаслышке, — ответил американец. — Выкладывай! — Если не ошибаюсь, одна из знаменитых долин с солеными кустами, мечта овцеводов, земля обетованная скваттеров, земной рай для баранов. Верно, Бо? — Точно так, — сказал австралиец. — Да потеряю я славное прозвище Мериноса, шерстяного дофина, если на этой salt bushplain мы не натолкнемся на какую-нибудь образцовую ферму! — воскликнул Меринос. — Хорошо, если бы так, — сказал Тотор. — Но огонь, который пожирает сорняки?.. — Остановится здесь, — уверенно заявил Бо, — соленый куст salt bush не горит. — Отлично, едем! Приблизительно через час езды вид равнины еще раз изменился. Тут и там возникали видные издалека большие деревья, много выше серолиственных кустов. Друзья увидели грубо сложенную из коры хижину. Звонкое лошадиное ржание приветствовало их. В то же время приятный запах жареного мяса защекотал их обоняние и Тотор облизнулся, сказав: — Кажется, нам подадут жаркое!
ГЛАВА 5
Мистер Патрик О’Брайен, пастух по профессии. — Гостеприимство в прериях. — Баран. — Соперничество между овцеводами. — Сообщник. — К поселку Уолтер-Пул. — Бедствие. — Ночь красного петуха. — Принимают за других. — Бегство. — Бензина больше нет.Подошел чистокровный конь, пощипывавший на свободе соленые стебли. Подбежали две собаки серо-стального цвета со стоячими ушами и бросились к автомобилю с отрывистым, волчьим воем[169]. В ту же минуту послышался свист, и кто-то, с сильным ирландским акцентом, крикнул: — Ко мне, Боб. Тихо! Тоби, тихо! Из хижины вышел черноволосый человек среднего роста, коренастый, с широченными плечами, живым взглядом. Одет он был в красную шерстяную рубашку и синие штаны, заправленные в большие сапоги из невыделанной кожи. Два револьвера висели на поясе. Увидев автомобиль, он удивленно поднял руки и доброжелательно улыбнулся путешественникам: — Автомобиль — здесь редкость. Добро пожаловать, джентльмены. Дом в вашем распоряжении. И я, и мой конь, и динго — все в вашем распоряжении… как и баран, который жарится на вертеле. Это так же верно, как то, что я Патрик О’Брайен, уроженец графства Лимерик в Ирландии. Все это было выдано на одном дыхании, с многословием, свойственным одиноким людям, коли они любят поговорить, а случай сталкивает их с чужаками. Путники вышли из автомобиля. Тотор протянул руку и сказал: — Благодарим вас, мистер О’Брайен, за радушный прием. Позвольте представить вам моих друзей. Это мистер Меринос — американский турист, это мистер Бо — цветной австралийский джентльмен; а я — мистер Тотор, французский путешественник. Все трое обменялись крепкими рукопожатиями с ирландцем, и Тотор прибавил: — Вы, верно, не удивитесь, если я скажу, что мы умираем от голода и, главное, от жажды. — Ну уж, мистер Тотор, от жажды мы не умрем, вот от голода — еще может быть, — заметил О’Брайен. — Но сколько ни пей, у доброго католика всегда останется сухое местечко в глотке, а для этого у меня всегда в запасе бутылки великолепного бренди. Милости прошу. Пойдемте скорей, жажда не должна томить людей! — сказал он и повел под навес у хижины, где жарилась баранья туша. — Жарю ее для себя и собак, тут примерно сорок фунтов чистого мяса… хватит на четверых христиан и двух динго… Я режу по барану в день. Люблю хорошо поесть. А у хозяина их больше пятидесяти тысяч, и цена им — не больше шести шиллингов[170]. Продолжая демонстрировать удивительную говорливость, ирландец принес полдюжины dampers[171], две бутылки бренди, оловянный стаканчик, две жестяные тарелки, поставил все на пол и радушно предложил: — Отрезайте сколько душе угодно… — Видите ли, мистер О’Брайен, — сказал Меринос, — у нас нет ножей. Проезжая через горящие прерии, мы потеряли вещи… наши приборы… — А, вы ехали через бур-бур? — многозначительно спросил ирландец. — А может быть, и через песчаную пустыню? — Да, вы ведь знаете, что для автомобиля расстояний не существует… — Вы… оттуда? — Да, и даже из еще более дальних мест, потому что мы с западного берега и пережили множество приключений, о которых расскажем вам за десертом! — Да, да, конечно, а пока поедим. Во время этого краткого разговора ирландец успел отделить от туши ногу, нарезал розовую, сочную баранину тонкими ломтями, с небрежной щедростью разложил ее по тарелкам, и трое гостей принялись есть мясо руками. Да с какой жадностью! Баранина и лепешки быстро чередовались, и первая баранья ножка проскочила как закуска. Ирландец рассмеялся и воскликнул: — А! У вас отменный аппетит! Давайте, давайте, не стесняйтесь, есть еще ножка и две лопатки. Не хотите ли стаканчик бренди? Хорошо идет под жареную баранину… за ваше здоровье, дорогие путешественники! — Очень признательны, мистер О’Брайен, вы так радушны, гостеприимны. — Да это всего-навсего гостеприимство бедного пастуха, который зарабатывает десяток гиней в месяц. Вот мой хозяин примет вас как следует, по-королевски, в своем поселке Уолтер-Пул… — Это далеко? — В двух шагах, каких-нибудь двадцать миль, — сказал О’Брайен. — Сорок километров… Значит, у меня хватит бензина. — Там вы все найдете… Если только… кто знает… гм!.. Пожар, сигнал… — пробормотал О’Брайен. — Какой сигнал? — спросил его немного встревоженный Тотор. — Вы лучше меня знаете… но вы осторожны, — проговорил О’Брайен. — Ну и ладно… Будем есть, пить и говорить о посторонних вещах. — Отлично, — согласился Меринос, не забывая работать челюстями. — Вы любите ваше нелегкое занятие? Ведь одиночество должно быть в конце концов тягостно. — Я счастливее любого миллиардера, даже американца, как вы, — ответил пастух, — будь он даже королем шерсти, Сидни Стоуном, нашим главным покупателем. Главное, люблю животных. Я десять тысяч овец вожу с фермы на пастбище и обратно… это замечательная жизнь, и она мне не в тягость… Клянусь святым Патриком[172], моим покровителем, тут такие даровые попойки устраивают… А постоянные сражения с аборигенами[173] и теми, кто разводит лошадей и коров! — Это что же, вы воюете с людьми той же расы и даже с соотечественниками? — Овцеводы — заклятые враги коневодов и ковбоев, они в охотку истребляют друг друга. Ах, как здорово стрелять из карабина! — Но из-за чего? — Коневоды и ковбои утверждают, что наши барашки их разоряют, это, мол, копытная саранча. Овцы и впрямь срезают своими копытами прерии подчистую, так что лет пять-шесть земля приходит в себя… Там, где пройдет баран, коню и быку делать нечего… Чистая беда, по правде говоря… Но это борьба за выживание, а борьба есть борьба! А вообще-то, что бы они там ни делали или говорили, овцы — наше национальное богатство и первое животное, созданное Творцом! Продолжая возбужденно болтать, размахивать руками, мистер Патрик О’Брайен буквально разрывался на части: приходил, уходил, разливал спиртное, разрезал мясо, пек все новые и новые лепешки. Сидевшие рядом с гостями динго получали обильные порции костей и мяса. Неожиданно ирландец заметно побледнел и замолчал. Его охватила конвульсивная дрожь, он глядел на своих трех гостей с нескрываемым ужасом. — Что с вами, дорогой мой? — дружелюбно спросил его Тотор. — Да нет, ничего, абсолютно ничего! Внезапная перемена, начисто испортившая аппетит пастуха, проявилась в нем после того, как он обошел вокруг автомобиля. Ирландец добавил: — Повторяю, господа, будьте как дома. Но наступает ночь, и я должен следить за стадом… позвольте мне забрать собак и заняться делом… Я вернусь через несколько часов. Сказав это, он свистнул коня, который послушно подбежал к нему, бросил ему на спину седло, одним движением руки затянул подпругу, накинул узду и вскочил на него с обезьяньей ловкостью. Друзья оцепенело смотрели на него, а он подобрал повод и неуверенно сказал: — Когда вы приехали… я подозревал, что, несмотря на вашу молодость… вы входите в… А вообще-то я видел сигнал, подожженную долину. Значит, нужно вызывать ночь… Конечно, я должен был тотчас же скакать туда… Простите, что я замешкался… в вашей любезной компании… заставил ждать хозяина, который не может ждать… Но я еду, через несколько часов приказ будет выполнен, ферма Уолтер-Пул будет уничтожена. Меринос и Тотор вскочили; они поняли, с каким человеком имеют дело, и хотели любой ценой помешать преступлению. — Стойте! — вскричал парижанин. — Мы совсем не те, за кого вы нас принимаете. Мы — беглецы, жертвы бушрейнджеров… — Знаю, знаю, — ответил ирландец. — В этом никогда не признаются пастухам. И вы отлично притворяетесь. Но я знаю свой долг, и скажите господину, что Патрик О’Брайен — хороший слуга! — Вы ошибаетесь! Клянусь честью, вы ошибаетесь! Боже мой, Боже, как убедить его? Как предотвратить беду! Тотор бросился, желая схватить лошадь ирландца за узду, но О’Брайен пришпорил животное, которое поднялось на дыбы, и прибавил: — Напрасно вы ломаете комедию. Я видел на вашем автомобиле эмблему бушрейнджеров… Наш страшный знак… До свидания, господа. Завтра поедете по моим следам, а когда приедете в Уолтер-Пул, дело будет сделано! При этих словах он отпустил повод. Конь бросился вперед, собаки по-волчьи зарычали, и вся группа исчезла за солеными кустами. Беглецы переглянулись. Недобрые предчувствия охватили их — надвигалось еще одно неизбежное несчастье. Наконец парижанин прервал трагическое молчание и глухо произнес: — Все верно, я забыл, что на машине сзади, на том месте, где у нас номер, — проклятые буквы «Б. Р.» и звезда. — Поедем за О’Брайеном, — предложил Меринос, — но скорее, скорее! Может быть, еще успеем! — Я хотел бы сделать это во что бы то ни стало, — сказал Тотор, — но кто будет управлять автомобилем в полной темноте, в зарослях, в неизвестной местности? Может быть, ты еще видишь ночью? — Увы, нет… но лучше мне быть в полной форме — уму непостижимо, какая драка назревает, — произнес американец. Несмотря на страстное желание спасти тех, кого приговорил к смерти бандит, они были бессильны. Наступила ночь. Друзья заснули тяжелым сном. Мучили кошмары. Беспокойство разбудило их еще на рассвете. Друзья наскоро перекусили тем, что осталось от барана, а запасливый Бо прихватил маленький бочонок с мукой и шесть бутылок бренди — остатки запасов пастуха-ирландца. Тотор проверил бензин в баке и покачал головой. — Ну что? — обеспокоенно спросил Меринос. — Меньше пятидесяти литров, — сказал Тотор. — Далеко не уедем! Автомобиль двинулся по следам мистера О’Брайена. Они были отчетливо видны — овцевод за время частых поездок проложил почти настоящую дорогу. Машина рвалась вперед, словно спеша обогнать встававшее солнце. Но черный дым уже заволакивал сияющий диск, как и вчера на закате, когда пылала равнина. — Вперед! — воскликнул Тотор. — Нужно поторапливаться, думаю, там тоже полыхают огни, и это вовсе не фейерверк! — Подлец, негодяй! — ворчал Меринос, вспоминая о пастухе, который всего лишь слишком усердно исполнил варварский приказ. — Подумать только, океан пламени может охватить весь край, всю страну! Черные столбы дыма вырастали, становились как грозовые тучи. Прошел почти час. Вот показались громадные деревья, окутанные дымом, противно запахло керосином и паленой шерстью. Слышались выстрелы, крики, блеяние овец. — Там идет бой, — сказал Тотор, притормаживая. — Браво! — сказал Меринос. — Значит, мы сможем вмешаться в схватку, ударить по бандитам. О, мы отомстим! Через пять минут автомобиль ехал уже по великолепной аллее из синих эвкалиптов, которая вела к поселку. До этого злополучного дня Уолтер-Пул был настоящим раем с деревьями, фруктовыми садами, цветами, ручьями и четырехкилометровым прудом шириной в пятьсот метров. Созданный упорными усилиями богатых промышленников, центр этот изобиловал коттеджами, складами, конюшнями, огромными складами — чего там только не было! А как ласкали глаз крытые галереи, веранды, беседки, построенные из белого кедра и красной сосны… Работа здесь кипела, как в улье. Трудились стригали, кладовщики, мойщики шерсти, упаковщики, сортировщики и многие другие специалисты шерстяной промышленности. Стрижка овец, которая означала обильный урожай — то же самое, что жатва на пшеничных полях, — уже заканчивалась. Стригальные машинки обрабатывали последних баранов, а животные, лишившиеся своего руна[174], жались в загонах перед возвращением на пастбища. Почти все груды шерсти уже побывали под прессом, превращавшим их в кипы. Склады ломились. Четыре огромных повозки, запряженные шестнадцатью лошадьми, были готовы отъехать с первым товаром. Именно в это время в опускавшихся сумерках раздался странный и страшный крик: — Вызывайте ночь! Настала ночь! Людям с окраины цивилизации уже был знаком этот клич, он произвел на обитателей поселка поразительное действие. Кто-то впал в горестное оцепенение, которое сопровождалось, однако, возмущением. Других же охватило отвратительное ликование хищников, — гнусные инстинкты вырвались наружу! Посреди возникшей толчеи вспыхнул язык пламени, потом другой, потом их стало много! Невидимые руки поливали керосином деревянные постройки, переходы, склады и сами товары. В мгновение ока все задымилось, затрещало, запылало. Раздались выстрелы. Некоторые хотели потушить пожар. Другие расстреливали добровольных пожарных. Испуганные животные метались, блеяли, ржали. Задыхающиеся от дыма лошади, обгорелые овцы повсюду прорывали изгороди, скучивались, снова разбегались и еще более увеличивали невыразимый беспорядок. На последних каплях бензина машина въехала в этот ад, когда дома уже догорали. У разгулявшихся погромщиков появление автомобиля вызвало дикую радость: для них он символизировал собой хозяина, который устраивал чудовищные даровые пиршества, заливал глотки всех бандитов спиртным. Общество отвергло этих негодяев — он же осыпал их золотом и бросал в бой… против общества. Потому-то красную машину приветствовали радостные крики: — Гип! Гип! Ура! Потом голос, который друзья сразу узнали, прорычал сквозь завесу дыма: — Браво, мистер Тотор! Браво, мистер Меринос! Смотрите, приказ исполнен! Расскажите обо мне нашему общему хозяину! — Негодяй! — проворчал американец. — С каким удовольствием я разбил бы ему голову! — Без глупостей, — прервал Тотор, — будь благоразумен! Слишком поздно, делать нечего… Мы попали в ловушку, пора уносить ноги! Янки не слышал его. Вне себя от ярости, помня лишь о том, что пожары разорят отца, Меринос уже не мог спокойно рассуждать. Он вскинул карабин и выстрелил на голос ирландца. Патрик О’Брайен не пострадал. Думая, что произошла ошибка, ирландец закричал: — Свои, не стреляйте! Товарищи, ко мне! Да здравствуют бушрейнджеры! Он выступил из клубов дыма, потрясая ружьем, к стволу которого была привязана белая тряпка. Другие бандиты, всего человек тридцать, присоединились к нему, крича что-то восторженное. — Клянусь, — сказал Тотор, — они собираются устроить парад и салют в нашу честь! Нет, это вовсе не салют и совсем не с той стороны. Защитники поселка, видя, что поджигатели покинули убежище, открыли по ним огонь. Завязалась ожесточенная перестрелка. Одна из пуль вырвала кусок кузова, другая, пробив шляпу Мериноса, оцарапала ухо Бо. — Hell dammit! — пробормотал Меринос. — Неведомые друзья, которым мы хотим помочь, стреляют в нас! — Глаз вышибают всегда свои, только так и бывает в таких стычках… Удираем! — А бензин? — спросил американец. Тотор пожал плечами, выжал педаль сцепления и спокойно ответил: — И десяти литров не осталось! Может быть, пять… может, меньше, не знаю! Но все равно — едем! Перед ними лежала широкая дорога, огибавшая поселок и выводившая в прерии. Еще продолжая разговор, по ней-то и поехал на полной скорости Тотор, вызвав тем самым новую серию выстрелов. Как часто бывает в подобных случаях, выпущенные второпях пули просвистели над головами трех друзей. Зато бушрейнджеры, увидев, что они уезжают, заподозрили правду и пустились за ними с воплями: — Измена! Предатели! Это не братья! Они нас покидают! Трусы! Предатели! Смерть им! — Ну что ж, это мне больше нравится, — крикнул Меринос, показывая им кулак. — А я предпочел бы сотню литров бензина… — О, я отдал бы всю свою кровь за двадцать галлонов![175] — Верю, но мы с тобой из плоти, а вот машина… Ох, я чувствую, ей худо, она ведет себя как олень, которого травит свора злых собак. Еще два-три лье протянем, и — конец! — Что ж! Будем сражаться с этой сворой и продадим наши жизни подороже! — Да, конечно, — процедил француз сквозь зубы. — Я бы с огромным удовольствием уложил их всех! Но еще лучше было бы проскользнуть незамеченными. Услышав вдали крики, Меринос обернулся. Толпа — человек тридцать — гналась за ними. В эту минуту они еще не были опасны, но позже!.. — Лучше смерть, чем снова попасть в их руки, — произнес Меринос, дрожа от гнева. В этот момент Бо, который внимательно вглядывался в горизонт, внезапно вскрикнул. — Что там еще? — спросил парижанин. — Всадники! Во-он там, едва видны. — Сколько? — Не меньше двадцати пяти. — Черт возьми! На каком расстоянии? — Две с половиной — три мили. — Направление? — Плохо видно, но похоже, они отклоняются в сторону, чтобы перерезать нам путь… Если онинас заметили… — Черт! И инфантерия[176] и кавалерия… Три дюжины пехотинцев, двадцать пять всадников… две армейские части. А нас трое на автомобиле, который собирается испустить дух. Кажется, плохи наши дела, очень плохи!
ГЛАВА 6
Агония автомобиля. — Придорожный кабачок. — Его нелюбезный хозяин. — Деньги есть, а спиртного нет. — Тотор рассердился. — Кабатчик в погребе. — Реквизиция бочонка виски. — Нападение. — Непреодолимая преграда.Автомобиль едва тащился по дороге, вившейся между солеными кустами. Против ожидания, он уже проехал около трех лье. Но скоро мотор заглохнет. — Все. Кажется, приехали, — сказал Тотор, — даже не нужно будет выключать сцепление, чтобы остановиться. — Да, — отозвался американец, — пиши пропало. — Мы сделали все что могли! А теперь будем сражаться! Приготовим оружие, патроны, чтобы были под рукой… — Да, — согласился Меринос, — и прикроемся автомобилем. Послужит сразу и дровяным и железным бастионом. — Подождем, пока совсем не выдохнется… бедняга еще тащится, как запряженная в елку на аттракционе деревянная лошадка под звук трубы, — сказал Тотор и прибавил, обращаясь к Бо, своему живому биноклю: — Что там впереди? — Всадники по-прежнему скачут нам наперерез. — Понятно! А другие, товарищи великолепного мистера О’Брайена, пастуха по призванию и бушрейнджера по предназначению… Что про них скажешь? — Ничего хорошего, идут за нами по пятам. — Да, по следам покрышек… и накинутся на нас, едва мы остановимся… Дорога резко повернула, и парижанин вскрикнул: — Это еще что такое? В сотне метров показался дом, укрывшийся под рощицей акации. Жилище, сложенное из необтесанных бревен, в таких обычно живут колонисты. Над его входной дверью висел пучок зеленых веток, что во всех странах мира обозначает место продажи спиртных напитков. — By God! — воскликнул Меринос. — Кабачок! — Ура, если найдется бензин, керосин или масло — мы спасены. «Тюх-тюх» — жалобно стонала испускавшая дух машина. — Ну-ну, еще немного, еще восемьдесят метров, еще шестьдесят… Ну же, старушка, всего сорок коротеньких метров… Ты уж не в силах… Это все равно что моей бабушке пробежать марафонскую дистанцию[177] или позариться на главный приз скачек в Рэсинге! Машина застыла у самой двери и тяжело дышала, как большая рыба, выброшенная волной на сушу. На шум вышел бандитского вида молодчик шести футов роста, с руками-оглоблями и зверским выражением лица. Все тот же классический наряд этих мест: шерстяная рубашка, красный пояс, сапоги со шпорами и непременная часть этого костюма — пара револьверов. — Вы — хозяин? — спросил его Тотор. — Да. И что? — ответил человек с любезностью бизона, которому досаждают комары. — Есть у вас бензин, керосин? — Нет. Еще что? — Досадно. Дайте подумать, — проговорил Тотор, — спирт… мог бы заменить… Гром и молния! Это было бы спасением для нас! Что у вас есть из самого крепкого… скажем, первач? — Есть сивуха тройной вытяжки, и много… для тех, кто хорошо платит, да еще вперед. — Продайте мне тридцать галлонов. — Джина? Виски? Рома? Швейцарского абсента? По два фунта стерлингов галлон. Выкладывайте деньги, выставлю и товар! — У меня нет наличных, но… — Что за молокосос заговаривает мне зубы! Нет денег — нет спиртного, и привет! С безденежными я не разговариваю! — Но подождите, — спокойно продолжал Тотор, хотя гнев переполнял его, — я предлагаю вам сделку… Подпись моего друга ценится здесь дороже золота… Это все равно что поместить капитал под тысячу процентов… — Хватит! Вон отсюда! — Зато у меня есть деньги! — крикнул Меринос, спрыгивая на землю. — Пошли в дом. — Да у тебя и гроша нет! — воскликнул ошеломленный Тотор. — Пойдем, увидишь. Молодые люди вошли в заставленный бочонками, бутылками большой зал, где стояли простые стулья. Кабатчик по привычке зашел за крытую оловом стойку. — Ну, где деньги? — грубо спросил он. Меринос уверенно достал из кармана шерстяной рубашки бумажник, тот самый, который был при нем еще на «Каледонце» и где находилась солидная пачка зелененьких. Предусмотрительный американец никогда не расставался со своим маленьким сокровищем, храня его как зеницу ока. Он твердо верил, что рано или поздно доллары сыграют свою роль. И вот пришло время воспользоваться этим капиталом! Меринос открыл бумажник, вынул пачку отличных, лишь чуть излохматившихся зелененьких. — Знакомы вам такие? — спросил он стоявшего за стойкой. — Да, фальшивые деньги! — Не говорите глупостей. Вы прекрасно знаете, что это кредитные билеты Американского банка, которые любой меняла купит с закрытыми глазами. — Ну и что? — Тут шесть тысяч долларов… — И пенни не дам за них! — Да вы с ума сошли! — Я — англичанин и знаю только английские деньги. — Послушайте, нам некогда… — сказал парижанин, — у нас кончился бензин… Спирт в крайнем случае может заменить его… Нужно даже не тридцать, а сто галлонов… Я дам за них две тысячи долларов. — Нет! — Четыре тысячи! — Нет! — Берите все шесть, и кончим дело. — Нет, нет и нет! — Чтоб тебя черти поджарили! — Меринос, Тотор, — воскликнул изменившимся голосом Бо, который был на страже, — всадники обходят, пешие приближаются, через десять минут они будут здесь! Тут парижанин вышел из себя. — Подлец, — крикнул он, — ты сам того хотел! Гигант почувствовал, что пахнет реквизицией[178]. Он испугался и потянулся к револьверу, чтобы выстрелить в упор. С кем-нибудь другим это и удалось бы. Но попробуйте справиться с таким хватом, как Тотор, ловким, как обезьяна, быстрым, как белка, да еще силачом, каких мало! Одним прыжком парижанин вскочил на стойку и — хлоп! — нанес страшный удар ногой прямо в лицо кабатчика. Тяжелый сапог подбил глаз, расквасил губы и нос. Брызнула кровь, оглушенный гигант охнул и зашатался. Тотор спрыгнул на пол и, заметив люк в погреб, крикнул Мериносу. — Скорей сюда, и открой люк… пошире! Меринос так и сделал, а его друг поднял поверженного противника и сбросил его по лестнице вниз, ускорив спуск еще одним ударом, ногой под ложечку, и насмешливо крикнув вдогонку: — Осторожно, не разбей стеклышко от часов! Захлопнув люк, француз подумал: «Хорошо бы какую-нибудь пробку найти, чтобы люк заткнуть… А, вот нашел… стойка!» Это огромная, массивная глыба из металла и прочного дерева. Вдвоем — и то еле сдвинешь. Но Тотор схватил ее за угол и изо всех сил толкнул руками, плечом, всем телом. Трах-тарарах! Стойка опрокинулась на люк под грохот бившейся посуды, и довольный Тотор воскликнул: — Вот теперь можно спокойно заняться делом. Прежде всего напоим нашу лошадку. Остолбенев от восхищения, Меринос с удовольствием наблюдал за жесткими действиями умелого друга. Положив бумажник обратно в карман, он сказал: — Да, нужно торопиться. Командуй! Парижанин уже осматривал строй бочонков, установленных на подмостках. Он на секунду открывал деревянный кран на каждом из них, нюхал и пробовал кончиком языка капли, падавшие в его ладонь. — Тростниковая водка… слабовато! Джин… плохо горит! Виски… мошенник его перекрестил в швейцарский абсент… такой аперитив перехватит дыхание у тех, кто примет его до обеда… От такого лекарства мозги спекаются и кишки ясным пламенем горят… Черт возьми, и у меня рот дымится! Это восьмидесятиградусный спирт, от него автомобиль сразу закусит удила! — Тотор, скорей, а то будет поздно! Они уже рядом! Это Бо беспокоится, и с полным основанием. Тотор услышал его и ответил: — Сейчас… готово… сними крышку! Гоп-ля! Молодой человек схватил полный бочонок с абсентом, в котором было не меньше ста пятидесяти литров, скинул его с помоста и покатил к двери, перед которой еще хрипел автомобиль. Быстро окинув взглядом окрестности, парижанин увидел, что из-за голубоватых кустов показались всадники, а еще ближе, на дороге, бушрейнджеры остановились, чтобы перевести дыхание. Он наморщил лоб и сказал: — Успеем, но дело будет жаркое! Меринос, старина, будь начеку, если подойдут слишком близко, патронов не жалей! Американец взял винчестер, поставил два других рядом и решительно сказал: — Ясно. Француз снова, напрягая все силы, схватил бочонок за края. Едва-едва он поднял его. С красным от натуги лицом, вздувшимися венами, силач выдавил из себя: — Твоя очередь, Бо! Не надорвись! Черный атлет согнулся под тяжестью, так что Тотору пришлось подставить свое плечо, чтобы пристроить бочонок над бензиновым баком. Тотор открыл кран, но струя оказалась слишком тонкой. Так с делом не справиться. Пришлось выбить кран. Жидкость хлынула водопадом. — И хорошо! Будет на чем проехать хотя бы тридцать лье, чуть больше или меньше. Да, конечно, эта жидкость будет гореть! Но как же долго течет! Пока виски изливалось из бочонка с нескончаемым «глю-глю», Бо раздувающимися ноздрями вдыхал сильный запах алкоголя и пахучих трав. Его болезненная страсть к огненной воде пробудилась. Он хотел бы выпить, перехватить на лету хоть один глоток… И Тотор, угадывая его муку, сказал ему смеясь: — Конечно, ты примешь свой аперитив, не так ли, старина… а сейчас тебе хочется хоть на минуту вместо машины подставить рот под струю? Не ревнуй к ней, я тебе отолью хоть полбочонка! Чернокожий испустил печальный вздох, жадно облизал толстые губы и наклонил голову, как будто жестокая борьба происходила в нем. Вдруг он поднял на Тотора темные глаза, в которых еще сверкал алчный огонь, и твердо ответил: — Нет, я не буду пить. — Да ты — настоящий человек! Уж я-то в этом разбираюсь! — восхищенно воскликнул парижанин. «Глю-глю-глю» по-прежнему слышалось из бочонка, который опорожнялся обескураживающе медленно. По крайней мере, так казалось беглецам, ибо на самом-то деле адская жидкость лилась широкой струей и шумно падала в бак. Крики с дороги доносились все отчетливее. Отдохнув немного, бушрейнджеры снова побежали, потрясая оружием. Опередив остальных на пятьдесят метров, показался мистер Патрик О’Брайен, вопя во всю глотку: — Вот они, попались, исчадия ада, предатели! Повесим их за ноги, как велит наш закон! — Этому придется окриветь! — шепнул Тотор, взглянув украдкой на Мериноса. А тот вскинул винчестер к плечу и спокойно ответил другу: — Дистанция сто ярдов и белая мишень… Считай, что убит. Тут же раздался громкий выстрел: паф! И мистер О’Брайен споткнулся на бегу, выронил винтовку и растянулся во весь рост, лицом вниз. — Бедняга, мы ели в его доме! — пожалел парижанин. — Да, но он повесил бы нас за ноги… — заметил янки. — …И написал бы «Б. Р.» вместо эпитафии[179]. Согласен, страшновато. Пешие преследователи дрогнули; всадники продолжали скакать в обход. — Точно, нам перережут дорогу! Проклятый бочонок никак не кончится! Нужно продержаться еще пять минут, — сказал Тотор. — Трудновато, но попробуем. — Жаль, что не могу помочь тебе! — Подряд, с промежутком в пять секунд, прозвучали еще три выстрела из винчестера, и трое из пеших преследователей упали. Крики боли, ярости сопровождали их падение. Автомобилисты сразу увидели результат: трое убиты или тяжело ранены, отряд нападавших распался и деморализован. Бросив на дороге убитых и раненых, уцелевшие кинулись в кусты. Став осмотрительней, бандиты спрятались, а потом, вместо того чтобы атаковать с фронта, стали пробираться через заросли. Как по волшебству исчезнув из виду и считая, что автомобиль вышел из строя, головорезы шли скрытно, готовя быструю и безопасную атаку. Оставшись в положении стрелка с колена, Меринос уже больше ничего не видел и начал волноваться: — Исчезли, спрятались! Я предпочел бы целую толпу, но на виду. Тотор, поехали скорей, они приближаются, я чувствую… сейчас накинутся, как стая волков… — Говори, говори, я слушаю, — невероятно спокойно обронил Тотор, пока минуты бежали, а машина все лакала свой аперитив. — А ты, колымага, глотай поскорей… еще капельку, еще немного, давай, давай… никак не кончишь… Или ты непьющая?.. На твое бы место Бо, наверняка выдул бы в один присест… — Тотор, — умолял Меринос срывающимся голосом, — я слышу шорохи в кустах, совсем близко… что-то блеснуло. Янки молниеносно вскочил и выстрелил наугад в соленую листву. Тотчас раздался дикий вопль раненого. — По местам! И — рысью! — звонко крикнул Тотор. Американец впрыгнул в машину к другу, который схватился за руль и нажал на педали. В ту же секунду бушрейнджеры выскочили из укрытия с криком: — Смерть! Смерть предателям! Ужасная тревога сжала сердца трех беглецов. Как поведет себя автомобиль, накачанный виски? Тронется ли хотя бы с места? Пока он еще чихал понемногу на последних каплях бензина, остававшихся в баке, когда Тотор стал вливать туда подозрительный зеленый напиток. Виски и бензин смешались, потекли в мотор… Бензин, так сказать, смазал алкоголь, и раздалось характерное: тюх! тюх! тюх! Тотор, Меринос и Бо радостно вскрикнули: — Ура! Ура! Ура! Значит, все правильно, крепкий алкоголь почти равноценен бензину! Гениальная идея парижанина — это спасение. Едва тронувшись с места, машина уже неслась во всю прыть, а бушрейнджеры-то считали, что она у них в руках! Кинувшиеся было к автомобилю бандиты столкнулись с пустотой и только посбивали друг друга с ног! Бо швырнул в них пустой бочонок, который издевательски запрыгал, словно от радости, а Меринос, обернувшись, на прощание разрядил карабин. В несколько секунд друзья скрылись в облаках красной пыли. Проехав на большой скорости около километра, они уже считали, что спасены, когда впереди раздался взрыв, и одно из больших придорожных деревьев внезапно рухнуло, преградив путь!
ГЛАВА 7
Трудное положение. — Парижанин смеется и строит планы. — Меринос волнуется. — Перед озером. — Отступление отрезано. — В воде. — Клин клином. — Автомобиль или баржа? — Воспоминание о покойном Архимеде. — «Мы — моряки!»Меринос услышал взрыв, на его глазах колоссальное дерево рухнуло поперек дороги. Яростное проклятье вырвалось из груди американца: — Гром и молния! Мы пропали! Тотор плавно остановил машину и холодно возразил: — Пожалуй, тут не просто гром, это динамит, уж я-то знаю. — Чтоб черти припекли негодяев, подложивших его! — Ты думаешь, им так интересно поджаривать динамитчиков? — Но кто же они? И откуда? — Да это ясно! Ты забыл про таинственных всадников, которые старались обойти нас, чтобы преградить дорогу? Что ж ты хочешь, этого следовало ждать: уж слишком хорошо все шло, а с любителями приключений всякое должно случаться! — Что же делать? О, Боже, что делать? — Прежде всего — не терять головы и не махать на все рукой, это никогда ни к чему хорошему не приводило. — Что же делать? Боже мой, я весь киплю, — сказал Меринос. — Ты кипишь, мы кипим, они кипят, даже в моторе кипит, — засмеялся Тотор. — Издеваешься надо мной, а сейчас не до шуток. — Ошибаешься, смеяться никогда не вредно, а в опасные минуты просто необходимо: я шучу, а тем временем строю планы. — Что же ты придумал, Тотор? Острым взглядом парижанин уже осмотрел все неровности дороги. В пятидесяти метрах он заметил сбоку широкий, в виде свода, разрыв в зарослях соленых кустов. Он включил сцепление, направил машину к этому разрыву, который мог оказаться началом новой дороги, и сказал Мериносу: — Если на нас не нападут неожиданно, мы наверняка сможем здесь проехать. — Боюсь, что это западня или дорога прямиком к дьяволу, — сказал американец. — Ну что же, я хотел бы его навестить. Здесь не лучше. Автомобиль сполз с перегороженной дороги под соленые кусты и медленно двинулся по ровной земле. Не видно было никаких колесных следов, но зато вся широкая дорога была испещрена мелкими треугольниками — как будто здесь прошлись пробойником по красной охре земли. — Так и думал, овечья тропа, — сказал парижанин, внимательно следя за неровностями почвы. — Да, тропинка кузнечиков в деревянных башмачках! Хорошо бы она нас вывела в прерии! Как ни странно, после взрыва динамита и падения дерева стояла полная тишина. Таинственные всадники не подавали признаков жизни, а пешие, так нелюбезно встреченные Мериносом, больше не кричали. Подозрительная тишина беспокоила юношей и их чернокожего спутника. Тем не менее автомобиль продвигался вперед все быстрей по ровной дороге, очищенной от препятствий бесчисленными проходами овец. Мало-помалу дорога устремилась вниз, между кустами, которые становились гуще и гуще. Растительность начала меняться, появились новые виды флоры. Вероятно, равнина соленых кустов (salt boush plain) должна была скоро уступить место чему-то другому. Теперь дорога шла между двумя откосами краской земли. Глазам предстала естественная выемка, глубиной примерно в три метра и шириной — в тридцать. — Настоящее дефиле[180], — прошептал Тотор, — с отвесными краями. Если оно перегорожено впереди, мы окажемся в мышеловке! — Тебя послушать, никогда не скажешь, что ты лихой храбрец, перед которым ничто не устоит… — Дело в том, что мне нравится борьба в открытую, а скрытые опасности, побеги, обходные маневры приводят в отчаяние, изматывают вчистую. А, вот наконец… лучше уж так, чем нервничать в ожидании! Снова послышались бешеные крики. Собираясь и распространяясь в глубокой ложбине, как в акустическом приборе[181], они четко доходили до слуха беглецов: — Смерть предателям! Смерть! А потом послышался топот многих конских копыт. — Понятно, — сказал Тотор, — оба войска соединились. Кавалерия и инфантерия наваливаются на нас сверху! Машина в порядке, дорога хорошая, виски творит чудеса… Вперед! Автомобиль резво катился между двумя склонами. — Лишь бы так и шло! — сказал Меринос, поеживаясь. — Перед нами все открыто… Черт! Открытое пространство, это только так говорится, а на самом деле перед нами теснина. Лишь бы она тянулась подольше! Дорога внезапно повернула, и американец вскрикнул от бешенства. Перед автомобилем в двухстах метрах, насколько хватало глаз, расстилалась бесконечная водная гладь. Озеро! Но такое громадное, что противоположного берега не было видно. — Ну так где твое пространство? — По-прежнему перед нами, — спокойно ответил Тотор, — вот только подмоченное немного! — Ты еще можешь шутить! — А ты разве нет? — добавил парижанин, притормаживая. — Ни влево, ни вправо! Проклятое озеро не объехать! Крики и конский топот приближались. — Да, — снова заговорил Тотор, — невозможно и повернуть обратно, чтобы вихрем пронестись по телам разбойников. Автомобиль был уже всего в пятидесяти метрах от воды, в которую под небольшим уклоном уходила дорога. Храбрый шофер замедлил движение до скорости пешехода. — Должно быть, — сказал он, — здесь водопой для овец, и наверняка неглубоко. У меня нет времени выходить, чтобы проверить дно, поехали потихоньку. — По воде? — спросил Меринос. — Попробуем! Почему бы и нет? — отозвался француз. Бода покрыла уже колеса машины и бурлила в спицах. Разинув рот от удивления, Меринос поглядывал на друга. Спокойно, как на автодроме, парижанин прибавил скорость и сказал: — Немного увязает, но все-таки едет. Уже и задние колеса покинули твердую почву, а машина тряслась, шлепала колесами по воде и продвигалась вперед. Бо, до сих пор молчавший, теперь затопал ногами от восторга и воскликнул: — Да здравствует Тотор, лучший шофер в мире! — Вперед, вперед! — крикнул парижанин, еще поддав ходу. Автомобиль клюнул носом, вызвав волну перед собой, и поехал, фыркая, как барахтающееся в воде животное. Вскоре он был уже в полутораста метрах от берега. Позади звучали крики, угрозы, брань. Бандиты только что добрались до озера. Тут же беглецы услышали глухой шлепок. Пуля, просвистев рядом, срикошетила, оставив на воде недолгий след. Прошло всего три минуты. Американец очнулся как от сна и воскликнул: — В нас палят! Ах, так? Значит, доставлю себе удовольствие прикончить пару бандитов! — Не шевелись! Притворись невидимкой, не подставляй им ни сантиметра твоей драгоценной персоны… Ты тоже, Бо! Раздалось еще пять или шесть выстрелов. Пули пролетали с неприятным завыванием. Одна из них ударилась в спинку сиденья Тотора и расплющилась. — Вот видишь? Еще раз прошу: свернись, как устрица в раковине. — А ты, Тотор? — Я не могу наклоняться: ведь я, так сказать, капитан автомобиля, который сейчас вроде маленького кораблика. Храбрый до безрассудства, до безумия, Тотор, обладающий в полной мере веселым, истинно французским мужеством, которому ничто опасность и даже смерть, стал напевать:
ГЛАВА 8
Легкий перекус. — Веселое плавание. — Причалили. — Ужасное пробуждение. — На поляне гигантских гераней. — Тот, кого не ждали. — Бедный Тотор! — Неслыханное оскорбление. — На пороге смерти. — Залп.Тотор, как и его спутники, съел целую миску разведенной в воде муки, вытер губы обшлагом рукава и серьезно сказал: — Это сразу и хлеб, и каша, и суп, и клейстер… жаловаться нечего… — Все же я добавил бы на десерт клубнику в шампанском. — У меня нет такой привычки, я предпочел бы пакетик жареной картошки. — Не пробовал! — Ну да, ты миллиардер! Но это и есть клубника в шампанском парижских гаврошей и мидинеток…[186] Когда будешь в Париже, я тебе куплю на два су… Вот увидишь… ради одного этого стоит приехать! — А пока мне не хватает только зонта. — Действительно, припекает солнышко на этом спокойном озере, по которому разъезжает автомобиль с выпивкой в брюхе. — О, знаешь, я жалуюсь не всерьез, на самом деле я счастлив, что все опасности позади… — Хм… Не будем распевать победные песни раньше времени! — Чего же ты боишься сейчас, на этом маленьком море, которое мы переплываем, не оставляя следов? — Не очень-то успокоишься с разбойниками, которые у тебя за спиной, а особенно — с ужасным бандитом, скромно именующим себя Королем Ночи. Возможности его столь же безграничны, как его ненависть и злоба!.. Смотри, вот странно! — В чем дело? — Стараюсь рулить на восток, а нас неумолимо сносит на юг… — Вероятно, сильное течение; может быть, река пересекает озеро. — Правильно, — отозвался Тотор. — Я останавливаю машину. — Зачем? — Чтобы сберечь перно[187] и спокойно дрейфовать по течению. — Опыт мореплавателя, предусмотрительность, бережливость… Нет, ты действительно король шоферов! Автомобиль плыл и плыл, а трое беглецов, чтобы не перевернуть его, не осмеливались даже шевельнуться, от напряжения у них болели спины, а ноги сводило. И все же друзья продолжали беззаботно болтать, наперекор усталости, жаре и лишениям, и понемногу успокаивались относительно исхода их экстравагантного и рискованного предприятия. Наступила ночь, а с нею пришла прохлада. С близкого уже берега долетал бриз, пропитанный благоуханием роз. Уносимые течением друзья плыли, плыли, любуясь круговращением звезд, борясь с дремотой, с нетерпением ожидая восхода солнца. Вдруг они почувствовали легкий толчок, и автомобиль замер. Темные массы листвы закрывали начинавший светлеть горизонт. — Причалили! — радостно вскричал бывалый моряк Тотор. — И вовремя, потому что я падаю от усталости, — зевая, ответил Меринос. Через четверть часа уже рассвело. Автомобиль был вынесен на небольшую отмель из красного песка в десятке метров от берега. Тотор запустил мотор, выехал из воды и через двести метров остановил машину на лужайке с чудесной травой, на которой жемчужинами сверкала роса. У парижанина вырвался крик восхищения. В окаймлении синих эвкалиптов-небоскребов, толстых казуарин вдаль уходил великолепный партер[188] гигантских гераней, каких еще никогда не видывал человеческий глаз. Высотой в десять — пятнадцать метров, с обильной листвой, они как звездами были обильно усыпаны неисчислимыми соцветьями всех оттенков. А запах! Настоящий аромат роз — им было пронизано все… Пришедший в экстаз Тотор кричал: — Ты только посмотри, только посмотри! Нет ничего прекрасней во всем мире! Честное слово, это, должно быть, личный сад феи цветов! Взгляни же, этому нельзя не поразиться… — Тотор, верю тебе на слово, но я засыпаю… Я обязательно повосхищаюсь, когда проснусь. — Я, собственно, тоже засыпаю на ходу, но наверняка увижу это во сне! Оба свалились на землю и заснули, не заметив даже, что неутомимый, преданный Бо подобрал винчестер и нырнул в благоухающие заросли, умиленно взглянув на юношей: — Спите, ребятишки… спите спокойно, а я пойду добывать еду. Насколько сон был целительным, настолько внезапное пробуждение — ужасным. Тотор и Меринос не проспали и часа, как ощутили, что их грубо хватают, расталкивают, встряхивают. Разбитые усталостью, лишениями и волнениями последних дней, они зевали и отмахивались. Юноши никак не могли вырваться из глубокого, сладкого оцепенения сна. Друзья думали, что видят кошмарный сон. Меринос что-то ворчал, а Тотор протестовал, каждым жестом показывая, что он не может и не желает проснуться. Грубая тряска продолжалась. Пришлось приоткрыть тяжелые веки — спящие стали полуспящими. Но прежде чем они окончательно пришли в себя, их связали крепкими путами по рукам и ногам. Только это заставило их очнуться. Что же они увидели! В изысканном окружении ароматных цветов, у великолепных деревьев, в листве которых кувыркались и порхали легионы[189] болтливых попугаев, в атмосфере мира и отдохновения, на лужайке с шелковистыми травами, прямо-таки созданной для приятного сна, стояли мрачные и злые оборванцы — около дюжины разбойников. Бородатые, лохматые, вооруженные до зубов, они расседлывали лошадей, уже пощипывавших соленые травинки blue grass[190]. Несчастные пленники содрогнулись: все, на этот раз — конец! — Гром и молния! — вскрикнул Тотор. — Бушрейнджеры! Меринос испустил вопль ужаса. Задыхаясь, он едва выдавил из себя: — Он… он… чудовище! Над ними, на фоне светлого небосвода, склонилось покрытое шрамами, распухшее от недавних ожогов черное лицо. А сквозь ироничную гримасу и белизну волчьих зубов брызнул смех: — Да, да, чудовище, это я, хозяин, Король Ночи! О, этот демонический смех, предвещавший утонченные пытки и страшную месть! Дена, который появился в аккуратном костюме туриста, с белым шлемом на голове, биноклем на ремешке, пожалуй, можно было принять за путешествующего чиновника или исследователя, если бы не его бандитская физиономия да свита головорезов. Он долго, с жестоким наслаждением рассматривал пленников, предвкушая мщение, которое скоро надеялся совершить, затем снова рассмеялся и с каким-то нервным хвастовством принялся говорить, говорить… — Вы действительно крепкие ребята и обвели меня вокруг пальца, меня, старого знатока буша, перед которым все дрожит. Особенно ты, парижанин, отличился, даже сильно обжег мне лицо в мастерской там, в «Country-house». А с тех пор сколько гнусных проделок ты еще совершил! Бегство на автомобиле, долгие странствия через неизвестность, постоянная борьба с голодом, жаждой, пустыней, огнем, водой, людьми, с самой судьбой! Вы действовали самым удивительным образом и чуть не сумели помешать моему грандиозному и ужасному плану разорения всей Австралии — Красной Ночи! К моей ненависти примешивается даже доля восхищения вами, двумя букашками, которые столь долго держали нас на грани поражения! Лежа ничком на траве, буквально оглушенные, ни на что уже не надеявшиеся, Тотор и Меринос в горестном оцепенении выслушивали излияния бандита. Пока лошади щипали траву, а бушрейнджеры глазели на связанных юношей, привлеченные сценой, кровавый эпилог которой они уже предвкушали, хозяин продолжал: — За вами трудно было угнаться, еще бы — располагать этой замечательной машиной и не добиться триумфа! На ней можно ускользнуть от кого угодно! Пришлось выложиться — понадобились все мои возможности, все упорство, умение жить в пустыне… Да, пришлось стать лучшим из следопытов Австралии, чтобы вместе с моими молодцами догнать вас. Я загнал сто лошадей, потерял десять человек в пути, но вот вы у меня в руках, несмотря ни на что… Так самая медленная свора настигает самого быстрого оленя. Каким чудом смог я скакать за вами по горящим прериям! Найти в пепле сожженных трав следы стеблей, примятых колесами автомобиля еще до пожара! Как сумел угадать ваше присутствие в Уолтер-Пуле! Я обставил вас в прериях, примчался на берег озера вместе с людьми О’Брайена и увидел бегство автомобиля по воде! Но я-то знал о течении в озере и понимал, что вас неминуемо принесет сюда. Как видите, мне удалось опередить ваше пробуждение, — все это я счастлив объяснить вам, джентльмены, прежде чем свести с вами счеты. — Ну и что дальше, грязный негр? — вскричал возмущенный бахвальством Тотор. — Грязный, это, уж точно, ты, мой мальчик, поскольку сел в лужу! Но можно простить тем, кто сейчас умрет. Несмотря на всю храбрость, парижанин вздрогнул. На этот раз он четко понимал: все кончено. И вправду предстоит погибнуть в затерянном уголке пустынной Австралии! Значит, здесь, на полдороге, закончится столь респектабельно-рутинно[191] начавшееся кругосветное путешествие… Бедный Тотор! Придется расстаться с приключениями, неожиданностями, с самой жизнью. Судьба жестоко посмеялась над ним! Он подумал также, что Мериноса, наверное, пощадят ради огромного выкупа, и эта мысль смягчила ужасное отчаяние, охватившее его. Однако француз решил показать бандиту твердость духа и умереть достойно. Помогая себе локтями и коленями, он наполовину приподнялся перед Королем Ночи. Парижанин увидел, что один из разбойников уже вырезал острием ножа на коре дерева ненавистный знак «Б. Р.» и вздрогнул, поняв, что на сей раз это — эпитафия. — Пора кончать! — сказал хозяин, черные глаза которого сверкнули зверской радостью. Он обернулся и подал знак своим сообщникам. Один из них отстегнул от седла лассо из бычьей кожи и сказал, разворачивая его: — Не это ли требуется, хозяин? — Да, но просто повесить его мне кажется скучным, малыш, несомненно, достоин большего. — Я знаю, он нам много хлопот доставил. А лассо крепкое, и можно повесить мальчишку не убивая, это я умею! Если нужно, он проживет с час и подергается, как паук на привязи, а мы позабавимся. — Правильно, у тебя есть фантазия. Не спеши, можно еще что-нибудь придумать повеселее. Главарь бушрейнджеров взял лассо, раздвинул узел-удавку на конце и надел ее на шею Тотора, говоря: — За то, что ты так отделал мне лицо, примерю тебе воротничок. Пока Тотор пытался приподняться на связанных ногах, ища возможность нанести последнее оскорбление трусливому палачу, Мериносу удалось встать. Обливаясь холодным потом, с глазами, вылезшими из орбит, он побледнел от ужаса, понимая: совершается непоправимое. Стуча зубами, сдавленным голосом он попытался разжалобить чудовище: — Нет, не убивайте Тотора! Смилуйтесь! Разве не ясно — это еще ребенок! В чем вы его обвиняете? Он храбро защищался, да! Был вам злейшим врагом, но смелым и честным, а такое мужество, — вы им восхищались, — заслуживает уважения! Бога ради, сохраните ему жизнь, потребуйте слова, что он больше ничего не предпримет против бушрейнджеров… Тотор забудет все, что видел здесь, уедет из этой страны! В ваших интересах, чтобы он жил… Я люблю его как брата, а мой отец богат… Я сын Сиднея Стоуна, короля шерсти! Он заплатит за моего друга огромный выкуп, кучу золота… Взрыв убийственно-ироничного смеха прервал его и остановил горячую мольбу. Кончив хохотать, хозяин пожал плечами и сказал: — Полно! Без глупостей, бой. Главное, не сули мне миллионов, у тебя ничего больше нет! Сейчас мы занимаемся разорением твоего отца, и завтра ты будешь бедней последнего нищего, так что молчи! Однако огромные состояния не исчезают сразу и всегда что-нибудь да остается! Так вот, остатки, если я сочту их достойными внимания, пойдут на выкуп… но там, где мало на одного, наверняка не хватит на двоих! Может быть, тебе и сохранят жизнь, но твой друг приговорен, никакая человеческая сила не спасет его… Он будет убит. Так я велел! При этих ужасных словах Меринос понял, что всякая надежда потеряна. Еще более побледнев, с налившимися кровью глазами, пеной у рта, он испускал душераздирающие вопли. Уже ничего не соображая, хриплым голосом он выкрикивал отчаянные мольбы, вызывавшие приступы смеха у бандитов: — На помощь! Помогите! Спасите! Хозяин нанес ему в лицо ужасный удар ногой и недовольно рявкнул: — Заткнись, крикун! — Трус! — закричал Тотор. — Ты бьешь таких мальчишек, как мы, только разоружив и связав их… трус, ты не решился бы схватиться с нами на равных! Меринос упал, почти потеряв сознание, и остался недвижим на траве. Бандит повернулся к Тотору, смерил его с головы до пят ненавидящим взглядом и ответил высокомерно: — Ты норовишь довести меня до того, чтобы я убил тебя одним ударом. Хочешь избежать страданий? Так нет же! Не получится! Я обещал, что мучения будут ужасны, придется тебе их претерпеть, а мы позабавимся, ведь в пустыне мало развлечений. Бандит подошел к парижанину, жадно ища в его лице признаки страха, волнения. Но Тотор, глядя на него в упор своими светлыми глазами, спокойно сказал: — Не думал, что бука такой некрасивый! Ты противен, но я тебя не боюсь… А вот и доказательство! Парижанин с негодованием плюнул негру в лицо и добавил: — Утрись! Не могу дать пощечину, а плевок даже лучше, твои подручные не забудут, что семнадцатилетняя букашка превратила в плевательницу морду главаря! А теперь делай что хочешь. Ты обесчещен даже в глазах людей, которые не имеют понятия о чести. Лицо негодяя, изуродованное фиолетовыми рубцами, стало пепельно-серым. Он поднял руку, чтобы ударить Тотора по щеке, но юноша инстинктивно отдернул голову и, потеряв равновесие, растянулся во весь рост. О, счастливое падение, которое спасло ему жизнь! В ту же секунду за плотной листвой раздался сигнал, а за ним возникли хлопья белого дыма, сопровождавшие беглый огонь из винтовок, град пуль пронесся со свистом смертельного ветра, затем послышался дикий вой, закончившийся предсмертными стонами. Все бушрейнджеры, насмерть сраженные меткими выстрелами, упали на землю. Несколько раненых лошадей взбрыкнули и умчались. Хозяин вздрогнул, покачнулся, но тут же выпрямился. С яростью он воскликнул: — Проклятье! Я погиб, но тебя, мальчишка, еще успею убить!
ГЛАВА 9
Туземная полиция. — Бегство. — Мистер Пять и мистер Шесть. — Друг парижанина. — Вовремя. — Узнавание и объяснения. — Две депеши. — «Продолжай!»Но нет! У негодяя уже не оставалось времени, чтобы исполнить ужасную угрозу. Белые дымки еще плыли по воздуху, когда с противоположной стороны появился чернокожий и с тигриной ловкостью прыгнул вперед. Потрясая винтовкой, он кричал: — Бедные ребята, я успел! Это Бо примчался, задыхаясь от бега. Лицо его и плечи были истерзаны шипами. Он прыгнул через еще трепетавшие тела, заслонил собой Тотора и крикнул: — Подлец, ты его не убьешь! Бо прицелился в хозяина и выстрелил, но руки у него так дрожали, что он промахнулся с четырех шагов. Прежде чем австралиец успел выстрелить снова, глава бушрейнджеров крикнул ему: — Глупец, разве ты не знаешь, что Король Ночи неуязвим? — Стреляй в голову, на нем панцирь, — хладнокровно и решительно посоветовал Тотор. Густые заросли с цветами, благоухающими, как розы, раздвинулись, и около двадцати человек выбежало на поляну. Хозяин, узнав страшные для него мундиры черных полицейских, взвыл от ярости. — Гром имолния, туземная полиция! Но они меня еще не поймали! Бандит бросился к автомобилю и бешено крутанул несколько раз рукоятку. Машина затарахтела. Ден прыгнул на сиденье, включил зажигание и схватился за руль. Машина взревела, вылетев, как пробка из бутылки, на свободное пространство, при этом опрокинув пару полицейских и прорвав стену зелени, как цирковая лошадь прорывает бумажное кольцо. Миг — и автомобиль исчез, унося бандита, кричавшего: — Я отплачу вам! Бравый Бо уже разрезал путы Тотора. Француз потянулся, хрустнул суставами. Крепко пожав руку чернокожего, он тихо, с увлажненными глазами, сказал ему: — Спасибо! От всего сердца, спасибо! Займись Мериносом, а я поговорю с этими людьми… знаешь, я парижанин и полицию недолюбливаю. Но что это? Сделав три шага, он остановился, с изумлением узнав двух черных гигантов, которые рассматривали его с полицейской бесцеремонностью. — Ей-богу, мне не померещилось… Эй, Меринос, посмотри-ка на двух выходцев с того света! Пусть меня повесят, если это не мистер Пять и его неразлучный мистер Шесть! — Да, это мы, — откликнулся мистер Шесть. — Рад снова вас увидеть. Хотя наши прежние отношения можно назвать несколько… натянутыми, а расставание было, пожалуй, внезапным и грубоватым… Но вы только что спасли мне жизнь, и после такой услуги… Крайне вежливо, в мягкой манере и с утонченной вежливостью, отличающей во всех странах представителей этой достойной корпорации[192], полицейский прервал его: — Довольно! Вы негодяй… Если мы помешали повесить вас, то только нечаянно, против нашей воли! Ссоры бушрейнджеров между собой нас не касаются. Вы не были убиты залпом, и я сожалею об этом. — Вы могли бы оставить нас в покое и посадить обоих на лошадей, оставшихся без хозяев. — Именем его величества императора и короля арестую вас и вашего сообщника. — Мистер Шесть, разрешите два слова. Почему вы так хотите нас арестовать? — Потому что продолжаю видеть в вас, и сейчас еще больше, чем раньше, одного из опасных вожаков бушрейнджеров. — Что за ерунда! — Доказательство: вы были за рулем автомашины хозяина и только что разделяли компанию этого человека и его, как говорится, джентльменов с большой дороги, которых мы убили. — Дурак набитый, — крикнул в отчаянии Меринос, — поверишь ли, если узнаешь, что я — Гарри Стоун, сын короля шерсти? — Вы обманываете. И не пытайтесь снова навязывать мне наглую ложь, сдавайтесь!.. Именем его величества объявляю вас своими Пленниками… и вы помните: мертвыми или живыми! — Мистер Шесть, — снова заговорил Тотор, — по той элегантности, с которой вы выражаете мысли, чувствуется, что вы прекрасно учились. Латынь вы случайно не освоили? — Нет! И хватит слов! Сдавайтесь, или я прикажу стрелять. — Очень жаль, что вы не знакомы с этим прекрасным языком, — продолжал Тотор, — а вот мой замечательный друг Бо был вскормлен на классике… доказательство тому — он даже принял ванну в фонтане Сен-Мишель. Он объяснит вам значение четырех латинских слов… — Вы насмехаетесь надо мной! Взвод, оружие на изготовку! — Эти четыре слова звучат так: «Non bis in idem!..» И они означают… скажи им, Бо! — Не дважды за одно и то же, — усердно и даже буквально перевел австралиец. — Будь начеку и возьми на мушку этого бездельника, — прервал по-французски Тотор, — а ты, Меринос, если сможешь, схвати другой карабин… Оглушенный словоизвержением парижанина, мистер Шесть поднял свой мушкетон[193] и скомандовал: — Взво-о-д… Но «пли!» он не успел сказать. Тотор прыгнул на полицейского, согнул, как тростинку, и навалился сверху. Мистер Пять бросился на помощь. Француз ухватил его за руку, оторвал от земли и бросил плашмя на мистера Шесть, после чего неисправимый насмешник сказал: — Да вы же не держитесь на ногах! Вы гиганты, но картонные! Двое черных полицейских, с которыми так дурно обошлись, вопили что есть сил, зовя на помощь. Взбешенный Тотор безжалостно схватил их за шиворот и поставил на ноги. Потом больно стукнул головами друг о друга, держа негров в руках как двух котов, которых трут носами, чтобы раздразнить. Напрасно они пытались вырваться, закричать. Парижанин сжал сильнее пальцы, и полицейские могли уже только закатить глаза, высунуть языки и хрипеть, задыхаясь. Тотор держал их перед собой, точно живой щит. Опасаясь продырявить товарищей, остальные стражи порядка не стреляли. Однако они, конечно, бросятся вперед, чтобы вырвать пленников из рук парижанина. И Тотор, который опасался этого, крикнул им повелительно: — Стоять на месте! Если шевельнетесь, удушу их как цыплят! Ты, Меринос, держи на мушке всех этих бездельников… Бо, постарайся найти трех лошадей получше и приведи сюда, поскачем все вместе. Но едва чернокожий сделал несколько шагов, как листва и цветы снова, в третий раз, колыхнулись, и показался всадник на великолепном золотисто-рыжем коне. Это был высокорослый белый джентльмен лет пятидесяти, одетый как скваттер, с большой шляпой на голове и, видимо, без оружия. Серые глаза сверкали умом и отвагой. Под длинными усами цвета соли с перцем были раздвинуты в широкой улыбке толстые губы. Как будто не было на свете ничего забавней, чем вид двух полузадушенных полицейских! За ним виднелись четыре белых всадника в темно-синих мундирах, с револьверами в руках. Заметив их, Тотор воскликнул: — Наконец-то можно будет объясниться! Неизвестный откровенно смеялся, видя, что коротышка держит в вытянутых руках гигантских черных паяцев, гримасы которых были невыразимо комичны. Он сказал звонким, благозвучным голосом: — God bless me! Во всем мире я знал только одного мальчишку, который был способен на такой трюк. Да, одного-единственного! Только Фрике, парижанин, мог совершить такое… Услышав эти поразительные слова, Тотор побледнел. От неожиданности он выпустил мистера Пять и мистера Шесть, которые рухнули на траву, и, волнуясь, вскричал: — Фрике? Вы сказали Фрике! Парижанин!.. Да это мой отец! В свою очередь неизвестный тоже крайне разволновался. С ловкостью, неожиданной в его возрасте и при таком телосложении, он спрыгнул с коня и с распростертыми руками бросился к Тотору: — Ты — сын Фрике! Моего Фрике! Здесь, в сердце Австралии! И в пекле боя, конечно! Никакой ошибки, как говаривал герой-парижанин! До чего ты на него похож! Я просто вижу его вновь молодым! О да, порода видна! Голос незнакомца дрожал, глаза увлажнились. Он заключил Тотора в объятия, крепко прижал к широкой груди и начал снова: — Малыш мой дорогой! Сейчас ты поймешь, почему я так взволнован и рад: твой отец, отдубасив меня, — а двадцать лет тому назад я вовсе не был увальнем, — спас мне жизнь и вернул свободу, а потом стал моим лучшим другом… Я — Сэм Смит! Теперь ты понял? — Сэм Смит!.. Король бушрейнджеров! Ах, как любит вас отец, как много он о вашей дружбе рассказывал! Избавившись от давящих пальцев парижанина, мистер Пять и мистер Шесть глотнули воздуха, ощупали себя, встали и повесив нос отошли на почтительное расстояние с унылым видом людей, совершивших чудовищную глупость. Их люди поставили оружие к ноге и ожидали, чем все кончится. Бо в радостном оцепенении замер на месте, а Меринос не мог прийти в себя от изумления. — Ах, так! Здесь королей бушрейнджеров хоть пруд пруди! Есть злой, который только что сбежал, хороший, который только появился… Я хочу понять… Тотор, представь же меня! — Извини, ты прав!.. Дорогой мистер Смит, счастлив представить вам моего товарища по приключениям, ставшего братом по сердечной привязанности, Мериноса… или иначе — Гарри Стоуна, сына короля шерсти. — Здесь! Вы здесь, мистер Гарри!.. А ваша семья в отчаянии, разыскивает вас, оплакивает… Уже не надеются на ваше возвращение в Сидней. Меринос ответил, протягивая руку: — Я двинулся с Тотором по самой длинной дороге. — Мистер Гарри, — снова заговорил Сэм Смит после энергичного рукопожатия, — ваш отец доказал мне свои дружеские чувства… Я нахожусь здесь по его поручению, больше из личной симпатии, чем ради интереса, для того чтобы бороться с бушрейнджерами, охранять опасную зону, короче, чтобы пресечь зло. Для этого мне открыт неограниченный кредит в его кассе, а правительством даны полномочия… и, как видите, мы неплохо работаем. — Доказательство — то, что вы нас спасли. — О, вы и сами спаслись бы… Пять и Шесть получили урок. By Jove! Какая хватка, дорогой мой парижанин!.. Твой отец-костолом не сработал бы лучше! Мне и сейчас смешно, потому что в свое время я немало горшков перебил, и меня до сих пор радует, когда дубасят полицейских. — Да, это всегда забавно, но все-таки они хорошо поработали сегодня, хотя собирались когда-то отрезать мне голову… Если б не они, мы бы пропали! У Тотора была петля на шее, еще несколько секунд, и он был бы жестоко казнен, но залп сразил бандитов. — Кстати, — добавил Тотор, — между нами стоит давнее недоразумение, и мы с Мериносом были бы счастливы разом покончить с ним. — Нет ничего проще! — ответил Сэм Смит. — Пять, подойдите. Шесть, тоже подойдите. Совершенно сконфуженные, оба агента туземной полиции выступили вперед, тяжело дыша, вытянув шеи и не зная, как им держать себя. — Посмотрите на этих джентльменов, вы дважды непростительно ошиблись в отношении их! Один — сын моего лучшего друга, и я люблю его как собственного сына, другой — наследник почтенного Сиднея Стоуну, нашего хозяина… Я требую, чтобы вы оказывали им должное уважение! Вы поняли меня, не так ли? — Yes, sir! — сказал агент номер Шесть. — Yes, sir! — послушным эхом отозвался агент номер Пять. Тотор и Меринос протянули им руки и крепко пожали робко протянутые ладони полицейских… Все четверо заключили мир. — Вот и славно! — весело подытожил мистер Смит. — Но теперь, когда все прекрасно в этом лучшем из миров — диких миров, конечно, — мне кажется, что неплохо было бы позавтракать… у нас в изобилии твердый и жидкий провиант. Вы, должно быть, устали, так давайте поедим, а заодно и побеседуем! Нам ведь так много нужно рассказать друг другу, не так ли, юные друзья? — Согласны! — в один голос ответили Тотор и Меринос. — Но прежде, — добавил американец, — позвольте мне, дорогой господин Смит, представить вам замечательного человека, которому мы обязаны всем… его добрая душа безгранично предана нам… одним словом, он был нашим провидением, поэтому мы любим его от всего сердца. Это австралиец, наш дорогой Бо, заслуги которого так велики, что нам никогда не удастся в полной мере отблагодарить его. — Ваш друг станет и моим, — с достоинством ответил Сэм Смит, — вы все трое узнаете, чего стоит моя привязанность! — Спасибо за него и за нас! — сказал Меринос. — Однако, прежде чем мы уйдем с поля боя и отыщем для завтрака местечко повеселей, позвольте еще один вопрос. — С превеликим удовольствием. — Почему Тотор назвал вас только что королем бушрейнджеров? Этот несколько странный титул, мне кажется, не имеет связи с вашими нынешними обязанностями? — Ха-ха! Король бушрейнджеров! — засмеялся Смит. — Действительно, я им был… был даже очень злым субъектом, когда Фрике, знаменитый и гениальный парижанин, совершил мое обращение… Он сделал это мастерски! Я без сожалений отрекся и от престола, и от старых грехов. Стал работать на золотых рудниках, и, как бывает в романах для юношества, добродетель была вознаграждена. Святые мозоли честной работы принесли мне вскоре неплохое состояние, так что я смог удалиться от дел. Но я был еще молод, и бездействие стало меня тяготить. Позвольте сказать вам, что, еще когда я владел рудниками, приходилось бороться с бушрейнджерами, ибо мне совершенно не улыбалось платить им десятину. Естественно, прежние товарищи назначили премию за мою голову! Так же естественно было, что я возражал, и поэтому именно мне в конце концов пришлось заплатить за головы бушрейнджеров. — Браво, мистер Смит, — развеселился Тотор, — браво! Хорошо сказано… Отец обожает такие словесные находки и воздаст должное этой. — Дорогой, ты — вылитый отец. Может быть, и тебе по вкусу играть словами? Признайся, любишь каламбуры, а? — У меня это просто болезнь, спросите Мериноса! Но извините, я вас прервал… — А дальше было все просто. Я был богат и по-прежнему жаждал приключений, поэтому объявил войну бандитам. Ради этой цели нанял несколько крепких парней, страстно любящих потасовки, и мы основали что-то вроде отряда обороны от бушрейнджеров. Это была борьба гигантов, в которой мы не всегда побеждали, но серьезными затрещинами обменялись. Столькими и так хорошо, что я заработал неплохую репутацию. Мне предложили место начальника полиции всей Австралийской Конфедерации. Я согласился и в течение почти пятнадцати лет вырывал зло с корнем. Потом пробил час уйти окончательно на отдых. Два года болтался без дела, при том, что никогда двух ночей подряд не проводил в своей постели. А тут нынешний глава бушрейнджеров решил играть по-крупному. К слову сказать, это птица высокого полета, его зовут Дениел Мортон, уменьшительно — Ден. Он осмелился выступить против короля шерсти. Как я вам уже сказал, почтенный Сидни Стоун удостоил меня своей дружбы. Он попросил от его имени поднять перчатку, брошенную негодяем, скромно именующим себя Королем Ночи. Я с радостью согласился и снова пошел на войну со старыми врагами. Выступив с побережья, после долгого маневрирования мне удалось окружить Дена со всех сторон; силами моего прежнего отряда и черной полиции мы далеко забросили сеть. Представьте, мои лучшие агенты Пять и Шесть уже вышли на их след, когда на них напали, исколошматили и раздели с неслыханной наглостью и жестокостью. Отряд бушрейнджеров отнял у них мундиры, лошадей, оружие, припасы и пустил их нагишом… — Ну, рубашки и кальсоны у них остались! — сказал Тотор, хохоча до слез, пока Меринос также корчился от смеха при воспоминании о трагикомической проделке. — Как, вы что-то знаете? — Дело в том, что отряд — это мы двое… бедняги, лишенные всего, пытавшиеся добраться до цивилизованных мест. — Да, — прибавил Меринос, — это забавная история, которую мы вам сейчас подробно расскажем. Завтрак прервал беззаботную болтовню… Провизия была расставлена в конце лужайки, подальше от трупов людей и лошадей. Усевшись поудобней, они ели, пили, пировали, безудержно болтали, ибо все беды кончились. Поев, молодые люди не стали откладывать вопрос об отъезде. — Прежде всего, где мы находимся? — спросили они. Мистер Смит развернул карту, показал точку в центре огромного континента и сказал: — Мы на восточном конце озера Арнадеус и всего в полутораста милях от железной дороги. — Только сто пятьдесят миль, это будет триста километров, — негромко заметил Тотор. — О, здесь это пустяки! — снова заговорил мистер Смит. — Первая станция — Шарлот-Уотер, головная станция огромного пути, пересекающего Австралию с юга на север от Аделаиды до залива Ван-Димен через озеро Эйр, от которого Шарлот-Уотер отстоит тоже на полтораста миль. — Словом, еще нужно проехать триста километров, прежде чем я смогу дать телеграмму отцу и сесть в поезд? — спросил Тотор. — Надеюсь отправить вас через пять дней, — сказал мистер Смит. — Значит, вы нас проводите? — О, конечно, и со всеми моими людьми… не отойду от вас ни на шаг. Эти края неспокойны, и я не хочу подвергать вас опасностям неожиданных встреч. Вот три лошади, принадлежавшие прежде бушрейнджерам; они ваши по праву завоевания. Поехали!
Через четверть часа отряд вышел в направлении Шарлот-Уотер. Пятью днями позже, как и говорил мистер Смит, они без происшествий прибыли туда. Едва сойдя с лошади, Тотор, которого сжигало нетерпение, воскликнул: — Телеграф! Скорей на телеграф! Должно быть, отец и мама беспокоятся! Бедная мама! И парижанин торопливо написал депешу, которая заставила телеграфиста раскрыть рот:
«Газета путешествий 146, улица Монмартр, Париж. Дорогие родители, все порядке. Нахожусь Австралии. Путешествие не по круговому билету которым нелады. Придется пополнить финансы. Не беспокойтесь. Миллиардер предоставит ссуду. Перехвати где-нибудь. Приключения экстра-класса. Подружился Мериносом, сыном короля шерсти. Встретился Сэмом Смитом. Уезжаю Сидней. Напишу подробней. Письма адресуйте Сидни Стоуну. Шлите депешу до отхода поезда. Нежно целую ваш— Итого пятьдесят четыре слова, — сказал парижанин, — по доллару за слово, во франках получается кругленькая сумма… Меринос, зайчик мой, разменяй-ка одну из твоих купюр… — All right! — кратко ответил американец, который тоже написал длинную телеграмму отцу. Через шесть часов Тотор получил ответ:Тотор».
«Дорогой малыш, смертельно тревожились. Теперь счастливы. Целуем. Привет Смиту. И продолжай…»Сияющий Тотор воскликнул: — Отец меня понимает! Если уж вкусишь приключений, остановиться невозможно… Вот и приходится продолжать, что я и буду делать… упорно и долго! Спасибо, отец!
Конец

Луи Буссенар НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАРИЖАНИНА
Часть первая В СТРАНЕ КАННИБАЛОВ
ГЛАВА 1
Явление. — Тотор, Меринос и слон. — Африканское гостеприимство. — Острые зубы. — Как друзья оказались в Африке. — Негры племени томба.Раненный стрелою в голову слон встал на задние ноги и замер, точно бронзовый монумент. А затем неожиданно ринулся вперед… При виде исполинского чудовища, так неудачно раненного вождем Амабой, негры в панике бросились врассыпную. Сын Амабы, высокий, могучий — настоящая статуя из черного мрамора, — попытался заслонить собой отца. Серая громада неумолимо надвигалась на охотников. Ора-Ито (так звали юношу) ловко отскочил назад, по-прежнему прикрывая отца. Однако зверь оказался проворнее. Один удар бивнями — и тело несчастного беспомощно повисло, точно на крюке мясника. Амаба в ужасе торопливо пытался вновь натянуть тетиву и пустить стрелу, но тщетно. Ора-Ито не спасти… Внезапно, откуда ни возьмись, грянул выстрел. Пуля попала слону в самое уязвимое место — между глазом и ухом. Гигант покачнулся, отступил назад и, не удержавшись на ногах, рухнул замертво. Ора-Ито был спасен. Из лесной чащи на поляну вышли двое мужчин. У одного в руке еще дымился винчестер. — Готово! — воскликнул первый. — Красивый выстрел! — отозвался второй. Неизвестные были белокожи и совсем еще молоды. Один чисто выбрит, бледен, скуласт. Другой — стрелок — носил усики и кучерявую бородку. На обоих запыленные охотничьи куртки, гетры и холщовые фуражки. Здесь, в дебрях Центральной Африки, они казались обыкновенными туристами, что налегке вернулись из долины Сен-Дени[1] после охоты на воробьев. Ора-Ито и вождь Амаба подбежали к своим спасителям, пали ниц и обвили сильными руками их колени, так что те едва не упали. Остальные воины, убедившись, что опасность миновала, вышли из укрытий и столпились вокруг, шумно переговариваясь и оживленно жестикулируя. — Ладно! Ладно! К чему столько шума? — У-a! У-а! — Да, да, понимаю! Это означает, что мы добрые малые и оказали вам огромную услугу! Но душить-то нас за это не надо. Да поднимайся же ты, обезьянья порода! Сказанное относилось к вождю. Среди прочих его выделял головной убор — связка перьев в густо смазанных пальмовым маслом волосах. Поскольку Амаба даже не шевельнулся, один из белых схватил его за плечо и — ап! — одним движением поставил на ноги. Вождь, сутуловатый, грузноватый, но еще полный сил немолодой негр, и его сын, великолепно сложенный юноша, который все время держался рядом, вместе составляли прекрасную пару. Единственное, что, пожалуй, портило картину, — некрасивые, даже безобразные лица: черные, с вывернутыми губами и приплюснутыми носами. А от пурпурно-огненной боевой раскраски так прямо в дрожь кидало. К тому же физиономии эти внушили бы еще меньше доверия, если бы их обладатели обнажили обточенные и чрезвычайно острые зубы. Впрочем, дольше разглядывать новых знакомцев друзьям не пришлось. Амаба издал гортанный крик. Десятка два чернокожих набросились на неподвижную слоновью тушу и с неимоверной быстротой принялись разделывать ее. Каждый кусок мяса завернули в пальмовые листья и перевязали лианами. Амабе достались два огромных бивня, которые он тут же торжественно преподнес чужестранцам. — Здо́рово! Прямо как после большой охоты, когда ногу отдают самой красивой женщине. Эй, Меринос! Ты тут ни при чем. Самая красивая — это я! — Твое право, Тотор! Ты убил зверя. Тем временем Амаба и его сын тараторили без умолку. Европейцы ничего не понимали и лишь растерянно моргали в ответ. — Послушай, Меринос! Сдается мне, они нас куда-то приглашают… — В гости зовут… Подумать только: дикари, а туда же! Уж эти мне китайские церемонии! — А ты их зубы видал? — Крошечные острия пилы! — И это тебе ни о чем не говорит? — Намекаешь на то, что кушают они не только бананы? — Именно! Похоже, нас не хотят отпускать. Они, несомненно, нам признательны, но на свой каннибальский лад… В благодарность нас проглотят. Видали мы таких! Между тем приглашали все настойчивее. Уродливые физиономии расплывались в подобострастных улыбках, что придавало неграм и вовсе отвратительный вид. В конце концов гостей осторожно подтолкнули вперед. — Идем же, черт побери! — сказал Тотор. — Мы здесь для того, чтобы все увидеть, даже если придется испить эту чашу до дна. Да, да, о нежный шимпанзе моего сердца, идем! — добавил он, обращаясь к вождю. Тот удовлетворенно тряхнул перьями на голове. В самом деле, дикари, казалось, все поняли и приветствовали это решение пронзительными криками, будто сотня кошек разом скребла когтями о сотню оконных стекол. Вождь обнял героя дня, Тотора, Ора-Ито взял под руку Мериноса, и процессия двинулась в путь. Тотор! Меринос! Что ожидало их в стране чернокожих, которые — и мы можем теперь в этом признаться — были самыми что ни на есть настоящими людоедами, чьи селения затерялись среди первозданной природы где-то между Французским Конго[2], озером Чад и немецким Камеруном?[3] Тотор! Сын Виктора Гюйона, Фрике, парижанина, чьи путешествия по свету наделали так много шума[4]. Сын героя, и сам герой, достойный отца и истоптавший уже оба полушария! Силен, горяч, да и добрая шутка у него всегда наготове. Меринос — друг Гюйона и всего-навсего сын миллиардера. Его отец, американец Сидней Стоун, — король шерсти. Погрязшего в роскоши, тщеславного и недалекого молодого человека Тотор «обтесал» и приобщил к упоительной жизни путешественника. Меринос познал голод, жажду и лишения австралийских пустынь и болот, выйдя из всех переделок закаленным, сильным и почти таким же неунывающим, как его спутник. Но что искали они в забытой Богом и цивилизацией Африке? О! Это целая история… короткая и такая понятная. У Мериноса, то есть сэра Гарри Стоуна, была сестра Нелли, очаровательная, отважная, умная американка. Любительница приключений, она прошла через все испытания, выпавшие на долю двух друзей. Нет ничего удивительного в том, что Тотор страстно полюбил смелую до дерзости, преданную и к тому же очень красивую девушку. И, несмотря на то что она наследовала многомиллионное состояние, а у Тотора не было ни гроша за душой, его это нисколько не смущало. Молодой человек находил, что любовь его вполне естественна. К тому же в сердце девушки пробудилось ответное чувство. Постранствовав по свету, все трое вернулись в Нью-Йорк, где жизнь миллиардера потекла по-старому. Нелли стала королевой «четырехсотки» — так называли в тех местах четыреста семейств — обладателей более чем полумиллиардных состояний. В доме Стоунов Тотора приняли по-родственному и называли «мистер Гюйон». Хозяин особняка не делал разницы между гостем и собственным сыном. Денег не жалел. Тотор одевался как принц, ел как король, участвовал во всех празднествах, слушал Карузо[5] в «Метрополитен-опера», совершал автомобильные прогулки… О чем еще мечтать?! И все же Тотор скучал. О! Скучал смертельно, невыносимо. В один прекрасный день он сказал своему другу Мериносу: — Послушай, старина, мне надо сказать тебе кое-что важное. — Какое совпадение! Мне тоже. — Дружище, ты же знаешь, я люблю тебя; мы с тобой как братья, в жизни и в смерти! Для тебя всегда есть местечко в моем сердце! И все же… Тяжело говорить об этом… но… — Но что? — Ладно! Я хотел бы убраться отсюда. Меринос так и подскочил на месте. Обыкновенные слова прозвучали как гром средь ясного неба. Расстаться с Тотором! С Тотором, которого он бесконечно любил, который спас ему жизнь, который совершил еще много такого, что переродило его, превратив из глупого позера в сердечного, доброго парня. Расстаться с Тотором, сделавшим из него человека! Тотор уедет! Бросит его одного! Ну уж нет! Они объяснились. Тотор чувствовал себя не в своей тарелке. Необходимость жить за счет миллиардера заставляла его страдать. Беззаботная жизнь в роскоши очень красива, однако его не очень привлекает жизнь бездельника и иждивенца. Не очень приятно постоянно запускать руку в чужой кошелек! Даровой хлеб горек! Если бы он был в своей стихии! Все эти денежные мешки подчеркнуто милы с ним, за исключением двух-трех, которых он, впрочем, сумел поставить на место. И все-таки ему не по себе. В плечах жмет. Он старается любезничать, но ничего не выходит. Не его жанр! — Видишь ли, Меринос! Я сделал все, что мог, но так не годится. Не сердись. Мне все кажутся идиотами. А может, это я идиот. Во всяком случае, легкая жизнь не для меня. Мне нужна свобода, чтобы ничто не стесняло. О, прекрасные дни, когда мы жили, не заботясь о том, правильно ли держим вилку с ножом, из того ли бокала пьем!.. Лазали по деревьям, как обезьяны. Носились, как дикие кони. Вот это шик! А всякие выкрутасы, поклоны, расшаркивания, реверансы, разговоры об актерах и о ценах на навоз… Поверь: я от них худею и сохну. Я умираю. А ведь ты, старина Меринос, не хочешь моей смерти? Тогда отпусти меня! Меринос слушал друга внимательно и ни разу не перебил. Когда Тотор умолк, он взглянул ему прямо в глаза и произнес только одно: — А Нелли? Черт подери! В самом деле, ведь существует Нелли. С папашей Стоуном уже говорили о свадьбе, он согласен. Его дочь вольна выходить замуж за кого угодно. Кроме того, Тотор — храбрый и славный малый, он сумеет распорядиться деньгами не хуже любого другого. Словом, дело решенное. Оставалось лишь назвать точную дату, и можно приглашать гостей. Тотор помедлил с ответом. Но не в характере этого парня было вилять, а потому пауза не затянулась: — Твоя сестра — прекрасное и доброе созданье, и я люблю ее всем сердцем. — И она так же сильно любит тебя. — Превосходно! Однако у тебя есть глаза, и ты все видишь. Уверен ли ты, что главное ее желание — взять меня в мужья? — Какие могут быть сомнения? — Ошибаешься, приятель! Сколько у твоей сестры поклонников, флиртующих, как вы здесь это называете? Десятки и десятки роскошных юнцов, обладателей бриллиантов величиной с яйцо, владельцев дворцов, вилл, замков. Они играют в теннис, в поло… Умеют делать еще кучу всего такого, что меня нисколько не интересует. У Нелли роскошные туалеты, кружева, бархат, драгоценности ценой в целое состояние. Она резвится, бегает, смеется, катается на лошади, на авто или на яхте. Можешь ли ты мне сказать, сколько времени за эти три месяца мы были с ней наедине? Я сосчитал: семнадцать минут. По-твоему, это называется быть женихом и невестой? И потом, мне кое-что известно. Сын короля алюминия Герберт Лайн просил ее руки… Он из ее круга, у него те же вкусы, те же привычки. И если Нелли не согласилась тотчас же, то лишь оттого, что связана словом с бравым Тотором и слишком честна, чтобы взять свое слово обратно. Я тоже честный малый, но в моих жилах течет кровь бродяги, я не гожусь в мужья. Жениться на твоей сестре означало бы поступить дурно. Все это мучит, терзает меня. — Словом, ты хочешь бросить сестру? — Бросить? Ну и выражения у тебя! Что, если тебе попробовать незаметно разузнать, как там и что?.. Ведь ты меня любишь… — Короче, — воскликнул Меринос, — ты просишь меня поспособствовать разрыву!.. — О! Разрыв… не очень удачная формулировка… Так как я очень люблю Нелли… Меринос расхохотался: — Знаешь ли, о чем я должен был сказать тебе? — Нет. — Незаметно, со всеми возможными предосторожностями, я должен дать тебе понять, что Нелли… — Нелли?.. — Хотела бы выйти замуж за Герберта Лайна. — Ах, черт возьми! Молодец девчонка! Объяснения просты: американка Нелли — дитя своей страны, роскошной жизни и миллионов, а Тотор, что и говорить, не на высоте. — Будь спокоен, — сказал Меринос, — я все устрою. А теперь послушай меня. Есть план… — Какой же? — Мне тоже скучно, до смерти скучно. Нью-Йорк — тюрьма, здесь не хватает воздуха, простора. Мы слишком богаты! А я жажду нищеты, усталости и стычек. Счастливые были времена! — Хочешь начать все сначала? — не помня себя от радости закричал Тотор. — Я изучил карту Африки. Вот это страна! Сплошные белые пятна. Бельгийское[6], Французское, Немецкое Конго — одни названия чего стоят! Там есть даже племена людоедов. Итак, вот мое предложение: хочешь ли ты отправиться туда? — Хочу ли я? Да это моя самая заветная мечта! Когда отбываем? — Через неделю состоится свадьба Нелли, а там — в путь! — Одно условие: едем через Париж. Я хочу обнять отца. — Естественно! Заодно и меня представишь.
__________
Так наши друзья и оказались в Центральной Африке, вдали от цивилизации, в деревне негров из племени томба, славных парней и больших любителей человечинки. Вождь подал знак. Почетных гостей встречали звуками тамтамов и свистом дудок.ГЛАВА 2
Королевский прием. — Причудливая акробатика. — Месье и мадам Амаба. — Таинственные звуки. — Как глотают слона. — Колдун, говорящий на арго.У истоков рек Бати, Уам[7] и Ди[8], приблизительно в двухстах пятидесяти километрах от Банги и в девятистах от Либревиля[9], первых крупных французских поселений к западу от Конго, вы не найдете деревень, похожих на Асниерес. С тех пор как позади остался последний европейский пост, друзья понемногу начали привыкать к причудам африканцев. И все же принять их обычаи никак не могли. Еще в Банги стало ясно, что путешествие будет опасным. Как-то они забрели на местное кладбище и были поражены — каждая вторая надпись на могильной плите гласила: «X съеден тогда-то таким-то», «Y съеден тогда-то таким-то». Кулинарные пристрастия туземцев настораживали. Однако эти двое были не из пугливых. — Главное, — то и дело предупреждали знатоки, — не отклоняться от русла Убанги; лучше всего двигаться на восток, где всегда можно встретить бельгийцев. Но наши герои конечно же решили идти на запад. Всякий раз, как на пути попадалась деревня, эти горячие головы нанимали дюжину чернокожих силачей, а уже сутки спустя, оставив груз и носильщиков на очередной импровизированной стоянке, отправлялись на поиски невероятных приключений. Пока что им доводилось встречать в лесах негритянок с негритятами, и те, завидя чужаков, в страхе разбегались кто куда. И вот наконец судьба привела их в царство настоящих дикарей, в вотчину вождя Амабы. Изгородь из плотно пригнанных друг к другу дощечек. В изгороди узенький проход. Гордо выпятив грудь, друзья вошли и… — Ну и запашок, черт побери! — не сдержался Тотор. Представьте себе, читатель, длинную кривую улочку, где на каждом шагу громоздились горы смердящих отбросов. По обе стороны улицы теснились крытые листвой и соломой приземистые лачуги, походившие больше на собачьи будки. Вход — не шире лазейки для кошки. Из-за каждой двери доносились отвратительные запахи, а внутри, точно муравьи, копошились сотни негров и негритянок. Неожиданно раздался громкий возглас, коего друзья, к счастью, не поняли: — Ньямба! Ньямба! На языке аборигенов это означало: «Мясо! Мясо!» Гостеприимные жители деревни смотрели на Мериноса и Тотора как на дичь, принесенную вождем с удачной охоты. Какой-то негр довольно бесцеремонно схватил Тотора за плечо, решив, очевидно, пощупать, достаточно ли жирна добыча. Однако невысокий, но жилистый парижанин влепил ему такую оплеуху, что здоровяк покатился кубарем. Чтобы охладить пыл прожорливых соплеменников, Амаба сказал что-то своим охранникам, и те на славу угостили обескураженных людоедов дубинками. Инцидент, что называется, был исчерпан, и гостей вывели на просторную площадь, позади которой виднелось бревенчатое строение побогаче прочих. Это был «дворец» вождя. В центре площади возвышалось нечто вроде алтаря или жертвенника — грубо обтесанный ствол громадного дерева, украшенный изображениями местных божков: резными деревянными фигурками красного, зеленого и голубого цветов. Сын вождя Ора-Ито издал призывный клич. И вдруг неведомо откуда явился фантастический персонаж, с ног до головы покрытый красной краской, в ниспадавшей до колен звериной шкуре. На лбу у него красовалась медная корона с пышными султанами и сверкающими, как бриллианты, слюдяными брызгами. Дополняла костюм похожая на китайскую шапочка, увенчанная двадцатью звенящими колокольцами. Выслушав длинную речь Амабы, колдун (а это был именно он) Ламбоно, жрец и глашатай бога Хиаши, взглянул на бледнолицых, выпучил глаза и, подскочив к ним, принялся исполнять самый безумный, самый эксцентричный танец, какому позавидовали бы величайшие клоуны мира. Он прыгал, вертелся, делал внезапные резкие повороты, вскидывал ноги, бросался оземь и скакал по-лягушачьи. — Это дьявольски напоминает наш кекуок![10] — шепнул Тотор на ухо Мериносу. — Хватит, хватит, Полишинель![11] Насмотрелись! Искусный акробат как будто понял сказанное и тотчас же угомонился. Выгнувшись назад, он взмахнул ногой так аккуратно, что сбил с головы Тотора фуражку, несколько раз покрутил ею в воздухе, поймал на лету и так же аккуратно и грациозно водрузил на место, произнеся при этом странные слова: — Сатлакуп, монп ти! — Что он говорит? — спросил Меринос. — Это по-конголезски! Надо будет выучиться, — процедил сквозь зубы Тотор. Тем временем колдун подошел к жертвеннику, схватил двух крошечных деревянных идолов и, то вздымая их на вытянутых руках к небу, то указывая на чужестранцев, запел. Чернокожие хором вторили ему. На этом торжественная церемония возведения в сан завершилась. Одобрительные возгласы приветствовали Тотора и Мериноса, принятых отныне в члены рода. Гостей с помпой проводили в просторный и чистый дом вождя. Стены и пол устилали многоцветные циновки — гордость мадам Амаба. — Боже! — воскликнул Тотор при виде хозяйки. — Вот это оковалочек! Неимоверных размеров чернокожая женщина, не рискуя, очевидно, сесть на колени к Мериносу, проворно усадила молодого человека на колени к себе и принялась как ни в чем не бывало копаться в его шевелюре, выискивая паразитов. Дело в этих местах обычное. Амаба уселся на корточки и закурил длинную трубку. Юные негритянки наполнили пальмовым вином бутылочные тыквы, и Ора-Ито грациозно чокнулся с гостями. Тотор смотрел во все глаза. По правде сказать, все выглядело не так уж и страшно, хотя вокруг хижины повсюду были разложены человеческие черепа, но ведь здесь могло быть и что-то вроде колумбария. Смеялись, пили, пели. Вождь взял свой балафон — инструмент, напоминавший одновременно банджо и барабан, и, вооружившись двумя маленькими палочками с каучуковыми наконечниками, извлек из него, и довольно удачно, какую-то мелодию. А колдун за его спиной в такт позвякивал колокольцами. — Любезный вождь! — начал Тотор, вставая. — Ты, безусловно, очень мил, и если бы я не подозревал в тебе охотника до человечинки, то, право же, питал бы к тебе искреннее уважение. Поскольку я спас жизнь твоему дурачку-сыну, который попал как кур в ощип, полагаю, у тебя нет более оснований задерживать нас и заставлять выслушивать твое треньканье, которое к тому же в подметки не годится даже «Миньоне» Амбруаза Тома[12]. Итак, я и Меринос, или Меринос и я рады выразить тебе нашу глубочайшую признательность и засвидетельствовать свое почтение. Меринос вырвался наконец из жарких объятий мадам, и молодые люди приветствовали вождя с самым что ни на есть дружелюбным видом. — Я страшно проголодался, — сказал вполголоса Меринос. — Эти животные, кажется, не собираются нас кормить. Но что это? С улицы донеслись таинственные звуки: будто полсотни коров разом замычали по сигналу невидимого смычка. Завываниям вторил радостный визг. Дверь отворилась, и на пороге появилась негритянская процессия: шеи у некоторых были стиснуты железными ошейниками, в руках все держали большие блюда, до краев наполненные красным мясом под соусом. В воздухе поплыл приятный аромат. Колдун крикнул что-то на своем наречии, причем возглас этот до странности был похож на типичное парижское «Налетай!», если только забыть о том, сколько тысяч километров отделяло эту деревушку от Монмартра. Да, странные все же бывают совпадения… Блюда опустили на землю перед супругами Амаба. Вождь красноречивыми жестами пригласил гостей к трапезе. Присутствовавшие здесь же человек двенадцать приближенных сгрудились вокруг аппетитного кушанья. Но тут случилось непредвиденное. Амаба по локоть запустил руку в мясное месиво, вытащил громадный кусок и поднес его к губам Тотора, настаивая, чтобы гость открыл рот. Мадам, опекавшая Мериноса, пыталась попотчевать таким же способом и его. Крайне раздраженный навязчивостью женщины, чей вид вызывал внутреннее содрогание, Меринос оттолкнул ее руку, быть может, слишком грубо, в результате же почтенная дама повалилась на спину. Галантный кавалер Амаба поднялся во весь свой исполинский рост и, схватив двухметровый клинок, занес его над головой неосмотрительного гостя. К счастью, видевший все Тотор вовремя помог мадам Амаба подняться и учтиво усадил ее на место. Поняв свою ошибку, Меринос низко поклонился хозяйке и униженно обнял ее колени, прося прощения. Не суйся в чужой монастырь со своим уставом! Тем временем колдун осторожно взял клинок из рук вождя и успокоил его, видимо, заверив, что белый человек вовсе не хотел оскорбить мадам Амаба. Официальный обед начался. Как известно, в слоновьей туше тысячи две фунтов[13] мяса. По меньшей мере треть причиталась вождю. Остальное отдавали народу. Тотор и Меринос с изумлением наблюдали, как горы съестного исчезают в бездонных желудках чернокожих мужчин, женщин, вечно голодных ребятишек, которые хватали мясо пятерней, ногтями рвали его на части. Потрясающее зрелище жуткого обжорства! Друзья успели здорово проголодаться и поначалу старались не отставать от хозяев. Однако вскоре поняли, что это им не под силу. Ни пальмовое вино, ни сок маниоки уже не помогали. Они сдались. — Я больше не могу! — пропыхтел Меринос. — Я сыт по горло! — отозвался Тотор. — Который час? Не пора ли возвращаться в лагерь? — На дворе ночь… — Быть того не может! Они совершенно забыли о времени и о том, что в тропиках ночь наступает внезапно. Солнце зашло два часа назад. Жилище вождя освещали факелы, фантастические тени плясали на стенах. Негры наконец насытились и без сил, тяжело дыша и икая, повалились на пол и заснули где попало. Абсолютно пьяные вождь и его супруга устроились на циновках. Тотор и Меринос пытались подняться, но все плыло у них перед глазами. — Мне дурно! — простонал Меринос. — Эх, с каким бы удовольствием я сейчас вздремнул! Он ощутил чье-то прикосновение и, обернувшись, увидел колдуна. Тот звал гостя за собой. Надо было собраться с силами. Трудно сохранять человеческое достоинство, когда не можешь сохранить равновесие. — Меринос, валяй за мной! — прошептал колдун. Меринос оперся о плечо Ламбоно. Колдун не спеша вывел гостей на улицу и подтолкнул к своей хижине. Указав на две груды сухих листьев, он буркнул: — Вот ваша труха! Доброй ночи! Друзья упали замертво, даже не задав себе вопрос, каким образом здесь, на экваторе, в самом сердце Конго, кто-то говорит на арго, принятом в парижском квартале Менильмонтан. Минуту спустя они уже крепко спали. Лесные вина коварны. Но Ламбоно не спал. Он пристально разглядывал пришельцев. Лицо его, сплошь покрытое разноцветными полосами, внезапно озарилось радостной улыбкой. Приплюснутый нос, пухлые губы, голубоватые белки глаз — все светилось неподдельным весельем. Мечтал ли каннибал о кусочке белого мяса?.. Кто знает! Во всяком случае, его явно занимала некая мысль, им владело желание, которое он не решался удовлетворить. Колдун аккуратно положил рядом со спящими их карабины, предварительно изучив оружие с видом знатока и даже сделав несколько жестов, выдававших в нем охотника. Затем подошел ближе. Казалось, он досадовал на то, что гости так крепко спят. Ему не терпелось разбудить их. Из кармана Тотора выпали часы. Колдун взял их тонкими пальцами и взглянул на циферблат, внимательно изучил золотую крышку. В самом деле, можно было подумать, что эти предметы ему знакомы. Он напоминал сейчас ювелира-оценщика из Мон-де-пьете[14]. Минуту спустя часы лежали на прежнем месте. А колдун снова в нетерпении принялся ходить взад и вперед по хижине. Наконец он понял, что не в состоянии более противиться искушению: решительно подошел к куче хвороста, сваленного в углу, выбрал два коротеньких и толстых, словно пальцы, прутика и поджег от пламени освещавшего хижину факела. Дерево потрескивало, вокруг разлетались легкие искры, пополз едкий дым. Колдун подошел к друзьям и поднес горящий прутик прямо к их ноздрям. Эффект не замедлил сказаться. Оба громко чихнули. Колдун повторил несложную операцию. Эффект оказался еще сильнее. И пока друзья приходили в себя, африканец-чародей говорил им притворно-кукольным голоском: — К вашимуслугам, друзья-приятели!
ГЛАВА 3
Негр с Монмартра. — Ламбоно, он же Окорок, он же Хорош-Гусь. — История колдуна. — Процессия людоедов. — Тревога! — Торговцы живым товаром.— Дьявольщина! Да ведь он лепечет по-французски! — вскричал Тотор. От удивления молодой человек не мог подняться и отчаянно тер глаза. — Черт возьми! — ворчал Меринос. — Как хочется пить! Колдун протянул ему бутылочную тыкву, в которой что-то призывно булькало. Меринос схватил ее обеими руками и долго и жадно пил. — Глотни-ка, старина! — повернулся он наконец к Тотору и передал ему изрядно полегчавший сосуд. Источавшие благовония прутики таяли, словно церковные свечки. По всей хижине растекался острый, но приятный запах. Похмелье проходило, мысли прояснялись. — Что, головы трещат? — спросил колдун. — Это пройдет. Сомнений больше не было. Они слышали парижский говорок во всем его великолепии. Тотор без конца тряс головой, отгоняя дурман. — Неужто я рехнулся? Крыша у меня поехала, что ли? — закричал он. — Дружище, ты говоришь по-французски? — Малость есть. Если хотите, можем побалакать. — Если хотим?! И ты еще сомневаешься? Ты негр или нет? — Черный как смоль. Ламбоно — мое африканское имя. Но в кабаках Монмартра, среди тамошних забулдыг, я проходил под кличкой Хорош-Гусь. Произношение его, правду сказать, было далеко от совершенства. Но в четырех градусах от экватора эта ломаная речь казалась едва ли не эталоном академизма. Тотор подошел к негру и пожал ему руку. — Как бы тебя ни звали, Ламбоно, Жамбоно[15] или Хорош-Гусь, ты мне нравишься. Объясни нам, что к чему. Прежде всего, как называется эта страна? — Это не страна, а владения племени томба. У них есть король, королева и наследник. В общем, все как у людей. — А ты что здесь потерял? — Я родом из этих мест. А ты? — Чистокровный парижанин. Сын парижанина. — Сюда-то каким ветром тебя занесло? — Путешествую по разным странам. — А тот, второй, с квадратной челюстью? — Мой спутник и друг. — Кореш, как говорят на Холме. — Ты жил на Монмартре? — Недолго. Работал в самых шикарных кабаках: в «Черном Коте», у Брюана… Выдали мне красивую форму: красную ливрею и полковничье кепи. Словом, повеселился на славу. — Погоди, погоди! — прервал его Тотор. — Ушам не верю. Монмартр, «Черный Кот» — все это отсюда далековато. О чем, о чем, а о Париже никак не ожидал услышать в этой глуши. — Конечно! Но если у кого крепкие ноги и голова на плечах… — Послушай! Что ты все туману напускаешь? К чему эти загадки? Расскажи свою историю, если, конечно, хочешь. — Я не прочь, только надо горло промочить. Древние галлы[16] с гордостью уверяли, будто их ничем не удивишь. Разве что, если небо упадет на землю. Но забраться в неведомую страну, где, может быть, не ступала нога белого человека, и оказаться лицом к лицу с добрым малым, говорящим на языке парижских предместий! Согласитесь, такое случается не часто. — Ну как, милый мой Меринос, — вполголоса проговорил Тотор. — Согласись: это забавнее, чем кривляться в нью-йоркском небоскребе в сорок этажей? — Голову даю на отсечение — это только начало, — отвечал американец. — Не жалеешь, что поехал со мной? — Я счастлив. — Невзирая на трудности? Пока они разговаривали, Ламбоно отошел в сторону, порылся в ворохе всякой всячины и извлек оттуда некий предмет, который спрятал до поры до времени в складках одежды. Потом колдун вернулся к гостям и с довольным видом, приплясывая от нетерпения, спросил: — Знаете, что это такое? — Череп? — предположил Тотор. — Не говори глупости… Это крошка-милашка. — Крошка-милашка?.. — Да! — отвечал колдун, жестом победителя вознося над головой бутылку шампанского. — Урожай с королевских виноградников! — Где ты ее стянул, Хорош-Гусь? — Обижаешь! Ничего я не стянул, а получил в благодарность за службу в таверне «Пигаль». Колдун перекусил металлическую проволоку своими острыми зубами, и пробка выстрелила в потолок, а затем разлил содержимое по «бокалам» из тыквы и поднес друзьям. Остаток вылил себе и, легко вспорхнув в воздух, сделал антраша. Опустившись на землю, негр церемонно поклонился: — Ваше здоровье, принцы мои! Чокнулись. Шампанское было великолепно. — Extra-dry![17] — сказал Меринос, цокая языком. — Здо́рово! — припечатал Тотор. — Это вам не сивуха. А теперь, Хорош-Гусь, рассказывай! — Верно! Называй меня Хорош-Гусь. Это навевает приятные воспоминания. Итак: десять лет тому назад я сбежал из дому… — Продолжай, продолжай, о Хорош-Гусь моего сердца! — Деревня наша находилась немного восточнее. С тех пор несчастных томба порядком потеснили, и они обосновались здесь, в лесных чащобах. Известно: чем глуше, тем спокойнее. Отец меня здорово бил, и я сбежал. Шел, шел день и ночь, день и ночь. У меня, само собой, чутье, как у собаки. Деревни я обходил — очень боялся, что домой вернут или съедят. — Ха-ха! — воскликнул Тотор, но тут же нахмурился. — Похоже, в здешних местах сожрать человека — все равно что плюнуть. Колдун сделал вид, что не расслышал, и с жаром продолжал: — Я все время шел вперед и говорил себе, что куда-нибудь ведь наверняка дойду. — Резонно! — Оно конечно, только в одно прекрасное утро нарвался-таки на французский пост. Это я теперь знаю, что французский, а тогда мне все равно было, французы это или ирокезы[18]. А так как белых я увидел впервые в жизни, то страшно перепугался. Отвели меня к какому-то большому человеку. Потом уж стало понятно, что к офицеру. Я не нашел ничего лучшего, как броситься в ноги к доброму господину из другого, совсем чужого мира и умолять его не убивать меня и не есть. — Решительно, у тебя идефикс[19], — заключил Тотор. — Человеческое мясо и в самом деле так вкусно? — О, пальчики оближешь! — не сдержался негр. — Да что ты себе позволяешь? Ламбоно понял, что переборщил, и сконфуженно затих. Но тут вмешался Меринос, обратившись к Тотору по-английски: — Пусть говорит. Сейчас не самый подходящий момент, чтобы читать ему нотации. До сих пор нам не в чем было его упрекнуть. Он же не приглашает тебя пообедать вместе. Давай дальше, — бросил он рассказчику по-французски, — только поменьше подробностей. — Thank you, sir. I go on[20], — отвечал колдун на чистейшем английском. Тотор и Меринос остолбенели от удивления, а колдун невозмутимо продолжал: — Офицер оказался добряком. Я, как смог, объяснил ему, кто такой и откуда иду. Он заметил, что мальчишку качает от голода. Накормил меня, а потом предложил поступить к нему на службу. О чем еще мечтать? Хозяин обращался со мной ласково, позволял делать все что захочу, только бы его обувь и снаряжение были начищены. Ох уж и надраивал я его сапоги! Короче, я со всем отлично справлялся, и два года мы не разлучались. Он посылал меня на разведку, со всякими поручениями верхом или на пиро́ге. А когда я впервые увидел пароход, думал, с ума сойду. Я точно вторую семью обрел. Очень был доволен. Но вот однажды хозяин позвал меня и объяснил, что болен и должен уехать на родину, что я свободен и могу, если захочу, вернуться в свое племя. Боже! Только не это! Я не хотел возвращаться к отцу, который страшно наказывал за непослушание. У меня не было ни малейшего желания проторчать шесть часов закопанным по шею под палящим солнцем. А то еще мне могли выдрать ногти на ногах. Нет! И я сказал хозяину: «Заберите меня с собой!» Он сначала не соглашался: что такому черномазому, как я, делать во Франции? Но я так просил, так умолял… Клялся, что сделаюсь крошечным, таким крошечным, что никому до меня дела не будет. Обещал еще лучше чистить сапоги. Короче, он был так добр… Да, я забыл сказать, что звали его лейтенант Ламбер. Прекрасный человек! Будь он жив, я бы, понятно, здесь не прозябал. Голос каннибала дрогнул. В глазах блеснули слезы. Тотор и Меринос переглянулись. Неожиданная чувствительность и удивила и тронула их. Ведь знал же этот несчастный, каково на вкус человеческое мясо! — Вот мы и уехали, — продолжал негр. — Мне и тяжко и радостно вспоминать об этом. Отъезд из Конго, прибытие в Либревиль. А потом корабль — большой, большой, как деревня. И море! Вообразите мое изумление. Я всего лишь бедный негр, ничего в жизни не видавший. Даже не знаю, откуда мы вышли. Плыли долгие, долгие дни. Потом сели в повозку, которая сама умела ездить. Ездить! Всего лишь железная дорога, но я-то ничего такого не знал. Наконец приехали в Париж. Я стал прислуживать моему хозяину. Всем был доволен. Вот только замечал, что он не совсем здоров. Щеки пожелтели, глаза ввалились. К нему приходили очень важные люди, щупали пульс, прикладывали ухо к груди, а после уходили, покачав головой. Я в страхе забивался в угол, не решаясь ни о чем спросить, но чувствовал опасность. И оказался прав. Не прошло и шести месяцев со дня нашего приезда, как люди вышли из его комнаты в слезах. Он умер. Колдун племени томба уронил голову на руки и горько заплакал. У Тотора сердце разрывалось, а обычно невозмутимый американец с чувством шмыгнул носом. Негр поднял голову и продолжал: — Возможно, история моя не самая веселая, но ведь вы сами просили рассказать. — Говори, говори! — возразил Тотор. — Все это необычайно интересно. Так что же ты стал делать после смерти хозяина? — В беде меня не бросили. Приятель лейтенанта предложил пойти к нему на службу. Он был портным. Большой магазин на углу улицы Друо. Одетый во все красное, я должен был ежедневно проделывать сотни шагов туда и обратно, открывая двери клиентам. Прохожие смеялись, издевались надо мной, поддразнивали. Я начинал кое-что понимать, и это меня унижало. Что ж, если они белые, им можно умничать и задираться? Как-то один верзила захотел дернуть меня за нос. Я ударил его. Разразился скандал. Пришлось идти к комиссару. Господин, которого я поколотил, оказался из правительства или что-то в этом роде. Меня хотели в тюрьму посадить. Но я был прав: если ты черный, это не значит, что над тобой можно безнаказанно издеваться. Мой новый хозяин явился для объяснений, защищал меня, так как знал, что я ничего плохого не сделал. И меня отпустили. Но патрон сказал, что больше не может держать меня, и рассчитал. Дал небольшую премию и рекомендательное письмо к одному владельцу кафе на Монмартре. И начались мои скитания по кабаре. Танцевал, пел негритянские песни, а посетители вопили, гоготали и бросали в лицо такие грубости и сальности, что меня тошнило. Я то возносился, то падал на самое дно: с площади Клиши в Менильмонтан. Сделался циником, мерзким негодяем, занимался грязными делишками и не любил вспоминать прошлое. Есть хорошие парижане, но есть и дешевки. Да и парижанки тоже. Я стал чем-то вроде марионетки, которую каждый, кому не лень, дергает за веревочку. Копил деньги, наживал состояние и жаждал реванша. Не знал, что именно буду делать, но мечтал о многом, тем более когда вспоминал доброго лейтенанта и понимал, что он был бы недоволен и огорчен. Такая жизнь мне вскоре осточертела. Были в ней и приятные моменты, но раздражало то, что всякий помыкает мною. И, как бы вам объяснить, становилось стыдно, что дни проходят в безделье, подлости и грязи. К тому же — нужно уж говорить все начистоту — одно приключение разбило мне сердце. Я полюбил без памяти, был предан всей душой, а надо мной посмеялись. Меня сделали таким несчастным, таким несчастным! И вот в один прекрасный вечер я сказал себе, что не создан для этого, так называемого цивилизованного мира. Вас возмущает, что дикари едят людей. Но разве сами вы не делаете то же? Разве не пожираете вы сердца и умы, не убиваете этим себе подобных? Может, я напрасно говорю вам все это, но я не могу забыть. Это сильнее меня. Я рад, что вы слушаете и не смеетесь. Ламбоно замолчал. Разноцветные полосы изменяли его лицо, но сквозь них проступило вдруг выражение неизъяснимого страдания. Тотор и Меринос не прерывали беднягу. Сердца их сжимались от жалости и стыда. Эта смесь варварства, примитивной цивилизации и благородного инстинкта представлялась им самым любопытным и трогательным феноменом из всех, с какими удавалось до сих пор сталкиваться. — Ну что ж, милый Хорош-Гусь! — заговорил наконец Тотор. — Продолжай! Осталось совсем немного. Как ты попал сюда? Негр вскинул голову: — Вы, кажется, называете это ностальгией. Я не мог больше думать ни о чем, кроме моего солнца, моих деревьев, моих джунглей. Потом заболел, и меня поместили в больницу. Когда я вышел, мечтал только об одном: вернуться. Начал учиться, стал разбираться в географических картах. Понял, где приблизительно находится моя родина. Скопил немного денег, отправился в Бордо и нанялся на пароход. Работал в машинном отделении. Было очень тяжко, но я ничего не чувствовал. Каждый оборот винта приближал меня к дому. Высадился я в Либревиле. О, солнце Африки! Это жизнь, свобода. Я вновь обрел мои реки, стада, слонов, змей, носорогов. Они для меня друзья, братья. Как не заплутал, как отыскал дорогу домой, не знаю. В сердце было что-то, что вы называете компасом, и однажды утром я вышел к своей деревне. Конечно, она ничем не напоминала Париж. Но, поверьте, она показалась мне красивее всех ваших монументов вместе взятых. Отец умер, но родные узнали меня. Я вновь выучил язык, вспомнил древние обычаи и стал негром чистой воды. А для спокойствия заделался колдуном. Уж очень много я знал всяких трюков, приводивших моих сородичей в неистовство. Ведь они невежественны и наивны. И вот явились вы. Французская речь взволновала меня, захотелось поболтать на языке Монмартра. Все вдруг вернулось, все! Я спас вас, когда этот парень толкнул королеву. Амаба заколол бы его, как свинью. Я подпоил вас, потом отрезвил. Вы у меня в гостях. Можете оставаться сколько угодно. Отвечаю за вашу безопасность. Можете теперь пожать мою клешню. Он протянул друзьям руку. Тотора еще терзали сомнения: — Позволь спросить только об одном, милый Жамбоно: правда ли, что тебе приходилось есть человечину? Негр раздраженно отмахнулся. — Черт побери! Оставьте же, наконец, меня в покое. Дайте каждому делать то, что он хочет и может! Глаза его вспыхнули недобрым огоньком. Тотор, не обращая внимания на Мериноса, который то и дело дергал его за рукав, грубо оборвал колдуна. Но вдруг в ночной тиши грохнул выстрел, послышались душераздирающие крики, а затем взрывы, точно началось извержение вулкана. Ламбоно мгновенно вскочил на ноги. — Что происходит? — хором спросили Тотор и Меринос. — А происходит то, что арабы — торговцы живым товаром, ваши друзья, ваши союзники, искатели рабов — напали на беззащитную деревню. Пошевеливайтесь, если хотите спастись! — Бежать? Ни за что на свете! — отвечал Тотор. — Мы ваши гости и будем сражаться вместе с вами. — Тогда берите оружие, и вперед! — скомандовал колдун. И все трое выбежали на улицу.
ГЛАВА 4
На границе с Камеруном. — Два эльзасца. — Кто идет? — Араб бен Тайуб. — Выполнить приказ. — Подозрения Ганса Риммера.Конго, как известно, разделено между двумя державами, Бельгией и Францией. Французское Конго граничит с Камеруном, колонией Германии. Камерун, в некотором роде, как бы врезается во французские владения, и дипломатам пришлось затратить неимоверные усилия, чтобы определить границы двух стран, особенно в районе озера Чад, тем паче что местность между 4 и 6 градусами северной широты практически почти не изучена: экспедиции Мизона, Крампеля[21], Дибовского и Мэтра лишь торопливо прошли по этому району, ибо отважным исследователям постоянно угрожала смертельная опасность, и угроза их жизни исходила от представителей местных племен, у коих один вид белого человека вызывал одновременно глубочайшее изумление и неподдельный ужас. Четко обозначенные на бумаге, границы между немецкой и французской территориями на самом деле размыты. И наши соседи из Камеруна используют любой удобный случай, чтобы нарушить дипломатические договоренности, если это отвечает их интересам. Так, в ту самую ночь, когда происходили события, о которых рассказано в предыдущих главах, посреди Французского Конго, в десяти лье от камерунской границы и в пяти лье от деревни, куда попали Тотор и Меринос, два солдата в немецкой униформе перешептывались на эльзасском наречии: — Сержант! — ворчал первый. — Как думаешь, долго нам еще здесь прохлаждаться? — Donnerwetter![22] — отвечал второй. — Откуда мне знать? Черт его знает, что задумал наш лейтенант! — Тебе не кажется подозрительным, что нас среди ночи пригнали на французскую территорию? В этой ложбине только и жди неприятностей от тех поганых бабуинов, что там засели. Помолчали. Потом снова заговорил первый: — Послушай, Ганс! Я по горло сыт этой кошмарной жизнью. Долго не выдержу. — Что ты хочешь сказать? Разве моя жизнь лучше твоей? — Ax! Min Alter![23] Можно ли сравнивать? Не сердись, но ты почти немец, твои родители голосовали за Германию[24], ты остался в стране, несешь военную службу. Словом, все чин чином. — Тебе хорошо известно, что я участвовал в бунте и именно поэтому, как и ты, нахожусь здесь. — И все-таки это не одно и то же. Я француз, родился во Франции у родителей, которые живут во Франции. — И которые, однако, не позаботились о необходимых формальностях, чтобы избавить тебя от немецкой воинской повинности. — О! Бедняги! Я не захотел этого. Они уехали из Эльзаса после войны, бросив все: маленькую ферму, друзей, родных. Начали новую жизнь в Париже. Родился я. Они думали только обо мне, ничего не пожалели, чтобы дать мне хорошее образование. Они так наивны! Когда я сказал, что хочу навестить старую бабушку там, в Саверне, им и в голову не пришло ничего дурного! — Там-то тебя и замели как уклоняющегося от воинской повинности. Ты кричал, протестовал, даже бежать пытался. — Меня отдали под трибунал. Ах! Судьи — жестокие люди! Я кричал: «Я не немец! Я француз!» Они даже не слушали. А поскольку я оскорбил их, показав кулак, меня сначала приговорили к трем месяцам заточения в крепости. А оттуда направили в колониальные войска под команду к этому надсмотрщику, мерзкому пруссаку, лейтенанту Штерманну, который травит меня. — Сколько лет дали? — Еще три долгих года, но я не доживу. То, что происходит здесь, возмутительно. Негров вербуют, чтобы грабить и убивать их же сородичей. А как ожесточаются наши солдаты! Просто звереют. Все это бесит меня. Чувствую: настанет день, когда не смогу больше терпеть. Француз не палач. — Дружище! Не задирай нос. Ты еще скажешь, что мне, мол, легче: через две недели демобилизуюсь и уеду. Но ведь и я отбыл здесь три жутких года. Почему никто не попытался вытащить тебя? Родные, отец? При упоминании о родных глаза француза наполнились слезами. — О да! Мой отец! Знаешь, что произошло? Когда новость о моем аресте долетела до Парижа, мама была так потрясена, что две недели спустя ее уже провожали на кладбище. — Бедный мой дружище! — А отец! Он как-то бодрился, не вешал носа, обращался всюду: к офицерам, депутатам, министрам. Дошел до самого министра иностранных дел. — И что же ему ответили? — Что ничем не могут помочь, что отношения с немцами не отрегулированы и что рыпаться не стоит. — Ты писа́л ему? — Редко. Что я мог ему сказать? Что раздражен и несчастен? Я доставляю ему много горя, и это разрывает мне сердце. Тем хуже! Подохну тут, и, думаю, довольно скоро. — Выдумки! Однако первый продолжал в том же духе, будто бы и не слышал: — Хочу попросить тебя кое о чем. — Дорогой друг! Для тебя мне и жизни не жаль. — Все гораздо проще. Меня зовут Ганс Риммер. — А меня Петер Ланц… дальше? — Мой отец живет в Париже, на Монмартре. Сапожничает в мастерской, что на углу улицы Сен-Жозеф. Запомнишь? — Постараюсь. Я неплохо ориентируюсь. — Хорошо! Поскольку через две недели, а может, и раньше ты выберешься из этого ада и отправишься в Эльзас, обещай, как только сможешь, съездить в Париж. — Можешь не сомневаться, так и будет. Моя самая заветная мечта — перестать быть пруссаком и работать в Париже. — Навести моего доброго старого отца и расскажи обо всем: о наших страданиях, унижениях. Расскажи о том, что видел и что еще увидишь. Постарайся утешить его, объясни, что я всем сердцем люблю его и Францию. Голос солдата дрожал. — Ладно! Не плачь, мой друг, мой брат. Я обещал и слово сдержу. Покумекаем, как вытащить тебя отсюда. — О! Если б это было возможно! Но я уже ни на что не надеюсь. Вдруг он умолк. — Послушай! Что это? По-моему, кто-то пробирается сквозь заросли. — Правда. Эй, кто там? Стоять! — закричал Петер. — Кто идет? — подхватил Ганс. Оба приготовились стрелять. В лесной чаще в нескольких шагах от них как будто бы что-то сверкнуло. Показалась белая фигура. — Кто идет? — повторили оба хором. — Еще шаг, и мы стреляем! Движение прекратилось. Затем гортанный, хриплый голос произнес: — Друг, Freund! — Один? — Да, один. — Подойди! Это был араб, закутанный в белое. Он двинулся вперед. — Соблюдайте дистанцию, — грозно одернул сержант, — и отвечайте: кто вы? — Али бен Тайуб. Проклятая страна! — Жалкий работорговец! — вскричал Ганс. — И он еще проклинает страну! Араб ухмыльнулся. — Я хочу видеть лейтенанта Штерманна. — В такой час? — Тогда, когда мне будет угодно, — высокомерно отрезал Тайуб. — Вы нижние чины и не имеете права возражать. Приказываю отвести меня к вашему командиру. Работорговец, а именно этим постыдным делом занимался араб, преследуя, грабя и уничтожая местные племена, говорил так властно, что на эльзасцев это подействовало. Они могли быть недовольны, даже возмущены, однако дисциплине подчинялись беспрекословно. — Хорошо, — сказал Петер, — следуйте за нами. Ганс зажег яркий фонарь, и на землю легло желтое пятно света. — Идите впереди, — велел сержант. — Мой товарищ проводит вас. Бен Тайуб невозмутимо шагал вслед за Гансом, а внимательный и недоверчивый сержант замыкал процессию, держа ружье на изготовку. Все молча шли по узенькой тропинке, с обеих сторон поросшей густой травой. Трава цеплялась за ноги, не давала идти. Потом начался скользкий глинистый склон. Четверть часа такой ходьбы изматывала больше, чем двухдневный переход по ровной дороге. — Стоять! — скомандовал Петер. — Часовой должен узнать нас. Он крикнул что-то в темноту и стал ждать. Вскоре послышался ответ. Петер Ланц шагнул вперед и назвал пароль. Араб и его конвоиры благополучно прошли через посты, и мгновение спустя все трое скрылись во тьме. — Что ему здесь надо? — тихим голосом спросил Ганс. — От этого визита добра не жди. — И что ты предполагаешь? — Думаю, тут дело не чисто. Видишь ли, Петер, я давно наблюдаю за нашим рыжим лейтенантом. У него вид настоящего бандита. Я бы не удивился, если б узнал, что он затевает какую-нибудь гнусность вместе с этим работорговцем. Не веришь? — Зачем ты забиваешь себе голову всякой ерундой? Что мы можем сделать? Ганс ответил не сразу. Немного помолчав, он сказал: — Кто знает?
ГЛАВА 5
Прусский капитан. — Слово Пророка. — Торговля гнусная, но доходная. — Лейтенант Отто фон Штерманн. — Сто тысяч марок. — Постыдный пакт. — Огнем и мечом!— В чем дело? — Голос лейтенанта Отто фон Штерманна прозвучал грубо. Лейтенант вскочил и прицелился, не сводя глаз от входа в палатку. Вошел негр-пагуин, выряженный в тряпье, отдаленно напоминавшее форменный мундир, и, безбожно коверкая слова, объяснил, что некий араб хочет видеть командира. Отто все еще не мог унять дрожь. — Как его имя? — Он не сказал, потому что его не спросили. Пагуину пришлось выйти и еще раз переговорить с нежданным визитером. Оставшись в одиночестве, лейтенант проверил, заряжен ли револьвер, и добавил недостающие патроны. Затем внимательно огляделся, нет ли в палатке чего-нибудь, что могло бы его скомпрометировать в глазах гостя. — Али бен Тайуб, — произнес вернувшийся слуга. — Ладно, пусть войдет. Лейтенант устроился в кресле-качалке и постарался принять как можно более пренебрежительную позу. На пороге появился бен Тайуб. Оттененное белоснежным тюрбаном, смуглое лицо его казалось почти красивым. Крупные, но правильные черты, глубокие черные глаза, пухлые, чувственные губы. И какой контраст с лейтенантом! Сухонький человечек с беломраморным в красноватых пятнах лицом, с полуприкрытыми, точно у ящерицы, глазками и бледными, тонкими губами. Между тем внимательный наблюдатель непременно заметил бы сходство этих двух физиономий. Выражение коварства и злобы роднило их. Араб низко поклонился, приветствуя хозяина, и, выпрямившись, ждал, что тот заговорит с ним. Лейтенант нарочито поигрывал револьвером. — Ты Али бен Тайуб? — Так меня зовут. — Это ты прислал мне письмо с просьбой о ночной встрече? — Я. — Что скажешь? Но прежде чем ответить, помни: малейшая неосторожность, малейшее подозрительное движение, и я вышибу тебе мозги. Теперь говори. Араб и бровью не повел. — Подозревает в предательстве только тот, кто сам способен на предательство. — Эй! Что ты себе позволяешь? — Так сказал Пророк. И это правда. Но он еще добавил: «Невозможно предательство между людьми, объединенными общими интересами». — Что может быть общего между нами? — Я же сказал: интересы у нас общие. Отто нахмурился. Наглая невозмутимость араба настораживала. — Объяснись, наконец! Мне некогда слушать сказки твоих пророков. Чего ты от меня хочешь? — Ничего. Я хочу много тебе дать. — Ничего не взяв взамен? Странно! — Известно ли тебе, кто я такой и чем занимаюсь? — Ты один из тех торговцев людьми, коих цивилизованные нации чураются. В Англии, во Франции, в Германии вас беспощадно преследуют. И тем не менее вы продолжаете заниматься вашим гнусным ремеслом. Араб засмеялся, показав белые шакальи зубы. — Гнусное? Пусть так. Но оно прибыльно, и я доволен. Да, да, нас изгнали из Экваториальной Африки, и негры, которые должны быть пойманы и проданы заботливым хозяевам, низведены вместо этого до состояния скотов и подыхают под ударами дубинок ваших надсмотрщиков. — Экая занятная философия, господин работорговец! Хорошо, допустим, что вы из одного только человеколюбия разоряете и сжигаете деревни, убиваете тех, кто осмеливается сопротивляться. Но мне-то какое до всего этого дело? — В деревнях, — как ни в чем не бывало отвечал араб, — даже в самых нищих, остаются несметные богатства: слоновая кость, каучук. Мне известно одно селение в нескольких лье отсюда, где, по моим оценкам, добра тысяч на сто марок. А жителей там едва за тысячу перевалит. Дикари забрались в такую глушь, что никто и не подозревает об их существовании. Кроме того, надо ли объяснять тебе, что эти варвары — людоеды? Они не понимают, чем владеют. Ценности валяются по углам, их закапывают в землю, передают по наследству. И разве такое уж преступление — пустить это богатство в дело? Глаза лейтенанта сверкнули. Сто тысяч марок! Отто фон Штерманн был человеком весьма известным. В армии ходили легенды о его жестокости и порочности. Подчиненные ненавидели его за свирепый нрав и грубое обращение. Но лейтенанта все это мало трогало. Он тратил жизнь на дебоши, проматывая состояние, доставшееся по наследству от родных. В один прекрасный день он оказался замешанным в грязном скандале, где речь шла не только о жульничестве, но и о прочих мерзостях, да таких, что начальство должно было бы непременно строго наказать негодяя. Но кто не знает, как силен в германской армии дух солидарности! Фон Штерманн предстал перед трибуналом, но был оправдан. Между тем кое-какие меры все-таки приняли. Капитана Отто понизили в звании и отправили лейтенантом в Африку. Он не забыл обиды. Изнывая от скуки и все более и более озлобляясь в этой Богом забытой стране, Отто вот уже три года ждал своего часа, мечтая лишь об одном: отыграться, взять реванш. Ради этого он был готов на все. И вот подвернулся удобный случай: ему сказали, что можно заполучить кругленькую сумму! В дурную голову ударило. Игрок по натуре, он ощутил почти забытые жар и нетерпение. Но как медлителен этот мусульманин! Наконец Отто вытянул из работорговца правду. Бен Тайуб решил прочесать и обобрать до нитки весь район у истоков Икелы и Массепиа, куда не проникали ни Крампель, ни Фуро[25], ни Мэтр. У здешних племен нет связей с европейцами. Так что руки развязаны. Можно безнаказанно грабить, убивать, опустошать деревни, уводить людей в рабство. Но прежде всего нужна свобода действий и пути транспортировки живого товара, а бельгийцы слишком хорошо стерегут границы, так что все дороги на восток закрыты, поэтому нужен сообщник на плохо охраняемой немецкой территории. Вот эту-то роль бен Тайуб и уготовил лейтенанту. Подосланные шпионы успели хорошенько прощупать Отто и доложили, что этот человек способен на любое преступление (в чем они нисколько не ошиблись). Лейтенанту причиталась половина прибыли от продажи слоновой кости, ценной древесины и каучука, которые будут найдены в разоренных деревнях. Бен Тайуб возьмет себе вторую половину и рабов. Отто обязан был охранять захваченных рабов, особенно на немецких землях. Окруженные с французской и бельгийской стороны, несчастные могли попытаться бежать на территорию Камеруна. Отто жадно ловил каждое слово. Он отвечал за приграничные посты и был, по существу, полновластным хозяином всего района. Ему ничего не стоило объявить, что туземцы ведут себя чересчур агрессивно, и потребовать принятия чрезвычайных мер. А почему бы и нет? Его судьба ведь никого не волнует. Офицера разжаловали, сослали в Камерун, где о нем все, включая местные власти, благополучно забыли. Что ж, так и пропадать в этой дыре? Итак, позорный пакт был заключен. К делу приступили не мешкая, той же ночью. Первой жертвой должна была стать деревня племени томба. Отто фон Штерманн собрал своих людей. Согласно приказу в отряд зачислили и двух эльзасцев — Ганса Риммера и Петера Ланца, и те беспрекословно подчинились.
ГЛАВА 6
Чудовищные деяния. — Сюрприз. — Бойня. — Ад кромешный. — На арене появляются Тотор и Меринос. — Досадная осечка. — Побег. — Лейтенант Отто закалывает младенца. — Погиб ли Ганс?Преступление свершилось. Самое подлое, самое грязное, самое бесчеловечное из всех, какие только знала эта земля. Напрасно представители цивилизованных народов преследуют торговцев живым товаром, напрасно философы и мыслители изобличают неслыханное насилие. Черная раса по-прежнему приносится в жертву алчности и низости. Жадная и свирепая шайка мусульман насилует Африку, которую мы стараемся защитить и приобщить к культуре. Пиратам-убийцам все нипочем. И, к нашему стыду, находятся еще европейцы, готовые вступить с ними в кровавый сговор. Атака удалась. Арабы и негры-майенба, бродяги-наемники, которых арабы привлекают для самых грязных дел, с трех сторон окружили деревню племени томба. А в это время с четвертой стороны, со стороны немецкой границы, шли люди лейтенанта Отто, получившие от своего командира приказ уничтожить любого, кто попытается скрыться. Возможно, пагуины отказались бы участвовать в смертоносном походе, если бы знали правду. Но немец уверял, будто на них напали людоеды и нужно защищаться. Добрая порция тростниковой водки довершила дело. Вокруг спящей деревни расставили фашины[26] и по команде одновременно запалили. В деревянном частоколе пробили бреши и с дикими криками бросились к хижинам. Загремели выстрелы. Багряные сполохи озарили ночную мглу, точно всепожирающие языки адского пламени. В деревне началась паника. Мужчины, женщины, дети кинулись вон из домов и тотчас же все поняли. Перед ними были арабы, а значит — плен, ошейник, железная цепь на ноге, кнут, боль, пытки, изнуряющая дорога, смерть, а для оставшихся в живых — невольничий рынок. Ужас! Защищаться? Конечно! Но как? Воины спали и едва успели вскочить и схватить оружие. Белые одеяния с одной стороны, чернокожие майенба с другой. Бьют, вяжут по рукам и ногам. Бандиты отличались завидной ловкостью и сноровкой, какие достигаются лишь опытом. А опыт у палачей был богатый! Возле хижины вождя, вокруг самого Амабы и его сына собрались самые сильные, самые отважные воины. Завязался бой. Звенели копья, свистели стрелы. Нападавшие отступили. И не потому, что испугались. Но зачем же утруждать себя понапрасну? Очень уж неравными были силы. Грянул залп. И, когда дым рассеялся, всюду валялись человеческие обрубки, оторванные руки и ноги, размозженные черепа. Пока мужчины сражались, женщин, словно скотину, сгоняли ударами прикладов. Они спотыкались и падали. Их поднимали пинками и снова били. Некоторые держали на руках детей. Их отнимали — за малышей на рынке много не выручишь — и отшвыривали куда попало. Крошечные тельца катились по земле, изуродованные и окровавленные. И над всем этим адом стоял стон и плач. Рыдания и вопли ужаса мешались с дьявольским кличем победителей. Ора-Ито еще не упал. Этот колосс, словно изваянный из черного мрамора, освещенный отблесками пожара, сумел собрать кое-кого из друзей. Обезумевший от горя и ненависти, ведомый лишь жаждой мести, он бросился навстречу нападавшим, размахивая длинным ножом. Главное — прорваться. О, какое жуткое сражение! Какая потрясающая жестокость! Так, наверное, сражались наши предки-антропоиды! Арабы не хотели убивать всех подряд. Дело есть дело. Ора-Ито потерпел сокрушительное поражение. Юношу окружили и повалили на землю. Но и сбитый с ног, он все еще отчаянно сопротивлялся, отбиваясь от этой собачьей своры, что вцепилась в горло. На мгновение ему даже удалось приподняться. Чернокожий гигант становился опасен. С ним надо было кончать. Тогда стоявший неподалеку бен Тайуб шепнул что-то на ухо одному из своих приспешников. Тот, вытащив из-за пояса револьвер, двинулся прямо на Ора-Ито и прицелился ему в голову. Раздался выстрел. Но, ко всеобщему удивлению, Ора-Ито остался стоять, где стоял, а разбойник свалился замертво, даже не выронив из руки револьвера, из которого так и не успел выстрелить. Но кто же стрелял? Посреди площади, откуда ни возьмись, появились двое. Тотор и Меринос держали карабины на изготовку. Лица юношей были бледны. Друзья понимали, что вмешаться означало умереть. Что могут сделать двое против сотен мерзавцев? — Тем хуже! — крикнул Тотор. Нечего и говорить, что для белого, да и для любого честного человека подобные зверства просто немыслимы. Нельзя оставаться в стороне! — Знай, негодяй! Ты дорого заплатишь за все! Внезапное появление озадачило арабов и негров. Белый человек внушал им невольное уважение. На поверку убийцы всегда трусоваты. Тотор направился прямо к бен Тайубу, который все еще стоял в окружении бандитов в величественной позе. И хотя, когда Тотор вскинул карабин, араб понял, какая опасность ему угрожает, он все же — из осторожности — не решился убить белого, а только, как кошка, припал к земле, так что пуля просвистела над его головой. — Проклятье! — вскричал Тотор. — Я промахнулся. Но мне нужна его шкура, и я ее получу! Молодой человек бросился было вперед, но майенба по команде сомкнули ряды. Борьба еще некоторое время продолжалась. Подоспевший на выручку Меринос крошил бандитов направо и налево. Однако кольцо неумолимо сжималось. Друзья начинали задыхаться. Еще мгновение, и их раздавят. Что ждет их? Смерть? Пусть! Будь что будет! Тотор почти потерял голос. Африканские леса услышали все самые грязные парижские ругательства, какие только приходили ему на память. Меринос добавлял и кое-что покруче — из лексикона янки. Все же юношей схватили и куда-то поволокли… Наконец все замерло, затем бледнолицых пленников бросили на землю и грубо столкнули куда-то вниз. Издав крик боли и отчаяния, друзья покатились по крутому склону… прямо в пропасть, в бездну! Бен Тайуб ухмыльнулся. Он не убил белых, однако и помешать ему они никак не смогут. Вот они, хваленые защитники негров, в шоке, почти в обмороке лежат перед ним на земле, а его дела в полном порядке. Наконец покорился и Ора-Ито. Его связали, как и остальных. Взошло солнце и осветило картину страшного разорения. Земля алела пятнами крови, хижины догорали, сырые соломенные кровли тлели, испуская едкий дым. Бились в предсмертной агонии тела умирающих. И тут началось. Жилище вождя опустошили за несколько минут. Слоновая кость, ценная древесина, каучук, корзины с разноцветными перьями, красивые султаны связаны и свалены в кучу. Прошлись по всем лачугам, ни одной не пропустили. Добычу сносили на площадь, где уже высился изрядный холм. Солдаты бен Тайуба превратились в носильщиков. Сгибаясь под тяжестью громадных баулов, они один за другим исчезали в лесу, чтобы через мгновение вернуться за новой поклажей. Араб ревниво и внимательно все осмотрел. Долго подсчитывал возможную прибыль от продажи людей и товаров и остался доволен. Куда же направлялись теперь его люди? В каких секретных кладовых будет храниться преступная добыча? Как переправить ее на Запад? Дело нелегкое, но работорговцы знают волшебное словцо. Над вчера еще шумной и богатой деревней повисла гробовая тишина. В воздухе смешались запахи крови и гари. Умолкли последние стоны. Только птичка-пастушок время от времени вскрикивала, будто взывала о помощи, которая никогда не придет. Все кончено. Смерть прошлась здесь своей косой. Все кончено… Все ли? Но что это? Воспользовавшись суетой и неразберихой, сотня негров с женщинами и детьми укрылась в чаще. Томба опрометью бежали куда глаза глядят, дальше и дальше, в непроходимые леса, где земля горбится исполинскими корнями, а стволы гигантских деревьев обвиты густой травой и лианами. Спрятаться, врасти в землю, смешаться с грязью — только бы спастись. Остальное не важно. Остальное потом. Манила смутная надежда. Вон из этого кромешного ада! Голова цела, горло не сжимает ошейник, ноги не спутаны цепью. Жить! Жить! Ни о чем другом не думали, не рассуждали. Животный страх гнал их прочь. В такие минуты люди превращаются в стадо, бал правит паника. Предки местных жителей уверяли, будто там, в лесах, нет больше обжитых земель, нет людей, а только бродят дикие звери да живут священные чудовища. Там вроде бы лежит священная земля, которую и охраняют то ли добрые, то ли злые духи. Но что может быть чудовищнее арабов и их кровожадных полчищ? Шум боя, мольбы о помощи становились все глуше и глуше. Внезапно лес посветлел и расступился. В первое мгновение с перепугу у дикарей захватило дух. Они чувствовали себя спокойнее в спасительном сумраке густых зарослей. Что делать? Вернуться туда, где ждет смерть? Занимался день. Еще не взошедшее солнце предупреждало о скором своем появлении, обагрив небо на горизонте кровавыми отсветами. Вперед! Но ружейный залп пронзил тишину, сто огненных стрел озарили предрассветные сумерки. В ужасе и смятении давя друг друга, негры кинулись кто куда. Солдаты лейтенанта Отто, получив приказ не стрелять, наступали с примкнутыми штыками. Бежать смогли самые сильные и выносливые — ценнейший товар. Так что стреляли поверх голов. Ощетинившись стальными штыками, солдаты заставили несчастных повернуть назад. Бен Тайуб со своими людьми ожидал где-то неподалеку. Теперь не составляло труда окружить и пленить беглецов. Однако те вовсе не собирались сдаваться без боя. В ход пошли ножи, дубинки и кастеты. Женщины, не помня себя, бросались на солдат, стараясь обезоружить их. И вновь полилась кровь. Земля стала красной. Люди не хотели возвращаться. Среди немецких солдат появились раненые, и кровь ударила им в голову. — Огонь! — скомандовал Отто. Грянул залп, и несколько чернокожих с пробитой грудью рухнули замертво. Одна негритянка с младенцем на руках вдруг осознала, как мал и тщедушен тот, кто отдает команды. В остервенении она бросилась к Отто и острыми ногтями вцепилась ему в лицо. Кровь залила лейтенанту глаза. От неожиданности Отто издал яростный вопль, схватил карабин и, не помня себя, проткнул ребенка штыком. Пока солдаты добивали женщину, он, точно трофей, поднял на штыке малыша, который еще бился и кричал. В эту минуту чья-то тень выросла рядом с лейтенантом. Это был эльзасец Ганс Риммер. При виде такого зверства он будто бы очнулся и понял, что становится соучастником неслыханного преступления. Не колеблясь ни секунды, Ганс ударил командира прикладом в грудь и отчаянно закричал: — Презренный бандит! Убивать детей! От мощного удара офицер пошатнулся. Но под этой жалкой оболочкой скрывалась невероятная сила. Побледнев как мертвец, Отто выхватил револьвер и выстрелил. Эльзасец упал лицом вниз. Петера Ланца в эту минуту рядом не было. Издалека он видел, что происходит нечто неладное, но поначалу не понял, в чем дело. Однако, заметив, что лейтенант потянулся за пистолетом, бросился на помощь другу. Но добежать не успел. В бой вступили арабы, и вскоре ничего уже нельзя было разобрать. Бен Тайуб остался доволен. Томба захвачены и отныне целиком в его власти. Преступление породнило пагуинов и майенба. Лейтенант Отто и араб-работорговец улаживали свои дела. Свисток офицера стал сигналом к построению. Вояки бен Тайуба окружили пленников и погнали в лес. Напрасно пытался Петер Ланц найти место, где упал его друг. Дорогу ему преградил командир. Петер наткнулся на злобный, пристальный взгляд немигающих глаз. Ланц был наполовину немцем. Он подчинялся дисциплине и ничем не выказывал своего возмущения. Лейтенант приказал ему догнать отряд и возвращаться в лагерь. Петер хотел возразить, потребовать отыскать тело друга, но не решился. Приказ есть приказ. Лейтенант Отто и бен Тайуб распрощались, и оба войска разошлись в разные стороны. А в небе уже вовсю сияло солнце, озаряя ослепительным светом место кровавого преступления. И только Петер Ланц не радовался его лучам. Ондумал: «Мой бедный Ганс, я никогда не забуду тебя! Ни тебя, ни данного тебе слова!»
ГЛАВА 7
Буря. — Что застряло в ветвях? — Как порой бывают полезны обезьянки. — Как открыть складной нож одной рукой. — В лесу. — Носорог и кое-что…Даже самый сильный ливень в Европе не идет ни в какое сравнение с теми бурями, что потрясают Центральную Африку. Только что небо было ясным и солнечный свет лился с высоты жарким потоком. Но внезапно, откуда ни возьмись, налетели тучи, землю накрыла тьма — серая, бурая, наконец, черная. Во мраке опустившейся ночи, словно гигантские огненные мечи, сверкали молнии, беспрерывно грохотал гром, и казалось, вот-вот наступит светопреставление. Человек бессилен перед буйством стихии. Разверзлись хляби небесные. Вода падала не каплями, а сплошной стеной, ломая и круша ветви деревьев. Бурлящие ручьи подмывали почву, оставляя после себя зияющие шрамы оврагов. В лесу, что тянулся к северу от разоренной деревни племени томба, не так давно появился такой овраг. С одной стороны гладкий каменный склон высотой метров восемь, с другой — земляной вал, укрепленный густой сетью мощных корней. И вот снова налетел ураган. Дождь лил как из ведра. Дно ложбины превратилось в громокипящий поток, стремительный и неукротимый. Но что это? В мутной воде показался какой-то странный предмет, похожий на мешок. В одном месте дорогу ему перегородило упавшее дерево. И вдруг среди грохота и завываний бури раздался крик: — Проклятье! Кто-то трахнул меня по башке! Читатель, должно быть, помнит, что, когда Тотор и Меринос в благородном порыве ринулись на защиту бедных дикарей, араб бен Тайуб приказал схватить их. Коварный разбойник велел обездвижить белых любым способом, но ни в коем случае не убивать. Торговец живым товаром хорошо помнил, какая кара ожидала посягнувшего на жизнь белого человека еще со времен исследователя Стэнли[27]. Приказ выполнили исправно. Наших героев накрепко связали и, не долго думая, бросили на дно тогда еще сухого оврага. Тотора никак нельзя было назвать неженкой, однако от сильного удара о землю он потерял сознание. Ведь вдобавок ко всему накануне вечером они с приятелем пили пальмовое вино, а это — дурман для европейца. С помощью лишь ему ведомых ароматических снадобий Ламбоно вывел друзей из тяжелого похмелья. Но не успел Тотор прийти в себя, как получил в стычке сильный удар по голове. Его точно парализовало. Он лежал на дне оврага, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. Все это напоминало летаргический сон. Так прошло восемь часов. Запутавшись среди сучковатых веток поваленного дерева, парижанин наконец очнулся. К нему возвращались чувства, неприятные, но реальные. Он был жив. В голове, однако, не совсем еще прояснилось. Но, согласитесь, кто из нас на его месте быстрее пришел бы в норму? Тотор открыл глаза и вскрикнул. Потом, будто испугавшись собственного голоса, умолк. Где он, черт возьми, находится? Что он здесь делает? Уставший, промокший до костей и совершенно разбитый, молодой человек ясно слышал шум бурлящего потока и даже не сразу понял, каким чудом повис в воздухе. Тотор попробовал шевельнуться, но не смог двинуть ни рукой, ни ногой. И тут он вспомнил все. От ярости кровь ударила ему в голову. Перед глазами вновь встали страшные картины ночной бойни и белый силуэт предводителя шайки подлых убийц. — Это какой-то кошмар! Бедняга Тотор, неужели ты спятил? Нет, нет, все происходит на самом деле. Ты висишь на ветвях дерева. А как же тебя угораздило свить это милое гнездышко? Черт меня побери, если я что-нибудь понимаю! Тебя подвесили, точно лионскую колбасу или кусок ослятины… Но как? Он немного подумал, пытаясь найти ответ. Стоит заметить, что достойный сын Фрике вовсе не относился к числу людей, коих надолго может загипнотизировать загадка, не желающая поддаваться разрешению. «Итак, — начал Тотор один из тех внутренних монологов, какие всегда вносили ясность в его мысли. — Бог с ним, с прошлым. Пора подумать о настоящем. Рассмотрим все вопросы по порядку, как говаривал наш пламенный патриот господин Гамбетта[28]. Тут, доложу тебе, есть над чем посмеяться. Я на дереве, и, как бы тут ни было удобно, хотелось бы все-таки покинуть это симпатичное местечко. Но для этого необходимо пошевелиться. А я подвешен, что лишает меня всякой надежды на скорое спасение. Как быть? Да сам Латюд[29] не смог бы выбраться из Бастилии, если бы у него не были свободны руки и ноги!» И тут нашему герою пришла на ум страшная мысль: «А где же Меринос, несчастный ты эгоист? Где твой друг? Что с ним стало? Ведь сюда, помнится, мы летели вдвоем… Он где-то рядом». Тотор набрал воздуха в легкие и что было мочи закричал: — Эй! Меринос! Прислушался. Никто не отзывался. Позвал опять. Тщетно. К этому времени буря стихла так же внезапно, как и началась. Умолкли громовые раскаты, дождь прекратился, и лишь с умытых листьев порой падали тяжелые сверкающие капли. Своенравная река быстро обмелела и превратилась в тонкий ручеек. Сквозь кроны деревьев проглядывало солнце. — Нужно что-то предпринять, — сказал сам себе Тотор. — В конце концов, в Австралии я попадал в переделки почище этой и всегда находил выход[30]. Вдохнови меня, папаша Фрике, наставь на путь истинный! Подскажи, что делать! Положение и в самом деле оказалось не столь уж плачевным. Водный поток уложил его среди мощных ветвей, как младенца в уютной колыбельке. Голова, плечи, бедра ощущали под собой мощную опору. — Настоящая качалка! Только вот не качается. Ой! Ой! Ой! Все тело болит. Но, по-моему, переломов нет. Мышцы в порядке. Так пусть работают, черт побери! Тотор собрал все силы и попытался разорвать путы, но в результате веревки еще глубже и больней впились в тело. Он немного подумал. Все очень просто. Руки даже не заломили за голову. Все тело с головы до пят обвязали одной веревкой, сделав узел-удавку на щиколотках и простой узел под мышками. Быстро и экономично. Стоило бы порекомендовать всем полицейским в цивилизованных странах. Хотя, следует признать, руки, плотно прижатые к телу, были все же отчасти свободны, вот только пальцы онемели и затекли. Тотор сосредоточился. Сейчас перед ним стояла одна-единственная задача — освободиться. Он резко дернулся вперед, потом назад. Веревка на руках чуть-чуть ослабла. Это шанс. И вдруг сквозь ткань одежды он нащупал рукоятку ножа, что лежал у него в кармане. — Только последний идиот не воспользуется таким великолепным случаем. Нож рядом с веревкой! Чего ж еще желать? Правда, нож находился в кармане, а карман прикрывало затекшее запястье, да еще там находился трут, огниво и горсть орехов, похожих на миндаль. Тотор собрал их по дороге и даже успел попробовать. Орешки оказались на вкус весьма приятными… Да, но сейчас не время предаваться, так сказать, гастрономическим мечтам… Надо добраться до ножа… Во что бы то ни стало… Но ведь дорогу, как известно, осилит идущий. Рискуя ободрать кожу, Тотор попытался повернуть руку. От усердия он сжал зубы и наморщил лоб. Но увы! Веревка крепко сдавливала кисть. Теперь он увидел, как посинели и распухли пальцы. — Настоящие франкфуртские сосиски! — проворчал парижанин. — К ним бы еще кислой капустки! Однако шутки шутками, а что делать дальше? Во что бы то ни стало необходимо дотянуться до кармана. Иначе я обречен на медленную и мучительную смерть. Зверски хочется есть. Какая мука! Брррр! Неужели мой скелет так и будет белеть среди этих ветвей? Какой-нибудь путешественник однажды снимет его отсюда, чтобы торжественно водрузить под музейное стекло с надписью: «Обезьяна Убанги». Катастрофа! Какое унижение! Но кто это там? Это было то самое животное, с коим Тотор очень опасался быть спутанным впоследствии, то есть обыкновенная обезьяна. Милая крошка с желтой мордочкой, косматыми бакенбардами и непрерывно мигающими кругленькими глазками. Она легко взобралась по веткам поваленного дерева и остановилась, чтобы почесаться. Тело Тотора преградило ей путь, и, так как наш герой не двигался, обезьянка как ни в чем не бывало уселась ему на живот и занялась своим туалетом, словно завзятая кокетка. Тотор почти не дышал, боясь пошевелиться и спугнуть нежданную гостью. В этой обезьянке сейчас была вся его надежда. И он не ошибся. Макака вдруг выпучила глаза, тельце ее задрожало, ноздри раздулись. Животное унюхало что-то вкусненькое. Малышка поднялась на задние лапки, так что кончик хвоста оказался прямо у носа бедного Тотора. Затем обезьянка принялась крутиться, вертеться, как заправская балерина на пуантах. Ловкими лапками с острыми коготками малютка обшарила всю одежду, беспардонно царапая кожу. Но Тотор не замечал боли. «Дорогая моя, — думал он, — может быть, тебе случайно удастся освободить меня! Ну, ну! Пускай в ход свои острые зубки, но только осторожно, не прогрызи мне живот, как лисица маленькому спартанцу! Ай! Не кусайся». Носик обезьянки тыкался то туда, то сюда, зубки вцеплялись то в ткань, то в тело… нельзя сказать, чтобы это было приятно. Тотор едва пересиливал себя, чтобы не заерзать от щекотки, и очень боялся либо рассмеяться, либо закашлять, ведь тогда маленький чертенок убежит. Обезьяна перебралась с живота на бедро и хотела залезть в карман. Но не тут-то было. Мешала привязанная рука. Макака ухватилась зубами за конец веревки, грызла и рвала ненавистные путы. Наконец ей удалось просунуть лапку в карман и вытащить вожделенные орешки, которые наш герой всегда носил с собой. Раздался победный клич, и зверек кинулся прочь, торопясь унести драгоценную добычу. Тотор же в эту минуту мечтал обрести свободу только для того, чтобы хорошенько вздуть порядком надоевшую акробатку… И вот тут-то, мечтая о добром шлепке по попке макаки, он вдруг ощутил, что рука может двигаться! Нащупав порванный конец веревки, Тотор не сразу поверил своему счастью. Радость спасенной Персеем Андромеды[31], ликование освобожденных революционным народом узников Бастилии ничто в сравнении с чувством, охватившим в эту минуту нашего парижанина. Неужели спасен?! Он попытался встать, но не сумел. Теперь можно было пошевелить пальцами, и только. Все тело по-прежнему сдавливала тугая веревка. Тотор понял, что не совсем еще пришел в себя. Его обычно богатое воображение сейчас дремало. Чтобы привести в порядок мысли, он решил задавать себе вопросы и тут же отвечать на них. — Что необходимо Тотору? — Освободиться от пут. — Как это сделать? — Развязав или разрезав веревку. — Чем обычно разрезают веревки? — Ножом. — У Тотора есть нож? — Да. — Где? — В кармане. — Может ли Тотор залезть в карман? — Если бы Тотор не был таким тупицей, он бы давно уже попытался это сделать. При этих словах француз хихикнул. — Как глупо, в самом деле, исполнять роль колбасы в ветвях поваленного бурей дерева! Итак, начнем! Он пошарил пальцами вдоль штанины и нашел прорезь кармана. Пальцы нащупали нож, чудную американскую вещицу с четырьмя лезвиями, штопором, пилкой для ногтей и шилом. С таким орудием можно горы своротить. Туман рассеялся, и мысли его окончательно прояснились. Осталась сущая ерунда. Он взял нож и крепко, как драгоценность, зажал его в кулаке, чтобы не уронить. — Когда есть нож и им необходимо воспользоваться, что нужно сделать прежде всего? — Открыть его. От такой простой мысли Тотора даже в дрожь бросило. В его распоряжении только одна рука. А ведь открыть нож одной рукой невозможно. — Проклятье! Опять я у разбитого корыта! Невозможно? Да кто это доказал? Чем торопиться с подобными безответственными заявлениями, не лучше ли для начала попробовать? Как открывают ножи? Ноготь вставляют в крошечный паз на верхней стороне лезвия и осторожно тянут. Обычно нож берут в левую руку, а лезвие вытаскивают большим пальцем правой. Но я, Тотор, уроженец Парижа, не могу рассчитывать на левую руку, ее как бы вовсе не существует. А если левой руки не существует, надо найти другой упор. Рассуждая так, Тотор с величайшей осторожностью испробовал всевозможные движения. Безрезультатно. — Только без нервов! А не то можно и вовсе выронить нож! Вот ужас-то! Большим пальцем он прижал нож к ноге, а ногтем среднего попытался попасть в паз. И радостно вскрикнул, когда лезвие подалось. Но тугая пружина неумолимо тянула его обратно. Палец соскользнул, и нож, лязгнув, захлопнулся. Тотор выругался. Простим ему эту слабость. Каждый поступил бы точно так же на его месте. Пришлось начинать все сначала. Вот лезвие опять подалось. Но опыт подсказал Тотору, что непременно нужно поставить какую-то преграду, чтобы не дать лезвию уйти назад. Пришлось пожертвовать безымянным пальцем… Острие ножа больно впилось в живую плоть… Еще одно усилие, щелчок, показавшийся на этот раз сладостной музыкой, и — готово! Нож открыт, и Тотор держит его в руке. Ах! Теперь ему сам черт не брат! — Здо́рово! Впрочем, не надо горячиться. Малейшая оплошность, и мой дорогой, горячо любимый ножик выпорхнет из рук и упадет невесть куда. Терпение и настойчивость! Он повернул нож лезвием вовнутрь и принялся медленно пилить. Еще чуть-чуть… Крак! Веревка лопнула. Рука свободна. Остальное — пустяки. Всего несколько секунд понадобилось, чтобы разрезать веревку на животе и на груди. С каждым движением его наполняло невыразимое чувство освобождения. Руки, плечи, ноги! Тотор едва сдерживался, чтобы не вскочить и не запрыгать на своем импровизированном насесте. Однако разум возобладал. Судьба в лице обезьяны-спасительницы была благосклонна к Тотору не для того, чтобы он вновь искушал ее. Кроме того, в душу внезапно закралось невольное беспокойство. Спиной он ощутил нечто твердое, не похожее на ветку. На чем же, черт побери, он лежал? Все еще стараясь соблюдать осторожность, Тотор пошарил рукой за спиной и не смог сдержать радостного возгласа. Карабин! Поспешив выполнить приказ, негры, по счастью, не догадались забрать винчестер. Неожиданное и приятное открытие! Ведь это — возможность защищаться, охотиться, питаться. А есть хотелось чертовски. Пока руки и ноги бездействовали, внутренние органы функционировали исправно. И теперь желудок вопил, взывая к милосердию хозяина. Тотор моментально осмотрел карабин и нащупал на бедре патронташ. — Тотор, друг мой! Для начала нужно распроститься с этим уютным гнездышком; только постарайся, по возможности, не разбить лицо в кровь. Шевели мозгами! Под тобой не слишком глубокая яма. Над тобой деревья, деревья и еще раз деревья. Выбирай: вниз или наверх? Что бы ты ни выбрал, ты все равно в Центральной Африке, на экваторе. Спустишься ты либо поднимешься, ты не скоро узнаешь, откуда и куда идешь. Что ж! Вперед! И будь что будет. В результате беглого обследования Тотор убедился, что ветви дерева достаточно прочны и способны выдержать его гимнастические экзерсисы[32]. Приладив сбоку карабин, ощупав карманы и найдя в них, помимо ножа, который отныне приобрел в его глазах едва ли не музейную ценность, еще массу полезных и нужных вещей, Тотор перепрыгнул на соседнюю ветку. Перебираясь все ниже и ниже, он ощутил наконец под ногами твердую почву и испустил облегченное «Уф!». Теперь он сам себе хозяин, а также может распоряжаться и всем миром, как говаривал почтенный мэтр Корнель[33]. Находясь на вершине блаженства, Тотор даже пустился в пляс, но тут же издал восторженный вопль, ибо среди содержимого многочисленных карманов и карманчиков нашлись часы — подарок отца Мериноса, показывавшие не только часы, минуты, секунды, но также и фазы луны. Впрочем, это роскошь. Как шутил сам о себе Тотор, путешествуя, он ложился и вставал по солнцу, даже белья при этом не меняя. Часы он всякий раз бережно укладывал в обитый изнутри футляр, каковое обстоятельство и спасло их от гибели. — Сейчас часа два пополудни, — заключил Тотор. — И черт меня побери совсем, если я не отправлюсь куда-нибудь, все равно куда! В прекрасном расположении духа, насвистывая приятную мелодию, наш чудом спасенный решительно двинулся сквозь лесную чащу на север, полагая, что в нескольких сотнях лье[34] расположено озеро Чад, а там есть вероятность встретить цивилизованное население. Около часа шагал он узкой тропинкой, петляя меж гигантских, в его рост, корней, и наконец вышел на поляну. Внезапно послышался странный шум, напоминавший топот двадцати лошадей, пущенных в галоп. Тотор потянулся к оружию и тут увидел несущегося во весь опор носорога. На спине зверь тащил человека. Тотор хотел было выстрелить, но не решился. Сердце сжалось от ужасного предчувствия. Мгновение спустя оно подтвердилось. Послышался отчаянный крик: — Ко мне! На помощь! Сомнений не было, это кричал Меринос, сын короля шерсти.
ГЛАВА 8
Гимнастика поневоле. — Взбирайся! — Возмездие. — Как удобно! — Поцелуй Коко!Тотор выскочил из своего укрытия. Забыты рассудительность и осторожность, ведь в опасности его друг, его брат! Со всех ног кинулся он вдогонку, крича на ходу: — Меринос! Это я, Тотор! Тотор! Меринос услышал его и прокричал в ответ что-то невнятное. Тотор едва мог разглядеть вцепившегося в загривок зверя несчастного своего товарища. Оказавшись посреди залитой солнцем поляны, носорог неожиданно замер. Яркий свет испугал его, а инстинкт самосохранения повелевал повернуть назад, под защитную сень лесных чащоб. Тут бы Мериносу и спрыгнуть, но с испугу он мог не рассчитать и прямиком угодил бы под копыта разъяренного животного. — Держись, Меринос! — кричал Тотор. — Я иду! В два прыжка парижанин очутился рядом с носорогом, вскинул карабин и прицелился прямо в глаз зверю. Но вдруг он вздрогнул и прислушался. Похоже, некий отдаленный звук мигом изменил его намерения. Он опустил карабин. Взбешенное животное так рьяно рыло рогом землю, что застряло меж двух корней и, как ни старалось, не в силах уже было освободиться. Тотор только того и ждал, он взобрался на дерево и, по-обезьяньи перепрыгивая с ветки на ветку, вскоре очутился прямо над носорогом, затем уцепился ногами за мощную ветвь, отпустил руки и повис вниз головой. Меринос, ни жив ни мертв, ничего не видел и не слышал. Единственная мысль, единственная надежда не позволяла угаснуть сознанию: друг идет ему на помощь. Тотору удалось наконец дотянуться до Мериноса. Он нащупал грубую ткань куртки, впился в нее ногтями и рванул что было мочи. Оставалось надеяться, что одежонка у Мериноса была крепкая, да и сшита была наверняка не из того барахла, что производят на фабриках его папаши. В какое-то мгновение силы, казалось, изменили Тотору, однако он не сдавался. — Эй, Меринос? Слышишь меня? — Да, мой добрый, мой дорогой, мой чудный Тотор. — Молчи. Меньше слов. Я еле-еле держу тебя, сделай милость, постарайся вскарабкаться по мне. Представь, что я обыкновенный шест, а наверху тебя ждет приз. Тебе надо добраться до ветки, за которую я держусь. Вперед! И побыстрее! Воодушевленный голосом друга, Меринос понял, что от него требуется. Преодолев тошноту и головокружение, он ухватился за протянутые к нему руки, подтянулся, схватился за ремень Тотора и уже через секунду оседлал спасительную ветку. «Я погиб!» — подумал Тотор. В самом деле, от долгого висения вверх ногами кровь прилила к голове, в висках стучало, уши заложило. Не было больше сил держаться. Еще мгновение, и он рухнет с трехметровой высоты. Тотор хотел закричать, позвать на помощь, но горло перехватило, и он не смог издать ни звука. Что ж! Друг спасен. А это главное. Теперь можно спокойно умереть. Ноги ослабли, он отпустил ветку… И не упал! Оказавшись в безопасности, Меринос быстро пришел в себя и сообразил, что нужно делать. Тотору грозила неминуемая гибель. Силы вот-вот оставили бы его. И тогда Меринос крепко схватил друга за ноги и поднял, точно перышко. — Ну как, страшновато? Я тебя держу. Э-э… Да ты не отвечаешь. Будь так любезен, возьмись руками за ветку! Помоги себе хоть немножечко. Не можешь? Да он меня не слышит! Погоди! Вот я тебя растормошу! Меринос поудобнее устроил на развесистой ветке неподвижное тело и тогда только осознал весь ужас происходящего. Он рыдал как ребенок. Прошло несколько минут, как вдруг послышался слабый шепот: — Эй! Кто это там кудахчет? — Это я, Тотор! — Ты? Жив, старый лис! — Ты тоже! — Еще бы! — Тогда поцелуй Коко. И двое мужчин, обязанных друг другу жизнью, расцеловались, растроганные до глубины души.
ГЛАВА 9
Давай все обсудим! — На помощь! — О пользе поясов. — Упавший с неба. — Волк или пес? — Факелы в лесу. — Беглецы схвачены? — Пока нет.— А где носорог? — первым делом поинтересовался Тотор, когда ему удалось вернуться к действительности. — Плевать нам на эту мерзкую тварь! — Смотри, какой смелый! Взгляни-ка вниз! — Его там нет! Зверю в самом деле удалось освободиться. И теперь он удирал со всех ног. — Скатертью дорожка! Немногим удавалось одурачить меня. Ладно! Давай все обсудим. Друзья уютно устроились на ветке друг против друга. — Послушай, — начал Тотор, — это напоминает мне нашу первую встречу в открытом океане, верхом на деревяшке, когда мы были готовы вцепиться друг другу в глотки! — Ой, лучше не вспоминай! — отвечал Меринос. — Каким же я был тогда идиотом! — Почему же был! — рассмеялся Тотор. — Ну, рассказывай, с чего это ты вдруг решил покататься верхом на носороге? Нечего сказать, достойное занятие! — Я с таким же успехом мог бы спросить тебя, с чего это ты вдруг решил прогуляться. Тут ведь тебе не Булонский лес![35] — Согласен. Точно помню — швырнули меня в какую-то яму. Один черт знает, как я оттуда выбрался. Поверишь, я упал в обморок, точно истеричная дамочка. Очутился каким-то чудом на дереве, весь вымокнув до нитки, и пребывал бы там посейчас, если б не обезьяна. Ну вот, я перед тобой чист. Теперь рассказывай свою историю. — Она очень напоминает твою, только вместо обезьяны у меня оказался носорог. Катился я кубарем, все бока отбил о коряги да корни. Потом налетел на острый камень, едва не пропорол бок, и вот тут не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что веревки лопнули. Сколько пролежал, не знаю. Пришел в себя. Вижу: ничего не сломано. Стал тебя искать. Думал, ты где-то рядом. Кричал, звал. Ни ответа, ни привета. Стало быть, пошел искать. Полагался на случай. Он ведь нас никогда не подводил. Забыл, правда, что впервые один в лесу и что Его Величество Случай благоволит только к моему другу Тотору, а не ко мне, грешному. Тебя, понятно, не нашел. Продирался через заросли, ветки то хлестали по лицу, то душили меня. Плутал, плутал. Забрел в чащобу дремучую-предремучую. Я слышал, как вокруг резвились звери, а в ветвях порхали птицы. Хорошего мало. Но все равно шагаю дальше. Правда, так есть хотелось, аж под ложечкой сосало. Где вы, где вы, папашины миллионы? До банкиров-то далеко! В конце концов, вышел на поляну. И услышал такой топот, будто мчатся тридцать тысяч лошадей. Вдруг увидел что-то громадное, черное, страшное, и несется прямо на меня во весь дух. — И ты струхнул, мой бедный Меринос. — Признаюсь! Трудно сохранять рассудительность, когда на тебя прет такая громадина. Я упал и инстинктивно прижался к земле. Помню, последнее, о чем успел подумать, так это о том чудаке, который лег на рельсы в надежде, что колеса его не заденут, и таким образом спасся на самом деле. — Всякое случается! — философски заметил Тотор. — Как же! Держи карман! Этот толстокожий, наткнувшись на нечто неподвижное, а именно на тело сына миллиардера, не нашел ничего лучшего, как со всего маху пырнуть его рогом, чтобы убрать с дороги препятствие. У меня просто искры из глаз посыпались! Уж как я жив остался, один Бог знает. Он мною эдак в футбол поиграть решил. Спасло меня чудо… вернее, мой пояс, потому что рог застрял в складках. Я взмыл вверх, ударился спиной о какую-то ветку… и очутился верхом на зверюге. Вцепился ему в жесткую щетину на загривке и давай орать, звать на помощь. И вот везение! Мой друг, мой брат, мой спаситель! Дружище Тотор! Это следует внести в список твоих подвигов. Я так тебе признателен… — Давай без излияний! Что за счеты между нами? Ты оказался верхом на носороге. Я мог бы быть на твоем месте, и тогда ты спасал бы меня. Хватит. Ситуация прояснилась, и легче от этого не стало. Заметь, что Жамбоно предательски бросил нас в суматохе. Жителю Монмартра не к лицу так поступать. Он свое получит, если только мы когда-нибудь встретимся. Мы брошены на произвол судьбы, без пищи, без воды, абсолютно одни, еле живые. Самая большая мечта — добраться до постели и чтобы приветливая служанка принесла чашечку горячего шоколада. На это, однако, рассчитывать не приходится. Нам надо убираться отсюда, да поскорее. Кстати, карабин при тебе? — Дьявольщина! Он был со мной, когда появился этот мастодонт. — Послушай, он должен быть где-то здесь. Свой я положил под деревом. Значит, надо прежде всего спуститься и отыскать их. Согласись, в нашем положении вооружиться совсем не лишне. — Конечно! Но тут высоковато. Имеем все шансы переломать ноги. — Ерунда! Сам подумай! У тебя была прекрасная идея подпоясаться шарфом длиной, по крайней мере, метра в три. Он один раз уже спас тебя, спасет и сейчас. Давай! Пояс действительно походил на те, что носили некогда зуавы[36]. Его без труда хватило бы на двоих. Правда, не так-то просто размотать его на весу, среди цепляющихся веток. И все же Мериносу это удалось. Один конец Тотор закрепил на дереве морским узлом. — Спускайся, — скомандовал он. — Я за тобой. Меринос подчинился и вскоре был уже на земле. — Готово! — Отлично! Теперь подожди. Я, понимаешь ли, не хочу оставлять здесь пояс. Встань поустойчивее и попробуй поймать меня. Парижанин развязал узел, обмотал пояс вокруг шеи и повис на руках. — Внимание! Лечу. Как ни старался Меринос, но удар оказался таким сильным, что оба кубарем покатились по земле. Однако уже через минуту, целые и невредимые, друзья встали на ноги и осмотрелись. День быстро угасал. — Насколько я понимаю, мы, к счастью, не у самого экватора, ибо сумерек на этих широтах почти не бывает, так что в нашем распоряжении есть хотя бы три четверти часа, но не больше, — заметил Меринос. — Что толку! — ответил Тотор, поднимая карабин. — Впереди ночь, и ничего забавного она нам не сулит. Как быть с едой? Я подыхаю с голоду. — А я повторяю, что рядом с тобой я никогда ни о чем не беспокоюсь. Вот увидишь: рагу само прибежит к нам в руки. — Твоими бы устами да мед пить. Взгляни-ка, вон следы твоего приятеля-носорога. Ножка, прямо скажем, не больно изящная. Размерчик пятидесятый, думаю. Где-то здесь должен валяться твой карабин. Поищем! Эй, не двигайся! Тотор схватил Мериноса за руку и остановил, указав пальцем на что-то в траве. — Волк! — задохнулся Меринос. — Вряд ли… — А если выстрелить? — Нет, малыш. И вот почему: я мог бы легко отделаться от нашего друга-носорога, пустив ему пулю в лоб. Но я этого не сделал, потому что вдруг услышал где-то далеко арабскую песню. — Что ты говоришь! Эти негодяи рыщут по округе? — Уверен! Поэтому вовсе не обязательно привлекать их внимание. Бандиты способны на все. Но какого дьявола прячется там эта собака? — Собака? — А кто ж еще? Я видел такую же в Банги. Это отличные ищейки. Иные собаки чуют негра за много миль. Их используют в джунглях во избежание неприятных сюрпризов. Они, кажется, с Занзибара. Смотри! Ищет, ищет… — Сейчас унюхает нас. — Мы его не волнуем. Он натаскан только на чернокожих. А в случае чего, мой нож всегда при мне. Ему придется отведать остренького. Видишь, как беспокоится. В самом деле, потянув носом, собака кинулась в заросли. Взяв след, не тявкнула, не залаяла. Борзые вообще очень молчаливы. Тотор подумал, что в том месте, где собака так долго крутилась, валяется карабин Мериноса, но решился пошевелиться лишь тогда, когда ищейка убежала. К счастью, карабин и в самом деле ждал друзей в траве. — Засунь оружие за портупею. Псина обнюхала его со всех сторон. Негром оно явно не пахло. Полагаю, это работорговцы ищут беглых. Если б знать, куда направился пес. И они углубились в чащу, где только что скрылась борзая. Стояла темная, беззвездная ночь. — Что будем делать? — спросил Меринос. — Понятия не имею. Главное — не стоять на месте. То и дело приходилось передвигаться на четвереньках, так как мешали лианы. Как ни старались наши герои прислушаться, уловить хоть какой-нибудь отдаленный звук, ничего не доносилось до их слуха. Слепы и глухи! Впереди — неизвестность. Друзья остановились в нерешительности. Внезапно послышалось странное шуршание, и обоим показалось, что некая исполинская рептилия ползет где-то совсем рядом. Но в тот же миг во тьме мелькнула стройная, гибкая тень, черная на черном. То была ищейка. Собака неслась со всех ног, возвращаясь по собственным следам и не обращая на белых никакого внимания. — Зверюга что-то учуяла, — прошептал Тотор. — Что? — Человечину! — Понятно. И теперь бежит сообщить об этом тем, кто ее послал. — Как думаешь, Меринос, что нам делать? — Самим найти и предупредить несчастных. — Легко сказать! Во-первых, я сомневаюсь, что мы способны отыскать в кромешной ночи собачьи следы. Но даже если предположить, что нам это удастся, мы окажемся нос к носу с неграми, скорее всего — людоедами, которые не поймут ни слова из того, что мы им скажем. И, чтобы лучше разобраться, попробуют нас на зуб. — Тотор, это малодушие! — Минутку, малыш. Оставшись здесь, мы сможем что-нибудь сделать. Выждем и… Эй! Да вот и первый сюрприз! Вдали сверкнули желтоватые огоньки. В лесу объявились люди с факелами. Тотор припал к земле и осторожно пополз на огонь, хоронясь за деревьями. Меринос держался сзади. — Не надо шуметь, — шепнул Меринос. — Они примут нас за каких-нибудь зверьков. Тотор вдруг остановился. Он очутился на опушке гораздо раньше, чем ожидал. Еще одно движение, и его обнаружат. Шагах в двадцати появились всадники — человек десять негров майенба. Вслед за ними ехал араб в сером бурнусе[37]. Рядом вертелась собака, теперь она натягивала поводок, торопясь привести хозяина к добыче. Все предположения оправдались. Это были охотники, охотники на людей. Тотор и Меринос словно воды в рот набрали. Но, повинуясь некоему внутреннему чувству, все ползли и ползли, не упуская из виду людей с факелами, стремясь к одной с ними цели.
ГЛАВА 10
Псовая охота. — Пойманы! — Не тут-то было! — В игру вступают Тотор и Меринос. — Смелее, ребята! — Красавица Йеба. — У Тотора есть план. — Война бен Тайубу!Маленькое войско двигалось не спеша, следуя мусульманскому обычаю, так что наши друзья все время оказывались впереди, держась на приличном расстоянии. Так они приблизились к месту, где в свете факелов виднелась бесформенная груда камней. Собака негромко зарычала. Араб отвязал ее и погладил по спине, мол: ну-ка, послужи! Пес ринулся прямо к каменному навалу, осмотрелся, вскарабкался повыше и замер, устремив взгляд на хозяина, словно хотел сказать: «Нашел!» Араб подал знак. Негры спешились, привязали лошадей, подошли ближе и по команде принялись за работу, а пес в это время царапал и подрывал камень, словно хотел освободить себе путь и нырнуть внутрь. Огромная глыба покачнулась, сдвинулась с места и рухнула вниз, открыв лаз, вполне достаточный для того, чтобы туда мог проникнуть человек. Один из негров майенба нагнулся, прислушался и, повернувшись к хозяину, ободряюще махнул рукой. Напрягшись всем телом и злобно рыча, борзая нетерпеливо потягивала носом и вглядывалась в черноту провала. Внезапно она взвилась и оглушительно завизжала. Тело ее пронзила стрела. Араб закричал что-то на своем языке. В голосе его одновременно слышались и радость и гнев. Наконец-то! Беглецы выдали себя. Теперь они пропали. Бедняги надеялись отсидеться в каменном убежище. Пройдет время, о них забудут, и можно будет беспрепятственно уйти из этих проклятых мест. Но, видно, не судьба. Араб махнул рукой. Его шайка без труда разгребла оставшиеся камни. Навстречу бандитам летели стрелы, но, пущенные наугад, они не достигали цели. Двое негров-майенба притащили несколько вязанок хвороста, подожгли их и стали швырять горящие ветви в пещеру. Остальные во главе с предводителем спокойно стояли рядом. Долго ждать не пришлось. Из-под камней раздались истошные вопли. В клубах дыма показался темный силуэт. Негр нес на руках женщину. — Хватайте их! — приказал араб. — Взять живыми! Негр бережно опустил свою подругу на землю и схватил увесистый камень. Первый из нападавших получил сильный удар в лоб и рухнул с пробитой головой, истекая кровью. Но последовал новый приказ, и нападавшие изменили тактику. В воздухе засвистели веревки. В одно мгновение они обвились вокруг шеи смельчака. Женщина застонала от страха и отчаяния. Араб — а он единственный все еще гарцевал верхом — схватил бедняжку за горло, легко, как ребенка, приподнял над землей и передал своим головорезам. Ее спутник едва дышал и ничем не мог помочь. Казалось бы, судьба несчастных решена. Но не тут-то было. Внезапно из лесу появились двое. — Негодяи! — вскричал Тотор. Он молнией подлетел к всаднику, одним ударом оглушил его, вторым сбросил с лошади, пока Меринос орудовал прикладом. Завязалась жестокая драка. Майенба стреляли из револьверов. Кое-кто пустил в ход ятаганы[38]. Но все безрезультатно. Победу одержала внезапность. К тому же друзья вспомнили навыки бокса и наносили меткие и сокрушительные удары направо и налево. Бандитам только и оставалось, что поминать Аллаха да надеяться на лучшее. Женщина отбила очередную атаку и сумела освободить своего спутника, который вновь взялся за импровизированный кастет, крича: — Смелее, ребята! Бей гадов! Повсюду валялись бездыханные тела. — Да это же Хорош-Гусь! — воскликнул Тотор. — Он самый! — ответил негр, подбирая с земли горящий факел. Друзья узнали колдуна Ламбоно. Тот улыбался во весь свой белозубый рот. — Ты здесь? — удивился Тотор. — Дьявол! Не думал встретить тебя. Ты же нас бессовестно бросил! — Неправда! — решительно возразил негр. — Со мной была моя крошка Йеба, как это у вас называется — моя суженая, моя невеста. Я увидел, как два мерзавца схватили ее. Что бы вы сделали на моем месте? Я прирезал негодяев и унес ее. Потом бежал, над головой свистели пули. Но ни одна, слава Богу, меня не задела. Я знал, где можно спрятаться, думал, что там не найдут. Переждал бы два дня или неделю, словом, сколько потребовалось бы, пока уйдут апаши[39]. И как только они меня нашли, ума не приложу! Если бы не вы, мне крышка. Йебу схватили. Это был бы конец! Откуда вы взялись? Как оказались здесь в самый подходящий момент? Впрочем, вы мне обо всем расскажете, но позже. А сейчас послушайте-ка: не знаю, как правильно сказать… шкура Хорош-Гуся принадлежит вам, я отныне ваш раб, ваш пес! Вы молодцы, и я вас благодарю! О да! Благодарю! Горло у Ламбоно перехватило, он взял за руку свою подругу, и оба опустились на колени, целуя друзьям ноги. — Гм-м! — протянул Тотор. — Ну что, бросишь нас теперь? Поднимайтесь-ка, поднимайтесь! Мадемуазель Йеба, я счастлив был оказать вам эту небольшую услугу. Юная негритянка ответила: — Я хорошо! Я хорошо! — Она еще плоховато говорит по-французски, — перебил Хорош-Гусь, — но я ее научу. Вот увидите! Очень милая девчонка. Да к тому же хитрющая! В это время одному из раненых удалось, пока его не видели, встать на ноги. Он попытался удрать, однако Ламбоно заметил это, подбежал и стукнул бедолагу по голове так, что тот упал замертво. — Если хотя бы один из них доберется до отряда, мы погибли. Там человек пятьсот, а может, и того больше. Они будут рыскать по лесу до тех пор, пока не схватят нас, так что ни один не должен уйти. — Э-э! Начинаются людоедские штучки! — Ладно! Не беспокойтесь, я просто хочу поговорить с ними. Ламбоно переходил от одного бездыханного тела к другому, нагибался и внимательно прислушивался. Возле третьего или четвертого он остановился и, уловив слабый вздох, нанес молниеносный удар. Из груди вырвался предсмертный хрип, и несчастный затих навеки. — Какая гнусность! — вскричал Меринос. — Раненых не добивают. И я еще тебя защищал! Да я тебе запрещаю!.. Негр обернулся: — Увы, но я думаю иначе… Я дорожу моей шкурой, а в особенности мне дорога Йеба… Это не люди, а бешеные собаки. При встрече я убиваю их. Говоря так, он продолжал крушить черепа. В конце концов Тотор набросился на Хорош-Гуся и отнял у него кастет. — Грязный убийца! — Тотор вцепился ему в горло. — Придушить тебя мало! — Французы! Безумцы! — сипел колдун. — Вам-то чего бояться? Вы белые и ничем не рискуете. Вам рабство не грозит! А бедный Хорош-Гусь черный, и он беспокоится. А я не выдержу плетей… пыток… Мне неоткуда ждать защиты. И несчастной Йебе тоже. — И все же мы не можем позволить… — начал было Меринос. Но он не договорил. Раздался оглушительный выстрел, и пуля едва не размозжила ему череп, разорвав мочку уха. Тотор оглянулся. Один из арабов, лежавший до этого неподвижно, словно мертвый, и выжидавший удобного момента, вдруг вскочил на ноги и через секунду был уже в седле. Пустив лошадь во весь опор, он выстрелил в своих врагов. Все произошло так внезапно, что Тотор даже не успел прицелиться, выстрелил наугад и промахнулся. Всадник растворился в ночи. Тем временем колдун упорно продолжал добивать раненых. С видом триумфатора он провозгласил: — Если бы вы меня не отвлекали, я бы добрался и до этого, и он бы не рыпнулся! Что тут ответишь! — Теперь, — продолжал Ламбоно, — за нами по пятам ринутся все эти негодяи. Вы, белые! Доходит до вас? В погоню пошлют целое войско во главе с бен Тайубом. Придется взять ноги в руки и драпать. И я вовсе не уверен, что нам удастся улизнуть. Мы на своих двоих, а они верхом. Тотор обследовал рану Мериноса. Йеба держала над ними факел. Ничего серьезного. Царапина. Но пройди пуля на один сантиметр правее, она продырявила бы американцу череп. — Решительно, — заключил Тотор, — удача сопутствует нам. И, секунду помолчав, продолжал: — Но сейчас не время предаваться праздности. Положение наше весьма незавидное. Это правда. Однако взялся за гуж — не говори, что не дюж. Хорош-Гусь, встать в строй! Негр мигом подбежал к Тотору и, улыбаясь, отдал честь. — Нечего улыбаться во всю пасть, каннибал несчастный! Ты обязан отныне беспрекословно подчиняться мне как солдат, иначе я тебя поколочу, да так, что даже твоя толстая шкура не выдержит. — Угрозы ни к чему! Ты спас Йебу, и я весь твой. Делай со мной что хочешь! — Собери ружья и пистолеты тех, кого ты прикончил, каналья! Тащи их сюда! Хорош-Гусь исполнил приказ. Йеба освещала ему путь. Вокруг лежало с десяток трупов. Ламбоно собрал оружие, все — немецкого производства: карабины Шмидта, револьверы Касселя. Подобрал он и ятаганы. Через несколько минут перед Тотором образовался целый арсенал. Он внимательно все осмотрел. — Гм-м! Барахло! Однако сгодится и это. Меринос! Что ты, черт возьми, притих? Тебе же всего лишь ухо поцарапали. Или ты боишься, что и мозги вышибли? Посвети-ка ему, Йеба! Бледный как полотно, Меринос полулежал на земле. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. — Дьявольщина! Да не болен ли он? Тотор подбежал к другу и приподнял его на руках. — Про… прости… Прости меня! — Голос Мериноса слабел с каждым звуком. — Но я больше не могу… Есть… хочу есть. — Ах! Бедняга! У тебя часов тридцать кряду маковой росинки во рту не было. Шевелись, Хорош-Гусь! Нет ли чего съестного? — А как же! У меня в пещере провизии на несколько дней припасено, если только эти мерзавцы не спалили все дотла. — Поищи, да побыстрее! Хорош-Гусь исчез. — Он похож на обезьяну, но парень все-таки добрый, — сказал Тотор и, обращаясь к Мериносу, добавил: — Терпение, старина, терпение! Сейчас чем-нибудь поживимся. Вдруг Тотор прислушался. — Проклятье! Как же я забыл о лошадях! Из лесу доносилось негромкое ржание. Тотор кинулся на звук. Десять застоявшихся лошадей фыркали и переступали с ноги на ногу. — Э-хе-хе! Лошадки! Вы-то нам и пригодитесь. Йеба хлопотала возле Мериноса, прикладывая к уху целебный травяной компресс. — А вот и еда! — сказал Хорош-Гусь, выходя из пещеры. — Хлеб из маниоки и дика. — Дика? — переспросил Тотор. — Сыр из толченого миндаля. Нежный, как масло, — пальчики оближешь. — А питье? — Бутыль пальмового вина и моя последняя крошка. — Шампанское! Сохрани его до нашей первой победы. Вот, Меринос, дружище, возьми хлебушка. Это вкусно. Меринос принялся уписывать зачерствелую лепешку за обе щеки. — Не торопись, парень! Передохни хоть секундочку! Глотни вина… да не спеши, говорю тебе! Никто же за тобой не гонится. О! Ну и гурман! Меринос был так голоден, что, похоже, мог съесть целого быка и даже не заметить этого. Наконец он все же немного успокоился. — Йеба, детка! — сказал Тотор. — Побудьте возле нашего друга. Хорош-Гусь, пусть она последит за ним, а то, неровен час, у него сделается заворот кишок. Переведи и иди за мной. Над лесом занимался рассвет. Тотор беспокоился: им каждую минуту грозила опасность. Нельзя было отпускать никого из этих негодяев. Но что поделаешь? Лежачего не бьют. Он привел Хорош-Гуся к лошадям. Десять крепких, красивых животных. — Ты разбираешься в лошадях? — Я? — возмутился колдун. — Да я два месяца служил у Медрано[40], и никто не мог превзойти меня в вольтижировке. — Прекрасно! Взгляни на них и выбери четыре лучших. Хорош-Гусь напустил на себя важный вид. — Эта, эта… — указал он наконец. Тотор пожал плечами. — Что касается первой, то я согласен. Но остальные! Ты так же разбираешься в лошадях, как свинья в апельсинах! Вот наши скакуны, — сказал парижанин, отвязывая поводья. — Полагаю,пятый пригодится для поклажи. У тебя осталась еще провизия? — Да. — Заверни и тащи сюда. Тотор погладил лошадок, и те, казалось, почуяли хозяйскую руку. Появился повеселевший Меринос. — А! Вот и ты! — обрадовался Тотор. — Все в порядке? — Обошлось! Глупо, конечно, получилось. Но завтрак меня воскресил. — Ты хочешь сказать: четыре или пять завтраков… Впрочем, кто их считает? Ешь на здоровье! — Я вполне здоров и всецело в твоем распоряжении. Если не ошибаюсь, положение наше аховое? — Десять шансов против одного, что мы попадемся. Бен Тайуб второй раз нас не упустит. — Но покамест он нас еще не поймал! — Браво! С таким настроением нам все нипочем. — У тебя, должно быть, есть план? Ведь у тебя всегда есть план. — Проще некуда: смываться отсюда, да поживее. — А потом? — Потом… увидим. Тотор приладил на спину одной из лошадей сверток с провизией, который приготовил Ламбоно. — Теперь — оружие, патроны! Это будет наш маленький арсенал. — Готово, хозяин. — Умеешь ездить верхом? — Конечно. — Небось как тюфяк! Ну, это твоя забота. А Йеба? — О! Эта умеет все, что захочет. — Позови ее. Тотор указал негру на лошадь: — Скажи, что это для нее. Девушка внимательно выслушала Ламбоно. Не успели мужчины оглянуться, как она уже вскочила в седло и хитро улыбнулась Тотору. — Хорошо! — заключил Тотор. — Пять лошадей, четверо наездников, среди них одна женщина, с которой, похоже, хлопот не будет… ружья, провиант. Да с этим можно весь мир завоевать! Только бы знать, с какого боку к нему подступиться. Куда путь держим, Хорош-Гусь? Тебе знакомы здешние края? — Немного, но не очень… в моем племени не было путешественников. Воевали с соседями, а для этого далеко ходить не надо. — А тут и соседи имеются? — Да, есть кое-кто. Между собой они мало общаются, а если и встречаются, то — прошу простить — поедают друг друга с завидным аппетитом. — И много в округе людоедов? — В каждом племени по нескольку сот… так что вообще-то тысячи… — И все во власти работорговцев! Подумать только, если бы они объединились, то смогли бы сопротивляться. — Вероятно. Но это невозможно. Тотор задумался. — Так куда же мы направляемся? — Прямо. Я знаю одно племя: его вождь и Амаба — кровные братья. Нас хорошо примут. — Значит, все-таки дружба между племенами реальна? — До первой свары. Не забывайте, что это не совсем разумные существа. — Но ведь можно научить их думать для их же собственной пользы. Ты отведешь нас к… — К коттоло. Отведу, но при одном условии, что вы не будете в претензии на этих чудаков из-за их пристрастия к человечине. Они, конечно, те еще типчики, но о вкусах не спорят. — Ладно! — согласился Тотор. — Запасемся терпением. Меринос, отвяжи-ка тех лошадок, что мы оставляем. Пусть идут на все четыре стороны. Лишняя предосторожность не помешает. Глядишь, наведут погоню на ложный след. Меринос подчинился: подбежал к лошадям, отвязал их и что было мочи вытянул по крупам хворостиной. — Теперь пускаемся галопом, и дай нам Бог спасти наши шкуры! Четверо всадников поскакали через кустарник. Тотор и Меринос шли стремя в стремя. — Послушай, дружище! — сказал Тотор. — У меня возникла идея! — Ба! — Ты, безусловно, удивишься, но вынужден отметить, что с воспитанием у тебя неважно. Но ничего не поделаешь. Вот в двух словах, что я придумал: помнишь, там, в Австралии, целый район был во власти бандитов, они бесчинствовали, убивали, грабили? — Конечно, помню. — Так вот, приятель, несмотря на свирепость и все их каверзы, мы их все-таки обставили. — Что правда, то правда! Ты им наделал хлопот! — А ты мне помог. Теперь нас вдвое больше. Нужно начинать все сначала. Здесь тоже правят бал эти подонки-работорговцы, грабители и убийцы. — Точно! — Предлагаю очистить страну от их гнета. — Нам вдвоем этого не осилить. — Предоставь все мне. Есть план. К тому же нас четверо… — Вместе с красавицей Йебой. Мы ее мобилизуем. — Хорош-Гусь смелый парень. А как только прекратит есть человечину, и вовсе станет героем. — Предположим, нас четверо. Дальше? — Я же тебе сказал, что есть план. Объяснять его тебе не обязательно, но одобрить ты его должен. — Я говорю: аминь! Пусть даже ты предложишь мне достать луну с неба! — Итак, принято! Мы объявляем войну бен Тайубу! — Берегись, бен Тайуб! И оба погрозили невидимому врагу кулаками.
Конец первой части
Часть вторая ВОЙНА БЕН ТАЙУБУ!
ГЛАВА 1
Клятва Хорош-Гуся. — Сон Йебы. — Змея. — Снова в путь.В чем, в чем, а в лошадях Тотор знал толк, и, если уж положил на какую глаз, можно было быть уверенным — эта не подведет. Сильные и выносливые лошадки без устали скакали весь день напролет. Поначалу Хорош-Гусь чувствовал себя неважно, но вскоре вполне освоился. Йеба была неподражаема, это была настоящая женщина-кентавр![41] В седле она выглядела столь же естественно, как другая дама в шезлонге. К тому же она оказалась жизнерадостной и смешливой. День прошел спокойно, без неожиданностей. — Кабы и дальше так! — вздыхал Меринос. Он, как всегда, смотрел на вещи пессимистически. Как только равнина опять сменилась лесом, смышленый Хорош-Гусь быстро сообразил, где удобнее сделать привал. Необходимо было позаботиться об ужине и ночлеге. Йеба хлопотала у «стола», который накрыли прямо на земле, собрав широкие листья и устроив нечто вроде скатерти. Экс-колдун отправился за провизией. Кладовая ломилась от яств. Правда, немного недоставало мясного, однако Тотор наотрез отказался стрелять дичь. Выстрел мог привлечь внимание врагов. Пора было укладываться. Решили так — пока трое спят, кто-то один стоит на посту. Утром Тотор проснулся первым. — Ты уверен, что мы не заблудились? — обратился он к Ламбоно. — Когда доберемся до… как их там? — Коттоло. Доберемся к заходу солнца. — Что за люди? Отважны? Умны? — Смелые, что ваши тюрко[42]. Всем бы быть такими! Что до здравого смысла, Матерь Божья! Пороха, безусловно, не изобретут. — Они едят человеческое мясо? — Покоя вам не дает эта тема! Во-первых, едят они только пленных… — От этого не легче. Ламбоно не сдавался. — Экую вы историю раздуваете! Если бы хоть раз попробовали, не привередничали бы. — Негодяй! Каналья! — взревел Тотор и влепил негру такую затрещину, что тот не удержался на ногах. Тотор схватил его за плечи, встряхнул и строго погрозил кулаком: — Послушай, Хорош-Гусь! Ты сейчас же поклянешься мне всем святым, чем дорожишь на свете, что никогда, никогда больше в рот не возьмешь человечины. Иначе я сначала поколочу тебя, потом выгоню, а Йебу заберу с собой. Понял? — Чем вы хотите, чтобы я клялся? — жалобно простонал негр. Тотор указал на Йебу, которая как ни в чем не бывало собирала остатки еды. Он взял колдуна за руку и приложил ладонь к волосам девушки. — Клянись ее головой! Йеба взглянула на мужчин и засмеялась. Но тут же заметила, что обоим не до шуток. Ламбоно побледнел, и кожа его, как это обычно бывает у негров, стала фиолетовой. Удивительно, но он, колдун, чье искусство, в сущности, заключалось в том, чтобы умело эксплуатировать легковерность своих соплеменников, а проще говоря, дурачить их почем зря, отнесся к клятве более чем серьезно. Каннибал, прошедший школу иной жизни на Монмартре, чувствовал, что в нем дремлет древний инстинкт его расы и что однажды он может проснуться… Ламбоно поймал на себе суровый, властный взгляд. Но сколько в нем доброты, сколько справедливости! Есть людей! В глубине души он чувствовал, что это недостойно. — Будь что будет! Клянусь! Клянусь головой Йебы. — Понимаешь ли ты, что отныне она отвечает за тебя? — Да, да. — Что есть? — обеспокоенно спросила Йеба. — Объясни ей, — велел Тотор. — Я хочу, чтоб она знала о твоем обещании и заставляла тебя держать слово. Ламбоно повиновался; он пошептался с невестой, хоть видно было, что объясняться ему с ней нелегко. Внимательно выслушав, Йеба неожиданно захлопала в ладоши и бросилась на шею Хорош-Гусю. — Она все поняла? — спросил Тотор. — Да! Должен вам сказать, что ей самой все это не по душе и она очень и очень довольна. Девушка подбежала к Тотору, опустилась на колени и поднесла к губам его руку. — О! — вскричал колдун. — Теперь дело сделано! Я поклялся, она поклялась! Шутки в сторону! — Значит, я могу тебе доверять? — Как если бы все нотариусы Парижа заверили мое слово! — Браво! Видишь ли, дорогой Хорош-Гусь, это единственное, что мучило меня. Позволь пожать твою честную руку. Я с тобой в жизни и в смерти! Мне и Мериносу предстоит кое-что сделать. Впереди много опасностей. Мы должны быть уверены в тебе. — Идет! — И Хорош-Гусь протянул друзьям обе руки. Вслед за ним и Йеба протянула свою крошечную ладошку. Двое цивилизованных людей заключили с двумя дикарями честный, прочный и нерушимый союз. Ламбоно вдруг подскочил точно ошпаренный и кинулся в лес. В чаще послышался топот и звуки борьбы. Через несколько мгновений негр появился, держа в вытянутой руке какого-то зверя, у которого кровь сочилась из рваной раны на шее. Ламбоно бросил добычу на землю. — Занзибарская собака! — воскликнул Тотор. — Именно так! Еще одна из тех тварей, что Тайуб послал выслеживать нас. По крайней мере, эта уже никогда больше не послужит своему хозяину. — Как ты расслышал? — О! У меня тонкий слух. — Ясно, эти негодяи ищут нас. — Еще бы! И верьте мне, будь вы хоть трижды белые, отныне им это безразлично. Если попадетесь, с костями сожрут и не подавятся. — Думаешь, они осмелятся… не побоятся мести наших солдат? — О-хо-хо! Ваши солдаты! Ищи-свищи… Да никто о вас и не узнает. Мало тут чащоб, чтобы спрятать пару трупов! Так что… — Бррр! — засмеялся Меринос. — Какой оригинальный способ успокаивать! — Разумнее будет, — вмешался Тотор, — не терять времени даром. В дорогу! В страну коколосов! — Коттоло, — поправил Хорош-Гусь, привязывая поклажу на спину вьючной лошади. В мгновение ока четверо друзей вскочили в седла и, пришпорив лошадок, помчались галопом. Через некоторое время Тотор огляделся. Никаких признаков неприятеля. Однако Хорош-Гусь беспокоился. Он знал, как коварна и хитра Центральная Африка. Нужно торопиться. Друзья снова пришпорили лошадей. Те неслись быстрее ветра. Йеба, возбужденная быстрой скачкой, во весь голос распевала песни, как будто это была увеселительная прогулка. — Тотор, — обратился к другу Меринос, — куда мы направляемся? Что там за люди? — Дикари, естественно! Но не думаю, что они более дикие, чем те полуцивилизованные, которых называют арабами и которые устроили грязную охоту на людей. Ты хорошо меня знаешь. Тебе известно, что я верю в добро и гуманность. Так воспитал меня отец. Пусть это иллюзии, но я убежден, что именно здесь мы встретим настоящую доброту. — Куда уж там! Особенно когда им захочется полакомиться… — Ты же видел, что Хорош-Гусь поклялся навсегда отречься от этой пагубной привычки! — Не забывай, приятель, Хорош-Гусь прошел через Монмартр. — Не лучшая школа для укрепления моральных устоев! Уж мы-то с тобой это хорошо знаем. Скажи лучше, ты обратил внимание, как обрадовалась Йеба? Даже в душе самых закоренелых варваров всегда найдется уголок… надо только отыскать его. — Это не всегда просто. — Предоставь все мне! Я же сказал: есть план. — Ты известный хитрец! Ах, дорогой Тотор, если б ты только знал, как я рад, что приехал сюда вместе с тобой не для глупой охоты, как наш болтун Рузвельт[43]. Полагаю, для нас найдется работка поинтереснее, чем убивать ни в чем не повинных животных. Мы, пожалуй, подстрелим кое-кого посерьезнее. Тем временем день разгорался и жара становилась невыносимой. Пришлось спешиться и спрятаться в тень. Лошади тоже явно устали и хотели пить. Расположились в лесу и, за неимением лучшего, ели маниоку, киту и пили вино. Ламбоно потянул носом: — Несет сыростью! Где-то рядом вода, болото или источник. Нужно позаботиться о лошадях. Оставайтесь здесь, я проверю. Йеба растянулась на мягкой травке в тени раскидистого дерева, а Хорош-Гусь нырнул в чащу. Меринос хотел было остановить его, но негр уже исчез. Невольное беспокойство охватило друзей. Они с нетерпением ожидали возвращения Ламбоно. Прекрасная негритянка задремала. Ее пухловатые губы приоткрылись, обнажив сверкающие белизной зубы. Поразительно, но они вовсе не походили на зубчики пилы. Девушка питала отвращение к человеческому мясу. Что за инстинкт владел ею? Тотор взглянул на Йебу. Она нравилась ему, молодой человек испытывал искреннюю симпатию к смелой и преданной дикарке. Меринос не предавался эстетическим экзерсисам. Он спал. Тотор посмотрел и на него, и сердце наполнила неизъяснимая нежность. Ах, как он любил своего друга! Оба не задумываясь готовы были, если потребуется, отдать друг за друга жизнь… Внезапно Тотор вздрогнул. Почему Меринос вдруг проснулся? Отчего он так бледен? Почему шевелит губами, будто силится что-то сказать, но не может? Почему протягивает дрожащую руку, словно заметил нечто ужасное? Тотор обернулся и остолбенел. Ствол дерева, под которым спала Йеба, обвила могучая змея. Она мерно раскачивалась прямо над головой спящей. Еще секунда — и все будет кончено. Тотор понимал: карабин рядом, в двух шагах, но он не успеет схватить его. Не успеет он и вытащить из-за пояса нож. Оставалось действовать по обстановке. Тотор быстро поднялся, сделал пируэт и в тот самый момент, когда змея уже готова была напасть, размозжил ей голову. Удар был так силен, что с дерева посыпались ветки. Когда опасность миновала, из лесу показался Ламбоно. При виде убитого питона лицо его исказилось от ужаса. Он понял, что явился слишком поздно. Но все обошлось. Тотор не подкачал, и мерзкая тварь осталась висеть на дереве, все еще подергиваясь в последних конвульсиях. А Йеба безмятежно спала. Она ничего не видела и не подозревала, что была на волосок от гибели. Ламбоно издал страшный гортанный клич. Девушка открыла глаза, недоуменно взглянула на возлюбленного и улыбнулась спросонья. Колдун бросился к Тотору, хотел что-то сказать, тщетно искал слова восхищения и признательности, но смог лишь вымолвить: — Послушай! Ну ты и тип! — К твоим услугам! Вместо того чтобы, точно карп в садке, хватать ртом воздух, скажи лучше, нашел ли ты воду. — Да, неподалеку река. Не очень широкая, но глубокая. Можем идти. — Не будем терять времени. Хватит развлечений! Вперед! Друзья напоили лошадей и снова пустились в путь, преодолев реку вброд.
ГЛАВА 2
Негритянская психология. — Мечта Тотора. — Как в «Черном Коте». — Ламбоно-посол. — Королевский прием.Мало-помалу Ламбоно сблизился со своими новыми друзьями. С уст его все чаще слетали словечки пряного парижского арго. Смягчилось вместе с тем и природное варварство. О своих соотечественниках он говорил так: — На самом деле они вовсе не злые. Когда они пьют, едят, танцуют, то хотят лишь одного — тишины и мира. Нападать на соседей вынуждает голод. Как только заканчивается маниока или просо, они звереют. — Во что они верят? — Ни во что, то есть во все. Невесть откуда приходят горе или радость. Неизвестность пугает и будит фантазию. Если существует лес, значит, он полон злых духов, от которых каждый день нужно защищаться. Вот колдуны и играют на их доверчивости. — Но ведь и ты колдун, мой добрый Ламбоно. — Не отрицаю. При моем ремесле можно жить сытно, ничего не делая. Я знаю тысячу разных фокусов. Этот придурок Амаба и его толстуха жена слушались меня беспрекословно. Поверите ли, мне порой удавалось предотвратить всяческие мошенничества и махинации. Такого страху напущу, что мигом шелковыми становятся. Присмиреют, помню, точно ягнятки. Ах! Не напивайся негры, как свиньи, были бы они крутыми ребятами, клянусь вам. Если бы Франция захотела цивилизовать их без гнета и притеснений, даю слово, из них получился бы отличный народ. — А арабы? — Последние прощелыги! А их султан — самый жестокий из всех тиранов мира. Бен Тайуб — всего лишь помощник султана Н’Белле, властителя государства, которое негодяй Си-Норосси выкроил между озером Чад и бельгийской территорией, как раз на землях наших племен. Оружие бандит получает через Камерун, немцы вовсю промышляют контрабандой. В войсках насчитывается от полутора до двух тысяч солдат. Вот он и хозяйничает: убивает, грабит, разоряет целые племена, продает людей в рабство на границе с Абиссинией[44]. Никто не знает, каким образом ему удается беспрепятственно проводить свои караваны. Поговаривают, что он делает их невидимыми и таким образом проводит через европейские посты. Каков его капитал? Где хранит он свои богатства? Еще один секрет. Нужно бы поинтересоваться. — Может, кто и поинтересуется, — уклончиво отвечал Тотор. — Говорю тебе, в племенах нашлись бы смельчаки. Тотор слушал очень внимательно и как будто что-то прикидывал про себя. План, о котором он лишь упомянул в разговоре с Мериносом, понемногу оформлялся, приобретал видимые очертания. Тотор подхлестнул лошадь и вырвался вперед. Ему хотелось побыть одному и все обдумать. «Тотор, дружище, — говорил он сам себе, — у тебя родилась безумная идея, но ведь сам-то ты не безумец. Ты хочешь добиться невозможного, рискуя собственной шкурой и жизнью товарищей. И все же ты прав. Собрать несколько тысяч негров, обучить, сделать из них солдат и двинуться на мерзавцев Си-Норосси, бен Тайуба и иже с ними. Устроить им такую взбучку, какой ни одна скотина еще не видывала. Эй, Тотор! Да у тебя аж слюнки текут от удовольствия! Потом дойти до озера Чад и встретиться с французами, сказав им: “Половина дела сделана, остальное — в ваших руках!” Хе-хе, Тотор! Ты превращаешься в эдакого наполеончика. Твой папа был бы доволен». Тем временем Ламбоно нагнал его и тронул за плечо: — Патрон, — произнес он вполголоса, — есть новости. — Что случилось? Они ехали гуськом по тропинке, что убегала в лесную чащу. Густые заросли укрывали их от посторонних глаз. — Пусть наши друзья остановятся, — попросил колдун. — А ты, патрон, следуй за мной. Тотор отдал команду остановиться. Меринос и Йеба придержали лошадей. Ламбоно спрыгнул на землю, Тотор вслед за ним, и через секунду оба скрылись за деревьями. Взобрались на небольшой бугорок, и вскоре поверх травы показались их головы. Солнце уже почти село. Внезапно на поляне мелькнули какие-то тени. — Похоже на те представления, что показывают китайцы в Париже, в театре теней, — изумился Тотор. — Прямо как в «Черном Коте», — сказал Хорош-Гусь. — Только здесь не до шуток, здесь все всерьез. — Я различаю силуэты мусульман верхом. А следом пешие ползут. — Точно. Я еще лучше вижу: это пленники. Вокруг — конвой, всадников сорок будет. Тотор вспылил: — Опять эти гады! Их надо тут же и прикончить. — Опасная затея. — Послушай, Хорош-Гусь! Когда мы двое вступились за тебя и твою красавицу, это тоже мало походило на послеобеденную прогулку. Не будь нас, мышеловка бы захлопнулась. Опасная затея! А какая затея не опасна? — Не сердись, патрон! Я же хотел как лучше. О тебе заботился. — А судьба этих несчастных, попавших к бандитам в лапы, тебя не волнует? Ноги в цепях, железное кольцо на шее. На завтрак — удары плети, на обед — свист бича… Когда я об этом думаю, кровь стынет в жилах! — Да разве я что говорю! — ответил Ламбоно. — Но послушай, патрон, у меня тоже созрела идея. — Сомневаюсь. — Я рассказывал тебе, что недалеко отсюда живет одно племя. Они не трусливее прочих и, если приходится, дерутся что надо. — И что же? — Если скакать лесом, будем у них часа через два. А те после захода солнца сразу остановятся на ночлег, разобьют лагерь и задрыхнут, как сурки. Что, если напасть на них ночью вместе с коттоло? Вряд ли они смогут дать нам достойный отпор. Тотор тихо ответил: — Хорош-Гусь, а ты, возможно, не так глуп, как кажется. Чем черт не шутит! Айда к твоим коттоло, а там видно будет. Компания свернула с тропинки и пустилась вскачь сквозь лесные заросли. На этот раз Тотор раскрыл перед Мериносом все карты. Пора было приступать к осуществлению дерзкого плана. — Ты только представь, мы привлечем на свою сторону коттоло и ночью пойдем с ними в атаку. Освободим пленников, они тоже присоединятся к нам. Вот у нас уже и целая армия. Научим их обращаться с оружием… — И они пальнут нам в спину! — перебил Меринос. — Никогда! Мы объясним им, что действуем только в их собственных интересах, что им предстоит стать освободителями черных братьев. — И они нас сожрут! — не унимался Меринос. — Ты меня выведешь из себя! Да не трусишь ли ты? — Ладно, ладно! Не сердись! Ты прекрасно знаешь, что можешь рассчитывать на меня. Но меня терзают сомнения: а что, если все это лишь наши иллюзии? В разговор вмешался догнавший друзей Ламбоно. Стояла темная ночь. — Возьмите лошадей под уздцы и идите за мной шаг в шаг. Здесь очень крутой спуск. Ноги и в самом деле скользили, удержаться было трудно. Из-под сапог срывались вниз мелкие камешки. Шли гуськом, след в след. Где-то — один Ламбоно знал, где именно, — сворачивали, где-то поднимались вверх. Все это походило на блуждание по лабиринту. Наконец почувствовали твердую почву под ногами. Послышались резкие, пронзительные звуки, как будто кто-то играл на расстроенных инструментах. Меж стволов мелькнули огоньки. — Туда, — указал Ламбоно. — В пяти минутах отсюда деревня коттоло. — Во рву? — удивился Тотор. — Почти. Некогда в этих местах случилось землетрясение, следы остались до сих пор. Коттоло решили поселиться именно здесь. — Разумно! — согласился Тотор. — Удобно защищаться от врагов. Между тем шум нарастал. Очевидно, коттоло отмечали какой-то праздник: пели и танцевали. Ламбоно подозвал Йебу и что-то шепнул ей на ухо. Она понимающе кивнула. Хорош-Гусь в своем репертуаре: сначала посоветовался с женщиной, а уж потом обратился к Тотору: — Патрон, полностью ли вы доверяете мне? — Да. — Вот как я намерен поступить. Если мы заявимся туда все вчетвером, белые и негры, это их насторожит. А удивление ничего хорошего не сулит. Нас на всякий случай могут и зажарить. Хочу отправиться к ним в качестве посла, чтобы возвестить о вашем прибытии. А то кто их разберет? Все-таки лучше вести себя поосторожнее. — Ты прав. Ступай и возвращайся быстрее. — Я оставляю тебя здесь, Йеба, — просто сказал Ламбоно. Большего проявления доверия с его стороны и быть не могло. — Нужно привести себя в порядок, — продолжал колдун. Порывшись в одном из тюков, он вытащил оттуда свою униформу: украшенную перьями диадему и сшитый из шкур балахон. Прихватил и скипетр с колокольцами. Тотор зажег спичку, и, рассмотрев в темноте нелепую фигуру колдуна, все, включая неунывающую Йебу, весело рассмеялись. — До скорого! — бросил Ламбоно и скрылся в ночи. Наступила напряженная тишина. Прошло с четверть часа. Повинуясь невнятному чувству, друзья взялись за карабины. — Неужели этот стервец оставил нам Йебу в качестве заложницы? — возмущенно начал Тотор. Но тотчас же осекся. Послышались торопливые шаги, и перед ними предстал Ламбоно. — Все в порядке! Вас ждут. — Не рано ли? Но в это время их осветили десятка два факелов. Гостей ждал воистину королевский прием. — Эй, Меринос! — подтрунивал Тотор. — Смотри, веди себя прилично. Не ударь в грязь лицом.
ГЛАВА 3
Вождь Аколи. — Тотор сомневается. — Праздник при луне. — Один. — Заложница Йеба. — Дверь заперта. — Отличная работа! — Белый! — На помощь!— А они премилые, эти твои коттоло! — обратился Меринос к Ламбоно, пока Тотор, заложив руки за спину, исправно исполняя роль Наполеона местного значения, медленно обходил широкую площадь и разглядывал жителей деревни, как две капли воды похожих на подданных несчастного Амабы. — Да, да, премилые, — отвечал вернувшийся к исполнению своих обязанностей колдун. Нигде и никогда друзей не принимали так сердечно. Вождь Аколи оказался верзилой шести футов росту (впрочем, как почти все мужчины его племени), сплошь покрытым причудливой татуировкой. Круги, овалы, квадраты, замысловатые кривые — весь учебник геометрии уместился на его мощном торсе. На лице, изрисованном белыми, красными и голубыми полосами, можно было только различить глаза, приплюснутый нос и огромные, толстые вывороченные губы. Тотор то и дело украдкой посматривал на вождя, Аколи тоже следил за чужаком и, когда глаза их встречались, широко и радушно улыбался. Однако не тот человек Тотор, чтобы столь очевидная игра могла ввести его в заблуждение. Сердце у него было не на месте, хотя Аколи всячески демонстрировал добрую волю. Гостям предложили обильный ужин. Вино лилось рекой. Тотор не спускал глаз с Ламбоно, уж очень тот оживился. Хорош-Гусь вмиг спелся с местным колдуном — рыбак рыбака видит издалека, — и они наперебой взялись развлекать публику. На площади собралось человек пятьсот. Туземцы, замерев от восторга, наблюдали за представлением. Оба колдуна танцевали, кричали, свистели. Королевский оркестр — дюжина коттоло с самыми невообразимыми инструментами — вошел в раж. Ушные перепонки лопались от адской какофонии. Тотор подошел к Мериносу: — Старик! Как тебе все это? — По-моему, нас принимают по первому классу. — А больше ничего не замечаешь? — Да нет, ничего. Нам не на что жаловаться. Принимают как друзей. Можно сказать, по-семейному. — А мне кажется, что они были бы не прочь послать нас ко всем чертям. Не знаю, что наговорил им Ламбоно, что они сразу же не выставили нас… — Ты не доверяешь Хорош-Гусю? Ведь он не однажды доказал нам свою преданность… — Возможно! Вроде бы у меня и нет никаких сомнений, но я стараюсь не расслабляться. По-моему, здесь все — фальшь, обман, лицемерие. Вождь мило улыбается, а в глубине души ненавидит нас. — Что за фантазия! — Ламбоно избегает меня. За весь вечер я не смог с ним и парой слов перекинуться. — Послушай! Вон он, болтает с вождем и посматривает в нашу сторону. Он искал удобного случая, чтобы поговорить о наших планах. Глянь, вождь прислушивается. Ламбоно наседает, уговаривает. Видно, тот не соглашается. — А тем временем арабовы псы унюхают деревню и устроят коттоло еще одну Варфоломеевскую ночь[45]. На этот раз пусть уж лучше меня прикончат, но я не допущу ничего подобного! — Я умру с тобой. В конце концов, чему быть, того не миновать, и такая смерть ничуть не хуже любой другой. Смотри-ка, Ламбоно оставил вождя и направляется к нам. После долгих переговоров с Аколи колдун действительно подошел к друзьям. Впрочем, он не просто шел. Это был настоящий танец — положение обязывает. Он больше не Хорош-Гусь, он — колдун, служитель бога Хиаши, а высокое звание надо оправдывать. Разговаривая с белыми, он то прыгал, то бросался к их ногам, то вертелся волчком. — Аколи — умный человек, ему и самому приходила мысль проучить арабов, чтобы неповадно было. Он исколесил почти всю Центральную Африку, бывал в Конго, неплохо изучил европейцев. Будь он на сто процентов в них уверен, попросил бы у них покровительства. Но он боится белых, и его люди тоже. Я объяснил ситуацию, рассказал об арабском войске, что находится в нескольких часах ходу отсюда, о том, что их можно захватить врасплох и освободить пленных. Идея ему понравилась, за своих он ручается, они будут драться отважно, до победы, а об, остальном согласился поговорить потом. Тотор слушал внимательно и все время старался поймать взгляд Ламбоно, но не мог. Что-то настораживало в голосе колдуна. Если он и не лгал, то, во всяком случае, чего-то недоговаривал. — Это все? — сухо спросил Тотор. Колдун встал в стойку, словно пес у ног хозяина. — Ну да, все, — был ответ. — Ах! Забыл одну мелочь, совсем неважную. — Что за неважная мелочь? — Аколи признался, что мы доставили ему немало хлопот. — Можно узнать, чем же? — Я не очень понял, но сегодня какая-то там фаза луны. В этот день у них народный и религиозный праздник. Церемонию прервали, чтобы принять нас. Нужно еще часа два-три. — Прекрасно! Пусть празднуют, мы им не помешаем. — Я так и сказал Аколи, но он ответил, что белым ни в коем случае нельзя присутствовать. — Так чего же он хочет, твой Аколи? — Он просит пройти в хижину, которую специально для вас приготовили, и… В общем… Ох уж эти негры! Они такие суеверные! Он просит вас не обращать внимания на то, что здесь будет происходить, и не вмешиваться, ни во что не вмешиваться! — А происходить будет нечто ужасное! — догадался Тотор. — Нет, нет, патрон! — Ламбоно снова перешел на прежний тон. — Мы просто совсем другие, то есть не я, конечно! Но здесь не Монмартр. Они уверяют, что, если белые увидят их праздник, в деревне начнется эпидемия, мор. — А когда этот чудесный праздник закончится?.. — Тогда вождь соберет людей и отправится в поход на арабов. Тотор не смог ответить сразу, пытаясь заглушить нахлынувшую ярость. Это ему удалось, и он повернулся к Мериносу. — Слыхал? — процедил парижанин сквозь зубы. — Что ты на это скажешь? Меринос вовсе не был глупцом, но обычно не видел дальше собственного носа. — По-моему, все очень просто: они любят веселиться в своем кругу, а наше присутствие их стеснит. — Да, да, — буркнул Тотор, и по тону было слышно, что он недоволен товарищем. — Я тоже думаю, что мы их стесним. У каждого есть маленькие слабости, которые не хочется демонстрировать чужакам. Смотри, Аколи разговаривает со своими! О чем? — Расхваливает вас на все лады. Вы, мол, бравые воины, друзья племени. Вы не примете участия в празднестве, чтобы не гневить бога Хиаши. Племя встретило эти слова настоящей овацией. — Они радуются, — сказал Тотор, — что не увидят наших физиономий. — Зачем ты так! — возразил Ламбоно. — У каждого народа свои обычаи. Ты ведь и сам не раз говорил об этом. — Хватит! Вы поступайте как хотите, а я тоже буду действовать по своему усмотрению! Меринос, ты утверждаешь, что мы должны уважить этих… милых людей. Они хотят, чтоб мы оставили их в покое? Пожалуйста! Сколько угодно! Пусть нас проводят в хижину! Вновь пустившись в пляс, Ламбоно обратился к Аколи. Великан, восседавший на высоком троне из струганых бревен, спрыгнул на землю и подошел к Тотору. — Что ему от меня нужно? Я не понимаю языка, так что он вполне может наговорить мне кучу гадостей, — довольно неприветливо пробурчал Тотор. — Нет, нет, — торопливо ответил Ламбоно. — Ты ошибаешься, патрон. Аколи неплохой человек. Бедняга Амаба очень уважал его. Может, ты хочешь что-нибудь ему сказать? Я переведу. — Пусть обещает не есть человеческого мяса! Хорош-Гусь не сопротивлялся, а тихо что-то сказал Аколи. Вождь возложил руку на голову Тотора и произнес несколько слов. — Это означает, конечно же, что он дает мне ту же клятву, что и ты, и будет соблюдать ее так же свято, как ты. Колдун пожал плечами — воистину хозяина не исправишь. — Теперь пусть нас отведут в хижину и оставят в покое. Ламбоно повеселел. Наконец-то разумные слова. Колдун с радостью перевел вождю коттоло просьбу белых. Лицо Аколи расплылось в улыбке. Он явно остался доволен и жестом пригласил Тотора и Мериноса следовать за ним. — Минутку, — сказал Тотор. — Надеюсь, в хижину принесли нашу провизию и оружие? — Конечно, — заверил Ламбоно. — Идите за Аколи, а мы с Йебой присоединимся к вам минут через пять. На этот раз Тотор больше ничего не сказал, но на душе у него по-прежнему кошки скребли. Он нащупал револьвер, и, если бы Аколи сделал хоть одно неверное движение, у него были бы большие неприятности. Меринос — руки в брюки — безмятежно шагал вслед за товарищем. И правильно делал, ибо Аколи вел себя вполне дружелюбно и мирно. Площадь осталась позади. Дорогу освещали двенадцать громадных негров с факелами. Аколи провел гостей по деревенским улочкам и остановился возле чистенькой и с виду вполне удобной глинобитной хижины. Открыл дверь и пригласил войти. Пол устилали плетеные тростниковые циновки, на манер матрасов. На лавке лежали пирог и бурдюк с пальмовым вином. Какая прелесть это африканское гостеприимство! Все предусмотрено, даже вода и просмоленные лучины-светильники. Пришли Ламбоно, Йеба и несколько негров. Тотор недоверчиво огляделся, но не обнаружил ничего подозрительного. Багаж, ружья и патроны тоже оказались на месте. Убедившись, что все в порядке, Аколи удалился в сопровождении своих воинов. — Мог бы, по крайней мере, пожелать нам спокойной ночи! — проворчал Тотор. — Видишь, патрон, — произнес Ламбоно, — все спокойно. Часа через два-три я разбужу вас, и тронемся в путь. — Ты бросаешь нас? — спросил Тотор. — Я приглашен на праздник. Ты не сердишься? — Мне-то что! Если ты и вовсе не придешь, обойдемся без тебя. — Не приду? Но ведь Йеба остается с вами. В самом деле, негритянка прошмыгнула в уголок и уже устраивалась на ночлег. — Почему она не идет на праздник? Женщин туда не пускают? Хорош-Гусь смешался. — Она не любит, — промямлил он. — Ее дело. — Ладно, ступай! Ламбоно двинулся к выходу. Тотор проводил его взглядом, смутно чувствуя, что тому явно не по себе. — Пока! — проговорил Хорош-Гусь. — Приятных сновидений. — Спокойной ночи. Чтобы положить конец тягостному диалогу, колдун выбежал на улицу и с силой захлопнул за собой дверь. Тотор остался один, ибо Меринос давно уже мирно посапывал, а Йебы и вовсе не было видно, она будто бы растворилась, черная в своем темном уголке. Тотор в задумчивости шагал по комнате. Он предчувствовал, что от него что-то скрывают, и сгорал от любопытства и раздражения. Аколи — хитрец и лицемер. Что до Ламбоно, то с ним еще далеко не все ясно. Да и у всех этих милейших каннибалов до чертиков лукавые физиономии. Как не терпелось им отделаться от белых! Зловещее предзнаменование. Очевидно, то, что будет происходить на площади, ему, Тотору, ни в коем случае видеть не положено. Но он хотел все видеть и знать. Тотор решительно направился к двери. Смешаться с толпой, а там будь что будет! — Вот так так! — воскликнул он. — Ни щеколды, ни задвижки. Дверь заперта снаружи! Чудовищно! Мы в заточении. Да-а, дружище Ламбоно, это вам не в кабаке кривляться. Я подозревал, что дело нечисто, но такое предательство! Каналья! Слезы на глазах, правильная речь… Нет, свернутая шея паршивого пса еще ничего не доказывает. Тотор бросился будить ни о чем не подозревавшего Мериноса. Он так сильно встряхнул его, что бедняга подскочил как ошпаренный: — Что? Арабы? Что случилось? — А вот что, малыш! Мы чудным образом угодили в западню. Надо шевелиться, если не хотим, чтобы нас съели. — Съели? Не может быть! — Может! Не спорь и делай, что велят. — Черт побери! Командуй, я подчиняюсь. — Нас заперли, так что нужно выбираться отсюда… — Выберемся! — Только не через дверь. Во-первых, запоры довольны крепкие, а во-вторых, мы наделаем много шума. — Тогда как же? — Через крышу. Там что-то вроде соломы. Ты меня поддержишь, а я в два счета проделаю лаз. — Прекрасно! Но кто потом подсадит меня? — А наш знаменитый пояс? Ничего лишнего не берем, твой револьвер заряжен, возьми карабин. Полагаю, все это нам пригодится. — Вперед! Тотор взглянул на Йебу. Девушка спокойно спала, свернувшись калачиком. В ее искренности Тотор не сомневался. — Ладно! — обратился он к Мериносу. — Держись на ногах крепко. Тотор легко взобрался другу на плечи. Однако до крыши было довольно высоко, как ни тянись, не достать. — Внимание! Я прыгаю. Меринос почувствовал, как напряглось, напружинилось тело друга. Казалось, он вот-вот взлетит. Тотору удалось ухватиться за тростниковый жгут, такой сухой и жесткий, что он напоминал железный прут. Нащупав мощную ветку и опершись на нее, ловкий молодой человек вскоре сумел выбраться наружу. Он жадно потянул носом и с удовольствием ощутил свежий ночной воздух. — Первый в порядке! Займемся вторым. Тотор распустил пояс и бросил один конец Мериносу. — Держи! — Держу. — Подымайся! Через минуту над крышей показалась голова, а затем и плечи американца. — Браво, Меринос! Прими мои самые искренние поздравления! Отличная работа! Однако здесь такая темень, что хоть глаз выколи. Небо словно бархатное. А вон там горят огни. Посмотрим, чем заняты эти негодяи. Спускаемся! Тут всего-то метра три. Старайся упасть на четыре лапы, по-кошачьи. Тотор прыгнул первым. — Давай! Я за все отвечаю! Приключения и жизненные передряги многому научили Мериноса. Он был не робкого десятка. И хотя весил куда больше своего друга, решительно прыгнул вслед за ним. И дело кончилось бы плохо, если б Тотор вовремя не подставил руки. — Идем! — прошептал Тотор. — Не отставай и будь готов к тому, что придется попотеть. Что-что, а неприятные сюрпризы я тебе обещаю. Они двинулись на свет огней той же дорогой, какой их привел сюда Аколи. Глаза понемногу привыкали к темноте, теперь друзья были уверены, что не заблудятся. С площади донеслись рокочущие звуки адской музыки. Подошли ближе. Ритуальные танцы коттоло ужасали. Они больше напоминали предсмертные конвульсии. Ад кромешный! Аколи по-прежнему сидел на троне. Вождя обступили солдаты-великаны. Они точно грозили невидимым врагам, то и дело воинственно потрясая острыми и длинными копьями. Посреди площади возвышался столб, которого друзья не заметили раньше. У столба крутился колдун племени. В руке его поблескивал длинный нож. — Смотри: Ламбоно! Что этому мерзавцу тут нужно? — удивился Тотор. Ламбоно подошел к вождю коттоло и заговорил с ним, оживленно жестикулируя. Аколи слушал, опустив голову. О чем они говорили? У столба коллега Ламбоно в нетерпении переступал с ноги на ногу, не забывая, однако, подбадривать и распалять беснующуюся толпу. Тем временем охранники вождя все плотнее окружали Ламбоно. Кольцо сжималось, а он все еще с жаром объяснял что-то Аколи. Похоже было, что Хорош-Гусь о чем-то просил, но его просьбе не внимали. Толпа неистовствовала, выла, скрежетала зубами. Наконец Аколи встал и царственным жестом подал знак колдуну. Тот сорвался с места и со всех ног помчался в сторону той самой лачуги, за которой прятались наши герои. Но не успел он пробежать и нескольких метров, как Ламбоно забыл про свою униженную позу просителя, ринулся вслед, в три прыжка нагнал его, сбил с ног и выхватил нож. Раздался гневный клич вождя. В ту же секунду подоспели его молодчики и принялись избивать Ламбоно. Бедняга кричал: — Каннибалы! Каннибалы! Тотор! Я сделал все, что мог! Оправившись от изумления, колдун-коттоло отворил дверь лачуги, и на пороге появился человек. Он был абсолютно голый, руки связаны за спиной, колени спутаны, в полных ужаса глазах отражалось пламя факелов. Колдун толкнул его в спину. Мужчина упал. Это был белый. Колдун наклонился, чтобы поднять упавшего, но не успел. Неожиданно мощный удар свалил его с ног… Затем бесчувственное тело взлетело в воздух, перевернулось два раза и мешком свалилось у порога дома. Тотор и Меринос подбежали к пленнику и заслонили беднягу.
ГЛАВА 4
Столкновение. — Хорош-Гусь кое-что придумал. — Вертись, вертись! — Отважный народ. — Кольцо сжимается. — Явление Хиаши.Пронзительно взвизгнув, Аколи бросился к хижине. Он был вне себя от ярости. Охранники кинулись следом, но храбрый вождь решительным жестом остановил их. Вид чернокожего исполина ужасал. Ему ничего не стоило раздавить французишку одним пальцем. Но Тотор не спасовал. Коренастый, широкоплечий молодой человек с энергичным лицом оказался достойным противником. Аколи выхватил боевой топорик, мастерски сделанный из заточенного камня, и изо всей силы метнул его сыну Фрике прямо в голову. Но тот успел пригнуться, и страшное оружие со свистом пролетело мимо и врезалось в стену хижины. Собравшись с духом, Тотор с разбега нанес гиганту удар головой в живот, так что противник подался назад. — Имей в виду, — произнес Тотор, — я от тебя мокрого места не оставлю! Вождь взглянул на него и презрительно ухмыльнулся. Конечно, он получил неожиданный удар, но настоящая схватка еще впереди! Приказав всем расступиться, Аколи решил биться один на один. Силач из силачей, он должен сам, на глазах у всего племени, нанести врагу сокрушительное поражение. Меринос с винчестером в руке не отходил от пленника, готовый в любую минуту спустить курок, но не решался вмешиваться. Один дьявол знает, чего можно ждать от разъяренной толпы дикарей. Что до Ламбоно, то он сумел высвободиться из «жарких объятий» телохранителей вождя и скрылся где-то в деревне. Какова его роль в этой варварской драме? Хорош-Гусь добрался до хижины, в которой ночевали друзья, отвалил от двери тяжелое бревно и вошел внутрь. Услышав его шаги, Йеба тут же проснулась. — Тревога! — крикнул он на местном наречии. — Наши друзья в опасности! Нужно спасти их или умереть вместе с ними. Йеба понимающе кивнула. — Помоги мне, малышка, найти то, что я ищу. Отыскав два арабских ружья, Ламбоно ловко зарядил их (кто жил на Монмартре, тот с оружием на «ты») и отдал одно Йебе, затем порылся в мешке с провизией и вытащил небольшую коробку. — А это моя маленькая хитрость. Представляю, какой будет эффект… — добавил он по-французски. Затем оба выбежали на улицу. Прошло всего несколько минут с тех пор, как Ламбоно покинул площадь. Бой между Аколи и Тотором достиг апогея. Вождь наотрез отказался от какого-либо оружия.Видно было, что ему не терпелось удавить соперника голыми руками. Пудовые кулачищи действительно впечатляли. Ростом Аколи намного превосходил Тотора. Все это напоминало легендарный бой Давида с Голиафом[46]. Чернокожий боец избрал странную тактику: с нарастающей скоростью он кружил вокруг Тотора, добиваясь, вероятно, чтобы у того закружилась голова. Вместе с вождем по кругу носилась почти вся деревня, в точности вторя каждому его движению и хором подхватывая неистовые крики. Тотор ни на мгновение не терял из виду лицо противника. Он заметно побледнел, на скулах заходили желваки. Но вот француз задорно улыбнулся. — Вертись, вертись, обезьяна! — издевался он над Аколи. — Думаешь, у меня искры из глаз посыплются? Ошибаешься! Давай, давай, пляши! Да смотри, как бы не запеть! Внезапно Аколи подпрыгнул на немыслимую высоту, как будто на батуте, и со всего маху ринулся на Тотора. Под таким весом захрустят любые кости. Тотор был готов к чему угодно, но такого акробатического трюка не ожидал. Меринос испуганно вскрикнул. Тотор стоял неподвижно как вкопанный. Он только чуть-чуть подался назад и, когда на него обрушилась черная громадина, ловко схватил негра за лодыжки, резко крутнул, и великан, потеряв равновесие, рухнул плашмя на землю. Не долго думая, Тотор вскочил негру на плечи, одной рукой вцепился в горло, а другой ударил по голове, точно молотом по наковальне. Брызнула кровь. Колдун-коттоло издал призывный клич. И взбешенная орда набросилась на Тотора. Меринос понял, что игра проиграна, но дешево свою жизнь отдавать не собирался. Он отомстит за друга. Американец прицелился и спустил курок. Выстрел прозвучал как гром средь ясного неба. Никогда раньше не приходилось дикарям слышать грохот огнестрельного оружия. Меринос все стрелял, почти не целясь, не разбирая, попадает ли в голову или в грудь. Гора мертвых тел росла на глазах. Негры обезумели от страха и не знали, что делать. Они отступали, а их лица, искаженные от ужаса, молили о пощаде; из глоток вырывались стоны, хрипы и невнятные восклицания. Тем временем Тотор вспомнил о своем поясе и быстро связал Аколи по рукам и ногам. Вождю коттоло оставалось лишь скрежетать зубами от бессильной ярости. — Кончай строить мерзкие рожи! — прикрикнул Тотор. — А не то черепушку раскрою! Однако расстановка сил вновь изменилась. Телохранители Аколи оправились от шока. Вождю грозила смертельная опасность, и они вспомнили, что такое верность. Дикари дикарями, но у них тоже было свое представление о чести… Двенадцать тугих луков взметнулись над двенадцатью головами, и двенадцать острых стрел-жал нацелились на Тотора. — Меринос! Быстро прячься за мою спину! У меня надежный щит! Щитом был не кто иной, как связанный и совершенно беспомощный Аколи, которого хитрый Тотор поставил прямо перед собой, снова получив таким образом передышку. Но игра еще не была сыграна. До победы ох как далеко. Колдун-коттоло опять пронзительно завопил, и, повинуясь его приказу, толпа стеной встала за спинами телохранителей. Воистину это отважные люди. Не отступили, не испугались огня! Они были готовы умереть все до последнего! — Не стреляй! — приказал Тотор Мериносу. — Это лишь озлобит их. — Но тогда нам конец! — Сам вижу. Ну что ж, старина! Нам ничего другого не остается, как умереть. Но умереть красиво! Коттоло не торопились. Они окружили белых и медленно смыкали кольцо. Вскоре они обрушатся на несчастных и задушат, затопчут их! — Прощай, Меринос! — прошептал Тотор. — Прощай, папаша Фрике! Ты оказался удачливее своего сына. Коттоло медленно подходили все ближе, выставив вперед острые копья. И, странное дело, в этот роковой, быть может, последний момент в его жизни в голову Тотору лезли совсем неуместные мысли: если бы этих людей выучить, из них получились бы неплохие вояки. И тут он решился. — Меринос! Вперед, и будь что будет! Подхватив Аколи и орудуя им как тараном, Тотор рассеял первую линию наступавших. Однако силы были неравны, и круг вновь сомкнулся. Тем хуже! Друзья прощались с жизнью. Что тут началось! У людоедов сверкали глаза в предвкушении скорой и легкой добычи. Они выли, урчали, визжали… Но внезапно все смолкло. За спинами несчастных жертв встала огненная стена. Дикари окаменели и как завороженные смотрели туда, где с неба падали звезды: одна, другая, третья. И снова в небе завивался огненный серпантин, и опять расцвел звездный букет… Тотор и Меринос онемели от удивления. Над их головами возник пурпурно-золотой ореол. Они напоминали теперь идолов, богов с огненными нимбами. Все живое замерло. Широко раскрыв глаза, разинув рты от изумления, коттоло в немом оцепенении взирали на столь явное проявление милости богов по отношению к этим чужакам. Да, на стороне белых была какая-то неведомая сила, великая и ужасная! Раздался новый взрыв, что-то затрещало, загрохотало, словно какой-то невидимый кузнец застучал молотом по наковальне, и вот уже целая сотня огненных змей взметнулась в небо, образовав над головами белых пылающий свод. Что-то свистело, завывало, ухало, бахало, будто все духи — подземные, подводные, земные и небесные — разом явили свое могущество. А затем раздался вопль колдуна. — Хиаши! Хиаши! — взывал он к богу — покровителю племени. Коттоло, вопя и стеная, пали на колени и простерлись ниц, побежденные, уничтоженные, раздавленные. В это время на площади показались Хорош-Гусь и Йеба. Они усиленно моргали, громко чихали и кашляли, руки у обоих по локоть были покрыты каким-то рыжеватым налетом, но оба улыбались во весь рот, ибо явно были довольны результатом своих трудов. — Эй, патрон! Что скажешь? Неплохо сработано? Но обессилевший после ужасной схватки Тотор ничего не слышал; он вообще, казалось, не понимал, что происходит.
ГЛАВА 5
Как 14 июля[47]. — Да здравствует король! — Хорош-Гусь оратор. — Съедят! — Клюет!— Э-э! — опомнился наконец Тотор. — Да это ты, Жамбоно! Поразительно! Восхитительно!.. И потом, знаешь, негритянский король для меня тяжеловат. Надо же! Кто нас выручил! — Я, Хорош-Гусь. — Как же так? Ты, значит, не предатель? — Ладно, патрон. Не надо слов! Я всего лишь спас вам жизнь. Какие, право, пустяки! Правда, сначала пришлось позаботиться о том, кого собирались съесть… — Да, да! Был же еще кто-то. Меринос, что это за человек? — Понятия не имею. Знаю только, что он белый и что ему, мягко говоря, не по себе. У него в голове дыра величиной с кулак. Говорит как-то невнятно… — Этого человека негодяи хотели сожрать?.. — А я пытался защитить его, — объяснил Хорош-Гусь. — Точно! — подхватил Тотор, к которому понемногу возвращалась память. — Я видел тебя у хижины. — Там несчастный и ожидал своей участи. Его хотели подать на десерт. — Ты знал об этом? — Конечно. Помнишь, я медлил, прежде чем привести вас сюда? Потому что попал в деревню в самый разгар приготовлений и понял, что ночью намечается торжественный ужин. Пришлось тянуть время. — Почему ты не предупредил меня тогда же? — Прости, патрон, но характер у тебя премерзкий. Ты бы сразу набросился на вождя, и нас вместе с тем горемыкой зажарили бы на одном вертеле. Я предпочел выждать. Хорошего мало, но у нас не было выбора. Из двух зол выбираем меньшее. Йеба поддержала меня. О! Если бы ты знал, какая это смелая и добрая девушка! Только слишком уж тебе доверяет. Я даже немного ревную. А вся история с вашим спасением! Это ее идея. — Что это было? Целый фейерверк! — Нужно тебе сказать, что, среди прочего, работал я как-то подручным у паро… пуро… — Пиротехника. — Вот-вот. Хозяин научил меня пользоваться петардами, да в придачу подарил целую коробку, ну, я и привез ее сюда, будто что-то подсказывало, что когда-нибудь пригодится. Все пудрил Йебе мозги, рассказывал всякие небылицы о солнцах, римских свечах и прочем. Вот она и говорит: «Если у тебя есть такие штуки, можно сыграть веселую шутку с коттоло». Я и послушался. Притащил мою заветную коробку и, как только увидел, что, несмотря на всю вашу храбрость, черномазые одолевают, устроил хороший салют. Они его надолго запомнят! Слушая Ламбоно, Тотор краем глаза постоянно следил за коттоло, которые разделились на две группы. Деревенские так и стояли на коленях, уткнувшись носами в землю. Этих можно было не бояться — они и не подумают шелохнуться, хоть из пушек пали. Но двенадцать великанов-телохранителей, а возможно, и советников Аколи, поднялись и теперь оживленно что-то обсуждали, показывая на небо, на землю около Тотора и его друзей. — Что за происки? — рявкнул Тотор. — Они еще не успокоились? Мало им? Ну, пусть пеняют на себя, они меня утомили. — Не спеши, патрон! — закричал Хорош-Гусь. — Может, все еще не так плохо. Позволь мне поговорить с ними. — И колдун подпрыгнул, сделал пируэт, а затем странной, кукольной походкой, словно парижская марионетка из театрика на Бульварах, засеменил к коттоло. Гиганты, заметив колдуна, замерли, а затем как-то приосанились, вытянули шеи, прижали огромные копья к бедрам, и застыли, словно стали на караул. Мгновение спустя двенадцать негров во главе с Ламбоно строем подошли к Тотору. Ламбоно размахивал своей забавной шапочкой и отбивал такт: «Раз, два! Раз, два!» — Не волнуйся, патрон! Они хотят объявить тебя вождем. — Только не это! — Соглашайся! — усмехнулся Меринос. — Лучше сидеть на троне, чем жариться на вертеле! Впрочем, рассуждать было уже поздно. Хорош-Гусь отскочил в сторону, и королевская гвардия бросилась к Тотору, да столь стремительно, что он и ахнуть не успел, как почувствовал, что множество сильных рук поднимают его вверх и усаживают на плечи двух чернокожих гигантов. А толпа вокруг радостно приветствовала Тотора. — Не шевелись! — крикнул Хорош-Гусь. — Не то они тебя уронят. Сопротивляться в подобной ситуации бесполезно, ведь с тем же успехом можно сражаться с океаном. На поляне вспыхнула добрая сотня факелов. Тотор взирал на все происходящее спокойно, даже равнодушно, и наивных негров это зачаровывало. А новоиспеченный вождь думал: «Черт побери! Из них выйдут неплохие солдаты!» Кортеж прибыл на площадь, в центре находился трон, где еще совсем недавно восседал Аколи, а в нескольких шагах возвышался священный столб, чье предназначение стало теперь совершенно ясно. Тотора с великими почестями усадили на подобие королевского трона, украшенного шкурами диких зверей. Хорош-Гусь не отходил от него ни на шаг. Хитрец понимал, что игра идет по-крупному и действовать нужно наверняка. — Сядь, патрон, и ничего не говори. Они все равно ни слова не поймут. Не беспокойся, я сам наговорю им с три короба. А ты только знай делай многозначительные жесты. Ламбоно поднял руку, требуя тишины. Чтобы дать Тотору возможность прийти в себя, он сам произнес длинную речь. Белого прислал бог Хиаши, чтобы защитить чернокожих от притеснений арабов. Он уничтожит полчища работорговцев, ибо он всемогущ. Громоподобные звуки, которые они слышали, небесное сияние, которое они видели, — детская забава по сравнению с тем, на что он способен. Сопротивляться ему бессмысленно. Он царствует над духами земли и воздуха, ему подвластны силы воды, огня и лесов. О! Хорош-Гусь знал, что делает, понимал, на каком языке нужно говорить с этим темным и забитым людом. Чем цветистее он говорил, тем больше нарастал энтузиазм. У примитивных народов существует извечное стремление подчиняться герою, наделенному сверхчеловеческой мощью. Преследуемые, вынужденные жить в вечном страхе, всегда находясь в бегах, не зная покоя, они грезят об освободителе. Тотор показался им сильнейшим из сильных, воистину непобедимым властелином. Ах, наивные души! Всего час назад они готовы были убить или съесть Тотора. А теперь обожали его. Добрая оплеуха и обычный фейерверк сотворили чудо. Тотор был польщен. Бесконечные земные поклоны и восторженные восклицания тешили его самолюбие. Однако нашего парижанина бесило то, что он не может не только произнести тронную речь, но даже словечка вымолвить никак не исхитрится. Нужно будет выучить язык, чтобы общаться со своим народом, как это делал Бонапарт. Ужасно не иметь возможности сказать хотя бы следующее: «Солдаты, я доволен вами!» Слава Богу, хоть Хорош-Гусь взял на себя обязанности переводчика. — Старина! — обратился к колдуну Тотор, не без интереса наблюдая за тем, как его «подданные» начали готовиться к празднеству, посвященному возведению на трон их нового повелителя. — Ты же понимаешь, что на их королевство мне наплевать с высокой горки. Однако, если я смогу чем-то помочь им, буду рад. Что скажешь о наших планах относительно похода на арабов и освобождения пленных? Хорош-Гусь, вообразив себя как минимум премьер-министром, глубоко задумался. — Это представляется мне вполне осуществимым, — произнес он наконец. — Я видел их в деле. Это и вправду отважные воины. И я убежден, что при умелом руководстве они станут первоклассными солдатами. Да и дело-то, между нами говоря, пустячное. В нашем распоряжении еще часа три до рассвета. Чтобы добраться до лагеря арабов, понадобится максимум полчаса. Они сейчас все дрыхнут без задних ног. Так что, предложить коттоло поучаствовать в нашей ночной вылазке? Только учти, патрон, если мы нападем на арабов первыми, все эти работорговцы ополчатся против нас и быть тогда большой войне… — О! Нас ждут великие дела! Воссоединим племена, создадим армию и двинемся к озеру Чад, разбивая в пух и прах подлых торговцев людьми! Одна мысль о благородной борьбе воодушевила Тотора неимоверно. Его возбуждение передалось и верному Ламбоно. Подозвали Мериноса и изложили ему план действий. — Я с вами! — воскликнул американец. — Мы здесь не для того, чтобы прохлаждаться. И потом, надо же досадить Рузвельту. Сын короля шерсти имел зуб на своего президента за то, что тот, по его мнению, полжизни валял дурака. — Кстати, — вспомнил Тотор, — а что с тем беднягой, которого мы освободили? Где он? Как себя чувствует? — Не очень хорошо, — ответил Меринос. — Он ранен в голову, похоже, потерял много крови. От униформы остались одни лохмотья, но видно по всему, что он немец. Больше ничего не удалось выведать, ведь сам он ничего не может сказать. Мы уложили его в нашей хижине. Йеба ухаживает за ним. Она знает, что делает. И вообще, она отнюдь не глупа, эта девочка! — Прекрасно! Через несколько минут мы им займемся. Хорош-Гусь, построй пока людей и расскажи им о том, что мы собираемся немного пощипать арабов, а попросту говоря, набить им морды. Тотор запнулся. — Эй! Что это там происходит? Что там еще удумали мои подданные? С кем это они так дурно обращаются? В самом деле, на площади показалась группа коттоло, тащивших отчаянно отбивавшегося рослого негра. — Вот так так! — всплеснул руками Хорош-Гусь. — Это твой предшественник, светлейший Аколи. — Что они собираются с ним делать? Увлекшись, Ламбоно забыл, с кем говорит, и ответил с наивной и довольной улыбкой: — Что, что? Прикончат и съедят! — Каналья! Бандит! — завопил Тотор, спрыгнул с трона и стремглав бросился через площадь. Он врезался в плотную толпу и принялся угощать своих подданных увесистыми тумаками. Меринос тотчас же оказался рядом, повторяя про себя: — На этот раз мы пропали. Опомнившись, Хорош-Гусь понял свою оплошность. Съедят! Разве можно произносить подобное вслух, зная, как болезненно относится патрон к такой естественной для каждого дикаря вещи? А как же клятва? Единственное, чего бедняга не мог сообразить, так это как исправить положение. Ведь коттоло ни за что не отдадут добычу. Нравы Центральной Африки просты: свергнут короля или вождя — значит, съедят. И вся недолга. Но у Хорош-Гуся не было иного выхода, как только встать на сторону Тотора. Ламбоно решил погибнуть, но друзей не предавать. В два прыжка он оказался в самой гуще схватки. Тем временем Тотор раздавал тумаки направо и налево. Меринос юлой вертелся вокруг своей оси, размахивая карабином. Ряды коттоло заметно поредели. Хорош-Гусь подоспел вовремя. Его истошный вопль еще пуще напугал и без того растерявшихся негров. По-театральному воздев руки к небу, колдун пригрозил своим собратьям, что кара бога Хиаши падет на их грешные головы. И тут взгляд его упал на валявшуюся неподалеку коробку с петардами. Ламбоно высоко подпрыгнул, по-кошачьи мягко приземлился рядом с коробкой, схватил петарду, зажег фитиль и… Секунду спустя в небо взвились огненные змейки. Охваченные ужасом коттоло упали на колени и уткнулись носами в землю. Воспользовавшись удобным моментом, Тотор взвалил экс-вождя на спину, притащил к трону, как будто не замечая тяжести, взбежал по деревянным ступеням, положил Аколи у своих ног и возложил (именно возложил — так торжествен и благороден оказался его жест) обе руки на голову поверженного, который от страха и изумления только хлопал глазами. — Здо́рово, патрон! Ты назвал меня канальей, хоть я этого совсем не заслужил! Но такие крутые парни мне по душе, и я на тебя не сержусь. Если у меня и вырвалось не то слово, это еще не значит, что я недостоин доверия. Эти люди не в себе, они чокнутые. Надо бы направить их энергию в другое русло. Прикажи, и я натравлю их на арабов. — Да, да! Годится, — обрадовался Тотор. Ламбоно снова обратился к коттоло с пламенной речью. При этом он размахивал руками, точно свихнувшаяся обезьяна. Мужчины, потирая ушибленные бока, сгрудились вокруг трона, подобострастно ловя каждый взгляд Тотора. Правда, они никак не могли уразуметь, почему им не позволили притащить Аколи к священному столбу и разобрать его по косточкам. Но негоже рассуждать, если так повелел вождь. И какой вождь! На руку тяжел, да на расправу скор. Одно слово — сверхчеловек. Ему должно повиноваться. Тем временем хитрец Ламбоно, в которого не иначе как вселился сам демон красноречия, объяснял: «Если арабы притесняют чернокожих, целыми деревнями уводят их в рабство, мучают и убивают, то это оттого, что туземцы питаются человеческим мясом. Король запретил убивать Аколи в их же собственных интересах. Им, ротозеям, невдомек, что в двух шагах от деревни разбили лагерь охотники за живым товаром». Толпа недовольно загудела, но Ламбоно не дрогнул. Голос его окреп, перекрыл крики смутьянов, и в конце концов ропот стих. «Чернокожие живут в постоянном страхе. Мало того, что арабы загнали их в эту глушь. От этих негодяев и здесь покоя нет. Они рядом. Они разорят деревню, сожгут хижины, изнасилуют женщин, перережут детей». — Подойди ко мне, патрон, — обратился Хорош-Гусь к Тотору, — тут не помешают самые энергичные, волевые жесты. Пусть твой товарищ поддержит тебя. Клюет! Клюет! Все это время Тотор с восхищением смотрел на смешного, занятного, никогда не унывающего и неустрашимого чудака, что говорил без умолку, взывал к чувству долга, призывал к мести, разжигал ярость, умело и осторожно, капля по капле подливая масла в огонь, чтобы довести толпу до исступления. Пока Хорош-Гусь призывал к священной мести и обещал верную победу, Тотор и Меринос потрясали кулаками и вращали глазами, словно разъяренные тигры. В едином порыве толпа грянула: — Да! Да! К оружию! В бой! Как по мановению волшебной палочки, в руках вдруг появились боевые топоры, копья, дротики. Гвардейцы Аколи вооружились до зубов. Еще бы! Их поведет сам Тотор. Всесильный человек! Бог! Победитель! Хорош-Гусь придумал новоявленному вождю имя — Коколь. И по деревне тотчас разнеслось: — Коколь! Да здравствует Коколь! Туземцы собрались группами человек по пятьдесят. Европейцы уже отмечали про себя, что в войске царит образцовый порядок. Как будто подчиняясь давно заведенному порядку, негры разбились на «роты», и при каждой такой «роте» — капитан, при каждом капитане — слуга со щитом и колчаном стрел. Тотор посмотрел на Аколи. Бедняга, казалось, смирился с судьбой и взирал на все совершенно безучастно. — Эй, Хорош-Гусь! — сказал Тотор. — Объясни этому животному, что его не убьют и не съедят при том условии, что он будет безоговорочно нам повиноваться. Я продиктую тебе приказы, ты переведешь, а уж он их разобъяснит своим людям. И пусть будет умницей, а не то я ему башку сверну. Объясни, что речь идет об избавлении его народа от арабов, об освобождении братьев рабов. Интересно, что он ответит. Прекрасная идея! Хорош-Гусь перевел. Удивленный, что его до сих пор не убили, Аколи слушал внимательно, но, похоже, ничего не понимал. Дикарю не давал покоя неразрешимый вопрос: о чем и зачем можно говорить с поверженным? А ему даровали жизнь! Да еще призывают драться! Аколи вопросительно смотрел на Тотора, а тот, старательно кивая и гримасничая, всячески давал понять, что колдун говорит правду. Внезапно лицо Аколи прояснилось, глаза ожили. Великан признавал превосходство Тотора и тоже видел в нем сверхчеловека, вестника бога Хиаши. Он не был трусом, но уважал сильного. Бледнолицый — посланник Неба. Он непобедим. Когда Хорош-Гусь изложил план нападения на арабов и объяснил, какую роль отводят самому Аколи, в голове вождя точно что-то перевернулось. Шагнув к Тотору, он молча вынул из-за пояса короткий и острый нож. Хорош-Гусь поспешил предупредить, что бояться нечего. Вождь коттоло сильно сжал лезвие ножа и показал Тотору окровавленную ладонь. Тогда Хорош-Гусь выхватил у него нож, взял Тотора за руку и быстро сделал небольшой порез. Кровь негра и белого смешалась. Братский союз был заключен. — Теперь поговори со своим народом, — сказал Хорош-Гусь. Чернокожий Талейран[48] мог быть доволен, ибо решить столь тонкую дипломатическую проблему на высочайшем уровне под силу не каждому, но, следует заметить, истинному обитателю Монмартра и не такое по плечу. Аколи был человеком искренним и чистосердечным. Дикое дитя джунглей, каннибал, привыкший к бесчинствам и жестокости, все же больше походил на льва, чем на гиену, и он пришел в восторг при мысли о том, что будет сражаться под руководством высшего существа, пришедшего из неведомой страны. Вождь обратился к народу и вложил в свою речь всю ярость и злость дикаря. Хорош-Гусь вслушивался в каждое слово и наконец воскликнул: — Идет! Дело идет на лад! Взгляни, патрон! Они так и рвутся в бой! По правде говоря, Тотор был в замешательстве. Впервые в жизни ему предстояло возглавить целую армию. — Меринос! Разуй глаза! Будь здесь папаша, он бы это дело в два счета провернул. Ну ничего! Мы сами с усами. Судьба бросает мне перчатку. Я должен освободить этот народ, сделать из обезьян людей. — Воображаю, — мечтал Меринос, — как вернусь в Нью-Йорк. Триумф на Бродвее! — А я проведу свою черную армию мимо Сен-Дени! — Патрон! — перебил Хорош-Гусь. — Надо пошевеливаться. Через час взойдет солнце, а мы должны все обделать до рассвета. — Отлично! Вперед! — приказал Тотор. — Вперед! Берите карабины, патроны, пожитки — и вперед! — Где мое ружье? — встрепенулся Хорош-Гусь. — Какое еще твое ружье? — То, что мы забрали у арабов; только что держал его в руках. — Жаль, нет времени научить этих болванов стрелять! — О! Вот увидишь, что такое копья, дротики и луки в умелых руках! Тем временем Аколи передавал своим людям команды. Четыре сотни негров разделились на восемь отделений и ждали сигнала к выступлению. — Браво! — вскричал Тотор. Он встал во главе войска, по бокам расположились Меринос и Хорош-Гусь, позади — Аколи, безропотно согласившийся быть на вторых ролях. Грянули барабаны, завизжали трубы. — Замолчите! — взревел Тотор. — Эти идиоты думают, что при таком грохоте можно захватить противника врасплох? Но Хорош-Гусь, новоиспеченный адъютант главнокомандующего, уже все устроил. Коттоло в полной тишине покинули деревню и скрылись во тьме.
ГЛАВА 6
Пленные. — Ора-Ито. — Тотор-стратег. — Поспешишь — людей насмешишь. — Как тебе это нравится?Лагерь арабов раскинулся на плато, окруженном со всех сторон густым лесом. Командир и два его помощника устроились в палатках, а наемники-майенба — под открытым небом. Часовых расставили скорее для перестраховки. Чего бояться в этой глуши? Ждать сюрпризов от туземцев не приходилось. Такого никогда не бывало. Майенба закутались в бурнусы, положили рядом ружья и через мгновение все, как один, спали мертвым сном. Невдалеке кандальными цепями позвякивали пленные. Их привязали друг к другу грубым канатом и разместили в тесном, наскоро огороженном загоне. Шею у многих сдавливали колодки — тяжелые, окованные железом деревянные кольца. Обессилевшие от усталости и палящего зноя, отупевшие от побоев и жестокости конвоиров, бедняги повалились как попало и заснули прямо на голой земле. Кожа под кандалами кровоточила, ныли незакрывшиеся раны, веревки впивались в тело, и каждое движение причиняло невыносимые страдания. Однако, в отличие от европейцев, дикарям неведомы муки душевные. Положение облегчалось тем, что несчастные не осознавали всей глубины постигшего их несчастья, всей бездны унижения, воспринимая бремя испытаний как должное. Женщины терпели лишения наравне с мужчинами. Поначалу они рыдали, кричали, но вскоре затихли, смирившись с неизбежным. Куда их ведут? Что уготовила им судьба? Они не знали этого, да и не стремились узнать, едва помня, что происходило вчера, и не задумываясь о том, что ожидает их завтра, а только молча страдали, содрогаясь от почти животного страха. Быть может, только матери еще вспоминали об отнятых у них силой детях. Но потрясение было столь сильно, что и эти воспоминания скоро улетучились. Женщины спали вповалку. Сон их походил на морок, на тяжелое забытье без сновидений. Ночь укрыла все своим черным покрывалом, и из загона не слышалось больше ни крика, ни хрипа, ни вздоха. Но вдруг среди груды тел кто-то едва заметно зашевелился, но так осторожно, так тихо, что даже охранники ничего не заметили. Один из пленных ценой невероятных усилий сумел высвободить руки и перекусил веревку, связывавшую его с другими. Это был Ора-Ито. Упрямец трудился двое суток, и никто ничего не заметил, включая и тех, кто был рядом с ним. Жажда мести удваивала силы. Затерявшись в толпе, он старался не привлекать внимания охранников, которые к тому же в каждом негре видели лишь скотину. У него на глазах погиб отец Амаба, а потом и мать — какой-то араб со смехом отрубил ей голову. Ора-Ито хотел защитить ее, но был схвачен и связан. Больше от него не услышали ни единого слова. Он не хотел, чтобы арабы узнали, кто он такой. Все мысли, все надежды устремил он отныне в будущее. Сын вождя томба жаждал реванша. За свою короткую жизнь Ора-Ито много путешествовал; он побывал во Французском Конго и дошел до Браззавиля, общался с иностранцами и понял, в чем и почему эти люди превосходят его соплеменников. На какое-то мгновение у юноши даже возникло неодолимое желание догнать чужаков, сравняться с ними. Но любовь к дикой и вольной жизни оказалась сильнее, и он вернулся домой, к знакомым с детства лесам и просторам, где только и чувствовал себя хозяином. Но вот гнев Божий обрушился на Ора-Ито, его схватили и уводят в рабство! Одна мысль об этом бесила юношу. Как это так?! Он, Ора-Ито, человек мыслящий, будет принадлежать кому-то, подобно бессловесной скотине. От него потребуют беспрекословного послушания, ему станут приказывать, его будут бить! Нет! Все покорно подчинились судьбе, но мятежный дух Ора-Ито не знал покоя. Он, один он не смирился, не склонил головы. Он пылал ненавистью, и это придавало сил в борьбе с лишениями и болью. Что ждет впереди? Что станется с ним? Над этим он не задумывался. Единственное, что он знал, что ощущал, что жгло душу, — это сознание того, что отныне он пленник и что главное — отомстить тем, кто погубил его родных. Медленно и осторожно, боясь разбудить соседей, Ора-Ито выбрался из-под груды спящих. Припав к земле, извиваясь по-змеиному, негр дополз до ограды. Никто не пошевелился. Всех свалила усталость. Он ощупывал камни, стараясь найти место, где их удастся раскачать. Все приходилось делать голыми руками, поскольку у него не было ни ножа, ни дротика — ничего. Все отняли охотники за людьми, ибо эти мерзавцы умеют принимать меры предосторожности. Однако Ора-Ито не сдавался, он верил в свои силы и ловкость. Ведь и в плен он попал по чистой случайности. Сын Амабы огляделся и заметил, что с другой стороны загона холм из человеческих тел выше. Негры спали так крепко, что даже не почувствовали, что кто-то наступает на них. Подобно духу-невидимке из негритянских сказок, Ора-Ито взобрался на самый верх и выглянул из-за ограды. Европеец ничего не рассмотрел бы в кромешной тьме экваториальной ночи, но взор дикаря остер. Вон там, внизу, расселся караульный, закутавшийся в бурнус. Юноша прислушался: человек спал. Ора-Ито одним прыжком перемахнул через изгородь и обрушился на часового. Он схватил негодяя за горло, зажал рот, приглушив крик, выхватил у того из-за пояса кинжал и всадил ему в спину по самую рукоятку. Человек вздрогнул последний раз и испустил дух, даже не успев, наверное, понять, что произошло. Ора-Ито беззвучно рассмеялся, потом взглянул на небо. Приближался рассвет. На одно мгновение негр, казалось, заколебался в нерешительности, потянул носом. Грудь наполнил свежий воздух. Воздух свободы! Убежать? Нет. Жажда мести сильнее жажды свободы! Бесшумно пробираясь вдоль изгороди, он вдруг заметил еще одного майенба. На этот раз часовой стоял к нему спиной, опершись на ружье, мечтал, а может быть, молился. Прыжок — и враг повержен. Нож прошел как раз между лопатками. Несчастный успел глухо вскрикнуть… Не услышал ли кто? Ора-Ито, замерев, прислушался. Ему хотелось, чтобы его недруги проснулись. Запах крови пьянил. Убивать, убивать еще и еще! Закалывать бандитов как свиней. Рука не дрогнула бы. Но вокруг было по-прежнему тихо. Судьба хранила смельчака. В стороне что-то белело. Ора-Ито присмотрелся и понял, что это палатки главарей. Ах, если бы добраться до них! Смерти он не боялся, но мысль об унижении, о том, что опять будут бить, не давала покоя. Кровь стучала в висках. Перед глазами плыли красные круги. Забыв об осторожности, Ора-Ито кинулся к палаткам. Но солнце уже поднималось, и его заметили. Грянул выстрел. Тревога! Со всех сторон уже бежали часовые… Тем не менее юноша успел добраться до палатки и оказался между нею и подступавшими майенба. Теперь солдаты боялись стрелять, так как легко могли промахнуться и, пробив ткань палатки, убить кого-то из находившихся там командиров. Но те, разбуженные первыми выстрелами, проснулись и выскочили из укрытия. Ора-Ито услыхал свист пули у виска. В его распоряжении оставались доли секунды. Сделав нечеловеческое усилие, юноша рванулся к только что выстрелившему в него наемнику и его же ятаганом перерезал тому горло. Силы, однако, были неравны. Негр-великан против четверых. Сын вождя сражался как лев. Из рассеченного плеча хлестала кровь, пуля пробила грудь. Но Ора-Ито не упал, не сдался. По лицу блуждала счастливая улыбка. Он отомстил, он убил! Каждый меткий удар, каждая капля вражеской крови наполняла его бешеной радостью. Ему удалось отступить к перелеску, и здесь он снова встретился с противником лицом к лицу. Но это конец. Теперь он пропал! Внезапно раздались резкие оглушительные звуки труб. Майенба разом обернулись и в ужасе бросились врассыпную. Но не тут-то было. Неведомо откуда взявшиеся люди накинулись на них и связали. План Тотора-стратега сработал блестяще. Один лишь Хорош-Гусь точно знал, где располагается лагерь, и пока он, указывая дорогу, вел за собой войско, Тотор придумал обходный маневр: сформировал из четырехсот человек четыре «армейских корпуса» под командованием самого Тотора, Мериноса, Аколи и Ламбоно. Каждый получил особое задание. Коттоло действительно оказались прекрасными воинами. Как Тотор и предполагал, дисциплина была у них в крови. Во главе подразделений по пятьдесят человек поставили капитанов, которые быстро и четко выполняли приказы белых. Восемь отрядов должны были встретиться в назначенной точке в определенное время, окружив плато, где находился лагерь арабов. Но тут из расположения неприятеля донеслись выстрелы, там явно объявили тревогу, однако корректировать план было уже поздно. Коттоло заторопились и подоспели вовремя. Ора-Ито изумленно разглядывал нежданных спасителей. Растерявшиеся поначалу майенба выстроились в каре и принялись палить по наступавшим. Ряды коттоло смешались. Однако в это время раздался грозный окрик Аколи, воины опомнились и снова бросились на ненавистных мерзавцев. Появились Тотор и Меринос. Их карабины раскалились от нескончаемой стрельбы. Бандиты падали один за другим. Неорганизованное сопротивление вскоре захлебнулось. Майенба в панике обратились в бегство. На поле брани оставались лишь сам бен Тайуб, оба его помощника и их слуги. Воистину они были прекрасны, эти люди: бронзовые лица, сверкающие гневом глаза… Тотор не хотел убивать понапрасну. Он подозвал Хорош-Гуся: — Пусть Аколи прикажет взять их живыми! — Невозможно! Негров легко распалить, но сдержать… никогда! — Последнее дело убивать людей, которые не могут защищаться! — Это все ваши европейские штучки! Здесь спокойно прикончат раненого, а если надо, и мертвого еще раз убьют. Коттоло добивали последних майенба. Отступив к палатке, помощник и еще двое остановились, скрестив руки на груди, и хладнокровно взирали на происходящее, видя, как один за другим погибают их воины и смерть подступает все ближе. Они больше не обращали внимания на Ора-Ито. Тяжело раненный, тот еле дышал и, точно загнанный зверь, озирался кругом, не в силах понять, что случилось, откуда явились вдруг все эти люди. У него мутился разум. И тут он заметил трех арабов, направлявшихся прямо на него. Но, подойдя совсем близко, они, похоже, даже не увидели негра. Ненависть и жажда мести овладели Ора-Ито пуще прежнего. Юноша собрал последние силы, крепко сжал нож и хотел подняться, чтобы вонзить его в спину врагу, но не смог, ибо потерял слишком много крови. Тогда он осторожно подполз к арабам и полоснул ножом по ногам одного, другого, третьего… Все трое упали как подкошенные. В это время подбежали Тотор и Меринос. Они хотели помочь несчастному, истекавшему кровью негру. Ора-Ито приготовился нанести удар, но вскрикнул, увидев перед собой недавних гостей и защитников отца. Тотор узнал сына Амабы, склонился к нему и крепко обнял. Прибежал Хорош-Гусь. Ора-Ито что-то говорил на своем языке. — Он благодарит, патрон, желает исполнения всех твоих благородных замыслов и… он умирает… В самом деле, тело Ора-Ито изогнулось, забилось в предсмертной конвульсии, голова запрокинулась. Все было кончено! — Бедный малый! — вздохнул Тотор. — Ты был отважен и силен, а теперь ты ничто. То же, быть может, ожидает и нас. Подошел Меринос. — Друг, — воскликнул он, — это ужасно! Коттоло добивают раненых. А кое-кого расчленяют, чтобы съесть. Надо отдать справедливость Аколи и Ламбоно. Они держали слово, данное белым, и пытались остановить соплеменников… Но что поделаешь с дикой ордой! Коттоло не на шутку разозлились на майенба, и желание отведать свежей человечинки подогревалось ненавистью к предателям, согласившимся служить заклятым врагам и притеснителям туземцев. Тотор и Меринос обезумели от гнева и отчаяния. Растолкав возбужденных негров, они пытались отбить трепещущих от страха раненых. Ламбоно и Аколи честно старались помочь друзьям. Но все усилия были напрасны… — Патрон, — обратился Хорош-Гусь к Тотору, — делать нечего; если мы будем настаивать на своем, сами угодим им в лапы, ибо гнев этих безумцев обратится на нас… — Что ж! Остается только одно — достойно умереть! — Что толку, если мы все умрем? Разве от этого они перестанут быть людоедами? Видишь ли, месье Тотор, поспешишь — людей насмешишь. К тому же, по правде говоря, это и вовсе глупость. Не надейся, ты никогда не сделаешь из них цивилизованных людей. Ведь и меня ты обратил в свою веру не без труда, а я ведь все-таки прошел Монмартр. Неужели ты думаешь, что Аколи не сожалеет сейчас о том, что дал тебе это чертово обещание? Каждому овощу свое время. Они показали себя бесстрашными и дисциплинированными воинами, а это уже много. Прости им их маленькие слабости. — И это ты называешь маленькими слабостями? Людоедство? — Ну, во-первых, человека сначала умерщвляют; а какая кому разница, что с ним делают, когда он уже стал трупом? В сущности, если закрыть глаза на циничность сказанного, колдун был недалек от истины. Тотор отдавал себе отчет в том, что абсолютно бессилен против вековых обычаев. Он взглянул на Мериноса. Бедняга побледнел и едва держался на ногах. Нужно было поскорее увести его отсюда, чтобы не видеть отвратительного зрелища. — Пойдем! Мы за тобой! — сказал Тотор Ламбоно, и все трое направились к загону. Их взору открылась страшная картина. Пленных было человек сто. Разбуженные криками и стрельбой, не понимая, что происходит и будучи не в состоянии освободиться от пут и оков, люди пытались подняться на ноги, но тут же падали, давя друг друга. Увидев Тотора, Мериноса и Ламбоно, пленники решили, что настал их смертный час, и завопили на разные голоса. Хорош-Гусь уговаривал, объяснял, утешал. Все трое принялись распутывать веревки, сбивать кандалы. Работа оказалась не из легких и заняла немало времени. Когда друзья взялись за ножи, негры подумали, что их всех сей же час перережут. — Как жаль, — вскричал Тотор, — что я не могу свободно говорить с ними. Чему только нас в школе учат, я вас спрашиваю! Ни языка коттоло, ни языка томба мы не знаем! Освободившись от оков и пут, некоторые бедняги хотели бежать. Тогда Хорош-Гусь снова принялся успокаивать негров, уверяя, что им желают только добра. Измученные люди боязливо жались друг к другу, а Хорош-Гусь продолжал увещевать… Внезапно самых сообразительных словно осенило… Наконец негры поняли, что свободны и что спасли их белые. Радость дикарей была столь же беспредельна, как минуту назад горе и отчаяние. Они бросились к ногам спасителей, целовали колени и непрестанно что-то кричали. — Так собака виляет хвостом при виде хозяина, — заметил Тотор. Немного успокоившись, негры признали и своего колдуна Ламбоно. Теперь они были уверены в том, что бог Хиаши спас их, прислав колдуна и того белого, которого Ламбоно слушается и от чьего имени говорит. А может, тот белый и есть сам бог Хиаши? Кто знает… С детской наивностью томба тут же пустились в пляс. Женщины забыли о недавних страданиях и даже о потерянных детях. Глаза их светились счастьем и благодарностью. — Что нам со всеми ними делать? — недоумевал Тотор. — Управлять ими, полагаю, не так-то просто. Воют, рычат, точно дикие звери, а секунду спустя поют, резвятся и кротки, как невинные ягнята. — Внимание! — насторожился Хорош-Гусь. — Коттоло что-то примолкли. К чему бы это? — Пойдем посмотрим, — ответил Тотор, всегда готовый идти вперед. — Нет, нет! — испуганно закричал колдун. — Дай-ка я сам! Что-то испугало Ламбоно. Кто-кто, а он хорошо знал этих бестий и первого — Аколи, и боялся, что Тотор может прийти не вовремя и застать ужин по-африкански в полном разгаре. Тогда горячая голова снова полезет на рожон и придется выручать его. Ламбоно быстро вскочил на плечи какого-то негра и выглянул за ограду. Однако то, что увидел Хорош-Гусь, превзошло все его самые смелые ожидания. Аколи удалось-таки призвать своих людей к порядку. Что он им сказал? Каким образом вождь дикарей, еще вчера сам бывший первым гурманом среди каннибалов, смог прервать кровавое пиршество? Варвары на редкость умеют быть преданными. И Аколи лишний раз доказал это. Он стал кровным братом Тотора, подчинился победителю, уступил ему свой титул, а значит, обязан был держать слово, обязан был слушаться. Аколи вновь завоевал прежний авторитет и поставил его на службу хозяину, нашел нужные слова, построил коттоло в шеренгу, разделил, как прежде, на отряды, назначил капитанов (он называл их «окри») и занял место во главе войска. Трупы исчезли; их, очевидно, спешно закопали где-нибудь неподалеку. Негры сложили палатки, поймали лошадей и, что особенно поразило и обрадовало Ламбоно, погрузили на них трех арабов, которых не успели прикончить. Уникальный факт в истории негритянских войн! На остальных лошадей взвалили оружие, провиант и боеприпасы. И что уж вовсе не поддавалось объяснению, так это то, что тело Ора-Ито положили на импровизированные носилки и четверо коттоло вызвались нести их в деревню. Ламбоно страшно обрадовался, потому что понимал, что сие внезапное превращение каннибалов в «порядочных» (по понятиям белых) людей доставит удовольствие его кумиру, его идолу Тотору. Хорош-Гусь крикнул белым: — Бегите оба сюда! Увидите, что мы не так уж свирепы, как вам кажется! Друзья не поверили своим глазам. В самом деле, даже в оснащенном наисовременнейшей техникой театре такую молниеносную «чистую перемену» увидишь не всегда. Аколи махнул рукой, и армия встретила своих предводителей восторженным приветствием. Освобожденных распределили по отрядам, и через полчаса войско направилось к деревне коттоло. Тотор, Меринос и Аколи ехали верхом, а Хорош-Гусь пешком возглавлял процессию, лихо отбивая ритм, как заправский тамбурмажор[49]. — Эй, приятель! — усмехнулся Меринос, взглянув на Тотора. — Ты похож на цезаря, возвращающегося с триумфом в свою столицу. — Коколь! Коколь! — хором провозглашали коттоло и томба. — Ну, как тебе это нравится, патрон? — спросил Хорош-Гусь, весьма непочтительно ухмыляясь. — Надолго ли их хватит, хотелось бы мне знать, — философски промолвил Тотор.
ГЛАВА 7
Белый пленник. — Йеба — настоящий ангел. — Сын Фрике. — Сапожник с улицы Сен-Совер. — Друзья детства. — Я царствую! — Пятеро корешей!Войско возвратилось в лагерь. И здесьнастроение негров вновь изменилось. Если по дороге радость победы пьянила, люди возбужденно переговаривались, отовсюду доносился веселый смех, то теперь все как будто преисполнились сознанием серьезности момента. Хорош-Гусь и колдун-коттоло взобрались на самую вершину бугра, служившего жертвенником, и обратились к народу с пламенными речами. Толпа внимала в благоговейном молчании. На Тотора и Мериноса все смотрели как на богов и пикнуть не смели, чтобы не осквернить их слух. Лишь шепот восхищения и признательности пробегал порой по рядам воинов, одержавших победу, о которой никто здесь и мечтать-то прежде не смел. Женщины плакали от радости и в исступлении тянули руки к триумфаторам. — Они, однако, порядком утомили меня, — проворчал Тотор. — Поспать бы, черт побери! А то в пояснице стреляет. Хорош-Гусь, вели им оставить нас в покое. Свой восторг они продемонстрируют позже, когда я высплюсь и поем. Пусть пока займутся пленными томба. Глянь, какие доходяги! О них необходимо позаботиться, накормить, ну и всякое такое. Меринос, а нам пора на боковую. Не успел Хорош-Гусь перевести коттоло слова Тотора, как они уже кинулись выполнять приказ и мгновенно разобрали томба по своим хижинам, ибо законы гостеприимства для варваров священны. — Не беспокойся, патрон. Их накормят до отвала, и завтра они будут как огурчики. Ламбоно прервался на полуслове, ибо кто-то вдруг подбежал к нему и бросился на шею. — А! Йеба! Красавица моя! — воскликнул Тотор и взял девушку за подбородок. — Видишь, крошка, я доставил твою обезьяну в целости и сохранности. Ну же! Улыбнись дяде! Йеба не поняла ни слова, но в ответ на приветливую улыбку лицо ее озарилось счастьем, а в глазах сверкнули лукавые огоньки. Но тут Тотор хлопнул себя по лбу: — Кстати, Хорош-Гусь, узнай-ка, что сталось с тем белым, которого мы велели ей охранять и выхаживать. Хорош-Гусь перевел Йебе вопрос, и она объяснила, что белый чувствует себя очень хорошо, хотя поначалу ей пришлось изрядно потрудиться. Рана на голове не очень серьезна, но он потерял много крови. Его подобрали полумертвым. Беднягу изрядно помяли. Хорошо, что благословенные спасители подоспели вовремя и вырвали его из лап смерти. Лечение и заботливый уход сделали свое дело. Человек пришел в себя и заговорил. Правда, чернокожая сестра милосердия ровным счетом ничего не поняла. — Йеба просит тебя, патрон, зайти к больному буквально на одну минутку, поскольку он еще очень слаб. Ему будет приятно увидеть белого. — Тысяча чертей! — взревел Тотор. — Поспать в этом сумасшедшем доме мне так и не дадут! Но Йеба подошла к нему и, нежно взяв за руку, увлекла за собой. — Ты надеешься, моя птичка, разжалобить такого твердокаменного болвана, как я? Ну что ж! Идем. Меринос, за мной! Не повалишься же ты спать, когда твой друг вынужден бодрствовать! А ты, Хорош-Гусь, приготовь чего-нибудь перекусить. А потом — в постель! — Есть, патрон! Все сделаю в лучшем виде, пальчики оближете. — Итак, дружище Тотор, нам удалось то, что еще никому здесь не удавалось. Доволен ли ты наконец? — спросил Меринос, пока Йеба вела их по деревенской улице. — Ты отныне король, Цезарь, Александр Македонский, Наполеон. — Эх, старина, — философски протянул Тотор. — Я слишком утомлен, чтобы думать о двух вещах одновременно. Король? Возможно! Только какой-то придурковатый. Сделай милость, не говори со мной о политике! Впрочем, догадываюсь, тебе, презренный интриган, тоже не терпится заполучить какую-никакую должностишку. Министра внутренних дел или министра торговли? Выбирай! А лучше хватай все разом. Забирай портфели и оставь меня в покое! Смеясь и подкалывая друг друга, друзья добрели наконец до той самой хижины, где томились еще совсем недавно и откуда им удалось сбежать. Йеба вошла первой и указала на человека, лежавшего на ворохе сухого папоротника. Он как будто дремал. Рядом коттоло свалили его вещи: карабин, портупею с прусским орлом. Немец! Какой дьявол занес его в эти края? Неожиданное открытие огорчило Тотора. Слишком много ужасного пришлось ему в свое время слышать о немцах, особенно в тот проклятый год поражения. Однако как бы то ни было, а человек есть человек. К тому же здесь, в Африке, все белые — братья. Мужчина не шевелился. Тотор тронул его за плечо. — Эй! Приятель, повернись-ка! Дай-ка взглянуть на тебя. Незнакомец резко обернулся. Лицо наполовину прикрывала повязка. Раненый едва успел взглянуть на вошедших, как сквозь распахнутую настежь дверь прямо в глаза ударил луч солнца. Он зажмурился и прошептал: — Was ist das?[50] — A-а! Стало быть, ты бош! — сказал Тотор. — Sind Sie Französen?[51] — Француз, француз, детка! Тебе это не по нраву? Незнакомец задрожал с головы до пят, а потом вдруг пронзительно завопил на чистом французском языке: — Французы! Но ведь и я француз! — Шутишь! Почему же форма на тебе немецкая? — Это ничего не значит! Я больше чем француз — я эльзасец! — Но ты немецкий солдат? Раненый сел и воззрился на Тотора. — Неужели я спятил? Это какой-то кошмар! Ты здесь, ты говоришь со мной? Быть не может! Если я не ошибаюсь, ты Гюйон, сын Фрике! — Проклятье! Вот так номер! Разве мы знакомы? — Да! Да! Посмотри на меня внимательнее! Погоди, сдвину повязку, она мне пол-лица закрывает. Ну, смотри! Тотор нагнулся и стал внимательно вглядываться в лицо незнакомца. — Вспомни: Монмартр, мы играем на мостовой, а потом получаем подзатыльники от отцов, потому что нас никак не загонишь домой. — Постой! Постой! — Тотор неистово тер лоб, силясь хоть что-нибудь вспомнить. — У меня мозги расплавились. Как зовут твоего отца? — Фриц Риммер. Тотор всплеснул руками: — Сапожник с улицы Сен-Совер! — Конечно! Мы ведь дружили с тобой тогда! — Старина Ганс! Я узнаю тебя. Ну ты подумай! С холмов Монмартра да в столицу коттоло! Господи! Это действительно ты! Здорово! Если б знать, я не то что один — десять раз спас бы тебя. Друзья взялись за руки и не отрываясь смотрели друг другу в глаза. В памяти всплывали годы детства. О! Это была парочка что надо, гроза всей округи. Дни напролет возились они в сточных канавах и вечерами возвращались домой мокрые и чумазые. — Но как очутился здесь мой отважный француз? Что ты тут делаешь? — Я, — прыснул Тотор, — царствую… Недавно. Сколько все это продлится, понятия не имею. Я, дражайший Жан[52], король коттоло, а мои возлюбленные подданные — это как раз те, кто норовил тебя сожрать. — Но это не объясняет… — Все разъяснится со временем. Хотелось бы услышать и твою историю, но не сейчас. Я совершенно разбит, с ног валюсь, надо отоспаться. Да! Позволь представить тебе моего друга Мериноса. — Тоже француз? — спросил Жан (которого мы отныне будем именовать именно так), протянув руку. — Американец, янки, так сказать, — пояснил Тотор. — Но добрый и отважный малый. Ручаюсь! Пожмите друг другу руки, и айда спать. Кстати, Жан, не прикажешь ли перенести тебя в мой дворец? У меня есть дворец — все, как у настоящего короля, ни больше, ни меньше. И он в полном твоем распоряжении. Или предпочитаешь остаться? — За мной здесь отлично ухаживают, — ответил Жан. С этими словами он взглянул на Йебу, а та лишь улыбнулась в ответ. — Понял! — сказал Тотор. — Только не очень-то строй глазки Йебе. Не то мой военный министр господин Хорош-Гусь из тебя отбивную сделает. — Нет, нет, не бойся. Но должен признать, что она нежна, как хлеб… черный! Ладно! Ты едва на ногах держишься, да и твой товарищ тоже. У меня от долгих разговоров голова отяжелела. Пора отдохнуть. Ступайте. Еще одно, дорогой Гюйон… — Называй меня, как все, Тотором. — Охотно. Я хотел сказать, что, когда узнаешь мою историю, убедишься в том, что, несмотря на форму, я хороший француз. — Не бери в голову. Для меня достаточно твоего слова. Ты всегда был честен и искренен; звезд с неба, может, и не хватаешь и пороха не изобретешь, зато добрый и справедливый малый. Я счастлив, что оказал тебе услугу, может, и ты когда-нибудь поможешь мне. В это мгновение на пороге появился Хорош-Гусь в костюме колдуна. Он комично склонил голову и произнес: — Не соизволит ли его величество Коколь пройти со мной в свои апартаменты? — Конечно. Хорош-Гусь, взгляни на этого парня! Он твой должник. Не мне, а тебе он прежде всего обязан тем, что его не съели. Тебе первому пришло в голову встать на его защиту. Это мой давний товарищ, друг. Понимаешь? — В мое время на Холме говаривали — кореш. — Именно! Послушай, он — это я, я — это он. Служи ему верой и правдой, как служишь мне. Отныне нас, благородных людей, пятеро: Меринос, Жан, Хорош-Гусь, Йеба и я. Ну и наделаем мы тут дел! Поклянемся же никогда не расставаться. А дел для нас, полагаю, найдется немало. Растроганные и смущенные гораздо больше, чем им хотелось бы показать, друзья еще раз пожали друг другу руки. Тотор и Меринос направились вслед за Хорош-Гусем в королевские покои. Признав Тотора законным вождем, доблестный Аколи уступил ему свой дом. И хотя на настоящий дворец это жилище, строго говоря, походило мало, все же оно было не лишено некоторого шика. Пол и стены устилали звериные шкуры, в углу стояла постель с мягкой периной, разве что постельного белья недоставало. Но Тотора подобные мелочи не занимали. Едва добравшись до кровати, он повалился навзничь, сладко потянулся и через секунду спал непробудным сном. Точь-в-точь как спал Наполеон после сражения под Аустерлицем! Меринос тотчас последовал примеру друга. Хорош-Гусь с минуту постоял на пороге. — Бравые ребята! — прошептал он и на цыпочках вышел на улицу.
__________
Друзья проспали восемнадцать часов! Зато проснулись отдохнувшими, полными сил, со свежей головой. И со зверским аппетитом. Хорош-Гусь пришел от Аколи с приглашением на королевскую трапезу. Бывший вождь и Хорош-Гусь вытянулись в струнку в ожидании, пока монарх и его первый министр отужинают. Заметив это, Тотор возмутился: — Так не пойдет! Давайте-ка по-семейному. Лопать — так лопать вместе! Он потянул Аколи за руку, принуждая сесть рядом. Негр сопротивлялся. — Что это значит? К чему ломаться? Или ты сейчас же сядешь, или я тебе ноги переломаю! Хорош-Гусь сквозь смех перевел Аколи приказ повелителя, и дружеская угроза заставила того подчиниться. — Только вот что, — произнес Тотор, — переведи, чтобы он не вздумал нализаться, а не то я рассержусь! Теперь, Хорош-Гусь, сходи и приведи сюда Йебу и моего друга, если он, конечно, сможет и захочет прийти. Вы сядете напротив. На шестерых здесь места как раз хватит. Ну, чего стоишь? Отправляйся! Хорош-Гусю не требовалось повторять дважды. Одна нога здесь, другая — там. Пять минут спустя он привел Жана Риммера. Тот был еще слаб и опирался на плечо Йебы. О! Негритянка успела принарядиться. Еще бы — королевский ужин не шутка. Она так важничала, что Тотор так и покатился со смеху. Наконец ужин начался. Тотор попросил Жана рассказать о том, какой злой рок привел его в немецкую армию, да еще в Африке. Они услышали рассказ о несправедливости, о страданиях и унижениях, рассказ, полный гнева, боли и отчаяния. Жану удалось раскрыть заговор Али бен Тайуба и лейтенанта фон Штерманна. — Как! — вскричал Тотор. — Ты точно знаешь, что этот негодяй помогает работорговцам в их черных делах? Жан кивнул. Он давно подозревал что-то неладное. Немец промышлял контрабандой оружия, продавая его арабам. А визит бен Тайуба за несколько часов до кровавой бойни окончательно развеял все сомнения. Разве Жан не видел собственными глазами, как лейтенант расстреливал невинных детей? Разве не по его приказу солдаты преградили путь тем несчастным, что хотели спастись на немецкой территории? — Матерь Божья! Я забыл о субординации и дисциплине, бросился на грязного убийцу, но он выстрелил мне в голову из револьвера. Слава Богу, черепок у меня крепкий! Пуля только поцарапала кожу, и я пришел в себя. Смотрю — вокруг никого. Конечно, меня сочли мертвым. Есть только один человек, который стал бы плакать обо мне. Тоже эльзасец, немец, но отважный и честный парень, зовут его Петер Ланц. Ах, как бы я хотел, чтоб он поскорее демобилизовался и исполнил свое обещание: поехал бы к моему бедному старому отцу и рассказал обо мне. Бедняга запнулся. Ком в горле не позволил ему продолжать, да и вообще Жан был еще очень слаб… — Гляди веселей! — подбодрил Риммера Тотор, который терпеть не мог меланхолии. — Все обошлось. Ты жив, а остальное приложится. Счастливый случай свел нас всех вместе. Я — король, а значит, по крайней мере еще несколько дней, у нас будет еда и крыша над головой. Погодите! Мы еще провозгласим здесь республику. Король, король! Пакость какая! Идиотский титул! Президент Республики коттоло — вот это дело! Ай да Тотор! Даже Аколи, которому Хорош-Гусь попытался перевести и объяснить слова Тотора, смеялся до упаду. Да, под счастливой звездой началось царствование Тотора-Коколя!ГЛАВА 8
Префекту посвящается. — На прусский манер. — Вечный Жид. — Победа или смерть! — Триумфатор.Четыре недели пронеслись, точно четыре волшебных столетия. — Скажи, Тотор, — начал как-то Меринос, прогуливаясь по деревне коттоло под руку со своим приятелем-монархом, — как ты думаешь: путешественник, побывавший здесь месяц назад, узнал бы эти края теперь? — Любишь, когда тебя хвалят? — отозвался Тотор. — Речь не обо мне. Да или нет? Согласись, тут все преобразилось. Так чисто… — Словом, парижской префектуре не мешает прислать сюда своих архитекторов поучиться уму-разуму. Вокруг действительно творились чудеса. Меринос взвалил на себя тяжкую обязанность — отвечать за расчистку деревни коттоло. Результат превзошел даже самые смелые ожидания. В считанные дни американец выучил несколько слов, необходимых для того, чтобы руководить работами. Ни коттоло, ни томба задуманное белыми не пришлось по вкусу. Они уважали в своем прошлом все, даже страшные и темные его стороны, и предпочитали десятилетиями ничего не менять. Повсюду валялись груды мусора, нечистоты сливали прямо возле домов, так что вдоль деревенских улиц журчали мутные, зловонные ручьи. Когда припекало тропическое солнце или порывы ветра возвещали о приближении бури, становилось нечем дышать. Уполномоченный высшим властителем, Меринос заставил коттоло повиноваться кого силой, кого убеждением. С помощью местных кузнецов он наладил производство лопат и вооружил ими подданных Тотора. Корзинщики вязали метлы, и мало-помалу территория и впрямь заметно преобразилась. Дело дошло до интерьеров. Инспектор здравоохранения Меринос заходил в хижину, прикрыв нос платком, и заставлял хозяев скоблить, мести, мыть. Вскоре сами коттоло, их жилища, домашняя утварь и улицы заблестели, как новенькие монетки. Кое-кто возмущался, мол, кощунство, святотатство. Однако оба колдуна — Хорош-Гусь и Наир-Вазим — просвещали недовольных. Меринос работал наравне с остальными, показывая всем пример. Он собственноручно, вооружившись американской щеткой, принялся отмывать и самих дикарей. Первая жертва выворачивалась и визжала, точно испуганный поросенок. Но Меринос знать ничего не хотел, и вымытый, выдраенный, выскобленный негр два дня прятался от сородичей, стыдясь своей чистоты. И лишь убедившись в том, что никого не минует чаша сия, сдался, а вскоре стал первым в деревне поборником санитарии и гигиены. Король Коколь потихоньку распорядился уничтожить столб для казней. Однако, храня верность английской системе, требовавшей уважать веру покоренного народа, устроил для Хиаши, которого представлял на земле, достойный божества алтарь. Совмещая духовную и светскую власть, Тотор был для туземцев и папой и императором. А что же Хорош-Гусь? Отошел в сторону? Ничуть не бывало! Получив портфель военного министра, заручившись поддержкой умного и бесконечно преданного Аколи, он решил превратить деревню коттоло в неприступную крепость. В то время как женщины наводили чистоту, Ламбоно превратил мужчин в заправских землекопов. Они вырыли рвы, соорудили укрытия, возвели редуты по всем правилам фортификационной науки. Коттоло-Сити превратился в укрепленный лагерь, надежно защищенный целой системой земляных валов и готовый выдержать любую осаду. Но и это еще не все. Помимо принадлежавших белым карабинов, в распоряжении короля Коколя оказались трофеи, приблизительно около пятидесяти единиц огнестрельного оружия. Как только Риммер окончательно поправился, Тотор, посовещавшись с друзьями, поручил Жану, превзошедшему прусскую военную науку, особо важную миссию — генерального инструктора по строевой подготовке и стрельбе. В помощники инструктору прикомандировали Аколи. Зачарованный небывалыми чудесами белых, экс-вождь служил им верой и правдой. Работа спорилась. В гвардию отобрали самых красивых, рослых и сильных мужчин. Жану предстояло сделать из них солдат. Когда негры впервые взяли в руки ружья, да нажали курки, да раздался неимоверный треск, Боже правый, что с ними сталось! Подскочив на месте, они попадали на землю и, точно испуганные страусы, зарылись головой в песок. Но армия есть армия. Вторая попытка, третья… Жан отдавал команды четко и невозмутимо. Нельзя было удержаться от смеха, когда совершенно голые чернокожие верзилы прилежно чеканили шаг, стараясь не сбиться с ритма и тянуть носок. И — честное слово! — им это неплохо удавалось. Они научились стрелять с любой позиции, метко целились, а главное — до такой степени привыкли к звуку пальбы, что пришлось применить силу, чтобы заставить этих взрослых детей расстаться со своими огнестрельными игрушками, когда пришла пора обучать новую партию. Йеба тоже не сидела сложа руки. Превосходная хозяйка, она охотно передавала опыт женщинам племени. В общем, жизнь потихоньку налаживалась. Но вот загвоздка: через две недели после счастливого воцарения короля Коколя наступил срок народного праздника, когда по традиции богу Хиаши приносили в жертву человека. Обычно охотники подкарауливали в округе какого-нибудь заплутавшего бедолагу из соседнего племени. Если же они возвращались ни с чем, Наир-Вазим, свершив варварский обряд, сопровождаемый омерзительными жестами и нелепыми заклинаниями, выбирал искупительную жертву среди самих коттоло. Итак, всякий раз мужчины покидали деревню в поисках страшной добычи. Они знали одно: то, что должно произойти, должно произойти, — и, встретив в лесу подгулявшего пьянчужку, радовались как дети. Часто это был один из тех персонажей, которые играли здесь, в сердце Африки, ту же роль, что аэды[53] в Древней Греции или трубадуры в средние века. Некто. Неизвестный. Вечный Жид[54]. Он не коттоло, а значит, его можно спокойно съесть. К тому же, не будь его, колдун укажет на кого-то из соплеменников. И что же? Акция эта носила даже некий патриотический характер. Чужак и есть чужак. Чужака не жалко. На этот раз все держали в такой тайне, что ни Хорош-Гусь, ни даже Наир-Вазим ни о чем не подозревали. И лишь нараставший гул и неистовые крики возвестили Тотору и его друзьям о возвращении удачливых охотников. Первым о случившемся узнал Аколи. Сначала он подумал было ничего не говорить Тотору. Ведь жертвоприношение могло свершиться тайно, и все бы обошлось. Да и сам он еще не так уж и далеко ушел от своих сородичей, чтобы пренебречь древним обычаем. Но вот что удивительно: дикарь уважал свое слово, быть может, сильнее, чем иной джентльмен. Откуда это в нем? Какой неведомый атавизм[55] управлял его действиями и душой? Аколи решился, и Тотор узнал правду. Оказалось, в заговоре принимали участие все коттоло, даже самые с виду покладистые. Хорош-Гусь, Меринос и Жан собрались на совет. Но поскольку мнения разошлись и дискуссия затягивалась, кипевший от возмущения Тотор прервал дебаты: — Только через мой труп! Или я, или этот человек! — отрезал он сухо. — Хорош-Гусь, где они его держат? — В хижине одного старика. — Прекрасно! Проводи меня туда! — Ты не можешь идти один, патрон! — Именно один! — Ты смертельно рискуешь! — Можно подумать, в первый раз! Достаточно дискуссий. Я король и требую, чтобы мои приказы выполнялись беспрекословно. Хватит пререкаться! Вечерело. Пройдет каких-нибудь два часа, и свершится кровавое злодеяние. Тотор показался на пороге один, с непокрытой головой. Он подошел к главной площади, утоптанной и ровной, как паперть у собора Парижской Богоматери. На плацу царило заметное оживление. Завидев короля Коколя, коттоло громко приветствовали его и как ни в чем не бывало окружили обожаемого монарха, уверенные в его полном неведении. Безоружный Тотор с невозмутимым видом двинулся сквозь толпу. Его пропускали, но бросали вслед обеспокоенные взоры. Сомнений не было: он направлялся прямо к той самой хижине, где ожидала своей участи несчастная жертва. Возле хижины лениво слонялись несколько коттоло с пиками (ружья им не доверяли). Глядя на них, можно было подумать, что они оказались здесь случайно и просто вышли поразмять ноги. Заметив приближающегося Тотора, часовые насторожились и сделали шаг вперед. Король смерил их презрительным взглядом, подошел к двери и резким движением открыл ее. На земле сидел сморщенный, плешивый старикашка с отвислой губой, а за его спиной виднелось нечто бесформенное. Это был накрепко связанный человек. Несчастный увидел Тотора, и ужас исказил его черты. Но ведь это белый! Белый не может быть палачом. — Help! Help! — завопил он. Это английское слово означало: на помощь! Захлебываясь, путая английские, французские, немецкие слова, незнакомец молил о пощаде. Тотор расспросил беднягу и узнал, что это бродячий певец и странствует он по Черной Африке, никому не причиняя зла, он жил во Французском, в Бельгийском Конго, в Камеруне, в Дарфуре[56], поэтому говорит понемногу на всех языках. Он знает, что его ждет, и просит, умоляет… — Хорошо! — сказал Тотор, быстро развязав и освободив пленника. Старик сопротивлялся, грозил кулаком и кричал что-то нечленораздельное. Тотору пришлось ударить его, чтобы заставить замолчать. Тотор распахнул дверь, и в кроваво-красных лучах заходящего солнца на пороге показались двое; король был спокоен, только суровая складка перерезала лоб; второй чужеземец дрожал всем телом, глаза его беспокойно бегали, в лице не было ни кровинки. Перед Тотором собралась разъяренная толпа. Не добрый народ, не славные верноподданные, но дикая орда предстала теперь перед королем коттоло. «Да, старина, — сказал он сам себе, — держись! Будет жарко!» И, обернувшись к своему протеже, бросил: — Не вмешивайся! Не отставай и доверься мне. Тотор двинулся вперед с таким торжественным и важным видом, будто возглавлял триумфальное шествие. Толпа взревела. Тотор поднял голову, и молнии сверкнули в его очах. Коттоло невольно содрогнулись. Король все-таки! Однако с ним пленный, их добыча… О! Бедняга не отличался геройским поведением. Съежившись, как бы уменьшившись в размерах, точно хотел уместиться в мышиной норке, он семенил за Тотором. А из толпы тянулись жадные руки, готовые разорвать, растерзать его… Заметив это, Тотор молниеносно схватил несчастного за пояс и изо всей силы толкнул прямо в толпу, так что растерявшиеся коттоло расступились. Мгновение они колебались. Но нетерпение перебороло страх. Этот человек принадлежал им. Толпа набросилась на Тотора. Казалось, спасения нет. Но сын Фрике дрался как тигр. Толпа поглотила его, но когда расступилась, на земле валялось человек десять. Тотор работал головой, руками, ногами, и негры, скуля от боли, падали и падали под его ударами. Парижанин собрал последние силы. Он призвал на помощь все свое умение и ловкость боксера. Победа или смерть! Третьего не дано. И он одержал еще одну победу.
ГЛАВА 9
Разговор. — Шпионы. — Комо совершает побег. — Тотор мечтает.Ошеломленные, беспомощные перед непостижимой силой, таившейся в теле довольно хрупком, даже тщедушном, коттоло отступили. Это — сверхчеловек! Они боялись его. Друзья Тотора наблюдали за схваткой с порога королевской хижины, в любую минуту готовые броситься на помощь. Но Меринос, опасаясь, как бы не вышло хуже, удержал их. Он знал Тотора, верил в него и все же был бледен как мертвец. Король Коколь крепко взял за руку пленника и не торопясь, рассекая толпу грудью, двинулся вперед. Коттоло испуганно расступались. Никто не решился напасть. Через несколько мгновений его встретили горячие дружеские объятия. — Пропусти этого везунчика, — обратился Тотор к Мериносу. — Поговорим. Прежде чем войти в хижину, он обернулся. Коттоло держались на безопасном расстоянии, однако не расходились. Тотор подозвал Хорош-Гуся. — Тебе произносить речь. Объясни этим тварям, что всякий раз, как они попробуют снова устроить охоту на человека, я буду устраивать им такую взбучку, что света белого невзвидят. Если они голодны, завтра я загоню для них слона. И пусть не бузят! — Мне нужен Аколи! — сказал Хорош-Гусь. Все это время вождь коттоло старался соблюдать нейтралитет. Кто-кто, а он испробовал силу Тоторовых кулаков на собственной шкуре и больше не хотел рисковать. Ламбоно подал ему знак. Один голос — хорошо, а два — лучше и для коттоло убедительнее. Ораторы соревновались в красноречии, стремясь объяснить дикарям, что рассуждать — не их дело. Желание короля — вот единственный закон. Нарушивший его пожалеет о содеянном. — Это последнее предупреждение! — добавил Хорош-Гусь. — Вот увидите, цацкаться с вами не станем. А ну-ка! Три-четыре: Да здравствует Коколь! Все в один голос повторили. Лед тронулся. Коттоло кинулись было к хижине, чтобы еще раз приветствовать и поносить на руках обожаемого Коколя, но Тотор отказался наотрез: — Оставьте меня в покое! Пусть убираются! Монарх выразительно махнул рукой, чтобы провинившиеся подданные без перевода поняли сказанное. — Уфф! — Тотор раскинулся на постели. — Дьявольщина! На мне будто дрова возили. Ну и здоровые же эти негры! Не возражаете, если я немного вздремну? — Позволь, патрон, я чуточку побалакаю с этим парнем? — Сколько угодно! Аколи и Жан отправились приводить в порядок деревню, Тотор мигом захрапел, а Хорош-Гусь повернулся к пленному. — Подойди поближе! Дай на тебя поглядеть. Тот испуганно озирался, все еще не веря, что опасность миновала. Ламбоно велел незнакомцу сесть, сам устроился напротив и воззрился на него своими колючими, хитрыми глазками. — Как тебя зовут? — Комо. — Из какого племени? — Не из какого и из всех сразу, — с трудом проговорил Комо. Хорош-Гусь, не долго думая, влепил ему такую затрещину, что бедняга чуть не упал. — Будешь отвечать как следует?! А не то я тебе все ребра переломаю. Комо устало опустил голову. — Я совершенно разбит. — Ага, потому что другой рисковал жизнью ради тебя! Ладно, не придуривайся! Ты прекрасно слышишь меня, и сил у тебя достаточно, чтобы отвечать. Итак, твое имя — Комо. Где родился, говорить не желаешь. Пойдем дальше! Что это ты делал возле нашей деревни? — Ничего. Шел мимо и пел. Хочешь, спою тебе красивую песенку? — Не сейчас, милый, не сейчас. Всему свое время. Откуда ты шел? Комо назвал деревню, о которой Хорош-Гусь услышал впервые. — В какой это стороне? Комо показал на запад. — Э-э! Там Камерун! — Нет, нет! — вскричал Комо. — Не совсем там! — Что это ты так разволновался? Здесь ли, там — один черт. Отвечай прямо, знаешь ли ты бен Тайуба? — Я? Понятия не имею! Кто такой бен Тайуб? Комо, похоже, не на шутку забеспокоился. Вялость его как рукой сняло, ответы были четкими и ясными. Хорош-Гусь по-прежнему разглядывал незнакомца самым откровенным образом. — Ха-ха! Ты — бродячий певец, идешь куда глаза глядят, но никогда не слышал ни о бен Тайубе, ни тем более о Си-Норосси. Все знали, что Си-Норосси — султан Н’Беле, то есть истинный главарь бандитов, державший в руках всю Центральную Африку, лютый враг европейцев, готовый на любое предательство, на любое преступление. Комо медлил с ответом. — Си-Норосси! — наконец проговорил он. — Да! Однажды его люди гнались за мной буквально по пятам, так что мне едва удалось убежать. Голос его звучал ровно и естественно. — И это все? — ухмыльнулся Хорош-Гусь. — Удивительно! Мне рассказывали, что тут повсюду рыщут шпионы в поисках племен, где можно поживиться. — Я ничего об этом не знаю! Я всего лишь несчастный бродяга. Мое дело — песни. Хожу и ищу, где бы поесть да поспать. К чему все эти расспросы? Ты мне не доверяешь, но разве я виноват в том, что оказался здесь? Твои люди напали на меня, связали, избили! Я вовсе не искал встречи с ними. Хорош-Гусь слушал очень внимательно. Все услышанное вполне походило на правду. Вот только с виду Комо мало напоминал бездомного скитальца, к тому же был явно умнее, чем хотел показаться. — Ладно! Отдыхай, — сказал Хорош-Гусь. — Завтра мы продолжим наш разговор, и, если ты будешь морочить мне голову, берегись! Ламбоно отвел Комо в угол, неподалеку от своей собственной лежанки, чтобы тот был все время под присмотром. Комо послушно улегся на солому там, где велели, и через несколько минут спал сном праведника. Между тем все стихло. Хорош-Гусь, Жан и Меринос в последний раз обошли деревню. Коттоло безропотно покорились силе. Они видели в Тоторе существо сверхъестественное и боялись его. А страх, как известно, лучший способ держать подданных в повиновении. Королевскую хижину заперли. Тотор крепко спал и не пошевелился даже тогда, когда мучимый черными мыслями Хорош-Гусь попытался разбудить его. Что и говорить, доблестный сын Фрике заслужил отдых. Схватка утомила его, и лишь добрый сон мог восстановить силы. Вокруг все спало.
__________
На рассвете всех разбудил пронзительный крик. Вопил что есть мочи не кто иной, как Хорош-Гусь. Тотор и Меринос подскочили как ошпаренные. — Что? Что случилось? Атака? Бунт? — Да нет! — отвечал Хорош-Гусь. — Просто я распоследний кретин! Вот что случается, когда не доверяешь собственным мыслям! — Каким мыслям? Что ты кретин, невооруженным глазом видно, но все же почему? Что ты натворил? Хорош-Гусь хватался за голову и в ярости топал ногами, как капризный ребенок. — Этот каналья Комо сбежал! — Кто такой Комо? — Да твой протеже, патрон! Человек, ради которого ты рисковал жизнью! Напрасно ты не позволил коттоло зажарить его. — Замолчи и объясни все по порядку! — Хорошо! Патрон, я подозревал, что этот тип не тот, за кого себя выдает. Никакой он не странствующий певец, а обыкновенный шпион. Подосланный, понимаешь? — Кем? — Бен Тайубом и его милейшим боссом Си-Норосси. — И ты утверждаешь, что он сбежал? — Черт возьми! Сам видишь! Я его вот здесь уложил. И он указал на циновку, где еще совсем недавно спал незнакомец. — Могу поклясться, что услышал бы малейшее движение, если бы он направился к двери. Но негодяй перехитрил меня, проделал ночью дыру в стене то ли ногтями, то ли зубами, не знаю чем! И сбежал! — Скатертью дорога! — И это говоришь ты, патрон? Ошибаешься. Шпион отыщет своих хозяев и покажет дорогу к деревне коттоло. Пойми, мы здорово потрепали людей бен Тайуба, освобождая томба, и об этом происшествии уже наслышаны все работорговцы. Ты не позволил прикончить раненых разбойников, кто-то из них наверняка выжил и обо всем рассказал. Думаю, ни бен Тайуб, ни Си-Норосси не обрадовались такому известию и приказали выведать, откуда нанесен удар, кем и как подготовлен. И дураку ясно, что наш лагерь где-то поблизости. Так вот, благодаря твоему героизму, патрон, и моей глупости, бандиты теперь узнают, где мы находимся и какими силами располагаем. Жди в гости мусульман! Понятно? — Я не перебивал тебя, не так ли? — спросил Тотор. — Но ведь у тебя нет никаких доказательств, что тот человек и в самом деле шпион! Это ведь всего лишь твои догадки… — Если бы он был честным малым, то вышел бы через дверь, а не через дыру, как поганая крыса. — У каждого свои причуды. Допустим, твои подозрения оправданны. Как нам поступить? Наш долг — нанести врагу сокрушительный удар. Мы ведь решили покончить с мошенниками. Если они сами пожалуют в гости, превосходно! Это избавит нас от долгих и изнурительных поисков. Мы вступим в бой и победим! Вот и все. Хорош-Гусь понурился. Видно было, что речь Тотора его не убедила. Между тем Меринос ликовал. А Жан Риммер воскликнул: — Почту за честь принять бой вместе с вами! — Чудно! Чудно! — перебил его Хорош-Гусь. — А вот я жалею, что не придушил этого молодчика. За глупость всегда приходится дорого платить. В глубине души Тотор тоже не был так уверен в благополучном исходе дела, как хотел показать. Случай и вправду серьезный. Если арабы подослали в деревню шпиона, то скоро пожалуют сами. Какими же силами располагал король Коколь? Четыреста коттоло, полсотни томба; из них в лучшем случае у каждого десятого есть ружье. — Я знаю, — размышлял Тотор, — что со мной Меринос, Аколи и отважный Хорош-Гусь. Но какова численность армии бен Тайуба? Какие силы пошлет на нас султан? Да, предстоит большая работа. Остается только трудиться не покладая рук и быть начеку! И жизнь в деревне коттоло закипела пуще прежнего. Аколи рьяно взялся за дело, и каннибалы, казалось, позабыли о своих дурных привычках. Хорош-Гусь регулярно обходил деревню, заглядывал во все закоулки. Вокруг вырубали лес, по берегам реки выставили дозорных. Полным ходом шли и учения по строевой подготовке. Тотор ходил взад и вперед, заложив руки за спину, и мечтал об объединении всех племен. Он засыпа́л с мечтой о славе и торжестве гуманности.ГЛАВА 10
Осада. — Белый флаг. — Фон Штерманн. — Пушки! — Это конец! — Подземный ход. — Навстречу смерти. — Ураган.Однажды ночью деревня содрогнулась от жуткого шума и грохота. Загремели выстрелы, огненные вспышки озарили небо. Тревога! Арабы атакуют! Как им удалось подкрасться совсем незаметно? Как? Как? Так или иначе, а это случилось. Вот единственный ответ на все вопросы. Атака началась сразу с четырех сторон. Тревога! Тревога! Главное — без паники! Услыхав команду, коттоло и томба в мгновение ока были на ногах, готовые к бою. Отличная дисциплина! Арабы и майенба уже почти окружили крепость, но тут из-за земляного вала на них обрушился шквал огня. Тотор поспевал всюду: он отдавал приказы, подбадривал новобранцев. Арабам не удалось овладеть деревней сразу, как в прошлый раз, когда томба захватили врасплох и дело довершила всеобщая паника. Здесь, напротив, царили хладнокровие и трезвый расчет. Крепость дважды пытались взять штурмом, и дважды она устояла. Наступавшие несли неслыханные потери, десятки трупов устилали дно оборонительного рва. А среди коттоло был всего один убитый. Йеба и несколько обученных медицинской премудрости женщин переносили раненых в хижины. — Беречь боеприпасы! Стрелять только наверняка! Подпускайте поближе! — командовал Тотор. Хорош-Гусь торопливо переводил. Меринос высматривал главарей и бил без промаха. Занимался день. Тотор не мог унять невольной дрожи. В армии противника как будто и не замечали потерь. Наступавшие все прибывали и прибывали. Их было более двух тысяч! И у всех ружья! Тотор похолодел. Он, именно он, и никто другой, отвечает за жизнь всех этих людей. Подбежал бледный как полотно Жан Риммер, взявший на себя роль адъютанта. — Жарко будет! — процедил он сквозь зубы. А Хорош-Гусь, ни на шаг не отходивший от командира, прибавил: — Увязли по уши… Однако никто не дрогнул. Аколи руководил войском, посылал людей в наступление, разводил посты. Негры дрались геройски, не хуже белых. Стреляли метко — сказывалась выучка. И все-таки кольцо белоснежных бурнусов неумолимо сжималось. Но странное дело! Наступавшие вдруг остановились и прекратили стрельбу… Очевидно, бандиты были уверены в том, что защищать коттоло смогут лишь несколько белых с карабинами, и рассчитывали на скорую и легкую победу. Упорное сопротивление, организованное по всем законам военной науки, и плотная стена огня явились для них полной неожиданностью. Кто бы мог подумать, что придется отступать? Внезапно над арабским войском взвился белый флаг. Что это значит?.. Перемирие, переговоры? Тотор не колебался ни секунды. Приладил на острие копья белый лоскут и поднялся на насыпь, которая легко простреливалась со всех сторон. Ни дать ни взять — живая мишень! Но тишину не нарушил ни один выстрел. Ряды атакующих расступились, и вперед вышел араб в тюрбане и бурнусе. Он приблизился к Тотору и поднял правую руку над головой. Это был парламентер. Нет ли тут какой хитрости? Не попадет ли Тотор в ловушку, сделай он еще один шаг? Впрочем, будь что будет! Он выполнит свой долг до конца. Тотор подошел к краю насыпи и крикнул: — Чего вы хотите? Отвечайте… я слушаю. Он тотчас узнал в арабе бен Тайуба, хоть видел его всего несколько мгновений во время кровавой расправы в деревне томба. Бен Тайуб, казалось, удивился. Его поразила французская речь. Он ожидал услышать английский, в крайнем случае немецкий. Араб обернулся и бросил кому-то несколько слов по-немецки. От толпы отделился белый в одежде мусульманина и подошел к бен Тайубу. — Вы французы? — раздался высокий голос. — Я понимаю по-французски. — Но у вас легкий акцент, — отвечал Тотор. — Как будто орехи щелкаете. Вы, часом, не немец ли? — Какая разница? Я говорю с вами от имени моего командира бен Тайуба… — То есть вора и работорговца, убийцы женщин и невинных младенцев… — К чему это фанфаронство? — прервал его немец. — Вот что предлагает вам бен Тайуб. Войско ваше малочисленно — человек четыреста — пятьсот! Вооружены из них не более сотни. Нас две тысячи, у всех ружья и боеприпасов в избытке. Сопротивление бесполезно. Поскольку вы француз, — заговорил он со злобной иронией, — у вас, вне всякого сомнения, благородное сердце. Не захотите же вы обречь людей на верную смерть… — Что вы предлагаете? В это время на насыпи рядом с Тотором появился Жан Риммер. — А! Изменник! Презренный пес! — закричал он. — Дорогой Гюйон, знаешь ли ты, кто этот человек? Это лейтенант фон Штерманн, немецкий офицер — прислужник воров и убийц, человек, который штыком закалывает детей… Немец взбесился. — Заткнитесь, черт побери! — крикнул он. — Иначе мы не станем дожидаться ответа. Захватить деревню — пара пустяков! — Попробуйте! — отозвался Тотор. Немец усмехнулся. — Взгляните! Арабы расступились, и Тотор увидел два полевых орудия, нацеленных на деревню и готовых к бою. — Бен Тайуб сжалится над вами, — продолжал парламентер. — Если вы сдадитесь, белых пощадят и отпустят на все четыре стороны. Мало того, ни один коттоло, ни один томба не будет убит. Мы сохраним им жизнь и решим их судьбу. Таковы наши условия. Советую принять их, — закончил фон Штерманн, скрежеща зубами с досады оттого, что его узнали. Тотор не перебивал говорящего, еле сдерживаясь, чтобы не плюнуть ему в лицо. К этому времени Меринос уже тоже стоял рядом с другом, готовый в любую минуту умереть вместе с ним. — Ты слышал? — спросил Тотор. — Эти господа предлагают нам умыть руки и убраться подобру-поздорову. Нам, белым! С тем условием, что мы сдадим деревню и всех жителей… Что скажешь? — Ничего! Надо держать нас за законченных подонков, чтобы посметь предложить подобную низость. — А ты, Жан? — А я, честное слово, из последних сил держусь, чтоб не размозжить голову этому негодяю! — Ну что ты! Разве можно? Это ведь парламентер! Разберемся с ним потом, если у нас будет это потом… А пока вот мой ответ… И Тотор взобрался на гребень насыпи. — Передайте вашему прохвосту-командиру, что здесь нет ни предателей, ни бандитов. На ваши условия существует лишь один ответ: «Нет! И тысячу раз нет!» Теперь убирайтесь! Посмотрим, кто кого. Тотор повернулся и хотел уж было уйти, но немец остановил его: — Последнее предупреждение! Бен Тайуб настаивает. Он не желает вашей смерти… Вы обречены, и ничто не спасет вас. Одумайтесь! Я даю вам на размышления час! — Гляди-ка! Час! Великолепно! А потом мы вышибем вас отсюда пинком под зад, как вы того и заслуживаете! Тотор спрыгнул с откоса и обратился к друзьям: — На этот раз, дети мои, нам крышка! — Я так не думаю! — вскричал Меринос. — Мы в разных переделках побывали и всегда выкручивались! — Эх! — вздохнул Тотор. — Я тоже надеюсь, что честным людям должно повезти, но на этот раз все ясно как белый день. Хорош-Гусь, Аколи, подойдите сюда! Нас четыреста человек, не считая женщин. Они отважны, но ни черта не стоят в бою. Штук шестьдесят ружей… Генерал Хорош-Гусь, доложите о количестве боеприпасов! Ламбоно стоял всего в нескольких шагах, задрав голову к небу, и не расслышал вопроса. — Эй ты! Окорок! Что ты там разглядываешь на небе? Надеешься открыть новую звезду? Момент не самый подходящий. Отвечай! И Тотор повторил вопрос. — Боеприпасы? О, их не так уж много. Патронов двадцать на каждое ружье. Это в лучшем случае… — Слыхали? С такими запасами только по воробьям стрелять! А этих гадов две тысячи! У них есть все, что нужно. Они жестоки и беспощадны. В довершение всего у них есть пушки. А это уже серьезно. Мы имели глупость позволить захватить нас врасплох. Ну, уничтожим мы человек сто, что дальше? Вы знаете меня. Я не отступлю. Мы, белые, будем драться до конца. Но что же дальше? Нас убьют, вы понесете огромные потери, а арабам хоть бы что. У кого есть соображения? Я готов выслушать любого. Все молчали. Тотор ясно обрисовал ситуацию. Куда уж яснее? Но вдруг заговорил Аколи: — Мы не хотим быть рабами. Лучше умереть всем до единого… — Ну что ж! Решено! Вы знаете, что на нас можно положиться. Мы не сбежим. Нетак ли, Жан, Меринос? — Это не обсуждается, — отозвался Меринос. — Я должен убить лейтенанта, — произнес Жан. — Сегодня у меня появилась такая возможность. Стало быть, все отлично! — Итак, в нашем распоряжении один час. Это и много и мало. Подкрепитесь, чтобы набраться сил. Ешьте, пейте. Через час двинемся на врага всем скопом и попытаемся прорваться. Это невозможно, но надо попробовать. В последний момент каждый сможет пустить себе пулю в лоб. Согласны? — Согласны! — отвечали все. — Дружище Аколи, ты смелый и верный товарищ. Я хотел бы завершить начатое дело, то, о чем мы мечтали с тобою, — дать свободу всем африканским братьям… Но вышла осечка… По крайней мере, на этот раз… Не сердись и дай руку. Погибать — так вместе! Теперь возвращайся к своим обязанностям, построй людей. Пусть приготовятся к последнему бою. Как ни старался Тотор говорить бодро и уверенно, голос его был печален и тих. Он корил себя за вчерашние наивные планы. Что он может сделать! Какими силами располагает? Уж и того довольно, что на протяжении двух месяцев ему удавалось сдерживать дикий нрав каннибалов. «Да, да! — думал он. — Быть может, стоило поступить иначе, установить связь со всеми племенами, собрать побольше сил… Но как их всех вооружить? Решительно, Тотор, ты сумасшедший, ты забыл, что находишься в глуши, в дебрях Африки… ни ресурсов, ни помощи. Ты, именно ты виновен во всем, и, отдавая жизнь за этих людей, ты лишь заплатишь свой долг. Прощай, папаша Фрике! Прощайте, друзья! Прощай, жизнь!» Такие невеселые мысли одолевали Тотора, когда Хорош-Гусь подошел и дернул его за рукав. — А! Это ты, старина! — вздрогнул Тотор. — Что скажешь? Прости за то, что я втянул тебя в эту катавасию! Ведь я оказал тебе весьма плохую услугу… — Послушай, патрон, — прошептал Хорош-Гусь. — Ты был добр ко мне и к Йебе. Однажды ты уже вырвал нас из лап этих стервятников. Я не забываю добра. Пойдемте со мной, ты и двое белых. Я спасу вас. — О чем ты? — Йеба надоумила меня. Тебе известно, что деревня расположена в ложбине, которая образовалась невесть когда, после землетрясения. — И что же? — Йеба обнаружила подземный ход, его трудно заметить. Он находится у подножия одного из укреплений, что мы построили. Девица она любопытная, решила узнать, куда ведет ход. Так вот, там целая система гротов… пещеры, пещеры вплоть до долины. Ее видно в ясную погоду. Дальше леса. Можно убежать. Входа никто не найдет, это моя забота. Не утверждаю, что это парк Монсо[57], но, по крайней мере, останетесь живы. А это немало. Дойдете до леса и направитесь на запад. Там не такие дикие места. Тотор прервал его: — Ты пойдешь с нами? — Я? Никогда в жизни! Мое место здесь. Останусь с Аколи и умру за своих товарищей. Как я могу бросить их? — И ты мог подумать… ты мог поверить, что мы, белые, способны на такую низость? Немедленно проси прощения! — Патрон! Умоляю, выслушай… — Ни слова больше, или я поколочу тебя. Потом, секунду подумав, коротко бросил: — Веди к подземному ходу! Тотор и Ламбоно побежали через деревню. Все готовились к бою, так что на них никто не обратил внимания. Хорош-Гусь отбросил ветки, разгреб камни и показал Тотору узкий проход. Там едва мог проползти человек. — Вот! — произнес он. — Тесновато, но дальше пещера расширяется. Йеба говорит, что до выхода добираться около часа. — Ах! Если бы ты сказал мне об этом раньше! — Я сам не знал, патрон. Йеба открыла ход три дня назад и ничего не сказала, пока не проверила все досконально. — Ну что ж! Так тому и быть. Там, где пройду я, пройдет и другой. Позови Аколи и побыстрее, не то я тебя убью! Хорош-Гусь повиновался. Минуту спустя явился Аколи. — Переведи ему как можно яснее мои слова. Существует подземный ход, через который можно уйти. Туда можно запускать по шесть человек в минуту. В нашем распоряжении сорок минут. Мы запустим туда столько женщин и мужчин, сколько успеем. Не мешкать! Не копаться! Если сделать все четко, можно спастись. Со мной остаются только те, у кого есть оружие. Мы всех прикроем. Будем драться как цепные псы. Аколи внимательно выслушал и все понял. Он положил руки на голову Тотора в знак признательности и уважения. — Ладно! Не до кривлянья! Вперед! Каждая минута стоит чьей-нибудь жизни. За работу! Аколи отдавал распоряжения. Для начала отобрали сто женщин и сто мужчин. Их построили шеренгой, и великий исход начался. Первые побаивались спускаться в черную дыру, но вскоре негры привыкли и больше не теряли времени даром. Тотор подбадривал беглецов. Лицо его сияло от счастья. За полчаса он насчитал двести женщин и столько же мужчин. Негры оказались на удивление дисциплинированными. Никакой толчеи, никакой свалки. Движения точны, как на параде. Ни одного вопроса. Приказ отдан — его надлежит выполнить. Тридцать пять, тридцать девять минут… — Стоп! — закричал Тотор. И едва Аколи успел перевести, как шеренга замерла на месте. — Заделывайте дыру! — приказал Тотор. Вход забросали камнями. Половину населения деревни спасли, но что будет с остальными? Можно было подумать, что сама природа надела траур. В воздухе взвились клубы серой пыли, так что даже солнечный свет померк, хотя на небе вроде не видно ни облачка. Внезапно завизжали флейты, загрохотали барабаны… Арабы напоминали, что срок перемирия истек. — Прекрасно! Идем! — воскликнул Тотор. Аколи собрал людей. Час пробил! Бывший вождь коттоло объяснил, что необходимо во что бы то ни стало пробить брешь во вражеских рядах. Это верная смерть… Но лучше умереть достойно, чем сносить издевательства в рабстве. Все собрались у главных ворот. Двести мужчин, и на всех шестьдесят ружей, ножи, ятаганы, дротики, копья… Вновь заиграли флейты. Тотор вышел вперед. По правую руку от него шел Меринос, по левую — Жан. Хорош-Гусь и Йеба замыкали колонну. Отважная девушка наотрез отказалась использовать шанс, который сама же предоставила своим собратьям. Она любила Ламбоно и не покинула его. Хорош-Гусь подошел к Тотору. — Патрон, — торопливо проговорил он, — будет жарко, и гораздо жарче, чем ты можешь себе представить. Взгляни на небо. В самом деле, солнце заволокло тучами, небо почернело… В этот момент флейты заиграли в третий раз. Сквозь бойницу Тотор увидел, что жерла пушек смотрят прямо на них, готовые разнести деревню в щепки. — Вперед! Ворота открылись, и на первую шеренгу негров-майенба внезапно обрушилась славная когорта короля Коколя. Натиск был столь неожиданным и мощным, что немногочисленному отряду удалось вклиниться в расположение войск противника почти беспрепятственно. Героический рейд! Тем более героический, что у нападавших не было ни малейшей надежды на победу. Тотор дрался как лев. Вокруг него образовалась гора трупов. Меринос стрелял из револьвера, и каждая выпущенная им пуля непременно находила свою жертву. Жан повредил ружье и теперь бился врукопашную. Хорош-Гусь и Аколи не отставали. Коттоло стреляли, увы, по большей части наугад. Те, кому не досталось ружей, сражались на свой лад. Но дротики и копья не наносили врагу заметного ущерба, так что враги быстро опомнились и, озверев от ярости, накинулись на маленькое войско храбрецов. Бен Тайуб наблюдал за сражением, гарцуя на лошади. Тут же находился и лейтенант фон Штерманн. После кровавой расправы над томба солдаты наотрез отказались выполнять его приказы и лейтенант дезертировал, примкнув к бандитам. Бен Тайуб не хотел убивать. Негры — его товар, его доход, а значит, должны быть целы и невредимы. К тому же, во избежание скандала, он предпочел бы всего лишь прогнать этих проклятых белых «избавителей». Однако все они защищались так упорно и рьяно, что одна только смерть могла их остановить. Бен Тайуб и фон Штерманн подскакали совсем близко к Тотору и Жану. Жан прицелился и выстрелил в лейтенанта почти в упор. Немец упал. Тотор ловко вскочил на круп лошади бен Тайуба и вцепился арабу в горло. В это время раздался страшный грохот, засверкали молнии, внезапно стемнело и налетел сильнейший порывистый ветер, от которого все вокруг завыло и застонало, точно в аду. Это был тропический ураган, тот самый, о котором предупреждал Хорош-Гусь. «Будет жарко!» — сказал он. И действительно стало жарко. Обжигающий ветер сметал все на своем пути, сбивал с ног людей и лошадей. Деревню коттоло разметало, как стог сена. Не было больше ни нападавших, ни защищавшихся, лишь черные точки метались в клубах пыли. Но где же Тотор? Где Меринос? Жан, Хорош-Гусь, Аколи, Бен-Тайуб? Кто знает?
Конец второй части
Часть третья ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ, ИЛИ КАКОВ ОТЕЦ, ТАКОВ И СЫН
ГЛАВА 1
В Париже. — Фрике-рантье. — Сапожник Фриц Риммер. — Дурные новости или неизвестность. — Депеша из Банги. — Что случилось? — Мамаша Гюйон. — Вдвоем на штурм Африки.Париж. На углу улиц Монмартр и Сен-Совер, как раз возле винного погребка с вывеской, представляющей сцены из Евангелия, приютилась лавчонка или лучше сказать — крошечная мастерская шириной не более двух метров. На открытой витрине в ожидании починки разбросаны поношенные башмаки, сапоги да ботинки. За сапожным столом день-деньской хлопочет хозяин: прилаживает союзки, подбивает каблуки. Над входом — деревянная дощечка:
ФРИЦ РИММЕР Ремонт по доступным ценамВ сумраке лавочки, словно на картинах Рембрандта, падающий с улицы солнечный луч высвечивает согнувшегося над работой мастерового. Лысый череп, костлявая фигура, осунувшееся лицо. На всем его облике лежит печать неизъяснимой грусти. Но вот какой-то человек замедлил шаг и остановился у входа. — Здравствуй, Риммер. Сапожник оторвался от работы, поднял голову, и тень улыбки скользнула по его губам. — A-а, месье Фрике! Как дела? — Хорошо! А у тебя? — Да что я! — махнул безнадежно рукой сапожник. — Я человек конченый. — С ума сошел! В твоем-то возрасте! Что, старина, нервишки пошаливают? Пойдем выпьем по чашечке кофе. Риммер долго отказывался, но прохожий не отставал. В конце концов Фрике зашел внутрь и похлопал Риммера по плечу. — Перестань ломаться! Не то я схвачу тебя в охапку да вынесу вон… — Черт побери! Тебе сорок лет, ты маленький, тщедушный человечек! И откуда только силу берешь? Ты вон еще молодцом, а я вот — совершенная развалина… Наконец Риммер сдался. Это был крупный, высоченный мужчина, всего-то на два или три года старше своего приятеля. — Гретли! — крикнул он куда-то в глубь мастерской. — Я отлучусь ненадолго с Фрике… Посматривай тут! Если придут от Мольера, возьмешь двадцать девять су… Из темноты показалась маленькая кругленькая женщина с желтоватыми волосами и печальным взором. — Здравствуйте, месье Гюйон, — обратилась она к гостю, протянув пухленькую ручку. — Очень мило с вашей стороны навестить нашего бедного Фрица… Он, признаюсь, совсем зачах и махнул на себя рукой. О, Матерь Божья! Какой удар, какой удар!.. — Перестань! Сколько можно? — А вы, месье Гюйон, узнали что-нибудь о вашем малыше? О! Ему всегда все было нипочем, из любой переделки выкарабкается. За него можно не волноваться. — Да, да! Не волноваться… — повторил Гюйон-Фрике и как-то весь передернулся. — Пойдем, Риммер! До скорого, мадам Гретль! Они пересекли улицу, вошли в винный погребок и уселись за столиком в дальнем углу. Друзья переглянулись и вдруг в едином горестном порыве склонились друг к другу, взялись за руки и хором произнесли: — Мой бедный Риммер! Мой бедный Фрике! Фрике опомнился первым. — Ладно! Ладно! Что это мы, точно мокрые курицы… Положеньице наше, конечно, никудышное. У тебя — с тех пор как из Камеруна явился этот эльзасец и рассказал, что случилось с твоим сыном, а у меня… тоже не лучше. Вот уж три месяца, как ни единой весточки от Тотора. Однако не стоит отчаиваться! — Легко тебе говорить! Если нет писем, тому может быть масса причин. Почта оттуда, полагаю, приходит редко и нерегулярно… А в последнем письме твой Тотор сообщал, что отправляется в глубь Африки, где одни только негритянские племена. Какая ж там почта? Письмо может прийти не сегодня-завтра! А вот я… У меня нет больше надежды. — Почем ты знаешь? Откуда такая уверенность? Петер Ланц видел лишь потасовку, после которой твой сын исчез… — Но он уверяет, что собственными глазами видел и то, что лейтенант размозжил Жану голову… — Ну, так уж сразу и размозжил… Голова-то у парня все же не орех, не так уж это и просто… — О, этот лейтенант! Фон Штерманн… Попался бы он мне… Негодяй и прощелыга! Переметнулся к бандитам, к работорговцам… Кто знает, быть может, когда-нибудь его и поймают… — Но ведь тот эльзасец не видел Жана мертвым… — Ну и что же? Если даже он и выжил, то оказался один-одинешенек в этой проклятой стране. Там он обречен на голодную смерть. Либо его разорвут дикие звери… Нет, нет, старина Фрике, не успокаивай меня! Все кончено. — Для него не более, чем для моего Тотора… Понимаю, неизвестность страшна и невыносима, но надо держаться. В путешествиях я и сам тысячу раз оказывался в безвыходном положении. И тем не менее находил выход! Случай поможет выбраться из трясины, когда уже вроде бы увяз по самую маковку. На то он и случай! Твой сын Жан — крепкий малый… сильный, боевой. Он что-нибудь придумает. — Хоть бы только его не убили на месте… — Э-э! Такого никогда не бывает. Воскресают раза по три… Как мой Тотор! Вот уж кто дешево себя не отдаст! — Куда лучше было бы видеть его здесь, чем знать, что он там. — Что ты хочешь? Яблоко от яблони недалеко падает. Бродяжничество у нас в крови. Я бы на четвереньках пополз куда угодно, чтобы посмотреть, как он там. — Ты? В твои-то годы? Сумасшедший! — Какие еще годы! Мне всего сорок один, а чувствую я себя моложе лет на пятнадцать. Будь в моем распоряжении десять — двадцать негров или папуасов, я не задумываясь снова пустился бы в путь. — Ты не можешь бросить жену! — заметил Риммер. Не успел Фрике ответить, как с улицы донеслись шум и крики. Мальчишки-газетчики зазывали покупателей. — А-а… — протянул Фрике, — приложение к «Нувелисту»… Опять какие-нибудь глупости, чтобы публику одурачить. Но Риммер вдруг побледнел, выскочил из-за стола и, будто позабыв о своем приятеле, кинулся к выходу. Минуту спустя он вернулся с газетой в руке и указал на набранный крупным шрифтом заголовок во всю страницу: «ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ С ВЕРХОВЬЕВ УБАНГИ: Султан Си-Норосси поднял знамя восстания. Взятие Лаи». — Лаи! — Фрике вытащил из кармана карту Центральной Африки. — Но ведь это город или деревня при слиянии рек Логоне и Пеноэ[58]. Это как раз в том самом месте, где должны находиться Тотор и его друг Меринос! У Виктора Гюйона потемнело в глазах, сердце болезненно сжалось, а в горле застрял ком. — Читай же! — вскричал Риммер. Фрике взял себя в руки и с трудом принялся читать: — «Нам сообщают о новых действиях султана Си-Норосси. Небывалому разорению подвергнуты районы Логоне и Шари. По слухам, истреблено или угнано в рабство более двух десятков негритянских племен. Акции проводились с неслыханной жестокостью, несчастные жертвы подверглись чудовищным мучениям. Говорят, что в распоряжении Си-Норосси более четырех тысяч солдат, вооруженных европейским оружием, и, подняв знамя священной войны, он заявил в распространяемой повсюду декларации, что изгонит руми[59] со всех территорий вплоть до озера Чад. Наконец, по непроверенным слухам, в одном из негритянских селений в плен взяты двое или трое белых. Какую судьбу уготовил им кровожадный султан, неизвестно. Северные районы Французского Конго охвачены волнением. Депеша из Банги подтверждает печальные новости о плененных Си-Норосси белых. Поговаривают о двоих, французе и американце…» Сдавленное хрипение вырвалось из груди Фрике. Смертельно побледнев, он упал на стул и попытался сорвать душивший его галстук. Риммер бросился к другу и крепко обнял: — Фрике! Старина Фрике! Очнись! Не пугай меня! Фриц поспешно налил в стакан воды из графина, намочил платок и приложил ко лбу и вискам Фрике. Тот постепенно приходил в себя. Невидящими глазами уставился он на Риммера, как будто не узнавал его. Потом взгляд Фрике вновь упал на газетный лист, и только тогда в голове его прояснилось. — Сын мой! Мой Тотор! — прошептал Фрике и разрыдался. — Но нет никаких указаний на то, что это именно они. — Да ладно! Один француз! Один американец! Американец — это Меринос, его закадычный друг!.. Последнее письмо, которое я получил, пришло из Банги. Тотор сообщал, что отправляется в те самые проклятые места. — Погоди! — произнес Риммер. — Допустим, это они. Но ведь речь шла о том, что их всего лишь взяли в плен. — Разве эти свирепые работорговцы уважают пленных? Малейший каприз, дикая выходка — и они убьют их. А перед смертью еще наиздеваются вдосталь, ведь известно, что некоторые белые, чтобы спасти свою жизнь, унижаются, молят о пощаде, предают свою расу, точь-в-точь как Иуда предал своего учителя… Но разве мой сын способен на такую низость? Тотор, плоть от плоти моей, кровь от крови, прирожденный парижанин, презирающий сильных мира сего… Он будет горд и смел перед лицом врага, и враг жестоко отомстит… — Ну почему? Почему? — вскричал Риммер, позабыв о собственном горе. — Сколько раз ты сам выходил сухим из воды? Почему же он, по-твоему, не сумеет выкрутиться? Тысячу раз ты уверял меня, что он так же смел, так же ловок… В Австралии он уже доказал, чего стоит… Ты оскорбляешь сына, не веря в его счастливую звезду. Риммер вложил в свою речь столько жара, столько искреннего сочувствия, что Фрике приободрился и поднял голову. В самом деле, всякое возможно. Почему бы и нет? Когда в былые времена прилетали вести о том, что Тотор намерен пересечь Тихий океан или спуститься в кратер вулкана, отец не отчаивался. Дорогой мальчик! Он настоящий боец, сильный и смелый. И потом, он весь в отца, его волю ничто не сломит. — Ах, Риммер, твоими бы устами да мед пить! Если бы ты оказался прав! Во всяком случае, я знаю, что делать… — О чем ты говоришь? — Пойдем, увидишь. Он схватил друга за руку и увлек за собой. Они дошли до дома на углу улицы Круассан и поднялись на пятый этаж, в квартиру Фрике. Однако на пороге он замешкался. Видно было, каких усилий стоило ему взять себя в руки. — Говори как я! — обратился он к Риммеру. Ключ звякнул в замке, и друзья вошли. В маленькой комнатке в два окна под самой крышей за шитьем сидела женщина. Милое, доброе лицо покоряло с первого взгляда. Это была мадам Фрике — мадам Гюйон. Фрике женился на ней более двадцати лет назад, после кругосветного путешествия, когда, по его собственным словам, отошел от дел. Она обожала мужа, и он платил ей тем же. Жизнь их текла теперь мирно и неторопливо под воспоминания о бурном прошлом. Она подарила ему сына, Тотора, несносного мальчишку, проказника и непоседу, которого оба любили без памяти и у которого, как и у отца, вместо крови в венах пульсировала ртуть… Два года назад мать, конечно, высказалась против намерений сына путешествовать. Но что могла она сделать? Бедняжка плакала потихоньку, сердце ее сжималось от страха, если от сына долго не было вестей. Она просыпалась по ночам и шепотом звала, звала… Однако добрая женщина старалась скрыть от мужа свою тревогу, да и он тоже не подавал виду, хотя жена своим чутким сердцем все ощущала. Услышав, что кто-то вошел, она подняла глаза от шитья. Как ни пытался Фрике выглядеть спокойным, сердце матери почуяло неладное. Она подбежала к мужу, голос ее дрожал: — Фрике, как скоро ты вернулся! Что-нибудь случилось? — Да, да, — отвечал Фрике, силясь улыбнуться. — Есть новости… — От нашего мальчика? — Именно… — Рассказывай быстрее! Ведь ты принес добрые вести, не так ли?.. — Конечно, конечно… То есть и добрые, и не слишком… Ты же знаешь, это тот еще перец, как и его папаша… — Умоляю тебя, не тяни! Он ранен? Ему грозит опасность? — Нет, нет! Но ему взбрело в голову сражаться с четырехтысячной армией арабов. Видишь ли, это многовато для одного человека… Он в плену… — В плену? Где? У кого? Несчастная так побледнела, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Но она тоже была Фрике и сдержалась. — Послушай, скажи мне всю правду… Его не убили? — Убили?! Еще чего!.. Не стоит обманываться, он действительно попал в переплет. Эти чертовы арабы злобны и вспыльчивы… Угодить к ним в лапы легко, а вот выбраться… Короче, он попал в плен к некоему султану по имени Си-Норосси, врагу Франции, который, очевидно, намеревается использовать его в качестве заложника, чтобы шантажировать наших… Пленник! Газета только об этом и пишет… — А его друг, Меринос? — Вместе с ним… Хорошо, что мальчик не один. Вдвоем они что-нибудь придумают, сумеют устроить побег. Ты же знаешь нашего сына. Тотор — философ… Он не станет портить себе кровь и найдет средство обвести негодяев вокруг пальца… — Арабы очень жестоки? — Ну-у, не так уж… И потом они постараются, чтобы с его головы ни один волос не упал. Ведь он белый. Можно нарваться на неприятности… — Но ведь они уже убивали отважных исследователей… — Когда это было! Их тогда так потрепали, что отбили всякую охоту… Конечно, приятного мало, но и преувеличивать не стоит… Мать упала на стул и беззвучно зарыдала. — Мой Тотор! — шептала она. — Как он, должно быть, страдает! — Не надо! Не надо! Ему досадно, вот и все. Уж кому-кому, а мне это хорошо известно, сам испытал… Но знаю я также и то, что в подобном положении думаешь только об одном — как выбраться. И это отвлекает… Я еще и не в такие передряги попадал! Плен — милое дело! Вот только… — Что только? — переспросила мадам Гюйон, вскинув на мужа глаза. — Я хотел сказать, что обычно рассчитывают на случай… на удачу… А случай — это когда кто-то вас любит, беспокоится о вас и хочет во что бы то ни стало выручить… Как некогда месье Андре меня вытаскивал из самых безнадежных ситуаций… — Да, я понимаю! Но Тотор в дикой стране. Он никого там не знает. Меринос в плену вместе с ним. Откуда же ему ждать помощи? Тогда Фрике взял в свои большие ладони обе руки жены и пристально посмотрел ей в глаза: — Ты ни о чем не догадываешься? Черт побери! Ты же все понимаешь! Папаша Фрике и будет тем, кто вытащит Тотора из беды. — Ты? Ты хочешь ехать… в эту кошмарную страну? — Не бойся! Я найду их, вот увидишь. Разве это не естественно? Если сыну грозит опасность, отец должен прийти ему на помощь… Уверен, ты поддержишь меня. Дорогая моя! Ты верно говорила: наш сын нуждается в поддержке. А кто поддержит его, если не я? — Так далеко! Так далеко! — повторяла мадам Гюйон, рыдая. — Ты оставляешь меня одну. У меня не будет ни сына, ни мужа. — Эй! Эй! Что ты говоришь? Полагаю, мы вернемся с ним под ручку… Или ты больше не веришь в меня? Ты же знаешь, я прошел огонь и воду и всегда побеждал… Фрике говорил так страстно и убедительно, что жена наконец сдалась. Бедняжка прекрасно понимала, что удержать его не сможет. Она обожала мужа, восхищалась его решимостью и верила, что он вернет сына под родимый кров. Женщина взяла себя в руки и перестала плакать. — Ты уезжаешь надолго? Ведь я могу и не дожить до твоего возвращения… — Не стану тебя обманывать… Автобусов там, сама понимаешь, нет, и трудно рассчитывать время. Полагаю, месяца три понадобится… — Три месяца!.. Если бы я могла быть уверена!.. Как только подумаю, какие опасности поджидают там тебя на каждом шагу… Ей-богу, помру… — Как у тебя язык поворачивается! Умирают лишь слабаки, те, кто смирился и сложил руки… За жизнь, черт побери, надо держаться крепко! Мадам Фрике, вы парижанка, а значит, у вас душа римлянки. Вы непременно дождетесь меня. Главное — терпение и рассудительность. Я буду присылать весточку всякий раз, как только смогу… а в одно прекрасное утро вы получите телеграмму по десять или даже пятнадцать франков за слово. Там будет сказано: «Мы возвращаемся!..» Вот и попразднуем! Обнимемся и расцелуемся! Слушая его веселые, задорные речи, жена невольно улыбнулась сквозь слезы. — Теперь, — продолжал Фрике, — нельзя терять ни минуты. Прежде всего — деньги… У нас припасено кое-что на черный день. Я возьму половину… Остальное — тебе. Не отказывай себе ни в чем. Я должен быть уверен, что с тобой все в порядке, что ты не нуждаешься. Мне спокойнее будет. Схожу в министерство колоний, к моему приятелю, полковнику Б… Он изъездил Африку вдоль и поперек, знает там каждую пядь, и друзей у него там тьма. Он даст мне рекомендательные письма к французским офицерам… Дальше все пойдет как по маслу. Ах, господин Си-Норосси, каналья! Я вам еще покажу! Попомните мое слово. Фрике совершенно преобразился. Он как будто сбросил лет двадцать. Глаза его блестели молодо и задорно. Жену поразила такая неожиданная метаморфоза. Теперь она не сомневалась в том, что все будет хорошо! И все же спросила: — Ты едешь один? — Один?.. — прозвучал вдруг тихий голос. — Как это один? А я? Это произнес Риммер. Скромный и незаметный, он все время сидел в сторонке и внимательно слушал. Фрике оглянулся и строго посмотрел на приятеля. — Что ты сказал?.. — Я сказал и еще раз повторяю, что ты едешь не один, потому что с тобой отправляюсь я… — Ты в своем уме?.. Риммер стремительно поднялся. — В своем ли я уме? И это говоришь мне ты? Не забывай, мой сын тоже там, и я не знаю, что с ним… Хочу отправиться на поиски. Верь, Фрике, у меня хватит сил. Я никого и ничего не боюсь… вот если только тебя немного!.. Я не помешаю, не буду обузой… У меня тоже есть сбережения… Отдаю их в общий котел… Не беспокойся… Ты командир, я подчиняюсь тебе, как собака… Прикажешь сломать себе шею — выполню приказ тотчас же и беспрекословно. Убежден, что и твоя жена поддержит меня. Мадам Фрике подошла к Риммеру и крепко сжала его руку. — Вы смелый человек. Благодарю вас. — Ну, ну! — все еще ершился Фрике. — А Гретль? — Гретль поймет… Они вместе с мадам Фрике будут думать о нас и ждать. Фрике смутился. Преданность старого друга тронула его до слез. О! Кто-кто, а уж он-то знал этого человека. Силен, отважен, неустрашим… В глубине души Фрике обрадовался такому решению, однако согласился не сразу, ибо слишком хорошо понимал, какие опасности сулит путешествие. Но эльзасец был упрям. Коли что задумает, никогда не отступится. Будь что будет! После нас хоть потоп!.. Фрике почувствовал себя вновь на коне. Годы оказались не властны над ним… И вот он опрометью бросился через весь Париж, ворвался в министерство колоний, и, поначалу озадаченный услышанным, полковник Б… мало-помалу пришел к выводу, что приятель его, несомненно, прав. Конечно, он близко знаком с офицерами из форта Крампель, из форта Аршамбо, из форта Бретоне… Фрике примут как родного, все разъяснят и помогут. Деньги есть? Прекрасно! Придется нанимать людей… И прежде всего в Сенегале, по дороге… Полковник наметил маршрут. Фрике спустится вдоль Конго. Банам Махади, Браззавиль, затем Лиранза. Наймет пироги и поднимется по реке Убанги до форта Крампель, а оттуда — согласно обстоятельствам. — Не скрою, — сказал полковник, — предприятие ваше очень рискованно. Два шанса против одного, что живыми вам не вернуться… Однако разубеждать не стану. Французы не раз показывали примеры стойкости и самоотверженности. Обнимемся, мой дорогой Фрике. Успеха вам! …Два дня спустя Фрике и эльзасец Риммер выехали скорым поездом в Бордо. Вперед! На штурм Африки!
ГЛАВА 2
Взаперти! — Я хочу есть, значит, я жив. — Один в пустоте. — Сон без сновидений.Природа беспристрастна. Насылая на сражавшихся ураган, она не встала ни на одну, ни на другую сторону. Буря сметала все на своем пути и в одно мгновение стерла деревню коттоло с лица земли. Что может противостоять стихии? Кто в состоянии сопротивляться? Ветер подхватывал людей, словно невесомые соломинки, и уносил неведомо куда. Сколько времени Тотор пролежал без сознания? Он не знал. Молодой человек открыл глаза. Солнце нещадно било прямо в лицо. Сначала он не понял, где находится и что с ним приключилось. В ушах шумело. Голова раскалывалась, точно виски сжимал железный обруч. Однако он был жив, а это главное. Тело нестерпимо ныло, будто все кости были переломаны. Юноша попытался взять себя в руки и собраться с мыслями, но какая-то плотная пелена, казалось, обволакивала мозг, и Тотор никак не мог сосредоточиться. — Тотор! Тотор! — шептал он сам себе. — Что это, кошмар или реальность? Нет, ты не бредишь… Ты не умер… Тебя слегка помяли… Все болит… Ой! Ой! Ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Почему? Внезапно мелькнула страшная догадка: он связан по рукам и ногам, тугая веревка впивается в кожу. А эти толчки, сотрясающие все его существо? Да ведь он, как тюк, привязан к крупу лошади, а лошадь скачет галопом… Вокруг слышен топот копыт… Все стало ясно: он пленник и нет никакой возможности освободиться. Сердце сжалось от бессилия и гнева. Где же вера в себя, которой учил его папаша Фрике? К Тотору вернулась память. «Вот что значит отдаться на волю слепого случая и броситься очертя голову в какую-нибудь авантюру! — думал он. — Бедные мои людоеды! На какую участь я обрек их! Они, наверное, погибли все до одного… Отважный, однако, человек был Аколи! Успел сделать кое-что в жизни… А Хорош-Гусь?.. А Йеба?.. Черт меня дернул втянуть их в эту историю. Из-за меня погибла целая деревня. Наполеон паршивый!» Думать об этом было нестерпимо тяжко. Уж очень велика ответственность! А о своем друге Тотор вовсе не мог вспоминать без боли. Он решил не произносить его имени, не думать, не помнить. И все-таки помнил и ругал себя последними словами: «Он был богат и счастлив, мог исполнять любые свои желания. Ему бы жить в Нью-Йорке, в роскоши и благоденствии. Его окружали прекрасные женщины, одна богаче другой. Он женился бы, завел кучу деток! Это ты, эгоист Тотор, вырвал его из привычной обстановки и притащил в дикую страну, где люди пожирают людей. Нечего и говорить! Поработал на славу!» Горло перехватило, а губы шептали: — Меринос! Мой бедный Меринос! Если б только он мог надеяться, что его друг также трясется сейчас, привязанный к лошадиному крупу! Веселого мало! Но он, по крайней мере, был бы жив… Лошадь внезапно остановилась, и Тотор застонал от боли. Веревки врезались в тело так, что вот-вот, казалось, разорвут его в клочья. На лицо ему набросили кусок материи. Тотор ощутил, как чьи-то руки вцепились в него и приподняли. Цокот копыт гулко отдавался в висках. От сильной тряски сердце, казалось, выскочит из груди. Не выдержав, парижанин, как слабая женщина, потерял сознание. Он пришел в себя от ударившего в нос едкого запаха, открыл глаза и ничего не увидел. Наш герой чувствовал только, что лежит где-то, вытянувшись во весь рост. Кругом царила кромешная тьма. На мгновение страшная мысль пронзила мозг Тотора и заставила содрогнуться. А что, если он ослеп? Что, если палящие лучи африканского солнца выжгли ему глаза? Или его ослепили бандиты? Тотор чувствовал, что он не один в этой тьме. Он не видел того, кто находился рядом, но отчетливо слышал его дыхание. — Кто здесь? — спросил пленник сдавленным голосом. Ответа не было. Только кто-то взял его за руку. «Смотри-ка! Щупают пульс…» — удивился Тотор. Рука незнакомца легла на грудь. Похоже, проверяли сердцебиение. Тотор схватил руку и с силой сжал. Однако незнакомец без труда высвободился. — Кто вы такой? — возмутился Тотор. — Где я нахожусь, чего вы от меня хотите? По-прежнему никто не ответил. Таинственный посетитель, вероятно, получил приказ молчать, а возможно, просто не понимал по-французски. На каком языке к нему обратиться? Тотор мог объясняться с папуасами и немного понимал речь коттоло. Надо попробовать. На сей раз ему ответили, но Тотор ровным счетом ничего не понял. Очевидно, он в плену у работорговцев, а они орудуют на английской территории до Занзибара. — Who are you? Where am I?[60] — спросил он по-английски. Ему ответил серьезный голос: — Физик… арабский. Врач! Но человек умолк, и Тотор услыхал какой-то шорох. Он поднял голову и увидел, как незнакомец исчез через круглый ход в нескольких метрах над головой. Оттуда бил яркий свет. Небо! Голубое небо! Тотор возликовал: — Я не ослеп! Вот это, черт возьми, здорово! Он не отводил глаз от залитого солнцем отверстия, как будто старался насмотреться, впитать свет про запас. Вместе со светом к нему возвращалась жизнь, воля, надежда. — Все ясно! Я в колодце, откуда есть всего один выход. Ну что ж! Выбирать не приходится. Какое-никакое, а все-таки жилье. Да к тому же и недорого. И то хорошо! Я думал, что умер, а оказалось, что жив! Думал, что ослеп, а глаза мои видят! Чего еще желать? Жизнь прекрасна! А как там поживает наш скелет? Тотор методично ощупал себя с головы до ног, попробовал пошевелить руками и ногами, покрутил головой, пошевелил пальцами… — Все функционирует, Тотор. На что же тебе жаловаться? Ты устал? Не беда! Немного отдохнуть, немного подкормиться — и порядок. Да, чертовски хочется есть! Если небо смилостивилось и послало мне араба, говорящего по-английски и понимающего в медицине, то, может быть, оно пришлет и араба, понимающего в кулинарии? Остается ждать! Воистину жизнь виделась Тотору в розовом свете… Ну, не в розовом, то хотя бы в сером… Глаза понемногу привыкли к темноте, да и свет, проникавший сквозь отверстие, позволял кое-что различить. — Что это там, в углу? Я бы сказал, что это еда. Дьявольщина! И правда, там лежит кусок копченого мяса, лепешка из маниоки и плошка с водой. Меня хватают, отделывают под орех, швыряют в какую-то дыру, но при этом не морят голодом. Уже неплохо! Ну так налетай, как говаривал Хорош-Гусь… И что-то с ним сталось, с беднягой? Так, по привычке рассуждая сам с собой, Тотор наелся до отвала. Хорошее предзнаменование. К нашему молодцу вернулась способность философствовать, а с ней и былой оптимизм. Почему, собственно, он решил, что Меринос погиб? Возможно, он тоже где-то здесь. Тотор припомнил, что во время боя они постоянно находились рядом. Должно быть, эти проклятые арабы взяли в плен и его… А что приключилось с Гансом Риммером? Где Хорош-Гусь, Йеба, Аколи? — Это было бы слишком хорошо, если б и им удалось отделаться легким испугом, как мне. Но с другой стороны, почему бы и нет? Тотор действительно чувствовал себя превосходно. Недавней усталости как не бывало. — Друзья наверняка рассчитывают на меня, — не без самодовольства говорил себе Тотор. — Дальнейший план действий ясен: окончательно поправиться, и уж тогда… Тогда кто-то дорого заплатит мне за все. Мерзавец бен Тайуб, а может, — чем черт не шутит? — и сам султан Си-Норосси… Лично я с ним не знаком, но надеюсь, что буду иметь это редкое удовольствие. Не исключено, что именно он принимает меня так гостеприимно. Я в долгу не останусь. Пусть не сомневается, отплачу той же монетой. Глянь-ка, солнце заходит. Возможно, сегодня посетителей больше не будет… А вообще-то занятно, когда гость спускается к тебе по веревке… Тотор обошел пещеру. Она имела форму бутылки. Стены абсолютно гладкие, сделаны из какого-то состава, напоминавшего цемент, и прочного, как гранит. Ни единого уступа, никакой трещинки, за которую можно было бы зацепиться! Кроме того, Тотор заметил, что у него отняли часы, нож, спички. Не ногтями же прокладывать себе дорогу! И не головой же пытаться пробить стену, а то костей не соберешь! Похоже, ему и в самом деле понадобится голова — придется пошевелить извилинами. А значит, необходимо как следует выспаться. В углу (если у бутылки бывает угол) валялся относительно чистый соломенный тюфяк. А вот и мешок — вполне сойдет за подушку. — Во всяком случае, меня не намерены мучить голодом и бессонницей. Пока остановимся на этом. Всему свое время. Солнце зашло. Наступил вечер, и ничто не нарушало тишину. Тотор почувствовал себя таким одиноким, что едва сдерживал дрожь, однако взял себя в руки. Никаких нервов! Спать! Он растянулся на тюфяке, закрыл глаза и провалился в сон. Ему ничего не снилось. Измученное тело требовало отдыха. Неподвижность, тишина, забытье… Так протекли часы. Проснувшись, Тотор поначалу не мог понять, где находится. Но вскоре вспомнил вчерашний день и огляделся. Все та же тюрьма — мрачная и странная. Отсюда не убежишь. Сердце сжалось в тревоге. Ему стало не по себе. Тотор закричал: — Эй! Бандитская шайка! Мерзавцы несчастные! Где же вы? Поговорим с глазу на глаз! Молчание было ему ответом.
ГЛАВА 3
Трус! — Ночные кошмары. — Веревка и крюк. — Надежда! — Лестница должна иметь ступеньки. — Наверх! — Как трубочист!Тотор в задумчивости остановился. — Чего ради горло драть? Если меня покормили вчера, вряд ли уморят голодом сегодня. Нужно дождаться, пока кто-нибудь принесет завтрак, и поговорить с ним. А при необходимости управлюсь и без слов. Ну, будет небольшая потасовка, и все! В самом деле, как ему раньше не пришло это в голову! Человека спускают сюда на веревках. Придется вежливо попросить его уступить место или не очень вежливо… Это же так просто! Тотор, как и вчера, машинально обошел свои владения и неожиданно наткнулся на корзину со съестным. Какое разочарование! Корзина была полна. Он и не заметил, когда ее успели обновить. А ведь это означает, что кто-то приходил, пока он спал. Тотор же ничего не видел и не слышал… Он что есть силы ударил себя кулаком по лбу. Надо ж было заснуть так крепко! Впрочем, что толку злиться? Факт остается фактом. Нужно ждать, снова ждать. Но чего? Нет надежды, нет определенной цели, к которой можно было бы устремить все помыслы, на которой стоило бы сосредоточиться. Одиночество, полная тишина, сероватый, мерцающий свет — все это угнетало. Аппетита не было. Тотору показалось, что некая таинственная сила осудила его на вечное заточение, подобно тем преступникам в Бельгии или Италии, что годами изнывают in pace[61], мечтая о смерти как об избавлении от томительного одиночества. От этой мысли его передернуло. Тотор — само движение, само жизнелюбие. Такая медленная казнь пугала его больше, нежели самые страшные муки. В отчаянии он схватился за голову и упал на колени возле постели. Главное — не сойти с ума! Нет, нет, он не хотел сдаваться, не хотел превратиться в жалкого безумца. — Погоди, погоди, Тотор! Давай разберемся спокойно. Ты же не экзальтированная дамочка, чтобы впадать в истерику. Неужели ты струсил? Последнюю фразу он произнес очень громко, и слово «струсил» хлестнуло его, точно бич. Самообладание вернулось к сыну Фрике. Он обругал себя за малодушие, заключив тем не менее, что это всего лишь следствие физического перенапряжения. Недолго думая, Тотор позавтракал и принялся пядь за пядью обследовать свою темную камеру. Он тщательнейшим образом обследовал стены в надежде найти хоть крошечную трещинку. Тщетно! Цемент был гладок, как мрамор. Стены плавно переходили в пол: ни паза, ни стыка, ни шва. — Итак, — рассуждал Тотор, — наверху есть выход. Если б добраться туда! Он огляделся. Ни тюфяк, ни подушка не помогут. Никакой упругости, к тому же с их помощью поднимешься всего-то сантиметров на пятьдесят, не выше, чем встав на корзинку с провизией. Ничего! Ничего! Рассмотрев трубу, которой заканчивался свод, Тотор убедился, что она начиналась на высоте не ниже четырех метров. Нет, туда ему никак не вскарабкаться! — Ах, папаша Фрике! Как бы ты поступил на моем месте? Ты такой ловкий, такой хитрый! Какое средство нашел бы ты, чтобы выбраться из этого каменного мешка? Увы! Некому было ответить на вопросы Тотора. Пришлось признать очевидное: его мучители все предусмотрели, он бессилен, несмотря на всю свою отвагу и ловкость… День прошел в бесплодных раздумьях. Несчастный всячески старался успокоиться, но нервная дрожь не унималась. Часы текли так медленно, так нестерпимо долго! Он ориентировался во времени по интенсивности света, то и дело поглядывая наверх. Там, наверху, была жизнь, была свобода. Значит, нужно бороться. Наступили сумерки. Вскоре и совсем стемнело. Сердце сжалось в безысходной тоске. Эти негодяи собираются мучить его бесконечно! Дни будут следовать за днями… И ни единого проблеска надежды! Темнота душила. Вместе с ней начались кошмары. Ночью Тотор больше не чувствовал в себе сил владеть собой, хотя и сознавал, что ни в коем случае не должен спать. Он сопротивлялся, как мог, расцарапывал до крови кожу, прогоняя сон, который страшил его. Во сне его одолевали ужасные видения. Вот Меринос сражается с дикими зверями. Чудовища терзают его, он зовет на помощь друга Тотора, тянет окровавленные руки и наконец, обессиленный, падает. А вокруг в адском танце кружатся отвратительные монстры… Затем Тотор провалился в какую-то бездну… Когда он открыл глаза, новый день был уже в полном разгаре. Юноша вскочил на ноги и закричал: — Будь ты трижды проклят, скотина! Опять заснул! Совсем расквасился, бездельник! Мокрая курица! Однако делать нечего. Как ни кори себя, горю не поможешь. Человек, приносивший ночью еду, был его единственной и последней надеждой. Его вытащат наверх, а там будь что будет. — Бой? Пусть так! По крайней мере, это жизнь. А здесь я мертвец. Это моя могила. Странно, однако, что они не убили меня сразу. Такая изысканная жестокость не в привычках этих людей. Не моя вина, что бен Тайуб остался жив. Еще одна секунда, и я задушил бы его. Но он победил. Прекрасно! Мстить, мучить — нет ничего приятнее для такого мерзавца, как он. Но кормить!.. При слове «кормить» у Тотора засосало под ложечкой. — Без глупостей! Он заблуждается, если полагает, что я объявлю голодовку. В конце концов, не я первый, не я последний, кто коротает дни в заточении. В свое время Бонивар, прикованный цепью кстене в Шильонском замке[62], даже оставил следы на каменных плитах, но ведь умер он в своей постели! Здесь настоящий курорт. Почему бы не воспользоваться всеми его благами? Выше голову, Тотор! Относись ко всему философски. Парижанин подошел к корзине, сунул туда руку и в испуге вскрикнул. Корзина была пуста. Провизию не принесли. Никто не приходил ночью. Это уже серьезнее. Голод не тетка! Конечно, когда, скажем, охотишься на слона, нападаешь или, наоборот, защищаешься, о голоде не думаешь и способен не есть часами. Но здесь, взаперти, в одиночестве, когда ничто не отвлекает, когда голова ничем не занята, все время хочется есть. Ни о чем другом думать уже не можешь! Тотор метался, как тигр в клетке. Это монотонное движение выводило из себя! Внезапно ему показалось, что слух уловил какие-то непонятные звуки там, наверху. Тотор прислушался. Это были крики, вернее вопли, то ли радости, то ли гнева. А может быть, страха или отчаяния?.. Затем послышались барабанная дробь и трубные звуки. — Там какая-то суматоха. Что затеяли эти негодяи? Теперь эхо доносило топот множества ног. Дрожала земля, как будто целый батальон маршировал прямо над головой. Тотор силился представить, что же происходит наверху, но на пустой желудок воображение отказывалось служить. Шум понемногу утих, и вновь воцарилось тягучее безмолвие. — Не пойму, что у них случилось, только обо мне эти бездельники совершенно забыли. Если я в тюрьме, то где же тюремщики? О, сколько бы я отдал, чтоб увидеть хотя бы одного! Вдруг свет погас и как будто наступила ночь. Неужели его замуровали? Только этого не хватало! Тотор поднял голову и увидел, что сверху, закрывая ход, медленно спускается корзина. Он замер и затаил дыхание. Не велико дело — корзина! Но в нынешнем положении любое движение означало для несчастного затворника так много — ведь это победа над смертью. Тотор смотрел во все глаза. Каким образом крепится корзина? Вот она спускается все ниже, еще ниже и в конце концов оказывается на полу. К ручкам привязан крюк, а к крюку — крепкая веревка. Вот веревка слегка ослабла, чтобы высвободить крюк, маневр удался, и крюк со звоном ударяется оземь. Не мешкая, Тотор уцепился за веревку. Поднимаясь, она увлекла его за собой — к свету, к свободе. Еще немного… Но не тут-то было! Сверху веревку отпустили, и Тотор полетел вниз… Там, наверху, тоже не дураки, они, конечно, заметили, что тащить тяжеловато. Трудно принять взрослого мужчину за корзинку весом килограмма в два-три… Тотор почти не ушибся, поскольку не успел подняться слишком высоко. Он приземлился на ноги и растерянно огляделся. Сверху по-прежнему лился недосягаемый свет. — Я бы сказал, что меня надули, оставили с носом, — разочарованно протянул пленник. Он взглянул на веревку. Достаточно крепкая и могла бы без труда вытащить его наружу. — А-а! — воскликнул он. — Да тут что-то есть на конце! Это был железный крюк грубой ковки толщиной в палец, способный выдержать десять здоровых мужиков. Тотор задумался. Надо же! У него ничего не было, а теперь есть уже кое-что! Какое-никакое, а все-таки орудие. Тут довольно острый конец. Тотор догадался, что неведомые обстоятельства помешали его сторожу сегодня ночью поменять корзину с едой. Днем сам он опасался встречи с узником и спустил на веревке корзину. Но, поняв, что случилось, вынужден был бросить и веревку. — Все ясно! Этот гад побоялся спуститься сам и оставил мне обе корзины, не подумав о крюке. Но я-то о нем подумал! Это лучший компаньон, о каком только можно мечтать. Дружок, если ты не полный идиот, ты сможешь выбраться отсюда. А пока не мешает подкрепиться! Прежде чем строить дальнейшие планы, Тотор плотно позавтракал. Он должен был чувствовать себя уверенно, чтобы наилучшим образом использовать подаренный судьбой шанс. Наевшись, Тотор взял в руки веревку и крюк, уселся прямо под выходным отверстием в круге света и глубоко задумался. Он больше не чувствовал ни апатии, ни усталости. Холод металла будоражил кровь и подгонял мысль. Тотор поднялся, подошел к стене и со всей силы ударил по гладкой поверхности. О радость! Оказалось, что это всего лишь слой имитирующей мрамор штукатурки толщиной в какие-нибудь полсантиметра. — Э-э! — протянул он весело. — Бьется, как стекло! А что же внутри? Спрессованная земля, и больше ничего. А я-то, дурак, думал — цемент. Стоит только захотеть, и за час от этой бутылки останутся одни осколочки. Но что же дальше? Тотор снова принялся мерить шагами свою конуру. Но теперь он походил не на загнанного зверя, а скорее действительно на Наполеона — на Наполеона перед Аустерлицем. Это был шаг победителя. Внезапно Тотор остановился и ударил себя по лбу, вспомнив слова знаменитой песенки, которую частенько распевали на Монмартре: «Без ступенек лестница — не лестница совсем». — Значит, — заключил он, — чтобы сделать лестницу, надо вырубить ступеньки! Крюк вполне подходит для этого. Что и говорить, повезло мне! Так за работу! Он начал долбить стенку. Штукатурка крошилась и с шумом падала на пол. Слишком громко! Впрочем, не беда! Кто не рискует, тот не выигрывает! За пять минут Тотор выдолбил в стене углубление, вполне достаточное для того, чтобы опереться ногами. — Великолепно! Но, чтобы подняться выше, нужна опора для руки. Сказано — сделано! Еще несколько минут, и Тотор уже мог свободно ухватиться за стену одной рукой. Работа закипела. Правда, земля под штукатуркой высохла и крошилась под руками. Однако Тотор не обращал внимания ни на какие трудности. Вскоре от него требовались уже немалые усилия, чтобы удерживать равновесие и не свалиться вниз. Но цель была близка! И вот Тотор добрался наконец до выхода, но отверстие оказалось таким узким, что широкоплечий парижанин едва-едва мог протиснуться… И тут Тотор вспомнил, как в детстве папаша Фрике показывал ему юрких трубочистов, что проникали в трубы, искусно работая локтями и коленями. Так неужели же он, Тотор, не сумеет сделать то же самое? Понадобилось целых два часа, чтобы преодолеть самое узкое место. Еще немного, и вот уже над дырой показалась шевелюра, потом нос, подбородок… Но в это мгновение кто-то со всего маху ударил Тотора по голове. К счастью, наш герой был крепким малым: сделав невероятное усилие, он подтянулся на руках и через секунду был уже на свободе. В голове у Тотора помутилось, и через туманную пелену он с трудом различил человека с громадной дубиной в руке. Разъяренный парижанин накинулся на незнакомца, сбил с ног, оглушил, уселся верхом на неподвижное тело и, вытирая пот, коротко бросил: — Сделано!
ГЛАВА 4
Верхом на негре. — Тотор-укротитель. — Здесь опасно быть белым. — Африканский макияж. — Пленные. — Одним больше. — Где же остальные? — И снова бош!Дело действительно было сделано. Настоящий свет, настоящее небо над головой. Тотор оглядывался вокруг, испытывая при этом неизъяснимое счастье. Он жадно вдыхал воздух, обжигающий, как глоток черного кофе, размахивал руками, болтал ногами, как расшалившийся мальчишка. «Выбрался из этого склепа! Вот так удача! — размышлял парижанин. — Кто ищет — тот всегда найдет. Я и вправду родился в рубашке. Да еще отец помог мне со своей историей о маленьком трубочисте. Браво, папа!» И он послал отцу с матерью воздушный поцелуй через тысячи миль. Для любящих сердец существует, должно быть, беспроволочный телеграф. Между тем Тотор все еще восседал верхом на поверженном негре. Кругом, насколько хватало глаз, — чахлая, выжженная трава. Картина воистину безрадостная! Но в эту минуту Тотору нравилось все, в особенности же то, что здесь довольно безлюдно. Но где он находится? Надо сказать, что в Центральной Африке не ставят указателей на перекрестках по той простой причине, что там нет ни самих перекрестков, ни улиц, ни переулков. Ну да географией Тотор займется попозже. — Эй! — обратился он к негру. — Что ты там барахтаешься? Не торопись. Поболтаем. Француз встал. Полузадохнувшийся негр понемногу приходил в себя и тоже пытался подняться. — Погоди, старина! Дай-ка я тебе помогу. Тотор схватил его за пояс и перевернул на спину. Негр открыл глаза, взглянул на белого и испуганно вскрикнул. — Во-первых, заткнись! А не то я тебя так отделаю… Негр привычным движением принялся нащупывать за поясом рукоятку ножа. — Напрасный труд, Лизетта. Ножик — это для Биби, а еще пистолет и коробочка с патронами. Игрушки старые, однако могут пригодиться. Негр не понимал ни слова и начал было отбиваться. — Ах ты, шалунишка! Маленький проказник! Хочешь сделать Биби какую-нибудь гадость? Предупреждаю: поостерегись! Тотор с силой сжал черную ладонь в своей руке. Негр побледнел, заскрипел зубами, но Тотор и ухом не повел, а стащил с незнакомца одежду и оставил в чем мать родила, да к тому же отвесил такую оплеуху, что тот не стал больше сопротивляться. Парижанин внимательно осмотрел коричневый бурнус с капюшоном и поясом. — Даже и не слишком грязный! И блох не много! Подойдет! Эй! Эй! Последние восклицания относились к негру, который вдруг вскочил на ноги и собрался бежать. Тотор ринулся наперерез, одним ударом повалил противника на землю и накрепко связал той самой веревкой, что помогла ему выбраться на волю. Секунду он размышлял, не стоит ли отправить своего охранника вместо себя в каменный мешок, но потом передумал… Что, если о несчастном забудут? — Никогда не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой! Я побеждаю врага, но не измываюсь над ним. Тотор положил связанного в тени, неподалеку от входа в тюремную камеру. Бывший охранник выглядел внешне вполне невинно и походил на обломок колонны, остаток какого-то древнего сооружения. — Послушай, старик, — обратился молодой человек к негру. — При случае я непременно проведаю тебя. А пока спокойной ночи и дурных тебе сновидений. Теперь — быстро переодеться. Бурнус был длинноват, но сидел недурно. Тотор раздобыл оружие: ятаган, пистолет, патроны — и чувствовал, что ему все по плечу. Куда же идти? В какую сторону податься? Ясно одно: пещера не может находиться далеко от лагеря или стоянки работорговцев. Но в каком направлении лагерь? Слева, справа, прямо? — Не часто я оказывался в столь затруднительном положении, — сказал сам себе Тотор. — Пустыня, ни одного полицейского, и никаких ориентиров! Кроме того, не стоит обольщаться. Если я нарядился в одежду негра, это вовсе не означает, что я почернел. Руки, ноги, лицо выдают меня. Белая кожа сразу же привлечет внимание. Ах, как хочется курить! Полцарства за сигару! Тотор взглянул на негра. Тот мирно спал или только делал вид, что заснул. — Не могу же я, в самом деле, содрать с него кожу и натянуть на себя! Наш герой внимательно осмотрелся и в нескольких шагах заметил невысокий холмик, который при свете дня показался ему абсолютно черного цвета. — Гм… Кто знает? Быть может, пустыня откроет мне секреты макияжа. Тотор подошел ближе и увидел, что земля не черная, но, во всяком случае, темно-коричневая. Она была мягкой и рассыпчатой. — Черт знает, какую заразу тут подхватишь! Впрочем, я не брезглив, да и не до жиру сейчас. Он взял щепотку и старательно потер руку. Кожа почернела. Тотор ударил себя по лбу: — Я знаю, что это такое! Муравьиная парфюмерия. Маленькие твари перемалывают и разминают землю. Коттоло обожают это лакомство, похожее на шоколад. А бугорок — всего-навсего брошенный муравейник. Хорош-Гусь, бедный мой друг! Он разрисовывал с помощью этой краски себе все тело, ведь она легко смывается водой. И все-таки Тотор медлил, ибо очень дорожил своим цветом лица. Вдруг он вздрогнул и навострил уши. Нет, он не ошибся. Откуда-то издалека донеслись негритянские ритмы, гул тамтамов, визг флейт. — Дьявол! Ситуация стремительно меняется! Сюда идут люди, а люди — это враги. Да, бывают мгновения, когда одиночество — благо! Тотор огляделся и увидел вдалеке вереницу чернокожих. Они шли прямо к тому месту, где сейчас находился он. — Прекрасно! Посмотрим на дело трезво. Положение серьезное. Не исключено, что придется принять бой. Вряд ли мне удастся уйти отсюда невредимым. Но, пока есть еще немного времени, займемся косметическими процедурами. Итак — муравьиное пюре! Он запустил обе руки в муравейник, зачерпнул по горсти черноватой пудры, натер ноги, руки, шею, лицо. Покончив с не очень приятной процедурой, сын Фрике улегся среди высокой и густой травы. Приближалась ночь. Если повезет, в темноте его могут и не заметить… Тотор не знал, что будет делать дальше. Людей он теперь не видел, но отчетливо слышал их шаги. А вскоре вокруг замелькали темные силуэты. Свистели хлысты, со зловещим стуком опускались на спины несчастных тяжелые палки. Тотор догадался, что работорговцы гнали очередную партию пленников. Их оказалось около сотни. Они, очевидно, целый день надрывались на земляных работах и теперь буквально валились с ног, покачиваясь, точно пьяные. Решение родилось внезапно. Свобода дана ему для того, чтобы попытаться помочь несчастным! Их, несомненно, ведут в центральный лагерь… Колонна шла совсем рядом. Тотор осторожно подполз ближе, поднялся и пристроился к пленным. Те были настолько утомлены, что ничего не заметили. К тому же ни цветом кожи, ни одеждой он не отличался от остальных. Правда, с его появлением ряды колонны слегка смешались, и тут же засвистели кнуты. Тотор ощутил жгучую боль. На лбу горел кровавый рубец. Он вздрогнул, но не издал ни звука. Что стоила бегущая по лицу струйка крови в сравнении с теми страданиями, что выпали или еще выпадут на его долю? Он даже обрадовался, ведь вокруг были люди, какая-никакая, а все-таки жизнь, не то что в каменном мешке. Парень сознавал, что движется навстречу неизвестности, быть может, даже ужасной… навстречу мучительной смерти… Но он еще не сломлен! Колонна между тем не останавливалась. Уже совсем стемнело, но бдительные стражи смотрели в оба. Да никто из пленных и не пытался бежать. Измученные люди мечтали лишь о том, чтобы добраться до места и отдохнуть хотя бы часок. Вдруг Тотор увидел прямо перед собой что-то белое, напоминающее крепостную стену, и понял, что их привели в лагерь. Подобно стаду баранов, людей палками и хлыстами загнали в ворота. Толпа заполнила узкий коридор. Тотор почувствовал, что задыхается, и не смог сдержать крика: — Проклятье! Однако его никто не услышал. Крик потонул во всеобщем гомоне. Несколько вооруженных до зубов солдат несли над головами горящие факелы. В их неясном свете Тотор различил по ту сторону площади просторный сарай, сбитый из досок. Внутрь вела тяжелая дверь с железными засовами. Дверь наполовину приоткрылась, так чтобы можно было входить по трое. Одетый в белое араб считал пленников. Тотор похолодел. Это был опасный момент. К счастью, как всякий уважающий себя чинуша, надсмотрщик работал спустя рукава. Ему показалось было, что в одной группе он насчитал не троих, а четверых, вот он и отправил какого-то ничего не понимавшего негра в конец шеренги, да на том и успокоился. Так Тотору удалось проскользнуть незамеченным. За дверью ряды смешались. Несчастные рабы толкали и пинали друг друга, ибо посреди сарая стояла бадья, где были навалены куски мяса с кукурузой и медом. Изголодавшиеся люди накинулись на малоаппетитное и дурно пахнущее кушанье. Запуская в бадью руки по самые локти, они выхватывали громадные куски и глотали пищу, толком не прожевав. Только за ушами трещало! Клацали зубы, урчали животы… Тотору пришлось поступить точно так же, ибо выделяться ни в коем случае не следовало. Со всех сторон его пихали, толкали, пинали, и он не знал, выберется ли живым из этой свалки. Тем не менее он был доволен. Враг где-то рядом. Тотор чувствовал это и знал: Его Величество Случай, как обычно, поможет ему. На его долю выпал, быть может, единственный шанс, и не воспользоваться им было бы просто непростительно. Не стоит пока строить какие-то планы. Поживем — увидим! Главное — выжить. Воспользовавшись всеобщей суматохой, парижанин решил поискать местечко поудобнее, чтобы устроиться на ночлег, так как чувствовал себя совершенно разбитым. От едкого, затхлого запаха перехватывало горло, но Тотор старался не обращать на него внимания и, растянувшись прямо на земле, прикрылся своим рубищем и блаженно закрыл глаза. Вокруг все вдруг закопошились, засуетились. Это укладывались спать насытившиеся наконец пленники. Негры не выискивали места поудобнее, а падали там, где стояли, вповалку. Никто ничего не заподозрил. Тотор — такой же раб, как они… Мало-помалу все угомонились. Дверь заперли на тяжелый железный засов. Еще какое-то время Тотор слышал прерывистое дыхание соседей, но вскоре крепко заснул. Тяжелый, но желанный сон! Несколько часов отдыха и забвения — именно то, что нужно. Однако… Что-то встревожило Тотора, и он открыл глаза. Что это? Кошмар, галлюцинация? Ему показалось… Нет, не может быть! Еле слышный шепот вновь повторил: — Тотор! Как будто легкий ветерок пробежал сквозь листву: — Тотор! Тотор! Сомнений не было. Голос приближался, и одновременно наш герой заметил, как неясная тень скользнула вдоль ограды. Подать голос? Ответить или промолчать? А если это подосланный врагами убийца? Если… — Тотор! Тотор! Теперь голос прозвучал совсем близко. Чьи-то губы едва не коснулись уха Тотора. Будь что будет! В конце концов, чем он рискует? Что может быть страшнее нынешнего положения? Не размыкая губ, затаив дыхание и медленно цедя слова сквозь зубы, он отозвался: — Тотор здесь! Неизвестный замер на месте и, помолчав, произнес: — Ты слышишь меня, патрон? — Да. — Если можешь, подними руку. Не бойся! Это Хорош-Гусь. — О, друг мой! Неужели ты жив? — Полагаю, да. Ну, делай же, что говорят, черт возьми! И не успел Тотор поднять руку, как почувствовал сильный рывок. Хорош-Гусь вытащил хозяина из-под груды спящих. Послышалось глухое ворчание, потом все стихло. — Становись на четвереньки, патрон! Следуй за мной! Не отставай! Минуту спустя они очутились в тесной конурке за кучей какого-то хлама. Здесь как раз хватило места для двоих. Тотор радостно обнял и расцеловал негра. — Ах, патрон! Как я счастлив! Как счастлив! — И я тоже! Но как ты узнал меня? Как нашел? — Когда тебя затолкали, ты слишком громко крикнул: «Проклятье!» — И верно! А ты услышал? — Конечно. Я сказал себе: «Не будь я Хорош-Гусь, если это не словечко короля Коколя!» Ходил, ходил вокруг да около, выискивал, вынюхивал. И вот результат! — Где мы находимся? — Это Кама, поселение, которое негодяй Си-Норосси основал на берегу неизвестной мне реки. Здесь все его воины, около тысячи человек. Они прекрасно вооружены и в любой момент готовы к бою. — Тебя тоже взяли в плен? — Меня схватили там, возле деревни коттоло. Мы должны были помочь им, а вон как вышло. Но, думаю, это еще не конец. Наша песенка не спета. Си-Норосси и его люди хитры, да Хорош-Гусь хитрее. А теперь, когда я нашел тебя… Кстати, патрон, ты-то откуда взялся? — Из дырки, мой друг. Как пить дать, выдумка твоего приятеля Си-Норосси. Он взял меня в плен, но для белого сделал исключение. И Тотор рассказал свою историю. — Потрясающе! — воскликнул Хорош-Гусь. — Ты всегда был самым ловким и сообразительным. — А где Меринос? — прервал его Тотор. Хорош-Гусь как-то весь передернулся и ничего не ответил. — Быстрее, быстрее скажи мне, дружище, что с Мериносом! Он погиб? — Нет, нет! Но это, быть может, еще хуже! — Объясни! Я очень беспокоюсь за него… — Не знаю точно, но, если он жив, я ему не завидую… — Он здесь? — Мне известно, что здесь есть один белый пленник. Ходят слухи, что он дал пощечину одному министру или что-то в этом роде. Словом, его приговорили к смерти. А это у них дело скорое. — Я наведу тут порядок! Нечего сказать, вовремя подоспел! — Ах, бедный патрон! Не обольщайся! Ты умный, сильный, ловкий, но этих мерзавцев очень много. Они жестоки и кровожадны. — Ба! Мы с отцом и не такое видали. Знаешь ли, старина, пока ты способен пошевелить пальцем, не стоит отчаиваться. А где Аколи? — Погиб! И Наир-Вазим, колдун-коттоло, и многие другие. Среди этих людоедов было немало смельчаков. Они предпочли смерть рабству. — А эльзасец Жан Риммер? — Не знаю. Он исчез! Тотор никак не решался задать еще один вопрос, наконец не выдержал и спросил: — А Йеба? Хорош-Гусь вздрогнул, и глухой стон вырвался из его Груди. — Не надо об этом, патрон! Умоляю, не надо! Тотор понял, что другу невыносимо тяжело вспоминать. И все же тот в двух словах объяснил: Йеба не погибла, а попала в лапы к бандитам. Хорош-Гусь долго молчал. Тотор заговорил первым: — Мужайся, друг мой! Надо крепиться, надо спасти тех, кого еще можно спасти, и отомстить за тех, кому уже не поможешь. Надо покарать палачей или умереть! Ты готов? — На все! — Если так, то мы еще повоюем! Вот увидишь! В это время послышался какой-то шум, все вокруг зашевелились. Дверь со скрипом отворилась, и внутрь проникли первые лучи солнца; в сарай вбежали арабы-надсмотрщики, негры-майенба и принялись что было мочи лупить еще не проснувшихся пленников. То тут, то там раздавались грозные окрики: — Встать, собаки! Всем подниматься! — Что-то случилось, — шепнул Хорош-Гусь. — Похоже, есть новости, и наверняка недобрые. Полусонные рабы нехотя поднимались. Им велели немедленно выйти из сарая. Несчастные повиновались, но руки и ноги плохо слушались. Солдаты не скупились на палочные удары. Кровь лилась рекой. Страшная сцена! Оглушенные Тотор и Хорош-Гусь никак не могли понять, что явилось причиной странного поведения стражников. Возможно, повелитель встал не с той ноги и в слепой ярости приказал уничтожить вчерашнюю партию рабов? Напрасно они надеялись, что их не заметят. Надсмотрщики обшарили каждый уголок, рьяно исполняя приказ хозяина. Лучше подчиниться, чем подвергнуться побоям и унижению. Оба поднялись и, присоединившись к группе негров, направились к выходу. Все сошло благополучно. Здесь друзья увидели, что площадь перед сараем оцеплена. В строю стояли по меньшей мере человек пятьсот воинов с ружьями наготове. Сюда же подкатили и пушку. Сопротивление бесполезно! Из этой мышеловки не вырвешься! Несчастных разделили на несколько групп, с них срывали одежду, нещадно били. — А! Каналья! — вскричал Тотор, узнав человека, который руководил экзекуцией. Это был немец фон Штерманн, одетый в арабский костюм. Тотор помнил, как тот упал под ударом Жана Риммера. Однако предатели живучи! — Вон белый! Я узнал его! — завопил немец. — Схватить! Десять человек бросились к Тотору. Он не собирался сдаваться и какое-то время успешно отбивался. Над головой свистели сабли, а Тотор пустил в ход не только руки и ноги, но и зубы… — Не убивайте его! — ревел немец. — Взять живым! Наконец негодяй и сам подскочил с револьвером в руке… Тотор ринулся вперед, стараясь схватить лейтенанта за горло, но солдаты подоспели вовремя и связали бунтовщика. Фон Штерманн стоял совсем рядом. Тотор изловчился и плюнул ему в лицо. — Предатель! Иуда! — кричал он. — Убей меня! А не то я тебя уничтожу! Бывший лейтенант из Камеруна позеленел от злости, вскинул револьвер, но сдержался. Тонкие губы скривились в зловещей улыбке: — Грязный французишка! Отведите его во дворец. Си-Норосси живо его укротит. Тотора увели. А где же Хорош-Гусь? Почему он не защитил своего друга и патрона? Хорош-Гусь исчез.
ГЛАВА 5
Кама. — Султан Си-Норосси. — Си-Ля-Росс. — Скала над бездной. — Гарем. — Вот так роскошь! — Не мешает привести себя в порядок. — Меринос!.. — Гляди-ка! Кот! — Выход Тотора.Раба, которому поручили охранять Тотора, нашли связанным неподалеку от подземной тюрьмы. Он рассказал о дерзком побеге пленника, и, как только партию привели в Каму, один из охранников отправился в Зерибах с тревожной новостью. Он доложил о происшедшем фон Штерманну, тому самому человеку, который, зная о щепетильности султана в отношении французов, посоветовал водворить беглеца в каменный мешок. Узнав о побеге, фон Штерманн пришел в ярость и приказал бить провинившегося раба палками, пока тот не испустит дух. Тотора необходимо было найти любой ценой. Начались допросы. В результате выяснилось, что под покровом ночи француз, возможно, прибился к партии рабов и, стало быть, прячется где-то среди пленников. Дальнейшие события подтвердили эту гипотезу. Укрепленный лагерь Кама, откуда Си-Норосси и бен Тайуб рассылали отряды бандитов для захвата несчастных дикарей, раскинулся в междуречье Шари, Логоне и Уама, на северо-восток от Лаи. Лагерь построили несколько месяцев назад километрах в двухстах пятидесяти от французских фортов Бретонне на севере и Аршамбо на востоке, в самом центре плато, защищенного с одной стороны рекой, а с другой — густым лесом. Дальше высились неприступные горы, еще дальше зияли глубокие ущелья, настоящие бездонные пропасти. Место выбрали весьма удачно. Колонны пленников и караваны с награбленным без труда добирались до озера Иро и пешком, по долинам Шари, или на пирогах, по реке Аук, прибывали в Дарфур. Между тем караваны не раз уже натыкались на французов и на находившиеся под французским протекторатом племена на берегах Гринбинги, из-за чего Си-Норосси нес серьезные потери. Поэтому султан, естественно, ненавидел европейцев, но инстинктивно опасался их, зная, как отомстили они за гибель Лами[63], Бретонне, Беагля, Крампеля, и, несмотря на гордость из-за легких побед над несчастными африканцами и на несметные, добытые нечестным путем богатства, он не решался вступить в открытый конфликт с европейцами, и в частности с французами. У жестокого, алчного, неразборчивого в средствах султана была, однако, своя особая философия. Он все хорошо взвешивал, предпочитая действовать наверняка. Бен Тайуба, авантюриста по натуре, жившего сегодняшним днем и никогда не загадывавшего на будущее, раздражало то, что он называл малодушием Си-Норосси. Амбициозный работорговец мечтал о дерзком походе к озеру Чад, чтобы отбросить французов к северу и основать грандиозную центральноафриканскую империю от Логоне до Санга. Злобный и мелкотщеславный фон Штерманн поддерживал бен Тайуба в его безрассудных мечтаниях. Оба не раз ловили друг друга на мыслях о том, чтобы свергнуть Си-Норосси и занять его место, но, принимая во внимание популярность султана и верность ему армии, не решались действовать. Такова была ситуация на момент, когда Тотор предстал перед лицом Си-Норосси. Критический момент! Парижанин нисколько не заблуждался на собственный счет, понимая, что на этот раз зашел слишком далеко и наверняка погибнет. Оставалось держаться стойко и принять смерть достойно, с высоко поднятой головой и чистой душой. Они прошли вдоль улиц Камы и, немного попетляв, оказались у подножия холма высотой метров в пятьдесят, на вершине которого Тотор разглядел просторное здание, сверкавшее белизной под лучами тропического солнца. Холм составляли отвесно обтесанные каменные глыбы, и на первый взгляд взобраться на вершину было решительно невозможно. Но конвоиры обошли скалу кругом и поднялись по вырубленным в граните ступенькам. При входе на лестницу стояли человек двадцать стражников, вооруженных по-европейски, скорострельными карабинами. «Немецкая контрабанда», — отметил про себя Тотор. Он старался быть предельно внимательным и не упустить ни единой мелочи. Путь на лестницу преграждала массивная решетка кованого железа. Лязгнули петли, и Тотора втолкнули внутрь. Здесь пленного с рук на руки передали другим солдатам. «Черт возьми! — подумал наш герой. — Экий изысканный этикет при дворе господина Си-Ля-Росс»[64]. Такую кличку он сам придумал султану Си-Норосси. Поднялись наверх. Теперь Тотора охраняли рослые арабы с обветренными, смуглыми лицами, в длинных белых одеяниях и с пистолетами на поясе. — Вид у этих ребят не слишком приветливый, — проворчал Тотор. — Впрочем, они довольно вежливы. В самом деле, до сих пор его никто и пальцем не тронул, просто окружили плотным кольцом, так что француз был вынужден подстраиваться под их шаг. Вышли на просторную террасу, откуда открывался вид на необъятные дремучие леса. Тотор остановился возле каменной балюстрады и слегка перегнулся через нее, стараясь побольше увидеть. Быстрая река протекала у подножия скалы, огибая невысокий утес, к которому вплотную подступали деревья, чьи мощные ветви сплетались над водой в тенистый навес. Несмотря на то что один из стражей торопливо дернул Тотора за рукав и увлек за собой, наш герой успел все же разглядеть (хотя, быть может, он и ошибся) нечто напоминающее распластанную на камнях человеческую фигуру. Да, конечно, это скорее всего дефект камня… Ведь туда невозможно добраться… Между тем процессия двинулась дальше. Еще один маленький коридор — крошечный туннель, выдолбленный в граните, — лестница, вторая терраса. Ситуация не располагала к лирическим настроениям, и все же Тотор не сдержал восхищенного возгласа. В самом деле, трудно было представить себе что-либо более прекрасное, чем открывшийся его взору залитый светом африканский пейзаж. О, эти сверкающие блестки золотого песка в изумрудном обрамлении свежей листвы! Горизонт растворялся вдали, и все краски, словно преломляясь сквозь невидимую призму, играли в воздухе. Тотор ощутил сильный толчок в спину и двинулся дальше. Полуприкрыв глаза, стараясь продлить очарование, он прошептал: — Отчего природа так великолепна, а человек так жесток и зол? Проходя через террасу, он услышал, как хлопнули ставни. Это с силой закрылись окна. Тотор удивился. — Гарем! — пояснил один из охранников, радостно улыбнувшись. Таков порядок: когда кто-то проходит через террасу, следует закрыть окна, чтобы жен султана никто не увидел. Процессия свернула за угол и очутилась перед высоким крыльцом, ведущим к широкой двери, сплошь изукрашенной арабским орнаментом, переливающимся на солнце, точно золото. — Вот это роскошь! — воскликнул Тотор. — Этот чертов работорговец, кажется, умеет наслаждаться жизнью. Молодой человек поднялся на крыльцо и вошел в отворившуюся перед ним крошечную боковую дверцу. Внутри было светло, стены затянуты яркими многоцветными тканями, по бокам стояли диваны… как будто только что доставленные из Клиши. — Шикарно! — прошептал Тотор. — Если б меня еще и развязали! Правда, на ходу веревка на запястьях немного ослабла, а охранники и не думали вновь затянуть ее. В мгновение ока пленник высвободился и стал крутиться перед зеркалом. — Хо-хо! Ну и видок у меня в этих негритянских лохмотьях. Вскоре, очевидно, меня захочет принять Великая Обезьяна. Ну что ж! Придется удостоить его такой чести. Что и говорить, видавший виды костюмчик, который он все это время носил, сильно поистрепался: из шести пуговиц на рубашке осталась только одна, да и та болталась на ниточке; брюки растянулись и, того и гляди, готовы были упасть; одной гетры как не бывало; башмаки просили каши… Но француз всегда француз. Тотор принялся тщательно причесываться, ероша шевелюру пальцами. На столике рядом с зеркалом он заметил кувшин. — Это, должно быть, вода! Во всяком случае — какая-то жидкость с запахом роз. Тотор, хочешь, чтобы от тебя приятно пахло? Он вылил содержимое кувшина на руки и смыл с лица остатки черной глины, затем, ничуть не стесняясь, сорвал со стены кусок белого кашемира и тщательно вытерся. — Ну вот я и чист как стеклышко! Неожиданно прямо перед ним открылась дверь. По обе стороны встали два чернокожих охранника в расшитых золотом ливреях, с ярко блиставшими саблями, чьи изукрашенные драгоценными камнями эфесы слепили глаза. Некто в белом пригласил Тотора следовать за ним. На голове у незнакомца возвышался громадный зеленый тюрбан — верный знак того, что его владелец совершил хадж[65]. «Тотор, дитя мое, ну, теперь держись! Вдохни поглубже и вперед! Помни одно: ты француз и должен умереть красиво, как Ришпен»[66]. И вот, гордо выпятив грудь, наш галльский петушок вошел в зал. Дьявольщина! Декор напоминает ворота Сен-Мишель[67]. Огромный зал, точно неф кафедрального собора в стиле Альгамбры;[68] колонны и свод украшены мозаичными панно, на стенах разноцветная обивка, ноги утопают в теплом ворсе восточных ковров, высокие окна выходят на террасу, откуда открывается великолепный вид. Все это слегка напоминает театральные декорации, однако очень красиво. В глубине, под балдахином, возвышался трон. Не кресло, а нагромождение подушек, шелка, бархата, золота, серебра. — Потрясающе! — подумал Тотор. — Но меня почему-то не покидает ощущение, будто все это липа. Вкуса им явно недостает! В зале было много солдат — арабов и негров: белоснежные одеяния вперемежку с пестрой униформой. Заинтриговало Тотора то, что он увидел у подножия трона, немного правее от центра: какой-то резервуар непонятного предназначения, что-то вроде большого таза из меди или золота, диаметром метра в два, возле которого стоял высоченный негр, ростом не менее шести футов, небрежно опираясь на гигантскую саблю без ножен. По другую сторону от трона Тотор заметил группу людей и… Верить ли глазам? Сон это или кошмар?.. Меринос, Меринос собственной персоной! Руки связаны, лицо бледное и равнодушное. Он явно утомлен. Но жив, жив, черт побери! Тотор расхорохорился и, не обращая внимания на важных придворных, на вооруженную охрану и мусульманское духовенство, заорал во все горло, так что стены величественного зала задрожали. Ему ответил такой же радостный, счастливый крик. Поначалу Меринос не заметил вошедшего Тотора, но, узнав его, тотчас захотел было протянуть другу руки, однако помешали кандалы. — Негодяи! — вскричал Тотор, пытаясь пробиться сквозь толпу. Его не пропустили. Солдаты сомкнули ряды, и Тотор вынужден был остановиться. Он смотрел на Мериноса. Того тоже оттащили назад, и великан с обнаженной саблей встал рядом. Тотора била дрожь, кровь кипела, и невыразимая радость наполняла душу. Меринос! Его Меринос жив! Но другу тоже грозила опасность. Впрочем, следовало вести себя осторожно. Не стоило дразнить гусей, не то быть беде. Вероятно, все это плохо кончится. Но, по крайней мере, они умрут вместе, рука в руке, как братья. Между тем почтенное собрание глухо волновалось и Тотор ощущал на себе недружелюбные взгляды. Но тут зазвучали фанфары, и толпа всколыхнулась. Военные вытянулись в струнку, высоко подняв ружья, иные обнажили сверкающие сабли. Имамы[69] склонили головы и сложили руки в мусульманском приветствии. В нише за троном отворилась дверца. — Гляди-ка! Кот! — негромко произнес Тотор. У трона стоял султан Си-Норосси, и более точного сравнения нельзя было придумать. Небольшого роста, довольно толстый человечек; под тяжелым тюрбаном — широкое квадратное лицо с реденькой, всклокоченной бороденкой. Глаза казались круглыми, остановившимися и совершенно невыразительными. Послышались ритмичные восклицания, долженствовавшие, по всей видимости, означать: «Да здравствует Си-Норосси!» Тотор молча ждал. Султан раскинулся на подушках. Рядом возник бен Тайуб, высокий, красивый, точно сошедший с литографии; лицо его было сурово и замкнуто. С другой стороны, но на ступеньку ниже, встал немец фон Штерманн. «Арабский костюм идет ему как корове седло!» — подумал Тотор. Он ненавидел фон Штерманна, ибо хорошо запомнил рассказы Риммера. Си-Норосси подал знак. Перед ним поставили инкрустированный перламутром и медью табурет с чашкой дымящегося черного кофе. Негр на коленях поднялся по ступенькам трона и поднес султану кальян[70], который тот небрежно взял в рот, полузакрыв глаза и не говоря ни слова. В зале воцарилась тишина. — Вот остолоп! А эти-то притихли, можно услышать, как муха пролетит! — пробормотал Тотор, отнюдь не разделявший всеобщего благоговения. — Глянь, кажется, зашевелился. Си-Норосси действительно обернулся и что-то сказал бен Тайубу. Тот немедленно передал приказ столпившимся у трона офицерам. Один из них вышел, однако через мгновение вернулся. За ним двое солдат ввели негра в цепях. Вид у несчастного был подавленный. Кожа казалась бледно-лиловой, он весь дрожал, губы нервно подергивались, по лицу то и дело пробегала судорога. Человека подвели к трону и, толкнув в спину, заставили пасть ниц. Султан заговорил с ним по-арабски, и Тотор, к сожалению, ничего не понял. Однако ясно было, что бедняга попал в беду и султан как верховный судья оглашает вердикт. Затем властелин поднял руку. Тогда стоявший возле Мериноса негр набросился на приговоренного, схватил за горло, подтащил к медному резервуару и, размахнувшись, отрубил ему голову, так что та упала, гулко ударившись о металлическое дно. Кровь залила стенки чана. Все произошло молниеносно. — Чудовищно! — вскричал Тотор. Но крик его потонул во всеобщем хоре восхвалений мудрости султана. А этот мерзкий кот и бровью не повел, лишь отпил глоток кофе и вновь потянулся к кальяну. Затем Тотор увидел, что он повернулся к Мериносу. В суматохе, пока никто не обращал на него никакого внимания, сыну Фрике удалось «передислоцироваться». Теперь он стоял в первых рядах и прямо смотрел в глаза султану. Парижанин все рассчитал. В случае чего он в два прыжка доберется до Мериноса и сразит палача, которому прикажут обезглавить его друга, потом набросится на Си-Норосси и тогда уж покажет мерзавцу, где раки зимуют. Но палача никто не звал. Меринос с равнодушным видом по-прежнему стоял на том же месте, скрестив руки на груди. Си-Норосси снова обернулся к бен Тайубу и что-то сказал; работорговец не сумел скрыть удивления, однако тут же послушно кивнул, медленно спустился по ступенькам и направился к Тотору, который сказал себе: «Похоже, пришла моя очередь. Но, прежде чем моя голова слетит с плеч, неплохо бы слегка позабавиться!» — Come[71], — сказал ему бен Тайуб по-английски. Тотор встал в позу провинциального тенора и, слегка покачиваясь, пошел вслед за арабом, напевая сквозь зубы на мотив арии из «Прекрасной Елены»:[72] — Вот идет Тотор. Тор идет вперед. Тотор прекрасно видел, что кот-султан посматривает на него сверху вниз, между тем как глаза его сверкали яростью. Бен Тайуб подвел Тотора к самому подножию трона, указал на него своему повелителю и занял прежнее место. Тотор остался один. В трех метрах от него алел свежей кровью медный чан.
ГЛАВА 6
Приятная беседа. — Условия. — Письмо.Тотор держался очень прямо. Лицо его было спокойно, взгляд светел. Сын Фрике вполне владел собой. Султан поерзал на подушках и обратился к Тотору, сказав ему несколько слов по-арабски. — Я ваш чертов язык не понимаю. Можете разглагольствовать сколько угодно. Мне наплевать! Султан и глазом не моргнул, но продолжал уже по-французски: — Ты француз? — Ба! Да тут еще и тыкают, — произнес Тотор. — Давай на «ты», коли тебе так больше нравится, папашка. Да, француз, что ни на есть чистокровный француз, архифранцуз! На этот раз султан улыбнулся во весь свой кошачий рот. — Мне нравится Франция! — сказал он проникновенным тоном. — Неужели? — подхватил Тотор. — Вот так новость! Ну и какой мне с этого навар? Султан нахмурился. Этот образный язык был ему незнаком. Сам Си-Норосси говорил на ломаном французском. Вдруг он улыбнулся. — Ты знать, почему я убить раба? — Нет, да и что мне за дело? — Он предать меня. Обмануть. Я никого никогда не предавать, не обманывать. — И не говори! Ты что же, награду за добродетель выпрашиваешь? Так не я их раздаю! Я не из этой шайки-лейки. Си-Норосси не растерялся, ведь окружающие должны были думать, что он все прекрасно понимает. Султан продолжал: — Я мочь убить тебя, если бы хотеть! — Чего еще от тебя ждать? — Но я сам не хотеть! — Быть не может! Отчего же? — Оттого, что я любить Франция и французы, хотеть переговаривать с ними. — Эва, куда хватил! Губа не дура, как я погляжу! Потом, очень ясно и четко произнося слова, чтобы его поняли, Тотор отчеканил: — В таком случае ты нуждаешься во мне. Прекрасно! Если ты хочешь, чтобы я выслушал тебя и ответил, то прими одно условие. — Только я ставить условия, ни от кого не принимать. — В таком случае, детка, не о чем больше балакать. Впрочем, я все-таки закончу. Здесь есть еще один белый (и он указал на Мериноса). Это мой друг, мой брат! Позволь ему присоединиться ко мне, и тогда я готов говорить с тобой. Си-Норосси вспыхнул: — Но он… преступник… не француз! — И что с того? Это человек, белый человек, человек моей расы и моей крови, мой брат. Взгляни! Тотор подскочил к Мериносу и надавал его конвоирам таких тумаков, что те мигом оказались на ковре. Взяв друга за руки, он обернулся к султану: — Убив его, ты убьешь и меня! Тогда весь твой треп о переговорах с французами выеденного яйца не будет стоить! Понял? Фон Штерманн мертвенно побледнел. Неужели тот самый мусульманин, что всегда был всевластен, гневлив и жесток, позволит так обращаться с собой? Рискуя навлечь на себя гнев господина, немец высказал свое недоумение в довольно резких выражениях, а бен Тайуб поддакивал. Си-Норосси взглянул на обоих и только ухмыльнулся. — Ты хорошо француз! — сказал он, обращаясь к Тотору. — Доброе сердце и отвага. Я сделать то, что ты хочешь. Ты взять твоего друга! Тотор радостно вскрикнул. Однако легкая победа удивила его. Что заставило этого дикаря согласиться? Впрочем, как бы то ни было, а нужно пользоваться моментом. Он увлек Мериноса за собой. Секунду спустя оба стояли возле трона. — Пусть с него снимут кандалы! — скомандовал Тотор. Приказ тотчас исполнили. Решительно, Тотора здесь признали. Все складывалось как-тоуж чересчур хорошо, так хорошо, что даже подозрительно, тем более что Си-Норосси знай себе улыбался. — Теперь ты доволен? — спросил он. — Ты видеть меня добрый, благородный; я любить белых, всех белых. — Так чего же ты хочешь от меня? — перебил султана Тотор. — Почти ничего. Ты написать письмо. — Кому? — Французский командир, который несколько дней назад покинуть Абешер с большое войско и теперь быть в двух днях пути отсюда. — Ба! Старина, если он идет по твою душу, тебе, должно быть, не по себе. — Ты говорить на французский шутка, ну да все равно! Напишешь письмо? — Почему бы и нет? А если я откажусь? — Я сначала убить твоего товарища, твоего друга, здесь, саблей, раз, два… — Ясно! Ты говоришь, сначала, а после? — Сначала отрубить пальцы на твои ноги, потом пальцы на твои руки. — Писать, пожалуй, так будет не очень удобно… — Потом на медленный огонь поджарить одна пятка, а другая прижечь раскаленным железом… — О-о! Это надолго… — Конечно… Это для того… — Короче, уважаемый сын Аллаха, ты разрежешь меня на мелкие кусочки на китайский манер… Ты очень мил, я в высшей степени признателен тебе… только ведь твоим живодерам придется попыхтеть… — Мы много терпения. — Спасибо!.. Итак, что я должен сделать, дабы избежать столь печальной участи? — Я уже говорить — написать письмо… — Ну да, французам… Но что будет в этом письме? — Ты понять, что я хорошо говорить по-французски, но плохо писать… Я диктовать, ты записывать… поправлять фразы… Я перечитать и проверить… и тогда ты свободен… — И мой друг тоже… — Твой друг… и золото, серебро, драгоценности из моя сокровищница… — Черт возьми! Похоже, ты толкаешь меня на какую-то низость, если готов оплатить ее так щедро… Си-Норосси недобро засмеялся. — О чем говорить? Пять-шесть строчек, и все! — Самому Ришелье[73] не требовалось столько писанины, чтобы повесить человека. — Ты согласен? Да или нет? Тотор замялся. Из этой затеи не выйдет ничего путного. А, впрочем, кто знает? Да и чем он, в конце концов, рискует? Выслушает и напишет то, что ему заблагорассудится. Его, конечно, могут поджарить на медленном огне, но тем самым арабы лишь усугубят свое собственное положение. Тотор поднял глаза на султана и произнес: — Месье желает, чтобы я писал… Нечего и рассуждать понапрасну… Гарсон! Чего изволите? — Как смешно ты говорить! Я полагать, ты согласен? — Совершенно верно, пухлячок! — Скажи просто: да! — Да! Си-Норосси вновь развалился на подушках, подал знак, и два негра-исполина, покинув на мгновение зал, вернулись, неся искуснейшей работы столик, который установили у ног господина. Один из них положил сверху лист белой бумаги. — Сесть! — обратился Си-Норосси к Тотору. — Ближе, ближе! Устраиваться удобнее. Это надо очень красиво писать… ты ведь понимать… не так ли? — В обиде не останешься! Я известный каллиграф. — Слушать внимательно!.. Писать слово в слово, не то… — Не начинай по новой! Я сказал да, значит, да! Диктуй, я записываю. Тотор взял перо и приготовился. Си-Норосси прикрыл глаза, оперся головой на руку, будто бы медитировал. Потом начал: «Командиру французской колонны. Я — пленник султана Си-Норосси, мне угрожает мучительная смерть вместе с другими товарищами-европейцами… Нас держат в крепости Кама, и здесь нам удалось многое узнать… Си-Норосси совершенно пал духом! Он больше не в состоянии платить своим воинам, и те готовы взбунтоваться. Нет ничего проще, чем склонить их на свою сторону… Цитадель не охраняется. Достаточно внезапного нападения, и дело будет сделано… Добраться сюда можно через Картафур, где нет войск. Французы без малейшего риска могут одолеть сильного противника и освободить страну… Поручаю письмо верному человеку, который подтвердит вам точность моих слов… Меня зовут…» — Кстати, а как тебя зовут? — Валяй дальше! — процедил сквозь зубы Тотор, и перо вновь заскользило по бумаге. Теперь он говорил отчетливо и громко: — «Меня зовут Тотор, сын Фрике, знаменитого парижанина, совершившего кругосветное путешествие…» — Хорошо! Хорошо! — согласился султан. Тотор же продолжал: — «Все это сплошная ложь, продиктованная мне под страхом смерти подлецом Си-Норосси, коему я постараюсь расшибить башку…» — Эй! Что ты говорить? — вскричал султан. Но больше ничего сказать не успел. Тотор вскочил, схватил столик и со всего маху ударил султана по голове. Тот повалился на свои подушки. — Ко мне, Меринос! Парижанин успел выхватить султанову саблю и пистолеты, пока Меринос сражался с охранниками. Через мгновение оба взбежали на трон, готовые отразить нападение. Озверевшая толпа с ревом двинулась на них. Положение казалось безвыходным. Мадонна! Шутки в сторону! Когда Тотор сообразил, на какое предательство толкал его Си-Норосси, заманивая французов в ловушку, кровь ударила ему в голову… Будь что будет! По крайней мере, жизнь свою Тотор и Меринос отдадут недешево! Тотор перевернул вверх тормашками стол, подушки, склянки с притираниями и благовониями и навалил все это на султана, так что тот не мог выбраться из-под груды вещей. Спрятавшись за импровизированной баррикадой, друзья выиграли несколько секунд. Строгая иерархия не позволяла арабским воинам даже в такой ситуации подняться по ступенькам трона, только бен Тайуб и фон Штерманн оказались на одном уровне с Тотором и Мериносом. Тайуб бросился в атаку первым, но не успел и глазом моргнуть, как сильнейший удар Тотора сбил его с ног. С разбитым носом, изрыгая жуткие проклятия, араб покатился вниз. Немец был осторожнее и предпочел атаковать Мериноса. Американец, оказавшийся достойным учеником парижанина, ловко ударил противника ногой в живот, и бош упал навзничь. Тем временем стоявший у чана палач опомнился и, размахивая саблей, ринулся на Тотора, однако тот перехватил его руку, сжал, да так, что кости хрустнули. Негр завопил и выронил грозное оружие, а Тотор только того и ждал. Он подхватил саблю, со всего маху рубанул… и негр с раскроенным плечом повалился к его ногам. Из-под подушек подал голос султан. Нападавшие воодушевились. Жалобные вопли султана наэлектризовали их. Атаки становились все ожесточеннее. Тотор, вооружившись саблей, разил врагов направо и налево… Меринос, за неимением ничего лучшего, прихватил два массивных подсвечника, превратив их в две жуткие булавы. Увы… исход ужасной схватки был предрешен… Еще немного, и друзья не выдержат натиска. Слишком неравны силы. Их оттеснили к стене, и тут в голову Тотору пришла сумасшедшая мысль. Умереть? Пускай! Но они увлекут за собой в мир иной и врагов! Все лучше, чем быть просто распятыми на этой стене, словно пришпиленные булавками жуки в коробке коллекционера! Кольцо вокруг них все сжималось, и тогда Тотор схватил со стены горевший факел и поджег шелковую обивку. Ткань, иссушенная жаром пустыни, мгновенно занялась… Пламя молниеносно побежало к потолку, по залу пополз черный дым… Солдаты в ужасе отпрянули. Крики, топот ног, повальное бегство, толчея… Люди Си-Норосси не думали больше о своем повелителе, а помышляли лишь о том, как спастись, как убежать от жарких языков пламени и едкого дыма. Давя и сбивая друг друга с ног, все бросились к выходу. Только отважный и преданный бен Тайуб позаботился о султане. Когда начался пожар, он подбежал к трону, освободил Си-Норосси и, не обращая внимания на уже пылавший бурнус, взвалил повелителя на свои могучие плечи, вышиб окно кулаком и вместе со своей ношей устремился в пустоту. Фон Штерманн понимал, что погибнет, если не побежит вслед за остальными, но он готов был умереть, только бы увлечь с собой в могилу и двух своих заклятых врагов. Его отвагу питала ненависть. Немец ринулся в огонь, зная, что друзья где-то за троном. Он хотел увидеть ужасную агонию, хотел лицезреть обгоревшие трупы! Волосы тлели, он задыхался, но никого не находил. Фон Штерманн метался в бессильной злобе. А пламя подступало все ближе… Немец упал… Тотор и Меринос бесследно исчезли!
ГЛАВА 7
Падение. — Колодец или пучина? — Повисли! — Подземная конструкция. — Каменный мешок. — Отдых. — Гимнастика. — Меринос спит… и Тотор тоже!Случилось чудо. В ту самую минуту, когда окруженные пламенем Тотор и Меринос, задыхаясь и теряя сознание, в последний раз пожали друг другу руки, готовясь встретить смерть, земля разверзлась у них под ногами. Читатель помнит, что они оказались на возвышении, служившем султану троном. Здесь приняли они свой последний бой… Деревянный, обитый тканью настил упирался в заднюю стенку зала, где не было никакой дверцы. Правда, оставался вопрос, откуда же появился сам султан… Огонь загнал друзей к самой стене, точно лис в норе. Выхода не было… И вдруг явно рукотворная платформа с треском обрушилась, и Тотор с Мериносом провалились в пустоту! Пролетев по меньшей мере метров десять вперемешку с горящими головешками и удушливо вонявшими лоскутами, Тотор смог наконец ухватиться за что-то твердое. Меринос на лету ловко уцепился за него самого и повис в воздухе. Сверху больше ничего не падало, и даже отблески пламени сюда не долетали. Они очутились в кромешной тьме. И в каком положении! Тотор крепко обхватил невидимую деревянную балку, всякую минуту ожидая, что она не выдержит и переломится. Меринос, обвив друга руками, всей своей тяжестью тянул вниз, так что тело Тотора, казалось, вот-вот разорвется пополам. Но они были живы — и это самое удивительное! Тотор первым пришел в себя, но говорил еще с трудом: — Меринос, я понятия не имею, где мы и есть ли у нас хоть малейший шанс на спасение… Как ты? — Ничего! Силенки еще остались, — прошептал Меринос. — Послушай… Думаю, балка, на которой мы висим, довольно крепкая, но из-за тебя я не могу шевельнуться… Постарайся подняться повыше и ухватиться за нее… мне будет полегче… а там посмотрим… Меринос все понял: не впервой ему было карабкаться по телу друга как по канату. Он собрался с силами, подтянулся и через минуту уже висел, держась за балку, рядом с ним. — Порядок, Тотор. — Отлично! Болтаемся на руках… положеньице не слишком забавное… надо бы попробовать оседлать эту дубину… операция не из легких, если учесть, что мы устали и выдохлись… Погоди-ка… Покрепче уцепившись за спасительную балку, Тотор пошарил в воздухе ногами и вдруг радостно вскрикнул. В темноте он нащупал другую опору — что-то похожее на деревянное перекрестье. — Малыш! Да это же всего-навсего колодец! Он, очевидно, ремонтируется. С помощью этих деревянных конструкций его чинили… — Тотор осторожно оперся ногами и нашел самое устойчивое место, на скрещении балок. Теперь предстояло переправить сюда Мериноса. Мускулы Тотора вновь стали твердыми как камень. Его вела воля к победе. Секунду спустя Меринос уже стоял рядом. Спасение ли это? Или всего лишь обманчивая передышка перед неминуемой гибелью? Друзьям не верилось, что они живы и невредимы. Несколько минут они стояли молча, не шевелясь, как будто боялись звука собственных голосов. Была глубокая ночь. Снизу тянуло сыростью и плесенью. По-прежнему не произнося ни слова, Тотор оторвал пуговицу от своих брюк и бросил вниз. Предмет был слишком мал, чтобы точно определить глубину колодца, но они еще долго слышали, как пуговица ударялась о деревяшки. Глубина колодца равнялась, вероятно, высоте здания. А значит, под ними зияла пропасть, бездна. Тотор задумался над вопросом, стоило ли спасаться от огня, чтобы сгинуть в плесневелой сырости этой преисподней… «На сей раз, мой бедный Тотор, с иллюзиями, кажется, пора расстаться. За твое будущее я не дам и ломаного су. Да-а… О такой ли гибели грезил ты в героических мечтах своих? А все чертов Си-Норосси с его письмом! Требовать от меня, сына Фрике, заманить французов в западню… Ты слеп, каналья!..» Внезапно Тотор вздрогнул. Что делает Меринос, пока он тут размышляет? В порядке ли он? — Эй! Меринос! Тишина. — Эй, старина! Что с тобой? Ты меня слышишь? Тотор стал ощупывать пространство вокруг и вдруг страшно закричал. Друга не было рядом! — Что бы это значило? Упасть он не мог. Я бы услышал… что тогда? Надо пошевеливаться! Он аккуратно соскользнул на одну из поперечин и поискал там. Ничего! Нужно было подниматься обратно. Тотор чувствовал, что слабеет, но постарался собраться. Если Меринос не найдется сейчас, он не найдется никогда. От этой мысли мороз подирал по коже, подступало черное отчаяние, но Тотор отгонял страшные видения. — Спустимся еще вон на ту крестовину! Посмотрим там… Наконец нога нащупала что-то мягкое… Сомнений не было, это его друг. Но каким образом он оказался здесь? Почему молчит и недвижим как пень?! Стараясь не потерять равновесия, удерживаясь лишь силой собственных бедер, Тотор дотянулся до тела Мериноса… ощупал его: вот грудь, вот голова… И вдруг послышался жалобный стон: — Дай мне поспать! Бедняга и в самом деле спал! Сладко спал, примостившись на жестких деревянных балках, как младенец в колыбельке. До Тотора донесся богатырский храп, и он облегченно и радостно рассмеялся. Убедившись в том, что Мериносу ничто не угрожает, парижанин немного успокоился. — Неплохо было бы сейчас перекусить! От плотного завтрака я бы не отказался. Слава Богу, Меринос так крепко спит, что не ведает этих адских мук… Нам ведь, похоже, ничего не светит, кроме голодной смерти. Это может продолжаться очень долго. Меж тем вокруг по-прежнему было тихо и темно, хоть глаз выколи. Подниматься наверх — безумие. Летели вниз они довольно долго, и ухватиться там было не за что… Попытаться спуститься вниз — значит почти наверняка упасть. С какой высоты? И что там внизу? — Разобьемся к чертовой матери! Ей-богу, Меринос куда умнее меня. О, если бы я смог последовать его примеру! Впрочем, кто знает, быть может, все еще закончится благополучно. Недаром гласит пословица: утро вечера мудренее. Когда я учился в школе, — вспоминал Тотор, — я так решал свои проблемы: мама отправляла меня баиньки, гасила свечу… а на следующее утро само собой приходило решение… Бедная мама! Если бы ты видела сейчас своего мальчика, у тебя опустились бы руки!.. А папаша Фрике! Не приведи Господь, но я все же спрашиваю себя, как поступил бы отец, окажись он в моем положении. Ведь ему удавалось выкрутиться и не из таких переделок… Замечательно! Глаза у меня слипаются… Тем лучше! Доброй ночи, папа… доброй ночи, мама… бай-бай, малыш, бай… И Тотор погрузился в глубокий сон. Он обо всем забыл и спал спокойно. Но что же происходило наверху, после того как наши друзья очутились в колодце? Читатель не забыл, надеюсь, что храбрый бен Тайуб на руках вынес султана из огня, выпрыгнув в окно… Холм с этой стороны был покрыт богатой растительностью: кактусы, алоэ, пальмы, бананы. Буйство зелени, но такой густой и такой колючей, что любой упавший туда непременно должен был бы погибнуть. На постель из розовых лепестков это мало походило. Острые шипы тропических растений разят, точно кинжалы. И тем не менее оба остались живы. На крик Тайуба сбежались солдаты и рабы. А в это время наверху обезумевшие от страха стражники, имамы и разная придворная шушера разбегались кто куда, спасаясь от пожара. Си-Норосси повезло: сквозь плотную ткань одежд он почти не ощутил уколов растений и отделался легкими ссадинами. Тайуб, с окровавленными руками, в изодранном бурнусе и с иссеченным шипами лицом, передал султана на попечение его челяди, и те бережно уложили повелителя на золоченые носилки. Султан был спасен… Вопреки опасениям, пожар не распространился по всему зданию, уничтожив только шелковую и шерстяную обивку, ковры, драгоценные шали и ткани в тронном зале. Сам же дворец, построенный из массивных каменных блоков, скрепленных железными скобами, почти не пострадал. Огонь опалил внутренние перегородки, разрушил несколько деревянных панелей, погубил резные украшения, но не затронул остова здания. У подножия цитадели текла быстрая река. Сто человек выстроились цепочкой и очень быстро наполнили стоявшие на террасе резервуары водой. В какой-нибудь час огонь был погашен, и лишь кое-где в небо то и дело взвивались струйки дыма, образовав зловещее облако над крепостью султана-разбойника. Бандитское логово устояло, получив незначительные повреждения. Придя в себя, Си-Норосси вскоре уже восседал во внутреннем дворике, откуда открывался вид на равнину. Искаженное злобой лицо его приобрело теперь тигриное выражение. Рядом стоял Тайуб. Араб был, как всегда, спокоен. Оба молчали. Только разъяренный султан скрипел зубами в напряженной тишине. Собрался весь двор: военачальники, духовенство, писари. Все взоры были прикованы к лицу владыки. Не было лишь фон Штерманна. Погиб он или ранен, никто не знал. О немце позабыли. Наконец Си-Норосси прервал тягостное молчание. Он подал знак бен Тайубу и, когда тот подошел ближе, приветствовал его, как это принято на Востоке. — Пусть приведут француза! Тайуб вздрогнул. — Француз исчез! И его приятель-американец тоже… Физиономию султана свело судорогой, в глазах сверкнули молнии. Он кричал, угрожал, в нем проснулась тупая, слепая ярость. Си-Норосси потребовал объяснений. Тайуб невозмутимо пояснил: в суматохе, когда он беспокоился единственно о том, чтобы спасти своего господина, убедившись, что жизнь султана вне опасности, он стал искать двух преступников. Но их и след простыл. — В таком случае пусть ко мне приведут предателей, которые помогли мерзавцам бежать! — Это невозможно! Их никто не знал здесь, никто не общался с ними… — Ничего не желаю знать! Пусть приведут семерых офицеров, что командуют гвардией… они все расскажут… Пока приказ исполняли, Си-Норосси огляделся вокруг и, заметив палача, подозвал к себе. Но тут султан обратил внимание на то, что у черного гиганта в руках нет всегдашней громадной турецкой сабли, и спросил, что произошло. Великан замялся, пролепетал что-то нечленораздельное и наконец признался, что проклятый француз отнял у него оружие, каковым и разил солдат, верных его величеству… На этот раз Си-Норосси расхохотался. История показалась ему чрезвычайно забавной. — Сходи за другой саблей и быстрее возвращайся! Палач, решивший уж было, что дни его сочтены, сломя голову кинулся выполнять приказ, вскоре вернулся и занял место возле хозяина. К Си-Норосси привели семерых командиров отрядов, а вернее сказать — предводителей шаек. Все это были здоровенные детины, типичные бандиты. Именно они каждый день вели отряды в бой против беззащитных людей, неся смерть и мучения туземцам, а в награду получали хороший куш. Си-Норосси подозвал первого, Сиди Алиру, сухопарого верзилу с мускулами, похожими на железные пруты. — Собака, собачий сын! — крикнул ему султан. — Так-то ты служишь своему господину? Помогаешь убийцам скрыться? Поклонившись до земли, Алира стал молить о пощаде. Ухмыльнувшись, Си-Норосси сказал что-то палачу, и тот одним махом снес бедняге голову, покатившуюся со стуком к ногам султана. Тайуб побледнел. Ему хорошо были знакомы эти вспышки гнева… Подозвали второго командира, красивого юношу, сложенного как Геракл. Ему не было равных в бою, но тут он испугался, отвечал невпопад, дрожа всем телом. — Руби! — приказал султан палачу. Вторая голова полетела вслед за первой. На земле валялись два трупа, из зияющих ран струилась кровь. Пятеро военачальников стояли не шелохнувшись. Их, без сомнения, ожидала та же участь. Они покорились судьбе. Вот он, мусульманский фатализм, во всей своей красе. Си-Норосси — хозяин! Этим все сказано. — Следующий! — произнес султан и холодно взглянул на отважных, жестоких, готовых на любое злодеяние вояк. — Отман! — крикнул повелитель, и от группы обреченных отделился третий. Распрямив спину, со спокойным и независимым видом он подошел к хозяину-убийце и приветствовал его, подняв обе руки. — У тебя нет веских объяснений… ты не смог защитить меня… опусти руки, они мешают палачу… Несчастный опустил руки, в воздухе сверкнул клинок, голова слетела с плеч… Си-Норосси раздувал ноздри, как будто торопился надышаться запахом алеющей у его ног крови, и, подняв голову, с высоты своего грозного величия взирал на трепетавшую толпу. Он, один лишь он — хозяин их жизни и смерти! Утолил ли он свою жажду крови? Нет. Султан допрашивал командиров, вновь и вновь повторяя требование: ему нужны двое белых! Теперь дело дошло и до бен Тайуба. Тот только хмурился под градом упреков и напрасных обвинений в нерадивости, но молчал. Но тут к султану подбежал толстобрюхий евнух, один из стражей его гарема. Беда! Новая беда! Во время пожара напуганные женщины в панике бросились к дверям и сломали их, а затем высыпали на террасу, стеная и воздевая руки к небу. Однако их уняли и призвали к порядку. Угроза миновала, и, так как огонь не добрался до гарема, женщин водворили на место. Они покорно повиновались, но… Сделали перекличку. Одной не хватает… — Которой? Говори! Говори же, дьявол тебя побери! — Это рабыня… Та, что прибыла с последней партией. Та, которую хозяин выбрал сам… Йеба!.. Султан завопил, словно раненый зверь. Та, которую он избрал для себя сам, та, встречи с которой ждал с упоением, исчезла… На этот раз гнев его вышел из берегов, и теперь поведение Си-Норосси походило уже на припадок эпилептика. Султан спрыгнул с носилок и, размахивая кинжалом, ринулся в толпу. Он был в исступлении и считал, что ему все дозволено. Разве не совершал он хадж в священную Мекку? Разве он не избранник Аллаха? А раз так, то кто осмелится противоречить ему?.. Си-Норосси подбежал к бен Тайубу. Араб замер, сложив руки на груди. Ни один мускул на лице его не дрогнул. Султан замахнулся. — Берегись! — спокойно произнес Тайуб. Взоры их встретились, и никто не опустил глаз. — Собака! — взвизгнул Си-Норосси. — Даю тебе четверть часа… Ступай, ищи, мне нужна Йеба… мне нужны двое белых… Если же не найдешь… — Так что тогда? — холодно прервал его Тайуб. Си-Норосси не ответил, но в глазах мелькнула угроза. — Иди! — отрезал он. — У тебя есть четверть часа. Тайуб поклонился, подозвал кого-то из своих людей и удалился. Не прошло и пятнадцати минут, как он появился вновь. — Итак? — крикнул султан. — Ты нашел их? По-прежнему владея собой, Тайуб подошел ближе. — Женщину, как и обоих белых, найти невозможно. — Ты лжешь! Ты сам помог им бежать. — Си-Норосси, ярость затмевает твой разум. Какой резон мне помогать троим негодяям, с которыми меня ничто не связывает? Послушай, мне сообщили, что приближаются французы. Готовы ли мы встретить их, оказать сопротивление, победить? Гнев лишил тебя лучших и самых преданных твоих воинов. Даже твои друзья спрашивают себя, в своем ли ты уме. Си-Норосси снова встал в стойку, как тигр перед прыжком. Лицо его нервно подергивалось. — Довольно! Хватайте его! Казнить! Пусть голова его падет к моим ногам! Воины султана сделали шаг, но Тайуб царственным жестом остановил их. — Никто не посмеет поднять на меня руку! — проговорил он спокойно и властно. Си-Норосси повторил приказ, задыхаясь от злобы, но воины колебались. Слишком долго им приходилось во всем слушаться Тайуба… Однако хозяин есть хозяин. Кому, как не Си-Норосси, обязаны они повиноваться беспрекословно?.. Си-Норосси бросился к воинам и ударом кинжала сразил одного из них наповал. — Шевелитесь, поганые псы! В эту минуту султан в слепой ярости рисковал всем: своим могуществом, а быть может, и жизнью. Лицо его озарял воистину адский огонь, в глазах сверкали молнии. Воины кинулись к бен Тайубу… Сын пустыни отскочил назад, издав резкий крик. Его сеиды[74] и воины, те, кого он выпестовал, кого озолотил в грабительских походах, окружили его плотным кольцом, прикрыв своими телами. Завязалась лютая, жестокая битва. Сам Си-Норосси дрался наравне с остальными. Внезапный и неожиданный бунт привел его в бешенство. Но чего он и вовсе не мог перенести, так это того, что защитники бен Тайуба теснили его сторонников. Воины султана пятились, точно раки. Люди Тайуба пробивались к воротам цитадели. Казалось, никому не под силу взломать эти железные врата. Но перед Тайубом они, похоже, отворились сами собой. Араб и его воины мгновенно взлетели на коней и в один миг оказались у подножия крепости. Еще секунда — и они на свободе! Си-Норосси осыпал бунтовщиков проклятьями, чувствуя, что теряет власть. Кое-кто из его воинов присоединился к бен Тайубу… Взбешенный султан, брызгая слюной, весь в поту и пене, ревя и стеная, смотрел, как удалялся его отряд — лучшие люди, те, с кем всегда приходила победа. Через минуту они скрылись в лесной чаще.
ГЛАВА 8
В колодце. — Неожиданная встреча. — Где Меринос? — Пятый. — Ненависть заставляет молчать. — Всем поровну. — Конец! — Франция! — Спасены. — Общество «Фрике, Тотор и Кº».— Тотор! Тотор! Сын Фрике отозвался не сразу, так как слишком крепко спал. — Тотор! Тотор! Ты меня слышишь? Где ты? — Кто меня зовет? — прогремел Тотор тоном провинциального трагика. — Это я, Меринос, твой друг! Имя Меринос подействовало на нашего соню как электрический разряд. Он тут же открыл глаза, но ничего не увидел. Вокруг было по-прежнему темным-темно. Но ведь он точно слышал крик. Это не сон. — Это ты, Меринос? — Я! — Хорошо ли ты выспался? — Великолепно… — Я весь к твоим услугам. Но если бы ты не разбудил меня, я бы, наверное, проспал до Страшного суда. Ну так зачем ты разбудил меня?! — Тотор, есть новости! — Что? К нам едут артисты? — Не смейся… Это очень серьезно. — Ну хорошо! Что случилось? — Вот уже около получаса где-то рядом с нами… О, Пресвятая Дева! Знаешь, трудно сказать, сколько именно времени… я спал, и вдруг меня разбудил голос… человеческий голос. Я убежден! — И что же он тебе поведал, этот голос? — То были не слова, а стоны… жалобы… Не разобрать. А потом все смолкло. — А ты уверен, что это не рев какой-нибудь гиены? — Нет, нет! Повторяю, голос принадлежал человеку. В тишине я прислушивался, но больше ничего не услыхал. Подумал, может, мне почудилось, как вдруг тот же голос зазвучал вновь. Опять кто-то жаловался и причитал… — Откуда доносился звук? — Снизу, из пропасти. — Издалека? — Не думаю. Постой, постой! Слышишь? Из глубины колодца в самом деле донеслись жалобные стоны. — Ну как, Тотор? Что скажешь? — Помолчи, я слушаю. Этот голос не кажется тебе знакомым? — Гм-м! Не думаю… — Уверяю тебя, ты ошибаешься. Замолчи! Надо бы еще послушать. — А что, если его окликнуть? — Опасно! Не следует привлекать внимание. Мало ли кто это там стонет… Тотор умолк. Голос зазвучал снова. На этот раз можно было различить отдельные слова. Тотор внезапно закричал: — Хорош-Гусь! Ламбоно! Эй, приятель! Оглушительное эхо прокатилось по всему колодцу. Ответа не последовало. Тогда наш герой решил рискнуть: — Это Тотор говорит с тобой! Тотор и Меринос! Меринос и Тотор!.. Эй! Слабый голос тихо ответил: — Эй! — Черт возьми! — воскликнул Тотор. — Похоже, бедняга не в лучшей форме. Эй! Хорош-Гусь, где ты? Как до тебя добраться? Но негр не отвечал, а лишь тихо постанывал. — Надо что-то делать! — Меринос, я проверю, что и как. — Проверишь? Но каким образом? С ума сошел! Ноги переломаешь! — Малыш! Если бы я сошел с ума, мы бы с тобой давно отправились на корм рыбкам где-нибудь в тропической речке. Хорош-Гусь — друг, добрый малый, который рисковал ради нас собственной шкурой. Самое меньшее, чем я могу отплатить ему, так это рискнуть своей. — Что ты намерен делать? — Попытаюсь спуститься вниз… — А как же я? Ты подумал обо мне? — Будь добр, не беспокойся. Устраивайся поудобнее на твоей поперечине и не шевелись. Жди! — Но… — Довольно! Я был королем и привык к повиновению. Закрой рот и засохни… Спорить будем позже… Мериносу ничего другого не оставалось, как смириться. — Это не человек! Это — сталь и ртуть! Хотя сам Тотор этого бы сейчас не сказал. Он отнюдь не был уверен в успехе. Трудно ориентироваться в темноте. Не на что опереться, приходится двигаться наугад. Тотор нащупал внизу еще одну деревянную балку, спустился, попробовал, прочная ли. Оказалось, что можно не опасаться. Он схватился за балку руками, повис в воздухе и стал шарить ногами дальше. — Какое наслаждение! Да тут настоящая лестница со ступеньками. Тотор двигался очень медленно, понимая, что любая неосторожность или спешка могут стоить ему жизни. Так что не до шуток. Он чувствовал груз ответственности, ведь если он сам погибнет, Меринос пропал… да еще бедняга Хорош-Гусь! Ему, быть может, совсем худо. Кто знает? Крепкие руки цеплялись за поперечины. С каждым движением Тотор продвигался всего на несколько сантиметров, потом долго отдыхал. Когда же это наконец кончится?! Есть же у колодца дно! Именно там находится Хорош-Гусь… Тотору не терпелось поскорее добраться туда, но он сдерживал себя, рассчитывал каждое движение, помня старую мудрость: тише едешь — дальше будешь. Вдруг он вскрикнул от удивления. Руки ощутили что-то холодное и, как ему показалось, маслянистое. По спине пробежал холодок. Порой даже очень отважные люди невольно пугаются пустяков. Тотор взял себя в руки и пощупал смелее. — Да это же человеческое тело! Хорош-Гусь?.. В ответ послышался тихий, испуганный стон. Сомнений не было: существо жаловалось, страдало — и это была женщина! Внезапная догадка пронзила Тотора. — Йеба? Это вы? — Да, бедная Йеба!.. Мертвая! Несчастная! — Мертвая? — поразился Тотор. — Ну, об этом еще можно поспорить. Дитя мое, где вы? Протяните мне руку. Бедняжка в самом деле считала, что умерла. Но голос, который она сразу узнала, подбодрил ее. — Коколь! Вы Коколь? — Совершенно верно! Небольшое усилие, дорогая! Раз, два… Увы! На счет «три» Йеба всей своей тяжестью упала на руки Тотору, тот не удержался, балка треснула, и оба кубарем полетели вниз. Падали они не долго. Неведомо как очутились на дне. Тотор в это время думал, что сейчас они разобьются как стакан. Между тем упали они на что-то мягкое, упругое и издающее душераздирающие вопли. Хорош-Гусь! В первый момент никто не мог произнести ни слова. Пока Хорош-Гусь стонал, а Йеба причитала, Тотор поднялся на ноги. — Эй! Сколько нытиков! Замолчите вы наконец! Подумайте только, мы снова вместе! Не хотите ли вы сказать мне «Добро пожаловать»? Жамбоно, заткнись же в конце концов! Отвечай, что ты тут делаешь? — Я разбился, — всхлипывал негр. — У меня по меньшей мере сломано две конечности. — Какие? — Точно не знаю… — Погоди-ка, я посмотрю. Хотя слово «посмотрю» в данной ситуации не совсем подходящее. Йеба, отойди в угол, чтобы я мог свободно двигаться. Пощупаем, что стряслось с этим нытиком. Тотор опустился на колени. Земля была влажной и скользкой. Осторожно, как заправский хирург, он ощупал тело Хорош-Гуся. Негр плакал как дитя. — Да ты врун! Ни черта у тебя не сломано! Ушибы есть, не спорю, но не переломы. Кости целы! Поднимайся-ка, симулянт! Вставай, вставай, да поживее! Непререкаемый авторитет Тотора совершал чудеса. Хорош-Гусь не мог противиться приказу патрона. Кряхтя и охая, он тем не менее встал и радостно произнес: — И правда! Ничего не сломано. — Это все, что ты можешь сказать Йебе? Она не в лучшем состоянии… — Йеба! Дорогая моя! Красавица моя! — Дай лапу! И вы, мадам, дайте мне вашу ручку! Вот мы и обменялись рукопожатиями. Взбодритесь! Так что же с вами приключилось? Нет, нет! — перебил он сам себя. — Прежде всего Меринос! Его немедленно надо переправить сюда. Тотор поднял голову и закричал что было мочи: — Меринос! Меринос! Эй! Как ты там? Не отвечает… Меринос! Меринос! Не случилось ли чего?.. Господи! Ну почему всегда что-нибудь да не так? Он крикнул еще раз: — Меринос! Это я, Тотор! Откликнись! Ни звука в ответ. У Тотора сердце ушло в пятки. Это удар ниже пояса! Подниматься! Нечего и думать! Они в высохшем колодце, стены сделаны из прочного камня… Что могло случиться с его другом? Он оставил Мериноса в безопасности и строго-настрого наказал не двигаться. Не мог же он улетучиться! А если бы упал, то им на голову… Быть может, обморок? В таком случае он рискует разбить себе голову о каменные стены! Вдруг раздался крик Хорош-Гуся: — Смотри, Тотор! Вон там, в воздухе… Тотор поднял голову и остолбенел. Сквозь стену пробивался свет. Еле заметный, как будто откуда-то издалека, из глубины метра в два. Не дневной, а какой-то желтоватый… Тотор мигом вскарабкался на плечи Хорош-Гусю, нащупал выступ и через секунду был уже в своеобразной нише… Но нет! Это оказалась настоящая галерея. Послышался чей-то раздраженный голос. В ответ кто-то бранился и изрыгал проклятия. Свет почти погас, но тут Тотор ясно различил чей-то силуэт. Двое невидимок снова заспорили… раздался выстрел!.. Тотор кинулся на звук… — Тотор! — услышал он. — Ты явился как раз вовремя. Подбери факел, а я займусь этим негодяем. Он хотел продырявить мне башку! Как бы не так! Успокойся, успокойся, грязный бош! На земле, в узеньком коридоре, где едва разошлись бы двое, валялся догорающий факел. Тотор подхватил его, поднял вверх, старательно раздул. И что же он увидел? Меринос вцепился в глотку лейтенанту фон Штерманну, человеку из Камеруна, предателю, сообщнику работорговцев, сеиду султана Си-Норосси! В руке у лейтенанта поблескивал револьвер, но Меринос крепко сжимал запястье врага, так что воспользоваться оружием тот никак не мог. Однако силы уже оставляли американца… Тотор кинулся на подмогу. Два метких удара — и фон Штерманн повалился на землю… Тотор вырвал револьвер и приставил к виску немца: — Имей в виду: вздумаешь шутить — пристрелю! В ответ лейтенант лишь пробормотал что-то бессвязное. Он смирился с поражением. — Делай со мной что хочешь, проклятый француз, бандитское отродье! Тотор велел немцу встать, подтолкнул к выходу и, высунувшись, подозвал Хорош-Гуся: — Тебе ценная бандероль! Я посвечу, а ты полюбуйся. Видишь? — Да! Да! Это Бисмарк![75] — Принимай! Да не забудь связать как следует. Тотор схватил фон Штерманна за ноги, и тот повис вниз головой. — Эй! Где ты там, чернокожий? — Я здесь… — Подхвати-ка этого типчика! Хорош-Гусь и глазом не моргнул. Минуту спустя он накрепко связал немца поясом, так что тот и пошевелиться не мог. — А! Мой дорогой Меринос! — Тотор обнял друга и расцеловал в обе щеки. — Хитрец! Не изволите ли спуститься в салон? Предстоит разговор… Пришлось прыгать с двухметровой высоты. Но в сравнении с прочим это упражнение показалось им сущим пустячком. — О, мадам Йеба! Простите великодушно, не отдавил ли я вам вашу прелестную ножку? — Нет, нет! Я так рада! Они снова собрались все вчетвером. Фон Штерманн — пятый. В земляной каморке было тесновато, но зато светло. А свет — это жизнь. Меринос торопливо рассказал, что с ним приключилось. Как только ушел Тотор, он услышал в темноте какой-то шорох. Прислушался… Нет, ему не почудилось. Потом вдруг посветлело. Свет сочился как будто из-за стены. Через щель в камне Меринос увидел человека, с трудом спускавшегося по узкому коридору с факелом в руке. Медлить было нельзя. Рискуя сломать себе шею, Меринос прополз через лаз и оказался позади неизвестного. Коридор был так тесен, что тот не мог даже обернуться. Человек заторопился, решив, очевидно, что бредит и эхо его собственных шагов отдается в ушах так громко. Меринос не отставал, и, как только в коридоре стало немного попросторнее, схватил незнакомца за шею и прижал к стене. Тут он узнал фон Штерманна. — Понимаешь, Тотор, бандит явно куда-то направлялся… хотел бежать из крепости. Я его не пустил… Мы долго боролись. Не знаю, как ему удалось выхватить револьвер. Я заметил только, как что-то сверкнуло, ну и пришлось мертвой хваткой вцепиться ему в руку. Он дернулся, уронил факел… С ним надо было кончать. Держал я его крепко, но убивать не хотел. В этот момент ты и появился. Не знаю, для чего, но эта каналья нам пригодится. Я доволен, что подцепил его. Тотор молча слушал рассказ товарища. Факел укрепили на стене, а затем все расселись вокруг немца. — А ты, Хорош-Гусь? Как ты здесь оказался? — О! Понятия не имею. Йебу забрали в гарем к Си-Норосси, и я поклялся либо вызволить ее, либо умереть. Карабкался по внешней стене. Тысячу раз мог сломать себе шею… Наконец добрался до террасы, сломал решетку и влез в окошко. Затаился и ждал удобного случая. Видел Йебу, она плакала. Там был здоровенный евнух — все бросал на нее разъяренные взгляды. Вдруг слышу шум со всех сторон. Пожар, кажется. — Точно! Это я сам все и устроил. — Все испугались, забегали, завопили, сломали дверь. Стражники расталкивали женщин, сами старались скорее спастись… Я, недолго думая, подскочил к Йебе, ухватил ее, взвалил на плечи и ищу выход… Все заперто! Я — к одному панно. Постучал — сзади пустота. Я туда… Дальше ничего не помню. Голова-ноги, голова-ноги… Свалился, в общем. Где Йеба, не знаю. Куда попал, не ведаю… Очутился на дне, расшибся… — Ну и давай охать да ныть! Стонал, вместо того чтобы попытаться выбраться… К счастью, мы с Мериносом поблизости оказались… — А вы-то как сюда попали? — Не важно. Автобуса дожидались… Короче, свершилось чудо, мы снова вместе, живые и невредимые. Мы вырвались из когтей подонка Си-Норосси. Только… — Только, — подхватил Меринос, — как теперь отсюда выбраться? — Я есть хочу! — сказал Хорош-Гусь. Штерманн лежал на спине. Тотор внимательно посмотрел на него. — Скажи-ка, бош, ты ведь хотел спастись? Немец молчал. — Не хочешь говорить? А я не прочь поболтать. С тобой все ясно: ты собирался убежать из крепости, спастись от пожара и от гнева Си-Норосси. А ведь гнев его должен быть страшен, если он жив. Но как я успел заметить, нигде поблизости нет съестных лавок, не так ли? Ты не настолько глуп, чтобы не позаботиться обо всем заранее. Следовательно… Меринос, переверни-ка этого проходимца! В одно мгновение фон Штерманн был перевернут на живот. — Хе-хе! — засмеялся Тотор. — Я не ошибся. У господина на спине увесистый рюкзачок. Хорош-Гусь, присмотри за нашим другом, пока я разберусь… В самом деле, у фон Штерманна с собой был целый склад, каковой Тотор быстренько и распотрошил. — Вот и закусочка! Бананы, кукурузный хлеб, копченое мясо… Королевское меню! Да тут и водка! Сукин кот! Как ты себя любишь! Все продумал, обо всем позаботился… Пора и нам подкрепиться! Руки жадно потянулись к еде. — Без глупостей! — крикнул Тотор. — Все по порядку. Сначала — даме: банан, горстку инжира, кусочек хлеба. Тебе, Хорош-Гусь, мясо. Тебе, Меринос, тоже. — А ты, Тотор? — Успею. Переверни нашего приятеля обратно на спину, чтобы я мог видеть его поганую рожу. Я еще не договорил. Господин немец, я предупреждал вас, что не стоит плутовать. Предлагаю отнестись к вашему положению очень и очень серьезно и поведать нам обо всем, что вам известно. Этой провизии вам хватило бы дня на два-три. Это свидетельствует о том, что вы полагали выйти отсюда и оказаться в полной безопасности. Ваша уверенность заставляет меня обратиться к вам с вопросом: каким образом надеялись вы выбраться? Известен ли вам выход из этой ямы? Лейтенант молчал и смотрел на всех ненавидящим взором. — Итак, говорить ты не желаешь… — Давай размозжим ему башку! — предложил Меринос и поднял револьвер. Тотор жестом остановил его. — Неподходящий способ заставить его говорить. Мы честные люди, жестокость — не наш метод. Послушай, лейтенант фон Штерманн, мы не убьем тебя. Мы могли бы уморить тебя голодом, но и этого делать не станем. Но если нам суждено умереть в этой дыре, ты умрешь вместе с нами медленной, мучительной смертью… Подумай! Ты немец, но ты же все-таки человек… Как ни сильна твоя ненависть, она не должна лишать тебя разума. Погубив нас, ты неизбежно погубишь и себя. Если же откроешь нам секрет подземелья, которое, как я подозреваю, является казематом в одной из башен крепости, а стало быть, имеет выход где-нибудь далеко отсюда, мы обязуемся отпустить тебя и даже не посмотрим, в какую сторону ты пойдешь. У тебя своя дорога, у нас своя… Предлагаю заключить пакт. Пораскинь мозгами! Соглашайся или откажись. Я свое слово сказал. Фон Штерманн проревел громким голосом: — Я ненавижу вас и прошу у Бога одного: умереть последним, увидев, как каждый из вас корчится в муках. Я хочу видеть вашу агонию. — Дело твое. Но предупреждаю: мы на тот свет не торопимся. Полагаю, поживем еще… Было тихо. На стене догорал факел. Еще немного — и они снова погрузятся во тьму. Хорош-Гусь проверил, крепко ли связан немец. Тотор шепнул Мериносу: — Существует два способа спастись. Один — найти выход. Есть ли тут лестница? Или какая-то потайная пружина, с помощью которой отодвигается каменная глыба? Чтобы понять это, нам придется прощупать собственными руками каждый сантиметр стены. Второй способ — подняться вверх, к коридору, через который бежал фон Штерманн и который наверняка ведет на самый верх цитадели. А там мы попадем в лапы палачей Си-Норосси и в лучшем случае сможем продать свои жизни подороже. Меринос согласился. Пока тлел факел, друзья принялись ощупывать пол и стены, но, увы, они так ничего и не нашли. Очевидно, в тот момент, когда Меринос нагнал фон Штерманна, лейтенант направлялся к какому-то другому коридору, туда, где был выход. Надо было рискнуть. Меринос подставил Тотору свои мощные плечи, и тот подтянулся к норе, в которой его друг настиг немца. И тут пламя погасло. Наступила вечнаяночь. Однако Тотор не хотел расслабляться. Продвигаясь вдоль коридора, он вдруг понял, что все это бессмысленно. Внутри башни наверняка множество пересекающихся ходов, ведущих в разные стороны. Он почувствовал, что заплутал, и впервые по-настоящему испугался. Неужели ему суждено умереть здесь в одиночестве? Ничего ужаснее и представить себе нельзя. Тотор постарался взять себя в руки и успокоиться. Он звал Мериноса, но звук его голоса, казалось, терялся в гулких коридорах. Кровь прилила к голове и до боли стучала в висках, дыхание прерывалось, тело обмякло, ноги не слушались, руки повисли как плети. — Тотор, сюда! Я здесь! Меринос, обеспокоенный тем, что друг его долго не появляется, каким-то непостижимым образом взобрался наверх. Но еще раньше ему пришла в голову блестящая идея. Порывшись в карманах фон Штерманна, Меринос обнаружил коробок спичек. Их спасительный огонек и заметил Тотор, который на самом деле не успел далеко уйти. Друзья снова были вместе. Однако они прекрасно понимали, что, если немец не заговорит, всем им крышка. Проходили часы… Фон Штерманн упрямо молчал. Наконец Хорош-Гусь не выдержал: он не хотел смерти ни Йебе, ни Тотору, ни Мериносу. В нем проснулся инстинкт дикаря. Колдун предложил пожертвовать одеждой, развести костер и поджарить на нем фон Штерманна. Тогда-то уж он, голубчик, заговорит! Тотор неистовствовал. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы отговорить варвара прибегнуть к столь зверскому способу. Штерманн все слышал, но по-прежнему молчал. Его лицо застыло, словно маска, и только в глазах горел огонь ненависти и злорадства… Текли часы. Еды оставалось в обрез. К прочим испытаниям добавился еще и голод. С лейтенантом делились до последнего, но ничто не трогало его, в душе дикого зверя не пробудилось ничего человеческого. Он не желал говорить и не говорил. В спертом воздухе дышать становилось все труднее и труднее. Несчастные пленники колодца впали в оцепенение. У них не осталось сил сопротивляться. Все ждали смерти. Тотор и Меринос легли рядом и взялись за руки, чтобы не расставаться в этот последний, смертный час. Бедняжка Йеба положила голову на грудь Ламбоно и не двигалась, точно мертвая. Все чувствовали приближавшееся дыхание смерти. Внезапно Тотор встрепенулся и поднял голову. Что это — агония, галлюцинация? Нет, он совершенно точно слышал звук французского рожка! А вслед за тем сквозь толстые стены донесся знакомый треск. Стреляют! Тотор растолкал Мериноса и заставил его подняться. — Послушай, дружище! Это Франция! Франция пришла нам на помощь! — Ерунда! Это всего лишь мираж. У меня нет больше сил, я хочу одного — спокойно умереть. — Мямля! Лентяй! Заткнись! Я говорю тебе, это французы. Здесь… в двух шагах от нас. А ты еще сомневаешься! — Французы или китайцы… Сам подумай, кто отыщет нас в этой дыре? — Замолчи! Не говори глупости! У Франции хороший нюх, когда дело идет о ее сыновьях… И, как будто в подтверждение слов парижанина, сверху кто-то громко крикнул: — Тотор! Эй, Тотор! — Черт побери! Мне знаком этот голос! Папа! Папа! По веревкам спускались люди с факелами. — Осторожно! — кричал Тотор. — Не задавите нас! Совсем необязательно топтать нас ногами… Да! Это был Фрике, а с ним старый Риммер и его сын Ганс… Все расцеловались. Меринос обнял Фрике, Тотор — Ганса. — Это чудо! Настоящее чудо! — восклицал Тотор. Усталость как рукой сняло. — А это еще кто такие? — спросил Фрике, заметив Хорош-Гуся и Йебу. — Друзья! Верные товарищи! На их долю выпало не меньше страданий, чем на нашу. — А это? Фрике указал на Штерманна. В эту минуту немцу удалось высвободить руку. Он схватил оставленный кем-то на земле револьвер и крикнул: — Французские псы! Я отомщу за себя! И разрядил револьвер в Тотора. Но Хорош-Гусь успел вовремя. Он толкнул бандита, и пуля пролетела мимо. На этот раз негр не стал дожидаться, пока Тотор начнет увещевать его, подобрал револьвер и всадил пулю прямо в голову немцу.
__________
Они вновь родились на свет Божий. Фрике и Риммер поведали, как сколотили компанию из двадцати человек и добрались до форта Ламар. За два дня до того служившие у французов туземцы подобрали в лесу полумертвого Ганса Риммера. Он рассказал об осаде деревни коттоло, о том, как дрались Виктор Гюйон и его американский друг. Потом налетел страшный ураган. Оба белых пропали. Однако Ганс был убежден, что их взял в плен султан Си-Норосси. Тем временем из Франции прибыли Фрике и его друг Риммер. Нелегко было уговорить старого лежебоку капитана Ломбарде, начальника форта Ламар, направить экспедицию в Каму. Капитан отнекивался, не желая брать на себя ответственность, уверял, что не может зря трепать французское знамя… Но Фрике оказался на высоте. Он сумел убедить старого вояку, что знамя Франции должно гордо развеваться на просторах этой дикой страны, что там, где находятся французы, царят гуманность и справедливость… В конце концов капитан согласился, но лишь при условии соблюдения предельной осторожности. Однако события развивались сами собой. Тайуб предал султана и вместе со своими людьми явился в лагерь французов. Представился удобный случай нанести хороший удар по логову кровожадного мерзавца, ведь, по словам араба, люди султана безмерно устали от его дикой жестокости и сдадутся без боя… Капитан долго раздумывал, прикидывал, но галльская кровь сделала свое дело. — Рискнем! — решил он. И рискнули… Крепость пала, как только началась стрельба. Ворота отворились… Си-Норосси и несколько верных ему воинов пытались еще сопротивляться и, надо отдать им справедливость, погибли с честью. Французы захватили крепость. Но где же белые? Исследовав окрестности, обнаружили заброшенный подземный ход. О его существовании знали лишь избранные, в том числе и фон Штерманн. Добрый старый Фрике не мог наслушаться рассказов Тотора. Мериноса он принял как сына, да и Ганса Риммера тоже. — Что вы намерены делать теперь? — спросил друзей капитан Ломбарде. — Для начала, — отвечал Фрике, — поедем во Францию, чтобы мамочка могла расцеловать своего мальчика. А потом? Кто знает… Быть может, вернемся сюда и организуем общество покорения Африки: «Фрике, Тотор и Кº».Конец

Луи Буссенар ГВИАНСКИЕ РОБИНЗОНЫ
Часть первая БЕЛЫЙ ТИГР[1]
ГЛАВА 1
Буря на экваторе. — Перекличка каторжников. — Усердие не по разуму. — «К оружию!» — Бегство. — Жертвы голода. — Охотники за людьми. — Гусь свинье не товарищ. — Среди собак. — Ночь в девственном лесу. — Добыча во мраке. — Тигр полосатый и тигр белый. — Неудачный выстрел и блестящий сабельный удар. — Месть благородного сердца. — Просьба о прощении. — Свобода!..Могучие деревья тропического леса клонились под ураганным ветром. Над их макушками, окаймленная угрожающей медно-красной полосой, зависла огромная черная туча. Вспышки разноцветных молний, мгновенные и продолжительные, иногда причудливые, но всегда ужасные, вырывались из нее, словно из опрокинутого жерлом вниз кратера вулкана. Оглушительно звучали раскаты грома. Тяжелые испарения, поднятые палящим солнцем с бесконечных болот, клубились, собираясь в облака, чтобы тут же обрушиться на землю невиданными ливнями — то, что в Европе называют струями дождя, здесь превращалось в сплошные потоки, похожие в отсветах молний на полосы расплавленного металла. Время от времени громадное красное дерево[2], гордость девственного леса, тяжело валилось на землю, а цветущее эбеновое[3] — высотой в сорок метров, крепкое как железо — раскачивалось из стороны в сторону, будто ивовый прутик; столетний кедр в четыре обхвата раскалывался с треском, словно сосновое полено. Эти гиганты с мощными ветвями, усыпанными цветами орхидей[4] и других растений, сперва лишь стонали и гнулись, связанные немыслимым переплетением лиан[5], но в конце концов уступали натиску урагана. Тысячи красных лепестков усеивали траву, напоминая брызги крови, пролитой поверженными лесными исполинами. Обезумело и затаилось от страха все живое. Звучал, достигая неправдоподобной силы, только яростный голос бури. Величественная симфония природы, сочиненная и исполненная самим Духом Ураганов, заполняла просторную долину Марони — большой реки во Французской Гвиане. Ночь, как всегда в этих местах, где солнце всходит без зари и заходит без сумерек, наступила внезапно. Но человека, бывалого, привыкшего к чудесам тропиков, поразило бы, несомненно, не это, а вид доброй сотни людей всех возрастов и рас, выстроившихся в четыре шеренги под широким навесом. Молчаливые и бесстрастные, они стояли, держа в руках шапки. Хлипкое сооружение из пальмовых листьев грозило рухнуть каждую секунду. Горшки для оливковых выжимок[6] подрагивали в своих ячейках, четыре фонаря, развешанные по углам, казалось, вот-вот погаснут. Но лица людей — арабов, индусов, негров, европейцев — сохраняли хмурую безучастность. Все были босы, в серых полотняных штанах и блузах, помеченных на спине большими черными буквами У. и П., разделенными изображением якоря. Между шеренгами медленно прохаживался среднего роста мужчина, с широченными плечами и грубым лицом. Кончики его длинных усов были тщательно закручены, а холодный и цепкий взгляд светлых глаз придавал физиономии выражение хитрости и двуличия. Отложной с серебряным позументом[7] воротник темно-синей суконной тужурки незнакомца, гармонировал с серебряными галунами[8] обшлагов. На боку у него висела кривая сабля, бившая при ходьбе по лодыжке, за поясом торчал пистолет, а в руке была увесистая дубинка, которой ее самодовольный владелец время от времени ловко выделывал фехтовальные коленца. То и дело обмахиваясь синей суконной фуражкой, он с головы до пят оглядывал каждого в шеренге, кто откликался, заслышав свое имя. Перекличку проводил человек в той же форме, но внешне совсем иной: высокий и худой, с хорошей фигурой, молодым и открытым лицом. Вместо дубинки в руке он держал маленькую записную книжку и громким голосом, стараясь пересилить вой бури, выкрикивал имена из списка: — Абдулла! — Я! — Минграссами! — Я! — хрипло отозвался индус, весь дрожа, несмотря на жаркую духоту. — Еще один пляшет танец святого Ги[9]… — гаркнул человек с закрученными усами. — Ну, погоди, мерзавец, по тебе уже плачет дубина для ослов!.. — Симонен! — Я!.. — с трудом держась на ногах, еле выговорил европеец с мертвенно-бледным лицом и впалыми щеками. — Громче отвечай, скотина! — на плечо бедняги опустилась дубинка, каторжник согнулся и застонал от боли. — Ну! Я же знал, что голос к нему вернется! Ишь верещит, как обезьяна. — Ромулюс! — Я! — оглушительно выкрикнул огромного роста негр, оскалив два ряда зубов, которым позавидовал бы и крокодил. — Робен! Молчание. — Робен! — повторил молодой человек с записной книжкой. — Отвечай, сволочь! — рявкнул владелец дубинки. Но ответа не последовало. Только едва слышный шепот пробежал по шеренгам. — Молчать, собаки!.. Первому, кто сдвинется с места или скажет хоть слово, я продырявлю глотку пулей! — Надзиратель выхватил из-за пояса пистолет. На несколько секунд воцарилась тишина, не нарушаемая даже громом. И вдруг издалека донеслось: — К оружию! Раздался выстрел. — Тысяча чертей! В хорошенькую переделку мы попали! Значит, Робен сбежал, а он политический! Чтоб я сдох, если не отхвачу за это три месяца ареста! «Депортированный» Робен был отмечен как «отсутствующий», и перекличка завершилась. Мы сказали «депортированный», а не «транспортированный». Первое из обозначений относилось к осужденным за политические преступления, второе — к уголовникам. Только в этом и состояло весьма незначительное различие между арестантами. Все остальное было одинаковым: каторжные работы, питание, одежда, режим… Депортированные и транспортированные пользовались равными «щедротами» начальства вплоть до количества палочных ударов охранника Бенуа, чей нрав, как уже могли понять читатели, очень мало соответствовал его имени[10]… Итак, мы находимся во Французской Гвиане, на правом берегу реки Марони, отделяющей наши владения от Голландской Гвианы. Исправительная колония, где развертывается в феврале 185… года пролог драмы, называется Сен-Лоран. Она открыта совсем недавно. Это филиал[11] колонии в Кайенне[12]. Каторжников здесь пока немного, не более пятисот. Местность нездоровая, часты заболевания болотной лихорадкой, а работы по раскорчевке пней тяжелы и изнурительны.
__________
Надсмотрщик Бенуа сопровождал свою бригаду в казарму. Ретивый полицейский пес чувствовал себя униженным и растерянным. Дубинка уже не плясала в его здоровенных руках, кончики усов уныло повисли, а козырек форменного кепи утратил лихой наклон в сорок пять градусов. Беглец — «политический», человек энергичный и умный. Его исчезновение — настоящее бедствие для надзирателя; о каком-нибудь убийце или фальшивомонетчике Бенуа думал бы не больше, чем о стаканчике та́фии[13]. Зато каторжников происшествие обрадовало донельзя — именно потому, что выбило из колеи охранника. Впрочем, свою радость они выдавали лишь взглядами — единственным проявлением протеста, доступном узникам в присутствии злого и жестокого служаки. Люди вскоре улеглись на койках, подвешенных между брусьями, и, лишенные сил, забылись хоть и тяжелым, но крепким сном. А Бенуа, несмотря на ливень и грозу, отправился, полный дурных предчувствий, к начальнику каторжной тюрьмы. Тот уже все знал и спокойно отдавал распоряжения по поимке беглеца. Впрочем, как человек опытный, начальник был почти уверен: быстрее снаряжаемой погони бежавшего настигнет голод. Настигнет и приведет назад. Побеги с каторги случались и раньше, но всякий раз голод, лучший из охранников Сен-Лорана, оказывался на высоте. От его недреманного ока смогли ускользнуть лишь те, кто стал добычей крокодилов, ягуаров или ядовитых насекомых, чьи укусы смертельны. Правда, энергия и упорный характер Робена были хорошо известны в Сен-Лоране, и мало кто сомневался, что он сдастся на чью-то милость. — Этот не возвратится, — негромко заметил начальник. — Конченый человек. — Господин начальник, — Бенуа надеялся показным рвением отвести от себя угрозу сурового наказания, — я его приволоку живым или мертвым! Клянусь, вот увидите! — Ну, «мертвым» — это уже чересчур… Вы меня поняли? — жестко ответил начальник, справедливый и твердый по натуре, умело совмещавший свои мрачные обязанности с некоторой долей гуманности. — Мне не раз приходилось обуздывать вашу грубость. Предупреждаю в последний раз: никакого самоуправства!.. Постарайтесь найти беглеца и привести обратно, если хотите избежать дисциплинарного совета[14], а после выполнения задания приготовьтесь к восьми дням тюремного заключения. Идите! Надсмотрщик резко откозырял и убрался восвояси, обрушивая по дороге на голову бежавшего потоки грязных ругательств. — Ну, только попадись, паскуда… Ты меня еще не знаешь… Доставить живым!.. Именно живым он мне и нужен… Хотя пулю в мягкое место всажу ему обязательно и дубинкой добавлю так, чтобы сдох не сразу, а потом… Надзиратель пришел в хижину, которую делил с другими охранниками, побросал в вещевой мешок кое-какой провиант, вооружился компасом, тяжелым ножом с широким лезвием — такие используют здесь для расчистки дороги в джунглях, и вскинул на плечо охотничье ружье. Было около семи вечера. Прошло три четверти часа, как хватились Робена. Бенуа, старший по званию, решил взять с собой еще троих надзирателей. — Послушай, Бенуа, — заговорил один из них, тот, кто проводил перекличку, — зачем выходить в такую погоду, да и время позднее? Подожди хоть, пока стихнет ураган. Робен далеко не уйдет… А завтра… — Я здесь командир и делаю то, что считаю нужным, — отрезал Бенуа. — Свои советы держи при себе. Подлец Робен попробует перебраться через Марони и укрыться в поселках Аруаг или Галиби. Надо перехватить его раньше, чем он построит плот. Черт побери! Эта скотина глупа, как и все прочие. Позавчера несколько краснокожих свиней шатались возле северной засеки… Погодите, голубчики, скоро услышите обо мне… Не правда ли, Фаго, мы им развяжем языки?.. При звуке своего имени коротконогий спаниель[15], злобный на вид, с умными глазами и взъерошенной шерстью, выбрался из-под грубо сколоченного стола. На тюремном жаргоне «фаго» означает «каторжник» — такую остроумную, как он сам считал, кличку дал собаке Бенуа. Эта четвероногая тварь ненавидела не только своих собратьев-псов, принадлежащих свободным людям, но и самих этих людей и, заливаясь истошным лаем, чуяла беглого или просто незнакомого человека на немыслимо далеком расстоянии. За годы, проведенные в Гвиане, Бенуа неплохо изучил страну, стал отличным следопытом и с помощью Фаго мог бы соперничать с лучшими охотниками здешних мест. Придя в казарму, он отвязал койку беглеца и дал обнюхать собаке, прищелкивая языком: — Ищи, Фаго! Ищи!.. Собака несколько раз сильно втянула воздух, потом завиляла хвостом и тявкнула, как бы говоря: «Есть! Приказ принят к исполнению!» — Проклятая погода… Чтобы удрать, лучше не придумаешь, — проворчал один из надзирателей, сразу же промокший до нитки под потоками дождя. — Черта с два мы его найдем! — Точно… — поддержал другой. — Не хватало еще наступить на гремучую змею[16] или провалиться в трясину. — В такую погоду собака не возьмет след, — заявил третий. — Дождь все смоет, никакого запаха не останется. Робен не мог удачнее выбрать момент! — Эй вы, вперед! Слышите? Я не в бирюльки[17] играю! Буря вот-вот кончится, луна взойдет, все будет видно как днем. Пошли к Марони, и Бог нам в помощь! Четверо в сопровождении собаки продвигались бесшумно, индейской цепочкой, по узенькой, едва заметной среди зарослей тропинке, которая вела к верховью реки. Охота на человека началась.В тот момент, когда каторжники выстроились на перекличку, часовой на посту возле здания отчетливо увидел при блеске молнии человека, убегающего со всех ног. Ошибки быть не могло. Беглец одет в арестантскую робу. И солдат не колебался. Он взвел курок и выстрелил, даже не окликнув, как положено: «Стой! Стрелять буду!» Молнии вспыхивали беспрерывно, охранник хорошо видел цель, но промазал. Беглец услышал свист пули, прибавил скорости и скрылся в чаще в ту самую минуту, когда охрану подняли по тревоге. Не обращая внимания на дождь, ветер и грозу, заключенный, взяв влево, углублялся в лес с уверенностью человека, отлично знакомого с местностью. Колония осталась у него за спиной, речной берег — по правую руку. Робен с бега перешел на быстрый шаг и, двигаясь по едва заметной в густых зарослях тропинке, через полчаса оказался на просторной поляне, загроможденной стволами сваленных и частично уже распиленных деревьев. Это был один из лесных складов каторги. В нескольких шагах от расчищенной зоны торчал метровый пень. Именно такие пни оставляют по обычаю гвианские лесорубы. Каторжник остановился и ощупал его: вспышки молний сделались редкими, и глаза не сразу смогли различить нужную примету. — Здесь, — тихо промолвил Робен, нащупав деревянную рогатину, оставленную вроде бы ненароком. Он схватил ее и стал быстро ковырять рыхлую, будто недавно вскопанную землю; вскоре конец рогатины, твердый как железо, звякнул по металлу. Беглец без особых усилий вытащил белый жестяной короб, квадратный, каждое ребро сантиметров сорок, один из тех, в которых хранятся на кораблях галеты[18]. Длинная и гибкая лиана опоясывала ящик несколько раз, на одной из сторон были оставлены две широкие петли — крепления, как у рюкзака. Человек продел в них руки, пристроил ящик на спине, потом вытянул из укрытия короткий тесак с деревянной рукоятью со вставками из латуни[19] для прочности, подхватил левой рукой рогатину и несколько минут постоял молча, прижавшись к огромному пню. Затем гордо выпрямился и произнес: — Наконец-то я свободен! Свободен, как свободны в этих глухих просторах дикие звери! И пускай даже меня ужалит змея, растерзает в клочья тигр, пускай меня дочерна опалит солнце, изведет лихорадка, замучает голод… Лучше смерть, чем проклятая каторжная жизнь! Один ад сменяется другим, но тот, где я умру свободным, все-таки лучше! Старший надсмотрщик не ошибся в своем предсказании насчет тропической грозы. Ее бурные вспышки ужасны, но преходящи. Очень скоро тучи унеслись прочь. Луна медленно поплыла над непроницаемым покровом листвы, окаймлявшим берега реки. Диск ночного светила засиял ярким блеском, неведомым в европейских широтах, от него искрились еще не улегшиеся волны и капли дождевой влаги на листьях. Голубоватые лучи кое-где проникали сквозь плотные лиственные своды, скользили вдоль стволов, высвечивая переплетения вьющихся растений и цветов на высоких прямых деревьях, напоминавших колонны громадного собора. Робен не оставался бесчувственным к красоте лунной ночи, но время подгоняло его. Надо бежать дальше как можно быстрее, надо воздвигнуть непреодолимый барьер пространства между ним и преследователями. Всего на несколько минут после своего страстного монолога о свободе каторжник замер в молчаливом созерцании, затем сориентировался и пустился в путь. За время пребывания в исправительной колонии Марони он не раз наблюдал, как совершались побеги. Ни один не оказался удачным. Беглецов рано или поздно ловили надсмотрщики, иногда — выдавали голландские власти; случалось, несчастные просто погибали от голода и лишений. Некоторые, еле живые, возвращались сами, чтобы добровольно сдаться на милость начальства, предпочитая тюрьму мучительной гибели в лесу. Военный трибунал добавлял им от двух до пяти лет ужесточенного режима. Но они все-таки возвращались, настолько сильна в человеке жажда жизни, какой бы жалкой и убогой эта жизнь ни была. Что касается нашего героя, он без колебаний посвятил себя служению идее; смерть мало значила для него. Робен знал, как избежать встречи с голландцами. Это легко. Надо лишь оставаться на правом берегу реки. На голод же — наплевать. Крепкое сложение и неиссякаемая энергия позволят ему долго продержаться. Ну а коль суждено погибнуть… Что ж! Он не первый, чей скелет, до блеска отполированный муравьями, найдут в этом лесу. Впрочем, беглец вовсе не хотел умирать. Он был муж и отец, его не сломил изнурительный каторжный труд, не опустошила нищета, тюрьма не заставила опустить руки. Он хотел жить для своих близких. И когда человек такой закалки говорит: «Я хочу!» — он может. За ним, конечно, пошлют в погоню самых ловких тюремных ищеек, уж они-то будут стараться изо всех сил. Ничего не попишешь, если он дичь, надо попробовать перехитрить охотников. И — прежде всего направить их по ложному пути. «Они, конечно, убеждены, что я двинусь к голландским поселениям, — размышлял Робен. — Поддержим их в этом заблуждении и для начала построим плот». Француз круто свернул к реке, шум которой доносился до него справа. Стало ясно: это грохочет вода на Голубых Камнях, и если подняться вверх по течению, то в километре отсюда можно найти материал для плота. Производя не более шуму, чем краснокожие на тропе войны или на охоте, каторжник направился прямо к берегу, до которого было чуть меньше часа ходьбы. Осуществление задуманного плана требовало чрезвычайной ловкости и смелости. Робен понимал, что преследователи направились именно к реке, то ли вверх, то ли вниз по течению от Сен-Лорана. Одно из двух: либо идущие по следу уже миновали место, где он рассчитывал соорудить плот, и тогда нечего волноваться, либо нет. Во втором случае придется спрятаться в прибрежных зарослях. Там тюремщики его не найдут, сколько бы ни искали. Робена не смущало даже то, что предстоит Бог весть сколько просидеть в воде, в соседстве с пресноводными акулами[20], хищными пирайями[21], электрическими угрями[22] или скатами-хвостоколами[23]. Он не мог знать заранее, какое из двух предположений окажется верным и, подойдя к берегу, без задержки приступил к осуществлению плана. Опытным глазом выбрал пару прямых деревьев, белых и блестящих, словно серебряные бруски, свалил их двумя ударами, а затем решительно вступил в воду и по грудь вошел в гущу аромовых водорослей, называемых здесь «муку-муку». Эти ярко-зеленые растения, в изобилии устилавшие речное дно, необычайно легки, прочны, хотя и хорошо поддаются ножу. Робен отобрал десятка три побегов, длиною метра по два, бесшумно срезал их, стараясь не обжечься едким соком, лотом натянул крест-накрест — вроде решетки — между жердями. Получилась двухметровая квадратная платформа, прекрасно державшаяся на воде. Веса человека она бы, разумеется, не выдержала, но для той цели, которой добивался Робен, вполне годилась. Соорудив плот, он скинул с себя тюремную робу, набил ее листьями и пристроил так, чтобы она напоминала прилегшего на плоту человека; в рукав чучелу сунул вместо весла широкий лист и провел плот через скопление водорослей к чистой воде. Приливная волна, которая давала знать о себе за двадцать с лишним километров от устья огромной реки, уже поднималась. Плот подхватило течением и повлекло, медленно кружа, к противоположному, голландскому берегу. — Прекрасно! — воскликнул Робен. — Готов поклясться, что через четверть часа наши молодцы ринутся вдогонку за куклой на плоту! Француз понимал, что лучший способ остаться незамеченным — и в безлюдной местности и в населенной — это не избегать торных дорог. И потому без малейшего колебания ступил на тропу, где мог легко встретиться со своими преследователями. Углубляться сейчас в нехоженый лес не следовало. Он может послужить укрытием в случае необходимости, но в темноте сквозь него не продерешься. Робен двигался с бесконечными предосторожностями, стараясь не производить никакого шума, и время от времени останавливался, пытаясь уловить необычный звук в шелесте зеленого океана. Ничего подозрительного!.. Только падают капли на влажные листья, мерцающие в лунном свете, только шорох змеи или ящерицы в траве, безмолвное мелькание насекомых, да иногда хлопнет крыльями намокшая птица. Он шел все время под темными сводами деревьев, слегка подсвеченными голубоватым сиянием луны, сквозь мириады светлячков, которые в полете прочерчивали ночной мрак огненными линиями. Вскоре наш герой достиг бухты Балете — небольшой протоки, шириной метров пятьдесят. Он знал, что встретит эту водную преграду, образованную притоком Марони, и должен будет немедленно ее преодолеть, чтобы оставить водный рубеж между собой и преследователями. Для могучего пловца, каким был Робен, задача не составляла особого труда, глубина протоки не превышала пяти метров. Но, прежде чем погрузиться в воду, он затаил дыхание и пристально вгляделся в очертания берега. Вначале ничто его не встревожило, но через минуту-другую послышался отчетливый шепот — акустика[24] тропических ночей удивительна! — и беглец застыл на месте. — Говорю тебе, это плот… — Ничего не вижу. — Погляди, вон там… впереди… в сотне метров от берега. Ну, видишь?.. Темное пятно. На плоту человек. Мне хорошо видно… — Ты прав! — Плот и человек на нем. Точно! Однако он гребет против течения… — Черт побери! Прилив начался… Его закружит и вынесет на голландский берег. — Ну нет! Ни за что! Даром, что ли, мы поперлись в такую рань… — А если я прикажу ему причалить к берегу? — Скажешь тоже! Глупец! Вот если бы этот «фаго» был уголовником, тогда другое дело. Испугался бы пули и послушался… Но политический! Никогда… — Ты прав. К тому же это Робен. — Смелый человек, что ни говори. — Да, но этого смельчака надо поймать. — Если бы Бенуа был на той стороне! — Хорошо бы… Но он закусил удила. Пересек залив на пароме и теперь черт знает где… Далеко впереди… — Давай пульнем по плоту. — Жалко. Я никогда не держал зла на Робена, он лучше всех. Вежливый. — Что верно, то верно. Бедняга! Мы невзначай продырявим ему череп, и кайманы[25] им пообедают. — Кончай болтать! Стреляй!.. Три огненно-ярких вспышки рассекли ночную тьму, тишину взорвали три глухих выстрела, поднявшие в воздух встревоженную стаю попугаев. — Какие же мы глупцы! Тратим патроны впустую, а ведь перехватить плот проще простого. — Как? — А вот послушай. Лодка, на которой Бенуа перебрался через бухту, стоит на приколе на том берегу. От берега до берега протянута лиана, по ней ходит паром. Я лезу в воду, хватаюсь за эту лиану и плыву на тот берег. Возвращаюсь с лодкой… Забираю вас, и мы продолжаем свою охоту… — …и завершаем ее успешно! Придя к такому решению, трое охранников не теряли времени даром, и вскоре, гребя изо всех сил, покинули бухту Балете, держа курс на Марони. Робен выслушал все не шелохнувшись. Судьба благоволила к нему, подарив шанс на спасение. Едва пирога[26] исчезла, как беглец в свою очередь схватил лиану, одним ударом тесака перерубил ее и оказался в воде, удерживаясь рукой за конец растения. Природная якорная цепь, с помощью которой он плыл, под воздействием течения описала четверть окружности. Центр окружности находился в месте крепления лианы на другом берегу. Перемещение каторжника произошло бесшумно, даже без особого напряжения сил с его стороны, и поверхность воды осталась почти не потревоженной… Десять минут спустя француз выбрался на противоположный берег и, не повторяя ошибки надзирателей, перерезал лиану. Та сразу же исчезла под водой. — Так-так, — сказал Робен, — значит, меня преследует Бенуа. Он где-то впереди. Отлично. До сих пор я следовал за охотниками, и маневр удался. Продолжим в том же духе!.. Наш герой вытащил из заплечного короба галету, сжевал ее прямо на ходу, затем отпил немного тафии, подкрепившись таким спартанским завтраком[27], ускорил шаг. Минуты и часы летели незаметно, луна следовала своим путем. Вскоре должно было взойти солнце, на горизонте занималась яркая заря. Лесная чаща пробудилась и заговорила многими голосами. К воркованию и свисту пернатых, к монотонному жужжанию насекомых, резким крикам пересмешника[28] вдруг примешался отрывистый собачий лай. Так лает пес, бегущий по следу. — Индеец охотится?.. А может быть, это надсмотрщик?.. Уж лучше бы краснокожий! Но если надзиратель… Однако я от своего не отступлюсь! Будь что будет! Лес посветлел. Большие деревья расступались, открывая свободное пространство. Обилие вьющегося дикого винограда «пино» указывало на близость высохших болот, так называемых «пинотьер». Едва Робен ступил на поляну, как внезапно рассвело. Он едва успел спрятаться за огромным кедром, чтобы ненароком не выдать себя. Лай приближался. Каторжник стиснул в руке рогатину и затаил дыхание. Спустя минуту небольшое красивое и стройное животное, коричневое, с прямыми рожками, пробежало мимо дерева, за которым спрятался Робен. Это была «кариаку», гвианская косуля[29]. Стараясь ее достичь, в ту же секунду какое-то тяжелое тело обрушилось с высокой ветки на землю. То был крупный ягуар[30]. Заслышав лай охотничьей собаки, он затаился в ветвях, готовый броситься на загнанную собакой дичь. Робен даже не вскрикнул, ни единым жестом не выдал своего волнения. Хищник, заметив его, отступил. Озадаченный невозмутимым видом человека, его решительной позой, ягуар прыгнул еще раз, пролетел над головой беглеца и, молниеносно взобравшись по стволу, с которого только что сорвался, снова растянулся на ветке — глухо и грозно рыча, с горящими глазами, вздыбленными усами и оскаленной мордой. Человек, весь напрягшись, не сводил глаз со зверя и ждал нападения, сжимая в руке рогатину. Треск раздвигаемых ветвей заставил француза повернуть голову. В пяти шагах от себя он увидел ружейное дуло, нацеленное прямо в него… — Сдавайся!.. Ну! Или я стреляю! Презрительная улыбка искривила губы Робена, когда он узнал Бенуа. Заносчивый и жестокий холуй пытается сыграть чуть ли не старинную мелодраму[31]. Шут гороховый, неужели он не видит хищника, который рвет клыками твердокаменную кору дерева, будто бумагу. Робен, словно укротитель в цирке, смотрел прямо в глаза ягуару, стараясь точно рассчитать каждое движение: любой слишком резкий жест мог принести смерть. У ягуара сузились глаза, зрачки превратились в две вертикальные щелочки. Зверь, казалось, ощущал некое магнетическое воздействие человеческого взгляда. Бенуа, держа ружье обеими руками, стоял в позе Вильгельма Телля[32] и выглядел нелепо и смешно. — Ну, негодяй… Чего молчишь? Ягуар, все громче рыча, повернул к надзирателю морду. Бенуа, человек не робкого десятка, к тому же хорошо вооруженный, вскрикнул, скорее ошеломленный, чем испуганный. Потом спокойно прицелился в ягуара и выстрелил. Заряд крупной дроби задел морду, плечо и левый бок гигантской кошки. К темным пятнам на пестром одеянии зверя добавились алые, из ран потекла кровь, но уложить хищника на месте такой выстрел не мог. Надзиратель тотчас убедился в этом на собственной шкуре. Раненый ягуар бросился на незадачливого охотника и одним ударом лапы повалил его на землю. Бенуа почувствовал, как в его тело впились острые когти, прямо перед глазами распахнулась жаркая красная пасть с двумя рядами острых белых клыков. Машинально он ткнул в эту пасть дулом ружья. Челюсти сомкнулись, зубы ударили о металл, зверь рванулся вбок, и через мгновение приклад был раздроблен. Надзиратель понял, что погиб… и не позвал на помощь. К чему?.. Закрыв глаза, он ждал смертельного удара. Но тут Робен, чья благородная душа не ведала ненависти, ринулся вперед. Он ухватил ягуара за хвост и дернул так сильно, что хищник выпустил свою жертву, готовый броситься на нового врага, посмевшего столь бесцеремонно с ним обращаться. Однако противник оказался сильнее. Храбрец отбросил рогатину и выхватил тесак. Отточенное лезвие рассекло загривок зверя — могучее, словно у быка, переплетение стальных мускулов. Брызнули два пульсирующих красных фонтана и рассыпались по сторонам дождем из кровавых пенных капель. Надсмотрщик лежал распростертый на земле, с распоротым до кости бедром. Изломанное ружье годилось теперь разве что на рукоятку для метлы. Тело животного, сотрясаемое предсмертными судорогами, отделяло Бенуа от Робена. Каторжник хладнокровно обтирал пучком травы окровавленный тесак. Казалось, он совершил самое простое, обычное дело, не требовавшее никакого напряжения сил. Долго тянулось молчание, прерываемое лишь пронзительным лаем Фаго, который держался, однако, на почтительном расстоянии. — Ладно. Добивай… Теперь мой черед, — проговорил наконец надсмотрщик. Робен не отвечал, как будто и вовсе не слышал. — Ну, чего ждешь? Убей меня, и конец. На твоем месте я бы давно уже это сделал. Молчание. — А!.. Ты радуешься победе! Но половину работы за тебя выполнил зверь! Пятнистый тигр выручил тигра белого[33]!.. Проклятье! Мне здорово досталось… Плохо вижу… Умираю… Это конец… Кровь лилась и лилась из открытой раны. Бенуа уже терял сознание и мог скончаться от потери крови. Вступая в схватку с ягуаром, Робен поддался безотчетному порыву, инстинкт самосохранения также сыграл свою роль. Он начисто забыл в эти минуты об оскорблениях и побоях, полученных на каторге от Бенуа. Да и вообще весь ад каторжной жизни словно перестал существовать для него — ни дубинок, ни издевательств, ни тюремной жестокости с ее ловушками. Он видел перед собой только человека, тяжело раненного, который умирал у него на глазах. Француз прежде не умел делать перевязки, но интуиция и жизненный опыт и на этот раз его не подвели. «Пинотьер», или сухая саванна[34], начинался в нескольких шагах от места, где разыгралась трагедия. Каторжник пробрался сквозь кусты и вскоре обнаружил плотный слой растительного перегноя. Нашлась неподалеку и сероватая, мучнистая глина. Из глины и перегноя он скатал большой ком, оторвал рукав от собственной рубашки, разодрал его в мелкие клочки, приготовив нечто вроде грубой корпии[35], смочил ее тростниковой водкой и осторожно наложил на края раны лежавшего в забытьи Бенуа; потом взял приготовленную смесь и начал накладывать ее на ногу своего заклятого врага так же, как хирурги накладывают гипс, — слой за слоем; обернул все это сверху большими свежими листьями и крепко перетянул лианами. Ужасная рана от бедра до колена оказалась надежно закрытой. Если не начнется воспаление, раненый должен был выздороветь с не меньшей степенью вероятности, чем после обработки раны опытным врачом. Вся операция длилась не более четверти часа. Мертвенно-бледные щеки Бенуа порозовели. Охранник зашевелился, глубоко вздохнул и пробормотал: — Пить!.. Робен сорвал большой лист, свернул его и побежал к воронке, откуда извлекал глину. Воронка уже наполнялась чистой водой. Он приподнял голову раненого, тот с жадностью глотал воду, потом открыл наконец глаза. Невозможно описать изумление надзирателя, увидевшего перед собой каторжника. Бенуа невольно сделал попытку вскочить на ноги, чтобы защищаться, а может, даже нападать. При первом же движении острая боль пронзила его, а вид мертвого ягуара вернул ему память. Как?! Значит, это Робен, которого он преследовал со слепой ненавистью, вырвал его из смертельных объятий хищника, это Робен перевязывал ему рану и утолял его жажду?! Любой другой на месте надзирателя склонился бы перед таким благородным поступком, и, возможно, в свое оправдание, заговорил бы о требованиях долга, об инструкциях… а не то просто протянул бы руку и сказал: «Спасибо!» Бенуа разразился бранью. — …Ты, негодяй, ничтожество! Подлый трус! Какого дьявола ты нянчился со мной, болван! Мне не нужна твоя жалость. Лучше убей… — Нет! — спокойно ответил Робен. — Человеческая жизнь священна. И потом, есть нечто лучшее, нежели месть. — Что же это? — Прощение! — Не знаю… И не надейся, что я скажу: долг платежом красен… Рано или поздно я изловлю тебя! — Как угодно. Если наши пути снова пересекутся, я буду защищать свою свободу. Не советую вам покушаться на нее. А благодарности от вас я не требую. Только помните, в заключении есть люди, как справедливо осужденные, так и безвинно пострадавшие. И никогда больше не злоупотребляйте своей властью и своей физической силой. Закон, который вы представляете, при всей его несправедливости не требует мучить людей. Я ухожу! — Скатертью дорога! Иди и помни, что ты сделал ошибку, пощадив меня. Беглый каторжник даже не оглянулся. Он исчез, будто растворился в чаще леса.
ГЛАВА 2
Богатая, но бесплодная природа. — Голод. — Одиннадцать скелетов. — Каторжники-людоеды. — Что такое белый тигр. — Капуста в тридцать килограммов. — Первый краснокожий. — Еще один враг. — Неблагодарность и предательство. — Проданный за стакан тафии. — Одиночество. — Страшное падение. — Встреча с умирающим надзирателем и обезглавленным ягуаром. — Лихорадка. — Обезьяний концерт. — Снова индеец. — Охота за человеком продолжается. — Логово белого тигра.Долго шел Робер, но ему все казалось, что тюрьма с ее надсмотрщиками и собаками еще недостаточно далеко. Как ни странно, он и в самом деле петлял в пределах той местности, которую так страстно хотел покинуть. Представьте себе человека, плывущего по океану на утлой барке, почти без припасов и без компаса. Так вот, девственный лес со своими непроницаемыми зелеными куполами, бесконечными пространствами трав и кустарников предлагал одинокому путнику не больше ориентиров[36], чем однообразные морские волны. Минуло уже три дня. «По оценке», как говорят моряки, Робен преодолел за это время не менее пятидесяти километров. Двенадцать с половиной лье[37] в экваториальном лесу — это необъятность. Беглецу, по крайней мере, нечего опасаться встречи с цивилизованными людьми. Однако он не защищен от многих опасностей, одна из которых — голод — таит постоянную угрозу смерти. Из неумолимых лап этого чудовища может вырваться лишь тот путешественник, торговец или поселившийся далеко от города колонист, который заблаговременно подготовил солидные запасы продовольствия. Жертвами голода в равной степени становятся негры и индейцы, если в дождливый сезон они не в состоянии собрать выращенный урожай. Не думайте, что сказочное богатство тропической растительности, роскошные деревья, на создание которых природа поистине не пожалела творческих способностей, в изобилии предоставляют человеку необходимое пропитание. Нет. Это растительное великолепие бедно съедобными плодами. Ни апельсиновое дерево, ни кокосовая пальма с чудесными орехами, ни сочный банан, ни манго[38] с прекрасной свежей мякотью, ни даже ароматный терпентин[39] или хлебное дерево не произрастают в диком состоянии в бесконечных непроходимых лесах. Они встречаются только в деревнях и поселках, куда их привозят и высаживают люди. Вдали от хижин человек не может утолить голод, как не может утолить жажду соленой морской водой. Ну, а охота?.. Рыбная ловля?.. Легко ли голыми руками убить дикое животное или поймать рыбу? Автор этих строк пересек леса Нового Света. Он голодал и томился от жажды в той самой зеленой пустыне, где нынче сражается со своей судьбой наш герой. Затерянный среди беспорядочного переплетения ветвей, стволов и лиан, вдали от источников питания, он пережил незабываемую встречу, которая и спустя много месяцев, уже дома, в Европе, вспоминается со щемящей тоской, вызывает неизбывную дрожь. На берегу бухты с прозрачной и свежей водой одиннадцать скелетов, — да, да, одиннадцать скелетов! — высохших до белизны, были разбросаны под развесистым деревом. Одни — лежали вытянувшись на спине, со скрещенными руками и разведенными в стороны ногами, другие — судорожно скрючились, у третьих головы наполовину ушли в почву, а на зубах сохранились остатки земли,заменявшей пищу, четвертые — скорее всего, арабы, стоически ожидавшие смерти, — присели на корточки. За полгода перед тем одиннадцать узников совершили побег из исправительной колонии Сен-Лоран. Их не нашли — и сами они не вернулись. Умерли от голода… А затем набежали муравьи-маниоки и оставили от погибших только обглоданные скелеты. Командир корабля Фредерик Буйер[40], один из выдающихся офицеров нашего флота, приводит в своей прекрасно написанной книге о Гвиане еще более ужасные факты. Беглых каторжников убивали их же товарищи, и затем происходили отвратительные сцены антропофагии[41], которые наше перо отказывается описать! Вот какие испытания уготовила Робену его любовь к свободе! Убежав из колонии с дюжиной галет, сэкономленной из тощего тюремного пайка, наш герой разжился еще несколькими початками маиса[42] да горсткой зерен кофе… Вот и все продовольствие, с которым этот бесстрашный человек пустился в тяжкий путь к заветной свободе. Его рука уже не раз ныряла в жестяную коробку, которую он нес за спиной на манер рюкзака. Коробка защищала драгоценную еду от муравьев и сырости. Проглоченные крохи заглушали резь в желудке, но и только. Как следует поддержать силы было нечем. Голод вскоре превратился в истинную пытку. Робен пожевал кофейные зерна, выпил воды из ручья и уселся на поваленный ствол. Долго он так сидел, глядя на ручеек, ничего не видя, чувствуя только пульсацию крови да сильное головокружение. Беглец хотел подняться и продолжить путь, но не смог. Распухшие, исколотые шипами растений ноги не держали его. Робен с трудом стянул башмаки — каторжникам администрация выдавала обувь — однако чертовы шипы, длинные, твердые и острые, как стальные иглы, легко прокалывали ее. — Кажется, — путник горько усмехнулся, — даже незначительные происшествия измотали меня вконец. Выходит, я уже не тот, что прежде? Чепуха! Возьми себя в руки, ну! Даже истощенный человек может продержаться без пищи, по крайней мере, двое суток. Я должен идти дальше. Должен! Однако было ясно, что продолжать путь с израненными ступнями невозможно. Каторжник устроился поудобнее на твердом корневище и опустил ноги в воду по щиколотку. Робену недавно минуло тридцать пять лет, он был высокий, сильный, хорошо сложенный мужчина, с пальцами артиста, плечами и бицепсами атлета. Лицо его с правильными и тонкими чертами обрамляла каштановая бородка, а орлиный нос и черные, проницательные глаза придавали французу выражение серьезное, задумчивое, почти суровое. Чистый высокий лоб с небольшими залысинами на висках — лоб мыслителя и ученого — не пересекла еще ни одна морщина. Он сильно исхудал на каторжных работах, побледнел и осунулся. На всем облике этого человека лежал отпечаток тяжелых страданий, как физических, так и нравственных. Бургундец[43] по происхождению, известный инженер, он управлял в Париже крупной фабрикой, когда произошел декабрьский государственный переворот[44]. Наш герой был одним из тех, кто при известии о покушении на республику преисполнился гнева и ярости и тотчас встал под ружье. На баррикадах в районе Фобур-дю-Тампль[45] Робен был ранен. Заботливые друзья спасли и вылечили его. Он долго скрывался, но был арестован при тайном переходе границы и предан суду. А через несколько дней смешанные комиссии внесли новое имя в свои печально известные списки, и инженер Робен отправился в Гвиану, не успев попрощаться даже с женой, доброй и стойкой женщиной, всего лишь два месяца назад ставшей матерью его четвертого ребенка и лишенной теперь всяких средств к существованию! Три года Робен, закусив тюремные удила, находился в обществе отвратительных подонков, лишь время от времени получая письма, на три четверти вымаранные тюремной цензурой. Странная вещь, и, однако же объяснимая: он обладал особым влиянием на других заключенных. Его строгое лицо, на котором никогда не проскальзывала улыбка, внушало им уважение, говорило о необычайной крепости духа. И потом, он был «политический». Все обитатели этого ада — от должностных лиц до уголовников — испытывали некоторую неловкость, узнавая, за что был осужден парижский инженер. В этой зловонной дыре он представлял некий островок душевной чистоты и достоинства. Очень характерный показатель особого отношения к французу на каторге: никто не обращался к нему на «ты». Как многие сильные люди, этот человек был добр. Одного каторжника, пораженного солнечным ударом, он принес на себе с отдаленной лесосеки, другому перевязал раны. А однажды вытащил из реки утопавшего солдата. Было и такое: одним ударом кулака бургундец свалил «знаменитого» вора, одного из некоронованных тюремных королей, который измывался над ослабевшим от лихорадки заключенным. Не скрывая ненависти к тюрьме, этот парижанин мужественно сносил все тяготы каторжного быта, и из уст его никто не слышал ни единой жалобы. Никого не удивил побег инженера, все желали ему удачи. К тому же происшествие сулило хорошие неприятности надзирателю Бенуа, которого боялась и ненавидела вся каторга.
__________
Ножная ванна в холодной воде принесла Робену заметное облегчение. Он старательно удалил из обуви все шипы и колючки, растер ноги остатками водки. Зачерпнул еще воды из ручья и попил. Как быть с едой?.. Где найти пропитание? Вдруг из груди Робена вырвался крик радости: он увидел среди других деревьев симарубу. — Теперь-то я не умру с голоду! Quassia simaruba, по Линнею[46], или amara simaruba, по классификации Обле[47], используется в медицине благодаря тонизирующим[48] свойствам коры и корней. Однако у нее нет съедобных плодов или почек. Чему же тогда радовался беглец? Чем собирался утолить голод? Робен со всей быстротой, какую позволяли его больные ноги, устремился к дереву и начал разгребать сухие листья, опавшие цветы и семена, густым слоем окружавшие ствол. Лезвие тесака наткнулось на что-то твердое. — Так и есть! — воскликнул он. — Мои товарищи по несчастью были правы. Кое-что из их нелепых россказней оказалось полезным. Помню, один советовал соседу, мечтавшему о побеге: «Если увидишь в лесу симарубу с опавшими цветами, не проходи мимо: у подножия дерева наверняка найдешь земляных черепах, лакомящихся незрелыми семенами». Тесак каторжника как раз и натолкнулся на панцирь одной из этих крупных и вкусных рептилий. Робен перевернул ее на спину. Скоро он обнаружил еще парочку экземпляров и уложил их в той же позе. Можно было приступать к приготовлению обеда. Сухого валежника в лесу оказалось полно. Повсюду лежали огромные полусгнившие стволы, которые легко крошились при малейшем ударе, на растопку годился и хворост, и высохшая трава… Француз скоро сложил большой костер. После долгих усилий ему удалось поджечь сушняк, ударив о лезвие тесака кремнем. Затеплился огонек, вспыхнуло пламя, от костра брызнули в разные стороны рои насекомых, поднявшихся с почвы. Робен сунул черепаху прямо в панцире в костер, присыпал ее раскаленными углями — он знал, что так поступают туземцы, — и стал ждать. Пока обед поспевал, бургундец не оставался в бездействии. В нескольких десятках шагов от костра он рассмотрел небольшую пальму, нарушавшую своей темно-зеленой листвой однообразный строй голых стволов больших деревьев, кроны которых разворачивались в десятках метров от земли. На ней не виднелось ни цветов, ни плодов. Однако наш герой тотчас принялся ее рубить. Ствол дерева был не слишком толст, но волокнистое вещество коры оказалось настолько прочным, что одолеть его удалось лишь с огромным трудом. Вы, быть может, слышали о капустной пальме, дорогие читатели? Описывали вам пучок нежных листьев, образованных молодыми побегами и как бы собранных в початок? Это описание, по сути, правильное, но неполное, ибо позволяет допустить некое сходство «пальмовой капусты» с обычной, всем известной, которую достаточно мелко нарезать перед тем, как опустить в кастрюлю. Пальмовая капуста не такова. Чтобы убедиться в этом, проследите внимательно за действиями нашего героя. Робен очистил от ветвей ствол у макушки дерева и кольцевыми надрезами стал освобождать его от коры, подбираясь к основанию черешка — плодоножки молодых листьев. Бледно-зеленые кольца коры падали одно за другим, обнажая округлую сердцевину сантиметров восьмидесяти длиной, толщиной в руку, гладкую и белую, точно слоновая кость. Беглец отломил кусочек и разгрыз крепкими зубами; вкусом это вещество напоминало миндальный орех. Не слишком сытная пища, но на какое-то время ею можно утолить голод. Прожевав первый кусок, Робен отнес остальное к костру, хотя в печеном виде пальмовая капуста менее вкусна. Черепаха уже поспела. Аппетитный запах исходил от обугленных щитков панциря. Каторжник извлек добычу из костра, взломал панцирь, уселся поудобнее и разрезал жаркое. Пользуясь вместо хлеба печеной пальмовой капустой, он приступил к скромной и необычной трапезе, позабыв обо всем на свете. Тонкий и пронзительный свист заставил его вскочить на ноги. Что-то прямое и длинное пролетело перед его глазами и вонзилось, трепеща, в гладкую кору симарубы. То была двухметровая стрела, толщиной с палец. Оперенный красным конец дрожал, раскачиваясь. Парижанин схватил рогатину и принял оборонительную позу, вперив взгляд в то место, откуда прилетел посланник смерти. Вначале ничего не было видно, но затем лианы осторожно раздвинулись, и появился краснокожий, сжимая в руках большой натянутый лук и широко расставив ноги. Он явно собирался пустить в каторжника вторую стрелу. Робен зависел теперь только от милости пришельца, невозмутимого дикаря, похожего на статую из красного порфира[49]. Индеец, казалось, лишь обдумывал, как лучше поразить жертву. Острие стрелы медленно перемещалось сверху вниз, потом справа налево, но оставалось нацеленным в грудь белому. Вся одежда аборигена состояла из куска голубого коленкора[50], пропущенного между ног и подвязанного поясом. Тело было вымазано красной краской, словно индеец только что окунулся в кровь. Загадочные линии, проведенные соком генипы[51] на груди и на лице, придавали ему вид одновременно и смешной и устрашающий. Длинные черные волосы с синеватым отливом, обрезанные спереди на уровне бровей, ниспадали по обеим сторонам лица до плеч. На шее красовалось ожерелье из зубов ягуара, на запястьях — браслеты из когтей большого муравьеда[52]. Длинная, больше двух метров, дуга его лука из «железного дерева»[53] одним концом упиралась в землю, другой же ее конец торчал над головой стрелка. В левой руке, которой он также придерживал лук, зажаты были еще три стрелы. Робен не мог понять, почему индеец на него напал. Прибрежные жители в низовье Марони, галиби, вообще-то безобидны, у них вполне мирные отношения с европейцами, которые снабжают их тафией в обмен на предметы первой необходимости. Может быть, краснокожий попросту хотел напугать его? Ведь туземцы так ловко обращаются с луком, что одним выстрелом сбивают красную обезьяну[54] или даже фазана[55] с вершин самых высоких деревьев. Большинство попадает в апельсин с тридцати шагов. Вряд ли индеец мог промахнуться на столь малом расстоянии. Наш герой решил показать незнакомцу, что ничуть не боится его. Он отбросил свою рогатину, скрестил руки на груди и, глядя прямо в лицо врагу, стал медленно приближаться. По мере того, как бургундец подходил, рука, натягивавшая тетиву, расслаблялась, а выражение черных раскосых глаз смягчалось. Грудь белого почти коснулась кончика стрелы, и стрела медленно опустилась. — Белый тигр не боится… — с трудом выговорил галиби на креольском наречии[56] — языке своей расы, которым пользуются также и негры с побережья Марони. — Да, я тебя не боюсь. Но я вовсе не белый тигр (как мы помним, туземцы так называли беглых каторжников). — Если ты не белый тигр, зачем пришел сюда? — Я свободный человек, как и ты. Я никому не желаю зла. Я хочу здесь жить, расчистить поле, выращивать урожай, построить хижину… — Ты лжешь! Если ты не каторжник, то почему ты без ружья? — Клянусь здоровьем моей матери, калина (индейцы, которых белые называют «галиби», сами называют себя «калина»), клянусь тебе, я никогда не совершал преступлений. Никогда не убивал! Никогда не крал! — Ты поклялся своей матерью… Это хорошо… Я тебе верю! Но почему ты не возле своей жены и детей? Почему ты приходишь к индейцу, хочешь забрать его землю, его добычу? Атука не хочет! Уходи к своим белым! Упоминание о жене и детях всколыхнуло память Робена, и он почувствовал, что к горлу подступил комок. Он не хотел обнаруживать перед краснокожим свои чувства. Распрямившись, француз с достоинством произнес: — Моя жена и мои дети бедны. Я приехал сюда, чтобы заработать для них пропитание, чтобы дать им кров. — Атука не хочет! — гневно повторил туземец. — Он не пойдет к белым, чтобы стрелять фазана, строить хижину или сажать маниоку[57]. Пускай белый человек остается у себя, а индеец — у себя. — Пойми, Атука, все мы люди и все равны… Здешняя земля принадлежит мне точно так же, как моя земля принадлежит тебе. — Ты лжешь! Копни эту землю своим ножом, и ты найдешь там кости моего отца, кости калина, моих предков… Если ты отыщешь там кости хотя бы одного белого, я тебе отдам всю землю, а сам стану твоим верным псом… — Атука, я не собираюсь жить именно здесь. Я направляюсь к неграм бони. Здесь я просто по пути и не хочу задерживаться. При этих словах индеец, несмотря на всю свою хитрость и самообладание, не мог скрыть разочарования. Все его рассуждения о земле предков и о погребенных в ней костях соплеменников преследовали одну цель, весьма ничтожную, как мы скоро узнаем. Внезапно лицо туземца прояснилось. — Если ты не белый тигр, тогда пойдем со мной в Бонапарте. Там ты найдешь белых людей, хижину, мясо, тафию, рыбу… При слове «Бонапарте», которое он никак не ожидал услышать из уст индейца, Робен пожал плечами. Потом он вспомнил, что исправительная колония стала называться Сен-Лоран лишь несколько лет назад. Раньше этими землями лет тридцать владел старик индеец по прозвищу Бонапарте. Отсюда и название косы — Бонапарте, данное полоске земли вдоль Марони, где размещается «коммуна» Сен-Лоран. Краснокожий говорил скорее всего без задней мысли, однако приходится признать, что случайность определяет многие странные совпадения в нашей жизни. — Там видно будет, — неопределенно ответил Робен. Непреклонность индейца как-то сразу улетучилась. Он прислонил к плечу свой лук и протянул руку парижанину: — Атука — друг белого тигра. — Ты по-прежнему называешь меня так, ладно, будь по-твоему! Белый тигр — банаре (друг) Атуки. Я приглашаю тебя отведать черепахи вместе со мной. Индеец не заставил себя долго упрашивать. Он присел на корточки, руки и челюсти его заработали с такой быстротой — без оглядки на «друга»! — что очень скоро от черепахи остался только скелет, очищенный так хорошо, словно над ним потрудились муравьи-маниоки. Обед, приготовленный на костре, сильно пахнул дымом, но обжора поначалу этого не замечал и, только доев последний кусок, заявил вместо благодарности: — Твоя еда, банаре, воняет дымом. — Самое время это заметить… Но у меня есть еще две черепахи, давай испытаем вечером твои способности. — А!.. Банаре, у тебя еще две черепахи? — Ну да! — Хорошо! Заметив, что его новый друг напился воды из ручья и собирается прилечь, индеец наконец задал ему свой сокровенный вопрос, не скрывая простодушного вожделения: — А ты не дашь Атуке тафии? — У меня ее нет. — Нет?.. Я хочу посмотреть, что у тебя в ящике. Робен, невольно улыбаясь, позволил туземцу сделать это. Немного он там увидел: сорочку из грубого полотна, пустую бутылку из-под водки, которую дикарь обнюхал с жадностью макаки[58], маисовые початки, несколько листьев белой бумаги, маленький чехол с сухими тряпками — трут. Атука был весьма недоволен. Изнемогая от усталости, Робен чувствовал, что сон одолевает его. Краснокожий присел на корточки и затянул долгую монотонную песню. Он прославлял свои охотничьи подвиги… хвастал, что на возделанной им земле растут в изобилии ямс[59], бананы, просо, батат[60]… хижина у него самая большая… жена самая красивая… пирога самая быстрая… Он стреляет лучше всех. Никто не умеет так хорошо выслеживать маипури-тапира[61] и поражать его насмерть безошибочной стрелой… Никто не может соперничать с ним в беге, когда он преследует антилопу или толстого хомяка… Беглец забылся глубоким сном, и долго душа его блуждала в краю сновидений. Он видел, словно наяву, милых сердцу, покинутых близких, прожив несколько часов там, за океаном, в родном краю. Солнце завершило две трети своего дневного пути, когда Робен пробудился. Чувство реальности вернулось к нему и грубо вырвало из мира дорогих и счастливых видений. Тем не менее сон восстановил силы нашего героя. И потом — ведь он свободен! Парижанин не слышал монотонного гудения голосов, сопровождавшего всякое утро пробуждение каторжников… не слышал надоевшего грохота барабана, ругани и проклятий… Впервые лес показался ему прекрасным. Впервые он ощутил его неповторимое великолепие. Привольная растительность, прихотливая, неистово пышная сплеталась в многоярусный мир, простиралась всюду, сколько доставал взгляд, растворяясь вдали в голубеющих сумерках. Там и сям радужные столбы света прорывались сквозь зеленый свод, переливались множеством красок, как бы пройдя сквозь цветные стекла готических витражей[62]. Мачты деревьев-великанов, опутанные снастями лиан, были щедро украшены сияющими венчиками цветов; казалось, над каждым деревом взмахнула волшебной палочкой лесная фея. Нет, это не мачты, это колонны беспредельного храма с чудесными капителями[63] из орхидей. Радости изгнанников — увы! — недолговечны. Картины лесных красот, перед которыми даже самый равнодушный путешественник замер бы в восторге, скоро напомнили нашему беглецу, что он одинок и затерян в прекрасном, но полном опасностей, враждебном мире леса. …А индеец?.. Вспомнив о нем, Робен вскочил, огляделся, но никого не увидел. Он позвал — полное молчание. Атука исчез, унеся не только двух черепах — весь продовольственный запас Робена, но также и его башмаки и коробку-рюкзак со всем необходимым для разведения огня. У бургундца остался только тесак, на который он случайно прилег и который не удалось похитить вороватому туземцу. Поведение краснокожего предстало перед беглецом во всей своей первобытной простоте. Его стрела, угрожающий выход, его речи были рассчитаны лишь на то, чтобы получить от белого тафию. Атука нуждался в водке. Обманутый в своих надеждах, он, уже не ломаясь, принял скудное угощение каторжника. С паршивой овцы хоть шерсти клок… На даровое угощение можно провести еще один бездельный, ленивый день… А это наряду с пьянством — единственное «божество», объект неизменного поклонения индейца. Вещи Робена ему пришлись по вкусу, и он их присвоил, полагая, естественно, что доставившее удовольствие однажды приятно сохранить на будущее. Впрочем, лишая путешественника всех — весьма немногих — средств для продолжения пути, «бедный индеец» преследовал вполне определенную цель. Если бы у белого тигра нашлось несколько стаканов водки, дело кончилось бы точно так же. Краснокожий любит пить и бездельничать. Он не работает, не ловит рыбу и не охотится до тех пор, пока его не заставит голод. Он с удовольствием пожил бы несколько дней за счет своего банаре, а потом убежал бы, чтобы выдать его властям. И теперь — можно биться об заклад — он находился на пути к Сен-Лорану или, как он говорил, к Бонапарте. Ему было прекрасно известно, что администрация выплачивает вознаграждение любому, кто приведет или просто поможет поймать беглого каторжника. Эта премия — всего-то десять франков, — обеспечит ему десяток литров тафии, иначе говоря, десять дней сплошного пьянства. Все очень просто. Индеец раскупоривает бутылку и не переводя дыхания выхлестывает прямо из горлышка обжигающую жидкость. Минуту-другую он пошатывается, одурело пялится по сторонам, отыскивает подходящее местечко, растягивается там, как сытый боров, и храпит во всю мочь. Наутро он просыпается. Едва продрав глаза, все повторяет снова. И так продолжается — с незначительными изменениями — до полного исчерпания горячительного. Если рядом жена, дети, друзья, порядок остается тот же, разве что «кутеж» длится не так долго. Мужчины и женщины, взрослые и дети, даже самые маленькие, что едва научились ходить, — все охотно прикладываются к бутылке. За несколько минут они достигают крайней степени опьянения, разбредаются кто куда, шатаясь, падая, спотыкаясь, а потом валятся вперемежку друг на друга под развесистой листвой. Возможность получить желанный напиток руководила поведением Атуки: он рассчитывал вскоре вернуться к своему «банаре». Убедившись, и не без оснований, что ему самому не удастся доставить белого тигра в Сен-Лоран, он отправился за подмогой. Каторжник не сможет уйти далеко. Индеец, используя врожденное умение идти по следу, наверняка выведет к цели представителей власти. Его «друга» схватят, а он получит награду… Робен не сомневался в происходящем ни минуты. Ему необходимо как можно скорее бежать куда глаза глядят, бежать словно дикому зверю, увеличивать расстояние между собой и преследователями, идти, пока есть силы, идти до полного изнеможения. Вперед! Не заботясь больше о ногах, которые снова кровоточат от любого прикосновения колющих и режущих трав, он устремляется напрямик через лес, обходя большие группы деревьев, перепрыгивая через поваленные стволы, раздвигая завесы лиан, иногда пробираясь ползком среди бурелома. Вперед! И не обращать внимания на близость свирепых хищников, на ядовитых змей в густой траве, на тучи насекомых, укусы которых порой смертельны, на топкие, бездонные воронки заболоченных участков, которые подкарауливают его в саванне… Все это грозные опасности для беглеца, но еще опаснее для него люди из Бонапарте. Животные нападают не всегда, хищник не всегда безжалостен, потому что не всегда испытывает голод. И только человеческая ненависть постоянна. Вперед! И плевать на ядовитые испарения, которые поднимаются от болот, удачно прозванных «саваном для европейцев»! Надо идти, прокладывать курс, как говорят моряки. Охотники за людьми появятся здесь не позже завтрашнего дня. Француз двигался в полубредовом состоянии, но лихорадочное возбуждение придавало ему сил. Он несся, словно пришпоренный конь, смутно чувствуя и понимая, что рано или поздно свалится и уже больше, быть может, не встанет… Упала ночная мгла, взошла луна, заливая мягким светом лес, который тотчас наполнился разнообразными звуками. Робен, казалось, не слышал ничего. Он даже не заботился о том, чтобы расчищать дорогу, не замечал камней, не обращал внимания на шипы и колючки. Вся его жизнь сосредоточилась на одной-единственной задаче: двигаться вперед. Где он находился? В какую сторону направлялся? Он не имел о том ни малейшего представления. Он бежал. Это беспорядочное движение длилось всю ночь. Утреннее солнце уже рассеяло ночные тени, а изгнанник, обливаясь потом, не в силах отдышаться, с кровавой пеной на губах и глазами, готовыми выскочить из орбит, все еще продолжал безумный путь. Но даже его могучая натура в конце концов не выдержала. Ему почудилось, что на его злосчастную голову навалился весь огромный зеленый свод. Потеряв равновесие от неодолимого головокружения, Робен споткнулся, зашатался и тяжело рухнул на землю.__________
Надзиратель Бенуа мучился ужасно. Его бедро, распоротое когтями хищника, сильно распухло под повязкой и чехлом, наложенными рукою каторжника. Кровотечение остановилось, но без немедленной медицинской помощи раненый был обречен. Его терзала лихорадка, ужасная гвианская лихорадка, которая приобретает самые разные формы, вспыхивает даже от ничтожной причины и скоро приводит к трагическому концу. Укус ядовитого паука или фламандского муравья, несколько минут солнечного перегрева или, наоборот, слишком холодное купанье, длительная ходьба, нарушение режима, волдырь, вскочивший на ноге из-за тесной обуви, нарыв и еще Бог знает какие причины вполне достаточны для того, чтобы вызвать лихорадку. Голова раскалывается от боли. Суставы вначале очень болезненны, потом теряют подвижность. Начинается бред, переходящий в полное и тяжелое беспамятство, нередко приводящее к смерти. Бенуа все это хорошо знал, и его охватил страх. Затерянный в лесу, тяжело раненный, один-одинешенек, если не считать собаки, — было от чего потерять спокойствие человеку даже самой крутой закалки! От жажды у него пересохло в горле, и, хотя в нескольких шагах призывно журчал ручей, он не мог до него дотащиться. — Прощелыга!.. Слизняк! Мерзавец! Только подумать, что все это из-за него! — почем зря крыл он Робена. — И еще разыгрывает из себя важного господина… Он меня прощает! Сволочь! Ну, погоди… Попадешься ты мне, я тебе покажу прощение! Замолчи, Фаго! — крикнул он на собаку, храбро лаявшую на мертвого ягуара. — Боже, какая жажда! Пить!.. Воды! Пить!.. А эти трое скотов, которых я там оставил… Где они? Хоть бы хватило ума идти по моему следу… Гнев, как видно, придал надзирателю сил. Изнемогая от жажды, он, цепляясь руками за траву и за корни, опираясь на локти и здоровое колено, умудрился проползти несколько метров. — Наконец-то! — Бенуа с жадностью глотал воду. — Как это прекрасно — пить… Вроде заново родился… Может, я поправлюсь? Не хочу умирать! Мне надо выжить… Выжить и отплатить с лихвой. Еда у меня есть, слава Богу! И защищаться есть чем: моя сабля… Вот она, милая подруга инвалида! А где мой пистолет? Вот он. В порядке. Отлично! Жаль, что не могу развести огонь… Тысяча чертей! Боль такая, словно дюжина собак грызет мое бедро! Ладно, только бы в ране черви не завелись. Бенуа, мальчик мой, тебе предстоит тяжелая ночь! Дай Бог, чтобы эти дураки добрались до меня к утру… Стоп, а где же Фаго? Гнусное животное! Он меня бросил! Собаки неблагодарны, как люди!.. Солнце уже садится… Ночь будет хоть глаз выколи. Нет… луна. Как все нелепо… быть в таком положении одному… Если ночи тянутся бесконечно для того, кто медленно вершит свой путь, то как же тягостны они для тех, кто страдает и ждет! Представьте себе больного, чей взор прикован к циферблату часов в мучительной надежде ускорить движение стрелок. И это длится всю ночь. Он отсчитывает минуту за минутой, следит за вращением большой стрелки, тогда как маленькая, кажется, совсем застыла на месте, и он не в силах уловить даже малейшее ее перемещение. Перенесите эту пытку под развесистые тропические деревья, в тишину бездонного одиночества — и вы поймете страдания надзирателя. Луна прошла уже половину своего пути. Раненый лежал, не смыкая глаз. В глубокой тишине особенно оглушительным показался внезапный и резкий шум над головой, — рев, который почти невозможно описать, нечто похожее на паровозный гудок в момент, когда поезд на всей скорости входит в туннель, плюс к этому истошный визг дюжины свиней. Этот неимоверный концерт начинается одновременно на высоких и низких нотах, напоминая некий дуэт: звук перекатывается, меняется, усиливается, слабеет, наконец прекращается, а затем все повторяется сначала. — Дьявол!.. — пробормотал Бенуа в момент затишья. Эта сумасшедшая музыка его ничуть не удивила. — Только этого не хватало… Проклятые красные обезьяны! Каким ветром их сюда занесло? Охранник не ошибся. Стая обезьян-ревунов затеяла свой обычный предрассветный концерт на верхушке дерева, под которым он лежал. Бенуа видел при лунном свете, как обезьяны собрались в кружок вокруг вожака, который один испускал все эти дикие завывания, один исторгал из своей глотки высокие и низкие ноты одновременно, и пение его разносилось далеко по округе… Поорав в полное свое удовольствие, он делал паузу, и его слушатели, без сомнения очарованные, издавали в ответ хриплые крики радости. Несколько слов об этих странных четвероруких. Гвианская обезьяна-ревун (по-латыни stentor seniculus), называемая также красной обезьяной, а на местном наречии алуате, достигает метра сорока сантиметров от морды до кончика хвоста. У нее огненно-рыжая масть, а лапки и хвост черные с рыжеватым отливом. Изучение ее голосового аппарата позволяет понять удивительную способность издавать одновременно высокие и низкие звуки. Мне довелось препарировать старого самца, и я понял, что выдыхаемый воздух может проходить прямиком через горловую щель, образуя пронзительный, высокий звук. Так называемая иоидная кость (у человека — маленькая косточка в виде подковки, расположенная между основанием языка и гортанью) у обезьяны достаточно велика, примерно с яйцо индюшки, и образует полость, похожую на трубку орга́на[64]. Когда ревун поет, его глотка сильно раздувается. Воздух, проходя сквозь эту полость, многократно усиливает голос и производит низкий звук, вот почему красная обезьяна обретает не доступную другим живым существам способность петь дуэтом. Поет, как правило, вожак стаи, а не его скромные подданные. Если один из них, охваченный восторгом, попытается вплести в концерт свою ноту, ведущий солист немедленно вразумит выскочку и заставит его умолкнуть. Слушатели имеют право только восторгаться. Бенуа, отнюдь не восхищенный воплями четвероруких, лежал и злился. Ревуны не собирались покидать занятое место. Стая ликовала. Вскоре обезьяны принялись цепляться хвостами за ветки; они болтались вниз головами, словно диковинные люстры, и в этом положении продолжали издавать хрипло-гортанные одобрительные выкрики, в то время как вожак, теперь тоже висевший вниз головой, завывал с такой силой, что у прочих лесных обитателей едва не лопались барабанные перепонки. — Сейчас я вам заткну глотки! — не выдержал охранник и, взведя курок пистолета, выстрелил в обезьян. В мгновение ока стая улетучилась. Но едва лишь воцарилась тишина, как в отдалении раздался звук выстрела. Надежда вспыхнула в сердце раненого. — Меня ищут! Крепись, малыш! Он перезарядил оружие, перемежая стонами отборную ругань, а затем выстрелил в воздух. Послышался ответный выстрел, уже более близкий. — Ну, порядок! Через четверть часа мои бездельники подойдут. Еще немного, и я поднимусь на ноги. Берегись, Робен! Предвидение надзирателя вполне оправдалось. Его товарищи, обнаружив, хотя и с большим опозданием, что попались на удочку, погнавшись за чучелом, двинулись по следам Бенуа. Вояки вооружились факелами, изготовленными из каучукового дерева[65]. Во главе процессии громко лаял верный Фаго, который при виде хозяина принялся прыгать и радостно повизгивать. На скорую руку соорудили носилки и с большим трудом доставили домой раненого, который впал в горячечный бред. Не прошло и полутора суток, как в колонии появился индеец Атука. Он рассказывал каждому встречному и поперечному о том, как обнаружил «белого тигра», и предлагал — за надлежащее вознаграждение — провести вооруженных людей по его следам. Бенуа, конечно, прослышал об этом. Он пригласил индейца к своему ложу, пообещал ему все, чего тот хотел, выбрал для него двоих спутников и велел им выступить в путь немедленно, хорошенько вооружившись и запасшись продовольствием. Отдавая такой приказ без ведома главного начальника, старший надзиратель рассчитывал отличиться, возвратив беглеца, и тем самым отвести от себя бурю, которая должна была разразиться над его головой после выздоровления. Тюремщики, ведомые индейцем, для которого в лесу не было тайн, довольно скоро напали на след. Робен в своем отчаянном и запутанном движении оставлял немного видимых примет, но краснокожий держал след как хорошая ищейка, и узнавал по примятой траве, сорванному листу, потревоженной лиане, что «белый тигр» проходил здесь. Спустя четыре дня они обнаружили в кустах отпечаток, оставшийся вроде бы от падения чьего-то тела, а на белом камне неподалеку темнело кровавое пятно. Беглец, должно быть, здесь упал. Быть может, его настиг и растерзал какой-то хищник?.. Атука отрицательно покачал головой. Он бесшумно скрылся в кустах — ушел на разведку, отсутствовал примерно час и возвратился, прижимая палец к губам. — За мной! — прошептал он. Спутники молча последовали за ним. Не более чем в пятистах метрах они обнаружили поляну, в центре которой стояла хижина из листьев и ветвей давней постройки, но еще крепкая; над крышей подымалась тоненькая струйка дыма. — Там белый тигр, — радостно заявил индеец. — Молодец, калина, — похвалил один из спутников. — Бенуа теперь не пойдет под арест, а ты получишь награду. Сейчас мы схватим этого бродягу!ГЛАВА 3
Вампир. — Прокаженный из безымянной долины. — Рай бедняка. — Товарищ по несчастью. — Приступ злокачественной лихорадки. — Средства народной медицины. — Соревнование шпанской мухи и хинина. — Фламандские муравьи. — «Именем закона!..» — На что способен краснокожий ради бутылки тафии. — Змея ай-ай. — Телохранители прокаженного. — Нападающие отступают. — Опасная встреча лагерной охраны с тригоноцефалом. — Заклинатель змей. — Мытье без мыла.Изнемогая от усталости, не в силах перевести дыхание после бешеного бега, измученный жарой, Робен свалился как подкошенный. Он потерял сознание. Его тело скрылось в высокой траве. Смерть от истощения казалась неминуемой. Несчастный обречен был испустить последний вздох, даже не приходя в себя. Стало быть, он больше не в силах бороться за жизнь, и новое имя пополнит список жертв каторги, новый скелет забелеет на мрачном тропическом погосте?.. Плотный и упругий растительный ковер смягчил удар при падении, и тело, похожее на труп, долгие часы оставалось распростертым на мягкой травяной подстилке. Ни один ягуар в поисках добычи не показался вблизи, не набежали и муравьи-маниоки. Это была счастливая случайность. Беглец медленно приходил в себя, он не в состоянии был бы определить, сколько времени пролежал здесь. Парижанин все еще находился во власти прострации[66], причины которой затруднился бы объяснить, хотя сознание к нему возвращалось. Невероятно, но он не ощущал никакой тяжести в голове, тиски, сжимавшие его череп, как будто внезапно ослабли, звона в ушах больше не было. Наш герой отлично слышал пронзительный свист пересмешника, глаза его воспринимали свет, пульс бился равномерно, легкое дыхание полнило грудь. Лихорадка как будто отступила. Но слабость была такая, что Робен не мог приподняться. Тело словно налилось свинцом. Еще ему чудилось, что по лицу и шее течет тепловатая жидкость, у нее какой-то душный, особый запах… Он посмотрел на рубашку и обнаружил на ней большое ярко-красное пятно. — Да я просто в луже крови… Где я? Что произошло? Каторжник ощупал себя со всех сторон, потом ему удалось подняться на колени. — Нет, я не ранен… но эта кровь… О господи! До чего же я ослабел! Бургундец находился в довольно широкой долине, окаймленной невысокими лесистыми холмами, между ними протекал неглубокий ручей с прозрачной свежей водой. Такие ручьи и бухточки в изобилии встречаются в Гвиане, они служат единственным вознаграждением природы за те адские муки, что претерпевают здесь люди. Робен с трудом дотащился до воды, напился, сбросил свои лохмотья и вошел в протоку. Он старательно смыл с лица и груди кровяные сгустки и, завершив омовение, уже выходил из ручья, как то же самое ощущение теплой текущей жидкости вновь обеспокоило его. Он тронул рукой лоб, глянул — ладонь была испачкана кровью. Ощупывание лба и висков ничего не дало: никакой раны на коже не оказалось. Откуда же кровь? — Бог мой, здесь приходится изобретать то, что людям дала цивилизация. У негра или индейца через пять минут было бы зеркало. Возьмем с них пример. Несмотря на возрастающую слабость, парижанин отыскал несколько крупных зеленовато-бурых листьев водяной лилии. Срезать один из них, погрузить горизонтально в воду и удерживать в нескольких сантиметрах от поверхности было несложно. Его лицо, отраженное как бы в стекле с подкладкой из оловянного листа, предстало перед ним с такой отчетливой яркостью, как будто он гляделся в самое лучшее зеркало. — Так вот оно что, — сказал каторжник, после внимательного осмотра, обнаружив маленький шрам над левой бровью у самого виска, — меня укусил вампир[67]! И, вспомнив свою встречу с индейцем, свое отчаянное бегство, лихорадочный бред и наконец обморок, воскликнул: — Какая странная у меня судьба! То меня преследуют дикие звери, то гонятся по пятам охотники за людьми, а теперь выходит, что ненасытное обжорство мерзкого животного спасло мне жизнь! Робен не ошибся. Он бы погиб, если бы не вампир, который сделал ему сильнейшее кровопускание. Летучие мыши-вампиры питаются исключительно кровью млекопитающих. Они кусают только сонных животных, при случае не пропускают и человека, жадность их не знает границ. Эта летучая тварь снабжена хоботком, или, точнее сказать, ее рот переходит в маленькую трубочку-присоску, снабженную крохотными сосочками. Вампир приближается к жертве, мягкими взмахами больших перепончатых крыльев вызывая ощущение приятной свежести и тем самым усиливая сонное состояние. Затем отвратительный рот медленно приникает к избранному месту, а крылья продолжают трепетать. Пробуравливание кожи животного или человека проходит постепенно и безболезненно. Мышь понемногу высасывает кровь, наполняясь словно живая медицинская банка. Насытившись, она снимается с места, оставляя открытую рану. Если бы этим все и ограничивалось, беда была бы невелика. Двести или двести пятьдесят граммов крови, потребляемые крылатым вурдалаком во время «трапезы», не причинят особого ущерба «объекту», хотя это и вызывает некоторую слабость. Но после кровопускания почти никогда не наступает пробуждение, кровь льется всю ночь, а это уже ощутимый вред для здоровья. Человек теряет силы и рискует самой жизнью, если особый укрепляющий режим не восстановит потерю в кратчайший срок. Немало путешественников, захваченных врасплох в своих постелях, не принявших мер предосторожности и не прикрывших ноги, шею или голову, просыпается в теплой кровавой ванне! И сколько уже заплатило жизнью, а в лучшем случае тяжелой болезнью, за свою небрежность! В лесной чаще мало кто располагает средствами, необходимыми для восстановления ослабленного организма. Люди становятся легко уязвимы для тропических заболеваний, сопротивляться которым можно лишь в хорошем физическом состоянии. Но воистину нет худа без добра. Наш герой убедился в этом. Обильное кровопускание в данном случае спасло ему жизнь. Робен медленно натянул на себя одежду. Преодолевая слабость, он с превеликим трудом вырезал палку, чтобы опираться при ходьбе. Плевать! Его железная воля вернется к нему не сегодня, так завтра. Он должен идти. Итак, снова вперед! Истинное упорство в конце концов бывает вознаграждено. — Что это?!. — воскликнул парижанин через несколько минут. — Неужели я брежу?.. Да нет… Немыслимо… Как! Банановое дерево!.. И эта поляна… просека… Растения с треугольными листьями… Да ведь это батат! А вон кокосовая пальма… ананасы… маниока… Как хочется есть! Умираю от голода! Быть может, я попал в индейскую деревню? Повинуясь неудержимому порыву, не размышляя больше ни о чем, француз срезал ананас. Он разрывал чешуйчатую мякоть, вбирал ее полным ртом, обливаясь душистым соком. Съев ароматный плод, Робен почувствовал себя бодрее. Стебель ананаса он снова воткнул в землю, выкопав для этого лунку[68]. Притоптал землю вокруг отростка и направился к хижине, которую только теперь заприметил совсем неподалеку. Это уединенное обиталище показалось ему довольно удобным. Покрытая исключительно прочными листьями пальмы ваи, крыша могла спокойно служить лет пятнадцать. Стены из перекрещенных жердей непроницаемы для дождя. Дверь была плотно закрыта. — Это негритянская хижина, — размышлял наш инженер, оценивая форму постройки, свойственную поселениям негров. — Хозяин где-нибудь недалеко… Кто знает, быть может, это такой же изгнанник, как и я… Участок у него превосходный. Робен постучал в дверь. Ответа не последовало. Пришлось стукнуть кулаком сильнее. — Что вам угодно? — откликнулся на местном наречии надтреснутый голос. — Я ранен и хочу есть. — Бедняга! Вам нельзя войти в мой дом. — Умоляю вас! Откройте!.. Мне худо… — с трудом выговорил каторжник, охваченный новым приступом слабости. — Я не мо-гу, — отвечал тот же голос, в котором на этот раз звучали слезы. — Берите все, что хотите… Только к дому не прикасайтесь… Вы можете заболеть и умереть. — Ко мне!.. Помогите! — прохрипел бургундец, оседая на землю. Дребезжащий и хриплый голос — наверняка он принадлежал старику — попросту рыдал. — О, месье, мой несчастный белый друг! Что мне делать, ну что же делать? Я не могу допустить, чтобы он умер… Нет, нет… Дверь наконец отворилась, и Робен, не способный пошевелиться, с ужасом увидел такое страшилище, какое не примерещится человеку и в самом жарком горячечном бреду. Бугристый лоб усеян гноящимися нарывами, редкие белые волосы лишь кое-где торчат вокруг покрытой пятнами плеши. Отвратительные бородавки громоздятся одна на другую, глубокие синеватые морщины избороздили воспаленное обезображенное лицо. Блекло-голубой глаз, безжизненный и полуразложившийся, выступал из орбиты, как яйцо из скорлупы. Левая щека — сплошная рана, а уши… белые хрящи видны из-под лоскутьев черной кожи. Провалившийся рот без зубов, руки без ногтей с бугорчатыми пальцами, скрюченными и окостенелыми. Одна нога намного толще другой, раздутая, бесформенная, кожа на ней натянута, лоснится и, кажется, вот-вот лопнет под давлением распирающего ее отека. Старый негр, несмотря на изглодавшую его проказу[69], на слоновую болезнь[70], которая не позволяла ему согнуть ногу в колене, короче говоря, несмотря на все свое уродство, не утратил выражения доброты и той удрученности, какая отличает людей обездоленных. Он то ходил взад и вперед, то крутился на месте, похлопывая себя по изувеченной ноге,воздымал уродливые пальцы и, не смея прикоснуться к упавшему Робену, причитал: — Боже, как быть? Боже, что делать? Мне нельзя к нему прикасаться, и вам, месье, нельзя прикасаться к несчастному прокаженному… Попробуйте подняться сами. Поднимитесь и перейдите в тень под дерево! Там вам будет лучше. Первое впечатление улеглось, парижанин взял себя в руки. Прокаженный вызывал у него сострадание, к которому примешивалось отвращение. — Спасибо, добрый человек, — проговорил он не слишком уверенно, — спасибо за вашу заботливость. Но я чувствую себя лучше и должен идти дальше. — Прошу вас, месье, не спешите… Я дам вам попить, дам фруктов, рыбы… У старого Казимира все это есть там, в хижине! — Хорошо, приятель, хорошо… Я согласен, — бормотал растроганный Робен. В груди у обездоленного существа билось поистине участливое сердце… Старый негр земли под собой не чуял от радости, стараясь изо всех сил услужить незнакомцу, но принимая при этом меры предосторожности, дабы избежать прикосновения, которое, как он полагал, опасно для гостя. Радушный хозяин ушел в свою халупу и вскоре вынес тыквенную бутылку на конце длинной палки. Предварительно он подержал ее над огнем очага, чтобы уничтожить заразу, потом засеменил с бутылкой к ручью, наполнил ее свежей водой и протянул больному, который с жадностью напился. Вскоре до Робена донесся запах пекущейся рыбы, — Казимир бросил на раскаленные уголья кусок копченой кумару. Вкусная рыба быстро обжаривалась, потрескивая и дразня аппетит. Бургундец считал, что огонь очищает все, и насыщался без опасений заразиться проказой. Негр испытывал неподдельный восторг от того, с каким упоением Робен воздавал должное его гостеприимству и кулинарному искусству. Казимир, говорливый, как многие представители его расы, словоохотливый, как все привыкшие к одиночеству люди, облегчал душу после долгих лет молчания. Очень скоро он угадал, кто перед ним. Впрочем, для чернокожего отшельника это не имело значения. Добрый человек видел перед собой страждущего, этого было достаточно. Несчастный постучался к нему в дверь, он гость, стало быть, дорог вдвойне. Негр любил белых всем сердцем. Они были добры к нему! Он стар… правда, он не знает, сколько ему лет. Родился рабом в селении Габриэль, принадлежавшем некогда месье Фавару и расположенном на реке Рура. — Я негр из поселка, месье, — сообщал он не без гордости. — Я умею готовить, управляться с лошадьми, ухаживать за плантациями гвоздики… Месье Фавар был добрым господином. В Габриэле не знали, что такое кнут. Черные дети вырастали в доме. С ними хорошо обращались. Казимир прожил долгую жизнь. Он и состарился в поселке. Незадолго до 1840 года у него появились первые признаки проказы, страшной болезни, которая свирепствовала в Европе в средние века и до сих пор нередко встречается в Гвиане, так что местные власти вынуждены были основать лепрозорий[71] в Акаруани. Больного изолировали. Для него построили хижину неподалеку от поселка, снабдили всем необходимым на первый случай. Затем пробил памятный и волнующий час, когда свершился великий акт справедливости: отмена рабства[72]! Все негры стали свободными. Все люди получили равные права. Не было между ними больше различий, кроме различий ума и способностей, не было иного превосходства, кроме превосходства опыта и личных заслуг. Колониальная промышленность получила тяжелый удар. Ее процветание, основанное на несправедливой оплате труда, на эксплуатации дармовой рабочей силы, было подрублено под корень. Плантаторы, привыкшие сорить деньгами, в большинстве случаев оказались без средств, жили одним днем. Очень многие не сумели приспособиться к требованиям оплачивать труд. А за тяжкую работу на плантации платить надо немало! Однако негры многого не требовали, — лишь бы им предоставляли рабочие места. Волшебное слово «свобода» удваивало их силы. Как бы там ни было, но колонисты, не умея организовать совместный труд, забросили свои поселения. Негры разбрелись, получили участки, занялись корчеванием, разведением плантаций, работали каждый на себя и жили свободно. Теперь все они — равноправные граждане! Но и после отмены рабства многие оставались у бывших хозяев, трудились с охотой и бесплатно проливали свой пот. Так поступили и жители Габриэля. Но в один прекрасный день хозяин покинул поселок. Рухнули взаимоотношения личной привязанности и общих нужд. Негры мало-помалу перебрались в другие места. Казимир остался в одиночестве. В довершение несчастья его лачугу снесло наводнением. Лишенный средств к существованию, без права жить среди людей, всеобщее пугало из-за своей страшной болезни, он ушел куда глаза глядят, долго брел, очень долго, и наконец обосновался здесь. Местность оказалась необычайно плодородной. Казимир обустроился, работал за четверых, смиренно ожидая часа, когда душа его расстанется со своей жалкой оболочкой. Он стал прокаженным из безымянной долины. Работа делала его жизнь осмысленной. Робен молча слушал рассказ доброю человека. Впервые после отъезда из Франции он почувствовал себя почти счастливым. Природа щедро наделила красотой и плодородием эту долину — подлинный рай для обездоленного судьбой негра. В хриплом голосе старика звучали тепло и душевное расположение. Нет больше каторги, нет застенка, нет площадной брани… Если бы беглец мог обнять человеческое существо, пораженное несчастьем куда большим, чем его собственное! Страдания породнили его с Казимиром. «Как хорошо было бы здесь поселиться… — думал Робен. — Но достаточно ли далеко я забрался?.. Да черт с ним, останусь… Буду жить возле этого старика, помогать ему в хозяйстве… Он тоже нуждается в заботе…» — Дружище, — сказал парижанин прокаженному, — болезнь тебя терзает, ты плохо себя чувствуешь, ты одинок. Быть может, скоро у тебя не хватит сил работать мотыгой[73]… Начнешь голодать. Когда придет смерть, некому будет закрыть тебе глаза. Я тоже несчастен. У меня больше нет родины, и я не знаю, есть ли еще семья… Ты хочешь, чтобы я остался здесь вместе с тобой? Желаешь ли ты, чтобы я делил все твои труды и заботы? Я говорю от чистого сердца. Отвечай же! Старый негр, казалось, потерял дар речи. Он не смел поверить услышанному, он плакал и смеялся одновременно. — Ах, месье… Ах, месье… Мой дорогой белый сын! Но тут отшельник подумал о проклятии своей болезни, с новой силой осознал его… закрыл лицо изуродованными пальцами и упал на колени.
__________
Робен спал под банановым деревом. Во сне его преследовали кошмары. Наутро приступ лихорадки возобновился и скоро перешел в горячечный бред. Казимир не растерялся. Прежде всего нужно было соорудить убежище для нового друга, по возможности обеззаразить хижину. Он схватил мотыгу, перекопал земляной пол, снял верхний слой и перенес землю в дальний конец плантации. Затем рассыпал по полу горящие уголья, «прокалил» всю поверхность, после чего, ловко орудуя тесаком, покрыл ее свежими пальмовыми листьями, которые он рубил и выкладывал по полу, не прикасаясь к ним руками. Подготовив таким образом ложе для больного, чернокожий заставил его подняться, приговаривая: — Ну, дружище, ну, поднимайся… Я помогу тебе перейти на постель… Бургундец, послушный, как ребенок, вступил в хижину, вытянулся на зеленой постели и погрузился в тяжелый сон. — Ах, бедный господин!.. — восклицал время от времени негр. — Такой больной! Он бы погиб, если бы не пришел ко мне… Нет, нет. Казимир не даст ему умереть… Приступы лихорадки были частыми. Вскоре уже раненый снова бредил. Затылок разламывался от боли, бредовые видения проносились перед глазами, как бы затянутыми кровавой пеленой, на которой корчились и извивались омерзительные чудовища. К счастью, негр издавна был знаком с народными лечебными средствами, к которым прибегали местные старухи. На своем любовно возделанном участке Казимир выращивал не только фрукты и овощи, но и растения, которыми пользуется креольская медицина[74] для лечения больных. Там рос «калалу», мелко нарезанные плоды этого растения входят в состав освежающего напитка, а из отвара мякоти готовят отличные смягчительные припарки. Далее «япана», или гвианский чай, возбуждающее и потогонное средство; «батото» — кустарник с необычайно горькими листьями, обладающими жаропонижающими и обеззараживающими свойствами, подобно хинину[75] или салициловой кислоте[76]; «тамарин» — слабительное; «адский калалу», настой из семян которого на водке используется против змеиных укусов, и так далее. Состояние Робена требовало немедленного и самого энергичного лечения. Казимир это хорошо понимал. Несмотря на кровопускание, так своевременно выполненное вампиром, француз все же страдал от опасного прилива крови. Срочно требовался нарывной пластырь. Нарывной пластырь! В тропиках, на пятом градусе северной широты! У негра не было ни шпанских мушек[77], ни нашатырного спирта, способных произвести нарывное действие. Но старый доктор «без диплома» не растерялся. — Одну минуточку, месье… Одну минуточку… Я скоро вернусь… Он вооружился длинным ножом, побрел, прихрамывая, к воде и внимательно обследовал берег ручья. — Ага! Нашел… Отлично… — бормотал он, время от времени наклоняясь и что-то подбирая. — Так, так, это именно то, что надо… Свои находки он бросал в плетеную чашку. Затем вернулся в хижину. Казимир отсутствовал не более десяти минут. С серьезным и сосредоточенным видом стоя возле больного, он с большой осторожностью вынул из чашки длинненькое насекомое, сантиметров полутора, блестящее, словно из лакированного черного дерева, с тонким щитком и округлым, подвижным брюшком. Придерживая насекомое за голову, приставил его другой оконечностью к коже за ухом больного. Появилось короткое и острое жало, быстро «пробурившее» кожный покров. — Ну-ка, ну-ка! — гнусаво приговаривал лекарь-самоучка. — Вот так хорошо… Хорошо… Отбросив насекомое, старик взял другое, заставил его проделать ту же операцию за вторым ухом. Потом приложил к коже еще одно, чуть пониже… Затем четвертое, пятое, шестое… Больной стонал, — очевидно, эти короткие «пункции»[78] причиняли ему боль. — Ну, ну… — повторял наш эскулап, — не бойтесь! Маленькое кусачее животное очень полезно для месье! Операция и в самом деле принесла пользу. Не прошло и четверти часа, как два большущих волдыря, заполненных желтоватой жидкостью, вздулись у Робена за ушами. Действие оказалось такое же, как после двенадцати часов применения наилучших нарывных пластырей. Больной как будто ожил; хриплое прерывистое дыхание с каждой минутой становилось тише, ровнее. Горевшие нездоровым румянцем щеки побледнели. Научная медицина была непричастна к этому чуду, которое вершилось на глазах. — Это фламандский муравей, хороший, хороший, он сделал то, что нужно, — пробубнил довольный Казимир и, не мешкая, проколол оба пузыря длинной колючкой. Из отверстий в коже брызнули струйки бледно-желтой жидкости. Негр хотел было приложить к ранкам вату, пропитанную растительным маслом, но побоялся прикоснуться к больному и заразить его проказой. Главное сделано… К каторжнику вернулось сознание, или, вернее, мягкая сонливость пришла на смену болезненному обмороку. Чуть слышным голосом он пробормотал слова благодарности и погрузился в дрему. Добрый негр добился воистину чудесного успеха, применив самое простое народное средство. Укусы фламандских муравьев чрезвычайно болезненны, а яд почти мгновенно вызывает нарывы. Между прочим, сходным действием обладают укусы «кипящих» муравьев в Экваториальной Африке. Наружный кожный покров набухает, как от ожога кипятком, результаты укусов такие же, какие дает применение шпанских мушек. Когда больной приходит в сознание, крепкая настойка из листьев «батото» дополняет лечение; на парижанина все это подействовало так сильно, что через сутки он, хоть и очень слабый, уже находился вне опасности. Кто же обучил старого негра медицине, которая столь удивительно сходна с приемами наших врачей?.. Ведь близость между действиями дикарей, изучавших книгу природы, и ученых мужей, поседевших над трудами о болезнях, и в самом деле поразительна. Беглец, вырванный из лап тропической лихорадки, был спасен. Теперь ему по-прежнему угрожала лишь человеческая ненависть. Минуло четыре спокойных дня, Робен понемногу набирал силы, как вдруг Казимир, бывший в отлучке несколько часов, просунулся в хижину в полной растерянности. — Дорогой друг! К нам идут какие-то злые белые… — А!.. — воскликнул гость. — Белые… Враги… А нет ли с ними индейца? — Да! С ними калина… — Вот как! Ладно же! Я все еще слаб, но буду защищаться! Живым не сдамся, слышишь? — Слышу… Но я не позволю им тебя убить! Оставайся тут… Спрячься… Старый Казимир хорошо их проучит… Робен схватил было свой тесак, но, увы, он оказался слишком тяжел для его ослабевшей руки. Парижанин понял замысел своего спасителя, укрылся под зелеными листьями и затаился. Чьи-то поспешные шаги не заставили себя долго ждать. Послышался громкий и грубый голос, затем — клацанье ружейного затвора… Пришельцы воспользовались словами, которые в цивилизованной стране звучат зловеще, а здесь, возле убогого шалаша, к их мрачному смыслу примешивался известный комизм: — Именем закона! Откройте дверь! Негр медленно отворил дверь и выставил наружу изъеденное проказой лицо. Это зрелище поразило белых, а индеец просто остолбенел. Несколько секунд все молчали. — Входите, прошу вас! — Казимир попытался придать своим чертам выражение самого сердечного гостеприимства, но от этого его физиономия сделалась еще безобразнее. — Это прокаженный, — сказал один из пришельцев, одетый в форму военного надзирателя. — Так я и полез в эту хибару! Недоставало только подцепить проказу! — Так вы не войдете ко мне?.. — Ни за что на свете! У тебя там все насквозь пропитано проказой! «Фаго» здесь не станет прятаться. — Кто его знает, — возразил второй надзиратель. — Мы сюда тащились не для того, чтобы возвращаться с пустыми руками. Если принять меры предосторожности… В конце концов, мы же не дети. — Ну, делай как знаешь… А мне дай Бог унести отсюда ноги. От одного вида этого курятника можно схватить болезнь. — А я войду, — сказал индеец, помышляя лишь о награде и о множестве стаканов тафии, которые он купит, получив деньги. — Да и я тоже, черт возьми, — подхватил более решительный надзиратель. — Не умру же я от этого, пропади оно пропадом! — Входите, прошу вас! — Чернокожий хозяин просто таял от удовольствия. Надзиратель с саблей в руке осторожно вошел в хижину, едва освещенную тонкими лучами, пробивавшимися сквозь плетеные стены. Индеец последовал за ним на цыпочках. Подвесная койка была единственной «мебелью» в лачуге. На полу несколько самых простых предметов домашнего обихода — ножи, глиняные горшки для воды, ящик с маниокой, миски, ступка, длинный обрубок черного дерева и круглая пластина листового железа. В углу — постель из кое-как набросанных пальмовых листьев, несколько связок маиса, сухие лепешки. И это все. — А там под этим, — рявкнул надсмотрщик, концом сабли указывая на постель из листьев, — там что-нибудь есть?.. — Я не знаю, — ответствовал негр с выражением полной тупости на безобразном лице. — Не знаешь? Ну, я сейчас сам узнаю! И надзиратель поднял саблю, собираясь проткнуть груду листьев. Пронзительный, хоть и негромкий свист внезапно раздался в наступившей тишине, и охранник замер с поднятой рукой и с выставленной вперед правой ногой, ни дать ни взять учитель фехтования. Страх приковал его к месту. Испуганный индеец выскочил наружу. Достойный краснокожий, казалось, совершенно забыл о радостях предстоящей пьянки. — Ай-ай!.. — в ужасе вопил он. — Ай-ай! С полминуты надзиратель не мог опомниться. Прокаженный, не двигаясь с места, смотрел на него с безыскусной простотой во взгляде. — Почему же вы не ищете? Человеческий голос привел служителя закона в чувство. — Ай-ай!.. — пробормотал он. — Это ай-ай! И он завороженно уставился на две светящиеся точки, которые покачивались из стороны в сторону как бы на конце гибкого троса, спиралью поднявшегося из маленькой черной коробки. «Малейшее движение, и я покойник! Скорее прочь!» Очень, очень медленно, с большой осторожностью охранник подтянул к себе правую ногу, затем отступил левой, попятился еще и наконец достиг двери. И тут новое шипение раздалось над самой его головой в тот момент, когда вояка уже с облегчением перевел дух. Волосы у него встали дыбом от страха, кожа под ними, кажется, зашевелилась. Нечто длинное и тонкое с противным сухим шуршанием соскользнуло с толстой жерди, которая поддерживала крышу хижины. Надзиратель поднял голову и чуть не упал — в нескольких дюймах от его лица повисла змея с раскрытой пастью и направленными вперед ядовитыми зубами. Человек в ужасе отпрянул и взмахнул саблей. К счастью для него, удар пришелся точно и снес змее голову. — Здесь змеиное гнездо! — выкрикнул надзиратель. Дверь за спиной надсмотрщика оставалась широко раскрытой. Он проскочил ее со скоростью циркового акробата, прыгающего сквозь горящий обруч, и успел увернуться от третьей змеи, которая, извиваясь, ползла по земле. Вся сцена длилась не более минуты. Второй надзиратель, встревоженный криками индейца, был озадачен видом своего товарища, побледневшего, покрытого потом, с искаженным от страха лицом. — Что там такое? Да говори же! — Полно змей… там… внутри… — с трудом выговорил первый. Негр вышел из хижины со всей поспешностью, какую позволяла ему больная нога. Вид у него был перепуганный. — Ах! Месье… Змеи… Их так много… Полон дом… — Значит, ты не живешь в этой хижине? — Живу, месье, но не всегда… — Как же она превратилась в змеиное логово? Змеи поселяются только в заброшенных домах… — Я не знаю. — Ах, ты не знаешь! По-моему, ты много чего знаешь, да прикидываешься дурачком. — Я там не заводил змей, нет! — Хотел бы тебе верить! Ну так вот, чтобы не случилось с тобой ночью несчастья, я пущу огонька в твое жилье! Старого негра бросило в дрожь. Если его хижина загорится, новый друг погибнет… В его голосе звучало неподдельное чувство, когда он принялся умолять тюремщиков о пощаде. Он всего лишь бедный человек, очень старый и очень больной. Он никому не причинял зла, ни единой душе, эта лачуга для него — вся его жизнь, все, что он имеет. Если ее сожгут, где ему искать кров? С изувеченными руками он не сможет построить другую хижину… — В конце концов, он правду говорит… — заметил тот, кто побывал в хижине. Радуясь избавлению от смертельной опасности, бедняга хотел лишь одного: поскорее убраться отсюда. — Держу пари, что наш беглый прохвост не спит в одной постели с такими товарищами. Индеец надул нас. Одно из двух: либо Робен уже очень далеко, либо он мертв. — Ей-богу, ты прав! Мы сделали все, что могли. — Если ты согласен, не будем задерживаться. — Конечно, согласен. Пускай черномазый сам разбирается со своими постояльцами, а мы уходим. — Погоди, а где же индеец?.. — Индеец обвел нас вокруг пальца и смылся. Ищи ветра в поле! — Ну, если он попадется мне в руки, я ему дам хорошую взбучку! Вполне философски отнесясь к своей неудаче, тюремщики отправились восвояси. Глядя, как они удаляются, Казимир смеялся. — Ха-ха-ха!.. Змея «ай-ай»… Гнездо змей… Ха-ха-ха!.. Эти змеи — мои маленькие добрые друзья! Он возвратился в хижину и тихо посвистел. Едва различимая дрожь передалась на какое-то время койке, потом все стихло. И не осталось больше никаких признаков присутствия пресмыкающихся, кроме сильного запаха мускуса[79]. — Друг мой! — окликнул старик. — Как ты там себя чувствуешь? Бледный, как мел, Робен постепенно высвободился из укрытия, в котором провел четверть часа в отчаянном напряжении. — Они ушли?.. — Да, мой друг, они ушли… С пустыми руками. Они испугались… О, как они испугались! — Как тебе удалось обратить их в бегство?.. Я слышал, как они просто выли от страха… И потом этот запах… Прокаженный поведал своему гостю, что он, Казимир, — заклинатель змей. Он умеет их вызывать, может не только безнаказанно брать их в руки, но даже не боится их укусов, для него они безвредны. Ему не страшны не только буасиненга, змея с гремучками, но и грозная граж, и ужасная ай-ай, названная так потому, что укушенный успевает перед смертью испустить одно лишь это восклицание. Невосприимчивость к змеиному яду Казимиру помог приобрести месье Олета, хорошо известный в Гвиане: с помощью своих снадобий и прививок он умел сделать безопасным укус любой из змей. — Я не боюсь укусов, потому что месье Олета «умыл» меня от змей, — говорил Казимир. — Когда пришли ваши белые враги, я позвал змей. Эти белые не «умыты», они испугались и убежали. — А если бы одна из них укусила меня?.. — О! Никакой опасности. Я положил возле вас траву. Змеи не любят эту траву, они туда не пойдут[80]. А теперь оставайтесь на месте. Индеец убежал в большой лес, он очень злой. Он не получит свои деньги, не купит тафии, и он будет за вами следить. Добряк не ошибся. Не прошло и шести часов после спектакля, разыгранного для непрошеных гостей, как бессовестный Атука объявился вновь. — Ты плохой человек, — сказал он. — Ты помешал поймать белого тигра! — Убирайся отсюда, скверный калина, — ответил негр. — Ничего ты здесь не найдешь! Уходи! А не то старый прокаженный накличет на тебя беду! При этих словах индеец, суеверный, как и все представители его племени, пустился наутек в страшном испуге.ГЛАВА 4
Проекты невероятные, но осуществимые. — Проказа не всегда заразна. — Сооружение лодки. — «Эсперанс». — Признательность отверженного. — Записная книжка каторжника. — Жемчужина в куче грязи. — Письмо из Франции. — Слишком поздно! — За работу! — Что произошло 1 января 185… года в мансарде на улице Сен-Жак. — Семья осужденного. — Дети, плачущие, как взрослые. — Великодушный замысел парижского рабочего. — Нищета и гордость. — Воспоминание об изгнании. — Пожелания на Новый год. — Беспокойство, тоска и тайна.В своем беспорядочном лесном «марафоне», со всеми его стычками и неожиданными происшествиями, Робен не слишком отклонился от первоначально намеченного маршрута. Он не хотел удаляться от Марони, разделяющей Голландскую и Французскую Гвианы, и ему, в общем, удалось придерживаться северо-восточного направления, в котором и пролегает русло реки от устья до пятого градуса северной широты. У парижанина не было никаких инструментов, при помощи которых он мог бы определить, где находится; беглец лишь приблизительно оценивал и пройденное расстояние, и свои координаты. Он очень стремился быть поближе к Марони, большой судоходной реке, так как это рано или поздно позволило бы установить связь с цивилизованными людьми. Новообретенный товарищ Робена был неспособен дать ему необходимые сведения. Бедному старому негру безразлично было его местонахождение, лишь бы удавалось поддерживать убогое существование. Он слышал, что река находится в трех или четырех днях пути к западу, вот и все. Он не знал даже названия речки, воды которой орошали долину. Бургундец предполагал, что речка эта — Спарвайн. Если догадка верна, то пребывание у прокаженного не обещает ему сколько-нибудь надежного убежища. Администрация колонии оборудовала близко к речному устью реки площадку для лесоразработок; рабочая команда заключенных находится там постоянно. Не исключено, что в один прекрасный день какой-нибудь из бывших сотоварищей Робена или даже надзиратель случайно забредет на поляну, где стоит хижина Казимира. Здоровье и силы вернулись к нашему герою, а вместе с ними — непреодолимая потребность любой ценой сохранить свободу, добытую в тяжких страданиях. Уже месяц пролетел с того дня, как его врагов обратил в паническое бегство боевой змеиный отряд под командой Казимира. Робен скоро привык к спокойной жизни, ее размеренный распорядок очищал его тело и душу от наследия каторги. Но его не покидала мысль о близких. Каждый день и каждый час полнились нежными и грустными воспоминаниями о них. Каждую ночь проходили перед ним во сне дорогие, щемящие душу видения. Как им сообщить, что час освобождения пробил? Как их увидеть? Или хотя бы подать им знак о том, что он жив, не подвергая себя при этом новой опасности? Самые фантастические проекты рисовались его воображению. Иногда ему хотелось перебраться на голландский берег, пересечь всю соседнюю колонию и достичь Демерары, столицы Британской Гвианы. Там он смог бы устроиться на работу и скопить денег на самые неотложные нужды, а потом наняться матросом на корабль, идущий в Европу. Однако доводы Казимира вдребезги разбивали неосуществимый план. Голландцы непременно арестовали бы беглого каторжника, но даже если бы ему чудом удалось избежать этого, у него не было ни малейшего шанса добраться до английской колонии, с которой Франция не заключала соглашения о выдаче преступников. — А если подняться вверх по течению Марони?.. — возникала новая идея. — По карте выходит, что главный приток Марони, Ауа, сообщается с бассейном Амазонки. Нельзя ли добраться до Бразилии по реке Ярри или по другому притоку?.. — Не надо рисковать, мой друг… Подождите немного… — Да, мой добрый Казимир, я подожду… Сколько смогу. Мы запасемся продовольствием, построим лодку, потом уедем вместе. — Прекрасно! Лишь после долгих уговоров и просьб Робен согласился на то, чтобы чернокожий принял участие в его опасном предприятии. И не потому, что он так уж боялся общения с прокаженным, вовсе нет! Но Казимир был очень стар. Имел ли Робен право воспользоваться привязанностью старика, которую тот испытывал к нему с первого дня, чтобы сорвать с места обездоленного прокаженного, заставить его покинуть райский уголок, возделанный искалеченными руками, расстаться с единственным своим утешением, с милыми привычками отшельника, которые он приобрел, живя свободной и привольной жизнью?.. Француз не был эгоистом. Он всей душой откликался на преданность старика и старался, как мог, улучшать и разнообразить его скудный быт. Но Казимир так горячо настаивал на своем отъезде, что в конце концов Робен сдался. Старик расплакался от радости и на коленях благодарил белого друга. Смущенный и тронутый, бургундец непроизвольно обнял старика за плечи и поднял его с земли. — Ах! — в отчаянии воскликнул негр. — Вы ко мне прикоснулись! Теперь вы заболеете проказой! — Нет, Казимир, не бойся. Я счастлив пожать руку славному человеку, который живет только для добрых дел! Поверь, мой друг, твоя болезнь не так заразна, как об этом думают. У себя на родине, во Франции, я долго учился. И скажу тебе, многие врачи, очень ученые люди, считают даже, что проказа вообще не передается. Некоторые из них жили и работали в странах, где свирепствует проказа, и они говорят, что болезнь можно остановить, если человек уедет из тех мест, где он заболел. Значит, тем более надо увезти тебя в новые края… Казимир понял одно: его белый друг не бросит старого негра. Мало того, он пожал Казимиру руку! За последние пятнадцать лет такого с ним не случалось ни разу. Больше они не колебались. Надо соорудить легкую лодку с малой осадкой, нагрузить ее припасами на дорогу — прежде всего мукой из маниоки (куак) и сушеной рыбой. Они поплывут по реке, но двигаться будут только по ночам. Днем пирогу придется прятать среди лиан и густых прибрежных зарослей, а самим отдыхать в тени под деревьями. Они поднимались бы вверх по течению Марони вплоть до ее слияния с большим притоком, отделяющим Голландскую Гвиану и связанным с бассейном крупной реки английской колонии Эссекибо. Там бы они были уже в безопасности, потому что Джорджтаун[81], или Демерара, расположен как раз в устье этого притока. Таков был в общих чертах великий проект, не учитывающий, однако, возможных изменений из-за непредвиденных обстоятельств. Что же касается неимоверной трудности плана, друзья отдавали себе в этом полный отчет, но старались отгонять тяжелые мысли. Необходимые припасы постепенно накапливались. Надо было лишь своевременно собирать щедрые земные плоды и заботиться об их сохранности. Главной проблемой оставалось средство передвижения. Лодка из коры не годилась для долгого и сложного пути. Она пропускает воду, и потому продукты, единственный источник существования, постоянно будут под угрозой. И потом, такая лодка недостаточно прочна, она плохо выдерживает удары и резкие толчки, а на гвианских реках и протоках множество порогов и перекатов. Решили выдолбить пирогу из цельного ствола, как у индейцев из племен бош и бони[82]. Для этой цели лучше всего подходило дерево, именуемое на местном наречии «бемба»: его древесина не гниет и не пропитывается водой. Лодка, заостренная и приподнятая с обоих концов, может плыть и вперед и назад, — и с того, и с другого конца оставляют в ней цельную древесину полуметровой толщины, так что удары о камни не страшны. Длина лодки пять метров, кроме двух пассажиров она способна поднять до пятисот килограммов груза. Но прежде всего требовалось отыскать соответствующее дерево, не слишком большое и не слишком маленькое, без единого дупла, а главное — поблизости от реки и от их участка. Не меньше двух дней ушло на блуждания среди гвианских деревьев-великанов, которые, как известно, не растут группами, а разбросаны на значительном расстоянии друг от друга. Подходящий ствол был наконец найден и заслужил одобрение Казимира, главного инженера плавучей конструкции. Сразу же принялись за работу. Однако продвигалась она крайне медленно. Топорик старого отшельника отскакивал от упругой, крепкой древесины, оставляя на ней лишь поверхностные зарубки. К счастью, негр до тонкостей знал все приемы лесных обитателей. Если железо оказалось бессильным, надо призвать на помощь огонь. Развели костер у самого основания дерева, и оно понемногу возгоралось, обугливалось, тлело от жара в течение сорока восьми часов и обрушилось среди ночи с ужасным шумом. Казимир мгновенно проснулся, сел на постели и радостно возвестил: — Друг мой, вы слышали?! Бу-ум!.. Оно упало… слышите, какой треск? Робен был обрадован не меньше старика и не смог больше уснуть в эту ночь. — Отлично, это начало нашего освобождения. Нам не хватает инструментов, чтобы выдолбить лодку, но… — О!.. — прервал его чернокожий. — У негров бош и у негров бони тоже нет инструментов. Они делают лодки при помощи огня… — Да, я знаю об этом… Они сначала выжигают свои пироги, а потом выстругивают тесаками или даже острыми камнями… Но я придумал кое-что получше! — Что придумал мой друг?.. — У тебя есть мотыга, притом мотыга хорошая… Я наточу ее как следует, приделаю рукоятку покрепче, и из нее получится прекрасное тесло[83]. Вот увидишь, с таким инструментом пирога выйдет красивая и блестящая, как лист барлуру, гладкая и снаружи и внутри. — Так точно, мой друг, так точно! — весело согласился негр. Сказано — сделано, и двое мужчин, приспособив мотыгу к ее новой роли, отправились на свою строительную площадку. Они взяли с собой дневной запас провизии и шли, оживленно болтая. — Вот увидишь, Казимир, — говорил Робен, который сделался гораздо общительнее с тех пор, как его жизнь обрела цель, и эта цель стала приближаться, — вот увидишь, через какой-нибудь месяц мы двинемся в путь… И очень скоро окажемся далеко отсюда. В свободной стране. Там я уже не буду диким зверем, на которого устраивают охоту, каторжником, которого загоняют в западню… не буду дичью для индейцев и для тюремщиков… Белый тигр исчезнет! — Правду говорит мой друг, чистую правду, — вторил парижанину старый негр, счастливый его радостью. — А потом, подумай только… Я увижу мою жену, моих дорогих малышей. Забыть хоть на миг о прошлых мучениях… Стереть поцелуем каторжную печать… Сжать их в объятиях… услышать их голоса! Надежда на это придает мне силы. Кажется, я весь этот лес могу изрубить в щепки! Вот увидишь, какую я выдолблю лодку… нашу маленькую замечательную лодку, мою единственную надежду! Послушай, давай придумаем для нее имя. Пусть называется «Эсперанс» — «Надежда»… Они подошли к прогалине, образовавшейся на месте падения бембы, которая повалила немало соседних деревьев. Солнечный свет свободно лился сквозь возникшую в зеленом куполе брешь. — Итак, за работу! Мой… Бургундец не окончил фразу. Он словно окаменел при виде вооруженного короткой саблей мужчины, одетого в рубище каторжника. Тот как из-под земли вырос… Голос его прозвучал вполне обыденно: — Гляди-ка! Да это Робен… Вот уж не ожидал встретить вас здесь! Робен безмолвствовал, потрясенный. Встреча пробудила в душе весь пережитый кошмар каторги… Тюрьма вновь предстала перед ним во всей ее гнусности. Военный трибунал, двойные кандалы. Водворение в казарму. Парижанину даже в голову не пришло, что этот арестант мог тоже находиться в бегах, как и он сам. Каторжник здесь наверняка не один. Где-то поблизости находится вся шайка отверженных в сопровождении надзирателей. Да что же это, в самом деле! Столько мучений — и напрасно? Значит, прощай свобода, которую только-только успел вкусить? Жаркая волна залила тело и мозг инженера. Горячечная, мгновенная мысль — убить! Кому он нужен, этот бандит, появление которого сулило грозную опасность… Однако беглец тотчас устыдился своего бессознательного порыва и овладел собой. Пришелец, кажется, и не заметил смятения Робена, и не удивился его молчанию. Он продолжал: — А, понимаю… вы не расположены к беседе… Не важно, я все равно рад встрече… — Так это вы… — с трудом выдавил из себя наш герой. — Гонде, если я не ошибаюсь. — Так точно, Гонде… Он самый, во плоти, от которой, по правде говоря, остались только кожа да кости. Тюремное меню не улучшилось после вашего отбытия и, клянусь Богом, адская жара и работа, которой нас заставляют заниматься, не позволяют шибко растолстеть… — Но что вы здесь делаете? — Кому-нибудь другому на вашем месте я посоветовал бы не совать нос в чужие дела… Но вы имеете право знать. Я всего-навсего лесной старатель. Ищу деревья. — Ищете деревья? — Вот именно. Да вы и сами знаете, что на лесоразработках администрация старается выбрать человека, который в лесу как дома и хорошо разбирается в породах деревьев. Такой человек бродит по лесу, отыскивая самые ценные объекты, метит их, а государственные «пансионеры» потом их обрабатывают для начальства. — Да, я об этом слыхал… — До того, как попасть в кутузку, я работал по черному дереву… Мастером был, не зря меня в колонии сразу прозвали Гонде-чернодеревщик. И поставили на эту должность — искать деревья. Платят самое большее сорок сантимов[84] в день. Вот я и свалился на вас, как снег на голову. Однако вид у вас прегордый. Так, мол, и так, живу на собственную ренту… — А где же все остальные? — Ну, не меньше чем в трех днях пути отсюда. На этот счет можете быть спокойны. — Так вы не убежали из колонии? — Я не такой дурак! Мне осталось шесть месяцев отсидки, а там я выйду на поселение. Да, через полгода меня освободят, но жить я обязан в Сен-Лоране. В качестве концессионера[85]. — Значит, вы — не беглый? — Я ведь уже сказал, что нет. Вам это не по сердцу? Вы хотели бы, чтобы я туда не вернулся? Для вас это надежнее. Да не тревожьтесь. Хоть я и не беглый, но каторгу ненавижу не меньше вашего. «Фаго» не донесет на убежавшего товарища. Робена передернуло. Каторжник это заметил. — Не надо обижаться, когда я называю вас товарищем. Я знаю, что вы прочим не ровня, а, так сказать, товарищ по несчастью… Если хотите знать правду, то все мы восхищались тем, как ловко вы смылись. А Бенуа! Охранники притащили его чуть живого. Вот уж кто рвет и мечет! Просто спятил от злости. Да что теперь говорить, вы так крепко сшиты, что унесли шкуру целехонькой оттуда, где всякий другой сложил бы кости. К тому же вы человек смелый. Вы не из наших, но мы вас уважаем! — Собираются ли меня преследовать? — принужденно спросил Робен, как бы сомневаясь, стоит ли черпать сведения из подобного источника. — Разве только Бенуа… Он вас ненавидит, вы для него что красная тряпка для быка. С утра до вечера ругается так, что несчастные сестры милосердия в больнице просто места себе не находят. И вся ругань, само собой, по вашему адресу. Я уверен, что когда он встанет на ноги, то попытается во что бы то ни стало вас зацапать. Но это еще надо посмотреть, как у него получится! Вы не мальчик, пока он соберется, успеете да-алеко уйти. И вообще, большинство считает вас покойником. Лесной старатель, болтливый, как все каторжники, когда им выпадает случай пообщаться с не их поля ягодой, говорил и говорил. — Вам здорово повезло, что вы встретили старого негра. От такого страшилища сам черт убежит, поджавши хвост, а вам от него прямая польза. Да, между прочим, я нынче утром обнаружил на земле поваленную бембу, но мне и в голову не пришло, что это вы ее повалили. Из такого ствола выйдет отличная пирога. Погодите-ка, у меня идея! Просто замечательная! Я здесь на полном попечении администрации. Она снабдила меня прекрасным топором. Хотите, помогу вам? — Нет! — решительно ответил Робен, которому такой помощник был не по душе. Каторжник понял без объяснений причину отказа. Он вздрогнул, на его бледном, хотя по выражению смелом и даже дерзком, лице, появилась гримаса страдания. — Ну да, конечно… — произнес он упавшим голосом. — Наш брат ничего не смеет предлагать порядочным людям… Всяк сверчок знай свой шесток. А ведь это тяжко — слыть «преступником» среди честных… без надежды на возрождение. Я это хорошо знаю. К вашему сведению, я из порядочной семьи, получил некоторое образование, мой отец был одним из лучших специалистов по дереву в Лионе. К несчастью, я потерял его в семнадцать лет. Завязались дурные знакомства. Меня привлекали удовольствия. Я часто вспоминаю слова моей бедной матери: «Сынок, я вчера слышала, что молодые люди из нашего города устроили дебош. Провели потом ночь в полицейском участке. Если бы с тобой случилось такое, я бы, наверное, умерла с горя». Через два года я оступился. И получил срок — пять лет каторжных работ! Матушка два месяца была между жизнью и смертью. Два года ее терзала душевная болезнь. Поседела вся. Когда меня увозили, ей еще не было сорока пяти, а выглядела она на все шестьдесят. Здесь, на каторге, я ни разу ничего не украл. Я не хуже и не лучше других, но я осужденный. Вот говорю вам об этом, а даже заплакать не могу… Вас каторга облагородила, а меня растоптала! Робен, поневоле взволнованный, подошел к собеседнику и, чтобы положить конец тягостной сцене, предложил Гонде разделить с ним трапезу. — Мне бы тоже следовало отказаться, но я не хочу разыгрывать гордеца и принимаю ваше приглашение. Вы все такой же, не меняетесь, и это уже не первое доброе дело, которое вы делаете для меня. — Как это? — удивился парижанин. — Да очень просто, черт побери! Это вы меня вытащили из Марони в тот день, когда я, не в силах бороться с течением, шел ко дну. Вы рисковали жизнью, чтобы сохранить каторжнику его жалкое существование… Теперь вы поверите, что я могу только молиться за успех затеянного вами дела, и молиться от всего сердца. — В самом деле, я припомнил эту историю. Спасибо вам за добрые чувства. — Бог мой, я чуть не забыл самое главное: письмо! — Какое письмо? — Недели через две после вашего побега вам пришло письмо из Франции. Администрация его распечатала. Начальники болтали между собой об этом. Нам все рассказал парнишка из транспортированных, который им прислуживает. Будто бы у вас там есть друзья, которые хлопочут о помиловании. Дело двигалось не слишком быстро, но если бы вы сами обратились с просьбой, то могли бы добиться благоприятного решения… — Никогда в жизни! — перебил его инженер, весь побагровев от внезапного гнева. Однако первая вспышка почти тотчас уступила место раздумью. Имеет ли он право лишать родных опоры и моральной поддержки? Быть может, надо пойти на это унижение, чтобы изменить их жизнь? Впрочем, все равно уже поздно… Последние слова парижанин повторил вслух. — Вот и начальники говорили: «Слишком поздно!» Но если бы вы и не получили помилования, вас могли сделать концессионером, с правом вызова вашей семьи. — А, бросьте! Концессионер… Моя жена и дети здесь, в этом аду? — Черт побери, но ведь это самый верный способ увидеться с ними! Правда, все это одни только слухи да разговоры… Надо бы узнать точное содержание письма. — Письмо… Будь проклята моя глупая поспешность! Но сделанного не поправишь да и не окупит мучений короткая минута радости. — Погодите, дайте мне сказать два слова, я буду краток. У меня есть хорошая мысль. Я сейчас живу почти как вольный человек. Во мне не сомневаются и правильно делают, потому что сроку моему вот-вот конец. Я отправлюсь на лесоразработки и разыграю приступ сенной лихорадки. Как — это мое дело, я знаю некоторые штуки… Меня отвезут со Спарвайна в Сен-Лоран, положат в лазарет, а там я разобьюсь в лепешку, чтобы выведать, чем кончились разговоры о вас. Как только этого добьюсь, тут же выздоравливаю и возвращаюсь сюда с новостями. Идет? Я в большом долгу перед вами и был бы счастлив оказать вам услугу. Робен молчал. Его раздирали противоречия. Он не мог преодолеть неприязнь к подобному посреднику в столь важном для него совершенно личном деле. Каторжник смотрел на инженера умоляюще. — Ну прошу вас! Дайте мне возможность совершить доброе дело! Во имя моей бедной матери, честной и святой женщины, которая тогда, быть может, простит меня! Во имя ваших маленьких детей… страдающих без отца… там, в большом городе… — Хорошо, отправляйтесь! Да, да, отправляйтесь! — Благодарю вас, благодарю… Еще одно только слово: у меня есть маленькая записная книжка, где я записываю свой маршрут и найденные деревья. Книжка моя собственная. Я за нее заплатил. Там есть еще несколько чистых листков.Осмелюсь предложить их вам для письма во Францию. Голландское судно с грузом леса находится сейчас на рейде поселка Кеплера. Скоро око отплывает в Европу. Берусь доставить ваше послание на борт корабля. Найдется же там добрый человек, которые не откажется переслать его вашей семье, особенно если узнает, что вы политический. Ну как, согласны? — О да, конечно, — тихо проговорил Робен. Он исписал две странички бисерным почерком, добавил адрес и вручил письмо чернодеревщику. — Итак, я отправляюсь, — сказал тот. — Сегодня же вечером заболею лихорадкой. Прячьтесь получше! До свидания! — До свидания! Гонде исчез в густых зарослях. Старый Казимир хранил молчание в течение всего этого разговора, смысл которого остался для него во многом недоступным. Его сильно удивил преобразившийся облик друга. Робен был и в самом деле неузнаваем. Глаза горели, на бледном лице заиграл румянец. Свойственная ему молчаливая сдержанность уступила место внезапной говорливости. Голос его звучал без умолку… Он рассказывал, захлебываясь в словах, о своей работе, борьбе, о своих надеждах и разочарованиях. Он пытался растолковать непросвещенному старику негру разницу между уголовным и гражданским правом[86], между рецидивистами[87] и политическими. Он пытался объяснить, какая пропасть разделяет тех и других. Бедный негр никак не мог уяснить, за что же так сурово карают людей, которые не совершили никакого преступления. — А теперь, — заключил бургундец, — когда я почти спокоен за судьбу моих близких, рукоятка топора жжет мне руки! За работу, Казимир, за работу! Будем долбить и тесать эту колоду без передышки, завершим дело нашего освобождения, и пусть наша лодка побыстрее и подальше увезет нас от зловещих берегов… — Так и будет, — ласково поддержал его старик. И двое мужчин горячо взялись за работу.
__________
Дней за сорок до побега Робена в Париже, на улице Сен-Жак разыгралась трогательная сцена. Было первое января. Сильный мороз, нечастый гость в столице Франции, да еще в сочетании с леденящим северным ветром, превратил огромный город чуть ли не в сибирскую глухомань. Женщина в трауре, бледная, с глазами, покрасневшими от холода, а может быть, и от слез, медленно поднималась по грязной лестнице одного из тех огромных и уродливых каменных домов, какие еще встречаются в старых парижских кварталах. Настоящие казармы с бесчисленными закутками, доступные и людям с самым тощим кошельком; в таких домах находит пристанище множество обездоленных. Женщина держалась с достоинством и с достоинством носила бедное вдовье одеяние, свидетельствовавшее о постоянных заботах и о мужественной борьбе с нуждой. Поднявшись на шестой этаж, она перевела дыхание, вынула из кармана ключ и осторожно вставила его в замочную скважину. На негромкий звук отпираемого замка тотчас откликнулся хор детских голосов. — Это мама! Мама! Дверь отворилась, и четверо мальчуганов, из которых старшему было лет десять, а младшему не более трех, обступили вошедшую. Она расцеловала каждого с той нервной и пылкой нежностью, в которой одновременно угадывались и радость, и душевная боль. — Ну что, мои милые, вы хорошо себя вели? — Хорошо, — ответил старший серьезным тоном маленького мужчины. — Смотри, мама, Шарль даже награжден крестом за хорошее поведение. — Вот он, — с важным видом произнес очаровательный трехлетний бутуз, указывая пухлым пальчиком на крестик у себя на груди, который по всем правилам, на красной ленточке, был пришпилен к его серому шерстяному костюмчику. — Замечательно, детки, очень хорошо. — И мать снова обняла детей. Только теперь она заметила в глубине комнаты рослого юношу, лет двадцати с небольшим, в черной шерстяной блузе. Он стоял и с выражением явной неловкости на лице вертел в крепких, сильных руках маленькую фетровую шляпу. — Ах, это вы, дорогой Никола, добрый вечер, мой друг, — приветливо поздоровалась женщина. — Да, мадам, я пораньше ушел из мастерской, чтобы забежать к вам… Поздравить с Новым годом, пожелать добра и счастья вам и детям… и дорогому патрону[88]… месье Робену… да, и ему! Она вздрогнула. Красивое лицо, осунувшееся от житейских тягот, побледнело, кажется, еще сильнее. Женщина подняла глаза к большому портрету, позолоченная рама которого так не вязалась с голыми стенами мансарды[89], со случайной и разрозненной мебелью, — жалкими остатками былого благополучия. Крохотный букет анютиных глазок — большая редкость в эту пору года! — стоял в стакане с водой перед портретом молодого мужчины в расцвете сил, с энергичным и выразительным лицом, тонкими каштановыми усами и блестящими глазами. Скромный подарок, который преподнес парижский рабочий своему покровителю, — свидетельство душевной деликатности простого ремесленника, — наполнило глаза хозяйки дома слезами. Стоя перед портретом отца, дети тоже расплакались, заметив слезы матери. Страдания в юном возрасте особенно остры. Мучительно было видеть, как молча, без единого слова, плачут четыре малыша, для которых горе сделалось таким же привычным, как для других детей беззаботный смех. Между тем первый день Нового года шел своим чередом. Маленькие лавчонки торговали так же бойко, как и большие магазины, Париж праздновал, детвора радовалась новым игрушкам, и взрывы веселого смеха доносились не только из особняков, но и из мансард. А дети осужденного плакали. Они не просили игрушек. Они давно уже лишились многих детских радостей и научились обходиться без них. Да и какие могут быть радости у сыновей изгнанника?.. Что значил для них Новый год? Такой же хмурый и бесцветный, он занимался безо всякой надежды, он не сулил ничего хорошего. Женщина вытерла слезы и протянула руку молодому рабочему: — Спасибо! Спасибо от него и от меня… — Мадам, нет ли новостей? — Пока ничего. Мне все труднее с деньгами… Работа дает мало. Молодая англичанка, которая брала у меня уроки французского, заболела. Она уезжает на юг. Скоро у меня останется одна только вышивка, а от нее так устают глаза… — Мадам, но вы забыли о моей работе! Возьму сверхурочные часы. Ну и… зима-то не навек! — Нет, дорогой Никола, я ничего не забыла, я знаю вашу доброту и самоотверженность, вашу привязанность к моим ребяткам, но я ничего не могу принять от вас. — Да ведь это такие пустяки! Патрон заботился обо мне, когда мой отец погиб при взрыве машины. А кто помогал моей больной матери? Бедная мама умерла со спокойной душой, и этим я тоже обязан патрону. Нет, нет, ваша семья для меня вовсе не чужая! — И ради нас вы готовы изнурять себя работой, когда вам самому едва хватает на жизнь! — На жизнь хватает всегда, когда руки и голова умеют трудиться. Подумайте только, механик-наладчик, да еще сверхурочные часы… Я буду получать как старший мастер! — И будете отдавать деньги нам, лишая себя необходимого… — Но ведь это ради моей семьи! — Да, мое дитя, это родная для вас семья, и, однако, я должна отказать. Ладно, поживем — увидим… Если нужда станет нестерпимой… и, не дай Бог, начнут болеть дети… Голод… Сохрани нас Господь! Это было бы ужасно. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Поверьте, я так тронута вашим великодушным предложением, как будто уже приняла его. — Ну… а его не собираются перевести оттуда? Я слышал, что кое-кто уже возвращен из Бель-Иля[90] и Ламбессы… — Это те, кто подавал прошение о помиловании. Мой муж никогда не станет просить тех, кто его осудил. Он не изменит своей натуре, главное для него — честь, собственное достоинство. Молодой человек молча опустил голову. — Впрочем, — мадам Рсбен понизила голос, — я напишу ему, или, вернее, мы все вместе напишем ему письмо… Верно, дети? — Да, мама, — отозвались старшие, а маленький Шарль, присев на корточки в углу, с серьезным видом изобразил какие-то каракули на листочке бумаги и вручил его матери, очень довольный собой: — Вот, мама, письмо… для папы! Жена осужденного отлично знала, через сколько чужих рук пройдет ее послание, прежде чем попадет к мужу, знала, как много вымарывают в письмах к политическим, и писала всегда очень просто и сдержанно, с единственной целью подбодрить заключенного и при этом не навлечь на него гнев тюремного начальства. Как же он должен был ценить благородство самоотверженной матери, мужество верной подруги, хоть она и удерживалась от слов любви и нежности, которые готовы были сорваться с ее пера! Врожденная деликатность не позволяла ей отягощать своей душевной болью и без того нелегкую жизнь каторжника.«Мой дорогой Шарль, — писала она, — сегодня первое января. Минувший год был очень печален для нас, ужасен для тебя. Принесет ли наступивший облегчение твоим страданиям, утешение в нашей скорби? Мы надеемся на это, как и ты, наш дорогой и благородный мученик, и эта надежда придает нам силы. Я не падаю духом, а как же иначе! И наши славные дети, маленькие мужчины, тоже вполне достойны тебя. Анри сильно вырос. Он успешно занимается и очень серьезен. Это твоя копия. Эдмон и Эжен становятся уже большими мальчиками. Они веселые по нраву, немного легкомысленны, как и я… до нашего несчастья. Что касается маленького Шарля, то невозможно и мечтать о более нежном существе. Очаровательный румяный мальчуган, красивый и умненький! Представь себе, что вот сейчас, когда Шарль услышал, что я пишу тебе, он принес мне исчерканный, аккуратно сложенный листок со словами: «Вот, мама, письмо для папы!» Я работаю. И нам вполне хватает на все наши нужды. По крайней мере, об этом не тревожься, мой добрый Шарль, и помни, если наша жизнь и тягостна без тебя, то материальные потребности более или менее удовлетворены. Твои друзья постоянно предпринимают какие-то усилия ради тебя. Достигнут ли они цели? Необходимым условием считается, чтобы ты подал просьбу о помиловании… Согласишься ли ты возвратить свободу такой ценой? Если нет, то нас уверяют, что ты мог бы стать концессионером на территории Гвианы. Я не знаю, в чем это заключается. Но мне ясно одно: я смогла бы приехать к тебе вместе с детьми. Меня ничто не пугает. Там, с тобой, даже жизнь в нужде была бы счастьем! Напиши, как я должна поступить. Время дорого. Каждая минута, пробежавшая вдали от тебя, мой милый узник, так тосклива, а ведь мы могли бы еще быть счастливы в той жаркой стране. Наберись мужества, любимый, мы посылаем тебе наши самые горячие приветы, самые крепкие поцелуи от всего сердца и всю нашу любовь».
Рядом с подписью матери под письмом стояли уже вполне взрослый росчерк Анри, старательно выписанные дрожащими буквами имена Эдмона и Эжена, а также размазанный отпечаток указательного пальца Шарля, который пожелал, чтобы мама непременно приложила его руку к посланию. Через три дня письмо отправилось в дальнюю дорогу из Нанта на паруснике, взявшем курс прямо на Гвиану. В то время сообщение, хотя и менее регулярное, чем теперь, когда ввели трансатлантические рейсы, было, однако, не менее частым, и мадам Робен каждые пять или семь недель получала весточку от мужа. Январь и февраль прошли без новостей, настал март, но ответа все не было. Беспокойство бедной женщины росло, и тоскливое предчувствие беды охватило ее со всей остротой, когда однажды утром она получила письмо с парижским штемпелем: ее просили зайти «для получения весьма важной информации» к поверенному, по имени ей совершенно незнакомому. Она немедля отправилась по указанному адресу и увидела сравнительно молодого человека, одетого с претензиями на моду, с лицом и манерами несколько простоватыми, но в общем вполне приличного. Он сидел один-одинешенек за письменным столом в стандартно меблированной конторе среди бесчисленных картотек и бюро[91]. Мадам Робен представилась. Незнакомец сдержанно поклонился. — Мадам, у вас с собой приглашение, которое я имел честь направить вам вчера? — Вот оно. — Хорошо. Позавчера я получил от моего корреспондента из Парамарибо новости о вашем муже… Бедняжка почувствовала, как сердце ее сжалось в невыносимой тоске. — Парамарибо… мой муж… не понимаю… — Парамарибо, или Суринам, столица Голландской Гвианы. — Но мой муж… Говорите же! Скорей сообщите, что вам известно. — Ваш муж, мадам, — сказал молодой человек будничным тоном, как будто речь шла о чем-то самом обычном, — ваш муж сбежал из исправительной колонии Сен-Лоран. Шаровая молния, упавшая к ногам мадам Робен, меньше потрясла бы ее, чем эта неожиданная новость. — Сбежал… — пробормотала она. — Сбежал!.. — Как я имел честь, мадам, сообщить вам об этом. И притом с искренним удовлетворением. Кроме того, я должен с радостью вручить вам личное письмо вашего мужа, которое было вложено в конверт моего корреспондента. Вот оно, держите! Потрясенная таким оборотом дела, несчастная женщина едва устояла на ногах, туман поплыл у нее перед глазами. Но природная стойкость помогла ей взять себя в руки, и она принялась разбирать торопливые карандашные строки, набросанные Робеном на листках записной книжки возле бухты Спарвайн. Конечно же, это был почерк ее мужа, его подпись, абсолютно все, включая некоторые тайные условные знаки, разгадку которых знала только она. — Но, значит, он свободен!.. И я могу увидеться с ним! — Да, мадам, разумеется. На ваше имя ко мне поступили необходимые средства, присланные моим корреспондентом в форме переводного векселя. Они в полном вашем распоряжении. Но вы должны понимать, что действовать следует тайно. Ваш муж не покинул пределы Гвианы, там он находится в бо́льшей безопасности, чем где бы то ни было. Полагаю предпочтительным, чтобы вы отправились на встречу с ним туда. Вы отплывете из Амстердама на голландском судне, чтобы избежать формальностей с паспортом. Высадитесь в Суринаме, и мой корреспондент проводит вас к месту, где вы увидитесь с супругом. — Но, сударь, объясните мне… Откуда деньги?.. Кто этот корреспондент? — Клянусь Богом, мадам, я решительно ничего больше не знаю. Ваш муж свободен, он желает вас видеть, средства в ваше распоряжение переданы через моего посредника, как и просьба ко мне обеспечить вашу безопасность вплоть до посадки на голландский корабль. — Ну что же! Пусть так и будет. Я согласна. Но могу ли я взять с собой детей? — Конечно, мадам. — Когда нужно быть готовой к отъезду? — Чем скорее, тем лучше. Таинственный поверенный распорядился временем так удачно, что уже спустя двадцать четыре часа мадам Робен покидала Париж вместе с сыновьями и прямодушным порывистым Никола, который ни за что не пожелал расставаться с семьей своего патрона. Все шестеро высадились в Суринаме после тридцати пяти дней благополучного плавания.
ГЛАВА 5
Сооружение лодки. — Дерево для весел. — Почти как в Гребном клубе. — Возвращение посланца. — Копия, не уступающая оригиналу. — Что можно приготовить из маниоки. — Ядовито, но съедобно. — Украденная пирога. — Пожар. — Непоправимое. — Кто предатель? — Отчаяние старика. — Тот, кого уже не ждали. — Зеленая крепость и тайная тропа. — Атлантика шире, чем Сена в Сент-Уене. — Тайное благодеяние. — «Тропическая птица». — Голландский капитан говорит намеками. — Без родины. — «Это его… убивают!»Робен и старый негр трудились так упорно, состязаясь в твердости с поверженным стволом бембы, столь усердно долбили, резали, жгли, кромсали, полировали, что пирога в скором времени была готова. С оснасткой управились проще и быстрее. Две маленькие и легкие скамьи из очень прочного дерева, удобного в обработке, установили поперек корпуса и накрепко соединили с плоскими бортами при помощи «лап». Сквозные отверстия диаметром около пяти сантиметров позволяли в случае необходимости установить небольшую бамбуковую мачту. Хотя прибрежные жители в бассейне Марони, и негры и краснокожие, имеют обыкновение выходить в плавание только на веслах, нередко бывает, что, пересекая сильные течения, они поднимают при попутном ветре соломенные циновки вместо парусов. Это у туземцев единственный способ использовать ветер, потому что они не умеют обращаться с парусами, как это делают матросы. Если в лодке нет циновок, а ветер дует, то они ложатся плашмя на дно и выставляют навстречу ветру широкие листья растений. Ничего не стоящие и занимающие мало места заменители парусов помогают гребцам осваивать азы морского дела. Но ветер приходит им на подмогу только на больших реках. Вообще же индейцы и негры выбирают для поселений более укромные места, на берегах маленьких бухт и протоков, а там высокие стены зелени почти смыкаются, не пропуская ни малейшего дуновения. Наши друзья хотели употребить вместо паруса крепкую хлопчатобумажную ткань с подвесной койки Казимира. Оставалось изготовить весла. Серьезный вопрос! Очевидно, не годится мастерить этот важнейший компонент плавательного процесса из чего попало. Индейцы пользуются двумя видами весел. Один напоминает по форме грелку, насаженную на ручку, ее плоская загребающая часть не шире ладони. Другой похож на лопату хлебопека — но с очень короткой рукояткой. Обе эти разновидности — как бы упрощенная форма большого весла, употребляемого индейцами бони и бош, которые могут грести и тридцать, и сорок дней подряд, не уступая лауреатам Гребного клуба[92]. Такое весло, длиной до двух метров и даже более, обладает красивой копьевидной лопастью. Метровая рукоятка, вначале слегка приплюснутая, к середине округляется, затем снова сплющивается и постепенно расширяется по изящной кривой линии, дающей начало гребной лопатке. Лопатка имеет ширину не более двенадцати сантиметров, толщину в полсантиметра и завершается острием. Трудно себе представить нечто более красивое, изящное, законченное и вместе с тем более прочное, чем такое весло. Просто поразительно, что его изготавливают при помощи всего лишь одного короткого и широкого ножа. Именно этой форме и отдал предпочтение Казимир, изъявляя глубокое пренебрежение к другим индейским веслам, более тяжелым и менее поворотливым, да и не таким красивым, хоть они и раскрашены с помощью сока генипы. Наилучшее дерево для изготовления весла — ярури, так и называемое «весельным». Зрение у старого негра, хоть он и был одноглаз, оказалось острым и цепким, и вскоре чернокожий отыскал великолепный экземпляр ярури, который и был повержен тем же способом, что и бемба. Любопытная подробность, которая показывает, насколько наблюдательны те, кого мы привычно зовем «дикарями»: это дерево раскалывается почти без усилий, а точнее, расщепляется на планки большой длины, толщиною в ладонь. Ярури легко поддается обработке, как только его срубят, и за несколько дней сушки достигает несравненной крепости, сохраняя гибкость. Скрюченные пальцы старика, негодные для тяжелой работы, орудовали коротким ножом с удивительной ловкостью. Он начал обработку древесины с дробных и быстрых, точно рассчитанных ударов, снимал мелкую стружку и, все время постукивая по планке, придавал ей форму весла. Четыре дня ушло на изготовление четырех весел, одну пару необходимо было держать про запас, на случай аварии. К великой радости обоих отшельников, все подготовительные работы завершились, и Робен готов был тут же пуститься в плавание. Но надо было дождаться возвращения каторжника-чернодеревщика. А Гонде не появлялся довольно долго. Больше трех недель минуло после его ухода, и для нашего изгнанника, которого больше не занимал ежедневный самозабвенный труд, время тянулось бесконечно. Напрасно добрый Казимир изощрялся на все лады, рассказывал ему увлекательные истории, которые хранились в тайниках памяти прокаженного, — об охоте, стрельбе из лука и всевозможных превратностях первобытной жизни. Беспокойная тоска изводила парижанина. Кто его знает, что случилось с лесным старателем, всего можно ожидать в этих бескрайних просторах, населенных опасным зверьем, полных препятствий, усеянных незримыми ловушками, очагами болезней… — Ну, хватит! Напрасно сидим, — испускал глубокий вздох Робен. — Завтра трогаемся! — Нет, мой друг, — неизменно ответствовал негр, — вы слишком нетерпеливы, подождем немного. Он не успел еще обернуться в оба конца. Наступал следующий день, и ничего не менялось. Провели испытание пироги. Ее устойчивость, несмотря на малую осадку, была безупречной. Она легко повиновалась инженеру, который очень скоро приобрел необходимые навыки гребца. Казимир держался позади. Он рулил и подгребал. Эта позиция требовала большой сноровки, потому что ход лодки изменялся от малейших усилий. Туземные пироги, без киля, с округлым дном, чрезвычайно легки на ходу: не лодки — скорлупки, и послушны даже малым толчкам. Заметим прежде всего, что туземное лопатообразное весло не позволяет развить такую скорость, как обычно, кроме того использовать последнее в тесных гвианских бухточках и протоках невозможно. С местным же веслом — «пагай» — можно спокойно плыть и в узком ручье. Гребец погружает весло вертикально, пока лопасть не скроется под водой. Рука в верхнем положении толкает держак весла, одновременно нижняя, на уровне лопасти, выполняет протягивающее движение и служит точкой опоры. Это простой рычаг. Лодка скользит довольно быстро. Гребцы повторяют одни и те же движения, в том числе и рулевой, который для того, чтобы держать или менять при необходимости направление, иногда использует свое весло как кормовое. Преимущество пироги по сравнению с европейскими весельными шлюпками еще и в том, что ее экипаж обращен лицом в сторону движения. Чтобы занять время и восстановить душевное равновесие друга, старый Казимир заботливо обучал его всем этим приемам. И преуспел настолько, что его ученик и сам стал мастером. Пять недель миновало после ухода Гонде. Совершенно отчаявшись, бургундец уже собрался покинуть мирное жилище прокаженного, когда в самый канун твердо назначенного к отъезду дня вдруг появился Гонде — бледный, худой, чуть не падая с ног от усталости. Его встретили криками радости. — Наконец-то! Да что же с вами случилось, бедный мой приятель? — Робена поразил облик пришельца. — Не сердитесь на меня за такую задержку, — отвечал тот слабым голосом. — Я уж думал, что погибну. Врач не признал меня больным, и Бенуа, который сам еле ходит, избил до полусмерти. Тогда меня отправили в больницу… там понемногу пришел в себя… Но Бенуа мне за это заплатит! — Письмо… — с тревогою сказал Робен. — А что с письмом? — Хорошие новости. Лучше, чем я ожидал. — Говорите же! Говорите скорей, что вам удалось узнать! Осужденный сел, вернее, рухнул на бревно, вытащил из кармана свою записную книжечку и вынул из нее сложенный листок бумаги. Шарль с жадностью схватил его. Это было письмо, написанное мадам Робен первого января в мансарде на улице Сен-Жак. Вернее, копия письма. Парижанин читал и перечитывал, с упоением, с дрожью, впившись глазами в разбегавшиеся строчки. Его руки нервно подрагивали, слезы туманили взор. Этот несгибаемый человек плакал, как ребенок. То были светлые, счастливые слезы, единственное проявление радости у тех, кто много страдал. Обеспокоенный негр не смел вмешиваться. Робен ничего не видел, ничего не слышал. Теперь он перечитывал письмо вслух, бесконечно повторяя милые имена детей, мысленно воскрешая сцену, которая предшествовала написанию письма, целиком ощущая себя в кругу далекой семьи. Казимир слушал, сцепив руки, и тоже плакал. — Это хорошо… — бормотал он. — Добрая мадам… славные малыши… я рад… Инженер вернулся наконец на грешную землю. Подняв глаза на каторжника, он ласково сказал: — Вы совершили доброе дело, Гонде! Благодарю вас… от всей души! Гонде мучила лихорадка, голос его звучал еле слышно: — А! Не стоит благодарности… Не о чем говорить… А вы спасли мне жизнь. И говорили со мной как с человеком… со мной, павшим так низко. Вы показали мне, как надо переносить незаслуженные страдания. Хороший пример для осужденного! Я почувствовал угрызения совести… — Ладно, ладно, будет об этом. Но вы должны укрепиться в своих новых чувствах… Особенно прошу: не мстите человеку, который вас избил. Преодолейте себя, станьте выше этого. Каторжанин опустил глаза и ничего не ответил. — Как же вам удалось раздобыть письмо?.. — Очень просто. Полицейские — народ лопоухий. Они по глупости положили письмо в ваше досье. Конторский служащий взял его ненадолго и принес мне, я снял копию, а он потом положил письмо на место. Вот и все. Я мог забрать оригинал, но вам это, наверное, не понравилось бы. Кража есть кража… Хотя письмо-то ваше. Но если бы письмо пропало, это привлекло бы внимание к вам, ведь только вы в нем заинтересованы. По правде говоря, после вашего бегства в колонии все вверх тормашками. Поговаривают об увольнении Бенуа. Допросы за допросами… Вообще-то вас уже числят в покойниках… Почти все, за исключением, быть может, этого треклятого Бенуа! Так что прячьтесь как можно надежнее! — Прятаться! Есть заботы поважнее. Ничто больше не привязывает меня к этому злосчастному месту! Я хочу бежать далеко, навсегда распрощаться с этим адом. Завтра же трогаемся в путь! Ты слышишь, Казимир? — Завтра, — эхом отозвался негр. — Но вы не должны сейчас появляться, — возразил каторжник, — по крайней мере в лодке! В устье реки полно рабочих, и охрана удвоила бдительность. Подождите хотя бы, пока я найду другой участок с нужными породами, и лесоразработки переведут туда… — Мы отправляемся, говорю вам. — Это невозможно! Послушайте меня, потерпите еще неделю… — Неужели вы не понимаете, что каждая минута промедления для меня хуже смерти! Любой ценой, хоть силой, надо вырваться отсюда! — Но вы безоружны… и у вас нет денег, а они понадобятся в цивилизованных местах. — Быть так близко от цели — и не разорвать последние путы… Ну, ладно! Пусть будет по-вашему. Мы подождем. — В добрый час! Я рад, что вы согласились со мной! — воскликнул чернодеревщик и поднялся с бревна, собираясь в обратный путь. Казимир вступил в разговор: — Вам надо поесть на дорогу… — Да я и не очень хочу, лихорадка отбивает аппетит… — Съешьте немного батата, и вашу лихорадку как рукой снимет. Робен понимал, что бедняга отказывается из-за непреодолимого отвращения, которое вызывал у него прокаженный, что он опасается даже непрямого соприкосновения с ним. — Идемте, идемте, нельзя же отпускать вас во время приступа. Я сам приготовлю вам настойку, — предложил Шарль. На этот раз Гонде согласился с охотой, проглотил, крепко поморщившись, противное на вкус питье, а затем ушел, унося с собой завернутую в листья еду на дорогу и не забыв повторить настоятельную просьбу отложить отъезд. Впрочем, им и требовалось не меньше недели для пополнения продовольственных запасов. Мы уже говорили, что в дороге путники могут рассчитывать только на взятое с собой, жестокий опыт бургундца убедил его в этом. Бог весть, что бы случилось с ним, если бы не спасительная хижина старого негра, не его запасы, воскресившие беглеца. Прежде всего следовало приготовить «куак», или муку из маниоки, главную часть продовольствия, затем запастись копченой рыбой. О маниоке, о том, как ее используют в пищу, Робен имел весьма смутное представление, а проще сказать — никакое. Каторжникам готовят еду из привозной муки и сухих овощей, доставляемых из Европы. Инженер отведал куак только в хижине прокаженного, но не знал способа приготовления. Латинские названия маниоки, играющей для жителей тропической Америки такую же роль, как рожь для северных народов, парижанину были известны, но одно дело заучить эти названия по учебнику и совсем другое — суметь приготовить из маниоки муку. К счастью, рядом с ним находился местный человек, «дитя природы», со всеми необходимыми приспособлениями. — Ну что же, пора тереть маниоку. Тереть! Что это значит? За два дня до того друзья собрали клубни маниоки, и теперь они громоздились у сарая изрядной горкой. Старик взял полуметровый брусок «железного дерева», сантиметров десяти в поперечнике. На одной стороне бруска были вырезаны зубцы. Они-то и служили теркой. — Это граж[93], — сказал негр. — Ну и отлично, а что я должен делать? — Тереть корни, чтобы получилась мука. — Однако, — возразил Робен, — если мне придется работать таким, с позволения сказать, инструментом, я провожусь целый месяц, не меньше. — Потому что вы не умеете. И добряк, довольный тем, что учит такого умного человека, упер терку одним концом ему в грудь, а другим — в косяк хижины, так что инструмент образовал нечто вроде подпорной арки, а затем, быстро очистив крупный клубень, вложил его в руки парижанина: — Теперь трите! И удивленный Робен, принявшийся энергично водить мучнистым клубнем по острым зубцам, убедился, как легко маниока превращается в мелкую крошку, осыпаясь, подобно древесным опилкам, на устланную широкими листьями землю. — Так, так, — приговаривал Казимир, подавая ему следующий клубень, предварительно очищенный ножом от кожуры. Ученик, обладавший не только физической силой, но и упорной волей, за несколько минут добился успеха. Он тер попеременно обеими руками без передышки, и слегка влажная сыпучая горка у его ног росла на глазах. Чернокожий время от времени пытался умерить его пыл, опасаясь, что неосторожным движением инженер может повредить руку о зубцы терки. Если в ранку попадет млечный сок растения, тогда дело плохо. Казимир пытался растолковать это Робену. — Вы можете умереть, — твердил он. — Не беспокойся, старина… Хоть я и новичок в такой работе, но из книг мне известно, что свежая маниока содержит сильно ядовитый сок. Ученые люди получили его в чистом виде и убедились, что от нескольких капель собака умирает через три минуты. Считают, что в соке маниоки есть синильная кислота. Любопытно узнать, каким образом ты избавишь муку от этой гадости. Дело оказалось недолгим и несложным. К одной из перекладин в хижине было подвешено странное приспособление, напоминающее толстую и длинную, по меньшей мере двухметровую змею или, скорее, снятую «чулком» кожу такой змеи. Верхнее отверстие оставалось открытым, нижнее — крепко и плотно завязано. Приспособление было искусно сплетено из тонких, необычайно прочных волокон арумы (maranta arundinacoea). Плетеные стенки представляли собой отличный фильтр. Робен давно уже интересовался этим предметом, и Казимир на его вопросы неизменно отвечал: — Это уж для маниоки[94]… Следовавшие затем объяснения бывали так запутаны и невнятны, что Робен ничего не мог уразуметь. Теперь ему предстояло увидеть «ужа» в действии. — Берите муку и насыпайте внутрь… — велел негр. Француз повиновался и до отказа заполнил емкость сырой мучнистой массой. Раздувшаяся трубка едва не лопалась, напоминая хорошо пообедавшего удава, подвешенного на крюк для совершения многотрудного таинства пищеварения. В нижней части «трубы» имелась петля, также изготовленная из арумы. Предназначение этой петли бургундец разгадал очень быстро. Уже не спрашивая разъяснений у негра, Робен просунул в петлю длинный и крепкий брусок дерева, один конец которого укрепил под перекладиной, а на другой навалился всем своим весом, образуя мощный рычаг. Под сильным давлением ядовитая жидкость выступила сквозь плетеные стенки каплями, которые вскоре соединились и потекли тоненькой струйкой. Казимир был в восторге. — О друг, очень, очень хорошо! Вы работаете как настоящий негр! Чувствительный к похвале, заключающей максимум уважения, которое белый способен завоевать в глазах черного, Робен удвоил усилия. В скором времени струйка жидкости иссякла, потом перестало и капать из «ужа». Тут за дело взялся старик. Он извлек плотно спрессованную муку и разложил ее на листьях под палящим солнцем. Мука сияла белизной, не уступая пшеничной, только «помол» был гораздо более крупным. Через два часа мука высохла, как трут. Негр вооружился ситом (его называют здесь манаре, а плетут из той же арумы) и, пока его компаньон продолжал энергично перетирать корни, просеял высушенную муку, чтобы удалить из нее остатки твердого волокна. Так началась эта работа, роли распределились, несколько дней друзья были заняты одним и тем же делом, однообразие которого нарушалось кой-какими добавочными операциями, нужными для приготовления экваториальной «манны»[95]. Робен продолжал перетирать клубни маниоки и отжимать сок, а Казимир после сушки и просеивания рассыпал мучнистую массу по широкой пластине листового железа, которая подогревалась на слабом огне, и непрерывно помешивал белую «кашицу» деревянной палочкой. При этом улетучивались не только последние капли яда, но и остатки влаги. Совершенно чистое питательное вещество имело вид неодинаковых по размеру гранул[96], сухих и твердых, пригодных для долгого хранения в закрытых сосудах. Из этого и готовят куак, который вместе с кассавой составляет основу питания всех племен американской тропической зоны, местный хлеб. Достаточно добавить к муке немного воды, довести смесь до кипения — и получается густая желтоватая масса, вкусная и питательная. Европейцы скоро привыкают к ней. Кассава отличается от куака способом приготовления: мучнистую смесь не помешивают палочкой, а используют кольцевой бортик высотой сантиметра три. Форму заполняют тестом, получается нечто вроде блина или лепешки. Как только она затвердеет, бортик убирают, а лепешку все время перевертывают, чтобы не подгорела и не слиплась с соседней. Когда она хорошо прожарится с обеих сторон, ее снимают и выставляют на солнце. Сверху накладывают следующие, и мало-помалу вырастает горка из нескольких дюжин аппетитных лепешек. Приготовление куака и кассавы — наиболее важная работа у туземцев, быть может, единственная, во время которой они, весьма склонные к ленивому безделью, не могут позволить себе расслабиться. И самый важный груз в их постоянных перемещениях составляют терка, «уж для маниоки» и, главное, железный лист, из тех, что привозили европейцы в незапамятные времена. Эти листы — наиболее ценный предмет торгового обмена, в семье он передается по наследству из поколения в поколение. Владелец такой пластины — уже богач. Ее потеря равносильна бедствию. Бывает, что на целое селение в несколько десятков человек имеется всего лишь одна пластина, напоминающая простейшие очаги средневековья[97]. Наши компаньоны проявили в заготовке съестных припасов такое же рвение, как при сооружении лодки. Они понимали, насколько это важно. В тропиках ничто не заменит куак. Рожь на экваторе не сеют: солнце настолько ускоряет развитие растения, что зерно не успевает вызреть. Хлебная культура превращается в разновидность бесплодного пырея. На день здоровому человеку нужно около 750 граммов куака, на двоих — полтора килограмма. Путешествие наших отшельников, по их прикидкам, должно было занять не менее трех месяцев. Стало быть, следовало запасти самое меньшее сто тридцать пять килограммов. Осторожность подсказывала им цифру 160 — на случай непредвиденных обстоятельств. Вполне понятно, что эта нелегкая работа, невзирая на бурную энергию Робена, отняла у компаньонов около двух недель. Весь урожай прокаженного пошел в дело. И вот наконец куак надежно помещен в объемистые глиняные кувшины, которые негр в свое время выменял у индейцев, и готов к погрузке на борт пироги. Лепешки, отлично высушенные, завернуты в плотные листья. Оставалось запасти копченую рыбу. Но эту задачу решить было проще. С самого начала заготовительных работ Гонде больше не появлялся. Его отсутствие беспокоило парижанина. Не заболел ли бедняга?.. Может, даже умер? Удалось ли ему добиться, чтобы лесоразработки перенесли на другое место? Или работы ведутся все еще в устье реки? Наутро после окончания хлопот с маниокой Робен решил осмотреть пирогу, которую они с Казимиром искусно спрятали в маленькой бухточке в зарослях лиан. Это место находилось в трех часах ходьбы: обычная, не слишком утомительная прогулка… Инженер взял с собой немного провизии, вооружился ножом и крепкой палкой и вышел на рассвете со своим неизменным компаньоном, довольным, словно школьник на каникулах. Путники шли, весело переговариваясь, размышляя о будущем, строя планы, осуществление которых было уже так близко. За разговорами дорога прошла незаметно. Друзья добрались до места, где была спрятана лодка. Казимир предложил проплыть по заливу, и Робен не захотел лишать старика удовольствия. Вот и знакомый шатер из лиан, под которым укрыто надежно привязанное суденышко. Изгнанник нащупал якорь, укрепленный на корневище, ухватился за канат, чтобы подтянуть лодку, но не ощутил никакого сопротивления. Холодный пот прошиб бургундца, когда он увидел обрезанный конец лианы. Предчувствуя непоправимую катастрофу, он бросился в самую гущу зарослей и начал отчаянно рубить их. Скоро обнажилась большая прогалина. Ничего! Может, во время дождей лодка наполнилась водой и затонула? Лежит себе на дне бухты… И даже лучше, если так, по крайней мере не рассохлась. Робен нырял раз за разом, шарил, высматривал, поднимался на поверхность набрать воздуху и снова погружался в воду… Безрезультатно. Негр топтался на берегу, тоже пытаясь обнаружить пропажу, но, разумеется, не нашел ничего. Сомнений быть уже не могло: пирога украдена. Француз был в отчаянии, но старался подбодрить старика. — Мужайся, Казимир, — твердил он плачущему товарищу, — мужайся! Мы построим новую лодку. Всего три недели задержки… К счастью, запасы продовольствия у нас готовы и в безопасности. Грустным было их возвращение. Оба почему-то спешили, обоим хотелось поскорее оказаться дома. Еще несколько минут, и они будут на месте… И тут до них донесся горький запах дыма. Выйдя из леса на поляну, они увидели этот дым — тяжелые черные клубы. Хлопья гари носились в воздухе, лезли в ноздри, от них запершило в горле. Робен бросился к хижине, которую скрывали от него банановые деревья. Хижины не было! Кучка дымящейся золы — вот и все, что осталось. Инструменты, земледельческие орудия, запасы продовольствия — все пропало. Пожар уничтожил все.
__________
Всего несколько часов назад Робен произнес: «К счастью, запасы продовольствия у нас готовы и в безопасности». Какой жестокий, издевательский урок преподнесла ему судьба! Никогда еще он не был так близок к цели, ни разу со дня побега не предчувствовал с такой остротой грядущий миг полной свободы… И вот все рухнуло, все погибло, развеялось как дым над поляной… Достаточно было одной искры из плохо погашенного очага, чтобы в несколько мгновений истребить плоды тяжких и долгих трудов. Прощай надежда покинуть колонию в скором будущем, мало того — им со стариком грозит голод. Бедный старый негр оцепенел в отчаянии. На него было больно смотреть. Он тупо уставился на кучу золы, похоронившей убежище его печальной старости, на обугленные остатки деревянных подпорок, установленных его искалеченными руками, на закопченные горшки с горелой мукой, на незатейливые инструменты, верно служившие ему в одиноких трудах… Он только смотрел… Молча — у него не вырвалось ни жалобы, ни стона. Иначе вел себя белый. Его натура была создана для борьбы. Он вздрогнул при виде пожарища, побледнел — и только. Странная и, однако же, объяснимая вещь: гибель лачуги не произвела на него такого сильного впечатления, как похищение пироги. Ведь пожар мог возникнуть случайно, тогда как исчезновение лодки — без сомнения дело рук человеческих, и при этом рук врага. Он строил самые различные предположения, но ни одно из них не отвечало на вопросы: кто совершил кражу? С какой целью? Надзиратель скорее всего находился еще в колонии. Если бы ему и сообщили о пребывании беглеца возле бухты, то он явился бы сюда с отрядом охранников и арестовал ненавистного ему Робена без особого труда. Гонде? Конечно, странно, что он, доставив письмо, исчез, как сквозь землю провалился… Нет. Этому невозможно поверить. Он был искренен, он раскаивался, его желание отблагодарить спасителя выглядело естественно. Но почему он так настойчиво уговаривал их не покидать своего обиталища?.. Ему явно хотелось помешать их отъезду… Было в его упорстве что-то сомнительное или, по крайней мере, преувеличенное… Робен снова и снова твердил себе, что он чересчур недоверчив. А что, если это индеец? Жалкий, спившийся краснокожий, для которого спиртное — предел мечтаний… Пьянство убило в нем совесть и вообще все человеческое. Он, пожалуй, мог бы и лодку украсть, и в озлоблении сжечь хижину… Цель его вполне проста и план по-своему хитер: лишить изгнанника возможности передвигаться, «запереть» в долине, а потом извести голодом. От голода даже сильный «белый тигр» ослабеет, а если хижина старого негра, эта защищенная змеями крепость, обратится в пепелище, тогда наш славный Атука приведет сюда охранников, «белый тигр» станет их легкой добычей, а на индейца прольется желанный дождь из тафии, по которой томится его пересохшая глотка… Это предположение казалось, по зрелом размышлении, наиболее вероятным. Значит, действовать надо немедля. Сетовать бесполезно, это лишает воли к борьбе, а Робен должен бороться и выиграть схватку с бедой. — Казимир… — негромко окликнул он прокаженного. Голос товарища вывел беднягу из оцепенения. Он вдруг застонал — тонко и жалобно, как больной ребенок. — О!.. О!.. Плохо мне… Плохо… О, добрый Боже! Умираю… — Мужайся, дружище! Нам послано тяжелое испытание. Надо его преодолеть. — Я не могу… Не могу больше, мой дорогой белый друг. Казимир умрет там, где был его дом. — Казимир, я починю наши инструменты. Ведь у них только рукоятки сгорели, а я приделаю новые. Я построю тебе новую хижину. Обещаю. У тебя будет крыша над головой, даю слово. Буду сам тебя кормить… Успокойся, мой бедный старый ребенок… — Я не могу… Нет, я не могу… — повторял со слезами чернокожий. — Я уже мертвый… О мама, о моя добрая мать… — Не плачь, Казимир, — ласково продолжал уговаривать парижанин. — Я понимаю твое горе… Но мы не должны оставаться здесь. Это опасно. — Куда же вы хотите уйти?Несчастный прокаженный не может идти, куда уж мне. — Я понесу тебя, если потребуется. Соберись с духом… Нам необходимо уйти. — Хорошо, я пойду… — покорно согласился старик. — Бедный ты мой, добрый ты мой человек… Наверное, жестоко заставлять тебя, но как быть иначе? На сегодняшнюю ночь я сооружу шалаш, а завтра с утра постараемся скрыться в лесу, не слишком далеко от твоего участка. Как-нибудь перебьемся… У нас есть ямс, батат, бананы, немного маниоки… Я раздобуду еды. — Да, хорошо, — последовал безучастный ответ. — Вы очень добры… Белый друг великодушный, как добрый Бог… — Ну, в добрый час! Идем же, старина… Я буду работать за двоих, сил и умения мне хватит. Ничего, справимся! Не все потеряно. — В самом деле, не все потеряно, — повторил его слова чей-то голос. — И надо признать, что есть еще отчаянные парни на земле! Робен резко обернулся — перед ним стоял Гонде. — С вами стряслась беда, и немалая, — продолжал каторжник. — Лодка пропала. Я это обнаружил, когда огибал бухту. Ваш участок разорен, хижина сгорела. И это тем более скверно, что путь для вас сейчас открыт. — Значит, вы добились цели? — Как нельзя успешнее! Мне удалось отыскать целый лес красного дерева. — Вот незадача, что у нас так не вовремя все это стряслось! — Не волнуйтесь, там работы не менее чем на три месяца, а за это время вы уже будете далеко. — Если бы так… — Уверен, что так и будет. Больше того, я думаю, что из ваших бед вы извлечете пользу для себя. — Что вы хотите этим сказать? — Что сезон дождей длится от шести недель до двух месяцев, а после него наступает, хоть и ненадолго, время хорошей погоды, когда боши и бони спускаются в долину. Вы наймете гребцов с лодками, и вместо пропавшей пироги у вас будет сколько угодно других! — Вряд ли можно доверять этим людям. Вот вам живой пример: индеец Атука, мой недолгий гость, готов заложить меня за бутылку водки! — Бони и боши — негры. Они не предатели и не пьяницы. Уверяю вас, что в их лодках вы будете в полной безопасности. Это люди смелые, преданные и никогда не выдадут тех, кому оказали гостеприимство. — Правда-правда, — подтвердил Казимир. — Он хорошо говорит. — Значит, по вашему мнению, надо остаться здесь еще на несколько недель? — Не здесь, то есть не на этом самом месте, а подальше. Вам надо поставить хижину в лесной чаще и при этом не оставить за собой никаких следов… Особенно — зарубок. Индейцы хитры, как обезьяны. Но я даю слово, что они вас не найдут… — А во сколько нам обойдется негритянская лодка? — У вас еще есть в земле и на деревьях достаточно плодов, чтобы прокормить двадцать человек в течение месяца. После сезона дождей у негров Марони кончаются все запасы, они тощают с голодухи, просто кожа да кости. За продовольствие они сделают для вас все, что захотите. — Это подходяще, тем более что я не вижу иного выхода из положения. — Если я могу быть чем-то полезен, располагайте мной. Вы же знаете, что я предан вам всей душой. — Да, теперь я это знаю, Гонде, я верю вам. — И правильно делаете… Среди нашего брата есть, конечно, полная дрянь, но есть и другие… Кто, выбрав путь, идет по нему до конца. Благодаря вам я вышел на верную дорогу. Лучше поздно, чем никогда… Значит, так. Недалеко от того места, где вы прятали лодку, на правом берегу есть глухие заросли. Такая чащоба, что не продерешься. Полное бездорожье. Там кругом торчат ауары, вы же знаете, какие у них колючки! Пройти можно только по руслу ручья, который впадает в бухту: глубина примерно метр, и ширина такая же. Ручей теряется в заболоченной саванне, а за саванной и находится то место, о котором я говорю. — Но как же мы перейдем трясину? — Я знаю проход, узкий, но с твердым грунтом. Должно быть, это скальная порода. Идти надо осторожно, опираясь на палку, но ничего, удержаться можно… А уж если проберетесь туда, черта с два кто-нибудь вас найдет! — Отлично! Если мы пройдем по руслу ручья, никаких следов не останется. Решено, выступаем завтра. — Да, завтра! — эхом отозвался Казимир, которого уже успокоили решимость и хладнокровие товарища. — Я провожу вас, — помолчав, сказал каторжник. — Вы позволите мне остаться с вами? — Оставайтесь. Наутро они втроем покинули безымянную долину. — Добрый Бог не захотел, чтобы я умер здесь, — изрек Казимир.__________
— Если есть на земле уморительно смешная страна, то она перед вами. Чудней не сыщешь. Негры, одетые кто во что горазд, деревья без ветвей, с колючками вместо листьев, похожие на трубы в банях «Самаритэн», стенки у домов плетеные, зато окна со ставнями. А насекомые! Жалят беспощадно с утра до вечера. Солнце палит, тени не сыщешь, жара как в плавильной печи. Фрукты… О, эти фрукты, вкусом похожие на консервы с примесью скипидара… Всего месяц назад я обморозился, нынче мои обмороженные уши горят, а нос облупился… Ну и страна! Женщина в глубоком трауре, с побледневшим от усталости лицом слушала, невесело улыбаясь, бурные речи высокого парня, неподражаемый акцент которого выдавал обитателя парижского предместья. — А кроме того, — продолжал молодой человек, — в каждом доме обезьяны и попугаи орут, горланят так, что уши вянут, барабанные перепонки лопаются. Язык местных жителей… ну, они лопочут, как у нас в овернских деревнях…[98] «Таки», «лугу», «лугу», «таки» — только это и слышишь. Попробуй пойми, что он тебе хочет сказать! А пища! Рыба жесткая, как подметка, и какая-то кашица или пюре, просто жуть, от одного вида бросает в дрожь… Однако все это чистый кайф по сравнению с путешествием… Сколько воды! Боже праведный, сколько воды! А я-то, я ведь не бывал даже на пляже Сен-Фор в купальный сезон, Сену видел только в Сент-Уене! Я слышал, что путешествия формируют характер. Надеюсь, меня теперь есть из чего формировать! Однако я разболтался, как попугай, с которым хотел было сегодня утром поиграть, а он прокусил мне палец. Ладно, это пустяки, как бы не разбудить детей… Дай Бог, чтобы они видели сладкие сны, лежа в этих нелепых приспособлениях, которые здесь называются гамаками. — Я не сплю, Никола, — раздался детский голос из гамака, над которым была натянута противомоскитная сетка. — Ты все-таки проснулся, Анри, — огорчился Никола. — И я тоже, — откликнулся второй детский голос. — Надо спать, Эдмон! Ты же знаешь, что днем нужно оставаться в постели, чтобы не получить солнечный удар. — Я хочу увидеть папу. Мне надоело все время спать. — Будьте умницами, дети, — сказала мать. — Завтра мы уезжаем. — Вот здорово! Мамочка, я очень рад! — Мы снова поплывем по воде, да, мама? — Увы! По воде, мой дружок! — Значит, у меня снова будет морская болезнь… Ладно, пускай, зато потом я увижу папу! — Итак, решено, мадам Робен? Завтра покидаем эту негритянскую страну, которая у нас называется Суринам, а у них Парамарибо… Мы отплыли сюда из Голландии месяц с небольшим назад… Пробыли здесь только четыре дня, и пожалуйте… снова отплываем, чтобы встретиться наконец с патроном. Я, например, с удовольствием покидаю эту страну. Там, куда мы направляемся, может быть, и не лучше, но, по крайней мере, будем все вместе. Ах, мадам, ведь вы до сих пор толком ничего не знаете! — Ничего, дорогой мой. По правде говоря, мне кажется, что я во сне — так неожиданно и быстро все изменилось и меняется каждый день. Заметь, однако, что наши таинственные друзья выполняют все свои обещания. Нас встречали здесь, как и в Амстердаме. Без их помощи мы просто пропали бы в незнакомой стране, не в состоянии даже объясниться. Посредник, встречавший нас, взял на себя все хлопоты, и завтра мы выезжаем. Больше мне ничего не известно. Эти незнакомцы бесстрастно вежливы, официальны, как чиновники, и пунктуальны, словно инструкция! Такое впечатление, что они выполняют чей-то приказ. — О да! Все это точь-в-точь относится к нашему посреднику с его очками и бараньей прической. Месье ван дер… ван дер… черт побери, вылетело из головы. Он очень выдержанный, но шустрый и сметливый, как и подобает еврею. Пока что нам не приходится на них жаловаться. Мы путешествовали как послы. Конец увенчает дело. Что ж, взойдем еще раз на корабль, покачаемся на русских качелях, которые не остановятся, пока нам не пораструсит внутренности, как салат в салатнице… Повеселимся! — Наберемся мужества! — невольно улыбнулась мадам Робен, которую забавляли шутливые сетования Никола. — Через три дня будем на месте. — Да я это просто ради красного словца… Тем более что и вы и дети спокойно переносите дорожную сумятицу, а это главное. На следующий день шестеро пассажиров поднялись на борт красивого двадцатичетырехтонного катера «Тропик Бэрд», который дважды в месяц обслуживал голландский берег, поддерживал связь с поселками на реке Суринам, поставлял продовольствие экипажу плавучего маяка «Лайт Шип», стоявшего на якоре в устье реки. Посредник, о котором нам известно лишь то, что он являлся одним из богатейших в колонии еврейских купцов, руководил посадкой. Дети были в легких фланелевых костюмчиках и в широких белых сомбреро, чтобы уберечь головы от беспощадных лучей тропического солнца. Никола тоже нацепил экзотический головной убор и стал похож на ярмарочного торговца пряниками. Капитан лично встретил пассажиров, посредник обменялся с ним несколькими словами по-голландски и спустился в лодку. Якорь выбран, приливная волна высока, через несколько минут начнется отлив. «Тропик Бэрд» красиво накренился на правый борт, паруса наполнились ветром, и вот уже судно летит по волнам… Шесть часов утра. Фейерверк солнечных лучей вспыхнул над зубчатой стеной леса, подступавшего к самому берегу. Удаляющийся город, вода, бурлящая под форштевнем, высокие мангровые деревья[99], застывшие на своих пьедесталах из переплетенных корней, — все словно охвачено заревом пожара. Птицы, застигнутые врасплох взрывом яркого света, взмыли в воздух. Хохлатые цапли, крикливые попугаи, фламинго в розово-красном оперении, белые чайки, быстрокрылые фрегаты, кружили над кораблем, как бы посылая ему пожелания доброго пути на разные голоса. Форт Амстердам со своими зелеными откосами и темными пушками, которые вытянулись в траве словно огромные рептилии[100], вскоре исчез из виду. Потянулись поселки с высокими фабричными трубами, повитыми дымом. Плантации сахарного тростника сливались в огромное биллиардное поле нежно-зеленого цвета. Негры, которые издали казались совсем маленькими, следили за проплывающим судном и что-то кричали вслед. Вот и «Решительность», великолепная плантация, на которой гнут спины более полутысячи рабов. А вон и корабль-маяк «Лайт Шип» со своим черным экипажем и мачтой, увенчанной мощным прожектором. Лоцман вышел и занял рабочее место. Он останется там, пока проходящее судно не скроется из виду. Наконец перед ними океан — беспредельность грязно-желтой мутной воды с короткими и крутыми волнами, на которых катер немедленно заплясал. Путешествие из Французской Гвианы в Голландскую выполняется с большой легкостью благодаря течению, которое идет с востока к северу-западу и выносит суда из экваториальной области. Переход от Марони к реке Суринам нередко занимает всего лишь двадцать четыре часа. Легко, однако, понять, насколько это же течение затрудняет путь в обратную сторону. Если нет попутного ветра, бывает, что корабль болтается в море восемь, десять, а то и более дней, не продвигаясь ни на милю. Именно такая опасность подстерегала и наших пассажиров. Скорость течения — полтора узла, что составляет две тысячи семьсот семьдесят восемь метров в час. К счастью, вскоре поднялся бриз, к тому же с кормы — случай совершенно исключительный! — и это позволило катеру преодолевать течение со скоростью около четырех узлов. Мадам Робен сидела вместе с детьми под тентом на корме, безучастно глядя на пенный след, оставляемый судном, нечувствительная к качке и даже к палящему солнцу: она отсчитывала каждую минуту и мысленно измеряла оставшееся расстояние. Ребятишки, все четверо, неплохо переносили болтанку. Только бедный Никола беспомощно распростерся на бухте троса, досиня бледный; зажимая ноздри, он вел безуспешную борьбу с приступами тошноты. Легонькое суденышко с наполненными парусами не крутилось на месте, однако испытывало довольно сильную боковую качку, и при каждом толчке молодого человека буквально выворачивало наизнанку, белый свет ему был не мил, и бедняге казалось, что он вот-вот отдаст Богу душу. Голос капитана вывел мадам Робен из забытья. Почтительно сняв фуражку в белом чехле, капитан произнес тоном глубокого уважения: — Вы принесли удачу нашему кораблю, мадам… Никогда еще плаванье не было столь благоприятным… — Вы, должно быть, француз? — спросила женщина, обратив внимание не только на утонченную вежливость, но и на прекрасное произношение моряка. — Я капитан голландского судна, — сказал офицер, избегая прямого ответа на вопрос. — Наша профессия требует знания нескольких языков. Впрочем, в том, что я говорю на языке вашей родины, моей заслуги нет: мои родители — французы. — О, месье, вы так или иначе мой соотечественник! Я уже много дней в пути, но совершаю его вслепую, он так загадочно начертан… объясните же мне хоть что-то… Где я должна встретиться с тем, чью участь оплакиваю? Кто те люди, кому я буду обязана своим счастьем? Что надлежит мне сделать? — Мадам, я не знаю, откуда поступают приказы, которым я счастлив повиноваться. Кое-что я предполагаю, но это не моя тайна. Вам, мужественной подруге осужденного, я могу сказать лишь одно: я не без причины распоряжаюсь здесь как командир, к тому же ваш супруг — не первый политический заключенный, совершивший побег. К сожалению, голландское правительство, которое прежде закрывало глаза на эти побеги, нынче — из опасения дипломатических осложнений — не делает различия между уголовными преступниками и политическими и возвращает французским властям и тех и других. Поэтому нам приходится действовать в глубокой тайне, принимать все меры предосторожности. Ваш муж, мадам, должен находиться в Парамарибо, а вам предстоит подняться по течению Марони, избегая населенных мест, и терпеливо дожидаться его прибытия в условиях, надо признать, не слишком легких… — Бедность и лишения меня не тревожат. Я выдержу. У моих детей нет больше родины, они будут жить там, где их отец. Уж лучше эта убогая страна, чем Франция, которая выдворила нас и с которой я тем не менее рассталась со слезами на глазах… — Наряду с прочими необходимыми предосторожностями, — продолжал капитан, при всей своей сдержанности явно взволнованный словами женщины, — я просил бы вас, мадам, хотя мне трудно говорить об этом, пойти на некоторые уловки, необходимые, чтобы ввести в заблуждение ваших земляков в том случае, если мы вынуждены будем пристать к французскому берегу. — Говорите, что нужно делать? Я готова. — Вы понимаете… Ваше появление с детьми в таком месте… Словом, оно озадачило бы, вызвало ненужные расспросы… Придется сделать так, чтобы я сыграл роль их отца… Вы говорите по-английски? — Свободно. — Отлично! Забудьте на время родной язык. Ни одного французского слова! Если с вами заговорят, о чем-то спросят, отвечайте только по-английски. Что касается детей… Ваш старший сын тоже знает английский? — Да. — Ну, а остальные… Постараемся сделать так, чтобы других детей не увидели. Мое судно останавливается в Альбине, напротив фактории[101], основанной голландским купцом. Под предлогом семейной прогулки, например, к водопаду Гермина, я препоручу вас двум членам моего экипажа, неграм, которым вполне доверяю. Они высадят вас на островке, туда на веслах три четверти часа, и останутся в вашем распоряжении. Я не двинусь с места, пока мои люди не вернутся и пока я не получу ваше письменное подтверждение, что вы встретились с мужем. — Хорошо. Я все поняла. Что бы ни случилось, я не поддамся слабости… Уже давно я простилась с цивилизованной жизнью. Она похитила у меня счастье. Быть может, первобытное существование, которое нас ожидает, принесет облегчение, избавление от бед. В любом случае верьте мне, капитан, — а вы олицетворяете для меня и детей всех наших неизвестных благодетелей, — что моя благодарность глубока и неизменна. Где бы вы ни были и как бы ни сложилась наша судьба, вас будут благословлять те, кто страдает и ждет. И дети наши навсегда сохранят к вам признательность… Как и говорил загадочный голландец, его пассажирка принесла удачу «Тропик Бэрд». Никогда еще на памяти гвианских матросов этот рейс не совершался столь быстро. Катер летел как на крыльях, и через тридцать шесть часов после прощания с рекой Суринам на горизонте появился остров Клотильда, расположенный напротив мыса Галиби в устье Марони. Ширина реки в этом месте очень велика: противоположный французский берег едва можно было различить. Судно со спущенным флагом вошло в устье реки, благополучно миновало барьерную мель и, придерживаясь голландского берега, бросило якорь напротив поселка Альбина, не приближаясь к французской колонии. Капитан без промедления нанял туземную лодку, приказал соорудить в ее средней части навес из пальмовых листьев, чтобы защитить пассажиров от палящих лучей солнца, и щедро загрузил ее провиантом. Негр бони, с которым капитан повстречался на берегу, собирался в свою деревню вверх по течению Марони. За несколько блестящих побрякушек он согласился присоединиться к двум матросам. Помощь человека, знающего толк в речном плавании, была очень кстати. Вместо двадцати часов они потратят на дорогу к водопаду Гермина часов двенадцать. Для большей безопасности отплыли ночью. Успех по-прежнему сопутствовал им.Мадам Робен с детьми, все еще не опомнившись от фантастического калейдоскопа невероятных событий, провела уже несколько часов на крохотном островке округлых очертаний, который в поперечнике имел не более сотни метров. Он весь утопал в пышной зелени, если не считать крохотного песчаного пляжа и выступающих в центре гранитных утесов. Маленькие робинзоны оглашали воздух радостными криками. Никола, позабыв о морской болезни, делил с ними счастье бытия. Разбили бивуак[102]. Бони поймал изрядную рыбину, которая теперь жарилась на костре. Уже собирались приступать к первой трапезе, когда на французском берегу, примерно в двух километрах от островка, появилось облачко дыма, а через несколько секунд донесся звук выстрела. Черная точка, которая могла быть только лодкой, отделилась от берега и быстро понеслась к середине реки. Послышался второй выстрел, и другая лодка устремилась вдогонку за первой. В дикой глуши любое происшествие становится событием. А уж это… Ведь в первой лодке скорее всего находились беглецы, которых пытались захватить любой ценой, поскольку, не колеблясь, применили оружие. Первая лодка быстро приближалась. Она опережала вторую, но не намного, идя по диагонали к голландскому берегу. Вскоре можно было различить фигуры двух мужчин, которые гребли с отчаянной энергией. Во второй лодке сидело четверо, из них двое вооруженных. Беглецы направляли свою лодку так, чтобы островок отделял их от преследователей. Это был единственно возможный маневр. У мадам Робен сжалось сердце. Что за драма разворачивалась при ней на этой злосчастной каторжной земле? Перепуганные дети примолкли. Никола пытался привести в боевую готовность — впрочем, весьма неумело — свою двустволку, подаренную голландским офицером. Разгадав замысел убегавших, преследователи устремились им наперерез. Они непрерывно вели огонь. Очевидно, их ружья обладали большой прицельной дальностью стрельбы: в воде возле самой лодки беглецов то и дело вздымались фонтанчики от пуль. До островка оставалось не больше сотни метров, когда пуля перебила рукоятку весла у первого гребца. Он схватил запасное весло и удвоил усилия. Мадам Робен видела теперь, что это белый, а позади него сидит негр с непокрытой головой. Все вдруг поплыло у нее перед глазами, женщина вскрикнула… Пошатываясь, она сделала несколько неверных шагов, и новый отчаянный, безумный крик вырвался из ее груди: — Это он! Это его… убивают! И несчастная француженка без памяти упала на песок.
ГЛАВА 6
Пейзажи тропической зоны. — Возвращение «Эсперанс». — Бесполезная пальба. — Ловкий маневр. — Вместе!.. — Преодоление порога. — Водопад Гермина. — Искусство лодочников Марони. — «Папа!.. Я хочу есть!» — Молочное дерево. — Заблуждения природоведа из Сент-Уена. — Растительный «яичный желток». — В стельку пьяные рыбы. — «Робиниа Нику», или пьянящее дерево. — Волшебная ловля рыбы. — Электрический угорь. — Робинзоны становятся коптильщиками. — Кому они обязаны счастьем?.. — Что происходит с тигром, наевшимся перца. — Когда смеются над лесным владыкой.Буквально погребенные под непроницаемым покровом зелени, каторжник и старый негр долго ожидали дня освобождения. Мысль о погребении, напоминающая о шахтерах, заваленных в мрачных галереях каменноугольных копей, могла бы показаться странной, когда речь идет о лесе. Однако особого преувеличения здесь нет. Самые пышные гиперболы[103], самые смелые сравнения, самые энергичные определения не дают достаточного представления о гнетущем чувстве полного одиночества, оторванности от мира людей, которое способны вызывать глухие места бескрайних лесных пространств. Вообразите густолиственные зоны, которые наслаиваются одна на другую, образуя зеленые горы; ряды огромных стволов, которые сдваиваются, удесятеряются, множатся без конца и края, превращаясь в неодолимые стены; добавьте оплетающие все кругом лианы — они окутывают человека, словно плотная драпировочная ткань, — и перед вами предстанет мрачная бездна, черная шахта, влажное подземелье девственного леса. В старом Париже есть темные улочки с обшарпанными домами, осклизлой мостовой, затхлым воздухом — улица Мобюэ, улица Венеции или улица Брантом. Солнце никогда не осушает бегущих по их мостовым потоков грязи, они днем и ночью погружены во мрак, в котором задыхаются уличные фонари. Если взглянуть с крыши дома в тесные дворы, глубокие и темные колодцы, то увидишь, как на дне их копошатся еле различимые, почти бесформенные существа. Но всего в нескольких шагах от этих клоак льются волны чистого воздуха и яркого света, блистает великолепие огромного города. Таковы и леса Гвианы, которые таят среди тропической пышности уголки мрака, забвения и безысходности. Здесь встречаются две мощнейшие созидательные силы природы: экваториальное солнце, круглый год щедро нагревающее жаркую землю, и богатая влагой почва, образованная из многовековых органических отложений, с избытком насыщенная питательными веществами. Зерно, этот скромный зародыш великана, сказочно быстро прорастает в благоприятной среде. Не по дням, а по часам побег развивается в тропической теплице и уже через несколько месяцев превращается в дерево. Его макушка тянется кверху, тонкий и тугой ствол похож на трубку, через которую солнце вытягивает земные соки. Молодому дереву нужен воздух. Ему нужен свет. Бледные, анемичные листья, как у растений, не знающих дневного тепла, нуждаются в хлорофилле[104], как наша кровь — в гемоглобине[105]. Только солнце способно помочь выжить дереву. И единственной целью молодой поросли становится стремление вверх, погоня за горячими поцелуями светила. Нет силы, которая могла бы сдержать этот порыв. Деревья пробивают плотный шатер листвы и добавляют новую каплю к зеленому океану. Чудеса растительного мира впечатляющи, поразительны. Чтобы составить о них представление, нужно побродить под тесными переплетениями ветвей, являющими собой единое и нерасторжимое целое, поглядеть на могучие корни, возле которых беспрерывно происходит зарождение новых жизней. Ничтожно малым и слабым кажется человек, понуро бредущий по необозримой тропической чаще! Медленно его продвижение среди гигантов, — и, несмотря ни на что, он пробирается вперед, с компасом в одной руке, с крепким ножом — в другой, напоминая муравья, отважно буравящего почву горы своим стрекалом. Двое наших героев жили после двойного несчастья, которое их постигло, в растительных катакомбах[106], утеряв всякий счет времени. Им недоставало воздуха и света. Ни одна птица не нарушала своим пением могильную тишину: пернатые обитатели леса опасаются жить в таких местах, где им труднее уберечься от хищников. Ни травинки, ни цветка на лоснящихся от влаги корневищах, похожих на основания колонн готического собора[107]. Только зеленоватые мхи, напитанные водой, как губки, а под ними — кишащий мир ящериц, змей, сколопендр, жаб, гигантских пауков и скорпионов. Робен и Казимир около месяца скрывались в этом рассаднике лихорадки, где жить было необычайно тяжко. Даже пламя костра разгоралось с трудом из-за недостатка кислорода в воздухе. Раз в два дня парижанин отправлялся за провиантом и приносил с пепелища бананы, маис, плоды ямса, батат. Скудного пропитания хватало только, чтобы заглушить сосущую боль в желудке, приостановить смертельную работу голода. К счастью, человеческий организм таит в себе некий запас прочности, скрытые жизненные ресурсы. Лесные отшельники с часу на час ждали нужного сигнала, но пока ожидания их были тщетны. Однажды утром Робен вышел по обыкновению постоять возле мутной речки — и вдруг подскочил словно ужаленный. Легкая лодка с четырьмя веслами болталась перед ним на воде, привязанная к толстому корню. Это оказалась та самая пирога, которую построили они с Казимиром и назвали «Эсперанс» и которая так неожиданно исчезла. Откуда она взялась — и к тому же готовая к отплытию? Большая связка спелых бананов лежала в ней, еще ямс, печеные бататы и — самое удивительное! — сухари и бутылка можжевеловой водки. Стало быть, лодка оставалась затопленной со дня исчезновения… скорее всего так, потому что ее влажные и грязные борта успели обрасти водорослями. Инженер не стал размышлять о необычности происшествия, озабоченный лишь тем, как вырваться из заточения. Разгадку Шарль отложил на будущее. Бегом он бросился к их с чернокожим убежищу. — Казимир! Мы едем! — Куда, друг?.. — Наша пирога нашлась! Она там, совсем близко! Значит, выход через залив свободен, и мы можем покинуть это гиблое место и прорваться к Марони! — Хорошо, друг, я еду с вами! Нет возможности воспроизвести здесь восторженные восклицания и поток недоуменных вопросов добряка. Но если Казимир говорил много, то и делал не меньше. Пораженная слоновой болезнью нога, казалось, весила не больше другой. Старик двигался так быстро, так ловко управлялся с последними приготовлениями, что ему удалось занять место в лодке почти одновременно с компаньоном. Детская радость осветила изуродованное лицо негра, когда он крепко ухватился за рукоятку весла. Челнок, направляемый двумя гребцами, медленно скользил между водорослей, которые с легким шорохом терлись о борта, и устремлял свой бег к широкой бухте. Ничего подозрительного вокруг, никаких помех. Перед ними снова открылся светлый простор. Зорко глядя по сторонам, навострив слух и напрягая мышцы, беглецы бесшумно погружали весла в воду, стараясь не стучать о борт. Они миновали место, где велись лесоразработки, теперь совершенно безлюдное. Пирога то и дело проплывала мимо огромных бревен, привязанных к пустым бочкам, по воле волн и течения бревна медленно влеклись в сторону Марони. Все складывалось как нельзя удачнее. Еще несколько минут — и они выйдут из опасной зоны. Спарвайн становился все шире, приближаясь к месту впадения в Марони, которая уже показалась вдали. Друзья приостановили пирогу, внимательно огляделись по сторонам, осмотрели берег, заводи, торчащие корни, поваленные стволы. Ничто не внушало подозрений. — Вперед, как можно быстрее вперед! — негромко скомандовал француз. Суденышко заскользило стрелой по глади широкой Марони; противоположный берег стал виден, хотя до него было километра три, не меньше. Спутники готовы были поверить в свое спасение. Они уже отплыли от опасных берегов метров на четыреста, когда позади послышались громкие крики и ругань. Грянул выстрел. Неточно направленная пуля взметнула воду метрах в двадцати от лодки. — Вперед!.. Казимир, вперед! — выдохнул Робен, налегая на весла. Отраженные от поверхности воды, крики четко доносились до ушей беглецов: — Стой! Стрелять буду! Стой!.. Второй выстрел, а затем и третий подтвердили вполне серьезные намерения кричавших. Робен оглянулся и увидел, что четырехвесельная шлюпка отделилась от берега и преследует их. — Держись, Казимир, держись, дружище! Мы опередили их намного. Бандиты! Живым я им не дамся! — Да, да, друг! Я жму изо всех сил! Плохие люди нас не догонят, нет! — Греби к островку, вот там, впереди… Как будто мы решили высадиться! — Да, да, хорошо… Это хорошо! — У самого берега сделаем поворот и обогнем остров… Тогда нам пули не страшны. Расстояние между «Эсперанс» и островком быстро сокращалось, но и погоня наддала. Пули сыпались дождем, к счастью — все мимо. И вдруг одна из них расщепила весло в руках у Робена. Он чертыхнулся и схватил запасное. В эту секунду и раздался отчаянный крик женщины, которая узнала мужа. Робен увидел фигуру в черном, рухнувшую на песок, взбудораженных и растерянных детей, негров, махавших руками. Какой-то человек в европейской одежде бросился навстречу пироге… Нет, это не могли быть враги. Душераздирающий крик не таил в себе угрозы. Но эта женщина… И дети… Здесь! Боже правый! До берега оставалось не более восьмидесяти метров. Мышцы Робена напряглись до того предела, за которым человек падает замертво. Пирога неслась как на крыльях. Еще минута — и нос ее глубоко врезался в песок. Одним неистовым прыжком бургундец выскочил на берег, поднял свою бесчувственную жену и застыл на месте, глядя широко раскрытыми глазами на безмолвных и перепуганных детей. Враги приближались. Быстро опомнившийся Шарль узнал Никола, увидел негра бони, опершегося на ружье, заметил и большую лодку с навесом из пальмовых листьев. — Месье Робен!.. — не выговорил, а скорее простонал молодой человек. — Никола!.. Ко мне! Быстрее в лодку!.. А вы, друзья, оставайтесь здесь! — крикнул Робен голландским матросам. Левой рукой поддерживая жену, еще не пришедшую в себя, правой он ухватил за рубашку самого младшего сына, бросился с ними к лодке и кое-как усадил их туда. Никола прибежал с остальными тремя мальчиками. Казимир спешил за ними. — Скорее! — торопил Робен. — Отплываем! Негр бони молча повиновался. — Весла! Один из голландских матросов подал весла. Казимир занял переднее место, Робен сел посредине, бони — на корме. — Толкай! Лодка отвалила от берега. Два негра из Суринама, пораженные разыгравшейся сценой, остались на островке возле увязшей в песке «Эсперанс». Бони понял маневр. Он вырулил и обогнул остров. Нападающие скрылись из виду. Робен выиграл время: преследователи не сразу сообразят, что на островке остались только двое с «Тропик Бэрд». Погоня, конечно, возобновилась, но без особой надежды на успех. Лодка, правда, нагружена потяжелее, чем пирога с беглецами, но присутствие негра бони — большое преимущество. Он один стоит целой команды гребцов. К сожалению, пассажиры лодки оставались в пределах досягаемости карабинов. Неустрашимый Робен, безразличный к собственной гибели, дрожал при мысли о жене и детях, которых вновь обрел таким неожиданным, необыкновенным образом. Согнувшись над веслом, он все силы и помыслы сосредоточил на спасительном для преследуемых маневре. Он не мог даже бросить взгляд на детей, оцепеневших от страха. Мадам Робен медленно приходила в чувство. Никола прижимал смоченный холодной водой платок ей то ко лбу, то к вискам. — Спасен!.. Он спасен! — прошептала наконец женщина. — Папа, папа! — вдруг закричал Анри. — Они снова хотят стрелять! В ту же секунду пуля чиркнула о борт лодки и упала в воду, подняв фонтанчик брызг. Неистовая ярость охватила инженера. Эти люди не знают ни совести, ни чести, они готовы убить детей! Он, Робен, сохранил жизнь своему палачу Бенуа, мало того — спас ему жизнь. Но сегодня преследователи угрожали его детям, его бесстрашной, преданной жене, которую он не успел еще обнять после долгой разлуки. Ее и детей могли убить у него на глазах. Кровь хлынула смельчаку в лицо, ненависть перехватила дыхание. Рискуя замедлить движение лодки, он выхватил у негра длинное ружье. Тот сразу понял его намерение и вынул из-за щеки (вполне надежное хранилище!) две пули… Инженер ловко, твердой, привычной рукой загнал пули в оба ствола. — Негодяи без сердца и совести! — крикнул Робен. — Остановитесь, или я вас прикончу! Озадаченные его решительным видом и опасаясь взрыва отчаяния у такого человека, охранники опустили карабины. Теперь они волей-неволей должны были прервать свою охоту: вскипающая бурунами вода говорила о приближении порога. Лодка направлялась к водопаду Гермина. Бони Ангоссо единственный мог преодолеть полосу камней, вокруг которых бешено крутились и хлестали волны. Двумя точными ударами весла он развернулся на месте и очутился впереди. Казимир и Робен пересели на скамьях так, чтобы плыть лицом вперед, и отец увидел наконец перед собой своих милых сыновей и их отважную мать. Маленький Шарль, не подозревая об опасности, в полном восторге хлопал в ладоши. Оставим их на время и попытаемся объяснить, почему Робен и прокаженный оказались поблизости от водопада Гермина, тогда как, по их предположениям, они должны были достичь его только через четыре часа после выхода из бухты. Это произошло из-за ошибки в географических названиях. Гонде был вполне уверен, что перед ними речка Спарвайн, однако дело обстояло совсем иначе. Территория, по которой Гонде бродил в поисках нужных деревьев, находилась гораздо дальше от колонии, чем он думал, — километрах в пятнадцати вверх по течению. Разработчики с двух участков лесозаготовок редко общались между собой. Каторжник вообще не знал о существовании первого из них. А поскольку меньший участок также назывался Спарвайн, то старатель распространил это имя и на протекавшую здесь речку. На самом деле то был водоем Сакура. Отсюда и ошибка Гонде в определении места, где находился речной порог. Островок Суанти-Казаба лежит в пятнадцати километрах от Спарвайна и связан с другой рекой, протекающей по голландской территории. В те времена эта река была еще безымянной, только в 1879 году два француза, Казальс и Лабурдет, исследовавшие золотоносный район на левом берегу Марони, нанесли ее на карту как залив Рейтер. Приливное течение, которое ощущается за восемьдесят километров от морского побережья, повлекло беглецов к водопаду Гермина. Преследователи не могли близко подойти к нему на управляемой рулем килевой лодке. Затея была обречена на неуспех с самого начала, и все, что осталось охранникам, — это с досадой следить, как пирога ловко, словно рыба, лавирует среди волн, и посылать ей вслед бессильные проклятия.
Водопад Гермина — самый простой из всех порогов на Марони. Каменные завалы образуют нечто вроде естественного шлюза[108] шириной около восьмисот метров и с перепадом воды не более пяти метров. Наклон не слишком крутой. Не требуется даже особой ловкости, чтобы на местной лодке — без киля и без руля, с высоко приподнятыми носом и кормой — выполнить такой переход. Бони Ангоссо, с детских лет знакомый с этим трудным маневром, огибал острые выступы темных скал, уверенно и точно выбирая нужный проход. Время от времени бурлящая вода, к ужасу детей, грозила перевернуть утлую пирогу, но своевременный удар весла выравнивал положение суденышка и позволял ему благополучно продолжить путь. Ангоссо, немного говоривший на креольском наречии, объяснил Робену, что в верховьях реки есть куда более грозные и опасные пороги, например, Синга-Тетей, который находится чуть выше того места, где реки Ава и Тапанаони, сливаясь, образуют полноводную Марони. Спуск там особенно страшен. Вода ревет и клокочет в узких проходах среди скал, пенится, рассыпается шумными каскадами и вырывается с адским грохотом на простор, образуя множество опасных водоворотов. Синга-Тетей на языке негров бони означает «Смерть человеку». Мало кто может преодолеть этот порог. Гребцы бросают весла. Работают только двое длинными и крепкими шестами-такари — один впереди, другой сзади. Каждый из этой пары становится, уперев конец шеста себе в грудь. Все остальные ложатся на дно лодки, крепко уцепившись обеими руками за борта. Радужно сверкающая водяная пыль слепит глаза, лодка легким перышком летит по гребню волны. Мощное течение швыряет ее во все стороны, удары о камни так сильны, что, кажется, хрупкая посудина вот-вот разлетится в щепки. Передний гребен, полусогнувшись, направляет конец своего такари на скалу и, не дрогнув, грудью принимает удар, на который она откликается гулко, словно туземный барабан тамтам. Гибель грозит каждую минуту. Маневр выполняется снова и снова, то одним, то другим гребцом, и, как правило, с одинаковым успехом. Наконец, после нескольких минут мучительного напряжения, люди в лодке, промокшие, оглушенные, полной грудью вдыхают воздух на спокойной глади воды, а те, кто преодолевали порог в качестве пассажиров, на всю жизнь сохраняют воспоминание о головокружительном маршруте, отмеченном поминутными глухими ударами такари в грудь тех, кто проводил лодку сквозь буруны. Для Ангоссо еще не настал час показать способности лодочника-гимнаста. Достаточно было весла, чтобы управлять лодкой. Зорко вглядываясь в бурлящие струи, славный парень, истинное дитя природы, иногда вскрикивал от радости, заметив в воде рыбу, какой-нибудь великолепный экземпляр кумару. Он тотчас начинал ее громко восхвалять: какое нежное и сочное у нее мясо, как душист ее жир, вот была бы добыча!.. И негр поглядывал с вожделением на свой двухметровый лук, на стрелу с тройным острием — она всегда попадает в цель… — Увы! Белый господин, и вы, госпожа, и маленькие белые господа, все вы очень спешите, и Ангоссо не может подстрелить кумару… Солнце пекло нещадно. Худо было, что котелок с едой опрокинули во время внезапного появления Робена на островке, а в лодку садились так поспешно, что не прихватили с собой ни крошки съестного. Красноречие Никола вскоре увяло. В животе у него было пусто. Дети хныкали, изнывая от жары на дне пироги. Им давно уже хотелось есть и пить, но накормить ребят было решительно нечем, а тепловатая речная вода не столько утоляла, сколько распаляла жажду. Мучения делались час от часу невыносимее. Пора было причалить к берегу и сделать передышку, тем более что преследователи давно скрылись из виду, а пороги остались далеко позади. Робен первым почувствовал необходимость остановки, а когда маленький Шарль с трудом выговорил пересохшими губами: «Папа! Я хочу есть», инженер обратился к Казимиру: — Казимир, нам надо пристать к берегу. Нельзя плыть дальше. Дети хотят пить и есть. Посоветуй, как быть?.. Я готов ко всему. Усталость для меня не помеха, я теперь могу горы перевернуть. — Мы поищем место для высадки, — отвечал старик, перебросившись несколькими словами с Ангоссо. Пирога круто развернулась и пошла к берегу под прямым углом. Через полчаса она вошла в маленькую бухточку, затерянную под сенью густых высоких деревьев. В бухточку впадал неширокий ручей. — Мой добрый друг, старый Казимир доволен. Я накормлю детей молоком и яичными желтками. Робен взглянул на своего спутника с беспокойством: уж не тронулся ли умом добряк от жары. А Никола, который не понимал креольского наречия, разобрал только, что речь идет о молоке и почему-то о яйцах. — Бедный старик рехнулся, я не вижу ни птиц, ни коров, ни коз, а эти деревья вряд ли могут нестись или доиться… Хотел бы я знать, как он выйдет из положения… Орудуя широким ножом с ловкостью и быстротой фехтовальщика, негр бони набросал на землю кучу веток. Разложить две жерди, соединить их третьей, поперечной, на этой раме укрепить самые длинные и густые ветви — это привычное дело заняло у Ангоссо немного времени. Через три минуты была готова так называемая ажупа, нечто вроде матраца из свежей зелени. Дети вместе с матерью с удовольствием расположились на нем. Робен нетерпеливо вышагивал, наблюдая за спокойными, но быстрыми действиями негра. А тот уже извлек из лодки две чашки, обмазанные водонепроницаемой смолой, называемой в этих краях мани и представляющей собой сгущенный древесный сок. Затем, углядев два великолепных дерева с блестящими красноватыми стволами, высотой не меньше тридцати метров, сделал на коре глубокие надрезы почти у самой земли. И к великому изумлению бравого Никола, из этих надрезов тотчас выступили белые, крупные и густые капли, которые сливались воедино и сбегали тонкими струйками по наклонным разрезам в подставленные чашки. — Да это же молоко! Настоящее молоко! Кто бы мог подумать! — Молодой человек взял наполненную чашку и протянул ее Шарлю. — Держи, малыш, выпей свеженького молочка! Ребенок прильнул к посудине, с жадностью глотая целебную влагу. — Ну как, вкусно, мой милый? — Да, — с чувством подтвердило дитя. — А теперь дай молочка маме, а потом Эжену, а потом Эдмону, а потом Анри… Но второй страждущий уже хлебал вовсю. Чашки ходили по кругу, и когда все утолили жажду и отчасти голод, за дело взялся Никола с такими комическими ужимками восторга и наслаждения, что все, в том числе и Робен, смеялись от души. — Знаете, патрон, я никогда в жизни не пробовал ничего подобного! Древесное молоко! Это даже и вообразить не могут в Париже, где молоко разбавляют водой, не всегда чистой. Ей-богу, признаюсь вам, я начинаю верить, что они отыщут для нас и яйца. Ну ладно! Уж это дерево я теперь не спутаю с другими. Хотелось бы знать его название. Я не очень-то старательно изучал ботанику в школе. — Это балата, — пояснил Казимир. — Совершенно верно, — вмешался Робен, — это балата, молочное дерево, по-латыни mimosops balata. Я часто проходил мимо этих исполинов и не узнавал их. Видишь ли, Никола, для изучения природы одних книжек мало… — Сущая правда! Нужна практика. Понимаете ли, практика… Молодой человек внезапноосекся, и было из-за чего. Круглый предмет величиной со сливу ренклод сорвался с дерева, под которым он сидел, и плюхнулся ему прямо на шляпу. Юноша поднял голову и увидел Ангоссо, оседлавшего одну из толстых ветвей. Он улыбался — шире некуда, в полном восторге от собственной проделки. — Яичный желток! — вскричал Никола с радостью, подбирая упавший предмет — круглый, как мячик, красивого оранжевого цвета и весьма твердый на ощупь. — Вы можете его съесть, — заметил Казимир. — Он хороший. — Не откажусь! Тем более что на дереве их полно, всем хватит. Надо проверить, не насиженное ли это яичко! И бравый парень впился зубами в плод, собираясь разделаться с ним по-своему, но тотчас сморщился от боли. — Ай! Да там внутри цыпленок. — Какой еще цыпленок? — Это я так, к слову… Малыш у этой высокорослой «наседки» — косточка, и претвердая, доложу я вам! Я чуть зубы не сломал. И вот что забавно: косточка с одной стороны совсем гладкая, а с другой шероховатая… Как будто ее руками сделали. — Но это, по крайней мере, съедобно? — Не хуже чего-нибудь другого. Немного суховато, крошится, но вкусно. Ей-богу, хоть это и не настоящий желток, но мой желудок согласен и на подделку… Да вы сами попробуйте, — заключил юноша, спасаясь бегством из-под дерева, с которого бони обрушил на землю целый дождь плодов. «Яичный желток» — именно так называют в Гвиане этот плод — объявили замечательно вкусным все члены маленькой колонии, а дети, насытившись, тут же заснули крепким сном. Робен, кое-как утолив голод необычной едой, с беспокойством подумывал о завтрашнем дне. Он знал, что эта пища утоляет лишь первые позывы голода, но уже вскоре окажется недостаточной. Дети и их мать нуждались в укрепляющих продуктах, особенно в этих широтах, где анемия[109] правит свой мрачный бал. Ангоссо, добрый гений минувшего дня, вывел инженера из раздумья. — Надо опьянить речку, — сказал негр без предисловий. — Как ты говоришь? — переспросил Робен, полагая, что недослышал. — Надо опьянить речку, — повторил тот, — чтобы поймать рыбу. Для этого следует собрать нику, тут ее много растет. — Да-да, — подтвердил Казимир. — Рыба любит нику. Она пьет, а потом становится пьяной, как индеец. — Ну а дальше что? — Мы берем ее голыми руками, вялим и коптим, а дети кушают вкусную рыбу. — Не понимаю, что все это значит, но опьяняй воду, если надо. Я могу помочь? — Оставайтесь с мадам и детьми, а бони пойдет за нику. Негр отсутствовал больше часа, и Робен уже считал минуты, когда появился Ангоссо, нагруженный, словно мул[110] контрабандиста. Но, в отличие от вполне симпатичного однокопытного, о котором сложилось несправедливое мнение как о непокорном упрямце и который таскает свою поклажу на спине, чернокожий удерживал огромную вязанку свежесрезанных лиан на голове. Весила эта вязанка не менее сорока килограммов. Покрытые коричневой кожурой полуметровые отрезки лиан были собраны в пучки вроде тех, что вяжут французские виноградари из виноградной лозы. Кроме того, бони держал в руке маленький букетик из листьев и желтых цветов, которые бургундец тут же узнал. — Это пьяное дерево! — воскликнул он. — Нику, — поправил сияющий Казимир. Старший мальчик проснулся и с любопытством приподнял голову. Отец обратился к нему: — Ну, мой дорогой Анри, вот благоприятный случай, чтобы заняться ботаникой. Мы проведем в этих краях много дней, а может быть, и лет, и только природа предоставит нам необходимые средства к существованию. Нам нужно хорошо изучить ее, чтобы с успехом использовать ее дары. Потребность жить усилит нашу тягу к познанию. Ты хорошо меня понимаешь, дитя мое? — Да, папа, — ответил ребенок, глядя на отца с любовью и восхищением. — С помощью вот этого растения — я узнал его вид и семейство, но до сих пор как-то не думал о его свойствах — наши спутники собираются добыть для нас много рыбы. А это превосходная пища, и нам следует научиться добывать ее самим… Погляди на эти листья и цветы, запомни их хорошенько… Мальчик взял букетик из рук Ангоссо, всмотрелся внимательно, стараясь запомнить приметы растения. Робен продолжал: — Это растение из семейства бобовых, к которому принадлежит и акация. По странному совпадению око, призванное сохранить нашу жизнь, носит наше же имя. Это так называемая робиния, по-латыни robinia nikou, а имя ей дал наш однофамилец Робен, садовник Генриха IV[111]. Собственно говоря, и все семейство родственных растений называется «робиниевые»[112]. Туземное слово «нику» добавил ботаник Обле, для того, я думаю, чтобы выделить разновидность, которая находится перед нами. Ты все понял, сын, все запомнил? — Да, папа, теперь я всегда узнаю это растение. — Муше[113], идите сюда, — позвал Ангоссо, который во время ученого собеседования успел перегородить течение ручья легкой запрудой из покрытых листьями веток. Бони уложил в лодку связки лиан. Затем усадил туда семью Робена, всех шестерых, а также Казимира и Никола, схватил весло и быстро пересек заливчик, образованный устьем ручья. Негр причалил к противоположному берегу. Хижину из листьев соорудили очень быстро, а затем, покончив с необходимой для лесной стоянки предварительной работой, Ангоссо взялся за выполнение главной задачи по «опьянению» ручья. К берегу подступали бурые, сильно пористые, словно губка, скалы. Ангоссо взобрался на одну из них, схватил пучок нику, подержал его в воде, уложил на соседней скале и принялся нещадно колотить по стеблям короткой и крепкой дубинкой, пока стебли не превратились в кашу. Сок струился вниз со скалы и окрашивал воду в красивый опаловый цвет. — И это все? — поинтересовался Робен. — Да, муше, — ответил негр, продолжая орудовать дубинкой. — Тогда я могу тебе помочь, это вовсе не так трудно! И французский инженер с усердием последовал примеру своего туземного наставника. Они «переработали» таким образом все пучки лиан. Ставшие молочно-белыми, воды ручья постепенно смешивались с водой маленького залива, которая в свою очередь приобретала перламутровый оттенок. — А, вот теперь хорошо, хорошо… — приговаривал негр. — Подождем еще немного… Бони со свойственным людям его расы особым чутьем на удивление точно выбрал место для рыбной ловли: сюда попадали рыбы не только из ручья, но также из затопленной саванны, из самой Марони и даже морскую рыбу заносило приливным течением из океана, до которого было почти сто километров. Ждать пришлось недолго. Наметанным глазом Ангоссо увидел, что вода в некоторых местах как бы подрагивает. — Начинается… Надо идти к запруде. Робен хотел отправиться один, оставив жену и детей на попечении Казимира и Никола, но они с таким жаром упрашивали его, что он взял с собой всех. Поскольку лес был непроходим, снова поплыли в лодке. Поистине необычное зрелище открылось им! Вода словно кипела. Впереди, позади, справа и слева от лодки рыбы большие и малые поднимались из глубины к поверхности. Исчезали на мгновение, чтобы всплыть кверху брюхом, и болтались на воде, как мертвые. Но на самом деле, опьяненные соком нику, они лишь потеряли способность двигаться, ускользать от опасности, прятаться, защищаться. Их были тысячи, с разинутыми ртами, оттопыренными жабрами, бьющие по воде ослабевшими плавниками. Лодка направилась к запруде, куда сносило течением все это множество водоплавающих. Ангоссо пришлось расчищать проход ударами весла. Наконец причалили. Робен предостерегал детей, запрещал им прикасаться к рыбам. Среди них кишело немало опасных, с ядовитыми шипами или острыми, как бритва, зубами. Как вытащить на берег всю эту трепещущую массу? Парижанин спросил об этом бони. Нечего и думать погрузиться в воду, где рискуешь напороться на колючего ската или на хищную пирайю. Ангоссо довольно улыбался; ни слова не говоря, он развернул свой гамак с широкими ячейками и прочными креплениями, сквозь которые были продеты длинные веревочные оттяжки. Чернокожий привязал к гамаку камень, опустил самодельную сеть на дно ручья, удерживая в руке одну из оттяжек; другую он передал Робену. Соединив усилия, они вдвоем вытянули на берег гамак, превращенный в сеть и полный серебристых обитателей вод Гвианы. Едва опорожненный, гамак-сеть был закинут снова; гора добычи росла, несмотря на протесты Робена, который твердил, что уже хватит, довольно, улов некуда девать. Каких только рыб не было здесь! Плоские, округлые, в чешуе или без нее, с зубастой пастью или гладкими челюстями, с ядовитыми шипами на спине, змееподобные, — одним словом, самые разнообразные и по облику и по названьям: парассисы, губаны, кефаль, калканы, большеголовые аймары, необычайно вкусные под острой приправой, кумару, пирайи, пресноводные скаты кирпичного цвета с тремя или четырьмя парами глаз, с грозными колючками, белые карпы, усачи… и еще множество других, пока еще не известных соответствующей отрасли науки — ихтиологии. Среди рыб известных и довольно часто упоминаемых натуралистами и путешественниками, были пучеглазые прыгуны[114], живородящие рыбки от двенадцати до двадцати сантиметров длиной, без чешуи, необычайно подвижные: прыгун не случайно так назван, он выскакивает из воды и прыжками несется по ее поверхности метров тридцать, а то и больше. Обитает это создание возле низких берегов, и места его скопления так плотны, что одним выстрелом дробью можно поразить две-три дюжины сразу. Наконец, чтобы завершить длинный и далеко не полный перечень, упомянем родственницу сома, так называемую пемекру. Бони только что ударил ножом плашмя по голове одну из этих большущих рыбин. К немалому удивлению парижанина, из-под жабер рыбы вырвалась целая стайка мальков, длиной и толщиной не более сигареты. Мальки немедля облепили большую рыбу, уже мертвую, плотной гирляндой. Казимир принялся рассказывать Робену о привычках пемекру. Во время нереста самец собирает икру самки и прячет икринки в своих зубчатых жабрах. Появившиеся из икринок мальки несколько дней не покидают спасительное убежище. Подрастая, они начинают выплывать, но держатся поблизости от отца. При малейшей опасности самец широко раскрывает жабры, словно наседка — крылья, и все мальки собираются и прячутся. Так объяснил старик и добавил: — Он очень хороший папа, он отпускает своих детей только тогда, когда они станут сильными. Он хороший папа. Робен протянул было руку, чтобы поймать одного из мальков и рассмотреть поближе, но Казимир остановил его: — Не трогайте, не надо! Он очень злой! Кусает больнее, чем скат! Ангоссо все еще продолжал свои операции по заготовке рыбы, хотя ее накопилось уже столько, что можно было досыта накормить полторы сотни голодных мужчин. Но славный парень, «опьянив» целый залив, хотел, чтобы все его обитатели попали в его руки. Единственная уступка, на которую он согласился, — это выпускать обратно в воду самых мелких рыбешек. Гора съестного воодушевляла его. Он готов был есть три-четыре дня подряд без передышки, транжирить добытое как попало, не думая о том, что через неделю может снова наступить голод. Туземцев не переделаешь. Предусмотрительность, экономия, мысль о завтрашнем дне — все это им не свойственно. Если на охоте убивают тапира, все племя усаживается возле горы мяса и дружно наедается до отвала. Взрослые и дети, старые и малые едят и едят — через силу, вплоть до несварения желудка. Ангоссо прервал работу, обнаружив крупного, длиной больше метра угря, более подвижного, чем прочие обитатели реки. Возможно, он был меньше одурманен или уже «протрезвел», — во всяком случае, пленник быстро извивался в траве. Робен занес над ним нож. — Не трогайте, муше! — крикнул бони, но его предупреждение запоздало. Удар обрушился на голову угря. Но странное дело: нож выпал из руки инженера, а сам он вскрикнул от боли. — Это угорь-трясучка, — сказал Казимир. — Плохое животное! Дети подняли крик: — Папа, он тебя укусил? Тебе очень больно? — Нет, нет, мои хорошие. — Робен постарался улыбнуться. — Ничего страшного, пустяки. — А кто это? — Электрический угорь. — О! — удивился Эжен. — Угорь электрический, как телеграф? — Да нет же, — начал объяснять Анри. — Сейчас я тебе расскажу, что это такое. Я читал об этом. Ну, такая рыба, которая вырабатывает электричество, как машина, где быстро крутится стеклянное колесо. Если ты просунешь палец между двумя пластинками, тебя сильно ударит током. Ну вот! И угорь тоже бьет током, как будто у него в голове электрическая машина. Правда, папа? — Примерно так. Твое краткое объяснение, Анри, вполне правильно. Может быть, нам еще представится случай получше изучить это удивительное создание. Запомните только, что трогать его опасно и что электрический разряд для него такое же средство нападения и защиты, как ядовитые зубы для змей. Будьте осторожны и не прикасайтесь к каким бы то ни было тварям или насекомым в мое отсутствие. — Копченый угорь-трясучка очень вкусный, — заметил Казимир. — Да, это верно. Я просто забыл, что этого угря можно закоптить, как и всякую другую рыбу. Но мы заболтались, а вот Ангоссо не говорит ни слова, зато делает дело. — Он готовит нам поесть, — сказала мадам Робен, — а мы даже не в состоянии ему помочь. Когда мы, цивилизованные люди, попадаем в условия дикой природы, то много проигрываем по сравнению с ее «некультурными» обитателями. — Мы не так много времени провели вместе с Ангоссо, но уже знаем, как «опьянить» воду… Скоро научимся коптить и рыбу, и дичь. А ловкость и навыки этого бони действительно достойны восхищения. Посмотри, какой он умелый дровосек! Чернокожий хлопотал за троих. Для начала он вбил в землю четыре колышка с раздвоенными, как у рогатки, верхними концами, соединил их перекладинами. Образовался четкий четырехметровый квадрат, приподнятый на полметра над уровнем земли. Штук двадцать тонких жердочек были уложены на эти опоры, образовав простейшую коптильню. На земле под этим сооружением бони разложил листья и мелкие ветки, а на жердочках равными рядами — рыб. Мадам Робен и дети хотели ему помочь в этой несложной работе, однако негр решительно воспротивился, и не без оснований: тут нужна была осторожность. Вот не совсем еще уснувшая аймара внезапно захлопнула зубастую пасть, и Ангоссо ловко увернулся от укуса; потом понадобилось лишить ската колючек, а электрического угря обезглавить, так как электрические органы находятся у этой рыбы именно в голове. Итак, чернокожий стряпчий «зарядил» коптильню, а затем поджег кучу веток и листьев, от которых повалил густой пахучий дым. Менее чем за полчаса негр соорудил еще две такие же коптильни, и они тоже задымили, словно угольные печи, и запахло от них весьма аппетитно. Но это не все. Копчение — операция достаточно долгая и трудоемкая. Она требует не менее двенадцати часов неусыпных забот. Нельзя разводить чересчур сильный огонь, но и нельзя позволить ему угаснуть. Горящие угли должны располагаться не слишком близко к мясу, но и не слишком далеко от него. Не случайно появилось присловье: «Поваром становятся, коптильщиком рождаются». Слова эти вполне подходили к Ангоссо: он делал свое дело не только умело, но, можно сказать, вдохновенно. Первый обед семейства гвианских робинзонов включал только рыбные блюда, и ему недоставало хлеба и соли. Но это не уменьшило общего веселья, которое сделалось прямо-таки бурным из-за неожиданных протестов Никола: он попросту отказывался есть без хлеба, заявив, что найти на деревьях пайковый солдатский хлеб или хотя бы простой сухарь пара пустяков. Ведь одно дерево уже напоило их молоком, другое — угостило яичными желтками. Анри вычитал в книжках про электрических угрей, а он, Никола, знает о существовании хлебного дерева. Все потерпевшие кораблекрушение питались его плодами. Об этом писали в журналах и книгах. И сам он не прочь отведать пищу своих предшественников. — Ну, мой бедный Никола, я вижу, что ваши представления об американских тропиках совершенно превратны. Вы полагаете, что хлебное дерево растет здесь в своем первозданном виде. Вы ошибаетесь, мой друг. Оно родом из Океании. Хлебное дерево завезли на Антильские острова и в Гвиану, но его еще надо культивировать, по крайней мере произвести массовые посадки. Если же оно и встречается кое-где в лесах, то разве что на месте заброшенных поселений. — Получается, что нам придется обходиться без хлеба до тех пор, пока… Ну, я не знаю, до каких пор… — Успокойтесь, у нас будет маниока. — Я беспокоюсь не столько о себе, сколько о мадам и детях. — Не сомневаюсь, мой друг, ведь я знаю, что у вас доброе сердце. Мы будем питаться преимущественно рыбой, но не только ею. Прежде чем наши запасы истощатся, я надеюсь, нам удастся обеспечить себя пропитанием на будущее. Зашло солнце, и сразу стемнело. Поляну новых робинзонов освещали только красноватые огоньки коптилен, на которых потрескивали все новые партии рыбы. Только теперь изгнанники, все силы и помыслы которых до сих пор поглощала борьба с опасностями и голодом, нашли время для спокойного разговора. Если ты несчастен до такой степени, что потерял всякую надежду, если на каждом шагу возникает смертельная угроза, человека уже ничем не удивишь. События самые невероятные оставляют его невозмутимым и легко вписываются в область реальной жизни. Робен так долго мечтал о свободе, так долго лелеял мысль о радости, которую принесет ему встреча с близкими, что даже не особенно удивился, когда это безмерное, неописуемое счастье оказалось реальностью. Его тайные мольбы осуществились, неизвестно как и почему, и поначалу он не испытывал потребности разгадывать эту загадку, настолько душа его была переполнена. Дети уже спали, Анри и Эдмон блаженствовали на подвесной койке бони. За десять минут горячее солнце высушило эту рыболовецкую снасть… Мадам Робен, сидя возле мужа, держала на коленях уснувшего Шарля; Робен с нежностью смотрел на Эжена, которого сморил сон на руках у отца, но ребенок продолжал обнимать его за шею. Муж рассказывал жене о побеге из колонии, и при всей своей смелости женщина содрогалась от одной мысли о перенесенных им лишениях и опасностях. В свою очередь она поделилась подробностями парижской жизни, рассказала о загадочном письме, о деликатных и вместе с тем настойчивых заботах о ней незнакомых и таинственных людей, описала путешествие в Голландию, плавание через Атлантику, прибытие в Суринам, почтительное внимание голландского капитана, так хорошо говорившего по-французски. Шарль-старший был взволнован. Кто эти неведомые благодетели? Для чего им столько предосторожностей? Почему они так тщательно скрывали, словно нечто недостойное, свою благородную деятельность? Мадам Робен не могла дать никакого объяснения. При ней было письмо парижского поверенного, но его почерк ничего им не подсказал. Инженер полагал, и, естественно, не без некоторых оснований, что вырвавшиеся на свободу заключенные посвятили свои силы и средства облегчению участи собратьев, еще томившихся на каторге. Скажем, депортированный А. или Б. мог скрываться в Гааге, возможно, кто-то из них принял участие в судьбе Робена. Что касается голландского капитана, то его атлетическое сложение, его учтивость и доброта как будто бы указывают на каторжанина К., офицера французского флота, бежавшего из Франции после переворота. Было известно, что он поступил на службу в голландский торговый флот. Видимо, плавать ему пришлось у берегов Гвианы, и он воспользовался случаем оказать содействие политическому единомышленнику. Это предположение казалось наиболее вероятным, супруги легко освоились с ним и от всей души благословляли творцов своего счастья, кто бы они ни были. Негромкая беседа лилась непрерывно, муж и жена забыли о времени. Дети спали, бони продолжал хлопотать возле коптилен, ломая ветки и подбрасывая их в огонь. Вскоре Ангоссо начал с тревогой поглядывать на темные своды листвы, озаряемые красноватыми отблесками огней. Глухое рычание, за которым последовал громкий протяжный вздох, напугало негра, он замер на месте, пристально вглядываясь в темноту. В кустах, окаймлявших поляну, загорелись два ярких огонька. Робен тихонько окликнул Ангоссо. Тот, не оборачиваясь, тоже очень тихо сказал, что в кустах тигр, которого привлек запах жареной рыбы. Животное, по-видимому, не собиралось нападать, однако соседство зверя обеспокоило парижанина. Он схватил ружье негра и готов был послать заряд свинца в непрошеного гостя. — Муше, не надо ружья! — тихо сказал Ангоссо. — Выстрел разбудит детей. Я сам справлюсь с тигром. У негра был с собой запас стручкового перца, знаменитого кайеннского перца, невероятно острого и жгучего. Маленькой щепотки достаточно, чтобы придать блюду поистине огненный привкус, к которому привыкаешь не сразу. Посмеиваясь над собственной выдумкой, чернокожий взял большую, почти уже готовую рыбину, сделал на ней несколько надрезов, затолкал туда с полдюжины стручков перца и швырнул «угощенье» туда, где прятался зверь. — На тебе, обжора, на! — смеясь приговаривал туземный кулинар. Робен все порывался выстрелить, но его останавливала мысль: что, если он только ранит зверя? Разъяренное животное крайне опасно, оно может броситься на детей. Впрочем, едва нашпигованная перцем рыба шлепнулась на землю, как хищник ее схватил и убежал вместе с добычей. Не прошло и четверти часа, как со стороны залива донеслись жалобные завывания. Бони корчился от смеха, а бургундец, не зная о приправе к угощению, терялся в догадках. Ангоссо объяснил ему, в чем дело. — Тигр — обжора еще больший, чем индеец. Он проглотил рыбу с перцем, теперь у него печет желудок и его мучит жажда. Он выпил воды из залива. — Значит, он теперь опьянеет, как рыбы? — Нет, нику действует только на рыб. Но у людей и животных нику вызывает сильную боль в желудке. Слышите, как ему сейчас плохо! И действительно, в голосе зверя звучали растерянность и боль. Долго он рычал и скулил… Потом, видимо отчаявшись погасить пожар в животе невкусной водой из ручья, умчался, громко треща ломаемыми ветвями.
ГЛАВА 7
Деньги и на экваторе деньги. — Все устраивается за двадцать франков. — «Клейменые деньги», «кругляши» и пятифранковики. — Смертельное великолепие. — Порождение лихорадки и миазмов. — Прыжок игуаны. — Опасный маневр. — Первый лодочник мира. — Бурные пороги. — Заброшенная лесосека. — Изобилие после голодухи. — «Кокосовая бухта». — География робинзонов. — Пристанище у «Доброй Матушки». — Туземная архитектура. — Головоломка! — Сквозь леса. — Дом без мебели. — Круглая посуда. — Горшок из растения. — Никола изучает ботанику: «масляное дерево», «свечное дерево», «сырное дерево», «дерево-адвокат»… — Обмен подарками. — Прощание с бони.Существование робинзонов было обеспечено на несколько дней, правда, только рыбными блюдами. «Будем поститься», — пошутил Никола, проснувшись поутру. Изгнанники чувствовали себя в безопасности, но тем не менее они чуть не на заре принялись строить планы на будущее — чтобы не терять времени. Нечего было и мечтать подняться по течению Марони, чтобы попасть в Верхнюю Гвиану. Не потому, что им следовало остерегаться негров или индейцев. Появление сразу нескольких европейцев не может остаться незамеченным, здесь это целое событие, о котором, конечно, станут говорить. Новость быстро долетит до каторжной колонии, и неосторожно избранный маршрут вполне может стоить Робену свободы. Надо двигаться через лес. Речка текла на запад в нужном направлении, — значит, можно плыть по ней, используя все проходимые для лодки места. Привалы лучше устраивать возле источников, на открытых возвышенных местах, подальше от болот. Короче, только бы выбраться из тумана, как говорят моряки, а там и о дальнейшем можно подумать. К сожалению, они вот-вот должны были расстаться со своим надежным помощником. Ангоссо выполнил все, о чем с ним договорились, и собирался возвращаться в деревню. Пирога принадлежала ему, и потому его отъезд означал для наших друзей почти катастрофу. Нужно было уговорить негра остаться — задача не из легких. Что могли предложить в качестве вознаграждения наши робинзоны, которые сами-то ничего не имели? По сравнению с ними Ангоссо, выменявший на фактории Альбина вожделенные для него ножи, бусы, грошовые безделушки и хлопчатобумажные ткани, был настоящим богачом, капиталистом — и жаждал выставить свои сокровища перед соплеменниками. Он отклонял мягко, но решительно все просьбы, и Робен уже смирился с тем, что ему не удастся упросить негра, как вдруг Никола совершенно случайно нашел выход из положения. Он не уловил ни слова из креольского наречия, однако понял по выражению лица патрона, что дела плохи. — К чему эти долгие разговоры, — сказал он, обращаясь к бони. — Вы славный парень, я тоже, верно? А хорошие люди всегда могут между собой договориться. Неподвижный, словно идол маниту[115] из черного дерева, Ангоссо слушал, не перебивая и, по-видимому, не понимая. — В Париже в крайнем случае можно выдать вексель, найти денежного поручителя, но, я думаю, здесь такие бумаги не в ходу… Если вы согласны получить плату деньгами, я хорошо вам заплачу, да еще добавлю на чай. — Деньги! — вмешался Робен. — У вас есть деньги? — Клянусь Богом, есть! Завалялось в кармане несколько монет по сто су. Вот они, посмотрите, — он показал негру пятифранковую монету, — вам знакомы такие медальки, господин дикарь? — О! — просиял Ангоссо, у которого глаза раскрылись шире некуда, ноздри раздулись, а нижняя губа отвисла. — Это кругляш! — Ну он прекрасно знает наше серебро, этот наивный сын природы! Тогда все в порядке. Ангоссо называет кругляшом то, что наши уличные философы именуют «задними колесами»… Да, уважаемый лодочник, кругляш, два кругляша, три и даже четыре. Целое состояние в обмен на вашу яхту и ваши услуги… Ну что, по рукам? — Муше, — вмешался Казимир, — муше, у вас клейменые деньги… Дайте бони две монеты, и хватит с него. — Патрон, вы же знаете язык этих островитян, объясните мне, пожалуйста, что они разумеют под этими «кругляшами» и «клеймеными деньгами»? — Все очень просто. Денежная единица в Гвиане — десим[116], но это не та монета в десять сантимов, которая имеет хождение в Европе, а старинный французский медный лиар[117], ценность которого здесь произвольно определяется в два су. Вот их-то и называют клеймеными деньгами. Их складывают в стопки по пятьдесят штук, как луидоры[118], такая стопка называется столбиком. Думаю, и это слово известно Ангоссо. Бони быстро закивал головой: — Да, да, знаю столбик! Дайте мне ваши кругляши, и я поеду с вами! — Ну конечно же, любезный, я с радостью тебе их вручу. Только с одним условием. Две монеты — вот они, ты их получишь немедленно, а еще две — когда прибудем на место. Вот так я понимаю деловой уговор. Если согласен, то по рукам! Робен растолковал негру предложение Никола. Бони хотел сразу завладеть всеми четырьмя кругляшами, но юноша был тверд. — Мой милый, когда я нанимаю экипаж, то рассчитываюсь после поездки, а не до нее. Так что решай. Чернокожий поторговался еще несколько минут, поспорил, но потом сдался. Он с детским восторгом схватил две монеты, позвенел ими, покрутил, полюбовался и в конце концов упрятал в одном из тайников своих бездонных полотняных штанов-калимбе. — Неглупо, приятель, — одобрил Никола. — Используешь свои пляжные кальсоны в качестве портмоне[119]. Но воздадим должное Ангоссо: взяв на себя обязательства, он тут же принялся их выполнять. Негр сноровисто завернул рыбу в широкие листья и уложил эти пакеты в средней части лодки, накрыл импровизированный камбуз[120] зелеными ветками, свернул свой гамак, взял весло и расположился на корме, предварительно ощупав заветный уголок штанов, хранивший его сокровище. — Мы выезжаем? — спросил он. — Выезжаем, — ответил Робен, усадив жену и детей как можно удобнее. Имущество путешествующей компании было — увы! — весьма скудно, перечень того, чем они владели, краток. Друзья не обладали кораблем, как их собрат и предшественник, легендарный Робинзон. Пускай и выброшенный на берег, но корабль — это целый мир, заключающий в себе все необходимое для жизни, его полные трюмы — надежда потерпевших на спасение. Насколько тяжелее положение тех, кому в подобных условиях не хватает самых простых вещей, кто оказывается еще беднее, чем люди доисторических эпох с их примитивными орудиями и вооружением. Восемь беглецов, но четверо из них — малые дети, пятая — женщина, шестой — калека, несчастный старый негр… Из предметов первой необходимости в двух небольших ящиках лежало немного носильных вещей и белья, два коротких широких ножа, топор и мотыга без ручки — напоминание о сгоревшей хижине, да еще двустволка, подарок голландского капитана. Боеприпасы — два килограмма пороха (примерно четыреста зарядов), немного дроби и пуль. Им предстояло все изобретать, все делать своими руками. Робен был полон надежд. Никола, тот вообще ни в чем не сомневался. Но положение тем не менее было весьма непрочным, чтобы не сказать более. Пирога легко скользила по тихой воде узкой реки, которая вилась меж высоких зеленых стен. Время от времени крупный зимородок[121], величиной с голубя, взмывал в воздух с резким и прерывистым криком; гоняясь за насекомыми, жужжали пестрые колибри[122], сверкая на солнце ярким оперением, точно летающая россыпь драгоценных камней; с громким щебетанием порхали «крылатые чертики», болтливые и бесцеремонные, как сороки, но черные, словно дрозды. Яркий пучок многоцветных перьев тяжело пересекал свободное пространство над рекой, издавая оглушительные вопли: «Ара!.. Ара!.. Аррра!..»[123] Этот крик избавляет нас от необходимости называть птицу. Какой-то почтенный отшельник распевал на четыре ноты: до, ми, соль, до, повторяя их с безошибочной точностью, пересмешник то и дело разражался резким хохотом, макаки и сапажу[124] гримасничали, балансируя на хвостах, а миллионы цикад[125], кузнечиков, сверчков изощрялись в музыкальных упражнениях, неутомимо растирая лапками жесткие надкрылья. С обеих сторон глазам путников открывались чудеса тропической флоры[126]. Сколько было цветов! Их многочисленные тычинки — бархатистые, шелковистые, изящные, воздушные — подымались пышными серебристыми или розовыми султанчиками. Робен едва успевал сообщать детям названия растений, которые были ему знакомы; то и дело он наклонялся и срывал какой-нибудь причудливый цветок или ветку. Казимир и Ангоссо не прислушивались к его объяснениям. Согнувшись над веслами, они гребли изо всех сил, как будто стремились поскорее миновать все эти красоты, убежать от них как можно дальше. Ни просьбы, ни вопросы на них не действовали. — Давай, давай, — подгонял Ангоссо, пыхтя, словно перегретый котел. — Давай, давай, — поддакивал прокаженный. — Но в чем дело? — не вытерпел инженер. — Разве нам грозит опасность? Что случилось? Говоры же, мой старый дружище! — Друг, мы заработаем лихорадку, если не убежим отсюда. Это место очень плохое. Все люди умирают здесь. Робен вздрогнул. Он-то знал, что есть такие места, где болотные испарения исключительно вредны: достаточно провести там несколько часов, чтобы подхватить злокачественную лихорадку. И сразу ощутил, что вдыхает гнилостный воздух и что ноздри щекочет въедливый и тошнотворный запах разлагающихся растений. Незримые испарения илистых отложений плавали в густой атмосфере, которую никогда не разгонял свежий ветерок. Болотный парник щедро питает растительный мир, но убивает людей. Вполне справедливо и совершенно закономерно, замечает в своей книге «Птица» красноречивый Мишле[127], что путешественник вступает в грозные тропические леса — при всем их внешнем великолепии — с большими сомнениями и опаской. Вечный сумрак царит под тройным зеленым сводом деревьев-великанов, переплетений лиан и густых зарослей травы и подлеска, достигающею тридцати футов высоты. А над этой глухой тьмой яркие цветы купаются в солнечных лучах… Не уступайте, защищайтесь, не позволяйте чарам леса поработить вашу отяжелевшую голову. Держитесь на ногах! Стоит поддаться усталости, армия безжалостных анатомов завладеет вами, и миллионы крошечных ланцетов[128] превратят вашу кожу в настоящее кружево. Путешественники ускорили движение. Любой ценой они должны миновать болотистую зону до наступления ночи. Пристать к берегу и проложить дорогу напрямик, через заросли, нечего было и думать. С влажной и вязкой почвы поднимется к вечеру густой туман, не напрасно прозванный «саваном для европейцев». Они удачно избежали встречи с людьми, а теперь должны вырваться из ловушки болот. Долги и тревожны часы дороги меж двух млеющих в жаркой духоте зеленых стен, по реке, воды которой, казалось, вот-вот закипят, под небом, обесцвеченным лучами тропического солнца. Губы сохнут, в горле печет, легкие не в состоянии вдыхать раскаленный воздух; начинается одышка, в глазах темнеет, в ушах звенит. Несмотря на почти полную неподвижность, все тело покрыто потом, он струйками набегает со лба на глаза, попадает в рот, течет по рукам и ногам… одежда насквозь промокла, противно липнет к коже. Самый закаленный человек бессилен перед этими испарениями собственного тела. Он чувствует, как тают его силы. Черты лица заостряются на глазах. Кожа становится мертвенно-бледной, уши желтеют, наступает анемия. Наши робинзоны, и большие и маленькие, стойко переносили испытание. Об Ангоссо и Казимире нечего и говорить: обладая особым иммунитетом[129] черной расы, они словно не замечали жары, вели себя как две саламандры[130] в человеческом обличье. А Робен при всей своей силе вынужден был отказаться от гребли. К счастью, неожиданный обильный дождь освежил атмосферу. Стало легче дышать. Речка продолжала течь к западу. Местность менялась, появились новые породы кустарников и деревьев. На смену низким, топким берегам пришли глинистые и песчаниковые пологие откосы, полосы песка, в которые местами вклинивались скалы. Вода приобрела красноватый оттенок. В расселинах камней нашли приют высокие и крепкие побеги молочая с длинными четырехугольными стеблями, торчащие прямо из почвы пучки мясистых листьев агавы с желто-зелеными цветами. Громоздились один на другой овальные и плоские кактусы, покрытые мясистыми плодами. Несколько изумрудно-зеленых гигантских игуан, разинув пасти, неподвижно застыли на скалах и бесстрастно взирали на проплывающую лодку. Ангоссо бросил весло и схватил свой лук. Пронзительный свист стрелы — и одна из ящериц упала и перевернулась на спину, пронзенная тройным наконечником. Неожиданный и меткий выстрел нарушил созерцательное оцепенение путников. Дети захлопали в ладоши, Никола крикнул: «Браво!» И добавил: — Лихо он с этой ящерицей разделался! Какое уродливое животное! — Уродливое, зато мясо у него превосходное, — заметил Робен. — Папа, — спросил Анри, — а разве крокодилов едят? — Это не крокодил, дитя мое. Это игуана, разновидность крупной ящерицы с очень вкусным мясом. Мы его попробуем сегодня вечером. Верно, Ангоссо? — Да, муше, — откликнулся негр, легко выскакивая из лодки на скалу, — этого зверя хорошо изжарить! — А можно нам разбить здесь лагерь, как ты думаешь? — Муше, идите сюда, — не отвечая на вопрос, позвал бони. Робен ступил в свою очередь на скалу и огляделся по сторонам. В этом месте река делала крутой поворот к северу. По прихоти течения поле обзора расширилось, и инженер со своего возвышения углядел на расстоянии нескольких лье голубоватый высокий холм. Напрягши слух, он уловил глухой шум падающей воды. — Вот это удача! Там наверху нет болотных испарений, их уносит ветер… и поток огибает гору с двух сторон! Дети мои, мы спасены! Скоро конец нашим мучениям! Река снова расширялась, образуя залив еще более просторный, чем в том месте, где они занимались рыбной ловлей. Длинная гряда скал пересекала русло наискосок. Волны разбивались об острые выступы, накатывались на камни, нагромождения которых, обрызганные пеной, покрытые мхом и водорослями, темнели там и сям. Скальная гряда возвышалась почти сплошной стеной, не менее трех метров в ширину и высотой до четырех; лишь в одну узкую брешь с грозным ревом устремлялся водный поток. По обоим берегам реки тянулась, насколько хватал глаз, заболоченная саванна, бездонная илистая трясина, поросшая высоченными травами, — обитель водяных змей, кайманов и электрических угрей. — Если бы нам удалось преодолеть этот крепостной вал, мы были бы в полной безопасности от непрошеных гостей, — произнес Робен, внимательно осмотрев местность. — Но сможем ли мы пройти? — Мы пройдем очень хорошо, — уверенно заявил бони. — Ангоссо пройдет везде. — Но как ты это сделаешь? — Это моя забота, муше. Вы пройдете, и мадам пройдет, и тот белый муше — он указал на Никола, — и маленькие господа… Все пройдут. Можете не сомневаться… Чтобы придать бо́льшую значительность своим действиям, Ангоссо потребовал полной тишины. Все умолкли. Приключение грозило гибелью, и взрослые участники путешествия понимали это. Даже среди обитателей Марони, наверное, один лишь этот негр и способен был завершить опасное дело с успехом. Лодку подвели как можно ближе к водопаду, затем Робен, Казимир и Никола уцепились за каменные выступы, удерживая пирогу у подножья каменной гряды. Ангоссо, не говоря ни слова, обвязался своим гамаком вокруг бедер и стал медленно подниматься с ловкостью и упорством, каким позавидовал бы цирковой гимнаст. Цепляясь руками и ногами за корни растений, за мелкие выступы, он добрался до скалистой вершины за четверть часа. Не теряя ни секунды, даже не вытерев кровь, которая проступила из царапин и ссадин на теле, он развернул гамак, закрепил его оттяжки на каменном гребне и сбросил гамак вниз. — Поднимайтесь вы, — сказал он Никола, указывая на тяжело свисающую с каменной стены крепкую ткань, сложенную вдвое наподобие пращи[131]. — А! Значит, я первый должен испытать это устройство, — сказал юноша. — Идет! Раз… два… Легче!.. Спокойнее… И, даже не окончив фразы, он — к величайшему изумлению негра — с ловкостью обезьяны в три приема оказался наверху и занял место возле бони. — Вот мы какие! — гордо заявил Никола, выпячивая грудь. — С нашими трюками мы бы забрались и на башню Нотр-Дам…[132] Теперь ваша очередь, патрон! — Нет, не белый тигр… Поместите мадам в гамак… Вот так… Хорошо… Мадам Робен осторожно подняли двое мужчин, объединивших свои усилия, и через полминуты она была уже на скалистом гребне. Затем поочередно поднимали каждого из детей. Робен не мог последовать за ними. С помощью Казимира он с трудом удерживал тяжело нагруженную лодку, которую течение готово было снести каждую минуту. Ангоссо спустился, занял свое место у носа пироги и попросил Робена присоединиться к семье, а затем поднять и старика. Наконец они собрались все вместе на тесном пятачке, над бешено бурлящими водами, и с беспокойством ожидали, когда бони завершит свой опасный маневр. Негр, уцепившись одной рукой за лодку, другой — за корневище, боролся с течением. — Бросьте мне веревки от гамака! — крикнул он. Робен вытянул оттяжки из креплений, связал их узлом и бросил Ангоссо один конец веревки. — А ну-ка, Никола, берись и ты! Дело идет о нашей жизни! Хватай веревку! И держи крепко! — Не бойтесь, патрон! Скорее мне выдернут руку, чем я выпущу ее из рук. Ангоссо быстро прикрепил конец веревки к пироге и попытался ввести лодку в узкий проход. Двое белых, стоя на самом краю гряды, затаили дыхание, в то время как невозмутимый туземец погружал свой шест-такари в несущиеся к проходу струи. Одно неверное движение, секундное колебание — и все кончено. Натянутая, как струна, веревка подрагивала… Бони отлично чувствовал опасность, но пусть такари пронзит его грудь под напором волны, он все равно пройдет! Мужественный парень, собрав все силы в едином порыве, отклонился назад, потом бросился всем телом на деревянный шест, изогнувшийся, словно лук. От внезапного толчка Робен и Никола едва не выпустили веревку из рук. Шест распрямился, но черный атлет уже не налегал на него! Освобожденная лодка, потеряв способность сопротивляться волне, полетела к проходу, на мгновение исчезла в пенном водовороте, чтобы вскоре появиться снова после того, как она буквально «протаранила» водопад! Спустя полминуты бравый Ангоссо причалил к нашим друзьям с противоположной стороны скалы, испустив долгий торжествующий крик. Солнце клонилось к закату. Ночь решили провести на скалах. Выбрали участок попросторнее, перенесли на него из пироги навес и, уставшие до предела, быстро и крепко уснули, проглотив на ужин по куску копченой рыбы. Наутро, едва заалела заря, взяли курс на далекую гору, замеченную Робеном накануне. Пересекли широкий водный разлив и значительно приблизились к цели. Окружающая растительность снова менялась на глазах. На берегу маленькой бухты росли высокие кокосовые пальмы. Банановые деревья возносили к небу султаны своих длинных и широких листьев; кое-где видны были и деревья манго, не очень высокие, но толстоствольные. Вскоре среди леса показалась треугольная прогалина; вершина треугольника упиралась в макушку холма, а основанием служил участок берега, возле которого плыла лодка. Расчищенный от деревьев склон зарос травой, местами ярко-зеленой, местами более темной, как листья маниоки. — Бог ты мой, — заговорил Робен, — боюсь ошибиться… Но эти деревья встречаются только там, где их высаживает человек, к тому же обилие сорняков на явно расчищенной почве и участок вырубленного леса свидетельствуют о… Как видно, этот уголок не всегда был пустынным. Казимир! Как ты думаешь, перед нами чей-то заброшенный участок? — Да, друг, так и есть… Старый участок… — Дорогая жена, дорогие дети, я не ошибся вчера, когда решил переходить водопад!.. В этой глуши в прежние времена жили люди… Думаю, они его покинули довольно давно. И эти люди знали толк в земледелии! Участок заброшен, но мы должны вновь его расчистить, чтобы извлечь богатства, которые он может дать. Пирога уткнулась в песчаный берег, затененный кокосовыми пальмами. Почва была надежной и твердой. Ангоссо вместе с Робеном и Никола немедленно принялисьстроить две хижины, одна из которых должна была служить временным пристанищем для семьи, а другая — продовольственным складом. Там сложили копченую рыбу. А затем состоялся совет о самых неотложных работах. Его открыл своим вопросом Анри. — Папа, а что значит расчистить участок? — С тех пор, как ты стал настоящим робинзоном, смелым покорителем лесов, ты, наверное, заметил, мой дорогой сын, что почти все большие и красивые деревья в девственном лесу не дают съедобных плодов и что под ними невозможно что-нибудь посадить или посеять. — Да, папа, потому что эти растения никогда бы не увидели солнца. — Совершенно верно. Что делает человек, который постоянно нуждается в пище? Он вооружается топором, валит деревья, одним словом, расчищает участок леса. Через три месяца срубленные деревья высыхают, их сжигают, и почва становится пригодной для посева. Понятно тебе? — Понятно. — Знаете, патрон, — включился в разговор Никола, — обработка земли на этом месте не кажется мне особенно трудной. Не требуется ни плуга, ни бороны, ни удобрений, ни даже мотыги… Был бы кусок дерева да дырка в земле, а все остальное довершат солнце и дожди… — Вы забываете, что не так просто повалить деревья… — Пхе! С хорошим топором это не труднее, чем играть в кегли… — Через несколько дней вы запоете другую песню… И заметьте, что нам предстоит самая легкая работа — освободить от сорняков заброшенный участок, который люди покинули лет десять назад. А вы знаете, мои дорогие, наша новая собственность расположена просто замечательно, и засажена очень разумно… — заявил Робен, окинув поляну быстрым взглядом. — А тут есть хлебное дерево? — полюбопытствовал Никола, который, как мы помним, питал особое расположение к плодам, представляющим собой уже готовые блюда. — Есть и хлебные деревья, — с улыбкой сказал Робен. — А еще, я уже заприметил, здесь растут и сладкие гуайявы[133], и виноград, и груши, яблоки, лимоны, есть и апельсины… — Да это же рай! Настоящий земной рай! — с восторгом воскликнул молодой человек. — Ты забыл о хлопчатнике. — Мадам Робен протянула мужу волокнистый комочек, снятый ею с куста, на котором рядом с бледно-желтыми цветами начали кое-где раскрываться созревшие коробочки хлопка. — Хлопок! Дорогая моя, ты нашла настоящий клад! Теперь у нас будет одежда! Это отличный сорт хлопчатника, он созревает очень быстро и дает обильный сбор волокна. Ну, не будем терять времени, пока с нами Ангоссо… Мы с Казимиром отправимся обследовать участок. А вы, Никола, оставайтесь вместе с детьми и мадам Робен. Опасности вроде бы нет никакой, но все равно не покидайте их ни на минуту. Ружье с вами? А вы, мои милые, не разбегайтесь в разные стороны. Здесь скорее всего водятся змеи, а среди них могут быть очень ядовитые. — Патрон, положитесь на меня! Я не покину пост до ваших новых распоряжений! Трое мужчин вооружились большими ножами, а бони взял еще и топор. Робен поцеловал жену и детей, пожал руку Никола, затем все трое быстро углубились в заросли, расчищая себе дорогу с помощью ножей. День завершился без происшествий, и солнце уже клонилось к закату, когда исследователи возвратились уставшие, исцарапанные, но довольные. Надо ли говорить, что робинзоны закатили целый пир с копченой рыбой, бананами, ямсом и бататом, принесенными из экспедиции. Никола наконец отведал испеченные на костре плоды хлебного дерева, однако был слегка разочарован: он ожидал большего. Не то чтобы совсем несъедобно, но не слишком вкусно… — Ну хорошо, — сказал Робен, когда все утолили первый голод, — а как вели себя наши маленькие робинзоны? — Наши робинзоны вели себя примерно, — отвечала мать. — Они учились! Да, мой друг, учились! Они не хотят быть невеждами, маленькими белыми дикарями. — И что же они делали? — Они «делали» географию. — Занимались географией, ты хочешь сказать. — Нет, мой друг, я настаиваю на своем выражении. «Делали» географию. Самому старшему — первая честь… Анри принадлежит главная мысль, ему и слово первому. Анри, как называется бухта, где мы высаживались, когда прошли через водопад Гермина? — Она называется бухта Нику, в память о нашей рыбной ловле. — Эдмон, а какое имя ты дал озеру? — Озеро Балата, в честь вкусного молока, которое мы там пили. — А я тоже придумал… — с живостью вмешался в разговор маленький Эжен, — я придумал, как назвать эти ужасные скалы… «Прыжок игуаны», вот как! — Прекрасная выдумка, дитя мое! — с серьезным видом поддержал его отец. — Что касается места, где мы сейчас находимся, то мы все вместе решили назвать его Кокосовой бухтой, — продолжала мадам Робен. — Вот видишь, дорогой мой, мы не бездельничали, а потрудились над географической картой, у которой два преимущества: она проста и закрепляет наши воспоминания. — Но это очень славно, прекрасная мысль, — улыбнулся отец. — А ты, Шарль, придумал что-нибудь? — Еще не придумал… когда я вырасту большой, вот увидишь, что я сделаю. — И ребенок приподнялся на цыпочки, чтобы показать, как он вырастет. — Мы отчитались перед тобой. Ну, а вы, что вы там нашли? Довольны? Судя по ссадинам и царапинам, пришлось брать заросли приступом? — Да, битва была нешуточная, но успех полный! Тем не менее мы решили пока удержаться от восторгов, и потому не расспрашивай меня больше ни о чем! — Значит, ты готовишь какой-то сюрприз! — Пожалуй. И всю радость от него я хотел бы оставить «на потом». Ждать пришлось недолго. Бургундец и его спутники отлучались еще дважды, примерно на одинаковый срок, а вечером третьего дня обитатели Кокосовой бухты услышали решение: — Отправляемся завтра утром. Расстояние оказалось незначительным, но дорога!.. Кое-как прорубленная среди непроходимой чащи, где перепуталось и сплелось множество растений, она таила множество ловушек для зазевавшегося путника: острые остатки срезанных на высоте колена стеблей, крепкие петли из оборванных корней, так называемые «собачьи уши». Этот головоломный путь словно нарочно был подготовлен для падений на каждом шагу. Забудешь о том, что всякий раз надо с осторожностью поднимать ногу, — и она тут же попадает в петлю, а ты летишь наземь, расшибаясь тем сильнее, чем быстрее шел. А змеи? Из предосторожности процессию возглавил Казимир, нанося удары большой палкой по зарослям то справа, то слева. Никола нес Шарля на руках. За ними следовала мадам Робен, опираясь на палку, за нею Робен, удерживая на плечах Эжена и Эдмона, за отцом поспевал Анри. Вооруженный ружьем Ангоссо замыкал шествие. Тропинка, проложенная по прямой линии, поднималась по холму метров на триста. И хотя склон был пологий, преодолевали его с трудом. Но никто не роптал, и даже у детей не вырвалось ни единой жалобы. Наконец, через два часа изнурительной борьбы за каждый шаг, маленький отряд выбрался на просторную поляну, расположенную на полпути до вершины холма. То была широкая терраса, открытая солнцу, в центре ее возвышалась внушительных размеров хижина. Так вот какой сюрприз готовил им Робен! Дети, позабыв об усталости, с ликующими криками устремились к дому. — Ну вот, моя милая и доблестная жена, — с глубоким волнением проговорил Шарль-старший, и голос его заметно дрожал, — я тоже немного занимался географией в твое отсутствие… Этому обиталищу я дал имя «Добрая Матушка»… Ну как, нравится тебе название? — О, мой друг, я счастлива, я так благодарна тебе! — Ну что ж! Пожалуйте в гости к «Доброй Матушке»! Трое мужчин совершили чудо за считанные дни. Правда, бони оказался знатоком колониальной архитектуры, а пальцы прокаженного еще сохранили свою ловкость. Да и самого Робена каторжные работы волей-неволей превратили из инженера в отличного плотника. Так что хижина, при сооружении которой не загнали ни одного гвоздя или винта, являла собой настоящий сказочный домик. Пятнадцать метров длины, пять ширины и три с половиной высоты. Объем немалый. Легкие стены, сплетенные из ветвей, пропускали воздух, но служили надежной преградой дождю. Строители проделали четыре окна и дверь. Даже ураган был не страшен этой постройке, потому что для четырех столбов, образующих основу всей конструкции, были использованы срубленные до уровня крыши живые деревья с мощной корневой системой. Стволы соединили четырьмя балками, скрепив их между собой при помощи лиан, более прочных и надежных, чем металлическая проволока. На этот прямоугольник настелили крышу из листьев капустной пальмы — ваи, для стропил использовали так называемое пушечное дерево, чрезвычайно легкое. У капустной пальмы главная жилка листа достигает в длину четырех метров, ширина листа — до полуметра и более. Чтобы сделать из них крышу, листья разглаживают, укладывая лицевой стороной один на другой, и связывают основания. Получается плоскость размером примерно четыре метра на пятьдесят сантиметров. Одну за другой заготовки размещают на стропилах так же, как черепицу в Европе, и скрепляют прочным растительным волокном. Такая крыша непромокаема и служит не менее пятнадцати лет. Она не поддается ни ветру, ни солнцу, ни дождю. Листья на первых порах зеленые, со временем приобретают красивый темно-желтый цвет. С каждой стороны дома стропила выступали над стеной на два метра, образуя крытую галерею. Хижина была разделена на три части: спальню для матери и детей, столовую, где подвесили койки для Робена и Никола, и кладовую, доверенную попечениям Казимира. Чтобы обезопасить себя от обитавших в траве и под корнями насекомых и прочих малоприятных гостей, землю прокалили при помощи костров. Подходы к дому расчистили, обеспечив доступ воздуху и свету. Оставили только два красивых манговых дерева и два хлебных, чтобы их тень осеняла дом. Робен с гордостью показывал жилище будущим обитателям. Дети и мать сияли радостью. Что касается Никола, то он был не просто рад, но и к тому же изрядно удивлен. — Патрон, да ведь мы будем здесь жить как настоящие послы! — Умерьте ваш восторг, милый мой! У послов есть кровати, столы, другая мебель, кухонная утварь, посуда, а у нас ни тарелки, ни бутылки. — Это верно… — слегка поостыл молодой человек. — Нам придется спать на земле, есть пальцами, а пить из листьев, свернутых в рожок. Да, не слишком удобно… Я предпочел бы хоть немного посуды… — Она будет у нас, Никола, успокойтесь! Скажу вам сразу: в лесу есть деревья, на которых растут великолепные кухонные наборы! — Кому-нибудь другому я бы ответил: шути́ть изволите! Но если это утверждаете вы… Я уже много чего повидал. — И увидите еще больше! Что касается вашего желания иметь посуду, его легко удовлетворить. Это не столовое серебро, но за неимением лучшего можно удовольствоваться и тем, что есть под рукой. Видите дерево с большими зелеными плодами, похожими на тыквы? — Я сразу его заприметил, да еще подумал: если бы крестьянину из басни упала на нос такая шишечка, ему бы не поздоровилось! — Ну вот, это наши тарелки и наши блюда. — Точно, как я сразу не догадался. Если не ошибаюсь, такие сосуды называют здесь «куи». — Верно! Давайте займемся их изготовлением. — Думаю, это несложно. — Попробуйте! Уверяю вас, ничего не получится с первого раза, если вы не владеете секретом производства. — А вот увидите! Самоуверенный юноша, не теряя времени, приподнялся на цыпочках и ухватил обеими руками большой, величиной с голову, плод, висевший на тонком стебле, который, казалось, вот-вот оборвется под тяжестью груза. Никола уселся, положил перед собой сорванный плод, взял нож и попытался надрезать гладкую и блестящую корку. Безуспешно! Нож скользил, выделывая зигзаги, а корка не поддавалась. Тогда новоявленный мастер решил вонзить нож с маху. Крак!.. «Тыква» раскололась на несколько бесформенных кусков. Все расхохотались. Вторая попытка также закончилась неудачей, и с третьей «тыквой» дела шли к тому же, когда вмешалась мадам Робен. — Послушайте, Никола, — сказала она. — Я припоминаю, что читала когда-то, как ловко дикари разделяли тыквы на две равные половинки. Они крепко перетягивали их веревкой. Что, если вы попробуете взять вместо веревки лиану? — Спасибо за совет, мадам! Но я так неловок, что не решаюсь продолжать это занятие… — Давайте-ка я дерзну, — вмешался Робен. Пока юный парижский механик выписывал ножом бесполезные вензеля на тыквах, бургундец уже подготовил «рабочее место» для хорошо известной ему операции. Под сильным давлением лиана оставила тонкую бороздку на корпусе плода, и легким движением ножа по этой черте инженер разнял тыквы на две равные полусферы, в которых не оказалось ни единой трещинки. — Как видите, совсем просто! — Какой же я осел, — признался сконфуженный юноша. — Как говорится, хотел разрезать стекло без алмаза! — Вот именно! Теперь остается переполовинить дюжину тыкв, а затем выскрести мякоть. — Потом высушим их на солнце… — …И они все полопаются, если не принять мер предосторожности и предварительно не заполнить их сухим песком. Таким же точно образом можно разжиться и дюжиной ложек. Ну, а с вилками дело посложнее… Решим эту проблему попозже. — Ей-богу, патрон, уверяю вас, я никогда и думать не посмел бы о таких быстрых переменах! Всего несколько дней назад мы были совсем нищими, лишенными всего на свете! Это какое-то чудо! Меня особенно поражает, что все необходимые для жизни предметы здесь находятся на деревьях… Подходи и срывай! — Если бы так! Если бы такие деревья росли группами, встречались бы в лесах в первозданном состоянии, то американские тропики и в самом деле были бы, как вы изволили выразиться, неземным раем… Увы! Это вовсе не так. Кто знает, скольких трудов стоил этот участок, который подарила нам судьба… Представьте только многолетние упорные поиски и старания колонистов, чтобы собрать на этом пятачке полезные растения и местного происхождения, и привезенные сюда уже после открытия Нового Света… Жестокая судьба вдруг смилостивилась и преподнесла нам подарок, словно пожалела заброшенных детей… Что бы мы стали делать в этой безграничной пустыне с бесплодными деревьями, без убежища, без пищи, почти без инструментов?.. Дичи здесь мало, к тому же охота требует оружия, специального снаряжения. Рыбная ловля?.. Мы познакомились с нику только на днях… Земля! Вот единственный источник наших ресурсов. Мы найдем здоровую и обильную пищу на деревьях и в земле. — Да, деревья… — в задумчивости произнес Никола. — На них все можно найти, если выпадет удача. — Я уже сказал, что вы еще многое увидите, в том числе и много деревьев, о которых вы даже не слышали прежде. Погодите, пока мы хоть чуть-чуть обживемся на новом месте. Всего за несколько часов я нашел бесценные сокровища… На вершине холма растут кофейные деревья[134] и какао[135]. Это очень важное открытие. А что вы скажете о масляном дереве? О свечном? О мыльном?.. Молодой человек, который так жаждал познакомиться с необычными растениями, испытывал полнейшее потрясение. — И это далеко не все… Не хочу сразу перегружать вашу память… Но дерево-адвокат[136] сто́ит вашего внимания. — Дерево, на котором растут адвокаты!.. — Вот-вот, адвокаты… — И их можно есть?.. — Можно. — Ах!.. — Юноша только руками развел. — Продолжим, если хотите, и познакомимся с каучуковым деревом, касторовым[137], сырным… — Месье Робен, я уважаю вас как человека серьезного, пожалуйста, не смейтесь надо мной! Признайтесь, что вы шутите. Могу ли я представить дерево, на котором растет рокфор или камамбер… — Нет, не можете. Сыр на сырном дереве не растет. — Зачем тогда давать ему название, от которого у меня слюнки текут?.. — Плоды дерева bombax — это его научное название — белые, мягкие, пористые и внешне очень похожи на сыр. Но они несъедобны. Однако на этом дереве есть длинные иглы, твердые, как железо, мы используем их вместо гвоздей. Тонкий пушок, который окружает семена плода, годится, чтобы приготовить трут. Ну хватит! Вы довольны первым уроком экваториальной ботаники? — Не то слово! Я восхищен, очарован. С того момента, как природа выполняет так хорошо свою роль матери-кормилицы, мне остается только подбирать ее плоды… — Скажите: нам, дружище… — Ну, это чистая формальность, патрон. Видите ли, я рассчитываю работать за четверых, полностью использовать свое время, навести здесь порядок, изготовить инструменты, вырастить урожай, вообще превратиться в настоящего робинзона, а не такого, как в книжках… — Не сомневаюсь в вашей доброй воле, мой друг! Мне хорошо известно ваше мужество. С завтрашнего дня нам предстоит нелегкая работа. Мальчики, конечно, будут помогать, но дети есть дети, силенок у них не так много. Нам нужно позаботиться о благополучии всей семьи. Мой старый друг Казимир, деятельный по натуре, сильно ослабел из-за возраста и болезни. Так что на нас с вами ляжет главная забота о пропитании. Ведь Ангоссо скоро нас покинет… — Да, жаль… Он хороший дикарь. Это слово, как я его понимаю, не заключает ничего оскорбительного, а только означает, что чудак никогда в жизни не видел Июльской колонны[138]. Я даже привязался к нему. Он, как говорится, вошел в наш круг. В прежние времена негры плохо действовали на меня, но теперь я вижу, что и среди них попадаются хорошие люди. Кстати, вы напомнили мне о долге, который надо ему отдать… Эй! Ангоссо! — Что нужно, муше? — откликнулся негр. — Муше, муше… Я хочу отдать тебе две монеты по сто су, твои клейменые су, твои кругляши, вот что! — А! Хорошо, спасибо! Ангоссо доволен. — Я тоже доволен. Мы все очень довольны тобой. Вот тебе деньги, дружище, — завершил свою речь Никола, вручая бони два пятифранковика. Зажав монеты в кулаке, негр застыл с разинутым ртом перед юношей. Его большие блестящие глаза с жадным вниманием уставились на серебряную цепочку с кулоном из зеленого нефрита, на которой висели часы Никола. — О-о-о!.. — пробормотал он. — Как красиво! — Двадцать три франка тридцать сантимов, купил на пряничной ярмарке. Почти даром. — Очень красиво! — Пхе! Маленькая парижская безделушка. Если она вам так приглянулась, сударь, то вы получите ее в свое полное распоряжение. Вы проявили себя геройски в нашем походе, и будет справедливо доставить вам это скромное удовольствие. Вот вам, уважаемый лодочник, берите! — И с этими словами Никола, отцепив часы, протянул негру цепочку. Ангоссо побледнел от счастья и взял подарок кончиками пальцев, с боязливой и недоверчивой радостью. — Эта вещь для меня? — спросил он, не веря своим ушам. — Эта вещь для тебя. — Никола повторил креольское выражение, весьма довольный тем, что может отпустить словечко на местном наречии. Бони оцепенел на месте, подавленный нежданным-негаданным счастьем. Затем, не говоря ни слова, ринулся к своей пироге, где лежала свернутой его подвесная койка, одно из тех чудесных тканых изделий, на какие большие мастерицы женщины его родины. Негр принес гамак и развернул его со словами: — Вы друг Ангоссо. Ангоссо очень доволен. Он дает свой гамак для детей. Он также дарит свой нож белому другу. — Нет, нет, не стоит! Я сделал вам подарок не из корыстных побуждений! — Примите его дар, дорогой Никола, — вмешался Робен. — Вы его обидите, отказываясь от подарка. А теперь, мой храбрый Ангоссо, в путь, возвращайся к своей семье. Если ты окажешься в нужде, если у вас начнется голод, приходи сюда вместе со своими близкими, мы с радостью примем вас. Построишь хижину неподалеку, и будем делить все тяготы жизни, будем работать сообща. — Конечно, муше! Ангоссо придет к Белому Тигру, если не достанет маниоки и рыбы! Затем бони попрощался со всеми робинзонами по обычаю гвианских негров, то есть по отдельности с каждым: — До свиданья, Белый Тигр, до свиданья, мадам, до свиданья, муше Никола, до свиданья, маленькие господа, — четыре раза повторил он, — до свиданья, Казимир! Я уезжаю! Пожимая ему руку в последний раз, бургундец напомнил: — Смотри же, никогда и никому не говори, что здесь живут белые. И помни, что мы всегда рады видеть тебя и твоих родных. — Да, муше, Ангоссо — друг семье Белого Тигра, Ангоссо будет нем как рыба.
ГЛАВА 8
Забота о пропитании. — Первые труды. — Нужна «пластина». — Опыт с керамикой. — «Пушечное дерево». — Ленивец. — Отчаянный соня. — Основание «зоопарка». — Тревожные опасения. — Мой дом — моя крепость. — Казимир — «начальник штаба». — Авангардная застава. — Муравьи-путешественники. — Завтрак муравьеда. — Битва ягуара с муравьедом. — …И битва кончилась, бойцов лишь не хватает. — Сирота. — Еще сирота. — Усыновление. — Новые поселенцы колонии. — Месье Мишо и его подруга Кэт.Жизнь робинзонов в Гвиане была прежде всего материальной, если позволено так определить условия, при которых все умственные способности направлены на выживание. Эта проблема решается порою с трудом даже в условиях современного цивилизованного общества. Но, в общем, вознаграждение за труд, за приложенные к определенному делу человеческие силы позволяет так или иначе удовлетворить многообразные потребности. Заработка мужчины должно ему в принципе хватать, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Глава семьи, добывая хлеб насущный для жены и детей, может не шить для них одежду своими руками, не тачать обувь, не строить дома и так далее. Совсем иные проблемы у наших изгнанников. Им недостает решительно всего, даже предметов первой необходимости. Они вынуждены создавать из подручных средств нужные для жизни вещи. Шляпа, иголка, пуговица, листок бумаги, нож — в культурной стране все это можно легко найти и недорого купить. Но человек, изолированный от общества, затерянный в необжитых пространствах, сталкивается на каждом шагу с почти непреодолимыми трудностями из-за отсутствия сущих, казалось бы, мелочей. Робен отнюдь не впадал в отчаяние. У него был надежный помощник Никола, умелый и старательный. Что же касается прокаженного, то благодаря многолетнему опыту лесного бытия он был, к счастью, прилежным учеником. После отъезда Ангоссо трое мужчин немедленно приступили к работе. В тропиках участок, заброшенный на несколько лет, очень быстро зарастает и дичает. Особенно активны растения-паразиты, оплетающие своими цепкими и крепкими побегами любое дерево. Чтобы успешно бороться с засилием растительных «дикарей», необходимо действовать последовательно, надо рубить, обрезать, расчищать, вырывать, отбрасывать не только некультивированную поросль, но и среди полезных пород оставлять только самые здоровые экземпляры, жертвуя их более хилыми собратьями, иначе урожая не дождешься. Собственно говоря, это повторное корчевание. Легче приходится тому, кто расчищает площадку в девственном лесу, ему нужно не столько терпение, сколько ловкость. Двое белых и негр начали с очистки территории от кустарника. Маленькая колония не могла бесконечно питаться копченой рыбой, жареными бананами и плодами хлебного дерева. Постоянное употребление бананов приводит к расстройству пищеварения и, следовательно, к быстрой потере сил. Единственным продуктом, способным заменить пшеничный хлеб, является маниока. К счастью, Казимир нашел на склоне холма довольно большую плантацию этого растения. Сорняки «похозяйничали» здесь гораздо меньше, нежели в других местах. Надо было выкорчевать «деревья-пушки», гладкие, белые стволы которых, пористые, с мягкой сердцевиной (отсюда просторечное название этих растений), тут и там торчали на темно-зеленом ковре маниоки. За несколько часов собрали приличный урожай. На скорую руку соорудили терку, перетерли клубни, запустили в дело знакомого нам ужа, но прокалить полученную массу было не на чем — не хватало железного листа, каким пользовались для этой цели Робен и Казимир, когда готовились к отъезду. Старик не отличался находчивостью и не знал, как заменить металлическую пластину, с помощью которой он готовил куак или кассаву. Никола твердил, что готов пожертвовать одним глазом, только бы заполучить печку… Парижанин пребывал в задумчивости. Заостренной палочкой он машинально ворошил дрова в очаге, на котором готовился ужин, когда вдруг заметил среди углей твердый красновато-коричневый предмет. — Что это такое? — удивился он. — Откуда оно взялось? Подошла мадам Робен. Дети окружили очаг. Шарль-старший извлек из огня грубоватую глиняную фигурку, сотворенную, быть может, рукой вдохновенного художника, к сожалению, не знакомого с правилами лепки. — Папа, — признался Эжен, — это я слепил человечка и положил в костер, чтобы он хорошо высох. Мы с Шарлем будем в него играть. — А где ты нашел такую землю, мой юный ваятель? — Ну здесь, в доме… Я наковырял палкой, потом намочил землю и слепил человечка. Вот где, смотри. Инженер посмотрел, потом поддел кусок земли кончиком ножа… Так и есть — глина, жирная и мягкая, красноватого оттенка. — Ну, дети, — сказал он весело, — завтра в полдень каждый из вас получит отличную лепешку! — А как ты ее сделаешь? — спросил Эжен. — Мой человечек тебе поможет? — Нет, сынок, но благодаря ему наше меню заметно улучшится. Гляди сюда. Бургундец принялся копать поглубже, выбирая глину без примеси. Когда набралась изрядная кучка, Робен размял глину, как тесто, слегка намочил и начал перетирать комочки. Затем раскатал глину в форме большого диска и разгладил его смоченной ладонью. — Теперь подбросим в огонь дровишек и получше нагреем эту штуку. Я предпочел бы высушить мою пластину на солнышке, но если она расколется на огне, то завтра с утра повторим всю эту операцию. — Я догадался, патрон! Я догадался! — крикнул Никола, подтаскивая большие охапки хвороста и дров. — Вы изготовили пластину из земли, верно? — Именно так, и мои скромные инструменты вполне справились с задачей. Меня удивляет, что негры и индейцы не додумались до такого простого способа, чтобы заменить металлические пластины, которые так трудно доставать. Казимир таращился на это чудо своим единственным глазом, бормоча: — О! Эти белые — настоящие черти… Найдут чем заткнуть любую дырку… Двенадцать часов пластину прокаливали на огне, постепенно усиливая жар: она лишь чуть потрескалась в нескольких местах, поверхность была гладкая, как вода в безветренный день. Пластина стала твердой, плотной, словом, вполне надежной, и вот уже на ней дымится горячая и душистая лепешка… Эту первую победу над горькой нуждой колонисты восприняли с вполне понятной бурной радостью. Вскоре из той же глины изготовили несколько горшков, потом кирпичи, сложили печь… Двигалось дело и с расчисткой территории. Подступы к дому выглядели уже вполне пристойно. Поговаривали о том, чтобы собрать немного какао и кофе. Решили даже огородить небольшой участок, примыкающий к дому, где можно было бы держать птиц и четвероногих, поддающихся одомашниванию. Казимир охотно брал на себя заботы о них. Но первый обитатель будущего птичьего двора появился раньше, чем успели соорудить ограду. Никто и не подозревал о существовании такого странного животного, практически бесполезного, однако настолько забавного по внешнему виду и повадкам, что дети громкими и восторженными криками принудили взрослых дать пришельцу все права гражданства. Героем этой истории стал Никола. Юноша отправился поутру на плантацию маниоки. Робен, оставшись в хижине, плел корзину из волокон арумы. Молодой человек по дороге на плантацию приглядывался по своей всегдашней привычке ко всему, что мог заметить на земле или на деревьях. На верхушке одного «пушечного дерева» он обнаружил неподвижную серую массу. Что это? Или кто? Подойдя поближе, наш изыскатель увидел зверька, который крепко обнимал ветку всеми четырьмя лапами и, казалось, спал. Юноша слегка раскачал нетолстый гибкий ствол. Животное даже не шевельнулось. Он потряс дерево сильнее, затем заставил его макушку описывать широкие круги, но отчаянный соня будто и вовсе не замечал человека. — Вот так штука, никогда не видал такого зверя! Как неживой, соломенное чучело, а не зверь! Несколько ударов ножом — и пушечное дерево рухнуло. Однако и при этом загадочный четвероногий не выпустил ветку из своих объятий! Одним прыжком ловец очутился возле него, готовый оглушить зверя или отрезать ему путь к отступлению. Напрасная забота. Бедное животное при появлении человека лишь запищало жалобно: «А-и-и… А-и-и…» — и вцепилось в дерево еще отчаяннее. Охотник обрубил ветку у основания, впрягся в нее и не мешкая направился к дому. По дороге зверек продолжал попискивать, однако бежать явно не собирался. Заметив издалека своих маленьких друзей, Никола крикнул: — Анри! Эдмон! Эжен! Бегите сюда! Поглядите, какого чудного пискуна я нашел! Взрывы смеха и радостные вопли ознаменовали прибытие «транспорта». Робен оторвался на несколько минут от работы и подошел вместе с Казимиром. — Что это за диво вы приволокли, милый Никола? — Это «ленивый баран», — сказал негр. — А ведь, верно, это знаменитый ленивец[139], который питается листьями и побегами пушечного дерева. Он целый день взбирается на него и остается там до тех пор, пока не объест всю зелень. — Так, так, муше! — Ага! — изрек молодой человек, гордый своей добычей. — Значит, этот чудак называется ленивцем! Ну, он честно заслужил свое прозвание! Вот уж кто не любит перемен… — Папа! — хором закричали дети. — Расскажи нам про ленивца! — Это странное животное принадлежит к роду тихоходок, семейству беззубых… — начал Робен. Никола вставил словечко: — А вы знаете, патрон, натуралисты попали в самую точку, когда сочинили такое имя для этого лентяя! — Ну, вот… Семейство включает два вида: аи и уно. У последнего всего по два когтя на каждой лапе — или руке, как хотите, — и совсем нет хвоста, даже намека на хвост. — Тогда наш зверек — это аи, потому что у него по три коготка и еще есть хвостик, правда, совсем маленький. — Вы совершенно правы, друг мой. Он отличается от уно меньшим ростом. Аи не больше семидесяти сантиметров, а уно — около метра… Другой отличительный признак — вот это черное пятно, похожее на восклицательный знак и окаймленное желтым, оно расположено, как видите, между плечами и образует как бы впадину в длинной шерсти, сухой и грубой. Можешь попробовать рукой: шерсть в этом пятнышке нежная, шелковистая и очень густая. — А он меня не укусит?.. — Он-то… бедный зверек, это самое безобидное в мире существо! А потом, пока он соберется с духом совершить самое малое движение, ты успеешь отбежать очень далеко… Осмелевший ленивец, чувствуя, что его больше не трясут на ветке столь неприятным образом, начал понемногу шевелиться. Он покинул свою позицию и медленно перевернулся на спину. В этом положении зверек очень напоминал черепаху, только без панциря. Неторопливая озабоченность проглядывала в том, как ленивец сводил и разводил в воздухе две пары своих лап в поисках опоры. Передние ноги его намного длиннее задних, на каждой по три больших когтя, желтоватых, изогнутых, каждый длиной сантиметров пяти. Но что за голова! Какая маска блаженной неподвижности в застывшем оскале зубов! Не голова, а скорее груша без подбородка и лба, мордочка сильно приплюснута. Глаза-бусинки испуганно таращатся из желтоватой короткой шерсти. Ушных раковин нет и следа. Губы черные, тонкие, дыхание с присвистом вырывается сквозь темные зубы. Никола перевернул зверька и поставил на четыре лапы. Ленивец распластался на брюхе, разбросав лапы в стороны: они не в состоянии выдержать его вес. Он начал, медленно подтягиваясь, перемещаться ползком. Совершив путешествие длиною в один метр, бедняга добрался до порога хижины. Осторожно уцепился одним когтем за столб и подтянулся ровно на два сантиметра. Затем наступил черед другой лапы, которую трусишка поднял долгим и неуверенным движением, зацепившись чуть выше первой. Дети нетерпеливо переминались на месте, наблюдая за неповоротливым существом. За четверть часа зверек взобрался на высоту полутора метров. — Ленивец, поднимайся! Ползи, ленивец! Аи! Аи! — возбужденно кричали ребятишки. — Надо отдать ему должное, — продолжал свою лекцию отец, — когда он прицепится за что-нибудь, его никакими силами не оторвешь. Никола, попробуйте-ка разлучить аи со столбом. Юноша обеими руками обхватил зверька за плечи и сильно потянул, но тот даже не шелохнулся. Всей массой тела повис на столбе. Тихоход, казалось, слился с брусом в единое целое, он обнимал его с отчаянной энергией утопающего. — Какая хватка! Дети мои, поглядите, какая хватка! И это еще не все. Инстинкт самосохранения развит у него настолько, что заменяет ленивцу ум. Для своего жилья он выбирает деревья, растущие наклонно над рекой. В случае опасности плюхается в воду, быстро плывет, и обычно ему удается спастись. — А мы можем оставить его у себя и приручить? — попросил отца Эжен. — Конечно, мой мальчик! Он привыкает к людям. Если будешь угощать его каждый день свежими побегами пушечного дерева, аи скоро станет тебя узнавать. Кормить его нетрудно, умеренность в еде у этого зверька вполне соответствует его медлительности. Несколько веточек в сутки — и больше ничего не надо. — Это мой ленивец, папа, это мой! Я буду с ним играть! — Он будет твоим, если Никола откажется от своих прав. — Вы шутите, месье Робен! Я счастлив доставить удовольствие Эжену! — Я хочу его угостить. — Ребенок сорвал листок с ветки, которая служила ему лошадкой. — Держи, аи! На! Ну бери же! Но ленивец, уставший от треволнений и чрезмерной активности, крепко спал, повиснув на опорном столбе галереи.
Благодаря энергии больших и маленьких обитателей колонии жизнь ее как будто налаживалась. На первых порах было тяжко. Глава семьи и его мужественная подруга не могли вспоминать без содрогания ужасные обстоятельства их встречи. А теперь если полное изобилие еще и не наступило, то самые неотложные нужды были удовлетворены. Робен был бы вполне счастлив, если бы мрачные воспоминания не всплывали время от времени в его сознании и не будили новые опасения. Свобода была еще столь недолгой, он не мог забыть мучения каторги, изнурительный труд на лесосеке, невыносимую скученность обитателей тюрьмы. Он отвоевал свою независимость, сумел обеспечить существование семьи, ее завтрашний день… Необходимо теперь обезопасить жилище на случай налета, если врагам удастся напасть на их след. С бережливостью скупца он тратил заряды, полученные Никола от голландского капитана. Если иногда и звучали выстрелы, то лишь с целью добыть немного мяса для европейцев, которые с трудом привыкали к необычным условиям. Ружье было средством обороны, к которому он прибегнул бы в крайнем случае без малейшего колебания, ради защиты своей свободы. Но, разумеется, для ведения долгой борьбы такое оружие не годилось. Гораздо лучше было бы сделать жилище неприступным, укрепив единственное направление, откуда мог бы приблизиться враг. Ясное дело, что о системах обороны, принятых в цивилизованных странах, речи быть не могло. «Добрая Матушка», расположенная на склоне лесистого холма, была совершенно недоступна с запада. С севера и юга простирались непроходимые трясины. Оставался открытым восток: дорогой от Кокосовой бухты до хижины мог воспользоваться любой. Инженер, без труда определивший участок, который нуждался в обороне, не в состоянии был перегородить путь к реке. Прыжок Игуаны представлялся ему недостаточной защитой. Он поделился своими соображениями с Казимиром и попросил совета. Чернокожий добряк, не имевший никакого понятия о бастионах, куртинах или редутах[140], нашел самое простое решение проблемы. Прокаженный не мог удержать улыбку при мысли о том, как он разыграет «злых людей», если они вздумают напасть на его друга, на его милых детей и на добрую мадам. — Я знаю. Сейчас же мы этим займемся, идите со мной и зовите Никола. — Но что ты собираешься делать? — Погодите немножко, вы все увидите. Больше из негра не удалось вытянуть ни слова. Трое мужчин, вооруженных ножами-секачами, отправились не мешкая к Кокосовой бухте. Участок, который надо было обезопасить, имел в ширину около шестидесяти метров. Старик умудрился сделать его неприступным за какие-нибудь три часа. — Делайте как я, — только сказал он, выкапывая секачом лунку в земле глубиной сантиметров в пятнадцать. Робену и Никола понадобилось несколько минут, чтобы проделать в мягком грунте такие же лунки, удаленные по указанию негра одна от другой примерно на тридцать сантиметров. — Хорошо… Теперь еще… Вон там… Первую линию лунок подготовили за полчаса, затем вторую, третью; по отношению к дому эти параллельные линии были расположены под прямым углом. — Может, он капусту сажать собирается? Или артишоки? — допытывался Никола, обливаясь потом, хотя работа была вовсе не трудной. — Потерпи, — успокоил его Робен, — я, кажется, понимаю… Тут есть разумное зерно… Если и не капуста, то, к примеру, кактусы или молочай. — Так, так, — поддержал его Казимир, — друг правильно понимает! — Но это же так просто! Мы нарежем черенков колючих растений, их тут полным-полно, высадим две-три сотни, и через месяц-два подымется такой заслон, что сам дьявол не проберется. Колючие изгороди в целях обороны используют испанцы на Кубе, французы в Алжире, бразильцы. — Я не утверждаю, что это плохо, — возразил Никола, — но ведь они могут проложить себе дорогу ножами или саблями. Прокаженный махнул рукой: — Никогда белые здесь не пройдут! Когда растения станут большие, в них поселится много-много змей. И граж, и ай-ай, и гремучая змея… — Но это опасно для нас самих. Казимир улыбнулся. — Старый негр умеет подзывать змей и умеет их прогонять. Он только скажет: «Придите!», и они приползут. Он только скажет: «Убирайтесь!», и они исчезнут. Молодой человек недоверчиво покачал головой: — Все равно это не слишком приятное соседство… Робен успокоил его и развлек, живописуя в липах давний эпизод, когда шипящие союзники Казимира помогли обратить в бегство лагерную охрану. — Значит, вы в это верите, патрон? — Я верю в то, что сам видел и слышал. — А я бы взял на себя дерзость усомниться и заявил бы, что мне это кажется слишком маловероятным… Правда, в этих местах происходит столько чудес! Компаньоны пустились в обратный путь к «Доброй Матушке», приняв решение возвратиться сюда в надлежащий срок и проверить, поднялась ли неприступная роща и поселился ли в ней воинственный змеиный гарнизон. Они шли не спеша, индейской цепочкой, как ходили обычно, и беседовали вполголоса. Легкий шум заставил их остановиться. Девственные леса полны существ странных и опасных, хищников бегающих, прыгающих и ползающих, крупных и совсем малых, но не менее способных причинить смерть ядовитым жалом. Человек должен постоянно быть начеку: не прозевать бы момент риска. Не только туземцы, знатоки зеленого океана, но и европейцы вскоре приучаются распознавать голоса природы, определять их источник, предвидеть возможные последствия. Но шум, который услышали наши робинзоны, не был известен даже опытному Робену, не говоря уже о пока еще не разбирающемся в загадках тропической природы Никола. Казимир молчал, весь уйдя в слух. Шум, однако, продолжался, смутный, но непрерывный, словно шорох дождя в кронах деревьев. К шороху примешивалось едва слышное потрескивание. Это не походило ни на шелест трущихся чешуек, ни на лепет водных струй, ни на отдаленный рык сцепившейся стаи хищников… — Это муравьи, — произнес наконец крайне озабоченный старый негр. — Муравьи-переселенцы, — с тревогой подхватил бургундец. — Если они направляются в сторону хижины… Там жена, дети… Скорее туда! — Подумаешь, муравьи! Это же не слоны! — фыркнул Никола. — Пусть их сотни, даже тысячи — растер ногой, да и только! Не удостоив его ответом, Робен и Казимир ускорили шаг. Шум становился все более различимым. На полдороге к дому прокаженный, шедший впереди, внезапно остановился и у него вырвался вздох облегчения. — Эти злые твари не пойдут к хижине, нет! И действительно, метрах в тридцати от наших друзей муравьи пересекали дорогу под прямым углом, то есть двигались параллельно дому. Склон в этом месте был довольно крутой, и путники отчетливо видели армию насекомых, которая лилась безостановочным потоком. Масса панцирей и брюшек, черных, блестящих, плотно сбитых в колонну, напоминала движение вулканической лавы. И она несла с собой разрушение. Миллиарды челюстей кололи, дырявили, кусали, уничтожали по пути большие и малые растения. Травы исчезали, кусты начинали светиться, как кружево, даже стволы таяли на глазах. Беспечность покинула Никола, когда он увидел ужасные следы опустошения. Юноше стало не по себе: огромные деревья невероятно быстро теряли кору и выставляли напоказ белую сердцевину, лишенную защитной оболочки. Дорога к дому была закрыта для троих друзей на более или менее длительный срок. Им оставалось только ждать, а если шествие чересчур затянется — поджечь траву на пути муравьев. Они уже собирались — весьма, впрочем, неохотно — приступить к исполнению этого плана, когда их внимание отвлекло распластавшееся возле колонны муравьев крупное буро-коричневое животное. Время от времени что-то похожее на коричневый султан взметалось в воздух, потом опадало, и так много раз. Скорее всего, то был хвост какого-то бурого зверя. Со стороны морды, разглядеть которую пока было трудно, то и дело появлялся узкий, длинный красновато-фиолетовый язык, нырял в гущу насекомых и вновь прятался. Робен догадался в чем дело. Буро-коричневая туша принадлежала честному труженику — муравьеду, который лакомился обильной пищей. Занятый гастрономическими упражнениями, гурман не подозревал, что за ним наблюдают люди. К сожалению, не замечал он и четвертого свидетеля — голодного ягуара, который, по-видимому, испытывал настоящие танталовы муки[141]. Муравьиная лента шириной в добрых два десятка метров разделяла двух четвероногих: ягуар в возбуждении двигал передней лапой, словно кот, который охотится за лягушкой, но в испуге отдергивает лапу от воды. Муравьед, вожделенная добыча, был ягуару недоступен: зверь понимал, что, едва он вступит наземлю, по которой движутся муравьи, начнется сражение, и проиграет его он, а не бесчисленные полчища противников. В конце концов ягуар отважился на отчаянную попытку. Посреди муравьиной фаланги возвышалось дерево. Десятиметровый прыжок — и ягуар на дереве. Полдела сделано, оставалось броситься сверху на муравьеда и при этом не попасть в муравьиную колонну, откуда сладкоежка черпает свое лакомство. Лакомка-муравьед видел маневр своего врага и, не сводя с него глаз, ускорил движение языка. Казимир громко захохотал, Никола завороженно глядел на невиданное зрелище, Робен тоже увлекся происходящим. Кто кого, если дело дойдет до схватки? У ягуара крепкие острые когти да еще и клыки — огромные, белые. У пожирателя муравьев — только когти, но зато какие! Настоящие крюки длиной не меньше десяти сантиметров и твердые, как сталь. Не долго думая, ягуар прыгнул вторично с раскрытой пастью, выпущенными когтями и воинственно задранным хвостом. Он описал головокружительную дугу и обрушился… на пустое место, где полсекунды назад находился невозмутимый едок. Не потеряв спокойствия, муравьед просто отступил и оказался лицом к лицу со своим грозным противником, стоя на задних лапах, а передние подняв до уровня головы — ни дать ни взять боксер на ринге. Этот маневр не понравился ягуару, который яростно рычал и раздувал ноздри. Боксеры знают о преимуществе первого удара, должно быть, знал это и ягуар: сделав обманное движение лапой, он попытался поразить соперника в незащищенное брюхо, но муравьед ответил увесистой и точной оплеухой, разворотившей ягуару левую щеку. Хищник от боли и бешенства потерял самообладание, кровь ослепила его. Всем телом он устремился на врага, но тот мягко осел на землю, подогнув голову и выставив перед собою лапы. В мгновение ока ягуар был «опоясан», как выражаются борцы. Когти муравьеда вонзились в тело хищника. Ягуар сражался исступленно. В вихре движения двух тел, катающихся по земле, трое свидетелей смертельной схватки ничего не могли различить. Бой продолжался не более двух минут… Сухой треск сломанных костей, предсмертное хрипение… Объятия муравьеда разжались, он остался лежать без движения, с переломанным хребтом, а возле него корчился в агонии ягуар с распоротым брюхом. Робен, Казимир и Никола, потрясенные исходом схватки, осторожно приблизились к еще трепещущим телам. — Все хорошо, что хорошо кончается, — философски изрек юноша. — Этот великолепный муравьед, как вы его называете, оказался здесь более чем кстати. Вообразите, что ягуару пришло бы на ум пожаловать к нам! Бургундец улыбнулся и махнул своим секачом, хладнокровно заметив: — Он был бы не первым. Ну, а теперь нам предстоит аккуратно раздеть этих молодцов… Их шкуры постелим на полу в хижине. Отличные ковры. За работу, пока муравьи не опередили нас и не обглодали трупы до костей… — Погодите! — воскликнул молодой человек. — А это еще что такое?.. Между двумя мертвыми телами жался какой-то зверек не больше кролика. — Это маленький детеныш, — сказал Казимир. — Не может быть! Бедный малыш! Патрон, есть идея! Заберем его с собой, а? Дети будут в восторге! — Бога ради, мой милый! Попробуем его выкормить и приручить, хоть это и нелегкая задача. Пока Робен освежевывал ягуара, юный зоолог привязал к дереву детеныша муравьеда, который этому не противился. — Какое странное животное! — Никола с недоумением рассматривал погибшего муравьеда. — Голова тонкая, узкая, выгнутая, без шерсти — больше напоминает птичий клюв, нежели морду млекопитающего, даже рта нет. — Как нет рта? — У него на кончике морды маленькое отверстие, откуда, должно быть, появляется язык. Это и есть рот! — Конечно. Ведь муравьед питается особым способом. Его челюсти образуют нечто вроде трубки, по которой все время скользит длинный и липкий язык — вы это только что наблюдали. Он как бы «выстреливает» в гущу муравьев, захватывая все новые и новые порции насекомых. Наш погибший приятель, вернее, приятельница, ведь это самка, небывало крупная: целых два метра, даже больше, от морды до кончика хвоста. Просто великанша, как ты считаешь, Казимир? — Мне попадались и покрупнее[142]. — А когти, патрон, когти-то какие! Черт побери, я ничуть не удивляюсь, что этот муравьед буквально распорол ягуара. Поглядите, какие они острые… Однако зверь не может их втягивать, как кошка, ведь коготки-то сантиметров по десять длиной… — Когти у него — предмет особой заботы. Вместо того чтобы упираться ими в почву при ходьбе, он укладывает их вовнутрь на подошву ноги. — Ага! Я понял, что-то вроде складного ножа. — Вы заметили, что у него на передних лапах по четыре когтя, а на задних — по пять? Задние когти тупые, для защиты не годятся, зато с их помощью он разрушает муравейники. — Кстати о муравейниках, а где наша муравьиная армия? Мы так заняты уже полчаса, что начисто позабыли о муравьях. — Муравьи ушли далеко, — сообщил Казимир. — Да, это правда, дорога свободна! — В голосе Робена прозвучало нетерпение. — Возвращаемся немедленно, забираем шкуры, да не забыть бы и нашего нового питомца… Надо сказать, что друзья по дороге к хижине не обошлись без новых приключений. Едва они удалились от места вынужденной остановки, как в густой траве послышалось отчаянное мяуканье, и появилось красивое небольшое животное, чуть крупнее кошки. С полной доверчивостью юных и неопытных существ зверек стал тереться о ноги Никола. Юноша выхватил нож, но Робен остановил его. — Еще один осиротевший просит о помощи, — сказал бургундец. — Ну, это уже мой воспитанник! Я сам займусь дрессировкой. Будет мне помощником на охоте. — Это детеныш ягуара? — спросил молодой человек. — Вот именно! И совсем еще несмышленый. Надеюсь, мне удастся его приручить. Поскольку он может оцарапать детей, придется первое время подрезать ему когти. Взрывы смеха, крики радости ознаменовали возвращение экспедиции домой. Был рассказан во всех подробностях драматический случай, благодаря которому колония пополнилась двумя новыми обитателями. Маленькие сироты чувствовали себя неплохо. Едва их выпустили в огороженный «зоопарк», как они принялись играть и резвиться, не подозревая о взаимной ненависти родителей и о постигшей их потере. Принесенные шкуры развернули, натерли золой и растянули между стволов, прикрепив иголками «сырного дерева». Анри, с любопытством разглядывавший «камзол» муравьеда, вдруг рассмеялся. — Ой, папа, папа! Если бы ты видел… Знаешь, на кого похож твой муравьед? Мама, мама, ну, посмотри! Если ему надеть очки… — Да о чем ты, озорник? — Он так похож на моего учителя чистописания, месье Мишо! Вслед за Анри начали смеяться и другие дети: «Месье Мишо!.. Месье Мишо!» Так и прозвали маленького муравьеда. Что касается молодого ягуара, то и его скоро ввели в права гражданства. Сходство с кошкой закрепило за ним кличку «Кэт», которую тоже придумал Анри.
ГЛАВА 9
Опасности акклиматизации. — Анемия. — Удары солнечные и… лунные. — Робинзоны приносят дань Гвиане. — Гокко на птичьем дворе. — Свежее мясо на будущее. — Клевета и правда о гокко. — Сигареты для Никола. — «Бумажное дерево». — Убийство матери семейства. — Чернила и перья. — Птица-трубач. — Агами мог бы называться охотничьей собакой. — Первая запись курса естественной истории. — Равноденственный рай. — Маленький Шарль мечтает подружиться с обезьяной. — Иволги и «кинжальные мухи». — Подвиги обезьяны.Человек из умеренных широт не может без более или менее длительной акклиматизации[143] благополучно существовать ни в районах постоянного холода, ни под солнцем экватора. Рано или поздно природа берет свое, и опасные изменения преподносят весьма частые и болезненные уроки. Однако, если сравнивать способность европейца привыкать к условиям сильной жары или сильного холода, преимущество, без сомнения, окажется на стороне последнего. Нет нужды доказывать, что европеец переносит холод легче, чем жару. Холод не так уж непобедим. Обильное питание, теплая одежда, физический труд и спорт, хорошее отопление вполне помогают справиться с ним. К тому же в холодных странах, как правило, чистый и здоровый воздух. Другое дело жара — это враг куда более коварный. Да и как, в самом деле, бороться с температурой, от которой задыхаются, изнемогают днем и ночью и люди и животные? Солнце для европейца такой же опасный враг, как и голод. Если можно защититься от нападения зверей, от ненастья, приспособиться жить среди болотных испарений, то нельзя безнаказанно пренебрегать перегревом на солнце. Тень, какой бы густой она ни была, не приносит отдыха. И под самыми густыми и большими деревьями все тот же раскаленный, застойный воздух, свежий ветер не разгоняет его. Ночь ненамного прохладнее дня, потому что с заходом солнца земля отдаст тепло, которое вобрала днем. Не помогает и пасмурная погода. Жара становится еще более изнурительной, а солнечная радиация, вполне вероятно, даже опаснее. Постоянно поглощая перегретый воздух, легкие начинают работать с перебоями, как бы нехотя. Одна из причин истощения — обильная потливость, которую ничто не в состоянии ограничить. Пот льет в три ручья, тело как бы ни на миг не покидает парную баню. В холодных краях отличное здоровье помогает выдерживать суровые условия, но в тропиках все как раз наоборот. Любые болезни, желтая лихорадка обрушиваются прежде всего на европейца с цветущим здоровьем. Очень часты и трудно излечимы фурункулы[144] и карбункулы[145], отвратительны и очень болезненны стойкие сыпи, которые сопровождаются невыносимым зудом и хорошо известны колонистам под названием «бурбуй». Бурбуй покрывает все тело. Вызывает эту сыпь полнокровие, и только анемия или возвращение в Европу способны избавить от нее. В общем и целом европеец до тех пор не может считать себя приспособившимся к местным условиям, пока не растратит все силы, пока не покроется малокровной бледностью его лицо, а мускулы, в которых щедро пульсировала кровь, потеряют природную упругость. Чтобы жить на экваторе, надо уметь довольствоваться существованием «вполсилы», надо усвоить, как там говорят, «колониальный шаг». Если человек из метрополии[146] жалуется на здоровье, он слышит и от креолов, и от местных белых старожилов: «Все это от избытка крови. Подождите несколько месяцев. Когда вы станете малокровным, все у вас наладится». Несколько слов о солнечных ударах, чтобы завершить беглый и далеко не полный перечень тягот жаркого климата. «Обыкновенный» солнечный удар почти всегда смертелен в Индокитае, но особенно опасен в Гвиане. Пребывание с открытой головой на полуденном солнце в течение 15–25 секунд может привести к немедленному, а часто и смертельному кровоизлиянию. Соломенная или фетровая шляпа вас не спасет. Необходим зонтик. Плотно закрытая квартира тоже не всегда служит надежным убежищем. Солнечный луч, незаметно проникая через щель в палец и попадая на обнаженную голову, производит опасное облучение — не менее опасное, чем поражение пулей. И это не все. Не стоит думать, что легкое облако, загородившее тропическое светило, служит защитой от удара. Облако задерживает световые лучи, но тепловые проникают сквозь него, сохраняя всю свою убойную силу. С десяти утра и до двух часов дня необходимо укрываться от солнца. Вот почему в эту пору дня колониальные города безлюдны: улицы пусты, дома закрыты, магазины заперты. Не менее коварно влияние тропической луны. Охотник, шахтер, колонист, дровосек или моряк с равным старанием избегают не только горячих поцелуев дневного светила, но и бледной улыбки королевы ночей. Тяжкие воспаления глаз — суровое наказание за рассеянность, и человек, заснувший при лунном свете, рискует проснуться слепым. Кормилицы и матери семейств хорошо знают об этом, и ни одна из них не согласится выйти с младенцем в лунную ночь, если ребенок не защищен широким зонтом. Гвианские робинзоны, счастливо избежав опасностей голода и упрочив свое благополучие, в разной степени испытали все беды акклиматизации. Легче всего приспособились дети. Их страдания были куда меньшими, чем у матери. Бедная женщина вскоре потеряла аппетит. К ее элегантной бледности парижанки добавился тот серый, болезненный оттенок, который приобретают здесь все европейки. Карбункулы, очень болезненные для ее чувствительной кожи, оставили многочисленные синеватые шрамы. Мужественная француженка выздоровела благодаря неисчерпаемой бодрости духа, заботам близких и неукоснительному соблюдению правил тропической гигиены, а также благодаря креольским лекарствам. Отныне она вполне могла пренебречь погодными капризами экваториальной зоны. А вот незадачливый Никола испытывал подлинные мучения. Славный юноша, крепкий и полнокровный, оказался весьма невосприимчивым к климату. Сначала его терзала сыпь, он чесался с таким яростным отчаянием, что внес в организм инфекцию и долго лечился. В довершение беды его поразила болотная лихорадка, от которой бедолага чуть не погиб, провалявшись в бреду восемь дней, на грани между жизнью и смертью. Стоит ли говорить, что Робен, давно привыкший к местному климату, чувствовал себя в новом положении вполне благополучно. Полная перемена произошла с добрым старым Казимиром. Парижанин говорил ему раньше, что в некоторых случаях застарелой проказы возможно самопроизвольное излечение при смене климата и образа жизни. Его предсказание удивительным образом подтвердилось. Пребывание на возвышенности, в сухом и здоровом месте, работа на свежем воздухе намного улучшили состояние старика. Раны почти затянулись, заметны были только синеватые чешуйки на местах, прежде полностью пораженных страшной болезнью. Пальцы стали более гибкими. И нога, сохранившая «слоновью» неповоротливость, не казалась уже такой отталкивающей. Любо-дорого было поглядеть, как добрый негр гарцевал на этой тумбе-ноге вокруг детишек, к которым привязался всей душой и которые отвечали ему полной взаимностью. Он с гордостью посвящал своих юных друзей во все тонкости первобытной жизни, учил их обращаться с инструментами, обрабатывать дерево, плести корзины, прясть хлопок, подражать крикам лесных животных… Маленькие робинзоны оказались способными учениками. Если их, так сказать, предметное образование подвигалось успешно, то и духовное развитие не отставало. Правда, не хватало напечатанных книг, но зато перед ними раскрывалась великолепная книга природы, которую отец беспрерывно листал вместе с детьми. Ему следовала жена, заботливая и благородная натура, соединявшая опыт учительницы с материнской нежностью. Таким образом, класс робинзонов занимался вполне успешно. Дети бегло говорили по-французски, по-английски и по-испански, не считая местного наречия, на котором они болтали лучше матери и отца, к глубочайшему торжеству Казимира. Тетради для письма… да, да, и отличные тетради для письма появились у них… Но прежде чем рассказать, как это получилось, надо поведать о некоторых других событиях. Однажды Казимир вернулся домой в очень веселом расположении духа. Он нес на голове большую корзину, похожую на клетку, в которой на птичьих дворах держат цыплят. В корзине попискивала семейка пернатых, протестовавшая против самоуправного заточения, — добрая дюжина птенцов. Чистые перышки с черно-белыми полосками, твердые хохолки и чуть тронутые желтым у основания клювики… на вид птенцам было не более месяца. Под мышкой старый негр зажал красивую крупную птицу ростом с индюшку, с черно-белым оперением на спине, белым пятном на животе и ярким кудрявым султаном на голове. Короткий и крепкий, слегка загнутый клюв казался оправленным в золотую рамочку. Добряка, бродившего где-то много часов, встретили, как всегда, очень радостно. Робен, вязавший крепления к большому гамаку, изготовленному его женой из собранного на участке хлопка, прервал работу и вышел Казимиру навстречу. — Хорошо поохотился, дружище! Кого ты нам принес? — Маленьких гокко! А это их мама… — Да это просто клад для птичьего двора! Целое семейство гокко, — обратился инженер к жене. — Очень ценные обитатели для нашего вольера, который мы с таким трудом построили… И как кстати! Казимир не напрасно старался. — Да, да, — подхватил довольный чернокожий, — я давно нашел гнездо, я ждал, пока мама гокко снесет яйца, потом высидит их. Птички мало-мало выросли, и я принес их. — А тем временем ты заставлял нас строить необходимое помещение… — Как говорят, купить веревку раньше, чем корову, — назидательно вставил Никола. — К счастью, поговорка не оправдалась… — Ну, давайте же скорее выпустим их на свободу! Пусть побегают… — оживилась мадам Робен. — Переселим их из корзины в новое жилище! — А ты не боишься, что их мама сразу улетит? — встревожился Анри. — Я этого не боюсь, дитя мое. Гокко очень легко приручаются, но при условии, что их не закрывают в слишком тесном помещении. Эта птица привязывается к дому. Она совершает долгие вылазки в лес, но обычно снова возвращается к людям. Кроме того, мать ни за что не покинет своих малышей! Птенцы, выпущенные в ограду, тут же начали шумно ссориться из-за зерен, брошенных детьми. Наседка гокко, еще не оправившись от испуга, хлопала крыльями, разгуливала вдоль загородки и испускала глухие крики, похожие на голос чревовещателя. Она и не пыталась перелететь через ограду. Понемногу успокаиваясь, глядя на своих беззаботных малышей, мамаша вскоре осмелилась поклевать вместе с ними. — Ой, папа, папа! Мне кажется, что она уже узнает нас! — воскликнул Эдмон. — Мы скоро сможем к ней подойти? — Дня через два она будет есть у тебя из рук, дитя мое. Эта красивая птица такая спокойная, доверчивая и мирная, что одомашнивается в считанные дни. Подобные качества настолько редки у дикого животного, что создали гокко несправедливую славу очень глупой птицы. Бюффон[147] писал, что она вообще лишена инстинкта самосохранения, не замечает опасности или, по крайней мере, не стремится ее избежать. Обле убивал по десятку из одной стаи, преспокойно перезаряжая ружье. Однако частое появление врага меняет характер птицы, делает ее нервной, подозрительной и пугливой. — Ты правильно сказал, папа, что ее оклеветали, — сказал Анри, который всегда очень внимательно слушал рассказы отца о природе. — Из того, что эта птица добрая, вовсе не следует, что она обязательно глупая. — Разумеется, мой дорогой сын. Вы все замечали, между прочим, как дикие животные, обитающие в окрестностях поселений и видящие, что им не причиняют никакого вреда, начинают понемногу привыкать к людям, а потом уже запросто являются в гости. Вон видите, целая колония пичужек устроила свои гнезда на дереве в какой-нибудь сотне шагов от нас. Вот норки сусликов, обычно таких робких; они грызут наш батат, маленькие разбойники. Попугаи-пересмешники, крикливые ара поют, свистят и горланят прямо над крышей дома… Да и многие другие животные, вплоть до обезьян, не боятся нас. Так что мы воспитаем птенцов гокко, будем их кормить, а когда они наберутся сил, пусть отправляются гулять куда захотят. Не сомневайтесь: каждый вечер питомцы «Доброй Матушки» станут возвращаться домой, как по команде! — Кэт! Ко мне! Кэт! — вдруг громко закричал Анри, заметивший хитрую проделку ягуара: зверь, уже сильно подросший, вкрадчиво пробирался к вольеру, к великому ужасу гокко-матери. — Вот видишь, мальчик, назвать эту птицу глупой нельзя. Она прекрасно видит опасность! После своих устных уроков Робен особенно жалел, что не располагает необходимым материалом, который он уже отчаялся раздобыть. Заботясь о какой-то хотя бы относительной системе в обучении детей, он, естественно, огорчался, что не может научить младших читать и писать. Еще годы пройдут, пока его сыновья смогут принять полноправное участие в трудах колонистов, и так важно не упустить время, ведь потом будет намного труднее обучить их обращению с пером, приохотить к чтению. До последнего времени все его попытки в этой части домашней педагогики были тщетными. Как справедливо утверждал Никола, бумажные листы не растут на деревьях. Но именно в этом он весьма сильно заблуждался. Эксперименты Робена продолжались впустую, пока неожиданная фантазия юного скептика не дала толчка к подлинному открытию. Во время оно Никола был заядлым курильщиком, но, сказавши последнее «прости» «Тропик Бэрд», бедный парень вынужден был отказаться от излюбленной привычки. Он, кажется, охотно отдал бы палец за пачку табаку или за дюжину грошовых сигарет. Казимир, желавший угодить другу, пообещал ему разбиться в лепешку, но отыскать курево. В поселениях негров или индейцев всегда оставляют какой-нибудь уголок для плантации табака, ибо к этому зелью тут питают пристрастие не меньшее, чем в Европе. Естественно было предположить, что и в окрестностях «Доброй Матушки» где-то есть такая плантация. Поиски старика были долгими, но увенчались полным успехом благодаря его терпению и упорству. В одно прекрасное утро восхищенный Никола получил в подарок пачку длиннейших сигарет — не короче тридцати сантиметров. Но индейскому обычаю, они были свернуты из одного табачного листа каждая в тонкие и крепкие трубочки красивого коричневого цвета. Рассыпаясь в благодарностях, молодой человек, как легко могут представить себе курильщики, немедленно окружил себя облаком ароматного дыма. Робен взял одну сигарету и начал ее рассматривать. Вся пачка была обернута в нечто заменяющее бумагу, и это навело бургундца на мысль найти этому «нечто» другое применение. — Из чего это сделано? — поинтересовался он у негра. — Из коры мао. — А где ты ее нашел? — Там, за маниокой. — Пошли туда! Полчаса ходьбы привели их к живописной группе деревьев с огромными листьями, зелеными с верхней стороны и бледными с нижней, покрытыми легким рыжеватым пушком. На деревьях цвели белые и желтые цветы, плоды представляли собой продолговатые рубчатые коробочки желтого цвета, внутри находились беловатые зерна, тоже опушенные. Тонкая и блестящая кора была совершенно гладкой. Инженер знал это дерево и раньше. Его легкая белая древесина отлично колется, расщепляется, индейцы используют ее для добывания огня с помощью трения. Из волокнистой коры, разрезанной на узкие полоски, изготавливают прекрасные, негниющие веревки, ею же конопатят лодки. Наконец, из луба — тонкого слоя древесины, который находится сразу под корой, — мастерят гамаки, сетки и тому подобные вещи. Изобретательский гений Робена нашел для луба другое применение. От коры он отделялся легко, и скоро в руках у смекалистого француза оказалось несколько тонких концентрических пластинок. — Вот она, бумага! — Шарль-старший с торжеством и гордостью поднял тонкий древесный пласт. — Лишь бы она не оказалась промокашкой, когда высохнет! Казимир не мог уразуметь, что все это значит. Чернокожий только понял, что его другу нужны сухие листки. И старик нашел несколько таких под кусками высохшей коры. Они были совершенно гладкие. — Чернила можно сделать из сока генипы, ну а перьями нас снабдит гокко! Путники возвратились домой, Робен, не говоря ни слова о своем открытии, направился к вольеру, где уже неделю резвилась семейка гокко. Француз с трудом сдержал крик боли и гнева при виде сбившихся в кучу перепуганных птенцов и окровавленных останков их матери… При звуке его шагов ягуар задал стрекача, поджав хвост, и нырнул в широкую дыру, проделанную в заборе. Инженер не хотел огорчать детей рассказом о злодействе их любимицы Кэт, но про себя твердо решил выпороть ее как следует. День клонился к вечеру, наш герой подумал, что неприятное сообщение надо отложить до завтра, подобрал несколько перьев погибшей птицы, починил ограду и пошел к хижине. — Мои дорогие дети, — торжественно начал он, — перед вами бумага, чернила и перья. Мы произведем опыт, который, я надеюсь, увенчается успехом. Не откладывая дела в долгий ящик, глава семейства очинил одно из перьев с помощью маленького перочинного ножичка, случайно захваченного из Парижа его женой (ножичек берегли как зеницу ока!). Несколько капель сока генипы темнели на дне глиняной чашечки. Робен макнул перо в «чернила» и своим твердым, округлым почерком вывел несколько строчек, а затем рассказал о происхождении принесенной им «бумаги». Не без душевного волнения вручил он «листок» Анри, который громко и внятно прочитал написанное. Открытие бургундца имело для гвианских робинзонов очень большое значение. Какую бы пользу ни приносили устные лекции, они не могут заменить детям письменные уроки. Занятия арифметикой, математикой, географией, не говоря уж о многом другом, почти невозможны без них. Каждому из обитателей «Доброй Матушки» захотелось что-нибудь написать, всем очень нравился красивый естественный цвет желтоватой «бумаги» в сочетании с густым коричневым цветом «чернил». Каждый пожелал немедленно вооружиться пером. Этот всеобщий порыв напомнил Робену о печальном конце «дарительницы перьев». Кэт не появлялась, надеясь, по всей видимости, что ночь, проведенная ею под открытым небом, сотрет из памяти людей учиненное ею зло. Но хищница-лакомка ошибалась: Анри, возмущенный рассказом о ее разбое, поклялся наказать ягуара, полностью поддержав отца. Но как теперь быть с птенцами? Они еще слишком малы, чтобы обходиться без матери. Особенно беспокоилась мадам Робен. Почти ежедневно выпадали короткие ливни, предвещая сезон дождей. На другой день все были на ногах спозаранку. В неплотно притворенную дверь вдруг ворвался зычный крик, похожий на звук охотничьего рога. Судя по громкости, источник шума находился где-то у вольера. — Это еще что такое?! — воскликнул инженер, хватаясь за ружье. Казимир заковылял во двор, но вскоре вернулся, громко смеясь. — Бросьте ваше ружье, друг! Идемте к маленьким гокко! Так смешно!.. Не могу… Когда они подошли к вольеру, то глазам их предстало поистине удивительное зрелище. Красивая птица, размером с крупного петуха, только на длинных ногах, важно разгуливала в толпе суетливых цыплят, бдительно наблюдая за ними и квохтаньем собирая вокруг себя. Она скребла клювом землю и шарила в траве в поисках корма для малышей. Их собственная мать не проявила бы больше усердия и внимания. Время от времени залетный гость хорохорился, как истинный петух, и испускал оглушительный, вибрирующий зов. Он высоко держал красивую головку с изогнутым клювом, покрытую коротким курчавым пухом. Оперение, ярко-черное на шее, на крыльях и животе, отливало всеми цветами радуги. Полоска цвета красной охры рассекала черный фон, опоясывала птицу ремешком, проходила по середине спины и по крыльям. Птицу ничуть не смутило появление новых лиц, живо заинтересованных ее повадками. Когда ей бросали зерна и крошки, она не спешила их склевать, а созывала птенцов отрывистым и нежным кудахтаньем, как наседка. — Это агами[148], — сказал Казимир. — Хорошая птица! Товарищ маленьким птенчикам. — Я с этой птицей уже знаком, — обрадовался Никола. — Она давно крутится вокруг дома. Я так и думал, что рано или поздно она к нам явится. — Как здорово! — захлопал в ладоши маленький Эжен, обожавший пернатых. — А она останется у нас? — Конечно, дитя мое! — успокоил его отец. — Агами больше не покинет маленьких сирот, ведь она их уже усыновила и проявила материнскую любовь. — Какая красивая птица! — в восторге повторял ребенок. — И такая же добрая, нет более ласкового существа. Поверите ли, мои дорогие, она не только узнает человека, который ухаживает за ней, и привязывается к нему, но также повинуется его голосу, отвечает на ласку и домогается новой, до навязчивости… Она бурно радуется приходу хозяина и скучает, когда он уходит. — Папа, папа! — вскричал Эжен. — Подари мне ее! Я буду ее очень любить, и она тоже меня полюбит. Она еще никого не знает! Я хочу, чтобы она привязалась ко мне! — Согласен, мой милый! У твоего брата Анри есть ягуар, у Эдмона — муравьед, а у тебя будет агами. Ты не будешь обделен дружбой, наоборот! Когда гокко подрастут и перестанут нуждаться в агами, она будет бегать повсюду за тобой, как собачонка. — Интересно, всегда ли эта птица ведет себя подобным образом с обитателями птичьего двора? — задалась вопросом мадам Робен. — Охотно допускаю, что это именно так. Ей приписывают ум и инстинкт охотничьих псов. Она добивается такой же власти над домашними пернатыми, как собаки — над овцами. Агами время от времени испускала крик, который наверняка был слышен очень далеко. Креолы по справедливости называют агами птицей-трубачом. Новая обитательница птичьего двора благосклонно восприняла внимание и заботу Эжена, вскоре осмелела и подбежала к мальчику, чтобы взять у него из рук несколько кусочков лепешки. — Ну, все в порядке, — сказала мать восхищенному сыну, — вы теперь друзья на всю жизнь! — Хорошо ли ты помнишь, Анри, все, что я рассказал об агами? — поинтересовался Робен. — Конечно, папа, я все хорошо помню… Я догадываюсь, что ты хочешь мне сказать. — Что же, мой маленький предсказатель? — Ну, мы теперь можем писать, и ты хочешь, чтобы я записал твой урок. — …А потом выучил бы его вместе с братьями, — докончил отец, обнимая сына. В конце концов и Кэт получила свое — крепкую порку, причем поблизости от вольера. После этого она долго не приближалась к загородке, за которой под недреманным оком агами мужали юные гокко. Мало-помалу и другие птицы и четвероногие привыкали к дому и переходили на приятельскую ногу с робинзонами, которые превратились поистине в королей своего рая. Возделанный участок не отпугивал лесных обитателей, обычно убегающих подальше от людей, наоборот, он как бы превратился в своеобразный центр притяжения. Плантация, плодов которой с избытком хватило бы для пропитания тридцати семей, прикармливала и лесное общество. Семейство изгнанников вкушало счастье, завоеванное после долгих и тяжких испытаний. Лишь одно темное пятнышко омрачало дни самого юного колониста. Радость маленького Шарля была неполной. Три его брата обзавелись друзьями-животными. Нет, Шарль не претендовал ни на ягуара, ни на муравьеда, ни даже на птицу-трубача. Но ему так хотелось дружить с обезьянкой! Сапажу, макаки, носухи[149], даже уистити[150] прибегали время от времени поиграть возле дома, проделывали головокружительные прыжки, но не подпускали к себе, и карапуз Шарль был безутешен. В сотне шагов от хижины, на макушке великолепной пальмы, если вы помните, целая стая пичужек устроила себе жилище. Эти птички, кассики[151], похожие на европейскую иволгу, желтые, как и она, с черными крылышками и головкой, имеют обыкновение селиться большими колониями. На одном дереве пернатые сооружают пятнадцать, двадцать, тридцать гнезд — длинные сумочки с боковым отверстием-входом, подвешенные с помощью тростинок на самых кончиках ветвей или пальмовых листьев. Такие «сумочки» длиной до метра и шириной у основания до тридцати сантиметров представляют собой любопытное зрелище и дают надежное укрытие умным птичкам. В самом деле, нет такого бродяги, каким бы маленьким и легким, вроде пальмовой крысы или сапажу, он ни был, который в погоне за свежими яйцами отважился бы добраться до оконечности тонких листьев и веточек, где еще более тонкие нити удерживают воздушные постройки. Для большей надежности кассики вешают свои домики на деревьях, на которых живут «кинжальные мухи», грозные гвианские осы. Этих перепончатокрылых называют также «картонными мухами», поскольку они строят гнезда из вещества, похожего на картон, — растительного волокна, скрепленного клеем, который производят особые железы ос. Гнезда большие, сантиметров сорок в диаметре, а вход один и очень узкий — чтобы одной только осе пролезть. «Кинжальные мухи» и кассики живут в полном согласии, объединяясь против общих врагов. И на пальме около «Доброй Матушки» также находилось гнездо «кинжальных мух». В одно прекрасное утро симпатичная обезьянка, весьма лакомая до этих «мух», решила начать против них военные действия перед восходом солнца. Насекомые еще спали, но должны были вот-вот проснуться. Невзирая на отчаянные крики птиц, обезьяна забросила своего малыша на плечи, удобно расположилась возле осиного гнезда и поджидала пробуждения его обитателей. Поскольку они не спешили, обезьяну разобрало нетерпение, и она несколько раз шлепнула левой рукой о сухую звонкую стенку, а указательным пальцем правой руки заткнула входное отверстие. Легкое гудение означало, что колония проснулась. Обезьяна убрала палец, показалась первая осиная головка… крак! Два маленьких черных пальца схватили насекомое на выходе, раздавили ему брюшко, выступило уже бессильное жало, и обезьянка тотчас проглотила осу. Вторая оса разделила судьбу первой, затем третья — и так далее. Поскольку вылет ос мог участиться и опередить их поглощение, обезьяна регулировала процесс, затыкая отверстие пальцем левой руки, в то время, как правая неутомимо отправляла добычу в рот. С полчаса все это выполнялось с большой четкостью. Увлеченная лакомка жевала и глотала и, казалось, не думала прерывать свое занятие. Это приводило в полное отчаяние другую обезьянку, которая бесшумно подобралась к гнезду и завистливо наблюдала за роскошным пиршеством, не имея возможности его разделить. Первая обезьяна явно не собиралась покидать свое место, а спихнуть ее силой было затруднительно. Если бы палец-затычка запоздал хоть на миг, обеих сладкоежек тут же осадил рой разъяренных ос. Раздосадованная неудачница как будто решила отказаться от борьбы. Она бесшумно поднялась на макушку пальмы, повисла на хвосте головою вниз и несколько минут исступленно раскачивалась. Над головой любительницы «кинжальных мух» вторая обезьянка заметила большую тяжелую гроздь спелых плодов. Прикинув на глазок расстояние до земли, обезьянка громко заверещала, быстро перелезла на новое место и принялась грызть черенок, на котором держалась гроздь. Очень скоро гроздь полетела вниз, увлекая за собой и обломки полуразрушенного осиного гнезда, и маленькую эгоистку, которая распласталась на земле с переломленным хребтом. Автор смертельной шутки, весьма довольная собственной выходкой, рассчитывала быстро спрятаться от разъяренных ос. К несчастью, завистница позабыла о птицах. А пернатые, возмущенные покушением на своих союзников, подняли страшный крик и окружили агрессора плотным кольцом. Напрасно проказница перепрыгивала с ветки на ветку, стремясь удрать. Ведомые птицами осы набросились на нее и искусали так, что она вся раздулась, упала с дерева и разбилась насмерть. Робинзоны присутствовали при этой маленькой трагедии, которая сильно их взволновала. Казимир молча, не делая резких движений, приблизился к погибшим животным. Он опасался привлечь внимание ос, уже занятых восстановлением разрушенного жилища. Старый негр поднял тело первой обезьянки-матери, в которую отчаянно вцепился осиротевший малыш. Шарль мог больше не завидовать своим братьям: его мечта осуществилась. Он стал владельцем маленького четверорукого друга.
__________
Минул год с того дня, как отважная семья Робена воссоединилась со своим отцом и мужем. Наступил сезон дождей. Благодаря дружной совместной работе гвианские робинзоны могли не бояться ни голода, ни ненастья. Их дом был в отличном состоянии. Разнообразные запасы заполняли просторные склады, надежно укрытые, с хорошей вентиляцией. В одном из уголков птичьего двора сделали навес. Гокко росли как нельзя лучше. К ним присоединились лесные куропатки, цесарки, фазаны… Все они жили в мире и согласии. Земляные черепахи, которых Казимир называл «тоти-ла-те», — будущие вкусные супы — обосновались неподалеку от птичьего двора в обществе диких поросят-пекари, которые еще сосали материнское молоко. Материальная база колонистов росла. Период дождей в тропиках тягостен для человека, но нашим друзьям скучать было некогда. Требовалось обновить одежду — вот когда пригодился запас хлопка, собранного в свое время. Робен и Никола соорудили простой ткацкий станок. Он работал вполне успешно и производил прочную материю. Каждого колониста, за исключением Казимира, всегда ходившего босиком, снабдили удобной, мягкой и легкой обувью, похожей на мокасины[152] североамериканских индейцев. Все из тех же волокон арумы сплели широкополые шляпы. Наконец, в общем распоряжении находилось большое количество бумаги — «мао», сухой и блестящей. Долгие дождливые вечера не пройдут зря, дети продолжат учиться. Гвианские робинзоны не будут маленькими белыми дикарями! Они станут гордостью всех французов на экваторе.Конец первой части







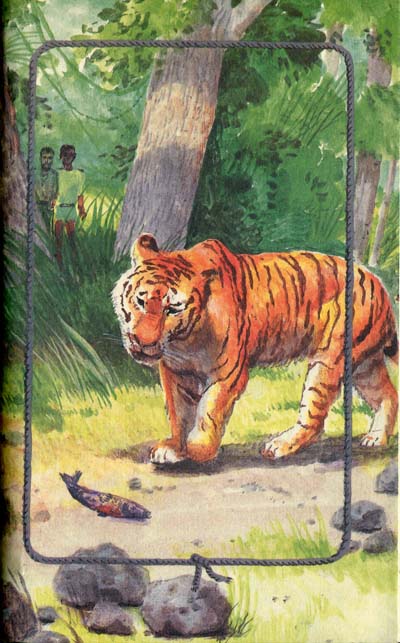


Часть вторая ТАЙНА ЗОЛОТА
Памяти Ж. Б. Лабурдетта Досточтимому Ж. Б. КазальсуПомните ли, мой дорогой Казальс, ту исполненную волнения минуту, когда, покидая прииск Гермина, я говорил, прощаясь тогда и с Лабурдеттом: «До свидания!»? Вы открыли мне полную опасностей и приключений жизнь золотодобытчика, и я дал себе клятву засвидетельствовать свою глубочайшую признательность, посвятив вам обоим этот труд, немыслимый без полученных от вас технических знаний. Лабурдетта, увы, нет более с нами. Пусть же моя книга станет памятью об этом неутомимом труженике. Что касается Вас, дорогой друг, чья помощь была поистине неоценима, соблаговолите принять сей скромный дар как знак моего живейшего расположения.
Луи БУССЕНАР
ГЛАВА 1
Пленный индеец. — Тукан[153] и оноре. — Лагерь на речных порогах. — Золотая стрела. — Легенда об Эльдорадо. — Губернатор и краснокожий. — Тайна, которая убивает.— Давай-ка сюда краснокожего! — Погоди… Одну минутку! — Крепко ли он связан? — Не беспокойся, отлично! Уж я позаботился об этом! Не шевельнется! — А он случаем не отдал Богу душу? А? — Гм… — В голосе отвечавшего проскользнуло сомнение. — Смотри, только без глупостей! Помни, индеец для нас — целое состояние! Наши будущие миллионы. — Так развязать его, что ли? — А вдруг вырвется и удерет? — Ну, а так… если задохнется? — Ты прав! Не следует резать курицу, несущую золотые яйца. Знаешь, расслабь-ка немного узлы! — приказал спрашивавший: по всему был виден бывалый моряк, привыкший отдавать команды. — Поторопись! Индеец по-прежнему не выказывал признаков жизни, и его подняли без особых усилий. — Кажется, готов! — испугался сторож краснокожего. — Да ты что?! Черт побери! Хороши же мы будем, если он задохнулся! — Проклятье! Ведь я глаз с него не спускал! — Кого ты проклинаешь? Кому доверили стеречь этого типа?! — Но погляди, сколько я истратил на него самой крепкой плетенки! Никак не меньше пятнадцати саженей!..[154] — Думаю, веревка не могла послужить причиной смерти… — За восемь дней наших скитаний он наверняка выкинул бы не одно коленце, не прими я мер предосторожности. — Да ладно, ладно, чего уж там, давай лучше убедимся, живой ли он. — Ну… дьявол меня побери! Если он подох, мы с тобой по уши в дерьме! Просто пропали! — Как пропала и тайна золота!.. Вот тогда-то, приятель, ты за все заплатишь! Кожу спущу… по кусочку… — Да погоди ругаться! Краснокожий ни с того ни с сего никогда не подохнет. Они живучи как собаки! Сейчас сам убедишься! Говоривший засунул руку в карман грубых домотканых штанов, достал оттуда огниво и длинный желтый трут, обычный у курильщиков. Скоро посыпались искры, трут задымился, показался язычок пламени. Освободив запястья юноши-индейца, по-прежнему безжизненно-обмякшего, с проступившими синеватыми бороздками на коже от просмоленной грубой веревки, человек вложил тлеющий трут между пальцами рук пленного и крепко сжал их. Тошнотворный удушливый запах паленого противно защекотал ноздри. Грудь краснокожего судорожно приподнялась, втянула воздух, из горла вырвался болезненный хрип, похожий на вздох. Казалось, от огненной припарки бедняга стал приходить наконец в себя. — Жив, курилка, жив! — довольно похохатывал истязатель в восхищении от собственной выдумки. — Ну и слава Богу! Подхвати-ка его покрепче под мышки и давай… тащи! — Готово! Главное — не шлепнуться в воду… А вы — эй, там — следите за веслами! Уф-ф-ф… Да тяни ты его, тяни! Атлетически сложенный мужчина поднял, словно пушинку, несчастного малого, у которого все еще слегка дымилась кожа на руке, и опустил на голую скалу у своих ног. — Ну, друзья, теперь ваша очередь! Давайте по порядку!.. Четверка путников готовилась перебраться через одну из скалистых гряд, которые в Гвиане нередко пересекают реки, создавая путешественникам дополнительные трудности. Гряда была никак не менее четырех метров над уровнем воды. Крепко ухватив конец веревочного крепления для подъема индейца, один из мучителей вскарабкался на каменную преграду и кое-как пристроился на вершине гранитного островка, вокруг которого с ревом бушевали пенистые каскады. Бросившую якорь у подножия скалы пирогу[155] болтало и подбрасывало, грозя разнести в щепки. Следом за пленником переправили продукты и бочонки с куаком[156], ящики сухарей, солонину и копченую рыбу, оружие, боеприпасы, инструменты. Наконец, вдвое удлинив якорные крепления, действуя точно и слаженно, четверка в едином усилии подняла на руках, словно на талях, пирогу, и стала осторожно вдвигать ее нос на маленькую гранитную платформу, уже сплошь заваленную охотничьими ружьями, мотыгами, топорами и прочим снаряжением. Пригреваемый солнцем, неподвижно лежал распростертый на голой скале индеец. Если бы не едва заметно приподнимавшаяся грудь, не исполненный ненависти взгляд черных раскосых глаз, которыйвремя от времени бросал пленник на своих мучителей, когда те поворачивались к нему спиной, можно было подумать, что несчастный в глубоком обмороке. Совсем юный, лет двадцати, он был невелик ростом, но ладно и крепко сложен. Из одежды — одни калимбе[157], плечи и грудь не разукрашены по местному обычаю рисунками, которыми с помощью сока генипы размалевывали лица и тела его соплеменники. Не смазанная животным жиром загорелая кожа юноши казалась не намного темнее, чем у незнакомцев, захвативших его в плен. Трое из компании были явными европейцами: в рубахах с засученными по локоть рукавами, в штанах, закатанных выше колен, открывавших мускулистые сильные ноги, сплошь исполосованные шрамами разной степени давности, в широкополых соломенных шляпах. На худых, бледных лицах застыло жесткое, даже жестокое выражение, а небольшие бородки, отпущенные, вероятно, не более двух месяцев назад, подчеркивали еще и свирепость их обладателей. Трудно определить возраст каждого, скорее всего никто из этой тройки не перевалил за тридцать. Четвертый, непомерно широкий в плечах, с атлетическим торсом и походкой вразвалочку, как у медведя, судя по всему, являлся у них вожаком. Кривые мощные ноги с рельефными мускулами были обуты в грубые на шнуровке ботинки с низким задником, типа армейских, белая каскетка[158], едва прикрывавшая макушку, красная шерстяная рубашка, туго обтягивавшая плечи, довершали наряд. Лицо четвертого скрывалось под огромной черной бородой с проседью. Он выглядел старше своих компаньонов, ему явно перевалило за сорок. Хотя он распоряжался весьма решительно и все безоговорочно выполняли команды предводителя, чувствовалось, что тут установились отношения полного равенства, основой которых, видимо, служили общие жизненные цели и планы. И даже не будучи свидетелем жестокого, бессердечного обращения с пленным, легко было догадаться, что сговор этой кучки авантюристов зиждился отнюдь не на исполнении высокого долга, а на удовлетворении корыстных интересов, граничивших, вполне возможно, и с преступлением. Наверное, при стороннем взгляде на эту, не лишенную живописности, компанию у иного бесстрастного наблюдателя могло невольно вырваться: «Ну и хорошенькая же подобралась шайка негодяев!..» Впрочем, им было трудно отказать в способности держаться вольготно и уверенно под палящими солнечными лучами как людям, привыкшим к местному климату, опасному для впервые попавшего сюда европейца. Легкость, с которой они выполняли все, что требовалось, говорила о сноровке, нажитой в трудах тяжких и изнурительных. — Послушай, шеф, — бесцеремонно обратился к старшему один из команды. — Не настало ли время перекусить? — Только после того как загрузим лодку! — последовал ответ. Уловив общее недовольство отказом, главарь твердо, не без легкой издевки пояснил: — А ну, мои овечки, беремся дружно за провиант и прочие бебехи! Вы же меня знаете, я вкалываю наравне с вами. Думаете, у меня не сосет под ложечкой? Ошибаетесь! Еще как сосет! Но мне не привыкать. Глядите, подаю вам пример! И, подтверждая сказанное делом, он играючи подхватил бочонок с куаком в добрые полцентнера, без особого напряжения перекинул его в лодку, которая теперь тихо покачивалась на волнах по другую сторону каменной гряды. Всю операцию завершили менее чем в четверть часа. Мужчины приступили к скудной трапезе. Несколько горстей муки, замешанной на воде, да ломтик свежепосоленной свинины, обжаренной накануне, — вот и все меню. Молодой индеец понемногу приходил в себя, — наученный горьким опытом, он уже не демонстрировал столь явно своей полной неподвижности. Краснокожий с трудом проглотил брошенный ему кусок лепешки и, казалось, ничего не замечал и не слышал. Вдруг из глубины зарослей неподалеку от водопада вырвался пронзительный крик, похожий на скрип плохо смазанного тележного колеса. Однако никто не обратил на него внимания, кроме пленника, чуткий слух которого тотчас уловил этот необычный сигнал. Он узнал голос тукана, или перцеяда, птицы, которую гвианисты-креолы[159] называют «большим клювом». Вспышка любопытства, а может быть, надежды на миг осветила неподвижное лицо юноши, но тут же сменилась прежней безучастностью. Между тем послышался и другой голос, звонкий и сочный, который было странно слышать в этих местах. Четыре ноты — до, ми, соль, до — словно исходили из горла оперного баритона и звучали долго, с удивительной точностью. Краснокожий вздрогнул и этим движением чуть было не выдал волнения. — Эй, калина́![160] Что с тобой? — подозрительно уставился на него мужчина с бородой, которого все величали шефом. — Пение действует тебе на нервы? Это тукан забавляется, а оноре ему отвечает. Любопытная птичка, что и говорить, так и кажется, что человек. Тукан проскрипел вновь. До, ми, соль, до — тотчас последовал ответ. И снова непроницаемый лес погрузился в тишину. — Странно, что они распевают в полдень. Никогда такого не слыхивал, шеф… Послушай-ка, а если это сигнал? — заметил один из гребцов. — От кого сигнал, дубина? И кому адресован? — Почем мне знать? А мы разве не прибегаем к подобным уловкам? Ты уверен, что там, в траве, под листвой, за деревьями не прячется несколько пар любопытных глаз, следящих за нами, и что крик тукана и пение оноре лишены какого-то тайного смысла? Очень странно, что они поют в полдень. В такое время все птицы, кроме пересмешника[161], молчат. Я осмотрел все кругом, но тукана не заметил. А ведь его крик прозвучал довольно близко… Загадочный дуэт, при внешней незначительности эпизода вдруг ставший событием, зазвучал вновь в обратном порядке. Начал оноре, а тукан ему ответил. Четверо мужчин пронзили взглядами индейца, безмолвного и бесстрастного. — Если бы я знал, — проворчал шеф, — что ему подают знак, то влепил бы нашему приятелю пару увесистых оплеух. — Ну, и многого бы добился? Из него и словечка не вытянешь. Эти скоты упрямы, как ослы. Если что-то возьмут себе в голову, черта лысого потом из них выбьешь. — Не беспокойся… Это моя забота. Мы почти у цели. Наступает момент, когда мы не сможем ориентироваться сами. Он один знает дорогу, и если не пожелает говорить… Тогда я поджарю ему ноги до живота, а руки — до плеч, и заговорит как миленький. — В добрый час! Это о тебе речь, калина, слышишь, эй, ты! Индеец не удостоил говорившего даже взглядом. Четверо мужчин заняли свои места в лодке, связанного индейца уложили в центре, и все принялись яростно грести. Русло реки, суженное у порогов, постепенно расширялось. — Будем держаться левого берега, — сказал старший. — Вы видите гору, вон там? Или это всего лишь облако? — Это гора. — Хорошо, я держу курс на нее. В четвертый раз прозвучал крик тукана, но с такой силой, что путешественники одновременно вскинули головы, как будто птица пролетела совсем рядом. Главарь подавил желание выругаться, схватил ружье и быстро зарядил. Пирога почти вплотную приблизилась к берегу. Послышался легкий шорох потревоженных веток. Затем лодка ткнулась носом в песок. Бородач выстрелил наугад в густые заросли на высоту человеческого роста. Посыпались листья, скошенные свинцом, но испуганного крика, издаваемого туканом в минуту опасности, не последовало. — Ты был прав. Это сигнал. Пословица гласит: за одного битого двух небитых дают. Итак, мы сто́им восьми, ведь нас четверо. Полагаю, вскоре предстоит заварушка. Будем плыть вдоль берега, а потом пристанем в подходящем месте. Однако план, казавшийся таким простым, не удалось осуществить. Стрелявший едва успел уложить в лодку дымившееся ружье и взяться за весло, как огромное, давно высохшее дерево, удерживаемое только лианами, резко покачнулось, а затем со страшным шумом рухнуло в воду, взметнув целые фонтаны брызг. К счастью для авантюристов, падение произошло в сотне метров от носа лодки: упади дерево на пять минут позже, пирогу бы расплющило. Пришлось им выплывать на стрежень и, приблизясь к противоположному берегу, осторожно обходить возникшее препятствие, столь неудачно загородившее фарватер[162]. — Черт подери! Хорошо отделались! Если бы это вакапу оказалось на два метра длиннее, даже не знаю, как бы мы прошли. Ну ладно, все в порядке. Продолжим путь и постараемся найти подходящее место для причала. Глядите в оба, вон еще сколько сухих деревьев торчит по всему берегу… — Ну, вряд ли это повторится. Хорошего понемножку! Не думаю, что они специально поджидают, чтобы свалиться нам на голову. — О, тысяча чертей! — зарычал главарь. Одновременно проклятия сорвались и у других гребцов, ошеломленных небывалым зрелищем, которое предстало их глазам. — Храните спокойствие, иначе мы погибли! Гребите сильнее! К берегу! Да за индейцем следите!.. Эти возгласы и указания перекрыл оглушительный грохот. Казалось, целая стена леса рухнула в одночасье. Пять или шесть лесных гигантов, на расстоянии двадцати — двадцати пяти метров друг от друга, такие же высохшие, как упавшее дерево, угрожающе закачались на лианах, как будто чья-то незримая рука подрубила их под самый корень. Колоссы с нараставшим треском кренились в сторону реки. Удерживавшие их лианы превратились в натянутые якорные цепи, вот-вот готовые лопнуть. Живые деревья, захваченные падением мертвых, вырывались из земли с корнями, наклонялись, в свою очередь, и падали наземь с неимоверным грохотом. Затем зеленая баррикада обрушилась в реку, чьи воды сразу исчезли в невообразимой мешанине из листьев, цветов, стволов и веток. Бледные, охваченные ужасом, четверо мужчин молчали, едва не лишившись рассудка от этого необъяснимого и пугающего зрелища. Они с трудом удерживали на плаву пирогу, которая бешено плясала на волнах, поднявшихся из-за внезапного падения деревьев. Была ли это случайность, от которой путники могли погибнуть? Или же сама земля с ее нераскрытыми сокровищами взбунтовалась против ничтожных пришельцев, поднявших руку на ее девственный покров? Какие титаны смогли опрокинуть многовековые деревья и разнести их в щепки, словно мачты разбитого ураганом судна?.. Русло реки оказалось теперь полностью забаррикадировано. Авантюристы не могли подняться вверх по течению, да и причалить там, где рассчитывали, не представлялось возможным. Противоположный берег — простиравшаяся до горизонта болотистая саванна[163], бездонное пристанище огромных змей и электрических угрей — также был недоступен. Оставался единственный выход — пробить дорогу через поверженные стволы и ветки, пустив в ход топоры и мачете для прокладки фарватера. Работа изнурительная, требовавшая не менее трех-четырех дней. Излишне говорить, что, обладая упорством честных людей, негодяи и не помышляли об отступлении. Продуктов было в изобилии на несколько месяцев, и они не собирались капитулировать перед первой же неудачей. Едва улеглось волнение на реке, как решение было принято, план составлен. — Ну, шеф, что ты скажешь об этом? — Скажу… Я скажу, что ни бельмеса не понимаю, как все стряслось. — Теперь ты согласен, что птичьи крики — это тайные сигналы? — Вполне возможно, после всего… Однако если бы в лесу находился отряд краснокожих, то логичнее допустить, что они не стали бы развлекаться рубкой леса «сооружением плотин, а просто превратили бы нас в котлеты своими двухметровыми стрелами… Мы находимся так близко от берега, а они стреляют отлично… Нет, это не поддается объяснению… Тем более что мертвые деревья следовало заранее подпилить под корень. — Быть может, это первая линия укреплений, прикрывающая страну золота! — Мы преодолеем и ее и другие! — подхватил главарь решительным тоном. — А теперь — за работу! — Послушай-ка, шеф, есть идея! Мы ведь не можем ночевать в пироге. С другой стороны, нельзя подвесить наши гамаки к деревьям, что растут на краю саванны. А что, если снова спуститься к каменной гряде? Там можно выгрузить провизию на скалу и соорудить «патаву». — Отличная мысль, дружище, и мы принимаем ее к исполнению. Устроим поудобнее в подвесной койке нашего славного индейца, привяжем его покрепче, чтобы отбить всякую надежду на побег. Затем возьмемся за мачете и — в добрый час! — проложим дорогу… Пирога пристала к скалам, двое мужчин выбрались на берег, быстро срубили три дерева толщиной с человеческое бедро, очистили от веток, а их товарищи тем временем разгрузили лодку. Обе операции завершились одновременно. Срубленные деревья перенесли на скалу, накрепко связали их макушки, после чего трое мужчин ухватили каждый по стволу и быстрым движением подняли всю конструкцию, раздвинув стволы у основания, так что образовалась пирамида со сторонами примерно в три с половиной метра. Сооружение выглядело устойчивым и надежным, и вскоре все три его грани были заняты подвесными койками. Вот такая конструкция, очень простая и удобная, используемая неграми и индейцами экваториальной зоны, называется патава. Она незаменима для ночлега в местах влажных и лишенных деревьев. Ведь в Гвиане невозможно отдыхать на земле, не рискуя напороться на весьма неприятных и часто опасных лесных визитеров — скорпионов[164], сороконожек, гигантских пауков, муравьев, змей и проч. Тщательно проверив все путы на теле пленника, бородач уложил юношу в гамак, как ребенка. Поскольку солнце опаляло знойными лучами ничем не защищенного молодого человека, главарь срезал несколько широких листьев барлуру и связал их вместе, так что получилось нечто вроде тента, который он и водрузил над головой юноши. Несчастный мог теперь не опасаться солнечного удара. — Вот тебе зонтик… Зонтик для ребеночка, — ухмыльнулся здоровяк. — Ведь я для тебя как отец родной, правда же? Заботливый папочка… Не воображай только, что это ради твоих прекрасных глаз, мой ангелочек… Если бы ты не стоил таких денег, я бы давно отправил тебя к твоему Гаду́[165], к любимому боженьке черных и красных… Ну, до свидания, и будь паинькой. Я немного поработаю топором… Да не забывай, что я не спущу с тебя глаз! Четверо проходимцев незамедлительно вернулись к зеленой баррикаде и мощными ударами мачете и топора атаковали ее с яростным исступлением. Работа оказалась нелегкой, продвигалась медленно, но труды не пропали даром. Появилась надежда, что через сорок восемь часов совместных усилий они выберутся из тупика. Когда солнце склонилось к закату, они вернулись к патаве, весело горланя, как старательные работяги, которым трудовой день доставил большое удовольствие. Но последняя нота разудалого припева сменилась воплем негодования при виде пустого гамака. Краснокожий, так тщательно спеленутый шефом, разорвал свои узы и исчез. Впрочем, не было ничего загадочного в этом исчезновении, хотя оно и казалось непостижимым фокусом. Юный индеец, видя, что его палачи заняты расчисткой завала, решил воспользоваться выпавшей ему передышкой. Он тут же принялся грызть веревки, сжимавшие запястья. Белые зубы, острые, как у белки, работали так усердно и ловко, что через час нечеловеческих усилий ему удалось перегрызть волокна. Первый этап на пути к освобождению туземец одолел. Теперь следовало освободиться от пут, которые сковали не только лодыжки, но и колени. Индеец был настолько изобретателен, насколько смел, и в высочайшей степени владел искусством бесконечного терпения, которое у его соплеменников нередко переходит в апатию. Он носил на шее маленькое ожерелье из зубов патиры[166], очень острых, с широкими режущими гранями. С их помощью эти животные глубоко роют землю и перегрызают огромные, мощные корни. Юноша разорвал нитку ожерелья, схватил один из зубов и принялся пилить, а точнее — перетирать нить за нитью волокна крепкой веревки. Время от времени он украдкой поглядывал через сетку гамака на своих палачей, по-прежнему увлеченных работой. Последние, в свою очередь, могли видеть его всякую минуту, но он умудрялся, не прерывая ни на миг своего занятия, сохранять такую видимость полной неподвижности, что они ничего не заподозрили. Наконец приблизился кульминационный момент. Ноги обрели свободу! Со сладостным чувством индеец вытянулся в гамаке, позволив себе отдохнуть с четверть часа. Потом растер затекшие конечности, чтобы вернуть им эластичность, и, воспользовавшись мгновением, когда четверо белых оказались спинами к нему, сел на край койки, спрыгнул на скалу и бросился вниз головой с высоты каменной гряды в бурный поток водопада. Проплыв под водой все расстояние до берега, метров двадцать пять, юноша ступил на землю, покрытую цветущими пурпурными геликониями, и скрылся в густом лесу. Ярость авантюристов не знала границ. Хотя преследование было немыслимым, невозможным, они рискнули пуститься в погоню за беглецом. По обе стороны реки простиралась заболоченная саванна. Твердый грунт, занятый лесом, тянулся неширокой полосой (не превышавшей ста пятидесяти метров) вдоль реки. Именно в этой части местности и обрушились гигантские деревья, поверженные таинственной силой. Три бандита во главе с шефом ринулись к полузатопленным стволам, надеясь по ним добраться до берега, а четвертый остался охранять провиант. Они почти достигли земли, когда послышался резкий, звенящий свист, а вслед за ним впереди идущий громко вскрикнул от страха и боли. Длинная стрела с древком из стебля тростника, оперенная чем-то черным, пронзила ему бедро навылет. Преодолевая мучительную боль, раненый попытался выдернуть ее, но безуспешно. — Оставь, — сказал главарь. — Она прошла насквозь, и я сломаю кончик с другой стороны. Операция закончилась удачно, и вскоре пострадавший с любопытством рассматривал металлический наконечник стрелы, длиной около пяти сантиметров, слегка зазубренный. Хотя его окрасила кровь, но местами он желтовато блестел. Раненый машинально вытер наконечник рукавом. — Глядите! Да ведь он золотой! — воскликнул возбужденный и потрясенный бандит.
__________
После открытия Нового Света, заманчивых рассказов первых мореплавателей Европу охватила настоящая лихорадка. Вслед за знаменитым Колумбом[167] (1492) и его бесстрашными последователями Жаном и Себастьяном Кабо[168] (1497–1498), Америго Веспуччи[169] (1499), Винсентом Пенсоном[170] (1500), которые были по крайней мере «мирными» завоевателями, на эти богатые земли обрушились целые сонмища грабителей, как стаи стервятников на беззащитную дичь. Не говоря уже о таких конкистадорах[171], как Эрнан Кортес[172] (1519) или Франсиско Писарро[173] (1531), авантюристах большого размаха, которые умели корчить из себя вельмож, совершая набеги, вернее опустошая, первый — Мексику, а второй — Перу, к вящей славе и выгоде своего державного повелителя, мы найдем еще превеликое множество мелких лазутчиков и исследователей восточной части экваториальной Америки. Франсиско Писарро был убит в 1541 году в Куско. Один из его лейтенантов, Орельяна[174], мечтая о более богатых странах, где золото столь же обычно, как самые презренные металлы в наших краях, спустился по Амазонке до ее устья и обследовал берег от экватора до Ориноко. Правду ли говорил Орельяна? Или же принял за реальность химеру[175], которую лелеял столь долго? В самом ли деле приоткрыл он уголок этой райской земли, о которой его устами нарисована такая обольстительная картина? Верно лишь то, что к 1548 году магическое словечко «Эльдорадо» звучало у всех на устах как символ сказочного изобилия. Пересекая моря, перелетая от одного рассказчика к другому, легенда разрасталась, обогащалась. Географическое местонахождение золотого рая существенно и часто менялось. То ли это была Гвиана, то ли Новая Гренада, тогда еще мало изученные… Поиски велись на огромных пространствах. От севера к югу, от востока на запад экваториальная область кишела обезумевшими от золотой лихорадки искателями сокровищ, чьи иссохшие скелеты усеивали потом эту землю. Долгим путем разочарований пришли наконец к общему согласию, что именно в Гвиане и находилось загадочное Эльдорадо, сказочное богатство Сыновей Солнца. Легенда уточнялась и приобретала земные очертания, некоторые даже утверждали, что после падения инков[176] их самый молодой правитель, Атабалепа[177], завладел сокровищами и спустился по Амазонке к истокам Ояпок. Этого короля золота называли «великий Пэйтите», «великий Моксо», «великий Пару». Уверяли, что его даже видели. Среди прочих Вальтер Рейли[178], фаворит Елизаветы, подстрекаемый, несомненно, личными интересами или даже приказом свыше, убеждал королеву Англии в правдивости этих небылиц. Испанец Мартинес[179] пошел еще дальше. Он заявил, будто провел семь месяцев в Маноа, столице этого воображаемого королевства. Описание, которое он дает, настолько необычно, что стоит привести из него выдержку: «Город огромен, население бессчетно. На улице Орфевр живет не менее трех тысяч рабочих. Беломраморный дворец императора возвышается на утопающем в зелени острове и отражается в водах озера, прозрачных, как хрусталь. Его окружают три горы, одна из чистого золота, другая из серебра, а третья — соляная. Дворец покоится на алебастровых и порфировых колоннах и окружен галереями из кедра и черного дерева с многочисленными инкрустациями из драгоценных камней. Две башни охраняют вход. Каждая опирается на колонну двадцати пяти футов высотой, и обе увенчаны огромными серебряными лунами. Два живых льва прикованы к тумбам золотыми цепями. Внутри дворца — большой квадратный двор с фонтанами и серебряными бассейнами, куда вода поступает по четырем золотым трубам. Маленькая медная дверь (но почему же только медная?!) в углублении скалы прячет от нескромных взоров внутренние покои дворца, великолепие которых не поддается описанию. Хозяин дворца носит имя Эль-Дорадо, от слова «Lé dore»[180], по причине небывалой роскоши своего туалета. Каждое утро его тело растирают драгоценной губкой, затем пропитывают золотым составом чуть ли не до костей, так что он превращается в подобие золотой статуи» и т. д. и т. п. Не задерживая внимания на этих ребячествах, объясним в двух словах, что же именно согласно Гумбольдту[181] могло послужить основой для последней выдумки. Известно, что в Гвиане раскрашивание заменяет татуировку. Индейцы некоторых племен, сегодня сильно поредевших от алкоголизма, сохранили обычай обмазываться черепашьим жиром, а потом покрывать себя чешуйками слюды. В их металлическом блеске и улавливают простодушные сияние «драгоценных металлов». И вправду издалека кажется, что это простенькое украшение соткано из золотых и серебряных нитей. Каковы бы ни были мотивы Вальтера Рейли, уставшего от мрачной реальности Старого Света, он, не колеблясь, отдался своей мечте и в 1595 году отправился через огромный океан в поисках земли обетованной. За два с лишним года (1595–1597) он совершил не менее четырех экспедиций и обследовал — хотя и без малейшего успеха — все дальние уголки, доселе не изученные. Желанное Эльдорадо, этот невиданный земной рай, все время оставалось за горизонтом. Более двадцати путешествий, совершенных с той же целью, не дали, вполне понятно, никакого результата. Наконец, каким бы невероятным ни показался этот факт, последняя, весьма серьезно подготовленная экспедиция состоялась в 1775 году! Такой упорной была вера в эту несуществующую страну. Хотя и приносивший сплошные разочарования, призрак Эльдорадо оказался щедрым на сопутствующие открытия и результаты, как бы повторяя историю поисков «философского камня». Эта мечта помогла познать Гвиану и ее подлинные богатства. А в 1604 году несколько французов под предводительством Ляривардьера закрепились на острове Кайенна[182]. Удивительная, но объяснимая вещь: легенда об Эльдорадо нашла свое продолжение у гвианских индейцев с новой силой и новой верой! Берет ли эта традиция свое начало в рассказах европейских исследователей или она обязана своим рождением настойчивым поискам, предпринятым вследствие этих рассказов, а может быть, сами индейцы выдумали миф об Эльдорадо, еще до прихода своих покорителей? Никто и никогда не узнает об этом. Но если сказочные сокровища инков не существовали и, следовательно, не могли находиться в Гвиане, значит, гвианские колонии, граничащие с Бразилией, Перу и Венесуэлой, должны были тоже содержать залежи золота. Именно в надежде открыть месторождения драгоценного металла англичане и голландцы завладели Гвианой в XVII веке. Это зафиксировано в переписке, находившейся в правительственных архивах. В 1725 году португальский монах, живший в районе бразильских рудников, предложил властям Кайенны отыскать золотоносные земли, но получил вежливый отказ. Наконец странность еще более поразительная, чем слепое доверие к мечтателям об Эльдорадо: их потомки не желали больше и слышать о золоте. Повсюду его находили во Французской Гвиане, а они отрицали очевидное! На смену беспредельной доверчивости пришел беспредельный скептицизм. В 1848 году проблема золота как бы обретает второе дыхание, становится вновь актуальной. Губернатор Гвианы месье Паризе, главный инспектор флота, находился в поездке в городе Мана. К нему привели индейца из района Ояпок, который вот уже несколько лет как осел в данной местности. Он был человеком деятельным и смекалистым, вождем индейской деревни. Говорили, что ему известно очень богатое месторождение золота. Губернатор стал его расспрашивать. Хитрый краснокожий, почуяв, что можно поживиться тафией[183], сперва не хотел ничего говорить. Но бутылка, которую он тут же вылакал, развязала язык. После многочисленных околичностей и ужимок он признался: — Да, я знаю тайну золота. Но тут же пожалел о сказанном и попытался, невзирая на опьянение, увильнуть в сторону. — Ты мне соврал, — сказал губернатор с напускным гневом. — Нет никакого золота. А если и есть, то ты не знаешь, где оно. Задетый за живое, индеец немедленно возразил: — А! Ты говоришь, что я соврал! Ну ладно же! Ожидай меня здесь ровно семь дней, тогда увидишь! Он ушел ночью, не дожидаясь рассвета. Губернатор оставался на месте всю неделю. Вождь не возвращался. Прошли еще сутки. Истомившись ожиданием, Паризе собрался уже отплыть на шхуне, которая шла в Кайенну, как вдруг появилась индейская пирога. Краснокожий сошел с лодки, серьезный и невозмутимый, и направился прямиком к правителю. Он распустил пояс своих калимбе, подвязанных лианой, и маленький пакет, обернутый пальмовым листом, упал с глухим стуком на палубу шхуны. Это был небольшой самородок весом в двадцать пять — тридцать граммов. На все вопросы губернатора о том, как он нашел золото, последовал краткий ответ: — Ты заявил, что я лгун. Никогда не раскрою тебе тайну золота. Самые щедрые посулы не смягчили индейца. Он удалился без единого слова. И «золотая проблема» снова отступила в тень. Лишь в 1851 году португальский индеец по имени Мануэль Висенте, знавший месье Лагранжа, старшего комиссара округа Апруаг, сообщил ему, что в верховьях реки имеется золото. Он работал прежде на шахтах в Бразилии, и, используя рыбацкий бредень, соорудил необходимые для промывания песка приспособления, аналогичные применяемым у него на родине. Индеец просил комиссара изготовить такие же и немедленно приступить к обработке наносного песка. Лагранж переговорил с двумя собственниками из Апруага, месье Куи и Урслером-отцом. Оба заявили, что у индейца нет другой цели, как поэксплуатировать доверчивость комиссара, и обращение Мануэля осталось безрезультатным. В конце 1854 года тот же Висенте уехал в Бразилию. Там он нашел месье де Жардена, которому повторил свое предложение, сделанное Лагранжу три года назад. Предприниматель немедленно зафрахтовал шхуну, взяв на борт шестерых, в том числе индейца Паолина, имевшего репутацию отличного золотоискателя. Бразилец сошел на берег в Апруаге, виделся с месье Куи в его снабженческой конторе, однако сохранил в тайне цель своего путешествия. Вскоре он отправился к верховьям реки и обосновался в совершенно заброшенном уголке, в хижине португальского индейца Хуана Патавы, тестя Мануэля Висенте. Месье Жарден нашел золото. К несчастью, через несколько дней он заболел дизентерией и три недели пролежал в постели. Едва оправившись, золотоискатель первым делом поспешил к своей шхуне. И с величайшим отчаянием обнаружил, что все его товары и запас продовольствия похищены. Пришлось возвращаться домой под угрозой голодной смерти. Его люди назвали виновником Паолина. Жарден отправился на шхуне пополнить запас провианта, расставшись с вором и не раскрыв своего секрета. Однако здоровье не позволило ему продолжить работы, он вынужден был оставаться в Бразилии в течение полугода. Автор так подробно останавливается на этих деталях лишь потому, что они имеют большое значение в истории открытия золота в нашей колонии, почти неизвестной и никем не описанной с 1848 года до наших дней. Ведь в высшей степени странно это неприятие очевидных и достоверных фактов в сопоставлении подлинных и мифических событий тех времен, когда загадочная страна Эльдорадо существовала только в заоблачных мечтах. Мы подходим к развязке. В 1855 году упомянутый выше Паолин, взяв себе в помощники португальского индейца Теодоза, его зятя Никола и свою сестру, жену последнего, поднялся по реке Апруаг до притока Аратей, где они намыли много песка в местечке, именуемом Аикупай. В итоге у них оказалось несколько граммов желтого металла. Старатели вернулись в Кайенну и показали свою добычу месье Шатону, бразильскому консулу. Анализ подтвердил, что это золото. Однако Шатон еще сомневался. Тогда месье Куи, осведомленный о происходящем, вспомнил давнее сообщение Лагранжа и обратился к месье Фаварду, директору департамента внутренних, дел; здесь он получил субсидию в 3000 франков и подготовил экспедицию из семнадцати человек на трех лодках. Руководителем похода был Луврие Сен-Мари[184]. 12 апреля 1856 года в пять часов пополудни отряд прибыл в Аикупай. Наутро Паолин приступил к работе и промыл множество лотков золотоносного песка[185]. Шеф экспедиции последовал его примеру, невзирая на протесты индейца, который опасался его неопытности и приговаривал: — Бросьте это, бросьте… Золото от вас убегает! К восьми часам утра несколько граммов желтого металла впервые было собрано в Гвиане французом. Они покоились в глубине лотка Луврие Сен-Мари. Отныне эта страна могла больше не завидовать Калифорнии и Австралии.__________
Открытие золота в Гвиане прошло почти незамеченным. Старый Свет не всколыхнулся, как в те дни, когда драгоценный металл обнаружили в водах австралийских и калифорнийских рек. Золотая лихорадка обошла нашу колонию, влачившую жалкое существование. Богатейшие месторождения экваториальной области мирно дремали. Метрополия[186] ничего не сделала для извлечения выгоды из природных даров, о которых французская общественность ничего не знала, да и сегодня не подозревает. Первые концессионеры эксплуатировали прииски далеко не на полную мощность, бывая счастливы, когда месячная добыча достигала нескольких килограммов. Всеобщая апатия была такова, что в целом выработка по колонии в 1863 году составила только 132 кг. В 1872 году она поднялась до 725 кг и, наконец, благодаря ресурсам частного капитала достигла в 1880 году, по официальным данным, 1800 кг. Поскольку при вывозе из страны налог на золото составлял восемь процентов, процветала контрабанда. В связи с этим его добыча в колонии составляла, по крайней мере, 2250 кг или 6 750 000 франков. Еще одно замечание, перед тем как продолжить наш рассказ. Собранный в Гвиане драгоценный металл являлся аллювиальным, то есть его добывали путем промывки золотоносного песка. Рудные жилы, многочисленные и очень богатые, в 1881 году совершенно не разрабатывались. В году 186…, когда развертывается наша драма, чей пролог мы уже наблюдали, золотые прииски ограничивались бассейнами рек Апруаг, Синнамари и Мана. Бассейн Марони не был еще изучен. Вполне естественно, ходили всяческие легенды о его несметных богатствах. Эльдорадо вновь переместилось. Неожиданное событие вскоре дало больше оснований смутным слухам, бродившим в обществе. За двадцать два года до описываемых дней доктор В., имевший практику в городе Мана, увидел на речном берегу индейца с умирающим малышом на руках. Он подошел к нему и спросил, куда тот держит путь. — Я хочу бросить в воду этого ребенка, — последовал ответ. — Он меня очень обременяет… И поскольку доктор стал возмущенно протестовать, индеец пояснил: — Его мать только что умерла. У меня нет молока для младенца. Что же мне делать? Уж лучше привязать камень ему на шею… Хищные рыбы аймара освободят его от житейских забот. — А ты можешь отдать его мне? — Пожалуйста. И краснокожий исчез. Доктор доверил младенца негритянке. Ребенок вырос. Приемный отец дал ему то образование, какое позволяла натура маленького дикаря. Спустя пятнадцать лет появился настоящий отец, заявил свои претензии на мальчика и в итоге увел с собой. Юноша боготворил своего воспитателя, и, хотя таинственная потребность в кочевой жизни давно тревожила и привлекала его, он возвращался в Ману не реже одного раза в три месяца. Достигнув двадцати лет, он женился на дочери вождя своего племени, которому была известна тайна золота. Доктор В. тем временем покинул город Ману и поселился в Сен-Лоране. Жак (такое имя носил приемный сын), желая доказать свою преданность и доверие благодетелю, признался ему во время последнего визита в 186… году, что он тоже посвящен в этот секрет. Доктор с осторожностью воспринял откровение сына и пожелал, прежде чем осведомиться о деталях, посоветоваться со своим другом, начальником исправительной тюрьмы. Однажды вечером он взял Жака с собою, но молодой человек, как некогда индеец у месье Паризе, не захотел распространяться на эту тему и всячески уклонялся от расспросов. Начальник посчитал его лжецом и заявил, что юноша просто не знает месторождения драгоценного металла. Глубоко уязвленный подозрением во лжи, Жак воскликнул: — Нет, я не вру! Вы же знаете, начальник, как я люблю и уважаю моего приемного отца. Ну ладно! Клянусь своей головой, что не позже чем через месяц я проведу вас туда… в то место, где находится золото. — Голос его внезапно дрогнул, как будто он произнес нечто ужасное. — Но чего же ты боишься, дитя мое? — ласково спросил доктор. — Понимаешь, отец, из-за привязанности к тебе я стал клятвопреступником! Эту тайну нельзя раскрывать, она опасна! И убивает тех, кто ее выдает. Злые духи меня погубят… Глаза его округлились, голос охрип от волнения, черты лица исказились — все указывало на мучительную душевную борьбу. После паузы он продолжил более спокойным тоном: — Ты спас меня совсем маленьким. Моя жизнь принадлежит тебе, отец! И все-таки я не пойду до самого конца… А вы идите вместе с начальником. Злые духи краснокожих боятся белых. Мы отправимся… через месяц… Ты возьмешь заступы, молотки. — Молотки? Зачем? — Потому что золото находится там не в земле, как в Аикупай или Синнамари. Оно в скале. — В скале! — воскликнули хором начальник и доктор, пораженные этим известием. — Но до сих пор в Гвиане не открыли ни одной рудной жилы! — Я не знаю, что вы называете «рудной жилой», но там скалы беловатые с голубыми прожилками, а в них запрятаны большие зерна металла. Там еще есть черные скалы, и кусочки золота светятся внутри, как глаза тигра! А кроме того, я видел большую пещеру, которая всегда шумит. Там раздаются удары грома, а молний никогда не видно. В этой пещере живет дьявол, который убивает всех, кто проникает в его тайну. — А много ли там золота? Ты бы мог набрать? — Когда я тебя туда проведу, ты соберешь его столько, что сможешь сделать ободья для колес своей повозки, дать солдатам золотые сабли и ружья, будешь есть из золотой посуды и заменишь им все, что сделано из железа! Оба европейца с улыбкой слушали этот вдохновенный рассказ, в котором волшебство легенды переплеталось с действительностью. — В каком же направлении надо двигаться к цели? — Я скажу тебе, когда вернусь. — Значит, ты покидаешь нас? — Уйду этой ночью. Хочу повидаться с моей женой. Она вместе со своим отцом и моими родственниками находится недалеко от пещеры золотого дьявола. Я боюсь за нее, лучше приведу ее сюда. — А сколько времени займет путешествие? Юный индеец ненадолго задумался. Затем извлек из своих калимбе несколько щепочек разной длины. Там было шесть одинаковых. Он стал считать: — Шесть дней плыть по Марони. Взял две покороче и добавил: — Два дня в заливе. Осталось три щепки длиной с палец. Туземец выложил их рядом с другими: — И три дня идти в лесу. Перед тобой встанут семь гор, и это золотые горы… Прощайте, — сказал он вдруг, безо всякого перехода. — Я вернусь через месяц с моей женой. — Дождись хотя бы рассвета… Темень такая, хоть глаз выколи… Жак улыбнулся. — Взгляд краснокожего пронзает тьму. Он не боится ночи. День — это предатель. Ночь — это друг. Никто не пойдет по моим следам. Прощайте! — До свидания, дитя мое, до скорой встречи! — сказал доктор, крепко обнимая сына. Начальник проводил юношу до будки часового, который не пропустил бы гостя без пароля, и молодой индеец растворился в черноте ночи. Просторное жилище начальника тюрьмы оставалось пустым. Отбой прозвучал уже давно, каторжники спали в лагере под присмотром надзирателей, вахты морских пехотинцев и часовых, занявших свои посты с оружием на изготовку. Несмотря на тщательную предосторожность, на все дозоры и сигналы, эта беседа, которую двое друзей полагали абсолютно секретной, имела слушателя. Притаившись за могучими кустами пышных китайских роз, мужчина, о присутствии которого никто не подозревал, жадно ловил каждое слово из разговора двух белых с индейцем. Когда молодой человек вышел в сопровождении начальника, неизвестный воспользовался моментом, чтобы покинуть свой тайник. Крадучись, ползком, производя не больше шума, чем хищник на охоте, он выскользнул из кустов, затем вскочил на босые ноги и стремительно промчался по аллее маговых деревьев, ведущей к реке, чьи воды катились метрах в четырехстах от дома. Он с трудом перевел дыхание после бешеного бега, но ему удалось намного опередить индейца, который со всей неизбежностью должен был проследовать этим же путем, направляясь к дебаркадеру, где оставил свою лодку. Незнакомец резко остановился, пробежав две трети дистанции по аллее, и тихо присвистнул сквозь зубы. На этот сигнал, который разве что изощренное ухо дикаря могло расслышать в нескольких метрах, молча выступили из темноты двое босых мужчин, скрывавшихся за манговыми деревьями. — Внимание! — чуть слышно прошептал первый. — Вот он! Хватаем без шума… Ставка на жизнь! Индеец сказал: «Взгляд краснокожего пронзает тьму. Он не боится ночи. День — это предатель. Ночь — это друг». Слова бедного юноши очень скоро оказались жестоко опровергнутыми. Глаза его были еще ослеплены светом, не успели приспособиться к темноте. В глухом лесу, где опасность подстерегает в многочисленных и причудливых ликах, его бы не захватили врасплох. Но мог ли он даже помыслить о ловушке в цивилизованном месте, среди такого множества охранников и военных… Вот почему молодой человек даже не вскрикнул, когда железная рука неожиданно сдавила ему горло с такой силой, что он чуть не задохнулся, только легкий храп вырвался из груди. В считанные мгновения ему заткнули рот кляпом и связали так плотно, что бедолага не в силах был даже пошевелиться. Один из похитителей взвалил пленника на плечи, и все трое быстрыми тенями проскользнули по тропинке, которая поднималась от берега Марони и исчезала в лесу над бухтой Балете. Уверенные в том, что их не преследуют — настолько быстро и ловко совершили они похищение! — разбойники замедлили свой шаг и достигли устья притока, не вымолвив ни единого слова. — Лодку! — грубым голосом скомандовал человек, несший индейца. — Вот она, — лаконично отозвался один из сообщников, наткнувшись на лиану, служившую якорным креплением. Он стал потихоньку ее подтягивать. Черная скорлупка пироги возникла среди водных зарослей; одна из ее оконечностей, изогнутая, как у гондолы, едва возвышалась над уровнем реки. Неподвижного, словно труп, индейца уложили в средней части легонького суденышка. — Садимся! Все на весла! Ну, готово?.. — Готово! — Отчаливай! Абсолютно бесшумно маневрируя веслами, трое незнакомцев вывели пирогу из прибрежных зарослей. Судя по всему, они в совершенстве владели стилем гребли, незнакомым европейцам. Не мешкая, преступники покинули французскую территорию и устремились на речной простор, держа курс наискось, по кратчайшей прямой к голландскому берегу. Поднявшаяся приливная волна помогала им двигаться вверх по реке. Вскоре они миновали поселок Кепплера, тянувшийся не более километра, какое-то время еще плыли вдоль берега, затем бросили весла. — Мы прибыли к месту! — сказал старший, не подавая команды причаливать. Он громко свистнул несколько раз, причем свистки его по ритму и модуляции напоминали звучный, пронзительный голос флейты. Такой сигнал далеко слышен… Подождав несколько минут и не услышав ответа, он повторил все сначала. Прошло не менее четверти часа, и хриплый голос, как будто из-под земли, грубо крикнул: «Кто идет?» — Беглые каторжники! — последовал ответ. — Причаливай! Предводитель бандитов поставил пирогу на якорь, взвалил себе на плечи индейца и ступил на маленький пятачок земли, образующий дебаркадер. Двое соучастников молча следовали за ним. — Как тебя звать? — продолжал голос из темноты. При слабом свете звезд чуть-чуть поблескивал ствол наведенного ружья. — Да это я, Тенги, слуга начальника тюрьмы. Со мною Бонне и Матье. Слышишь, Бенуа? — Проглоти свой язык, чтобы не называть меня по имени! — Да, шеф, ты прав! — Ну, ладно. Идите в хижину. Как! Этот отшельник, забившийся в свое логово, словно кабан, который обменивался тайными знаками с каторжниками, поддерживал с ними дружеские отношения вплоть до того, что те обращаются к нему на «ты», этот «Бенуа», этот «шеф» и есть тот самый человек, которого видели десять лет тому назад в мундире военного надзирателя? Бенуа, не расстававшийся со своей дубинкой, этот палач Робена? Неужели он настолько деградировал, что стал сообщником самых мерзких узников исправительной колонии?.. Вот уже четыре года, как он, изгнанныйиз отряда военных надзирателей за недостойное поведение, вынужден был покинуть Сен-Лоран, презираемый своими прежними сослуживцами. Нет нужды распространяться о причинах его отставки, многочисленные выходки жестокого и подлого надзирателя вполне ее оправдали. Негодяй исчез из городка в один прекрасный день, заявив, что попытает счастья в Суринаме[187]. На самом же деле он только пересек Марони, устроился тайно в лесу, соорудил себе хижину, раздобыл ружье и занялся делами более чем сомнительными. Контрабанда среди прочих была самым невинным его грешком. Шепотом передавали из уст в уста, что он содействовал побегам из колонии, что каторжники находили у него оружие и провиант, что он стал для них чем-то вроде поставщика и банкира. Пусть не удивляются читатели слову «банкир». У осужденных водятся деньжата. А у некоторых собираются значительные суммы благодаря кражам за пределами тюрьмы. Эти суммы поступают к ним в глубочайшем секрете, деньги закапывают в землю или же отдают вышедшим на волю, которые пускают их в оборот, а в назначенное время и в условленном месте возвращают владельцу. Случаи ограбления редки между каторжниками. Роль воровского банкира очень прибыльна, дела Бенуа процветали. Он был так ловок, смел и энергичен, так заботился о мерах предосторожности, что никому не удавалось не только застать его врасплох, но даже подойти на близкую дистанцию, за исключением, понятно, его сообщников. Жил он уединенно и днем нигде не показывался. Прибытие троих беглецов очень обрадовало бывшего надзирателя. Он понял все значение пленного индейца, когда ему рассказали о нем и обо всех обстоятельствах этого дерзкого захвата. — Ну, ребятки, вам пофартило. Это находка, что и говорить. — Его мрачный смех тонул в густой черной бороде. — Да тут пахнет настоящим богатством! Молодец, Тенги, ловкий придумал трюк! Ну, дети мои, тяпнем по стаканчику тафии! Эй вы, там, проснитесь, понюхайте, какой аромат! — Твое здоровье, шеф! — За ваше, мои ягнята… Ну, а теперь, Тенги, выкладывай, как тебе удалась эта замечательная проделка. — История такова, — ответил Тенги, устраиваясь поудобнее и напуская на себя важный вид. — Все просто как Божий день и не очень долго… Ты ведь знаешь, я служил у начальника, имел право входить и выходить в любое время. А поскольку через год кончался мой срок, то от меня особенно не таились. Когда я прислуживал за столом, то мотал на ус все, о чем там болтали, запоминая самое важное. Я сразу навострил уши, поймав на лету сообщение старого доктора моему патрону несколько дней назад. Они договорились о встрече на сегодня. Когда обед закончился, все перешли в галерею. Я заранее спрятался под окном, среди цветов. Ни одного словечка из их беседы не упустил. А когда краснокожий ушел, наложил на него лапу с помощью Бонне и Матье, которых предупредил заранее и которые поджидали меня в конце манговой аллеи. Вот видишь, как все просто, проще пареной репы… — Ну, это замечательно! — грубо расхохотался шеф. — Ты мастер на все руки! И вы решили притащить вашего звереныша к старому шефу, который может дать добрый совет, а также обладает необходимыми средствами для такого предприятия? — Ну, конечно, черт подери! — заявил Тенги, главный оратор банды, в то время как его подельники в знак согласия кивали головами. — Вы правильно поступили, мои друзья, и не пожалеете об этом. Я не обману вашего доверия… Мы разбогатеем, станем миллионерами… Нам все будет доступно, любая фантазия! Мы даже сможем — пропади оно пропадом! — купить для каждого из нас диплом честного человека! — Так-то оно так, но лишь при одном условии: надо, чтобы индеец заговорил. — Он заговорит, — глухим и угрожающим голосом заявил Бенуа. — …И чтобы он провел нас к месту. — Он проведет, — заключил бывший надзиратель еще более мрачным и уверенным тоном.ГЛАВА 2
Логово бандита. — На пути к Эльдорадо. — Соло на флейте. — Бегство аргонавтов[188]. — Затопленная саванна. — Требованья этикета. — Великий вождь Акомбака. — Кубок дружбы. — Так это она, долгожданная?..Четыре дня и четыре ночи индеец упорствовал. Ничто не могло заставить его говорить. Палачи не давали ему ни крошки съестного. Он стоически переносил голод. Ему не давали пить. Из его сухих, потрескавшихся губ вырывался сдавленный хрип, но они хранили заветную тайну. Негодяи не позволяли ему заснуть, и от бессонницы он чуть не погиб. Юношу мучили судороги, тошнота, он терял сознание, но не произнес ни слова. Бенуа бесстрастно содействовал этой долгой агонии[189]. За десять минувших лет его жестокость не только не смягчилась, но, как заявил он со своей гнусной ухмылкой палача, «методика» его стала еще более изощренной. Теперь, когда он поступал по собственному усмотрению и без помех, можно было глумиться вволю… Бенуа уродился свирепым, а когда его животные инстинкты совпадали со шкурными интересами, испытывал подлинный восторг палача-любителя, который находил случай дать волю своим садистским фантазиям. — Ты убьешь его, — говорил Тенги. — Плакали наши денежки, если дикарь сдохнет. — Заткнись, мокрая курица! Краснокожий так просто не околеет! Он только дошел до нужного градуса. Даю голову на отсечение, что к вечеру туземец станет сговорчивее! А пока Бонне будет щекотать ему пятки иглами ауары, чтобы он не дремал, и почесывать кожу ветками кунана, мы подготовимся к отъезду. Провизии нужно, по крайней мере, на три месяца. К счастью, мой погреб забит до отказа. На загрузку лодки уйдет два часа, не больше. Ну, хлопнем по стаканчику для поднятия духа. А ты, Бонне, мой сыночек, будь начеку! — Не беспокойся, шеф, — ответствовал Бонне с гадким смехом, напоминавшим визгливое тявканье гиены. Трое прохвостов уже заканчивали таскать в лодку бочки, ящики и тюки, когда среди ночной тишины прозвучал крик, не имевший ничего общего с человеческим. Это был душераздирающий вопль, заключавший в себе весь мыслимый ужас, какой только может испытать человеческое существо, весь отчаянный протест одушевленной материи против страдания, достигшего высшей точки. — Да он его прикончит! — воскликнул Тенги, менее жестокий, чем его напарники, а возможно, просто более алчный. — Брось ты! Если он орет, то ничего страшного. Никогда человек, которого убивают, не станет так вопить. Ты бы должен знать, — хохотнул бородач, — что самые тяжелые страдания молчаливы. — Может быть, ты и прав… Но если его так кромсать, то можно вызвать настоящую горячку… — Хинин придумали не для собак. Если краснокожий не очухается, то получит свою дозу. — У тебя на все есть ответ. Но я предпочел бы не слышать эти вопли… Еще более отчаянный и пронзительный крик, перешедший в хриплый вой, оборвал говорившего на полуслове. — Вот уж не думал, что Бонне такой ловкач… Смотрите-ка! Индеец валялся, словно дохлый баран, а теперь заливается, как петушок. Ну уж, наверное, дошел до ручки… Давайте вернемся к дому. Пирога к отплытию готова… Бандиты вступили в хижину, едва освещенную отблесками очага. Скорчившийся от боли Жак, с погасшими глазами и застывшей судорогой на лице, бессознательно выстукивал зубами и хрипел. Сидевший напротив палач вперил в него злобный взгляд. Дьявольская улыбка играла на тонких губах, а физиономия хорька с плоскими щеками и отсутствующим подбородком морщилась от удовольствия.
Вот в чем заключалась выдумка негодяя. Он обнаружил, что страдалец, истощенный голодом и бессонницей, потерял чувствительность к уколам. — У этой скотины шкура бегемота… Иголка входит, как в подушку, а ему — что с гуся вода… Ну, погоди же, мой дружочек! Бандит заприметил прибор для заточки ножей, повешенный над очагом во избежание сырости. Снял его со стены, взвел предохранитель и огляделся, что-то прикидывая. Он ощупал себя и общипал, как бы отыскивая наиболее уязвимое место. Затем ухмылка заиграла на лице: его осенило! Схватив руку индейца, по-прежнему недвижного и крепко-накрепко спеленутого, мучитель приставил предохранитель к кончику указательного пальца, после чего медленно повернул металлический стерженек. Инструмент, как известно, состоит из двух скрещенных спиралей с острыми оконечностями, расположенными в сантиметре друг от друга. Один из концов проник под ноготь, а другой вонзился в кожу. Она побелела, выступила капля крови. Сила пружины была такова, что сталь заскрипела о косточку. Пронзенный страшной болью, Жак вышел из состояния оцепенения и испустил первый крик. — Заговоришь ты наконец? — достиг его ушей свистящий голос бандита. — Скажешь нам, где золото? Приведешь к нему?! — Н-нет… — прохрипел сквозь стиснутые зубы стойкий юноша, чья грудь бурно и неровно вздымалась. Каторжник нанес следующий удар… еще один. Пот струился по телу мученика. На губах его запеклась пена. Глухие стоны вырывались из груди. — Ну-ка, пораскинь мозгами… Когда я пощекочу тебе все пальчики, наступит очередь ног. Так что не валяй дурака… Эй, калина, ты согласен быть нашим гидом? — крикнул он в ухо индейцу, нанося очередной удар, чуть не вырвавший ноготь с мясом. Жак хрипло шепнул: — Да… да… Трое сообщников ждали этого момента. — Поклянись! — Да… я… клянусь… — Где золото? — Поднимайтесь… по Марони… — Его голос стал неразборчивым. — Сколько времени плыть? — допытывался садист, выкручивая пленнику искалеченный палец. — Шесть дней… О! Больно! — Хорошо… Хорошо… А потом? — …Бухта! — Какая бухта? Слева, справа? Говори же! — Слева… шестая… после… водопада… — Ну, для начала хватит, — вмешался Бенуа. — У нас еще впереди шесть дней. Поишачим на реке, а там поглядим… Однако же, Бонне, черт побери! Отличный из тебя следователь, дружище! — Пхе! — со скромностью ответствовал бандит, отставляя в сторону орудие пытки. — Эти профессиональные ищейки не знают своего ремесла. — Что правда, то правда… Применяй они вот такие же штучки, ни одному урке не сносить головы… Передушили бы всех вас, как кроликов. — Это уж точно! От судейских-то можно скрыть, о чем говорить не хочешь… Я тебя уверяю, что ради спасения своей шкуры никто не вытерпел бы и тысячной доли того, что выпало краснокожему… — Ну, ладно! Коль он раскололся, не надо тратить усилий на собственные штуки… — Конечно! Да, ты говорил, что знаешь средство развязать ему язык… Интересно, какое? Можешь сообщить? — С удовольствием! Шесть дюймов пропитанного серой фитиля намотать на пальцы ног, и гарантирую, что он бросит изображать из своих губ замок от сейфа! Защебечет, как соловей! — Замечательно! Ты в этом деле — дока, — уважительно поддакнул палач, сопровождая свои восторги самой гнусной ухмылкой. — А теперь — в дорогу, мои ягнята! О вашем бегстве скоро узнают. К четырем часам полицейские лодки будут шарить по обоим берегам, здесь станет неуютно. Тем более что я не слыву за святого… Ах! Если бы я все еще был там! — проворчал он, морща нос, как ищейка, бегущая по следу. — Да тебе пришили бы срок побольше, чем другим, — подлил масла в огонь Тенги. — Говорили парни, что и десяткой пахло, здорово тебя облапошил этот беглый трюкач! — Так-то оно так, — яростно выдохнул бывший надзиратель, — трюкач, говоришь, это точно, уж он бы положил на лопатки четырех таких, как ты… Однако если бы ягуар[190] не разодрал мне бедро в тот день, клянусь головой, я бы заарканил беглеца так же просто, как и этого краснокожего… — Ягуар! — воскликнули хором все трое мошенников в предчувствии драматической истории. — Так там был еще ягуар! — Да, и огромного роста! Что же вы думаете? Этот зек одним ударом тесака перешиб ему холку, словно цыпленку! — Ну, а ты что делал в это время? — Валялся пластом, как рыба на песке, рядом с издохшим ягуаром… — А беглый каторжник… что он сделал с тобой? — Тебя не касается! — грубо оборвал Бенуа. — В путь! Несколько минут спустя груженая пирога, корма которой возвышалась над водой не более чем на пять сантиметров, тихо скользила по спящей Марони. Бандиты развязали своему пленнику руки, и он с жадностью обгладывал кусок задней ножки кариаку[191]. В его черных глазах, когда он поглядывал на спутников, сквозила ненависть. — Тайна золота смертельна, — сказал индеец, едва лодка тронулась с места. — Я проведу, но она вас убьет. Мы все погибнем, — закончил он с мрачной радостью. — Это хорошо! — откликнулся Бенуа, заливаясь грубым саркастическим смехом. — Не робей, мой мальчик! Мы позаботимся о твоей безопасности. Нашим наследникам будет чем развлекаться… А пока ешь, пей, спи, сколько душе угодно. И не пытайся обвести нас вокруг пальца, ты ведь знаешь, что я не люблю шутить, когда меня злят! Жак не ответил. Через шесть дней лодка пересекла пороги, проникла в залив, указанный юношей, и задержалась ненадолго перед водопадом. Далее развернулись события, свидетелями которых мы были в начале предыдущей главы. Пленник вырвался на свободу, а Бонне рухнул на землю, пораженный в бедро индейской стрелой. — Но это же золото! — вскричал Бенуа, протерев обагренный кровью наконечник стрелы. Четверо бандитов с горящими глазами разглядывали и ощупывали грубо сработанный кусочек металла. Сам раненый, казалось, позабыл о своих страданиях. Он даже не позаботился остановить кровотечение: темная струйка так и бежала по обнаженной ноге. Золото! При виде вожделенного металла алчные желания негодяев вспыхнули с новой силой. Они достигли наконец той загадочной страны, куда еще не ступала нога белого человека. Их намерения скоро осуществятся. Легенда об Эльдорадо становилась реальностью. И какое значение имеет то, что первый образчик драгоценного металла явился перед ними в форме мрачного посланника смерти. Наоборот, разве не говорило применение золота для столь низкой цели о его грандиозном изобилии?.. Да и бегство индейца, владевшего знаменитым секретом, не имело сейчас особого значения… Его первоначальных объяснений вместе с той информацией, которую удалось Тенги выудить из беседы в исправительной колонии, вполне достаточно для этих бесшабашных людей, вооруженных до зубов, обеспеченных провизией, нужными инструментами и презирающих всякие предрассудки. Жак говорил доктору и начальнику тюрьмы: «После двух дней плавания в заливе откроются семь гор». Так и вышло: в означенные сроки на бледной линии горизонта возник темно-голубой силуэт лесистого холма. С полным основанием они могли предположить, что это одна из тех гор, о которых рассказывал индеец, и что происхождение стрелы, посланной неизвестным лучником, теперь не вызывает сомнений. — Оставаться здесь небезопасно, — подытожил ситуацию Бенуа. — Золотая стрела не намного лучше железной, когда она попадает в тебя. Вернемся-ка назад, ребята, если, конечно, Бонне не желает воспользоваться случаем снова послужить мишенью, чтобы одарить каждого из нас полудюжиной таких игрушек… Ведь это все равно, что получать сотню франков за один лиар…[192] — Нет уж, благодарю покорно, я выхожу из игры… — отозвался бандит, начинавший бледнеть от потери крови. — Решено! Мы отступаем. Утро вечера мудренее… Поддерживая раненого, они перебрались через поверженные стволы и ветви, сели в пирогу и без препятствий доплыли до своей патавы, три столба которой торчали на скале. После долгой ночи, расцвеченной золотыми снами, авантюристы с удвоенной энергией приступили к дальнейшей расчистке пути. Бонне оставили охранять лагерь. Его рана, хотя и казалась не слишком серьезной, требовала несколько дней отдыха. — Понимаете, — рассуждал Бенуа, пока они поднимались по реке к зеленой плотине, — сюда их чертовы стрелы не достанут. К тому же нас прикрывают завалы из деревьев. А нападать с тыла они вряд ли осмелятся. Да и у нашего друга Бонне есть ружье… — Должен тебе признаться, шеф, — вступил в разговор Матье, туповатый понурый мужчина, обычно хранивший молчание, — мне бы очень хотелось что-нибудь понять во всей этой чертовщине… — Губа не дура! Я и сам бы не прочь… — Ну, ты ведь образованный человек, а я нет. — Образование здесь мало помогает… — Я никак не могу себе объяснить, почему эти типы, побросавшие деревья в воду, не подождали, пока мы окажемся под ними, чтобы сразу нас прихлопнуть? — А кто тебе сказал, что деревья свалили умышленно? Они ведь могли упасть и сами по себе… — Ну, возможно. Однако стрела, прошившая ногу Бонне, сама ведь не полетела. И почему этот хмырь не всадил ее прямо в грудь Бонне?.. — Мы же не знаем, куда он целился. — Ну, нет! Тебе отлично известно, что индейцы никогда не промахиваются! Мы все видели, как они снимают с верхушек деревьев черных обезьян или фазанов, а с тридцати метров попадают в апельсин, насаженный на воткнутую в землю стрелу… — Так ты сердишься, что они не поступили с Бонне, как с черной обезьяной? — Не глупи. Я не сержусь, а удивляюсь. Ведь было так легко перебить всех нас по одному. Вот что меня смущает. А тебя, Тенги? — Стоит ли портить нервы из-за пустяков… Уж если они не передавили всех нас поодиночке, как гусениц, то, значит, не посмели. А может быть… — А может быть, — вмешался Бенуа, — они полагали, что не стоит тратить стрелы на такую дичь. Ну, хватит болтать! За работу! Тут еще придется попотеть! Несколько часов трое мужчин ожесточенно орудовали пилой, мачете и топорами. Такая ярость переполняла их сердца и такими закаленными были их крепкие тела, что, казалось, они не замечали палящих лучей солнца. Пот струился по их торсам, дымящимся, словно серные сопки. Работа спорилась. Эти отверженные умели трудиться! Удары ускорялись, заполняя узкую долину громким эхом, которое вибрировало где-то вдали, среди теснившихся макушек огромных деревьев. Тридцать шесть часов они с бешеной энергией врубались в завал, ничто не могло их остановить. Путь был проложен. Фарватер шириной чуть более метра разрезал груду стволов и ветвей. В очередной раз они аккуратно загрузили свой провиант в пирогу, разобрали патаву и удобно устроили Бонне в центре лодки на матрасе из свежих листьев. Рана начала зарубцовываться благодаря холодным примочкам, наилучшему болеутоляющему средству.
— Все в порядке, дети мои? — Шеф оглядел лодку. — Ну, трогаемся! В добрый час! «Добрый час» оказался недолгим. Едва пирога вошла в узкий канал и стала медленно продвигаться, лавируя между ветвей, как странная музыка послышалась вдалеке за плотиной. Исполнялось как бы соло на флейте, чьи низкие и очень нежные звуки скользили по спокойной воде и разносились вокруг. Эта примитивная тягучая мелодия при всем однообразии излучала какое-то очарование, но в то же время и нервировала путников. Тот, кто жил среди прибрежного племени галиби[193] или знаком с бытом глубинных племен рукуен[194] и оямпи[195], сразу бы узнал звук большой индейской флейты, которая изготовляется из длинной бамбуковой трубки. Мелодичный речитатив прервался через пять-шесть минут, а затем возобновился безо всякого перехода, только на октаву выше. Звуки стали пронзительными и производили уже другое впечатление. Мягкую тягучесть первоначального мотива сменило неприятное чувство тревоги. Казалось, ненавидящая музыку стая собак подняла вдруг неистовый вой. Четверо авантюристов забеспокоились. Бенуа, признанный вожак шайки, первым нарушил молчание. — Эта какофония[196] раздирает мне уши. Я предпочел бы прямую атаку. Подлые гниды нас видят как на ладони. Какого черта им надо со своими дурацкими свистками… Будто у цыган-медвежатников на ярмарке… Матье, и ты, Тенги! Налегайте на весла! А я буду начеку! Бывший надзиратель схватил ружье и зарядил его, поглядывая на Бонне: — А ты, бездельник, тоже берись за винтовку! Если не годишься для весел, то пульнуть дробью сможешь при необходимости! — Конечно, шеф! — бодро откликнулся раненый. — Давай мне ружье! Между тем снова полилась тягучая музыка в низких тонах, исполненных невыразимой мягкости и нежности. Но эти приближающиеся звуки исходили явно от враждебной стороны. — Да что им от нас надо, в конце концов? — раздраженно проворчал бандит. Вскоре он уразумел всю глубину опасности. Лодка миновала узкий фарватер, прорубленный в зеленой плотине, и четверо проходимцев увидели скорее с удивлением, нежели с испугом, что река покрыта листьями муку-муку (caladium arborescens). Связанные вместе лианами, они образовали целую гирлянду маленьких плотов, площадью около двух квадратных метров каждый. Конца этой флотилии не было видно, она очень медленно спускалась по течению, едва заметному в этом месте. — Если они собираются таким образом нас задержать, то напрасно теряют время, — пробормотал Бенуа. — Мы пройдем через эти листочки, как нож сквозь масло… Плотики стали надвигаться быстрее, поскольку пирога шла навстречу, и вскоре шеф заметил, что на них находились живые существа, совершавшие какие-то странные движения. Бородач поднялся на ноги. И его спутники увидели, как внезапно он побледнел. Расширенные от ужаса глаза уставились во что-то невиданное. Губы у него задрожали, дыхание стало хриплым и прерывистым, с трудом вырываясь из перекошенного рта. Обильные капли пота скатывались по щекам. Столь явное выражение страха на лице такого жестокого человека было особенно пугающим. — О!.. Дьявол!.. — прохрипел он. — Бежим… Мы погибли… Это смерть… Ужасная смерть… Змеи… Тысячи змей… Мороз по коже… Музыка вспыхнула с новой силой, пронзительная, свистящая, яростная. Незримый виртуоз двигался берегом одновременно с плотами, соизмеряя свой шаг с их скоростью. От опасной встречи авантюристов отделяло уже не более двадцати метров. Леденящий душу спектакль открылся их взорам. Как только что сообщил главарь, вся эта лиственная поверхность была буквально усеяна змеями — любых форм, расцветок и величины. Казалось, пресмыкающиеся всей Гвианы собрались на это рандеву. Жуткий экипаж странной флотилии медленно приближался в сопровождении невидимого флейтиста, чья музыка почти мгновенно доводила змей от состояния полнейшего спокойствия до страшного яростного возбуждения. То они падали прямые, словно эпилептики, на листья, то вытягивались кверху, готовые к броску, то закручивались спиралью, выставив головы с раскрытой пастью, подвижным языком, испуская свистящее шипение, от которого бросало в дрожь. На одном «плоту» гремучая змея[197] постукивала своими трещотками, на другом ужасная граж[198] (trigonocephale) скручивалась в тугие кольца бок о бок с проворной коралловой[199] змеей, от укуса которой спасения нет. Та вроде бы играла с маленькой ай-ай, выставлявшей свой смертельно опасный зуб; чуть подальше самая смелая изо всех, змея-охотник с тигриной окраской, казалось, собиралась полакомиться нежно-зеленой медлительной змейкой-лианой, достигавшей трех метров длины при толщине не более пишущей ручки. Со всех сторон скользили в воде, как бы презирая хрупкую лиственную опору, гигантские ужи, устрашающие удавы, огромные питоны… Они, словно лебеди, выставляли головы над водой на добрый метр и округляли свои желтые, зеленые, голубые или розовые глотки. Все это месиво рептилий[200] извивалось, переплеталось, плавало, ползало, шипело, окружая беглых каторжников фантастической блокадой и наполняя воздух тошнотворным запахом мускуса. Охваченные ужасом, четверо несчастных развернули лодку на месте двумя мощными ударами весел. И в самый раз. Опоздай они на несколько секунд, им бы не выбраться из центра змеиного клубка. Верховье реки, словно отгороженное стофутовой стеной, стало для них недоступно. Трепеща от страха, они проследовали узким каналом, который только что преодолели, и с бьющимися сердцами, обливаясь потом и стуча зубами, выплыли к скалистой гряде. Как далее спускаться по реке?.. Перепад воды в порогах не менее трех метров. Нечего и думать о том, чтобы переправиться через водопад в пироге, ее наверняка разнесет в щепки. С другой стороны, как вырваться из ловушки? Слева тянутся дремучие леса, охраняемые людьми с золотыми стрелами. Справа — затопленная саванна. Впереди — пенистая бездна. Положение просто удручающее. А музыка звучала непрерывно… И змеи продолжали свой марш, зачарованные пленительной мелодией. Плоты из листьев муку-муку остановились перед препятствием из поверженных деревьев. Пресмыкающиеся покинули свои «корабли» и ринулись атаковать разбросанные сучья и ветви. Вот это было зрелище поистине захватывающее и поразительное — тысячи змей самых разных форм и оттенков, от гигантских до миниатюрных, оплетали ветви, выбрасывая раздвоенные языки, образуя как бы сетчатую ткань из гибких колец, бесконечно свивались и развивались в своем неудержимом походе. Безжалостный виртуоз не умолкал ни на минуту, путники с трепетом ожидали мгновения, когда будут полностью окружены. Мало-помалу, однако, ритм замедлялся, шипение прекратилось, и грозный отряд остановился, едва перевалив через препятствие, хотя и сохраняя явную готовность двинуться дальше по первому сигналу. Змеиный авангард[201] не бросался в атаку, но его поведение ясно указывало охваченным ужасом бандитам, что рептилиям просто запретили двигаться дальше. Бенуа первым обратил на это внимание. Не желая признавать, что таинственный музыкант, которому ничего не стоило отдать его вместе с компаньонами на растерзание разъяренным страшилищам, мог довольствоваться одной лишь обороной, бывший надзиратель решил, что «факир» колеблется. И его терпение Бенуа охотно приписал трусости или слабости. — Нет, — бурчал он, — мы не для того приперлись сюда, чтобы убираться восвояси с пустыми руками… Погодите немного! Я воспользуюсь передышкой, чтобы определить по компасу местонахождение гор и угол, который это направление образует с заливом. Неизвестно, что может приключиться… Вот так… Все в порядке, — заключил он, сверившись с компасом и сделав карандашом какие-то пометки в блокноте. — Надо сматывать удочки, шеф! Бежим скорее! — жалобно скулили Тенги и Матье, у которых от страха побелели губы, а рубашки прилипли к телу. — Переправим лодку, потом продукты и вернемся на Марони… Мы проиграли свою партию… — Нет, пока что не проиграли, — возразил Бенуа. — Есть еще козыри на руках… — Что ты снова затеваешь? — Вы разве не видите, что один из этих плотиков муку-муку сперва зацепился за деревья, а теперь сделал поворот и медленно плывет через затопленную саванну?.. — Да, правда, — поддержал Бонне, вглядываясь своими зоркими глазами хорька в болотные воды, утыканные редким тростником. — Ну и что тут такого?.. — тянул плаксивым тоном Тенги. — А то, мокрая ты курица, что течение, пускай даже слабое, пересекает саванну. А если есть течение, то вода обязательно должна выливаться куда-то с другой стороны. Я теперь убежден, что саванна представляет собой озеро, может быть, не очень большое, из которого непременно вытекает река, впадающая либо в Марони, либо в бухту большего размера. — Ну, ладно! Так что из того? Какой нам от этого прок? — Не надо будет перебираться через водопад, к которому нас прижало змеиное войско. Вместо того чтобы возвращаться по собственным следам, мы повернем направо. Теперь, когда я знаю, в каком направлении находятся золотые горы, легко рассчитать наш маршрут. И если, по счастью, река, которую нам предстоит найти, уходит в глубину территории, а не теряется в Марони, то мы спасены! Хотя совещание было недолгим, змеиный предводитель, как видно, забеспокоился. Он остановился, движимый чувством великодушия, которым злодеи подло воспользовались. Таинственный флейтист полагал, что полученный урок заставит их немедленно убраться восвояси. Видя, что они не выполняют маневр, которого требовал рельеф реки и предлагали Матье с Тенги, то есть перетаскивание продуктов и пироги, он извлек из своей флейты пронзительно резкий и долгий звук. Это напоминало призыв к оружию, который поднимает на ноги экспедиционный корпус и бросает вперед боевые порядки солдат, воодушевленных предстоящей битвой. — Вот видишь, видишь! — закричали каторжники, вновь объятые неописуемым страхом. — Заткнитесь! Трясогузки… Я рискую так же, как и вы. Вам дорога ваша шкура, а мне моя… И я не испытываю ни малейшего желания оставлять хотя бы клочок ее в зубах этих мерзких тварей. Дружно за весла! Мы поворачиваем вправо, через саванну… Я держу курс на это большое желтое пятно, по-моему, эбеновое[202] дерево в цвету… До него с километр… Готово? Вперед! Восемь крепких рук дружно рванули весла — Бонне, невзирая на рану, не захотел отставать от других, — и пирога чайкой полетела по уснувшим водам саванны. Напрасно флейтист извлекал из своего инструмента все новые и новые звуки, чтобы ускорить движение змей и возбудить их гнев. Бандиты ушли в сторону, а заклинатель, оставшись на другом берегу, не мог больше преследовать и направлять свое ползучее воинство по их стопам. — Свисти себе, дружочек, сколько угодно! Если у тебя нет хорошей пироги, чтобы угнаться за нами, то ищи ветра в поле! А попадешься мне когда-нибудь — пеняй на себя, живого места на твоей подлой шкуре не оставлю! Ускользнув на первый случай от неминуемой гибели, бродяги успокоились и повеселели. Затопленная саванна оказалась достаточно глубокой, чтобы можно было беспрепятственно продвигаться. Лодка медленно шла по тяжелой стоячей воде, раздвигая заросли водяных растений, шуршавших о борта. Оттуда вздымались тучи комаров. — Да эта саванна — настоящее озеро, — сказал Бенуа. — Черт подери, оно вроде растопленного свинца. Ну, ничего, рядом со свинцом водится золото, верно, Бонне? Кстати, как твоя нога? — Заживает. Скоро надеюсь попрыгать. Я делаю холодные примочки с добавлением водки, это здорово помогает. — Отлично! Наши беды покуда невелики, больше натерпелись страху. Впрочем, переделка была серьезной, мы выскочили удачно. В конце концов ничто не дается без труда! Не следует ждать, что золотые слитки свалятся нам на голову, будто манна небесная[203]. Какого-то успеха мы уже добились. Время и терпение принесут остальное. — Все равно, — подал голос Тенги, чье изможденное лицо казалось бескровным, — я много бы дал, чтобы узнать, с какими это чертями нам довелось схлестнуться? Эй, шеф, не мог бы ты сказать? Ведь ты такой ученый, знаешь кучу всякой всячины… — Что ты хотел от меня услышать? — откликнулся тот, явно польщенный наивным восхищением каторжника. — Могу столковаться со всеми кайманами[204] колонии. Но если я не знаю, кто нам мешает пройти к горам, то абсолютно уверен в мотивах их действий. Нет никакого сомнения, мы находимся на подступах к стране золота. И таинственные враги не стали бы так изощряться, если бы наше вторжение не имело значения. Любой ценой необходимо найти щель, чтобы проскользнуть в золотой рай! Глядите-ка, здесь все, кажется, сделано из золота! Эбеновое дерево с желтыми цветами, птицы с желтыми перьями, эти водоросли, покрывающие саванну желтой скатертью! — Правда, правда! — вскричали, как один, трое гребцов. При всей своей примитивности они ощутили легкое волнение от неимоверной роскоши природы. И действительно, она с безумной щедростью одевалась в цвета драгоценного металла, который им предстояло завоевать, подобно султанше, безразличной к своему окружению. Это странное плавание по мертвым водам продолжалось довольно долго. Саванна казалась бесконечной. Бродяги гребли неутомимо, как будто усталость была им неведома. Они обходили огромные массивы исполинских растений, откуда поднимались в воздух испуганные птицы, впервые потревоженные человеком в своем уединении. Они увязали в илистом грунте, цеплялись за корневища, запутывались в лианах. Ничто не могло охладить их пыла. Один за другим, они преодолевали препятствия с присущим им терпением, с той особой настойчивостью каторжников, от которой рушатся кандалы, открываются камеры, раздвигаются стены. Они едва успевали перекусить. Все их усилия, все способности сосредоточились на одном: работе веслами. С заходом солнца они причаливали к берегу, развешивали гамаки на нижних ветвях и засыпали над тихими водами со спокойствием, которому неведомы были угрызения совести, хотя по этим отверженным давно плакала веревка. Каких замечательных результатов могли они добиться, направив силы и проворство на доброе, благородное дело! Бенуа все время выверял маршрут. Внешний берег саванны, противоположный берегу «змеиной реки», описывал длинную дугу, уводившую путников в глубину территории. Это была удача. Они прошли четверть круга, радиус которого неизбежно упрется в золотые горы. Предположения главаря пока полностью подтверждались. Если затопленные земли сохранят в течение трех дней свою конфигурацию, то шайка выйдет с тыла к неизведанному региону, к желанной цели. Описав полуокружность, они окажутся на другом конце прямой, проходящей через горы, местоположение которых определил Бенуа. Не важно, насколько эти расчеты выполнены тщательно — когда горы появятся в их поле зрения, этого хватит для ориентации, для поиска верных путей. Наутро четвертого дня путники заметили, что берег как будто отклоняется вправо, что появилось легкое течение, а вода содержит много красных частиц окисла железа. Выпуклая линия берега стала вытягиваться, удлиняться, приобретая форму лимана. — Ну, — сказал предводитель, — настала решающая минута. Саванна наверняка переходит в реку. Куда же она движется? Мы это скоро узнаем. Действительно, трудно было предугадать заранее. Голубые потоки в Гвиане отличаются той особенностью, что далеко не всегда проходят по долинам, стиснутым горами. Довольно часто они текут перпендикулярно горной местности и впадают в реку через целую вереницу порогов и водопадов. Водная артерия[205], питаемая саванной, с равными шансами могла устремляться и в правую, и в левую сторону. Итак, пирога вошла в залив, напоминавший длинную оконечность пруда; плоские берега, покрытые водяной растительностью, стали сближаться. Там и сям попадались небольшие скалы. Насыщенность окислами железа заметно возросла. Вскоре ширина речки уже не превышала десяти метров. Плавание длилось целый день. Скалы становились все многочисленнее. Бенуа, хорошо знавший тропические леса, понял, что их ожидает встреча с водопадом. До него уже близко! Такая перспектива удручала тем более, что в этот момент он поворачивался спиной к стране своих грез. Сердитое ворчание воды вскоре возвестило о точности его предположения. Как поступить? Далее плыть невозможно. Возвращение по своим следам грозит гибелью. Бывший охранник растерялся. Зато «хорек» Бонне, который греб неустанно, невзирая на рану, нашел выход из положения. — А если мы свернем в ту маленькую речушку, которая видна вон там, за большими скалами? — Ты видишь какой-то пролив?! — Черт побери, ты что, слепой? Вон там, возле сухого дерева! — А и вправду, — с радостью откликнулся патрон, — да к тому же она течет налево, какая удача! Все в порядке, парни, не дрейфь! Налегай на весла! Воистину нам везет как порядочным! Не теряя времени, пирога свернула в пролив метров пяти шириной, зажатый невысокими берегами. Речушка оказалась отличной, глубокой, с течением ни быстрым, ни медленным. Почти идеальные условия для плавания. К тому же она кишела рыбой, что позволило разнообразить меню, долгое время состоявшее из консервов и солонины. Бенуа предполагал, и не без оснований, что увиденные некогда горы, прилегающие к ним земли, большая затопленная саванна и вязкие грунты, ее окружающие, образуют относительно высокий массив, откуда разбегаются лучами во всех направлениях множество потоков. Горы — это кульминационная точка возвышенности, саванна служит природным резервуаром воды, который пополняется в сезон дождей и питает многочисленные реки и речушки.
Добавим, для подтверждения достоверности, что данный массив представлял собой настоящее плато, ограниченное на северо-востоке заливом Спервайн, на востоке — рекой Марони, на юге — рекой Абунами. Восточная оконечность, мало изученная, находилась примерно в пятнадцати километрах от реки Арауни, притока Маны. Плато располагалось между 5° 45′ и 5° 20′ северной широты. Западный край плато тянулся примерно по линии 56° 40′ западной долготы. Наконец, его наибольшая вершина сталкивалась лицом к лицу с водопадом Синга-Тетей, неподалеку от места слияния Авы и Тапанаони, образовывавших реку Марони. Гора эта, хорошо заметная издалека, носила название Французской. Один из видных офицеров флота, капитан корабля месье Видаль в 1861 году, за несколько лет до описываемых событий, обследовал этот район, до него совершенно не изученный. Бенуа не мог не знать об этой блестящей экспедиции, поскольку группа Видаля возвратилась в Сен-Лоран за год до изгнания недостойного надзирателя. Как бы там ни было, теперь бывший охранник чувствовал себя уверенно и без конца повторял: — Тайна золота у нас в кулаке! На этом плато находится разгадка, главное место, которое мы ищем… Наши усилия не напрасны! Перероем тут всю землю, найдем брешь… Черт возьми, не может быть, чтобы туземцы окружили клад со всех сторон своей змеиной армией… Его компаньоны, воодушевленные надеждой, старались вовсю, весла неутомимо бороздили спокойную воду. После двух дней напряженного и монотонного плавания они заметили легкий столб дыма на одном из берегов. Несколько подвесных коек из белой хлопчатобумажной ткани раскачивались на ветках; дюжина индейцев вдруг появилась на мелководье залива, посередине которого двигалась лодка. Отступать было поздно. Авантюристы решили продемонстрировать бесстрашие. Впрочем, в поведении краснокожих не замечалось ничего угрожающего, и Бенуа, за четыре года жизни среди прибрежного племени галиби порядочно изучивший их язык и нравы, вознамерился извлечь из этого какую-нибудь пользу. На всякий случай держа оружие под рукой, они стали медленно подгребать к берегу. Бродяги находились в сотне метров от стоянки, когда из-за деревьев ударили вдруг громкие звуки музыки. Это было весьма однообразное соло на неизменной бамбуковой флейте, без которой вождь племени никогда не покидает свое селение. У Тенги и Матье, наименее смелых из экипажа, холодок пробежал по телу от макушки до самых пяток. Не появится ли вновь после этой дикарской какофонии тот ужасный эскадрон пресмыкающихся?.. Бенуа расхохотался. — Ну, все идет отлично! — воскликнул он. — Нам подают сигнал и нас примут, как друзей. Главное, предоставьте мне вести дело и проявляйте ко мне подчеркнутое уважение. Надо показать им, что я большой начальник. — Но что все это значит? — спросил Матье, чье лицо, несмотря на успокоительные слова патрона, покрылось, будто мрамор, зеленоватыми пятнами. — А то, мой дружок, что каждый уважающий себя вождь держит при своей персоне флейтиста, и тот объявляет о его прибытии специальным сигналом. Господи, это так естественно! В цивилизованных странах есть марши полков, дивизий, армейских корпусов… Ну, и здесь примерно то же самое! Однако, черт подери! Слишком долгая музыка. Наверное, очень важная персона. Но я ведь тоже, хотя мое войско невелико. Как жаль, что у нас нет какой-нибудь завалящей трубы… А впрочем, обойдемся. Я им дам глотнуть из фляжки, они это больше любят. — Послушай, — заметил Бонне, — а если поприветствовать их выстрелами из ружья? — Отличная идея! Но подождем еще немного. Внимание, подготовились! Весла убрали в лодку, которая уткнулась носом в песок. — Огонь! — вскричал авантюрист. И восемь выстрелов прозвучали громким салютом, к вящей радости индейцев. Восхищенные такими почестями, они пустились в пляску подобно клоунам, в то время как барабан добавлял пронзительным звукам флейты свое оглушительное «бом-бом-бом!». Бенуа сошел на берег первым, на почтительном расстоянии за ним следовали три компаньона, палившие в воздух из своих ружей. Поскольку посох или жезл являются непременным атрибутом власти во всей экваториальной Америке, то и шеф держал в левой руке багор с железным крюком на конце. Ружье у него висело на ремне за спиной, в правой руке блестел мачете, и вид он имел довольно внушительный. Бенуа сделал несколько шагов и остановился при виде неподвижно застывшего метрах в двадцати от хижины индейца. С диадемой[206] из желтых перьев на голове, с роскошным ожерельем из оперения белой курицы вперемежку с голубыми и красными перышками тукана и попугая ара краснокожий опирался на жезл. Это был вождь племени. Он сделал два-три шага навстречу и тоже остановился. Возникла заминка в этикете, связанная с проблемой старшинства. И вот почему. Если индеец посещает одного из собратьев, то особый характер музыкального сопровождения указывает на его ранг. Если прибывший превосходит по значению встречающего, то последний отвечает своими фанфарами[207], выходит навстречу и останавливается лишь в непосредственной близости от лодки. Он кланяется, произносит несколько приветственных слов и ждет, пока новоприбывший представит его членам своей свиты. После этого гостя приглашают в дом, женщины вешают гамаки, предлагаются сигареты с наркотическими веществами, и празднество начинается. Если у обоих вождей одинаковый ранг, то хозяин останавливается на полдороге от дома к месту причала. Визитер движется к нему, представляет своих сопровождающих, и церемония завершается по описанному выше образцу. Когда прибывший вождь более низкого ранга, то хозяин не выходит из хижины и принимает его стоя. Если же наконец появляется незначительное лицо, какой-нибудь простолюдин, то вождь не покидает даже своего гамака, а женщины не прерывают повседневных трудов. Прибывшего отсылают устраиваться в пустую хижину, где ему, впрочем, предоставляется полная свобода, выделяют что-нибудь из продовольствия, но никаких почестей не оказывают. Весь этикет выполняется с бесподобной серьезностью, и ни один камергер[208] с золотым ключом на бедре, ни один посол на официальном приеме не придерживаются так безупречно его правил, как эти краснокожие простаки, размалеванные в павлиньи цвета, словно солдатики Эпиналя[209]. С Бенуа индейский вождь обращался как с равным. Это неплохо, но бродяга рассчитывал на большее и застыл неподвижно, устремив на индейца смелый до дерзости взгляд. Тот с трудом преодолел свою гордость и приблизилсяеще на несколько шагов. — Что это за вождь, который так принимает великого белого начальника? — свысока вопрошал авантюрист, используя местные выражения. — Неужели он не знает, что я — единственный большой вождь изо всех Белых тигров[210] с мыса Бонапарте? Индеец никогда не бывал в Сен-Лоране? Разве он не знает, что мои люди, в сто раз более многочисленные, чем его, находятся в трех днях пути отсюда? Краснокожий, потрясенный тем, что белый говорит на его языке, ринулся к нему с извинениями. Он не виноват! Его гость не объявил о своем прибытии фанфарами. Он слышал, что у начальника Сен-Лорана есть медные флейты… — Тебе сказали неправду. Я ведь приветствовал тебя из ружей! Есть у тебя столько? Довод был тем более неопровержимым, что краснокожий совсем не располагал огнестрельным оружием. Подавленный невольным нарушением экваториального этикета, бедняга пустился расточать знаки самого почтительного внимания к этому верховному существу, обладавшему таким могуществом. — А ну-ка, Бонне, — кивнул шеф раненому, ковылявшему следом, — свистни погромче, как ты умеешь, это доставит ему удовольствие! Каторжник тотчас вложил пальцы в рот и несколько раз пронзительно свистнул, затем, поскольку слыл большим мастером этого дела среди товарищей по тюремной камере, изобразил крик черной обезьяны, сымитировал голоса тукана, птицы-пересмешника, цапли… И все это с такой оглушительной громкостью, от которой могли бы лопнуть самые крепкие барабанные перепонки. Индейцы пришли в экстаз. Их детский восторг был тем более искренен, что виртуоз не использовал никакого музыкального инструмента, а обошелся всего лишь вложенными в рот пальцами. Авторитет Бенуа немедленно возрос и стал непререкаемым. — Добро пожаловать, белый вождь! Ты будешь для Акомбаки желанным гостем! Бенуа протянул руку краснокожему, о котором уже доводилось слышать, поскольку репутация храбреца докатилась до племени галиби в низовьях Марони. «Акомбака» означает «который уже пришел». Всегда оказываясь первым в самых опасных местах, будь то на охоте или на войне, он возглавлял довольно большую группу индейцев эмерийонов, которые покинули бассейн реки Апруаг и объединились с остатками племени тиос, почти вымершего от алкоголя и оспы. Бывшего надзирателя и его компаньонов с большой помпой провели в дом Акомбаки, и праздник начался с обильного поглощения кашири[211]. Когда кубок дружбы распили до дна и выкурили сигареты, Бенуа, желавший расположить к себе туземцев, приказал выдать в их полное распоряжение настойку из можжевельника и бутыль тафии. Невиданная щедрость вознесла его в глазах индейцев на уровень божка, настолько глубоко укоренилась любовь к спиртному у этих несчастных. Племя эмерийонов, довольно еще многочисленное, пребывало в плачевном состоянии. Охотничье вооружение выглядело убого. Для наконечников стрел использовались либо косточки, извлеченные из головы рыбы лаймара, либо обломки лучевой кости носухи[212]. Металлических предметов недоставало. Во всем хозяйстве насчитывалось три-четыре мачете, столько же топоров и несколько грошовых ножей. Худоба жителей наводила на мысль о хроническом голодании, да вождь и не скрывал от нового друга своего бедственного положения. Негры бони из двух объединившихся племен опустошили их земли, а потом скрылись, не приняв сражения. Теперь Акомбака ожидал подкрепления и будущего урожая, чтобы взять реванш. Он похвалялся наголову разбить недругов. Бенуа сразу учуял выгоду, которую можно извлечь из бедности индейцев и из их жажды мести. Он располагал провизией и оружием, достаточным количеством топоров и мачете и — услуга за услугу! Он предложил вождю помочь расправиться с черными, а взамен попросил сопровождать экспедицию в горы. Краснокожий с радостью согласился. Договорились «опьянить» воду в реке[213], добытых рыб и животных закоптить, собрать побольше маниоки и ямса[214], а затем уже отправиться с белым вождем. Акомбака выразил желание заполучить вожделенные предметы немедленно, однако Бенуа был неумолим. Индеец выторговал право убраться восвояси, как только цель будет достигнута, и предоставить своему союзнику выпутываться самостоятельно. Договор, который свято соблюдался впоследствии, закрепили по индейскому обычаю. Пиэй[215] извлек у них несколько капель крови и смешал ее в чашке с небольшой дозой кашири. Договаривающиеся стороны выпили каждый свою половину чашки, и союз был заключен. Две недели спустя большой отряд, состоявший из двадцати пяти индейцев на шести пирогах, под предводительством Бенуа взял курс к «золотым горам». Не обошлось без опасений, что негры из враждебных племен станут их преследовать до самого места назначения, овеянного мрачными легендами. Но «главный начальник» убедил индейцев, что белые сами проникнут в обиталище злых духов, а туземцы смогут потом закупить всю тафию объединенной Гвианы, так что последние колебания и сомнения рассеялись. Путешествие прошло беспрепятственно и увенчалось полным успехом. Бывший надзиратель так предусмотрительно обо всем позаботился, а рельеф берега оказался настолько благоприятным, что маршрут был вычислен почти с математической точностью. Определив угол, условно образованный прямыми между «змеиной бухтой», горой и водопадом, ему удалось правильно рассчитать местонахождение будущих сокровищ. Покинув лодки и оставив там для охраны часть экипажа, отряд углубился в лес, неся на себе восьмидневный запас продуктов. Через двенадцать часов вышли к горе. Четверо белых уже без эскорта[216] проворно вскарабкались на склон. Неожиданно они наткнулись на следы культурных растений, явно принадлежавших человеку. Бенуа подал знак своим компаньонам затаиться, а сам бесшумными прыжками, словно хищник на охоте, продолжал двигаться вперед, напрягая зрение и слух. Разведывательный рейд длился уже около часа, но ни одна ветка не хрустнула под его ногой, как вдруг он застыл на месте, изумленный и потрясенный почти до ужаса. Надзиратель с трудом подавил желание заорать во всю глотку. — Черт побери, да ведь я знаю этого типа… — шепотом пробормотал он.
ГЛАВА 3
Таинственный лучник. — Десять лет спустя. — Слишком велик для ненависти. — Новичок. — Секрет защиты. — Лесной марафон. — Природа просит помощи. — Гвианские робинзоны. — Земной рай на экваторе. — Тропический ученый. — Золотой кофейник.Совершив дерзкий побег, индеец Жак медленно брел через лес; правой рукой он надламывал мелкие веточки, оставляя за собой почти невидимый след. Юноша понимал, что, не имея ни оружия, ни провизии, ему скорее всего придется вернуться к реке, предоставлявшей больше возможностей поддержать силы, нежели девственный лес. Вот почему так важно было не заблудиться и отыскать потом дорогу к воде по этим незаметным знакам. Краснокожий был убежден, что правильно разгадал значение таинственных сигналов, заставивших его ускорить события и пойти на огромный риск, чтобы вернуть свободу. Такие сигналы использовали индейцы внутренних районов для передачи сведений втайне от чужаков, европейцев. Вне всякого сомнения, Жаку сообщали о присутствии неведомых друзей, которые, вероятно, давно следовали по пятам его похитителей. В скором времени это предположение обратилось в уверенность. Осторожно пробираясь через тугие переплетения лиан и гигантских трав, покрывавших наносные земли, беглец услышал справа тихий свист. Повинуясь инстинкту, он замер на месте, хотя в звуке не было ничего подозрительного. Притаившись за огромным стволом, Жак переждал несколько минут, а затем, увидев на земле обломок камня, схватил его и быстро постучал о толстую нижнюю ветку. Сухой звук разнесся далеко. Свист повторился без промедления и на сей раз гораздо ближе. Юноша смело покинул свой тайник и двинулся в направлении услышанного сигнала. Вскоре он вышел на поляну и оказался лицом к лицу с рослым молодым человеком, который держал в руке большой лук с пучком длинных стрел и, улыбаясь, смотрел на Жака. Невзирая на обычное свое спокойствие, беглец был потрясен и даже напуган неожиданной встречей, но облик незнакомца излучал что-то доверительное и очень располагающее к себе. Выглядел он не старше двадцати лет. Открытое лицо с правильными чертами дышало энергией и искренностью. Воинственный вид смягчался добрым взглядом больших черных глаз навыкате, с длинными ресницами под густыми бровями. Дружески улыбаясь, воин приоткрыл два ряда блестящих белых зубов. Пышная копна черных волос с пряжкой из эбенового дерева вырывалась из-под маленькой белой шапочки, лихо сдвинутой на ухо и украшенной черным пером гокко[217]. Золотисто загоревшие под палящим тропическим солнцем руки атлета с мощными бицепсами высовывались из облегавшей тело куртки-безрукавки, сшитой из белой с голубыми полосами материи, напоминавшей матрасную ткань. Того же цвета брюки доходили только до колен, предоставляя полную свободу мускулистым ногам, которые отлично гармонировали с могучими руками. Ходил он босиком. Смелый Жак съежился в комок перед молодым богатырем, он казался себе жалким мальчишкой с тонкими руками и ногами перед этим воплощением силы и ловкости. Ему приходилось слышать о злобном индейском племени, жившем на берегах Авы, которое не поддерживало со своими соседями никаких контактов. Цветом кожи эти люди напоминали европейцев, были такими же сильными и носили бороды. Их называли оякуле. Легенда, усиленная страхом, приписывала им небывалую жестокость. Жак испугался тем более, что незнакомец носил щеголеватую молодую бородку, похожую на нежный каштановый пушок, одну из тех, которые смягчают черты лица. Хотя кожа красавца была покрыта плотным загаром цвета хлебной корки, Жак отлично видел, что это не тот матовый, непрозрачный оттенок кофе с молоком, присущий представителям его расы. «Так и есть, это, наверное, оякуле…» — мелькнуло у него в отчаянии, и беглец потупил глаза, не в состоянии вымолвить хотя бы слово. Молчание нарушил юный богатырь. — Эй! Ты пришел в мои места. Умеешь говорить по-креольски? — спросил он на местном наречии. Вздох огромного облегчения вырвался из груди краснокожего. — Конечно, но я умею говорить и по-французски! — радостно воскликнул он, шагнув вперед, совершенно успокоенный. Протянутая им рука утонула в крепкой ладони собеседника. — Я изучил французский в Мане… Меня воспитал доктор В., он живет сейчас в Сен-Лоране. Вы не знаете доктора В.? Это друг начальника тюрьмы… — добавил он не без гордости. При этих словах его собеседник нахмурился. Он отозвался глухо и как будто встревоженно, продолжая говорить на привычном для креолов языке: — Нет, я его не знаю… Я вообще не знаю никаких белых в колонии… На Жака нахлынули внезапно все пережитые ужасы плена, воспоминания о похищении, об издевательствах беглых каторжников, и он снова схватил руку незнакомца, говоря с необычными для индейцев откровенностью и волнением: — Да что же это я, в самом деле… Я даже не поблагодарил вас за ту огромную помощь, которую вы мне оказали! Извините, Бога ради, мой благодетель, вы меня вырвали из лап этих бандитов! Благодаря вам я смогу увидеть свою жену и своего приемного отца! Я обязан вам жизнью… Теперь она принадлежит вам так же, как и моему отцу… Странное дело: обычно сдержанный и немногословный, не подверженный душевным порывам, индеец говорил с пламенным воодушевлением, а молодой человек, явный европеец по происхождению, хранил молчание, оставаясь полностью безучастным. Они как бы поменялись местами, привычками и поведением. Воспитываясь у белых, индеец в некотором смысле «офранцузился», а белый, ведя первобытную жизнь лесных обитателей, стал похож на туземца. Один владел красноречием приемного родителя, другой сохранял сдержанность аборигенов[218] экваториальной зоны. Когда Жак сообщил, что знает европейцев из Сен-Лорана, какая-то тайная причина усугубила немоту молодого атлета, лишенную, впрочем, всякой холодности. Краснокожий, рассыпаясь в своей признательности, не придал этому значения. Оказанная ему услуга повелевала благодарному индейцу быть скромным и нелюбознательным. Если его благодетель не желал оказывать ему доверия, то, наверное, имел на это свои причины, и Жак не стал его расспрашивать. Они тронулись в путь. Незнакомец шел впереди легко и уверенно, демонстрируя сноровку в сложном и тяжелом передвижении в девственных лесах. Без колебаний выдерживал он верное направление, не испытывая потребности в зарубках на деревьях, как будто все уголки темного загадочного пространства давно были ему известны. Жак поражался силе, гибкости и уверенности невозмутимого спасителя, хотя и сам был настоящее дитя природы. Он не подозревал такой ловкости в человеке другой расы и без всякой зависти искренне восхищался спутником. Внезапно глухое рычание оборвало его речь. Он машинально потянулся к отсутствующему оружию и воскликнул, дрожа: — Тигр! Юный богатырь улыбнулся и продолжал путь, посвистывая. Могучий ягуар с великолепной шкурой, с горящими глазами и огромными клыками оскаленной пасти выпрыгнул, увидев пришельца, заурчал, как разомлевшая кошка, и подставил свой лоб для ласки, которая незамедлительно последовала. Окаменевший Жак с застывшей речью, пересохшими губами и расширенными от ужаса глазами не смел пошевелиться. Грозный хищник время от времени бросал на него взгляд, от которого бедняга стучал зубами и собирался распроститься с жизнью, несмотря на ободряющую улыбку таинственного благодетеля. — Спокойно, Кэти, — говорил юноша на незнакомом языке, — спокойно! Этот индеец — наш друг, ты его полюбишь, ты с ним подружишься! Кстати, — продолжил он по-креольски, — как тебя звать? — Жак, — с трудом выдавил тот. — Хорошо! Жак, друг мой, не бойся Кэти. Она добрая, как лань. Подойди, приласкай ее для начала! Несчастный механически протянул вспотевшую и судорожно сжатую руку. Ягуар, как хорошо воспитанное животное, наклонил голову, а затем повалился на спину и принялся кататься по траве. — Ну, вот видишь, она не желает тебе худого! Кэт бывает злой только с плохими людьми! Негромкие, но радостные голоса послышались впереди, за густой завесой лиан; ягуар ринулся в их направлении. За ним последовали молодой человек и индеец, слегка успокоенный, но еще не полностью оправившийся от потрясения, вызванного странной близостью нового друга с могучим хищником. Посреди беспорядочного нагромождения сломанных ветвей, поверженных стволов, срезанных лиан предстали неподвижные фигуры шестерых людей: пятерых белых и одного негра. Белолицые, одетые по образцу новоприбывшего, были вооружены луками, стрелами и большими мачете. Мужчина, который казался главным, выглядел лет на сорок пять. Бросалось в глаза разительное сходство его с юным спутником Жака. Черты лица, атлетическая фигура, и даже печальная и нежная улыбка… Но лицо старшего уже бороздили морщины, волосы поседели на висках, а борода и совсем побелела. Возле него держалось трое красивых молодых людей, один почти ребенок, лет тринадцати — четырнадцати, но с выправкой и статью взрослого. Двум другим было лет шестнадцать — восемнадцать. Удивительное сходство заставляло признать в них четверых братьев, и мужчина с отцовской нежностью взирал на свое потомство. Пятому было лет тридцать. С белокурой спутанной бородкой, с голубыми глазами и кирпичным румянцем на щеках, он обладал физиономией слегка лукавой, но открытой и симпатичной. Наконец, заключал эту группу старый негр со снежно-белыми волосами, курчавыми и всклокоченными, производивший странное впечатление своим добрым, сморщенным и блестящим лицом. Казалось, он достиг пределов старости, однако передвигался довольно бодро, невзирая на пораженную слоновой[219] болезнью правую ногу. Жак удивлялся все больше и больше. Его спутник быстро подошел к старшему, приложив палец к губам. Доносился лишь легкий шум от реки, где в какой-нибудь сотне метров каторжники прокладывали путь через древесные завалы. — Отец, — сказал по-английски молодой человек, — я привел индейца. Он кажется мне добрым и честным, но это необычный туземец. Не станем ли мы когда-нибудь раскаиваться, что оказали ему услугу? — Мой дорогой Анри, — тихо отвечал тот, — никогда не стоит жалеть о совершенном добром деле. Я хорошо знаю, что индейцы не грешат избытком признательности, но этот еще совсем юный! — Конечно, но он мне сказал, что его воспитали белые в Мане, что он лично знаком с тюремщиками из исправительной колонии… Ты слышишь, отец, из исправительной колонии! Проклятое место, из-за которого мы пролили столько слез, где ты так страдал! От одного названия мне становится не по себе. Этот индеец заявил, что мечтает повидать жену и своего благодетеля, приемного отца. Мы же не сможем держать его постоянно при себе. Он вернется к белым, кто помешает ему раскрыть секрет?! И вот уже под угрозой наша безопасность и тайна убежища. Поэтому я скрыл свое французское происхождение и нелегкое прошлое и сделал вид, что говорю только по-креольски, как все жители страны, чтобы он даже не заподозрил о наших отношениях с Францией. — Ты действовал сообразно условиям, мое милое дитя, и поступил очень предусмотрительно. Могу только одобрить проявленную тобой осторожность. Подождем. У этого молодого человека, конечно, найдется что рассказать интересного и важного… Хотя бы историю похищения… Или о мотивах, которые заставили этих проходимцев отправиться в неизведанную местность. Пока продолжим говорить между собой по-английски, чтобы не сболтнуть лишнего в его присутствии… Самая главная цель на сегодня достигнута. Дорога перегорожена, пленник освобожден. А поскольку незнакомцы питают, несомненно, дурные намерения, вышлем навстречу им резервы наших войск. Думаю, такого урока будет достаточно, чтобы они убрались подальше и чтобы их здесь не видели… Казимир, — обратился глава семейства к старому негру, — час пробил, мой друг, приступай к тому, о чем мы с тобой договорились. Добряк радостно засуетился, припадая на ногу-пьедестал: — Будет сделано! Я напущу на чужаков всех своих зверей! Это злые люди. Только пусть маленький муше Шарль пойдет со мной! Самый юный из сыновей приблизился к отцу. — Ты согласен, папа, чтобы я сопровождал Казимира? — Разумеется, дорогой Шарль! Он воспитал из тебя вполне приличного заклинателя змей, и я не стану мешать тебе использовать свой талант! Старик и мальчик вооружились длинными индейскими флейтами из бамбука и отправились в северо-западном направлении. Тем временем мужчина с белокурой бородкой, доселе молчавший, но не пропустивший ни слова из беседы Анри с отцом, вступил в разговор: — Вам известно, месье Робен, что я человек не жестокий и зрелище крови производит на меня отталкивающее впечатление. — Конечно, милый Никола, я знаю, что ты самый лучший парень в мире и что для тебя главный вопрос совести — никого не притеснять и не мучить… Но к чему ты клонишь? — А вот к чему. Эти субъекты — самые отъявленные негодяи среди самых гнусных мерзавцев, для которых высокочтимая Гвиана является приемной родиной… вынужденной родиной. Их шкура не стоит ломаного гроша. На вашем месте я поступил бы иначе. Анри и его братья в стрельбе из лука превзошли индейцев. И я бы скомандовал ребятам прошить бока каждого проходимца хорошей двухметровой стрелой… Видите ли, патрон, мертва змея — мертво и жало… Не вижу другого выхода. — В общем, ты прав, Никола. Но я решительный противник насильственных средств, за исключением, разумеется, случаев законной самообороны. Человеческая жизнь настолько священна, что ее следует уважать даже в самом низком существе. Всегда нужно оставить виновному время на раскаяние, шанс для исправления. Вся моя деятельность была посвящена этому принципу, любви к людям. Мне не подобает роль верховного судьи, я всего лишь поборник справедливости. Мое желание — убеждать, а не наказывать. Каким бы жалким ни был человек, он способен раскаяться. Не хотелось бы обагрять этот уголок Франции, созданный нашими усилиями, хотя бы каплей крови… Ты говоришь, что у пришельцев дурные намерения? Очень может быть! А не окажется ли страх, вызванный внезапным падением деревьев, достаточным, чтобы остановить их безумие? Или эти таинственные стрелы, поражающие их в момент высадки? А грозная армия Казимира, неужели даже она не заставит их навсегда отказаться от своих планов?.. Вот! Слышишь звуки флейт наших заклинателей?.. Через несколько минут эти авантюристы обратятся в бегство и вынуждены будут убраться восвояси… Что скажешь? — Вы правы, как всегда, но в данном случае боюсь, не возникло бы осложнений в дальнейшем… — Дорогой! Чем они опасны в будущем? Им неизвестно, сколько нас, кто мы такие… Окружающая нас тайна защищает лучше, чем прямая атака на непрошеных гостей, а могущество средств, которые мы способны применить, убедительно покажет всю бесполезность их притязаний. Они поверят, что перед ними могучее племя, не расположенное терпеть любого вторжения на свою территорию. Необычность наших методов защиты породит легенду, она распространится вокруг, обрастет новыми подробностями и сослужит нам гораздо лучшую службу, чем целый военный корпус. Дуэт флейт, звучавший сперва в отдалении, постепенно приближался. Через просветы в зеленой баррикаде европейцы и краснокожий могли наблюдать грозную флотилию, медленно плывущую по течению. Удары мачете и топора прекратились. До них донеслись вопли бандитов, бежавших в страхе перед змеиной армадой[220]. Видно было, как они расселись по местам, как лихорадочно схватились за весла, а потом повернули к затопленной саванне. — Вот видишь, — заметил Робен, — все произошло, как задумано. Надеюсь, мы теперь надолго застрахованы от новых набегов, если только гости не вернутся через внутренние земли, что маловероятно. В противном случае им доведется брать крепость приступом и изгонять оттуда гарнизон Казимира и Шарля. Ну, а теперь расспросим нашего индейца… Он, я вижу, сгорает от нетерпения рассказать о своих приключениях, благодаря которым очутился на заповедной территории гвианских робинзонов… Жак не заставил себя просить и сообщил все, что было ему известно о похитителях. Откровенность его не вызывала сомнений. Юноша поведал историю своей жизни с того дня, когда доктор В. усыновил его, и до той минуты, когда ему удался побег с водопада. Он не утаил, что ему известна тайна золота, которую он собирался раскрыть своему благодетелю. Каторжники подслушали его беседу с воспитателем и начальником тюрьмы, потом напали ночью и захватили в плен. Его отвезли на голландский берег Марони и отдали в руки человеку, еще более жестокому, чем сами похитители. Этот головорез и стал душой всего предприятия, сообщники повинуются ему беспрекословно. Робен долго и подробно расспрашивал индейца о вожаке бандитов, однако сведения были самые скудные. Редко наезжая в Сен-Лоран, Жак ничего не знал ни о прежней деятельности стражника, ни об изгнании Бенуа из корпуса надзирателей. Он считал его беглым каторжником, поддерживавшим связи с такими же мерзавцами. — А его имя? — настаивал Робен. — Ведь обращались же как-то к нему участники шайки? — Они называли его только «шеф», не иначе. — Гм… «Шеф» — это обычно для надзирателей. — Я не знаю, — с сожалением признался индеец. — Другого имени никто не употреблял. — А впрочем, не имеет значения! Конечно, это какой-нибудь сбежавший заключенный. Послушай, Жак, ты уже понял, как дорого обходится нарушение клятвы. Ты раскрыл, хотя из самых добрых побуждений, важный секрет, который обязался хранить. И видишь, что вышло… Золото счастья не приносит! — О да! Конечно! — с готовностью согласился молодой человек, в памяти которого мгновенно всплыли пережитые ужасы. — Тайна золота смертельна! И я говорил об этом приемному отцу… Но моя любовь так сильна… Он такой добрый… — Я понимаю, и глубокая благодарность, которую ты хотел таким образом засвидетельствовать, извиняла бы твой поступок, если нарушение клятвы вообще простительно. Но послушай меня, будь более сдержан в будущем и никогда не выбалтывай доверенной тайны. Мы вырвали тебя из лап этих палачей. Ты волен вернуться к родным. Но можешь остаться с нами, если захочешь. Очень серьезная причина заставила нас вот уже долгое время скрываться здесь. Никто не должен знать, кто мы такие и где живем. Указав на молодых людей, стоявших рядом, Робен добавил: — Вот мои дети. Ты скоро познакомишься с их матерью. А этого парня зовут Никола, он — мой приемный сын. Что касается старика негра, то я люблю его, как родного отца. Растроганный индеец жадно слушал эти слова, звучавшие с неповторимым оттенком благородства. — Мы — не злоумышленники, и в нашей добровольной изоляции нет ничего предосудительного. Поклянись жизнью своего приемного отца, поклянись жизнью своей жены, с которыми ты увидишься благодаря нам, что никогда не раскроешь ни одному человеческому существу нашу тайну. Жак, казалось, на мгновение заколебался, но затем сжал руку Робена и торжественно произнес: — Пусть мой благодетель в одну минуту испустит дух, пусть похитит смерть мою любимую Алему, жемчужину арамишо, пусть Йолок (черт) меня возьмет, если когда-нибудь из моего рта вырвется тайна вашей жизни, вашего уединения. Я поклялся! Дух моих богов — свидетель! — Ну хорошо, я воздаю должное твоим словам, верю тебе. Мои дорогие дети, нам здесь больше нечего делать. Теперь — в путь, к «Доброй Матушке»! Ягуар лениво потянулся, возглавил походную колонну, и гвианские робинзоны, забрав оружие, индейской цепочкой углубились в девственный лес в сопровождении молодого новобранца. Прервем ненадолго наш рассказ, чтобы освежить в памяти читателей предшествующие события. Вы помните, каким образом политический ссыльный Робен, парижанин Никола и негр Казимир десять лет назад оградили открытый участок местности возле Бухты кокосовых пальм. Зажатый с обеих сторон болотистой топью с одной узенькой тропинкой, он представлял собой единственный проход от реки к обиталищу «Добрая Матушка». Трое мужчин обсадили его различными растениями, которые за это время бурно разрослись. Кактусы, молочай[221], агавы[222], алоэ[223] превратились в настоящий бастион[224] шириной в сотню метров и длиной более двухсот. Огонь и металл были бессильны перед этим могучим сплетением ветвей, стволов и стеблей с огромными, плотными, тяжелыми листьями, с множеством острых, безжалостных колючек, под которыми нашло себе приют несметное скопище самых разнообразных змей. Из усадьбы, расположенной на склоне и укрытой деревьями, можно было видеть водопад благодаря узкому просвету, проделанному в зеленой стене и совершенно незаметному для постороннего глаза. Поскольку проникнуть на территорию робинзонов можно было лишь со стороны бухты, они позаботились о безопасности уязвимого места и вели за ним тщательное наблюдение. Нельзя было вышеописанным способом защитить и пространство между водопадом и Бухтой кокосовых пальм. Крупные растения не приживались на вязкой, заболоченной почве. В первые годы русло реки перегораживали набросанными деревьями. Они сгнивали более или менее быстро, тогда их заменяли новыми. Незадолго до той поры, когда развертывается вторая часть нашей драмы, каторжник и его сыновья стали валить деревья новым способом, избавлявшим от лишнего труда: разводили костры у их оснований, которые постепенно перегорали вместе с пылавшими угольями. Довольно часто стволы, сцепленные вершинами, крепко скованные лианами, не падали на землю даже при полном разрушении основания, а стояли обугленные, сохранявшие равновесие благодаря соседним деревьям. Поскольку эта часть территории со всех сторон была надежно защищена от ветра, то они долго держались в таком положении, постепенно высыхая. Достаточно было в случае необходимости перерезать поддерживавшие их лианы, словно снасти, крепящие мачты на судне, чтобы обрушить их на землю, увлекая соседние деревья. Что и произошло в одно прекрасное утро, когда Анри, проснувшись первым, зоркими глазами лесного жителя углядел стоянку беглых каторжников с большим треножником на скалах, перекрывавших реку. Состоялся совет, и молодого человека послали на разведку. Обладая изумительной ловкостью, так потрясшей воображение Жака, изощренный во всех тонкостях лесной жизни туземцев, он проскользнул через лианы и заросли, приблизился к лагерю настолько, что мог наблюдать ужасное обращение с пленным и даже умудрился уловить обрывки разговора. После его возвращения было решено немедленно перегородить дорогу бандитам, а индейца освободить любой ценой. Все обитатели маленькой колонии, за исключением, разумеется, мадам Робен, спешно прибыли к реке. Время подгоняло, бандиты могли ускользнуть. Перерубить несколькими ударами мачете лианы, удерживавшие первое мертвое дерево, было несложно. Затем, когда миновала вспышка удивления, вызванная этим падением, и каторжники все же решили продолжать путь, семеро мужчин повторили операцию и обрушили в реку целую шеренгу лесных гигантов. Однако ничто не действовало на слепое упрямство авантюристов. И Казимир предложил выслать им навстречу свой «экспедиционный корпус», о котором нам уже известно. Напомню читателю, что река делала очень резкий поворот в районе Кокосовой бухты, так что укрепление из зеленой массы расположилось перпендикулярно к ней. Всю ночь изготовляли плоты из листьев муку-муку, которые поставили впритык с логовищем змей. Старый негр щедро использовал при этом особую траву, притягивавшую рептилий, словно валерьянка — кошек. Когда все было готово, сооружение пустили по течению, и заклинатель в сопровождении своего любимого ученика Шарля привлек змеиное воинство музыкой, причем вплавь пустились даже такие огромные змеи, которых не могли выдержать листья муку-муку. Грозная флотилия начала свое шествие подобно шотландским полкам, впереди которых выступает музыкант с волынкой[225]. Мы уже наблюдали панику среди авантюристов, произведенную этим «военным резервом»… А теперь продолжим наше повествование. Отряд продвигался быстро, хотя в лесу не было даже намека на след проторенной тропинки. Это значит, все владели редкой способностью (обрести ее весьма трудно) к преодолению мрачных дебрей экваториального леса. Передвижение в тропической флоре скорее похоже на гимнастику. Путник должен обладать железным организмом. Сама по себе ходьба в девственных зарослях — дело последнее. Мало быть первоклассным ходоком, надо уметь перепрыгнуть через широкий ручей, вскарабкаться на поваленный ствол, обойти заросли опасных колючек, продырявить плотный занавес из лиан, проползти под низко расположенными ветвями, перескочить через огромные корневища, избежать коварной трясины, а когда ваш путь уныло упрется в зеленую ловушку, в непреодолимый тупик из сплошных переплетений, то вам предстоит упорная и монотонная работа мачете — на часы, а то и на целые дни, доводящая до изнурения, до болезненной ломоты в руках и во всем теле. К этой непомерной телесной усталости, удесятеренной температурой плавильной печи, добавится ужасная тревога. Правильно ли выдержано направление? Не пропадут ли впустую огромные усилия? Каков будет итог адского труда? Стоит растеряться, упасть, сделать незаметный для себя поворот — и несчастный, не имея возможности наблюдать солнце сквозь густой зеленый купол, побредет вслепую, возвращаясь по собственным следам, бесконечно закружит на одном месте и, наконец, поймет, что заблудился окончательно и бесповоротно. Если не случится чуда, счастливой встречи с охотником-индейцем или золотодобытчиком, то это — верная смерть! Смерть более или менее быстрая, с мрачным эскортом хищников, насекомых и пресмыкающихся, с отдаленным и близким рычанием, жужжанием, шипением, которые сливаются в похоронный звон под огромным куполом и достигают ушей погибающего человека в его последний час. Хорошо, если он набредет на маленькую речушку и силы позволят ему спуститься по ней до главного притока, до большой реки. Это огромная удача! Но только, если хватит продуктов, если не замучает лихорадка, если не разверзнется под ногами гиблая незримая трясина… Вот тогда, быть может, у него появится шанс вырваться из своей трагической обреченности. Без продуктов он рискует гораздо раньше погибнуть от голода, который безраздельно царит на этих лесных просторах, поражающих своим внешним великолепием, но абсолютно бесплодных для человека. Без опасений могут перемещаться в этих гнетущих дебрях только индейцы да чрезвычайно редко белые, долго и трудно изучавшие тайны девственного леса. При отсутствии видимых примет, опознавательных знаков, руководствуясь лишь каким-то инстинктом угадывания, они пойдут прямо к цели, без малейших отклонений, подобно бретонским рыбакам или малайским лоцманам[226] с их «двойным зрением», присущим морякам и разведчикам. К подобным белым относились и робинзоны. Они вели за собой индейца с такой точностью и быстротой, которых он не мог предполагать у представителей другой расы. Невольное восхищение вызывали люди, казавшиеся вначале несведущими. — О, эти белые!.. О!.. — повторял он. Иные чувства овладели им, когда он вступил на просторную светлую поляну, где возвышался дом его новых друзей. Ему доводилось бывать в больших индейских деревнях с многочисленными хижинами, вместительными, хорошо оборудованными, где имелось все необходимое для скромной жизни детей природы. Некоторые жилища выглядели даже относительно роскошно, и казалось, они не уступают домам белых в Сен-Лоране или Мане. Но европейцы обладали неведомыми для индейцев средствами и возможностями. У них трудились опытные, умелые рабочие, было привлечено много специалистов, в их распоряжении находились различные инструменты, а корабли доставляли из Франции предметы, которые не изготавливала креольская промышленность. Тогда как наши герои, искусные робинзоны, чьи руки создавали этот уют и богатство, вынуждены были производить самое необходимое из простых материалов природы, обработанных и приспособленных для определенной цели. Что касается плантаций, то Жак, специалист по тропическому сельскому хозяйству, от удивления перешел к восторгу. В самом деле, его соплеменники, ленивые и сонные, принимались за работу только подгоняемые голодом. Большую часть времени они проводят в гамаке, ожидая, когда женщины приготовят пищу, или же переваривая ее. Принять участие в подготовке трапезы мешает им леность. Кое-как они управляются с раскорчевкой участков и севом. Когда валят деревья, остаются пни метровой высоты. Сожгут ветки, побросают в землю зерна, воткнут корешки — и больше не хотят шевельнуть пальцем. Земля щетинится пнями, подобно каменным столбикам на британских полях, стволы валяются повсюду среди пищевых культур, которые растут тем не менее как на дрожжах, настолько щедра и плодородна эта благословенная страна. Плантации колонистов явили изумленному Жаку зрелище, о котором он не смел мечтать. Прежде всего сам жилой дом и многочисленные пристройки к нему находились на идеально расчищенном участке, где не было ни единой лишней травинки. Не только гигантский паук, но и скорпион или большой муравей не смогли бы незаметно пересечь эту поверхность, гладкую, словно паркет. Первое и неоценимое преимущество, значение которого он немедленно уловил. Затем его взору предстали отягощенные плодами чудесные деревья на широких плантациях; они тянулись стройными рядами, образуя просторные аллеи, тщательно ухоженные, открывающие легкий доступ к самым удаленным уголкам великолепного фруктового сада. Ни одного чурбака или обгоревшего пня во всем богатом хозяйстве колонистов! — О!.. Ну, эти белые… О!.. — повторял Жак без конца, пораженный увиденным, сравнивая его мысленно с индейскими поселениями. Бедняга вспомнил, как, добывая связку бананов, можно запросто сломать себе шею, а извлекая батат[227] из земли, все руки поранишь об острые края и колючки сорняков, мощным слоем прикрывших культурные растения. А здесь воздух и свет гуляют повсюду… Деревья заботливо ухожены, им не тесно в своих аллеях, и они пышно разрослись. Достаточно протянуть руку, чтобы сорвать роскошные плоды, такие приятные на вид, такие аппетитные на вкус. Гвианские робинзоны, привыкшие к чудесам своего Эдема[228], наслаждались изумлением гостя, и эта невинная радость соединялась с гордым чувством законного хозяйского удовлетворения. Но, поскольку восхищение не мешало природе заявлять о своих естественных желаниях, поскольку ели они в последний раз давно, то Никола объявил во всеуслышание, что он «чертовски проголодался», и все его дружно поддержали. Друзья гуськом прошли на большую веранду, окаймлявшую северный фасад дома, и индеец, чей восторг все более возрастал, ступил на нее следом за своим освободителем Анри. В то же мгновение в большом темном проеме главного входа появилась женщина. Лицо ее озаряла радостная улыбка, она протягивала к вошедшим руки, и во взгляде ее читалась огромная, бесконечная нежность. — Мама! — воскликнул юноша. — Я привел к тебе нового робинзона! — Милости прошу, — мягко сказала женщина гостю, который, сгорая от смущения, стыдясь своей дикой полунаготы, опустил глаза и, кажется, готов был провалиться сквозь землю. — Да ну же, мой приятель Жак, — бросил Эжен, семнадцатилетний проказник, — не будь ребенком! Идем со мной. Я дам тебе что-нибудь из моей одежды. Она тебе точно подойдет, как на руку перчатка. Ты не знаешь, что такое перчатки, не правда ли? Не беда! Я и сам почти забыл о них. Уже десять лет не ношу. Но это пустяки! Ты будешь выглядеть отлично! Анри обещал тебя одеть, но в его куртку влезут двое таких, как ты. Не обижайся, месье! Мой брат такой здоровяк! Настоящий верзила. А я худенький, как ты. Эжен возводил на себя напраслину: трудно было представить более красивую и гармоничную юношескую фигуру. Сила и изящество движений сливались в ней воедино. Он исчез ненадолго вместе с Жаком, а Эдмон рассказал матери о событиях дня во всех подробностях. Эдмон блаженствовал, потому что обожал Анри и с наслаждением описывал его подвиги, однако не умалял при этом заслуг других братьев. Радость переполняла его сердце. Счастливая мадам Робен внимала сыну, восхищенная почти неимоверными приключениями, изложенными с юмором и яркими подробностями, отчего интерес ее к происшествию возрастал. Вернулся Жак. Облаченный под стать остальным робинзонам, он действительно выглядел очень привлекательно в новом наряде. Наступил час обеда, все отправились к столу, оживленно беседуя. Обильная трапеза происходила в большом зале, открытом с обеих сторон и обдуваемом порывами легкого ветерка. Веселая компания шумно воздавала должное мастерству кулинаров. Индеец не переставал удивляться. Все поражало его в этом странном доме. Не только сами хозяева, но и меблировка, обслуживание, кухня… И этот ягуар, свободно бродивший между ног, хватая на лету кости, которые деликатно разгрызал с ужимками вороватой кошки… Доставались ему и щедрая ласка, но и легкие щелчки, когда он вознамерился оттолкнуть большого муравьеда[229], тоже ласкового, но неловкого в своих проявлениях чувств. А тут еще эти обезьяны со своими гримасами, чьи ловкие черные лапки доставали до середины стола, с проворством фокусника ухватывая какой-то фрукт или ягоду; и поросята с рыжей щетинистой шерстью, чьи пятачки так комично морщились в ожидании поживы; и целые стаи птиц-трубачей[230], гокко, куропаток, попугаев ара… Пернатые и четвероногие уживались в полном согласии. Уморительно было наблюдать, как муравьед, добряк Мишо, изо всех сил старается запустить свой круглый «стреляющий» язык в глубину тарелки, где наталкивается на ловкое и бесцеремонное рыльце какого-нибудь поросенка, выталкивающего оттуда остатки еды. Смелые трубачи вытягивали свои длинные клювы на еще более длинных шеях поверх этого месива лап и жадных морд, перехватывая какой-нибудь кусок у своих подружек гокко, в силу непреодоленной боязливости бродивших чуть поодаль… Хотя туземцы часто по-дружески общаются с лесными животными, которых одомашнивают благодаря своему бесконечному терпению, Жак никогда не видел ничего похожего на эту поразительную картину. Что касается яств, то они в общем были ему знакомы, только удивляли приправы и способ приготовления. Сервировка европейская, на блюдах и в тарелках изящной формы, хотя сделанных из грубой глины. Приборы состояли из вилок, ложек, ножей. Туземец умел обращаться с ними и с огромным аппетитом поглощал изысканную пищу цивилизованной кухни. Индеец, однако, впал в задумчивость при виде жареного куска мяса — необычайно нежного, свежего, сочного, как бы тающего во рту. Оно было тончайшего вкуса, но показалось ему слишком непривычным. Никола, его сосед по столу, попытался объяснить. Парижанин, совершенно неспособный к изучению языков, благодаря своей настойчивости и дружбе с Казимиром довольно свободно говорил по-креольски. Но вместо того, чтобы четко выразить мысль и строить фразы, как это делают местные жители, он пользовался словесной окрошкой, перемешивая туземную речь с оборотами и словечками из городского жаргона. Смесь парижского с языком тропической Гвианы бывала иногда непередаваемо комичной. — Да, я знаю, что вас удивляет. У мяса странный вкус, но это же бифштекс. — Нет, — наивно возразил Жак, — гокко! — Ну да, мы оба правы. Это бифштекс из гокко, с добавкой масла и перца. У вас есть перец, но используется только в стручках. Мы же, робинзоны, растираем его в ступке, затем деликатно посыпаем жареное мясо, и тогда оно становится бон-бон. Кроме того, мы используем соль… — О! Соль! — вырвалось у гостя, и глаза его округлились от вожделения. — Наша соль не очень-то хороша. Мы извлекаем ее из золы пальмы парипу… Сжигаем древесину, промываем пепел, потом выпариваем воду, получается щелочная соль. Но Эдмон вам лучше объяснит весь процесс, он очень хорошо знает химию. А я могу только сказать, что мы пользуемся ею за неимением лучшей. Ну, и дальше… Поскольку бифштекс жарится, необходима хорошая порция свежего масла… — А это что за зверь?.. — Ну, что-то вроде топленого свиного жира, оно растет здесь прямо на деревьях! — Я не знал. Свиной жир привозят вбелых железных коробках. — Это просто удивительно, господа индейцы, — с видимым удовольствием выговорил парижанин, — до чего же плохо вы знаете возможности собственной страны! — Погоди, Никола, — вмешался в разговор Анри, — поубавь свой пыл! Тебе нравится ошеломлять нашего гостя, но ты сам окажешься в затруднении, если тебя заставить сказать на латинском название и семейство этого «масляного дерева», которое наш друг скорее всего знает так же хорошо, но только под другим именем! — Ты полагаешь?.. — спросил парижанин, торжествуя. — Ну ладно же! Мой дорогой Анри, ты глубоко заблуждаешься! Я вовремя прикрепил подковки с шипами и не растянусь на льду! Эти давние выражения так кстати приходят на ум! Но сколько лет я не видел, как фиакры шлепаются набок в гололедицу! Короче, растительное масло производится из бамбука, из какао, из сои, а еще — из дерева bassia… — Невероятно! — воскликнули хором робинзоны, потрясенные и очарованные. — Да. Bassia-Bu… ty… ra… ca. О, Боже, до чего тяжко выговаривать эти слова! Клещами из глотки выдираешь. Это дерево еще называется галамское масло. Родина растения — Индия, в здешних краях появилось давно. Вам известно, как и мне, что масло добывают из его молоденьких зерен. А потом — кап-кап в бифштекс гокко, и мясо становится бон-бон, — добавил он, хитро сощурившись. — Браво! Браво! — вскричали четверо братьев и их отец. — Но откуда ты все это узнал? Когда? — Из книг, мои друзья, из книг. Вы спрашиваете, когда? Понемногу ежедневно, а точнее — еженощно. Я изучил большую энциклопедию, которую вы написали коллективно под руководством самого лучшего учителя — вашего отца. Ну, что здесь удивительного? Я всегда сожалел о своем невежестве, стыдился его. В Париже я посещал какое-то время курсы для взрослых, подбирал объедки знаний по вечерам. А здесь в первое время хватало работы! Вы были еще совсем маленькие. Учить уроки вместе с вами не пришлось, недоставало времени. Засыпал вечером как убитый. Но впоследствии приложил усилия, чтобы наверстать упущенное. Не хотел ничего говорить, но я внимательно читал ваши прекрасные рукописи на бумаге из коры маго[231], на этой самоделке… Вы стали моей вечерней школой! Взволнованный Робен чувствовал, что слезы выступают у него на глазах. Его могучая натура, замешанная на нежности и страдании, отличалась крайней тонкостью и деликатностью. А потом как взрослый мужчина он лучше детей понимал, сколько отчаянных усилий понадобилось тридцатилетнему школьнику, чтобы безо всякой предварительной подготовки, молча, тайком усваивать трудную науку, не имея к ней никакого ключа. Парижанин тоже принадлежал к доблестной плеяде искусных мастеровых, обуреваемых жаждой знания, которые после тяжкого труда ради хлеба насущного находят еще время и силы учиться и становятся по-настоящему мыслящими людьми. Политический ссыльный глубоко уважал честных тружеников. Как все чувствительные натуры, он их любил, восхищался и отдавал должное героическим усилиям тех, кто, будучи обделен судьбой в детстве, проявлял непреклонную волю, заставляя капитулировать перед собой труднодоступную сокровищницу знаний. Вот почему с некоторым налетом торжественности, исполненный сердечного почтения, Робен поднялся со своего места, крепко пожал руку Никола и произнес: — Спасибо!.. Спасибо от меня, твоего учителя, хотя я даже не знал об этом, но особенно — от всех честных работников, чью силу духа и мужественную самоотверженность ты так достойно представляешь! Славный парень что-то смущенно забормотал, залившись румянцем от похвалы, значение которой вполне оценил. Молодые люди, гордые своим другом, умножили комплименты отца… Это был взрыв общей искренней радости, которая с лихвой окупила парижанину его труды и ночные бдения. — Но послушай, — продолжал Анри, — ты сказал, что изучал наши рукописи по ночам… По-моему, ты слегка перебрал. Выходит, тебе вообще случалось обходиться без сна?.. — Подумаешь! Я устраивал передышку днем. И притом ночи такие длинные. Научился экономно использовать свечи; пополнял их запас, обчищая растение, которое называл свечным деревом. Вы не можете вообразить испытанную мною радость, когда я узнал его настоящее название; мы так часто срывали с него крупные ягоды, размером с пулю большого калибра. Пятую часть их веса составляет прекрасный желтый воск. Ну вот, это дерево — cirier ocuba. Как сейчас вижу название, написанное Эженом, там еще было много помарок. — Но, значит, эта мысль пришла тебе в голову случайно, внезапно? — поинтересовался Робен. — О! Уже довольно давно. Я был так наивен, полагая, что все нужные предметы можно найти на растущих здесь деревьях, не зная, что большинство из них завезено издалека. А потом как-то, в канун сезона дождей, я услышал, что вам никогда не встречался учебник ботаники с описанием такого важного разграничения. Местные и завезенные сюда растения — вот что я намотал себе на ус! А когда вы затеяли с детьми эту большую работу, я зажегся идеей, о которой только что говорил. — Замечательно, мой дорогой Никола! И ты действительно помнишь все эти вычурные названия?.. — Как «Отче наш»… Находясь у себя дома, робинзоны нередко развлекались состязанием в ботанике, и сыпался настоящий фейерверк вопросов и ответов, которые строго контролировал инженер, непререкаемый арбитр в любых спорах. — Манговое дерево! — крикнул Шарль. — Кто ответит первый?.. — Mangifera indica, судя по названию, из Индии, — подхватил Эжен. — Манго — это хорошая пища, если привыкнуть к его необычному вкусу. — Гвоздичное дерево! Эта культура когда-то сделала Гвиану процветающей… — Caryophyllus aromaticus, ее привез с Молуккских[232] островов Индонезии губернатор Иль-де-Франс месье Пуавр в тысяча семьсот восьмидесятом году… — А ты помнишь, Никола, свою растерянность, когда впервые услыхал о мыльном дереве? — Sapindus saponaria, — не колеблясь, отпарировал парижанин. — Дерево родом из Панамы, кора обладает мыльными свойствами, дает обильную пену, также и ягоды, зерна которых используют для ожерелий… Но это что, вы не можете вообразить мое потрясение, когда я услышал название этого приятного горьковатого варенья, которое мы сейчас едим. — A!.. Carambolier! — Сознайтесь, что в этом словечке есть шум и запах веселого кабачка, и оно вовсе не отличается барочной вычурностью, как говорит наш учитель… А ведь у этого растения есть еще и латинское имя… — Averrhoa carambola. Тоже родом из Индии. — А еще коричное дерево, cinnamomum lauracoea, уроженец Цейлона. — Раз уж мы забрались так далеко, вспомним мускат, muscadier, с Молуккских островов… — Еще одно из моих потрясений. Я проходил мимо красивого растения, даже не подозревая о его названии. Да и мог ли я предположить, что этот маленький орешек, который во Франции кладут в бокалы с вином, сперва облекается в плотную сухую оболочку, потом ветвится, словно коралл, а потом все это замыкается внутри плода, похожего на большой абрикос! А вот, дорогие друзья, моя совершенно непростительная ошибка: хлебные деревья! Припоминаете мое горькое разочарование новоиспеченного робинзона, когда я познакомился с бразильским деревом jacquier и узнал, что хлебное дерево igname (artocarpus incisa) происходит из Океании, как и его собрат artocarpus seminifer. Какая же это поразительная вещь — учение! Нет ничего прекрасней науки! Что касается бананового дерева, bananier, то мне безразлично, из Индии оно родом или нет. Это чудесные плоды, но я их терпеть не могу. Кстати, вспоминаю смешной эпизод. Где-то вычитал, что креолы лениво раскачивались в своих гамаках, подвешенных к веткам банана! — Да быть такого не может! Ты смеешься! — Вовсе нет, это написано в какой-то книжке самого Шатобриана![233] Интересно знать, где он видел бананы с ветками! Ученые рассуждения продолжались еще долго. Индеец, который невольно дал толчок словесному каскаду этого краткого курса тропической ботаники, слушал молча, многого не понимая, однако не терял интереса к беседе. Казимир радовался от души, посмеиваясь добрым негритянским смехом, потому что бесконечно любил «своих мальчиков» и с наслаждением взирал на оживленных счастливых детей. Они вошли в азарт и не прекращали «викторину», пока не исчерпали запаса познаний и пока не устали прибегать к эрудиции отца. Отвлечемся от их разговора и скажем несколько слов о перечном дереве, poivrier, родом из Индии, о драцене[234], dragonnier, из которой вырабатывают отличную красную смолу, камедь, известную еще под названием «Кровь Дракона»; упомянем еще тамариндовое дерево[235], африканскую ауару, океаническую кокосовую пальму, яблони pommier-rosa и pommier-cythere и особенно кофейное дерево, caféier, чтобы затем перейти к краткому перечню плодовых деревьев сугубо гвианского происхождения. Мы увидим, что благодатная земля с ее избыточной щедростью, такая гостеприимная ко всем растениям теплых краев, достаточно скупа на собственное производство; рожденные на этой почве фруктовые деревья со съедобными плодами можно перечесть по пальцам. Не только фрукты, но даже овощи: капусту, салат, сельдерей, морковь, репу, огурцы, дыни, картофель и проч. надо было сюда ввозить, так же как и маис[236], сорго[237], просо, уж не говоря о несравненном сахарном тростнике. В виде скромной компенсации — небольшое количество фруктов, которые (за исключением ананаса) столь же малоприятны на вкус, сколь и бедны питательными веществами, но которыми приходится довольствоваться лишь потому, что пересохший рот забыл о нежном вкусе европейских плодов. Яблоки pomme-cannelle, barbadine, caïmitte — не более чем скопление зернышек, склеенных растительной слизью и заключенных в губчатой мякоти; sapotille — перезрелая и безвкусная груша; goyave, с ее мелкими дольками, как правило, очень червивая; что касается corossol, maritambou, corison, то это уже вполне изысканные фрукты, хотя их приходится разгрызать с большим усилием. Но колонисты и ученые-естественники многое прощают Гвиане благодаря сказочному гостеприимству, которое она оказывает самым различным растениям, и еще потому, что она породила не только ямс, маниоку и батат, но и какао[238]. Впоследствии мы убедимся, что робинзонам удалось приготовить отличный шоколад, для чего они с самого начала проредили найденную в саду плантацию, какао, которая, давно заброшенная и предоставленная себе самой, превратилась в настоящий девственный лес. Употребление шоколада не нанесло, впрочем, никакого ущерба популярности кофе. А в «Доброй Матушке» он был исключительный и мог соперничать с самим mentagne-d’argent, «гвоздем» гвианского рынка, не уступающим подлинным мокко и Rio-Nunez[239]. Закончив трапезу, Никола дружески протянул Жаку сигарету, а сам закурил самодельную «трубочку» из маго. — Эй! Да что это с тобой стряслось? — спросил парижанин, увидев, как вздрогнул, а затем вскочил со своего места индеец при виде вошедшей мадам Робен. — О! — растерянно воскликнул тот, указывая дрожащей рукой на кофейник, принесенный женщиной. — Золото! — Конечно. Кофейник из первоклассного, массивного золота. Безо всяких примесей. Это не штамповка… Стоит три тысячи франков за килограмм, не меньше. В нем получается очень вкусный кофе! Жак пребывал в неописуемом волнении. Его зубы выстукивали дробь, по лбу струился пот, грудь неровно вздымалась. — Вы… знаете… секрет золота! — с трудом выговорил он. — Ну, это секрет Полишинеля…[240] Попросту мы нашли во время прогулок несколько кусков кварца[241] с вкраплениями золота… Измельчили их сперва, а потом расплавили в нашей печи. Я приготовил форму, а месье Робен отлил кофейник, который мадам с удовольствием приняла в свое хозяйство. У нас есть и другие предметы, изготовленные таким же способом… Некоторые орудия производства… Драгоценного металла здесь предостаточно, никого это не волнует. Он для нас не более важен, чем яблоки — для рыбы… Ах! Если бы это было железо или сталь! Видишь ли, дружище, сто граммов стали нам изготовить труднее, чем сотню килограммов отборного золота! — О! Мои дорогие друзья! Мои спасители! Умоляю вас: берегитесь! Тайна золота грозит смертью тем, кто в нее посвящен!
ГЛАВА 4
Ненависть. — Золотые горы. — «Пиэй». — «Бессмысленные мушки». — Похоронный ритуал. — Аборигены и медицина. — Возведение в сан. — Блаженная отрава. — Последние арамишо. — Золотая пуля.— Я знаю этого типа, — пробормотал Бенуа, старательно прячась в густой зелени горного склона, на котором он рассчитывал обнаружить заветное Эльдорадо. Он узнал Робена, и забытая ненависть вспыхнула в злобной душе с новой силой. При виде каторжника, который свободно разгуливал по плантации, словно какой-нибудь землевладелец из Боюса[242], обозревающий свое пшеничное поле, бывший надзиратель готов был лопнуть от ярости. Его неутоленное злопамятство и ненасытная алчность обмануты дважды! Он так давно лелеял в своем сознании милую картину, как его давнюю жертву заживо погребла бездонная трясина или до косточек объели муравьи после малярийной агонии или голодного беспамятства! Потрясение было тем сильнее, что он увидел Робена живым и невредимым, почти не постаревшим, а, наоборот, посвежевшим, довольным своим урожаем. В довершение пренеприятнейшего сюрприза Робен хозяйничал на территории, где авантюрист рассчитывал обнаружить залежи драгоценного металла, перед которыми померкли бы австралийские и калифорнийские месторождения! Какое разочарование! Уповать на золотые россыпи, а натолкнуться на фруктовые плоды! Искать самородки, а найти батат! Десять лет тешиться мыслью, что от ненавистного человека остался один скелет, и вдруг увидеть его воскресшим, да к тому же — счастливым владельцем этих райских угодий! Может, это просто мираж, какой-то кошмар, дьявольское наваждение? Где там! Перед ним живой Робен, убежавший из исправительной колонии, один из тех «политических», чье независимое и гордое поведение причиняло столько неприятностей низшему лагерному начальству, один из тех каторжников-мучеников, что носили на гордом челе печать своего страдания и, невзирая на презрительное отношение лагерной охраны, внушали огромное уважение уголовным элементам каторги… Проклятье! И только подумать, что он, Бенуа, не представляет больше закон и не в состоянии на него опереться! Не может быть инструментом силы. Увы, не дано ему прибегнуть к заветной фразе: «Именем закона, вы арестованы!..» Слишком фальшиво звучало бы сейчас. И впервые за долгое время бывший надзиратель пожалел о своей отставке. Как не хватало ему в этот момент голубой куртки и серебряных галунов, какой бы властью они его наделили! Он почти забыл о «великой» цели, которую преследовал, ее оттеснило острое желание мести, мозг был охвачен волной злобных и подлых мыслей. Сомнений не оставалось. Это именно тот изгнанник, чей удачный побег так основательно опорочил Бенуа в глазах высшего тюремного начальства. Тот же самый дерзкий и вызывающий взгляд, те же уверенные черты лица, которые не исказят ни оскорбления, ни перенесенные страдания. Ну, и еще одно обстоятельство, с каким приходится считаться — мощные бицепсы атлета, который способен одним ударом рассечь глотку взбешенному тигру. Черт возьми! Бенуа скрипнул зубами, припомнив блаженные денечки, когда в его распоряжении были верная дубинка и крепкие наручники. Дремавший в нем палач вмиг проснулся. В конце концов он находится в глубине девственного леса, хорошо вооруженный, перед ним его враг — он может называть его только врагом! — при котором не было даже короткого мачете лесного обходчика! Ну что ж, тем лучше! Удача сама плыла ему в руки. Месть представлялась слишком доступной, чтобы ее упустить, чтобы тут же не насладиться ею. Прошить пулей «котлеты», как именовал он бедра, и делу конец! — Я прикончу тебя, каналья! Что ты здесь делаешь? Разве тебя я тут искал?.. И бандит, не колеблясь перед убийством, стал целиться в беззащитного Робена, не подозревавшего об опасности. Бенуа медленно поднял ружье и взял на мушку грудь своей жертвы, нижнюю вершину опрокинутого треугольника, образованного раскрытым воротом рубашки. Его палец уже осторожно нажимал на спусковой крючок, когда легкий шум помешал операции, от которой зависела жизнь инженера. Робен был не один! Высокий молодой человек с индейским луком и связкой стрел неожиданно появился в характерной для лесных жителей наклонной позе: при кажущейся утяжеленности такой ходьбы ничто не может сравниться с нею по неутомимой воздушной легкости! — Чуть-чуть не вляпался в хорошенькую историю, — пробурчал себе под нос надзиратель. — Если б даже я уложил этого зека, другой меня тут же пришил бы на месте, не успел бы и второго выстрела сделать. Ну их к черту, этих скотов с их шпиговальными иглами, отороченными камышом! Ну, Бенуа, мой мальчик, труби отступление. На сегодня хватит и разведки, она вполне удалась. Не стоит рисковать своей шкурой из-за мести. И как удалось этому оборвышу Робену нанять такого верзилу?.. — размышлял он, пятясь задом с бесшумной гибкостью змеи. — Надо будет дознаться, а еще — уточнить их местонахождение, посчитать всех охранников, оценить силы. Ну, а там посмотрим! Хоть и привычен был авантюрист к прогулкам в девственных лесах, но не сумел точно выдержать направление, которое привело его к владениям робинзонов. Через несколько минут он понял, что заблудился, когда уперся в подножие крутой скалы, одиноко торчавшей среди светлой поляны. — Фу-ты, — удивился он, — скалы такого размера — редкое явление в здешних местах… А с ее макушки, наверное, вид еще более необычный. Если взобраться наверх, кто знает, что я там увижу… Ну, вперед! Мобилизуем нервы и выдержку! Подъем оказался трудным на редкость. Но Бенуа не из тех, кто отступает. Хоть от солнца горело лицо и дымилась кожа, хоть до крови были растерты и ободраны о камни колени и руки, он добрался до вершины через полчаса нечеловеческих усилий. Обливаясь потом, теряя дыхание, побагровевший и совершенно разбитый, бандит рухнул прямо на раскаленный кварц. Взгляд его устремился в широкий просвет, открывшийся перед ним. И вдруг с Бенуа что-то стряслось, он вскочил словно ужаленный. — Нет, невозможно! — воскликнул он. — Глазам своим не верю! Да я же не спятил… Это не мираж… Не ошибка… Вот одна гора… Другая… Третья… Четвертая… Пятая… Шестая… А где же седьмая? Прячется за остальными наверняка! Индеец говорил доктору и начальнику тюрьмы: «Затем появятся семь гор… Это золотые горы». Клянусь именем покровителя всех негодяев земли, я их вижу, вон там, в каких-нибудь двух лье[243] отсюда, такие четкие темно-синие контуры на фоне серого неба… Два лье, восемь километров лесом, это проблема одного дня! Двенадцать часов на прорыв заграждения из лиан, затем… богатство! Бывший надзиратель даже побледнел от волнения. Он весь напрягся, чувствуя, что самообладание готово его покинуть. — Спокойно, Бенуа, спокойно… Для начала сориентируемся… Мой компас… хорошо… Направление: запад, двадцать два градуса северо-запад… Все в порядке! Тысяча чертей! Не могу больше сдерживаться! Хочу петь, горланить, рычать, ходить ходуном! Еще немного, и я заплачу! Черт меня побери, вот это открытие! Можно быть довольным! И все это мое… Все сокровища гор! Я богач! Тайна золота теперь у меня! Ну, хорошо… Хватит верещать, словно красная обезьяна при луне. Надо спуститься, найти остальных, привести их к месту назначения и поделиться открытием… Это не слишком приятно, да ладно уж… Там хватит на всех. Какая разница! Случайность многое определяет. Если бы я не встретил этого типа, то не пришел бы сюда, не забрался на скалу, не нашел бы гнездышко с золотыми яичками. В конце концов, Робен подождет. Сперва займемся более неотложными делами. А попозже я с ним расквитаюсь! Авантюрист в последний раз с пламенным вожделением взглянул на горизонт, где четко выступали профили холмов, затем стал медленно, как бы нехотя, спускаться вниз. — Ого, да здесь тоже золото! — пробормотал он, внимательно изучая в нескольких местах выступы белого кварца, испещренного голубыми прожилками. — Какая досада, что нет со мной кирки или молотка! Тупым концом мачете ему удалось отбить кусочек породы. Многочисленные золотые песчинки, видные невооруженным глазом, искрились на солнце, подтверждая богатство минерала. — Никаких сомнений, краснокожий сказал правду! Мы не потеряли времени даром! Неудивительно, что жители этой страны с таким ожесточением защищали свою территорию! Теперь понятно, почему у них стрелы с золотыми наконечниками. Золота здесь больше, чем железа! Конечно, драки не избежать, но несколько бутылок тафии воодушевят мою маленькую туземную армию… Авось все обойдется! Бенуа побродил по лесу с правой и с левой стороны, описал несколько широких кругов, с трудом отыскал свой первый след и благополучно присоединился к сообщникам, уже обеспокоенным его отсутствием, длившимся более четырех часов. — Наконец-то! Ну что, какие новости? — в один голос вскричали они. — Победа, дети мои! Победа! Кубышка наша! Подробности потом. Пока сообщу, что я обнаружил семь гор, описанных индейцем, и что за пятнадцать часов, не больше, мы с вами туда доберемся. — Не может быть! А ты не ошибся? — Не разыгрывайте дурачков! А это видели? — И он показал им кусочек кварца. — Золото! — дружно выдохнули четверо бандитов. — Золото! Крики радости вдруг слились с громким и монотонным завыванием. — Это еще что такое? — забеспокоился шеф. — А! Не говори, — заметил Бонне. — Прямо невезение. Краснокожие совсем взбеленились. — Да отчего же?.. — Сам увидишь. Несчастье случилось с их пиэй. — Только этого недоставало! И серьезное? — Настолько серьезное, что он умер. Бывший охранник разразился отборнейшей руганью. — Если он сдох, мы все пропали! — Не преувеличивай. — Сразу видно, ты их не знаешь. Тебе неизвестно, что для индейцев смерть никогда не бывает естественной, даже если причина вполне понятна. Они не в состоянии допустить, чтобы один из них отправился к праотцам без чьей-то злой воли. Всегда есть виновник: соседи, враждебное племя или какой-нибудь чужеземец, нашедший у них приют и наведший порчу на погибшего… — Ну и попали мы в переплет, если все это так! Завывания продолжались с удвоенной силой, достигнув необычайной интенсивности. Воины Акомбаки бежали в растерянности, кромсали себе лицо и грудь ножами, кровь струилась по их телам, брызгала красным дождем. — Они вцепятся в нас. На всякий случай надо занять оборону. — Но расскажи, как все случилось, чтобы я мог найти выход из положения… — Да вот вся история… — начал Бонне. — Дело было два часа назад. Пиэй, как ты знаешь, попрошайка первый сорт, он явился клянчить табак и тафию. Поскольку мы нуждаемся в этих скотах, я не хотел ему отказывать. — Ты правильно поступил… Продолжай! — Он потащил бутылку и пакет с табаком, позвал вождя, и оба принялись лакать, как извозчики, не обращая никакого внимания на других. — Ближе к делу, мучитель! Ты из меня жилы выматываешь. — Дальше… Ты обрываешь нить моих рассуждений, а я и так двух слов связать не могу… О чем речь? Ну, да. Они пьянствовали вместе. Пиэй передал бутылку вождю и ожидал с раскрытым ртом, пока тот хлебнет, чтобы потом в свою очередь приложиться к горлышку, как вдруг он перекрутился дважды на месте, глаза у него вылезли из орбит, руки забились в воздухе, словно крылья курицы, похрипел несколько секунд и повалился на бок. — И это… все? — Все. Он умер, точно умер. Тогда вождь, не пытаясь влить хоть каплю в горло упавшему, перевел дыхание и принялся выть, словно дюжина гигантских жаб. Набежали другие краснокожие, пытались поднять колдуна, трясли его, растирали, но безуспешно. Его голова раздулась, как бурдюк с вином, а губы стали толстыми, словно рукоятка весла. Никогда не видел лица более ужасного. — Они ничего не сказали вам? — Ни единого слова. Сразу начали завывать и царапать себя ножами, не обращая на нас внимания. — Все это очень странно и тревожно. Надо быть начеку и ни на шаг не отходить друг от друга! Главарь не ошибался. Индейцы действительно не допускали мысли, что смерть возможна без конкретного виновника. Одного из них укусила змея? Это сосед принял форму пресмыкающегося, и теперь, уличенный в убийстве, должен погибнуть вслед за своей жертвой. Другой сломал позвоночник, упав с дерева, утонул в водопаде, умер от оспы или горячечного бреда — все равно необходима искупительная жертва. То ли чужеземец станет ею, или кто-то из враждебного племени, хоть домашнее животное — не важно, лишь бы предполагаемый злоумышленник был наказан. О возвращении белого вождя доложили Акомбаке, и тот, вооруженный мачете, явился в сопровождении своих горлопанов, продолжавших выть в самые уши авантюристов, занявших оборонительные позиции. — Спокойно, — невозмутимо повторял Бенуа своим компаньонам, — спокойно! Положение вовсе не отчаянное. Наоборот! Индейцы экваториальной зоны испытывают ко всем белым глубокое уважение и осмеливаются нападать на них крайне редко. В основе этого почитания — убеждение, что большинство европейцев являются пиэй. Поскольку туземцы видят, как те перевязывают раны, обращаются с компасом, со множеством других предметов, им неизвестных, убеждение это весьма устойчиво. Акомбака не собирался нападать на своих союзников. Он хотел только прибегнуть к их учености и узнать, что стало причиной смерти колдуна. Инцидент действительно представлял собой ужасную катастрофу. Племя без своего пиэй — что тело без души, корабль без компаса, дитя без матери. Самые страшные несчастья могли тотчас обрушиться на головы краснокожих, если виновник смерти жреца не будет немедленно обнаружен. Отличное знание языка племени галиби помогло Бенуа уразуметь просьбу вождя, и ловкий проходимец быстро смекнул, какую пользу он может извлечь из индейских предрассудков и суеверий. — У страха глаза велики, дети мои! Все нормально! Дела идут хорошо! Задача в том, чтобы верно использовать ситуацию. Немножко фиглярства нам не повредит… Он медленно двинулся к вождю, поднял свое ружье и дважды выстрелил в воздух, затем передал его одному из пособников и приказал Бонне: — А ну-ка, посвисти им свои фанфары, да получше! Плут немедленно повиновался и несколько минут терзал уши присутствующих дьявольской какофонией. — Стоп! — подал сигнал Бенуа величественным жестом дирижера, призывающего к молчанию свой оркестр. Затем, скандируя слова, обратился к Акомбаке: — Вождь, и вы, храбрые воины, слушайте меня! Я — великий пиэй у бледнолицых. Я изучил в той стороне, где восходит солнце, все тайны жизни и смерти. Ничто не укроется от меня ни в воздухе, ни в воде, ни в лесу. Мой глаз все видит, мое ухо все слышит! Я открою вам причину смерти вашего высокочтимого пиэй, мы накажем виновных в преступлении, и я отведу от вас все несчастья. Так я сказал! Духи моих предков слышали меня! Криками радости и облегчения встретили индейцы эту лукавую речь, произнесенную с пафосом великолепным командирским голосом. — А ты, вождь, проводи меня к покойнику. Чтобы мои глаза увидели его черты. Чтобы моя рука коснулась его сердца, а мое дыхание отогнало злых духов. Веди! Кортеж тронулся в путь, и ловкий шарлатан в сопровождении товарищей вскоре предстал перед трупом колдуна, раздутым, как лоснящийся бурдюк, отталкивающе безобразным. Бенуа произвел рукой несколько таинственных, мистических движений, поворачиваясь последовательно ко всем четырем сторонам света, торжественно поклонился, схватил мачете и провел лезвием над тлеющими угольями очага, как бы очищая оружие. Он приподнял голову мертвеца, осторожно ввел кончик ножа между стиснутыми челюстями покойника и стал усиленно давить на «хирургический инструмент». Страшно распухший рот с поврежденной слизистой оболочкой приоткрылся. Мачете проник глубже, расширяя щель. — Какого черта он умудрился проглотить, — бормотал шеф себе под нос в привычном стиле внутреннего монолога. — Алкоголь, конечно, отравляет, но не он же его убил… Краснокожие расселись вокруг на корточках, перенеся центр тяжести на пальцы ног, и, не говоря ни слова, с любопытством следили за странными манипуляциями. Бенуа, заинтригованный не меньше, чем его зрители, старался поглубже заглянуть в разверстую глотку. — Если бы мне только удалось что-нибудь извлечь оттуда… Он машинально приложил к подложечке усопшего свой огромный кулак и нажал что есть мочи. О, чудо! Несколько капель водки поднялись по пищеводу вследствие давления и послужили транспортным средством для одной из огромных гвианских ос, более опасных, чем кинжальные мухи, и называемых «бессмысленные мушки». Самозваному колдуну повезло больше, нежели честному человеку. Помимо своей воли он совершил геройский поступок, вознесший его в глазах индейцев на уровень божества. Причина смерти бедняги теперь легко объяснялась. В тот момент, когда с алчущим взором и раскрытым ртом он ожидал, пока его партнер отопьет очередную дозу и вернет бутылку, оса влетела ему прямо в горло. Зажатая инстинктивным глотательным движением, она не смогла выбраться наружу и, вполне естественно, ужалила колдуна. Огромная опухоль тут же перекрыла доступ воздуха, и обреченный человек погиб от удушья. Такое заключение тут же сделали бы европейцы. Но это слишком просто для сознания индейцев, которые всегда ищут и ждут чуда. Долгим, несмолкающим воплем торжества встретили они блестящее открытие белого пиэй, который положил тельце насекомого на грудь мертвеца и пригласил каждого подойти удостовериться. — Ну, все в порядке… Все просто отлично, — тихо говорил он своим компаньонам, не теряя при этом своего вдохновенного вида «на публику». — Если бы я знал, то сказал бы этим идиотам, что бессмысленную мушку послали владельцы плантации. Вот хорошенький подарочек для Робена и его шайки. Черт возьми! Краснокожие разнесли бы их в клочья! Хотя… Стоп… А почему бы не сказать этого сейчас?.. Отличная месть, и ни малейшей опасности для меня! Стоит только подать знак… До чего же я глуп! Бенуа, мой мальчик, гнев и ярость пронзают тебе мозги. Есть наилучший вариант действий! О! Это просто замечательно, моя выдумка гениальна! Настоящий удар мастера в поединке! Он выбрал момент и продолжал громким, звонким голосом: — Вождь, и вы, смелые воины, слушайте меня! Я вижу того, кто принял форму бессмысленной мушки, чтобы убить моего брата, краснокожего пиэй. Он живет там, в темной пещере, среди гор. Он прячется, но никому не укрыться от взгляда бледнолицего колдуна. Идите туда! Я поведу вас. Вооружайтесь мачете! Выступаем немедленно! И завтра солнце станет свидетелем вашей мести. Вперед! Я все сказал. Духи моих предков слышали меня! Поистине ловким человеком был маэстро Бенуа. Он использовал неоспоримый аргумент, чтобы заставить краснокожих сопровождать его к зачарованному дворцу, где обитала фея золотых россыпей. Но хотя его толкование и призыв действительно обладали непреодолимой силой, никто из индейцев не двинулся с места. — В чем дело? — удивился он. — Мои братья меня не поняли? Акомбака почтительно приблизился и объяснил с мягкостью, в которой слышалась твердая решительность, что его люди никак не могут сию минуту покинуть место преступления, даже для принесения искупительной жертвы. Две главные причины мешали немедленно выполнить этот святой долг. Надо подготовить похороны покойного жреца и провести выборы его преемника. Поскольку обе церемонии взаимосвязаны, они требуют совместного освящения. Белый пиэй, которому известно все, не может не знать, что никогда индейцы не ступают на тропу войны без благословения верховного колдуна. Бенуа с трудом удалось скрыть ярость, которую вызвала у него эта задержка. Он знал, что похороны у туземцев служат поводом для бесконечного пьянства. Приготовления занимают не менее восьми дней, после чего покойника отвозят в его племя и окончательно предают земле. Что же касается посвящения в жрецы, то оно может длиться годами. Поскольку краснокожие не ведут счет времени, то мошенник уже видел себя обреченным на долгое изматывающее безделье. Видя огорчение белого вождя, Акомбака успокоил его. Похороны продлятся, согласно обычаю, одну неделю. Что касается наследника покойного, то он уже найден и выдержал все необходимые испытания, за исключением последнего. Право на исполнение своих высоких обязанностей он обретет на восьмой день, затем труп перевезут в место, где прячется убийца, и первым актом нового жреца станет покарание врага в присутствии тела его жертвы. Авантюрист знал, что индейцы абсолютно незыблемы в своих планах. И он вынужден был согласиться с их требованиями, довольный уже тем, что ожидание продлится только восемь дней, поскольку судьба уже определила будущего колдуна.
Церемония избрания жреца выглядит очень внушительно, учитывая огромные права, связанные с этим саном. Испытательный тест ужасен, и немногие из кандидатов способны выдержать необходимые требования. Судите сами[244]. Обучающегося медицине представляют старейшинам племени. Он обязуется выдержать, не проявляя слабости, все предложенные ему испытания, после чего поступает в полное распоряжение своего наставника, пока не будет сочтен достойным чести, которую тот один имеет право даровать. Испытания варьируются и полностью зависят от воли верховного пиэй. Первые шесть месяцев ученического стажа молодой человек должен питаться исключительно маниокой. Он поглощает ее следующим образом. Кладут поочередно то на одну, то на другую ногу претендента кусочки кассав (лепешки из маниоки), и тот обязан подносить их ко рту, поднимая ногу обеими руками. В этом состоит первое задание. Через шесть месяцев такого режима, дающего немного пищи уму, но отлично тренирующего ноги, ученику велят следующие шесть месяцев питаться одной рыбой, потребляемой точно таким же образом. Его меню, кроме того, обогащается несколькими листьями табака, которые он обязан жевать, проглатывая сок! Под воздействием наркотика бедняга впадает в состояние крайнего отупения. Он худеет, взгляд становится безжизненным, раздраженный желудок испытывает острые схватки. Некоторые погибают, но стойко держатся до конца. Тот, чей организм выдержал фантастический режим, в конце года подвергнется очередному экзамену. Его заставляют нырнуть и оставаться под водой так долго, что это испугало бы самых опытных ловцов жемчуга. Он выныривает на поверхность с вылезающими из орбит глазами, с окровавленными ушами и носом… Не важно! После водной процедуры следует испытание огнем. Претендент обязан пересечь босиком — не ускоряя шаг, не спотыкаясь — довольно широкое пространство, заполненное пылающими углями. Когда раны на ногах зарубцуются, он повторяет в течение следующих двенадцати месяцев тот же самый режим питания — кассав, рыба, табак, с тем чтобы выполнить в конце года новые задания. Они варьируются и составляют самую большую гордость изобретательных экзаменаторов-палачей. Например, собирают тысячи фламандских муравьев, чьи укусы необычайно болезненны, вызывают нарывы и лихорадку с бредом. Страдальца зашивают в подвесную койку, оставив открытым отверстие, через которое запускают муравьев, после чего мешок закупоривают и крепко встряхивают, чтобы еще больше разозлить насекомых. Можно вообразить, какую оргию на красной коже закатывают эти ужасные перепончатокрылые![245] Кандидат стоически невозмутимо переносит адские мучения, и понятно почему. Малейшая его жалоба станет поводом к немедленной отмене всех предыдущих испытаний! В другом случае сотню кинжальных мух или бессмысленных мушек засовывают в ячейки манаре́ (сита) таким образом, что головки их выходят наружу, а брюшная часть остается внутри. Трудно представить степень разъяренности этих насекомых-пленников! Экзаменатор берет сито и осторожно прикладывает его к спине, животу, груди, бедрам претендента. Жала вонзаются в кожу раскаленными иглами, зубы скрипят, словно на них попало толченое стекло, пот струится градом, глаза туманятся, но человек не издает ни единого стона. Для разнообразия несчастного могут свести со змеями. Гордый своим подопечным, учитель выставляет его, принуждая блистать искусством терпения; так поступают преподаватели с самыми способными студентами. Претендента на должность колдуна кусают граж, гремучая змея, ай-ай. Правда, кожу специально обрабатывают, но от этого не становится легче. Испытания близятся к завершению. Кандидат уже может быть допущен к незначительным операциям. Таковы практиканты в наших госпиталях, которые под присмотром опытных специалистов впервые вскрывают поверхностный нарыв, вправляют вывихнутый палец или устанавливают аппарат при переломе. Молодой индейский «ученый» имеет право бить в барабан возле больного, отчаянно вопить день и ночь, чтобы изгнать злого духа. Предписания туземной медицины ограничиваются этим кошачьим концертом в двойной дозе. Вот и весь арсенал лечения заболевшего. О! Бушардат, мой наставник, где вы сейчас?.. Остается последнее испытание, которое окончательно и безоговорочно утверждает «достойного». Это венец трехлетних хождений по мукам. Испытание, прямо скажем, отвратительное и ужасное. Большинство индейцев в бассейне реки Марони предает земле своих мертвецов лишь по истечении восьми дней. Легко представить, во что превращается труп при таком климате, не только жарком, но и влажном. Покойника оставляют лежать в гамаке, под которым устанавливается широкий сосуд, предназначенный для сбора серозной жидкости, что выделяется при разложении тела. Доля ее смешивается с частями табака и батата, и эту отраву кандидат в жрецы обязан выпить[246]. Вот тогда он становится верховным пиэй! Выдержавший все испытания получает право распоряжаться жизнью и смертью любого члена племени, по своему усмотрению эксплуатирует их легковерие, дает волю своим инстинктам. Слово и взгляд его священны. Ему дозволено все, и его безнаказанность абсолютна, хоть бы он и проявил самое дикое невежество. А не знает он ничего решительно. Неграм по крайней мере, известны противовоспалительные и отвлекающие средства. Их домашние рецепты часто бывают полезны, мы это уже наблюдали в первой части нашей книги. Что касается индейцев, то трудно даже представить всю меру их дремучести, она сопоставима разве что с глупостью тех, кто им слепо повинуется. Медицинская практика их ограничивается несколькими фарсовыми обрядами, состоящими из прыжков, завываний, битья в барабан, вдуваний и проч. Повезло еще тем пациентам, которых полумертвыми не напичкали до отказа экскрементами животных или жабьими глазами. Пиэй не способен поставить банки или сделать кровопускание. Он не имеет ни малейшего представления об отвлекающих лекарствах и оставляет перелом срастаться, как ему заблагорассудится. Потому среди индейцев очень много калек. Но что до этого колдуну! Его медицина всегда права, и больной сам виноват, если не выздоравливает. В племени Акомбаки был молодой претендент, прошедший все испытания, кроме последнего. Вот причина, по которой тело покойного должно было сохраняться восемь дней, несмотря на недовольство Бенуа. Празднество намечалось в полном объеме: похороны колдуна, страшная месть наславшему погибель на пиэй, восшествие кандидата в сан своего предшественника — все говорило об особом значении этих торжеств. Потоки кашири, вику, вуапайя омоют это всеобщее ликование. Будут есть, пить, сражаться. Историческая память надолго сохранит отзвук подвигов, которые должны вскоре свершиться. Известие о них потрясет весь тропический край. Похоронные празднества начались под водительством Акомбаки. Временный пиэй следил за выполнением церемониала. Поскольку смерть наступила вдали от деревни, прах покойного должны были доставить туда в свое время и с надлежащим ритуалом. Первая часть обряда, выполняемая на месте катастрофы, напоминала у цивилизованных народов помещение во временный склеп останков человека, погибшего далеко от родных мест, вслед за чем совершался перенос останков в семейную усыпальницу. У индейцев нет кладбищ. Умершего хоронят в его хижине после законных восьми дней общего прощания с телом. Родственники и друзья, не просыхающие от пьянки с утра до вечера, стараются перекричать друг друга в воплях и завываниях над трупом, отчаянно колотя при этом в барабаны. Все время можно наблюдать непрерывное движение наполненных и опорожненных глиняных кувшинов, постоянную толкотню приходящих и уходящих в неуемном гаме и возлияниях. На восьмой день выкапывают могилу в земляном полу хижины; тело, которое находится в ужасающем состоянии разложения, выставляют открытым на коптильной решетке — необходимая предосторожность, иначе оно может развалиться на куски. Все племя проходит перед ним, каждый поочередно падает ниц, пьют из гуляющего по кругу большого кубка, и на этом церемония завершается. После чего опускают в могилу горшки с трупной жидкостью, затем вооружение и гамак умершего, а уж потом и самого покойника. Отныне хижина заброшена, и никто не переступит ее порога. Некоторые индейцы, среди них рукуены, сжигают мертвых, тоже после восьмидневной открытой выставки. Кремация останков в состоянии гниения — по крайней мере гигиенический акт, хотя и несколько запоздалый. Другие подвергают покойных копчению — например, племя лоямпи и некоторые из эмерийонов. Тогда тела умерших превращаются в мумии, и их оставляют в открытом виде в могилах, выкопанных в хижинах. Наконец, если индеец умирает очень далеко от своей деревни и физически невозможно доставить тело, то спутники должны принести его волосы. Этот обычай распространен не только у краснокожих, но и среди негритянских племен бассейна Марони, — бош, бони, юка или полигуду. Волосы покойного тщательно укладываются в короб, перевязанный лианами или хлопчатобумажными веревками. Сквозь крепления продевается длинная палка, и двое мужчин несут груз на своих плечах, впоследствии реликвия торжественно вручается родным умершего. Церемония похорон волос точно такая же, как и погребение самого тела.
Будет ли со временем сожжен или подвергнут копчению погибший пиэй из племени Акомбаки, в данный момент значения не имело. Наскоро соорудили хижину, подвесили на столбах гамак, положили туда мертвого и установили внизу сосуды. Эти операции выполнялись с невероятной быстротой. Учитывая присущую индейцам апатию (никогда не увидишь его бегущим!), такая стремительность представлялась просто поразительной. Сразу же после этого разрешалось пить; для желудков сухих, как трут, выпивка была священна и обязательна. Бенуа расщедрился и раскупорил несколько бутылок тафии, чтобы товарищи более терпеливо могли пережидать бесконечное потребление кашири, главного напитка на индейских празднествах. Его приготовление составляет важную заботу местных жителей, испытывающих к кашири прямо-таки пламенную страсть, доходящую до безумия. Любые житейские события становятся горячо желанным поводом для пьянства: рождение, смерть, похороны, свадьба, посадка растений, охота, рыбная ловля, сбор урожая, спуск на воду лодки, обжарка маниоки и проч. Кашири входит существенным элементом во все развлечения и увеселения. Поскольку производство напитка довольно длительно, а срок хранения невелик, то заготовляют его в огромных количествах. Чтобы получить сотню литров забродившей жидкости, берут примерно пятьдесят килограммов свеженатертых корней маниоки, добавляют двадцать килограммов батата, также превращенного в муку. Смесь помещают в двух больших глиняных сосудах, называемых канари, украшенных весьма любопытными рисунками, делают эти сосуды индейские женщины. Затем наливают по пятьдесят литров воды в каждый канари, установленный на трех камнях, образующих треножник. Слабый огонь поддерживается под сосудами, и счастливый смертный, приставленный к божественной жидкости, размешивает смесь до полного растворения. Затем содержимое кипятят до образования плотной пленки. Когда примерно четверть емкости испарится, полуфабрикат снимают с огня, переливают в другой сосуд и оставляют на тридцать шесть часов, после чего жидкость приобретает легкий винный привкус. Происходит активное брожение, и кашири готово. Остается лишь пропустить его через сито, манаре. Полученный напиток называется пуаре. Он очень приятен на вкус, обладает предательской свежестью в том смысле, что полное опьянение наступает совершенно незаметно. Итак, тридцать шесть часов ожидания предстояло Акомбаке и его людям, пребывавшим уже на хорошем взводе благодаря щедротам Бенуа. Тридцать шесть часов для истомившихся от жажды — это очень много, и все запасы авантюристов провалились бы в эти ненасытные глотки, но краснокожим требовалось позаботиться о запасах вику. Что такое — вику?.. Будучи в целом на диво беззаботными ко всем житейским вопросам, индейцы проявляют максимум предусмотрительности, когда речь заходит о спиртном. Они не садятся в лодки, не забрав с собой тщательно упакованные в листья канари, и неизменно загружают пироги большим количеством сухой массы, называемой вику. Это вещество имеет то преимущество перед кашири, что из него можно изготовить в несколько минут игристый напиток, не менее приятный и не менее крепкий. Если и здесь кассав (лепешки из маниоки) служат базовым продуктом, то процесс приготовления иной. Молодая индианка, занятая этой работой, пережевывает около килограмма кассав, обильно смачивая каждую порцию слюной, затем перемешивает все это вместе, чтобы образовалась закваска, бродильное начало. У индейцев галиби этот продукт называется мачи. Двенадцать килограммов кассав, размоченных в воде и тщательно размельченных, перемешивают с мачи. Получается довольно плотное месиво, которое подвергается брожению в течение тридцати шести часов и «всходит», как хлеб на дрожжах. Затем его высушивают на солнце и хранят для последующего употребления. Когда индеец испытывает жажду, что случается весьма часто, ему достаточно отрезать кусок этого сухого теста, развести в воде, чтобы получить через несколько минут пенящуюся, будто шампанское, игристую жидкость. Настоящий сибарит, краснокожий добавляет в нее сок сахарного тростника и пьет залпом, пока не брякнется оземь в полнейшем одурении. Акомбака, его спутники и молодой пиэй располагали изрядными запасами вику, что позволило им терпеливо ожидать, пока поспеет кашири. Белые, не желая выглядеть неучтиво, приняли участие в празднике. Надо было хорошо провести время… Ничто не длится бесконечно в этом мире, ни радость, ни страдание, и траурная неделя завершилась с помощью кашири без помех и без чрезмерной скуки. Несколько рассеченных голов, несколько сломанных ребер — сущие пустяки… Кровоподтеки исчезнут и раны зарубцуются. Да что за праздник без таких происшествий… Он стал бы неполным. Умерший пиэй был готов доставить своему преемнику необходимые элементы для последнего испытания. Обойдем эти отвратительные детали, на которых мы недавно останавливались, понуждаемые условиями нашего повествования, откуда всякая фантазия безжалостно изгнана. Мы пишем историю гвианских племен, а это предъявляет жесткие требования. Излишне говорить, что кандидат оказался на высоте при исполнении своей миссии и что он получил посвящение в сан от вождя и именитых соплеменников, к которым примкнул Бенуа в качестве белого коллеги. Наконец отряд тронулся в путь, построившись индейской цепочкой. Ее возглавлял бывший надзиратель. Мертвеца несли следом, подвешенного, словно паникадило[247], в гамаке на длинном шесте, который тащили на плечах два воина, с заплетавшимися после пьянки ногами. Бенуа был наверху блаженства, приближаясь наконец к заветному мигу. Он шел с победоносным видом, легко разрубая лианы и стебли, бросая быстрый взгляд на компас и снова уверенно продолжая путь. Первый день и половина следующего миновали без приключений. Тяжело нагруженные провиантом, краснокожие, вопреки легендарной лени, двигались безостановочно и без единой жалобы. Бедные люди в наивной убежденности воображали, что выполняют богоугодное дело, разыскивая виновника смерти своего колдуна. И никакая усталость не могла задержать их ни на минуту, тем более что повода для выпивки не было. Золотые горы — Бенуа нравилось называть их так — находились, по его расчетам, недалеко. Он прочертил маршрут как по линейке, мог математически подтвердить точность направления и предвкушал уже радость проникновения в эти пещеры, которые его спутники описали так красочно со слов Жака, как вдруг сильный запах мускуса неприятно поразил бородача. Бенуа резко остановился и буркнул Бонне, шедшему следом: — Гляди в оба! Мы на змеиной тропе! — Змея! — крикнул тот с ужасом в голосе. — Где она? — Да я не вижу ее, черт подери! Если б заметил, так насыпал бы соли на хвост! — Змея… — бормотал Бонне, вспоминая трагический эпизод в бухте. — Я не сделаю больше ни шагу! — Не будь дураком, оставаться на месте не менее опасно, чем идти вперед. Да погоди, это просто здоровенный уж. Держу пари, что он семи-восьми метров длиной, а толщиной с тебя, хотя ты и худющий. — Почем ты знаешь? — Пожил бы с мое в лесах, не задавал бы дурацких вопросов. А! Беглые каторжники сегодня здорово поглупели. В мое время встречались такие ушлые пройдохи, настоящие молодцы! Одно удовольствие было их конвоировать! Вот видишь след, трава примята, как от падения дерева, а точнее — как будто его волочили… — Ну и что? — Дурень, это же след змеи… Она проползла несколько минут назад. По запаху мускуса определяю. Индейцы, несмотря на благоухание трупа, тоже уловили запах пресмыкающегося. Они остановились и молча ждали. Внезапно неподалеку раздался громкий треск веток, а затем тяжелый топот. Бенуа зарядил ружье. Акомбака занял позицию подле него, натянул свой лук и схватил стрелу с широким бамбуковым наконечником, тонким, острым и гибким, словно стальное лезвие, носящим название курмури (по-индейски — бамбук). Хруст веток и стеблей приближался, такой шум создает стадо диких кабанов. Животное крупных размеров проскочило под деревьями, не разбирая дороги, со стремительной силой летящего снаряда. — Маипури![248] — прошептал вождь на ухо своему компаньону. — Пошли! Кортеж снова двинулся в путь, а шум тем временем изменил свое направление Маипури, казалось, убегал от появившихся людей. Вскоре путешественники обнаружили огромные прорывы в кустарнике. Мощь и энергия животного были таковы, что оно проложило путь, не требующий дальнейшего применения мачете. Индейцы и белые последовали по удачно возникшей дороге, ибо ее направление точно совпадало со стрелкой компаса. Шум прекратился, но через полчаса снова возник. Лес посветлел. Следы толстокожего тапира не исчезали, а запах мускуса становился все сильней. — Стой-ка! Стой-ка! Стой-ка! — с тремя интонациями прокричал заинтересованный Бенуа. — А если змея решила преследовать маипури? Занятная мысль, ей-богу! — Маипури — самка, — сказал Акомбака. — Ее малыш при ней, и змея хочет его скушать. — Могу это понять, потому что для большого ужа проглотить взрослого тапира — все равно что попугаю разгрызть тыквенную бутылку… Характер местности вдруг резко изменился, природа предстала в новом облике. На почве стали попадаться обломки диоритовых[249] скал, а метрах в десяти, в стене густой зелени, авантюрист увидел широкую дыру, проделанную маипури. И в этом проеме отчетливо виднелись горы. До них было не более километра. Бенуа подавил крик радости, готовый вырваться из груди, и, указывая спутникам на скалистые холмы, странно прилепившиеся друг к другу, тихо произнес: — Это здесь… Едва прозвучали эти слова, как послышался глухой, придушенный треск невдалеке, в высоких травяных зарослях, окаймлявших поляну. Это походило на трудно определимый звук ломаемых костей, вслед за чем раздался прерывистый топот. Большая бесформенная масса возникла в зарослях лиан, покатилась, прыгнула вперед, стала как будто в два раза крупнее и исчезла, но не настолько быстро, чтобы меткая стрела краснокожего не успела глубоко вонзиться в нее. Акомбака беззвучно смеялся. — Что это значит? — спросил бывший охранник. — Маипури убил змею, а я убил маипури. Мы его скушаем. — Откуда ты знаешь? — Идем. Ты увидишь, что Акомбака никогда не ошибается. Они сделали несколько шагов и — точно по словам индейца! — нашли на скалах распростертого огромного удава, не менее десяти метров длины и в обхвате такого же, как этот «худющий» Бонне. Несколько капель крови выступили из ноздрей пресмыкающегося. Из открытой глотки вывалился мягкий и раздвоенный язык. Он не двигался, смерть, по-видимому, наступила мгновенно. Напрасно Бенуа искал хоть какой-нибудь след ранения, тапир не искусал и не истоптал змею. Мошенник отметил лишь ненормальное состояние погибшего великана: огромное цилиндрическое тело казалось немного сплющенным и обмякшим, лишенным всякой упругости. Оно было похоже на скатанную тряпку и сгибалось под прямым углом. Возникало ощущение, что все до одного позвонка у змеи перебиты или разорваны. Белый вопросительно взглянул на индейца. Тот улыбнулся со снисходительно-покровительственным видом, а затем на своем гортанном языке дал любопытное объяснение случившемуся. — Акомбака не ошибался. Змея напала на маипури, чтобы скушать ее детеныша. Она такая большая и думала задушить маипури, как она делает с тигром, который не может вырваться из ее колец. Но маипури сильный и хитрый. Когда он почувствовал, что змея его заплела, то выпустил дыхание и стал таким маленьким, как только мог. Змея сжала его сильнее. Тогда маипури, самый большой и смелый зверь в наших лесах, снова набрал воздуху, его грудь и живот стали надуваться все больше и больше… Змея не успела распустить свои кольца, ее кости затрещали и лопнули, вот отчего возник шум, который ты слышал… Удав сразу умер, а маипури освободился и убежал… Мы его скоро скушаем, — радостно добавил он, — потому что стрела Акомбаки никогда не промахивается… — Та́к мы его и съели, — усомнился Бенуа. — Да ведь он убежал! Не думаю, что твоя стрела причинила ему большой вред. Не переставая улыбаться, индеец указал своему собеседнику на широкий кровавый след, хорошо видный на пожелтевших от солнца листьях. — Ты прав, мой краснокожий друг, ты в самом деле очень ловкий и сильный! В мгновение ока со змеи содрали кожу: молодой пиэй решил изготовить из нее ритуальный наряд. Затем носильщики приняли на плечи свой мрачный груз, и отряд двинулся дальше. Следы крови становились все более изобильными. Толстокожий, очевидно, был ранен серьезно. Он прерывал свой бег, чтобы освободиться от мешавшей ему стрелы. Наконечник ее глубоко проник в тело. Эти остановки хорошо были видны по особому обилию кровавых пятен на почве. Примерно в пятистах метрах от места схватки нашли древко стрелы. Охотники сделали еще несколько шагов и, к своему великому изумлению, увидели в глубине широкого и глубокого рва бездыханного тапира. Возле него растянулся маленький детеныш, тоже не подававший никаких признаков жизни. Хотя и удивленный, Акомбака торжествовал. — Большой маипури очень вкусный, но маленький еще лучше! — радостно воскликнул он, окрыленный мыслью о трапезе, которую сулила груда мяса. О другом думали Бенуа и его сообщники. Ров находился как раз на полпути к первой горе. И авантюрист не без оснований заключил, что, если бы не случайная встреча с тапиром, то это он, идущий во главе отряда, напоролся бы на рогатки, расставленные на дне и по бокам траншеи. Да, никаких сомнений: ров — ловушка для хищников. У него форма усеченной пирамиды. Узкий вверху, широкий у основания, с наклонными стенами, что помешало бы упавшему зверю выбраться наружу, даже если бы он по счастливой случайности избежал рогаток. Видны были обломки легких перекладин, несколько минут тому назад прикрытых землей и дерном. Они прятали отверстие, услужливо подставляя бегущим этот шаткий, непрочный «пол», замаскированный с большой изобретательностью, даже придирчивый глаз ничего бы не заметил с первого взгляда. Бенуа вспомнил устрашающие способы обороны, примененные загадочными существами, жившими на берегах реки. Как обрушивались в воду огромные деревья, преграждая путь, как плыла навстречу жуткая змеиная флотилия, ускользнуть от которой им удалось только чудом. Ему подумалось, что существует какая-то связь между этой ямой, так неожиданно возникшей перед порогом золотого рая, и теми помехами, что заставили их отказаться от первой попытки. Хотелось убедиться в правоте своих предположений. — Послушай, вождь, а кто вырыл эту яму — белые или индейцы? — спросил он у Акомбаки. — Индейцы, — ответил тот не колеблясь. — А как ты определяешь? — У белых людей железные инструменты, а у краснокожих только орудия из твердого дерева. Железная мотыга режет землю, как нож, вон, видишь, кое-где четкие следы, а деревянная лопата давит и разрывает почву. — Да, это убедительно. Значит, на той стороне — индейцы… — Индейцы везде, — гордо заявил краснокожий. — Земля, вода, лес и небо принадлежат им! — Ты бы мог сказать, к какому племени относятся эти? — А если ты видишь дерево, срубленное белым, разве ты можешь сказать, из какой он страны? — Ты прав, вождь, а я болтаю глупости… Колонна остановилась на краю рва, и мертвый пиэй в ожидании усыпальницы был положен на скале под ярким солнцем. Путешествие трупа еще не закончилось. Индеец с остро отточенным мачете спустился в ров; используя хлопчатобумажные крепления от своего гамака, обвязал тело молодого маипури, которое тут же подняли наверх, а затем принялся разделывать огромное животное, туша которого заполнила почти всю впадину. Весило оно более трехсот килограммов, а размером было со среднего быка. Тапир, называемый туземцами маипури, является самым крупным из животных Южноамериканского континента. Отличительная его черта — крупная голова с очень высоким затылком, переходящая в горб у основания морды, которая оканчивается небольшим мускулистым хоботом, похожим на свиной пятачок, только длиннее. Нос загнут книзу, выполняя в каком-то смысле роль верхней губы. Уши почти круглые, с белой каймой. Корпус коренастый, покрыт короткой шерстью, плотной и блестящей, у самок она обычно рыжеватая, у самцов — коричневая. Последние щеголяют еще довольно пышной гривой. Хвост едва достигает десяти сантиметров и кажется обрубком. Ноги короткие и мощные, оканчиваются черными когтями, плоскими и заостренными. Питается тапир исключительно растительной пищей. Несмотря на немалую силу, он по характеру очень мягок, никогда не нападает на человека и на других животных. Тапир не злобен, но его движения чрезвычайно резки и внезапны. Он неосторожен и не разбирает дороги в лесу, двигаясь обычно напролом. Не желая причинять никому вреда, он яростно толкает всех, кто попадается на пути. Молодые тапиры легко одомашниваются и становятся совершенно ручными. Они свободно бродят по улицам Кайенны, отлично знают жилища своих хозяев и, подобно собакам, сопровождают людей на прогулках. Тот экземпляр, разделкой которого был занят индеец, относился к гигантам своего вида. Так что работа оказалась долгой и трудной. Два часа минуло, пока лучшие куски мяса, разрубленные мачете и привязанные к веревке, были извлечены из траншеи. Два отличных куска заднего окорока, общим весом килограммов на сорок, уже аппетитно потрескивали на огне, и проголодавшиеся краснокожие готовы были воздать им должное, когда мнимый мясник выбрался наверх, обляпанный кровью, словно после бойни, и вручил вождю предмет, вызвавший у того большой интерес. Это было ожерелье необычной формы, Бенуа не мог припомнить, что когда-нибудь видел такое. Очевидно, его потерял один из тех, кто устраивал ловушку. К любопытству Акомбаки примешалось выражение почтительного страха. — Ты меня спрашивал, кто выкопал ров. Я тебе скажу. Это индейцы арамишо. — Последние слова он выговорил тихо и боязливо. Трапеза тем временем началась. — Арамишо, — повторил Бенуа с полным ртом, — а я думал, что это племя вымерло. — Еще немножко осталось. — Голос Акомбаки дрожал по-прежнему. — Это страшные люди! Великие пиэй! Авантюрист крепко выругался, ибо чуть не сломал нож о что-то твердое, попавшееся в мясе. Он осторожно разрезал его и обнаружил давно, вероятно, засевшую, обросшую пленкой пулю из ярко-желтого металла, округленную молотком, слегка деформированную. По-видимому, это было самое настоящее золото. Бенуа не смог унять легкой дрожи, припомнив золотой наконечник стрелы, поразившей Бонне. — Ты говоришь, что арамишо — великие пиэй. Мне это безразлично. Но есть ли у них ружья? — Не думаю. — Ну ладно! Был бы счастлив познакомиться с теми, кто охотится на маипури с ружьями, да еще заряжает их золотыми пулями!
ГЛАВА 5
Отблеск желтого металла. — Трагедия арамишо. — Вожделенная отрава. — Белый человек — раб женщины. — Подземные духи. — Сарабанда золотых статуй. — Кубок смерти. — Десять тысяч франков под ногами. — Разочарование. — Ловушка.— Наш краснокожий друг очень забавен, — тихо говорил Никола своему юному приятелю Анри. — Я тоже не могу понять, отчего ему внушает такой страх наша золотая посуда. Как ты здорово недавно сказал, что несколько кусков железа или стали пригодились бы нам гораздо больше… — Еще бы, — подхватил Никола, — скольких трудов стоило извлечь из земли эту железистую руду, обогатить ее, чеканить, ковать, превращать в полосы, а затем уже — в сталь… Хоть бы месторождение находилось поближе! — К счастью, времени нам хватает! — вмешался инженер. — Что правда, то правда. Если бы пришлось вкалывать, как в Париже, десять или двенадцать часов вместо шести, мы бы давно выбились из сил. Но все равно, наши мачете и топоры, хоть и не очень изящные и не лучшего качества, дали нам прикурить! Какая жалость, что золото не в состоянии заменить сталь! Что за глупый металл! Скажите на милость, да на что оно годится?.. — Ну, делать посуду… А если припечет, отливать наконечники для стрел… — …которые не идут ни в какое сравнение с самыми завалящими железными… Быстро тупятся, кончик изгибается, скручивается… Я скоро предпочту наконечники из рыбьей кости или бамбука. — Не преувеличивай, милый Никола! Ты возненавидел золото, когда прибыл из Европы, потому что при всем его здешнем изобилии оно оказалось почти бесполезным для нас. Но я согласен с тобой лишь отчасти, мой бедный дикарь, не имеющий представления о роли золота в цивилизованных странах. Что касается меня, то без досады и презрения я отношу золото к ряду таких металлов, как олово, свинец, особенно медь, очень даже пригодных к полезному употреблению! Ставлю золото даже выше меди, потому что оно не окисляется. Парижанин расхохотался, услышав столь обоснованное и столь просто изложенное мнение. — Ну, чего ты смеешься? — Да невольно вспоминаю о молодых людях твоего возраста, как они гоняются в городах за монетами из этого металла, который ты изволишь ставить выше меди! — Конечно, повторяю тебе, ведь золото не окисляется! — А! С тобою обхохочешься… Вся эта братия очень быстро «окислила» десятки и сотни луидоров, уверяю тебя! — Так ты заключаешь… — Я заключаю, что золото — никчемный металл и если в Европе спешат освободиться от стали, чтобы приобрести золото, то я бы отдал десять килограммов его за один — железа… — Так мы с тобой вполне единодушны, потому что и я примерно так же оцениваю эти металлы. Мадам Робен и ее муж с улыбкой слушали беседу. — Да, дети мои, — вступила в разговор хозяйка, — у вас нет никаких разногласий, и я довольна. Благодаря энергии и уму вы смогли обеспечить все жизненные потребности маленькой колонии, каждому природному продукту сумели найти свое место в соответствии с его свойствами и ценностью. Я бы сказала, что вы вдохнули новую жизнь в безрадостные места каторжан и ссыльных и как бы возродили давно минувшие времена, называемые в поэзии золотым веком[250]. Пускай же он длится как можно дольше! — Золотой век, — подхватил Никола, — это, должно быть, время, когда золото ничего не стоило и без него люди легко обходились. Кстати, дружище Жак, что ты думаешь обо всем здесь сказанном? Ты не проронил ни единого словечка с той минуты, как появился наш кофейник! Не могу понять мрачное впечатление, произведенное на тебя обычной хозяйственной вещью и на какие размышления она тебя навела… Молодой индеец медленно поднял голову. Долгий вздох вырвался из стесненной груди. И голос зазвучал глухо, когда он начал свой рассказ: — Очень давно, настолько давно, что и самые древние старики едва ли помнят, было великое и могучее племя индейцев арамишо, выходцев с Антильских островов. Их обширные и хорошо обработанные плантации давали обильные урожаи, охотничьи угодья казались неисчерпаемыми. Краснокожие люди жили в полном достатке. Они любили детей, уважали стариков. Золото, которое добывали в большом количестве, использовалось в самых обычных хозяйственных целях, никто не думал о его стоимости. Вместо костяных, рыбьих или бамбуковых наконечников для стрел они предпочитали золотые, потому что те были крепче. А золотую посуду любили больше глиняной, потому что она не билась и выдерживала сильный огонь. Золотыми ножами резать мясо легче, чем костяными… Много золота было у арамишо. И они жили беззаботно до того дня, когда впервые появились белые. Те словно потеряли рассудок, увидев столько желтого металла. Бледнолицые привезли стальные ножи, легкие, крепкие и удобные; топоры, которые резали твердую древесину, будто сыр; красивые ткани, табак, разные украшения — ожерелья, бусы, браслеты… И за бесценок обменивали свои товары на золото арамишо. И все шло хорошо, европейцы ничем не угрожали счастливой жизни краснокожих. Но вскоре их появилось очень много, и они привезли тафию. Вождь первый попробовал эту адскую жидкость и стал как безумный. То был великий вождь, добрый, справедливый, почитаемый всеми. Тафия превратила его в зверя. Главные воины пили вместе с ним и тоже стали такими же. Кашири, вику, вуапайя — прежние напитки наших отцов, дающие легкое, приятное опьянение — были забыты ради отравы белых, которая темнит рассудок. И началось всеобщее бешенство, злоба, помешательство. Плантации были заброшены, охота и рыбная ловля забыты. Индейцев обуревала одна мысль: достать золото, чтобы купить тафию. Аппетиты белых росли, они требовали больше. Краснокожие мужчины потеряли способность трудиться и проводили свои дни в пьянстве; посылали женщин и детей на поиски проклятого металла, а сами бездельничали, валяясь, как кайманы в тине. Вскоре и женщины с детьми не захотели работать без выпивки. Авторитет старейшин упал, его не признавали. Драки, бурные ссоры, братоубийства уменьшали население. Увы, страсть к тафии настолько укоренилась, что всякое различие между правдой и ложью, справедливостью и подлостью исчезло. Погибая от голода, не имея средств на водку, арамишо бросались к своим соседям, грабили их плантации, разоряли жилища. С этого времени над племенем нависло проклятие. В бесконечных набегах таяли его ряды, а огненная вода доконала тех, кого пощадила война. Индейцев арамишо было более двух тысяч, когда они увидели белых, сегодня их остался десяток! Мой дед был как раз тем вождем, который первым выпил стакан тафии. А я — последний из арамишо. Если такое могучее племя было уничтожено, то виновато в этом только золото. Теперь вы убедились в моей правоте, когда я говорил, что тайна желтого металла смертельна! Золото убило моего деда, оно истребило мое племя. Благодаря вам я вырвался из лап смерти, но мне не избежать своей судьбы. Тайна золота станет роковой и для последнего арамишо! Удрученные робинзоны молча слушали бесхитростный и правдивый рассказ, увы, столь типичный для туземного населения тропической Америки. Индейская раса, некогда сильная и гордая, в то же время добрая и гостеприимная, нынче выродилась и, наверное, скоро совсем исчезнет из-за жадности белых, обменивающих на золото алкогольную отраву. Жак продолжил тем же глухим тоном, как бы разговаривая с самим собой: — Десять лет тому назад остатки арамишо захотели освободиться от своего проклятия. Они покинули родину, чтобы жить рядом с белыми, но однажды мой отец решил вернуться, ему захотелось увидеть колыбель своих предков. Он увел свою семью и забрал меня у моего благодетеля. Мы возвратились в страну золота, и с этого момента больше не видели европейцев. Капля водки никогда больше не касалась наших губ. Я один вернулся в Сен-Лоран, но я не пью тафию. Другие, боясь умереть, не покидали больше золотых пещер и превратились в их стражников. Они живут недалеко от вас, в трех днях пути; теперь арамишо вернулись к трезвости, но слишком поздно. У наших людей нет потомков. Индеец умолк, глядя на хозяев туманным, невидящим взором. Капли пота выступили у него на лбу, зубы выбивали мелкую дробь, конечности конвульсивно[251] подергивались. Перенесенные лишения и страдания тяжко отразились на его здоровье. У Жака начался приступ тропической лихорадки. Его уложили в гамак. Добрый Казимир, всегда готовый прийти на помощь, устроился рядом, с трогательной преданностью заботясь о больном. Молодой индеец не мог бы оказаться в лучших руках. Приступ с самого начала принял характер злокачественной лихорадки и был таким сильным, что несколько дней жизнь индейца висела на волоске. Однако молодость и здоровая натура в сочетании с опекой доброго старика превозмогли болезнь. Бред прекратился, спала кровавая пелена, застилавшая глаза, юноша был спасен. Выздоровление шло нормально, Жак встал на ноги уже через две недели, такой же энергичный и крепкий, как прежде. Робен с удовольствием приучал его к жизни и быту робинзонов, но молодой человек дал понять, что по известным ему причинам он не сможет оставаться здесь слишком долго. И в один прекрасный день гостю вручили мачете, лук и стрелы, выдали трехдневный запас продовольствия, и он ушел со слезами на глазах, рассыпаясь в самых трогательных и сердечных благодарностях. Однако индеец пообещал вскоре вернуться. Юноша пересек участок, углубился в джунгли и, руководствуясь одним только инстинктом лесного жителя, сориентировался с такой точностью, будто в его распоряжении были самые надежные приборы. Через двадцать часов он примкнул к соплеменникам. Случилось это в тот самый день, когда Бенуа, беглые каторжники и отряд Акомбаки вышли к «золотым горам», на страже которых стояли последние арамишо. Все семейство Жака пребывало в состоянии крайнего возбуждения. Если искатели золота и не подозревали о присутствии индейцев, то бедные охранники, не ведая о намерениях пришельцев, уже два дня ждали их появления. Неужели их труды пойдут насмарку? Добровольное многолетнее заточение окажется напрасным? Тайна золота будет вторично похищена? Жак вздрогнул, узнав о приближении белых, сопровождаемых индейцами. Предчувствие подсказывало: это те самые мерзавцы, которые недавно его мучили. Кто другой, кроме подобных пройдох, мог отыскать столь отдаленное местечко, затерянное в бесконечных лесных пространствах? Как он жалел сейчас о своей неосторожности, об этом злосчастном раскрытии тайны, приобщить к которой хотел одного лишь своего благодетеля… Индеец погрузился в задумчивость и отвечал рассеянно и неохотно на расспросы тестя. Последний был настоящим великаном, с огромными ручищами и широченными плечами, глядевший снисходительно с высоты своего роста. Отличался он редкостной для индейцев силой. И что удивительно, волосы его казались белее снега, они ниспадали прямыми и длинными прядями на плечи, на лоб, оттеняя кирпичную красноту резко вырубленного, с грубыми чертами, очень сурового на вид лица. Тесть был на целую голову выше всех прочих членов маленькой общины, здоровье которых восстановилось на свежем воздухе и в условиях полной трезвости. Арамишо снова обрели гордый вид, свойственный их предкам в ту пору, когда те были хозяевами больших рек. Сейчас племя насчитывало не более десятка человек, включая вновь прибывшего, его жену, юную Алему, родителей ее и тетку, сестру отца. Старый гигант Панаолин, чье имя до сих пор еще помнят прибрежные жители в верховьях Марони, с подозрением поглядывал на молодого человека. — Сын мой, — замедленным тоном сказал он, — ты все еще витаешь в стране белых. Ты еще не вернулся оттуда. — Мой отец говорит правду, я хотел повидать того, кто меня вырастил. И был у него… — Невзирая на мой запрет! Жак потупился и тихо ответил: — Признательность — это добродетель краснокожих людей. — Добродетель краснокожего заключается в исполнении приказов своего отца. — Разве белый человек не является также моим отцом? — Тогда нужно было оставаться возле него, а не брать в жены жемчужину арамишо. Язык моего сына раздвоенный, как у хитрой змеи. Если у него два отца, то, может быть, у него и две жены? Хочет ли он быть здесь господином краснокожей женщины или там — рабом белой? Алема подошла и с беспокойством смотрела на своего юного мужа. — Пусть ответит мой сын! — Мой отец хорошо знает, что Алеме принадлежит вся моя любовь! — Не унижается ли сын Панаолина до лжи? — Сын Панаолина никогда не лжет! — с гордым вызовом ответил Жак. — Но пусть мой отец услышит голос свободного человека! — Свободный человек! — саркастически повторил грозный старец. — Нет, мой сын не свободен. Он — раб белого человека, а тот — раб белой женщины. У индейцев не может быть господина. Он сам господин своей женщины. Если жена краснокожего хочет есть рыбу, аймару или кумару, мужчина говорит: «Спусти лодку на воду. Садись…» Она берет весло, гребет, мужчина бросает приманку, рыба подплывает, он пускает в нее стрелу, потом говорит: «Поджарь ее». Когда рыба поджарена, мужчина ест. Когда он утолил голод, женщина приступает к еде. Если она хочет мяса, муж говорит: «Идем!» И она идет с ним в лес. Мужчина свистит, животное прибегает и падает, сраженное стрелой. Глава семьи говорит женщине: «Возьми его. Разжигай очаг». Когда дичь готова и мужчина насытился, начинает есть жена. А белый человек, — продолжил Панаолин с неописуемым презрением, — идет на охоту один, стреляет, приносит дичь, отдает ее жарить, а в это время женщина остается в хижине. Когда пища готова, он позволяет жене есть первой. Теперь тебе ясно, что белый — это раб женщины! А ты — раб белого! Тонкость примитивной диалектики смутила юного индейца. Он пробормотал сконфуженно: — Если мой отец требует… Я больше не вернусь к белым. — Слишком поздно! Если мой сын повинуется приказам отца, то не потому ли, что белые уже здесь? Жак вздрогнул и ничего не ответил. Три женщины и шестеро мужчин, наблюдавшие эту сцену, выразили свое настроение гневными криками. — Спокойно, дети мои! — продолжал старец. — Нам угрожает опасность. Покинем наши хижины, заберем еду и укроемся в пещере. Лучше мы погибнем в бою, чем потеряем свою свободу. С большой быстротой завершив все приготовления, маленький отряд проник в темное убежище, самые дальние уголки которого были хорошо знакомы. Вождь вошел последним и без особых усилий привалил за собой огромный камень, который и двое мужчин едва ли сдвинули бы с места, закрепил его неподвижно с помощью деревянной колоды, упиравшейся в боковые пазы, а потом зажег факел. Коптящий огонек вдруг вызвал яркое сияние. Своды, стены, сама почва заблистала со всех сторон. Свет струился золотыми потоками, и малейшие выступы скалы отражали желтые лучи, с которыми смешивались там и сям пляшущие красновато-кровавые отблески пламени. Молчаливые индейцы с непроницаемо суровыми лицами вслед за вождем зажгли такие же факелы. Тогда вся пещера вспыхнула ослепительным фейерверком. Ее мощные колонны, высокие своды, казалось, были отлиты из массивного золота. Как будто огромный раскаленный шар металла внезапно отвердел, вырвавшись из кипящей плавильни природы. Мужчины и женщины, безразличные к этому феерическому зрелищу[252], медленно брели, утопая иногда по щиколотку в мелкой, сухой, рыхлой пыли, которая тянулась им вслед, покрывая ноги светло-золотистым налетом, сквозь который на коже виднелись пурпурные рисунки, нанесенные краской ру́ку. Вождь подал знак. Все остановились в том месте, где свод возвышался в форме купола, и прикрепили факелы на выступах скалы. Издалека доносились приглушенные звуки подземного потока, который, казалось, уходил в почву самого грота. Там и сям капельки сбегали вдоль стен, оживляя их добавочным блеском, и монотонно падали на землю. — Здесь находится последнее убежище арамишо, — торжественно провозгласил Панаолин. — Пусть же никогда корыстолюбивые белые люди не переступят этого порога! Пусть погибнут враги моего племени, если они осквернят его своим появлением! И пусть также погибнет предатель, который выдаст тайну нашего уединения! Пусть отсохнет моя рука, пусть другая сгниет и отвалится, если я нарушу когда-нибудь эту клятву! Я произношу ее первым! Один за другим присутствующие повторили эти слова приподнятым, торжественным тоном. Жак поклялся последним, голос его вибрировал, выдавая сильное волнение, а быть может, и укоры совести. — А теперь, — завершил старейшина, — пусть мои дети возрадуются! Приготовления к веселью выглядели странно. Пока женщины торопились сделать напиток вику, мужчины раскрыли свои котомки и вытащили каждый по маленькому кувшинчику, тщательно закупоренному рыбьим пузырем. Там содержался жир носухи. Они обмазались с ног до головы, затем, внезапно охваченные яростным исступлением, кинулись плашмя на землю, покатились с безумными криками в волнах золотистой пыли, корчились в конвульсиях и за несколько минут совершенно исчезли в желтом облаке. Когда пыль улеглась, семеро мужчин походили на золотые статуи, на оживших божков сказочного подземелья. Сосуды, наполненные вику, уже поджидали их, симметрично расставленные и ласкающие взор, — истинная радость для пьющих! Жак собирался, как и прочие, осушить одну из тыквенных бутылок, когда его жена, красавица Алема, подошла с сияющими глазами, с нежной улыбкой и протянула ему древесный кубок. — Пускай друг моего сердца выпьет бокал, наполненный его возлюбленной! Восхищенный молодой человек залпом проглотил пьянящее зелье. Танцы и крики возобновились с новым усердием, ожесточенным, полубезумным. Индейцы пили много, но без излишеств, ведь это был напиток их предков! Они всей душой отдавались удовольствию, однако инстинктивно избегали полного опьянения. Только Жак, хотя и немного выпивший, потерял свою выдержку. С необычайной словоохотливостью он пустился сбивчиво пересказывать то, что накипело у него на душе. После нескольких бессвязных фраз речь его обрела большую стройность. Он поведал, не утаивая ни одной подробности, о своем путешествии в Сен-Лоран, о признании, сделанном доктору В. и начальнику тюрьмы, о том, как похитили его беглые каторжники, как измывались над ним, высказал догадку о цели их экспедиции и, наконец, описал свое освобождение и знакомство с гвианскими робинзонами. Исповедь была исчерпывающе полной, говорил он с решимостью, болью и откровенностью, вызванными, вполне возможно, одним из тех напитков, секретом приготовления которых владеют некоторые индейцы. Его соплеменники, бесстрастные, словно изваяния, выслушали эту речь, не шевельнув бровью, без всякого видимого волнения. Опустошенный, задыхающийся Жак с пересохшим ртом, еще бормоча какие-то отрывистые слова хриплым голосом, едва выдавил из себя: «Пить!» — настолько мучила его жажда. Панаолин спокойно сказал: — Хорошо. Пусть моя дочь даст выпить своему мужу. Алема улыбнулась из полумрака, принесла полный кубок и протянула его юноше, не расплескав ни капли. Рука ее была тверда, пронзительный взгляд как будто хотел заглянуть в самую глубину души. Жак опорожнил кубок с жадностью и уселся на землю, совершенно отупевший, с погасшим взором, ничего не видя и не слыша. Старый вождь подал знак. Его люди взяли плетеные корзины, пагара, и отправились в глубину галерей, едва освещенных мерцающими отблесками факелов. Вскоре они вновь собрались на перекрестке с нагруженными до предела корзинами и вышли из пещеры, предварительно сдвинув камень. Индейцы проделали еще несколько рейсов, как бы не замечая присутствия Алемы, державшей на коленях голову уснувшего, а может быть, смертельно пьяного мужа. Вот они вошли в последний раз, неся пустые пагара. Панаолин замыкал шествие. Он вытащил из какого-то подобия ниши двуствольное ружье, в котором доктор В. признал бы свой подарок, сделанный Жаку во время одного из предыдущих его посещений. Вождь убедился, что ружье заряжено. А в это время его соплеменники вооружались луками, стрелами, ножами. Старик объявил: — Сокровища арамишо в безопасности. Тайна золота под надежной охраной! Можете приходить! Факелы сразу погасили, и таинственная пещера погрузилась во мрак.
Вопрос Бенуа об охотнике, заряжавшем ружье золотыми пулями, остался без ответа. Акомбаку и его людей не волновало, из чего сделана пулька, найденная в теле тапира. Перед ними возвышалась гора мяса — вот что привлекало все внимание краснокожих, вот над чем неустанно работали их челюсти и желудки. Вся ночь и наступивший день были сплошь заняты этим трудом, которому присутствие мертвого колдуна придавало особый священнодейственный характер. Похоронные почести, если представится случай, могут воздаваться и в жидкой, и в плотной форме, исходя из обстоятельств. Главное — изобилие общей массы поглощаемого. На памяти индейцев еще не было такого щедрого, сытного празднества. И на него не жалели времени; необъятные пищеварительные возможности эмерийонов нашли себе полное применение. Наконец кувшины вылакали досуха, а скелет тапира сиял белизной, будто его очистили муравьи-маниоки. Как застоявшийся конь, который в нетерпении грызет свои удила, Бенуа дожидался заветной минуты. Он решительно возглавил колонну и двинулся к пещере, чей темный зев приоткрылся на юго-западном склоне первого холма. Индейцы как будто смягчились и подобрели. Акомбаку почти не волновал исход затеянного предприятия, некоторые стороны которого он находил опасными. В конце концов покойного щедро оплакали. Его кончина, хотя и внезапная, не была преждевременной. Ведь он такой старый! И к тому же у него есть преемник. А носить за собой останки очень обременительно… Так ли уж необходимо разыскивать и наказывать, не давая себе передышки, виновника трагедии, уже как-то восполненной, отступившей в прошлое?.. Иначе думал бывший надзиратель, пылавший гневом. Он угрожал перепуганному вождю новыми несчастиями. Не очень полагаясь на свое «войско», Бенуа торопился поднять его боевой дух привычными средствами с помощью тафии. Колебания прекратились, жажда мести снова взыграла. Барабан из кожи кариаку ударил как гонг, и бамбуковые флейты дружно взвыли. По крутой тропинке они поднялись к пещере, авантюрист вошел туда первым, с мачете в одной руке, с факелом в другой. Краснокожие с воплями последовали за ним. Привыкая к полумраку, они брели за Бенуа, которого душило волнение, и вскоре очутились в центральном зале, откуда разбегались узкие галереи. Тут завывания внезапно смолкли, воцарилась тревожная тишина. Страх сковал вождя и его воинов. И сам Бенуа, несмотря на свою закалку, не удержался от испуганного возгласа при виде неподвижного тела Жака, распростертого на спине с разбросанными руками, похожего на золотую статую, сброшенную с пьедестала. — Золото! — в восторге вскричали баниты, не думая о судьбе индейца. — Да нет же, глупцы, это всего лишь пыль. Два су за тонну, — заметил патрон. Он быстро наклонился и приподнял тело, желая установить, теплится ли в нем еще искорка жизни. Затем поднес факел к широко раскрытым глазам. Веки даже не шевельнулись, объем зрачков не изменился, они были похожи на маленькие черные жемчужинки в коричневой оправе. Растерянность охватила Бенуа, даже нечто, похожее на отчаяние… Но вовсе не из-за несчастной и загадочной судьбы парня. Человечность была чужда его натуре. Желание уловить последнее дыхание жизни проистекало от ненасытной жадности. Одной рукой, подведенной Жаку под затылок, онудерживал на весу негнущееся тело, которое опиралось на пятки, образуя угол в 25–30 градусов. — Он умер, — глухо сказал шеф. — Определенно мертв! И, даже не пытаясь разгадать причину смерти, сцепление обстоятельств, приведшее индейца в пещеру, Бенуа добавил: — Странный костюм. Ну вот парень вырядился в золото, как божок… Далеко же он забрел! Да и мы тоже… — и выпустил тело, которое упало с глухим звуком. Беглые каторжники пораженно взирали на искрящуюся пещеру, столь неожиданно превращенную в склеп. Подземный храм золота, объект их давних вожделений, мертвый человек, казавшийся сброшенным с трона божеством — наполняли их страхом и трепетом. Не менее потрясенные индейцы, на подгибающихся от пьянства ногах, хранили молчание. Голосу авантюриста вторило гулкое эхо. — Этот мерзавец сыграл с нами свою последнюю шутку, — говорил, как всегда злобно, бывший надзиратель. — Мертвый краснокожий стоит не больше, чем живой беглец, и еще меньше, чем собака на четырех лапах… Но хватит нам заниматься этим печным горшком. Мы на месте назначения, наша задача — найти хранилище… — Раскупорим его без проблем… — развязно откликнулся Бонне, чья ловкость «медвежатника» пользовалась широкой славой. — Но они наверняка запихнули свою кубышку в какую-нибудь дыру, черта с два ее найдешь… — Мы ничего не найдем в старом чулке… — с глупым видом брякнул Тенги, грубый бретонец, убивший когда-то свою тетку подставкой для дров, чтобы украсть ее сбережения, которые она хранила в чулке в соломенном матрасе. Столь «утонченные» шутки высоко ценились на каторге, чьи обитатели любили живописать свои «подвиги». Однако юмор на Бенуа не подействовал. — Этот ловкач был не один. Они здесь гуляли все вместе, а потом кокнули его исподтишка. Акомбака, из какого племени этот мертвый индеец? — Арамишо, — глухо ответил вождь. — Ты его знаешь? — Да. — Кто его отец? — Большой вождь. Он умер. Жена молодого индейца… — А!.. Так у него есть жена… — Да, дочь Панаолина… великого пиэй. — Акомбака понизил голос до шепота. — Известно ли тебе, почему он покрыт этой желтой пылью? Объятый страхом краснокожий сумел только отрицательно качнуть головой. — Ничего не вытянешь из этих скотов, — сказал компаньонам раздосадованный Бенуа. — Будем искать сами. Одно несомненно: хотя желтая пудра ничего не значит, но золото здесь водится наверняка. Держу пари, что эти червяки-индейцы убежали, завидев нас, и предварительно убили своего, чтобы отомстить за наш приход. Матье, дай-ка еще по нескольку капель этим трусам, чтобы вернуть им сердце из пяток. Ну, мои овечки, хлебните для бодрости… Повеселевшие от водки индейцы нетвердой походкой побрели за авантюристами, которые смело углубились в боковые ответвления пещеры. Шум подземной реки усиливался, и четверо белых продвигались с большой осторожностью, опасаясь провалиться в какую-нибудь яму. Однако это не помешало Бенуа споткнуться обо что-то твердое и пребольно растянуться, разразившись потоком грубой брани. — Или мне померещилось… — бурчал он, поднимаясь и отряхиваясь от пыли. Позолоченная борода преобразила его облик. — Да здесь же настоящие булыжники! — …Булыжники… — ругнулся Бонне. — Я предпочел бы пойти на приступ баррикады из булыжников, чем шляться по таким «мостовым»… Стоп! Гляди-ка! — Голос его чудодейственно изменился и громко зазвенел. — Да гляди же ты! И Бонне дрожащими пальцами поднял тяжелый кусок металла неправильной формы, в котором странно отражалось пламя факелов. — Золото! На этот раз точно золото! Не правда ли, Бенуа? Скажи! Ликование каторжников было бурным, беспредельным, безумным. Они принялись плясать и горланить. Бенуа внешне выглядел сдержанно, но переживал сильнее. Он побледнел и не отводил зачарованного взгляда от самородка. — Да, это оно, — подтвердил проходимец дрожащим голосом. — Дай-ка рассмотреть… поближе… Черт подери! У меня от радости подкашиваются ноги, отнимается речь! Я просто глупею от возможности разбогатеть! — А ты уверен, что… — Да! Говорю тебе — это оно! Точно! Потянет на три килограмма и стоит тысяч десять франков… Вопли и прыжки возобновились с удвоенной силой при объявлении такой сказочной цифры, к великому удивлению краснокожих, не понимавших причин веселья. — У меня радость вызывает жажду, — сказал Тенги, запыхавшись и отдуваясь, — я, пожалуй, опрокину бокальчик… — Нет! — твердо возразил Бенуа. — Выпьешь позже. И мы с тобой. А сейчас надо искать. Кончил дело — гуляй смело! Брось желтого красавчика в мешок, и продолжим разведку. — Слушаю, шеф! Ты прав. Некогда пить! Да и когда я напиваюсь, то теряю голову… И нас могут обокрасть. Такое проявление доверия весьма польстило главарю, и он с новым усердием принялся тщательно осматривать землю, на которой углядел вскоре легкие отпечатки босых ног. — Ага! Ага!.. Становится теплее! Держу след… Бывший охранник резко наклонился, подобрал какую-то вещицу и протянул ее Тенги. — Прихвати и этого желтенького малыша, чтобы не нарушать традицию… То был самородок граммов на сто, мнимый кассир упрятал и его в полотняную сумку. — Кажется, размениваемся на пустяки… — Предпочитаю что-нибудь покрупнее… — Не важно, мы даром времени не теряем… — Слушай, еще один… — Да это просто дорожка мальчика с пальчик… — Черт возьми! — Что случилось? — Кубышка? — Сейф нотариуса! — Старый чулок моей тетушки! — Да заткнитесь, куча подонков, или я вас смешаю с г…! Птичка-то улетела! Тайник пустой! Тройной вопль ярости и разочарования потряс своды пещеры и перекрыл шум подземной реки. Сомнений не оставалось. Яму средних размеров, устланную сухими банановыми листьями, специально вырыли в грунте у подножия последнего столба, на уровне реки, чьи бурлящие воды искрились между скал в неверном свете факелов. Яма была пустой. Наличие золотых крупинок размером с пшеничное зерно, затерявшихся между листьев, говорило о том, с какой поспешностью освобождали тайник. — Ограблены! Нас обокрали! — вопили разъяренные бандиты. — Нет, невозможно! Этот тайник не единственный! Должны быть другие. — Ищем! Повсюду! Во всех закоулках! — Да! Только так! Краснокожие нам помогут… Хотя и неохотно, Акомбака и его люди согласились. Возбужденные томительной надеждой отыскать сокровище, о размерах которого говорил оброненный самородок, грабители больше четырех часов осматривали все уголки пещеры, исследовали каждый дюйм поверхности, зондировали почву возле столбов — и все напрасно! Труды пропали даром. Их жестокое разочарование проявилось неодинаково, отчасти комично. Грубый мужлан Тенги рыдал, как ребенок. И вполне искренне. У Бонне, существа холодного, с лицом и движениями рептилии, казалось, поехала крыша. В приступе гнева он изрыгал какие-то нечленораздельные ругательства. Ничтожный Матье, пассивный инструмент в руках сообщников, неспособный к решительным действиям, повторял все время с идиотским видом: «Это им так не пройдет! О нет! Это им так не пройдет!» Что касается Бенуа, то его багровое лицо, налитые бешенством глаза и вздутые на шее вены могли напугать кого угодно. И все же он сохранял видимое спокойствие, делая над собой огромное усилие, чтобы выглядеть хладнокровным и не дать прорваться своей обычной грубости. — Тихо! — прикрикнул бывший надзиратель зычным голосом. — Прекратите галдеж! Нас обокрали, ну да! Так что же? Думаете, скорее найдем клад, если будете верещать, как красные обезьяны? Святый Боже! Я старая ищейка, мы выйдем отсюда, найдем след негодяев, пустимся в погоню… За два дня их поймаем, вот увидите… А пока нужно перекусить, без этого сил не наберешься. Доставайте еду! Время дорого. Бандиты разложили продукты на земле и вместе с индейцами приступили к трапезе. Настроение шефа заметно улучшилось. Поистине этот человек, обладал неисчерпаемыми ресурсами! — Абсолютно ничего не потеряно! Акомбака и его парни останутся еще с нами. Надо, чтобы они избавились от скелета колдуна! Я постараюсь им вдолбить, что его следует захоронить здесь. Этот дядюшка становится чересчур обременителен. Ну, а с нашим краснокожим разделаться проще. Мы отправим его в прогулку по реке. Не годится, чтобы он отравлял пещеру, у меня есть на нее виды. — Какие виды? — поинтересовался Бонне, слегка успокоенный, но все еще лишенный аппетита. — Очень просто. Мы горячимся, как дети. Вспомните-ка хорошенько, о чем краснокожий говорил доктору и начальнику. Там не было речи о готовом сокровище, уже найденном. Он рассказывал о том месте, где гора содержит много золота. Разве не упоминал он о молотке? — Это верно, — подтвердил Тенги. — Ну вот! Мы наткнулись на то, чего и не думали найти, ведь легенда о сокровищах арамишо не вызывала доверия, а вот сейчас мы знаем, что это правда. К сожалению, мы прибыли слишком поздно. Тем более досадно, что тайник, судя по размерам, вмещал килограммов сто пятьдесят золотишка, не меньше! Но птички снялись с гнезд, и тот увесистый самородок, подобранный нами, наверняка был потерян во время бегства. Все происшедшее склоняет к мысли: нашего пленника принесли в жертву, полагая, что он раскрыл тайну сокровища, когда на самом деле он говорил о золотоносных жилах, которые надо эксплуатировать. — Точно! Так оно и есть! — Это бессмысленное убийство для нас не имеет значения. Самым главным было добраться сюда! Так вот, знаете ли вы, из чего состоит скала, образующая эту пещеру? — Нет… Из чего? — Это золотоносный кварц, самый богатый, какой только есть в Гвиане! — Да ты что! Ну, тогда и вправду ничего не потеряно! — Только богатства, заключенные в этом кварце, для нас в данный момент так же бесполезны, как и собственный участок на Луне! Чтобы все это раздолбить, нужны пестовые молоты[253], коперы…[254] Нужны паровые двигатели, много рабочих рук, провиант и еще куча вещей… — Тогда для чего ты это рассказываешь? — снова расстроились каторжники, низвергнутые с высоты вспыхнувших было надежд. — А вот: присутствие кварца указывает на близость рыхлых земель, которые легко поддаются обработке. Они содержат золото в виде зерен или песка. Нам нужно сделать только одно, если не найдем арамишо, а это вполне вероятно, — заняться обработкой этих земель, превратиться в честных золотодобытчиков… Такое ремесло не требует ни сложной техники, ни большого ума. — А что оно может дать? — Обычный старатель зарабатывает сто пятьдесят — двести франков в день. Но поскольку перед нами особо богатые земли, то эту сумму надо учетверить, как минимум… — Так не будем терять времени! У тебя и самом деле котелок варит… — Мы подкрепились, больше здесь делать нечего, надо давать тягу. Ты прав: каждая минута дорога. Разговор подельщики вели на повышенных тонах, чтобы перекрыть шум потока, чьи волны неутомимо бились о свое каменное ложе. Внезапно Бенуа поразило, что слова его зазвучали с неожиданной звонкостью. Индейцы и трое белых тоже обратили внимание на это странное обстоятельство. Громкое ворчание воды постепенно затихало, тишина становилась все более угрожающей, непроницаемо глухой. — Что там еще? — забеспокоился шеф, хватаясь за факел, готовый вот-вот погаснуть. Он быстро двинулся в глубину пещеры и вдруг застыл как вкопанный, потрясенный зрелищем опустевшего русла. Речки больше не было. Подземные пороги не шумели. Обнажившиеся скалы странно поблескивали, распространяя характерный запах сырости, свойственный погребам или только что осушенным водоемам. Бенуа ринулся назад, от страха у него шевелились волосы. Спутники ожидали с тревогой. — Скорее уходим отсюда! Я не могу понять, что происходит! Наверное, нам грозит опасность! Река исчезла, это плохой признак. Немедленно собирайтесь, нельзя терять ни минуты! Паника охватила маленький отряд. Но предаваться отчаянию было некогда. Все молниеносно вскочили на ноги. — К выходу! Перепуганный злодей двинулся во главе колонны, скорым шагом проделав путь, каким недавно проникли в пещеру, но не увидел впереди ни малейшего просвета. Вместо этого он налетел в темноте головой на огромную скалу, перегородившую дорогу. Холодная дрожь пробежала у него по телу. — Мы погибли, — пробормотал авантюрист, — если не отыщем выхода! Пещера завалена.
ГЛАВА 6
Откровения старшего робинзона. — Жуткие открытия. — Скудная добыча. — Загадочные следы. — Пройдохи. — История сапожного гвоздя. — Воспоминания о Купере[255]. — Незваные гости. — Хитрый парижанин. — Разведка. — Зеленый склеп. — Ураган.Анри отсутствовал два дня. Вернувшись, он крепко обнял мать, пожал руки отцу, братьям, Никола и Казимиру, затем, не говоря ни слова, отцепил лямки, удерживавшие его гамак на могучих плечах. Он выложил на большой стол из оливкового дерева[256] довольно крупного ягненка, на сероватой шкурке которого краснели две пробоины от пуль. Появление юного охотника встретили радостными возгласами. Все обитатели колонии, даже животные, приветствовали старшего робинзона. Однако выражение явной озабоченности сквозило в лице юноши, обычно таком улыбчивом и живом. Родители не стали докучать расспросами, мать была нежной, как всегда, рукопожатия отца и братьев — такими же крепкими и сердечными. Гокко ощетинили гребешки и потихоньку квохтали. Птицы-трубачи испускали воинственные кличи. Гуси, куропатки, фламинго заливались на разные голоса. Не только обитатели птичьего двора, но и полу домашние животные принимали деятельное участие в общем хоре приветствий. Муравьед Мишо, гордо поднявший султаном пышный хвост, похрюкивал от удовольствия при виде Кэти, ручного ягуара, а обезьянка Шарля Сими, расшалившаяся, как в дни далекого детства, вскочила на хищника и начала яростно чесать свой безухий череп, а потом рыться в шерсти своего «верхового коня», выискивая насекомых-паразитов, которые могли там обосноваться. Эта библейски идиллическая картинка[257], это мирное объединение и гармония столь разных созданий, обычно вызывавшие у юноши встречную радость и доводившие до предела общий восторг, на сей раз оставили его равнодушным. Анри казался чем-то обеспокоенным. Его необычная холодность удивила и встревожила отца. — Не болен ли, дитя мое? — спросил каторжанин, хотя цветущий вид и гордое поведение юноши явно опровергали такое предположение. — Нет, папа, — почтительно ответил сын, — ты ведь знаешь, что у меня уговор с моим здоровьем… — Но ты все время молчишь… Я уже подумал о приступе лихорадки. Видишь ли, мой друг, каким бы крепким ни был европеец, как бы ни приноравливался к местному климату, его давний враг, лихорадка, никогда не дремлет, она находит слабое место, чтобы проникнуть в человеческий организм. Ты долго отсутствовал, никогда еще не проводил столько времени вне дома… Естественно, мы начали волноваться. — Извините, дорогие мои родители, извините, — повторил Анри, не отвечая прямо на вопрос отца. — Демон охоты увлек меня… — …и ты, как всегда, поддался искушению… — Ну конечно! Когда я чувствую перед собой беспредельность, когда взору открывается девственный лес с неизведанными просторами, с зарослями и огромными деревьями, что-то творится со мной, я весь преображаюсь. Как будто свежий воздух врывается в мозг, дыхание свободы наполняет грудь, мне кажется, что я мчусь в неизвестность, могу объять необъятное! — Только, чтобы убить ягненка! — лукаво заметил проказник Эжен. — Ты — настоящий охотник за Вечностью, такой тропический Немрод![258] Анри обычно очень находчиво парировал реплики, но на этот раз почему-то смолчал. Никола огорчился: он любил запальчивые, но вполне мирные словесные «турниры» братьев, которые для победителей и побежденных завершались общим заливистым смехом школьников на переменке. — Ягненок! Он подстрелил только одного ягненка! За два дня! — подпустил шпильку и парижанин. — Да ты, наверное, встретил русалку, Maman-di-l’Eau, как говорит Казимир! — Нет, нет, компе, — живо возразил добрый старик, и голос его звучал боязливо, — не шутите с Maman-di-l’Eau! Она своенравней, чем индианка. Она бывает или хорошей, как белый человек, или плохой, как оякуле! Пока Никола потешался над страхами старого негра, Анри незаметно подал знак отцу, и мужчины уединились. Старший из братьев-робинзонов снова прихватил свой лук со стрелами и свистнул ягуару, который тут же ринулся за хозяином. Робен первым нарушил молчание. — Плохой же из тебя дипломат, мой милый Анри. — Почему же, отец? — Да стоит понаблюдать тебя одну минуту и, если не глух и не слеп, сразу определишь, что ты принес дурную весть. — О! Кто тебе сказал? — Да мои собственные глаза. Как, такой неутомимый ходок, такой ловкий и непогрешимый стрелок из лука, ты возвращаешься через два дня с этой жалкой добычей! Как, человек с железными мускулами, такой храбрый и самый сильный из нас, ты берешь с собой оружие; ты зовешь с собой верного стража, хотя мы отходим на двадцать шагов. И ты удивляешься моим словам? Я вижу, дитя мое, что нам угрожает серьезная опасность. — Увы, правда. Мне только не хотелось вызывать тревогу у матери. — Вот это верно. Узнаю моего сына, мою «правую руку», мое «alter ego»[259]. Опасность, должно быть, неминуема и очень серьезна, если требует таких предосторожностей… — Посуди сам, отец. Я нашел следы белых на индейской тропе. Робен сохранил невозмутимость, только глаза его вспыхнули. — Это серьезно!.. — сказал он врастяжку. — Очень серьезно. Нисколько не сомневаюсь в твоих способностях «лесного следопыта»… Ты сам видел, сам убедился… — Сначала у меня еще оставались кое-какие сомнения. Я не впервые обнаруживаю в лесу человеческую тропу. Часто шел по следам индейцев. И научился распознавать, по выражению из псовой охоты, «присутствие» арамишо или, например, эмерийонов… У этих последних отпечатки вывернутых ног никак не спутаешь с изящными и тонкими следами первых, а вот тяжелые вмятины индейцев галибы очень отличаются от легких следов оямпи. Но какое значение имели для нас эти безобидные люди?.. Инженер слушал, не прерывая, сыновнюю исповедь о таких простых и вместе с тем сложных вещах, и то ли от взволнованного искреннего тона, то ли от грозящей близкой опасности он невольно припоминал легендарного героя Фенимора Купера, по чьим стопам его сын шел так уверенно и успешно. Юноша продолжал: — Я подзывал свистом дикого кролика. Кэт, сидя возле меня, выжидала удобного момента, чтобы наброситься на него, когда я вдруг увидел в поведении ягуара признаки беспокойства и даже гнева. Ты ведь знаешь отличный инстинкт и бесподобный нюх моего спутника. Очень сомневаюсь, чтобы лучшие ищейки Европы могли соперничать с этим беспощадным охотником, которого мы скорее укротили, чем приручили. Агути[260] приблизился, учуял нас, удивленно хрюкнул и убежал, но Кэт не обратила на него никакого внимания. Ее сморщенная в ярости морда была обращена в прямо противоположном направлении. Я навострил уши, и мне показалось, что слышен хруст веток, только очень слабый и отдаленный. Я спрятался за большим эбеновым деревом и ждал, удерживая ягуара за шею. Шум приблизился, и вскоре в нескольких шагах от меня показались девять краснокожих, которые шли индейской цепочкой. Шестеро мужчин и три женщины, из которых одна, самая юная, пребывала, по-моему, в состоянии полного отчаяния. Высокий старик с суровым лицом что-то ей выговаривал резким тоном. У той вырвалось рыдание, тогда он ударил ее по лицу рукояткой мачете. Брызнула кровь, несчастная нагнула голову и умолкла. Они прошли совсем рядом со мной, и я понял, что индейцы спасались бегством, потому что несли с собой все лагерное снаряжение и буквально изгибались под тяжестью продуктов. Меня не интересовало, куда направляются эти люди, но очень хотелось знать, откуда они вышли. — Замечательно, мой друг! Хвалю тебя за осторожность. Эти беглецы могут быть осколками большого племени, и важно знать его численность и местонахождение. — Да, отец, я именно так и рассудил. Немедленно отправился по их следу в противоположную сторону и вышел к тем горам, которые мы посетили когда-то и нашли отличные образцы золотоносного кварца. Но там очертания ступней запутались, а точнее, размножились. След встреченных мною индейцев смешался с отпечатками других краснокожих, а характер грунта не позволил мне точно установить различие между ними. Но мне повезло: я заметил маленькую речушку и обнаружил на берегу приметы тех девяти. Не знаю почему, но сердце мое сжалось. Отпечатки эти напомнили мне Жака, индейца арамишо, которого мы спасли. Вид молодой женщины в слезах, грубость старика, наверное, это их вождь, отсутствие Жака, какое-то тайное чувство говорило о трагедии, произошедшей недавно и невдалеке от нас. Установив исходный пункт беглецов, найдя их отпечатки и тщательно обследовав почву, я уже легче мог разобраться в прочих следах. По-видимому, они принадлежали эмерийонам, потому что у всех был характерный поворот большого пальца вовнутрь. Пять или шесть индейцев из второй группы были без мизинца на левой ноге, и я заключил, что это тиос, припомнив рассказы Казимира об их обычаях. — А много ли всех было?.. — Человек двадцать — двадцать пять, не считая белых. — Дело оборачивается все хуже, — задумчиво произнес Робен. — Рассказывай дальше… Не опускай ни одной подробности, даже самой мелкой, не бойся быть многословным. Я с удовольствием подтверждаю, что ты действовал с присущим тебе умом, четко замечал даже то, что на первый взгляд казалось незначительным… Польщенный похвалой, молодой охотник продолжил: — Странное дело, все следы соединились в одном месте, с той лишь разницей, что отпечатки арамишо удалялись отсюда, а эмерийонов и тиос оканчивались здесь. Несмотря на самое тщательное изучение местности, я не мог обнаружить ни откуда вышли первые, ни где терялись вторые… Казалось, что гора на время приоткрылась, а потом вдруг захлопнулась, чтобы спрятать ключ к разгадке. Поиски, однако, не были совсем бесполезными. Я много раз видел на беловатых плитах кварца черные царапины с металлическим отблеском, как будто их оставило на скале что-то металлическое. Это не могло быть ни кончиком стрелы, ни лезвием ножа. Скорее походило на желобок от круглого предмета, величиной с ружейную дробинку. Чуть дальше я заметил сразу четыре на одной горизонтальной линии, с интервалом в полсантиметра. Да ведь это гвозди на подошве, вдруг мелькнуло у меня… И я не ошибся. В десяти метрах дальше человек оступился и потерял один из гвоздей. Я обнаружил, что шляпка попала в скальную трещину, и вытащил его. Вот он, в моей сумке. Можешь посмотреть. С того момента я знал, что среди индейцев находился белый человек. — Очень хорошо, мой милый сын! Ты прав в своих рассуждениях. Никто из туземцев Гвианы, а также и негров, не носит европейской обуви! Ну, а что с другими белыми?.. — Тут доказательства менее очевидны, но достаточно убедительны. Я прибегнул к индуктивному методу[261]. Отряд остановился, не доходя до горы, на увлажненной почве. Они держали совет. Четверо белых находились в центре. Человек в башмаках носит ружье, я нашел след от приклада. А три его товарища ходят босиком, подобно индейцам. — Но как же ты определил, что это белые?.. — Потому что краснокожие во время отдыха садятся на корточки, и центр тяжести тела переносится на пальцы ног. А белые стояли, пока длилась беседа, думаю, что не меньше четверти часа, судя по глубине и ясности отпечатков. — Твои объяснения представляются справедливыми. Пришельцы вот-вот раскроют секрет нашего уединения… А при нынешних обстоятельствах чужак легко превращается во врага… Ведь я все еще нахожусь в бегах! Срок моего заключения, как там говорят, далеко еще не истек. И кому-то я покажусь лакомой добычей… Меня могут схватить. Глаза юноши загорелись решительным и непреклонным блеском. Он сжал рукоятку мачете могучей рукой и твердо заявил: — Схватить тебя, самого доблестного из всех! Да никогда этого не будет, брось даже думать такое! Робинзоны из Гвианы, под командованием своего отца, отразят нападение хотя бы целой армии! Враги могут опустошить наши плантации, разрушить постройки, уничтожить дом, но у нас всегда останется лес! А! Пусть только они явятся сюда! Пусть только замахнутся, только вымолвят слово, тронут хоть один волосок на твоей голове! И ты увидишь, достойны ли дети изгнанника своего отца! — О, мальчик мой! Но каково придется нашей матери среди таких опасностей и приключений? — Моя мать — это подруга льва. Ей не привыкать к тяготам жизни, и она презирает любую опасность. А потом, разве мы не готовились долгие годы к возможному нападению? Никогда не думали о чужом вторжении в нашу спокойную, уединенную жизнь? Ты же сам учил нас никогда не падать духом! — По здравому размышлению, ситуация не кажется мне такой уж безвыходной. Большие события могли произойти в колонии за те десять лет, что мы не общаемся с цивилизованным миром. В ту эпоху вообще не было речи об открытии золота. Кто знает, быть может, сейчас рудные жилы или хотя бы золотоносные участки разрабатываются в больших объемах? А что, если наши незнакомцы — всего лишь горнорудная поисковая партия? — В сопровождении индейцев? Ну, это сомнительно. Так что же нам все-таки делать? — Ты поступил разумно, предупредив меня первым о событии, которое тебе хотелось скрыть от матери и братьев. Однако их тоже надо поставить в известность, и как можно скорее. Мы посоветуемся все вместе и тогда примем решение. Важен голос большинства. Обеспокоенные необычным поведением Анри, обитатели усадьбы начали волноваться по поводу столь длительной беседы. Ледяным молчанием встретили они сообщение Робена. Случай довольно редкий: Никола, который обычно давал выговориться своим юным друзьям и высказывался после всех, на сей раз первым нарушил молчание. Он поддался бессознательному порыву, который заставляет говорить против воли, если тебя вдруг осеняет мысль, кажущаяся бесспорной. — Месье Робен, и ты, Анри, вы подумали обо всем, кроме одной вещи. — Какой? — в один голос воскликнули оба. — Эти четверо белых те, с кем нам пришлось уже иметь дело. Мы их вытурили с реки, а они нашли другую дорогу, примкнув к индейскому племени, и теперь зашли нам с тыла. Убежден, что так оно и есть. Эта мысль все время сверлила мне мозг, пока вы говорили; я напрасно уверял себя, что могу ошибаться. Поверьте мне, не ищите других вариантов. Суть в этом. — Скорее всего, ты прав, Никола. Хоть и невероятным кажется подобный факт, мы должны принять его без возражений, пока не получим опровергающих доказательств. — Черт бы побрал этого попрыгунчика-краснокожего с его россказнями о тайнах золота и всякими признаниями при луне! Лучше бы он откусил свой язык, чем втягивать нас в такую авантюру! Ах, месье, какое несчастье, что вы не позволили Анри нашпиговать четырьмя хорошими стрелами эту пернатую дичь! Уверяю вас, что ничего хорошего не приходится ждать от людей, которые так обращались с пленным. С какой бы радостью мы встретились с белыми людьми, честными искателями золота, а не отбросами каторги! Повторяю: я хотел бы ошибиться, но приходится утверждать, что это соседство создает нам неминуемую и серьезную угрозу. — Но мы не можем атаковать без всякого повода? — А если они нападут на нас первыми, разорят дом, подорвут основы нашего существования? Разве вы не знаете, что эти субъекты толкуют уважение к людям и справедливости как проявление слабости, как возможность успешнее добиться своей подлой цели? — Ну, а если они лишь ненадолго появились в наших пределах и уберутся, когда выполнят намеченную программу? — Тогда они возвратятся в большем количестве, и опасность только возрастет. Я отстаиваю первоначальную идею: пиф-паф, — парижанин изобразил пуск стрелы, — и ваших нет! — Не будь таким нетерпимым, мой дорогой Никола, я согласен, что необходимо принять самые срочные и действенные меры. Мы должны как можно скорее выяснить местонахождение чужаков и постараться узнать их намерения. Задача трудная, но, надеюсь, выполнимая. Ведь нам приходилось оказываться в не менее сложных обстоятельствах, но всегда преодолевать преграды. Вот что я предлагаю. Мы вчетвером уйдем послезавтра — Анри, Эдмон, Эжен и я. Шарль с матерью остаются дома, при них Никола и Казимир, они терпеливо ждут нашего возвращения. Кэти также будет стеречь дом. — А если во время нашей отлучки отряд негодяев тоже придет на разведку? — Я предвидел такую ситуацию, дитя мое! Мы сейчас начнем строить хижину недалеко от реки, в совершенно уединенном месте. Наполним ее всем необходимым, скроем следы свои и разместим там наш резервный отряд. А «Добрая Матушка» останется как бы покинутой… Самое худшее, что может произойти — это найти ее однажды разграбленной до основания. Но мы снова все восстановим. Этот план, простой и несложный в исполнении, получил общее одобрение. Хижину воздвигли недалеко от того места, где десять лет назад произошла смертельная схватка тигра с муравьедом, после чего появились в колонии маленькие Кэт и Мишо. Мадам Робен, привыкшая за долгое время к бесконечным перипетиям[262] жизни лесных изгнанников, спокойно отнеслась к уходу мужа и троих сыновей. Она верила в их опыт и неустрашимость. Никола сперва огорчился, что его обрекли на бездействие, но вскоре успокоился, ведь ему предстояло охранять свою благодетельницу. Он проводил четырех путников до границы «Доброй Матушки» и медленно возвратился, тщательно уничтожая следы. Наш славный друг парижанин был неплохим телохранителем. Никто не узнал бы в этом коренастом молодце с выпяченной грудью, с кирпичного цвета лицом, ясным и смелым взором того наивного путешественника, который десять лет тому назад так всему удивлялся в этом загадочном тропическом лесу. Он уже чувствовал себя здесь, как в Париже, и приспособился к первобытной жизни удивительно быстро. С луком он обращался не хуже любого краснокожего, след брал, как заправский охотник, и не было ему равных в разгадывании хитростей агути, ягненка или броненосца[263]. Надо было видеть, как бережно расправлял он смятую травинку, цеплял на место лиану, кончиком пальца осторожно поправлял случайно поврежденный муравейник, одним словом, придавал местности первозданный вид, способный обмануть самое изощренное зрение. Когда он, торжествуя, вернулся в хижину и горделиво произнес: «Все в порядке!», мадам Робен и юный Шарль нисколько не усомнились в своей полной безопасности. Что касается всегда радостно озабоченного Казимира, то его широкая и добрая улыбка говорила об удовлетворенности старого негра. Он гордился своими учениками, особенно Никола, который позже всех поступил на «курсы робинзонов». Так что благодушный старик повторял безустанно и с удовольствием: «Компе Никола давно обогнал негра, у него нет соперников в мире, кроме муше Анри». В это же время Робен с сыновьями медленно, но уверенно продвигались по следу, обнаруженному Анри. Они шли индейской цепочкой, не обращая внимания на жару, не производя ни малейшего шума, который мог бы нарушить своеобразную тишину лесного океана. Как бы играючи, они несли на могучих плечах гамаки, продукты, оружие. Бесстрашные колонисты давно привыкли к походным условиям жизни со всеми ее причудами, как доблестные солдаты Африканского корпуса[264] в силу постоянной напряженности обстановки выработали у себя способность к быстрым и неожиданным переменам обстоятельств, чем удивляли даже самих арабов. За весь день сделали только одну остановку на берегу реки, чтобы перекусить. Меню отшельников состояло из горсти размоченного в воде куака да маленького кусочка копченого мяса, и только раздразнило бы аппетит у обыкновенного человека. Но в гвианских лесах люди воздержанны. Тем более что тяжело нести с собой слишком много провизии. Солнце клонилось к закату. Было около пяти вечера. Через час раскаленное светило скроется, день резко сменится ночью без мягкой полосы сумерек. Настало время позаботиться о стоянке, чтобы не быть захваченным темнотой врасплох. В обычное время робинзоны привесили бы свои гамаки к первым попавшимся деревьям в метре от земли, держа оружие под рукой. К несчастью, они находились в глубине непроницаемой чащи из огромных деревьев, плотно укрывавших развесистыми ветвями влажную и жирную землю. Мы говорим «к несчастью», потому что и утром и вечером эти участки леса остаются затопленными одним из тех ливней, чья невероятная мощь не поддается никакому описанию. Днем от солнечного жара возникают густые испарения, плотные как лондонские туманы. Это облако, насыщенное миазмами[265] — настоящий саван для европейцев, — медленно поднимается сквозь кроны. Волны его тяжко плавают до вечера, малоподвижные и как бы зацепившиеся за самые высокие верхушки. А когда пылающая шевелюра[266] лучей исчезает и температура резко снижается, эти постоянно нарастающие тучи разрываются шквалом[267] дождя, хлещущим по листьям, каскадами стекающим по стволам, скручивающим лианы и превращающим землю в озеро. Такое явление наблюдается дважды в день в местах наибольшей плотности леса. Только раскорчевка может предотвратить повторный ливень. Робинзоны, люди опытные и осторожные, решили любой ценой избежать потопа, который готов был обрушиться на них через какой-нибудь час. Не так страшно, если промокнешь в пути. Ходьба продолжается, и одежда постепенно высыхает. Но ночью вымокший путешественник, словно только что вышедший из реки, неподвижен в своем гамаке. Он не в состоянии бороться с влажным холодом, который пронизывает до костей. Он вскоре коченеет, его бьет дрожь, начинается лихорадка, и может наступить губительный приступ. В пяти случаях из десяти человек погибает. Четверо путников, после тщательного изучения обстановки, решили соорудить хижину, пускай не самую основательную, водонепроницаемую. Даже такие скромные постройки оказывают значительную помощь племенам тропической зоны. Достаточно четырех столбов — обычно выбирают расположенные по квадрату деревья, — соединенных с помощью лиан легкими перекладинами. Эту конструкцию покрывают листьями, образующими «крышу». Нет необходимости в боковых стенках, потому что дождь падает отвесно. Когда найдено подходящее место для «хижины», оно очищается от травы и кустарника, и через полчаса вы располагаете укрытием, где можно спокойно переждать самый бурный ливень. Важно избежать соседства сухих деревьев, которые могут свалиться от малейшего толчка и причинить большие неприятности. Наши друзья, приняв необходимые меры предосторожности, уже около часа дремали под сенью своей «хижины», когда внезапно разразился ураган. Поистине удручающая картина! Дождь осложнился настоящей бурей. Нет ничего более волнующего и тревожного, чем пылающие вершины, пронзающие густое облако; ничего более странного, чем неподвижность древесных великанов, кажущихся колоннами огненного свода; ничего ужаснее яростных вспышек молний, сопровождаемых непрерывными раскатами грома, которые бесконечным эхом разносятся под лиственными арками. Однако ни один порыв ветра не колышет лесные дебри, всегда недвижные и как бы окаменевшие. Буря в тропиках напоминает канонаду[268] в пекле. Подавленные, оглушенные, ослепленные робинзоны терпеливо ожидали завершения грозы, когда потрясающей силы удар раздался над их головами. Земля затряслась. Деревья, служившие опорой для навеса, отклонились в стороны, и хрупкое сооружение из листьев рухнуло. Затем страшный грохот перекрыл небесную канонаду: весь участок леса обрушился, похоронив стоянку под огромным зеленым шатром.
ГЛАВА 7
В каменном плену. — Опыт каторжанина. — Проныра. — Погребение колдуна. — Дипломатия бандита. — Крик в джунглях. — Встреча врагов. — Поляна смерти. — Ликование палачей. — Последний ритуал. — Возвращение бони. — Загробная история безголового вождя.Ярость Бенуа, попавшего в каменную ловушку, не ведала границ. Известно, что терпимость и благодушие не относились к добродетелям бывшего надсмотрщика. И он дал выход природной грубости с такой безоглядностью, на какую только была способна его свирепая натура. Очень сдержанные во внешних проявлениях гнева или страдания, индейцы помыслить не могли о такой щедрости проклятий и самой отборной ругани. Этот поток брани, зычные раскаты голоса, непомерная мощь голосовых связок в соединении со свирепой мимикой, возвысили бородача в глазах изумленных дикарей. А ошеломленные белые хранили испуганное молчание: проявлять такой «первоклассный» гнев конечно же пристало только великому вождю. Брань звучала добрые четверть часа, а затем у Бенуа перехватило дыхание, иссякла слюна, и ругань прекратилась. Он кончил тем, с чего должен был начать: заявил о необходимости поискать выход из положения. Покрутившись, как медведь в клетке, по пещере, изучив все ее закоулки, бывший стражник попытался сдвинуть камень, закрывший вход, но не добился никакого успеха и не столько сел, сколько брякнулся на землю в полной растерянности, совершенно неожиданной для этого человека. — Ну что, шеф? Почему молчишь? — почти с робостью осведомился Тенги. Хорошо знакомый с камерами-одиночками, Тенги не испытывал того давящего ощущения от закрытого пространства, которое обычно угнетает людей, привыкших к естественному простору. — Что тебе сказать? Плохо дело. Я привык «запечатывать зеков», держать каторжников под запором, а не выкидывать штучки с побегами. Несмотря на серьезность ситуации, трое преступников расхохотались. Это бесхитростное признание в устах бывшего надзирателя очень польстило им. — Видишь ли, шеф, — поучительно сказал Бонне, — если бы тюремщики охраняли заключенных с такой же бдительностью и усердием, какие те вкладывают в свои тайные планы, то никогда бы не было побегов. Пленнику удается его предприятие, потому что он только о нем и думает. — Ну ладно! Поторопись-ка и ты подумать, как выбраться отсюда. Вы же лучше меня разбираетесь во взламывании дверей. — Плоды серьезного образования, — иронически бросил плут. — Кончай базарить! Каждому своя роль. У меня одни способности, у вас — другие. Бонне, ты здесь самый большой мошенник, настоящий проныра, бери дело в свои руки, организуй что-нибудь! Ты увидишь, что я умею повиноваться. — Вот это другой разговор! Беремся за дело, потому что долго мы здесь не протянем. Пища есть, а вот воды — ни капли. Те, кто нас тут завалил, знали, что делали, отводя русло реки. — Ты полагаешь, подземную речку осушили специально? — Убежден! Наши враги наверняка уступают нам в количестве и не решаются атаковать. Им показалось удобнее уморить нас голодом и жаждой. — Гм, это вполне возможно… После всего, что произошло… — Сам увидишь, что я прав! Мы выйдем наружу через два дня, или я не буду, как ты говоришь, самым большим пронырой среди твоих бывших подопечных! Приступаем к делу, время не ждет. Это видно по вытянутым физиономиям бравого Акомбаки и его людей. Они могут счесть, что шутка чересчур затянулась… Для начала набросаем план. К счастью, у нас есть руки. Работа несложная. Ты атакуешь скалу силами наших союзников. Да неужто эта чертова дылда не поддастся мачете! Разве мы не буравили тюремные стены в одиночку, в темноте, под недремлющим оком стражников… И всего лишь каким-нибудь гвоздем, обломком миски или даже кусочком стекла… А я тем временем внимательно осмотрю помещение. Бандит взял факел и отправился в галереи, ведущие в глубину пещеры. Тиос и эмерийоны, подстегнутые алкогольной дозой, которую щедро отмерил им Бенуа, яростно вгрызлись в глыбу, загородившую выход. Результат показался вначале обнадеживающим. За несколько минут они довольно заметно продвинулись, поскольку слюдяная порода оказалась рыхловатой. Но вскоре мачете наткнулись на диорит, от которого отскакивали с искрами. Скальная порода обладала твердостью, не уступавшей самой стали. Потребовался бы горный бур[269], чтобы в итоге изнурительного труда врубиться в эти блестящие плиты, спрессованные в каменные монолиты[270] за тысячи веков несравненным рабочим — временем. Бывший надзиратель почувствовал, как сразу вспотела его голова и ледяная дрожь пробежала вдоль спинного хребта, едва представилась ему в полной мере бесполезность самых энергичных усилий. Узкий проход, открывавший доступ в пещеру, появился в цельной скале в результате геологического сдвига и представлял собой овальную трубу от четырех до пяти метров длиной, а высотой до полутора метров. Он расширялся к краям с наружной стороны, так что камень, закупоривший проход, как бы впечатался в эту воронку. Невозможно втянуть камень внутрь, поскольку его объем больше узкого коридора, невозможно и вытолкнуть наружу, потому что его наверняка придавила огромная масса земли. В этом плане все попытки обречены. Вернулся Бонне из своей разведки, и у него результаты оказались плачевными. Острая мордочка каторжника сохраняла бесстрастность, а грубое лицо Бенуа исказила судорога отчаяния и покрыл обильный пот. — Ничего… — пробормотал он отупело. — Ничего!.. Значит, нам придется здесь умереть! Я все предвидел, кроме такой ужасной смерти. Быть заживо погребенным! Никогда не думал… Уж лучше бы мне раскроили котелок! — Эй, кисляй! — язвительно бросил Бонне. — Ты, кажется, набрался страху? — А то нет… — Да ладно тебе, мокрая курица! Я еще не пою себе отходную… — Но индейцы не понимают, что происходит, и начинают роптать. Если так продлится, они разорвут нас в клочья. — Дай им выпить. — От водки еще хуже… Она их разъярит. — А ты заставь их биться между собой. Они друг друга поубивают, а мы съедим убитых, чтобы протянуть время[271]. — Значит, у тебя нет никакой надежды? — В данный момент никакой, но я возьму другой факел и снова пойду искать. — Я с тобой. Не могу оставаться на месте. А тут еще невыносимо смердит этот труп, который они приволокли и сюда… Тенги и Матье нальют им водки, а я пойду, меня тошнит… — Идем! Раз ты ни на что больше не годен, понесешь огонь… Двое мужчин, пробираясь медленно, но без особого труда, вскоре вышли к берегуиссохшего потока. Бонне с надеждой поскреб дно темной канавы кончиком ножа и как бы про себя вымолвил: — Если еще и остается шанс на спасение, то он здесь. Потому что вода проникает сюда через одно отверстие и выходит через другое. Что скажешь на это, шеф? В ответ раздался хриплый вопль Бенуа, который внезапно поскользнулся и кубарем полетел вниз, выпустив факел из рук. — Бенуа! — закричал каторжник, не на шутку встревоженный. — Бенуа! Ты ранен? Отвечай! — Нет, — прозвучал глухой голос, — но я сильно ушибся. Ничего не сломал как будто, больше страха набрался… — Слушай, подними факел… Вот так, свети мне! Я сейчас спущусь. Тут вниз метра два, не больше… — Примерно так… Но берегись острых выступов, это чудо, что я не распорол себе живот… — Хорошо… Спускаюсь… — ответил Бонне, цепляясь за камни и стараясь мягко ступать кончиками пальцев. — Раз… Два… Оп! Порядок! Везде можно освоиться, если знаешь, как взяться за дело… — Ай! О-ля-ля!.. — Да что еще с тобой? — встревожился каторжник. — Не могу идти. — Тогда беги! — Думаю, что у меня вывих. — Только этого нам не хватало! Вот растяпа! — Нет, мне уже лучше, ногу только печет, но я могу на нее опираться. — Тогда в путь. Два авантюриста осторожно двигались по высохшему руслу реки, чье ложе представляло собой причудливую нить запутанного лабиринта. Вскоре начался довольно крутой подъем. Вероятно, они уже достигли, а может быть, и превзошли высоту свода пещеры. — Дело движется, — успокаивал Бонне компаньона, ковылявшего за ним. — Дело движется очень хорошо! Эти добряки, законопатившие нас, полагали, что отрезали все пути к спасению, потому что лишили пещеру воды… Но они не продумали всего до конца. Стоп! Я же говорил тебе! Погляди наверх! — О! Воздух! Свет! — заорал Бенуа, заметив в двух метрах над головой небольшое отверстие, сквозь которое виднелся кусочек голубого неба. — Отсюда вода вливалась в грот, наши дурачки установили перемычку перед дырой, не ведая, что «худющий» Бонне сможет туда проскользнуть. — Как, ты надеешься пролезть?! — Черт подери! Мне удалось убежать из тюрьмы Питивье через дыру, на треть меньшую. Видишь ли, я — настоящий угорь![272] Тюремщик мой был добрый человек, хотя и глуповатый, он дал мне листок белой бумаги. Я нарисовал гильотину[273] и повесил свой шедевр[274] на стену. «Я пройду через это», — говорил ему всякий раз, когда он приносил мне дневной рацион. «Надеюсь, что нет», — следовал неизменный ответ. Бедняга имел в виду эшафот, а речь шла о дыре, которую я ковырял крючком от окна и прикрывал всякий раз рисунком. В одно прекрасное утро птичка выпорхнула из клетки. А на том листке осталась надпись: «Ухожу на сбор винограда». Через полмесяца меня схватили в крестьянском погребке, где я пил отличное вино и оставил у хозяина несколько тысяч франков, бывших при мне. Поскольку пьян я был в стельку, то меня премило упаковали, отвезли в Орлеан и снабдили билетом последнего класса в дом заключения Пуасси. Ну, хватит болтать! Пора переселяться, как в Питивье. Только два слова еще! Когда выберусь отсюда, то найду вход в пещеру и уберу все, что мешает вытолкнуть камень изнутри. После этого подам сигнал свистом, а вы объедините все усилия — и разрази меня гром, если не удастся спихнуть каменюку! — Решено! — отчеканил Бенуа, которому перспектива близкой свободы вернула энергию. — Погоди минутку, я тебя подсажу. — Бывший надзиратель изогнулся дугой вдоль стены. — Залезай на плечи! — Вот теперь порядок, руки достают до «форточки»… Голова проходит. Шкуру на боках обдеру, но это пустяки, маленькое неудобство… Должен пролезть, на тюремных харчах я живота не нагулял… Каторжник подтянулся что есть силы, как-то уменьшился в размерах, вытянулся, напряг все мускулы, даже стал вроде более плоским и в конце концов протиснулся в узкое отверстие. На несколько минут он застрял на полпути, среднюю часть тела сжало словно тисками. Бонне не в состоянии был ни продвинуться вперед, ни вернуться; наконец ему удалось высвободить руки, он поболтал отчаянно ногами, кости его затрещали, кожа была ободрана в кровь. Раздался долгий крик облегчения: беглец на свободе! Когда маневр увенчался успехом, не столь сложно было выполнить остальную часть плана. Намерения ловкача осуществились с точностью, на какую он сам не рассчитывал. Вход в пещеру, который негодяй отыскал в несколько минут, оказался заваленным целой горой камней; лишь мина могла разворотить ее одним ударом. Бонне достиг этого результата за два часа ожесточенной работы. И следа не осталось от «холма», который насыпали арамишо при своем поспешном бегстве. Пленники объединили усилия, согласовали движения и толкнули камень с такой силой, что он покачнулся, а потом с грохотом покатился по склону горы до самого низа. Вопль радости и ликования вырвался у белых при виде солнца, чьи пламенные лучи они уж не надеялись почувствовать на своей коже. Индейцы пели и плясали, вытащив на свежий воздух труп своего пиэй, еще более разложившийся. Уступая настояниям Бенуа, они согласились похоронить колдуна недалеко от пещеры, предварительно срезав его длинные волосы, чтобы предать их земле с необходимыми почестями в нужное время и в надлежащем месте. В доску пьяные и совершенно отупевшие краснокожие без особых переживаний восприняли свое заточение, которое могло оказаться для них роковым. Оставило их равнодушным и возвращение к свету, к жизни в девственном лесу. Единственным их желанием было поскорее вернуться к себе вместе с волосами своего пиэй, чтобы снова начать похоронную церемонию, уснащенную обильными возлияниями. Не видя в данный момент подходящего предлога для поглощения кашири или вику, озабоченный благом подчиненных, как и своим собственным, Акомбака собирался подать сигнал к возвращению. В конце концов он сдержал обещание. Белый вождь сумел благодаря его помощи достичь цели, а ему, Акомбаке, теперь нужно выполнять свои обязательства. Пора вернуться к реке и отправиться на войну с бони и полигуду. Но Бенуа был решительно против. Краснокожие — слишком ценные помощники, чтобы он согласился лишиться их услуг. Отлично зная слабости этих больших наивных «детей», жадных и ленивых, мошенник без особого труда соблазнил их снова. — Неужели вождь краснокожих, — нравоучительно начал надзиратель, — откажется покарать убийцу великого пиэй своего племени? Неужели он до такой степени опустился, что забывает, как старая женщина, об оскорблении, нанесенном ему и его воинам? — У моих молодых мужчин нет больше пищи, — жалобно сказал пьяница. — Жестокий голод станет бурчать в их животах, у них не хватит сил, чтобы сражаться с неграми Марони. А кто защитит наших женщин, детей, стариков, если голод поразит и отберет у них силы? — Но разве честь для краснокожих мужчин не превыше всего? — Индеец идет в бой только сытым, — возразил вождь, перефразируя, сам того не ведая, изречение известного маршала: «Солдат не станет сражаться, пока не съест тарелку супа!» — Пусть тебя это не беспокоит, — заверил Бенуа. — Я поведу вождя и его воинов на такие плантации, каких не видел ни один индеец с тех пор, как великий творец мира Гаду создал людей, животных и леса. — Мой брат говорит правду? — Белый вождь никогда не лжет, — бесстыдно заявил прохвост. — Когда мой брат покажет эти плантации тому, «Кто уже пришел», и его воинам? — Когда солнце появится после того, как дважды заснет за большими лесами, мои братья эмерийоны и тиос будут хозяйничать на полях батата, ямса и маниоки, они будут купаться в изобилии и смогут, не работая, провести время великих дождей. Это доконало индейца, аргументы белого казались неотразимыми. Договорились, что они без задержки отправятся в эту загадочную прекрасную страну, где можно хорошо есть, пить, спать и где их ждет одна забота — готовить пищу и крепкие напитки. Наконец колонна снова двинулась с места, к великой радости Бенуа, утомленного тяжким бременем власти. Внезапно он обрел свои старые прозаические привычки и без умолку болтал с компаньонами. — Уф! — говорил он Тенги, который ничего не понял из его беседы с вождем, но проявлял доверительное восхищение. — Я снова спас ситуацию! — А я спас нашу кассу, — ответствовал каторжник, показывая растертое лямкой плечо, на котором болталась увесистая сумка, бившая при ходьбе по ногам. — Ну да, конечно… Самородок! Я чуть не забыл о нем… — А я помню! Хорош цыпленочек! Такой не часто сыщешь в наконечнике индейской стрелы! — Терпение, ребятки, терпение! Скоро найдем что-нибудь и получше! — Да, пусть это будут такие же булыжнички, как в моей сумке! Большего и не надо! Можешь нагрузить меня, как мула, понесу за милую душу! Отряд неторопливо продвигался в направлении «Доброй Матушки». Читатель уже догадался, что целью авантюристов был райский уголок робинзонов. Этим шагом Бенуа делал выпад мастера в фехтовальном поединке. Он намеревался в одночасье сохранить в своем распоряжении целое племя, которое заставил бы в дальнейшем переселиться в этот благодатный район, и удовлетворить свою давнюю ненависть к Робену. Ураган обрушился на них недалеко от того места, где робинзоны, не подозревая о нависшей над ними двойной опасности, разбили стоянку. Бандиты слышали грохот от падения вырванных с корнем гигантов, но слепая стихия, поразившая невинных, пощадила прохвостов. Яростное буйство природы миновало, как детский гнев, тяжелые облака рассеялись, и полная луна залила безмятежным светом блестевшую водяными жемчужинами листву. Дикие обитатели леса, напуганные внезапным шквалом, разбежались. Под просторными зелеными куполами не разносилось больше эхо разнообразных голосов зверей и птиц, промышляющих охотой… Все вдруг примолкло перед разбушевавшейся природой. Один лишь звук нарушил мертвую тишину джунглей. Донесся человеческий крик, скорее стон, один из тех тоскливых призывов, что разрывают туман агонии, плывущий над полем битвы. Голос не звал на помощь. Это был всего лишь бессознательный протест живого существа против страдания. Суеверные дикари боязливо приблизились к белым. — Ты слышал? — прошептал Акомбака на ухо Бенуа. — Да, я слышал голос пиэй, который взывает к мести, — немедленно нашелся проходимец. Звук повторился, затихающий и тревожный. — Это человек, без сомнения! — передумал бывший надзиратель. — Да кого же занесло в такое место и в такую пору? О, черт… А если… Ей-богу, не удивлюсь… Те самые типы, что украли золото из пещеры, а потом так любезно запечатали нас в ней! Бородач поделился своими предположениями с сообщниками, и те, как всегда, поддержали его. Тенги даже повеселел, решив, что «кубышка» вполне может находиться при них. — А ты не так глуп, как кажешься, дубовая голова! — заявил главарь, называя бандита ласковой дружеской кличкой, что сберегалась для особо торжественных случаев. — Идемте, время дорого! Попробуем размотать узелок… Индейцы последовали за Бенуа, невзирая на отвращение, испытываемое к ночному маршу и усугубленное ужасом таинственного крика. Отряд подошел к месту, где ударила молния и ураган причинил наибольшее опустошение. Луна заливала мертвенным светом обширную вырубку, созданную самой природой. Оставшиеся стоять деревья образовывали кольцо вокруг ужасающего нагромождения расщепленных и поверженных стволов, перепутанных крон, сломанных ветвей, порванных лиан. Небольшое светлое пятно выделялось на мрачном фоне, и находилось оно довольно близко от авантюристов. Сухая ветка треснула под башмаком шефа. Белый предмет вытянулся, увеличился в размерах, затем принял вертикальное положение. Это был человек, по-видимому, раненый, а может быть, только оглушенный ударом. У одного из индейцев вырвался возглас удивления или ужаса. — Кто вы такие? — крикнуло «привидение» по-французски. — А ты сам кто такой? — грубо парировал бывший охранник. — Раненый, который нуждается в помощи для себя и для своих товарищей! — А много ли вас? — Четверо. Ураган обрушился на нашу хижину, и мои товарищи погребены под ветками… Быть может, они погибли! — добавил человек, слезы мешали ему говорить. — Ну, мужайся! Все будет в порядке! Мы вам поможем! Бенуа приблизился к незнакомцу, которого появление столь многочисленного отряда ни взволновало, ни удивило. Отвесный луч упал на лицо говорившего. Он оказался совсем еще молодым человеком. — Черт побери! — вырвалось у пораженного надзирателя. — Я должен поставить большую свечку Богу-громовержцу. Но разразят меня силы небесные, если этот парень не тот самый, что сопровождал Робена! — Умоляю вас, поторопитесь! Мне кажется, что они без сознания! Помогите мне приподнять эти деревья и ветки! — Мы идем, молодой человек, мы идем! И с большой радостью, можете мне поверить! — О! Благодарю на добром слове! — Вы ранены? — Нет! Но у меня сильные ушибы. Мне кажется, что все конечности мои разбиты! — Вот этот человек, — шепнул Бенуа индейскому вождю, — враг твоего племени! Следи за ним, чтобы он не улизнул! А мы схватим остальных. Видишь, сам Гаду помогает нам! Трое каторжников и краснокожие действовали быстро и уверенно. Давний опыт жизни в девственных лесах позволил им сразу организовать спасательные работы. Одни проскальзывали под нижние ветки с гибкостью рептилий. Другие осторожно действовали мачете, прокладывая тропинку к месту, указанному юношей. Именно там находился, по его словам, разрушенный бурей шалаш. После часа кропотливых трудов из груды зелени раздался приглушенный голос Бонне. Благодаря поразительной природной ловкости, каторжнику-«кощею» удалось подобраться к месту, где распростертыми лежали трое мужчин, неподвижные, словно трупы. По счастливому стечению обстоятельств они оказались под огромным оливковым деревом, которое, сломавшись в пяти футах над поверхностью почвы, продолжало опираться на основание ствола, создав таким образом наклонное прикрытие над поверженными людьми. Все они были в обмороке, но без внешних телесных повреждений. По всей видимости, потерю сознания вызвала огромная сила удара, бросившего их оземь. Спасатели устремились к тому месту, откуда раздавался голос Бонне. Находясь, как водолаз, на дне зеленого месива, он дал шефу краткие наставления. Решили прорубить нечто вроде колодца в густом слое растений, высота которого в этом месте достигала семи-восьми метров. Молодой человек, с которого Акомбака не спускал обеспокоенного взгляда, орудовал энергичнее всех. Сила и ловкость вернулись к нему, и трудился он за четверых, не меньше. — Вот такого помощника не надо тянуть на веревочке, — бурчал Бенуа, которого начинала волновать эта атлетическая сила, несмотря на присутствие телохранителей. После нескольких неудачных попыток освободить раненых из заточения удалось с помощью креплений от гамаков осторожно поднять их наверх и перенести к разложенному костру. Юноша издал ликующий крик, он готов был кинуться к своим товарищам, но не успел: внезапно его повалили на землю, накинув на голову и на плечи гамак, словно невод, в ячейках которого он запутался, а ноги быстро стянули крепкими лианами. — Спокойно, мой дружочек, спокойно! — с ласковой ироничностью изрек надзиратель. — У нас есть маленький счет к этому типу, который так похож на вас и которого я знаю очень давно… Вот мы и должны с ним уладить наши дела… Двое юношей и их отец, которых усердно растирали заботливые индейцы, постепенно приходили в себя. Глоток водки, введенный через сжатые челюсти, окончательно вернул их к жизни. В тот момент, когда глаза их открылись свету, растерянно уставившись на огонь очага с естественным изумлением людей, не верящих, что они еще живы, в тот момент, когда грудь их наполнилась первыми порциями свежего воздуха, они вдруг снова остолбенели, обнаружив, что крепко связаны по рукам и ногам, да так, что не могут пошевелиться! Бенуа медленно подошел к пленникам. Он остановился возле костра, чьи кровавые отблески освещали его грубые, жесткие черты, резко сорвал с головы небольшую шапчонку, едва прикрывавшую затылок, и, глядя прямо в лицо изгнаннику, крикнул пронзительным голосом: — Ты узнаешь меня, Робен? Пленник сознавал безнадежность ситуации со всей ясностью, свойственной людям, которых капризная, полная борьбы и страданий судьба приучила к самым разнообразным опасностям. Он сразу узнал бывшего надзирателя и не удостоил ответом. Его спокойное и гордое лицо хранило впечатляющую бесстрастность. Но долгий взгляд, задержавшийся на мерзавце, заключал в себе такое сокрушительное презрение, что бандит почувствовал на своей щеке пылающий след оплеухи. Он побледнел и сделал резкое движение, сгорая от желания наброситься на своего врага. Как недавно в пещере, ругательства и проклятия готовы были сорваться у него с языка. Но Бенуа не мог вымолвить ни слова, он только икал и мычал. Никогда еще человеческий организм не испытывал такого гнусного припадка слепой, бешеной ярости. Робен и его сыновья наблюдали эту сцену с холодным и презрительным любопытством, они казались безучастными зрителями драмы, которая могла завершиться ужасной развязкой. Как будто семейство львов забавлялось гримасами трусливого шакала, не решавшегося залезть в холодную воду. Индейцы и каторжники молчали, удивленные поведением главаря. Впрочем, они уже не раз наблюдали приступы его ярости. — …Как собаки!.. Да, вы околеете все… как собаки! — наконец вырвался из груди Бенуа хриплый вопль. Губы парижского инженера шевельнулись, голосом спокойным и звонким он произнес одно-единственное слово: — Подлец!.. Этот неприятный эпитет[275] мог тут же завершиться катастрофой. Но случилось наоборот: он произвел на негодяя действие холодного душа. Тот внезапно успокоился, и, если бы не слегка дрожащий голос, невозможно было разглядеть приступ бешенства, который только что им владел. — Ты мне заплатишь за это и за все прочее. Клянусь, я бы тебе размозжил голову одним ружейным выстрелом. Вообще я предпочитаю действовать быстро и решительно. Но именно поэтому отдам тебя в руки индейцам. Ты увидишь, какие они ловкие затейники! Таких палачей в Европе на сыщешь! Я же буду присутствовать на сеансе, как судья на матче. Тебя обслужат последнего, на закуску. Мои замечательные краснокожие начнут с твоих спутников. Они — твои дети, не правда ли? Я это чувствую по своей ненависти к ним. Все похожи, как тигриный выводок, на своего отца. Бравые молодцы. Посмотрим, как они сохранят присутствие духа, когда мой достойный друг Акомбака уделит им часть своей нежности… Мне также любопытно знать, останешься ли ты таким же фанфароном[276], когда твоих парней приголубят «бессмысленные мушки», а потом искромсают муравьи-маниоки… Они будут подыхать перед твоим носом, как лягушки в табаке… Пленники оставались безучастными и немыми перед потоком дешевого хвастовства. Только их взоры, прикованные к глазам бандита, излучали непередаваемое презрение. Краснокожие, понимавшие толк в мужестве, невольно восхищались такой твердостью. Поведение молодых людей, еще совсем детей, поражало индейцев, их почтение к людям белой расы нашло новую пищу. Завтрашний праздник обещает быть чудесным, он даст им огромное наслаждение применить на практике тонкие приемы палаческого искусства, в котором они так преуспели. Душа покойного пиэй будет достойно отомщена, и масса Гаду не замедлит открыть перед нею обе половинки дверей, ведущих в рай, предназначенный специально для краснокожих. Акомбака, никогда ранее не «оперировавший» на белых, был подавлен величием своей миссии и испытывал сильные сомнения по поводу того, как надлежит ему вести себя в торжественный момент. Если бы Бенуа не убедил его в том, что белый человек с длинной бородой принял облик «бессмысленной мушки», чтобы проникнуть в глотку колдуна, то бедняга никогда бы не решился занести руку на представителя высшей и мудрой расы. Но заявление бандита (а ведь он тоже белый), его присутствие на месте казни со своими бесчестными компаньонами подняли дух Акомбаки, придали ему необходимую самоуверенность. Бенуа бросил на пленников последний взгляд, исполненный ненависти, и добавил, обращаясь к Робену: — Я не намерен объяснять мотивы своего поведения по отношению к тебе. Мы в диком лесу, вдалеке от всякой цивилизации, здесь правит закон более сильного. И чтобы свести наши с тобой давние счеты, обстановка самая подходящая. Как ты понимаешь, и повод они дают более чем достаточный. Но, чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что это ты с помощью своих щенков пытался свалить нам на голову деревья на реке, а потом ранил стрелой одного из моих товарищей. Признайся, ведь сбежать нашему краснокожему пленнику помог тоже ты? — Да, я, — четко выговорил Робен. — Вот уж не ждал такой откровенности! Твое признание успокаивает мою совесть, — иронически заключил Бенуа. — Вы проведете ночь в этом месте, здесь вполне удобно. Полдюжины краснокожих и один из моих парней будут у вас телохранителями. Охрана надежная, спите спокойно, желаю приятных сновидений! До завтра! Робена и троих его сыновей усадили рядом, спинами к связке пальмовых листьев. Индеец с широкой тыквенной бутылкой, наполненной куаком, подносил каждому по очереди горячие плотные катышки, но пленники отказались от пищи. Другой принес кувшин с водой. Бедняги сделали по нескольку глотков, что дало им некоторое облегчение. Главарь убрался, краснокожие остались под началом Бонне, которого надзиратель кратко посвятил в суть происходящего. Пленники беседовали вполголоса, но по-английски, к великому разочарованию Бонне, которому очень хотелось знать, о чем они говорят. Запрещать разговоры он не собирался, ибо шеф отдал приказ не мешать их общению. Патрон так поступил, конечно, не из гуманности: просто он надеялся, что доверительная беседа в такой момент, трагическая торжественность последнего разговора способны привести к проявлениям слабости и тем самым усилить его торжество. Ожидания надсмотрщика не оправдались. Робинзоны, богатыри не только телом, но и духом, с детства готовились к любым превратностям жизни. И безжалостные удары судьбы, самые внезапные катастрофы могли их потрясти, но не в состоянии были сокрушить. Однако на сей раз они должны будут погибнуть безоговорочно, если не произойдет какого-то чуда — увы, слишком невероятного в подобных условиях и в таком месте! Невозможно было не только предпринять отчаянную попытку освободиться от своих уз и убежать, но даже просто пошевелиться — настолько плотно спеленали их палачи по рукам и ногам! — Дети мои!.. Милые мои дети! — шептал беглый каторжник, чье сердце надрывалось от тоски, но лицо сохраняло гордое спокойствие. — Я знаю, что мы пропали. Ничего не остается, как только подготовиться и умереть с достоинством! — Отец, мы готовы, — в один голос отвечали отважные сыновья. — Отец, я могу тебе твердо сказать от имени братьев и от своего собственного: мы жили без упрека и умрем без страха! — Знаю, знаю, какие вы смелые, дорогие мои мальчики, моя вечная забота и любовь… Я не боюсь слабости, но могу ли думать спокойно, что увижу вас завтра совсем беззащитных среди рычащей и алчущей своры дикарей, что этот монстр[277] с человеческим лицом, самый мерзкий выродок изо всех каторжных отбросов, станет издеваться над вашим бессилием, а я даже не смогу пожертвовать жизнью, чтобы спасти вас! Вот что для меня невыносимо… — Папа, а правда, — прозвучал нежный голос Эжена, — правда, что это — тот самый человек, которого ты вырвал из когтей тигра, когда завоевал себе свободу?.. — Увы, это он! И вы теперь становитесь жертвами моего доброго поступка! — Да какое значение имеет жизнь без тебя! — сказал Эдмон. — Сто раз мы встречались со смертью с того дня, когда впервые после разлуки обняли тебя! Разве эта постоянная, каждодневная борьба, не знающая ни минуты передышки, не приучила нас к мысли о преждевременной смерти?.. — Отец, мы жалеем только о великих планах, которые строили вместе с тобой ради будущего нашей приемной родины! — Не жалейте ни о чем… — сдавленным голосом произнес Робен, чьи глаза увлажнили горячие слезы. — Ни о чем… Ты ведь знаешь, папа, что Она не переживет нашей смерти! До сих пор ни словечка не проронили бесстрашные дети о своей матери. К чему слова?! Сердца их переполняла память об этом обожаемом и доблестном существе. Разве не составляли все они вместе единую душу в нескольких телах?.. Разве Она не присутствовала незримо при их предсмертном разговоре? Они даже не произносили слов: «наша мама», им хватало одного только упоминания: Она. И это слово заключало в себе вместе с неотступной памятью идею прочной общности, соединявшей их всех в единое целое. — Бедный Шарль! — тихо прошептал несчастный отец. — Шарль уже мужчина, — твердо заявил Анри. — Он примет наше наследство. Надо, чтобы он жил, чтобы осуществил наши планы. Масштаб задачи ему по плечу.
В то время как гвианские робинзоны, бесповоротно осужденные, еще бодрствовали в свою предсмертную ночь, на поляне началась оргия. Индейцы и каторжники пили до одурения. Один Бенуа оставался трезвым и сохранял самообладание. Пьяного в стельку Тенги охватила алкогольная ипохондрия[278]. — Так ты говорил, шеф, — повторял он уже в десятый раз, — что этот здоровенный бородач, отец этих юнцов, из бывших, оттуда… — Ну да, — злобно отругивался разжалованный надзиратель. — Пристал, как мокрый лист к заднице… Отлипни! — И какие же это, — продолжал тянуть свое Тенги с упорством пьяницы, — у тебя были с ним делишки в свое время… — Ну, были… Оставь меня в покое, говорю тебе! — Тогда это тот самый, что порвал пасть тигру, который грыз твою ногу?.. Странная же у тебя манера расплачиваться со своими долгами! И ты его бросишь на растерзание краснокожим… Слушай! Хочешь, я тебе скажу? Ты не стоишь даже последнего «фаго»…[279] У фаго есть чувство благодарности… А у тебя, значит, ни хрена за душой?.. Я не ж-желаю, чтобы его убивали… Как мою тетушку… Если бы снова началось… Глухой удар кулака оборвал фразу на полуслове. Пьяница распластался на земле, ноги его разъехались в стороны, голова попала на кучу листьев, и вскоре он захрапел. Едва забрезжил рассвет, как начались приготовления к казни. Присев на корточки возле огня, индейцы плели сита — «манаре» — из волокнистого растения арумы. Ячейки манаре должны были служить «камерами заключения» для «бессмысленных мушек». Всего полагалось по одному ситу на каждую жертву. Двое эмерийонов отправились на разведку, в поисках гнезд насекомых. Время суток как раз подходило для ловли перепончатокрылых: в такой ранний час они обычно дремлют. Одни палачи-любители заготовляли острые иглы «сырного дерева» и иных колючих растений, другие точили свои мачете о диоритовые плиты, третьи готовили стрелы и вырезали для них буту, деревянные шарики, заменявшие наконечники, с помощью которых не пронзали, а только оглушали животных. Поскольку пленники обладали незаурядной силой, то не исключалась вероятность, что серия пыток может сильно растянуться во времени. Жертвы подлежали поочередно уколам, жалящим укусам, протыканию острыми предметами, оглушению, а затем их предстояло разрезать на мелкие кусочки. Сколько радости для наивных детей природы — разживиться несколькими копчеными ломтиками белых людей, обрести возможность прицепить к перекладинам своих хижин размалеванные краской ру́ку останки! Это верный талисман, самый надежный пиэй, который сделает племя непобедимым: поскольку эти белые были самыми смелыми и сильными, счастливые владельцы талисманов станут похожими на них. Приготовления к мрачной церемонии закончены. Сейчас начнется казнь. Раздирающие сердце звуки индейской флейты прорезали плотную атмосферу душного леса. Воины подготовили подобающий случаю наряд. Все без исключения были разрисованы краской ру́ку с головы до ног, все казались только что вышедшими из кровавой бойни. Причудливые линии, проведенные коричневым соком генипы, образовывали на ярко-красном фоне весьма любопытные рисунки. У каждого он свой, подобно личному старинному гербу. В левой руке краснокожие держали большой деревянный лук с тетивой из волокон маго и связку длинных стрел из стеблей тростника. Все эти летательные снаряды обрамлялись у основания красными перьями тукана и трупиала[280]. Воины также вырядились в ожерелья и короны из перьев. Эти сложные головные уборы, при изготовлении которых индейцы проявляют бездну терпения и изобретательности, бывают трех видов: белые, черные и пестрые, сооруженные из четырех равных частей, двух красных и двух желтых. Для белых используется грудное оперение разновидности тукана, известной среди креолов по кличке «крикун», а среди натуралистов на строгой латыни: ramphastus toco. Черные делаются из хохолка трубача, а последние, самые броские, изготавливаются из перьев кюи-кюи, другой разновидности тукана, ramphastus vitellinus. Наружная часть этих перьев ярко-красная, а внутренняя — ослепительно-желтая. Некоторые короны дополнительно украшены очень красивыми пунцовыми перьями птичек колибри[281]. Эти короны — предел красоты, высший шик у краснокожих. Надеваются они в особо торжественных случаях. Обычно же индейцы прячут их в бездонных корзинах — пагара, и лишь самый серьезный повод заставляет извлечь их оттуда. Акомбака выглядел великолепно. С гордостью главнокомандующего он водрузил на себя белый султан[282], корону из желтых перьев высотой сантиметров пятнадцать, откуда торчали наружу, подобно рогам, два огромных красных пера, выдернутых из хвоста попугая ара. Четыре кольца ожерелий — черное, красное, белое и желтое — украсили грудь, блестящую, словно форменные алые штаны. Вождь надел два браслета — один из зубов тигра, чередующихся с плодами шери-шери, другой — из когтей муравьеда. Хлопчатобумажные штаны — калимбе — были перехвачены широким поясом из красных и голубых перьев, украшенным по бокам рогатыми колечками, которые служат «погремушками» у гремучей змеи. Индеец еще не совсем протрезвел. Он находился «под градусом», как говорил Бенуа с гнусной ухмылочкой. Но это алкогольное состояние в должной мере придавало краснокожему смелости и удерживало его в вертикальном положении. Акомбака шел впереди в сопровождении флейтиста и бывшего надзирателя. За ними хаотично и с хмельной неустойчивостью двигалась основная часть отряда под «командой» Бонне и Матье. Смертельно пьяный Тенги продолжал храпеть на своей лиственной подстилке, сжав кулаки. Флейта замолкла по знаку вождя. Воины остановились в тридцати шагах от европейцев, по-прежнему сидящих и крепко связанных. Акомбака сделал еще несколько шагов к пленникам и при помощи переводчика Бенуа обратился к ним с краткой речью: — Знаменитый вождь «Который уже пришел» выражает свое восхищение мужеством белых людей. Он обещает им достойную смерть. Принесение их в жертву порадует масса Гаду, и маны[283] покойного пиэй, которого белые преждевременно лишили жизни, будут надлежащим образом уважены. Чтобы показать, насколько он чтит их за бесстрашие, великий Акомбака собственноручно три раза приложит к их груди и бокам разъяренных ос. Белый вождь принял форму осы, чтобы убить пиэй, теперь надо, чтобы он и его сообщники понесли первое наказание от «бессмысленных мушек». После этого краснокожие воины нарисуют соком генипы круги на телах белых людей и продемонстрируют свою ловкость, посылая стрелы в самую середину, не повредив при этом внутренностей. Следующая часть развлечения будет определена позже. А сейчас белые должны пострадать. Пусть они запевают свою боевую песню! Вождь краснокожих подал сигнал. Часть мужчин отделилась от группы, подняла несчастных пленников, прислонила к четырем стволам и накрепко привязала. Робинзоны почувствовали близость смерти. Невольный и неудержимый протест против гадких прикосновений сотряс их тела. Мощные мускулы яростно напряглись, чтобы разорвать путы, которые до крови растерли кожу. Увы, напрасные усилия! Их очевидная бесплодность лишь вызвала язвительную усмешку на губах Бенуа, который жадно искал в жертвах признаков слабости или страдания. — Ну, действуй быстрей, — нетерпеливо сказал он Акомбаке. — У них нет никакой боевой песни. Белые не поют боевую песню. Удивленный индеец повиновался. Он взял из рук помощника манаре и неспешно направился к пленным. Надзиратель следовал за ним на расстоянии одного шага, идя нога в ногу и ступая точно след в след, как требовал ритуал. Разъяренные осы, перехваченные за бока ячейками сита, жужжали и трепетали крылышками. У каждой из подвижного вздутого брюшка с золотыми ободками выдвигалось твердое пульсирующее жало с блестящей капелькой ядовитой жидкости. Боль будет ужасной. Акомбака воздел руки с ситом и опустил орудие палача на грудь Робена. Вот оно! — Мужайтесь, дети! — спокойно проговорил изгнанник. В тот момент, когда осы должны были прикоснуться к обнаженной коже белого, индеец вдруг окаменел, словно увидев змею. Он попытался отпрыгнуть назад, резко толкнул Бенуа, и тот повалился на землю. Двуствольное ружье, направленное на Акомбаку, внезапно появилось из густой завесы лиан и оперлось на одну из толстых веток, к которым был привязан Робен. Белый клуб дыма вырвался из ствола, прозвучал глухой выстрел. Акомбака с размозженным черепом упал на надзирателя, который испустил ужасающий крик боли: манаре выпало из рук умирающего и шлепнулось прямо на лицо упавшего бандита, осы немедленно принялись его жалить. Второй выстрел остановил индейцев, которые кинулись на помощь вождю. Заряд свистящей дроби попал в самую гущу толпы и рассеял ее, кровь потекла у многих, возгласы страха смешались со стонами раненых, возникли полнейшая паника и беспорядок. Трое каторжников трусливо убежали первыми, бросив шефа, ослепшего и опухшего до безобразия. Дым от второго выстрела еще не рассеялся, когда оглушенный Робен увидел прыгающего перед собой громадного негра, почти совсем голого, с красной повязкой на лбу. Из груди черного атлета вырвался громоподобный крик, эхом отозвавшийся под лиственными сводами: — Оааак!.. Оааак!.. Бони! Бони!.. Два других негра, молодые люди, не уступавшие первому ни в силе, ни в стройности, вытанцовывали рядом с ним, добавляя к общему шуму пронзительные воинственные крики. Совершенно обалдевшие и перепуганные индейцы разбегались, как косули. В один момент упали с пленников разрезанные оковы, поляна опустела, они свободны! Трое спасителей, не считая благоразумным открывать охоту на беглецов, остановились и устремили на робинзонов почтительные и нежные взоры. Самый старший, с повязкой на лбу, бросился в объятия Робена. Тот узнал его и радостно воскликнул: — Ангоссо!.. Мой храбрый бони! Это ты!.. — Ну, конечно, я! — засмеялся счастливый негр. — А это мои сыновья, Ломи и Башелико. О! Как я доволен… Да, очень доволен! Надо ли описывать, как обнимали, приветствовали, благодарили робинзоны своих нежданных избавителей?.. Это представляется излишним. Их давняя дружба и неоценимость нынешней услуги не требуют комментариев. После первых излияний чувств друзья сразу же двинулись в путь, ибо индейцы, опомнившись, могли организовать нападение. У белых не было оружия, и они еще не совсем оправились от последствий лесной катастрофы, да и тугие путы за пятнадцать часов омертвили их конечности. Большой неосторожностью было бы сейчас ввязываться в сражение с эмерийонами. Ангоссо, однако, не пожелал покидать поляну, не завершив битву обязательным ритуалом. Он провел кончиком ногтя по режущей кромке своего мачете, нашел ее «бон-бон», затем со всей серьезностью, как бы священнодействуя, ухватил за длинные волосы голову Акомбаки, своего давнишнего врага, и перерубил ему шею самым изящным и аккуратным образом. Потом предложил свое оружие Робену, чтобы тот проделал такую же операцию с неподвижным Бенуа, однако изгнанник объяснил, что у белых не принято бить лежачего. — Как хотите, компе! Таков обычай воинов моего племени. Враг не возвращается, если его разрубить на две половинки. Ангоссо наклонился над телом бандита и определил, что тот еще дышит, хотя и слабо. — Он не умер, — сказал негр. — Это не важно. Он уже не может нам навредить. Муравьи скоро его пожрут, а я не хочу пачкать руки об это грязное существо. Спасители и спасенные медленно шли в направлении «Доброй Матушки», опираясь на палки. Реакция наступила внезапно, и их страдания становились невыносимыми. Эжен и Эдмон, уступавшие в стойкости Анри, а особенно их отец, передвигались с огромным трудом, и то лишь благодаря помощи и заботам Ломи и Башелико. Ангоссо, перезарядив ружье, шел в арьергарде[284] и с полнейшей невозмутимостью нес голову Акомбаки, держа ее за волосы. — Послушай, Ангоссо, что ты будешь делать с этой головой? — деликатно поинтересовался Робен. — Погодите немножко, компе, увидите. Ожидание не слишком затянулось. Примерно через час им повстречалась глубокая речка, ее берега и течение ощетинились темными скалами. Ангоссо обследовал их со всех сторон и обнаружил округлые углубления диаметром с бедро крупного мужчины. — А! Очень хорошо! Вот и жилище для Тату. Негр отбил кусок скальной породы, сунул голову врага в одну из дыр, законопатил ее, как пробкой, обломком камня и спокойно удалился. Робен попросил объяснить эту странную церемонию, и Ангоссо с большим удовольствием растолковал свои действия. — Акомбака умер, — сказал он, — и должен будет предстать перед великим Гаду. Он попросит дать ему место рядом с другими вождями краснокожих. Но Гаду его не узнает, потому что тот без головы. Он не захочет его принять. Гаду очень добрый, он спросит у муравьев: «Это вы отъели голову?» А муравьи скажут: «Нет». «Аймара, — спросит Гаду, — это ты откусила голову краснокожему?» Аймара скажет: «Нет». Гаду спросит еще у Mama-Boma (мамы-Змеи), не она ли проглотила голову. «Нет», — ответит Бома. Тогда войдет незваный Тату, нечистый зверь. «Это я съел голову краснокожего», — скажет он. «А, злой Тату, проклятый Тату, убирайся к Йолоку (дьяволу), своему хозяину! Гаду тебя не желает знать». «Хорошо, — ответит злой Тату, — я туда ухожу». И Йолок примет своего компе Тату, и тело Акомбаки будет следовать за ним против своей воли. Йолок даст этому телу голову Тату, и вождь навсегда останется проклятым и нечистым.
ГЛАВА 8
Доблестное племя. — Свобода или смерть. — Бони, герой Коттики. — Грандмен Анатоль. — Таинственные оякуле. — Предательство. — Капитан «Запавший Рот». — Белые и черные братья. — Боль и отчаяние. — Тигр ранен, охотник исчез.В этой книге часто заходит речь о независимых негритянских племенах, обитающих в верховьях Марони под названиями боши, юка, полигуду, бони и достигающих значительного количества в шесть-семь тысяч человек. Краснокожие, составляющие основу туземного населения тропической Америки, отравленные алкоголем и подверженные различным эпидемиям, обречены на скорое исчезновение. Как бы в благодарность за страдания жизнестойкие представители черной расы, транспортированные во времена рабства из Гвинеи и Берега Слоновой Кости, чудесно прижились на щедрой земле Гвианы, такой гостеприимной к людям и растениям старого Африканского континента. История этого населения восходит к стосемидесятилетней давности, и, думается, не просто интересно, но и важно описать, как эти мужественные люди, шестьдесят лет бесстрашно сражавшиеся с тиранией, смогли начертать своей кровью пламенное слово «свобода!» на страницах золотой книги независимых народов. Предки этих мирных прибрежных жителей великой реки Гвианы были теми самыми грозными беглыми неграми, которые выдерживали бесконечные сражения — иногда гибельные, часто победные — с профессиональными голландскими войсками. Любопытное обстоятельство: вмешательство Франции в дела нидерландской метрополии послужило причиной первого народного волнения. Когда адмирал Кассар[285] вознамерился атаковать город Парамарибо[286] со своим флотом из пяти кораблей и двухсот семидесяти четырех пушек, колония смогла избежать полного разрушения, благодаря выплате контрибуции[287] в полтора миллиона франков. Именно с этой поры, как говорит капитан Фредерик Буайе[288] в своей замечательной книге, посвященной Гвиане, и начинаются первые побеги негров. Нидерландские колонисты, облагавшиеся поборами за каждого раба во время выплаты налога, заставляли их укрываться в лесах до отплытия французов, чтобы избежать переписи. Эти уловки, однако, не очень помогали. Если многие невольники и возвращались к своим поселениям, то немало их оставалось в лесах и образовывало ядро, вокруг которого группировались новые беглецы, покинувшие рабовладельческий ад. Через четырнадцать лет после экспедиции Кассара, в 1726 году, число скрывавшихся было настолько значительным, что вызвало опасения у плантаторов. Тем пришла в голову злополучная идея объявить беглым невольникам войну. Хозяева потерпели сокрушительное поражение, и колония вынуждена была признать в специальных договорах существование тех, по чьим плечам еще вчера гулял кнут надсмотрщика. Побеги становились все более многочисленными. Новые племена под водительством независимых вождей формировались на берегах Авы и Тапанаони. Колониальное правительство не признавало свободы этих беглецов, их соседство представлялось опасным для собственников, чьи плантации и дома подвергались опустошению. И решено было организовать новые экспедиции против «смутьянов». Но те предупредили готовящееся нападение и сами разбили колонистов в 1749 году при Сарамака, а в 1761-м — на реке Юка. Правительство в Парамарибо вторично вынуждено было признать восставших, которые утверждались под именем юка, носимым их потомками и сегодня. Видя, что насильственным путем не добиться успеха, голландцы прибегли к хитроумной тактике приглашения своих прежних рабов. Им оказывали почести, щедро одаривали, чтобы превратить в союзников и с их помощью, ценой значительных сумм и товаров, возвратить скрывающихся. Однако последнее условие выполнялось не очень успешно. За редким исключением беглому рабу оказывалибратский прием в хижине свободного негра. Лучшее доказательство мало продуктивных усилий плантаторов — рост числа négres bosh (лесных негров), как они называли себя и как до сих пор называется эта группа населения в Голландской Гвиане, достигшая более четырех тысяч человек. В 1881 году боши, обитавшие на левом берегу Марони, занимали четырнадцать деревень, каждая во главе с вождем, который выполнял судебные функции. Он налагал наказание кнутом или в виде штрафа, в зависимости от степени проступка. Деревенские вожди признавали верховным правителем выборного вождя, называемого грандмен, который обычно жил в Труазиле. Он председательствовал в суде, где разбирались серьезные преступления. В этих заседаниях сельские вожди участвовали в качестве присяжных[289]. Наконец каждый из них, как эмблемой[290] своего положения обладал жезлом тамбурмажора[291] с серебряным набалдашником, на котором по-голландски гравировались имя владельца и название его деревни. Но только один грандмен носил высокий, расшитый серебром воротник, украшенный с обеих сторон изображениями головы негра. На почетном месте в его доме — а негры Марони сохраняют для своих жилищ форму африканских построек — красовался большой пергамент[292] с красной восковой печатью Оранского дома[293]. Это хартия[294], по которой нидерландское правительство признало в 1761 году независимость бошей и которую они бережно хранили из поколения в поколение. Рост свободного населения в верховьях Марони делал неизбежными расколы и расслоения. Новоприбывшие не получали преимуществ своих предшественников, и страшной силы бунт вспыхнул в 1772 году на одном из притоков Авы, называвшемся Коттика. Вождем восстания выступил человек необычайной энергии, наделенный редким талантом организатора. Это негр Бони, его мать, беглая рабыня, родила ребенка в глухом лесу. Настоящий герой борьбы за независимость, Бони дал свое имя неграм, обитающим сегодня на французском берегу Марони. Он сплотил вокруг себя повстанцев и серьезно покачнул благополучие голландской колонии. Милиция в панике капитулировала перед ним, он побеждал на всей линии борьбы. Его имя было у всех на устах. Бони отличали такие отвага, ловкость и умение лесного стратега, что пришлось запросить у метрополии отборный военный отряд для подавления мятежников. Легко представить картину проходившей операции, читая отчет капитана Стедмана, одного из немногих уцелевших в этой тяжелейшей экспедиции под командованием полковника Фурго. Двадцать специально подготовленных отрядов по шестьдесят человек — всего тысяча двести солдат, каждый из которых представлял собой маленькую армию, двигались через девственный лес. Порядок во всем царил образцовый. Ведь они имели дело с неутомимым врагом, обладавшим даром вездесущности. Его ждут справа, а он взламывает центр. Рассчитывают взять в кольцо, совершая обход слева, а он нападает на арьергард: убивает солдат-одиночек, снимает часовых, грабит конвой, множит препятствия на пути воинских колонн, играет с опасностью, неотступно беспокоит главную часть войска и заставляет падать от усталости и бессонницы тех, кому посчастливилось избежать пули или стрелы. Однако полковник Фурго был закаленным тяготами военной жизни, как никто, знаком с тайнами партизанской войны и не останавливался ни перед преградами, которые щедро воздвигала эта безжалостная земля на каждом шагу, ни перед наскоками восставших. Беспощадный к людям и к себе, он невозмутимо преодолевал реки, леса, затопленные саванны, бездонные болота, ощетинившиеся острыми пиками горы. Безразличный к страданиям других и к своим собственным, он презирал миазмы, насекомых, рептилий, усталость, болезни, голод. Все склонялось перед его железной волей, и сам неприятель валился с ног от изнеможения. Его походный порядок для отряда в шестьдесят человек — чудо организации. Два черных сапера с топорами и мачете расчищали тропинку. За ними следовали двое солдат — разведчиков, затем — авангард[295], состоявший из офицера, капрала[296] и шести рядовых. Центральное ядро делилось надвое: первую часть образовывал капитан, хирург, капрал, двое солдат и двое негров, несших снаряжение; во второй части — двенадцать рядовых под командованием сержанта. Арьергард состоял из офицера, сержанта, восемнадцати бойцов и шестнадцати негров, несших продукты, медикаменты, а также раненых и больных. Два солдата и капрал замыкали походную колонну. Общий итог: три офицера, хирург, два сержанта, три капрала, пятьдесят два рядовых, два сапера, два негра со снаряжением и еще шестнадцать носильщиков — всего восемьдесят один человек, из которых шестьдесят бойцов! Трудно представить, что Бони с его людьми, едва ли достигавшими численности голландцев, так долго удавалось противостоять подобным силам. Мы уже говорили, что экспедиционный корпус полковника Фурго включал двадцать отрядов, организованных по вышеописанному образцу. Порядок, дисциплина, современная тактика, а главное — применяемый метод разрушения, когда сжигались деревни и уничтожался урожай, в конце концов подавили восстание. Раненый при обороне деревни Гаду-Саби, Бони вынужден был отступить. Его уход был примечателен, он повел своих людей ему одному известными тропинками. Истощенный, ослабленный голодом, с окровавленной грудью, он ободрял упавших духом, поддерживал больных, воевал рядом с теми, кто еще был в состоянии держать оружие, наконец, прибыл на берег Тапанаони, переплыл реку последним и гордо удалился непобедимым даже в своем поражении. Мятеж подавили, но Голландия дорого заплатила за победу над беглым рабом. Из тысячи двухсот человек, посланных метрополией, едва ли сотня увидела вновь свою родину. Погибли тридцать офицеров, в том числе три полковника и майор. Спустя много лет после гибели вождя негры бони, менее сплоченные, чем племя бошей, а главное — уступающие им количественно, постепенно стали попадать в зависимость от соседей. Боши претендовали на монопольную торговлю в низовьях Марони, препятствовали общению бони с европейцами. Такое положение вещей длилось до основания колонии Сен-Лоран, которая вскоре начала процветать. До тех пор французское влияние в бассейне Марони не ощущалось. Франция поняла значение большой водной артерии, судоходной на протяжении ста километров. Она выразила протест против неограниченной власти бошей над племенем бони, жившим на французской территории. Взаимные позиции и интересы двух соперничающих племен из обеих Гвиан были строго разграничены после завершения блестящей франко-голландской экспедиции в 1860 году, которую организовал месье Видаль, капитан-лейтенант французского флота. Была провозглашена свобода торговли и навигации[297]. Через несколько лет хорошие дружеские отношения установились между бони и искателями золота в этом регионе. Негры свободно перемещались, охотились, ловили рыбу и торговали с колонистами. Мягкость их натуры и абсолютная честность делали отношения с ними очень приятными. Их физическая мощь и несравненное мастерство лодочников оказывали большую услугу французской золотодобывающей промышленности. На золотые прииски Сен-Поль, Эсперанс, Манбари, Гермина и другие они доставляли продукты, которые поступали на шхунах из Кайенны в Сен-Лоран. На своих легких пирогах бони доплывали до Маны и за счет приисков вели кампанию по набору рабочей силы, как это делается у нас во время уборки урожая. Завершив доставку продовольствия перед началом сухого сезона, они возвращались в Коттику после двадцатидневного путешествия, привозя в качестве оплаты за свой труд разнообразные предметы, обладание которыми считалось высшим благополучием в этих глухих местах. Верховная администрация не жалела средств для поддержания с чернокожими отличных отношений. С неграми обращались поистине как с избалованными детьми, но бони не старались извлечь выгоду из своих преимуществ, на которые боши поглядывали не без зависти. Нынешний грандмен Анато[298], которого белые фамильярно именовали Анатолем, ежегодно получал жалованье из бюджета колонии, тысячу двести франков. Их выплачивала по сто франков в месяц муниципальная касса[299] Сен-Лорана. Такое великодушие было не напрасно. Потомок знаменитого вождя, Бони немало старался для поддержания согласия между своими подданными, число которых достигало тысячи, и другими прибрежными жителями великой реки. Ангоссо принадлежал именно к этому доблестному племени, ставшему сегодня французским и по духу, и по географическому положению. Десять лет тому назад Робен сказал ему: «Храни тайну нашего уединения», и бравый негр проявил такую безупречную силу воли, что ни жена, ни сыновья не знали о давнем эпизоде его жизни. Он часто вспоминал слова ссыльного инженера: «Если тебе будет грозить опасность, если голод опустошит твою деревню, приходи, ты будешь жить с нами, как член нашей семьи». Ангоссо вполне естественно воспринял это предложение, сделанное от чистого сердца, и вспомнил о нем, когда несчастье обрушилось на его родных. Второй раз за минувшие тридцать лет маленькую деревушку, где обитала родня Ангоссо, разорило племя оякуле. Странная легенда ходит об этих людях, которых европейцы не видели до сих пор ни разу и о которых знают только по рассказам — более или менее фантастическим — негров и краснокожих. Они теряют самообладание при одном упоминании о таинственных обитателях джунглей. Оякуле, говорят они, такие же белые, как европейцы; у них мощное строение тела, огромная сила, длинные рыжеватые бороды, светлые волосы, голубые глаза. Они — антропофаги, то есть употребляют в пищу человеческое мясо, и ведут жизнь самую что ни на есть дикую, варварскую. Им неведомо назначение железа, они пользуются огромными деревянными дубинками, слишком тяжелыми для прочих людей. Они не признают рисунков, татуировки, вообще любых украшений и ходят совершенно голыми. Это нелюдимое племя, которое безо всякого повода нападает на индейцев и негров.
Шагая через лес, Робен и его сыновья слушали этнографический очерк[300] Ангоссо, который тот излагал на креольском наречии, расцвечивая подробностями, говорившими о его редкой наблюдательности. — Однако, мой дорогой бони, — заметил изгнанник, весьма озадаченный и заинтересованный одновременно, — не думаешь ли ты, что оякуле — это какое-то индейское племя, живущее под большими деревьями, вроде оямпи, и просто не загоревшее на солнце? — Нет, компе! Нет, поверьте мне, оякуле — это не индейцы. — Но ты ведь знаешь, что некоторые оямпи не разрисовывают себя краской ру́ку или соком генипы, к тому же они так похожи на людей моей родины, что их легко перепутать. — Но индейцы не носят бороду! Глаза у них сужаются к вискам, нос приплюснутый, а у этих оякуле глаза широко открытые, как у вас, и нос с горбинкой, словно у попугая ара, а борода такая же большая, как на вашем лице… — Правда, правда… — кивали головами молодые Башелико и Ломи. — Ты хорошо их изучил, ты видел их близко, днем, при свете солнца?.. Ангоссо прикоснулся пальцем к повязке на лбу и потряс своим мачете. — Каменный топор одного из них раскроил мне череп, но мой мачете уложил многих. Я бился с ними, поймите, компе! Ничего в мире не боюсь, а вот оякуле вызывают у меня страх, это такая же правда, как то, что я почитаю Гаду и что я ваш друг! — Ну, мой храбрый товарищ, расскажи мне все, что ты знаешь об этих необычайных людях! Как это им удалось разорить деревню, если ее защищали такие сильные и неустрашимые бони… Ангоссо собрался с мыслями, дважды сплюнул, чтобы прогнать Йолока, и приступил к своему повествованию. — Это случилось давно, очень давно, мой отец еще был в полном расцвете сил, а я оставался совсем маленьким. Бони и оякуле устали от войн и решили помириться, положив конец давней вражде. Оякуле пригласили бони из моей деревни к себе в гости, чтобы съесть священную лепешку и выпить «пивори», как полагается на больших торжествах. Бони смелые и сильные, верят клятвенным обещаниям, они рабы своего слова. Это единственный вид рабства, который мы добровольно признаем, — с гордостью заметил Ангоссо, славный потомок героя Коттики. — И вот жители деревни отправляются по приглашению дикарей с белой кожей и прибывают туда под началом моего отца. В знак доброй дружбы оякуле положили мачете и ружья гостей в хижину пиэй. Все пили, ели, танцевали целый день. Настала ночь, бони удалились в поставленные для них жилища. Но едва они заснули, как раздались страшные крики и стоны. Нарушив все свои клятвенные заверения, предав священный долг гостеприимства, оякуле схватили наши мачете и ружья, которые использовали вместо дубинок, и стали убивать беззащитных воинов. Не имея возможности сражаться, бони хотели убежать, но запутались в лианах, предательски раскинутых вокруг хижин. Почти все погибли. Моему родителю помогла вырваться ночная темнота, с ним вернулись всего несколько уцелевших. Отцу нанесли такой сильный удар мачете в лицо, что с того времени, если он хотел говорить, то должен был удерживать челюсть рукой, потому что она все время отпадала. Из-за ужасной раны ему дали прозвище Коаку (Запавший Рот), под которым его помнят и сегодня. Еще спаслась из этой бойни одна маленькая девочка. Она забилась в траву, оякуле ее нашли, но не убили, а вырастили вместе со своими детьми. Потом она убежала, скрывалась у бошей, а оттуда перебралась в Суринам, где и живет сейчас. Ее зовут Афиба. Вот видите, компе, у нас были поводы познакомиться с оякуле. — Действительно, все это очень печально, мой милый Ангоссо… Но давай перейдем к последней трагедии. — Два или три года мы не видели наших врагов. Не доверяйте оякуле, все время повторял мой высокочтимый отец, старый Коаку, они таятся словно змеи, будьте бдительны, дети мои, они приходят в тот момент, когда их вовсе не ждешь. И он был прав. Совсем недавно, прошло столько дней, сколько пальцев у меня на двух руках и еще на одной ноге, мои сыновья собирали урожай маниоки, а я с женой ловил кумару в реке. Вдруг мы заметили столб черного дыма, который поднимался над нашей деревней. Мы схватились за весла, и наша лодка полетела по волнам. Все хижины пылали. Большой отряд оякуле, перерезав всех женщин и детей, которые оставались одни, поджег деревню. Большинство здоровых мужчин было занято на уборке урожая и на рыбной ловле. Они прибежали сразу, как только увидели дым, полагая, что произошел несчастный случай. Но их всех убили бандиты, которые прятались в траве и которых было в три раза больше. Мои сыновья вернулись с плантации. Мы бросились в самую гущу, решив, что им дорого обойдется наша жизнь. Мы хорошо сражались. Я горжусь моими детьми, как вы гордитесь своими, мой дорогой белый компе. Я упал, раненный в голову, и меня чуть-чуть не постигла судьба отца. Ажеда меня спасла, она схватила горящую головню и швырнула ее в бороду оякуле, который с воем убежал. К сожалению, мы уступали им в количестве. Двадцать наших погибло, остальные разбрелись, наши поля опустели, деревни больше нет. Ваше приглашение всегда жило в моей памяти. Я сказал Ажеде, которая плакала: «Идем к белому!» Я сказал моим сыновьям, красные ножи которых еще просили крови: «Идемте к моему белому брату!» Они ни о чем не спрашивали, и мы отправились в дорогу. У меня начиналась лихорадка. Но какое значение имеет рана головы для безутешного сердца! Моя воля сильнее, чем страдания тела. Сыновья помогли перебраться через пороги. Я узнал залив. Мы плыли не останавливаясь: Ломи и Башелико не ведают усталости. Когда подошли к кокосовым пальмам, я увидел поваленные деревья, листья муку-муку и зеленые растения с длинными иглами. И сказал: «Там змеи». Мы спрятали пирогу в кустах и окольным путем выбрались на тропинку. Моя память не ошиблась, она сохранила весь маршрут. Я увидел Казимира, увидел белого, который назвался Никола, и увидел белую женщину, мать ваших детей. Я сказал ей: «Белый Тигр говорил бони: «Когда ты будешь несчастен, без хижины, без маниоки, без рыбы, без копченого мяса, приходи!» У меня больше ничего нет, и вот я пришел. Это Ажеда, моя жена». Белая женщина обняла ее и молвила: «Будь моей сестрой!» Ажеда заплакала от радости. «А вот это мои дети». «Они будут братьями моим сыновьям!» — сказала белая женщина голосом нежным, как пение арады, и протянула им руки. Ломи и Башелико ответили: «Наша жизнь принадлежит вам!» Я спросил у нее: «А где Белый Тигр? Я хочу видеть моего друга, великого белого вождя». «А мы хотим увидеть наших братьев, его сыновей», — подтвердили Ломи и Башелико. «Они ушли», — ответил Никола. Я сказал сыновьям: «Пойдемте к ним!» Мы шли по вашим следам и оказались на месте как раз в тот момент, когда подлый краснокожий посмел занести руку на белых! — завершил свою историю Ангоссо, презрительно сплюнув на землю. — Мой милый друг, — улыбнулся Робен, — ты по-прежнему называешь меня Белым Тигром. Я охотно принимаю это имя, как в давние времена. Оно переносит меня в эпоху несчастий и страданий, но также напоминает о моем освобождении и о благословенном дне, когда я увидел тебя на островке вместе с моими близкими. Мне нечего добавить к словам той, кого ты называешь женой Белого Тигра. Поскольку твоя спутница и твои сыновья тоже одобряют идею совместной жизни, то отныне мы все становимся единой семьей. Не правда ли, дети мои? Энергичные пожатия рук и возгласы радости были ответом молодых людей, сердца которых хранили память о замечательном негре. Что же касается его сыновей, то уже одно только родство их с Ангоссо определило симпатии и расположение к ним, не говоря уж об огромной признательности этим людям, пришедшим на выручку в трагическую для семьи Робена минуту. Черный гигант любовался тремя милыми молодыми людьми, взглядом знатока оценивая сильные красивые фигуры. Он прекрасно помнил их имена и черты — такова цепкость и точность памяти у этих примитивных детей природы. Мгновенно установившаяся приятельская близость юных робинзонов с его детьми восхищала негра, он бурно радовался такому братскому товариществу. Но вместе с тем храбрый бони был чем-то обеспокоен. Он не сообщал Белому Тигру причину своей озабоченности, хотя очень хотел это сделать. Робен сам поинтересовался, заметив изменившееся настроение Ангоссо. Тот отвел его в сторону и спросил шепотом, звучавшим таинственно из-за предчувствия плохой новости: — Маленький муше Сарль… Совсем маленький… Маленький человек… — Ты имеешь в виду Шарля, не так ли, моего младшего сына? — Да, да… Куда он пошел? — Но разве ты не видел его в доме вместе с матерью, Казимиром и Никола? — Нет, компе, я не видел. — Странно! Его мать не говорила с тобой о нем? — Ваша жена не успела, я только пришел и сразу же отправился по вашим следам. — Его отсутствие меня удивляет и беспокоит. Возвращаемся домой как можно скорей! Кто угадает, какие сюрпризы приготовила за два дня лесная жизнь! Разве мы сами — не живое тому свидетельство?.. И живое благодаря тебе! Последний привал был совсем кратким. Измотанные и взволнованные, незадолго до захода солнца приближались робинзоны к дому, откуда уходили сорок восемь часов назад. Мадам Робен, вернувшаяся в «Добрую Матушку» с женой Ангоссо, Казимиром и Никола, сидела на веранде в тревожном ожидании. Рядом с нею ягуар зализывал легкую рану, выступившую красным пятном на его золотистой шерсти. Изгнанника охватило нехорошее предчувствие. Боль пронзила сердце раскаленным железом. — Шарль!.. Где Шарль? — воскликнула бедная женщина раздирающим душу голосом, увидев, что мальчика нет среди братьев. Онемевший Робен побледнел, не находя ни слова в ответ. Ягуар узнал Анри, подбежал к нему с урчанием, встал на задние лапы, а передние положил на плечи молодому хозяину. — Шарль!.. — эхом отозвались полные отчаяния голоса трех братьев. — Вот уже сутки, как он исчез! — Подошедший Никола подавил рыдание, глаза его покраснели, он постарел на десять лет за несколько часов. — Кэти только что вернулась раненой! Мне следовало пойти… — Где мой ребенок?! — Голос Робена был страшен, но его расслабленность длилась считанные мгновения. Несчастная мать встала с места, смертельно бледная, она нервно моргала, ничего не видя перед собой. Вдруг она покачнулась и стала оседать на землю. Растерявшаяся сперва Ажеда успела подхватить ее и, уложив на постель, принялась заботливо ухаживать. Вскоре краска прилила к щекам женщины, она понемногу пришла в себя. Робен мгновенно изменился до неузнаваемости. Никто сейчас не распознал бы в нем то кроткое и мягкое существо, апостола[301] человечности, чье благородное лицо всегда светилось приветливой и печальной улыбкой. Он снова превратился в грозного Белого Тигра, явился в своем обличье десятилетней давности. Таким он был под огнем лагерных охранников, чьи пули угрожали его жене и детям. Черные глаза пылали под коричневой полоской тесно сведенных бровей, напоминая что-то львиное, ведь недаром тигры — это двоюродные братья львов; вертикальная морщинка пересекла лоб. В резком и грозном голосе звучала жесткая, металлическая нота. Бедная мать с трудом улавливала смысл его слов. — Идемте искать… — твердила она убито. — Идемте искать… Мой сын… Мой ребенок… Один… В лесу… Идемте же! — Завтра! — не допускающим возражения тоном заявил Робен. Бледность еще более оттенила выразительность его лица. — Анри, Никола! Готовьте продукты! Эдмон, Эжен, займитесь оружием! Берем все, что у нас есть. Казимир, за тобой гамаки. Мы выходим на рассвете! — Ждать… Снова ждать… — простонала бедная женщина. — Но мой сын зовет нас! Быть может, он умирает в эту минуту! И эта ночь… ночь хищников… О! Будь проклята, земля изгнанников, я тебя ненавижу! Приготовления к походу завершили быстро, с тем уверенным хладнокровием, какое господствует на спасательных работах. Острая боль терзала сердца всех этих доблестных людей, мрачная траурная тень упала на «Добрую Матушку», некогда такую веселую. Но слезы смахнули, рыдания подавили, стенания заглушили. Следы усталости как будто испарились. Даже о вчерашней тяжелой драме никто не вспоминал. Нет ничего удивительного в горестном спокойствии этих существ, с детства привыкших ко всем превратностям судьбы и к непрерывной борьбе за выживание. Затерянные в огромном пространстве, полном роковых опасностей, они с достоинством и простотой подлинного героизма готовились к беспощадной схватке с неизвестностью. А это действительно была неизвестность, насыщенная риском и тайными угрозами, с многочисленными сюрпризами и неожиданными осложнениями. Она могла принять самые чудовищные формы, эта загадочность девственной, нетронутой природы, куда они собирались броситься очертя голову. Казимир и Никола не в состоянии были дать какого-либо вразумительного объяснения исчезновению ребенка. Он ушел накануне утром к северной плантации вместе с Кэт, ягуаром Анри. Дома сидеть не хотел, заточение угнетало подростка. Мальчик был вооружен луком и намеревался убить орла, harpia ferox, который уже несколько раз за последние дни совершал дерзкие налеты на птичий двор. Мадам Робен, привыкшая к ежедневным рейдам и прогулкам робинзонов, безо всякого беспокойства отнеслась к уходу Шарля. День миновал как-то незаметно благодаря неожиданному и очень приятному событию — появлению Ангоссо и его семьи. Но когда Шарль не возвратился и к вечеру, колонисты основательно встревожились. В последующие сутки волнение достигло высшей точки. Парижанин и старый негр старались успокоить мадам Робен, уговорить самих себя, что ребенок, наверное, встретил отца и братьев и примкнул к ним. Но возвращение раненого ягуара разрушило хрупкую надежду, и тоска переросла в отчаяние. Никола собирался отправиться один, наугад, когда в доме появились робинзоны с тремя неграми. Остальное нам уже известно. Что же могло случиться с бедным малышом? Об этом нельзя было думать без дрожи, настолько широко поле догадок, настолько многообразны варианты таинственного исчезновения. Непонятна и история с ягуаром. Ведь это непростое животное. Послушный и дисциплинированный, как лучшая охотничья собака, подобно ей преданный хозяевам, опытный в любых схватках, отважный и сильный, каким только может быть десятилетний ягуар, — его одиночное возвращение было поистине необъяснимо! Рана, впрочем, довольно легкая, ни о чем не говорила. Это не был укус, или удар когтя, или след режущего инструмента. Острие бамбуковой стрелы или ветка, обработанная ножом в виде сверла, могли оставить такой узкий прокол, ранка от которого привела лишь к незначительной потере крови и уже затягивалась. Часы перед восходом солнца тянулись бесконечно долго. Бледные от бессонницы робинзоны молчаливо сновали, стараясь не глядеть друг на друга. Стоические, как первобытные люди, они сохраняли друг перед другом невозмутимое спокойствие солдат древней Спарты[302]. Но кто скажет, сколько горючих слез скрывала непроницаемая тропическая ночь! Маленький отряд, хорошо вооруженный и запасшийся продуктами, был готов к выходу в тот момент, когда нежное воркование токкро возвестило начало дня. Звезды бледнели, легкая опаловая каемка появилась на темных массах гигантских деревьев. Мадам Робен появилась в сопровождении Ажеды, чей темный силуэт, освещенный восковой свечой, четко выделялся на решетчатом фоне веранды. Жена изгнанника была в шляпе с широкими полями, в коротком белом платье из плотной хлопчатобумажной ткани, обулась она в мокасины[303] с подошвами из кожи тапира. — Идем! — Решительность ее интонации необычно контрастировала с мягкостью голоса. Робен в изумлении переступал с ноги на ногу. Он пытался протестовать, она не желала его слушать. — Бесполезно, мой друг! Ожидание меня убьет. Я должна идти. — Но ты же не представляешь, что это значит! Даже при твоей терпеливости ты не вынесешь такого утомления: ходьба через лес изнурительна… — Я — мать, и я буду делить трудности наряду со всеми… — Моя дорогая бесстрашная подруга! Ты достойная мать своих сыновей, вся энергия которых с трудом может преодолеть препятствия и ловушки этой неблагодарной земли! Прошу тебя и умоляю… Останься дома! Ни одна женщина в мире и часа не выдержит в этом пекле! — Когда они были совсем маленькими, я без колебаний пересекла океан. Меня не пугали ни бури, ни тяготы плавания. И это длилось днями, неделями, месяцами… Разве я проявила слабость? — Мама, — мягко сказал Эжен, подойдя к ней и взяв за руку, — мама, я присоединяюсь к просьбе отца… Ну, если хочешь, мы останемся вместе с Эдмоном! Благородная женщина поняла всю глубину нежности и самоотречения своих мальчиков. Она отрицательно покачала головой. — Мы его найдем, сердце мне подсказывает, и я хочу обнять его первой. Кто же из вас решится обречь меня на ожидание, лишить радости первой встречи? Ангоссо понял смысл спора и положил руки на плечи своих сыновей. — Ломи и Башелико сильные, как маипури, и ловкие, как кариаку, — торжественно сказал он. — Пусть мой брат Белый Тигр успокоится, пусть позволит пойти в большой лес моей сестре, белой женщине, Ажеда будет рядом с ней. Если моя сестра устанет, то мои сыновья понесут ее в гамаке, и ей не будут грозить опасности и усталость. Сестра моя, идите! Не бойтесь ничего. Лесным цветкам под густыми деревьями не страшны солнечные лучи!
ГЛАВА 9
Строптивый ягуар. — Проделки краснокожих. — Послание. — По следу. — Прыжок через огонь. — Приключения юного робинзона. — Преемник Акомбаки. — Ужасный конкурент. — Вместе! — Прощание бандита. — Таинственный документ.— Кэт! Ко мне! — прозвучал повелительный голос Анри. — Не могу объяснить внезапный страх этого животного, — с беспокойством сказал Робен. — Она ведет себя так после возвращения домой с маленькой раной, — заметил Никола. — Кэт! Кэт!.. — позвал юноша, смягчив голос. Ягуар с опущенным хвостом и прижатыми ушами, чуть ли не скребя землю носом, двигался прыжками, но медленно, с непонятными колебаниями. Он дрожал, норовил увильнуть в сторону и никак не хотел оставаться в голове цепочки. Требовалась вся настойчивость хозяина (по следам которого он неуверенно плелся), чтобы помешать ягуару перебраться в хвост колонны. Ничего подозрительного, однако, не замечали бдительные робинзоны — ни белые, ни черные. Они шли уже двадцать четыре часа по следу ребенка, как хорошие ищейки. Шарля похитили в километре от дома, после того как он убил орла, чьи перья усеивали землю. Следов борьбы не видно. Несколько сломанных веток, примятая трава указывали на неожиданность, жертвой которой стал юный охотник. Затем его след перепутался с многочисленными отпечатками, которые принадлежали тяжело нагруженным индейцам. Эти последние то ли из безразличия, то ли уверенные в своем превосходстве не заботились о том, чтобы скрыть свои следы, ввести в заблуждение возможных преследователей. Главное установили точно. Шарль не пал жертвой хищника или змеи. Он не утонул в заболоченной саванне, не заблудился в лесу, его не убило упавшее дерево. Он несвободен, но жив, хотя само загадочное похищение весьма подозрительно и служит слабым утешением. Так что робинзоны старались идти как можно энергичнее, чтобы сократить дистанцию и скорее настигнуть похитителей. Мадам Робен, несмотря на силу воли, не поспевала за отрядом. Через несколько часов она уже совсем выдохлась. Так что двое молодых негров удобно устроили женщину в гамаке, который несли на длинном шесте на своих мощных плечах. Драгоценный груз мало обременял атлетов, не снижал скорости движения. Этот простой и, в общем, единственный метод транспортировки используется, чтобы доставить больных или раненых к лодкам. Он очень распространен в Гвиане, где отсутствуют вьючные животные и нет проезжих дорог. На берегу реки сделали краткую остановку. Но не для отдыха, а чтобы проглотить на скорую руку несколько ломтиков копченого мяса. Ягуар своим поведением по-прежнему напоминал побитую собаку и неохотно плелся следом за Анри, возмущенным непостижимой трусостью своего любимца. Странное поведение Кэти сильно осложняло розыскные способности старшего робинзона, который из сил выбивался, чтобы обнаружить хоть какую-нибудь зацепку. Казимир, опытный ходок по девственным лесам и знаток всех тонкостей первобытной жизни, метался по сторонам в надежде установить хоть что-нибудь — полная неудача. Обескураженный Ангоссо не находил никакого объяснения. Тайна становилась все более жгучей и непостижимой. Все сходились на том, что похищение ребенка связано с трагедией, жертвами которой чуть не стали Робен и трое его сыновей. Все как будто подтверждало эту версию, вплоть до движения индейского отряда к тому месту, где ураган обрушился на лес. Несчастный отец трепетал при мысли, что его малыш стал невинной искупительной жертвой и в сию минуту, может быть, погибал в том самом месте, где он с братьями Шарля подвергся бы мучительной казни, не вмешайся Ангоссо. Еще два часа не принесли никаких новостей. Анри шел во главе колонны, сопровождаемый ягуаром, который как будто стал успокаиваться. Следы похитителей, по всему видно, людей изощренных, не прерывались и были отчетливо видны. Они уводили в бесконечную лесную чащу. Робинзоны задыхались от жары, глаза разъедал пот, но друзья не сбавляли темпа ходьбы. Внезапно на ягуара вновь напал страх, он резко остановился перед валявшимся и свернутым в трубочку листком цветущего тростника. В радиусе двух километров тростник не рос, листок могли принести только от реки и оставить здесь с каким-то определенным умыслом. Брошенный на землю, он неизбежно привлек бы взгляды идущих по следу; даже случайный и малозначительный предмет в поиске притягивает наше внимание. К тому же его особая форма явно была рассчитана на преследователей. Надлежало тщательно изучить зеленый сверточек. Он мог содержать между складок важные сведения, но мог оказаться и ловушкой с каким-то ядом или маленькой змейкой. Цепочка людей затормозила и подтянулась. Анри приблизился к листку и с бесконечными предосторожностями развернул с помощью наконечника длинной стрелы. В нем ничего не оказалось. Юноша поднял его, бережно держа за краешки, и внимательно рассмотрел. Возглас радости вырвался из груди при виде крупных букв, начертанных чем-то острым на темно-зеленой поверхности. Молодой человек прочитал медленно вслух, голос его дрожал и прерывался: — «Мою жизнь пока пощадили. Чье-то загадочное заступничество. Меня уводят. Двигайтесь осторожно. Будьте бдительны. Шарль». Оглашение этого письма, столь же странного, сколь и неожиданного, вызвало взрыв всеобщей радости. Стесненные тоской и ожиданием, все глубоко вздохнули и почувствовали огромное облегчение. — Он жив! — воскликнула мадам Робен. — Он жив! Милый мой малыш! Руки у нее тряслись, когда она взяла листок, так что глаза ее с трудом могли рассмотреть слова ненаглядного сыночка. Никола смеялся, плакал, что-то выкрикивал. — Мадам!.. Дети мои!.. Патрон! Я просто спятил! Мне хочется орать! Как будто у меня в желудке целый жбан вина! — А ты знаешь, братец, — заметил Анри, — для новичка это просто мастерский ход… — Замечательно, великолепно, — подытожил сияющий Робен. — О, дорогое дитя! Казимир, ты слышал? — Конечно, компе… Казимир доволен, очень доволен… Малыш ловко провел индейцев… — Твой ученик, старина! — Он превзошел негра, да! О, этот славный хитрец! — Ты погляди, Анри, — сказал в свою очередь Эдмон, — как здорово он написал на этом жестком и мясистом листке! Так четко… — И ничего не порвал, — добавил Эжен, также восхищенный ловкостью младшего брата. — Он взял иголку и тупым концом вдавливал ее с такой силой, чтобы оцарапать кожицу листка, но не продырявить его… Это читается как рукопись. Ангоссо почти со страхом глядел на растительный лоскуток, чей вид вселил надежду в его друзей. Тогда негры Марони еще не знали обычаев и привычек белых людей, которых сегодня так много трудится на золотых приисках, наш добрый бони даже не представлял, что такое «папира» (бумага), каково ее назначение. Потребовалось объяснить ему особенности такой формы общения, и это привело негра в восторг, а уважение к белым выросло еще больше. Только один из участников экспедиции не разделял общей радости. Это Кэт. Казалось, на ягуара записка произвела прямо противоположное действие, пугая и отталкивая зверя. Наши европейские кошки, шутливо называемые «судейскими секретарями», проявляют прямо-таки необычную любовь к бумаге, которой они и обязаны своим прозвищем. Что же это за странность: их близкий родственник, огромный тропический кот, выказывает к ней такое отвращение? Воспитанный в кругу робинзонов, он, в общем, не был чужд «литературы». Но стоило показать ему найденный листок, как ягуар убежал прочь, громко рыча. Более того: он даже отказывался принимать ласку от рук, державших злополучный предмет. Ангоссо решил выяснить, в чем дело. — Дайте-ка мне эту штуку, — сказал он Анри. Негр взял листок, повертел его, поглядел на просвет, наведя его, как стекло, на солнце, потом поднес к своему носу. И тут же расхохотался: — Я знаю! Это кози-кози! — Что ты называешь кози-кози? — спросил Робен. На своем креольском наречии Ангоссо объяснил: — Это такое интересное растение, запах которого отпугивает тигров. — Не может быть! — Да, компе! Индейцы берут его плоды, заваривают кипятком, растираются этой настойкой, а потом еще мажут своих собак, и никогда им не встретится тигр: он сразу убегает при их приближении, хоть умирает от голода! — Ты мог бы показать мне это растение? — Конечно, подождите немножко! — И бони углубился в лес. Ожидание оказалось недолгим. Не прошло и пяти минут, как черный робинзон вернулся с торжествующим видом, и Робен сразу опознал принесенное растение. — Да, оно мне встречалось! Это hibiscus abelmoschus, из семейства мальвовых, более известное под именем амбретты… Деревце родом с Антильских островов, его плоды издают сильный запах мускуса… И ты говоришь, что этот приятный, сладковатый запах обращает тигра в бегство? — Ну да! Ему кажется, что он чует патиру, змею или каймана, — своих самых злых врагов! — Теперь я понимаю, — сказал Никола. — Это нечто противоположное действию валерианки. Кошки от нее с ума сходят. Вы же знаете, что валериановые капли служат неотразимой приманкой для них, ее используют ловцы в белых куртках, по прозванию «повара», чтобы очистить парижские чердаки и водосточные трубы… — И я тоже понимаю, — вмешался Анри, — я даже вижу всю сцену похищения нашего брата. Шарля схватили индейцы, которые натерлись амбреттой, потому что боялись ручного ягуара, а тот испугался ненавистного запаха и своей раны, которую причинила ему неловко направленная стрела. Его бегство и возвращение домой теперь легко объясняются, как и нежелание идти по следу этих индейцев, как и страх, внушаемый ему запиской, потому что от Шарля запах невольно перешел и на листок тростника… — Кто его знает, — добавил Никола, — быть может, индейцы время от времени капали на дорожку своей настойкой, чтобы помешать Кэти выполнять свой долг охотничьей собаки?.. — Вполне возможно. Но, поскольку для нас эти предрассудки значения не имеют, мы пойдем вперед, и как можно быстрее! К сожалению, трудно поверить, что краснокожие всегда будут пользоваться только такими гуманными средствами защиты! Как бы там ни было, нас ожидают впереди скорые новости. Робен не ошибся. Хотя индейцы — отличные ходоки, они не могли соперничать с робинзонами. Те вскоре поняли по несомненным признакам, что разделявшее их расстояние уменьшается. Листья веток, срезанных мачете беглецов, не успевали завянуть. А еще дальше обнаружилось, что срезы стеблей сочатся. Значит, люди прошли здесь совсем недавно. Встреча приближалась. Иногда казалось, что похитители в нескольких шагах. Настала ночь. Сделали привал, и Робен отрядил в качестве разведчиков Анри и Ангоссо, наказав им проявлять величайшую осмотрительность. Следопыты отсутствовали около часа и вернулись на стоянку настолько тихо, что крыло летучей мыши произвело бы больше шума. Робен ждал с мачете в руке. Ягуар, освободившись от своих страхов, бродил неподалеку. — Отец, — тихо сказал Анри, — мы их видели. — А Шарля? — с тревогой спросил тот. — Шарля не было видно… Скорее всего, он в большой хижине, расположенной в центре. Вокруг нее все время сидят на корточках много индейцев. — Но как вы разглядели в темноте? — Они разожгли костры. — Странно. Это указывает на то, что краснокожие не ожидают встречи с нами или же они готовы отразить любое нападение. — Я склоняюсь к последнему. Тем более что там их такое множество… — А каково расположение лагеря? — Слушай. Они обосновались в том месте, где собирались нас казнить. В центре, как я уже сказал, большая хижина. Ее окружают восемь симметрично расположенных очагов, по два с каждой стороны. В расчищенном от деревьев месте, то есть напротив наших бывших «плах», горит большой лентообразный костер, в виде полукруга. Неосвещенная часть, понятно, примыкает к лесу. — Да это настоящая система военных укреплений! — Конечно, задачка атаковать не из легких! — И тем не менее приступать к ней надо немедленно. — Я тоже так считаю, отец. Но с какой стороны мы их атакуем? — Тут нет сомнений. Освещенная зона представляется им лучше защищенной, следовательно, ее меньше охраняют. А теневая сторона наверняка ощетинилась стрелами и просматривается очень внимательно. Полукруглый костер — примитивная штука, для отвода глаз, больше всего годится для отпугивания хищников. Оттуда и бросимся в атаку. Бьюсь об заклад, там не больше двух человек на посту. — А кто войдет в группу нападения? — Самые крепкие. Ты, Ангоссо, один из его сыновей, Никола и я. Надо, чтобы первый натиск был сокрушительным. Мы кинемся через костер, с топором в одной руке, с мачете в другой. Это дело нескольких секунд. Поскольку мы не можем подвергать твою мать опасностям и нам нельзя распылять свои силы, вот что я решил: Эдмон, Эжен, второй сын бони и Казимир составят резервный отряд, который возьмет мое ружье, Башелико — отцовское. Устроив засаду в лесу, как в неприступной крепости, они станут отгонять беглецов, которые попытаются вырваться. — Отец, твой план хорош, лучше не придумаешь. Нам остается только одно. — Что же, милый друг? — Как можно быстрее его осуществить. — Я не ждал от тебя иного! Браво! И — вперед! Если робинзоны одобряли какой-то план, то исполнение не заставляло себя долго ждать. Не прошло и двух часов после краткого «военного совета», как оба отряда были на исходных рубежах. Индейский лагерь окружил с востока резервный отряд, укрывшийся за деревьями и лианами, а с запада — группа нападения. На полукруглой линии огромного костра выплясывали угасающие языки пламени, однако большое количество тлеющих углей и жара образовывали настоящий огненный ручей, шириной до трех метров. Это нисколько не смущало людей, готовых перепрыгнуть одним прыжком через гораздо большее пространство. Пятеро нападавших выдвинулись как можно ближе к освещенной зоне. Затем Робен громовым голосом бросил клич: «Вперед!» Друзья прыгнули с тигриной ловкостью и сразу очутились в лагере. Хотя прыжок был молниеносным, им все же показалось, что пламя чересчур сильно обожгло их. Коснувшись земли, робинзоны как бы внезапно ослепли, задохнулись, закашлялись. Этот кашель саднил и буквально раздирал грудь, необычно острый, судорожный, от него сотрясалось все тело. Глаза нападавших выступили из орбит, полные жгучих слез, они не видели ничего. Белых и негров повалили на землю безо всякого труда. Ликующие вопли индейцев заполнили поляну.
__________
Назначенная Бенуа и Акомбакой охрана лодок нашла, что дни тянутся неимоверно долго. Запасы вику исчерпались, необходимые компоненты для изготовления кашири отсутствовали, напитки белых людей были тщательно упакованы, завязаны, запечатаны, исключая всякое нескромное вторжение. Бедняги томились, как только могут томиться индейцы без выпивки и без табака, вынужденные обходиться скудной порцией лепешки и сухой рыбы. Подобное положение не могло длиться долго. Если гора не шла к ним, то ведь они могли отправиться к горе. Осуществление такого планапрервало бы монотонность отшельнической жизни. Да и в самом деле: чем же заполнить время, если не пьешь? Не потребовалось долгих речей, чтобы оправдать безрассудную затею, — к ней приступили тотчас же. Пироги спрятали в прибрежных зарослях. Свои пагара дезертиры наполнили провизией, водрузили себе на головы — и отход состоялся как самое обычное явление. Это было даже не дезертирство в собственном смысле слова, поскольку индейцы соединялись с главной частью отряда, а оставление поста, важность которого представлялась весьма сомнительной. Нетрудно, вероятно, найти какое-нибудь различие, но военные советы у краснокожих так по-детски наивны! Они пошли по маршруту, которым недавно проследовали Акомбака и белый вождь. Тропа пролегала мимо северной плантации «Доброй Матушки». Судьбе было угодно поместить на их дороге Шарля как раз в тот момент, когда молодой человек, как и предполагал его брат, убил воздушного пирата. Вообще гвианские индейцы безобидны. Без сердечного тепла, но и без злобы встречают они путника, пытаясь из короткого общения извлечь хоть какую-нибудь пользу, и мирно удаляются, обменявшись несколькими пустыми фразами. Белых они уважают и немного побаиваются, потому что у тех водятся не только водка и табак, но и ружья. В обычных условиях эта встреча ничем бы не угрожала юному робинзону. К несчастью, Шарль не был обычным белым. Вооруженный по-индейски, в одежде из плотной ткани, с темными от загара лицом и руками — весь его облик вызывал удивление у наивных, но недоверчивых туземцев. Да в самом ли деле это белый? А может, индеец или метис?[304] Они обратились к нему с вопросами, на которые Шарль не ответил. Так он еще и не знает их языка! Это подогрело любопытство. Мозги туземцев были нашпигованы жуткими историями об оякуле, этих грозных индейцах с белой кожей, которые говорят на непонятном языке и живут в стороне от местных людей в полном одиночестве, исполненные к ним злобного презрения. — Наверное, это оякуле, — робко предположил один из краснокожих, с трудом отваживаясь выговорить вслух такое страшное слово. Затем, видя, что перед ними ребенок, дикари осмелели. Ведь их много, восемь человек, и так приятно нарушить однообразие странствия. — Оякуле! — завыли они в унисон[305], чтобы придать себе больше уверенности. Молчание Шарля подбодрило и раззадорило соплеменников Акомбаки, несмотря на воинственный вид юноши и присутствие Кэти, оскалившей зубы. Эмерийоны хотели убедить себя, что перед ними враг, и преуспели в этом, потому что, как известно, у идеи тем больше шансов утвердиться в примитивном сознании, чем более она ложна. Шарль, осыпаемый неумолчно звучащими словами «оякуле, оякуле…», оказал решительное сопротивление краснокожим простакам. Завязалась борьба, мальчик вынужден был уступить. Первый шаг — решающий, и первый удар — самый трудный. Ягуар грозно рычал, но не нападал. Верные своей привычке соблюдать предосторожность, индейцы натерлись амбреттой, перед тем как выйти в дорогу. С поваленным на землю робинзоном обращались грубо. Возможно, дело приняло бы совсем плохой оборот, но здесь охотничья куртка Шарля лопнула и обнажила чистую белизну юношеской кожи. Бесспорное доказательство его принадлежности к белой расе должно было убедить и усмирить буянов. Этого не произошло. Наоборот, краснокожие точно уверовали, что перед ними — оякуле. И не пожелали выпускать его из когтей. Они обрекут его на пытки, а потом на казнь — трезвые индейцы бывают кровожадными, а их безобидность в большой степени связана с постоянным опьянением. Плохо пришлось бы Шарлю. Но тут взгляды его недругов упали на ожерелье, блестевшее на загорелой шее юноши. Оно, должно быть, заключало свойства пиэй невероятной силы, потому что его влияние проявилось тотчас же, и с удивительным результатом. Украшение, однако, не было чем-то особенным. Простая цепочка с полудюжиной полированных нефритов[306] величиной с вишню, а в центре — золотой самородок, размером и формой напоминавший мизинчик. Это ожерелье принадлежало Жаку-арамишо, перед отъездом он подарил его юному другу как самую ценную вещь, которой располагал. Жак просил Шарля носить его в память о бывшем владельце. И ребенок, не придавая этому ни малейшего значения, надел украшение на шею. Ему сказочно повезло. Потрясенные видом талисмана, эмерийоны немедленно изменили тон и стали проявлять к Шарлю знаки высочайшего почтения, не менее поразительные, чем их недавняя грубость. К несчастью, они не вернули ему свободу. Напротив, спутали его ноги таким образом, чтобы он мог нормально идти, но не в состоянии был бы бежать, однако руки оставили свободными. Туземцы решили отвести пленника к Акомбаке, уповая на то, что талисман умерит гнев последнего за покинутый ими «боевой пост», а племя щедро вознаградит за вербовку новобранца. Худо-бедно, а Шарль все-таки походил на индейца. Благодаря относительной свободе он смог написать на листке тростника записку, а используя магическую силу пиэй, обеспечил неприкосновенность своего послания, оставленного на дороге. Кэти, увы, такими привилегиями не обладала. Питая к краснокожим беспричинную ненависть, ягуар явно побаивался этих эмерийонов. Они же не решались его убить, но зато намазались амбреттой так обильно, что бедное животное, не выдержав, повернуло прочь и побежало к «Доброй Матушке». Вслед ему полетела стрела курмури, ускорившая его бегство. Шарль остался один со своей неопределенной судьбой, неясной и самим похитителям. Они добрались до соплеменников, но, по роковому стечению обстоятельств, лишь спустя несколько часов после освобождения и ухода робинзонов. Поляна начинала наполняться гамом. Пришедшие в себя туземцы истошно вопили над безголовым телом своего вождя Акомбаки. Бенуа с чудовищно распухшим лицом был жив, но отчаянно хрипел. Прибытие второго отряда отвлекло их, особенно вид Шарля, чей талисман вновь вызвал почтительное восхищение. Индейцы с невероятной переменчивостью, составлявшей основу их характера, забыли о мертвом ради живого. Или, вернее, они уже предвидели перспективу двойной пирушки — в память покойного и в честь его наследника. Ибо — пусть никто не удивляется этому — они думали с полнейшей ответственностью о том, чтобы избрать юного робинзона вождем эмерийонов и тиос. Мальчик, удивленный таким противоречивым развитием событий, махнул на все рукой; его безразличие только подогрело всеобщий восторг, который внушал этот прелестный подросток. Он с хрупкой надеждой ожидал своего посвящения в сан, чтобы привести, если иначе нельзя, новых подданных к «Доброй Матушке» и обнять наконец милых родных, по которым он так тосковал. Трое каторжников исчезли во время суматохи, индейцы не знали, что с ними произошло. Возможно, те поубивали друг друга, чтобы завладеть самородком, единственным весомым результатом экспедиции. Что касается Бенуа — его состояние требовало немедленного лечения, и Шарль, опознав в нем белого, распорядился оказать ему помощь, увы, не подозревая, что этот человек окажется причиной непоправимого несчастья. Средство, употребленное для возвращения умирающего к жизни, было, с одной стороны, очень простым, а с другой — весьма необычным. Индеец схватил два куска кварца и стал сильно бить их один о другой, высекая искры под самым носом бывшего надзирателя. Брызнули целые снопы искр, и характерный запах разогретого кремня распространился в воздухе. Минут десять продолжал краснокожий свои маневры, стараясь оперировать как можно ближе ко рту и носу раненого. И — удивительное дело! — хрипы заметно уменьшились. По всей видимости, этот запах действовал, как мощное средство на опухоль, вызванную укусами ос. Дыхание становилось все более легким, нормализовалось, бандит смог выговорить несколько слов и попросил пить. Распухшая слизистая оболочка, вероятно, частично пришла в норму, потому что бывший надзиратель умудрился опорожнить без труда добрую половину кувшина с водой. Что касается твердых узловатостей, которые фиолетовыми пятнами испещрили его лицо, затянули глаза, покрыли буграми лоб, изуродовали губы, придав ему отвратительный облик прокаженного, то их просто обмазали горшечной глиной, достаточно мягкой, чтобы принять очертания лица и прильнуть к кожному покрову в виде маски. Эта операция возымела немедленное действие и почти мгновенно сняла мучительную боль, терзавшую Бенуа. Перестав ругаться и сыпать проклятия — старые привычки снова воскресли в негодяе — он вскоре задремал, а наутро уже был здоров. Лицо еще безобразили иссиня-бледные пятна, оставленные ужасными насекомыми, но один глаз уже стал видеть. Другой казался сильно поврежденным. Лекарь сообщил о событиях минувшего дня — об освобождении пленников, смерти Акомбаки, исчезновении сообщников, а также о прибытии предполагаемого наследника короны… из перьев. Бенуа и сам бы, пожалуй, хотел называться Акомбакой-вторым, и сам был бы не прочь торжественно взгромоздиться на вырезанного из дерева каймана[307], а потом послать своих подданных на барщину золотых приисков. Надзиратель решил избавиться от новоявленного претендента на трон. Казалось не трудным поставить себя на место соперника, даже если пришлось бы пойти на убийство. Но прежде, чем предпринять что-либо, надлежало познакомиться с претендентом, завоевать его расположение, используя в случае необходимости лицемерие, если тот окажется в состоянии энергично себя защищать. Удивление Бенуа могло сравниться лишь с его яростью. При виде ребенка, чьи черты живо напомнили ему Робена и его сыновей, авантюрист ни на миг не усомнился в происхождении мальчишки. — Так вот оно что! — прорычал он. — Вечно натыкаешься на это отродье! Еще один щенок проклятого фаго… Ну, погоди же, сопляк, я тебе устрою веселую жизнь… Не теряя времени бандит потребовал флейту и барабан Акомбаки, сыграл несколько громких рулад и раскатисто погрохотал. Краснокожие сбежались, за исключением телохранителей Шарля, и сгрудились вокруг Бенуа. Он выступил с длинной речью, разоблачая их избранника как члена того самого подлого семейства, вождь которого убил их великого пиэй. Его тон поочередно звучал обвинительно, возвышенно и угрожающе. Бородач сулил им горы кассав, потоки кашири, реки тафии, а закончил недвусмысленным предложением избрать себя предводителем. Напрасные усилия. Классическая формула: «Я сказал, и дух моих предков согласен…» — успеха не возымела, встретили ее холодно. Белый наобещал уже много всего, да слова так и остались словами. Его звезда сильно побледнела со смертью Акомбаки и освобождением пленников. Одно из двух: либо дух его предков солгал, либо виновники кончины колдуна обладали более мощным пиэй, чем белый вождь. Бенуа почувствовал, что ему необходимо срочно вернуть себе дружеское расположение туземцев. Он принялся вспоминать истории из прошлого, напирая на свои заслуги и щедрые возлияния на похоронах жреца. Но что значили теперь для краснокожих эти россказни, когда тело бедного «Который уже пришел», потерявшее голову, будет погребено — увы! — по низшему разряду… Осиротевшему племени следовало как можно быстрее поставить заслон от новых несчастий и возвести в высший ранг красивого подростка с гордым выражением лица, величественной осанкой и — что важно — с таинственным ожерельем. Этот взрослеющий мальчик внушал индейцам безграничное доверие. Бенуа хорошо знал туземцев. Он видел, что партия проиграна, и не думал бороться. Его сообщники обратились в бегство, его влияние на индейцев, которое он поддерживал только с помощью Акомбаки, ушло в прошлое. Авантюрист решил укрыться в лесу, оставаясь, однако, в пределах досягаемости лагеря, чтобы воспользоваться грядущими событиями или спровоцировать их в случае необходимости. Бородач скатал свой гамак, наполнил вещевой мешок провизией, аккуратно зарядил ружье, погрозил кулаком в пространство и потихоньку скрылся. Посвящение нового вождя должно было состояться утром следующего дня. Его воины, чтобы защитить своего избранника и самих себя от опасных сюрпризов, на которые так богаты девственные леса, укрепили площадку вышеописанным способом. Они разожгли костры, поставили часовых, вменили им в обязанность каждые четверть часа обильно сыпать на горящие угли зерна ужасного кайеннского перца, который еще называется бешеным стручком. При сгорании маленького красного плода из семейства пасленовых образуется едкий, раздражающий и удушающий пар, вдыхание которого хотя и не очень опасно, немедленно вызывает те явления, которые сделали атаковавших робинзонов беззащитными. Над ними занесли мачете, их вот-вот обезглавят. Но Шарль услышал команду на французском языке и вслед за ней — крик отчаяния и тоски. С силой оттолкнув телохранителей, он прыгнул сквозь человеческую стену, развел ножи, занесенные над его близкими, и бросился в объятия отца. — Папа!.. Анри!.. — Шарль! Дитя мое милое! — воскликнул все еще незрячий изгнанник, которому только слух не изменил. — Шарль! Ожесточение индейцев умиротворилось поведением молодого человека, чьим желаниям отныне все беспрекословно повиновались. Перед новоприбывшими стали заискивать, хотя их первоначальные намерения представлялись подозрительными, но так пожелал вождь. Обмыли им веки, дали подышать сильным противоядием, и вскоре глаза белых открылись свету. Тем временем члены второго отряда, притаившиеся в непроницаемой темноте леса, испытывали все большее беспокойство. После первых возгласов нападавших, после торжествующих и возмущенных криков индейцев воцарилась томительная, зловещая тишина. Тревога была настолько остра и непереносима, что мадам Робен, предпочитая бездействию что угодно, дала приказ наступать. Страх и тоска удесятерили ее силы. Она устремилась легко, словно птица, в направлении огней, пересекла узкое пространство, не замечая препятствий, не останавливаясь на них, и появилась вся в белом среди огненно-красной ночи, как дух любви и свободы. Охваченные священным ужасом, потрясенные ее внешним видом, индейцы бросились к ногам божественной фигуры. Им никогда не доводилось видеть европейскую женщину! Она остановилась посреди поляны, заметила Шарля в центре живописной группы ее близких — вот и отец, Анри, Ангоссо, Никола… — и протянула руки. Ребенок, совершенно обезумев, думая, что он бредит, бросился к матери и судорожно сжал в объятиях. Героическая женщина, которая до сей минуты не расслабилась ни разу, сотрясалась от рыданий. Ее глаза утонули в слезах. Стоически перенеся страдания, она не выдержала тяжести человеческого счастья. В момент наивысшего восторга, когда изгнанник вкушал со своей семьей радость чудесного освобождения, неожиданно возникло из-за ствола ауары жуткое видение. Мрачный призрак, выплывший из темноты, с отвратительным землисто-серым, мертвенно-бледным лицом, глазами, сверкавшими холодным металлическим блеском, искаженным в гримасе ненависти ртом — в общем, вся физиономия как будто выползла из преисподней. «Бенуа!» — собрался крикнуть Робен, узнавший бандита. До бывшего надзирателя было около пятнадцати метров, но инженер не успел вымолвить ни слова. Ружейный ствол вдруг направился в его сторону, прозвучал выстрел, и негодяй громко заорал с чувством удовлетворенной ненависти: — Это тебе, Робен! А потом и другим… Громкий стон раненого раздался тотчас. Но отец семейства стоял как ни в чем не бывало, а вот бедный Казимир тяжко рухнул на землю, пораженный пулей в грудь. Добрый старик успел увидеть приготовления мерзавца. И, собрав остаток сил, восьмидесятилетний негр прикрыл друга своим телом. Индейцы подняли шум, самые находчивые ринулись ловить убийцу, но не тут-то было. Хитрый, как хищник, преследуемый собаками, Бенуа растворился в кустарнике и исчез в ночной темноте. Растерянный Робен, преисполненный боли и сострадания, поднял беднягу; тот жалобно стонал. Ссыльный зарыдал, словно ребенок. У всех на глазах блеснули слезы. Робинзоны горевали, как если бы присутствовали при смерти собственного отца. — Казимир! — прерывающимся голосом бормотал глава семьи. — Казимир!.. При звуке любимого голоса старик приоткрыл свой единственный глаз и одарил белого друга долгим взглядом признательности и сожаления. — Мой любимый сын… Не плачь… — Голос его был на удивление музыкален, это ощущение усиливалось нежным звучанием креольской речи. — Не плачь, мой дорогой ребенок! Твой белый отец подарил тебе жизнь… Твой черный отец имел счастье сохранить ее… Разве ты не называл меня своим отцом… Любил меня… Украсил мои последние годы… Благословляю тебя, сын мой! Пусть дарует тебе судьба долгие дни счастья на этой земле, где ты так страдал! Говорить негру становилось все труднее, тело покрылось мраморно-серыми пятнами. Робен хотел обследовать рану, оказать какую-то помощь. Ярко-красная пенистая кровь текла из сквозного отверстия, пуля пробила грудь чуть пониже левой ключицы. — Бесполезно, мой милый компе, — снова тихо заговорил Казимир, и мягкая улыбка коснулась его губ. — Приложи руку к ране, чтобы я не умер слишком быстро. Вот так… А теперь… поверни свое лицо к свету, чтобы я мог видеть его полностью. Робен послушно исполнил просьбу, и выражение безграничного блаженства окрасило лицо негра, обретавшее неподвижность маски. — А теперь, мои дорогие дети… вы, кого я любил до последнего дыхания… мои старые кости вздрогнут от счастья, когда вы своими руками засыплете их землей… Прощайте! Прощайте, мадам… вы, такая добрая и заботливая к бедному старому негру… Прощайте, Анри… Эдмон… Эжен… Мой маленький Шарль… Прощайте! И ты, Никола, знающий силу преданности, тоже прощай! Ангоссо… Ломи… Башелико… добрые негры, любите моего белого сына… Прощай, Ажеда! Ох… Ох… Мой белый друг! Сними руку… Робен отнял окровавленную руку от раны. Кровь заструилась с новой силой. Изгнанник воздел руки к небу, как бы призывая его в свидетели своей клятвы: — Мир тебе! Я люблю тебя, как отца, и всегда буду печалиться о тебе! Поверь мне: ты будешь отомщен! Умирающий, которого уже коснулось ледяное дыхание вечности, приоткрыл глаза и прошептал еще несколько слов: — Ты научил меня прощать… Не убивай его! Я умираю довольный. Казимир хрипло выдохнул воздух, кровь хлынула из горла. Великое сердце больше не билось. Робен положил негра на землю, осторожно закрыл ему глаза, поцеловал в лоб и долго оставался коленопреклоненным возле тела покойного, охваченный глубокой тоской.__________
Эту печальную бессонную ночь не оглашали обычные для индейцев в таких случаях завывания. Уважая молчаливую скорбь гостей, они с неожиданной покорностью разошлись по своим делам. Одни поспешили взяться за изготовление новенького гамака, предназначенного послужить саваном для умершего, другие приносили пучки пальмовых листьев для подстилки, третьи сооружали легкую хижину. Настало утро. У погруженных в траур робинзонов не было ни минуты отдыха. Только Никола отвлекся при виде чего-то белого на земле, очень его заинтересовавшего. С первыми лучами солнца он определил природу этого предмета: то был клочок обычной бумаги, скомканный и потемневший. Бумага — большая редкость в гвианских лесах. Парижанин уже десять лет не видел даже случайного обрывка… Как здесь появился этот грязно-белый комочек?.. Наверное, это пыж от ружья, которое стреляло в Казимира. Уступая естественному желанию, Никола поднял клочок без определенной цели, словно повинуясь тайному предчувствию. Он развернул бумажонку — она была усеяна печатными буквами. Газета! С одной стороны текст прочесть невозможно, он весь обожжен при вспышке пороха. Но с другой — буквы видны… Парижанин прочел и мгновенно побледнел. От радости или от огорчения? Перечитал еще раз, боясь, что ошибся, не так понял. Затем, не в силах удерживать волнение, которое буквально распирало его, он вскочил и опрометью кинулся к Робену, все еще пребывавшему возле тела погибшего друга. Отерши пот со лба, Никола до боли сжал руку изгнанника, а другой подал ему прочитанный обрывок газеты. Глава семейства глазами указал на покойника, лежавшего на зеленой подстилке, его печальный и нежный взгляд как бы говорил: «Неужели не можешь подождать?.. Не видишь разве, что не время сейчас заниматься другими делами? Зачем ты меня отвлекаешь?..» Никола правильно истолковал немой упрек, но все же продолжал настаивать: — Мой благодетель! Мой друг! Очень торжественный момент… прошу вас… прочтите! Инженер, бросив быстрый взгляд на буквы, изменился в лице и проглотил текст одним махом. Глухой стон вырвался у него из груди. Заметившие это внезапное волнение, к ним подошли юные робинзоны с матерью. Робен вполголоса прочел им отрывок, медленно выговаривая уцелевшие разбросанные слова, среди которых сохранилась одна-единственная полноценная фраза (он прочитал ее с особым чувством): — «…милосердие… император… уголовные и политические преступления… По декрету от 16 августа 1859 года объявляется всеобщая амнистия, без условий и ограничений, она распространяется на всех… за границей… в местах депортации, могут возвратиться во Францию… обнародование… декрет опубликован в «Бюллетене законов»…» Робинзоны с трудом ухватывали смысл непонятных для них слов, способных преобразить всю их дальнейшую жизнь. Окончив чтение, Робен задумчиво продолжал тем же приглушенным тоном: — Итак, ваш отец перестал быть человеком, которого хватают и сажают в тюрьму… Он уже не безликий номер в списке ссыльных, не каторжник, которого терзает лагерная охрана… Я больше не беглец, за которым охотятся, как за хищником… Исчез Белый Тигр, за ним больше не будет гнаться свора надзирателей… Я — свободный гражданин экваториальной Франции! И, обратив свой взор на тело покойного негра, добавил: — Бедный мой друг! И надо же, чтобы моя радость была отравлена болью, которая никогда не утихнет!ГЛАВА 10
Последние почести. — Раскрытая тайна. — «Здесь покоится добрый человек…» — Отречение от престола. — Паломничество к могиле. — Загадочный цветник. — Страшное возмездие. — Тайна продолжает жить.Похороны Казимира состоялись наутро. Робен пожелал сам отдать последние почести старику. Он решил похоронить его в гамаке, который соткали ночью, и собственными руками выкопать глубокую могилу, к великому удивлению индейцев, не понимавших столь высокого почтения белого к останкам старого негра. Главе семейства хотелось, чтобы его друг обрел вечный покой в том месте, где в момент наивысшего самопожертвования он героически завершил свою долгую жизнь, полную любви и беззаветной преданности. Поверженные ураганом деревья робинзоны позже сожгли бы, соорудили здесь какое-нибудь жилище, филиал «Доброй Матушки», и приходили бы сюда время от времени. Последнее пристанище Казимира не осталось бы заброшенным. Робен копал непрерывно и без особых усилий. Странная вещь: земля была такой мягкой, словно ее недавно рыхлили. И все же работа подвигалась довольно медленно из-за обилия увесистых камней, нагромождение которых стало ему казаться неслучайным. Он выбрасывал их один за другим из ямы и продолжал копать. Штыковая лопата из твердого дерева, ловко вырезанная в форме весла с помощью мачете, пересекла вскорости плотный слой листвы, не совсем увядшей. И эта относительная ее свежесть говорила о том, что землю рыли несколько дней назад. Инженер забеспокоился: стоит ли продолжать?.. — А если я наткнусь на другой труп?.. Не хватало мне стать потрошителем чужих могил… — бормотал он себе под нос. И уж совсем было решил отказаться от своего намерения, а могилу выкопать в другом месте, как вдруг босая нога его провалилась сквозь рыхлый грунт и наступила на что-то твердое, больно царапнувшее кожу. Наш герой наклонился и с удивлением обнаружил крышку индейской корзины пагара, оплетенную лианой и сплющенную давлением. Робен потянул к себе растительную веревку, но почувствовал сильное сопротивление. Наконец в результате энергичных действий ему удалось вырвать из земли тростниковую корзину и с огромным усилием поднять над головой: настолько она была тяжела. Парижанин поставил ее рядом с ямой, затем выудил вторую, точно такую же, потом третью, за ней четвертую. Подошел Анри, протянул ему руку, помог выбраться наверх. Открыли корзины. Они были полны золота! В каждой из корзин лежало множество самородков. Робинзоны определили их общую массу в сто пятьдесят килограммов, что составляло примерно четыреста пятьдесят тысяч франков. Хорошо известно, с каким решительным презрением колонисты относились к богатству. Никого не удивило, что не послышалось ни единого ликующего возгласа, не последовало никаких проявлений радости после обнаружения клада. Индейцы, не понимавшие ценности золота, из любопытства приблизились и с удивлением поцокали языками при виде золотых самородков, среди которых были весьма значительные по размерам. Робен смотрел на сокровище безразличным взглядом. — Бедный друг, — сказал он, как будто Казимир мог его услышать. — Милый друг! Ты был добрым гением в дни моих злосчастий и превратностей, потом пожертвовал жизнью ради меня, и вот теперь, даже после смерти, ты даришь нам целое состояние! — Отец! — воскликнул Анри. — Я хочу сказать, что все мы — и мать, и братья, и Никола, и я сам — одинаково относимся к этой находке. Вот что мы думаем: какое значение имеет богатство? Зачем это золото, если мы его презираем! Разве этот лес со всеми своими ценностями не принадлежит нам? Разве нет у нас рук, чтобы трудиться, нет плантаций, которые дают все, что нужно? Какое нам дело до этой «цивилизованной жизни» с ее мелочной борьбой, необузданными желаниями, с неведомой нам нуждой и вечно неутоленной ненавистью! Мы ведь экваториальные французы, свободные колонисты Гвианы, которую любим, хотя она и была страной нашего изгнания. Она прокормит нас, и бывшая земля проклятия благодаря нашим трудам станет землей искупления… — Хорошо, мой сын, хорошо… Если так думают все… вы были мальчиками, а стали мужчинами, и я этим горжусь. Пусть будет по-вашему! Я счастлив подчиниться вашей воле! И робинзоны, не откладывая дела в долгий ящик, презрительно столкнули ногой самородки обратно в яму: они посыпались туда беспорядочно вместе с корзинами и камнями. Яму засыпали, землю заровняли, и место приняло свой прежний вид. Никто бы теперь не догадался, что здесь находится тайник. Прерванные этим событием похороны завершились при общей глубокой сосредоточенности, и Казимир нашел последний приют в могиле, выкопанной в десяти метрах от сокровища. С помощью индейцев установили над нею большой камень, и Робен кончиком ножа выгравировал на нем простые слова:
«Здесь покоится добрый человек».Тайна золота снова ушла в небытие. Сбережется ли она навсегда под охраной того, кто был когда-то прокаженным в безымянной долине?
Закончив траурную церемонию, робинзоны рассчитывали вернуться в свое поместье «Добрая Матушка». Но индейцы, упрямые, как большие дети, во что бы то ни стало хотели возвести Шарля в наивысший сан, хотя он никоим образом не прилагал к этому усилий. Объяснения с краснокожими были бы совершенно невозможны, если бы Ангоссо не знал их языка. Он бегло говорил на нем и успешно сыграл роль переводчика и толкователя. Переговоры грозили затянуться до бесконечности, когда Шарля осенила счастливая мысль. Находясь в плену, он обратил внимание на молодого индейца, лет двадцати, который с первых же минут выказал к нему живую симпатию. Это был парень высокого роста, красиво сложенный, с очень приятным лицом. По уму он, казалось, превосходил большинство своих соплеменников. И Шарль подумал, что из этого парня получился бы отличный вождь. Он поделился своей мыслью с отцом, тот полностью его поддержал. Трудность заключалась в том, чтобы добиться общего согласия эмерийонов и тиос. И тут Шарлю пришло в голову надеть своему ставленнику ожерелье Жака, этот чудодейственный пиэй, владелец которого стал предметом самого истового поклонения. Молодой индеец был совершенно ошарашен таким подарком, но находчивый робинзон не ошибся, интуитивно точно рассчитав воздействие своего поступка на краснокожих. Он вручил эмблему с такой серьезностью, с такой монаршей торжественностью, словно ожерелье Золотого Руна, и юноша сразу заполучил общее согласие на избрание его наместником Акомбаки. Кстати, несколько слов об Акомбаке, этой мало интересной жертве золота. Безголовый труп оказался ночью брошенным на волю случая, а это очень опасно в девственном лесу. Его вчистую обглодали прожорливые муравьи-маниоки. Церемония посвящения наследника вождя была краткой. У индейцев не оставалось ни капли спиртного для пиршества. В довершение несчастья и провизия подошла к концу, на племя грозил обрушиться голод. Спасительная «Добрая Матушка» с неисчерпаемыми запасами съестного была неподалеку. Робен попросил Ангоссо перевести индейцам его предложение: отправиться к «Доброй Матушке», где найдутся для них сытный приют и полезная работа во имя обеспечения будущих нужд. Для Шарля это была возможность радостного восшествия на престол… без всякого восшествия! Предложение приняли с энтузиазмом. Отряд выступил в путь и без происшествий прибыл к месту назначения. Обитатели «Доброй Матушки» устроили сердечный прием… Теперь число жителей поместья резко возросло. Индейцев привела в восхищение картина изобилия, плоды трудов лишь нескольких человек, но трудов настойчивых, систематических и целеустремленных. Гости удобно расположились, в полном соответствии с привычками и правилами своего племени, и вскоре селение представляло собой любопытное и успокоительное зрелище пчелиного улья за работой. Праздники состоялись в ближайшие дни, но — редкий случай! — в атмосфере трезвости, исключавшей всякие беспорядки. Встречи с белыми, их уроки, их пример становились зернами цивилизации. Успехи в обучении были настолько разительны, что краснокожие, радостные и преображенные, обратились к Робену с просьбой разрешить им поселиться поблизости от него и окончательно стать неотъемлемой частью колонии. Разрешение было дано охотно и от чистого сердца. Договорились, что делегация незамедлительно отправится на розыски женщин, детей и стариков. С ними количество экваториальных французов увеличилось бы вдвое. Ангоссо и его сыновья, освободившись от вековых предубеждений своего племени против индейцев, жили в полном согласии с новоприбывшими. Открывалась ласкающая взор картина: черные атлеты, азартные на охоте, неутомимые в труде, ловкие, предприимчивые, любезные, по-свойски разгуливали среди вчерашних врагов, которые со своей стороны, понимая преимущества объединения и оседлого образа жизни, не желали себе лучшей доли, как отказаться от кочевого существования и создать одну большую семью, без различий происхождения и цвета кожи. Так прошел первый месяц — без малейшего омрачающего облачка, и достославная индейская лень ни на йоту не увеличила нагрузку на других колонистов. Значит, и в легендах бывают преувеличения… Всем жилось широко, свободно и дружно, всего хватало с избытком, и усталость как будто отступила от людей. Никто не пытался уклониться от общего закона. Объединив индивидуальные усилия, легко было направить их на крупные задачи обустройства, на сбор урожая и раскорчевку леса. Сосредоточение сил на одном направлении давало выигрыш времени и сводило к минимуму потери. Работа, которую индейцы выполняли вразброд ценой физического изнурения и нерасчетливо долго, вдруг завершалась в считанные минуты, к великому изумлению краснокожих, не понимавших значения системы и безразличных к разбазариванию времени и природных богатств. В день отъезда делегатов в деревню, до которой, как вы помните, надо было добираться несколько дней на лодке, работу отменили. «Добрая Матушка» отдыхала. Торжественно проводили отъезжавших. Затем, по предложению Робена, отправились проведать могилу Казимира. Вид поляны, где так давно еще происходили памятные драматические события, совершенно изменился. Листва гигантских деревьев, повергнутых ураганом, под воздействием солнечных лучей приобрела рыжеватый оттенок, подобно нашим дубам в зимнюю пору. Приближался момент, когда огонь очистит поляну от этих древесных останков. Девственная земля вскоре станет обработанной и ухоженной. Вслед за главой семейства робинзоны в молчании шли к тому месту, где покоился их старый друг. Скальный обломок, послуживший надгробным камнем, утопал в целом море цветов. Крик изумления вырвался из груди при виде этого роскошного благоухающего цветника, на котором мелькали блестящие птички колибри, бабочки и стрекозы. Милосердная ли рука незримой феи цветов так преобразила скромную могилу? Или дух золота засвидетельствовал свое сожаление о безвинной жертве похищенного секрета? А может, таинственные хранители клада, с презрением отвергнутого белыми, хотели таким образом выразить свою благодарность за столь великодушное приношение? На удивленные возгласы колонистов отозвался какой-то странный рык, сопровождаемый сдавленным хрипом. То был человеческий голос, до неузнаваемости искаженный страданием. Хрипение повторилось, прерывистое и трудное, как последний протест умирающего против объятий смерти. Робен с мачете в руке, в сопровождении сыновей направился к месту, откуда исходил шум. Он раздвинул клинком могучие травы, которые вымахали за месяц на целый метр, и застыл словно вкопанный в каких-нибудь десяти шагах от могилы. Бывший каторжанин стоял как раз на том месте, где были зарыты самородки. Ужасное зрелище предстало его взору. Какой-то человек, явно европеец, едва прикрытый лохмотьями, с кровавой пеной на бороде, конвульсивно сжимая в кулаках две горсти земли, корчился в муках на краю глубокой ямы. Один глаз его, изъеденный страшной болезнью, совершенно исчез. Орбита без век зияла синеющей язвой. Другой глаз казался безжизненным. От ушных хрящей остались только бесформенные кусочки, безобразно опухшие губы выделялись двумя фиолетовыми выступами на полуразложившемся лице. Тошнотворный запах гниения исходил от этих отвратительных остатков лица. И тем не менее Робен узнал несчастного. Это был Бенуа! — Он! — содрогаясь, воскликнул инженер. — Это он! О, мой бедный Казимир, за тебя жестоко отомстили! Хрипение становилось все более беспорядочным и неровным. Убийце оставалось несколько мгновений жизни. Изгнанник, чье великодушное сердце не знало ненависти, приблизился, невольно взволнованный видом ужасающей расплаты, в которой повинна была только судьба. Он наклонился, невзирая на удушающий запах, и знаком подозвал сыновей. Анри заглянул в яму, на краю которой умирал бывший надзиратель. Она была абсолютно пуста. Даже и следа золота не осталось на дне, тщательно очищенном от всех инородных предметов. Клад исчез. В этот момент умирающий, охваченный последней судорогой, присел на голых камнях, затем его некогда могучее тело, отчаянно боровшееся со смертью, вздрогнуло, выпрямилось. Лицо его с колыхавшейся кожей, которая то вздувалась, то опадала от какого-то загадочного кишения, обратилось к робинзонам. Видел ли еще хоть что-нибудь его единственный глаз? Успел ли почувствовать негодяй, кто перед ним? Сохранилась ли его ненависть? А может быть, его безумный взгляд молил о прощении?.. Он испустил последний крик, похожий на хриплый короткий лай. И тогда случилось нечто невероятное, устрашающее. Его кожа лопнула и разошлась в двадцати местах, мясо отрывалось от костей и падало на землю вместе с целым дождем беловатых личинок. Кости черепа, заживо иссеченные множеством червячков, обнажились у всех на глазах. Бенуа судорожно взмахнул руками и тяжко опрокинулся навзничь, прямо в разрытую землю, еще недавно хранившую сокровище. — Его жертва простила ему! Пусть же покоится в мире рядом с ней! — произнес Робен тихо и печально. — Пусть покоится в мире! — эхом откликнулись робинзоны. Яму вторично засыпали землей, и скоро не осталось и следа от омерзительных останков последней жертвы тайны золота. Молодые люди вместе с отцом возвратились на поляну и рассказали об этом странном и драматическом случае своей матери, которая уже тревожилась из-за долгого отсутствия детей. — Это просто ужасно! — без конца повторяли Анри и его потрясенные братья. — Несчастный! Конечно, он виноват, но как же пришлось ему помучиться! — Вы даже представить не можете терзания, которые он испытывал. Вероятно, в течение многих дней он находился там, возле тайника, откуда улетучились его надежды. Неспособный передвигаться, пораженный страшной болезнью, он чувствовал, как омертвляется все его тело — часть за частью, а спасительная смерть все не приходила… — А как называется эта болезнь? — Он погиб от насекомого, более страшного, чем все хищники, рептилии и прочая нечисть, которая водится на просторах Нового Света… Это mouche hominivore, мушка-людоед. — Должно быть, она страшна на вид… — Ничего подобного, дети мои, все обстоит как раз наоборот. Муха-атропофаг, называемая натуралистами lucilia hominivorax, на вид совершенно безобидна. Нет у нее ни болезненного жала «бессмысленной мушки», ни отравленного кинжальчика скорпиона, ни даже ядовитого хоботка москита…[308] Ничто не привлекает внимания жертвы, насекомое кажется заурядной мясной мухой, на которую походит размерами и легким жужжанием. Она живет обычно в девственных лесах. И проникает в носовые или ушные впадины спящего человека, откладывает там свои яйца и преспокойно улетает. И человек уже обречен, вся наука с ее могучими средствами в восьми случаях из десяти бессильна помочь потерпевшему. Действительно, эти яйца благодаря температуре тела и благоприятной среде обитания очень быстро развиваются. Пострадавший сам их «высиживает», в некотором смысле… После короткого скрытого периода с ними происходит первое изменение, они превращаются в личинки. Лобные пазухи, полости носа и среднего уха — вот их вместилище. Затем личинки зарываются в глубину мускульной ткани, за счет которой питаются и развиваются. По отношению к коже они — то же самое, что зреющий зародыш цыпленка по отношению к скорлупе яйца. Они отделяют тело от костей, занимая место мускулов, и волнообразно движутся под кожным слоем, прежде чем его пробуравить. Происходит это в тот момент, когда, став взрослыми насекомыми, они вылетают на свободу… Заживо иссеченный человек погибает неотвратимо, даже и в том случае, когда (мне пришлось наблюдать такое в госпитале Сен-Лорана) удается освободить его от личинок путем энергичного лечения. Воспалительные процессы, вызванные присутствием этих насекомых в опасной близости от мозга, порождают менинго-энцефалит[309], как правило, со смертельным исходом. — Ну это просто кошмар! Выходит, и с нами может произойти такое же несчастье, пока мы спим! — Успокойтесь, мои дорогие дети! Доктор С, изучавший нравы этих грозных перепончатокрылых, определил, что они отдают предпочтение больным людям, особенно тем, у кого из носовой полости распространяется дурной запах. Он привлекает их неудержимо, как и запах гниющей раны, на который жадно набрасываются некоторые животные и хищные птицы. — И ты полагаешь, отец, что от этого бича нет никаких средств? — Вот именно, бича, ты хорошо выразился. К счастью, это очень редкое заболевание. Большинство попыток оперировать кончаются неудачей. Но опыты ведутся… Применяют поочередно эссенцию скипидара[310], хлороформ[311], эфир[312] и бензин. Эти вещества, приложенные к очагам инфекции, вызывают массовый исход личинок. Они сотнями выползают из полостей носа, ушей, из дыхательных путей вследствие потери органического питания. Вплоть до сегодняшнего дня бензин представляется наилучшим средством, которое сдерживает развитие болезни. Важно также захватить болезнь в самом начале, чтобы движение личинок не происходило вблизи мозга. — Какая ужасная смерть! — Эжена всего передернуло. Его все еще преследовали воспоминания об агонии отщепенца. — Какая тяжелая кара за грехи! — Этот человек был нашим злым духом. Только сегодня мы избавились от угрозы; она висела над нашими головами дамокловым мечом[313], который держался на двух цепях: ненависть и каторга… Он мертв! Я свободен! Но не могу я — увы! — прижать к своему сердцу того, кто подобрал меня умирающим, кто спас меня, кто очень меня любил. Почему же счастье, которое пробуждает в моей душе это волшебное слово — «свобода!» — должно быть омрачено навсегда… Теперь, мои сыны, новая жизнь начинается для робинзонов Гвианы! Все мы были потерпевшими кораблекрушение от урагана, который лишил нас милой родины, сломал столько судеб, заставил пролить столько слез. Наш многолетний тихий приют, который уступили нам хищные звери, гораздо менее опасные, чем люди, едва не был разрушен в один момент… Нам приходилось избегать встреч и с аборигенами, и с теми, кто кичится цивилизацией. Мы не могли без огромного риска выполнять свой долг колонизации, приглашая на пиршество разума тех, кто столько лет не желал знать и ненавидел друг друга среди великолепия нашей приемной родины. Сегодня недостаточно отбирать у земли ее секреты, раскорчевывать ее, обрабатывать и собирать урожай. У нас более высокая миссия. Есть другие заросли, которые надо расчистить, другие болота, которые требуется осушить, другие семена, которые нужно бросить в почву… Вы меня поняли. На этой земле, оплодотворенной нашим трудом, способной производить бесконечные богатства, прозябают люди, чей разум требует культуры и образования. Они нуждаются в нашей заботе. Величие этого дела нам по плечу! Ко мне, мои сыновья! За работу, французы экватора! Вперед, пионеры цивилизации! Создадим здесь уголок любимой родины и завоюем для нее признательность людей этой сказочной земли, убережем от гибели вымирающее индейское племя и будем трудиться не покладая рук во имя процветания нашей замечательной Франции!
Конец второй части







Часть третья ЗАГАДКИ ДЕВСТВЕННОГО ЛЕСА
Жоржу ДекоМой дорогой друг, Вы всегда стремились превратить путешествие в нечто большее, чем просто материал для сенсации, ибо газета, воплощением которой Вы являетесь, давно уже озабочена делом серьезного просвещения. Чтобы достойно выполнить эту задачу, Вы отправили меня в неизведанный край в качестве писателя, охотника и натуралиста. Из Гвианы я привез это сочинение и прошу согласия на его посвящение Вам. Первым во Франции Вы предприняли такую инициативу с истинно американским размахом, воодушевляясь традициями Гордона Беннетта[314]. Я же буду Вашим Стенли[315], который говорил: «До полного кругосветного путешествия осталось так немного!»
Луи Буссенар
ГЛАВА 1
Бунт на прииске. — Бакалавр[316] из Маны. — Технология золотодобычи. — Смертельная ловушка. — «Водяная Матушка». — Эмблемы гвианской феи. — Что такое «аркаба»? — Ночные призраки.Вдалеке, из густой листвы, послышалось нежное, словно воркование горлицы, пение «токкро». Первые лучи солнца уже коснулись макушек самых высоких деревьев тропического леса, но прямые и гладкие стволы, похожие на готические колонны, еще были погружены в лиловый сумрак. Неподвижная листва словно вспыхивала в пурпурном рассвете. Вот уже порозовела и средняя часть деревьев. А через пару минут световой каскад, низвергнувшийся вниз прозрачным облаком, затопил подвалы темноты, ставшей вдруг еще более мрачной. Противоборство рождающегося дня и уходящей тьмы длилось несколько мгновений, ночь отступила. Воздух, не освежаемый дыханием ветерка, был застойным, удушливым. Все предвещало скорую жару. Восход длился не более четверти часа. Казалось, целомудренная Аврора[317] с ее мягкими красками утра, навсегда изгнана из экваториальной зоны. Нет тут места и благодатному зефиру[318], что проникал в логово циклопа[319] и оживлял окаменевшие растения. Светило ворвалось в ночной мрак, подобно раскаленному космическому болиду[320]. Звук трубы, глухой и протяжный, словно рев растревоженного быка, огласил поляну. Золотой прииск пробуждался. Каждое утро этот сигнал встречали радостными криками. Смех, громкие голоса, напевы — скорее шумные, чем мелодичные, доносились из хижин, расположенных по периметру большого квадрата, чьи стороны, замыкавшие пространство, щетинились многочисленными пеньками. Это был час «выпивона», то есть каждодневного распределения солидных порций тафии, в целях борьбы с ядовитыми миазмами ночных туманов. Рабочие — негры, индусы, китайские кули — выходили из своих «кварталов», заселенных по национальному признаку, чтобы избежать возможных стычек на почве различных традиций и верований. Жизнерадостный негр обычно светился широкой улыбкой, выкатывал большие фарфоровые глаза и передвигался, изящно пританцовывая, вдохновленный экваториальной Терпсихорой[321], самой изобретательной из всех муз. Индус, похожий на точеную бронзовую статуэтку, уже сидел на пороге склада. Но скульптор перемудрил над своим произведением, изобразив не столько непроницаемо-невозмутимого Будду[322], сколь отчаянного выпивоху, который дал бы сто очков вперед самому Бахусу[323] или великому Александру[324], покорителю его родной Индии. Наконец, среди бронзовых и черных торсов мелькало сморщенное обезьянье личико китайца, этого дальневосточного еврея, как будто лишенного всяческих материальных забот и занятого единственно тщательным собиранием в пучок своих волос. «Мистер Джон Чайнамен»[325], как говаривают англичане, удерживая кончиками крючковатых пальцев кувшин, вовсе не торопился к раздаче, и не без оснований. Хитрый куманек поджидал, пока его ненасытные компаньоны опрокинут в глотки полученные у магазинщика порции спиртного. Вот тогда он выступал вперед, получал свою дозу и медленно удалялся, сопровождаемый долгими завистливыми взглядами жаждущих. Выпивохи томились, зрелище алкоголя было для них невыносимо, оно мозолило им глаза, прежде чем воспламенить желудки. Джон Чайнамен не успевал дойти до своей хижины. Пьяницы осаждали китайца и предлагали выкупить его порцию. Надтреснутым голоском он набивал цену, и счастливый покупатель тафии с готовностью выкладывал монеты, которые тут же тонули в карманах китайца. Но в это утро подступы к складу выглядели необычно. В заведении было совсем тихо. Заядлые пьянчуги выбирались из своих хижин медленно, неохотно — явление редкостное и непостижимое! Кладовщик подал второй сигнал — за всю жизнь он не мог припомнить что-либо подобное! Прииск «Удача», открытый два месяца назад, явно пребывал во власти смутного беспокойства. Крепкие словечки и забавные выходки кладовщика, рослого негра из города Мана, гримасы его хитрого и веселого лица не производили на рабочих, словно повиновавшихся какому-то тайному приказу, обычного действия. Но жизнерадостный парень, занимавший столь ответственный пост, не унывал и продолжал сыпать шутками, как из рога изобилия. Этот негр умел читать, писать и считать, что весьма возвышало его в собственных глазах и наполняло законной гордостью. Звали его Мариус, как простого марсельца, а еще чаще называли «бакалавром из Маны»[326]. Рудокопы проглатывали спиртное и получали дневное пропитание: 750 граммов куака, лепешек из маниоки, 250 граммов сушеной трески и 30 граммов топленого свиного сала, после чего расходились по своим хижинам, еще более угрюмые и молчаливые. Директор прииска, заинтригованный странной тишиной, вышел из собственного дома, образовывавшего четвертую сторону квадрата, и в небрежной позе прислонился к столбу веранды. Это был человек лет тридцати, высокого роста, худой, но мускулистый. Его серые глаза отливали стальным блеском, а бледное лицо обрамляла рыжеватая борода и такого же цвета шевелюра. Он носил широкополую серую шляпу гвианских золотоискателей, полосатую хлопчатобумажную рубашку и мавританскую куртку, стянутую красным фланелевым поясом — белокожего креола французского происхождения с острова Сен-Тома звали Дю Валлон. Человек, мало знакомый с повадками колониальных рабочих, не заметил бы ничего особенного в их поведении. Но необычная тишина, хотя и не обнаруживала пока ни малейшего симптома неповиновения, вызывала тайную обеспокоенность у молодого директора. Уже несколько дней добыча золота падала, люди работали спустя рукава, таинственный шепоток то и дело пробегал между ними. Однако мужественная энергичная физиономия начальника не выдавала внутреннего волнения, а поза хранила ту креольскую безмятежность, за которой нередко кроются приступы самого яростного гнева. Он терпеливо ожидал, пока негры отправятся на рабочие места. Десять минут пробежало… четверть часа. На прииске стояла тишина. Нет, белый не ошибся! Горняки отказывались работать. Начальник вооружился мачете, кликнул своего приказчика, голландского еврея из Парамарибо, и извлек из трубы несколько пронзительных звуков, сыгранных в определенном ритме. Это был сигнал для старших на участках… Никто не пошевелился. Кровь прихлынула к лицу креола, но оно тут же стало мертвенно-бледным. Он неспешно приблизился к хижинам, остановился возле первой и отрывисто крикнул: — Манлиус! Показался негр, припадая на ногу и постанывая. — Что угодно, месье? — Как что! Время приступать к работе! — Не могу, месье, я болен! — Ну ладно, оставайся. Директор сделал несколько шагов и снова позвал: — Жарнак!.. Появился высокий негр, он был занят протиркой заржавевшего двуствольного ружья. — Здесь! — коротко откликнулся рабочий. — Брось ружье и отвечай мне! — Слушаю, месье. — Почему не выходишь на работу? — Это другие не хотят идти. — Вот как! Ну, жди меня возле Манлиуса. — Нестор!.. Зеферин! Эристаль!..[327] Все по очереди выходили, отзываясь на свое имя. Дю Валлон остановился перед индусским кварталом и произнес имена Мунусами и Апавы. Двое могучих кули с блестящими глазами, каждый с пятью или шестью серьгами в ушах, с большими серебряными кольцами на лодыжках и икрах, присоединились к группе негров. Семеро начальников участков наконец собрались вместе. — А теперь, парни, — сказал директор спокойным тоном, не допускавшим, однако, возражений, — волей-неволей вы последуете за мной или, вернее, будете идти впереди меня. Жарнак, — приказал Дю Валлон высокому негру, — пойдешь первым, мы отправляемся к заливу Сен-Жан. И чтобы никто не пытался по дороге скрыться в лесу! Знайте, у меня есть средство остановить беглеца, даже если он мчится со скоростью антилопы! Старшие мастера вполне уразумели жест, сопровождавший эти слова: из маленького кармана под брючным поясом показалась рукоятка пистолета «нью-кольт», с коротким стволом очень крупного калибра. Дю Валлон шутить не любил. Медленно, холодея от страха, старатели гуськом ступили на тропу, затерянную среди огромного девственного леса. Чем дальше они продвигались, тем больше росло их глухое недовольство. Белый не произносил ни слова, полагая, и не без оснований, что отыщет разгадку на месте разработок. Через четверть часа путники вышли на просторную поляну, которую пересекала речушка шириной не более трех метров. Ее мутные воды медленно несли беловатые крупицы размытой глины. Вся поляна являла собой зрелище невообразимого беспорядка. Повсюду — поваленные стволы, увядшая листва, сломанные ветви, разорванные лианы… Кругом — кучи недавно срезанной травы, видно для подстилки, на которой гнили орхидеи и множество других огромных цветов… Везде торчали обугленные пни со следами рубки, приземистые и мощные… Возвышаясь над землей на добрый метр, они напоминали черных безголовых карликов. Ложе реки исчезло. Земля, изрытая киркой или мотыгой, была испещрена меловыми буграми и глубокими траншеями. Длинные доски, заляпанные глинистой грязью и черными пятнами земли, образовывали мосты над этими рвами, по дну которых струились ручейки опалового цвета. В отдалении виднелся узкий канал шириной до сорока сантиметров, образованный из семи или восьми деревянных лотков, длиной до шести метров каждый. Лотки под наклоном сочленялись друг с другом, и каждый поддерживался двумя распорками. Еще дальше речушку перегораживала плотина, из возникшего водоема вытекал небольшой водопад, который с глухим шумом обрушивался в глубину ямы. Эти деревянные лотки, похожие на гробы без крышек, образовывали при своем соединении «sluice», рудопромывочный желоб для обработки золотоносных грунтов. Поляна с поверженными деревьями и вывороченным нутром — это прииск, золотая россыпь! Как уныл вид такого человеческого труда среди великолепия природы! Это проказа, грызущая организм, раковая опухоль, разъедающая лесные окраины. Картина хаоса, составляющая, однако, привычный рабочий фон и хорошо знакомая горнякам, вызывала почему-то у негров сильное волнение. Жарнак, шедший первым, остановился, ноги у него подогнулись, лицо стало пепельно-серым, глаза расширились от страха. Бедняга был в жалком состоянии. Его товарищи, в том числе и могучие индусы, выказывали такой же ужас. Директор увидел, что отказ от работы — не каприз или чья-то прихоть. Лишь какая-то таинственная, быть может, драматическая причина могла так сказаться на рабочих, в общем-то, не робкого десятка, проявлявших доселе полнейшее послушание. Это были лучшие старатели, самые крепкие и честные изо всех. Белый лихорадочно думал, как поступить. Ведь плоды стольких усилий готовы пойти прахом, а его собственные деньги и вклады компаньонов могут улетучиться. Восемь дней назад он уезжал, оставляя прииск в отличном состоянии, а возвратившись, не узнал его. Что же произошло? Директор всматривался в лица каждого из семерки, как бы сообщая им свою энергию, и напряженным голосом подал команду: — Вперед! Старшие мастера, перепуганно сбившись в кучу, продвигались маленькими шажками. Хозяин будто покалывал и подгонял их пронзительным взглядом, подобно всаднику, вонзающему шпоры в бока пугливой лошади. С бесконечными предосторожностями они добрались до середины поляны, где вроде бы чуть-чуть успокоились, поскольку ничего необычного не происходило. Жарнак осмелел, Эристаль следовал за ним, а Нестор решил всех опередить. Он поставил ногу на доску, перекинутую через глубокий ров, сделал два шага. Вдруг с сухим треском доска раскололась надвое, и незадачливый старатель полетел на дно двухметровой ямы. — Ко мне! Хозяин, ко мне! — раздался душераздирающий вопль. Одним прыжком Дю Валлон достиг края обрыва. В мгновение ока он размотал шерстяной пояс, бросил свободный конец негру, который отчаянно вцепился в него. Креол напряг мускулы и без видимых усилий подтянул к себе рудокопа, который тут же упал, бормоча сдавленным голосом: — Хозяин! Я погиб!.. Меня укусила ай-ай! Больше Нестор не в силах был вымолвить ни слова: челюсти сжались, глаза конвульсивно округлились, густая белая пена выступила на губах, его скрутила столбнячная судорога. Голова откинулась назад, как будто затылок стремился соединиться с пятками. Через минуту человек превратился в труп. Его товарищи, скованные ужасом, застыли на месте, не в состоянии даже шевельнуться. Никто не раскрыл рта. Только Жарнак полубезумно бормотал: — О! Это Владычица воды! О, это Владычица воды… Дю Валлон, скорее удивленный, нежели испуганный мгновенной смертью, бросил сочувственный взгляд на несчастную жертву. Неожиданно он с гневом обнаружил, что крепкая доска, толщиной не менее пяти сантиметров, была заранее почти полностью перепилена, а затем перевернута другой стороной, чтобы распил не бросался в глаза. Таинственный виновник подлого убийства действовал предусмотрительно, и падение негра оказывалось не случайностью, а результатом злого умысла. Что же касается грозного пресмыкающегося, чей укус поразил беднягу насмерть, то его присутствие объяснялось, вероятно, только ужасным стечением обстоятельств. Ведя ночную охоту, змея упала в ров, дно которого было покрыто золотоносным гравием. Как ни странно, негры понемногу пришли в себя. Смерть товарища возымела на них успокоительное действие. — Бедный Нестор! — тихо сказал один. — Он заплатил за нас. Владычица воды теперь довольна. — Это уж точно, — добавил Жарнак. — Больше она не причинит зла. К тому же с нами белый человек. Владычица воды уважает белых. — Пошли! — сказал один из индусов, до сих пор не раскрывавший рта. Тело оставили на краю траншеи, и директор в сопровождении свиты продолжил обследования. Он подошел к другому рву и побледнел: предназначенный для перехода брус был подпилен точно так же, как и предыдущий. Дю Валлон наклонился и не смог удержать изумленного возгласа, услышав характерный звук трущихся колец гремучей змеи. Значит, была еще одна «гостья» во рву, куда непременно кто-нибудь свалился бы, не будучи предупрежден об опасности. Жуткая картина предстала перед ним, когда, обойдя одну за другой ямы, вырытые в плодородном грунте, он обнаружил, что все они стали непригодны для работы. Одна кишела скорпионами, ядовитыми сороконожками и гигантскими пауками. Другую заполняли муравьи, рыбьи кости и челюсти с острыми режущими зубами. Из третьей исходил тошнотворный запах гниющего мяса. Наконец негры остановились неподалеку от рудопромывочного желоба, подходы к которому были утыканы длинными иглами и колючками и стали неприступными для босых ног. Директор пробрался туда один и после тщательного осмотра пришел к выводу, что установка работала минувшей ночью. Похитители золота изрядно потрудились и набрали его на весьма значительную сумму. А когда он обнаружил несколько слипшихся крупинок светлого металла, похожих на свинцовые опилки, предположение перешло в уверенность. — Проклятье! — цедил он сквозь зубы. — Ловкие канальи! Они украли ртуть, а потом, пользуясь наивностью негров, расставили по своим следам всякие немыслимые ловушки, чтобы помешать им работать и в конце концов принудить покинуть прииск. Нет, слишком просто было бы списать все эти проделки на Владычицу воды… Хорошо смеется тот, кто смеется последним, и нынче же ночью я посмотрю, защитит ли богиню от пули ее кожа… Ну, дети мои, возвращаемся! Сегодня вечером получите двойную порцию выпивки. Эристаль, отправь четырех человек с носилками за телом Нестора. — Слушаю, хозяин, — покорно откликнулся тот. Маленький отряд тронулся в путь, избрав для возвращения домой отдаленную тропинку вдоль соседней речушки, где также велась добыча драгоценного металла. Белый шел впереди. Не успел он вступить на едва заметную в чаще тропинку, как его ноги, обутые в добротные кожаные ботинки, взметнули целое облачко мельчайшей желтой пыли, быстро распространившейся вокруг. Дю Валлон отпрыгнул назад, чтобы не вдыхать неизвестное вещество. Вдруг его тело сотрясло болезненное чиханье, которое повторялось бесконечно, доводя его до судорог, до изнеможения. А негры в тот же самый момент испустили крик ужаса при виде странной эмблемы, подвешенной на высоте человеческого роста к стволу могучей балаты[328] с гладкой, как сигара, светло-коричневой корой. Это была огромная челюсть аймары[329]. Широко раскрытую пасть уснащали длинные острые зубы, в таком положении ее удерживали полдюжины мощных иголок сырного дерева. А сверху, над этим диковинным трофеем, красовался огромный цветок, похожий на nymphoea, только достигавший целого метра в диаметре, известный ботаникам как victoria regia[330], гигантское растение полуденной Америки. Необычно крупные его лепестки затейливо изукрашены; от снежно-белого в центре до багрово-красного по окружности, они включают всю мыслимую гамму розовых и красных тонов. Цветок также был приколот иголками и производил очень странное, тревожное впечатление рядом с чудовищной челюстью пресноводной акулы. — Нам здесь больше нечего делать, — залопотали на креольском наречии рудокопы. — Иначе всех нас постигнет кара! Владычица воды не желает, такова ее воля… Уж если она выставляет такой знак, негры должны уходить! Это место проклято, бежим отсюда! Директор все еще задыхался от чиханья. У него началось очень сильное кровотечение из носа, а по всему лицу высыпали беловатые прыщики размером с просяное зерно. И то и другое не заключало серьезной опасности, однако было крайне болезненным и неприятным. Но Дю Валлон не придавал этому значения, поскольку наконец пришел к твердому убеждению: какие-то незнакомцы, располагая необычными и сомнительными средствами, точат зубы на его золотую россыпь и вознамерились ее отобрать. Директор вернулся на прииск. Несколько капель хлорного железа, смешанные с водой, остановили кровотечение. Холодные примочки из трав успокоили боль от сыпи, не дав ей распространиться далее. Креол испытывал смятение. Ситуация была серьезной, почти отчаянной. Он здесь единственный белый, в полной изоляции от местного населения, а до ближайшего цивилизованного места — свыше двухсот километров. Что значила вся его энергия против неуловимого врага, когда персонал прииска, полностью дезорганизованный, отказывается работать? Любые аргументы разобьются о стену туземных предрассудков, которые так умело использует воровская шайка. Но пока всеобщая растерянность не стала непреодолимой, следовало идти вперед, проявляя мужество. Известие о смерти несчастного Нестора вызвало настоящую панику. Люди собирались группами, ораторы витийствовали, абсурдные россказни и самые нелепые предположения переходили из уст в уста и встречали тем больше доверия, чем нелепее и абсурднее выглядели. Владычица воды, Водяная Матушка, служила главным предметом разговоров. Никогда еще с той поры, как Ла Равардьер высадился в 1604 году на острове Кайенна, легенда об этой старой мстительной фее, сварливой и злобной, известной под именем Maman-di-l’Eau (Мать Воды), не вызывала такого переполоха. Дю Валлон, все еще с опухшим лицом, переходил от одной группы к другой, щедрыми подачками тафии поощряя людей на новые рассказы и откровения, которые рассчитывал обратить со временем в собственную выгоду. Старшие мастера, окруженные плотной толпой, во всех подробностях расписывали утренние события, без удержу привирая и преувеличивая. Вспоминали о таинственных шумах, на которые многие обратили внимание после отъезда директора на поисковые работы. — Да-да, — говорил негр с грубыми чертами лица и могучими бицепсами, — я каждый вечер в десять часов слышал громкий стук, по-моему, он доносился от нижних ветвей здоровенного засохшего панакоко, что возле речки Сен-Жан. — И я, и я тоже слышал! — подхватывал другой. — Удары повторялись трижды: бам!.. бам!.. бам!.. Они разносились по всей поляне и были такие сильные, как выстрел из пистолета. — Это правда, могу подтвердить… И я тоже слышал… И я… И я… — звучали тихие и боязливые голоса рабочих. — Это длилось около часа. Затем, в полночь, громкий крик… И после этого тишина. — А вы убеждены, что в это время уже молчат гигантские жабы и красные обезьяны? — Убеждены! Они спят! — И никто из вас не решился пойти посмотреть, кто это стучит? — подзадоривал их директор. — О! Муше[331], — дрожащим голосом откликнулся последний собеседник, — я не посмел, нет! Однако, — добавил он не без гордости, — я креол из Кайенны! — А ты, Жанвье, — настаивал Дю Валлон, адресуясь к атлетически сложенному негру, затеявшему этот разговор, — ты такой сильный, как тапир, и тоже боялся? — О да, муше! — искренне признался тот. — Очень даже боялся! — Ничего удивительного, — вмешался кайеннский креол. — Ведь это негр из страны негров… Недаром говорится: негр — всегда негр… Один из собеседников, коренастый и крепкий, как обрубок черного дерева, выступил вперед, опираясь на палку. — А мне вот захотелось увидеть, что это такое, — сказал он глухим голосом. — Тебе, Ояпан? — переспросил директор. — Да, хозяин. Я взял свое ружье и пошел к дереву. Шум продолжался. Я подошел совсем близко, удары раздавались рядышком. Потом какая-то фигура появилась возле плотины. Ее осветила луна. Что-то похожее на человека огромного роста. Страх меня парализовал. Хотел поднять ружье, но, казалось, оно весит пятьсот фунтов. В таком положении я оставался полчаса. Стук прекратился. Потом раздался громкий крик и звук падения тела в воду. Больше ничего. Я с трудом добрался до своей хижины, и с того дня мне тяжело ходить, ноги опухают, кожа на подошвах слезает лоскутьями… Водяная Матушка меня заколдовала… — Ты получишь завтра сто франков награды. — Спасибо, хозяин. Это не помешает мне протянуть ноги через восемь дней. Негры с испугом отодвинулись от говорившего, как от чумного. А директор вернулся в свой домик, озабоченный еще больше: — Ну ладно! Нынче же ночью буду под этим панакоко, и берегись, подлый мистификатор![332] За полчаса до захода солнца Дю Валлон уселся под нижними ветвями легендарного дерева, столь внушительного, что его не смогли срубить. В диаметре у основания исполин достигал четырех метров. Панакоко давно засохло, и оголенная макушка отчетливо чернела на фоне бледнеющей лазури неба. Но дикая вьющаяся растительность, невероятной пышности лианы, переплетавшиеся с цветами орхидей, аира, калл, заполняли воздушное пространство вокруг дерева. Креол прислонился спиной к толстому корневищу, воткнул мачете в землю, рядом положил револьвер, зарядил ружье, закурил сигару и стал терпеливо ждать развития событий.
В ходе нашего рассказа нередко вспоминается аркаба, нижняя часть гвианских деревьев. Пришло время объяснить это явление, очень характерное для растений тропической Америки. Гигантские деревья первобытного леса не внедряются в илистую почву так примитивно, как в наших краях. Их стволы не смогли бы возноситься на такую высоту и удерживать вес огромной кроны, да еще добавочную тяжесть других растений, если бы природа не позаботилась об их укреплении. Вместо того чтобы отвесно углубляться в землю, корни змеями расползаются по сторонам, окружая дерево и плотно прилегая к нему. Они образуют единую мощную конструкцию, возвышаясь вокруг ствола в виде могучих подпорок, похожих на контрфорсы[333] кафедрального собора. Вот эти растительные контрфорсы и называют аркаба. Некоторые из них отдаляются от ствола на два-три метра, возвышаясь при этом до пяти-шести метров, так что, соединяясь с деревом, образуют как бы гипотенузу прямоугольного треугольника. Обычная их толщина не превосходит десяти сантиметров. Поистине это зрелище способно поразить путешественника. Могучий ствол подпирают гладкие, ровные корни-ветви, покрытые такой же корой. У дерева может быть три, четыре, пять аркаба, которые лучами расходятся от него и образуют настоящую треугольную клеть, чем-то напоминающую наши салонные банкетки[334], на которые усаживается по нескольку человек спинами друг к другу. У этих причудливых природных инструментов удивительные акустические свойства. Удар средней силы, нанесенный по аркаба, отдается вдали громовым разрядом. Весьма часто заблудившиеся люди используют эту особенность, чтобы сообщить спутникам о своем местонахождении. Так, шахтеры, заваленные в каменноугольной копи, стучат кирками в деревянные крепления подземных галерей, призывая на помощь.
Четыре часа протекли с той минуты, когда директор устроился у подножия одинокого гиганта посреди поляны. Ночь была тихой, никакие посторонние звуки не нарушали сонного дыхания леса. Луна быстро снижалась, вот ее серп исчез за макушками деревьев, уступая место мраку. Вдруг резкий удар по одной из корневых веток заставил наблюдателя вздрогнуть. Дю Валлон схватил ружье и прыгнул в ту сторону, откуда донесся шум, раскатившийся громким эхом. Но директор ничего не увидел!.. Не успел он прийти в себя от изумления, как прозвучал второй удар — теперь со стороны, где он только что находился. — Черт побери! — пробормотал молодой человек. — Быть может, я стал жертвой галлюцинации? Начал бредить наяву? Или меня тоже решил посетить кошмар «Водяной Матушки»?.. Он не закончил монолог: дерево сотряслось от третьего удара! — Ну, нет, я не «креол из Кайенны»! И тем более — не «негр из страны негров»! — в ярости воскликнул он. — Со мной эти шутки не пройдут! В небылицы я не верю… Останусь хоть до утра, но раскушу орешек… Не бесплотный же дух тарабанит! На поляне вновь воцарилась тишина. С ружьем на изготовку Дю Валлон несколько раз обошел вокруг, напряженно вглядываясь в густую зелень, окружавшую ствол и ветви. К несчастью, стемнело настолько, что ничего нельзя было различить. Минуло четверть часа. Стук возобновился, отдаваясь далеким эхом. Но напрасно белый кружил возле дерева, как цирковая лошадь на манеже. Три удара через равные промежутки времени прозвучали один за другим. И как бы проворно ни перемещался Дю Валлон, они с дьявольской неизменностью раздавались с противоположной ему стороны. В тот момент, когда вибрация от третьего удара затихла, Дю Валлон услышал метрах в двадцати по направлению к плотине чье-то громкое дыхание, а затем жалобный стон. — Кто идет?! — оглушительно крикнул он. Ответа не последовало, но директор отчетливо различил плеск воды от внезапного падения тела. Два неподвижных светлых пятнышка возникли в темноте. Креол быстро приложил ружье к плечу и нажал на курок. Ужасный крик, перешедший в рыдания, стал ответом на выстрел. Свет сгоревшего пороха вспышкой молнии озарил поляну. Показалось, какая-то большая темная масса с неслыханной скоростью проскользнула над его головой вдоль лианы, натянутой, словно мачтовый трос. Дю Валлон не успел шевельнуться, как был повержен на землю без единого слова, без единого стона.
__________
Наутро, лишь посветлело, приказчик, обеспокоенный долгим отсутствием директора, отправился на его розыски в сопровождении старших мастеров. Они нашли месье Дю Валлона распростертым без сознания у подножия громадного панакоко. В груди его зияла глубокая рана. Он еще дышал, но совсем слабо, состояние бедняги казалось безнадежным. Над неподвижным телом гримасничала голова аймары с разверстой пастью. Она была прикреплена к стволу дерева, а венчал композицию свежесрезанный цветок victoria regia. На плотине, расположенной, как мы знаем, метрах в двадцати от дерева, были обнаружены большие пятна крови. Вода, ниспадавшая сверху и растекавшаяся тонкими струйками между промытых кучек золотоносного гравия, имела красноватый оттенок. На земле не нашли никаких следов, кроме отпечатков подкованных ботинок белого начальника.ГЛАВА 2
Земля не для каждого пришельца. — Непредвиденный хирург. — Оргия в лесу. — «Когда кошки на охоте, мыши танцуют». — Огненная феерия. — Между огнем и водой.— Но… мы движемся в ложном направлении. — Это невозможно. — …Невозможно!.. Вот уж эти молодые люди! Ей-богу, надо не верить собственным глазам, чтобы следовать за этими мальчуганами, просто детьми, которые претендуют на непогрешимость! — Я утверждаю и снова повторяю, что мы не сбились с правильного пути. — Доводы, пожалуйста! — Третий раз говорю, это невозможно. — Откуда такая уверенность? — А что тебя убеждает в обратном? — Мой дорогой, твоя манера спорить стара, как земля, которую мы топчем. Ты отвечаешь вопросом на вопрос… больше и сказать нечего. Я предпочитаю оставить аргументы при себе. — И правильно делаешь. Ты ошибаешься, заявляя, будто я претендую на непогрешимость. Есть две вещи, которые не могут ни сами ошибаться, ни нас обманывать. Это, во-первых, секстант[335] отличного качества, а во-вторых, математические формулы. — Значит, ты полагаешь… — Что, сделав измерения вчера, я смог благодаря показаниям безупречного прибора, хорошо подвешенного на носу лодки, установить, что мы находились на пятьдесят шестом градусе сорока пяти минутах западной долготы. — Ну, а дальше?.. — Эта первая и необходимая часть моего эксперимента, дополненная наблюдением полуденного солнца, позволила определить, что широта составила 5°15′ плюс незначительная дробь, которой можно пренебречь. — Но с того момента мы немало прошагали… — О! Совсем немного. Мы прошли к западу около десяти километров. — Откуда ты знаешь? — Вот упрямец! Ведь тебе известно, что я ношу на ноге специальное устройство, которое с помощью оригинального механизма указывает число шагов, сделанных пешеходом. — Ах да! Твой счетчик… — Называй его законным именем — шагомер. — Твой шагомер… — …Сказал мне, что я сделал тринадцать тысяч тридцать три шага. Один мой шаг составляет примерно семьдесят пять сантиметров, отсюда следует, что мы находимся в десяти тысячах метров к западу. Ведь ты допускаешь, что мой компас болтается не напрасно… — Тогда у меня какое-то помрачение зрения… — Почему? — Еще бы, мое милое дитя, я совсем запутался. Направление в глубь страны должно привести нас к местности, прилегающей на востоке к реке Марони, на юге идущей вдоль золотых приисков Гармуа и Шовен, на западе вдоль прииска Лаланн, а на севере ограниченной линией от двух бавольников[336] возле Маны к заливу Парамака. — Браво! Твоя память безошибочна, мой друг. — Безошибочна и точна, как великолепная карта Людовика Этропа, правительственного геометра. — К чему ты клонишь?.. — А к тому, что мы с тобой не находимся в искомом месте. — Но почему же? — Очень просто. Мы рассчитываем найти заповедный уголок, нетронутую землю с большими деревьями, уединенными речками, девственной почвой, а попадаем в обжитой район, в самую сердцевину горных разработок. — Ты прав. Мы находимся на золотом прииске. — А! Я все-таки прав! Моя старая седая борода берет верх над твоими щегольскими усиками! — Ты прав, повторяю, и все же мы находимся именно там, куда хотели попасть. — Но тогда этот тип… — Первый захватчик, пришлый чужак… Явление, впрочем, довольно распространенное. Колониальная юриспруденция его предусмотрела. На золотоносных землях старое правило «Владение требует документа» перевернуто вверх ногами. Имеющий документ выступает единственным владельцем. — Что же нам делать? — Продолжать разведку, познакомиться с этим или с другими собственниками «in partibus»[337] золотых россыпей и поладить с ними полюбовно. Не тревожься! Берусь устроить все так, чтобы каждая сторона осталась довольна. — Полностью полагаюсь на тебя, милое мое дитя, — заключил первый собеседник. — Пойдем вдоль этой речки с белой водой, куда-нибудь да выйдем! — Вперед, мой славный друг, я следую за тобой! По любезному тону этой беседы читатель, думаю, понял, что разделявшие в данный момент двух спутников разногласия не заключали ничего язвительного, их даже дискуссией трудно назвать, а тем более ссорой. Старший из двоих — мы знаем, что у него седая борода, — мужчина лет сорока двух — сорока четырех, с живым взглядом и светлой кожей. Его мощная грудь глубоко вдыхала ароматный воздух гвианского леса; судя по всему, он не испытывал никаких неудобств. Пот струился по лицу, однако он продолжал идти с той уверенностью и проворством, которые указывали, что лесные маршруты для него — дело привычное. Его брюки из грубого голубого холста были заправлены в крепкие кожаные ботинки рыжеватого цвета, охотничья куртка засунута под лямку ружья, которое он нес на перевязи, а правая рука сжимала деревянную рукоятку короткого, слегка изогнутого мачете. Рукава его промокшей от пота сорочки с расстегнутым воротом были завернуты выше локтя, голова прикрыта белым шлемом. Он являлся надежным компаньоном, волевым, мужественным, полным искренности и сердечности. Изредка в лице мужчины мелькало выражение легкого галльского лукавства[338], а акцент выдавал белого из метрополии. Его спутник — высокий молодой человек, не старше двадцати трех лет. Тоже белый. Тонкие каштановые усики оттеняли верхнюю губу. В больших черных глазах виделся отблеск вороненой стали. Красивое лицо с правильными чертами несло отпечаток неукротимой отваги и решимости. Однако добрая улыбка, открывавшая ослепительно-белые зубы, смягчала это впечатление, усиленное беспокойным пристальным взглядом. Одежда и снаряжение молодого человека говорили о его стремлении к элегантности и комфорту. Шлем из спрессованных побегов проса, покрытых белой фланелью, отличался необычайной легкостью. Желтая фуляровая сорочка[339] свободно облегала широкую грудь. Крепкие ноги были обуты в шнурованные ботинки и мягкие обмотки с застежками по бокам. Брюки из сурового полотна надежно защищали от колючек и режущих трав. Отличное ружье «чокбор»[340] работы Гинара, последнее слово огнестрельной техники, покоилось на плече. Свое мачете с превосходным лезвием и наборной рукоятью он нес в кожаных ножнах, подвешенных к поясу, на котором еще удерживалась револьверная кобура и патронташ. С удивительной ловкостью юноша преодолевал хаотично загроможденную территорию золотого прииска. Одно удовольствие было наблюдать, как он перепрыгивал через траншеи и ямы, перемахивал через поверженные навзничь деревья, сновал вокруг пней и бугров. Несмотря на долгий переход и невыносимую жару, он казался таким же бодрым и свежим, как в самом начале. Шестеро носильщиков сопровождали двух белых. Четверо негров и двое китайцев были тяжело нагружены провизией и горняцкими инструментами. По знаку старшего они расположились на поляне и принялись готовить трапезу. Европейцы прошли еще несколько шагов и в ужасе остановились при виде безжизненного тела, распростертого в луже крови. Смятение длилось недолго. Повинуясь инстинкту осторожности, развитой беспокойной лесной жизнью, оба зарядили ружья и внимательно оглядели местность. Не заметив ничего подозрительного, старший наклонился над неподвижным телом и с видом человека, которому многочисленные приключения дали кое-какой хирургический опыт, осмотрел зияющую под левой ключицей рану. — Умер? — с беспокойством осведомился компаньон. — Нет, но едва дышит. — Бедняга! — с глубоким сочувствием вымолвил молодой человек. — Мы не можем оставить его здесь в таком состоянии. Через несколько минут он окажется на солнцепеке. Прежде всего необходимо перенести раненого в тень. Засохший панакоко не спасет от солнечного удара. Постой-ка! — В голосе говорившего прозвучало удивление; он заметил цветок виктории, прикрепленный с противоположной стороны ствола над головой аймары. — А это что еще такое? — Ей-богу, я знаю не больше, чем ты. Раненый человек — белый. Он в шахтерской одежде. Если бы я мог допустить, что индейцы способны напасть на человека нашей расы, то эти странные эмблемы — одна из их дьявольских выдумок. — Возможно. Но нет времени проверить это предположение: больной требует неотложной помощи, надо торопиться. — Не отнести ли его домой? Вероятно, это недалеко… — Да, но сперва необходимо перевязать рану. Она кровоточит при каждом вздохе, хотя дыхание вот-вот иссякнет… Должно быть, задеты легкие. Эй, там! — крикнул мужчина неграм. — Требуются двое добровольцев с носилками! Двойная плата и двойной паек для тех, кто доставит этого белого в хижину! Прибежали двое рослых молодцов атлетической комплекции. — Не нужно денег, ничего не нужно, мы отнесем бедного муше… — сказал один из них. — Он очень плох, — подхватил другой, — мы готовы отнести его бесплатно! — Хорошо, друзья мои, — похвалил молодой человек. Его товарищ тем временем открывал маленькую портативную аптечку. — Благодарю, вы славные ребята, и я найду способ вознаградить вас. — Странное дело, — заметил новоявленный хирург. — Я видел много ран, пока шатался по лесам, но никогда не попадалось ничего похожего на эту… — Как так? — Ну вот, представь, рана не от ножа, не от пули, не от стрелы… Стрела дырявит и разрывает тело. От ножа всегда четкий разрез. Пуля ранит глубоко и вызывает фиолетовые кровоподтеки вокруг поврежденного места… А в этом случае есть приметы всех трех ранений одновременно, и ни одного — в «чистом виде»… Тут и порез, как от ножа, и разрыв, как от стрелы, и глубина, как от пули. Не хватает лишь сильного кровоизлияния, какое причиняет пуля. И хоть мне никогда не встречались повреждения, нанесенные ударом бивня или клыка, я вполне мог бы приписать эту странную рану одному из тех длинных клыков, какими обладают некоторые животные. — Но тебе ведь известно, что за исключением патиры и дикого кабана животные Американского континента не имеют клыков… — Кто знает, кто знает… За разговором спутник продолжал действовать. Он ловко наложил на разверстую рану пучок корпии, смоченной в карболовом растворе, поверх корпии — увлажненный компресс, затем плотно перевязал раненого. После чего поднес к его ноздрям флакон с нашатырным спиртом. Человек резко дернулся, приоткрыл глаза, пошевелил губами, как бы пытаясь что-то сказать, но не смог вымолвить ни слова. Лишь слабый болезненный стон вырвался у него, когда двое черных носильщиков с большими предосторожностями перекладывали несчастного на походную койку. Все тронулись в путь, европейцы шли впереди. Несколько минут процессия следовала вдоль русла реки, и вскоре открылось селение, описанное в предыдущей главе.
Насколько рабочие были спокойными и даже мрачными двадцать четыре часа тому назад, настолько шумно и беспорядочно вели они себя в тот момент, когда печальный кортеж вступил на площадь. У негров, а особенно у индусов, казалось, наступило помрачение, почти безумие. Китайцы метались и галдели, как стая перепуганных кур. Причина этого гвалта, увы, объяснялась просто. Мужчины, смело отправившиеся на розыски вместе с приказчиком-голландцем… мгновенно обратились в бегство при виде безжизненного тела директора! Их паническое возвращение довело до предела смятение, уже царившее среди рабочих. Определенно это место проклято, если сам белый, несмотря на всесильные пиэй, охраняющие людей его расы, пал жертвой злодеяния. Свой «законный» выпивон беглецы проглотили в два счета. Но волнение распалило их желудки, они жаждали добавки. Вытащили деньги из тайников и выкупили спиртное у китайцев. Оказалось мало. Граждане Поднебесной[341] располагали еще несколькими бутылками, зарытыми в земляном полу их домиков. Новая сделка, за ней новое возлияние. Эти «кубышки» творили чудеса… Несколько негров, упившихся до чертиков, пустились в пляс. В таком состоянии черные танцевали бы и на вулкане. Однако на золотом прииске нашелся только один барабан из кожи антилопы. Этого было слишком мало. Тогда притащили несколько жестяных ящиков из-под свиного топленого сала. Примитивные инструменты под градом ударов многих рук наполнили долину диким грохотом кошачьего концерта. Все негры тотчас же в каком-то исступлении принялись дрыгать ногами, выводя замысловатые кренделя. Пот, смешанный с пеной и со слюной, струился по их разгоряченным телам. Запах мускуса, подобный тому, который издают стаи кайманов, разлился в воздухе. Жажда у этих бесноватых достигла крайней точки, стала непереносимой. Тогда с новым и настойчивым призывом обратились они к китайцам. Те заявили, что запасы исчерпаны. Индийский кули, плясавший со своими собратьями «танец тигра», поставил под сомнение отказ китайцев и попытался проникнуть в хижину поднебесных. Но Джон Чайнамен, найдя неуместным покушение на неприкосновенность своего жилища, обнажил нож. Индус замахнулся палкой. Заметим, кстати, что все индусы прекрасно владеют этим предметом. В их домишках всегда увидишь несколько узловатых дубинок, которыми они манипулируют с поразительной ловкостью и которые становятся в их руках весьма грозным оружием. Китаец не успел воспользоваться ножом. Дубинка кули со свистом обрушилась на него, нож отлетел на десять шагов, бессильно повисла переломленная рука. Бросившийся на помощь товарищу второй китаец получил такой сокрушительный удар по голове, что покатился по земле кубарем. Негры одобрительно заорали:«Браво!» Но китайцы ответили одним из тех оглушительных и ужасных воплей, которыми сопровождается захват джонок. Скромные грузчики превратились в безжалостных пиратов, бесчинствующих в океане от Желтого моря до залива Тонг-Кинг. Возникла невообразимая свалка. Несколько минут ничего нельзя было различить в сутолоке и мелькании бронзовых тел, схватившихся с желтолицыми, похожими на пряничных, человечками. Трещали черепа, хрустели позвоночники, дубинки молниями летали в воздухе. Длинные косички поднебесных порхали, как хвосты бумажных змеев, захваченные порывом ветра, серебряные кольца звенели на медных лодыжках кули, носившихся в ураганном темпе. Живое тело рассекала сталь, оно лопалось под палочными ударами. Дубинка явно брала верх над ножом. Хотя полдесятка индусов с распоротыми животами истекали кровью, не меньше дюжины мертвых или тяжело раненных китайцев валялись на земле между пнями и корневищами. Побоище завершилось впечатляюще. Здоровенный верзила, сухощавый, словно факир, чьи мускулы напоминали стальной трос, ухватил четырех китайцев за косички, связал их вместе, разоружил пленников и удерживал их, будто собак, на поводке. — Гоните водку! — рычал он. Бедняги тщетно испускали вопли, способные разжалобить и камни в долине. — А, так вы не желаете… — верзила совсем обезумел от ярости, — ну, погодите же… Дайте огня! Привяжем их к дереву! Подогреем им пятки! Мастер Джон, будешь поджариваться на сковородке, пока не откроешь место, где прячешь тафию! Однако мрачная угроза не осуществилась. В разгар этого бедлама[342] дверь продуктового склада каким-то образом оказалась открытой. Негры, индусы, китайцы, позабыв о распрях, ринулись туда. Покатились бочонки с сорванными крышками. Сухая треска усеяла землю и наполнила воздух острым соленым запахом. Такая же судьба постигла тару с куаком, мукой из маниоки. Словно в песке, грабители бродили по щиколотку в продуктах, рассчитанных на целый месяц. Заветной их целью, вполне понятно, была большая бочка тафии. Ее тут же выкатили наружу, установили на самодельной подставке из двух бревен и немедленно пробили в стенке отверстие с помощью бура. Ароматный фонтан вырвался наружу и наполнил кувшины, кружки, котелки, консервные банки, глубокие сковородки… Скоро весь прииск охватила алкогольная горячка. Приказчик даже не пытался с нею бороться. Напрасные усилия, да и, протестуя, он подвергал себя смертельной опасности. Всеобщий кавардак, галдеж и танцы возобновились с удвоенным рвением. Китайцы — без сомнения, редчайший случай в истории эмиграции, — найдя повод для бесплатной выпивки и полагая, что несколько капель им не повредят, наклюкались до положения риз, как самые отъявленные пропойцы. В этот момент двое белых вступили на поляну вместе с неграми, несущими раненого. Словно ледяной душ пролился на разгоряченные головы. Только китайцы, опьяневшие, вероятно, впервые в жизни, продолжали свой разнузданный танец, перемежая его дикими вскриками, похожими на перезвон надтреснутых колоколов. Более дисциплинированные негры, не настолько отравленные алкоголем в силу давней к нему привычки, умолкли и разошлись по своим хижинам. Индийские кули тоже исчезли, как бронзовые призраки. — О! О!.. — сказал белый юноша. — Сдается мне, что дела плохи… Или наоборот — слишком хороши… — М-да, — поддержал старший, — похоже на то. Хозяин убит, и они вволю резвятся. Справедлива пословица: когда кошки на охоте, мыши танцуют. — Прежде всего устроим нашего раненого в надежном месте. А! Вот, несомненно, его жилище. Там кровать. Отлично. Я устрою над нею бак с трубочкой, на подставке, чтобы из него все время лилась вода на рану. — Хорошая идея! Мы пытаемся сделать невозможное, но, пока жизнь теплится, есть и надежда… В любом случае выполним свой долг. Пока пришельцы, привыкшие ко всяким переделкам, «распутывали концы», к ним подошел приказчик и в нескольких словах с понятным волнением обрисовал обстановку на прииске. Узнали они имя месье Дю Валлона, доселе им неизвестное. Они не решались судить о чьих-либо правах на владение золотой россыпью прииска «Удача», о котором раньше тоже не слышали. Голландец предложил свои услуги, заверив, что на него вполне можно положиться. Он высказал большое огорчение из-за несчастья, постигшего его патрона, и очень тревожился об опасности, которую таило в себе крайнее возбуждение рабочих. — Нет ли у них повода, подлинного или мнимого, питать озлобление против хозяина? — Никакого. Он всегда был требовательным, но справедливым, строго выполнял собственные обязательства. — Хорошо. С этой стороны бояться за него не приходится. Пьяницы долакают водку, а затем, если не пожелают приступить к работе, их надо будет отправить в Кайенну. Найдутся у вас для этого деньги? — Наличности очень мало, — ответил приказчик с некоторым колебанием. — Впрочем, большинство из них получило приличные авансы. Поскольку они работают только два месяца, то потратили еще немного. — Ну, не важно… Я заплачу, и других заставим платить… В ожидании, пока месье Дю Валлон поправится, мы поступим, как найдем нужным… Сооружение аппарата завершили. Вода тоненькой струйкой бежала на грудь раненого, который пришел в сознание и смотрел на своих спасителей с выражением благодарности. Он слабо пожал им руки, но не пытался произнести ни слова, поскольку ему рекомендовали сохранять молчание. После столь напряженного утра путешественники воздали должное скромной трапезе, состоявшей из лепешки и ломтя ветчины из консервной банки. Вдруг со стороны хижин донеслись пронзительные крики. Ошибиться было невозможно: вопли отчаяния, а не бестолковый галдеж веселых пьяниц. Путники устремились к двери и увидели, что огромный столб дыма тяжело вздымался в воздух с трех сторон квадрата, занятого жилищами рудокопов. Тонкие плетеные стены сотрясались, пальмовые крыши пылали, как пакля. Все хижины были объяты пламенем. Оно распространялось с ураганной скоростью, в мгновение ока пожирало бедные обиталища, охватывало груды поверженных деревьев, плотно устилавших почву, которую не успели расчистить. Время от времени глухие взрывы перекрывали шум пожара. Это огонь подбирался к запасам охотничьего пороха. Захваченные врасплох охмелевшие люди выбегали из огневого моря с горящими волосами, с дымящейся кожей. Многие падали и больше не поднимались. Несчастные, которые не задохнулись от дыма, сгорали заживо. Другие приходили в себя, им удавалось убежать. Но огромное большинство очумевших от водки не могло даже стоять на ногах и в буквальном смысле изжаривалось на месте, не успев пошевелиться. Вот-вот был готов заняться директорский дом, пожар подбирался к нему с двух сторон. Увидев опасность, белые вооружились топорами, их черная свита сделала то же самое, и все бросились — одни налево, другие направо, — чтобы отгородиться от огня, перекрыть ему путь. С нечеловеческой яростью обрушились они на деревянные балки и столбы, снесли плетеную ограду, опрокинули хрупкие стены. Пламя охватило продуктовый склад. Трещала мука, плавились консервные банки, свиной жир растекался пылающими ручьями, рыба сухо потрескивала. Эта провизия, так заботливо припасенная, единственная надежда на завтрашний день, была уничтожена в один момент! И все из-за какого-то жалкого пьянчужки, сытым боровом завалившегося на койку и по небрежности напустившего на всех непоправимое бедствие! Голод, бич девственных лесов, станет неизбежным следствием пожара. Спасатели работали ожесточенно, и последнее убежище раненого наконец было защищено. Доступ огню перекрыт. И в самый раз, потому что, ослепленные огнем, задыхающиеся от дыма, согнувшиеся от непомерной нагрузки, смельчаки находились на пределе человеческих сил. Но какой ужасный сюрприз поджидал их с фатальной неумолимостью! Едва судорожно сведенные пальцы выпустили рукоятки инструментов, едва грудь смогла втянуть глоток свежего воздуха, как чудовищной силы взрыв раздался в глубине леса и разнесся долгим громовым раскатом. Земля вздрогнула, словно от сокрушительного толчка землетрясения. Что это? Ураган? Небо действительно затянуло мрачными, смолисто-черными тучами. К несчастью, владельцы «Удачи» выбрали место для поселка в котловине, стиснутой бугристыми холмами. И кругозор был ограничен этой природной воронкой, дном огромного колодца. Вслед за грохотом взрыва послышалось глухое непрерывное гудение, сперва слабое, но с каждой минутой нараставшее. Туканы и попугаи бросились прочь, встревоженно крича и хлопая крыльями. Издали донесся характерный звук падающих деревьев. Шум усилился, удивительно напоминая прерывистое дыхание вышедшей из берегов реки. Это явление хорошо знакомо тем, кто хоть раз в жизни бывал захвачен бешеными наводнениями на гигантских реках Нового Света. Младший из двух белых одним прыжком очутился на крыше, пристально осмотрел долину. Вал мутной, грязно-серой илистой воды быстро захватывал площади разработок. Через десять минут хижина, спасенная от огня, окажется затопленной. Воды на три с лишним метра залили долину, все еще терзаемую пожаром. Бежать нужно было как можно скорее. Если от огня только что с огромным трудом соорудили заслон, то от воды спасения нет. Молодой человек хотел немедленно принять меры для избавления от страшной угрозы, не забыв и о раненом, как вдруг с отчаянием обнаружил, что хижина уже полностью окружена. Путь к отступлению был отрезан. Поселок «Удача» превратился в остров. И очень скоро стал совсем маленьким островком. Вода, вышедшая из естественных пределов, прибывала с неумолимой методичностью, смывая все на своем пути, словно огромной скатертью покрывая неровности земли, устрашающе мрачная и бездушная. — Что будем делать? — хладнокровно спросил у молодого человека его компаньон. — Ей-богу, эта старушка Гвиана устроила нам весьма странный прием! Если б мы раньше не испытали все мыслимые лишения, не избежали бы массу опасностей и не преодолели бы множество препятствий, я без колебаний сказал бы тебе: «Мой дорогой старый друг, мы погибли!»
ГЛАВА 3
Непознанные богатства, оболганный климат. — Смертность в Гвиане такая же, как в Париже. — История Кайенны. — Шесть экспедиций терпят крах. — Репрессии против туземцев. — Катастрофа Куру. — Гибель эмигрантов. — Депортированные. — В Гвиане живут, как везде.Сколько бы ни писали о Французской Гвиане, наша прекрасная колония остается почти неизвестной в метрополии, или, вернее, представление о ней полностью искажено. Напрасно тратят силы серьезные путешественники, добросовестные писатели, натуралисты, администраторы, экономисты или географы, восставая против этой дискредитации, столь же упорной, сколь и несправедливой. Что бы ни говорил в прошлом веке скромный и самоотверженный исследователь Леблон, что бы ни писали в более близкое нам время Моро де Жоннес, Нуайе, Каррей, Сент-Аманд или Мальт-Брен, вопреки мнению коменданта Фредерика Буйе, весьма привлекательного историка Гвианы, несмотря на свидетельства доктора Крево, для широкой публики наша колония — сплошное малярийное болото, смертельно опасное для европейцев. Опросите девять десятых французов из метрополии, поговорите с ними о Кайенне… И три эти слога вызовут в их сознании мир нищеты, ужасных страданий, смертельных болезней. Кайенна!.. Эта невежественная клевета настолько укоренилась, что даже огромное кладбище на северной окраине Парижа носит название Кайеннского… Какая несправедливость! Какое абсурдное представление об очаровательной стране! Ей недостает лишь подлинной известности, чтобы превратиться в одну из самых драгоценных жемчужин нашего колониального ларца. Увы, страны в чем-то похожи на людей. Сколько высоких репутаций низвергнуто или растоптано из-за ничтожных событий человеческой жизни! Сколько стран неисправимо оболгано из-за каких-нибудь случайных обстоятельств! В Гвиане, чьим воплощением для большинства служит Кайенна, видят одно только «гетто»[343], где собраны печальные жертвы наших гражданских раздоров вперемежку с уголовными преступниками, которых осуждает и карает общество. Никакого значения не имеет ни удивительное плодородие этой земли, ни ее богатейший растительный мир, ни ее золото. Гвиана — край отверженных, каторжный ад, рассадник всяческих болезней. Но разве Австралия, английское владение, чье процветание и благополучие сегодня всем очевидно, не обладала такой же репутацией?.. Какое значение имеет для наших соседей воспоминание о «транспортированных» из Тайберна и Ботани-Бей![344] Что им до соседства с заключенными! Разве не построили те за несколько лет такие города, как Мельбурн, Сидней, Брисбен, Аделаиду или Перт? Заблуждения и реальность не уравновешиваются на жизненных весах. Итог бывает сдвинут в ту или другую сторону. Но отбросим это обстоятельство, предадим забвению страдания депортированных и бесчестье транспортации[345]. В течение двух веков предпринимались многочисленные попытки создать в нашей колонии крупные предприятия и поселки, добиться того процветания, которого ей так недоставало. Однако плоды были жалкими. Представляя на суд читателя беглый, но достаточно полный исторический очерк, даю возможность самому оценить, могли ли не кончиться полным провалом сумасбродства большинства начальников, а с другой стороны, просчеты и неудачи отдельных личностей преуменьшить хоть на йоту ценность и значение Гвианы. Прежде всего хочу развенчать ошибочное мнение относительно местных природных условий. Аргументов более чем достаточно, цифры красноречивы. Статистика, собранная об одних только европейцах, наглядно подтверждает, что климат страны самый здоровый среди всех наших колоний. Действительно, среднегодовые показатели смертности в войсках гвианского гарнизона за тридцать минувших лет в сопоставлении с другими колониями указывают на легкость акклиматизации европейцев в данном регионе. Из отчета о смертности, помещенного в «Revue coloniale», видно, что в Гвиане ее процент составляет 2,81, тогда как в Суринаме и Демераре — 8,20, на Мартинике — 9,10, а в Сенегале — даже 10,90! В среднем уровень смертности здесь примерно такой, как и в Париже, где он в 1854–1859 годах составлял 2,8 на сто, а в 1860–1868 годах — 2,45 на сто. В нашей экваториальной колонии лихорадка не часто приобретает характер злокачественной, сильно ослабляет людей, но от нее не умирают. Дизентерия здесь почти не встречается, а случаи желтой горячки, свирепствующей в прочих колониях, крайне редки. Наконец, как убедительно замечает комендант Буйе, из-за нездоровых условий в некоторых районах Гвианы было бы несправедливо обвинять в плохом климате всю страну, как абсурдно судить о Франции только по Солони[346], а об Италии — по Марэ-Понтен. Есть в Гвиане места действительно нездоровые, гнилостные, но куда больше превосходной, исключительно благодатной для человека земли. И все дело в том, чтобы ограничить колонизацию именно такими регионами, а к другим подбираться исподволь, с большой осторожностью. Разве мы не видим сегодня, как коммуна Сен-Лоран, некогда заболоченная до такой степени, что пребывание там заключало опасность для жизни, после великолепно выполненной раскорчевки полутора тысяч гектаров превратилась в одну из самых цветущих и здоровых территорий? В общем, жить в Гвиане можно, как и повсюду. Здесь встречаешь глубоких старцев всех классов общества и всех цветов кожи. Можно привести немало примеров долголетия среди креолов и европейцев[347]. И только злоупотребления всяческого рода, ввиду крайней жары, представляются более опасными по сравнению с другими зонами. Никогда не следует забывать, что за малейшие нарушения правил гигиены рано или поздно следует кара, а невоздержанность в местных условиях таит в себе смертельную угрозу. Свидетельства истории не менее убедительны, чем статистические данные. Если с помощью цифр мне удалось показать, что пребывание в подобном регионе далеко не так губительно, как об этом принято думать, то я также надеюсь доказать, что все попытки колонизации, совершенные в прежние времена, неминуемо должны были завершиться оглушительными провалами, в которых сама колония нисколько не виновата. Начальную историю Французской Гвианы можно определить в нескольких словах: бестолковость и жестокость руководителей, злоупотребление властью, восстания, репрессии по отношению к местным жителям. Шесть экспедиций были предприняты в семнадцатом веке, все они закончились плачевно. Первую организовал в Руане в 1604 году капитан Ларавардьер, который высадился на острове Кайенна с отрядом из тридцати человек, в основном состоявшем из каких-то темных личностей. Они без труда заняли гору Сеперу, у подножия которой обитали мужественные караибы[348]. Те вели совершенно первобытный образ жизни, а пропитание добывали охотой и рыбной ловлей. Встретили прибывших вполне дружелюбно, но очень скоро гости, погрязшие в безделье, потребовали у островитян продукты, а затем возжелали обратить их в рабство. Караибы решительно воспротивились, и за какой-нибудь год французы исчезли, подкошенные голодом и войной. Вторую и третью экспедиции, организованные также руанскими купцами в 1630 и 1633 годах, постигла та же судьба. Страдая от нехватки продуктов, не имея надежной защиты, эмигранты напали на индейцев, которые в целях самообороны заключили союз с англичанами и голландцами, чье господство на острове возбуждало зависть новоприбывших. И большинство французов было съедено караибами. К 1635 году относится основание города Кайенны. В 1643 году новая группа завоевателей формируется в Руане и по королевским жалованным грамотам получает в свое распоряжение всю страну от Амазонки до Ориноко, с обязательством основать там колонии и заселить их. Экспедиция, весьма значительная по тем временам, состояла из трехсот человек во главе с безумно храбрым Понсе де Бретиньи. Вместо того чтобы завоевывать расположение туземцев, как с самого начала поступили голландцы и англичане, с легкостью добившиеся этой цели, Бретиньи прогнал местных жителей из окрестностей горы Сеперу, чтобы утвердиться там самому со своими подданными. Немного времени спустя он вознамерился обратить краснокожих в рабство, однако те доблестно защищались. Бретиньи преследовал их как диких животных, вешал и сжигал тех, кого удавалось схватить. Мало того, что он лишился таким образом надежных союзников, которые могли бы стать преданными помощниками, не было таких пыток, которых Бретиньи не изобрел бы для своих собственных компаньонов. Питаясь впроголодь отвратительной и скудной пищей, несчастные трудились от зари до зари под палящими лучами экваториального солнца. За малейшую провинность их карали с неслыханной жестокостью. У Бретиньи был металлический штамп с наплавленными на нем собственными инициалами; он приказывал раскалять его добела и ставил клейма на лбу и на ладонях нарушителей своих распоряжений. Доведенные до отчаяния участники экспедиции взбунтовались 4 мая 1644 года и арестовали своего палача. Сто двадцать человек убежало, половина — в Суринам, половина — в Бразилию. Бретиньи вышел на свободу через двадцать дней и вновь принялся изводить несчастных, оставшихся в Кайенне. Спасение нашли они у племени индейцев галиби, принявших их по-братски. Что же касается Бретиньи, то его убили краснокожие, которых он пытался наказать за гостеприимство, оказанное беглецам. В то время как французы, более осмотрительные на сей раз, жили в мире с индейцами и женились на их девушках, в Париже формировалась новая колониальная экспедиция под названием «Двенадцать сеньоров» или «Полуденная Франция». Месье де Ройвиль, аббат де Мариво и аббат де Лябулей, интендант морского флота, стали ее инициаторами. Удалось собрать восемьсот человек и денежный фонд в размере восьми тысяч золотых экю. Экспедиция выступила из Парижа 18 мая 1652 года. Начало ее ознаменовалось несчастьями. Главный руководитель, аббат де Мариво, утонул в Сене, перебираясь с одного судна на другое. А занявшего его место месье де Ройвиля прикончил в плавании кинжалом один из мятежных сеньоров. Волонтеры стали терпеть ужасные страдания с первых же дней по прибытии к месту назначения, поскольку организаторы экспедиции повторили ошибку своих предшественников, взявши запас продуктов лишь для морского перехода. Вновь предпринимались жестокие меры против индейцев, которые сопротивлялись с обычной для них доблестью. В довершение всего начался раскол между сеньорами, и один из них, Изамбер, признанный виновным в заговоре и убийстве руководителя, был осужден на смертную казнь и обезглавлен. Островные индейцы, преследуемые пришельцами, которых терзал страшный голод, объединились со своими континентальными собратьями. Французы укрылись в крепости, откуда их вскоре изгнало отсутствие провианта и прочие лишения. Последние уцелевшие из них бежали в Суринам. В течение пятнадцати месяцев колония оставалась во власти туземцев. Обнаружив свободное место, голландцы обосновались на острове Кайенна под командованием Герен-Спрингера, на средства голландской компании Остенде. Этот ловкий и умный начальник обращался с индейцами весьма дипломатично и сумел добиться, чтобы они перебрались в глубину территории. С 1654 по 1664 год колония замечательно процветала благодаря голландским коммерсантам и трудам белых поселенцев. Именно в этот блестящий период, единственный в истории Французской Гвианы, ставшей на время Голландской (с которой Франция, увы, не наладила никакого сотрудничества), Кольбер[349] объединил в единую корпорацию, получившую название «Королевской компании западной Индии», все конкурирующие группы, которые только вредили друг другу вместо того, чтобы развивать взаимодействие. Месье де ля Барр, опытный администратор и бесстрашный моряк, был назначен губернатором. Он прибыл в Кайенну во главе отряда из тысячи двухсот человек с приказом изгнать любого иного захватчика. Голландцы капитулировали в мае 1664 года. По примеру Спрингера де ля Барр мягко обращался с индейцами и сумел поддержать процветающий облик колонии. К сожалению, он вернулся во Францию и оставил бразды правления своему брату, месье де Лези. Замена оказалась неудачной. Колонию опустошили англичане в то время, когда месье де Лези находился в Суринаме. Отец Морелле, кайеннский кюре, благодаря своей энергии спас обломки злосчастного владения. Месье де ля Барр, возвратившись в 1668 году, снова уезжает в 1670-м и опять доверяет заместительство своему брату. Второе отсутствие губернатора знаменуется еще большими разрушениями, чем первое. Голландцы, которые уже владели Кайенной и вполне оценили ее богатства, лелеяли надежду открыть золотые месторождения, в существовании которых уверяли их индейцы. Голландцы овладевают территорией 5 мая 1676 года и сразу же развертывают активные оборонительные действия. Но напрасно укрепляли они Ремир, в устье рек Апруаг, Синнамари и Ояпок. Адмирал Эстре появился в гвианских водах и нанес врагу сокрушительное поражение, несмотря на ожесточенное сопротивление. Людовик XIV приказал увековечить победу французского оружия медалью, на которой выбито: «Gayana recuperata, 1676». Эту медаль и сегодня можно увидеть в парижском кабинете медалей. Вновь ставшая французской, колония была на пути к большому преуспеванию, когда в 1688 году моряк Дюкасс сделал здесь остановку, направляясь в Суринам. Пообещав отдать на разграбление эту территорию, он склонил многих жителей отправиться вместе с ним. В устье реки Суринам ему удалось завладеть сторожевым таможенным судном, которое должно было предупреждать о приближении врага. Но, вместо того чтобы воспользоваться достигнутым преимуществом и напасть на город врасплох, он упустил драгоценное время. Предупрежденные голландцы успели подготовиться к обороне. Дюкасс потерял много людей и в итоге вынужден был отступить, бежал на Антильские острова, где ускользнувшие от смерти колонисты обосновались навсегда. Незадачливая авантюра сильно уменьшила население и богатство Гвианы. Таков печальный баланс колонии за семнадцатый век. Невзирая на все усилия, в 1700 году несчастная страна насчитывала едва ли четыре сотни белых и около полуторы тысячи негров. Причины таких неудач определялись, увы, очень просто: концессии, которые давались бедным компаниям, неспособным наращивать население и защищаться; тупоумие начальников, недальновидность организаторов, варварские методы колонизации. Но это далеко не все. Потрясения, испытанные в те времена, не идут ни в какое сравнение с безрассудной затеей, принесшей десять тысяч жертв и известной в истории под названием «катастрофы Куру». Целое столетие было потеряно в бесплодных попытках колонизации. И в 1700 году все еще только предстояло организовывать. Дела пребывали в плачевном состоянии. Реванш, взятый Кассаром в 1713 году, не восполнил ущерба, причиненного вылазкой Дюкасса, и бедствия в конце правления Людовика XIV нанесли последний удар. По Утрехтскому договору 1713 года[350] от Гвианы отошло побережье Амазонки, и граница ее была отодвинута примерно на восемьдесят лье к северу. С 1713 по 1763 год колония продолжала прозябать без каких бы то ни было значительных событий. В 1716 году в Кайенне внедрялась культура кофе: несколько отростков кофейного дерева, похищенных в Суринаме, привез французский дезертир. Этот человек рисковал жизнью, поскольку голландцы карали смертью за вывоз рассады кофейного дерева. Но смельчак был вполне вознагражден за свой поступок. О ценности приобретения нечего и говорить. Гвиана стала первой французской колонией, начавшей возделывать культуру кофе. В 1763 году правительство, желая как-то компенсировать потерю Канады, приняло решение об «экспедиции Куру». Предполагалось пополнить Гвиану европейцами. Все это кончилось катастрофой, да к тому же создало стране совершенно незаслуженную репутацию «гиблого места». Имеет смысл подробнее остановиться на данном историческом событии, чтобы точнее оценить степень вины за катастрофу людей или же природы. Дело было затеяно по совету кавалера Тюрго, армейского генерала. Он сумел заинтересовать герцога Шуазеля, тогдашнего военно-морского министра, представляя ему колонизацию как надежное средство обеспечить огромное состояние для семьи. Так что первым актом правительства, вполне естественно, стало предоставление концессии герцогам Шуазель и Шуазель-Праслен на все земли Гвианы между реками Куру и Марони. А это добрых сто двадцать километров побережья, отхваченных сими благородными персонами от экваториальных просторов. Месье Тюрго, назначенный губернатором в 1763 году, взял в качестве интенданта месье де Шанваллона, бывшего члена Верховного совета Мартиники. Тот развернул активные подготовительные работы, поставив целью прежде всего построить жилье для двенадцати тысяч человек. Помощником Тюрго был месье де Префонтен, в прошлом чиновник. Лет двадцать тому назад он стал землевладельцем на берегах Куру. Из-за непостижимой медлительности министерства на четыре месяца задержалось прибытие в Кайенну первой партии колонистов. К тому же местные власти создавали целый ряд дополнительных трудностей. Шестьсот человек успели соорудить лишь несколько хижин. Эмигрантов расселяли под навесами, и в скором времени начались повальные заболевания лихорадкой. Ни больницы, ни медицинского обслуживания никто не предусмотрел. Все это происходило в сентябре 1763 года. Шанваллон застрял в Париже из-за административных неурядиц. Только 14 ноября он погрузился на корабль вместе с группой из 1429 человек. Новоявленный интендант пока ничего не знал о затруднениях Префонтена и предполагал, что у того все уже готово. В Кайенну путники прибыли 22 декабря. Выгрузка производилась удручающе медленно. Пассажиров разместили под навесами. Транспортировку в Куру затрудняло множество осложнений. В колонии не было ни лодок, ни лоцманов. Хотя министерство, будучи осведомлено об этих лишениях, и приказало кайеннским властям подготовить лодки, к приказу этому отнеслись с поразительным безразличием. В конце концов использовали для перевозки маленькую бригантину[351]. В феврале 1764 года месье де Шанваллон, обремененный всеми этими хлопотами, узнал о прибытии судна, везущего еще 1430 человек. Он примчался в лагерь. Госпиталь был переполнен больными, не получавшими почти никакой помощи и валявшимися прямо на песке, безо всякого укрытия, если не считать жалких полотняных лохмотьев. И это в разгар сезона дождей! Интендант убедился в невозможности разместить такое количество народу. Новых поселенцев следовало принимать не раньше, чем письменно заверив министерство в своей полной готовности. Однако Шанваллон рассчитывал, что новоприбывшие помогут завершить подготовительную работу, но те решительно отказались от всякого труда, погрязнув в многомесячное безделье. Транспортная колонна прибыла 19 марта 1764 года, объявив, что в следующем месяце надо ждать еще двух тысяч человек — мужчин, женщин и детей. Можно вообразить, какие кошки заскребли в душе интенданта при этой новости! Нужда у эмигрантов в Куру была отчаянной. Недоставало решительно всего. И хотя эти чертовы острова были переполнены предыдущей партией переселенцев, следовало их еще уплотнить. В довершение несчастий они взбунтовались. Шанваллон написал министру, чтобы отсрочить отправку, его письма не дошли до адресата или же поступили слишком поздно. Пополнение прибывало в мае, июне, июле и августе. Двенадцать тысяч человек, по одним источникам, тринадцать — по другим — скопилось в Куру. Уточнить не представляется возможным, потому что потерян след последних транспортных колонн. Пришла беда — отворяй ворота, и в этой невообразимой толчее вспыхнула эпидемия чумы, которая унесла жизни тех, кого пощадила лихорадка. Что же здесь удивительного, ведь по триста — четыреста человек спали вместе под грязными навесами, не защищавшими ни от солнца, ни от дождя, и им катастрофически не хватало пищи и медикаментов. Десять тысяч человек погибло, две тысячи с большим трудом вернулись во Францию. Тридцать миллионов вылетело на ветер! Эта мрачная драма длилась один год. Так закончилась экспедиция, укомплектованная людьми разных классов — ремесленниками, гражданскими и военными, служащими, актерами, искателями приключений, музыкантами и т. д. Самой главной ошибкой было создание колонии потребителей в то время, как Гвиана располагала лишь горсткой бедных жителей, рассеянных на необозримой территории. Привезти огромную толпу на совершенно дикий берег без всякого жилья и попечения, снабжая людей испорченными европейскими продуктами, плодившими заразные болезни! А теперь сам читатель пускай решит, виновата ли в трагедии людская бесхозяйственность и бестолковость или же так называемый «нездоровый климат». Требовалась одаренная и сильная личность, чтобы возродить колонию, на которую уже совсем махнули рукой. Единственный раз правительство сделало счастливый выбор, когда в 1776 году послало в Гвиану в качестве распорядителя месье Малюе. С помощью инженера Гизана новый распорядитель, безусловно, самый выдающийся деятель за всю историю Гвианы, превратил ее в цветущий край. Счастливая эра длилась около двадцати лет. Осушение болот, прокладка каналов, дренаж, дезинфекция, строительство — все это памятные вехи отличного управления. В скором времени Французская революция нашла отклик по другую сторону Атлантики. Не прошло и года после великого акта восстановления справедливости, который зовется отменой рабства. — Конвенция начертала его золотыми буквами первым из своих декретов, — как появилось постановление 12 жерминаля года IV (1 апреля 1795 г.), присудившее к депортации Барера, Вадье, Колло д’Эрбуа и Бийо-Варенна[352]. Двум первым удалось освободиться, двое других были высланы в Гвиану. Восемнадцатого фруктидора[353] года V (4 сентября 1797 г.) Директория разогнала два совета и осудила на высылку пятьсот шестнадцать своих политических противников, почти сплошь депутатов, дворян, журналистов, священников и генералов. Ста восьмидесяти удалось избежать наказания, остальных отправили в Гвиану и интернировали в Конамана и Синнамари. Как бы снова воскресли роковые дни Куру, освещая мрачные сцены невыносимых страданий. Этих триста тридцать депортированных, с которыми обращались во Франции как с преступниками, при отплытии из Рошфора запихнули в корабельные трюмы. В бесконечно долгие часы перехода они испытывали неимоверные муки голода и жажды[354]. По прибытии на Кайеннский рейд многие оказались мертвы. На берег выгрузили большое количество находящихся при смерти людей, их срочно препроводили в больницы, и сто шестьдесят человек скончались от ностальгии и от перенесенных длительных лишений. Некоторые, среди них Пишегру, Рамель, Бартелеми, Виллят, Обри, Доссонвиль, Деларю, Летелье, смогли бежать и добрались до Соединенных Штатов Америки. Барбе-Марбуа и Ляффон-Лядеба получили вызов во Францию. Ничего удивительного, что столь длительные мучения во время морского перехода с последующим пребыванием в гвианской тюрьме обозлили даже наиболее закаленные натуры, сохранившие печальные и болезненные воспоминания о равноденственных берегах, о местах, где выпало на их долю столько страданий. Месье Барбе-Марбуа был среди прочих яростным противником Гвианы, и его заявления, сделанные с высокой трибуны Палаты пэров[355], имели значительное влияние на современников. Как бы там ни было, важно подчеркнуть, что колонизация не входила в планы Директории. И если результаты предпринятых ею жестоких мер столь плачевны, то не стоит винить в этом климат. Девяносто лет минуло после этих событий. Положение колонии намного улучшилось, хотя до идеального ему далеко. Но мы вправе себя спросить, почему ни время, ни опыт не смогли полностью разрушить все еще бытующую репутацию «гиблого места», которая столь прочно и столь несправедливо закрепилась за Гвианой… Я же хочу, насколько позволят мои силы, побороть этот досаднейший предрассудок, реабилитировать в глазах неосведомленных сограждан ту страну, которую люблю, изобилие и красоту которой я имел возможность узнать. Да будет же услышан мой слабый голос! Да посчастливится мне вложить свой камень в ту постройку, которую возводят там отважные люди, умеющие трудиться и надеяться. Это станет лучшей наградой для скромного гражданина, у которого нет других побуждений, кроме пламенного патриотизма.
ГЛАВА 4
Письмо из Франции. — Робинзон в Париже. — Мансарда на улице Сен-Жак. — Материнская тревога. — Переезд через океан. — Колониальная навигация. — Двойной удар. — Багаж без владельца. — Освобожденный каторжник. — После двадцатилетнего отсутствия! — Наводнение.«Париж, 15 июля 187…
Дорогие родители, дорогие братья! Английский почтовый пароход отплывает завтра из Саутгемптона в Гвиану. Через двадцать два дня шхуна «Maroni-Packet», заменившая с недавних пор нашу «Tropic-Bird», отправится из Суринама к Марони. Восемь дней спустя это письмо настигнет вас в селении «Полуденная Франция». Оно опередит нас на три недели. Наконец-то! Я снова увижу вас после этого бесконечного десятимесячного отсутствия. И меня, и Никола охватила предотъездная лихорадка. Она не так опасна, как в девственном лесу, но все же трясет нас здорово. Хватит с меня Парижа, хоть я и полюбил его за это время. Прихожу к выводу, что предпочел бы находиться здесь, но только в том случае, если бы меня не ждали девственные леса. Мне нужна либо самая совершенная цивилизация, либо природа в своем диком, первозданном виде — середины не признаю. Я быстро привык к новой жизни и быстро исчерпал запас удивления. Но каким бы я чувствовал себя затерянным в этом огромном людском муравейнике, где иностранец еще более одинок, чем в наших лесах, если бы не было у меня надежного гида, нашего славного Никола. Как настоящего дикаря, меня буквально выводил из себя неумолчный шум большого города. Я только и видел, что огромные дома, громоздившиеся друг на дружку, подобно нашим деревьям-великанам, толпы озабоченных людей, похожие на муравьев-маниок, да орущих на улицах работяг, что заглушили бы обезьян-ревунов. Невозможно ничего рассмотреть из-за этой толпы, множества экипажей, пыли, грязи, мигающих огней, забитых до отказа улиц. Нет, никогда европеец не окажется в таком затруднении среди пяти миллионов гектаров девственного леса, в каком я оказался по прибытии в Париж. К счастью, повторяю, у меня был Никола, самый надежный компас для путника. И теперь ваш маленький дикарь умеет садиться в поезд как местный житель, он больше не боится трамваев и при виде электрического света уже не издает воплей. Он побывал в Лувре[356], поработал в Национальной библиотеке, прослушал несколько лекций в Горном институте, пополнил свои знания в Музее естественной истории и пробежал галопом уж не знаю какое количество самых разных магазинов. Наши покупки наконец совершены, и я везу с собой целый склад книг, оружия, одежды и всякого оборудования, не забыв, разумеется, о сельскохозяйственном инвентаре и машинах, необходимых для наших будущих горнорудных разработок. Все это подготовлено к отправке морем. Мы наняли трехмачтовик. Я не мелочился, и вы будете довольны. Впрочем, мы строго придерживались инструкции, согласно которой следует тратить больше, чтобы выиграть время. Дело сделано, мы возвращаемся. Ей-богу, тоска по дому охватывает меня все больше и больше. И Никола тоже. Он мечтает вас обнять и полакомиться копченой аймарой. Здесь водятся только пескари, и нет никакой возможности «опьянить» Сену с помощью нику…[357] Жара стоит адская. Асфальт размягчился, так что остаются вмятины от каблуков. Пот льется градом. Тридцать семь градусов в тени! И кто-то еще полагает, будто Гвиана с ее средней температурой в 27° — сущий ад для европейцев! Правда, в январе у нас было пятнадцать градусов ниже нуля, с противным снегом и льдом. Ангоссо очень бы смеялся, увидев меня в шубе с воротником из выдры, в подбитой мехом шапке и подпоясанного словно эскимос. Ненавижу зиму, я задыхаюсь в примитивных хижинах, которые называются гостиничными номерами. А эти рестораны! О, милое мое домашнее житье, с задушевными беседами, искренними излияниями! Оно дает такую полную и здоровую радость! А впереди еще три недели ожидания… И надо преодолеть две тысячи лье, чтобы вновь изведать это счастье! У Никола, который читает это письмо через мое плечо, покраснели глаза от слез при мысли о всех вас. Он настолько забылся, что бормочет по-креольски, как некогда наш добрый Казимир: «Истинная правда, так оно и есть…» Что касается меня, то мою грудь теснит, дыхание перехватывает, и в глазах все плывет, когда я воскрешаю в памяти ваши лица и произношу вслух имена, чтобы создать на какое-то мгновение иллюзию вашего присутствия. Мама, папа, Анри, Эдмон, Эжен, я вижу вас, говорю с вами, слышу ваши голоса. Я даже не стыжусь признаться, что маленький робинзон прослезился, думая о дорогих существах, которые ждут его там, в милой нашему сердцу Гвиане. Не хочу завершать письмо, не рассказав вам об одном трогательном эпизоде из здешней жизни. Вся заслуга принадлежит Никола, вы же знаете его благородное сердце и деликатность чувств. — Пошли, — сказал он мне позавчера утром. — А куда? — поинтересовался я. — Это секрет. Доверься мне, ты останешься доволен. Мы отправились пешком из нашего отеля на улице Вивьенн и довольно долго добирались до переулка, расположенного по другую сторону Сены. Перед нами оказался большой, весьма обшарпанный дом. Мы поднялись по длинной и темной лестнице с мокрыми ступеньками. На шестом этаже Никола остановился, его состояние было близко к обморочному. — Это здесь, — промолвил он сдавленным от волнения голосом, указывая на дверь, обмазанную желтой охровой краской. Там виднелась маленькая табличка со словами: «Мадам Д…, искусственные цветы». — Ну конечно, это здесь! — воскликнул я. И воспоминание прорвалось сквозь туманную завесу двадцатилетнего отсутствия, я узнал мансарду на улице Сен-Жак! Мы вошли. Женщина в глубоком трауре, бледная от горя, поднялась при нашем появлении. Трое детей мал мала меньше взирали на нее с тем выражением бессознательного страдания, которое присуще никогда не ведавшим радости. Трехлетний ребенок, лежавший в колыбели, дышал при этом тяжело и неровно. Ты же помнишь, конечно, мама, наш последний день в Париже! Мне было три года, но и сейчас воспоминание живо, как тогда. При виде этой матери в трауре, ее детей в слезах я испытал как бы раздвоение личности, снова превратился в сына политического ссыльного и увидел перед собой вдову погребенного заживо. Иллюзия была настолько полной, что я как бы заново пережил драму нищеты и скорби. Видно, есть на земле какие-то проклятые места! Я объяснил даме цель нашего визита — паломничество к месту наших давних мучений. Незнакомка, искренняя, как все отчаявшиеся люди, открыла нам сердце и поведала свою историю. Увы, вся она укладывается в несколько слов. Муж ее, честный рабочий, измученный тяжким трудом, уже два месяца в больнице. Скромные их сбережения растаяли, а тут еще безработица. Теперь — нищета. В довершение несчастья младший ее ребенок находится при смерти. — Мадам, — сказал я, расставаясь, — позвольте и мне быть вполне откровенным с вами. Пока мой отец находился на каторге, мать моя страдала и боролась так же, как вы. Мои братья и я терпели лишения, как и ваши дети, но неизвестные друзья спасли нас. И это сходство судьбы, эти злоключения, испытанные в одном и том же месте при почти одинаковых обстоятельствах, должны иметь и такую же развязку. Позвольте нам сыграть для вашей семьи ту роль, какую для нашей сыграли неведомые благодетели. И, поскольку она молчала, совершенно озадаченная: — Мадам, — продолжил я, — во имя моей матери примите ради ваших детей этот братский дар. Я самый младший в семье, моя колыбель находилась как раз там, где лежит ваш больной ребенок… Позвольте мне поцеловать малютку. Я запечатлел поцелуй на лбу ребенка, поставил рядом столбик монет на тысячу франков, и мы расстались. Но, надеюсь, не навсегда, не правда ли? Мы продолжим, это доброе дело, я призываю вас к нему и сердцем и умом… В ожидании счастливойминуты, когда мы привлечем всех в свои объятия, целуем вас от всего сердца.
P. S. Через шесть недель мы будем плыть по Марони».Шарль.
На конверте значился адрес: «Месье Робену, землевладельцу, селение «Полуденная Франция» (Марони), Французская Гвиана».
Дело подвигалось к 12 сентября, и получатель письма, прибывшего к месту назначения около месяца тому назад, со дня на день ожидал двоих путешественников. Им пора было появиться. 6 августа они взошли на борт одного из великолепных пароходов Всеобщей трансатлантической компании, не уступавшего в скорости киту, смело дававшего двенадцать миль[358] в час. Через две недели плавания пассажиры, следующие в Гвиану, были высажены на Мартинике, где они пересели на дополнительный корабль, несший межколониальную службу, и через восемь дней прибыли в Кайенну, после кратких заходов в Сент-Люси, Тринидад, Демерару и Суринам. Переход из Кайенны к Марони выполнялся на очаровательном пароходике «Dieux-Merci», принадлежавшем компании «Сеид», или же на шхунах под названием «Tapouyes», которые с помощью течения и северо-восточного ветра были способны достичь Сен-Лорана за каких-нибудь тридцать шесть часов. Пароходик ежемесячно совершал по графику три рейса, шхуны отправлялись по заказу фрахтовщика. Не более четырех дней требовалось, чтобы из Сен-Лорана добраться до водопада Петер-Сунгу с координатами 56°15′ западной долготы и 5°15′ северной широты. Итак, двое мужчин могли прибыть по истечении тридцати дней, если считать, что переход был совершен без особых происшествий и что дела могли их задержать в Кайенне не более чем на сорок восемь часов. Наступало 12 сентября. Думаю, читатели не забыли политического ссыльного Робена и его бесстрашную семью. Десять лет минуло с того момента, когда каторжник узнал о своей свободе, потеряв при этом старого друга и спасителя, негра Казимира, подкошенного пулей бывшего лагерного охранника Бенуа. Этот второй период жизни экваториального француза, наполненный трудом и обретением новых знаний, был вполне счастлив. Инженер даже не постарел, как и прежде, его отличало атлетическое сложение, гордые и располагающие черты лица, проницательный взгляд, открытая и временами задумчивая улыбка. Ему уже исполнилось пятьдесят пять, но выглядел он на десять лет моложе, хотя волосы обрели снежную белизну. Почти не изменилась и его героическая жена со своей деликатной бледностью парижанки, нежным лицом счастливой матери и преданной супруги. Конечно, годы сказались на этом хрупком — по внешнему облику — существе, но духовное мужество придало женщине особую силу. Так закалка укрепляет чистую сталь. Ее милые мальчики превратились в зрелых мужчин. Они стали тремя копиями отца, каким был он в их возрасте. Не хватало только Шарля, самого юного. Десять месяцев тому назад он уехал вместе с Никола во Францию по причинам, которые будут вскорости объяснены. Уже двадцатый раз робинзоны перечитывали письмо молодого человека, доставленное вышедшим на свободу заключенным. Он жил в Сен-Лоране и со всей поспешностью бросился доставить им послание, как только «Maroni-Packet» прибыла из Суринама и почта поступила к голландскому комиссару д’Альбина. Горя нетерпением, Анри сразу же заявил: — А что, если мы отправимся им навстречу? Предложение старшего сына настолько отвечало потаенным желаниям каждого, что не вызвало даже тени сомнения. Жилище оставили на попечение Ангоссо, негра-бони, зоркого и крепкого, как тапир, его жены Ажеды и целого клана негритят, их внуков от союза сыновей Ломи и Башелико с двумя женщинами своего племени. Четверо европейцев разместились на двух отличных пирогах. Одной управлял Ломи, другой — его брат, они помогали друг другу маневрировать на веслах. Сделали остановку на правом берегу Марони, устроившись под развесистыми деревьями, чтобы переждать удручающую дневную жару. Анри еще раз перечитал вслух письмо брата, и завершавший его трогательный эпизод заставил родных прослезиться. Ломи нес сторожевую вахту под сенью черного дерева, покрытого золотыми цветами, и цепким взглядом озирал огромную водную гладь, напоминавшую течение расплавленного металла. Мадам Робен первой нарушила напряженную тишину. — Шарль и Никола очень задерживаются, — тихо молвила она. — Я сгораю от нетерпения, какая-то тоска сжимает сердце. Ничего не могу поделать с этим болезненным беспокойством, все мои усилия напрасны. — Ну, мама, — откликнулся Анри, задетый этой печалью, — гони прочь скверные мысли! Ведь какое огромное расстояние от Франции до нас! — Ты же хорошо знаешь, — подхватил Эдмон, — как многообразны причины, способные затянуть путешествие… Хотя бы даже бо́льшая часть плавания была свободна от опасностей… Например, встречный ветер мог замедлить движение шхуны… — Если допустить, что Шарль использовал черепаший способ плавания, — вмешался Эжен, насмешливый, как подросток, невзирая на свои двадцать шесть лет и очаровательную каштановую бородку. Юноша добавил по-креольски: — Морская мама-черепаха бежит быстрее, чем шхуна… Шутка сына не развеяла тревоги мадам Робен. — Если только их не осенила блестящая идея взойти на борт «Dieux-Merci», — продолжил молодой человек. — Не хочу возводить напраслину на уважаемую компанию, которая много делает для удобства пассажиров, но остановки в пути этого почтенного морского дилижанса иногда чересчур уж затягиваются. Например, когда «Dieux-Merci» заходит в Ману в субботу, этот затейник, капитан Метро, норовит провести на суше все воскресенье. А это двадцать четыре часа, порой же все тридцать шесть часов опоздания. Бывает, что корпус судна застрянет между скал или же нос увязнет в илистом грунте. Вспомни-ка последнюю поездку в Кайенну и все приключения на обратном пути… В конце концов наши путешественники могли просто не найти в Сен-Лоране посудины, готовой к отплытию. Ты же видишь, поле для гипотез очень широкое, так что нет причины тревожиться об опоздании, скорее всего легко объяснимом… — Ах, милое мое дитя, нет никакого средства против смутного беспокойства, которое не могу даже выразить словами… Напрасно я призываю на помощь логику, тоска моя только возрастает. И ты отлично знаешь, что при этом я вовсе не впадаю в панику, что лесная жизнь достаточно меня закалила! Эта нетерпеливость, вполне естественная в момент наивысшего душевного напряжения, когда вся семья должна была вот-вот объединиться после долгой разлуки, поразила Робена. Выражение его лица не изменилось, однако неотвязчивая тревога, поразившая супругу, невольно передалась и ему. Бездействие томило. Он порывался вдаль, ему хотелось энергично грести, лететь по волнам, чтобы сократить расстояние, казавшееся уже совсем незначительным. Время суток и состояние атмосферы, к сожалению, не позволяли немедленно продолжить путь. Следовало подождать, по крайней мере, до трех часов. Эжен молчал. Эдмон не знал, что сказать. Каждый пытался найти какое-нибудь развлечение, но безуспешно. Оно само представилось, и очень скоро. Тревожный крик чем-то напуганной птицы раздался в нескольких шагах за лианами. «Мар-рэй! Мар-рэй!» Инстинкт охотника тотчас же взыграл у Анри. Он схватил двустволку крупного калибра, купленную в Кайенне, быстро ее зарядил. Послышалось резкое хлопанье крыльев, и две большие птицы, снявшись с места, пулей пронеслись над поляной. Один за другим прозвучали выстрелы, и оба пернатых, сраженных метким охотником, тяжко рухнули на землю. Выстрелы отозвались дальним и весьма странным эхом. Как будто в унисон с ружьем молодого человека раздался вдалеке приглушенный взрыв. Вообще-то подобные происшествия — не редкость на Марони, которая служит главным средством сообщения с Верхней Гвианой. И все же случившееся было не столь обычно, как могло показаться вначале. Большой водный путь испещрен пирогами, которые везут провиант и доставляют рудокопов к золотым приискам. Этим путникам хватает забот, чтобы еще высматривать под палящим солнцем редкую в этих местах дичь. И негров, всецело занятых маневрированием на веслах, вряд ли способен охватить охотничий азарт. Так что ружейные выстрелы звучали иногда лишь по воскресеньям, поблизости от рудников или плантаций. К тому же долетевший до робинзонов звук не очень напоминал ружейный, был не таким звонким, а по мощности превосходил его. Это скорее походило на подрыв золотой жилы, основательно нашпигованной зарядами. Тонко развитый слух ко всякого рода лесным шумам тотчас навел путешественников на эту мысль. Эжен придерживался иного мнения. Он полагал, что его юный брат и Никола, в восторге от встречи с родными краями, объявили о прибытии ружейным залпом. Это заявление решительно отвергли, однако Эжен продолжал упрямо настаивать на предложенной версии, желая развеять всеобщую тревогу. И в конце концов пылкое красноречие юноши слегка успокоило его мать. — Скоро мы все выясним, — заметил Робен. — Солнце начинает склоняться к закату. Его лучи будут не опасны, если мы укроемся под листьями канны[359]. Короче говоря, поскольку бездействие пагубно влияет на всех, не вижу причины, чтобы не тронуться в путь немедленно. За несколько минут соорудили легкие навесы в задней части лодок, подняли якоря, и робинзоны двинулись вперед. Ломи и Башелико с непокрытыми головами, нечувствительные к знойным лучам экваториального светила, как подлинные дети тропического леса, изо всей силы гребли уже два часа. Вдруг первый из них резко задержал в воздухе свою деревянную лопатку, словно подвесив ее на просушку. Пирога по инерции проскользила еще несколько метров, затем остановилась. — Эй, Ломи, что стряслось? — крикнул Робен. — Лодки, вон там, много лодок со стороны залива! — Ты видишь лодки и залив, Ломи? — Ну да, муше! А вы разве не видите?.. — Тогда держи курс на них, дитя мое! — А правда, — сказал Анри, приподымаясь со всей осторожностью, чтобы не нарушить шаткого равновесия посудины. — Я вижу с правой стороны чуть заметный проход, который может быть рукавом или устьем реки, и с полдюжины неподвижных лодок возле самого берега… Сердца забились усиленно при этой новости, и трое молодых людей схватились за весла, чтобы ускорить движение. Они гребли с юной яростью, выдававшей их пылкое желание быстрее достичь цели. Через полчаса уже ясно были видны четыре лодки, загруженные до предела; две негритянские скорлупки и два довольно больших суденышка с мачтами, грузоподъемностью каждое не менее десяти тонн. Экипаж устроил лагерь на берегу, развел костер для приготовления пищи. Десять человек — восемь негров и двое белых, — по всей видимости, отдыхали после обеда. Робинзоны высадились неподалеку от незнакомцев и были встречены весьма дружелюбно. Инженер принялся их расспрашивать, когда вдруг один из белых поднялся, не отводя от француза взгляда и сильно волнуясь. Незнакомец почтительно обнажил голову, невзирая на жгучие лучи солнца, озарявшие его морщинистый лоб, и воскликнул прерывающимся голосом: — Месье Робен! Тот с удивлением посмотрел на человека, чье лицо и голос не напомнили ему решительно ни о чем. — О! Месье Робен! Неужели это вы! Какое счастье снова видеть вас! Ведь прошло лет двадцать, не меньше… Да вы не узнаете меня. Ничего удивительного! Я сильно изменился… Борода побелела, а лицо покрылось морщинами, как у старика… Я столько работал и столько страдал… Передать не могу! Ах! Как же я вас разыскивал тогда, в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, узнав про декрет об амнистии! Я вернулся в долину бедного старика Казимира, но вы уже покинули ее, не ведая о своей свободе. Свет памяти пробился из глубины. Робен вспомнил. — Гонде! Это вы! Мой славный друг, я не забыл вас, нет, нет! Если перемены в вашей внешности и могли ввести в заблуждение, то память об оказанных услугах никогда не покидала меня. — Вы так добры, месье Робен! Хочу заявить, что, как и прежде, вы можете полностью мною располагать! Я всегда к вашим услугам! — Сердечно благодарен, мой милый Гонде, и спешу немедленно воспользоваться вашей любезностью. — Тем лучше! Просите о чем угодно, хоть о самом невозможном! — Ну, это когда-нибудь в будущем… Пока же скажите мне, чьи это лодки. — Два баркаса принадлежат мне. После освобождения я стал совершать рейсы между Сен-Лораном и Герминой, вожу рабочим провизию, а оттуда — месячную выработку металла[360]. А я знаю, что вас сюда привело! — Быть того не может! — Знаю, месье Робен! Вы хотите услышать от меня новости о двух путешественниках, которые едут из Франции. Один из них — молодой человек, другому лет сорок пять. — Ты прав! Говори же скорее, где они! — Младший носит ваше имя. Я прочитал на ящиках, принадлежащих ему. Еще подумал, что это ваш сын. Он так похож на вас! Но не осмелился спросить. Я готов был сопровождать его до встречи с вами. Они еще этим утром были здесь оба и отправились на рассвете, чтобы осмотреть золотоносные земли, на которые у них концессия. — Так мой сын здесь! — воскликнула мадам Робен, не в состоянии больше сдерживать чувства. — Благодарю вас, месье, за добрую весть. Мы едем немедленно, не так ли? — обратилась она к мужу. — О мадам, — возразил Гонде своим тихим голосом, — вряд ли вы его догоните. Они в маленькой лодочке, построенной по образцу наших негритянских, однако месье Шарль привез ее из Европы и должен быть теперь уже очень далеко. — Не важно! Мы хотя бы сократим расстояние… — Да что там эта лодочка… Может ли она состязаться с нашей пирогой, которую мы сами соорудили, — гордо заметил Анри, выпячивая свою мускулистую грудь. — Но, по словам этих господ, их лодка из легчайшей прессованной фанеры, ее изобрели американцы, а строили в Англии… И она снабжена маленьким паровым двигателем с винтом. Летит по воде, как чайка! Общий вес ее всего сто двадцать килограммов. Я видел, как они отчаливали, и даю голову на отсечение, что с той скоростью, на какой они шли, лодка уже пробежала пятнадцать лье, если не больше… Впрочем, они обещали вернуться завтра вечером или чуть позже. Я дал слово дождаться их. — Значит, этот груз принадлежит моему сыну?.. — Абсолютно весь, месье. Там около пятнадцати тонн. Чего только нет: водка, топоры, мачете, вино, семена… Земледельческие орудия, маслобойки, усовершенствованные промывочные машины для золота, ртуть, пестовые молоты, или копры, — они разобраны на части по двадцать пять килограммов каждая… И еще все детали тоже разобранного для транспортировки парового двигателя… — Как, еще и паровой двигатель? — Ну да, месье, новинка техники, как сказали эти господа, изобретение парижанина по имени Дебейо… А в этих двух ящиках с двойной обивкой — из меди и цинка — содержится динамит. Какие прекрасные разработки вы сможете начать со всеми этими приспособлениями. — Если бы вы захотели с нами сотрудничать, Гонде, я был бы рад найти для вас прибыльное занятие. Нам нужны энергичные люди, честные и привыкшие к жизни в лесу. Вы согласны, не правда ли? — О месье, вы так щедры! Вы оказываете мне столько чести! Отныне я нахожусь в полном вашем распоряжении. — А знаете ли, Гонде, — вдруг сказал инженер, словно пораженный какой-то догадкой, — ведь вы совершили настоящий подвиг, поднявшись по Марони до этого пункта с таким-то багажом, на большегрузных лодках! — Это заслуга месье Шарля. Я очень даже просто застрял бы на водопаде Гермина. Но ваш сын такой же, как вы: его ничто не остановит! Невозможное для него не существует. «Ну так что, — спросил он меня, — вы собираетесь оставаться здесь до скончания века?..» — «Черт подери, месье, — ответил ему я, — хорошо бы мне иметь крылья! А так придется перегружать шлюпки, это займет не менее двух дней, — не вижу другого способа пройти пороги». — «Но вы забыли о моей моторной лодке. Мы все это возьмем на буксир — и дело в шляпе!» Сказано — сделано. Смелая маленькая лодочка вздыбилась на бурлящей воде, пироги чуть-чуть помогли ей… Короче, она потянула нас на канатах так сильно и ловко, что мы прошли без аварии и даже ста граммов груза не потеряли… Удивленные и восхищенные робинзоны жадно слушали рассказ о подвигах своего младшего сына и брата. Они горели одной только мыслью: поскорее войти в залив, образованный впадающей в Марони рекой, и пуститься на розыски Шарля. Их мать, хотя и успокоенная сообщениями Гонде, снова заявила мужу о своей непреклонной решимости ехать, и Робен отдал распоряжение о подготовке к отплытию. — Оставайтесь на своем посту, — сказал он владельцу лодок. — Думаю, что мы встретим моего сына с товарищем где-нибудь на полпути. Робен подал знак к отъезду, и две пироги быстро втянулись в реку, уходившую на восток, так что она образовывала с Марони почти прямой угол. Друзья гребли уже несколько часов и, вероятно, прошли немалое расстояние. День угасал. Следовало позаботиться о ночлеге, выбрать место для стоянки. Робинзоны решили плыть как можно дольше, мобилизуя всю свою энергию. Далекий шум, нечто вроде обширного, протяжного и не очень сильного сотрясения донесся до их ушей. На мгновение гребцы застыли, прислушиваясь. Они не могли понять причины тихого рокота, который постепенно усиливался. И вдруг ложе реки заметно округлилось в своих берегах, ставших внезапно тесными. Течение взбурлило, как на порогах. Уровень воды резко повысился. — Держитесь, дети! — спокойным голосом подал команду инженер. — Держитесь крепко! И наляжем дружнее на весла! Это наводнение.
ГЛАВА 5
Смелость и только смелость. — Проект гениального человека. — Робинзоны становятся золотоискателями. — Предприятие «Полуденная Франция». — Горняки и скотоводы. — Гвианские ранчо. — За покупками в Пару. — Индейцы и телята. — Рейс на пироге. — Добыча кайманов. — Крик в ночи.Читатель помнит о страстном призыве Робена к сыновьям, когда, узнав о своей свободе, он решил всего себя посвятить процветанию Гвианы. Вырвать из оцепенения эту громадную страну, влить свежую кровь в ее преждевременно ослабевший организм, извлечь из этой земли богатства, в ней таящиеся, обрабатывать угодья, доставляя себе все необходимое на месте, развить коммерческие и промышленные связи — одним словом, превратить французскую колонию в удачливого соперника соседней английской колонии — таков был грандиозный план Робена, который он надеялся осуществить. Для подобного предприятия нужны были чрезвычайные силы и средства. Иностранец, посвященный в тайные планы инженера, без колебания назвал бы его безумным, оценив имеющиеся у инженера ресурсы. Да и вправду сказать, этот смельчак, еще накануне бывший изгнанником, лишенным отечества, пятнадцать лет не имевший ни малейшей связи с цивилизованным миром, с помощью пяти белых и трех негров вздумал атаковать доселе непобедимого великана! Он замахнулся на то, чего не сумели осуществить могучие компании, да и сами правительства. Он затеял извлечь из старой болотной тины, из этой бездонной глотки, пожравшей столько жизней за два с половиной века, золото и кровь колонистов, погибших от невыносимых тягот. Он отомстит за жертвы Куру, преобразует тропический могильник в плодородное поле, он заставит Гвиану вернуть захваченное, найдя в ней самой пути для ее спасения. Чистое безумие, могут сказать. Но безумие высшей пробы, и до того только дня, когда, созерцая торжество этой беспредельной отваги, потрясенный Старый Свет заявит: «Безумец был гением». Подобно тому, как термит разрушает корабль — гору дерева, как капля воды точит скалу, а бесконечно малое становится причиной бесконечно большого, так и преданность одной идее надежнее всего пробивает мрак невежества, а неутомимый и непрестанный труд сметает со своего пути любые препятствия. Большая тень Малуэ, которая всегда парит над этой неизведанной землей, должна была встрепенуться от радости, когда Робен, гордо подняв голову, обратился к Гвиане: «За нас двоих!» Инженер досконально изучил равноденственную зону. Для него не существовало секретов в прошлом. Он сумел извлечь из горестной истории нашей колонии все философские и экономические уроки. Настоящее особого значения не имело. Он охотно превращал его в абстракцию, предпочитая думать только о будущем. Этот полный дерзкого вызова мечтатель был глубоко расчетлив. Робен не имел никаких предрассудков по отношению к Гвиане и, что покажется совсем уж парадоксальным, не питал никаких иллюзий. Он трезво и точно оценивал ситуацию, не преувеличивая ни своих надежд, ни предстоящих трудностей. Впрочем, мы скоро увидим его в деле. — Со времен экспедиции капитана Лавардьера в тысяча шестьсот четвертом году две главные причины мешали успешной колонизации, — говорил он своим детям и Никола. — С одной стороны, распыление сил, маленьких или больших, приводимых в эту часть Американского континента, а с другой — недостаток снабжения. В самом деле, не подлежит сомнению, что своей плохой организацией Гвиана, где насчитывается всего двадцать четыре тысячи колонистов, рассеянных между Ояпоком и Марони[361], обязана заведениям иезуитов, вокруг которых сгруппировалось местное население, тогда еще довольно многочисленное. Без миссий, расположенных на острове Кайенна, в местечках Апруаг, Ла Конте, Ояпок, Куру, Синнамари и Коннамана, колонисты скорее всего сконцентрировались бы в какой-то части острова Кайенна. Нет необходимости долго пояснять, милые мои дети, почему такое распыление сил на огромной территории может вести лишь к плачевным результатам. Поселки, лишенные связи, неспособные оказать помощь друг другу, неминуемо должны были прийти в упадок. Между тем так просто было собрать в одной доступной местности все отряды, посланные из метрополии, усердно работать для улучшения любой ценой условий жизни, пускай трудных поначалу, и не ослаблять при этом наличные силы. Разве не дает нам пример Петр Великий, который на болотах вокруг Невы возвел чудесный город, носящий его имя?.. Но хочу продолжить и перейти к вопросу о снабжении, который все еще недооценивается, между тем именно недостатки снабжения стали невольной причиной всех наших бедствий. При отъезде из Франции все экспедиции запасались продуктами только на время плавания. Никто из организаторов не понимал, что Гвиана в принципе не является страной изобилия, что, несмотря на плодородие, там надо заново создавать условия для жизни эмигрантов. Девственный лес, который после раскорчевки способен на щедрую отдачу, не может уже на второй день предоставить маниоку, пряности, кофе, какао, хлопок, сахарный тростник… что там еще? Не только производство всех этих ценных продуктов длится долго, но вам также хорошо известно, что тропические леса, со всем их бесплодным великолепием, не способны прокормить даже охотника, не говоря уж о больших скоплениях колонистов, не привыкших к приключениям и опасностям, которыми изобилует местная жизнь. Итак, требуется какая-то пища, пока производится раскорчевка леса. Если не приняли заблаговременно мер для полноценного снабжения строительных участков, привезя все необходимое для жизни из метрополии, то вскоре начинается голод. А он тянет за собою страшных спутников в виде болезней и всяческих дурных побуждений, на которые провоцирует людей пустой желудок. Именно вследствие непостижимой небрежности в снабжении происходят те ужасные несчастья, которые бросают зловещую тень на нашу Экваториальную Францию. Эпидемии, лихорадка, бунты, грабежи, репрессии по отношению к местному населению — на что только не способны гибнущие от голода! А ведь так просто наметить предварительно места колонизации, соорудить там жилища, особое внимание уделить завозу скота. Если бы плантации, разбросанные по дальним краям, концентрировались на острове Кайенна, в районе Тур-де-Лиль, Рура и на берегах Макуриа, где наиболее плодородные земли, а леса богаты разными породами деревьев, то остальную часть колонии легко было бы снабжать быками и коровами, привезенными из Европы, чье мясо теперь составляет основу рациона эмигрантов Венесуэлы, Бразилии и даже Пары, расположенной в нескольких лье от нашего Ояпока. Внедрение домашнего скота стало бы главной опорой для акклиматизации белых в этой стране, достаточно населенной в наше время, тогда как Гвиана прозябает на голодном пайке из куака и сушеной рыбы! Поскольку превратности судьбы забросили нас на берега этой огромной реки, почти неизвестной цивилизованному миру, видевшей так мало европейцев, давайте совершим здесь то, что не удавалось еще никому в других местах территории. Создадим образцовую колонию Марони! Нас немного, но мы обладаем преимуществом полной акклиматизации и глубокого знания местных условий, всех плюсов и минусов нашей приемной родины. Мы не только себя обеспечили продуктами, но можем еще прокормить сотни людей. Голод побежден, а это значит, что повержен главный враг колонизации. Конечно, я не рассчитываю только нашими силами добиться такого процветания и роста производительности, каких вскоре потребует цивилизация. Проживи мы еще хоть сто лет, наших жизней все равно не хватит. Но мы создадим необходимую основу успеха. Когда у нас будет в руке инструмент, мы найдем ему применение. Местная почва изобилует золотом. А поскольку золото — огромный стимул, можно даже сказать — единственный двигатель человеческих усилий, то мы завоюем богатство. Станем искателями золота. Когда у нас будет слитков на несколько сот тысяч франков, создадим колонию «Полуденная Франция». Я все сказал. А теперь — за работу!
Это второе воплощение, превратившее колонистов в рудокопов, было развлечением для гвианских робинзонов. С помощью трех негров бони, чья глубокая привязанность к семье и беспримерная выносливость делали их просто незаменимыми, Робен с сыновьями и Никола соорудили приспособления для промывки золота, неутомимо копали русла рек огромного бассейна. Индейцы — увы! — неспособные к длительной и серьезной работе, вскоре вернулись к своим кочевым привычкам. Однако инженер одержал крупную победу, ограничив периметр их блужданий сравнительно небольшим пространством. Так что теперь краснокожих можно было найти в известном месте в определенное время, когда возникала потребность в тяжелой работе, например, вырубить участок леса. Краснокожие беспрекословно соглашались стать на какой-то срок дровосеками и очистить от растительности участки земли под золотые прииски. Эти зачатки оседлости и системной работы имели для индейцев огромное значение. Итоги первых дней, на первый взгляд бесплодные, не обескуражили упорных тружеников. Добыча от промывок была смехотворной, и требовалась вся энергия, чтобы не забросить столь неблагодарную деятельность. Невезение длилось месяцами, но их решимость добиться успеха не ослабевала. И в конце концов этот яростный труд был вознагражден. Производительность, долго не превышавшая нескольких сотен граммов, на четвертый месяц выросла до четырех килограммов. К концу года в их распоряжении находилось уже почти тридцать килограммов драгоценного металла, что составило девяносто тысяч франков! Второй год оказался намного более щедрым. Средняя добыча оставалась на том же уровне, но в один прекрасный день они напали на «карман», как говорят горняки, и извлекли оттуда двадцать килограммов металла в течение месяца. Между тем Ломи и Башелико отправились в Коттику, большую деревню бони. Через два месяца они привели оттуда каждый по женщине и еще четырех молодых негров из племени, с которым породнились молодые семьи. Прибытие крепких работников стало большим подспорьем для нарождавшейся колонии. В это же время Никола и Анри спустились к Сен-Лорану, а оттуда отплыли в Кайенну. Робен стремился закрепить ситуацию, придать законный статус владения территории, на которой вела разработки его маленькая компания. Хотя у инженера и не было причин таиться, он предпочитал взять концессию на имя Анри. Молодой человек вместе с Никола направился в департамент внутренних дел и с обязательством уплаты восьми сантимов за гектар получил концессию на десять тысяч гектаров, с правом разводить домашний скот и вести поиски золота. Впервые за двенадцать лет они снова увидели цивилизованную жизнь! Сколько событий произошло за этот долгий срок… С какой жадностью опустошали они книжные прилавки, пораженные тем, что такое же пристрастие к чтению проявляли простые рабочие. Друзья щедро запаслись оружием, боеприпасами, разными инструментами и одеждой, купили кое-что из лекарств, не забыли и о ртути, использование которой должно было удвоить добычу золота. Робинзоны возвратились к себе и вновь принялись за работу с таким усердием и увлеченностью, что не минул еще третий год, а запасы драгоценного металла у них составили огромную цифру — двести килограммов! Величина этой цифры пусть никого не удивляет. Ведя добычу собственными силами и только для себя, наши герои избегали всех тех расходов, которые тяжелым бременем ложатся на золотые прииски и снижают их прибыльность, иной раз даже наполовину. Кроме того, они совершенствовали свою технику, применили большое количество удачных производственных нововведений, что дало разнообразную и значительную экономию. Они могли бы со своим честно заработанным капиталом в шестьсот тысяч франков уехать в какую-нибудь цивилизованную страну и, грубо говоря, на все наплевать. Но перед ними стояла возвышенная цель. Они рассматривали это золото как банковский депозит[362] и далеки были от мысли использовать хоть крупицу для личной выгоды. Золотоискатели даже ничего не изменили в своем скромнейшем образе жизни. — Вот теперь хватит, — сказал наконец инженер. — У нас уже есть достаточная база для колонизации, как я вам говорил когда-то. Теперь осталось привлечь сюда рабочие руки, которые преобразят весь этот край. Надеюсь, вскоре мы заготовим достаточно пищи для новых иммигрантов. Настал момент превратить рудокопов в фермеров, чтобы заняться разведением скота. Но будем действовать методически и до прибытия рогатой скотины устроим для нее надлежащие укрытия, позаботимся о пастбищах. А потом, поскольку в Гвиане коровы отсутствуют, отправимся покупать их в Пару. Наймем шхуну, а если на рейде окажется паровое судно, постараемся его использовать. Деньги для нас не проблема, главное — действовать быстро. Энергия робинзонов преодолела все препятствия, тяжкие дни остались позади. Их новое обиталище, с которым нам еще предстоит познакомиться, протянулось на добрых три километра. Это обширная саванна с густой травой, какая растет в прибрежной зоне и известна под названием «гвинейской». Пастбище[363] нашли отличное, на нем свободно прокормится и десять тысяч голов скота. Робен решил сам отправиться в Пару (северный штат Бразилии, с центральным городом Белемом), чтобы совершить столь значительную сделку. Он уехал в сопровождении Эдмона и Эжена, восхищенных, как школьники на каникулах, предстоящим путешествием. Бесконечно долгий переход от Кайенны в Белем, обычно осложняемый течением и встречными ветрами, завершился без происшествий, хотя и измотал всех томительным ожиданием. Инженеру повезло: он нашел пароход, на котором один из крупнейших торговцев Гвианы ежемесячно привозил продовольственные припасы для города. Робен договорился тотчас по прибытии в Кайенну, что отправится вместе с судовладельцем покупать свое стадо, а затем доставит животных водным путем к водопаду Гермина. В Белеме торговец какое-то время занимался своими делами, чем с выгодой для себя воспользовался Робен. Он успел тщательно отобрать двух-трехмесячных телок, и, невзирая на бразильские законы и плутни местных землевладельцев, купил стадо из двухсот голов по ничтожной цене — от ста до ста десяти раисов за килограмм живого веса, в пересчете — по 32–33 сантима. Его сыновья крайне удивлялись столь низкой стоимости по сравнению с непомерной гвианской — два франка двадцать сантимов, если случайно где-нибудь продавался бык. Робен пояснил: — Еще одна нелепость нашей колонии! В Гвиане катастрофически не хватает говядины. Время от времени сюда забредает какой-нибудь корабль из Кайенны, и наши землячки умоляют бразильцев продать им мясо. И те кобенятся и, пользуясь обстоятельствами, дерут втридорога, да еще делают вид, будто оказывают великую милость… Не проще ли поступить, как мы: купить живую скотину и спокойно ее вырастить… Владелец парохода оказался весьма пунктуальным, и все стадо в полной сохранности — двести телок и пять бычков — без помех доставил к водопаду Гермина. Тотчас же возникло огромное затруднение, которое могло помешать осуществлению всего проекта. Действительно, как перевезти стадо через пороги, которые еще можно проскочить на туземных пирогах, но для большегрузных лодок это непреодолимый барьер? Однако Робен все предусмотрел. Тщательно изучив каменистую гряду, проделав множество замеров воды, он нашел глубокий — а значит, и не такой стремительный — фарватер вдоль правого берега. Шириной до двадцати пяти метров, фарватер тянулся вдоль водопада, и крутой берег его подготовили заранее для тяги судов бечевою. Невольно подумаешь: люди воистину сильные способны извлечь для себя пользу изо всего. Умение приспособить случайное к житейским потребностям составляет у них одно из главных достоинств. С помощью сыновей инженер заблаговременно сконструировал просторный плот, снабженный бортовой сеткой, с двойным кольцом пустых бочек, абсолютно непотопляемый. Стадо высадили на берег, и тридцать животных тут же перевели на плот, подогнанный к заранее сделанному причалу. Телки из Пары отличались небольшим ростом и весом не больше трех центнеров. Поэтому девять тысяч килограммов было нетрудно выдержать плоту, рассчитанному на вдвое больший груз. Робинзоны рьяно потянули за бечеву, как делают моряки на европейских каналах, и без особых затруднений провели драгоценный груз через опасную теснину. Но это не все, от водопада Гермина предстояло еще проделать путь к водопаду Петер-Сунгу, расположенному в пятидесяти километрах вверх по течению. Аттери колонистов находился в десяти километрах от нижней части этого водопада, таким образом, плоту надлежало проследовать еще сорок километров до места высадки. Эдмона, Эжена и Шарля оставили для охраны стада, согнанного на широкий полуостров, покрытый сочной травой. Ангоссо с двумя сыновьями, Робен, Никола и Анри сопровождали гребцами первую партию животных, которая и прибыла благополучно к месту назначения через два дня плавания. На возвращение пустого плота ушло двенадцать часов: течение помогало. Всех коров разделили на пять групп, и каждая проделала тот же путь. Так что через пятнадцать дней изнурительного труда усадьба «Полуденная Франция» обрела наконец свое бесценное сокровище в полном объеме. Две сотни рогатых новоселов резвились в саванне, к величайшему изумлению индейцев, для которых подобный спектакль был никогда не виданным зрелищем. В скором времени Робен ближе познакомил краснокожих с необычными животными, доверив охранять их. Такое занятие отлично соответствовало привычке туземцев к ленивому бродяжничеству, и они с легкой душой согласились стать «vagueros». Новые обязанности индейцы выполняли столь ревностно и начальник колонии так щедро вознаграждал их бдительность, что лишь очень немногие коровы стали добычей тигров, этих злых демонов мирных пастбищ. В разведение скота робинзоны вложили не меньше героических усилий, нежели в поиски золота. Их труды окупились в равной степени удачно. За шесть лет стадо увеличилось почти в пять раз, так что к тому времени, с какого начинался наш рассказ, тысяча великолепных животных с аппетитом щипала траву на обильных землях саванны, невзирая на естественную убыль, связанную с болезнями и с необходимостью кормить колонистов. Теперь могли приезжать иммигранты. Голод был побежден, безбедное существование большой группы людей обеспечено навсегда. Количество жвачных с обширных аттери только множилось, несмотря на растущее потребление. Расчет очень прост. Тысяча коров, пасущихся в саванне, приносят не менее шестисот телят в год. Допустим, что в худшем случае от различных болезней или нападений хищников из них погибает двести, не достигнув зрелого трехлетнего возраста. Сто пятьдесят достаточно для воспроизводства и пополнения стада. Остается двести пятьдесят животных для ежегодного потребления. При том, что каждая корова дает как минимум двести килограммов чистого мяса, колония «Полуденная Франция» могла предоставить будущим поселенцам пятьдесят тысяч килограммов свежего мяса в любой год! Заметим, что эта оценка весьма занижена! Итак, ни малейшего сомнения в способности чудесной фазенды снабжать пищей своих обитателей! Саванна площадью в квадратную милю может кормить тысячу голов скота, и она похожа на все прочие пастбища; чем больше помещаешь там животных, тем больше и прокормит — разумеется, при сохранении надлежащих пропорций. Скотоводы между тем снова превратились в искателей золота и не покидали больше ни мотыги, ни рудопромывочного желоба. Добыча драгоценного металла продолжалась с переменным успехом, и резервный фонд округлялся. Первого ноября 187… года Робен заявил своей семье, собравшейся в полном составе: — Дети мои, все готово. Богатство у нас в руках. Изобилие царит в колонии, природа побеждена. Настал заветный час! Мы должны призвать сюда рабочие руки, которых так не хватает Гвиане, мы должны использовать богатства, таящиеся в этой земле, — извлекать золото из почвы, промывать золотоносные пески, дробить кварц, культивировать плодородную почву, заставить ее производить кофе, какао, хлопок, руку, пряности и сахарный тростник. Вот какой должна быть наша цель! Мы найдем индийских кули для сельского хозяйства, а негров с берегов Африки — для шахт. Из белых нас интересуют искусные ремесленники, их привлечет щедрая оплата. А вот самое лучшее: Мартиника перенаселена, и мы создадим условия для иммиграции прекрасных мартиникских мулатов, таких разумных и трудолюбивых, которые хорошо освоили тонкие ремесла метрополии… Они не боятся усталости и акклиматизации и с первых дней станут отличными помощниками… Согласно плану, намеченному в первые дни, эта последняя и существенная часть нашей программы будет выполняться только с того момента, когда мы будем располагать необходимыми техническими средствами для промышленных разработок. Для этого надо бросить громкий клич к индустрии Старого Света. Мы нуждаемся в двигателях, паровых машинах, копрах, усовершенствованных промывочных машинах, в сельскохозяйственных орудиях и инструментах… Никола более других компетентен в этих делах. Он поедет во Францию и Англию. Там закупит все, что нужно, и вернется как можно скорее. Анри, Эдуард и Эжен говорили мне о своем желании не покидать колонию. С другой стороны, Шарль был бы не против повидать Европу, о которой у него сохранилось весьма смутное воспоминание. Итак, он будет сопровождать Никола. А теперь, дети мои, у вас еще целых восемь дней для сборов. Золота хватает. Можете зачерпнуть из общей кассы сколько надо. Денег не экономьте, но расходуйте их обдуманно и с толком. Ведь мы, южные американцы, также можем сказать вслед за нашими северными согражданами: «Times is money…»[364]
Таковы события, произошедшие в подготовительный период, когда робинзоны приступили к осуществлению своего замечательного предприятия. Да простят мне читатели те многочисленные подробности, на первый взгляд не связанные с главным действием. На самом же деле они необходимы в изложении этой правдивой истории, составляя ее органическую часть. Если бы автор только сочинял, то он мало бы заботился о реальности или даже простом правдоподобии. Но его совесть велит сообщать читателю только подлинные факты, для сбора коих он и отправился на место действия в огромный тропический край. С другой стороны, живо чувство долга перед Гвианой, где ему был оказан столь сердечный прием, и желание вернуть этой мало изведанной земле заслуженную славу. Десять месяцев спустя Шарль объявил о своем возвращении в письме, которое мы поместили в начале предыдущей главы. Вполне понятно нетерпение, с каким родители и братья ожидали встречи с ним, легко объяснимо и беспокойство матери из-за неясной задержки сына. Глубокая тревога охватила всю семью при виде резкого подъема воды в реке, по которой удалился Шарль вместе с Никола, своим преданным спутником. Пироги с трудом балансировали на частых беловатых волнах, река вздулась сверх всякой меры. Поднявшись почти на два метра, уровень воды как будто стабилизировался, хотя огромная масса ее все время прибывала в Марони. Настала ночь, но робинзоны продолжали плыть, освещая путь восковыми факелами, которых в лодках хватало. Нет ничего мрачнее этого ночного плавания, когда мертвую тишину нарушает только прерывистое дыхание гребцов, доходящих до изнеможения. Нет ничего фантастичнее огненной пляски факелов, своими красноватыми отблесками пронзающих тьму, в которой тонут арки могучих деревьев с ветвями, похожими на колонны склепа. Прошли уже довольно большое расстояние, не заметив ничего необычного, как вдруг сидевший на носу Ломи испустил громкий крик при виде темного предмета, плывущего навстречу. Медленно кружась, он приближался к пироге. Робен перегнулся через борт лодки, посветил и в ужасе отпрянул от мертвого негра, чье лицо было обезображено глубокой раной. Бездыханное тело еще раз мелькнуло в водовороте и вскоре исчезло, унесенное течением. — Вперед, дети мои, вперед! — сдавленным голосом подал команду инженер, очень надеясь, что его жена, лежавшая в другой лодке, не заметила этих страшных останков. Проплыв еще метров пятьсот, они услышали звук, похожий на лязганье больших ножниц, к нему примешивалось легкое звяканье чего-то металлического, как будто от сотрясения. Мертвый индийский кули, узнанный по мелькнувшим в свете факелов серебряным браслетам, плыл по течению. Безжизненное тело рвали на куски с полдюжины кайманов. Руки и ноги его уже отгрызли ликующие земноводные, а торс с окровавленной головой, слишком крупный для этих жадных глоток, нырял и снова появлялся на поверхности. Скоро он исчез в темноте. Пироги пролетели стрелой, не нарушив отвратительного пиршества кайманов. Охваченные тоскливым ожиданием ужасного несчастья, робинзоны до боли сжималирукоятки весел, которые гнулись от напора, и продолжали свой стремительный ночной бег. Вдруг факелы выхватили из кромешной тьмы светлое пятно. Подплыв, путники разглядели лодку, привязанную к дереву. Якорный канат ее напрягся до предела под натиском бушующих волн. Посредине лодки возвышалась труба маленького парового двигателя вертикального устройства. Сомнений не оставалось. Лодка принадлежала Шарлю. Она была плотно загружена инструментами, оружием и продуктами, но людей на борту не оказалось. Окинув содержимое посудины быстрым взглядом, друзья продолжили путь, когда вдруг обнаружили, что берега реки совершенно скрылись под водой. Повсюду простиралось настоящее беспредельное озеро. В ту же минуту с левой стороны раздались душераздирающие крики, вслед за ними прозвучал выстрел.
ГЛАВА 6
Гнездо четвероруких. — Лодка призраков. — Неожиданный визит. — Служители старой гвианской феи. — Ночные приключения. — При свете факелов. — Ужас Ломи. — Весла и гребной винт. — Изумленный негр. — Тревога. — Пропавший груз.Все еще находясь в приятном плену цивилизованной жизни, храня воспоминание о комфорте и безопасности, Шарль и Никола внезапно очутились в условиях первобытного мира. Старая гвианская фея, не признавая их больше за своих родственников, как будто развлекалась, расставляя на каждом шагу ловушки и препятствия. Ее ворчливая угрюмость подготовила пришельцам, как говорят в театре, драматический выход. Но молодых людей не изнежили удобства и роскошь большого города, который, впрочем, ослабляет только слабых, а натурам самобытным и сильным дает лишь новый заряд. К тому же оба они были парижанами, а парижанин — это сгусток нервной энергии, неколебимой стойкости, это человек, готовый к любой борьбе. И для этого вовсе не обязательно родиться между предместьем Тампль и улицей Рошуар или же быть вписанным в реестры гражданского состояния мэрии Пантеон. Если Париж является неоспоримым центром, определяющим жизнь целой Франции, тем сердцем, которое заставляет ритмично пульсировать весь могучий организм нашей милой родины, то несметное количество французов вправе называть себя парижанами. Подобно красным кровяным тельцам[365], они несут в самые удаленные уголки тела нерушимые принципы мысли и действия. Красные кровяные тельца распространены по всему организму. Парижане циркулируют повсюду. Они есть в Сен-Дени, их встречаешь в Нью-Йорке и в Шанхае. Вполне возможно, что настойчивые наблюдатели обнаружили бы их и в городе Питивье, который вместе с Ферте-су-Жуар мог бы торжественно именоваться беотийским полисом[366]. Итак, два наших гвианских парижанина вдруг оказались лицом к лицу с многочисленными опасностями, из которых одна выглядела смертельной. Они немедленно и самым естественным образом превратились вновь в бесстрашных робинзонов. — Ну и что! — беззаботно провозгласил Шарль. — Видали мы кое-что и похлеще! — Это уж точно, — подтвердил Никола, который в подобной обстановке не мог придерживаться иного мнения. — Эй! Да ты что делаешь? — Переодеваюсь поудобнее! Никто не знает, что может случиться. Бери с меня пример! Видишь ли, мои изящные обмотки и роскошные туфли из желтой кожи в один прекрасный момент способны помешать удержаться на воде! И к черту мою охотничью амуницию! Погуляем босиком, мои подошвы еще не отвыкли от прежней жизни: помесь белого с четвероруким! — Хорошая идея, — согласился Никола, немедленно разуваясь. — Отлично! Вода поднимается не очень быстро, мы успеем завершить свой туалет или, вернее, избавиться от него… Ты замечал когда-нибудь, что брюки — в высшей степени неудобная одежда?.. — Неужели ты собираешься… — Нет-нет, успокойся! Я не заставлю краснеть тропических дриад![367] Но две матерчатые трубки, замкнувшие мои ноги, дьявольски меня стесняют! Я обрежу их повыше колена и превращу свои «неподражаемые» в чудесные пляжные трусики. — Браво! И я тоже… — Как тебе угодно… Вот мачете — незаменимый спутник. Пускай он остается в ножнах, привешенных к поясу. Ай!.. Мой револьвер. Сохранился ли еще воск в нашем разоренном домике? Есть! Отлично! — Да на что тебе воск? — Ну скажи мне, ты еще гвианский робинзон или уже не робинзон? Этот персонаж привык одолевать любые препятствия, противопоставляя им меры предосторожности, самые простые, даже совсем пустячные на первый взгляд! — Но… Если… — Смотри, что я делаю, и выполняй вслед за мной то же самое. Ты согласен, что в нашем положении револьверы должны быть всегда наготове? — Просто необходимо… — А как ты этого добьешься, если в облике тритона[368] будешь барахтаться в мутной воде? Гляди, как устрашающе поднимается ее уровень… — Черт подери, я не понимаю, как… — То-то и оно… Мои знания не слишком обширны, но мне известно, как следует поступать в таких случаях. Беру немного воска и быстро его разминаю, пока не станет совсем мягким, затем покрываю тонким слоем все пять патронов своего кольта — он у меня только пятизарядный, но стреляет безошибочно… Эта пленочка воска не подпустит воду к пороху и капсюлю, предупредит осечку. Так что мой «Сэмюэл Кольт» заговорит в нужный момент, без хрипа и кашля… И я уверен в своем оружии, а это кое-что значит… К восхищению Никола примешивалось изумление при виде этих безмятежно-хладнокровных приготовлений — в такой-то момент! Да еще при этом весело шутит… — Ей-богу, ты меня удивляешь! И где ты все это узнал? — А разве я не твой достойный ученик? Ты преподал мне немного теории, а я применю ее к месту и в нужную минуту… Но хватит болтать! Ты готов? Вода прибывает безостановочно. Еще четверть часа, и мы попадем на закуску к пирайям… — Черт возьми! А наш раненый? — Я не забыл, и мы прежде всего позаботимся о его спасении. — Но как? — А вот так. У меня крепкие кисти, и мне неведомо головокружение. Хижина стоит у подножия громадной оливы. Ее нижние ветки в пяти метрах над землей, не меньше. Вода никогда не поднимется на такую высоту. Я взберусь наверх. Устроившись там, сброшу якорный канат, а ты прицепишь к нему концы от гамака. Я все это подниму, и вот уже наш раненый болтается, словно люстра, между небом и водой. Но давай торопиться, смотри, какое море вокруг! Бедняга не выберется вплавь… Вода уже доходила Шарлю почти до колен. Он взял молоток и несколько железных скоб, предназначенных для стенок промывочных желобов. Первую скобу молодой человек вбил в полутора метрах над землей, подтянулся на ней на мощных руках, являя чудеса ловкости и балансирования, Шарль сумел удержаться на первой «ступеньке», всаженной в гигантское дерево, достигавшее не менее трех метров в диаметре. Затем юноша вбил вторую скобу и выполнил предыдущий маневр. Повторив операцию несколько раз, он вскоре оседлал самую толстую ветвь, простиравшуюся как раз над хижиной. — Ну-ка, подавай мне раненого! Скорее! А затем присоединяйся ко мне, мы тут вполне удобно устроимся! При всем изяществе своей фигуры Шарль был крепким и мускулистым, как борец. Злополучный директор, неподвижно лежавший в гамаке, вскоре раскачивался в могучих руках своего спасителя, словно канарейка в подвешенной на дерево клетке. — Порядок! Все отлично! Теперь забирайся ко мне, через несколько минут на суше станет не очень уютно! Никола не заставил себя ждать. Он вытащил документы из карманов куртки своего компаньона, заботливо свернул их трубочкой, прикрепил к поясу компас и стал с трудом взбираться на дерево. — Ой, какой копуша… Поторопись, поторопись! — нетерпеливо кричал молодой человек. — Сейчас, сейчас… Ты ведь не хочешь, чтобы погибли наши планы, наши права на собственность и все эти «папирас» департамента внутренних дел… — Ох, черт! Ты прав, компе…[369] А ну-ка… Оп! Давай сюда… Ну, наконец-то… А наш раненый неплохо устроен. Дышит потихоньку. Его состояние как будто не ухудшилось. Ну, располагайся поудобней… Будем ждать, как развернутся события. Что ты обо всем этом думаешь? — Ничего определенного, — наморщив лоб, ответил парижанин. — Все произошло так быстро и неожиданно, что не было времени поразмыслить. — Но все же, твои догадки? — Увы! Почти никаких… — Признайся лучше, что ничего не понимаешь. — Верно. Ничего. А ты? — Да и я. Однако этот умирающий, которого кто-то положил под цветком виктории, увенчанным головой аймары… Наводит на какие-то мысли. Я допускаю, что пожар мог возникнуть из-за небрежности пьяницы… Но наводнение, направленное в точно назначенный пункт, и не для того, чтобы гасить пламя, да еще после сильного взрыва… вот что кажется подозрительным. Откуда оно взялось? — Я думал об этом. В гвианских лесах, по-моему, не могут скрываться таинственные существа, по своей прихоти насылающие воды и гром. — Если только эти воды и гром не явились от минного заряда, подложенного под скалистую перемычку, что образует естественную плотину, водораздел между двумя бассейнами… — Стоп! Стоп! Твоя идея не так плоха… — Это просто предположение. Поскольку я не верю в колдовство, то стараюсь мыслить в естественном направлении. — Возможно, ты прав. Но как это произошло?.. А главное — с какой целью? — Как? Пока не знаю. Что касается мотива, то он наверняка связан с попыткой убийства, жертвой которой стал этот человек. Наводнение, как мне кажется, вызвано желанием завершить в определенный момент начатое пожаром. Разве мы когда-то не использовали в целях обороны средство еще более ужасное и не менее загадочное? Целая армия змей — это тебе не оловянные солдатики… — Как бы там ни было, а катастрофа полная. Золотой прииск превратился в кладбище. Только подумать, что все рабочие погибли… Неужели мы одни уцелели в этой передряге, а наши люди расстались с жизнью?.. — Я мало их знаю, но кажутся они довольно шустрыми и сметливыми, надеюсь, что им удалось как-то выскользнуть. Ну, а мы с тобой попали в хороший переплет… «Хороший переплет» — это для красного словца, из жаргона большого города… Что же касается реального «переплета», то я вижу только эту мерзкую серую массу, которая плещется под ногами, да еще ночь скоро накроет нас непроницаемой пеленой… — А если нам попробовать посигналить? Быть может, кто-нибудь из рабочих спасся, как и мы, на деревьях?.. — Хорошо бы… Молодой человек поднес пальцы ко рту и, используя знакомый охотникам прием, издал долгий и пронзительный свист. Прерывистый ответный свист донесся издали, из-под раскидистых деревьев, чья темная масса уже понемногу смешивалась с ночной мглой. — Мы не одни, — сказал Шарль своему спутнику, понизив голос. — Но больше не надо свистеть. Кто знает, друзья там или враги… Кто-то подавал встречный сигнал, то долгий, то короткий, причем всякий раз из новых точек, как будто он исходил от людей, объезжавших на лодке залитую водой поверхность. Двое европейцев притаились под листьями, стараясь не шевелиться. Все утонуло в ночном мраке. Свист по-прежнему раздавался время от времени, звучал он мягко, вкрадчиво. Потом резко и громко залаяла собака. Раненый издал слабый стон. — Тихо! Тихо! — прошептал Шарль. — Ни слова, или мы погибли. Затем он добавил, обращаясь к своему спутнику: — Эти люди явно не с прииска. Либо сильно ошибаюсь, либо нам скоро откроется тайна, окружающая нас. В любом случае, будь начеку! — Есть! — тихим, как дыхание, шепотом ответил Никола, стиснув рукоятку мачете. Четверть часа прошло словно четверть века. Только те, у кого неведомая опасность среди необъятного дикого простора заставляла бешено биться сердце, смогут понять эту бесконечную тоскливую тревогу. Затем послышались легкие всплески, как будто от весел. Собака, наверняка вышколенная надлежащим образом, больше не лаяла, но из глотки у нее вырывалось сдавленное, прерывистое повизгивание, свойственное животным ее породы, когда они нападают на след. Этот скулеж ищейки становился все более различимым и вдруг внезапно прекратился под деревом, послужившим укрытием для двух друзей и раненого. Шарль и Никола, чьи глаза уже освоились с темнотой, заметили смутное черное пятно на более светлом фоне воды. Пятно медленно перемещалось без малейшего шума и удлиненной формой напоминало пирогу. Собака слабо скулила, будто чья-то рука крепко сжимала ей морду. Ствол оливы, сплетенный из твердых и сухих волокон, чутким резонансом ответил на весьма слабый толчок, от основания до самой макушки — настолько велика звукопроводимость этого удивительного дерева. Толчок мог последовать только от носа пироги, уткнувшейся в ствол. Догадка друзей тотчас же подтвердилась, ибо вслед за толчком до их ушей донесся тихий неразборчивый голос. Шарль зарядил свой револьвер, придерживая спусковой крючок, чтобы не производить шума. Его нью-кольт представлял собой великолепное орудие с коротким стволом очень крупного калибра. Несмотря на небольшие размеры, этот револьвер отличался высокой точностью, огромной убойной силой. Чтобы максимально обезопасить обращение с пистолетом, изобретатель снабдил его тремя стопорными вырезами. Шарль, не очень привыкший к этому, поленился долго нажимать спусковой крючок при заряжении, и третий вырез издал характерный щелчок. Пирога медленно отошла, описала полный круг с оливою в центре и вернулась к исходному пункту. Сидевшие в лодке на сей раз хранили молчание и минут десять занимались какой-то загадочной работой. Тонкая кора растительного гиганта тихо трепетала, ее вроде бы чем-то прокалывали, скребли, но друзья не могли угадать точной причины еле слышного шума. Шарль, не решаясь изложить свои мысли товарищу из-за конспирации, готов был допустить, что странные визитеры мостят подрывную шашку к подножию дерева или же — кто знает?.. — обкладывают ствол полотняной трубкой с динамитом. Сильный взрыв, предшествовавший наводнению, делал эту гипотезу не такой уж беспочвенной. К счастью, она не оправдалась. Таинственную работу у основания дерева завершили, и, к великому изумлению двух белых, громкий и звучный голос с весьма заметным горловым акцентом раздался вдруг над водой. Два хриплых крика «Ренга!.. Ренга!..» прозвучали один за другим, затем последовала длинная фраза на неизвестном языке, похожая на заклинание. Вслед за этим несколько голосов опять прокричали дважды: «Ренга!.. Ренга!..» И пирога медленно удалилась с тем же легким плеском, который знаменовал ее приближение. Шарль разрядил пистолет и первым нарушил молчание. — Право же, мой дорогой Никола, мы с тобой плаваем в сплошном загадочном тумане… Я-то думал, что хорошо знаю все секреты леса, но, видно, он сильно изменился за время нашего отсутствия… — И в самом деле, какого черта надо было этим паломникам со своим «Ренга»!.. Никогда не слыхал такого словечка. А это странное бормотание, еще более непонятное, чем натуральный овернский диалект… — Хоть бы месяц выкатился из-за туч, а то лишь рожки показывает… Посветил бы на этих жрецов уж не знаю какого божества… — Ты бы мог тогда послать им в подарок одиннадцатимиллиметровую пулю, или, по крайней мере, продырявить им пирогу, или выбить кому-то глаз… Возможно, нам бы стало яснее, что следует предпринять… — Ну да, и нас бы нашпиговали стрелами… — В такую-то ночь?.. Вряд ли… Опасности никакой. — Подведем итоги: они не причинили нам никакого вреда. И было бы свинством с нашей стороны проявлять враждебность к людям, пускай немного сумасбродным, но безобидным, по крайней мере пока мы не получим более полной информации… И в этот момент диалог был прерван новым плеском воды. Только теперь не тихим, а мощным, как будто его производила лодка с четырьмя гребцами, которые махали веслами что есть силы. Долетал еще звук ускоренного дыхания, похожий на хрип загнанного коня. На беду, луна вновь спряталась за тучу, однако не сразу, и молодой человек успел заметить темное пятно, которое быстро приближалось к месту, несколько минут назад покинутому пирогой. Дыхание становилось более возбужденным и хриплым, оно сопровождалось быстрыми всплесками воды. Это походило на шум, который производит человек, плывущий саженками, а еще больше — на шум от плавников китообразного. Этот человек или животное — существо неопределенное и почти невидимое — остановилось у подножия дерева, засопело с тем прерывистым отфыркиванием, которое знакомо каждому пловцу, и шумно зашлепало по воде. — Черт подери! — ругнулся выведенный из равновесия Шарль. — Хотел бы я знать, что там такое… Кто идет? — заорал он во всю глотку. — Кто идет?.. Молчание. — Последний раз… Кто идет? Или я стреляю! Отфыркивание и сопение возобновилось с удвоенной силой. Теряя всякое терпение, возбужденный Шарль кое-как прицелился и нажал на спусковой крючок. В патронах револьвера нью-кольт весьма значительный заряд пороха, необходимый для убойной силы пули и для поддержания точной траектории ее полета. Так что выстрел прокатился громом, отразившись далеким эхом под ветвями и над водой. Сопровождавшая его вспышка была ослепительной. Раздался ужасающий вопль. Один из тех непостижимых криков, которые заглушают великую симфонию ночи сильнее великого оркестра под управлением тропической Эвтерпы…[370] Изумленные, встревоженные, робинзоны впервые слышали подобный крик. Загадочный посетитель сделал резкое движение и погрузился в глубину вод, которые брызнули фонтаном от его падения. — Я попал, — ликующим тоном заявил Шарль, вталкивая патрон в цилиндр пистолета. — Клянусь честью, тем хуже для него! Слишком надоела эта песенка! — Что правда, то правда, — подхватил Никола. — И долго будет продолжаться подобная история?.. Слышишь — там какие-то крики, вон в той стороне, ближе к заливу… — Да-да, верно… Но что это? Или мне померещилось? По-моему, я вижу огоньки. — Клянусь Богом, я тоже вижу! По крайней мере, новые пришельцы не прячутся! Они могут быть только друзьями! — Что со мной?! Горячечный бред? Или я спятил… Никола! Ну да! Я слышу свое имя… Меня зовут, кличут… И твое имя тоже прокричали… Никакого сомнения! О Боже! Неужто правда… — Шарль! Никола! — взывали голоса, с каждым разом все громче и ближе. — Шарль!.. Никола!.. Где вы?.. — Мой отец! Братья! — ошеломленно воскликнул юноша. — Месье Робен!.. Милые дети!.. — срывающимся от волнения и радости голосом закричал парижанин. — Мы здесь… Мы здесь!.. — Где же вы?! — Отец! Ко мне, отец!.. — повторял Шарль, вторично стреляя из пистолета. Громкий звук и яркая вспышка помогли робинзонам, которые гребли что есть мочи, не переводя дыхания, точнее определить направление. Лучше других освещенный, инженер выделялся в центре дымного светового круга, образованного восковым факелом, бросавшим отблеск и на лоснящийся торс Ломи, стоявшего на носу лодки. Подплыв под самое дерево, он поднял глаза, разглядел наконец двух людей, сидевших на ветке, а возле них — гамак с безжизненно распростертым, горящим в лихорадке телом несчастного директора прииска. — Отец!.. Отец!.. Мы здесь! А где мама?.. — Шарль!.. Дитя мое! Мой дорогой мальчик! — срывающимся от волнения голосом воскликнула мадам Робен, чья лодка подошла в этот момент к дереву. — Скажи, ты не ранен?! — Все в порядке!.. Все в полном порядке, мама! Главное, что мы теперь вместе! — Шарль, Шарль! — радостно твердили братья. — Неужели это ты?.. — Ну конечно, собственной персоной! Ах, милые мои друзья… И Никола здесь! И еще целый сундук приключений, доложу я вам, от бульвара Монмартр до этой оливы, на которой мы сейчас обитаем! — Вы можете сами спуститься? — спросил Анри. — Конечно, здесь лесенка! Но действуем по порядку. Особенно следите в оба, когда я стану эвакуировать госпиталь! — У вас раненые? — Один раненый, которого вы можете заметить снизу. Он в гамаке. — Эй, Ломи, что с тобой, дитя мое? — обратился Робен к негру, не отвечая своему сыну. Чернокожий атлет с расширенными от ужаса глазами и разинутым ртом не в состоянии был вымолвить ни слова. Его негнущийся палец указывал вождю робинзонов на странную эмблему, которая нам уже известна: голова аймары и цветок виктории, прикрепленные к стволу дерева. — Что это, Ломи? — О! — Бони задыхался от возбуждения. — О муше!.. Этот зверь там… Это знак Водяной Матушки… Теперь я умру… — Да ты свихнулся, мой мальчик, со своей Водяной Матушкой. — О хозяин! Водяная Матушка убивает всякого, кто увидит ее знак… — Да ну же, успокойся, ты говоришь чепуху… Лучше помоги мне принять этого человека, вот он спускается в гамаке, и надо его поудобней устроить в лодке. Ломи, весь дрожа, повиновался, и едва месье Дю Валлона уложили на подстилку из листьев, которые служили прежде прикрытием от палящего солнца, как Шарль и Никола, соскочив со своего воздушного поста с ловкостью и быстротой двух обезьян, кинулись душить в объятиях всех своих родных. Молодой человек слышал восклицание своего приятеля бони. Он поднял голову и увидел на высоте человеческого роста два предмета, точно такие, какие они с Никола обнаружили над раненым месье Дю Валлоном. — Ты говоришь, что это дело рук Водяной Матушки. Ну ладно! Хорошенькую же она работу проделала, твоя гвианская наяда[371], если довела нашего раненого до такого состояния да еще напустила на золотой прииск я уж не знаю сколько миллионов гектолитров[372] воды! К счастью, паводок начинает опадать. Мы должны, отец, если ты согласен, разыскать наших людей. Надеюсь найти их где-нибудь на ветках, как стайку носух, в ожидании спада воды. Мне бы еще очень хотелось снова прижать к груди любимое ружье «чокбор», бесподобное оружие, я привез для каждого из вас по экземпляру… Было бы неосторожностью продолжать плавание в ночной темноте, по тонкому слою воды, который ощетинился многочисленными препятствиями. Ведь повсюду торчали вешками пеньки, едва видимые даже днем, а уж кромешный мрак делал встречи с ними особенно опасными. К тому же первая пирога, загруженная до предела благодаря трем новым пассажирам, пошла бы ко дну от легкого толчка. Поэтому лодки прикрепили к дереву длинными лианами для того, чтобы они могли опускаться вместе с понижением уровня воды. Ночь минула без осложнений, а полные юмора рассказы Шарля о своей поездке в Европу даже сняли общую усталость и разрядили напряженную атмосферу. Едва забрезжил утренний свет, как Шарль с превеликим наслаждением раскопал драгоценное ружье, погребенное под слоем ила. Оно действительно ничуть не пострадало, настолько совершенной была его конструкция, о которой позаботился многоопытный фабрикант, знаменитый Гинар. Ствол, затвор и все прочие металлические части Шарль тщательно протер жиром носухи, лучшим средством против ржавчины, и вскоре уже смог продемонстрировать восхищенным братьям достоинства современного изделия стрелковой техники. Между тем шестеро мужчин, оставленных на произвол судьбы с момента обнаружения месье Дю Валлона, подали сигнал о своем местонахождении криками и выстрелами. Бедняги были ни живы ни мертвы. Только появление белых смогло вывести их из оцепенения. Они нашли спасение на деревьях, потеряли при этом часть провианта, однако сохранили багаж. Ущерб оказался незначительным. Наконец наступила торжественная минута, когда робинзоны заняли места на борту великолепной паровой лодки, которую нашли на том же месте, где пришвартовали накануне. Никогда еще суденышко не видело подобного экипажа. В то время, как начинавшего приходить в себя раненого устраивали на корме под тентом, инженер с видом знатока изучал конструкцию вертикальной паровой машины с большой печью, позволявшей также топить дровами. Робен поиграл с маленьким усовершенствованным регулятором, благодаря которому можно было молниеносно сбрасывать пар, и полюбовался ловко вмонтированной аппаратурой, предназначенной для смазки этого металлического организма, такого простого и мощного. Инженер был поистине ошеломлен техническим прогрессом за минувшие двадцать лет. Дрова заготовили за несколько минут, котел нагрели, давление быстро поднялось, и вот уже клапаны окутались белыми облачками пара. Пироги, в которых разместились шестеро сопровождающих, лодка должна была тянуть на буксире. Анри с детской радостью ухватился за руль, а Шарль и Никола следили за работой двигателя. — Отец, — с улыбкой сказал юноша, — Анри у нас рулевой, Никола и я — по очереди кочегар и механик. А ты будешь капитаном! Согласен?.. — Но, дитя мое, должен тебе признаться, что в данный момент мне весьма недостает технических знаний… Быть может, попозже я и не откажусь. — Если ты не примешь звания капитана, то я предупреждаю: хочешь ты или нет, а мы будем именовать тебя адмиралом! — Ну, это слишком много чести… Даже страшно становится, — улыбаясь, отвечал счастливый отец. — Что делать — я сдаюсь и принимаю командование, которое ты мне столь любезно предлагаешь, мой милый маленький судовладелец! — Отлично! Капитан, судно к отплытию готово! — В таком случае — полный вперед! Привыкшие к этой команде Ломи и Башелико опустили весла в воду и приготовились рвануть с места. Славные ребята, вполне естественно, не имели никакого представления о гребном винте. Они напрягли свои мощные мускулы и безуспешно попытались сдвинуть тяжело груженную лодку, когда вдруг машинный свисток два или три раза пронзительно просигналил. Потрясение было столь велико, что негры бросили весла и совершенно окаменели, с разинутыми ртами и округлившимися глазами, растопырив руки, не в силах вымолвить ни слова. Их объял настоящий ужас, когда от загудевшего винта пролегла борозда белой пены, а паровик, прыгая по волнам, повлек за собой пироги с головокружительной скоростью. Если бы рядом с ними не было их дорогих белых друзей, то, вне сомнения, они перепрыгнули бы через борт, рискуя разбить себе головы, лишь бы убежать подальше от лодки, обладавшей таким могучим и грозным пиэй, что она передвигалась совсем одна, безо всякой помощи, да еще в пять раз быстрее, чем пироги с опытными гребцами. — Ох!.. Ну, эти белые… Ох, мамочки! Ох, батюшки!.. О!.. Эти восторги и восклицания все еще лились без устали, порожденные невиданным чудом, когда судно уже достигло устья притока. — Смотрите-ка, — встревоженно воскликнул Шарль, — моих лодок не видно на месте! — Быть того не может! — отозвался Никола. — Хозяину накрепко приказали дожидаться нашего возвращения. Тягостное предчувствие закралось в сердце Робена. С паровика открывался широкий обзор большого участка Марони. Воды могучей реки сливались на горизонте с небом, такие же свинцово-серые, а далекий противоположный берег был оторочен бесконечной полоской зелени. Однако напрасно водил Шарль в разные стороны свой замечательный морской бинокль, ощупывая взглядом малейшие выступы береговой линии. Большие барки исчезли. — Нас обокрали, — сказал молодой человек, слегка побледнев. — Не стоило доверять бывшему каторжнику. Никогда себе не прощу! Но он не может уйти далеко, мы обязательно его догоним, а уж там — берегись!.. — Шарль, дитя мое, — заметил инженер, — боюсь, что ты ошибаешься. Я знаю этого человека. Ручаюсь за него головой. Он готов ценою жизни защищать доверенное ему имущество. И если его нет на месте, то это значит только одно: с ним произошла какая-то трагедия.
ГЛАВА 7
Несчастный английский миллионер. — Мнимый больной. — Фантазии мономана[373]. — Беспредельная навигация. — Страдания семьи «маньяка». — Крушение «Карло-Альберто». — Спасатели. — Страх перед землей. — Навигация продолжается.Питер-Паулюс Браун два десятилетия был самым удачливым ножовщиком в Шеффилде. В течение двадцати лет сталь этого опытного фабриканта, превращенная в бритвы, ножи, ножницы, щипчики для ногтей, перочинные ножики, держала первенство на рынках двух миров. Жюри выставок в Вене, Брюсселе, Париже, Лондоне, Мадриде и Филадельфии наградили английского мастера несметным количеством медалей. Питер-Паулюс Браун переплел в сафьян[374] все полученные им дипломы, на всех языках мира. Не без гордости он демонстрировал эту солидную стопку почетных документов, превосходившую по объему его настольную Библию. Что касается медалей, то они сияли пышным созвездием на бледно-серых стенах конторы фабриканта, представляя собой своеобразную планетарную экспозицию, в центре которой искрилась «Sheffield-Star» — «Звезда Шеффилда». Изобретательно изготовленная из скрещенных лезвий самого разного вида, она была, как говорится во Франции, витриной дома. Легко понять безо всяких объяснений сладостное чувство, которое всегда испытывал Питер-Паулюс при взгляде на этот символ своего труда, одновременно служивший знаком его широкого признания. В общем, все шло как нельзя лучше, и мы нисколько не преувеличили, назвав Питера-Паулюса Брауна самым счастливым ножовщиком Шеффилда — а их там немало. Но на исходе двадцатого года своей деятельности почтенного фабриканта все более стали одолевать весьма серьезные размышления. А именно о том, что жесткая щетина на подбородке, которую все так же легко косили его лезвия, уже поседела на щеках, отороченных некогда лишь легким юношеским пушком. Иначе говоря, Питер-Паулюс внезапно обнаружил, что он причастен к операциям стрижки и бритья целого поколения… Ножовщик стал всерьез подумывать об отдыхе и тут же приступил к ликвидации своей фирмы. Миссис Браун — Арабелла для счастливчика Питера-Паулюса — вполне покорная решениям своего повелителя, как и всякая добродетельная англичанка, одобрила идею и нашла, что это pefectly well[375]. Впрочем, для нее это имело мало значения. Она даже не ведала, где находится их фабрика, и никогда не покидала коттеджа. Только раз в год, когда наступал жаркий июль, она сопровождала своих юных дочерей, мисс Люси и мисс Мери, на пляж в Остенде. Операции по распродаже фирмы дали на время новый толчок деловой активности Питера-Паулюса. Но когда все было кончено, настал день, который всей своей бездеятельной тяжестью навалился на плечи неутомимого труженика. Ему тут же стало недоставать привычной производственной атмосферы; стука молотков, скрежета ножей, шипения точильных брусков, пылающих горнов… И Питер-Паулюс, владелец ста тысяч фунтов, в переводе на наши деньги — двух с половиной миллионов франков, — затосковал, как может тосковать только англичанин. Все валилось из рук, все вокруг стало абсурдным, и ничего не осталось в нем от ловкого и умелого промышленника. Бывший фабрикант разыгрывал роль крупного вельможи, но все это смахивало на пародию. Перепробовав всяческого рода легкодостижимые удовольствия, которых скучающий в поисках развлечений миллионер может разрешить себе вволю, — выигрывая пари и проигрывая, посозерцав петушиные бои, схватки боксеров, истребление крыс безухими и тупорылыми собаками, — Питер-Паулюс пришел к выводу, что все эти благородные занятия совершенно не дают душевного комфорта. Тоска вновь охватила его, еще более горькая, неотступная и невыносимая. Миссис Арабелла, совершенно убитая переменами в настроении мужа, вздыхала втихомолку, не отваживаясь на какие-либо вопросы, и делала вид, что ничего не происходит. Но все обстояло как нельзя хуже. В один прекрасный вечер Питер-Паулюс вдруг вернулся домой, сияя от радости. Его губы, давно разучившиеся смеяться, морщились в гримасе, которая означала любезную улыбку, а черты лица, всегда неподвижные, как у покойника, излучали довольство. Гордо распрямившись, он подошел к своей жене: — Арабелла, я полагаю, что у меня был сплин![376] Питер-Паулюс имел причудливое обыкновение говорить дома по-французски. Он навязывал своей семье французский язык и неукоснительно изгонял английский из всех бесед, даже самых интимных. — О!.. — продолжал он. — Сплин! Это сплин, как у лорда Гаррисона, у лорда Баркли, как у баронета Вилмор, как у нашего великого Байрона!.. — О! Мой дорогой!.. — Говорите по-французски, пожалуйста… — Мой дорогой… — Отлично… Очень даже хорошо! Ах! А я и не подозревал, думал, что схожу с ума… О! Какая радость… Сплин, как у всех выдающихся джентльменов! У меня сплин! Миссис Браун, не задумываясь о некоторой странности столь радостной демонстрации болезни, пользующейся почему-то особой симпатией у потерявших всякую надежду, счастлива была увидеть благотворную перемену в настроении мужа. Что касается Питера-Паулюса, то испытанное им торжество от столь благородного заболевания, свойственного лицам самого высокого круга, держало его в бессонном возбуждении всю ночь. Ему мерещилось, как он путешествует по всему свету, гонимый неизбывной тоской. Он пересекал бездны, которые манили его сладким головокружением самоубийства, вскарабкивался на горы и переплывал океаны. Однако душевные страдания не исчезали, и Питер-Паулюс принялся размышлять о способах свести счеты с этой жизнью. Повеситься — ведь это так по-английски! Или утопиться, но все утопленники слишком синие… Огнестрельное оружие обезобразит лицо. От яда будут корчи внутренних органов. Бедняга мягко улыбался при мысли об удушении углекислым газом, хотя этот способ смерти предпочитают незначительные личности. Отныне его жизнь обретала цель. И такой целью стали поиски средств расстаться с жизнью. Потому что в конце концов человек, объятый сплином, должен кончить самоубийством. Но Питер-Паулюс был еще только на пути к этому. Сплин давал ему постоянное занятие. Не без зависти члены Фокс-клуба, где он значился вице-президентом, восприняли эту великую новость. Иные — ничтожное меньшинство — от души сочувствовали ему, другие отнеслись завистливо и ревниво — где только не угнездится зависть! — или же решительно подвергали сомнению заболевание компаньона. Но это не смущало Питера-Паулюса; он, как человек настойчивый и целеустремленный, вознамерился немедленно подавить скептиков и победоносно утвердить свою репутацию ипохондрика[377]. Счастливчик прыгнул в кеб и погнал его по медицинским знаменитостям, которые в Англии, как и везде, считают себя обладателями всех знаний мира, и еще более того. Бедный «больной» обречен был — увы! — испытать жестокое разочарование. Напрасно он один за другим нажимал дрожащей рукой электрические звонки четырех профессоров — доктора Кэмпбелла, доктора Гастинга, доктора Нахтигаль, доктора Гарвея. Поочередно его осматривали, выстукивали, выслушивали и в один голос заявляли, что размер селезенки мистера Брауна — четыре с половиной сантиметра от верхней до нижней точки и что означенный мистер Браун, таким образом, может совершенно не опасаться ипохондрии! Не опасаться!.. Эти ученые боялись сказать правду. Никогда еще умирающий не бывал столь безутешен, выслушивая свой последний приговор, как Питер-Паулюс перед лицом грубого ультиматума, осуждавшего его на здоровье. — Английская медицина глупа и бездарна! — разозленно кричал он, забывая, что для англичанина все английское — самое лучшее в мире. — Арабелла, я отправляюсь к парижским врачам! И Питер-Паулюс Браун из Шеффилда, схватив плащ и чемодан, бросился на железнодорожный вокзал, оттуда переместился в порт Ньюхэйвен, а там вскочил на пакетбот, идущий в Дьепп, двенадцать часов промучился от морской болезни и, наконец, высадился в отеле «Континенталь», еще более обуреваемый своей придуманной болезнью и свежий, как майская роза. Питеру-Паулюсу понадобилось два месяца, чтобы добраться от гостиницы «Континенталь» до Вандомской площади, к профессору Д. Двести метров за два месяца — согласитесь, это немного, особенно для человека, пораженного такой болезнью, которая вызывает острейшую потребность движения. Но, как гласит легенда, дорога в ад вымощена добрыми намерениями. А другой ад находится на мощенных камнем бульварах, на покрытых асфальтом авеню, впрочем, ад весьма приятный, имеющий свойство придавать самым светлым намерениям прямо противоположный результат. Вот почему Питер-Паулюс маршировал под неумолчный барабанный бой своего сплина и не давал этому музыкальному инструменту ни минуты передышки. Изысканные ужины — мы говорим только об изысканных ужинах — заняли прочное место в его существовании. Двенадцать часов ежедневно или, скорее, еженощно, хорошо знакомые полуночникам рестораны наперебой предлагали островитянину все имеющиеся у них формы развлечений, столь необходимые для «его селезенки». «Его селезенка!..» Когда он торжественно произносил эти два слова: «Моя селезенка!..», то этим Питер-Паулюс исчерпывал все. И поскольку он щедро платил, как настоящий чокнутый англичанин, поскольку его чековая книжка всегда готова была раскрыться, чтобы заранее оплатить самые причудливые фантазии, то селезенка Его Милости вызывала к себе почтительное отношение. Ночные прожигатели жизни повторяли словечки обладателя этого удивительного о́ргана, а дневные газеты оказывали честь Питеру-Паулюсу, посылая к нему репортеров. Мы припомним только некоторые из сумасбродных выходок бывшего ножовщика. В одном из ресторанов действовал красивый фонтан, в бассейне которого плавали рыбы. Питер-Паулюс пожелал, чтобы в фонтане била струя шампанского, потом извлек обалдевших карпов и заменил их сотней вареных раков. В другой раз он заставил сконструировать маленькую гильотину, шедевр инженерной точности, и не приступал к поеданию яиц всмятку до тех пор, пока их не разрезали со всем изяществом с помощью стального треугольника. И так далее в таком же роде. Каждое утро Питера-Паулюса, готового лопнуть от потребленных яств и напитков, торжественно препровождали в гостиницу, поскольку сам он передвигаться не мог, будучи в стельку пьян. Такое замечательное житье не могло бесконечно продолжаться. И в одно прекрасное утро Питера-Паулюса, за неимением сплина, скрутил самый натуральный гастрит[378]. Он кончил тем, с чего собирался начать, и вызвал доктора Д., признавшего у него запущенную болезнь и обрисовавшего ее печальные последствия. — Видите ли, милорд, гастрит… Питер-Паулюс все это жуткое время, то есть с момента появления в Париже, разыгрывал из себя лорда. — У меня не было никакого гастрита, это моя селезенка… — Нет, милорд. Ваша селезенка здесь ни при чем. У вас не сплин, а гастрит. — У меня… не сплин?.. — Нет. — Сплин, как у лорда Гаррисона… как у лорда… — Гастрит, повторяю вам! Но успокойтесь, — продолжал врач, видя, с каким оригинальным субъектом имеет дело, — гастрит — болезнь нынче весьма распространенная и вполне переносимая, особенно, когда она протекает в хронической форме. — Я даю вам сто фунтов, если мой гастрит станет хроническим, даю вам эти деньги немедленно! — Я сделаю все, что в моих силах, милорд, вы останетесь довольны! Доктор Д. сдержал слово. Похудевший, осунувшийся, неузнаваемый, Питер-Паулюс отправился через три недели в Шеффилд, увозя с собой, в общем-то, весьма почтенную болезнь, достаточно изысканную, обнаружением которой он был обязан к тому же парижской знаменитости. Если он не смог стать Манфредом[379], то довольствовался ролью Фальстафа[380]. Это уже кое-что. Но счастье и несчастье идут рука об руку. Бедняга Питер-Паулюс, на сей раз действительно больной, не мог больше без удержу отдаваться любимым прихотям — вкусным блюдам и крепким напиткам. Скука его заполонила, а вместе с нею — невыносимое отвращение к жизни. — Путешествуйте, а лучше всего путешествуйте по морю, — в один голос советовали ему доктор Кэмпбелл, доктор Гастинг, доктор Нахтигаль и доктор Гарвей, эта четверка незыблемых и неумолимых, всегда во всем согласных эскулапов[381]. Питер-Паулюс схватил тугую пачку банкнот, свою неразлучную чековую книжку, плед и чемодан и кинулся в Саутгемптон в сопровождении миссис Арабеллы, мисс Люси и мисс Мери. Пароход «Нил» королевской почтово-пароходной компании готовился к отплытию. Он держал курс на Вера-Крус, с заходами в Сен-Томас, Порто-Рико, Сан-Доминго, на Ямайку и Кубу. Питер-Паулюс закупил две каюты, обосновался в одной как человек, привыкший к комфорту, и с нетерпением стал поджидать команды капитана: «Полный вперед!» Вскоре прокричал гудок парохода, труба окуталась паром, зашумел гребной винт, и «Нил» двинулся вперед, унося в далекие края Питера-Паулюса с его гастритом. У путешественника на душе было не все спокойно, побаивался он психологического напряжения, хорошо знакомого тем, кто пускается в дальнее плавание. Через какой-нибудь час переходит оно в стойкую головную боль, сопровождаемую конвульсивными сотрясениями диафрагмы[382]. Тогда все салоны пустеют, словно по мановению волшебной палочки, длинный полуют лишается всех любителей морских красот… Пассажиры, терзаемые печально знаменитой болезнью, пошатываясь, добираются кое-как до своих кают, плотно закрывают двери и… об остальном легко догадаться. Миссис Арабелла, мисс Люси и мисс Мери отдали фатальному первому часу обильную дань, но Питер-Паулюс стоически держался в обществе нескольких бодряков, на которых решительно не действовала ни килевая, ни бортовая качка. Странное дело, он ощущал в набрюшной области некое брожение, однако не мог бы назвать его неприятным. Сопровождалось оно затяжными зевками во весь рот. — Ао!.. — вырывалось из горла. — Ао!.. Гм, это мой гастрит всему виной, — изрекал глубокомысленно бывший фабрикант. — Гастрит не желает меня покидать… Внутреннее щекотание продолжалось, и отчаянная зевота все больше раздирала рот. — Ао!.. — вздыхал наш герой. — Я голоден!.. Ао!.. — Питер-Паулюс, зевнув, шумно выдыхал воздух. — Ао!.. Ну конечно, это голод. Стюард! Быстрее сюда! Подайте-ка мне все эти хорошенькие штучки, которые есть там у вас на кухне… Метрдотель разрывался на части, а Питер-Паулюс уписывал за обе щеки с таким аппетитом, что перед ним бледнела тень сэра Джона Фальстафа, этого соперника нашего Гаргантюа. И утром, и в последующие дни путешественник работал челюстями и заливал в глотку неустанно, словно ошалевший от голода кайман. На борту английского пакетбота подают еду пять раз в день, он исхитрился удвоить это количество, нисколько не заботясь о жене и дочерях, надолго, впрочем, уединившихся в каютах. И островитянин-обжора, которому океан явно шел на пользу, самозабвенно повторял: — О!.. Флотские макароны! Мне нравятся флотские макароны… О! Очаровательная печень трески… — Между тем бедные женщины хирели и чахли, но на эторешительно было плевать чревоугоднику, который пил и ел за четверых. В эту пору Питер-Паулюс представлял собой человека пятидесяти лет, с каштановой бородкой и все еще густой шевелюрой. Внешний облик его никак не вязался с натурой маниакального эгоиста[383]. У него был высокий, открытый лоб мыслителя. Светлые глаза навыкате, с несколько рассеянным взглядом, необычно поблескивали под густыми полосками бровей. Орлиный нос, слегка покрасневший от обильных возлияний, не был лишен благородства, улыбка открывала хорошо сохранившиеся зубы, а жесткие складки в уголках губ свидетельствовали о несокрушимой воле. Улыбался он редко, но смеялся громко и спазматически, и его смех внушал страх. Рост его превосходил пять футов и десять дюймов[384]. Он был худощавый, но мускулистый, немного сутулился, как это часто бывает с людьми физического труда. Его руки с узловатыми, поросшими шерстью пальцами были огромны, а ноги, обутые в башмаки на низком каблуке, напоминали по размеру и форме два скрипичных футляра. Если Питер-Паулюс не ел, то молча бродил в одиночестве. В любое время дня и ночи на него могли наткнуться в каком-нибудь из бесчисленных закоулков большого судна. Хлестал ли проливной дождь с раскатами грома и ураганными порывами ветра, огромная тень медленно возникала на панелях лестниц нижней палубы и скорбно шествовала взад-вперед, не произнося ни слова, бесчувственная ко всему. И это был Питер-Паулюс, герметично закупоренный в водонепроницаемый плащ, неизменно выпускавший клубы дыма из трубки, одной из тех уродливых деревянных трубочек с коротким мундштуком, через которые украдкой глотают дым убийцы на внутренних тюремных дворах. Глухой черный костюм был неизменной одеждой Питера-Паулюса, не претерпевавшей никаких изменений даже в Антильском море, превращаемом тропическим солнцем в жаркую баню. Во время стоянок появлялись бледные и совершенно разбитые миссис Арабелла с двумя юными дочерьми, радуясь поводу вырваться хоть ненадолго из своего заточения. Бедные женщины, чей организм решительно не принимал условий плавания, никак не могли освоиться с движениями судна… Напротив, для Питера-Паулюса остановки были несносны, он уже привык есть, пить и спать, только качаясь на волнах. Прибывши в Вера-Крус, мистер Браун впал в полное отчаяние из-за вынужденной задержки судна, грузившего уголь и принимавшего на борт багаж. Шесть дней без плавания — это было неслыханным мучением! Но упорный и целеустремленный миллионер нашел выход. Он нанял маленькую шхуну и стал курсировать вдоль берегов, к полному своему удовольствию, предоставив несчастным женщинам коротать время на борту. Что вы хотите — лечить гастрит было главной задачей Питера-Паулюса Брауна из Шеффилда! «Нил» возвратился в Саутгемптон без помех, и на второй же день глава семейства поднялся на борт «Галифакса», совершавшего рейсы в Нью-Йорк. Этот пароход попал в жесточайший шторм. Миссис Арабелла, мисс Люси и мисс Мери едва не погибли от ужаса и страданий, но Питер-Паулюс причащался за обеденным столом двенадцать раз. Он все больше и больше влюблялся в кочевой быт. Море стало для него самым желанным местом, необходимейшим условием существования. Целых два года без перерыва длилась эта жизнь убежденного космополита[385]. Семейство Браун видели в Сиднее и Йокогаме, Монтевидео и Гонконге, в Сан-Франциско, Панаме, Адене, Бомбее, Шанхае, Калькутте… Питер-Паулюс находил земной шар слишком маленьким для нужд своего гастрита. Каким бы богатым он ни был, но и подумать не отваживался о том, чтобы увеличить размеры нашей планеты. Одно только обстоятельство мешало полноте его счастья, одно черное пятно омрачало светлый горизонт. Заходы в порты. Ах, если бы он мог найти средство помешать кораблям останавливаться! Если бы им встретился однажды «Летучий Голландец»[386], и капитан этого блуждающего судна взял его на борт, Питер-Паулюс был бы счастливейшим человеком во всем Соединенном Королевстве. Между тем мистера Брауна осенила блестящая идея. Поскольку пароходы, эти железные чудища, напичканные углем и по горло залитые кипящей водой, бегают слишком быстро и прибывают слишком рано, то почему бы ему не поплавать на паруснике… Слово у Питера-Паулюса никогда не расходилось с делом. Он нашел в Лондоне большой трехмачтовик водоизмещением восемьсот тонн, который направлялся в Английскую Гвиану, с грузом угля для Демерары. Для маньяка, чья жизнь до предела заполнена гастритом и морской качкой, было совершенно безразлично, куда плыть — в Гвиану, или иное место, или еще куда-нибудь. Мало значили для него и постоянные страдания, физическое истощение его жены и дочерей. Питер-Паулюс запросто готов был подвергнуть близких медленной казни ради того, чтобы сохранить им мужа и отца. Трехмачтовик назывался «Карло-Альберто». Это было старое генуэзское судно, купленное английским фрахтовщиком и приспособленное для перевозки угля в Гвиану. Экипаж состоял из семи матросов, капитана, его помощника и юнги. Оборудование парусника выглядело примитивным, комфорт отсутствовал. Учуяв выгодную сделку, капитан кое-как приспособил каюту для пассажиров, и мистер Браун, восхищенный перспективой долгого безостановочного плавания, объявил, что все замечательно. Загруженный до отказа, «Карло-Альберто» плелся, словно заваленная камнем баржа, делая в час не более трех с половиной-четырех узлов. Кроме того, борта его оказались не вполне герметичными и, хотя пробоин в них не было, из-за постоянного просачивания воды приходилось часто прибегать к помощи насоса. Таким образом на трехмачтовике создались все необходимые условия, чтобы сделать морской переход бесконечно долгим. Между тем Питер-Паулюс пожирал свежие продукты и первосортные консервы, которыми запаслись для Его Милости. Все шло как нельзя лучше первые тридцать дней, и «Карло-Альберто» прибыл в точку пересечения 54-го градуса западной долготы с 7-м градусом северной широты. Отсюда он собирался прямым курсом идти к берегам Французской Гвианы, чтобы использовать восточно-северо-восточное течение для достижения Демерары, но здесь вдруг обнаружилась на корабле изрядная пробоина. Экипаж бросился к насосам и работал не покладая рук, чтобы облегчить судно, скверное состояние которого пророчило неизбежную гибель. К несчастью, штиль установился раньше, чем течение подхватило трехмачтовик. Его капитан не имел даже возможности посадить корабль на прибрежную мель. Он старался любой ценой удержаться на плаву и ждать ветра. Восемь дней «Карло-Альберто» наполнялся водой, как губка, несмотря на все усилия доблестных матросов, и при полнейшей безучастности Питера-Паулюса, который ни минуты не был встревожен. Агония парусника началась в доброй сотне миль от берега. Подул бриз[387], но, увы, слишком поздно. Корабль тонул, и это всем было ясно. Спустили на воду большую шлюпку, дамы разместились там первыми, следом за ними мистер Браун с неразлучными плащом и чемоданом. Наспех погрузили немного провизии, бочонок с водой, секстант и компас, затем капитан перерезал фал[388] своего гибнущего судна и последним занял место в шлюпке, держа в руке национальную эмблему — он хотел спасти хотя бы этот обломок своей разбитой судьбы. Через полчаса трехмачтовик исчез с поверхности моря, корпус его улегся на мягкое илистое дно, и лишь брам-стеньги[389] уныло торчали над бегущими желтоватыми волнами. Питер-Паулюс, который боялся остановки, успокоился, видя, что плавание продолжается. И хотя палящие лучи солнца падали почти отвесно, а его жена и дети изнемогали от жары и нервного потрясения, он находил все это очаровательным и подбадривал своим звонким «all right!» матросов, которые начинали уже косо посматривать на англичанина. Двадцать четыре часа бесстрашные моряки энергично боролись со стихией, преодолевая отчаяние, но никак не могли достичь берега, казалось, убегавшего от них. Силы людей, если и не мужество, уже ослабли, когда они заметили красивую шхуну, державшую курс к северо-востоку. Немедленно подняли белую тряпку на кончике весла. Сигнал бедствия был замечен, шхуна тотчас развернулась и взяла курс на шлюпку. Потерпевших кораблекрушение спасли, и Питер-Паулюс удовлетворенно продолжал плавание. Так счастливо встреченным кораблем оказался «Сафир», небольшое французское судно с военно-морской базы в Кайенне. Оно доставляло провизию в исправительную колонию Сен-Лорана. Тали[390] были приведены в движение, и лодку вместе с пассажирами легко подняли на борт корабля. Его командир, капитан-лейтенант Барон принял пострадавших со всей любезностью, характерной для офицеров французского флота. Питер-Паулюс ликовал. Даже не поблагодарив капитана, предоставившего свою каюту в распоряжение дам, чудак поинтересовался, сколько может продлиться плавание. Полагая, что потерпевший стремится скорее попасть на берег, офицер поспешил его успокоить и пообещал бросить якорь в Сен-Лоране через двадцать четыре часа, если прилив позволит преодолеть каменную гряду в водах Марони. — Но я не хочу на берег… Я нахожу остановки несносными… Даю вам сто фунтов, если вы отвезете меня как можно дальше… Капитан «Сафира» с большим трудом втолковал Питеру-Паулюсу, что военное судно не может подчиняться прихоти первого встречного и что он обязан следовать положенным курсом. Затем офицер добавил: — В Сен-Лоране я буду только четыре дня. Если вы желаете возвратиться со мной в Кайенну, то можете подождать прибытия французского парохода, который доставит вас в Демерару. — Но я не хочу в Демерару! Я желаю плавать! Мне нужна только навигация! Потому что плавание необходимо для моего гастрита… Ветер и приливная волна объединились против Питера-Паулюса. Так что «Сафир», как и пообещал его капитан, через двадцать четыре часа бросил якорь в виду Сен-Лорана. Несчастный островитянин был безутешен. И не только из-за перспективы четырехдневного пребывания на суше, но еще и от самой мысли о неподвижности. Тут не представится возможность, как в морских портах, нанять какой-нибудь катер и носиться вдоль берегов в ожидании отъезда. Единственные лодки, которыми располагал Сен-Лоран, принадлежали дирекции исправительной тюрьмы, и они не могли покинуть колонию без приказа старшего начальника. Но мистер Браун проявлял удивительную находчивость, когда речь заходила об удовлетворении его эгоизма. Едва лишь «Сафир» обосновался на рейде, как чудаковатый пассажир прямо с борта очень тщательно обследовал берега великой реки с помощью подзорной трубы, которую удалось спасти во время крушения. И он заметил на другой стороне — то был голландский берег — мачту, венчавшую какое-то судно. — А это что там такое? — спросил Питер-Паулюс у капитан-лейтенанта. — Это голландский пост Альбина. — Военная база?.. — Нет, — пояснил офицер. — Время от времени туда причаливают торговые суда, чтобы загрузиться деревом, да еще раз в месяц заходит «Марони-Пэкет» за почтой. — О!.. — задумчиво изрек островитянин. — Мне бы хотелось наведаться на этот пост, помогите мне, пожалуйста, капитан! — С превеликим удовольствием. Я предоставлю в ваше распоряжение вельбот с четырьмя матросами. Поездка займет не больше часа. — Великолепно! — коротко подытожил Питер-Паулюс, расцветший при мысли о предстоящем плавании. Бедные безропотные жертвы, миссис Арабелла, мисс Люси и мисс Мери, покорно последовали за всемогущим мономаном и вскоре, совершенно разбитые, оказались перед очаровательным домом голландского комиссара. Молодого человека лет тридцати, шотландского происхождения, звали Мак-Клинток. Он со всей учтивостью позаботился о дамах, пребывавших в расстройстве чувств и нуждавшихся в отдыхе. А в это время Питер-Паулюс, клокоча вулканом, бродил на солнцепеке в поисках какой-нибудь завалящей лодки. Боясь, как бы гостя не хватил солнечный удар, комиссар почти насильно затащил его в дом, — до такой степени выходивший из себя навигатор ненавидел сушу… Вслед за этим бедняга Мак-Клинток вынужден был прослушать бесконечную историю Питера-Паулюса, от распродажи его фирмы до кораблекрушения, узнать про сплин, медицинские консультации, гастрит, навигацию, про насущную потребность англичанина в водной стихии, для удовлетворения которой необходимы были всевозможные плавательные средства, от громадного парохода до микроскопической лодочки. — О!.. — завершил мистер Браун. — Я хочу плавать! Я должен плавать все время! Если не найдется хотя бы маленькой лодки, то я сойду с ума… немедленно! — Однако, — заметил комиссар, исчерпав все аргументы, — в моем распоряжении нет лодок и кораблей. Думаю, что вам лучше остаться на «Сафире», который выйдет в море через четверо суток. — Я сойду с ума! — Послушайте, миссис Браун больна, ей нельзя сейчас путешествовать. — Миссис Браун тоже сойдет с ума, она так переживает за мое здоровье! Скажите, а там кто-то причалил к берегу, я видел маленькую лодку… Чья она? — Это пирога, она принадлежит двум неграм-бошам. — Я куплю пирогу и двух негров. — Но это вольные люди, и я не советую вам покушаться на их свободу. Однако если вы желаете подняться по реке, то они охотно вас повезут, разумеется, за плату. — Конечно! Я заплачу. Мой гастрит не может ждать! Этот чертов тип умел найти неотразимые аргументы. Он посулил такую щедрую плату, что двое бошей, соблазненных перспективой немедленно заполучить изрядное количество «кругляшков» (пятифранковых монет), согласились катать мистера Брауна и его семью до прибытия «Марони-Пэкет», то есть пятнадцать дней. Корму их пироги, к счастью довольно просторную, прикрывал лиственный тент. Магазины Кепплера, расположенные возле комиссариата, снабдили отъезжавших продуктами, затем Питер-Паулюс, фрахтовщик и капитан в одном лице, вместе с семьей занял места на легком суденышке. — Я нахожусь на реке, — сказал он, пожимая руку любезному голландцу, — и у меня только маленькая лодка, но все-таки это навигация! Затем англичанина повезли к водопаду Гермина, который боши преодолели с такой же легкостью, как и их собратья бони. Все шло хорошо первые пять дней, но черным гребцам, не привыкшим к особой требовательности, надоело выполнять повелительные указания своего пассажира, который желал двигаться безостановочно, не давая им ни минуты передышки. Они пошептались между собой и, не обращая внимания ни на грозные окрики Питера-Паулюса Брауна из Шеффилда, ни на его пистолет, которым тот бездумно размахивал, в один прекрасный вечер высадились на голландском берегу Марони, неподалеку от водопада Петер-Сугу. Волей-неволей мистер Браун вынужден был уступить и согласился провести ночь на земле. Он плохо спал и ничего не ел. Знаменитый гастрит пробудил его на утренней зорьке. Он громогласно окликнул негров, но ответом была зловещая тишина. Пока белые спали, черные предательски улизнули, как они обычно и поступают в том случае, если им навязывают непомерную работу. И без малейших угрызений совести они бросили на произвол судьбы в гвианской глубинке Питера-Паулюса Брауна с пледом и чемоданом, его жену и двух дочерей.
ГЛАВА 8
Загадки множатся. — В хижине. — Жертва гремучей змеи. — Незаменимое лекарство. — Трогательная благодарность. — Спутник браконьера. — Бернаш — потомок капитолийских гусей. — Странные обычаи краснокожих: женщина рожает — болеет мужчина. — Как «умыть собаку». — Незаменимый друг.Внезапные катастрофы уже неоднократно обрушивались на гвианских робинзонов. За двадцать лет, которые прожили они на диких просторах, масса неприятностей и разочарований послужила результатом тщательно продуманных планов, чей успех казался несомненным. Но исчезновение лодок, доверенных освобожденному каторжнику Гонде, было бедствием, ни с чем не сравнимым. Не только потому, что их существование и даже сама судьба были поставлены под угрозу. Впрочем, что значили материальные потери для людей, привыкших к любым лишениям, испытавших уже не раз нечеловеческое напряжение. Они вполне обходились скудным пропитанием охотника и рудокопа. Но это происшествие означало отсрочку грандиозного плана, составленного в общих интересах. Это значило, что крупный район, прилегающий к Марони, еще на долгое время останется пустынным. Девственный лес будет осужден на молчание, никто не потревожит золото плодоносных рек, колонизация затормозится. Наконец, само дело цивилизации испытает сокрушительный удар. Надлежало ли снова ехать во Францию, снова закупать промышленные товары, столь бесценные в местных условиях, и потерять еще год?.. Целый год! Это вечность в нынешнюю эпоху, когда еще быстрее, чем мертвые герои баллад, движутся вперед живые! Робен мгновенно оценил все значение постигшего их несчастья, представил все его последствия. То, что лодки украдены, не вызывало ни малейшего сомнения. Гипотеза стихийного бедствия отпадала. Флотилия не исчезла бы так бесследно, не оставив хоть самых ничтожных знаков для зорких глаз робинзонов. С другой стороны, инженер не ставил под сомнение честность Гонде. Еще до своего освобождения каторжник неоспоримо доказал, насколько он человек надежный и преданный. Кому же следует приписать этот коварный и страшный удар? С какой целью он совершен? Что же это за дерзкие существа или настолько могущественные, что осмелились напасть на таких людей, как Робен, его сыновья и их доблестные помощники негры?.. Пока легкая лодка скользила по волнам Марони, а прерывистый чих машины раскалывал знойный застывший воздух, робинзоны жадно ощупывали взглядом проплывавшие мимо берега. Их капитан погрузился в раздумья. Жалобный стон раненого заставил его вздрогнуть. Дю Валлон вышел из летаргического состояния, в котором находился с того момента, как Шарль и Никола подобрали его у подножия панакоко с ужасной раной в груди. Изумление креола от самого факта, что он все еще находится среди живых, сопоставимо было лишь с огромной благодарностью, которую он пытался засвидетельствовать своим спасителям. Шарль вполголоса рассказывал ему о драматических событиях, последовавших после загадочного нападения, жертвой которого стал директор: о пожаре на золотом прииске, наводнении, обстоятельствах спасения… Не забыл и о таинственных эмблемах, прикрепленных ночью к стволу дерева, на котором они с Никола укрывались. Директор прииска, еще не в силах заговорить, смог только выразить свою признательность, слабо пожав руку молодому человеку. Никола, более искушенный в колониальной медицине, чем все красные и черные пиэй тропического региона, освободил рану от перевязки. Он промыл пораженную область и покрыл ее слоем ваты, смоченной соком сассафра[391]. Эта ароматическая жидкость обладает антисептическими и высушивающими свойствами, она дала немедленное облегчение креолу, который спокойно задремал. Его сон длился около двух часов, приступ лихорадки разбудил несчастного. Впрочем, эта болезнь не приобрела у него тяжелых форм, и Никола надеялся подавить ее вспышку щедрой дозой хинина. Прислушиваясь к стонам больного, Робен никак не мог избавиться от мысли, что — прав он или нет — есть какая-то тайная связь между попыткой убийства и похищением Гонде. Инженер подсел к раненому, не решаясь его расспрашивать. Но тот с интуицией, свойственной горячечным больным, казалось, понял желание Робена. — Вы в состоянии меня слушать?.. — тихо спросил тот. — И даже отвечать… — сказал раненый слабым, как шелест, голосом. — Ваше положение требует большой осторожности. Я боюсь утомить вас. — Нет, нет… У меня не очень сильная лихорадка. Говорите… — Есть ли у вас враги или, по крайней мере, завистники? — Нет. — Кто-то был заинтересован в вашей смерти? — Не думаю. Скорее наоборот… Прииск «Удача» не мог функционировать без меня… Его рабочим и служащим как раз лучше, чтобы я остался в живых… — Вы можете припомнить обстоятельства, при которых вам нанесли эту рану?.. Дю Валлон, по всему видно, с усилием напрягал память. Еле слышным, прерывающимся голосом он поведал о забастовке рабочих, о странных шумах, которые они слышали по ночам, о приведенных в негодность инструментах и о ловушках, разбросанных под ногами старателей, об ужасной смерти одного из них. — Думаю, что я имел дело с похитителями золота. Промывочные желоба работали ночью, это я определенно установил. Но вот кто эти воришки?.. Никогда не видел на прииске посторонних людей, разве что нескольких индейцев. — Вы не заметили ничего необычного? — Нет. Впрочем, один из них, крупный старик с седыми волосами, настоящий гигант, запомнился мне… Уж больно жуткое у него лицо, и выражение какое-то странное. Он бродил возле реки, а при встрече с соплеменниками никогда не пил тафии. Последние полмесяца мы его не видели. — Вас не утомил разговор?.. — Нет. Но лихорадка держится… Я еще должен сказать вам несколько слов… Кто знает, смогу ли я беседовать завтра… Коротко сообщив о первых ночных происшествиях, которые подтолкнули его на дежурство возле громадного дерева панакоко, он продолжил: — Я выстрелил в том направлении, где светились два глаза. Услышал невообразимый крик. Затем было такое чувство, что на меня навалилась огромная туша, целая гора… Отлично помню ощущение холодной кожи, влажной, скорее даже липкой… Четыре человека, вместе взятые, не сравнятся ни весом, ни размерами со странным существом, душившим меня. Впечатление длилось не более двух секунд, а затем мне нанесли страшный удар в грудь. Я потерял сознание, однако перед этим успел заметить темный силуэт, его можно было принять за человека… Он соскользнул по лиане, протянутой между землей и нижними ветвями. Как будто здоровенный паук болтался на ниточке паутины… — Ну и… это все? — Все, — подтвердил раненый, совершенно обессилев от напряжения. — Больше ничего не знаю. Как бы там ни было и что бы ни случилось, я хочу выразить всем вам свою самую искреннюю благодарность… Инженер собирался ответить молодому человеку какими-то сердечными словами. Вдруг до лодки донесся с берега неимоверный шум и грохот. Взору открылись несколько хижин индейцев-эмерийонов, возведенных на лесных вырубках, которые образовывали просвет в густой чаще. Никола сбросил пар, лодка замедлила бег и вскоре ткнулась носом в песок. — Возможно, индейцы нам кое-что расскажут. — В голосе Шарля звучала надежда. Он легко спрыгнул на берег, за ним последовали отец и Анри. — А ну потише, ничего же не слышно! — обратился юноша к двум краснокожим, которые, стоя у порога большой хижины и вооружась жестяными ящиками из-под топленого сала, что есть мочи тарабанили по ним кулаками. — Что вы вытворяете? Громыхаете, будто глухие! — Мы должны помешать Йолоку[392] забрать к себе большого человека и маленьких человечков! — В хижине больные, и эти несчастные изгоняют злого духа. Зайдем туда. Друзья вступили в жилище, заполненное густым дымом от сгоревших ароматических трав, и увидели сидевшую на полу индианку. Она держала на коленях ребенка лет пяти-шести, который казался мертвым. Никогда еще не видели робинзоны, чтобы человеческое лицо воплощало такую пронзительную скорбь, как у этой женщины. Безумными глазами созерцала молодая мать, совершенно убитая горем, — а это, конечно, было ее дитя, ведь только матери дано так страдать, — маленькое существо, чьи посиневшие губы покрыла густая пена. Она увидела белых, вскочила на ноги, протянула умирающего ребенка к Анри, словно говоря: «Спасите его!» — настолько велико доверие к европейцам у этих первобытных детей природы. Глаза ее жадно впились в молодого человека, ловя каждое его движение. Она ожидала, не отводя взгляда от его губ, затаив дыхание, обезображенная горем. Одна нога у мальчика опухла и почернела, она была облеплена пластырем из какого-то кровавого месива. — Этого ребенка только что укусила змея, — сказал Анри, хорошо знакомый с обычаями лесных обитателей. — Женщина убила змею, растолкла ее и приложила к ране. Однако малыш погиб. Бедная мать! — Нет, нет! — воскликнул Шарль. — Погоди-ка! Одну минуту! Юноша помчался к лодке, поспешно вскрыл небольшой ящик, достал оттуда дорожную аптечку и стремглав возвратился в хижину. — Ведь он еще не умер?.. Не умер?.. — Нет, пульс прощупывается… — Хорошо, положи его на землю, но так, чтобы голова была повыше… Не теряя времени молодой человек раскупорил флакон голубого стекла с притертой пробкой, достал из обитой фиолетовым бархатом коробочки маленький шприц с градуированным поршнем и с полой металлической иглой. Наполнив шприц на одну треть жидкостью из флакона, Шарль ввел иглу под кожу бедра и нажал на поршенек. Несколько капель вещества проникли под эпидерму и тотчас же рассосались. Юноша повторил операцию на торсе, на брюшной полости, в общей сложности введя под кожу около двух кубических сантиметров жидкости. Затем стал ждать. Женщина, прямая и застывшая, словно в каталептическом припадке, неотступно следила за таинственной процедурой. Она ни на секунду не отводила от мальчика глаз, в которых, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь. Прошло пять минут. Пять минут тоски и тревоги. И вдруг индианка вскрикнула, из глаз ее потекли слезы. У маленького умирающего дрогнули и приоткрылись веки. — Он спасен, — радостно заявил Шарль. — Через час будет ходить. А завтра окончательно выздоровеет. Робен и Анри, пораженные и счастливые, не верили своим глазам. — Шарль, милое мое дитя, ты нашел сильнодействующее лекарство от змеиных укусов?.. — Ну да, причем и от самых опасных змей! А та, что укусила мальчика, — банальная гремучая змея, как ты можешь видеть по кольцам, оставшимся на коже… Но, к сожалению, не я автор открытия. Тем не менее счастлив его применить… — А вещество, которое ты использовал для подкожного впрыскивания, называется… — Марганцово-калиевая соль. — Ты везешь эту чудесную новинку из Парижа? — Да, отец. Из Парижа через Рио-де-Жанейро. — Как это? — Я был в Музее естественной истории, в Париже. Мне на глаза попала статья доктора Пьетра-Санта в «Гигиенической газете», весьма серьезном издании. Я узнал, что доктор Ласерда нашел противоядие от змеиных укусов, проводя эксперименты в лаборатории физолонии в музее Рио-де-Жанейро. Это противоядие — марганцово-калиевая соль, чье действие против ферментов давно было известно, но ее никогда не пробовали применять при лечении ядовитых укусов. Эксперименты проводили на собаках, искусанных змеями типа кобры. Удалось спасти всех животных, к которым применили новый метод, а вот остальные погибли. Все лечение состоит, как я уже показал, в подкожном впрыскивании раствора марганцово-калиевой соли. А раствор этот получается при разведении одного грамма соли в ста граммах дистиллированной воды… — Просто замечательно! — И к тому же недорого стоит, а какое верное средство… Вы уже убедились в успехе моего первого опыта! Действительно, за время короткого и интересного экскурса в область физиологии к ребенку вернулось сознание. Он улыбался своей матери, которая плакала от переполнявших ее чувств и бросала благодарные и преданные взгляды на белых кудесников. Между тем густой дым, заполнявший хижину, постепенно рассеялся, и Робен с сыновьями заметили высоко подвешенный гамак, в котором распростерлась какая-то человеческая фигура, издававшая громкие жалобные стоны. — А это что за человек?.. — Мой муж, — тихо ответила индианка. — О!.. Я больной! Очень тяжелый больной!.. О!.. — доносился голос из гамака. Видя, что на него обращен всеобщий интерес, мужчина принялся рычать и завывать, словно красная обезьяна. — Эй, компе, — повысил голос инженер, — скажи мне, что с тобой случилось! — Вы разве не видите… Мне так плохо, потому что моя жена родила маленького человечка… Возглас удивления вырвался у белых при столь необычном заявлении. Они знали об этой особенности индейского быта, но до сих пор не наблюдали ничего подобного. Так это правда! В тот момент, когда жена становится матерью, когда святые обязанности материнства даруют ей право на максимальное уважение и заботы мужа, этот последний, забывая о своем долге, разыгрывает недостойную комедию, свидетелями которой стали трое белых. Действительно, самые добросовестные путешественники единогласно подтверждают существование такого варварского обычая: среди прочих — Ле Блонд, Шомбурк[393], Видаль[394], комендант Буйе и доктор Крево. Когда жена рожает, ее муж растягивается на койке, стонет и причитает десять дней. Сразу же после родов женщина, эта бедная мученица, в такой момент не получающая ни от кого никакой помощи, идет к реке, купает новорожденного, сама совершает омовение и, едва держась на ногах, возвращается к своему мужу, обязанная ухаживать и заботиться о нем вместо того, чтобы самой получать помощь, столь необходимую в ее состоянии… Она поддерживает костерок из ароматических трав под гамаком «больного мужа», принимает на себя все хозяйственные заботы и подносит жалкому бездельнику матете, вид укрепляющего питья, которое заменяет винные гренки, хорошо известные нашим роженицам. Это было бы смешно, если бы не было так отвратительно. И вот эта бедная мать, чей младенец, едва ли четырех дней от роду, исходил криком в своем маленьком гамаке, умудрилась убить змею, напавшую на старшего сына. Она нашла в своей любви силы противостоять его агонии, выполнить все ритуалы, диктуемые суевериями ее расы. Раненый малыш задремал, убаюканный тягучей индейской мелодией, которую тихо напевала мать. Настал момент расспросить ее, не видала ли она на реке три большие лодки. Увы, поглощенная несчастьем, женщина ничего не заметила. Не сказали ничего вразумительного и двое индейцев, которые священнодействовали с жестяными коробками, изгоняя злого духа. Робинзонам оставалось только откланяться. Довольные совершенным добрым делом, они оставили в хижине несколько безделушек, немного провизии и уже собрались уходить, когда индианка поднялась и громко позвала: — Мата-ао! Мата-ао! Собачий лай послышался в ответ, и в хижину вскочил небольшой пес, виляя хвостом. — Вы гонитесь за ворами, — сказала она на своем языке. — Плохие люди хотят вам зла, таким добрым. А затем обратилась к Шарлю: — Вы спасли моего ребенка. Краснокожая женщина бедна, но мое сердце богато признательностью. Самое ценное, что у меня есть, — это собака. Она очень привязчивая и верная. Это лучшая собака на реке. Знает всех зверей и будет с вами охотиться. Наведите ее на след воров, и она их отыщет. Это преданный сторож, вы сможете спать спокойно. Ее никто не проведет, у нее замечательный нюх. Индианка подозвала пса, взяла его на руки и торжественно вручила Шарлю, приговаривая при этом: — Матао, этот белый человек отныне твой хозяин. Люби его и слушайся, как меня. А теперь прощайте! Память о белых навсегда останется в моем сердце. Пускай же и они вспоминают иногда о матери, обязанной им жизнью своего ребенка. Взволнованные этим трогательным подарком и деликатностью, с которой его преподнесли, робинзоны неторопливо двинулись к своей лодке, пообещав замечательной женщине проведать ее на обратном пути. Шарль уже разместил на корме нового «компаньона», крутившего головой во все стороны и слегка растерянно вилявшего хвостом. Никола ждал только команды запускать машину. И вдруг снова появилась индианка. Она несла какую-то крупную птицу со связанными на спине крыльями. — Возьмите! Пусть еще будет с вами этот бернаш[395]. Он ручной. И еще более бдительный, чем собака. Самый надежный охранник! Она постояла на берегу, пока лодка отчаливала, а затем убежала. Ломи и Башелико, слывшие самыми ловкими охотниками в верховьях Марони, с большим удовольствием приняли в свое общество четвероногого спутника, а достоинства морского гуся оценили очень высоко. Знавший все легенды племени, Ломи рассказал, как благодаря своей чуткости бернаши не раз предупреждали негров бони о нападении племен бошей и оякуле. Герой Коттики Бони всегда возил при себе гусей, которые криком подавали сигнал о приближении голландских солдат. Что же это такое бернаш? — поинтересуется европейский читатель, который, может, подзабыл древнюю историю. Бернаш — всего-навсего собрат тех смелых перепончатолапых, которые спасли Римскую республику, когда галлы, властители Рима после победы при Аллии, вели осаду Капитолия[396]. Это гусь. Вы убеждаетесь, что порода не измельчала и не выродилась, тени стражей Капитолийского холма воистину могут гордиться подвигами своих дальних потомков. Итак, гусь — птица независимости, что традиционно на берегах Марони так же, как и на берегах Тибра. Учитывая заслуги замечательного пернатого, мы просто обязаны посвятить ему несколько специальных строк. Бернаш, как и обычный гусь, хранит в грудной клетке сердце героя, но отличается коротким клювом, выпуклым и как бы усеченным, чьи края снабжены внутренними чешуйками, образующими нечто вроде дискового сцепления, и потому не выступают наружу. Окраска спины бернаша изменяется от пепельно-серого до черного, боковые части головы, лоб и горло — белые, тогда как темя, затылок, шея, верхняя часть груди, маховые крылья и хвост — абсолютно черные. Эта птица водится в умеренных областях Приполярья, встречается в Европе, а также и в тропиках. Она хорошо известна в Египте, где ее почитают особо за исключительную привязанность к потомству. Бернаш легко приручается, его преданность хозяину напоминает другого пернатого — агами[397]. Бернаш робинзонов, выросший рядом с Матао, составил с ним дружную компанию. Горсть куака, размоченного в воде, довершила знакомство пернатого с новыми хозяевами. Гусь немедленно стал всеобщим любимцем. Что касается Матао, то, напуганный шумом и движением машины, он сначала жалобно скулил, однако не делал никаких попыток броситься в воду, чтобы спастись на берегу. Казалось, умное животное вняло рекомендациям хозяйки и хотело строго им следовать. Пес покрутился на месте несколько минут, а потом свернулся калачиком у ног Шарля, доверительно положив ему голову на пальцы. Матао был представителем очень любопытной породы индейских собак, которых краснокожие дрессируют с неподражаемой терпеливостью и упорством. Эти животные способны на столь смелые и резкие выходки, что поражают самого опытного охотника. Верный и незаменимый спутник автохтонов[398] Экваториальной Америки нисколько не походит на обычную собаку. Он невелик и скорее смахивает на шакала со своей удлиненной приплюснутой мордой, прямыми и заостренными ушами, рыжеватой мастью и пышным хвостом. Иностранец не назовет его ни красивым, ни приятным. Но какое бесподобное животное! Какой безошибочный нюх! Какая сила и выносливость! И высочайшая степень преданности хозяину. Настоящий alter ego первобытного браконьера, чьи охотничьи угодья простираются на шестьдесят тысяч квадратных лье, молчаливый или грозно шумный, вкрадчивый или стремительный, атакующий или убегающий, легко меняющий лес на саванну, горы — на болотистую низину, в зависимости от команды. И никогда — ни единого просчета; пойдет по любому запутанному следу, знает все хитрости и уловки лесного зверья, не ведает усталости, очень долго может обходиться без пищи и воды — такова индейская собака. Преследуя любую местную дичь на земле, на воде, на деревьях, она легко берет след обезьяны и тапира, ягненка и косули, тигра или гокко, рыбы или выдры — как и каймана, и даже самого́ человека в случае необходимости. Так что индеец никогда не возвращается с пустыми руками, что нередко приключается с охотниками всех стран. Если его идущая по следу собака, например, натыкается по дороге на одну из этих маленьких и таких вкусных земляных черепах, то она умудряется ловким ударом лапы и с помощью морды перевернуть черепашку на спину, чтобы та не убежала. И при этом нисколько не снижает скорости бега и ни на йоту не отклоняется от направления следа! Воистину с такой собакой охотник не останется голодным. Управившись с дичью, его хвостатый друг возвращается по своим следам и аккуратно подводит хозяина к каждой из перевернутых черепашек, так что тот собирает еще дополнительный «урожай»… Легко понять, что для краснокожего такой помощник незаменим, и он дорожит им сверх всякой меры. Индеец готов отказаться от очень лестных предложений, пожертвовать сотней литров тафии, ружьем, боеприпасами и чем угодно, лишь бы не расставаться со своей собакой. В наше время, когда из-за промышленной добычи золота оживились транспортные связи между верховьями и низовьем Марони, иногда можно купить такую собаку. Она стоит от двухсот до трехсот франков. Но подобные случаи — редчайшее явление. Чтобы дать четвероногому другу настоящую выучку, индеец готов перенести любые трудности, и только невообразимое терпение способно их преодолеть. Методы дрессировки весьма необычны. Прежде всего он должен предохранить животное от укусов ядовитых змей, и для этого ему делают прививку, такую же, как и гвианским жителям. Если владелец хочет «натаскать» собаку на определенного рода дичь, то он добывает это животное: ягненка, гокко, поросенка и проч. Берет его кости, прокаливает их, мелко дробит, смешивает с другими компонентами, известными только ему, после чего вводит полученную смесь в собачий нос при помощи маленькой палочки. Эту операцию повторяют в течение целого месяца, чередуя ее с охотой, чтобы приучить воспитанника ко всякому виду дичи. Когда собака обретает способность безошибочно преследовать специально «изучаемое» животное, краснокожий несколько дней моет ее особым составом, секрет которого ведом лишь ему одному (это продукт вымачивания, свой для каждого из видов животных). Вот теперь собака становится намытой, то есть дрессированной, натасканной — одна на ягуара, другая — на кабана, на косулю и т. д. Однако большинство индейских собак «намыты» на всех местных животных. Таков был и Матао, новый воспитанник гвианских робинзонов. Индианка подарила им собаку в такой момент, когда подобный дар имел для них значение воистину неоценимое, и уже очень скоро замечательное животное оправдало ту высокую оценку, которую дала хозяйка своему любимцу, вручая его своим благодетелям.
ГЛАВА 9
Огонь без дыма. — Первый выход Матао. — След. — Метка на дне бутыли. — О чем рассказала пробка. — Подозрительный муравьед. — Стрельба в ночи. — Подвиг бернаша. — Потрясение робинзонов.Предпринятые гвианскими робинзонами розыски с целью обнаружить пропавший груз могли бы показаться совершенно излишними человеку, мало знакомому с первобытной жизнью. А надежда французов на успех предприятия должна выглядеть еще более иллюзорной. Трудности затеянного дела казались и вправду велики. Сильные и хитрые похитители не оставили никаких следов; они обладали значительным преимуществом во времени; наконец, огромная река не сохраняла ни малейших примет маршрута негодяев. Но вера бесстрашных колонистов в свое умение идти по следу была такова, что они нисколько не сомневались в успехе. Ведь для человека, с детства привыкшего к тяготам полной опасностей и приключений жизни, у природы нет тайн. Его тело натренировано и способно переносить любые лишения. Его органы восприятия всегда начеку и обладают поразительной проницательностью. С неистощимым терпением он умеет различать мельчайшие детали, угадывать едва заметные следы, методом индукции[399] восполнять недостающие элементы и реконструировать всю картину. Так поступит ученый, умеющий расшифровать изъеденную временем надпись и оживить человеческую мысль, которая казалась утонувшей в веках. Не только примятая травинка, увядший цветок, оцарапанная кора, сдвинутый с места камень, но еще и вид птицы, планирующей вдалеке и внезапно меняющей курс, и чуть-чуть измененный крик животного, и прыжок в воду каймана, запах дыма от костра[400] очень многое могут сказать человеку, с детства научившемуся читать раскрытую книгу природы. Такого рода способности не являются, впрочем, принадлежностью исключительно первобытного образа жизни, равноценное встречается и в нашем цивилизованном мире. Разве не наблюдаем мы удивительные действия сыщиков, обладающих интуицией подлинного детектива или эстрадного актера, помогающей им отыскать преступника в огромных лабиринтах Лондона или Парижа? Все эти качества отличали робинзонов, позаимствовавших методику индейцев и негров и с помощью собственного интеллекта усовершенствовавших обычные приемы расследования. Сведения, полученные от раненого, нисколько не проясняли ситуацию, тайна становилась еще более непроницаемой. И действовать надлежало быстро, ничего не упуская из виду, одним словом, схватывать на лету все озарения и догадки. Одно из двух: либо лодки с грузом спускались по течению Марони, либо же похитители выгрузили добычу на берегу и спрятали ее в глубине леса, предварительно разделив на части. В первом случае лодка Шарля с ее мощной машиной скоро догнала бы грабителей. Вторая гипотеза, более правдоподобная, нуждалась в тщательном изучении обоих берегов большой реки. Следовало сначала спуститься по течению и произвести разведку, которая подтвердила бы отсутствие или наличие флотилии. Первая часть экспедиции прошла без помех, но не принесла никаких результатов. Впрочем, можно было ожидать такого итога. Робинзоны спустились до водопада Гермина, крайней точки, какой тяжелогруженые лодки могли бы достичь за двадцать четыре часа, с учетом ветра и течения. Марони хранила угрюмое молчание. Робинзоны расспрашивали встречавшихся на пути индейцев и негров-бони, но те ничего не видели. Значит, флотилия не покидала верховьев реки и скорее всего воры спрятали ее в какой-нибудь бухточке или протоке, замаскировав за густой стеной растительности, тянувшейся по обоим берегам. Лодка медленно шла на сбавленной скорости. Стоя на корме возле Шарля, Анри пристально вглядывался в однотонно тусклую массу зелени, прорезанную лианами и бугорчатыми стволами, с яркими точками цветов. Его брат, не отрывая бинокля от глаз, рассматривал противоположный берег, до которого было километра полтора, а то и больше. Молодые люди не замечали ничего подозрительного. Как вдруг старший из робинзонов, более часа сохранявший неподвижную позу охотника в засаде, резко дернулся. Он схватил ружье и зарядил егос видом человека, готового тотчас выстрелить. — Что с тобой, Анри? — тихо спросил отец, не отрываясь от руля. — Костер, — коротко откликнулся тот. — Правда-правда, — подтвердил Ломи. — Да где же ты видишь костер, дитя мое милое? Нет никаких признаков огня! — А я и не вижу, я его чувствую. — Ты чувствуешь… дым? — Да, отец. — Не понимаю. — Ну вот же, вот… Огонь горел пять минут назад, вон там… в сотне метров. Его только что загасили. — О!.. О!.. — с восхищением причмокнул Башелико. — Дорогой компе Анри, ты сказал правильно, да-да! — Совсем недавно горящие угли полили водой, и я отчетливо различаю запах теплой смоченной золы… Ветерок доносит до меня испарения… а к ним примешивается другой запах… сейчас, сейчас скажу!.. Ноздри Анри раздувались от усилий и возбуждения. — Готов биться об заклад, что они жгли дерево сассафра! — О, компе! — восторженно воскликнул Ломи. — Ты прав, прав! — Анри точно сказал, — в один голос подтвердили Эжен и Эдмон, вдыхая маленькими порциями влажный болотный воздух. — Стоп! — скомандовал Робен. Никола сбросил пар, лодка замедлила бег и остановилась. Была уже половина пятого пополудни. Следовало подумать и о ночлеге; так что капитан все равно скомандовал бы остановку, если бы ее не ускорил инцидент, столь незначительный на первый взгляд. Высадку произвели осторожно, с оглядкой. Робен и его сыновья слишком хорошо знали хитрости и уловки обитателей девственного леса, чтобы броситься туда вслепую, наугад. Шарль свистом подозвал собаку. Умное животное навострило уши, потянулось, зевнуло и громко фыркнуло. Молодой человек легонько приласкал ее, нагнул голову к земле: — Ищи, Матао, ищи! Животное медленно двинулось вперед, сделало два или три круга поблизости, минут на пять исчезло из поля зрения и возвратилось стремглав, когда Шарль чуть слышно пощелкал языком. — Путь свободен, — заявил юноша, — можно отправляться. Ты не возражаешь, отец, чтобы мы с Анри шли впереди? — Хорошо, дитя мое, но при условии, что Ломи и Башелико будут рядом с вами. — О, муше, мы тоже пойдем! Мы согласны, да, да! — хором вызвались черные братья. Четверо молодых людей, с заряженными ружьями в правой руке и с обнаженными мачете — в левой, последовали за собакой, которая без малейших колебаний привела их к костру. Он был расположен в глубине леса и совершенно скрыт за нижними ветвями и корневищами огромного дерева сассафра. — Браво, Анри! — восхищенно воскликнул Шарль. — Тсс!.. Матао выказывал признаки беспокойства. Он петлял вокруг дерева и, по всему видно, порывался взять след, который учуял его безошибочный нос. — Кликни своего пса, — сказал Анри, — и давай исследуем костер. — Ты угадал все как по нотам, мой дорогой брат. — Шарль не скрывал своего удовольствия. — Лагерь оставили недавно. Горящие угли залили водой, и люди, бывшие здесь только что, имели основание прятаться, раз убежали так быстро. — Черт подери! Но всего этого слишком мало. Надо знать, кто они, сколько их, в каком направлении двинулись… в этом загвоздка! С нею справиться нелегко. — Думаешь? — Ну, я тебя не узнаю, дорогой малыш! Годичное отсутствие так тебя переменило? — Но ты же, Анри, самый опытный из нас. Все тайны леса для тебя открыты! Ты настоящий дикарь! — Спасибо за комплимент, месье парижанин! — Я не то хотел сказать. Ты же знаешь… Кто способен на большое, не всегда способен на малое… А ты можешь и то и другое лучше, чем кто-либо из нас. — Еще раз — благодарствую… Попробую оправдать столь высокую оценку моим скромным достоинствам. Итак, кто такие наши незнакомцы?.. Нет, каково! Они уничтожили все следы. Глупцы! Разве это им поможет? Тем более что они не все предусмотрели. — Как это? — А взгляни-ка на Ломи, спроси у него, на что он показывает пальцем. Негр и в самом деле, не говоря ни слова, указывал на легкий округлый отпечаток, оставленный на золе каким-то непонятным предметом. — Что это за штука? — допытывался Шарль. — Всего-навсего дно оплетенной бутыли, из нее заливали огонь водой. — Верно! Видны даже рубчики от плетенки! — Интересно, принадлежит бутыль белым, индейцам или неграм? — Скоро узнаем. Черт возьми! — радостно воскликнул молодой человек после нескольких минут тщательного осмотра. — Случай помогает как нельзя лучше! До сих пор Анри не сделал ни одного шага, чтобы ничего не нарушить в рельефе почвы. Не покидая своего места, он схватил ружье за приклад, изогнулся, вытягивая руку как можно дальше, кончиком дула исхитрился подтолкнуть к себе небольшой круглый предмет и поднял его левой рукой. — Пробка от бутыли! Первоначально в ней было вино. Могу утверждать, что ее раскупоривал белый. — Откуда ты знаешь? — Что касается содержимого, то все очень просто, здесь моей заслуги нет: пробка все еще пропитана винными парами. — Но, — заметил Шарль, — хотя индейцы обожают тафию, они не отказываются и от вина, если представится случай. Поскольку у меня веские основания предполагать, что бутылку взяли из моего багажа, то безрассудно допустить, будто индейцы могли проигнорировать мой великолепный медок[401]. — Согласен. Но я не думаю, что в местном быту широко известен штопор. Индейцы довольствуются тем, что проталкивают пробку внутрь бутылки. А вот на этой пробке — след стальной спирали… Погляди-ка сюда, на красном воске виднеется печатка одной из лучших фирм колонии: «Адольф Балли-младший и сыновья». — Ты прав, Анри, как всегда. Нюх у тебя потрясающий! — Ба! — скромно отвечал молодой человек. — Всего-то нужно немного методичности и внимания. А вот и еще один… Хм! Никак не ожидал увидеть его здесь. Ей-богу, очень странно! Такие следы оставляет большой муравьед. Наш старый приятель Мишо давно приучил нас к своим отпечаткам… Ошибка исключена. Вот выступы от передних когтей, подвернутых на подошвах ног. — А вот и отпечатки задних лап, которые опирались на почву… — Верно! Но, Шарль, не замечаешь ли ты некоторую странность, может быть, единственную? — Нет, а что здесь необычного? — А то, что муравьеды, как и все стопоходящие животные, идут иноходью, то есть одновременно передвигают ноги с одной, потом с другой стороны. А этот почему-то брел шагом, ноги двигались по диагонали, раздельно. — Значит, ты полагаешь, что этот муравьед… — Я ничего не полагаю. Просто констатирую аномалию, и это дает мне тем больше пищи для размышлений, что след муравьеда — единственный, который мы обнаружили… Надо бы понаблюдать за этим зверем. Завтра увидим, что думает на этот счет наш новый друг Матао. При звуке своего имени пес завилял хвостом, а потом пустился вскачь вокруг сассафра. Он примчался через полминуты. Морда измазана чем-то красным, словно он окунул ее в кровь. — Ты погляди… краска ру́ку! Пес мотался взад-вперед, призывая Шарля следовать за ним. Молодой человек отлучился и почти сразу же появился снова, держа в руках сосуд с индейским орнаментом. Тыквенную бутылку, еще хранившую остатки краски руку, разведенной на растительном масле, скорее всего бросил здесь какой-то индеец, совершавший ритуальный туалет. — Вот видишь, — сказал юноша брату, — это, должно быть, индейцы. — Находка лишь доказывает, что краснокожие были здесь, но я не менее убежден в присутствии белого. К тому же бутылка мне кажется весьма подозрительной. Ну подумай сам, как это люди, столь заботливо уничтожающие мельчайшие следы своего пребывания, вдруг не заметили пропажи такого предмета… Либо я сильно ошибаюсь, либо эту бутылку специально оставили, чтобы ввести нас в заблуждение, убедить, вроде здесь была только группа краснокожих… — Раз дело обстоит так, возвращаемся к лодке. На первый случай мы знаем уже достаточно. Недоумение робинзонов только возрастало от обилия предположений, порожденных последней находкой. Они устроили домашний совет и единогласно решили стать на ночлег на месте, только что покинутом незнакомцами. О том, чтобы провести ночь в шлюпке, нельзя было и думать. Мадам Робен, падая с ног от усталости, нуждалась в нормальном отдыхе. К тому же центральное место в лодке занимал раненый, спавший на подстилке из листьев, а для второй постели места не хватало. Решили разделить отряд на две части. Робен, его жена, Эдмон, Эжен, Шарль и Ломи останутся на земле, и Матао с ними. Охрану лодки доверили Никола, Анри и Башелико. Они по очереди будут нести вахту и заодно присматривать за Дю Валлоном. Оставленный на свободе бернаш предупредит робинзонов о любом подозрительном движении. Наметив план действий и распределив роли, восемь мужчин с привычной ловкостью принялись сооружать не одну, а сразу две хижины. Они скрупулезно изучили местность и выбрали самые крепкие деревья, способные противостоять такой катастрофе, которая некогда чуть не стоила жизни Робену и его сыновьям. К наступлению ночи оба укрытия были готовы. Одно заметное издалека, его воздвигли на месте столь поспешно загашенного костра. Другое, напротив, тщательно замаскировали лианами и зеленой массой ветвей. Легкие хижины находились метрах в сорока друг от друга, и между ними расчистили довольно широкий проход, позволявший из второго укрытия видеть абсолютно все, что происходит в первом. В обоих раскинули гамаки, потом семья в полном сборе поужинала в стоявшей на виду хижине, в центре которой пылал огонь. Его должны были поддерживать всю ночь. Когда пришло время укладываться спать, робинзоны бесшумной волчьей походкой перебрались в другую хижину. Самый изощренный глаз не различил бы ее в ночной темноте даже в трех метрах. Ломи остался один возле костра, которому умышленно дал погаснуть, а затем, пользуясь темнотой, натолкал веток и листьев в койки, подвешенные к балкам, имитируя спящих там. После чего навалил на тлеющие угли несколько охапок сухих толстых поленьев и присоединился к семье, в беззвучном смехе корча хитрую негритянскую гримасу. — Все в порядке, Ломи? — Робен понизил голос до шепота, обращаясь к молодому негру. — Все готово, муше, бонбон… Если злые люди придут в ту хижину, они поймаются на крючок… — Очень хорошо, дитя мое, теперь ложись спать. Я первый заступаю на дежурство, на один час. Меня сменит Шарль, потом Эдмон, потом Эжен. Ты станешь на пост в предутреннее время. Крик совы донесся со стороны лодки. Этот сигнал Анри подавал с таким совершенством, что на него нередко откликались и птицы. Крик означал, что на борту все спокойно. Ломи ответил длинной птичьей трелью, затем лагерь погрузился в тишину.
Европейцы с большим трудом привыкают к необычайной протяженности тропических ночей. Это бесконечное и монотонное чередование часов крайне изнурительно. Полная темнота — ни зари, ни сумерек, — и она длится двенадцать часов в сутки, с первого января до тридцать первого декабря! Смертная мука! Тем более что при всегда одинаково высокой температуре жителям тропического региона неведомы ни мягкие осенние вечера, ни свежие летние рассветы умеренной зоны. Так что если утомленный лесным бездорожьем путник за шесть или семь часов крепкого сна восстановит свои силы, то бессонница подстережет его уже в два часа утра и приневолит к слушанию импровизированного концерта, который еженощно закатывают дикие обитатели леса. Если какой-нибудь добавочный повод — приступ лихорадки, чрезмерная усталость, неотложное дело — присоединяется к обычным волнениям, то ночь в лесу способна привести в отчаяние.
Хотя и давно привыкшие к этой видимой аномалии ночей, по-зимнему долгих и по-летнему знойных, робинзоны, угнетенные неопределенностью нависшей угрозы, испытывали ту смутную тревогу, от которой не может избавиться даже самый закаленный характер. И бессонница терзала их в первую половину ночи; они долго крутились в своих гамаках, прежде чем оказаться в сладких объятиях сна. Наконец усталость и треволнения взяли свое, они мирно заснули к тому моменту, когда очередь нести вахту подоспела для Ломи. С прямым торсом присевший на корточки негр подпер обеими руками слегка склоненную голову и сторожко вглядывался в темноту. Его поза была очень характерна для людей черной расы. Он не отводил взгляда от светлого пятна очага в центре легкой конструкции соседней хижины, а напряженный слух его пытался различить посторонний звук в тихом шелесте и бормотании ночного леса. Вахта длилась уже четверть часа, когда Ломи почудилась какая-то тень, медленно выходившая из темной зоны деревьев… Действительно, она выдвинулась к полянке, освещенной отблесками очага. Непонятная тень удлиненной формы остановилась на границе светлого пятна и как будто пыталась заглянуть внутрь хижины. Этот силуэт не мог принадлежать человеку. Он скорее походил на огромное четвероногое, а мелькавшие блики огня придавали ему временами фантастические размеры и очертания. — Ого! — тихо пробормотал Ломи. — Да кто ж он такой, этот зверь?.. Матао подполз к негру, тихо скалясь и навострив уши, готовый пружиной ринуться вперед. Человек или животное, но явно одушевленное существо, сделало еще два шага, и бони с удивлением увидел, что оно было увенчано длинным и широким султаном, который странно колыхался и покачивался. И снова, растянув рот до ушей, бони залился беззвучным смехом. Он осторожно взял ружье, зарядил его, нажимая пальцем на курок, чтобы избежать клацанья пружины, и не спеша приложил к плечу. Дрова вдруг ярко вспыхнули, и негр узнал громадного муравьеда. Судя по всему, животное пребывало в состоянии экстаза. Движения султана имели особое значение. Радостно-возбужденное состояние выражалось этими прихотливыми наклонами огромного хвоста. — Ну, что ты хочешь, таманду?.. — бормотал бони себе под нос. — В той хижине ты не добудешь муравьев, нет! Если не уберешься тотчас в лес, то я пошлю тебе хорошенькую пулю, и из тебя приготовят отбивную котлету… Ломи держал муравьеда на прицеле. Он уже собирался выстрелить, когда отчетливо различил человеческую фигуру, стоявшую у дерева, в двух метрах позади животного. Но это видение мелькнуло и тотчас исчезло. В этот момент со стороны реки, находившейся в тридцати метрах от засады, донесся громкий тревожный лай. Бернаш подавал сигнал. Затем прозвучали два выстрела. Негр больше не раздумывал. Он разрядил ружье в муравьеда, который подпрыгнул на месте, выпрямился во весь рост на задних ногах и растворился в темноте. Храбрый Матао вырвался вперед и застыл как вкопанный, когда его позвали легким свистом. Разбуженные выстрелами, робинзоны вскочили одним прыжком, бесшумно вооружились, не произнося ни единого слова, и заняли оборону с восхитительным хладнокровием. Невдалеке послышался крик, который издает испуганная обезьяна-ревун. — Это Анри, — шепнул Робен жене. — Успокойся, дитя мое, все обстоит хорошо. В кого ты стрелял, Ломи? — спросил он у негра, который, стараясь не шуметь, перезаряжал свое ружье. — В чересчур любопытного муравьеда. Он заглядывал в ту хижину, смотрел на койки… Я подумал, что это нехорошо, это не бонбон… И я поймал таманду на мушку. — Муравьед!.. В такое время, и в таком месте! Да это просто невероятно! — Муше, вы не знаете, а я видел человека, возле того дерева, да… — Ты видел человека? — Да, муше. Я думал, что это таманду, но это не он. — И мне кажется… Уверен, что твой муравьед совсем не то… Самая элементарная осторожность повелевала робинзонам не шевелиться и ни за что не покидать хижины. Так они и поступили, и каждый попытался вновь обрести на своем ложе столь резко прерванный сон. Напрасные усилия. Никто и глаз не сомкнул до той самой минуты, когда нежное воркование токкро возвестило, что солнце наконец прогоняет мрак. Самые высокие макушки деревьев окрашивались в фиолетовые тона, и густая тьма начинала проясняться. Индейская собака заворчала, но тут же стала вилять хвостом. — Ну как! — воскликнул радостный голос. — Вам тоже сегодня досталось на орехи! Анри появился так внезапно и так незаметно, что один лишь Матао учуял его приход. Мадам Робен кинулась в объятия сына, который нежно прижал ее к груди. — Ты не ранен, дитя мое? — Нет, мама, успокойся! И наши компаньоны живы-здоровы. Вы же слышали мой сигнал? — Да, мой друг, — ответил инженер. — Но что там у вас приключилось?.. — Ей-богу, решительно не могу разобраться! Я прилег возле месье Дю Валлона и спокойно отдыхал. Обычно при таких обстоятельствах я дремлю одним глазом… Неожиданно и очень громко залаял бернаш, вы должны были его слышать. Я почувствовал, что лодка плывет по течению. Сразу же отмотал в воду канат с железной скобой, которая служит у нас вместо якоря. Крюк зацепился за грунт, и лодка тут же остановилась. Тем временем Никола, очнувшись от сна, заметил какую-то черную тень на воде, скользившую за лодкой. По контуру он принял ее за каймана, выстрелил в него, и земноводное исчезло. Между нами говоря, в этого каймана я не очень-то верю. Скорее всего наше крепление к дереву он перегрыз не зубами, а хорошо отточенным мачете. — Ты думаешь, что это человек? — Не сомневаюсь. И наш песик уже сослужил нам хорошую службу! — Сдается мне, Ломи, что муравьед принадлежит к тому же семейству, что и кайман твоего компе. Анри взглянул на отца с любопытством: — Что за муравьед? А вы-то стрельбу открыли по какой мишени? — Вот я и говорю, что муравьед явился Ломи, как твой кайман — Никола. И если наш друг стрелял со своей обычной снайперской точностью, то муравьед убрался с хорошим куском свинца под шкурой. — Скоро мы это выясним. Матао нас поведет. — Анри слегка потрепал собаку по холке, приговаривая: — Ищи, Матао, ищи… человека! Умное животное втянуло носом влажные испарения земли и, не издав ни единого звука, шагом двинулось к хижине, где еще дымилось несколько головешек. Робинзоны обнаружили на почве большое расплывшееся пятно крови и множество мелких красных пятен, направление которых, вполне понятно, совпадало с движением раненого животного. Анри углубился в лес и уже через какие-нибудь четверть часа появился вновь, неся великолепную шкуру муравьеда, выделанную на индейский манер. От этой кожи, запятнанной красным, как и земля, исходил слабый запах свежепролитой крови. — Держи, Ломи, — сказал юноша другу, — шкура твоя. Там еще под хвостом торчит маленький обломок гибкого бамбука, с его помощью хвост шевелился. Человек, носивший эту шкуру нынешней ночью, насколько я могу судить, сильно ранен в плечо. Если он не мертв, то дела его весьма плохи, так как я нашел следы тех, кто его уносил. Друзья мои, мы еще дешево отделались! Минут через десять солнце уже сияло вовсю. Волны света струились по деревьям, от них ярко искрилось вдалеке огромное полотно воды. — Тревога! — прозвучал громкий голос Никола. — Тревога! Лодка на реке! Робинзоны бросились к берегу. И действительно, метрах в трехстах они увидели большую парусную лодку, медленно плывшую вниз по течению. Рослый индеец, ничуть не скрываясь, управлял шкотом[402] паруса. Другой мужчина — белый или только одетый по-европейски — сидел у штурвала. Паровая машина робинзонов остыла со вчерашнего дня. Анри и Эдмон вооружились веслами и в сопровождении Шарля и Никола бросились вдогонку за утренними путешественниками. — Дети мои, будьте осторожны! — напутствовал их Робен перед отплытием. Шарль показал ему небольшой автоматический карабин. — Там шесть патронов. Это мой пулемет. А вот и броня, — добавил он, поднимая с носовой части легкого суденышка пластину листового железа, служившую передним сиденьем. Юноша изогнул ее дугообразно и укрепил меж бортовых опор в виде щитка. — Теперь пули нам не страшны! Дружно за весла! Вперед! Робинзоны довольно скоро поравнялись со второй лодкой, хозяин которой, казалось, никуда особенно и не спешил, спокойно совершая водную прогулку. — Стой! — крикнул ему Анри, когда голос его уже мог быть услышан. — Стой! Краснокожий не выпустил из рук шкота и даже не повернул головы. — Этому парню придется сейчас познакомиться с моими кулаками, — разгневался старший из робинзонов, который не отличался терпеливостью. — Ведь это — одна из лодок Гонде, не правда ли, Шарль? — Абсолютно убежден! — …А еще и сам Гонде! — голосом умирающего слабо крикнул человек у штурвала. С трудом приподнявшись, он показал свое лицо, обезображенное кровоподтеками и глубокими ранами. — Вот это сюрприз! Берем индейца на абордаж! Налегли на весла! Лодки стукнулись бортами. Шарль и Анри перепрыгнули одновременно. Краснокожий наконец вышел из состояния невозмутимости. Он медленно распрямился во весь рост и с высоты его, не произнося ни слова, окинул пристальным взглядом обоих братьев. Если этот человек, как говорят на театре, рассчитывал произвести эффект, то замысел его вполне удался. Вообразите гладкое безбородое лицо зловеще-мрачного вида, отвратительно размалеванное красками руку и генипы. И эта физиономия венчала длинное несуразное туловище, с такой же вызывающей старательностью разрисованное вдоль и поперек киноварью. А в центре этой поразительно живой экспозиции бросался в глаза очень странный рисунок. На широкой груди гримасничала голова аймары, разинувшей непомерную пасть, а весь живот покрывал огромный цветок victoria regia, воссозданный с поразительной точностью. — Ах, черт побери! Этот чудак наверняка должен быть одним из наших воришек. Что же касается загадочных эмблем, уже нам знакомых и так сильно нас заинтриговавших, то на сей раз мы их видим на живом объекте, и я был бы совсем не прочь получить от этого типа необходимые разъяснения! Пора бы отыскать ключ к загадке! Анри тяжело опустил руку на плечо мужчины и сказал ему по-креольски: — Мой мальчик, нам с вами нужно кой о чем потолковать. Следуйте за нами на берег, а там уж решим, как с вами поступить. Индеец и бровью не повел. Его большой рот с длинными зубами приоткрылся, и двое молодых людей — озадаченные, изумленные, растерянные — услышали невообразимую фразу, произнесенную на ломаном французском со смехотворной напыщенностью: — Я есть английский подданный… Я приказываю вам дать мне возможность продолжать навигацию!..
ГЛАВА 10
Бессердечный англичанин. — Ангелы преданности. — Угроза девственному лесу. — Сухой паек. — Капитан Вампи опьяняет залив. — Целомудрие Питера-Паулюса Брауна. — Краснокожие анабаптисты[403]. — Кокетство на экваторе. — Гвианские паразиты. — Похищение.Брошенный гребцами на голландском берегу в верховьях Марони, Питер-Паулюс Браун из Шеффилда кричал, бесновался, впадал в мрачную и бессильную ярость. Он грозил кулаком деревьям, взывал к небу, сыпал проклятия на головы неблагодарных негров и сулил гвианским лесам английскую интервенцию. — …Фрегат!..[404] Два фрегата!.. Броненосец!.. С солдатами Ее Величества, призванными консулом… Целая эскадра, с пушками сэра Уильяма Армстронга, явится на эту реку, чтобы покарать вас… О!.. Я — английский подданный. Правительство Ее Величества никогда не бросает на произвол судьбы своих подданных! Во время плавания Питер-Паулюс обычно бывал молчалив и безобиден. Поглощенный эгоизмом человека, который вечно голоден и вечно переваривает пищу, он ограничил свой мир стенками собственного желудка, не думая больше ни о чем, даже о своей семье. Поскольку он обеспечил жизненное благополучие миссис Арабеллы, мисс Люси и мисс Мери, то единственной их заботой должна была стать полная сохранность внутренностей мистера Брауна. А так как одна лишь «навигация» способна заставить функционировать эти внутренности, то Питер-Паулюс нисколько не сомневался, что жена и дочери с величайшим наслаждением бороздили водную часть нашей планеты. Бедные женщины страдали, не смея протестовать против каторги этого исступленного космополита, и замыкались в своей взаимной нежности. Трудно представить что-либо грациозней и очаровательней, чем это трио. Мать, еще молодая и очень красивая, казалась старшей сестрой двух девушек. Несмотря на семейный союз с маниакальным психопатом, миссис Браун не утратила ни высоких душевных достоинств, ни свежести природного ума. Со времени превращения мужа в Вечного Жида[405] — селезеночного или, скорее, желудочного — она умудрилась завершить образование своих дочек и с пользой распоряжалась выпадавшими ей моментами отдыха, к сожалению, весьма редкими среди бесконечных маршрутов по всему миру. Итак, мисс Люси и мисс Мери были вполне благовоспитанными юными девицами и вдобавок прелестной внешности. Их нередко принимали за близнецов, хотя одной минуло девятнадцать, а другой — восемнадцать лет. Обе — блондинки, у обеих пышные волосы отливали тем восхитительным светло-пепельным блеском, который так смягчает и просветляет лица. По странной прихоти судьбы большие черные глаза придавали им выражение твердости, что в сочетании с немного грустной и болезненной внешностью усиливало очарование сестер. Их маленькие ручки, изящные и вместе с тем крепкие, охотно пожимали протянутые навстречу ладони с истинно английской сердечностью, а стройные ножки — редкая вещь в Соединенном Королевстве! — могли бы соперничать с ногами записной парижской красавицы. Бедные дети, как и их мать, страдающие от тягот дороги, выглядели бледными, изрядно похудевшими. Но им достаточно было совсем немного покоя, чтобы восстановить прекрасный естественный цвет лица, — он составляет национальную привилегию англичанок! — не потеряв при этом своей изысканности. Они объездили столько стран, видели столько всякой всячины, наблюдали жизнь такого множества народов, с честью выбирались из таких трудных ситуаций и сталкивались с такими опасностями, что нынешнее их положение, сколь странным оно ни казалось, не было чем-то из ряда вон выходящим. Это одиночество, эта заброшенность на берегу неизвестной реки — простая случайность, еще один инцидент на долгом пути… Большинство женщин в их положении терзались бы отчаянием, полагая себя погибшими. Эти же, напротив, пытались извлечь пользу из передышки, спасавшей их на время от килевой и бортовой качки, и были бы почти счастливы, если бы мистер Браун не страдал столь же остро от прямо противоположных чувств. Мания главы семейства представляла для них священный предмет. Они скорее отдали бы себя на растерзание, чем позволили жалобе сорваться со своих уст. При бегстве боши проявили достаточно такта, чтобы оставить белым их вещи и продукты. Вообще негры честны по натуре. Если по обстоятельствам они не могут сами нарушить взятое обязательство, которое их тяготит, то в качестве реванша всегда найдут приличный повод избавиться от чего бы то ни было. Не припомню случая, чтобы бош или бони украл деньги. Очень редко они осмеливаются присвоить немного провианта, необходимого им на дорогу в родные места, но и то лишь, когда полностью лишены средств к существованию. Короче говоря, у Питера-Паулюса была хижина, где он мог укрыться вместе с семьей. У него были подвесные койки и продукты питания. А поскольку сезон дождей уже миновал, англичанин мог не опасаться непогоды. Но закоренелый мономан думал вовсе не о том! Как только он очутился на твердой земле, а его диафрагма перестала вибрировать в такт движению судна, мистер Браун превратился в злобного дога. Напрасно обращала к нему нежные слова миссис Арабелла, напрасно пытались приласкаться к отцу милые девушки, — ничем невозможно пронять человека, у которого желудок давно заменил сердце. Но волей-неволей Питер-Паулюс должен был отказаться от «навигации», и это приводило его в ярость. Если бы он знал нравы негров верхней Марони, то набрался бы терпения, понимая, что вынужденная стоянка не продлится долго. Почтение, которое испытывают к белым боши, бони, даже юка и полигуду, таково, что негры никогда не пожелали бы по своей воле накликать на европейцев несчастье. Это чувство, глубоко в них укоренившееся, подпитывается благодарностью за добрые дела белых, но вызывается также и страхом наказания. Они отлично знают, что колониальные власти не шутят, что они рискуют все потерять и ничего не выиграть, грубо обращаясь с путешественниками. Так что с полным основанием можно было ждать через несколько дней появления лодки, посланной дезертирами, но уже с другими гребцами. Вполне вероятно, что и сам вождь, заинтересованный в поддержании добрых отношений с властями, явился бы собственной персоной спасать покинутых. Но в этом направлении Питер-Паулюс не размышлял. Побушевав какой-нибудь час, он успокоился. Меланхолически открыл банку мясных консервов, разодрал фольгу в коробке с печеньем, предложил жене и детям по кусочку мяса, присел на корточки и стал нехотя закусывать. Не прекращая размалывать пищевой брикет своими мощными коренными зубами, Питер-Паулюс тяжко вздыхал. Не подумайте только, что он хоть в малейшей степени был обеспокоен странным, если не угрожающим, положением двух своих дочерей и жены. О нет! Он завидовал их аппетиту и сожалел, что не может с такой же быстротой опустошать маленькую жестяную банку, из которой они грациозно клевали скудный завтрак. Кроме того, мозги Питера-Паулюса сверлила неотвязная идея. Вот бы выдолбить лодку! Но для этого и месяца мало… К тому же у него нет никаких инструментов. Ах! Если бы сейчас несколько славных стальных изделий из Шеффилда! — О!.. Я бы построил плот… Very well, именно плот… Но появление двух кайманов, которые медленно скользили по воде с полуоткрытыми пастями, пресекло в зародыше эту ленивую фантазию на морские темы… От клацанья их челюстей, которые рептилии закрывали время от времени с ужасным звуком больших ножниц, Питер-Паулюс вмиг оцепенел. — О!.. — печально пробормотал он. — Я — пленник этой реки. Судьба послала мне жестокое испытание… О!.. — Мой друг, мой милый Питер, — нежно сказала миссис Арабелла на хорошем французском языке, — будьте мужественны! Невезение скоро кончится. А потом, мы все так вас любим, мы позаботимся, чтобы вам было хорошо! Правда ведь, Люси? Правда, Мери?.. — Конечно, дорогая мамочка, — откликнулись обе девочки, нежно обнимая отца, всегда надутого, как индюк. — О!.. — тянул он свое, но уже по-английски. — I am lost![406] Чувствую, что я умираю. Эта солонина отвратительна. И неподвижность меня добьет. Чтобы мистер Браун заговорил по-английски, требовались воистину серьезные обстоятельства. Восемь дней миновало без происшествий, но также и без каких-либо перемен в существовании, столь необычном для всякого новичка и уж совершенно нестерпимым для ножовщика из Шеффилда, которого терзали желудочные недомогания и муза странствий. Питер-Паулюс проводил дни, разжигая костры в надежде привлечь внимание какой-нибудь лодки и часами обозревая водную гладь. Увы! Река оставалась пустынной. В антрактах между этими действиями он с регулярностью хронического ревматизма вскрывал консервные банки с солониной, жевал говядину или баранину, морщась от брезгливости, закусывал тунцом или сардинами в масле. Его меланхолия переросла в ипохондрию, и он больше не говорил по-французски. Наутро девятого дня он бросил по обыкновению несколько охапок хвороста в костер и унылым взором окинул горизонт. И тут из его груди вырвался радостный вопль. Три пироги, забитые до отказа пассажирами, чьи кирпично-красные торсы так рельефно выделялись на фоне легких коричневых скорлупок, изо всей силы гребли к стоянке европейцев. Радость и надежда засветились на лице Питера-Паулюса, из глотки его тут же стали вылетать французские слова: — Арабелла! Идите сюда! Мери! Люси! Глядите! Глядите!.. Маленькие лодочки… С добрыми индейцами… О! Они заберут нас! Мы вернемся на пароход! Какая радость!.. Затем англичанин принялся размахивать своими длинными руками, как бы передавая нечто важное по азбуке Морзе, заполняя весь берег громовыми раскатами своего «ур-ра!». Краснокожие причалили с неизменной индейской невозмутимостью. Лица их ничем не выдали удивления, вызванного неожиданным спектаклем. Последний радостный крик Питера-Паулюса застрял в горле. — Ах! Мери! Люси! Арабелла! Прячьтесь! Не смотрите на них! Эти краснокожие very shoking![407] Ах! Эта непристойная нагота ужасна, отвратительна! Одеяние новоприбывших действительно могло смутить и не таких пуритан, как англичане, чья стыдливость не позволяет им называть вслух даже некоторые детали туалета. И мужчины, и женщины, и дети, облаченные в солнечные лучи и собственное целомудрие, выступали с трогательным простодушием, достойным наших библейских прародителей в догреховный период их жизни. Единственной уступкой приличию со стороны прибывших были калимбе[408]. Прочие элементы одежды отсутствовали. Их заменяли ожерелья, браслеты и подколенные подвязки — у женщин, мужчины носили еще несколько перьев в волосах. Только один красовался в рубашке. Голову он прикрыл старой фетровой шляпой мышиного цвета, а при ходьбе опирался на трость, которая при ближайшем рассмотрении оказалась держателем садовой лейки. Явные знаки старшинства указывали, что перед англичанином — вождь племени. Он протянул руку Питеру-Паулюсу и сказал: — Бонжур, муше. Поскольку девушки и их мать ретировались в хижину, а мистер Браун надеялся столковаться с индейцами, то он подавил отвращение, не желая углубляться в тему вызывающе скандального внешнего вида пришельцев. Питер-Паулюс пожал протянутую руку: — Имею честь приветствовать вас! — Я капитан Вампи. — Угу, — пробормотал себе под нос англичанин, — этот джентльмен знаком со светскими обычаями. Он представился весьма приличным образом… Капитан Вампи! — Бывший фабрикант повысил голос, обращаясь к индейцу. — А я — мистер Питер-Паулюс Браун из Шеффилда! — Ну да, ну да, — подтвердил индейский вождь, не понявший ни единого слова. — Позвольте, капитан, навести вас на некоторые размышления… Одежда ваших солдат и ваших дам слишком легка, и по этой причине я не могу их представить миссис Браун. Индеец понял из сказанного не больше, чем из предыдущей фразы. Но англичанин сопроводил свою речь столь выразительной пантомимой, что капитан Вампи смекнул: — Вы хотите, чтобы я надел штаны! Затем вождь перевел эти слова с креольского на индейский для своего окружения. Один из мужчин тут же притащил из лодки плетеную корзину, извлек из нее старые, протертые брюки, заляпанные маслом и краской, — славные останки униформы морского пехотинца. Капитан Вампи торжественно погрузил свои ноги в две матерчатые трубы и перепоясался лианой, предоставив рубашке вольно трепыхаться вокруг тела. Такая покладистость тем более удовлетворила Питера-Паулюса, что и другие индейцы стали облачаться в подобные штаны, костюмируясь «coram populo»[409] без малейших возражений и тем самым проявляя искреннее желание угодить европейцу[410]. Женщины и дети остались в одеждах Адама и Евы, но, право же, на войне как на войне! Главное, что выдержан принцип. Пока мистер Браун готовился отпраздновать появление гостей и раскупоривал несколько бутылок тафии, миссис Арабелла и юные девушки предстали восхищенным и изумленным взорам краснокожей ватаги. Индейцы редко видят белых женщин, и красивые лица, белокурые волосы и европейские одежды привели их в полный восторг. А мисс Люси еще осенила счастливая идея рассыпать нитку своих гагатовых бус[411] и подарить женщинам и детям по бусинке. Такая щедрость девушки в сочетании с обильной выпивкой, о которой позаботился ее отец, подняла взаимоотношения новых знакомцев до уровня исключительной сердечности.
Эти краснокожие, впрочем, были уже наполовину цивилизованы благодаря частым контактам с французами Сен-Лорана и голландцами Альбины. Если они и не отказались полностью от кочевой жизни и сохранили обычаи предков, то общение с белыми в какой-то мере облагородило их. Обычно племя жило в деревне на голландском берегу, что наискосок от исправительной колонии. Хорошо отстроенное и красиво расположенное селение состояло из тридцати хижин, в центре его возвышалось жилище Вампи. Капитан Вампи[412] — не выдуманный тип, это влиятельная фигура у индейцев галиби. Его власть, официально признанная голландским правительством, простирается на всех индейцев побережья, от косы Галиби до слияния рек Ав и Тапанаони, то есть более чем на двести километров. Как и все люди его расы, Вампи — космополит, способный дать фору и самому мистеру Брауну. Постоянно в движении, перемещаясь по воле своей фантазии, он живет повсюду, и нет у него иной цели, кроме свободы дикого зверя, ради которой он жертвует всем. Индеец воистину не умеет подчиняться иным правилам, кроме своего каприза. Если он полагает, с основанием или без оного, что какое-то обстоятельство может сковать его свободу, то в одно прекрасное утро он решительно трогается с места, в спешке погрузив на пирогу женщин, детей, багаж, котлы, собак, провиант. Он бросает свой участок и устремляется куда глаза глядят, вплоть до созревания урожая. Для него не существует иной заботы, кроме материальной. Котел, кувшин, металлическая пластина для приготовления муки, лук и стрелы — вот его «vade mecum»[413], столь же мало обременительное, как у философа Древней Греции. Его религия, представляющая собой примитивное манихейство[414], приспособлена ко всем условиям кочевой жизни. Он верит в антагонизм добра и зла и делает все, чтобы усмирить злого духа и угодить доброму. Отличаясь заметной склонностью к смирению с судьбой, что роднит его с мусульманским фатализмом, индеец никогда не чувствует себя несчастным. За редкими исключениями, это философски настроенный тип, который старается как можно дольше спать, поменьше работать и побольше пить тафии. В общем, он мягок, а точнее — равнодушен. И напрасно тратили силы миссионеры во все времена, стараясь обратить краснокожих в христианство. Те позволяли крестить себя и свидетельствовали по отношению к «монпе» (mon pére) такое же почтение, какое испытывали ко всем белым. Так и получилось, что лейтенант Вампи, который превратился потом в капитана, стал именоваться Симоном, другой индеец принял имя Жан-Пьера, третий — Поло (Поля)… И все они были крещены не единожды, а многие — по десятку раз… Объясним, почему это происходит. Члены гвианского французского клира принадлежат к конгрегации маристов[415]. Они совершают частые и дальние поездки. И весьма редко какой-то миссионер дважды посещает одно и то же место. Отлично зная, что проповеди завершаются раздачей тафии, пускай и в небольших количествах, краснокожие охотно группируются вокруг священника, которого называют «монпе», и даже сами просят их окрестить, поскольку это неизменно служит поводом к празднику. Ничего не зная о прошлом неофита[416], марист проводит с ним обряд посвящения, который лукавый индеец уже выполнял — и часто неоднократно — с другими миссионерами.
Беседа между Вампи и мистером Брауном быстро бы зачахла, если бы капитан не прикладывался частенько к кувшину, усердно наполнявшемуся Питером-Паулюсом. Индеец изъяснялся на плохом негритянском языке, европеец — на французском, с англосаксонским прононсом… Оба не понимали друг друга, и с обеих сторон слова превращались в нечто совершенно неразборчивое… Но в сознании капитана Вампи зацепилось несколько английских словечек благодаря контактам с голландцами. Например, понятия «джин», «фунт», «гинея», «шиллинг» были ему знакомы. Питер-Паулюс толковал о пироге и сопровождал свою речь телодвижениями гребца. Вампи отвечал «фунтами» и «флоринами». Вскоре они уразумели друг друга. Тем временем миссис Арабелла и ее дочери вели бессвязную беседу с индианками, дополняемую жестикуляцией, которая нередко воспринималась в прямо противоположном смысле. Все поражало англичанок в этой удивительной и совершенно непредвиденной ситуации. В ту минуту, когда им хотелось обогатить какой-нибудь значительной мыслью эти бедные мозги или пробудить тонкое чувство в душах убогих созданий, собеседница неожиданно бросалась к бутылке тафии, жадно всасывала огромный глоток, отрывала от своей груди младенца, напичканного молоком, и вливала в желудок маленького беззащитного существа такую дозу спиртного, перед которой отступил бы европеец. Большинство индианок были некрасивы, но не без претензий. Маленький рост, угловатые фигуры, выступающие скулы, морщинки вокруг глаз делали их малопривлекательными. Но кокетство на берегах тропической реки не менее развито, чем на берегах Сены или Темзы. И юные и старые без исключения носили широкие подвязки на ногах — чуть пониже колена и чуть повыше щиколотки. Эти красные подвязки затягивались настолько туго, что нарушали кровообращение. От повышенного давления икры чудовищно раздувались, вот эта их толщина и служила образцом элегантности. Поскольку мускулы ног переставали работать и теряли эластичность, передвижение женщин становилось весьма затруднительным. Жертвы варварского обычая ступали на кончиках пальцев, приобретая шаткую и неловкую походку, как у гусыни. А впрочем, имеем ли право злословить по поводу подвязок и пухлых икр бедных дикарок, которые немногим уступают цивилизованным дамам с их корсетами и шнурованными ботинками… Между тем мисс Люси, у которой уже два дня страшно чесалась подошва ноги, почувствовала себя совсем плохо и вынуждена была уединиться в хижине — настолько невыносимым стал этот странный зуд. Индианка с любопытством последовала за ней. Девушка сняла обувь. Один из пальцев слегка опух, и маленькое розовое пятнышко чуть заметно выступало на белой коже. Еще два таких же пятнышка оказались на подошве ноги. Зуд нарастал с такой силой, что мисс Люси, невзирая на присутствие нетактичной туземки, принялась ожесточенно скрести свою ногу. — Не надо чесать. Будет хуже. В ногу забрался клещ. Дайте, я вам помогу с ним управиться. Девушка не понимала по-креольски, но уловила в словах женщины сочувствие и показала ей пораженную ногу. — Так и есть, — покачала та головой. — Я это умею. Я уберу клеща. С помощью булавки она обвела каждую из маленьких точек, а потом вскрыла кожу над ними с такой ловкостью, что Люси ничего не почувствовала. Не прошло и двух минут, как умелая врачевательница показала ей на кончике булавки три маленьких белых пузырька, размером с просяное зерно. Юная англичанка сразу испытала огромное физическоеоблегчение. — Подождите немножко, — сказала индианка. Она вышла из хижины, разыскала курившего соплеменника, отсыпала из его трубки на ладонь немного пепла и вернулась к мисс Люси. После извлечения пузырьков на коже остались три маленькие дырочки. Индианка заполнила каждую табачным пеплом и велела девушке надеть обувь. — Теперь все в порядке. Вы никогда не ходили босиком. А это злой клещ, он заползает в ноги белого человека. И его бывает много-много. Он делает очень плохо… Успокоенная этим странным и спасительным вмешательством, мисс Люси уже собиралась поблагодарить импровизированную знахарку, как вдруг, к своему ужасу, заметила, что та сунула себе в рот булавку с таким видом, точно намеревалась ее проглотить. Но девушка тут же осознала ошибку, увидев, что булавка насквозь прошила нижнюю губу и с тремя или четырьмя другими образовала маленькую стальную бородку. Чтобы объяснить необходимость булавок для этих добрых людей, щеголяющих в столь незамысловатых костюмах, придется сказать несколько слов о том, что такое «la chique», или клещ, по словам индейцев. La chique, или puce pénétrante (проникающая блоха), представляет собой очень маленькое насекомое, но бесконечно более неприятное, нежели обыкновенная блоха. Главные районы обитания — Антильские острова и Южная Америка, где она встречается повсеместно. Много этих насекомых в песке, пыли, особенно в заброшенных хижинах. Блоха быстро и незаметно проникает между кожей и мышцами, не вызывая при этом никаких неприятных ощущений. Питаясь соками тела, она скоро увеличивается в объеме, достигая размеров горошины. Ее инвазия (или вторжение) обнаруживается к концу второго дня, когда в месте проникновения появляется сильный зуд. Головка и туловище насекомого теперь виднеются лишь черной точкой сквозь прозрачность кожи. Миниатюрный вампир, удобно расположившись в живом организме, вскоре откладывает яйца. Растущая семья очень многочисленна. Юные блохи атакуют ткани, приводят к злокачественным язвам, иногда смертельным; нередко приходится ампутировать пальцы. Эта болячка частенько поражает босоногих негров и краснокожих, но и те и другие обладают удивительным искусством вырывать маленького монстра из мест внедрения. Но и при всей их способности нет надежной защиты от паразитов, и вовсе не редкость негр или индеец без одной или нескольких фаланг. К тому же ноги туземцев бывают покрыты язвами, называемыми «крабами», и «чауау», которые очень плохо поддаются терапевтическому лечению. Избавляться от паразитов доверено прежде всего женщинам. И при такой операции булавка — первейший инструмент. Но где же носить эти «хирургические аксессуары», если нет ни футляра, ни подушечки для иголок, ни кармана?.. Проблему разрешили своеобразно. Индианки проделывают в нижней губе сквозное отверстие, которое остается после заживления губы, и вводят в этот своеобразный «футляр» булавки с загнутыми наружу кончиками. Металлические «стебельки» зажаты естественным сокращением ткани и не скользят, а очень забавно вибрируют, когда индианка смеется, говорит или нередко — увы! — рыдает. Женщин нисколько не обременяют эти инородные тела, они едят и пьют, не обращая на них никакого внимания. Присутствие булавок становится для них настолько привычным, что они вынимают их даже без помощи рук, одним движением зубов и языка. Таково было назначение столь заинтриговавшего мисс Люси процесса во время извлечения паразитов. Стоит лишь заметить, что подобная операция вовсе не страхует европейца от новой напасти такого рода. Между тем обмен маловразумительными словами и жестами между Питером-Паулюсом Брауном и капитаном Вампи все еще продолжался. Индеец, превратившийся в «голубую макаку» — креольское выражение, означающее крайнюю степень опьянения, — желал немедленно заняться приготовлениями к отъезду. Уже вторично он повторял мистеру Брауну, что имеет своей целью «опьянить бухту», что ему требуется четыре дня для ловли и копчения рыбы, а после этого он вернется и заберет англичанина с его семейством. Но белый собеседник упрямился, как каталонский осел[417], не принимая никаких доводов. — Я хочу уехать сейчас же! Вы понимаете? Сейчас же! Я даю вам много гиней, фунтов, флоринов… даю чек на центральный банк Суринама! Напрасный труд. Решения индейцев незыблемы. И все, чего мог добиться Питер-Паулюс, продолжая настаивать на своем, — это вообще больше не увидеть капитана Вампи с его племенем. Скрепя сердце англичанин вынужден был принять условия краснокожего и провести на суше еще четыре невыносимых дня. Галиби уехали. Мистер Браун, сгорая от нетерпения, кое-как высидел уже тридцать шесть часов, деля свое время между вскрытием консервных банок и разжиганием костров. Он хранил угрюмое молчание и наблюдал не без зависти, как его жена и дочери с аппетитом завтракают и обедают, тогда как он сам, лишенный радостей «навигации», хирел и чах, с глубоким отвращением пережевывая мясную тушенку и рыбу в масле. Минула половина второй ночи после отъезда индейцев. Очаг светил словно фара. Питер-Паулюс мирно посапывал во сне. Внезапный плеск весел ворвался в его дремотное оцепенение. Мистер Браун вздрогнул и вскочил на ноги, сон тут же слетел с него. Он заорал во всю силу своих легких, допытываясь, кто идет. Весла перестали грести, плеск утих. Трехэтажная ругань зазвучала в ночи: англичанин не любил церемониться. До его слуха донесся хруст ветвей. Огонь заколебался и стал быстро гаснуть от неизвестной причины. Воцарилась полная темнота. Питер-Паулюс собирался протестовать против грубого и незаконного вторжения в частное жилище, но не успел. Чьи-то жесткие и сильные руки схватили его, опутали веревкой, заткнули рот кляпом. Затем бесцеремонно поволокли через кустарник и швырнули на дно лодки. Он не в состоянии был ни пошевелиться, ни что-то крикнуть остающимся женщинам, чье положение становилось ужасным. Впрочем, Питер-Паулюс Браун вряд ли много размышлял на эту тему. Плеск весел возобновился, лодка тронулась с места и закачалась на воде. «А, все равно, — подумал ошарашенный англичанин, с трудом приходя в себя. — По крайней мере, это — «навигация»…»
ГЛАВА 11
Мытарства Питера-Паулюса. — Как обокрали бывшего каторжника. — Отважный негодяй. — Таинственные появления и исчезновения. — Мистер Браун желает плавать. — Снова капитан Вампи. — Лицом к лицу с вором. — Секундное замешательство. — Бегство мошенника.Читатель помнит поразительную фразу, произнесенную плывшим вместе с Гонде индейцем в тот момент, когда гвианские робинзоны взяли приступом их лодку. Тем краснокожим, столь причудливо размалеванным краской руку и маслом карапы, говорившим по-французски с непередаваемым английским акцентом, той живой картиной, отразившей на человеческой коже загадочные проделки Водяной Матушки, словом, тем странным персонажем был Питер-Паулюс Браун! По какому невероятному стечению обстоятельств бывший ножовщик из Шеффилда, страдавший хроническим желудочным расстройством и манией перемещения, оказался в подобном виде и в таком месте, с координатами 5°40′ северной широты и 56°40′ западной долготы?.. Как ни старался Робен, но ничего не сумел выудить из этого оригинала. Видя, что навигация прервана, а все протесты бесполезны, англичанин замкнулся в себе и сохранял стоическую бесстрастность, которой мог позавидовать последний потомок индейцев арамишо. Впрочем, у инженера и его сыновей хватало забот, чтобы не ломать себе голову над загадкой, рано или поздно разрешимой. Большую пирогу привязали к паровой лодке, и робинзоны взяли курс на свой лагерь, к великой радости Гонде. Бедняга находился в плачевном состоянии. С разбитым лицом, весь в кровоподтеках, он едва держался на ногах и с трудом отвечал на вопросы. — Ах! Месье Робен, какое счастье снова встретиться с вами! Со мной так ужасно обращались, избили, обокрали. Ваш сын доверил мне свое имущество, а его отобрали у меня силой. Но мы все найдем, и очень скоро! — Энергия как будто постепенно возвращалась к бывшему каторжнику. — Послушайте, Гонде, но что же все-таки произошло? Расскажите, не упуская ни одной подробности… Главное, нам нельзя терять ни минуты. — Сейчас, месье, сейчас… Но прежде позвольте задать вам один вопрос. — Говорите. — Вы ведь не подозреваете меня, не правда ли? Вы не допускаете, что я мог что-то украсть у вас, у моего благодетеля? И не ставите под сомнение мою бдительность? — Нет, Гонде. Мне приходила на ум мысль о катастрофе, за которую вы никак не можете быть в ответе. — Хотя, по правде говоря, — вмешался Шарль, — ваше исчезновение показалось нам довольно странным. — Увы, — печально ответил бывший узник, — я могу повторить лишь одно: если оступился один раз, то не можешь больше рассчитывать на доверие честных людей. — Вы ошибаетесь, мой сын вовсе не думал выражать вам недоверие. Мы имели в свое время достаточно доказательств вашей честности, чтобы теперь приписывать злой умысел. — Спасибо, месье Робен, спасибо на добром слове. Я отыскал бы вас всех в течение трех дней, если бы грабители не отдали меня этому безумцу, который нещадно отколотил меня и заставил плыть вниз по реке. Питер-Паулюс, храня презрительное молчание, с вызывающим видом повернулся спиной к европейцам. — Но кто же вас ограбил? — Я ничего не могу понять во всей этой истории. Верно только то, что они размалевали англичанина, усадили его в мою лодку и сказали: «Ну, а теперь плавайте на здоровье, мистер Браун, в вашем распоряжении лодка и ее владелец». Он ответил: «Хорошо», — и приказал мне: «Плывите в Сен-Лоран, у меня украли чековую книжку, я должен сделать об этом заявление». Я собирался плыть по заливу, но он страшно разозлился, чуть не до смерти избил меня своими кулачищами. Пришлось спускаться по Марони, под угрозой новой расправы. — Йес, — соблаговолил произнести Питер-Паулюс. — Мою чековую книжку украли. Все мое состояние попало в руки негодяев. А вы были их соучастником, потому что хотели помешать мне продолжать навигацию. Я имел намерение сделать заявление властям этой ничтожной страны… — Сэр… — начал было Робен, но его грубо прервали. — Я есть мистер Питер-Паулюс Браун из Шеффилда, — сухо отрезал краснокожий из Великобритании. — Ну, хорошо, мистер Питер-Паулюс Браун из Шеффилда, — на отличном английском языке ответил Робен, — прежде всего я призываю вас успокоиться. С вашим богатством ничего не случится, потому что в Сен-Лоране нет банка, к тому же воры не смогут долго использовать вашу подпись… Вот такой совет дает вам от всей души месье Робен, француз, колонист и гражданский инженер. — Вы — мошенник. Я прикажу повесить вас и всю вашу семейку, когда броненосец Ее Величества прибудет для бомбардировки этой страны. Инженер звонко расхохотался и, пожав плечами, отвернулся от безумца. Но Анри выпрямился во весь свой гренадерский рост перед заносчивым англичанином, приложив палец к его разукрашенному киноварью плечу. — Мистер Браун из Шеффилда, — сказал юноша, слегка побледнев, — я вам настоятельно советую взвешивать слова, а если хотите, то и приказываю. Вы злоупотребили своей силой по отношению к этому человеку, — он указал на Гонде, — и знайте, что по отношению к вам я располагаю такими же аргументами. Чтобы вы не ссылались на плохое знание нашего языка, перевирая или неправильно толкуя сказанное мною, я формулирую свой приказ по-английски. — Анри, — тихо сказал инженер, — оставь в покое беднягу, быть может, у него от солнца мозги съехали набекрень. К тому же потеря денег и смехотворный облик, который придали ему неизвестные злоумышленники, служат смягчающими обстоятельствами. Робен повысил голос, обращаясь к Питеру-Паулюсу: — Мистер Браун, вы — наш гость! Ваша персона священна для нас! Мы готовы угодить любым вашим желаниям… — Грязная тварь! — пробормотал Гонде. — Он оплакивает потерю состояния и ни единым словом не заикнулся о жене и дочерях, которые попали в лапы бандитов! Лодка, тянувшая баркас на буксире, причалила к берегу. Мадам Робен услышала последние слова, произнесенные ее мужем и бывшим каторжником. Ее сердце, жены и матери, сжалось. Она даже не обратила особого внимания на экстравагантный вид прибывшего маньяка. — Бандиты! — воскликнула она. — Женщина, молодые девушки — у них в руках! О! Мой друг, мои дорогие дети, надо вызволить их как можно быстрее! — Я сам только что узнал об этом прискорбном событии, — заметил Робен. — Надо выяснить у Гонде все, что ему известно о похищении. Мы разработаем план действий и без промедления возьмемся за дело. — О да! Конечно! Бедная женщина! Бедные дети! В каком ужасном положении они очутились! Весь отряд вновь расположился в хижине. Двое негров-бони остались часовыми при лодках. А Гонде, удобно устроившись на подвесной койке, долго рассказывал о событиях минувших трех дней. — Прошли уже сутки, как месье Шарль выехал на разведку в верховья Марони, и двенадцать часов, как вы отправились ему навстречу. Вода в реке угрожающе прибывала, хотя состояние атмосферы никак не объясняло этот резкий подъем ее уровня. До меня донесся глухой взрыв, уж не знаю, чем он был вызван. Похоже, что взорвали очень крупный подземный заряд пороха. Но как проверить это предположение? Кантоны Верхней Гвианы такие пустынные! Кто мог заложить заряд и с какой целью? — Правда, правда, — поддержал Робен. — Этот взрыв за несколько минут до наводнения заинтересовал нас в высшей степени… — …Независимо от опасности, которой нам удалось избежать, и от опустошений, которые вода произвела на золотом прииске, — подхватил Шарль. — Разработки теперь надолго станут невозможными. К тому же я боюсь, что большинство рабочих, спасшихся от огня, погибло в воде. — Как бы там ни было, невзирая на всю невероятность предположения, наши мысли сходятся. Но продолжайте, Гонде, продолжайте! Слушаем вас внимательно. Успех экспедиции зависит от вашей точности. — Мы расположились перекусить на правом берегу реки. Баркасы прочно стояли на якоре, и для пущей надежности я в каждом еще поставил по человеку. В это время мы увидели европейскую лодку. В ней было восемь человек, а на корме устроен французский балдахин. Четверо негров гребли изо всех сил. Под тентом находился офицер морской пехоты, в полной парадной форме, в сопровождении двух солдат того же рода войск и капитана в одежде военных надзирателей. Еще один пассажир, краснокожий, носил старую шляпу и рубашку. Ага, сказал я себе, это офицер из гарнизона Сен-Лорана, проводящий, по-видимому, гидрографические работы. Капитан повернул штурвал, и шлюпка причалила возле наших. Я тотчас ее узнал. То была одна из крупных лодок исправительной колонии, окрашенная в белое, с характерной конструкцией деревянных бортов по типу черепичной укладки. На корпусе еще виднелись черные буквы «С» и «Р», разделенные якорем. Офицер ступил на берег в нескольких шагах от нас. Лет тридцати пяти, в чине капитана, со значком ордена Почетного легиона. Потом я заметил, что железная решетка, отделявшая гребцов от пассажиров, убрана. Надзиратель, вместо того чтобы собрать и охранять негров с заряженным револьвером, как предписывает инструкция, сошел на берег вместе с капитаном. Я с удивлением констатировал, что оба вооружены до зубов. Каждый носил на поясе револьвер крупного калибра да еще охотничье ружье на плече. Ну, это понятно, если любишь охоту. Но револьвер на маршруте, где нет ни воров, ни диких животных, — это выглядело странным. Однако меня это не касалось, и свои размышления я оставил при себе. Я поднялся с места и почтительно снял шляпу перед офицером, который прикоснулся пальцем к околышу белой каски. «У вас есть разрешение? — строго спросил он. — Ваши права на выход… покажите мне их». Я вытащил из кармана разрешение, выданное старшим начальником, без которого ни одна лодка не имела права покидать территорию исправительной тюрьмы. Он прочел и спросил: «Так это вы Гонде?» «Да, капитан». «Освобожденный из заключения, совершающий рейсы между Сен-Лораном и Верхней Марони?» «Так точно, капитан, и осмелюсь сказать, что я честно работаю с тех пор, как искупил свою вину». «Ну, честно… Еще посмотрим. Мой мальчик, власти внимательно следят за вами. Есть подозрения, что вы активно занимаетесь контрабандой. Ввозите золото без уплаты налога и надуваете казну на восемь процентов». «Но, капитан, клянусь вам…» «Хватит! А что в ваших лодках?» «Товары, привезенные из Европы, — пищевые продукты, сельскохозяйственный инвентарь, техника для добычи золота. Пункт назначения — прииск возле водопада Петер-Сунгу». «Товары из Европы… Покажите-ка мне ваш груз». Я должен был повиноваться и подчинился приказу без возражений. Он прочел ваше имя на ящиках и спросил: «Робен… А это еще кто?» — Наглец! — в один голос воскликнули возмущенные робинзоны. — Я повторяю его слова. Он продолжил осмотр и заявил: «Это инструменты английского производства. На них требуется въездная пошлина. Она оплачена?» «Думаю, что оплачена, поскольку все доставлено сюда на шхуне «Dieux-Merci», так что груз обязательно прошел транзитом через Кайенну». «Ничего не знаю. Вернее, сомневаюсь в этом. А где владелец?» «В лесу. Он должен завтра вернуться». «Мой мальчик, вы плохо играете свою роль, вы очень неумелый контрабандист. Бесполезно ломать комедию. Я вас арестую, а груз подлежит конфискации». — Но этот человек не имел никакого права! — с негодованием воскликнул Робен. — Ясно, что он не мог служить в нашей армии! Это не офицер, а какой-то негодяй, укравший форму для совершения подлого пиратства! — Тут я почувствовал, что не могу больше молчать, что готов взорваться. Хотя в положении освобожденных мы всегда находимся под бдительным наблюдением властей, не имеем права ни продавать, ни покупать, ни выезжать, ни возвращаться без разрешения, и хотя мое сопротивление могло повлечь суровое наказание, я решил протестовать, даже если бы не пришлось больше возвращаться в Сен-Лоран, а просить гостеприимства у вас… Но я не успел выполнить свое намерение. Тот, которого я считал офицером, приставил мне пистолет к груди и громко крикнул. Четверо негров и двое солдат под командой надзирателя кинулись к лодкам и в одно мгновение связали моих перепуганных людей. Меня взяли последним — запеленали так, что я и пикнуть не мог. Тут произошел странный инцидент, на первый взгляд совсем пустяковый. Моя собака пыталась меня защищать. Она бросалась на капитана с лаем, укусила его за руку и разорвала гимнастерку от локтя до запястья. Он зарядил ружье и сразил бедное животное наповал. Кровь текла у него по руке. Он вытер ее носовым платком, и я отчетливо увидел на коже одну из отвратительных татуировок, так хорошо знакомых всем, имевшим несчастье отбывать каторгу… — Ну я же вам говорил, — возбужденно вмешался Робен, — этот человек, запятнавший свой мундир, — какой-то бандит, удравший из тюрьмы, а надзиратель и негры — соучастники его преступлений. — Я сразу об этом подумал, хотя носил он форму очень естественно и выражался довольно культурно. Но и я не простачок, знаю, что среди каторжников встречаются ловкие пройдохи и комедианты. Впрочем, я мог не опасаться за свою жизнь, так как не было еще случая, чтобы беглые решились пойти на убийство. Им отлично известно, что в случае поимки смертная казнь им будет обеспечена. Меня грубо швырнули на дно тюремной лодки, на борту которой неподвижно сидел индеец. Я упал на ящики, банки, корзины, загромоздившие всю лодку, и ударился так сильно, что потерял сознание. Очнулся я глубокой ночью, лежа на спине. Обмотали меня веревками так плотно, что и пальцем не удавалось пошевелить. Флотилия плыла. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что мы пересекли Марони и достигли голландской территории. Во всяком случае, берег был очень близко, потому что ветви иногда заслоняли звезды. Затем движение прекратилось, мы застыли на месте. Остановка длилась долго, уже забрезжил рассвет, когда мы снова двинулись в путь. — Не кажется ли вам, Гонде, что воры — у меня достаточно оснований называть их именно так — спрятали там наш груз, который должен был сильно возбуждать алчность этих беспринципных людей?.. — Ей-богу, месье Робен, вполне возможно. Короче говоря, дело они обстряпали очень ловко. Я же говорю, что ничего бы не заподозрил, не будь татуировки так называемого капитана. Я принял бы на веру, что ваши товары конфискованы, тем более что этот человек исчез ночью, как и все его спутники. — Да что вы говорите?! — Сущую правду, месье. Назавтра, то есть вчера утром, я обнаружил, что нахожусь на реке, в устье которой мы стояли прежде на якоре. Шайка краснокожих окружала нас. Я этих людей раньше не видел, выглядели они весьма подозрительно. Насчитывалось их десять человек. Русло реки было перегорожено огромным, недавно срубленным оливковым деревом. Сообщение между нижним и верхним течением было полностью прервано. Своих людей я не нашел возле себя. Но появились другие компаньоны: европейская дама, две юные девушки и белый мужчина, которого женщины называли своим отцом. Я ничего не понимал во всей этой истории и чувствовал, что схожу с ума. Индейцы не обижали пленных, хотя белый тип осыпал их ругательствами. Наоборот, они смотрели на женщин с изумлением и не без почтительности. Короче говоря, я не знаю, что произошло ночью после этого странного дня, потому что заснул как убитый. А когда проснулся, то европейская дама и обе девушки уже исчезли. Вот тогда мои приключения достигли высшей точки неправдоподобия. Абсолютно голый англичанин оказался привязанным к дереву, а вождь краснокожих, старик злобного вида, заканчивал его «расписывать», приводя в то состояние, в каком вы его наблюдаете в данный момент. Нас посадили в лодку. Я с удивлением узнал один из наших баркасов, только совершенно пустой, если не считать нескольких консервных банок. Их, видно, оставили, чтобы мы не сдохли с голоду. Я хотел отправиться разыскивать вас, но мой палач стал боксировать, и волей-неволей пришлось его сопровождать. И вот тогда выпал счастливый случай встретиться с вами. — Все это, — заметил Робен, — мне кажется сейчас менее странным, нежели можно было предположить. Эти проходы и возвращения, внезапные исчезновения европейцев, появление краснокожих имеют целью запутать нас, направить по ложному следу. Маскарад с англичанином — всего лишь грубая проделка индейца, кривлянье от полноты чувств, можно не придавать ему значения. Наши товары должны быть неподалеку отсюда. Они спрятаны на том или на этом берегу. Я отдаю предпочтение голландскому, тем более что, по вашим словам, лодка могла пересечь Марони позавчерашней ночью. — Да, месье. — Эти негодяи считают себя очень находчивыми, а на самом деле они — жалкие простачки. Украденные предметы могут находиться только здесь или в том пункте, куда вас доставили прошлой ночью. Вторая версия представляется более правдоподобной. Главное для нас — пошевеливаться… Мы не можем позволить бесконечно водить себя за нос. Какого черта, в самом деле! Такой крупный груз не может исчезнуть, словно плетеная корзинка. Ну что, Гонде, вам трудно будет узнать это место, не так ли? — Увы, это правда, месье Робен. — Но я слежу за нитью событий. Ведь лодки останавливались ночью только один раз?.. — Да, месье. — И при вашем возвращении сюда вы увидели англичанина с его семьей, которых доставили в то же время, что и вас? — Абсолютно верно. — Наш оригинал, возможно, узнает место высадки или хотя бы направление, в каком их вели… Надеюсь, он согласится нас проводить. Питер-Паулюс, присевший на корточки среди хижины, под своей пышной расписной оболочкой сохранял невозмутимость истинного индейца. Ничто не задевало его, он ничего не желал ни видеть, ни слышать. Робен приблизился к нему. — Мистер Браун, хотите снова увидеть жену и детей, снова обрести свое богатство? — Я желаю совершать «навигацию», — процедил тот сквозь длинные зубы. — У вас будет «навигация», мистер Браун, обещаю вам. Но прежде вы должны нам помочь отыскать то место на берегу, где вы находились до похищения. — Нет. — Вы отказываетесь? — Йес. Я нахожусь тут для «навигации», а не для помощи вам. Я есть английский подданный и не желаю связывать мое существование с вашим. — Но тревога о семье… забота о денежном благополучии… — Моя семья вас не касается. Мои денежные дела не касаются такого авантюриста, как вы. — Ну, вы — нахал, мистер Браун… К тому же совершенно бездушный отец. — Я есть английский подданный, и у меня больной желудок. — Ладно. Поступайте как знаете. Вы абсолютно свободны в своих действиях и суждениях. Мы оставим вас здесь, а свою работу выполним сами. Провизии вам хватит на неделю. — Я заплачу за еду. — Но у вас же нет ни шиллинга. — Я — знаменитый промышленник из Шеффилда. У меня кредит в банке… — Ну, тогда заложите в банк туманы Марони, поджидая нашего возвращения, и — будьте здоровы! Пока Робен вел переговоры с англичанином, Никола разогревал паровик. В момент завершения беседы давление пара в котле достигло необходимой отметки. Робинзоны заняли места на борту, и лодка на всех парах понеслась к голландскому берегу. Переход совершили за четверть часа, потом поисковая группа по уже известной системе стала медленно обходить территорию, жадно вглядываясь в нескончаемую завесу зелени. Поиски были долгими и трудными, несмотря на изощренный опыт европейцев и безошибочный нюх индейской собаки. Наконец, выбившись из сил, Робен собрался скомандовать остановку, чтобы заготовить дрова, так как топливо было на исходе. — Стоп! — внезапно вскричал он при виде большой индейской пироги, привязанной к корневищу. Ее корма выступала из густых зарослей муку-муку. Присевший на корзине индеец неспешно покуривал самокрутку, свернутую из листка маго. Робен окликнул краснокожего. — Эй! Компе! Эгей! — Эй! Компе! Эгей! — эхом отозвался индеец. — Чья это лодка? — Капитана Вампи. — А где он? — Там, на земле, вместе с моим отцом! Полдюжины краснокожих, привлеченных свистом пара, вырывавшегося из клапанов, высыпали из чащи. Робен, Анри и Шарль вместе с двумя неграми-бони высадились на берег. Вскоре они оказались посреди довольно многочисленной толпы, окружившей маленькую хижину. — Бонжур, Вампи! — Бонжур, Ломи, бонжур, Башелико, бонжур, муше! — ответствовал капитан, хорошо знавший сыновей Ангоссо. — Что делает здесь капитан Вампи? — поинтересовался инженер. — Я искал белого муше, его мадам и маленьких мадемуазель. — А откуда ты идешь? — Я опьянял бухту, чтобы ловить много рыбы, потом ее коптить. Трое европейцев вместе с неграми вошли в хижину, и прежде всего им бросился в глаза священник, сидевший около подвесной койки. У него были седые волосы и борода. Две юные девушки с безутешным выражением лица тихо плакали, слезы струились по щекам. В гамаке лежала европейская женщина, охваченная, по-видимому, тяжелейшим приступом лихорадки. Она непрерывно и жалобно стонала. Священник поднялся с места при виде вошедших людей, которые почтительно приветствовали его. — Ах, господа! Да будет благословенным ваш приход! Вы можете оказать большую услугу этим несчастным юным девушкам и их больной матери. Я возвращался с верховьев Марони, когда нашел их вчера на французском берегу. Они поведали мне свою душераздирающую историю. В довершение всех несчастий их отец куда-то пропал. Я намеревался сопроводить их до Спервайна, когда узнал, что индейский капитан должен вскоре прибыть за ними. Я их тотчас привел сюда, надеясь увидеть здесь и главу семейства. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться! Скажите, есть ли у вас хинин? Эту бедную даму с утра терзает жесточайший приступ лихорадки, а я бессилен с ним бороться, мои запасы медикаментов совершенно исчерпаны. Робен не успел ответить на обращение. Гонде, который тихо приблизился и незаметно выступил вперед, вдруг обнажил мачете и резким прыжком ягуара бросился на священника. — Это он! Бандит! Это он! Фальшивый кюре! Он не больше священник, как наш капитан! Ко мне, люди! Хватайте мерзавца! Молниеносным жестом так называемый священник отбросил в сторону устремленное на него оружие. Затем, проскользнув под гамаком с ловкостью натурального хищника, кинулся прочь из хижины и исчез в лесу прежде, чем наблюдатели этой странной сцены успели сделать хотя бы одно движение. — Не смейте его преследовать! — зычным голосом распорядился Робен. — Он наверняка не один! Мы можем попасть в засаду! Необходимо избежать ловушки! Однако совершенно обезумевший Гонде, вне себя от ярости, ничего не слышал и не внимал никаким советам. Он бросился вдогонку за злоумышленником, и верный пес Матао помчался за ним. Громкий лай еще долго раздавался в лесу, пока не утих вдалеке. Бывший каторжник отсутствовал уже более четверти часа, и робинзоны начали опасаться, как бы он не стал жертвой собственного безрассудства, когда общий вздох облегчения вырвался из груди. Появился Гонде, весь исколотый и исцарапанный колючками и острыми листьями. Но он сиял. — Подлец! Я узнал его по голосу! — запыхавшись, проговорил бывший каторжник. — Он изобразил из себя старика, загримировавшись и посыпав мукой бороду и волосы. Но меня не проведешь! — Держите! — Гонде бросил к ногам Робена черную сутану, от которой бандит освободился по дороге, чтобы сподручней было бежать. — Вот видите, маскарад для него — дело привычное! Разве не прав я, когда говорил, что никакой это не священник и не офицер, а один из наших воришек?! На сей раз ему удалось ускользнуть, но нет худа без добра, потому что в пятидесяти шагах отсюда я сделал важное открытие.
ГЛАВА 12
Ценные сведения зеленого листка. — Временные препятствия. — Самодельная лебедка. — Бедная мать!.. Бедные дети!.. — Как «извлечь солнечный удар». — Немного туземной медицины. — Бегство индейцев. — Сильные, «как тапиры». — Признательность краснокожей женщины. — А теперь — домой!Счастливый случай привел Гонде к открытию действительно впечатляющему. Он попытался, впрочем без успеха, идти по следам загадочного существа, которое, обнаружившись под сутаной миссионера, растворилось в непроходимой зеленой чаще. Гонде не сомневался в том, кто мог быть этот отважный негодяй, с равным изяществом носивший одеяние миссионера и военную форму. Такая легкость приспособления к совершенно различным ролям могла быть свойственна лишь человеку, закаленному во многих испытаниях, не ведающему предрассудков, готовому на все, короче говоря, одному из больших «аристократов» того земного ада, который называется каторгой. Несмотря на интуицию собаки Матао и ее великолепный нюх, бывший каторжник скоро понял всю бесполезность своего преследования. И не только бесполезность, но и опасность. Такова запутанность огромного цветника гвианской феи, настолько непроходимы девственные заросли, чреватые многообразными ловушками и угрожающие самой жизни, что в этом лесном лабиринте охотник сам превращается в дичь, так что и Гонде в один прекрасный момент мог запросто оказаться заложником незнакомца, если бы тот решил перейти в наступление. Бедняга понял это очень скоро и подозвал к себе собаку, умерив ее охотничью прыть. Однако усердный пес успел притащить к нему в качестве трофея черную сутану, небрежно брошенную на куст. Теперь Гонде возвращался, чутко озираясь и прислушиваясь к враждебному лесу. Верная ищейка бежала в трех шагах впереди, не ускоряя и не замедляя движения, часто и прерывисто втягивая черным, как трюфель, носом разнообразные лесные ароматы. И человек тоже был начеку, пристально вглядываясь в каждый штрих окружающей картины — малой части бесконечно великого… Старая привычка лесного обходчика, от глаз которого ничто необычное не должно ускользнуть. И он недаром сохранял предосторожность — иначе бы не заметил выступающего из земли основания одного из этих жестких, коричневых, древесных черешков, на которых держатся листья пальмы-макупи. Любой человек, незнакомый с условиями первобытной жизни, равнодушно прошел бы мимо торчащей из земли деревяшки. Между тем такой сложный лист достигает трех метров длины, а кончик его в объеме — не меньше человеческого пальца. Нет, такой грубой ошибки Гонде не мог совершить. Лист был зарыт! Выступавший черенок имел не более десяти сантиметров и был срезан наискосок, как будто мачете. Бывший каторжник удостоверился, что режущие кромки растения не содержат никакого ядовитого вещества, и для пущей предосторожности ободрал мачете деревянистый стебель. Затем наклонился и потянул изо всей силы. Лист вывернулся целиком, со всеми своими смятыми отростками, не потерявшими еще зеленой свежести. «Однако же, — основательно рассудил Гонде, — этот лист зарыли совсем недавно, и не может быть, чтобы только один… Должны найтись и другие… Будем копать!» Матао, готовый приняться за любую работу и наблюдая, как человек стал ковырять мачете землю, тут же с большим энтузиазмом поддержал его усилия и заработал лапами и носом с таким рвением, будто собирался добыть из норы броненосца. Уже через несколько минут трудолюбивое животное раскопало добрый квадратный метр зеленой подстилки, образованной из тщательно уложенных листьев. Следует, правда, сказать, что толщина взрыхленного слоя земли не превышала двадцати сантиметров. — Ты смотри!.. — удивился Гонде. — Да это прямо-таки силосная яма! И что там может быть под листьями?.. Шерш, Матао, шерш! Ищи, моя храбрая собака! Подбодренный голосом и жестом человека, Матао с еще большим усердием стал рыться в яме и внезапно, выдернув зубами плотный слой свалявшейся зелени, провалился почти по уши в какую-то пустоту среди срезанных растений. Гонде показалось, что когти животного скребут по твердой и гладкой поверхности, которую собака была не в состоянии преодолеть. — Ко мне, Матао, ко мне! — тихо скомандовал он. Ищейка выскочила из дыры и, напрягшись всем телом, со вздыбленным хвостом и вытянутой мордой застыла в той прекрасной стойке, от которой сладко замирает сердце даже самого опытного охотника. — Черт подери, да что бы все это значило? — Гонде был крайне заинтригован. Он наклонился и просунул мачете в глубину выемки. Кончик оружия наткнулся на твердое, издав при этом металлический звук. Дрожь пробежала по телу каторжника от макушки до пяток. Встав на четвереньки, он жадно разгребал землю, рвал корешки, скреб и царапал, не щадя рук и ногтей, а затем, обливаясь потом, с ноющей поясницей, весь ободранный и исцарапанный, бросился к робинзонам, отдав строгий наказ собаке: — Оставайся на месте, Матао! Жди меня! Умное животное вильнуло хвостом, как бы подтверждая: «Приказ понят!» — и не сдвинулось с места, храня позу окаменевшего изваяния. Весь эпизод длился не более четверти часа. Вскоре Гонде присоединился к робинзонам, начавшим переживать из-за его долгого отсутствия. От безумной радости бедняга стал заикаться, он никак не мог отдышаться, весь его облик пронизывали тревога и торжество. — О!.. Месье Робен! Вот это находка! Очень важная находка! Идемте же! Скорее! О, Боже! Так распорядилась судьба! Вы будете счастливы! Мне повезло!.. — Да успокойтесь, Гонде! Возьмите себя в руки! Что же стряслось, объясните мне наконец! Что вы такое нашли, славный мой приятель?.. — Месье Робен, идемте… Идемте скорей! Вы многое видели в своей жизни, но такое, клянусь, еще никогда не попадалось вам на глаза! — Да что же это, что?! — Ну… там собака… она караулит… паровую машину! Нет, нет, я не спятил! — Гонде почувствовал, что возбуждение способно придать его словам оттенок неправдоподобия. — Я трогал! Я видел! Это хорошо спрятано! И упаковано как надо. Блестит, как серебро. Идемте же! Прошу вас, идемте скорей! Исполненные живого любопытства, Робен, Шарль и Никола устремились вслед за Гонде. Нет, бывший каторжник ничего не выдумал, не сошел с ума. В какой-нибудь полусотне метров возвышался над раскопками холмик земли вперемешку с увядшей зеленью, а на нем торжественно застыл Матао, словно воплощение самой бдительности. Тонкий луч солнца, проникая сквозь вершины деревьев, золотой нитью доставал до самого дна ямы и заставлял искриться трубы и краны очаровательного парового двигателя. — Это наша машина! — восторженно вскричали Шарль и Никола. — Спасибо, Гонде. — Робен был взволнован. — Вы оказали огромную услугу нашей колонии! — Но это не все. Там находятся и копры, они расставлены вокруг машины. Я их на ощупь определил… И что-то еще… чертовски тяжелое, — продолжил каторжник, который снова энергично раскапывал грунт. — Наверняка это наши баллоны с ртутью! — догадался Шарль. — Отец, ты слышишь: ртуть! Отныне можно приступать к разработкам золота. Какие у нас планы?.. — По-моему, все ясно. Извлечь как можно скорее наши орудия производства, столь счастливо найденные, погрузить их снова на лодку и вернуться домой. На этот раз будем охранять понадежней, не правда ли, Гонде?.. — О да, месье Робен! Теперь уж ни один смельчак или хитрец меня не проведет! — Но как же нам перенести такую массу железа?.. — задумался вслух Анри. — А для воров тут не было проблемы… — Наверное, их было больше, чем нас… — Но у нас же есть еще индейцы капитана Вампи… Если мы им хорошо заплатим, они не откажутся поработать носильщиками! — Пустые разговоры! — засмеялся Шарль. — Ты разве не помнишь, Никола, когда мы заказывали в Европе все эти машины и материалы, то всегда выдвигали условие: чтобы они были в максимально разобранном виде, удобном для транспортировки… Просили даже следить, чтобы отдельные части и секции весили не больше тридцати килограммов… — Ну, это же вполне естественно, ведь при нынешнем состоянии колонии, когда нет ни дорог, ни вьючных животных, люди тянут груз на своих плечах… — Так что наши копры весят всего по тридцать килограммов, только на пять килограммов больше нормы, установленной правительством. Что касается самого паровика, то конструктор Дебэйе придал ему необычайно скромные размеры, и это при том, что машина обладает очень большой мощностью… Шесть человек смело могут ее нести на ровной доске до самого берега! — Браво! Итак, за работу! — заключил Анри, поигрывая своей атлетической мускулатурой. — Ты в ответе за все, мой маленький Шарль! Пока робинзоны, развив кипучую деятельность, заняты переноской груза, вернемся в хижину, чьи обитатели еще не пришли в себя после дерзкой выходки Гонде и бегства того, кого все принимали за подлинного священника, настолько хорошо играл негодяй свою роль. Сперва растерянные и немного пристыженные, индейцы, как достойные представители своей подвижной и переменчивой расы, вновь обрели привычную беззаботность. Две юные мисс, расстроенные исчезновением отца и болезнью матери, тихо плакали в объятиях мадам Робен. Бедные дети с душевным смятением наблюдали, как быстро меняется лицо их милой матушки. Взгляд потускнел, в нем не было больше жизни, губы судорожно сведены, из горла вырываются бессвязные слова и хриплое, прерывистое дыхание. Обильный пот струится по искаженному лицу, обретшему оттенок восковой бледности. Напрасно мадам Робен, давно знакомая со всеми фазами и особенностями ужасной гвианской лихорадки, пыталась утешить несчастных девушек. Самая трогательная нежность и забота лучшей из матерей и лучшей из жен были в данный момент бесполезны. — Моя мама погибла!.. Моя мама умирает! — рыдала Люси. — Мадам! — стонала Мери. — Спасите ее! Помогите!.. — Мои милые бедные дети! Терпите и надейтесь! Все, чему нас научил долгий и болезненный опыт, все, на что способна искренняя преданность, мы все испробуем, мы используем малейшую возможность!.. Надо только дождаться окончания приступа… — Но она же умрет! — Посмотрите, какая она холодная! — О, Боже! Она не узнает нас больше! — А этот бред… какие-то бессвязные слова… — Мама! Это я!.. Мы здесь, рядом с тобой! — Надейтесь, дети мои, надейтесь! Я думаю, что через час приступ пойдет на убыль. Тогда попробуем хинин… — О мадам! Но для чего ждать! — Так надо, — твердо отвечала мадам Робен. — Хинин, принятый во время приступа, может усилить его интенсивность, а это очень опасно для вашей больной матери. — А опасность еще не так велика в данный момент? — Девушки отчаянно искали хоть маленький лучик надежды. — Нет. Если мы сможем предупредить повторение приступа или, по крайней мере, смягчить его, если он снова обострится, то ваша мать скоро выздоровеет. — О! Мадам, как вы добры! И как мы вас любим! — Девушки пытались улыбнуться сквозь слезы. — Но ведь я — женщина… И я — мать… — просто отвечала мадам Робен. В эту минуту молодой бони неловко, но почтительно выдвинулся на авансцену, держа перед собой большой флакон с прозрачной жидкостью. — Ломи, дитя мое, — сказала мадам Робен, — что это ты затеял?.. — Маленькая индианка дала мне этот флакон, чтобы вылечить белую мадам от солнечного удара… — Но у нее нет солнечного удара! — А я думаю, что есть, мадам. И все краснокожие люди так думают. Поскольку разговор шел на креольском наречии, девушки переспросили: — Что он сказал, мадам? — Этот добрый негр полагает, что ваша матушка страдает от солнечного перегрева, и он просит меня дать ей лекарство, которое креолы используют в подобных случаях. — И мы тоже вас просим, мадам, — воскликнули девушки, с благодарностью поглядывая на черного богатыря. — Ведь это лекарство безвредно, не так ли? — Совершенно безвредно, но я боюсь — увы! — что оно также и бесполезно. Однако не имеет значения. Не хочу вас лишать хотя бы ничтожного шанса. Давай свой флакон, Ломи! Бони приблизился и вручил жене изгнанника сосуд из прозрачного стекла с расширенным горлом, один из тех, которые в Европе служат для хранения консервированных фруктов. Он был наполнен водой и содержал еще некоторое количество зерен маиса. Там же на дне лежал серебряный перстень. Горлышко закрывала простая тряпка, обмотанная тесемкой. По всей видимости, больше всего миссисАрабелла испытывала боль в голове, потому что бессознательно, автоматическим жестом прикладывала руку ко лбу, как это делают страдающие менингитом[418]. Мадам Робен осторожно наклонила флакон, затем перевернула его кверху дном таким образом, что широкое горло, прикрытое куском материи, плотно прижалось ко лбу. Ловко удерживая склянку в таком положении, женщина как бы застыла в терпеливом ожидании. Обе девушки, крайне удивленные и заинтригованные, стали свидетелями странного явления. Вода во флаконе, сохранявшая, вполне понятно, уровень температуры окружающей среды, вдруг как бы вскипела и забурлила. Зерна маиса запрыгали во все стороны и стали стягиваться к центру вследствие вихревого движения, как это бывает с горохом в кипящем котле. Вода казалась действительно закипевшей, потому что крупные пузыри самопроизвольно возникали в ней, исчезали и снова появлялись. Индейцы и оба молодых негра стали в кружок и с видимым удовольствием наблюдали за необычной операцией. Все это продолжалось с полчаса. Затем, то ли вследствие того, что острый приступ миновал, как ожидала мадам Робен, то ли потому, что подействовало странное туземное средство, но дыхание больной мало-помалу стало спокойнее и ровнее, лицо медленно обрело естественный цвет, бред прекратился, женщина тихо задремала. Пораженные и счастливые девушки не верили случившемуся, они горячо обнимали мадам Робен, глаза их увлажнились теперь уже от огромной радости. — Нет, каково… Ну, каково… — бормотал Ломи, взгляд больших фарфоровых глаз которого с глубоким торжеством перебегал с одной женщины на другую. — Добрая мадам хорошо вытянула солнечный удар… бонбон… очень даже хорошо… — Что он сказал? — спросила Люси. — Переведите, пожалуйста, — поддержала Мери. — Он сказал, что я хорошо вытянула солнечный удар. Видя, что юная собеседница не вполне поняла креольское выражение, мадам Робен пояснила: — Ну, что я излечила больную от солнечного удара, то есть контакт с водой, содержащейся во флаконе, избавил вашу матушку от боли, которую она испытывала… — Мы охотно этому верим! А разве вы, мадам, не разделяете нашего мнения? Смотрите, какой спокойной стала милая маменька! — Ах, дорогие дети, я свое мнение держу при себе. Этот странный способ лечения широко практикуется в Гвиане. К нему прибегают и негры, и индейцы, и мулаты… А также белые креолы, да и сами европейцы…[419] И все сходятся на том, что средство эффективно. Так что нет такой деревни или самой отдаленной хижины, даже какой-нибудь заброшенной халупы в глухом лесу, где не нашелся бы один из этих пузырьков от консервов, привезенных из Европы. И берегут его как зеницу ока. Он содержит чистую воду, тринадцать зерен маиса и серебряный перстень. Способ применения, как вы убедились, очень простой… Средством этим пользуются, к сожалению, довольно часто… К сожалению — потому что много случаев солнечного перегрева. Я не могу объяснить феномен закипания, которое происходит без видимого повышения температуры воды. Полагают, что оно начинается исключительно в случаях доказанного солнечного удара, и только при контакте с тем участком тела, который поражен экваториальным солнцем. Невозможно дать какое-то разумное толкование этого факта, и мой муж, знающий множество самых разных вещей, тоже не нашел научного объяснения подобного явления. — Дорогая мадам, ну какое значение имеет научное объяснение, если есть результат, и мы в него верим. Пускай это суеверие, но оно успокаивает… Мы так счастливы видеть улучшение состояния нашей бедной матери… А оно наступило сразу после проделанной вами процедуры… — Но я тоже очень рада, дорогие дети… Теперь я жду пробуждения нашей больной, чтобы дать ей самое сильное лекарство, героическую панацею от болезней, вызванных лесными миазмами, — сульфат хинина… Спокойная беседа, вероятно, длилась бы еще долго, но ее внезапно прервал ускоренный отъезд индейцев. Вампи говорил и распоряжался скороговоркой. Он подгонял соплеменников быстрее рассаживаться по лодкам. Гребцы уже заняли свои места. И капитан подстегивал отстающих, колотя их налево и направо своим жезлом тамбурмажора. Женщины мчались бегом, прихватив кое-как перевязанные корзины, посадив на закорки одного или двух детенышей, которые удерживались на матерчатой перевязи. Этим бедным созданиям уделял особое внимание великий вождь, как бы торжественно выполняя некий церковный ритуал. Щедро рассыпая тычки и подзатыльники, добрый апостол вел диалог с Робеном, который настойчиво пытался уговорить вождя помочь робинзонам. — Нет, муше, — неизменно ответствовал тот, — ни за что! Я не могу работать! Я не негр, чтобы таскать этих зверей на своих плечах! — Послушай, Вампи, я дам тебе тафии… порох… калимбе… ружье… Вели твоим людям поработать немножко… Посулы ружья как будто поколебали вождя, но только на мгновение, и он тут же затянул свое, с анекдотическим упрямством индейца, которого ничто не в состоянии смягчить или сдвинуть с какой-то точки: — Нет, муше, нет… Я не могу… нет… Ну, до свидания, муше… Бонжур! Бонжур, мадам! Мы уезжаем… Шум весел вскоре утих, флотилия скрылась из виду, и Робен, смеющийся и рассерженный одновременно, вернулся в хижину со словами: — Ну и лентяй же этот старый плут! Горбатого могила исправит… Черт с ним, закончим работу сами. Часа на два осталось… Нам просто необходимо добраться домой нынче вечером, больные нуждаются в лучшем уходе. Для миссис Браун очень важна здоровая обстановка на нашем давно уже раскорчеванном участке. Там можно не опасаться болотных испарений. А что касается месье Дю Валлона, то хотя он окреп и способен переносить любые лишения, мне не нравятся эти возвраты болезни, которым он подвержен. Лихорадка может оказаться для него смертельной. Погрузка копров, баллонов с ртутью, частей трансмиссии[420] близилась к завершению. Не забудем, что робинзонов было девять человек, в том числе двое негров-бони и Гонде. Девять таких крепких мужчин способны выполнить работу, перед которой спасуют и тридцать обычных гвианских работяг, этих детей лени и безделья. Оставалась машина. Робен рассчитывал поднять ее с помощью тали, укрепленной на козлах, вроде той, что служит на флоте для установки мачт. Ломи и Башелико, отличные лесорубы, как и все негры в бассейне Марони, за несколько минут свалили пару деревьев средней величины. Брусья поставили вертикально, над тайником. Основания их раздвинули, верхушки связали лианой, так что образовался треугольник. Таль для подъема груза укрепили в верхней части, блок передачи зафиксировали на одном из столбов таким образом, чтобы добиться горизонтальности тягового троса. К счастью, на лодке нашлось немало тонких и прочных просмоленных канатов, было из чего выбирать. Яма, которую в спешке рыли воры, оказалась неглубокой, и операцию выполнили быстро, без особых трудностей. Котел подцепили к подъемной стреле. Оба негра, «сильные, как тапиры» — так они, смеясь, говорили о себе — подставили могучие плечи под железную массу и поддерживали ее, не сгибаясь. Робен и Анри присоединились к черным геркулесам, и медленно, шаг за шагом, в одном ритме и темпе все четверо направились к реке. Эта изнурительная работа — строго согласованная и без единого слова — заняла четверть часа. Затем козлы переправили на берег и повторили все операции, предшествовавшие извлечению паровой машины из земли. Только после этого она заняла место на борту лодки. А шедевр современной механики погрузили на просторный баркас Гонде, который незадолго до этого притянул на буксире паровик. Робен подал сигнал к отплытию. Он торопил с последними приготовлениями, не давая ни минуты отдыха. — Ну, дети, поспешим! Наши больные нуждаются в покое, необходимо, чтобы уже ближайшую ночь они провели в домашних условиях. Так что все сборы завершили в мгновение ока. Миссис Браун и месье Дю Валлона с величайшими предосторожностями перенесли под балдахин, на корму. Сестры и мадам Робен поместились рядом. Робинзоны уже собирались отчаливать, когда никем не замеченная маленькая пирога уткнулась в берег неподалеку. Вероятно, она пришла с другого берега. Какая-то женщина сидела на веслах. К своему глубокому удивлению, семейство Робена узнало в ней ту молодую индианку, сын которой погибал от укуса змеи и был спасен от неминуемой смерти благодаря находчивости Шарля. Женщина гребла с необычайной силой и ловкостью, чтобы успеть застать своих благодетелей, и на сей раз вместе со спасенным ребенком привезла и второго сына, новорожденного, которому едва исполнилось несколько недель. Ее затуманенный слезами взор был устремлен на белых, она печально и признательно улыбалась Шарлю. Взявши на руки младенца, который забавно изгибался всем своим шоколадным тельцем и встречал новых людей блаженно-бессмысленной улыбкой, женщина прямиком направилась к юноше, спасшему ее ребенка: — Сегодня утром убили его отца. У меня больше нет хижины, нет рыбы и маниоки. Дети погибнут от голода. Молодой белый очень добр. Он не хотел, чтобы краснокожее дитя умерло, когда его покусала змея. Может ли теперь благородный белый накормить сыновей женщины, которая оплакивает убитого мужа?.. Взволнованный Шарль принял на руки индейского малыша и протянул его мадам Робен, осыпавшей младенца ласками. Тот доверительно потянулся к заботливой и улыбающейся женщине. — Идите сюда, дочь моя, — сказала мадам Робен индианке и указала ей на место возле себя. Однако та отрицательно покачала головой и втолкнула в лодку своего старшего мальчика, совершенно растерянного и испуганного. — Вы отказываетесь ехать? — удивилась француженка. — Нет, не сейчас. Потом. Индейская женщина обязана выполнить свой долг. Она хочет провести в лес белых, чьи руки так сильны, а сердце так великодушно. Она отыскала следы тех, кто убил ее мужа и обокрал белых. Пускай же белые пойдут за ней, она покажет им место, где спрятано их сокровище, а потом отомстит за убитого мужа. В третий раз робинзоны покинули голландскую землю, пересекли Марони и высадились на французской территории. Индианка не соврала. Пищевые продукты, боеприпасы, сельскохозяйственный и промышленный инвентарь — весь остаток груза, упрятанный похитителями в глубине непроходимой чащи, вернулся к владельцам благодаря проницательности и природному уму индианки, исполненной искреннего желания принести пользу своим благодетелям. Ничто из вещей не пропало. На месте были даже ящики с динамитом, о котором позаботились Шарль и Никола в расчете на разработку крупных жил золотоносного кварца. Поскольку два из трех баркасов Гонде так и не нашлись, а единственный оставшийся был загружен до предела, то решили, что он и совершит первый рейс к поселению робинзонов. Никола, Шарль и негры-бони поднялись по реке с пассажирами паровой лодки, в то время как остальные сторожили имущество. Впрочем, это была излишняя предосторожность, потому что экваториальные бандиты никогда не совершают повторных нападений. Через шесть дней, после трех поездок подряд в усадьбу, в распоряжении робинзонов оказались все привезенные из Европы предметы, с помощью которых они надеялись произвести на девственных землях Гвианы мирную революцию труда и процветания.
ГЛАВА 13
Сироты!.. — Новая семья, новая любовь. — Креол из Сен-Тома. — Индейские пастухи. — Тайны, непроницаемые, как джунгли. — Первое путешествие в страну золота. — Спутники. — По компасу! — Беды и радости старателей. — Скорбный путь. — Первая скважина. — Двое доблестных горняков. — Соперница Австралии и Калифорнии.Три месяца прошло с того дня, когда гвианские робинзоны, наконец-то собравшись вместе после многочисленных невзгод и переживаний, вступили во владение техникой и домашней утварью, столь таинственно похищенными неизвестными злоумышленниками. Число колонистов еще более возросло, как легко было предвидеть. Ставших сиротами мисс Люси и мисс Мери удочерили инженер и его жена. Бедные дети потеряли свою мать через несколько дней после прибытия в поселок. Для крайне ослабленной бесконечными переездами миссис Браун стал губительным повторный приступ злокачественной лихорадки, против которой оказались бессильными самые преданные заботы и самые обдуманные методы лечения. Проблеск сознания вернулся к горемычной матери в последние минуты жизни. Слабыми пальцами она попыталась сжать руки мадам Робен, устремив на нее жалобный, просительный взгляд, как бы умоляя защитить ее молоденьких дочерей. — Они станут для меня родными детьми, — прошептала на ухо умирающей жена инженера. Это торжественное обещание, эти несколько слов, произнесенных благородной женщиной с той неповторимой интонацией, которую одна лишь мать способна найти в такую минуту, прояснили черты больной, облегчили ей расставание с жизнью. Она тихо скончалась, не отводя полных любви и сожаления глаз от своих дочерей, обезумевших от горя и отчаяния. С этого фатального мгновения мадам Робен неукоснительно выполняла взятое на себя обязательство. Люси и Мери заняли в ее сердце такое же место, как и четверо сыновей, и никто из детей не чувствовал себя обделенным, настолько неисчерпаемым запасом материнской нежности обладала эта тонкая, чувствительная натура. Восхищенные разрастанием своего семейства, юные робинзоны испытывали к новообретенным сестрам привязанность, переходящую в обожание. Никола, негры-бони, старый Ангоссо и добрая Ажеда относились к девушкам, как к неземным созданиям. Не было никаких новостей только о Питере-Паулюсе Брауне, хотя для розыска маньяка предпринималось немало усилий. Невелик был интерес колонистов к этой малопривлекательной личности, но ведь речь шла об отце обеих девушек. А этого с лихвой было достаточно, чтобы стараться его отыскать. Гонде также превратился в настоящего робинзона. На всякий грех находится милосердие. Бедняга двадцать тяжких лет искупал миг юношеского заблуждения. Грех его молодости был забыт. Он стал интендантом колонии, и его широкие познания в сельском хозяйстве оказались очень полезны для успеха затеянного дела. Месье Дю Валлон выздоровел. С гордым выражением лица он обрел прежнюю твердость и энергию. Это был человек образованный, воспитанный, трудолюбивый и исключительно честный. Вполне естественно, что ему удалось завоевать не только уважение, но и симпатии колонистов. И, когда он попросил разрешения остаться с гвианскими робинзонами, Робен и его сыновья с большим удовольствием приняли креола в свое общество. Директор смог убедиться в географической ошибке, допущенной при первом обустройстве золотого прииска «Удача»; он очень охотно признал, что участок принадлежал не ему, а семье Робена, и поторопился сообщить об этом своим компаньонам, щедро возместив им с помощью робинзонов затраты на предварительные работы. Месье Дю Валлон остался директором прииска «Удача». Несколько экспедиций по разведке золотых месторождений завершились успехом. Полсотни рабочих, уцелевших во время катастрофы, описанной в первых главах нашего повествования, были снова наняты. Их обеспечили продовольствием, необходимыми инструментами, и уже два месяца рудокопы трудились не покладая рук. Хижины частично восстановили, территорию расчистили, разбросанные ветки и деревья сожгли в кострах. Все было готово к приему двухсот шахтеров или переселенцев, прибытие которых ожидалось в скором времени в Кайенне. Магазины заполнили, и Мариус, «бакалавр из Маны», занял свой пост кладовщика. Бесстрашный вождь гвианских робинзонов собирался пожинать плоды двадцатилетнего труда. Земля изгнания преображалась. Всюду царило изобилие. Рабочие могли приезжать со всех концов колонии, они найдут здесь не только самое необходимое, но и сверх того. Несчастья, подобные достопамятному Куру, больше не угрожали региону. Тысячи животных, гордо вздымавших рога, вольготно паслись на богатейших пастбищах. На сотнях гектаров зрел щедрый урожай маниоки, ямса, батата… Индийские кули, слывшие знатоками сельского хозяйства, основательно и серьезно трудились на полях. Встречались и краснокожие, кочевые повадки которых вполне уживались с пастушескими занятиями. Ягуары, леопарды и пумы, большие любители телят и коров, держались на почтительном расстоянии, поскольку индейцы галиби хотя и почитали лесных владык, но отличались смелостью и безошибочно посылали смертельные стрелы, отравленные ядом кураре[421]. Вот на что способна крепкая и умелая хозяйская рука… Вот к чему следовало стремиться и о чем никогда не думали всерьез со времен экспедиции капитана Ларавардьера. Еще с той поры несправедливая тень недоверия была брошена на Гвиану, на эту великолепную землю, познать которую и до сих пор мешали сами люди и обстоятельства. Как бы ни был Робен спокоен за будущее, но червь сомнения грыз его при мысли о промышленной добыче золота. Воспоминание о минувших событиях питало эту тревогу. Отказались ли от своих планов таинственные враги, разрушившие первоначальное производство?.. Или они собирались с новыми силами, готовые навалиться всей мощью своей изобретательности при повторной попытке организовать прииск? А тот дерзкий незнакомец, единый во многих ликах, неуловимый Протей[422], которому беспрекословно повинуются индейцы, — кто он такой?.. И что с ним стало? Элементы цивилизации в сочетании с элементами первобытной жизни давали несомненный эффект. Если этот белый, с одной стороны, использовал военные хитрости людей своей расы, то, с другой стороны, эмблемы Водяной Матушки, старой и злобной гвианской феи, могли выставляться лишь как пугало для примитивных существ. А тот человек, покрытый шкурой муравьеда, по которому Ломи открыл огонь в устье притока Марони? Короче говоря, эта странная связь различных событий, эта смесь дикости и цивилизации, комбинация разных способов действия для выполнения какого-то одного преступного замысла давала пищу для размышлений. Поскольку тайны девственного леса всегда непроницаемы, то требовалась величайшая бдительность, и следовало быть готовым ко всему. Ну что ж, робинзонам к этому не привыкать. Через три дня начнется промышленная добыча золота — важнейшая часть программы наряду с сельскохозяйственным производством.
Но, прежде чем говорить о методах, примененных нашими друзьями для добычи драгоценного металла, прежде чем мы проследуем на прииск «Удача», расскажем о том, как традиционно ведутся подготовительные работы. Ведь робинзоны приступали к делу на уже обустроенном, налаженном участке, и мы представили бы в ложном свете эту индустрию, столь мало известную в Европе, если бы обошли молчанием историю долгих лишений, изнурительного труда, различных опасностей, с какими сводила судьба многих старателей долгие месяцы, а также если бы умолчали о больших расходах, нередко пропадавших впустую, перед началом сбора «золотого урожая». Так что будем двигаться вместе с изыскателем с того момента, когда с картой Гвианы перед глазами он ищет в бассейне той или иной реки участок по своему вкусу, на который никто не заявил прав владения. Сделав выбор, он обращается в Департамент внутренних дел с просьбой о разрешении поисковых работ, каковое обычно беспрепятственно выдается. Легко понять, что во избежание ошибок, соперничества или узурпации государство гарантирует частным лицам временное или постоянное право на концессию. Разрешение на поиск действительно на один год. Оно должно возобновляться по истечении этого срока, если данная территория не подпадает под общественное владение. Заключение, написанное по установленной законом форме, публикуется в «Мониторе Французской Гвианы», в просторечии весьма непочтительно именуемом «сплетником»: «Согласно статьи 11 Декрета от 18 марта 1881 г., регламентирующего поиск и эксплуатацию золотоносных россыпей и рудных жил во Французской Гвиане, месье X., проживающий в Кайенне, сообщает, что он сделал заявку в Департамент внутренних дел (местное отделение)… (такого-то числа)… месяца 1881 г., внесенную в список… о разрешении на поисковые работы, для получения которого геометр-землемер выдал ему план… (такого-то числа)… месяца 1881 г. под номером 17… Расположение и пределы территории, составляющей объект данной заявки, а также указание на предельные отметки, разрешенные администрацией, уточнены следующим образом в плане геометра-землемера: «Территория в пять тысяч гектаров, расположенная в коммуне X. и в прилегающих районах, ограниченная на севере М… А…, на юге — М… В…, на востоке — двумя участками М… С…, на западе — границей области. Административными отметками являются, к примеру, водопад Гермина на северной линии и прямая, соединяющая два сырных дерева с юго-восточной стороны. Включается часть территории, право на которую не использовано господами Д. и Ф.». Лица, считающие себя вправе протестовать против выдачи этого разрешения, должны подать свои возражения в течение тридцати дней после опубликования данной информации (статья 12 декрета от 18 марта 1881 г.)». Перед тем как отправиться на разведку, золотоискатель прежде всего должен нанять рабочих — негров или индусов, — которые будут его сопровождать. Он выберет самых молодых, крепких и честных, особенно имеющих опыт в трудном ремесле золотодобытчиков. Их должно быть не меньше шести, с поденной платой от пяти до семи франков плюс питание. Договор о найме заключается на шесть месяцев. Рабочим выдают задаток — от ста пятидесяти до двухсот франков, который они имеют обыкновение растрачивать до последнего су еще до отъезда. Пока вольнонаемные шатаются по злачным заведениям, руководитель экспедиции занят заготовкой провизии. Даже принимая во внимание только самое необходимое и обеспечивая своим людям лишь предписанный правительством колонии минимальный рацион, необходимо заготовить на полгода: куака — 1400 килограммов, бакалейных товаров — 450 килограммов, жира — 180 килограммов, тафии — 150 литров, топленого свиного сала — 55 килограммов, табака в листьях — 35 килограммов, соли, перцу, специй и проч. Элементарная предусмотрительность повелевает руководителю экспедиции увеличить эти запасы по крайней мере на треть, с учетом всяких непредвиденных обстоятельств. Если золотоискатель — европеец и он не может приспособиться к пище, которую обычно употребляют негры или индусы, то ему следует позаботиться о муке в бочонках, пищевых консервах, сахаре, кофе, чае, а особенно о вине, если он хочет избежать анемии. Да еще не забыть о медицинской аптечке: слабительное, антисептики и непременно — хинин. Предметы лагерного обихода и экипировки слагаются из одеял, подвесных коек, нескольких смен полотняного белья и рубашек. У каждого рабочего должны быть лопата, кирка, мачете, нож и топор. Необходимо иметь в запасе и другие орудия и средства — на всякий случай и для последующих работ, как-то: оружие, боеприпасы, несколько лотков или деревянных блюд для промывки золотоносного песка. Но вот приготовления наконец завершены. Руководитель экспедиции проследил за размещением груза на судне, то ли в трюмах прелестного пароходика компании «Сеид» «Dieux-Mersi», который трижды в месяц совершает рейсы по Марони с остановками в Синнамари и Мане, то ли на тапуи (гвинейской шхуне), если он направляется к бассейнам рек Апруаг или Ояпок. Люди подходят поодиночке, поднимаются на борт медленно и неохотно. Грубо говоря, приходится за уши отрывать их от «цивилизованного мира», а впереди ждут двести долгих дней неизвестности. Начальник экспедиции уже разгуливает на палубе. От солнца его голову прикрывает серая фетровая с широкими полями шляпа рудокопов, на нем куртка и голубые полотняные штаны с красным шерстяным поясом. Он распекает опоздавших, которые никак не могут расстаться с дружками, а главным образом — с подружками. Пронзительный свисток «Dieux-mersi» рассекает воздух, или же шхуна «Fleur-de-la-Mer»[423] поднимает паруса… Все расстаются с берегом. Расстались. Таков пролог всякой разведывательной экспедиции среднего масштаба. От золотоискателя пока требуется немного денег и деловой энергии. Аванс рабочих достигает тысячи двухсот франков. Покупка провианта и орудий производства обходится в две с половиной тысячи, проезд людей и транспортировка груза стоит 250–300 франков. Итак, расходы на разведку составляют примерно десять тысяч франков, включая зарплату рабочим за шесть месяцев из расчета пяти франков в день. Допустим, что дано разрешение на поиски золота в бассейне реки Марони. «Dieux-mersi» бросает якорь перед Сен-Лораном после трехдневного перехода, включая остановки в портах. Едва прибывши, изыскатель пускается на розыски лодок, которые смогут доставить его вместе с людьми и багажом в ближайший к его концессии пункт. Он находит вышедшего на волю каторжника, скажем, Д., который взял подряд на лодочное сообщение между Сен-Лораном и водопадом Гермина. Теперь необходимо произвести перегрузку багажа, а это, поверьте, не так просто — разместить на лодках три с половиной тонны разнообразного груза… Но девиз у золотодобытчика один: терпение и труд. Он сам работает не покладая рук и подает пример другим. Но это цветочки, а ягодки впереди. Все пустяки по сравнению с предстоящими испытаниями и нередко — увы! — несчастьями, которые подстерегают путников. Через двадцать четыре или тридцать часов экспедиция прибывает на водопад Гермина, который лодки каторжника не в состоянии преодолеть. Одни только пироги негров бошей или бони способны выполнить переход, скорее пугающий, нежели гибельный, и с ним новоприбывшим предстоит вскоре близкое знакомство. Переброска груза усложняется необходимостью расчленения съестных припасов. На одной пироге — бочонок куака и оплетенные бутыли тафии. На другой — инструменты с бакалейными товарами, на третьей — свиной жир и ручная кладь… Водопад позади, отряд приближается к концессии. Но лучшие дни уже миновали, и трудности возрастают на финишном этапе к заветному Эльдорадо. Наконец появляется приток, открывающий дорогу ко второстепенному речному бассейну, в окрестностях которого находится концессионный участок. Изыскатель заглядывает в свой план, прикидывает на местности, а лодки покидают Марони. Отныне ему будет недоставать ориентиров. И у смельчака останется только компас, чтобы находить нужное направление в огромном и неизвестном пространстве. Вскоре экспедицию останавливают пороги на реке. Чтобы перейти их, надо разгрузить лодки, весь багаж разбить на порции, не превышающие двадцати пяти килограммов каждая, чтобы мужчины могли нести их на головах, следуя берегом. Перепутанные лианы тормозят шествие, ноги проваливаются в зыбкую почву, колючки вонзаются в кожу. Не важно! Они движутся безостановочно, не спотыкаясь, не жалуясь, вслед за начальником, который расчищает путь ударами мачете. Пустые пироги тянут на канатах. Так путники, осыпаемые мириадами брызг клокочущей воды, преодолевают каменистую гряду. Затем груз опять размещается на лодках, и весла, мелькающие в руках черных гребцов, вновь заводят свою монотонную песню. Наступает ночь, люди давно уже нуждаются в отдыхе. Спешно сооружается хижина, разжигается костер. Скромный обед, вполне понятно, поглощается с отменным аппетитом. Несколько глотков тафии и трубка американского табака венчают эту трапезу анахорета[424], затем труженики вытягиваются в гамаках, откуда вскоре начинает звучать дружный храп. Второй и третий день, как две капли воды, похожи на первый, с той только разницей, что отряд должен перейти через два водопада вместо одного. И длится это десять, иногда двенадцать, пятнадцать суток. О! Нескончаемые дни мучительного плавания, которые человек проводит скрючившись в три погибели на скамье, представляющей собой дощечку шириной пятнадцать сантиметров, боясь пошевелиться из опасения нарушить хрупкое равновесие нагруженной до предела лодки, оглушенный жарой, ослепленный потом, хватая ртом, как рыба, душный и нездоровый, насыщенный болотными испарениями воздух. Из каких же стальных волокон сплетены эти черные и краснокожие тела мужчин, неутомимо махающих веслами без передышки и благодарности или несущих на своих головах пригибающий к земле груз, тогда как одна лишь ходьба или вес собственного оружия становятся истинной мукой для европейца! Но вот транспортировка груза на пирогах окончена. Река поворачивает к югу, а искомая территория находится на востоке. Надо менять направление. С гребцами рассчитываются и прощаются. Они вернутся назад. Горняки теперь должны полагаться на собственные силы как на единственное транспортное средство. Они возводят на берегу хижину, которая служит временным складом для инструментов, продуктов, вещей. Концессионные земли расположены в двадцати километрах к востоку. Руководитель вновь консультируется со своим планом, выверяет ориентацию по компасу, затем начинает чертить ножом линию, которая, если не возникнет непредвиденных препятствий, приведет к концессии с геометрической точностью. Он возглавляет группу из шести человек, которые трогаются в путь, неся каждый на голове двадцать пять килограммов груза. Поминутно поглядывая на магнитную стрелку, сжимая рукоятку мачете, начальник экспедиции движется впереди, расчищая путь, рубя лианы и ветки с правой стороны, все время только с правой стороны![425] Когда изыскатель полагает, что половина пути пройдена, он подает команду сделать привал. Люди сооружают еще одну хижину, которая станет новым складом. Назавтра и в последующие дни они будут переносить сюда весь багаж, оставленный на берегу. Сколь изнурительна эта борьба с природой, чтобы в целости и сохранности доставить на место тяжелые бочонки! Надо брести через девственный непроходимый лес, ощетинившийся гигантскими растениями с острыми колючками и шипами, изрезанный топкими ручьями, изобилующий болотными зыбкими участками либо же воздвигающий крутые холмы! И все это время начальник не остается в бездействии. Он отлично знает, что никогда не сможет придерживаться нужного направления с геометрической точностью. Он отыскивает дорогу, обходит гору, рубит дерево, которое ляжет мостом через поток, поджигает непроходимый кустарник и бывает уже счастлив тем, что, вымокши под проливными тропическими дождями, с исцарапанным и исколотым лицом, с волдырями на руках, после целого дня изнурительного труда не окажется вдруг перед беспредельным болотом с его сонными предательскими водами. Но нередко требуется преодолеть и болото. Вот когда начинается настоящая борьба со слепой стихией, стеной встающей перед человеком. И в этой борьбе он торжествует благодаря смелости и терпению. Храбрец идет, возвращается, кружит, бросается в разные стороны и в конце концов отыскивает выход, угадывает лазейку в природном лабиринте. И при всех своих метаниях он не теряет нужного направления. Из сердцевины, казалось бы, непроходимой трясины опытный разведчик устремляется к одному ему ведомой цели, которую только он в состоянии отыскать. Отныне дорога от речного «дебаркадера» до золотого прииска проложена! Золотоискатель выехал из Кайенны более пяти недель тому назад, и вот весь его груз находится под укрытием третьей хижины, возведенной в глубине леса, на его территории. Сколько неимоверных усилий, чтобы достичь этого первого результата! Сорок долгих дней ушли на то, чтобы отыскать концессию и обеспечить существование семи человек. Читатель помнит, что девственные леса совершенно бесплодны и не содержат никаких ресурсов. «А золото?» — спросит читатель. Наберитесь терпения, до конца еще далеко. Итак, изыскатель добрался до своей территории. Он не сбился с курса, его ориентация точна, все как будто убеждает, что он не допустил ошибки. Люди его здоровы, настоящие «мо́лодцы», и хотят лишь одного — идти вперед. Собственно, работа, если говорить о разведке, только теперь начинается. Золотоискатель, действующий всегда по определенной системе, направляется проверить какой-либо из участков своей концессии. Его люди несут подвесные койки и инструменты, восьмидневный запас продовольствия. Предполагается, что в этой местности несколько речных бассейнов, необходимо все их обследовать. Вот речушка с быстрым течением, которая змейкой вьется меж двух рядов деревьев-великанов, образующих над нею высокий зеленый свод. Содержат ли золото земли, отстоящие от воды на десять, двадцать, тридцать метров?.. Насколько богато месторождение? Два этих вопроса необходимо выяснить. Прежде всего нужно пробраться к берегу. Это нелегкая задача, если учесть, что люди несут тяжелую поклажу, что они вынуждены действовать в сплошных зарослях, где древесные гиганты буквально увешаны и обвиты паразитарными растениями. Тяжелая и монотонная работа мачете длится непрерывно, носильщики продвигаются с превеликим трудом, но все же завоевывают метр за метром, то и дело упираясь в могучие корневища, наталкиваясь на нижние ветви, спотыкаясь о мертвые, упавшие на землю стволы. Но все преграды позади, люди проходят к цели. Они останавливаются в лесной чаще, сбрасывают груз, хватаются за инструменты и роют первую изыкательскую скважину. Это яма длиной два с половиной метра, шириной восемьдесят сантиметров. Глубина же ее варьируется в зависимости от того, насколько близок к поверхности золотоносный слой. Проложив дорогу среди растений и кое-как расчистив «рабочее место», двое мужчин яростно атакуют слой гумуса, который покрывает металлоносный гравий, представляющий собою измельченный кварц. Один долбит киркой, другой орудует лопатой, а в это время в сотне метров от них изыскатель расчищает еще один пятачок, затем ставит там двух рабочих — копать следующую скважину. Скоро все шестеро за работой; удары отдаются глухим эхом под древесными сводами. Атлетическая мощь и неукротимая энергия сметают с дороги все корни и засевшие в илистой почве пни. Голубовато-серый золотоносный гравий появляется в глубине ямы. Начальник ждет этого момента с той напряженной тревогой, какая сжимает сердце игрока перед зеленым сукном, пока шарик из слоновой кости не завершил своего вращения. Но насколько же острее эмоции человека, который постоянно играет ва-банк, чья жизнь каждую минуту подвергается смертельной опасности! Руководитель передает землекопу лоток для промывки песка, и тот его тотчас же наполняет породой. Это круглое блюдо из твердого дерева, толщиной от шести до семи миллиметров, шириной сорок пять сантиметров, выдолбленное в форме очень широкого конуса, достигающее в центре восьми сантиметров глубины. Лоток и мачете образуют неразлучный «vade mecum» золотоискателя. В лотке помещается около десяти килограммов золотоносного гравия. Со своим драгоценным грузом глава экспедиции направляется к реке, присаживается на корточки прямо к воде, отбрасывает сначала по одному более крупные скальные обломки, затем наполняет блюдо водой до краев и придает ему вращательное движение, как это делают с решетом. Небольшое завихрение образуется в середине инструмента, и вода с остатками земли постепенно переливается через край благодаря тому же вращательному движению. Масса породы истончается. Вскоре лоток пустеет. Взгляд не замечает еще ни одной крупицы золота, а видит только черноватую кучку илистых частиц. Горняк наполняет блюдо чистой водой и начинает быстро его потряхивать, благодаря чему жидкость скоро сбегает. Резкий удар ладонью о борт инструмента завершает операцию; золотая пыль, освобожденная от остатков породы, появляется вдруг, словно лучик света на коричневой поверхности лотка. Эта скромная процедура, какой бы простой она ни казалась, требует немалой сноровки и умения. Человек непосвященный обретает их только после многочисленных и неудачных попыток. Легко понять значение этой работы, которая представляет собой одновременно качественный и количественный анализ грунта. Правда, рудокоп не прибегает к более точным методам измерения. Но такова надежность его взгляда и руки, что никогда он не потеряет ни крошки металла во время промывки, а стоимость золота в своем лотке оценит с такой точностью, как будто взвешивал его на лучших весах. И ничтожно малые золотые песчинки, которые потянут на какие-нибудь двадцать пять сантимов, и те, чья стоимость достигнет пяти франков и более, весом уже около миллиграмма. Закончив промывку одного лотка, изыскатель покидает первую скважину. Вторую порцию грунта он берет уже из другой скважины, и так поступает и далее, пока не обойдет весь бассейн реки с ее притоками. Количество изыскательских скважин и промытых лотков бессчетно. Так устанавливаются средняя ширина, глубина и богатство золотоносного слоя. После этого наносится на бумагу план реки с указанием ее направления, все скважины нумеруются, а также фиксируется выход металла из каждого лотка. Изучив один речной бассейн, немедленно приступают к следующему. Территория проверяется по уже описанному образцу. Составляется топографический рисунок местности — направление и форма берегов, очертания рельефа, наличие впадин и возвышенностей; выводятся средние показатели. Когда рудокоп исходил свою концессию вдоль и поперек, с востока на запад и с севера на юг, после того, как он четыре месяца махал мачете, копал и промывал, складывал, умножал и делил, он уже знает не только площадь золотоносных зон в бассейне каждого водного потока, но и примерный объем металлоносных пластов, и их продуктивность на кубический метр. Разведка завершена. Теперь известно, достаточно ли богата концессия для прибыльной эксплуатации. Самое время подумать о возвращении. Этот беглый очерк подготовительной работы к промышленной эксплуатации прииска, сколь бы точным в профессиональном отношении он ни был, не дает полного представления обо всем, выпадающем на долю изыскателя. Может ли европейский читатель сполна ощутить тяготы, а точнее сказать — мучения, которые испытывают семеро мужчин, на полгода отделенные от всего мира, затопленные растительным морем, вдыхающие смертельные миазмы тропического леса?.. Они спят под открытым небом, проводят дни в ледяной воде рек, питаются солониной, весьма часто испорченной из-за нездоровой лесной атмосферы, их трясет лихорадка — и все-таки добровольные отшельники выполняют свою задачу. Одно из самых тяжких страданий причиняет им язвенная болезнь, поражающая ноги, и известная в Гвиане под названием pian-bois[426]. Длительное пребывание в воде, ядовитые туманы, использование в пищу солонины придают этому заболеванию особенно коварный характер, усугубленный частым контактом пораженных мест с лианами или нижними ветвями, срубленными мачете. Нет золотоискателя, чьи ноги не были бы покрыты ужасными шрамами, — это следствие громадных потерь мускульного вещества. Pian-bois, лихорадка и анемия — тройной бич старателей. Заметим, однако, что они отважно бравируют болезнями и переносят их с поистине восхитительным стоицизмом. Несчастные случаи, внезапные катастрофы, опасные болезни — все это для рудокопа лишь простые инциденты, которые ни на минуту не снижают его неукротимой энергии. Иные добытчики, настигнутые болезнью и совершенно лишенные запасов продовольствия, оказывались заброшенными в самых дальних уголках Верхней Гвианы, по соседству с горами Тумук-Хумак. Вы прочитали верно: лишенные запасов продовольствия. И это посреди гвианских лесов, где сами индейцы не в состоянии поддержать собственное существование и погибают от голода, если выпадает неурожайный год…
Такое испытание претерпели месье Казальс и месье Лабурдетт[427], которые первыми обнаружили золотые месторождения в бассейне реки Марони. Целых три года они не возвращались в Кайенну. Между прочим, пять недель они провели, питаясь исключительно зелеными бананами и капустой патава. Страдания их были ужасны. Сотрясаемые лихорадкой, с ногами, изъязвленными pian-bois, со вздутыми животами от постоянного употребления зеленых бананов, они могли разнообразить свое меню только плодами куму (oenocarpus bacaba), маленькими черными ягодами с вишню величиной. Сваренные в воде и раздавленные, они образуют бульон, который годится только на то, чтобы на время обмануть голод. Время от времени друзья находили бразильские орехи (bertholetia — excetsa), семена в шишках индийской сосны или плоды акажу (красного дерева). Хотя употребление в пищу плодов акажу небезопасно, ими так-сяк можно насытиться, приняв меры предосторожности — обжарив на раскаленных угольях и тщательно отделяя семена. Дело в том, что в этих семенах содержится разъедающая основа, которая вызывает очень сильное воспаление губ и полости рта. Находка черепахи была для изыскателей уже целым событием, подлинным праздником; поимка аймары могла сравниться с лотком, полным чистого золота. В таких вот условиях мужественные люди выполнили пять разведок — и ни одна не принесла хорошего результата. Только шестая вознаградила их.
Когда после многодневных трудов, этой долгой цепочки удач и провалов, изыскатель убеждается, что его усилия увенчались успехом, он возвращается в Кайенну со своими документами. Теперь его задача — найти свободные капиталы для промышленной эксплуатации концессии. Мы увидим, как организуется это производство, из чего оно состоит. Ведь именно золотодобывающая промышленность могла бы — а особенно должна была бы! — за несколько лет превратить нашу колонию в счастливого соперника Калифорнии и Австралии.
ГЛАВА 14
Организованный хаос. — Устройство прииска. — Новая сфера робинзонов. — Дворец в девственном лесу. — Необходимая роскошь. — Печальная антитеза. — Почему процветают английские колонии? — На реке Фидель. — Технология обогащения. — Импровизированный дуэт. — Королевы прииска.Подготовительные работы к эксплуатации прииска обходятся, как минимум, в десять тысяч франков и пока не приносят ничего, кроме надежд. Количество золота, собранного во время изысканий, настолько ничтожно, что выручка за него может в счет не идти. Однако наш золотоискатель легко находит компаньонов, готовых сделать начальные взносы, необходимые для крупных разработок. Перво-наперво удачливый изыскатель обращается в Департамент внутренних дел с просьбой о предоставлении постоянной концессии на обследованную территорию, и такое право он приобретает, уплачивая по сорок сантимов за гектар. Новость о его успехе уже распространяется,как шлейф пыли, и притом золотой пыли. Наш герой устраивается на жилье в Кайенне, изо дня в день встречается со многими людьми, стараясь привлечь к своему делу как можно больше горняков, рабочих других специальностей. Ему требуются пильщики досок, которые на месте смогли бы заготовить материал для сооружения промывочных установок, так называемых «sluice». Людей подобной профессии, к сожалению, почти невозможно найти в Гвиане, приходится преодолевать отвращение и брать их из числа вышедших на волю каторжников. Необходимо нанять нескольких каретников, кузнецов, каменщиков, пускай лишь для сооружения печи. Эти рабочие — увы! — также найдутся только среди бывших заключенных. Нужда свой закон пишет… Свободные ремесленники не поедут искать богатство за тридевять земель, в эту Гвиану, о которой столько ужасных слухов, но ни одного правдивого — о необычной щедрости благодатной земли… А какой здесь реальный источник богатства для жителей метрополии, которым часто не хватает дома даже плохо оплачиваемой работы! Какая приманка для тружеников, не знающих иного горизонта, кроме стен своей мастерской или мансарды, — жизнь на свежем воздухе, среди природного изобилия! Что касается собственно рудокопов или переселенцев, то с ними дела обстоят получше, хотя и тут возникают трудности. В Гвиане не хватает рабочих рук, а власти так мало делают, чтобы наращивать и поощрять иммиграцию негритянскую, китайскую или индийскую! Как бы там ни было, изыскатель становится директором прииска, перелопатив землю и небо и в конечном итоге наняв на восемь месяцев, за пять франков в сутки плюс питание, от ста двадцати до ста пятидесяти черных обитателей колонии. И каждому выдаст аванс при вручении рабочей книжки — в пределах от ста до двухсот франков. Полсотни индусов нанимаются на тех же условиях и на тот же срок. Но они будут заняты исключительно добычей золота. Что касается обозных, в чьи обязанности входит транспортировка продуктов, то для этой цели наймут двадцать пять — тридцать китайцев. Действия, в общем, такие же, как и при подготовке к изысканиям, только в пропорции: шесть к двумстам тридцати. Это соотношение определяет утомительно долгий список необходимых продуктов и вещей, который мы уже приводили в предыдущем случае. Отправка к месту назначения производится на шхунах, чьи борта еле выступают над водой из-за перегрузки, либо на пароходике «Dieux-merci», на узкой палубе которого в этот день будут представлены как будто все образцы человеческих рас. Последующую дорогу с ее переменами транспортных средств мы с вами уже описали. После колониального парохода или шхун — лодки бывшего каторжника, потом пироги негров бони, преодоление водопадов, высадка на берег, сооружение временного склада… Рабочие валят деревья, обтесывают столбы, заготавливают дранку для крыши. И вот уже рудокопы и обозники, вытянувшись в индейскую цепочку, вступают на путь, ранее пройденный изыскателем. У всех на головах — продукты, инструменты, вещи, расфасованные по двадцать пять килограммов. Куак, смалец, бакалейные товары в просмоленных мешках, запечатанных таким образом, чтобы предупредить всякий соблазн извлечь что-нибудь оттуда по дороге. Вино и тафия транспортируются в оплетенных бутылях, также накрепко опечатанных из тех же соображений. Первые ночи проводят на золотом прииске по-походному. Но тут же рудокопы превращаются в дровосеков, с топорами и пилами подступают к деревьям и валят их с поразительной быстротой. Гиганты, связанные лианами, колеблются, не решаются упасть, но потом увлекают друг дружку и обрушиваются с грохотом. Лиственные купола немедленно отделяются от стволов, и лучи солнца впервые озаряют эту победу цивилизации над невежеством. Поверженные деревья служат материалом для хижин, которые вырастают словно по мановению волшебной палочки. И через несколько дней взорам уже открывается зачаток поселка. Хаос принимает организованные формы благодаря точному распределению работ, где каждому находится дело. Пильщики заготавливают доски, каретники их прилаживают и соединяют в общих конструкциях. Реки освобождаются от загромождающих их водяных растений, золотоносную зону расчищают. Эксплуатация участка начинается.
Прибывшие из Европы Шарль и Никола нашли именно в таком состоянии прииск «Удача», спустя два месяца после начала промышленной добычи золота. Этот участок, чье местонахождение молодой человек точно установил с помощью математических инструментов, не принадлежал, как первоначально думали, компании по обработке наносных грунтов. В ошибке был повинен не месье Дю Валлон, а изыскатель концессии. Креол лишь с недавних пор заменил погибшего горняка. Из-за этой ошибки в расчетах — всего лишь на две тысячи метров — робинзоны стали собственниками уже обустроенной территории. Но они не желали обогащаться за чужой счет, используя случайность. Читатель помнит, что компаньонам директора были щедро компенсированы предварительные расходы, хотя формально они не имели никаких прав на возмещение убытков. Рабочие прибыли из Кайенны несколько дней тому назад. Деятельность прииска возобновилась под разумным управлением месье Дю Валлона, разработки предвещали солидную добычу. Робен хотел, чтобы все было в полном порядке, когда его семья посетит участок. И этот желанный день наконец настал. Мадам Робен, обе мисс и братья-бони покинули усадьбу и направились на золотой прииск. Паровая лодка причалила к берегу. Перейдя по легкому мостику, переброшенному над первым ручьем, пассажиры очутились на просторной поляне, наполненной производственным гулом. Их там ожидали. Прибытие гостей ознаменовали приветственной пальбой, из-за чего поднялся переполох на птичьем дворе и взлетели в воздух перепуганные туканы. Индийский кули в полном облачении и в национальном тюрбане тут же поднял на вершину длинного шеста французский государственный флаг, полотнище которого заполыхало яркими цветами перед изумленными и восхищенными взорами посетителей. Охваченные глубоким волнением при виде священной эмблемы своей родины, робинзоны, не сговариваясь, громко вскричали: — Vive la France![428] — Да здравствуют французы экватора! — в ответ им зычно провозгласил не менее взволнованный месье Дю Валлон, поспешая навстречу инженеру и его семье. Знакомясь со своим новым владением, робинзоны удивлялись все больше и больше. Директор, получивший полную свободу действий для устройства прииска, превзошел самого себя. Его энергия и отличное понимание особенностей лесной жизни сотворили чудо. На широком пространстве, тщательно выровненном и очищенном от пеньков, выстроились хижины рабочих. Предназначенные для китайцев и индусов образовывали правую сторону, негритянские — левую. Эти опрятные, гигиеничные, с природной вентиляцией домики, возведенные из жердей и крытые листьями пальмы ваи, приобрели уже красивый цвет маиса и выглядели очень гармонично. Перед некоторыми из них успели разбить палисадники, где тянулись кверху плодовые или декоративные растения. Саженцы банановых пальм стояли рядами от речного дебаркадера до жилищ. Через какие-нибудь два года пальмы образуют тенистую аллею, которая надежно защитит от солнца. Собственно поселок отступил на сотню метров от аллеи и раскинулся на склоне небольшого холма. Такое расположение было выгодно вдвойне: с одной стороны, оно предохраняло от наводнения, а с другой — легкий ветерок, неоценимое сокровище в Гвиане, постоянно освежал помещения. Корпус здания, длиной более сорока метров, шириной двенадцать и высотой около десяти, представлял собой отличный образец колониальной архитектуры. Он возвышался на образующей пол крепкой основе из дерева баго. Его фиолетовые и черные прожилки после протирки маслом карапы высвечивали тонами аметиста и гагата. Косяки из розового дерева, пропитанные древесной смолой, напоминали о старинной мебели времен Людовика XV, этой радости антикваров. Они поддерживали красные балки атласной гладкости, образовывавшие потолочную раму, на которой были уложены тонкие стропила из белой балаты. Очень высокая остроконечная крыша из листьев пальмы ваи резко расширялась книзу под тупым углом, окружая весь дом своеобразной верандой шириной в два метра. Вся постройка выглядела очень легкой и элегантной. Подвесные койки негров и индейцев тихо раскачивались под порывами ветерка, суля блаженный отдых. Все эти чудесные экземпляры самых ценных древесных пород, один вид которых заставлял ускоренно биться сердце краснодеревщика, были срублены тут же, неподалеку. Более того, некоторые из них обтесали в стоячем положении и оставили на своих местах, на крепких, разросшихся корневищах. Это намного увеличивало прочность всего сооружения. Общая столовая, находившаяся в центре здания и открытая с обеих сторон, к северу смотрела на прииск, а к югу — на девственный лес. Две большие занавеси цвета маиса из волокон формиума[429] ниспадали изящными складками из-под кровли. Одну из стенок почти полностью закрывал поставец[430] из змеиного дерева, заменявший буфет, с накладками черного цвета. На поставце высилась посуда из фарфора и небьющегося стекла. Огромный массивный стол величественно опирался на четыре могучие ножки. Напротив поставца разместили стойку для оружия, на которой выстроились в ряд строгие профили бронзовых стволов. Под этими безупречными изделиями современной оружейной техники, привезенными Шарлем из Франции, расстелили шкуру ягуара, которую избрал своим жилищем огромный сторожевой пес Боб, доставленный из Кайенны месье Дю Валлоном. Этот Геркулес собачьей породы, сильный, как тапир, и храбрый, как лев, отличался мягкой, прямо-таки овечьей натурой. Он по-братски уступил уголок шкуры всеобщему любимцу Матао, который немедленно и с большой охотой принял этот любезный дар. Налево располагалась гостиная. Ее уставили диванами и креслами-качалками, сплетенными из бамбука китайцами с той неподражаемой грациозностью и причудливостью орнамента, которые свойственны только изделиям этих великолепных тружеников. Комнаты для дам, примыкавшие к гостиной, выходили в широкий коридор и на веранду. С другой стороны столовой и параллельно гостиной располагался рабочий кабинет. Столы кедрового дерева, заваленные бумагами, картами, планами, рисунками, моделями орудий труда и инструментов, были прикреплены к полу. На стенах из оливкового дерева закрепили множество полок с симметрично расставленными образцами редких древесных пород, минералов, окаменелостей, скальных обломков, а также компасы, часы, педометры, физические и математические приборы и т. п. Мужские апартаменты примыкали к рабочему кабинету. Наконец, чтобы завершить описание так хорошо продуманной планировки помещений, надо упомянуть отдельно стоявший маленький флигель, где разместилась полноценная химическая лаборатория. До нее от дома было метров двадцать. Не забыли, конечно, и о кухне с печью, расположив их поблизости от столовой. Кухню доверили просвещенным заботам мэтра Августина, натурального марсельца, бывшего кока на крупном военном корабле, который вскоре приучил обитателей Гвианы к рыбной похлебке с чесноком и к провансальскому фаршу с грибами и луком. Еще один штрих, показывавший, насколько разумно и предусмотрительно спланировали просторное здание. Из каждого уголка жилища хорошо просматривалось все открытое пространство с хижинами рабочих, помещениями для служащих и для домашней прислуги, с кухнями и продуктовыми магазинами. Значение этого обстоятельства, сколь бы мелким оно ни казалось, трудно переоценить. Счастливые, словно дети, робинзоны шумными возгласами выражали свой восторг и осыпали благодарностями и похвалами главного творца этих чудес. — Ну, это слишком шикарно, мой дорогой директор, — повторял Робен. — Мы сами на себя не похожи среди всей этой роскоши… Это уже не Гвиана, мы будем нынче спать в условиях изнеженной тропической Капуи[431], которую воздвигло здесь ваше волшебное искусство… С другой стороны, это изобилие посреди всеобщей нищеты вызывает у меня чувство неловкости… О! Пусть не смущают вас эти замечания, мой друг! Я слишком признателен вам за то, что вы постарались облегчить пребывание наших дам в этом аду, чтобы добавлять хоть каплю горечи к вашей вполне законной гордости… — Дорогой месье, — живо ответствовал креол с тем глубоким почтением, которое внушал изгнанник всем, кто его близко знал, — я ждал ваших слов, и они переполняют меня радостью. Вы позволите мне быть откровенным и раскрыть причины моих действий?.. — Говорите, дорогой друг. Вы же знаете о моем расположении к вам. Я с большим интересом выслушаю ваши предложения… Уверен, что они идут от чистого сердца и от проницательного ума… Креол покраснел от удовольствия — Робен отнюдь не был щедрым на комплименты и знаки внимания, — скромно поклонился, пробормотал слова благодарности и продолжил: — Я хотел бы сказать, что после той ужасной жизни, которую вы некогда вели на этой земле изгнания, после вашей неустанной борьбы с тюремщиками, которые вас угнетали, но никогда не побеждали, было бы справедливым пожать наконец плоды своих трудов и не испытывать больше страданий и тягот… Для каждого, кто знает вашу жизнь, историю вашей семьи, сделанное мною покажется еще и недостаточным, не отвечающим вашим заслугам, несоизмеримым с несчастьями прошлого… Вот одна линия моих рассуждений, но есть и другая, еще более существенная. Вы говорили, что наши колонии сильно уступают процветающим английским владениям и что ваше сердце патриота страдает от такого сравнения… — Конечно, и вам хорошо известна цель моего существования — обогатить «Полуденную Францию» новыми идеями, элементами новой жизни… — Я это знаю. И одна из главных причин нашего оскудения, всеобщего упадка поражает меня тем сильнее, что я креол. У француза-эмигранта одна только мысль: поскорее собрать состояние, большое или не очень, а затем без задержки вернуться домой, в цивилизованный город, чтобы наслаждаться жизнью… То есть для него всегда своя рубашка ближе к телу… Плевать ему на то, что десяток лет для достижения своей цели он проводит в жалкой халупе. Он продает, покупает, меняет, старается как можно больше придержать, как можно меньше потратить… Когда его бумажник набит, когда он превратился в губку, вытянул из колонии все, что мог, счастливчик садится на ближайший пароход — только его и видели! Вместо того чтобы улучшить землю, приносящую ему богатство, он бросает ее, как неблагодарный обжора, как эгоистичный игрок! Англичанин же, напротив, покидает метрополию безо всяких планов на возвращение. Он становится англичанином индийским или австралийским, создает уголок своей родины везде, куда забрасывает его судьба. Если есть у него привычный круг вещей, то он привозит их с собой. Если нет, то он умудряется создать на месте этот «дом», такой важный и дорогой для каждого гражданина Соединенного Королевства. Он умеет торговать и вести свои дела не хуже любого другого, однако не поступает подобно паразитическим натурам, которые только берут и не желают ничего отдавать. Его коммерция обогащает окружающее, а не обедняет. Он живет семейной жизнью и, отдаваясь разным делам, заботится об открытии школы для своих детей. Он желает, чтобы они находились в здоровой городской атмосфере, с домашним комфортом, и добивается этого любой ценой, потому что и завтра будет здесь же, и дети его останутся на этом месте, как и их потомки. Даже сами его причуды и прихоти способствуют процветанию приемной родины. Если бы у француза был нрав английского спортсмена, то он дождался бы, когда приобретенный капитал принесет ему главный приз, а не удирал бы до начала состязания. Он бы выращивал лошадей в Гвиане, и тогда, возможно, в Кайенне ходил бы трамвай, как в соседней Демераре. А то у нас два десятка экипажей и ни одного ресторана или меблированной гостиницы. Ах! Если бы все те, кого эта щедрая земля обогатила, не сорвались бы в ту же минуту с места, как бы расцвела наша милая «Полуденная Франция»! Вместо того чтобы ехать клянчить чахлых бычков в далекой Паре, да еще выкладывать при этом золото, на наших тучных пастбищах гуляли бы самые лучшие в мире животные, как на лугах Девоншира. Наши истощенные рабочие ели бы кровавый ростбиф, а не сидели бы на голодном пайке из куака и солонины. Там, где торчат ветхие разбросанные хижины, поднялись бы города; пароходы бороздили бы наши крупные реки; железные дороги связали бы, как в Австралии, золотые прииски и другие предприятия… Наша колония стала бы мощным государством, а не унылой комбинацией сухих пустынь и болезнетворных болот… — О, все, что вы говорите, — это суровая правда, — подхватил Робен, глубоко пораженный неподдельным волнением креола и пафосом его речи. — Теперь я вас понимаю вполне, и позвольте мне поблагодарить вас от всей души! — Я хотел сыграть роль англичанина и создать здесь интерьер французского «дома» из самых простых подручных материалов, какими располагает наша колония. За исключением стекла и фарфора, оружия и инструментов, природа дала нам все эти материалы в первичном состоянии. Изумительные образцы древесины, которым позавидовал бы набоб[432] в своем дворце, еще три месяца тому назад шумели листвой… Мы срубили деревья, обтесали их, отполировали и водрузили на место. Бамбук, из которого сделаны удобные и элегантные кресла, и формиум, давший основу для драпировок, растут среди болот… Там их тьма-тьмущая… А наши гамаки пребывали в состоянии пушистых кистей на хлопковых деревьях. Наконец, на этом участке земли, залитом сейчас ярким солнечным светом, поднимался густой и мрачный лес с гнилостным духом, влажной травой, отвратительными насекомыми, заболоченной вязкой почвой… Я скажу теперь тем, кто предпочел убраться отсюда с накопленным золотом: вам нравятся наши жилища, вас удивляют удобства нашей жизни, вы, может быть, завидуете нашему счастью… Ну, так за чем стало! Оставайтесь с нами, берите с нас пример! Вы же видите, как легко достичь этого комфорта, этой роскоши… И закладывайте здесь основы своего будущего! Привезите сюда Францию, и завтра ваши дети станут гражданами большого города. Вместо того чтобы быть в Европе последними среди тех, чьи вкусы и привычки вам чужды, вместо того чтобы превращаться в беспородных миллионеров, лишенных натуральной почвы и, может быть, обремененных собственным богатством, станьте первыми французами экватора! Колониальный ларец нашей родины будет обладать самой крупной жемчужиной! Наряду с Индией и Австралией весь мир признает «Полуденную Францию»! Мое перо не берется описать волнение, сжавшее сердца присутствующих, когда напряженный голос креола провозгласил эти патриотические слова. В таких сценах каждый предпочитает сам испытывать живительную радость и ликование… Золотой прииск начинался для робинзонов под счастливой звездой… Вечером устроили праздник. Индусы и негры плясали и пели, стреляли в воздух из ружей, горячительные напитки лились широким ручьем. Даже китайцы потеряли свою обычную угрюмость, их обезьяньи мордочки разгладились, и они развлекались, как никогда. Шумное и суетливое веселье не перешло, однако, границ разумного. Празднество длилось до глубокой ночи, но, когда на заре сигнальный рожок возвестил о начале трудового дня, никто не пропустил его мимо ушей. Прииск пробуждался слегка утомленный, но радостный. День открывала важная процедура — «бужарон», распределение водки небольшими порциями. Затем следовала раздача продуктов питания. Пока кладовщик Мариус, «бакалавр из Маны», приправлял пищу крупной солью, начальники участков собрались под навесом веранды, чтобы получить распоряжения директора на предстоящий рабочий день. Расчет был завершен, рабочие возвратились в хижины, чтобы позавтракать и приготовить себе полдник, который они проглотят днем, не прерывая работы, потому что, однажды запущенный, рудопромывочный желоб не ведает остановок. Точно так же, как правительство определяло нормы питания[433], оно устанавливало и продолжительность рабочего дня. За исключением воскресенья, рабочие ежедневно заступали на смену в восемь часов утра, а прекращали работу в три часа пополудни. Всего семь часов труда. Это немало, с учетом климата нашей колонии. После утреннего совещания мастера возвращались в поселок, получали необходимое для работы инструмента количество ртути и в сопровождении своих людей шли к реке, представлявшей главное поле деятельности. Робинзонам были известны примитивные методы добычи золота, но они не владели промышленным производством — весьма несовершенные инструменты французы мастерили сами из подручных материалов… Так что первое посещение прииска превратилось для них в подлинный праздник. Поскольку дамы пошли вместе с ними, то выбрали утреннее время, когда солнечный жар еще не достигал всей безжалостной мощи. Месье Дю Валлон пришел за ними через два часа после утреннего инструктажа; он уже успел посетить на рабочих местах добрую половину персонала. Директор обладал просто поразительной энергией. Решили отправиться к речке Фидель, самой ближней. До нее было от дома всего двести метров. Если робинзоны, в том числе и мать семейства, давно привыкли к лесной жизни и могли выдерживать дальние переходы, то по лицам юных англичанок обильный пот струился уже после такой коротенькой прогулки. Свирепость тропического солнца невозможно передать словами, ее надо почувствовать. На берегу Фидели работали уже полным ходом три промывочных агрегата. Месье Дю Валлон позаботился о подступах к ним, перебросив доски и мостики через топкие и загроможденные места. Без этой предусмотрительности посетителям пришлось бы карабкаться на отвесные кручи или спотыкаться о поверженные стволы, продираться сквозь груды ветвей или увязать чуть ли не до колен в зыбком илистом грунте, чтобы добраться до первого рудопромывочного желоба. Русло реки совершенно исчезло. Срубленные деревья, наваленные с обеих сторон полосами шириной более двадцати метров, громоздились друг на друге безо всякой системы, всюду высились кучи отсеченных ветвей и метровые пни от вчерашних гигантов. Рубка леса предшествовала промывочным работам, ее выполнили два месяца тому назад, и она продолжалась по мере потребности. Ложе реки, перегороженной плотиной выше по течению, опустело. Вся вода, задержанная перемычкой, пропускалась через установки и промывала золотоносный гравий. Зрелище предстало глазам самое живописное. Черные и краснокожие рабочие в своих калимбе орудовали кирками, лопатами, мотыгами, подрубали корни деревьев, шлепали по жидкой грязи, пели или болтали без умолку, их блестящие мускулистые тела были покрыты потом, словно кувшины алькарразас[434]. Sluice, или рудопромывочный желоб, служил в Гвиане главным инструментом для намывания золота. Он представлял собой систему деревянных коробов длиной по четыре метра, так называемых dalles, похожих на огромные гробы без крышек, открытые с обоих концов. Высота стенок у этих коробов — от тридцати восьми до сорока сантиметров, расстояние между стенками — тридцать восемь сантиметров с одного конца, сорок два — с другого. Эта разница в размерах необходима, чтобы вставлять короба один в другой. Так они превращаются в длинный и открытый деревянный канал. — Вот перед вами рудопромывочный желоб средней величины, — рассказывал Дю Валлон инженеру и его сыновьям. — Он состоит из двенадцати коробов, общая длина достигает сорока метров. Здесь заняты двадцать мужчин и женщин. Восемь человек только на расчистке. Убрав последние остатки растений, они лопатами и мотыгами снимают верхний слой земли, чтобы добраться до золотоносной породы. В этом их цель. Они в буквальном смысле слова расчищают почву для восьми землекопов, которых вы видите на дне этих ям. Сильными ударами кирки они долбят сероватый слой, который кажется таким твердым. Раздолбив его, рабочие перебрасывают породу лопатами в ближайший короб, который расположен над их головами. — Так это и есть золотоносный слой? — спросила мисс Люси у мадам Робен. — Ну да, мадемуазель, — вместо женщины ответил директор. — Это раздробленный кварц, остатки рудных жил. Частицы его самых разных размеров — одни с булавочную головку, а другие — с человеческую голову. — И золото находится в свободном виде между этими частицами?.. — Они сами содержат его в себе в гораздо большем количестве. Если бы нам удалось размолоть все это до состояния мельчайшего песка, то выход продукции у нас удесятерился бы. Но нынешнее положение золотодобывающей промышленности в Гвиане таково, что приходится довольствоваться сбором золота, которое отделилось от кварца. И поступления металла пока еще очень скромные. — А этот слой кварца очень большой? — Относительно крупный… Местами его глубина достигает полутора метров, а кое-где — всего лишь сантиметров десяти… Что же касается площади залегания, то она тянется полосами от десяти до двадцати метров шириной с каждой стороны реки. Вот в этом месте слой великолепен, смотрите, как лихо трудятся наши бравые землекопы… На этом агрегате работают еще четыре женщины, которые целыми днями сидят на корточках в коробах, удаляя оттуда крупные камни, мешающие прохождению гравия. Есть четыре волочильщика песка. Они находятся в нижней части желоба, там, где оканчивается последний короб, вооружены изогнутыми мотыгами с длинными ручками и заняты удалением промытой земли, которую сбрасывают по обе стороны лотка. В общем, всего в процессе занято шестнадцать мужчин и четыре женщины. — Рудопромывочный желоб должен быть очень прочным, — дополнил Анри, — чтобы он мог выдержать немалый вес гравия, а также женщин, выбирающих камни. Первые короба находятся на высоте более двух метров, считая со дна ямы, где роют землекопы, и падение может быть опасным, если желоб с его наклоном в пять сантиметров на каждом метре вдруг обрушится… — Не пугайте понапрасну дам, — успокоил директор. — Вот глядите — каждый из коробов покоится на двух боковых распорках, а те укреплены на крюках из кованого железа. Крюки держатся на сваях из дерева мутуши, вкопанных в почву больше, чем на метр. А вы знаете их прочность, они соперничают с самим железом! Раззадоренные присутствием европейцев, горняки налегали на кирки, с яростью обрушиваясь на породу, и одновременно распевали во всю глотку с неистовым пылом. Двое землекопов атлетического сложения, раздолбив изрядный кусок пласта, отбросили свои инструменты и вооружились лопатами, которые тут прозвали «каторжанскими». Длина их ручек составляла не менее двух с половиной метров. Со дна ямы землекопы с неподражаемой ловкостью выбрасывали полные лопаты гравия, попадая прямо на середину лотка, по которому струилась проточная вода. Эта удивительная точность и слаженная быстрота движения казались подлинным чудом. Одно удовольствие было наблюдать за этими силачами. Огромные лопаты пушинками летали в могучих руках, от непрерывных и ритмичных бросков молочно-белая вода в желобе вскипала фонтанчиками брызг. При этом землекопы еще успевали издавать зычные фиоритуры[435]. Своими орудиями они совершали настоящие фехтовальные выпады, и железо, описав в воздухе полуокружность, вонзалось в землю точно у босых ног. Каждый бросок лопаты, отправляемый в желоб, ритмически сочетался с музыкальной фразой, которая повторялась без конца. — Сами ке волоо! — вопил один из богатырей, и орудие труда взмывало вверх. — Мун ла-о, бон-бон! — рычал в свою очередь второй, отправляя в желоб порцию породы. — Сами ке волоо! — заводил первый. — Мун ла-о, бон-бон! — повторял напарник. — Что они говорят? — поинтересовалась мадам Робен. — Что Сами — это вор, а люди там наверху — очень хорошие… — А для чего? — Это способ ритмизации движений, аналогичный напевам булочников или кузнецов. Иногда они слагают нескончаемые песни о своих радостях и печалях. Излагают жалобы и упреки, а бывает — вышучивают друг друга… Есть у них и сатирическая жилка, могут не пощадить самого патрона в своих импровизациях, которые называют словом «chanté» или «dolo». Сами, так называемый «вор», — это индийский кули, занятый на службе в доме… Что касается «мун ла-о бонбон», по-креольски — «люди наверху хорошие», это о вас, в такой своеобразной манере негр славит ваше великодушие. И Дю Валлон крикнул землекопам: — Хорошо, Фидель! Хорошо, Барон! Сегодня получите на ужин двойной «бужарон»! Как мадам Робен и его братья, Шарль проявил самый живой интерес ко всему увиденному и услышанному. Не без пафоса он предался воспоминаниям: — Как далеко шагнули эти чудесные установки от бедных ивовых тарелок, которые мы трясли изо всей силы, чтобы найти хоть несколько крупинок золота! И только подумать, нам это казалось верхом мастерства! Но все-таки старые орудия труда принесли нам удачу. Теперь я бы хотел узнать внутреннее устройство рудопромывочного желоба. Меня удивляет ваше заявление, что вы не теряете ни крупицы золота. Ведь как бы мы ни старались в те времена, а все равно теряли добрую треть золотого песка. Ваш метод, наверное, очень сложный… — Наоборот, он самый простой. Песок попадает в короб, где вода его измельчает, разъединяет. Внутри короб выложен листовым железом с мельчайшими, как у решета, дырочками, и эта жесть отстоит на восемь миллиметров от деревянного дна. Она поддерживается спереди двумя ромбовидными цапфами, а сзади — деревянной перекладиной. Кроме того, ее опорами служат на обоих концах по два кулачка, которые сжимаются во время прохождения породы и не дают жести сорваться с места. Нет необходимости говорить, что золото притягивается к ртути при простом контакте. Время от времени ее бросают в короба. Она медленно протекает под металлическую пластину и накапливается у перекладины, где проточная вода все время заставляет ртуть двигаться. Вы знаете, что все тела, включая железо, плавают на поверхности ртути. Тем более — кусочки породы… И все то, что не является золотом, скользит по жидкому металлу и сносится прочь водой, а золото, поглощаемое по дороге, соединяется с ртутью мгновенно. Этот процесс называется амальгамированием. Заметьте, что пластина с ртутью имеется в каждом коробе, так что амальгамация происходит по всей длине желоба. Если по какой-то, почти немыслимой, случайности крупинка золота ускользнет из пятого, шестого короба, даже из десятого, то она неизбежно задержится в двенадцатом совершенно особым способом. Он называется кассой, и вполне заслуженно. В самом конце желоба расположен ряд литых пазов, глубиной от восьми до десяти миллиметров, и эти пазы заполнены ртутью. Так что ни одна крупица золота, даже самая ничтожная, не избежит контакта с такой ловушкой. Драгоценный металл останется в «кассе». — А велика ли его выработка? — В этом месте сказочно богатая. Здесь мы находимся в «кармане» и берем около двух килограммов из четырех кубометров. Вы увидите лотки стоимостью пять, шесть франков… А в среднем доходность на речке Фидель — семьдесят пять сантимов с одного лотка. — Лафлер, — окликнул директор индуса, занятого волочением песка, — и ты, Апаво! Намойте каждый по одному лотку! Рабочие без промедления приступили к делу и весьма скоро подошли к гостям со своими деревянными тарелями, на дне которых ярко светилось абсолютно чистое золото. Его стоимость, которую можно было определить на глаз, вполне подтверждала данную директором оценку. Дю Валлон, который и сам за это время успел намыть еще один лоток, сорвал три пальмовых листа, высыпал на них поровну содержимое из трех лотков, после чего свернул листья пакетами и обвязал тонкой лианой, по обычаю гвианских рудокопов. Затем он с элегантностью настоящего придворного вручил эти пакеты каждой из трех женщин со словами: — Когда суверены[436] посещали свои города, то обычно им подносили ключи от городских ворот в знак глубокого почтения и преданности. А вы — королевы золотых россыпей. Соблаговолите же принять первые плоды своих владений! Юноши-робинзоны и глава семейства улыбками одобрения оценили находчивость директора. Мадам Робен и ее приемные дочери, смущенные и растроганные, с удовольствием приняли предложенные подарки. Но директор не изменил своему серьезному и торжественному тону: — Примите в знак глубокого уважения и преданности это самородное золото, единственно достойное вас! Его от всей души дарят вам верные подданные…
ГЛАВА 15
Подъем производства. — Чистая прибыль от рудопромывочного желоба. — Тридцать тысяч франков — на сковороде. — Немного геологии. — Капля воды, победившая сталь. — Еще об английской филантропии[437]. — Необходимые реформы. — Будущее французских колоний принадлежит людям с цветной кожей.Этот первый день, проведенный нашими героями на золотом прииске, завершился увлекательным зрелищем выемки из желоба готовой продукции. Гости вернулись на речку Фидель к трем часам пополудни, к тому моменту, когда хриплый голос трубы возвестил об окончании трудового дня. Довольные, словно школьники, которых звонок позвал на переменку, рабочие оживленно рассеялись по участку, как будто и не гнули спины с самого утра на изнурительном солнцепеке. Начальники рудопромывочных установок остались возле своих агрегатов, ожидая директора или представителей администрации, чтобы приступить к сбору дневного «урожая». Заградительный щит перемычки, расположенной в верхней части желоба, был опущен, тоненький ручеек воды продолжал струиться в деревянном канале. Металлическую плиту первого короба сняли с зацепок, потом вымыли щеткой доски и перекладины. Ртуть, впитавшая частицы золота, перетекла во второй короб, где повторили ту же самую операцию, потом в третий короб — и так до двенадцатого. Все амальгамированное золото находилось теперь в последнем коробе, или кассе, то ли под жестяной пластиной, то ли в поперечных бороздах рифленой отливки. Пустой лоток подставили под нижнюю часть кассы, чтобы собрать последние металлоносные крупицы. Пластину и отливку вынули, затем тщательно протерли щеткой, как и деревянные перекладины, кулачки и ромбовидные опоры, к которым пристали замутненные капельки ртути, содержавшие золото. Лоток сразу на три четверти наполнился гравием, испещренным серебристыми прожилками металла. Мастер тут же промыл этот лоток подобно тому, как это он сделал недавно, демонстрируя работу изыскателя. Затем, когда на его деревянном блюде осталось только некоторое количество ртути, освобожденной от посторонних примесей, старатель натянул на горло тыквенной бутыли кусок сурового полотна и вылил на него жидкий металл. Подобравши другой рукой концы полотняной тряпки, он сильно скрутил ее и отжал над бутылью. Ртуть просочилась через поры грубой ткани и пролилась на дно сосуда, а в полотне теперь осталась только мутная голубовато-белая масса величиной с куриное яйцо, похожая по цвету на фольгу, в которую пакуют шоколад. Это и была дневная выработка. — Производительность установки отличная, — заметил Дю Валлон, взвешивая на ладони маленький пакет, перехваченный посредине тесемкой и напоминавший самодельные куклы сельских ребятишек. — Потянет на триста граммов. За вычетом двадцати пяти процентов ртути имеем двести двадцать пять граммов первоклассного золота. Один грамм стоит три франка двадцать пять сантимов — вы же знаете, что гвианское золото в цене, — таким образом, дневной доход от этой установки составит… — креол произвел в уме быстрые вычисления, — семьсот тридцать один франк двадцать пять сантимов. Отбросим тридцать процентов на эксплуатацию — агрегат сегодня принес пятьсот десять франков чистой прибыли. Двенадцать таких установок работали весь день. Есть основания полагать, что средняя выдача продукции у них примерно одинаковая. Вы можете судить по этому краткому отчету о богатстве прииска «Удача». — Браво, мой дорогой директор! — весело воскликнул Робен. — Соберем поскорее миллионы и обогатим наших союзников и компаньонов, я имею в виду рабочих, которых хочу заинтересовать общим делом. Ведь это содружество мускулов, это товарищество совместно пролитого пота тоже имеет право на прибыли, не так ли?.. — Конечно, месье. Капитал заключается не только в средствах, однажды потраченных миллионером. Постоянные усилия бесконечно малых величин составляют его необходимый компонент. Они имеют право на вознаграждение. Одним выстрелом мы убиваем двух зайцев. Совершаем доброе дело и улучшаем производство. Будучи заинтересованы в том, чтобы выход продукции поддерживался на высоком уровне, рабочие будут внимательно следить, чтобы золото не воровали. — Отлично! — А теперь, если вы не против, вернемся в дом, куда придут все начальники участков с полученной за день продукцией. Я взвешу все пакеты, впишу в наши книги выработку каждой установки и общую отдачу реки, затем подведу баланс. Таким образом я буду знать, поднимается или падает производительность каждого желоба, а также стоит ли эксплуатировать бассейн той или иной реки. Затем я положу золотой песок в свой сейф, где он хранится до дня выпаривания ртути. Обычно эта операция производится в воскресенье утром. — Какой метод вы используете? — До сих пор я довольствовался примитивным способом прежних золотоискателей. Вы его знаете: амальгамированный металл помещают на сковородку и греют на огне. Ртуть испаряется под воздействием жара, и золото приобретает свой желтый цвет. — И вы теряете при этом двадцать пять процентов ртути… — Мне повезло, я получил недавно из Кайенны аппарат для выпаривания. Устройство простое, а результаты дает превосходные. Уже два раза я им пользовался, потери ртути ничтожны. — Еще раз — браво, мой дорогой директор! Это крайне важно — безупречный испаритель! Хочу его немедленно осмотреть. Ведь это в моей компетенции, — улыбаясь, заметил инженер. — Значение такого аппарата тем более возрастет, чем мы скорее установим паровые молоты и будем дробить кварц. Надо бы усовершенствовать испаритель, хотелось бы этим заняться… — Ваши намерения очень похвальны, — с живостью отозвался директор. — Дерзайте! И я нимало не сомневаюсь в успехе, о котором прежде и помыслить не могли… — Будем надеяться, мой милый Дю Валлон. Нам следует трудиться не покладая рук. Это будет грандиозный рывок вперед. Через два-три месяца свисток нашего судна перекроет шумные голоса туканов, и паровые молоты глухо застучат в огромной долине… — Но ведь рудные жилы есть и на территории нашего прииска… — Всюду, где есть аллювиальные или наносные земли, встречаются и кварцевые скалы. Одно не обходится без другого. Ведь и золотоносный гравий ведет свое происхождение от раздробленных кварцевых жил. Кажется просто невероятным, что гвианские горняки до сих пор игнорировали такие разработки, а довольствовались скудной прибылью, приносимой промывкой гравия… — Но вся эта теория рудных жил — пока еще дело темное… — Заблуждение, мой друг, заблуждение! Оно развеется буквально на ваших глазах. Через пять минут вы будете знать об этом предмете столько же, сколько я, и станете искать рудные жилы не хуже горного инженера. — Я весь внимание… — Ну так слушайте. Прежде всего, что такое жила. Вы знаете, что в отдаленные времена Землю сотрясали ужасные геологические катастрофы[438]. Раскаленное земное ядро, содержащее в кипящем и газообразном состоянии все химические элементы, все минеральные вещества, разрывало окружавшую его оболочку, раскалывало ее, вызывало трещины, которые исполосовывали твердую кору, состоявшую из доисторических пород, каковы бы ни были их происхождение и крепость. Вот эти трещины, возникавшие в земной коре, понемногу заполнялись различными веществами, включая металлы или различные минералы с их примесью. Такое заполнение происходило двояким способом: веществами, поступавшими сверху, и веществами, поступавшими снизу. С одной стороны, потоки воды, насыщенной разными элементами, проникали в трещины и испарялись, оставляя на стенках известковые отложения, особенно углекислый натрий. А с другой стороны, металлоносные испарения поднимались из центра Земли и тоже обращались в твердое состояние, подобно саже в дымоходах, соединяясь при этом с продуктами испарения воды. Вот таким путем чистое золото, вырвавшись из кипящего котла нашей планеты, оказалось плотно перемешанным с каменистыми массами, которые теперь находят в слоях залегания твердых пород в так называемых «окаменевших фонтанах». Рудные жилы, содержащие разнообразные металлы, сформировались именно таким образом. Но нас интересуют только золотоносные жилы. Я уже сказал, что трещины, возникшие из-за геологических катаклизмов, пересекали все слои земной оболочки. Масса кварца, которая их заполнила впоследствии, местами выходит на поверхность земли. Вот этот кварц и образует рудные жилы, которые возникли в одно историческое время и имеют примерно одинаковое расположение. Их наклон всегда идентичен, но толщина, или мощность пласта, колеблется в больших пределах. Места, где жилы проходят сквозь плодородный слой почвы и предстают невооруженному глазу, называются шапками. Предположим, что какой-нибудь речной бассейн, той же Марони, например (и он в самом деле является таким!), усеян бессчетным количеством золотоносных жил. Они повторяют все особенности рельефа, взбираются на горы, стелются по долинам, бесконечно разветвляясь подобно дереву или артериальному и венозному стволам организма. Везде, где жила выходит на поверхность, она медленно разрушается и дробится под воздействием внешних факторов. Это объединенное влияние воды и воздуха, росы и ветра, солнца и луны, корней растений, которые играют роль посторонних тел, и тому подобное ускоряет процесс разложения. Вода медленно растворяет минерал, непрерывно его обтекая. Растворимые частицы понемногу уходят, вымываются, потому что в каждой капле содержатся во взвешенном состоянии бесконечно малые крупицы вещества. Путем такого растворения происходит формирование глин, расположенных ниже золотоносного слоя. При дальнейшем раздроблении кварца золото отделяется от инертного вещества, в которое было прежде «инкрустировано». Оно отпадает в последнюю очередь. Поскольку золото нерастворимо, то оно уносится вместе с более крупнымиобломками кварца. Драгоценный металл перемешан с песком, также ведущим свое начало от рудных жил, и остается на глинистом слое, образующем водонепроницаемое дно речного потока. Все это можно кратко суммировать следующим образом: река без конца размывает жилу и понемногу ее растворяет. Она отрывает от нее золото вместе с известковым веществом и катит в своих водах металл вперемешку с камнями. Она обогащается за счет рудных жил. Так что не бывает золотоносных аллювиальных грунтов без жил, одно тесно связано со вторым. Более или менее плотный слой гумуса, производное от растительных остатков, формируется на этом металлоносном пласте. Там вырастают деревья, живут, умирают, возрождаются снова. А природная работа по обогащению руды не прекращается, но она такая медленная, неспешная… Как бы там ни было, действие воды и ветра на кварц таково, что заброшенные разработки через пятнадцать лет полностью преображаются. Золотоносные пески, а точнее — камни величиной с кулак с цельным изломом и такие твердые, что в ту недалекую пору их не разбить было железным молотком, сегодня измельчены, разрыхлены и готовы рассыпаться в пыль… — Я понял, понял! — радостно вскричал креол. — Вы хотите современной техникой заменить столетнюю работу воды. Река измельчает кварц за тысячи лет. Вы собираетесь раздробить его молотами за несколько минут, удалить промывкой превращенную в пыль известь и с помощью ртути извлечь золото. — Ну я же вам говорил, что вы знаете ровно столько, сколько и я!.. У нас есть техника, это главное. Нам нужно много рабочих, чтобы оголить кварц, рыть колодцы, следуя за жилами в глубину, и тому подобное. Со дня на день мы ожидаем прибытия партии иммигрантов, тогда успех обеспечен. Чтобы не терять времени, машину установим незамедлительно, проверим, как она работает: попробуем раздробить уже обработанные аллювиальные пески. Наша промывка отсеяла только изолированные частицы золота. А в гравии осталось его немало. Я уверен, что можно из одной тонны добывать золота на семьдесят франков, и почти без применения рабочей силы… — Какая колоссальная отдача! — Конечно. Я намереваюсь помочь тем, кто придет после меня, превратить эти скалы в пыль… Железу и стали они не поддаются, но перед нашими зарядами динамита не устоят. Рудные жилы прииска «Удача» пройдут через батареи паровых молотов, как аллювиальные грунты проходят через короба наших желобов. Чтобы хорошо наладить это предприятие — размах его давно меня соблазняет, потому что от успеха зависит будущее колонии, — я нанял за плату золотом иммигрантов, которые скоро приедут. — А вы не боитесь, что они окажутся плохими работниками? — Не важно! Китайцы и особенно индусы конечно же окажутся анемичными. Заступ и лопата непосильны для слабых рук. Но разве у нас нет возможностей влить им в жилы свежую кровь?.. Я думаю, что после надоевших куака и солонины наша говядина быстро восстановит их силы, а мы станем щедрыми. Вообще я намерен действовать методически и на добыче золота использовать только тех, кто обретет свою прежнюю силу. Так что, когда прибудет первая партия, я направлю на прииск сельскохозяйственных рабочих, живущих в поселке. Разумеется, при условии, что они согласятся на такой переход. Новоприбывшие станут работать в сельском хозяйстве. Вообще же все будут свободны в выборе и найдут занятия по силам. Уход за плантациями сахарного тростника, маниоки, батата, за деревьями кофе, какао и древовидным хлопчатником — самое лучшее, чтобы приучить новичков к жизни в тропических лесах. У наших горняков и земледельцев большие преимущества перед жителями Кайенны. Они могут вволю есть прекрасные европейские овощи: капусту, салат, сельдерей, кресс, репу, морковь и прочее, что в столице можно достать только за большие деньги. Вы ели в Кайенне капусту, привезенную из Америки, и платили за нее пять франков, не так ли?.. А мы имеем возможность предложить столь дорогие продукты даже чернорабочим, и наш бюджет не пострадает. — Однако, невзирая на весь комфорт и изобилие, мы с огромным трудом добились присылки из Английской Гвианы этих пятисот иммигрантов… — Вам отлично известна филантропия наших замечательных соседей. Они совершают наезды на берега Кру, Гвинеи и Сенегала, чтобы помешать иммиграции под предлогом борьбы с тайным вывозом людей. Они вздергивают на виселицу, как пиратов, экипажи судов, везущих иммигрантов, но не возвращают несчастных на родину, а отправляют в Египет или Абиссинию под носом у наших представителей. О! Чудесные филантропы, которые силой навязывали китайцам опиум, избивали своих кули, преследовали и убивали, как диких животных, австралийских туземцев! И еще пытались навязывать режим и условия труда людям, которых к нам посылали! Они не желали, чтобы их использовали в золотодобывающей промышленности, поскольку это, видите ли, слишком тяжелая работа! Вы бы поглядели, в каком ужасающем состоянии прибывали сюда эти несчастные с английских лесоразработок! Единственная причина, по которой бывшие хозяева так заботились об их судьбе, — это зависть и эгоизм. Они знают, что эксплуатация золотых россыпей в скором времени станет мощным источником силы и процветания нашей колонии. Им бы хотелось избавиться без хлопот от истощенных людей, от балласта, и помешать Французской Гвиане преодолеть отсталость. Ну, пускай, я не намерен с ними спорить. Я тщательно буду соблюдать все пункты контракта. Иммигранты английского происхождения на весь период найма будут заняты исключительно в сельском хозяйстве. Тем не менее и они внесут вклад в добычу золота, потому что обеспечат наших работников мясом и свежими овощами. Когда срок найма истечет, они выйдут из-под опеки английских профсоюзов и поступят, как этого пожелают. Вот увидите, они попросятся в нашу ассоциацию золотоискателей. — Дорогой месье, вы — первый европеец, который действительно понял всю важность местного снабжения, самообеспечения продуктами. При одновременном ведении полевых работ и добычи золота нам удается расходовать не больше десяти процентов прибыли, тогда как на других приисках расходы достигают пятидесяти процентов. Это легко объяснимо. Они вынуждены все привозить из Кайенны, оплачивать фрахтовку шхун, а потом услуги лодочников и носильщиков. Вот и выходит, что какие-нибудь двадцать пять килограммов солонины стоят при отъезде двенадцать франков, а по прибытии — в пять раз больше. Меня удивляет еще и то обстоятельство, что большинство владельцев приисков до сих пор не заменили для речной навигации свои тихоходные и дорогие весельные лодки паровыми, вроде той, что Шарль привез из Европы. Ведь на ней возить грузы удобно и дешево, ее даже и сравнивать с пирогами нельзя ни по тоннажу, ни по скорости. — Вы забываете, милый Дю Валлон, что у многих наших коллег не хватает средств. Они бы с удовольствием шли в ногу с техническим прогрессом. Вот вам лишь один пример. Молодой и разумный директор прииска «Dieux-Merci» месье Муфле, один из самых образованных гражданских инженеров, который благодаря своей энергии стал замечательным золотоискателем, строит в настоящее время железную дорогу. Ее эксплуатация очень перспективна. Но достаточно ли понимают свои интересы его вкладчики, живущие в Париже, чтобы поощрить его на этом пути. Поймите, одна из главных причин всех неудач кроется в нехватке ремесленников, рабочих высокой квалификации. А как легко было бы привлечь сюда трудовую элиту… Могу сказать вам, моему другу — хотя вы и белый креол, но не питаете к людям с цветной кожей этого идиотского и несправедливого предубеждения… Уже хорошо установлено, не правда ли, что белый человек в наших условиях неспособен к долгому физическому труду, его поражают лихорадка и анемия. Лучше всего чувствуют себя здесь африканские негры. Они застрахованы почти от всех бед, которые рано или поздно настигают европейцев, даже басков[439], самых крепких из них. Но африканец, увы, — это всего лишь человеческий инструмент… Правда, прочный и надежный, его отличает добрая воля и стойкость в разных испытаниях, но его еще очень не скоро можно будет использовать для тонких и сложных работ. Потребуется поколение, может быть, два, чтобы произошла такая эволюция. Однако есть одна раса, самая одаренная изо всех, такая же выносливая, как африканцы, и такая же образованная, как европейцы, которая могла бы у нас горы своротить. Эта замечательная порода цветных людей обитает на двух жемчужинах французских Антильских островов — Мартинике и Гваделупе. Мартиникский и гваделупский мулат унаследовал от своей черной матери силу и выносливость, иммунитет к болезням тропической зоны. А его белый отец передал ему интеллект, позволяющий с успехом заниматься любыми ремеслами и науками. Это оригинальное скрещение, эта человеческая прививка сотворила чудеса, и все классы молодого островного общества можно считать высшими. Вы найдете среди «цветных» врачей, адвокатов, инженеров, солдат, моряков, служащих, которые получили образование в метрополии и добились успеха в жизни. Беззаветные труженики, добросовестные и самоотверженные, люди умные и сообразительные — все, за редкими исключениями, становятся отличными работниками. И средний тип этого населения весьма примечателен. Профессиональная подготовка превосходна. Все механики и кочегары-механики межколониальных пароходов родом с Мартиники и Гваделупы; их собратья в Гвиане того же происхождения, как и наши мастера на сахарных заводах, в механических мастерских, на стройках, в горнорудной промышленности… И эти рабочие получают у себя очень скромную плату, которая немедленно утроилась бы здесь, безо всякого ущерба для наших доходов. Почему же, вместо того чтобы рыскать повсюду в поисках мастеров и технического персонала, не попробовать организовать широкий приток иммигрантов с Антил?.. Население там очень плотное, отъезд даже нескольких тысяч человек не причинит вреда местной промышленности. Напротив, я убежден, что исполнение такого проекта принесло бы огромную пользу всем трем колониям. А сколько состояний, которые иначе были бы вывезены отсюда навсегда, будут обращены во благо тех, кто прозябает в наших краях! — Вы глубоко правы, месье, я вполне разделяю ваши мысли о роли и месте цветной расы, тем более что, как вы изволили заметить, я сам являюсь креолом. Я наблюдал за их борьбой и радовался успехам, которыми она достойно увенчалась. Так что я во всеуслышание провозглашаю: будущее французских колоний принадлежит людям с цветной кожей!
ГЛАВА 16
Возвращение Водяной Матушки. — Изыскания в животе черепах. — Как ловкие мошенники могут припрятать сорок тысяч франков. — Злоключения Питера-Паулюса Брауна из Шеффилда. — «Это не он!..»Наша правдивая история близится к концу. Но прежде чем завершить ее, прислушаемся к рассказу о драматических событиях последних трех месяцев. Эксплуатация золотых россыпей развивалась как нельзя лучше и приносила большую прибыль. Робинзоны проводили на прииске по двенадцать часов, лишь мадам Робен и ее приемные дочери оставались у себя в усадьбе из-за недомогания жены инженера. Однажды месье Дю Валлон, явно взволнованный, сообщил Робену, что его уже несколько дней беспокоят загадочные и совершенно необычные факты. Инженер недолгое время провел на участках, где одновременно обрабатывались аллювиальные грунты и рудные жилы. Целая батарея паровых молотов на реке Фидель функционировала без сучка и задоринки под отличным управлением молодого и смышленого иммигранта с Мартиники, месяц тому назад прибывшего из Фор-де-Франса. Паровая машина работала на дровах, свистела и пыхтела, фыркала и выплевывала клубы дыма, к превеликому удовольствию рабочих, которых привлекало и поражало зрелище этого металлического организма. Тяжелые дробилки со стальными головками резко поднимались и увесисто падали в творильные ящики из дерева мутуши, наполовину заполненные обломками золотоносного кварца. Глухие звуки ударов разносились по всей долине — богатейший минерал, обращенный в мелкую пыль, непрерывно промывался тонкой струйкой воды, а затем проходил через ртутные «ловушки». Многочисленные рабочие — негры, индусы, китайцы — суетились на территории, тащили тачки или толкали полные вагонетки по деревянным рельсам. Другие орудовали кирками и мотыгами, расчищая жильные «шапки», освобождая их от земляного покрова. Третьи сверлили горными бурами твердую скальную породу, которую вскоре должна была разнести на куски могучая сила динамита. Короче говоря, прииск казался охваченным двойной лихорадкой — трудовой и золотой. И ничто как будто не подтверждало опасений директора. — Не стану утверждать, — говорил он Робену, — что вот-вот грянет бунт, но у меня здесь около полутысячи рабочих, и я не раз уже констатировал проявления беспорядка, чтобы не сказать больше. — Но у вас, мой друг, все полномочия для поощрения достойных и покарания скверных… Мы питаем к вам полнейшее доверие и не сомневаемся в справедливости ваших действий. — Я уже трижды вынужден был наказать, то есть подвергнуть штрафу троих негров, прибывших с последней партией. Такова единственная форма, принятая на прииске, и я прибегаю к ней только в самом крайнем случае. — И каков был эффект этой дисциплинарной меры? — Плачевный. Хорошие рабочие, конечно, одобрили, а плохие — полсотни бездельников, прибывших месяц тому назад, — стали выражать недовольство. — Но вы держались достойно? — Разумеется. Однако наутро измеритель уровня воды в машине оказался разбитым. И манометр[440] вырвали из гнезда. Пришлось выставить вооруженную охрану — надежных людей, они сменяют друг друга каждые два часа. На следующий день, несмотря на принятые меры, наш большой приводной ремень, который я имел неосторожность оставить на месте, был перерезан в двух местах. — Перерезан!.. Ремень!.. — в сердцах воскликнул инженер, возмущенный этим вредительством. Гнев его был живым и неподдельным, ведь конструкция и изготовление этой важной детали составляли предмет его гордости. Мы особенно ценим сделанное собственными руками. Кожаные ремни, привезенные из Франции, были слишком короткими, а в насыщенной влагой атмосфере скоро подгнили. Тогда Робену пришла на ум идея изготовить материал, в котором бы хлопковые нити переплетались в несколько рядов, образуя плотную ткань толщиной в полсантиметра, шириной в двенадцать, а в длину — по потребности. И такую ткань он создал, из нее получился превосходный хлопчатобумажный приводной ремень. Он с тем большим успехом заменил кожаный, что его прорезинили с помощью сока балаты. Этот непромокаемый и противогнилостный ремень сослужил уже прииску хорошую службу. — Жаль, конечно, — продолжал Дю Валлон, — но повреждение тут же ликвидировали. Мы всегда держим запасные части… Вот обо всех этих серьезных симптомах я и говорил. Важно было найти их причину, чтобы предупредить подобные акции в дальнейшем. Я начал тщательное расследование. Правда, оно натолкнулось на непреодолимое сопротивление моих рабочих, даже самых лучших. — Вероятно, злоумышленники их запугали. — Вне всякого сомнения. Но я не могу никого обвинить, потому что соучастников наверняка слишком много. Тогда я решился на героический шаг: вчера уволил пятьдесят рудокопов, из них двадцать пять уже сегодня покинут нашу территорию. — Очень хорошо! — Все эти люди, как я вам сказал, из последнего набора, ленивые, с дурными повадками. Плуты и мошенники, корчат из себя «философов», как сообщают начальники участков. Некоторые принадлежали к прежнему составу прииска «Удача». Не знаю, что с ними стало после катастрофы, которая чуть не стоила мне жизни. В один прекрасный день они заявились сюда, ничего не говоря о том, где обретались все это время. Я принял их на работу, потому что нам всегда не хватает рабочих рук, и ошибся. Они внесли первое смятение, рассказывая старые легенды о Водяной Матушке. Вы же знаете, как негры суеверны. Дурацкие болтуны всех переполошили. Этот вздор получил видимость правдоподобия, потому что эмблемы старой гвианской ведьмы снова появились, в сопровождении тех же ночных шумов, какие слышались прежде. — Ну, тогда можно не сомневаться, что враги наши где-то поблизости. — Я тоже так думаю. Уверен даже, что у них есть сообщники среди наших людей. И еще одна неприятность: в последнее время выход продукции уменьшился. Нас обкрадывают, и никакая бдительность не помогает. Позавчера, накануне вашего приезда, индейцы бродили возле старого прииска. Никто не придал этому значения. Однако ночью устроили такой кошачий концерт в лесу, так тарабанили по корням деревьев, что все проснулись. Наутро голова аймары вместе с цветком виктории красовалась на старом засохшем панакоко, который я давно собирался срубить. Сомневаться не приходилось: нам объявляли войну. Я уже дорого заплатил за выяснение смысла этих знаков. Именно здесь меня чуть не убили полгода назад. На людей напал неописуемый ужас. Особенно перепугались негры. Я прибыл в сопровождении главного механика и троих кочегаров, все с Мартиники. Сразу стало ясно, что малейшее колебание испортит дело, — надо действовать быстро и решительно. Я шепнул механику, тот помчался бегом и скоро вернулся с двумя динамитными патронами. Выкопали две глубоких ямы с каждой стороны ствола. Через полминуты устрашающий череп, расколотый, вырванный из основания, рухнул с грохотом, который перекрыл и шум взрыва. — Превосходно! — Вообразите, на дне воронки от взрыва мы нашли тайник, полный золота. Там оказалось свыше килограмма амальгамированного металла, того, что систематически воровали. Мошенник точно выбрал место для хранения краденого: подступы преграждало суеверие, и наилучшим образом. Падение гиганта вызвало всеобщее ликование, и рабочие спокойно разошлись по местам. Видите, какова ситуация. Не убежден, что стук не возобновится нынешней ночью, и надо постараться сплавить моих молодцов побыстрее… Больше, чем на двенадцать часов, оставлять их здесь опасно… — А что вы намерены делать? — Рассчитаться с теми, кто отработал свой аванс, затем произвести тщательный осмотр их багажа. — Вы находите необходимой эту формальность? — Безусловно. Уверен, что эти двадцать пять человек попытаются нас обобрать на десять килограммов золота, как минимум. — Неужели?.. — Хотите убедиться? Подождите немного… Директор вызвал счетовода и поручил ему привести уволенных рабочих. Анри, Эдмон, Эжен, Шарль и Никола покинули гамаки, в которых отдыхали, и собрались в просторном директорском кабинете. Двадцать пять рудокопов столпились перед помещением, ожидая вызова по именам. Они заходили поодиночке, получали расчет, забирали трудовую книжку и снова молча возвращались на место. — Каждый из вас получит продовольственный паек на десять дней, — сказал им Дю Валлон. — Когда прибудете в Сен-Лоран, пойдете к месье Шевалье и передадите ему это письмо. Он вас отправит в Кайенну на шхуне или на пароходе «Dieux-Merci». А теперь, господа, — продолжал креол, обращаясь к европейцам, — будьте любезны проследовать за мною на пристань. Вы увидите кое-что интересное. Возьмите мачете, прихватите пистолеты. Возможна потасовка, а то и настоящее сражение. Нам нельзя уступать, иначе рискуем потерять плоды своего труда. Семеро белых поспешно вооружились оружием и подошли к причалу. Там на привязи у берега стояли три большие пироги, заваленные корзинами, гамаками, котлами, кувшинами, бататом, ямсом, бананами… Пассажиры подходили по одному, неся свою провизию, болтая и смеясь. Казалось, они вовсе не замечали присутствия белых, перед которыми еще накануне подобострастно гнулись. Когда закончилась погрузка, директор холодно обратился к гребцам первой пироги, уже садившимся на весла: — Эй, ребята, вы забыли, что нам нужно соблюсти последнюю формальность! — Что желает муше? — поинтересовался хозяин лодки. — Осмотреть багаж и убедиться в том, что среди вас, порядочных людей, не затесался какой-нибудь прохвост, воришка золота! — О муше! — с живостью возразил негр. — Мы не воры, нет! Осмотрите хоть весь багаж, вы не найдете там ни кусочка золота! — Увидим. Будьте любезны, прошу вас облегчить мне работу, открыть эти корзины и выложить содержимое на землю. Землекопы украдкой переглянулись, потом, не говоря ни слова, выполнили указание с такой быстротой, на какую способна только чистая совесть. Придирчивый обыск цветного тряпья не дал никаких результатов, к великой радости робинзонов, которым так хотелось верить в невиновность этих людей. Невозмутимый Дю Валлон действовал методично. Он велел отложить в сторону осмотренное, чтобы избежать путаницы. Большинство предметов, способных укрыть наворованное, было скрупулезно изучено. Внутри тыквенных бутылок металла не оказалось. Жареную лесную куропатку, принесенную в последний момент, рассекли саблей, однако ни в грудной, ни в брюшной полости не нашлось ни крупицы золота. Топленый свиной жир, в котором так легко упрятать золотой песок, был совершенно чист. Негры торжествовали, а робинзоны начинали находить что-то унизительно смешное в занятии своего друга. — Терпение, терпение, — повторял он, — еще не все… — Но там же ничего нет, — возражал Анри, — если только эти люди не проглотили каждый по полкило золота, что, между прочим, на желудок давит больше, чем на совесть… Не вижу, к чему могут привести ваши розыски, и полагаю, что они бессмысленны. — Вы забываете о ружьях. — О ружьях?.. — Ну конечно! Представьте, что десяток ружей, обычных или двустволок, на две трети заполнен золотым песком, а потом забит пыжами… В каждый ствол запросто войдет пятьсот — шестьсот граммов… Правда, они слишком хитры, чтобы прибегнуть к такому старому способу, давно известному. Однако поглядим… Владельцы ружей не заставили себя дважды просить, достали шомпола и пропустили их сквозь стволы, демонстрируя, что там пусто. — Ну вот, видите! — почти взорвался Шарль. — Погодите! — невозмутимо отвечал креол, принимая ружье от ближайшего к нему мужчины и взвешивая его на руке. — Следующий!.. Второй негр подал свое оружие. Потом третий, четвертый… В десяти не оказалось ничего. — Твоя очередь, парень! — сказал директор молодому негру лет двадцати, не больше. Тот почему-то держался все время на расстоянии. Юноша нерешительно протянул ружье — и что это было! Кусок ржавой водопроводной трубы, так-сяк посаженный на грубое цевье и подвязанный бечевкой. Все это сооружение, казалось, вот-вот развалится пополам. Легкая улыбка скользнула по лицу директора. Негр стал серым, как зола. — Ну вот, мой милый Шарль, вам, наверное, встречались очень дорогие ружья, но бьюсь об заклад, что вы никогда не держали в руках ружье, которое стоит шесть тысяч франков. — Шесть тысяч франков! Да цена этому хламу в базарный день — двадцать пять сантимов, только за железо. — Согласен. Но два килограмма золота существенно повышают его ценность. Вы спросите: а где они?.. Да в прикладе, в котором выдолбили дыру и тем самым превратили в шкатулку. А отверстие прикрыли металлической пластинкой. — Вы меня потрясли, Дю Валлон! Не говоря больше ни слова, директор принялся кончиком ножа отвинчивать два болта, на которых держалась железная пластинка в основании приклада. Затем, подозвав проходившего мимо индуса с пустым лотком, взял у него деревянное блюдо и высыпал туда из приклада изрядную горку драгоценного металла, еще амальгамированного. Стоимость его была никак не меньше названной суммы. — Ну что, господа, какова авантюра?.. Европейцы были скорее опечалены и обескуражены, нежели возмущены. — О! Это не все, поверьте мне! — продолжал безжалостный директор. — Это только начало, вам еще предстоит удивиться. В двух первых пирогах больше нет ничего подозрительного, но вот третья… Либо я очень грубо ошибусь, либо открою там пикантный тайничок! — Но я вижу там только четырех черепах, — заметил Шарль. — Их взяли, наверное, для пропитания… Действительно, лежавшие на спинах бедные животные отчаянно махали лапками, как будто сознавали, какая судьба их ждет. — По-моему, эти почтенные черепахи серьезно больны, и вы будете крайне озадачены, если я скажу, что они страдают от несварения желудка. — От несварения желудка?! — Именно так! И я сейчас же положу конец их мучениям! Эй, компе, — Дю Валлон окликнул хозяина черепах, лицо которого внезапно выразило живейшее беспокойство, — передай-ка мне этих зверюшек! — Нет, нет, муше! Я не могу! Мы поймали этих черепах, чтобы кушать, мы их не воровали, нет! — Посмотрим, посмотрим… Ну, поторапливайся! Давай черепах! — Муше, — в полном отчаянии продолжал бормотать по-креольски растерянный негр, — это не мои черепахи… Что вы хотите с ними делать?.. Забираете у бедных негров их пищу… — Кончай болтать! Я дам двадцать килограммов говядины за этих жалких тварей! Разве не выгодно?.. — пресек директор объяснения негра, забираясь в лодку и выбрасывая оттуда черепах, которые одна за другой тяжко шлепались на землю. — Ага, замечательно… — приговаривал Дю Валлон. — Я произведу им вскрытие, точнее, вивисекцию. Уже не первый раз мне приходится выполнять геологические изыскания под черепашьим панцирем… Интересное явление: попадаются черепахи, до отказа набитые золотом… О!.. Наши молодцы — отменные ловкачи, одно удовольствие знакомиться с ними… Ну вот — я же вам говорил. Они всыпали наворованный металл в черепаху через нижнее кишечное отверстие, потом аккуратно его зашили, чтобы золотой песок не высыпался раньше времени. Черепаха, превращенная в копилку, может прожить в таком состоянии четыре-пять дней, иногда больше. Подумайте, может ли самый изощренный глаз обнаружить дьявольский тайник, если принять во внимание, что животное живо и молчит… Это крупные черепахи, в каждой помещается не меньше двух килограммов золота. Итого — восемь килограммов, украденных у компании…[441] Разъяренные мошенники вопили, как стая красных обезьян, и, если бы не шестеро европейцев, бедному директору пришлось бы туго. Но Дю Валлон, не обращая никакого внимания на эти крики, с молчаливой торжественностью высыпал амальгамированное золото на деревянное блюдо лотка, заполнив его до краев. — А теперь, ребятки, убирайтесь к чертовой матери с вашей бесчестной работой! Нам здесь воришки не нужны. Один «философ» из банды счел нужным протестовать: — Нет, муше, мы не украли… Мы только взяли… Этот странный аргумент заставил улыбнуться белых, удивленных не столько изворотливостью пройдох, сколько их апломбом. — Золото принадлежит и нам тоже, — продолжал оратор. — Добрый Бог положил его в землю и для черного, и для белого. Мы взяли его там, где положил добрый Бог, мы вовсе не воры… — Это правда, — с достоинством отвечал креол. — Золото, которое находится в земле, принадлежит и неграм и белым. Мы так глубоко понимаем эту истину, что все рабочие прииска стали нашими компаньонами. Кто честно трудится, получает свою долю прибыли. А вы — только преступники, которые обокрали товарищей по труду. Убирайтесь! В ту минуту, когда директор произносил последние слова, какой-то опоздавший, абсолютно голый молодой негр, медленно спускался от поселка, готовясь занять свое место в пироге. В левой руке он держал плошку с жареным рисом, а правой загребал его пригоршнями, подносил ко рту и жадно глотал. — А вот еще один, — смеясь, воскликнул Эжен, — из тех, кто не видит разницы между глаголами «брать» и «воровать»! Правда, райская простота его костюма исключает сокрытие краденого! — Кто знает, — задумчиво заметил Дю Валлон. — Сомнение всегда остается… Эй, компе! — Он резко повысил голос. — Что ты там ешь? — Это рис, муше, — отвечал тот с глупым видом. — Ах, рис… — повторил креол, деликатно отнимая у негра тыквенный кувшин. — Черт подери! Ну и тяжелый у тебя рис! Парень окаменел с тем же дурацким видом. — Смотрите, господа, вот самый искусный из банды! Он нашел остроумный способ воровства. В его кувшине добрых два кило золота. А сверху он прикрыл его рисом, который и поглощает с большим аппетитом. Через две минуты сел бы в лодку — да и был таков! Думаю, что этому молодцу следует отдать пальму первенства. Ну, как вы находите приключение? Неплохая задумка, а?.. Разделить наворованное, использовать самые странные и неожиданные тайники… А всего — двенадцать килограммов золота! Только подумать! Наши разбойники не брезгуют ничем. Первосортный металл, по три франка двадцать пять сантимов за грамм, итого — кругленькая сумма в тридцать девять тысяч франков! Робен развел руками. — Клянусь Богом, дружище, их ловкость меня поражает, но ваша проницательность превосходит все мыслимое. Каким замечательным судебным следователем вы бы стали, если бы уже не были отличным золотоискателем! — Этот опыт дорого стоил, поверьте мне. С другой стороны, да будет известно, что, несмотря на принятые меры, мы несем очень значительные потери. Наши люди неисправимы и все-таки продолжают воровать, а китайские носильщики служат скупщиками. Как бороться с этими безумными макаками, которые глотают золото и ртуть, словно пирожки? Кроме того способа, который я только что продемонстрировал на черепахах, нет другого средства прекратить их деятельность. Волей-неволей приходится списывать на убытки. А теперь продолжим наш визит… Ваше присутствие на прииске поддержит честных рабочих, поступающих по велению совести, и послужит достаточным предостережением для тех, кто еще колеблется. Директор оказался прав. Его твердость по отношению к недисциплинированным людям, умение разгадать хитрости мошенников и внушительный вид шести европейцев произвели на рабочих в высшей степени благоприятное впечатление. День заканчивался хорошо. Робен, обеспокоенный недомоганием жены, хотел, чтобы Никола немедленно отправился в усадьбу в сопровождении шести человек, абсолютно надежных и вооруженных до зубов. Парижанин должен был успокоить мадам Робен относительно ее мужа и сыновей и тотчас возвратиться с новостями. За десять часов можно было вполне обернуться в оба конца. Паровая лодка отплыла уже довольно далеко вверх по реке, вернувшиеся в дом робинзоны живо обсуждали перипетии недавних событий, когда вдруг яростным лаем залился черный великан Боб. Всегда осторожный, что не исключало беззаветной храбрости, пес не покидал столовой, а глядел в сторону причала и, взъерошившись, хрипло рычал. Дю Валлон приподнялся в гамаке, удивленный необычным поведением своего верного сторожа. — Глядите-ка! — воскликнул он. — К нам гости! — Гости? — переспросил Анри. — Кого это несет нелегкая? Придет же в голову фантазия гулять в такое время и в таком месте! — Если не ошибаюсь, какой-то европеец в сопровождении двух индейцев. — Очень странно! — Первый иностранец на прииске за все время… Надо оказать ему гостеприимство… потом выясним все подробно. Робен, его сыновья и директор поднялись навстречу незнакомцу, который важно, размеренной походкой шествовал по широкой аллее, усаженной молодыми банановыми деревьями. Если судить о людях по внешнему виду, то пришельца миллионером никак не назовешь. Грубая широкополая шляпа из сухих листьев латании[442], дешевая полотняная куртка синего цвета, в нескольких местах разодранная лесными колючками, штаны из такой же ткани, — вот и все его непритязательное одеяние. Один глаз прикрывала повязка, босые ноги были изранены в пути. Однако держался незнакомец прямо, подтянуто, слегка вытягивая шею при ходьбе. Он словно подчеркивал свой высокий рост. Двое краснокожих сопровождали незнакомца. Подойдя к веранде, пришелец прикоснулся кончиком пальца к полям своей оригинальной шляпы, — такой надменный жест присущ офицерам английской армии в Индии, — и небрежно процедил сквозь зубы дежурную формулу вежливости: — Имею честь приветствовать вас!.. — Как! Да неужели это вы, мистер Браун?! — изумленно воскликнул Робен. — Питер-Паулюс Браун из Шеффилда. Именно так, сэр. — О, мистер Браун, счастлив видеть вас! Будьте желанным гостем! — Благодарю. Поскольку островитянин, казалось, своим единственным глазом искал отсутствующих на веранде людей, инженер, внезапно опечаленный при мысли о плохой новости, которую должен был сообщить гостю, продолжил сочувственно: — Ваши дети в добром здравии, в усадьбе, вверх по Марони, но, к сожалению, ужасная беда настигла их бедную мать… — Говорите!.. Я слушаю. — Миссис Браун скончалась, несмотря на все усилия спасти ее. Увы, ей не помогли ни лечение, ни наши заботы. — Вот как! — произнес англичанин совершенно бесстрастным тоном. — Бог забрал к себе прекрасное создание… А я… Я самый несчастный джентльмен во всей Англии. — Если боль, которую должна вам причинить эта невосполнимая потеря… — Да, сэр… да! — бесцеремонно оборвал собеседника Питер-Паулюс. — Огромная боль! Я не могу больше продолжать «навигацию»! Возмущенные возгласы готовы были сорваться с уст робинзонов от такого чудовищного эгоизма, и только уважение к законам гостеприимства удержало их. Англичанин невозмутимо разглагольствовал: — Жалкая, презренная страна. Я потерял чековую книжку. Теперь лишился кредита в гвианском банке. Кончилась провизия, пропали башмаки, злобные комары искусали глаз. Я умирал, когда краснокожие нашли меня и привели мою милость к вам. — Пусть это вас не тревожит, мистер Браун. Мы перевяжем раны, вы получите одежду и все необходимые продукты. Что касается денег и кредита, то моя касса в вашем распоряжении. Я вручу вам такую сумму, какую сочтете достаточной для возвращения в Европу. А пока отдыхайте! Пейте, ешьте и не ломайте голову над всякими проблемами. — Хорошо, сэр. — Через два-три дня мы отвезем вас к детям. — Да! Да! В то время, как двоих краснокожих, державшихся на почтительном расстоянии от грозных клыков Боба, повел на кухню индийский кули, мистер Браун без церемоний расположился за столом и поглощал пищу, словно изголодавшийся удав, запивая ее таким количеством разнообразных напитков, будто вместо горла у него был рудопромывочный желоб. Отвалившись от стола после трапезы, достойной Гаргантюа, Питер-Паулюс молча переоделся в новую одежду, которую ему принесли, влез в удобные сапоги, с удовольствием притопнул ими и устроился в гамаке с видом человека, желавшего спокойно переварить потребленную пищу. Как всегда быстро спустилась ночь, бессонная для европейцев, которые не сомкнули глаз, чутко вслушиваясь в тишину. На прииске царило безмолвие. Каждый час один из робинзонов в сопровождении вооруженных мужчин и верного Матао совершал обход открытой местности, потом возвращался в дом, а на смену ему выходил другой. Напрасный труд: таинственный шум, раздававшийся двадцать четыре часа тому назад, больше не возобновлялся. Водяная Матушка, судя по всему, осталась в подводном жилище, а ее почитатели устроили передышку. Все эти хождения нисколько не потревожили англичанина, который спал как сурок, будто наверстывая упущенное, до девяти часов утра. Его пришлось хорошенько встряхнуть, чтобы чудак очнулся и соизволил перебраться из гамака прямо к столу. Хотя этот субъект был глубоко антипатичен, робинзоны оказали ему щедрый и великодушный прием. Заносчивого брюзгу, маниакального эгоиста окружили предупредительным вниманием, потому что видели в нем отца двух милых юных девушек, — а был он явно недостоин этого отцовства. Завтрак подходил к концу, когда со стороны причала раздались радостные крики. Хорошо знакомый сигнал заставил молодых людей вскочить с места, они гурьбой выбежали из столовой. Робен последовал за ними. Свисток паровой лодки раздирал уши, а на берег сходили многочисленные пассажиры, белые и негры. Робинзоны узнали свою мать, которая медленно шла об руку с Никола. Возле нее держались юные мисс и негритянка Ажеда. Ломи, Башелико и их отец, старый Ангоссо, с нетерпеливой радостью устремились к дому. — Мистер Браун, — сказал инженер англичанину, — ну и повезло вам! Послал вчера за новостями о ваших дочерях и приемной матери, а они вот и сами пожаловали! Флегматичный Питер-Паулюс почему-то заметно взволновался. Он не произнес в ответ ни слова и как бы прирос к месту. Мадам Робен, мисс Люси и мисс Мери вступили под навес веранды. — Дорогие мои, — сказал им бывший каторжник, — хорошую новость можно объявлять без подготовки… Ваш отец нашелся!.. Вот он, перед вами! Робен сделал жест в сторону Питера-Паулюса, но явно ошеломленный чудак оставался в конце длинного стола и не только не спешил кинуться в объятия своих дочерей, но даже как будто порывался прочь. Он все делал не так, как прочие, резко дернулся, повязка упала с лица и открыла совершенно здоровый глаз. Девушки испуганно вскрикнули: — Это не он!.. Не наш отец! Это фальшивый священник! — И фальшивый капитан, обокравший меня разбойник! — прорычал Гонде, также прибывший на лодке. — Ну, погоди! Незнакомец не потерял хладнокровия, нырнул под стол, напряг спину и, приподняв огромное тяжелое сооружение из дерева мутуши, опрокинул его боком, как баррикаду, между собою и робинзонами. Затем, схватив оставленное кем-то по недосмотру мачете, ринулся из дому, в три прыжка пересек открытое пространство и исчез в лесу раньше, чем огорошенные зрители неслыханной сцены успели выбежать следом. Белые и негры пустились было преследовать бандита, но Робен остановил их громким окриком: — Не бегите! Этот человек не один. Он увлечет вас на погибель! Тут обнаружилось, что двое индейцев тоже исчезли.
ГЛАВА 17
Четыре костра на реке Сен-Жак. — Обреченные на заклание. — «Вурара», священный индейский яд. — Исповедь умирающего. — Водяная Матушка — кто это?.. — Навигация Питера-Паулюса Брауна из Шеффилда прервана навсегда. — Слезы отверженного.На сей раз наши робинзоны избежали грозной опасности, но следовало тотчас позаботиться о предупреждении новых угроз, которые возникнут неминуемо. Присутствие таинственного существа, принимавшего облик то миссионера, то офицера, то путешественника, внушало тем большую тревогу, что невозможно было предугадать его неожиданные обличья. Человек, который с такой легкостью преображался, так изобретательно и смело выполнял свой загадочный план, никак не мог быть заурядным преступником. Очевидно, прииск притягивал его магнитом, и он наверняка не остановится перед любой крайностью ради достижения поставленной цели. Последняя его попытка проникнуть к ним, с поразительным искусством играя роль английского миссионера, убедительно показала, что он искушен в любых проделках и что новые «военные хитрости» скоро придут на смену прежним. Европейцы еще дрожали при мысли, что могли бы через несколько часов оказаться в полной власти бандита, что какое-нибудь наркотическое средство сделало бы их беззащитными перед целой ордой негодяев, соучастников мерзавца. Вполне возможно, что те только и ждали сигнала накинуться и перерезать одурманенных колонистов. Необходимо было покончить с этой угрозой как можно быстрее. Проведя настоящий военный совет, робинзоны решили собрать мужчин, на верность которых полагались, разбить их на отряды и устроить безжалостную облаву на всех неизвестных, которые прячутся в лесах. Оружие и провиант распределили немедленно, работу приостановили. Рудокопы сошлись вместе, готовые выступить по первому сигналу. Экспедиция должна была начаться наутро. Но целый ряд необычных, угрожающих происшествий изменил столь тщательно разработанные планы, а скоро вообще сделал их ненужными. Настала ночь. Было уже одиннадцать часов, когда в направлении строительной площадки вдруг вспыхнул яркий свет, озаряя красными отблесками огромные деревья, стоявшие по периметру золотоносных участков. Сторожевые собаки Боб и Матао всполошились и громко залаяли. В мгновение ока вскочившие робинзоны вооружились и собрались под навесом веранды, готовые к любым неожиданностям. Дю Валлон отправился к хижинам, поднял людей, расставил часовых на трех постах — у причала, возле склада, в поселке — и предупредил рабочих, что им предстоит скоро тронуться в путь. Огонь, а скорее пожар, питаясь, несомненно, содержащими резину материалами, разгорался все ярче и ярче. Стало светло как днем. Затем прозвучали три громких удара, шумным эхом прокатились по всей долине, вслед за чем раздался ужасающий, леденящий душу крик, который заставил примолкнуть обезьян-ревунов и даже тигров. Через несколько минут прогремели три новых удара с такими же раскатами грохота. За ними последовала волна воплей и рычания, не имевших ничего общего с человеческими голосами. В призрачном полыхающем свете этой дикой симфонией, казалось, дирижировал сам дьявол, а исполняли ее осужденные на вечные муки. Адский концерт длился с полчаса. Потребовалось все бесстрашие робинзонов, чтобы выдержать, не испугаться и даже не обеспокоиться этим тарарамом, совершенно невыносимым для человеческого слуха. Когда шум прекратился, инженер первым нарушил молчание, в котором пребывали слегка обалдевшие слушатели кошачьего концерта. — Нам представляется случай, быть может, единственный, лицом к лицу столкнуться с врагами, потому что сейчас они находятся близко. Нас много, мы хорошо вооружены и не ведаем усталости. Вот что я предлагаю: пятьдесят человек во главе с Никола и Шарлем охраняют поселок. Я отправляюсь в разведку с другой полусотней, со мной также идут месье Дю Валлон, Анри, Эжен, Эдмон, Ломи и Башелико. В эту группу включим всех людей с Мартиники, они особенно храбрые и решительные. Двигаемся бесшумно, Матао пустим впереди Боб останется здесь. Мы установим причину всей этой дьявольщины, а там сориентируемся на месте. Такая экспедиция не представляет никакой опасности, учитывая наши силы и совершенство оружия, которым мы располагаем… Действительно, у европейцев были великолепные карабины Ветерли-Гинар — семизарядное полуавтоматическое оружие со стрельчато-цилиндрическими пулями. Его убойная сила и точность попадания очень велики, оно незаменимо для людей кочевой и авантюрной жизни: уход за ним прост, а надежность вышевсяких похвал. Будучи в Париже, Шарль купил десять карабинов у известного оружейника на avenue de l’Opera, который снабжал стрелковым оружием всех изыскателей. С такими «игрушками» робинзонам не страшна была целая орда чертей из девственного леса. Отряд под водительством Робена тронулся в путь, бесшумно идя знакомыми тропинками, освещенными отблесками пожара. Через полчаса вышли в долину реки Сен-Жан. Мужчины замаскировались за деревьями, которые образовывали вокруг поляны словно кольцо огромного цирка, и глазам их открылся незабываемый спектакль. Четыре огромных костра пылали, потрескивая и посылая в вышину снопы искр. Сложенные из гигантских нагромождений веток и поленьев, эти очаги симметрично располагались по углам квадрата, занимавшего возвышенную часть рельефа. В центре стоял нечувствительный к языкам пламени высоченный старик индеец. Он был совершенно гол. Длинные снежно-белые волосы ниспадали на плечи, оттеняя странно энергичное выражение лица, искаженного судорогой гнева. Тело восьмидесятилетнего атлета с выступающими буграми мускулов искрилось в рыжих отсветах костров, словно позолоченное. Пятеро обнаженных индейцев, похожие на золотые статуи, сброшенные с пьедесталов, распростерлись неподвижно вокруг какой-то темной туши, которую можно было принять за огромного ламантина[443]. Шестой индеец, опустив голову, стоял перед стариком, выражая глубочайшее почтение. Наконец двое европейцев были накрепко привязаны к дереву, ствол которого украшали цветок виктории и голова аймары. Они корчились и стонали от страшной боли, языки пламени лизали их ноги. Старик пошевелил дрова в костре и возвратился к неподвижно застывшему человеку. — К тебе обращаюсь я, мой сын, — сказал он глухим голосом, — к тебе, самый юный из индейцев арамишо! Ты тоже должен умереть! Белые захватили лес, он больше нам не принадлежит! Тайна золота нарушена. Наше племя должно исчезнуть. Гаду[444] нас покинул. Умри! Погибни от руки твоего отца Панаолина, последнего из арамишо! Молодой индеец поднял голову. Старик прикоснулся кончиком пальца к его глазу, и юноша рухнул замертво на землю, среди уже окоченевших трупов своих собратьев. — А теперь нужно разобраться с тобой, — обратился Панаолин к одному из европейцев, горевших заживо. — Белый, ты меня обманул! Я подобрал тебя, умирающего от голода, когда ты убежал от людей из Бонапарта[445]. Твое тело истекало кровью, его сотрясала лихорадка. Ты хотел отомстить бледнолицым, которые мучили тебя. Нас объединила одна ненависть, я стал твоим другом и верным союзником. Я призвал тебе на помощь Водяную Матушку, посвятив тебя во все наши тайны. Ты поклялся мне, что обладаешь таким пиэй, который убивает белых людей, как мой пиэй убивает краснокожих. Но ты солгал мне, потому что белые в золотой долине вспарывают чрево земли огненной машиной и забирают золото индейцев, которым принадлежит этот лес и эта земля. Белый! Ты меня предал. Я побежден. Но вурара (кураре) спасет нас от стыда. Вурара убил последних арамишо. Водяная Матушка погибла. Панаолин умрет. Но прежде, чем он прикоснется к своему глазу кончиком ногтя, смазанного священным пиэй, который соединит его с предками, Панаолин вырвет лживый язык у белого! Потрясенные робинзоны не успели опомниться, как страшный старик схватил нож, раскрыл несчастному рот и одним махом отрубил язык, с жестом отвращения бросив окровавленный обрубок в огонь. Европейцы выскочили на поляну в тот момент, когда старик подступал к следующей жертве. Он замер на месте, обратив на пришельцев полный ненависти и угрозы взор: — Вас я тоже ненавижу! Будьте прокляты, белые, погубившие лес и укравшие тайну золота! Я вас презираю и ухожу из жизни!.. Вождь арамишо стремительно поднес руку к лицу и рухнул на груду трупов. При свете костров Робен и Анри узнали единственного уцелевшего в этой драме. Несчастный страдалец, чьи ноги превратились в два ужасных черных обрубка, был тот самый незнакомец, который проник в их жилище под видом англичанина. Отбросив всякое злопамятство, видя в человеке, который еще накануне покушался на их жизнь, только тяжело страдающего мученика, они освободили его от уз, соорудили импровизированные носилки и отнесли в поселок. На складе было много хлопка нового урожая, им плотно укутали искалеченные ноги. Боль стала меньше терзать раненого, и душераздирающие стенания поутихли. Это был мужчина в цветущем возрасте, с живыми глазами, виски у него слегка серебрились. Лицо, все еще искаженное страданием, однако заурядно правильное, казалось на первый взгляд невыразительным и бесцветным. Но стоило приглядеться внимательнее, как в малоподвижном обличье проступала маска, способная принимать любые очертания, копировать индивидуальности, скрывавшая подлинный актерский талант. Он ничуть не походил на трех персонажей, которых воспроизвел с неподражаемым искусством. Даже теперь, представ в природном виде, его физиономия инстинктивно пыталась перевоплотиться в чью-то постороннюю, неведомую сущность. Время от времени сардоническая гримаса[446] искажала его рот, морщинила кожу вокруг глаз, когда его острый взгляд падал на робинзонов, с любопытством изучавших необычный экземпляр человеческой породы. Но он пересилил себя и глухо сказал: — Прошу вас, дайте мне тафии! Странное дело, и этот невнятный голос удивительно подходил к бесцветному лицу. Его речь, лишенная красок, как и внешность, могла волшебно видоизменяться по его желанию. — Тафия! — с живостью возразил Робен. — Даже не думайте об этом! — Я ведь не ребенок, не правда ли, и не питаю ни малейших иллюзий относительно того, что меня ждет. Знаю, что я погиб безвозвратно. Инженер пытался протестовать: — Надежда на выздоровление всегда остается… — Оставьте! Если бы даже я и выздоровел, то лишь для того, чтобы меня выдали властям этой страны. Они шутить не любят, гвианские власти… — Но мы не доносчики, — с достоинством заявил Робен, — и не палачи! — Пусть будет по-вашему. Но жизнь, которую вы сохранили бы моему искалеченному телу, станет лишь постоянным мучением, а у меня даже нет револьвера, чтобы пустить пулю в лоб. К счастью, жить мне остается недолго. Вижу, однако, что вы не прочь узнать кое-что обо мне. Например, по какому стечению обстоятельств я очутился здесь… Ну, послушайте… Эта история немного похожа на вашу, она должна вас заинтересовать. Робен подал знак индийскому кули, и тот принес бутылку старого рома. Незнакомец жадно отхлебнул большой глоток. Алкоголь сразу его оживил, он как будто забыл на минуту о боли. — Еще три года тому назад, — раздался глухой, невнятный голос, — я был освобожденным каторжником в Сен-Лоране. Причина, из-за которой я попал в тюрьму, не имеет значения. Отбыв срок, я отпахал еще столько же — пять лет, вольным поселенцем, вернулся в Европу. Жил, как и большинство бывших каторжников… в постоянной войне с обществом. Естественно, водил дружбу с воровской компанией, прозябал, как весь трудовой люд, поджидая счастливого случая разбогатеть. И такой шанс представился в Париже благодаря вашему сыну и его компаньону, которые попались на моей дороге. Однажды вечером я торчал в кафе «Верона», где любят собираться члены гвианского землячества. Прислушивался к разговорам, как человек, постоянно озабоченный поиском документов. Слова о золоте, приисках, рудных жилах заставили меня навострить уши. Речь шла о миллионах, обсуждались многообещающие дела, сулившие сказочную прибыль. «Вот это мне подходит, — сказал я про себя. — Надо пристроиться к лакомому пирожку…» Я проследил за этими людьми. Узнал, где они живут, выяснил имена, обстоятельства жизни, короче, все, что меня интересовало, и стал тенью ничего не подозревавших дельцов: удалось внедрить одного из моих дружков в их компанию. Это, заметьте, детские штучки для нашего брата, отбывшего срок. Итак, я уже знал достаточно много. Снабженный приличной суммой, которую выдал мне наш банкир, я без колебаний отправился изучать местные условия и прибыл сюда за два месяца до возвращения ваших путешественников. Поначалу мне везло, как избалованному ребенку. Случай мне благоприятствовал, хотя я научился обходиться без его вмешательства. Я бродил под видом изыскателя в районе водопада Гермина, когда судьба свела меня с давним товарищем по каторге, с этим беднягой Бонне, чью ужасную смерть вы наблюдали. Десять лет назад Бонне бежал из заключения, был пойман и осужден пожизненно. Однако он совершил повторный побег и к нашей встрече уже три года жил среди индейцев, полностью переняв их нравы и обычаи. Мы рассказали друг другу о своих делах без утайки, с той откровенностью, которая свойственна бывшим товарищам по несчастью. Бонне уже изрядно хлебнул первобытной жизни, он признался, что главным поводом его бегства к индейцам арамишо стал поиск огромного сокровища, принадлежавшего этому племени. В существовании богатства он когда-то имел случай убедиться. Но у меня было для него предложение получше. Я рассказал о деле, связанном с вами. Мы быстро поладили. Завербовать индейцев было делом нетрудным. Эти потомки вымершего племени питали к белым непримиримую ненависть. Мы выразили такие же чувства и торжественно поклялись помогать индейцам истреблять белое племя. Вы понимаете меня с полуслова, не так ли?.. Речь шла о том, чтобы вырезать всех вас с помощью индейцев, завладеть вашими правами на собственность, захватить золотой прииск, короче, полностью перевоплотиться в вас и стать честными золотоискателями, разумеется, освободившись от индейских союзников… Цинизм этого человека, столь хладнокровно говорившего о «деле», для исполнения которого убийство служило главным способом действия, вызвал среди слушателей ропот возмущения и гнева. А раненый отхлебнул еще спиртного и продолжал как ни в чем не бывало, не обращая внимания на произведенный эффект: — Краснокожие действительно были отличными помощниками, без предрассудков, и располагали методами действий необычными, но безотказными. Они беспрекословно повиновались своему вождю, ну прямо как сектанты горного старца. Вообще суеверия и фанатизм занимают огромное место в их жизни, я бы даже сказал, что наряду с ненавистью к белым это их главная особенность. Эти суеверия успешно использовались против ваших рабочих, ибо те их вполне разделяли. Вы же знакомы с легендой о Водяной Матушке, не правда ли?.. Ну вот, Панаолин поймал когда-то молодого ламантина и приручил его буквально как собаку. Ламантин выполнял команды по свистку, по слову, по знаку. Он следовал за своим хозяином повсюду, даже освобождал его от гребли, потому что приловчился тянуть пирогу за собой, а временами сопровождал его и на суше, если того требовали неотложные обстоятельства. Панаолин простодушно верил, что стал властелином Водяной Матушки, и никогда не забывал после каждой вылазки оставить в ее честь памятный знак — цветок виктории и голову аймары. С целью завладеть прииском мы сперва прибегли к способам, которые я назвал бы платоническими. Спекулируя на безграничной доверчивости негров и их склонности к суеверию, пытались запугать их настолько, чтобы они бросили работу и разбрелись. Дикие ночные концерты; ядовитые змеи, брошенные в изыскательские скважины; порча инструментов; барабанный стук по корням, страшное рычание Водяной Матушки вместе с воющим хором ее почитателей — таковы, в общем, были эти детские выдумки, которые мы использовали. Ловкий, как макака, Бонне забирался с помощью лиан на верхушку громадного сухого панакоко, стоявшего на краю поляны. Хорошо замаскировавшись среди паразитарных растений, он тарабанил что есть мочи по звонкому стволу мертвого великана. Но однажды вечером директор, человек не робкого десятка, занял под деревом пост и чуть не ослепил на один глаз «Водяную Матушку». Тогда мы решили нанести сокрушительный удар. Тем более что время подгоняло — путешественники прибывали из Европы с чудесной техникой для промышленной добычи золота. Мы подложили мощный заряд под каменистую гряду, образовывавшую водораздел между золотым прииском и бассейном соседней реки. Взрыв породил наводнение, которое, однако, не принесло нам никакой пользы. Воистину дела шли из рук вон плохо, и от насильственных действий мы вынуждены были на время отказаться. Я располагал иными средствами, вы могли в этом убедиться. Мне пришло на ум воспользоваться своими актерскими талантами, чтобы легко и не подвергая себя опасности завладеть вашими богатствами. Я предусмотрительно захватил с собой из Европы немалое количество разных костюмов, в которые переодевался от случая к случаю, и верил, что мой план удастся, а неудачи отступят. Признайтесь, что мои перевоплощения в офицера с его дотошностью и в миссионера-утешителя заслуживают высокой оценки. Но этот болван англичанин все испортил. Отдаю должное вашей бдительности и сноровке, однако и судьба к вам была благосклонной, это неоспоримо. Тем лучше для вас. Значит, я «работал» впустую, и наши «военные хитрости» оказались разоблаченными… Но смерть англичанина… — Как, — вскричал Робен, — вы убили этого бедняка?! — Нет, нет, это не убийство! Он умер от солнечного удара. Его смерть внушила мне новую идею. У меня было время изучить этого оригинала. Вы его видели мало, и то лишь в фантастическом «костюме», изготовленном мною. Зная, что двух его дочерей нет на прииске, я решил сыграть роль этого типа, внедриться в вашу семью и… сделать на это последнюю ставку. Игра ва-банк! Судьба распорядилась иначе. Вы родились под счастливой звездой. Это был крах всех надежд. Панаолин с какого-то времени перестал доверять нам, его подозрения укрепляла цепь наших неудач. Старый негодяй, сознавая свое неизбежное поражение, решил покончить со всем одним махом, истребив и себя самого. Его люди схватили нас, привязали к дереву… Дальнейшее вам известно. Охваченный приступом горячки, несчастный захрипел. Он снова поддержал алкоголем слабеющее возбуждение и продолжал: — Месье, я кончил… Силы быстро уходят, мне сдается, что пламя сжигает внутренности. Через несколько минут я умру… и это к лучшему… Я рассказал вам о себе, чтобы вы поняли: я не какая-нибудь заурядность… Простое авторское самолюбие… Видите ли, я — мятежник новой волны… Меня победили, но я не раскаиваюсь… как в романах, где обезоруженный бандит приходит к назидательному финалу… становится честным парнем… Ну, все равно… Вы — сильные люди… Вы побороли Панаолина, старого гвианского демона… Он был символом этой земли, некогда проклятой, теперь преображенной вашей энергией… Добродетель свершила то, на что напрасно замахивался порок… А ведь я был человеком умным и сильным… Неужели честь сегодня большего стоит, чем преступление?.. — И вы еще сомневаетесь в этом, в такую минуту! — В голосе Робена звучало неподдельное волнение. — Вы сомневаетесь, когда я заявляю вам о прощении — от своего имени и от имени тех, кто чуть не стал вашими жертвами! Умирающий устремил на инженера пронзительный взгляд, который понемногу туманился… Две слезинки набежали ему на глаза… Он тяжко дышал, грудь вздымалась с трудом и неровно. Голосом, потерявшим свой саркастический тон, он прошептал: — Вы правы… месье… Я гнусен… как преступление… Вы велики… как добродетель… Спасибо вам… вы заставили отверженного… пролить первые слезы раскаяния!
Конец третьей части


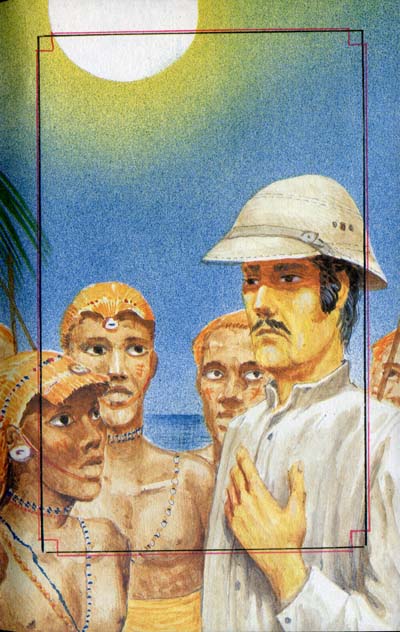





Эпилог
Гвианские робинзоны сдержали слово. Попрощавшись с метрополией и не имея никаких намерений возвратиться туда, они, следуя примеру англичан, создали свою страну на колониальной почве. Они жили исключительно ради новой родины, посвящая все силы ума и таланта ее развитию, упорным трудом добиваясь чудесного расцвета своего уголка полуденной земли. Вот уже больше двадцати лет их девизом служат слова: «Родина и труд». Неудивительно, что нынешнее положение робинзонов можно определить одним-единственным словом: «Счастье». У Робена и его героических друзей здоровая и радостная старость. Гвиана остается такой же гостеприимной, как бы ни пытались спорить с этим ее недоброжелатели и хулители. Старший сын Анри, покинувший Европу в десятилетнем возрасте, не испытывает желания совершить туда даже увеселительную поездку. Его брат Шарль полагает, что годичное пребывание во Франции вполне удовлетворило его любознательность. У обоих робинзонов есть и более веские причины оставаться на берегах Марони. Анри недавно обвенчался с мисс Люси в мэрии Сен-Лорана. В тот же самый день состоялось обручение Шарля и мисс Мери. Обе молодые женщины, умом и сердцем ставшие экваториальными француженками, не желали больше расставаться со своей приемной матерью. И где же найдется лучшее место для семейной идиллии, чем эта солнечная страна, с ее ослепительными цветами, вечнозелеными долинами, несравненным простором! Эжен и Эдмон решили, что необходимым дополнением к их колониальному образованию стало бы, как у Шарля, путешествие в Европу. На «Сальвадоре», принадлежавшем трансатлантической компании, с ними вместе отправился в путь Дю Валлон, которого тоже охватило желание побродяжничать несколько месяцев. Впрочем, и новые потребности золотого прииска делали очень полезной эту поездку. Радость совершенно вскружила голову Никола. Бравый робинзон тоже соединил свою судьбу с красивой женщиной. Он взял себе в жены сестру главного механика, очаровательную креолку с Мартиники, чей ум и доброта соперничали с ее природной грацией. Бывший каторжник Гонде, всегда приветливый и прямодушный, повел скромный образ жизни и безукоризненно трудился, искупая роковой миг юности. Единственный признак старости у силача Ангоссо — совершенно побелевшая густая шевелюра. — Мо фика Казимир (я стал Казимиром), — говорил добрый негр, который и трех дней не проводил без воспоминаний о прежнем друге. Его жена Ажеда, всегда подвижная и хлопотливая, невзирая на дородность, воспитывала «по-европейски» целый клан негритят, робинзонов будущего, которыми с полным основанием гордились их отцы, Ломи и Башелико. Все члены этой большой дружной семьи жили то на золотом прииске, то в сельскохозяйственной колонии. Переезды не занимали много времени, их легко и быстро совершала паровая лодка, каждые два дня курсировавшая по этому маршруту. В заключение добавим, что здоровье рабочих было великолепным благодаря хорошему питанию — тучные стада на обильных пастбищах непрерывно росли, — а также заботе Робена. Как только у какого-либо старателя появлялись даже легчайшие симптомы заболевания, будь то лихорадка или малокровие, его незамедлительно отвозили в поселок на водопаде Петер-Сунгу. Перемена воздуха и условий работы помогала быстрому выздоровлению. Можно утверждать, что цивилизация в этом уголке земли одержала победу. Каждое утро, когда трехцветное полотнище знамени возносилось кверху и ярко полыхало на флагштоке, а звуки трубы призывали рабочих к новому трудовому дню, сердце бывшего изгнанника сжималось от волнения, неиссякающая радость жизни наполняла его. И, наблюдая это вечно пылающее горнило труда и борьбы, в котором ковалось процветание «Полуденной Франции», Робен с чувством удовлетворения и естественной гордости мог воскликнуть: «Дело моей жизни торжествует!» И добавить, глядя на развевающийся флаг: «Все это — моей любимой родине…»Конец

Луи Буссенар ОХОТНИКИ ЗА КАУЧУКОМ
Часть первая БЕЛЫЕ КАННИБАЛЫ
ГЛАВА 1
Ночной лов рыбы. — На штирборте[1] понтона[2].— Спальня каторжников. — Драма на батарее «Форель» в ночь на 14 июля. — Господин Луш. — Убийство. — Побег. — В пироге[3].— Сообщник. — Наживка негра. — Четверо негодяев. — План господина Луша. — По поводу спорной территории между Францией и Бразилией. — Маршрут. — На Крик-Фуйе. — Тревога!— Ну что, клюет? — Вроде бы. — Вот и ладно. — Глянь-ка на удочку! — Потише, потише, старина Геркулес. — Да, старею я, нервы не выдерживают. Как начинается клев, прямо сам не свой делаюсь. — Да тише ты, олух. Воображаешь, что шепчешь, а сам орешь, как обезьяна. Надзиратели услышат! — Сегодня же праздник — четырнадцатое июля[4]. Они, конечно, пили целый день и сейчас дрыхнут без просыпу. — Хватит болтать, придержи язык и будь начеку! — Если б только можно было загасить этот чертов фонарь!.. — Только без глупостей! Знаешь, как я заработал себе два года двойных кандалов? Вот так же пытался сбежать, как мы сегодня. И влип. А все из-за чего? Задул я плошку, а чад от фитиля всех наших разбудил. Ну, они подняли шум, побоялись, что из-за меня им достанется. Примчались надзиратели и вмиг скрутили господина Луша! Так что из-за фитиля я и погорел. Легкий шорох лески, похожий на шуршание гремучей змеи[5] в траве, прервал этот тихий разговор. Геркулес взялся за дело. Уже не слушая Луша, он продолжал тянуть и методично сматывать лесу. Трое других собеседников тоже замолчали. Несмотря на показное хладнокровие, их охватила тревога, почти что ужас. Компания была как на подбор. Одеты все одинаково — в блузы и штаны из грубого холста, на головах — соломенные шляпы. Бежать собрались босиком. Грубые башмаки, связанные шнурками, красовались у каждого на шее. Все трое стояли возле маленького окошка, пробитого в стене, угрюмой, как всякая тюремная ограда. Помятые бледные лица, с которых даже тяжкий труд не сумел стереть печать порока и жестокости, казались еще более мрачными в тусклом свете фонаря, еле-еле мерцавшего под потолком безрадостного жилища. Внезапно резкий толчок потряс все помещение. Послышался скрежет. Четверо мужчин пригнулись. Кто-то прошептал: — Ну, слава Богу! Прилив начинается. Толчки и скрежет продолжались. Наконец медленно покачнулось и завращалось все тяжеловесное строение. — Понтон уходит от волны, — произнес тот же голос, — нельзя терять ни минуты! Как, очевидно, уже догадались читатели, замышляли побег заключенные. Тюрьма их была устроена на батарее старого фрегата[6], превращенного в плавучий острог. Маленькое окно, возле которого они стояли, — не что иное, как люк, а низкий потолок, освещаемый фонарем, — палуба старого судна. Вдоль стены напротив четверых любителей ночной рыбалки тянулся бесконечный ряд гамаков, закрепленных между двумя длинными параллельными планками. Начало и конец этого ряда терялись во тьме, только те, что находились у фонаря, висевшего под потолком, были слабо освещены. Так выглядело это место отдыха изгоев общества, где они ненадолго высвобождались из-под ярма, на которое обрекла их карающая рука правосудия. В описываемый момент все, за исключением нашей четверки, были погружены в тяжелый непробудный сон. Стоит ли удивляться, что после каторжного труда этих несчастных мучили кошмары! Работа на износ, до полного истощения, беспощадное тропическое солнце сделали свое дело: каторжников подтачивали болотная лихорадка и малокровие. Они сгрудились здесь, как затравленные звери. Что ютилось в их подсознании? Сожаления о своей разбитой жизни, о днях, томительно однообразных, словно звенья одной цепи? Или же мечты о том, как вырваться из этого постылого рабства?.. Время от времени кто-нибудь из спящих глухо стонал и метался на своем ложе. Где ты, желанное забвение? Все тело болит, сон — и тот превратился в каторгу… Через минуту храп возобновлялся, пока снова чьи-то стоны не прерывали общий сон. Несмотря на открытые окна, воздух в помещении был очень тяжел. Неописуемый смрад, похожий на мускусный запах[7] каймана[8] и на удушливую вонь козла! От испарений множества тел, скученных на слишком тесном пространстве, фонарь едва не гас. Такое зрелище представляла собой тюрьма старого фрегата «Форель», стоявшего на рейде Кайенны в ночь на 14 июля. Теперь представим себе такую картину. Пробило одиннадцать часов ночи. Вдалеке был слышен шум города, где отмечали национальный праздник. Крики и песни долетали до рейда. Ракеты пронзали темноту, как огненные змеи. Гремели выстрелы, слышалась монотонная и непрерывная дробь негритянских барабанов, без которых не обходился ни один местный праздник. Матросы береговой охраны братались с морской пехотой, артиллеристами, торговцами, ремесленниками, чиновниками. Все, от мала до велика, шумно веселились, смешавшись с моряками. Только на фрегате, этом пристанище отверженных, царила мрачная тишина. Но вот Геркулес, тянувший лесу все осторожнее, почувствовал сопротивление. — Все в порядке! — воскликнул он. — Рыбка клюнула. — В этот момент что-то легко ударилось о борт фрегата на уровне ватерлинии[9]. — Сдай! — распорядился человек, назвавшийся господином Лушем. — Ну, — сказал Геркулес, — пришло время поговорить начистоту. Ты задумал дельце в одиночку, господин Луш, и я хотел бы знать, как мы выберемся из этой посудины. — Тихо! Как ни был слаб удар, он разбудил араба, одного из каторжников. Араб приподнялся на своей постели и увидел четверых человек возле окна. Спрыгнув на пол, он подошел к ним. — Ты бежать! — резко сказал араб Лушу. — Твое какое дело? — грубо возразил тот. — Я хотеть идти тоже. — У нас, сынок, нету лишних мест. Я тебе не мешаю пристать к другому этапу, а у нас уже полный комплект. — Я хотеть идти, или кричать и будить стража. — Ах, каналья, да ты хочешь нас всех засыпать! Погоди же! Луш кинулся было на араба, уже открывшего рот, но Геркулес его опередил. Свободной рукой он схватил непрошенного свидетеля за горло и сдавил так сильно, что несчастный свалился как подкошенный, с выпученными глазами и высунутым языком. — Нельзя терять ни минуты, — просипел Луш. — Держи-ка!.. С этими словами он подал Геркулесу конец троса, обмотанного вокруг пояса под рубашкой. — Привяжи трос к люку, — приказал он, — спусти его наружу и полезай. Рыбка, что ты ловил, — это пирога с веслами. Поторопись-ка! Остальные — следом за тобой. Я выйду последним. Три человека, не заставив себя ждать, поочередно исчезли в отверстии люка. Точнее сказать, едва протиснулись через него — так оно было узко. В это время араб, которого все считали задушенным, пришел-таки в себя. — Вот мерзавец, — прошептал главарь, — а я-то думал, что Геркулес пришил его. Сейчас заорет, поднимет шум, и нас сцапают! И нет даже завалящего ножа под рукой, перерезать ему глотку! А, да у меня же есть моя штучка! Сказав это, Луш подошел к своей постели, порылся в груде тряпок, составлявших его гардероб, и вытащил оттуда длинный медный гвоздь. В свое время он извлек его из обшивки корабля, в порыве дикой хитрости, присущей каторжникам, и заботливо припрятал, до подходящего случая. И вот случай представился! В два прыжка Луш оказался возле араба и загнал тому гвоздь в висок. Затем, желая удостовериться, что на этот раз смерть наступила, а может быть, из утонченной жестокости, каторжник охватил голову араба двумя руками, прижал к полу и еще раз надавил на гвоздь с такой силой, что острие вышло с другой стороны. Несчастный не издал даже стона. Тогда убийца быстро задрал блузу своей жертвы. Он знал, что искал: убитый, запасливый, как все арабы, имел на теле кожаный пояс, а в нем — деньги. Луш пробурчал: — Одним махом два дела сделаны! И от стукача отделался, и монеты приобрел. А денежки везде пригодятся! Совершенно хладнокровно бандит проскользнул в бортовой люк и спустился вниз по канату. Убийство, побег — все произошло так молниеносно, что ни спящие в трюме, ни охрана в каютах под мостиком ничего не услышали. Беглецы уселись в легкую лодку, взяли каждый по веслу и молча начали грести к югу[10]. Каторжники быстро добрались до илистого берега, поросшего мангровыми зарослями[11], и проплыли еще около двух километров без передышки. Теперь они находились возле устья большого канала, идущего к юго-востоку и обрамленного рядами деревьев. — Стоп! — скомандовал разместившийся на носу лодки Луш. — Мы первые прибыли на свидание, и у нас есть время поболтать, пока другие появятся. Надо только причалить. — Ну что же, поговорим, — сказал один из беглецов, до той поры угрюмо молчавший. — Пришла пора раскрыть вам мой план. Если кто струхнет, может вернуться назад в тюрьму! — Никогда! — в один голос вскричали трое. — Так в добрый час! Тем более что первый, кто туда вернется, рискует встретить очень плохой прием. — Ну, без глупостей, — насторожился Геркулес. — Разве я слишком сильно взял в оборот арабишку? — Араб уже ни на кого не настучит. Он лежит на палубе с тринадцатидюймовым гвоздем в виске. — Черт с ним! Но ты, видно, хочешь, чтобы мы все головы лишились, если нас поймают! — Ладно, я все возьму на себя. Одним больше, одним меньше, какая разница. Вы хорошо знаете, что я был приговорен к смерти, потом пожизненно, потом к ста с лишним годам… и хуже мне от того не стало. Дела свои я веду честно и готов получить по заслугам, если нас зацапают ищейки. Сам подставлю шею под топор, а вы схлопочете всего два года кандалов. Но поговорим о деле, а то мы все не о том. Вчера в полдень, вернувшись с работ, я повстречал в порту Жан-Жана, этого длинного черномазого с Мартиники, его помиловали лет пять назад. Ты не знавал его, Нотариус, так как в ту пору еще не ишачил на властей. — Продолжай, — глухо перебил человек, которого Луш насмешливо назвал этим прозвищем. — Тут меня и осенило, как заставить его помочь нам с побегом. Я ведь давно замышлял это дельце. Поболтав с ним на досуге, я узнал, что он служит матросом. На тапуйе — это такое туземное суденышко, ходит между Кайенной и рудниками Марони. Жан-Жану не улыбалось оставаться в праздник на борту, пока хозяин и все остальные будут гулять. Он мне простодушно сказал, что пошел бы и сам на танцульки, будь у него хоть грош в кармане. Ну, я и смекнул. «Жан-Жан, — говорю я ему, — тут у меня завалялась монета в двадцать франков, и отчего ж не отдать ее старому товарищу? Но при одном условии: сегодня вечером, в десять часов, ни раньше ни позже, ты не побоишься пойти на риск. Привяжешь лесу к обрывку каната, что будет свисать из двенадцатого люка штирборта «Форели». Леса должна доставать отсюда до твоего тапуйя. А потом спокойно вернешься к себе на судно, загрузишь пирогу — положишь в нее четыре весла, четыре фляги, четыре длинных ножа и мешок с маниоковой мукой[12]. Затем крепко привяжешь конец лесы к этой пироге. Понял?» «Моя понял, — ответил черномазый, лукаво подмигивая. — Я согласен, но ты заберешь моего дружка Амелиуса». «Он же работает на берегу!» «Это меня не касается… Твоя должен его предупредить». «Ладно, держи монету!» — сказал я. И вот Жан-Жан, как вы знаете, сдержал слово. В назначенный час Геркулес выудил пирогу, в которой мы теперь сидим. — А как же твое обещание? Ведь Амелиуса, или как мы его зовем, Маленького Негра, с нами нет! — Потерпи, Нотариус. Ты знаешь, честный каторжник всегда держит слово. Уж я расстарался, чтобы его предупредить, и мне повезло. На разгрузке корабля с быками я увидел Шоколада с Кривым и Психа, высокого араба, у которого на виске вытатуирована синяя молния. Они взялись передать Амелиусу что надо — при условии, что их тоже прихватят. «Ладно, — согласился я. — Встречаемся после полуночи в северной части Крик-Фуйе (Обысканный залив). Кто придет первым, подождет других». «По рукам, — ответил Кривой. — Я займусь остальными, мы вечером не вернемся в тюрьму, а сразу сбежим, я украду лодку на канале Лосса́ — и в путь на Крик-Фуйе». Вот как обстоят дела, дети мои! Пролог пьесы сыгран, пора приступать к первому акту! — Начало неплохое, — заметил Нотариус после некоторого раздумья, — а дальше-то что? Скоро побег откроется, и за нами пошлют погоню. Будут травить, как бешеных собак… Придется очертя голову мчаться через лес, где полно разных зловредных гадов и насекомых. Да и диких зверей предостаточно… Насмешливый хохот был ответом на этот перечень опасностей, поджидавших беглецов. Луш саркастически возразил: — И глуп же ты для ученого, как я посмотрю!.. Властям наплевать на беглых каторжников, они думают, что нам отсюда никогда не выбраться. Да только не на дураков напали! Правда, почти все, кто сбегает, потом без памяти рады вернуться назад, если не подохнут от голода и лихорадки. Еще как счастливы бывают, когда им на лапу кандалы с ядром прицепят! — Значит, я был прав! — А я тебе опять говорю, ты глуп! Заруби себе на носу, что этими олухами не командует Луш, краса и гордость всех гвианских каторжников, отъявленный плут, скажу не хвастая! Луш давно уж все обдумал… он ничего не делает наспех, как могло бы вам показаться, когда мы так скоренько убрались из тюряги. План-то был готов давно… А сегодня вечером подходящий случай выдался, и я его не упустил, вот мы и здесь. Эта хвастливая речь была встречена одобрительным ропотом. — Видите ли, друзья, побеги редко удаются, а все из-за чего? Из-за того, что совершаются наобум, без подготовки. Ссыльные из Сен-Лорана попадают в лапы голландцев, а те их живо отправляют обратно. В этой паршивой стране беглых выдают. А те, кто пытается добраться по суше в Английскую Гвиану, терпят такие муки, что у тебя, мой бедный Нотариус, просто бы волосы встали дыбом. Но мы в Кайенне, в тридцати лье[13] по прямой от страны, которая просто рай земной для тех, у кого нелады с обществом. Ни тебе губернатора, ни консулов, ни каторги, ни ищеек! Человек там свободен, как звери в лесу. Ни власти, ни закона! Можно без хлопот грести золото лопатой и делать что вздумается, даже творить добро, коль придет такая блажь! — И что же это за страна такая? — вопросил Геркулес, выслушавший все это с раскрытым ртом. — Так называемая Спорная Территория Гвианы. Не принадлежит ни Франции, ни Бразилии. Она не меньше, зато плодороднее и здоровее этой чертовой колонии, с которой мы скоро распростимся. — Но там, наверное, уже есть свои колонисты! — И богатые притом! — Велика важность! Мы займем их место и будем жить на всем готовом. — А как туда добраться? — Сущий пустяк для таких парней, как мы, закаленных каторгой и без предрассудков. Мы теперь милях в тридцати — тридцати пяти от этой территории, она от нас отделена рекой Ойяпоком. Кладем для верности миль сорок. Значит, это с неделю хода. — Ты прав. А как нам отсюда выбраться? — Уж не морем, конечно! Это было бы сущим безумием — плыть в пироге без воды и припасов. Да еще с далеким заходом в море, чтобы не застрять в прибрежном иле. Я не трус, но у меня прямо мороз по коже, как подумаю о смерти бедного Жиро, по прозвищу «Губи-Кошель». Был он ловким малым, да его сожрали живьем пальмовые крабы… Вот что мы сделаем. Как только подойдут товарищи, на лодке доберемся по заливу до Маури. Днем спрячемся в речных зарослях, там нас никому не отыскать. Ночью переправимся через Маури и доберемся до дороги в Апруагу. А там до городка Кау рукой подать. Правда, дорога плохая, каменистая, идет по гребням гор. Шею можно сломать. Ну да ладно. Местные жители проходят ее за день, а мы пройдем за ночь. Как доберемся до местечка Кау, украдем лодку, проплывем по каналу до Апруаги, пересечем реку — вот вам и полпути, без особой усталости. Затем мы очутимся в дикой местности, где ни еды, ни жилья нет и в помине. Надо будет идти вперед по солнцу. Зато уж не придется осторожничать. Нам предстоит пересечь реки, леса, долины — да мало ли что еще! Но это все пустяки — ведь от Апруаги до Ойяпока меньше пятнадцати миль. От силы два дня пути. Как только доберемся до другого берега Ойяпока, считай, мы уже дома. — Тихо, вы! — раздался в ночной тишине грубый голос. — Только тебя и слышно, господин Луш. Орешь, как стая попугаев. — Гляди-ка, Шоколад! Добро пожаловать. — Да, это я с остальными. У нас дурные вести. Тревога, друзья! Погоня! В бухте две шлюпки с вооруженными людьми. Да еще большой вельбот[14] с гребцами-арабами. Уж не знаю, что с ними случилось, орут как бешеные: «Аруа!.. Аруа!..» — Тысяча чертей, вот мы и влипли. И зачем ты пришил того араба? — Да пусть их! — невозмутимо произнес Луш. — Мы им пока еще не попались.
ГЛАВА 2
Погоня. — Возможные последствия убийства араба. — Под манглиями[15].— Шесть часов в иле. — Поиски. — Мучения. — Прилив. — Индокитайское судно. — Вынужденное гостеприимство. — Сильные средства господина Луша. — Спасение сообщника. — На Крик-Фуйе. — Маури. — От Ремира до Кау. — 50 километров в горах. — Жандармы «с длинными саблями». — Голод. — Устрицы. — Возле Апруаги. — Плот. — На охоте. — Что означают слова «двуногий скот».Итак, как объявил беглец по прозвищу Шоколад, две лодки с вооруженной охраной пустились в погоню. Арабы вскоре заметили убийство их товарища и яростными воплями разбудили охрану. Надзиратели не беспокоились бы особо из-за обычного побега. Но тут, ввиду серьезности момента, они немедля снарядили в погоню лодки с вооруженными людьми. Гребцы обычно не слишком спешат догонять сбежавших товарищей и облегчают им путь своей пассивностью и деланной неловкостью. Но при виде трупа соплеменника голос крови заглушил все. Братство каторги было забыто, и они стали яростными преследователями. В один миг шлюпки были спущены на воду и охранники, вооруженные до зубов, с мощными фонарями в руках, заняли свои места. Для тех, кто знаком с Кайеннской бухтой, очевидно, что во время прилива беглецы могли направляться только к берегу между каналом Лосса и Крик-Фуйе. Поэтому поиски начались прежде всего здесь. Около часа потратила охрана, обыскивая бухточки и заливы, мангровые заросли, пока не увидела вдали силуэт стремительно мчавшейся лодки. Арабов тоже охватил охотничий азарт, их гортанные крики: «Аруа! Аруа!» — понеслись далеко вокруг. С возраставшей яростью, горя желанием поймать убийцу, они гребли с небывалой силой и мало-помалу начали догонять беглецов. Их разделяло около двухсот метров, когда лодка Луша достигла устья канала, заметного во время прилива только по деревьям, выступающим из воды. Здесь пирога резко повернула и скрылась в непроходимых зарослях высотой более метра. Каторжники из береговой тюрьмы сообщили беглецам с «Форели» о погоне, грозившей помешать их смелому замыслу. Но матерый волк, известный нам под именем Луша, был и впрямь чрезвычайно находчив. У него немедленно созрел в голове новый план, — правда, довольно рискованный, любому нормальному человеку он показался бы гибельным, но молодчиков такой закалки, как эти каторжники, было не так-то просто запугать. — Все в поду! — скомандовал Луш шепотом. — А ты, Шоколад, оставь лодку на плаву, пусть ее несет течение!.. — Но я не умею плавать! — жалобно заныл Нотариус. — Ну так оставайся в лодке, олух, да смотри не разевай рот, не то утоплю! Так! — продолжал Луш, увидев, что все беглецы, кроме него самого и Нотариуса, очутились в воде. — Цепляйтесь за борта лодки и потихоньку шевелите ногами. Я вас отведу в такое место, где охрана нас не сыщет. Легкое суденышко, повинуясь веслу в руках каторжника, проскользнуло в невероятно запутанную густую заросль мангровых корней, и безбрежная зелень поглотила его. Добраться до беглецов, спасшихся благодаря своей дерзости, можно было теперь разве что чудом. В этот момент крики ярости и разочарования долетели с залива. Арабы и охранники завидели пустую лодку. Каторжники явственно расслышали слова одного из преследователей: — Ладно же! Эти негодяи попрыгали в воду, как кайманы, но завтра, еще до рассвета, весь берег будет оцеплен. И ни один из них не уйдет. Если они не околеют в этом иле, то пусть меня дьявол заберет, если мы их не сцапаем, когда они будут оттуда выползать. Эй вы, поворачивайте назад! Охота на сегодня закончена. — Пусть никто не шевелится! — прошипел Луш. — Они могут сторожить нас здесь, пока не начнется отлив. Прошел час, другой, а дикая энергия беглецов не иссякала. Лодка была слишком мала, чтобы вместить всех, поэтому четверо самых крепких остались в воде, уцепившись ногами за корни. Прилив явно пошел на спад. Течение подняло со дна и закружило зловонный липкий ил. Там, где плескались еще недавно невысокие желтые волны, возникла мерзкая клоака, по которой, как шарики на ножках, проворно бегали маленькие крабы с голубым панцирем. Манглии точно вырастали из воды на своих узорчатых пьедесталах, корнях; все восемь человек оказались теперь в иле возле лодки. Близился рассвет. Уже пробудились хохлатые цапли, фламинго и ибисы[16], возможно почуявшие близость человека. — Ну, друзья, за работу! — прошептал Луш, до этого времени не проронивший ни слова. — На нас могут устроить облаву по илистой отмели. Хотя она и покрыта илом, но под ним на метр твердая почва. До нас могут прекрасно добраться. — Верно, — заметил Шоколад, — по отмели можно ходить. — Я знаю это место, не раз тут подбирал водяных птиц — охотники стреляли с китобойной шлюпки в заливе. — А этого надо избежать во что бы то ни стало, — продолжал Луш. — Надо спрятать под илом пирогу. Мы опять ее спустим на воду, когда начнется вечерний прилив. А сами, чуть что подозрительное — зароемся по самые уши в эту вонючую жижу. Но сначала хорошенько вымажем илом лица и шляпы, так, чтобы даже в двух шагах от нас никто ничего не заметил. Давай-ка и ты, Маленький Негр, намажься хорошенько, а то твоя рожа блестит, как начищенный сапог… Так-то оно безопаснее. К тому же тех, у кого нежная кожа, вот как у Нотариуса, меньше будет жалить мошкара и всякие насекомые. Тем временем разом рассвело, как это всегда бывает в экваториальных странах. Ввиду особо отягчающих обстоятельств, при которых был совершен побег, администрация каторги приняла самые энергичные меры к поимке преступников. Многочисленная охрана реквизировала все свободные лодки на судах и мобилизовала часть муниципальной полиции. Одни прочесывали по всем направлениям окрестности залива, другие обшаривали баграми илистые отмели, бесстрашно продвигаясь вперед по этоймягкой почве и местами проваливаясь по пояс. Неустанные поиски продолжались все утро, несмотря на трудности и усталость. Было настоящим чудом, что беглецы до сих пор не попались на глаза охотникам за людьми — ведь их шаги и голоса слышались совсем рядом. Погрузившиеся по самые уши в зловонную жижу, дрожащие от страха, умирающие от голода, промерзшие до мозга костей… Уже около двенадцати часов они пребывали в воде. Можно представить, каково им было! Но вскоре их муки должны были еще возрасти, так как близилось время прилива. Издалека уже доносился грохот прибоя, который должен был выгнать каторжников из убежища, как выгоняет наводнение диких зверей из их нор. Преследователи, правда, тоже отступили, но с таким расчетом, чтобы отрезать с суши все пути к бегству, а те, что находились в лодках, приготовились с приливом заплыть в густой мангровый подводный лес. — Думаю, мы влипли, — тихо проворчал Шоколад, с трудом выбираясь из тины. — Надо пускаться вплавь, если мы не хотим утонуть, а как только мы поплывем, тут-то нас и зацапают! — Не сразу, — отозвался Луш. — Пусть каждый уцепится за мангровые корни и ждет первой волны, не высовывая носа. Мы просидели двенадцать часов в иле, теперь просидим столько же в воде… Эх, да ведь выбора у нас нет!.. — Тут он насторожился, во что-то вгляделся. — Ах ты, черт! Я на это и не рассчитывал. — В чем дело? — Видишь там, метрах в ста от нас, коричневую крышу? Между зарослей, в бухте? Это, должно быть, рыбачья лодка аннамита[17]. — Ну и что из того? — Тихо! Подымите пирогу так, чтобы ее подхватило волной, да не забудьте взять тесаки. Теперь двигайтесь за мной ползком, поближе к заливу, к той лодке! Семь человек, выпачканных тиной и грязью, выполнили приказ своего предводителя и с грехом пополам двинулись в указанном направлении. Но вдруг налетела первая волна прилива, которая сразу накрыла их с головой и потащила, как соломинки. Они отчаянно уцепились за корни, перевели дух и приготовились двигаться дальше. — Эй! — хладнокровно сказал один из них. — Нас всего семеро, вместе с Лушем. А где восьмой? — Нотариус не явился на перекличку, — отозвался Луш, — тем хуже для него. Давайте-ка, остальные, вперед. — Да вот же он… Ударился головой о корень, видно, в беспамятстве. Но я не оставлю его здесь, — сказал Шоколад, взваливая Нотариуса себе на плечи. Набежала вторая, затем третья волна. Каторжники пустились вплавь и доплыли до края залива. Луш не ошибся. Это была лодка — сампан[18], с грубой крышей из листьев. На носу ее невозмутимо сидел аннамит, занятый починкой сети. Бандит бесшумно нырнул, влез на борт сампана и ткнул под нос азиату лезвие своего тесака. — Ни звука, а то прирежу! Человек, застигнутый врасплох, с ужасом забормотал на кайеннском наречии: — Не надо моя убивать, Луш. — Закрой пасть!.. Нас тут восемь человек… Спрячь нас на своей посудине. Если охранники спросят, не видал ли ты нас, скажешь, что нет. И гляди, ни слова, ни звука лишнего, а то, пока нас схватят, я тебе нож в глотку загоню по рукоять. Ясно? Остальные, мокрые и грязные, взобрались в это время на борт. Шоколад тащил Нотариуса за воротник блузы — он так и не захотел его бросить. В один миг арестанты залезли под кучу сетей, канатов, тряпок и всякого барахла, которое аннамит держал на сампане, и рыбак снова занялся своим делом. Этот маневр прошел никем не замеченным, так как сампан был закрыт со всех сторон изгибами берега. Теперь беглецы могли опасаться только обыска. Но, как им стало известно впоследствии, судьбе было угодно, чтобы сампан был обыскан еще в самом начале этой охоты на людей. Охранники не нашли на лодке ничего подозрительного и, уставшие, после долгих и бесплодных поисков возвратились на понтон. Они решили, что бандиты утонули. А беглецы между тем утоляли голод сырой рыбой из запасов аннамита. Азиат, сам бывший каторжник, осужденный на вечное поселение, не хотел и не мог отказать в помощи старым товарищам по каторге. Когда наступила ночь, Луш приказал ему отвязать лодку и доплыть от Крик-Фуйе до Маури. Азиат повиновался, вручил весла своим непрошенным пассажирам, и вскоре тяжелая лодка, управляемая сильными руками, заскользила по волнам канала. Двух с половиной часов им хватило, чтобы добраться до Маури, которое было чем о вроде устья, при слиянии Каите и Орапю. Желая использовать еще три с половиной часа, что оставались до конца прилива[19], беглецы не мешкая поднялись по реке, минуя батарею Трио, еле видную в темноте, и величественные холмы Ремира, где мирно прожил в течение двадцати лет член Конвента[20] Бийо-Варенн, сосланный в Гвиану в 1795 году. Каторжники гребли с такой энергией, что смогли добраться почти до холмов Рура, выше по течению залива Габриэля. Напротив находился причал Ступана. Так как дальше плыть было невозможно, они подвели сампан к правому берегу и высадились на нем, получив от азиата изрядную долю свежей рыбы, несколько пригоршней муки, соли и огниво. После чего хозяин лодки, но не положения, который, несомненно, был рад, избавившись от своих сомнительных гостей, немедленно отправился назад, пользуясь отливом на Крик-Фуйе. Беглецы отнюдь не чувствовали себя в безопасности, хотя и были далеко от тюрьмы. Они поспешили укрыться в густой чаще деревьев, которыми зарос весь берег. Скоро должен был наступить рассвет, и, как говорил Луш, следовало потихоньку сматываться подальше от местечка Рура. — Потому что, овечки мои, — продолжал главарь, — тут есть не только мировой судья, на него-то я чихал, но и бригада жандармов, а к ним я чувствую глубокое почтение. Я вовсе не впечатлителен, но созна́юсь вам, что от вида белых шлемов и кожаных ремней жандармов «с длинной саблей»[21] у меня руки-ноги отнимаются. — Ты прав, — сказал Красный, — и я того же мнения, что страх перед жандармом есть начало мудрости. — Невольной мудрости, черт возьми! Но будь спокоен… Мы попозже уж вознаградим себя за это невольное уважение к хижинам местных негров. Ведь их так хорошо было бы попотрошить! Но о последнем нечего было и думать. Из соображений безопасности беглецы с удвоенной осторожностью, скрываясь под деревьями, обошли местечко и добрались до первых гор, хребет которых отделял городок Рура от Кау. Такой маневр исключал всякую опасность. Каторжники с трудом карабкались по крутой каменистой тропе, заросшей с обеих сторон деревьями, которые не пропускали света. Им не грозило встретить кого-либо, так как мало кто из людей рискнул бы сюда забраться. Таким образом, благодаря безлюдью, они, несмотря на страшную усталость, шли почти без передышки и за один день одолели без малого пятьдесят километров, разделявшие эти два селения. Изможденные, умирающие от голода, не имея ничего из еды, кроме остатков уже протухшей на жаре рыбы, они свалились, как загнанные звери, на берегу реки Кау и заснули мертвым сном. На следующий день, однако, голод взял верх над усталостью и разбудил их еще до рассвета. Беглецы пересекли вброд мелкую в это время реку, обошли городок и двинулись вдоль канала длиною в двадцать километров до места впадения в Апруагу. Через последнюю надо было переправиться по возможности благополучно. Но, как ни была велика энергия и выносливость этих людей, пятеро из восьмерых не могли больше двигаться. Кроме того, голод терзал их и лишал всякой активности. Они были уже близки к тому, чтобы сожалеть о бобах, которыми их кормили после каторжных работ. Луш, бывший намного старше своих товарищей, сохранял ясный ум и твердую волю, но тело его было совсем разбито. Только Геркулес и Шоколад еще были полны сил. Правда, оба они были сложены на славу, имели могучие мускулы и представляли собой великолепные образцы человеческой породы. В то время когда Нотариус хныкал, как дитя, и говорил о том, чтобы пойти и сдаться в тюрьму Кау, а другие его молчаливо одобряли, Луш послал двоих здоровяков на поиски гвианских устриц, которые тысячами лепились на корнях манглий. Они собрали множество этих моллюсков и вскоре принесли их, использовав рубахи как большие мешки. Несчастные пожирали скользкую снедь с небывалой жадностью, компенсируя количеством недостаток качества, и муки голода вскоре утихли. К беглецам снова вернулись бодрость и надежда. Так как украсть лодку, проходя мимо Кау, не удалось и надо было по возможности поскорее переправиться через Апруагу, то неутомимые Геркулес и Шоколад отправились на поиски легкой древесины, годной для постройки плота. Почти сразу же они набрели на место, где во множестве росли полые деревья с гладкой и блестящей корой — местные жители называют это чудо природы «пушечными деревьями». Геркулес и Шоколад начали усердно рубить их своими тесаками. Недалеко росли густые заросли бамбука — его молодыми побегами можно было связать плот. В довершение удачи, ленивец, который обгладывал ветви одного из деревьев, упал на землю, не выпуская ветки. Он был мгновенно убит одним ударом ножа, честно поделен пополам и съеден сырым. После трех часов неустанной адской работы плот кое-как смастерили. На него поместили Нотариуса и Луша с примитивным веслом. Остальные плыли рядом, держась за плот, — это помогало им экономить силы. Местность была совершенно пустынной, и плот, который немного отнесло течением, пристал к другому берегу. — А теперь, дети мои, — весело вскричал Луш, — главное, не лишиться ума на радостях. Самое трудное уже позади, и мы почти выиграли дело. Начнем с того, что разберем плот, его присутствие может нас выдать, а обломки пустим по течению. Ты, Маленький Негр, макака моя, разденешься догола, как наш праотец Адам до грехопадения. Можешь, впрочем, стыдливости ради оставить себе набедренную повязку из холста. Любой из местных жителей, кто встретит тебя в таком наряде, решит, что ты — туземец. Никто не заподозрит в тебе беглеца с каторги, уж будь уверен. Подходи к жилью, только если представится случай стянуть что-нибудь: козленка, поросенка, курицу, короче, любую еду. Иди и постарайся не попасться! Ты, Мабуль, отправишься с Шоколадом и постараешься достать каких-нибудь плодов или дичи. Кривой и Красный подождут отлива и наберут устриц и ракушек. Геркулес останется со мной и с Нотариусом, пусть пока отдохнут. Вот и все. За дело, ангелочки мои, и возвращайтесь не с пустыми руками, а то скоро мы все проголодаемся. Что до тебя, Геркулес, отойдем-ка подальше. Я хочу с тобой поговорить, толстая рожа. — Чего ты от меня хочешь? Я тут буду сидеть сложа руки, пока остальные пашут, так, что ли? — Да, так, потому что ты — мой лучший, скажу, даже единственный друг, тебе одному я верю. Мабуль — просто скотина, Маленький Негр — не более как черномазый, Кривой и Красный сделают все, что мы захотим… но вот Шоколаду я не верю. — Он убивал, но подлецом сроду не был! — Не нравится мне это: простой бандит, а корчит из себя благородного перед другими ребятами. А тебе я только хотел сказать, чтоб ты мне верил и во всем меня слушался. Предоставь все на мое усмотрение, и еды у нас будет вдоволь. — Неужели? — Точно. Я уж знаю такое местечко, где мы найдём без всякого труда сорок кило мяса. Будет чем набить брюхо. — Да как же это? — А ты потерпи! — закончил Луш с непередаваемой улыбкой, глядя на спящего Нотариуса. — Я веду, как видишь, «двуногий скот», надо только его кормить, пока он нам не понадобится.
ГЛАВА 3
Ссыльные в Гвиане. — Портрет и биография негодяя. — Попытка бегства. — Двойные кандалы. — Преступник, приговоренный к бессрочной каторге, затем к смертной казни и сумевший заработать еще 100 лет каторжных работ. — Геркулес. — Кривой и Красный. — Нотариус. — Араб и житель Мартиники. — Преступник, достойный участия. — Гнев. — Ненависть на каторге. — Блеск и нищета тропической природы. — Предрассудки. — Капуста и не капуста. — Неудача. — Сбились с дороги. — Возвращение. — Свежее мясо. — Грубая выдумка. — Каторжники-людоеды.Ввиду той роли, которую беглые каторжники из Кайеннской тюрьмы будут играть в дальнейшем рассказе, необходимо дать краткое описание их внешности и биографии. Прежде всего скажу, что, вопреки общему мнению, ссыльные европейского происхождения составляли лишь небольшую часть населения Гвианы. Нашлось бы не более двухсот человек, выполнявших сложные ремесленные работы или занятых по своей профессии. Остальные преступники из метрополии[22] отправлялись в тюрьмы Новой Каледонии[23]. Гвиана служила местом ссылки для арабов, негров из Сенегала, черных и цветных с Реюньона, Мартиники и Гваделупы, кули из французских владений в Индии, азиатов из Кохинхины[24], высланных на остров Пуло-Кондор. В целом их скапливалось до 3600 (3663 человека в 1877 году). Таким образом, понятно, почему из шести беглецов пятеро были ремесленниками, а одного, занимавшегося канцелярским делом, сослали в тюрьму за дурное поведение. «Господин» Луш, как называли его сотоварищи, был одним из старожилов каторги. В свои пятьдесят два года он выглядел старше: тяжелый труд придал ему изможденный вид. Пожилой человек, небольшого роста, худой, подвижный, с сединой в волосах. Лицо острое, отталкивающее, взгляд хитрый и жестокий, глаза зеленоватые, с желтизной. Он был слесарем, но оставил дом и работу, чтобы сделаться паяцем в труппе бродячих скоморохов. Там он познакомился с Мартеном, по прозвищу Геркулес. Этот бывший плотник стал борцом благодаря своей воловьей силе и превратностям судьбы. Так как новое общественное положение принесло обоим только невзгоды вместо ожидаемого богатства, то, достаточно насытив свое любопытство, друзья решили впредь жить за счет имущества ближних. Они стали взломщиками и начали по-крупному грабить магазины и квартиры, используя слесарное мастерство Луша. Сперва наша парочка жила очень привольно и гуляла от души. Но ничто не вечно в этом мире, и вскоре суд присяжных прервал их милые занятия, осудив Луша и Мартена на двадцать лет каторги за кражу со взломом и покушение на убийство. У тупицы Мартена была такая тяжелая рука, что он почти придушил, как цыпленка, одного из несчастных, вздумавших защищать свое добро. Подельщики были сосланы в Кайенну, где волей-неволей им пришлось приняться за свои прежние ремесла. Но Луш, вместо того чтобы смириться с судьбой, решил не поддаваться властям, которые обламывали и не таких, как он. Упрямец попытался устроить бунт и за это был приговорен трибуналом к двадцати годам каторги дополнительно. Луш хотел бежать и получил еще два года двойных кандалов[25]. Он довольно смирно прожил эти два года, повсюду волоча за собой чугунное ядро, которое било его по ногам, но год спустя имел глупость серьезно ранить надзирателя, будучи пойман на краже. Красть на каторге! Есть же конченые люди. Луш был приговорен к смерти и перенес весь ужас обреченного, который каждое утро просыпается, дрожа от страха и спрашивая себя: «А вдруг это сегодня?» Однако смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Бывший слесарь образумился надолго. Перспектива «обвенчаться со вдовой»[26], как цинично выражались каторжники, его было утихомирила. Но затем, как упомянутый в Библии пес, он вернулся к своей блевотине. Опять крал, опять пытался бежать, три раза вновь представал перед трибуналом, который каждый раз осуждал его еще на двадцать лет каторги. Так как никакой иной кары не было, с тех пор как отменили телесные наказания, то судьям приходилось хоть проформы[27] ради выносить какое-то решение. Таким образом, Луш был приговорен к смертной казни, затем к пожизненному заключению, наконец, к 110 годам каторги, считая прежний приговор. Черт побери: чтобы довершить этот «строго документальный» рассказ, надо добавить, что негодяй стал еще более мерзок и гнусен, как всякий закоренелый преступник. Мы уже видели его в деле. Мартен, или Геркулес, был полной противоположностью своего сообщника. Здоровенный детина, с огромными руками, с мускулистым торсом, и при этом — маленькая голова с рыбьими глазами и слишком большими челюстями. Геркулес признавал без ложного стыда, что рассуждать ему все равно без толку, и служил послушным орудием в руках Луша. Каторжные работы не сломили этого гиганта, который в свои сорок лет двигался с грацией гиппопотама. Еще один тип — Моро, или Красный, прозванный так за цвет волос. Двадцатипятилетний житель предместья, бывший рабочий-механик. Чистопородный негодяй, по выражению знавшего его Луша, заработавший вечную каторгу за убийство зеленщика из предместья. Худой, бледный, с веснушчатым землистым лицом, небольшого роста, но ловкий и сильный. На лице его, казалось, начертаны все пороки и преступления. Было невозможно забыть глаза Моро в красноватых прожилках, постоянно мигавшие, и воспаленные красные веки с белесыми ресницами. Того же поля ягода был и Равено, по прозвищу Кривой, смуглый брюнет. Ему всего-то двадцать два, но четыре года назад он уже был осужден пожизненно за убийство виноторговца близ заставы Фонтенбло. Работал Равено в каменоломне. Что сказать о Нотариусе? Уроженец Анжу, из приличной семьи. Высокий белесый блондин, рыхловатый. Попал на каторгу за беспутное поведение. До этого служил в конторе, где занимался письменными работами. Натура мягкая, бесхарактерная, способная на все, особенно — на все дурное. Бывший помощник нотариуса был осужден на десять лет за подлог. Ему было только двадцать четыре года, и всех удивляло, почему он решился на побег, вместо того чтобы тихо дотянуть те семь лет, что оставалось до конца срока. Ведь время идет даже на каторге, а молодость всегда полна надежд. Но статья шестая закона от 30 мая 1854 года усугубляла приговор, вынесенный судьей после вердикта присяжных. Она гласила, что каждый осужденный на восемь лет должен оставаться поселенцем на срок, равный этому приговору. Если же срок превышает восемь лет, он остается на вечном поселении. У Нотариуса не было ни сил, ни мужества влачить в изгнании всю оставшуюся жизнь. Амелиус, или Маленький Негр, как прозвал его Луш в память о чашечке черного кофе, что подают по утрам в Париже, был высокий, красивый кабр (сын мулата и негритянки). Работая на сахарном заводе, он поджег его из мести, был пойман и осужден на двенадцать лет. Имел вообще-то добрые наклонности, но бывал подвержен порывам слепого гнева. Мстительный и решительный, Амелиус соединял в себе пороки и достоинства двух рас. Абдул бен Мурад, по прозвищу Мабуль (Псих), был осужден на двадцать лет после алжирского восстания 1871 года. Он попал бы под амнистию, если бы за полгода до того не убил одного из своих товарищей. Тридцати пяти лет, высокий, худой, молчаливый, фанатичный мусульманин. От него старательно скрыли то, что Луш убил его единоверца. Правда, этот человек сам лишил жизни одного из своих собратьев-мусульман, но не преминул бы воздать око за око неверному. И наконец, скажу еще пару слов о Винкельмане, по прозвищу Шоколад, столяре из Мюлуза, осужденном в 1869 году на двадцать лет за убийство — он обрушил топор на жену. Конечно, Винкельман являлся преступником, но было бы неправильно равнять его с теми злодеями, среди которых он так долго жил. Глядя на этого великана почти двухметрового роста, с мягким и грустным взглядом голубых глаз, со спокойным и добрым лицом, никто бы не поверил, что временами он бывал подвержен ужасным приступам гнева, лишавшим его рассудка и превращавшим столяра в дикого зверя. Не будучи в силах совладать с одним из таких приступов бешенства, он и совершил преступление. Присяжные признали смягчающие вину обстоятельства, но суд, выносивший приговор, оказался чрезмерно строгим к подсудимому. Он тем более заслуживал снисхождения, что до сих пор его поведение было безупречным, честность — примерной, а трудолюбие — выше всяких похвал. Возможно, окажись там врач-психиатр, он признал бы, что это преступление совершено в состоянии аффекта[28], и, возможно, несчастный был бы оправдан. Сосланный на каторгу в Кайенну, Винкельман смирился с судьбой и являл собою образец дисциплины и послушания. Он был светлым лучом в каторжном мраке — остальные ненавидели его тем более сильно, что все его поведение служило для закоренелых преступников постоянным живым укором. Впрочем, ненависть каторжан была ему безразлична. Мускулистый, подобно античному гладиатору, храбрый, как лев, необычайно ловкий, он сумел внушить этим негодяям уважение к своей физической силе. Но далось это не без труда. В Кайенне долго еще рассказывали о настоящем подвиге, который спас ему жизнь. Через несколько месяцев после своего прибытия Винкельман вырвал из лап мучителя одного из несчастных, чья жизнь стала адом, так как бедняга служил козлом отпущения для каторжников. Великан-мучитель, видя, что жертва ускользнула, кинулся на непрошенного защитника, полагая, что легко его одолеет. Но Винкельман одним рывком свалил великана на землю и задал ему хорошую трепку, так что все остальные потешались от души. Потом бывший столяр спокойно сказал: — Как только примешься за старое, получишь опять. Посрамленный гигант решил отомстить. Все работали на разгрузке бревен, привезенных из девственных лесов, тяжелых и прочных, как камни. Четверо ссыльных тащили бревно, весом около пятисот килограммов. Среди них — избитый в свое время столяром каторжник, он держал конец бревна. Посредине — Винкельман, один человек впереди него и один позади. Великан подучил этих людей. Они должны были в тот момент, когда негодяй кашлянет, сделать вид, что споткнулись, и резко отскочить в сторону, так чтобы Винкельмана раздавило. Первая часть программы прошла, как было задумано. Но, к удивлению негодяев, человек, которого они считали уже раздавленным, напряг могучие мускулы и, согнувшись, в одиночку пронес бревно двадцать шагов, до места укладки. Когда работающие рядом люди помогли ему освободиться от страшной тяжести, он повернулся к обидчику и только сказал ему: — А ты бы смог сделать так же? В этом заключалась вся его месть. Больше никто не рискнул связываться с таким сильным противником, и Винкельман отныне жил, как ему хотелось. Никого не удивляло, что он не напивался при любом случае, не играл в азартные игры, не ругался, не рассказывал похабных историй. Каторжники питали к гиганту даже своеобразное уважение, насколько это вообще возможно у таких людей, — история с бревном стала известна всем, ведь на каторге не бывает тайн. Один из надзирателей, желая знать все, что делалось среди каторжан, предложил Винкельману шпионить за ними, суля ему разные мелкие льготы. Кровь застыла в жилах столяра. Он покраснел, затем побледнел, чувствуя, что им опять овладевает слепой гнев… Шоколад схватился за грудь и глухо простонал: — Мне! Мне стать стукачом?! Уходите скорей, начальник, не то я вас убью! У надзирателя все-таки оказалось доброе сердце. Назавтра он позвал Винкельмана к себе и извинился. После чего Шоколад был отослан на каторгу в Сен-Лоран-дю-Марони, в качестве искателя ценных пород деревьев. Должность эта являлась привилегированной, так как искатель деревьев имел относительную свободу передвижения — ему надлежало бродить по лесам в поисках пригодных для рубки деревьев. Уже давно Винкельман лелеял мечту о свободе. Случай показался ему благоприятным, ведь поблизости была Голландская Гвиана. На плоту он переплыл через реку Марони и добрался до соседней колонии. Но вскоре был пойман голландскими солдатами и отослан назад в тюрьму, в силу соглашения между двумя странами о взаимной выдаче беглецов. — Бедняга! — невольно произнес, увидев его, старший надзиратель. — Не везет ему, да и только. И ведь придется еще на два года заковать его в двойные кандалы. Через полгода Винкельман был помилован губернатором, за то, что спас тонувшего в реке пехотинца. Но на следующий год столяр опять пытался бежать, и военный трибунал присудил его к тому же наказанию. Шоколад снова оказался в Кайенне. Губернатор, которому трибунал направил ходатайство о помиловании, призвал его к себе. — Дайте мне честное слово, — сказал он, — что вы не будете больше пытаться бежать, и я велю снять ваши цепи! — Не могу, господин губернатор, мне это не под силу. А слово — вещь святая, смею ли я его нарушить? И все-таки правитель Гвианы помиловал столяра. Неизвестно, сразило ли Винкельмана это великодушие или не представлялся удобный случай — в течение восьми лет он не пытался больше бежать. Но в начале нашего рассказа мы видели, как стремление к свободе овладело им еще сильнее, чем прежде. Винкельман и араб, посланные Лушем на поиски еды, долго бродили по лесам, но не нашли ничего съедобного. Большинство людей полагают, что в тропических лесах с их роскошной растительностью — масса плодов и ягод, что дичь в них так и кишит и всегда можно найти себе там если уж не изобильное, так хоть обычное пропитание. Но это — большое заблуждение. Затерявшийся в девственном лесу подобен потерпевшему крушение — на плоту посреди океана. Тропические фруктовые деревья, которые, кстати, нисколько не лучше своих плодовых собратьев наших умеренных широт, никогда не растут сами собой, тем более в дикой чаще леса. За редкими исключениями, эти великолепные, гигантские деревья — прекрасный материал для постройки кораблей и плотницкого дела, а также для изготовления мебели — обычно не дают съедобных для человека плодов. И можно ли считать настоящей едой дикие ягоды, растущие на недоступной высоте? Добытые с большим риском, они едва-едва могут притупить голод, но лакомством их при этом никак не назовешь. Только гуаява[29], манго, авокадо[30] и особенно банановое и хлебное деревья[31] могут действительно насытить. При этом, замечу, хлебное дерево и завезено в Южную Америку из чужих краев. Но для того, чтобы давать съедобные плоды, всем этим деревьям необходима забота человека. Их нужно посадить, а если они иногда встречаются в диком состоянии, так это — на заброшенных участках возделанной земли, где их вскоре губят растения-паразиты. Таким образом, даже индеец-кочевник, несмотря на свою лень, всегда имеет участок раскорчеванной земли, где он сеет и выращивает ямс[32], батат[33] и особенно маниоку — основу своего пропитания. Если же он охотится, чтобы разнообразить свое меню, то отнюдь не в глухом лесу, а возле рек и озер, где можно добыть рыбу и дичь. И там, где индеец с его первобытным терпением и ловкостью может найти добычу, цивилизованный человек обречен на голод. Поймать черепаху — уже большая удача. Что же касается разных птиц — туканов[34], агами[35], куропаток, то бессмысленно рассчитывать на эту добычу, не имея хорошего оружия и должной сноровки для весьма нелегкой охоты. Тем более звери — лесные олени, пекари[36], козы, агути[37], даже обычные броненосцы[38] — не водятся в девственных лесах, а живут ближе к опушкам, вдоль рек, где большие деревья не мешают расти травам и кустам. Таким образом, два приятеля нашли несколько кислых, малосъедобных ягод, добросовестно, но безуспешно погонялись за игуаной[39], которая, несмотря на свой мерзкий вид, очень вкусна, и невольно вскрикнули от радости при виде средней высоты пальмы со стройным стволом. — Это пататуа, араб! — завопил Шоколад. — Сейчас мы погрызем капустки. Теперь-то мы с голоду не умрем! И он тотчас же кинулся рубить ствол, жесткая древесина которого с трудом поддавалась острому лезвию тесака.
В то время как изголодавшийся бедняга сражается с неподатливым деревом, скажем несколько похвальных слов в адрес этого дерева, известного под названием «капустной пальмы»[40]. Такое название дали ему натуралисты и описали его так, что слюнки уже текут у юных робинзонов, читающих, надеюсь, и наш рассказ. Но все это далеко от истины. Словом «капуста» называют верхние побеги пальмы марипа или пататуа, которые на самом-то деле имеют весьма мало общего с настоящей капустой. Представьте себе некую массу цвета слоновой кости, плотную, как свежий миндаль, образующую цилиндр толщиной с руку и длиной примерно в метр, заключенную в оболочку из листьев, на самой вершине пальмы. Эта хрустящая масса с короткими волокнами менее всего напоминает капусту, она может набить желудок голодающего, но вкуса в ней нет никакого, и уж на лакомство она совсем не похожа. Но за неимением лучшего оба приятеля оказали честь и этому скудному угощению, добыть которое стоило такого труда. В довершение несчастий, когда беглецы захотели вернуться в лагерь, они обнаружили, что сбились с дороги. Впрочем, перспектива заночевать одним в лесу не пугала этих людей, и, расположившись на куче нарубленных Шоколадом пальмовых листьев, они крепко заснули. Назавтра бывший искатель деревьев, которого только темнота сбила с дороги, отыскал путь назад, и оба приятеля вернулись смущенные, как охотники с неудачной охоты, надеясь, что их товарищи все же сумели добыть себе еду. Против их ожидания, в лагере царило веселье. И возможно, только показалось, но им почудился приятный запах жареного мяса, щекочущий обоняние. — Давайте же, лентяи! — весело закричал Луш, с набитым ртом. — Получайте вашу долю! У нас тут есть свежатинка, есть чем набить брюхо. — Вот и ладно, — ответил Шоколад, — мы и двойную порцию упишем за милую душу, ведь нам-то добычи не попалось. Со вчерашнего дня мы ничего не ели, кроме пальмовой капусты. А чем это вы тут угощаетесь? — Печенкой, старина, — отозвался Геркулес, показывая кусок, который он обжаривал на угольях. — И отличной печенкой, — веселился Красный. — Жаль только, нет луку и кастрюльки, было бы гораздо вкуснее. — Сала бы еще сюда топленого, — вмешался Кривой. — Печенка? Но чья она? — Лани, дружище! — Да что ты! — Точно. На ешь. Пока будешь работать челюстями, я расскажу тебе эту историю. Представь себе, вчера вечером, когда мы собирали устриц, лань, за которой кто-то гнался — да не мое это дело кто, — прыгает в речку, прямо на нас! Мы зашли поглубже, чтобы перехватить ее на бегу, но бедное животное пару раз заблеяло и упало, истекая кровью. Ты сам понимаешь, что мы быстренько ее дорезали, притащили сюда, и каждый получил добрый кусок мяса. — Да, хорошее дельце! — сказал Шоколад, переворачивая свой кусок печени на угольях. — А кстати, куда девался Нотариус? — А, ты не знаешь, бедняга! — А что? — Так тяжело видеть, как гибнет кто-нибудь из своих, и не суметь помочь. Он был слабоват, но я к нему привязался. — В Нотариусе было много хорошего, — сказал Красный с набитым ртом, жадно поедая свою порцию. — Да объясни ты, в чем дело! — воскликнул Шоколад, которого охватило ужасное подозрение. — Ну, ладно. Вчера он бултыхался в реке, и его ударил электрический угорь[41], бедолага только успел крикнуть и сразу ушел в тину. Но эта грубая выдумка не обманула Винкельмана. Он быстро вскочил на ноги и увидел развешанные на дереве куски кровавого мяса. Кости и кожа были заботливо удалены. Это совсем не было похоже на тушу четвероногого животного. Кто-то, впрочем, позаботился о том, чтобы деформировать все куски. Шоколад догадался обо всем! Правда предстала перед ним в своей ужасной наготе. — Но, — произнес он дрожащим голосом, отбрасывая кусок, который уже было поднес ко рту, — вы хотели заставить меня есть человеческое мясо![42]
ГЛАВА 4
Застрявший якорь. — Прыжок в воду. — Спасение. — Экипаж вижилинги. — Хозяин. — Слабые доводы. — Устье Арагуари. — В ожидании проророки. — Река Амазонка. — Необходимые предосторожности. — Что такое проророка? — Ее причины. — Ее длительность. — Ее проявления. — Ее последствия. — Три огромных вала. — После отлива. — Поведение маленького судна. — Вперед! — Изменения почвы и растительности. — Флотилия. — Жилье. — Счастливое семейство.— Тяните, ребята, тяните! — Никак не идет якорь, хозяин. Видно, застрял, — ответил негр. — Отпусти трос. — Я уже отпустил на три сажени. — Ну и что? — Якорь опускается, потом поднимается и застревает. Наверное, зацепился за подводные корни. — Вот черт! Надо его вытащить во что бы то ни стало. Если не успеем спрятаться в надежде[43], пока идет прилив, нас проророка в щепки разнесет. — Невозможно вытащить, надо рубить канат. — Это наш последний якорь. Как же мы будем вечером причаливать без него? Ныряй! — Хозяин, вы что, смерти моей хотите? Здесь полно электрических угрей. — Трус! — Будь это на Марони, другое дело, я бы и слова не сказал против. Видите, как наш рулевой-тапуйя[44] с тревогой глядит на прилив? — А ты, Пиражиба, — спросил хозяин у индейца, — хочешь нырнуть, чтобы доказать, что ты достоин своего имени? (Пиражиба значит «рыбий плавник» на языке тупи.) — Но тот ничего не ответил и остался неподвижен, как статуя из красного порфира[45]. Краска бросилась в лицо капитану амазонского судна. Но он продолжил: — Я дам тебе табаку, вяленой рыбы, бутылку тафии![46] Слово «тафия» магически подействовало на индейца, и он вышел из своего оцепенения. — Хорошо, — сказал рулевой по-португальски гортанным голосом. Не проронив больше ни слова, индеец спустился за борт, держась за канат из пиасаба, и нырнул вниз головой в воду. Вскоре он показался опять и произнес, в этот раз — на наречии, Tingua geral (общий язык), которым пользовались все индейцы тропиков Южной Америки: — Негр сказал правду. Якорь зацепился за ветви железного дерева. — Ну и что? — Даже мой соплеменник Табира (Железная Рука) не смог бы его освободить. — Ну что же, я вижу, что на вас нечего рассчитывать. Все вы трусы и лодыри. Буду выкручиваться сам, если вы не понимаете, что ваша неизбывная лень может нас погубить. С каждой минутой промедления якорь будет вытащить все трудней. Прилив быстро прибывал. Повсюду в воде крутились обломки деревьев и растительный мусор, который Амазонка выносит на сорок километров в море, а обратное течение прибивает к берегу. Взору представала странная и впечатляющая картина. Огромные деревья, вырванные с корнем, обвитые массой лиан, тростники с отмелей, корни, похожие на шкуру ящерицы, листья, твердые и блестящие, как металл, цветы, издающие странный, сладостно-ядовитый, аромат… Рассвет наступил почти мгновенно. Солнце взошло сразу, пылая, как огонь в кузне, над темно-зеленой стеной деревьев. Гуарибы, обезьяны-ревуны[47], прекратили свои ужасные вопли, белые хохлатые цапли кивали, как бы приветствуя восход, бледно-зеленые ветви манглий и розовых ибисов… Красные фламинго резвились в потоке света, кулики летали веселыми стайками, одинокие конкромы просовывали между корнями длинные клювы в поисках дневного пропитания. Капитан, видимо, уже давно привык к подобному зрелищу и не уделял ему даже мимолетного внимания. Его волновала судьба судна. Но скажем два слова о внешности капитана. Это был чистокровный белый, в расцвете сил, лет тридцати двух — тридцати четырех, загорелый, черноглазый и темноволосый, с черной бородой. Черты его правильного лица светились умом и энергией. Простая синяя матросская роба и широкие белые штаны, на ногах — плетеная обувь, на голове — соломенная шляпа с широкими полями. Он стоял, опираясь на борт судна, пока члены команды пытались вытянуть якорный канат. Что представлял собой его корабль? Вижилинга — красивое лоцманское судно, водоизмещением около двенадцати тонн, с двумя мачтами и двумя рыжими парусами. Сейчас паруса были спущены. Строят вижилингу обычно из знаменитой итаубы, амазонского «каменного дерева», не гниющего и прочного, как гранит. Несмотря на небольшие размеры, подобное судно, если оно хорошо оснащено и проконопачено, а все люки задраены, может выходить в открытое море, двигаться вдоль топкого побережья и даже противостоять страшной проророке. Судно только что развернулось на якоре и стояло носом, с которого свисал якорный канат, к океану, а кормой — к широкому устью реки, впадающей в крайнюю северную часть устья Амазонки. Капитан, видя, что усилия матросов бесполезны, быстро принял решение. Он снял куртку, закатал до колен брюки, обвязал вокруг пояса канат, длиною равный якорному, вскочил на борт и нырнул в воду. Шестеро человек команды, четверо негров и два индейца, склонились над желтоватой водой, где бурлили водовороты, и скорее с любопытством, чем с тревогой, ожидали появления хозяина. После довольно долгого отсутствия молодой человек наконец вынырнул из воды и влез на борт с быстротой, говорящей о его недюжинной силе. Но, увы, вытащить якорь по-прежнему было невозможно. — Ну, хозяин, — сказал один из негров на местном наречии, — если твоя, такой сильный, не смог распутать канат, то даже сам маипури (тапир)[48] не сможет! — Молчать, лодыри! Мне стыдно за вашу трусость. Никак не ожидал такого от вас, негров племени бони, привезенных моими добрыми друзьями Ломи и Башелико. — О, не сердись, господин! — смиренно ответил негр. — Бони храбрые только на Марони, но когда они попадают на Арагуари, то делаются ничем не лучше индийских кули. Мы не виноваты — здесь все по-другому… — Хватит! У вас на все готов ответ. — Нам выбирать канат? — Нет, — возразил молодой человек, обвязывая вокруг якорного ворота тот канат, с которым он нырял. Конец его оставался теперь в воде. Между тем прилив прибывал. Нос вижилинги начал погружаться в воду. Но это не смутило капитана. — Становись за ворот, ребята! — коротко приказал он. — Но, хозяин, мы идем ко дну, — заныл один из негров. — Помолчи и тяни, не жалея сил! Под двойным действием прилива и ворота вижилинга все больше зарывалась носом в мутную воду реки. Неустойчивость ее становилась опасной. Малейшая волна могла опрокинуть ее, но пока морская гладь была спокойна, как зеркало. Еще немного — и вода дойдет до шлюзов. Несмотря на видимое спокойствие, капитан начал волноваться. Он уже подумывал, не обрубить ли обе якорные цепи, как вдруг судно резко подпрыгнуло, так что мачты затрещали сверху донизу. — Наконец-то! — пробормотал хозяин. — Если только канаты выдержат и не лопнут, как бечевки, то якорь спасен и мы можем сниматься. В тот же момент судно пришло в равновесие. Люди быстро вытянули канат, не чувствуя больше сопротивления. Вскоре показался якорь, спасенный удачным маневром. — Давай, Пиражиба, друг мой, становись к штурвалу, — сказал капитан индейцу тапуйя, который стоял неподвижно, пока негры горячо обсуждали ловкий прием с якорем. — Правь вдоль Пунта-Гроса, обогни Фуро-Грандэ и бери курс на надежду Робинзона. Надо добраться туда, пока не начался отлив. Маленькое судно, находившееся между 52 градусом западной долготы и 1 градусом 24 секундами северной широты, устремилось с приливом в широкое устье Арагуари, называемое также Винсент-Пинсон[49], по имени знаменитого сподвижника Христофора Колумба. Арагуари течет с юго-востока на северо-запад, через территорию, за которую, вследствие крючкотворства португальских властей, давно уже спорят между собой Франция и Бразилия. Навигация по ней сложна из-за глубоких омутов, частых разливов и изменений дна, производимых проророкой. Но прочно сколоченное судно, управляемое умелой рукой, может пройти по ней в пору прилива. В это время река вполне судоходна, так как разница между приливом и отливом достигает между островом Марана и гвианским побережьем гигантской цифры в 16–17 метров в пору сильного прилива. Такие большие приливы аборигены называют проророка; это звукоподражание тому грозному грохоту, с которым волны океана, возвышаясь отвесной стеной, устремляются в устье. Явление того же порядка бывает на Сене и на Жиронде, но здесь оно достигает гигантских размеров, соответственно тому количеству воды, что Амазонка выносит в море. Происходит это регулярно за три дня перед новолунием и полнолунием[50]. Море преодолевает преграду речной воды, отбрасывает ее назад и наполняет устье за пять минут, вместо обычных шести часов подъема воды. Несколько цифр могут дать представление о силе этого явления, когда океан с неодолимой силой штурмует воды гигантской реки. Русло Амазонки, не считая изгибов в ее верхней части, простирается на 5000 километров. Ширина ее не менее поразительна. Возле Табатинга, что находится в 3000 км от Атлантического океана, она достигает 2500 км. При впадении в Амазонку Мадейры, в 5 км ниже Сантарема и в 500 км от моря, ширина доходит до 16 км. Наконец, устье верхнего рукава между Макапа, маленькой бразильской крепостью, и берегом острова Мараджо, который имеет 500 км окружности и лежит между двумя рукавами русла реки, достигает уже 80 км ширины. Ширина же главного устья Амазонки между Пунта-Гроса и мысом Магоари свыше 200 км. Глубина реки временами меняется, но в устье всегда довольно велика, около 185 м, а в среднем — между 75 и 100 м на всем протяжении. В океан река выносит до 100 000 кубических метров воды каждую секунду. Прилив делает Амазонку такой полноводной, что уровень воды повышается и в Токантине, на расстоянии 160 км от места его впадения в реку. Но возвратимся к вижилинге, которой, по словам ее капитана, вскоре предстояло выдержать натиск проророки. На ней уже были поставлены оба паруса, и она стремительно неслась, подгоняемая западным ветром и приливом. Рулевой-индеец уверенно вел судно, минуя изломы берега и илистые мели, которые образовались во время последнего отлива. Хозяин корабля в это время растянулся возле мачты под парусным навесом и, покуривая сигару, созерцал чудеса тропической природы, плывшие мимо него. Иногда сплошные заросли манглий сменяла прекрасная пальма с громадными листьями, длиной в пять метров, и грациозной короной на стройном стволе; четыре или пять разновидностей лавра, все огромной высоты; деревья каштана и каучуковые. …Однако прилив начинал понемногу спадать. Вскоре вода остановится и начнет убывать. Затем наступит самое страшное. Но молодой человек загодя принял все меры предосторожности перед приходом проророки. Время пока еще есть, вода поднимется часов через шесть. Вдруг негр, сидящий на корточках на носу судна, издал радостный крик: — Хозяин, надежда! Рулевой повернул штурвал, судно послушно скользнуло влево и зашло в маленькую, но глубокую бухту, которую укрывал выступ мыса, врезающийся в реку метров на пятьдесят. — Бросай якорь, — приказал капитан. Якорь, укрепленный на двойном канате, сразу же зацепил дно. Затем были убраны паруса, тщательно проверены скрепы мачт. С палубы убрали все лишнее, люки задраили. Люди, опасаясь, что их смоет за борт, приготовили канаты — привязать себя к креплениям судна, когда опасность будет близка. Маленькую бортовую шлюпку подняли на палубу и плотнозакрепили вверх дном. Судно развернули кормой к океану, чтобы маневрировать, когда вода начнет убывать, — только так можно устоять перед напором гигантской волны, когда она налетит с моря подобно урагану. Якорные канаты были отпущены с избытком, в расчете на максимальную высоту вала. Это основная мера предосторожности, чтобы не пойти ко дну, в случае если опять запутается якорь, как было накануне, и не останется времени его вытянуть, когда нахлынет вал проророки. Все готово, оставалось только ждать. Часы бежали, наступал роковой момент. Вскоре глухой рокот донесся с океана, точно далекий гром, к которому примешивались раскаты урагана. Но вот шум возрос, стал звучным, грозным, оглушительным. Гребень пены вознесся издалека и рос, заполняя пространство от Северного мыса до берегов Мараджо. Это облако пены увенчивало собою гигантский семиметровый вал. Стена воды мгновенно встала отвесно, как скала, устремилась на приступ реки, спала и разбилась о Пунта-Гроса, вырвалась на равнину и с оглушительным грохотом распалась на тысячи брызг. Все это произошло внезапно и сильно, как взрыв. Про-ро-ро-ка! Вот когда можно оценить всю точность этого слова-звукоподражания, какие нередко встречаются в примитивных языках! Первые три слога и впрямь будто изображали рокот моря, когда вал несся к берегу, а последний слог — это удар всесокрушающей волны, которая все сметала на своем пути. Волна продолжала свой бешеный бег между островами. Зажатая проливами, она удваивала свою ярость, встречая препятствия, врывалась на сушу, размывала берега, потрясала своей белой гривой. Проророка кидалась на скалы, стремясь обратить их в пыль, на затопляемые ею острова, на вырванные кусты и деревья. Ничто не могло противостоять ей. Столетние деревья уносились волнами, обломки скал, глыбы земли — все это смывала вода. Но мало-помалу далекий шум стих, прибрежные кусты вновь появились из волн, вода начинала спадать, как будто впитывалась в землю, течение замедлялось. На поверхности желтых вод остался только ковер пены, полный обломков и листьев, все это вздрагивало, словно варево, брызгавшее при закипании. Море уже успокоилось, когда послышался издалека рокот второго вала. Он явился как и первый, но менее грозный, менее высокий, зато унес с собой еще больше обломков и пены, потому что бежал быстрее своего предшественника. Третий вал — это просто высокая волна, она быстро прошла, замедлив свой бег перед тем, как рассыпаться. Все закончено. Море, которое только что бушевало, теперь спокойно. Все длилось не более пяти минут. Человек, наблюдавший этот потрясающий спектакль из надежного укрытия, мог бы подумать, что все живое здесь погибло. Но, однако, природа мудра в своих поражениях и победах, и самый ничтожный атом может уцелеть среди небывалого катаклизма. Так же выстояло и маленькое суденышко в единоборстве с волной, прокатившейся на пятьдесят лье вверх по течению. Поскольку Арагуари течет почти параллельно Амазонке, а устья их сливаются, то на этой реке также бывает проророка, и такая сильная, что на протяжении тридцати лье река меняет свои очертания. И все-таки благодаря принятым мерам предосторожности и удачно занятому месту в маленькой бухточке вижилннга не только выдержала этот страшный прилив, но даже смогла им воспользоваться, чтобы продолжать путь. Мыс, который выдавался в реку, защитил судно и ослабил напор воды, хотя волна подняла вижилингу на семиметровую высоту. Кораблик, конечно, был бы разбит в щепки, если бы якорь на двойном канате — из пиасаба — не удержал его. Резко остановленный в тот момент, когда его подхватил вал, кораблик затрещал, завертелся, но остался на месте. Итауба, каменное дерево с берегов Амазонки, достойно своей репутации. Люди, крепко привязанные к мачтам, выдержали без особого вреда ужасный душ, затем вал исчез вдали с глухим рокотом. Второй вал унес с собой кусок мыса, который исчез во мгновенье ока. Якорь запутался в тине и обломках. Но что за беда! Третий вал уже совсем не страшен, наоборот — благодаря его помощи маленькое судно ускорило свое движение. В тот момент, когда подошел третий вал, рулевой сильно повернул руль. Тогда вижилинга, которая уже не стояла носом к волне, круто повернулась, и капитан двумя резкими ударами ножа обрубил оба якорных каната, не заботясь более о якоре. Теперь без него можно обойтись. — У нас нет времени его вытаскивать, — пробормотал моряк, — и потом, мы сможем за ним вернуться попозже. Отыщется в отлив! Вижилинга, сделав полный оборот, помчалась по течению. Вскоре были поставлены паруса, и скорость движения еще увеличилась благодаря сильному восточному ветру. Дальнейшая часть путешествия уже не содержала никаких приключений. Пользуясь двойной силой ветра и течения, судно делало восемнадцать километров в час и останавливалось только с наступлением ночи. После проророки оно прошло сто километров. С рассветом кораблик продолжил путь. Берега реки сильно изменились. Болотистые отмели, поросшие манглиями, мало-помалу исчезли. «Лихорадочные деревья» попадались все реже, для них здесь мало соленойводы. Ведь морской прилив сюда уже не доходит. Арагуари понемногу сужалась, но зато делалась глубже и прозрачнее. Дальше она текла между невысокими холмами — предвестниками пока еще далекой горной гряды. Воздух здесь ощущался как более сухой — никаких вредных насекомых, носителей лихорадки. Дышалось свободно, кровь нормально двигалась в жилах, и если бы днем не было так жарко, то трудно было бы вообразить, что вы находитесь под первым градусом северной параллели, то есть в ста одиннадцати километрах от экватора. Только те, кто побывал в удушливой атмосфере непроницаемого тропического леса, где реки теряются между гигантскими деревьями, смогут понять, с какой жадностью путешественник вдыхает этот пьянящий воздух. Тем временем вижилинга, после долгих часов пути, подошла к природной гавани, несколько улучшенной руками человека. Там уже стояло несколько десятков судов разной величины и формы. Тут была коберта, водоизмещением в пятнадцать — двадцать тонн, низкая и широкая, как китайские джонки[51], нечто вроде плавучего дома, где семья проводит всю свою жизнь. Затем три эгарита, или речных судна, крытых соломой. Четыре или пять уба, длиною в четыре, шесть и десять метров, — удлиненные, выдолбленные из одного ствола. Отличный паровой катер, светло-серого цвета. На корме его красовалось выведенное золотом название — «Робинзон», машина была укрыта навесом из парусины. Широкая дорога, обсаженная банановыми и манговыми деревьями, вела от этой бухты к роще. За рощей угадывались очертания большого дома. Молодой капитан вижилинги, отдав необходимые распоряжения экипажу и проверив, надежно ли судно стоит на якоре, сошел на берег и стремительно зашагал по аллее. Три негра с пагарами (корзинами) на голове заметили прибывшего и кинулись бежать как зайцы, — несомненно, торопясь принести в дом счастливую весть о его возвращении. И точно, вдалеке раздались веселые крики, и четверо детей — два мальчугана постарше с маленькими прелестными сестричками выбежали ему навстречу с криком «Папа!. Это папа!» За ними спешила молодая высокая женщина, такая же радостная и возбужденная, как и ее дети. Она была хороша собой — золотистые волосы, голубые глаза, лицо дышало счастьем и здоровьем. — Шарль!.. — Мери!.. Молодой капитан с порывистой нежностью обнял это прелестное создание, осыпал поцелуями белокурые и темнокудрые головки своих детей, и счастливая семья, среди возгласов, криков, поцелуев, медленно двинулась к дому.
ГЛАВА 5
Изгнанник 1851 года. — «Гвианские робинзоны». — Новые проекты колонизации. — Голет «Люси-Мери». — В путь к Спорным Территориям. — Экваториальное течение Атлантики. — Состав почвы. — Скотовод и серингейро. — Колонизаторы Арагуари. — Шесть лет спустя. — Жилище искателя каучука. — Неожиданность… — Полезное и приятное. — Полное счастье. — О газетах, прибывших из Европы. — Предчувствия. — Закон о наследовании. — Треволнения. — Удар грома. — Пожар и убийство.Государственный переворот в декабре 1851 года сломал карьеру молодого парижского инженера Шарля Робена. Неутомимый труженик, умница, благородный человек, Робен, движимый убеждениями, создающими мучеников и героев, до конца боролся с узурпатором. Будучи тяжело ранен на баррикаде, где героически пал Боден[52], он выжил благодаря чуду, предстал перед смешанной комиссией и был сослан в Кайенну после жалкого подобия суда. Приговор был тем более бесчеловечен, что у молодого инженера оставались без всяких средств к существованию молодая жена и четверо сыновей, старшему из которых едва минуло 10 лет. В предыдущем романе «Гвианские робинзоны» мы поведали о том, как после тяжелых многолетних трудов эта семья сумела добиться на земле Гвианы благосостояния, почти богатства. У нас нет времени для рассказа, хотя бы в общих чертах, о том, как изгнанник завоевал свободу, описать драматический приезд его жены и детей, их встречу на острове реки Марони, нужду и лишения, пережитые ими в первое время. Читатель, которого заинтересуют эти подробности, сможет их найти в «Гвианских робинзонах», также принадлежащих нашему перу. Приключения героев не выдуманы с целью развлечь читателей, как может показаться, нет, все это — подлинные факты, собранные автором. Сперва пропитание инженера и его семьи зависело только от маленькой плантации. Затем они добывали золото, разводили скот, сумели за каких-нибудь пятнадцать лет при помощи нескольких негров создать великолепное поместье — доказательство того, насколько несправедливы предрассудки европейцев, видящих в Гвиане только место для каторги! Читатель романа узнает, как сыновья изгнанника под руководством своего отца, их ментора, получили образование, пользуясь всеми новейшими методами современной науки; как самый старший, Анри, и самый младший, Шарль, женились на двух сиротках-англичанках, жертвах кораблекрушения, в то время как два других брата, Эжен и Эдмон, уехали в Европу продолжать образование. А дальше начинается другой роман — «Охотники за каучуком», который может считаться продолжением «Гвианских робинзонов». Вскоре просторная прежде плантация Бон-Мэр («Добрая Матушка»), основанная на Марони повыше быстрины (имевшей прозвище «Скачка Петер-Сунгу»), стала тесна́ для трудолюбивых колонизаторов. И не потому, что прибытие новых членов семьи внесло какой-нибудь разлад, вовсе нет. Обе юные англичанки, Люси и Мери Браун, простые, добрые, любящие, были преданы своим приемным родителям со всем пылом молодых сердец, уже успевших изведать горе. Смелые и сильные, с детства привыкшие не бояться трудностей и при этом сохранившие всю женственность и грацию, они стали достойными женами колонистов. Но вскоре в обеих семьях появились дети. И несмотря на то что жизнь на плантации была так комфортна, как и представить себе не могут в Европе, сыновья инженера, ставшие уже отцами семейств, не находили более простора своим честолюбивым замыслам. Глава всей семьи, имевший рациональные и давно выношенные планы относительно улучшения и обновления колонии, согласился с тем, что надо попытаться на новом месте продолжить дело, которое так блестяще удалось в верховьях Марони. Почему бы не основать в этой южной области, столь плодородной и такой заброшенной, новую плантацию и не поручить управлять ею одному из молодых людей? Особого риска в этом не было, принимая во внимание, что теперь поселенцы располагали и людьми, и деньгами, и запасами провианта. Проблема была всесторонне обсуждена, тщательно выработан план, и по зрелом размышлении Шарль, самый младший, объявил, что он готов отправиться на поиски места для нового поселения. — Я намереваюсь, если вы не против, — говорил он остальным членам семьи, собравшимся на совет, — обследовать сперва район Ойяпока, хотя не слишком рассчитываю найти подходящее место в окрестностях этой реки. Это скорее для личного удовлетворения и чтобы проверить, рациональны ли были повторные попытки нашего правительства освоить эти земли, что сильно сомнительно. Покончив с этими исследованиями, я спущусь на юг по одной из больших рек, а там проникну на Спорные Территории. — Браво, сын мой! — воскликнул старый инженер, сохранивший весь пыл молодости. — Твой план послужит осуществлению моего заветного желания, и, поскольку годы мне пока позволяют, я буду участвовать в твоей экспедиции в качестве волонтера[53]. — Ах, отец, будьте ее главой, прошу вас! Где найду я более опытного руководителя? — Нет, нет! Я уже давно предоставил своим сыновьям самую широкую инициативу и должен быть уверен, что в случае необходимости они смогут проявить достаточно разума и твердости. Итак, решено, я — твой пассажир, а Ангоссо — твой боцман. — Не правда ли, друг мой? — ласково обратился Робен к пожилому негру атлетического сложения, занятому плетением гамака для одного из детей. — Моя поедет с радостью с молодым господином Шарлем, — весело ответил старик. — Черт возьми, я в этом не сомневаюсь. Мы начнем не мешкая снаряжать в дорогу голет «Люси-Мери», отберем лучших из наших матросов и отправимся на Арагуари. — Значит, вы оставляете мысль об Ойяпоке? — Да, до поры до времени; разве что ты будешь на этом настаивать, отец. — Видишь ли, дитя мое, я хотел бы изучить эту страну. Старые исследователи рассказывали о ней столько чудес! И жаль, что наши современные путешественники не удосужились ее посетить[54]. — А я предлагаю Арагуари, ведь это будет французской границей наших будущих владений. Невозможно, чтобы две столь культурные нации, как французская и бразильская, поборницы прогресса и взаимной дружбы, длили этот географический нонсенс. С другой стороны, я немало времени потратил на изучение различных материалов и дипломатических нот, которыми уже полтора века обмениваются два правительства. И это дает мне надежду, что Арагуари, или река Винсент-Пинсон, останется французской. …Неделю спустя инженер, его сын и пять членов команды спустились вниз по течению Марони до маленького поселка Спархуина. Там стоял на якоре голет, водоизмещением около двадцати тонн. Размеры судна не позволяли ему подняться по реке выше порогов Эрмина. Вообще-то береговое плавание в Гвиане от Марони до Амазонки не представляет никакой опасности даже для таких небольших судов. Но, к несчастью, оно является долгим и трудным из-за ветров и противных течений. Как ни испытанна была «Люси-Мери» в мореходном деле, но и ей потребовалось восемнадцать дней, чтобы добраться до устья Арагуари. Она поднялась по реке, не испытав проророки, и стала на якорь там, где недавно останавливалась вижилинга. Путешественники, как люди, умеющие дорожить временем, тут же приступили к исследованиям. Они оставили трех человек стеречь голет и отправились пешком, захватив с собой провиант и нужные для исследования почвы инструменты. Сперва им попадались небольшие возвышенности, а затем они оказались на обширном плоскогорье. При помощи подзорной трубы, да и невооруженным глазом, оттуда можно было разглядеть пейзаж, убеждавший в справедливости описаний старых путешественников, особенно доктора Ле Блона. Таким образом, как и писал Ле Блон, можно было бы проехать на пироге из Ойяпока до Арагуари, не увидев моря. Позади и немного повыше этих озер идет полоса лесов на твердой почве, недоступной для наводнений. Ширина этой полосы меняется в зависимости от изгибов рек вплоть до подножия гор, но чаще всего прерывается на открытых равнинах, которые тянутся на некотором расстоянии от гор и от моря. Инженер и его сын прежде всего обследовали некоторые из этих первобытных лесов, которые оканчивались у плоскогорья, и убедились, что здесь встречаются в изобилии каучуковые деревья нескольких видов. — Вот и прекрасно, — воскликнул Шарль, — после многодневных скитаний в чаще лесов я стану серингейро[55]. Затем он добавил: — Каучуковая промышленность будет одной из главных отраслей моего будущего хозяйства, но это еще не все! Взгляните: прекрасные саванны[56] тянутся до самого горизонта. Они так и просятся, чтобы на них пасти скот. Множество скота! Итак, решено, отец, я буду скотоводом и искателем каучука. Тщательно обследовав местность — саванну и лес, изучив состав почвы и направление, в котором текли воды, путешественники отправились в обратный путь. Прикидка на будущее состоялась. Они вернулись на Марони, сделав остановку в Кайенне. Шарль должен был сесть на пакетбот, идущий в Демерару, столицу Английской Гвианы. Предстояло зафрахтовать пароход, чтобы доставить на облюбованное место колонистов и оборудование. Ему посчастливилось встретить здесь расторопного капитана американского судна. Почуяв наживу, тот энергично взялся за доставку груза. Шесть недель спустя корабль с пассажирами и грузом бросил якорь в устье Арагуари. С помощью голета, который был приведен на буксире, немедля приступили к перевозке грузов к месту назначения. Это потребовало нескольких рейсов. Прежде всего отвезли двадцать молочных коров с телятами, двух быков, нескольких овец, четырех свиней, кур, двух небольших степных лошадей. Ну, и всевозможные припасы. Предполагалось, что этого хватит до нового урожая или до прихода следующего корабля. Тут были ящики сухарей, мешки риса и маиса[57], коробки кофе, сахар, бочки вина и тафии, продуктовые консервы: мясо, овощи, рыба и т. д. Затем одежда, гамаки, сетки от москитов, оружие, упряжь, посуда, кузнечные инструменты, все материалы, нужные для золотодобычи, доски и бревна, уже готовые в дело. Наконец прибыли и колонисты. Будущее население состояло, прежде всего, из главы семьи, его жены и четверых детей. С ними прибыли двадцать негров и двенадцать женщин. Всего тридцать восемь человек. И две собаки — Боб и Диана, два огромных и умных дога. …Прошло шесть лет со времени раздела робинзонов Гвианы. Шесть лет труда, счастья и процветания. Раз в год жители Марони посещали колонию со странным именем Казимир. Выбрано оно было не случайно — в память старого негра, который некогда верно и преданно служил Робену — отцу. И раз в год казимирцы ездили в Марони, продавая в Кайенне свои товары и делая там нужные закупки. В одно из таких путешествий Шарль отправился сам. Теперь он вернулся, и мы последуем за ним в его жилище. Но пусть слово «жилище» не вызывает в памяти читателя нечто похожее на европейские дома, тяжелые и громоздкие каменные коробки за семью затворами. Невозможно было себе представить что-либо более легкое, кокетливое, воздушное, чем этот дом, окруженный отовсюду светом и воздухом. Ни дверей, ни окон, ни стен, да и к чему они здесь! Это просто навес из листьев, прекрасного золотистого цвета, непроницаемый для палящего солнца и для тропических ливней экватора. Двадцать столбов из дерева «пестрая лента» — внутри оно голубое, с полосками желтого и красного цвета — поддерживали крышу. Между столбами были развешаны красивые циновки, которые по желанию поднимали и опускали, как жалюзи[58]. К столбам робинзоны привязали изящные гамаки, свисавшие над великолепным полом из коричневого с желтым дерева, блестевшего, как зеркало. В центре — собственно комната, стены которой образовывали циновки из арумы. Циновки эти сплетались индейцами — последние в своем трудолюбии не уступали китайцам. Все строение уходило ввысь на два метра и покоилось на сваях из того метущегося дерева, которым изобиловали эти леса. Подняться наверх или спуститься можно было по широкой лестнице. Со всех сторон виднелись жилища негров, индейцев, живописно разбросанные среди небольших фруктовых рощиц, дававших прохладу. Возле домиков сновали стайки негритят и маленьких индейцев, а также взрослых негров и негритянок, индейцев и индианок. Все они дружно жили у хозяйского дома. Изобилие бросалось в глаза. Желтые и оранжевые лимоны и апельсины, отливавшие шелком гроздья бананов, хлебные деревья с тяжелыми плодами, золотисто-коричневые манго, авокадо, выращенные индейцами и за шесть лет ставшие огромными… И вдобавок пальмы, придававшие этому уголку своеобразие и грацию. В северо-западном направлении девственный лес темной полосой перерезал горизонт, за ним тянулась саванна, переходящая в обширную прогалину, открытую к востоку. В то время как молодой человек предавался первым невыразимым радостям возвращения в лоно семьи, то описывая в общих чертах свое путешествие, то прерывая его ласками, происходила быстрая разгрузка выжилинги. Припасы и товары отправили на склады, и наконец негры принесли ящики с предметами роскоши для семьи хозяина. Надо было видеть, с каким нетерпением, сдержанным или явным, смотря по характеру, ожидали вскрытия этих ящиков маленькие колонисты! Какие крики радости, какие восклицания раздавались при виде сокровищ! Молодой отец тратил деньги без счета, приобретая полезное и приятное для своей семьи. Все эти диковинки поразили бы даже европейских детей, пресыщенных изобилием. Какова же была радость маленьких дикарей, затерянных в амазонской глуши! Описывать ли прекрасные игрушки, настоящие произведения искусства, служившие для забавы и развлечения детей? Тут было собрано все, что нашлось лучшего, от настоящего парового локомотива до микроскопа, позволявшего заглянуть в мир бесконечно мелких существ. А телеграф, а телефон, удивлявшие наших отцов?! Затем — книги, с прекрасными гравюрами, способные развивать ум и воображение. И наконец, старший крепыш, десятилетний Анри, которому на вид легко можно дать все двенадцать, получил полную упряжь для своей маленькой лошадки и красивое ружье двадцать восьмого калибра центрального боя! Настоящее, а вовсе не игрушку! Мальчик, который стрелял из лука и сарбакана[59], как индеец, не находил слов, чтобы высказать отцу свою радость, так она была велика. Если где-нибудь на земле и царило абсолютное счастье, то, без сомнения, здесь, в уголке тропиков, приютившем дом охотника за каучуком. Однако легкая тень набежала на лоб молодого отца, когда рука его коснулась объемистого пакета с газетами. Жена, замечавшая малейшую перемену в лице супруга, обратила на это внимание: — Тебя газеты расстраивают, ведь так? Да какое нам дело до того, что где-то происходит! Разве мы не счастливы вдали от цивилизованного мира! Довольно и того, что суета его отравляла мои детские годы… — Да, ты права, дитя мое, — мягко отозвался Шарль, — мы счастливы своей любовью в нашем одиночестве, полном света и свободы. Но может случиться, что о нас вспомнят «там», как ты говоришь, и это меня слегка беспокоит. Возвращаясь из Марони и читая на досуге газеты, я узнал, среди всего прочего, что наши депутаты приняли закон, делающий Гвиану местом ссылки рецидивистов. — Но, друг мой, это не новость, в Гвиану давно уже ссылают часть осужденных французским правосудием преступников. — Но это не совсем одно и то же, милая Мери. Если я только хорошо уразумел недавно принятый закон, то речь идет не о содержании осужденных преступников в тюрьме, где за ними есть надзор и контроль, а о массовой высылке в Гвиану рецидивистов. То есть людей, вторично совершивших преступление, — без чести и совести, врагов общества. Предполагается давать им землю для обработки, а это значит — оставлять их фактически на свободе. Таким образом хотят заселить нашу Гвиану, дать ей рабочие руки. Но ведь это значит — восстанавливать больной организм, питая его нездоровой пищей! Одним словом, по избитому выражению, хотят долить полубочонок плохого вина уксусом, в надежде сделать его получше. — А этих рецидивистов, как ты их называешь, много? — Около двадцати тысяч! Двадцать тысяч негодяев без чести и совести, без всякого удержу, они налетят как саранча на тихую и работящую Гвиану. Это меня в дрожь бросает! Подумал ли кто-нибудь в правительстве о последствиях такого голосования? Понятно желание очистить крупные центры от людских отбросов. Но почему при этом надо подвергать опасности жизнь и имущество колонистов, честных и добрых французов? Если бы Гвиана была пустыней среди океана — другое дело! Тогда такую меру можно было бы только приветствовать. — Да, ты прав. Однако что может угрожать лично нам? Ведь мы так далеки от места будущей ссылки. — Для нас опасность, может быть, будет еще больше. Ведь мы находимся на нейтральной земле, которую оспаривают друг у друга Франция и Бразилия. Власти здесь не имеет ни одна, ни другая. Это-то и опасно! Было бы наивно ожидать от ссыльных, что они добровольно подчинятся аресту. Одна мысль о том, что их принудят к пребыванию в стране, где царит известный порядок, нестерпима для подобных людей. Я уверен, что они сделают все что угодно, лишь бы избежать этого! И надо же, чтобы для большего соблазна совсем рядом с ними находилась земля без хозяина, куда без особого труда могут сбежать все каторжники из тюрем! А там, по их примеру, свободные ссыльные тоже начнут кочевать — захватывать нейтральные земли и жить здесь без всяких стеснений, повинуясь лишь низким инстинктам. Как видишь, в скором времени ситуация станет неблагоприятной для таких, как мы, граждан без родины. …В этот момент со стороны хижин раздались звуки, какие издают негры, когда они напуганы или встревожены. — В чем дело? — Шарль быстро поднялся со стула. Высокий негр, бледный от волнения, — люди его расы, когда они чем-то сильно встревожены, становятся пепельно-серыми — одним прыжком взлетел на лестницу, ведущую в жилище. На его плече кровоточила рана. Он едва мог говорить, задыхаясь от быстрого бега. — Хозяин! — закричал он на местном наречии. — Там люди, белые! Они сожгли маленький карбет у бухты Женипа, угнали скот, убили моего брата Куассибу.
ГЛАВА 6
Признание бандита. — Нотариуса действительно убили. — Бесстыжая выходка. — Господин Луш дешево отделывается. — Не падай духом! — От Апруаги до Ойяпока. — Лихорадка. — Переправа через реку. — Земля обетованная. — Планы на будущее. — За старое ремесло. — Надо работать, чтобы есть! — Первые жилища. — Импровизированный обед. — Изобилие. — Грабеж. — Едва освободившись, они подумывают завести рабов. — По усам текло, а в рот не попало. — Преследование. — Португальцы. — Господин Луш готов платить, но не платит. — Новые опасения. — Ужасные угрозы.Вернемся на правый берег Апруаги, затененный вековыми деревьями, под которыми беглые каторжники предавались людоедскому пиршеству. — Но, — воскликнул с ужасом Шоколад, — то, что вы мне предлагаете, ведь это — человеческое мясо! — Ну и что из того, — отвечал своим пронзительным голосом Луш. — Нотариус ведь протянул ноги, а мы подыхали с голоду… Мертвые должны послужить на пользу живым. — Луш прав, — восклицали остальные с набитыми ртами. Но, увидев, что араб и мартиникиец с отвращением отбросили куски, которые они ели, Красный цинично заметил: — Гляди-ка! Арабишка и Немытый что-то кочевряжатся… Ну и ладно, нам больше достанется. — Но скажите мне, — произнес с видимым усилием Шоколад, — что вы его, по крайней мере, не убили. — Говорят тебе, что его пришиб электрический угорь. Насилу вытащили тело из воды. И потом, мы были зверски голодны. — Глупости! — перебил Луш, который, чувствуя поддержку Геркулеса, испытывал злобную радость, дразня Шоколада. — А если это и не угорь вовсе заставил его откинуть копыта, что бы ты сделал, скажи-ка на милость? — Я предпочел бы вернуться туда, откуда сбежал, снова таскать цепь с ядром и есть одни гнилые овощи до скончания века, чем оставаться с вами еще хоть один миг. Луш разразился смехом, напоминавшим скрежет пилы. — Гляди-ка, ты бубнишь не хуже любого кюре…[60] Тебе и надо было стать попом, а не жениться, чтобы потом пришибить свою бабу. При этих гнусных словах Шоколад страшно побледнел и хрипло вскрикнул. Одним тигриным прыжком он кинулся на старого каторжника, согнул его как тростинку и бросил на землю, желая размозжить ему череп ударом ноги. — На помощь!.. — заорал бандит. — На помощь, зарежьте его, как свинью! Геркулес, кинувшийся было на защиту своего сообщника, упал, сраженный могучим ударом кулака. Красный и Кривой не осмеливались ступить и шагу. С бывшим скоморохом было бы покончено, но что-то вдруг сломалось в душе Винкельмана. Он оставил хрипящего Луша, резко поднялся и жалобно вскрикнул: — Нет! Нет! Хватит и одного убийства. Главарь людоедов, освободившись от железной хватки, жадно глотал воздух, в то время как едва живой Геркулес с трудом подымался на ноги. — У тебя тяжелая рука, приятель, — пробормотал Луш. — Давай помиримся… Стоит ли портить кровь друг другу… Останемся друзьями, ладно? Нам еще придется потрудиться, чтобы стать свободными, и нас так немного. А на ухо Геркулесу негодяй шепнул: — Вот штучка, от которой надо отделаться при первой возможности. Геркулес одобрительно подмигнул в ответ, в то время как Шоколад молча отошел в сторону и сел на траву, обхватив голову руками. Через полчаса компания каторжников тронулась в путь, завернув в окровавленную одежду несчастного остатки мяса для следующего обеда. Шоколад, Мабуль и Жан-Жан замыкали шествие метрах в двадцати позади. Бедняги, искренне возмущенные происшедшим, хотели как можно скорее покинуть своих ужасных спутников и тихо совещались с Шоколадом, которому они полностью доверяли. — Надо уходить от них, товарищ, — говорил араб своим гортанным голосом. — Геркулес тебя убьет. Луш ему приказал, а я подслушал это. — Ай, ай! — воскликнул чернокожий. — Нам надо уходить к Кайенне. Они нас убивать и съедать, как того! — Держитесь, ребята, не трусьте! — сказал Шоколад, к которому, несмотря на мучительный голод, вернулась вся его энергия. — Раз вы со мной, я вас спасу. Мы вместе пойдем до Ойяпока, втроем нам тяжело пришлось бы. Там мы потихоньку с ними распростимся. А чтобы меня зарезали, как цыпленка, так это еще поглядим, кто кого. Прежде всего, не будем засыпать все вместе. Один всегда должен быть начеку, пока двое других спят. У нас два мачете, у них тоже, значит, силы равны. Да я еще вырежу себе хорошую дубинку, с которой мне и четверо не страшны. Итак, на этом и порешим? — Да, да! Твоя командир, моя всегда идти с тобой! — вскричал араб. — А я куда пойду? С тобой! Моя быть храбрее тигр, вернее собаки, — сказал мартиникиец. — Ну что ж, друзья, в добрый час! Не робейте, мы доберемся до Бразилии и сможем честно зарабатывать себе на жизнь. От Апруаги до Ойяпока пятьдесят километров, не более. По одной из хороших европейских дорог даже обычный пешеход дошел бы туда за сутки. Но совсем другое дело идти в нестерпимую жару по местности, поросшей диким лесом, перерезанной речками и ручьями, иссеченной оврагами. И однако же, существовало некое подобие дороги. Она соединяла поселки Апруага и Ойяпока, там недоставало только городка, с тех пор как эвакуировали заключенных из Сен-Жоржа и Серебряной Горы. И на всем громадном пространстве этой общины в сто шестьдесят четыре тысячи гектаров встречались лишь отдельные жилища или крохотные поселки. Особенно в Серебряной Горе, где один фермер выращивал кофе, хорошо известный знатокам. Эта едва заметная тропа все же указывала направление путникам, лишенным других ориентиров. Надо было пересечь множество ручьев и бухты Ратимана и Арима шириною около десяти метров, довольно глубокие. Берега их сплошь поросли пальмами. Дальше шла череда крутых подъемов, числом тринадцать, на преодоление каждого требовалось около часа. Затем следовало пересечь бухту Угря и выйти к другой бухте, Тумуши. Дорога эта была утомительна, одни спуски да подъемы. Восемь километров отделяли Тумуши от реки Уанари, довольно большой, впадавшей в широкое устье Ойяпока. Эта последняя часть пути оказалась очень тяжела для беглецов, у них начались приступы лихорадки. Геркулес, Кривой и Красный начали дрожать и стучать зубами, то же было и с арабом. Только мартиникиец, Луш и Шоколад еще держались. И однако, вскоре им должны были понадобиться все силы — беглецы уже подошли к устью реки, в том месте, где ширина ее достигала двенадцати километров. Они покинули Апруагу двое суток назад, и даже каннибалы испытывали адские муки голода, вынужденные выбросить разложившиеся на жаре останки своего товарища. Спасло их только то, что Маленький Негр нашел под симарубами[61] множество черепах. Лесным охотникам издавна известно: черепахи очень любят плоды этого дерева и в момент их созревания всегда собираются под деревьями. Несмотря на слабость, беглецы набрали, сколько смогли, черепах, чтобы затем испечь их прямо в панцире на горячих углях. Наконец они с большим трудом пересекли Уанари и оказались неподалеку от горы Лукас. Гора эта как бы втиснута между устьями Уанари и Ойяпока и выдается в море, нависая над ним крутым обрывом. С другой стороны реки, над мутными водами, показалась темная полоса леса, который рос на Спорных Землях. Вид этого обетованного рая исторг крик радости из груди беглецов. Сразу отодвинулись тяготы путешествия, голод, лихорадка, все, что было вынесено ими со времени побега. Винкельман, Мабуль и Жан-Жан даже позабыли на миг ненависть, которую вызывали у них четверо спутников, служившие им живым укором. Затем одна и та же мысль родилась в мозгу каторжников. Надо поскорее переправиться на тот берег, любой ценой! Хотя вокруг не было ни души, они почувствуют себя в безопасности, лишь преодолев эту последнюю и грозную преграду. — Плот, надо сделать плот! Пушечное дерево, которое им однажды уже так пригодилось, росло здесь в изобилии. Его было не меньше, чем на Серебряной Горе, которая, кстати, и получила свое название от беловатого цвета листьев этих деревьев. Самые сильные из беглецов, вооружившись мачете, рубили стволы, а другие тащили их к берегу, где связывали деревья лианами. Через двенадцать часов тяжкого труда плот был готов. Правда, его собрали кое-как, он мог развалиться в воде, ну да ладно! И вот уже течение отнесло их на другой берег. Наконец они пристали к нему. Каторжники промокли до нитки, ноги их были окровавлены, икры расцарапаны шипами и камнями, но они радостно кинулись на мягкую илистую землю, увязнув в ней по колено. Это все пустяки! Ведь теперь они свободны. Свободны, как дикие звери! Они так же свирепы и так же голодны. С трудом выбрались беглецы из ила на твердую почву и остановились, задыхаясь. Четыре бандита завели каторжную песню, глупую и бесстыжую, а трое молча пожали друг другу руки. — Ну, друзья! — сказал Луш, снова обретший развязность ярмарочного зазывалы. — Хватит болтать. Теперь мы у себя дома и должны составить план. — О, — откликнулся Геркулес, — что до меня, то я хочу в Бразилию. Там, говорят, есть хорошие города, уж в них я найду занятие по душе. — Да, дружок, чувствуется, что ты хотел бы снова взяться за старое и стать взломщиком на пару с Лушем, который так ловко открывает любые замки. Но сперва надо зайти в ресторан, а потом уж покупать билеты в те города. — Да, пора и о еде подумать. Уже нечего бояться, что ищейки наступят на пятки. А скажи-ка, Бразилия далеко? — Ну, сынок, лье около ста, если идти прямо, как птица летит. — Сто лье!.. — Да, месье, сто лье, да еще по этой местности. — Что же, выходит, мы опять будем так же тащиться, как досюда из Кайенны? Это вовсе не весело! — Подожди-ка немного, авось все уладится. Теперь, вместо того чтобы избегать жилья, как мы поступали раньше, мы будем его искать. А когда найдем, то позаимствуем провиант у добрых людей, что там живут. — Снова грабить? А если нас накроют? — Ну и глуп же ты! Я ж тебе говорил, что тут нет ни полиции, ни жандармов, ни судей, ни солдат… — Отличная страна, черт побери! — …А жители здесь такие же парни, как и мы с тобой, они смылись либо из Французской Гвианы, либо из Бразилии. — Но тогда они, значит, работают, чтобы жить? — Надо думать, раз они тут обосновались. — Вот еще, быть на свободе и вкалывать! Пока велся этот поучительный разговор, голодные беглецы собирали устриц и речных креветок, которыми и утолили свой голод. Затем они снова двинулись в путь, уклоняясь на этот раз к югу, чтобы избежать огромных болот, окаймлявших побережье. Везение не изменило им и на этот раз. Вскоре каторжники вышли на большую вырубку на берегу довольно широкой бухты. Скорее всего, это был залив Уассы, большой реки, что впадает в устье Ойяпока, на правом берегу, немного повыше Уанари. Их взору предстали маленькие поля, засеянные маисом и маниокой. Группа хижин пряталась в тени манговых, банановых и хлебных деревьев, чья тень защищала молодые кофейные посадки. Каторжники смело двинулись вперед, тем более что они были голодны, и свободно проникли в одну из хижин. Скромное жилище оказалось пустым, как и все другие, но по всему было видно, что хозяева находятся невдалеке. И наконец, особенно важная деталь для таких людей, жилье было буквально набито едой: лепешки из кассавы, корзины, полные маниоковой муки, спинные корзины с початками маиса, связки сушеной рыбы, копченого мяса, калебасы[62] с кофе и даже кристаллизованный тростниковый сахар… Всего здесь было вдоволь, и все обнаруживало опыт обитателей и их знакомство с дикой жизнью в лесах. При виде еды пришельцы радостно завопили. Они без церемоний уселись и принялись за припасы с дикой жадностью. Было бы просто невозможно перечислить количество всего съеденного провианта, да и бесполезно. Наконец, наевшись до отвала, беглецы пожелали уже излишеств. По крайней мере, четверо негодяев, с которыми продолжали оставаться до удобного случая Шоколад, араб и мартиникиец. — Я, — сказал Геркулес, — люблю комфорт и выпил бы чашечку кофе… — А я бы с удовольствием выкурил трубочку, — сообщил Кривой. — А я, — заключил Луш, — не отказался бы ни от того, ни от другого. — Черт возьми! — воскликнул Красный, со своим грубым выговором жителя предместья. — Да вот же трубки и табак. — Гляди-ка, тут все есть, прямо рай. — Хорошо быть на свободе и лопать от пуза. — Если бы всегда так! — Постойте-ка, — сказал Луш, — у меня явилась идея. В таких диких местах должны жить такие же примитивные жители, какие-нибудь добрые негры-марроны, с которыми можно легко объясниться. — А как? — поинтересовался Геркулес. Он всегда любил расспрашивать. — Это так же просто, как курить чужой табак после еды, которая тоже ведь была не наша. Негры созданы, чтобы работать на других, на белых, на таких, как мы! Ну, так и заставим их поработать на нас, а если они будут недовольны, так здесь растет полно всякого дубья, и чернокожих можно образумить. Мы убедим их стать нашими рабами или слугами, это слово как-то получше звучит, настанут для нас, ворюг, светлые дни. Я, например, охотно стал бы хозяином поместья, — заключил свою речь Луш. — Хорошая мысль, — заорали бандиты. — Ура господину Лушу, хитрецу из хитрецов! Но Шоколад, который до сих пор не произнес ни слова, мигом остудил общий пыл. — А если этих неизвестных больше, чем нас, и это им придет мысль сделать нас рабами? И будем мы вкалывать, как каторжные, а кто же мы еще? А они нам за работу будут платить колотушками, что вы тогда скажете? — Ты, Шоколад, говоришь нечасто, но всякий раз, как раскроешь рот, я будто адвоката слышу, — сказал Луш. — Но ты прав, и нам надо сматываться. Кстати, я заметил на отмели две отличные пироги. Надо не мешкая нагрузить одну из них припасами, взять весла, мачете, которых нам на всех не хватает, и в путь! — Идет! — воскликнули в один голос Геркулес, Красный и Кривой. Менее чем за четверть часа туземная лодка была нагружена припасами и готова к отплытию. Шоколад, поневоле разделявший плоды этого грабежа, занял место рядом с арабом и негром, которых вовсе не занимали подобные вопросы. И вся орава быстро скрылась из виду, но не прежде, чем предусмотрительный Луш проткнул дно оставшейся пироги ударом весла. Целый день они плыли вверх по реке, пока не добрались до леса, выходящего к очень болотистому берегу. Это вызвало залп проклятий у Геркулеса, забывшего прихватить гамак. Но гамак заменили толстые подстилки из листьев, на которых беглецы заснули сном праведников. Пробуждение их было крайне неприятно. Яростные крики и проклятия на незнакомом языке вылетали из уст восьми человек. У двоих были ружья, у остальных только мачете, и они яростно атаковали лагерь беглецов. В нападавших можно было узнать португальцев по блестящим черным глазам под густыми бровями, по матово-желтой коже, по гладким черным волосам. Типаж этот был знаком беглецам, часто встречавшим португальцев в Гвиане. Каторжники сразу поняли, что перед ними люди, ограбленные накануне, и приготовились защищаться. В это время двое португальцев взяли бандитов на прицел, а их предводитель обратился к ним с яростной речью. Он обвинял бандитов в краже продуктов и лодки, в порче другой лодки и приказывал им следовать за собой. Каторжники переглянулись. Восемь против семерых, силы почти равны, но прицел двух ружей нарушал паритет. — Ну, — тихо сказал Шоколад Лушу, — не был ли я прав, когда говорил, что эти рабы сами захотят стать нашими хозяевами? — Поглядим. — Да и так видно, надо попробовать с ними договориться. — Но как? — У тебя есть деньги… Возмести ему убытки, не то берегись. — Вот еще! Это чертовски не вяжется с моими привычками. Но, однако, страх пересилил жадность, и Луш решил последовать совету. Он, сделав знак португальцу подождать, достал золотую монету из пояса некогда убитого им араба, повертел ею, лукаво подмигнул и сказал: — Ну, дружок, не кипятись, мы заплатим. Хорошенькая монетка в двадцать франков за продукты и вашу лодку, хватит с вас? Португалец резко покачал головой и, посоветовавшись с товарищами, потребовал в уплату за убытки весь пояс с деньгами. Но Геркулес, услышав это, начал сыпать проклятиями и размахивать тяжелым веслом. — Хватит комедию ломать, берите желтячок и мотайте отсюда, пока целы. В подтверждение своих слов он одним ударом начисто сломал росшую рядом небольшую пальму. Португальцы восприняли это как сигнал к атаке. — Огонь! — приказал их предводитель. Клац — и оба курка дали осечку, вызвав насмешки каторжников. Геркулес снова принялся махать веслом, остальные стали подражать ему по мере сил. Португальцы, увидев, что у них осталисьтолько мачете против таких решительных и сильных людей, стали отступать. Каторжники, со своей стороны, довольные, что так легко отделались, вскочили в пирогу и быстро удалились под бессильно-злобные крики ограбленных. — Ну вот, — наставительно сказал Луш, — я всегда знал, что все это как-нибудь уладится. Хитрецам всегда везет: и еда при нас, и денежки все целы. — Болтай, болтай, — проворчал Шоколад. — Кабы ты понимал, что они говорили, небось запел бы по-другому. — Тьфу! Я слышал, как они орали что-то на своем обезьяньем наречии… Да мне-то что? — Говори, говори! — А ты, что ли, португальский знаешь? — Я два года провел на верфи в Спархуине рядом с португальцами-марронами капитана Бастиена. — Ну, и о чем же они болтали, скажи-ка на милость? — О том, что они поехали за подмогой, вернутся и нас разыщут. — А потом что? — А потом свяжут нас по рукам и ногам, как телят, и отвезут в Кайенну, чтобы получить награду за нашу поимку.
ГЛАВА 7
Шесть лет спокойствия. — Начало тяжелых дней. — Раненый. — Приготовления. — Экспедиция. — Индейские сарбаканы и стрелы, отравленные ядом кураре[63].— В путь. — Следующая жертва. — Бони не погиб. — Перевозка в гамаке. — Ужасные раны. — След. — Как индеец по запаху отличает огонь, разведенный белыми. — На поляне. — Оргия. — Планы бандитов. — Страшная опасность грозит колонии. — Пленники. — Как хочет отомстить Луш. — Раскаленное добела мачете. — Недоумение.В первый раз на протяжении шести лет охотники за каучуком на Арагуари стали жертвой покушения на их жизнь и имущество. Бывало, правда, особенно в первые годы после основания колонии, несколько случаев грабежа. Но вскоре беглые, живущие в этой местности, и случайные прохожие уразумели, что в их интересах оберегать эту колонию, где они всегда могли обменять каучук на деньги или продукты по своему выбору. Все хорошо поняли, что если бы «серингаля» дона Карлоса, как они называли молодого Робена, не было здесь, им пришлось бы ходить гораздо дальше со своим товаром и иметь дело либо с мамелюками (потомки индейцев и белых), или с кафузами (помесь негров и индейцев), гораздо менее честными, чем французский колонист. Итак, частью из выгоды, частью из симпатии к серингейро и его доброй семье весь разношерстный сброд, населявший округу: беглые рабы, дезертиры, бродячие и оседлые индейцы — все жили мирно с многочисленными обитателями колонии. Окрестные жители были уверены, что в колонии их встретят радушно, снабдят всем необходимым, не откажутся дать авансом деньги или продукты, и поэтому соблюдали моральные устои даже в этой дикой стране, где не было ни властей, ни закона, ни вооруженных сил. Можно поэтому вообразить, какой переполох вызвало внезапное появление раненого негра и его сообщение о поджоге серингаля и убийстве одного из рабочих белыми людьми. Шарлю не потребовалось успокаивать свою жену, сильную и смелую, как и подобает жене пионера. Он хотел подробнее расспросить пострадавшего, но тот, ослабевший от потери крови и долгого бега, потерял сознание. Привычный ко всем превратностям жизни, молодой человек оказал ему первую помощь: он с ловкостью хирурга осмотрел плечо, убедился, что ни один важный орган не задет, и сшил края раны, предварительно остановив кровь и продезинфицировав ее. У таких атлетов, как негры бони, обмороки бывают недолгими. Вскоре раненый открыл глаза и с живостью, присущей людям его расы, улыбнулся хозяину, который протягивал ему бутыль с тафией, излюбленным напитком чернокожих. — А теперь расскажи мне, что произошло, — произнес Шарль, скрывая тревогу под маской спокойствия. К сожалению, рассказ негра был слишком поверхностным. Из него следовало, что среди дня бони зашел в свою хижину за ружьем, чтобы убить гокко[64], чьи крики он слышал в лесу. Выйдя на поляну, где стояли сараи, он увидел дым и услышал выстрелы. Все пылало! Полагая, что это несчастный случай, он кинулся, чтобы спасти хоть что-нибудь, и тут споткнулся о тело, лежащее поперек тропинки. Негр с ужасом узнал своего земляка Куассибу, с окровавленными лицом и грудью и без признаков жизни. Он хотел помочь приятелю, но в этот момент белые, одетые в грязные лохмотья, кинулись на него, яростно вопя. — Сколько их было? — спросил Шарль. — Пять или шесть. С ними столько же мулатов с ружьями. Видя, что его окружают, атлет отбивался что было сил. Получил сильный сабельный удар в плечо, но ухитрился вырваться и убежать, «как коза». И это все. — Ладно, — хладнокровно заметил молодой человек. — Поглядим, что будет дальше. Пожар в серингале — невелика беда… Но я хочу знать, что сталось с Куассибой. Надеюсь, он не погиб! С этими словами Шарль снял подвешенный на столбе бычий рог и подул в него несколько раз. По этому сигналу, возвещавшему в начале и в конце работы раздачу тафии, индейцы, негры и мулаты, работавшие поблизости, поспешили на зов. Шарль, знавший в лицо всех работников, произнес наугад двенадцать имен и велел им собраться у лестницы. Остальных отослал на работу, объяснив в нескольких словах, что произошло. Закончил он словами: — Пусть все вооружатся; негры — ружьями, а индейцы — сарбаканами. Чтобы не было обидно, молодой человек отобрал шесть негров и шесть индейцев. В то время как они побежали в свои хижины и карбеты[65] за оружием, Шарль взял короткоствольный карабин, привезенный из Кайенны, пятизарядный револьвер нью-кольт большого калибра, зарядил их, набил доверху патронташ из лакированной кожи и добавил ко всему компас и маленькую аптечку. Жена Шарля, столь долго бывшая с ним в разлуке, при новом расставании сумела подавить нахлынувшие чувства, скрыла под улыбкой свое горе и, спокойная, как римлянка, только и произнесла: — Будь осторожен. — Я беру запас на четыре дня, — сказал молодой человек, обняв женщину, — но надеюсь вернуться раньше. Волноваться нечего, ведь с тобой остается Ломи, а двадцать человек под его началом сто́ят целой армии. Затем Шарль молча поцеловал всех детей по очереди и спустился на площадку перед домом. Участники экспедиции собрались один за другим с быстротой, достойной удивления при их обычной апатии. Но известие о близкой угрозе разгорячило кровь, и даже индейцы, эти неисправимые лентяи, угрожающе потрясали своими страшными сарбаканами. Раз их хозяин приказал захватить это грозное оружие, значит, дело было очень серьезным. …А между тем нет ничего более безобидного на вид, нежели эти две хрупких трубочки, длиной около трех метров, положенные одна на другую и связанные между собой просмоленными волокнами. Что до стрел, как громом поражающих ягуара и тапира, то они более всего похожи на обычные спички длиною двадцать сантиметров из твердого дерева, и на первый взгляд непонятно, как благодаря шарикам из шелковистого вещества, окружающим основание и середину ствола, стрелы поражают цель с такой силой и точностью. Дело в том, что острие, вытянутое и слегка надрубленное, пропитано кураре!.. Этим все сказано, и малейший укол несет смерть более верную, чем от укуса гремучей змеи. Вскоре маленький отряд тронулся к юго-востоку, почти не уклоняясь от берега Арагуари. Шли быстро, их ничто не задерживало. Босые и с непокрытой головой, как подобает истинным детям лесов, они не боялись солнечного удара. С собой несли только провиант — несколько лепешек из кассавы, вяленую рыбу — и легкий гамак для ночлега. Менее чем за два часа отряд прошел расстояние, отделявшее их от сгоревшего серингаля. Негр не преувеличил. Разрушения были огромны. Сгорели здания, собранный каучук, все припасы и утварь, находившаяся там. Шарль, хладнокровно отмечавший убытки, не мог, однако, скрыть тревоги, не обнаружив на месте тела жертвы. Один из индейцев жестом успокоил его. — Там, хозяин, — сказал он, указывая пальцем на группу, стоявшую под гигантской гевеей[66]. В два прыжка молодой человек оказался рядом с ними и с огромной радостью узнал бедного Куассибу, лежавшего на подстилке из листьев. Двое негров оказывали пострадавшему умелую помощь. Эти двое были рабочими серингаля. Они принесли сюда свой сбор каучука и обнаружили товарища без чувств, лежавшего в луже крови, и дымившиеся руины зданий. Несмотря на опасные для жизни раны, Куассиба пришел в себя. Он узнал хозяина и со слезами сжал дружески протянутую руку. — Ах, хозяин, — прошептал бедняга угасавшим голосом, — бедный Куассиба умереть, не повидав жена, дети… — Нет, друг мой, ты не умрешь и еще увидишь жену и детей. — Я очень болен, господин. А эти плохие люди хотят идти твой дом, сжигать и все убивать. — Кто они?.. Сколько их? Знаешь ты их? — Моя думать, это беглые с Кайенны, с португальскими мулатами, шесть или восемь, моя точно не знать. Берегись их, господин! — Можешь ты мне рассказать, как это произошло и куда они убежали? Но раненый, голос которого все слабел, произнес только несвязные слова, вперемежку со стонами. Вскоре он начал бредить. Шарль, не желая оставлять его в подобном месте, распорядился отнести раненого домой. Куассиба был положен в гамак, веревки от которого прикрепили к длинному шесту. Двое его товарищей взялись за концы шеста и были готовы отправиться в путь. Молодой человек отрядил им на помощь и смену еще двух человек и сказал им следующее: — Передайте Ломи, чтобы он никого не выпускал за пределы плантации и стерег дом день и ночь до моего возвращения. Куассиба пусть поместят в моем доме, моя жена им займется. Скажите также Атипе, чтобы она дала раненому питье «укуба» и лечила его так, как если бы он был индейцем. Таково мое приказание. А теперь идите, дети мои, а мы двинемся на розыск. Обнаружить маршрут убийц для колонистов, привыкших с самых юных лет бродить по огромным диким лесам, было пустяком. Шарль, не уступая никому из спутников в ловкости и силе, возглавлял отряд. Негодяи даже не потрудились замести следы. Они вели в глубь леса, минуя тропинки, но так прямо, что можно было сразу определить — люди, проложившие их, имели опыт блуждания в зарослях. После двух часов быстрой ходьбы индеец Пиражиба, шедший впереди, остановился и едва слышно сказал Шарлю: — Хозяин, они здесь! — Разве ты их видишь или слышишь? — Нет, но я чую дым костра… — Ты уверен? — Это огонь, разведенный белыми людьми. Молодой человек, зная, что индеец — великолепный охотник и следопыт, кивнул головой, хотя слова краснокожего любому другому показались бы странными. Люди снова тронулись в путь и метров через пятьсот вышли на широкую поляну, на которой стояла в руинах индейская хижина, давно покинутая искателями каучука. Густой дым спиралями поднимался от костра и едва дотягивался до середины огромных стволов, настолько влажен был здесь воздух. Дым повисал, как голубоватое облако, плававшее у ветвей. Инстинкт краснокожего не обманул его. Индейцы никогда бы не выбрали для своего костра это дерево. Его едкий дым придавал бы еде отвратительный привкус и к тому же легко мог быть замечен врагами. А может быть, преступники были слишком уверены в своем численном превосходстве и полной безнаказанности и даже не думали о возмездии? Издалека были слышны их крики, песни и смех. — Мерзавцы пьяны, как пираты после попойки, — сказал Шарль, вспомнив, что в сгоревшей хижине был бочонок с двадцатью литрами тафии. Не теряя времени, молодой человек распорядился окружить хижину с трех сторон; задача была нетрудной, поскольку все поляна поросла огромными деревьями и стволы легко скрывали нападавших. Однако, не желая ничего оставить на волю случая, Шарль отослал троих индейцев с наказом обойти поляну и перекрыть дорогу негодяям, если они побегут в том направлении, а также велел брать пленных живыми. И наконец, хозяин распорядился, чтобы все затаились до последней минуты, пока он сам не зайдет в хижину, не начнет бой и не крикнет: «Ко мне!» Пока трое индейцев пробирались к месту засады, Шарль продвинулся вперед с остальными семью человеками. Они шли, затаив дыхание, избегая малейшего шороха и прячась за деревьями, пока не подошли совсем близко к хижине. Шарль спрятался в густой куст, откуда ему было все слышно и видно. Разбойники были в себе так уверены, что даже не позаботились выставить часовых. Все вместе буйно веселились, истребляя краденую еду. Одни, развалясь в гамаках, курили и пили тафию, другие пожирали вяленую рыбу и кассаву, непрерывно заливая все это тем же огненным напитком. Вдруг к этим диким выкрикам прибавился страшный шум, похожий на глухой бычий рев. Шарль, которому хижина закрывала вид на поляну, сперва не мог понять его причину. Но разговор, который был ясно слышен, помешал ему поразмыслить на эту тему. — А хороша рыбка у этого торговца каучуком, — произнес скрипучий голос пьяницы. — Эй, Геркулес! — К вашим услугам, господин Луш! — Что ты все набиваешь брюхо! Спой что-нибудь, повесели нас. — Вот бы всем было так хорошо, как мне… Жизнь прекрасна, и я никогда не был так счастлив. — Подожди-ка, приятель, вот я еще подогрею нутро, и ты увидишь! Эх, да что это скотина наша так ревет, будто что-то чует! — Ну, не обижай нашу кавалерию. Конечно, до коней им далеко, но все же и от них польза есть. Я их люблю, прямо как детей родных. — Какой ты нежный во хмелю, однако. Да из-за тебя у чертей все котлы бы полопались, а туда же… Помню я, как на «Форели» ты гвоздем пробил черепушку арабу. А тут не сумел пришить этого черномазого, что сегодня утром хотел нам помешать грабить. — Да! Неважная была работа. Я его только полоснул, вместо того чтобы прихлопнуть сразу. Рука, видать, уже отвыкла. — Ну, ты не горюй, скоро опять будет случай набить руку. — Да что ты? — Сам подумай, чего ради мы будем бродить вокруг да около такого жилья и так в нем и не погуляем? Ты же слышал, что нам рассказывали эти мулаты, наши новые союзники? — Прямо чудеса! — Слюнки текут, да и только! А уж как мы тут повеселимся, тогда можно и дальше на всех парусах. Есть корабли, которые доставят нас в Бразилию со всеми товарами и деньгами этого колониста. — Хороший случай, чтобы туда приехать не с пустыми руками и там еще попировать. Но, говорят, в доме-то полно народу. А ну, как нас угостят ружейными залпами? — Вот еще! Хозяин в Кайенне, дома только его баба с ребятней да негры с индейцами. Так что это яйца выеденного не стоит! — Ну, так давай! Я и сейчас бы уже принялся за дело. — Сейчас — значит, завтра, сегодня мы гуляем. А потом, — добавил бандит зловещим тоном, — работенка нам и сейчас найдется. — А какая? — Прирезать тех троих баранов, что лежат, связанные, в углу. — Ты так хочешь их прикончить? Вот Шоколад меня смущает. Неплохой парень, правда, любит мораль читать, но он всегда был хорошим товарищем. На Черныша-то мне плевать, ведь он всего лишь негр. Да и Мабуль тоже, одним арабом меньше, велика разница. — Шоколад должен умереть первым, — перебил Луш с неумолимой ненавистью. — Я еще не позабыл, как он меня отделал, когда мы убрали Нотариуса. Да и пока мы сюда добрались, Винкельман меня немало допек. Прямо драться приходилось всякий раз, как захочешь что-нибудь стибрить. Я его пока не трогал, потому что он знает португальский и был нам нужен. А разве это не он со своими двумя дружками помешал тебе прикончить черномазого, да и тот, другой, успел убежать к хозяйскому дому. Вот я покажу ему, как добряка-то из себя строить. — Ну и здоров же ты трепаться! — Что, не так? Господин Шоколад из себя порядочного строит… Нам тут порядочные ни к чему! — Твое дело, но я умываю руки. На меня в этом деле не рассчитывай. — Да я сам всажу мачете в брюхо любому, кто сделает это вместо меня. Увидишь, как я обработаю его поганую шкуру! — Это было сказано таким тоном, что даже закоренелый злодей Геркулес вздрогнул. — Ты меня еще спрашивал недавно, когда мы захватили врасплох этих троих предателей, зачем я сунул в костер свое мачете. — И вправду, я подумал, зачем делать кочергу из хорошего клинка. — Вот теперь и увидишь. Мачете уже раскалилось добела… Я ему перережу горло таким манером. Тихо, вы, — заорал бандит, перекрывая общий шум. — Я обещал устроить в конце представление. Подходите, спектакль бесплатный. Деньги за вход не берут. Уразумели? При этих словах Луш спустился с гамака, шатаясь, подошел к костру и взял за деревянную рукоять мачете, погруженное в горящие угли. Лезвие было раскалено и светилось, как огненный меч. — Ну, теперь Шокол… — Ну, теперь Шокол… Но он не договорил, мачете выпало у него из рук. Луш попятился, словно наступил на гремучую змею, и замер при виде высокого мужчины с ружьем за спиной, со скрещенными на груди руками, который появился перед бандитом как грозное видение. Крики и проклятия замерли на устах напуганных разбойников. Мертвая тишина воцарилась на поляне. — Я запрещаю вам прикасаться к этому человеку, — сказал незнакомец звучным голосом по-французски.
ГЛАВА 8
«Ко мне!..» — Геркулес делается стратегом. — Новый Самсон. — Пойманы в ловушку. — Кавалерия каторжников. — Оседланные быки. — Кураре. — Безмолвная смерть. — Бесполезная борьба. — Пленные. — На привязи. — Подлость. — Возвращение. — Последние эпизоды эвакуации. — Предусмотрительность. — Через Спорную Территорию. — Новые рекруты. — Поимка животных. — Исповедь Шоколада. — «Дайте мне дело!» — Условное прощение. — Каждому по заслугам. — Принудительные работы.При этих словах молодого человека, чье неожиданное появление так испугало бандитов, чары рассеялись, Геркулес первым овладел собой. — А, да ты один, ладно же, я тебя как спичку переломлю, — яростно завопил он. Но Шоколад, который чудом избег ужасной пытки и увидел опасность, грозившую его нежданному спасителю, закричал: — Перережь мои веревки, нас будет двое… — Ко мне! Негры и индейцы, скрывавшиеся в тени, кинулись на крик своего хозяина. Геркулес был изумлен еще больше, чем в начале сцены, при виде ружей и сарбаканов, нацеленных на всю шайку. — Тысяча чертей! — завопил Луш. — Мы попались. Спасайся кто может! — Стоять! — скомандовал Шарль громовым голосом. — Сдавайтесь, или вы погибли! Но в голове Геркулеса, при виде гибельной опасности, мгновенно созрел коварный план. — Ладно, ладно! — ворчливо забормотал он. — Покончим дело миром. Но вот что он шепнул на ухо Лушу: — Ты вместе с другими становись позади меня и, по моему знаку, бегите к быкам! Все это заняло не больше десяти секунд. И вдруг Геркулес, опершись на один из столбов, резко выпрямился. Он напряг свои могучие мускулы, налег на столб с невероятной силой и торжествующе закричал: — Спасайтесь, товарищи! Они в ловушке! В тот же миг рухнуло ветхое строение, погребая семерых человек под грудой обломков и прогнивших листьев, из которых была сделана крыша хижины. Пока люди Шарля старались выбраться из-под обвала, каторжники и мулаты в несколько прыжков достигли поляны. Там находилась их «кавалерия», предмет восхищения Луша. А иначе говоря — дюжина некрупных быков, привязанных бок о бок и сохранявших неподвижность, страшную для каждого, кто был знаком с неукротимым нравом этих диких обитателей саванны. Но бедные животные не могли выказать свой буйный нрав, так как у каждого из них было продето сквозь ноздри веревочное кольцо, а к нему крепились еще две веревки в виде удил. Достаточно было потянуть эту уздечку вправо или влево, и четвероногие шли в нужном направлении. Ноздри у них — самое чувствительное место, и вполне понятно, что это варварское приспособление способно заставить повиноваться даже самого свирепого быка. Беглецы мгновенно перерезали привязи, державшие быков. Вскочив им на спины и ухватившись за поводья, они помчались через поляну, торжествующе вопя. Но радость эта была недолгой. Едва бандиты достигли центра поляны, как услышали короткие, резкие, свистящие звуки, похожие на шелест тростника. И в ту же минуту троих быков, мчавшихся впереди других с опущенной головой и вытянутым хвостом, обуяла паника. Через несколько секунд тот же страх охватил еще одну троицу, затем еще одну. Они отказались повиноваться всадникам, если это слово подходит для человека, сидящего на быке, хотя те безжалостно рвали им ноздри и угощали ударами ножей. После упорной борьбы удалось наконец укротить животных, но они бежали уже без прежней резвости, жалобно мыча и спотыкаясь. Проклятия вырвались из уст каторжников, не понявших смысла этого явления, но уже ощутивших его последствия. — Тысяча чертей! — выходил из себя Луш. — Эта чертова скотина нам все испортила, и теперь колонист со своими черномазыми перестреляет нас, как кроликов. — Ну-ка! Попытаемся добраться до леса! — кричали остальные, еще более напуганные, чем раньше. — Все это без толку, товарищи, — сказал один из мулатов на местном наречии. — Наши быки ранены стрелами, смоченными ядом кураре. Через несколько минут они падут, от этого яда нет спасения. Бежать дальше было бы безумием. Под деревьями скрываются индейцы, мы теперь в их власти. — Но что же делать, черт побери? — Поглядите-ка, — продолжал мулат хладнокровно, показывая на своего павшего быка. — Видите этот маленький колышек, обмотанный белым шелком, который торчит у быка в морде? Не прикасайтесь к нему! Это индейская стрела, она убивает вернее пули из карабина, страшнее, чем гремучая змея. Все наши быки ранены подобным образом. Через пять минут они подохнут. И действительно, животные падали один за другим, мотали головой, водили гаснущими глазами, корчились и застывали. Все было кончено. Поляна напоминала бойню. Каторжники, у которых еще оставались мачете, боясь жестокой мести, решили, по крайней мере, дорого продать свою жизнь. Мулат же, не разделявший их воинственного порыва, наоборот, советовал сдаться на милость победителя. — Если бы этот белый хотел нашей смерти, — говорил мулат вполне резонно, — он бы приказал индейцам стрелять в нас, а вовсе не в быков. И теперь бы мы так же корчились и ворочали глазами, как наша скотина. Значит, он хочет нас взять живыми. Возразить на такой разумный довод было нечего, тем более что Шарль и его спутники уже выбрались из-под обломков хижины и приближались, не спеша и уверенно. За ними, прихрамывая, плелись Шоколад, араб и мартиникиец, на ходу растирая руки, занемевшие от веревок. Трое индейцев, продемонстрировавшие удивительную меткость, тоже вышли из-за деревьев, потрясая сарбаканами. Шарль остановился в нескольких шагах от бандитов, навел на них револьвер и спокойно сказал: — Бросайте оружие. Его решительный вид доказывал, что всякое сопротивление бесполезно, и каторжники поторопились повиноваться. — Теперь подходите по одному. Ты, Табира, возьми веревки от гамаков и крепко свяжи этим людям руки за спиной. Луш, как предводитель шайки, подошел первым. Вид у него был жалкий, голова опущена, руки он протянул жестом человека, давно привыкшего к кандалам. Однако негодяй хотел умилостивить Шарля и представить ему смягчающие вину обстоятельства. — Пожалейте нас, добрый господин! Мы скорее несчастные заблудшие души, чем преступники. Мы никогда не примемся за прежнее, клянусь вам, мы ничего не жаждем сильнее, чем честно зарабатывать свой хлеб. Дайте нам работу, и вы увидите. — Молчать! — прервал его молодой человек. — Господин, господин! Прошу вас, не убивайте нас… Мы сделаем все, что вы захотите… Мы даже вернемся в Кайенну, если прикажете, только пощадите нас! — Пиражиба, — произнес Шарль, не удостаивая бандита ответом, — если этот человек еще раз обратится со словами к тебе или к одному из вас, привяжи его к дереву и отвесь пятьдесят палок по спине. Это радикальное лекарство немедленно остановило поток красноречия из уст каторжника и придало ему крайне смиренный вид. Остальные бандиты выглядели не менее жалко, но по тону молодого человека поняли, что лучше помолчать и не скулить попусту. На связывание негодяев ушло минут двадцать, так как Табира относился к делу очень добросовестно, понимая всю важность задачи. Каторжники и их пособники были надежно связаны по четверо в ряд и образовали четыре шеренги, каждую из которых охранял один из негров Шарля. Трупы быков были брошены на поляне в пищу муравьям — колонисты знали, что меньше чем за сутки эти проворные насекомые разделают туши лучше любого анатома. Индейцы шли по бокам колонны, наблюдая за пленниками, чтобы, в случае чего, помешать их побегу. Шарль замыкал шествие вместе с Шоколадом, который в своем рассказе восстановил всю цепь событий, начиная с бегства каторжников и кончая моментом, когда обстоятельства привели его зловещих спутников к усадьбе молодого колониста. Молодой человек слушал не перебивая эту мрачную одиссею беглеца. Эльзасец рассказывал о произошедшем глухо, монотонно, с запинками, будто разучившись говорить. Шоколад поведал о том, как они ограбили португальцев из Уассы и как те чуть было не схватили беглецов и не отправили обратно в Кайенну. Бандитам едва удалось скрыться от их долгого и упорного преследования. Избегнув наконец этой опасности, самой серьезной за время их долгого путешествия, беглецы решили кратчайшим путем достичь берега Амазонки, где они надеялись найти средства добраться до Бразилии. По дороге они пересекали реки, озера, блуждали по саваннам, встречали различные племена индейцев, которые из милости давали им пищу. Однажды каторжники пришли в небольшое селение. Жители его вели между собой жестокий бой. Наученные давним горьким опытом, бандиты уразумели, что жители Спорных Земель очень ревниво относятся к праву собственности, и поэтому избегали грабежей и довольствовались доброхотными даяниями. Благодаря этому они не так голодали, как в начале путешествия. Из осторожности беглецы не стали принимать участия в этом бою, а спрятались в маисовом поле позади деревни и нетерпеливо, как все люди, терзаемые голодом, стали ожидать исхода сражения. Некоторые участники побоища были оттеснены и обратились в бегство. Тогда каторжники справедливо рассудили, что они могут найти общий язык с этими побежденными. Сближению должно было способствовать сходство их положения, а союз с людьми, привыкшими к жизни в диком лесу, мог быть очень выгоден для компании Луша. Каторжники присоединились к беглецам, благодаря чему их маленький отряд значительно увеличился. Все уладилось без особого труда, так как новые союзники — бразильские мулаты неплохо говорили на кайеннском наречии и могли свободно общаться с подельщиками Луша. Событие это произошло неподалеку от маленькой речки Тарпираль, на территории индейцев куссари. Мулаты, зная понаслышке об усадьбе французского серингейро, всячески расхваливали ее богатство и процветание. Вне всяких сомнений, там можно было найти себе занятие, даже хорошую работу, в любом случае изголодавшихся путников ожидало самое радушное гостеприимство. — Работать! Еще чего! Это пусть негры работают, — возразил господин Луш. — А мы — французы, белые, из самой Европы. Этот поселенец нас примет как равных. Да он еще рад будет, если такие люди, как мы, составят ему компанию. Ну а если он не окажет нам должного гостеприимства, пусть тогда побережется! Ведя подобные речи, Луш окончательно заглушил остатки совести в сердцах беглецов, и без того слишком мало уважавших права чужой собственности. Результат не заставил себя ждать. Не прошло и двух дней, как мулаты решили разграбить серингаль, настолько убедили их доводы старого негодяя. Но беглецы были слишком истощены и измучены, поэтому, пока суть да дело, надо было любой ценой подкормиться и восстановить силы. В окру́ге была обширная саванна, где паслись на свободе огромные стада дикого скота. Бразильцы с помощью лассо тотчас же изловили нескольких бычков и обеспечили себе изрядный запас свежего мяса. Войдя во вкус охоты, они также поймали двенадцать отборных бычков для пополнения «кавалерии». После чего вся компания отправилась к жилищу охотника за каучуком. Благодаря удивительному искусству мулатов не сбиваться с пути в любых дебрях они вышли прямо к одиноко стоящему серингалю и принялись за грабеж. Тогда-то и произошли события, о которых мы поведали читателю. Разграбление жилища Куассибы, покушение на жизнь самого негра бони и его товарища, неудачная попытка Шоколада, араба и мартиникийца помешать злодейству, поджог строений и отступление бандитов, чьими жертвами непременно стали бы Винкельман с друзьями, если бы не своевременный приход Шарля… Маленький отряд уже подходил к руинам, когда Шоколад закончил свой рассказ. — Теперь, господин, — сказал он, — вы знаете всю правду, целиком. Я ничего от вас не скрыл, не старался обелить себя. Да, я совершил преступление и был наказан по заслугам. Бежал. Это правда. Но я не мог больше вести такую жизнь! Все, что я хочу, — это, собравшись с духом, честно трудиться. Вы мне ничем не обязаны, ведь я человек вне закона, ничтожество, беглый каторжник… Но все же, если вас может заинтересовать правдивый рассказ такого бедолаги, как я, дайте мне возможность трудиться… Одолжите мне для начала какой-нибудь провиант, инструмент для работы, приставьте меня к делу — и вы увидите… Мои два товарища готовы последовать моему примеру. Можете ли вы сделать для них то же, что и для меня? Вы совершите доброе дело и поможете стать людьми трем несчастным, достойным сожаления. — Вас зовут Винкельман, вы — эльзасец[67], как вы сказали, — произнес Шарль, избегая прямого ответа. — Да, господин. Но когда я слышу свое настоящее имя, мне это как нож острый. Столько горьких воспоминаний! Уже очень давно никто меня так не звал… Для начальства я был просто номер семь, а мои товарищи по несчастью прозвали меня Шоколадом. Если вы ничего не имеете против, называйте меня так до лучших времен. — Ладно, — ответил молодой человек. — Вот что я надумал: тут недалеко, километрах в десяти, есть местечко, где полно каучуковых деревьев и которое я как раз хотел освоить в ближайшем времени. Будете работать там с вашими товарищами. Вам выдадут еду, одежду. Каждому — гамак, одеяло. И инструменты. Постройте себе хижину, и двое моих лучших рабочих обучат вас, как надо собирать каучук. Через три месяца принесете в усадьбу ваш первый сбор и получите плату. Но только через три месяца, не раньше, ясно? Вы можете покинуть хижину только в случае болезни или грозящей опасности. Только от вас зависит улучшить впоследствии свое положение. При этих словах, резких, но дающих надежду на возрождение, каторжник побледнел от волнения и прижал руку к груди. Потом с чувством сказал: — О господин, благодарю вас. Я обязан вам больше чем жизнью — надеждой. — А теперь что касается остальных, — продолжал Шарль. — Я мог бы, — сказал он каторжникам, притихшим, как звери в клетке, — отдать вас на расправу моим индейцам, они только того и ждут, или же отправить вас одних в Кайенну, других в Белем. Это мое полное право, даже, может быть, долг. Вы хотели убить моих людей, вы разграбили мое добро!.. Никто не может помешать мне совершить по чести и совести акт правосудия. И все же я не могу поверить, что даже такие закоренелые злодеи, как вы, окончательно погрязли в пучине порока. Только поэтому сегодня я щажу вашу жизнь и откладываю ваше возвращение на каторгу. При этом проявлении неожиданного великодушия бандиты дружно завопили от радости, неискренне и поэтому слишком громко благодаря Шарля. — Молчать, когда я говорю! — резко прервал их молодой человек. — Сейчас вам представляется последний в жизни случай искупить преступления честным трудом и раскаянием, и я вам в этом помогу. Завтра с утра две лодки доставят вас туда, где вы будете сравнительно свободны, но откуда не сможете сбежать. Это место достаточно просторно, чтобы там многие годы работали полсотни человек, и оно ждет вас. Но должен предупредить: это — остров, отрезанный от всего мира. Добраться туда можно только на лодках во время сезона дождей или же по опасным тропам, известным только нам. В сухой сезон вода превращается в болото, даже птицы боятся сесть на его топкий ил. Вы не выберетесь оттуда без моего позволения. Для начала вас снабдят одеждой и едой. А дальше будете работать!.. Получите новую еду и инструменты только в обмен на каучук. Так что лентяи пусть сами о себе позаботятся. Если же, против всякого вероятия, вы ухитритесь сбежать и я вас застану на моих землях, помните, что второй раз вам нечего ждать пощады. Ослушников ждет смерть!
ГЛАВА 9
Возобновление работ. — Жестокий, но полезный урок. — Место заключения беглецов. — А не поговорить ли нам немного о каучуке. — Каучуковая лихорадка. — Воспоминание о Ла Кондамине[68].— Специальные сведения по ботанике. — Старые методы эксплуатации. — Новый способ. — Надрезы на деревьях. — Сбор сока. — Испарение. — Заработок серингейро. — Шестьдесят франков в день! Одна Амазонка дает четыре миллиона килограммов каучука. — Состав сока гевеи. — Первое применение. — Вулканизация. — Застывший каучук, или эбонит.Благодаря быстрому и энергичному вмешательству Шарля Робена в усадьбе на Арагуари снова воцарился мир. Воспоминания о неожиданной опасности, грозившей существованию плантации, мало-помалу таяли. Но из этого нельзя сделать вывод, что пережитые тревоги полностью изгладились из памяти трудолюбивых охотников за каучуком. Отнюдь нет. Урок был жесток, но еще более полезен. К счастью, нанесен был только материальный легко восстановимый ущерб. Состояние двоих раненых, особенно негра бони Куассибы, вызывало серьезную тревогу, — но теперь опасность миновала. Сгоревший серингаль отстроили, и работа вошла в обычный ритм. По воле хозяина каторжников поместили в такое место, откуда невозможно было сбежать. Этот импровизированный острог находился посреди болот, между извилистым устьем реки Тартаругал и илистым озером Лаго-Реаль, которое соединялось с Арагуари каналом, судоходным только при наибольшем подъеме воды. Остров этот необыкновенно подходил для места ссылки. Он порос каучуковыми деревьями, группы которых возвышались над целым морем жидкой грязи. В течение полугода эту естественную преграду невозможно было преодолеть. Сама природа возвела здесь тюрьму, около трех лье в окружности, гораздо более надежную, чем все государственные остроги. Через полгода бегство, может быть, и удалось бы, но не так-то просто специально построить лодки для такого тяжелого плавания. Само собой разумеется, Шарль позаботился о том, чтобы у его опасных пленников не осталось ни одной лодки, так же как и инструмента для ее изготовления. Даже при самом худшем стечении обстоятельств он мог рассчитывать на шесть месяцев спокойной жизни. А за это время молодой человек мог не торопясь обдумать, что же делать дальше с непрошенными гостями. Но пока что бандиты довольно терпеливо переносили свое положение. Хорошо снабженные едой, одеждой и инструментом для работы, они обещали заняться как следует добычей каучука. И только будущее могло показать, насколько надежны эти обещания. Шоколад и два его товарища поселились в месте, указанном Шарлем, и усердно принялись за труд серингейро. Выносливые, сильные, ловкие, они за короткое время стали прекрасными рабочими. Научиться ведь можно легко, было бы на то желание. Что касается добычи драгоценного сока, столь широко применяемого в нашей современной промышленности, будет нелишним обрисовать, по возможности кратко, связанные с этим проблемы. Увлеченные драматическими приключениями наших героев, мы не имели времени, чтобы бросить хотя бы беглый взгляд на практические стороны добычи каучука. Подчас это ремесло прибыльнее, нежели добыча золота, во всяком случае, гораздо более легкое и не требующее особых предварительных затрат. Искатели каучука, так же как золотоискатели, имеют свои радости и восторги и свои огорчения. Если золотоискатель радуется, как азартный игрок, обнаружив руду с крупицами золота, если руки его дрожат, промывая лоток с рудой, где заключены золотой песок и самородки, то не менее счастлив и искатель каучука, которого чутье выводит на каучуконосную делянку. И то и другое занятие требует немалых усилий. Ведь золотые крупицы чаще всего перепадают в ничтожных количествах, самородки же — редкость, страстная мечта, и кто не пытался их найти, не останавливаясь ни перед какими затратами и препятствиями! Подобным же образом, хотя отдельные каучуковые деревья встречаются почти повсеместно по всей тропической зоне Америки, настоящий искатель каучука приложит все силы, чтобы найти место, особо благоприятное для их роста. Лучше всего такое, где деревья располагаются целыми группами. Огромные рощи каучуковых деревьев — те же залежи золота, мечта каждого серингейро! Встретить их — такая же удача, как наткнуться на богатейшую жилу. Если в свое время, особенно в Калифорнии и Австралии, рассказы о чудесных находках, о мгновенно нажитых несметных состояниях породили психологический феномен, так метко названный «золотой лихорадкой», то поиски и добыча каучука, а также небывалые барыши, заработанные на этом, породили точно такую же «каучуковую лихорадку». И можно представить, учитывая все растущие потребности современной индустрии, что в самом скором времени места эти станут пристанищем для нового потока эмигрантов — искателей каучука. Здесь открывается прекрасное поприще для энтузиастов.
__________
Уже с давних пор амазонские индейцы надумали применять загустевший сок каучука для изготовления различной домашней утвари. Но прежние путешественники никогда об этом не сообщали или не придавали этому особого значения. И только в 1736 году знаменитый Ла Кондамин, посланный в Южную Америку для измерения дуги меридиана, упомянул в своем докладе Академии наук об этом обычае, подмеченном им у индейцев маина, на реке Амазонке к юго-востоку от Кито. Вещество, имеющее любопытное свойство принимать любую форму и твердость после погружения в кипящую воду, издавна добывали из дерева гевеи и называли каучуком. Это название за ним так и осталось, а дерево стали именовать «hevea quyainensis». Но драгоценный сок содержится не только в дереве hevea quyainensis, или siphonia elastica. Кстати сказать, и растут такие деревья не только в Южной Америке. Каучуконосы разделяются на три различных семейства: euphorbiaceae — им принадлежит первое место по качеству и количеству вырабатываемого ими каучука, затем urticeae и apocyneae — эти встречаются чаще euphorbiaceae, но сок их ниже по качеству. Из первого семейства мы выделяем только hevea guyainensis, или siphonia elastica, прекрасное дерево, ствол которого достигает порой пяти метров в обхвате. К семейству urticeae принадлежат: ulaea elastica, которое растет в Центральной и Южной Америке, ficus elastica — в Индии, ficus radula и elliptica и urastigma elasticum — на Яве. К семейству apocyneae принадлежат: vahea gummifera, растущее на Мадагаскаре и Реюньоне, landolpha — в Габоне, urseola elastica и willougbeia edulis — в Ост-Индии, и collofora utilis, hancornia speciosa и cameraria latifolia — в Южной Америке. Способы добычи каучука, имеющие столь важное значение для качества этого вещества, еще очень несовершенны. Отдельные улучшения, правда, есть, но дело движется пока очень медленно. Прежде охотники за каучуком наискось перевязывали ствол толстой лианой на высоте 5–6 футов от земли. Затем делали надрез, «пускали кровь», оставляя насечки в коре повыше перевязанного места. Сок начинал изобильно выделяться, попадал на лиану и стекал по ней вниз в глиняный или деревянный сосуд у подножия. Но сока при этом терялось очень много. Предварительно серингейро изготовлял множество глиняных сосудов в форме бутылок, откуда и пошло название промысла серинга — бутылка. Он погружал эти бутыли одну за другой в клейкий сок, из которого под действием солнца или огня испарялась вода и образовывался слой каучука на бутыли. Операция эта повторялась до тех пор, пока слой каучука не достигал желаемой толщины. Тогда в дне бутылки пробивали отверстие и погружали ее в воду, чтобы глина размягчилась и вытекла, затем посуду несли на продажу. При таком методе добычи каучук содержал много примесей земли и воды, что плохо влияло на его качество. Этот примитивный способ был вскоре заменен другим, похожим, но более экономичным. Добытый таким образом материал несравненно чище. В Бразилии второй способ был известен под названием тигельхинас — маленькие чашки, или скорее, маленькие стаканчики. Вот в чем он состоял. Лиана не применялась. Серингейро делал на всю глубину коры надрезы длиной 3–4 сантиметра. К каждому надрезу при помощи комка мокрой глины прикреплялся стаканчик из белой жести. Операция эта проделывалась очень быстро, с утра, от восьми до одиннадцати часов. В полдень все стаканчики уже наполнялись молочно-белой немного маслянистой жидкостью. Рабочий обходил деревья с ведром, куда сливал сок, и снова прикреплял стаканчики на место. Затем он возвращался в свою хижину. Перед ней на открытой поляне была устроена «fumeiro», или коптильня. Это нечто вроде грубо сделанной печи, снабженной на конце трубой для выхода дыма. Топилась такая печь обычно плодами пальмы attalea excelsa или manicaria saxifraga. Глиняная бутыль заменялась деревянной лопаткой, похожей на валек, каким пользуются прачки, но с острыми краями. Серингейро окунал эту лопатку в сок и на несколько секунд подвергал действию дыма. Водянистая часть сока немедленно испарялась, и образовывалась тонкая пленка каучука. Операция многократно повторялась, в результате чего получался ряд слоев каучука, ровных, чистых и эластичных. Когда слой каучука достигал достаточной толщины, его снимали, ударяя по нему лопаточкой. Острые края лопатки разрезали слой, и получалось две прекрасные пластины отличного качества, которые тут же выставляли на солнце. При этом особенно важно было, чтобы влага максимально испарилась, так как вода вызывала брожение и приводила к полной порче всего материала. Копчение в дыму способствовало сохранности каучука, но, впрочем, не всегда. Короче говоря, брожение оставалось главным врагом серингейро. В последнее время были сделаны попытки усовершенствовать этот процесс, но способ, описанный нами, оставался наиболее употребительным. На этом труд искателя каучука заканчивался. Полученные им пластины отправлялись в Европу или Соединенные Штаты, где использовались для многочисленных нужд промышленности. Вполне естественно возникал важный вопрос: сколько же сока можетдать одно дерево? Сколько мог заработать в день усердный рабочий, выполнявший эту несложную работу? Ответ может поразить воображение. Это просто фантастика! Из трех литров сока гевеи получали килограмм сгущенного каучука, за который рабочему платили на месте четыре франка. Дерево около пятидесяти сантиметров в диаметре могло дать в среднем пятьдесят четыре литра сока, из него получали восемнадцать килограммов каучука, а это чистыми деньгами — семьдесят два франка в день. Если же деревья росли целыми группами, как в районе между Арагуари и Яри, и серингейро оказывался человеком усердным и работящим, то он мог получать пятнадцать килограммов каучука за день, то есть — шестьдесят франков в день! Рабочий сезон охотников за каучуком длился с апреля по декабрь. За двести дней работы человек мог получить три тысяч франков. Более десяти тысяч индейцев тапуйя и параепсов были заняты ежегодно этим промыслом, и один город Пара продавал пятнадцать миллионов килограммов каучука каждый год. В три раза больше, чем Французская Гвиана продавала золота! Посредники между производителями и покупателями также находили свои способы нажить барыши. Они скупали продукт на месте и собирали его в большие партии перед отправкой — об этом свидетельствовала средняя цена на рынке в Гавре: от десяти до двенадцати франков за килограмм каучука, смотря по качеству. Добавим еще, что этот промысел оказался настолько выгоден в некоторых областях Бразилии, что одна провинция Амазонка экспортировала каучука до сорока миллионов килограммов в год, на сумму примерно сорок миллионов франков. И эти сорок миллионов извлекались из маленьких стаканчиков, прикрепленных к дереву гевее! Как красноречиво описывал в своей замечательной книге «Страна амазонок» известный писатель Санта-Анна Нери, этот экономический феномен тем более поразителен, что не использовался рабский труд, как на кофейных плантациях юга страны или на сахарных и хлопковых в ее центре. Эмигранты из других стран также не участвовали в этом промысле. Им были заняты только коренные бразильцы, местные или пришлые из других провинций — именно этим серингейро удалось достичь столь впечатляющих результатов. Теперь закончим вкратце этот необходимый научный экскурс, без которого наш роман «Охотники за каучуком» был бы во многом непонятен. Но прежде чем возобновить рассказ о приключениях наших героев — еще немного физики и химии. Каучук в чистом виде бесцветен и прозрачен, но тот, что поступает в продажу, всегда бывает коричневого цвета разной интенсивности. Цвет этот получается при окуривании дымом. В итоге мы имеем мягкое, гибкое вещество, эластичное при температуре десять градусов. Оно не подвержено воздействию воздуха и совершенно непромокаемо. При горении каучук дает яркое пламя с неприятным запахом и сразу же сплавляется, если соединить два разрезанных куска. В кипятке он размягчается, но не растворяется, как и в спирте. Растворителями каучука являются: очищенный керосин, эфир, скипидар, бензин и в особенности сероуглерод. Сок, вытекающий из дерева, согласно анализу Фарадея[69], содержит в 100 граммах следующие элементы: каучука — 31,70 г, растительного альбумина — 1,90 г, воска — следы азотистых веществ, растворимых в воде и не растворимых в алкоголе — 7,13 г, веществ, растворимых в воде и растворимых в алкоголе — 2,90 г, воды — 56,37 г. Что же касается каучука в чистом виде, без посторонних примесей, он состоит из углеводородов и содержит 87,2 части углерода и 12,8 водорода. Известно также, что каучук плохо проводит тепло и не проводит электричество. Сперва каучук применялся для самых скромных целей — как ластик для очистки бумаги и обоев — и ничто не предвещало его столь широкого употребления. Физик Шарль[70] одним из первых использовал непроницаемость для воды и эластичность каучука, растворив его в скипидаре и покрыв этой смесью воздушный шар (в 1785 году). Спустя пять лет каучуком стали пропитывать ткани и изготовлять рессоры. В 1820 году Надлер ввел нити каучука в основу ткани. Но только Макинтош[71] добился получения непромокаемой одежды, поместив слой каучука между двумя слоями шерсти. В 1840 году состоялось важное открытие, сделавшее каучук универсальным материалом. До сих пор каучук был подвержен воздействию высоких температур, из-за чего терял часть своих качеств и применялся ограниченно. Так, если при сильной жаре он размягчался настолько, что прилипал к коже и одежде, то при холоде уменьшалась или совсем терялась его эластичность. Вулканизация, изобретенная двумя англичанами — Ханкоком и Броди[72], свела на нет эти серьезные недостатки. Им удалось сделать каучук абсолютно нечувствительным к воздействию высоких температур, при том что он сохранял непромокаемость, гибкость и почти полную эластичность. Соединение с серой в той или иной пропорции, в зависимости от желаемой степени твердости, — вот в чем состоял секрет вулканизации. С тех пор каучук нашел применение для разнообразных целей. Промышленность стала вырабатывать каучуковые трубы, мячи для детей, эластичные ткани для подвязок, подтяжек, поясов, лечебных чулок, хирургические инструменты, зубные щетки, спасательные круги, губки, типографские валики, пожарные шланги, половики, обувь, различные игрушки, рессоры, бильярдные шары, акустические приборы, подушки. Все невозможно даже перечислить. Если количество серы продолжать увеличивать, то каучук теряет эластичность, твердеет, как черное дерево, и блестит подобно панцирю черепахи. Если его размягчить при температуре 150°, словно тесто, и добавить 1/5 часть серы от общего веса, получится твердый каучук, или эбонит. Сульфуризация делает каучук еще более крепким и устойчивым к действию растворителей. Таким образом, каучук мог принимать какую угодно форму и служить для любых целей.ГЛАВА 10
Жизнь охотника за каучуком. — Другие времена, другие нравы. — Колонисты прежние и нынешние. — Время — деньги. — Без передышки. — Как относятся к делу дикие индейцы. — Верность обязательствам. — Цивилизованные индейцы развращаются. — Неожиданное появление Шоколада. — Побег ли это? — Несчастье на скотном дворе. — Таинственные воры. — Никаких следов! — Прием индейца Пиражибы. — Ловушка. — Результаты охоты. — Гигантская змея Амазонки.При первом взгляде на будни владельца каучуковой плантации кое-кто решил бы, что жизнь его — сплошное безделье и купание в роскоши, которую обеспечивают ему текущие рекой деньги. Можно представить себе серингейро кем-то вроде восточного сатрапа[73], который нежится среди первобытной роскоши тропиков, наслаждается отменной, хотя и несколько экзотичной местной едой, охотится, если пожелает, и предается сладостному безделью в долгие послеполуденные часы. Ведь это так приятно в гуще лесов! Рассказы о жизни прежних плантаторов, этих виртуозных бездельников, немало способствовали такому заблуждению. Но теперь другие времена, другие нравы. Плантатор доброго старого времени только вначале давал себе труд позаботиться и наладить производство на плантации, после чего все уже шло по заведенному порядку, и ничто не отвлекало владельца от его эпического безделья: земли обрабатывались кое-как, по устаревшим правилам, рабы сажали и убирали сахарный тростник, затем он мололся на примитивной мельнице, по старой мето́де добывался сок и отправлялся на сахарные заводы в Европу. Плантатор и не помышлял о том, чтобы усовершенствовать процесс выработки или улучшить качество продукции. Да и зачем! Он и так вкусно ел и пил, нежился в тени в гамаке, курил отличные сигары и катался то верхом, то на лодке. Этого вполне хватало, чтобы провести время. Короче говоря, владелец никогда даже не видел свою курицу, несущую золотые яйца, и получал все в готовом виде, нимало не интересуясь источником своего богатства. Поэтому он был не способен справиться с кризисом или обеспечить свое будущее. Может быть, этот удивительный умственный и физический застой следует приписать гнусному обычаю существования рабства, при котором одна половина человечества истязает другую, сама при этом вырождаясь морально. Но, как бы то ни было, мощный порыв смел эту одуряющую спячку. Повсюду, во всех слоях общества, во всех отраслях торговли и производства, в любой стране был взят на вооружение американский девиз: «Время — деньги!» Никто не избежал разительных перемен. Рудокопы, скотоводы, владельцы табачных, сахарных и кофейных плантаций, золотоискатели — все трудились наперебой, не покладая рук, стараясь делать свое дело как можно лучше. Принесет ли столь мощный взрыв энергии, пришедший на смену прежней апатии, добро человечеству? Возможно, эти бурные перемены еще вызовут сожаление о прежней созерцательной жизни у некоторых любителей экзотики. Но что их ребяческие доводы в сравнении с очевидным взлетом мысли и труда, общим благом и процветанием! Итак, теперь владелец каучуковой плантации не ограничивался тем, что посылал своих людей привязывать стаканчики к деревьям и терпеливо ожидал их возвращения с готовыми пластами каучука, после выпаривания жидкости. Нет, задача стала вовсе не так легка. Хозяин должен был прежде всего позаботиться о нуждах своих ста пятидесяти или двухсот рабочих. И не только об их текущих сиюминутных потребностях, но и — по крайней мере — о годовом запасе всего, что может им понадобиться. Только две трети людей были заняты сбором каучука. Остальные же расчищали и возделывали землю. Они выращивали маис, маниоку, бататы. Разводили скот, улучшали пастбища, строили загоны. Сажали сахарный тростник, кофе и бананы, собирали хлопок. Трудности с добычей пропитания и раньше вынуждали людей заниматься земледелием, наряду с промыслом каучука. Но и это не все. Оставался еще сбор диких плодов, дававших масло, таких, как ауара, куму, карапа или тонка; плодов, дающих волокна, — махо или пиассаба, затем — ловля черепах, рыбы пираруку[74], основного местного продукта питания. Все это надо было вялить и заготавливать впрок на складах. А лодки, а рыболовные снасти? Разве это не требовало рабочих рук? Все, кому известны лень и безынициативность негров, знают, что они и пальцем не шевельнут без приказов и распоряжений хозяина. Он уже с утра осматривал пастбища. И видел: один из лучших выпасов зарос дикой травой, заглушавшей жесткими стеблями кормовые культуры. Тотчас же следовало направить людей — поджечь пастбище, следя при этом, чтобы огонь не перекинулся на всю саванну. Затем являлся старший рабочий и сообщал, что на его участке каучуковые деревья уже истощили запас сока. Значит, не миновать отправляться на поиск новых деревьев, по многу дней бродить по лесу с компасом, вести жизнь бродяги. Отыскав подходящий участок, надо доставить туда инструменты и наладить работу. Ну а там приходило судно с почтой из Кайенны или Пары и привозило сведения о мировых расценках на товары. Но что-то сломалось в машине корабля, и предстояло устранить поломку. А то и поставить новую деталь. Все это делал сам хозяин. А тут еще у одного из рабочих случился солнечный удар, другой трясется в лихорадке, третьему сломало руку упавшее дерево. И всех их надо было лечить, обо всех позаботиться. А затем — являлась группа диких индейцев прямо из лесу. Они хотели торговать. Прежде всего их надлежало принять достойно. Это самые лучшие работники, и что важнее всего — самые честные. Очень редко удавалось сделать краснокожих оседлыми, и Шарль сотворил настоящее чудо, когда сумел уговорить поселиться на усадьбе пятнадцать индейцев со своими семьями. Они стерегли стада, эта бродячая жизнь не нарушала их кочевых привычек. Новоприбывшие абсолютно не говорили ни по-португальски, ни на lingoa geral, общепринятом наречии индейцев Амазонки. Но при желании всегда можно было договориться. Вот приплыла группа — человек двенадцать: мужчины, женщины, дети в эгаритеа, крытой листьями. Самый старый из них был, конечно, вождь, в руках он держал трость — знак власти. Старик вышел из эгаритеа и направился прямо к хозяину. Тот повел его на склад. Дикарь совсем не проявлял удивления перед таким обилием товаров и молча указывал на пилу, топор, зеркало, нож, бусы, гвозди, проволоку и так далее. Он выбирал наугад все, что нравилось, собирал приобретения в кучу и относил в лодку, все так же молча и величаво. Затем вождь замечал груду каучука и отбирал из нее то количество пластин, которое, по его мнению, равнялось по цене отобранным им товарам. Шарль делал отрицательный знак головой. Вождь некоторое время размышлял: не вернуться ли к лодке и не возвратить взятый товар? Но нет, он молча увеличивал количество каучука и вопросительно глядел на Шарля, как бы спрашивая: «А теперь достаточно?» Шарль кивал в знак согласия. Итак, сделка заключена. Индеец становился спиной к солнцу, показывал на небо и поднимал четыре пальца. Это означало: через четыре луны я принесу тебе столько каучука, сколько ты видишь в этой груде. Далее он вынимал трубку и глядел на хозяина. Тот приказывал принести индейцу прессованного табаку. Вождь заходил в одну из хижин, брал горящую головню и уносил в свою лодку, затем ставил парус и брался за руль, все это молча, без единого жеста. Остальные, казалось, ничего не видели и не слышали. И тем не менее все видели и знали, что сделка заключена. В указанное время, день в день, та же лодка с людьми причаливала к берегу. Они переносили на склад условленное количество каучука с точностью до единого куска. Их вождь снова доставал трубку и кубок, едва ли меньше тех, из которых некогда пили герои Гомера. В чашу наливали тафии, и старик пил вволю, затем пили все соплеменники, включая женщин и детей. Когда огненная вода была выпита, один из индейцев снова шел в хижину — захватить в дорогу горящую головню. После чего индейцы уезжали, чтобы вернуться так же, как приезжали, по воле случая или по собственному желанию. И так они поступали всегда, не изменяя данному слову, не нарушая своего обещания. Но увы! Все это относилось только к диким индейцам. Их цивилизованные собратья, племена тапуйя или кабокю, жившие в низовьях Амазонки вместе с белыми или метисами довольно распущенного нрава, уже не отличались той безупречной честностью, что присуща была диким индейцам. Поэтому неприятные случайности ежедневно вторгались в жизнь серингейро. А ведь он еще должен был находить время на воспитание своих детей, чтобы из них не выросли белые дикари. Бывали и другие неожиданные происшествия, как мы недавно видели при набеге каторжников, и увидим вскоре опять. Все это влекло за собой массу трудов, огорчений и переживаний. …Миновало около двух с половиной месяцев с того дня, как Шарль так успешно отстоял свое жилище от каторжников-грабителей. Он только что расстался с молчаливыми индейцами, уплывшими на лодке, как мысли его вдруг обратились к Шоколаду и двум его сотоварищам, которых Шарль не видел со времени происшествия на поляне. От своих рабочих он знал, что все трое здоровы и хорошо трудятся. И уже с удовольствием думал о времени, когда этих людей можно будет переселить на усадьбу и причислить к остальным рабочим, жившим здесь. Поразмыслив над тем, что даже в условиях каторги эти люди сумели не поддаться тамошнему моральному разложению, а теперь усердно трудились, не покидая своего места, как им было приказано, Шарль решил их простить. Не разделяя иллюзий оптимистов, видящих в каторжниках только «заблудших братьев», не ведавших доброго примера, молодой человек тем не менее считал, что некоторые из них стали преступниками по воле случая. Отчего же работой и раскаянием не искупить им свою вину, чтобы снова достойно вернуться в общество? Шарлю уже приходилось видеть такое возрождение. Разве бывший фальшивомонетчик Гонде, став доверенным его отца, двадцатью годами безупречной жизни не искупил преступление, приведшее его на каторгу? Вот и сейчас — можно было надеяться, что духовное возрождение каторжников совершилось и они уже не свернут с доброго пути. Но тут Шарль не смог сдержать возгласа изумления и разочарования при виде высокого мужчины — тот шел к нему, тяжело ступая, низко опустив голову. С видом крайнего замешательства подошедший снял шляпу, несмотря на палящее солнце. Это был Шоколад. — Наденьте шляпу, — резко сказал ему Шарль, — вы рискуете получить солнечный удар. Затем, со строгостью, скорее напускной, чем настоящей, молодой человек спросил: — Чего вы хотите? Зачем явились сюда без моего разрешения? Гигант побледнел, задрожал, как нашаливший ребенок, и стал несвязно бормотать извинения. Шарль, увидев волнение бедняги, успокоил его. Конечно, только важная причина побудила того нарушить запрет. — Ну, дружок, — сказал он более мягко, — объясните же, в чем дело. Обычно, когда каторжнику случается говорить со свободным человеком, он говорит излишне долго, вычурно и витиевато, как будто доказывая самому себе, что он еще не разучился красиво изъясняться даже на каторге. Молодой человек, которому уже приходилось беседовать с подобными людьми, знал эту особенность и поэтому чрезвычайно оценил краткую речь Шоколада. — Вы сказали, господин, — произнес Шоколад своим глухим, как бы сдавленным голосом, — что в случае серьезной опасности или болезни один из нас может прийти сюда — известить об этом. Вот я и пришел. — Опасность, вы говорите? Но какая же? — Я, право, не знаю, господин. Но вот уже неделя, как нас каждую ночь обкрадывают… — Ну, говорите же, я вас слушаю. — Воры объявились, видите ли! Помните, вы нас троих застали в такой плохой компании? А вдруг это они воротились?.. — Это совершенно невозможно… — Конечно, вам видней. Да только у нас происходят странные вещи. Вы, по доброте своей, прислали нам свиней, овец и птицу. Дела на скотном дворе шли на лад, наш араб в этом понимает. И вдруг неделю назад, утром, мы видим, что изгородь разломана и одной свиньи недостает. Назавтра — другой нет, через день — третьей. А потом овцы пропали. Теперь у нас только птица осталась. — И вам не удалось поймать вора? — Мы караулили, да без толку. И что самое странное, мы не обнаружили никаких следов. Мы уже было подумали на ягуара, но в округе их нет, это точно. — Странно все же! Может, вы не заметили следов? Но я пошлю с вами двух индейцев. В лесу для них тайн нет, я уверен, что они что-нибудь обнаружат. — Ну а если, господин, это какие-нибудь бродяги… Они так заметают следы, что даже индейцев могут провести. Я в свое время жил подолгу в лесах вместе с краснокожими и кое-чему у них научился, а все-таки совсем ничего не заметил. — Ладно, сделаем еще лучше, — решил Шарль. — Я сам с вами отправлюсь, вместе с индейцами, и возьму еще нескольких негров. Вы пока отдохните, ступайте в хижину, вас там накормят, а завтра с утра поедем. — Осмелюсь попросить вас, господин, разрешить мне сейчас же вернуться назад. Мои бедные друзья ночью без меня со страху помрут. — Раз такое дело, поедем сейчас же. В лодку немедленно сложили провиант, оружие и гамаки. Шарль простился с семьей, готовый, как всегда, взять все трудности на себя. Отряд разместился в лодке. Путь по воде занимал больше времени, зато не был так утомителен, как по суше. Экипаж лодки — два индейца и два негра, с Шарлем и Шоколадом — прибыл на место за час до захода солнца. У Шарля было достаточно времени, чтобы обследовать всю местность вокруг жилья, поискать следы грабителей и сделать выводы. Вместе с неразлучным Пиражибой он несколько раз обошел вокруг хижины, в то время как остальные приготовляли все для ночлега и чинили загородку загона, куда должны были поместить двух свиней. Не прошло и десяти минут, как индеец показал хозяину длинный след в траве и произнес одно лишь слово: — Сикуриу! — Слава Богу, — воскликнул Шарль со вздохом облегчения, — это всего лишь змея! Затем вернулся в хижину и сказал Шоколаду: — Успокойтесь, мой друг, теперь мы знаем вора. Вы правильно сделали, что меня предупредили, так как эта тварь, ничего не найдя себе по вкусу на скотном дворе, сожрала бы одного из вас при первой же возможности. Это гигантская змея, судя по ее следу. Ну, дружище Пиражиба, ты знаешь, что делать. Мы должны ее поймать нынче же ночью. — Да, хозяин, — невозмутимо ответил индеец и, не теряя даром времени, пошел к лодке, достал один из тех огромных крючков, на которые ловят самую крупную рыбу, и привязал его к дереву на двойной канат. Подобный крюк мог выдержать добычу весом более тонны. Наживкой должна была послужить одна из двух привезенных свиней. Она с удобствами расположилась в пустом загоне и теперь похрюкивала, со смаком уписывая кукурузу. Индеец оторвал ее от приятного занятия и, не обращая внимания на вопли, сделал на свиной спине два продольных параллельных надреза, затем продел под кожу в жировой слой острие своего ножа, так что получилось нечто вроде петли для крючка. Такой способ называется у рыбаков ловлей на живца, подобным образом насаживают на крючок рыбу для приманки. Бедная свинья перестала орать после мучительной операции и лежала смирно, уже не пытаясь избавиться от стального крючка, засевшего под кожей. Наступила ночь, но обитатели хижины не спали в беспокойном ожидании, сохраняя полную тишину. Вдруг свинья, до сих пор лежавшая тихо, начала отрывисто похрюкивать. — Это змея пришла, — пробормотал один из негров, — она очень голодная. — Тихо, — шепотом приказал Шарль. Похрюкивание свиньи внезапно перешло в вопль ужаса, затем послышался тихий шелест в траве. И полная тишина минут на пятнадцать. Змея, конечно, была здесь. Но заглотнула ли она приманку? Вскоре раздался треск. Затем шум, как от упавшего дерева, отчего затряслась вся хижина. — Ага, попалась, старая мать-змея! — весело закричал негр бони, до глубины души ненавидевший всех гадов. Но, неосторожно выглянув из хижины, он тут же свалился на пол, крича от ужаса. Что-то огромное, тяжелое, чьи размеры скрывал мрак, пролетело мимо него, как буря, со свистом и грохотом. Загородки хлева разлетелись в щепки, как под натиском циклона, земля задрожала, во все стороны полетели обломки, и в воздухе разлился тошнотворный запах мускуса. К счастью, негр отделался легким испугом. Он ползком вернулся в хижину и пробормотал, стуча зубами: — Господин, бома (змея) заглотнула наживку и крутится вокруг дерева. Если она вырвет крючок, мы погибли. Шарль, не отвечая, высек огонь и зажег несколько факелов из каучука, которыми пользуются в серингалях, они дают ослепительно яркий свет. Ловушка индейца сработала прекрасно. На крючок попалась гигантская змея, живущая в пустынных дебрях Амазонки. Никогда за двадцать пять лет жизни в тропических лесах молодой человек не видывал подобного чудовища. При колеблющемся свете факелов змея казалась еще ужаснее. Она заглотнула свинку, не обратив внимания ни на присутствие людей, ни на канат, привязанный к наживке. И теперь стальной крюк глубоко засел в горле рептилии, не поддаваясь на все попытки извлечь его. При этом чудовище дергалось, то свиваясь в клубок, то сгибаясь дугой. Затем эта отвратительная масса зеленых колец вдруг развернулась, и змея обвилась вокруг дерева вниз головой. Разъяренная болью, раздиравшей ей горло, и невозможностью освободиться, она свалилась на землю и поползла вокруг дерева. Шарль, боясь, что канат не выдержит такого напряжения, решил покончить с гадиной. Улучив момент, когда чудовище, обессилев, на минуту замерло, он всадил ему в голову две пули из карабина. Смертельно раненное, чудище еще содрогалось в течение нескольких минут, — настолько живучи подобные монстры, — и наконец замерло неподвижно. Через полчаса стало ясно, что змея и вправду мертва. Шарль со своими людьми подошел к ней, не веря глазам. Зажгли факелы, и молодой человек, повинуясь вполне законному любопытству, захотел измерить убитое животное. Так как половина тела змеи была свита в кольца, он приказал взять ее за хвост и вытянуть. Но туша была настолько тяжела, что все эти крепкие, здоровые люди едва сдвинули ее с места. Шарль измерил длину двадцатью двумя шагами, каждый равнялся примерно одному метру. Посередине тело змеи было огромно, как бочка для вина. По черным пятнам на сером фоне, особенно же по размерам, молодой человек признал в ней анаконду (eunectes murinus), или сикуриу, как называют ее бразильцы. Ее не следует путать с боа, так как эта змея живет в основном в воде. Но все на свете имеет конец, даже изумление, граничащее с оторопью. Поэтому Шарль, очень довольный результатом экспедиции, щедро угостил ее участников тафией и табаком, после чего все мирно заснули в гамаках, дожидаясь утра, чтобы приступить к выделке змеиной шкуры.
ГЛАВА 11
Утро в девственном лесу. — Натуралисты-любители. — Кожа змеи. — Приятный сюрприз. — Работа трех товарищей. — Что араб и мартиникиец хотят сделать со своими деньгами. — Возвращение на пироге. — Груз каучука. — Хозяин выбирает дорогу по суше. — Семья на пристани. — Ни белых, ни черных — все люди братья. — Прелестная картина. — Тень. — Разочарование. — Ожидание. — Тревога. — Опасения. — Шарль не возвращается. — Поиски. — Испуг лесных бродяг. — Закуривая сигару. — Катастрофа. — Страшное пробуждение.Долгая тропическая ночь подошла к концу. Тукан своим меланхолическим криком приветствовал появление солнца, па́рами летали говорливые попугаи, издавая резкие крики, вдалеке гнусаво кричали гокко, а агами издавали звуки, напоминавшие сигнал боевой трубы. Внезапно солнце зажгло, как пожаром, верхушки деревьев, густой покров тумана, окутывавший поляну, сразу рассеялся, и сумрак почти без перехода сменился светом. Как обитатели, так и гости одинокой хижины уже давно пробудились. Но присутствие хозяина помешало тому шуму и гаму, с каким всегда просыпаются негры. Шумные и веселые, как большие дети, они обычно начинают день криками, возней, дикими прыжками и гомерическим хохотом. Ночь на нулевом градусе широты, длящаяся около десяти часов, с избытком позволяет восстановить силы, затраченные на ежедневный труд, вот откуда эта естественная потребность в шуме и движении, особенно у негров, которые всегда отличались веселым нравом. Шарль же, как большинство европейцев, даже привыкших к местному климату, засыпал поздно и поэтому проснулся последним. — А теперь, ребята, — весело закричал он, соскочив с гамака, — давайте умываться! Воды на всех хватит, выпивки тоже. В лодке у меня бочонок тафии, кто справится раньше всех — получит двойную порцию. Как и следовало ожидать, ни первых, ни последних не оказалось, все были готовы одновременно. Утренний туалет заключался в общем погружении в реку, где смешались черные и красные тела, затем негры и индейцы, еще мокрые, галопом помчались пить любимый нектар из сахарного тростника. После этого хозяин не мешкая приказал приступить к снятию змеиной шкуры. Обычно это совсем несложная операция, даже если животное достигает больших размеров. Шею змеи обвязывают лианой и подвешивают на поперечном суку дерева. Затем возле горла змеи втыкают нож, и человек спускается, оседлав чудище и держась за нож. Под тяжестью тела нож отлично разрезает шкуру змеи от головы до хвоста. Затем человек снова взбирается наверх, подрезает кожу вокруг змеиной шеи, привязывает к ней лиану. Его товарищам остается только потянуть за ее конец, чтобы снять без особого труда эластичную и упругую кожу. Но при гигантской величине и огромном весе убитого страшилища этот способ совершенно не годился. Потребовалась бы по крайней мере лебедка, чтобы поднять такую тушу вверх, и, кроме того, человеку нормального роста было бы очень трудно спускаться, обхватив тело змеи, ведь по толщине оно было как огромный цилиндр. Шарль предпочел производить эту операцию на земле, приподымая тело змеи шестами, чтобы легче скользила шкура. Работа шла медленно, но без особых осложнений. Снятую шкуру натерли золой и скатали — до окончательной выделки. А пока зола предохранит от насекомых и гниения. Когда работа была закончена, Шарль в ожидании завтрака стал осматривать участок, эксплуатируемый его новыми рабочими, и подсчитывать количество добытого каучука. Обычно крайне скупой как на похвалу, так и на упреки и высказывавший их только в редких случаях, здесь молодой человек не стал скрывать удовлетворения полученным результатом. Еще бы! Около трех тысяч килограммов каучука превосходного качества! Чистого, однородного, отлично высушенного, могущего удовлетворить самого разборчивого покупателя. Кроме того, пласты каучука не были набросаны в кучу как попало, по обыкновению негров, а аккуратно сложены на деревянных полках, с промежутком для доступа воздуха — прекрасный прием, который облегчал испарение и препятствовал нагреванию и брожению уже готового каучука. Но это еще не все. Три товарища вырыли под полками ямки, где время от времени разводили небольшой огонь, который изгонял остатки влаги и довершал приготовление материала. Эти добавочные усилия, хоть они и казались излишними, повышали цену за один килограмм каучука на целый франк. — Прекрасно, друзья мои, прекрасно! — сказал Шарль, не скрывая своего одобрения. — Каждый из вас получит по тысяче франков сверх условленной платы. — Тысяча франков! — радостно воскликнул араб. — Тысяча франков серебром? — Да, наличными, если пожелаешь, дружок. А для чего тебе столько денег? Тут их не на что тратить. — Моя ехать назад, Алжир. Потом покупать лошади, мулы, кормить моя старая мать, мукэр (жену) и дети… — Но ты же, бедняга, не можешь вернуться в Алжир, тебя снова вышлют в Кайенну. — О, я знаю это. Но если я хорошо работать, ты попросишь президента республики меня помиловать. — Конечно, я так и сделаю!.. Но разве ты уже хочешь со мной расстаться? Подумай, ведь здесь ты быстро разбогатеешь, а там тебе придется влачить жалкое существование. — Господин прав. Но старая мать, жена, дети! — Кто же мешает тебе вызвать их сюда? Они станут членами нашей семьи. Я могу им написать, когда ты захочешь, хоть прямо сейчас. — О, господин! — воскликнул бедняга, не веря своему счастью. — Если так, я оставаться с тобой вся моя жизнь и верно служить тебе. — Решено, ты здесь станешь основателем алжирской колонии. Ну а ты, приятель, — обратился Шарль к мартиникийцу, который что-то усердно и безуспешно считал на пальцах. — Моя не может сосчитать все, господин, денег много. — Не бойся, я за тебя посчитаю. Ты тоже хотел бы вернуться домой? — Моя не так глупый. Я останусь здесь, с домом господина. На Мартинике негр голодает, а здесь я буду богатый, как помещик. — А тебе не скучно будет жить одному, без семьи? — Моя знать в Кайенна одна добрая негритянка, если хозяин разрешать ей приехать, моя будет доволен, как негры у себя в стране и все негры в Кайенне и Мартинике. — Хорошо, приятель! В следующий раз мы привезем из Кайенны твою негритянку, и я похлопочу о твоем помиловании. А теперь, дети мои, хватит разговоров. Пойдем завтракать, а потом отвезем каучук на склад. Что же касается вас, — обратился Шарль к Шоколаду, — я позже поделюсь с вами моими планами. — К вашим услугам, — просто отвечал Шоколад своим глухим и всегда печальным голосом. Каучук погрузили в лодку сразу же после скромной совместной трапезы. Нагруженное до краев суденышко отправилось в обратный путь вместе с экипажем наиболее сильных гребцов. Так как ме́ста для всех не хватило и на реке было слишком знойно, Шарль решил возвращаться домой посуху. Араб и мартиникиец оставались на участке, а молодой француз отправился в путь вместе с индейцем Пиражибой. Шоколад уехал на лодке вместе с остальными. На следующий день он должен был вернуться на участок с запасом провизии и доставить в усадьбу оставшийся на берегу каучук. Обе группы расстались около девяти часов утра. Само собою, лодка, хотя и тяжело нагруженная, прибыла первой. Как только это стало известно, из дома сейчас же явились жена и дети Робена вместе с красивой негритянкой, вокруг которой вился веселый рой курчавых негритят с лоснившейся кожей, и с ними высокий негр, опрятно одетый в хлопчатую блузу и белые штаны. На голове — соломенная шляпа, в зубах — сигара. Он держался с большим достоинством. Ломи, названый брат Шарля, был одним из сыновей старого Ангоссо, верного друга Робена-отца, делившего с ним горе и радость. Счастливый супруг негритянки Ажеды и не менее счастливый отец, Ангоссо прекрасно выглядел среди всех этих хорошеньких негритят, которые воспитывались вместе с детьми хозяина на правах братьев. Невозможно представить себе зрелище более привлекательное, чем эта группа. Прелестная жена серингейро, блондинка с бело-розовой кожей, в изящном голубом платье, дружески оперлась на руку рослой негритянки. Та была по-своему великолепна в ярком мадрасском платке[75], затканном золотом, и в пестрой «камизе»[76], которая развевалась, как яркие перья попугая ара. А обнимающиеся дети? Им были совершенно неведомы все сословные и расовые различия, они любили друг друга от всего сердца, и цвет собственной кожи интересовал их не больше, чем колибри[77] заботят переливы оперения, а мотыльков — расцветка крыльев. И наконец, что может быть трогательнее, чем эта нежность, с которой обе женщины глядели на шумный рой детей? Их глубокой материнской любви хватало на всех ребятишек — и на своих, и на чужих. Что же касается Ломи, то у него просто ум за разум заходил от счастья, когда все эти черные и белые малыши носились вокруг, называя его попросту «папаша Ломи». Но вскоре темное облачко омрачило эту милую картину. Шарля не было на его всегдашнем месте, на носу пироги! Обычно его появление было сигналом ко всеобщей бешеной беготне. Каждый хотел подбежать и приласкаться первым, но силы детей были неравны, что иногда приводило к забавным и неожиданным результатам. — Почему нет папы Шарля? — хором спрашивали дети. — Почему с вами нет господина? — в свою очередь, спросил Ломи у прибывших. Все оказалось в порядке. Хозяин возвращался по суше вместе с Пиражибой, решив осмотреть по пути заново отстроенный после пожара серингаль, где уже работали другие люди. Но как ни кратковременна была эта отсрочка, она всех опечалила, и маленькая группа, заметно погрустневшая, разошлась по домам. Остался только Ломи — присмотреть за выгрузкой каучука и его доставкой на склад. Он радушно встретил Шоколада, которого сам обучил ремеслу серингейро, и в ожидании прибытия хозяина поместил гостя в удобной хижине. Минута за минутой бежали в обычных занятиях для жителей маленького поселка. Два, три часа — и все никого. Госпожа Робен, хотя и привыкшая к частым отлучкам мужа, в этот раз была встревожена. Маленький Анри, который после урока английского стрелял из лука со своими всегдашними товарищами, детьми негра Ломи и индейца Табиры, заявил, что пойдет встречать отца. — Потерпи, дорогой, — сказала мать, далеко не такая спокойная, как казалась, — он скоро придет. Четыре часа, и никаких известий! Ломи, видя беспокойство хозяйки, предложил отправиться на розыски Шарля. Но она возражала, ведь хозяин категорически запретил всем отлучаться из дому в его отсутствие, с тех пор как в округе появились каторжники. И хотя бандиты были заточены в надежном месте, все же приказ не был отменен. Ломи неохотно ему подчинился, но Табира мог отправляться на поиски вместе со своим товарищем. Два индейца молча вооружились, один — луком, другой — сарбаканом, с этим оружием они управлялись гораздо ловчее, чем с огнестрельным. Краснокожие ушли в путь тем длинным шагом обитателей амазонских лесов, которые могут перещеголять в своей неутомимости жителей Кордильер. Нельзя было сделать лучшего выбора. Это были самые опытные и смелые лесные охотники изо всех обитателей поселка, и к тому же — искренне привязанные к Шарлю. Южноамериканский индеец редко дает себя приручить, но остается верным другом до смерти тому, кто сможет найти ключ к его сердцу. Зато как драгоценны подобные союзники, крепкие, как бронза, выносливые, неутомимые, как хищники диких лесов, чьи повадки они знают в совершенстве, невероятно ловкие и сильные! Шарль всего лишь задержался? Скоро они это узнают и с быстротой горных коз принесут ободряющие вести. Стал ли хозяин жертвой несчастного случая? Они смогут ему оказать помощь, ведь они очень сильны и сообразительны. И наконец, вещь маловероятная: он подвергся нападению хищников или злых людей? Так или иначе, где бы ни оказался господин Робен, они быстро нападут на его след и узнают, какая именно помощь необходима. После полутора часов невероятно быстрой для европейца ходьбы оба индейца оказались невдалеке от первой хижины. Вдруг Табира, шедший первым, резко остановился и указал товарищу на следы, которые даже не потрудились скрыть. Оба индейца застыли неподвижно и, несмотря на свою обычную невозмутимость, выказали признаки волнения. Они быстро обменялись несколькими отрывистыми словами на своем родном языке и бросились бежать по лесу, взяв на изготовку лук и сарбакан. Что же так взволновало этих людей, обычно столь невозмутимых, которых не заставляет даже вздрогнуть угроза близкой смерти?
…Шарль только что отошел от второго карбета. Хижина была пуста, что казалось совершенно естественным, ведь в это время все ее обитатели находились на работе в лесу. Окончив осмотр, он продолжил свой путь, порой останавливаясь, чтобы срезать прутик дерева себе для трости. Шарль шел легкой походкой, изредка обмениваясь парой слов с индейцем. Тот курил длинную, еле тлеющую сигару и ворчал, обнаружив, что потерял огниво. Какие пустяки! Шарль достал свой кремень и огниво, высек огонь и протянул Пиражибе, чтобы тот мог как следует раскурить сигару. Вдруг индеец, стоявший к нему лицом, выронил сигару и отскочил назад, с ужасом крича: — Хозяин, берегитесь! Но молодой человек не успел не только защититься, но даже увидеть, откуда грозит опасность. Что-то резко просвистело над его головой. И в тот же миг что-то сдавило горло Шарля с такой силой, что у него сразу перехватило дыхание. Глаза его закатились, глухой шум раздался в ушах, и, потеряв сознание, Робен упал на землю как подкошенный. Он не знал, сколько прошло времени, пока ощущение прохлады на лице не вырвало его из забытья. К Шарлю медленно возвращалось сознание. Он услышал звуки голосов, понял, что на лицо ему льют холодную воду. Француз приоткрыл глаза и увидел над головой темную листву каучуковых деревьев. Он лежал на спине. Попытался сесть, но не смог, не удавалось пошевелить ни руками, ни ногами. Да в чем же дело, черт возьми?! Без всяких сомнений, он был крепко связан по рукам и ногам! Наконец туман, застилавший ему взор, понемногу рассеялся. Но какая ужасная реальность открылась его взору, страшнее любого кошмара, снова помрачившая его зрение, сразившая этого человека! Широко открыв глаза, Шарль с изумлением, почти с ужасом глядел на большую группу людей, стоявшую невдалеке полукругом. Он смежил ресницы, чтобы избавиться от ужасного наваждения. Быть может, это сон! Но насмешливый, с нотками злобы и жестокости, голос вернул его к действительности, о которой молодой человек не мог и подумать без дрожи. — Ну что же, милейший, — сказал этот, увы, знакомый голос, — мы теперь совсем не так высокомерны, как тогда, не правда ли? А сейчас хватит обмороков, пора поговорить о делах.
ГЛАВА 12
Колонизационные приемы англичан и американцев. — Дикие звери и бандиты. — Видимая покорность. — Планы бегства. — Многочисленные разочарования. — Последствия погружения в ил. — Не было бы счастья, да несчастье помогло. — Господин Луш в роли изобретателя. — Воспоминание о лыжах гиперборейских народов[78]. — Луш делается корзинщиком. — Каторжники изготовляют каучук. — Непромокаемость. — Успех и дикая радость. — Огорчение и успех в конце. — На море жидкого ила. — На свободе. — Бандиты на Амазонке. — Союз с мурами. — Пойман лассо.Беглые каторжники, как и их сотоварищи, дикие бразильские мулаты, вынуждены были смириться с судьбой и, казалось, без особых протестов приняли свое заключение на пустынном острове. Они подчинились силе и считали, что им еще повезло — столкнуться с таким великодушным врагом, как этот француз, ведь все могло быть гораздо хуже. Англичане и американцы не задумались бы ни на минуту применить к ним страшный суд Линча, где приговор выносится немедленно. А приговор мог быть только один — расстрел или повешение, это уж на усмотрение судей. Как люди практического склада — таков их взгляд на жизнь, — американцы и англичане охотно посмеивались над французской «сентиментальностью»[79]. Они говорили, что все это очень мило в теории, но совершенно бесполезно и вредно на практике. Очень суровые у себя на родине, даже слишком, к любым покушениям на жизнь и имущество людей, они становились совершенно неумолимыми, если таковые случались в странах диких и нецивилизованных, и обращались одинаково с хищным зверем и бандитом. Можно ли приручить тигра-людоеда, после того как он узнал вкус человеческого мяса и стал наводить страх на всю округу? Нет, конечно, тигра надо убить. Можно ли надеяться исправить закоренелого преступника, который в стране, где нет ни законов, ни судей, ни армии, давал полную волю своим зверским наклонностям, не заботясь ни о жизни человека, ни о его имуществе? Тем более нельзя. Значит, смерть бандиту. Вот как рассуждали и действовали эти «практические люди», которым, по общему мнению, наиболее присущ дух колонизации. Но иные страны — иные нравы! Если француз без колебаний избавился бы от хищника, то к жизни себе подобного, как бы преступен он ни был, легко бы отнестись не мог. Что же касается известных нам негодяев, то Шарль был уверен, что они, на своем острове, не смогут кому-либо навредить. Рассуждения, вполне разумные в отношении обычных людей. К несчастью, ему были неведомы дикая энергия и необычайная изобретательность каторжников. Всем, кто имел дело с заключенными, известен смысл поговорки: «Смотри охрана повнимательнее, так и побегов бы не было». Но Шарль не знал и того, что для каторжника мысль о побеге — главный смысл существования, она поглощает его целиком и преследует даже во сне. Заключенный всегда надеется, что самая бдительная охрана может чего-то недосмотреть, а самые крепкие запоры можно преодолеть — это его идея фикс[80]. Едва только пироги, доставившие бандитов на остров, отчалили от берега, как с негодяев мигом слетела маскапритворного смирения и раздались яростные крики и проклятия. Все это закончилось клятвой мести пощадившему их человеку. В устах подобных людей это не было пустой угрозой. Само собой, что никто из них ни минуты не собирался работать. Мысль о бегстве и последующей за ним мести захватила их целиком. Бежать!.. А почему бы и нет! Разве они уже один раз не бежали при гораздо худших условиях? Как и следовало ожидать, вначале все их планы терпели неудачу. Сперва каторжники метались в своем заточении, как хищные звери в клетке, затем изучили все свойства местности и, согласно своей привычке из всего извлекать пользу, стали строить самые смелые планы, напрягая изворотливый ум. В конце концов они вынуждены были признать, с бессильной злобой, что обычными средствами нельзя преодолеть препятствия, воздвигнутые самой природой. Прежде всего бандиты попытались соорудить плот. Но, хотя раньше каторжники успешно им пользовались, здесь, в море жидкой грязи, это было совершенно бесполезно. Тогда они решили выдолбить из бревна пирогу. Но у компании Луша не было никаких инструментов, а как это делают индейцы, обходящиеся без всяких орудий, они не знали. Да и пирога была ни к чему! Не зная дороги в узком извилистом канале, ведшем на твердую землю, они бы неминуемо потерпели крушение. А в подобном месте крушение означало верную смерть. Но целый ряд неудачных попыток не только не обескуражил бандитов, а, напротив, разжег в них жажду мести и свободы. Наконец Луш, старый каторжник, съевший собаку на разных хитростях, после двух недель бесплодных попыток придумал очень остроумный способ. Арума (maranta arundinacea), из которой жители тропиков плетут различные корзины для зерна и фруктов, в изобилии росла по берегам острова. Из волокон этого растения, гораздо более гибкого и упругого, чем ивняк, Луш сплел себе нечто вроде лыж, какие в ходу у жителей Севера. Старый каторжник не без основания рассуждал, что если люди ходят и не проваливаются в подобной, очень широкой, обуви на снегу глубиной в два-три метра, то почему же нельзя использовать этот способ для хождения по проклятой тине? Однако результаты опыта, может быть, превосходного в теории, на практике оказались просто плачевными. А ведь Луш позаботился сделать лыжи гораздо шире обычных, придал им форму лодочек и переплел для прочности волокнами! Он сделал первую попытку. Обул свои «лапти», как их грубо называл Геркулес, и с длинным шестом в руке осторожно ступил в жидкую грязь. Едва сделав пять-шесть шагов, Луш закричал и провалился по уши. Но он заранее предусмотрительно обвязал себя крепкой лианой, конец которой держали его товарищи. Не будь этой лианы, спасшей жизнь главаря, сей шаг стал бы для него роковым. Наполовину задохнувшийся, облепленный тиной, как крокодил, купавшийся в болоте, — таким его насилу вытащили на берег. Но, странное дело, эта неудача как будто даже обрадовала каторжника. Вместо обычной кислой гримасы нечто похожее на улыбку появилось на его гнусной роже. Он быстро разделся, прополоскал свое тряпье и принялся насвистывать любимую воровскую песенку. — Что тебе, старина, солнцем голову напекло, — заметил Геркулес, — что ты веселишься, как макака от пальмового вина? Ни мне, ни другим совсем не до смеха. Нам тут, похоже, предстоит тянуть срок пожизненно. Или придется заняться добычей каучука и пахать на нашего плантатора не хуже негров! — Это ты верно сказал, сынок, — заметил серьезным тоном Луш, — надо работать. Работа, видишь ли, даст нам свободу. — Старик спятил, не иначе! А ведь котелок у него варил что надо. — Ты, верзила, малый неплохой, — отозвался Луш, — разве что глуп, как тюлень. Может, ты, когда спишь, тогда умнеешь, только это никому не заметно. — Вон оно что, старик решил меня пропесочить! Это хорошо, а ведь я боялся, что он рехнулся… И что же, ты говоришь, что нам надо заняться добычей каучука? — Да, племяш, если не хотим здесь подохнуть. — А что, это нам поможет выбраться отсюда? — Да! — И что, надо сделать надрезы на деревьях, подставить стаканчики и собрать в них сок, а потом прокоптить его в дыму? — Вот именно. А уж после этого мы сможем пустить кровь плантатору, вывернуть все его потроха наружу, поджечь его жилье и самого его закоптить на манер черной обезьяны коата. — Черт побери!.. А ты правду говоришь? — Да не будь я Лушем и вором в законе. — А скажи нам, как это все будет? — Нет, это сюрприз. Сегодня повеселимся, погуляем на славу, а завтра начнем пахать. Сказано — сделано, и сделано на совесть. После целых суток пьянства и разгула Луш, бодрый и свежий, как после хорошего сна, принялся снова плести лыжи из волокон арумы. Товарищи его с рассветом отправились на сбор каучука, что случилось первый раз за все время. Скоро были готовы каркасы лыж. Работа у Луша шла очень ловко, навыки к ней он приобрел еще сидя в тюрьме, так что к полудню лыжи были готовы. Наученный опытом, старый плут изменил их форму — сильно вытянул в длину и сократил в ширину, придав им сходство с маленькой пирогой. Посередине было устроено гнездо для ноги, которое крепилось к лыже прочными волокнами лианы пиассабы. Сами же лыжи были сплетены так прочно и плотно, что казались сделанными из грубой ткани. Очень довольный своей работой, Луш подвесил каждую лыжу на нижних ветвях дерева, зацепив ее двумя лианами, и развел под деревом огонь. Развел он его не в том очаге, где обычно готовилась еда, а прямо на открытом воздухе, чтобы лыжи скорее подсыхали. Тем временем вернулись подневольные серингейро, неся ведра с молочно-белой жидкостью. Изображая из себя deus ex machina[81] и желая еще усугубить окутывавший его покров тайны, Луш работал в полном молчании. Он взял одно из ведер, с видом знатока осмотрел жидкость, одобрительно кивнул и вылил все содержимое ведра в одну из лыж, затем поболтал плетеным каркасом, чтобы жидкость равномерно распределилась внутри, после чего подставил лыжу под дым костра. Не прошло и двадцати секунд, как внутри образовалась тонкая непромокаемая пленка. Настоящий взрыв радости встретил этот первый успех. Теперь все поняли загадочные слова шефа: «Работа даст нам свободу!» Луш, насладившись триумфом, соизволил объяснить сообщникам, как пришла ему в голову подобная мысль. Очень просто, как только он увидел, что ил просачивается сквозь плетеные лыжи. Так что дело совсем несложное! — И вправду, просто, — восторженно сказал Красный. — Дураки мы, что раньше не додумались. — Это уж всегда так, — заметил Кривой, — очень просто, а поди додумайся сам! — А скажи-ка, старина, — заметил Геркулес, — что бы тебе вместо этих непромокаемых лаптей не сделать сразу такую же пирогу, куда бы мы все поместились? — Да, ты ведь прав, — поддержали другие бандиты. — А вот и нет, — возразил Луш презрительно. — Большая пирога будет недостаточно прочна, да и как вы заставите ее двигаться по этой густой жиже? Вес самой лодки, да еще наш в придачу — такую тяжесть никакие весла не смогут сдвинуть с места. Надо быть сущим идиотом, чтобы плыть на развалившейся лодке. Да вы вспомните хотя бы плот! — Да, ты, старый жулик, всегда прав. — Ладно, брось ему объяснять. Говори дальше. У нас же просто душа горит узнать, как отсюда выбраться! — Проще простого. Человек, обутый в эти непроницаемые для воды поршни, даже если не сможет скользить, как на коньках по льду, то все же, надеюсь, сможет идти не проваливаясь. А это главное. Надо только подымать и передвигать ноги, как на суше. — Браво!.. Браво! Честь и хвала Лушу, самому продувному из всех жуликов! Мы спасены! И берегись теперь, плантатор со всей своей оравой! — Ну, детки, потише. Посмотрим еще, как дельце выгорит. Дайте-ка мне закончить эту пару лыж и убедиться, насколько они непромокаемы, а тогда уже будем радоваться. Весь запас сока, собранный утром, пошел на пропитку лыж, и только к вечеру они стали достаточно непроницаемы для воды. На следующий день все отдыхали, чтобы произвести решительный опыт и либо убедиться в его успехе, либо оставить всякую надежду на побег. Как и раньше, Луш обвязал себя лианой вокруг подмышек, взял в руки длинный и легкий шест, обул лыжи и медленно ступил в тину. На миг все зрители замерли в тоскливом ожидании, но оно быстро сменилось бурной радостью. Луш стоял, не проваливаясь, на черной массе, похожей на жидкий асфальт. — Ты крепко стоишь, старина? — спросил его Геркулес сдавленным от волнения голосом. — Как на суше! Но глядите, теперь я пойду. А теперь самое трудное… если я смогу удержаться на одной ноге, все будет хорошо. С большой осторожностью Луш поднял ногу, занес ее вперед и продвинулся сантиметров на шестьдесят. Ободренный этим опытом, он проделал то же со второй ногой. Обе лыжи работали прекрасно! Старый плут так хорошо соизмерил их длину и ширину, что можно было спокойно двигаться. Правда, очень медленно, да велика ли важность! Спешить было некуда, у них уйма времени. Луш, удостоверившись в качестве своей работы, сбросил спасательный канат и смело прошел около ста шагов от берега, затем, довольный результатом проверки, вернулся, весь сияя, к радостным товарищам. — А теперь, дети мои, — возвестил он, — наше освобождение — вопрос нескольких дней. Так давайте все за дело! Однако разные случайности задержали их на острове дольше, чем они рассчитывали. Во-первых, они не умели плести. Несмотря на усердие всех людей, никто из них не мог сплести волокна арума так плотно, как было необходимо, и придать им форму, так удачно найденную старым Лушем. Изготовление этих мудреных приспособлений для хождения по болоту пришлось целиком доверить главарю. Как он ни старался, больше одной пары в день сделать не удавалось, но и это было уже хорошо. Товарищи же его занимались, как и раньше, сбором каучука. Дней через десять вся работа была закончена. После новых испытаний лыжи признали годными. Довольные каторжники, уже увидевшие, что сбываются их пламенные мечты, назначили на завтра свое выступление в путь. Однако ночью над островом разразилась одна из тех тропических гроз, о которых мы не имеем представления в нашем умеренном климате. Около часа бушевал гром и ослепительно сверкала молния. Мощные разряды ударили не меньше чем в двадцать огромных деревьев, и главное, в то, под которым хранились непромокаемые лыжи. Меньше чем за пять минут лыжи сгорели дотла!.. Пришлось все начинать заново. Терпеливые, как люди привычные к неудачам и долгому ожиданию, каторжники вновь принялись за работу. Но тут Луш переутомился, подхватил лихорадку и две недели не мог работать. Впрочем, эта новая задержка не только не обескуражила бандитов, а, наоборот, прибавила им энергии. Старый хищник довольно быстро встал на ноги, так как сотоварищи ухаживали за ним необычайно усердно, как за человеком крайне им необходимым. Наконец великий день настал. Каторжники прихватили все, что смогли, из провианта и с тысячей предосторожностей покинули свой затерянный клочок суши. Как мы уже говорили раньше, эта илистая лагуна называлась Лаго-Реаль и была усеяна массой островков, поднимавшихся над жидким илом. И хотя ширина лагуны не превышала пятнадцати километров, каторжники шли по ней три дня, медленно передвигаясь от одного островка к другому. И вот они уже на свободе, а работники на плантации даже не подозревали о грозящей им опасности. Бандитов терзала жажда мести и желание поскорее разграбить богатую плантацию молодого француза. Так что они, не задумываясь, отмахали бы те сто километров, что отделяли их от центральной усадьбы. Но, уже наученные горьким опытом, негодяи понимали, что молодой человек вместе со своими храбрыми сподвижниками отнюдь не даст прирезать себя, как куренка. Решили выждать благоприятный момент, в то же время изыскивая средства для нападения. Случай помог им в этом. Каторжники уже несколько дней бродили у истоков Мапорема, одного из притоков Арагуари, на территории, занимаемой когда-то миссионерами из Назарета, а теперь заброшенной. Хотя плодовые деревья и кусты, посаженные миссионерами, уже давно одичали, все же они могли давать пищу для изголодавшихся людей. Поэтому бандиты решили избрать это место своей штаб-квартирой. Но неожиданно на этой земле, затерянной среди диких лесов, появилась орда бродячих вороватых индейцев с низовьев Амазонки, называемых му́ра. Презираемые и гонимые всеми другими племенами, мура занимались охотой и рыбной ловлей, а вернее, воровством и грабежом, так как не желали становиться земледельцами и брели, как настоящие цыгане юга Америки, куда толкал их каприз или чувство голода. Трусливые и жестокие, они нападали на дома и селения, если были уверены в своей силе, грабили и убивали одиноких колонистов или оседлых индейцев, не способных к сопротивлению. Характерная деталь — это племя вызывало такой ужас и презрение, что назвать индейца из другого племени именем мура — значило нанести ему кровное оскорбление. Беспощадно гонимое остальными краснокожими бассейна Амазонки, особенно же мундуруку, самыми смелыми и умными изо всех, это племя — настоящие изгои среди индейских племен. Любой, кто встречал на своем пути мура, считал себя вправе убить его, как вредное животное, и от этого права никогда не отказывался. И в самом деле, невозможно себе представить ничего страшнее их физиономии, которой они ухитрялись придавать еще более отталкивающий вид. Кроме всего прочего, у мура в обычае рассекать себе ноздри и верхнюю губу и вставлять в этот разрез клыки пекари, которые потом так и врастали в тело. Можете представить себе, какой вид придавало им это украшение вместе с черной и красной татуировкой на лице и теле! Существуют люди, подобные хищникам. Кажется, они с первого взгляда узнают друг друга по неуловимым приметам, скрытым для других. Они одного поля ягоды, как будто злодейство и преступление налагает на них невидимый, но четкий знак. Итак, как это ни странно, беглецы с гвианской каторги немедленно подружились с выродками индейских племен, к большому удивлению бразильских мулатов, привыкших видеть в мура неумолимых врагов, наводивших трепет на все и вся. Индейцев было около сотни, все вооружены луками, стрелами, плохими ружьями, топорами и тесаками. У большинства имелось еще и длинное лассо, которым они ловко пользовались для ловли скота в саваннах. Мулаты, придя в себя от изумления, вступили в переговоры, служа переводчиками для Луша, который сразу же надумал использовать эту нежданную встречу и сделать из индейцев грозных союзников. Мура с готовностью согласились на все предложения, так высок был авторитет белого человека даже среди этих порочных и опустившихся людей. Луш был достаточно наслышан об их нравах и поспешил разжечь их алчность, расписав им все богатства хозяина усадьбы и как все это легко им достанется. Мура насторожили уши, тем более что богатства серингаля уже давно были для них предметом зависти. Несколько раз они пытались напасть на усадьбу, но попытки эти были безуспешны благодаря мужеству ее защитников, среди которых было несколько индейцев племени мундуруку, их заклятых врагов. В конце концов дикари убедились, что француза никак нельзя одолеть, и отказались от всяких покушений на него. И вдруг люди белой расы объединяются с ними для борьбы против общего врага! В усадьбе белый воин был один, а остальные — негры и индейцы, а здесь белых было целых четверо. Под таким предводительством мура сочли себя непобедимыми. Столковавшись в главном, они не особенно вдавались в подробности. Было решено, что каторжники поведут их в атаку на серингаль, а добычу поделят поровну. Мура поклялись в беспрекословной верности. Со своей стороны, бандиты обещали им помощь и поддержку. Обе группы соединились и, не теряя времени, стали готовиться к экспедиции. Так как было необходимо скрыть присутствие столь многочисленной банды и действовать быстро, то новоиспеченные союзники решили забраться подальше в саванну и поймать там лошадей, чтобы провернуть дело поскорее. Эта первая часть экспедиции увенчалась полным успехом. Не прошло и недели, как все обзавелись полудикими конями, и эти прирожденные наездники быстро их укротили со свойственной индейцам жестокостью. Бандиты подбирались к усадьбе очень осторожно, завели отряд лазутчиков, сообщавших все новости, и выжидали, с терпением хищного зверя, подходящего момента для нападения. Шарль возвращался из поездки, очень довольный, что удалось уничтожить гигантскую змею. Он был далек от того, чтобы подозревать о цепи таких ужасных событий, и беззаботно шел вместе с индейцем Пиражибой, чувствуя себя в полной безопасности. Как мы уже говорили, он удалился менее чем на километр от второго карбета, и остановился, чтобы дать прикурить своему спутнику. Человек двадцать мура затаились неподалеку от жилья, вдоль дороги и за деревьями. Случай был слишком заманчив, чтобы его упустить. Один из мура набросил свое лассо на шею молодого человека, и тот, сдавленный с ужасной силой за горло, полузадушенный рухнул на землю.
ГЛАВА 13
Чтобы заставить говорить пленника. — Луч надежды. — Ужасные угрозы. — Упорное молчание. — Возражение. — Поступок мулата. — Дикий конь. — Подобие охоты с лассо. — Пытки. — Адское кольцо. — Порвавшаяся подпруга. — Всадник на земле. — Брешь. — По саванне. — Бесплодная погоня. — Новый Мазепа[82]. — Отчаяние. — Обморок. — Переправа через реку. — Действие воды на кожаный ремень. — Бессильная ярость. — Начало освобождения. — Нож. — Мгновенная смерть.Можно себе представить изумление Шарля, когда после долгого обморока, вызванного удушением, он узнал Луша и его зловещих товарищей. — Ну-ка! — сказал каторжник, отбрасывая пустой сосуд, воду из которого он вылил на лицо пленника. — У вас что, язык отнялся? Надо разжать ему зубы… Шарль не отвечал. — Э! Да вы, никак, упрямитесь? Ладно, сейчас поглядим, кто из нас двоих упрямее. Уж Луш знает, как разговорить даже немого, средства-то верные. Геркулес шагнул вперед и сказал: — У меня тоже средства есть. Дай мне его на пару минут, и, когда я его тебе верну, он будет болтать не хуже стаи попугаев. — Убери лапы, остолоп! Знаю я твои средства. Ты, что ни ухватишь, то и в куски. Дай тебе волю, так ты его враз придушишь, и мы от него слова не добьемся. Во время этой беседы, не оставлявшей сомнений в намерениях бандитов на его счет, мозг Шарля работал очень быстро. Он огляделся вокруг и сразу заметил вместе с каторжниками целую ораву мура, своих заклятых врагов. Но он был один. Пиражибу не пленили вместе с ним. В мозгу Шарля забрезжил луч надежды, впрочем, очень слабый. Однако же, если индеец, ловкость, сила и энергия которого были хорошо известны французу, не задушен мура, он наверняка шел по его следам. Без сомнения, вместе с храбрыми людьми серингаля он сделает все возможное, чтобы спасти его. Голос Луша грубо прервал размышления Шарля. — Значит, вы не хотите говорить?.. Ну да ладно. Я вам сам скажу, чего хочу. А после этого вы скажете «да» или сделаете, как я хочу. Это все, что я прошу. Вы богаты!.. Можно сказать, до смешного богаты. Значит, прежде всего нам нужны ваши денежки. И так как Шарль лишь презрительно усмехался, бандит продолжал свою речь дрожащим от ярости голосом: — Я знаю, дом ваш хорошо защищен. Там постоянно крутятся человек тридцать, которые встретили бы нас ружейными залпами, не считая тех, что стреляют отравленными спичками. Вам, конечно, смешно меня слушать? Но мы не так уж глупы. Мы дорожим своей шкурой и сумеем обделать дельце без единой царапины. Я надеюсь, что ваша помощь очень упростит дело. Вы нас приведете в дом, в самом лучшем виде, будто мы с вами старые друзья, а уж тогда мы решим, какой с вас взять выкуп. Но не думайте нас надуть, я человек предусмотрительный. Одно слово или жест, и мы вас чикнем, как цыпленка… Ничего не остается, как дать нам выкуп. Вот как, сударик, вы можете спасти свою жизнь. Во время этой длинной тирады Шарль хранил глубокое молчание, глядя вдаль и как будто ничего не видя и не слыша вокруг себя. Это презрительное спокойствие вывело бандита из себя, и он дал волю приступу бешеного гнева. Сотоварищи его, также разъяренные, сыпали проклятиями, и даже мура, до сих пор равнодушные, по крайней мере с виду, издавали дикие вопли. — Ах, ты так! — заревел главарь. — Но ты еще не знаешь, сколько ненависти может таиться в сердце человека после тридцати лет адской каторги! У вас тут всего по горло, а мы, значит, с голоду подыхай? Ты у нас в руках, да еще строишь что-то из себя… Ну, так я тебе скажу. Нам нужны не только твои деньги. Я бы мог раздобриться и отпустить тебя живого, при условии, что теперь ты будешь на нас пахать. Но теперь я вне себя! У меня глаза красным застилает, я крови хочу. А ты все молчишь!.. Черт побери!.. Забыл, что у тебя еще есть жена-красотка, детки?.. — Замолчи, негодяй! — громовым голосом закричал Шарль, делая страшное усилие, чтобы разорвать веревки. — Гляди-ка, как он запрыгал, стоило заговорить о его бабе с малышами, — сказал Луш, становясь спокойнее. — Так вот, всех их мы прирежем, как водится, а потом накормим ими досыта рыбу в реке. А уж после этого и о вас позаботимся. — Ты лжешь, подлец! Ты лжешь и сам боишься, ты ведь хорошо знаешь, что моей семье нечего опасаться. А меня тебе не запугать твоей болтовней. Чтобы я спасовал перед каторжником?! Да никогда! — Ну болтай себе, сколько влезет, посмеши меня. А теперь к делу. Эй, ребята, нет ли у кого обрывка фитиля, пропитанного серой? Мы ему для начала подпалим ноги, а там видно будет. Славно повеселимся! А потом еще что-нибудь придумаем. Вот потеха будет. А если он опять заартачится, скормим живьем здешним муравьям. В это время один из мулатов подошел к Лушу и сказал ему на кайеннском наречии: — Послушай-ка, приятель, если ты хочешь нас всех хорошенько позабавить и сбить спесь с этого плантатора, предоставь дело мне. Я обо всем позабочусь. — Но гляди, чтобы он жив остался. — Не бойся, будет цел. — Ну тогда давай, делай что хочешь. Мулат, довольный такой сговорчивостью, подозвал одного из своих людей и сказал несколько слов по-португальски. Тот поскакал галопом и вернулся через несколько минут, с трудом ведя за собой великолепного коня, яростные порывы которого едва сдерживали протянутые через ноздри удила. — Esta bom (хорошо), — сказал палач-любитель. — Что ты хочешь делать? — спросил Луш. — Дать ему объездить вот этого коня, с которым никто из нас не мог справиться. Слова эти, произнесенные на местном наречии, вызвали у мура долгий ликующий вопль. Очевидно, способ выездки коня должен был быть ужасен, если вызвал такую радость у этих дикарей. Напуганная криками лошадь встала на дыбы и начала бить ногами. Но два лассо, кинутых необычайно ловко, одновременно скрутили передние и задние ноги коня и парализовали все его движения. Скованный, но не усмиренный, конь дрожал всем телом. Тем временем мура, очевидно знающие планы мулата, сбегали за своими лошадьми и вернулись галопом, образовав широкий круг и потрясая лассо. Мулат сделал знак Геркулесу, гигантская сила которого была ему хорошо известна, и приказал взвалить пленника на спину дикого коня. Геркулес подхватил Шарля, как ребенка, и положил на спину животного лицом вниз. Пока он удерживал француза в этой позиции, другие мулаты крепко привязали Шарля к спине жеребца. Затем мура сделали круг шире и рассредоточились по саванне, так что расстояние между ними было около двадцати метров. Луш окликнул мулата: — А ты можешь поручиться, что этот чертов жеребец не убежит? — Это было бы впервые за все время, что мы играем в такую игру, а мы уже издавна так развлекаемся. Не бойся, я за все отвечаю, после часа бешеной скачки и конь и всадник будут смирнее ягнят. — Ну, ладно! Тогда валяй. Мулат проверил, насколько крепко был привязан всадник. Осмотр его удовлетворил, и он двумя ударами ножа перерезал лассо на ногах коня, а третьим рассек удила. Все это заняло не более трех секунд. Жеребец, почуяв свободу, на миг застыл как вкопанный, затем громко заржал и понесся стрелой. Но, почувствовав на спине тело человека, животное стало вертеть мордой, пытаясь его укусить. В это время мулат хлестнул коня по крупу колючей веткой ауары и разодрал кожу до крови. Разъяренный жеребец взвился на дыбы, словно конь, каких изображают на гербах, затем пустился вскачь по саванне. Несмотря на всю свою силу и выносливость, Шарль, сотрясаемый бешеными рывками коня, издал глухой вопль, который тут же был перекрыт радостным ревом бандитов. Мулаты, такие же отличные наездники, как и аргентинские гаучо, тоже пожелали принять участие в забаве и побежали за своими конями. А четыре каторжника, заинтересованные этим зверским увеселением, стали посреди широкого круга всадников. Все более разъяряясь, жеребец помчался прямо вперед, в открытое пространство. Но, завидев летящего навстречу всадника, сделал резкий скачок и поскакал в другую сторону. Но и здесь его ожидал наездник, потрясавший ужасной колючей веткой, еще недавно обжегшей кожу животного. Конь рвался в разные стороны, но неизменно перед ним возникал, подобно призраку, всадник, пугая его криками и жестами. Поняв, наконец, что усилия тщетны, отказавшись от мысли прорваться через заколдованный круг, конь помчался по его периметру, как цирковая лошадь; бока у него ходили ходуном, с губ слетала пена. Он описывал круг за кругом, бил землю копытами, гневно ржал и пытался зубами стянуть с себя всадника, но никак не мог освободиться от этой ноши. Между тем со всех сторон наперерез ему неслись мулаты, нестройно вопя и размахивая лассо над головой. Конь совершенно обезумел и помчался напролом. Шарль был не в состоянии даже пошевелиться. Солнце палило вовсю, тело нещадно сдавливали ремни, боль пронизывала его при каждом прыжке животного. Мозг пылал, силы покидали молодого человека. Рывки коня причиняли ему такие муки, что он желал лишь одного, чтобы конь скорее упал и раздавил его своим весом. От криков мулатов бег коня становился все более бешеным. Скакун несся вперед, снова и снова пытаясь прорвать круг, образованный мура. Один из индейцев размахивал над головой лассо. Но конь помнил, что этот ремень лишил его свободы, и пригнул голову вниз, к ногам. Избегнув петли, он продолжал нестись вперед, как стрела. Но вот круг прорван! Индеец поскакал следом за конем, выжидая момент, когда тот подымет голову. Конь не слышал уже характерного свиста лассо и считал, что опасность миновала. Он гордо выгнул шею и победно заржал. И вот в этот миг лассо, пущенное меткой рукой всадника, упало тяжелой петлей на шею коня. Превосходно выдрессированная лошадь мура мгновенно остановилась как вкопанная, а всадник крепко сжал ее бока, чтобы не свалиться в тот миг, когда конь, полузадушенный петлей лассо, тоже остановится. Индейцы ездят без седла. Эти прекрасные наездники прикрепляют свои деревянные стремена с помощью веревок к подпруге, сплетенной из травяных волокон, к ней же крепится и конец лассо. Мулат, вы помните, сказал Лушу, готовясь к этой варварской забаве, самым уверенным тоном: — Не беспокойтесь, я за все ручаюсь. Но он не смог учесть ничтожную случайность, да еще такую редкую. В тот миг, когда лассо обвило шею жеребца, тот сделал такой бешеный рывок, что лопнула подпруга лошади, на которой сидел мура, а конь и всадник свалились на землю. Дикий жеребец почуял наконец свободу и стрелой рванулся вперед, исчезнув в прерии, подобно метеору. Ближайшие мура тотчас же кинулись в погоню вместе с группой разъяренных и разочарованных мулатов. Но жеребец обезумел от страха и рванулся с такой скоростью, что всякое преследование стало бесполезным. Вскоре лишь отдаленный топот нарушал тишину. Шарль, измученный, ослепленный палящим солнцем, оглушенный приливом крови к голове, находясь в полузабытьи, все же сообразил, что благодаря какой-то случайности он ускользнул от своих врагов. Но что в этом проку, если он оставался в ужасном положении? Что будет с ним, когда измученное живым грузом животное наконец рухнет без сил? Несчастному молодому человеку показалось, что последние искры разума гаснут в нем при этой мысли. Он представил себя, погибающего медленной смертью от голода и жажды, привязанным к трупу лошади или заживо съеденным хищными насекомыми саванны. Но вскоре Шарль забыл обо всем, даже о своем ужасном положении, погрузившись в глубокий обморок. Спустя довольно долгое время он пришел в себя от ощущения свежести. Молодой человек почувствовал, как вода омывает все его тело, заливает глаза и рот, в ушах его зашумело, как бывает у пловцов при нырянии. Рискуя задохнуться, Шарль поднял голову и увидел, что конь плывет посередине широкой реки. Но возможно ли это? Ему показалось, что ремни не так сильно стягивают его, как прежде! Сомнений нет! От долгого пребывания в воде ремни лассо размякли и растянулись. Сначала француз смог пошевелить одной рукой, медленно и очень осторожно. Мало-помалу лассо становилось все податливее. Шарлю удалось высвободить правую руку, прижатую к боку. Ценою неимоверных усилий он избавился от ремней, обвивавших по спирали все тело. Меж тем конь уже выбрался на другой берег и отряхивался, но, снова испугавшись движений человека, понесся вперед как одержимый. Однако невольное купание освежило молодого человека и отчасти вернуло ему силы. Хотя положение его все еще было ужасно, он уже начал помышлять о спасении. Шарль видел теперь все удивительно ясно. Он припомнил трагические события: предательский захват его в плен, неожиданное появление каторжников, а он-то полагал, что они заточены на острове! — и столь странное появление мура, своих заклятых врагов. Ему стало ясно, какая страшная опасность грозит его близким, если, как то легко можно предвидеть, каторжники вместе со своими дикими союзниками двинутся на осаду поселка. А он здесь, бессильный и безоружный, не имеет возможности защитить семью или хотя бы погибнуть с ней! При мысли об этом бешенство овладело Шарлем. Любой ценой вернуть свободу и мчаться туда, куда призывают его любовь и месть! Молодой человек извивался в путах, стараясь сбросить с себя ремни лассо, и не обращал внимания на кровоточащую кожу, на то, что от натуги у него кружится голова и он рискует снова потерять сознание. Благодаря неистовым усилиям ему удалось высвободить и левую руку. Некоторое время он терпеливо выжидал, чтобы кровообращение восстановилось в затекших конечностях. Крик радости вырвался из груди молодого француза. Он высвободился уже до самых плеч! Теперь можно наполовину перевернуться под ремнями, ставшими гораздо слабее. И вот он уже на животе и лежит, держась руками за шею лошади. Меж тем животное, вконец загнанное бешеной скачкой, начало проявлять признаки крайнего утомления. Бока его конвульсивно вздымались, из ноздрей вылетало хриплое и неровное дыхание. Неужели Шарль будет ждать, пока конь падет на всем скаку и раздавит его, катаясь в предсмертных судорогах? Француз вдруг вспомнил, что всегда носил с собой в кармане нож с роговой ручкой, небольшой пилой и пинцетом. Он ощупал карман и с невыразимой радостью убедился, что нож на месте. Смелый план мгновенно созрел в его мозгу. Прежде всего, Шарль осознал, что на таком бешеном скаку он не может рискнуть соскочить на землю, так как ноги его отекли, стали как бревна. Кроме того, в его положении невозможно дотянуться и перерезать оставшиеся путы. — Раз так, — тихо пробормотал он, — мне надо одним махом остановить это бешеное животное. А для этого одно только средство — нож! Шарль открыл нож, вцепился левой рукой в гриву и стал ждать, когда конь замедлит свой бег в высокой траве. Ждать пришлось недолго. Перед ним возник густой кустарник, возвещающий близость леса. Боясь споткнуться, конь продвигался вперед короткими скачками. Тогда Шарль приставил нож к шее коня в том месте, где находится первый позвонок, и одним ударом вонзил лезвие. Лошадь грузно упала, убитая наповал.
ГЛАВА 14
Муки голода. — Сырое мясо. — Отвращение. — Обезьянье угощение. — Остатки пиршества ягуара. — Ночь на дереве. — Как разводят огонь в лесу. — Конский филей. — Угрозы, которые можно принять за похвальбу. — Подвиги белого, превзошедшего индейца. — Как трудно отыскать направление в лесу. — Применение листьев и стеблей дикого ананаса. — Бечевка. — Индейский лук. — Оружие примитивное, но грозное. — Без сапог. — Шарль нападает в свою очередь. — Охотники за людьми. — Без следа. — Первая стрела.Наконец-то Шарль, избавясь от обезумевшего коня, смог присесть и при помощи энергичного растирания восстановить кровообращение в затекших ногах. Несмотря на необычайную силу, он чувствовал себя разбитым. С каким наслаждением растянулся бы он на земле и даже на этом жестком ложе заснул бы сладким сном! Но мучительные мысли лишали его покоя и сна. Кроме того, так как он ничего не ел с самого утра, его жестоко мучил голод. Конечно, рядом лежит убитая лошадь, но не́чем развести огонь. Огниво и кремень Шарля, бесценное сокровище для путешественника в тропиках, потеряны во время нападения каторжников. Как ни были сильны муки голода, все же молодой человек не мог решиться поесть сырого мяса, которое вызывало у него непреодолимое отвращение. К счастью, поблизости Шарль отыскал несколько диких ананасов. За неимением более существенного, они все же утолили его голод и особенно — мучительную жажду. Теперь он осознал весь ужас своего положения. Совершенно один, без оружия, в диком месте и далеко от дома… А ведь близится ночь, таинственная и страшная, полная хищных зверей и ядовитых гадов. Безмерное одиночество среди первобытного леса вселяет ужас в самых смелых людей, если им случится затеряться в целом океане мрака. Кроме того, Шарлю слишком хорошо были известны нравы и обычаи этой страны, где он жил с детства, чтобы не опасаться преследования со стороны врагов. Они прекрасно смогут найти его по следам, даже малозаметным, а тем более — по следам лошади с грузом на спине. При других обстоятельствах он смог бы шутя укрыться от мулатов и даже от индейцев, несмотря на их необычную ловкость и наблюдательность. Разве не был он даже более вынослив, чем они, а постоянное пребывание в лесах разве не научило его всем уловкам дикарей? Но бегство только удалит его от дома. А он хочет вернуться туда поскорее, даже рискуя собственной жизнью. Наконец, самое главное сейчас, как получше и побезопаснее устроиться на ночь. Нечего и думать остаться возле павшей лошади. Запах свежего мяса обязательно привлечет ягуаров, которые, осмелев ночью, набросятся на него и сожрут. По этой же причине он не мог унести ни куска мяса с собой. Шарль ограничился тем, что прихватил уцелевшую часть лассо, обмотав его вокруг пояса, да взял в дорогу еще несколько ананасов. С тем он и углубился в чащу леса. Но вскоре некая мысль остановила его. К чему ютиться, не имея огня, под гигантскими деревьями? А те же хищные звери, что бродят ночью в поисках пищи? Не лучше ли залезть на одно из деревьев? Здесь, на опушке леса? Ведь там, под шатром, непроницаемым для солнца, он не найдет лиан, которые помогут ему взобраться, тогда как здесь, на краю саванны, они ползут по деревьям до самого верха. Выбор его пал на прекрасное дерево lecythes grandiflora, называемое аборигенами canari macague, что значит «обезьянье дерево», из-за его плодов. Они как бы покрыты крышкой и содержат в себе миндалины — любимое лакомство обезьян. Ствол толщиною в четыре обхвата исключал всякую возможность того, что по нему взберутся хищники. Кроме того, ветви образовывали широкую крону, и на них можно было относительно удобно расположиться. Шарль взобрался на дерево с ловкостью гимнаста, несмотря на усталость от этого злосчастного дня, выбрал местечко поудобнее и крепко привязал себя лассо к ветвям, опираясь при этом на ствол дерева, как на спинку кресла. Едва он закончил эти приготовления, как тотчас же погрузился в глубокий сон. Ни адский концерт обезьян-ревунов, ни хрюканье пекари, ни крики оленей, ни хриплое рычание ягуаров не могли разбудить его. С трудом Шарль проснулся за полчаса до рассвета. Хотя тело его еще было разбито после сна в сидячем положении да еще бешеной скачки накануне, зато мысли прояснились, он обрел бодрость. К сожалению, муки голода чувствовались все сильнее. Молодой человек увидел в первых лучах рассвета несколько плодов того дерева, которое послужило ему приютом, и сказал себе: — Если я провел ночь, как обезьяны, то могу и позавтракать, как они. И, не теряя времени, молодой человек срезал плоды, вскрыл ножом их крышечку, извлек миндалины и с аппетитом съел, запив трапезу остатком ананаса. — Ну а теперь пойдем поглядим, что осталось от моего коня, и постараемся устроить себе обед поплотнее. Молодой француз спустился на землю с помощью лианы и направился к убитой лошади. Предчувствия не обманули его. Ягуары попировали здесь на славу. Но, к счастью, они не тронули язык и филей. Все остальное хищники сожрали. Однако они оставили даже больше, чем ожидал Шарль. Человек неопытный, конечно, поспешил бы срезать эти куски мяса и забраться в самую глубь леса, чтобы там зажарить его и вволю наесться. Но Шарлю прежде всего надо было убедиться, преследуют его или нет. Для этого ему необходимо было находиться недалеко от места гибели коня и наблюдать, хорошенько укрывшись, что будет делать погоня, если доберется сюда. Он вырезал конский филей и язык, но таким образом, что можно было принять это за работу когтей ягуаров, оставил возле трупа обрывки лассо. Затем оторвал несколько клочков от своей рубашки, испачкал их кровью и раскидал тут же. «Прием, конечно, довольно наивен, — подумал Шарль, проделав все это, — но в моем положении не следует ничем пренебрегать. Если только они спешат, то, пожалуй, и вправду поверят, что меня сожрали ягуары, и прекратят поиски. Но в любом случае, как бы головорезы ни торопились, они будут здесь не раньше чем через час. Значит, время у меня есть. А теперь я должен добыть огня». Если бы уцелел его кремень и огниво, то проблемы бы не возникло. К сожалению, у француза не было ни того, ни другого. Пришлось вернуться к примитивному способу добывания огня путем трения двух кусков дерева один о другой. Это кажется нетрудным для человека неопытного, и поэтому многие люди охотно верят рассказам путешественников, что усердное трение двух кусков дерева быстро порождает огонь. Пусть-ка они сами попробуют, и тогда убедятся, что тела их разогреются гораздо сильнее, нежели поленья, которые они терли! Шарль, как человек, знающий цену времени, отыскал одно из деревьев bombax ventricosa, которые росли почти повсеместно в тропических лесах. Своим вторым названием — сырник — дерево это обязано белой, нежной, очень пористой древесине, по виду напоминающей сыр. Молодой человек быстро набрал несколько горстей шелковистого пуха, окутывавшего капсулы с семенами. Этот пух, тот самый, которым индейцы обматывают концы своих стрел, крайне легко воспламеняется, кочевники употребляют его в качестве трута и всегда возят с собой запас волокна в плотно закрытой коробочке. На опушке леса сухого дерева было вдоволь. Шарль быстро набрал его, отдавая предпочтение смолистым породам, и сложил небольшой костер. Затем, добежав до кустов gunerium’a, или американского тростника, росшего здесь в изобилии, срезал с десяток тростинок. Амазонские индейцы называют его canna brava и делают из него стрелы. Теперь Шарлю недоставало только одного, но добыть это было вовсе нетрудно, — а именно твердого дерева. Очистив от коры кусок величиною с ладонь, он надрезал его ножом и засунул в разрез пучок волокон. Вставил в середину пучка заостренный тростник и, поставив тростинку вертикально, принялся быстро вращать ее между ладонями, так длилось три-четыре минуты. Вскоре в воздухе запахло гарью, и пучок волокон загорелся. Тогда Шарль оставил тростинку, быстро накидал на горящий пух сухих веточек и раздул огонь. Когда веточки загорелись, он высыпал их в костер. Вот и все! И как просто, не правда ли? А между тем мы должны признать, что едва ли любой европеец, недавно приехавший в эти края, будь он даже доктором наук, догадался бы поступить подобным образом. Шарль терпеливо дождался, пока костер прогорит минут пятнадцать, после чего разложил на горячих угольях конский язык и филей. Кто знает, скоро ли ему придется поесть еще раз! Когда все было почти готово, он засыпал огонь землей, закидал сухой травой и валежником, чтобы почва в этом месте приобрела свой обычный вид. После чего ушел в чащу, чтобы вволю поесть, одновременно наблюдая за саванной в прогалины между деревьями. Увы, предчувствия его не обманули. Не прошло и часа, как вдали в высокой траве появилось несколько быстро увеличивавшихся черных точек. Без сомнения, это были его враги, шедшие по следу, как гончие за оленем. Вот они уже у трупа лошади и внимательно разглядывают останки, как люди, не желающие упустить ни одной детали, даже самой пустячной с виду. Вот когда Шарль смог похвалить себя за принятые им предосторожности. И особенно за то, что так терпеливо дождался дальнейшего хода событий и уверился в намерениях бандитов. Всадников было восемь человек. Два мулата и шестеро мура, легко узнаваемых по татуировке, покрывавшей их обнаженные торсы. «Надо отступать, — решил молодой человек. — У меня есть полчаса времени, пока они не нападут на мой след и не надумают оставить своих лошадей. Ведь преследовать меня они могут только пешком. Эти люди неумолимы в своей ненависти. Но теперь мой черед действовать. До сего дня я избегал пролития крови — был слишком милосерден. Но теперь с этим покончено!.. Если они продолжат свою безумную охоту за мной, клянусь, ни один из них не выйдет живым из лесу». При этих словах француз подобрал пучок тростинок и бесшумно скрылся в чаще леса. Для всякого, кто плохо знал охотника за каучуком, эти слова одинокого человека, владевшего в качестве оружия только карманным ножом, эти угрозы в адрес хорошо вооруженных дикарей, привыкших к жизни в диких лесах, могли бы прозвучать как простая похвальба. И вправду, казалось бы, человек, затерянный в такой глуши, лишенный средств защиты и продовольствия, не имевший даже компаса, столь необходимого для любого путешественника в тропиках, должен был заботиться только о том, чтобы не сбиться с пути, да о самых неотложных своих нуждах. Тяжкое бремя даже для смельчака! Но Шарль, к счастью, принадлежал к людям необыкновенным. Смолоду прошедший суровую школу,привыкший с детства к трудной и опасной жизни колониста-пионера, он был научен своими наставниками-дикарями пользоваться тем, что есть под рукой, досконально изучил все тайны и опасности леса. Страх был ему неведом, и, по выражению аборигенов, он давно «превзошел индейца». Краснокожие и мулаты, преследовавшие француза, нашли в его лице достойного противника. Шарль прежде всего определил направление своего пути. Он был в совершенно незнакомом ему месте, но какая разница? Направляясь к дому, он мог ориентироваться по солнцу. И даже теперь, находясь под густым сводом листвы, непроницаемым для солнечных лучей, он чутьем угадывал верный путь, что совсем не типично для европейца. Это драгоценное свойство бывает присуще одним лишь краснокожим, которые благодаря своему звериному чутью всегда находят правильный путь, даже не имея никаких указателей. Представьте себе путника, который идет в густом тумане или темной ночью и которому удается идти прямо, не отклоняясь в сторону и не кружа все время на одном месте. Так ходит индеец в огромном лесу, где деревья стоят сплошной стеной, закрывая горизонт и небо над головой. Шарль, даже не зная, преследуют ли его враги, быстро шел вперед, не трудясь скрывать свои следы. Главное для него было выиграть время. Он безоружен, и эта отсрочка пригодится ему, чтобы отыскать средства защиты, которыми он сумеет воспользоваться. Прежде всего молодой человек высмотрел несколько кустов диких ананасов, срезал у них стебли и листья и так сильно растер руками, что они распались на отдельные пряди. Получились крепкие лохмотья, похожие на волокна алоэ. Он разобрал их на нити и, когда таковых набралось достаточно, сплел из них по индейскому способу тонкую бечевку. После чего Шарль стал искать среди самых младших представителей семейства пальм: копапа, вайя, кому, ауара, патайя или марипа — те, что казались ему наиболее подходящими. Он выбрал растение, у которого листья или, вернее, средний стебель листа наиболее твердый. Из этих соображений он предпочел ауара. Известно, что этот средний стебель листа у однодольных растений бывает очень крепок, но расщепляется без труда. Почти каждый видел так называемые пальмовые тросточки, красивого коричневого, почти черного, цвета, гладкие и прочные, как черное дерево. А сделаны они на самом деле из среднего стебля молодого пальмового листа. Шарль поспешно отрезал с дюжину кусков, длиной сантиметров тридцать, расщепил ножом на три четверти их длины, сплющил, заострил концы и с одной стороны сделал зазубрины. Затем, осмотрев по одному и убедившись, что они так же гибки, как и прочны, он связал их в пучок полоской коры и заткнул себе за пояс. Работа эта заняла часа три. Дело двигалось бы гораздо скорее, если бы не трудности передвижения по дремучему лесу. Хотя эти леса вовсе не представляют собой той непроходимой чащи, которую всегда так охотно рисует воображение европейского художника, тем не менее путешественнику приходится постоянно напрягать внимание, чтобы, ступая по этой почве, густо заваленной валежником и старым листом, не упасть и не сломать ногу. Очень часто громадные деревья, поваленные грозой или подгнившие, падая и увлекая за собою соседей, образовывают целый хаос ветвей и лиан. Бывало, что дорогу путнику преграждает гигантский поваленный ствол. Прежде чем ступить на него, следует убедиться, что ствол может выдержать вес человека, иначе возникает риск провалиться в целое скопище змей, гигантских муравьев, пауков-крабов и сколопендр[83], которыми кишат подобные древесные гиганты. И кроме того, деревья в лесу растут очень неравномерно, то часто, то редко, и приходится все время лавировать между ними, рискуя разбить себе лоб.
Жара становилась удушающей. Но Шарль, с детства привыкший к этой влажной духоте, которую не уменьшает никакое дуновение ветерка, как в теплице, шел и шел своим широким индейским шагом, продолжая работу на ходу. Он достал из связки тростинку, затем один из заостренных наконечников, сделанных из стеблей ауары, и вставил его в конец тростинки; обмотал три-четыре раза место соединения наконечника с тростинкой изготовленной им из ананасовых волокон бечевкой, и у него была готова стрела. С виду это не более чем хрупкое и примитивное оружие, однако индейцы с успехом используют его для охоты на тапира и даже ягуара. Меньше часа отняло у Шарля изготовление дюжины таких стрел. Оставалось сделать лук, это безмолвное и грозное оружие, которое наряду с сарбаканом краснокожие предпочитают самому лучшему ружью. Индейский лук обычно делается из сердцевины amya gyanensis, неправильно называемого железным деревом. Это дерево и впрямь невероятной твердости, о него тупятся лучшие стальные инструменты, и до того тяжелое, что один кубический дециметр весит почти полтора килограмма. Самой ценной разновидностью считается крапчатое, коричневого цвета с желтыми пятнышками. У индейцев есть оригинальный способ использовать это дерево для намеченной цели. Так как его почти неразрушимая сердцевина окружена очень плотной и непроницаемой оболочкой, они по преимуществу выбирают упавшие экземпляры, у которых эта оболочка сточена термитами[84]. Сердцевина, несмотря на свою легендарную прочность, легко расщепляется в длину. Расколов ее ударом топора, индеец придает куску дерева размеры и форму лука, вытачивая его с невероятным старанием при помощи клыков патиры. Нет ни одного карбета, где бы вы не нашли нижней челюсти этого животного, срезанной там, где она соединяется с верхней. Ею индейцы пользуются как рубанком для изготовления лука из железного дерева[85]. Материала нашлось предостаточно, но у Шарля не было ни времени, ни возможности сделать себе это бесподобное оружие. Он решил удовлетвориться отростком черного кедра, очень ровным, гладким и столь же гибким, как и упругим. Ему оставалось только натянуть остаток бечевки из волокон ананаса в качестве тетивы, чтобы получился примитивный лук, способный стать грозным оружием в умелых руках. И только тогда, впервые с самого утра, он остановился, расправил плечи, бросил смелый взгляд в чащу леса и сказал себе: «Я готов». Но необходимо было принять еще одну предосторожность. До сих пор он шел, не заботясь скрывать следы, оставляемые на земле его тяжелыми кожаными сапогами. Возможно, француз делал это намеренно. Но теперь, когда он был готов сразиться с численно превосходящим противником, Шарль решил использовать все выгоды своего положения и постараться захватить врага врасплох. Он снял сапоги, запрятал их в дупло большого дерева и заменил их обувью, какую носят индейцы, почти всегда босоногие, когда им бывает нужно предохранить ступни от неровностей почвы. Обувь — громко сказано! Это просто кора пальмы миритис, куски которой Шарль привязал к ногам лоскутами, оторванными от пояса. Таким образом, он уже не оставлял никаких следов. Прожевав на ходу несколько кусков жареной конины, молодой человек разом изменил направление: уклонился влево, затем вернулся назад, параллельно своему прежнему следу, укрылся за стволом колоссального дерева и стал терпеливо выжидать. Среди прочих ценных качеств, приобретенных им в юности от индейцев, надо отметить редкое терпение и выдержку. Прошло целых два часа, во время которых Шарль не шелохнулся и не выказал ни малейшего нетерпения. Другой на его месте, наверное, покинул бы засаду и поспешил бы в путь. Но он слишком хорошо знал своих беспощадных врагов, их дикарское упорство, что рано или поздно они выйдут на его след, как настоящие гончие. Надо было любой ценой остановить это преследование, иначе Шарль неизбежно пал бы его жертвой. И опять предчувствия не обманули француза; вскоре смутный шум голосов долетел до него, затем громкий смех. Несомненно, это были мулаты и их свирепые союзники. Шарль, затаившийся между стволами, догадался, что они смеются над ним, над белым, который бежит от них сломя голову, даже не скрывая следов. Но веселье вскоре сменилось возгласами разочарования, след пропал. Шарль так хорошо выбрал место укрытия, что мог наблюдать за врагами в просвет между стволами. Они шли гуськом, затем сбились в кучу, внимательно обследуя почву. Снова рассыпались во все стороны в поисках следов и опять собрались, не зная, что предпринять. Тогда Шарль натянул лук, и стрела со свистом полетела в спину одного из индейцев.
ГЛАВА 15
Сравнение лука с охотничьим ружьем. — Предпочтение краснокожих. — Воспоминание о наших предках. — Победы лука. — Подвиг Шарля. — Двумя врагами меньше. — Хитрость дикарей. — Вращательное движение. — Сабельный удар, превращающий лук в палку. — Лучник бьет палкой. — Отступление. — Бегство. — Раненый. — Обезоруженный. — Саванна. — Гремучая змея. — Примитивная музыка. — Здесь нет опасности. — Польза привычной предосторожности. — Недомогание. — Лихорадка. — Злокачественная рана. — Проклятая река.Несмотря на то что лук — оружие примитивное и грубое, в умелых руках он становится грозным, даже если стрелы и не отравлены. Индейцы так ловко умеют пускать стрелы, что неудивительно их предпочтение лука ружью. Какова максимальная дальнобойность ружья, заряженного дробью? Возьмем для примера ружье двенадцатого калибра. Оно бьет не дальше чем на пятьдесят или шестьдесят метров. На таком расстоянии даже опытный стрелок не всегда уверен, что попадет в цель. Если зарядить ружье пулей, то выстрел на дальнее расстояние тоже не будет особенно точным, потому что пуля при гладкоствольном ружье не отличается ни верностью, ни силой удара. Нельзя, конечно, утверждать, что лук мог бы выдержать сравнение с нарезным оружием, здесь об этом и речи нет. Но индеец, стреляя из двухметрового лука стрелой из canna brava такой же величины, безошибочно попадет в маленькую обезьянку или в птицу величиной с фазана на расстоянии ста — ста двадцати метров. Какой европейский охотник смог бы сделать подобный выстрел из гладкоствольного ружья? Автор этих строк сам видел, как индейцы с Марони пробивали навылет лимон, насаженный на стрелу, воткнутую в землю, на расстоянии до пятидесяти метров и убивали не только сидящих на самой вершине дерева обезьян-ревунов, но также и птиц, например, тукана или попугая. И в этом нет ничего удивительного, это по силам даже стрелку среднего уровня, настолько развилось в них от постоянных упражнений умение владеть своим излюбленным оружием. Кроме того, лук действует бесшумно, и в этом его неоценимое преимущество, он не спугивает дичь и не предостерегает врага заблаговременно. Также гораздо легче возобновить запас стрел, чем пуль и пороха, и они, в отличие от последних, не портятся под влиянием сырости. Все эти преимущества лука в достаточной мере объясняют то предпочтение, какое оказывают ему индейцы перед огнестрельным оружием, к которому даже цивилизованные народы долгое время относились с недоверием. Не одни только дикари умеют так ловко обращаться с луком, известно, что совсем не так уж давно наши предки также были виртуозами этого искусства. Стоит только вспомнить времена Франциска I[86] и перенестись в 1520 год, когда король Англии Генрих VIII, отличный стрелок из лука и страстный охотник, состязался с лучшими французскими стрелками и всадил все свои стрелы в центр мишени с расстояния двести сорок ярдов, или двести восемнадцать метров. Пожалуй, но сравнению с лучниками тогдашние стрелки из аркебузы[87] выглядели довольно жалко. А между тем подобные выстрелы были вовсе не редкостью и многие стрелки могли бы повторить то же самое. Абсолютно достоверные документы позволяют утверждать, что оперенные стрелы, в отличие от стрел более тяжелых и не таких дальнобойных, могли поражать цель на расстоянии до шестисот ярдов (пятисот сорока шести метров) и что с расстояния в четыреста ярдов (триста шестьдесят четыре метра) искусный лучник без особого труда попадал в золотую монету. Впрочем, сами эдикты Генриха VIII относительно стрельбы из лука достаточно красноречивы. Так, не без удивления мы узнаем, что любому английскому подданному вменялось в обязанность умение владеть луком, кроме того, каждому мужчине, достигшему двадцати четырех лет, формально запрещалось стрелять ближе чем с расстояния в двести двадцать ярдов (двести метров) оперенной стрелой и на сто сорок ярдов (сто двадцать семь метров) тяжелой стрелой. Сила удара этого простого оружия, сделанного из обычного тисового дерева, достойна изумления. Так, например, отряд стрелков в сто человек в 1548 году в присутствии короля Эдуарда VI[88] стрелял с расстояния в четыреста ярдов (триста шестьдесят четыре метра). Стрелы пробили насквозь дубовую доску толщиною двадцать семь миллиметров и поразили укрытые за этой доской мишени. Если современные южноамериканские индейцы и не такие удалые бойцы, как старинные лучники Англии и Франции, то все же по современным меркам они — непревзойденные стрелки. Так и Шарль Робен, учившийся у индейцев галиби и негров бони с берегов Марони, не удивился, заслышав страшный вопль вслед за свистом стрелы. А между тем он пустил свое летучее оружие с расстояния ста метров. Зазубренный наконечник вошел, точно в мягкий клубок, в спину одного из мура, и несчастный, пораженный насмерть, забился в судорогах, глухо хрипя. Его товарищи разбежались в испуге в разные стороны, оглашая лес дикими криками, даже не подумав помочь умирающему. «Один!» — хладнокровно прошептал Шарль, готовя вторую стрелу. Случайно во время бегства еще один мура оказался возле молодого француза. Шарль подпустил его на расстояние в двадцать шагов и метким выстрелом пробил индейцу шею. Тот упал, не издав ни звука, изо рта его хлынула кровь. Молодой человек одним прыжком выскочил из засады, отстегнул у павшего врага лук, стрелы с железными наконечниками, тесак, а также кисет с огнивом и трутом и запасом шелковистого пуха. Крайность положения, в котором очутился Шарль, извиняла, конечно, вынужденное ограбление мертвеца. Теперь количество преследовавших уменьшилось до шести человек, но тем не менее положение француза от этого не улучшилось, скорее наоборот. Придя в себя от удивления, мура и бразильцы поняли, что с беглецом, в котором они не подозревали ни ловкости, ни смелости, придется считаться. Его тактике европейца, хоть и похожего на индейцев, они решили противопоставить свою дикарскую хитрость и побить врага его же собственным оружием. Шарль не теряя времени вернулся в укрытие, в котором древесные стволы закрывали его с трех сторон. До его слуха издали доносился разговор вполголоса, и он не без основания подозревал, что это преследователи составляют план атаки. Не имея возможности ничего предпринять, молодой человек оставался в неподвижности, насторожив слух и зрение, гадая, с какой стороны ждет опасность. Вскоре ему показалось, что на том самом месте, где только что упал убитый им мура, мелькнула какая-то темная тень, заколыхалась слегка и обрисовалась, как на экране, на более светлом фоне ствола. Без сомнения, это был новый враг, который тоже обследовал окрестности, при этом открывшись сам взору Шарля. Не теряя времени, француз выпустил третью стрелу и услышал предсмертный крик. «Странная вещь, — подумал молодой человек, охваченный смутным беспокойством, — не могу объяснить, как это мура, вообще-то трусливые по натуре, но зато хитрые, все время стоят на одном месте и подставляют себя под мои выстрелы. Что-то тут не так». Он снова осторожно выглянул из укрытия и увидел, что из-за одного из стволов выглядывает татуированный торс индейцев. Но по неуклюжему, тяжелому движению этого тела француз угадал: это — ловушка! «Живой человек так не двигается. Негодяи оказались хитрее, чем я думал! Они, очевидно, подобрали тело убитого и подставляют мне все время, чтобы я выпустил в него весь запас стрел». Однако он не подозревал всей правды. В тот миг, когда Шарль заканчивал свои размышления, он смутно почувствовал близкую опасность, хотя, казалось, ничто не указывало на ее приближение. Глаза его не замечали ничего подозрительного, никакой шум не долетал до его ушей, однако же невольная тоска сжимала все крепче его сердце. Вдруг это наваждение рассеялось. За спиной Шарля послышался вздох, легкий, как шелест птичьего крыла. Он резко обернулся, натягивая лук и готовясь пустить новую стрелу, и в этот миг заметил занесенную над своей головой руку с тесаком. Еще миг, и лезвие опустилось бы на его голову. У Шарля не было времени, чтобы выскочить из укрытия. Он инстинктивно взмахнул луком и машинально выставил его против тесака. Этот маневр спас ему жизнь, во всяком случае, избавил от тяжелой раны. Тесак тяжело обрушился на лук, попал вкось по дереву и рассек тетиву. Теперь вместо лука в руках у француза осталась простая палка из кедра, правда тяжелая, но ее было мало, чтобы отразить такую атаку. В то время как индеец, оторопевший оттого, что его удар не попал в цель, снова занес свое оружие, Шарль выскочил из засады и стал с врагом лицом к лицу. — А, приятель, — воскликнул насмешливо охотник за каучуком, — нам знакомы эти военные хитрости, да и дубинкой вращать мы умеем! А такое ты видал? При этом француз начал быстро вертеть над головой обломком лука, как дубинкой, и за несколько секунд попал индейцу по голове, по бедру и по руке. Напрасно тот размахивал тесаком, пытаясь отбить атаку, он все время промахивался. Мура, напуганный этим градом ударов, сыпавшихся на него, громко закричал, призывая на помощь. Но очередной увесистый тумак заставил его смолкнуть, выбив два зуба изо рта, вслед за этим тесак упал на землю, одна рука беспомощно повисла вдоль туловища, кость была перебита. Индеец выбыл из боя, и очень кстати, так как на его призыв отозвались сородичи. Они набежали со всех сторон и окружили Шарля, который стоял спиной к стволу дерева и размахивал дубинкой. Расчеты француза были верны. Двое были убиты стрелами. Один из трупов передвигали, чтобы отвлечь внимание беглеца, пока остальные, скрываясь за деревьями, не подберутся к нему с тыла. Третий индеец так сильно получил по голове, что из разбитого рта у него вылетали лишь неразборчивые звуки. Кроме того, сломанная рука висела как тряпка. Но положение молодого человека все равно было ужасно. Два мулата и трое индейцев, разъяренные тем, что потерпели поражение от одного-единственного человека, собирались поквитаться с ним. С дикими воплями кинулись они на Шарля, но отважный француз стоял, прислонясь спиной к дереву, и ударами дубинки ухитрялся удерживать врагов на расстоянии. Наносимые им удары то по черепу, то по лицу, то по рукам были так тяжелы и метки, что вскоре полукруг врагов поредел. Не понимая, откуда на них сыплются удары, ничего не зная о приемах палочного боя, но на собственной шкуре ощущая ловкость и силу противника, индейцы решили отступить, чтобы издали поразить его из лука. Шарль сразу оценил грозящую опасность. Он кинулся вперед с тесаком в одной руке, снятым им с убитого мура, и кедровой палкой в другой, рванулся напролом, расшвырял людей, стоявших на его пути, и скрылся в чаще леса. На минуту ему показалось, что он спасен. Но, к несчастью, он почувствовал боль, как от ожога, в левой руке и заметил, что ранен стрелой, пущенной ему вдогонку. — Плохо дело, — спокойно сказал он, обламывая ствол и вытаскивая из раны железный наконечник, — если эта стрела отравлена, то я погиб! Но сзади слышались крики, и они не позволяли сомневаться в намерениях индейцев. У него не было времени перевязать рану, враги преследовали по пятам. Пришлось бежать. Ах, если бы он захватил с собой лук и стрелы, взятые им у убитого мура, как легко было бы перебить поодиночке этих мерзавцев! К счастью, Шарль был прекрасным бегуном, не хуже кариака, грациозной и ловкой гвианской козочки. Он перестал ощущать боль от раны. Кровотечение, к счастью, было обильным. Хотя капли крови указывали врагу его следы, он не спешил перевязать рану поясом, так как по опыту знал: если стрела отравлена, то кровотечение вынесет часть яда. На бегу серингейро осмотрел наконечник стрелы. Следов яда на нем как будто не заметно. Дай-то Бог, чтобы он не ошибся! Наконец повязка наложена, кровь перестала течь. А так как обувь Шарля не оставляла следов, то надежда на спасение еще оставалась. Поскольку он вынужден был отказаться от борьбы, то решил уйти от врагов, а позднее, если представится случай, снова напасть на них. Шарль помчался вперед и вскоре заметил, что почва резко изменилась. Лианы все гуще опутывали деревья, появилось множество ярких цветов, густые кусты — все это возвещало близость лесной опушки. Уже нельзя было двигаться вперед, не прорубая себе дорогу тесаком, и хотя это выдавало его врагам, выбора у смельчака не было. Главное сейчас — это уйти от преследования! Вперед! Вдруг он выбежал на открытое место. Перед ним расстилалась обширная саванна, поросшая жесткой короткой травой, выгоревшей на солнце. Местность показалась ему знакомой. Уж не бывал ли он здесь в поисках новых пастбищ для своего скота? Вполне возможно. Быстрый взгляд вокруг позволил сориентироваться, и Шарль снова побежал по заросшей травой равнине. Внезапно резкий пронзительный звук донесся до его уха и заставил замедлить бег. Такой свист хорошо знаком исследователям тропиков, передать его можно, произнося быстро и безостановочно звук «з». Шарль ни минуты не сомневался: это характерный звук, производимый роговыми кольцами на хвосте змеи. Довольно неуклюжая в своих движениях и апатичная по своей природе, гремучая змея не нападает на человека, напротив, заслышав его шаги, имеет привычку скрываться. Вот почему в местности, где водятся эти змеи, рекомендуется идти медленно и осторожно, поколачивая прутом по траве, где они скрываются. Этого простого средства обычно бывает достаточно, чтобы заставить змею уйти. Но она делается просто бешеной, если даже слегка коснуться ее, когда она отдыхает. Горе тому человеку, кто задел ее на ходу или наступил на нее! В мгновение ока она свернется спиралью, приподнимет голову над кольцами и рванется, как освобожденная тугая пружина. Вся апатичность гремучки тотчас исчезает, и она ничем не уступит страшной железной змее. Укус ее почти всегда смертелен. Шарль не выказал ни страха, ни удивления. Он только замедлил свой бег и стал легонько поколачивать траву кедровой палкой. Через несколько секунд он опять услышал свист, затем снова и скова. Эта часть саванны буквально кишела гремучими змеями. Но Шарль неустрашимо двигался вперед, не смущаясь таким опасным соседством. Он припомнил, как в детстве чернокожий наставник, старый Казимир, научил его чаровать змей и прививал[89] ему яды для того, чтобы не только обезвредить укус, но и предупредить его. Продолжала ли действовать прививка, которая периодически повторялась? Не утеряла ли она своей силы? Молодой человек в этом, похоже, не усомнился. — Ах, — сказал себе Шарль, — будь у меня время, как было бы легко приманить этих чудовищ и повести их против негодяев преследователей! Отличное бы вышло войско! Продолжая слегка постукивать по траве, он другой рукой поднес к губам лезвие тесака и стал наигрывать на нем странную, свистящую и очень приятную мелодию. И странное дело, вдруг на расстоянии двадцати — двадцати пяти метров зашевелилась трава, показались черные точки, затем и головы змей, которые грациозно покачивали свои лебединые шеи. — Да! — продолжал молодой человек. — Вы любите эту странную музыку, и вас мне нечего бояться… Европеец не смог бы пройти тут и десяти шагов, а я, выросший в лесу, могу находиться в таком грозном обществе спокойно! Нет, гораздо опаснее для меня странное недомогание и чувство резкой усталости… Что бы это значило? Неужели стрела была и вправду отравлена? Шарль еще с четверть часа продолжал свою музыку и заметил, что змей становилось все меньше и меньше. Вскоре они исчезли совсем, к большому его облегчению. Но недомогание молодого человека усилилось: его охватил жар, в ушах зашумело, глаза заволокла темная пелена… Он увидел, что рука его приобрела синеватый цвет. Кругом раны появилась болезненная опухоль, пальцы на руке стали терять свою подвижность, чувствительность при соприкосновении утрачивалась… Однако же присутствие духа не покинуло раненого. Хотя француз был убежден, что если его рана и не смертельна, то, безусловно, очень опасна, он только ускорил шаг к темной полосе на горизонте. Что же, там снова начинается лес? Ему смутно припомнилось, что он видел там широкую реку. Задыхаясь, изнемогая и умирая от жажды, француз вступил под сень деревьев, замеченных еще издали. Да, память его не обманула. Вот и река, шириною метров в двадцать пять, поросшая по берегам муку-муку. Значит, теперь можно утолить жажду, обмыть рану и освежить утомленное тело в прозрачной воде. Проклятие! Он провалился выше колен в топкий мягкий ил, предательски скрытый под травой. До реки оставалось всего метров пять или шесть, но невозможно было пройти туда через эту отмель, образовавшуюся во время сухого сезона. С большим усилием Шарлю удалось вырваться на твердую землю. В отчаянии он пробежал вдоль берега, надеясь найти какой-нибудь перешеек твердой земли, скалу, что-нибудь, что позволило бы войти в воду, пусть там даже кишмя кишат кайманы и электрические угри. Но все напрасно! Отмель тянулась сколько хватало глаз, и Шарль не мог перебраться через эту преграду, не рискуя утонуть сразу же в иле.
ГЛАВА 16
Что это за яд? — На берегу проклятой реки. — Поваленное дерево. — Жажда. — Кайман. — Отчаянная борьба. — Победа. — Электрические угри. — Танталовы муки. — Прорванный мост. — В воде. — Естественный плот. — Вперед! — Последняя битва. — «Начальник требует взять его живым». — Лассо. — Побежден! — Победа и поражение. — Военный клич мундуруку. — Испуг. — Табира! — Первый труп. — Мститель. — Свободен. — Отданы на съедение хищникам и муравьям. — Возвращение в усадьбу. — Беда.Обычно тропическая жара не влияла на Шарля. Подобно неграм и индейцам, он мог сколько угодно шагать под палящим солнцем, не опасаясь приступа лихорадки, которая для непривычного европейца бывает неизбежным следствием сильного переутомления. Он мог долго обходиться без пищи и питья и не боялся солнечного удара, постоянно грозящего людям белой расы. Словом, был максимально приспособлен для жизни в этом нездоровом климате. Но, к несчастью, рана очень ослабила его. У Шарля уже не было ни выносливости, ни ловкости хищника, которая достигается постоянным упражнением, и если ум его еще сохранял ясность, то только благодаря огромному усилию воли. Однако он не думал, что его рана смертельна. Но все-таки, какой именно яд произвел такое действие в столь короткий срок? Яд кураре убил бы Шарля мгновенно. Впрочем, мура не знают секрет его приготовления, а другие индейцы не выдают его ни за какую цену. Правда, есть множество других ядов, достаточно опасных, но все же не таких, как кураре. Может быть, мура отравили стрелы ядом какого-нибудь животного: змеи, скорпиона, паука-краба. Вещь вполне вероятная. А может быть, наконечник стрелы был просто заражен гниющей кровью дичи, убитой на охоте? Это тоже возможно. Но как бы то ни было, раненый чувствовал себя просто невыносимо, состояние его заметно ухудшилось. Лишенный всего, мучимый болью и в своем безвыходном положении, он все же хотел бороться. Река текла почти прямо выше того места, где он только что провалился, но ниже течение ее было очень извилистым, и Шарль вполне резонно рассудил, что если двинуться вниз, то можно найти место, где ил еще не скопился. Он снова пошел через кусты, окаймлявшие берег, тяжело опираясь на палку. Левой рукой молодой человек уже не мог держать тесак, чтобы прорубать дорогу в чаще. Колючки раздирали его тело, трава царапала кожу, лианы преграждали путь… Все было против него. Но наконец вздох облегчения вырвался из груди храбреца. Он увидел недавно поваленное бурей дерево, перекинутое через реку и образовывавшее природный мост. Не заботясь о том, что будет дальше, Робен хотел пересечь проклятую реку, инстинкт, который сильнее разума, толкал его вперед. И вот оно — прекрасное дерево купайа, очень похожее на симарубу, с которым его легко спутать и от которого оно отличается только коричневыми волокнистыми корнями, тогда как у симарубы они желтые и плотные. Шарль с трудом взобрался на ком земли, застрявший в корнях, и сел верхом на гладкий и прямой ствол, чтобы ползти по нему, так как уже не мог удержаться на ногах, боясь головокружения. Полдороги было пройдено без особых затруднений. Шарль уже добрался до кроны дерева, развесистые ветви которого опирались на другой берег. Так как муки жажды сделались невыносимыми, он попытался соскользнуть вниз, в воду, по одной из толстых веток. Медленно наклонившись над водой, несчастный уже предвкушал, как освежит его это купание… О ужас! Какая-то тень быстро пересекла реку, неясная зеленоватая масса прямо у его ног раскрыла огромную пасть с лиловатыми челюстями и обдала омерзительным запахом мускуса. — Кайман! — прошептал раненый. Хорошо, что чудовище слишком поспешило. Еще бы пять-шесть секунд, и Шарль неминуемо бы погиб. Но мужество его только возросло от препятствий. Призвав на помощь весь остаток сил, он уцепился онемевшей рукой за ветку и, преодолев страшную боль, изо всей силы ударил тесаком по тупорылой морде ужасной твари. Несмотря на крепкую броню каймана, верхняя челюсть его оказалась отсечена. Кровь потекла ручьем. Шарль продолжал рубить, как дровосек по стволу дерева. Хищник, ошеломленный этим градом ударов, испуганный, окровавленный, понял, что противник ему не по зубам, и нырнул в воду, яростно колотя хвостом. У Шарля осталась только одна забота: как бы поскорее напиться воды! Для него это был вопрос жизни. Течение в одну минуту смыло все следы короткой и яростной схватки. Молодой человек во второй раз хотел погрузиться в реку, но в силу осторожности, привитой воспитанием, внимательно вгляделся в прозрачную воду: нет ли там еще одного крокодила? Кайманов больше не было, но — что это за длинные, грациозные существа заколыхались в воде, изгибаясь подобно змеям? Их тут с полдюжины, темно-зеленого цвета, почти черные, длиною метра полтора! Они тоже подстерегают добычу? — Электрические угри! — отчаянно вскрикнул Шарль. — Господи, прямо проклятие какое-то! Не стану я пить. Охотник знал, что, несмотря на свой безобидный вид, эти твари чрезвычайно опасны для человека и всех млекопитающих. Они не только могут кого угодно парализовать при непосредственном контакте. Тот же эффект дает выделяемая ими жидкость, и противиться этому нет возможности. Удрученный, но все же не сломленный чередой злосчастных обстоятельств, Шарль решил снова залезть на ствол дерева и пересечь предательскую реку, не принесшую ему никакого облегчения, но вдруг с ужасом заметил, что от удара при падении дерево раскололось и теперь крона его держалась на стволе только при помощи нескольких волокон и клочков коры… Вес тела Шарля и резкие движения во время борьбы с кайманом окончательно доломали зеленый мост. Уже слышался зловещий треск, и крона, под тяжестью веса Шарля и под напором течения, колыхалась все сильнее и сильнее. Снова треск — волокна подались, ствол отделился от кроны, которую закружило и унесло течение. Шарль судорожно вцепился в ветви и не выпускал их из рук. К счастью, купайя — одно из самых легких местных деревьев и служит как бы природным плотом. К тому же падение ствола в реку напугало и разогнало электрических угрей. Дерево кружилось, качалось, но плыло, а это главное. Наконец-то молодой человек смог вдоволь напиться, без опаски нырнуть в воду, которая приятно охладила его пылающее тело. Через несколько минут муки его сразу прекратились, Шарль ожил. Он с удовольствием продолжил бы купание, но возможное соседство грозных речных обитателей заставило его прервать свое занятие. Все это время молодой человек продолжал цепляться за ствол, относимый течением то к одному, то к другому берегу. Понимая, что нельзя же бесконечно так плавать, Шарль решил воспользоваться моментом, когда дерево прибьет ближе к берегу, чтобы перебраться на него. Маневр этот был не так труден на первый взгляд — ведь берег порос громадными деревьями, и их нижние ветви нависали над водой. Француз вцепился в одну из таких ветвей и, держась ногами за ствол, на котором плыл, подтянулся изо всей силы и перебрался на твердую землю, по счастью не наткнувшись на илистую отмель. Ступив на берег, он отвязал свой пояс, намочил его в воде и перевязал себе руку, затем освежил лицо, выпил еще воды и отважно двинулся в путь. Лес снова поредел, опять началась саванна. Так как кедровая палка Шарля сломалась во время борьбы с кайманом, он вырезал себе новую и заострил ее с одного конца наподобие копья. Поглощенный мыслью о преследующих его врагах, охотник безостановочно шагал по направлению к дому, даже не вспоминая, что за два последних дня он перенес страшные пытки, был серьезно ранен и толком ничего не ел. Молодой человек шел в таком состоянии еще около двух часов, чего не выдержал бы никакой храбрец. Все тело его было разбито. Шарля поддерживала только та мысль, что он идет в верном направлении. Местность стала ему знакома, он уже не раз тут бывал. Сомнений больше не было. Усадьба находилась километрах в двадцати. Если не приключится ничего нового, он, переночевав в саванне, будет там завтра утром. Но человеческие силы имеют свой предел, а через два часа наступит ночь… Голод все сильнее терзал француза, и он поминутно останавливался, в надежде отыскать какие-нибудь съедобные растения. Несчастный готов был съесть даже змею! Шарль мог бы развести огонь — ведь маленький калебас с трутом и огнивом, отобранный у убитого мура, был так плотно закупорен, что ничуть не промок в воде. Но, увы, судьба решила вконец доконать его. Едва он нашел несколько съедобных клубней, которые могли бы хоть как-то утолить муки голода, как издалека донеслись свирепые вопли. Они были полны ярости и торжества. Разве француз мог спутать их с чем-либо? Ему слишком знакомы эти протяжные вопли, похожие на крик совы, — это военный клич мура! Итак, бандиты не утеряли его следа. Шарль перестал рыть землю тесаком в поисках клубней и схватил копье наперевес, готовясь дорого продать свою жизнь. Крики усилились, и вскоре он увидел группу мужчин, бежавших к нему с угрожающими жестами. Это пятеро из тех восьми, с которыми он сражался в лесу. Трое мура, их можно узнать издалека по раскрашенным торсам, и с ними двое мулатов, одежда их превратилась в лохмотья. Запыхавшиеся, потные, они окружили Шарля, вопя и потрясая оружием. Но они были испуганы решительным видом человека, которого считали уже полумертвым. Сознавая превосходство белого человека над ними, а также прекрасно зная, насколько это грозный противник, мура сперва посовещались между собой. Один из индейцев, желая избежать риска рукопашной схватки, приготовился поразить его стрелой издалека. Но мулат переломил стрелу и крикнул: — Ты знаешь, что хозяин приказал взять его живым! — Мне до этого дела нет, я сам себе хозяин. Не мешай мне, я хочу убить этого белого! — Попозже, если ты так хочешь! Послушай же, дурак, когда он в наших руках, мы легко можем захватить усадьбу. А если мы его сразу убьем, то защитники дома не захотят нас и слушать. Бандит, которого насилу убедил этот варварский довод, опустил оружие и спросил: — Ну а кто его возьмет? Этот белый сильнее нас всех вместе взятых!.. Я боюсь. — Так разве у нас нет наших лассо? Шарль, не ожидая конца этого разговора, кинулся на бандитов, действуя палкой, как штыком. В другое время никто из них не выдержал бы такого напора, но бедняга был очень ослаблен двухдневными страданиями и своей раной, и сил у него оставалось немного. Все же мура и мулаты разбежались, как зайцы, но затем вернулись, потрясая в воздухе лассо. Шарль схватил свой тесак и попытался прорвать это живое кольцо, центром которого был он сам. Он вновь кинулся на врагов, но остановился, заслышав свист лассо. Ременная петля еще не опустилась на его плечи, как была изумительно ловко рассечена в воздухе. Но второй, затем третий бросок… Шарль успел еще рассечь другое лассо, но третье упало ему на плечи, когда он пытался его разрубить, и прижало руки к телу, совершенно обездвижив храбреца. Радостный вой приветствовал эту удачу нападавших. Мура, кинувший это лассо, сильно дернул его. Узел затянулся, Шарль от сотрясения не устоял на ногах и упал на землю как подкошенный. Один из мулатов кинулся на него, полагая, что теперь нетрудно будет одолеть противника, и хотел связать ему ноги, но в тот же миг упал на землю от удара в грудь, нанесенного ногой Шарля. Мулат хрипло заорал и свалился на траву. Но молодой человек в этом последнем броске лишился сил и уже не мог справиться с четырьмя нападавшими. Он еще раз попытался одолеть эту горстку врагов и замер на траве в полуобмороке. Мура снова завопили, быстро связали его и принялись плясать вокруг как безумные. Но недолго они радовались. Грозный крик раздался невдалеке и разнесся по всей равнине. Мура замолчали и недоуменно прислушались, не веря ушам своим. Крик повторился снова, уже ближе, и закончился ревом, напоминающим рычание разъяренного ягуара. Бандиты наконец узнали боевой клич индейцев мундуруку, самых отважных среди всех амазонских племен и своих заклятых врагов. Не заботясь больше о пленнике, охваченные дикой паникой, они разбежались, как свинки-пекари от пантеры. В этот миг индеец, совершенно обнаженный и мускулистый, как гладиатор, весь в боевой раскраске, молнией обрушился на мулата, который еще не пришел в себя от удара Шарля и не удрал вместе с другими. Индеец в третий раз издал боевой клич и крикнул: — Господин, это я! Шарль едва смог прошептать в ответ: — Табира, это ты!.. Мулат, схваченный за шиворот, упал на колени, моля о пощаде. Лицо индейца исказила злоба, он захохотал, как злой дух. Полузадушенный мулат захрипел и опустил голову. Индеец ослабил хватку, затем рванул за курчавую шевелюру мулата, занеся свой тесак. Раздался глухой удар, и обезглавленное тело упало на землю. Потоки алой крови! Табира с отвращением отбросил голову ногой, перерезал путы хозяина и спросил: — Господин, хочешь, я убью остальных? Но у Шарля не было даже сил отвечать. Мстительный индеец, посчитав его молчание за знак согласия, тотчас подхватил тесак и сарбакан и унесся в саванну. Не прошло и получаса, как он возвратился, очень довольный, весь выпачканный кровью, и склонился над Шарлем, который начал приходить в себя. — Табира!.. — прошептал молодой человек. — Это ты, мой верный друг! — Да, это я, господин!.. Пойдем отсюда, теперь нам нечего бояться. — Ты их убил? — Мура, эти урубу (черные коршуны), которые осмелились поднять руку на белого, любимца всех мундуруку. Табира отомстил за своего друга и казнил мерзких хищников. Все уже кончено… Не бойся, они уже не вернутся. А кафузы (мулаты), друзья коршунов, тоже погибли. Идем же, господин, вместе с твоим верным индейцем. Время летит, а дело ведь не ждет. — Дай же мне хоть поблагодарить тебя, мой храбрый друг! — Поблагодарить… За что? Разве ты не был братом для мундуруку? Кто нас кормил, давал нам кров, защищал наших стариков, наших жен и детей, когда воины были на тропе войны? Разве не ты сражался с нашими врагами? Теперь ты слаб, но рука Табиры сильна, она поддержит тебя, а если надо, то я понесу тебя. Высказывая все это с торжественностью, присущей людям его расы, индеец быстро осмотрел рану Шарля и одобрительно покачал головой. — Мура — глупые свиньи, — сказал он. — Счастье, что они не знают вурари (кураре). Хозяина ранили стрелой, отравленной ядом пипы[90], ему нечего бояться. Яд пипы не смертелен для того, кому делались прививки против змеиного яда. Табира знает травы, которые уймут лихорадку и опухоль. Окончив осмотр раны, индеец достал из плетеной походной сумки тщательно хранимую лепешку из кассавы и маленькую бутылку с арума. Шарль в два счета расправился с лепешкой и, отхлебнув несколько глотков спиртного, почувствовал себя намного лучше. Затем они ушли на поиски места для ночевки, оставив труп мулата на съедение диким зверям и термитам. Согласно настойчивому желанию Табиры и этот, и трупы всех его сообщников должны были исчезнуть подобным образом. Для амазонских индейцев быть растерзанным ягуаром или обглоданным термитами считается верхом несчастья. Никогда двери экваториальной Валгаллы[91] не раскроются перед воином, которого постиг подобный конец, вот почему мстительный мундуруку не захотел избавить своих врагов от этого посмертного изгнания. На ходу индеец срывал какие-то растения, растирал их стебли и листья и сделал из них нечто вроде пластыря, который он приложил к ране хозяина. Быстро наступала ночь, и Табира, срезав тесаком охапку гвинейской травы, сделал из нее плотную и мягкую подстилку, которую два друга разделили по-братски, заснув как убитые. Усталость и страдания, перенесенные за два дня, так подействовали на Шарля, что он беспробудно проспал до самого рассвета. Первобытное лечение Табиры совершило просто чудо, боль от раны значительно ослабла, рука была уже не такой распухшей, а сама рана не выглядела так страшно. Полное выздоровление было только вопросом времени. Шарль и Табира наспех позавтракали несколькими кореньями и двинулись в путь. По пути Шарль узнал от индейца, как тот отправился из усадьбы на его поиски; как он напал на след мура и каторжников, затем на след дикого коня, к которому бандиты привязали его хозяина. Все это заняло у него довольно много времени, учитывая, что дерзкое нападение каторжников было совершено очень далеко от усадьбы. И, несмотря на все усилия Табиры, на его прекрасное чутье и неутомимую ходьбу, он чуть было не опоздал. Шарля спасла только та случайность, что бандиты непременно хотели взять его живым. Расстояние, отделявшее Шарля и Табиру от усадьбы, все сокращалось. Шарль давно уже был в знакомых местах. Он ускорил шаг, чтобы поскорее оказаться среди тех, кого чуть было не потерял навсегда. Его сердце отца и мужа трепетало при мысли о возвращении домой, на которое он уже не надеялся. Все существо его было устремлено туда, где ждали его любимые, близкие, чтобы поскорее успокоить их тревогу. Вот наконец и роща огромных деревьев, окружавших его жилище… пальмы, манговые деревья, фламбуайяны, эбеновые[92], апельсиновые, банановые… Но что означает эта тишина? Почему не слышно обычного шума, наполнявшего этот маленький рабочий городок? Что же это? Плодвоображения? Подходя, Шарль не увидел хижин рабочих — а ведь они точно были здесь, прихотливо рассыпанные вокруг хозяйского дома! Он бросил испуганный взгляд на своего спутника, который тоже был изумлен, несмотря на все хладнокровие индейца. Деревья вокруг были все те же, но никаких следов жилья… Шарль, едва оправившийся от ужасных потрясений, которые выдержал его организм, решил, что им овладел кошмар. Он кинулся вперед и, наткнувшись на обгорелые развалины, издал ужасный крик. Хижины, карбеты, склады, само жилье — все стало грудой пепла, из которого там и сям торчали обгорелые пни! Все служащие, негры и индейцы с семьями исчезли, как и его собственная семья! Несчастный не в силах был вымолвить даже слово и почувствовал, как жизнь покидает его. Он вытянул руки, издал хриплый крик и, покачнувшись, упал, как сраженный молнией, на руки индейца.
Конец первой части





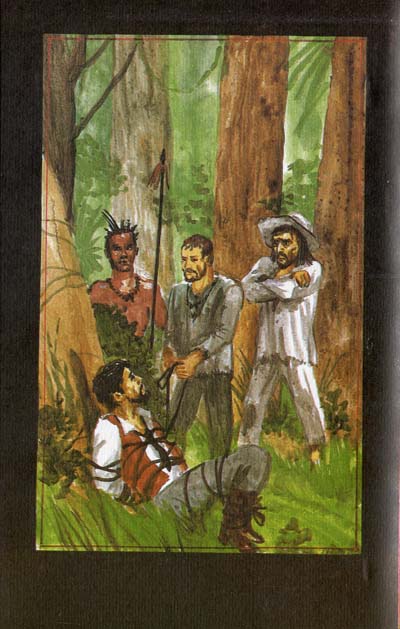


Часть вторая НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ
ГЛАВА 1
Резня. — Подвиги палача-любителя. — Пьяны от вина, пьяны от крови. — Соперники. — Приговор. — Регалии вождя. — Подвиги Диого. — Дар по случаю восшествия на престол. — Грабеж. — Щедрость пирата. — Разочарование. — Где сокровища? — Тщетные поиски. — Как заставить человека говорить? — Памятка тому, кто готовит жаровню. — Заживо поджаренный, приправленный перцем человек. — Молчание. — Изобретательность бандита. — Новая пытка. — Злоба бессилия. — Покойник уносит секрет с собой. — После бойни. — Охотники за каучуком в опасности.— Сжальтесь, сеньор Диого! — Смилуйтесь! — Смерть им!.. Смерть!.. — яростно орали в ответ громилы — человек шесть, — все в поту и крови, как мясники на бойне. — Сеньор Диого! Пощадите!.. — Заткнись, горлопан!.. — Да заставите вы его наконец замолчать? Уши болят от воплей! Да поскорей — вон еще сколько работы. Страшный удар сабли обрушился на затылок жертвы, так пронзительно молившей о пощаде. Обреченный тяжело осел на землю. Но рука изменила палачу. Лезвие лишь раскроило кожу и мышцы — кровь забила ключом из ужасающей раны. Несчастный захрипел, но все-таки кое-как поднялся. Несколько шагов — и он, пошатнувшись, снова упал. — Безрукие! — свирепо рявкнул на подручных тот, к кому были обращены мольбы о пощаде. — Раздавить червяка — и то не можете. Глядите, как надо! Левой рукой Диого схватил раненого за волосы, рывком приподнял беднягу и одним взмахом сабли снес ему голову. Обезглавленное тело забилось в конвульсиях, а убийца метким пинком послал отрубленную голову в центр площади. — Давайте следующего! Пьяные от вина и крови душегубы с радостным ревом бросились на подмогу другой банде. Жалкая кучка безоружных, едва прикрытых лохмотьями бедолаг была моментально взята в оборот. Снова предсмертные хрипы. Преследователи окружили несчастных плотным кольцом. И пошла бойня! Градом посыпались пьяные удары: полетели отрубленные ноги и руки, изуродованные лица на глазах теряли очертания, корчились в судорогах пронзенные тела… Ручьи крови стекали на землю, вопли убийц перекрывали стоны раненых и умирающих. Наконец изуверы, оставив за собой груду истерзанных останков, устремились на единственную улицу деревни. — Всех перебьем!.. — Вперед, мои орлы! — Безобразное лицо Диого озарил дьявольский восторг. Резня продолжалась, становясь все яростней, все невообразимей. Вдруг Диого, размашистым шагом догонявший своих разбойников, остановился как вкопанный. Перед ним словно из-под земли вырос высокий мулат. Помимо ружья при нем была еще увесистая трость с металлическим набалдашником. Вопль ярости вырвался у мулата при виде кровавого побоища. — Что это?! Неужели ты, Диого?.. — Ты!.. Ты здесь!.. — Ну, держись, черномазый… Сейчас умрешь! Все произошло мгновенно: бросив трость, противник Диого вскинул ружье и выстрелил в упор. Но… Осечка! Диого, чудом избежавший смерти, разразился хохотом и бросился на врага. Не имея возможности перезарядить ружье, тот, однако, не растерялся и, схватившись за дуло, взмахнул огнестрельным оружием, как палицей. Приклад непременно разнес бы Диого череп, но — опять незадача! Стремительный, как молния, негр проскользнул под оружием за долю секунды до того, как оно обрушилось на землю, и черными мощными руками успел обвить пошатнувшегося от ложного выпада мулата. Завязалась ожесточенная схватка. Силы, похоже, были равны. Без единого вскрика дерущиеся принялись, как две змеи, давить, душить друг друга. Сплетенье рук и ног, сведенные ужасной судорогой лица. Рты, открытые в безобразной гримасе, оскаленные зубы… Главное — повалить соперника! Могуч Диого, и все ж на мгновение дрогнул. Противник, не такой мускулистый, но цепкий, поспешил воспользоваться преимуществом. Равная поначалу борьба начинала складываться в его пользу. Диого, поняв это, сжал зубы — они лязгнули, как у дикого зверя, терзающего добычу. — Грязный негр! — Голос мулата сорвался. — Тебе не победить! Предводитель головорезов почувствовал, что и впрямь сдает. Тогда он пронзительно закричал, призывая на помощь подручных. Вот один из них подбежал к мулату сзади. Взмах мачете — и враг негра, вскрикнув от боли, тяжело повалился на землю с перерезанным сухожилием. При этом, однако, он увлек за собой Диого, мертвой хваткой сжав его горло. Подоспевшие бандиты с трудом вызволили его жертву. Диого, подобрав с земли саблю, остановил своих приятелей, готовых прикончить мулата. — Не убивать! Те зарычали, словно доги, у которых отняли кость. Чтобы их утихомирить, негр с отталкивающей улыбкой добавил: — По крайней мере, не сейчас. Один из убийц заметил трость с металлическим набалдашником. О, это не просто трость! — Держи, знак отличия вождя теперь твой, — проговорил он подобострастно, подавая ее главарю. — Ты теперь хозяин! — Хорошо, дружище. И смею заверить, добрый хозяин. Черт возьми! Уж мы теперь повеселимся, особенно те, кто мне помогал. Внезапно с другого конца улицы раздался звук охотничьей трубы, заунывный, мрачный, как рев быка. На лице предводителя заиграла дикая радость. — Деревня наша. Кончено. — Да здравствует Диого!.. Ура вождю!.. — заорали во всю глотку головорезы. Они столпились вокруг изувеченного мулата, отбивавшегося из последних сил. — Да здравствует Диого!.. — Убийцы, ликуя, окружили своего нового вождя. Их черное дело сделано! Внезапно улица оживилась. Вышли из укрытий те, кто до сих пор не принимал участия в сражении: мужчины — негры и мулаты, несколько женщин и детей. Человек пятьсот — шестьсот. И все как по приказу, а может, просто признавая свершившийся факт, принялись кричать вместе с остальными. Такое воодушевление ярко демонстрировало силу их глубокой убежденности или уж, по крайней мере, мощь голосовых связок: — Да здравствует Диого!.. Да здравствует вождь!.. — Да здравствует Диого! Тот, кому была посвящена эта лестная церемония, желая, видимо, упрочить растущую на глазах популярность или обратить внимание присутствующих на символ своего восшествия на престол, картинно оперся на трость. Металлический набалдашник слепил глаза — кусок хрусталя на солнце не мог бы сверкать ярче! — Спасибо, друзья мои, за то, что вы безо всякого принуждения избрали меня вождем, — провозгласил новоявленный правитель, повернувшись к толпе. Эта тронная речь была встречена взрывом хохота, впрочем вполне благожелательного. Окровавленные трупы, валяющиеся вдоль всей улицы, не возражали против такого кощунства, разве что самим своим присутствием. Слова «безо всякого принуждения», произнесенные в подобных обстоятельствах, обнаруживали тончайшее чувство юмора того, кто их произнес, и красноречиво свидетельствовали о «нравственности» аудитории. Между тем вождь продолжал. Мягкий, удивительно музыкальный голос, каким обладает большинство черных, абсолютно не вязался со всем его обликом, и особенно — чудовищным торсом. — Как я уже сказал, хозяин у вас добрый. И сейчас вы в этом убедитесь. Что сделал тот, который валяется теперь здесь, как прирезанный боров, шесть месяцев назад, когда вы признали его своим вождем? Он захватил добро своего предшественника, захапал себе его хижину, припасы, тростниковую водку, золото! А вам — ничего! — Да… Да… Точно! — Я, пришедший ему на смену отчасти по вашей, а больше по своей собственной воле, буду куда щедрей. Мне лично не нужно ничего. Хижина тирана теперь ваша. Поселяйся кто хочет! Разделите между собой охотничье снаряжение и рыболовные снасти. Пусть жребий определит, кому достанутся лодки и лошади. Съешьте его рыбу, выпейте водку, заберите себе золото!.. Все вам! Богатства узурпатора принадлежат народу. Толпу, не ожидавшую такого поворота, охватил неслыханный энтузиазм. Все впали в неистовство. Приветствия, хвалебные возгласы, вопли, рев — обезумевшие от близости поживы мужчины, женщины, дети принялись отплясывать ликующую сарабанду. Пьяные палачи бросились как одержимые впереди всех к большой хижине в центре улицы. Обрамленная красивыми банановыми деревьями, хижина выглядела заманчиво уютно. Сам Диого и еще пять-шесть негодяев остались возле раненого недруга, упорно хранившего молчание. Хижина была разграблена в мгновение ока. Прежде всего мародеры набросились на водку — остальное успеется. Съестные припасы, причем немалые, растаяли на глазах. Только черные — с точки зрения белых, конечно, — могут быть такими прожорливыми, да разве что краснокожие. Грабители быстро опьянели — действие спиртного усугублялось огненным дыханием экваториального солнца. Настоящее свирепое пиршество дикарей! Одни не рассчитали своих сил и теперь, качаясь, брели неведомо куда. Выкрикивая что-то невразумительное, они наконец сваливались как подкошенные где ни попадя. Те, кто поумней, а может, просто порасчетливей, устраивались поудобней и смаковали жуткий ликер, стараясь растянуть удовольствие и отсрочить момент пьяного забвения. Находились и такие, назовем их самыми умными, которые прежде всего принимались за осмотр примитивного жилища — напиться до одури всегда успеется. Охватившее их вскоре глухое недовольство очень быстро сменилось горьким разочарованием. Грубо раскрашенные сундуки с одеждой свергнутого вождя уже были перевернуты вверх дном — повсюду валялись его пожитки. Та же участь постигла плетенки и корзинки с зерном, фруктами и овощами. Огромные ноздреватые глиняные кувшины и горшки оказались все перебиты. Даже земляной пол перекопан мотыгой — все обследовано, дюйм за дюймом. Никакого золота! Нигде ни крупинки… На что тогда тростниковая водка — она теперь и в глотку не полезет! Нет золота!.. А золото — это та же завтрашняя водка, это легкая жизнь, беззаботное будущее. Горе нечестивцу! Надо же так упрятать бессчетные сокровища, что и следа их не видно! Прервав грабеж, бандиты кинулись к Диого, единственному из всех, кто сохранял хладнокровие. Пот лил с головорезов ручьями, они прямо-таки дымились от ярости и неутоленной алчности. — Вождь!.. Вождь!.. Нас обокрали! — Кто? Кто, друзья мои, осмелился отнять у вас что бы то ни было? — Он!.. Это он!.. — Два десятка негодяев просто задыхались от злобы, указывая на связанного мулата. — Он украл золото!.. — Слышишь, вождь, он спрятал сокровища… — Бей вора! — Смерть ему!.. Смерть!.. — Так я и думал, — ответил с чувством превосходства Диого. — Вспомните мои слова: «Пусть пока поживет». От мертвеца словечка не добьешься. А живой — он все выложит! — А если не захочет? — Ничего, захочет! — Когда? — Прямо сейчас. — Дай-то Бог! — Разве я не вождь? Разве не мне надлежит принимать за вас решения и действовать в ваших интересах? — Ты вождь, Диого, вождь!.. Да здравствует Диого! — Успокойтесь же, друзья мои. Принесите-ка связку-другую сухих стеблей маиса да сложите их в центре площади. И перец тащите, весь, какой найдется. Ну, поторапливайтесь! Властный тон негра действовал гипнотически — распоряжения его выполнялись точно, без лишних вопросов и бестолковых замечаний. Вождь, как и обещал, принимал решения за своих подчиненных. Со всех сторон тащили они стебли маиса и корзинки, полные маленьких, размером в два-три сантиметра, ярко-красных ягод. Назывались они «бешеный перец», и, нужно сказать, вполне заслуженно. — Достаточно, друзья мои. — Голос Диого звучал отрывисто, но по-прежнему мелодично. — Сейчас я покажу, что не боюсь работы! С этими словами он проворно сложил костер, дал знак доверенному поджигать. Затем схватил раненого под мышки и толкнул его ногами вперед к загудевшему, затрепетавшему пламени. Огонь лизнул ступни несчастного, тот хрипло вскрикнул и сжался так, что едва не треснули кости. — Ну-ну, приятель, будь умником, — обратился к нему Диого. — До сих пор я тебя ни о чем не спрашивал, знал, что ты покапризничаешь для начала. Но теперь, ты видишь, я шутить не намерен, для тебя лучше самому во всем признаться. Сейчас ты скажешь, где твое золото, так ведь? — Нет, — чуть слышно прохрипел мулат. — Будешь упрямиться? Зачем? Ты же все равно умрешь. Постарайся, по крайней мере, умереть достойно и облегчить свои страдания. Давай говори. Тебе уже ничего не понадобится, так что рассказывай, где золото. — Нет! — Ладно, слушай, я подарю тебе жизнь и посажу на корабль, идущий в Белем. — Врешь, черномазый! — Угадал, дружочек. Да, я соврал… Однако напрасно ты меня оскорбил — ты целиком в моей власти и сейчас узнаешь, как может негр отомстить за себя. Ноги раненого, на время коротких переговоров слегка отодвинутые от пламени, снова сунули в костер. Кожа на них покраснела, вздулась и треснула. Воздух наполнился тошнотворным запахом горелого мяса. Несчастный мученик изо всей силы сжал зубы, глаза его налились кровью, на лбу веревками выступили вены, лицо позеленело. — Где сокровища? — завопил Диого задрожавшим от ярости голосом. Ответа не было. — Ах, ты упорствуешь! Поглядим, кто первым сдастся. Новоявленный вождь снова оттащил мулата от костра, схватил его за ноги, сорвал с них обгоревшую кожу и оголил мышцы до самой подошвы. — Перец давайте, — скомандовал бандит. И добавил, протягивая горсть ягод сообщнику: — Поруби-ка это мачете. Несколько быстрых движений, и ягоды в тыквенной плошке превратились в красную кашицу. И вот уже Диого наложил на живые раны это невероятно едкое месиво. Каждое прикосновение вырывало из горла мулата душераздирающий стон. — Знаю-знаю, дружочек. Это погорячее, чем сам огонь, будет, — похохатывал палач. — Пламя — что? Его быстро перестаешь ощущать — тело поджаривается, и бифштекс уже ничего не чувствует. А перчик, наоборот, обостряет муку. Ну что, будешь говорить? — Нет!.. Нет!.. Нет!.. — Тысяча чертей! На ладан уж дышит, а все кочевряжится. — Я сказал, нет! — Ах, так! Не думай, что представлению конец. Я тебе еще кое-что хорошенькое приготовил! Между тем перец разъедал и разъедал плоть, усиливая муки страдальца, и без того невыносимые. Вопли, вырывавшиеся из его гортани, уже не походили на человеческий крик. Этот сдавленный голос, сиплый, надтреснутый, прерываемый какими-то судорожными всхрапываниями, скорее напоминал предсмертный хрип. Видимо, несчастный уже был не в состоянии произнести что-либо членораздельно. Обезумевшие от вина и алчности чудовища в человеческом облике, сгрудившиеся вокруг него, не испытывали и капли жалости при виде таких жестоких страданий. У них на уме было другое — какие бы еще придумать пытки, чтоб сломить бессмысленное упорство мулата? Но придумать ничего не удавалось — похоже, му́ку страшнее трудно изобрести. Убийцы зароптали. Однако Диого — вот уж поистине исчадие ада! — внезапно снова разразился резким хохотом. — Ну что, продолжим наш спектакль? Эта тварь живуча как кошка… Попробуем новую штуку! Он взял свою саблю и подошел к истекающему потом и кровью мулату. Лицо бедняги исказила судорога, глаза были прикрыты. Негр схватил двумя пальцами веко страдальца, оттянул его и отсек коротким ударом. Обнажилось глазное яблоко, круглое, бесформенное, темное, все в кровавых прожилках; оно дергалось под жестокими лучами знойного солнца. — Ну, что! Такого ты не ждал, скотина?.. Теперь другой глазок, уж будем последовательны, да и симметрию надо соблюдать. Хоп!.. Готово. Теперь будешь говорить? Где сокровища?.. Говори!.. Где золото?.. Но тут несчастная жертва в неудержимом, каком-то почти потустороннем, порыве приподнялась, разрывая путы на руках. Человек, ослепленный обжигающим его беззащитные глаза светилом, словно на мгновение пришел в себя, прежде чем умереть. Он попытался что-то сказать, но с губ его слетели лишь невнятные звуки. Сломленный непередаваемыми муками, он, может, и хотел бы теперь открыть, где лежит это проклятое золото, в обмен на быструю смерть. Брань смолкла, над площадью повисла зловещая тишина. Может, скажет хоть слово, хоть знак какой подаст? Но мулат, по-видимому, истратил на это усилие весь остаток своей неукротимой жизненной энергии. Он конвульсивно выбросил вперед руки, покачнулся и тяжело обрушился на землю. Диого с нескрываемой яростью кинулся к нему. Поздно! Жертва ускользнула. Искалеченные глаза успели заметить валявшуюся совсем близко саблю одного из бандитов. Несчастный схватил ее и рухнул на острие. Клинок вошел прямо в сердце. Палачи были разочарованы. Такой неожиданный конец привел их в бешенство, они набросились на труп, — рубили, кололи, рвали на куски… Потом наконец ушли, так и не успокоившись, вопя во все горло и жестикулируя. Диого остался один у затухающего костра. Опираясь на трость, он издали наблюдал оргию, пришедшую на смену грабежу и убийствам. Ему необходимо было выговориться, и голос его хрипло звучал в тишине: — Это судьба. Такое великолепное начало — и такой плачевный конец! А все из-за необъяснимого упрямства этой скотины. Мне необходимо найти золото… впрочем, золото — всего лишь средство для достижения моей истинной цели. Что толку быть вождем этих разбойников, если знаешь точно, что месяцев через пять-шесть они найдут тебе замену? Видно, так уж у них здесь заведено! Вожди сменяются на Спорных Землях слишком быстро, мне просто не хватит времени отыскать сокровища. Остается одно — обчистить каучуковые плантации француза. Рискованно, конечно. Француз просто так своего не отдаст. Презренные краснокожие обожают его, да и моим он не раз оказывал услуги, найдутся придурки, которые испытывают к нему чувство благодарности. Но жребий брошен, черт возьми… Нужно действовать! И как можно быстрее, если ты, Диого, — изгнанник, пария, мятежник, негр… хочешь превратиться в дона Диого, президента будущей республики Амазонии! В это мгновение чья-то рука коснулась плеча новоявленного вождя. Он резко повернулся, готовый защищаться, но успокоенно улыбнулся, узнав в подошедшем одного из своих приближенных. — А, это ты, Жоао! — Я, хозяин. Я все слышал. Но будь спокоен — когда надо, я умею быть глухонемым. — Откуда ты? И почему не был здесь, когда я нуждался в бойцах? — Я только что из Арагуари… — С каучуковых плантаций? — Да. Только плантаций больше не существует. — Тысяча чертей! — Не волнуйся! Правда, француза нам не ограбить. Но мы можем предпринять кое-что получше. — Говори! — Его родня, поселенцы из Марони, очень богаты. С них можно немалый выкуп сорвать! — Черт меня побери, если я понял. О чем ты? — Сейчас поймешь.
ГЛАВА 2
Убежище для изгнанников. — Деревня без названия. — Зыбкая граница. — Заливная саванна, срединная саванна, припри. — С миру по нитке. — Несколько страниц колониальной истории. — Глухая враждебность португальцев. — Наши права на Спорные Земли. — Начало наших исследований в экваториальной зоне. — Отважный поход губернатора господина де Фероля. — Предварительные акты Утрехтского договора. — Беспомощность нашего полномочного представителя. — Двусмысленность. — Одно-единственное слово становится причиной конфликта, длящегося 173 года. — Бессилие дипломатов. — И снова переговоры.Жуткие сцены, послужившие прологом к нашему рассказу, развернулись в деревеньке, возведенной незадолго до того где-то в обширных пространствах саванны, на Спорных Землях Гвианы. Точные географические координаты этого поселения до сих пор не установлены, что вполне естественно, поскольку его еще попросту не существовало к тому моменту, когда наш соотечественник, отважный исследователь этих мест господин Анри Кудро, счастливый соперник доктора Крево, совершил путешествие на побережье. Редким же торговцам, заглядывавшим сюда по делам, ей-богу, не до чистой науки. К тому же построена деревня была людьми, имевшими полное основание скрываться и избегать встреч с представителями бразильских властей, которых изредка откомандировывали из Макапы в укрепленный пост Педро Второго. Нисколько не удивительно поэтому, что убежище для изгнанников оказалось в стороне от любых дорог и что о его существовании мало кому известно до настоящего времени. С другой стороны, кто может поручиться, что завтра мятежная волна не сметет приют отверженных? Само по себе местечко это не представляло сколько-нибудь существенного интереса, равно как поступки и действия его обитателей. Ведь упомянутая деревенька не являлась частью какого бы то ни было государства. Ни один полководец ни одной державы не устанавливал там своего флага. И никакое правительство не обзавелось в тех местах сельскохозяйственными владениями либо промышленными предприятиями. Таким образом, жители поселения — люди без родины, поскольку земля их обитания представляла собой географический феномен[93] ничейной земли. Впрочем, может быть, именно это издавна служило причиной кровопролитных споров. Однако некоторые ориентиры безымянной деревеньки все же назвать можно: по южной границе саванны, где она располагалась, протекал Тартаругал-Гранде; с востока ее обрамляли озера Кампридио и Де-Буш, куда впадал Тартаругал; на севере находилась еще одна река, вполне может быть, это Риу-Кужуби; западные границы остались неизвестны.
Скажем сразу, «саванна» в данном случае вовсе не означает обширную равнину, густо заросшую травой, вроде русских степей или североамериканских прерий. Скорее это нечто резко контрастное, потому что в зависимости от высоты расположения земель они принимают здесь совершенно различный вид. Несколько метров ниже или выше уровня океана — и облик участка, его характеристики меняются коренным образом. Саванна может быть какой угодно! Есть заливная — речь идет о нижних соляных пастбищах, где твердая почва, поросшая густой травой, покрыта более или менее значительным слоем воды. Есть и срединная, абсолютно сухая, как правило, плоская, где круглый год кормится скот. А название «припри» или «пинотьера» дала саванне пальма пино, растущая по ее краям или образующая зеленые островки. Припри — и заливная и срединная саванна одновременно, в том смысле, что эта низина то высыхает, то заливается водой в зависимости от сезона. К тому же здесь протекают многочисленные водные потоки, большие и малые, например Тартаругал-Сино или Риу-Итоба, или просто ручейки, берущие начало в озерах и болотах. На плоской равнине реки, речушки и ручьи беспрепятственно сливаются, образуя нечто подобное кровеносной системе человеческого организма. Они существенно меняют облик и характеристики отдельных участков саванны. По их берегам растут высокие деревья различных пород, образуя лесозащитные полосы; они, словно длинные, причудливо извивающиеся ленты, разделяют нижние пастбища, срединную саванну и пинотьеру. Таким образом, мы выяснили, что название «саванна» не может и не должно обозначать нечто похожее на степь, покрытую злаками. К тому же путь по саванне нелегок, часто сопряжен с опасностями. Учитывая все вышесказанное, трудно было найти более выгодное расположение иррегулярным войскам[94], не до конца выяснившим отношения с двумя соседними державами. Беглые рабы и каторжники, дезертиры, всевозможные мерзавцы, преступившие закон, подозрительные торговцы, скрывавшиеся от жестокой несправедливости или законной строгости цивилизованного общества, — все они стекались в этот дикий край, ставший для них землей обетованной[95]. Их объединяла взаимная симпатия, а больше — необходимость защищаться от индейцев (те им вовсе не были рады!) и вообще переносить тяготы дикой жизни. Легко представить, что́ за нравы царили среди подобного сброда и какие перспективы дарило такое соседство поселенцам, в конце концов приступившим к освоению неисчислимых природных богатств чудесного края[96]. Поселенцы — мы писали уже об этом в первой части нашей книги — вынуждены постоянно быть настороже. Они лишены возможности прибегнуть к военной помощи Франции или Бразилии, когда под угрозой оказывается их хозяйство или сама жизнь. Только сами могут они защитить себя, обеспечить собственную безопасность. Впрочем, правительствам обеих стран пришлось бы туго, реши они вмешаться в дела колонистов, особенно французскому, поскольку с незапамятных времен вся политика обидчивой Бразилии была направлена на нейтрализацию чьих бы то ни было усилий в изучении экваториального региона. Это утверждение, которое может показаться преувеличением в свете прекрасных отношений между нашими странами, все же абсолютно точно отражает ситуацию на Спорных Землях. Подтверждением моих слов служит тот факт, что Бразилия, по любому поводу выражающая чувство глубокой симпатии к Франции, становится неуступчивой всякий раз, когда дело касается Спорных Земель. Для тех, кто решит, что у автора предвзятое мнение на сей счет, приводим в доказательство нашей беспристрастности следующие строки, выражающие, вероятно, формулу дипломатии, которой пользуются никак не меньше века наши основные конкуренты. Принадлежат они перу португальского министра морского флота, датируются 1798 годом. Текст приводим дословно: «Тот факт, что французам почти не удалось создать и укрепить колонии в Кайенне, дает основание надеяться, что этого не случится и в будущем. Главное, что требуется от вас, — скрытные усилия и осторожные проявления патриотизма, которые возведут препятствия на пути амбициозных планов[97] наших конкурентов, не создавая при этом впечатления сопротивления или недоброй воли» (инструкция министра морского флота, 1798 год. «Памятная записка о вторжении французов на земли Северного побережья»). Такой документ говорит о многом. Сейчас 1886 год. Стало быть, этим инструкциям 88 лет. И что же? Похоже, они не претерпели ни малейшего изменения с того дня — 12 октября 1822 года, — когда Бразилия сбросила иго метрополии и провозгласила государственную независимость. Вот тому доказательство: несмотря на уступки французского правительства в вопросе определения границ, полномочные представители обеих стран так и не могут продвинуться дальше бесконечных совещаний. Бразилия готова прийти к соглашению, но при условии, что принадлежащая нам территория почти полностью перейдет к ней, а граница отодвинется к Карсевенне, то есть Бразилия преисполнена желания присвоить девять десятых Спорных Земель. Между тем мы имеем неотъемлемое право на эту территорию, и государственные мужи, которые сегодня, когда пишутся эти строки (март 1886 года), все еще пытаются добиться приемлемых с точки зрения наших интересов и достоинства условий, вряд ли могут рассчитывать на благодарность потомков. Права эти — мы считаем, важно дать им точное определение — восходят к эпохе первоначальной колонизации Америки. В XVI веке Франции формально принадлежали все земли от Ориноко до Амазонки. Но, занятая Италийскими, затем религиозными войнами, Франция допустила, чтобы испанцы и португальцы присвоили себе большую часть Нового Света. Когда в 1664 году французы обосновали наконец первую крупную колонию в Гвиане, нам уже, даже формально, не принадлежало ни клочка земли этого края. Между Марони и Ориноко успели вклиниться голландцы. Тем не менее у нас еще оставалась территория от Марони до Амазонки и Риу-Негру. Только в 1688 году португальцы решили потеснить нас с северного берега Амазонки — они заметили оживление торговли с индейцами в этих местах и прекрасно осознали изумительное расположение побережья. С этой целью Лиссабон воздвиг на северном берегу Амазонки в нижнем ее течении пять небольших фортов. Тогда Людовик XVI через губернатора Кайенны г-на де Фероля провозгласил право французской монархии на все земли северного бассейна реки. Португальское правительство отказалось признать обоснованные претензии французов, и в мае 1697 года по приказу короля господин де Фероль взял приступом и занял Сан-Антонио-де-Макапа, а остальные четыре форта разрушил. «Меркюр галан» писал тогда: «Господин де Фероль четко и быстро выполнил приказ королевского двора изгнать португальцев… Имея в распоряжении всего девяносто человек, он сумел обратить в бегство две сотни португальцев да еще шестьсот индейцев, которые их поддерживали, уничтожил все форты за исключением того, что в Макапе. Там он оставил гарнизон, а сам с пятью-шестью кораблями, участвовавшими в кампании[98], возвратился в Кайенну. Военный поход его оказался бесплодным — крохотная армия всего месяц продержалась в Макапе, а затем была изгнана португальскими войсками, снова захватившими форт». Первую дипломатическую конвенцию, пытавшуюся разрешить конфликт, заключили 4 марта 1700 года. Переговоры стали как раз следствием военных действий, развернутых в Макапе. В соответствии с предварительным договором король Франции отказывался от основания колоний на правом берегу Амазонки, а король Португалии обязывался разрушить форт в Макапе и впредь воздерживаться от возведения укрепленных пунктов на Спорных Землях, временно признаваемых нейтральной полосой. Португальцы, как и обещали, разрушили Макапу. Так продолжалось вплоть до заключения Утрехтского договора[99], призванного положить конец распре. В предварительных актах граф де Тарука выдвинул требование, чтобы король Франции «уступил ныне правящему и всем будущим королям Португалии, навечно, все права на территорию, обыкновенно называемую Северным мысом, относящуюся к штату Мараньон и расположенную между реками Амазонкой и Винсент-Пинсоном, невзирая на любые предварительные или окончательные договоры, которые могут быть заключены по вопросам владения названными землями и прав на них» (параграф второй требований португальской стороны, представленных в Утрехте 5 марта 1712 года). Этот знаменитый договор, подписанный 11 апреля 1713 года, который должен был положить конец конфликту, длившемуся к тому моменту более двадцати пяти лет, послужил, напротив, поводом для многочисленных дискуссий, не завершившихся и по сей день. Восьмой параграф договора 1713 года гласил, что Франция отказывалась от навигации по Амазонке, что оба берега реки принадлежали Португалии и что разделяла владения обеих стран река, называемая Жапок или Винсент-Пинсон. Что примечательно, в тексте не указывалась ни широта, ни долгота реки Винсент-Пинсон, а также ничего не говорилось о принадлежности территорий в глубине континента. Отсутствие уточнений на сей счет, случайно или намеренно допущенное полномочными представителями Португалии, и породило путаницу и не прекращающиеся до настоящего времени споры. Знаменательным кажется и тот факт, что название реки Жапок, отсутствовавшее во временном договоре от 5 марта 1712 года, появилось вдруг в тексте окончательного договора от 11 апреля 1713 года; невольно закрадывалась мысль, что португальцы тайком приписали его — они жалели, что не определили всех своих притязаний до заключения окончательного договора. Если допустить такую вероятность, нельзя не обратить внимание, насколько зыбко, неполно, неточно описание границ, и еще на одно обстоятельство: по признанию португальских источников, представители этой страны в Утрехте были очень хорошо осведомлены в территориальных вопросах, чего не скажешь о представителе Франции, маркизе д’Юкселе, генерале-дипломате, по воспоминаниям современников столь же неумелом посланнике, как и бездарном военном. Что же вытекает из этой, словно брошенной для забавы в лицо нашим полномочным представителям, оговорки? А вот такой поворот — вскоре португальцы стали заявлять, что договор определял в качестве границы реку Ойяпок[100], впадающую в океан между четвертым и пятым градусами северной широты, а под названием Северный мыс имелись в виду земли Оранжевого мыса, то есть более восьмидесяти миль побережья. Французы же утверждали, что речь идет о реке, впадающей в залив Винсент-Пинсон, между первым и вторым градусами северной широты, и никогда не признавали законность непомерных притязаний португальцев, отбиравших у нашей колонии половину побережья и три четверти территории. Важно отметить, что, если бы речь шла о реке Ойяпок, то нигде, тем более в предварительных требованиях, португальцы не нарекли бы ее рекой Винсент-Пинсон — так она не называлась ни на одной карте. На всех картах, от старинных до современных, она неизменно фигурирует под именем Ойяпок или каким-то сходным. Таким образом, граница проходила по реке, называвшейся Винсент-Пинсон. Было бы недостаточно доказать, что Жапок и Ойяпок суть одна и та же река, поскольку нигде никогда она не фигурировала ни под именем Винсент-Пинсон, ни под двойным названием, где присутствовало наименование Винсент-Пинсон. Изучение старинных карт показало, что, напротив, канал Карапапори, следовательно, и река, что впадает в него, неизменно носил одно, а иногда одновременно несколько из следующих наименований: Аравари, Арравари, Аревари, Винсент-Пинсон и Иварипоко. Никто не станет отрицать, что последнее название отличается от Жапок не больше, чем Ваябего — имя, которое в те времена, бесспорно, носила наша Ойяпок. Франция неизменно настаивала именно на границе по Карапапори — северной части Арагуари, которую Гумбольдт[101] признал истинной Винсент-Пинсон. Добавим, чтобы закончить это долгое отступление, имеющее для нашего патриотического сознания куда большую ценность, чем просто любопытная географическая информация, что решение этой проблемы не продвинулось с тех пор ни на шаг, несмотря на все заключенные соглашения и франко-бразильские переговоры. И еще несколько слов для тех, кому неизвестна эта страница нашей колониальной истории. В 1782 году г-н де Бесснер, губернатор Кайенны, поручил географу Симону Мантелю изучить течение Арагуари и найти естественные препятствия, по которым можно было бы установить границу между Французской Гвианой и португальскими владениями, если согласиться с тем, что она не проходит по Винсент-Пинсону или Карапапори. Мантелю поручалось определить, можно ли провести рубеж по устью Арагуари и каковы в этом случае будут потери португальцев в континентальной части. Мантель должен был двигаться на запад, отклоняясь как можно меньше от экватора и от линии, параллельной течению Амазонки, чтобы, как гласили инструкции, в полном соответствии с Утрехтским договором, выйти к Риу-Бранку. И при этом постараться выявить на нашем южном склоне центрального горного массива четкую, научно обоснованную границу. Мантель поручение по большей части не выполнил. Он сумел лишь дать топографическое описание побережья. Одним махом перескочим через целое столетие. И обнаружим еще одну аналогичную попытку, предпринятую по инициативе господина Шессе, губернатора Гвианы. В 1833 году г-н Шессе по примеру предшественника доверил сходную миссию профессору истории Кайеннского коллежа, одному из достойных молодых ученых, зарекомендовавшему себя выдающимся исследователем-путешественником, господину Анри Кудро. Господин Кудро преуспел больше, чем Мантель. Он посетил Кунани, Мапу, земли Северного мыса, Тартаругал, Риу-Бранку, южные склоны центрального массива. Очень жаль, что Мантелю не удалось в 1782 году то, что удалось г-ну Кудро в 1882, 1884 и 1885-м. В противном случае правительство Людовика XIV, вероятно, давно бы уже положило конец застарелой ссоре. После неудачной попытки Мантеля в 1792 году Франция под угрозой всеобщей войны вывела войска из форта Винсент-Пинсон, который трудно было бы защищать. В 1794 году португальцы, напуганные освобождением рабов во Французской Гвиане, снарядили пять небольших кораблей и, не дожидаясь официального объявления войны, явились грабить большую скотоводческую ферму в Уассе, владелец которой, гражданин Помм, заседал тем временем в Конвенте. И так в течение двадцати лет Утрехтский договор утверждался с помощью военной силы. С 1794 по 1798-й побережье между устьями Амазонки и Ойяпока совершенно обезлюдело. Португальцы стремились расширить пустыню между Кайенной и Парой — французы освобождали рабов, и Пара под их влиянием рисковала оказаться вскоре и без рабов, и без индейцев. Между тем индейцы из Кунани и Макари не желали с нами расставаться. Несколько сот из них были вывезены в отдаленные районы. Но они, обманув бдительную охрану, презрев опасности и не испугавшись жестоких репрессий, вернулись из Маранао в Макари и Кунани, проплыв на хрупких пирогах восемьдесят миль в открытом океане. Все эти события привели Жанне-Удена, племянника Дантона[102] и комиссара Конвента по гражданским делам в Гвиане, к пониманию важности определения окончательной границы для установления всеобщего мира. С этой целью он поручил географу Мантелю и капитану инженерных войск Шапелю написать две памятных записки и отослал их министру морского флота. Несмотря на такие предостережения, дипломаты умудрились подписать 20 августа 1797 года еще более абсурдный договор, отбросивший наши рубежи к Карсевенне. Директория[103] отказалась его ратифицировать, и совершенно справедливо. Новое соглашение от 6 июня 1801 года, подписанное в Бадажозе, устанавливало французскую границу по Арагуари и объявляло навигацию на Амазонке достоянием обеих наций. Амьенский договор[104] 25 марта 1802 года, четкий и недвусмысленный, окончательно определил координаты рубежа в устье Арагуари — один градус двадцать минут северной широты, между островом Новым и островом Покаяния. Он проходил по Арагуари, Винсент-Пинсону, у Ла Кондамина, от его устья до истоков, а далее по прямой, проведенной от этих истоков к Риу-Бранку. Казалось бы, все разрешилось к лучшему благодаря соглашению, давшему официальное толкование Утрехтскому договору. Но для дипломатов было бы слишком просто на этом остановиться. Последовали договоры 1814 и 1815 годов, где наши замечательные представители, глубоко опечаленные рациональным решением проблемы, поторопились вернуться к двусмысленности первоначального варианта. В 1822 году Бразилия стала независимой, унаследовав от Португалии ее права и притязания. Она тут же превратилась в арену ужасных гражданских войн. В 1824 году французское правительство, стремясь защитить колонию от вторжения мятежников, бегущих из Пары, отдало приказ губернатору Кайенны восстановить форты в Макари или Винсент-Пинсоне. Для этой цели был выбран островок на озере Мапа. Форт был покинут войсками в 1840 году. Но для соблюдения наших интересов колониальное правительство возвело еще один, на правом берегу реки Ойяпока. Переговоры о границе тянулись до 1844 года и были наконец благополучно похоронены. В 1849, затем в 1850 году в Париже организовывались бразильские экспедиции с целью занять Мапу. Господин Тоста, министр морского флота, храбро заявлял 19 апреля 1850 года в палате депутатов Рио-де-Жанейро: «Речь идет о создании в этих краях обширной колонии, которая позволила бы нам утвердить свое господство». Но бразильская экспедиция встретилась в водах Мапы со сторожевым кораблем французов, и правительство Рио, чтоб утешиться в своей неудаче, принялось возмущенно протестовать против действий Франции… Переговоры возобновились в 1853 году и продлились до 1856 года. Полномочные представители господин Ис де Бутенваль и господин виконт д’Уругней ломали копья в ученом турнире на поприще исторической географии. Господин виконт д’Уругней подарил нам границу по реке Карсевенне, устье которой мы знаем, а истоки не известны никому. А господин Ис де Бутенвиль предложил бразильцам в качестве границы реку Тартаругал: истоки у нее, вероятно, имеются, но вот устье… — по утверждению господина Кудро, река терялась в непроходимой топи озер и болот. Сии ученые переговоры итога не имели. Дипломатический путь к победе не привел. Тогда губернатор провинции Пара попытался в 1858 году прибегнуть к оружию. Новая экспедиция образца 1850 года, возглавляемая лейтенантом пограничных войск, вышла из Пары и вторглась в Кунани на Спорные Земли. Население Кунани, состоявшее из беглых рабов, встретило захватчиков ружейными залпами. Правительство Рио обвинило Францию в том, что она держит в Кунани своих агентов, которых опекает Проспер Шатон, наш консул в Паре. Лейтенант пограничных войск получил звание капитана, а Проспер Шатон был наказан. Это уже просто верх абсурда!.. Но еще нелепей вывод, который сделали бразильцы из неудавшихся переговоров 1853–1856 годов: «Поскольку Франция сама предлагает нам территории по Тартаругалу, следовательно, земли, расположенные между Арагуари и Тартаругалом, больше не являются спорными». Руководствуясь этим чудесным рассуждением, уже безо всяких предупреждений, глава провинции Пара взял и просто аннексировал в 1860 году территорию, известную в этих краях под названием округ Апурема. Аннексия[105] пока скорее желаемая, чем фактическая, хотя Бразилия уже лет двадцать пять стремилась всемисилами присвоить ее, в основном чтоб собирать налоги. Само собой разумеется, так просто это кончиться не могло: в 1883 году, когда в этих местах побывал г-н Кудро, здесь уже ожидали прибытия военного поста из Пары. В 1883 и 1884 годах господин Кудро довел эти факты до сведения высоких инстанций, последовал обмен нотами между господином Жюлем Ферри и господином бароном д’Итажуба со стороны Бразилии. Об этом стали писать. Власти призадумались, но ненадолго. Следовало найти козла отпущения. Когда-то им стал Проспер Шатон, теперь — злосчастный исследователь. Почему, черт возьми, в самом деле, правда должна быть на стороне господина Кудро?.. Инцидент был торжественно, по всем правилам, якобы исчерпан. А точнее, по доброму старому обычаю, его вновь… просто-напросто похоронили. Но вот сегодня этот раздражающий и бесконечный спор разгорается с новой силой из-за вновь принимаемого закона о рецидивистах. Их предполагается ссылать в Гвиану. Бразилия, естественно, и не без оснований, забеспокоилась, что двадцать тысяч негодяев, сплавленных Францией в колонию, создадут серьезную угрозу соседней бразильской провинции Амазонии. Переговоры возобновляются!.. Но мы на этом остановимся из жалости к читателю, уже взмолившемуся, вероятно, о пощаде.
ГЛАВА 3
Черный искатель приключений. — Внешность отталкивает, душа ужасает. — Поистине неожиданная образованность. — Приключения золотоискателя. — Жила. — Волшебное сокровище. — Прииск. — Что такое драга? — Триста килограммов золота в месяц. — План побега. — Заботы миллионера. — Огорчение претендента. — Поход. — Четыре часа в пирогах. — На поляне. — Невежливый господин Луш. — Суровый урок. — Печаль матери. — Спасите нас!В предыдущей главе автор увлекся и, позабыв о времени, предпринял весьма обширный экскурс[106] в историю. Однако, принимая во внимание мотивы, подвигнувшие его на это, не стоит обижаться. Поскольку мы с вами, уважаемый читатель, занялись изучением неведомых доселе земель, давайте тщательно исполнять задуманное. В подобных случаях всегда важно, чтоб ни одна, пусть малозначительная, подробность не осталась без внимания! Что же до нашего сюжета, то он от этого только выиграет. Мало просто описывать, по мере развития событий, нравы, обычаи и образ жизни населения Спорных Земель. Важно еще выяснить, почему и каким образом земли стали спорными, чтобы иметь возможность здраво судить о последствиях тяжбы, поставившей обитателей этого края в совершенно особое положение. Однако вернемся к рассказу. Главное действующее лицо драмы, залившей кровью селение, как вы уже поняли, Диого — Жак по-португальски, — крупный негр, лет тридцати, с мощным торсом, настоящий черный геркулес. Назвать его красавцем было бы затруднительно. Оспа исказила черты лица молодчика самым ужасным образом и придала ему гротескное выражение. Нос, буквально изъеденный роковой для чернокожих болезнью, задрался так, что от него остались лишь два зияющих отверстия. Возле губ тянулся свежий шрам, фиолетовый на черной коже, рот свела жестокая судорога, оголив белоснежные, как у хищника, зубы. Пронзителен и жесток был взгляд его глаз с бесформенными, налитыми кровью веками; белок их пронизали коричневые нити, а радужная оболочка сверкала, как отполированный стальной шарик. Нрав бандита был под стать физиономии. Обыкновенно эта зловещая, никогда не улыбавшаяся маска выражала, может быть не без умысла, леденящую злобу и безжалостность. Чудовищное безобразие Диого, к которому невозможно было привыкнуть, пугало даже тех, кто хорошо его знал. Но негру нравилось еще и усиливать отталкивающее впечатление. Он щеголял своим уродством, выставлял его напоказ, будто хвастался. Нельзя сказать, что душа этого черного геркулеса была краше наружности. Жестокий по природе, склонный к приступам ярости, в ненависти беспощадный, тщеславный, алчный и хитрый, Диого умел к тому же прекрасно владеть собой. Может, ему просто нравилось вживаться в образ чудовища? Может, он притворялся, намеренно усиливая кошмарное впечатление от своих поступков и уродливой внешности? Кто знает? Перед ним трепетали, и его радовало то жуткое впечатление, которое он неизменно производил на окружающих. Не раз, впав в бешеную ярость, он неожиданно брал себя в руки и становился вдруг внешне безобидным, словно спящий. Как-то он убил приятеля за бутылку тростниковой водки, но отнесся совершенно безразлично к тому, что сотрапезники уничтожили враз результаты трудов целого месяца. Был случай, когда пьяные соратники оскорбили его и стали ему угрожать, но он лишь презрительно пожал плечами, зато потом терпеливо дожидался, пока они протрезвеют, и убил их с неслыханной изощренностью. Прибыв год назад неизвестно откуда в крошечную колонию, он сумел всех подчинить своему влиянию. Его, возможно, ненавидели, иногда — изумлялись и, уж во всяком случае, боялись. Что еще способствовало росту влияния Диого в не меньшей степени, чем его выдающаяся физическая сила, так это ум и, особенно, удивительная для такого обездоленного, как он, образованность. Этот головорез бегло говорил по-французски, по-английски и по-португальски, проезжие торговцы снабжали его время от времени книгами, газетами, брошюрами. Он с жадностью набрасывался на чтение, к величайшему изумлению своих полудиких сподвижников, которым и не снилось такое чудо. Но и это не все. Время от времени Диого совершал более или менее длительные походы, тщательно занося на бумагу очертания местности, и потому располагал подробными картами. В течение полугода он практически держался в стороне от интриг жителей селения, то избиравших, то свергавших правителей с усердием, достойным древних граждан Мексики, легендарной страны пронунсиаменто[107]. Когда к власти пришел последний вождь, Диого начал исподволь влиять на общественное мнение, пока не выставляя себя в качестве соперника. Он просто стал принимать деятельное участие в жизни этих стоящих вне закона людей, протекавшей в работе и оргиях. Более того, сумел войти в доверие к правителю и энергично помогал ему в опасных предприятиях. Затем, когда настал подходящий, с его точки зрения, момент, Диого сумел всех убедить, что необходимо как можно скорее избавиться от вождя-мулата, чьей дружбы прежде искал. Мы уже видели, как и при каких обстоятельствах вождь был свергнут и заменен соперником. Всего за месяц до трагического происшествия мулат, работая в маленькой, но очень богатой золотоносной бухте, наткнулся на жилу, как это зовется у старателей. В первом же лотке[108], который он промыл, золота оказалось на сто франков. Для гвианских копей цифра гигантская, почти непостижимая. Придя в восторг, мулат проработал весь день один. Жила не истощалась. Вечером он принес в хижину килограмм золота в песке и зернах, ценой приблизительно в три тысячи франков. Наверное, благоразумней было бы так и продолжать трудиться в одиночестве. Но золотоискатель, желая поскорее отнять у земли ее богатство, предпочел найти себе товарища, он знал по опыту, что работать на пару гораздо легче и, уж конечно, доходней. Он рассказал о своей удаче «верному» Диого. Тот выслушал его безо всякого интереса, как человек, которого не прельщает богатство и вполне удовлетворяет неприхотливая жизнь лесных обитателей. Впрочем, Диого предложил вождю свою помощь и стал копать рядом с ним, не выказывая ни малейших признаков жадности. Он трудился усердно, взяв на себя самую тяжелую часть — земляные работы. Выход золота стал еще выше, чем в первый день. Между тем Диого, на удивление безразличный, отказался от доли, удовольствовавшись скромной оплатой. Жила казалась неиссякаемой. С остервенением проработав неделю, мулат так разошелся, что, в своей безудержной жадности, предложил товарищу установить драгу[109] и нанять нескольких землекопов, чтоб придать делу размах. Тот, по-прежнему готовый помогать, хотя и непостижимо равнодушный к растущему день ото дня состоянию, позволил себе, больше для формы, усомниться в разумности такого шага. — Согласен, — сказал он, — промывка драгой повысит производительность в десять, даже в сто раз. Но представь себе, что землекопы, которых ты наймешь, догадаются о богатстве жилы… — Мы будем доставать золото дважды в день, когда они обедают, и никто не узнает, сколько его. — Что ж, это идея… Ртуть-то у тебя хоть есть? — Ртути хватит! — Хорошо. Давай поставим драгу. Очевидно, необходимо пояснить, что такое драга. Это сооружение, очень простое, из большого количества корытец или, лучше сказать, деревянных желобов, длиной приблизительно по четыре метра, шириной пятьдесят и высотой тридцать сантиметров. На одном конце они чуть шире, вставляются один в другой, образуя единый желоб длиной двадцать, сорок или пятьдесят метров. Открытые с двух сторон коробочки, из которых, собственно, и состоит драга, называют плитами. Внизу плиты — лист жести с отверстиями или даже просто съемные деревянные планки, тоже изрешеченные. Они укреплены на уголках в нескольких сантиметрах от днища, и под ними — ртуть. Первая плита устанавливается на берегу ручья, перегороженного плотиной, и через нее регулируемый поток воды попадает в драгу. Остальные укреплены на подставках с уклоном, так чтобы вода свободно стекала по желобу. Золотоносную породу мельчат киркой, затем лопатой кидают в драгу, вода размывает ее и уносит. Золото — оно тяжелее породы — проваливается в дырки и тут же сплавляется с ртутью. Достаточно насыщенную ртуть сливают, фильтруют через верблюжью кожу, а чаще просто через очень плотную ткань. Остается белая тестообразная масса, из которой ртуть выпаривают в каком-нибудь сосуде на открытом огне. Вот в нескольких словах описание примитивного приспособления, без которого непредставим труд золотоискателя. Несовершенство устройства очевидно, но мулат мог ликовать: жила была невероятно богатой, и ежедневная выработка составляла от десяти до двенадцати килограммов золота. К середине четвертой недели подельщики намыли приблизительно триста килограммов золота. А это около миллиона франков! И вдруг порода стала абсолютно пустой. Чудесным образом жила истощалась именно тогда, когда к концу стали подходить запасы ртути. Правда, Диого, предвидя такой оборот, установил грубый аппарат, чтоб восстанавливать выпариваемую ртуть. Мулат, не державший ничего в секрете от друга, по мере необходимости зарывал свое волшебное богатство в земляном полу хижины. Он ссыпал песок и самородки в небольшие сосуды из тыквы, по десять килограммов в каждый. Сосуды были обвязаны сплетенными в косы волокнами арумы, которые придавали им необычайную прочность. Разделенное на порции золото легче было переносить с места на место, да и прятать его было удобнее среди всяческой домашней утвари. Как только иссякла золотоносная жила в бухте, Диого снова стал вести беззаботную внешне жизнь. На самом же деле он с новыми силами принялся подготавливать своих приближенных к перевороту. На это ушло три-четыре дня. Тут мулат, который с тех пор, как на него свалилось богатство, пребывал в постоянных метаниях, выразил желание уехать в какую-нибудь цивилизованную страну. Что толку быть миллионером, если твой удел — порция маниоковой муки и сушеной рыбы! Он изложил свой план «дорогому другу» Диого, и тот пообещал ему поддержку и даже предложил проводить на побережье, где вождь сможет сесть на первый проплывающий мимо корабль. Тем более что ежемесячно из Кайенны в Пару совершал рейс небольшой пароходик — с его помощью колониальная столица перевозила быков, решая продовольственную проблему. Он как раз вскоре должен был прибыть. Капитан причаливал обычно то тут, то там, чтоб обменять или купить каучук, золото, рыбий клей и масло из андиробы. С ним несложно было договориться. Впервые за долгое время на безобразном лице негра появилось нечто вроде улыбки. Он вернулся в свою хижину радостный, выставил запас тростниковой водки, пригласил сообщников, щедро напоил их и объявил: — Сегодня начнем. Этот негодяй решил уйти не попрощавшись, по-английски, как говорят белые. Что ж, посмотрим! Знаете, как он богат? Невероятно богат… И мне известно, где золото. Нужно только перекопать пол его хижины, там на всех хватит… Берите сколько хотите. Все равно еще останется. Однако особенно транжирить не следует. Помните о завтрашнем дне и рассчитывайте на меня. Старайтесь обмануть остальных щедрыми подачками, а сами несите как можно больше сюда. Все золото вернется к вам, оно понадобится, когда мы станем основывать республику. Чтоб победить и обеспечить свою независимость, нужно быть богатым. Итак, сегодня! Идите! Объявите о свержении жалкого беглеца и провозгласите вождем Диого! Заговорщики рассыпались по деревне, нападая с ходу на приверженцев мулата, либо заставляя их признать нового вождя, либо безжалостно уничтожая, если замечали малейшее колебание. Диого тоже не оставался в стороне. Он умел не щадить себя, и, кроме того, природная жестокость толкала его на участие в резне — он присоединился к убийцам и стал, как мы уже видели, одним из основных действующих лиц дикой трагедии. Обманутый в ожиданиях, Диого был взбешен, он уже считал своим уплывшее из-под носа сокровище. Досада была еще нестерпимей оттого, что для осуществления так долго вынашиваемых планов ему нужны были деньги. Он решил ограбить каучуковую плантацию в верховьях Арагуари. И что же? Стоило Диого подумать об этом нелегком предприятии, как явился один из его людей и объявил, что плантации больше не существует! Смутное чувство отчаяния на мгновение охватило негра. Но принесший новость Жоао сумел несколькими словами успокоить встревоженного главаря. Он сообщил ему нечто, о чем читатель узнает в свой час. — Ну, коли так, — подвел новый вождь итог короткому загадочному сообщению своего посланца, — я обдумаю твое предложение. — Только нужно быстро, хозяин. — Я не хуже тебя понимаю, что времени терять нельзя. Однако где взять двадцать человек? — С хорошим вооружением десяти хватит. — Мало. — Да чего там! Их всего-то четверо белых и полдюжины вечно пьяных индейцев мура. Эти мура разбегутся, как зайцы, и тогда пленники и стража — наши. — Пожалуй, ты прав. Это единственный способ подержать в руках владельца плантации. Тут-то он раскошелится! Ладно. Найди десяток не слишком пьяных бойцов, отведи их к бухте. Одну пирогу поведешь ты, другую — я. Получив указания, Жоао не мешкая покинул Диого и отправился исполнять приказ. А тот вытащил из тайника, которым обзавелся в преддверии будущих событий, несколько карабинов с патронами и перенес в бухту, к пирогам. Против его ожидания, Жоао вернулся довольно быстро в сопровождении отряда окровавленных негров. Водка, которую они поглотили во время последовавшей за разбоем оргии, сделала свое дело: все они горели желанием выполнять распоряжения вождя — бандиты доверяли ему целиком и полностью. В нескольких словах Диого объяснил им, что намеревается быстро провернуть небольшое дело: он частично компенсирует с их помощью потерю сокровища, а вернутся они обратно в деревню не позднее завтрашнего дня. Большего не требовалось, чтоб энтузиазм их вспыхнул с новой силой. Желая угодить новому вождю, понравиться ему, особенно сейчас — он только пришел к власти и, наверное, хорошо отблагодарит тех, кто был с ним рядом в эти первые часы, — негры налегли на весла, и вот уже легкие лодки полетели по глади бухты. Четыре часа без остановки гребли они под палящим солнцем. Пот ручьями катился по черным спинам, руки блестели, словно их натерли маслом, кисти прикипали к веслам. Тучи москитов впивались в неприкрытую кожу, солнце безжалостно обрушивало лучи на головы с густой кучерявой шевелюрой, но дикари-мореплаватели словно ничего не замечали. Они продолжали ритмично взмахивать веслами, выкрикивая в такт бессмысленный припев, в котором сами не понимали ни слова. Вдруг Жоао, сидевший впереди, обернулся и знаком призвал экипажи обеих лодок замолчать. Бухта в этом месте делала резкий изгиб. Пироги замедлили ход, вот-вот они обогнут мыс, весь заросший, словно водяная клумба, цветами муку-муку. Но Жоао сделал мощный гребок, и лодка, повинуясь его усилию, развернулась на месте и вплыла носом в заросли стеблей с широкими твердыми и блестящими листьями. Вторая пирога, повторив маневр первой, тоже вскоре скрылась в чащобе. Гребцы, осторожно подтягивая стебли к себе, продвигали лодку вперед, пока она не пристала к твердому берегу. Вдоль него, насколько хватало глаз, тянулись высокие пальмы. — Здесь! — тихо произнес Жоао, указывая пальцем на полянку метрах в ста от них, среди хрупких, негнущихся стволов, похожих на готические колонны[110]. — Хорошо! — откликнулся коротко Диого и приказал неграм вооружиться. Небольшой отряд высадился на берег и, бесшумно ступая по влажной земле, двинулся вперед. Вскоре Диого, шагавший первым, вышел к поляне, где несколько индейцев потрошили огромную рыбу, называвшуюся в здешних местах пираруку. Немного дальше между пальмами были растянуты гамаки, в них возлежало четверо белых, покуривая сигары и попивая тростниковую водку. На другом краю поляны находились два раненых негра, связанные по рукам и ногам, а рядом с ними — небольшой шалаш из плохо пригнанных жердей, прикрытых широкими листьями. Заметив отряд, индейцы мура, бросив рыбу, с диким криком кинулись к гамакам. Белые были ошарашены, словно из-под земли вырос перед ними огромный негр с безобразным лицом, а за ним еще и другие, вооруженные до зубов. Но удивление европейцев длилось недолго. Один из них, наглого вида старик с иссохшим лицом, приподнялся в гамаке и вызывающе воскликнул: — Гляди-ка!.. Негритос!.. Но Диого, которому были адресованы эти слова на гвианском наречии саламалек, даже глазом не моргнул. С интересом и достаточной долей презрения он разглядывал эту мумию и всю компанию белых. — Ты что, — начал закипать старик, — язык проглотил или, может, оглох? А один из его приятелей добавил: — Кажется, к тебе соизволил обратиться господин Луш! — Молчать! — резко оборвал их Диого. — Говорить будете, когда я спрошу. — Что я слышу? Черномазый мне тыкает… Мир, кажется, перевернулся. Мы — белые, парень! Здесь или где угодно негр должен относиться к белому с почтением, тебе это известно? — Вы ведь беглые каторжники из Кайенны, так? — сказал в ответ Диого, словно не слыша оскорблений. И только внезапно посеревшая кожа выдавала, что за бешеная ярость накатила на него. — Ну и что? Тебе какое дело? — …Вы разграбили и подожгли каучуковую плантацию француза?.. — А ты что, следователь?.. Не советую соваться, понял? Думаешь, я тебя испугался, с твоей обезьяньей рожей и черномазыми прислужниками? — Придется дать урок этой старой макаке, — заметил Диого, не теряя ни в коей мере хладнокровия. Он схватил наглеца за шиворот, вытащил из гамака и, держа на вытянутой руке, минуту изучающе смотрел на него, как ребенок на куклу. Затем с силой грохнул оземь. — Меня зовут дон Диого, запомни! — Ко мне, Геркулес! — завопил поверженный. Из другого гамака выпрыгнул европеец в полотняных брюках, синей рубахе и бросился на негра. Диого спокойно достал из-за пояса револьвер и нацелил его в грудь нападавшему: — Прочь лапы, приятель! Я зла вам не желаю, но и вы ведите себя соответственно. Иначе я вас всех тут изрублю на куски и скормлю кайманам. — Так бы сразу и сказал, — внезапно успокоился старик. — Что угодно от нас абсолютно неизвестному мне дону Диого? — Скоро узнаете. Пока вы все четверо пойдете с нами, а этих паршивых индейцев отошлете. — А потом что? — Потом я скажу! Выполняйте… В этот момент из шалаша стремительно вышла измученная бледная женщина с покрасневшими от слез глазами. На руках у нее был ребенок. Она направилась к Диого, а сзади еще два малыша жались к третьему, лет десяти, отважно наблюдавшему за происходящим. — Не знаю, кто вы, — обратилась к Диого женщина, — но умоляю, спасите нас! Пожалейте бедных детей. Они уже, возможно, лишились отца! Вырвите нас из рук этих палачей! Диого, изумленный, минуту свирепо молчал, потом, так и не ответив на трогательную мольбу, обернулся к Жоао и произнес по-португальски: — Это жена владельца плантации из Арагуари и его дети. Я ее видел только раз, но это точно она. Жоао, сын мой, ты родился в рубашке. Целый выводок беленьких — неплохая добыча! Сажай их в лодку, и поплыли!
ГЛАВА 4
Горе. — Собака. — Внезапное появление свидетеля несчастья. — Рассказ об ужасных событиях. — Что произошло в отсутствие хозяина. — Подготовка к обороне. — Шалаши и хижины горят. — Атака и отпор. — Горящие стрелы. — Отступление. — Окружены. — Отчаянное сопротивление. — Резня и разгром. — Пленники. — Напрасные поиски индейца Табиры. — Нужда. — Затопленная пирога. — Остатки прежней роскоши. — План похода. — Что могут трое мужчин и собака? — «Вперед!»Как, в результате каких необычайных и страшных событий оказалась милая подруга Шарля Робена вместе с детьми во власти бандитов, сбежавших с каторги в Кайенне? Какое неведомое доселе горе обрушилось на многочисленное семейство серингейро? Что за буря разметала или уничтожила достойно и отважно завоеванное благосостояние? Вы, наверное, помните, как охотник за каучуком почти чудом, лишь благодаря вмешательству индейца мундуруку Табиры, вырвался из рук негодяев и нашел на месте своего чудесного дома дымящиеся головешки. Несчастный молодой человек, на долю которого и так за последние двое суток выпало слишком много испытаний, почувствовал, что силы покидают его, — он мысленно представил себе ужасные последствия постигшего его горя. Робен легко смирился с материальными потерями. В конце концов, что могла значить для неустрашимого колониста утрата состояния в сравнении с горем, постигшим его как мужа и отца! Боже, что стало с теми, кого он любил больше жизни?.. С его женой, нежным и хрупким созданием, чью сущность можно выразить в двух словах: любовь и преданность… С детьми, дорогими крошками, которых все в колонии так любили! Только отпетых негодяев не растрогали бы прелесть и невинность! И кто, кроме чудовищ, мог бы напасть на беззащитных, едва начавших жить ребятишек! В чьей же преступной власти оказались они теперь? Шарль, конечно, предполагал, чьих это рук дело. Ему казалось, он видит, как безобразные индейцы мура, возглавляемые каторжниками, идут на приступ колонии… Вот они беспощадно расправляются с растерявшимися рабочими, хватают его жену и детей, издеваются над ними, оскорбляют и уводят куда-то в глубь диких земель. Сраженный ужасной догадкой, француз тяжело осел наземь, словно сломался какой-то внутренний стержень, державший его. Понемногу Шарль пришел в себя и обнаружил, что находится на берегу бухты, в тени дерева манго. Сюда перенес его перепуганный обмороком хозяина индеец. Преданный слуга постарался найти место, откуда Шарлю не был бы виден обуглившийся остов дома. Потом Табира, не зная, что предпринять, — люди его племени, маловпечатлительные по натуре, никогда не теряют сознания от каких бы то ни было потрясений — принялся неловко тереть серингейро, словно с ним приключился солнечный удар. Очень скоро острая боль кольнула колониста в сердце. Вместе с сознанием вернулась му́ка. Он все вспомнил. Табира же, радуясь, что хозяин очнулся, выражал свой восторг пронзительными криками и оживленной пантомимой. Как вдруг в ответ ему раздался скорбный вой. Из тянущихся вдоль берега кустов выпрыгнула огромная собака, израненная, с окровавленной мордой. Она бросилась к Шарлю и принялась облизывать его, поскуливая от радости. — Боб! Это ты, хорошая моя собака, — проговорил серингейро дрогнувшим голосом, признав друга. Услышав свое имя, Боб и вовсе зашелся лаем, изо всех собачьих сил ласкаясь к хозяину. Потом, словно что-то вспомнив, сел, снова взвыл и кинулся обратно в кусты. Шарль, зная, насколько умен пес, понял, что это неспроста. Он уже собирался, несмотря на слабость, двинуться за ним, как вдруг собака снова выпрыгнула из зарослей, а за ней вышел бледный, измученный человек, едва державшийся на ногах. Мужчина в изодранных лохмотьях с трудом продвигался вперед, опираясь левой рукой на черное от пороха ружье. В правой он держал топорик с окровавленными лезвием и топорищем. По щеке у него тянулся длинный шрам, кровь тонкими струйками засохла на почти обнаженной груди, испятнав разорванную одежду. При виде индейца, нацелившего на него ужасную стрелометательную трубку, странный путник бросил на землю ружье и топорик и поднял руки. Тут он заметил все еще сидевшего на земле Шарля, и прерывающимся от волнения голосом закричал по-французски: — Боже мой! Это вы… вы… Так вы живы! Две крупные слезы скатились по загорелым щекам и смешались с испачкавшей лицо кровью. — Какое несчастье! — снова заговорил, рыдая, мужчина. — Но мы не виноваты… Мы дрались изо всех сил. Бедная госпожа!.. Бедные наши крошки! Вглядевшись, Шарль узнал наконец эльзасца Винкельмана. Робен так был тронут страданиями бывшего каторжника, оплакивавшего его собственное горе, что видел теперь в нем только товарища по несчастью. Серингейро вскочил и протянул Шоколаду руку. Горемыка покраснел, потом мгновенно побледнел, но не решился ответить на пожатие. — Давайте вашу руку, Винкельман, — произнес Шарль спокойно и уважительно. — Забудьте о том давнем прошлом, за которое вы уже расплатились полной мерой. Отныне я — ваш друг. Ободренный сердечными словами, в искренности которых сомневаться не приходится, несчастный, словно преобразившись, гордо распрямил плечи и крепко-прекрепко сжал руку серингейро, не находя слов для ответа. — Так что же здесь произошло? — спросил обуреваемый тревогой Шарль. — Расскажите все, что известно. Говорите! Не бойтесь… Я уже пришел в себя, а больнее мне не будет, что бы вы ни поведали. Но вы ранены… едва держитесь на ногах. Позвольте обработать и перевязать ваши раны. — Вот еще! Спасибо, конечно… Только не нужно этого, не беспокойтесь. Мы ведь привычные. Да и потом, все уже засохло… Я просто ослабел от потери крови. Если б это было самое худшее! Погодите, я, с вашего разрешения, сяду и расскажу в двух словах все, что видел. Сами понимаете, как все волновались в доме, когда вы не вернулись из экспедиции, избавившей нас от змеи сикуриу. Хозяйка отправила на ваши поиски двух индейцев — один сейчас рядом с вами, а другого я больше не видел. Мы боялись нападения, и негр бони, командовавший в ваше отсутствие, привел колонию в состояние боевой готовности. Он раздал нам оружие, приказал всем покинуть хижины, собраться возле вашего дома и назначил нескольких негров охранять склады. Ладно. Пока все шло хорошо, по крайней мере, мы так думали. Только очень тяжело было смотреть, как мучается ваша жена и плачут детишки, — вы ведь все не возвращались. Искать? Бессмысленно — стало уже темно, мы бы не знали даже, в какую сторону идти. Наступила полночь. Огонь давно уже везде погасили, но никто не спал, все были начеку. Вдруг собаки, привязанные под верандой, залаяли и стали рваться с цепи как сумасшедшие. Если б это были вы с индейцами, они бы вас узнали и сидели тихо. Негр бони крикнул: «Стой! Кто идет?» Но никто не ответил. А минут через пять хижины и шалаши запылали — хорошо, что оттуда все ушли. Война была объявлена. Стало видно как днем. И все-таки мы никак не могли понять, кто на нас напал, — эти подлецы отлично маскировались. Наконец сквозь треск горящего дерева до нас донесся голос. Он приказывал сдаться и выйти всем из дома. Частенько мне приходилось когда-то слышать этот голос — из тысячи узна́ю. Если доведется еще встретиться с его обладателем, — клянусь, он об этом страшно пожалеет! Бони приказал дать залп наугад. Кто-то завопил, значит, не все пули прошли мимо. Потом снова наступила тишина. Видно, они поняли, что нас голыми руками не возьмешь, и стали группироваться. Около часа все было спокойно. Но ничего хорошего такое затишье не предвещало. Мы, старые бродяги, отлично понимали: удар будет нанесен еще до рассвета. И действительно, их бросок оказался сокрушительным! Шалаши сгорели в минуту, как пучок соломы. Полная темнота. Но вот в ночи зажглись красные точки, потом со всех сторон появились короткие вспышки. Раздался свист. На крышу, на столбы, на веранду обрушился град стрел. Они вонзались в дерево. Эти мерзавцы, поистине исчадия ада, исхитрились поджечь их — ведь у них стрелы особенные — у самого острия комочки сухих листьев, пропитанных смолою. Достаточно одной искры… А какая тут одна искра — негодяи спрятались в лесной поросли и вели прицельный огонь. Начался страшный пожар. Кровля дома и веранды вспыхнули, как пакля. Охваченная пламенем крыша вот-вот грозила рухнуть на нас… Делать нечего, надо выходить. Приготовили оружие, встали поплотней, окружив госпожу с детьми, жен и детей негров и индейцев, — и наружу! Мы хотели прорваться к причалу и попытаться уплыть на лодках. К несчастью, бони не оставил охраны на этом важнейшем посту… Всего не предусмотришь. На наш маленький отряд начали сыпаться стрелы. Мы отступали наугад. Увы! Противник был скрыт от нас темнотой, зато нас он видел как при свете дня и действовал наверняка. Под градом стрел наши стали падать… Один упал, второй — такая жалость! Отряд поредел… Кое-кто бросился бежать. Но вот мы на причале. Думали, спасены. А там поджидает целая банда мерзавцев! Они нас окружили, и пошла потеха! Засверкали сабли, заухали палицы, засвистели стрелы… Отряд охватила паника. Бедные негры! Если б они держались вместе, еще можно бы защищаться. Но все бросились врассыпную, а поодиночке — чего проще расправиться! В потасовке я потерял из виду товарищей, Арби и Мартинике. Они сражались где-то плечом к плечу с остальными, но все было напрасно. Прежде чем упасть, я еще видел, как эти негодяи мура схватили хозяйку и детей и повели к судну, по-моему, это был ваш пароход. Единственное, что я могу сказать вам в утешение, — пленникам не причинили зла. Думаю, их взяли заложниками… — А дальше?.. — Шарль почти кричал. Он побледнел, сжал зубы, в глазах полыхал яростный огонь. — Больше я ничего не видел… Потерял сознание. Столько сил было отдано борьбе, столько ударов на меня обрушилось, что я не выдержал. Кажется, они взяли еще двух негров — командира бони и его брата. Остальных перебили, или те разбежались. Когда я пришел в себя, было уже совсем светло… По берегу с воем металась ваша собака. То бросится в воду, поплывет куда-то, то вернется назад и снова примется выть. Позвал ее, она дала себя погладить и села возле меня. Только тут я увидел, что все ваши суда исчезли. Не было и трупов — их наверняка бросили в воду. Я-то свалился под куст, и меня не заметили. Только поэтому и не достался кайманам. Куда идти? Никакого понятия… К тому же я надеялся, что вы все же вернетесь. Решил: дождусь! Мы с собакой кое-как устроились. Вот уже два дня едим рыбу, да от пожара кое-что уцелело. Вот все, что мне известно. Жаль только — я оказался бессилен. Однако главное, вы живы… Значит, не все потеряно! Нас трое, да еще собака. Но мы сто́им десятка. Не так ли? — Друг мой, от всего сердца спасибо за вашу преданность. Поверьте, моя признательность безгранична! — Я верю вам, как вы поверили мне. Разумеется, тут не место расчетам. — Нет-нет, я перед вами в неоплатном долгу. Впрочем, каждый, кто рисковал жизнью ради моих близких, отныне для меня родной человек. — О нет!.. Нет!.. Вы слишком добры… У меня нет слов… Вы и раньше были так великодушны ко мне, а ведь знали, откуда я явился! Черт возьми… Да я теперь на части для вас разорвусь, если понадобится!
__________
Покуда Шоколад вел свой печальный рассказ, индеец Табира, чьи познания во французском ограничивались двумя-тремя словами, не терял времени даром. Необычайно зоркий, как истинное дитя природы, он занялся тщательным изучением местности. Несмотря на внешнюю невозмутимость, этот краснокожий чувствовал, что сердце его разбито. Беда коснулась и его лично. В ночной схватке бесследно канули жена и дети индейца, и он, в отличие от хозяина, не мог утешать себя мыслью, что они живы. Побродив по пепелищу в поисках следов, ставших невидимыми, обшарив все окрестности, осмотрев все кусты, Табира, мрачный и отчаявшийся, вернулся на причал. Присев на корточки, индеец уставился в воду. Раненый только что закончил рассказ. Шарль, выслушав его, горько жалел, что у них нет ни одного судна. Как вдруг Табира стремительно вскочил и нырнул вниз головой в воды Арагуари! Не видя причин для такого поступка, француз встревоженно поднялся, решив, что его спутник сошел с ума. Но полминуты спустя индеец вынырнул, держа в зубах обрубленный конец причального каната. Проворно забравшись на деревянные мостки, служившие причалом, он изо всех сил дернул за пеньковый канат. Шарль и Шоколад, видя бесплодность его усилий, стали ему помогать, и вскоре, к их радости, из воды показался узкий нос затопленной пироги. Они в мгновение ока вытащили ее на берег, вылили воду и тщательно осмотрели. Лодка была в прекрасном состоянии. Хоть сейчас садись и плыви! Кроме того, на их счастье, в закрытом отделении сзади оказались рыболовные снасти: лески с крючками, два или три острых стальных гарпуна. Да еще — очень кстати! — две половинки тыквы. Чем не тарелка с чашкой? И вдобавок — просмоленный мешочек с маниоковой мукой. В общем-то немного. Но при том, в какое положение попали трое героев, это немногое стоило целого состояния. Закрывающееся отделение было изобретением Шарля. Он когда-то соорудил их на всех пирогах, чтоб всегда иметь под рукой некоторый запас провианта. Предусмотрительность уже не первый раз спасала ему жизнь. Без этого отделения пирога дикарей была бы просто грубо обработанной скорлупкой. Табира мгновенно вырубил в кустарнике несколько рукояток для гарпунов, обтесал их, прикрепил и тут же занялся поисками подходящих деревьев для весел. Между тем Шарль, развязав мешок с мукой, увидел, что, на их счастье, содержимое абсолютно не пострадало от воды. Ничего удивительного. Эти смоленые мешки изготавливались специально, чтобы хранить маниоковую муку грубого помола в известных своей влажностью местах. Придумали такую тару старатели, в ней перевозить провиант на золотые россыпи было удобней, чем в бочонках. Вмещали мешки двадцать пять килограммов — обычный груз носильщика. Молодой человек, погруженный в горькие мысли, почти машинально достал несколько пригоршней муки, разбавил водой, чтобы получилась густая каша, наполнил ею три плошки и знаком пригласил спутников поесть. Боба тоже уговаривать не пришлось. Они мгновенно умяли скудную пищу — основу рациона местных жителей — и немедля приступили к изготовлению весел. Работа, в общем-то для умелых рук не сложная, подходила к концу, когда Шарль прервал молчание. — Думаю, я понял, чего добиваются эти негодяи, — сказал он по-французски Шоколаду. Тот как раз размышлял о возможных последствиях несчастья и о том, что здесь можно предпринять. — Они поняли, что им меня не победить, и решили захватить в плен моих близких, чтоб я сдался сам. — В этом сомневаться не приходится. Но зачем?.. С какой целью?.. Им нужны деньги? — Вероятно. Очень даже возможно. Но зачем же было в таком случае разрушать до основания колонию, сжигать полный товаров магазин, наносить ущерб плантации? Ведь я теперь не в состоянии заплатить выкуп! — Может, они рассчитывают, что вы возьмете кредит в Паре или Кайенне? — Наверное, вы правы! — Да… должно быть! Тогда становится понятным, почему они увели, затопили или сплавили всю мою флотилию. Они хотели, чтоб я оставался здесь. Найдут надежное место, где на них трудно напасть, и пришлют гонца с ультиматумом. — Думаю, именно так. — Они и представить себе не могли, что индеец найдет пирогу, которую они специально затопили! — Остается узнать, куда же эти мерзавцы направились. — По-моему, на правом берегу Арагуари они прятаться не будут. Не осмелятся негодяи так близко подойти к бразильцам из Макапы, а значит, они точно остались на левом берегу. — Ах, вот оно что! — С ними же бразильцы, мулаты. Они знают район озер. Это труднопроходимые дебри между Мапой и тем местом, где Тартаругал впадает в озеро Де-Буш. Сюда практически невозможно попасть человеку, который никогда не бывал в этой части Спорных Земель. Там несколько смельчаков могут противостоять целой армии. Левый приток Арагуари, Апурема — я когда-то ее исследовал, — образует естественный канал, а тот сначала сливается с Тартаругалом, а потом впадает в озеро. Вот там они и прячутся! — Как думаешь, Табира? — спросил Шарль, повторив все слово в слово на местном наречии. — Согласен с вами, хозяин. — Прекрасно! Значит, немедленно туда. — Втроем? — спросил индеец. Гортанный голос его прозвучал орлиным клекотом. — Ты останешься здесь, дружище… Тебе ведь тоже нужно искать свою семью. — Нет, хозяин. Я пойду с тобой. Моя Папула — отважная дочь племени мундуруку. Или она умерла, и тогда я отомщу за нее! Или она жива, и тогда она сама сумеет вернуться в племя. Папула смелая и сильная, как воин… В лесу для нее тайн нет. Она умеет править пирогой и метать копье… Дети Табиры достойны матери. Так что я останусь с тобой. — Хорошо! — ответил Шарль, зная по опыту, что переубедить индейца невозможно. — Тогда в путь! — Господин Шарль, — почтительно окликнул колониста Шоколад, — я не собираюсь высказывать свое мнение, тем более оспаривать ваши приказания, но все же позвольте заметить одну вещь. — Говорите, друг мой. С удовольствием вас выслушаю. — С тех пор как я оказался здесь, мне не раз приходилось слышать, что где-то на реке есть пост бразильской армии. Может быть, солдаты вам помогут? Шарль лишь с грустью улыбнулся. — Пост есть, — сказал он, — военная колония Педро Второго. Состоит из несчастных двадцати пяти индейцев племени тапуйя, под командованием капитана, да еще там есть комиссар полиции. Однако о помощи даже думать нечего. Во-первых, пост эвакуирован полгода назад из-за жуткой эпидемии оспы, почти уничтожившей крошечный гарнизон. А во-вторых, бразильцы видят в нас соперников, когда речь заходит об этих желанных для них землях. Они ни перед чем не остановятся и скорее обрадуются нашему горю, чем станут нам помогать. Поверьте, это так, хотя для людей, кичащихся своей просвещенностью, поступок, конечно, чудовищный. Там, где французы, не считаясь с угрозой для жизни, бросятся защищать святые законы человечности, где даже англичане, при всем эгоизме их политики, будут отстаивать общие для всех цивилизованных наций права человека, там бразильцы станут лишь хранить недоброжелательный нейтралитет. Нам приходится рассчитывать только на себя. Так что — вперед!ГЛАВА 5
В пироге. — Дорога. — Стрела с красным оперением. — Встреча на реке. — Бони Ломи. — Новости. — Берега Апуремы. — Саванна. — Пальмы. — Стада. — Невидимая граница вод. — Большой Тартаругал. — Беседа. — Белый и черный. — Личность Диого становится понятней. — Выкуп. — Гибельный подарок. — Нищета муниципального стипендиата. — Негритенок среди белых. — Безработный адвокат. — Надо же заработать на хлеб! — Обворовали. — Месть. — На каторге. — Снова деньги. — Ужасные угрозы.Каучуковая плантация Шарля Робена находилась всего в нескольких километрах от первого порога Арагуари ниже по течению. От этого некогда оживленного, а ныне безлюдного места будет километров девяносто по прямой до слияния с Апуремой. Учитывая то, какие петли выписывала Арагуари, можно считать — сто десять. Трем нашим друзьям хватило пятнадцати часов, чтоб покрыть это расстояние на пироге. Индеец, великолепный гребец, отрывался от весел лишь для очень короткого отдыха, несмотря на уговоры Шарля и протесты эльзасца, он так и рвался в бой, хоть был еще слаб. Впрочем, течение само несло лодчонку, так что грести было не слишком тяжело. Все хранили молчание, прерываемое лишь время от времени краснокожим. Зоркий взгляд его неотрывно следил за левым берегом, вдоль которого скользила пирога. Он гортанно вскрикивал и указывал Шарлю то там, то тут на смятые или надломленные листья муку-муку. Словно чья-то внимательная рука помечала фарватер. Знаки становились все заметней, встречались все чаще. Приходилось признать, что их без сомнения оставили те, кто проплыл здесь совсем недавно. К середине следующего дня они доплыли до слияния с Апуремой. Если к тому моменту еще оставались сомнения относительно происхождения этих примитивных бакенов, то они рассеялись при виде предмета, укрепленного на самом виду и явно указывавшего направление. Длинная стрела с красным оперением, привязанная горизонтально между двумя стеблями муку-муку, смотрела острием в сторону притока. — Яснее не бывает, — тихо проговорил Шарль. — Надо плыть вверх по Апуреме. И они пустились по реке, которая, как мы уже говорили, соединяла Арагуари с Тартаругалом и районом озер. Апурема впадает в Арагуари в каких-то тридцати километрах по прямой от Большого Тартаругала. Но ее течение столь извилисто, что расстояние удваивается, тем более что Апурема образует дугу — к ней наша прямая могла бы служить хордой[111]. Вскоре вешки, так часто встречавшиеся на берегах Арагуари, совершенно пропали. Но Шарля это особенно не беспокоило, он был уверен, что цель близка. И не ошибся. Друзья не проплыли и двух часов по стремительно сужавшемуся притоку, как вдруг из-за крутого поворота показалась пирога. В ней сидели трое негров: два гребца и пассажир. Когда пироги поравнялись, тот, что был без весел, громко вскрикнул: — Хозяин, это я! — Ломи, дружище! Откуда ты?.. Куда плывешь?.. Знаешь что-нибудь? — Да, хозяин. — И Ломи произнес на местном наречии нечто, в переводе означающее: «Меня послали со стоянки за вами. Хозяйка и дети здоровы». — Благодарю тебя, дорогой Ломи…Твои слова возвращают меня к жизни! — воскликнул молодой человек, глубоко вздохнув. — А остальные? Твоя жена, дети, семьи индейцев и негров? Негр перешел на некий диковинный ломаный язык: — Вся люди бежать большой лес. Мура и каторга не брать их, нет. — Ах вот как! Очень хорошо. Но чем они, бедные, питаются? — Не бояться, господин. Негра и индеец ловить рыба, птица, зверя — много большой лес. Нет голодный, нет. Господин идти со мной деревня. Там ждать хозяйка, дети. — Кто послал тебя, Ломи? — Большой плохой гадкий негра, злой, как клыкастый оса, и страшный, как носуха[112]. Пироги подошли вплотную друг к другу, гребцы удерживали их рядом, пока хозяин вел беседу со слугой. — А что этому негру от меня нужно? — Моя не знать, хозяин. Хозяйка и дети посадить в одна хижина с мой брат. — Почему он не послал их вместе с тобой? — Моя не знать. — Как они попали в деревню? — Каторга привести, с португальский мулата. — А что с ним за негры? — Негры жить на озера. Хозяин идти сам смотреть. Моя думать злой вождь негра хотеть много денег. — Что ж, ладно. Поплыли в деревню… Хочу, чтоб все наконец стало ясно. Пирога, в которой сидел Ломи и еще двое черных, не проронивших ни звука, ловко развернулась на месте и поплыла впереди, показывая дорогу. Шарль и два его спутника плыли следом на расстоянии трех весел. …Пейзаж менялся стремительно, через два часа местность было не узнать. Река все сужалась и сужалась, пока не превратилась в ручей, шириной от силы метров десять. Лесные деревья-великаны, растущие по берегам крупных рек, уступили место пальмам — украшению мелких речушек и ручьев. Нет ничего чудеснее, чем эти прекрасные пальмы, такие же привычные в прериях Экваториальной Америки, как тополя на европейской равнине. На них гнездятся стайки болтливых попугаев и ослепительно ярких ара. Кое-где стоят пальмовые деревья, лишившиеся зеленого наряда, пустые и прозрачные, стройные, как античные потрескавшиеся полуразрушенные колонны. Кое-где, напротив, они полны жизни, увешаны огромными, больше мешка с зерном, гроздьями плодов размером с яблоко. Это шедевр природного зодчества: колонна ствола увенчана десятью — двенадцатью веерообразными ветками, которые образуют шатер, шумящий и трепещущий под свежим ветерком точно так же, как наши рощи перед грозой. Почти на каждом дереве несколько засохших ветвей грустно свисают вдоль ствола. Днем позже они опадут и удобрят собою почву. Стволы, совершенные природные создания, рвутся в небо, нанизывая друг на друга ровные кольца. Когда-нибудь упадут и они, лягут через яму с водой, похожие на вытянувшихся в прямую линию удавов, и будут служить мостиком скоту и его диким пастухам, пока наконец не превратятся в перегной, обогатив эту странную землю, на которой произросли. Стоят они тесным семейным кругом, почти никакие другие растения рядом с ними не селятся, и порой до самого горизонта тянутся изящные колоннады, увенчанные элегантными кронами, а иногда лишь узкая полоска стволов с трепещущей листвой смотрится в зеркало одинокого озерка… И вот — новая картина, леса́ внезапно исчезли, уступив место кампо, великой гвианской прерии, пролегающей от Ойяпока до самого устья Амазонки и дальше по левому берегу этой полноводной реки до Риу-Жамнуды. Прерия проглядывает то там, то здесь сквозь прогалины в строю пальм, образовавшиеся то ли после бури, то ли вследствие естественного процесса умирания деревьев. Порой видны топкие, несмотря на засуху, болота, порой, — выжженная трава на плато. Почти дикие стада находят прекрасный корм на жирных пастбищах, образовавшихся вблизи припри или неподвижной, словно застывший металл, воды. Коровы мирно пасутся рядом с резвящимися телятами, а длиннорогий бык с лоснящейся мордой и крупными спокойными глазами внимательно изучает окрестности, готовый в любую минуту отважно броситься на пирата кампо — ягуара. Еще дальше река, изгибаясь, с трудом пробирается по низине, тянущейся на несколько километров. В сезон дождей низина заливается, и даже жгучее экваториальное солнце не в силах до конца осушить эту болотистую низменность, испещренную зеленоватыми зловонными лужами. Потом русло реки и вовсе теряется в самом настоящем болоте, среди зарослей тростника и жирных растений с блестящими листьями, которые часто называют «ослиными ушами». Есть там и другие представители флоры — волокнистый стебель, целиком скрытый под водой, заканчивается большими тарелками листьев, или другие, которые еще даже не классифицированы ботаниками, что вполне понятно, — они образуют под водой бесчисленное количество губчатых соцветий, будущей основы тверди. Действительно, со временем разложившиеся остатки этих растений создадут корку, на которой взойдут неприхотливые муку-муку. Они, в свою очередь, вытянут остатки воды из глубины и отомрут, еще больше уплотнив ее и создав условия для произрастания злаков прерии.
Апурема сужалась и сужалась. Она была теперь всего несколько метров шириной, но глубока по-прежнему. Берега становились ровными и сухими. Вдали показались горы Большого Тартаругала. Шарль чувствовал, что пироги пересекали невидимую границу между двумя реками. Ведь восемь месяцев в году бассейны Большого Тартаругала и Апуремы сообщаются. Однако становилось совсем темно, пора было на ночевку. Гамаков не взяли, так что располагаться на отдых приходилось прямо в причаленных пирогах. На следующее утро, рано на рассвете, лодки покинули Апурему, сплавились по боковому рукаву, потом переплыли в другой, и наконец четыре часа спустя остановились на берегу красивой реки перед просторным шалашом, в нескольких метрах от причала. Эта река, текущая с востока на запад, шириной метров шестьдесят, и есть Большой Тартаругал. Негры-гребцы, молчаливые, как слуги палача, причалили свою пирогу, вынули весла и сделали спутникам серингейро знак последовать их примеру. Потом один из них сказал Шарлю на плохом португальском, указывая на шалаш: — Вождь там… Он ждет белого. Шарль, ни секунды не колеблясь, зашел в примитивное жилище и оказался лицом к лицу с негром гигантского роста, вооруженным до зубов, страшной и отталкивающей наружности. Вы, конечно, догадались — это восседал Диого. Вождь был опрятно одет в чистую шерстяную бледно-голубую куртку, цветную хлопчатобумажную рубашку и брезентовые брюки, низ которых он заправил в башмаки из грубой кожи — обычный выходной наряд деревенского негра. За красным поясом — пара револьверов, сабля рядом — только руку протянуть, а между колен — охотничья двустволка. При виде европейца, рассматривавшего его скорее с любопытством, чем с тревогой, Диого поднялся и небрежным жестом предложил гостю индейское кресло, представлявшее собой грубое изображение каймана. Шарль покачал головой и остался стоять. Подождав несколько долгих минут, он прервал наконец молчание, ставшее неловким, почти тягостным. Колонист обратился к негру по-португальски: — Кто вы?.. Что вам от меня нужно? — Ничего не скажешь, господин Робен, — ответил Диого подчеркнуто вежливо, приятным голосом, странно контрастировавшим с безобразной внешностью, — ваши вопросы так точны и лаконичны, что могли бы поставить в тупик любого. Любого негра, я имею в виду… потому что люди моей крови обычно не знакомы ни с риторикой[113], ни с диалектикой[114]. Я — счастливое исключение и могу с вами побеседовать. Диого произнес последнюю фразу на великолепном французском, совершенно свободно. Шарль даже вздрогнул от удивления. — Кто я? — продолжал негр, словно ничего не замечая. — Здесь меня зовут Диого… Жак. И я с недавнего времени — вождь приозерного селения. Для вас я Жак Дориба, всего-навсего магистр юриспруденции[115] Парижского университета… Пусть пока будет так. Я это говорю, чтобы вы чувствовали, насколько возможно, что имеете дело с ровней… если не считать цвета кожи — я убежденный расист. Что мне нужно? Получить от вас миллион золотом. Я, кажется, ответил на все ваши вопросы, господин Шарль Робен. Серингейро некоторое время молчал в изумлении, словно бык заговорил с ним человеческим языком. Затем, обретая вновь привычное хладнокровие, Робен начал наступать на злобно улыбавшегося Диого. — Это вы держите в своей деревне мою жену и детей? — Я. — По какому праву? — По праву сильнейшего. И, поскольку вы богаты, я назначаю за них выкуп — миллион. Лично меня такая цифра устраивает. Может быть, вам кажется, что они стоят больше? — Хватит шутить, поговорим серьезно. — Я никогда не шучу, если речь идет о деньгах. Видя, что молодой человек не отвечает, негр добавил: — Как вижу, мы договорились. Вы передадите мне эту сумму золотом и серебром… — Да вы сошли с ума! Конечно, вы не просто преступник, вы буйно помешанный. Допустим, я соглашусь на ваши условия. Где, по-вашему, я должен взять такую сумму? Особенно теперь, когда моя плантация совершенно разорена, рабочие разбежались, флотилия уничтожена, одним словом, когда я разорен вашими друзьями, каторжниками. — Что ж… Можете выплачивать частями. У вас богатая родня, колонисты в верховьях Марони. Для них не составит большого труда достать в Кайенне миллион. В противном случае вы будете работать как негр, работать на негра. Да-да! Мир перевернулся… Это месть внучатых племянников дяди Тома[116]. — Но, однако, в чем я перед вами провинился? Это вы, нарушая святые законы человечности, требуете у меня выкуп и мучаете меня… — Закон человечности?.. Я такого не знаю. Повторяю, мне известно лишь право сильного, и я собираюсь им воспользоваться. — Ах ты, негодяй! — Пусть будет негодяй… Эпитеты меня не трогают. У меня нет причин ненавидеть вас, лично вас, просто вы богаты, а мне нужны деньги. Однако вы — белый, и я хочу сломать вас, как хотел бы уничтожить всех представителей этой проклятой расы. — Что за зло причинили вам белые или, скорее, какое добро они вам сделали, что вы стали таким кровожадным, алчным и жестоким, при вашей-то образованности? — Какое зло и какое добро?.. Что ж, вы правы. Всю свою жизнь я словно скован был цепью доброты, которой меня якобы окружили белые, и в то же время с самого детства ваша ужасная культура доставляла мне одни мучения. Нет, не думайте, что я пытаюсь перед вами оправдаться. Плох ли, хорош ли Диого, вас это не касается, и если я все же отвечаю на этот несущественный вопрос, то исключительно из любви к искусству. Да еще, чтобы подогреть воспоминаниями злобу. — В конце концов, какое мне действительно дело до циничной демонстрации подлости, которую вы здесь устроили? — Э, нет! Вы сами раздули своими словами чуть тлевшие угли. Теперь вам придется меня выслушать. Черт возьми! Не каждый день удается заполучить такого слушателя. Кроме того, узнав, что я за человек, вы убедитесь: Диого никогда не изменяет своих решений. Впрочем, рассказ будет недолгим. Скажу откровенно: никогда не ведал того, что вы зовете счастьем. Может быть, только в раннем детстве, когда был милым негритенком, насколько это вообще возможно для парии[117]. — А я воспитываю негров-малышей, как собственных детей, как ровню, и… — И думаете, вероятно, что хорошо поступаете? Да разве потом смогут они быть на одной ноге с белыми, даже превосходя их по всем статьям? Разве вы когда-нибудь отдали бы им в жены своих дочерей?.. Да что там говорить! Я был, вероятно, неглуп, потому что вскоре привлек школьными успехами внимание учителей. Из меня пожелали сделать «явление выдающееся», решили дать мне образование. И послали учиться во Францию, родной город оплатил мне учебу в лицее. О! Не хватит слов описать страдания маленького дикаря, уроженца солнечного края, которого замуровали на долгие годы в мрачной университетской тюрьме. Одинокого среди белых детей, таких же жестоких и несправедливых, как взрослые. Я оказался без друзей, без родных, никто не побалует, не приласкает. Достаточно сказать, что до самого конца обучения я для всех в классе оставался «негром». «Негром», поняли?! И живущим на стипендию… Этим все сказано. Зачем отняли у меня свободу? По какому праву они стали мной распоряжаться? Разве я хотел стать ученым? Но и это не все. Нужно было завершить начатое. Меня послали изучать право… Сыну старой негритянки, не сумевшему даже обеспечить ей сытую старость, надлежало разобраться во всей этой путанице вашей юриспруденции! С вручением диплома пособия я лишился. Вполне естественно. Мне дали прекрасное образование. И предоставили самому себе. Наконец я должен был уступить место другому негритенку из начальной школы, ожидавшему своей очереди, чтоб стать лицеистом, а потом адвокатом без конторы, врачом без клиентуры, инженером без работы. Теперь мне предстояло выпутываться самому! Самому зарабатывать себе на хлеб. Надо было на что-то жить. А кем я был? Адвокатом?.. Их в Париже как собак нерезаных. Да потом, я черный!.. Пришлось бы сменить кожу! Кому, дьявол побери, пришло бы в голову доверить мне дело? Очень скоро я узнал весь ужас нищеты… страшной нищеты больших городов. В Париже негр может быть либо миллионером, либо чистильщиком ботинок, третьего не дано. Я стал официантом в забегаловке… Стакан господину!.. Во второй номер один ликер… Пожалте, господин!.. Вот так-то… И два су чаевых! С дипломом адвоката! Не буду рассказывать, сколько грубостей и унижений пришлось вынести бедному Снежку, так остроумно прозвал меня местный шутник. Кто знает, сколько желчи собрал я по капле до того дня, когда на скопленные крохи — чаевые — сумел купить обратный билет на родину! Я приехал, без денег, отвыкший от физического труда, несчастный и, главное, потерянный. Ни языка соплеменников, ни их нужд и привычек я больше не понимал, потому что был избалован культурой. Цивилизация лишь подразнила меня своими благами, и я стал ее изголодавшейся до бешенства жертвой. Зачем было делать мне этот проклятый подарок? Я ничего не просил… Зачем было превращать меня в ученого, если моим единственным желанием было — стать хорошим негром? Я сделался старателем и в конце концов нашел богатую россыпь. Но, увы, по глупости взял в компаньоны богачей… белых. Они лишили меня всего, а сами разбогатели еще больше. Я собрал команду из нескольких энергичных парней, без предрассудков, и, черт возьми, сам стал вершить правосудие, которого не мог добиться законным путем. Главный виновник моего разорения заплатил за всех. Я был в бешенстве! Прожив два года в лесах, как зверь, я пришел в деревню. Умирающего от голода, изъеденного язвами, сжигаемого лихорадкой, меня схватили, отправили в больницу, а потом в суд. И вот славный Жак, стоящий перед вами, приговорен к десяти годам каторжных работ, осужден добрыми белыми судьями, которые, похоже, были к нему необычайно милосердны. Очень скоро я бежал и пришел на Спорные Земли после целого ряда приключений, только усиливших мою ненависть к людям вашей расы. Потом заболел оспой, сами видите, во что она меня превратила. Но нет худа без добра, я так изменился внешне, что каторжники, которых вы зовете моими друзьями, даже не подозревают, с кем имеют дело. Теперь мне нужно разбогатеть! Мне нужно золото, дающее все! Ведь все продается. Несколько дней назад я был близок к цели. Убил человека, чтобы завладеть его состоянием… Мулата, то есть наполовину белого. И ненависть моя была удовлетворена только наполовину, потому что сокровище исчезло. Но удача вновь улыбнулась мне — вы у меня в руках… Вы и заплатите за все. Выбирать средства не приходится. Впрочем, такой способ меня вполне устраивает. Итак, вот вам ультиматум: члены вашей семьи, находящиеся в моей власти, будут возвращены за выкуп в один миллион золотом. Можете платить частями, за каждого по двести тысяч. Первая выплата должна быть сделана не позже чем через три месяца. Как только срок истечет, один из ваших детей будет убит… Услышав эти гнусные слова, Шарль со страшным криком бросился на бандита, как тигр, и схватил его железной рукой за горло. Диого вырвался и сам сжал обезумевшего от ярости и боли молодого человека. — Спокойно, белый мой дружочек, спокойно, — приговаривал негодяй. — За насилие заплатите особо. Следующая такая выходка будет стоить жизни кому-нибудь из членов вашей семьи. Не так вы наивны, чтоб не понимать, что их существование зависит от моей безопасности. Так что успокойтесь и уберите своего индейца, который целится в меня из сарбакана. Кстати говоря, за детей можете не волноваться. С ними будут хорошо обращаться… Мне нужны деньги, так что ваша семья для меня — значительный капитал. Не спрашиваю вашего согласия… Уверен, что, подумав, вы придете к разумному решению. Ровно через три месяца, день в день, мои люди будут ждать здесь первый взнос. Если вы соберете нужную сумму раньше, разожгите ночью костер на горе Тартаругал. Я буду знать, что это вы. И приму вас с радостью. Да! Еще кое-что. Хочу предупредить, ваши херувимчики в надежном месте, и если вы попытаетесь освободить их, у меня не дрогнет рука, чтоб переправить всех до одного в мир иной. На сем, мой дорогой должник, желаю вам заручиться покровительством бога изобилия. И до новой встречи!
ГЛАВА 6
Жалобы господина Луша и его друзей. — Свобода хуже неволи. — Признание. — Заговор против Диого. — Планы бандитов. — В лавке у коммерсанта. — Ночь острых ножей. — Марш заговорщиков. — Хижина вождя. — Раскатистый храп спящего, которому не суждено проснуться. — Осечка. — Подвиг Геркулеса. — Кровожадный убийца. — Посвист тригоноцефала. — Ужасное видение. — Живой мертвец. — В ловушке. — «А кто же мертвец?» — Жертва собственного предательства. — Будут танцы, а музыку закажет Диого.— Что делать, Луш? Ты самый умный в банде, ты наш старейшина, что скажешь? — Что скажешь, что скажешь?.. Ничего не скажу. — А ты, Геркулес, увалень здоровый, что ты думаешь? — Откуда ты взял, что я вообще думаю? У меня голова по-другому устроена. Тоска меня заедает, вот и все! — Точно, тоска заедает, — повторили хором четверо каторжников-рецидивистов, занятые починкой лодки с паровым двигателем, похищенной во время нападения на каучуковую плантацию Арагуари. — Сам посуди! Много мы выиграли оттого, что так удачно покинули «Ля Трюит» и вырвались на свободу? — с горечью продолжал Красный. — Точно, черт побери. Ничего не выиграли, — встрял в разговор Кривой. Пот заливал ему глаза, а рубаха на спине дымилась, как вулканическая лава. — Когда мы оттуда бежали, думали, что нас ждут молочные реки, кисельные берега. Будем, мол, только пить досыта, жрать что поострее, чтоб снова ощутить жажду, да нежиться на солнце, как кайманы. А получилось… — А получилось, гнем спину, как негры… которые вовсе и не гнут спину, бездельники проклятые. — Значит, пословица не права, — многозначительно заключил господин Луш. — Ах вот ты, значит, как! — Черт побери! Я так, а ты по-другому. И что толку? — Но я не собираюсь с этим мириться. А вы что молчите? — Мы тоже не собираемся. Хватит с нас. — Мало того, что с утра до ночи топорами машем, скоро совсем отупеем. А что за это получаем, кроме тумаков и плети? Мы у этих грязных негров как самые настоящие рабы, даже еду приходится выпрашивать — горсть маниоки, огрызок сушеной рыбы. — И при том никогда не знаешь, что случится завтра, из их проклятой тарабарщины только и успеваешь ухватить два-три слова на лету. — Нет, ребята, это не жизнь. Черт меня побери, если мы не проиграли, вырвавшись на свободу. Там каторжники… а здесь рабы, хрен редьки не слаще. — Это еще надо посмотреть. — Да чего уж тут смотреть! — Красный вздохнул. — Признай, Луш, мы были просто идиотами, когда, помучив колониста, сожгли его плантацию. Что толку-то, скажи? Не лучше ли было с ним договориться по-хорошему? — Может быть. — Не такой уж он дурак на вид. — Вот именно. — Да еще эти грязные мулаты сюда нас зачем-то приволокли… Взяли бы хозяйку с выводком и жди себе, когда он даст выкуп. — А теперь вожак-негритос Диого выманит у него золотые и прикарманит. — Терпение, дети мои! — вновь вступил в разговор Луш. — Мы здесь всего месяц… — Уже месяц! — Может, и так. Только заткни пасть и хватит поливать португальцев, они — наши единственные друзья. — Не может быть! — Что толку препираться. Я сказал правду, хочешь — верь, хочешь — нет. Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что им слаще, чем нам, под колпаком у негритоса, — он одинаково ненавидит белых и полубелых. — Да мы знаем, что они тоже в дерьме. Попали все как кур во щи. — Ладно, малыш, коль уж ты так беспокоишься, добрый папа Луш спешит заверить тебя, что скоро это кончится. — Скоро? — Сегодня вечером. — Тысяча чертей! До чего хочется поверить! Будто я хватил хорошей тростниковой водки десятилетней выдержки. Так и тянет крикнуть: «Да здравствует не знаю кто!» — Кричать не надо… Лучше послушай, и вы тоже. В двух словах, дело обстоит так, — начал рассказывать старый разбойник, понизив голос и делая вид, что продолжает работать. — У Диого здесь не только друзья. Есть и враги — сторонники бывшего вожака, того, которого он поджарил накануне нашего прибытия. Они ненавидят его, как желтую лихорадку, но боятся. — Надо думать, такая зверюга, помесь каймана с гремучей змеей! — Помолчи, а то я теряю нить… Про это прознали наши мулаты и сговорились с ними, чтоб избавиться от негра. — Опасная игра, черт подери. — Не настолько, как тебе кажется. Все хранится в глубокой тайне. Больше того, им удалось склонить на свою сторону Жоао, друга Диого, его верного пса. Ему было обещано место вождя после того, как негр отправится к праотцам. — Неплохо придумано!.. Это ж надо, лучший друг. — Здесь-то как раз нет ничего особенного. У них так принято. С тех пор как существует это селение, друг убивает друга, чтоб занять его место. — Так ты говоришь, все произойдет сегодня вечером? — Точно, вечером. Жоао должен подсыпать яд в водку «дорогому другу», а потом чик… и перережет ему глотку. — А мы… нам-то что делать? — Наша задача приготовиться, чтоб вступить в последний момент, если этим мямлям не хватит духу. Надеюсь, впрочем, наше вмешательство не понадобится, мулаты злы на Диого и рвутся с ним покончить, им можно доверять. Они дадут нам оружие, но, думаю, мы лишь поприсутствуем. — Ладно. А дальше что? — Дальше все очень просто. Насколько мне известно, скоро подойдет пароход, на котором раз в месяц возят из Пары в Кайенну говядину. У капитана какие-то дела со здешними неграми, его ждут со дня на день. Нет ничего проще, чем сцапать голубчика тут, связать и уложить в эту самую лодку. И поплыли! — Поплыли куда? — К его судну. Вместе с мулатами, которые будут нас сопровождать. Сядем на пароход, экипаж — за борт. И капитана туда же, если откажется доставить нас куда нужно. Красный — отличный механик, он запустит машину. И вперед! Сами себе хозяева и владельцы настоящего парохода. — Неплохая идея… ей-богу, неплохая. — Это еще не все. Погоди кричать «браво!». Как-то раз Жоао хорошенько выпил и кое в чем признался мулатам, а те запомнили. Через два месяца колонист — ему в конце удалось отсюда сбежать — вернется к причалу на большой реке и привезет Диого денежки, вроде бы часть выкупа за жену и детей. Никто не мешает прихватить с собой всю семейку, мамашу с детенышами, и явиться вместо Диого за выкупом. — Здорово придумано! Главное, заставить этого злосчастного колониста хорошенько раскошелиться. — О, здесь ты можешь на меня положиться. И тс-с-с, до вечера молчок. В признании Луша, пусть неожиданном и удивительном, не было никаких преувеличений. Диого требовал, чтоб все его желания исполнялись, как по мановению волшебной палочки, а точнее сказать, здоровенной дубины. Бразильцам-мулатам очень скоро надоела тяжелая жизнь, которую они вели по милости черного тирана. Кроме того, они были возмущены, что приходится подчиняться негру — не было для них большего унижения, — и вступили в заговор, чтоб его погубить. Им не составляло труда найти сообщников, немногочисленных, зато надежных. Диого ненавидели сторонники бывшего вождя, а боялись все. Он создал настоящее царство страха. Но из истории известно: приходит момент, и те, что сегодня дрожат перед тираном, завтра объединяются и свергают его, нашлось бы только несколько энергичных людей. К тому же мулаты умели, когда нужно было, завоевывать симпатию. Диого, отступив от своих суровых правил, разрешил открыть в поселке заведение розничной торговли водкой и разными импортными мелочами, своего рода полудикую коммерцию, он даже отнесся к этой идее благосклонно. И теперь все праздношатающиеся, то есть вообще все жители деревни, охотно собирались здесь. Причину такой уступки со стороны вождя следовало искать в том, что он отлично разбирался в характере своих соплеменников: «Когда негр пьет и пока ему есть что пить, он ни о чем другом не думает. Желудок работает, голова отдыхает». Мулаты сумели влезть пьяницам в душу с помощью водки. Они щедро, насколько позволяли их возможности, лили ее в жадные глотки и добились известной доброжелательности со стороны страждущих. Впрочем, план свой они хранили в глубокой тайне и открыли его господину Лушу лишь в последний момент, видя в его сообщниках своих естественных союзников. Тщательная конспирация давала шанс на успех, тем более Диого ни в малейшей степени не подозревал, что его жизни грозит опасность. …Вечером было как обычно. В коммерческой лавке рекой лилось горючее, звучали идиотские песни, тела тряслись в скотских танцах. Появился Диого, сопровождаемый «верным» Жоао. Посидел часок в шалаше у причала, освещенном масляной лампой, кинул, как обычно, косой взгляд на державшихся особняком каторжников и, по-видимому, довольный шумным весельем подданных, величественно удалился. Когда в карманах клиентов не осталось больше ни пылинки золота — местной валюты, — коммерсант закрыл двери своего заведения. Каторжники вернулись в хижину, где они жили все вместе, по соседству с хижиной мулатов. Некоторое время еще слышалось пьяное бормотание, выкрики продолжавших оргию, потом звуки смолкли, и деревня погрузилась в полную тишину. Прошел час. Тут каторжники, которым тревога мешала задремать, скорее почувствовали, чем услышали, что к их хижине приближаются шаги босого человека. Кто-то вошел, раздался легкий свист — условный сигнал, о котором предупреждал Луш. — Это ты, приятель? — тихо спросил старый бандит. — Я, — ответил бразилец. — Оружие с тобой? — Да. Заряжено, на каждого по ружью. — Отлично… Давай… Эй вы, подъем! Час пробил! Вперед, друзья, вперед! Скажи-ка, приятель, а ты уверен, что этот ублюдок Диого уснул? Давай без дураков, у него сам знаешь, какая силища. В случае чего всех нас запросто угробит. — Жоао вышел и подал знак, что все в порядке. Дело сделано… Диого выпил усыпляющее зелье. Я только что от его хижины… Храпит почище борова обожравшегося. А потом, Жоао оставил условленную метку: стебель кукурузы с початком у входа в шалаш. — Тогда все нормально… Иди вперед, мы за тобой. Все четверо молча разобрали ружья, захватили сабли и босиком вышли из хижины. Они присоединились к ожидавшим их мулатам и вместе с ними крадучись направились к жилищу вождя. Пока все шло как надо, но тут их план, такой простой и ловкий, дал осечку. Жоао должен был дожидаться в нескольких шагах от хижины, где Диого спал беспробудным сном, как бы репетируя смерть. Но Жоао на месте не оказалось. — Проклятые негры! — прорычал господин Луш. — Ни в чем на них нельзя положиться. Поворачивай назад, сорвалось. Лучше вернуться в свою дыру. — Раз уж ввязались, — возразил Геркулес, — давай расхлебывать. Эта скотина храпит вовсю. Отсюда слыхать… Негра нет, и черт с ним. Обойдемся. Я прирежу главаря, как поросенка. — Ладно, черт побери, как скажете, — ответил господин Луш, разрываясь между обычной своей трусостью и желанием отделаться от жуткого негра. — Нас девять человек, мы вооружены и знаем толк в потасовках. Дьявол меня задери, если победа будет не за нами! После краткого, тихого, как дыхание, коллоквиума[118] полные решимости заговорщики смело зашли в хижину, такую же убогую, как их собственные. Это был простой навес из пальмовых листьев на четырех столбах, скрепленных между собой плетнем из бамбука, выполнявшим роль стен. Три отверстия — дверь и окна — всегда открыты, — Диого не боялся ни сквозняков, ни москитов, ни вампиров. Вся-то мебель — пара грубых кресел, два сундука и гамак, натянутый между двумя опорами. Ни часовых, ни ночных караульных. У главаря сон легкий, как у ягуара, и видит в темноте он тоже как этот хищник — Диого сам себя стережет по ночам. Примитивная постройка дрожала от громкого храпа. Шедший впереди всех Геркулес передал свое ружье соседу, чтоб освободить руки, и взял саблю. Глаза привыкли к темноте, и он различил серую массу гамака, прогнувшегося под тяжестью человека. Торопясь поскорее кончить дело, гигант обхватил левой рукой спящего, даже не сдернув покрывала, и резким движением проткнул его мачете. Тот, придушенно захрипев, задергался в конвульсиях. Геркулес еще сильнее сжал жертву и нанес еще удар, потом, пьянея от запаха крови, ручьем стекавшей на землю, принялся рубить как бешеный ставшее неподвижным тело. — Вот тебе, негодяй! — рычал обезумевший громила, — будешь знать, как колотить меня палкой. Жаль, у тебя только одна жизнь. Я бы сто раз разделался с тобой. На… Еще! Еще! Получи!.. Вот так! Каторжники и мулаты, опьяненные быстрой победой, радуясь тому, что наконец скинули тяжкое ярмо, столпились вокруг орудующего мачете Геркулеса. Но внезапно… О ужас! Все застыли как заколдованные. За их спинами, у двери раздался короткий металлический свист, похожий на визг пилы. Им очень хорошо был знаком пронзительный, трудноопределимый звук, от которого стыла кровь в жилах. Это свист, издаваемый разъяренной гремучей змеей, ужасным тригоноцефалом. Они бросились к окнам, но остановились в растерянности — в соседних хижинах горели огни, а возле каждого проема стоял отряд вооруженных ружьями негров. Может, лучше ретироваться через дверь? Но оттуда еще раз раздался свист тригоноцефала, а потом громкий хохот. В тот же миг в окно влетел просмоленный факел, осветив приросших к земле убийц. Стало светло как днем, и в темном проеме двери, словно ужасное фантастическое привидение, появилась уродливая голова Диого. — Диого!.. Это Диого!.. — Он самый, — громогласно подтвердил негр, продолжая хохотать. — Но кто же… кого же… мертвец-то кто? — пробормотал потрясенный Геркулес. У людей такого сорта, особенно если они попадают в ловушку, реакция мгновенная. Не проронив больше ни слова, даже не взглянув друг на друга, заговорщики зарядили ружья и нацелили их на усмехавшегося вождя. Тот стремительно выбросил вперед руку с револьвером и трижды выстрелил. Трое мулатов упали как подкошенные. Остальные, ослепленные вспышками, невольно отступили, замешкавшись. Тут же в окна просунулись пять или шесть стволов, направленных в сторону растерявшегося отряда. — Бросить оружие, негодяи! — скомандовал негр, держа их под прицелом. — Еще слово или движение, и вы умрете. — Что ж, в конце концов, он мог бы нас убить на месте, — обратился к сообщникам господин Луш, выступавший всегда за мягкие методы. — Лучше выполнять его требования. Ну же, ну!.. Приходится спасать шкуру. Хорошо, хорошо, мы сдаемся… И первым бросил ружье. — А остальные что же? Быстрее! — грозно подгонял Диого. — Теперь выходите по одному — и без фокусов, а то я вас живьем поджарю. Опозоренные, раздавленные, ошалевшие от неожиданности и ужаса мерзавцы, подчинившись приказанию жуткого негра, медленным шагом покинули западню, так и не поняв, почему они туда попали. Сторонники вождя схватили их у выхода, крепко связали по рукам и ногам и застыли в ожидании новых команд. Диого веселился как сумасшедший. Сквозь уродливые черты проглядывала жуткая радость, заставляя пленников содрогаться. Он вплотную подошел к перепачканному кровью Геркулесу и сказал ему, усмехаясь: — Значит, это твоя работа, толстячок? Постарался, ничего не скажешь. Как мясник разделал, а! Ты, кажется, хотел узнать, кого же так обработал? Сейчас увидишь. Главарь подал знак, и двое из команды, торопливо обрезав веревки гамака, вынесли его вместе с трупом и положили на землю. Диого схватил факел, сдернул покрывало и осветил искаженные черты хорошо знакомого всем лица. — Жоао!.. Это был Жоао! — закричали в смятении каторжники. — Жоао собственной персоной, несчастный предатель. Да, это он всыпал мне в водку одурманивающее зелье, чтоб усыпить и отдать во власть вот этого палача-любителя. Но друг Диого все видит. Он улучил момент и поменял местами свою чашку и чашку соратника. Тот уснул, а Диого уложил его в свой собственный гамак, подозревая, что эта невинная шутка вряд ли разыгрывалась только для того, чтоб погрузить вождя в сладкий сон. Уж не знаю, каким надо быть наивным, чтоб попасться в столь примитивную ловушку! Плохого вы выбрали себе союзника, а кроме того, должны были бы давно знать, что я никогда никому не доверяю. Однако поговорили, и хватит… Вы все знаете. Довольны? А теперь спокойной ночи! До завтра останетесь тут. Будете спать вповалку, живые и мертвые. И без шуток! Здесь охрана лучше, чем на вашей каторжной посудине «Ля Трюит». Завтра увидимся. Итак, счастливых снов, дорогие мои! Трагедия кончилась, настало время комедии. Порадоваться тоже нужно, а развлечения так редки в этом чертовом краю. Попляшем. Музыку заказываю я!
ГЛАВА 7
Диого не доверяет никому и оказывается прав. — Приготовления к казни. — Порка. — Геркулес выполняет роль палача. — Отвага мулатов и трусость белых. — Еще один круг. — Палач становится жертвой. — Как Диого придумал освободить привязанного, не дотрагиваясь до веревок, — стоит только обрубить конечности. — Неумолимая жестокость. — Цинизм. — Изувеченный сообщниками. — Как Диого снова избежал смерти. — Мулат едва не отомстил негру. — Подвешенный за руку. — Живой и полумертвец. — Посыльный. — Тайна.Итак, Диого проявил завидную мудрость, лишив всех без исключения своего доверия. И прежде всего «преданного» Жоао. Конспирация, вопреки тому, что происходит обыкновенно, соблюдалась неукоснительно. И предательства не было. Тем, что Диого остался в живых, он был обязан исключительно своей проницательной изворотливости цивилизованного дикаря. Он исходил из принципа, принимаемого за аксиому[119], который на разных языках, у разных народов, в разные времена формулировался следующим образом: «Недоверие — мать безопасности». И негр установил целую систему неустанного наблюдения за ближайшими сподвижниками, невзирая на их протесты и заверения в преданности. И хорошо сделал — расслабься он на миг, неминуемо погиб бы под саблями мулатов и беглых каторжников. Можно догадаться, о чем думали те из них, что остались в живых, в ночь после кровавых событий. Валяясь бок о бок с трупами на земляном полу шалаша, они с тревогой ожидали решения собственной участи. Им было известно, как лют и беспощаден враг, как он изобретателен в пытках. Неудачливые мятежники не сомневались, что имеют дело с человеком, лишенным, как и они сами, любых предрассудков, и потому могли опасаться, не без основания, страшной расплаты. Очень скоро они узнают, что их ждет… Ночь тянулась мучительно, и все-таки она прошла. Полчаса, как совсем рассвело. Из оживленного вопреки обыкновению селения доносился смутный гул. Те, кто не принимал участия в охоте на заговорщиков, с интересом слушали рассказы о недавнем происшествии и о том, чем оно закончилось. Они возбужденно комментировали события, от души веселясь, а может, только притворяясь, что веселятся, во всяком случае, производя много шума. Впрочем, все с удовольствием предвкушали развязку драмы. Учитывая характер вождя, можно было не сомневаться — спектакль будет волнующим. Вскоре бледных, дрожавших от страха пленников вывели из их временной темницы и выстроили под манговым деревом. Диого ожидал в окружении говорливых, суетившихся негров, успевших уже хорошенько хлебнуть тростниковой водки, — вождь решил, что по такому случаю нелишне будет подогреть энтузиазм подданных. Речь вовсе не шла о расследовании, суде или просто создании самой примитивной судебной комиссии. Диого — единовластный господин, он сам вместо трибунала выносил решения, которые обжалованию не подлежали. Пленников заведомо признали виновными. Оставалось лишь узнать, каково будет наказание. Кое-кто из присутствовавших, без сомнения, получил указания вождя. Стоило тому подать знак — вперед выступили исполнители его воли. Каторжников и мулатов схватили, одним рывком сорвали с них одежду, обнаженных швырнули ничком на землю и привязали за руки и за ноги к заранее вбитым кольям. Лишь Геркулеса не коснулись эти зловещие приготовления. Его, напротив, освободили от пут, и он стоял теперь относительно свободно, но при этом плотно окруженный неграми. Вождь вновь подал знак. Принесли пучок стеблей тростника, длиной метра полтора, толщиной в палец, гибких, как хлыст, прочных, как шкура носорога, и положили его к ногам изумленного Геркулеса. — Вперед, приятель, — кивнул ему по-дружески Диого. — Раз уж ты добровольно взял на себя ночью роль палача, выполняй ее. Всыпь-ка по первое число ребяткам, что растянулись здесь, словно лягушки. Для начала десять ударов каждому, чтоб кровь разогреть. Только смотри не жалей их. Врежь добросовестно, от души. Увижу, что хитришь, тебе же хуже будет. Я все сказал. Ошалевший экзекутор[120] поневоле машинально поднял с земли пучок розог и со всей силы опустил его на спину соратника, который лежал ближе других. Первому досталось господину Лушу. Бледный рубец мгновенно вспух поперек хребта старого негодяя, и тот испустил душераздирающий вопль. — Неплохо, — воскликнул Диого, — неплохо! Чувствуется хорошая школа и твердая рука. Продолжай, дружище! Звучные удары так и посыпались на худющие мощи бандита. Скоро из горла его вырывались лишь нечленораздельные хрипы. Десятый удар — кожа в лохмотья, кровь брызнула мелкими частыми каплями. — Хорошо. — Мучитель неумолим. — Теперь следующего! Следующий — Красный. При виде приятеля, подходившего к нему с пучком розог, он в ужасе вскрикнул. Зрители захохотали. — Что делать, Красный? Это приказ, — произнес Геркулес. Лицо его под обильно стекавшим потом побледнело. — Если хочешь, я могу убить тебя первым ударом — меньше мучений. — А ну замолчи! И смотри мне… — Диого все слышал. — Берегись, если он умрет… Он мне нужен, понял? Где я, черт побери, еще найду механика в этих проклятых местах? Всыпь ему как следует, чтоб больше не хотелось шутки шутить, как этой ночью. Но чтобы жив остался. А не то!.. — Держись, Красный! — жалобно прошептал господин Луш. — Получить хорошую порку все же лучше, чем стать грудой костей. Красный, вначале струхнувший, в целом перенес достойно болезненное испытание. А вот Кривой! Кто бы мог подумать, что он такой трус! Кричал, умолял, плакал. Возмущенные мулаты не могли не одернуть его и не выказать своего презрения. Они вели себя совсем по-другому. Сокрушительные удары, которые обрушивал на их спины силач, не смогли вырвать у бразильцев ни единой жалобы. Даже Диого, удивленный таким мужеством, оценил гордость дикарей. Геркулес, считая миссию палача выполненной, с ужасом ожидал собственного наказания. Он вытер рукавом заливший лицо пот и, опираясь на розги, неловко, как медведь, заковылял к вождю. — Прекрасно, — снова одобрил тот. — Ты понятлив, просто приятно посмотреть. Не устал, а? Тогда начинай сначала. Услышав эти слова, каторжники в отчаянии завопили, умоляя негра сжалиться. Тот словно получал удовольствие от душераздирающих просьб. — Ладно, хватит! — твердо произнес он, выслушав все их аргументы. — Раз вы так сердечно просите, пусть будет пятнадцать ударов вместо десяти. А ты, скотина, уж постарайся угодить этим мокрым курицам. Волей-неволей Геркулесу пришлось снова приниматься за свою страшную работу, хотя даже его бесчувственная натура противилась этому. Господин Луш, Кривой и Красный потеряли сознание, они больше не кричали. Мулаты молчали, словно тоже лишились чувств, однако жутко исполосованные спины их дергались при каждом ударе, а сквозь сжатые до предела челюсти прорывалось хриплое, прерывистое дыхание. — Достаточно, — скомандовал Диого, а про себя заметил: «Вот это настоящие мужчины!» По его знаку те, кто распинал пленников, отвязали их от кольев, вытерли со спин кровь и привели в чувство, вливая в глотки хорошие порции водки. — Ох!.. Неужели кончилось, — пробормотал, придя в себя, господин Луш. — Бог ты мой! Я весь изодран. Такое ощущение, словно в спину вцепилась стая собак. — Ну как, старина, хватит с тебя? Будешь еще пытаться вычеркнуть меня из списка живущих на земле? Полагаю, не будешь… Чем суровей урок, тем он полезней. И, повернувшись к Геркулесу, Диого добавил: — Пришла твоя очередь. Ты был непосредственным исполнителем. Вполне естественно, и наказание будет суровее. — И что вы со мной сделаете? — воскликнул прерывающимся голосом громила, ставший от страха слабее ребенка. — Сейчас увидишь. Давай-ка сам укладывайся на землю, тебя привяжут за руки и за ноги. И не вздумай сопротивляться — башку прострелю. Здоровущему, бесчувственному верзиле не хватало характера. Бычий организм, а натура мышиная. Он буквально прирос к месту от предчувствия боли, тяжело опустился на землю — руки-ноги ослабли, глаза обезумевшие, черты лица искажены ужасом. — Да ведь розги он просто не почувствует, — задумчиво произнес Диого. Геркулес, после нескольких тревожных минут ожидания, вдруг обрел дар речи и принялся умолять непреклонного негра. — Ладно, не хочешь — не надо, — сказал тот, усмехаясь. — Не будет тебе розог. — О, благодарю тебя, вождь! — проблеял жалобно бандит. — Прости меня, прости совсем!.. И у тебя не будет слуги вернее. Пощади, господин!.. Пощади… Прости!.. Пусть они меня отвяжут. — Что ж, я не против. Тебя отвяжут сообщники. Эй ты, старик, на ногах-то держишься? Тогда бери саблю и помоги приятелю. Господин Луш, изумленный таким странным милосердием, принял из рук одного из негров оружие и наклонился, чтоб разрезать веревку. — Ну ты и везунчик, сухим из воды вышел, — шепнул он верзиле и взялся за путы, стягивавшие его кисти. — Эй, что ты делаешь? — воскликнул Диого. — Как что? Отвязываю. — Я не это имел в виду. — А что же тогда? — Какой-то ты сегодня непонятливый. Приказываю оставить в целости и сохранности эти чудесные пеньковые веревки. — Но тогда придется… — Придется что? — От… отрубить руки!.. — Для начала одну. Другого пути я тоже не вижу. — Не могу, господин… Вы что, издеваетесь?.. Так изуродовать товарища! — У тебя на раздумье ровно столько, сколько нужно, чтоб произнести: «Да». Если откажешься, я велю обмазать тебя медом и выставить на солнце на радость мухам. — Значит, придется. Только мне не хватает храбрости. — Пошевеливайся, мерзавец! Сразу видно, на каторгу ты попал не за такие дела. Господин Луш, скрюченный от побоев, перехватил саблю поудобней и сделал шаг к Геркулесу. Тот заорал, как скотина, которую готовят на убой. — Ах ты, бедолага, — пробормотал Луш, весь дрожа. — Ну что я могу поделать? Приходится подчиняться. Ведь на каторге никто на палача не обижался. Ты приговорен… Я не сделаю, так другой сумеет, а мне отказ будет стоить жизни. — Я жду! — прикрикнул Диого. Господин Луш с трудом нагнулся, обхватил огромную руку и принялся пилить ее тупым мачете. Вопли жертвы могли свести с ума. Некоторые отворачивались, не в силах вынести кошмарное зрелище. Но Диого оскаливался, словно тигр, почуявший кровь, глаза его заблестели. Он не сводил свирепого леденящего взгляда с толпы, пресекая малейшие признаки сочувствия. Наконец господину Лушу удалось отнять руку у локтя. — Молодец, старина! Поработал на славу. — Негр был доволен. — Твоя очередь, Красный! Бери саблю и произведи ампутацию ноги. — Слушаюсь, господин, — решительно ответил негодяй. — Уж я не буду кочевряжиться. Своя шкура дороже. Ну-ка, хоп!.. Раз и два… Вот и все! Продолжать? — спросил он, удивительно ловко отрубив ногу. — Нет. Давай ты, Кривой… Каждый должен приложиться… Смотри-ка! Эта деревенщина вроде без сознания. Пусть себе! Приводить его в чувство времени нет. — Да уж, плясать больше приятелю не придется. — Очнувшийся от столбняка Кривой, видно, решил посоревноваться с Красным в цинизме. — Бедный здоровяк. У нас на бойне, где я работал, быки были помельче. Вот и все… Так-то! Кто следующий? — Мерзавец повертел перепачканную от ручки до острия саблю. — Ты. — Диого указал на одного из мулатов. Тот посмотрел на страшное искалеченное тело, не пытаясь скрыть ужаса при виде обрубленных конечностей, из которых толчками вырывались длинные струи красной дымившейся крови. А потом, собрав в отчаянном рывке все свое мужество, бросился с поднятым мачете на Диого. — Довольно! Больше ты, гад, никого не убьешь! — вынес бразилец свой приговор. Бросок нежданного судьи был настолько непредвиденным, а порыв таким неукротимым, что ошарашенный Диого не успел прикрыться. Вот сейчас тяжелый клинок в руке, чью силу удесятеряют ярость и отчаяние, опустится на шею кровожадного мучителя. Тот почувствовал близость гибели. Он автоматически поднял правую руку, чтоб защитить лицо, и преуспел лишь отчасти. Лезвие глубоко поранило руку и обрушилось на левое плечо, разрубив его до кости. Мулат тут же замахнулся еще раз. Но черный атлет, не издав ни звука, не позвав на помощь, с ловкостью хищника уклонился от удара, обхватил руками тело противника и сжал его со страшной силой. Мгновение — и хребет мулата был сломан. — Молод еще, дружочек! — холодно заметил ужасный негр, отшвыривая прочь бездыханное тело. Вопль восторга встретил подвиг Диого, до тех пор зрители хранили гробовое молчание. — Давайте, давайте! Вопите теперь, — с иронией тихонько пробормотал раненый. — Если б его затея удалась, вы бы меня на мелкие кусочки изрубили. Потом как ни в чем не бывало, словно кровь не заливала рекой черную атласную кожу, головорез обратился к последнему мулату: — Твой напарник оказался неумехой. А как ты поступишь? — Постараюсь быть ловчее, — отважно ответил бразилец. — Другими словами, если я прикажу тебе прикончить скотину, которая корчится и хрипит у наших ног, ты тоже попытаешься меня убить? — Да! — Ну что ж, ты сам вынес себе приговор. Что до прочих… — Диого повернулся к каторжникам. — После порки, легкого, в общем-то, наказания, я заставил вас разделаться с тем, кто был виноват больше других, исключительно для того, чтоб этот страшный урок пошел вам на пользу. Теперь я вас прощаю. Уверен, в будущем вы станете благоразумней. Ну а Геркулес, мы его подвесим за уцелевшую руку на манговом дереве. Быстрая смерть — слишком легкое для него избавление. И вождь шепотом отдал какое-то приказание двум подручным. Они бросились бегом исполнять его. Возвратились негры с двумя длинными крепкими веревками и корзиной, полной глины. Этой глиной они быстро, толстым слоем, залепили культи Геркулеса и прикрыли сверху кусками брезента — получился своеобразный тампон, не дававший крови вытекать. Потом все вместе накрепко привязали к обрубкам. Приговоренный мулат хладнокровно наблюдал за этими нарочито неторопливыми приготовлениями. А что будет с ним самим? Может, Диого хочет заставить его помучиться неизвестностью? Напрасно! Мулат — человек со стальными нервами, которого ничто не могло запугать. Но тут негры грубо схватили его, связали по рукам и ногам и прикрутили к телу так и не пришедшего в сознание Геркулеса. Потом на уцелевшую руку искалеченного набросили петлю. Один из негров с обезьяньей ловкостью вскарабкался на манговое дерево, держа в зубах конец веревки, и перебросил его через самый толстый сук. Веревка свободно упала на землю. Вождь подал последний сигнал, и полдюжины негров, извещенных заранее о том, чем должно закончиться жуткое представление, схватились за свободный конец, напрягшись так, что под кожей буграми обозначились мышцы. — Ну!.. Тяни!.. — скомандовал Диого. Два тела, одно умиравшего, другое — живого человека, тесно связанные, медленно вращаясь, начали подниматься, держась на одной обескровленной, мертвенно-бледной руке с конвульсивно скрюченной кистью, похожей на птичью лапу. Задыхавшиеся, оцепеневшие от ужаса каторжники, преисполненные послушания, тупо наблюдали происходившее, мысленно твердя: «Зачем мы ввязались в заговор? Ведь можно было всего этого избежать!» — Так вот, друзья мои, — весело заключил неумолимый вождь, словно читая их мысли. — Думаю, в будущем вы не станете поступать так опрометчиво. Праздник окончен… Спокойно возвращайтесь к себе, перебинтуйте раны — смола дерева сассафрас[121] очень помогает — и ждите моих распоряжений. Вы свободны. Все трое, дрожа, направились в свою хижину, сопровождаемые эскортом[122] негров. Довольные тем, что белые оказались в такой жалкой роли, охранники не жалели насмешек. Диого, чьи раны обильно кровоточили, поспешил доверить себя заботам старой негритянки, сведущей в знахарстве, но вдруг заметил, что к нему бежит высокий негр. Он был обнажен до пояса и тяжело опирался на бамбуковую палку. — Хозяин! — заговорил тот приглушенным голосом. — Эстевао послал меня к вам сказать, что завтра «Симон Боливар» будет в известном вам месте! На лице Диого вопреки обыкновению появилась радость, когда он услышал слова задыхавшегося, взмыленного посыльного. Бандит увлек еле державшегося на ногах человека за собой к хижине, повелительным жестом давая знать окружающим, что хочет остаться с прибывшим наедине. По опыту зная, что лучше безоговорочно повиноваться, негры медленно разбрелись. Собираясь залить глаза, они двинулись к коммерческой лавке, шумно обсуждая на ходу драматические события дня. Вскоре на площади остались только тела казненных, над которыми кружили слетевшиеся на добычу стервятники.
ГЛАВА 8
Сложности в снабжении Французской Гвианы продовольствием. — Нет скота. — Бычки из Пары. — «Симон Боливар». — Театральная труппа. — Ужасное путешествие. — Всеобщее пьянство на корабле. — В канале Мараки. — Плот. — Лоцман. — Капитана удивляет воздержанность вновь прибывшего. — Мель. — Ярость. — Рука Диого. — Капитан больше не хозяин на судне. — Захваченный корабль. — Планы чернокожего. — Почему в самом деле не республика? — Амазонский Гибралтар. — Сообщники. — Диого и Шарль Робен.Вот уже двести лет существовала гвианская колония, а проблему обеспечения ее продовольствием так и не решили. Как это ни странно, колонисты были вынуждены обращаться за этим не только в соседние страны, но даже, и прежде всего, в метрополию. Ежемесячно из Франции доставляли муку, всевозможные консервы: мясные, овощные, рыбные. Привозили в большом количестве картофель, лук и фасоль, а также — неизменную сушеную треску и топленое свиное сало, чтоб ее жарить. Словом, все — вплоть до сахара, кофе и шоколада. Сто раз уже говорилось о том, что овощи и сахарный тростник произрастали здесь, практически не требуя ухода, что какао и кофе следовало только собрать, что гвианское побережье было, возможно, самым богатым в мире, изобиловало рыбой, а скот, особенно коров и свиней, в бессчетном количестве и без всяких дополнительных усилий со стороны человека кормила саванна. Тщетно! В колонии производилась лишь маниока. Из нее делали муку двух видов, хлеб негров, заменитель макарон на экваторе, составлявший вместе с сушеной треской, которой дали смачное название «бифштекс Новая Земля», основу питания местных цветных жителей. Что же касается свежего мяса, предназначавшегося чиновникам, коммерсантам и военным, его вынуждены были доставлять из Пары — живых быков из Франции не привезешь. Стоило запустить скот в саванну, и у нас было бы предостаточно великолепного мяса по цене пятьдесят сантимов за килограмм. Так нет, из каких-то, по-видимому, чрезвычайно сложных экономических соображений мы покупали его в Бразилии. Вот и выходило, что поставщики провизии, приобретя там говядину по цене от двадцати до двадцати пяти сантимов за килограмм, перепродавали ее потом по два франка или даже по два двадцать пять. Счастье еще, коли вам удавалось купить его за такую цену. Если вы так или иначе не относились к администрации, то и не получали от правительства мяса, предназначавшегося лишь высшим, средним и мелким чиновникам. Свежатинки поедите… если останется на рынке. Упомянем еще, больше для порядка, дичь, отходившую постепенно в область воспоминаний, и рыбу, которую ловили некоторые освобожденные аннамиты — выходцы из Вьетнама. Если эти продукты случайно и появлялись, то, уж будьте уверены, по умопомрачительным ценам. Стало быть, несколько небольших шхун, называвшихся еще «тапуискими кораблями», были вынуждены сновать в Пару за бычками, а потом вдоль всего побережья с заходом в Кашипур, Кунани, Мапу и т. д., заодно забирая кое-какие изделия местной промышленности. Однако ветра́, течения, приливы заставляли суденышки существенно менять курс, что могло нанести ощутимый вред продовольственному снабжению колонии. Поэтому была заключена сделка с поставщиками, вызвавшимися совершать на шхунах регулярные рейсы. Это лучшее, что смогли придумать власти, пока саванны, уж во всяком случае, не менее красивые, чем в Паре, не были освоены животноводами. Многие помнят, что еще совсем недавно, в те времена, когда разворачивались описываемые события на Спорных Землях, службу по снабжению нес береговой пароходик водоизмещением около трехсот тонн. Построенный специально для навигации по рекам и вдоль океанических побережий, он имел очень малую осадку. Металлический корпус и машина, допускавшая топку дровами, изготавливались на средиземноморском стапеле[123]. Такелаж[124] у него — как у трехмачтовой шхуны, а экипаж из десяти человек вполне справлялся с ходовой и машинной частью. Судовладелец дал пароходику имя героя борьбы за независимость в Колумбии — «Симон Боливар»[125]. Матросы и боцман, кочегары и механики на судне были чернокожие. Энергии у них хватало, а вот с дисциплиной дело обстояло неважно. На стоянках негры чрезвычайно охотно поглощали тростниковую водку и плясали до одури, вместо того чтоб грузить на судно товар или заготавливать для топки дрова из резофоры, отличное, между прочим, топливо. Капитаном на пароходе ходил мулат Параэнсе, лет сорока. В прошлом — лоцман, владелец пароходов, оставшихся в игорных домах Пары или побережья, контрабандист, постоянно поддерживавший связь с отверженными Спорных Земель, долгие годы помогавший их побегам. Одним словом, сносный моряк и человек, абсолютно лишенный предрассудков. Итак, в один прекрасный день «Симон Боливар» покинул порт Пару, загруженный как обычно — на палубе его стояло восемьдесят быков. Кроме того, пароходик, обычно перевозивший лишь мирных жвачных, в этот раз имел на борту полдюжины пассажиров, и весьма неожиданных в здешних местах, а именно — театральную труппу. Артисты, мягко говоря, посредственные, успев одарить чарующими звуками современной оперетты разношерстную публику Рио-де-Жанейро, Виктории, Порто-Сегуро, Баии, Пернамбуку и Пары, собирались, до возвращения во Францию, совершить турне по Кайенне, Суринаму, Демераре и французской части Антильских островов. Да уж, не скажешь, что жизнь артистов лирического жанра, далеких от догм национализма, — сплошной праздник. В чем и убедились лишний раз бедняги, которых их несчастная звезда привела на борт «Симона Боливара». Все шестеро — трое мужчин и три женщины — оказались замурованными в закутке, горделиво называемом салоном, мерзком, тесном и грязном. Безжалостно встряхиваемые на жестких частых ухабах океана, мучимые морской болезнью, привалившись к чемоданам или беспомощно растянувшись в шезлонгах, несчастные задыхались от смрада палубы. Они не могли даже подняться по лестнице — ее завалили бесчисленными коробками, превратив тем самым корабль в стойло, а вернее, в клоаку[126]. Можете представить, с каким нетерпением ждали бедные служители Мельпомены ближайшей стоянки! К счастью, на борту оказался седьмой пассажир, более привычный к путешествиям такого рода. Он устроился на корме, ближе к штурвалу, и время от времени приходил на помощь артистам — то фруктов им принесет, то несколько глотков воды, смешанной с водкой, то кусочек-другой маниоки. Так что в конце концов этот доброхот умудрился сделать существование артистов чуть более терпимым. И все же, надо признать, они оказались в кошмарной ситуации, а экипаж вел себя так, словно пассажиров на судне просто не было. Матросы шныряли по заваленной навозом палубе с беззаботностью, составляющей основу характера чернокожего, хлебали водку, если только удавалось найти, брели куда-то, качаясь из стороны в сторону, и, не обращая никакого внимания на стократно повторенную команду, валились на палубу и тут же засыпали, а проспавшись, снова пили, пели и даже находили место, чтоб проделать замысловатые антре[127]. Капитан и сам без устали тянул джин. Только двое из всей команды были трезвы: штурвальный и механик. Тем не менее «Симон Боливар» шел себе потихонечку вдоль берега, обрамленного тусклой зеленью невысоких резофор. А как же ночью, бросать якорь где придется? Такая предосторожность была бы вполне оправданна, в темноте плавать вдоль побережья практически невозможно. Контур низких плоских берегов так менялся сильными приливными течениями, что лоцман иной раз на обратном пути не узнавал фарватер[128], поскольку вода уносила все его метки, береговые ориентиры, как говорят моряки, слизывала целые куски континента, заполняла впадины и перемещала тинные отмели. Эти отмели были не опасны для корпуса корабля, но садились на них очень часто. «Симон Боливар» обогнул мыс, который старые географы называли Северным, и пошел по каналу Марака, отделявшему континент от острова того же названия[129]. На ночь пароход бросил якорь против болот, тянувшихся от прибрежных резофор до большого озера Коросол, или Да-Жак, описанного господином Кудро, а на великолепной карте Гвианы Анри Маже обозначенного пунктиром. Хотя дозорных оставлено не было, а все матросы, как по приказу, напились и храпели, один негр, не такой пьяный или еще не сморенный сном, заметил-таки по борту огни, образовывавшие треугольник. Охваченный неведомым доселе служебным рвением, он взял на себя труд доложить об этом капитану. Тот, развалившись в гамаке, перемежал стаканчиками джина одну сигарету за другой. Три огня, зажженных явно с определенной целью, должны были что-то означать. Пьянчужка грубо выругался, пошатываясь, встал на ноги и навел на костры бинокль. — Чтоб мне отравиться джином, если в этом канале опять не изменился фарватер! Ну точно, три огня означают, что нужно ждать лоцмана. Чума меня забери! Дорогому соратнику Диого просто цены нет. Обо всем позаботился! Три шкуры спустит со своих, чтоб угодить своему чудесному другу Амброзио. Ладно! Тогда продолжим беседу с этой уважаемой бутылкой. Капитан правильно угадал и значение сигнала, и того, кто сигнал посылал. Едва утренние лучи начали проникать сквозь тяжелый туман болота, как показался jangada — несравненный плот, изобретение амазонских перевозчиков, который легко справлялся с жуткими местными течениями, даже с проророкой. На нем сидело трое негров. Капитан окликнул плывших, когда они были уже в полукабельтове[130] от парохода. — Эй там, на плоту! И услышал в ответ знакомый голос: — Эй, на пароходе! — Ого! Да это ты, Эстевао… Причаливай, сынок… причаливай помаленьку. — Вот и я, собственной персоной, капитан Амброзио. Добрый день. — Здравствуй, сынок. Каким попутным ветром тебя занесло? — Диого послал, чтоб… — Ясно! Но учти, на борту посторонние. — Ах вот как! — Лови-ка причальный конец да закрепи его! — Есть, капитан. — Чернокожий проделал то, что требовалось, с ловкостью акробата. Плот тут же повернулся фордевинд[131], а капитан, бросив двум чернокожим гребцам полную бутылку, которую они ловко поймали на лету, увлек прибывшего на корму. — Так что там новенького, Эстевао? — Пить хочу, капитан Амброзио… — Известное дело, уж это не новость. Ладно, пей и быстро рассказывай. — Так вот, — начал негр, жадно выхлебав большую миску тростниковой водки, — в этот проклятый канал нанесло прорву тины. — Дьявол тебя побери! И это все? — Остальное узнаете от сеньора Диого. — Значит, мы с ним увидимся в Мапе? — Может быть, больше мне ничего не известно. Я послан только провести вас. — Скажи-ка, дружочек, ты сам-то хорошо знаешь фарватер? Смотри мне, без глупостей… У меня на борту ценности, пассажиры… и не какие-нибудь, а французы. — Буду стараться. — Не сомневаюсь, сынок. Я неплохо заплачу и напою от души. — С вами работать всегда одно удовольствие. Но хватит болтать. Начинается прилив, давайте я встану на мостик. Надо смотреть в оба. — Ого! Даже не хочешь промыть глаза еще одним глотком? — Спасибо, капитан. Сначала пройдем канал. — Черт побери! — пробормотал под нос господин Амброзио. — Должно быть, дела действительно плохи, если этот чудак оставляет на потом чашку. В конце концов, ремесло он знает, на него можно положиться. Ну а я пока что все-таки выпью! Положение и в самом деле было серьезным. Лоцман выкрикнул в рупор машины сакраментальное[132] «Полный вперед!» и направил пароход в судоходный коридор, усыпив бдительность капитана. Почти два часа шел «Симон Боливар» под малыми парами, счастливо минуя образованные тиной мели, как вдруг после не слишком сильного, если сказать правду, толчка его движение застопорилось. — Тысяча чертей! — заорал капитан, разбуженный ударом. — Мы сели. Действительно, пароход увяз носом в густой тинистой банке и растянулся на ней, как кайман, выползший на солнышко погреться. — Задний ход, машина! Прибавить пару!.. — громовым голосом скомандовал вмиг отрезвевший пьяница. Теперь это был настоящий моряк, спасавший гибнувшее судно. Винт бешено вращался, но все напрасно. Корабль был неподвижен, как железная гора. — Сесть на мель в прилив! Жди теперь высокую воду, чтоб освободиться. Сколько ждать-то?.. Как тебя, негодяй, угораздило вмазаться в эту банку? Ее ж и слепой заметит, — набросился капитан на проводника. — И он еще считает себя лоцманом! Да десятилетний юнга справился бы лучше! Когда прошел первый миг замешательства, капитана все больше и больше стали беспокоить последствия аварии: освобождения, возможно, придется ждать долго, а запасы воды и корма для скота почти иссякли. Он, как обычно, думал пополнить их в Мапе. Зловещая отсрочка могла привести очень скоро к полной потере груза. Поэтому капитан не стал пассивно дожидаться событий, как поступали в подобных случаях чернокожие, а решил немедленно действовать, чтоб снять пароход с мели. Он спустил шлюпку, взяв с собой четырех гребцов, изучил очертания банки и проверил, сможет ли характер дна дать ему возможность бросить один-два якоря. Закончив осмотр, он вернулся на корабль в состоянии неописуемой безнадежности. — Что ты наделал, подлец! — снова обратился он к лоцману. — Да захоти кто специально посадить нас на мель, он не сделал бы это лучше! Свободный фарватер меньше чем в двух кабельтовых, тебе это прекрасно известно, ты плыл по нему к месту нашей последней стоянки. И все же бросил корабль на мель, заметную по меньшей мере за полмили! Нет, тут не просто неверный поворот штурвала. Ты изменил курс… А ведь не пил! Тысяча чертей! Не знаю, почему я еще не вышвырнул тебя похлебать кашки за бортом. — Не сердитесь, капитан. Сейчас прибудет дон Диого и поможет вам сняться с мели. — Диого! — с нескрываемым недоверием произнес капитан. — Что ты мне заливаешь? Разве он не в своей приозерной деревне и не в Мапе? И как он узнает, что мы на мели? — Не знаю, — глупо ответил негр, вдруг принимаясь дрожать. Из явно затруднительного положения его вывело внезапное появление шхуны, которая неслась к ним на всех парусах, огибая тинистую банку. Капитан сразу узнал одно из суденышек, составлявших флотилию вождя. «В другое время, — подумал он, — я бы возблагодарил Бога за их появление, но сегодня, не знаю почему, отнюдь не горю желанием видеться со своим приятелем. Сам черт не поймет, что происходит. Я в полном мраке. Интересно, чем это все кончится?» Шхуна, обогнув банку, прошла галсами[133] по чистой воде, легла на борт и пришвартовалась к пароходу с такой точностью, какой мог бы позавидовать любой морской волк. Между бортами кораблей едва ли остался один метр. Но Амброзио было не до любования чистотой маневра. Едва два судна сошлись, как с парусника к нему на палубу устремилось человек двадцать полуголых, вооруженных до зубов негров. Они рассыпались по пароходу, как морские пираты, и окружили изумленного капитана. — О! Какая встреча! — произнес радостный голос. — Здравствуйте, Диого, — мрачно ответил сеньор Амброзио. — Что вам, черт возьми, нужно? — Как что? Протянуть руку помощи, собрат мой, в нелегкую для вас, как мне кажется, минуту. — Все из-за этой скотины, вашего лоцмана. Зря я его за борт не отправил. — Это было бы большой ошибкой, брат мой, ведь бедняга Эстевао, посадив по моему приказу пароход на мель, обеспечил вам безбедное будущее. — По вашему приказу! Корабль в опасности… Груз погиб… Вложившие деньги в снабжение провиантом разорены!.. Поставки продовольствия в Кайенну сорваны!.. Не слишком удачная шутка, приятель. — А мне кажется, вы воспринимаете события чересчур трагично. Давайте порассуждаем. Кроме крова, жратвы и водки судовладельцы дают вам мизерную, недостойную плату. Вам удается выкручиваться только благодаря контрабанде и беглым каторжникам, которым вы помогаете. Поверьте! Гораздо выгоднее уйти от них и поступить на службу непосредственно ко мне! — Что? К вам на службу? — Черт побери! Вы будете командовать красивым кораблем, ходить в выгодные рейсы. Прибавьте крупную контрабанду, кое-какую пиратскую работенку и щедрое вознаграждение. Я не жалею денег для преданных слуг. — Буду командовать, говорите, хорошим кораблем?.. — Капитан был ошарашен. — Что за корабль? — Да «Симон Боливар». Только сменим ему название да назначение. Фу! Неужто вам самому не противно всю жизнь проводить в этом плавучем стойле? Такой прекрасный моряк — и такое омерзительное занятие! — Но я и так капитан на этом судне, что же вы можете мне предложить?.. — Корабль-то принадлежит не вам. Мне. — Вот так раз! С каких это пор? — С той минуты, как я поднялся на его борт. Ладно, я буду с вами искренен, дружище. Думаю, мы договоримся. — А если нет? — Если нет, вам придется немедленно попробовать черной кашки за бортом. — Слушаю вас. — Вы знаете, а может, и не знаете — сие значения не имеет, — что я намереваюсь создать на этой свободной земле сообщество людей, способных благодаря численности и организованности защитить свою независимость. — Почему тогда не республику? — Очень верное замечание: почему бы и не республику? Для того, чтоб это стало реальностью, мне нужны сторонники. Людей-то у меня в этих местах достаточно. Не хватает скорее средств их объединить и организовать. Для этого мне нужны время, деньги и хороший корабль. Рассмотрим по порядку все три пункта. Время… Через два месяца у меня окажется несколько тысяч воинов. Деньги… Надежнейший способ чеканить монету найден. Очень скоро мои люди будут вооружены и обеспечены всем необходимым. Корабль… Я захватил ваш. Может, вы и стали бы колебаться, отдать его или нет, но я оказался быстрее. Становитесь, если согласны, командующим моими военно-морскими силами. Будете подбирать моряков вплоть до того самого дня… — Когда меня повесят на рее как пирата при первой же встрече с французским или бразильским крейсером! — Я же уже сказал, дурак ты этакий, — изменил тон Диого, — что через два месяца у меня будет пять-шесть тысяч бойцов, которые не боятся ни Бога, ни дьявола. Я знаю в районе озер места, где можно развернуть целую эскадру, а озеро Лаго-Ново, после того как я его укреплю, станет амазонским Гибралтаром; бразильцам не хватит сил выгнать нас оттуда. А уж если мы сильны, нас признают официально или будут, по крайней мере, терпеть, что для начала тоже неплохо. — Ну вы и нагородили, дружище! — Значит, согласны? Ваша рассудительность меня радует. — Куда ж деваться? — Нет, так не пойдет. Я не сторонник принуждения. Соглашаетесь ли вы добровольно и с радостью и обещаете ли служить верно и усердно? — Да хватит тебе, договорились. — Считайте, что ваши слова приняты к сведению, и помните, с вас отныне не будут спускать глаз. Для начала надо снять корабль с мели. Он к вечеру должен быть в надежном месте. Я не моряк, но, думаю, что достаточно его облегчить. Выбросьте-ка всех быков, что заняли палубу, за борт. Кайеннцам придется затянуть ремешки потуже. Через полчаса, когда дело будет сделано, судно окажется на плаву. А теперь ведите меня в свою каюту, сдайте оружие, если таковое имеется, и все судовые документы.
Пока шли эти долгие переговоры, единственный пассажир, не входивший в театральную труппу, обеспокоенный остановкой и заинтересовавшись появлением парусника, тихонько поднялся по лестнице, ведущей в «салон», и прослушал через люк всю весьма познавательную беседу. Потом так же тихо спустился и объяснил товарищам по несчастью, в какой оборот они попали. — Советую вам запастись мужеством, — заключил он. — Положение сложное и опасное, но, может быть, не безнадежное. Кроме того, бандит, в руках которого мы оказались, нуждается во мне… Будем держаться друг друга. Терпение и отвага! На этих словах дверь приотворилась, и на пороге показался Диого, сопровождаемый капитаном. От неожиданности он даже отшатнулся, когда увидел незнакомца, и слегка побледнел, вернее, уродливое лицо его покрылось неровными серыми пятнами. — Надо же! — проговорил он дрогнувшим голосом. — Никак не ожидал вас здесь встретить, господин Шарль Робен.
ГЛАВА 9
За выкупом. — По дороге в Пару. — Один. — На борту «Симона Боливара». — Лицом к лицу с врагом. — Новые пленники. — Трогательное расставание. — Из канала Марака в Кайенну. — Снятие с мели. — Укрытие. — Плавание в роще водяных растений. — Сноровка лоцмана Эстевао. — Район озер. — Великолепная сеть внутренних водоемов. — Мечта Диого. — Разговор, услышанный посторонним. — Пароходу не пройти. — Мачты спилены. — На озере Да-Жак. — Возвращение в деревню.Вот так, в результате стечения обстоятельств, в котором не было, по сути, ничего необычного, Шарль Робен оказался лицом к лицу со своим врагом. Несчастному молодому человеку пришлось безоговорочно принять условия поставленного Диого ультиматума, там, в одиноком шалаше на Тартаругал-Гранде. Всякое сопротивление было бессмысленным, и Шарль, сознавая, что не может в таких условиях освободить жену и детей силой, решил подчиниться требованиям бандита, надеясь взять затем блестящий реванш. В тот момент его беспокоило только одно — он боялся не успеть к сроку: передвижение было страшно медленным, а требуемая сумма — огромной. Шарль в сопровождении индейца Табиры и эльзасца Винкельмана, единственных, кто, похоже, уцелел после разгрома каучуковой плантации, поспешил вниз по Апуреме. Случай свел его на реке с одним из самых богатых местных животноводов — они и раньше поддерживали добрые соседские отношения. Тот возвращался на шхуне к своей фазенде[134]. Он уже знал о несчастье, постигшем колониста, и благородно предложил Шарлю все наличные деньги, несколько тысяч франков, а также шхуну вместе с экипажем. Серингейро принял их, горячо поблагодарив великодушного соседа, и тут же отправился в путь. Сплавившись по Апуреме, он оставил Табиру у слияния с Агуари, дав верному индейцу предварительно какие-то подробные инструкции. Молодой человек остался вдвоем с эльзасцем. Шхуна поднялась вверх по Арагуари до поста Педро Второго, где начиналась отвратительнейшая из дорог, ведущих в крепость Макапу. Бразильцы, явно преувеличивая ее значение, называли форт амазонским Севастополем. Отослав шхуну назад любезному владельцу, Шарль пешком пустился по дороге в Макапу. Расстояние в сто десять километров спутники преодолели в два дня. Они устроились в единственной гостинице города в ожидании парохода. Небольшие суда довольно часто ходили вверх и вниз по Амазонке. На девятый день путешественники поднялись на борт корабля Бразильской пароходной компании, совершавшего регулярные рейсы между Рио-де-Жанейро и Манаусом с заходом во все крупные порты побережья. Через два дня они высадились в Паре. Хоть Шарля и знали в этом крупном коммерческом центре, кредита на сумму, требуемую негром в качестве первого взноса, ему не дали. Впрочем, он на это и не надеялся. Один из тех, с кем Шарль вел дела, недавно обосновавшийся тут француз, буквально разрывался на части, чтоб добыть для колониста хотя бы двадцать тысяч франков. И деньги нашлись. Из этой суммы Шарль оставил себе ровно столько, чтоб хватило добраться до Кайенны, а вернее, до Сен-Лоран-дю-Марони, ближайшего к хозяйству его отца и братьев цивилизованного поселения. Остальное он оставил Винкельману, проинструктировав того самым подробным образом, как использовать полученную сумму с наибольшей для них всех выгодой. Эльзасец, растрогавшись до слез таким проявлением расположения и доверия, пробормотал слова благодарности, пообещав преуспеть или погибнуть. И это не было пустой бравадой. Шарль, экономивший скудно отпущенное ему время, как скупец деньги, срочно занялся подготовкой своей поездки в Кайенну. К несчастью, как вам уже известно, сообщение между столицей нашей колонии и бразильским берегом чрезвычайно неудобное. Потеряв всякое терпение, Шарль намеревался уже зафрахтовать шхуну, когда узнал о прибытии «Симона Боливара», доставлявшего продовольствие в Кайенну. Он без труда договорился с капитаном, и поднялся на палубу вместе с бедными артистами, которых привела на судно злосчастная судьба. Остальное вам известно вплоть до момента, когда в вонючей комнатушке, набитой пассажирами, появился Диого. — Вот уж не ожидал вас здесь встретить, господин Робен, — проговорил в изумлении презренный негодяй. — Я тоже, — холодно ответил молодой француз. — В бесстыдном договоре, который вы со мной заключили, ни слова не говорилось о том, что с первых же шагов мне будут мешать собирать требуемый выкуп, — это и так нелегко. — Я так же, как и вы, очень сожалею об этом недоразумении, которое может нанести существенный ущерб моим интересам. Однако не стоит волноваться: я сам же все и исправлю. Вас без промедления доставит на место мой парусник с отборной командой. Негодяи редкие, но отменные матросы. И о вас будут заботиться как об отце родном, за те-то денежки, которые вы должны нам доставить. Вы почти не опоздаете. — Я готов. Надеюсь, вы не откажетесь принять на борт вашего парусника вместе со мной этих людей, оказавшихся в незавидном положении исключительно по вашей вине. — Это пассажиры? — Да. — Ехали в Кайенну? — Да. — К великому сожалению, не могу уважить вашей просьбы. Они молчать не будут, а мне вовсе не улыбается обнаружить здесь вскоре стационер из Кайенны с десантом на борту. Вплоть до новых распоряжений они останутся здесь. Мои планы не должны пострадать от чьей-то болтливости. — Я знаю, вам неведомо то, что зовется гуманностью, и потому не стану взывать к вашим чувствам. — По этому вопросу у нас с вами нет ни малейших разногласий. — Добавлю только, что вы слишком расчетливы, чтоб совершать бессмысленные преступления. — Отчего же? Мне приходилось убивать просто ради удовольствия, — возразил самодовольно монстр. Шарль презрительно пожал плечами и продолжал: — Рано или поздно колониальным властям станут известны ваши… подвиги, вас ждет ужасное наказание. — Посмотрим. — Хочу кое-что предложить вам. У бедных женщин и так уже лихорадка и упадок сил, они неминуемо погибнут, если останутся еще на какое-то время в районе озер. Пусть они отправятся со мной, а здесь останутся трое мужчин, их супруги. Вы сами заговорили о заложниках, так пусть жизнь мужей станет гарантией молчания жен. Как только я выплачу выкуп за свою семью, вы безбоязненно сможете отпустить мужчин. — Что ж, это, по-моему, приемлемо, — ответил, подумав минуту, негр. — Согласен, хотя лишаю себя удовольствия полюбоваться страданиями тех, кто принадлежит к вашей проклятой расе. Гуманность здесь ни при чем, — как вы очень верно заметили, просто у меня свой интерес. Прощайте! Я и так слишком много сказал. Приятней с сотней кайманов пообщаться, чем с одним белым поговорить. Сказав это, Диого развернулся на каблуках и исчез за дверью. Трогательную картину представляли собой обитатели смрадного закутка. Мужчины крепко пожимали руку Шарля, горячо благодаря его за то, что вопреки их ожиданиям все более или менее благополучно устроилось, а женщины тем временем изо всех сил противились расставанию. Даже под страхом верной смерти не желали артистки разлучаться с теми, кто делил с ними горе и радость. Комната наполнилась рыданиями, Шарль тоже не смог удержаться от слез при виде такого красноречивого свидетельства любви и преданности. Но вновь появился Диого и, по обыкновению, грубо прервал эту грустную волнующую сцену. Он приоткрыл дверь и, остановив взгляд на Шарле, заявил без всяких предисловий: — Шхуна готова. Можно отплывать. Женщин быстро на парусник!.. — Нет!.. Нет!.. — в слезах запричитали несчастные артистки. — Эй вы! Посадите их! — приказал Диого, повернувшись к неграм, шедшим за ним по пятам. — Стойте! — остановил их один из актеров, молодой человек лет двадцати пяти — двадцати шести, с некрасивым лицом, но умным и проницательным взором. — Дитя мое, — обратился он к жене. — Поезжайте… так будет лучше… прошу тебя. Он нежно, как расстроившегося ребенка, взял ее на руки, поднялся с ней на палубу и перенес супругу на шхуну. Оба его спутника вслед за находчивым артистом тоже вывели едва живых подруг, хотя те продолжали отчаянно протестовать. На прощание молодой актер, горячо пожимая руку Шарля, заверил его от всего сердца: — Господин Робен, жизни не хватит, чтоб отплатить за услугу, которую вы оказали нам сегодня. Ради вас мы готовы умереть. Можете располагать нами по своему усмотрению. Шарль в нескольких словах рассказал об ужасных несчастьях, обрушившихся на его голову, и добавил: — Как я завидую вам. Скоро вы увидите мою жену и детишек. Доверяю их вам. Потом, достав записную книжку, серингейро быстро набросал на чистой страничке несколько слов и передал записку новому другу: — Это для нее. Последние объятия, рукопожатия, и трое мужчин, подгоняемые матросами шхуны, вновь поднялись на пароход, а маленький парусник тем временем медленно отчалил, развернувшись по ветру. Еще мгновение, и он, как морская птица, полетит над волнами. Благодаря самым несложным мерам, предложенным Диого, с которыми беспрекословно согласился Амброзио, «Симон Боливар» очень скоро оказался вновь на плаву. Капитан воспринял свою неудачу с удивительным смирением. Правду сказать, и аргументы, которые привел его новый хозяин, были весьма убедительны. Бедные бычки тяжело плюхались за борт, где их тут же затягивала тина, к великой радости экипажа и приплывших с Диого бандитов. Радуясь злой шутке, которую они сыграли с жителями Кайенны, возбужденные выпитой без меры водкой, негры, охваченные духом разрушения, с увлеченностью дикарей предавались отвратительному занятию. И вскоре ставший намного легче пароход начал потихоньку слушаться руля. В конце концов его удалось вырвать из клоаки, в которую он зарылся носом, и вывести в желтые воды канала. Диого, бесстрастно наблюдавший за маневром, лишь изредка хмурил брови, а потом спросил, повернувшись к капитану, какая у судна осадка. — Самое большее метр двадцать пять, — ответил сеньор Амброзио. — Хорошо. Значит, пройдем. — Куда пройдем, дружище? — Спрячем пароход в надежном месте, где никому не придет в голову его искать. То есть на озере Да-Жак. — Но это невозможно! — Возможно. — Да нет же. — Послушайте, приятель! Вам не хватает уверенности, видно, оттого, что вы — бразилец. Я же, при всей слабости связывающих меня с Францией уз, никогда не забываю старинной пословицы моих бывших соотечественников. — Знаю, что вы имеете в виду: «Для француза нет невозможного». Неплохая пословица, чисто теоретически… но на практике все по-другому. — Посмотрим. — О! Я в своей жизни уже всего насмотрелся. Ясно, что мы потерпим крушение, да посерьезней первого. — Что ж, пусть так. Будьте в таком случае любезны, передайте управление кораблем Эстевао. Эй, Эстевао! Слышишь меня, сынок? Возьми штурвал и проведи нас прямехонько в бухту. Чернокожий устроился у руля, отдал, готовя основной маневр, несколько таких безрассудно-дерзких указаний, что капитан в ужасе отшатнулся, а потом направил пароход прямым курсом на огромные заросли морских муку-муку. — Этот негр сошел с ума! — воскликнул Амброзио. — Мы пойдем на дно вместе с посудиной. — Брось, приятель. Эстевао терпит крушения исключительно, когда сам хочет этого. Лучше помалкивай и смотри. Пароход на малом ходу проник в заросли гибких стволов, раздвигая их своим форштевнем[135]. По бортам мягко шуршали упругие, блестящие листья; сотни белых и серых цапель, изгнанных из их доселе никем не нарушаемых пределов, с пронзительными криками кружили над чудовищем, выдыхавшим дым и выплевывавшим пар. — Знаете, где мы? Уже минут пятнадцать пароход плывет по настоящей прерии. — Черт возьми, пусть кайман проглотит мой язык, если хоть один человек способен понять суть этого идиотского маневра! — Мы просто-напросто в устье бухты, соединяющей канал Мараку с озером Да-Жак… С моим озером! Чудесным водоемом длиной сорок, шириной тридцать километров. Восторг, а не местечко. И черепах полно, и пираруку. И можно не бояться ни французских, ни бразильских кораблей. — Потрясающе! И никто не подозревает о существовании такого пространства чистой воды? — Подозревать-то подозревают, но никто не знает, где оно. Но это еще не все! Сейчас еще больше удивитесь. Поскольку отныне ваша судьба связана с моей, я не хочу иметь от вас тайн, во всяком случае в том, что касается навигации. Еще раз повторю: это озеро — чудо! Здесь можно развернуть целую эскадру, что я и собираюсь сделать. Чистейшей питьевой воды в случае необходимости хватит до конца жизни. О топливе тоже беспокоиться нечего — берега густо поросли пальмами — а это прекрасные дрова для котлов пароходов! И к тому же, самое главное, вопреки тому, что вы могли подумать, это озеро вовсе не тупик, куда меня могли бы загнать, если будет случайно обнаружен наш путь. Широкими, глубокими лагунами сообщается оно с целым водным ожерельем, тянущимся вдоль побережья. Я могу по своей прихоти переплывать из озера Да-Жак в озеро Дю-Ван, оттуда во Флориан, из Флориана в Де-Гарс, а из Де-Гарс — в Пиратубу, чтоб выйти у Северного мыса в Атлантику через бухту Сикурижу, также замаскированную непроходимыми с виду зарослями муку-муку. — Я прямо ошеломлен, друг мой! — Но и это не все. Пройдя с запада на восток, мы можем теперь, если хотите, продолжить путь по внутренним водоемам и проплыть вдоль побережья с юга на север. Из озера Пиратуба переправимся в озеро Руку, оно тоже незаметно сообщается с океаном несколькими лагунами. Или, если нам заблагорассудится, отправимся в великолепноеЛаго-Ново. На его покрытых лесами островах можно основать сельскохозяйственные колонии и снабжать продовольствием весь край. Поскольку Лаго-Ново еще и сообщается с Арагуари, мои небольшие владения, как видите, имеют немалые удобства с точки зрения стратегии. Благодаря этой, возможно, единственной в мире, сети водных коммуникаций я могу чувствовать себя в абсолютной безопасности на площади в десять квадратных километров. Теперь вы понимаете, почему я могу объявить себя хозяином этих доступных лишь мне одному мест! Разве кто-то сможет выдворить меня отсюда, особенно если я буду иметь в своем распоряжении несколько пароходов, даже меньших габаритов, чем этот! Или, в конце концов, парусных суденышек с митральезами[136], да еще легкую флотилию из пирог. Разве не на моей стороне все местные лоцманы, разве не в силах я, в случае предательства, перекрыть естественные проходы завалами из деревьев? А когда у меня будут деньги… Откровенно говоря, не слишком много, но их хватит вполне, чтоб вооружить «Симон Боливар» и собирать своеобразную дань с местных землевладельцев и с пароходов Бразильской компании. Увидите, очень скоро ряды моих бойцов пополнятся. Из Франции сюда отправили двадцать тысяч рецидивистов. Ни один главарь ни одной банды не располагал таким выбором подонков! Иными словами, силы нам достанет, и противиться нам будет чистым безрассудством. И тогда, кто знает, может быть, мне удастся, ловко используя взаимные претензии Франции и Бразилии, официально провозгласить себя главой небольшого государства, пусть даже под протекторатом[137] любой из этих стран. — Браво! Браво, дружище! — воскликнул воодушевленный капитан. — Теперь я понял, с кем имею дело. Недалекий честолюбец не смог бы выносить такого плана. Если у меня и оставались какие-то сомнения до сих пор, то знайте, отныне у вас не будет помощника вернее. Пока они беседовали так по-португальски, трое актеров стояли на палубе, облокотившись на стрингер[138] и печально смотрели, как корпус судна раздвигал листья муку-муку. Казалось, французы оцепенели от горя, что было вполне естественно после обрушившихся на их головы событий. Капитан и Диого стояли всего в нескольких шагах от них, но не обращали на артистов никакого внимания. Самозваный глава Спорных Территорий и его помощник не подозревали, что один из членов театральной труппы их понимает. В тот момент, когда капитан рассыпа́лся перед Диого в уверениях дружбы, самый молодой из французов незаметно обвил руками шеи коллег и, приблизив их уши к своим губам, чуть слышно прошептал: — Ни в коем случае не проговоритесь, что я уже три года в Бразилии и говорю по-португальски, как по-французски. В этот же миг раздалась команда Амброзио: «Стоп машина!», и пароход встал. — Что там? В чем дело? — спросил Диого. — Всего не предусмотришь, — произнес улыбаясь капитан. — Вы не сказали, что берега бухты заросли высокими деревьями, и я сам так увлекся вашим рассказом, что не заметил этого. — Да черт с ними, с деревьями. — Но они не дают нам войти в протоку. — Каким образом? — Цепляют боковыми ветвями мачты и штанги. — Так что же делать? — Ничего особенного. — А все же? — Спилить на корабле все выступающие части. — Вот черт! — Не волнуйтесь. Конечно, дело это трудоемкое и небезопасное. Но нас здесь много, так что справимся. Вопрос только, когда? Но рано или поздно «Симон Боливар» станет плоским, как понтон, и пройдет здесь не хуже пироги… если, правда, протока не станет мельчать. — Это я вам гарантирую. У нас все время будет не менее двух метров под килем. — Отлично. Остальное я беру на себя. Предсказания капитана сбылись слово в слово. Им удалось убрать мачты без происшествий, положив на это целый день изматывающего труда. Наконец «Симон Боливар» вышел на простор озера Да-Жак. На корабле провели генеральную уборку, смыв следы пребывания скота на палубе, опустошив резервуары для воды и выбросив начавшие портиться продукты. Лоцман Эстевао, великолепно знавший очертания озера, выбрал для стоянки крохотную бухту, со всех сторон окруженную невысокими, но очень густыми деревьями, и бросил тут якорь. Из предосторожности двумя толстыми причальными канатами корабль был намертво закреплен. Затем палубу прикрыли плотным навесом из листьев канны, способным защитить ее и от дождя, и от солнца, а все отверстия плотно задраили. Для охраны парохода Диого оставил четырех вооруженных воинов, на которых он полностью мог положиться, а сам со своим отрядом и тремя пленниками покинул судно. Все пересели в пироги и через два дня прибыли в приозерную деревню, где их ожидал горячий, если не сказать — горячительный, прием.
ГЛАВА 10
Деликатность. — По Марони. — Конец путешествия. — Причал. — В бухте. — Скалы. — Кокосовая бухта. — Возвращение в родительское гнездо. — Старый Ангоссо. — По манговой аллее. — «Добрая матушка». — Тропический дворец. — Братья. — В семье. — Отчаяние. — Гостеприимство. — Военный совет. — Луч надежды. — План кампании. — Пятьдесят килограммов золота. — Что предложил Анри. — Быть сражению. — Вот с кем Диого с удовольствием бы поговорил.Благодаря попутному ветру вест-зюйд-вест и сильному течению с юго-востока на северо-запад шхуна шла необычайно быстро. Через пятьдесят часов с маленького парусника, великолепно управлявшегося неграми Диого, была уже видна Кайенна. Избавившись от ужасающей грязи, царившей на пароходе, и тошнотворной машинной вони, бедные женщины гораздо легче перенесли вторую часть мучительного путешествия. Если б не горестная тревога за судьбу мужей, они были бы просто счастливы. Увы! Напрасно старался Шарль вывести бедняжек из состояния тягостного оцепенения. После постигшей актрис катастрофы им плохо верилось, что с мужчинами ничего страшного в плену не случится. Да и сам их утешитель был слишком подавлен невеселыми раздумьями об испытаниях, так несправедливо обрушившихся на головы его родных. Как мог молодой человек уверить женщин в том, в чем сам сомневался? Он мог лишь разделить с ними общую боль. Кроме того, несчастные пассажирки были охвачены новой, ничуть не менее мучительной тревогой о завтрашнем дне. Как жить, на что? Нельзя сказать, что их турне провалилось, но и обеспеченности оно не принесло. Маленькая труппа сидела на хлебе и воде, неся, впрочем, с большим достоинством бремя своих забот. В Пару отправились, располагая скорее надеждами на лучшее будущее, чем деньгами. Артисты рассчитывали и дальше жить на доходы от представлений. Но труппу неожиданно разбросало. Что же будет теперь со слабыми ее представительницами, когда они сойдут на столь негостеприимный для европейцев берег без средств к существованию и без малейшей возможности их получить? Шарль без труда понял, что так тщательно и достойно скрывают от него артистки. Сделав вид, что даже не догадывается о причине их тревоги, молодой человек как можно более деликатно дал им понять, что солидарность товарищей по несчастью обязывает женщин поселиться у его родни. И, поскольку актрисы все еще колебались, принимать ли его сердечное бескорыстное приглашение, Шарль положил конец их сомнениям, сказав следующее: — Во все времена гостеприимство было одной из самых дорогих традиций у колонистов, отец никогда ее не нарушал. Дом у нас большой, запасы продуктов практически неиссякаемые, мать и невестки примут вас с радостью. Поймите, это же естественно: пока ваши мужья заботятся о моей семье, мои родные будут опекать вас. А потом мы все вместе постараемся добиться освобождения. Право же, у вас нет ни малейшей причины отказывать мне, напротив, все говорит за то, что нужно согласиться. Тем временем шхуна, не заходя в Кайенну, продолжила путь к широкому устью Марони. Поднявшись без передышки вверх по течению реки до самого Сен-Лорана, она не пристала и там, а направилась к посту Альбина, расположенному на голландском берегу великой гвианской реки. Там находилась резиденция комиссара — представителя губернатора Суринама. Любезный и галантный чиновник был связан годами сердечной дружбы с семьей Робенов, он оказал Шарлю и его спутникам самый теплый прием. Комиссар очень удивился, увидев молодого человека вновь через такой короткий срок. Шарль не счел нужным, и вполне справедливо, рассказывать ему о своих несчастьях. Он лишь попросил предоставить ему большую пирогу с хорошим экипажем негров племени бош, чтобы добраться до дома отца. Просьба легко выполнимая. К вечеру того же дня лодка с четырьмя крепкими гребцами была готова к отплытию. К корме ее прикрепили щит из листьев банана, чтоб защитить пассажиров от обжигающего солнца — чрезмерная, но любезная предосторожность. Шарль тем временем закончил длинное послание жене. Актрисы, по его подсказке, тоже написали мужьям. Затем все четыре письма запечатали в большой пакет и вручили лоцману шхуны. Его и остальных членов экипажа француз щедро одарил деньгами в обмен на почтовые услуги. Шхуна, взяв на борт необходимый запас продовольствия, пустилась в обратный путь. А пирога, на которую тоже погрузили все необходимое для небольшого путешествия, проворно начала подниматься вверх по реке. Десять часов спустя она без приключений пересекла Со-Эрмину и, после двухчасового привала на островке Суанти-Казаба, проплыла еще километров тридцать. На ночь все устроились в гамаках, привязанных к большим прибрежным деревьям. Едва рассвело, путь продолжили, и с первыми лучами солнца лодка уже вошла в бухту, где швартовалась флотилия Робенов. Здесь же находился деревянный причал, чуть приподнятый над водой, очень удобный. Охрана флотилии была поручена нескольким семьям, жившим на берегу в просторных, обустроенных хижинах. К хижинам прилегали огороды, где поселенцы выращивали овощи и снимали плоды с деревьев. Признав молодого человека, сторожа бросились к нему навстречу с приветствиями. — Отец и братья дома? — спросил Шарль, как только пирога замедлила ход, огибая бухту. — Да, господин, — ответило ему хором несколько голосов. — Хорошо, спасибо. Нужно приналечь на весла, друзья мои, — обратился молодой человек к гребцам. — Я вас отблагодарю. Чернокожие, и без того наслышанные о щедрости колонистов из Марони, услышав такое обещание, склонились над веслами, издавая своеобразное сопение, которым всегда подстегивали себя при гребле. Пирога буквально полетела над спокойными водами залива. Его ухоженные берега резко отличались от изломанной линии побережья. Диким зарослям — обычной для местных рек картине — пришлось здесь отступить. Может, обустройство сделало берега менее живописными, но зато, без сомнения, гораздо более удобными для навигации. Новые породы заменили в диких лесах старые деревья, грозившие каждую минуту свалиться на головы путешественников или перегородить фарватер. Да и нельзя сказать, что два ряда банановых растений с широченными листьями, согнутых под тяжестью свисавших гроздьями плодов, радовали глаз меньше, чем те дебри, за которыми прежде ютился жалкий шалаш гвианских робинзонов. Вскоре перед лодкой выросла огромная гряда скал, перегородившая бухту. Казалось, дальше вверх хода нет. Но на правом низком берегу открылся узенький рукотворный канал, огибавший скалы. Сделав крюк метров в двести, лодка оказалась в широком ручье. Еще несколько взмахов веслами, и пирога из железного дерева осторожно вошла в крохотную бухту, дно которой устилал красноватый песок, а берега осеняла великолепная роща кокосовых пальм. Гребцы причалили, начали выгружать багаж, а Шарль тем временем помогал пассажиркам сойти на берег. Вскоре маленький отряд, покинув Кокосовую бухту, зашагал по аллее манговых деревьев, буквально утопавшей в тропических цветах. Зрелище это неизменно вызывало восхищение путешественников. И справедливо! В глянцевой листве, сквозь которую проглядывали, словно золотые с бронзовым отливом яблоки, плоды манго — соперника апельсина, громко галдели привычные для этих мест кассики[139] и туканы; над головой стремительно проносились с оглушительными криками пары попугаев; колибри щебетали в венчиках цветов, соперничая с ними в яркости и свежести красок, а на верхних ветвях кувыркались ручные обезьяны, с забавным видом гурманов поглощая манго — свое любимое лакомство. Несмотря на щемящую тревогу, Шарль, увидев обворожительную картину, краше которой ничего на свете для него не было, почувствовал облегчение. Так даже не слишком впечатлительный человек всегда испытывает радость, когда возвращается, познав тяготы и невзгоды жизни, в родительское гнездо, где прошло его детство. Но тут же его изболевшееся сердце вернулось к образам милых пленников, всего полгода назад резвившихся здесь среди цветов и пташек, и горькое рыдание вырвалось у него из груди. — Господин Шарль! — окликнул его внезапно кто-то с радостным изумлением. К Шарлю спешил, раскрыв объятия, пожилой негр. Он был аккуратно одет в хлопчатобумажную рубаху, короткую куртку и полотняные штаны. Босой, но с соломенной шляпой на топорщившихся седых волосах. — Да, это я, — грустно проговорил молодой колонист, пожимая руки старика. — Я это, милый мой Ангоссо. — Горе какая, хозяин? Хозяйка, дети хорошо? — Очень надеюсь. — Как! Вы не знать!.. Горе какая? — Мои дома, да? — Дома, хозяин… А мой дорогой белый малыш, так любить старый негра… не болеть? — Болеет, бедный мой друг, болеет. Обескураженный старик продолжал бормотать что-то невразумительное, глядя с удивлением на измученных доро́гой путешественниц. Шарль добавил: — Ты все узнаешь… ведь ты — член нашей семьи. И тоже, как все мы, будешь сражен несчастьем. Аллея стала изгибаться, дорога пошла в гору. Справа и слева показались веселые хижины, возле которых вертелись, как волчки, маленькие, блестевшие на солнце негритята — настоящие полированные человечки из черного дерева; негритянки, кокетливо разодетые в разноцветные длинные рубахи, с серебряными браслетами на руках, ослепительно яркими головными уборами, деловито сновали среди гокко с глянцевым оперением, спокойных, словно механических, трубачей, мирно уживавшихся с петухами, курами и даже лесными куропатками. Мужчины были на работе. Наверное, рубили тростник, собирали какао или кофе, а может, обрабатывали маниоку или заготавливали валежник. Хижин становилось все больше и больше. Они образовали целую деревню, настоящий рай для работников. Дорога все поднималась и поднималась. Два-три поворота — и деревья как бы расступились, окружив зеленым навесом возвышавшуюся неподалеку «Добрую Матушку». Это был настоящий тропический дворец. Такое роскошное жилище могли создать лишь местные колонисты. Ведь им нет нужды считаться со временем, площадью, рабочей силой, джунгли поставляли древесину на зависть любому набобу[140], и оставалось возводить за́мок своей мечты среди роскоши буйной тропической растительности, сообразуясь исключительно с собственным вкусом и представлением об удобстве. Шарль, чье волнение возрастало с каждым шагом, на мгновение остановился и окинул взглядом ансамбль сооружений, раскинувшихся амфитеатром над лужайкой. Здесь были конюшни, склады, сахарные и масляные давильни. А еще — птичий двор, стойла, ткацкие, каретные, столярные мастерские… На отшибе стояла кузница. В гимнастическом зале — да-да, имелся и он! — с веселым криком упражнялись на снарядах ребятишки. И посреди всех этих построек, крытых коричневой от солнца и дождей дранкой, так прекрасно сочетавшейся с тенистой зеленью, возвышался жилой дом. Эта колоссальная постройка, выполненная целиком из замечательного дерева местных лесов, напоминала очертаниями дом на каучуковой плантации Арагуари. Но тот был скромнее. Здесь же могли свободно разместиться пять-шесть семей. В тени открытой веранды висело несколько гамаков из белого хлопка. Некоторые были заняты — наступил час сиесты[141]. Молодому колонисту с трудом удалось заставить себя сойти с места. Он тяжело двинулся к дому, шепча: — Сколько горя принесу я сейчас в этот рай! Шарль бросил взгляд на приунывших, как и он, спутниц, махнул им ободряюще рукой и первым вышел на открытое с восточной стороны пространство. На звук его шагов из гамака стремительно поднялся молодой человек с непокрытой головой, одетый в рубашку из фуляра[142], отбросил прочь сигару и удивленно воскликнул: — Шарль! Они крепко обнялись. — Неужели ты, Шарль? Что случилось? — Анри!.. Произошло несчастье. — О Господи! — Старший из братьев смертельно побледнел. Услышав их голоса, увидев трех незнакомых женщин и приближавшегося Ангоссо, за которым следовали негры-гребцы, к лужайке сбежались все, кто был дома. Робен-отец, несмотря на свои шестьдесят пять лет, по-прежнему стройный и энергичный, выглядел импозантно. Белоснежные волосы и борода придавали ему величественность патриарха. За ним спешили жена, до сей поры счастливая мать, чьи прекрасные благородные черты выражали сейчас некоторую тревогу, и девушка, поразительно походившая на супругу Шарля. Молодой француз отчаянно сжал в объятиях мать, отца и невестку, а те не осмеливались нарушить молчание. — А где Эжен и Эдмон? — наконец спросил серингейро брата. — Два дня назад ушли на золотую россыпь. — Жаль, что их нет, потому что нам придется устроить семейный совет… он же — военный… Но, прежде чем я начну рассказ об обрушившихся на наши головы ужасных несчастьях, позвольте исполнить долг вежливости. Хочу представить вам своих спутниц, которым я уже от вашего имени обещал оказать гостеприимство. Они жертвы той же катастрофы, что разрушила мое счастье. Разлученные против воли со своими защитниками, оказавшиеся за две тысячи миль от родины, они найдут, я надеюсь, тут убежище и покровительство. — Конечно, сынок, — с достоинством ответила госпожа Робен, протягивая гостьям руку. — С вами негры, значит, вы поднимались по Марони в пироге. Наверное, валитесь с ног от такого перехода. Прежде всего вам нужен отдых… Пойдемте, покажу вам комнаты. Тем временем мужчины и жена Анри, приходившаяся, как, вероятно, помнят читатели «Гвианских робинзонов», сестрой жене Шарля, прошли в большую гостиную. — Шарль, — резко начал Анри, — я сгораю от нетерпения и тревоги, отец не решается тебя расспросить… Рассказывай скорее… Ничего нет ужасней неизвестности. — Так вот! Плантация моя разграблена и сожжена беглыми каторжниками, я совершенно разорен. — И все? Это не так страшно, ты же умеешь работать. — Да, это не так страшно, как то, что я расскажу дальше. К этому времени вернулась госпожа Робен и села рядом со своей невесткой Люси. — Все мои рабочие и их семьи погибли либо разбросаны по свету… Бедные наши бони, преданные друзья суровых дней… — Что еще? — Анри задыхался от волнения. — Мери и дети во время пожара исчезли. Их увели каторжники, а потом они попали в руки бандиту!.. Подлому негру, который держит их заложниками. Услышав страшную новость, женщины застонали, а мужчины — отец и сын — едва удержались от крика. — Тысяча чертей! — воскликнул Анри, поднявшись во весь рост. — У нас хватит оружия и сил, чтоб смести с лица земли это осиное гнездо, бандитское логово, а самих негодяев уничтожить, как бешеных зверей. Спокойный, как старый лев на отдыхе, отец почувствовал вдруг, что в нем проснулась неукротимая ярость. Его бледное под слоем загара лицо покраснело от негодования, в черных глазах блеснула молния. Усилием воли он справился с приступом гнева и прерывающимся голосом осадил сына: — Спокойней, Анри! Подожди. Прежде чем думать о мести, поговорим о том, как их спасти. Пусть твой брат расскажет все до конца… Говори, Шарль. Со всеми подробностями. Чтобы что-то решить, надо знать как можно больше.
__________
Никто ни разу не прервал Шарля, пока он вел свой горестный рассказ срывающимся неровным голосом. Даже женщины, привыкшие уже давно к тяжким ударам судьбы, осушили слезы и сдерживали рыдания. Уверенные, что мужественные и сильные робинзоны найдут выход, они ожидали, пока скажет слово глава семьи, сумевший к этому времени справиться с собой. — Несчастье велико, — произнес он наконец, — но ничего непоправимого на свете нет. В конце концов, пока нужны лишь деньги. — Но какие! Миллион! Отец, вы понимаете, что это такое? Откуда взять миллион наличными здесь, в краю, где крупные сделки чрезвычайно редки? — У меня сейчас килограммов пятьдесят золота в слитках. Я собирался вскоре отправить их в банк. С золотых россыпей мы без труда получим за месяц еще шестнадцать — семнадцать килограммов. Вот уже двести тысяч на первый взнос. — Да, но что дальше? — Дальше у нас будет три месяца на раздумья. А для таких, как мы, трех месяцев с лихвой хватит, чтоб выйти из любого, самого трудного положения. — Но представьте, отец, каково пленникам! Еще три долгих месяца! — Я не говорил, что нам понадобится весь срок. Думаю, мы сумеем освободить детей всех сразу, в тот день, когда ты повезешь первую часть выкупа. — А для них это не будет опасно? — Зачем ты спрашиваешь, сынок! Как ты думаешь, Анри? — Кажется, я понял ваш план, отец. И, с вашего позволения, выскажу свое мнение. — Я сам хотел попросить тебя об этом. — Поступайте, как считаете нужным, — вновь вступил в разговор Шарль. — Я так убит горем, что не могу ничего придумать. Скажите, что делать, я буду слепо выполнять вашу волю. — Так слушай, — начал Анри. — Ты возьмешь слитки и явишься с ними в назначенное время к Диого. Дальше все очень просто. Ты потребуешь взамен одного ребенка и убедишься, будет ли негр соблюдать ваш договор. Лично я в этом сильно сомневаюсь. Думаю, он будет шантажировать нас до последнего. — О Господи, действительно. А я и не подумал. — Шарля словно озарило. — Слушай дальше. Я немедленно отправлюсь к чернокожим бони, чтоб отобрать тридцать самых отважных, самых сильных воинов. Ты их знаешь, а значит, тебе известно и то, что на них можно положиться абсолютно во всем. Мы дадим каждому скорострельный карабин и двести патронов. Сначала будем проводить тренировки здесь, сколько позволит время, чтоб сделать из них настоящих солдат: научим беспрекословно подчиняться, устраивать засады, понимать каждое слово, каждый жест. И только тогда выступим в поход. Пока ты будешь добираться до Тартаругала по Арагуари и Апуреме, я устроюсь со своим отрядом прямо в лесу, неподалеку от приозерной деревни. — Но как вы туда попадете? — На том же судне, которым будешь добираться ты. Нас тихонько высадят в безлюдном месте, а уж эту проклятую деревню я найду, можешь не сомневаться. — А если кто-нибудь все-таки вам встретится и об отряде станет известно? — Успокойся! Уж мы постараемся избежать всяких встреч. Я, в конце концов, не хуже дикаря и способен перехитрить любого негра или индейца. В случае чего нас примут за беглых рабов, которые ищут место для нового поселка, обычного убежища для бразильцев. Мы будем вести неусыпное скрытное наблюдение за приозерной деревней и очень быстро узнаем распорядок жизни ее обитателей. Покуда ты, Шарль, станешь вести переговоры с Диого, мы внезапно нападем на его лагерь. Подданные негра, лишенные предводителя, плохо организованы. Мы их захватим врасплох, к тому же и оружие у нас лучше. Может, я ошибаюсь, но, думаю, одной этой атаки будет достаточно, чтоб освободить пленников. — Анри, дорогой мой, у тебя великолепный план. Уверен, он удастся. — Вы тоже так думаете, отец? — Да, именно это я сам хотел предложить. Согласен с тобой во всем, кроме одного. Командование экспедицией, от которой зависят жизни не только наши, я оставляю за собой. Думаю, как ты сказал, тридцати воинов достаточно. Но, чтоб защитить себя от неприятных неожиданностей, следует увеличить количество командиров. Предлагаю разделить отряд на маленькие группы, которые возглавит каждый из нас. Вот почему я хочу видеть там Гонде и Никола. Их негры хорошо знают и полностью им доверяют. Эдмон и Эжен останутся охранять дом. А теперь, сынок, наберись отваги и терпения.ГЛАВА 11
Парижанин, тулузец и марселец. — Краткая, но существенная биография Пьера Леблана, прозванного Маркизом. — Приключения странствующего актера. — Раймон и Фриц. — Что Диого называет «французским кварталом». — Каторжники оказывают прием. — Тесное соседство. — Как разговаривают на «соленых лужках». — Твердый отпор. — Ужасное поручение. — Трупы Геркулеса и бразильца. — Приходится проглотить горькую пилюлю. — Яма. — Неожиданная находка. — Несметное сокровище. — Что делать с таким богатством? — Выкуп.Среди трех новых действующих лиц, чьей судьбой Диого взялся распоряжаться с обычным для себя высокомерием и бесстыдством, был один, самый молодой из них, о котором стоит рассказать особо. Он звался Пьером Лебланом, но спутники именовали его в своем кругу Маркизом. Почему именно Маркизом? Это никому не было известно, даже самому носителю незаконного титула без герба и без дворянской частицы перед фамилией. Место его рождения было не менее загадочным, чем насмешливое прозвище, поскольку Маркиз утверждал, что он тулузец из Парижа, переехавший в Марсель. Что тулузец, сомнению не подлежало, так как его мать и отец, честные комедианты, оба уроженцы столицы департамента Верхняя Гаронна, заключили в вышеуказанной столице брачный союз, плодом которого и явился означенный отпрыск. Из Парижа — тоже точно, поскольку родился Пьер Леблан за кулисами театра «Бельвиль». О чем получено свидетельство в мэрии двадцатого округа. И почему бы ему не называться марсельцем, если в возрасте восьми лет он уже перебрался вместе с родителями на родину буйабеса (рыбной похлебки с чесноком и пряностями), где и прожил до семнадцати лет. Местный колорит вошел в его плоть и кровь. Пьер приобрел своеобразный южный говор и познал все тонкости языка, по которым тотчас же узнаешь матроса. Маркиз был вправе называть себя гасконцем, парижанином и тулузцем. И слияние столь разных типов в одном лице не могло не сделать из молодого человека незаурядную личность. Пойдя по стопам отца и будучи в душе странствующим актером, он с раннего детства изображал ангелов или чертенят, в качестве ученика выходил на сцену в феериях, драмах, батальных пьесах. Так длилось вплоть до того самого дня, когда вместе с пушком над верхней губой у него прорезался хорошенький голосок. Тут юноша отважно решил сменить амплуа и стал тенором. Тщеславие его и погубило. Голоска оказалось недостаточно, чтоб выступать на большой и даже на средней сцене, Маркизу пришлось довольствоваться ролью певца в ресторанах. Молодой актер, отчаявшись добиться славы и составить состояние, видя к тому же, что навечно приговорен исполнять ритурнели[143] в кабаках, совсем упал духом. Он решил круто изменить судьбу, уехал в Тулон и поступил там, особенно не раздумывая, в четвертый полк морской пехоты. Маркиз, встречавшийся когда-то на подмостках с нашими самыми славными полководцами, считал, что уж он пороху понюхал и что события будут развиваться совсем как в театральных пьесах. Юноша твердо верил, и не скрывал этого, что очень скоро станет, «как другие», маршалом Франции, послужив для начала в морской пехоте, где, конечно же, будет расти в звании с умопомрачительной быстротой. Мечты кончились… чином капрала![144] Но Маркиз был «упрям как осел» — так говорят в армии. Чего уж там: тулузец с задатками провансальца[145], да еще парижанина! Так что, сами понимаете, довольствоваться столь скромным положением он не мог, хоть чин капрала вопреки тому, что обычно думают, весьма близок к маршальскому — ведь говорят же, что крайности сходятся! Так или иначе, но Маркиз снова стал рядовым морской пехоты, уяснив, что ему будет все же сложновато командовать полком, — а звание маршала Франции к этому времени было упразднено, — и решил использовать время армейской службы самым плодотворным образом. Так он и поступил: настойчиво работал на фехтовальной дорожке, увлеченно постигая искусство уничтожения себе подобных, и стал истинным виртуозом шпаги и клинка. Тем временем Маркиз успел побывать в Кохинхине и Сенегале, избороздил землю вдоль и поперек и мог бы соперничать с самим Вечным Жидом[146]. Сей бородатый космополит не решался, насколько нам известно, пуститься в плавание по соленой воде вплоть до того дня, пока не получил отставку по всей форме и для него не приблизились радости личной жизни. Повинуясь непреодолимому предчувствию, он вернулся в Тулузу к старому дядюшке, бедному, как церковная мышь, отцу очаровательной девушки, красавицы и умницы. Естественно, Пьер Леблан влюбился в свою кузину и, естественно, стал ее мужем. В качестве приданого госпожа Леблан принесла счастливому супругу, если не считать прекрасных глаз и нежности, милый голосок, семейную реликвию. Так что если молодая чета и щелкала порой зубами от голода, то щелкала, по крайней мере, мелодично. А уж заливались — совсем как пара соловьев! К несчастью, на протяжении долгого времени наши чудесные артисты пели лишь в своей комнате, импресарио[147] не торопились выводить их на сцену, хотя Пьер Леблан, прозванный Маркизом, был в ту пору более чем когда-либо увлечен собственным голосом. Увы! Несчастная любовь самая прочная. Итак, бывший служака, вынужденный зарабатывать на жизнь уроками фехтования, нередко заменяя клинок палкой, повстречал в один прекрасный день театральную труппу, собиравшуюся на гастроли в Южную Америку. Возглавлял коллектив его давнишний приятель. Он предложил Маркизу ангажемент[148], и тот недолго думая согласился. Молодого артиста предупредили, что заработки у него будут существенно ниже стипендии тех, кого посылает Национальная музыкальная академия. Придется, сказали ему, вносить некоторое разнообразие в привычные жанры и амплуа, играть и драму, и комедию, и водевили, может, даже пантомиму[149], петь в опере и в оперетте. Кроме того, быть собственным костюмером, а по необходимости и декоратором, и рабочим сцены, и осветителем!.. С Маркиза, сытого по горло уроками фехтования, к этому времени слетел всякий апломб[150]. Он просто ответил: «Идет» — и так же запросто поднялся на борт парохода в Поилаке. Прежде чем мы встретились с ним на палубе «Симона Боливара», молодой актер целых три года колесил по Бразилии, познав превратности судьбы. О внешности Маркиза можно сказать, что это был лихой молодец невысокого роста, лет двадцати семи — двадцати восьми, с умным лукавым лицом, освещенным серыми хитровато поблескивавшими глазами. Только добрая улыбка, почти всегда игравшая на губах, смягчала общее выражение, которое могло бы без нее показаться язвительным. Всегда веселый, настроенный оптимистично, считающий, что нет худа без добра, Маркиз презирал нищету и бурно радовался удачам. Прекрасный товарищ, золотое сердце, философ поневоле — как всякий, кому приходится ежедневно становиться то высокородным сеньором, то лакеем, то благородным отцом, то первым любовником[151]. При всем при том бесстрашный, как истинный француз, честный, надежный, как сталь, — вот каков был по своей натуре наш новый знакомый. Оба его спутника на первый взгляд проигрывали ему в выразительности и яркости. Старший — высокий крупный мужчина лет сорока, черноглазый, с густыми черными бровями, как у предателя в мелодраме[152], и с чисто выбритым сизым подбородком. Правда, теперь, когда две недели уже им не приходилось бриться, обветренная кожа его лица покрылась густой колючей щетиной. Звали его Жорж Раймон, он исполнял роль благородного отца или басовые партии[153], смотря по необходимости. Грузный, апатичный, Жорж был в глубине души прекрасным человеком, хотя внешне производил не лучшее впечатление — пузатый, с бычьей шеей, огромными волосатыми руками, обыкновенно меланхоличный и молчаливый. Он чувствовал приближение старости — голос садился, годы летели, и бедный артист уже не мог глядеть в будущее без страха. Другой — высоченный детина тридцати пяти лет, эльзасец, на длинных, как у водомерки[154], ногах. Он мог бы поспорить худобой с грифами контрабаса и музыкальностью со струной. Волосы же его своим светлым оттенком не уступали соломе. Мягкий взгляд бледно-голубых глаз с сиреневым отливом придавал всему облику этого артиста удивительно благодушное выражение, оттененное наивной стеснительностью. Даже привычка выступать каждый день перед публикой не прибавила ему развязности. Звали его Фриц, как почти всех эльзасцев, он довольно мило мог пропеть весь репертуар, играть на любых инструментах и даже сочинять по случаю легкую музыку, имевшую иногда успех. Думаю, нет смысла уточнять, что этих трех актеров связывало нечто большее, чем обычные приятельские отношения, — настоящая искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, стала прочнее булата после пережитых вместе испытаний. Кроме того, столь различные натуры неминуемо должны были проникнуться взаимной симпатией, по закону притяжения противоположностей. Как бы ни были актеры закалены превратностями бродячей жизни, можно без труда представить, в какую пучину горя погрузили их недавние ужасные происшествия. Единственным утешением им служило сознание того, что их несчастные подруги благодаря вмешательству благородного защитника оказались в безопасности и избежали плена, возможно, сурового и длительного. Довольные тем, что, по крайней мере, страдают только они, уверенные в своих силах и опыте, актеры надеялись, что выпутаются из самой сложной ситуации. Вскоре друзья воспрянули духом, хотя в первый момент чувствовали себя убитыми или, как выразительно высказался Маркиз, «пришибленными». Между тем им следовало собрать в кулак всю свою волю, поскольку в деревне их ждали суровые испытания. Едва прибыв на место, Диого велел отвести пленников в просторную хижину, которую он насмешливо прозвал «французским кварталом». Здесь им предстояло жить. В хижине уже было трое постояльцев, причем отвратительных: трое каторжников. Учитывая предшествовавшие появлению новых жильцов события, трудно было ожидать от бандитов сердечного приема. — Смотри-ка. Еще народ подходит, — заметив актеров, первым вступил в разговор господин Луш. — И при багаже! — добавил противным голосом Красный. — В общем, публика что надо, — заключил Кривой. — Ого! Да здесь уже кто-то есть! — радостно воскликнул Маркиз. — По-французски говорят!.. Наверное, земляки… Здравствуйте, господа! — Здравствуйте! — проворчал господин Луш, с трудом повернув в гамаке свое истерзанное тело. — Вы из нашей компании, а? Откуда, спрашиваю? — Разумеется, оттуда… мы пришли издалека, из далекого далека, — ответил Маркиз. И пропел:
ГЛАВА 12
Три дня до срока. — Удивление. — Десять солдат-индейцев. — Флаг парламентера. — Красавец офицер. — То ли генерал, то ли префект, то ли министр. — Подготовка к переговорам. — Военные почести вождю приозерной деревни. — Диого и полномочный парламентер. — Немного политики. — Дипломатия. — Незнакомцу известно все… и даже больше. — Мечты Диого внезапно обретают плоть. — Благожелательный нейтралитет Бразилии. — Броненосец, покрытый золотой пылью, — что бы это значило? — Сокровище!Через три дня истекал столь скупо отмеренный Шарлю Робену срок первого платежа в двести тысяч франков. Негр едва мог дождаться заветного дня. Его планы не терпели отлагательства, а денег для их реализации не стало абсолютно. Заметим, кстати, что он действительно позаботился о здоровье госпожи Робен и ее детей. Несмотря на перенесенные тяготы и вынужденное затворничество, все они чувствовали себя прекрасно. Им обеспечили своеобразный дикарский комфорт и относительное изобилие в пище, во всяком случае, ни один, даже самый богатый, житель селения и мечтать о таком не мог. Диого, сознавая, сколько денег могут принести ему пленники, постарался устроить их поудобнее. Ведь теперь их здоровье — залог его благосостояния! Семья Робенов жила в просторной, хорошо проветриваемой хижине, к которой примыкал просторный, обнесенный частоколом двор, где в тени высоких ветвистых деревьев могли свободно резвиться детишки. К ним были приставлены две старые негритянки, несчастные, обездоленные, но не лишенные чувствительности создания, которые по приказу или из искренней привязанности оказывали пленникам всевозможные услуги. Скрытая от, возможно, неблагожелательного и уж наверняка бестактного любопытства местных жителей, вполне обеспеченная материально, жизнь француженки могла бы показаться вполне сносной, если б не тревога, висевшая над ней болезненным кошмаром. Через одну из негритянок ей удалось получить записочку, которую успел написать муж, покидая «Симон Боливар», и то письмо, что он передал с гребцами, но с тех пор полная неизвестность, она никого не видела, кроме служанок, потому что Диого категорически запретил ей навещать артистов. Бедняжка! Каким долгим казалось ей ожидание, какой слабой была надежда. И вот в тот момент, когда Диого в тревоге считал часы, оставшиеся до срока, — бандит боялся, что какая-нибудь случайность помешает ему получить деньги, — с окраины деревни, с конца улицы, пересекавшей все селение, раздались странные звуки. Тут же из хижин с шумом высыпали чернокожие и бросились бежать по улице, словно на пожар! Они толкали друг друга, прыгали, поднимая вверх руки, вопя то ли от восхищения, то ли от изумления, — словом, выглядели так, словно хватили лишку, хоть на этот раз и обошлось без спиртного. Вновь раздался неслыханный в этих местах звук. Его одного хватило бы, чтоб объяснить крайнее изумление обитателей деревни. Судите сами, дорогой читатель. Разве вы на их месте не удивились бы, услышав звонкий голос трубы и увидев, как совершенно неожиданно откуда-то появился целый взвод солдат? Это здесь-то, где о регулярной армии знали лишь из преданий! Диого, чья совесть не была чиста, вздрогнул при звуке воинственной фанфары, наспех вооружился, заткнул за пояс нож и револьверы и в тревоге выскочил из хижины, опасаясь вооруженной атаки. Какое там! Солдаты, впереди которых вышагивал трубач, были совершенно спокойны, а их малочисленный состав заставлял напрочь отбросить мысль о надвигавшемся возмездии. Их было всего десятеро, хорошо вооруженных, с ружьями и ножами, на поясе у каждого висела объемистая патронная сумка и сабля в кожаных ножнах. Босые, но опрятно одетые в штаны и рубахи из грубого полотна, в маленьких соломенных шляпах, они молча шагали по двое, четко соблюдая шеренгу, и отменной выправкой сильно отличались от индейцев тапуйя, которых кое-как собирало под знамена бразильское правительство, — те являли собой скорее карикатуру на солдат. Тем не менее это были индейцы, возможно, отборный отряд. Возглавлял их высокий крупный мулат, шагавший вразвалочку, в кепи с назатыльником, обведенным тремя золотыми галунами, в мундире с жарко сверкавшими пуговицами и высоких сапогах с серебряными шпорами. Он гордо нес обнаженную шпагу острием к плечу, прижав эфес к бедру, печатал шаг, глядя строго на пятнадцать метров перед собой, и лишь изредка оборачивался всем корпусом, чтоб осмотреть вверенное ему войско. И тогда эполеты на его плечах вздрагивали, а стальные ножны брякали. Короче, великолепный капитан, какого не стыдно было бы поставить во главе роты французского полка. Музыкант перед ним, одетый как простые солдаты, поднес к губам инструмент, надул щеки и затрубил изо всех сил, не слишком заботясь, впрочем, о благозвучности своей музыки. Вслед за трубачом, впереди отряда, шагали двое: один, судя по нашивкам на рукаве, сержант, нес небольшой белый флаг, символ мирных переговоров, а другой… Боже мой, где найти слова, чтобы описать другое, по всей вероятности, наиболее значительное в отряде лицо? С помощью каких слов и выражений обрисовать хотя бы его костюм, напоминавший одновременно одежду префекта, генерала и полномочного министра! Цилиндр с белыми перьями, тонкими и шелковистыми, как лебяжий пух, украшенный широким золотым позументом, был кокетливо сдвинут и низко нахлобучен на лоб удивительного персонажа. Обладатель цилиндра вышагивал, высоко подняв голову, с величественностью человека, сознававшего значительность возложенных на него полномочий. Мундир незнакомца из черного с синим отливом драпа явно был сшит у хорошего портного. Он застегивался на два ряда сияющих пуговиц на груди, расцвеченной самыми невероятными украшениями: нарядными бантами, сверкающими накладками и звездами. А уж золота, золота — в каждом шве, на каждом отвороте, со всех сторон, на воротнике — в виде замысловатой вышивки, на манжетах, на плечах, на спине, на фалдах… Пояс с пятью галунами поддерживал маленькую парадную шпагу с отделанной перламутром рукоятью, в полированных медных ножнах, с расшитой опять-таки золотой и шелковой нитью перевязью. Из-под брюк той же ткани, что и мундир, с широким слепящим глаза позументом выглядывали элегантные лакированные ботинки, поскрипывавшие при каждом шаге, словно их обладатель шагал по ковру дипломатического салона. Наконец, эполеты, затмевавшие солнце, придавали костюму военный колорит, — впрочем, человек сведущий узнавал «бойца» по одной лишь перевязи. Демонстрируя изящную белую перчатку, неизвестный опирался на зонт. Свободной же рукой крутил очки с золотыми дужками! И слегка затемненными стеклами. Что же до лица человека в столь смелом облачении, — впрочем, нельзя не признать, что носил он свой наряд с элегантностью и достоинством, — выражение его определить было бы сложно. Скорее, оно не выражало ничего. То была холодная, бесцветная, непроницаемая маска: короткая седоватая бородка скрывала щеки, верхнюю губу и подбородок — лицо истинного дипломата, не отражавшее ни в малейшей степени владевших им чувств. Невозможно описать наивное восхищение, изумление, потрясение, охватившее чернокожих при виде этой ослепительной персоны. Даже появление самого Диого, вырядившегося настоящим бандитом, не смогло оторвать их от увлекательного зрелища. Удивленный не меньше своих подданных, вождь остановился в нескольких шагах от отряда и вопреки обыкновению, не скрывая оторопи, принялся рассматривать по очереди парламентера, офицера, сержанта, трубача и, наконец, простых солдат. Потом, подавив изумление, вполне естественное в столь необычных обстоятельствах, Диого слегка пожал плечами, буркнул себе под нос по-французски «маскарад» и спросил по-португальски: — Кто вы такие? Что вам нужно? Офицер оглушительно скомандовал: «Стой!» — и взвод тут же замер на месте. Парламентер, не желая снисходить до ответов на столь грубо заданные вопросы, слегка махнул офицеру. Тот, подчиняясь, очевидно, установленному заранее церемониалу, обратился к собеседнику: — Кто тут старший? Мы будем говорить только с ним. — Старший я. — Вот как, сеньор… Благодарю. И, обращаясь к солдатам: — Готовьсь! На пле-чо! Ружья дружно брякнули. Музыкант поднес к губам инструмент и оглушительно затрубил. Пропела труба, и офицер продолжил: — Его сиятельство дон Педро Анавиллана, граф де Рио-Тинто, полномочный представитель его величества императора Бразилии, чрезвычайный посол его превосходительства министра иностранных дел, желает переговорить с вами по вопросу исключительной важности. — Замечательно, — все так же неприветливо отвечал Диого, — но я не являюсь подданным императора и хотел бы знать, вернее, хотел бы спросить вас, с какой стати он шлет мне… послание. — Если бы вы являлись подданным его величества, вас, без сомнения, вызвали бы в Макапу, то есть к нам… Мы же, как видите, сами пришли к вам… причем официально. — Что ж, верно! Хорошо, следуйте за мной. Приглашаю вас не во дворец, а в простую бревенчатую хижину, крытую листвой. Но вас встретят в ней гостеприимно, как подобает встречать иностранцев, особенно представителей державы, с которой не стоит ссориться. — Мирных представителей… — подчеркнул офицер. Парламентер же, продолжая хранить молчание, еще раз, словно автомат, взмахнул рукой, подошел к Диого и поприветствовал его, поднеся затянутый в перчатку палец к полям шляпы, а капитан скомандовал: — Напра-во! Вперед марш! Труба пропела сигнал, и маленький отряд двинулся в путь, в окружении обитателей деревни. Мужчины, женщины, дети, вращая фарфоровыми белками, гримасничая, бешено размахивали руками, обсуждая, по обыкновению эмоционально, последние события. «Какого черта нужно от меня этому разряженному в пух и прах паяцу из оперетты, — думал Диого, чье удивление продолжало расти. — Значит, меня знают… там!» Мысли его лихорадочно работали: «Как они могли сюда добраться? Да еще чистенькие и упакованные, словно только что из коробки! Должно быть, на Арагуари стоит военный корабль. Эти индейцы — настоящие солдаты, таких и в Макапе нет. Что ж, поговорим с парламентером… подозрительный тип, небось и знать не знает обо мне ничего, думает, я — забитый негритос. Тем легче будет его провести!» Тем временем они как раз подошли ко «дворцу» Диого. Тот вежливо пропустил вперед продолжавшего молчать гостя, а капитан тем временем следил, как его солдаты составляют ружья в ко́злы перед входом в хижину. Тут вождь, заподозрив что-то неладное и вообразив, может быть и не без основания, что речь пойдет о пленниках, пронзительно свистнул, призвав на помощь человек пятнадцать самых преданных своих сторонников. И, уже не стесняясь, словно речь шла о чем-то вполне естественном, громко приказал; — Окружите хижины пленников… И чтоб не отходили от них ни на шаг ни в коем случае. Если вдруг со мной что произойдет, приказ вам известен — никого не должно остаться в живых! И, повернувшись к незнакомцу, не без иронии добавил: — Теперь я к вашим услугам, господин полномочный представитель. Тот, сохраняя абсолютно бесстрастное выражение, снял перчатки, отбросил фалды мундира, уселся на грубо сколоченный табурет, поправил ножны со шпагой у левой ноги, тронул очки, сжав двумя пальцами дужки, легонько кашлянул и наконец заговорил: — Возложенная на меня миссия будет выполнена быстро и легко, если вы пожелаете проявить хоть каплю доброй воли. — В сухом невыразительном голосе дипломата было что-то механическое. — Вы умны… даже очень умны, и, что еще важнее, образованны. И потому без труда поймете меня. Вам лучше, чем кому бы то ни было, известны бесконечные раздоры между Францией и моей славной отчизной из-за Спорных Земель Гвианы. Диого вместо ответа кивнул. — Скажу без обиняков и пустых разглагольствований, мы считаем вас единственным человеком, способным положить этому конец. Парламентер надолго умолк, словно подыскивал нужные слова, на самом же деле он, вероятно, подогревал любопытство собеседника. — Каким образом? — не выдержал наконец тот. — Вполне вероятно, что Франция, сильно запутавшись в своих колониальных делах, еще долго не будет обращать внимания на одну существенную проблему, чрезвычайно важную для вас… и для нас. — Важную для меня проблему… с чего вы взяли? — Дорогой мой, не будьте так наивны. Неужели вы думаете, правительству Бразилии неизвестно то, что непосредственно касается ее интересов? Мы знаем все… и даже больше. И, поскольку Диого недоверчиво покачал головой, дипломат сухо осведомился: — Вам нужны доказательства? Могу подробно рассказать, чем вы занимались последний год, особенно три последних месяца, наиболее значительных для вашей жизни и… полных событий. Только к чему воспоминания? Хочу лишь заверить, что мы достаточно информированы о том, как вы, мягко выражаясь, препарировали своего предшественника, как саблей и штыком утверждали свою власть; как приютили беглых каторжников и решили их проблемы… скажем, хирургическим путем; как по вашей воле бесследно исчезают пароходы. Но, в конце концов, какое нам до всего этого дело! Разве цель не оправдывает средства, особенно если речь идет о власти? Впрочем, я здесь не затем, чтоб читать вам проповеди! — Так что же вам нужно? Не для того же, в самом деле, чтоб рассказать мою биографию, вы явились в район озер, в самое сердце Спорных Земель, куда по доброй воле не забредал ни один белый… — Не забредал, потому что ни за кем из них не стояло, как за мной, правительство, которое не допустит неподобающего отношения к своему представителю. Я продолжаю. Ваши планы, дорогой мой, не лишены, разумеется, ни оригинальности, ни величия. Может быть, они и до вас приходили кому-то в голову, но позвольте признать, что никто лучше вас не годится для их претворения в жизнь. Далеко не каждому по силам заселить эту не принадлежащую никому территорию, дать ей конституцию, объявить независимой, заставить соседние державы признать ее. Тем более что на пути возникнут огромные, непреодолимые препятствия. — Препятствиями меня не запугаешь, уж вам-то, знающему непонятно откуда обо мне все, должно быть это известно. — Следовательно, пропев вам дифирамбы[155], я могу теперь приступить к рассмотрению возможных осложнений. Вы одиноки, можете собрать не более шестисот воинов. — Не пройдет и двух лет, у меня будет армия в шесть тысяч. — Шесть тысяч бразильских дезертиров, которые немногого стоят, и французских ссыльных, не стоящих вовсе ничего. — Я сумею с ними справиться. — Подвергаясь постоянно смертельному риску? — К этому я привык. — Будь по-вашему. Но здесь не обойтись без денег. — Скоро я стану богат, — проговорил Диого, загадочно улыбнувшись. — Буду рад… А дальше что? На какую державу вы сможете опереться? Кто окажет вам покровительство? Кто признает официально? — Там видно будет. Сейчас главное — выжить. — Но вы же не существуете! Ваша будущая республика — дом без стен, ненакрытый стол, рама без картины! — Знаю, черт возьми! Только что я могу поделать? Может, вы знаете, господин полномочный представитель? — Я-то? Возможно. Например, я мог бы вам пообещать благожелательный нейтралитет Бразилии. — Это и в самом деле кое-что. — …Нейтралитет, который позволил бы вам получить официальную поддержку для организации эмиграционного коридора[156] со стороны губернатора провинции Пара. — Правда? — Вы сомневаетесь?.. — Простите! — …И который дал бы вам возможность вести легальную торговлю с названной провинцией. — Это было бы просто спасением. — Безусловно. — Только что вы потребуете взамен? Может, что-то немыслимое? — Нет. — А все-таки? — Взамен от вас потребуется неукоснительная поддержка исключительно — подчеркиваю, исключительно! — бразильского влияния. — Это можно, к французам я симпатии не испытываю. — Во всем и всегда ссылаться лишь на правительство его величества. — Обещаю. — И в свое время обратиться к Бразилии с просьбой о протекторате. — Все? — Разве еще лояльно относиться к личности и имуществу белых поселенцев, обосновавшихся на Спорных Землях или собирающихся тут устроиться. — Это в моих собственных интересах. — …Однако вы не всегда их соблюдали, — закончил поучительно парламентер. Последние слова неожиданно вызвали настоящую бурю, пробудив в Диого прежнюю подозрительность. Вождь внезапно побледнел, безобразное лицо его перекосилось, глаза налились кровью. Он вскочил и закричал сдавленным от гнева голосом: — Так вот в чем тайна вашего визита! А я-то, как ничтожный идиот, целых полчаса слушал пустые бредни. Признавайтесь, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, вы явились ко мне, чтоб силой или хитростью вырвать пленников? — Отнюдь, — все так же бесстрастно проговорил гость. — Не надейтесь, дружочек! Эти пленники для меня — раз уж вам все равно все известно — надежда на будущее… Выкуп за них — основа моего состояния, стены того самого дома, пища на столе, картина в раме. Скорей уж я разнесу вам голову, чем уступлю их… понятно? Терять мне нечего, наказания я не страшусь. — Не стоит ничего разносить, лучше послушайте. Вам не хватает хладнокровия, любезный. А трезвая голова — главное для будущего главы государства. Захоти я силой вырвать у вас госпожу Робен с детьми и трех французов, пассажиров «Симона Боливара», мне не стоило оставлять две с половиной сотни экипажа на корвете, доставившем нас в Арагуари. Я бы явился не с десятью индейцами, а с двумя десантными ротами. — Тогда все пленники по моему приказу были бы задушены. — А ваша деревня сметена с лица земли, мужчины расстреляны, женщины с детьми перевезены в Макапу. Вас же самого я приказал бы изрезать на мелкие кусочки и поджарить на вертеле. Так что успокойтесь и не пытайтесь мне внушить, что вы умней или сильней, чем есть на самом деле. Тем более что я желаю вам только добра. Садитесь, безумец, и слушайте. Диого, чей пыл охладел от ледяного спокойствия собеседника, напуганный к тому же присутствием военного корабля в Арагуари, продолжая недовольно бурчать, рухнул на сиденье. — А вот вам свидетельство моей доброй воли. Меня уполномочили передать в полное ваше распоряжение кругленькую сумму, равную приблизительно тому выкупу, который вы надеялись выручить за заложников. — Миллион?.. — Что-то вроде этого. — Наличными? — Наличными! Призна́юсь, это средства из… секретных фондов и предназначены, чтоб просто поддержать вас, помочь выкарабкаться, на условиях, изложенных мной выше. Думаю, теперь вы не станете возражать, если в частном порядке я попрошу передать мне пленных. Господин Робен от этого только выиграет, а вы ничего не потеряете. — То же на то же? — Именно так. — Когда? — Послезавтра. — Где? — В шалаше на Тартаругале, против горы. — Я буду там. — Не сомневаюсь. Вам и в дальнейшем не раз еще придется прибегнуть к нашей помощи, официальной и финансовой. Наше правительство богато, вам это известно, и умеет платить за услуги. Таинственный незнакомец как раз завершал свою речь, уточняя детали предстоящего обмена, как вдруг на улице раздался адский топот. Звериные крики, вопли, дикий смех создавали впечатление ужасающей какофонии. Диого обеспокоенно вскочил, не зная, что думать. Одним прыжком вылетел на улицу. И столкнулся с высоким негром, с которого ручьями катился пот. Чернокожий размахивал руками как одержимый и тряс за хвост убитого броненосца. Странное дело! Удивительное четвероногое, словно только что вылезло из-под золотого душа. Его чешуя блестела и сверкала на солнце, пуская солнечных зайчиков. Да и сам охотник походил на покрытого золотой пудрой божка из эбенового дерева, при каждом движении с него и с панциря животного обильно осыпалась на красный песок дорожки желтоватая пыль. Вокруг собралась толпа. Все возбужденно жестикулировали и кричали во всю глотку: — Сокровище!.. Сокровище отыскалось… Сокровище!
ГЛАВА 13
Безумная тяга негров к пляскам и охоте. — Последствия встречи с броненосцем. — Скорее лишится хвоста, чем даст вытянуть себя из норы. — «Беззубый» с зубами. — Секрет упорства броненосца. — Как победить это упорство простой щекоткой. — Загнанный в нору. — Подкоп. — Действие и противодействие. — Зловоние. — Труп. — Травля броненосца, сидящего в груде золота. — Сокровище отыскалось. — Диого пьян от радости. — Все пропало! — Инкогнито раскрыто. — Маркиз, Винкельман, Табира.В те далекие уже времена, когда люди черной расы и в Северной Америке, и в Южной могли быть только несчастными рабами, их развлечения не отличались большим разнообразием. И сводились эти редкие и достаточно утомительные утехи почти исключительно к танцам и охоте. После изнурительного труда негры возвращались в хижины. Проглотив скудный ужин, собирались вокруг того, кто принимался отбивать на незамысловатом барабане бесконечный однообразный ритм, и начинали бешено прыгать и вращаться. Их безумные пляски уже стали притчей во языцех. Когда рабам надоедало так скакать, они занимались охотой. Охотились так же, как плясали, с неистовством дикарей, взрослых детей, ни в чем не знающих удержу. Хозяева же одобряли пляски и разрешали охоту. Пока человек веселится, он не думает о плохом, то есть не пытается оспорить священный принцип власти и восстать против него. Отсюда и небескорыстная снисходительность белых, имевшая результатом усталость, а значит, и износ чернокожего рабочего скота. Впрочем, на охоту имелись ограничения, касавшиеся как снаряжения, так и дичи. Хозяевам предназначалась дичь благородная, нежная птица, право охоты сеньора строго охранялось. Негры могли отлавливать только неценных животных, при этом пользоваться огнестрельным оружием им категорически запрещалось. Однако, нисколько не сообразуясь с этими запретами, дядя Том сам выбирал себе объекты для охоты, то ли по вкусу, то ли оттого, что их легко было ловить примитивными орудиями, которыми он располагал. Это были енот, опоссум и броненосец. Невозможно описать все хитроумные приемы охотников-дикарей. Им приходилось бегать по лесу наперегонки с животным, карабкаться и срываться, имея в руках дубинку, топорик и лопату, соревноваться со зверем в коварстве, отваге и ловкости. Зато с каким торжеством вступали они в деревню, неся вожделенную добычу! Сколько было потрясающих по своей наивности рассказов, веселья, детского смеха — на целую неделю хватало. Времена изменились, изменились к лучшему, но, хотя чернокожие и являлись гражданами, избирателями, избираемыми, занялись худо-бедно политикой, предпочитая это занятие всему остальному, они все же унаследовали от своего прародителя-раба две страсти — к диким пляскам под барабан и охоте на енота, опоссума и броненосца. Что бы ни делали в данный момент чернокожие, стоило им только наткнуться на жестянку из-под топленого свиного сала или даже просто на ящик от вермута — и барабана не надо, их словно бешеная собака цапнула… Трам-там-там!.. трам-там-там!.. — и запрыгали, как козочки. Это воистину неодолимо. А если, явившись на сбор валежника или на стройку, негр замечал вдруг следы когтей броненосца, он забывал все, тут же бросал работу — и на тропу — вот тебе и охота. Даже если приходилось гоняться за зверем двое суток, негр не отступал и рано или поздно его ловил. Это уже был зов крови, наследственность, раса. Чернокожие подданные Диого отнюдь не составляли исключения из правила, напротив. Если не считать индейцев, относившихся, впрочем, абсолютно ко всему бесстрастно, в районе озер не было более упорных в преследовании дичи охотников. Так вот, в то самое утро, когда перед изумленным Диого внезапно предстал взвод солдат-индейцев с незнакомцем во главе, один негр, чье имя история не сохранила, узрел возле густых зарослей весело топающего по тропинке броненосца. Чутко дремавшая страсть немедленно проснулась в груди охотника. Это все равно как если бы завзятый ловчий вдруг увидел накануне праздника Всех Святых в двух шагах от себя старого кабана или оленя с ветвистыми рогами! Негр на мгновение застыл, словно статуя из черного дерева, потом тихонько поднял дубинку и приготовился шарахнуть изо всей силы зубастого по хребту. Но броненосец, хитрый, как старый енот, увернулся от удара и, задрав хвост, скрылся в зарослях. Охотник, быстрее, чем ветер, ринулся за ним следом. Вот он его нагоняет, ломится, как бизон, сквозь бамбук, вот уже совсем близко, хоть зверь и кружит вокруг логовища, вот сейчас он его достанет своей дубинкой, но фюить! — броненосец заметил дыру подходящего размера, может, даже собственную нору, раз! — головой туда, и был таков. Правда, скрылся он в норе не бесследно. И не весь. Хвост животного, заметим кстати, удивительное создание природы — сцепленные друг с другом костяные пластины, словно кольца для салфеток, все меньше и меньше, — этот хвост мелькнул на мгновение перед глазами обескураженного охотника. Разумеется, он за него ухватился и принялся отчаянно тянуть. Только впустую. Нет такой силы, которая вытащила бы броненосца из норы, он как живое ядро в жерле пушки. Для очистки совести негр еще раз поднапрягся, дернул, но потом раздосадованно проворчал: — Моя сломать хвост паразиту, а взять его нет. Лучше искать лопата и рыть его спальня. Сказано — сделано. Он выпустил хвост — тот тут же втянулся в нору, словно резиновый, — и резвой трусцой чернокожий припустил в сторону деревни. Пока охотник мчится за орудием, необходимым в ловле броненосца, скажем несколько слов об этом удивительном животном. Естественно-научные справочники сообщают нам: броненосец — млекопитающее семейства неполнозубых, — что, впрочем, не имеет ни малейшего значения. Уточним лишь термин «неполнозубые»[157], обозначающий в нормальной речи тех, кто отчасти лишен зубов, и звучащий в применении к броненосцу премиленькой шуткой. Вот уж кому несложно доказать обратное! Скорее, нужно было назвать его «зубастым». Ладно, пусть «неполнозубый» — не важно. Перейдем теперь к поистине самой удивительной характеристике зверя. Так уж распорядилась природа, что по меньшей мере странно, но это млекопитающее абсолютно лишено шерсти. Каждая особь, достигающая в среднем шестидесяти сантиметров без хвоста, покрыта броней — костяным щитом, состоящим из чешуй многоугольной формы, уложенных поперечными рядами. Короче, это своего рода кольчуга, чрезвычайно прочная и не лишающая зверя подвижности, как панцирь черепаху, а оставляющая ему полную свободу движений, не уменьшающая его ловкости. Броненосец по натуре довольно робок, у него маленькая голова, вытянутая, приплюснутая мордочка с глазами-буравчиками по бокам, мощное дородное тело, короткие крепкие ножки с очень прочными когтями. Это животное землероющее. Питается он земляными червями, улитками, насекомыми, яйцами, растительной пищей: маниокой, бататами, тыквой, маисом, но больше всего любит разлагающуюся падаль. Бык ли, лошадь или какой дикий зверь падет в саванне или в лесу, броненосец тут как тут. Почуяв запах, он немедля прорывает подземный ход, проникает тихой сапой внутрь туши и жадно пожирает ее, так что остается одна кожа. Совсем как та мышь в головке голландского сыра! Среди других его особенностей отметим, что он может приподнимать свои чешуйки, как дикобраз иглы. Но не тогда, когда на него нападают, — в такой момент это скорее повредило бы ему, чем помогло. А тогда, когда, застигнутый врасплох, он вынужден прятаться в норе, но не успевает убрать хвост. Тут-то он и ощетинивается, чешуйки впиваются наискосок в стены подземного коридора, зверь намертво застревает в нем, и вытащить его назад нет никакой возможности. Так же поступает броненосец, когда охотник, разрывая его ходы, гонит обитателя норы из галереи в галерею, а тот со сноровкой гигантского крота проделывает все новые. Ведь первое, что может выкопать охотник, — хвост. Человек хватается за него, тянет, и… ничего. Броненосец с помощью своих чешуй сливается воедино с землей. Вот почему негр, несмотря на всю свою мощь, не смог вырвать из убежища преследуемого зверя. Самое большее, на что ловец мог рассчитывать, — это оторвать броненосцу хвост. А между тем существует способ обойти упорство, которое невозможно сломить силой. Когда охотников двое, то один держит животное за хвост, а другой — находит тонкую веточку, затачивает ее и, просунув под приподнятые чешуйки, начинает щекотать кожу зверя. Тот не в силах противостоять этой чудесной ласке. Мускулы его расслабляются, броня опускается на место, сцепки больше нет. Он становится легкой добычей для преследователя. Конечно, охотник и один может воспользоваться этим оригинальным способом, но для этого ему нужно заранее запастись волшебной палочкой. У нашего же негра ничего под рукой не оказалось, потому он справедливо рассудил, что лучше сходить за помощью и необходимыми орудиями. У негров недостатков хватает, но к их числу никак не относится эгоизм, они всегда готовы разделить с ближним нежданную прибыль. Так и наш охотник не преминул поделиться с друзьями подробностями своей бурной, увлекательной охоты на броненосца. Первые же, кого он встретил по дороге и кому рассказал о происшествии, похватали лопаты и кирки и пустились вскачь с громкими криками к убежищу злосчастного млекопитающего. Их было человек двенадцать. И все они с ходу бросились копать землю, да с таким увлечением, какого ни за что не заподозрил бы в них тот, кто видел, как чернокожие обычно с прохладцей готовят поле под кукурузу, тростник или маниоку. На месте отверстия, в которое юркнул броненосец, мигом образовалась широкая глубокая траншея. Чудо, да и только, — земля буквально таяла под инструментами! Очень скоро сквозь песок и гравий стал просачиваться смрад. Зловонный дух разлагающейся плоти распространился вокруг. Еще один взмах лопаты, и открылись части полусгнившего трупа, вперемежку с обрывками шерстяной одежды. Землекопы, которым была и раньше хорошо известна отвратительная приверженность броненосца разлагающимся останкам, заработали с удвоенной силой, не обращая никакого внимания на зловещую находку. Мелькали лопаты и кирки, выбрасывая из траншеи куски распавшегося трупа. Броненосец!.. Где броненосец?.. Животное, которому охотничий пыл преследователей не оставлял никакой надежды на спасение, снова нырнуло под землю и принялось рыть новый ход, работая когтями и мордой. На мгновение оно показалось на поверхности и опять исчезло. Природа заботливо снабдила зверя всем необходимым для подземной жизни. Впрочем, его длительное сопротивление, разъярившее негров, подходило к концу. Может, животное устало от бессмысленной борьбы, исход которой известен заранее? Или у него на пути оказалось твердое препятствие, с которым оказались не в силах справиться его когти? Так или иначе, броненосец вдруг перестал рыть. Из песка и камней показался кончик хвоста. Один из охотников схватил его, а другие тем временем продолжали раскапывать все вокруг. Еще усилие, и громкое «ура» известило о том, что ставшее беззащитным четвероногое попалось. Но вслед за криком радости раздался другой возглас, в котором слышалось что-то дикое, страшное, неизъяснимое. Перед изумленным взором охотников предстало то, на что наткнулось несчастное животное. Охваченные чувством, близким к ужасу, негры узнали корзины из волокон арумы, наполненные песком и самородками. Броненосец, в безнадежной попытке прорыть ход дальше, порвал когтями одну упаковку и почти целиком залез в золотые песчинки, самого разного размера и формы, начиная с самородка величиной с абрикос и кончая почти неосязаемой пылью. Так что теперь он сверкал, как золотая фигурка, как резной индейский фетиш[158] древних времен, как драгоценность из дворца Эльдорадо![159] Удар лопатой, и зверь застыл, отчего стал еще больше похож на изваяние из драгоценного металла. Неграм даже в голову не пришло присвоить себе любую, самую незначительную часть сокровища. Мало того, что при таком числе участников довольно сложно разделить клад на равные части, но и сохранить все в тайне тоже становится почти невозможно. Как его взять? Как достать из-под земли? Как потом уйти из деревни? Куда? Тут же ужасная тень Диого ворвалась в мечтания, которым предались ненадолго охотники, и немедленно возвратила их к реальности. С другой стороны, что такое в самом-то деле золото? Если умеешь им пользоваться, — это водка, сушеная рыба и табак. Вождь наверняка не поскупится для тех, кто нашел такой клад. Водка будет литься рекой, рыбу раздадут с невероятной щедростью, а табачный дым станет таким густым, словно горит саванна. — Пойдем к вождю, расскажем. Сказано — сделано. Охотники собрали инструменты, тот, кто первым обнаружил броненосца, схватил его за хвост — каждому свое, — и пустились вприпрыжку обратно в деревню, вопя на ходу: «Сокровище!.. Сокровище!» Вот откуда тот страшный шум, который раздался, когда переговоры Диого с полномочным парламентером подходили к концу. Хотя негры склонны к многословию и любят приукрашать свои рассказы бесконечными разглагольствованиями, вождю хватило нескольких слов, чтоб понять все, начиная с истории преследования броненосца, охоты на него и кончая обнаружением тайника мулата, до сей поры скрытого от всех. Диого ощутил озноб, глаза его сверкнули, а лицо на минуту озарило выражение счастья. Он умел управлять собой, но сейчас готов был закричать, замахать руками, запрыгать, готов был нести любую чушь! Однако присутствие невозмутимого, как и прежде, гостя, привело его в чувство, он подавил свой бесконтрольный порыв. — Черт возьми! — произнес он несколько взволнованно, стараясь придать голосу любезность. — Если б я был суеверным, я бы решил, сеньор, что это ваше неожиданное появление принесло мне удачу. — Что вы имеете в виду? — спросил бесстрастно парламентер. — Что мои люди только что странным, невероятным образом обнаружили сокровище, добытое когда-то тяжелым трудом и загадочно исчезнувшее. Вы принесли мне миллион, а я только что нашел еще один. Так что ваш приезд для меня вдвойне приятен. — Ничего не понимаю. — Черт побери, я и сам с трудом верю в то, что такое может быть. Извините, я должен ненадолго оставить вас, чтоб сходить посмотреть на клад. Я тотчас же вернусь. Или, может быть, вы хотите сопровождать меня? — Нет! Занимайтесь спокойно своими делами. Я подожду вас тут. — Как будет угодно вашему сиятельству… До скорой встречи! Оставшись в одиночестве, бесстрастный до тех пор, как кусок мрамора, дипломат вдруг тяжело вздохнул, резко поднялся, в отчаянии ударил кулаком по грубому деревянному столу, снова сел, вытер со лба струящийся пот и глухо прошептал: — Все потеряно! Но ведь его могут увидеть снаружи. Недоверчивый вождь уж, наверное, оставил кого-нибудь следить за ним. Преодолев охватившее его волнение, он снова сделал бесстрастное лицо, поправил очки и начал обмахиваться шляпой, словно вновь обрел спокойствие. Солдаты-индейцы, небрежно растянувшись возле составленных в козлы ружей, не сдвинулись с места. Неподвижным остался и офицер, сидевший под хлебным деревом. Ни один житель не вышел из своей хижины — таков был приказ. Диого взял с собой только человек десять негров с корзинами и землеройными инструментами. Прошло всего полчаса, а он уже, торжествуя, вернулся в деревню впереди тяжело нагруженных помощников. — Э-гей! Приветствую вас, ваше сиятельство! — громко крикнул он, заходя в хижину. — Действительно, это оказалось мое золото, похищенное неверным должником и спрятанное в таком месте, где его никому не пришло бы в голову искать, если б не броненосец, которого привлек труп беглого каторжника из Кайенны. Подумать только! Останки закопали всего в нескольких шагах от сокровища, а могильщики даже не подозревали об этом. Надо было случиться такому — броненосец прорыл ход, стараясь убежать от преследователей, и влез прямо в эти милые безделушки. Ну не чудо ли? — В самом деле, чудо, — ответил министр слегка изменившимся голосом. — Вот находка так находка… Каждый из них принес сейчас больше тридцати килограммов золота… Пусть будет тридцать три: их десятеро, получается приблизительно миллион. — От всего сердца поздравляю вас, любезный. Но, думаю, такая удача ни в коей мере не изменит наших планов. — Разумеется нет, скорее наоборот. Черт возьми! Денег не бывает слишком много… Они нужны мне как никогда, равно как доброжелательный нейтралитет бразильского правительства. Удовлетворившись таким заверением, министр, считая свою миссию выполненной, по крайней мере на этот час, собрался распрощаться с чернокожим хозяином. Тому самому не терпелось припрятать понадежнее сокровище. Парламентер поднялся, окликнул офицера, по-прежнему сидевшего в тени хлебного дерева, тот скомандовал дремавшим солдатам. Ружья разобраны, строй восстановлен. Маленький отряд тем же порядком, правда, в обратном направлении, прошествовал по деревне. Диого и парламентер расстались внешне вполне сердечно, назначив новую встречу через три дня. Трубач протрубил поход, и на сигнал сбежалась вся деревня. Жители казались теперь еще взволнованней, еще нетерпеливей, чем при появлении отряда. Наконец министр, офицеры, солдаты исчезли за густыми деревьями. Следовать за ними никто и не подумал. Необычная находка и ожидание щедрого вознаграждения со стороны Диого лишили жителей желания провожать редких гостей. А мы с вами их проводим. Они подошли к бухте, служившей обычно началом водного пути на юге, где их ожидала большая пирога с бразильским флагом на корме, молча сели в нее. Солдаты, превратившись в гребцов, мощно и слаженно заработали веслами. Только тут министр прервал молчание, которое из предосторожности хранил всю дорогу от хижины. Лодок поблизости нет, они одни, слежки опасаться не приходилось. Такой спокойный еще миг назад, человек вдруг разразился бешеными проклятиями, задергался и закричал, на этот раз по-французски, совершенно изменившимся голосом: — У, проклятье! Чтоб им всем провалиться в тартарары! Все пропало, Винкельман! — Почему вы так говорите, господин Маркиз? — спросил офицер, расстегивая мундир, чтоб сменить его на полотняную куртку. — Потому что это истинная правда, дружище. Вот уж поистине дьявольское стечение обстоятельств! Сокровище было так хорошо спрятано, и я так рассчитывал на него, чтоб вызволить через три дня пленников! — Злая судьба! — Поневоле начнешь сомневаться во всем, и в самом себе тоже. Ведь все было продумано до мелочей, шло как по маслу!.. Надо же! Хитрого, недоверчивого мерзавца удалось провести, и все равно в последний момент все сорвалось! — Да уж точно, стоило вымазываться в противной патоке, чтоб превратиться в мулата, задыхаясь в этой сбруе, а в результате упустить возможность свернуть негодяю шею. — Думаете, мне́ маскарад был в радость? Правда, костюм сельского аптекаря сделал меня неузнаваемым, да что толку? — Что делать, господин Маркиз? После драки кулаками не машут. У нас хватит денег, чтоб господин Шарль сделал первый взнос. — Это, конечно. Но он сумеет купить свободу лишь одного из своих детей. Если б не злосчастное стечение обстоятельств, они через три дня были бы все на свободе! Ей-богу! Будь нас не четырнадцать человек, а хотя бы пятнадцать и стой действительно в Арагуари, как ясказал мошеннику, военный корабль, впору было бы воспользоваться всеобщим пьянством в проклятой деревне и ворваться в нее с боем… — Перевернуть там все вверх дном и отбить заложников! Точно. А ты как думаешь, Табира? Сидевший на корме с рулевым веслом сержант невозмутимо поднял голову. — Я поступлю так, как скажут белые; но будь моя воля, я сжег бы дотла проклятую деревню и изжарил негров прямо в их хижинах, — ответил индеец, презрительно сплюнув. — Однако будет лучше вернуться к хозяину. — Да, ты прав. Без его согласия мы не должны ничего предпринимать. Слишком страшны могут быть последствия нашей неосторожности. Прибавьте ходу, ребята. Гребите веселей.
ГЛАВА 14
Необходимые разъяснения. — Как эльзасец выполнил полученные инструкции. — Бой. — Первые встречи. — Неожиданное столкновение. — Как наряд Винкельмана воодушевил Маркиза. — Актер собирается разыгрывать настоящую пьесу. — Автор и исполнитель. — В Марони. — Подготовка к экспедиции. — В путь на Арагуари. — Сквозь чащу. — Один в шалаше на Тартаругал-Гранде. — Загадочные шорохи. — Изумление. — Все вместе. — Рухнувшие планы. — Как Маркиз собирался разрешить все проблемы одним выстрелом. — Не явился!Какие же события могли свести вместе Маркиза, так успешно перевоплотившегося в парламентера, якобы посланного правительством его величества дона Педро, Винкельмана, прозванного Шоколадом, и индейца Табиру? Вероятно, проницательный читатель уже обо всем догадался. А потому мы ограничимся очень кратким описанием этих событий, буквально несколькими строчками. Вы, конечно, помните, что Шарль Робен, прежде чем сесть на корабль «Симон Боливар», где уже находились артисты, оставил бо́льшую часть суммы, одолженной французским коммерсантом, эльзасцу и простился с ним в Паре. Тот должен был истратить деньги к их взаимной пользе, а затем отправиться в Арагуари на каучуковую плантацию, там индеец собирал оставшихся в живых работников, чтоб обсудить с ними все, что касалось возвращения Шарля в Тартаругал-Гранде. С помощью того же коммерсанта Винкельман купил бот и нанял несколько придирчиво отобранных его соотечественником матросов; потом тщательно снарядил маленькое судно, приобрел великолепные ружья, лучшие из тех, что были в Паре, и большое количество патронов к ним на случай, если придется этими ружьями воспользоваться. Решив в случае необходимости сыграть роль бразильского офицера, действующего от имени местной власти, чтобы произвести эффект посильнее на забитых жителей приозерной деревни, он сшил себе великолепную форму армейского капитана и на всякий случай заказал двенадцать комплектов амуниции для рядовых. И спешно отбыл в Арагуари. Добирался Шоколад довольно долго, но без приключений. Табире, уже давно находившемуся на боевом посту, удалось собрать нескольких бывших работников плантации, бродивших вокруг по лесам со дня бедствия. Остальные выжившие негры и индейцы с женами и детьми поднялись к верховьям реки, за водопад, где могли чувствовать себя в безопасности. Их несложно было найти, когда понадобятся. Табира и эльзасец вдоволь насовещались и решили доплыть на боте до фазенды, владелец которой так участливо отнесся к Шарлю, когда тот лишился плантации. Здесь они обосновали генеральный штаб, после чего со всеми возможными предосторожностями направились к приозерной деревне, готовые в любой момент применить силу, если непредвиденные обстоятельства помешают переговорам. Винкельман, у которого еще оставалась кругленькая сумма, взял на себя смелость вернуть фазендейро деньги, занятые хозяином, чем окончательно убедил того в своих добрых намерениях. Так у Шарля появился еще один ревностный сторонник. Эльзасец знал, что в деревне находятся беглые каторжники, и, боясь быть узнанным, прибег к хитрости — натер лицо, руки, тело темным древесным соком и превратился в мулата. В таком виде он отправился с Табирой и еще двумя индейцами поближе к деревне, оставив бот, экипаж и тех работников, что были с ними, на фазенде. Около недели бродили они в окрестностях Мукамбо, изучая порядки местных жителей, знакомясь с окрестностями и пытаясь, правда напрасно, связаться с госпожой Робен. Дважды Табира заходил в деревню средь бела дня и доставил чрезвычайно ценные сведения о расположении хижин. Потом эльзасец с неслыханной дерзостью и отвагой явился к торговцу водкой, выдавая себя за беглого солдата из Макапы, благо знал португальский язык. Благодаря щедрости, в буквальном смысле пролившейся на посетителей лавки, эльзасец был принят превосходно и спокойно удалился, сказав, что идет за товарищами, которые прячутся неподалеку в лесу. И тут он чуть все не испортил от неожиданности, потому что оказался нос к носу с Маркизом. Шоколад прекрасно запомнил его в лицо, хотя видел совсем недолго, когда тот поднимался вместе с Шарлем на борт «Симона Боливара». — Господин Маркиз, — прошептал эльзасец и сделал молодому человеку знак следовать за ним. — Кто это? Кто меня позвал? — Артист был страшно удивлен, увидев перед собой совершенно незнакомого мулата и услышав французскую речь. — Тс-с-с! Тише! Ни слова больше, ни жеста. Доверьтесь мне… Я не мулат, а загримированный белый… из команды господина Шарля Робена… Вы вместе плыли на «Симоне Боливаре». Вспомните… Я помогал вам грузить багаж. — Прекрасно помню. Идите прямо… Вон туда, в кусты!.. Я найду вас, как только смогу. Винкельман вразвалочку удалился, не сумев сдержать сетований, его, к счастью, никто не слышал. — Господи Боже мой!.. — бормотал Шоколад, силясь понять, как этот человек, которого он оставил с господином Шарлем на пароходе, оказался вдруг тут. — Какая еще беда приключилась? Что стало с хозяином? Ему не пришлось долго мучиться неизвестностью. С некоторых пор артисты пользовались относительной свободой и могли беспрепятственно передвигаться в определенных пределах. Поэтому Маркизу удалось, не вызывая подозрений, отлучиться и вскоре разыскать в зарослях эльзасца. Их первая, вынужденно краткая, беседа свелась к тому, что они рассказали друг другу, в каком находятся положении. И тут же расстались, назначив новую встречу, чтоб выработать план спасения. Легко представить себе, куда увело актера за три дня между этими встречами воображение, какие фантастически смелые проекты оно подсказывало ему. Проекты, которые могли бы обеспечить карьеру полудюжине драматических исполнителей и такому же количеству театральных директоров! Правда, здесь была истинная трагедия, а не вымысел. Ни тебе рампы, ни трюков, ни декораций. Каждый должен был играть свою собственную роль, по-настоящему рискуя жизнью, сражаться оружием, какого не найдешь в магазинах бутафории, и пасть под невыносимыми пытками, если пьеса провалится. Здесь не могло быть речи об относительном успехе. Победа или смерть. Но, с другой стороны, какая удача для прирожденного актера сыграть в подобной драме, какая страница в артистической карьере! Интересно, как справился бы с его партией любой из обладателей высших премий Консерватории? Вот так — без освещения, без публики, без оркестра, без написанной на бумаге роли, без суфлера! Словно луч солнца сверкнул сквозь тучи, когда Винкельман поделился с ним своей мыслью нарядиться мулатом, капитаном бразильской армии при исполнении служебных обязанностей. В его чемодане и в саквояжах друзей-актеров хранилось несколько фантастических костюмов, которые можно было приспособить по необходимости к любому репертуару. Порывшись в багаже, он собрал, себе на удивление, элегантный наряд, который мы уже подробно описали в предыдущей главе и который ввел в заблуждение даже такого пройдоху, как Диого. Фальшивая борода, украшения, шпага, очки — Маркиз использовал весь бутафорский арсенал. Потом артист тщательно обдумал роль, отработал жесты, осанку, — короче, постарался вжиться в образ. Он станет бразильским министром и прольет бальзам на сердце Диого, заставив честолюбца оседлать любимого конька. Пообещает от имени правительства миллион золотом и достойно удалится, как и полагается посланцу мощной державы. Потом ночью вернется туда, где зарыто сокровище, рядом с останками казненного Геркулеса, выроет золото с помощью людей, которых привел с собой эльзасец, переправит его на бот и передаст Диого в качестве выкупа за заложников. Согласитесь, для прирожденного комедианта, виртуоза интриги и в то же время человека добрейшей души — сочетание нередкое — каким был Маркиз, представился уникальный случай украсить свою артистическую карьеру! Обвести вокруг пальца проходимца, заплатить ему его же золотом! Одурачить, как простофилю в комедии, и благодаря пресловутым плутням честнейшего Скапена[160] освободить пленников! Это ли не феерический замысел?! Друзья актера Фриц и Раймон присоединились к нему и одобрили проект в целом и каждую деталь в отдельности. Вечером того дня, когда заговорщики встречались в третий раз, Маркиз аккуратно уложил в корзину свой костюм, обернул шпагу маисовой соломой, обнял друзей и пошел туда, где его ждали Винкельман и Табира. Мы уже знаем, с каким блеском и мастерством была исполнена первая часть замечательной комедии; и как самый злосчастный случай разрушил надежду на казавшееся уже таким близким освобождение.
__________
Но давайте вернемся в Марони, в «Добрую Матушку», где несчастный Шарль обсуждал с отцом и старшим братом план вызволения своей семьи. Предложение Анри — вы помните, он внес его, как только Шарль поведал о бедах, постигших обитателей плантации на Арагуари, — было принято без возражений, и теперь они готовились к его осуществлению. Время торопило. Нельзя было терять ни минуты, срок в три месяца слишком короток для таких огромных расстояний и столь несовершенного способа передвижения. Прежде всего нужно было как можно быстрее раздобыть побольше золота. Робен-отец на следующий же день отправился на прииск с дополнительной бригадой рабочих, чтоб увеличить добычу. С этой стороны все было в порядке. Получая около килограмма золота в день, они должны были быстро собрать сумму для первого взноса. Анри тоже не сидел сложа руки. Он отобрал из многочисленных работников хозяйства тридцать негров, рассчитывая создать из них боевой отряд. Практически можно было взять любого — все крепкие, стойкие физически и морально, они по большей части родились или, во всяком случае, выросли возле «Доброй Матушки», на каждого можно было полностью положиться. Отличные охотники, умевшие управляться с огнестрельным оружием, гребцы, которым не было равных, знатоки местных лесов, передвигавшиеся в тропических джунглях не хуже хищников, способные перенести любые, самые тяжелые и опасные переходы, непьющие — качество для негра неоценимое, — отважные и хладнокровные. Преданные своим хозяевам, которые научили их трудом делать жизнь приятной, заставили почувствовать себя людьми. Таковы были негры бони, не возникало сомнения, они выполнят все, чего от них ждут, и даже больше. А предстояло им, несмотря на немногочисленный состав, с ходу захватить оплот бандитов на Спорных Землях. Пока же главное было дисциплинировать бойцов, чтоб сделать отряд безупречно боеспособным. Известно, каких чудес можно добиться дисциплиной от даже самых посредственных исполнителей. Разве не благодаря правильному командованию, например, нашим сенегальским стрелкам[161], вчера совсем диким, удается так действенно помогать солдатам морской пехоты и сдерживать орды варваров, превосходящие их по количеству в десять, пятнадцать и даже двадцать раз? Кроме того, Шарль твердо и не без основания рассчитывал, что немалую помощь ему окажут Винкельман, Табира и те индейцы и негры, которых удастся собрать на Арагуари. Они выступят двумя отрядами, предварительно согласовав план боевых действий, и сметут все преграды. Важны напор и четкость в выполнении приказов. Вот этого и предстояло добиться от будущих солдат. Однако давайте лучше перенесемся в тот день, когда подошла пора выступать в поход. Не стоит больше задерживаться на частностях. В три недели все было готово, с таким рвением стремился каждый приблизить этот миг. Золотые прииски не обманули ожиданий, добыча оказалась богатой. Восемь слитков, каждый по восемь килограммов триста тридцать четыре грамма, общей стоимостью двести тысяч шестнадцать франков, упаковали еще теплыми, едва успев остудить после отливки, и сложили в надежный сундук из фиолетового дерева (род палисандра[162]). Бойцы тоже были на высоте. Они обладали теперь достаточной для такой операции военной выучкой. Беспрекословно выполняли приказы командира и хорошо владели скорострельным оружием. Необходимые запасы были перенесены на причал и погружены на чудесную грузовую шхуну водоизмещением пятьдесят тонн, которую специально для этого доставили с поста Альбины через водопад Эрмина. Оружие, боеприпасы и сундук со слитками были сложены в капитанской каюте. Подошел час отплытия. Работники хозяйства, мужчины, женщины, дети столпились в Кокосовой бухте. Целая флотилия пирог, которые должны были доставить отряд на шхуну, стоявшую на якоре километрах в сорока, была готова к отправлению. Последние рукопожатия, звучные поцелуи, затаенная тревога на обычно веселых черных лицах, слезинки на щеках… Командиры безжалостно отослали жену Анри обратно в дом, чтоб избежать тяжелой сцены прощания. Все должны были, хотя бы со стороны, выглядеть так, словно им неведомы человеческие слабости. Через два часа добрались до шхуны, за десять минут погрузились. И тут же отплыли, нужно было использовать благоприятный момент — пик прилива и добраться по высокой воде до устья Марони. Две недели спустя шхуна вошла в устье Арагуари, совершив длительный, но спокойный переход. В первой части романа мы уже объясняли, почему скорость передвижения была так низка, — направление ветров и течений с юго-запада на северо-восток существенно осложняло навигацию, уж не говоря о том, что водопад Эрмина отделяло от Арагуари более девятисот километров. Подошли к Апуреме. Здесь, у слияния двух рек, тайно ночью сошли на берег старший Робен, его сын Анри и Никола, их доверенное лицо, парижанин, не расстававшийся с Робенами с самого их приезда в Гвиану. Предстояло пешком добраться до приозерной деревни. Сложности передвижения в тропическом лесу в расчет не принимались. Да какое, в самом деле, могли иметь значение для этих закаленных жизнью на экваторе людей болота в низинах, зловонные туманы, сеющие лихорадку, тучи мошки, терзающей день и ночь путников; что особенного в том, что приходилось переходить реки вброд, пробираться сквозь джунгли, в жару, под дождем, не считаясь с усталостью. Каждый из них нес на себе оружие, гамак и тридцать килограммов провизии, но шагал при этом так свободно, словно вышел прогуляться налегке. План был разработан во всех деталях, многократно обсуждался и теперь подлежал неукоснительному исполнению. Командиры сверили часы, и шхуна, а в ней Шарль и два негра, поплыла дальше к фазенде на Апуреме. На фазенде Робен нашел бог Винкельмана и его экипаж, состоявший из индейцев. Они терпеливо дожидались там возвращения эльзасца, отправившегося на разведку с Табирой и небольшим отрядом, прибывшим из Пары. Шарль, полностью доверявший преданным помощникам, знал, что они будут проявлять осторожность и не предпримут ничего такого, что могло бы поставить под угрозу сложную операцию. Со своей стороны, он постарался прибыть в назначенное место на два дня раньше срока. Поскольку молодой человек лично не должен был вести никаких боевых действий, он собирался взять с собой на пристань только двух негров, остальное — дело отца и братьев. Он решил, что люди Винкельмана непременно выйдут в окрестностях приозерной деревни на отряд отца. В таком заключении не было ничего сверхъестественного — не могло же, в самом деле, случиться так, чтобы опытные следопыты находились совсем рядом и не обнаружили друг друга! Табира не раз сопровождал Шарля в Марони, он прекрасно знал его семью и многих бони. Индеец получит от Робенов соответствующие указания, а его отряд поступит в их распоряжение. Шарль, веря в успех, сел в пирогу и на этот раз не спеша проделал тот же путь, что и три месяца назад. Он прибыл на место за день до назначенного Диого числа и устроился в одиноко стоявшем шалаше. Медленно потянулись томительные часы ожидания. Одиночество делало их еще тягостнее. Серингейро еще утром отослал негров на вершину холма, дав им задание разжечь большой костер и всю ночь его поддерживать. И теперь, оставшись наедине с собой, Шарль сидел в гамаке, одолеваемый мучительными думами о родных. Погруженный в свои терзания, он не чувствовал укусов висевших над ним тучей москитов, забыл о голоде и тогда лишь обнаружил, что наступают сумерки, когда в лесу завопили обезьяны-ревуны. Вдруг Шарль вздрогнул. Его чуткое ухо человека, близкого к природе, обнаружило среди тысяч шумов, образовывавших симфонию пробуждавшегося леса, один, который не вписывался в ночные шорохи. Словно слабый шелест травы, по которой проводили чем-то металлическим. «Похоже, идут люди, — решил Шарль и инстинктивно взялся за револьвер. — Я здесь один, практически беззащитен. Скорее всего этот негодяй решил меня просто обчистить. Да нет, не может быть. Ему же важно получить весь выкуп целиком». Осторожно, как настоящий индеец, молодой человек выскользнул из гамака, тихонько покинул шалаш, скрылся в зарослях юкки[163] и стал ждать, скорее с любопытством, чем со страхом. Ночь сгустилась. Вскоре на ставшем невидимым холме вспыхнуло и весело заиграло пламя, раздвигая мрак на горизонте. Шорохи стали отчетливей, скрежет металла слышался все чаще. — Черт побери! — произнес чей-то звонкий голос по-французски. — Совсем стемнело. Я уж боялся, что мы сбились с пути. А вон и сигнал, дружище Винкельман. — И шалаш тут, дорогой Маркиз. Господин Шарль должен быть рядом. — Винкельман!.. Маркиз!.. — закричал Шарль, вне себя от изумления. — Неужто это и впрямь вы?.. — Как видите, дорогой мой благодетель. А точнее, хоть вы и не видите, — ответил Маркиз, пытаясь на ощупь отыскать руку Шарля. — Друзья мои!.. Дорогие мои!.. Что же происходит? — Пока ничего страшного не случилось. Простое невезение. Я со своими друзьями-актерами отыскал возле проклятой деревни настоящее сокровище из «Тысячи и одной ночи». И хотел отдать его черномазому мерзавцу в обмен на свободу вашей семьи. Придумал, скажу без ложной скромности, отличную комедию, чтоб все это получилось, но самое невероятное стечение обстоятельств сорвало мои планы. Потом расскажу поподробнее. Насчет госпожи Робен и детей не беспокойтесь, все живы и здоровы. Дело идет к тому, что уже завтра вы сможете увидеть свою очаровательную семью в полном сборе. — Завтра? — прервал его, не удержавшись, Шарль, вне себя от изумления. — Да, завтра. Я расскажу вам обо всех наших невероятных приключениях, только сначала устрою людей, они буквально падают с ног от усталости. — Каких людей? — Ну Винкельмана вы знаете прекрасно, индейца Табиру тоже, а еще с нами целый взвод краснокожих, вооруженных до зубов. Жаль, что нельзя зажечь огонь. И свечи́ у нас нет ни одной, и, главное, благоразумнее оставаться в темноте. Да ладно. Подумаешь, важность. Устроимся как-нибудь. Сейчас поставлю часовых — кто знает, что может случиться? — и я в вашем распоряжении. Быстро и тихо, как опытный следопыт, молодой человек отдал необходимые распоряжения и едва слышным шепотом начал свой рассказ.Шарль выслушал его до конца, ни разу не перебив. — Таким образом, вы считаете, — сказал он, когда Маркиз остановился, — что этот негодяй, рассчитывая получить весь выкуп целиком, приведет сюда или пришлет с кем-нибудь мою семью? — Уверен, он явится сам. Диого не доверит никому такую кругленькую сумму. — Господи, но что будет, когда он поймет, что у вас нет этого проклятого золота? — Нас здесь, вместе с вами, четырнадцать молодцов, мы отлично вооружены, да еще два негра, которые поддерживают огонь на холме. Уже шестнадцать. Отряд будет прятаться неподалеку и налетит на него, как ураган. — А если с ним явится целая банда мерзавцев? Что мы сможем сделать, даже прекрасно вооруженные и полные отваги, допустим, с сотней бандитов? Тут нельзя надеяться на случай. — Мы можем напасть на него в последний момент. Сначала вы будете один, спокойно приступите к переговорам. И тут уж одно из двух! Если мы увидим, что с ним целое войско, то так и останемся сидеть в кустах. Тогда вы передадите ему ту сумму, что успели собрать, и он решит, что я опоздал из-за плохой дороги, раз меня нет на месте. Другой вариант, если силы будут примерно равны. Тогда я выйду в костюме парламентера, заведу беседу, скажу, что миллион там, в пироге, а потом достану из кармана револьвер и попросту разнесу ему голову. Этот выстрел будет сигналом для наших бойцов. Они набросятся на отряд Диого, производя как можно больше шума, будто их человек сто, и, воспользовавшись сумятицей, сомнут всякое сопротивление. Шарль, почти убежденный, собирался уже согласиться с этим планом, тем более что не видел ничего лучше. Но тут он вспомнил об отце и брате. — Как я мог забыть? — проговорил он сдавленно. — Завтра в полдень отец будет атаковать деревню, чтобы любым способом освободить мою жену и детей. Как же так? Моих приведут сюда, не исключено, что с ними будет столько бандитов, что мы и поделать ничего не сможем. А тем временем отец и брат будут подвергаться ненужному риску… Да и что будет с моей семьей, если ее приведут назад в разрушенную деревню?.. Я дрожу при одной мысли о последствиях! Действительно, изобретательность и логика Маркиза оказались бессильны перед ужасной альтернативой. Оставалось надеяться на одно, что с Диого придет не слишком большая команда. Или, может быть, Робены, поняв, что пленников под охраной уводят куда-то в неизвестном направлении, последуют за ними? Увы! На это трудно было рассчитывать. Между тем их предположения оказались ошибочными. Перебрав, казалось бы, все возможные варианты, они не додумались до одного-единственного. Впрочем, это было почти невероятно. Они не предусмотрели тот случай, что Диого может вовсе не явиться на встречу. Можете представить их удивление, переросшее позже в тревогу и ужас, когда на следующий день негр не пришел ни утром, ни вечером и не прислал никого вместо себя. Шарль словно потерял рассудок. Что за загадочная и страшная причина задержала бандита? Какое еще несчастье ждет его семью? Спутники молча смотрели, как он мучается неизвестностью, не в силах помочь, и чувствовали, что их сердца разрываются от боли. Им слышались там, за темной завесой гигантских деревьев, глухие, беспорядочные, едва слышные удары, словно далекие выстрелы.
ГЛАВА 15
Почему Диого не оказалось на причале. — Тайник для сокровища. — Что может произойти, если дерево упадет на пирогу. — Трапеза для кайманов. — Выстрелы. — Робинзоны атакуют деревню. — Хитрая тактика. — Перед оградой. — Битва. — Штурм стен. — Две мегеры. — «Анри, защищай мать!» — Вместе! — Как нападающие стали осажденными. — Брешь. — Приступ. — Страшные характеристики скорострельного оружия. — Нерешительность. — Таинственные взрывы. — Паника. — Пожар. — Отступление. — Поле битвы, оказавшееся всего лишь рощей тыквенных деревьев[164].— Свобода.Разумеется, Диого не явился в назначенное время в шалаш на Тартаругал-Гранде не потому, что он не захотел прийти. Теперь он сам оказался жертвой неудачного стечения обстоятельств и застрял посреди реки. Такую банальную задержку в пути всегда должен предполагать путешествующий в экваториальной стране, но Диого, и без того не отличавшегося благодушием, она окончательно вывела из себя. Его страшно взбесила вынужденная остановка. Ведь он был искренне уверен, что имеет дело с официальным посланцем бразильского правительства. Если б речь шла только о Шарле Робене, томившемся в неизвестности, Диого счел бы это удачной шуткой, он всегда был рад поиздеваться над белым. Но не прийти вовремя на встречу с дипломатом, особенно если этот дипломат нагружен золотом и благими обещаниями! Тут есть отчего изойти желчью. А все произошло из-за его жадности. Как только вождь понял, что сокровище, найденное охотниками на броненосца, у него в руках, бандита стала обуревать одна забота: спрятать находку понадежнее, чтоб никто не украл. Но как можно укрыть такую уйму золота, которая и теперь уже не дает ему покоя? Ему, бывшему таким беззаботным в бедности! — Придумал! — Негр хлопнул себя по лбу, как Архимед[165], совершивший открытие, если верить многочисленным преданиям. — Отправлю-ка я его на «Симон Боливар»! Судно в надежном месте, на озере. Уж не знаю, каким ушлым надо быть, чтоб отыскать его там. Отличная идея, лучше не придумаешь! До встречи с разукрашенным кривлякой — дипломатом, который принесет мне счастливый дар, целых три дня. Больше чем достаточно, чтоб сплавать на озеро, вернуться и добраться до шалаша. Приняв такое решение, негодяй погрузил сосуды с золотым песком и самородками на самую большую пирогу, посадил на нее лучших гребцов и отправился на озеро. Будучи человеком чрезвычайно осторожным или, лучше сказать, недоверчивым, он взял с собой обоих артистов, Фрица и Раймона, чтоб, пока его не будет, они не сбежали, как Маркиз, — его побег наводил Диого на глубокие размышления. Кроме того, вождь удвоил число охранников возле хижины госпожи Робен, чтобы пресечь любую попытку вступить в контакт с несчастной пленницей. Потом он дал самые суровые указания доверенному лицу и, успокоившись, удалился. Золото перевезли без приключений, легко причалили к пароходу, стоявшему, как и прежде, неподвижно в водах озера, затем пирога тут же отправилась в обратный путь. Они были уже на полпути, и радостный вождь поощрял рвение гребцов щедрыми порциями водки, как вдруг огромное, высотой метров сорок, дерево закачалось и обрушилось с ужасающим шумом, увлекая за собой соседние деревья, сплетенные с ним немыслимой сетью лиан. Гигантское растение упало так неудачно для Диого, что ствол как раз накрыл нос пироги, проломив оба борта и придавив насмерть трех гребцов. Лодка от удара перевернулась, взлетев над водой, и оставшиеся в живых плюхнулись в воду. Место оказалось неглубоким, и негр-«гуманист» не слишком бы переживал — что случилось с гребцами, его меньше всего беспокоило, — но деревья образовали, по всей вероятности, непроходимый завал, дальнейшее движение было невозможным. Пешком идти было нельзя, по обоим берегам протоки встречались участки зыбучих песков, а также слежавшейся тины, которые могли в один миг затянуть неосторожного путешественника, отважившегося на такой переход. Диого умел ценить время, знал, как вести себя в самых непредвиденных ситуациях, и потому принял решение вернуться на пароход. Там найдутся инструменты — топоры, пилы, чтоб освободить протоку. Пирога, конечно, сильно пострадала. Повреждения наскоро залатали корой, привязав ее лианами к корпусу. Правда, лодка текла и могла, того и гляди, затонуть, потому все свободные от гребли похватали плошки и принялись с остервенением вычерпывать воду. А она доходила уже до колен. Кое-как добрались до парохода. Здесь пирогу основательно починили, так что она снова стала пригодной для плавания. На следующее утро на нее погрузили полный комплект инструмента и к десяти часам уже вернулись к завалу. Принялись за работу. Предстояло с помощью топоров и пил расчистить фарватер. Но, несмотря на все старания негров, дело продвигалось очень медленно, гвианская древесина с трудом поддается металлу. Диого, становясь все нетерпеливей, работал за четверых — он должен вовремя попасть на Тартаругал-Гранде. Один из рабочих, стоя по плечи в воде, вскрикнул от ужаса — перед ним всплыли безобразные, изуродованные останки людей. — Чего орешь, придурок, — рявкнул на него вождь. — Это кайманы сожрали ночью тех, кого прибило… Ну и что? Действительно, ничего страшного. Дровосеков много, и рептилии побоятся напасть на них. Наступил полдень. Солнце в зените палило неимоверно. Его лучи, словно расплавленный свинец, превращали в кипяток и без того горячую, как в бане, воду. Негры падали от усталости. Даже Диого почувствовал, что уже пора отдохнуть. Час сиесты. Удары топоров, визг пилы перестали тревожить тишину девственного леса, топких берегов, протоки. И вдруг какой-то гул… — Послушай-ка, что это? Гром, что ли, гремит? Да нет! Небо вроде чистое. На несколько минут далекий гул стих, потом снова послышался, теперь уже более отчетливо. — Тысяча чертей! — воскликнул, бледнея, Диого. — Ошибки быть не может! Это выстрелы. В деревне бой. А я тут застрял, как зверь в капкане! Он не ошибся, определяя происхождение доносившихся до реки глухих ударов, но даже не догадывался о том, что вызвало неведомые события, и, уж конечно, не мог оценить степени их опасности. Давайте вернемся к гвианским робинзонам и прибывшим с ними из Марони неграм бони. Командиры небольшого экспедиционного корпуса, разбив лагерь неподалеку от приозерной деревни, времени даром не тратили. Они вели непрестанное наблюдение, великолепно организовали разведывательную службу, днем и ночью совершали отважные ловкие вылазки. Благодаря этому удалось узнать все тонкости диспозиции[166] противника и все обычаи подонков, жителей этого оплота бандитизма. Им стало известно, где находится хижина госпожи Робен и ее детей, сколько охранников вокруг, узнали также, что Диого покинул деревню и отбыл в неизвестном направлении. Это событие пришлось Робену, его сыну и их доверенному Никола очень по душе, хотя они и не представляли, кого за это благодарить. Диого, вместо того чтобы направиться на юг, к Тартаругалу, уплыл на запад. Почему? Впрочем, это не так важно. Главное, завтра его не будет в деревне, когда ровно в полдень отряд атакует ее и освободит госпожу Робен. Наконец этот долгожданный день настал. Что он принесет, победу или поражение? Заранее никто сказать не мог, но все бойцы трепетали от нетерпения и задора. Ранним утром они строем подошли к деревне, соблюдая все возможные предосторожности. Укрывшись за естественными препятствиями, заняли заранее оговоренную позицию и стали ждать приказа, вслушиваясь в каждый звук и всматриваясь в каждое движение. Робен-отец разбил свое маленькое войско на три группы по десять бойцов. Было решено, что одним отрядом командовать будет он, другим — его сын Анри, третьим — Никола. Последние два должны будут атаковать деревню слева и справа, пробежать по улице, подавляя по ходу всякое сопротивление, и одновременно приблизиться к хижине пленников. Робен же тем временем направится непосредственно к хижине и захватит ее, ошеломив охрану внезапностью и стремительностью нападения. По всей вероятности, все будет уже кончено к тому времени, когда к хижине подойдут два других отряда… И вот без двух минут полдень. Тридцать солдат, приставив к ноге оружие, неподвижно ожидали сигнала. Старый инженер знал каждого из них, в каждом был уверен. Он медленно обошел строй, вглядываясь в лица, и звучным, приятным, сердечным голосом произнес: — Вперед, дети мои. Выполните свой долг. В ответ ни крика, ни слова, ни вздоха. Оба командира отдали приказ: — Вперед! И два отряда бросились молча, как стая хищников, через поле маниоки, тростника и маиса. — Наша очередь, друзья мои! — снова заговорил Робен. И с ловкостью юноши кинулся первым, с саблей в одной руке и пистолетом в другой. Нападающие бежали перпендикулярно улице и выскочили прямо к линии хижин. Но деревенские дома не примыкают тесно один к другому, как в городе. Они стоят свободно в окружении небольших садиков, обнесенных легкой оградой или вовсе без ограды, затененные фруктовыми деревьями. Вот уже показалось жилище пленников, крыша из банановых листьев и высокий бревенчатый палисад[167]. Настоящая крепость. Пятнадцать стражников, вооруженных ружьями, растянулись под деревьями, всем своим видом выражая внимание. Ни один не закрыл глаза. Приказ Диого непреложен. Заметив белого, выпрыгнувшего из укрытия подобно тигру, и вооруженных до зубов негров, следовавших за ним, охранники повскакивали, схватились за ружья и приготовились отражать атаку, несмотря на полную неожиданность появления врага. Негр, бывший у них, видимо, за старшего, что-то громко прокричал, призывая стражу к оружию, вскинул ружье и прицелился в Робена. Раздался выстрел, но «белый тигр» метнулся в сторону и ушел от пули, пронзившей плечо одного из солдат. Раненый вскрикнул от боли и ярости, и тут же раздался устрашающий воинственный клич его боевых товарищей. Робен снова бросился вперед. — Бросай оружие! — приказал он тому, кто стрелял, тоном, не терпящим возражений. Тот схватил ружье за ствол, намереваясь использовать его как палицу. Тогда старик со стремительностью и ловкостью, которой позавидовал бы и двадцатипятилетний мужчина, кинулся на бандита с поднятой саблей. Лезвие со свистом опустилось на череп врага и раскроило его до самого носа. — Так тебе и надо, подонок! Стражники, замешкавшись на минуту, опомнились и начали целиться в бони. — Ложись! — закричал Робен, падая плашмя на землю. Бони, как бывалые солдаты, исполнили команду мгновенно. Стражники растерялись. Не видя больше перед собой людей — только черную линию, не имевшую ни высоты, ни объема, — они завертелись, отыскивая цель. — Готовься… Пли! — скомандовал вновь Робен. Раздался залп из десяти ружей — раненый тоже не вышел из строя, — и на охранников градом посыпались пули. Каждый из бони целился в своего врага, а потому десять негодяев рухнули на землю, одни сраженные наповал, другие — слишком тяжело раненные, чтобы продолжать борьбу. Четверо или пятеро уцелевших побросали оружие и с воплями ужаса кинулись наутек. С разных концов деревни слышалась пальба. Робен различал выстрелы негров по громоподобному звуку — ружья не слишком совершенные, в каждом заряде не одна пригоршня пороха, — узнавал более резкий, звенящий треск скорострельных винтовок. — Как будто и там все в порядке, — пробормотал он себе под нос. — Только бы ничего не случилось с пленниками. И, посмотрев на ограду метрах в трех от себя, добавил: — Чтоб пробить такую стену, пушка нужна. Если б кто-нибудь отпер нам изнутри! Инженер тут же подозвал одного из солдат, самого сильного и самого высокого. — Прислонись-ка к стене и держись крепче. — Слушаюсь, господин. Робен проворно забрался негру на плечи, схватился за частокол, подтянулся и крикнул сверху: — Мери!.. Где вы, дитя мое? Совсем рядом раздался вопль ужаса, потом возглас счастья. — Боже мой! Это вы, отец… Мы спасены! — Откройте дверь, дитя мое… Быстро… Время не терпит. Молодая женщина, задыхаясь от волнения, хотела уже выйти за ограду к стоящей в отдалении хижине, как вдруг негритянки, казавшиеся до той поры доброжелательными или, по крайней мере, безразличными, превратились на глазах в разъяренных гарпий[168]. Видя, что пленница вот-вот ускользнет, они набросились на несчастную, схватили ее за руки, готовые расцарапать в кровь лицо своими ужасными когтями. Робен не успел еще толком забраться на стену и не мог помешать отвратительным фуриям[169]. На голоса выскочил во двор внук старика, Анри. Инженер заметил мальчика, вынул из-за пояса револьвер и, швырнув его на песок, крикнул: — Защищай мать, Анри! Испустив боевой клич, юный боец подобрал оружие, одним прыжком перемахнул двор и оказался возле безуспешно пытавшейся освободиться матери. Он наставил заряженный револьвер на одну из мегер[170], вопя гордо и яростно: — А ну прочь, черномазая! Только тронь мою маму! Сразу застрелю! Испуганные негодяйки отступили, бормоча ругательства, а мать принялась умолять сына: — Анри!.. Малыш, они были к нам добры. Не нужно проливать кровь, сынок. Робен наконец перебрался через ограду и спрыгнул в садик. Ребятишки весело загалдели и побежали ему навстречу. — Дедушка… Это правда дедушка? А папа где? Где папа? — Что с Шарлем? — с тревогой спросила Мери. — Скоро вы все с ним увидитесь, дети, — ответил старик, обнимая их по очереди. — Наберитесь мужества, Мери! Скоро будете на свободе. Внезапно выстрелы зазвучали с новой силой, послышались крики. Видимо, жители деревни оказывали нешуточное сопротивление. — Дверь! Откройте скорее дверь! — воскликнул Робен. И старик, все такой же отважный и сильный, как в дни далекой молодости, кинулся к тяжелой панели, запертой на толстый деревянный засов, сорвал его, распахнул створки и громко скомандовал: — Ко мне, друзья мои! Сюда! И очень вовремя. Потому что сотни две жителей деревни, по большей части вооруженные ружьями, начали окружать отряды Анри и Никола. Расставленные, как стрелки, негры бони начали организованно отступать, продолжая поливать бандитов огнем. Те же стреляли напропалую, грохот стоял адский, хотя толку от него, к счастью, оказалось немного. Среди бони были раненые. Приказу отступить в крепость подчинились все без исключения. Вот когда сказалась отличная выучка! Командиры могли радоваться дисциплинированности маленькой армии. Негры, без сомнения, погибли бы, если б сражались по привычке, как кому захочется, и, по своему обыкновению, рассыпались бы в разные стороны. — Анри! Брат мой… Никола, мой отважный друг! — воскликнула молодая женщина. — Я уже не надеялась увидеть вас когда-нибудь. А разве Шарль не с вами? — Нет, сестричка, Шарль в другом месте! — ответил Анри. — Он занят мирными, но чрезвычайно важными переговорами. Не волнуйся за него; Шарлю ничто не угрожает, и скоро вы будете вместе. — Однако это что еще такое? Откуда дым?.. Паленым тянет. Слышите треск пламени? — Да… деревня горит. — Кто, черт возьми, поджег хижины? Во всяком случае, не мы. — Не мы! Час от часу не легче! Это какая-то диверсия. Только что сами осаждали крепость, а теперь вот стали осажденными. Да, отец? — Верно. К счастью, внутри такого бастиона мы вполне можем выстоять. Отдохните пока. Я обойду стену, посмотрю, в каком она состоянии, а потом попробуем сделать вылазку. Но едва старик отошел на двадцать шагов, как с гребня стены раздались выстрелы — один, второй, — к счастью, все мимо, негры — плохие стрелки. Анри, заметив, откуда вырвались два белых облачка, скорее угадал, чем увидел головы нападавших, вскинул карабин и совершенно хладнокровно послал каждому по пуле. — Двумя меньше будет, — невозмутимо заметил он. — Ну давайте, давайте! Хотите, чтоб вас по одному всех перещелкали? Прошу в порядке очереди! Но быстрая расправа, кажется, не только не напугала нападавших, а словно подстегнула их. С новой силой зазвучали вопли дикарей. Они звали на подмогу, подбадривали один другого, собирались группами, готовясь штурмом захватить укрепление. Робен, нисколько не сомневавшийся в исходе их атаки, все же приказал увести женщину и детей в дом, а бойцов расставил вокруг и дал им приказ — замаскироваться в деревьях и пока ни в коем случае не стрелять. Тут послышались глухие удары в деревянную стену. Осаждавшие начали таранить ее. Вскоре образовалась широкая брешь. В ней показалось несколько черных голов. Негры не решались проникнуть внутрь. Но гробовое молчание, царившее в крепости, придало им отваги, они решили, что испугали врагов своей численностью, и наконец собрались с силами и с криком бросились во двор. Мгновенно их набилось человек сто. — Огонь… — громко скомандовал старый колонист. Раздался на удивление дружный залп из тридцати ружей, потом зазвучали одиночные беспорядочные, частые, неумолимые выстрелы. Тесный двор наполнился треском и дымом. Нападающие, неся большие потери, буквально сметенные свинцовым ураганом, в страхе остановились. Убитые и раненые падали друг на друга, заваливая брешь, а скорострельные карабины били без устали, истребляя наиболее отважных жителей деревни. Остальные в ужасе отступили. Они не были знакомы со страшными свойствами этого смертоносного оружия и не могли понять, как удалось каким-то тридцати неграм за столь короткое время выполнить задачу, которая под силу разве что тремстам воинам. Но еще одно таинственное происшествие превратило вскоре их недоумение в панический ужас. Бони, наполняя магазины раскалившихся карабинов патронами, на миг перестали поливать противника огнем, и вдалеке стали слышны глухие раскаты, перекрывавшие гул пожара. Нападавшие решили, может быть, и не без основания, что подходит еще один отряд противника. Они побросали оружие и в страхе побежали, надеясь скрыться в полях и лесах. Робинзоны, скорее удивленные, чем напуганные, готовы были прийти к такому же выводу, но их натренированное ухо различило, что отдаленные таинственные раскаты не были похожи на звуки, которые обычно производит огнестрельное оружие. Робен, не мешкая больше, приказал вывести всех из дома, построил бойцов так, чтобы женщина с детьми и раненые оказались в центре, и скомандовал отступление. Деревня опустела. Хижины, построенные из материала в высшей степени горючего, рассыпались в прах. Опасность как будто миновала. Пленники были освобождены. А между тем беспорядочные раскаты слышались по-прежнему, они звучали то сильнее, то слабее, но как будто из одного и того же места. Опасаясь, как бы на них не обрушился обуглившийся остов какой-нибудь хижины, бони взяли южнее и пошли по засеянным полям. Ни малейшего признака сопротивления. — Кому, черт возьми, понадобилось стрелять из пушки по воробьям? — спросил заинтригованный Анри. Но едва отряд выбрался из высоченной кукурузы, за которой ничего не было видно, отважный юноша разразился громким хохотом. Метрах в пятидесяти от них, рядом с последней хижиной деревни, находилась рощица тыквенных деревьев.От искр загорелась высокая сухая трава у подножия стволов. И вскоре сами деревья тоже занялись. Вот их-то плоды, крупные тыквы, и взрывались с оглушительным грохотом, как перегревшиеся паровые котлы. — Привет и большое спасибо нашим невольным помощникам! — закричал молодой человек, видя, как разлетелись на куски две здоровенные тыквы и упали на подстилку из дымившихся ветвей. — Эта перестрелка, громкая, но совершенно безобидная, сослужила нам добрую службу! — А знаешь, Анри, что я вспомнил? — спросил его, тоже смеясь, Никола. — Пока не знаю, черт побери! — Ты помнишь, однажды вечером, еще там, в Париже, на улице Сен-Жак, когда мы были совсем бедны, я принес каштаны, а ты по наивности сунул их в угли, не сняв кожуры. — Точно, точно! Ну и стрельба пошла в бедном нашем жилище. — Вот и сейчас то же самое. Только тыквы — не каштаны, стреляют, как пушечные ядра. К этому времени друзья были уже возле самой бухты, где стоял флот приозерной деревни. Предвидя, что их поход закончится уверенной победой, Робен рассчитывал использовать эти лодки, чтобы добраться до Арагуари. Он даже припрятал в высокой траве весла взамен тех, что наверняка унесут с собой владельцы пирог. Солдаты, снова превратившись в гребцов, расселись в трех самых вместительных и прочных лодках, держа наготове оружие, чтобы никто не мог застать их врасплох. Флотилия осторожно, беззвучно отчалила и поплыла на юг, к фазенде на Апуреме. Там робинзоны надеялись найти Шарля и трех актеров, которым, как они считали, давно удалось бежать. Иначе разве они не объявились бы во время боя?
ГЛАВА 16
Что господин Луш подразумевает под выполненным долгом. — Низость мерзавцев. — Истинные мотивы рвения. — Неизбежная встреча. — Появление Шарля с отрядом в деревне и последствия этого. — Пятнадцать против двух сотен. — Поражение. — Черт побери!.. — Два брата. — А где же Маркиз? — Исчезнувший. — Сутки спустя. — Плавание на бревне. — Одиссея ночного путешественника. — На озере. — Один против парохода. — В каюте. — Побег. — Подготовленная Маркизом развязка. — Взрыв «Симона Боливара».Невозможно представить себе, в какую ярость пришел Диого, когда на следующий день, прорвавшись сквозь завал на реке, очутился перед обуглившимися останками хижин. Столько усилий, интриг, преступлений! Неужто все впустую? Неужели придется отказаться от мечты, которую он вынашивал столько лет, и смириться с неведомым доныне крушением? Бандит представил себе весь масштаб катастрофы, что привело его в состояние бессильного бешенства, но не помешало оценить ее вероятные последствия. Сомнений нет, пленников накануне освободили, деревня в ходе боя была разрушена, а жители уничтожены или разбежались. Что теперь толку от вожделенного совсем недавно золота и парохода, если он остался почти один, без помощи и опоры? Будущий президент располагал всего горсточкой уцелевших, — разве из них можно было создать ядро республики, как ему мечталось? Вопреки обыкновению, Диого не разразился проклятиями в адрес обитателей приозерной деревни — валявшиеся тут и там трупы наглядно свидетельствовали об ожесточенном сопротивлении. Может, впервые в жизни в душе его проснулось что-то похожее на сочувствие, он не мог не отдать должного этим забитым, но преданным соратникам по борьбе за неправедное дело. Но злость на тех, кто побывал здесь, от этого только усилилась. Он мысленно представлял, каким страшным казням подверг бы противников. Диого сидел опустошенный и отупевший и вяло размышлял о том, как бы узнать подробности, но вокруг не было никого, кроме его неподвижных, онемевших, растерявшихся спутников. Вдруг негр вздрогнул. Из зарослей кукурузы показались трое и медленно, как побитые собаки, двинулись в их направлении. Сходство с собаками было настолько велико, что в другое время вождь рассмеялся бы. Он узнал трех каторжников, бледных, измученных, с опаленными бровями и бородами. Одежда на них была изодрана в клочья. — Как! Это вы? — Диого был вне себя от изумления. — Какого черта вы здесь делаете? — Мы, собственной персоной. — Господин Луш начал обретать былую наглость. — Что мы тут делаем?.. Пришли отдать себя в ваше распоряжение. — Что же вы не убежали на свободу? — Не такие мы дураки! Мы с честью выполнили свой долг, патрон, клянусь. — Старый бандит врал все беззастенчивей. — Мы дрались за вас как черти. Ей-богу, нам не в чем себя упрекнуть… — Скорее наоборот, — встрял в разговор Красный. — …Мы сказали себе: патрон смотрел на нас всегда, как удав на кролика, так докажем, что белые не так уж плохи, возьмем без колебаний его сторону, словно нас здесь медом кормили с самого прибытия. — И вы, говорите, сделали это для меня? — спросил вождь все еще недоверчиво. — Сами судите — мы же здесь, а ведь могли давно улетучиться, присоединиться к ребятам, которые так разделали вчера ваших бедных негров. — К колонистам из Марони, да? Родственникам того, из Арагуари? — И все-таки мы могли убежать. Там был один старик, совсем седой, так он палил как бешеный. А тот, что помоложе, — прямо один к одному владелец каучуковой плантации! Не человек — дьявол, в щепки все разносил!.. С ними тридцать черномазых, не в обиду вам будь сказано. И они бились как черти! А уж какая пальба стояла!.. Слышали бы вы! — Как тридцать… всего тридцать против пятисот? — Ну, допустим, не все пятьсот были в деревне. Оставалось человек двести! — Хорошо, пусть против двухсот? — Но у негритосов старикашки ружья тарахтели без остановки, словно у каждого по тридцать стволов. Не ружья, а насосы для свинца! Как на флоте. Вот и попробуй выйди против них со своим самопалом! — Но вы-то, черт возьми, целы!.. Не всех же они постреляли! — Нет, конечно… Ваши увидели, что сопротивляться бесполезно, хозяйка с выводком на свободе, а деревня вспыхнула, как пук соломы… Они и подались в леса. — Чего же не вернулись? — Так, патрон, они сомневаются! Боятся, что вы их плохо примете. По слухам, у вас натура несколько… я бы сказал, увлекающаяся, хочешь не хочешь — призадумаешься. — Над чем? — Не попадешь ли из-под пуль да под палки. — И потому вас выслали вперед прощупать почву, разведать, в каком я настроении? — Ваши убедились, что мы с ними заодно, и решили, что нужно к вам послать кого-нибудь, у кого язык хорошо подвешен, чтоб разобраться, что к чему. — Ясно. Вы решили, что если проклятые колонисты возьмут верх, они повесят вас на первом попавшемся дереве в награду за услуги, которые вы им оказали на плантации Арагуари, или просто отправят назад в Кайенну. Потому вы и взялись с таким рвением защищать меня. — Ну, хорошо, патрон. Допустим, мы взяли вашу сторону не столько из дружеского расположения, сколько потому, что это выгодно нам самим. И что с того? Только выгода и привязывает человека к человеку. — Что ж, это верно. Я вас не забуду. Сходите-ка за остальными, скажите, пусть успокоятся. Я не собираюсь их наказывать, наоборот, поблагодарю. — Ну вот и отлично. И слава Богу. Эй, Красный… Эй, Кривой!.. Двинули, да поживей! Не прошло и получаса, как из леса показалась довольно значительная шумная толпа, состоявшая из мужчин, женщин и детей, во главе с каторжниками. Вождь внушал подданным такой непреодолимый страх, что они едва передвигали ноги, хотя господин Луш и пытался их подбадривать, используя из местного наречия небогатый запас слов, которым он успел обзавестись с тех пор, как прибыл в деревню. Диого еще издали прикинул, сколько там могло быть людей. Скорострельные карабины, конечно, повывели из строя немало бойцов, но тех, что выжили, еще вполне доставало, чтобы выкарабкаться. Катастрофа, пожалуй, была не так непоправима, как ему вначале показалось. Пусть его колония понесла тяжелый урон, зато теперь он был уверен, что мог положиться на тех, кто остался в живых. Они не бросились бежать, как зайцы, при первых выстрелах, а храбро сражались, не страшась смерти. Отлично. Вождь взволнованно, очень горячо поблагодарил подданных, чем вызвал в их рядах несказанный энтузиазм. И под конец добавил: — Ваши хижины сожжены… Пусть вас это не волнует! Скоро у вас будет новая деревня, красивее, удобней прежней, а главное, она будет лучше защищена. Я поведу вас на один из больших островов озера Лаго-Ново, там мы заново отстроим дома, и к ним уж никто не сможет подойти незамеченным. Мы будем королями этого бескрайнего, как море, озера! К счастью, посевы не пострадали. Вы соберете урожай, и сразу же тронемся. Я куплю вам лучшее оружие, не хуже, чем у наших врагов. В моем распоряжении корабль, как у белых! На нем карабины, порох!.. — Тут непредвиденное обстоятельство прервало посулы вождя. — Тысяча чертей!.. Это еще что такое? К оружию, друзья мои! К оружию! Что же случилось? Актеры Фриц и Раймон, на которых никто не обращал внимания, — они замешались в толпе оторопевших негров — мгновенно повалили наземь тех, кто стоял с ними рядом, схватили их ружья и мачете и бросились вперед с криком: — Сюда!.. Маркиз, мы здесь!.. Они-то прекрасно поняли, что произошло. Как из-под земли, возник небольшой отряд индейцев, возглавляемый тремя европейцами, в которых пленники узнали своего друга Маркиза, Шарля Робена и Винкельмана, все еще краснокожего, несмотря на его неоднократные попытки смыть красящий сок. Два слова о причинах их появления, столь же внезапного, сколь — увы! — несвоевременного. Шарль Робен, прождав напрасно Диого в шалаше на Тартаругале, не знал, что и предположить. Но, помня, насколько негр жаден, понял: его могло задержать лишь чрезвычайное происшествие в деревне. И Робен решил — будь что будет — немедля отправиться туда. Одно из двух: либо атака отца увенчалась успехом, и в этом случае он ничем не рисковал, недруги, очевидно, в полной растерянности, или попытка освободить пленников провалилась. Вдруг поддержка маленького отряда, его внезапное появление на поле боя сможет повлиять на исход сражения? Даже если все было безвозвратно потеряно, ему оставалась в утешение возможность погибнуть, отомстив бандиту за свою несчастную семью. Охотник за каучуком спешил вовсю и, к несчастью, вышел к руинам деревни в тот самый момент, когда Диого собирал остатки своего войска. Смятение негров, обугленные остовы хижин, отсутствие отца с его верными помощниками — все указывало на то, что атака удалась. Но серингейро даже не успел поделиться своей радостью с друзьями — обитатели приозерной деревни, заметив его, пришли в бешеную ярость. И отступать было уже поздно. Пришлось двигаться вперед даже под страхом страшной казни: беспощадный враг еще больше разъярился невиданным доселе поражением. Впрочем, знай Шарль, что Фриц и Раймон оставались в руках Диого, одного этого было бы достаточно, чтобы он бросился им на выручку. Робену едва хватило времени приготовить к бою оружие и расставить своих воинов полукругом, чтобы их труднее было окружить, как толпа со свирепыми воплями уже устремилась к ним. Люди Диого, ободренные присутствием вождя и желая отыграться на своих недавних врагах за понесенное поражение, бросились на противников со слепой яростью, пренебрегая опасностями и презирая смерть. Первый залп ослабил было их порыв, но индейцы, не привыкшие к скорострельному оружию и не такие дисциплинированные, как бони, тут же начали палить почти не целясь, с нервной поспешностью, пагубной в столь ответственный момент. Они впустую истратили пули, только ружья раскалили, а перезарядить их уже не было времени. Конечно, не один враг упал под выстрелами, но и их строй поредел. Четверо индейцев упали замертво. Раненный в левое плечо эльзасец вынужден был перехватить ружье в правую руку, держа его как палицу. Раймон получил кусок свинца в ногу и едва стоял. Среди белых невредимыми остались Шарль, Фриц и Маркиз. — Живыми брать! — завопил Диого, перекрывая шум боя. — Слышите: живыми! Тому, кто убьет их, собственноручно размозжу голову! А индейцев уничтожить! — И сам храбро бросился впереди своего войска. Теперь каждому из европейцев пришлось иметь дело одновременно с пятью-шестью неграми, крепкими и отважными, безудержно рвущимися в бой. Белые крушили прикладами направо и налево с удесятеренной отчаянием силой, рубили и кололи саблями черные тела, но все бесполезно. Место упавших тут же занимали новые бойцы, неистовей прежних. В конце концов европейцев схватили за руки, за ноги, за шею, так что они и двинуться больше не могли. Храбрецы последним усилием сбросили с себя повисших гроздьями чернокожих и в изнеможении, задыхаясь, повалились, безоружные, на землю. Фриц, падая, зло выругался по-немецки. Винкельман приподнялся и удивленно воскликнул: — Так ты что, немец? — Если я немец, то все поляки русские. Я из Эльзаса! Винкельман бросил взгляд на раскрасневшееся лицо, светлую шевелюру, которые так странно смотрелись среди иссиня-черных блестящих тел, и, задыхаясь от волнения, проговорил: — Брат!.. Господи!.. Фриц, брат мой!.. Фриц сдавленно вскрикнул: — Ты!.. Несчастный, бедный мой брат!.. Но тут же рот ему заткнул надежный кляп, а в тело впились веревки. Эльзасец захрипел, лицо его налилось кровью, а глаза слезами. Последние их слова расслышал Диого, и жестокая ухмылка исказила лицо демона зла. — Гляди-ка!.. Вот так раз! — захохотал он. — Какая встреча! Братишки нашлись… До чего трогательно! Вот уж повеселимся. Шарля, Раймона и Винкельмана связали так, что они не могли двинуть ни рукой, ни ногой. А Маркиз?.. Где же Маркиз? Черт возьми, он сумел воспользоваться тем, что происшествие на миг отвлекло от него внимание вождя и его сподвижников. С ловкостью клоуна и несравненной отвагой гимнаста парижанин с помощью подножки отправил в партер[171] негров, что держали его за руки. Потом два сокрушительных удара под дых тем, кто держал его за плечи, — и Маркиз на свободе. Пятый чернокожий, стоявший прямо перед ним, отброшен ударом головы. Увидев просвет между черными телами, смельчак неудержимо ринулся туда, сметая на своем пути всякого, кто попадался. Удар чьего-то мачете рассек ему бедро, но он лишь быстрее понесся вперед, как олень. Не прошло и минуты — Маркиз исчез из виду. Его отважное бегство было настолько неожиданным, настолько стремительным, что никому даже не пришло в голову преследовать актера. — Черт с ним! Далеко не уйдет! — воскликнул Диого. — К тому же нам есть на ком отыграться. Они нам за всех ответят. И смертельному врагу не пожелаю оказаться в их шкуре!
__________
Прошли сутки. Наступила ночь. Опустели развалины приозерной деревни. Вдалеке вспыхивали костры, пронзая красноватыми языками сгущавшуюся тьму. Негры решили пока заночевать под открытым небом, прямо в поле. Потом они выстроят временные хижины, которые укроют их на период сбора урожая. На поле маниока показался мужчина, тяжело опиравшийся на длинную палку. Он шел осторожно, стараясь не попасть на освещенные кострами участки. Вот путник пересек дорогу, бывшую когда-то улицей сгоревшей деревни, под ногой хрустнули угольки. Сориентировавшись по звездам, незнакомец взял на север и минут через пятнадцать оказался на берегу ручья, шириной метров в десять. Он узнал причал, где обыкновенно стояли пироги, и не смог сдержать глухого возгласа разочарования — ни одной лодки у берега не было. Тогда мужчина сел, сжал голову руками и, судя по тяжким вздохам, предался безнадежным раздумьям. Тихий плеск отвлек его от этого занятия. Что-то черное, длинное приближалось к нему по воде. Он концом палки ткнул в это «нечто» — оно оказалось мощным стволом дерева. Бревно проплыло вдоль причала и остановилось прямо у ног неизвестного. Повинуясь внезапному порыву, человек уселся на ствол, тот чуть осел под тяжестью тела. Тогда мужчина обхватил его ногами и потихоньку начал продвигаться к середине, чтобы удержать равновесие. Ствол, несмотря на солидную нагрузку, продолжал держаться на воде и медленно плыть по течению. Дерзкий «корабельщик», обрадовавшись первому успеху, опустил в воду свою палку и, напрягшись, оттолкнулся от дна. Бревно, к его удовольствию, сделало рывок вперед. Понемногу он все больше ускорял ход, ствол плыл уже почти как пирога. Но и это не удовлетворило путешественника, он продолжал толкать его с удивительной мощью и энергией. Истек не один час, но ничто не говорило о том, что ночной странник устал, разве только прерывистое дыхание, вздымавшее залитую потом грудь. Но незнакомец ни на минуту не прерывал своего занятия, поглотившего, казалось, его целиком. Лишь изредка «корабельщик» ложился животом на бревно, чтоб зачерпнуть горсть воды и освежить горящее лицо. Словно каждое потерянное мгновение вызывало в нем угрызения совести! Движения гребца становились все конвульсивней, нетерпение обуревало его. Так прошло шесть часов. Шесть часов, полных смертельной опасности, среди мрачного одиночества тропической ночи, наполненной страшными звуками — криками обезьян-ревунов, рычанием ягуаров, всплесками кайманов, грохотом обрушивавшихся деревьев. Но вот ручей стал шире, течение ускорилось, бревно закачалось, завертелось и, наконец, выплыло на середину широкой спокойной глади с дрожавшими на ее поверхности бесчисленными звездами. Мужчина попытался причалить. Палка больше помочь не могла — тут было слишком глубоко. Путник оказался в настоящей роще тропических деревьев. Вмиг выбрал он на ощупь сук потолще, обрубил его мачете и несколькими взмахами придал ему форму весла. Снова оседлав бревно, пловец направил его к огромной темной массе, покоившейся на воде, как уснувшее морское чудовище. Тихо, без единого всплеска подплыл поближе и увидел, что это ставший на якоря совсем близко от берега корабль. Путешественник глубоко вздохнул, руки, впившиеся в примитивное весло, на мгновенье расслабились. Дерево коснулось корпуса корабля. Человек увидел совсем рядом что-то темное, покачивавшееся на волнах, и снова сделал глубокий вздох — к одной из цепей носового якоря была привязана пирога. Неизвестный покинул наконец бревно, перелез в пирогу и растянулся, чтоб немного отдохнуть. Где-то над ним, на палубе, прикрытой крышей из листьев, шло шумное веселье: взрывы хохота, икание пьяных, идиотские песни, рокот барабана — все сливалось в дьявольскую какофонию[172]. На «Симоне Боливаре» веселились. Водка текла рекой, тушила огонь жажды от наперченных, соленых блюд. Настоящий негритянский пир. Выжившие в кровавых боях справляли столь своеобразно тризну по погибшим и готовились к казни, которая должна была состояться на восходе солнца. Диого, добрый вождь, широко распахнул двери своей кладовой. Жратвы до отвала. Пей, ешь, пляши, вопи… Что-то еще будет завтра! А завтра Шарль Робен, Винкельман, Фриц, Раймон и индеец Табира будут преданы смерти с изощренной жестокостью, в которой выразится вся ненависть отщепенцев. Одна мысль об этом заставляла биться сердце Диого сильнее. Он был до того рад, что, нарушив обыкновенно трезвый образ жизни, пил вместе с остальными, принимая участие в безумной оргии.Отдохнув четверть часа, неизвестный решительно поднялся, проверил, прочно ли укреплена пирога, взял свернутую на корме веревку, перекинул ее себе через плечо и ухватился покрепче за якорную цепь. Храбрец медленно полез вверх, словно не замечая, что кожа на ладонях уже наполовину содрана. Вот уже добрался до клюза[173], на мгновение завис на руках. Потом начал быстро раскачиваться, ловким мощным рывком, разжав пальцы левой руки, прицепился к ближайшему портику[174], зиявшему черным пятном на гладкой поверхности судна, перехватил другую руку и нырнул в распахнутое отверстие. На палубе шумная отвратительная оргия в самом разгаре. А в чреве парохода тихо и мрачно, как в могиле. Ночной посетитель, видимо, хорошо знакомый с расположением кают на пароходе, быстро и беззвучно нашел ту, которую когда-то занимали пассажиры. Подойдя к лестнице, ведущей в этот зловонный закуток, он смутно различил при тусклом свете висевшего в каюте фонаря фигуру человека с копьем. — Эй ты, что нужно? — внезапно обратился к нему страж. — Я пришел заменить тебя… Приказ вождя! Иди, выпей, заслужил. — Пароль говори. — А, точно. Иди, на ухо скажу. Тот проворно подбежал, радуясь скорому избавлению от скучной обязанности, и тут же со сдавленным хрипом тяжело повалился на землю. — Пароль тебе нужен? Десять пальцев на горле, поворот на сто восемьдесят градусов и обморок — вот тебе и ключ, и пароль. Незнакомец вошел в «салон». На полу валялись пятеро мужчин, так крепко связанных, что едва могли дышать. — Дьявол! Вовремя я, однако, — тихо проговорил ночной посетитель. И, слегка повысив голос, продолжил: — Ну, что такое? Все как воды в рот набрали! Друзей не узнаем, что ли? Свет фонаря упал на лицо говорившего, и слабый голос прошептал с изумлением и восторгом: — Маркиз! Это вы, дружище! — Собственной персоной, господин Шарль. Я к вашим услугам. Как вам это нравится? — Маркиз! Да это Маркиз, — не менее взволнованно принялись повторять Раймон, Фриц и Винкельман. — Да, черт возьми! Это я, Пьер Леблан. Только тише! За дело. Не теряя больше ни секунды, гасконец перерезал путы пленников, вернулся к охраннику, сунул ему в рот кляп. — Господин Шарль, вы не ранены? — спросил Маркиз. — Нет, — ответил молодой человек. — Хорошо, обвяжитесь под мышками этой веревкой и скорее к бортовому отверстию. Я спущу вас… Потом доберетесь вплавь до пироги, которая привязана к якорной цепи, приведете ее сюда, под портик, и будете ждать. — Ладно, — коротко ответил охотник за каучуком и обнял отважного артиста. Потом он сел на край бортового отверстия, свесил ноги и стал спускаться, а Маркиз потихоньку отпускал веревку. Прошло минуты две, прежде чем едва различимое шуршание дало знать храброму спасителю, что лодка внизу. Для верности Шарль легонько дернул за веревку. — Твоя очередь, толстячок, — сказал Маркиз Раймону, которому рана причиняла сильные страдания. — Вот дьявол! Пройдешь ты, интересно, в проклятый иллюминатор? Какого черта отращивать такое пузо, когда собрался на поиски приключений!.. Уф! Кажется, выбрался, хоть и с трудом. Следующим был Винкельман, за ним Табира, Фриц… — Давай, Фриц, дружище. — А как же ты сам? — Давай, давай! Как только спустишься, я привяжу другой конец веревки к древку копья, которое укреплено в отверстии. Кстати, скажи всем, что я чуть-чуть задержусь. Хочу сделать сюрприз вам и тем, кто так от души веселятся на палубе. — Будь осторожен. — Не волнуйся! Едва Фриц исчез за бортом, Маркиз привязал, как и говорил, веревку к копью, отцепил горящий фонарь, завернул его в свою рубаху и стал спускаться по лестнице в трюм. Как и повсюду внутри корабля, здесь не оказалось ни души. — Стой-ка, — сказал он самому себе, — пороховые бочки должны быть где-то здесь. Вот это дело! А тут что такое?.. Водка! Да, есть что выпить дикарям, если, конечно, времени хватит… Ага, отлично. В стороне стояли четыре тщательно обвязанных канатами бочонка, каждый литров на шестьдесят. Маркиз выбрал один, выдернул мачете затычку и просунул в отверстие два пальца. Внутри оказалась зернистая, рассыпчатая, изумительно сухая субстанция. — Точно, порох, — проговорил актер, затем вынул из фонаря свечу — капитан Амброзио, любитель комфорта, предпочитал свечи прочим средствам освещения, — осмотрел ее и добавил: — Минут на тридцать хватит. С безрассудной отвагой, не моргнув глазом, Маркиз, не колеблясь ни секунды, воткнул горящую свечу прямо в порох. Он уже двинулся в обратный путь, осторожно, стараясь ни на что не натолкнуться в темноте, но вдруг вернулся к бочонку. — Полчаса — это слишком много. И, по-прежнему неторопливо, вдавил свечу до половины в сыпучую смерть, пламя теперь едва не лизало порох. — На этот раз шутки в сторону!.. Поторапливайся, Маркиз! Надо удирать, а то жарко будет. …Две минуты, чтоб добраться до каюты, еще две — чтоб спуститься по веревке в пирогу, где друзья уже перепугались за него не на шутку. — Давайте-ка наляжем на весла. Гребите, не жалея сил. Скоро начнется… — Что начнется? — спросил Шарль. — Ах, до чего же редки развлечения в этих местах! — Вы находите? Что-то я вас не понимаю. — Хорошо. Заменим слово «развлечения» на «зрелище». — И что же? — А вот что: пьеса сыграна, актеры вот-вот вернутся за кулисы, и было бы странно, если б не наступила развязка. — Так развязка наступила, причем благодаря вам, дорогой Маркиз. Только вам! — Не стану отрицать, однако мизансцена[175] не та. И потому, будучи человеком чрезвычайно щепетильным во всем, что касается искусства, я подумал о… своего рода апофеозе[176]. Как бывает в феериях. Скажите-ка, господин Шарль, сколько от нас до парохода? — Метров триста. — Отлично. Мы как раз все будем видеть, не рискуя забрызгаться. — Где же ваш апофеоз? Как раз в этот самый момент из мрака вырвался огненный столб, устремился вверх и рассыпался ослепительным снопом. Невероятный грохот всколыхнул воздух, множась и повторяясь вдали. Остолбеневшие беглецы увидели, как при свете дня, темный корпус парохода, откуда, словно из кратера вулкана, вырывалось пламя; потом бесформенные клочья полетели в разные стороны. Раздался ужасающий взрыв, докатившийся до плясавшей на волнах пироги, и вдруг наступила темнота. Люди в пироге онемели. Впрочем, и постановщик страшной мизансцены уже не думал об аплодисментах зрителей. — Что же делать, — проговорил он сдавленно, — это были отпетые негодяи. Жизнь заставляет нас порой быть беспощадными с врагами.
Конец второй части


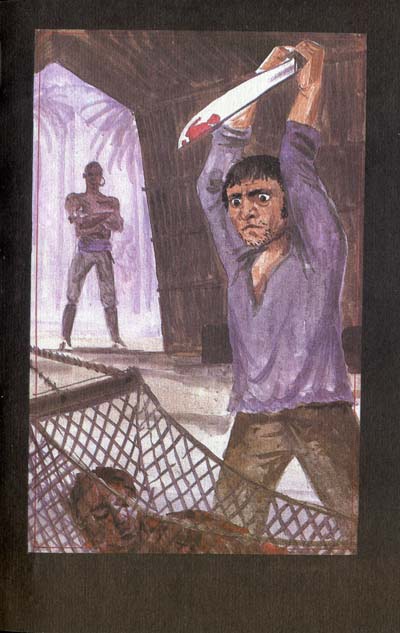





Часть третья ХИННАЯ ДОЛИНА
ГЛАВА 1
Благословенная Бразилия. — Пара и Манаус. — Долина Амазонки. — Превосходные пути сообщения. — Риу-Бранку. — Кампо. — Тяготы путешествия по Риу-Бранку. — Зима и лето по соседству. — Каналы. — Пустынные места. — Цивилизация и варварство. — Бателао. — Что думал сеньор Хозе об индейцах. — Беглецы. — Хлеб, тряпье и палка. — Жестокое наказание. — Канаемес наводят ужас.Бразилия — огромная, густо населенная, богатая и цивилизованная — самая благоденствующая страна Южной Америки. Господь щедро одарил эти земли. Почва здесь так плодородна, что не требует от местных жителей больших усилий. Тут и бездельник, кажется, может прожить безбедно. Что и говорить, Бразилия отмечена Божьей благодатью. В этих краях уникальная гидрографическая система. Через всю страну тянутся огромные, полноводные реки с бесчисленными притоками. Быстроходным судам хватает водных просторов — они бороздят их, неся в глубь материка цивилизацию. На обильных землях произрастают всевозможные культуры, в недрах сокрыты драгоценные минералы, которыми бразильцы научились пользоваться с умом и бережливостью. Их кофе, каучук, золото и алмазы высоко ценятся в Старом Свете. Во время засилья португальских колонизаторов здесь царили удручающая нищета и невежество. Теперь же широко открыты двери всему новому, прогрессивному. Сегодня в научном мире Бразилии немало славных имен. Словом, благодаря неустанным заботам скромных, несказанно трудолюбивых бразильцев богатства государства преумножаются, и империя, насчитывающая всего шесть десятков лет от роду, процветает под мудрым правлением достославного императора. Не будем пространно рассуждать о причинах быстрого развития совсем еще юной нации, чье самосознание и сила растут день ото дня. Приведем лучше конкретный пример — он многое объяснит. Принято считать, что первостепенное свидетельство процветания государства — рост городского населения. Возьмем наугад хоть город Пара. В 1865 году в Санта-Мария-де-Белем-до-Грам-Пара, именуемом сокращенно Пара, насчитывалось двадцать семь тысяч жителей. В 1885 году их было уже семьдесят тысяч, а внешнеторговый оборот составлял сто пятьдесят миллионов франков. Безусловно, прогресс можно объяснить преимуществами географического положения города — в устье реки Амазонки, на берегу океана. Пара — как бы форпост внешней и внутренней торговли. Ну а Манаус? Он-то находится в тысяче трехстах километрах от Атлантического океана! Тридцать лет назад скромный городишко у слияния Амазонки и Риу-Негру был известен разве что трем с половиной тысячам его жителей. Темные и забитые, бедняги сами-то, наверное, не знали, свободные они или рабы. Сегодня Манаус — центр провинции Амазония, красивейший город с пятнадцатитысячным населением. Улицы освещены газовыми фонарями. Есть здесь школа, колледжи, библиотека, банк, ботанический музей, больница, сберегательная касса, театр. Приходится, правда, признать, что такой заметный для Южной Америки прогресс не может все-таки сравниться с ростом некоторых североамериканских городов — они поистине подобны реке в половодье! Их лихорадочно-сумасшедший ритм неведом Бразилии. Как неведомы и внезапные ужасные катастрофы, столь часто сотрясающие «города-вулканы» северной части континента. Жизнь на Юге размереннее. Удача приходит сюда уверенной походкой победительницы. Единственное, чего в Бразилии действительно не хватает, так это железных дорог. Им тут предпочитают прекраснейшие в мире реки — естественные, самой природой сотворенные пути сообщения, вдоль и поперек пересекающие огромную территорию страны. Транспорт — серьезная забота правительства. В Бразилии любят ездить быстро и с комфортом. Так что знаменитый девиз «Время — деньги» не является исключительной привилегией янки. Грузы тут не залеживаются, пассажиры не томятся в ожидании — дело поставлено почти безукоризненно. Остановимся же в просторной и обильной долине Амазонки, где, как говорят, каждый год пропадает столько добра, что его с лихвой хватило бы накормить и обеспечить всю Европу. Вернемся в Манаус и посмотрим, к примеру, как связана чудесная столица молодой и великолепной провинции с центрами цивилизации. Ведь она заметно удалена от них. Два водных пути соединяют Манаус непосредственно с Европой: девять раз в году английские суда курсируют от Ливерпуля до Манауса через Лиссабон, Пару, Паринтинс, Икоатиару. Другой путь принадлежит французской компании и начинается в Гавре, а заканчивается в Гамбурге и Антверпене. Французские суда также заходят в Лиссабон и Пару. Есть рейсы и на Северную Америку, с конечным пунктом — Нью-Йорк. Можно себе представить, насколько интенсивно движение по Амазонке и ее притокам. Это напоминает гигантскую систему вен и артерий, в центре которой пульсирует Манаус. Он, словно сердце, управляет транспортом — кровью экономики. С Колумбией сообщение осуществляют суда, принадлежащие одному крупному торговому дому. Ежемесячную связь с Перу обеспечивают государственные службы. Следуя в пункт назначения Икитос, корабли заходят в Кодажас, Куари, Тефе, Фонти-Боа, Сан-Паулу, Табатингу, Лорето и Урари. Эта линия носит название Солинос. В бразильские порты, в частности в Рио-де-Жанейро и Пару, пароходы ходят три раза в месяц. И наконец, внутри самой провинции Амазонии совершаются пять регулярных рейсов. Из Манауса в Санту-Антониу по Риу-Мадейре и в Уитанахан по Риу-Пурус — ежемесячно. К озеру Марари по Риу-Джунии и в штат Акри по притоку Пурус и в Явари — раз в два месяца. В современном государстве, где имеются отдаленные провинции, едва ли возможно сделать большее. Но есть в бассейне Амазонки одна река (быть может, она и не из самых главных), о которой как будто позабыли. Ей словно бы нет места в сложной системе судоходства — Риу-Бранку, что означает Белая река, впадает в Риу-Негру в трехстах двадцати километрах от места слияния последней с Амазонкой и связана притоками с Венесуэлой и тремя Гайанами: Английской, Голландской и Французской. Воды ее меняют свои оттенки от молочно-белого до темно-зеленого. По своей протяженности, около восьмисот километров, она сравнима с Луарой или Роной. Широкая река, ставшая известной лишь со времени открытия ее нашим знаменитым соотечественником Кудро, протекает по раскинувшейся от двух до пяти градусов северной широты и от шестидесяти одного до шестидесяти четырех градусов западной долготы бескрайней прерии, кампо, как ее называют бразильцы. Кампо Риу-Бранку кормит бесчисленные стада, которые могли бы стать ценными ресурсами для Манауса, если бы не трудности доставки. Но установлению регулярных рейсов, по мнению местных властей, препятствуют природные условия. Однако заинтересованные лица и теперь не без основания утверждают: создание постоянной действенной связи между Манаусом и Боа-Виста — цель, достойная больших усилий. Где же выход? «Если сомневаешься — воздержись» — гласит пословица. Так и происходит: все сомневаются и все воздерживаются, к несчастью тех, кто живет по берегам Риу-Бранку и ведет свое дело. Если у путешественника нет парового судна, что бывает чаще всего, ему приходится выбирать между монтариа и бателао. В первой части нашего повествования мы описали монтариа. Бателао же предназначен специально для перевозки крупного рогатого скота. Это большое плоскодонное судно, на борту которого помещается от десяти до тридцати коров и быков, а также экипаж, состоящий обычно из восьми — десяти человек, как правило, индейцев, с верховьев Риу-Бранку, и их командира. Груженый транспорт в летнее время идет вниз по Риу-Бранку двадцать дней, а зимой — всего десять. Отрезок от устья Риу-Бранку до Манауса требует еще пяти или шести суток независимо от времени года. Чтобы продвигаться вверх по течению Риу-Негру, необходимо две недели, а по Риу-Бранку летом — сорок дней, зимой — шесть — десять. Монтарио гораздо быстроходнее. Расстояние от устья Риу-Бранку до Боа-Виста на таком судне преодолевается за двенадцать — пятнадцать суток плавания. Ну, а о пароходах и говорить нечего. Им требуется всего трое суток, если подниматься вверх по течению, и двое — если спускаться вниз. Когда речь идет о смене времен года, от которой зависит скорость передвижения, нужно помнить, что долина Риу-Бранку разделена экватором, и если в одной части лето, в другой — на Риу-Негру — зима. И наоборот. На Риу-Бранку лето длится с сентября по март, а на Риу-Негру — с марта по сентябрь. Одним словом, это долгое путешествие полно опасностей и тягот. Амазонка, как и ее притоки, — равнинная река, раскинувшаяся на плоской низменности, без порогов и препятствий. По берегам тянутся нескончаемые топи. Зимой они просто необозримы, так что порой путешественник сбивается с пути, даже не заметив этого. Совсем другое дело — Риу-Негру. Здесь случаются ужасные бури. Волны выбрасывают суденышки на берег, в непроходимые трясины, — там нет спасения. Чтобы избежать неприятностей, владельцы судов стараются держаться так называемых паранас — естественных каналов. Каналы эти ответвляются от главного русла, бегут вдоль и поперек и создают многочисленные островки. В иных местах подобных речушек насчитывается до восьми — десяти. Паранас где-то не шире ручейка, а где-то полноводнее Луары или Сены. Затейливое переплетение водных потоков создает своеобразный лабиринт. Их фантастические извивы несколько оживляют однообразие простирающихся вдоль берегов девственных лесов. Места здесь пустынные и безопасные. Вихри сюда не долетают. Редко встретишь на берегу одинокую ферму. Самого жилища обычно не видно, оно прячется под пологом леса. И только привязанные у берега пироги говорят о присутствии человека. Время от времени навстречу попадаются жалкие лодчонки бедняков индейцев, промышляющих рыболовством. Некогда в этом краю обитали индейцы мансос — цивилизованный, оседлый народ. Но они покинули левый берег Риу-Негру, спасаясь от набегов племени жапура и других воинственных племен. Ныне, если кто и живет в лесах левобережья, так одни кровожадные индейцы. С конца прошлого столетия они наводят ужас на обитателей низовий. Самые знаменитые из них те, что заселяют берег Риу-Жауапери, как раз напротив деревни мура на правом берегу. Разбойники ни перед чем не останавливаются. Они переплывают реку и разоряют поселение. Настоящее бедствие! И хотя теперь здесь курсирует военный катер, призванный охранять жителей от посягательств краснокожих, обстановка в этих местах далеко не спокойная. Одним словом, путешественник рискует попасть в переделку не только в глуши, но и буквально в нескольких километрах от Манауса, этого островка цивилизации и комфорта. А в двадцати километрах выше впадающая в Риу-Негру маленькая речка Таруман-Ассу, пожалуй, столь же опасна, как и Жауапери. Если подняться вверх по ее течению, недалеко от первого водопада, можно встретить поселения беглых рабов или солдат-дезертиров. Они крайне враждебно относятся к чужакам, и без надобности никто посторонний здесь не появляется. Выше вверх по реке за поселениями этого сброда тянется вдоль берега саванна. Там обитают свирепые дикари. Дальше начинаются земли индейского племени кришана.
И все же, невзирая на бесконечно долгое путешествие, невообразимую жару, ядовитые испарения — причину лихорадки, мириады жалящих насекомых, превращающих вашу жизнь в ежесекундную пытку, несмотря даже на кровожадных индейцев, каждый месяц находятся смельчаки, которых не пугает перспектива проделать путь из Манауса в Боа-Виста и обратно. Потому-то и не было ничего необычного в том, что в одно прекрасное теплое утро в июле 1888 года в водах Риу-Негру показалась до верху груженная лодка с экипажем из бравых краснокожих ребят. Индейцы молча налегали на весла. В лодке были бережно уложены продукты и мануфактура, полученные в городе за партию крупного рогатого скота. Капитан, крепкотелый мулат, стоял у штурвала и с ленцой управлял судном, время от времени бросая быстрый, проницательный взгляд на членов экипажа, безучастных ко всему и неподвижных, словно медные истуканы. Внезапно течение стало бурным. Лодка, плывшая от самого Манауса по каналу Анавилана, параллельно левому берегу Риу-Негру, покинула спокойные воды, напоминавшие скорее стоячий пруд, и очутилась в стремительном потоке. Напоенная дождями река сопротивлялась усилиям людей и замедляла ход судна. Убедившись в том, что справиться с течением невозможно, гребцы причалили к берегу. Мулат укрепил лодку, закинув канат за мощный корень. — Что случилось, сеньор Хозе? — спросил кто-то из-под лиственного навеса на корме. Вопрос был задан по-португальски, звонким голосом приятного тембра. — Мы остановились, сеньор, — отвечал капитан, — но, думаю, скоро вновь двинемся. Эти скоты выдохлись, а может, притворяются. Вы их разбаловали. Откармливаете, точно на убой. Утром кофе!.. Вечером чай!.. Хорошая мука, хорошее мясо… Сколько хочешь выпивки… Да им просто выгодно тянуть волынку. — Вы так думаете? — Черт возьми! Да что тут думать? Это же совершенно очевидно. — Здесь вы — хозяин, сеньор Хозе. Поступайте, как считаете нужным. Пока мы плывем по реке, я всего лишь обыкновенный пассажир. — Ну что ж! Прекрасно, — ответил мулат, очевидно довольный услышанным. — В таком случае посмотрите, как нужно оживлять этих лентяев. Из-под навеса появился молодой человек лет двадцати восьми — тридцати. Он подошел к сеньору Хозе и произнес, обращаясь к людям, расположившимся в гамаках по обеим сторонам: — Послушайте, Маркиз! Эй, Винкельман! Не желаете ли посмотреть, каким образом сеньор Хозе, наш капитан, станет подгонять гребцов? — Ради Бога, месье Шарль, нет! — отвечал сонный голос. — Жара такая, словно в печке. Слава Создателю, хотя бы эти кусачие бестии, мучившие нас с самого Манауса, решили передохнуть. Хочу воспользоваться случаем и хоть немного поспать, пока они перестали меня сверлить. — А вы, Маркиз? Ответом был лишь громкий храп из второго гамака. Мулат расхохотался, а затем пронзительно свистнул. В ту же секунду индейцы заняли свои места возле весел. Двое из них отвязали канат, который удерживал лодку. — А теперь ко мне, негодяи! — крикнул капитан, обращаясь к двум другим, растянувшимся прямо на палубе под палящим солнцем. — Что вы собираетесь делать? — спросил молодой человек. — Выполнить обещанное. Видите ли, месье, тут уж, как говорится, цель оправдывает средства. У этих бездельников ни стыда, ни совести. Только и думают, как бы урвать что плохо лежит. Если не быть начеку и не принять меры, они стащат весь провиант и бросят нас на произвол судьбы. А для нас это верная гибель. Сами могли убедиться, как платят эти мерзавцы за вашу доброту и щедрость. — Увы! Но я полагал, что их странную склонность к дезертирству можно укротить хорошим обращением. Во всяком случае, это всегда удавалось, когда мне приходилось иметь дело с индейцами тапуйес. — То, что годится одним, противопоказано другим, — многозначительно проговорил сеньор Хозе. — Видите ли, на этих действуют, как считается, только три вещи: хлеб, тряпье и палка! Но главное, безусловно, палка. — Как вы суровы… — Но я справедлив. Прошло три дня. Лодка плыла по Риу-Куруау. После тяжелого дня капитан крепко уснул. Утомленные долгой охотой, спали пассажиры. Дождавшись полночи, двое индейцев отвязали шлюпку и бежали, прихватив все, что можно было унести: тюки с тканями, муку, сыр, бисквиты, табак, консервы, мясо, кое-какие инструменты. На прощанье они угостили бисквитами товарищей, помогавших изо всех сил. Вероломное преступление было совершено в полной тишине. Дезертиры не потревожили сладкий сон капитана и его пассажиров. Можно себе представить, в какое бешенство пришел на следующее утро сеньор Хозе, увидев себя одураченным. Вдоволь побушевав, он скоро, однако, вновь повеселел, удвоив наблюдение, дабы избежать в дальнейшем подобных инцидентов. Обращаясь к господам, мулат произнес: — Да! Местечко для побега они выбрали не из лучших. Одно слово: гиблое местечко. Несчастные сдохнут с голоду, заблудившись в лесах. Или попадутся в лапы кровожадным индейцам. Те перережут им глотки, а из косточек смастерят дудочки. Во всяком случае, нам это только на пользу — лодка стала легче! Однако, несмотря на большой жизненный опыт, мулат не предусмотрел третьей опасности, помимо голодной смерти или встречи с воинственным индейским племенем. Эта третья опасность заставила смущенных беглецов на следующий же день вернуться. Сеньор Хозе поднял шлюпку на борт, приказал сложить на палубе украденные накануне вещи и, упаковав все как следует, воскликнул: — Чудесно! Вы будете наказаны. После этого необъяснимого случая между капитаном-мулатом и его белым пассажиром произошел следующий разговор: — Не могу ли я, по крайней мере, узнать, что послужило причиной этого странного бегства? Разве им было плохо здесь? Разве с ними худо обращались? Ведь бедолаги прекрасно знали, что будет, если их поймают. — Если б они что-то понимали! Они ведь действуют, как животные, инстинктивно, бездумно. Логики в их поступках не найдешь. Впрочем, если хотите, можно поинтересоваться. — Послушай-ка, — обратился капитан к одному из связанных пленников, показавшемуся самым сообразительным и менее диким, — скажи, почему вы оставили белых?.. Почему убежали? Разве с вами плохо обращались? — Что вы, хозяин, очень хорошо. — Разве ты не давал обещание помогать белым? — Давал. — Так куда ты собрался бежать? — Домой. — Мы туда и плывем! — Да, вы тоже туда плывете. — В таком случае проще было бы остаться на лодке и не мыкаться в лесах. Скорее попал бы домой. — Да. — Так почему же ты сбежал? — Потому что на лодке скучно. — Теперь тебя схватили и строго накажут. — Да, знаю. — Когда прибудем на место, ничего не дадут из обещанного за работу. — Мне и это известно. — Отчего ты все же вернулся? — Там канаемес. — И что же, снова убежишь? — Не знаю. — Вы убедились, сеньор? — вскричал торжествующий мулат. — Понятно теперь, что это за людишки? — Право же, неслыханное тупоумие… или он что-то скрывает, — проговорил вполголоса молодой человек. — Что ж! Пришло время платить по векселям. Получишь, что заслужил! — Да, — угрюмо проворчал индеец. Капитан подозвал к себе одного из членов экипажа, который, сидя на корточках, безразлично оглядывался, как будто происходившее вовсе его не занимало. Точно зная, что положено делать в подобных случаях, тот подошел, развязал своих приятелей и, схватив железную лопату, принялся что есть мочи лупить одного из них по рукам. Сначала по правой, и, пока несчастный выл и кричал во все горло, капитан считал: — …Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять!.. Хватит. Теперь другую руку! Палач все так же невозмутимо бил по второй руке, нисколько не смущаясь дикими криками и гримасами индейца. Можно было бы подумать, что повар отбивает кусок мяса, чтобы оно стало мягче и нежнее! Бедняга получил свои пятьдесят ударов, а затем его вновь связали и бросили на палубу под палящее солнце. То же самое произошло и с его приятелем. Но на сей раз в роли палача выступал другой член экипажа. Когда все было кончено, второго беглеца, также связанным, бросили на палубу. Разбуженные шумом и криками пассажиры не могли поверить своим глазам, такой ужас навеяло на них увиденное. — Ничего не поделаешь, господа, — обратился к ним сеньор Хозе, — приходится быть суровым. Вы полагаете, что эти мерзавцы считают меня жестоким? В таком случае вы сильно заблуждаетесь! С ними нельзя действовать иначе. Только это способно внушить им уважение. Вот увидите. — И мулат повернулся к индейцам: — Довольны ли вы своим хозяином? — Очень довольны, — отвечали те срывающимися голосами. — Почему? — Потому что хозяин побил наших. — Но ведь им больно. — Да, но мамелюки[177] бьют гораздо сильнее и дольше. — О да! Я знаю. Они обычно дают сто ударов по ступням! А белые еще хуже, чем мамелюки. Они отрубают руки и ноги, человек не может больше работать, и его бросают в воду. — Стало быть, я самый добрый? — Да. — Будете ли вы еще убегать? — Нет. — Почему? — Потому что там канаемес. — Вы сами видите, сеньор: они неисправимы. — Скажите, сеньор Хозе, что это за канаемес, которые наводят такой дикий страх на этих несчастных? — О! — глухо отозвался мулат, и голос его, казалось, дрогнул. — Это очень свирепые люди. Они живут, чтобы убивать. Из поколения в поколение промышляют грабежами и убийствами. С детских лет обуреваемы этой жаждой: убивать ради удовольствия убить. Но они не людоеды. Только делают колье из зубов своих жертв и дудочки из костей. Им все равно, белый ты, черный, индеец, мулат, мамелюк, — убивают всякого, кто не принадлежит к их племени. Молю Бога, чтобы он уберег нас от встречи с ними.
ГЛАВА 2
Трудное плавание. — Ганчо и форкила. — Насекомые. — Комары, москиты, огненные мушки, муравей-кипяток. — Черная и белая вода. — Индейцы уходят на охоту. — Послеобеденный отдых. — Необъяснимое отсутствие. — Беспокойство. — Все на борт. — Костер. — Ночные звуки. — Атака. — Сумасшедшие. — Ночь прошла. — Чудовищный спектакль. — Человеческие останки. — «Это наши индейцы!» — Бишо де такера. — Как становятся канаемес.Жестокое наказание сеньора Хозе подействовало. Нерадивость и лень, которые до того проявлял экипаж лодки, сменились энергичными действиями. Индейцы превзошли сами себя. Лодка была тяжела и, несмотря на поистине героические усилия гребцов, двигалась все же не слишком быстро. Однако теперь, по крайней мере, они успешно преодолевали встречное течение. Суровый урок явно пошел строптивцам на пользу. Вчерашние беглецы взялись за весла. Они, не уступая товарищам, работали израненными, почерневшими от ударов руками и всем своим видом старались показать, что ни на что не жалуются. Довольный счастливой переменой, капитан потирал руки и уверял, что индейцы не будут и помышлять о побеге, пока вокруг тянутся леса с канаемес. Не было бы счастья, да несчастье помогло! И все-таки приходилось смотреть в оба. Нельзя было отойти от мотора, чтобы вновь не попасть в плен бешеного течения. Напор воды все нарастал. Как ни старались гребцы, лодка хоть и не пятилась, но и вперед продвинуться не могла. Риу-Негру так стремительна, что весла ломались, как спички. Капитан причалил к берегу и приказал приготовить странного вида инструменты, предназначенные для замены весел. Чрезвычайно примитивные приспособления эти известны возчикам и называются «ганчо» и «форкила». Ганчо — крюк длиной четыре-пять метров с привязанной на конце палочкой. Форкила немного короче, но гораздо толще, заканчивается неким подобием вил. Лодка подошла к берегу. Два индейца с помощью ганчо цеплялись за ветви, стволы, корни и тянули изо всех сил, а двое других проделывали то же самое, ловко управляясь с форкилой. Так волокли они лодку вдоль берега. Издалека она походила на гигантского паука, который медленно полз, хватаясь за деревья тонкими и длинными лапами. Проплыли-проползли под низко свисавшими над водой ветвями, под навесом из пальмовых листьев. Что и говорить, такое передвижение было крайне неудобно. Лиственный полог плохо защищал от жары, к тому же от постоянной тряски с деревьев на головы падали муравьи и прочая нечисть.
По берегам экваториальных рек, надо заметить, вообще водится множество насекомых. Обеспокоенные вторжением человека, они целыми полчищами набрасываются на пришельцев и жестоко их жалят своими хоботками-рапирами. Мыслимо ли их всех даже перечислить?! Крошечные москиты, оставляющие на коже черные следы на целую неделю; карапанас, чье мощное жало сквозь любую ткань наносит кровоточащую рану; крупные москиты — их укус столь же болезнен, как и укус осы; клещи — они впиваются в тело так, что скорее расстанутся с собственной головой, чем с вами; все эти бесчисленные проклятые бестии, кровожадные вампиры атакуют путника, пускают в вены яд, пьют кровь, мучают днем и ночью, в любое время суток, пока не доведут до бешенства. Индейцы, в большинстве своем малокровные, страдают меньше. Анемия[178] делает их не столь привлекательными для насекомых. А может быть, жизнь в этих местах заставляет организм приспособиться[179]. Но это еще не все. Берега рек сплошь поросли деревьями с полыми стволами и листьями, плотными и широкими, как у фиговой пальмы[180]. Туземцы называют их амбауба. Ствол такого дерева — обиталище грозных муравьев, которых бразильцы именуют огненными. В Сенегале или Габоне их называют «муравей-кипяток». Кровопийцы осаждают лодку, проникают повсюду, в том числе и в продукты, пропитывая их невыносимым запахом муравьиной кислоты, карабкаются по ногам, ползают по всему телу, впиваются в кожу, терзают вас и мучают. Вы озабочены лишь одним — спасением от ненавистных тварей. Ни на что другое сил уже не хватает. Ни думать, ни работать человек не в состоянии. Наши путешественники не составляли исключения. Мучительное однообразие плавания лишь изредка прерывалось незначительными происшествиями. Порой течение между островами вдруг становилось еще сильнее. Осмотрев окрестности, капитан отдавал приказ, двое индейцев усаживались в шлюпку и, таща за собой лодку, причаливали к берегу, зацепившись за какое-нибудь мощное дерево. Иногда для этого брали длинный шест с острыми концами, один конец впивался в ствол, а за другой хватался едва ли не весь экипаж, подтягиваясь к берегу. Когда участок с быстрым течением оставался позади, гребцы вновь брали в руки ганчо и форкилы, и все начиналось сначала. Иногда, случалось, забывали о мерах предосторожности, плохо закрепляли ганчо. Тогда человек оказывался в реке, выныривал, отдуваясь, и спешил нагнать лодку. Как-то за бортом очутился один из наказанных. Вскоре индеец показался из воды и под общий хохот был поднят обратно, испуганный, но счастливый. Наступил вечер. Причалили к берегу и, закрепив лодку, устроились на отдых. Ночь предстояло провести в гамаках. На землю ступить было рискованно. В районе Риу-Негру — по крайней мере зимой — никогда не знаешь, что у тебя под ногами: твердая почва или трясина. Мало того что путешествие само по себе оказалось тяжелым из-за длительности, невыносимой жары и насекомых-вампиров. Подстерегала еще серьезная опасность. В некоторых местах берег сильно подмыло быстрым течением, так что вековые деревья держались еле-еле. Если за ствол такого дерева цепляли ганчо, оно грозило рухнуть и разбить все на борту в щепу. Не раз громадные деревья падали в двух шагах. Если крепеж срывался, то тяжелую, груженую лодку тотчас относило назад, словно невесомую веточку. Наконец путники добрались до основного русла Риу-Жауапери. Здесь им показалось, что темные воды Риу-Негру начали светлеть. Так ли это? Означал ли едва заметный беловатый оттенок приближение Риу-Бранку, опалово-белые воды которой путник узнает издалека? Ведь известно, что подобный феномен наблюдается и в низовьях реки, там, где она впадает в Амазонку. Воды обеих рек смешиваются задолго до места их непосредственного слияния. Риу-Негру на протяжении многих километров сохраняет цвет черного кофе, и по левую сторону от Амазонки она гораздо темнее, чем по правую. Два потока встречаются где-то в глубине, на поверхности это почти не отражается. И только иногда вдруг просветлеют черные воды. Суда плывут по реке, которая здесь чернильного цвета и целиком оправдывает свое название «Черная». Темные борозды волн, увенчанных желтыми гребешками, — что-то вроде жидкого янтаря… Непроходимые леса вдоль всего побережья наводят на мысли о первозданности природы, о ее несравненном могуществе. Величавые картины отражаются в угольной воде, словно в магическом зеркале… Сейчас сомнений не было: Риу-Бранку готовилась представить путешественникам не менее впечатляющую картину, но в иных красках. За прошедший день индейцы здорово поработали и очень устали. Сеньор Хозе нашел необходимым дать им двенадцать часов отдыха. Стоял жаркий полдень — лучшее время для привала. Европейцы и капитан решили отдохнуть в гамаках, оставив возле себя двоих беглецов. Остальные индейцы попросили разрешения поохотиться в ближайшем лесу, пообещав принести свежего мяса. Оно сейчас, и вправду, очень бы пригодилось. Слишком надоели путешественникам консервы. Что и говорить, странный отдых — забрести в лесную чащу, где стоит нестерпимая духота, бегом преследовать дичь: лань или кабана, агути или гокко. Впрочем, у индейцев все не как у людей. Они привыкли жить в пекле, словно какие-нибудь саламандры[181], и в непроходимых лесах, где всюду подстерегают тайны и опасности, чувствуют себя в своей стихии. — Не забудьте, однако, вернуться к вечеру, — крикнул капитан, — помните: где-то здесь канаемес. Индейцы, вооруженные деревянными луками и длинными стрелами, скрылись в зарослях. Вторая половина дня прошла без происшествий. Европейцы пытались отыскать хоть немного тени и свежести, чтобы наконец расслабиться и поспать. Приближалась ночь, но, вопреки ожиданиям Хозе, ни один охотник не вернулся. Сумерки сгущались. Вскоре ничего уже не было видно, а индейцы не показывались. Беспокойство, поначалу не слишком сильное, постепенно переросло в тревогу и страх. Неизвестность становилась все более зловещей. Путешественникам было не по себе от одной мысли о возможном соседстве кровожадных племен жапури. Рискуя привлечь их внимание и выдать место стоянки, Хозе все же разжег большой костер. А вдруг охотники заблудились! Впрочем, разве можно в это поверить? В голову лезли мысли, одна другой страшнее. И вроде бы оснований для них особых не было, но всем мерещилось убийство, последствия коего будут ужасны. Может, охотники сбежали? Вряд ли! У них не было никакого транспорта, да и все необходимые вещи остались на лодке. Заблудились? Совсем невероятно! Индеец, как зверь, ориентируется в лесу даже кромешной ночью, и всегда безошибочно отыщет дорогу. Хищники? Они в этих местах как будто не водились. Кроме того, индейцев много, они очень ловки и умелы и в случае чего отразили бы нападение диких зверей. И вновь страшная мысль сковывала сердца. Одно слово опять и опять пронзало сознание: канаемес! Ах! Как сокрушался капитан о том, что пожалел индейцев и разрешил остановиться на отдых. Какое ужасное несчастье, если они попали в засаду! А ведь так просто предугадать подобный исход. Каковы могли быть последствия для оставшихся здесь без помощников? Для них всех, затерянных среди лесов, на берегу реки, вдали от селений? Кто знает, может быть, дикие орды убийц, разохотившись, поспешат к лодке и найдут в этих местах новые жертвы для своих чудовищных обрядов? Их боги велят убивать, убивать всегда и везде… На всякий случай нужно было подготовить оружие. Трое европейцев и мулат устроились за тюками с тканями, ящиками с бисквитами и мешками со всякой всячиной. Ждали с замиранием сердца, какой сюрприз приготовила им непроглядная ночь. Часы текли в нервном, отчаянном ожидании. Шарль закурил и взглянул на часы. Полночь. Странно! Обезьяны-ревуны, чей вой заглушал шум деревьев, внезапно умолкли. Издав несколько громких звуков, похожих на сирену — предупреждение об опасности, — они разом затихли и замерли. — Скажите, месье Шарль, — начал Маркиз, ворочаясь на тюке, служившем ему матрацем, — не кажется ли вам, что эти басы потерпели фиаско[182], или дирижер потерял свою палочку? Что бы это значило? — Только то, дорогой друг, что по лесу кто-то идет. Ревуны обнаружили это раньше нас. — Вы думаете? — Уверен. Может, наши возвращаются… Если же нет… — Что вы хотите сказать? — Значит, к нам подкрадывается враг! — Вы полагаете? Сказать правду, я бы предпочел именно это. Разве дело — сидеть тут, как рыбаки на бережку, и дожидаться смерти. Считать бесконечные секунды… Лучше покончить с опасностью разом! — Согласен. У нас с вами одинаковый темперамент. Ожидание и бездействие невыносимы! Однако, думаю, развязка близка. Слышите? В сумраке ночи действительно раздались пронзительные, громкие вскрики, сменившиеся диким воем. — Если не ошибаюсь, это человеческие голоса, — сказал молодой человек. — Как вам кажется, сеньор Хозе? — Я тоже, сеньор, полагаю, что кричали люди, — отозвался мулат. — Думаю, индейцы. Крики быстро приближались и становились все явственнее. Двое краснокожих, остававшихся при белых, задрожали от ужаса. Зубы их стучали, словно кастаньеты[183]. — Канаемес! Хозяин, это канаемес! — еле прошелестел один из них. Слух индейца, более чуткий, чем у белых и мулата, не обманул. — Канаемес! Лесное эхо многократно повторило жуткий крик, а в ответ принесло гортанный человеческий вопль. — Ну что ж! Идем туда! — воскликнул Маркиз, направив дуло своего револьвера в ту сторону, где пылал костер. — Теперь уж все равно. Нам повезло, что это мифическое чудовище возвестило о своем появлении нелепым воем, а не напало внезапно. Но вот рядом шевельнулся кустарник, пламя костра заколыхалось, и перед глазами путников появились индейцы. Почти совсем голые, — можно сказать, их «наряд» составляли только луки да стрелы, — они кричали и размахивали руками словно одержимые. В отблесках пламени буйство их выглядело еще более зловещим. Потрясая оружием, они завели дьявольский хоровод. Немыслимые телодвижения, нестерпимые вопли — точь-в-точь демоны во власти дурмана! — Ну и канкан![184] Глядите-ка, друзья мои, — прошептал Маркиз. — Беснуются как одержимые! У них в глотках целый оркестр, честное слово! Но тут его речь прервалась. Индейцы, до сих пор, казалось, не обращавшие ни малейшего внимания на лодку, освещенную пламенем костра, словно полуденным солнцем, замерли на полуслове и схватили луки. В сторону лодки с диким свистом полетели стрелы. Да, это были отменные стрелки! Пустые гамаки оказались для них отличной мишенью. Люди неподвижно лежали на палубе. Не напрасно решили они скрыться за тюками и ящиками. Предосторожность оказалась нелишней и спасла их от верной гибели. Но каковы индейцы! Сообразили, что дьявольские танцы привлекут внимание и ослабят бдительность. Белые, мол, будут, как завороженные, наблюдать за ними и не уберегутся от стрел… Решив, что люди на лодке погибли, краснокожие ринулись на борт. Удивительно, какой шум они подняли. Можно было подумать, что здесь целый легион, а их едва набралась бы дюжина. Четыре залпа раздались почти одновременно и смешали вражеские ряды, хотя никто, похоже, не был задет. Молниеносная скорость, и только она одна, могла теперь спасти дикарей и сбить с толку стрелков. Трудно попасть в мечущиеся фигуры! Вместо этого индейцы замерли, отступили, словно бы хотели бежать, но тут же вновь ринулись в атаку. Минута замешательства сыграла на руку осажденным. Они успели перезарядить оружие и вновь дали залп. Двое из наступавших остановились на бегу как вкопанные, качнулись, зашатались и, захрипев, повалились наземь. И вдруг, к изумлению стрелявших, — как поверить своим глазам?! — индейцы, не обращая на них больше никакого внимания, накинулись на еще теплые трупы своих собратьев, порубили их саблями, бросили в огонь и снова принялись дико вопить: — Канаемес!.. Канаемес!.. Теперь, когда они были погружены в свое занятие, их легко было уничтожить всех до единого. — Эй! Тысяча чертей! Погодите, да ведь это же наши индейцы. — Быть не может! — Я узнаю их. — Они сошли с ума! — Точно, свихнулись! — Что же делать? — Все очень просто, — произнес мулат, перерубая канат, которым была привязана лодка. — Вот и все! Потом, схватив форкилу, он с силой оттолкнулся, и лодка отчалила. — Теперь мы пройдем немного вниз по течению, причалим подальше отсюда и переждем до рассвета. Утром вернемся. Черт меня побери совсем, если к тому времени необъяснимое сумасшествие не пройдет и дикари не успокоятся. Сказано — сделано. Лодка отплыла метров на триста от проклятого места. Здесь ее пассажиры могли, ничего не опасаясь, дождаться рассвета. Они терялись в догадках, рассуждая о том, что же все-таки случилось. Вопли обезумевших слышались еще часа три. Затем мало-помалу воцарилась тишина. Оргия, вероятно, была окончена. На смену темной экваториальной ночи почти сразу, без перехода, пришел день. Лодка бесшумно вернулась к вчерашней стоянке, где разыгрался столь чудовищный спектакль. Возле догорающих углей, словно насытившиеся звери, спали забрызганные кровью индейцы. Невдалеке валялись останки, которые трудно было сейчас назвать человеческими. Их облепили насекомые, образуя некое фантастическое живое существо, которое все время шевелилось. Удивительнее всего то, что рядом со спящими лежали берцовые кости жертв, тщательно вычищенные. Оставалось только отполировать! Индейцы спали так крепко, что не услышали, как Хозе вместе с тремя спутниками, вооруженными до зубов, высадился на берег, подошел к ним и собрал нехитрое оружие дикарей. Мулат не ошибся. Индейцы были из их экипажа. Взяв в руки тяжелый лук, капитан выстрелил наугад пять или шесть раз. Взлетев вверх, стрелы попадали на своих хозяев и наконец разбудили их. — Ах, негодяи, вот и вы! — вскричал капитан. — Да, это мы, хозяин, — отвечал один из индейцев, нисколько не удивившись и не выказав ни малейшего смятения. — Что вы здесь делаете? — Спим. — А где твои друзья? — Друзья?.. — Что вы с ними сделали? — А что мы с ними сделали? — Они умерли. — Умерли? — Вы съели их? — Я не знаю. — Как это не знаешь? — Не знаю. — А вот это что такое? — Кость. — Для чего она вам? — Для дудочки. — Какой еще дудочки? — Не знаю. — Отвечай, или я раскрою тебе череп! — Я и отвечаю, хозяин. — Почему вы не вернулись вчера вечером? — Не знаю. — Почему вы хотели нас убить? — Потому что мы съели бишо де такера. — Ну и что ж из этого? — Это превратило нас в канаемес… Мы целую ночь были канаемес. — Прекрасно! А теперь что же? — Теперь мы готовы плыть дальше.
ГЛАВА 3
После взрыва «Симона Боливара». — Опять вместе. — Новые планы. — Шарль не хочет бросать дело. — Реорганизация. — Гайанская хина. — Немного географии. — Лунные горы. — Гидрографическая система. — План разработок. — Отъезд. — Фантазии Маркиза. — Что такое бишо де такера. — Гастрономические предосторожности. — Кое-что об улитках и лягушках. — Отравление белладонной[185]. — Аналогичное объяснение. — Риу-Бранку.Вернемся немного назад и расскажем по возможности коротко о событиях, последовавших за бегством пленников, томившихся на борту «Симона Боливара», и о том, что случилось после дерзкого и счастливого освобождения, организованного Маркизом, дабы читатель понял, каким образом появились в окрестностях Риу-Бранку охотники за каучуком. Когда на корабле произошел взрыв, Шарль Робен, Винкельман, его брат эльзасец Фриц, Раймон и Маркиз, полагавшие, что все бандиты наверняка погибли, немедленно отправились в местечко под названием Мапа. Здешние поселенцы оказали им самый сердечный прием. В распоряжение гостей предоставили шхуну, и все пятеро пустились в путь к фазенде Апурема, где надеялись застать небольшой экспедиционный корпус, прибывший из Марони, а также офицеров и госпожу Робен с детьми. Шарль, знаток местной медицины, никого не подпускал к раненым, Раймону и Винкельману. Он постарался обеспечить им наилучший уход и добился того, что те очень скоро начали поправляться. Когда прибыли на фазенду, лечение успело уже дать заметные результаты. Теперь полное выздоровление было делом нескольких дней. Робен-отец, его сын Анри, милая жена Шарля действительно гостили у хозяина фазенды. Здесь уже знали о событиях, происшедших с начала экспедиции. Индеец-гонец сообщил об этом несколько дней назад. Хоть подробности известны не были, но все же то, о чем поведал индеец, вселяло некоторую надежду. Близкие знали об изобретательности Шарля, о его энергии и большом опыте жизни в лесах. И, хотя путешествия по этому пустынному району были тяжелы и мучительно долги, не оставалось ничего иного, как ждать, уповая на удачу. Бог даст, молодой человек и его друзья возвратятся. Ничего иного в данной ситуации нельзя было предпринять. Надежды их счастливо оправдались, даже скорее, нежели можно было предполагать. Легко представить, сколько радости принесло возвращение, как горячо все благодарили спасителя — Маркиза, как упивались своим счастьем. Гасконец был даже несколько сконфужен столь бурным проявлением всеобщей благодарности и признательности, смущен тем, что каждый выражал ему свое восхищение и уважение. Он буквально потерял голову и только бормотал что-то несвязное в ответ. Когда раненые совсем выздоровели, Шарль Робен стал подумывать о том, чтобы с помощью всех членов экспедиции завладеть плантациями Марони. Это была хорошая идея, хотя старый инженер полагал, что его сын распрощался с ней. Ведь Спорные Территории встретили его так негостеприимно. Однако, против ожидания, молодой человек заявил, что, разумеется, при условии формального согласия, намерен вновь попытать счастья в этих местах. — Ну что ж, сын мой, — ответил старик, слегка удивленный его решением, — у тебя, полагаю, было время обстоятельно обдумать свой план. Тут надо все хорошенько обмозговать. О Марони, конечно, можно только мечтать. Там есть все, что только душе угодно. Я думаю значительно расширить территорию «Полуденной Франции», предоставив нашим друзьям-актерам независимость с первых же дней, а в скором времени, надеюсь, и состояние. Драматическое искусство, как мне кажется, не принесло вам богатства, дорогие компаньоны. Поэтому будет разумно отказаться от него и посвятить себя промышленному и коммерческому освоению нашей Гайаны. Вы ведь не откажетесь присоединиться ко мне на самых выгодных условиях? Право же, ничего не потеряете! Вы вполне способны стать благородными и мудрыми поселенцами. Что до меня, сын мой, то я знаю: ресурсы нашей земли поистине неисчерпаемы, и если ты будешь там, это принесет нам удачу. Полагаю, твое решение — не минутный порыв. — Так и есть, отец, — отвечал Шарль. — Уверен, удача ждет нашу семью и всех моих товарищей. А знаете, что означает для меня слово «удача»? Это возможность добиться всего с избытком, обеспечив потом новые земли. Не жаль никакого труда, чтобы сделать процветающим и цивилизованным этот уголок, ставший для нас второй родиной. Моя мечта — организовать здесь, на границе Спорных Территорий, центр французского влияния. Надеюсь, мы сумеем оградиться от вторжения соседей моральным барьером. А отстаивать свои интересы на полях индустриальных сражений будем лишь оружием любезности. И тем самым заставим дипломатию считаться с французами, если вновь разгорятся споры о лимитах. Без ложной скромности могу сказать, что уже кое-чего достиг. Но катастрофа разрушила то, что было предметом нашей гордости и зависти соседей. Сегодня я разорен. Но не беда! Материальные потери не лишат нас высоких замыслов. Что нам до банальных представлений поселенца о роскоши? Начиная осваивать первозданную целину, разве не знал я, что каждый шаг придется брать с боем? Наш мирный труд не такой-то уж мирный — всякую минуту тебя ждут подвохи, лишения и горести. Да, я понес утраты. Однако предвидел такую возможность. И поэтому поражение не сломило мой дух, не отняло энергию и надежды. Мы воссоздадим коммерческий центр в верховьях Арагуаи, снова начнем добычу каучука, соберем людей, которых раскидала судьба. День пойдет за днем в тяжелой работе, зато мы все восстановим, как было раньше. Но не на прежних принципах. У нас больше не будет таких соседей, как в деревне Лак. Их шеф был человеком единственным в своем роде. Наученные опытом, мы впредь будем осторожнее. И это еще не все. Здешние богатства необходимо немедленно разрабатывать. Сделать это должны мы первыми. Кто знает, каковы могут быть результаты? Ведь до сих пор о них никто не задумывался. На эту мысль натолкнули меня слова нашего хозяина, оброненные им недавно. — Что ты хочешь сказать, сынок? — спросил старик. — Знаете ли вы, отец, и ты, Анри, знатоки Гайаны, что эта земля богата хиной? — Хиной? Быть не может! Тебе прекрасно известно, что хинное дерево не растет в низменных и сырых местах. Оно требует высоты, по крайней мере, в тысячу двести метров. — И тем не менее хозяин фазенды утверждает, что на Спорных Территориях хинное дерево произрастает. И в больших количествах. — Да ведь тогда это будет настоящая революция в экономике! Трудно даже предположить, какие она может иметь последствия. — Вот-вот, отец, именно экономическая революция. Осталось лишь проверить сказанное, выяснить количество и качество гайанской хины, прикинуть расходы на ее разработку, и так далее. Короче, обмозговать дело со всех сторон. Для этого необходимо снарядить экспедицию. — Да ты хоть представляешь, какой путь тебя ждет? — Судите сами. Вы знаете, хотя бы приблизительно, Риу-Бранку. Раньше по ней проходила западная граница французских владений. Вам известно также, что эта крупная река впадает в Риу-Негру на одном с половиной градусе южной широты и шестидесяти четырех градусах западной долготы. Она течет с юга на север, до Английской Гайаны. — Совершенно верно, сынок. Но на этом мои географические познания заканчиваются. — А разве вам не известно, что на этом самом пространстве лежат бескрайние прерии, которые только и ждут поселенцев? Но пойдем дальше. Между шестьдесят вторым и шестьдесят третьим градусами западной долготы и немного выше второй северной параллели начинается горная гряда, вытянувшаяся с севера на юго-восток. На шестьдесят первом градусе она распадается на две ветви, подобно вилке. Главная из них тянется с запада на восток от шестьдесят первого до пятьдесят девятого градуса. Вторая немного короче, слегка вытянута ниже первой параллели. Эта горная цепь протяженностью около ста лье. Наш хозяин работал там в прошлом году и говорит, что в высоту она достигает тысячи пятисот — тысячи восьмисот метров. Он видел многочисленные и довольно крупные реки, бегущие с ее вершин. Одни текут на север, другие — на юг. Среди первых — Ессекибо, текущая по территории Английской Гайаны, а вторая — Корентин, пересекающая Гайану Голландскую. Те, что несут свои воды к югу, впадают в Амазонку. Их названия: Риу-Урубу, Риу-Уатуман, Риу-Жамунда и Риу-Тромбетта[186]. Полагаю, это ясно, не так ли? — Как день. Продолжай. Однако, если не ошибаюсь, ты не назвал главное ответвление горной цепи… — Прошу прощения, отец. Его называют Сьерра да Луа, что значит Лунные горы. — Чудесно! Быть может, эти Лунные горы срастаются с нашим Тумук-Умак, что тянется с запада на восток вдоль второй параллели. — Думаю, что нет. Между горными хребтами существует разрыв: свободное пространство километров в сто. — Не важно. Продолжай. — Для нас интересно то, что один приток Коринтена спускается с гор Тумук-Умак, а другой — с Лунных гор. То же самое происходит с Риу-Тромбеттой. Таким образом, притоки южной и северной рек зарождаются неподалеку от Тапанаони, крупного притока Марони. — Да, сынок. Ты абсолютно прав. Такое расположение рек, одна из которых течет к Атлантике, а другая к Амазонке, для нас идеально. Это облегчает связь Лунных гор с Суринамом, с нашим поселением в Марони и с главным путем по Амазонке. — Я рад, что сумел все так хорошо объяснить. Одно из предположений удалось проверить опытным путем. Наш хозяин отправился к Лунным горам по Риу-Бранку, а вернулся по Риу-Тромбетте. — Браво! — Осталось разведать путь, что ведет в Марони. От центра Лунных гор к истоку Тапанаони. Это приблизительно двести шестьдесят километров. — Ерунда, в сущности. — Для нас это двенадцать дней пешего пути. — А на пирогах вполовину меньше. — Совершенно точно. — Так что же ты намерен делать? — С вашего разрешения, я рассчитываю, дорогой отец, пройти вверх по течению Риу-Бранку, маршрутом нашего хозяина пересечь Лунные горы, осмотреть хинные леса, составить карту тех мест и вернуться в Марони по Тапанаони. Что скажете? — Никаких возражений. Твой план великолепен. Подписываюсь обеими руками. — Спасибо, отец! Спасибо, дорогой мой! Другого я и не ожидал. Отправляться нужно как можно скорее. Если вдруг я и не найду хины, то удовлетворюсь, по крайней мере, тем, что сотру еще одно белое пятно с географической карты, открою путь, по которому после нас пойдут другие. — Вы найдете хину, сеньор, — внезапно прервал его управляющий фазендой, крепкотелый мулат по имени Хозе, с первых дней проникшийся симпатией к поселенцам. — Я вместе с хозяином был на Лунных горах и знаю, о чем говорю. Можете взять меня с собой. Я шесть лет добывал хину в Боливии. Если хозяин согласится, проведу вас. Угодно ли вам принять мои услуги? — С радостью, дорогой Хозе! Если, как я надеюсь, наш милый хозяин согласится обойтись некоторое время без вас, вы меня очень обяжете. Обещаю полную компенсацию. — Вы честный человек, сеньор! Но о деньгах поговорим, когда вернемся с удачей. Шарль продолжал: — Я возьму с собой Винкельмана. Он хорошо акклиматизируется, а кроме того, никто лучше его не знает леса. Думаю взять и Маркиза… — О, благодарю, месье Шарль. Очень мило с вашей стороны. — Ну, а теперь, если позволите, отец, обговорим все детали нашего будущего. Вы не считаете, что необходимо реорганизовать добычу каучука? — Ей-богу, сынок, ты вьешь из меня веревки. Но я буду неблагородным стариком, если скажу, что это к худшему. Ты всегда находишь такие верные доказательства и основания, что мне кажется: по-другому и быть не может. Конечно, мы все займемся этой реорганизацией. И чем скорее с ней справимся, тем будет лучше. Однако должен предупредить тебя, что многое разрушено. — Вы все восстановите, не так ли? — Не думаешь ли ты, что надо бы перенести селение выше от места катастрофы? — Хорошая мысль. Я целиком и полностью полагаюсь на ваш опыт и предоставляю вам полную свободу действий, пока мы будем охотиться за хиной. Что касается Фрица и Раймона, они вольны сами решить, когда окончательно поправятся, добывать ли каучук здесь или же отправиться с вами работать на Марони. А могут стать скотоводами, золотоискателями или кем им будет угодно. Тут ли, в Марони ли им обеспечен братский прием. Выбор за ними.
__________
Неделю спустя трое компаньонов, в помощь которым хозяин фазенды любезно предоставил управляющего Хозе, морем отправились в Макапа, где их ждал корабль в Манаус. Прибыв в столицу провинции Амазония, они узнали, что владелец одной из лодок, приплывших недавно по Риу-Бранку с грузом крупного рогатого скота, умер от оспы. Индейцы — члены экипажа — очень горевали, так как им ничего не заплатили и никто не хотел отправить их обратно домой. Узнав о том, что у покойного осталась большая семья в Боа-Виста, селении на берегу Риу-Бранку, Шарль купил лодку и обещал обеспечить семью несчастного. С другой стороны, продажа скота принесла кругленькую сумму, которая пошла на закупку продуктов и товаров, а также на оплату труда индейцев. Хозе назначили капитаном. Обрадованные таким неожиданным поворотом событий, индейцы вызвались верно служить ему и привести лодку в Боа-Виста. Они проделали путь вдоль берегов Риу-Негру и прибыли в верховья Риу-Жауапери, где мы и застали их и где произошли необыкновенные события, описанные в предыдущей главе.Один из индейцев, которого капитан расспрашивал о случившемся ночью, ответил довольно странно: — Мы съели бишо де такера и превратились в канаемес. Маркиз не смог удержаться и звонко расхохотался, хотя ситуация вовсе не располагала к веселью. — Вот уж поистине дикарь, — произнес парижанин, не в силах побороть смех. — Хочет сказать, что можно сделаться канаемес столь простым способом! Съел не то что надо — и стал профессиональным убийцей! Начал мастерить дудочки из человеческих костей! Мне доводилось слышать всякие бредни о влиянии внешних сил на человеческую судьбу. Вот, например: говорят, что кларнетисты обязательно в конце концов слепнут… Те, кто носит одежду из черного бархата, становятся людоедами… Пьемонтцы обязательно шарлатаны, а поляки всегда несчастны. Теперь можно добавить к этим небылицам еще одну: съешьте бишо де такера — и вы станете канаемес!.. Вот и вся мораль. Странно! Странно!.. — Вы напрасно смеетесь, сеньор Маркиз, — возразил капитан Хозе. — Это абсолютная правда. Вам известно, что такое бишо де такера? — Да нет. Я ничего об этом не знаю. — Если желаете, я расскажу. — Прошу, прошу вас. — Здесь в некоторых местах растет особый вид тростника. Его очень и очень много. А на нем обитает гусеница, которой некоторые местные племена с удовольствием лакомятся. — Своеобразный вкус! — Но, сеньор, ведь вы отнюдь не находите смешным, что в вашей благословенной Франции белые люди охотно едят лягушек и улиток. — Вы правы, конечно же, правы… Это старая история: у другого в глазу соринку заметишь, а у себя бревно не разглядишь! — Из выделений этой самой гусеницы индейцы умеют готовить экстракт, называемый бишо де такера. Это специфический соус, которым они приправляют свои кушанья. Конечно, происхождение его малоаппетитно, однако соус этот не оказывает никакого ядовитого действия. Но иногда индейцам случается проглотить и самого червяка целиком, с внутренностями. Вот тогда-то они моментально как бы пьянеют. С ними происходит нечто подобное тому, что чувствуют курильщики опиума. Реальный мир совершенно преображается. Они оказываются в сказочных лесах, где каждая охота приносит невероятный успех. Деревья в этих лесах покрыты вкусными плодами, цветы там великолепны. Жалкие хижины превращаются в роскошные дворцы, обитатели которых наслаждаются радостями жизни. Сами понимаете, что индейцы не упускают случая попробовать эту гусеницу. Они, надо вам сказать, необыкновенные обжоры. Если уж за что взялись… Насекомых этих здесь много, а жажда вновь и вновь испытать приятные ощущения у краснокожих велика. Так как народ они дикий, желания и мечты у них тоже дикие, вот вам и результат. Действие этого вещества — совершенно ошеломляюще. У человека начинается нервная дрожь, сознание его мутнеет, чувства притупляются — это бишо! В довершение скажу, что, если отделить от гусеницы голову и вычистить внутренности, она абсолютно безвредна, а приготавливаемый индейцами соус — прекрасная добавка в мыло или косметический крем. Вот, господа, и все, что мне известно о бишо. — А самому вам приходилось его пробовать? — спросил Маркиз, и в тоне его послышалось некоторое недоверие. — Да, сеньор, всего один раз. После этого я твердо зарекся никогда больше не делать этого. — Отчего же? — А оттого, что, одержимый безумной яростью, я едва не перерезал горло моему хозяину и благодетелю. — Черт возьми! Да это, пожалуй, серьезно. Ну, хорошо. Я не слишком любопытен, и тем не менее много отдал бы, чтобы узнать истинную причину подобного действия. Как объяснить этот феномен? — К сожалению, я не в состоянии удовлетворить ваше любопытство. — Очень жаль. А вы, месье Шарль, можете ли найти объяснение? — Думаю, да, дорогой Маркиз. — Я весь внимание. — Говоря несколько минут назад о некоторых гастрономических пристрастиях наших с вами соотечественников, сеньор Хозе упомянул об улитках. Любите ли вы улиток, Маркиз? — Под бургундское вино — обожаю. — Умеете ли вы приготовить их как следует? — Затрудняюсь. — Известно ли вам, по крайней мере, что перед тем, как употреблять улиток в пищу, их недели две не кормят? — Конечно. — Почему? — Признаюсь, не могу ответить на ваш вопрос. — Все очень просто. Это делается для того, чтобы очистить их организм от разных веществ, которые они усвоили с пищей. Эти вещества, безвредные для животных, могут оказаться опасными для человека. Сколько раз плохая подготовка становилась причиной серьезных отравлений. Знаете ли вы, что эти подчас назойливые гости наших садов пожирают листья цикуты[187], волчьего лыка[188], белены[189], белладонны и при этом чувствуют себя прекрасно? Теперь представьте, что некий гурман съел улитку сразу же после ее трапезы. Что с ним произойдет? — Он отравится, потому что съест цикуту, волчье лыко, белену и белладонну практически в натуральном виде. — Вы абсолютно правы! Известны ли вам симптомы отравления белладонной? — Должен вновь признать, что эта область — пробел в моем образовании, месье Шарль. — Эти симптомы ужасны! Расширение зрачков, исступленное, бешеное веселье, безудержная болтливость, пение, смех, танцы. Такое впечатление, что человек пьян. Он судорожно жестикулирует, гримасничает. Его одолевают галлюцинации. И в конце концов наступает горячка! — Да, мягко говоря, картина ужасная. Мне кажется, что вчера мы наблюдали нечто похожее. — Таковы симптомы отравления белладонной или улитками, которых поленились выдержать на голодном пайке. — Вы хотите сказать, что бишо де такера, которым питаются краснокожие, содержит вещества аналогичных растений? — Безусловно. Не случайно же, если они не хотят подвергнуться опьяняющему воздействию, то перед употреблением хорошенько очищают гусениц от внутренностей. — Благодарю вас, месье Шарль. Вы дали нам исчерпывающие разъяснения. Так вот что послужило причиной вчерашней сумасшедшей оргии! Но я тем не менее не понимаю, каким образом бишо превратило их в канаемес. — Право же, не будьте наивным. Очевидно, в мозгу несчастных дикарей из поколения в поколение выработался страх перед кровожадным племенем, убивающим только ради убийства, подобно некоторым сектам в Индии. Под действием яда эта идея стала в их мозгу преобладающей, почти манией, иони решили, что превратились в канаемес. Виной всему страх. Он порождает самые невероятные галлюцинации. В этом, как мне кажется, логичное и простое объяснение. — Как вы думаете, настоящие канаемес употребляют бишо, когда отправляют свои дикие ритуалы? — Вы слишком многого от меня требуете, друг мой. Однако тут нет ничего невозможного. Не исключено также, что мы еще проверим это на деле. Во всяком случае, можно сказать, что прецеденты существуют. Разве не такое же действие оказывает индийская конопля[190], известная на Востоке как гашиш? Человек, опьяненный зельем, слепо выполняет любой приказ хозяина… В эту минуту капитан прервал занимательную беседу. Вода, по которой с трудом двигалась лодка, все заметнее светлела. — Риу-Бранку, сеньор, — объявил мулат.
ГЛАВА 4
Тревога. — Нечаянная встреча. — Крушение. — Двое несчастных. — Шибе. — Маркиз готовит тоник. — Спасены! — Драма на Риу-Негру. — Бегство и покушение на убийство. — На мели. — Спасение шлюпа. — Полный назад! — Удар. — Все в порядке. — Бенто и Рафаэло. — Их история. — Буксир. — Уба. — Старая индианка и больной ребенок. — Помогите! — Загадочный разговор. — Амулет. — Сомнения сеньора Хозе.Вчерашнее чудовищное опьянение, казалось, полностью выветрилось. Канаемес-любители, как их отныне называл Маркиз, чувствовали лишь легкое головокружение и некоторую дрожь в конечностях. Тем не менее это не мешало им работать во всю силу, и даже за тех своих приятелей, кого они ночью, в порыве бешенства, под парами бишо, так бессовестно съели. Слава Богу, что им не пришло в голову перерезать глотку самим себе и они ограничились лишь тем, что обглодали трупы убитых. От одной этой мысли кидало в дрожь. Такой исход мог иметь для белых кошмарные последствия, первое и наиболее безобидное из которых — что они со своей лодкой застряли бы на очень негостеприимных берегах Риу-Негру. Сегодня невозможно было поверить, что индейцы, покорные, флегматичные, работавшие добросовестно, но без энтузиазма, словно привыкшие к тяжелой ноше клячи, накануне представляли собой грозную опасность. О канаемес речи больше не заводили. Краснокожие, похоже, просто позабыли об этом случае, как, кстати, и о дудочках из человеческих костей. Однако успокоение, купленное ценой смерти троих индейцев, длилось недолго. Лодка, которую подталкивали сзади и волокли спереди, вскоре вошла в широкое устье Риу-Бранку. И тут капитан заметил нечто, напоминавшее смертельно раненного кита. Бесформенная темная масса покоилась поверх густой тины довольно далеко, что не давало рассмотреть ее как следует. Все насторожились. Пассажиры вышли из своих укрытий, не забыв прихватить оружие, и вместе с капитаном старались разглядеть таинственный предмет, по-прежнему остававшийся неподвижным. Они медленно приблизились, и Маркиз, острому зрению которого поражались даже индейцы, заключил, что это паровой шлюп, севший на мель. Он уверил, что видит в хвосте топку. Однако лодка была сильно накренена, очевидно, из-за пробоины. Подошли еще ближе. Сомнений быть не могло. Маркиз оказался прав. Капитан взял курс прямо к месту крушения, зацепился с помощью ганчо за остов лодки и подтянулся, да так сильно, что послышался удар борта о борт. Не теряя ни секунды, капитан прочно привязал свое судно и, в сопровождении Шарля, отправился на потерпевший крушение шлюп, где царила мертвая тишина. На первый взгляд машина показалась им невредимой. Все было на местах, ни малейших следов разграбления. Цинковый навес в полном порядке, только одна железная подпорка слегка погнута. Не найдя с первого взгляда никаких указаний на причину катастрофы, капитан и Шарль продолжили осмотр, как вдруг до слуха их донеслись сдавленные стоны. Звук раздавался из крошечной рубки на корме. Они осторожно подошли ближе и обнаружили на промокшем куске ткани двух связанных по рукам и ногам мужчин. Разрезать путы, не дававшие пленникам вздохнуть полной грудью, вынести пострадавших на свежий воздух было для здоровяков секундным делом. К ужасу своему, они увидели белых. Несчастные совершенно обессилели. Ноги и руки их, грубо стянутые до того веревками, затекли; мутные, остекленевшие глаза ничего не выражали; губы посинели. Они едва-едва смогли прошептать слова благодарности. По тому выражению искреннего сочувствия, которое бедняги заметили на лицах неизвестных людей, они поняли, что спасены. Вскоре послышался стон: — Пить!.. Шарль побежал к себе, размешал в котелке воду пополам с водкой, вернулся на борт шлюпа и заставил еле живых страдальцев выпить несколько глотков. Мало-помалу тонизирующая смесь сделала свое дело. По мере того как пострадавшие пили, щеки их становились розовее, взгляд приобрел осмысленное выражение, вернулся дар речи. Когда голос окреп, они смогли громко произнести слова благодарности. Глаза их выражали смущение и невыразимое страдание. — Да они умирают с голода! — осененный догадкой, вскричал Шарль. — Вы, пожалуй, правы, сеньор, — отвечал капитан. — В таком состоянии им нельзя есть что-нибудь тяжелое… — Предоставьте это мне и не беспокойтесь. Я приготовлю шибе. Они без труда смогут проглотить это. Шибе подействует как самый наваристый черепаховый суп. Приготовление шибе — дело простое и не требует особых кулинарных познаний. Все, что нужно — это котелок, пригоршня маниоковой муки грубого помола и немного воды. Размешивают муку в воде так, чтобы не получилось чересчур жидко. А потом пьют. Нашим гурманам[191] такое и не снилось. Кушанье без вкуса и запаха, неясного желтоватого оттенка, напоминающего цвет древесных опилок. Зато легко усваивается и очень питательно. Трудно придумать что-нибудь более подходящее для человека, умирающего от голода. Шарль по опыту знал, что истощенным нельзя сразу перегружать желудок. Поэтому всеми силами уговаривал голодных потерпеть и дождаться того момента, когда можно будет подкрепиться чем-нибудь более существенным. Индейцам вынужденное безделье пришлось по нраву. Случай позволил отдохнуть. Равнодушно взглянув на изможденных людей, они растянулись под жарким солнышком и заснули. С помощью друзей Шарль перенес неизвестных в лодку, снял промокшую одежду, растер руки и ноги, которые начали понемногу теплеть. Людей облачили в теплые панталоны и шерстяные рубашки. Маркиз принялся готовить для них добрый матросский суп: бутылка бордо[192], несколько кусочков сахара и покрошенный бисквит. — Глядите-ка, это будет получше вашего шибе. — Не смею возразить, сеньор Маркиз. Я бы не прочь оказаться больным, чтобы меня попотчевали этим нектаром[193], — отвечал мулат, которому хорошо был знаком тонкий вкус бордо. Благодаря заботливому уходу двое неизвестных быстро стали набирать силу. Они могли уже сидеть без посторонней помощи. Говорить им было, правда, трудно. Но все-таки они вновь произносили слова благодарности и признательности. Подкрепившись варевом, приготовленным Маркизом, незнакомцы совсем пошли на поправку, улеглись в гамаки и заснули наконец крепким спокойным сном. Три часа спустя их разбудил голод. — Ну, как поживают наши больные? — весело обратился к ним Маркиз, который все время, пока они спали, занимался приготовлением настоящего праздничного обеда. — Месье Шарль, Винкельман, сеньор Хозе, к столу! Скорее! А то остынут все эти волшебные яства. Трое мужчин, до сих пор детально осматривавшие шлюп и решавшие, что необходимо предпринять для его ремонта, тотчас пришли на зов и не могли скрыть радости при виде гостей, еще слабых, но уже державшихся на ногах и готовых разделить трапезу с остальными. Молодые люди с правильными чертами лица, смуглые, были похожи на португальцев. Черные прямые волосы, лучистые, выразительные глаза… Старшему, пожалуй, не больше тридцати, а младшему от силы двадцать пять. История потерпевших оказалась короткой и драматичной. Один из них, тот, что помоложе, сын именитого коммерсанта из Манауса, — хозяин шлюпа. Гонимый желанием изучить прибрежные прерии в верховьях Риу-Бранку и выяснить, насколько эти места пригодны для разведения скота, он два месяца назад вместе со своим компаньоном-механиком, четырьмя неграми и шестью индейцами отправился в плавание. Путешествие удалось, и, довольный его результатами, молодой человек возвращался в Манаус, мечтая о быстром и легком обогащении. На подходе к Риу-Негру, то ли из-за сильного течения, то ли еще по какой причине, шлюп на полном ходу сел на мель. Избежать этого было практически невозможно. Люди делали все, чтобы сняться с мели. Но тщетно. Поскольку ждать, пока прибудет вода, было немыслимо, решили, что на следующий день механик отправится на берег вместе с четырьмя гребцами и постарается привести помощь из деревни мура. К счастью, селение находилось неподалеку. Но все получилось совсем иначе. Когда наступила темная ночь, негры и индейцы сговорились, напали на спящих, связали их, сложили всю провизию в бортовые шлюпки, которые всегда имеются в запасе на всякий случай, и разбежались в разные стороны, оставив несчастных бразильцев умирать от жары, голода и жажды. Так пролежали они два дня и две ночи, пока Провидение не послало им чудесное избавление в лице пассажиров бателао. Шарль и его компаньоны, равно как и двое бразильцев, полагали, что и само крушение явилось следствием злого умысла чернокожих и индейцев. Последним не на что было пожаловаться на протяжении всего плавания. Однако они никак не могли дождаться того момента, когда им заплатят. До этого оставалось каких-нибудь два дня, но для них это была целая вечность. Ничего не имело значения для этих людей: ни доброе обращение, ни то, что хозяин и механик делили с ними поровну тяготы и заботы все два месяца пути. Бесчестность и скаредность, хищнический инстинкт и живущая в крови тяга к дезертирству — вот что руководило ими и заставило напасть на беззащитных спящих. Старая история. Негодяям неведома верность своему слову, для них законы чести не писаны. Когда бразильцы наконец совсем оправились, они стали обсуждать с новыми друзьями возможность ремонта шлюпа. Несмотря на очевидные трудности, их план все же не казался абсолютно невыполнимым. Конечно, вдвоем молодые люди ничего не сумели бы сделать. Но теперь на помощь пришел весь экипаж лодки: семеро индейцев, капитан, трое европейцев — это уже что-то. Общими усилиями они, пожалуй, смогли бы добиться успеха. Было решено начать ремонт как можно скорее. Шарль хорошо разбирался в подобного рода делах, ему частенько приходилось снимать суда с мели. Ведь реки в этих краях так капризны. Он неоднократно руководил работами по спасению терпящих бедствие лодок и шлюпов. Прежде всего он считал необходимым завести машину, чтобы развить возможно большую тягу. Задача казалась несложной — топлива сколько угодно. Кругом деревья, так что за дровами далеко ходить не надо. Но вот что было делать с потопленной частью корпуса? Берег слишком далеко, канатом шлюп не привяжешь… Шарль послал капитана, с тем чтобы тот забросил якорь ниже по течению. Когда все было готово, в топке развели огонь, запустили машину. Оставалось лишь выяснить, не запутался ли винт в ряске и может ли свободно вращаться. Механик убедился, что все в порядке, и с облегчением доложил об этом Шарлю. Пар давил на клапаны. Наступил решающий момент. — Полный назад! — скомандовал молодой человек, и в голосе его послышалось волнение. Механик взялся за рычаг управления и с силой рванул его. Пар со свистом вырвался наружу, поршень заработал, лихорадочно, словно пульс тяжелобольного, винт начал вращение, вздымая водяные буруны и разбрасывая ряску. Якорная цепь натянулась, но держала крепко. — Полный! — вскричал Шарль. Винт работал как сумасшедший, судно дернулось, задрожало всем корпусом. Казалось, что оно уже скользит, покидая насиженное место. Но нет. Это только показалось. — Машина работает вовсю, не так ли? — спросил Шарль. — Так точно, месье! Но мы не движемся с места, — отозвался механик. — Ничего! Попытаемся еще раз. Сменим клапаны. — Дьявол! — Что случилось? — Цепь вот-вот разорвется. — Ба! И верно. Остановите машину. Подождем. У нас есть еще кое-что в запасе. Шарль отыскал вторую цепь такой же длины, закрепил ее на корме шлюпа, другой конец бросил своим людям на лодке, которая качалась на воде по правую сторону, и сказал капитану: — Пусть все схватятся за этот конец и по моей команде тянут что есть мочи. Понятно? — Так точно, сеньор. — Дайте каждому по кружке водки и будьте готовы. — Есть! И вот во второй раз прозвучала команда: — Полный назад! Потом: — Тяни, ребята! И наконец: — Полный! Под действием двух сил шлюп слегка подался назад и сдвинулся с места. Вскоре он уже медленно плыл, выбираясь из плена. — Молодцы, ребята! Вы заработали славную выпивку! Воодушевленные похвалой и обещанием хозяина, индейцы тянули изо всех сил. Винт работал на полную мощность. Шлюп проплыл еще немного, а потом внезапный сильный толчок сбил с ног Шарля, механика и всех, кто находился на лодке. — Должно быть, цепь все же порвалась или якорь сорвало, — сказал Шарль, поднимаясь. — Ни то, ни другое, сеньор, — весело ответил механик, останавливая машину. — Просто шлюп сошел наконец с мели. — Браво! Теперь, господа, все в порядке. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Отпразднуем же радостное событие! Пожелание было исполнено незамедлительно, все предались беззаботному веселью. Да и было отчего ликовать: удалось справиться с непростой задачей, преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности. Но оставалась еще одна проблема, и тоже немаловажная. Что станет с бразильцами? Ведь теперь экипаж шлюпа — только они двое. Попытаются ли храбрецы, рассчитывая лишь на собственные силы, спуститься по Риу-Негру к Манаусу или отправятся в деревеньку мура в надежде найти там нескольких добровольцев, которые согласились бы сопровождать их? У молодых людей хватило бы смелости вступить в борьбу с быстрой рекой, усеянной островами и крошечными островками, засоренной упавшими деревьями, вязкой тиной и на каждом шагу таящей неожиданные опасности. Но это было бы безумием. С другой стороны, Шарль не мог сократить собственный экипаж, и без того уже поредевший. Немыслимо было отдать бразильцам троих или четверых индейцев, необходимых для безопасности путешествия на шлюпе. Неожиданно один из молодых людей спросил: — Вы собираетесь нас покинуть? Что до меня, то мне ваша компания по душе, и было бы жаль расстаться с вами. — Что вы хотите этим сказать? — поинтересовался Шарль. — Только то, что в мои планы не входит отправиться ни в Манаус, ни в деревню. Что скажете, Бенто? — обратился он к механику. — Воля ваша, сеньор Рафаэло. — Мы возвращаемся в Боа-Виста, — продолжал бразилец. — Вы шутите? — удивился Шарль. — Совсем наоборот. Это очень просто: мы берем на буксир вашу лодку с помощью этого великолепного каната, прочность коего проверена на деле. Ваши люди заготовят необходимое количество дров для топки, мой друг Бенто с присущим ему старанием и умением будет следить за машиной, ваш капитан займет свое место, индейцы устроятся в лодке. Таким образом, мы пройдем Риу-Бранку дней за пять вместо двадцати. К тому же с меньшим напряжением сил. Прибудем в Боа-Виста, я наберу новый экипаж, и уж тогда нам — увы! — придется расстаться, к моему огромному сожалению. Каждый займется своим делом. Мы с Бенто вернемся в Манаус, а вы отправитесь навстречу неизвестности. Вот, дорогой мой спаситель, реальный план. Ваш покорный слуга и всем обязанный вам Рафаэло Магаленс надеется, что вы найдете его приемлемым. Не так ли? — Вы настоящий друг, — ответил Шарль, — мне даже неудобно… — Вновь оказать нам услугу?.. Это вы хотели сказать? — Вовсе нет… Ведь мы всего в нескольких часах пути от деревни мура, где вы могли бы, вне всякого сомнения, найти нужных людей и пополнить экипаж. — А я вам говорю, что предпочитаю вернуться в Боа-Виста. Полагаю, что вы не станете мне препятствовать? Не правда ли? — Конечно! Пусть будет так. Ваше предложение, друг мой, так благородно, что я не смею далее спорить. — Ну и замечательно! Отбываем сей же момент. Или, может быть, подождем до завтра? — Сейчас три часа дня. Думаю, что лучше все-таки провести ночь здесь. — Как вам угодно. Смотрите-ка! Похоже, к нам спешат с визитом. — Почему вы так решили? — Разве вы не видите лодочку, вон там, за тем островком? Она направляется прямо к нам. — Действительно! Вы абсолютно правы. Такая малюсенькая, что над водой почти не заметишь. Я бы принял ее за крокодила, что собрался поохотиться. Рафаэло не ошибся. Одна из микроскопических речных лодчонок, настоящая амазонская байдарка, управляемая единственным гребцом, быстро скользила по волнам, приближаясь к шлюпу. Сделанная из цельного ствола дерева, — почему она и называется уба, то есть дерево, — длинная, словно щука, эта лодка на редкость маневренна и способна появляться совершенно неожиданно. Индейцы используют такие лодки для плавания по мелким речкам и каналам, но не боятся бороздить на них и грозные воды Амазонки или ее мощные притоки. В руках опытного гребца уба творит истинные чудеса. Со скоростью речной рыбы лодка приблизилась и причалила к борту шлюпа. — Да в ней женщина! — воскликнул Шарль, пораженный увиденным. Хозяин лодки в действительности оказался хозяйкой. Эта была старая индианка с увядшим лицом, одетая или, вернее, завернутая в клочок хлопчатобумажной ткани, какие часто используют здешние обитательницы. На носу лодки, под навесом из банановых листьев, лежал ребенок лет семи-восьми, бледный, худенький, изможденный, дрожавший всем телом, несмотря на нестерпимую жару. — Чего тебе, старуха? — обратился к женщине капитан. — Поговорить с белым. — Здесь белый не один. — С тем, кто главный. — А что ты хочешь ему сказать? — Не твое дело, неотбеленный! — Старуха не слишком-то приветлива, — проворчал сеньор Хозе, очень гордившийся тем, что в нем текла и белая кровь, но, с другой стороны, не терпевший никаких издевательств над своими темнокожими предками. — Ладно, старуха, поднимайся, — скомандовал Рафаэло, подавая ей через борт веревочную лесенку. Женщина взяла ребенка и, посадив его на закорки, ловко взобралась на палубу. — Откуда ты? — спросил молодой человек. — Оттуда. — Женщина махнула рукой в сторону леса. — Когда приехала? — Утром. — Зачем? — Увидеть белых. — Что тебе нужно от них? — У ребенка сильная лихорадка. Колдуны не могут спасти его. У белых есть лекарства. Спасите малыша. Вот, я привезла вам бананы. — Несчастная, — прошептал растроганный Шарль. — Но у нас нет лекарств, — сказал Рафаэло, — все украли негры и индейцы. — К счастью, у меня осталось немного хинина, — прервал его Шарль и сделал знак Хозе, чтобы тот сходил за аптечкой. — Быть может, я и ошибаюсь, — шепнул Хозе Шарлю, — но, сдается мне, старуха темнит. Неспроста эта чертовка вертит головой и пялит глаза на шлюп и нашу лодку. И вид-то у нее какой-то вороватый. Бог мне судья, но, сдается, она пришла посекретничать с нашими индейцами. Поверьте, сеньор, надо быть настороже. — Вы преувеличиваете, дорогой мой, ваше предубеждение к индейцам, право же, несправедливо. Капитан, ворча что-то себе под нос, удалился и спустя несколько минут вернулся, держа в руке ящичек с лекарствами. Шарль взял два десятка пилюль, четыре из них дал проглотить малышу, а остальные оставил старухе, объяснив ей предварительно, как и что нужно делать. — Этот огненный корабль — твой? — спросила женщина, внимательно выслушав наставления. — Нет. А почему ты спрашиваешь? — Чтобы знать. Возьми бананы. Ты добрый. Ребенок выздоровеет. Канаемес не сделают тебе ничего плохого. — Здесь есть канаемес? — Не знаю. — Почему же ты говоришь о них? — Так. Прощай! — Ты уходишь? — Да. Вновь усадив ребенка на закорки, она уже перелезла за борт, но вдруг передумала. Сняв с шеи ожерелье из зубов обезьяны с крупным костяным амулетом, она надела его на Шарля и добавила: — Не расставайся с этим ожерельем. Никогда. Слышишь? Никогда! Прежде чем пораженный случившимся Шарль успел что-нибудь понять, старуха проворно спустилась по веревочной лестнице, спрыгнула в свою лодку, взялась за весло и начала грести с такой силой, что лодка понеслась, точно стрела. — Убирайся, старая колдунья, шпионка, отправляйся к тем, кто тебя послал, расскажи им, что ты видела. Пусть придут сюда, когда все спят, и сделают музыкальные инструменты из наших костей! Пусть небо покарает меня, если я сегодня сомкну глаза хоть на миг. Проклятый край! — Бедный мой Хозе, — попытался успокоить мулата Шарль, — это все ваши фантазии. Вы несправедливы к несчастной старухе. — Если не опасаться их дьявольских хитростей, можно дорого поплатиться. Вы ведь знаете только индейцев тапуйес, что живут на побережье. С ними еще можно иметь дело. Но вот что вы скажете, когда познакомитесь с краснокожими из Чащоб! Надеюсь, утром все будет в порядке и мы сможем незамедлительно убраться отсюда. Хорошо бы оказаться где-нибудь подальше. Мне здесь, право, не по себе. Поверьте, сеньор, все это неспроста. Надо быть начеку, не то попадем в переделку.
ГЛАВА 5
Экваториальная ночь. — Ни рассвета, ни сумерек. — Двенадцать часов сна — это чересчур. — Опасения. — Вахта. — Часовые спят. — Кайманы. — Странное поведение. — Канат порван. — Выстрел. — К оружию! — Индейцы в замешательстве. — Абордаж. — Неравный бой. — Прижаты. — Над пропастью. — Огненный шквал. — Свет! — Мертв или ранен. — Хозе обязан спасением свечке.Среди прочих удивительных вещей, не знакомых жителям умеренных широт, коих судьба никогда не забрасывала в экваториальные страны, — та внезапность, с которой день в этих краях сменяется ночью, а ночь — днем. Здесь почти не бывает рассвета и сумерек. За несколько минут до шести часов вечера огромное, раскаленное, похожее на исполинский факел солнце освещает верхушки гигантских деревьев. Но тому, кто хотел бы продлить эти мгновения, кому привычны наши долгие летние вечера, странно заметить вдруг, что горизонт потемнел, стал сначала фиолетовым, потом серым, и за каких-нибудь двадцать минут ночная тьма пришла на смену ясному дню. Трудно говорить о заходе солнца. Так бывает, скорее, когда разом гасят огни рампы в театре перед началом спектакля. Летом, так же, как и зимой, начиная с 1 января и вплоть до 31 декабря, продолжительность ночи не меняется: все те же двенадцать часов. Затем, незадолго до шести часов утра, примерно минут за двадцать, недавняя чернота на глазах сереет. Восход столь же стремителен, как и заход. Над верхушками леса появляется пурпурная полоса, а у подножия деревьев еще царит мрак. Несколько мгновений ночные сумерки и дневной свет как бы борются между собой, но в конце концов обнаруживаешь, что круглое, словно бильярдный шар, солнце уже раскалено добела́. Если европеец, смущенный поначалу такими мгновенными, на глазах совершающимися переменами, не сумеет сразу же освоиться с их внезапностью, которая тоже имеет свою прелесть, то ему нелегко будет привыкнуть и к долгой, кажется бесконечной, ночи. Для некоторых это истинное наказание. Когда утомившийся за время долгого пути по непроходимым лесам, уставший за целый день путешествия на пироге человек хочет использовать вечерние сумерки для того, чтобы разбить лагерь, развести огонь, повесить гамак и приготовить ужин, неожиданно наступающая непроглядная экваториальная ночь ломает все его планы. Ночь — это драгоценный, честно заработанный отдых, подкрепляющая силы остановка. Это всемогущий аргумент, заставляющий самого трудолюбивого прекратить работу. Первые ночные часы удивительно приятны для человека, чьи руки и поясница ноют, а в глазах уже появились красные круги. Вот он с аппетитом поужинал, выкурил несколько сигарет подряд, перекинулся словечком с неграми или индейцами, кое-что записал, подбросил дров в костер, пригласил всех отдохнуть и, наконец, растянулся в гамаке, слегка раскачав его. А ведь еще нет и восьми часов. Мало-помалу — и гамак остановился, наполовину выкуренная сигарета погасла… Человек уносится в страну снов. Напрасно обитатели диких лесов на все голоса, кто во что горазд, затевают свою симфонию. Ревуны, выпи, гигантские лягушки, ягуары, олени, кабаны могут реветь, мычать, мяукать, завывать сколько угодно. Ничто не в силах прервать сон — за него, право же, дорого было заплачено! Сначала все идет хорошо. Но наступает полночь. Дневная жара сменяется относительной прохладой. Это значит, что столбик термометра опускается на два-три градуса. Такая легкая перемена оказывает на организм спящего своеобразное действие. Он просыпается, выскакивает из гамака и вдыхает ночную свежесть всей грудью. Ведь целый день дыхание его стеснено из-за невыносимой жары и духоты. Затем человек вновь укладывается в гамак, чтобы забыться в сладкой дремоте. Но не тут-то было. Сон нарушен, и теперь с этим уже ничего не поделаешь. Путешественник проспал уже добрых шесть часов, немного отдохнул, и тело его уже не в состоянии находиться в неподвижности. Пронзительная какофония лесных голосов, до сих пор неслышная, мешает сомкнуть глаза и вспомнить, что снилось перед тем, как он так неосмотрительно вскочил. Человек начинает страшно ругаться и судорожно вертеться в гамаке. Зажигает огонь, подносит свечу к часам, и ему начинает казаться, что они не в порядке. Тогда он курит сигарету за сигаретой и все больше нервничает. А часы между тем идут нестерпимо медленно. Его люди, проснувшиеся по той же самой причине, ходят туда-сюда без всякого толку, ложатся, опять встают, крутятся, стонут, охают, ворчат, ругаются и, наконец, принимаются переговариваться между собой, чтобы скоротать время. Сам хозяин неотрывно смотрит на огонь, как будто хочет его загипнотизировать, наблюдает за прилетевшими на свет бабочками и летучими мышами. А то производит ревизию звезд на небе или просто считает до тысячи в слабой надежде заснуть. Так проходит время часов до четырех, а иногда и до наступления дня. Под утро сон наконец сморит людей, но нужно вставать, готовить завтрак, складывать багаж и сворачивать лагерь. Только закаленный, привыкший к лесной жизни человек без особых трудностей переносит подобные испытания. Лишь его каждую ночь не мучает бессонница, доводящая до исступления. Но, с другой стороны, ночь здесь длится двенадцать часов! Надо быть законченным сурком, чтобы проспать столько времени. Вопреки твердому решению дежурить по очереди на лодке и на борту шлюпа, трое европейцев, двое бразильцев и мулат, утомленные тяжелой дневной работой, в конце концов крепко уснули. Маркиз, Винкельман, Бенто и Рафаэло устроились на шлюпе, стоявшем на якоре. Было решено сменять друг друга каждый час. Шарль, Хозе и индейцы остались на лодке, которую с помощью каната привязали к шлюпу. Шарль обещал, что будет дежурить два часа, а затем разбудит Хозе. Но мулат, у которого в глазах все стояла «ведьма»-индианка, был во власти дурных предчувствий и боролся с дремотой. Капитан старался особенно не надоедать своим компаньонам и решил всю ответственность взять на себя. Несмотря на договоренность, он не хотел спать, чтобы не пропустить опасности. — Вот увидите, сеньор, — повторял он без конца, — эта старая чертовка — шпионка. Поверьте мне. Все говорит об этом. Помните ее беспокойный взгляд? Она все время что-то вынюхивала. Когда вы с ней разговаривали, у нее глаза воровато бегали. Убежден, что она подавала какие-то знаки нашим людям. К сожалению, не знаю, какие именно. А разве она не спросила вас, чей это шлюп? — Ну, и о чем же это говорит? — О том, что, если те, кто ее послал, не причинят зла вам лично, ничто не помешает им разделаться с вашими друзьями и компаньонами. — В таком случае, наверное, лучше было бы сказать, что шлюп мой? — Конечно. Если у этой старой карги осталась хоть капля признательности за то, что вы помогли ее ребенку, она, возможно, сумела бы вам помочь. Потому что в душе и в мозгу у нее — если только можно говорить о них применительно к этим дикарям — засело уважение к вам одному. Но это вовсе не помешает ей привести сюда головорезов, которые послали ее шпионить. — Возможно, вы и правы, — заключил молодой человек, которого неколебимая уверенность мулата тоже начала беспокоить. — Хорошо! Будем внимательны, как будто нам действительно грозит серьезная опасность. Это ведь не малодушие, а осторожность, не так ли? Нас достаточно много, есть оружие, и никто из нас не трус. С этими словами Шарль и Маркиз заняли свои посты, один на лодке, а другой на шлюпе. Остальные улеглись спать. Шарль положил в карман своей шерстяной куртки револьвер, прихватил карабин и устроился на носу так, чтобы хорошо видеть все, что происходит по обоим бортам. Вскоре поднялся легкий ветерок и разогнал тучи комаров, оставивших наконец в покое людей. Это на первый взгляд приятное обстоятельство могло сыграть дурную шутку. Когда тебя беспрестанно кусают комары и мошки, это, без сомнения, мучительно, однако способствует чуткому сну, не дает забыться и потерять бдительность. Шарль был не из тех, кто уступает убаюкивающей прохладе ночи, даже если его оставили в покое ненасытные кровопийцы. Он бодрствовал полтора часа, крепко задумавшись, и, когда уже настала пора покинуть утомительный пост, его внимание привлек легкий всплеск. Что-то черное, рассекая спокойные воды, медленно двигалось по течению, неслышно приближаясь к лодке. Предмет находился еще слишком далеко, к тому же было темно. Благодаря свету звезд удалось разглядеть все же, что длина его достигала примерно метров двух, а ширина — тридцати или сорока сантиметров. Молодой человек всматривался, напрягая глаза, и в конце концов пришел к выводу: «Это, вероятно, кайман вышел на промысел». Громкий рык подтвердил его догадку. Кайман, никак не ожидавший встретить здесь шлюп, на мгновение замер, загреб воду лапами, втянул воздух, проплыл вдоль корпуса судна и отправился дальше. Шарль, испытывавший глубокое отвращение к этим чудовищам, еле удержался от того, чтобы, воспользовавшись случаем, не выстрелить в одного из них. Но зачем же беспокоить друзей? Его антипатия к крокодилам — не совсем серьезная причина для того, чтобы прерывать сон усталых людей. Едва хищник исчез, как появился второй, а за ним и третий. Они величаво плыли один за другим, как бывает, когда животные спокойны, сознавая, что их много и они сильны. — Черт возьми! — проговорил Шарль. — Вот и кайманы вышли освежиться. Гляди-ка, какая фамильярность! Или они никогда не встречали лодки, или люди здесь более терпимы, чем на Арагари или Апурема. Два вновь прибывших крокодила как бы изучали судно, интересуясь его размерами. Потом они медленно подплыли один к другому, словно хотели обменяться впечатлениями, фыркали, вздыхали, барахтались и, наконец, исчезли, не удовлетворив до конца своего любопытства. Шарль, которого их маневры скорее позабавили, нежели заинтриговали, — тот, кому случалось долгое время быть на посту, знает, что любая мелочь может послужить развлечением, — не без удовольствия отметил, что его время истекло. Он бесшумно подошел к сеньору Хозе, разбудил его. Тот вздрогнул и пробормотал: — Как, уже? — Увы, дорогой друг, уже. Возьмите свой револьвер и карабин. Вы готовы? — Да, сеньор… да… конечно… Я… я готов. — Да вы спите на ходу! — Нет, нет… Я уже открыл глаза. Ничего не произошло, не так ли? — Ничего! Я только видел трех кайманов. Они покружили вокруг лодки и спокойно убрались восвояси. — А, кайманы, — протянул капитан. — Они здесь почти ручные… да… Доброй ночи, сеньор. — Благодарю вас, Хозе. А вам — счастливо подежурить. Через пять минут Шарль в своем гамаке, а мулат на посту заснули, как по команде. Никто не знал, сколько прошло времени, когда Шарля внезапно разбудил жалобный крик. Как у всякого человека, привыкшего к путешествиям по лесам, у него был чуткий сон. Шарль сразу узнал: кричал кайман. — Снова эти несносные животные, — рассерженно проговорил он. — Могу я хотя бы спокойно поспать? Тысяча чертей! Не поднять ли тревогу, не заставить ли всех взяться за оружие да бабахнуть первого же хищника, который попадется под руку? Но в этот самый момент ужас, охвативший молодого человека, заставил его забыть о мести. Лодка не была больше привязана к шлюпу. Она плыла по воле волн, а очертания шлюпа уже терялись в ночной тьме. В довершение всего ее сопровождал кортеж кайманов, которые следовали один за другим, не удаляясь больше, чем на семь-восемь метров. Шарль выпрыгнул из гамака, бросился вперед, схватил якорь и швырнул его в реку. Затем он что есть мочи толкнул мулата, спавшего сном праведника. Якорь зацепился за дно, и лодка остановилась. Удивленные кайманы — их была уже целая дюжина — тоже замерли, обошли лодку кругом несколько раз, по-прежнему следуя один за другим. Самый дерзкий подплыл ближе, прямо к якорному канату. Молодой человек в ужасе увидел зловеще блестевшие глаза чудовища. Вскинуть карабин и дать залп было секундным делом. Как только раздался выстрел, послышался страшный крик, и эхо разнесло его далеко. Черная масса забилась в воде, задергалась в конвульсиях и исчезла в волнах. — Что случилось, сеньор? — растерянно спрашивал мулат, оглушенный выстрелом и задыхающийся от порохового дыма. — А то случилось, что наших кайманов стало вчетверо больше, да к тому же каждый из них превратился в человека на уба. И, повернувшись в сторону шлюпа, Робен закричал во весь голос: — Тревога!.. Друзья… к оружию! Тем временем разбуженные выстрелом индейцы повскакивали с мест и сгрудились вокруг хозяина. — Разберитесь с ними, — обратился Шарль к капитану, — организуйте оборону. А я сделаю еще дюжину выстрелов и отобью первую атаку. Торопитесь! Еще немного, и эти негодяи возьмут нас на абордаж. Мулат тщетно пытался собрать индейцев и направить против общего врага. Оторопевшие, растерянные, они были безумно испуганы. Даже не схватились за оружие, да и вряд ли в таком состоянии могли вообще им воспользоваться. Сеньор Хозе разрывался на части, не зная, за что взяться, пока Шарль отстреливался. С борта шлюпа ответили выстрелами. Шарль мгновенно разрядил револьвер и карабин без особого, однако, результата. Лодчонки неумолимо приближались. Мулат, отчаявшись расшевелить индейцев, решил помочь Шарлю. — Вы напрасно тратите заряды, сеньор, — сказал он, подойдя поближе и услышав, как пули со стуком отскакивают от выдолбленных из каменного дерева лодок. — Мерзавцы прикрываются своими уба, а сами плывут позади них. Видите следы на воде? — Черт побери! А ведь вы правы. Я в темноте и не разглядел. Тысяча чертей! У меня кончились патроны. — Возьмите пока мой револьвер, а я сейчас перезаряжу ваше оружие. В эту самую минуту раздался крик: — Канаемес!.. Канаемес!.. — Нас настигают. А эти олухи, похоже, готовы идти под нож, словно стадо баранов! Звонкий голос Хозе перекрыл на мгновение крики индейцев-убийц, но их вопли все нарастали. — Мужайтесь!.. Помощь близка! — Смелее, Хозе! Смелее, мой друг! Ступайте на правый борт, а я останусь здесь. Индейские уба подплыли совсем близко и врезались в борт лодки. Краснокожие были повсюду: на носу, на корме, по правому и левому борту. Цепкими руками ухватившись за снасти, лезли наверх. Лица выкрашены черной и красной краской, придававшей им еще более зловещий вид. Напрасно Шарль и Хозе размахивали саблями, круша, не разбирая, все подряд. Двое не в силах были находиться одновременно везде и отбивать бесконечные атаки. Враги прибывали и прибывали, будто бы сама водная пучина порождала их. Лодку сильно отнесло назад, и друзья остались лицом к лицу с неистовствующей ордой. Индейцы — члены экипажа, увидев, что вражеские уба во множестве окружили их судно и, пустые, покачиваются на волнах, вышли из оцепенения. Собравшись все вместе, в тот самый момент, когда нападавшие уже почти одержали победу, они бросились в воду, стремясь захватить трофеи. Шарль и капитан оказались в окружении дюжины крепких индейцев, так же, как и они, вооруженных саблями. Завязалась смертельная борьба, и, если бы у друзей не осталось патронов, их разорвали бы на куски. Шарль отступил на несколько шагов и выстрелил. Индеец повалился на палубу. — Теперь ваша очередь, Хозе. Цельтесь в грудь. Мулат дважды выстрелил и с радостью увидел, что оба раза достиг цели. Он тоже отступил, размахивая мачете. Однако вскоре оба были зажаты в тиски. Индейцы набросились на них. Шарль выстрелил в последний раз, отбросил не нужный ему теперь револьвер, отошел еще на два шага и вздрогнул, ощутив пустоту за спиной. Хозе, получив удар в плечо, вскрикнул и упал на колено. С быстротой молнии кинулся Шарль к товарищу и отбил очередное нападение. Однако в тот же момент оступился, потерял равновесие и почувствовал, что падает. Чья-то железная рука ухватила его на лету, и Шарль услышал показавшийся ему очень грубым голос, который говорил по-французски: — Держитесь, капитан… В это мгновение сильный удар потряс лодку, раздался скрежет. Кто-то могучий поднял Шарля, точно ребенка, и он узнал Винкельмана. Его голос, а тем более железная хватка были единственны и неподражаемы! Винкельман успел только крикнуть: — Бросайтесь в воду, капитан! Шарль чувствовал, что его перенесли в шлюп, оказавшийся каким-то образом совсем рядом. Канаемес, взбешенные и вне себя от гнева, мгновение колебались, потеряв из виду белых, совсем уже было очутившихся в их руках. А тут, к их изумлению, и мулат тоже исчез! — Огонь! — скомандовал Маркиз, вскидывая карабин. Почти одновременно прогремели четыре выстрела, потом, сразу, еще четыре. Бандиты несли серьезные потери. Понемногу они начали отступать, оглашая округу душераздирающими отчаянными криками. — Огонь! Огонь! — рычал Маркиз. Его карабин работал без передышки. Ураган пуль обрушился на индейцев. Страшно свистя, пули вонзались в тела, кому-то пробивали грудь, кому-то сносили головы с плеч… Побоище длилось не более минуты. Вскоре голос Маркиза вновь заглушил стоны раненых и вопли умирающих. — Прекратить огонь! Конец цепи перекиньте, пожалуйста, сюда. Надо же привязать к шлюпу эту посудину. И, если можно, немного света. Я хочу взглянуть на милые мордочки этих мерзавцев. Опытный путешественник никогда не забудет запастись на всякий случай свечами. Особенно в этих местах, где человеческое жилье встретишь редко, свеча всегда пригодится в темную экваториальную ночь. Желание Маркиза тотчас же исполнили. Бразильцы поспешно разорвали брикет и зажгли две свечи. Ах, если бы индейцы-беглецы, испугавшись встречи с канаемес, не вернулись обратно на лодку, этих запасов теперь и в помине не было бы. Проходимцы захватили их тогда с собой вместе с фонарем и прочими необходимыми вещами. Маркиз взял одну свечу, другую передал Винкельману, перезарядил свой револьвер, велел компаньону сделать то же самое, осторожно перегнулся через борт шлюпа и через секунду был уже на лодке. Семь или восемь скорченных трупов грудой валялись на носу. На корме шевелились несколько раненых. Кое-как они справились с покореженными руками и ногами и с невероятными усилиями бросились в воду. — Не слишком-то хорошие условия для стрельбы, — пошутил Маркиз. В это время из темноты послышались громкие крики. — Дьявол! Что еще там такое? — проворчал молодой человек, вытянув руку и пытаясь рассмотреть что-нибудь в ореоле свечи. Он увидел несколько уба, выстроившихся полукругом. Это были индейцы, сбежавшие во время атаки с поля боя. Они безжалостно добили раненых и утопили их, лишний раз продемонстрировав свойственное этой расе хладнокровие. Один из молодцов, заметив свет и испугавшись, как бы чего не вышло, на секунду оторвался от чудовищного своего занятия и на плохом португальском крикнул: — Не стреляйте, месье белый… Это мы! — Ладно!.. Ладно!.. — растерянно произнес Маркиз. — Однако где же наш друг Хозе? Я был бы в полном отчаянии, если бы с ним что-то случилось. Не успел он договорить, как увидел пару ног, одетых в некогда белые, а теперь залитые кровью брюки. Ни туловища, ни рук не было видно под грудой мертвых. — Эй, да вот он, — сказал Маркиз, разбрасывая недвижные тела. — Бедняга! Ему, кажется, досталось… Глядите-ка, да он недвижим! Индеец, получивший, должно быть, сильный удар мачете, всем телом навалился на Хозе. Вероятно, мулат пытался задушить его, обеими руками обхватив мощную шею. Индеец так и остался лежать, придавив собою капитана. — Несчастный отчаянно защищался! — с грустью проговорил Шарль. — Трудно поверить, что он мертв. В это время со свечи, что держал Маркиз, прямо на бронзовую щеку Хозе упала горячая капля воска. Глаза его неожиданно открылись, и мулат громко вскрикнул. — Он жив! Жив! Порубил этих подлюг! Правда, и ему досталось… Хозе, задыхаясь, судорожно глотал воздух и, придя в сознание, узнал друзей, тянувших к нему руки. — Вы все спасены… Какое счастье! Как я рад видеть вас! А я вот… Однако тоже вроде пока еще не помер. Сеньор Маркиз, полагаю, что это я вам обязан спасением. — Да-да, дорогой мой, а еще вот этой свече.
ГЛАВА 6
После боя. — Сон среди мертвецов. — Военный совет. — Подозрения подтверждаются. — Что же случилось ночью. — Фокус с кайманами. — Почему лодку отнесло течением. — Безделье. — Невероятная индейская апатия. — Есть, пить, спать. — Рыба, черепахи, дичь. — Люди покидают побережье. — Пустыня. — Пороги. — Индейцы паоксьянос. — Фазенды. — Прибрежная столица.Разбойничье нападение, которое на этот раз было деломотнюдь не канаемес-любителей, тем не менее не возымело, к счастью, серьезных последствий. Провидению угодно было, чтобы все напасти ограничились всего лишь шрамом на плече Хозе. Рана казалась с виду гораздо страшнее, чем была на самом деле. Ее промыли водой пополам с водкой. А затем всеми обласканный капитан поудобнее устроился в гамаке и тут же заснул. Единственный, кому удалось сомкнуть глаза после схватки… Остальные же, все еще во власти воинственного возбуждения, решили дежурить до утра. Ведь никто не мог гарантировать, что атака не повторится. Однако ничего не случилось. Индейцы, получив страшный урок, не делали больше попыток завладеть судном и убить чужаков. А может быть, под огнем погибли все и просто-напросто никого не осталось для новой атаки. А также и для того, чтобы предупредить остальных членов племени о случившемся. Когда наступил день, механик разжег топку. В ожидании, пока заведется машина, все занялись уборкой. Надо было уничтожить следы ночного боя. Индейцы — члены экипажа — после своего бегства в самый разгар сражения теперь безбоязненно вернулись на борт. Опасность миновала. Они предусмотрительно привязали накрепко уба, которые им достались без особого труда, а потом расположились ко сну среди окровавленных трупов, как будто это было для них делом самым обыкновенным. День застал их крепко спящими и посапывающими вперемежку с повергнутыми канаемес. Боевая раскраска делала мертвые лица еще более устрашающими. Бандиты Амазонки все, как на подбор, были могучи, высокорослы. Их атлетическое телосложение особенно впечатляло по контрасту с тщедушными вырожденцами океанического побережья. Мускулы точно у античных героев, грудь колесом, бычья шея, сильные руки с тонкими запястьями… Истинные дети природы! Такой картинной внешности позавидовал бы любой актер. Стоит отметить один немаловажный факт. Все без исключения были убиты выстрелами и ударами спереди, о чем говорили кровавые шрамы и следы от пуль. — Мощные ребята, — проговорил Винкельман, обращаясь к Шарлю. Винкельман, с его фигурой Геркулеса, пожалуй, единственный мог составить им достойную конкуренцию. — Не будь мы вооружены, нам бы несдобровать. — Но как же, черт побери, им удалось подобраться так близко? Они напали, когда никто и думать не мог. — Очень просто, — отозвался Шарль, — просто все, как я полагаю, спали — и на лодке, и на шлюпе. Как вы думаете, Маркиз? — Увы! Месье Шарль, я вынужден со стыдом признать, что заснул, как сурок. Я готов предстать перед военным трибуналом. — Трибунал единогласно выносит вам оправдательный приговор, Маркиз, так как вы с лихвой искупили свою вину. А что касается внезапности, то все предельно просто, хотя и непонятно на первый взгляд. Я хочу в точности воспроизвести эту сцену, потому что, сам того не подозревая, оказался свидетелем приготовлений к нападению и видел достаточно, чтобы не ошибиться. — Не томите, месье Шарль. Пока расходится машина, объясните нам все. — Охотно. А вы, — он повернулся к индейцам, которые лениво потягивались, лежа на палубе, — немедленно выкиньте эти трупы за борт и вымойте все, чтоб никаких следов не осталось. Да пошевелитесь! Давайте-ка! Получите двойную порцию водки, хотя за вашу трусость вы заслуживаете скорее хорошей взбучки. Итак, — молодой человек снова обернулся к друзьям, — приступим. Канаемес — не сомневайтесь, что это именно они, — были предупреждены. Уж не знаю, как и кем… — Черт возьми! Да той старой колдуньей, что приплыла с больным ребенком. Помните? Не напрасно волновался ваш Хозе. — Вполне вероятно. Скорее всего, так оно и было. Канаемес подплыли к нам под видом кайманов. — Кайманов? — удивленно воскликнул Винкельман, а вместе с ним Маркиз и оба бразильца. — Да, да. Я собственными глазами видел, как они все это проделывали, когда стоял на вахте. И должен сознаться, что по наивности принял их за настоящих кайманов. Тот же тяжелый, неторопливый ход, те же бесшумные движения, тот же сап, то же рычание и даже тот же специфический запах. — И что случилось потом? — Потом? Потом была атака, рукопашный бой. Делишки мои были бы плохи, если б только вы, Винкельман, дорогой друг, не ухватили меня железной хваткой, за что я вам бесконечно благодарен. — А вы, месье, надо вам сказать, тяжелехоньки! Да. — Охотно верю. Но взгляните на этот шедевр архитектуры из каменного дерева! Разве по всем своим размерам, в длину и в ширину, уба не напоминает вам каймана? А вот и голова крокодила, она так мастерски вырезана впереди… нос, глаза — каждый словно агат! А на длинный хвост взгляните! Он по форме точно напоминает крокодилий. В темноте я вполне мог ошибиться. — Ну а как же вы заметили людей, сидящих в лодках? — поинтересовался Маркиз. — Посмотрите на эту глубокую впадину, что выдолблена в корпусе! Человек почти лежит здесь на манер ящерицы. Еще одно доказательство тому — спины убитых выкрашены той же краской, что и весь корпус лодки. — Пусть так. Но каким образом они управляют уба? — Взгляните! Каково, по-вашему, назначение этих двух лопастей, прикрепленных веревкой сзади и по обеим сторонам головы? — Понятия не имею. Эти штуки очень похожи на вальки, какими прачки у нас отбивают белье, и вполне могут служить чем-то вроде весел. — Черт возьми! А ведь вы правы. Человек ложится на живот, прячет голову за вырезанной из дерева мордой. Вот я даже нашел выемку для подбородка и щек. Только глаза смотрят вперед, едва поднимаясь поверх крокодильей головы. Он продевает руки в эти специально продолбленные отверстия, берется за весла, которые вы совершенно справедливо сравнили с вальками, хотя они и гораздо меньше, и передвигает ими, подобно лапам каймана. Вот и вся премудрость. Так они и подплыли поближе, чтобы рассмотреть судно, которое хотели разорить. Заметив, что никто не шевелится на борту, они, хитрые бестии, прежде всего решили отвязать лодку от шлюпа, чтобы распылить наши силы и тем самым парализовать сопротивление. Один из этих милых «кайманов» просто подплыл и разрубил канат своим мачете. Лодку начало относить. Слава Богу, что это длилось недолго, пока меня не разбудил их воинственный клич. Не мешкая ни секунды, я бросил якорь, и мы встали как вкопанные. Теперь нужно было действовать. Остановка не входила в их планы, и они, похоже, несколько растерялись. Негодяи принялись плавать вокруг шлюпа и в конце концов нашли якорный канат. К этому моменту я мало того что был обеспокоен, но еще и находился на приличном расстоянии от вас и не мог понять, что происходит. Как вдруг заметил на воде одну из «амфибий» и что-то сверкающее, как стальной клинок. Я моментально понял — это сабля! Сомнений не было, «кайманы» обернулись людьми. Я выстрелил, потому что их становилось все больше. Ну а остальное вам известно. Теперь ваша очередь. Расскажите мне, что происходило у вас. — Да мало что на самом деле, — отвечал Маркиз. — Мы так крепко спали, что приготовления к атаке абсолютно прошли мимо нас. Надо благодарить Бога: борта у шлюпа высокие и крепкие, что исключает возможность взять его на абордаж. Если бы не это, нас бы, пожалуй, убили. Разбуженные вашим выстрелом, мы догадались, что происходит. Тогда Винкельман, который, как вам известно, всегда действует, а не разглагольствует попусту, разорвал якорную цепь. Очевидно, это происходило именно тогда, когда вы свою как раз использовали по прямому назначению. Поэтому шлюп довольно скоро догнал вашу лодку, и, должен заметить, очень вовремя. — Господа, — прервал их механик, — машина на ходу. Жду ваших приказаний. — Все готово к отплытию? — спросил Шарль. — Все готово, месье! — раздался знакомый голос. — Как, это вы, сеньор Хозе? Какого черта вы поднялись? — Как же мне было не подняться, должен же я все проверить. — Но, дорогой мой, вам надо бы вести себя поосторожнее… Не схватить бы лихорадку. Вам необходим отдых. — От всего сердца благодарю за теплую заботу, но, клянусь Богом, я чувствую себя прекрасно. А кроме того, хорошего же вы обо мне мнения, если думаете, что подобный пустяк способен выбить старого морского волка из колеи. Разрешите занять свое место. Я должен провести судно между мелями, которых в устье Риу-Бранку полным-полно.
__________
Невыразимое удовольствие плыть на большой скорости, не прилагая к этому значительных усилий. Друзья наслаждались путешествием. Мимо пролетали берега Риу-Бранку. То тут, то там из зарослей выпархивали стайки болотных птиц, потревоженных прерывистым фырканьем машины. Освобожденные наконец от необходимости налегать на ганчо и форкилы, не опасаясь, что вот-вот обрушится подмытое волной вековое дерево или подхватит течение, избавленные от назойливых насекомых, относимых воздушной струей далеко назад, путешественники чувствовали бесконечную благодарность к бразильцам, согласившимся отбуксировать их. Но самыми счастливыми себя, конечно, чувствовали индейцы. Неожиданная перемена устраивала их больше всего. Однако они не выражали радости ни жестами, ни криками или песнями, как то обычно делали негры со свойственным им темпераментом. И слава Богу! Подобное выражение чувств бывает утомительно. Индейцы же, которым теперь абсолютно нечего было делать, воспользовавшись случаем, спали без задних ног. Они упивались сном, — точно так же, если выпадал случай, эти дикари, привычные ко всяким жизненным испытаниям, утоляли голод или жажду, словно пытались наесться или напиться про запас. И ни слова благодарности, ни слова признательности тем, кто избавил их от тяжелой работы. Через пять дней и ночей они приедут домой, палец о палец ради этого не ударив. Всего пять — вместо двадцати пяти суток изнурительного труда! И никакой благодарности. Сойдя с судна, получат обещанные деньги, продукты. Как будто так и надо. — Довольны ли вы тем, что можете отдыхать, пить, есть, спать? — не выдержал Шарль. — Не знаем, — был ответ. — По крайней мере, если вы не заняты на борту, вы могли бы поохотиться, добыть чего-нибудь свеженького: дичь, рыбу или черепах. — Да. — Вот и прекрасно! Сегодня вечером сделаем остановку, и вы отправитесь на промысел. Канаемес больше нечего бояться. Но все же не отплывайте слишком далеко. — Да. Не было, пожалуй, ничего проще, чем добыть пропитание на Риу-Бранку. Берега реки пустынны, и поэтому здесь во множестве водилась дичь, а в воде косяками ходила рыба. На расстоянии около пятисот километров, от устья до Боа-Виста, не встречалось человеческого жилья. Селились, как правило, там, где жили индейцы, а их найдешь лишь в верховьях реки, в районе кампо. Для охотников и рыболовов здесь царил сущий рай. Промышляй — не хочу. Дичи и рыбы на любой вкус сколько угодно. Чего-чего тут только не было: агути — горбатые зайцы, гокко, большие куропатки, длиннохвостые попугаи, лани, в реке — электрический угорь, пиранья, бото, тукунаре. А кроме того, огромные черепахи. Индейцы не торопясь отправились на охоту. Противники всякого и всяческого труда, любящие по-настоящему лишь есть и спать, они, однако, время от времени находили удовольствие в охоте. Только это занятие могло вывести их из привычной апатии. И тем не менее охота все же оставалась для краснокожих работой, а работать они не любили. Вообще за индейцами не водилось никаких пристрастий, кроме, быть может, одного — выпить. Крепкие напитки они обожали. А охотились для того, чтобы питаться, — как добывает свой хлеб дровосек, к примеру, или углекоп. Те трудились без радости, без воодушевления, уставая и желая лишь одного — поскорее закончить работу. Надежда на добрую добычу — само собой, а главное — то, что не придется ничего делать, пока они будут ходить по лесу или сидеть на берегу, ловя рыбу. Если удастся наловить много рыбы, да к тому же и охота окажется удачной, можно будет поваляться в гамаке. Маркиз, неутомимый каламбурист и шутник, окрестил невероятную лень, непобедимую любовь индейцев к гамаку гамакизмом. Между тем плавание, начавшееся в трудах и принесшее столько опасностей, продолжалось без происшествий. Основные заботы легли на плечи Шарля. Сверяясь с компасом, он старался найти нужный курс — его карта оказалась очень старой, неточной, если вообще хоть сколько-нибудь верной. Они проходили места, еще недавно обитаемые. Но мало-помалу люди покидали их, уходя поближе к прериям. В устье Жеруэны сохранилось всего каких-нибудь полдюжины индейских деревушек, затерянных меж озер. От селения Санта-Мария, располагавшегося некогда на левом берегу, не осталось и следа. То же самое произошло и с Пескуэро, бывшим рыбным промыслом, кормившим небольшой гарнизон Сао-Иоаким. Ничего не говорило о том, что еще недавно здесь жили люди. Все заросло густым лесом. Первая встретившаяся на пути ферма принадлежала Бернардо Корейо, старому португальцу. Его основным занятием была заготовка топлива для паровых судов. Ферма стояла на правом берегу, между двадцатью восемью и тридцатью градусами к северу от экватора, недалеко от озера Куарена, возле которого виднелась дюжина негритянских и индейских хижин. Эти в беспорядке разбросанные по берегу лачуги представляли собой главный населенный пункт в низовьях Риу-Бранку. Подобно Санта-Марии и Пескуэро, Кармо тоже исчезло, несмотря на благоприятное местоположение на возвышенности, недосягаемое для наводнений. Выше по реке, вслед за Кармо, чьи следы можно обнаружить ныне лишь на очень старых картах, в нищете и болотной лихорадке влачила жалкое существование горстка метисов. Они жили в трех селениях: Жеренальдо, Клаудо, Эспириту-Санто. А дальше — пустынные берега реки и ее притоков: Катримани, текущей неведомо откуда, Игарапе-д’Агуа-Боа-д’Эруиени с озерами Музу, Арикура, Ассаитуба и Капитари, а также Рио-Анана, что спускается с Лунных гор и омывает прерии. Еще выше все та же пустота — леса, сменяющиеся болотами, где текут мало кому известные реки и речушки. Впрочем, в местечке Карнейро португалец сеньор Васконселлас добывал каучук высокого качества и в больших количествах. Но кроме этого, вплоть до Виста-Аллегре на правом берегу никаких селений здесь не сыщешь. Виста-Аллегре, в трехстах километрах от устья Риу-Бранку, строился на месте деревушки, исчезнувшей как Кармо или Санта-Мария. В одинокой хижине Виста-Аллегре вместе с несколькими индейцами жил милейший человек, философ или просто отчаявшийся, португалец дон Бенто Маноэл да Кунга-Фиуза. Немного выше, на том же берегу, — озеро Анженерио, возле которого в прошлом веке находился сахарный заводик. Заводик, как и деревушка Санта-Мария Вела, и ферма Каракараи, исчез с лица земли. Вот и все, что можно было бы назвать обитаемым на территории в четыреста километров вдоль реки, до каксоэра. Каксоэра! Как много говорили о нем фазендейро с берегов Риу-Бранку! Проклятый каксоэра, парализующий движение между Манаусом и плодородными, обильными землями в верховьях. Каксоэра — это серия водных порогов. Их здесь насчитывалось семь. Если бы не они, транспорт со скотом в любое время года мог бы добираться до Боа-Виста; частные компании беспрепятственно посылали бы паровые шлюпы и организовывали постоянное сообщение даже в летние месяцы. Стало бы возможно подплывать прямо к фазендам и забирать скот. К несчастью, ничего не делалось для того, чтобы устранить серьезное препятствие. А ведь, казалось бы, чего проще: провести в обход порогов дорогу или канал. Сколько напрасно потраченного труда и времени, сколько опасностей можно было бы избежать беднягам, что плавали по этим местам! Они тратили не меньше пяти-шести дней, чтобы преодолеть проклятые пороги, даже в самое благоприятное время. Паровым судам с буксирами легче, нежели бателао. Оно и понятно. Разве весла могут тягаться с паровой машиной! К тому же в этих местах был отменный лоцман Пексот да Сильва. Вместе с негром Антонио Баретто Мурату он взял на себя труд проводить суда по капризным порогам. За порогами, выше по течению, зарастали лесом пустоши, где когда-то стояли селения. Не подозревая, что проплывает мимо бывших островков цивилизации, путешественник оставлял позади Консесао или Сао-Фелип. И только гораздо выше, у самого устья Йоа-Парана, встречал четыре хижины, принадлежащие цивилизованным индейцам паоксьянос. Дальше, в устье Мокаяхи, широкой и своенравной реки, простирались обильные, но дышащие лихорадкой земли. Здесь и обитали индейцы паоксьянос, аборигены — костлявые, бородатые, с раскосыми глазами и выдающимися скулами. Они выживали в условиях, которые, без сомнения, были бы смертельны для европейца. Это были отважные люди, не такие вороватые и не столь склонные дезертировать, как другие их сородичи. Они усердно работали на белых. Однако условия жизни привели к тому, что племя, в общем, захирело. Сколько богатств зря пропадало в этом уголке земли, таком плодородном и таком смертоносном по своему климату! И речи быть не могло о том, чтобы хоть сколько-нибудь эффективно осваивать эти земли. Человеку, незнакомому со здешними краями, трудно представить, до какой степени они пустынны и безлюдны. Во всем юго-западном бассейне, то есть на территории по правому берегу, между Мокажахи, Риу-Бранку, Риу-Негру и Паданири, протяженность которой почти равняется нашей Гайане, проживало лишь одно-единственное племя — паоксьянос. Да и этих-то осталось очень мало: в районе Мокажахи — чуть больше ста пятидесяти, а в других местах — человек триста. После Риу-Мокажахи, на левом берегу открывалась гора Сьерра де Карома, самая высокая в среднем течении Риу-Бранку. Ее высота — 1150 метров. Река омывала массивное подножие на протяжении двадцати километров, а затем начинался великолепный район кампо, бесконечные, неоглядные прерии, простиравшиеся вплоть до самой Венесуэлы и по территории равные Английской Гайане. Мгновенно, как по волшебству, людей становилось все больше и больше. Нельзя сказать, что местность эта оказалась перенаселена, однако не было той угрюмой, приводящей в уныние пустоты, которая угнетала там, где обитали лишь дикие звери да редкие племена. Теперь фазенды следовали одна за другой. Далеко, насколько видит глаз, раскинулись зеленые луга. То тут, то там виднелись несметные полудикие стада под присмотром не менее диких пастухов. Кругом — живописные холмы, к которым жались жилища. Холмы защищали их от непогоды. Рядом — хозяйственные постройки и лавки. Возле берега на приколе — лодки всех размеров и разновидностей, целый флот. Был тут и собственный крошечный порт, пристань, где грузили на суда скот. Короче говоря, шла своя жизнь. Оставалось лишь мечтать о том, чтобы проклятые пороги, отрезавшие этот район от соседних, поисчезали бы и не препятствовали мужественным поселенцам. Здесь жили, по крайней мере, человек двенадцать белых, занимая территорию километров в тридцать. Они вели патриархальный образ жизни. У них не было другого развлечения, кроме поездки в Боа-Виста.ГЛАВА 7
Столица провинции. — Там, где рождается человек, должен родиться и хлеб. — Или: там, где есть хлеб, родится и человек. — Богатства кампо. — Отъезд. — Индейская хижина. — Оптимизм Маркиза. — Акангатар и турури. — Любовь к жемчугу. — Носовой платок не стоит превращать в подушечку для игл. — Лагерь под открытым небом. — Я хочу уйти! — Бестолковый Клементино. — Если твой родственник убийца, это еще не значит, что с ним нельзя жить. — Наутро.Боа-Виста — прибрежная столица Риу-Бранку. Однако по этому громкому титулу не стоит представлять себе некое Эльдорадо, затерянное в глуши лесов и прерий Амазонки. Не думайте найти здесь пышный город, изысканный, как все города Бразилии. Боа-Виста не сравнишь и с благословенным Манаусом — шумным, деловым коммерческим центром. Не похож он даже и на наши городки где-нибудь в Нормандии. Но это, безусловно, была столица для нищих испанцев, подлинных идальго, которые завтракали луковицей, обедали сигаретой, а ужинали серенадой и на все времена года имели одну-единственную пару латаных-перелатаных штанов. И тем не менее они и являлись местной аристократией. Двадцать пять — тридцать малюсеньких хижин, крытых соломой, иногда беленых, но неизменно чисто прибранных и уютных, притулившихся на прибрежном холме, — это и есть Боа-Виста. Все в мире относительно. Кто знает, быть может, в скором будущем в столице, которую ныне можно было назвать скорее лишь эмбрионом[194] города, вырастут заводы, отели, банки, театры, доки, появятся железная дорога, телеграф, телефон и прочее… Быстрый расцвет городов Австралии или Северной Америки вселяет надежду. Надежду тем более реальную, что для этого не существует никаких помех, а люди в чудесной стране на удивление трудолюбивы. Один Бог знает, что уготовило будущее нашим потомкам. Во всяком случае, в Боа-Виста час расцвета еще не настал. Здесь покамест лишь два здания позволяли уповать на то, что когда-нибудь все изменится к лучшему, — церковь и школа. Церковь еще строилась. Школу же белые посещали с неимоверным усердием. Вместе с ними и дети прислуги — мамелюков и индейцев. Несмотря на бедность, торговые связи городка были достаточно активны благодаря главным образом тому, что большинство белых владели крупными фазендами. Всего их набиралось около тридцати. Тридцать фазендейро, быть может, скажете вы, слишком мало для такой обширной территории. На первый взгляд это действительно так. Но на самом деле опытные и энергичные люди всеми силами пытались сохранить зачатки цивилизации — залог будущего расцвета и ни при каких условиях не намеревались покидать эти места. Обживая их, фазендейро верили, что люди начнут приезжать сюда и их будет чем встретить. Переселенцев здесь всегда ждали и могли принять и разместить уйму народу. Все знали: где-где, а тут всегда найдется работа и возможность прокормиться. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей Гайане! Мальтус[195], мало признанный у нас экономист, с суровой прямотой, свойственной людям, привыкшим оперировать сухими цифрами, сказал как-то: «Там, где рождается человек, должен родиться и хлеб». В этом афоризме зачастую видят лишь причуду. Но ученый, думается, прав, если рассматривать его высказывание так: если человек родился, обеспечьте его хлебом. Другими словами, если есть хлеб насущный, не прекратится род человеческий. Скотоводы с берегов Риу-Бранку, сами того не ведая, действовали в соответствии с установкой английского экономиста. Но только они разводили не хлеб, а скот. Сегодня стада трех десятков фазендейро насчитывали не меньше тридцати двух тысяч голов крупного рогатого скота и четырех тысяч лошадей. На каждой фазенде было занято множество негров, мамелюков и индейцев, отказавшихся от кочевой жизни и узнавших здесь относительный достаток. Труд их применялся везде. Они оказывались и носильщиками, и гребцами, и земледельцами. Постоянная, гарантированная работа позволяла с уверенностью смотреть в завтрашний день. Пожалуй, стоит обратить внимание читателя и еще на одну деталь. Кампо Риу-Бранку, на первый взгляд пустынное и дикое, осваивалось не менее активно, чем Боа-Виста. Здесь сосредоточилось все самое прогрессивное в интеллектуальном и коммерческом отношении. Не было чиновников, увешанных нелепыми орденами, надменных бумагомарак, сосущих кровь из колонистов, невежд, то и дело тормозящих развитие промышленности, в которой эти тупицы ничего ровным счетом не смыслили. Не было и солдат — поселенцы в случае нападения способны защитить себя не хуже, чем любой вояка. Подобное, однако, приходилось делать редко. Колонисты вообще-то были миролюбивы и старались чем могли помочь аборигенам, так что отношения у них складывались вполне дружеские. Впрочем, в местечке Сан-Иоаким, немного выше Боа-Виста, находился гарнизон. Но что это был за гарнизон и что за хибарки! Четверо солдат и сержант, покинув свои мазанки, крытые соломой, предпочли перебраться на располагавшуюся неподалеку фазенду Сан-Бенто, где власти благополучно позабыли о них. Гарнизон сам добывал себе пропитание.
Наблюдая за погрузкой скота, Шарль Робен и его спутники познакомились с одним из местных фазендейро. Они нашли у него теплый и сердечный прием — о подобном наше эгоистичное цивилизованное общество и думать забыло. Любезный хозяин готов был сколь угодно долго принимать у себя желанных гостей, устраивать им прогулки верхом, добрую охоту, рыбную ловлю — незабываемые развлечения. Однако Шарль торопился поскорее добраться до горного района и не хотел задерживаться в Боа-Виста дольше, чем того требовали приготовления к экспедиции. Сорока восьми часов ему хватило, чтобы отыскать подходящих помощников-индейцев, нанятых по совету хозяина. В последний раз они собрались за обедом на гостеприимной фазенде, а затем распрощались и с обоими бразильцами, Рафаэло и Бенто. Те, в свою очередь, тоже набирали новый экипаж и готовились отплыть в Манаус. Как человек предусмотрительный, не пускающий дело на самотек, Шарль досконально изучил маршрут, не раскрывая фазендейро цели путешествия к Лунным горам. Хотя сеньор Хозе знал дорогу как свои пять пальцев — не раз доводилось ходить этим путем, — Шарль тем не менее разузнал подробно у местных фазендейро все что только мог на случай, если какое-либо несчастье лишит экспедицию надежного проводника. Молодой человек узнал следующее. Высшая точка Тумук-Умак, откуда берет начало главная ветвь Марони, Тапанаони, расположена на расстоянии пятисот двадцати пяти километров от Боа-Виста, немного выше двух градусов северной широты. Следует идти почти все время в одном направлении, стараясь не отклоняться от курса, чтобы не забрать сильно в сторону. Караван отправится пешком, кроме тех случаев, разумеется, когда придется плыть по реке. Это, впрочем, маловероятно, так как реки почти исключительно текут здесь с юга на север. Однако примерно в трехстах километрах от Боа-Виста путешественникам встретится Курукури-Уа, крупнейший приток Риу-Тромбетты. Он несет свои воды с запада на восток, чуть выше первой северной параллели. Возможно, путники воспользуются им, возвращаясь обратно. Трое европейцев и мулат, пробыв в Боа-Виста несколько дней, пустились в путь. Их сопровождали шестеро индейцев. Фазендейро выделил в их распоряжение четырех лошадей. На спины животным погрузили багаж и провизию. Условились, что до Куит-Анау лошадей поведут двое слуг фазендейро, а оттуда и слуги и лошади вместе с ними вернутся на пироге. Наконец путешественники оказались на просторах кампо. Шарль и Винкельман, свыкшиеся с трудностями путешествия по экваториальным землям, шли довольно быстро и легко. Вид у них был даже немного скучающий. Но Маркиз, парижанин, жадный до прелестей природы, видевший до сих пор лишь леса да непроходимые болота, каждую минуту приходил в восхищение и резвился, как школьник на каникулах. Встреча с индейцами, настоящими краснокожими, дикарями, едва-едва отличавшимися от диких зверей, оставила в его душе неизгладимое впечатление. Теснота в индейских хижинах, где под одной крышей зачастую можно было насчитать до двадцати пяти — тридцати гамаков, не казалась ему ужасающей, несмотря на жуткую, порой невыносимую духоту. Всякий раз, когда на пути встречались маниока, бананы, ананасы, папайя, ямс, бататы, сахарный тростник или еще что-нибудь экзотическое, Маркиз уверял, что в жизни индейцев есть своя прелесть. — Терпение, Маркиз! Терпение! — говорил ему Шарль, улыбаясь. — Вам надоест быстрее, чем кажется. Опротивят все эти прелести и деликатесы, а захочется обыкновенного ростбифа, а то и куска хлеба. — Никогда, месье Шарль! Никогда! Как же индейцы? Вы не можете не согласиться, что они великолепны! — Безусловно, но плохо одеты. — И что же? Ведь жара! К тому же костюмы исключительно им к лицу. Диадемы из перьев оттеняют медно-красные лица. Как, вы говорили, это называется? — Акангатар. — Вот-вот, именно акангатар. Настоящая корона. — И все это вы называете костюмом? — А виноградные листья, нанизанные на веревку и надетые на бедра? По-моему, исключительно элегантно. — Это у них называется турури. Правильнее было бы сказать, что они одеты в собственную стыдливость или в солнечный луч и что исключительно умело носят свою наготу. А что скажете о женщинах? Неужели ваша галантность дойдет до того, что вы будете утверждать: «Ах, эти умопомрачительно разодетые кумушки, обернутые в километровые жемчужные нити, очень грациозны!» — Здесь, как и везде, мода требует жертв. И женщины вынуждены покоряться ее капризам. Действительно, ничто, пожалуй, не могло бы сравниться с пристрастием индейских женщин к жемчужным ожерельям. Собственно говоря, это и составляло их единственное одеяние. Жемчуг — предмет вожделения! За право обладать им они охотно брались за любую работу, переносили суровые испытания, предпринимали долгое путешествие, а могли и убить. Но зато какое же упоение для индианки щеголять увешанной жемчугом! Если на тебе жемчуг, ты — королева. Какое удовольствие, набрав тысячи и тысячи крошечных переливающихся бусинок, делать из них колье, браслеты, пояса непомерной длины! Нанизывать на ниточки и вешать на шею, на грудь, на руки, на щиколотки, на запястья, подчас еле дыша в прекрасных путах. Мужья разделяли вкусы своих жен. У индейцев вошло в привычку носить на шее или на плечах громоздкие колье из нескольких жемчужных ниток. Но что удивило даже и Маркиза, оправдывавшего все причуды индейцев, так это то, что у некоторых мужчин и женщин нижняя губа была проколота четырьмя или пятью булавками. Головки находились во рту, а острые иглы омерзительно шевелились при каждом движении губ. — Странная мысль! — проговорил наш оптимист. — Я понимаю, что булавки могут им понадобиться… Но почему не приколоть их на турури вместо того, чтобы так уродовать губы? — Потому что… Эй, глядите! — воскликнул Шарль, давясь от смеха. — Черт возьми! Вот кто прозаичнее всех, — отозвался молодой человек, увидев индейца, который, оторвав листок от своей набедренной повязки, преспокойно высморкался в него. — Все просто объясняется. Было бы непредусмотрительно превращать носовой платок в подушечку для игл. Да, не слишком-то эстетично. Хотя, впрочем, турури достаточно большой, надолго хватит. Кстати, почему эти самые турури все разных размеров? — Ей-богу, не знаю. Спросите у Хозе. — Сеньор Хозе, ответьте, пожалуйста, дорогой друг. — Потому, что размеры зависят от той роли, какую играет в племени человек. Вон видите: у одних турури совсем коротенькие, а у других доходят едва ли не до самых щиколоток. — Понимаю. Ну что ж, и тут иерархия.
Путешественников приняли холодно. После долгих и нудных переговоров об обмене провизии на жемчуг и монеты они покинули индейцев. А те, в свою очередь, не выказав никакой радости при встрече, остались равнодушны и к их отъезду. Дети природы, прокопченные под лучами безжалостного экваториального солнца, казалось, заледенели в своем невозмутимом равнодушии. На следующий день лагерь разбили прямо под открытым небом. Шли уже четверо суток. Теперь путь пролегал вдоль Куит-Анау, и на юге уже виднелись смутные контуры Лунных гор. Завтра они поплывут на лодке через капризные речные пороги, если, конечно, прибрежные жители согласятся дать им пирогу. Вновь предстоит долгое объяснение. Любитель экзотики, перенесенный внезапно в глухомань, оценил бы по достоинству преимущества ночевки на берегу реки. Стоянку разбили посреди цветущих густых деревьев. Развели костер. Высокое пламя, освещавшее сгустившиеся сумерки, служило для приготовления ужина и для отпугивания хищников, которые могли ночью подойти совсем близко. Вкруговую повесили девять гамаков, привязав их к стволам деревьев. Похоже на белую оборку на праздничной юбке какой-нибудь деревенской модницы. Квадратные ящики, полдюжины громадных тюков свалили на землю. В маленьком медном котелке и в кофейнике над огнем что-то кипело, испуская клубы пара. На разостланной по земле скатерти разложили тарелки, большое металлическое блюдо, ножи, вилки. Все это поблескивало в темноте, отражая пламя костра. Стол сервировали для белых и мулата. Возле гамаков прислонили к стволам четыре ружья и сабли. Дальше шли луки и стрелы, пороховницы, труты, обоймы, кусочки смолы, краски — принадлежности ежедневного туалета индейцев. Маркиз объявил наконец, что ужин готов. Стоило открыть крышку, как из котелка разнесся сильный, аппетитный запах. Нельзя сказать, чтобы он был особенно тонок и изыскан. Но разве дело в этом? Рагу из мяса броненосца с ямсом не менее вкусно, чем деликатесы в лучшем парижском ресторане. Несколько щепоток перца довершили приготовления и окрасили недостаток соли, а кусок бисквита из ящика с успехом заменил хлеб. Ели медленно. Ночь будет долгой. Поэтому каждый старался насколько возможно продлить незамысловатый пир. Наступила торжественная минута — подали кофе, сигареты и принялись за разговоры, непременно предшествующие сну. Индейцы были по-прежнему флегматичны и даже еще более хмуры, чем обычно, если это вообще возможно. Они, словно оголодавшие хищники, поглотали, не прожевав, ужин. А затем, по привычке, как и каждый вечер, взялись мастерить сандалии, украдкой поглядывая друг на друга. Эта работа очень проста и любому по плечу. Достаточно подержать над огнем древесное волокно, чтобы оно размягчилось, проделать с помощью шила несколько дырочек, продернуть в них веревку или шнурок, который будет завязываться на ноге. Вот и все. Эта примитивная обувь незаменима в подобных путешествиях. Она быстро изнашивается, но зато сделать ее снова можно без особого труда. Закончив работу и получив за нее порцию водки, индейцы улеглись в гамаки, не сказав ни слова, даже не поблагодарив. Однако это еще не все. Один из них, вспомнивший, казалось, нечто важное, подошел к Шарлю. — Это ты, Клементино, — обратился к нему молодой человек, — чего ты хочешь? Индеец носил португальское имя. Он сам сменил на него данное при рождении, так понравились ему белые, когда он впервые с ними столкнулся. В этих местах, даже в самой глуши, можно подчас встретить туземцев, которых зовут Антонио, Бернардо или Агостино. Клементино коротко ответил: — Я хочу уйти. Со своими. — Как? Уже? Но почему? — Мы идем слишком далеко. — Но ведь ты обещал сопровождать нас еще три дня. — Да, но три дня — это слишком долго. — Если вы уйдете, не получите ни гроша. — Ну и пусть. Мы уходим. — Сейчас же? — Да. — Но это безумие! Подождите хотя бы до завтра. Доведи нас до индейца, который должен дать нам пироги. Клементино не отвечал. — Ты знаешь его? — Да. — Кто он такой? — Мой дядя. — Так почему же ты не хочешь повидаться с ним? — Он канаемес. — Ты с ума сошел! Здесь нет канаемес. — Нет, месье. Все, кто убивают, канаемес. — Тот, кого он убил, был твоим другом, родственником? — Да, он был моим братом. — Черт побери! Ну и негодяй же твой дядюшка! Клементино пожал плечами и пробормотал с выражением полного равнодушия: — Да. — Зачем же ты сказал, что он твой друг? — Это правда, месье. Он мой друг. — И вы долго жили вместе? — Да. — После того, как он убил брата? — Да, месье. — И ты не думал о мести? — Не знаю, — ответил Клементино и, кажется, оживился. — Ты не хочешь идти к нему, потому что твой дядя — канаемес? — Не знаю. — Но ты только что сказал об этом? — Да, месье. Клементино не ведал, что такое логика, и твердил бессмыслицу. Доводы белого человека не достигали его дикого сознания. Шарль, которому доводилось общаться с индейцами тапуйес, испытывал симпатию к этим отважным и разумным людям и совершенно растерялся, встретив тупость, возведенную в степень, с которой решительно невозможно справиться. Ни он, ни его спутники не могли примириться, что представители одной расы столь различны. — Боюсь, — сказал он по-французски своим друзьям, — что мы вскоре можем недосчитаться кое-чего из наших запасов. Затем вновь обратился к Клементино: — Итак, ты твердо решил уйти? — Да. — И твои товарищи тоже? — Тоже. — Останься всего лишь до завтрашнего вечера. Согласен? — Не знаю. — Я заплачу всем вам вдвойне. — Да, месье. — Так я могу рассчитывать на тебя? — Да. — Хорошо. Отправляйся спать. На следующее утро Маркиз, проснувшись первым, закричал от ярости и разочарования. Ночью индейцы сложили багаж и бесшумно покинули лагерь.
ГЛАВА 8
Пирога. — Весла готовы. — Куит-Анау. — Что такое опьянить реку. — Нужен гарпун! — Немного фантазии. — Шарль добывает лиану с помощью карабина. — Охота. — Рыба весом в пятьдесят кило и длиной в три метра. — Без сачка не обойтись. — Маркиз предвкушает удовольствие научиться искусству копчения рыбы. — Нежданный гость. — Кайман. — Смертельная опасность. — Подвиг Винкельмана. — Единоборство с кайманом. — Эльзасец утверждает: кайман — это всего лишь ящерица.Исчезновение краснокожих, впрочем, не вызвало замешательства. Бегство предвидели, его ждали. Правда, немного позже. Задерживать индейцев против воли не только неразумно, но и опасно. Об этом всегда нужно было помнить. Ну что ж. Чем скорее все разрешилось, тем лучше. Доброго пути беглецам! Счастливой дороги всем идущим! Между тем позади осталось больше ста километров. Пройдена треть расстояния от Боа-Виста до гор, на которых, по утверждению Хозе, растут хинные леса. Если расходовать силы разумно, то есть проходить в день по двадцать пять километров, можно достичь цели за неделю. Того, кто вынослив, привык к здешнему климату, грубой пище, подобной нагрузкой не смутишь. Дело привычное. Иди себе да иди, при условии, конечно, что в пути не произойдет чего-нибудь из ряда вон выходящего. Пока все в порядке. В тот самый день, когда сбежали индейцы, Хозе, не хуже них знакомый с местностью, обнаружил, что тропинка привела к берегу реки, возле которой покачивалась на волнах скрытая в прибрежных зарослях пирога. Лодка наполовину потонула, затянутая ряской. Но это, как выяснилось, не причинило ей ни малейшего вреда. Великолепная, прочная древесина, из которой индейцы мастерят свои пироги, не подвержена воздействию влаги и солнца. Она не гниет и не трескается. Винкельману, Шарлю и мулату хватило какого-нибудь часа на то, чтобы выстругать из дерева четыре крепких, больших весла. Они получились легкими и удобными. Маркизу, не владевшему в такой степени, как его спутники, плотницким ремеслом, поручили очистить дно пироги от налипшей тины и ряски. Затем он перетащил тюки и ящики на новое судно и уложил их вдоль бортов. Вскоре все было готово. Друзья тронулись в путь. Шарль и эльзасец сели на весла и гребли ничуть не хуже, чем самые сильные негры, которых используют на такой работе торговцы с Марони. Сеньор Хозе был не в состоянии помочь им, так как рана его едва затянулась. Он управлял движением, ловко обходя все изгибы русла, пороги и прочие препятствия. Порой, к примеру, на пути попадались исполинские деревья, с корнем вырванные, очевидно, во время бури и перегородившие добрую половину реки. Маркиз тоже пожелал сесть на весла. Однако нельзя сказать, что греб он успешно. Несмотря на неудачу, оптимист не жаловался и старался сохранить хорошую мину при плохой игре. Что и говорить: движение давалось нелегко. И, словно бы в утешение за их труд, Куит-Анау щедро одаривала путешественников рыбой. Сквозь прозрачную гладь воды виднелись сотенные, тысячные косяки. С голоду не умрешь. Природа сама дает человеку пропитание, остается лишь воспользоваться ее дарами. Здешняя рыба очень вкусна и почти столь же питательна, как мясо. Это хорошее подспорье на случай нехватки продовольствия. Хозе, непревзойденный рыболов, сокрушался, что нет под рукой удочки или сачка, чтобы немедленно поймать пару-тройку великолепных представителей речной фауны. Он сгорал от желания иметь хотя бы обыкновенный гарпун. — Что же делать, дорогой мой! — пытался успокоить его Шарль. — Ну, нет у нас гарпуна. Но не горюйте, мы еще возьмем свое. Напоим этих милашек до́пьяна! — Напоим? — удивился Маркиз. — Вы хотите сказать, что можете превратить могучую реку в кабак? Напоить этих несчастных рыбешек? Ну и зрелище: они будут кружиться в воде наподобие дикарей, опоенных зельем, в своем жутком ритуальном танце! О! Хотел бы я видеть этот спектакль! — Нет ничего проще, дорогой Маркиз. — Неужели?.. Хотите сказать, что вам стоит только пальцем пошевельнуть… — И даже проще! Достаточно сорвать одно из растений, способных опьянять. То, о котором я говорю, — это овощ. Аборигены называют его нику. А по-научному: робиния нику. Нужно расщепить его на куски, сантиметров по шестьдесят, и каждый кусок потом разломить пополам. Растение выделит беловатый сок. Сольем его в воду. Не пройдет и четверти часа, как вы увидите: рыба начнет метаться словно угорелая, потом — биться, а в конце концов замрет, перевернувшись на спину. И вся задача — брать ее, что называется, голыми руками. — Колоссально! — Если бы у меня был гарпун, — вмешался Хозе, — я бы вам за десять минут наловил рыбы сколько душе угодно. И при этом не надо было бы мудрить с каким-то там нику. — Не вижу препятствий к тому, чтобы вы сейчас же доказали нам это, — пробасил Винкельман, который, как обычно, за словом в карман не лез. — Ах! Что могло бы быть лучше! — Воспользуйтесь стальным прутом для чистки карабинов! — Прекрасная мысль! — вскричал Шарль. — Все наши карабины одной марки, и нам совершенно ни к чему четыре прута. — Хорошо! Сделайте одолжение, гребите к берегу. Спустя пару минут пирога причалила. — Разжигайте огонь. Пока Маркиз собирал хворост, вскрывал брикет и раздувал пламя, эльзасец нашел невдалеке упавшее дерево. Хорошо, что топор на всякий случай тоже прихватили с собой! — Наковальня, — сказал Винкельман, указывая пальцем на топорище. Ударив по стволу, он вогнал топор в дерево по самую верхушку. — А молот? — поинтересовался Маркиз. — Второй топор. Темвременем конец стального прута раскалился докрасна. Новоявленный кузнец положил его на импровизированную наковальню и, ударяя аккуратно и не слишком сильно, сплющил металл. Сумел даже сделать две зазубринки. — Гарпун готов, сеньор Хозе, — произнес он через десять минут. — Или этот вас не устроит? — Великолепно! Благодарю вас, — отвечал мулат, пораженный завидной ловкостью. — Итак, я приступаю к делу. Да! А как же рукоятка? — Бамбук сгодится. — Замечательно! Вот что значит смекалка! — Да и про вас это можно сказать, дорогой друг! — воскликнул Маркиз. — Где вы всему этому научились? — В кошмарной школе, где я вынужден был оставаться, к несчастью, — отозвался Винкельман, слегка побледнев. — Я, кажется, допустил бестактность, — проворчал Маркиз в замешательстве. Шарль ткнул его в бок, напомнив (чересчур поздно, правда) о печальном прошлом их товарища, об адовой жизни на каторге и об ошибке, так дорого ему стоившей. Наступило неловкое молчание. Маркиз уже хотел было просить прощения, как человек воспитанный, чем, безусловно, усугубил бы положение. Пирога между тем уже вновь плыла по реке. Внезапно впереди показался небольшой порог, а по другую сторону от него серебрилось озеро, с юга окаймленное горами. — Внимание! — скомандовал Шарль. Течение в этом месте было довольно бурным, и гребцам понадобилось четверть часа энергичных усилий, чтобы преодолеть его. А затем лодка очутилась в неподвижных водах озера. — Дьявол! — вскричал Хозе. — Я позабыл о главном. — В чем дело? — Мне нужна веревка, чтобы привязать гарпун к лодке. А у нас ее и в помине нет. — Означает ли это, что нам не придется попробовать обещанной рыбки? — улыбнулся Маркиз, несносный болтун. — Боюсь, что так. По крайней мере сейчас. — Ба! — произнес Шарль. — Да любая тонкая и прочная лиана заменит вам веревку. Взгляните, здесь их хоть отбавляй. Можем выбрать, какая больше понравится. Тут всякие имеются: от толстенной, как моя нога, до тонюсенькой, точно тростинка. — Прибавьте еще, что нам нужна длинная лиана, метров пятнадцать — двадцать. А это не так-то просто, — вмешался Маркиз. — Деревья здесь словно башни, и ветки начинаются очень высоко над землей. Не представляю, каким образом можно туда забраться. — Всего-то дел на четыре-пять секунд. — Вам бы все шутить, месье Шарль. — Я и не думал шутить. Смотрите. С этими словами молодой человек взял свой карабин, вскинул на плечо и, увидев на одной из ветвей одинокую лиану, прицелился. Раздался выстрел, и облачко порохового дыма овеяло ствол карабина. Верхушка дерева закачалась, из густой листвы выпорхнули испуганные туканы и разноцветные попугайчики. Лиана же, срезанная пулей, как острым мачете, со свистом упала на землю. — Прошу! Вот то, что вам требуется, — сказал Шарль спокойным голосом. Лязгая затвором, он перезарядил карабин. — Невероятно! — вскричал Маркиз. — Вот бы изумился мой капитан. Он, знаете ли, что угодно готов был отдать за меткий выстрел. Все мы тут не годимся вам в подметки. Честное слово! Я, например, чувствую себя просто неуклюжим медведем. — Вы мне льстите, дорогой мой. Право, этот выстрел только кажется таким уж невероятным. Ничего особенного, поверьте! Любой из индейцев с Арагуари сделает то же самое с помощью лука и стрел. Такой трюк для них — пара пустяков. Однако хватит разговоров! Это устроит вас, сеньор Хозе? — Великолепно, сеньор. Хоть лиана на вид и тонкая, а выдержит, пожалуй, и человека. Не порвется. Лиану привязали к гарпуну, прикрепили к носу пироги. Хозе занял свое место. Все приумолкли, а охотник внимательно и напряженно смотрел в воду. Рыба здесь не привыкла к тому, чтобы на нее охотились, и вела себя спокойно. Но все же надо было соблюдать осторожность. Внезапно верный глаз гарпунера уловил едва заметное движение на поверхности озера. Гарпун тотчас со свистом взлетел и исчез в воде. — Какая жалость! — вскричал разочарованный Маркиз. Ему показалось, что Хозе промахнулся. Однако тот, не говоря ни слова, стал быстро раскручивать лиану, свернутую на дне пироги. В это время другой конец ее, прикрепленный к гарпуну, извивался, вздрагивал, погружался в воду и вновь появлялся на поверхности. Маркиз, удивленный не меньше, чем минуту назад выстрелом Шарля, понял, что охота удалась. Мулат неотрывно наблюдал за происходящим. Он начал аккуратно тянуть лиану обратно и всеми силами старался не упустить рыбину, которая билась и извивалась что есть мочи. Но как ни сопротивлялась она, как ни билась, охотнику все же вскоре удалось подтянуть ее совсем близко. Маркиз, следивший за поединком с лихорадочным напряжением, не смог удержать восхищенного крика при виде колоссального существа. — Черт возьми! Какой же должен быть сачок, чтобы выловить это чудовище? Голова громадной рыбы появилась над поверхностью воды, и Винкельман, не теряя ни секунды, со всей силы ударил ее веслом. Теперь оставалось лишь втащить оглушенную рыбину на борт. Дело сложное, если бы не сила эльзасца. Ведь добыча весила около пятидесяти килограммов и достигала в длину примерно трех метров. Пятьдесят килограммов… Три метра длины… Маркиз не верил своим глазам. Он без конца кричал «ура!» и так скакал вприпрыжку, что в конце концов лодка начала терять равновесие. Его спутники, для которых подобное было делом обычным, снисходительно улыбались. — Вы меня просто поражаете, друзья. Ей-богу, не знаю, чему удивляться: ловкости Хозе или вашему спокойствию. Я видел парижских рыболовов, которые устраивали куда больше шума из-за какого-нибудь жалкого пескарика. А это же невиданное чудище! Каков цвет!.. А чешуя… Честное слово, каждая чешуйка не меньше, чем лист артишока! Прекрасный бросок, Хозе!.. Вы попали точно в цель, а ведь рыба не была видна, когда вы метнули гарпун. — Что вы хотите, — скромно отвечал мулат, — немного сноровки… — Вы собираетесь повторить? — Конечно. Нам нужна еще одна. Видите ли, будет много отбросов, и мы получим всего килограммов тридцать чистого мяса. Надо поохотиться, пока есть такая возможность. Кто знает, будет ли у нас вскоре случай пополнить запасы? — А вы полагаете, что мясо можно сохранить надолго? — Безусловно! — Объясните же мне, каким образом. — С помощью копчения. — И правда! Как просто! В жизни приходилось заниматься многим. Однако искусство копчения мне не знакомо. Было бы крайне желательно научиться. — Немного терпения! И, пожалуйста, тише. Хозе начинает. Мулат вновь занял свое место на носу и принялся внимательно вглядываться в неподвижные воды, стараясь приметить их малейшее волнение. И вот во второй раз — стремительный бросок, и гарпун исчез в пучине вод. Странное дело: послышался сухой стук, как если бы гарпун ударился о что-то твердое. От неожиданности мулат потерял равновесие, поскользнулся и свалился в озеро. В то же мгновение все увидели громадную зубастую пасть в том самом месте, где только что исчез под водой Хозе. Она то открывалась, то закрывалась, и наконец на поверхности показался кайман. — Несчастный! — закричал Маркиз, судорожно ища оружие. Шарль вздрогнул и схватил было карабин, но не смог сдвинуть его с места: приклад придавила громадная рыбина. В это время из воды вынырнул Хозе и срывающимся от ужаса голосом закричал: — На помощь! — Держитесь! Мы идем! Винкельман бросился на хищника в то самое мгновение, когда чудовище уже готово было проглотить бедного капитана. С поразительным хладнокровием и невероятной ловкостью эльзасец всунул в разинутую пасть какой-то довольно большой тюк и почти тут же оседлал каймана, словно лошадь. Животное жадно вцепилось в добычу, ею оказался плотно свернутый гамак. Зубы запутались в ткани. Задыхаясь, крокодил начал бить хвостом по воде, чтобы сбросить со спины назойливого всадника. Тщетно! Нелегко справиться с Винкельманом. Бывший спортсмен когда-то победил разъяренного быка, несшегося по улице и сметавшего все на своем пути. У Винкельмана тогда при себе ничего не было, но удар кулака по бычьей голове оказался смертельным. Так что противник кайману достался не из слабых. Крокодил, зажатый, словно железными тисками, хрипел и извивался в бессильной злобе. Борьба продолжалась не больше двадцати секунд. Эльзасец занес саблю и ударил чудовище промеж глаз. Брызнула кровь. На поверхности светлых вод растеклось багровое пятно, постепенно становясь красным. Насмерть раненный кайман вздрогнул всем телом, замер и повалился на спину. Мгновение спустя он плавал уже кверху брюхом. Отважный спаситель вынырнул из-под мертвой громадины, подплыл к пироге, ухватился одной рукой за борт и крикнул: — А где Хозе? Маркиз, смертельно бледный, стуча зубами, как раз протягивал руку мулату и пытался втянуть его на борт. Шарль помог Винкельману. Тот не торопясь вскарабкался, уселся на дно пироги. Вода ручьями стекала с него. — Все в порядке, ничего страшного, — произнес он глухо, обращаясь к Хозе. В голосе его не чувствовалось ни малейшего смятения. — Да уж! Ничего страшного… Я, знаете ли, совершенно оцепенел. Но вы! Без вас я бы погиб. Эта жуткая тварь просто-напросто разорвала бы меня на кусочки. — Бросьте! — Не знаю, как и благодарить вас, сеньор… Вы мне, можно сказать, подарили жизнь. — Оставьте! Помогать в беде — это единственное, что нужно делать не задумываясь. А вы как, месье Маркиз? — Я восхищаюсь вами. У вас еще хватает сил интересоваться другими после подобного циркового трюка! — Послушайте, наденьте что-нибудь на голову. Заработаете солнечный удар. — А вы? — О! Я привык к этим местам. Мой череп для лучей непробиваем. — Вы отважный человек! С каким удовольствием я пожму вашу руку! — Могу лишь ответить вам тем же. Это для меня не меньшее удовольствие. Поверьте! — Ай! Не так сильно, пожалуйста! Нет, это не человек, это великан. В следующий раз придется подать вам кулак, а то вы сломаете мне пальцы. — Позвольте, Винкельман, и мне поблагодарить вас, — сказал Шарль проникновенно и серьезно. — Вы предотвратили страшное несчастье, героически рискуя жизнью. Мы еще будем иметь случай вспомнить об этом, когда вернемся домой. Вы знаете, о чем я говорю. — Вы довольны, месье Шарль? И думаете, что мой бедный Фриц тоже будет доволен? — Можете мне поверить, дорогой друг. — Хорошо! Не будем больше об этом. Смотрите-ка, надо дать сеньору Хозе водки, а то он слишком наглотался воды. — Как это не будем больше об этом? — всполошился Маркиз, пораженный подобной скромностью. — Обязательно будем! — Прошу вас! Не стоит. Кайман — это ведь всего лишь ящерица!
ГЛАВА 9
Копчение. — Желать еще не значит уметь. — Мародеры. — Ягуары-рыболовы. — Всякая кошка любит рыбку. — Привлеченные ароматом. — Винкельман начеку. — Первый штурм. — Ягуар-стратег. — Схвачен за хвост. — Кто одержит победу: зверь или человек? — Повержен. — Это всего лишь кот. — Пирога больше не нужна. — Путешествие пешком. — Индеец. — Чего стоит зеркало в пять су. — Переговоры.Обитатели тропической Америки, рыболовы или охотники, сохраняют свою добычу просто. Дичь или рыбу обычно коптят. Процесс всем известен: мясо подвешивают над костром, и дым обрабатывает его. В цивилизованных странах так готовят разнообразные колбасы, коптят всевозможную рыбу, включая семгу и сельдь. Мясу ровным счетом все равно, коптит его цивилизованный человек или дикарь. И в том и в другом случае оно пропитывается веществами, содержащимися в дыме, и приобретает устойчивость к гниению на долгое время. Однако если принцип везде одинаковый, способ приготовления у дикарей все же свой. У цивилизованных людей есть специальные помещения для копчения. Им остается лишь подвесить мясо под потолок, разжечь огонь, закрыть двери и терпеливо ожидать, когда оно станет деликатесом. В лесу если и есть редкие постройки, то они отнюдь не герметичны. Чаще всего стен вообще нет, а есть только крыша из листьев. Поэтому к делу надо подойти иначе. Прежде всего возводят коптильню. Обитатели побережья Амазонки называют ее муким. Муким представляет собой больших размеров жаровню. Она устроена просто — четыре жерди укрепляют на четырех палках, вкопанных в землю. Внизу наваливают дров. Высота сооружения не должна превышать одного метра двадцати сантиметров над землей. Поверх жердей делается своеобразный шатер из палок и веток. Дрова для коптильни нужно подбирать умеючи. Несведущий человек принесет ветви разных растений, которые только встретятся ему на пути. А в результате блюдо может оказаться опасным для жизни. Некоторые растения содержат ядовитые вещества, пропитывающие мясо при копчении. Другие, наоборот, придают ему неповторимый аромат, изысканный вкус и надолго сохраняют. Мясо раскладывают на ветках. Вот дрова затрещали… Теперь требуется недюжинная сноровка, чтобы постоянно поддерживать огонь, не давая ему угаснуть, но и не позволяя разгореться слишком сильно. Мясо ведь коптят, а не жарят. Поэтому опытный коптильщик то и дело регулирует высоту и интенсивность пламени. Что и говорить: дело это непростое. Каждому понятно, и тут не требуется особых разъяснений, что приготовленное таким образом мясо — высушенное, пропитанное специальными веществами — не подвержено воздействию тропической жары и влажного климата здешних мест. Его можно долго хранить, при этом оно не теряет вкусовых качеств. Копчение — привычное занятие для индейцев. Они часто прибегают к нему после удачной охоты, когда посчастливится поймать дикого кабана или тапира. И всякий раз это для индейцев становится поводом для пышного празднества. Они пьют вовсю и устраивают свои дикие ритуальные пляски. Нет ничего более захватывающего, чем ночные оргии посреди леса, когда шипит мясо, а языки пламени сверкают во тьме. Тела пьяных индейцев отливают огненными бликами, извиваются в причудливом танце под барабанный бой, разносящийся далеко по побережью. У четырех наших путешественников церемония проходила куда более скромно и, с точки зрения туземцев, прозаично. Так как рыбина оказалась очень уж длинной, ее разрезали пополам, выпотрошили и уложили над костром. — И это все? — спросил Маркиз разочарованно, когда огонь запылал и Шарль принялся его регулировать. — Все. — Нам остается бить баклуши, пока ужин приготовится, а потом — на боковую. — Да что вы говорите? Наоборот, теперь-то и необходимо внимание. Надо поддерживать огонь, не давая ему разгореться. Не то наша рыбешка быстро превратится в уголья. — Понимаю. Следует по очереди дежурить около жаровни и стараться не заснуть. — Именно. Вы можете прямо сейчас заступать на вахту. Хозе последит за вами, а мы с Винкельманом займемся ужином. — Согласен! Теперь уж я буду осторожнее и не засну, как на шлюпе. Однако думаю, что здесь безопаснее, чем там? Правда, в озере водятся крокодилы… Бррр!.. Мерзкие твари! Я и сейчас еще весь дрожу при воспоминании о них. — Крокодилы — это что! Здесь водятся ягуары. — Ягуары? — Да. Впрочем, как и всюду. — Черт возьми! Я видел их в зоологическом саду. Должен признаться, они не внушили мне доверия. — Не стоит преувеличивать их свирепость. Здешние ягуары довольно трусливы и, в общем, безобидны. Если, конечно, их не ранить. Почти не известны случаи нападения ягуара на человека. — Что же случается, если зверь ранен? — Тогда он свирепеет. — А как насчет мародерства? — Мародерства, вы говорите? Запах копченого мяса, безусловно, привлекает их. Они подходят довольно близко и бродят вокруг, выжидая. При случае хватают кусок поувесистее и стремглав несутся прочь. — Быть не может! — Точно вам говорю. — А рыбный запах так же привлекателен для них? — Да. — Губа не дура. — Вы абсолютно правы. Ягуары даже предпочитают рыбу мясу. Представьте себе, я не раз видел, как они часами просиживают у воды, пытаясь поймать рыбешку. И им это удается, они на редкость ловкие рыболовы. Иногда этим хищникам попадаются крупные экземпляры. — Собственно, что ж тут странного? Кошки ведь обожают рыбу. Я видел, как они ловят ее в ручейках или небольших речках. — Во всяком случае, нам надо быть начеку. Огонь не так велик, чтобы отпугнуть хвостатых гурманов. Хотя усы опалить он им, конечно, сможет. Друзья были настороже. И не зря! К одиннадцати часам вечера хищник, привлеченный запахом копченой рыбы, но по натуре своей трусоватый, мяукал, подходя все ближе и ближе к стоянке. Его не было видно, но по звуку становилось ясно, что он приближается. В полночь подошла очередь Винкельмана заступать на дежурство. Эльзасец чувствовал себя даже спокойнее, чем привыкшие ко всевозможным сюрпризам Шарль и Хозе. Он не обращал никакого внимания на кошачий концерт. Когда долгие годы живешь в лесу, обретаешь полнейшую невозмутимость, что иногда приводит в неистовство европейца — новичка в здешних краях. Дитя цивилизации, он не в силах понять, как можно спокойно относиться к дикарям, хищникам и отвратительным рептилиям, каждый из которых в равной степени агрессивен и непредсказуем. Только много позже, пообвыкнув и присмотревшись, он поймет своего бывалого товарища и сам станет таким же. Сидя в гамаке, Винкельман бросал рассеянные взгляды на жаровню. Но за огнем он все же следил внимательнее, нежели за маневрами ягуара. Пока остерегаться было нечего, хотя жадный рык и не ослабевал. Но что делать? Ягуар замолчит лишь тогда, когда стащит лакомый кусочек. Вскоре, однако, воцарилась напряженная тишина. Эльзасец понял, что зверь приготовился к атаке. — Проклятые твари, — проворчал Винкельман, — никак не могут угомониться. Вон притаился возле мышиной норы. Глаза горят, точно свечки. Если бы я стрелял, как Шарль, прибил бы его из карабина. Но не стоит напрасно поднимать шум и будить товарищей. Они так сладко спят. Минуточку! О! Вот и ты, негодяй! Крупный ягуар потихоньку начал приближаться к жаровне, припадая к земле. Винкельман осторожно встал, стараясь не шуметь, пробежал семь-восемь метров, которые отделяли его от костра, пригнулся, схватил головешку и смело пошел навстречу ягуару. Зверь остановился, зашипел, словно разозленная кошка, и отпрянул от факела, осветившего его морду. Еще сильнее, чем огонь, на хищника, должно быть, подействовал голос человека. Ягуар в испуге удрал, как обыкновенный козленок. Винкельман рассмеялся и отправился к гамаку, как вдруг ситуация резко изменилась. В то время, как эльзасец с честью отразил первую атаку, сзади появился другой ягуар. Он подкрался к жаровне и ухватил здоровенный кусок рыбы. Можно подумать, что животные прилежно изучали стратегию[196]. Шоколад, взбешенный тем, что его обвели вокруг пальца, бросился вперед с такой скоростью и проворностью, на которые, казалось, его грузное тело было не способно. Искусный гимнаст — Маркиз — пришел бы в восторг. Эльзасец подоспел как раз в тот момент, когда ягуар приготовился улепетнуть с рыбой. Винкельман глубоко вдохнул и что есть мочи ударил огромную кошку кулаком по чем попало, а затем схватил за хвост, остановив таким образом вора. Хищник ни за что не хотел бросить добычу, а человек не собирался оставить в покое его хвост. Ягуар рычал, шипел, выгибал спину, пытаясь освободиться. Но силы противников, похоже, были равны. Взбешенный зверь понял, очевидно, что борьба бесполезна, и бросил на землю вожделенную добычу. Желая отомстить, он принял угрожающую стойку: шерсть дыбом, уши прижаты… Вот-вот кинется и одним махом проглотит противника. Бывший столяр из Мюлуза схватил головешку, что лежала рядом, и, не долго думая, бросил ее прямо в оскалившуюся морду. Ягуар страшно взвыл, отбиваясь с удвоенной силой. И тут произошло совсем уж невероятное. Человек громко расхохотался, словно мальчишка, забавляющийся с котенком. — Ну, что, рычи сколько хочешь! Попомнишь меня. Вот оторву хвост — будешь знать! Не воруй впредь! Зверь снова дико взвыл, громче прежнего. Шарль, Маркиз и Хозе, разбуженные шумом, повскакивали с мест и схватились за карабины. — Ягуары! — вскричал Маркиз. — Они напали на Винкельмана! — ужаснулся Шарль. Но вдруг все трое замерли, обуреваемые смешанным чувством: желанием расхохотаться и ужасом при виде небывалой сцены. — Держитесь, Винкельман. — Шарль вскинул карабин. — Сейчас я размозжу ему голову. — Прошу вас, оставьте это мне. Посмеемся, — ответил эльзасец все с тем же невозмутимым спокойствием. — Вы все трое здесь, опасности больше нет. Теперь я могу взяться за него по-настоящему. С этими словами Шоколад бросил головешку, ухватил ягуара за хвост, с силой перевернул на спину и протащил метров семь-восемь к подножию громадного ореха. Животное не успело опомниться. Человек на мгновение замер, собираясь с силами, приподнял громадную кошку, раскрутил ее и со всего маху ударил о ствол дерева. — Если только у него кости не из стали, — проговорил Винкельман, — уверяю вас, что от них ничего не осталось. Три возгласа ужаса и восхищения потрясли лесную чащу. Поверженный ягуар забился в агонии. У него горлом шла кровь. Через минуту зверь испустил дух. — Готово! — сказал силач с истинно мальчишеской гордостью. Маркиз прошептал, пораженный увиденным: — Подумать только! Ягуара, как какого-нибудь кролика… Нет, это решительно невозможно. Я брежу. — Да что вы! — продолжал Винкельман. — Он ведь весит не больше ста кило! И потом: ягуар — это всего лишь кот! Спросите месье Шарля. — Да-да, я знаю. А крокодил — это всего лишь ящерица, не так ли? — Именно, черт побери! — Ну, хорошо! И все же я повторяю, друг мой, вы человек необыкновенный. — Оставьте, пожалуйста! Каждый делает то, что в его силах. Не мог же я позволить этому бездельнику утащить нашу добычу. Взгляните-ка, кусочек что надо. Теперь его нужно положить обратно. Пусть подкоптится еще немного.
На этом происшествие и закончилось. Ягуар остался лежать возле орехового дерева в полном распоряжении муравьев. Рыбу коптили по всем правилам еще часов двенадцать. А затем вся компания погрузилась на пирогу. Как утверждал Хозе, который до сих пор следовал известным ему маршрутом, лодка вскоре им не понадобится. И действительно, сутки плыли по Куит-Анау — переход оказался не из легких, — а затем оставили пирогу, взвалили багаж на плечи и отправились пешком. Путешествие сулило немало трудностей даже таким отважным и сильным людям, какими были наши герои. Им приходилось тащить на себе гамаки, провизию, карабины — словом, весь свой скарб. Багаж весил много, что значительно затрудняло и замедляло поход. Шарль, подумав, предложил бросить все, кроме гамаков, оружия и продуктов, оставив по десять кило на человека. Друзья уже были готовы решиться на это и расстаться с вещами, столь необходимыми в путешествии, как вдруг заметили индейца. Он стоял неподвижно, словно статуя, и молча наблюдал за ними. — Вот удача! — закричал Маркиз. — Если он не один, нам, быть может, удастся уговорить их помочь дотащить вещи. — Хорошо бы, — отозвался Шарль, направляясь к дикарю, по-прежнему стоявшему, опершись на лук. — Кто ты? — спросил Шарль на местном диалекте. — Я из племени аторрадис, — отвечал краснокожий, не шелохнувшись. — Хозе, вам известно такое племя? — Да, сеньор. Они живут у истоков Куит-Анау. — Прекрасно! А можно ли им доверять? Способны ли они оказать нам кое-какие услуги? — Вы знаете здешних обитателей. Эти не лучше и не хуже. Немного воры, немного бездельники и всякую минуту готовы сбежать. Если я не ошибаюсь, они не канаемес. — Ну и замечательно! Если судить по этому, они должны быть неплохими носильщиками. Знаете ли вы их язык? — Да, сеньор. — Хорошо! Ведите переговоры и предложите сопровождать нас. — Охотно. Эй, дружище, — обратился мулат к индейцу, — ты здесь один? — Нет, остальные в лесу. — Сколько вас всего? Краснокожий поднял правую руку, растопырив пальцы. — Пятеро. Достаточно. Я знаю аторрадис. А белые, которых ты здесь видишь, — их друзья. Индеец слегка кивнул. — Позови своих. — Зачем? — Чтобы помочь нам нести багаж. — Куда? — Туда. — И Хозе указал на восток. — Это слишком далеко. — Всего лишь пять дней. — А что белые дадут нам за это? — Жемчуг для украшений, ножи, рыболовные снасти… — Покажи, — прервал его индеец, впервые выказавший некоторую заинтересованность. Шарль, которому Хозе переводил все ответы слово в слово, быстро открыл небольшой ящичек и наугад вынул оттуда пригоршню всякой всячины, при виде чего у краснокожего загорелись глаза. — Люди сейчас придут, — сказал он, — но белые должны дать мне что-нибудь. — Конечно, — ответил Шарль, умиленный простодушием нового знакомого. — Вот, дружище, — протянул он ему зеркальце за пять су. Не успел индеец взять в руки предмет, назначение коего было ему неведомо, как вскрикнул, поднес зеркало к лицу, увидел свое отражение, отбросил лук, стрелы и принялся дико вопить точно одержимый. — Дело сделано! — заключил Маркиз с видом знатока местных нравов. Индеец кричал все громче и прыгал на одной ноге от восхищения и радости. — Наивное дитя природы, кажется, совсем помешалось, — серьезно заявил парижанин. — Я никак не предполагал в них такой бешеной эмоциональности. Обычно они холодны как лед. — Не торопитесь с выводами, сеньор Маркиз. У вас еще будет не один случай убедиться в их скрытности и неискренности. Внезапное появление пятерых индейцев, одетых так же, как и первый, вооруженных луками и стрелами, прервало беседу. Заметив приятелей, туземец прекратил скакать, подозвал к себе остальных и каждому сунул под нос зеркало. Насладившись всеобщим восторгом, он наконец спрятал драгоценный кусочек стекла, прикрепив его к своему ожерелью, сделанному из зубов дикого козла. Индейцы затеяли бесконечные переговоры. Против обыкновения, они спорили очень оживленно, то и дело указывая пальцами на белых, на зеркало, на тюки и на восток. В конце концов, кажется, договорились. Предварительная часть переговоров была завершена. Аторрадис согласились сопровождать белых, но только лишь до деревни. Вновь началась долгая и оживленная дискуссия. В дело пошла водка. Шарль, утомленный бесконечными уловками индейцев, вынужден был прекратить попойку, ибо не мог предугадать, чем она кончится.
ГЛАВА 10
Прерии кончились. — Леса. — Индейцы любят палку. — Тропинка. — Страдания Маркиза. — Из последних сил. — Из огня да в полымя. — Осы. — Маркиз готов ждать железной дороги или трамвая. — Богатства экваториальной флоры. — Сюрприз. — Хина!.. — К несчастью — ложная! — Новые надежды, новые испытания. — Вверх! — Дуракам везет. — Желтая хина.Долгие переговоры увенчались-таки успехом. Индейцы не смогли устоять перед щедрыми дарами белых и согласились сопровождать их в течение пяти дней. Шарль не торговался. Сошлись на пригоршне жемчужин, рыболовных снастях, ножах и ножницах. Несмотря на настойчивые просьбы, индейцам не отдали лишь вожделенные зеркала. Их Шарль твердо решил оставить пока у себя и отдать краснокожим, когда дело будет сделано, надеясь тем самым уберечься от предательства. Аторрадис, согласившись с доводами белых о том, что окончательный расчет будет произведен по завершении перехода, взвалили на спины багаж и отправились в путь. Им и в голову не пришло попрощаться с женами и детьми, оставшимися в деревне. Четверо суток шли через кампо. Природа вокруг постепенно менялась. Заросли кустарника становились все гуще. На каждом шагу попадались крутые откосы, поросшие высокими деревьями. Путники преодолели две большие реки, которые плавно устремлялись с юга на север, — Репунини и Кужунини. Шарль предполагал, что это притоки Эссекибо, протекающей по территории Английской Гайаны. И был прав. Постепенно приближались к Лунным горам. Прерии кончились. За ними шли лесистые плато. Путешественники взбирались на холмы, спускались по каменистым склонам на дно сырых оврагов. Идти пришлось и по почти непроходимым джунглям. В конце концов отряд оказался в большом лесу, густом и сумрачном, который простирался до побережья Атлантического океана, на расстояние около девятисот километров. Индейцы обрадовались. До сих пор их рацион был однообразен: порция маниоковой каши и копченая рыба. Теперь они предвкушали удовольствие поохотиться и добыть свежего мяса. И действительно, тут был рай для охотников. Чего-чего только не водилось в этих местах! За все время пути краснокожие ни разу не бунтовали. У них и в мыслях не было бежать. Все тяготы путешествия переносили стоически. Шарль, которому столь непривычное постоянство казалось добрым предзнаменованием, надеялся как можно дольше удержать своих помощников, посулив им новые дары. Однако Хозе, лучше знавший повадки дикарей, призывал не слишком на них рассчитывать, ожидая каждую минуту подвоха.
Удивительное дело, но индейцы становятся гораздо более прилежными и разумными, когда поголодают денька три-четыре. Если же их хорошо кормят и прилично с ними обращаются, они не столь сговорчивы. Парадоксально, но факт. Те, кому доводилось иметь дело с этими детьми природы, не раз могли убедиться в сказанном. Экваториальный лес таит в себе немало опасностей и сюрпризов. Но краснокожие здесь дома. Ни колючий кустарник, ни змеи им нипочем. Они неслышно продвигаются вперед, сквозь непроходимые заросли, даже не поранившись, в то время как белые всюду оставляют лохмотья одежды и в клочья рвут кожу. Нет ничего тяжелее и утомительнее для европейца, чем путешествие по здешним лесам, если он не привык к ним. Маркиз представлял собой яркое тому доказательство. Вид у него был прямо-таки плачевный.
Между тем непогрешимое чутье скоро вывело людей из племени аторрадис на один из тех незаметных постороннему глазу торговых путей, что связывают между собой соседние племена. Лесными потаенными тропами краснокожие доставляют друг другу продукты и незамысловатую утварь, речной ил, служащий удобрением, стрелы, луки и прочее. Там, где белый увидит лишь заросли кустарника, индеец безошибочно отыщет тропинку и ни за что не собьется с нее, как будто бы она отмечена вешками или огорожена проволокой. Шарль, Винкельман и мулат легко справлялись с тяготами пути, которые оказались почти непреодолимыми для Маркиза. Бедняга, запутавшись в лианах, растянулся во весь рост и еле поднялся, ворча и спотыкаясь. В это мгновение острая ветка зацепилась за его шляпу. Он быстро обернулся, ветка отлетела, словно пружина, и вот шляпа уже в десяти шагах от хозяина. Пока Маркиз сражался со своим головным убором, остальные шли вперед. Он потерял их из виду. Мало того, сбился с дороги и отправился в прямо противоположную сторону. Его окликнули, он отозвался. Его долго искали, наконец нашли, когда он уже успел добраться до Риу-Бранку. Маркиз страшно сердился на себя и никак не мог взять в толк, почему это товарищи его не попадают в дурацкие истории и дорога дается им много легче. Тропинка привела к оврагу. На каждом шагу приходилось подпрыгивать: то вверх, то вниз. Парижанин, не потерявший еще охоты шутить, назвал это цыплячьим танцем. На земле валялось столько колючек, что они то и дело протыкали обувь и доставляли адскую боль. Споткнувшись, хочешь ухватиться за ветку, чтобы удержать равновесие. Но не тут-то было — ветка вся покрыта колючками. Скоро друзья превратились в компанию дикобразов — оказались сплошь утыканы иголками. Тропинка вилась средь густых зарослей. Приходилось рыскать по округе, словно псам, преследующим добычу. Люди блуждали по лесу, перекликались, теряли друг друга из виду, снова находили. В конце концов даже хладнокровные индейцы пришли в бешенство. Невероятно, но и они сбивались с пути по пятьдесят раз на дню! То посреди тропы завал — исполинские деревья нагромождены одно на другое. Приходилось идти в обход, а потом вновь искать следы. То путь преграждали заросли колючего кустарника. И все повторялось опять и опять. После шести часов такой дороги Маркиз совершенно изнемог. Бесконечные препятствия, падения, уколы, удары тяжелых веток и лиан доконали его. Неукротимый темперамент до сих пор помогал преодолевать голод, жажду и опасности. И на помощь это прекрасное качество характера всегда приходило, когда в нем была острая необходимость. Но эту тягомотину даже неунывающий Маркиз оказался не в состоянии побороть. Он изрыгал проклятия, кляня ненавистный лес. Однако тот, похоже, не желал обращать на парижанина ни малейшего внимания. Присутствие разгневанного человека не беспокоило вековые деревья. — О, тропическая природа! Сколько раз художники и писатели воспевали твои красоты! Но кто из читающих романы и смотрящих картины знает, что на самом деле скрывается за этими красотами? Горе тому, кто осмелился проникнуть под эти кроны! Он будет исколот, избит, семь потов сойдет с него. Мерзкие, грязные, растрепанные — вот какими выйдете вы из тропического леса! Смеетесь, месье Шарль? А я в бешенстве. Больше ни о чем и думать не могу. Раньше, когда я был солдатом, мне случалось хаживать в дальние походы с тяжелым вещевым мешком за плечами. Но там, по крайней мере, мы знали, куда и зачем идем. Мы пели, балагурили, а если и уставали, то все же чувствовали себя людьми. А здесь я, по-моему, превратился в обезьяну. Я уже больше не человек! Все мои усилия направлены на то, чтобы окончательно не потерять своего лица. Но разве здесь это возможно? Идешь все время с опущенной головой. Не дай Бог не заметить какое-нибудь препятствие. Свалишься и разобьешь физиономию за милую душу или получишь толстенной веткой по глазам. Листья на деревьях острые, словно лезвия. А если недоглядишь, скатишься в овраг, и поминай, как звали. Все это бедный разум не в силах выдерживать ежесекундно и ежедневно — по двенадцать часов без передыху!.. Однако вскоре бедному Маркизу запретили и причитать. Лес становился почти непроходимым не только для белых, но и для индейцев. Нужно было быть предельно внимательным и не потерять из виду идущих впереди. Заросли густели. Надвигался сумрак. Теперь шли, согнувшись в три погибели, опустив головы. То и дело приходилось нагибаться почти до земли, чтобы пролезть под упавшим деревом. В таких условиях и индейцы замедлили шаг. Запутавшись в лианах, один из них упал. Другой силился вырваться из лап колючего кустарника, исцарапанный до крови. Тот, что вел всех за собой, заблудился. Он искал тропинку, прорубая себе дорогу с помощью сабли. Четвертый зацепился за ветку, которая, отлетев, больно ударила шедшего следом. Наконец досталось и Шарлю, тому самому Шарлю, который прожил в этих местах не один год и ко всему привык. Он наткнулся на колючее дерево, изорвал одежду и получил чувствительный удар по голове. Шляпа его повисла на ветвях. Индеец попытался достать ее — вскарабкался наверх, но сорвался, упал, а вслед за ним на головы несчастных посыпалась целая лавина веток и листьев. Дождь оказался не таким безобидным: вместе с листьями на головы обрушились десятки клещей, сороконожек и скорпионов. Чего же еще! Вдруг все услышали голос Винкельмана. Сначала даже нельзя было понять, откуда он раздавался. — Не шевелитесь! Осы! Эльзасец замер у дерева, к стволу которого прилепилось осиное гнездо. Осы были огромные, с палец величиной. Местным жителям хорошо знакомы эти грозные насекомые. Гнездо, сделанное из вещества, напоминающего картон, достигало одного метра в диаметре. Свирепые хозяева потихоньку вылетали из своего убежища и кружили над головой Винкельмана. Несчастный боялся не только пошевелиться, но даже и вздохнуть. Он старался не моргать и, если бы это было в его власти, заставил бы сердце перестать биться. Все замерли: Шарль — в гуще кустарника, Маркиз — растянувшись плашмя на земле, Хозе — на спине, индейцы — в самых невероятных позах. Все стояли, лежали, сидели как вкопанные, объятые ужасом. Одно неосторожное движение, и стая ос накинется на жертву. Благодаря Винкельману, в который уже раз проявившему хладнокровие, опасности удалось избежать. Минут пятнадцать, правда, пришлось не шевелиться. Но потом насекомые вернулись в гнездо, не найдя, очевидно, ничего интересного для себя в этих неподвижных фигурах. Опомнившись, люди продолжили путь. — Долго еще? — взмолился парижанин. — Еще немного, и я останусь здесь до тех пор, пока власти не проведут железную дорогу или трамвай. — Часов шесть, сеньор Маркиз, — ответил Хозе. — А что дальше? — Дальше — другой лес. Но там совсем нет подлеска, поэтому идти гораздо легче. — Скажите, а что это за деревья? Неужели они разные? Мне кажется, что все на одно лицо. Когда я буду вытаскивать из кожи их мерзкие колючки, мне бы хотелось знать, как назывались те растения, которые доставили мне столько невыразимого удовольствия. — Я знаю только те наименования, что известны местным жителям. — Все равно. — Ну что ж! Вот это ибирапитанга, знаменитое бразильское дерево. Из него добывают красную краску. Вот там ипе. Годится для луков. Рядом с вами массарандуба, достигает в высоту тридцати метров. Его сладковатый сок очень вкусен… — Значит, его можно пить? — Конечно! — Так попробуем! Право же, это не из любопытства. Маркиз подошел к дереву и рубанул по стволу мачете. Тут же показалась белая, напоминающая сливки, жидкость, и парижанин припал к тоненькой струйке, причмокивая, как котенок над блюдечком молока. — Продолжайте, дорогой мой. У вас очаровательный вид. Вы познаете ботанику, так сказать, не понаслышке… Теперь взгляните вон туда. Это итауба. — Знаменитое каменное дерево, из которого наши лже-кайманы делают свои лодки? — Оно самое. — Великолепно! Не меньше трех метров в диаметре! Вот это громадина! А как называется вон то, увешанное коричневыми плодами? — Сапукайя. Там — абиурана. Рядом кажасейро, чьи красивые ягоды называют местными яблоками. — Как жаль, что нельзя вскарабкаться наверх и нарвать их! Придется обойтись без этой вкусноты. — Если хотите продолжать, то взгляните сюда. Это железное дерево. Его еще называют черепаховым. Нет лучшей древесины для столяра. Вот так называемое ценное дерево: его кору и ароматные масла используют в медицине и парфюмерии. Далее, фиолетовое — видите, какой великолепный цвет. Атласное: у этого древесина ярко-желтая, почти янтарная… Вдруг мулат умолк на полуслове, потом удивленно ахнул и бросился в чащу, не обращая внимания ни на лианы, опутывавшие тело, ни на колючки, ни на режущие кожу листья, ни на корни, попадавшиеся под ногами. Через несколько минут он вернулся довольный, с видом триумфатора[197]. — Какое счастье! Вы не представляете, что я нашел! Не хотите ли взглянуть? Все последовали за капитаном. — Неужели хина? — нерешительно спросил Шарль. — Нет! Это невозможно. Мы ведь поднялись всего метров на восемьсот, а хина растет, по крайней мере, на высоте тысяча двести метров. — Это не сама хина, но очень близкий вид. Боливийцы называют его каруа-каруа, или хина-свеча, из-за формы высушенной коры. Мошенники добавляют ее в настоящий хинный порошок. Она не лечит лихорадку и, с медицинской точки зрения, совершенно бесполезна, но ее присутствие — залог того, что скоро мы увидим и настоящую хину. — Вы в этом уверены? — спросил Робен, внимательно разглядывая дерево. — Убежден, что не ошибаюсь. Поверьте, сеньор. Вы справедливо заметили, что мы еще не поднялись на нужную высоту. Осталось какие-нибудь четыре-пять сотен метров. Вперед! И если через два дня не найдем то, что ищем, я не возьму с вас ни копейки из обещанной платы. Услыхав столь категоричное утверждение, друзья приободрились. Винкельман и Маркиз, ровным счетом ничего не смысля в ботанике, тем не менее детально изучили каруа-каруа, будто стараясь запомнить его как следует, чтобы не ошибиться в дальнейших поисках хины. Это было роскошное дерево, высотой как минимум метров сорок пять, с пышной, развесистой кроной, беловатой, почти гладкой корой, лишь кое-где тронутой плесенью и мхом. У подножия валялась большая ветка, вероятно, сбитая бурей. Любопытные могли разглядеть и листья растения. Самые крупные достигали тридцати — сорока сантиметров. Овальные, продолговатые, без зубчиков, бледно-зеленые, глянцевые сверху, с бесчисленными прожилками снизу. По краям — крошечные белые волоски. Черенок красный, длиной три-четыре сантиметра. Внимательно рассмотрели и цветок. Пурпурная чашечка с пятью зубчиками и белым венчиком длиной два с половиной сантиметра, внутри бархатистая. Потратив на внимательное изучение минут пятнадцать, Винкельман и Маркиз заявили, что знают достаточно и не пропустят теперь настоящее хинное дерево. Шарль, которому отец в свое время преподал основы ботаники, великолепно разбирался в строении растений и знал большинство местных видов. Сходство каруа-каруа с хиной было разительным. Молодой человек оживился, ободренный надеждой. Что касается индейцев, то они, сбросив тяжелую ношу, уселись на корточки и сохраняли мертвое молчание, с иронией поглядывая на белых, которые так заинтересовались деревом, с точки зрения краснокожих, абсолютно бесполезным. Ведь у него не было съедобных плодов. Наконец снова отправились в путь. Карабкались по склонам, а те становились все круче и круче. Ко всем тяготам пути прибавилась еще и усталость от того, что все время приходилось взбираться вверх. Никто не заботился больше о том, чтобы не сойти с тропинки. Надеялись на индейцев. Все без конца озирались: лес оказался здесь чересчур густым, в двух шагах можно было потеряться. Трое белых и мулат то и дело задирали головы вверх, мечтая увидеть наконец знакомую листву. Но чаще плелись, пригнувшись, пытаясь отыскать на земле продолговатые, глянцевые листья и внимательно разглядывая опавшие цветы. Ребячество — скажет читатель. Но это не совсем так. Узнать нужное растение в этих местах возможно именнотаким способом: либо вглядываясь в кроны, либо шаря по земле. Причина кроется в том, что стволы деревьев обычно покрыты растениями-паразитами, плесенью, мхом, и поэтому нельзя различить дерево по коре, все стволы практически одинаковы на вид. Нужно либо рассматривать зеленые вершины, либо угадывать дерево по опавшим листьям и цветам. Если до сих пор путешественники находились на сравнительно малых высотах, то теперь поднимались все выше, желая как можно скорее достичь цели. Пока что им не везло. В лучшем случае встречались родственники хины. Увидев вдалеке знакомые черты, все радостно кричали, бежали из последних сил. Но каково же было разочарование, когда выяснялось, что это вновь и вновь ошибка! Однако надежда не покидала охотников за хиной. Мало того, она росла вместе с высотой, как, впрочем, и усталость. Псевдохина, то тут, то там попадавшаяся на пути, подсказывала, что дорога верна. Люди упрямо карабкались вверх, задыхаясь, обливаясь потом. Их одежда давно уже превратилась в лохмотья, лица и руки были исцарапаны в кровь. Упорству и выносливости белых удивлялись даже индейцы, по-прежнему возглавлявшие шествие. Вскоре растительность заметно изменилась. Обитатели низменностей уступили место любителям высокогорья и разреженного воздуха. Паразитов на стволах стало меньше. Лес не был уже таким густым, как внизу, и жара как будто спала. Солнце быстро садилось, его лучи тонули за горами, давая о себе знать лишь отсветами на небе. Внезапно в тишине раздался гортанный крик, потом целая трель, и Маркиз, взбесившийся от радости, стал прыгать, словно школьник, и во всю глотку звать своих друзей. — Что случилось? — Господа, — отвечал молодой человек, — знаете ли вы поговорку: «Дуракам везет»? Так вот это обо мне. Я, кажется, попал в яблочко. Хозе, друг мой, взгляните-ка на эту ветку! Мулат побледнел и вскрикнул: — Где вы нашли это, черт побери?! — В ста метрах отсюда. О! Честно говоря, я не слишком старался. Моя заслуга невелика. — В самом деле? — прервал его Шарль. — Я просто-напросто нашел заросли одинаковых деревьев… — Да знаете ли вы, что это такое? — Хина, не так ли? — Провалиться мне на этом месте, если это не так! Самая лучшая хина из всех существующих. Это желтая хина!
ГЛАВА 11
История хины. — Чудодейственное исцеление. — Вице-королева Перу. — Порошок герцогини становится порошком иезуитов. — Ла Кондамин и Жозеф де Жюсье. — Хина в Индии и на Яве. — Несколько слов о ботанике. — Разновидности хины. — Классификация. — Сбор, обработка и транспортировка хины. — Незаменимое лекарство при лихорадке и анемии.Прежде чем продолжить рассказ о приключениях наших охотников-ботаников, стоит подробнее остановиться на удивительных лечебных свойствах хины. Сегодня она используется едва ли не во всех отраслях медицинской науки и практики. История хины, ее описание, условия разведения, разновидности, свойства, применение — такая обширная тема, что мы сможем рассказать обо всем этом лишь вкратце. Неизвестно, знали ли инки[198] о чудо-дереве, отменном средстве против лихорадки. Во всяком случае, историки испанских завоеваний об этом умалчивают. Первые упоминания о хине относятся к семнадцатому веку. История открытия целебных свойств растения довольно загадочна. Полагают, что один индеец, подхвативший в лесу малярию, томимый жаждой, выпил скопившуюся в углублении большого листа дождевую воду. А в ней плавали крупицы хинной коры. Индеец совершенно неожиданно излечился. Этот случай, если он действительно имел место, произошел в королевстве Кито, сегодняшней республике, между Куэнса и Лойя. Управляющий Лойя узнал о чудодейственных свойствах растения от краснокожих, расхваливавших хину на все лады. Быть может, секрет надолго остался бы достоянием жителей этих краев, если бы в 1638 году лихорадка не поразила одну очень важную особу, вице-королеву Перу, герцогиню Д’Эль Синшон. Узнав о болезни вице-королевы, управляющий Лойи отправил в Лиму кору хины, головой ручаясь за то, что средство поможет. Нужно было принимать его в виде порошка, что вице-король и приказал делать неукоснительно. Страшная, грозящая смертью болезнь отступила перед неведомым доселе лекарством, и герцогиня выздоровела, как по волшебству. Чудесное исцеление наделало много шуму. Вице-королева, отправляясь в Испанию, захватила с собой хинную кору и одарила ею высшую аристократию страны. Вскоре благодаря исцелению вице-королевы, о котором узнали все, лекарство стало знаменитым и получило название «порошок герцогини». Несколько лет спустя перуанские иезуиты[199], не единожды проверившие действие удивительного средства, привезли его сначала в Рим, а затем распространили и по всей Италии. Тогда его называли кинкина или кина-кина. Но эти названия не прижились. Теперь лекарство окрестили, по аналогии с прежним, «порошоком иезуитов». Долгое время истинная природа порошка оставалась неизвестной медикам. Только в 1679 году один англичанин по имени Тальбот, сбывавший, если верить мадам Севинье[200], в Париже «порошок иезуитов» по четыреста пистолей за дозу, открыл за баснословную цену тайну Людовику XIV. Благодаря королю, купившему секрет для того, чтобы сделать его всеобщим достоянием, хину узнали и во Франции. Первые сведения и точные данные о хинном дереве и местах его распространения добыл во время своих экспедиций французский геодезист Шарль Мари де Ла Кондамин. Отправившись в Центральную и Южную Америку вместе с Годеном и Бугером, он, воспользовавшись случаем, досконально изучил долину Лойя, где росли целебные деревья. По свидетельству Жозефа де Жюсье[201], ботаника экспедиции, Ла Кондамин первым на месте составил описание такого дерева, зарисовал с натуры все его части, вернул ему первоначальное название «кинкина» и в 1738 году, спустя ровно сто лет со времени излечения герцогини, опубликовал работу о хине. Исследования Кондамина продолжил Жозеф де Жюсье, который остался в Перу на два года. Благодаря трудам двух французских ученых, точным описаниям и привезенным образцам хина заняла законное место в ботанике и была занесена великим шведом Линнеем[202] в семейство мареновых. Жозеф де Жюсье не торопился возвращаться во Францию. Увлеченный открытиями в неизведанной стране, он проехал всю Перу, добравшись до Боливии, и вернулся на родину лишь в 1771 году. Здоровье ученого было подорвано и не позволило ему достойным образом обработать полученные данные и опубликовать их. В 1776 году французское правительство поручило ботанику Домби продолжить исследования Жозефа де Жюсье. Однако правительство Испании, которому подчинялось Перу, всячески препятствовало проведению экспедиции. Стремясь присвоить честь новых открытий, оно задерживало выезд Домби и снарядило собственные экспедиции под руководством ботаников Рюица и Павона. Домби, вынужденный присоединиться к испанцам, вместе с ними побывал в местах распространения хины и сделал ценные открытия. К несчастью, государственные чиновники, препятствовавшие организации французской экспедиции, не позволили ему воспользоваться результатами этих открытий. Его коллекции не добрались до Музея истории естествознания, затерявшись в дороге. Увы! Ученый не смог предать гласности итоги своих изысканий. Слава Богу, что Рюиц и Павон сумели обнародовать свою работу — «Флора Перу и Чили». Регионом распространения чудо-дерева долгое время считали лишь перуанские долины, пока Жозе-Селестино Мутис, придворный медик вице-короля дон Педро Массиа де ла Седра, не открыл хину в Новой Гренаде, близ Санта-Фе. Целебные свойства ее оказались такими же, если не эффективнее, нежели у той, что произрастает в долине Лойи. Результаты его исследований тут же оспорили Рюиц и Павон, демонстративно выказав свое презрение знаменитому ботанику. Будущее, однако, показало, что Мутис был абсолютно прав. Производители хинина до наших дней предпочитают всем остальным те виды растения, которые открыл и описал Мутис. Ученый находился еще в Санта-Фе, когда два знаменитых путешественника, Гумбольдт и Бонплан, выехав из Европы в 1799 году, высадились в Картахене (Колумбия) в 1801-м, посвятив весь предыдущий год исследованиям бассейна реки Ориноко. Погостив у Мутиса, они пересекли Новую Гренаду, королевство Кито, северные провинции Перу, чтобы отправиться в Мексику, в одно из самых плодотворных путешествий века. Результатом этой экспедиции стало открытие и описание новых разновидностей хины. Впервые была расширена зона географического ее распространения и выявлены новые свойства коры. Сегодня мы помним имена Пирди, Хартвига, Гудо, Варсевица, Линдена, Функа, Шлима, Триана, Поппинга, Лешлера. Все они побывали в Новой Гренаде, в Перу, в Чили и обогатили науку новыми данными. До 1848 года неизученной оставалась территория Боливии. Ни Жозеф де Жюсье, проникавший в самые глухие районы, ни Хенк, знаменитый его последователь, Боливией не занимались. А потом именно в этих районах стали добывать ценные виды хины, и именно эти места особенно богаты ею. Исследования здесь проводил Веддель, отделившись от экспедиции Кастельно[203]. Ученый проник в провинцию Карабайя. Из этого путешествия он привез обильный материал. Среди прочего — восемь новых видов хины, старательно описанные во всех деталях в его «Истории изучения хины». Главное внимание Веддель уделил микроскопическому исследованию органов растения, результатом чего стали ценнейшие открытия. Между тем разного рода обстоятельства способствовали дальнейшему продвижению науки в этой области. Все путешественники, присутствовавшие при изготовлении лекарственного средства дикарями, выражали опасение, сохранятся ли чудодейственные свойства хины, если ее попытаться разводить в других местах. Ведь естественные запасы не бесконечны. Голландское правительство первым поняло, что в этом направлении необходимо что-то предпринять. В Перу и в Боливию отправился доктор Хасскарл, с тем чтобы привезти живые растения на территорию нидерландских колоний и натурализовать там. Эксперимент завершился полной победой ученого. Молодые деревца прекрасно прижились на Яве, где их и по сей день успешно выращивают. Вскоре примеру Голландии последовала и Англия, поручив аналогичную миссию Маркхаму, Притчеру и Спрюсу. На этот раз хинным деревьям предстояло переехать на Цейлон и в Индию, к подножиям Гималаев и в Бенгалию. Со временем давнишние посадки превратились в настоящие леса, и прибыли англичан стали исчисляться миллионами. Завершая небольшой исторический экскурс, скажем, что ученые создали множество трудов по акклиматизации хины. А с появлением работы Говарда почти не осталось неисследованных проблем. Теперь создадим, если угодно, «словесный портрет» хины. Даже старые деревья невысоки. Листья, как у всех мареновых, целые, ровные, без всяких зазубрин, но очень различны по размерам и форме. Цветы бывают белые, розовые или пурпурные, с приятным запахом. По форме напоминают юлу. Венчик обычно цилиндрический или конусоидальный с копьевидными лопастями и беловатыми волосками на концах. Пять тычинок с удлиненными пыльниками. Плоды хины — это яйцеобразные капсулы. Когда плод созревает, капсулы лопаются и многочисленные семена, снабженные специальным крылышком, разлетаются по округе. Основные характеристики одинаковы для всех разновидностей растения. И подчас даже опытному ботанику не сразу удается распознать, к какому именно виду относится тот или другой экземпляр. С коммерческой точки зрения необходимо точно знать, что за вид перед вами, так как не все обладают равноценными свойствами и способны лечить. Понятно поэтому, насколько важно быть настоящим знатоком, чтобы не запутаться и не потратить средства, силы и время на разведение нерентабельной разновидности хины. Эти растения распространены в определенной зоне Южной Америки — вдоль Кордильер. Вогнутая часть огромной кривой смотрит на Восток и включает в себя основные притоки Амазонки. В этой части Южно-Американского континента хина встречается повсюду, где высота над уровнем моря создает достаточную температуру для ее нормального развития. Здесь можно иногда увидеть деревья, достигающие в высоту от полутора до двух с половиной метров. Однако в основном высота хинных деревьев не превышает одного метра двадцати сантиметров. Но бывают и исключения. Так, Гумбольдт описал один экземпляр высотой два метра восемьдесят девять сантиметров, а Калдас — три метра двадцать семь сантиметров. Удивительные свойства характерны не только для коры хины — цветы и листья тоже можно использовать. Но мы будем говорить лишь о коре, ибо именно ее экспортируют в Европу и именно из нее производят лекарственные препараты. Французские ботаники внимательно изучали лечебные свойства коры. Особенно их интересовало влияние климатических условий на эти свойства. Было проведено множество научных экспериментов, но и сейчас еще не все тайны раскрыты. Ботаники условно подразделяют кору хины на четыре категории. 1. Серая хина. Кора волокнистая, вяжущая, горькая. Из нее получается порошок серого цвета, содержащий много цинхонина и очень мало хинина. Действие его скорее тонизирующее, нежели противолихорадочное. 2. Желтая хина. У этого вида коры больше, она не такая вяжущая, но гораздо более горькая, чем серая. Из нее получают желтый или оранжевый порошок, содержащий значительное количество хинина и меньше цинхонина. В данном случае противолихорадочное действие довольно сильно. 3. Красная хина. Коры очень много, она волокнистая, однако не в такой мере, как серая. Тоже вяжущая и горькая. Ярко-красный порошок содержит одновременно и хинин и цинхонин, а следовательно, оказывает и тонизирующее и противолихорадочное действие. 4. Белая хина. Кора белая, гладкая, плотная. Из нее получают сероватый порошок, содержащий немного цинхонина и других аналогичных алколоидов. Противолихорадочным действием практически не обладает. Ученые пришли к подобной классификации во многом эмпирическим путем. Она не имеет серьезной научной основы, но для целей коммерции и медицинской практики вполне пригодна. Видов хины, используемых в медицине, около трех десятков. Перечислять их не имеет смысла. Остановимся лишь на нескольких. Один из самых ценных видов серой хины распространен в Новой Гренаде и в долине Лойи. Кора его содержит до десяти — двенадцати граммов на килограмм сульфата цинхонина. Что касается желтой хины, то это наилучшее средство от лихорадки. Его кора содержит главным образом хинин. В одном килограмме его от тридцати до тридцати двух граммов, и только шесть — восемь граммов цинхонина. В провинции Кито растет красная хина. В ее ценной коре двадцать — двадцать пять граммов хинина и двенадцать — пятнадцать граммов цинхонина на килограмм. Естественно, что люди по преимуществу интересовались такими разновидностями хины, в которых было больше ценных веществ, ибо они — самые дорогие. Но хинные деревья, угодные нам, редко росли отдельно от других. Это, естественно, осложняло разработку хины. Когда в том или ином месте обнаруживали хинные деревья, причем выяснялось, что их здесь достаточное количество, чтобы начать промышленную разработку, рабочие какой-нибудь компании или богатого частника отправлялись в лес под командой управляющего и обустраивали стоянку. Прежде всего спешили построить крытые ангары, предназначенные для сушки и хранения коры. Ее необходимо беречь от непогоды. Затем, в зависимости от объема работ, особенно если запасы хины большие и предполагалось пробыть здесь долго, начинали обработку окрестного участка земли. На всякий случай! А вдруг продовольствия не хватит. Вырубали лес, выжигали корни и пни, а на золе сажали тыквы, ямс, маис, бобы, арахис, стручковый перец. В здешнем влажном климате все это вырастало, как на дрожжах. Не проходило и трех месяцев, как собирали урожай. Покончив с приготовлениями и предварительными работами, взяв топоры, мачете, сумки с провизией, люди по одному или парами отправлялись в лес. Выбрав подходящее дерево, его сначала поглубже окапывали, а потом подрубали топором под самый корень, как можно ниже. Свалив ствол, обрубали еще и ветки, а уж потом снимали кору. С помощью небольшой дубинки, называемой маканачуэлла, деревянной колотушки или же просто обратной стороны топора, аккуратно постукивая, внутреннюю часть коры отделяли от внешней — мертвой. Потом мачете делали продольные или поперечные насечки и отдирали кору от ствола одинаковыми кусочками, достигающими сорока — пятидесяти сантиметров в длину и десяти — двенадцати в ширину. Их называли плашками. Плашки напоминали дощечки или дранку, которой в некоторых странах кроют крыши домов. С ветвей кору снимали таким же способом, только не постукивали предварительно, потому что здесь кора моложе, она легче отходила. С хорошего дерева, ствол которого в диаметре составлял от девяноста сантиметров до метра, обычно снимали сто — сто десять килограммов сухой коры. Рабочие приносили кору в лагерь на спинах, складывали в груды и сушили на солнце. Для того чтобы плашки не покоробило, что затруднило бы их транспортировку, сверху укладывали тяжелый груз. Каждый день, в крайнем случае каждые два дня, плашки переворачивали и перетасовывали, чтобы они равномерно просохли и не заплесневели. Что до коры, снятой с ветвей, то ее просто раскладывали на солнце. Вскоре под лучами она сворачивалась в трубочки. Наконец кора высушена. Теперь предстояло самое трудное. Взвалив тяжелую ношу на плечи, рабочие должны пройти теми тропами, которыми и налегке-то шагать не просто. Обычно этот путь занимал пятнадцать — двадцать дней. После всех тягот пути кору сваливали к ногам управляющего. Его дело — беречь добытое. Управляющий сортировал кору, складывал в пакеты, а затем те же рабочие или мулы тащили груз в ближайший пункт. Там вес удваивался. Пакеты заворачивали в свежую бычью кожу. Когда она высыхала, то становилась такой же тяжелой, как мешок, полный коры. В такой упаковке хина и отправлялась в Европу, где попадала в руки аптекарей, врачей, фабрикантов-химиков. Химический состав различных видов хинной коры стал известен благодаря двум французам, Пеллетье и Каванту. В 1820 году их уникальные открытия обогатили науку, показав всему миру, чему обязана хина своими удивительными свойствами. Пеллетье и Каванту удалось выяснить, что в коре хины в разных пропорциях присутствуют алкалоиды: цинхонин, киноидин, цинхонидин, а кроме того, множество других ценных веществ. Окончательно химический состав хины выяснили Бушарда и Пастер, который был знаменитым химиком до того, как стать гениальным физиологом. Однако не все вещества, содержащиеся в хине, одинаково важны с терапевтической точки зрения. Среди них самый ценный — хинин. Ради него, ради чудодейственного хинина, исцеляющего и воскрешающего, неутомимые трудяги уходили и вновь уходят в леса Амазонки.
ГЛАВА 12
Сеньор Хозе радуется. — Хинная «жила». — Успех. — Индейцы отказываются идти дальше. — «Уже пятый день». — Снова о канаемес. — Стоянка. — Разочарование индейцев. — Маркиз заболел. — Экзема, или болезнь больших лесов. — Шестьдесят килограммов для эльзасца не в тягость. — Чему быть, того не миновать. — Один за всех, все за одного. — Больной выдержал. — Испорченный ужин. — Шарль — повар. — Индейцы берут реванш. — Летаргия. — Ассаку, индейский яд. — Сон или смерть?Вернемся на плато Лунных гор, где наши охотники за хиной отыскали первое деревце. При виде его сеньор Хозе, похоже, впал в настоящую горячку. Оставив компанию, он убежал в лес, потом вернулся, снова кинулся в чащу, опять и опять исчезал и появлялся, кричал от радости, пел, оживленно разговаривал сам с собой. Любой, кому неведомо подобное состояние, решит: лихорадка, бред, горячка. Однако человеку, знакомому с тяготами поисков и походов, тому, кто спит и видит цель, ради которой пустился в нелегкий путь, понятно состояние удачливого охотника. Возбуждение это сродни тому, что испытывает после изнурительного труда старатель, напавший наконец на золотую жилу. Так ликует одержимый исследователь, забывавший себя, все прелести жизни ради брезжущей где-то в неясной дали, манящей, все затмевающей цели, когда цель эта достигнута и мечта осуществлена. Остальные не проявляли столь бурного восторга. Отчасти оттого, что не в полной мере осознавали значение происшедшего, отчасти благодаря европейскому темпераменту, не столь бешеному, как у мулата Хозе. Вид хинных деревьев не произвел на них того впечатления, какое оказали бы внезапно открывшиеся взору залежи золота. Россыпи золотого песка, блеск самородков превращают в безумца любого, каким бы хладнокровным и рассудительным он ни был. А богатства флоры и фауны, пусть даже невероятные, необозримые, не будоражат воображение. Безумие, охватившее мулата, пробудившее в нем дикарскую кровь, заставившее его галопом носиться по лесу, кричать и улюлюкать, продолжалось с час. Напрыгавшись, набегавшись, накричавшись, Хозе, который, казалось, совершенно забыл о своих друзьях, вернулся запыхавшийся, обливаясь потом. Лицо и руки его горели, но глаза радостно поблескивали. — Браво! Браво, сеньоры! — воскликнул он. — Я прошелся по лесу и нашел здесь множество хинных деревьев. — Вы довольны? — поинтересовался Шарль, не в силах скрыть улыбку. — Я счастлив, безумно счастлив! Знаете ли, сеньор, я ведь не напрасно промчался по чаще, словно тапир, за которым гонится ягуар. Уверяю вас, там столько хины, что работы хватило бы для пятидесяти человек года на два! — Быть не может! — Да уж можете мне поверить. Но и это еще не все. Мало того, что таких запасов хины не встретилось в самых знаменитых зарослях Боливии. Поскольку местность тут возвышенная, деревья — настоящие великаны. Что касается вида, то, насколько я могу судить, в основном здесь произрастает красная и желтая хина… — То есть самая ценная, не так ли? — А следовательно, и самая дорогая. Признаюсь, сам я не ожидал подобного. То, что мне некогда приходилось видеть, а видел я богатейшие заросли, и близко не напоминает эти. Отныне, сеньор, я уверен в успехе нашего предприятия. Чем дальше мы пройдем на восток, тем больше будет хины. — Почему вы так думаете? — Насколько я помню, а память мне вроде бы не изменяла до сих пор, вплоть до истоков Риу-Курукури почва везде одна и та же. — Но ведь до тех мест еще целых пятнадцать лье! — Около пятнадцати, сеньор. — И вы полагаете, что хина растет на всем протяжении? — Да, сеньор. — Черт возьми! Ну что ж, посмотрим, дорогой Хозе. Чем раньше, тем лучше. Вы заразили меня своим энтузиазмом. Друзья мои, что вы обо всем этом думаете? — Мы готовы, — в один голос ответили Маркиз и Винкельман. — Тогда в путь! Однако непредвиденный случай едва не нарушил их планы. Пока Хозе рисовал компаньонам горы золотые, индейцы, скинув поклажу на землю, улеглись в тени деревьев на травку и заснули крепким сном. Услыхав слишком хорошо знакомое им слово «В путь!», произнесенное Шарлем, они открыли глаза, лениво потянулись, посмотрели на солнце, украдкой переглянулись и остались сидеть на корточках, не двигаясь с места. — Вы что, не слышали? — спросил Шарль. — Слышали, — ответил один из индейцев, — белый сказал: «В путь!» — Почему же вы не идете? — Сегодня пятый день. — Какой еще пятый день? — Белый сам знает. Разве нет? — О чем ты говоришь? — На пятый день белый должен дать нам жемчуг, ножи, рыболовные снасти и зеркала. — Да, верно. — Так давай… — А что вы сделаете потом? — Вернемся в деревню. — И вы не хотите остаться с нами? — Нет. — Почему? — Слишком далеко. — Что значит далеко? — Ты отправляешься слишком далеко. — Не оставляйте нас хотя бы еще пять дней, и я заплачу вам вдвое больше обещанного. — Слишком далеко! — Три дня. Через три дня мы будем уже возле истоков Курукури, не так ли? — Да. — Ну вот и хорошо! Идем. — Там канаемес. — Хватит!.. Хватит! — внезапно прервал их Маркиз, которому чертовски надоела эта бесконечная канитель. — Нечего болтать! — Что говорит этот маленький белый? — поинтересовался индеец. — Он говорит, что ты не прав, — ответил мулат. — А-а… — протянул краснокожий, не возразив более ни слова. — Он говорит, что там нет канаемес. — А-а-а! Шарль вновь начал уговаривать индейцев. Он старался не слишком нажимать на них, но все же был достаточно настойчив. Краснокожие не привыкли наотрез отказывать белым. Они не решались слишком долго и упорно спорить с ними, даже если были сильно пьяны. Собравшись в кружок, перебрасываясь быстрыми фразами и многозначительными взорами, совещались, решали, как поступить. — Ну так что? — вмешался Шарль. — Решено? Решено, не правда ли? Идем! — Если белый так хочет, мы идем! — был ответ. — Вперед! — подхватили остальные. — Видели, — обратился Шарль к Винкельману, — каковы ловкачи? Они бросят нас при первом подходящем случае. — Сегодня же ночью. Но не беспокойтесь, мы будем начеку. — Думаю, что так оно и получится, — сказал Маркиз, — они спят и видят, как бы улизнуть. Думают только о себе, как бы свою шкуру сберечь. Боюсь, нам с ними еще придется хлебнуть лиха. Между тем путешествие продолжалось. Опять долгие переходы, трудности, усталость. Поднимались все выше и выше, туда, где хинные деревья чувствуют себя хорошо, чего не скажешь о людях. Предполагая вернуться сюда рано или поздно, чтобы добывать кору хины, Шарль на всем пути делал зарубки на стволах. По этим зарубкам легче будет возвращаться назад, а без них недолго и заблудиться. Мулат был прав. Чем ближе к востоку, тем выше и мощнее становились хинные деревья. Люди шли все дальше и дальше, а растительность вокруг не менялась. То и дело на глаза попадались целебные деревья. Все так привыкли к их виду, что ни с чем уже не могли спутать. Сомнений не оставалось. Здесь, и только здесь, лучшее место для создания целой новой индустрии! И вскоре края, до сих пор считавшиеся неплодородными, совершенно преобразятся… Пришло время передохнуть. Индейцы, казалось, вовсе позабыли о недавнем своем намерении бежать. Они с видимым удовольствием скинули тюки и ящики в предвкушении отдыха. Шарль не доверял им и принял все возможные меры к тому, чтобы воспрепятствовать побегу и краже. Багаж сложили в стороне и прикрыли листвой. На отдых было решено устроиться не в гамаках, как обычно, а на получившемся из тюков и ящиков возвышении. Не сказать, чтобы спать на нем было очень удобно, но зато все вещи под присмотром. Захочешь — не унесешь. Краснокожие, наблюдая за действиями белых, посмеивались, но никак не выражали недовольства. Наоборот, они даже как бы одобряли белых. Правы, мол, они, правы. После сытного ужина, съеденного с большим аппетитом, индейцы удобно расположились в гамаках, привязанных к деревьям, и заснули. Ничто не предвещало опасности. Сеньор Хозе первым встал на вахту. Шарль, Маркиз и Винкельман тем временем устроились на ночлег возле багажа. Маркиз засыпал обычно сразу же, как только голова его коснется подушки или того, что в данном случае заменяло ее. Но на сей раз против ожидания его как будто била лихорадка. Он вертелся с боку на бок, не в силах сомкнуть глаза, и в конце концов принялся сердито ворчать: — Всегда сплю словно мертвый, из пушки не разбудишь… Какого же черта сегодня не могу сомкнуть глаз?! Я устал, раздражен… Какое-то безотчетное беспокойство… А тут еще этот чертов эльзасец храпит на всю округу! Спит хоть бы хны. А я что же?.. Не понимаю, что все это значит… Все тело зудит, руки и ноги ломит. Кидает в дрожь. У меня жар, даже говорить тяжело. Пить хочу… Неужели я болен? Боже мой! Подхватить лихорадку посреди хинных зарослей! Неплохо придумано! А может, это еще что-нибудь, похуже? Маркиз, к несчастью, не ошибался. Первые симптомы какой-то ужасной болезни были налицо. Он провел без сна всю ночь. Наутро Шарль очень удивился, заметив, что друг его не спит, и поинтересовался, здоров ли тот. Маркиз, совершенно разбитый, с головной болью, дрожью в ногах, рассказал о своих злоключениях и попросил воды. Шарль принес немного, и больной жадно выпил ее. Когда солнце поднялось высоко и осветило лагерь, Маркиз спросил: — Месье Шарль, что бы это значило? Все мое тело покрылось крошечными волдырями с булавочную головку. Внутри них какая-то светлая, желтоватая жидкость. Они ужасно чешутся!.. Шарль подошел поближе, осмотрел Маркиза и, покачав головой, произнес: — Это означает, что вы платите за ту пищу, которую мы едим с самого Боа-Виста. Вы злоупотребляли перцем, соленым и копченым мясом, рыбой. Плюс здешнее солнце, колючки, пот. От всего этого у вас горит кровь. — Болезнь больших лесов, — со знанием дела добавил мулат. — Медики называют это экземой. Она вызвана всеми теми причинами, что я вам только что перечислил. — Но это абсурд! — вскричал Маркиз. — У меня нет времени болеть. Не говорите глупостей! Здесь нет ни больниц, ни амбулаторий! А я вовсе не хочу обременять вас своими недугами. Это ведь не серьезно, правда? Вы знаете: я не боюсь ни боли, ни смерти. Моя философия проста: чему быть, того не миновать. Ничто не вечно под луной. Единственное, что меня беспокоит, так это перспектива оказаться обузой для вас, замедлить путешествие, стать еще одним тяжелым мешком в вашем багаже… — И так далее, и тому подобное… Благодарю вас, Маркиз. Вы должны понять, что все ваши измышления совершенно бесполезны, чтобы не сказать оскорбительны. — Короче говоря — глупости! — подхватил Винкельман. — Друг не может стать для меня обузой. — Вы изволили только что поведать нам о своей философии. Но и у нас тоже есть некоторая философия. И заключается она в следующем: один за всех и все за одного. А кроме того, вы — пока еще не инвалид. До этого далеко. Надеюсь, что недомогание все же позволит вам благополучно добраться до Курукури. Там мы погрузимся на пирогу, и вам станет легче. Сразу пойдете на поправку. — От всего сердца благодарю, дорогие мои, — пробормотал растроганный Маркиз. — Я могу идти. Надеюсь, что могу… Я этого очень хочу. — Как только что-нибудь случится, я тут же потащу вас на закорках. Мне это ничего не стоит, — прервал Винкельман. — Вы не так много весите. Шестьдесят кило! Ерунда! — Около шестидесяти кило, друг мой. Вы очень любезны. Я от всего сердца благодарен вам. Однако надеюсь все же, что не придется злоупотребить вашей добротой. — В любом случае можете всегда рассчитывать на меня. Индейцы, бывшие свидетелями происшедшего, молча взвалили на плечи свою ношу, переглянулись и не спеша направились к востоку. Маркиз попытался идти сам, хотя суставы его не сгибались и ноги отказывались подчиняться. Спустя некоторое время он все же заявил: несмотря на невыносимый зуд, состояние его не безнадежно. Шарль и Хозе, по-прежнему на каждом шагу узнавая хинные деревья, теперь уже не так радовались этому. На сей раз они мечтали увидеть совсем другое дерево, именуемое лакр, чей сок индейцы успешно применяют при экземе. Но лакр, как ни всматривались друзья, не попадался на глаза. За неимением лакра надеялись отыскать хотя бы ямс или батат. Из них можно было сделать муку, подобную картофельной. Известно, что врачи иногда применяют крахмал при экземе. Однако все поиски, все старания были тщетны. Пока не могли придумать ничего лучшего, как посоветовать Маркизу не пропускать ни единого ручейка. Благо их в округе встречалось множество. Каждый раз несчастный по самую шею погружался в воду, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Время текло медленно, мучительно медленно. Усталость валила с ног. С утра индейцы-носильщики ковыляли еле-еле, а потом понемногу стали убыстрять ход, выбирая самые труднопроходимые тропинки. Делать нечего. Нужно поспевать за ними и ни в коем случае не терять их из виду. Поначалу Шарль был удивлен. Потом начал беспокоиться. И чем быстрее шли индейцы, тем серьезнее становилось его беспокойство. Он не мог отделаться от подозрений. — Честное слово, я бы сказал, что эти негодяи взялись измотать нас. Им нужно, чтобы мы из сил выбились к вечеру и не смогли бы дежурить, замертво свалившись спать. О том, чтобы уговорить их замедлить шаг, и речи быть не могло. При первой же претензии индейцы-хитрецы остановятся и вовсе откажутся идти дальше. Быть может, они рассчитывали на то, что болезнь Маркиза сыграет им на руку. Обессиленный молодой человек не сможет поспеть за остальными, и друзьям придется что-то предпринимать. Однако расчеты не оправдались. Бывший солдат морской пехоты, обладавший невероятной выдержкой и выносливостью, принадлежал к той редкой породе людей, чья жизненная энергия возрастала вместе с трудностями, встречавшимися на пути. Заговор, если он вообще существовал, провалился. Когда наступил вечер, индейцы и сами ног под собой не чуяли. Как и в прошлую ночь, белые предприняли все необходимое, чтобы помешать краснокожим сбежать из лагеря. Шарлю пришлось подменить Маркиза в роли повара. Больного уложили на мягкой и душистой охапке листвы. По своим кулинарным способностям Шарль явно уступал Маркизу. К тому же из-за влажности и жары продукты начали портиться. И все-таки ужин прошел на ура. Аппетит за день невыносимой гонки нагуляли зверский. Тем не менее Шарль без конца просил прощения за неудавшуюся стряпню. Винкельман, всегда и всем довольный, старался утешить незадачливого кулинара, уверяя его, что у каждого свои секреты приготовления пищи и свой вкус. — Свой вкус, — воскликнул Шарль. — Вы слишком добры ко мне. А между тем рыба горькая, перец я, кажется, перемешал с сахаром, специи пахнут муравьями, а мука заплесневела… Это какая-то отрава! — Тут вы, без сомнения, правы. Продукты подкачали, — согласился Хозе. — Но взгляните, сеньоры, на индейцев. С каким отвращением они выливают на землю содержимое котелков. Нет, вы только посмотрите! — Да! И правда. Обычно они голодны, как собаки. Всегда готовы что угодно сожрать. А тут, по-моему, собираются ложиться спать, не поужинав. — Чудеса! Может, по дороге нашли чего-нибудь перекусить? — От них всего можно ждать. Однако хватит разговоров. Пора устраиваться. Вы ложитесь, а я буду дежурить. Шарль, хорошо зная по опыту, как тяжело бороться со сном после изнуряющего перехода, решил не садиться. Он принялся не торопясь ходить вокруг костра, время от времени останавливаясь. Постоит с минуту, опершись о дерево, и снова ходит. Бывший серингейро думал о тех событиях, которые за последние месяцы совершенно переменили его жизнь. До сих пор это была размеренная жизнь поселенца, полная тяжелого труда. Он мысленно обращался к своей жене, красивой, молодой женщине, к любимым и дорогим его сердцу малюткам, что ждали там, далеко. Внезапно он почувствовал, что тело немеет. Напрасно Робен пытался бороться с этим ощущением. Руки повисли плетьми, ноги стали ватными и отказывались служить. Молодой человек начал медленно оседать, не в силах заставить себя подняться. Он упал возле дерева, у которого только что мечтал о домашних, и так и остался сидеть с широко открытыми глазами и крупными каплями пота на лбу. Дыхание стало тяжелым, прерывистым. Между тем он не потерял сознания и не все чувства покинули его. Глаза еще видели, словно сквозь туман. Мозг воспринимал происходившее, но как-то смутно. Шарль хотел крикнуть, шевельнуться, но язык присох к нёбу и тело не повиновалось его воле. Сколько времени пролежал он в полузабытьи? Француз ни за что не сказал бы. Возможно, час… А может быть, и больше. Во всяком случае, он все еще не в состоянии был двинуть пальцем, когда увидел, как индейцы поднялись из своих гамаков, подошли к его товарищам, тронули их и расхохотались, убедившись, что те неподвижны. Они тихонько переговаривались, а потом засмеялись вновь. Убедившись в полной беззащитности белых, индейцы подняли их одного за другим: Маркиза, Винкельмана и Хозе — и положили прямо на землю. Разбросав ветки и листву, укрывавшие сложенные вещи, мерзавцы хозяйничали, разворовывая, что под руку попадалось, как вдруг один из них указал пальцем на Шарля. Прервавшись на минуту, краснокожие подошли к молодому человеку, и тот, что указал на него, произнес: — Он спит. — А глаза открыты. — Это не важно. Он спит. Он съел ассаку, который я подмешал им в рыбу и в муку. Гляди-ка. С этими словами индеец схватил Шарля за бороду, сильно дернул, потом еще и еще. Бедняга не мог сопротивляться. Все весело рассмеялись. — Видишь? Он спит. — Да. — А много они съели ассаку? — Не знаю. — А если чересчур? — Тогда они никогда больше не проснутся. — Умрут? — Да. — Много ли ты положил в еду? — Не знаю. — Возьмем все и удерем! — Вот именно… удерем. Шарль отчетливо слышал все, что говорили индейцы, и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Куда уж там! Он даже моргнуть был не в состоянии. На его глазах негодяи собрали весь багаж, всю провизию, даже гамаки и исчезли в лесной чаще. Зная теперь, что вместе с остальными съел отравленную пищу, Шарль с ужасом думал: «Какова же была доза? Чем станет для нас она: ядом или только снотворным?»
ГЛАВА 13
Глубокий сон. — Винкельман в ужасе. — Сумасшедшие! — Горячка. — Тайна раскрыта. — Отравление. — Лекарство против ассаку. — Соль. — Что делать? — Пальма парипу. — Могучий организм. — Соль парипу. — Зола. — Фильтр. — Спасены. — Снова сон. — Неприятное пробуждение. — Туземная музыка. — Индейцы. — Колдун и вождь. — Боевая раскраска. — Неудовлетворенная алчность. — Слишком доверчивы. — Кости белых сгодятся для флейт.Раскаленное солнце прошло уже добрую половину дневного пути, когда Винкельман проснулся. Он чувствовал себя разбитым. Веки были тяжелыми, голова трещала, глаза еле открывались. Удивившись, что так долго проспал, Шоколад обвел тусклым взглядом место стоянки, заметил привалившегося к стволу орешника Шарля, Маркиза, растянувшегося прямо на земле рядом с Хозе, разворошенные листья и ветки, что некогда прикрывали их исчезнувший багаж, и со злобой выругался. — Тысяча чертей! Что все это значит? Я едва слышу собственный голос. Губами шевелить трудно. Весь какой-то ватный, двигаться не хочется. Эльзасец с трудом встал, попытался сделать шаг, но, обессилев, упал на землю. — Надо же! Ноги не держат, и мысли путаются, словно меня лупили по голове. Беспомощность такая, точно я — дитя малое. Ко всему прочему остальные спят как суслики. Что же здесь, черт возьми, произошло? Индейцев не видно, и вещи испарились. Мы, кажется, влипли! Винкельману так и не удалось подняться, и он на четвереньках подполз к Шарлю, неподвижному и мертвенно-бледному. При виде безжизненного тела Винкельмана объял ужас. Взяв молодого человека за руку, он обратил внимание на то, что рука едва теплая. — Боже правый! Он умирает! Это невозможно! Эй! Месье Шарль!.. Месье Шарль… Просыпайтесь… Скажите хоть словечко… Ради Бога, что-нибудь. Ответа не было. Страшное горе, раздирающая душу тоска мигом, как по волшебству, развеяла головокружение и придала Винкельману силы. Могучая натура, железная воля одержали верх над недомоганием. Он наконец встал, заставил себя сделать несколько шагов и, покачиваясь, направился к тому месту, где неподвижно лежали Маркиз и Хозе. — Месье Маркиз!.. Хозе!.. Та же бледность, та же неподвижность. Вернее, бледным можно было назвать лишь Маркиза. Кожа мулата приобрела жуткий пепельно-серый оттенок. Ужасная мысль поразила Винкельмана. Он, почти рыдая, прошептал: — Они отравлены? Конечно! И я тоже. И вновь крик потряс округу: — Месье Маркиз!.. Хозе!.. Мулат шевельнулся, сел, открыл глаза, вскинул бешеный взгляд на эльзасца. И нервно, конвульсивно хохотнул. — Здорово! Этот жив! А что с другими? — Винкельман вернулся к Шарлю, обхватил его обеими руками, поднял, как ребенка, и понес к остальным. Уложил на подстилку из листьев. Но что же дальше, Боже правый?! Подумав, эльзасец раздел Шарля и принялся энергично растирать. Вскоре Шоколад с радостью отметил, что мертвенная бледность исчезает и кожа приобретает нормальный цвет. Дыхание Робена восстановилось, и внезапно сильная судорога прошла по всему его телу, от головы до ног. Как за минуту до того Хозе, Шарль приподнялся, сел и улыбнулся. — Да они с ума сошли! — в отчаянии проговорил Винкельман. — Они меня не узнают и смеются, словно безумные. Месье Шарль, посмотрите на меня! Ну, придите же в себя, месье Шарль! Скажите что-нибудь! Единственным ответом был новый смешок. Винкельман обернулся и увидел, что мулат сидит на корточках возле Маркиза. Маркиз открыл глаза и, так же идиотски посмеиваясь, тупо рассматривал огромных черных муравьев, ползавших по его ноге. Хозе осторожно сбрасывал насекомых одного за другим и старательно давил их двумя пальцами. — Нет, они точно сошли с ума! — сокрушался эльзасец. — Но что же случилось? Что они съели? А! Я, кажется, знаю. Вчерашний ужин… Негодяи индейцы отравили его. Точно! Потому-то и вкус был такой странный. Но почему же только я один в своем уме? Очевидно, из-за того, что я здоров, как лошадь. Яд на меня почти не подействовал. Мы отныне одни, без оружия, без лекарств, без продуктов среди лесной чащи. Что делать? Боже мой! Что делать? Винкельман автоматически начал снова массировать Шарля и так поднажал, что молодой человек вскрикнул от боли и выругался, полусмеясь-полусерьезно: — Это какой-то бык! Ей-богу! Настоящий бык меня растирает: вроде бы и ласково, но как бешеный… Точно — бык! Гляди-ка, да это человек… человек… помогите мне… это… а! Да… Винкельман. Здравый смысл возвращался к Шарлю. Взгляд его стал осмысленным. Он тихо прошептал: — Винкельман, я узнаю́ вас. Мы отравлены… Это ассаку. Необходимо найти противоядие. Может быть, Хозе знает… Потом Шарль снова стал заговариваться. Эльзасецвернулся к мулату, встряхнул его, окликнул и попытался привести в чувство. — Хозе! Вы слышите меня? — Да… Хина… — Речь не о хине. Вам известно, что такое ассаку? Яд? — Да, конечно… Ассаку… индейский яд… — Вы знаете противоядие? — Конечно… А почему вы спрашиваете?.. — Скажите мне немедленно! Это необходимо. — Если вы канаемес, не убивайте меня. — Противоядие?! — Нужно съесть соль… соль… соль… — Понятно! Но где, черт побери, я ее возьму? Пожалуй, только в Боа-Виста. Все наши запасы улетучились. Что же делать? Соль. Чего, казалось бы, проще. Но если ее нет под рукой, а ты сидишь под деревом посреди дикого леса, то проблема становится абсолютно неразрешимой. Винкельман, обхватив голову руками, раскачивался из стороны в сторону и говорил сам себе: — Найдем. А нет — так придумаем что-нибудь другое. Медленно, машинально оглядывая окрестности, он остановил взор на растущей недалеко раскидистой пальме: длинный ствол, красивая темно-зеленая крона. Увидев ее, Винкельман радостно воскликнул: — Нашел! Парипу. Это, конечно, не морская соль, но за неимением другой сгодится. Это же известно. Правда, придется попотеть. Дело долгое. Но игра стоит свеч. Не теряя больше ни секунды, он схватил свой мачете, который индейцы не решились снять с него, и, размахнувшись, полоснул по стволу. Потом еще и еще. Шоколад рубил что есть мочи. В конце концов пальма с грохотом повалилась на землю. Эльзасец расколол ствол на несколько бревен метровой длины, свалил их в кучу, надергал охапку сухой травы и развел огонь. Пламя занялось, охватив постепенно бревна целиком, и вскоре громадный костер пылал жарко и красиво. Величественное зарево было видно издалека. Операция заняла полтора часа. К счастью, больные вели себя спокойно. Они сидели в тенечке, порой произнося несвязные речи. Но общее состояние их не вызывало серьезных опасений. Им не становилось лучше, но и не было хуже. Это обстоятельство слегка успокоило Винкельмана. Он поспешил вытащить из костра щепотку пепла и положил его остывать. Тем временем пошел за водой. Индейцы второпях не заметили двух котелков, что валялись в стороне. А может, просто рук не хватило. Котелки были объемные, каждый литров на пять. Взяв один из них, эльзасец зачерпнул воды в соседнем ручейке и почти бегом примчался назад. Пока он отсутствовал, зола успела остыть. Прежде чем добывать из нее соль, золу следовало промыть. Новоявленный химик-экспериментатор волей обстоятельств, Винкельман не знал точно, какие именно соли содержатся в пепле и каковы их свойства. Это, правда, не слишком его волновало. Дело не в названии. Главное — добыть некое вещество, имеющее солоноватый или даже немного горьковатый вкус. Индейцы, негры и некоторые белые применяют его при приготовлении пищи, когда нет обыкновенной морской соли. В золе парипу вещество это содержится в больших количествах. Эльзасец вспоминал, как, будучи еще новичком, наблюдал за процессом добычи соли. Потом не раз самому приходилось делать это. Он натянул на пустой котелок кусок материи, сложенный вдвое, и на него положил щепотку золы. Потом потихоньку, аккуратно стал лить воду из второго котелка. Таким образом, воспользовавшись примитивным тряпичным фильтром, эльзасец вымывал соль. Дикари, которым приходится добывать соль парипу, обычно выпаривают воду на солнце. Полученные кристаллики используют при приготовлении пищи. Но Винкельман, хотя и не был профессиональным химиком, оказался человеком практическим и понимал, насколько важно для него теперь не терять ни секунды. Он совершенно справедливо заключил, что, несмотря на высокую температуру, выпаривание воды на солнце займет, по крайней мере, часа два, а для того, чтобы больные смогли выпить лекарство, полученные кристаллики снова придется разводить в воде. К чему такие сложности, двойная работа? Сказано — сделано. Винкельман набрал в рот немного раствора, прополоскал горло, скривил физиономию и сказал: — Солоновато, горьковато, мокровато и бесцветно. То, что нужно. По крайней мере, совершенно безвредно. Сколько раз мне приходилось использовать соль парипу, чтобы приготовить бифштекс из тапира, обезьяны или дикой свиньи. Во мне тоже сидит этот ужасный яд ассаку. Стало быть, я должен принять лекарство первым. Заодно и испытаю его. Ноги по-прежнему ватные, да и с головой не все в порядке. Итак… Глотнув из котелка, Винкельман подождал с четверть часа, внимательно прислушиваясь к себе. То ли лекарство действительно помогло и нейтрализовало яд, то ли, как это часто бывает, свою роль сыграло самовнушение, а только эльзасец почувствовал себя гораздо лучше. — Теперь ваша очередь, месье Шарль, — произнес он, необычайно обрадовавшись. — Не скажу, чтоб это снадобье было уж слишком вкусным и аппетитным. Но, уверяю, оно вам поможет. Лекарство посоветовал Хозе. Правда, не совсем это, но нечто очень близкое. Пейте, не бойтесь. Я уже, как видите, ожил. Шарль послушно глотнул и снова будто бы забылся. Маркиз и Хозе, тоже получив свою порцию, заснули вслед за Шарлем. — Ну что ж! Это хорошо, — серьезно проговорил Винкельман. — Сон пойдет на пользу. Проснетесь как огурчики. Это лучшее лекарство против ассаку. Все спят. Пора и мне, а то просто с ног валюсь от усталости. Однако этот день, начавшийся с неприятностей, очевидно, не мог завершиться благополучно. Охотники за хиной проспали около двух часов. Минуло, должно быть, пять, когда из лесу раздались нестройные звуки, такие громкие, что листья задрожали на деревьях. Мало-помалу шум приближался. Хриплые завывания — нечто похожее на волынки альпийских пастухов. Четверо друзей наконец проснулись. Ум их был совершенно ясен, но тело ныло от непонятной усталости, а желудок — от голода. Они едва-едва успели оглядеться и понять, что носильщики сбежали, прихватив с собой весь багаж и провизию, как увидели появившуюся из лесной чащи группу краснокожих. Возглавляли процессию двое музыкантов. Каждый держал в руке бамбуковую флейту и дул в нее с необычайным старанием. Вслед за музыкантами показался человек, с ног до головы обвешанный стеклянными бусами. Украшения были везде: на плечах, на поясе, на шее. Голову индейца венчала корона из золотисто-желтых перьев, посреди которой красовались два длиннющих пунцовых пера. Это, без сомнений, был вождь племени. За ним шел еще один звеневший ожерельями человек с меньшим количеством украшений и более короткими перьями в голубой короне. Очевидно, второй был помощником вождя. Следом шествовал пожилой человечек в умопомрачительном одеянии, таком просторном, что он тонул в нем с головы до ног. С каждым шагом одеяние шелестело и звенело, и было отчего. На спине у человечка красовалось нечто, отдаленно напоминавшее пальто из крокодиловой кожи. То есть даже не из кожи, а из целого крокодила. Голова его, мастерски высушенная, служила старику головным убором, а хвост волочился сзади по земле. Остальные детали костюма состояли из многочисленных ожерелий. Каких зубов тут только не было — всех видов, размеров и форм. Погремушки — хвосты гремучих змей. Когти ягуара. Хвосты обезьян-ревунов. Шкурки пальмовой крысы. Медные браслеты и многое, многое другое. Человек с лицом жестоким и коварным держал в руке длинную кость с просверленными дырочками. Время от времени он дул в нее, извлекая протяжные звуки. С первого же взгляда можно было безошибочно утверждать, что кость эта некогда принадлежала человеку. Тибиас — легендарная флейта канаемес. Лукавый старик в причудливом наряде — колдун племени. Индейцы, сопровождавшие живописную компанию, выглядели просто и одеты были скромно: набедренные повязки и ожерелья из стекляшек и зубов какого-то животного. Каждый держал в руке лук и стрелы с бамбуковыми наконечниками. У некоторых можно было заметить сарбаканы. У всех, кроме колдуна, лица и тела были ярко разукрашены. Прямые и изогнутые линии, круги, ромбы — черные, желтые, белые и красные. Раскраска придавала индейцам вид одновременно забавный и устрашающий, отталкивающий. Ноги до самых колен дикари выкрасили в ярко-красный цвет, будто они только и знали, что шлепали по лужам крови. Индейцев насчитывалось человек тридцать. Они двигались в строгом порядке, не переговариваясь и вообще не издавая никаких звуков, кроме режущего слух пения флейт. Шли, образуя правильный круг, посреди которого и оказались четверо путешественников. По команде вождя строй замер. Наши герои едва успели прийти в себя, вырвавшись из лап смерти, и теперь с ужасом наблюдали странный спектакль, видя, что кошмар продолжается и неизвестно, чем еще кончится для них день. Обе стороны напряженно молчали, внимательно разглядывая друг друга. Никто, казалось, не намеревался заговорить первым. Маркиз вспоминал о своих театральных похождениях и не мог отыскать в памяти ничего, что сравнилось бы с увиденным по красочности и точности мизансцены. — Да, — протянул он низким голосом, — великолепный маневр! Какая отточенность, какой тренинг! Надо отдать должное их главарю. А что вы скажете о гриме, месье Шарль? Обстоятельства вовсе не располагали к шуткам. Однако молодой человек не смог сдержать улыбки в ответ на замечание Маркиза. Несколько слов, брошенные в тишину, нарушили ее чары. Вождь поборол наконец удивление при виде белых (очевидно, дикарям не часто случалось встречаться с ними), откашлялся, переглянулся с колдуном и сказал что-то на непонятном наречии. — Дьявол! — пробормотал Шарль. — Это усложняет дело. Приятного мало. Вы что-нибудь разобрали, Хозе? — Ни слова, сеньор. — Досадно. Потом, как бы спохватившись, молодой человек обратился к индейцам, по-прежнему неподвижно стоявшим вокруг: — Кто-нибудь из вас говорит на местном языке? — Я, — неприятным, носовым голосом отозвался колдун, будто он страдал хроническим насморком. — Если белый знает этот язык, я могу с ним говорить. — Хорошо! В таком случае скажи, старик, о чем вождь меня спросил? — Он хочет знать, кто вы такие. — Мы — путешественники, друзья краснокожих. Белые, как видишь. — Но только не этот. — Колдун указал на Хозе. — Он наполовину белый… Но какое это имеет значение? Он — наш друг, наш брат. Колдун перевел сказанное вождю. Тот сердито выругался. — Что вы здесь делаете? — поинтересовался старик после долгой паузы. — Возвращаемся домой. — Куда? — В Боа-Виста. Вновь долгая пауза. Индейцы Южной Америки не блещут красноречием. Им неведомы красивые закругленные фразы, витиеватые метафоры, мудреные и выспренние обороты, столь привычные для жителей Севера. Южане едва способны ответить на заданный вопрос. Ум их примитивен и не развит. Самая простая фраза представляет для них невероятные трудности. «Да», «нет», «может быть» или «я не знаю». Таков обычный лексикон индейца. Можно себе представить, насколько сложно спрашивать, если ты почти не в состоянии отвечать на поставленный вопрос. Это целое искусство. Не каждому дано превзойти его. Однако колдун отличался от остальных. Он оказался более разговорчив. — У белых есть жемчуг? — произнес старик после минутного раздумья. — Мне нужен жемчуг. — У нас больше нет жемчуга… Индейцы, сопровождавшие нас в походе, сбежали и украли все, что предназначалось тебе и твоим людям, — отвечал Шарль. — Какие еще индейцы? — Аторрадис. — Белые и полубелый глупее попугая, если доверились аторрадис, — покачал головой колдун. — На них нельзя положиться. Значит, у белых нет жемчуга, нет ожерелий… Ничего нет? — Ничего! Если хочешь вернуть то, что аторрадис украли, нужно послать погоню. — Что скажешь? — обратился к колдуну вождь на языке племени. — Аторрадис далеко, а может быть, белые лгут. Лучше отвести их в деревню. — Зачем? — Люди никогда не видели белых. Ни у одного колдуна не было еще флейты из кости белого человека. — Верно. — Приведем их в деревню, убьем и сделаем флейты из больших костей. Все будут завидовать. Ни у одного окрестного племени нет такого. Мы, ширикумас, будем единственными. Колдун ширикумас станет самым могущественным в округе. — Ты прав, Жакаре. Никто из белых не мог понять ни слова из зловещего диалога и потому не предполагал, какая опасность нависла над ними. Друзья надеялись, что нечаянная встреча не принесет особенных неприятностей, что эти индейцы столь же безобидны, как и другие, которых приходилось видеть до сих пор, и что можно рассчитывать на более или менее сердечный прием. Думали даже, что удастся договориться о кое-каком продовольствии. В карманах завалялись безделушки. На них надеялись выменять продукты. Индейцам ведь так мало нужно. Увы! Вскоре наши герои жестоко разочаруются.
ГЛАВА 14
Дорога в деревню. — Гости или пленники. — Опасения. — Как живут индейцы. — Грязь и беспорядок. — Деревянные бурдюки. — Хроническое пьянство. — Стакан за стаканом. — Дикое веселье. — Зловещие рисунки. — Обыск. — Револьвер — не игрушка. — Выстрел. — Гибель вождя Луди. — Паника. — Смена династии. — Шаткая власть. — Главное — отвлечь внимание. — Презрение к смерти. — Схватка. — Побеждены! — Чудо.— Не кажется ли вам, месье Шарль, — обратился к другу Маркиз, ковылявший рядом, — что мы скорее похожи на пленников, нежели на гостей, приглашенных к ужину? — Я только что хотел задать вам тот же вопрос. Индейцы смотрят на нас довольно-таки недружелюбно, окружили плотным кольцом, будто опасаются, не убежим ли. — Какая жалость, что у нас нет больше карабинов. По пятьдесят патронов на брата! Мы бы их разом уложили, приди им в голову фантазия поиграть на наших костях. — Увы! Оружия нет. Мы можем лишь сокрушаться да проклинать негодяев, если они решат разделаться с нами. — А револьвер-то у вас остался? — Утащили. — А у вас, Винкельман? — У меня только мачете. А что у вас, Хозе? — Ни мачете, ни револьвера. — Спешу вас обрадовать, друзья, — сказал Шарль, — у меня есть еще один, а в нем десяток патронов. — Это уже кое-что. Хотя одного револьвера, конечно, недостаточно. — Ба! — прервал их Винкельман. В голосе его звучала уверенность сильного человека. — Пока месье Шарль уложит полдюжины мерзавцев из своего револьвера, я займусь остальными. Благо деревянная дубина здесь всегда найдется. Вы, месье Маркиз, и вы, Хозе, насколько я успел заметить, тоже не разини. Когда начнется заваруха, свое дело сделаете… — И тем не менее это не лучший вариант, — произнес Шарль, подумав, — он годится на самый крайний случай. А пока будем осторожны. Надо всячески демонстрировать полное доверие. Через полчаса утомительной дороги пришли наконец в деревню. Здесь стояло большое здание, возведенное на индейский манер: четыре кола и крыша из листьев. Всей обстановки в апартаментах — подвешенные бок о бок хлопковые гамаки, выкрашенные в красный цвет. На земле в беспорядке валялась кухонная утварь. Голодные, свирепые собаки бродили среди разбросанных мисок и вылизывали остатки пищи. Кастрюли, котелки, горшки из желтой глины. Тут же, среди грязной посуды, дети сосали палочки сахарного тростника. Плоды манго, кукурузные початки, рыбьи внутренности. А рядом стояли грубо вырезанные сиденья, сделанные в виде черепах и кайманов. В такой обстановке и жили семьи краснокожих, а вместе с ними некогда дикие животные, которых людям удалось приручить, проявив недюжинное терпение. Кабаны, броненосцы, агути. Прыгали, возились, копошились, рычали. Черная обезьяна старательно выбирала паразитов из шерсти молодого ягуара, чем явно доставляла тому неописуемое удовольствие. Попугаи с ярким оперением и горбатыми клювами тараторили без умолку. Гокко клевали маис. Птица-трубач внимательно наблюдала за шалостями своего выводка. Женщины сновали туда-сюда по хозяйству, а дети в чем мать родила играли тут же в свои безумные игры. Несмотря на то, что жилище громадного семейства состояло из одной крыши и продувалось всеми ветрами, здесь стоял тяжелый, почти невыносимый запах. Хотя все пространство вокруг селения было распахано, но всюду торчали метровой высоты пни, — деревья срубили, а пни остались. Среди посадок выделялись маис, тыква, ячмень, сахарный тростник, батат, маниока, банан. Возвращение мужчин явно обрадовало домашних. Все оживились, даже животные встретили хозяев дружным урчанием, лаем, визгом, стрекотом. Однако вид белых напугал и заставил содрогнуться не только людей, но даже птиц и зверей. Местная живность привыкла к коже цвета кофе с молоком, к тому же богато украшенной разноцветными узорами. Белых здесь сроду никто не видывал. И если люди еще как-то могли объяснить происходящее, то бедные звери в ужасе разбежались. Происшедшее поразило четырех друзей. Сразу бросилось в глаза и то, что все мужчины, без исключения, буквально не выпускали оружия из рук. Все красноречиво говорило о том, что с этими краснокожими шутки плохи. Сомневаться не приходилось. Поражала и суровость нравов: мужчины, отсутствовавшие, похоже, довольно долго, ни словом не обмолвились с женами, не приласкали детей, когда те в ужасе закричали при виде белых. Смятение и паника были жестоко оборваны грубым окриком. Главное, что волновало теперь дикарей и что обычно занимало весь их досуг, — выпивка. Среди множества сильных, но неприятных запахов, которые ощутили белые, они различили и резкий запах алкоголя. В самом центре деревни, на почетном месте, возвышались два огромных деревянных столба высотой примерно по три метра, а в диаметре — метра полтора. В каждом было сделано отверстие, откуда капля за каплей вытекала жидкость так, что земля на этом месте оказалась значительно размытой. Образовался даже небольшой овражек. В своеобразных чанах индейцы готовили свой излюбленный напиток. Среди компонентов — сахарный тростник, бананы, ананасы, а также маниока или маис. Краснокожие не слишком разборчивы в спиртном. Они используют для изготовления напитка все, что оказывается под рукой. Полученный в результате ликер не является для них чем-то особенным, праздничным, как можно было бы подумать. Дикари прикладываются к выпивке в любое время дня и ночи, не разбирая, праздник сегодня или суровые будни. Индеец, будь то мужчина или женщина, взрослый или ребенок, пьян почти всегда. Во всяком случае, когда находится дома. Если краснокожий захотел выпить, а это желание преследует его постоянно, стоит лишь подойти к деревянному бурдюку, открыть отверстие, подставить под него котелок, наполнив, тут же осушить и начать все снова. Можно поступить и того проще. Зачем усложнять дело, используя котелок? Куда удобнее подставить под струю собственную глотку. Никакой ревности, никакой зависти, никто не обойден и не обижен. Содержимое выдолбленных изнутри деревянных столбов принадлежит всем и каждому. Успевай только наполнять их, когда жидкость иссякла. А для этого существуют женщины, которые собирают фрукты и прочие компоненты для ликера и готовят напиток для всей деревни. Пей, сколько душа принимает. Ну и желудок, конечно. Это, пожалуй, единственное ограничение. Хотя и на этот случай у индейцев есть средство. То самое, что применяли еще древние римляне-обжоры, придумавшие невероятное в угоду своему стремлению бесконечно ублажать чрево. Наевшись всласть, они простым и всем известным способом, а именно с помощью двух пальцев, прочищали желудок и, облегченные, снова приступали к трапезе.
Едва их повелители явились в деревню, женщины бросились собирать пустые котелки, валявшиеся тут и там как попало. Не удосужившись помыть, хозяйки поспешили наполнить и расставить вокруг деревянных столбов столько емкостей, сколько мужчин возвратилось из похода. Размеры «бокалов» повергли бы в изумление любого немецкого солдафона. Каждый котелок вмещал, по крайней мере, три-четыре литра. И тем не менее, когда вождь, выпив первым, подал знак остальным, индейцы в мгновение ока опустошили их все, а затем, как ни в чем не бывало, велели женщинам наполнить посудины снова. Утолив давно мучившую их жажду, краснокожие угомонились. Вождь по имени Луди, не спускавший глаз с пленников, предложил и им присоединиться к пиршеству. Белые, чувствовавшие себя в гостях не слишком свободно и хорошо, зная эгоизм индейцев, нисколько не удивлялись тому, что на них поначалу не обращали внимания, попросту бросили. Но в тот момент, когда вождь предложил выпить, они вдруг явственно ощутили, что страшно хотят есть. Четверо здоровых молодых мужчин почти сутки не имели маковой росинки во рту. Вождь, изрядно накачавшийся, нетвердо стоявший на ногах, подал знак, означавший, должно быть: «Люди утолили жажду. Они хотят есть». Больше ничего не пришлось объяснять. Женщины, на лету ловившие приказы, засуетились. Ели много. Индейцы, очевидно, тоже изголодались. Сушеную рыбу запивали настойкой. Не жалея, подливали и пленникам. Обстановка и до обеда была довольно напряженной и ничего хорошего не сулила, а теперь, после обильных возлияний, деревня превратилась в подобие сумасшедшего дома, наполнившись невероятным шумом. Внезапно послышались резкие звуки рожка, их сменили заунывные мелодии, которые выводил на своей флейте вождь. Вяло застучали барабаны. Здесь их делали из полого куска бревна, натянув на него кожу. Пустились в пляс — в основном кто помоложе. Понемногу ритм ускорялся, жесты, движения и прыжки становились резче и выразительнее. Наконец танец, самозабвенно исполняемый дикарями, превратился в бешеную пляску, дикую и необузданную. Танцоры оказались поистине виртуозами, знатоками своего дела. Им уже не хватало звуков импровизированного оркестра из флейт и барабанов. Дьявольская кадриль сопровождалась гиканьем, прерывистыми криками и душераздирающими завываниями. Между тем индейцы все пили и пили. Дикое веселье их, казалось, достигло последнего предела. Пленники не на шутку беспокоились за свою судьбу. Свирепые взгляды, которые им то и дело приходилось ловить на себе, не сулили ничего хорошего. Один вопрос мучил их неотступно: неужели пришел последний час? Неужели, закруженные вихрем пьяного веселья, индейцы убьют их? Держаться старались вместе и, внимательно поглядывая кругом, пытались заприметить для себя хоть какое-нибудь оружие. Каждая минута могла стать последней. Но вскоре выяснилось, что пьяная оргия — всего лишь прелюдия. Колдун, чей авторитет в племени едва ли не равнялся авторитету самого вождя, поднес к губам флейту и издал такой пронзительный и громкий звук, что он заглушил все остальные. В то же мгновение, как по волшебству, танцы прекратились. Пьяный старик, пошатываясь и чуть не падая, произнес краткую речь, вызвавшую среди дикарей неимоверное воодушевление и приветственные возгласы. Воины обступили пленников. — Какого черта они собираются с нами делать? — пробормотал Маркиз. — Я думаю, что настало время убить кого-нибудь, — ответил Винкельман, подходя поближе к топору, что был воткнут в чурбак неподалеку. — Терпение, — произнес Шарль. — Не будем прибегать к силе, пока нас не вынудят. Прошу вас, только в крайнем случае. После этого (по требованию колдуна) Шарль молча присел на корточки. Засучив до колен брючины, он обнажил перед всеми белые, как и полагается европейцу, ноги. Краснокожие вскрикнули от удивления. Только старик колдун с равнодушным лицом опустил палец в плошку с белой краской и, действуя на редкость умело и ловко, нарисовал на коже Шарля две берцовые кости. Ученик, словно тень повсюду следовавший за учителем и в точности повторявший все его жесты, протянул ему другую плошку, полную красной краски. Колдун Жакаре аккуратно вытер измазанный белым палец о шкурку пальмовой крысы, висевшую у пояса, опустил его в красное и продолжил анатомические зарисовки. — Что делает этот старик? — возмутился Шарль. Однако решил, что будет благоразумнее не сопротивляться. — Видишь ли, — икая и заговариваясь, отвечал колдун, — я рисую на твоих ногах те кости, которые лучше всего подходят для флейты канаемес. — Что?! Не хочешь ли ты сказать, что собираешься воспользоваться ими, чтобы аккомпанировать вашим жутким пляскам? — Не знаю… — Зато я знаю. Рисовать мои кости — занятие достаточно безопасное. Это я вполне могу тебе позволить. Однако не думай, что твои шуточки пройдут и дальше. — Белый сердится… Напрасно. Таков наш обычай. Высокой чести мы удостаиваем лишь самых почетных гостей. — Ладно. Если речь и вправду идет об особой чести, я согласен. Но шуточек не потерплю. Так и знай! Хозе, Маркиз и Винкельман, по очереди, подверглись той же операции. Мускулатура последнего удивила даже видавшего виды и ничему не удивлявшегося колдуна. Шепот восхищения пробежал по строю воинов, которым и в голову прийти не могло, что человеческое тело может быть так развито. — Прекрасно!.. Прекрасно!.. — басил эльзасец, выходя из себя. — Ну, поиграли? Теперь поняли, что я с вами сделаю, если рассержусь? Видали? Флейты им подавай из наших костей! Черт возьми! Обещаю, что тут ни единой живой души не останется, если что! Между тем индейцы, увлеченные, словно дети на необыкновенном спектакле, опять принялись петь и танцевать, но не так исступленно, как раньше. Напрыгавшись, они так же внезапно смолкли и только зловеще посмеивались. Смех их при этом походил на куриное кудахтанье. Краснокожие бросали презрительные взгляды на пленников, а те чувствовали, что попали в нелепое, если не сказать плачевное, положение. — Не кажется ли вам, месье Шарль, — не без оснований заявил Маркиз, — что вид у нас глупее не придумаешь? Брюки закатаны, будто на рыбалке, ноги разрисовал этот ненормальный! Ему алкоголь ударил в голову — это ясно. Шарль не ответил. Он напряженно ждал. Медленно опустив руку в карман, нащупал кобуру револьвера. Оружие должно быть наготове. Мало ли что! Индейцы все скопом приблизились к белым, не выказывая, однако, никакой агрессивности. Ими двигало любопытство, но не кровожадность. Ведь у белых столько интересных вещиц. Например, цепочка от часов: блестящая, никелевая. Вождь тут же вытащил ее из кармана Шарля с ловкостью, которой мог бы позавидовать самый искусный фокусник. Вслед за цепочкой в руках изумленного вождя очутились часы. Та же участь постигла и крошечный компас. Несчастных тотчас обступили со всех сторон, и они почувствовали, как ловкие пальцы заскользили по их телам, не причиняя при этом ни малейшей боли, ни малейшего неудобства, кроме, может быть, щекотки. Невольно подумалось, что этим молодцам самое место в полиции. Никто не обыщет лучше и проворнее. Индейцы стояли вокруг плотным кольцом, невозможно было двинуться. Друзья с сожалением наблюдали, как одна за другой исчезают из карманов их вещи. А потом дело дошло даже и до пуговиц. В конце концов и револьвер из кармана Шарля перешел в руки подручного вождя. Тот с любопытством принялся рассматривать непонятную вещицу. Когда взять больше было нечего, пленники с облегчением почувствовали, что круг разжимается. Индейцы начали расходиться, а четверо друзей смогли наконец свободно вздохнуть. Ошеломленные неожиданным бесцеремонным обыском, они не успели и словом перекинуться или хотя бы собраться с мыслями, как вдруг раздался оглушительный выстрел. Почти одновременно все услышали испуганный крик, а потом стоны. В ту же минуту вождь схватился за грудь. Между пальцами текла кровь. Индеец сделал два-три нетвердых шага, ловя воздух широко открытым ртом. Черты лица исказила боль, в глазах застыло страдание. Мгновение спустя вождь тяжело повалился на спину. Напуганные индейцы разбежались кто куда, словно потревоженные обезьяны. Впереди всех бежал колдун. А стрелявший, остолбенев от ужаса, бросил револьвер и по-прежнему стоял как вкопанный в пороховом дыму. У его ног корчился в предсмертных судорогах тот, кто еще недавно был вождем племени. Случившееся поразило и охотников за хиной. Ведь жертвой несчастного случая мог стать и любой из них. Однако головы они не потеряли. Подбежав к неподвижно стоявшему над трупом индейцу, Шарль поднял револьвер и положил в карман. Маркиз схватил мачете, который протянул ему Винкельман, в свою очередь вооружившись топором. Хозе досталась дубинка из железного дерева. В его руках она могла превратиться в страшное оружие. Тем временем индейцы оправились от первого испуга и стали собираться за деревней. Они с непривычной горячностью обсуждали происшедшее. Выждав некоторое время и поняв, что раскатов грома (а они именно так восприняли звук выстрела) больше не будет, дикари приободрились, вернулись к месту трагедии, окружили труп и начали расспрашивать подручного вождя. Тот, выйдя наконец из оцепенения, возбужденно что-то объяснял. Ответы его звучали отрывочно, резко. Ничего не знает, ничего не понимает, ума не приложит, почему это вождь вдруг умер. Ведь за секунду до смерти он был полон сил и в страну мертвых не собирался. Индеец всего лишь взял в руки странную вещицу, лежавшую в кармане у белого. Играл с нею, поворачивая так и эдак. Внезапно раздался гром, и вождь упал замертво. Вот и все. Чудо нельзя было объяснить. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы уважение к виновному непомерно возросло. Место вождя племени вакантно. Ни у кого не оставалось сомнений в том, кто должен занять его. Невольный убийца, несмотря на потрясение, чутко уловил, куда ветер дует. Однако он понимал, что право на роль вождя будут оспаривать и в других деревеньках. Когда там узнают о смерти Луди, начнутся стычки, кровавые драки, одним словом — борьба за власть. «Ну что ж, — подумал краснокожий, — судьба дает мне случай, им надо воспользоваться». Не церемонясь и не раздумывая больше ни секунды, он склонился над трупом, снял с него окровавленные ожерелья, надел на шею, на плечи, на пояс. Затем взял акангатар, диадему с символами власти, нацепив ее на свою иссиня-черную шевелюру. Индеец провернул дельце с такой скоростью и решительностью, что никому и в голову не пришло противиться, возражать, а тем более претендовать на атрибуты власти. Все в деревне восприняли происходящее как должное. Дело сделано. Вождь Луди умер. Да здравствует вождь Яраунаме! Так рушатся династии. Стоит ли говорить о том, что пьянка возобновилась. Индейцы, привыкшие пользоваться любым случаем — удачей ли, несчастьем ли, — не упустили возможности, которую предоставила им сама судьба. Случай и правда был серьезный, даже редкий. Грех не выпить по такому поводу! На труп вождя уже никто не обращал никакого внимания. Его бросили тут же, рядом. Мертвец не смущал пьющих. Единственно, что заботило их, так это чтобы выпивки хватило на всех. Наши герои, к несчастью, скоро поняли, что смерть вождя скорее принесет им новые неприятности, чем послужит к освобождению. Луди, оттого, быть может, что много лет предводительствовал в племени и успел пресытиться привилегированным положением, не заботился о поддержании авторитета любой ценой и не устраивал показуху при каждом удобном случае. Преемник же его, напротив, чувствуя, что едва установившаяся власть может пошатнуться, полагал необходимым утверждать ее всеми возможными способами, и прежде всего с помощью силы, необыкновенных поступков. Ему во что бы то ни стало надо было отвлечь внимание соплеменников от мысли о правомочности нынешнего его положения. В этом смысле присутствие белых оказалось как нельзя кстати. Кто, как не они, способны возбудить жгучее любопытство, заглушив тем самым голос разума? Еле живой от выпитого, икая и морщась, новоиспеченный вождь обратился к народу с речью, в которой призвал взяться за оружие, раззадоривая и без того разгоряченных алкоголем индейцев. Яраунаме закончил речь пламенным призывом к действию и бросился туда, где в испуге жались друг к другу трое белых и мулат. Видя, что нельзя терять ни секунды, понимая, что пришло время решительных поступков, пленники приготовились отбить атаку и — чем черт не шутит — вырваться из западни или, по крайней мере, дорого отдать свою жизнь. Отойдя подальше друг от друга, чтобы иметь возможность маневрировать, не задевая товарищей, взялись за оружие — и тут-то ватага пьяных, неуправляемых, озверевших индейцев с воем и криками обрушилась на них. То ли потому, что разум и чувства их слишком еще примитивны, то ли из-за невозмутимого темперамента, только индейцы почти не знают страха смерти. Решившись драться, они дерутся самоотверженно, с диким ожесточением, презирая боль, хладнокровно идя на гибель. Поэтому отчаянный вид охотников за хиной не оказал на краснокожих никакого действия. Ничто не могло остановить разъяренную орду, составлявшую как бы одно целое, сплошную массу тел, ног и рук, вперемежку со смертоносным оружием. Зрелище явилось устрашающее. Первые ряды нападающих были буквально разнесены в клочья, но затем белые оказались прижаты к тем самым деревянным столбам, из которых текла вожделенная влага. Теперь не осталось пространства для того, чтобы наносить новые удары. Со всех сторон тянулись крючковатые когти, готовые схватить, растерзать. Напрасно пытались наши герои сопротивляться. Силы были неравны. Каждый сражался за пятерых, круша все на своем пути, но тщетно. Трудно что-нибудь сделать, когда на тебя навалилась дюжина здоровяков. Шарль, связанный по рукам и ногам, увидел приближавшегося к нему колдуна с мачете наготове. Размышляя, куда бы ударить, мерзавец быстро разорвал рубашку на груди Шарля и собирался уже перерезать ему горло. Но чудо! Рука вдруг ослабла, дернулась, словно пронзенная электрическим током. Уронив мачете, индеец дико завопил. Крик его был так ужасен и силен, что заглушил гул толпы. Пораженные, все умолкли…
ГЛАВА 15
Талисман. — Мамаша — покровительница канаемес. — Колдун сожалеет о том, что у него так и не будет флейты из костей белого человека. — Прощание ни к чему. — Экспедиция продолжается, но какой ценой! — Мертвецы с берегов Тромбетты. — Маркизу становится хуже. — Голод. — Самоотверженность. — Голод нипочем! — Курукури-Уа. — Плот. — Поужинаем сырой игуаной. — В плавание! — Черепашье мясо. — Шарль беспокоится. — Предчувствия оправдались. — Катастрофа.— Ожерелье Маскунан! — вскричал старик и простер руки к европейцам, которые едва не погибли только что. Власть колдунов в здешних племенах столь непоколебима, что в ту же секунду оружие было брошено на землю. Все отступили, угомонившись, как по мановению волшебной палочки. — Ожерелье Маскунан!.. Маскунан!.. — исступленно повторял и повторял колдун. Слово, произнесенное благоговейно, с некоторым даже страхом, подействовало, как талисман. Индейцы, плотным кольцом обступившие пленников, разошлись с испуганным видом. В глазах их появилось совсем иное выражение. Это было преклонение, какое испытывают к богам, но не к простым смертным. Бедняги, успевшие уже попрощаться с жизнью и не верившие глазам своим, неспешно поднялись, не понимая, чему обязаны чудесным спасением. Тем временем пришедший в себя колдун подошел к Шарлю, дотронулся до ожерелья, будто бы желая удостовериться в его подлинности, и обратился к молодому человеку: — Белый знает Маскунан, мать всех канаемес? — Ты сам видишь, колдун. — Почему Маскунан дала тебе, белому человеку, свое ожерелье? — У той, кого ты называешь матерью всех канаемес, умирал ребенок… Я дал ей лекарство от лихорадки. За это Маскунан подарила мне ожерелье. — Да… Понятно… Но почему же ты не сказал, что у тебя на шее ее ожерелье? Обладатель этого талисмана — друг всем индейцам. — Но отчего же, в таком случае, твои люди хотели убить нас, хотя мы не причинили им никакого вреда? Разве в твоем племени не знают, что такое гостеприимство? Разве у вас принято предательски убивать тех, кто приходит к вам, полные доверия, и сидит с вами за одним столом? — Прости, хозяин! Ширикумас никогда не видели белых. Во всем виноват вождь Луди, — отвечал старый хитрец. — Но вождь Луди умер. Это месть Маскунан убила его. Маскунан всемогуща. Она умеет разговаривать с громом. Теперь ты и твои спутники свободны. Можете идти куда угодно. Везде вы найдете приют и помощь индейцев. Никто не причинит вам зла. Обернувшись к застывшей, молчаливой толпе, в минуту, кажется, позабывшей о выпивке и развлечениях, колдун произнес пространную речь, в которой часто упоминалось имя Маскунан. Старик указывал пальцем на белых, объясняя, что относиться к ним надо с уважением и даже дружески. В это время Шарль перевел Винкельману и Маркизу свой разговор с колдуном. Опьяненный счастьем, радуясь тому, что вопреки ожиданиям жив, здоров и невредим, Маркиз повеселел. Обыкновенное расположение духа вернулось к нему. Он забыл даже об экземе, хотя страдания от нее отнюдь не стали меньше. — Итак, — произнес парижанин, — все хорошо, что хорошо кончается. Однако не знаю, как вы, а я убежден, что нужно поскорее убираться подальше от этих милых людей. Я им все-таки не слишком-то доверяю. Пора опустить штанины — с глаз долой рисунки, которыми этот старый олух разукрасил наши ноги! А то вдруг, несмотря на все его увещевания, изображение костей вновь натолкнет дикарей на недобрые мысли… Что, если и ожерелье их всеобщей мамаши не поможет и краснокожие вздумают-таки ампутировать нам конечности? Может, в их оркестре не хватает флейт! — Вы абсолютно правы, Маркиз. Уходим без промедления. Невозможно предугадать, что придет им в голову в следующую минуту. Они же совершенно пьяны. Эй, смотрите! Пока друзья вполголоса переговаривались, индейцы, не желая разом прервать веселье, столь удачно начавшееся и столь неожиданно завершившееся, нашли способ удовлетворить дикие инстинкты, не нарушая заповеди колдуна и уважая пришлых, охраняемых всемогущей Маскунан. Колдун огляделся, и на глаза ему попался труп вождя, валявшийся в луже водки. Схватив мачете и размахнувшись что есть силы, старик расчленил тело. Можно было подумать, что Жакаре обучался анатомии в одном из университетов Европы, так ловко и точно, по всем правилам, делал краснокожий свое дело. Отрезав ногу, колдун торжественно вручил ее новому вождю племени. С тем же хладнокровием дикарь отрезал и вторую, отдав ее своему ученику. Юноша принял бесценный дар со всей возможной осторожностью. Лицо его при этом выражало признательность и благоговение. Покончив с трупом, старик снова подошел к белым. — Мы уходим, — сквозь зубы процедил Шарль, чувствуя невыразимое отвращение. — Как хочешь, хозяин. — Можешь ли ты дать нам немного муки и рыбы? — Да. — Пусть вождь отправит вместе с нами своих людей. Нам нужны провожатые до Курукури-Уа. — Нет. — Почему? — Сегодня в деревне праздник… Сам видишь, люди много выпили. Они хотят еще пить. Сегодня с тобой никто не пойдет. Если хочешь, оставайся. Веселись вместе с нами. Пей сколько душе угодно. Сейчас сделают флейты из костей бывшего вождя. — Какого черта он там лепечет? — спросил Маркиз у сеньора Хозе. Мулат перевел ему все сказанное. — Нет, нет! Ради Бога. Для одного раза это уже слишком. Давайте уйдем отсюда. Они сейчас смастерят целый оркестр. Я не желаю присутствовать при этом. Быть может, музыка получится замечательная, но я не хочу под нее плясать! Так и кажется, что с каждым шагом у меня отнимаются ноги — безо всяких метафор. — Какая жалость, — проговорил колдун, понявший по жестикуляции, о чем идет речь, — какая жалость, что вы встретили Маскунан! Если бы не это, — продолжал он вздыхать, — из ваших костей получились бы отменные флейты. У бедных ширикумас никогда еще не было флейт из костей белого человека. Стало ясно, что дольше оставаться в деревне небезопасно. Наспех собрав кое-какую провизию и набив ею карманы, взяв мачете, путешественники поспешили удалиться, не прощаясь. Впрочем, индейцы не обиделись. Для них это было нормально. К тому же, занятые своими делами, ширикумас, кажется, даже не обратили внимание на то, что гости уходят.
__________
Спустя некоторое время охотники за хиной очутились в лесу. Что делать здесь без оружия? Да и продуктов всего дня на два. Ширикумас не очень-то щедры. Компаса тоже не было. Как ориентироваться в незнакомой местности? Опытный путешественник знает, как легко сбиться с пути. В довершение всего состояние Маркиза резко ухудшилось, хоть он и старался всячески скрыть это и держаться молодцом. Прошагав два часа, парижанин был не в силах идти дальше. Он тяжело опирался на массивную палку, подобранную на лужайке, и подтрунивал над собой. Но ясно было, что болезнь побеждает. — Надо же, — смеялся Маркиз, — у меня три ноги, а хожу я от этого не лучше, а хуже! Скажите, месье Шарль, не забыли ли вы узнать у вашей знакомой, мамаши Маскунан, об одной безделице? — О чем вы говорите, друг мой? — О том, как превратить палку в лошадь. Ведь для колдуньи такое превращение, должно быть, ерунда. А мне бы очень пригодилось. Горькая шутка всех растрогала, а больше других Винкельмана. — О чем речь, дорогой мой? Зачем вам лошадь из палки? Я понесу вас на закорках, как и обещал. Обещаю дотащить в целости и сохранности до самого Атлантического океана, если понадобится. — Благодарю! Однако рискну сказать: «Нет». Подождите, пока я еще немного похудею. Уверяю, долго ждать не придется. У меня так мало осталось сил, что мне и есть-то не хочется. Подождем! Рано или поздно я просто-напросто не смогу идти сам. Этого не избежать. Ясно осознавая, что дальнейшее путешествие по горам невозможно, Шарль принял единственно верное решение — поскорее добраться до равнины. Все понимали, что о поисках хины сейчас и речи быть не может. К тому же цель экспедиции практически достигнута. В этих местах обнаружили достаточное количество целебных деревьев. И значит, можно попозже наладить добычу ценного вещества. Разработки сулили несметное богатство. Пятьсот и более рабочих могли бы добывать кору в течение года. А если подойти к делу по-научному, разработать методику, вести работы планомерно? Да еще найти управу на боливийских и перуанских конкурентов, зачастую способныхубить ради наживы? Тогда работы здесь хватит еще очень и очень надолго. Разведка, можно считать, закончилась успешно. Теперь оставалось самое сложное. Прежде чем строить планы относительно будущих разработок и богатств, которые они принесут, нужно было суметь без потерь вернуться из небезопасного похода. Предстояло пересечь более трехсот километров. Путников ожидали дикие места, где не ступала нога европейца, дремучие леса, коварные реки, озера и болота. Приходилось опасаться встреч с хищниками или с бравыми индейцами, которые, того и гляди, смастерят флейту из твоих костей. А как идти без проводника, без запасов съестного? Помимо всего прочего, в отряде один больной. Долгие дни в неизвестности… Выжить в такой ситуации представлялось почти невозможным. Будущее богатство обойдется слишком дорого! И все же наши отважные охотники за хиной решились на опасное путешествие.Здешние края пользовались дурной славой. Того, кто хотел узнать их получше, ожидали суровые испытания, а чаще всего — гибель. Попробуем описать эти места несколько подробней. Километрах в пятидесяти течет река Курукури-Уа, западный приток Риу-Тромбетты. Недалеко от ее истоков стоит обгоревший лес и виднеются остатки деревушки, носившей некогда имя Манури. Под высоким деревом погребены люди, отважившиеся проникнуть сюда. Двадцать пять или тридцать французов спят вечным сном в этой земле. Никаких следов их пребывания, кроме разбросанных головешек, одичавших фруктовых деревьев да легенд, и ныне бытующих среди индейцев. За пятнадцать лет пять или шесть французских экспедиций отправлялись к верховьям Тромбетты. Но не проходило и нескольких недель со дня выхода из Обидоса, как следы их терялись. Больше об экспедициях никто ничего не слыхал. Их ждали. Проходило пять, восемь, десять лет. Ничего! Все, без сомнения, погибли. Жизни их унесла злая лихорадка или канаемес. Две из этих экспедиций были хорошо известны и популярны в Обидосе и в низовьях Амазонки. Одну из них возглавлял Мюлле. С отрядом из семнадцати человек он отправился в верховья Тромбетты на поиски рудников. Во главе второй стоял Гайя, морской врач. В 1875 году он снарядил экспедицию по поручению официальных властей. Что стало с Мюлле и Гайя? Когда в открытом море утлая лодчонка захвачена штормом и огромная волна накрывает ее, поглотив рыбаков, ничто и никто не донесет до земли весть о том, как они погибли. То же самое и в здешних лесах. Кто пропал тут, тот, можно сказать, как в воду канул.
__________
Между тем четверо путешественников спешили покинуть хинные заросли, спускаясь по склонам Лунных гор. В первый день дорога оказалась легкой. Даже Маркизу она не доставила особых хлопот. Ему нравилось идти вниз, почти бежать, как будто кто-то подгоняет, подталкивает тебя сзади. К несчастью, чем дальше, тем чаще на пути попадались обширные лесистые участки, сквозь которые свободно могли продвигаться лишь индейцы. Белому, не знающему их тропинок, пробраться через густой лес очень непросто. Теперь вперед двигались медленно. Прошли совсем немного, а устали так, будто долгие мили остались позади. Надо было подумать об отдыхе. Стоянку решили сделать на берегу неглубокого ручейка, стекавшего с гор. Гамаков нет — спать придется на сырой земле. Нет брикетов — ни приготовить еду, ни обсушиться. Всей провизии — крошечный кусочек сушеной рыбы да сухарик. К счастью, с ними Винкельман. Богатырь устал меньше остальных. Он собрал ветки и листья и соорудил нечто вроде высокого топчана. Беднягу Маркиза, совсем разбитого и измученного, уложили на мягкое ложе. Его била лихорадка, так что холодная земля была для него не лучшей постелью. На следующий день состояние больного стало ухудшаться прямо на глазах. Проявились все характерные признаки экземы. Под воспаленной кожей переливалась желтоватая жидкость. В других обстоятельствах это пустяк. Любой врач справился бы без труда. Но здесь положение становилось угрожающим. Ноги маркиза, исколотые, искромсанные колючками, израненные лианами и острой, словно лезвие бритвы, травой, представляли сплошное кровавое месиво. Распухшие, ноющие суставы становились все менее подвижны. Как ни старался молодой человек превозмочь недуг, как ни хорохорился, а идти дальше все же не мог. Могучий эльзасец взвалил его на плечи, и парижанин продолжал путь верхом. Продукты кончились, а в лесу ничего нельзя было раздобыть. На деревьях, как назло, ни плодов, ни ягод. Дикие животные, вообще встречающиеся в этих местах крайне редко, спокойно шныряли совсем рядом, не боясь людей. Бедняги смотрели на них жадными глазами. Но что они могли сделать без оружия? Тщетно пытались изголодавшиеся путники отыскать хотя бы гнездо с яйцами или еще беспомощными птенцами. Охотники за хиной ужинали в этот вечер огромными улитками. Заставить себя проглотить жесткое мясо трудно, а переварить еще труднее. Маркиз был так изможден, что не съел ни крошки, хотя друзья заботливо сохранили для больного последний сухарик. И все же он не страдал от голода. Несмотря на то, что всех одолевала слабость, перед лицом опасности друзья как-то взбодрились, почувствовали новый прилив энергии, если это вообще было возможно в их положении. Шли быстро. Самое невероятное то, что быстрее всех по-прежнему шагал Винкельман, словно бы и не ощущая тяжести. На следующей стоянке он предложил товарищам отдохнуть, а сам принялся обустраивать лагерь, как будто вовсе не ведал усталости. Эльзасец и дальше шагал впереди, таща на закорках обессилевшего Маркиза. Даже больной, измученный, тот старался весело напевать и шутить. В отличие от него, обычно неразговорчивый, Винкельман за весь день и двух слов не сказал. Похоже, что жизненные невзгоды и страшная тоска и вовсе лишили его красноречия. Третий день пути оказался тяжелее двух предыдущих. За шесть часов путешественники лишь раз набрели на воду и смогли утолить нестерпимую жажду. Ничего съестного по-прежнему не было. У Хозе началась лихорадка. Шарль понял, что скоро придет и его очередь, подобно силачу Винкельману, взвалить мулата на плечи. Курукури-Уа должна была вот-вот показаться. Шарль по опыту скитаний по лесам чувствовал приближение реки. Почва стала более влажной. Начали все чаще попадаться на пути влаголюбивые травы. Состав леса изменился. Приметы Робен знал назубок. Поэтому мог без труда определить, близко ли вода. На каждом шагу, ко всеобщей радости, он вскрикивал, указывая на особые почки или о чем-то говорящие ему одному цветы. Завидев какое-то громадное дерево, молодой человек остановился и объявил привал. Полчаса ушло на то, чтобы срубить исполина. Внутри оказалось бело-желтое вещество, отдаленно напоминавшее по вкусу капусту. Скудный ужин все же кое-как утолил невыносимый голод. Пора идти дальше. Вокруг было пустынно. Нигде ни следа жилья или пребывания человека. С каждым шагом места становились все неприветливее. Встречавшиеся раньше на пути тропки индейцев, свидетельствовавшие о том, что хотя бы изредка здесь проходил человек, давно исчезли из виду. Взору путешественников открылась нетронутая природа во всей своей первозданной дикости. Земля ощетинилась громадными деревьями, уходившими, казалось, к самому солнцу. Кроны их, густые и раскидистые, совершенно заслоняли горизонт. Под ними царила тяжелая, удушливая атмосфера. Изнуряющая жара, сырость, продукты гниения — все подавляло и угнетало. Хозе почти совсем не мог больше идти. Маркиз совсем расхворался. Остальные обливались потом, изнемогали от бесконечной ходьбы и чувствовали, что вот-вот упадут от усталости и голода. Останавливаться приходилось теперь уже каждые десять минут. Наконец Хозе упал. Шарль поднял его и потащил на себе. Винкельман уговаривал не делать этого, уверяя, что прекрасно справится с обоими. — Ба! — проговорил он с невозмутимым спокойствием. — Мне ничего не стоит пройти еще часов двенадцать без еды. — Вы с ума сошли, — возразил Шарль, в чьих глазах впервые проскользнула тень отчаяния, — вы не выдержите такого напряжения. — Ладно! Пусть будет так. Двенадцать часов я прошел бы с одним больным на плечах. Если их станет двое, значит, я выдержу только шесть. А через шесть часов все изменится. Вы же сами говорите, что река близко. Сделаем так: вы пойдете искать реку один, а я в это время смогу немного передохнуть. — Вы, пожалуй, правы, друг мой. Оставайтесь здесь. — Подождите минутку! — В чем дело? — Возьмите-ка, съешьте вот это… Не богато, конечно, но все же кое-какие силенки вам прибавит. Винкельман вынул из кармана крошечный сухарик. Этот удивительный человек, не говоря никому ни слова, хранил его на протяжении тридцати часов. Хранил на всякий случай. Вдруг кому-нибудь понадобится. Шарль был растроган до слез, но решительно отказался принять бесценный дар. Эльзасец настаивал, сердился. — Немедленно съешьте… Я требую. Нашим больным сейчас ничего не надо, а мне это на один зуб. К тому же я умею терпеть. Знаете, мне приходилось там голодать годами, а работать при этом, как лошадь. Я прошел суровую школу. Ну, ешьте же! Единственное, на что в конце концов, после долгих уговоров и споров, согласился Шарль, так это разделить сухарь по-братски. Он отправился на разведку. Долго в отдалении еще слышался хруст — это Робен разделывался с куском сухаря. Молодой человек старался жевать энергичнее, надеясь хоть этим утолить голод. Не пройдя и пятисот метров от того места, где остались ждать друзья, охотник наткнулся на водный проток шириной метра полтора, идущий с юга на север. — Наконец-то! — сказал он себе. — Это индейцы прорыли для своих пирог. Канал наверняка ведет к Курукури. Река должна быть совсем близко. Она протекает между двумя параллельными горными хребтами. А я как раз и вижу вон там, впереди, примерно в двух лье, высокие горы, тянущиеся с востока на запад. Надежда придала молодому человеку силы, и он бегом пустился вдоль канала. Пробежав два километра, Шарль внезапно остановился. Крик радости вырвался из его груди при виде сверкавшего водного потока. Широкая река, метров тридцать пять, несла свои воды, как и предполагал наш герой, к западу. Сомнений быть не могло. Это то, что им нужно. — Мы сможем вернуться! Дорога сама движется… Она приведет нас в Марони. Жаль, что не видно ни одной пироги. Пара добрых гребцов тоже не помешала бы. За двое суток мы доберемся до другого притока, Уанаму. По нему проплывем дня три, а там и Тумук-Умак, и совсем рядом Тапанаони. В конце концов не беда, что нет пироги. Если нет пироги, а плыть необходимо, делают плот. Материала, к счастью, сколько угодно. Плот мне под силу и одному смастерить. Пусть дружище Винкельман пока отдыхает. Тут дел-то всего на три часа. Итак, хватит разглагольствовать. Пора за работу! Вскоре Шарль подобрал необходимый материал, воспользовавшись великолепным местным бамбуком, который с успехом может соперничать с лучшими азиатскими видами. Орудуя мачете, француз нарубил одинаковой длины прутьев — приблизительно метров по восемь. Известно, что бамбук обладает исключительной прочностью и вместе с тем очень легок. Поэтому хорошо плавает. Благодаря своему строению это растение способно выдержать большие тяжести. Обыкновенная бамбуковая решетка при этом даже не погружается в воду, как бы солиден ни был груз. Шарль работал два часа. Он устал, но был доволен. Получится замечательный плот. На этом самодельном судне вполне можно будет продолжить экспедицию. Не передохнув ни минуты, охотник разложил прутья крест-накрест и связал с помощью молодых побегов, гибких и прочных, словно лучшая пеньковая веревка. Закончив дело, молодой человек заторопился в лагерь. Вернувшись, он обнаружил неутомимого Винкельмана за работой. Тот разделывал крупную игуану. Ловкачу удалось захватить ее спящей в тенечке. — Победа! — закричал эльзасец, едва завидев Шарля. — У нас есть еда. Взгляните на эту ящерицу! В ней ливров[204] шесть чистого веса. Правда, поскольку у нас нет огня, придется съесть эту тварь сырой. По-моему, пора за стол. Не так ли? У вас довольный вид. Бьюсь об заклад, что вы отыскали воду. — Не только воду, как вы изволили выразиться, но и средство передвижения. Завтра утром, на рассвете, мы отплываем. Наши больные, по крайней мере, смогут лежать спокойно, пока мы будем грести. Предлагаю после ужина сразу же перебраться к реке. Там удобнее ночевать. — Как скажете. Вот только отпробую этого лакомства и весь в вашем распоряжении. Благодаря предусмотрительному Шарлю четверо изможденных людей смогли провести ночь, лежа на плоту, вместо того чтобы тратить силы и время на устройство новой лежанки из ветвей и листьев. Наутро легкую конструкцию спустили на воду. Пришлось смастерить навес, чтобы защитить больных от жгучих солнечных лучей. Шарль и Винкельман, вооружившись длинными бамбуковыми жердями, оттолкнулись от берега, и плавание началось. Первый день прошел благополучно. Робену удалось поймать большую черепаху, которая спала на плаву. Таким образом, питанием их немногочисленный отряд был обеспечен. Маркиза с ног до головы вымазали черепаховым жиром. Бедняге, кажется, стало немного лучше. Что касается Хозе, то ночь и полдня сна вернули его к жизни. Добрый кусок черепахового мяса, увы, сырого, довершил лечение. Мулат мог помогать товарищам управлять плотом. Правда, для этого особых усилий не требовалось. Нужно было только следить за тем, чтобы плот находился все время посреди реки. Благополучно прошли несколько порогов. Вода оказалась довольно высокой, и плот без труда преодолел препятствия. Единственное, что доставляло серьезное неудобство (если, конечно, не считать неудобством жару в сорок градусов), так это необходимость стоять по щиколотку в воде. Так прошли три дня. На ночь плот вытаскивали на берег, а утром снова трогались в путь. Сырое черепашье мясо стало привычным, и мало-помалу путешественники обретали бодрость и хорошее настроение. Маркиз больше не бредил, горячка отступила, но непрекращающаяся экзема по-прежнему доставляла страдания. Больной категорически заявил, что никогда в жизни не возьмет в рот черепаху: ни сырую, ни печеную, ни жареную, ни пареную, ни в супе, ни в каком-либо ином виде. Бедняга! Правдивы мудрые слова: никогда не зарекайся. На третьи сутки, утром, Шарль, заметив, что река быстро расширяется — от одного берега до другого было уже метров сто, — подумал, что они приближаются к тому месту, где Курукури сливается с Уанаму, образуя Тромбетту. Шарль поделился наблюдениями со спутниками. Те поддержали его, обрадовавшись, что совсем скоро окажутся всего в каких-нибудь тридцати лье от Тумук-Умак. Между тем Шарля что-то беспокоило. Вид у него был озабоченный. Слишком уж хорошо знакомы ему местные реки, и странным казалось, что до сих пор Курукури не проявила своего характера. Шарль опасался, что в последний момент плот наткнется на большие пороги. Все говорило об их близости. Невольно вспомнилась река Арагуари. Ее бешеное течение очень опасно. К тому же она полна водопадов высотой двадцать метров. Впадая в Курукури, она создает сильный перепад уровня воды. Шарль стоял в глубокой задумчивости, когда внезапно до слуха донеслись глухие раскаты. — Я так и думал! — вскричал он. — Эта проклятая река ничем не отличается от всех прочих. — Что вы хотите сказать, месье Шарль? — спросил эльзасец. — У нас почти не осталось времени, чтобы причалить. Иначе нам грозит катастрофа. Скорее, друзья! К берегу! Все трое налегли на бамбуковые шесты, стараясь во что бы то ни стало победить течение и направить плот к спасительному берегу. — Черт побери! — крикнул Винкельман. — Я не чувствую дна! — Я тоже! — отозвался Хозе. — Если бы у нас был канат, кто-то один мог бы вплавь добраться до берега и привязать плот к дереву. — Боже! Что же делать? — Слишком поздно. Нас относит течением. Гул воды все приближался и приближался. Течение ускорилось. Вода стала зеленого цвета. Впереди, меж двух скалистых берегов, виднелась воронка. Дальше, всего метрах в двухстах, русла реки уже не было видно. Только водяные брызги да отражавшаяся в них радуга. Плот вздрогнул, накренился, на мгновение застыл и ринулся вперед. Окутанный водяной пылью, через секунду он исчез в бездне, унося с собой четверых пассажиров.ГЛАВА 16
Письмо. — После гибели плота. — Спасение. — Новые подвиги эльзасца. — Маркиз доволен. — Обед из крокодильих яиц. — Реквизиция. — На войне иногда приходится жить за счет противника. — Сложное дело. — Богатырь. — Тумук-Умак. — Новые испытания. — На разведку. — Вновь голод. — Четыре дня страха. — Отчаяние. — Негры. — Все хорошо, что хорошо кончается.15 августа 188…
Дорогой Фриц! Завтра утром шхуна отплывает из порта Марони, чтобы принести всем вам последние новости. Месье Шарль составил для отца подробный отчет о путешествии по Гайане. Однако отчет погиб во время нашего потрясающего прыжка в воду на порогах одной из здешних норовистых рек. Поэтому любезный патрон поручил мне рассказать вам о завершении экспедиции. Прежде всего должен сказать, дорогой Фриц, что ты вполне можешь гордиться твоим мужественным и самоотверженным братом. Это настоящий герой. Смелый, добрый, великодушный. Где бы мы были сейчас, не окажись он с нами! Особенно я. При воспоминании о его неутомимой и нежной заботе глаза мои застилает слеза и сердце бьется в волнении. Я никогда не мог предполагать, что человек такой физической силы и энергии способен еще и на бесконечную доброту. Трудно выразить все на этом клочке бумаги. Едва я хочу сказать ему о своей признательности, как он тут же велит замолчать, будто бы выражения благодарности смущают его и он чувствует себя не в своей тарелке. Но пора перейти к фактам. Состояние наше было довольно скверным, когда, выбравшись из хинных лесов, благополучно избежав расправы — индейцы собирались отрезать нам ноги и сделать из костей тромбоны[205], — мы плыли по реке Курукури-Уа на бамбуковом плоту. Хуже всего дело обстояло со мной. Меня совершенно измучила обычная для тех мест болезнь — экзема. Все тело оказалось покрыто миллионами язвочек, которые постоянно чесались, зудели и не давали покоя. Так вот, твой брат невесть сколько тащил меня на плечах, сам голодный и изможденный, пока меня, в бреду и горячке, не уложили наконец на самодельный плот. На протяжении трех суток у нас не было иной пищи, кроме сырого черепашьего мяса. Слава Богу, что плавание оказалось легким и не требовало особых усилий. Как вдруг совершенно неожиданно нас захватило бурное течение. Плот потерял управление, просто-напросто не было сил сопротивляться бешеному потоку. Нас несло, словно крошечную щепочку. Успели лишь пожать друг другу руки, уверенные в том, что все кончено. Мгновение спустя мы попали в облако водяной пыли. Это был водопад высотой футов тридцать. Клянусь тебе, теперь-то я это могу сказать по праву, ибо знаю точно: жизнь — великолепная штука. Но в этом начинаешь сомневаться, когда желудок пуст, к рукам и ногам будто пудовые гири привязаны, а кожа горит. Однако даже и тогда с жизнью, оказывается, расставаться не хочется. «Буль!.. Буль!.. Буль!..» — отдавалось у меня в ушах. Я барахтался, бился изо всех сил. Столько воды наглотался, словно хотел выпить реку. Наконец уцепился за первый попавшийся под руку предмет. «Предмет», похоже, сопротивлялся. Мне показалось, что я услышал прерывающийся голос, произнесший примерно следующее: — Этот малый хочет утопиться и меня утопить!.. Погоди немного. После чего я получил удар по носу… сильный удар, доложу тебе. И все. Я старался как мог. Наверное, только жажда выжить вызвала во мне новые силы. Откуда-то появилась энергия. Но вскоре тем не менее я, очевидно, потерял сознание. Сколько прошло времени, не знаю. И опять твой брат нырял за мной. Рисковал своей шкурой ради того, чтобы спасти мою. Месье Шарлю пришлось спасать сеньора Хозе. Дело в том, что, наткнувшись на подводный камень, он раскроил себе череп. Мне объяснили, что предмет, за который я судорожно ухватился, был не кем иным, как Винкельманом, моим вечным спасителем. Он и ударил меня по носу, даже след остался. Иначе охватившую меня панику невозможно было пресечь. Есть, кажется, такие правила. Их специально разъясняют, когда учат плавать и вести себя при кораблекрушении. Главное было успокоить меня, иначе — конец и мне, и моему спасителю. Так что Винкельман сделал все, как надо. И уж конечно, вместо того чтобы обижаться или жаловаться, я бросился ему на шею. Опять этот замечательный человек спас меня. Я, знаешь ли, неплохо считаю. Однако сбился со счета: сколько раз обязан ему жизнью. Трудно все описать, но в моем сердце ничего не потеряно. Каким образом твой брат и месье Шарль не погибли и оказались невредимы после головокружительного кульбита[206], совершенно непонятно. Увидев, что я в безопасности, патрон бросил взгляд на воду, что кипела и пенилась вокруг нас. Заметив, что рядом плавает недвижное тело — это был сеньор Хозе, наш товарищ, мулат, — месье Шарль бросился за ним и вытащил на берег. Мы все четверо выбрались из воды, а плот исчез бесследно. В довершение всех несчастий мы лишились мачете. На четверых у нас остался теперь один нож. Ни нового плота не сделаешь, ни даже обыкновенной палки не выстругаешь. Хозе был очень слаб, так как потерял много крови. Да и я чувствовал себя не лучшим образом из-за проклятой экземы. Только патрон да твой брат были в порядке. Ситуация осложнялась еще и тем, что мы не имели ни крошки съестного, ни убежища, ничего. Вокруг — пустыня на сотни лье! Необходимо было составить план дальнейших действий. Наш распорядок дня можно было скорее назвать беспорядком. Каждому на обед досталось по четыре крокодильих яйца. Винкельман отыскал их в песке. Думали, что на следующий день для разнообразия, очевидно, придется есть пиявок. От трав, корешков и бамбуковых почек тоже не отказывались. Однако неутомимый эльзасец отправился на разведку. Полдня мы томились в лагере. Месье Шарль не хотел далеко отходить от нас. Сеньор Хозе был в плохом состоянии. Ему требовался постоянный уход, которого я не мог обеспечить. Винкельман наконец вернулся. У него был вид триумфатора. Едва завидев нас, он крикнул: — Мужайтесь, господа! Мы поплывем со всеми удобствами. Я нашел пирогу, гребцов и провизию… — Не может быть! — воскликнул патрон. — Как же вам это удалось? — Я произвел реквизицию. — Как так? — Пойдемте, прошу вас! Я все объясню по дороге. Он хотел было понести меня, но я наотрез отказался, указав на сеньора Хозе, которому было куда хуже. Винкельман без слов взвалил его на спину, я оперся на руку месье Робена, и мы тронулись в путь, по возможности спеша, насколько хватало сил. Дорога оказалась столь утомительной, что твой брат так и не смог рассказать нам, что произошло. Два часа спустя добравшись до места, напоминавшего пляж — наполовину песок, наполовину тина, — что же мы видим? Двух индейцев, привязанных друг к другу веревкой от гамака и лежащих на земле в не слишком-то удобной позе. — Вот их-то я и реквизировал, — провозгласил твой брат, указывая на краснокожих. Надо тебе сказать, что выражение их лиц было довольно кислым. Потом Винкельман показал нам пирогу. Она мирно покачивалась на волнах метрах в тридцати. — А вот и пирога, о которой я говорил. Привязана на совесть, чтобы эти негодяи не смогли ее угнать, если бы им вдруг удалось освободиться. — А что же все-таки случилось? — Все очень просто. Краснокожие рыбачили. Я говорю им по-португальски: «Нас четверо путешественников. Хотите сопровождать нас до Уанаму?» Они поняли меня, и один из них говорит: «Нет!» Я говорю: «Мы хорошо заплатим». А он: «Нет!» Я — свое, а он — свое: нет и нет. Ну, тут я им сказал все, что думаю. Благодаря вашим родичам, говорю, мы остались без еды, без багажа, чуть не погибли. Вы должны помочь! А они: нет! Мне надоело с ними пререкаться. Я связал их по рукам и ногам, привязал одного к другому, ноги в руки — и бежать к вам. Ну, правильно я поступил? — Великолепно! — отвечал патрон. — Подлое поведение их соотечественников полностью оправдывает ваши действия. Так как за душой у нас не было ни су, месье Шарль спросил индейцев, не хотят ли они проводить нас до Марони, и сказал, что там получат столько, что смогут припеваючи прожить всю оставшуюся жизнь. Мерзавцы по-прежнему отвечали: «Нет!» — Хорошо! Убирайтесь отсюда. Забирайте часть провизии, несколько мачете, гамаки, один лук со стрелами. Мы оставим себе остальные продукты, второй лук, часть стрел. На войне как на войне! Иногда случается, что приходится жить за счет противника. Ждать далее было нечего, и мы отправились в путь. Уходя, лишь слегка ослабили веревку. Поэтому пока индейцы освобождались от пут, мы были уже далеко. Бояться нечего. Мы, конечно, позаимствовали и пирогу. Патрон и Винкельман взялись за весла, и лодка тронулась. Сколько радости было! К несчастью, на пути частенько встречались пороги и водопады. Приходилось вытягивать пирогу на берег, тащить через лес, обходя препятствие. Если бы с нами не было богатыря по имени Винкельман, так бы мы и пропали в проклятых лесах. Этот чертов эльзасец может все! Еще напасть: патрон получил солнечный удар и целых два дня провалялся без сознания. Нечего сказать, компания что надо: Хозе бредит, месье Шарль в горячке, а я и то и другое. Винкельман с ног сбился. Он греб, а в перерывах накладывал компресс на голову патрону, делал перевязку сеньору Хозе или смазывал мои болячки. Просто чудо! Как только впереди появлялся порог, твой брат причаливал к берегу, переносил нас одного за другим на сушу, вытаскивал пирогу, волок ее волоком сколько потребуется, переносил нас обратно и снова греб. Обыкновенный человек десять раз сломался бы. Река стала у́же. Сначала она превратилась в небольшой канал, где могли разойтись лишь две пироги, а потом и вовсе в крокодилью дорогу. Метр в ширину, пятьдесят сантиметров в глубину. Наконец плавание прекратилось, ибо иссякла вода. Но мы оказались возле плато Тумук-Умак. Боже! Будь мы на ногах, через каких-нибудь два часа увидели бы Тапанаони, северный приток Марони. Увы! Мы были беспомощны, словно черепахи, перевернутые на спину. Пытаться тащить нас по очереди через холмы было безумием. Несмотря на самоотверженность и готовность на любые жертвы, Винкельман все же не решился на эту авантюру. Он удобно, насколько мог, устроил нас на дне пироги, положил рядом оставшиеся продукты и сказал мне со слезами на глазах: — Я отправляюсь на разведку. Возможно, меня долго не будет: день, а может быть, и два. Кто знает! Еда у вас есть. Теперь вы здесь самый здоровый. К тому же в сознании, в отличие от них. Следите за остальными. Я постараюсь спасти вас. Если не вернусь, значит, погиб. Другого быть не может. И он ушел, поцеловав меня на прощание. Доброе и благородное сердце! Я не могу вспоминать об этом без волнения. Прошло два дня, три… Его не было. Мы чувствовали себя относительно хорошо. Но он! Что могло стрястись? Месье Шарль начал понемногу приходить в себя. Сознание вернулось к нему. Хозе стал выздоравливать. Да и я шел на поправку. Так что никак нельзя сказать, что мы очень страдали. Едва патрон встал на ноги, как собрался идти на поиски нашего бедного друга. Тогда решили пуститься в путь все втроем. Нам удавалось пройти сто метров за полчаса. Стало ясно, что ничего из нашего путешествия не выйдет. Едва хватило сил добраться снова до пироги. Начался четвертый день. Ночь мы провели без сна. Горе не давало сомкнуть глаза. Провизия на исходе. Если не придет помощь, умрем с голоду. Вопрос времени. Потом муравьи обглодают наши косточки… Бррр!.. Я и сейчас еще дрожу, вспоминая о тех днях. Вновь наступила ночь. Мы были в отчаянии. — Винкельман, мой бедный Винкельман умер! — стонал патрон. Я тоже ревел словно белуга. Да и Хозе плакал как ребенок. Винкельман погиб! Разве можно себе это представить! Внезапно раздался радостный возглас. Замелькали огни. Полдюжины рослых негров, нагруженных провизией, точно мулы, бежали прямо к нам. Человек, который вел их за собой, запыхавшись, крикнул: — Это я… Вы спасены! Вот это, можно сказать, финал! В двух словах Винкельман объяснил: негры оказались из Голландской Гайаны. Наш друг набрал их в двадцати лье отсюда. Они великолепно знали старого Робена и его сыновей и поспешили выручить месье Шарля. У нас был не ужин, а настоящий банкет, как после удачной премьеры. Все смеялись, даже немного пели, рассказывали друг другу невероятные истории и в конце концов, счастливые, заснули. О дальнейшем и рассказывать особенно нечего. Негры, а каждый из них телосложением напоминал Винкельмана, положили нас в гамаки, повесили их на толстые палки, взвалили на плечи и понесли, словно хрустальные люстры. Через два дня мы плыли на борту пироги. Такого экипажа ни один морской волк, наверное, в жизни не видывал. Нас холили и лелеяли, как малых детей, вовсю откармливали. По реке проплыли еще километров триста. И вот наконец мы дома! Представь себе блестящую премьеру. Успех такой, что клаке[207] нет надобности разогревать публику и выкрикивать «браво!». Каждый, кто находится в зале, самозабвенно хлопает, да так, что все ладоши отбиты. У всех на глазах слезы. Даже представив все это воочию, ты не сможешь до конца вообразить, как нас встречали. Никто не ждал нашего возвращения. Полагали, что мы находимся на Арагуари. Месье Робен не предупредил дам об истинной цели путешествия, дабы не беспокоить понапрасну. И вот — неожиданная развязка! …Ну, что же тебе еще рассказать? Все хорошо, что хорошо кончается, не правда ли? Я закрываю последнюю главу наших приключений. Добавлю еще, пожалуй, что все здесь очень скучают. Мадам Фриц — твоя супруга, и мадам Раймон только и мечтают о том времени, когда мужья будут рядом. Полагаю, что время это не за горами. Сейчас обсуждается проект большой экспедиции в хинную долину. Сезон начинается. Приезжайте. И мы отправимся в плавание вместе с бони. Месье Шарль разрабатывает подробный план. Дело обещает быть исключительно интересным. У каждого — своя доля. Мы, несомненно, разбогатеем. Однако, как мне кажется, никто из нас толком не знает, что делать с большими деньгами. Ну вот, дружище. Таково на данный момент состояние дел. Я рассказал тебе, между прочим, не все, чтобы сделать сюрприз, когда ты наконец приедешь. Передай наше глубочайшее уважение почтенному месье Робену, поцелуй Раймона. Всегда твой
P. S. Я уговорил наконец твоего брата подписать пару слов к этому письмецу. Этот милый парень мало говорит, ничего не пишет, но зато действует. Лучший тип людей!Маркиз.
Дорогой Фриц! Все здесь заботятся обо мне и балуют. Это меня смущает чрезвычайно. Я ничего особенного не совершил, кроме того, что сделал бы на моем месте каждый. Только что прочел письмо, написанное моим другом Маркизом, который краснеет от злости, когда я называю его «месье». Он слишком добр ко мне. Ей-богу, я не сделал ничего исключительного. Если то, что ты прочтешь здесь, доставит тебе радость, я буду счастлив. Твой горячо любящий брат
Жан Винкельман.




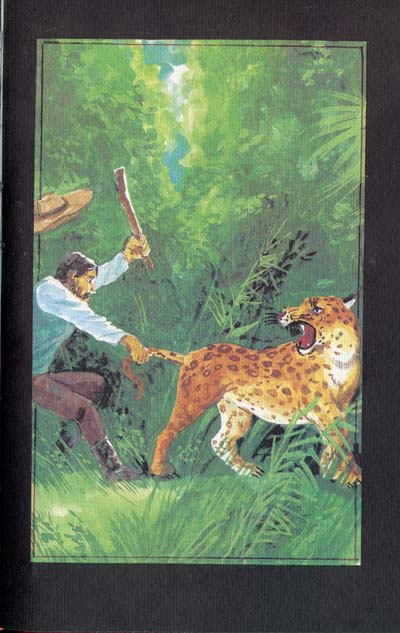



Эпилог
Шесть месяцев прошло с тех пор, как возвратились бесстрашные путешественники. Как и предполагал в своем письме Маркиз, месье Робен, его сын Анри, Фриц и Раймон немедленно прибыли в Марони. Мартинике Амелиус и беглый араб, которым удалось некогда избежать бойни, присоединились к неграм и индейцам, оставшимся в живых. Они великолепно работали, и за добрую службу их умели отблагодарить. Все шло хорошо. Месье Робен, услыхав о многообещающем открытии Шарля и его отважных спутников, тотчас же организовал многочисленную экспедицию в хинную долину. Путешествие было успешным, и освоение заповедных мест развернулось в полную силу. Доходы от этого дела превзошли все ожидания, и наши герои, похоже, станут в недалеком будущем мультимиллионерами. Однако столько денег им не нужно. Принято решение провести всю оставшуюся жизнь в солнечных краях Южной Америки. Жизнь здесь неприхотлива и недорога. Если в кармане есть несколько монет, тебе уже море по колено. Маркиз убежден, что чрезмерное богатство развращает. Поэтому предложил значительную часть денег внести в фонд помощи бедствующим артистам. Раймон и Фриц с энтузиазмом поддержали благородное начинание. Фонд начнет действовать в ближайшее время. Мулат Хозе стал мажордомом[208] у наших друзей. Ему тоже принадлежит доля в доходах. Он привез сюда жену и детей. И наконец — о Винкельмане. Месье Робен поведал о его героических поступках правителю Французской Гайаны. Тот, в свою очередь, отправил просьбу проявить милосердие президенту Республики. Просьба была услышана, и курьер из Франции привез доблестному эльзасцу прощение и полную амнистию. Винкельман — один из самых уважаемых людей в колонии.Конец

Луи Буссенар ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ АФРИКА
ГЛАВА 1
СТЕНЛИ[1]
Происхождение Стенли. — Начало карьеры. — Мистер Гордон Беннет. — Первая экспедиция. — Ливингстон. — Блестящий успех.Генри Мортон Стенли — энергичный человек, лишенный предрассудков и больше похожий на средневекового кондотьера[2], чем на мирного исследователя, занимающегося одной лишь наукой. Наука? Вот еще! Право же, до нее меньше всего дела этому англосаксу. Когда он ищет Ливингстона, сражается на Конго, спасает Эмина против воли самого Эмина — Стенли всегда неустанно стремится к цели не разбирая средств, со свойственным его нации огромным упорством. Ничто не остановит Стенли! Он бесстрашно преодолеет расстояния и естественные преграды (болота, реки, пустыни, леса), стоически перенесет все лишения, победит болезни и перестреляет всех до единого врагов, вставших на пути. Конечно, Стенли занимается исследованиями, но мимоходом, совершая грандиозные конкистадорские[3] походы в поисках людей, земель, богатства… и рекламы. Открытия Генри Мортона от этого не менее знаменательны — их с лихвой хватит для удовлетворения его честолюбия. Об особенностях Стенли следует сказать с самого начала — он лишен главных достоинств исследователя-путешественника. У Стенли нет терпения, самоотречения и, главное, бескорыстия людей названного типа. У него полностью отсутствует научный подход — этнографию, ботанику, геологию он знает только по названиям. Генри с пренебрежением идет мимо разнообразных растений, животных, людей, встречные препятствия штурмует в лоб, а при этом — увы! — надолго вредит сближению европейца с чернокожим братом. Стенли — не ученый, а типичнейший авантюрист: кто ему заплатил, тот и хозяин. Есть ли у этого англосакса имя? Знамя? Отчизна? Его прославленное имя — не имя отца. Знамя Стенли то американское, то бельгийское, то египетское — смотря по обстоятельствам. Что до отчизны — так и не известно в точности, англичанин он или американец. Генри Мортон был англичанином, но, покинув родину в ранней юности, стал американцем — служил во время Гражданской войны то Северу, то Югу. Итак, личность Стенли и пути достижения им цели очень спорны — как, вероятно, и самое дело его. Но навсегда останется бесспорным, что с 1871 по 1888 год Стенли добился огромных, великолепных успехов — проник в неизвестную часть Африки, описал Великие африканские озера, открыл среднее течение Конго, несколько раз пересек Черный континент. Всего этого у него никак не отнять. Имя Стенли в некотором роде стало символом Экваториальной Африки, а он сам навсегда останется одним из славнейших путешественников, в чем мы, прочитав подробный рассказ о его экспедициях, вскоре и убедимся. И теперь, когда подлинное лицо Стенли со всей возможной беспристрастностью отделено от восторженных легенд, написанных биографами этого мастера рекламы, — еще два слова. Стенли можно критиковать и можно восхищаться, возводить и ниспровергать с пьедестала, но никто не откажет ему в своеобразии, и всякий скажет: «Это личность!» Подлинное имя Стенли — Джон Роулендс. Он родился в 1840 году[4] в Денби (Уэльс) в семье очень бедных родителей и начальное воспитание получил в детском приюте Пророка Асафа. Чрезвычайно тяжелое детство закалило подростка — он стал энергичным и физически крепким человеком. Тринадцати лет Джон оставил родных и отправился в Ливерпуль, где до шестнадцати лет работал грузчиком в порту, а позже нанялся юнгой на корабль, уходивший в Новый Орлеан. В Америке трудолюбием и умом он добился расположения некоего Стенли — коммерсанта, к которому нанялся на службу. Негоциант намеревался устроить судьбу юноши, но внезапно умер, не успев составить завещания; надежды на наследство разбились. Несколько лет Джон прожил в безвестности и, несомненно, в бедности. Двадцати одного года от роду он вступил в армию конфедератов[5] под именем своего благодетеля. Так Джон Роулендс стал Генри Мортоном Стенли. Он деятельно участвовал в Гражданской войне, в битве под Питерсбергом[6] попал в плен, затем бежал, но не вернулся к прежним товарищам по оружию, а поступил на службу в федеральный флот, отличился и получил чин лейтенанта. В 1865 году Стенли вышел в отставку и стал журналистом; ему было тогда двадцать пять лет. Он начал работать в газете «Миссури демократ», сопровождая экспедицию генерала Хэнкока[7] против индейских племен чейенов[8] и кайова[9], затем перешел в «Нью-Йорк трибюн», а вскоре — в «Нью-Йорк геральд» с окладом двадцать тысяч франков в год. В 1867 году директор газеты послал его в Абиссинию[10] освещать действия английского корпуса Вулсли[11] против негуса Теодроса[12]. Там Стенли удался недурной репортерский подвиг: газета получила от него сообщение о взятии Магдалы[13] и гибели Теодроса на сутки раньше, чем английский генеральный штаб доложил об этом своему кабинету. В результате дебют молодого корреспондента в прессе получился блестящим. Потом Стенли как репортер принимал участие во всех важнейших политических и военных событиях своего времени. Он был в Мадриде при свержении Изабеллы II[14], на берегах Суэцкого канала, в Центральной Азии, отовсюду присылая занимательные корреспонденции, полные дотошных проницательных наблюдений. В октябре 1869 года Стенли присутствовал при страшной бойне, которую устроил в Валенсии генерал Мартинес-Кампос[15], затем корреспондент отправился в Мадрид, где рассчитывал немного отдохнуть. Но там к нему пришла телеграмма: сын директора газеты, мистер Джеймс Гордон Беннет, срочно вызывал своего репортера в Париж. Это незначительное с виду событие решило судьбу и определило призвание Стенли. Не мешкая, он сел на поезд, поздно вечером 17 октября 1869 года приехал в Париж, прибыл в «Гранд-Отель» и постучался в номер к мистеру Беннету. Их краткий ночной разговор стоит пересказать: он весьма поучителен и прекрасно характеризует как будущего первооткрывателя Конго, так и его благотворителя. — Кто вы? — спросил мистер Беннет, не вставая с постели. — Я Стенли. — Да-да-да, помню, садитесь. Я телеграфировал вам в Мадрид, у меня для вас важное поручение. Как вы думаете, где сейчас Ливингстон? — Понятия не имею. — Он жив? — Может быть, да, может быть, нет. — А я полагаю, что он должен быть жив, и посылаю вас отыскать его. — Вы имеете в виду, что я должен отправиться в неизвестные области Африки? — Я имею в виду, что вы разыщете его, где бы он ни находился, и сообщите о нем все возможные сведения. Вероятно, великий путешественник терпит нужду — возьмите с собой все необходимое. Разумеется, вы ничем не связаны: делайте что хотите, только отыщите Ливингстона. Ни Беннет, ни Стенли не могли рассчитать предполагаемой сметы, так что было условлено, что путешественнику откроют неограниченный кредит. На первый случай репортер возьмет из кассы «Нью-Йорк геральд» двадцать пять тысяч франков. — Поезжайте немедленно и действуйте, — сказал Беннет. — Слушаюсь, сэр. Итак, я еду в Центральную Африку? — Нет, не сразу. Сначала вы поедете на открытие Суэцкого канала. Потом подыметесь вверх по Нилу: говорят, Бейкер отправился в Верхний Египет, и нам нужен репортаж о его экспедиции. Потом следовало бы съездить в Иерусалим: там, как слышно, капитан Уоррен сделал важные открытия. Потом отправляйтесь в Константинополь и напишите нам о раздоре между султаном и хедивом[16]. Далее посетите места сражений в Крыму[17], затем поезжайте через Кавказ до Каспийского моря и узнайте подробности о походе, который русские готовят в Хиву. Потом через Персию отправляйтесь в Индию, напишите нам о Персеполисе, о Багдаде и о железной дороге в долине Евфрата. В Индии садитесь на пароход и поезжайте в Африку искать Ливингстона. Пока не найдете, не возвращайтесь. Узнайте у Ливингстона все об его открытиях, а если он умер — привезите тому безусловные доказательства. Вот и все. Ступайте! Храни вас Бог! — Будьте здоровы, сэр. Я сделаю все. Господь да поможет мне. Стенли отправился в путь. Он проследовал, нигде не задерживаясь, точно по причудливому маршруту, указанному шефом, и наконец 6 января 1871 года прибыл на Занзибар. Ливингстон мог и подождать: чуть раньше, чуть позже… На Занзибаре Стенли развил такую деятельность, что через две недели у него уже был отряд из 192 человек: три европейца,четыре черных вождя, двадцать три занзибарских солдата и сто пятьдесят семь носильщиков. Двадцать первого января отряд выступил в глубь континента. Как громоздка ни была поклажа, но в таких экспедициях все эти вещи абсолютно необходимы. Прежде всего — подарки: стеклянные побрякушки, ткани, латунная проволока. Кроме того, кухонные принадлежности, мешки, палатки, оружие, боеприпасы, медикаменты, а самое главное — продукты. В итоге весь багаж весил не менее шести тонн. Путешественники имели еще в распоряжении двадцать два вьючных осла, двух лошадей, тележку и две лодки (одна на двадцать человек с поклажей, другая на шесть), разобранные на части, каждая весом около тридцати пяти килограммов. Уже из этого краткого списка видно, как тяжело придется недисциплинированным, не приученным к подобным тяготам людям идти с подобным грузом по незнакомой местности. Так что все трудности путешествий по Африке обрушились на экспедицию с самого начала. Многие носильщики заболели, некоторые сбежали. Пала одна лошадь, через несколько часов — другая; ослы переносили путь лучше, но со временем и они передохли. Князьки, через земли которых проходил Стенли, изощрялись во всяких предлогах, чтобы взять с путешественников как можно больше платы за проход. Кроме того, в экспедиции произошел раздор между белыми. В помощниках у Стенли числились два англичанина-авантюриста (я разумею авантюриста низшего пошиба). Они отказывались признавать его власть, сами же были совершенно не подготовлены к серьезному делу. Один из англичан даже пытался убить Стенли во сне. Тот никак их не наказал — только отослал прочь. От усталости люди валились с ног, болели лихорадкой, но несравненно горшие несчастья были еще впереди. Экспедиция пересекла большую влажную плодородную страну Урагара, изобилующую кукурузой, просом и сорго[18], и пришла в Угого. Там Стенли встретил несколько арабских караванов, пожелавших идти вместе с ним; общая численность отряда достигла четырехсот человек. Когда прибыли в Табору, местные арабы очень хорошо встретили гостя и попросили у него помощи против некоего Мирамбо — мелкого князька и бессовестного бандита, наводившего страх на всю округу. Стенли еще не хватало опыта, и он имел неосторожность согласиться, хотя элементарнейший здравый смысл говорит, что белым ни в коем случае не следует вмешиваться в распри туземцев. Мирамбо оказался умелым тактиком: он принял бой и, сделав вид, что совершенно разбит, завлек за собой неприятеля в свои земли. Арабов ослепил первый успех. Они потеряли присущую им осмотрительность и занялись грабежом, разорив несколько вражеских деревень. Все думали, что Мирамбо далеко, а тот вернулся и напал на противника из засады. Застигнутые врасплох арабы разбежались и были перебиты. Сам Стенли еле спасся бегством, оставив в руках Мирамбо американский флаг, развевавшийся над караваном. Разгром принес Стенли пользу как суровый урок, но подорвал его репутацию в глазах и арабов, и спутников. Затем Стенли отправился дальше, но решил идти не прямо к озеру Танганьика в Уджиджи, а сперва к югу через Укунго, Укавенди и Ухху. Путь был полон приключений. На каждом шагу приходилось торговаться с туземцами, которые встречали путешественника с оружием в руках и вымогали неимоверные поборы. Его спутники взбунтовались и упорно отказывались идти дальше; на них нападали дикие буйволы и бешеные слоны. Однажды Стенли остановил приступ жесточайшей лихорадки: он лежал неподвижно посреди невыносимого бивачного шума; голова раскалывалась, тело горело в жару и покрывалось потом, все члены ломило… Мужество и энергия путешественника преодолели все преграды. Он шел только вперед. Все вокруг единогласно сообщали ему, что на восточном берегу озера Танганьика живет седобородый белый человек. Приложив все усилия, Стенли 10 ноября 1871 года, через двести тридцать шесть дней после отправления с Занзибара, подошел к Уджиджи. — Развернуть знамя! Зарядить ружья! — скомандовал Стенли. И вот перед деревней, где жил великий путешественник, прозвучал салют из пятидесяти выстрелов. Прибежала толпа любопытных; кто-то крикнул: «Good morning!»[19] От этих слов волнение Стенли достигло предела. «Чего бы я не дал, — пишет он в своей книге, — чтобы найти укромный уголок, спрятаться там и дать выход переполнявшей меня безумной радости: кусать себе руки, кувыркаться, трясти деревья! Сердце в груди колотилось и разрывалось, но я справился с собой и подошел к доктору Ливингстону, стараясь сохранить сколь можно более достойный вид. Доктор выглядел очень усталым; на нем был красный сюртук, серые панталоны, синяя каскетка с выцветшим золотым галуном. Мне хотелось подбежать к нему и броситься на шею, но он же англичанин — неизвестно, как бы это ему понравилось. Я просто подошел и спросил: — Доктор Ливингстон? — Да, это я, — ответил он с любезной улыбкой. Обменявшись приветствиями, мы прошли к нему на веранду. Ливингстону, — пишет далее Стенли, — лет шестьдесят, но когда он выздоровел, я не дал бы ему и пятидесяти. Волосы у него темно-русые с проседью, усы и бакенбарды совсем седые, но светло-карие глаза сохранили необыкновенную живость. Зубы у него выпали, так как в Луанде некогда пришлось долго питаться одной сырой кукурузой; за этим исключением в облике Ливингстона нет ничего старческого». Благодаря тому что Стенли в изобилии доставил продукты и медикаменты, доктор быстро поправился. Когда к Ливингстону возвратились силы, они вместе со Стенли отправились в поход по озеру Танганьика, чтобы решить одну из интереснейших географических проблем: есть ли у озера сток на запад. Ливингстон утверждал, что да, но не имел никаких доказательств, кроме общего соображения, что бессточных пресных озер не бывает. В этом путешествии Ливингстон и Стенли не нашли подтверждения упомянутой гипотезе. Зато, как часто случается, нашли то, чего не искали: туземцы указали им реку Руфиджи. Она, однако, впадала в озеро, а не вытекала из него. Итак, до получения новых данных гипотезу Ливингстона следовало считать ошибочной. В декабре 1871 года Стенли собрался назад в Европу и надеялся, что знаменитый путешественник отправится с ним. Тот, однако, отвечал на все уговоры: — Я был бы очень рад повстречать семью, близких, друзей, — но прежде должен выполнить свою задачу: найти истоки Нила. Они вместе выехали из Уджиджи; Ливингстон проводил Стенли по дороге в Уньяньенбе. Не доезжая Таборы, в Куихаре, они расстались — и уже никогда больше не встретились. Стенли возвратился на восточное побережье без спутников, но зато он вез письма Ливингстона и совершенно поразительную весть: знаменитый старец найден в самом центре Африки живым и невредимым. На Занзибар Стенли вернулся 6 мая 1872 года, отправив оттуда экспедицию в помощь доктору, а сам отплыл в Англию. Весть об успехе Генри Мортона вызвала огромный шум и возбудила разноречивые толки. На успех Стенли никто не надеялся, тем более что перед ним плачевно провалились несколько экспедиций с той же целью. Иные теперь прямо обвиняли его в обмане и утверждали даже, что самые письма Ливингстона — подделка. Сэр Генри Роулинсон[20], президент Лондонского Королевского географического общества, на одном из собраний общества заявил, что так называемая находка Ливингстона — не что иное, как грандиозный бесчестный розыгрыш. Знаменитый немецкий географ Риперт[21] утверждал то же в еще более оскорбительных выражениях. Иные же встретили путешественника с восторгом (в частности, Французское географическое общество удостоило его золотой медали) и устроили ему триумф, омрачить который недоброжелателям не удалось. Стенли не составило труда прекратить толки — у него хватало явных, наглядных, исключающих всякое сомнение в достоверности доказательств. Именитые противники вынуждены были со стыдом взять свои слова обратно и извиниться. Стенли оказался к ним великодушен — настолько полной стала его победа. В честь Генри Мортона устраивались пиры, его имя находилось у всех на устах, портреты висели во всех витринах, печатались во всех журналах. Королева Виктория пожаловала путешественнику табакерку с бриллиантами, а французское правительство… назначило чиновником при Академии наук. Лорд Гренвилл[22] опубликовал поздравление Стенли, американский посланник Уошберн[23], искренне считавший Генри американцем, заявил, что отважный путешественник прославил свою родину. Ливингстон ненадолго пережил это достопамятное событие, давшее исследованию Центральной Африки необратимый толчок. После возвращения Стенли о нем долго не было новых известий; под конец 1873 года в Англии распространился слух, что знаменитый старец умер. К несчастью, печальную весть вскоре подтвердила официальная депеша английского консула на Занзибаре. Ливингстон был вынужден целую неделю провести в болотистой местности, кишевшей неизлечимыми инфекциями, и 27 апреля 1873 года скончался от острого приступа дизентерии[24]. В первых числах февраля 1874 года сопровождавшие его люди доставили тело на Занзибар. Из-за страха, что драгоценный груз украдут туземцы, тело для отвода глаз упаковали как простую вьючную поклажу. Дело в том, что подлинная доброта доктора Ливингстона превратила англичанина в глазах африканцев в некое божество. Племена, среди которых он жил, принимали путешественника за духа-покровителя своих земель и верили, что в его присутствии их не коснутся никакие несчастья. Поэтому, узнай они, что доктор умер и тело его увозят, возникли бы большие беспорядки; возможно, караван бы и вовсе не выпустили. С острова Занзибар прах Ливингстона доставили в Англию и торжественно похоронили в Вестминстерском аббатстве, где, как известно, покоятся английские короли.
ГЛАВА 2
Второе путешествие Стенли. — Центральная Африка. — Открытие Конго.Стенли приподнял завесу над неведомыми дальними землями — и весь образованный мир вдруг проникся к ним страстью. У отважного журналиста нашлось множество подражателей, готовых устремиться по его следам. В частности, Лондонское географическое общество направило две экспедиции: через Конго и Занзибар. Первая, во главе с лейтенантом Гренди, получив известие о смерти Ливингстона, вернулась назад. Вторая была доверена офицеру британского военно-морского флота Верни Ловетту Камерону[25]. Она, как и первая, имела целью помощь Ливингстону, но, не дойдя еще до Таборы, Камерон встретил слуг великого путешественника с его прахом. Тем не менее Камерон направился дальше. Он смело двинулся прямо на запад, но затем уклонился к югу и из-за этого не открыл Конго; однако первым из европейцев пересек Африку с востока на запад. Мы еще расскажем об этом замечательном путешествии. Честь открытия среднего течения великой африканской реки выпала счастливчику Стенли. У него для этого было все, но главное — богатые и щедрые покровители. Стенли видел, как Ливингстона хоронили с королевскими почестями. Он тогда только что вернулся с англо-ашантийской войны[26] и решил продолжить дело знаменитого старца — найти исток Нила. Для подобного предприятия требовались большие средства. Стенли нашел их без труда: половину суммы, необходимой для решения задачи, дал Гордон Беннет из «Нью-Йорк геральд», половину — директор «Дейли телеграф». Ученый мир должен быть обязан одному из важнейших открытий века — открытию Конго — именно мудрой щедрости этих граждан, без колебаний и расчетов давших Стенли деньги. Двадцать первого сентября 1874 года Генри Мортон вновь приехал на Занзибар и принялся за подготовку новой большой экспедиции через загадочный материк. Все было готово к 17 ноября. Американца сопровождали еще трое белых — братья Пококк и Фредерик Баркер — и триста шестьдесят шесть черных носильщиков и солдат. Караван растягивался больше чем на километр. Сильные, мускулистые люди несли штуки сукна весом по двадцать семь килограммов, невысокие и крепко сбитые носильщики — мешки с жемчугом весом в двадцать два килограмма, парни лет восемнадцати — двадцатикилограммовые ящики с консервами и с патронами. Людям степенным и рассудительным поручили нести ценные хрупкие инструменты: термометры, барометры, фотоаппараты; человеку, известному ровным, четким, несбивчивым шагом, доверили ящик весом не более одиннадцати кило с тремя хронометрами, обернутыми в вату. Двенадцать кирангози (проводников), облаченных в ярко-красные мантии, сопровождали груз проволоки. Наконец, в отряде были люди геркулесовского сложения и силы, переносившие корабль «Леди Алиса», состоявший из шести частей; к каждой приставили четырех человек, сменявших друг друга попарно. Им платили больше других и давали двойную порцию еды. Кроме того, только им разрешили взять с собой жен — так что за караваном шли еще тридцать шесть женщин, при них шесть младенцев и весь домашний скарб. Несколько черных детишек родилось уже в пути, а к окончанию путешествия эти дети умели ходить… Стенли совершил небольшой выход в сторону Руфиджи, чтобы проверить каждого спутника в деле, затем вернулся в Багамойо, направился вдоль 6-й параллели южной широты до пересечения с 33° Парижского меридиана[27], оттуда взял в сторону и почти по прямой линии пошел к озеру Виктория-Ньянза. К несчастью, ровно через два месяца после начала экспедиции в деревне Чивую в Угого от жесточайшей лихорадки умер один из братьев Пококк. Вскоре Стенли дал первый бой. Жители Итуру не хотели пропускать путешественника, пока он не заплатит за несколько украденных его людьми кувшинов молока — конечно, гораздо дороже настоящей цены. Стенли, проторчав на месте два дня, потерял терпение и решил применить силу. Это было большой ошибкой: ведь в конце концов все равно приходится улаживать дело с туземцами миром, ловко сочетая уговоры с небольшими подарками. Тот же, кто проливает кровь, сеет семена ненависти, надолго вредит безопасности белых людей в Африке. Стенли устроил настоящее сражение, дал почувствовать туземцам преимущества современного оружия, точнее, скорострельных карабинов[28], перебил множество народу, сжег несколько деревень и пронесся по стране кровавым метеором. Но и сам потерял в жарком деле пятьдесят три человека. Выпутавшись — какой ценой! — из этой переделки, путешественник пошел дальше на север. 26 февраля колонна одолела затяжной подъем — и вот из авангарда, которым командовал Френсис Пококк, послышались торжествующие крики: — Озеро! Озеро! Всего лишь метрах в трехстах от вершины холма расстилалась огромная водная гладь — настоящее внутреннее море; его рябь ослепительно сверкала на солнце. Да, это была Виктория-Ньянза! В Кагехьи у вождя Кадума, приветливо встретившего Стенли, путешественник оставил людей, а сам решил подробно описать озеро, о котором существовали разнообразнейшие легенды. С огромным трудом набрав десяток необученных матросов, он взял на борт «Леди Алисы» провизию и товары для обмена, оставил Френсиса Пококка и Фредерика Баркера охранять лагерь, сам же 10 марта 1875 года отправился в плавание. Он без остановок обошел озеро, составил его карту, сняв более двух тысяч километров берега и неожиданно сделав интересное открытие: оказалось, что озеро Баринго, находившееся, как прежде считалось, неподалеку от озера Виктория, на самом деле — большой залив в северо-восточной его части. Три первые недели плавания были ужасны: лихорадка, тучи насекомых, усталость, тревоги, коварные нападения жителей побережья, постоянные бои, штормы… И как вдруг все переменилось в гавани Укафу! И это Центральная Африка? Это здесь с таким восторгом встречает иностранцев множество гостеприимных, любезных, богатых людей? Стенли приплыл в Уганду, землю могучего государя Матесы. Не успели путешественники ступить на берег, как явился дворцовый мажордом[29], а за ним — обоз с провизией. Мажордом преклонил перед Стенли колени и сказал: — Государь шлет привет белому человеку, пришедшему издалека посетить его. По любви своей, государь не может видеть лицо своего друга, пока тот не наестся досыта. Поэтому он отправил ему угощенье. Пусть наш друг перекусит и отдохнет, а в девятом часу государь приглашает гостя к себе на прием. Приветливые слова были подкреплены дарами, пришедшимися весьма по душе изголодавшемуся экипажу «Леди Алисы», — четырнадцатью тучными быками, восемью козами и восемью баранами, сотней связок бананов, тремя дюжинами дичи, четырьмя бадьями молока, четырьмя корзинами батата, пятьюстами кукурузными початками, корзиной риса и десятью кувшинами бананового вина. Путешественники были подавлены подобным царским великолепием; Уганда походила на волшебную сказку. Ради королевской аудиенции все сытно поели, искупались, причесались и приоделись. В девятом часу утра явились два пажа и пригласили Стенли на прием. Процессия поднялась на горку, застроенную большими круглыми хижинами — из-за густых банановых побегов видны были только остроконечные кровли. Широкие улицы сходились к пятачку, на котором находился дворец Матесы. Около дворца уже теснились вожди, воины и крестьяне, которых согнало раболепие, свойственное подданным всех деспотов — народ Уганды тут не исключение. По дороге в тронный зал надобно было миновать восемь — десять дворов. Уже при входе в первый из них Стенли встретила ужасная, невообразимая какофония: тысячи музыкантов с инструментами какой-то апокалиптической, непредставимой разумом формы дули, гремели, колотили, бренчали так, что лопались барабанные перепонки. У входа в зал, где стоял государь, стража взяла на караул. Радушно улыбаясь белому гостю, Матеса пожал ему руки и сам провел к назначенному месту рядом с троном, выше всех сановников. Чертог этого удивительного африканского монарха — искреннего друга европейцев — заслуживает описания, которое я позаимствую у другого путешественника по Африке — господина Адольфа Бюрдо[30], родом бельгийца, но ставшего сыном Франции; недавно он скончался в расцвете физических и духовных сил. Зала приемов в длину имеет метров двенадцать, а в ширину — четыре или пять. Наклонный к двери потолок покоится на двух рядах деревянных столбов, разделяющих залу на три части: в средней стоит трон, справа и слева — места для сановников и главных чиновников. У каждого столба — часовой с ружьем, в красном плаще, черной рубахе, подпоясанной красным поясом, и белых штанах; на голове у часовых — тюрбан, обтянутый обезьяньей кожей. В глубине центрального нефа стоял трон — деревянное кресло, похожее на конторское. Матеса воссел на него, а Стенли усадил на железный табурет по правую руку от себя; придворные расселись на циновках или прямо на земле. Ноги угандийского государя покоятся на подушечке, под троном разостлан смирненский ковер[31], а поверх ковра — леопардовая шкура. Перед царем лежит гладко полированный слоновый клык и стоят два ларца с идолами; у трона два стража: справа с медным копьем, слева с железным — это державные знаки Уганды. У ног императора, повергшись ниц, лежат визирь и два секретаря. «Матеса, — сообщает далее Адольф Бюрдо, — весьма величав и благороден с виду. Ему можно дать лет тридцать — тридцать пять; кожа у него совершенно гладкая, без единой морщинки. Бритую голову императора украшает феска;[32] на троне он сидит босиком, а когда встает, надевает малиновые турецкие туфли из сафьяна. Правой рукой царь крепко сжимает золотой эфес арабской сабли, левую держит на колене, подобно статуе Рамсеса[33] в Фивах[34]. Он вечно шарит вокруг беспокойным взором, словно пытаясь увидеть все одновременно. Лицо государя отличается от лиц его подданных только необычайною живостью взгляда. Настроение у него постоянно переходит от одной крайности к другой. Когда Матеса спокоен, выражение лица у него умное и достойное; когда чем-то недоволен или разгневан, губы сразу сжимаются, глаза, расширяясь, вылезают из орбит, руки нервно дергаются; весь двор тогда с трепетом ожидает вспышки царственного гнева. Когда государь удовлетворен — глаза входят обратно в орбиты, разжимаются губы и залу сотрясает звучный смех». Окончив беседу со Стенли, государь приказал впустить послов, дожидавшихся у входа в залу. Одни принесли Матесе дары от того самого негодяя Мирамбо, с которым Стенли пришлось столкнуться в первом путешествии, и смиренно молили о милости. Другие пришли с ходатайством, чтобы царь утвердил вождем на место одного недавно скончавшегося вассала его юного сына; кто-то просил разрешить их споры. Наконец Матеса поднялся; раздалась продолжительная барабанная дробь. Все в зале — вожди, придворные, пажи, публика — также встали, и государь, ни слова не говоря, прошел в боковую дверь. Прием окончился. Вот краткий — конечно, слишком краткий для полного представления — портрет замечательного монарха, правившего тогда Угандой, обширной и богатой державой площадью более 180 тысяч квадратных километров и с населением около трех миллионов жителей. Кто знает, не суждено ли этой державе сыграть важную роль в начавшемся продвижении европейцев и египтян в Центральную Африку через Судан? Похоже, по географическому положению, по богатствам и воинской доблести жителей Уганда вполне подходит для такой роли. Пятнадцать лет тому назад об этом уже догадывались два выдающихся человека — судьба обоих, заметам, сложилась трагически. Ведь как раз примерно в то время, когда Стенли гостил у Матесы, туда прибыло для переговоров с могущественным властителем Уганды большое посольство от Гордон-паши[35]. Во главе посольства стоял служивший у Гордона француз — отважный и несчастный Линан де Бельфон. Ни Гордона, ни Матесы уже давно нет на свете… Между тем именно от Уганды зависела судьба помощника Гордона, которого Стенли в третьем путешествии по Центральной Африке избавил от бедствий нескончаемой блокады, — судьба Эмина-паши[36]. Но к Линану де Бельфону рок — увы! — оказался не более благосклонен, чем к его командиру. На обратном пути от Матесы французу пришлось выдержать в стране Униоро[37] ожесточенный четырнадцатичасовой бой против того самого племени, которое столько времени не выпускало Эмина. Благодаря чудесам храбрости и хитроумия Линану удалось спастись, но вскоре, когда он отправился с новой миссией, на него напали свирепые дикари из племени бери и перебили весь отряд — тридцать солдат во главе с начальником. Не забудем: земля, что стала могилой Гордону, земля, где хладнокровному Эмину удалось взрастить первые побеги цивилизации, полита кровью и французского героя: Линана де Бельфона! Стенли купался в пирах, дарах и почестях, но не забыл товарищей, оставшихся в Кагехьи. Он решил вернуться к ним и попросил у Матесы достаточное количество больших лодок, чтобы вся экспедиция могла пересечь Виктория-Ньянзу. Государь отдал повеление собрать лодки по окрестным деревням; для этой цели вместе со Стенли он отправил одного из своих флотских начальников по имени Магасса. Стенли, полагаясь на княжеское обещание, отправился впереди на «Леди Алисе». К несчастью, вдали от государевых очей Магасса сильно переменился. Он не дал Стенли не только лодок, но даже и провианта, так что по дороге в Кагехьи путешественники испытывали чувство голода. В поисках пищи путникам приходилось высаживаться на недружелюбные берега; несколько раз их всех чуть не перебили. В Бамбирехе, например, туземцы вытащили «Леди Алису» на берег и приготовились напасть на непрошеных гостей, но хладнокровие Стенли воодушевило спутников. По его сигналу все враз налегли на судно и столкнули в воду. Потрясенные туземцы могли послать вдогонку лишь несколько стрел и проклятье: — Ступайте и умрите на нашем озере! Проклятье чуть было не исполнилось: Стенли с командой буквально умирали от голода и насилу нашли остров (Стенли назвал его островом Убежища), где бананы и дичь спасли им жизнь. Два дня спустя, 5 мая, через три недели после прощания с Матесой, «Леди Алиса» пришла в Кагехьи. Несчастные люди, не видевшие начальника уже два месяца и отчаявшиеся увидеть вновь, встретили его с восторгом и со слезами на глазах. — А где же Баркер? — спросил Стенли у Френсиса Пококка. — Почему он меня не встречает? — Он умер, мистер Стенли, — печально ответил молодой человек. — Быть не может! — Истинная правда, сэр; вот и могила. Лихорадка его скосила за два часа. Но это оказалось еще не все — навалилось множество мучительных хлопот. Стенли узнал, что по окрестностям уже дважды прошел слух о его смерти. Вожди соседних племен, пользуясь моментом, составили заговор, решив тайком напасть на стоянку экспедиции и разграбить все ценное. Значит, над людьми, валящимися с ног от усталости, измученными безнадежным ожиданием, истрепанными лихорадкой, нависла смертельная угроза. Что будет, если теперь, когда экспедиция находится в таком физическом и моральном состоянии, вдруг нападут враги? Стенли и подумать об этом не мог без содрогания. Надо во что бы то ни стало уходить, но Магассы с обещанной флотилией от Матесы все нет и нет. Так проходил день за днем; отчаяние с каждым часом возрастало. Тогда Стенли решил добраться до Уганды по берегу и послал дары царьку Минери-Ровоме с просьбой пройти через его владения. Но дары были отклонены, и разрешения не последовало. Не мешкая ни минуты, Стенли послал подарки с той же просьбой Лукудже, правителю Укереве, который оказался попокладистее и прислал американцу флотилию под командой брата. Двадцатого июня Стенли погрузил на пироги всю экспедицию — сто пятьдесят мужчин, женщин и детей, сто девяносто тюков материи, жемчуга и проволоки, восемьдесят восемь мешков крупы и тридцать ящиков патронов. Налетела страшная буря, разбившая несколько лодок; люди выбивались из сил и тонули. Стенли вынужден был вернуться, и только 6 июля удалось покинуть проклятый берег Кагехьи, где его столько времени преследовали несчастья. Но впереди оказалось не меньше опасностей — они поджидали на каждом шагу. Бамбирехцы с отчаянной отвагой напали на экспедицию — опять приходится драться, причем в ужасных условиях. Казалось, беда близка… Стенли был уже близок к поражению, когда вдруг появилась колонна воинов, которую на помощь путешественнику послал Матеса. И вот наконец Стенли довел спутников до безопасных мест в державе Матесы. Оттуда Генри Мортон хотел немедленно отправиться на другое озеро, которое хотел описать — Мута-Нзиге[38]. Он попросил сопровождения с целью пройти через страну Униоро, но государь ответил, что это сейчас невозможно: идет война с мятежным племенем вуавума. Монарх должен сам отправляться в поход, а пока он на войне, никто не позволит пройти путешественникам. После войны Стенли немедленно получит столько людей, сколько требуется. Получив столь безусловное обещание, путешественник не стал настаивать и даже решил пойти на войну сражаться с Матесой бок о бок. Государь призвал в армию сто пятьдесят тысяч человек; с ними шло пятьдесят тысяч женщин и столько же детей — итого в лагере собралось двести пятьдесят тысяч человек. Невозможно забыть зрелище, когда все это огромное черное воинство выступило в поход. Вся армия была еще больше — следом двигались полки вассалов и союзников Матесы. На ночь войска располагались в тридцати тысячах круглых хижин, между которыми возвышались остроконечные крыши жилищ вождей. Рядом с собственной штаб-квартирой Матеса распорядился построить дома для Стенли и его людей. Неприятель сосредоточился на острове Ингира; он хотел навязать Матесе бой на воде: люди вуавума были превосходные моряки, угандийцы же умеют сражаться только на суше. В первых стычках армия Матесы понесла серьезный урон. Тогда, рассказывает Адольф Бюрдо, Стенли изобрел для Матесы тройной корабль, который так же поразил людей вуавума, как некогда деревянный конь — троянцев[39]. Американец соединил шестами и прутьями три самые большие пироги. Получилось загадочное сооружение, непонятным образом передвигавшееся: двести воинов, сидевших в боковых пирогах, были скрыты от глаз. Вуавума в ужасе собрались на совет: увидав эту диковину, решили, что духи помогают Матесе, и поспешили начать мирные переговоры. Мятежники признали себя подданными Матесы, согласились платить государю требуемую дань — только бы корабль-призрак убрали с их глаз долой. Война окончилась, и воины разошлись по домам. Тогда Стенли напомнил правителю Уганды про его обещание, которое государь не замедлил сдержать — дал путешественнику двухтысячный полк под командой военачальника Стамбузи. Так Стенли смог войти в недружелюбную землю Униоро, где правил царек Каба-Рега, или Кабрега[40], которого на престол посадил сам Матеса. Но обстоятельства сделали Кабрегу врагом белых людей. Некогда на Униоро напали египетские войска под командованием сэра Самюэла Бейкер-паши, и с тех пор царек поклялся не пускать в свое царство ни европейцев, ни египтян. Вот вам, пожалуйста, доказательство, как европейцы должны быть осторожны в отношениях с туземцами, когда идут по их земле с большим вооруженным отрядом! Ни в коем случае нельзя допускать малейших конфликтов с ними — лучше, может быть, иногда даже отступить, чем нажить смертельных врагов. Стамбузи увидел, что люди Униоро настроены враждебно и, чего доброго, нападут на него. Тогда он собрал вождей на совет — и все в один голос решили вернуться домой, даже не попытавшись дать бой. Путешествие уже в который раз могло сорваться; Стенли протестовал, грозил Стамбузи гневом матесы — но ничего не помогало. На другое утро барабаны пробили сигнал к отступлению, которое совершилось благополучно. Стенли пришлось последовать за малодушными воинами Стамбузи — в Униоро было слишком опасно, — но на земле Уганды он немедленно расстался с ними, так и не попав на Мута-Нзиге. Узнав о проступке Стамбузи, Матеса страшно разгневался, велел его схватить, разжаловать, заковать в железа и бросить в темницу, где вскоре тот бесславно и скончался. Затем государь послал к Стенли и просил воротиться, обещая дать американцу, если потребуется, целую армию. Но путешественник уже переменил планы. Он велел передать великодушному угандийскому монарху горячую благодарность, но на том их отношения прекратились. Впредь Стенли зарекся ставить себя, свое время и замыслы в зависимость от могущества и благорасположения какого-нибудь африканского князька — он был сам себе хозяин. Идти намеченным путем стало нельзя. Поэтому Стенли направился к озеру Акенагара, которому дал имя Александра, нанес на карту течение реки Кагеры, четырнадцатью годами ранее открытой Спиком, и другой реки, впадающей в озеро Виктория, — Юджези. Обе реки текут с юга на север и, кажется, сообщаются с водной системой, в которую входят истоки Нила. Затем постоянные стычки с туземцами опять преградили Стенли дорогу и вынудили изменить маршрут. Не без сожаления он расстался с землей, которую омывают воды, питающие древнюю реку фараонов, и вернулся к Танганьике. Американец не подозревал, что благодаря такому крюку ему удастся открыть Конго. Двадцать седьмого мая Стенли пришел в Уджиджи, где четыре года назад отыскал Ливингстона. На Танганьике Стенли хотел прежде всего составить подробное описание западного берега озера и главным образом убедиться, вытекает из этой огромной водной чаши река или нет. Камерон, побывавший там несколько лет тому назад, склонялся к утвердительному ответу; он указывал, что из озера может вытекать река Лукуга, впадающая, вероятно, в реку Ливингстона. Стенли, напротив, полагал, что стока из озера нет. Эта мысль еще более укрепилась в нем благодаря следующему наблюдению. В ноябре 1871 года на базарной площади в Уджиджи росли три пальмы. В 1876 году они стояли уже в воде, в доброй сотне футов от берега, а пляж, где Стенли некогда прогуливался с Ливингстоном, был покрыт водой на ширину в двести футов. Если уровень воды так повышается, резонно рассуждал наш герой, значит, стока у озера нет. Правда, близ экватора леса так густы, что реку, вытекающую из озера, на какое-то время может перегородить целая гора из веток и листьев; вода не в состоянии пробиться через завал, и случается, даже меняет русло. Стенли с радостью убедился, что оказался прав, но, чтобы подтвердить свою догадку, внимательно исследовал берега Танганьики, собрал множество сообщений туземцев, произвел тщательные наблюдения и пришел к выводу: за последние несколько лет вода в озере заметно прибыла и стока из него быть не может. Арабы в Уджиджи тоже подтвердили, что уже тридцать лет вода прибывает постоянно: раньше здесь были рисовые чеки, а теперь это место милях в трех от берега, и каждый год озеро заливает все новые распаханные земли. Вернувшись из поездки по Танганьике, Стенли застал лагерь, доверенный попечению Френсиса Пококка, в плачевном состоянии. Молодого человека трепала жестокая лихорадка, пятеро занзибарцев умерло от оспы, десять человек опасно болели, остальные совсем пали духом. Большинство решило сбежать, пока не поздно: они боялись — на самом деле или нет, — что в стране маньема[41], где Стенли собирался продолжить прерванные труды Ливингстона и Камерона на Луалабе, их съедят людоеды. Начальник принял энергичные меры. Он прилюдно арестовал и под строгим конвоем отправил домой самых неисправимых горлопанов и главарей. Оставалось сто тридцать два человека; у ста двух из них Стенли отобрал оружие и отдал тем тридцати, в которых был совершенно уверен. Он также строго наказал нескольких пойманных беглецов. От зачинщиков мятежа Стенли избавился, колеблющихся ободрил. После этого он покинул Уджиджи и перебрался в Угухху, на восточном берегу озера. Два месяца спустя экспедиция пришла в Ньянгве в земле Маньема. Некоторые купцы из Уджиджи хотели отправиться туда вместе со Стенли, но он никого с собой не взял. В Ньянгве живут главные работорговцы Центральной Африки; одни из них белые, другие полуарабы. Именно там Стенли повстречал Хамеда бен Мохаммеда, более известного под прозвищем Типпу-Тиб; с этих пор последний стал играть весьма важную роль в экспедициях англо-американского путешественника. Тогда Типпу-Тиб был еще молодым человеком — высокого роста, с густой волнистой бородой, темнокожий, быстрый в движениях, с умным лицом и прекрасными живыми черными глазами. Стенли очень ему понравился; путешественник, со своей стороны, долго изучал арабского купца и, поговорив с ним, пришел к заключению, что перед ним один из замечательнейших людей в этой стране. Путешественник попросил Типпу-Тиба собрать большой отряд и сопровождать его в бассейн Луалабы. После долгих переговоров Типпу-Тиб согласился. Он уже был проводником у Камерона; тот не имел лодок и потому был вынужден направиться на юг, тем более что его, как раньше Ливингстона, преследовали враждебно настроенные туземцы. Типпу-Тиб подрядился сопровождать Стенли в продолжение шестидесяти переходов за пятнадцать тысяч франков и рацион для ста сорока человек на время похода. Пятого ноября 1876 года отряд из трехсот пятидесяти человек — в том числе сто рабов — присоединился к людям Стенли и они вместе направились в путь через джунгли, которых Типпу-Тиб не знал. Только через две недели тяжелейшего похода Стенли вышел к огромной реке — и сразу догадался, что это Конго. Колонна разделилась: часть людей пошла вниз по реке на лодках вслед за «Леди Алисой», другая — берегом. Оба отряда все время держались в виду друг друга и по тревоге готовы были прийти друг другу на помощь. По ночам все вместе разбивали лагерь на берегу. Восьмого декабря туземцы пришли в себя от первого испуга и в первый раз напали на экспедицию. Бои продолжались целую неделю подряд без передышки. Идти приходилось все время под градом стрел, которыми враги осыпали отряд, коварно притаившись за деревьями. Напрасно люди Типпу-Тиба изо всех сил кричали: — Мир! Мир! В ответ из-за деревьев раздавались лишь оглушительные крики: — Мы враги! Мы враги! Мы хотим вас съесть! У! У! Мясо! Много мяса! У! У! У! В завершенье бед отряд поразила эпидемия, наповал косившая людей Типпу-Тиба, менее стойких, чем спутники Стенли. Оспа, дизентерия и грудные болезни в считанные дни унесли шестьдесят человек; прочие так пали духом, что Типпу-Тиб попросил освободить его от принятых обязательств — до окончания договора оставалось всего шесть дней перехода. Стенли согласился и даже одарил Типпу-Тиба богатыми дарами за службу, которую тот нес в совершенно непредвиденных критических обстоятельствах. 23 декабря американец расстался с арабом и отправился вместе со всеми людьми по воде; флот экспедиции состоял из «Леди Алисы» и двадцати двух пирог. Отряд спускался по реке, не переставая отчаянно отбиваться от людоедов. И это было еще не все. К многочисленным врагам, тяготам долгого пути, беспощадным болезням прибавились естественные преграды, как будто сама слепая природа возжелала помешать путешественнику идти дальше. Пришел 1877 год. 5 января Стенли открыл возле экватора приток Луалабы, названный им в честь бельгийского короля рекой Леопольда, и тут же увидел, что, встретив огромный холм высотой более трехсот футов, Луалаба резко поворачивает на восток. Там же, на правом берегу, у самой излучины он увидел белую гранитную скалу. За нею слышался глухой, но очень сильный шум, будто кто колотит палкой по пустому котлу. Это оказались водопады, которые Стенли окрестил своим именем. Итак, на берегу его сторожили каннибалы, на реке разверзалась бездна. Стенли предпочел бороться с людьми. Он бросил якорь, совершил смелую высадку на берег, разбил полчище дикарей и устроил себе лагерь. Дальше надо было тащить двадцать три судна по горам и долам, пока не появится возможность спустить их на воду ниже водопадов. Титаническая работа — притом путешественники окружены враждебными племенами, которые стояли на пути отряда, сторожили его под деревьями. Стенли разделил экспедицию на несколько маленьких частей; в каждой такой группе находились носильщики, тащившие лодки, и стрелки, оборонявшие колонну от нападений с обеих сторон. Одни группы шли днем, другие ночью. Чтобы обогнуть один водопад, требовалось больше трех суток таких трудов — а водопадов только в этом месте было семь! В последнем из них вода падает не отвесно, а стремительно катится по склону. Слева — пятьдесят метров ревущей воды, справа — на пятьсот метров отвесный обрыв, ниже по течению — больше тысячи порогов, подобных движущимся холмам, окутанным тучами радужных брызг. А с обоих берегов доносятся нечеловеческие вопли людоедов: «Мясо! Мясо!» За период с 23 ноября по 19 января Стенли дал двадцать четыре боя. Ниже водопадов на какое-то время наступила передышка, но увы! Покой недолго улыбался этим людям, которым отовсюду угрожала ужасная смерть. Вскоре надоедливые, ничем не оправданные нападения удвоились — ежедневно и еженощно путешественникам приходилось прорываться сквозь ряды черных демонов. В устье Арувими, большого правого притока Конго, в устье достигающего ширины трех километров, всю экспедицию чуть не перебили. Когда Стенли начал подниматься по Арувими, чтобы осмотреть его берега, как флотилию окружило более двух тысяч оглушительно кричавших вооруженных негров на пятидесяти четырех пирогах! — Держитесь до последнего! — крикнул Стенли своим людям. — Не тратьте даром патронов! Спасти нас могут только ружья. Ну, вперед, ребята! К счастью, тогда занзибарцы уже закалились в боях. С поразительным хладнокровием они подпустили неприятеля на пятьдесят метров и открыли адский огонь. Целый ураган свинца обрушился на ряды черных тел в лодках. Враги дрогнули и бежали, в панике высадившись на берег и затворившись в своих деревнях. Стенли в праведном гневе погнался за ними на берег, ворвался в деревню, разграбил ее, перебил всех туземцев и завершил кровавый день огромным пожаром. Только три десятка человек Стенли избежали ранений. В земле бангала пришлось дать еще одно сражение, самое, пожалуй, тяжелое, но уже последнее — тридцать второе по счету! В тот день путешественник впервые столкнулся с неграми, использующими для ружей конические, а не круглые пули. Это было, конечно, гораздо опаснее, но вместе с тем означало, что европейские фактории уже недалеко: только там есть огнестрельное оружие и порох, которые купцы безрассудно продают дикарям. Экспедиция подошла к большому, подобному озеру разливу Конго (его площадь около шестидесяти квадратных километров), названному позднее Стенли-Пул[42]. Там больше не было внезапных нападений и беспощадных боев: торговля с европейскими колонистами цивилизовала туземцев, и они уже не бросаются с яростью, как охотники на добычу, на всех чужаков. Конго опять встретило путешественников ужасными водопадами. Снова приходилось перетаскивать лодки; туземцы больше не нападали на отряд, но приходилось еще труднее, потому что сама местность была труднопроходимой — лодки в обход водопадов тащили не просто по лесам и болотистой пойме реки, но еще и через высокие горы. Невероятная тяжесть! Именно здесь, совсем близко от желанной цели, видневшейся в тумане, как Земля Обетованная, погиб последний из белых товарищей Стенли — несчастный Френсис Пококк. Бедный юноша свалился в порог Массасса; он прекрасно плавал, но бездонный водоворот все равно поглотил его. Казалось, что злой рок преследовал всех европейцев, решившихся попытать удачу вместе со Стенли. Через несколько дней путешественник бросил на произвол судьбы «Леди Алису»; он устал постоянно бороться с рекой и теперь был уверен, что европейские поселения уже совсем близко. Славное судно, пересекшее всю Африку, рухнуло в водопад Иссангила, и обломки его скрылись на сорокаметровой глубине. Экспедиция продолжила путь берегом и попала в очень бедную страну, где земля почти не обрабатывалась; местные жители признавали в качестве средства обмена только ром! Не правда ли, оригинально: требовать ром у людей, пересекших Центральную Африку… Подходя к порту, путешественники почти буквально умирали от голода. Физические силы Стенли подошли к концу — но не душевные. Он написал на трех языках послание о помощи, адресованное первому встречному европейцу, и послал трех самых крепких людей вниз по берегу, насколько хватит им сил. Посланные возвратились вместе с агентами фактории Бома и доставили провизию. Экспедиция была спасена! Девятого августа 1877 года, через девятьсот девяносто девять дней после выхода с Занзибара, Стенли достиг западного берегаАфрики. Он решил одну из величайших географических проблем XIX века — проследил течение Конго. Но какой ценой! При выходе с Занзибара караван насчитывал четырех европейцев и триста шестьдесят шесть чернокожих. К Атлантическому океану вышло сто девять человек, и из них лишь один белый — Стенли!
ГЛАВА 3
Международная африканская ассоциация. — Бельгийское Конго. — Эмин-паша. — Вверх по Арувими. — Майор Бартлот. — Возвращение Эмина.Когда Стенли шел с боями вниз по Конго, бельгийский король Леопольд II созвал 12 сентября 1876 года в брюссельском дворце съезд путешественников и ученых. На нем была создана Международная африканская ассоциация, имевшая целью распространение цивилизации в неисследованных местах варварской Центральной Африки, для чего предполагалось создать целую сеть научных и благотворительных учреждений. Большинство цивилизованных стран откликнулось на этот призыв; исключением, конечно, была Англия, не желавшая терять свободу действий и возможность при удобном случае оставлять за собой любые земли. Программа была, бесспорно, прекрасна — проста и гуманна. Умиротворить вечно воюющие племена, излечить чудовищную язву рабства, принести черным братьям неоценимые преимущества нашей цивилизации не только в виде пороха и алкоголя — как могло это все не привлечь выдающихся личностей, составивших исполнительный комитет! Францию, в частности, там представляли господа де Катрфаж, Анри Дювейрье и адмирал Ла Ронсьер де Нури. Отважные бескорыстные путешественники бросились, следуя примерно путем Камерона, в те места, которые следовало взять под европейскую опеку, — и… Это все продолжалось примерно три года. Затем в один прекрасный день, в декабре 1879 года, ассоциация стала попросту Комитетом по изучению Конго — заурядным, хоть и очень богатым, коммерческим предприятием под управлением бельгийского короля. Нечего и говорить, что наши знаменитые соотечественники оставили ассоциацию после первого же нарушения ее программы. Зачем было новоявленному комитету брать на себя риск малодоходных, а то и вовсе убыточных дальних экспедиций? Перед европейцами уже лежал бассейн недавно открытой Стенли великой реки, где они могли найти экзотику, пленяющие и едва разведанные богатства! Старый путь с Занзибара к Великим озерам немедленно забыли. Новое коммерческое общество, остановив свой выбор на Конго, назначило Стенли генеральным агентом комитета, наделив его всеми полномочиями для обустройства и эксплуатации края. Во Франции почти не заметили, какая опасность создавалась для нашей торговли и политического влияния в этих местах, и не оценили важности предприятия. Цель у Стенли была простая: сделать главным путем для торговли с Центральной Африкой вместо реки Огове — Конго, разорить наш Габон и предать забвению открытия великого нашего путешественника Саворньяна де Бразза[43]. У Стенли здесь был двойной интерес: он удовлетворял свою нелепую, стойкую и безрассудную ненависть к Франции (а ведь она приветствовала его!) и сторицей умножал богатства Комитета. Займи он первым судоходную часть Конго — лежащее выше последних водопадов озеро, известное как Стенли-Пул, — и с влиянием Франции на западе Экваториальной Африки было бы покончено. Скоро мы прочтем описание путешествий де Бразза и увидим, при помощи каких чудес душевной энергии отважному нашему офицеру удалось, опередив Стенли, приобрести для Франции правый берег великой реки и отбросить границу бельгийских владений за Конго. Увидим мы и то, до каких смешных непристойностей по отношению к сопернику дошел славный спаситель Ливингстона, какую мелочную ревность и в каких нелепых выражениях выказал столь заслуженный человек. Пять лет Стенли непрерывно работал над созданием новой колонии[44], посвятив всего себя успеху этого дела. Все совершалось мирно, чего никто не ожидал, зная характер Генри Мортона и его прежние отношения с туземцами. Как ни странно, Стенли, столь дурно встреченный местными жителями во время первого путешествия, на сей раз обошелся без единого сражения. Собственно, эта экспедиция даже и не была путешествием, путешествием в неизведанное, не изобиловала, как прежние, волнующими эпизодами и важными открытиями — это было, как мы уже сказали, просто коммерческое предприятие. К тому же путешественник, в прошлый раз штурмовавший великую реку на утлой «Леди Алисе», теперь имел флотилию стальных пароходов. Он шел завоевывать новый мир на деньги бельгийского короля во главе целой армии занзибарцев, хауса[45] и кабинда[46]. Здесь, как никогда, этот авантюрист, кондотьер, безродный наймит, служащий тому, кто больше заплатит, оказался в своей стихии. Больше нечего сказать об этом периоде жизни Стенли. Мы и упомянули-то о нем только для полноты картины, чтобы не терять своего героя из виду, пока честолюбие не позвало Генри Мортона на новые подвиги. Теперь необходимо историческое отступление, чтобы в нескольких словах изложить события, ставшие причиной последней, самой нашумевшей экспедиции Стенли. Хедив Исмаил, продолжая политику Мехмеда-Али[47], задумал превратить свое вице-королевство в огромную империю, простирающуюся вплоть до Великих африканских озер. Вероятно, он был для этого слишком слаб и, несомненно, слишком беден. Поэтому в 1879 году хедив был вынужден отречься в пользу Тауфика, над которым европейские державы установили опеку. Через три года разразилось восстание Араби, против которого вызвали все боеспособные войска из Судана. Этой ошибкой воспользовался Махди Мохаммед-Ахмед[48], поднявший против египетского правительства разоренные налогами племена Верхнего Нила, а также работорговцев, поскольку их промысел собирались прекратить. Известно, как Махди начисто разбил и уничтожил в Кордофане[49] египетские войска под командованием англичанина Хикс-паши. Затем англичане одержали слишком легкую победу при Тель-эль-Кебире, над Суданом установили египетский протекторат и борьба продолжилась, но безуспешно. Баркер был жестоко разбит под Токаром[50], и в Хартум послали генерала Гордона, весьма популярного в Верхнем Египте. Гордон был назначен генерал-губернатором Судана, Дарфура и всех экваториальных провинций[51]. Он взял к себе вице-губернатором доктора Эдуарда Шницлера — германского подданного еврейского происхождения. Родился доктор Шницлер в 1840 году, служил в Армении, Сирии и Аравии. Он взял себе имя Эмин-Эффенди Хаким (верный доктор) и по представлению Гордона был назначен губернатором Экваториальной провинции (по-арабски: Хаталь-Астива) с титулом бея. Что случилось затем — известно: Хартум пал[52], Гордон погиб, махдисты, одержав ряд побед, продвинулись до Газельей реки (Бахр-эль-Газаль)[53], за которой начиналась провинция Луптон-бея. Только Эмин сопротивлялся сподвижникам Махди; сосредоточив свои войска на юге — сперва в Лодо, затем Уаделаи, — он дожидался там, чем все закончится. События обернулись для него благоприятно. Сначала Эмин подавил бунт туземцев бари[54], убивших Линана де Бельфона, покорил динка[55] и чиров, затем, вернув оставленные на время посты Регах и Ладо, успешно утвердил власть на большей части вверенной ему провинции. Так продолжалось довольно долго. Эмин держался, но запасы его постепенно оскудевали. Он ожидал в Уаделаи помощи или хотя бы инструкций, после чего намеревался отправить домой через Уганду или Карагве чиновников и египетских солдат (в случае, если Судан будет безвозвратно потерян), а сам готов был остаться, пока правительство не «уведомит его о своих пожеланиях». Впрочем, Эмин давал понять, что войска трудно будет уговорить уйти из Судана — «даже ему самому эта мысль противна». С другой стороны, он ясно понимал, что без помощи долго не продержится. Еще незадолго перед тем как было решено отправить ему помощь, Эмин считал свое положение совсем не безнадежным: у него было две тысячи превосходных солдат, оружие, боеприпасы, походное снаряжение, амуниция, провиант и все необходимое. Но англичанам, которые пальцем не шевельнули, увидев трагическую гибель Гордона, вдруг пришло в голову все бросить и побежать спасать Эмина. Господину Юнкеру[56] — одному из участников кошмарной хартумской эпопеи — удалось спастись, и он возбудил в британском общественном мнении сочувствие к осажденным в Уаделаи. Вскоре в Лондоне был создан комитет — «Эмин-паша релиф экспедишн комити» — под председательством мистера Маккиннона[57], директора Британско-Индийской судоходной компании, и вскоре по подписке были собраны необходимые средства — около пятисот сорока тысяч франков. Оставалось найти начальника экспедиции; кандидат оказался один — Генри Мортон Стенли. Правда, в широкой публике поговаривали, что знаменитый путешественник устал и подобная воинственная натура не годится для спасательной миссии. Это не возымело действия — Стенли был назначен комитетом единодушно. В это время он выступал с публичными лекциями в Америке и его вызвали телеграммой. Генри Мортон немедленно согласился, бросил чтения, сел на пароход, 23 декабря 1886 года прибыл в Саутгемптон и поспешил в Лондон, где сэр Уильям Маккиннон с нетерпением ожидал его. Каждый вправе спросить: если в Англии, где так редки бескорыстные акции, развивается такая деятельность, собирается по подписке значительная сумма, снаряжается экспедиция и к тому же интересы страны представляет не кто иной, как Стенли, — какие за этим стоят материальные соображения? Что за дело себялюбивому Альбиону[58] до немецкого еврейчика Шницлера, потерявшегося где-то на южной оконечности озера Альберта с горсткой суданских негров? За этим действительно кое-что крылось. В декабре 1887 года — через девять месяцев после отправления экспедиции Стенли — стало известно, что английская компания «Бритиш-Ист-Африкен ассошиэйшн» во главе с тем же самым мистером Уильямом Маккинноном заключила договор с занзибарским султаном Брагашем бен Саидом, уступавшим Англии суверенитет над частью своего султаната — 350 километров побережья от Ванги до Виту с портами Момбасой и Малинди. А от Момбасы до Уаделаи по прямой линии 1200 километров. Конечно, англичане не просто так заняли восточное побережье Африки. Стало очевидно, что Британия собирается проторить себе широкую дорогу к озеру Виктория и создать обширную колониальную империю, с одной стороны выходящую к Индийскому океану, с другой — достигающую плодородных нильских стран. Вот как просто все объясняется. В Англии, как нигде, умеют из всего извлекать пользу. Впрочем, уже в сентябре того же года не оставалось никаких сомнений, что именно заставляет Англию заниматься делами в центре Африки. Вот как высказывалась на этот счет одна из крупнейших немецких газет: «В Германии не поняли еще настоящей цели экспедиции Стенли. В сущности, цель у нее только одна: утвердить английское господство в экваториальных областях Египта и предотвратить попытки их аннексии со стороны Франции или других держав. Опираясь на соглашения, заключенные с Германией, Англия не встретит серьезных препятствий для создания колониальной империи, которую ожидает самое блестящее будущее». Позже мы увидим, насколько серьезны такие заявления со стороны немцев — тех самых, что завладели Эмином и аннексировали Занзибар. Прежде всего следовало решить проблему выбора маршрута. Путь через озера для путешественников был закрыт — там туземцы враждовали с белыми. Стенли выбрал путь по Конго — длиннее, но, как казалось, безопасней. В помощники себе он взял инженер-лейтенанта Стэрса[59], кавалерийского капитана Нельсона, пехотного майора Бартлота[60], господ Джефсона, Трупа, Бонни, Джемсона[61] и доктора Пэрка[62]. Сборы Стенли провел как можно быстрее, обращая особое внимание на вооружение: с ним было не менее шестисот карабинов «Винчестер» и «Ремингтон», тысяч двести патронов, две тонны пороха и пулемет «Максим». Затем американец направился в Каир и получил от хедива фирман[63] с инструкциями для Эмина. Вице-король разрешил Стенли нанять шестьдесят черных добровольцев и вести экспедицию под египетским флагом. 6 февраля 1887 года Стенли отплыл в Аден, где майор Бартлот уже вербовал сомалийцев, а оттуда направился на Занзибар. Там случилось примечательное событие. Уже известный читателям, воспетый центральноафриканскими трубадурами за могущество и доблесть, Типпу-Тиб (собственно, Хамед бен Мохаммед: Типпу-Тибом его прозвали из-за мигающих глаз), богатейший арабский купец, считавшийся вассалом Баргаша бен Саида, на деле — полновластный государь Маньемы, — признал Стенли своим начальником и согласился участвовать в его экспедиции. Двадцать второго февраля 1887 года вся экспедиция — европейцы, арабы и негры — сели на пароход «Мадура» Британско-Индийской компании. 18 марта люди, багаж и экипировка прибыли в порт Банана в устье Конго. На другой день Стенли отправился в Матади[64]. 21 числа первая колонна сошла там на берег и двинулась к Леопольдвилю. После долгих препирательств с американской миссией на озере Стенли удалось кое-как отправить экспедицию на пароходах, принадлежащих Независимому государству Конго, баптистской[65] миссии и американской миссии. Тридцать первого мая эскадра достигла страны бангала. Типпу-Тиба Стенли нанял главным образом для охраны тыла, в районе водопадов, от работорговцев. Поэтому араба отправили на заранее подготовленную стоянку, и американец строго-настрого приказал поддерживать там порядок и со временем прислать носильщиков для главных сил экспедиции. Типпу-Тиб с сотней человек отправился на пароходе «Генри Рид», а Стенли продолжил свой путь: достиг реки Арувими и несколько дней шел на пароходах вверх по ней. Восемнадцатого июня Генри Мортон бросил якорь у Ямбуйи[66] перед порогами, которые сам же открыл в 1883 году. Пароходы больше не требовались, и их отправили назад в Леопольдвиль, оставив лишь большую стальную шлюпку «Аванс» (в разобранном виде доставленную из Англии). В Ямбуйе Стенли устроил укрепленный лагерь, где разместил большую часть багажа, провизии и снаряжения, прибывших с пароходами, — дальше идти приходилось пешком и перенести все это не хватало рук. Склад Стенли доверил охранять майору Бартлоту, с которым оставался еще мистер Джемсон и 257 солдат. При появлении шестисот носильщиков, обещанных Типпу-Тибом, майор должен был идти следом за Стенли, если же араб не сдержит слова — переносить груз из лагеря в лагерь по частям. Само собой разумелось, что в последнем случае все это займет огромное количество времени и труда и Стенли повстречает майора уже на обратном пути из Уаделаи — главной цели экспедиции. Двадцать восьмого июня Стенли отправился в путь к озеру Альберта; с ним были капитан Нельсон, лейтенант Стэрс, доктор Пэрк, мистер Джефсон, 414 солдат и 54 слуги[67]. Расстояние от Ямбуйи до озера Альберта определяется примерно в семьсот километров. Это, конечно, значительная дистанция, но вполне преодолимая для человека, у которого, как у Стенли, есть многочисленный, хорошо вооруженный и обстрелянный отряд. Делая по пятнадцать километров в день, весь путь можно пройти за пятьдесят пять дней. Наши путешественники — де Бразза, Крево, Неис, Жиро, Шаффанжон, Кудро — с несравненно меньшими силами, в столь же неисследованной и неприветливой — возможно, еще более опасной — местности проходили не меньше. Температура была 30° в тени. Караван шел по торной тропинке, время от времени уходившей в густые заросли. Туземцы втыкали в тропинку острые бамбуковые палочки, чтобы носильщики напоролись на них босыми ногами, — и разбегались прочь из деревень. Несколько раз отряд обстреляли из-за деревьев — по счастью, стрелы не причинили вреда. Шлюпку спустили на воду и погрузили в нее больных и раненых, здоровые же продолжали идти берегом. 5 июля дневали в Буканде и немного запаслись провиантом. 10-го пришли к порогам Гуэнгуэрэ. На берегу у порогов стоят семь больших деревень, оказавшиеся безлюдными; там было много зерна, но ни куска мяса. 19-го шлюпка застряла в верхней части порога, и пришлось расчищать ей проход. В Марири кое-что случайно выменяли у довольно-таки расточительных туземцев. 25 июля экспедиция столкнулась с роем разъяренных ос, укусы которых очень болезненны. 4 августа пришли к водопадам Панга. Восьмого числа тянули лодки бечевой. С 8 по 13 августа попадались одни пустые хижины. «Тринадцатого августа, — пишет Стенли, — я пришел в Ависиббу. Туземцы решительно не хотели меня пропускать и убили отравленными стрелами пять наших людей[68]. Лейтенант Стэрс получил тяжелую рану в трех сантиметрах под сердцем. Он страшно страдал и встал на ноги лишь через месяц». Двадцать первого августа умерли двое раненых и четверо больных дизентерией. Тридцатого дошли до лагеря Угарруэ[69], который в 1860–1863 годах прислуживал Спику и Гранту. Стенли договорился с неграми и разбил для отряда лагерь на берегу Арувими, которая здесь называется Итоми[70]. Пятьдесят шесть больных были оставлены на попечение Угарруэ, который должен был содержать их из расчета двадцать пять франков[71] на человека в месяц, пока не явится майор Бартлот. Пятнадцатого сентября Стенли отправился дальше[72], избавившись от больных и будучи спокоен за тыл, обеспеченный майором, хорошо отдохнул и запасся провизией на несколько дней. Поскольку все больше людей убегало с багажом и оружием, 20 сентября Стенли пришлось для примера повесить пойманного беглеца. К 30 сентября провиант катастрофически иссяк. 4 октября голод усилился, три человека сбежали, двое умерли от дизентерии. 7-го — в отряде еще пятьдесят больных, неспособных передвигаться; провианта нет. Стенли пришлось оставить больного капитана Нельсона с пятьюдесятью двумя больными, восемьюдесятью тюками товаров и десятью лодками (отныне это место стало называться Лагерь Нельсона). 9 октября людям досталось по два банана в день на человека — по десять граммов твердой пищи! 14-го съели по щепотке кукурузной муки[73]. Силы были на исходе, люди ужасно исхудали. 18 числа, когда вся надежда иссякла, экспедиция повстречала маньемов — охотников за слоновьими бивнями, — стоявших биваком возле Ипото; у них было много свежей еды. Охотники запросили втридорога, отряд совсем разорился, но хотя бы раздобыл наконец провизию. 26 октября Стенли уговорил вождей маньемов за некоторую плату отправить тридцать человек на помощь к капитану Нельсону. Вместе с ним отправился Моунтеней Джефсон, и вот в каких волнующих душу выражениях рассказывает он о встрече с несчастным товарищем: «Я спустился с холма к биваку; по дороге не было слышно ни звука — только в одной хижине стонали двое умирающих. Лагерь походил на кладбище. Нельсон сидел один в своей палатке. Мы пожали друг другу руки — и у него вырвалось рыдание. Он совсем обессилел; взор застыл и странно блестел, губы пересохли, глаза были окружены глубокими морщинами. Он сказал мне, что совсем отчаялся, не получая известий, и думал, что с нами стряслось что-то ужасное. Питался он почти исключительно ягодами и грибами, которые слуги приносили из леса. Из пятидесяти двух людей, оставленных ему Стенли, налицо были пятеро — все остальные сбежали или умерли». Стенли договорился с маньемами, как прежде с Угарруэ, что оставит у них больных и раненых. Остался и доктор Пэрк — больные нуждались в его помощи. Так постепенно таял отряд Стенли. Он отправился из Ипото 28 октября — ровно через четыре месяца после выхода из Ямбуйи. Деревни в этих местах стоят на полянах посреди леса, и добраться до них невероятно трудно — кругом неслыханное нагромождение остатков первозданной чащи: повалившихся деревьев, сгнившего хвороста, стволов, сучьев. Люди там едва могут идти и все время спотыкаются, что очень опасно. Маньемы говорили, что рядом есть деревни пигмеев; 31-го Стенли нашел одну из них, но она была пуста. Никто уже не мог сосчитать, сколько прогремело гроз со страшными громами и проливным дождем. 4 ноября экспедиция миновала еще пять заброшенных пигмейских деревень. 9 ноября Стенли и его люди, умирая от голода, добрались до пигмейского лагеря, а оттуда до Ибуири; там туземцы жили в довольстве и встретили путешественников с распростертыми объятиями. Сколько же было еды на этой огромной — пять километров в диаметре — вырубке! «Как мы пировали 10 ноября! — пишет Стенли. — С 31 августа никто из нас не наедался досыта, здесь же — изобилие бананов, бататов, овощей, ямса, бобов, сахарного тростника, кукурузы, дынь; целое стадо слонов численностью с наш отряд в десять дней не сожрало бы всего этого». Тринадцать дней оставались путешественники в этих райских местах, а 24 ноября направились к озеру Альберта, до которого оставалось еще сто пятьдесят шесть километров. На перекличке насчитали сто семьдесят пять человек — со времени выхода из Ямбуйи, то есть за 199 дней, Стенли потерял сто одиннадцать душ![74] Первого декабря с вершины только что открытой горы, названной Пизга, показался район Великих озер. 5 декабря экспедиция вышла наконец на открытое место — с каким восторгом все устремились прочь из опостылевшего леса! 9 числа путешественники вошли во владение могущественного вождя Мазамбуи;[75] тотчас по горам пробежали зычные воинские кличи, созывавшие всех туземцев на бой. Разразилась настоящая битва — и путешественникам досталась в трофей… корова! С самого побережья они не ели жареного мяса… Мощный отпор остудил пыл туземцев; за ночь они одумались и наутро согласились принять обыкновенные подарки — ткани и проволоку, с тем чтобы показать их Мазамбуи. Но тот отверг дары белого человека и официально запретил ему идти дальше. Получив ультиматум, Стенли с обычной решительностью применил силу и два дня неустанно крушил войска Мазамбуи. 13 декабря в половине второго путь был открыт и экспедиция вышла к озеру Альберта под 1°20′ северной широты. 15 числа она достигла поста Кавалли на западном берегу озера. А дальше что? Тут никакого Эмина нет. По суше до Уаделаи не дойдешь, водным путем Стенли тоже не доберется. Послать Эмину депешу, а самому остаться в Кавалли — нечего и думать: прокормиться здесь нечем. Стенли решил покуда вернуться в плодородные земли Ибуири — оттуда он мог отправлять гонцов к Эмину, набрать новых людей, соединиться с теми, кто остался у Угарруэ, и, установив связь с майором Бартлотом, вызвать арьергард. На все это нужно много, очень много времени. Но ведь известно: время и терпение — валюта путешественников… Шестого января 1888 года Стенли вернулся и занялся постройкой удобного, крепко укрепленного лагеря и назвал этот форт Бодо[76]. Затем прошли дни, недели, месяцы… Тем временем явились из Ипото доктор Пэрк и капитан Нельсон с больными. Сам Стенли тяжело заболел и выздоровел только 25 марта. Второго апреля 1888 года ровно в полдень экспедиция вновь выступила к озеру Альберта. 16 числа, находясь в одном дне пути от озера, Стенли получил пакет из черной клеенки. Там оказалось письмо от Эмина, отправленное из Тунгуру[77] 25 марта. Эмин просил Стенли «стоять на месте» и уведомить о своем местонахождении — Эмин туда прибудет сам. Впрочем, спешить ему было, видимо, некуда: лишь 29 апреля он приехал на пароходе вместе с помощником итальянцем Казати. «Я ожидал, — пишет Стенли, — увидеть человека воинственной наружности, высокого и стройного. Явился же, к моему великому удивлению, тщедушный человечек в феске, холеный, в белоснежном, отутюженном и безупречно скроенном костюме. Темная — местами, впрочем, уже седеющая — борода обрамляла лицо венгерского типа, которому очки придавали как бы итальянский или испанский вид. Никаких следов болезней и лишений на этом лице не было — напротив, оно являло телесное здравие и спокойствие духа». Они провели вместе три недели. Спасенный пришел на помощь спасителю: доставил Стенли и его офицерам еду, белье, одежду, обувь и лично подарил Стенли пару туфель. Вспомнит ли Генри Мортон через несколько лет, с радостью сейчас принимая этот подарок взамен старых изодранных башмаков, с каким нелепым презрением он отнесся некогда к славному отряду де Бразза, босиком пришедшего на правый берег Конго? Итак, Стенли убедился, что положение Эмина не так уж и плохо, как предполагали, и к тому же он меньше всего на свете хочет уехать из своей провинции. Увезти Эмина не представлялось никакой возможности — до того ему там оказалось хорошо. Так зачем же тогда эта безумная гонка по лесам Арувими, постоянное напряжение, убитые и умершие от истощения люди? К чему было так надрываться? Так или иначе, но ни убеждения Стенли, ни фирман хедива не смогли склонить Эмина (а ведь он был пашой) оставить свое губернаторство — разве когда-нибудь потом. Разочарованный Стенли отправился назад в форт Бодо, оставив при паше мистера Джефсона — вероятно, на выручку[78], — трех суданцев и трех занзибарцев. Взамен спасенный дал спасителю восемьдесят двух носильщиков[79] и большую охрану. Восьмого июня Стенли вернулся в форт Бодо, где нашел остатки отряда, некогда порученного попечению Угарруэ. Из пятидесяти шести человек уже на месте скончалось двадцать да еще четырнадцать по пути — страшные цифры! Оставшиеся в живых двадцать два человека превратились в калек[80]. К тому же от майора Бартлота уже год не приходили никакие известия. Стенли заподозрил, что произошло несчастье, и счел необходимым вернуться в Ямбуйю — разыскать людей и снаряжение. Он прикинул: сто дней на дорогу туда, столько же на обратную. Двести дней! Если выйти 16 июня, в форт Бодо можно будет вернуться 2 января 1889 года, а к озеру Альберта — 22 января. Для людей, истощенных столь долгой уже борьбой против врагов и с естественными препятствиями, это оказался настоящий подвиг. Стенли совершил его сам, взяв с собою несколько самых сильных. Тяготы пути были невыносимы, мучения ужасны. Не доходя ста пятидесяти километров до Ямбуйи, в деревне Баналии, Стенли нашел-таки остатки своего арьергарда, но в каком состоянии! Майора Бартлота убил один из носильщиков, а весь отряд из двухсот семидесяти человек потерял сто семьдесят. Ситуация сложилась следующая — Типпу-Тиб не выполнил обещания, Бартлоту не хватило решительности, а заменивший его Джемсон умер на обратном пути с водопадов: он ездил туда, чтобы уговорить Типпу-Тиба сдержать слово. Двадцатого декабря, едва не погибнув в Голодном лагере, Стенли возвратился в форт Бодо. Скажем кстати два слова об интереснейшем этнографическом открытии, совершенном Стенли во время потрясающих переходов через джунгли Арувими. Речь идет о кочевом племени онамбути, известном также под именем акка, батва или базунгу. Они поразительно малорослы: их рост колеблется от девяноста двух до ста тридцати восьми сантиметров[81], а вес самого крепкого туземца не превышает сорока килограммов. У них шоколадная кожа, живые глаза, курчавые волосы, крепкая выпуклая грудь, мускулистые, кривоватые ноги и сильные руки; они удивительно ловки. Для своего роста эти гномики очень хорошо сложены; живут они в лесу и питаются дичью, на которую сноровисто охотятся из маленьких луков со стрелами, смоченными в сильных ядах. Селятся они — иногда в огромном числе, по две — две с половиной тысячи душ — возле больших вырубок, на которых живут высокорослые земледельческие племена. Пигмеи — живые, подвижные, гневливые, агрессивные — паразитируют при акка, и последние волей-неволей вынуждены давать им сколько угодно зерна и овощей в обмен на скудные поставки дичи и звериных шкур. Несмотря на малый рост, онамбути все уважают и побаиваются: они смелы, жестоки и расправятся с любым, кто осмелится угрожать им. Вернемся к Стенли. Он обещал быть на озере Альберта 16 января 1889 года — и сдержал слово. В Кавалли он нашел три письма от Эмина и два от Джефсона, из которых узнал о важных событиях, случившихся за время его отсутствия[82]. В египетском военном лагере Дуффилели начался бунт: офицеры Эмина отказались подчиняться начальнику и арестовали его, Джефсона и хотели даже арестовать Стенли, когда тот вернется; причиной мятежа явилось нежелание оставить провинцию. Трудно сказать, что случилось бы дальше, если бы в то же самое время не прибыли три дервиша от Махди с требованием сдачи Эмина. Египтяне и их посадили в тюрьму, но это был не выход. Увидев, что гонцы не возвращаются, махдисты выступили в поход и взяли Реджаф. Бунтовщики пришли в замешательство, выпустили Эмина с Джефсоном и написали Стенли письмо с просьбой простить их и выручить. Генри Мортон очень умело воспользовался этими обстоятельствами: бунтовщикам доказал, что долго им все равно не продержаться, а Эмину доходчиво объяснил, какие проблемы ждут его с махдистами, в любую минуту готовыми напасть на него, и с подчиненными, в любую минуту готовыми взбунтоваться. Стенли говорил, убеждал — и паша согласился следовать за ним. Но сколько же понадобилось для этого красноречия! Эмин до такой степени не хотел быть спасенным, что в самый последний момент Стенли все еще боялся, как бы тот не ускользнул. Но для американца это явилось делом принципа. Эмин должен был непременно ехать с ним — иначе в культурном мире Стенли подняли бы на смех. А когда Стенли чего-то хотел, он своего добивался. Итак, Эмин со свитой присоединился к каравану Стенли, который направился не к Момбасе, в английские владения, а на юг, через неисследованные земли[83]. 11 ноября экспедиция повстречала отряд, который выслала на ее розыски «Нью-Йорк геральд»[84], а 3 декабря триумфально вступил в Багамойо. Все путешествие продолжалось целых тридцать два месяца. Вечером устроили банкет, на котором Эмин выглядел очень слабым и в голове у него, вероятно, несколько помутилось. Он встал из-за стола подышать, неосторожно перевесился через подоконник, свалился с четырехметровой высоты и разбил голову. Два немецких врача объявили его безнадежным, но Эмин — хотя болел долго и тяжело — каким-то чудом все-таки выжил.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строки, которыми Стенли завершил свою книгу, стоит привести дословно: «С того времени немцы присвоили Эмина себе. Мои отношения с начальством в Багамойо становились все напряженнее. В один прекрасный день мой слуга Сели, которого я всегда посылал проведать пашу, вернулся и сказал: если он еще раз там появится — с ним тут же разделаются. С тех пор я ни единой весточки не получал от Эмина. Но когда я заканчивал эту книгу, до меня дошли известия, что он поступил на службу в германскую администрацию Восточной Африки. Похоже, он быстро забыл друзей по Экваториальной провинции…»
ГЛАВА 4
АЛЬФРЕД МАРШ. МАРКИЗ ДЕ КОМПЬЕНЬ
Габон. — Огове. — Господин Бувье. — Два натуралиста. — Полтора года лишений. — Результаты.Перед нашими глазами сейчас предстанут два путешественника по призванию — из тех, кто почти без средств, посторонней помощи, лишней рекламы, обладая лишь отвагой и энергией, с восхитительной скромностью совершили великие открытия. Альфред Марш еще был не старым человеком — он родился в 1844 году, — но оказался среди французских путешественников одним из старейших. Беспощадная смерть яростно набрасывается на самых благородных и как бы находит удовольствие в том, чтобы среди них собирать свою жатву. Как у веры, так и у науки есть свои мученики! До Марша смерть пока не добралась, ведь она постоянно охотится за ним вот уже двадцать пять лет. Маркиз де Компьень на два года моложе; но он трагически погиб в Каире в феврале 1877 года, не успев совершить географические открытия, которые можно было ждать от подобной своеобразной и симпатичной личности. В постоянно расширяющейся галерее великих имен первооткрывателей Черного континента Марш и Компьень находятся потому, что серия «Приключений, испытаний и открытий путешественников» начинается с описания путешествий по Экваториальной Африке, а оба первопроходца тесно связаны с историей Французского Конго. Позже мы еще встретим Марша в Малезии:[85] он провел там пять лет, неутомимо собирая новые материалы, и совершил множество открытий. К 1872 году Марш уже имел опыт путешественника — в его послужном списке числились трудные путешествия в Малакку, Кохинхину[86] и Сенегамбию[87]. Компьень познакомился с суровой походной жизнью в течение двух лет, проведенных в Техасе, Флориде и Калифорнии. Теперь они решили попытаться проникнуть в Центральную Африку по Огове — большой реке в нашей экваториальной колонии Габон. Но в те далекие времена путешественникам уделялось мало внимания. Так, по крайней мере, было во Франции: другие державы давали исследователям крупные кредиты, но наше правительство было скупым до чрезвычайности. Маршу и Компьеню вдвойне не повезло: власти тогда всерьез собирались уйти из Габона; Англия и Германия точили зубы на эту колонию. Но наши друзья оказались хорошими натуралистами и неутомимыми охотниками. Они решили сами заработать на задуманную экспедицию и с этой целью обратились к выдающемуся парижскому естествоиспытателю и путешественнику господину Бувье[88] за кредитом, подряжаясь доставить ему большие редкие зоологические и ботанические коллекции. Тот одобрил их план и дал деньги. В конце года Марш и Компьень отправились в путь и 6 января 1873 года сошли на берег в Либревиле, тогда мало кому известном. Да и название реки Огове не будило никаких воспоминаний среди тех, кого обычно называют «широкой публикой», хотя в географическом мире реку знали. Между тем в устье она чрезвычайно полноводна, а ширина дельты не менее ста миль. Но Огове никого не привлекала, и прежде рекой никто не занимался. Только в 1856 году Поль де Шайю собрал свидетельства местных жителей о ее существовании. В 1867 году офицеры французского флота Серваль и Эме[89], один за другим, увидели эту реку: первый с берега, второй немного поднялся вверх по ней на пароходе «Пионер». Это было настоящее открытие, смутившее ученое общество и породившее множество новых гипотез. Такая большая река должна была вытекать из огромного внутреннего водоема. Сами негры подтверждали это: рабы из далеких-далеких краев, рассказывали они, видели Восточное море, все усеянное большими кораблями… Что ж это за море, если не Великие озера, открытые Ливингстоном, Бейкером и Спиком? Лучшие умы утверждали: Конго и Огове должны брать начало в одних и тех же горах. К тому же после первого путешествия Стенли и исследований доктора Швайнфурта общее мнение стало склоняться к тому, что большая река, открытая Ливингстоном и принятая им за Нил, на самом деле — исток большой реки, текущей на запад и впадающей в Атлантический океан, скорей всего — Огове или Конго. Так или иначе, все соглашались, что для проникновения в сердце Африки прежде всего следует изучить Огове. При подобных обстоятельствах Марш и Компьень решили приступить к решению этой великой проблемы и подниматься по неисследованной реке до тех пор, пока их не остановит какое-нибудь непреодолимое препятствие. Едва прибыв в Габон, друзья увидели, что перед ними стоит много препятствий. Они узнали, что верховья Огове на значительном протяжении перекрыты порогами, водопадами и водоворотами, преодолеть которые можно только на специально приспособленных лодках; к тому же вдоль реки местами живут людоеды, враждующие с приморскими племенами. Марш и Компьень решили все же идти вперед, но оказались вынуждены остановиться в Пуэнт-Фетиш и терпеливо ждать, когда большое половодье позволит им двинуться вверх по реке. Тем временем они знакомились с местными обычаями, завязали отношения с главными вождями и добились горячей любви туземцев. Притом они не забывали о благородном друге господине Бувье. В январе 1874 года настал долгожданный паводок, благодаря которому путешественники легко преодолели пороги и двинулись по верхней части Огове, называемой Оканда, всего на четырех пирогах с экипажем из сенегальцев и иненга. Но когда они достигли земель племени оката, им пришлось, чтобы обогнуть пороги, вести с местным правителем нескончаемые переговоры. Естественно, дикий монарх выказал ненасытную алчность. Марш и Компьень были слишком бедны, чтобы уступить; у них едва хватало средств, чтобы прокормиться самим и платить гребцам. Пришлось прорываться на свой страх и риск. На протяжении двухсот километров, все время преследуемые туземцами, они миновали множество порогов и достигли наконец земли апинджи, где пороги кончались. Друзья уже радовались, что преодолели все преграды, но тут начались земли озейба — алчных, свирепых людоедских племен. Когда они с остервенением напали на путешественников, перегородив реку пирогами и осыпая их тучей стрел, лодочники отказались идти дальше. Пришлось повернуть назад. Обратный путь оказался ужасным. Путешественники болели, умирали от голода, были вынуждены либо все время отстреливаться, либо днем и ночью лежать на дне пироги, под страхом смерти не смея сойти на берег. Так они вернулись в земли оканда, потом в Пуэнт-Фетиш и, наконец, в Габон, где им оказали необходимую помощь в военном госпитале. Мы лишь в нескольких строчках имели возможность рассказать об этом путешествии. Читатель поймет, какие лишения перенесли наши натуралисты, узнав, что полтора года в необычайно нездоровом климате они пили только воду, не имели ни зерна, ни овощей, а из мяса — только ими самими убитую дичь. Все это время в среднем три дня в неделю они страдали от приступов тропической лихорадки, неизменно начинавшихся страшной рвотой — они проглотили семьсот пятьдесят граммов хинина! Последние полгода первооткрыватели шли босиком. После поражения от людоедов много недель подряд не могли прилечь одновременно, поскольку люди им не повиновались и требовался постоянный надзор; наконец, ноги их по окончании путешествия были покрыты такими глубокими язвами, что туда можно было засунуть палец. Когда же путешественники вернулись, Географическое общество по представлению знаменитого и достопочтенного Мальтбрена[90] удостоило их серебряной медали. Свой доклад Мальтбрен заключил такими словами: «Мы выражаем признательность господам Альфреду Маршу и Виктору де Компьеню за то, что они, невзирая на все трудности и непрестанные болезни, два года без всякой коммерческой цели провели в тяжелейших условиях Экваториальной Африки, изучили все племена, населяющие Габон и берега Огове, основательно исследовали малоизвестные прежде реку Нгуние, озера Онанге и Азинго, а также совсем неизвестные реки Акойо и Акалои, озера Огемовен и Обанго; водрузили французское знамя за водопадами Самбы в стране ивейа, где не ступала прежде нога белого человека. Наконец, мы выражаем им признательность за то, что посреди диких племен они всегда своим образом действий оставляли память о гуманности и честности, благодаря чему путешественники — прежде всего французские, которые придут вслед за ними, — смогут получить в этих местах благожелательный прием».
ГЛАВА 5
САВОРНЬЯН ДЕ БРАЗЗА
Его призвание. — Начало службы. — Путешествие по Огове. — Разочарование. — На Алиме. — В пяти днях пути от Конго.Если кто действительно имел пламенную страсть к путешествиям, так это, бесспорно, де Бразза, доблестный офицер нашего морского флота. Господин де Бразза родился 26 января 1852 года. В 1868 году — шестнадцати лет от роду — он учился в морском училище в Бресте и уже тогда мечтал о неизведанных странах. В это время ему и попалась в «Морском и колониальном журнале» статья об экспедиции господина Эме, первым поднявшегося на канонерке «Пионер» по Огове до устья Нгуме. Статья совершила переворот в душе юноши — с той поры он обратился мыслью к берегам рек со странно звучащими названиями. И тогда юный де Бразза решил — ничто не могло поколебать его решимости — он будет исследователем этих земель. В 1870 году он закончил училище и был зачислен гардемарином на одно из судов эскадры в Северном море. После франко-прусской войны де Бразза участвовал в подавлении восстания арабов, в 1872 году был назначен адъютантом при адмирале Кийо, отправлявшемся на корабле «Венера» в плавание через Сенегал, Габон, Кейптаун и Южную Америку. В июле 1872 года фрегат бросил якорь на габонском рейде. Мечта молодого офицера о приключениях уже давно обгоняла бег корабля. Он завороженно глядел на обетованную землю исследователя, испещренную на карте белыми пятнами, от которых в восторге бьется сердце каждого прирожденного путешественника. Плавание «Венеры» продолжалось два года. Де Бразза чувствовал, что все это время страсть к исследованиям только увеличивалась. В 1874 году он вернулся во Францию, раз за разом обращался в министерства общественного образования, иностранных дел, коммерции и добился наконец скудной субсидии в десять тысяч франков плюс годовое жалованье авансом от морского министерства. Больше ничего французское правительство для будущего основателя Французского Конго, отправлявшегося ныне на Огове, сделать не могло. Вместе с де Бразза отправились доктор Баллэ, только что получивший диплом врача, и Альфред Марш, полгода назад вернувшийся из своей славной экспедиции вместе с маркизом де Компьенем. Министерство разрешило прикомандировать к экспедиции дюжину сенегальских стрелков, вооруженных ружьями системы «Гра»[91], и молодого флотского старшину Амона. В сентябре 1875 года де Бразза прибыл в Габон. Ему надо было купить лодки, нанять гребцов, причем большая часть денег выдавалась вперед, заплатить по счетам за провиант… Средства были уже давно на исходе, с покупкой вещей для обмена с туземцами кредит исчерпан, но де Бразза не унывает. Он без колебаний подписывает в Габоне вексель, по которому родные становятся поручителями за все его имущество, — иначе говоря, с легкой душой закладывает личную собственность ради общего дела. Третьего ноября пароходик «Марабут» отчалил от габонской пристани и направился к Ламбарене — последней европейской фактории в низовьях Огове, километрах в двухстах сорока от побережья. На его борту находились де Бразза, Марш, Баллэ, Амон, двенадцать сенегальцев, вся провизия и багаж. Начиналась экспедиция крайне неудачно: едва ли может разом случиться столько несчастий, как у де Бразза с товарищами. Кое-как из Ламбарене добрались до Самкиты, но там пришлось оставить несколько ящиков багажа. Лодочники из племени бакала, будучи завзятыми ворами, тащили без зазрения совести все, что плохо лежит, нанося большой ущерб экспедиции. В завершение бед, европейцев, еще не привыкших к климату, сразила жесточайшая болотная лихорадка. Когда в феврале 1876 годапутешественники добрались до земель апинджи, лодки перевернулись на порогах. Все ящики оказались выброшены на скалы или смыты волнами; барометры, хронометры и прочие инструменты либо сломались, либо разбились; все бумаги, книги и записи утонули. А то, что спаслось от гибели на реке, разграбила орда туземцев. Из Самкиты в поселок апинджи Лопи доставили несколько новых ящиков. Де Бразза устроил в Лопи резервный склад на случай какой-либо новой беды. К июлю экспедиция поднялась по Огове на шестьсот километров от устья. Де Бразза отправился дальше по течению, а Марш предпринял отважную разведку Офове — притока Огове; там он встретил племя пигмеев ростом не выше полутора метров, о которых сообщал уже Шайю. Соседнее с ними племя озьеба — людоеды, но бесстрашный Марш направился в их земли, чтобы найти истоки Уфуэ. Когда подошли к концу припасы и истек срок, предоставленный Маршу начальником экспедиции, он вернулся в Лопи и встретился с де Бразза. Тот был еле жив от малярии, но шел на лодке вниз по течению навстречу «Марабуту», посланному за провиантом. Неутомимый Марш покамест отправился в земли адума и обамба, исследовал реку Лекеле и остался ожидать товарищей, проведя почти в полном одиночестве в неисследованных областях около полугода. Де Бразза вернулся к океану и действительно нашел там провиант, доставленный пароходом. Не теряя ни минуты, он стал вербовать носильщиков, но сенегальцы запросили такую цену, что наш герой предпочел зафрахтовать буксир у одного европейского купца по фамилии Шмидт и с его помощью доставить грузы рекой на барже. В первый же день буксир напоролся на дерево и так сломался, что дальше не смог идти. Одним словом, дела шли до того скверно, что лишь 1 января 1877 года де Бразза добрался назад и встретил Марша, который находился в земле оката и был близок к гибели, нуждаясь буквально во всем. Когда прибыл начальник экспедиции с подкреплением, оката перешли от открытой войны к мелким гадостям, на которые они оказались большие мастера. Если эти добрые дикари видят, что у белого человека есть чем поживиться, они тут же обдирают его как липку: начинаются бесконечные придирки, ненасытные требования, непрестанные нарушения соглашений. Поскольку после смерти царька Эдиле эти места оказались под властью множества мелких деспотов, приходилось иметь дело с каждым из них. То они обещали дать гребцов и нарушали обещание, даже не потрудившись придумать какой-то предлог, то жаловались на все и всех, изобретали несуществующие причины, переходили всякую меру в претензиях — в общем, вели себя, как лукавые капризные дети, лишь бы только найти предлог вымогать новые подарки. Короче говоря, они из кожи вон лезли, изобретая всякие хитрости, но вывести де Бразза из равновесия им не удавалось. Нет для путешественника испытания тяжелее, чем видеть, как во всяких глупых пустяках протекают дни, недели, а подчас и месяцы! В конце концов де Бразза с товарищами все преодолели. Соглашение заключено; маленькая флотилия отправляется в путь. Ее гребцы очень довольны: они ведь содрали с белых жалованье вдесятеро больше настоящей цены. Но вот экспедицию со всех сторон окружают боевые пироги и решительно перегораживают путь по реке. Многие не рассуждая вступили бы в бой. Как разнес бы какой-нибудь Стенли толпу врагов из скорострельных винтовок! Де Бразза хладнокровно и невозмутимо вступил в переговоры — осведомился, чем вызвана агрессия. Оказалось, к его великому изумлению, что начальник отряда сенегальцев злоупотребил властью и похитил женщину из племени оката. Последним это, естественно, не понравилось, и они сочли своим долгом отомстить. Узнав истинную подоплеку агрессивности африканцев, де Бразза объявил туземцам, что не боится их угроз, но велит вернуть женщину, потому что этого требует справедливость. Один из сенегальских стрелков уже готовился исполнить приказание, но их командир выхватил нож и замахнулся на де Бразза, который без малейшего колебания велел заковать мятежника в кандалы. Туземцы поразились: белый вождь так любил справедливость, что и своих людей готов был наказать. Для негров это совершенно необычно: у них ведь нет закона, кроме произвола и каприза сильнейшего. И нет сомнения, что это свидетельство твердости, проявленное после столь великого терпения в безнадежном положении, показало туземцам — при необходимости белые люди умеют наказывать, и сурово! Экспедиция отправилась дальше. Она шла на одиннадцати лодках, и ее путь лежал в страну апинджи, где только что уже побывал Альфред Марш. Это оседлый, трудолюбивый и миролюбивый народ; они собирают каучук, сеют индийскую коноплю, арахис и злаки. Есть у них и зачатки промышленности: на продажу лепятся горшки, ткутся грубые ткани. Второго февраля, вечером, впереди показались пороги Этанша. — Хозяин, — сказал начальнику главный гребец, — можно обойти пороги по самой реке вдоль правого берега и зря не вытаскивать груз. Но здесь кругом наши враги пахуины[92], бандиты и грабители; они непременно нападут на нас. — Это не страшно, — ответил де Бразза. И немедленно приказал сенегальцам идти берегом вдоль реки, прикрывая лодки и держа неприятеля на расстоянии. Так и сделали. К несчастью, лоцман, проводивший большую флагманскую пирогу, где находился де Бразза, плохо знал фарватер и завел судно меж камней. Пирога попала в водоворот и затонула; люди и груз оказались в воде. Их стали спасать, но в этот момент послышалась громкая ружейная пальба: пахуины, пользуясь темнотой, напали на экспедицию и захватили весь груз с затонувшей лодки. Лишь поздняя ночь заставила разбойников прекратить стрельбу и убраться восвояси. Несчастные путешественники в изнеможении вылезли на берег и устроились на ночлег, а неутомимый де Бразза, не помышляя об отдыхе, приводил в порядок бумаги и записи, донельзя перепутанные во время крушения. Тут прибежал часовой-сенегалец и объявил, что одну из пирог унесло и потащило на камни. На ней находился последний запас экспедиции — сорок два ящика с ценным грузом; пирогу следовало спасти во что бы то ни стало. Вне себя от ужаса, де Бразза бросился в темноте искать пострадавшее судно, быстро спустился вниз по реке и через три часа достиг места, где река зажата меж высокими скалами. Там он остановился, развел большой костер и всю ночь всматривался в бушующие волны: не несут ли они его пирогу. Когда рассвело, путешественник был вознагражден за труды — пирога обнаружилась в полукилометре от де Бразза. Лодка застряла на мели в укромной бухточке между скал; с ней ничего не случилось — даже водой не залило. После многих приключений, одно опасней другого, многих приступов лихорадки и кораблекрушений экспедиция дошла до Лопи, где пополнила запасы и насладилась по-настоящему заслуженным отдыхом. Из Лопи де Бразза направился в землю адума, где до него не бывал ни один европеец; в дороге путешественников ждало множество новых опасностей и трудностей. К тому же в этих местах разразилась страшная эпидемия оспы; туземцы объявили, что в ней виноваты белые люди. Тогда же и Марш разболелся настолько, что вынужден был оставить спутников и вернуться в Европу. Но упорство де Бразза стало сверхъестественным; казалось, что лихорадка, тяготы и лишения потеряли над ним всякую власть. Он продолжил путь вверх по Огове. Но вскоре его надежды рухнули. В нижнем течении этот поток широк и глубок, так что были все основания думать, что он вытекает из большого озера на центральноафриканских плоскогорьях. И вот он превратился в ручеек, берущий начало в крохотных озерках Рабагви и Пасса. Значит, французская миссия не дойдет по Огове до центра материка. Придется проститься с давней мечтой, за которой путешественник с поразительным упорством стремился в течение двух лет. Убедившись, что надежды нет, де Бразза покинул берега Огове и направился на восток к Танганьике, где, как он думал, сосредоточили свои усилия Стенли и Камерон. По дороге исследователь пришел в землю батеке[93], отважного беспокойного племени, прежде никогда не имевшего дела с белыми. Сперва они встретили путешественника очень враждебно, но он, невзирая ни на что, вместе с верным другом доктором Баллэ шел своей дорогой. Для них наступили ужасные времена. Они шли по неизвестным местам, босиком, в кровь изранив ноги, — искали таинственный путь, ведущий к сердцу Черного континента. И вот первопроходцы вышли к реке Алима, притоку Конго, по которой плавают на пирогах люди аффуру. Это племя до того враждебно встретило белых людей, что они прошли вниз по реке не более ста километров. Будь у де Бразза возможность идти дальше всего пять дней — он задолго до Стенли открыл бы Нижнее Конго! Но у них с Баллэ уже не оставалось ни продовольствия, ни одежды, ни товаров на обмен; кроме того, французы боялись попасть в какое-нибудь большое озеро, где сопротивление было бы невозможно. Поэтому волей-неволей друзья решили отправиться назад на север. Через месяц тяжелейшего пути Бразза и Баллэ вышли к другому притоку Конго, реке Ликвала. По ней можно было бы плыть спокойно, так как здесь жили племена миролюбивые, но путешественники решили, что придется срочно возвращаться: уже совсем не осталось вещей, на которые здесь выменивают у туземцев провиант, платят гребцам, покупают право проезда, добиваются дружбы вождей. Страшно оборванные, они вернулись в Габон. Этот путь занял месяц с лишним, проходил без больших происшествий и завершился освобождением рабов, купленных в дороге, — они стали свободны, ступив на землю колонии. Вернувшись в Европу, де Бразза узнал о путешествии Стенли: американец открыл Конго, от которого француз был так близко!
ГЛАВА 6
Вторая экспедиция. — Жестокие лишения. — Реванш у Стенли. — Макоко — верный союзник. — Французское Конго.Первая экспедиция, столь тяжелая, долгая (она продолжалась два года) и полная тревог, окончилась для де Бразза жестоким разочарованием. Но этот отважный путешественник был из тех, кто не знает слова «отчаяние». Впрочем, ему недолго пришлось ждать, пока представится случай для блестящего реванша. Рассказывая о путешествии Стенли, мы уже говорили о Международной африканской ассоциации, по уставу благотворительной и некоммерческой, но вскоре превратившейся в торговый дом, где патроном являлся бельгийский король, а деловое управление поручили Стенли. Де Бразза прекрасно изучил нужды, ресурсы и пути сообщения в этих местах; он с первого же взгляда понял, чем грозит бельгийский план нашему политическому и торговому влиянию: его осуществление совершенно уничтожило бы нашу колонию в Габоне — и сколько усилий пропало бы даром! Стенли достаточно было официально, от имени Международной ассоциации, завладеть берегами Конго в том месте, где начинается судоходство по великой африканской реке. В этом случае, в силу прав, закрепленных международными соглашениями за первооткрывателем, все Конго принадлежало бы новому государству, а то и получило бы право закрывать проход для судов под иностранным флагом. Чтобы избежать подобной катастрофы, требовалось опередить Стенли, первым прийти на берег Стенли-Пула и, водрузив там французский флаг, закрепить право владения за собой. Это был настоящий подвиг, и де Бразза решился на него. Министр иностранных дел понял важность проекта, который без всяких подсказок созрел в голове отважного путешественника, и предоставил ему кредит в сто тысяч франков; министр общественного образования поручил ему вместе с доктором Баллэ продолжить дело, начатое в 1875 году. Времени было мало; де Бразза не хотел терять драгоценных недель, необходимых для организации новой экспедиции, и 27 сентября 1879 года отправился в путь. Цель экспедиции состояла в приобретении для Франции приоритетного права на ближайшую к Атлантике точку судоходного Конго. Сборами занимался доктор Баллэ — ему надлежало отправиться несколько позже, захватив с собой в разобранном виде пароходики для плавания по Алиме и Конго. Инструкция Французского комитета Африканской ассоциации предписывали де Бразза как можно скорее обустроить на выбранных местах два укрепленных поста. Один из них должен был располагаться в верховьях Огове, называться Франсвиль и быть опорным пунктом на пути к Конго. Другой следовало поставить на самом Конго и назвать Браззавилем, который должен был служить цивилизаторской миссии Франции в этих краях. Место, выбранное для Франсвиля, имеет прямое сообщение с Габоном, находится на расстоянии 815 километров от него и 120 километров от начала судоходства по Алиме в здоровой, плодородной местности, населенной миролюбивыми племенами; недалеко от него находилось и устье реки Пасса, впадающей в Огове. Все это было в точности исполнено, однако времени, разумеется, потребовалось много. Де Бразза долго ожидал снаряжения, закупленного на правительственные сто тысяч франков. Время шло, запасы подходили к концу, а его все не подвозили. Не имея никаких вестей из Франции и вообще из Европы, де Бразза не знал уже, что и думать. В наше беспокойное время в столь долгом уединении каких только тревожных безумных мыслей не явится в голову! Еще немного — и он окончательно застрянет во Франсвиле; собственные средства заканчиваются — их явно недостаточно, до Конго с ними не доберешься. На всякий случай француз отправил семьсот сорок туземцев во главе с механиком Мишо на сорока четырех пирогах искать груз (впервые жители верхнего Огове отправились к океану), а сам продолжал ждать. Положение вот-вот станет совсем отчаянным; медленный огонь вынужденного бездействия изнутри пожирает де Бразза. Он понял: помочь может только подвиг. Путешественник не может, не хочет больше ждать. Он отберет несколько самых крепких людей — сержанта-сенегальца Маламина и еще человек пять-шесть — и с ними пойдет водрузить на Конго французский флаг — или погибнуть. Да, это выход! Надо немедленно идти, любой ценой, без поклажи, без провианта — питаться чем придется, но дойти и опередить того — англосакса, располагающего целой армией и королевской казной. И вот де Бразза отправился в путь; только что казалось, что необъяснимое опоздание пароходов грозит катастрофой — теперь же он о них и не вспоминал. Путешественник написал трогательное письмо матери. Чтобы успокоить ее, он шутил над собственными лишениями и старался казаться веселым. Но смертная тоска, угнетавшая его, невольно скользила между строк: «Милая мамочка, здоровье мое хорошо, я по-прежнему бодр, хотя и подвергся тяжкому испытанию. Я совсем поиздержался — из Европы уезжал впопыхах и как-то не позаботился о своем гардеробе. Теперь все мои шляпы износились, да и ботинки просят каши, а пароходов почему-то все нет и нет…» Когда неустрашимый путешественник вышел из лагеря на Огове, с первых же дней больше всего был занят укреплением влияния среди оканда и окота, приобретенного в первом путешествии. Рано или поздно Баллэ и Мизон со всем снаряжением все-таки явятся из Европы и двинутся к Конго вслед за своим начальником. Страшно подумать, что будет, если они со всей поклажей пойдут через вражеские земли! Их тяжелый и громоздкий груз ценен не только сам по себе: в нем надежда всей Франции — не одной экспедиции… Они непременнейшим образом должны попасть в дружественные земли, чтобы без труда найти носильщиков и лодки с гребцами. Как же должен был хвалить себя де Бразза за то, что в отношениях с неграми всегда проявлял бесконечную кротость, не теряя при том ни грана праведной твердости и неистощимого терпения и подчиняя все действия принципам непреклоннейшей справедливости! Везде француза принимают как друга, хотя путешественник без подарков, обещает вручить их потом, и ему верят — он еще никогда никому не лгал. Де Бразза обгоняет добрая молва, и исследователя радушно встречают даже в незнакомых местах. Одним словом, нравственное влияние симпатичной личности преодолевает все трудности. Теперь можно быть спокойным насчет груза: местные жители от природы свирепы, но не будут чинить препон, а напротив, всеми силами помогут французам. Так отважный офицер немедленно пожал плоды разумного поведения. Оно должно служить примером и непременным образцом всякому путешественнику, который хочет не только обеспечить собственную безопасность, но позаботиться о будущем и завязать с туземцами прочные связи. К несчастью, де Бразза переоценил силы: здешний губительный климат подрывает здоровье самых крепких людей. Когда он ушел из земли оканда, жесточайший приступ дизентерии совершенно изнурил его. Бледный как привидение, ужасно исхудавший, он лежал, корчась от боли, в лодке, уносившей его вдаль под мерные удары весел в такт песням чернокожих гребцов… Отряд достиг порогов Рува. Уже темнело; де Бразза хотел пройти пороги засветло и поклажу для быстроты перехода не стали выгружать из лодки. Сначала все шло хорошо — но вот туземец-рулевой сделал неловкое движение веслом, судно перевернулось и вся поклажа вместе с полумертвым де Бразза попала в воду. Здесь еще раз проявилась несокрушимая энергия этого замечательного во всех отношениях человека. Де Бразза превозмог боль и тут же организовал спасение потонувших тюков. Он не думал о том, что долгое пребывание в воде опасно (впрочем, плавал-то он отлично). До самой полуночи путешественник не выходил из воды — до тех пор, пока не выловили весь его скромный скарб, от которого зависел успех экспедиции. Подобный поступок рисует портрет человека, совершенно презирающего страдание и смерть, всем жертвующего долгу… Естественно, после такого своеобразного лечения дизентерия разыгралась с новой силой. Более того: ныряя за поклажей, де Бразза ударился ногой о камни и рассек лодыжку. В африканском климате травма ноги очень опасна для истощенного человека. Наш путешественник подвергся очередному испытанию. Через два дня он счел себя здоровым, переправился через пороги, пошел дальше по Огове и даже решил сам править лодкой. Ему пришлось много часов подряд стоять на корме с веслом. От такого напряжения рана, затянувшаяся снаружи, разошлась внутри. Тогда для де Бразза началась настоящая пытка. Лекарства все вышли: не было больше ни хинина, чтобы сбить жар, ни карболки — промыть рану. Дизентерия изнурила путешественника, боль жгла нестерпимо — днем он не мог пошевелиться, ночью не смыкал глаз, сходя с ума от мысли, что время летит и его наверняка опередили… Француз терял последние силы и чувствовал дыхание приближающейся смерти… Но люди, подобные де Бразза, так просто не сдаются. Лишь на миг поколебалась в нем стальная воля — и вскоре пробудилась с новой силой. Гребцы научили его местному средству — ставить на ноги компресс из каких-то трав. Боль и вправду унялась немедленно; стало гораздо легче. Но увы! Лекарство оказалось хуже самой болезни. Под действием варварского зелья края раны размягчились, нагноились; даже профан в медицине понял бы, что дело плохо. Тогда де Бразза взял старый ланцет, наточил о камень и хладнокровно стал сам себе оперировать больную ногу. С удивительным бесстрастием рассекши опухоль вокруг раны, он вырезал кусок мяса толщиной около сантиметра и шириной сантиметров пять, избавившись таким образом от нагноения, грозившего гангреной. Он сам признается, что боль при этом испытывал невыносимую — да и как же иначе! После операции де Бразза два дня держал ногу в теплой воде с лимонным соком. Крепкое сложение помогло, и рана вскоре зажила. Несколько недель путешественник провел во Франсвиле, который в те времена существовал почти номинально, и полностью выздоровел. Затем, окончательно расставшись с Огове, он с маленьким отрядом кратчайшей дорогой направился к Конго. Де Бразза надо было пройти около трехсот километров по совершенно неизведанным местам — но добрая слава шла впереди. Поэтому и батеке, и ачиква, и абома прекрасно его принимали. И вот путешественник увидел доказательство того, что негры с непостижимой быстротой сообщаются между собою. Перед де Бразза (он как раз заканчивал строить плот, чтобы плыть вниз по реке Лефини) вдруг предстал человек в ожерелье вождя батеке и сказал: — Господин мой Макоко, король батеке, давно слышал о великом белом вожде с Огове. Он знает, что ты идешь в его земли. Он знает: из страшных своих ружей ты никогда не стрелял первым; всюду за тобой следует мир и изобилие. Он прислал меня к тебе с приветствием и просит проводить тебя к нему, ибо он твой друг. Де Бразза и поверить не мог в такое счастье. Представьте: самый могущественный государь на правом берегу судоходной части Конго объявляет себя его другом! Француз без промедления отправился вместе с гонцом, только настоял на том, чтобы не делать крюк по суше, а спуститься на плоту по Лефини. Посланник от Макоко отправился вместе с ним. От Нгампи экспедиции вновь пришлось идти сухим путем. Негритянский вождь взял на себя роль проводника — но с той поры для де Бразза начался долгий ряд тревог, затруднений и неудач. Путь по Лефини сбил посланника с толку; он заблудился и наудачу повел экспедицию совсем в другую сторону. Сам де Бразза также потерял ориентировку в землях, где еще не ступала нога белого человека. Двое суток продолжался этот безумный поход; проводник непрестанно путался, ошибался и злился от этого чуть ли не больше, чем сам де Бразза. А поскольку он много раз объявлял, что цель близка, и каждый раз ошибался, смущаясь при этом, наш герой в конце концов стал подозревать неладное — уж не ведут ли его в какую ловушку? … И вот в очередной раз экспедиция пустилась в путь. Луна светила ярко; де Бразза, чтоб не терять даром времени, приказал идти днем и ночью. Когда наступило одиннадцать часов вечера и путешественники из последних сил брели вверх по склону очередного холма, проводник объявил: теперь они точно у цели. Де Бразза шел с посохом в руке перед отрядом, а рядом с ним солдат из Сенегала нес французский флаг. Вот и вершина… Де Бразза, обратив взор на северо-восток, увидел, как вдали блестит обширная речная гладь — и дальше теряется в тени окрестных гор… То было Конго! — Конго! — раздался громкий клич из глоток истомленных путников. Начальник, столь же изнемогший, склонясь на посох, обратил свой взор к усеянному звездами небосклону и прошептал: — О Франция! Я жизни бы не пожалел, чтобы первым прийти сюда — чтоб первым здесь водрузить твой драгоценный стяг! Ночь прошла тихо и сосредоточенно, как перед битвой: назавтра решалась судьба нашей колонии… На рассвете путешественники, предводимые церемониймейстером, отправились на переговоры с Макоко. Там, где французы должны были встретиться с африканцами, расстелили львиную шкуру — знак монаршей власти, а место трона обозначили большим медным тазом. Вскоре бой барабанов возвестил о прибытии государя, рядом с которым шел главный колдун; жены и самые важные сановники следовали за ними. Макоко сел или, вернее, присел на львиную шкуру, облокотясь на подушку. Главный колдун пал перед правителем ниц и вложил его руки в свои; так же приветствовал он и де Бразза. Вся свита разом преклонила колени. После этих церемоний начались переговоры, и могущественный государь так обратился к гостю: — Макоко рад приветствовать сына великого белокожего вождя с Запада, совершающего дела, достойные мудреца. Макоко хочет, чтобы чужеземец рассказал своему вождю, как его приняли здесь. Вся экспедиция, как могла, заштопала мундиры, надраила ружья, почистила шапки. Не так уж и плохо смотрелся французский отряд в своих поэтичных лохмотьях! Вождь батеке Оссья — тот самый, что был послан к де Бразза, — обеими руками звонил в колокола у ворот Дворца. Путешественник между тем обошел почетный караул, в который встали его люди. Они были при оружии, но, по миролюбивому обычаю этой земли, обратили дула к земле. Поднялась поразительная какофония, но де Бразза был так рад, что она показалась ему лучшей музыкой в свете. Затем распахнулись двери; наш моряк вошел вместе со свитой в большую хижину, которую называет «Тюильри короля Макоко»[94], и сел на тюки с подарками, привезенными для конголезского государя. Над правителем висел красный полотняный балдахин, а перед ним слуги расстелили ковер. — Белых людей, которые приходят к Макоко с миром, государь встречает как друзей. Де Бразза поблагодарил царя за радушный прием и спросил, не был ли перед ним в этих краях еще какой-нибудь европеец. Сердце едва не выскочило у него из груди, когда Макоко ответил: — Ты первый белый вождь, посетивший нас. Когда-то давным-давно один белый человек проплыл вниз по реке и убил многих наших. Но с тех пор он не возвращался. Значит, Стенли его не опередил! Франция победила: водный путь по Конго был занят. Двадцать пять дней пробыл де Бразза у Макоко, наслаждаясь роскошным и сердечным приемом. 10 сентября 1880 года, желая предотвратить столкновения европейцев с туземцами, государь батеке формально испросил защиты французского знамени и подписал договор, по которому над его царством устанавливался наш протекторат. Кроме того, он соглашался, чтобы французская миссия выстроила себе поселение на ею же выбранном месте. Подписав договор, царь с вождями положили в коробочку по горстке земли, которую главный колдун вручил де Бразза со словами: — Передай эту землю великому вождю белых людей в память о том, что мы принадлежим ему. И отважный путешественник ответил, водрузив французский флаг перед дворцом Макоко: — Я оставляю вам этот знак дружбы и покровительства. Франция находится повсюду, где реет этот символ мира, и может защитить всякого, кто станет под наш флаг! Итак, де Бразза сам мог выбирать место для своего укрепления. Он наметил центром будущего поселения деревеньку Нтамо-Неуна на правом берегу большого разлива Конго, который Стенли назвал в свою честь Стенли-Пулом. Площадь его около 1800 квадратных километров (примерно втрое больше Женевского озера), а ширина от западного берега до восточного — 45 километров. Пул расположен на высоте 352 метра над уровнем моря; выше него Конго становится чудной тихой и величественной рекой, на протяжении 1700 километров открывающей беспрепятственный путь для судов в самый центр Африки. Имя «Пул» наводит на мысль об огромной водной глади. В стародавние времена, которые может исчислить лишь геологическая хронология, так оно, вероятно, и было: об этом свидетельствуют глубокие морщины, бороздящие прибрежные утесы метров на шесть выше самых больших современных паводков. Теперь же это просто скопление песчаных островов, между которыми множеством русел петляет река. Острова необитаемы: там лишь рыбаки устраивают запасы продуктов на сезон дождей да выходят на берег стада бегемотов и крокодилов, впрочем, постепенно исчезающие. На острове селятся и огромные стаи перелетных птиц: цапель, куликов, ржанок, уток… Место, выбранное де Бразза, находилось под властью вождя Нгочоно, вассала Макоко; сперва этот князек повел себя так, что сговориться с ним было трудно. Здешние негры, с которыми так жестоко обходился Стенли, сохранили к белым недружелюбие и недоверие, что вполне естественно. То ли Нгочоно не понял, что французская миссия носит совершенно мирный характер, то ли недооценил значения договора, который торжественно подписал его сюзерен[95], только он резко оборвал разговор, едва проводник де Бразза раскрыл рот. Напрасно путешественник пытался рассеять предубеждения и подозрения Нгочоно — люди убанги, прервав переговоры, удалились вслед за своим вождем. Кто другой спокойно перенес бы столь скверное начало дела? Но де Бразза невозможно превзойти в отваге и энергии — мало найдется столь опытных, осторожных и умелых дипломатов. Он добился новой встречи и одержал моральную победу над туземцами: был любезен, настойчив, убедителен, неизменно искренен и постоянно сохранял очаровавшую негров веселость. Француз вовсе не угрожал им, а лишь доказал: поступая так, они нарушают свой долг перед сюзереном; Макоко за них распорядился, и уже только поэтому у них перед де Бразза появились обязательства. Одним словом, Нгочоно и все убанги убедились в миролюбивых намерениях и правах путешественника; они умоляли простить их за то, что дурно поняли волю своего государя и мысли белого человека. Затем негры отправились прочь, чтобы передать братьям, живущим выше по течению реки, заверения белокожего вождя в мире и дружбе. Все кончилось благополучно: дальше должен был состояться огромный съезд всех местных вождей, подтверждавший согласие на присоединение к Французской Республике. Вскоре «генеральная ассамблея» собралась. Казалось, в этот день ликуют все, а Конго — главный и почти что единственный здесь путь сообщения — превратилось в живую дорогу. Флотилия великолепных пирог, выдолбленных из цельных стволов гигантских негниющих деревьев (каждая с сотней воинов на борту), спустилась вниз по реке и пришвартовалась у Нтамо. Представители всех племен убанги, живущих на западе бассейна Конго, между Стенли-Пулом и экватором, поспешили на этот совет, где решалось, быть войне или миру. Возглавляли их сорок вождей в пышных нарядах; в этом зрелище было некоторое величие и самое дикое варварство. Впрочем, эти дикие воины знали, что и в их краях, и на Верхней Алиме де Бразза использовал свои ружья исключительно для обороны; знали и то, что, если какое-то племя не решалось пустить его в свои земли, французский вождь не прокладывал себе дорогу силой (а ведь так легко было пробиться, сея кругом смерть!), но добровольно шел другим путем. Подобным обстоятельством путешественник расположил к себе все окрестные племена — отныне в нем они видели друга. Итак, все шло как нельзя лучше, но вдруг случился серьезный инцидент, чуть не испортивший дело. Спорили на съезде основательно, потому что появление европейских поселков на Алиме и Конго затрагивало интересы многих, но важных претензий никто не предъявлял. Вдруг один из вождей убанги встал, торжественно подошел к де Бразза и указал на лесистый островок посреди реки. — Посмотри на этот остров, — произнес он высокопарно. — Он как нарочно лежит на самой середине реки: напоминает, что мы должны всегда остерегаться белых и не забывать, какое зло они нам причинили. Там пролил кровь убанги первый белый человек, который был у нас! — Кто скажет, — продолжал вождь, все более распаляясь, — сколько мертвых оставил после себя этот кровопийца-пришелец? Он хотел против нашей воли пройти через эту землю; он пронесся по реке как ураган и всюду нес с собой войну! Так пусть он никогда не пытается пройти обратно: мы поклялись отомстить за наших мертвецов! Конечно, де Бразза прекрасно знал, что племена, с которыми Стенли тридцать два раза вступал в бой, жаждут мщения, и не был захвачен врасплох: его бы скорей удивило обратное. Так что французу было легко отвечать. На нем не лежала ответственность за произошедшее ранее и в чем Франция никогда не участвовала. Сам же он решительно отвергал такой образ действий и, пока путешествовал среди дикарей, словом и делом протестовал против насилия и всегда вел себя как друг всех туземных племен. Ничего лучше сказать было нельзя; факты сами свидетельствовали о правдивости слов миролюбивого путешественника. Инцидент оказался исчерпан, и обе стороны немедленно заключили мир. Чтобы торжественно закрепить его, совершили обряд похорон войны. Напротив того самого островка, хранившего печальную память, вырыли большую яму; вожди по очереди подходили к ней и бросали кто пулю, кто кремень, кто щепотку пороха, а де Бразза со спутниками — патроны. Затем яму опять забросали землей, и один из вождей произнес следующее: — Мы зарываем войну так глубоко, чтобы ни мы, ни дети наши не смогли ее откопать, и сажаем здесь дерево в свидетельство союза белых и черных людей. За ним взял слово де Бразза: — Мы тоже зарыли войну, и она не вырастет до тех пор, пока на этом дереве не начнут расти пули, порох и патроны. Вожди подарили де Бразза в залог дружбы пороховницу, а он дал каждому французский флаг. Когда флотилия пошла обратно вверх по Конго, вся река покрылась цветами Франции! Так было освящено основание Французского Конго. Установление добросердечных отношений с людьми, которых Стенли на весь мир объявил кровожадными людоедами и достойными истребления чудовищами, стало большим успехом. Де Бразза ждало еще много дел. Прежде всего надо было позаботиться, чтобы столь долго ожидаемый груз доставили в Нтамо, отныне называвшуюся Браззавилем, и изучить дорогу, соединяющую Французское Конго с морем. Но вместе с тем приходилось оставить будущее поселение без обороны, положившись на слово негров — переменчивых, словно дети, и легко склоняющихся на сторону того, кто говорит последним. Де Бразза находился в большом затруднении. Наконец он решил доверить этот почетный пост своей маленькой охране — троим сенегальским стрелкам под командой сержанта Маламина, чью отвагу и верность он уже имел возможность оценить не один раз. — Маламин, — сказал он, — ты остаешься здесь за меня. Я доверяю тебе французский флаг, который ты не должен давать в обиду! Теперь ты здесь самый главный. Я могу оставить с тобой только трех человек, но ничего не бойся! Ты представляешь Францию, а Франция защищает всех своих детей — и ближних, и дальних. Я же иду туда, куда зовет меня мой долг. И ты исполни долг француза — не оставляй никогда своего поста! Прощай! Африканец торжественно поклялся в верной службе. Он понял величие своей задачи и ощутил весь груз ответственности, лежавшей на нем. Де Бразза хорошо разбирался в людях. Он уехал спокойно, ибо знал: Маламина нельзя ни запугать, ни подкупить — покуда он жив, знамя не отдаст никому. Маламину же действительно приходилось быть начеку. В одно прекрасное утро по реке Нкума вдруг явились два английских миссионера. Они поразились, увидев здесь французские цвета, и с пристрастием стали допытываться у туземцев, понимают ли они, какой серьезный поступок совершили, отдав французам землю. Туземцы, в свою очередь, стали расспрашивать миссионеров, какого они народа; новоприбывшие с презрением и возмущением отвечали, что, уж во всяком случае, не французы. Возможно, миссионерам действительно казалось, что попытка опорочить нас в глазах африканцев вполне уместна и пристойна. Но нашим новым друзьям не понравилась враждебность англичан, подозрительным показалось и направление, откуда прибыли миссионеры. В результате пришельцев проводили весьма холодно. Этот мимолетный эпизод стал прелюдией важных событий, когда от Маламина потребовались в полной мере мужество и верность. Стенли, в изобилии обеспеченный всем — людьми, деньгами, провиантом, снаряжением, — готовил гигантскую работу. Даже не подозревая про стремительный марш своего соперника через Габон и земли, которые несколько месяцев назад стали Французским Конго, он снаряжал разборные пароходы, вербовал носильщиков, ставил под ружье занзибарцев… Наконец англосакс отважно двинулся вперед. Большая флотилия — четыре паровых баркаса, стальной вельбот и сторожевик — пошла вверх по реке мимо европейских факторий в Руве и достигла первых порогов у Виви. Там Стенли соорудил постройки на плато, возвышающемся над рекой на четыреста пятьдесят метров, и протянул наверх с берега канатную дорогу. Завершив это колоссальное предприятие, он пешим порядком направился к поселку Иссангила (где судоходство по реке возобновляется) в обход водопадов Йеллала, Инга и Иссангила, разделенных многочисленными порогами. В Виви и в Иссангиле устроили стоянки, между ними проложили дорогу протяженностью в восемьдесят километров и доставили по ней разобранные пароходы. Затем экспедиция поднялась по реке до третьей стоянки — Маньянга в двухстах пятидесяти километрах от Виви. В Маньянге снова пришлось задержаться, разобрать суда и перетащить огромный груз через горы, долы и леса. Уф! До Стенли-Пула осталось совсем немного, но это не значит, что все трудности позади; дорога по-прежнему малопроходимая. Долгие дни и недели пробиралась экспедиция через всевозможные препятствия. Вот перед нею еще один холм, круче всех прежних, который Стенли — как всегда — смело штурмует. Колонна дошла до середины холма, а авангард уже достиг вершины. Вдруг все увидели, как его командир, молодой бельгийский лейтенант, немного помедлив на гребне, побежал назад. — Мистер Стенли! — закричал он еще издалека. — Я открыл озеро, огромное озеро! С вершины видно, как вода сверкает до самого горизонта. Стенли ухмыльнулся и сказал по обыкновению насмешливым тоном: — Мне очень жаль, лейтенант, но озеро, которое вы, по вашему мнению, открыли, я уже два года назад нарек своим именем. Это Стенли-Пул! Раздался всеобщий радостный клич, и люди, забыв усталость, бросились на вершину. Оттуда открывалось волшебное зрелище. Насколько хватало взора, сверкала под ярким солнцем рябь реки, орошавшей те самые места, которые Стенли предназначал во владение новому государству. Изумруд великолепных вечнозеленых лесов обрамлял мерцающее серебром зеркало вод. Широко раскрыв глаза, задыхаясь от торжества, Стенли обводил взглядом эти обширные дебри: это он их открыл, чтобы завоевать и населить… Внезапно путешественник наморщил лоб и судорожно скривил губы. Вдалеке он смутно разглядел нечто непонятное: какой-то домик, а над ним что-то полощется в воздухе. Он направил в ту сторону бинокль и, побледнев от гнева, воскликнул: — Французский флаг! Очутившись перед свершившимся фактом, Стенли повел себя очень плохо даже в глазах самых страстных своих поклонников. Он не смог сдержать ярости и позволил себе выражения, о которых ему после пришлось пожалеть. Но это было еще ничего: несдержанность языка можно и простить: ведь этот баловень судьбы впервые пережил неудачу — и очень чувствительную. Гораздо хуже, что Стенли пытался подкупить сержанта Маламина, чтобы сенегалец оставил свой пост. Так белые люди не ведут себя с неграми! Африканец хорошо проучил авантюриста — слугу множества господ. Он гордо ответил: — Француз не может ни нарушить присягу, ни служить двум стягам! Тогда Стенли попытался взбунтовать против нас местных жителей. Но Макоко оказался верен дружбе и союзу с де Бразза — заявил, что никого другого на его место не допустит. Стенли уже намеревался применить силу, но резонно подумал, что Франция, без сомнения, сурово отомстит за оскорбление своему флагу и заставит возместить материальный ущерб. Он сдался, отказался от мысли утвердиться на правом берегу, переправился через реку и на левом берегу основал Леопольдвиль[96]. Бразза успевал повсюду; сначала он отправился к Маньянге и пустился на поиски наилучшего пути от Французского Конго к Атлантике. Он открыл цветущую землю Квилу-Ньяди: ее прекрасное положение впоследствии очень повлияло на судьбу европейских владений в Конго. И действительно, река Квилу — важнейший водный путь внутрь материка. Она берет исток возле Джве[97], недалеко от Браззавиля[98], протекает через густонаселенные районы, богатые свинцовыми, медными и железными рудами, и впадает в океан несколько севернее Пуэнт-Нуара и Лоанго[99]. Так как оказалось, что Огове не может стать путем для торговли с центром материка, то Браззавиль — пока не построена железная дорога — свяжет с морем Квилу. Де Бразза с полудюжиной туземцев, буквально на пределе сил, вел разведку в Квилу-Ньяди; тем временем лодки механика Мишо, посланные в Габон, встретили долгожданную экспедицию Баллэ. Поселения Франсвиль, Алима и пост Браззавиль получили провиант как раз вовремя. И вот де Бразза выполнил свою миссию, вернулся на Конго, спустился в Банану и отплыл во Францию вместе с договором с королем Макоко. В Париж путешественник прибыл 7 июня 1882 года. 21 октября того же года в обе палаты парламента предоставили акт о ратификации договора. Единственная статья этого акта, одобрявшая договор де Бразза с Макоко, была принята единогласно. Все эти месяцы Франция горячо приветствовала де Бразза — он по праву стал героем дня. Лишь один голос выбивался из хвалебного хора отважному путешественнику, который, не имея никаких средств, без единого выстрела завоевал для своей страны прекрасную колонию, а для цивилизации — огромную дикую территорию. Этот голос принадлежал Стенли, который никак не мог прийти в себя после поражения… Стенли, находившийся тогда в Европе — и даже в самой Франции, в самом Париже, не оставил нападок на счастливого соперника. Американец даже как бы ставил в вину де Бразза то, что француз осуществил экспедицию с пустыми руками! «Когда я впервые повстречал его на Конго, — пишет злопамятный англосакс, — он показался мне каким-то жалким босяком; не было ничего в нем примечательного, кроме изодранного мундира и мятой-перемятой шляпы. За ним следовала крошечная, невпечатляющая свита с двадцатью пятью фунтами[100] багажа. Даже для героя, нарядившегося в лохмотья, он был, пожалуй, слишком оборван. Мог ли я догадаться, что передо мной стоит человек этого года, новый апостол Африки, великий стратег, великий дипломат, великий завоеватель? Его принимает Сорбонна[101], ему рукоплещет Франция — да что там Франция! — им восхищаются во всем мире, даже в Англии…» Нет никакой необходимости объяснять, как все это нелепо и глупо: ведь если де Бразза был беден — тем больше цена делу, совершенному в таких условиях! Впрочем, наш герой не имел недостатка в защитниках. Многие взялись за перо в его поддержку, причем некоторые с чисто французской грацией издевались над Стенли, разнося англосакса в пух и прах. Автор «Приключений путешественников» не может, например, отказать себе в удовольствии процитировать несколько строк, написанных по этому поводу таким мастером, как Виктор Шербюлье:[102] «Каждый, кто увидит господина де Бразза, — пишет наш выдающийся академик, — легко согласится с господином Стенли, что вид у него не цветущий: щеки запали, лицо в морщинах — сразу виден человек, вынесший непосильные тяготы… За всю слоновую кость Африки, за все каучуконосные леса Конго мы не осмелимся утверждать, что господин де Бразза упитан. Худоба — важное преступление, но господин Стенли — с той же горькой ухмылкой — находит и худшее: рваные башмаки. “Без приданого!” — восклицал Гарпагон[103]. “Без башмаков!” — на все лады твердитгосподин Стенли. Подумайте только! Господин де Бразза позволяет себе разгуливать по берегам Конго без башмаков — и после такого неприличия его еще пускают в большую аудиторию Сорбонны! И англичане им восхищаются! И еще он смеет утверждать, будто по всей форме подписал — без башмаков — договор с королем Макоко! Нам, в свою очередь, кажется, что господин де Бразза, возможно, и вправду потерял в Африке башмаки, господин же Стенли — изрядную долю рассудка и такта; последнюю потерю возместить труднее». Де Бразза не составило бы труда и самому ответить на все оскорбления: в бойкости языка он никому не уступит. Но со спокойствием и благородством истинно сильных людей путешественник просто объявил, что считает себя не соперником, а сотрудником Стенли, совершающим одно и то же дело. Вскоре де Бразза получил чин капитан-лейтенанта и пост генерального консула французского правительства в Западной Африке. Но Комитет по исследованию Конго, заменивший Международную ассоциацию, также не мог примириться с тем, что благодаря приобретениям де Бразза на правом берегу реки по соседству с Бельгийским Конго создано мощное владение. Были употреблены все средства, чтобы поднять туземные племена и уничтожить французские приобретения. Узнав о происках, которые могли все испортить, де Бразза в третий раз отправился в Африку. Обе палаты также были убеждены в необходимости активных действий; 28 декабря 1882 года они благородно предоставили путешественнику кредит в 1 275 000 франков для завершения столь счастливо начатого предприятия. Экспедиция отправилась 20 марта 1883 года. Несколькими неделями раньше капитан-лейтенант Кордье, командир корабля «Стрелец», официально завладел побережьем от мыса Лопес[104] до Лоанго включительно. Таким образом, устье Квилу, находящееся в этом промежутке, безоговорочно стало принадлежать нам. Де Бразза прибыл в Лоанго — одну из лучших гаваней побережья, находящуюся в 120 километрах от устья Конго и примерно в 450 километрах по прямой линии от Браззавиля, — и тут же отправил вперед своих подчиненных Мишле и де Монтаньяка с двадцатью сенегальцами охранять пост Алима. Сам направился в Габон, где его уже более месяца ожидали девятьсот гребцов, завербованных господином де Ластуром, на пятидесяти восьми пирогах. Экспедиция поднялась по Огове; плавание осуществлялось в трудных условиях и потребовало сорок пять дней постоянного напряжения. 25 августа 1883 года де Бразза прибыл во Франсвиль и вскоре достиг истоков Алимы, где его старейший и лучший соратник, неутомимый и преданный доктор Баллэ, устроил лагерь Ганшу. Сверх всякой надежды, доктору удалось даже договориться со свирепыми аффуру — племенем, которое прежде не разделяло всеобщей симпатии туземцев к представителям Франции. Начальник экспедиции увидел, сколько успели сделать до него, и горячо поблагодарил друга. Вместе с ним, братом Жаком де Бразза и сержантом Маламином, которого господин Мизон отозвал из Браззавиля, де Бразза спустился по Алиме до Конго и направился во владения Макоко. С тех давних пор, как де Бразза ушел, доверив защиту французского знамени Маламину с тремя сенегальцами, Макоко пришлось многое перенести из-за непоколебимой верности Франции. Какими только шпильками не изводили правителя агенты Бельгийского Конго! Менее преданного своему долгу человека их изобретательное преследование, несомненно, заставило бы уступить. Стенли, например, возмутил против Макоко всех его вассалов. Право, сколько же злобы было у правой руки короля Леопольда! Стенли был богат и, ловко раздавая подарки (прежде всего — крепкую водку алугу), поднял мятеж. Макоко, виновного в двух страшных преступлениях — любви к Франции и верности своему слову, свергли и на его место посадили самозванца. Как вам нравится мораль, которую эти носители культуры преподносят детям природы? И вот по воле Стенли Лже-Макоко, по-настоящему прозывавшийся Мпутаба, занял место сюзерена! Настоящий правитель не только потерял престол, но ежеминутно рисковал и жизнью: мятежники, страшась возмездия — если превратность судьбы вернет Макоко на трон, — хотели от него избавиться. Но Макоко неким чудом избегал всех ловушек — и в то же время, невзирая ни на что, не склонялся на посулы Бельгийского комитета, который предпочел бы иметь своим подданным его, а не дурачка Мпутабу. Макоко было довольно сказать лишь слово, отречься от союза с Францией — и к нему вернулись бы престол, сокровища, почести… Как честный человек, он не произнес этого слова, хотя в бесплодном ожидании проходили недели и месяцы. На все уговоры он неизменно отвечал: — Француз обещал мне вернуться. Я жду, и он вернется. Горе тогда тем, кто предал его! Такая ситуация продолжала сохраняться до 5 апреля 1884 года, когда внезапно утром и, как всегда у негров, с удивительной скоростью пронеслась весть, что идет на веслах большая флотилия под французским флагом. Макоко сиял в восторге: справедливость восторжествовала. Вскоре рассеялись последние сомнения: сам долгожданный француз шел во главе маленького флота. 10 апреля честный монарх встретил на берегу друга и союзника де Бразза, вернувшегося наказать обидчиков, возвратить верному Макоко все утраченное и утвердиться на берегах Конго! Как же на глазах изменились мятежные вассалы, которых увлек за собою Мпутаба! Отовсюду поспешно собрались вожди — с бельгийского и с французского берегов, все царьки, кому некогда де Бразза вручил французский флаг, подчинились ему, даже сам несчастный, жалкий и смущенный узурпатор Мпутаба предстал перед де Бразза и горько раскаивался в содеянном, утверждая, что испугался угроз Бельгийского комитета. Макоко как можно скорее собрал большой съезд всех негритянских вождей с обоих берегов, где окончательно была подтверждена французская власть на судоходной части Конго. В начале собрания Макоко публично ратифицировал соглашения, некогда подписанные им и де Бразза, и объявил, какие меры примет по соблюдению этих соглашений. Затем состоялся суд над Мпутабой. Раскаяние самозванца всем показалось искренним, и де Бразза настоял, чтобы Макоко простил виновного, но король велел Мпутабе явиться на берег Пула, где некогда незаконно правил, и публично признать власть Франции. Мпутаба честно все исполнил и убедил вождей, даже с левого берега, присягнуть французскому флагу. В апреле 1886 года господин де Бразза был назначен генеральным комиссаром Конго и Габона. При нем находился верный сотрудник доктор Баллэ, назначенный вице-губернатором Габона. Казалось, генеральному комиссару нужно лишь ненадолго съездить во Францию — обсудить с правительством проблемы окончательного обустройства Конго — и он может тут же вернуться к прерванным трудам. Но с морским министерством возникли разногласия по поводу бюджета колонии. Де Бразза хотел, чтобы бюджет вотировался в целом, — так генеральный комиссар мог бы в интересах дела иметь свободу маневра. Министерство же настаивало на постатейном голосовании — ради облегчения контроля. После многомесячных переговоров де Бразза добился своего; в феврале 1887 года он отплыл к месту службы. В Либревиле, согласно полученным инструкциям, он учредил колониальную администрацию. Затем де Бразза немедленно отправился в глубь страны, где требовалось его присутствие. Ситуация там складывалась тревожная — случалось, что начальники неоправданно прибегали к силе. Де Бразза разобрался на месте с обстановкой и отослал кого на океанское побережье, кого во Францию. Некоторые племена опять начинали драться по поводу и без повода. Губернатору, пользуясь своим влиянием, удалось восстановить между ними согласие и вдобавок заставить перенести два разборных паровых баркаса: один из них и теперь еще ходит по Огове, другой — по Конго. В дебрях Африки де Бразза пробыл полгода и, сильно изнуренный дизентерией, вернулся на побережье. В 1888 году он отправился на родину, чтобы восстановить здоровье и представить точный доклад о положении Конго; кое-кто утверждал, будто оно не блестяще с финансовой точки зрения. В награду за выдающиеся труды Географическое общество в 1882 году присудило ему большую золотую медаль; в том же 1882 году золотую медаль, специально выбитую в честь путешественника, преподнес ему муниципальный совет Парижа, а 14 августа 1885 года он получил офицерский крест Почетного легиона[105]. Дело де Бразза идет своим чередом, но еще далеко от завершения. Отважному путешественнику ныне больше, чем когда бы то ни было, требуются присущие ему усердие и энергия. Никто, кроме него, не в состоянии завершить освоение неизведанных районов Африки. Именно де Бразза первый понял, что для постоянной эксплуатации бассейна Конго необходимо владеть устьями других рек и у Франции для этого — наилучшее положение. По реке, текущей по нашему Габонскому плато, можно добраться до судоходной части Конго без существенных перепадов высот. Стенли сказал следующие исторические слова: «Тот, кто овладеет Конго, получит монополию на торговлю во всем бассейне реки. Она является и навсегда останется великой торговой дорогой, ведущей с запада в Центральную Африку». Не будем никогда об этом забывать!
ГЛАВА 7
ЛИВИНГСТОН
Детство и юность Ливингстона. — Его призвание. — Первые путешествия. — Луанда. — Переход через Черный материк. — Возвращение в Европу.В наше время, когда жизнь мчится на всех парах, — время мгновенных знакомств, бесчисленных публикаций, легких путешествий, шумной рекламы — известность, переходящую все границы, стали приобретать люди, которые прежде не заинтересовали бы широкую публику. Личные заслуги, как правило, тут ни при чем. Достаточно, чтобы о вашем имени несколько дней или недель трезвонили в прессе Старого и Нового света. А людей действительно выдающихся легко предают забвению — они слишком скромны, чтобы отстоять себя среди шумных оваций, которыми встречают новые громкие имена. Возможно, — пусть не сочтут это за парадокс — никогда бы мирный добрый проповедник доктор Ливингстон не стал знаменитостью, если бы Гордон Беннет, директор «Нью-Йорк геральд», не вздумал послать к нему репортера Стенли. Долгое время от Ливингстона не было вестей — считали даже, что он умер. А интересовались доктором — представьте себе! — только в очень узком кругу, где высоко ценили его труды. Но едва Ливингстоном занялся один из королей прессы — известность проповедника сразу возросла благодаря шумихе, поднятой вокруг Стенли, который сам еще ровным счетом ничего не совершил. Их имена соединились в пару: Стенли — Ливингстон. И многие узнали о том, что сделал Ливингстон, по тому, что собирался сделать Стенли. А Стенли, отыскав Ливингстона — что, в общем, было не так уж и сложно с теми средствами, которыми располагал, — собирался присвоить себе славу знаменитого путешественника, скромно жившего на Великих африканских озерах среди черных друзей. Теперь, когда Стенли, случайно ставший исследователем, лихорадочно носится по Черному материку и, будучи дилетантом, поддерживает свою популярность рекламой, постепенно исчезает из нашей памяти имя замечательного исследователя, навечно погребенного под мрамором Вестминстерского аббатства. Ливингстон — проповедник по призванию, путешественник по натуре, с ранней юности мечтавший посвятить жизнь проповеди Евангелия дикарям, — воистину велик и неповторим в своей трогательной простоте. Как самоотверженна вся его долгая жизнь, целиком посвященная просветительской деятельности! С каким благородством переносил он ради нее неслыханные труды, лишения и болезни! И какой сильный характер был у ребенка, из которого вырос подобный муж! Послушайте собственный его рассказ о детстве: «Десяти лет от роду[106], чтобы заработать на жизнь и уменьшить таким образом заботы бедной матушки, меня послали на прядильную фабрику, где стал связывать порванные нити на станках. На часть первого же недельного заработка я купил учебник латинского языка и в течение многих лет с неослабным рвением изучал латынь. Каждый день с восьми до десяти вечера я ходил в школу, затем до полуночи и даже еще позже сидел со словарем, если только мать не отбирала у меня книги. На другой день к шести утра я должен был идти на фабрику и оставался там до восьми с перерывом только на обед и ужин. Так я изучил большую часть классических авторов и в шестнадцать лет лучше, чем сейчас, знал Вергилия[107] и Горация[108]. Я глотал все научные книги, что попадались мне под руку, кроме романов: вымыслы я не любил — особенно рассказы о путешествиях, которые были для меня наслаждением. Отец, считавший, как и многие его современники, что научные сочинения противоречат религии, предпочел бы видеть меня за такими книгами, как „Облако свидетелей” или „Великолепное состояние” Бостона[109]. Наше расхождение во взглядах по этому вопросу было очень большим, и в последний раз в жизни я был выдран как раз за категорический отказ прочитать „Христианскую практику” Уилберфорса[110]. В течение долгих лет чтение религиозных книг любого рода внушало мне отвращение, но, натолкнувшись однажды на „Философию религии и будущей жизни” Томаса Дика[111], я с радостью увидел: эта замечательная книга подтверждает мою давнюю мысль о том, что вера и наука отнюдь не враждуют между собой, но взаимно друг друга поддерживают. Я продолжал занятия и на прядильной фабрике: пристраивал книгу на станке так, чтобы, проходя мимо, можно было, не прерывая работы, выхватить несколько фраз. Таким образом я приобрел способность полностью отрешаться от окружающего шума, свободно читать и писать среди играющих детей или сборища пляшущих и вопящих дикарей. В девятнадцать лет я стал прядильщиком и мне дали собственный станок. Для хрупкого и тщедушного юноши это была чрезвычайно тяжелая работа, но мне и платили соответственно; этих денег хватило даже безбедно провести зиму в Глазго, где я занимался медициной и греческим, посещал лекции по богословию. Мне никто никогда не помогал деньгами; впоследствии, несомненно, я также без чьей бы то ни было помощи осуществил бы свой план отправиться в Китай врачом-миссионером. Но однажды мне посоветовали вступить в Лондонское миссионерское общество. Оно, как мне сказали, совершенно было лишено сектантского духа; к идолопоклонникам оно посылает не приверженцев англиканской церкви[112], не пресвитериан[113], не индепендентов[114] — но только Христово Евангелие. Это вполне совпадало с моим мнением о предназначении подобного общества». Одновременно со степенью доктора медицинских наук и хирургии Ливингстон получил должность миссионера. В 1840 году он отбыл в Африку: путь в Китай ему преградила — и надолго — так называемая Опиумная война[115]. Доктор высадился в Кейптауне, где пробыл недолго, оттуда отправился в бухту Алгоа, затем в Куруман — самую отдаленную английскую колонию в этих местах. Там Ливингстон познакомился с доктором Моффетом[116], тоже миссионером, и женился на его дочери[117], со всею преданностью разделившей труды проповедника. В соответствии с полученными инструкциями Ливингстону надлежало ехать на север[118]. Он отправился в Лепелоле — резиденцию вождя баквейнов Сечеле — и принялся за обустройство миссии. Несколько месяцев Ливингстон изучал туземный язык и обычаи, научил Сечеле читать и обратил в христианство. Впоследствии этот вождь стал одним из самых верных его соратников. В 1843 году вражда между соседними племенами заставила Ливингстона покинуть основанную им миссию. Он переехал в Колобенг в долине Маботсе, где прожил девять лет. Если вам интересно, как должен глава семьи устраивать дом на новом месте, — послушайте самого доктора: «Поскольку в этой стране нет ни торговли, ни ремесел, все приходится делать своими руками. Вы хотите построить дом — нужны стены. Значит, надо пойти в лес, срубить дерево и распилить его, чтобы сделать форму для кирпичей. Нужно ли дерево на двери, на оконные рамы — опять поезжай в лес. Если баквейнам заплатить, они работают с большим удовольствием, но построить прямоугольное жилище не способны: как и все бечуаны[119], они строят только круглые дома. Поэтому в трех больших зданиях, построенных мною, я должен был сам уложить каждый кирпич и приделать каждую деревянную жердь. Затем другой, не менее неотложный вопрос — продовольствие. Прежде всего необходим хлеб. Мельниц тут нет: женщины мелют муку ручными каменными жерновами и сразу же сажают тесто в печь. Устраивается эта печь так: в брошенном термитнике[120] проделывают дырку и закрывают вместо заслонки плоским камнем. Иногда огонь разводят прямо на утоптанной земле; когда почва достаточно нагреется, прямо на нее ставят сковородку с короткой ручкой, а то и просто кладут тесто. Лепешку накрывают металлической миской, со всех сторон подгребают угли, а сверху на миске разводят огонь. Подобный хлеб восхитителен. Масло мы сбиваем в глиняном кувшине-маслобойке, свечи делаем в формах собственного изготовления, мыло готовим из золы: кипятим, получая щелочь, которой смываем жир. В общем, не так уж и трудно самому себя обеспечить — напротив, невообразимо приятно зависеть лишь от собственной предприимчивости. Многие найдут в такой жизни романтическую притягательность, а цель жизни — та самая деятельная благотворительность, в которой находят блаженство добрые сердца». Наконец, прожив в Колобенге уже несколько лет, Ливингстон решил исследовать озеро Нгами, о котором ему рассказывали дикари, ежегодно ходившие к его берегам. Два неустрашимых охотника, господа Освел и Меррей, вызвались сопровождать доктора. Первого июня 1849 года их отряд двинулся по течению реки Зоуга и 1 августа достиг Нгами. Было уже слишком поздно, чтобы исследовать обширный водоем, в который впадает много рек. Ливингстон вернулся в Колобенг и вновь пустился в путь на следующий год вместе с женой и тремя детьми. Он хотел, оставив семью на берегу озера, идти дальше один на встречу с влиятельным вождем племени макололо[121]. Но двое детей Ливингстона заболели лихорадкой, и ему пришлось опять вернуться в Колобенг. В третий раз доктор отправился на Нгами в 1851 году и открыл в центре континента реку Замбези. Ливингстон, чтобы более не подвергать семью опасностям нездорового климата, отправил ее в Европу, посадив жену с детьми в Кейптауне на корабль, отплывающий в Англию. Тем временем буры[122], жившие по соседству с Колобенгом — смертельные враги баквейнов, — совершили на них грандиозный набег, увенчавшийся полным успехом. Заодно они разграбили и миссию, лишив Ливингстона всего имущества. Итак, он теперь оказался совершенно свободен и мог отправляться в путь, не заботясь о своих вещах. Вскоре у него созрел план: отправиться в Сан-Паулу-ди-Луанда на западном берегу материка, пересечь по диагонали всю Южную Африку и достичь Келимане на восточном берегу. Наняв для этой длительной экспедиции баквейнов — проводников и носильщиков, — Ливингстон пересек пустыню Калахари. Это обширная территория, простирающаяся от Оранжевой реки до озера Нгами, то есть от 29° до 20° южной широты, и от Атлантического океана до 24° восточной долготы. Пустыней ее называют потому, что проточной воды в ней нет, а источники встречаются редко. Но растительности там достаточно: есть густые травы и обширные заросли кустарника, над ними — роскошные деревья; население Калахари также многочисленно. В пустыне есть одна особенность: в наиболее дождливые годы повсюду на огромных пространствах вырастает множество диких арбузов. Подобное изобилие наступает примерно раз в десять — одиннадцать лет. Тогда у всех обитателей Калахари — хищников, жвачных, толстокожих, грызунов и, конечно же, у людей — начинается грандиозный пир. Все наслаждаются ароматной нежной сочной мякотью. Львы, слоны, гиены, антилопы, шакалы, зебры, носороги, буйволы, мыши, — все большие и малые звери радостно встречают этот дар, удовлетворяющий самые разнообразные вкусы… Ливингстон выехал из Колобенга 23 мая 1853 года. Когда он прибыл в Линьянти, столицу племени макололо, все жители — тысяч шесть или семь человек — вышли ему навстречу. Из Линьянти доктор направился в Сешеке; вместе с ним вышли в поход сам вождь Секелету и сто шестьдесят знатных лиц племени макололо. Потом Ливингстон пошел на запад, как и собирался с самого начала — добраться до Западной Африки и остановиться в португальской колонии Сан-Паулу-ди-Луанда. Племя макололо богато скотом. Секелету кормил своих людей, то щедрой рукой забирая быков из собственных стад, то принимая животных в подарок от вождей вассальных племен. Маленький караван, мирно пересекавший владения Секелету, представлял собой живописное зрелище. Некоторые туземцы были одеты в туники из кумача или ситца; в волосы они вплетали бычьи хвосты или надевали парики из львиных грив. Аристократы имели исключительное право идти с дубинками из носорожьего рога, щиты они отдавали своим рабам. Носильщики несли грузы, вооруженные воины исполняли обязанности гонцов. Ливингстон и Секелету прибыли в деревню Катонга на реке Лиамбье, раздобыли тридцать три лодки и двинулись вверх по реке. Вдоль нее стоит много деревень, жители которых — отважные охотники на бегемотов — отлично обрабатывают железо, знают толк в гончарном деле, умеют резать по дереву и плести различнейшие вещи. Секелету впервые посетил всего год назад унаследованные владения от отца Себитуане. Поэтому приезд молодого монарха обрадовал местных жителей: они надеялись на какой-нибудь дар от счастливого наследника. Ливингстон добрался до Нальеле, но, сраженный лихорадкой, внезапно вернулся в Линьянти набраться сил. Путешествие в Сан-Паулу-ди-Луанда вновь отложилось, хотя и ненадолго. В конце октября Ливингстон поправился, Секелету обеспечил его всем, чтобы дойти до Атлантики — проповедник сам хотел установить торговые отношения с белыми на побережье. Одиннадцатого ноября 1853 года доктор вновь покинул Линьянти и отправился в путь по реке Чобе. Идти по ней на лодке очень опасно: стоит гребцу зазеваться — старые бегемоты, живущие по логовам, как кабаны-одиночки, тут же нападают и разбивают суденышко. Затем доктор перешел с Чобе на Лиамбье. Негры гребцы работали на совесть, но лодки продвигались медленно: поневоле приходилось иногда останавливаться в поисках пропитания, и плавание прерывалось. Тридцатого ноября Ливингстон достиг водопада Гонье — исключительно живописные места. Воды его яростно обрушиваются в бассейн девяностометровой ширины, который не может переплыть ни один пловец, даже профессиональный ныряльщик. Чтобы продолжить путь, надо было перетащить лодки волоком. Это заняло много времени, в течение которого доктор учил туземцев обращаться с огнестрельным оружием. Ливингстон продолжал идти вверх по Лиамбье на лодке, а часть его спутников шла берегом, перегоняя стада быков, предназначенных на питание путешественникам. Дикари, впервые взявшие в руки ружье, впустую расходовали порох доктора, паля по крокодилам, которыми кишела река. Опасаясь, что запасы «лекарства для ружья» (так туземцы называли порох) иссякнут, Ливингстон вынужден был сам охотиться для всего отряда. Тем временем из Лиамбье выплыли в реку Лееба; там тоже водилось полно крокодилов, таскавших скот и даже детей. Но зато вдоль реки жило множество диких пчел, а берега покрывали медоносные цветы: путники вдоволь отведали дивного нектара. Шел проливной дождь, когда доктор прибыл в землю балонда;[123] этим племенем управляла высокая сильная женщина по имени Маненко. Его радушно приютили, встретив с музыкой — звуками маримбы. Маримба, да будет вам известно, нечто вроде дикарского пианино, очень, конечно, примитивного, но весьма остроумного. Инструмент состоит из двух горизонтальных и двух вертикальных деревянных перекладин, на которых укреплены вертикально пятнадцать клавиш, тоже деревянных. Клавиши имеют шесть — восемь сантиметров в длину и сорок пять в ширину; под каждую клавишу ставят резонатором полую тыкву. Звук извлекают, ударяя по клавишам барабанными палочками. Высота звука зависит от толщины клавиши и размера тыквы. Инструмент, конечно, варварский, но интересный, особенно когда музыкант — пианист и барабанщик одновременно — хорошо знает свое дело. Здесь доктор впервые увидел, как туземцы скрепляют кровью клятву в вечной дружбе, разорвать которую способна только смерть. Два человека, желающих участвовать в этом важном обряде, садятся друг напротив друга. Рядом с каждым из них стоит кувшин туземного пива помбе. Оба делают себе на руках, на животе, на лбу и на правой щеке надрезы. К ранке прикладывают травинку, по которой капли крови стекают в пиво, после чего друзья по очереди пьют из кувшина. Ливингстона хорошо принимали все, кого он только встречал в пути. Некто Шинте, например, подарил ему раковину, по стоимости равную рабу. Затем доктор прибыл к Катеме — оригиналу в зелено-коричневой одежде и жемчужном шлеме, причудливо разукрашенном перьями. Далее Ливингстон пересек озеро Дилоло и реку Касаи — великолепную реку стометровой ширины; лодки для переправы туземцы дали путешественнику бесплатно. Через несколько дней доктор добрался до Нжамби[124], где у него стали вымогать выкуп — признак того, что вы приближаетесь к цивилизованной местности. Так как у доктора с собой были только инструменты для съемки маршрута да несколько одеял, Ливингстону приходилось вести долгие переговоры с туземцами; он их насилу убедил, что взять с него нечего. После многих приключений Ливингстон прибыл наконец в Кассандже — самую отдаленную от побережья Атлантики португальскую миссию. Первый встреченный им человек спросил у англичанина — что бы вы думали? паспорт! — и отвел к губернатору… Губернатор оказался не таким формалистом, как его подчиненный, и встретил доблестного путешественника с распростертыми объятиями. Не спрашивая никаких документов, губернатор снабдил отряд всем необходимым. Наконец 31 мая 1854 года желания Ливингстона исполнились и труды увенчались успехом. Он находился на побережье Атлантического океана, в Луанде, столице Анголы, то есть пересек южную часть Африканского континента с юга на северо-запад. Ливингстон прожил в португальской колонии несколько месяцев: с одной стороны, чтобы изучить город с окрестностями, с другой — поправить здоровье. «Раньше, — пишет путешественник, — Сан-Паулу-ди-Луанда был значительным городом; теперь в нем не более двенадцати тысяч жителей, большая часть которых цветные. Следы былого величия видны до сих пор. Из двух самых красивых церквей города одна, построенная иезуитами, превращена в мастерскую, величественный интерьер другой служит хлевом для быков. Отлично сохранились три форта, много в городе и больших каменных домов — но почти все жилища туземцев построены из веток, обмазанных глиной. Повсюду в городе множество тенистых деревьев, и с моря Луанда выглядит весьма привлекательно. Португальцы — опытные колонизаторы; у них достало здравого смысла не трогать общественное устройство туземцев и не обременять африканцев новыми законами. Некоторые туземные племена до сих пор сами управляют своими владениями. Например, вождь племени банго сохраняет титул сова, при нем действует племенной совет; народ ведет тот же образ жизни, что и до колонизации. Местное общество состоит из лиц важных и не очень, которые имеют право носить обувь и называют себя «белыми» (хотя все они очень даже чернокожие), а прочих соплеменников — неграми. Эти привилегированные особы предоставляют заботу о пропитании женам, сами же проводят время, упиваясь тодди. Тодди — не что иное, как сок масличной пальмы; он безвреден и приятен на вкус, когда течет из дерева, но, перебродив несколько часов, ударяет в голову и часто доводит до преступления. Туземцы называют его «малова»; это «бич страны». Двадцатого сентября 1854 года Ливингстон покинул Луанду и приблизительно той же дорогой вернулся в Линьянти. Он смог, однако, увидеть новые племена, нравы которых представляли особый интерес для такого исследователя, как наш доктор. На берегу речки Тамба, к югу от земель чибокве, он встретил, например, туземцев, поразивших его цивилизованностью и кротким нравом. «У жителей берегов Тамбы, — говорит Ливингстон в путевых записках, — кожа черная с оливковым оттенком. Зубы они подпиливают, чтобы стали острыми, и из-за этого улыбка женщин становится страшноватой — что-то вроде ухмылки аллигатора. Интересно, что дикари выказывают такое же разнообразие вкусов, как и цивилизованные люди. Одни туземцы увлеченно заняты своим туалетом; масло со старательно намазанных голов капает им на плечи, волосы с изысканнейшим щегольством закручены и заплетены, а одежда расшита какими-нибудь узорами. Другие с утра до вечера, а то и до глубокой ночи музицируют. Большинство музыкантов по бедности колки для инструментов делают не из железа, а из бамбука. Есть ли слушатели или нет — все равно музыканты играют. Иные туземцы выказывают нрав воинственный и не выходят из лачуг без лука со стрелами или ружья, украшенного лоскутами шкур всех убитых животных. Кто-то из соседей повсюду носит с собой клетку с певчими птицами, а некоторые женщины откармливают щенков (здесь едят собачатину). Поселения туземцев обычно расположены в лесу, состоят из беспорядочно разбросанных лачуг темного дерева, окружены банановыми посадками, хлопковыми и табачными плантациями. У каждой хижины есть терраса, где сушат маниоковые[125] корни и муку. По стенам развешаны клетки с домашней птицей, на крыше стоят корзины, где куры несут яйца. При въезде в деревню женщины и дети предлагают вам товары. Торгуясь, они трещат без умолку, но при заключении сделки вежливы и доброжелательны. Торговки настаивают, например, чтобы мои спутники обменяли на их муку говядину, заготовленную специально для продажи; в конце концов они остаются довольны крохотным кусочком мяса — думается, им нравится сам процесс торговли…» Чтобы не погубить результаты исследований, путешественник вынужден был идти медленно. Через одиннадцать месяцев доктор и его отряд вернулись в Линьянти. Путешествие в Сан-Паулу-ди-Луанда длилось более двух лет, но доктора еще ожидали лошади, оставленные в Линьянти в 1853 году! Повозку и остальные вещи Ливингстон также нашел в отличном состоянии. Всех жителей созвали послушать рассказ о его путешествии и присутствовать при вручении подарков, которые португальский губернатор и купцы из Сан-Паулу-ди-Луанда поручили передать Секелету. Ливингстон объяснил, что дары белых — свидетельство дружбы и намерения торговать с макололо. «Дары, — рассказывает доктор, — вызвали бурю восторга. Когда на следующее утро Секелету появился в церкви в полковничьем мундире, все больше смотрели на него, чем слушали мою проповедь. Впрочем, макололо так добры и так трогательно относятся ко мне, что я закрываю глаза на их рассеянность в церкви». Открыв дикарям из дебрей Южной Африки дорогу к европейским поселениям на побережье Атлантики — дорогу для торговли с туземцами, — Ливингстон задумал проложить для них путь и к восточному берегу материка. Два пути лежали перед ним — путь к Занзибару и путь по Замбези. Дорога на Занзибар была, пожалуй, легче благодаря мирному и доброжелательному характеру местных жителей, тогда как на Замбези жили воинственные племена, смертельно враждовавшие порой с макололо. Но Замбези — тот крупный водный путь, который в состоянии связать центральные области с восточным побережьем. Поэтому Ливингстон отправился вдоль по реке, левым берегом. Он полагал, что Тете — самая дальняя португальская станция — находится именно на этом берегу. Позже оказалось, что это не так — географ, составлявший карту, по которой Ливингстон намечал маршрут, ошибся. Приняв решение, доктор покинул Линьянти 3 ноября 1855 года; с ним шли Секелету и еще около двухсот человек. Вся племенная знать вызвалась сопровождать путешественников. Впрочем, они и кормились за счет вождя, который на каждой остановке пополнял стада. И о Ливингстоне — со дня его возвращения до самого дня расставания — вождь заботился с неоскудевающей щедростью. Десять дней отряд шел вниз по Замбези — то на лодках, то берегом. Потом пришлось отклониться от реки на северо-запад, чтобы обойти неприступные горы, перегородившие ее в этом месте; из-за них Замбези некогда разливалась по равнине огромным озером. Позже какой-то геологический катаклизм разломил здесь землю и открыл водам узкий, обрывистый путь на восток. Замбези с ужасным грохотом устремилась в бездонную пропасть, скатываясь в извилистую расселину, которая дальше становится ее руслом. Макололо называют этот водопад Моси-оа-тунья[126]. Доктор слышал о нем еще тогда, когда только приехал в Африку. Один из первых вопросов Себитуане, покойного отца Секелету, звучал следующим образом: «Вы у себя в стране видели пар, который грохочет?» Местные жители никогда не приближались к водопаду — они видели его только издали и, потрясенные огромными облаками пара и страшным шумом, восклицали: «Моси оа тунья!» Ливингстон хотел увидеть это чудо природы вблизи — первым из белых людей — и направился к водопаду. Уже за шесть миль (около двенадцати километров) до него путешественник увидел столбы пара. Понятно, почему этот пар называют дымом: издали он похож на пожар, опустошающий огромные пастбища в африканских саваннах. Пять столбов пара, словно опирающихся на низкий, поросший лесом обрыв, колебались на ветру. «С места, где мы находились, — пишет Ливингстон, — казалось, что их вершины теряются в облаках. У основания они белые, кверху темнеют — тем больше сходства с возносящимся от земли дымом. Вся картина несказанно красива — по берегам реки и на многочисленных островах растут огромные деревья разнообразной формы и расцветки. У каждого дерева свой неповторимый облик; многие усеяны цветами. Вот могучий баобаб[127], каждая ветвь которого могла бы стать стволом огромного дерева; рядом с ним четко рисуются на фоне неба ажурные листья рощицы пальм. Могононо, похожий на ливанский кедр, представляет разительную противоположность угрюмому моцоури, силуэт которого напоминает кипарис, а коричневатый цвет листвы оттенен кроваво-красными плодами. Некоторые деревья похожи на наши дубы, некоторые на вязы и старые каштаны. Трудно даже вообразить подобное великолепие! Кругом холмы, заросшие деревьями; в просветах сверкает на солнце земля. Не хватает только заснеженных горных вершин на горизонте. Шагах в восьмистах от водопада я сажусь в легкий челнок. Умелые гребцы ведут суденышко между камнями и водоворотами к острову, расположенному прямо перед провалом, в который низвергается вода. Мне удалось доплыть лишь потому, что уровень в реке был низким — во время паводков сюда невозможно добраться. И вот я с волнением подошел к краю пропасти и смотрю в глубину огромного разлома, пересекающего Замбези. Передо мною река тысячеметровой ширины внезапно падает на огромную глубину и сужается в русле шириною не более[128] пятнадцати — двадцати метров. Пропасть эта — глубокая трещина в базальтовой гряде, прерывающая русло реки; она тянется через цепь гор, на север от Замбези еще километров на тридцать — сорок[129]. Если заглянуть в бездну с правого берега, видно лишь сплошное белое облако в ярком радужном ореоле. Из этого облака вырывается фонтан пара стометровой высоты. Поднимаясь, пар сгущается, темнеет и выпадает мелким дождем, который промочил меня насквозь. Особенно сильный дождь идет у самой трещины. В нескольких метрах от пропасти изгородью стоят зеленые деревья; их листья постоянно мокры, а от подножия в пропасть катится множество ручейков. Но столб пара, бьющий навстречу, вновь поднимает их — и, вечно стремясь ко дну пропасти, ручьи никогда его не достигают. Слева от острова видны пенистые воды реки, текущей в сторону холмов. Высоту гигантской стены, с которой падают потоки воды, можно измерить взглядом. Стены этой гигантской расселины, состоящие из однородной породы, спускаются отвесно вниз. Край той стороны, с которой падает вода, размыт на два или три фута; от него отвалились отдельные куски, придавая выступу несколько зубчатый вид. Противоположный край совершенно ровный, только в левом углу его видна трещина, и кажется, что кусок породы скоро отвалится. Отсюда прекрасно видно, как вода падает на дно провала белой как снег пеленой, разбивается и выбрасывает при каждом всплеске фонтаны пены. Так стальные брусья, горящие в кислороде, выбрасывают снопы искр; так мириады снежных комет с ослепительными хвостами низвергаются в бездну». Ливингстон назвал водопад на Замбези именем английской королевы[130]. Это имя — водопад Виктория — сохранилось и поныне. Затем караван попал во владения батока — некогда многочисленного, но почти уничтоженного в истребительной войне племени. У них много своеобразных обычаев. В частности, достигнув половой зрелости, батока выбивают себе все верхние зубы. Нижние зубы, не стираемые верхними, делаются у них длиннее и несколько наклоняются вперед, безобразнейшим образом оттягивая губы. Если у батока спрашивают, зачем они себя так уродуют, те отвечают: «Мы подобны быкам, а у кого растут зубы — подобны зебрам». Но макололо, насмехаясь, дают этому обычаю другое объяснение. По их словам, жена одного из вождей батока поссорилась с мужем, сильно укусила его за руку и была приговорена к потере верхних зубов. То ли из придворного раболепия, то ли для того, чтобы такое больше не повторялось, мужи племени подвергли такой операции и собственных жен, а потом эту моду переняли все люди батока. Вскоре Ливингстон побывал на слоновьей охоте. Слониха с двухлетним слоненком плескалась и возилась в ручье. Звереныш весело махал ушами и крутил хоботом, а иногда, бросив игру, принимался сосать материнское вымя. Внезапно раздались крики окруживших их туземцев: «О вождь! Мы пришли, чтобы убить тебя! Вы умрете, как все! Наши животы будут вашей могилой!» Испуганные звери бросились бежать. Слоненок неосторожно вырвался вперед, но, увидев охотников, вернулся к матери, которая, чтобы успокоить малыша, нежно обвила ему хоботом голову, плечи и загородила собой. Прикрывая сына, слониха то и дело останавливалась и поглядывала на врагов, продолжавших свои заклинания, догоняла слоненка и шла рядом с ним, подняв уши и хобот, шумно дыша и все время пытаясь решить: то ли ей растоптать охотников, то ли спасать малыша. Охотники приближались и приближались: слоненок шел медленно, а все африканцы прекрасные бегуны. Показался довольно широкий ручей. Пока слониха, ни на миг не забывая о сыне, переходила его, охотники подбежали к ним шагов на двадцать. Как только слоны оказались в пределах досягаемости, их осыпали градом стрел. Вся красная от лившейся потоком крови, слониха бросилась бежать и, что удивительно, бросила слоненка. Тот удирал так быстро, как только мог, но был слишком мал, чтобы пуститься в галоп. Пытаясь спастись, бедняжка бросился в воду и прямо посреди ручья был убит. Услышав его предсмертный крик, мать повернулась и с яростным воплем бросилась на охотников. Те разбежались кто куда. Слониха устремилась за одним из негров, у которого на плечах был кусок яркой ткани (опасная неосторожность: разъяренного от боли и гнева зверя привлекают яркие цвета). Утыканная копьями, как гигантская подушечка для булавок, слониха несколько раз пыталась вновь броситься на врага. Она с трудом пробежала еще метров сто, перешла ручей, на мгновение остановилась, двинулась вперед, оглянулась еще раз на охотников, вновь получила град копий, задрожала, пошатнулась и с хриплым стоном обрушилась, как гора. Слониха была в полном расцвете сил; высота ее — два метра шестьдесят четыре сантиметра, окружность ноги — один метр двадцать два сантиметра. Постепенно приближаясь к португальской колонии, караван плыл по реке Кафуе. Там столько всякой дичи и зверья, что доктор хотел даже сфотографировать местность. Скоро, грустно замечает он, все это исчезнет, сметенное шквалом огнестрельного оружия… В этих местах все животные невероятно доверчивы. Слоны, например, спокойно обмахиваясь огромными ушами, смотрели на лодки, плывущие в двух сотнях метров от них. Огромные дикие свиньи с забавным изумлением рассматривали отряд чернокожих; сотни зебр и буйволов мирно гуляли по опушкам. Животных на этой равнине столько, что доктор замечает: «Казалось, я попал в эпоху, когда мегатерий[131] спокойно расхаживал по первобытным дебрям!» Дальше по реке начинаются леса, в которых полно ужасных мух цеце, укус которых безвреден для человека[132] и диких животных, но убивает быков и лошадей. Чем дальше продвигается экспедиция, тем чаще встречаются туземцы. Они и здесь ведут себя мирно, только собираются толпами поглазеть на невиданное в этом краю диво — человека с белой кожей. Их манера приветствия весьма необычна: при виде доктора они падали на спину, катались по земле и хлопали себя по бедрам. Ливингстон пытался объяснить, что такое странное приветствие ему неприятно, но дикари, думая, что он считает их недостаточно гостеприимными, начинали кататься по земле и бить себя по ляжкам с удвоенной силой. В каждой деревне Ливингстону давали провожатых до следующего поселения — двух-трех человек, хорошо знавших местность. Дорога здесь идет болотистой низиной, покрытой лесом, поэтому часто она тяжела, а местами и опасна для путешественников. Небольшими переходами они достигли слияния рек Луанга и Замбези, где обнаружили развалины крепости: свидетельство тому, что здесь когда-то побывали португальцы. Было очень жарко, и отряд шел неторопливо. Продолжительность дневного перехода не превышала двадцати километров — не то чтобы больше пройти было трудно, но зачем, изнуряя себя, рисковать подхватить лихорадку, если торопиться некуда? Ливингстон пересек Замбези чуть ниже копей Зумбо и направился к Ниакобе, поселению племени баньяи. Доктор заметил в характере этого племени любопытную черту, свойственную, по его мнению, только им. «У этих туземцев, кажется, авторитетом обладают только женщины. Мужчина без согласия женщины никогда ничего не предпримет, а сделать что-либо без ее разрешения он не способен». Из Ниакобы доктор вернулся на Замбези, к деревне Тете. Там португальский губернатор чудесно принял путешественника и пополнил запасы отряда. «Тете, — пишет Ливингстон, — насчитывает от силы тридцать европейских домов вместе с фортом — небольшимквадратным зданием, примыкающим к крытой соломой казарме, где размещается гарнизон. Остальные здешние дома — туземные мазанки с крышей из тростника и травы, кое-как слепленные из веток и глины. В городе, окруженном глинобитной стеной трехметровой высоты, живет около двух тысяч жителей. Примерно столько же туземцев предпочло остаться за оградой и заниматься сельским хозяйством». Из Тете Ливингстон пошел дальше вниз по Замбези до реки Келимане[133], затем — по ней до деревни с тем же названием. 20 мая 1856 года он достиг берега Индийского океана. Итак, Ливингстон целиком пересек южную часть Африканского континента с запада на восток, от Луанды до Келимане. Двенадцатого июля доктор сел на английский бриг «Фролик» и отправился на остров Маврикий, где его надолго задержала болезнь. Наконец 12 декабря 1856 года после шестнадцатилетнего отсутствия он вернулся в Англию.
ГЛАВА 8
Второе путешествие. — Замбези. — Шире. — Новый поход на озеро Ньяса. — «Пионер». — Возвращение в Англию. — Третье путешествие. — Смерть Ливингстона.Еле переведя дух, отважный путешественник затосковал по Африке и захотел вернуться. Чуть больше года прожил он в Европе — и вот уже готова новая экспедиция[134]. На сей раз целью Ливингстона было исследование Замбези и притоков. Доктор хотел, чтобы они стали удобным путем в глубь Африки и для миссионеров, и для коммерсантов. Экспедиция отправилась из Великобритании на пароходе «Перл» 10 марта 1858 года; в нее входили доктор Ливингстон, доктор Кэрк и еще несколько англичан. Через месяц пароход пристал к мозамбикскому берегу. Сейчас уже общеизвестно, что Замбези при впадении в океан образует дельту из нескольких рукавов: Миламбе (самое западное русло), Конгоне, Луабо и Тимбуэ, он же Музилу[135]. Ливингстон изучил все эти разветвления реки и пришел к выводу, что самый удобный для судоходства рукав — Конгоне. Для исследования Замбези из Англии привезли разобранный на три части пароходик для плавания по реке, собрав который, назвали «Ma-Роберт» («Мать Роберта»): так туземцы звали миссис Ливингстон по имени ее сына. Без промедления экспедиция выступила в путь. По берегам Конгоне растут огромные папоротники, панданусы, финиковые пальмы;[136] несколько выше по течению начинаются обширные саванны, черноземная почва которых на первый взгляд кажется довольно плодородной. Временами встречаешь домики на высоких сваях (как кое-где у нас на озерах) — либо для защиты от хищных зверей, либо — что вероятнее — от наводнений, способных за несколько часов внезапно затопить всю округу. Жителей здесь немного — они совершенно безобидны и ходят абсолютно голыми; хотя кругом болота, вид у людей здоровый. «Ma-Роберт» медленно поднималась по течению и своим астматическим кашлем разгоняла всех прибрежных обитателей: четвероногих, птиц, людей… Посудина была довольно скверная, особенно топка, которая пожирала дрова в невероятных количествах. Но для сколько-нибудь приличной скорости давления все равно не хватало — даже хорошие гребцы на легкой лодочке без большого труда шли вровень с пароходом. Наконец узким, слегка извилистым проходом по правую руку от Конгоне экспедиция вышла в главное русло Замбези и поднялась до Тете, где бросила якорь 8 сентября 1858 года. Как и в прошлый раз, в распоряжение доктора и его товарищей предоставили дом губернатора. Некоторые из макололо, узнав старого друга, устроили восторженный, глубоко тронувший доктора прием. За два года город совсем не изменился, только в сентябре вдоль всех улиц здесь растет индиго[137] в таких количествах, что за самое короткое время можно собрать несколько тонн. Индиго, дурман и разновидность кассии, называемая сенна, здесь главные сорняки — прежде чем обрабатывать землю, их непременно надо выдрать и сжечь. Белых здесь мало; в основном это солдаты, довольно-таки неприятные, кого здесь называют «неисправимыми», — нечто вроде наших штрафников. В самые нездоровые места колонии этих солдат посылают за ничтожное жалование, но они женятся на негритянках и имеют доход с их огородов. Из Тете доктор снова отправился к порогам Кебрабаса, о которых уже много слышал. Он приплыл к ним 9 ноября и убедился, что пройти пороги на «Ma-Роберт» невозможно — машина слишком слаба. Тогда Ливингстон запросил через губернатора судно, годное для плавания по африканским рекам, а в ожидании ответа направился по реке Шире — большому левому притоку Замбези. Кстати, по словам доктора Ливингстона, вода великой африканской реки была в те времена столь чиста, что могла заменить фотографам дистиллированную воду, в которой разводят азотнокислое серебро. Когда в начале 1859 года экспедиция впервые пошла вверх по Шире, все туземцы собрались и взялись за оружие, чтобы не пропустить ее. Самые храбрые воины засели в засаду за деревья; луки были натянуты, отравленные стрелы наготове. Женщины и дети держались в чаще поодаль — одним словом, готовилось большое сражение. В деревне Тингане пятьсот воинов встретили доктора и грубо потребовали остановиться. Ливингстон сошел на берег и объяснил: «Мы англичане, едем сюда не воевать, не похищать людей, а проложить дорогу нашим соплеменникам, которые не будут торговать рабами, а купят у вас все, что вы хотите, — хлопок, слоновую кость». Большего и не потребовалось, чтобы изменить расположение вождя, сразу ставшего дружелюбнее. Впрочем, уже само наличие парохода ясно показывало, что пришельцы относятся к незнакомому народу. Туземцы хорошо видели, что этот пароходик ни в чем не напоминает лодки работорговцев, которым местные жители не без оснований препятствовали вступать в сношения с племенами внутренних районов континента. На животных астматический пароходик производил не менее сильное впечатление, чем на людей. При его приближении бегемоты в панике разбегались кто куда. Тупые крокодилы, напротив, принимали кораблик за неизвестное животное и, остервенело гнались за судном с целью сожрать добычу. Но в нескольких метрах от корпуса крокодилы поднимали голову, тщательно обследовали жертву, находили, видимо, что такая крупная добыча им не по зубам, и, не притронувшись к металлическому чудищу, камнем шли на дно. Как говорилось выше, «Ма-Роберт» — судно металлическое, но это еще не значит прочное. Пароход уже чинили два раза, а толку никакого, так как корабль сделан из нового сорта стали, при соприкосновении с водой дающего какую-то совершенно невероятную химическую реакцию. В корпусе появляются дырки, от которых во все стороны, как по тающему льду, бегут по металлу веточками и лучиками трещинки. Вскоре дно корабля становится дырявым, как дуршлаг. Самые большие дыры кое-как затыкали, но едва пароход спускали на воду — появлялись новые. Во время первого путешествия экспедиция изучала главным образом саму реку. В низовьях она имеет не менее двух саженей[138] глубины, а выше разделяется на множество рукавов — разумеется, менее полноводных. Но, поскольку песчаных отмелей здесь нигде нет, судоходство не представляет никаких затруднений. Вскоре экспедицию остановили водопады (Ливингстон назвал их водопадами Мёрчисона[139]): впрочем, доктор и без того уже собирался поворачивать назад. Совершенно ясно, что элементарнейшая осторожность не велит предпринимать рискованный поход берегом там, где туземцы, не доверяющие чужакам, день и ночь держат вооруженную стражу. В марте следующего года Ливингстон опять отправился по Шире. На этот раз туземцы, отбросив предубеждения, приняли его дружески, продавали рис, сорго, птицу. Доктор договорился с вождем по имени Чибиса — замечательно умным человеком, — что «Ma-Роберт» останется на приколе против его деревни, по местному обычаю называемой также Чибиса. Сам путешественник с доктором Кэрком и несколькими макололо пошел пешком к озеру Ширва и вышел к нему 18 апреля 1859 года. «Озеро Ширва, — пишет он, — это довольно значительный водоем, где водятся рыбы, крокодилы, пиявки, гиппопотамы… Вода его слегка солоновата, что указывало на отсутствие стока, и производила впечатление глубокой. Над ее поверхностью, как холмы, возвышаются острова. Впервые мы увидели Ширву от подножия горы Пиримити, или Мопеупеу, расположенной к юго-западу от него. Если смотреть оттуда на север, виден морской горизонт; вдалеке можно было рассмотреть два островка. Тот, что ближе и больше, порос деревьями и похож на вершину горы. Горная цепь видна и на востоке, а на западе возвышается гора Чикала, принадлежащая, по-видимому, к большому горному массиву Зомба. Там, где мы остановились, берег был покрыт тростником и папирусом. Желая определить широту по естественному горизонту, мы вошли в воду и направились к тому, что предполагалось мелью, но тут на нас напало столько пиявок, что пришлось поспешно вернуться. После одна женщина сказала нам, что мужчины послали нас в озеро, чтобы посмотреть, как мы умрем. Озеро Ширва, расположенное на высоте тысячи восьмисот футов[140] над уровнем моря, имеет в длину, вероятно, миль шестьдесят — восемьдесят, в ширину — около двадцати. Как мы уже сказали, вода в нем солоноватая — с привкусом английской соли. Северной оконечности мы не видели, хотя проходили недалеко. Берега озера очень красивы, растительность вокруг него роскошна; мы видели, как к юго-востоку от нас волны бьются об утес, — это делало картину еще красивее. Недалеко от восточного берега озера возвышается очень высокий горный хребет Миландже — тысячи две с половиной метров над уровнем моря. Крутые остроконечные вершины, накрытые шапками облаков или уходящие выше их, фантастически величественны. К западу — горы Зомба высотой около семи тысяч футов и протяженностью около двадцати миль». Но целью доктора Ливингстона было не столько исследовать новые места, сколько завоевать доверие туземцев. Он полагал, что для этого лучше не задерживаться в одном месте надолго, а возвращаться туда чаще. Поэтому доктор решил вернуться на пароходе в Тете. В середине августа экспедиция опять прошла по Шире. Доктор намеревался продолжать исследования к северу от Ширвы, а потом направиться к неизвестному прежде озеру Ньяса. Он слышал о нем от туземцев, называвших это озеро Ньиньеси, что значит «звезды». По дороге экспедиция открыла горячий источник — в нескольких шагах один от другого из земли бьют два ключа, сливающиеся в прозрачный ручеек. Его температура оказалась 79° по Цельсию! Опущенное туда яйцо варится за три минуты[141]. Если ящерицы и насекомые слишком приближаются к воде, тут же свариваются живьем. Путешественники видели их останки на берегу. Однажды при них большой жук решил присесть на предательскую поверхность воды; он погиб прежде, чем успел сложить крылышки. Постепенно болота уступили место лесам, но земля оставалась достаточно плодородной. Путешественники прошли по стране манганджа, радостно поразившись царящему в ней порядку. Деревни здесь чисты, хорошо выстроены, рядом всегда течет речка или ручей (проточная вода для негра — половина жизни); в каждой деревне есть «боало» — площадь под большими тенистыми деревьями, где собираются все сходки. Их экономика гораздо более развита, чем воображают люди, представляющие всех туземцев жуткими дикарями, — торгаши с побережья и географы, привыкшие, не выходя из дома, роскошно живописать нравы и обычаи всех народов. «Это, — пишет Ливингстон (слог его часто однообразен, но всегда совершенно ясен), — деятельная, трудолюбивая раса. Они обрабатывают железо и хлопок, плетут корзины и циновки, но более всего занимаются земледелием. Нередко можно видеть, как все жители деревни — мужчины, женщины и дети — идут в поле и усердно работают мотыгами, а младенцы в это время спят в тени каких-нибудь кустарников». Надо отметить, наши французские крестьяне не в меньшей степени, чем эти смиренные африканцы, подчиняют себя закону труда — вот только так же ли они счастливы? Ливингстон — наблюдатель неизменно проницательный и щепетильно правдивый — дает далее такое интересное описание способа обработки девственных земель: «Вырубку леса они производят точно так же, как американские колонисты: рубят деревья маленькими туземными топориками. Стволы и ветви складывают в кучу и сжигают, а золой посыпают землю. Пни высотой около метра оставляют гнить на корню: между ними и разбрасывают семена. Если вырубка сделана на травянистом участке, манганджа захватывает обеими руками сколько может травы и завязывает узлом, а после обрубает под корень мотыгой. Так, охапку за охапкой, очищают все поле; повсюду теперь сохнет сено в маленьких пучках. Перед началом сезона дождей сено сгребают и сжигают, золу смешивают с землей и используют как удобрение. Главный промысел племени — железоделательный. Руду добывают в горах; в каждой деревне есть домна, угольщики, кузнецы. Последние делают хорошие топоры, наконечники копий и стрел, лопаты, браслеты. Принимая во внимание, что работа здесь ручная, а инструмент примитивен, все это поразительно дешево. Манганджа делают и много глиняной посуды: котлы, миски, большие корчаги для зерна, всевозможные кувшины. Их изящно лепят без круга и с немалым вкусом украшают добываемым в горах графитом. Некоторые занимаются только тем, что плетут из бамбуковых побегов красивые корзинки; некоторые вяжут сети — частью для себя, частью для обмена на соль и вяленую рыбу. Соль и рыба, наряду с табаком, железом и шкурами, — предметы оживленной торговли между деревнями. Многие манганджа имеют внешне разумный вид, пропорциональную голову, высокий лоб, приятное лицо. Они много занимаются волосами; хорошая прическа здесь — предмет гордости, поэтому они бесконечно разнообразны». И только когда заходит речь об украшении, земледелец и ремесленник, который в умении работать мог бы поспорить со многими европейскими крестьянами, проявляет себя как дикарь, влюбленный в причудливые, бессмысленные побрякушки. Некоторые заплетают длинные пряди на лбу, буйволовы рога. Эта прическа в большой моде, для нее приходится приклеивать к волосам целую сложнейшую конструкцию: трубочки, связочки, подпорки… Другие, напротив, заплетают волосы сзади в густую косу, изображающую буйволов хвост. У иных множество маленьких косичек, подпертых кусочками коры, торчат, как лучи, во все стороны вокруг головы; кто-то носит волосы уложенными в несколько ярусов, а у его соседа бритая голова блестит, как тыква. Манганджа с ума сходят и от безделушек; все пальцы, даже большой, у них унизаны металлическими фигурками животных, а руки и ноги — латунными, железными, медными браслетами. Но самое экстравагантное из этих, с позволения сказать, украшений — конечно, пелеле: кольцо, которое женщины носят в верхней губе. В детстве им протыкают губу как можно ближе к носу и в дырочку вставляют деревянную шпильку, чтобы рана не затянулась. Когда края зарубцуются, на место шпильки вставляют стерженек потолще, растянуть дырочку, затем еще толще, еще — и наконец добиваются, что в дыру на губе можно вставить металлическое кольцо диаметром шесть — семь сантиметров[142]. Манганджа-горянки носят подобное украшение все без исключения; достаточно часто оно встречается и у жительниц Нижней Шире. У женщин победнее кольца (или диски) бамбуковые, а у богатых — жестяные или слоновой кости. Металлические пелеле часто имеют форму маленькой тарелочки, а костяные — напоминают кольцо для салфетки. Женщина — если только она не в трауре — не является на людях без пелеле. Попробуйте представить себе, как ужасна губа, торчащая на два пальца перед носом! Когда женщина, давно носящая пелеле, улыбается, щеки ее судорожно дергаются, губа вместе с кольцом подскакивает до самых глаз, нос уморительно торчит в дырке кольца и видны зубы, заостренные, как у кошки или крокодила. Подобные экстравагантные кольца не только безобразны, но и страшно неудобны: невозможно произносить губные звуки, есть жидкую пищу, пить из чашки — только лакать языком. Серьезно говоря, невероятно противно глядеть, как изуродованная верхняя губа дергается при каждом движении языка, а по подбородку постоянно струйкой бежит слюна, которую не может удержать полуоткрытый рот. А скажите этим женщинам, что это ужасно, нечистоплотно, неудобно, — она ответит вам так же, как француженка, измученная корсетом и остроносыми туфлями: «Так носят!.. Коди!..»[143] Трудно сказать, откуда взялась подобная ужасная мода, распространенная не только в этих местах и даже не только в Африке: она ведь встречается и в Бразилии, недалеко от Амазонки, в штате Гояс, у индейцев-ботокудов[144]. Только индейцы называют пелеле «ботоке» и уродуют не верхнюю губу, а нижнюю. Манганджа не без изъяна: они любят служить Божественной Бутылке, явленной здесь в виде больших кувшинов пива. Варят его из проса, сорго или кукурузы, но, к сожалению, манганджа не умеют останавливать брожение и потому спешат выпить все пиво, пока не скисло. Сосед зовет соседа, и тот, всегда готовый милосердно помочь ближнему, спешит на помощь, зная, что первый при случае ответит тем же. В результате, когда заканчивается сбор урожая, в деревне на ногах никто уже не стоит. Ливингстон, сообщая об этом, замечает, что за шестнадцать лет в Африке нигде больше не видел такого пьянства. «Однажды, — пишет он, — мы пришли в какую-то деревушку. День уже клонился к вечеру. Не было видно ни одного мужчины — лишь несколько женщин сидели под деревом и пили пиво. Местный лекарь, он же колдун, вскоре вышел, пошатываясь, из хижины; на груди у него висел рог. Он упрекнул нас в нарушении этикета: — Что это за манера — являться в деревню, не предупредив о своем приходе? Наши люди быстро успокоили пьяного, но благодушного знахаря. Он пошел к себе в кладовку, позвал на помощь двух наших людей и благородно передал им большой кувшин пива для нас. Итак, мой коллега (шутит доктор) оказался гостеприимен. Зато местный вождь, когда проспался, пришел в ярость и велел женщинам под деревом немедленно бежать прочь, не то он их убьет. Почтенные дамы страшно расхохотались от одной мысли, что кто-то их считает способными куда-то бежать, и продолжали попивать пивко. Мы разбили палатки, стали варить обед. Вдруг в деревню прибежала толпа взмыленных воинов. Они посмотрели на нас, друг на друга — и стали кричать на вождя, зачем он их напрасно потревожил: — Это тихие люди, ничего плохого тебе не делают… что тебе с пьяных глаз мерещится? И разошлись по домам. Пьянство у манганджа проявляется по-разному — кто-то начинает болтать языком, кто-то тупеет, кто-то впадает в буйство, кто-то ищет драки. К последнему разряду принадлежал наш вождь. Он внезапно встал перед своими людьми и завопил на нас: — Сюда нельзя! Ступайте откуда пришли! Но когда один манганджа, оказавшийся, как на грех, неуступчивым, здорово стукнул вождя прикладом прямо в грудь, тот сразу отскочил прочь и убрался с дороги не столь величественно, сколь поспешно. Здешнее пиво похоже на розоватую жидкую кашицу. Проросшие семена высушивают на солнце, измельчают, разводят муку водой и кипятят на медленном огне. Свежее и двухдневное пиво на вкус сладкое с кисловатым привкусом, очень приятное в африканскую жару, а также для больных лихорадкой, которым всегда хочется кислого питья — одного стакана пива довольно, чтобы утолить жажду и успокоить больного. К тому же в пиве разболтана мука (очень удобный способ ее употребления), так что получается очень сытно. По всей вероятности, этот сорт пива совсем не вреден: даже те, кто злоупотребляет им, не болеют никакими особенными болезнями и не сокращают себе жизнь». У манганджа, как и на Мадагаскаре, существует испытание ядом для всех, подозреваемых в каком-либо преступлении. На большом восточном острове оно называется тонгим, а здесь — муаве. Обвиняемому дают выпить отраву; если его рвет, он признается невиновным, если нет — виновным. Манганджа так верят в силу этого испытания, что на нем настаивают сами ложно обвиненные (даже вожди). Возможно, врач, готовящий отраву, умеет каким-то образом спасти подсудимого, если считает его невиновным, но туземцы не любят об этом говорить — и никто еще не признавался, что же входит в состав муаве. Если в результате испытания кто-то признан виновным, его тут же предают истязанию и казни. Когда же бедняга испустит дух, все племя двое суток подряд шумно его оплакивает. Женщины заходятся в душераздирающих (или, пожалуй, ушераздирающих) воплях; все пиво, найденное в доме казненного, выпивается до капли, а затем — тоже в знак траура — в доме бьют всю посуду — все миски, плошки и горшки. Путешественники отправились дальше: прошли озерко Памаломбе, а 16 сентября 1859 года открыли большое озеро Малави-Ньяса. «Если пустить по Верхней Шире пароходик, — замечает Ливингстон, — и покупать слоновую кость у прибрежных жителей (а протяженность Шире от порогов вместе с берегами Ньясы не менее шестисот миль), то работорговля в этих местах совершенно парализуется — ведь реальный доход торговцы получают как раз от слоновой кости, которой нагружают перегоняемых рабов. Так можно будет приобрести влияние на огромной территории. Мазиту, живущие по северным берегам озера, не пропустят охотников за людьми через свои земли; ради уничтожения подобного промысла они будут деятельно союзничать с Англией и могут воспользоваться этим союзом для расширения собственной торговли. Ныне туземцы, продающие слоновую кость и малахит, безбожно обираются. Если мы здесь дадим им ту же цену, какую они получат на берегу, за триста миль от дома, им ни к чему будет ходить так далеко; кроме этой меры — перекрыть континентальным товарам доступ к приморским факториям, — нет другого способа борьбы с работорговлей. В итоге можно будет уничтожить подобный промысел на пространстве от Замбези до Кильвы; вне этого пространства на юге останется лишь португальский порт в Ингамбане, а на севере — часть владений занзибарского султана, за которыми могут надзирать наши крейсеры». Чтобы негры избавились от всяких подозрений и окончательно убедились в отсутствии любых отношений с работорговцами, Ливингстон не задержался на берегах Ньясы. «Ma-Роберт», кашлявшая все сильнее и обычно покрывающаяся трещинами, вернулась по Шире в Тете, затем — за припасами — по Замбези к морю, а 2 февраля 1860 года опять поднялась до Тете — штаб-квартиры экспедиции. Там Ливингстон пробыл до 15 мая и, прежде чем вернуться в Англию, решил отвести домой друзей — макололо. Сначала в поход выступило человек сто, но некоторые скоро вернулись, так как не смогли расстаться с новыми женами — рабынями из Тете. Они прекрасно знали, что женщины и рожденные от них дети принадлежали хозяевам и последние непременно предъявят свои права. Макололо по-настоящему страдали от этого, но узы, привязавшие их к Тете, были столь сильны, что разорвать их было невозможно. Поначалу экспедиция шла не торопясь, короткими переходами. У порогов Кебрабаса она немного отклонилась от Замбези и пошла через деревню Сандиа. Там несколько негров, которым не терпелось попробовать мушкеты[145], отправились охотиться на слонов. Уже вскоре им повстречалось несколько слоних со слонятами. Первая слониха в стаде, увидев охотников наверху на скалах, сразу же с подлинно материнским инстинктом укрыла малыша между ног. Сама она, несчастная, осыпанная градом пуль, бросилась бежать в саванну; но новый залп добил ее; слоненок скрылся вместе со всеми остальными. Восторженные охотники, сами не ожидавшие такого успеха, собрались вокруг гигантской туши и устроили безумную пляску с радостными воплями. Взяв в трофей хвост и кусок хобота, они вернулись в лагерь — грудь вперед, голова вверх, ружье на плече, ни дать ни взять идут маршем солдаты из гарнизона Тете. Вождь Сандиа тотчас узнал об этой удаче и явился потребовать причитающуюся ему долю — как принято повсюду в здешних местах, половина слона отдается вождю той деревни, где он был убит. Охотники проводили хозяина к месту, где лежала слониха. Тушу никто не трогал — так и лежала эта гора еды, которой десять раз хватало доверху набить могучие африканские желудки. Раздел туши — точнее, грызня из-за туши — столь же любопытное, сколь отвратительное зрелище. Люди молча встают вокруг убитого слона, и начальник отряда объявляет, что-де, по древним неотъемлемым законам, голова и правая передняя нога принадлежит убившему зверя; левая нога — тому, кто нанес вторую рану или же нанес первый удар упавшему слону; часть вокруг глаза — самому начальнику. Затем подробно перечисляется, кому что принадлежит, а жир и внутренности рекомендуется оставить для последующего раздела. По окончании речи обезумевшие негры, не ожидая исполнения недвусмысленно выраженной воли законодателя, с воплями кидаются на тушу, подобно разъяренной своре собак. В некоем исступлении они сверлят, колют, рубят, режут — топорами, ножами, копьями. Люди толкаются, падают, иногда калечат друг друга — калечат невольно, даже не замечая этого. И вот туша вскрыта. Из разверстой брюшной полости вылезают вздутые внутренности; газ вырывается, как из гигантских мехов. Этого мига все ждали с нетерпением; иные — самые оголтелые — кидаются очертя голову прямо внутрь, валяются в истекающих кровью кишках, рвут руками и зубами жир. И вот уже повсюду красные с ног до головы люди изо всех сил отрывают здоровенные куски мяса, с непрестанным воплем бегом уносят их прочь и с еще пущим воплем возвращаются, хватают мышцу, кость, сухожилие, жадно грызут… Иногда доходит и до драки — кровь так ударяет в голову, что люди готовы зарезать друг друга. Забыв обо всех приличиях, три-четыре негра, вцепившись в один кусок, злобно смотрят друг на друга, рычат, словно волки, скрежещут зубами, как крокодилы. Подчас раздается вопль — и раненый, которому пронзил руку дротик чересчур нервного приятеля, в отчаянии выскакивает из толпы и начинает скакать, судорожно размахивая поврежденной конечностью над головой. Такую ссору, чтобы она не кончилась трагической развязкой, приходится улаживать с помощью куска материи или мотка проволоки. Но из-за подобных мелочей колоссальное вскрытие не прерывается ни на миг. Вскоре в наикратчайший срок несколько тонн мяса разделаны и сложены огромными грудами. Ливингстону с товарищами, по местному обычаю, отдали слоновью ногу. В земле вырыли большую яму, развели огонь. Когда яма достаточно разогрелась, туда положили ногу, завернутую в душистые травы, засыпали золой, потом землей, а сверху опять разожгли большой костер, который горел всю ночь. На другое утро ногу подали на завтрак; она была великолепна — белесая, чуть студенистая масса, напоминающая костный мозг. Туземцы в таких случаях съедают целую прорву мяса. Горшок для варки они набивают до краев и наедаются так, что чуть из ушей не лезет. Потом они пускаются в бурный пляс под оглушающее пение. Едва первое блюдо утрясется, плясуны, утерев со лба пот и пыль, приступают к жаркому; оно тоже мгновенно исчезает. Тогда все ложатся, но ненадолго — скоро мясо опять накладывают в котелки. Так всю ночь с короткими перерывами на сон негры жарят и едят, варят и лопают… Из Сандиа экспедиция с двумя проводниками, местными жителями, 4 июня пошла дальше на запад. Вскоре вышли на Замбези там, где начинается равнина Чикоа — плодородная, довольно населенная и близ деревень хорошо возделанная. Несмотря на относительную близость человека, в саванне паслось множество буйволов, зебр, жирафов, носорогов, гну и других антилоп; все они огромными стадами приходят на водопой к реке. Для охоты на них туземцы придумали ловушки, называемые гопо: две очень частые и высокие изгороди, расходящиеся в виде латинской буквы V. В вершине они не соединяются, а продолжаются коридором шагов в пятьдесят длиной; в конце коридора выкопан ров шириной метров пять-шесть и глубиной метра два-три. По краям рва укладывают борта из бревен. С той стороны, откуда звери бегут, и с той, куда они стремятся, борта кладут выше; убежать через них практически невозможно. Всю западню вместе с бортами закрывают камышом и травой. Длина изгородей доходит до целой мили, такое же приблизительно и основание треугольника, который они образуют. Поэтому если все племя встанет вокруг гопо в круг (диаметром мили три-четыре), добыча наверняка получится довольно большая. Туземцы окружают стадо животных и, постепенно сужая круг, громкими криками загоняют их ко входу в гопо; в этом месте прячутся другие охотники, которые кидают в зверей копья. В испуге животные устремляются к единственному выходу, который им открыт, попадают в коридор между изгородями, ведущий в ров, и один за другим валятся туда, пока ров не наполнится. Лишь последним в стаде удается убежать по груде изуродованных тел полудохлых товарищей… Ужасное зрелище! На него невозможно хладнокровно смотреть, но туземных охотников оно прямо захватывает. Вне себя, в упоении погони, черные загонщики с воплями (так вопят все нецивилизованные люди, охваченные страстью) подбегают ко рву — и начинается чудовищная бойня. Потеряв от радости голову, они устремляются к горе изнемогающих трепещущих тел, которые в ужасе ревут; кто-то попал на рога, кто-то раздавлен копытом… Негры с остервенением тычут в эту груду копьями, разом насаживая по нескольку грациозных животных… Вскоре вся яма превращается в отвратительную клоаку[146], в которой перемешались грязь, кровь и трупы. Большинство здешних животных безобидно, но немало встречается и львов, приходящих в эту степь на охоту. Подобное соседство для путешественников неприятно, а иногда и опасно. Поэтому на ночь лагерь всегда ограждают валом из колючих веток и зажигают большие костры. Ужин — самая плотная трапеза в течение дня; его приготовлением заняты все. После ужина европейцы расходятся по палаткам, а туземцы-батока, собравшись у костра, начинают болтать и петь песни. Один из них играет на сансе — что-то вроде маленького переносного пианино — и до поздней ночи тянет бесконечную песнь, простодушно прославляющую подвиги сородичей и собственные, совершенные в ходе странствий с белым человеком. Подчас барды[147] превращаются в политиков. Тогда ораторы одушевляются, начинается перепалка — и диву даешься, откуда у дикарей в споре берется столько красноречия! Все возбуждены; между кострами, как между парламентскими фракциями, завязываются дискуссии… Даже те, кто ни о чем другом вообще никогда не разговаривает, начинают говорить красно и страстно. Вечеринка окончена, и все засыпают до рассвета. Поднимаются в пять часов и закусывают сухарем со стаканом чая; люди свертывают подстилки, дежурный укладывает мешки. Мешок («фумба») вешают на один конец деревянного шеста, котелок на другой, а шест кладут на плечо. Повар грузит на себя кое-как протертую посуду — и с восходом солнца колонна трогается в путь. В девять утра — привал на завтрак; как правило, чтобы не терять времени, еду готовят с вечера — остается только быстро развести огонь и разогреть ее. После завтрака трогаются опять и идут до полудня; в полдень — снова привал и короткий отдых. Еще через пару часов останавливаются уже до утра. Таким образом, колонна в час проходит две — две с половиной мили[148] по прямой; переход длится часов шесть, не более — итого около двенадцати миль. Больше в жаркой стране и не пройдешь, если заботиться о здоровье, не переутомляться (что неизбежно ведет к лихорадке) и вообще если хотят, чтобы путешествие было в удовольствие, а не в тягость. Навстречу по дороге часто попадаются местные жители. Этих одиноких пешеходов встреча удивляет, но не тревожит. Когда туземец отправляется в далекий путь, он берет с собой подстилку на ночь, полено вместо подушки, котелок, мешок муки, трубку, кисет, лук, пару стрел и палочки, с помощью которых разводят огонь, если случится заночевать вдали от жилья. Хвороста здесь везде довольно, негры сгребают его в кучу и разжигают костер. Это делается следующим образом. Палочки сделаны из дерева очень твердого, но с мягкой сердцевиной; длина их фута два-три. В одной из палочек сверлят дырку и кладут на землю, подложив лезвие ножа. Человек садится на корточки и прижимает палочку большими пальцами ног, в дырку под прямым углом вставляет другую и вертит взад-вперед, налегая изо всей силы. Через минуту или чуть побольше из сердцевины вылетают искры и скатываются по лезвию ножа на подложенный пучок сена. Сено тлеет; его хватают и сильно трясут, чтобы раздуть огонь. Это работа нелегкая — если кто нежными руками попробует быстро и с силой вертеть палочку, тут же сотрет ладони в кровь. Все так же не торопясь, экспедиция 9 июля пришла в Семалембуэ при устье Кафуэ, переправилась через нее и пошла дальше левым берегом Замбези по землям батока[149]. Почва здесь плодородна; всюду растет редкий лес без подлеска. Туземцы встречали путников очень хорошо: повсюду знали, что Ливингстон с друзьями идут с миром. Куда бы они ни пришли, им давали самую лучшую муку, птицу, пиво, табак. Можно сказать, что они проходили триумфальным маршем. Соседи называют батока «баэнда-пези» («ходящий голым»)[150], потому что они не носят никакой одежды, а только мажутся охрой. Правда, иные из них обдирают лыко с деревьев и плетут веревочки дюйма в два длиной. Затем они обривают голову сзади и сантиметра на четыре над ушами, оставшийся клок курчавой шевелюры красят охрой, разведенной на масле, и обвязывают своими веревочками. Получается нечто весьма странное, отдаленно напоминающее фуражку. Несколько рядов речного жемчуга, проволочный браслет на руке, неизменная трубка и щипчики для уголька — разжечь трубку: вот вся одежда и багаж самого большого щеголя среди «голышей». Чем дальше шли путешественники, тем возделанней становилась земля. Вокруг деревень сплошь простирались обширные поля сорго. Много было кругом и табачных посевов — в мире нет, пожалуй, более заядлых курильщиков, чем батока: с трубкой они не расстаются никогда. Зато ни в одном железнодорожном вагоне вы не встретите курильщиков столь учтивых. Даже принимая гостя в собственном доме, батока никогда не закурит, не спросив разрешения: в нашей утонченной Франции многим, очень многим не мешало бы у них поучиться! Способ курения туземцев совершенно необычен; сами они утверждают, что нет лучше способа отравлять себя табаком. Сначала они вдыхают дым, как и все курильщики, затем отцеживают самую грубую, по их мнению, часть и резко заглатывают самый, если так можно выразиться, табачный дух — квинтэссенцию табака. Ну и на здоровье! Есть у батока и другая страсть, гораздо более полезная, — земледелие. Здесь дикари ни в чем не уступят культурным нациям: они умеют выводить самые лучшие сорта деревьев и злаков. Неусыпным трудом аборигены улучшают отобранный сорт и добиваются десятикратного увеличения урожая. Этим они весьма отличаются от соседних племен, которые не сажают деревьев и не сеют хлеба, но собирают кое-как дикие злаки на старых вырубках и валят деревья, чтобы собрать плоды. У батока есть великолепные фруктовые сады, где иные деревья достигают до восьмидесяти сантиметров в диаметре, и обширные амбары, из-за которых деревни кажутся гораздо больше, чем на самом деле. К несчастью, в амбарах много червей. Поэтому батока, желая сохранить урожай, хранят его в земле. Когда сходит половодье, жители складывают большое количество зерна, уложенного в корзины, сплетенные из сухой травы и обмазанные глиной, на песчаные острова посреди Замбези — спрятать от грабителей и вредителей. Бессильны они, к несчастью, против долгоносика: тот пролезет повсюду, поэтому надолго урожай все же не сохранишь. Из большей его части варят пиво, а пиво тоже надо пить побыстрее… Выходит, что долгоносик — главная причина пьянства у батока! Не только как земледельцы батока выше соседей — у них есть и свои барды, поэты саванн. К несчастью, ни устное, ни письменное предание не хранит плодов их вдохновений. «Один из этих менестрелей[151], весьма способный, — пишет Ливингстон, — несколько дней шел вместе с нами. На каждом привале он пел нам хвалебные песни в гармоничных легких пятисложных белых стихах! Сначала песнь нашего импровизатора содержала лишь несколько строф. Но постепенно — по мере того как наш бард узнавал о нас все новые подробности — она удлинялась и наконец превратилась в длинную оду. Когда же мы ушли слишком далеко от его дома, он с сожалением распрощался с нами и вернулся домой, получив достойную награду за свои приятные и полезные славословия. Был такой сын Аполлона[152] и в самом нашем отряде — впрочем, далеко не столь талантливый. После ужина, когда все кругом болтают, спят или занимаются готовкой, он повторял свои стихотворения; в них рассказывалось все, что он увидал у белых и повстречал по дороге, так что каждый день к его “Одиссее”[153] прибавлялась новая песнь. Впрочем, импровизация не стоит ему труда; он ни когда не запинается ни на минуту: если нужное слово в голову не приходит — просто прибавляет для ритма какой-нибудь бессмысленный звук. Читал он под аккомпанемент сансы. Музыкант держит корпус музыкального инструмента, расписанный орнаментом, в руке к себе лицом, а другой рукой перебирает девять железных клавиш. Музыкальные люди, у которых не хватает средств на такой инструмент, делают корпус из стеблей сорго, а клавиши — из бамбука; звук получается очень слабый, но исполнитель и тем бывает доволен. Если под сансу подложить как резонатор пустую тыкву, она, естественно, звучит громче. Еще туда подкладывают мелкие ракушки и кусочки жести; их позвякивание сопровождает аккорды маэстро». Ливингстон шел дальше на запад и пришел в Моачемба — первую деревню батока во владениях своего старого друга Секелету. Там он мог уже ясно разглядеть столбы дыма — водопад Виктория, — хотя до него было еще далеко. Через три дня он пришел к этому чуду природы, намереваясь рассмотреть его подробнее, чем в первой экспедиции[154]. Путешественники направились оттуда дальше вверх берегом Замбези, перешли близ устья реку Лекуэ и вскоре повстречали гонцов от Секелету. «Великий вождь, — сказали гонцы, — просит вас идти поскорей, не мешкая по пути». Ливингстон понял, что дело не терпит, пошел быстро, как только мог, и 18 августа 1860 года пришел в Шешеке. Старый город лежал в руинах — Секелету перенес свою резиденцию на другой берег. Сам несчастный государь находился в ужасающем состоянии: все тело изъела болезнь, подобная проказе; туземные врачи сочли больного безнадежным и отказались лечить. Вождь горько жаловался Ливингстону на страдания. К великой радости доктора, больного удалось вылечить «адским камнем»[155]. Посудите сами, насколько удачное лечение в столь безнадежных обстоятельствах подняло престиж белых вообще и Ливингстона в частности. Доктор убедился, что за семь лет племя сильно выродилось. Он полагает, что это связано с продолжительной засухой, губившей урожаи, и страшными лихорадками, косившими людей. Приход путешественников внес разнообразие в жизнь обывателей Шешеке. Туземцы толпой собирались вокруг белых людей, особенно в обеденные часы, — посмотреть, как едят гости, а заодно и попробовать их еду. Мужчины, когда им давали ложку, пользовались ею довольно странно: зачерпнув супа, переливали в ладонь и только из ладошки хлебали. Женщины с особенным ужасом смотрели, как белые мажут масло на хлеб. Они еще понимали, что в крайнем случае масло можно топить или класть в кашу, но вообще-то они мажутся им как кремом, полагая не без резона, что кожа от него делается мягкая, гладкая и блестящая. Из Шешеке доктор пошел в Линьянти, где некогда жил; там еще стоял фургон путешественника с кое-какими вещами. По дороге он встретил несколько семей бакалахари. Это тихие забитые люди; их родина — пустыня Калахари, но едва соседи сделают вид, что собираются им угрожать, как бакалахари впопыхах разбегаются. Чтобы никто их не трогал, они забираются в самые сухие безводные места — ведь африканцу для жилья в первую очередь нужна река. Бакалахари же, едва найдут ключ или просто лужу, тут же прячут воду — засыпают песком. Чтобы набрать хотя бы немного воды, несчастные женщины бакалахари идут к такому спрятанному источнику (иногда очень далеко) с двумя-тремя десятками пустых страусовых яиц за спиной. В скорлупе сделана дырка толщиной в палец. Женщины берут тростинку около полуметра длиной, с одной стороны приделывают к ней пучок травы, с другой — соломинку и зарывают стоймя во влажный песок. Когда трава намокнет, женщины высасывают воду через тростинку. Рядом с собой они кладут яйца и опускают соломинку в дырочку; так постепенно, вдох за вдохом, вода перетекает в скорлупу. Попробуйте поставить на илистый берег бутылку и перекачать таким способом воду из ила — вы убедитесь, что она превосходна. Так женщины бакалахари, пользуясь собственным ртом вместо насоса, запасают воду. Дома они тщательно ее прячут. Бедные люди! Как подчас тяжела борьба за жизнь! В Линьянти Ливингстон нашел в целости и сохранности свои вещи, оставленные у туземцев. Аптечка, волшебный фонарь, книги и инструменты были в полном порядке. Негры — старые друзья доктора — очень просили его остаться, но Ливингстону непременно нужно было вернуться в Шешеке, а оттуда в Тете. Из Шешеке он 17 сентября 1860 года отправился к устью Замбези за новым, давно обещанным от английского адмиралтейства судном взамен «Ma-Роберт», упокоившейся на одной из мелей Шире — вся дырявая, как огромный дуршлаг. В конце декабря он достиг берега моря; всего через месяц — 31 января 1861 года — пришел и корабль «Пионер» вместе с двумя крейсерами Королевского британского флота. На них прибыл епископ и несколько миссионеров для проповеди жителям берегов Шире и озера Ньяса. Ливингстон хотел ехать с ними, но добрался лишь до озера Ширва, потому что тогда манганджа воевали с работорговцами. Второго сентября доктор предпринял новую попытку. Она оказалась удачней, но в начале ноября Ливингстону опять пришлось вернуться: он узнал, что к нему приехала жена. Тот же английский корабль доставил жен еще к нескольким миссионерам, и пароход для плаванья по Ньясе, разобранный на двадцать четыре части. Тогда Ливингстон опять отправился на замечательное озеро, исследовал его западный берег и северную оконечность, собирался составить полное описание этого огромного водоема… Депеша от английского правительства вдруг положила конец исследованиям великого путешественника. Она гласила: «Жалованье экипажу «Пионера» ни в коем случае не будет выплачиваться после 31 декабря 1863 года». Ливингстон понял значение этих строк(решительно, их грубый лаконизм — позор английских властей!). Депеша пришла 15 сентября; пришлось срочно возвращаться — иначе доктор остался бы в центре Африки без средств к существованию. А он провел здесь двадцать два года! Тринадцатого января 1864 года Ливингстон прибыл в устье Замбези и сел там на английский пароход «Орест». Через Занзибар он добрался до Бомбея, а 20 июля сошел на английский берег. Но оседлый образ жизни в цивилизованной стране не пришелся по душе отважному путешественнику. Не пробыв в Европе и года, он уже в 1865 году отправился в новую экспедицию. Доктор поставил перед собой четыре главные задачи: стереть белое пятно на карте между озерами Ньяса и Танганьика; завершить исследование Танганьики (ибо увидевшие его первыми Бёртон и Спик не смогли дать полного описания); исследовать как можно дальше земли к западу от Танганьики и пройти к северу от озера в направлении экватора. Ливингстон остановился ненадолго на Занзибаре, затем безуспешно пытался подняться по реке Рувума, впадающей в Индийский океан почти на широте Коморских островов. Тогда он пошел обратно в сторону Занзибара до бухты Макиндани, уже оттуда двинулся к западу и вновь вышел на Рувуму. 18 мая 1866 года на Занзибаре получили от него письма, отправленные с этой реки. Затем несколько месяцев никаких новостей не было. Путешественник, перевалив через горы, вышел к озеру Ньяса. Там сопровождавшие его люди отказались идти дальше и сбежали. Дома, на Занзибаре, им причиталась приличная сумма, поэтому, чтобы оправдать преждевременное возвращение, они придумали довольно правдоподобную историю о смерти доктора. Сам путешественник, спустя девять месяцев после выхода с побережья, пришел в Берубу к северо-западу от Ньясы и направился к Танганьике. Из Берубы ему удалось отправить с караваном, шедшим на Занзибар, письмо к лондонским друзьям. Еще через год от доктора дошли вести с Танганьики, переданные неким арабским купцом. Еще через некоторое время получили письма из Луэнде, столицы Казембе, от 8 июля 1868 года, в которых содержались чрезвычайно важные сведения о географии и гидрографии областей, окружающих Танганьику с запада и юго-востока. Затем три года о путешественнике не было никаких достоверных сведений — лишь однажды случайно дошел слух, что он живет в Уджиджи. Только 10 марта 1871 года доктор Кэрк получил письмо от двух арабов. Путешественник-христианин, писали они, в конце предыдущего года находился с несколькими слугами без всяких средств к существованию в местности, называемой Монакозо. С июля 1868 года доктор отправил тридцать четыре письма — и ни одно не дошло! Он занимался исследованием местности к западу от Танганьики и надеялся выйти к Нилу. Легко понять, что в Лондоне эти новости вызвали большой переполох. Географическое общество, решив послать экспедицию на выручку к Ливингстону, провело среди своих членов подписку и скоро собрало требуемую сумму. В экспедицию отправились родной сын путешественника Освальд Ливингстон, а также господа Генн и Доусон, офицеры морского флота. Они прибыли в Занзибар, но предприятие плачевно провалилось. Причину неудачи искали в сезоне дождей и недостатке средств. Может быть, следовало прибавить недостаток энергии и согласия. Оставим это — последуем примеру мудрых англичан, которые во имя национальной гордости не обращают особенного внимания на некоторые мелкие неприятности. Скажем лишь, что там, где сын путешественника потерпел неудачу и ничего не смогла сделать великая нация, добился успеха Стенли. 10 ноября 1871 года Ливингстон встретился с ним, а 27 апреля 1873 года — скончался на берегах Танганьики[156]. Рассказывая о жизни и приключениях Стенли, мы уже поведали, как слуги Ливингстона отнесли прах исследователя к побережью Индийского океана. Оттуда он был доставлен в Англию и с большой помпой похоронен в Вестминстерском аббатстве. Давид Ливингстон впервые уехал в Африку в 1840 году и пробыл там, за исключением трех очень коротких приездов в Европу, тридцать три года. Между тем его родина отчаянно торговалась с путешественником за каждую копейку субсидий на великое культурное дело. Зато устроила королевские похороны…
ГЛАВА 9
МАЙОР СЕРПА-ПИНТУ[157]
От Бенгелы до Замбези. — Неприятности. — В огненном кольце. — Приступ. — Измена. — Спасение. — Переход через Африку.Мало того, что англичане, злоупотребляя силой, украли у португальцев часть их колониальных владений — они еще давно пытаются опорочить их. Кто все время с чисто англосаксонским упорством распространяет ложные слухи о работорговле португальцами? Англичане! Кто смеет утверждать, что этот гнусный промысел в заморских португальских владениях терпим правительством и ведется непосредственно под сенью лузитанского[158] флага? Опять англичане! А почему? Какова цель гнусной клеветы? Да очень просто. Под лицемерным предлогом гуманности Англия стала во главе движения за отмену работорговли (малоприятное занятие арабов). Под этим предлогом Лондон претендует на право осмотра подозрительных судов, берегов, при необходимости — и временного захвата гаваней, где будто бы находят убежище или устраивают склады торговцы людьми. Какое, собственно, дело англичанам до африканских невольников? Ведь у них под боком есть «братский остров» — Ирландия[159], и там довольно, казалось бы, белых рабов, на которых английское правительство могло бы упражняться в человеколюбии… На деле британцы желают — лицемерно скрывая истинные помыслы под благовидным предлогом — завладеть всеми или почти всеми берегами Африки от тропика до тропика, вредить неанглийской торговле, занимать земли временно — и остаться там навсегда, как в деле с Египтом. Разумеется, благородные, сохранившие рыцарские понятия португальцы с негодованием протестовали против лицемерной клеветы британских торгашей[160]. Этот протест послужил причиной замечательной экспедиции по Африке майора Серпа-Пинту. В начале 1877 года по предложению г-на Жуана ди Андроди Корву португальский парламент одобрил кредит в 169 тысяч франков на исследовательскую экспедицию. Ее цели законодатели определили следующим образом: разведка стран, находящихся между Анголой и Мозамбиком; выяснение географических связей Заира и Замбези; поиск легчайших и надежнейших торговых путей от океана до океана; упразднение работорговли. Декретом от 11 мая 1877 года начальником экспедиции был назначен командир 4-го егерского батальона королевской армии Алберту ди Роша Серпа-Пинту, помощниками — моряки лейтенант Бриту Капелу и младший лейтенант Роберту Ивенш. Серпа-Пинту тогда исполнился тридцать один год; он родился в 1846 году в городе Синфайнш на левом берегу реки Дору. Как мы убедимся, невозможно было вверить экспедицию более достойному и отважному человеку. Начало похода обескураживало. Португальские офицеры, кое-как наняв носильщиков, 12 ноября 1877 года вышли из Бенгелы. Из-за половодья они шли южнее, чем некогда Камерон. 12 декабря экспедиция прибыла в Килленгиш, а 1 января должна была выйти в Каконду. И вот совсем еще недалеко от Бенгелы — причем на территории, прямо подчиненной Португалии, — неприятность следует за неприятностью. Носильщиков не найти. Серпа-Пинту в одиночку отправился в деревню Нисети на правом берегу Кунене и попытался сторговаться с вождем по имени Дуарти Бандейра, который прекрасно встретил майора и за бочонок водки пообещал сто двадцать носильщиков. Серпа-Пинту уже готов отправиться в путь — и вдруг в последний момент Бандейра отказывается от обещания. Между тем майор получил письмо от Капелу с Ивеншем, оставшихся позади со всем багажом; помощники объявили, что не могут больше следовать за ним, и предлагали оставить ему треть груза. Не находя оправданий такому поразительному решению, которое могло быть вызвано лишь неким прискорбным недоразумением, Серпа-Пинту хладнокровно посмотрел правде в глаза. Он находился во враждебной стране; туземцы только потому не трогали его после выхода из Каконды, что принимали маленький отряд за авангард большого экспедиционного корпуса. Старый купец Силва Порту в этих местах выдержал много тяжких боев — что же будет с ним, когда узнают, что у него лишь десять человек! До Каконды всего три дня пути, а до Бие, где условия для путешественников все равно не бог весть какие — двадцать переходов. Что же: внять голосу разума и вернуться в Бенгелу? Серпа-Пинту выбрал себе девиз древних римлян, с незапамятных времен сопровождающий землепроходцев: «Audaces fortuna juvat!»[161] Он решился раз и навсегда, будь что будет — надо идти вперед. Серпа-Пинту отправился к вождю страны Нану, головорезу Капоку, разбойничавшему в окрестностях. Тот нашел для него сорок носильщиков, которых должно хватить, чтобы тащить часть груза, переданную при разделе Капелу и Ивеншем. Двадцать первого февраля Серпа-Пинту двинулся дальше в Бие. В тот же день его чуть было не растоптал разъяренный буйвол. Вечером майор вышел пострелять себе дичи на ужин. Внезапно огромный зверь, выставив рога, без всякой видимой причины набросился на него. Серпа-Пинту был очень храбр и прекрасный стрелок; он спокойно подпустил зверя и уже взял ружье у оруженосца негритенка Пепеки, как вдруг вспомнил: ружье заряжено дробью! Он уже расстался в мыслях с жизнью, но все же выстрелил дуплетом и постарался спрятаться за дымовой завесой. И тут, вопреки опасениям, случилось невероятное: буйвол перепугался и бросился без оглядки в лес. Путешественник был спасен! Тогда же майор узнал, что Капелу и Ивенш направились, опережая его, в Бие, желая, вероятно, идти в глубь Черного континента своим путем. На другой день у Серпа-Пинту украли ружье, козу и барана. 23 числа в Думбу ему пришлось с револьвером в руке защищать от туземных грабителей свой запас водки. Если бы не негр Верисиму Гонсалвиш, который еще столько раз докажет свою преданность, путешественника наверняка бы зарезали. Серпа-Пинту определил линию водораздела Кунене и Кубанго между горами Домбу высотой 1700 метров и Бурунда высотой 1585 метров, под 10° восточной долготы[162]. 5 марта, выйдя из одной деревни племени ламонпа, он миновал водораздел бассейнов Кубанго и Кванзы. Ночью, в страшную бурю, путешественник вышел на берег Куквеймы. Там его скрутил страшный приступ ревматизма и лихорадки. Идти он не может — его несут в гамаке. Река вышла из берегов и катила свирепые волны, неся множество обломков. Серпа-Пинту хочет переправиться во что бы то ни стало; он добыл себе скверную пирогу, вмещающую лишь двух человек, и сел в нее вместе с гребцом. На середине реки кое-как сколоченная, замшелая лодка протекла и стала тонуть. Гребец, чтобы спасти ее, прыгнул в воду, но это не помогло. Лодка накренилась на один борт, на другой и пошла ко дну. Вмиг майор оказался посреди бушующих волн; одной рукой он греб, другой — держал над головой хронометр. От такого шока он тут же выздоровел: ни ревматизма, ни лихорадки как не бывало. Но зато, обсохнув, Серпа-Пинту получил такой солнечный удар, что чуть не умер на месте. Невероятным усилием воли майор добрался до фактории Бельмонте, принадлежавшей Силва Порту, и там слег. За ним усердно ухаживали бывшие его товарищи, Капелу и Ивенш; они также пришли в Бельмонте, а оттуда собирались пересечь континент. Серпа-Пинту был так плох, что Ивенш даже предложил отвезти майора обратно в Бенгелу, прежде чем они сами пойдут дальше. Но тот категорически отказался и остался в Бельмонте один со славным негром Верисиму и белой козочкой Корой. Эта Кора была при нем с самого начала пути; теперь она становилась копытцами на постель к больному, ласково блеяла, лизала в лицо и просила погладить. Двадцать седьмого марта Серпа-Пинту почувствовал себя лучше, а к середине апреля силы стали прибывать с каждым днем. Не теряя времени, путешественник во всех подробностях изучил дорогу на Зумбо, Тете и Сена, по которой собирался идти, составил карту Бие, привел в порядок записи в дневнике и начал готовиться к походу. Места впереди лежали опасные — не вооружив людей, идти было нельзя. У Серпа-Пинту было лишь десять карабинов Снайдера да десятка два кремневых ружей. Эти старые мушкеты он починил, заготовил боеприпасы, упаковал все и 6 июня отправился в поход. Больше всех он доверял Верисиму Гонсалвишу и начальнику носильщиков Аугошту — бенгельскому негру геркулесовского сложения, храброму, сильному, честному, преданному. У него была, однако, удивительная мания: он непрестанно женился. Аугошту оставил жену в Бенгеле, другую взял в Домбу, третью — в Киллингише, четвертую — в Каконде, пятую — в Уамбу, а за время болезни хозяина то ли пять, то ли шесть раз сочетался браком в Бие. «В конце концов, — пишет Серпа-Пинту, — претензии всех его шумных супруг мне надоели. Я вызвал Аугошту, сурово отчитал и пригрозил уволить, если он не исправится. Негр ревел белугой, валялся у меня в ногах, всячески обещал исправиться и наконец сказал так: если только я дам ему штуку материи для жен, чтобы заткнуть им рот, он больше не будет иметь с ними никаких дел. Я дал ему требуемое, но в ту же ночь меня разбудил необычайный шум на другом конце деревни: песни, хохот, одним словом, настоящее веселье. Я послал спросить, что происходит; вернувшись, мой человек доложил, что это празднуют свадьбу Аугошту с девицей из деревни Жамба!» Шестого июля Серпа-Пинту нашел несколько носильщиков и отправился на восток. 14 числа он пересек Кванзу — часть экспедиции на купленной в Лондоне лодке конструкции Макинтоша, часть на пирогах, одолженных у «со́ва» (вождя) Ливики. Серпа-Пинту пришел в землю кимбанди[163] и послал подарки сова по имени Маванда. Тот подарки принял и попросил еще вдобавок… рубашку! Он также просил у Серпа-Пинту помощи против вражеского племени. Путешественник отказался вмешаться в распри туземцев и остался ожидать носильщиков. Тщетно! Сова все обещал их и не присылал. Впрочем, Маванда — ростом истинный колосс — не сердился на майора за отказ в помощи и подарил португальцу огромного быка, и они расстались как лучшие друзья. Все свободное от трудов время путешественник перекладывал багаж так, чтобы тюков было как можно меньше. Лодка занимает два тюка, а бросить ее жалко. На обмен почти ничего не осталось: только мешок каури[164] и стекляшек. Увидев, что состояние его более чем скромно, он всерьез готовился к самому худшему. Двадцать четвертого июня Серпа-Пинту переправился через Уду, красивую реку пятнадцатиметровой ширины, поросшую по берегам дивными древовидными папоротниками. На другой день явились наконец носильщики. Он ожидал тридцать человек — а пришло четверо! Не важно! Дело за тем не станет. Двое понесут лодку, двое — самые тяжелые тюки. Из земли кимбанди он попал к лучази[165], живущим в междуречье притоков Замбези — Кониту и Лунгвенбунгу. 1 июля, только что переправившись через Кониту, майор повстречал трех негров, гнавших рабынь на продажу. Задержав негодяев и освободив женщин, Серпа-Пинту предложил им свою защиту и покровительство. Каково было его удивление, когда женщины дружно ответили, что им ничего не надо и зачем помешали идти своей дорогой! Серпа-Пинту двинулся дальше через Бембе, Ньун-Гоавиранду и 5 июля вышел к подножию хребта Карсара-Кайера высотой 1614 метров над уровнем моря и 137 метров от места стоянки. Лагерь разбили на берегу речушки Карисампоа, впадающей в Лунгвенбунгу. Десятого июля майор убил леопарда и сделал себе из его шкуры подстилку. Затем он вышел к реке Квандо, крупному болотистому притоку Замбези, а вскоре — Кубанги, очень красивой реке, кишащей крокодилами. Вместе с двумя негритятами путешественник поплыл вниз по ней на лодке Макинтоша. В пяти километрах ниже Кангумбы он увидел трех антилоп неизвестной породы. Серпа-Пинту вскинул ружье, но антилопы проворно кинулись с головой в воду и пропали из виду. Позже путешественник еще не раз встречал этих удивительных животных и изучил их. Они невероятно проворно плавают и ныряют, выставив на поверхность только кончики рогов; жители Бие называют их кишобу[166], а амбвела — бонзи. Взрослая антилопа всего с годовалого теленка ростом. Шерсть у нее темно-серая и на редкость гладкая, достигающая в длину от шести до двенадцати сантиметров. На голове шерсть короче; морду на уровне ноздрей пересекает белая полоса. Рога у антилоп вытягиваются сантиметров на шестьдесят; в сечении у основания они полукруглые, торчат почти прямо и закручены штопором. На суше антилопы малоподвижны: копыта у них вытянутые, как у барана, и загнутые наподобие коньков. Они всегда живут в воде — только на ночь выходят попастись. В воде они и спят, и отдыхают, ныряют не хуже гиппопотамов. Часто для туземцев они становятся легкой добычей, но охотятся на них больше ради превосходных шкур, чем из-за мяса. Двадцать пятого июня поднялась тревога: майор увидел, что не все люди были на месте. Отправившись на поиски, он обнаружил беглецов в лесу — последние даром тратили патроны, стреляя рыбу и кишобу. Завидев начальника, все разбежались, кроме двоих: один на коленях просил прощения, другой схватил топор и ринулся к майору. Серпа-Пинту бросился на него, обезоружил и сильным ударом в голову опрокинул на землю. «Я думал, что убил нападавшего, — пишет он, — но и случись такая беда — она огорчила бы меня меньше, чем этот первый случай неповиновения в отряде. Вокруг меня собрались люди, которым я велел отнести раненого в лагерь. Они тут же исполнили приказание. При виде крови, струившейся из безобразной раны, все стали молчаливы и покорны. Я осмотрел рану и убедился, что жизнь человека вне опасности, а если от раны в голову сразу не умирают, заживает она быстро. Насколько хватало моих скромных знаний, я помог раненому, а потом собрал на совет всех туземцев — решить, какого наказания заслуживает его преступление. Большинство высказывалось за казнь, меньшинство — исколотить палками до полусмерти. Я ограничился устным выговором и отпустил виновного на волю. Мое милосердие покорило всех присутствующих, хотя сначала они никак не хотели принимать мои слова всерьез». Двадцать девятого июля экспедиция, уже почти без провианта, пришла в деревню Кагвегове, расположенную под 17°50′ к востоку от Парижа и 14°30′ к югу от экватора — резиденцию вождя кушиби. У Серпа-Пинту кончился не только провиант, но, что еще хуже, подошла к концу материя на обмен: оставалось всего несколько штук. Однако местный со́ва принял его весьма любезно. Это был чистокровный амбвела с почти что орлиным профилем; женщины племени также очень красивы. Амбвела живут на Верхней Квандо, там, где в нее впадают Кембо, Кубанги, Кушиби и Шикулуи. Вдоль Кубанги жители ставят дома на сваях либо на островках, которыми усеяно русло реки, либо прямо в воде. Лодок здесь ни у кого, кроме них, нет, и они спокойно спят в надводных жилищах, не опасаясь внезапных нападений. Более чем радушное гостеприимство со́ва Моэне из Кагвегове иногда даже смущало майора, которому стоило большого труда избавиться от некоторых любезностей — несомненно, лестных, но все-таки слишком фривольных, подходивших разве что неутомимому жениху Аугошту. Серпа-Пинту прожил у этих славных людей — простых и гостеприимных, как все земледельческие племена, — до 4 августа, затем переправился вброд через реку, ширина которой здесь доходила до девяноста метров. Далее португалец перешел притоки Квандо — Кочова, Кушиби и Катогу. Проводник, шедший с майором через земли старика Моэне, на прощанье дал такой совет: — Вы сейчас пойдете по дороге на Лиамбаи. Я-то эти места знаю, всю жизнь там провел. Так я скажу: всегда держите под рукой самый лучший карабин. Не зевайте по дороге в джунглях — здесь множество хищных зверей. Особенно остерегайтесь буйволов в долине Нинда. Вы встретите могилы многих людей, которых они затоптали; среди них есть даже белые. Так что будьте начеку! И действительно — Серпа-Пинту повстречал могилу купца Луиша Албину, убитого буйволом. Удивительное совпадение: любимый негр Албину, старик Пунгу Адугу, был в караване майора. Нинда сливается с Луати и образует Ньенго, впадающую в Замбези несколько южнее пятнадцатой параллели. Чуть ниже слияния Нинды с Луати близ маленького поста Калумбеу начинается земля баротсе[167], где Серпа-Пинту и остановился. Шестнадцатого августа он увидел, что в лагерь бесцеремонно вошел негр с женой и тремя мальчиками. Путешественника поразили его энергичное лицо, живой взгляд и смелое поведение. — Кто ты? — спросил майор. Негр ответил: — Я Кайумбука; я пришел к тебе. Майор с живейшей радостью услышал это имя. Кайумбуку, старого спутника Силвы Порту, знали повсюду — от Ньянгове до озера Нгами. Когда Серпа-Пинту уходил из Бельмонте, сам Силва Порту сказал ему: — Если вы встретите Кайумбуку и наймете к себе на службу, у вас будет самый лучший помощник, какого можно сыскать на юге Центральной Африки. С тех пор майор повсюду безуспешно его разыскивал — и вот Кайумбука пришел сам. Они проговорили около часа; майор передал негру письмо от Силвы Порту и подарки. Поздно вечером договор был заключен, и Серпа-Пинту представил Кайумбуку спутникам как своего заместителя. С 17 по 20 августа у путешественников почти не было еды. Увидев, как его люди умирают с голоду, а местные крестьяне не желают ничего продавать, хотя кладовые ломились от провизии, майор собрал всех своих людей и произвел набег на ближайшую деревню. Он взял силой ровно столько, сколько было нужно, чтобы накормить спутников, а стоимость реквизированного возместил жемчугом и порохом. Негры поразились — они не ожидали от победителей такой щедрости — и пообещали впредь продавать еду. Двадцать четвертого августа Серпа-Пинту вышел к Замбези, пересек ее и прибыл в Лиалуи, столицу повелителя баротсе Лобоси. Молодой монарх — ему было лет двадцать — радушно принял путешественника и как будто очень заинтересовался его миссией: казалось, он понимает культурное и торговое значение экспедиции. Но, узнав, что матабеле[168] всем племенем пошли на него войной, Лобоси испугался, разозлился и стал вымещать зло на майоре — мелочно, по любому поводу и так чувствительно, что Серпа-Пинту понял: дело скверно. Тем временем негры, сопровождавшие путешественника из Бие, испугались, что им придется вмешиваться в распрю баротсе с матабеле, и испросили разрешения уйти. В маленьком отряде осталось пятьдесят семь человек. Король вдруг сбросил маску и даже не пытался больше скрыть свое природное вероломство. 2 сентября он приказал Серпа-Пинту сдать все оружие с запасами пороха, немедленно оставить его владения и возвращаться в Бенгелу. Майор, разумеется, решительно отказался и заявил, что пойдет дальше на восток. В ночь на 4 сентября путешественник узнал от одного из министров Лобоси, старого слуги Ливингстона по имени Мачуана (рисковавшего жизнью из-за одной любви к белым людям), о готовящемся на него убийстве. И действительно, несколько часов спустя Серпа-Пинту еле уклонился от брошенного в упор в темноте копья — оно чуть было не пронзило майора насквозь. В ответ он выстрелил из револьвера, ранил и захватил убийцу. Но этого злодея — несомненно, нанятого Лобоси — вскоре похитили, чтобы его показания не скомпрометировали гнусного царька. На другую ночь одна негритянка, очень преданная Серпа-Пинту, сказала, что опасности еще не миновали. Она тайком пробралась к нему в палатку и поспешно прошептала: — Берегись: Кайумбука тебе изменил, люди Силвы Порту тебе изменили, хотят убить тебя. Смотри за ними хорошо: они такие злые, такие злые… Шестого сентября на рассвете Серпа-Пинту допросил Верисиму Гонсалвиша, которому всегда доверял, пригрозил, что в случае чего бенгельский губернатор велит посадить в тюрьму его жену и детей, вообще всячески запугал — и добился-таки правды. Негритянка все сказала совершенно точно. Более того: коварный Лобоси хотел дать Серпа-Пинту охрану якобы до Мозамбика, которая должна была убить путешественника, чтобы завладеть ружьями и порохом. В результате надо было скорей бежать, но даже самые лихорадочные сборы требовали не менее двенадцати часов. К ночи приготовили, а наутро назначили выступление. Пусть майор теперь сам расскажет об этом драматическом эпизоде: «Ночь была ясная и прохладная; я сидел у дверей хижины, погруженный в грезы о родине, о семье, о судьбе экспедиции, находившейся в столь серьезной опасности. Вдруг мое внимание привлекли какие-то блики, мелькавшие в воздухе вокруг лагеря. Я выбежал за ограду — и все понял. Это было ужасно: сотни людей, окружив лагерь, метали на крыши из сена горящие головни. Еще минута, и порыв сильного восточного ветра разнесет огонь по всем кровлям. Люди кимбаре потеряли голову и в панике разбежались, бенгельцы во главе с Аугошту поспешно собрались вокруг меня. Опасность грозила страшная, но я сохранял спокойствие и думал только об одном: надо непременно выстоять в этой переделке и победить. Из горящей хижины я поспешно вытащил ящики с инструментами, бумаги, записи, порох и вместе со спутниками поспешно сложили вещи на площадке посреди лагеря. Пожар уничтожал жилища одно за другим, но сюда добраться не мог. Верисиму, который был рядом со мной, я сказал: — Здесь я продержусь еще долго. Любой ценой выберись отсюда и беги к Лобоси в Лиалуи; скажи, что его люди напали на меня. Еще найди Мачуану и тоже все расскажи. Верисиму метнулся между горящими остовами хижин и скрылся. В это время на нас обрушился страшный град дротиков; многие мои люди были тяжело ранены. Мы отвечали огнем из карабинов, но остановить туземцев не удавалось: они ворвались в лагерь. Спрятаться за домами было невозможно: все сгорело дотла. Я стоял посреди лагеря, защищая португальское знамя; люди кимбаре вновь обрели отвагу и встали вокруг меня, отстреливаясь вкруговую. Только все ли они там были? Нет! Не хватало одного человека, который должен был встать здесь первым, Кайумбуки, заместителя начальника экспедиции. Когда пожар стал гаснуть, я понял, насколько безнадежно положение: врагов было в сто раз больше, чем нас! Увидев, как множество здоровенных негров скачет вокруг огней, можно было подумать, что мы находимся в настоящем аду. Прикрывшись щитами, туземцы с нечеловеческими воплями мчались и мчались вперед, потрясая страшными дротиками… Бой был ужасен, но огонь скорострельных карабинов пока еще держал орду дикарей на расстоянии. Но нет, подумал я, надолго это не затянется: наши патроны таяли на глазах… С самого начала у меня было не более четырех тысяч патронов к карабину Снайдерса, а всем известно, как быстро тают боеприпасы в ночном бою против превосходящего противника. Чтобы нас не перебили, необходимо было вести непрерывный огонь. Аугошту дрался как лев, но вот он в смятении подбежал ко мне и показал свое разорванное ружье. Я велел негритенку Пепеке передать ему мой карабин для охоты на слонов и патроны к нему. С новым оружием Аугошту вновь бросился в первый ряд и почти в упор выстрелил в самую гущу врагов. После этого выстрела дьявольские вопли приняли другой тон: негры с криками ужаса стремглав бросились наутек. На другой день я понял, почему они так разбежались: карабин был заряжен разрывными нитроглицериновыми пулями[169]. Попадает в тебя такая — сразу сносит голову или разрывает в клочья. Так что первые же выстрелы привели туземцев в панику, а нас спасли». Седьмого сентября в девять часов утра экспедиция выступила в путь почти без всяких припасов, захватив с собой раненых. Десятого числа она остановилась в густом лесу в двадцати четырех километрах от места, где перенесла столько опасностей. Как ни спешил майор дальше, ему пришлось остаться там на целые сутки — люди изнемогали от тяжелого перехода и нуждались в отдыхе. Он сам падал с ног — ведь у него не было ни минуты передышки — и крепко заснул, приказав Аугошту зорко стоять на страже. Но и тот на мгновенье поддался усталости. В полночь он разбудил начальника воплем: — Измена, хозяин! Наши люди разбежались и унесли все, что осталось. Увы, ужасная весть подтвердилась. Из многочисленного хорошо вооруженного отряда вместе с Серпа-Пинту осталось лишь восемь человек: Верисиму, Аугошту, Камотомбу, Катрайю, Муеру, Пепека и две женщины — жены молодых негров. Украли все — оружие, боеприпасы, провизию, — все, кроме бумаг путешественника, его одежды и личного оружия. У него оставалось лишь тридцать патронов со стальными пулями для карабина Лепажа и двадцать пять дробовых патронов к мушкету Девима… Отважный офицер не согнулся под ударами ополчившихся на него бедствий: он счел долгом продолжать борьбу наперекор всему и, спасаясь самому, уберечь и тех немногих, кто остался верен ему. Серпа-Пинту был изобретателен, как и подобает путешественнику: все у него шло в дело, любой подвернувшийся под руку предмет становился полезен. Он вспомнил, что в тюке, который служил ему вместо подушки, в особом отделении лежал двуствольный карабин — подарок португальского короля; там же было пятьсот запасных гильз, а секстант был обложен двумя упаковками мелкого пороха по килограмму каждая. Но где же взять пули? Неслыханное везение: на деревьях осталась висеть сеть, которой в экспедиции ловили рыбу. Итак, пули можно отлить из свинцовых грузил сети, а форма для литья нашлась там же — рядом с королевским карабином. Целый день Серпа-Пинту отвешивал порох, лил пули, делал патроны — и к вечеру у него было уже триста зарядов, не считая патронов к ружью Девима. Это были все боеприпасы для защиты и добычи еды. Лобоси согласился дать майору лодки (видимо, на него произвела впечатление энергия Серпа-Пинту), на которых путешественник отправился по Верхней Замбези или, иначе, Лиамбаи. В деревнях Налоло, Муангана, Итуфа ему приходилось высаживаться на берег, чтобы лодки не разбили гиппопотамы (в целях экономии патронов майор не хотел в них стрелять). 3 октября он убил огромного льва, а 4-го подошел к водопаду Гонье, прерывающему водный путь. Отсюда начинается сплошная цепь порогов и водопадов: водопады Кате, Момбуэ и Катима-Мориро, пороги Бобуэ и Луссо. Двенадцатого октября, в день рождения жены, Серпа-Питу чуть не умер от приступа лихорадки. Чувствуя приближение смерти, он продиктовал Верисиму и Аугошту завещание и наказал передать его бумаги и записи любому встречному миссионеру. Но после усиленных подкожных инъекций хинина лихорадка, сверх всяких ожиданий, прошла. 13 числа, будучи еще ужасно слабым, Серпа-Пинту отправился на лодке в Катонго, а 17-го прибыл в деревню Эмбарья у слияния Замбези и Квандо. Эта часть путешествия отважного португальского офицера имеет важное значение для географии. Он определил координаты истоков притоков Кубанго и Квандо, нанес на карту течение Кубанги, Кушиби, а также весьма извилистое течение Верхней Замбези от Лиалуи до Эмбарья, доказал, что Кубанго не сообщается с Квандо, что эта последняя река удобна для торговли, ибо судоходна на протяжении трех тысяч километров, как и Замбези с притоками Либа и Лунгвенбунгу. Наконец, он разобрался в хитросплетениях рек, питающих Кунене, Конго и Замбези, и заменил на картах фантастические данные, которые некоторые географы предпочитали белым пятнам, другими, ясными и точными. После многих лишений, злоключений и недоразумений с носильщиками и царьком Эмбарья Серпа-Пинту пересек Квандо и пришел на стоянку английского натуралиста доктора Брэдшоу, у которого прогостил четыре дня. Оттуда майор направился в крааль[170] французского миссионера Куайяра, радушно принявшего португальца. От переутомления Серпа-Пинту тяжело заболел и поправился благодаря лишь заботливому уходу доктора Брэдшоу, госпожи Куайяр и ее племянницы. Тринадцатого ноября он вместе с семьей миссионера — эти достойнейшие люди стали друзьями и попутчиками — оставил крааль Луксума. Через два дня они приехали в другой, по имени Говеджума, в пятидесяти пяти километрах к югу. 2 декабря спутники отправились через Калахари, о которой мы уже рассказывали при описании путешествий Ливингстона. Португалец нанес на свою путевую карту северную часть пустыни и назвал ее именем английского путешественника Томаса Бейнса. Мы уже говорили, что Калахари — огромная равнина, пересеченная то здесь, то там руслами пересохших рек. В сезон дождей там растет высокая трава и прочая зелень, кусты покрыты цветами, деревья — листьями. В пустыне много и всевозможной дичи, особенно близ рек и озер, которые, как и в Центральной Австралии, крохотные и в жару пересыхают. Впрочем, почти все они солоноваты и непригодны для питья, так что по Калахари можно путешествовать только в сезон дождей. В это время здесь много сочной травы, без которой не обойтись быкам, запрягаемым в тяжелые местные фургоны — настоящие дома на колесах. Время было как раз благоприятное; Серпа-Пинту нанял такой фургон и за месяц добрался от Даки до Шошонга. По дороге он установил течение Наты, Симоане и Литублы. Берега этих рек, покрытые — если можно так выразиться — беспорядочной растительностью, во время дождей привлекают миллионы птиц, покрывающих землю толстым слоем гуано[171]. Все три реки впадают в большое соленое озеро Макарикари (туземцы называют его «соленой сковородкой»), к которому майор вышел 20 декабря. Во время дождей притоки несут в озеро воды с западных склонов земли матебеле. Туда же течет и река Ботлете из озера Нгами; по мнению майора, она является продолжением Кубанго. Когда же в Макарикари вода поднимается, Ботлете течет на запад — в озеро Нгами. Несмотря на такую странную особенность Ботлете — периодически менять направление течения, — удалось, как пишет господин Анри Дювейрье, установить, что малые притоки не оказывают на озеро почти никакого влияния: таким образом, Макарикари образовано разливами Кубанго, к системе которой принадлежит и оно, и Нгами, и все лежащие между ними лагуны. Мы не будем следовать за неустрашимым путешественником по этим местам: они уже хорошо изучены экспедициями Бейнса, Болдуина, Ливингстона и многих других исследователей Южной Африки. 21 декабря майор оставил берега Макарикари, а 31-го прибыл в Шошонг, где две недели наслаждался заслуженным отдыхом. Пятнадцатого января Серпа-Пинту распрощался со славной семьей Куайяров, а 15 марта, через четыреста восемьдесят три дня после выхода из Бенгелы, пришел в Порт-Наталь. Он пересек Африку с запада на юго-восток и около четырех тысяч километров прошел по неисследованным землям. В заключение представим мнение об отважном португальце одного из славнейших наших путешественников, господина д’Аббади:[172] «Таких путешественников, как Серпа-Пинту, к сожалению, слишком мало, а его путешествие — одно из лучших за все времена. Он сделал важные наблюдения; записи его безупречно четки. Это образованный и очень умный исследователь. Он сделал важный шаг в развитии географических знаний, и географические общества Парижа и Лондона по всей справедливости наградили майора большими золотыми медалями.
ГЛАВА 10
КАПИТАН БЁРТОН[173]
Внутреннее африканское море. — Сомнения. — Английская экспедиция. — Озеро Танганьика. — Спик открывает Виктория-Ньянзу.Всего тридцать пять лет назад мы знали Африку ненамного лучше, чем древние. Ее тайны охраняли свирепые — больше по слухам, чем на деле, — племена, убийственный климат и, должно признаться, безразличие цивилизованных наций к географическим наукам. Как красноречиво говорил в 1860 году Эдуар Шартон[174], достопочтенный и приснопамятный основатель журнала «Тур дю монд»: «Напрасно процветала в плодородной Нильской долине древняя цивилизация! Напрасно Карфаген и Рим установили в Африке свое владычество, арабы воздвигли мечети, торговцы устроили фактории! Она и до наших дней остается неведомой людям». Из рассказов о пустыне заключали, что вся Африка — сплошное пустое пространство, море песка, безводная почва. При виде верблюдов и страусов совсем забывали о крокодилах и бегемотах… И вот в 1856 году мир с изумлением и недоверием принял новость: немецкие миссионеры, пастор Эрхардт и доктор Рибман, странствуя по Экваториальной Африке, узнали, что там существует большое внутреннее море. Самые сведущие люди Европы отказывались верить в подобный Каспий на востоке Африки между экватором и 15° южной широты. Это были, несомненно, люди выдающиеся, но с молоком матери впитавшие представление, будто вся Африка безводна, безлесна, покрыта песком. Итак, большое озеро в Африке казалось им нелепицей, физической невозможностью. В честности миссионеров европейская общественность не сомневалась, но полагала, что путешественники соединили в одну цепь маленькие озера, указанные на португальских картах и доверчиво перенесенные оттуда на наши. Но все же поднялся шум, и вопрос был слишком интересен, чтобы оставить без ответа. Впрочем, тогда уже начали понемногу заниматься географическими изысканиями, а страх перед чудовищными живоглотами понемногу проходил. Наметились контуры значительного движения, которое к концу XIX века стало необратимым. Лондонское Королевское географическое общество сочло полезным проверить и, если удастся, дополнить сообщения миссионеров. С этой целью оно снарядило экспедицию «в район африканских озер». Командование поручили капитану Ричарду Ф. Бёртону, служившему прежде в Бенгалии; его познания, отвага и великолепные прежние исследования вполне оправдывали выбор Общества. Капитан Бёртон, превосходно представляя себе трудности путешествия, попросил себе в помощники сослуживца по Индии капитана Спика[175]. Экспедиция отправилась из Англии в начале 1857 года и прибыла на Занзибар 14 июня. Без промедления Бёртон и Спик с отрядом из сорока занзибарцев отправились в Каоле, маленький городок в стране Мрима на побережье континента. Затем они медленно двинулись через однообразно плоские равнины, покрытые вперемежку саваннами, лесами, травянистыми долинами, на которых реки после разлива в сезон дождей оставляют множество болот, заросших огромными тростниками, кишащих рептилиями и насекомыми; над ними вечно висят ядовитые тучи, распространяющие малярию. В первые месяцы малярией заболели многие, но вскоре отряд пришел в Узагару — прелестный горный край с вечнозелеными долинами, умеренным климатом, чистым воздухом. Там все поправились и окрепли. Жители Узагары, как сообщает Бёртон, красивые, высокие, сильные люди; борода у них гуще, чем у других туземцев, цвет кожи неодинаков: от почти черной до шоколадной. Некоторые из них бреют голову, другие носят арабский шушах (нечто вроде ермолки), большинство — древнюю египетскую прическу. Начесанные надо лбом нестриженые волосы заплетают во множество косичек из двух прядей каждая. Они тверды, как штопор, и потому не путаются; вся их масса образует вокруг головы густой занавес, падающий от макушки на загривок. Нет прически оригинальней и эффектней, особенно когда в нее вплетены комочки охры, пластинки слюды, стекляшки, металлические шарики и тому подобные предметы; они болтаются, сверкают и при малейшем движении головы позвякивают друг о друга. Воины и юноши носят в волосах также перья страуса, коршуна и ярких соек; в некоторых племенах в каждую косичку вплетают красную нитку. Расчесать такую шевелюру средней густоты — работа на целый день. Поэтому неудивительно, что расчесывают их редко и головы туземцев становятся рассадником вшей, а для червей тамошние условия — прямо-таки рай земной. У этих племен есть удивительная манера растягивать себе мочку уха таким же способом, как бразильские ботокуды и некоторые негры на Замбези уродуют нижние или верхние губы. В мочке прокалывают сначала тонюсенькую дырочку и начинают вставлять все более и более крупные предметы — дырочка постепенно становится больше. Когда сидящий в ухе диск наконец удаляют, мочка уже спускается до плеч. После такой операции уши получают множество функций, не имеющих ничего общего с природными: в них вставляют табакерки, пастушьи рожки, огнива с трутом, мелкие инструменты… Немного погодя путешественники поднялись по крутой тропке, петлявшей по обрывистым красноцветным склонам, усеянным обломками скал и еле прикрытым редкой травой. Алоэ, кактусы, молочаи, гигантские восковые плющи и чахлые мимозы указывают на засушливость, хотя рядом все еще растут и величественные баобабы, а кое-где попадаются прекрасные тамаринды[176]. По обеим сторонам тропки мрачно белеют обглоданные муравьями скелеты, а иногда можно увидеть распухшие трупы носильщиков, погибших от голода или от оспы. Когда экспедиция перешла горную цепь, она спустилась вниз и вновь очутилась в болотистых оврагах, на зловонной земле, где озерки и трясины заражены малярией. Но деревья, растущие в условиях вечной влажности, великолепны — капитан Бёртон не скрывает восхищения этими баобабами, пальмами, тамариндами и сикоморами[177], возвышающимися среди зарослей бамбука и папируса. Несмотря на всю закалку, путешественник нелегко переносил местный климат, укусы насекомых, всевозможные трудности на пути. «Холодная роса, — пишет он, — пронимала нас до костей; ноги еле держались на скользкой дороге; люди и лошади бесились от укусов черных муравьев. Эти муравьи достигают в длину более двух с половиной сантиметров; у них бульдожья голова с такими мощными челюстями, что они могут уничтожать крыс, ящериц и змей, растаскивать по кускам трупы самых крупных зверей. Живут они во влажных местах, роют ходы в грязи, кишат на дорогах и не знают, как и все их сородичи, ни устали, ни страха. Невозможно оторвать такого муравья, когда он впивается вам в тело жвалами[178], как раскаленной иглой. В джунглях обитают еще мухи цеце, прокусывающие наши полотняные гамаки. Вьючные ослы падали один за другим, провиант заплесневел и подошел к концу, болезни обострялись… Мы еле могли усидеть в седле и ожидали, что вот-вот нас придется нести на носилках». Бёртон шел дальше на запад через земли, населенные мелкими племенами, каждое из которых образует свое государство и имеет собственного вождя. Крупнее других государство Угого; благодаря здоровому климату его населяет очень крепкая порода людей. Отличительным признаком этих племен является отсутствие двух средних резцов на нижней челюсти; у мужчин — часто и одного. Но еще проще их узнать по невероятно растянутым ушам. Это отличительный знак всех туземцев и привилегия свободных — как мужчин, так и женщин (рабам строго запрещено иметь подобные уши). Одежда жителей Угого по сравнению ссоседями указывает на несколько бо́льшую цивилизованность. Лишь немногие из них носят звериные шкуры, а дальше к западу — полотняные набедренники. Даже дети обычно ходят одетыми. Почти все мужчины носят подобие накидки из ситца или арабской клетчатой ткани. Богатые женщины одеваются в яркие шелка и тонкое полотно, бедные — в суровое полотно. Маленькие девочки носят нечто вроде передника или, скорее, повязочки до колен с поясом из двух рядов крупных голубых жемчужин, называемых сунгомаджи. Сзади к поясу привязывают ленту двухметровой длины, присобранную спереди и завязанную на талии; при каждом резком движении концы этой ленты, доходящей до середины икр, очень эффектно развеваются. Как и повсюду на Черном континенте, мужчины повсюду ходят с оружием: все носят большой обоюдоострый тесак, которым пользуются и в сражении, и для разных обиходных работ. Щитов у них нет, зато есть очень опасные, страшно зазубренные дротики с толстым древком длиной около метра и двадцати пяти сантиметров; шейка наконечника доходит до середины копья. Арабы считают эту народность дурной, тщеславной, злобной, хвастливой и разбойной. Надо согласиться, что никакого представления о приличиях у жителей Угого нет: они приходят целой толпой в палатку к путешественнику, рассаживаются, бесстыдно разглядывают гостя и беспощадно высмеивают все, что им кажется странным. Толпа преследует вас повсюду, не отстает в продолжение нескольких миль; женщины с голой грудью и с младенцами за спиной бегут за вами и что-то злобно кричат; девушки при виде чужеземца громко хохочут и издеваются над ним, как уличные мальчишки в странах с более скромными нравами. Но самое любопытство доказывает, что туземцы поддаются совершенствованию: полностью выродившиеся народы — австралийцы или огнеземельцы[179], например, — совершенно равнодушны ко всему новому. Первого ноября, отдохнув и немного пополнив запасы, караван покинул Угого и направился через заросли в Рубуги. 7 ноября он пришел в Каш, столицу Уньянембе и главное арабское поселение в этих местах. Против своей воли Бёртон задержался там из-за довольно обычной в Африке неприятности: его носильщики сбежали и нужно было набрать новых. Во многих местах это бывает трудно, только не в Уньянембе: здесь почти все местные жители занимаются подобным промыслом. В большинстве других африканских стран его считают презренной рабской службой, здесь он почетен для мужчины. Более того — уметь носить тяжести здесь так же необходимо, как у нас иметь определенное занятие; это знак добропорядочности и силы. Дети с молоком матери получают пристрастие к подобному занятию и с самого юного возраста таскают маленькие куски слоновой кости. Они такие же прирожденные носильщики, как породистые собаки — охотники; из-за тяжкого груза у трудолюбивых малышей на всю жизнь остаются кривые ноги, как у животных, которых слишком рано заставляют работать. В Уньянембе любят путешествия, но страстно привязаны и к родной земле; если туземцами овладела страсть вернуться домой, ничто их не остановит. Они с огромной охотой нанимаются на службу, но вблизи родных мест готовность идти дальше держится на тонкой ниточке: при малейшем предлоге носильщики собирают пожитки и всей толпой исчезают. Когда экспедиция приближается к их краям, у туземцев надо отобрать и сложить все имущество (ткани и стеклянные побрякушки) вместе с общей поклажей и выставить вооруженную охрану. Но и такая предосторожность часто не помогает. Одержимые единой пламенной страстью, они становятся глухи к голосу рассудка и к собственной выгоде — ностальгия помогает им изобрести всяческие уловки для побега. Как правило, туземцы-носильщики не сразу трогаются в путь вслед за караваном, чтобы тот, кто заплатил, не нагнал их и не вернул силой. Итак, они склонны к бегству и безразличны к тому, что их наниматель окажется в затруднительном положении, но в некотором роде они люди честные: почти не бывало примера, чтобы кто-то унес хотя бы тюк поклажи. Капитан Бёртон, как зоркий наблюдатель, описывает сцену выхода в путь. Это интереснейшее описание, и читатель, конечно, не посетует на предоставленную возможность оценить его прелесть. «Все тихо, как на кладбище, — пишет Бёртон. — Все спят — даже часовой стоя покачивается возле костра. Часа в четыре утра один из наших петухов, встрепенувшись, приветствует восход; ему отвечают другие петухи. У нас бывало до шести таких живых будильников, являвшихся всеобщими любимцами; они сидели на шестах носильщиков и по первому требованию получали воду. Я сам давно проснулся и позевываю спросонок, а если хорошо себя чувствую — то уже и перекусил. Едва побледнел восток, я зову гоанцев[180] развести огонь; зевая и поеживаясь (температура градусов пятнадцать по Цельсию), они поспешно исполняют приказание и приносят еду. В такое время суток аппетит неважный — хорошо было бы возбудить его разнообразием. Мы пьем чай, если есть — кофе, едим печенье из теста на сыворотке, размоченное в рисовом отваре, иногда — похлебку, похожую на кашу. Тем временем белуджи[181] ставят на костер жаровню и, усевшись кругом, поют священные гимны, курят табак, подкрепляются чем-то вроде кускуса[182] и печеными бобами. Пять утра. Все проснулись, и начинаются перешептывания. Это критический момент. Носильщики обещали выйти сегодня пораньше и сделать большой переход. Но они изменчивы, как волна, как сердце красавицы; этим прохладным утром они совсем не похожи на людей, которым вчера пришлось жарко. Многие из них, возможно, в лихорадке, но в любом караване есть лодыри без царя в голове, зато с громким голосом, которым лишь бы перечить на каждом шагу. Если такой работничек решил отдохнуть, то греет себе руки-ноги у огня, не поворачивая головы, и только исподтишка хихикает, глядя, как бесится хозяин. Если все эти люди, склонные к подражанию, единодушны, вам остается только вернуться в палатку. Но если между ними есть разногласия, первый, кто чуть-чуть пошевелится, увлечет за собой остальных. Отряд оживляется, повсюду раздаются крики: “В дорогу! В дорогу! Пошли! Пошли!”; иные еще хвастают: “Я сильней осла! Сильней быка! Сильней верблюда!” Бьют барабаны, звучат дудки, свистки, рожки… Когда все готовы, проводник — человек из племени киранго в роскошной одежде — берет груз, один из самых легких, красный флаг, утыканный колючками, и идет впереди; за ним следует носильщик и бьет в литавры, напоминающие по форме песочные часы. Вот наконец весь караван в сборе, выстроился в колонну и ползет чудовищным удавом по склону горы, в глубоком овраге, по ровному полю… Сразу за проводником идут “раздатчики” с тяжелым грузом слоновой кости — они горды, что несут драгоценную ношу. На кончике каждого клыка непрестанно тинькает колокольчик, как на шее у коровы; к другому концу привязан скарб носильщика: бутылочная тыква, циновка, коробка, глиняный горшок. Если ноша слишком тяжела, два человека тащат ее на шесте, как паланкин[183]. Все люди одеты плохо: если бы кто вздумал в дороге прихорашиваться, его бы подняли на смех. Когда собирается дождь, все снимают плащи из козьих шкур, тщательно сворачивают и подкладывают под груз на плечо. Получив порцию зерна, носильщики ссыпают его в мешочек и привязывают сзади к поясу. Получается нечто вроде турнюра[184], на котором они сидят, как на табуретке. Главное развлечение в дороге — гвалт; рожки и барабаны соревнуются на громкость, все свистят, поют, завывают, рычат, изображают птиц и диких зверей, кричат такие слова, каких на отдыхе не произносят, и непрестанно болтают. В караване есть старший, иногда даже несколько; они идут обычно в арьергарде, чтобы подгонять отстающих и следить, не собрался ли кто сбежать. В восемь часов — привал и завтрак. Носильщики снимают поклажу и осторожно ставят на землю; тем временем женщины шелушат зерно и толкут кофе. В деревне, у себя дома, африканцы обыкновенно едят умеренно, в дороге — до отвала. Не заботясь о завтрашнем дне, они объедаются, а позднее жестоко страдают от голода. Вечером стреноживают скотину, разжигают костры и обедают, потом — сказки, песни, пляски! Да, у этих усталых людей находятся еще силы, чтобы плясать с такой страстью, о которой не имеют никакого представления те, кто не видал этих плясок. Часов в восемь вечера раздается крик: “Спать! Спать!” Все тотчас подчиняются, и вскоре над недвижным лагерем звучит согласный храп. Только женщины, которые здесь так же болтливы, как и везде, часто в полночь пробуждаются и встают… чтобы всласть наговориться!» После многих тревог, лишений и тягот Бёртон поднялся на крутую гору, поросшую колючими зарослями, и увидел на горизонте сверкающую водную гладь. Это была Танганьика! «Первый же взгляд на озеро, раскинувшееся под тропическим солнцем среди гор, — пишет Бёртон, — поражает воображение… У нас под ногами — дикие ущелья с еле заметной тропкой внизу. В пропасти вьется никогда не выцветающая изумрудная полоска тростника, разрезающая волны и примыкающая к золотой ленте песка. Душа моя и глаза радовались, я все позабыл — опасности, тяготы, неизвестность, ожидающую меня на обратном пути, — и согласился бы вытерпеть вдвое против прежнего; все разделяли мое восхищение». Это произошло 13 февраля 1858 года. Бёртон оказался поражен, увидав, что берега этого огромного озера — подлинно внутреннего моря — почти безлюдны. Ведь по восторженным рассказам арабов он думал здесь найти людный город, порт, крупный рынок, торговлю, жизнь… А тут — несколько хибарок, разбросанных меж небольших полей сахарного тростника и сорго, — и это тогда называлось «город» Уджиджи! Бёртон вступил в переговоры с местными жителями (он пишет, что они были гораздо грубей и воинственней всех прежде встреченных им негров) и, естественно, захотел проплыть по открытому озеру. Он нанял за плату две большие пироги — одну на тридцать, другую на двадцать гребцов и, пройдя значительное расстояние вдоль западного берега, отправился на север. Там Бёртон встретил племена воинственные, даже, по словам гребцов, — людоедские; они встречали его оглушительными воплями и рыком. Достигнув последних поселений, до которых доходили арабы, путешественник хотел доплыть до северного берега Танганьики, но спутники начисто отказались плыть дальше — пришлось волей-неволей вернуться в Уджиджи. Возвращение не прошло без опасных приключений. Внезапно поднялась ужасная буря со страшной грозой; за несколько минут от туч стало темно, как ночью. К счастью, проливной дождь скоро усмирил ветер и волны, иначе лодки не вынесли бы страшных валов, какие бывают на Танганьике, и озеро стало бы могилой своему отважному первооткрывателю. Но на сей раз все обошлось благополучно, и несколько дней спустя — 26 мая 1858 года — караван вышел в Казех, прибыл туда 20 июня. Все люди утомились и ослабли от долго переносимых тягот, лишений и лихорадки. Малярия, гепатит, ревматизм, язвы, дизентерия, глазные болезни преследовали отряд и многих погубили. Капитан Бёртон заболел тяжелее всех; несколько недель он не мог даже пошевелиться. Итак, из-за болезни начальника, экспедиция получила вынужденный отдых. Капитан Спик, вскоре вставший на ноги, воспользовался им, чтобы дерзко и быстро отправиться прямо на север — проверить утверждения арабов, будто там находится другое озеро, не меньше Танганьики. И действительно, через двадцать пять дней трудного перехода по совершенно неизвестным европейцам местам Спик увидел с вершины холма огромный водоем. Туземцы называли его Ньянза. Спик узнал, что озеро простирается очень далеко на север, где из Ньянзы вытекает река. Он назвал озеро именем государыни, королевы Виктории. Вернувшись к капитану Бёртону, Спик сказал, что, кажется, нашел ответ на загадку об истоках Нила. Бёртон не разделял убеждения товарища. Он охладил его восторг ледяным душем несправедливой иронии — и немногие лучшие умы удержались бы от этого на его месте: до того ревность свойственна человеку! Бёртон пишет: «Капитан Спик преуспел в своем предприятии — дошел до Ньянзы и увидел, что она даже намного больше, чем он ожидал. Но как же я был поражен, когда он, едва перекусив, объявил мне, будто открыл исток Нила! Это, конечно, преувеличение. При первом взгляде на Ньянзу Спику пришло в голову, что великая река, о которой строили столько догадок, должна вытекать из огромного озера, лежащего у его ног. Исток Нила родился, вероятно, в мозгу капитана. Конечно, очень приятно объявить восхищенной публике, в которую входят государственные деятели, мужи церкви, коммерсанты, а главное — географы, что найдено решение задачи, тысячи лет бывшей желанной для науки. Приятно возвестить истину о проблеме, которую тщетно пытались решить многие великие монархи. Но сколько раз, начиная с Птолемея Пелузского, так открывали исток Белого Нила? Я счел, однако, долгом прекратить споры на эту тему: они начали вредить нашим отношениям. Стало ясно, что каждое мое слово о Ниле больно задевает товарища, и по молчаливому уговору мы больше не заводили подобных разговоров. Я бы и не вернулся к этому, если бы капитан Спик не выставил нашу экспедицию на посмешище, объявив о мнимом открытии, подкрепленном столь слабыми основаниями, что ни один географ даже не обсуждал их». Сейчас мы увидим, как должен был капитан Бёртон раскаяться в том, что написал подобные оскорбительно насмешливые и до абсурда горделивые строки. Два товарища, отношения между которыми так омрачились, вернулись домой без происшествий. 26 сентября 1858 года экспедиция выступила в направлении побережья, а 3 февраля 1859 года вернулась на Занзибар, откуда Бёртон и Спик отплыли в Англию.
ГЛАВА 11
КАПИТАН СПИК
Вторая экспедиция. — Капитан Грант. — Возвращение к озеру Виктория. — Кровавый тиран. — Нил. — Обратный путь.Джон Хеннинг Спик родился в 1827 году. Восемнадцати лет он поступил в Индийскую армию[185] и служил прапорщиком в ужасной пенджабской кампании. Спик любил приключения, увлекался охотой и физическими упражнениями, знал ботанику и геологию, являлся очень толковым натуралистом. В Индии он совершил замечательные путешествия по Тибету и Гималаям, откуда вынес обильную жатву важных сведений. В Индии Спик служил вместе с Бёртоном, который и пригласил его с собой в экспедицию на Танганьику. Мы только что видели, как Спик во время болезни начальника открыл озеро Ньянза и предположил, что нашел при этом один из истоков Нила. Насмешки Бёртона не поколебали уверенности капитана, а вызвали, напротив, желание глубже изучить этот вопрос — отправиться на место и, чего бы то ни стоило, найти подтверждение своей смелой гипотезе. Спик не был оставлен поддержкой Королевского географического общества и правительства ее величества. 27 апреля 1860 года он отправился на Занзибар вместе с другом, верным боевым товарищем по Индостану, капитаном Грантом. В те времена, когда еще не существовал Суэцкий канал, плавание оказалось долгим. Лишь 17 августа друзья высадились на африканском берегу. На Занзибаре Спику удалось, по счастью, найти многих негров, принимавших участие в предыдущей экспедиции (среди них — Бомбея, позже сопровождавшего Стенли в поисках Ливингстона). Он без проволочек завербовал их и заплатил так щедро, что очень скоро набрал нужных двести человек. Второго октября караван отправился в дорогу и 24 января 1861 года пришел в Казех. Там Спику пришлось остановиться на три с половиной месяца из-за войны между арабами и одним из туземных вождей. Еще через полгода, 17 ноября, он пришел в Карагве — крупное государство на западном берегу Виктория-Ньянзы. До той поры путешествие было очень тяжелым: болезни, нехватка провианта и различные неизбежно случающиеся в африканских путешествиях несчастья преследовали экспедицию. В Карагве все страдания прекратились как по волшебству: настолько щедро и благосклонно принял путников король Руманика. «На другой же день, — пишет Спик, — монарх дал нам с Грантом торжественную аудиенцию. Через минуту мы поняли, что люди, окружавшие нас, не имеют ничего общего с грубыми дикарями из окрестных стран. У них, подобно элите абиссинских народностей, красивые продолговатые лица, большие глаза и величественный, гордо изогнутый нос. Руманика совсем по-английски — так принято в его стране — пожал нам руки и с улыбкой предложил место напротив себя. Он расспрашивал нас, как нравится Карагве, горы — прекраснейшие, по мнению правителя, в мире — и огромное озеро, которым восхищались и мы. Он хотел также знать, как мы разыскали дорогу к нему и откуда пришли; очень Руманику удивило, что наша страна находится к северу от его королевства, а мы хотим узнать дорогу в Уганду, страну, расположенную севернее Карагве». Спик выбрал для лагеря место с великолепным видом на озеро и целый месяц прожил у гостеприимного монарха, гуляя и изучая окрестности. Среди прочих достопримечательностей местного населения Спик узнал по рассказам, что жены короля и принцев Карагве невероятно толсты, что считается здесь признаком величайшей красоты. Путешественнику очень было любопытно проверить эти рассказы. Однажды он отправился в гости к старшему брату короля. Преувеличения не было. Спик застал в хижине хозяина и его главную жену сидящими на дерновой скамейке. Над ними, на столбах, подпиравших крышу, выложенную в форме улья, висели боевые трофеи: луки, дротики и ассагаи[186], а перед хозяевами стояли деревянные кадки с молоком. Хозяйка дома, мать большого семейства, была до того пышна, что это превосходило всякое воображение; впрочем, за необыкновенной дородностью еще замечались какие-то следы красоты. Она не могла стоять на ногах: ей мешал вес собственных рук, на которых болтались огромные горы дряблого жира. Спик полюбопытствовал, зачем в доме держат столько молока. Королевский брат объяснил, что от этого продукта и происходит столь величественное дородство его супруги. — Женщины, достойные нашего сана, — сказал он, — вырастают такими потому, что их с самого юного детства обильно поят молоком. Желая подробнее изучить феномен столь необыкновенной тучности, Спик навестил и измерил другую принцессу. Рост ее составлял 170 сантиметров, окружность руки — 60 сантиметров, объем талии — 130, обхват икры — 50. Руманика не только хорошо принял путешественников, но и с интересом отнесся к их планам; он сообщил много географических сведений, в точности которых англичане имели затем возможность убедиться. В первых числах января 1862 года к Руманике явились посланцы от царя Уганды и доставили Спику официальное извещение, что государь желает видеть его. Капитан только о том и мечтал; он собрался в дорогу и выступил, оставив заболевшего тяжелой, никак не проходившей лихорадкой капитана Гранта на попечение Руманики. В начале февраля Спик прибыл в Уганду и убедился, что она столь же плодородна и живописна, как Карагве. Ритуал первой аудиенции, которую дал Спику царь Мтеса, оказался сложнее сложного. От него поседел бы гофмейстер[187] любого европейского двора и дошел бы до белого каления начальник протокольной службы французского министерства. Но Спик, чтобы его не ставили вровень с простыми местными торговцами и начальниками обыкновенных караванов, настаивал на упрощении церемонии. И добился своего, как ни опасно было намерение изменить вековые обычаи, которыми дорожат африканские монархи. Несмотря на все требования придворных чинов, путешественник категорически отказался предъявить для предварительного осмотра подарки, предназначенные монарху, — ружья, патроны, музыкальные шкатулки, шелковые пояса, стеклянную посуду, разные побрякушки и прочее. Не согласился он и с обычаем заворачивать каждый подарок в кусок ситца (приносить государю дары в открытом виде запрещалось). Туземцы вынуждены были уступить, и караван пошел ко дворцу так, как того хотел «белый принц» (так здесь прозвали Спика). Колонна шла под флагом Соединенного Королевства[188]. Впереди шествовал почетный караул из двенадцати человек в красных фланелевых плащах, при ружьях с примкнутыми штыками, каждый из остальных людей нес какой-нибудь подарок для короля. По пути кортеж всюду встречали восторженными криками; кто-то из зрителей хватался за голову, кто-то складывал руки рупором и, не помня себя от восхищения, кричал: «Ирунги! Ирунги!» (что значит на местном языке: «брависсимо!») — и так до самой площади, на которой находилось жилище монарха. В ожидании аудиенции Спика оставили на большом дворе, окруженном строениями под соломенной крышей, как будто постриженной парикмахерскими ножницами. Солнце пекло очень сильно, поэтому капитан надел шляпу и раскрыл зонтик — эта диковина вызвала веселое восхищение публики. Между тем церемония грозила затянуться сверх всякой меры. Спику надоело смотреть, как проходят перед ним торжественным маршем мужчины, женщины, быки, собаки, козы; он объявил, что всю эту чепуху пусть оставят для арабских купцов, а он — «белый принц» — желает быть принятым как можно скорей. Чтобы приготовиться к приему, Спик дал неграм самое большее пять минут. Когда они истекли, он положил все подарки на землю и повел отряд домой. Капитан, до такой степени не считаясь с африканским тираном, вел опасную игру, зато таким образом утвердил независимость и личное достоинство. Его тут же попросили вернуться, обещая незамедлительно представить монарху. Мтеса был тогда молодым человеком лет двадцати пяти, высокого роста, с выразительным лицом, прекрасно сложенный. Тщательнейшим образом расправив складки новой мантии, он восседал на квадратном сиденье, застеленном красным покрывалом и окруженным тростниковым плетнем. Король был острижен наголо, кроме макушки, где ото лба до затылка возвышался гребень, похожий на султан боевого шлема или, пользуясь менее благородным сравнением, — на петушиный гребень. «Челядь выстроилась в эдакое каре, — вспоминает капитан Спик. — Через несколько минут меня попросили пройти в середину. Рядом со мной на прекрасной подстилке из леопардовой шкуры стояли огромные медные литавры с бронзовыми колокольчиками по краям и два барабана, искусно украшенные ракушками и бисером. Мне не терпелось начать переговоры, но я не знал туземного языка, а из моих соседей никто не смел не то что рта раскрыть — глаз поднять: его бы обвинили, что он смотрит на королевских жен. Так мы с Мтесой битый час глядели друг на друга, не обменявшись ни словом; я поневоле молчал, он же, как я слышал, беседовал с придворными о необычности нашего убора, о форме моего караула и тому подобном. Пока он делился своими впечатлениями, меня просили от его имени то надеть шляпу, то открыть и закрыть зонтик, а людям из караула велели повернуться кругом, чтобы полюбоваться их плащами, которых в Уганде прежде не видывали. На склоне дня его величество направил ко мне церемониймейстера с вопросом, видел ли я государя. Я отвечал, что вот уже час наслаждаюсь этим зрелищем. Когда Мтесе передали эти слова, он встал, держа в руке копье, а на поводке собаку, и удалился в задние покои. Столь бесцеремонно покидая нас, он шел угандийским традиционным шагом, который льстецы называют “львиным шагом”, и он, вероятно, должен был поразить нас своим величием. Признаюсь, однако: то, как царь выкидывал ноги в разные стороны, больше напомнило мне неуклюжее ковылянье уток на птичьем дворе…» Последующие встречи уже не сопровождались утомительным церемониалом, которого требовал первый прием. Спик и Мтеса стали лучшими друзьями — насколько цивилизованный, образованный, любезный и гуманный английский офицер может быть другом такому кровожадному дикарю, как Мтеса. Вот пример: однажды на прогулке одна из его фавориток позволила себе сорвать некий плод и поднести дикарю-монарху. Тот взбесился: женщина не смеет ничего предлагать государю! — и велел не сходя с места удавить ее. Только заступничество Спика и мольбы других женщин спасли бедняжку. В другой раз Спик подарил Мтесе карабин. Повелитель полюбовался подарком и, желая оценить достоинства ружья, вручил пажу, пареньку лет четырнадцати: — Поди убей кого-нибудь! Тот взял карабин, вышел во двор, выстрелил в первого встречного, вернулся и сказал: — Готово! Ружье бьет хорошо! Однажды Мтеса велел казнить сразу сотню слуг (чтобы Спик за них не заступился, им отрубили голову в укромном месте), потому что во дворце не хватало провизии. По чистой прихоти, без тени предлога он постоянно велел убивать жен — одну, двух, а то четырех и пять за день. Спик, прожив несколько месяцев во дворце, часто видел, как стража тащит их на казнь, связанных за ноги веревкой; женщины душераздирающе кричали… Между тем благодаря рвению поставщиков гарем никогда не пустовал, несмотря на ежедневную резню. Так проходили дни, недели, месяцы — царь, казалось, не понимал или, скорее, не хотел понять, куда же направляется «белый принц». Он охотно согласился послать к Руманике за капитаном Грантом, но на том, кажется, и закончилось его благорасположение к новому другу. Двадцать седьмого мая 1862 года Грант присоединился к Спику, и Мтеса неожиданно решился дать им суда, которые целых два месяца белые выпрашивали у царька, намереваясь отправиться в Гани — страну к северу от Уганды. Спик и Грант тут же простились с Мтесой, пока тот не передумал. Места, по которым шла дорога, были полностью вытоптаны слонами. Через неделю Спик достиг цели путешествия — места, где Нил вытекает из Ньянзы водопадом высотой двенадцать футов и шириной футов четыреста — пятьсот. На лодках, сделанных из пяти перевязанных и кое-как обтянутых лоскутами коры досок, Спик отправился вниз по реке в Униоро, правитель которой, Камреси, скромно носил титул отца всех царей. Девятого августа Спик прибыл в Униоро. Здешний правитель — еще более безумный и жестокий тиран, чем Мтеса, — встретил англичан довольно радушно то ли из симпатии, то ли из жадности, то ли из желания выказать благосклонность, то ли из любопытства. Камреси, заставив две недели дожидаться аудиенции, нарочно дал ее в маленьком домике для приема просителей без всякого церемониала. Капитан Спик сразу изложил правителю свое дело. Он объяснил, что прибыл в Униоро из Карагве, а не по реке, потому что люди с севера не пропускали чужеземцев в Униоро, и пришел предложить Камреси дружественные и выгодные отношения. Например, менять слоновую кость на европейские товары, соседние государства уже убедились в выгоде этого предложения и заключили соглашения. Но Камреси не говорил ни да, ни нет, делал вид, что ничего не слышит и не понимает, болтал о всяких глупых пустяках. Шесть недель продолжалась эта игра в чепуху с правителем-самодуром. Только 10 ноября экспедиция получила разрешение продолжать путь по реке Кафура[189], протекавшей рядом с владениями тирана. Путешественники пересели из дрянных лодчонок в большую пирогу и вскоре оказались на большой воде; вначале они приняли ее за озеро. Это был Нил — Кафура впадает в него! Десять дней спустя они увидели водопады Керума, расположенные между 2-м и 3° северной широты. В этом месте Нил поворачивает на запад; из-за ряда порогов и водопадов по реке дальше пройти нельзя, так что Спику пришлось высадиться на берег. Поскольку в тех местах шла война, он не мог и следовать точно вдоль реки, не теряя ее из виду, чтобы нанести на карту русло. Экспедиция вернулась к Нилу в Пайре; там он течет уже с запада на восток. После бесконечных тяжелейших переходов через страну, разоренную разбойниками с севера, именующими себя купцами, они в полном изнеможении 15 февраля 1863 года достигли Гондокоро. Там Спик повстречал сэра Самюэла Бейкера, который шел к истокам Нила из Каира. Капитан сообщил ему о своих открытиях и посоветовал направиться к озеру Нзиге. Вернувшись в Англию, Спик был встречен с восторгом и получил от Королевского географического общества золотую медаль. Люди толпами устремлялись на лекции путешественника; их посещал даже принц Уэльский;[190] родное графство объявило капитана одним из замечательнейших своих сынов. Признательность нации была полной, но в 1864 году, тридцати семи лет от роду, Спик случайно погиб на охоте. Капитан Спик в наивысшей мере обладал физическими и нравственными достоинствами настоящего исследователя. Могучее здоровье, энергия, отвага и хладнокровие позволяли ему превозмогать лихорадку, преодолевать трудности и обходить ловушки, на каждом шагу ожидающие путешественника среди недоверчивых, алчных и жестоких дикарей. Опыт, полученный в этой достопамятной экспедиции, и легкость, с которой его организм приспосабливался к убийственному африканскому климату, позволяли ожидать, что Спик осуществит задуманные им грандиозные планы — но он пал жертвой нелепой горестной случайности…
ГЛАВА 12
СЭР САМЮЭЛ У. БЕЙКЕР[191]
Миссис Бейкер следует за мужем. — Бунт. — Ибрагим. — У Камреси. — Смелый ответ. — Озеро Альберта. — Возвращение спустя четыре года.Теперь автор хотел бы без предисловий предоставить слово блестящему и скромному герою столь волнующих приключений, что читатель, без сомнения, вздрогнет, услышав о них. Нельзя написать к рассказу о путешествиях сэра Самюэла Уайта Бейкера введения лучше, чем он сам. Его лаконичные строки, исполненные мужества и простоты, дадут вам совершенное представление об образце современного путешественника. «В марте 1861 года, — пишет сэр Самюэл Бейкер, — я отправился в экспедицию с целью найти истоки Нила. Я надеялся повстречать капитана Спика и капитана Гранта, направленных с той же целью британским правительством; они шли с Занзибара через Восточную Африку. У меня хватило благоразумия не распространяться о цели моей экспедиции: ведь до сих пор истоки Нила были окутаны завесой тайны. Но про себя я решил выполнить эту трудную задачу даже ценой жизни. С самой юности я научился переносить тяготы и лишения в тропическом климате; изучая карту Африки — исполнялся робкой, неверной надеждой, что мне удастся проникнуть в сердце этого материка. Что ж — ведь и крохотный червячок может прогрызть твердое дерево! Я полагаю, что ничто не может противиться благонаправленной силе воли — хватило бы жизни и здоровья. Не смущала меня и неудача предшествовавших попыток отыскать истоки Нила. Дело ведь было в том, что эти экспедиции возглавляли несколько человек, поэтому при малейшей трудности разногласия заставляли их вернуться. Я решил отправиться один, положившись на Провидение и удачу, нередко сопутствующую твердому решению. Я тщательно взвесил шансы моего предприятия. Передо мной лежала неисследованная часть Африки. Против меня было множество препятствий, от самого сотворения мира устрашавших людей; за меня — твердый характер, полная свобода, привычка к походной жизни, досуг и средства, расход которых для достижения цели я решил не ограничивать. Экспедиция Спика и Гранта стала не единственной, которую Англия направила на поиски истоков Нила. Брюсу удалось найти начало Голубого Нила[192], так что честь этого открытия уже принадлежала Англии. Спик, отправившийся с юга, находился уже в пути — и я не сомневался, что мой отважный друг скорее пожертвует жизнью, чем согласится нести позор неудачи. Хотелось бы думать, что моя отчизна не даст опередить себя на этом пути, и мне трудно было надеяться на успех там, где достойнейшие путешественники терпели неудачу, я решился поставить на карту все ради своего успеха. Будь я один, перспектива смерти на пути, по которому шел первым, не пугала бы меня. Но мне приходилось думать о той, кто, будучи для меня величайшим утешением, требовала вместе с тем и неусыпных забот. Я содрогался при мысли, что моя смерть оставит жену беззащитной посреди пустынь; я рад был бы оставить ее у домашнего очага, а не подвергать лишениям, ожидавшим нас в Африке. Напрасно я молил супругу остаться; напрасно я в самых мрачных красках описывал тяготы и опасности. С постоянством и преданностью, свойственными ее полу, она решилась делить со мной все беды и следовать за мной по тернистому пути. Итак, 15 апреля 1861 года мы с женой отправились из Каира вверх по Нилу. Дул сильный северный ветер; мы шли против течения к югу и созерцали таинственные воды великой реки с твердым намерением проследить их до самого места зарождения…» Ни убавить, ни прибавить. Всякий комментарий лишь ослабил бы впечатление от этой исповеди, от немногословного рассказа про то, как женщина без колебаний, только из преданности и чувства долга решилась на подвиг, перед которым отступали самые крепкие и выносливые мужчины. В то время Бейкеру было сорок лет (он родился в 1821 году). Это был выдающийся инженер. Через полтора месяца супруги прибыли в Бербер. За это время Бейкерам не раз пришлось убедиться, что незнание арабского языка ставит их в полную зависимость от переводчиков. Целый год супруги отважно учили его и наконец стали обходиться без всяких посредников. В июне 1862 года Бейкер добрался до Хартума, прожил там несколько месяцев, а 2 февраля 1863 года отплыл в Гондокоро. Там он встретил Спика и Гранта, возвращавшихся с озера Виктория. Спик открыл, что Нил вытекает из Виктории-Ньянзы, и считал возможным утверждать, что дальше он разливается за счет большой массы воды из какого-то неизвестного озера. Капитан поделился гипотезой с Бейкером, рассказал ему о своем маршруте, о предполагаемом местонахождении этого озера, которое туземцы называют Нзиге, и всячески рекомендовал направиться туда. В самом деле: раз большой водоем вытянут в направлении с юга на север, а Нил течет в том же направлении — значит, озеро Нзиге (если оно действительно расположено именно так) должно, без сомнения, играть в бассейне Нила очень важную роль. Экспедиция дорого обошлась, зато подготовлена была хорошо. Собрав людей, Бейкер хотел отправиться в путь. Тут начались проблемы. Торговцы слоновой костью и работорговцы видели (или хотели видеть) в Бейкере эмиссара, посланного наблюдать за их деятельностью. В противном случае они боялись, что, когда англичанин проникнет во внутренние области Африки, торговля по Белому Нилу перестанет быть тайной и вскоре будет уничтожена (или весьма стеснена). Поэтому были предприняты все усилия, чтобы помешать путешественнику выйти в дорогу и даже собраться. Служащие торговцев живым товаром подружились с людьми Бейкера, ловко настроили их, и, когда дали сигнал к выступлению, вспыхнул бунт. Начальник вел себя решительно. Некоторые из бунтовщиков разбежались, некоторые сдались, были разоружены и уволены. Караванщиков у Бейкера убавилось, но об отступлении он даже не помышлял. Чтобы все-таки отправиться в дорогу и, самое главное, опередить работорговцев, путешественник простил семнадцать человек из числа бунтовщиков, щедро заплатил и убедил их пойти вместе с ним. Вечером 26 марта 1863 года экспедиция наконец с грехом пополам вышла из Гондокоро. Пройдя два часа ускоренным маршем, Бейкер нагнал караван купца Ибрагима, одного из главных подстрекателей к бунту. Требовалось опередить Ибрагима — иначе он повсюду посеет гнусную клевету, чем закроет английской экспедиции дорогу и поставит под угрозу жизни путешественников. Но, как ни старался отряд Бейкера, караван все время без видимых усилий шел в нескольких шагах впереди него! Бейкер еле сдерживал гнев, наблюдая, как в хвосте каравана с высокомерным, наглым видом едет этот полудикарь Ибрагим… Момент оказался критическим, но миссис Бейкер нашлась и спасла экспедицию. Она убедила мужа позвать Ибрагима, добиться объяснений, может быть, даже что-то подарить и заключить полюбовное соглашение. Все странствующие торговцы продажны. Когда миссис Бейкер позвала Ибрагима в первый раз, тот прикинулся глухим — без него, дескать, все равно не обойдутся. Тогда сам Бейкер позвал его громче, и араб все-гаки остановился. Обещание подарка в виде двуствольного ружья и кругленькой суммы золотом смело надменность купца, который стал покладистее и согласился подождать. Бейкер без труда убедил Ибрагима, что дела у них совсем разные и не помешают друг другу. Даже наоборот: англичанин откроет новые земли, где Ибрагим сможет покупать слоновую кость. Свою речь сэр Самюэл завершил неопровержимым аргументом: — Если вы со мной все-таки поссоритесь, английское правительство вас повесит! Ибрагим согласился, без колебаний подписал договор о дружбе, и оба каравана пошли вместе. Бейкер с отважными спутниками без особых неприятностей, хотя и не без труда, доехали до Тарранголе. Это столица страны, называемой Латука, — скопище трех тысяч, если не более, хижин. В примитивном городе Бейкер прожил около месяца, а затем его пожелал видеть вождь страны Оббо, находившейся к юго-востоку от Тарранголе. Маршрут Бейкера был проложен как раз в ту сторону — путешественник принял приглашение и 2 мая 1863 года отправился в путь. Царь Оббо без промедления выехал навстречу англичанину. Добрый старый государь полуденного государства уже с трудом ходил; самые сильные и ловкие люди племени переносили правителя на плечах. Звали этого патриарха Качиба, и было у него сто шестнадцать детей — все крепкие и здоровые. Он чудесно принял белого гостя, объявил себя его другом, устраивал в честь англичанина пиры, пляски и праздники. К своему удивлению, Бейкер увидел, что жители Оббо и Латуки совершенно непохожи и первые намного лучше. Они не просили никаких подарков, словно и не слыхали о подобном невыносимом обычае жителей Центральной Африки. Впрочем, их добрый царь не имеет даже определенного дохода и управляет подданными по-свойски. Он немножко доктор, немножко колдун, продает снадобья и амулеты — вернее, меняет их на всевозможную провизию. Такая торговля мелочами очень доходна и составляет наилучшее украшение его короны. К несчастью, в Оббо миссис Бейкер с мужем тяжело заболели. Несколько раз они оказывались на волосок от смерти: страшная местная лихорадка сразила их, хинин весь вышел, и болезнь протекала в самой тяжелой форме. Лихорадка, которой особенно подвержены европейцы, действительно ужасна. Сначала несколько дней чувствуешь неопределенное недомогание; другие симптомы появляются только за день-два до кризиса. Тогда нападает усталость, все члены ломит, страшно хочется спать. Начинаются ревматические боли в боку, в спине и в суставах, крайняя слабость, сильный озноб, жестокая тошнота и рвота желчью, выворачивающая все внутренности, жар, страшная головная боль, конечности потеют и холодеют, пульс пропадает, человек впадает в такое забытье, что сердце словно останавливается. Озноб и рвота продолжаются часа два и сопровождаются удушьем. Затем начинается лихорадочное состояние с ужасными видениями, бредом, мучительной тоской, перерывами дыхания, обмороками, сердечными перебоями… Постепенно кризис проходит. Выступает обильный, часто зловонный пот, и начинается кошмарный сон. Приступы повторяются то ежедневно, то через день, то через два — четыре дня. Вскоре больной превращается почти в мумию, потому что желудок становится вялым и не принимает никакой пищи. Всякое сильное умственное напряжение, неприятность, возбуждение, усталость почти всегда сопровождаются приступом болезни. Единственное спасение от этой болезни — хинин. Нельзя без содрогания представить себе муки несчастных, у которых, как у супругов Бейкер, его нет. Несмотря на тяжелое состояние, отважные путешественники готовились идти дальше на юг: там находилось озеро Нзиге, которое хотел открыть Бейкер. Он снова сторговался с Ибрагимом, и за изрядное количество медных браслетов тот дал носильщиков. Кроме того, Ибрагим — при условии, что его люди не будут бесчинствовать, — подрядился сопровождать путешественника в Униоро, к царю Камреси. Экспедиция вышла в путь в первых числах января 1864 года. 22 числа она подошла к открытым Спиком водопадам Карума на границе Униоро. Бейкеру пришлось вести долгие переговоры о разрешении переправиться через реку, но и на другом берегу все время чинили препоны. Кровожадный и недоверчивый Камреси, у которого, если вы помните, уже побывали Спик и Грант, не хотел впускать Бейкера в свое государство, не убедившись, что он действительно белый и англичанин. После бесконечных утомительных переговоров отряд, встречавший Бейкера, пропустил его. Он направился в Мрули, столицу Униоро, расположенную у слияния Нила (части его, открытой Спиком и Грантом) с рекой Кафурой. Хотя Бейкер жестоко страдал от лихорадки, он хотел немедленно по прибытии встретиться с царем, так как требовалось как можно скорее добиться от монарха проводников и носильщиков. Камреси пропустил просьбы путешественника мимо ушей и предложил ему вместе идти войной на соседнего князька. Бейкер, разумеется, решительно отказался, ответив, что единственная его цель — озеро. Тогда Камреси усомнился в добрых намерениях путешественника и предложил обменяться кровью в знак дружбы и доверия. Бейкер, не раздумывая, отвечал, что сам не может этого сделать, потому что в Англии смешение крови считается знаком вражды, но его может заменить кто-нибудь из спутников. Монарх и слуга Бейкера обнажили руки, укололи себя, и каждый слизал у другого капельку крови — так был заключен договор. Бейкеру не терпелось наверстать упущенное время. Заключив соглашение с Камреси, он просил отвести его к озеру кратчайшим путем. «Тогда, — рассказывает Бейкер, — дикарь с невероятным спокойствием ответил мне: — Я проведу тебя к озеру, как обещал, только оставь мне жену. И мы увидели, что нас окружило множество негров. Это наглое требование подтвердило подозрения, что Камреси замыслил предательство. Моя экспедиция могла здесь и закончиться, но это был бы одновременно и последний час жизни вождя. Я спокойно вынул револьвер, навел в грудь Камреси и, глядя на него с величайшим презрением, объяснил: если я сейчас нажму курок, он будет убит наповал и никто ему не поможет. Еще я сказал, что в моей стране такое оскорбление смывается только кровью, но его я почитаю за тупого быка, и невежество спасает его от смерти. Жена в порыве негодования вскочила с места и обратила к Камреси небольшую речь по-арабски; он не понимал на этом языке ни слова, но ее лицо и тон все говорили ясно — царь застыл, словно увидел голову Медузы[193]. Наша негритянка Бачита, хотя и была дикаркой, приняла нанесенное хозяйке оскорбление и на свой счет. Она обрушила на Камреси поток ругательств, стараясь сколь можно вернее передать душераздирающую речь юной Горгоны. Незнаю, может быть, после этой театральной сцены Камреси понял, что английские женщины слишком своевольны для подобных сделок, только он сказал с видом величайшего изумления: — Что ты сердишься? Я не хотел тебя обидеть. Я дал бы тебе другую женщину, думал — почему бы тебе не уступить мне взамен свою. Я всегда даю гостям красивых женщин, мы могли бы и поменяться. Что сердиться из пустяков? Не хочешь — как хочешь. Я ничего не отвечал на такую деловую речь, сказал только, что мы немедленно уходим. Сконфуженный собственной глупостью, он позвал слуг и велел им грузить мои вещи. Я усадил жену на верхового вола, сам сел на другого и с величайшим удовольствием покинул Мрули… Уже несколько дней проводники говорили, что мы вот-вот подойдем к Нзиге. 14 марта 1864 года они объявили: мы выйдем к нему на следующий день. Еще затемно я пришпорил вола. День начинался великолепно. Мы спустились с холма, миновали глубокую долину и поднялись на другой склон. Я самым скорым шагом поднялся на вершину — и увидел то, к чему стремился. Далеко внизу, к югу и к юго-западу, подо мной до самого горизонта расстилалось озеро, подобное серебристому морю, блестевшее под экваториальным солнцем. На западе милях в пятидесяти — шестидесяти голубые горы вздымались до небес, как будто выступая из самого озера…» Счастливый путешественник долго в восторге смотрел на озеро, потом спустился к нему и стал на плоский песчаный пляж, у края которого волны разбивались о полосу гальки. Утомленный дорогой и зноем, Бейкер с бесконечно радостным чувством припал к истоку Нила — и все не мог напиться… Супругов Бейкер давно мучила лихорадка. Теперь, достигнув цели экспедиции, они хотели вернуться в Англию. Для этого надо было успеть в Гондокоро к отправлению судна до Хартума. Бейкер нашел большую лодку, отправился в плавание по озеру и за две недели обошел круго́м. Там, где он находился, ширина озера была всего несколько километров, северней, словно в дельте большой реки, озеро у обоих берегов было покрыто огромными зарослями тростника. Бейкер долго искал место для высадки и нашел наконец узкий проход; по нему лодки подошли к голому скалистому берегу близ деревни Магунго. Бейкер решился спуститься со спутниками по Нилу от места его выхода из озера (Бейкер назвал водоем именем принца Альберта) до водопадов в стране Мади близ деревни Мьяни. Но он обещал Спику точно нанести на карту часть реки от озера до водопадов Курума, которую капитан был вынужден оставить в стороне. Сэр Самюэл вновь сел в лодку и поплыл к востоку. Вода была так тиха, что казалась просто заливом озера. Но скоро водное пространство сильно сузилось; по обоим берегам поднялись остроконечные скалы стометровой высоты, заросшие дивными лесами. Из-за ослепительной зелени выглядывали чудовищные каменные глыбы — река устремлялась всей своей массой через разрыв в этой стене и единым потоком с сорокаметровой высоты падала в мрачную бездну. В честь президента Лондонского географического общества Бейкер назвал этот водопад водопадом Мёрчисона. Туземцы ему сказали, что из-за войны не найти носильщиков и дальше до водопадов Курума никак не дойти. Путешественник хотел берегом пройти обратно, но африканцы — несомненно, по наущенью Камреси — бросили его в полуразрушенной хибарке. «Страшный голод, — пишет он, — и истощение от лихорадки так обессилили нас с женой, что целых два месяца мы пролежали на топчане, не в силах ступить ни шагу. Полумертвые, мы развлекались бредовой болтовней о том, как хорошо в Англии. Я испытывал такой голод, что за бифштекс и бутылку светлого пива продал бы свое дворянство. Мы уже отчаялись вернуться в Гондокоро и смирились с участью: я не сомневался, что нас зароют в земле Чопи… Предвидя гибель, я записал в дневник последние заметки и велел верному слуге любой ценой передать мои карты, записи и все бумаги английскому консулу в Хартуме. Это была моя единственная забота на свете: иначе смерть сделала бы напрасными все труды. О жене я уже и не думал: если умрет один из нас, второй все равно очень скоро разделит участь другого. Да мы и сами решили, что так оно и будет — не попадать же ей на обратном пути в лапы Камреси…» Получилось бы несправедливо, если такое мужество оказалось вознаграждено лишь ужасной смертью среди гнилостных малярийных миазмов[194]. Бейкеры немного поправились и 14 ноября 1864 года смогли покинуть зловещую страну. Они отправились на север, через несколько месяцев пришли в Гондокоро и сели на судно, идущее вниз по Нилу. Бейкеры приплыли в Бербер, где жили четыре года тому назад. По дороге в Египет они решили побывать на Красном море. Итак, они поехали в Суакин, сели там на пароход, перевозивший египетские войска, а через пять дней сошли на берег в Суэце. «В Каире, в консульстве, — вспоминает Бейкер, — меня ожидали письма из Англии. В первом же распечатанном мною письме утверждалось, что Королевское географическое общество присудило мне золотую медаль королевы Виктории. В то время никто еще не знал, жив ли я и благополучно ли завершилась экспедиция. Мог ли цивилизованный мир встретить меня после стольких лет жизни в варварских странах лучшей оценкой моих трудов! Вознаграждение сделало для меня открытие истоков Нила вдвойне драгоценным: ведь я оправдал доверие Общества, столь благородно присудившего мне награду прежде, чем я достиг своей цели»[195].
ГЛАВА 13
БЕЙКЕР И ПОКОРЕНИЕ СУДАНА. ГОРДОН. МАХДИ
Походы Бейкера и Гордона в район Великих озер. — Английская интервенция. — Падение Хартума. — Поражение англичан.Прошло несколько лет. Бейкер, осыпанный почестями и наградами, отнюдь не собирался почивать на лаврах и мечтал о новых победах. Во время первого путешествия он с великой скорбью наблюдал, как процветает на Верхнем Ниле гнусная торговля людьми (ее главным центром был Хартум). Вид человеческих страданий внушил благороднейшей душе естественное желание положить конец подобному явлению. С этой целью Бейкер предпринял мощную кампанию, прочел множество лекций, писал в газеты и журналы, заинтересовал правительство — короче говоря, создал в Англии общественное мнение, против которого хедив ничего не мог сделать. Не будем здесь рассуждать, в действительности ли упразднение рабства на Верхнем Ниле являлось настоящей целью Англии. Очень возможно, что в головах английских государственных мужей завоевание Судана стало всего лишь прелюдией к покорению всей Африки от Александрии до Кейптауна, а уничтожение рабства — предлогом к аннексии земель хедива. В любом случае позволительно думать, что сам Бейкер искренне стремился к этой гуманной цивилизаторской цели. Впрочем, исследователь озера Альберта (получивший в награду лордство), конечно, думал, что английская Африка будет лучше варварской. В этом он не ошибался. Как бы то ни было, считалось, что Бейкер служит хедиву, а тот волей или неволей потворствовал английским интересам. Прежде всего сэр Самюэл посчитал необходимым установить непрерывную линию торговых факторий от Гондокоро до озера Альберта. Там стояли бы гарнизоны, способные защищать отдаленные племена, препятствовать похищению людей, досматривать торговые караваны и покровительствовать всем видам коммерции, кроме торговли рабами. Хедив Исмаил-паша назначил сэра Самюэла начальником огромной экспедиции — как научной, так и военной, — предоставив действовать в интересах цивилизации целиком по своему усмотрению. Бейкер принял это назначение; в мае 1869 года он выехал из Лондона вместе с женой, племянником Джоном и инженером Хиггинботэмом. В Египте, чтобы возвести Бейкера и его экспедиционный корпус на надлежащий уровень, хедив дал ему титул паши и чин генерала с правом отдавать распоряжения всем гражданским и военным властям в Судане. Тогда Бейкер занялся снаряжением экспедиции: требовалось набрать тысячи две африканских или арабских солдат, запасти множество провизии и снарядить пароходную флотилию. Благодаря его активной деятельности скоро все было готово — впрочем, ничто и не препятствовало сборам здесь, в цивилизованных краях, на глазах у хедива и министров, благоволивших к предприятию. Однако Бейкер-паша ясно представлял себе, что все может измениться к лучшему. Вице-король был за него, но подавляющая часть мусульман — большинство населения — выступала против. Более того, все чиновники и купцы на юге, на доход которых он покусится, окажут противодействие. Итак, с самого начала все предрассудки и корыстные интересы соединились против Бейкер-паши. Вскоре экспедиция столкнулась еще и с естественными преградами. Сразу же за Короско пришлось обходить пороги — сойти на берег и идти сухим путем по пустыне, пока река не станет вновь судоходной. Под поклажу потребовалось тысяча восемьсот верблюдов; тем временем суда без груза и людей кое-как пробирались через пороги. В феврале 1870 года миновали Хартум, но выше Белый Нил превратился в некое болото; после разлива остались огромные сгустки плавающих растений, цепляющихся за всевозможные предметы. Несколько ниже 10-й параллели река стала абсолютно непроходимой. Но Бейкер все шел и шел вперед. Он перебрался с Нила в параллельное русло Бахр-эз-Зераф, которое, как утверждали, было рукавом Нила. Вскоре флотилия вновь остановилась — на сей раз перед настоящей безграничной чащобой гигантских трав. Но проводники уверяли, что в ней можно сделать проход и попасть в Белый Нил. Засучив рукава, все принялись за работу. Кирками, лопатами, топорами, саблями люди рубили, рыли, ломали стебли. По узкой протоке тысяча человек, утопая по шею, волочила через зловонное месиво суда на веревке — и так тридцать два дня без отдыха, без передышки! И вот впереди вновь чистая вода, по обоим берегам — твердая земля, рядом — роскошные леса, где ходят огромные стада буйволов и антилоп, которых можно было стрелять и доставлять экспедиции столь необходимую сытную пищу. Бейкер покинул Бахр-эз-Зераф и пошел опять по Нилу. Там он встретил два судна с шиллукскими[196] рабами, захваченными с ведома и даже под прикрытием египетского губернатора города Факоба на Ниле. Бейкер освободил несчастных пленников и отослал в Каир рапорт на подлого чиновника. Он исполнил долг, но понял, как трудно будет ему выполнить человеколюбивую миссию. Затем опять выяснилось, что река почти непроходима, и пришлось остановиться до весны. Из Хартума Бейкер вышел 8 февраля 1870 года, а в Гондокоро после зимовки добрался лишь 15 апреля 1871 года — более четырнадцати месяцев понадобилось экспедиции, чтобы дойти до главной базы. В Гондокоро Бейкер и остановился; в честь хедива он дал этому городку имя Исмаилия, но оно не привилось. Он объявил именем Исмаила-паши, что берет власть в свои руки, незамедлительно потребовал от местных вождей подчиниться хедиву и весьма решительно объявил, что не намерен далее терпеть торговлю рабами. Все местные князьки сделали вид, будто подчинились, кроме племени бери. Бейкер напал на них, без труда победил и отобрал годовой запас пшеницы. Казалось, успех должен был ободрить и сплотить войско Бейкера. Но оно, тайно взбудораженное агентами работорговцев и уставшее от чрезмерных тягот, взбунтовалось. Бейкер отослал шестьсот человек обратно в Хартум, половину людей, верных долгу, оставил в Гондокоро, а сам с другой половиной отправился дальше к экватору. Он пришел в Фаттико — центр плодородной местности, где устроили себе штаб-квартиру работорговцы во главе с неким Абусаудом; у них оказалось войско числом полторы тысячи человек. Бейкер тотчас договорился с окрестными вождями и отправил работорговцам указ хедива немедленно покинуть страну. В Фаттико он оставил своего заместителя Абдаллу, сотню человек и большую часть поклажи, а сам отправился в Униоро, где работорговцы, пользуясь войной с соседним племенем, похитили всех женщин и детей. В Масинди, столице князька Каба-Реги, державшего сторону работорговцев, сэр Самюэл еле избежал страшной опасности. Каба-Реги вероломно послал воинам Бейкера отравленного пива, перебил отставших от отряда, а на главные силы напал из хорошо подготовленной засады. От отравления удалось уберечься, а засаду египетские солдаты беспощадно истребили. В отместку за гибель своих людей Бейкер сжег Масинди, но самого Каба-Реги не удалось взять в плен. Англичанин не стал зря преследовать противника, пришел в Рионгу, заключил союз с местным вождем и хотел идти дальше. В этот момент гонец из Фаттико привез донесение, что работорговцы напали на отряд Абдаллы. Бейкер, недолго думая, взял сорок самых храбрых людей и 1 августа 1871 года подошел к Фаттико. Маленькая армия работорговцев яростно напала на него. Раз Бейкер-паша привел с собой так мало людей, решили они, значит, на юге англичанина жестоко побили. Семь египетских солдат сразу были выведены из строя. Но Бейкер соединился с людьми Абдаллы, воодушевил их горячей краткой речью, сам стал впереди и повел в штыковую атаку на разбойничий сброд. Натиск египтян, возглавляемых отважным вождем, оказался неотразимым. В мгновение ока злодеев опрокинули, смяли, а половину отряда перекололи штыками! Это была великолепная, полная победа — особенно с моральной точки зрения. Негритянские вожди повиновались работорговцам только из страха. Увидев, что их угнетатели разбиты, они приветствовали Бейкер-пашу, подчинились и с радостью согласились платить оброк — весьма легкий по сравнению с прежней страшной данью людьми! Больше у Бейкера здесь врагов не было. Он основательно укрепил Фаттико, который сделал губернаторской резиденцией. Посчитав свою миссию выполненной, он 29 июня 1873 года вернулся в Хартум, откуда написал в Англию: «Я все оставил в добром порядке. Установлен контроль над территорией, туземцы платят налог зерном, охотники за рабами изгнаны. По Белому Нилу крейсирует одиннадцать пароходов; они в состоянии задержать любое судно с рабами». 23 августа 1873 года после четырехлетнего отсутствия сэр Самюэл Бейкер вернулся в Каир. С отъездом Бейкера порядок нарушился. Гибель экваториальной империи, которую отважный путешественник сшил из всех мыслимых лоскутов, произошла так стремительно, что уже через два года один писатель рисовал ужасную картину: «Семь восьмых местного населения — в оковах. Здесь полновластно царят охотники за людьми и торговцы рабами, алчные губернаторы — их покровители и соучастники. Вольные туземцы до того запуганы, что в каждом чужеземце видят врага. Они до того пали и обнищали, что собственных детей меняют на зерно и скот. В этой стране, опустошенной охотниками за неграми, повсюду царит отчаяние. Кругом воистину пустыня: ни одна живая душа не выглянет из-за травы, из-за чахлых деревьев… Вожди племен, обитающих по берегам Великих озер, также постоянно нападают на окраины здешних земель и уводят людей в плен». Тогда Англия, чтобы покончить с ужасной торговлей живыми людьми, побудила хедива поручить тяжкое наследие сэра Самюэла Бейкера полковнику Гордону. Действительно, этот неустрашимый, деятельный, прямодушный, набожный и добрый солдат был там совершенно на своем месте! Его ранние годы хорошо известны. Гордон родился в 1833 году в Вулидже[197], в 1854-м закончил ученье, в 1855-м участвовал в Крымской войне и был ранен под Севастополем. Несколько лет выполнял разные поручения в Малой Азии, в 1860-м командовал отрядом, воевавшим в Китае. Противники оценили его: через три года Гордона вызвали в Пекин, поручили командование китайской армией против повстанцев[198] и дали ранг мандарина[199], откуда его прозвище «Гордон-Китаец». Он набрал элитный корпус, от которого добился железной дисциплины и такой подвижности, что банды бунтовщиков очень скоро были разбиты. Английский офицер выиграл все сражения, уничтожил в провинциях, где действовала его армия, анархию, навел порядок и установил мир. Гордон был суров в бою, но милостив после победы; он подал в отставку из-за того, что подчиненные ему китайские офицеры беспощадно расправлялись с пленными, и вернулся в Англию. Еще во многих беспокойных странах, во многих походах находил удовлетворение дух непоседливого англичанина — любителя опасностей и приключений. Наконец в 1873 году Гордон поступил на службу к хедиву Исмаилу, год спустя стал губернатором Экваториальной провинции, основанной Бейкером. Как и сэр Самюэл, Гордон получил генеральский чин, титул паши и неограниченные полномочия. Вступив в должность, Гордон всеми средствами старался снискать доверие и привязанность туземцев, попавших в такую беду после отъезда Бейкера. Новый губернатор оказался беспристрастным, всегда готовым прийти на помощь, милостивым к угнетенному народу. Он перехватывал караваны, увозившие рабов, охотников за рабами вешал либо сдавал в солдаты, недобросовестных чиновников отправлял в Каир, а освобожденных невольников распускал по домам. К 1875 году построили линию укрепленных постов между Гондокоро и озерами. (Позже Гондокоро стало нездоровым местом, и из него перебрались на пост Ладо.) Гордон отправил нашего отважного соотечественника, несчастного Линана де Бельфона, послом к царю Мтесе на берег озера Виктория, а сам продолжил дело освобождения рабов, укрепляя важные позиции на Верхнем Ниле — Наср-Рабачамбе и Латуку. В то время у него уже сложились серьезные разногласия с египетским правительством. В 1876 году Гордон прибыл в Каир и подал в отставку. Однако хедив не принял ее — напротив, невзирая на разницу мнений, подтвердил и подкрепил полномочия генерала: подчинил англичанину всех губернаторов в Судане, Дарфуре и провинциях, прилегающих к Красному морю. В предшественнике Гордона Якубе, как говорили, «соединились обе причины разорения страны: алчность турецкая и алчность египетская». Вследствие этого вся страна подчинялась Зубейру-паше, богатейшему работорговцу. Зубейра в Каире посадили в тюрьму, но его гнусное дело продолжил достойный преемник — сын Сулейман. Сначала Гордон думал привлечь Сулеймана на свою сторону кротостью, но слабость на Востоке презирают — у губернатора ничего не вышло. Церемониться больше не было смысла. В июне 1877 года Гордон набрал трехтысячное войско, вторгся в Дарфур, где Сулейман поднял мятеж, разбил бунтовщиков и принудил к сдаче. В стране наступил мир. Тем временем Англия заключила с Египтом соглашение, по которому работорговля в Нильской долине уничтожалась к 1884, а во всем Судане — к 1889 году. Торговцы, предвидев скорое разорение, вновь взялись за оружие. Гордон немедленно вмешался, покорил Дарфур, стал перехватывать караваны, послал итальянца Джесси усмирить Бахр-эль-Газаль[200], а вновь поднявшего бунт Сулеймана взял в плен и расстрелял. Через некоторое время хедив Исмаил был низложен. При новом хедиве Тауфике в Каире всем стали заправлять паши, заинтересованные в работорговле и открыто враждебные Гордону. В 1879 году генерал приехал в Каир и вышел в отставку. К тому времени Судан вновь был полностью умиротворен и подчинен Египту; цивилизация распространялась до самих Великих озер. После отъезда Гордона все развалилось так же быстро, как после отъезда Бейкера. Благодаря всесильным каирским пашам, на место Гордона был назначен какой-то местный уроженец, который, разумеется, был большим приятелем работорговцев и в неладах с законами чести. С новой силой возобновились набеги, похищения рабов и чудовищные поборы. Любители ловить рыбку в мутной воде водворились в Судане как в завоеванной стране и всячески угнетали туземцев, привыкших к справедливому, отеческому управлению Гордона. Недолго терпели несчастные гнет чиновников и рабовладельцев — вскоре они возненавидели египетскую власть. Восстание в возмущенном Судане стало неизбежно. Тут и явился Махди, которого приняли как избавителя. Махди для мусульман — последний в чреде великих пророков, включающей Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мохаммеда. Звали этого человека Мохаммед Ахмед. Он родился в Донголе в 1843 году, в семье плотника. Уже в детстве раскрылось призвание Мохаммеда Ахмеда; к двенадцати годам он знал наизусть Коран, и братья, работавшие на Белом Ниле корабельными плотниками, послали его в Хартум продолжать учение. Затем Мохаммед Ахмед поселился на острове Абба, где прослыл великим святым. Вокруг пришельца собралось множество дервишей, а верховные вожди племени баггара выдали за него своих дочерей. В мае 1881 года он объявил себя Мессией, предсказанным пророком Мохаммедом; ученики назвали его Эль Махди[201] и признали за потомка Пророка, пришедшего покарать нечестивых и установить царство правды. Баггара признали его верховенство, а сторонники отправились по египетскому Судану проповедовать пришествие Махди, который истребит злочестивых турок и их союзников — неверных англичан. Это была подлинно священная война — можно полагать (ничто не говорит об обратном), что Махди был совершенно искренним и бескорыстным фанатиком. Все несчастные и недовольные восстали по слову пророка, соединились вокруг него и составили внушительную армию. Суданским губернатором являлся тогда Реуф-паша. Он отправил в Махараби комиссию для расследования подстрекательных речей и действий Махди, а затем велел ему явиться в Хартум. Махди не обратил на этот указ никакого внимания. Тогда Реуф-паша (он думал, что имеет дело с обычным безобидным проповедником) отправил батальон шиллуков привести дервиша силой. Баггара, бонго[202] и динка, первыми присоединившиеся к пророку, в яростном бою уничтожили всех солдат. Реуф-паша понял, с кем имеет дело, сильно пал духом и выставил новых шестьсот воинов под командой мудира[203] Решид-бея. Люди Махди перебили и эту колонну до последнего человека. После двух последовательных побед имя вождя прославилось повсюду. В середине января 1882 года Махди захватил врасплох новый карательный отряд и, по своему обычаю, беспощадно истребил всех, кто не согласился идти за ним. В апреле взял и сжег Сеннар[204]. Вслед за этим Сеннарский округ, Шиллук и Кордофан присоединились к нему. Вскоре он уже властвовал на всем Верхнем Ниле — сопротивлялся лишь главный город Кордофана Эль-Обейд. Этот варварский город состоит из трех отделенных друг от друга частей: Орта, Вади-Сафи и Вард-Н’арле. В Орте есть цитадель, прекрасно защищенная тремя фортами. Гарнизоном командовали австрийские офицеры, нанятые хедивом. Население города достигало тридцати тысяч жителей, среди которых жило много купцов. Махди взял город в плотную осаду, перекрыл все пути для подвоза продовольствия, овладел колодцами и отразил все попытки оказания помощи осажденным. Лишенный еды и воды, город был вынужден сдаться на милость победителя — и с тех пор никто не слышал о гарнизоне Эль-Обейда. После этого Хартуму, последнему оплоту египетской власти на Верхнем Ниле, стала угрожать непосредственная опасность. Надо было действовать очень быстро и решительно, чтобы махдистские войска не спустились вниз по реке и не вторглись в Нижний Египет. По соглашению с британским правительством хедив отобрал десять тысяч наилучших солдат, поставил командовать ими сорок два европейских офицера и снарядил шесть артиллерийских батарей. Во главе внушительной армии был поставлен энергичнейший генерал Хикс, ранее отличившийся в Индии и Абиссинии. В декабре 1882 года англо-египетская армия отправилась на пароходе из Суэца в Суакин, перешла через Нубийскую пустыню в Бербер и поднялась по Нилу до Хартума. Там она запаслась провиантом, переправилась через Нил и пошла в Кордофан, чтобы отбить Эль-Обейд. Это одно из самых унылых мест на земле — упоминание о Кордофане вызывает мысли о величайшей суши и бесплодии. Обжигающая почва, раскаленные скалы цвета железной руды… Высохшие травинки угрюмо торчат в песках… Свинцовое небо над головами, воды мало, а то и вовсе нет: лишь чудом она сохранилась в грязных вонючих источниках, из которых животные и те пьют с неохотой… В этой-то местности Махди ожидал англо-египетскую армию. Первый бой состоялся при Токаре и закончился разгромом войск генерала Хикса. В руки Осман-Дигмы, шурина Махди, попало пятьсот человек, пушки и восемьдесят верблюдов; всех людей перебили. За гибелью передового отряда последовала катастрофа, потрясшая весь культурный мир и поднявшая репутацию Махди. Отдаляясь от Бербера, генерал Хикс, по своей ли вине или нет, не смог обеспечить себе пути отхода. Он шел вперед с дерзостью, соединявшейся, надо сказать, с некоторым пренебрежением к противнику: махдистское войско казалось генералу недисциплинированной, нестройной, неумелой бандой. Итак, он шел вперед и искал противника, не подозревая, что враг следует за ним по пятам и становится на ночлег в тех местах, где накануне был сам Хикс. Через несколько дней этого странного марша, где преследуемый преследовал преследователя, кончились припасы, прежде всего вода. Люди и животные во множестве умирали от страшной жажды — адского бича выжженных беспощадным солнцем мест. Настало время действовать решительно и для Махди. Получив донесение разведки, что египетские солдаты, страдая от жажды, идут Кашгильской тесниной, он велел напасть на них. Тут же во всех ущельях, на гребнях хребта, на высотках и вершинах скал появились полчища оглушительно ревущих, отменно храбрых фанатиков, которые ринулись на англо-египетские войска. Завязалась страшная, беспощадная битва, продолжавшаяся три дня — 3, 4 и 5 ноября 1883 года, закончившаяся полным уничтожением англо-египетского войска. В конце третьего дня генерал Хикс, увидев, что все пропало, попытался, собрав последние силы, пробиться сквозь плотные ряды врагов. Укрывшись за трупами лошадей и верблюдов, солдаты выстроились в каре. Но усилия их оказались напрасными! Каре было прорвано. Генерала Хикса нашли мертвым на горе мертвых тел, в каждой руке он сжимал по револьверу… Всем пленникам, раненым или умирающим, жестокие телохранители Махди из племени баггара, которых он привык высылать на завершение операции, перерезали горло. Как говорили, от всей блестящей армии, возглавляемой английским генералом и европейским штабом, спастись удалось только какому-то дезертиру-пруссаку. В то же самое время, 6 ноября, зять Махди под Токаром, в ста километрах от Суакина, где уже однажды разбил отряд самого Хикса, напал на другой отряд из пятисот человек, также под командованием европейца, и уничтожил его. 2 декабря пять рот под командой вновь поступившего на службу Бейкер-паши потерпели полное поражение у самых ворот Суакина, потеряв две трети личного состава. Наконец, сам Тауфик был осажден в Синкате, держал безнадежную оборону и чуял скорый конец — гарнизону приходилось питаться кошками, собаками, древесной листвой… Страшный голод выгнал хедива из города. Он утопил порох, заклепал пушки и вступил в бой в открытом поле. Там его войска, как и войска генерала Хикса, были задавлены превосходящими силами врагов и перебиты до последнего человека. Хартум держался, но всем было ясно, что Махди скоро придет сюда и сокрушит последний оплот египетской власти на Верхнем Ниле. Требовалось держаться любой ценой. Общественное мнение в Англии по поводу этой войны во внутренних районах Черного континента разделилось, так что правительство не сочло себя вправе отвоевывать Судан для хедива. Либо британский кабинет счел Махди слишком грозным противником, либо, следуя справедливой (хотя и пошловатой) пословице, решил, что игра не стоит свеч, — только войск в Судан Лондон не отправил. Это было серьезной ошибкой и с точки зрения британских интересов в Нильской долине, и с точки зрения всего цивилизованного мира: потом стало уже поздно… Кабинет предпочел компромиссный вариант, часто удававшийся английской дипломатии и обходившийся казначейству дешевле, чем прямое военное вмешательство. В Судан решили послать миротворца — энергичного, честного, убежденного человека, хорошо знающего страну и с крупной суммой денег. Он должен был купить все, что можно купить (в особенности совесть местного начальства), заплатить союзникам, навербовать войска, запасти средства, выиграть время и дождаться, пока военные действия сами собой утихнут. Все сразу поняли: только один человек отвечает всем требованиям и способен сыграть роль воина и миротворца одновременно. Имя Гордон-паши явилось само собой. В то время, когда министерство Гладстона предложило генералу отправиться на выручку в Судан, генерал вел переговоры с бельгийским королем, желавшим поручить ему организацию колонии в Конго. Гордон не колебался ни секунды и уехал в Африку. Правительство, не скупясь, выделило ему средства, чтобы вернуть заблудших овец и водворить порядок всеми способами, доступными человеку его закалки. Гордона снова назначили генерал-губернатором экваториальных провинций. Этот указ был подписан 18 января 1884 года, а 18 февраля генерал прибыл в Хартум. Пожалуй, давно уже не случалось такого: английские фунты стерлингов не произвели должного впечатления и не смогли заменить войска. Гордону пришлось сразу же взяться за оружие. 19 февраля он дал небезуспешный бой при Эль-Тебе: разбил махдистов и взял Токар, а 13 марта отбил у Осмад-Дигмы лагерь Тамманех, не заметив, что махдистский полководец слишком легко позволил победить. Воины пророка часто применяли этот маневр: при случае скрываться, завлекая англо-египетские войска на неблагоприятную позицию или убаюкивая мнимой безопасностью. Несколько дней спустя, 16 марта, Гордон снова вступил в бой с махдистами под Хартумом и потерпел полное поражение. В этом несчастном бою он потерял триста пятьдесят лучших солдат. С этого дня началась серьезная осада Хартума; 28 апреля город был полностью обложен. Гордон увидел, что попал в капкан, и понял, что собственными силами не продержится, невзирая на английское золото. Он пытался уцепиться за что угодно: завязал переговоры с работорговцами (обещая, вопреки своим убеждениям, что их промысел будет дозволен), с Осман-Дигмой, с самим Махди (тот и говорить ни о чем не хотел, если Гордон, по меньшей мере, не примет мусульманство)… Притом генерал использовал каждый удобный случай для отчаянных схваток, совершил несколько удачных вылазок, одержал несколько побед, но совершенно бесплодных, которые лишь ослабили его войско, и без того день ото дня таявшее из-за дезертирства. Нерешительному британскому кабинету Гордон между тем отправлял телеграммы, в отчаянии взывая о помощи. Действительно, подходило самое тяжелое время. Осман-Дигма осадил Суакин, Донгола была взята, в самом Хартуме процветала открытая измена. Гордону пришлось превратить губернаторскую резиденцию в форменную крепость, чтобы там в последний момент могли укрыться все, кто верен египетскому флагу. Англия, медленно и нехотя пробуждаясь от апатии, сделала вид, что посылает помощь отважному Гордону, который не бежал, не сдавался и продолжал неравную борьбу. Восемнадцатого сентября господин Гладстон на заседании парламента объявил об отправке армии в Судан. Она насчитывала десять тысяч человек, в том числе пять тысяч кавалеристов, под командованием генерала Вулсли. Ее задачами определили снятие осады Хартума, спасение Гордона и вытеснение Махди в Дарфур и Кордофан. В конце сентября армия вышла из Каира; 3 октября штаб расположился в Донголе. Затем Вулсли стал действовать, но ужасающе медленно. Целые месяцы проходили даром, а Хартум между тем агонизировал. Экспедиционный корпус разделился на две колонны. Одна, под командой генерала Герберта Стюарта[205], выступила в поход 4 декабря и двинулась на Метеммех. И Стюарт и солдаты сражались храбро, но 10 января были отбиты. Сам генерал в сражении был тяжело ранен и на обратном пути, 16 февраля, скончался. Другая колонна, под командой полковника Уилсона, 24 декабря погрузилась на пароходы и 25 января подошла к шестому порогу Нила, где попала под жестокий обстрел. Тем не менее 28 числа она оказалась в виду Хартума; ее и там встретил орудийный огонь. Уилсон был вынужден отступить, причем потерял один пароход. При отступлении он узнал: третьего дня Хартум пал, победоносный Махди занял город и все укрепления. Один египетский сержант, которому удалось спастись, вкратце пересказал плачевный итог отчаянной борьбы. Ночью предатели засыпали рвы вокруг крепости, и махдисты без единого выстрела вошли в спящий город. Всех, кто в темноте пытался хоть как-то изобразить сопротивление, они перебили и устремились к укрепленному губернаторскому дворцу. Гордон при первых же выстрелах вышел им навстречу с несколькими офицерами и горсткой египетских солдат. На маленький отряд обрушился страшный ружейный огонь. Гордон одним из первых был сражен насмерть. Ему отрезали голову и доставили Махди, а всех, кто не сдался бунтовщикам, уничтожили без пощады. Всего было убито двадцать тысяч человек; страшный пророк велел не хоронить их, а оставить гнить в городе. Тем временем английская армия, по частям разбитая войсками Махди, изнуренная тяготами пути и болезнями, отступала, оставив Хартум победителю. Это было окончательное отступление: Англия и Египет очистили Судан, весь Верхний Нил был полностью потерян для Египта, труды Бейкера и Гордона пропали даром, а прежний государственный порядок восстановился полностью. Только одному из офицеров Гордона, Эмин-паше, удалось еще какое-то время продержаться в Экваториальной провинции у озера Альберта. Но, как известно, его люди взбунтовались, и Эмину пришлось вместе со Стенли, пришедшим по Конго на помощь, отправиться восвояси.
ГЛАВА 14
ФРАНСУА ЛЕВАЙАН[206]
Голландская Капская колония. — Путешествие натуралиста.Хотя Африка была известна уже древним, мыс Доброй Надежды открыт не так давно — одновременно с Америкой. В 1486 году, за шесть лет до того, как Колумб отправился в обессмертившее его путешествие, Бартоломеу Диаш, посланный в плавание знаменитым государем Жуаном II Португальским, достиг высокой скалы, которой отмечена крайняя южная точка Африканского континента[207]. Терпевший страшные штормы мореплаватель назвал эту скалу выразительным именем: мыс Бурь. Но король Жуан, усмотрев в открытии предзнаменованье блестящего будущего для торговли и могущества своего народа, изменил мрачное название на мыс Доброй Надежды. Одиннадцать лет спустя, в 1497 году, Васко да Гама, вцепившись в штурвал корабля, заливаемого страшными волнами, первым обогнул со своими храбрыми спутниками столь опасный в то время мыс и открыл морской путь в Индию. Много лет португальцам и другим европейским морякам мыс Доброй Надежды служил лишь стоянкой — никто и не помышлял основать там колонию. Лишь полтора века спустя, и то случайно, цивилизация обосновалась здесь — до открытия Суэцкого канала. В 1648 году корабль нидерландской Ост-Индской компании потерпел у мыса крушение, и несколько моряков обосновались там, пока другое судно не доставило их на родину. Они предоставили очень подробный и полный отчет. Компания убедилась, что имеет смысл обосноваться в великолепной бухте, защищенной с запада полуостровом, южной оконечностью которого является мыс Доброй Надежды. В 1651 году туда отправились восемнадцать поселенцев от компании. Они и заложили у подножия Столовой горы поселок, на месте которого ныне находится город Кейптаун. Так было положено начало замечательной колонии. В 1793 году англичане овладели ею, в 1802-м потеряли, в 1806-м снова заняли, а в 1815-м окончательно закрепили за собой. Ныне наш век только и занят что Африкой да аннексиями. Англичане расширяются, прогрызаются, прорубаются, экспроприируют и жестоко, с помощью пушек, изгоняют соперников — одним словом, создают колоссальную африканскую империю. Они уже владеют южной оконечностью континента от бухты Уолфиш на Атлантическом океане до бухты Делагоа на Индийском; и алчут Трансвааля. Только что Лондон аннексировал земли бечуанов, матебеле и баротсе и все пространство между озерами Ньяса, Бангвеулу и южной оконечностью Танганьики. Таким образом, ныне Капская колония простирается в длину на три тысячи двести километров, ширина доходит до полутора тысяч. Вернемся немного назад, во вторую половину XVIII века, когда Южная Африка была не исследована и не захвачена Англией — великой основательницей колониальных империй. Речь идет о замечательных путешествиях Франсуа Левайана, исходившего с 1780 по 1785 год всю страну готтентотов[208], кафров[209] и намаква[210], до него совершенно неизвестную — во всяком случае, очень малоизвестную. Как своеобразна и удивительно привлекательна его фигура! Этот страстный натуралист родился на экваторе среди великолепия тропической природы. Левайан не переставал тосковать о ней. И сердце и разум путешественника навсегда сохранили живую, непреходящую страсть к тропикам… Нет ничего интереснее, в самом полном значении этого слова, чем читать рассказ о его путешествии в старинном оригинальном издании с гравюрами, изображающими, как славный Левайан в костюме прошлого века, с огромной бородой библейского патриарха, принимает чернокожих вождей! Книга полна фактов, наблюдений, ярких подробностей; повсюду виден тонкий остроумный наблюдатель, всегда веселый, подчас лукавый… Вместе с тем эта книга — основательнейший труд по естественной истории Африки, с великой пользой изучавшийся эрудитами своего времени. С точки зрения исключительно географической, книга, возможно, и недостаточна. Но сколько же в ней сведений по зоологии, какое богатство материалов о нравах и обычаях народов, о которых прежде не знали ничего, кроме загадок и ложных слухов! Франсуа Левайан родился в 1753 году в Суринаме в семье французов. Там же и развивались его воистину замечательные способности к зоологии. В 1777 году вся семья переехала во Францию. Франсуа с увлечением занимался в Париже историей, затем перебрался в Голландию, где привлек внимание блестящего натуралиста Темминка. После четырех лет неустанных трудов Левайан узнал все, чему молодой человек с его способностями мог научиться в Европе. Он решил завершить научное образование большой экспедицией в малоизвестные земли, где можно было надеяться найти много новых сведений. Таким желанным Эльдорадо[211] ему показалась Южная Африка. Темминк, тепло относившийся к молодому ученому, посоветовал отправиться в нидерландскую Капскую колонию и дал самые теплые рекомендации к самым значительным лицам. 19 декабря 1781 года Левайан отплыл пассажиром на корабле «Меркурий», принадлежавшем голландской Ост-Индской компании — хорошем, полуторговом-полувоенном корабле. На другой день Англия объявила войну Нидерландам. Недалеко от театра военных действий на «Меркурий» напал небольшой английский каперский корабль[212]. У того восемнадцать маленьких пушек, у «Меркурия» тридцать шесть больших. Но большой корабль позволил воинственному противнику обстрелять себя, а сам попытался улизнуть, ни разу не запалив даже зарядный картуз[213] — да тут, как назло, мертвый штиль![214] Хочешь не хочешь, надо драться — иначе потопят, возьмут в плен, обдерут как липку, а то и вовсе убьют… Свернули кое-как патроны[215], зарядили пушки и принялись палить не глядя с обоих бортов. Левайан до слез хохотал над этой нелепой пальбой и над обескураженными, посиневшими от страха физиономиями капитана с помощниками. Перестрелка продолжалась в течение длительного времени. Наконец задул ветер, к «Меркурию» подошел другой бриг компании, и вдвоем они отогнали англичанина. Тот спокойно выдержал огонь восьмидесяти орудий и с достоинством удалился. После этого потешного сражения, с кроткой усмешкой замечает Левайан, увидели, что некоторые пушки и ружья забиты снарядами по самое дуло: молодцы с «Меркурия» после осечки забивали новый заряд, даже не заметив, что выстрела не было! Вот страху-то натерпелись! Наконец пришли в Кейптаун. Весть о войне туда доставил один французский фрегат, вышедший намного позже «Меркурия», а пришедший намного раньше… В Кейптауне Левайан увидал просторные, красивые, удобные, прохладные дома под тростниковыми крышами. Его восхитили элегантные женщины, обученные играть на клавесине[216] — только показалось весьма дурно, что они пренебрегают материнским долгом и вскармливать детей отдают невольницам. Между тем в городе для проезжающих нет ни кофейни, ни постоялого двора. Пришлось искать жилье у обывателей (что, впрочем, нетрудно). Жизнь здесь дешева: упитанный бык стоит сорок восемь франков. Вино превосходно — знаменитое констанцское[217] сухое достойно своей славы, — но фрукты, кроме винограда, сильно перезревают, как почти повсюду в тропиках и даже в субтропиках. Левайан вырос в колонии во времена рабовладения и находит этот ужасный обычай естественным и спокойно, как о ценах на скот, говорит о продажной цене рабов. Мозамбикские негры у трапа корабля продаются по восемьсот франков, но их надо еще учить. Капские уроженцы стоят вдвое дороже, а если они еще знают какое-нибудь ремесло, цена и вовсе бешеная: повара продают за четыре-пять тысяч франков. «Зато, — пишет Левайан, — в Капской колонии вовсе не видно наглой лакейской челяди. Там еще неизвестны роскошь и гордыня, породившие подлую породу бездельников, населяющую в Европе передние богатых людей и несущую печать неизгладимого нахальства». Путешественник довольно долго прожил в Кейптауне, во всех деталях подготовив путешествие в глубь страны. Он выехал на «поезде» из двух огромных капских повозок — настоящих передвижных домов, распространенных среди буров. У него тридцать упряжных быков и еще десять на подмену; с ним отправляются три охотничьих лошади, девять собак и пять готтентотов. И вот Левайан едет на север с запасом провизии на два года, не считая дичи, которой изобилуют эти места, — позднее охота станет единственным способом пополнения его кладовой. Он выехал из очень небольшой зоны, в которой чувствовалось разрушительное действие цивилизации, — и тут же оказался в райских для охотника и натуралиста краях. Франсуа радовался как дитя, восторгался, как художник, пускался на хитрости, как краснокожий, а при виде неописанной антилопы, неизвестной ящерицы, неведомой дотоле птицы — загорался алчностью, как золотоискатель. Поскольку Франсуа хранил чучела всех больших и маленьких животных, нужно было придумать, как бы поменьше повредить живых представителей фауны — особенно птиц, которых пули и дробь часто разрывают на мелкие части. И вот Левайан выдумал хитрый способ. Он клал сколько нужно пороха, забивал заряд вместо пыжа огарком свечи длиной в полдюйма, наливал в ружье воды и подкрадывался как можно ближе к нужной птичке.Оглушенная струей, мокрая птаха падала в руки охотнику без тех повреждений, какие наделали бы силок или дробь. Левайан был храбр и жалел бедных изголодавшихся дикарей — он убивал слонов и на званых пирах кормил туземцев горами мяса. Кремневые ружья, при виде которых современные путешественники, имеющие многозарядные карабины, только пожали бы плечами, в его руках творили чудеса; из тяжелого тридцатифунтового мушкета можно было свалить слона… Впрочем, за добрые дела Левайану воздавалось сторицей — он очень выгодно продавал слоновую кость. Сначала путешественник сильно растерялся, не зная, какие плоды на окружавших его деревьях и кустах съедобны, а какие ядовиты. Неожиданно незаменимым помощником и дегустатором для него стала капская обезьянка по кличке Кеес — очень ласковый, зоркий и преданный хозяину. Большой лакомка, Кеес обладал неким чудным инстинктом: одни плоды сжирал с удовольствием, другие же, рассмотрев, с негодованием отбрасывал; человек на его месте никак не определил бы, хорош этот плод или дурен. Кеес исполнял также обязанность — по остроте его органов чувств — сторожа, особенно ночью, никакой пес не мог с ним сравниться. Он ездил с хозяином и в лес на охоту — иногда фамильярно усаживался на плечо, но больше всего любил скакать верхом на собаке. Левайан знал: белые обыкновенно жестоко обходятся с туземцами и те платят той же монетой. Нужно было отличаться от всех наружностью, чтобы его ни с кем не путали. Лучше не было средства, чем борода: в те времена все белые люди в колонии брились. Скоро Франсуа все стали узнавать и хорошо относиться к французу. К тому же, будучи метким стрелком, он часто в неурожайные годы избавлял несчастных туземцев от страшного голода. По просьбе туземцев Левайан в изобилии стрелял антилоп и буйволов, приносил много мяса и находил к сердцам африканцев дорогу через желудок. Пропутешествовав несколько месяцев вдали от города, Левайан понял, почему негры, и в особенности кафры, так ненавидят белых — они ведь видят почти исключительно местных колонистов, буров. Узнал он и сколь опасны для одинокого белого путника огромные орды кочевников. Колонисты позволяли себе немыслимые жестокости. То, что сообщает об этом Левайан, очень ужасно, хотя и интересно. «Вопреки всеобщему мнению, — пишет Левайан, — кафры — народ миролюбивый и тихий. Но, поскольку белые постоянно их грабят и режут, кафрам приходится обороняться. Буры ославили негров свирепыми и кровожадными людьми в оправдание собственных лютостей и грабежей. Но всем ведь известно, что под предлогом розыска нескольких украденных коров вырезались целые негритянские племена, включая женщин и детей! В качестве “компенсации ущерба” буры разоряют посевы кафров, уводят их скот. За один только год “компенсация” составила двадцать тысяч голов!» Однажды отряд колонистов разрушил кафрский поселок. Двенадцатилетнему мальчику удалось убежать и спрятаться в звериной норе. Один из буров отыскал парнишку и отвел с собой в рабство, но мальчика захотел забрать командир колонистов. Буры повздорили. В гневе командир воскликнул: «Так пусть никому не достается!» — и тут же уложил мальчика выстрелом из ружья в упор прямо в грудь. Часто эти сволочи для забавы привязывают пленных и стреляют в них, как в мишень, причем нужно не убить негра, а попасть в ногу или в руку. В общем, грабежи и убийства здесь — обыкновенное дело, и все ужасные бойни несут неграм несчастье и горе… Левайан в обществе буров однажды удивился, почему губернатор не прикажет прекратить безобразия. — А он приказывает, — расхохотался один из буров. — Только и делает, что шлет сюда приказы. Да он где, губернатор-то? Он отсюда за двести миль, чихать мы на него хотели! — Положим, — возразил Левайан. — Но он может прислать не одни приказы, а еще и добрый отряд солдат, чтобы каждого виноватого взять и отправить в город — тогда что? — Тогда… — ответил бур. — Ну, пусть попробует, а мы тогда вот что сделаем. Мы соберемся все вместе, половину солдат зарежем, засолим в бочках и с другой половиной отправим назад. Будут знать, как к нам соваться! День за днем, от ночевки к ночевке, медленно, но верно повозка везла Левайана в земли свободных кафров, куда буры заходить не дерзают, — и понятно почему. Там путешественник встретил гордых, статных мужчин и восхитительных женщин, сложением не уступающих статуям Венеры[218]. Туземцы там добрые, славные люди, живущие скотоводством, плодами земледелия и охоты. Но обижать этих добрых людей, — говорит Левайан, — не стоит: мирные земледельцы вмиг превратятся в отважных и беспощадных воинов. Путешественник любовался их статью, наслаждался гостеприимством, обменивался подарками, пил дивное молоко, которое хранят в удивительнейших корзинах: они сплетены так искусно, что ни капли жидкости не вытекает. Путешественнику понравилась и верность супругов (хотя встречается иногда и многоженство), причем отцы привязаны к детям не меньше, чем матери. Кафры непрестанно курят коноплю, делают недурную посуду, умело и терпеливо пасут скот, умеют строить удобные дома, чтобы укрыться от зимней непогоды. В общем, живут достаточно богато — во всяком случае, гораздо лучше, чем большинство кочевников. Шестнадцать месяцев подряд колесил Левайан по Африке — то было первое его путешествие. Он собрал и с несравненным искусством препарировал коллекцию редчайших млекопитающих, неизвестных насекомых, а главное — птиц, не включенных в каталоги крупнейших собраний мира. Вернувшись после долгого отсутствия в Кейптаун, Франсуа позаботился о своих сокровищах: большую часть отправил во Французский музеум[219], кое-что подарил другу Темминку. Путешественник также незамедлительно выправил вольную всем верно служившим ему рабам. В Кейптауне Левайан сразу затосковал посреди столь чуждого общества… «Шестнадцать месяцев непрерывной охоты, — пишет он, — не охладили моего усердия, не насытили всех желаний. Эта все более настоятельная страсть к пополнению моих познаний в естественной истории рождалась самим множеством только что узнанного и накопленного мною. Мои тяготы превратились в ничто, как только я сбросил с себя их бремя…» Пятнадцатого июня 1783 года он вновь отладил фургон и отправился в путь. С ним были все те же быки, собаки, лошади и готтентоты — отныне свободные спутники, а наипаче — верные друзья Левайана. С точки зрения пользы для естественной истории, второе путешествие оказалось, возможно, еще плодотворней первого. По расстоянию оно намного превосходило первое, а продолжалось на месяц меньше. За такое сравнительно короткое время Левайан побывал в Большом и Малом Намакваленде; при этом он перенес много тяжких невзгод и не раз подвергался серьезной опасности. Он собрал очень точные, любопытные, а главное — достоверные сведения о неизвестных прежде племенах; позже все они были проверены, и Левайан подтвердил репутацию проницательного, правдивого, добросовестного исследователя. Во втором путешествии Франсуа в первый раз охотился на жирафа. Он первым описал это удивительно сложенное млекопитающее и первым привез в Европу его чучело. В 1785 году Левайан вернулся во Францию и — поверите ли? — с величайшим трудом продал коллекции и напечатал труд! Началась революция. Хотя Левайана вовсе не интересовала политика, его арестовали и целый год содержали под стражей. Наконец Национальное и Учредительное собрания[220] решили приобрести истинно замечательные коллекции, но враги ученого воспользовались арестом, и государство согласилось купить лишь часть материалов. В оплату Левайан получил дубликаты книг из публичных библиотек. Остальные трофеи были проданы в Голландию и там рассеялись. Намного позже путешественник получит от Наполеона орден Почетного легиона. Это оказалась его единственная награда за отвагу, перенесенные тяготы и редкостный вклад в естественную историю. Левайан умер в 1824 году в Сезанне.
ГЛАВА 15
У. С. БОЛДУИН
В глубь Африки. — Драматические приключения профессионального охотника. — У водопада Виктория. — Богатство.Было бы ошибочным полагать, что до замечательных исследований Ливингстона о Южной Африке ничего не знали. Действительно, она не была основательно изучена великими путешественниками, которые ныне пересекают материк и приносят нам богатейшую жатву новых знаний. Однако названия туземных племен, природные богатства их земель известны давным-давно. Более того — карты территории от 33°56′ (широта мыса Доброй Надежды) до Оранжевой реки (примерно двадцать девятая параллель) не имели пресловутых белых пятен — очерченных пунктиром провалов, приводящих географов в отчаяние. Дело в том, что с давних времен, когда голландцы только еще поселились в Южной Африке, по ее землям все дальше и дальше вглубь непрестанно двигались буры. Они повсюду бороздили страну в домах на колесах, находили местечко, где почва получше или дичи побольше, устраивались, заводили ферму, и вскоре являлась на свет большая семья. Отпрысков новоявленных патриархов тоже манили новые земли, и они, в свою очередь, пускались в путь — вперед, непременно вперед, никогда ни за что не удирать в столицу колонии. Иные устремлялись за стадами зверей, за слоновой костью — и тоже уходили из насиженных мест в неизвестность, иногда на огромное расстояние. Город при этом не то чтобы забывали — кое-какие отношения с ним все-таки сохранялись. Неустрашимые «дреймены»[221] на огромных фургонах, «дреях», запряженных десятью, пятнадцатью, двадцатью парами быков, отправлялись из Кейптауна с богатым грузом пороха, свинца, мануфактуры и доставляли его в самые отдаленные поселения, затерянные в дикой стране, получая взамен драгоценный товар — слоновьи бивни. Год за годом знакомым путем через горы, долы, леса и реки первопроходцы объезжали всю страну. Деятельные, энергичные, умные, они кроме всего прочего собирали интереснейшие сведения о землях, которые им случалось проезжать. Этими сведениями пользовались искатели приключений — полуохотники, полукупцы, страстно любившие вольную жизнь в пустыне и острые ощущения схваток с дикими зверями. Итак, благодаря постоянному продвижению буров с юга на север, благодаря постоянным поездкам дрейменов, с незапамятных времен поставлявших бурам товары, наконец, благодаря походам профессиональных охотников, которые были как бы авангардом колонистов, Южная Африка никогда не была чем-то неведомым и устрашающим. Среди этих походов, которых за полстолетия было бесчисленное множество, в число самых замечательных входят, без сомнения, путешествия У. С. Болдуина. Болдуин — человек неординарный и в то же время очень скромный. Он охотник и одновременно коммерсант — убивает зверей, чтобы продать шкуру и заработать денег. География не его дело: он просто идет своей дорогой и по пути смотрит вокруг, интересуется встречными людьми и предметами, пишет дневник, чертит маршрут. Впрочем, торговлей слоновой костью он занялся лишь по страстной любви к охоте. Денежный интерес у странствующего Нимврода[222], в общем-то, всегда на последнем месте. Прежде всего он следует неодолимой страсти охотника, а там уж потихоньку собирает скромный капиталец. Итак, по склонности Болдуин стал охотником, по обстоятельствам — негоциантом[223] и путешественником, писателем — невольно; следующая цитата из его книги ясно говорит о замысле англичанина. «Когда, — пишет Болдуин, — в краале или в фургоне я записывал эти строки — иногда чернилами, чаще карандашом, а бывало, и порохом, разведенным в чае или в кофе, — я не мог предположить, что из них составится книга. Теперь по настояниям друзей я с трепетом решаюсь издать ее. Я должен сдержать слово, данное тем, кто с любопытством в Натале[224] следил за моими походами — сперва в близлежащем округе, потом доведшими меня по нехоженым местам до самой Замбези». Болдуин отважно устремился через совершенно неизвестные, не пройденные и Ливингстоном, земли. После знаменитого миссионера он стал первым белым человеком, удостоившимся лицезреть и описать водопад Виктория. Итак, это незаурядная личность. Болдуин много знает, много видел, много приметил — поэтому он достоин почетного места в маленьком мирке второстепенных путешественников, которых завтра публика вполне может забыть, если ей об этом не напоминать. Как всегда, трудней всего дались первые шаги. С раннего детства Болдуин страстно любил охоту, лошадей, оружие, собак — и не выносил городской жизни. Он решил сам добывать себе средства к существованию, безоглядно отдавшись своей страсти к спорту. Капская колония показалась ему удобным местом для этого. В 1851 году, еще совсем молодым человеком, он отправился, захватив с собою дробовики, карабины и конскую сбрую, искать положения в обществе, которое соответствовало бы его вкусам и способностям. Он нашел, что искал, нанявшись к купцу, отправившему в страну зулусов отряд охотников и вместе с тем пастухов — нечто вроде нынешних американских ковбоев[225]. Поход оказался неудачен и плохо организован. Охотников косили болезни: через четыре месяца семеро из девятерых умерли. Только Болдуин и один его товарищ смогли вынести страшные приступы лихорадки. Целый год они не могли встать на ноги. Но Болдуин следовал призванию и обладал железной выносливостью. Два года он оставался на этой проклятой службе, скопил деньжат и начал охотиться для собственного удовольствия. Мечта сбылась! У него был такой же транспорт, как у Левайана шестьдесят пять лет назад: фургоны, быки, лошади… Но оружие заметно усовершенствовалось: кремневые ружья были вытеснены капсюльными. Оружия с затвором, правда, еще не придумали, но уже и без них можно было устраивать страшные бойни… В 1854 году Болдуин отправился из Наталя, вооруженный огромными карабинами. И вот он — замечательное зрелище! — гоняется по ужасным дорогам за грозными африканскими мастодонтами[226], встречает их лицом к лицу и, как подлинный виртуоз, поражает. Однажды на нашего охотника набросился раненный его неловким товарищем гиппопотам. Болдуин, зарядив ружье, отважно поджидал чудовищного зверя. Он подпустил животное на двадцать метров и тогда только выстрелил. Пуля попала над ухом, и бегемот завертелся волчком. Охотник послал в него еще две пули из запасной двустволки, но безуспешно. Эти крупные животные, настоящие бастионы из мяса и жира, ведут поистине нелегкую жизнь. Раненый бегемот хотел убежать, но Болдуин не мог упустить добычу — клыки; пришлось выстрелить еще раз. Тут уже пуля попала точно между глазом и ухом, и гиппопотам повалился мертвым. Так он и ехал, каждый день стреляя зверей, чтобы прокормить себя и слуг, наполнить свою бродячую лавку слоновьими бивнями, носорожьими рогами, бегемотовыми зубами… Между тем у него всегда находилось время подкинуть какую-нибудь антилопу или буйвола в подаяние встречным голодным беднякам. По десять раз на дню Болдуин с невообразимой беззаботностью рискует жизнью — впрочем, ему это кажется совершенно естественным. «Однажды, — пишет он, — я возвращался домой. День был удачный; канна[227], буйвол, три антилопы каама. Я вел под уздцы прекрасную серую кобылу, груженную антилопьими шкурами. Вдруг прямо передо мной явился огромный зверь, который так извалялся в грязи, что сначала я принял его за носорога. Я отпустил повод, спрятался за лошадью, и мы побежали. Зверь, оказавшийся большим буйволом, узнал о моем существовании, только получив пулю между ребер. Как полетели камни из-под его копыт, с каким страшным грохотом он побежал под гору! Перезарядив ружье, я вернулся к своей кобыле. Она стояла на месте: южноафриканские охотничьи лошади могут хоть целый день, не сходя с места, дожидаться хозяина. Мы побежали вслед за буйволом, но я не очень надеялся отыскать его: уже темнело. Вдруг из тени мимоз прямо на меня вылетела бесформенная масса. Я поглядел, нельзя ли вскочить на какое-нибудь дерево, попытался сесть на кобылу, но это было невозможно: на ней лежали шкуры. Рука моя запуталась в поводьях, а буйвол все ближе… Я вскинул ружье на плечо. Испуганная кобыла отпрянула назад, пуля попала буйволу в грудь, но ни на секунду его не задержала. Кобыла совсем обезумела, встала на дыбы, упала на спину и повалила меня с собой. Буйвол промчался рядом со мной, растоптав копытами мою бедную лошадь. Через двести шагов я догнал его и выстрелом прямо в сердце убил наповал». Болдуин отправился в поход в мае, перешел Драконовые горы, пересек Оранжевую Республику и прибыл в Трансвааль[228]. Там он остановился у одного бура, чтобы починить фургон. В этих местах Болдуин впервые охотился на жирафа; его рассказ, по обыкновению, занимателен. Вот что он пишет: «Я ехал верхом на коне по имени Брайен — рослом, поджаром, на редкость медлительном, голубой масти, с овечьей шеей, неровным шагом; он сам очень напоминал то животное, на которое мы охотились. Конь был тяжел в поводу, потому что губы были очень жесткие, но за широкую грудь, спину ему можно было простить некрасивую внешность». Показалось стадо из семи — восьми жирафов, которые бросились бежать со всех ног и крутили хвостами, как штопором. Лошадь Болдуина сначала испугалась и попятилась, увидав огромных, неуклюжих, дурно пахнущих животных, а через миг погналась за ними вскачь. Охотник преследовал громадного самца; после бешеной скачки ему удалось нагнать жирафа, хотя один прыжок животного равен трем лошадиным. На всем скаку Болдуин выстрелил и попал жирафу в шею, но тот не остановился. Охотник на ходу перезарядил ружье и хотел спешиться, чтобы второй раз прицелиться вернее. «Куда там! Я потянул за повод, но чертова лошадь мчалась, как корабль на всех парусах, и так закидывала передние ноги, что чуть не задевала меня по плечам. Спешившись, я мог бы выстрелить уже тысячу раз, но никак не удавалось остановить Брайена: его губы не чувствовали узды, и он скакал с прежним пылом, без всяких признаков усталости. Когда мы догнали жирафа, я, держа ружье одной рукой, выстрелил в добычу метров с двух, не более, и попал прямо в лопатку. От отдачи ружье перелетело за мою голову и чуть не сломало палец. Лопатку жирафа раздробило в порошок и со страшным грохотом он повалился мертвым. В спешке я, видимо, переложил в заряд пороха. Брайен сразу встал как вкопанный…» Двадцать первого сентября Болдуин приехал в Колобенг и увидел развалины жилища Ливингстона, которое буры разграбили в 1852 году. Затем он вознамерился пройти через владения царька Секелете. Царек сперва велел англичанину поворачивать назад, но при помощи подарочков, которые часто рождают, а после помогают сохранить дружбу, дело уладилось. По дороге в Мосиликаци Болдуину пришлось перенести жестокие лишения: жажда была ужасна — у быков в упряжке так пересыхало горло и распухал язык, что они уже и мычать не могли. Ничто не умаляло энергии охотника, не выводило из равновесия! Он упал с лошади и сломал лучшее ружье. Ствол расщепился — он его обрезал. «Ружье после починки получилось смех какое короткое, — вспоминает он, — зато, сидя верхом, с ним стало легче управляться, а меткость, мне кажется, хуже не стала». Однажды Болдуин упал так, что чуть не лишился жизни, — и рассказывает об этом как о самом обыкновенном деле: «Я гнался за зеброй, когда лошадь на всем скаку попала ногой в яму и несколько раз перекувырнулась через голову. На мне живого места не осталось, но хуже всего было то, что под тяжестью глупой скотины нож и пули врезались мне в бок. Ничего страшного не случилось — через несколько дней я надеюсь уже снова сесть верхом, — но в первый миг мне показалось, что все кончено». Он справляет Рождество куском мяса носорога — такого жирного, что самый крепкий желудок ее не выдерживает, — и парой ложек полусырой лапши вместо хлеба. Да, насколько это было непохоже на английский рождественский ужин! «Что ж, — философически замечает Болдуин, — у охотничьей жизни есть, конечно, свои неудобства — но есть и радости, вознаграждающие за все лишения». На следующий год он очутился у озера Нгами и решил дойти до Чобе, правого притока Замбези. Товарищ оставил Болдуина, с которым теперь остались только три кафра, два готтентота, кучер, семь собак, восемнадцать упряжных быков, корова с телкой и пять верховых лошадей. У охотника в распоряжении имелись боеприпасы, бисер, медная проволока, пряности, мука, ящик водки и бочонок доброй капской мадеры. Кроме того, у него есть немало почти готового вяленого мяса: он уже подстрелил множество канн и жирафов. Это, конечно, жестокость, но для нее есть оправдание: надо кормить полторы сотни кафров; ни куска не пропало. Когда же два великолепных жирафа паслись в четырехстах шагах от фургона Болдуина, но провизии для людей и корма для собак было довольно — он их не тронул. Каким же старым был фургон! Его пробовали обтянуть сыромятной кожей носорога — высохнув, она становится твердой, как жесть, — но до новой повозки все равно далеко. «Помимо же этого, — пишет Болдуин, — у меня было, кажется, все, что нужно для путешествий по этим краям: здоровье, силы, привычка к климату, неистощимый запас бодрости и некоторое умение обращаться с туземцами. Кафры и готтентоты всегда охотно исполняли мои просьбы — очевидно, потому, что я делил с ними все тяготы и об их пропитании заботился больше, чем о своем. Меня не удерживали никакие семейные и дружеские связи; я не знал ни слез разлуки, ни долгих прощаний, ни беспокойства, которое гонит домой… Мне всегда везет, я на все согласен, мне все интересно. У меня есть винтовка «ваттон» с двумя нарезами[229] — лучшее оружие из всех бывших у меня. Она безупречно точно бьет при любом заряде, а если к конической пуле положить шесть драхм (двадцать два грамма) пороха, получается убойная сила, равной которой я еще не видывал. Вот только опасался, как бы меня не сбросило с седла». Двадцать два грамма пороха! Те, кто хорошо знаком с огнестрельным оружием, сразу представят себе эту отдачу — такая и впрямь может сбросить с лошади. В середине июня Болдуин пришел к Лечулатебе, вождю племени, населявшего берега озера Нгами, человеку не злому, но страшному вымогателю. Тот — не бескорыстно, конечно, — рассказал Болдуину все, что нужно, и дела у охотника устроились совершенно. Винтовка «ваттон» без дела не лежала — задний отсек фургона, служивший складом, постепенно наполнялся бегемотовыми зубами, страусиными перьями и слоновьими бивнями. Так оно и шло из месяца в месяц. Иногда в жизни охотника — и без того полную неожиданностей — происходили какие-нибудь разнообразные приключения, иногда злоключения, а подчас — страшные драмы. Но герой, как в волшебной сказке, пройдя через все испытания, преодолевал преграды; энергия и упорный труд приносили ему успех. Каждый новый день приносил надежду, унося тяготы и разочарования предыдущего. В конце концов экспедиция принесла чистую прибыль в двадцать пять тысяч франков плюс шестьдесят превосходно натасканных упряжных быков. Болдуин вернулся в Наталь, продал товар, выгодно разместил деньги, приготовился к новому путешествию и опять отправился на север. На этот раз он дошел до Замбези и три дня провел возле водопада Виктория — почти не охотился, катался на лодке и во все глаза смотрел кругом, не в силах сдержать восхищения. Он нашел дерево, где доктор Ливингстон вырезал свои инициалы; прямо под монограммой славного предшественника Болдуин — второй европеец, увидевший водопад, — вырезал собственную. «Я полжизни согласился бы там прожить!» — пишет охотник в восторге. Впрочем, когда однажды ему повстречалось большое стадо слонов, он без колебаний погнался за ним. Сначала он меньше чем за час убил пять слонов! Постепенно Болдуину удалось перестрелять все стадо и наполнить фургон первосортной слоновой костью. Ужасное дело! Нет тяжелее доли, на которую человек может себя добровольно обречь, чем слоновья охота. Двое суток без передышки вы скачете на лошади к озерку, куда, по слухам, стадо пришло на водопой, ночуете в лесу, голодаете, утром насилу можете зачерпнуть немного грязной воды панцирем дохлой черепахи. Опять ногу в стремя — и по следу в изнурительную жару. За вами едут три полумертвых от голода туземца, кое-как прикрытые вонючими сальными лохмотьями звериных шкур, и везут несколько глотков воды в бурдюке из шкуры квагги[230] (ничего нет в свете тошнотворнее!) — это весь ваш запас. Бывает, вы ничего кругом себя не видите… Большое счастье, если в изнеможенье вы доберетесь до туземного крааля — там стоят невероятно грязные амбары под растрепавшейся соломенной крышей, на ветру торчат сухие колючки, сушатся ломти тухловатой дичины, расставлены кувшины с водой, на деревьях болтаются клочья шкур. Вы спите на охапке сена, подложив под голову седло, причем коптитесь у костра, чтобы отогнать комаров. Опять начинается скачка, и если вы наконец все-таки увидите зверя — значит, все прошло как нельзя лучше. Даже в том случае, когда охотник, подобно Болдуину, сразу встречает несколько слонов, сначала он должен отогнать в сторону и застрелить самого большого. Болдуин так и сделал. Получив две пули, слон, находившийся едва в сорока шагах, развернулся и стремглав ринулся на охотника. «Подо мной, — пишет Болдуин, — был новый, впервые оседланный жеребец по имени Кебон, который стоял на месте как скала. Я хотел встретить слона своим коронным выстрелом в грудь, но только начал целиться — Кебон дернулся и помешал мне. Я пытался его успокоить. Слон в это время опять рванул на нас, и пришлось выстрелить наудачу. То ли коню не понравилось, как пуля просвистела у него над ухом, то ли еще что — только Кебон так сильно тряхнул головой, что левый повод перекинулся на другую сторону, цепочка мундштука порвалась, а железо врезалось коню в рот. Огромный слон — всего в двадцати ярдах — махал поднятыми ушами, яростно трубил и бежал на нас. Я дико колотил коня шпорами по бокам (иначе править было невозможно), но Кебон кинулся не назад, а прямо навстречу чудовищному зверю — я, право, думал, что смерть близка… Уклонившись, насколько возможно (слон задел меня хоботом), я выстрелил в упор и опять пришпорил коня; тот отскочил и встал на месте. Я со всей силой пришпорил коня, который помчался не разбирая дороги, сильно ударив меня об одну из трех бохиний[231], встретившихся по дороге. Я чуть было не вылетел из седла; правую руку мне забросило за спину так, что она хлестнула по левому боку. Сам не знаю, как удержал четырнадцатифунтовое ружье одним пальцем за спусковую скобу! Оторванная узда осталась в левой руке — к счастью, когда я стрелял, она там и была. Так мы скакали во весь опор по густому лесу. Кебон, как коза, прыгал через колючие кусты подлеска; слон гнался за нами, но в конце концов нам удалось от него оторваться. Тогда я все-таки остановил коня; Кебон сделал еще два-три круга и наконец встал. Взнуздав его, я ветром помчался вдогонку за зверем, чтобы не упустить. Слон повернулся и помчался на нас. Началась долгая молчаливая и весьма неприятная погоня, тем более что лошадь устала и ей было очень трудно держаться на ногах. С десятой пули слон наконец упал и больше не поднимался. Я выдохся так, что даже не мог насыпать порох на полку[232] ружья». Это оказалась последняя экспедиция Болдуина, продолжавшаяся целый год и завершившаяся благополучно; охотник получил весьма солидную выручку. После этого он оставил опасный промысел. Через несколько месяцев англичанин вернулся на родину, имея небольшое, честно нажитое состояние, и с великой радостью встретил родных, о которых никогда не забывал. Вместе с Левайаном, Ливингстоном, Андерсоном[233], Бейнсом и Чепмэном Болдуин был одним из тех, кто открывает новые пути в неведомых землях, узнает, чем там живут и торгуют. Такие люди приучают туземцев к белым, рождают в них мысль об обмене товарами и медленно, но верно готовят проникновение цивилизации в новые страны. Иногда это проникновение бывает ускорено, как в Австралии, открытием богатых золотых жил, как в Южной Африке, открытием крупных алмазных копей. Тогда переселенцы с неудержимой силой потоком устремляются в новые края. Возникают пути сообщения, вырастают города. Люди рвутся вперед, а туземцы убегают либо нанимаются на службу к новым завоевателям. Многим колонизация несет нищету, иным богатство — но несет ли она подлинное процветание дальним странам?
ГЛАВА 16
ГИЙОМ ЛЕЖАН
Призвание. — Первые путешествия. — Назначение консулом в Абиссинию. — Негус Теодрос. — Темница. — Возвращение и смерть Лежана.Кто действительно был прирожденным путешественником, так это Лежан, коренастый бретонский атлет, миролюбивый и добрый, как все силачи, энергичный и храбрый, как подобает сыну старой честной кельтской земли. Гийом Лежан родился в Плуэга-Геране (департамент Финистер) в 1818 году. У него было все, что нужно для не слишком возвышенного, но беспечного и безмятежного домашнего счастья. Он успешно окончил коллеж Сен-Поль-де-Леон и был назначен секретарем совета префектуры Морле — недурное место «приказного», как тогда говорили: такие весьма ценились провинциальными буржуа того времени. В 1848 году он имел честь и редкое счастье стать сотрудником Ламартина[234] по газете «Пэи»: его могло ожидать блестящее положение среди литераторов… по крайней мере, в нашей республике. И вот на тридцатом году жизни Гийом Лежан без малейших колебаний — даже с удовольствием — бросает все и целиком отдается непобедимой страсти к дальним путешествиям. Для начала Академия наук послала его с научной миссией в Черногорию и Европейскую Турцию[235], где он провел несколько лет. Лежан опубликовал несколько замечательных статей об этих краях, за что был утвержден сверхштатным консулом. Тогда он ушел в заслуженный отпуск. Вскоре Лежан задумал подняться по Нилу до самых истоков, но в дороге, к несчастью, заболел и не смог пройти дальше Гондокоро. Как истый бретонец, Лежан от своего так просто не отступал. В 1862 году консул, по собственной просьбе, послан с дипломатической миссией к знаменитому абиссинскому негусу Теодросу, о крайней жестокости которого ходило множество легенд. Конечно, отправляться по доброй воле к своенравному монарху было небезопасно: его жестокость и кровожадность подходила цезарям времен упадка Римской империи. Но Гийом Лежан был одним из тех, кого опасности не останавливают, а только подстегивают. Он отправился в Хартум, оттуда в Сеннар, Галлабат, в пограничную абиссинскую деревню Вухне, оттуда в Дебру и Табор, где должен был встретиться с Теодросом. Путешествие было довольно утомительно, но прошло без приключений, и в январе 1863 года Лежан прибыл к месту назначения. Легенды говорили, что к негусу нет никакого приступа, но при первой встрече с Лежаном он показался довольно добродушен. «Я еще не видел негуса, — рассказывает Лежан. — Мне сказали, что он пойдет испытывать новую гаубицу, присланную специально для него из Базеля, и я на всякий случай надел консульский мундир. Это было 25 января 1863 года. Часов в девять утра мне сказали: “Государь идет!” Я тотчас вышел; прямо передо мной проходила шумная свита высших офицеров, одетых в расшитые праздничные рубахи. Среди них шел некто, похожий на добродушного крестьянина — без шапки, босиком, в солдатской тоге[236] не первой свежести. На поясе у него висела кавалерийская сабля, в руке вместо посоха было копье. Знаток абиссинских обычаев с первого взгляда узнал бы сан незнакомца по простому признаку: у него одного тога была накинута на оба плеча — этот более чем просто одетый человек и был эфиопский царь царей[237] Теодрос II. Царь увидел меня и весело обратился с обычным абиссинским приветствием: “Хорошо ли почивали?” По этикету в ответ полагается молча низко поклониться. Негус сказал еще несколько учтивых слов и спросил, когда я желал бы быть принят официально. Я, разумеется, отвечал, что целиком нахожусь в распоряжении его величества. Тогда негус назначил прием с почестями, подобающими пославшей меня стране, на следующий день и удалился. Таким оказалось мое первое свидание с царем царей». Когда Гийом Лежан приехал в Абиссинию, Теодросу было лет сорок шесть, если судить по лицу и мускулатуре, — ведь никто, включая самого негуса, не мог похвалиться, что знает настоящий возраст монарха. Для абиссинца[238] он имел средний рост, хорошо сложен, лицо открытое и симпатичное, цвет лица почти черный, лоб широкий, глаза маленькие и живые. Нос и подбородок у негуса были еврейского типа; на этом он основывал свое убеждение в том, будто происходит от Давида и Соломона. Проверить версию оказалось невозможно, ибо императорскую генеалогию, которой Теодрос так гордился, абиссинские ученые и поэты обнаружили лишь по восшествии его на престол… Выглядел негус весьма внушительно, производя впечатление — и это было действительно так — неутомимого, сильного и ловкого человека. Теодрос весьма хвалился физической выносливостью и любил, например, такую забаву. Опираясь на копье, царь быстро шагал по крутым холмам — то вверх, то вниз. Всякий, кто при нем находился, должен был по этикету идти вместе с ним с той же скоростью, и отставать не приходилось — не то конница беспощадно потопчет копытами… На коне император собой не владел: это был уже не царь, а пьяный от ветра и скачки гаучо[239]. Повседневный наряд негуса казался нарочито небрежным, но это, пожалуй, было просто солдатское презрение к условностям. Обычно он ходил в простой солдатской одежде, без шапки и босиком, прическу носил тоже воинскую: собранные в три пучка — на лбу и по бокам — волосы изящно падали на плечи. Иногда он, подобно гомеровским царям — пастырям народов, ходил в белом плаще. Таков точный внешний портрет Теодроса. Разобраться и дать описание его нравственного облика гораздо сложнее. Представьте себе крестьянина — лукавого, себе на уме, страшно гордого (само собой!), дерзкого, некогда сильно верующего, ныне безбожника, но с виду страшно богомольного, при всем при том — великого каверзника и лицемера. Иногда, искушая придворных, он разыгрывал внезапное обращение к добродетели и мнимое смирение. — Ох, дети, — вздыхал он, — не правда ли — я великий грешник, столп соблазна всей Эфиопии? Горе тому, кто посмел бы неосторожно согласиться с ним, хотя бы из приличия! — Ох, ох, ох, — продолжал негус, — я ведь не всегда таким был. Бес мною овладел, право, бес! Надобно покаяться. И пуще прежнего предавался излюбленным порокам — вот и все покаяние. Итак, по распоряжению негуса на другой день после первой встречи состоялся официальный прием, на котором Лежан вручил монарху верительные консульские грамоты. Теодрос любил пышные сцены, обладал несомненным вкусом по части их постановки и хорошо умел себя показать на фоне свиты. Он явился во всем варварском величии и африканской пышности. Его окружали знаменитые царские львы — с виду грозные, но в глубине души, кажется, весьма добродушные. Во всяком случае, они ведут себя запросто, а подчас так же взбалмошно, как их хозяин. Об этом свидетельствует один случай, рассказанный Лежаном. В ходе аудиенции один из львов ни с того ни с сего подошел к консулу и в знак приветствия положил ему, как ласкающийся ньюфаундленд[240], лапы сзади на плечи. Бедного консула несколько ошеломила столь внезапная ласка. Он чуть не упал ничком, но, к счастью, все-таки подавил невольное движение страха — или, может быть, просто неожиданности — и с честью вышел из удивительного положения. Прожив месяц при дворе посреди варварской, но неподдельной роскоши, Гийом Лежан счел долгом сопровождать Теодроса на войну. Армия шла в провинцию Годжам[241] — там взбунтовалось несколько вассалов абиссинского самодержца. Поход был несчастлив: после нескольких неудач, не опасных для жизни, но чувствительных для самолюбия, негус приказал вернуться. По возвращении Лежан узнал, что его письма, отправленные в консульскую резиденцию в Массауа, застряли в Гондаре. Консула весьма огорчила эта задержка; он решил, что в подобных обстоятельствах надежней всего будет отправиться ненадолго в Массауа, чтобы самому уладить дела. Лежан отправил к негусу курьера с просьбой об отпуске, но ответа не было. Тогда он надел консульский мундир и в сопровождении слуг сам отправился к Теодросу на царский холм. «Сняв треуголку, — пишет Лежан, — я согласно этикету остановился на склоне поодаль. Негус увидел меня и послал спросить, что мне нужно; я отвечал, что хочу лично говорить с государем. Тогда он через переводчиков — трех европейцев, знавших государственный язык Абиссинии, — спросил, в чем дело. Я ответил: — Мне необходимо поехать в свою резиденцию в Массауа. Во-первых, мои люди жалуются, что консул уже одиннадцать месяцев в Эфиопии, а у них еще ни разу не появлялся. Во-вторых, я сам хотел бы доставить его величеству два ящика подарков от моего государя, которые скоро прибудут в Массауа. Я прошу позволения выехать незамедлительно, чтобы вернуться до сезона дождей». Дальше произошло нечто невероятное. Эту сцену можно если не оправдать, то понять, зная, в каком состоянии духа тогда находился негус. Он был оскорблен поражением от мятежного вассала и, мало того, только что узнал о потере провинции Галлабат. Было еще одно отягчающее обстоятельство: в погребах его величества есть скверный коньяк, к которому он после двух часов дня обыкновенно прикладывается без должной осторожности, так что в этот день, как и всегда, Теодрос был совершенно пьян. Наконец, в 1855 году негус передал с одним проезжим русским письмо к «российскому брату» с предложением оформить военный союз и поделить мир. Разумеется, если русский царь и получил письмо, то немедленно отправил в корзину. Вероятно, негус боялся, что и французский император отнесется к нему так же, и потому захотел оставить заложника. В любом случае, едва переводчики замолкли, Теодрос вскричал в безумном гневе: — Никуда он не поедет! Взять его! Заковать в кандалы! А попытается убежать — поймать и убить! Отважный «рас»[242] (полковник), которому был адресован приказ, отправился на другой склон холма, где стоял полубатальон солдат. — Это еще что? — рассвирепел негус. — Пятьсот человек, чтобы арестовать одного? — Глядите, государь, — возразил трепещущий рас, — у него что-то блестит в руках (это сверкал в закатных лучах галун консульской треуголки). — Вдруг это такая машинка, что всех нас убьет? — Дукоро! (Идиот!) Ты еще скажи, что он убивает взглядом!.. Вот тебе шесть человек — и взять его! Солдаты вместе с тремя переводчиками подошли к Лежану, который, стоя в отдалении, ничего не слышал и не подозревал. Он не насторожился даже тогда, когда услышал, что эфиопы шепчутся между собой: — Пистолеты при нем? Переводчики подошли к консулу и пробормотали нечто невразумительное; между тем солдаты зашли за спину и набросились на Гийома: один так сильно обхватил руками, что чуть не задушил, двое вырвали шляпу и шпагу, еще двое схватили за руки. Лежан, не столько испугавшись, сколько рассердившись, резко спросил одного из переводчиков, некоего Кьёзлена: — Что это значит? Тот, дрожа как лист, пролепетал: — Не обращайте внимания, господин консул, не обращайте внимания… Ничего лучше он не придумал… Лежана силой потащили за холм; вместе с ним схватили и ординарца-нубийца[243]. За императорским шатром консула усадили на большой камень. До сих пор он никак не мог взять в толк смысл грубостей. Все стало ясно, когда принесли длинную цепь с тяжелыми кандальными кольцами и офицер, просунув в кольцо его руку, стал камнем заковывать кандалы. «Едва ли кому из моих читателей, — пишет по этому поводу Гийом Лежан, — знакомо это ощущение — более нравственное, чем физическое, — когда у вас в ушах, во всей плоти отдаются удары молота, гремящего о кандалы! Эти отрывистые удары громовыми раскатами гремят в мозгу; вы не поверите, как это бесит и мучит. Сперва я вскипел, но вскоре совершенно успокоился. Рассуждать не было сил, однако я вспомнил о трех вещах: моей невиновности, официальном ранге и о месте страны, представляемой мною, в семье народов. Я понял, что здесь, как это часто бывает, положение оскорбленного намного выгодней, чем положение того, кто оскорбил. Поэтому я хладнокровно и даже (поверите ли?) с любопытством наблюдал за всеми подробностями отвратительной операции. Когда с моим кольцом покончили, ко мне приковали беднягу, головой отвечавшего, что я не убегу, и меня прямо в парадном мундире отвели в палатку, раскинутую неподалеку, в пятнадцати шагах. Вокруг палатки тотчас встали вооруженные стражи; дюжина из них засела внутри. Читатель простит мне, что я опущу подробности суточного пребывания в кандалах. Без слов ясно, как тяжко мне было ежесекундно ощущать присутствие скованного со мною человека! На другое утро тот добился от начальника караула — неплохого, в общем-то, парня, — чтобы нам позволили пару часов передохнуть. Сначала сильно полегчало, но потом мне пришлось еще хуже. Я жестоко расплатился за одну свою особенность, которая меня и раньше-то не радовала: маленькая рука. Сокандальник мой так и так старался устроить, чтобы она не выскочила из наручника, и наконец на всякий случай так зажал, что при каждом движении железо впивалось мне в руку. Тяжелей всего было осознавать, что меня совсем оставили слуги и европейцы-переводчики. В каком страхе жили белые при дворе я знал — правду о слугах узнал позже. При мне служил драгоман[244] Авва-Хайле. Он был священник или что-то в этом роде и некогда отсидел три года в кандалах как будто бы за веру. Я держал его из сострадания к перенесенным мучениям. Теперь он пригрозил всем слугам, что негус на них прогневается, если они останутся на службе у опального. Драгоман поступил так из холопства и природной злобы — я не встречал в Абиссинии другого такого мерзавца. Люди испугались и спрятались в лесу, но все-таки не поверили Авве-Хайле. Они навели справки и узнали, что негус и думать о них забыл. Тогда они опять пришли ко мне. Вечером первого дня, когда полог шатра приподнялся и я увидел лица верных слуг, ко мне вернулась надежда. Я еще рассчитывал на то, что негус поведет себя как свойственно пьяному человеку. В кротком вежливом, но сухом письме, написанном по-английски, я потребовал от него объяснений. Тюремщик мой обещал передать письмо и сдержал слово. Вскоре к моей палатке понуро, как на похоронах, подошли три переводчика. Им велено было сказать мне, что я получу свободу в обмен на честное слово не выезжать из Гафата,пока не вернется гонец, отправленный Теодросом в Массауа, и обещание дружбы с негусом. Я хотел было поторговаться, но один из переводчиков уговорил меня дать требуемое слово и меня отпустили». После подобной выходки любознательный путешественник получил от негуса дозволение разъезжать по внутренним областям империи всюду, где только пожелает. Прежде всего Лежана привлекла сама столица Гондар, которую раньше по понятным причинам мало кто посещал. Она отлично расположена на возвышенности, выходящей мысом к озеру Тана; всякий европеец восхитится окрестностями. Но что за город! Это просто скопище домов под конусообразными соломенными кровлями, прескверно сложенных, кое-как разбросанных на большом пространстве. Между ними — дворы, сады, пустыри с развалинами… В центре возвышается величественное здание императорского дворца; ныне он разрушен, но его руины все еще величавы. Скопище зданий без всякой архитектуры населяет пестрая смесь племен; в густой толпе встречаются мусульмане, христиане, евреи — и не мешают друг другу. Как ни странно, у мусульман, столь апатичных в других странах, в Абиссинии развилась наклонность к лихорадочной деятельности, торговле и промышленности — они их здесь почти что монополизировали. Местные евреи, хоть и строго соблюдают Моисеев закон, но в отличие от собратьев по всему свету презирают торговлю во всех видах, занимаются исключительно изготовлением оружия, инструментов да еще строительством — одним словом, это самые работящие люди в государстве. Христиане же полностью праздны и все время занимаются решением богословских вопросов. Гондар пришел в упадок, но все еще оставался довольно активным центром торговой и, кажется, интеллектуальной деятельности. Сюда солдат приходит купить оружие, ремесленник — инструмент; сюда же «дебтера» (студент) приходит усовершенствовать и украсить свой разум. Здесь известно изящество и даже роскошь. В Гондаре есть дамы, и они не ходят босиком, как провинциалки: на ножках у них туфли без задников, а щиколотки непременно охватывают серебряные цепочки. Одеваются женщины в длинные белые рубашки, поверх которых накидывают синие шелковые бурнусы[245], украшенные бляшками чеканного позолоченного серебра — такова была мода 1863 года. Карет здесь нет, поэтому по улице дамы ездят на мулах в сопровождении двух рабов — один держит под руку хозяйку, другой ведет под уздцы мула. За светской женщиной, когда она выходит из дому, следует толпа горничных — кто на мулах, кто пешком, — за ними еще воины с копьями и щитами. Купчихи заняты только хозяйственными хлопотами; жены ремесленников исполняют и более тяжелые обязанности: принести воды, дров, смолоть зерно, испечь хлеб — короче говоря, рабскую работу. Вокруг Гондара — множество монастырей, большинство которых разрушено до основания. Ныне и до отдаленных стран дошло вольнодумство; монастыри уже не почитают так, как во Франции до Революции[246]. Лежан посетил Герефский монастырь, основанный самым почитаемым абиссинским святым — Текле-Хайманотом. Описание Гийома столь интересно, что мы непременно должны привести его целиком. «Более приятного убежища, — пишет Лежан, — не могла бы себе пожелать не то что община аскетов, посвятивших себя всяческому умерщвлению плоти, но и общество философов — друзей уединенных размышлений, соединенных со всеми радостями, какие природа может дать непритязательному наблюдателю. Монастырь — точнее, монастырская деревня — дремал на берегу прозрачной речки, приютившись на склоне лесистого холма. Представьте себе приблизительно гектар земли, ограниченный живой изгородью; внутри это пространство разбито еще на десяток-другой участков, на каждом из которых выстроена избушка монаха. Между садиками петляет, как в лабиринте, узкая улочка, соединяющая кельи с монастырской церковью. Все это полно изящной приветливой сладости и отнюдь не располагает к аскетизму. Герефские монахи — очень добрые, честные и убежденные люди, как и все абиссинские монахи. Вероятно, они добровольно закрывают глаза на проникающие в душу соблазны природы и питают свой дух нелепостями, которыми глупое суеверие коптского[247] духовенства заразило абиссинское христианство. Приняли нас радушно, но возникла проблема, как ввести в святую ограду мою ослицу. “Понимаете, — сказал монах-привратник, — она женского пола…” Я это понял, припомнив отрывок из дневника одного путешественника, столкнувшегося с таким же ребяческим пуританством на Афонской горе: он привел в ужас святых отцов сообщением, что в обитель проникло существо женского пола — кошка! Но в Герефе страж оказался не так уж строг. Я заночевал у добрых монахов и разделил с ними ужин, состоящий из одних только овощей. Ночевал я неподалеку от церкви, и ночью меня разбудило пение — шла служба. Я нашел, что в этих напевах есть какая-то прелесть…» Неподалеку от Герефа находится озеро Тана, имеющее в длину двадцать, в ширину восемнадцать лье[248]. Рядом с ним на полянке, поросшей тростником и водяными травами, берет начало Голубой Нил. Так Лежан, пользуясь разрешением своенравного государя, с толком провел время вынужденного бездействия, объездив вдоль и поперек полную контрастов страну и собрав о ней ценные сведения. Впрочем, если не считать недолгой опасности из-за гнева пьяницы-царя, Лежан не испытал никаких бедствий, постоянно ожидающих путешественника в других африканских странах. Надо сказать, что в абиссинцах много природного доброжелательства. Правда, их доброжелательство нужно поддерживать (а иногда и возбуждать) подарками, но оно все же искреннее и настоящее. В целом этот народ благоденствует, однако внутри себя делится на весьма различные и разделенные бездной предрассудков сословия. Прежде всего — по месту и почет — скажем о вельможах, имеющих наследственные владения, освобожденные от налогов; затем следуют помещики — весьма уважаемые и влиятельные. Далее — образованный класс; купцы. Кто победнее из последних, тот малоуважаем, но перед разбогатевшими заискивают князья и вельможи. Не только в Европе деньги, нажитые на сомнительных по большей части сделках, золотят гербы! Ниже этого класса — или, можно сказать, касты — стоят слуги; хозяин кормит их, обходится с ними по-отечески и называет детьми. Наконец, на нижней ступеньке абиссинской социальной лестницы находятся рабы. Одна особенность этого общества, сохранившаяся, должно быть, еще от средних веков, очень интересна. Помимо всех сословий существует категория людей, называемых «азмари». Вольной жизнью, очаровательной и независимой, они напоминают наших стародавних труверов[249]. Они ходят из города в город, играют на некоем довольно грубом инструменте, придумывают рассказы, поют длинные легенды на монотонный, но не лишенный изящества напев. Люди всех сословий любят азмари и с чувством внимают их импровизациям. Придет ли бродячий певец к двери благородного дома, лавки или хижины — всюду его радушно примут. Лежан был волен ездить по всей стране, но данное слово связывало. Он очень тяготился подобным положением и с нетерпением ожидал, когда оно кончится. В один прекрасный день — 30 сентября 1868 года — консул вдруг получил приказание как можно скорее покинуть владения негуса. Опасаясь, как бы указ не отменили, он спешно собрал пожитки и наконец-то добрался до своей конторы в Массауа. Но продолжительная сидячая жизнь не пришлась по нраву мощной натуре, неудержимо стремившейся в новые края! Гийом Лежан уехал из Массауа и вновь отправился в Азию — повидал Турцию, где некогда получил боевое крещение, затем Кашмир, Западную Азию… Но, увлеченный демоном странствий, он не уберег здоровья и сил, прежде никогда его не покидавших. Тяжкие лишения и непрестанные труды преждевременно сломили путешественника. 8 февраля 1871 года Гийом Лежан скончался от страшной лихорадки в родном городке Плуэга-Геран. Что касается Теодроса, его трагический конец известен. Через пять лет после отъезда Лежана негусу взбрело в голову (он не стал менее вздорным!) заковать в кандалы английского консула и еще два десятка европейцев. Им повезло меньше, чем Лежану: они долго оставались в цепях и каждую минуту, в зависимости от дозы коньяка, принятой царем, могли потерять жизнь. На формальное требование Англии отпустить задержанных Теодрос ответил оскорблениями. Тогда Великобритания, сохраняя свою честь и безопасность подданных, без промедления собрала экспедиционный корпус под командованием лорда Нэпира[250] и отправила в Абиссинию. Блестяще проведя операцию, Нэпир буквально сокрушил войска негуса и осадил его в Магдале. Когда город был взят и остатки армии истреблены, Теодрос понял: дальнейшее сопротивление бесполезно. Чтобы избежать позорной капитуляции, он выстрелил себе в висок из пистолета. Конечно, этот полудикарь, более испорченный, чем усовершенствованный цивилизацией, сам по себе не очень интересен, и можно считать, что получил по заслугам. Однако конец негуса не лишен величия и искупает многие недостойные поступки монарха и заставляет простить многие прегрешения…
ГЛАВА 17
ДОКТОР ГЕОРГ ШВЕЙНФУРТ
Три года в сердце Африки. — У динка. — В стране каннибалов. — Ниам-Ниам и момбуту.Путешественникам издавна не давали покоя поиски истоков Нила. Пусть непрестанные, упорные, героические усилия не всегда венчал совершенный успех, пусть задача долго оставалась нерешенной, она продолжала возбуждать и воодушевлять умы. По крайней мере, отважные пионеры цивилизации совершили превосходные открытия и добыли для науки богатейшие материалы. Таким блестящим исследователем стал и Георг Швейнфурт, имя которого следует поставить вровень с именами Бертона, Спика, Гранта, Бейкера. Швейнфурт родился в Риге в 1836 году и очень рано обнаружил живейший интерес к естественным наукам. Его первый учитель, сын миссионера из Центральной Африки, был человеком выдающегося ума, видным ботаником и к тому же, само собой, неутомимым, увлекательным рассказчиком. Конечно, его рассказы производили на мальчика большое впечатление, и с тех пор ум Георга навсегда привлек терпкий, пьянящий аромат тайны, покрывавшей Африку. Швейнфурт очень прилежно учился и совсем еще юным получил диплом доктора естественных наук. Непредвиденное обстоятельство определило его призвание, к которому он был подготовлен рассказами первого учителя. Однажды Швейнфурт получил задание классифицировать и описать коллекцию растений из земель, орошаемых Белым Нилом. Тогда молодого человека охватила мечта — золотая греза ученого: посетить места, где он сможет увидеть эти растения во всем их великолепии, самому открыть новые виды… Полный надежд и энтузиазма, но с пустым карманом, Георг пустился в первое путешествие. Он отправился в Египет, собирал гербарий в дельте Нила, за несколько Месяцев объездил в собственной лодке вдоль все побережье Красного моря, прошел по абиссинской границе и прибыл в Хартум. Когда деньги закончились, он вернулся в Европу с одной-единственной мыслью: при первой возможности возобновить прерванные труды. Этот замысел был счастливо воплощен в 1868 году благодаря щедрости Гумбольдтовского общества, которое оплатило расходы по экспедиции из фондов, собранных за пять-шесть лет. Теперь Швейнфурт мог покинуть Европу, не заботясь о деньгах. В августе 1868 года он сошел на берег в Египте, а в конце ноября оказался в Хартуме. Он намеревался отклониться от маршрута Спика и Гранта и направиться от Белого Нила прямо на запад в совершенно неизведанные области, где, как считалось, царят малярия и людоедство. Там змеится Джур, посещаемый торговцами слоновой костью, и Бахр-эль-Газаль, и множество других, менее значительных рек. Все они составляют бесконечную сеть — систему сосудов, заканчивающуюся, как мощной артерией, Белым Нилом. Швейнфурт со страстью продолжал заниматься любимой ботаникой, к тому же рассчитывал подробно изучить все множество рек, чтобы распутать их клубок и определить существенно важное место, которое Бахр-эль-Газаль должен занимать в гидрографии[251] Африки. Хотя у путешественника был фирман, подписанный хедивом, дело не обходилось без задержек, чинимых местными властями. Известно, что, несмотря на повеления из Каира, все суданские губернаторы словно сговорились мешать путешественникам. Причина была очень проста: если их никуда не пускать, они никому никогда не расскажут о рабовладении. Зато в лице Джафар-паши, генерал-губернатора Судана, Швейнфурт нашел просвещенного, благожелательного человека, друга науки, оказавшего ему самую щедрую и действенную поддержку. Именно сам губернатор договорился об условиях, на которых богатый копт по имени Гатта, один из крупнейших хартумских торговцев слоновой костью, взялся сопровождать доктора и охранять его от любых неприятностей. Спорить Гатте не приходилось. Он был предупрежден: если каким-либо случаем Гатта оставит путешественника у чернокожих, выдаст людоедам и вообще каким бы то ни было образом бросит в беде — государство немедленно отберет у него имущество. Весьма действенное средство заставить плутов-торговцев преданно оказывать путешественнику поддержку, без которой он не может обойтись! Швейнфурт сел в «неггер» Гатты — судно, специально приспособленное для плавания по Белому Нилу. Прочность этих судов рассчитана на то, чтобы выдержать страшные удары гиппопотамов и столкновения с ракушечными отмелями. Они заслуживают краткого описания: пожалуй, в мире больше таких судов не найти. Для их постройки употребляется исключительно сунт (нильская акация) — дерево, гораздо более тяжелое и твердое, чем дуб, но из всех местных деревьев, кажется, единственное более или менее поддающееся пиле. Оно настолько свилевато[252] и сучковато, что доски из него получаются не длиннее десяти футов, да и то редко. А так как сосну привозят исключительно в Хартум и цена на нее баснословна, то идет она лишь на мачты и реи. Все стыки скрепляются кольцами из бычьей кожи, что в случае бури не всегда надежно. Нильская акация не только низкоросла и крива, но и столь тверда, что высохшую древесину распилить невозможно. К тому же нубийцы редко берут в руки пилу и плохо с ней управляются. Поэтому доски получаются без малейшей претензии на точность размеров. Но все эти недостатки в значительной мере компенсируются необыкновенной прочностью древесины сунта. Длина судна превышает двадцать метров, борта достигают толщины одного фута. Они строятся из многих слоев досок различной длины, скрепляемых друг с другом внахлест, наподобие черепицы. На стыках доски сколачивают гвоздями, прошивая насквозь по меньшей мере два слоя. Так, тщательно примеряя доски, судну придают нужную форму. Мачта, футов двадцати в высоту, несет единственный парус на огромном рее — ее длина в полтора раза длиннее самого корабля. Первой стоянкой была пристань Фашода[253], где экипаж судна подвергся страшному нападению пчел. Тысячи разъяренных насекомых налетели на полуголые тела путников и жестоко их искусали. От укусов у всех началась сильная лихорадка, а для двух матросов-нубийцев они оказались смертельными. Всем судам, прибывающим в Фашоду, приходится пробыть там несколько дней — для пополнения запасов зерна и для подписания налоговыми чиновниками бортовых бумаг. Швейнфурт никак не мог привыкнуть к постоянным шуткам корабельщиков, толпившихся на пристани. Эти люди жить не могут без смеха, шуток, подначек. Никакое дело не обходилось без каламбура; ни на минуту, даже ночью, не прерывались их забавы. Внушительных размеров глиняные бутылки с пивом немало способствовали вечному веселью, но и без того страсть к юмору их поистине обуревала. Шуткам предавалась не только молодежь, но и люди зрелого возраста, словно дети, были захвачены веселыми, простодушными, заразительными дурачествами. Левый берег Белого Нила населяют шиллуки, в то время только что перешедшие под власть хедива. Земля их простирается до устья Бахр-эль-Газаля на двести миль в длину и на десять в ширину. Нигде в Африке, не исключая Египта, нет такой плотности населения — приблизительный подсчет, произведенный по распоряжению генерал-губернатора, дал в общей сложности три тысячи деревень от сорока пяти до двухсот хижин каждая. Население хижины составляет семья из четырех-пяти человек — итак, общее число жителей этой области должно доходить до миллиона двухсот тысяч человек. Это дает шестьсот жителей на квадратную милю — столько же, сколько в самых густонаселенных странах Европы. К тому же в мире, пожалуй, не сыскать столь благодатной для жизни страны. Земледелие, скотоводство, охота, рыбная ловля — все приумножает ее богатства. Изобилие видно во всем с первого взгляда. Деревни стоят узкой полосой на расстоянии от трехсот до тысячи шагов друг от друга: если все их окинуть взором, они словно сливаются между собой. Деревни похожи на пасеки, а хижины, с удивительным тщанием выстроенные, — ни дать ни взять ульи. Шиллуки обожают быть на людях и помешаны на косметике. Все время, которое не посвящено работе, они проводят, разлегшись на деревенской площади, покуривая в приятной компании табак из огромных глиняных трубок. Что касается косметики, то без нее не могут обойтись ни богатые, ни бедные — только средства, используемые для украшения, не одинаковы. Обилие насекомых вынуждает всех обмазываться толстым слоем защитной мази, о достатке же человека вы можете судить по ее цвету. Мазь делается из золы. Если зола древесная, мазь получается серой, и человек с серым лицом наверняка бедняк. Красивый рыжеватый оттенок говорит о том, что на золе жгли коровьи лепешки; про человека с таким цветом лица всякий скажет, что он богач. Вообще незаменимыми ингредиентами местной косметики служат зола, навоз и коровья моча. Последним из названных средств моют непременно молочную посуду — очевидно, чтобы возместить недостаток соли. Как и большинство африканцев, шиллуки большое внимание за недостатком одежды уделяют прическе. Мужчины упорно мажут шевелюру глиной, камедью и коровьим навозом; от этого волосы склеиваются и становятся так жестки, что принимают любую форму — гребня, каски, веера… Женщины причесок не делают; их шевелюра состоит просто из мелких завитков и напоминает каракуль. В отличие от братьев и мужей, они ходят не совсем голыми, а носят кожаный передник до колен. Проведя в Фашоде девять дней, Швейнфурт 1 февраля 1869 года отправился в путь. По берегам кипела жизнь животного и растительного царства. Заросли акации тут настолько богаты камедью, что купцам грех не попробовать извлечь из этого выгоду. Очень любопытный, неизвестный прежде вид растения представляет из себя соффар, который путешественник отмечает из-за следующей характерной черты. Когда у этого растения формируются иглы, их поражают насекомые. Из каждой иглы образуется шарообразный нарост около дюйма диаметром. Затем насекомые покидают гнездо, и иголка с дырочкой словно становится музыкальным инструментом: ветер извлекает из них звуки, подобные свирели… Отсюда и название этого рода акации — соффар, что по-арабски значит «флейта», туземцы называют его «свистящим деревом». Вскоре судно вошло в густые заросли папируса — настоящую чащобу, заполонявшую ложе реки. Под 9°30′ северной широты приветствовал Швейнфурт этого «отца бессмертия мысли», который прежде изобиловал в Египте, как сейчас — на пороге неизведанных стран. Вскоре Швейнфурт прибыл к динка, обитающим близ того места, где слиянием рек Диуар и Бахр-эль-Араб образуется Бахр-эль-Газаль. Главную квартиру Швейнфурт устроил в деревне Мешери-эр-Рек. Оттуда он рассчитывал пройти в страну пигмеев аттаков, живущих близ экватора, а потом вернуться в Дарфур, столь давно и столь мало известный. Давно — потому что еще в 1460 году фра Мауро написал на своей знаменитой карте мира слово «Дарфур». Мало — потому что лишь в 1874 году он был исследован немецким путешественником Нахтигалем. Первой заботой Швейнфурта было изучение динка — интереснейшей народности, область расселения которой простирается на четыреста миль. Динка — люди среднего роста, коренастые, с длинными, жилистыми и худыми, как у всех жителей болотистых мест, руками, угловатыми прямыми плечами. Длинная шея, несколько искривленная у основания, подходит к форме черепа — вытянутого и несколько сплющенного, особенно на лбу и на макушке. Челюсти у динка, как правило, довольно велики. В целом создается удивительно цельное впечатление. Динка, как и шиллуки, с наслаждением мажутся мазью из золы. Из-за этого их черная кожа меняет цвет. Если соскоблить краску и натереть кожу маслом или просто помыть, она сверкает, как бронзовая, но такой оттенок встречается редко. Когда кожу затем долго не мажут, она шелушится и становится серой. Черты и выражение лица у динка кажутся однообразными, но это впечатление обманчиво: оно объясняется не столько действительным всеобщим сходством, сколько непривычкой наблюдателя. Большинство мужчин выглядят красивей, чем женщины того же возраста, но, во всяком случае, привлекательные черты (чтобы не сказать человеческие лица) встречаются редко. Местные жители безбровы, низколобы, к тому же — постоянно гримасничают и кривляются, одним словом, ненамного симпатичней обезьян. Иногда — как исключение — встречаются изумительно правильные черты. Волосы почти у всех динка негустые. Обычно они стригутся наголо и лишь на макушке оставляют прядь, украшаемую перьями страуса — так они изображают хохолок цапли. Очень модны также прически из плоских прядей; иногда мелкие косички уложены полосами поперек головы. Кроме того, встречаются причудники-щеголи, которые выделяются необычной длиной волос. Если волосы негра постоянно расчесывать, мазать маслом и закалывать, они становятся не столь курчавы. Именно так обращаются со своей шевелюрой светские львы у динка. Благодаря прямым заостренным косицам вершков в шесть длиной они похожи на чертей, к тому же моют волосы коровьей мочой, и те становятся ярко-рыжими. И мужчины и женщины выдирают себе верхние резцы. Трудно объяснить, почему укоренился этот обычай — ведь лица из-за этого становятся отвратительными, особенно у стариков. Кроме того, и мужчины и женщины в нескольких местах прокалывают уши и носят железные кольца или окованные на концах железом палочки. Женщины еще украшают губу стеклянной бусиной на железной булавке. Края неизменной пары передников до лодыжек расшиты колокольчиками, колечками, нитками бисера. Нынешний век для динка — поистине железный: это у них драгоценный металл. Железо ценится выше меди. Железные кольца покрывают запястья и лодыжки женщин. У богачей супруги подчас носят на себе до полуцентнера подобных примитивных поделок! Любимое украшение мужчин — толстое кольцо из слоновой кости на предплечье; иные носят целую гирлянду таких колец — своеобразную гибкую повязку от локтя до запястья. Мужчины победнее носят украшения из меди, переплетенные полоски ткани вокруг шеи и цельные браслеты из кожи гиппопотама. Всеми мужчинами ценятся козьи и коровьи хвосты, которыми они весьма красиво украшают оружие. Вооружены здешние люди прежде всего копьем, хотя многие, подобно кафрам, предпочитают палки и дубинки из слоновой кости. За это другие племена в насмешку называют динка «а-тагбондо», что означает «люди с палками». Против палок динка придумали два своеобразных вида оборонительного снаряжения. Один из них называется «куйаре» — кусок дерева с углублением посередине длиной около метра, служащий для защиты рук. Другой, именуемый «данк», похож на лук, эластичен, пружинит и великолепно выполняет предназначение — ослаблять силу удара. Кроме того, динка употребляют для обороны щит, похожий на кафрский — длинный, овальный, обтянутый буйволовой кожей, с рукояткой, приделанной к обоим концам. Наконец, что немаловажно для европейского путешественника, привыкшего к чистоте и определенному комфорту при еде, динка искусные кулинары и в педантичнейшей чистоте содержат жилища. Желудок Швейнфурта, кажется, сохранил признательность к ним. Путешественник неустанно подчеркивает, что эти два качества, говорящие об определенной степени как телесной культуры, так и нравственного развития, в подобной степени даже приблизительно не развиты ни у какого другого африканского племени. «Динка, — пишет он, — превосходят в этом отношении нубийцев и — не поколеблюсь заявить — искусней арабов и самих египтян. Их мучные блюда и отвары ничуть не уступают произведениям европейской кухни». В отношении мясной пищи динка также проявляют более тонкий вкус, чем их соседи. Так, некоторые пресмыкающиеся, которыми лакомятся бонго и ниам-ниам[254], у динка вызывают отвращение. Они никогда не едят крокодилов, ящериц, крабов, лягушек и мышей, неодолимое омерзение питают к собачатине, а что касается человеческого мяса — они скорей умрут, чем его отведают. Лучшее лакомство для динка — «степная кошка». Туземцы знают толк в черепашьем мясе и обожают жареную зайчатину. Не менее удивительно для простых дикарей, что динка не только вкусно готовят, но и соблюдают порядок при еде — в этом отношении они отстают от нас, бесспорно, меньше, чем жители Востока. Иногда Швейнфурт ради приятного общества и из уважения к кулинарным талантам приглашал к себе в гости женщин динка из хороших семейств. Под навесом хижины ставился стол с посудой и кухней на европейский манер. Путешественник не уставал дивиться, как быстро гостьи привыкали к нашим обычаям: непринужденно садились на стулья и пользовались ложкой и вилкой так, словно это им было в привычку. После еды они мыли всю посуду за собой и аккуратнейшим образом ставили ее на место. У динка почти неизвестны паразиты, не дающие спать в Западном Судане — Швейнфурт свидетельствует об этом, как человек, много страдавший от общения с самыми грязными и опустившимися представителями рода человеческого. Единственное неудобство ночлега в просторных, проветриваемых и удобных жилищах — змеи, которые ползают по крыше, шуршат соломой и мешают спать. Кроме того, европейцы от природы имеют предубеждение против рептилий и нервничают от непосредственного соседства с ними. Динка к этим отвратительным тварям питают такое почтение, как ни к какому другому существу. Динка называют их братьями и на убийство рептилий смотрят как на преступление. Заслуживающие доверия свидетели говорили доктору, что главы здешних семейств различают змей в лицо, называют по именам и вообще относятся к ним как к домашним животным. Кажется, эти змеи не принадлежат к ядовитым видам. Динка, как и пастушеские народы Южной Африки, питают, если можно так выразиться, преувеличенную нежность к своему скоту. Едва у коров начинают расти рога, хозяева искусно расщепляют их так, что рога затем ветвятся до бесконечности и придают ласковым ручным животным очень странный вид. Любовь динка к скотине, особенно к коровам, такова, что ни о чем они столько не думают и ничем так не гордятся, как приумножением стад. Можно даже сказать, что динка поклоняются своим коровам — даже их экскременты почитаются драгоценными. Если корова заболела, врач лечит ее самым внимательным образом. Коров и быков никогда не режут — едят только тех, кто умер от старости или от несчастного случая. Эти обычаи можно было бы считать пережитками старых культов, но динка запросто едят мясо убитого быка, если он им не принадлежал. Выходит, что они так почитают свои стада не из суеверия, а из удовольствия ими владеть. Горе, которое динка испытывает в случае кражи или смерти животного, неописуемо. Чтобы вернуть корову, он готов принести самые тяжкие жертвы — ведь скотина для него ценнее всего, дороже даже жены и детей. Устроившись на месте, Швейнфурт совершил первую поездку к диурам[255]. Они живут в горах, на плато из красного песчаника, изобилующем железной рудой. Они совершенно непохожи на соседей, динка. Слово «диуры» означает, по-видимому, «лесные люди». Динка пастухи, диуры кузнецы. С удивительной настойчивостью последние отрывают траншеи до десятка футов глубиной и добывают железную руду. Плавят руду в печах, представляющих собой глиняный конус высотой не более четырех футов; верхняя часть печи расширяется наподобие бокала. Расплавленный металл постепенно проходит сквозь раскаленный уголь и стекает в ямку, устроенную под печью. На всю операцию требуется около сорока часов. Металлический осадок на стенках переплавляют второй раз. Теперь разводят костер под большим слитком, лежащим в земле. Когда слиток раскалится докрасна, из него большим камнем формуют цельный брус, из которого простейшей ковкой удаляют последние примеси. Хотя данный способ примитивен, уголь плох и инструменты грубы, получается прекрасное железо — не хуже лучших шведских марок. У трудолюбивых первобытных ремесленников большие семьи; если бы к ним не вторглись нубийцы, ежегодно отнимающие у них половину урожая, земля диуров была бы заселена так же густо, как и земля шиллуков. Когда диурам удается избежать наложенной завоевателями повинности по переноске грузов, они охотятся, рыбачат, добывают и обрабатывают железо. С удовольствием занимались бы диуры и скотоводством, но земли их заражены мухой, подобной мухе цеце, как известно, ужасно вредной для крупного рогатого скота. Диуры вынуждены довольствоваться козами, для которых страшная муха безвредна. Мужчины по доброй воле с бесконечным вниманием и усердием ухаживают за домашней живностью. На долю женщин остаются полевые работы. Женщинам приходится также делать домашнюю посуду, строить дома, плести плетни и корзины, лепить горшки — так умело, что и не скажешь, что они сделаны без гончарного круга. Заключая краткое описание любопытного во многих отношениях народа, скажем, что семейные привязанности, родительская и сыновняя любовь развиты у диуров гораздо сильнее, чем у большинства соседних племен. Они укладывают детей спать в большие продолговатые корзины, подобные нашим люлькам, причем так, что дети не испытывают никаких неудобств; колыбели содержатся в абсолютной чистоте. Однако они не только заботятся о потомстве, но исповедуют также самое глубокое почтение к старикам. Таким образом, Швейнфурта окружали безобидные, необременительные соседи. Доктор решил подольше пожить в сердце Африки и поселился в просторной хижине, любезно предоставленной в его распоряжение. Через какое-то время для европейца, поселившегося вблизи экватора, самым большим лишением становится недостаток привычных овощей. Швейнфурт был превосходный ботаник. Чтобы иметь овощи к столу, а также для того, чтобы туземцы убедились, сколь много разных плодов может производить их тучная земля, он сразу же разбил огород. У путешественника были с собой кирки, мотыги, заступы и коллекция семян различных растений. Он поднял около двух гектаров целины и обнес будущие делянки изгородью. В большей части участка, разделанного на грядки, он посеял лучшие сорта кукурузы, початки которой получил из Нью-Джерси. По прошествии семидесяти дней Швейнфурт собрал урожай, который не только оправдал его самые честолюбивые планы, но и превосходил по качеству американский. Табак, посеянный из мерилендских[256] семян, вырос очень высоким и дал около центнера листьев. Табак в здешних местах, правда, рос и прежде, но это низенькое растеньице, из листьев которого нельзя было даже свернуть сигару. Благодаря утренним и вечерним поливам удалось полностью победить засуху. Капуста, редис, кормовая шведская репа наилучшим образом приспособились к твердой, но плодородной почве. Томаты и подсолнечник, прежде здесь неизвестные, также прижились и прекрасно росли в огороде доктора. «С появлением огорода, — рассказывает Швейнфурт, — все блага флоры оказались к моим услугам. Я вставал на рассвете, брал с собой одного-двух слуг, чтобы нести оружие с чемоданами, и отправлялся в поход по окрестным лесам. К полудню я возвращался с бесчисленными сокровищами, и меня встречал стол, сервированный так хорошо, как только возможно здесь. Затем, усевшись под густым деревом, я анализировал, классифицировал и описывал новинки, которые постоянно находил. При приближении вечера я шел гулять по полям, а мои люди тем временем дополняли гербарий. Недостатка в новых растениях не было, и моя коллекция приобрела внушительные размеры. Сверток громоздился на сверток, изготовленный из кожи, тщательно зашитый и готовый следовать за мной до Европы. …Тогда же умер пес мой, бедный Арслан, и я долго скорбел об этой утрате. Мы не расставались с самого отъезда, вместе ехали через пустыню. Когда он перестал страдать от недостатка воды, я решил, что все опасности для него миновали, но он пал жертвой зловредного климата. Только Арслан напоминал мне о родном очаге и являлся последним звеном, соединяющим меня с домом. С его смертью связь оборвалась — я почувствовал, что какая-то пропасть отделяет меня от родной земли. Подобную утрату всегда переносишь очень тяжело, особенно здесь, в далеких краях, где Арслан заменял мне друга! Во всех печалях и скорбях природа — наша великая утешительница. Спокойствие мира растений умиротворяло мой возмущенный дух, и я вновь вернулся в царство флоры…» Больше всего из жителей этой области Швейнфурт общался с бонго. Он мог изучить их обычаи, язык и таким образом лучше узнать туземцев. Страна, в которой обитает бонго, по размерам приблизительно равна Бельгии, но по численности населения ее можно сравнить с Сибирью. Это племя уже находилось в упадке и некоторое время спустя роковым образом исчезло. Характерный факт, сразу бросающийся в глаза: динка черны, как аллювиальные земли[257] их родины, у бонго, подобно всем жителям латеритовых[258] плоскогорий, кожа красно-коричневая, как у земли, которую они населяют. У них вообще нет ничего общего с динка. У бонго более крепкие члены, рельефные мускулы, массивные плечи — и полнейшее безразличие к скоту. Одежда бонго солидней, чем у диуров и динка: в недалеком прошлом они носили кожаные передники, теперь же опоясываются полосой ткани, концы которой свешиваются спереди и сзади. И до чего же они не сходны с соседями во всем, что касается пищи! Дело в том, что по части питания бонго проявляют самую отвратительную неразборчивость. Для них любое живое существо, за исключением человека и собаки, и в любом виде пригодно для еды. Бонго радуются, когда коршуны наведут их на гниющие объедки львиного обеда: тухлое мясо наверняка не жестко, к тому же, как считают бонго, питательней и легче переваривается. Можно ли спорить о вкусах с людьми, которые обожают содержимое бычьего желудка, кишащего червями, и набивают этими червями полный рот? Можно ли после того удивляться, что они называют дичью все шевелящееся и ползающее — от крыс до змей? Будет ли странно видеть, как они едят дохлых грифов, паршивых гиен, скорпионов, личинки термитов? Одно из любимых лакомств бонго — грибы. Африканцы с неутолимой жадностью вечно голодных людей едят их в неслыханных количествах. Эта еда хотя бы не омерзительна и не опасна, ибо, как ни странно, ядовитых грибов здесь нет вовсе, а некоторые из них — действительно очень вкусны. Женщины бонго, хотя их одежда, мягко говоря, незатейлива, довольно кокетливы и обожают себя украшать. Тонкая ветка с листьями, иногда обновляемый каждое утро пучок травы и своеобразный султан из окрашенных в черный цвет растительных волокон, напоминающий конский хвост, — вот их наряд. О женских украшениях — отдельный разговор. Мало того, что о приближении туземок издалека возвещает звон массы стекляшек и железяк. В ушах у женщин висят массивные железные или медные кольца и полумесяцы, а иногда и еще пять-шесть подвесок. Выйдя замуж, молодая женщина сразу протыкает себе губу и понемногу расширяет отверстие, так что туда можно просунуть гвоздь, металлическую пластинку, а то и палочку около дюйма диаметром. В ноздри втыкают соломинки до трех с каждой стороны; в большой моде и кольца, вдетые в нос. У самых отчаянных модниц в углах рта вдеты застежки или, вернее, скобки — должно быть, чтобы не растягивался рот. Предплечья у женщин бонго покрыты татуировкой или рубцами в виде параллельных линий, зигзагов, рядов точек или кружков. Нет ни одного бугорка, ни одной складочки на теле, чтобы туда не воткнули соломинку или веточку. Попадаются щеголихи, у которых из разных мест таких соломинок торчит до сотни, благо места довольно: у взрослой женщины бонго ляжки толщиной с мужской торс, а в окружности бедер она даст фору любой готтентотской Венере[259]. Здесь не редкость красотки весом сотни в четыре фунтов. Доктор Швейнфурт уже давно жил неподалеку от фактории Гатты, поглощенный занятиями естественной историей, когда некий торговец слоновой костью с берегов Бахр-эль-Газаль пригласил его вместе отправиться в страну племени ниам-ниам. Можно представить себе, с какой радостью наш ученый принял предложение. Конечно, он счел долгом воспользоваться единственной, быть может, оказией изучить совершенно неизвестный дотоле народ, о котором ходили самые нелепые легенды. Караван отправился в путь в конце января 1870 года. 19 марта он достиг Уэле, одного из притоков, а может быть — и верховья Убанги, впадающей в Конго. Доктор Швейнфурт побывал у племени ниам-ниам и прожил там несколько месяцев. В результате он прекрасно узнал туземцев — даже научился немного их языку. Если оставить в стороне некоторые особенные черты, по которым и различаются между собой отдельные группы человеческой семьи, то ниам-ниам — люди той же природы, что и все остальные. Уже давно покончено с абсурдной гипотезой, будто они мало чем отличаются от животных и у них чуть ли не хвосты растут. Принятое для их племени название заимствовано из языка динка. Оно означает «едоки» или, точнее, «пожиратели» — прозрачный намек на каннибализм. Нубийцы переняли это название, и оно настолько срослось с представлением о людоедстве вообще, что его иногда прилагают и к другим каннибальским народам. Собственно говоря, ниам-ниам неразборчивы в пище так же, как бонго, но притом еще в высшей степени плотоядны. Мясо — их главная пища, а возглас: «Мяса! Мяса!» — их лозунг и страстный боевой клич в ссоре и на войне. Вот, между прочим, характерный факт, дающий пищу для любопытнейших параллелей. У динка, народа, по существу, земледельческого, инфинитив глагола «есть» применяется и для обозначения сорго, тогда как у ниам-ниам омонимом[260] этого глагола будет название именно мяса: «мясо» и «есть» звучат одинаково. Поэтому нет ничего удивительного, что столь односторонняя склонность толкает ниам-ниам к людоедству. Собственно, для них это совершенно естественное дело. Ниам-ниам сами запросто рассказывают про ужасные пиршества с человеческим мясом, собирают зубы своих жертв, делают из них ожерелья, которые с гордостью носят. Среди охотничьих трофеев они выставляют черепа съеденных людей, а человеческое сало у них — предмет повседневной торговли. Едят ниам-ниам военнопленных (мужчин и женщин), едят жертв разбойничьих набегов — брошенных в деревне стариков, по слабости своей самих попадающих в руки. В мирное время, если умрет иноземец, путешествующий в этой стране, — его съедают. Если умрет одинокий, оставшийся без семьи туземец — тоже съедают. Будь это друг, товарищ — не имеет значения: это мясо! Более того, они выкапывают из земли и съедают полуистлевшие трупы умерших в пути караванщиков. Швейнфурт отказывался верить в эти омерзительные подробности, рассказанные ему одним из нубийцев Гатты, но ниам-ниам, не стыдясь своих обычаев, сами заверили доктора, что считают съедобными любые трупы, кроме трупов людей, страдавших от кожных болезней. Однако этот обычай, которому до сих пор не удалось дать правдоподобного объяснения даже в качестве пережитка древнего культа, бытует далеко не у всех. Есть среди ниам-ниам личности, питающие такое отвращение к человеческому мясу, что они даже отказываются что-либо есть с блюда, которым пользовался их соплеменник, предаваясь каннибализму. Поскольку ниам-ниам так ужасно плотоядны, они, в отличие от многих африканских племен, не вырывают себе резцы, а, напротив, подтачивают и заостряют их, чтобы легче грызть труп или в сражении рвать «голыми зубами» тело еще живого врага. Дальше этого каннибализм простираться уже, вероятно, не может. Большинство работ здесь выполняют женщины, мужчины не утруждают себя и располагают множеством времени для занятий туалетом, особенно прической, которой щеголяют до невероятия. Трудно назвать вид косичек, локонов, бантиков, валиков, узелков, тесемок, завивок, который эти господа не испробовали бы, чтобы придать сложному сооружению из волос как можно более утонченный шик. Вот какова была самая распространенная мода в те времена, когда ниам-ниам посетил Швейнфурт. Сначала волосы начесывали на лоб, делая при этом еще пробор и оставляя на лбу треугольную прядь. Еще по пряди брали на каждом виске, закидывали назад и завязывали узлом на затылке. По бокам завивали локоны, изображавшие ломти дыни. На висках у самых корней волосы заплетались бантиками или узелками, а дальше свешивались косицами вокруг шеи, причем три-четыре самые длинные косицы падали на шею или даже на грудь. В завершение беглого очерка этого любопытнейшего племени, превосходно изученного замечательным путешественником, еще несколько слов. Все ниам-ниам воины, поэтому каждый из них носит копье и кинжал, а изготовлением оружия занято множество кузнецов. Копья у них, как и у всех народов тех мест, страшно зазубрены и потому чрезвычайно опасны. Кинжалы у них отличаются сложностью и многообразием форм: кривые, изогнутые, многогранные, угловатые, покрытые диковинными шипами… …По-прежнему страстно желая видеть все новые виды человеческого рода и собирать все новые виды растений, Швейнфурт из страны племени ниам-ниам отправился на юг, к момбуту. Площадь расселения момбуту не превышает десяти тысяч квадратных километров, население же доктору показалось чрезвычайно плотным: он оценивает его более чем в миллион человек. Страна их расположена между 3-м и 4-м градусами южной широты, между 26-м и 27-м градусами восточной долготы. Эта страна произвела на путешественника впечатление земного рая. Склоны холмов покрывают бесчисленные, роскошные банановые рощи, среди которых возвышаются вершины масличных пальм несравненной красоты и других царственных деревьев. По берегам рек и ручьев — зелень, исполненная свежести и благодати; купола сельских жилищ укрыты навесом густых ветвей… Обитатели этого экваториального Эдема[261] самостоятельно,помимо всяких контактов с христианами и мусульманами, достигли весьма высокой степени культуры; у них развиты ремесла. Швейнфурту момбуту показались во всех отношениях выше соседних племен. У туземцев есть дух общежития, определенная национальная гордость; немногие из африканцев могут сравниться с ними интеллектом. Момбуту — преданные друзья, и живущие среди них нубийцы восхищены их душевностью, порядком и спокойствием общественной жизни, ловкостью, смелостью… К сожалению, момбуту — самые закоренелые людоеды во всей Африке! К югу от них живут чернокожие племена, стоящие ниже по социальному развитию. Момбуту глубоко презирают эти племена и видят в южных землях раздолье для разбоя и грабежей. Там они достают себе и скот, и человеческое мясо. Все тела павших в битве немедленно расчленяются, тут же на месте коптятся и отправляются в кладовые. Пленных ведут гуртом, как баранов, дома сажают под замок — и со временем несчастные также исчезают в желудках страшных победителей. Швейнфурту никогда не приходилось присутствовать при этих ужасных трапезах. Но как-то он проходил мимо одной хижины и увидел, как несколько женщин, не замечая европейца, ошпаривают кипятком нижнюю половину человеческого тела — кожа от этого из черной превратилась в изжелта-серую. Несколько дней спустя в каком-то доме он заметил, что над очагом висит — очевидно, коптится — человеческая рука. Следы людоедства доктор встречал на каждом шагу. Более того, сам князек подтвердил каннибализм соплеменников. С князьком путешественник встретился у одного купца, который спросил, отчего при них никто в округе ни разу не ел человечины. — Вы этого просто не видели, — ответил монарх. — Я знал, что вы гнушаетесь этой пищей, и приказал готовить и есть ее только тайком. Достоверно известно, что антропофагия[262] у момбуту распространена даже шире, чем у ниам-ниам. Доктору показывали множество черепов, оставшихся после туземных пиршеств. Жир из копченых человеческих тел момбуту вытапливают и готовят на нем. Момбуту несколько светлее других африканских народов: их кожа имеет скорее цвет молотого кофе. У них длинные густые волосы, также довольно длинная и густая борода, руки тонкие, но отнюдь не слабые. Кроме того, есть одна особенность, отличающая момбуту от всех соседей: среди них немало светлоголовых. Швейнфурт за время пребывания среди них видел несколько тысяч человек и пришел к выводу: светлые — пепельные или соломенные — волосы имеет, как минимум, каждый двадцатый момбуту. Светлые момбуту, впрочем, так же курчавы, как и остальные негры, но кожа их более светлого, землистого оттенка; выглядят они слабыми, глаза бегают, а то и косят, во всем явно проявлялся альбинизм[263].
Выдающееся путешествие, выдвинувшее доктора Швейнфурта в первый ряд современных ученых, длилось целых три года и 2 ноября 1871 года завершилось благополучным возвращением в Европу[264].
ГЛАВА 18
МАДЕМУАЗЕЛЬ А. ТИННЕ
По Верхнему Египту. — От Хартума до Гондокоро. — Смерти. — В одиночестве. — Триполитания. — Катастрофа.Из всех жертв, павших на африканской земле, где пролилось столько крови, никто не выглядит так поэтично и трогательно, как эта девушка. На заре жизни она жестоко обманулась в самых дорогих надеждах, сказала «прости» цивилизованному миру — и отправилась искать забвения на негостеприимной земле, где ее ожидала ужасная смерть. Александрина[265] Тинне родилась 17 июля[266] 1835 года. Ее отец — богатый английский негоциант — вторым браком женился на баронессе Стеенграхт-Капеллен. Она и стала матерью несчастной путешественницы, трогательную историю приключений которой мы собираемся здесь рассказать. Отец Александрины умер, когда она была еще маленьким ребенком, и оставил ей солидное состояние: она сделалась одной из самых богатых невест в Нидерландах. Образование Тинне получила блестящее — гораздо более обширное, чем обычно получают девушки. Своей красотой, умом и исключительной добротой Александрина произвела сильное впечатление при голландском дворе. Королева полюбила девушку, быстро угадав своей возвышенной душой, насколько необыкновенна эта натура. Но вскоре разразилась катастрофа, безвозвратно уничтожившая все мечты Александрины Тинне. Она была помолвлена с неким молодым иностранным дипломатом. Вдруг перед самой свадьбой выяснилось, что жених — бесчестный негодяй. Удар был настолько силен, разочарование так жестоко, что она не пожелала слушать никаких утешений, оставила все и решилась отправиться в странствия. Впрочем, желание странствовать у нее, пожалуй, не возникло на пустом месте, а лишь пробудилось после катастрофы от долгой дремоты. Так сильный удар высекает из кремня искру, скрытую дотоле в косной массе. Отрывок из одного письма нашей путешественницы доказывает наше утверждение: «Повидать Америку или Австралию, — писала она после первого большого путешествия, — мне было не так любопытно. Но Африка, не сумею сказать почему, всегда притягивала меня. Еще когда я в детстве учила географию, посреди карты Африки было большое пустое пространство — мне все время хотелось поехать туда. Теперь я уже однажды добралась в этот неведомый край — и вновь по некоему инстинкту, словно бабочка на свет лампы, возвращаюсь туда». Поистине в строках чудится прямое предсказание жестокой судьбы! В 1856 году мадемуазель Тинне посетила норвежские ледники и отправилась дальше в сторону Северного полюса. Затем, стосковавшись по солнцу, в том же году устремилась в Италию, посетила Константинополь, Смирну, Каир… Ее сопровождали мать и тетка, мадемуазель Адриенна ван Капеллен, — бывшая фрейлина голландской королевы. Александрина поселилась вместе с ними в восхитительной вилле на берегу Нила и там жила, восторженно созерцая прославленное лазурное небо и солнце Ориента[267], неодолимо влекущие к себе. Она была высокая изящная бледная блондинка; одевалась очень просто, причем в Египте носила местный наряд с широкими рукавами, более удобный в этом климате. Просторный наряд подчеркивал ее естественную грацию, а тюрбан из шелковой дамасской ткани делал еще более привлекательными тонкие, приятные, но волевые черты лица. Итак, она жила в Египте, не переставая по-детски удивляться пустыням, лесам, цветам, восхищаться несравненным великолепием редких птиц. Она полюбила бездонное, ослепительное, ясное небо, на фоне которого встают величественные, красноречивые для сердца руины; полюбила и священную некогда реку — свидетельницу рождения цивилизации… Но вскоре в этой душе к чувствам любви и восторга примешалась бессознательная мизантропия[268]. Тинне очень захотелось провести в Африке остаток навсегда загубленной жизни. Но Египет слишком близок к дому, слишком многолюден… Добро бы еще были одни феллахи[269], арабы, негры — но ведь здесь ежеминутно сталкиваешься с европейской цивилизацией. Куда ни пойдешь — бросается в глаза западное влияние в одежде, кухне, языке, попадаются навстречу шумные, все заполоняющие туристы… И мадемуазель Тинне возжелала увидеть Африку первобытную, девственную. Лишения, трудности и опасности не страшили Александрину. Куда она решила — туда и отправляется. Мать с теткой не оставляли ее. Все вместе они поднялись вверх по Нилу, повторяя путь бесстрашных путешественников, пытавшихся раскрыть тайну истоков реки. История первой большой поездки в дикую, почти не исследованную область, когда три женщины дошли до мест, расположенных всего в нескольких градусах от экватора, рассказана господином Джоном А. Тинне — единокровным братом путешественницы — в труде, озаглавленном: «Географические заметки о путешествии трех голландок в глубь Африки». Александрина вернулась в Европу, поправила здоровье и вновь уехала в Каир, где и провела следующую зиму. Сначала она намеревалась отправиться в Абиссинию, но затем передумала и в конце 1861 года твердо решила посетить страну, лежащую по берегам Белого Нила. Это болотистая местность, полная испарений, несущих малярию; она особенно опасна для европейцев — страшная лихорадка изнуряет их. Но самая главная опасность крылась в том, что путешественницу ожидала страна, разоренная грабежами и охотой на людей, безнадежной борьбой чернокожих против работорговцев, — страна, где европейская женщина не найдет безопасного пристанища. Путешественницы знали это — но ничто не могло остановить бесстрашных голландок. Три женщины тщательно собрались в дорогу и 9 января 1862 года вместе со свитой спокойно и бесстрашно погрузились на три корабля, чтобы добраться через Нубию в Судан. Несмотря на всю важность путешествия, перед которым отступало столько закаленных мужчин, мы, за недостатком места, вынуждены отказаться от желания проследить шаг за шагом путь отважных женщин. Вожди диких племен всюду оказывали мадемуазель Тинне, словно царской дочери, самый миролюбивый и пышный прием. Впереди нее бежали слухи о красоте и богатстве. Многие видели, как Александрина — бесстрашная амазонка[270] — галопом скакала от селения к селению; многие восхищались ее покорявшей сердца благожелательностью. Путешественницу объявили дочерью султана Блистательной Порты[271]. Этот слух, разрастаясь с невероятной быстротой, перелетая из деревни в деревню, распространился по всей Восточной и Северной Африке — караваны донесли его до самых отдаленных оазисов Сахары. Герхард Рольфс[272] позднее слышал его в таких местах, где никогда не ступала нога белого человека. К сожалению, поэзия путешествия по удивительным диким местам нередко омрачалась встречей с парусниками, перевозившими невольников. Вот какие душераздирающие подробности содержит письмо мадемуазель Тинне из страны динка: «Здесь я впервые увидела пресловутую торговлю чернокожими. Никогда в жизни я не бывала так поражена, не испытывала такого ужаса. Я, как и все, слышала разговоры об этом, много раз читала описания работорговых караванов, но не представляла себе ни размеров подобного зла, ни жестокости и цинизма торговцев. Все арабские купцы, а также большинство европейских, имеют так называемых охранников, на деле же охотников за неграми. Они окружают и жгут деревни, грабят все, что находят там, и угоняют сотни негров. Несчастных грузят на барки и увозят втайне от вице-королевских властей: хотя в отдаленных провинциях закон не имеет никакой силы, для вида с ним все же как бы считаются. На самом деле все совершается совершенно бесстыдно. Поскольку в нынешнем (1862) году охота была успешной, все побережье было покрыто большими пятнами. Я подъехала ближе и увидела: это негры, сбитые в кучу так плотно, что образуется сплошная человеческая масса, за которой легко надзирать. Более всего поразила меня крайняя худоба невольников. Торговцы из экономии держат их впроголодь — впрочем, похоже, что натура негра приспособлена к этому: европеец на их месте вряд ли бы выжил. Несчастные, несомненно, видели, как мы жалеем их. И однажды, когда я проходила мимо одной из групп негров, меня схватила за руку женщина с маленьким ребенком и что-то сказала. Мне перевели ее слова: она хотела через меня попросить хозяина о разрешении свидеться со вторым сыном и матерью, принадлежавшими другому торговцу. Купец не отказал мне. Встреча была столь трогательна, что я купила всех четверых. Сейчас они все у меня; вскоре, надеюсь, мы будем проезжать их родные места и я отпущу их. На другой день под наше покровительство явились две старухи, которых бросил на произвол судьбы хозяин, потому что они слишком ослабли и не годились для продажи. Если купец видит, что продажная цена не покроет расходов на поддержание жизни раба, он оставляет его умирать без единого глотка воды, а родные, если находятся в той же партии, смотрят на мучения бедолаг и не имеют возможности не только помочь, но даже подойти к ним. Короче говоря, не могу подробно описать все гнусности, свидетелями которых мы были, пока наши лодки находились вблизи этого лагеря. Вполне понятно, что все негритянские племена Белой Реки, некогда столь миролюбивые и гостеприимные, ныне ожесточились. Туда, где раньше можно было ездить в одиночку, теперь приходится брать большую охрану. От этого даже страдает торговля слоновой костью: негры с большой неохотой берутся возить ее». Впрочем, мадемуазель Тинне с истинно королевскими почестями приняли в мусульманском селении Хеллет-Кока, расположенном на левом берегу Нила под 10°32′ северной широты. Селение было очаровательно, превосходно расположено в относительно здоровой местности. Но нашла ли здесь путешественница вожделенное Эльдорадо? Нет! Беспокойный дух увлекал еще дальше — все время дальше! Она продолжает плавание и вместе со спутницами прибывает в Гондокоро, под 4°5′ северной широты. Однако высадиться у этого большого поселка, где сосредоточена торговля как слоновой костью, так и рабами, оказалось невозможно. Мальтийцы[273] из Бона, самые отчаянные охотники на людей во всей стране, совершили столько жестокостей, что туземное население восстало против них и против всех белых. Хотя мадемуазель Тинне грозила гибель, вернуться она не пожелала. Лодки миновали пристань Гондокоро и продолжили путь вверх по Нилу. Однако вскоре пороги и стремнины сделали реку труднопроходимой. Еще немного — и плыть дальше совершенно невозможно: река была перегорожена. Всякая человеческая воля отступила бы здесь перед препятствиями. Мадемуазель Тинне велела возвращаться. В общем, это и так уже приходилось сделать. До сих пор здоровье трех спутниц было крепко, но тут их стали сильно мучить внезапные приступы тяжкой лихорадки. 22 сентября они пустились в обратный путь и 20 ноября достигли Хартума. Расходы на плавание составили сто пятьдесят тысяч франков. Итак, путешественницы обосновались в Хартуме и начали готовиться к новым странствиям. На этот раз целью была река Эль-Газаль к западу от Нила и страна племени ниам-ниам, в то время, до прекрасных исследований Швейнфурта, казавшаяся легендой. В 1862 году в Хартум прибыли два немецких путешественника, доктор Штойднер[274] и Теодор фон Хойглин[275], с намерением предпринять экспедицию в те же края. Мадемуазель Тинне в сопровождении матери присоединилась к ним, тетка, мадемуазель ван Капеллен, по состоянию здоровья вынуждена была остаться в Хартуме. Путешествие началось при весьма благоприятных обстоятельствах, закончилось же на редкость трагично. Хотя чернокожие, составлявшие охрану путешественников, хорошо переносят климат, большинство их умерло от злокачественной лихорадки. 10 апреля 1863 года от желтухи скончался доктор Штойднер; в июне смерть унесла госпожу Тинне! Отважная женщина пала жертвой материнской любви: ее также поразила болотная лихорадка, но она не пожелала остаться в Хартуме, а решила все же сопровождать дочь до конца! Потеря матери сломила Александрину Тинне: ведь с самого рождения они никогда ни на минуту не расставались! Тинне-младшая распорядилась возвращаться как можно скорей. К несчастью, в это время года никак нельзя было пуститься в обратный путь, а ужасный климат косил новые жертвы. 20 августа, а затем в конце декабря на берегах разлившейся реки умерли две горничные-голландки… Наконец, испытав бесчисленные трудности и опасности, страшно поредевшая экспедиция в июне 1864 года добралась до Хартума, где ее ждала ужасная весть: мадемуазель ван Капеллен тоже скончалась от лихорадки! Из Хартума храбрая путешественница, пережившая столько потерь, отправилась через Бербер и Суакин к Красному морю, где села на корабль и вернулась в Каир, в котором не была уже три года. За это время мадемуазель Тинне увидела в Судане — дикой стране, полной смертоносных миазмов, но редкостно привлекательной из-за несравненной красоты растений и многообразия удивительной фауны — вторую родину. Она не захотела более возвращаться в Европу, давно отказалась от одежды женщин своей расы и переняла арабскую. Тинне окружали лишь арабские слуги и служанки, сидела она по-восточному, все вокруг нее выглядело по-африкански. Европейские вещи были совершенно изгнаны из ее жилища — на стенах висело оружие и разнообразные редкости, привезенные с верховьев Нила. Притом она проявляла княжеское гостеприимство: приютила у себя представителей восемнадцати арабских племен, с которыми встречалась в путешествиях. Решимость женщины навсегда остаться в Африке оказалась совершенно непоколебимой: брат хотел было отвезти ее в Европу, но, получив категорический отказ, вернулся один. Говорят, Александрина Тинне хотела построить себе дворец на острове в окрестностях Каира, но хедив не соизволил дать разрешение: ему совсем не нравилось, что путешественница может остаться в его государстве. Она ставила правителя в затруднительное положение, то и дело подавая в суд на суданского губернатора Муса-пашу, открыто покровительствовавшего работорговцам. Это, конечно, был не лучший способ угодить вице-королю. Лишившись внезапно всех самых дорогих привязанностей, мадемуазель Тинне нашла убежище от скорби в неутомимой деятельности, на которую ее вдохновляли благородные чувства, кроме того — желание внести вклад в науку. Притом она чувствовала глухую враждебность со стороны хедива и министров. Мадемуазель Тинне уехала из Каира, купила себе паровую яхту и вместе с верными чернокожими слугами пустилась в путь по средиземноморским портам. Ее видали в Смирне[276], Константинополе[277], на Мальте, затем в Неаполе, Риме, Тулоне, далее — в Алжире, где она провела зиму на вилле в окрестностях города, в Тунисе и, наконец, в Триполи. Когда она жила в этом городе, туда прибыли большие караваны, прошедшие через раскаленные пески Сахары от Кукавы на озере Чад до побережья Средиземного моря. Увидев бесконечные вереницы верблюдов, навьюченных грузами из Центральной Африки, которая после исследований Барта, Кайе, Фогеля и Рольфса так живо возбуждала любопытство европейцев, мадемуазель Тинне почувствовала желание посетить после восточных районов мусульманского Судана также и западные. Увы, этой стране суждено было стать ее могилой. Тинне не откладывала исполнение желаний надолго — да и громадное состояние позволяло ей делать все быстро и с размахом, не останавливаясь перед препятствиями материального характера, часто непреодолимыми для обычных путешественников. Она организовала караван, насчитывающий пятьдесят человек и семьдесят верблюдов, чтобы отправиться сначала в Мурзук, столицу Феццана[278], а потом к Кукаве[279] в государстве Борну[280]. До этого места больших трудностей в пути не ожидалось. Но далее мадемуазель Тинне задумала нечто грандиозное, отважное и чрезвычайно опасное: она хотела достигнуть восточного берега озера Чад и выйти к Нилу через Вадаи[281], Дарфур и Кордофан. Если бы ей удалось осуществить этот замысел, она сразу же встала бы в самый первый ряд исследователей Африки — тогда еще ни одному европейцу не удавалось пройти такой маршрут от начала до конца. Эдуард Фогель и Мориц фон Бойрманн[282] в самом начале пути погибли, а путешественников, пытавшихся через Дарфур пройти в Вадаи, останавливали на границе государств. Двадцать восьмого января 1869 года все было готово и караван мадемуазель Тинне пустился в путь из Триполи к Судану. Охрана путешественницы состояла из арабов и негров — кое-кого она привезла еще с берегов Белого Нила. Европейцев с нею было только трое: матросы-голландцы Кеес и Арди и один немец, прежде бывший на службе у Герхарда Рольфса, по фамилии Краузе. Караван шел очень медленно. 1 марта он дошел до поселка Сокна в Феццане и надолго там остановился. Везде, где проезжала мадемуазель Тинне, ее встречали как царскую дочь; везде говорили о ее богатстве — и каждый кочевник-грабитель бросал мимоходом алчный взгляд на багаж, где, думал он, лежит много золота. В Мурзуке Тинне заболела и долго не могла ехать дальше. Во время болезни она познакомилась с одним туарегским вождем по имени Ишнушен, жившим в Гате, вне пределов турецких владений. Она решила провести у него лето, а возможно — и осень, покуда из Триполи ей доставят богатые подарки для султана Борну. Ишнушен добровольно и по-рыцарски предоставил покровительство и пообещал прислать в Мурзук отряд для ее охраны. Она встретилась с этим пустынным царьком в Вадиеш-Шарги, в нескольких днях пути к юго-востоку от Мурзука, и заключила с ним вечный, если можно так выразиться, договор о дружбе. К несчастью, Ишнушен был занят войной против мятежников и не смог немедленно сопровождать мадемуазель Тинне в Гат. Ей пришлось возвратиться в Мурзук и ждать обещанную охрану. Но случилась странная вещь, которая должна была бы насторожить ее. К ней прибыли сразу два отряда во главе с туарегскими вождями — и оба вождя были подданными Ишнушена. Одного из них, хаджи Ахмеда Бу-Салаха, действительно прислал его хозяин. То же утверждал и другой, хаджи Бу-Бекр эль-Хогари, но он был явно самозванец. Трудно сказать, что ослепило разум нашей путешественницы: нервы? женский каприз? Так или иначе, она выбрала не добросовестного спутника, а предателя. Так или иначе, она устремилась навстречу гибели, словно и вправду желая покончить с жизнью: отстранив хаджи Ахмеда Бу-Салаха, приняла покровительство и охрану хаджи Бу-Бекра. Она попала в западню. «Судьба избрала для нее жребий, и он неминуемо должен был выпасть», — писал в Триполи мурзукский шейх Бен Аллуа, сообщая подробности убийства путешественницы. Хаджи Бу-Бекр был врагом Ишнушена и хотел ему отомстить — а какая же месть может быть лучше убийства женщины, связанной с Ишнушеном узами гостеприимства и дружбы! Сверх того негодяй рассчитывал крупно поживиться, разграбив караван и продав чернокожих из свиты Тинне. Мадемуазель Тинне могла спокойно подождать и навести справки об Ишнушене. Но уже в июле она с невероятной безрассудной доверчивостью отправилась в путь под охраной бандитов. Как и было договорено, направились в Гат. Через несколько дней доехали до Биргиза, к юго-западу от Мурзука. Там и была устроена гнусная западня. Ничего не подозревая, в мечтах о счастливом исходе путешествия, полная грандиозных планов, Тинне спокойно вступила на землю туарегов. Скоро она должна была встретиться с их вождем. Но на другой день после приезда в Биргиз, в тот момент, когда начали грузить верблюдов для дальнейшего пути, она пала от рук своих охранников[283]. Между погонщиками верблюдов возникла ссора — то ли настоящая, то ли нет. Тинне попыталась ее усмирить, что и стало поводом для давно замышленного убийства. «Барышня Скандрина (Александрина), — читаем мы в письме шейха Бен Аллуа, — получила две раны: сначала ей отрубили саблей правую кисть, чтобы она не могла стрелять из револьвера, а затем уложили выстрелом в грудь из ружья. Стрелял один араб из племени улед-бусиф. Обоих ее голландских спутников тоже убили — одного застрелили из ружья, другого проткнули копьем». Далее убийцы разграбили караван и погнали чернокожих в рабство. Удалось бежать лишь нескольким неграм, которые и принесли печальную весть в Мурзук. Турецкие власти немедленно взяли на себя похороны убитых и розыск убийц. Господин Анри Дювейрье, выдающийся исследователь Северной Африки, посвятил несчастной путешественнице слова высочайшей похвалы, которыми мы завершим повествование об Александрине Тинне: «Все, кто почитает великие, благородные дела, исходящие из стремления увеличить число человеческих знаний, приблизить нашу древнюю Европу к народам, пребывающим еще в детском возрасте, но рано или поздно призванным все же получить часть благодеяний цивилизации; все, кто когда-либо думал об этой женщине, равно одаренной умом и богатством, устремившейся в среду грубую и жестокую, не позволяя себе остановиться ни ввиду усталости и лишений, ни из-за немилосердного климата, ни из-за опасностей, которым подверглась жизнь ее, — все они, говорю я, прежде охваченные удивлением и восторгом, были в самое сердце поражены вестью о преступлении, жертвой которого стала мадемуазель Тинне…»
ГЛАВА 19
ДОКТОР Г. НАХТИГАЛЬ
Путешествие в Тибести. — Экспедиция в Багирми. — Мохаммеду Отец Ножа. — В Уаделаи. — Через Фур, или Дарфур.Чистый случай, можно даже сказать, несчастный случай заставил доктора Нахтигаля[284] предпринять ряд экспедиций в Центральную Африку, которые сразу его поставили в первый ряд современных путешественников и принесли высокие награды, в том числе золотую медаль Парижского географического общества. В конце 1868 года доктор жил в Триполи, пытаясь вылечить больную грудь в средиземноморском климате. В это время Герхард Рольфс привез подарки от прусского короля шейху Омару, султану государства Борну в благодарность за прием, оказанный немецким путешественникам Барту, Фогелю, фон Бойрманну и самому Рольфсу. Доктор Нахтигаль, которому лечение в жаркой стране заметно пошло на пользу, решил не возвращаться пока в Европу, а проникнуть в глубину таинственного края, в котором знал лишь побережье. Он попросил препоручить миссию Рольфса себе и получил согласие. Специальность врача, знание арабского и знакомство с обычаями мусульман должны были облегчить Нахтигалю выполнение задачи. Он выехал из Триполи 17 февраля 1869 года, а 27 марта прибыл в Мурзук, столицу Феццана. Нахтигалю пришлось подождать, пока соберется караван для похода в Борну. Досуг он решил использовать для исследования Тибести — дикой страны к юго-востоку от Феццана, своеобразного рифа в центре пустыни, куда не ступала нога европейца. Напрасно знатные люди Мурзука пытались его отговорить, напрасно утверждали, что жители той страны, люди племени тубу-решад, — отъявленные злодеи, что там адская жара и нет питьевой воды. Доктор Нахтигаль не желал ничего слушать и смело отправился в дорогу. Начало его пути оказалось очень трудным. Не такие сильные и закаленные люди, как он, могли бы отступить! Он вышел 6 июня, а 21-го вместе со своими людьми — отвратительными мошенниками — достиг границы Тибести. Расположились лагерем у источника Мешру. Место было чрезвычайно мрачное. Всюду вокруг на земле валялись человеческие кости, скелеты верблюдов, высохшие, полузасыпанные песком детские трупики, на которых еще сохранились лоскутки синего ситца. Должно быть, несчастные негритята шли за караваном и здесь их бросили, ибо дальше они идти не могли. Бедные дети! Как ужасно умирать под знойным небом и на раскаленном песке! Двадцать седьмого июня подошли к первым тибестийским уступам, где обнаружили много прекрасной воды. В тех краях вода — самое главное в жизни, и обычно путь стараются проложить от источника до источника. Если же проводник ошибется, уклонится вправо или влево — люди могут умереть от жажды, что едва и не приключилось с доктором Нахтигалем. Двадцать восьмого числа экспедиция прошла стороной от источника. Бурдюки опустели, и всем пришлось долго плутать в поисках драгоценной влаги. Ночь не приносила облегчения адской пытке путешественников. Они пошли вдоль высохшего русла, надеясь отыскать исток — напрасно! Там их застал восход: поднявшись над горизонтом, солнце отражается от моря песка, от угрюмых скал — кажется, будто вы плывете в море огня. Людей измучила страшная жажда, головы словно кто сжимал железными обручами… Верблюды вскоре устали и отказались идти дальше: упрямо улеглись под чахлыми акациями и, несмотря на побои, не желали подняться. Много часов прошло в подобном пекле — и нечем было освежить себя. Спутники доктора начали бредить. Один из них хотел пустить себе пулю в лоб — с большим трудом удалось помешать. Наконец возвратились проводники с бурдюками, полными воды, — доктор со спутниками к тому моменту едва не умерли. Вода была илистая, тошнотворная, в ней плавали какие-то странные комочки; в обычное время любой человек с отвращением отбросил бы мысль даже искупаться в ней. Но в тот день — что это был за божественный нектар! С каким упоением всякий бы ощутил, как ее капли текут по опухшим, пересохшим, потрескавшимся губам и языку! Одним словом, это ужасная страна, где много скал и песка, практически нет зелени и воды, не выращивают никаких растений, очень мало жителей, да и те — отвратительные негодяи, вполне достойные ужасающей дикости проклятых мест. Каждый старался половчей исхитриться и обобрать несчастного доктора, средства которого были весьма скудны. По любому поводу он платил фантастическую пошлину и не имел никакой возможности сопротивляться этому грабежу: отказ грозил бы бедой не только успеху предприятия, но и собственной безопасности. Однажды проводник заглянул к себе домой, и доктору представился случай поближе познакомиться с тибестинскими женщинами. Насколько феццанка беспечна и легкомысленна, настолько тибестинка, хоть и мужеподобна, а потому не слишком привлекательна, серьезна, энергична и надежна. Мужа целыми месяцами, даже годами нет дома, а его половина должна одна прибираться в хижине, заботиться о детях, кухне, верблюдах. Она за всем смотрит, ведет дела, торговлю, если и перекочевывает. Возможно, именно этой совершенной независимости и чувству крайней ответственности слабый пол в Тибести отчасти обязан суровым нравом. Люди здесь, понятно, селятся в основном возле русел рек (по-местному «эннери»), иные из которых пересыхают на полгода. Главное из них — русло Бардаи. Там во множестве разводятся финиковые пальмы и жители питаются финиками. Негостеприимные и фанатичные, тибестинцы недружелюбно смотрели на доктора: белая кожа, европейская внешность и религия не сулят в этих местах доброго приема. Не раз Нахтигаль избегал опасностей, не раз в пути его встречали враждебные крики. Однажды он пошел к колодцу неподалеку от лагеря, но толпа подростков стала швыряться в него камнями и во все горло вопить: «Бей неверных!» Доктору пришлось быстро ретироваться. Чем дальше, тем больше к путешественнику проявляли недоверие и враждебность. Насилу удавалось выходить из лагеря и осматривать долину Бардаи, где в это время шел сбор фиников. Однажды жители Бардаи, напившись «лакби» (перебродившего финикового сока), внезапно бросились на доктора с железными дротиками. Нахтигаля спасла собственная решительность и заступничество дяди одного из проводников — влиятельного в этих местах лица. Теперь исследователя постоянно оскорбляли, угрожали, вымогали поборы. Даже девочки прибегали швыряться в него камнями. Вскоре, когда у доктора уже почти ничего не осталось, так называемый «султан» Бардаи — дряхлый, тщедушный, бедно одетый старичок с грязным тюрбаном на голове и в дырявых сандалиях — пожелал дать гостю приватную аудиенцию. После обычных слов приветствия старичок спросил, где же подарки. Доктор ответил правителю, что его люди все и обчистили. Тогда султан лично отправился в палатку к Нахтигалю, перерыл все ящики, но обнаружил лишь книги, метеорологические приборы да несколько никуда не годных тряпок. Не найдя ничего для себя подходящего, он молча вышел из палатки, не обращая на доктора внимания, словно и не был знаком с ним. В конце концов, поскольку положение доктора становилось все опаснее и опаснее, он вынужден был взять в охрану трех тибестинцев, которые вмиг выпотрошили ящики, забрали последнего верблюда, единственное покрывало, смену одежды — все! Нахтигаль ушел пешком с пятью спутниками, прибывшими вместе с ним из Феццана, и двумя ружьями. 25 сентября, с большим удовлетворением простившись с тремя отправившимися в Тибести негодяями, он вместе с феццанцами оказался возле источника Мешру. 5 октября Нахтигаль прибыл в Мурзук босиком, одетый в матерчатые лохмотья, которые никто в мире не решился бы назвать штанами, и летнее парижское пальто, превратившееся в рубище. Именитые люди города, уже не надеявшиеся увидеть доктора, поспешили передать ему поздравления; теперь они говорили с завистью: «Тебя ждет долгая жизнь, потому что Господь позволил тебе уйти целым и невредимым от стольких опасностей!» Кто вырвется из рук тубу-решад, тот может уже ничего не бояться». Весной следующего, 1870 года доктор вернулся в Кукаву, столицу Борну, чтобы передать старому шейху Омару подарки от прусского короля. Покончив с миссией, доктор хотел заняться исследованием Вадаи, но султан страны находился в состоянии войны со своим вассалом, султаном Багирми[285]. Пока Нахтигаль ждал прекращения военных действий, он решил отправиться по Борну и возвратился в Кукаву только в 1872 году. Шейх Омар, опасаясь за безопасность путешественника, не хотел разрешать проезд по Вадаи, но охотно согласился на посещение Багирми, где правил султан Мохаммеду. Багирми расположено к северо-востоку от озера Чад; на северо-западе оно граничит с Борку[286], на северо-востоке — с Вадаи, а на юге — со слабо изученными территориями, населенными язычниками. В середине Судана располагается государство, простирающееся далеко к югу и созданное в начале века феллатами[287] на землях, где уже получил распространение ислам. Тогда как Дарфур, Борну, государства хауса и большинство крупных империй в верхнем течении Нигера, ныне пришедших в упадок, имеют весьма долгую историю, летопись Багирми насчитывает не больше трехсот пятидесяти лет. Когда Нахтигаль посетил эту страну, Мохаммеду, прозванный Абу-Сиккин, то есть Отец Ножа, потому что приказал злодейски убить отряд арабов, только что был разбит своим сюзереном[288] — султаном Вадаи. Он укрепился в Буссо, самом южном селении собственно Багирми, ожидая, может быть, случая взять реванш и свергнуть дядю Аберрахмана, которого султан Вадаи посадил на трон. Тем временем средства у доктора подошли к концу: после возвращения из Борку у него оставалось каких-то пятьсот франков. Необходимо было где-то занять деньги, чтобы иметь возможность продолжить исследования. В конце концов Нахтигаль нашел одного купца родом из Триполи, который согласился одолжить 750 франков в обмен на расписку о получении вдвое большей суммы. И эта поистине ничтожная субсидия оказалась достаточной. Разумеется, доктору, соразмеряясь со средствами, пришлось сократить количество снаряжения. Он купил сорок два фунта изготовленного в Борну пороха — 30 франков; бурнус тонкого сукна цвета спелой вишни — 90 франков; пули — 5 франков; кремни для ружей — 5 франков; два фунта орехов гуру[289], предназначенных для самого Мохаммеду — 40 франков; восемь национальных костюмов хауса, выкрашенных индиго, — 100 франков; четыре шали из красной шерсти — 60 франков; продукты, меновые товары и прочие безделушки — 275 франков, двух волов по цене 70 франков за пару — итого 675 франков. На руках у доктора осталось 500 франков, остаток от экспедиции в Борку, которые отдал на уход за жилищем на время отсутствия. Двадцать шестого февраля Нахтигаль отправился из Кукавы, обогнул южную оконечность озера Чад, переправился через две мелкие речки — Комадугу и Камбару, миновал обнесенные стеной деревни Март, Нгала, Аффаре, Уэф, застроенные глинобитными домишками под соломенными крышами, и 13 марта прибыл в деревню Вули, расположенную в виду городка Логоне на реке того же названия, левом притоке Шари. Доктор уже намеревался проникнуть в город, когда два всадника в полном вооружении подскакали к нему и приказали повременить со входом. Вооруженная пиками пара выглядела необычно. Лошади, от глаз и до самых копыт, от морды и до хвоста, были скрыты, словно под огромным покрывалом, плотными, подбитыми ватой и простеганными матерчатыми доспехами. Всадники нахлобучили балахоны, чем-то напоминающие длинные английские пальто свободного покроя; балахоны были тоже подбиты ватой и простеганы. Воротники балахонов возвышались над ушами, а полы прикрывали пятки. Церемония приема, хотя и несколько отложенная, не стала оттого менее дружеской; царь Маруф, отец которого двадцать лет назад принимал доктора Барта, встретил нового путешественника превосходно. Но Нахтигаль, кажется, нагнал на него страху синими очками, странным образом красовавшимися над «литамом», туарегским покрывалом, закрывая и губы и нос. Три дня спустя караван вполне благополучно переправился через реку и взял курс на укрепленный город Бугуман, в котором насчитывалось около шести тысяч жителей. У Мискина путешественники переправились через Шари и пошли по правому берегу реки. 27 марта караван прибыл в Мафлинг, где Нахтигаль узнал, что совсем недалеко находится дядя Мохаммеду. Доктор решил покинуть долину Шари и направился на юг, к реке Илли, к которой вышел у городка Гугара. Ему удалось добраться до земель племени сомраи, глава которых — Гедик — дал доктору проводника до располагавшегося в лесной чаще лагеря Мохаммеду. Растительность в этих избыточно увлажненных местах великолепна; подлесок, над которым поднимаются огромные стволы, полон тени и свежести. Среди деревьев преобладают, кроме различных видов мимоз, тамаринд, муррая[290], мезембриантемумы[291], каучуковое дерево[292], масляное дерево[293] и гигантская сейба[294]. Последнее из названных деревьев воистину ошеломляет размерами, по меньшей мере — в данных краях. Ствол сейбы обычно вытягивается вертикально вверх, а от него отходят могучие ветки, листва которых столь же великолепна, как и древесина. Одно из названий, как известно, дерево получило от веретенообразной формы плода, достигающего одного фута в длину, желтоватый кокон которого, созревая, раскрывается, выпуская наружу белую, пушистую сердцевину, отливающую шелковистым блеском и покрытую короткими волоконцами. Эта хлопковидная материя в государствах хауса, в Борну, Багирми, Вадаи и Дарфусе служит для набивки подушек и матрацев. Из нее получается отличная вата для военных доспехов, которые прошивают на манер стеганого одеяла. Достоинство такого материала в том, что он никогда не сваливается. Еще там растут жирафовое дерево, пальма дум (гифена)[295], пальма делеб, размножающаяся путем выделения эфирного масла, аромат которого разлит в чаще, жужуба[296] и прочие… Столь же богата и фауна. Реки изобилуют гиппопотамами и крокодилами, в лесах резвятся все разновидности антилоп. Селение законного правителя Багирми, хотя и временное, размерами оказалось куда больше, чем предполагал доктор. Очень опрятные и очень легкие хижины числом около тысячи теснились вокруг царской резиденции. Нахтигаль со спутниками пробрались через них до монарха. Доктор заметил сидящую на скамье тщательно укутанную фигуру, вокруг которой находились носильщики царских штандартов со страусиными перьями, а возле пристроились рабы, размахивающие для освежения воздуха жирафьими хвостами. Это и был мбанг Мохаммеду — Отец Ножа. Государь носил капюшон до самых глаз, нижнюю часть лица закрывал литамом, так что ничего не разглядишь. Доктор салютовал мбангу выстрелом из ружья и произнес речь, в которой воздал хвалу храбрости и постоянству государя, правоте его дела, пожелал скорой победы над врагами. Повелитель еле слышным шепотом (так требует багирмийский этикет) отвечал, что речь доктора великолепна, что он будет желанным гостем и может рассчитывать на полный аман (содействие) государя. Вечером Нахтигаль вновь пришел в султанскую резиденцию для вручения подарков. На сей раз вокруг монарха было меньше свиты, а главное — он не был так укутан. Мохаммеду оказался крупным, сильным мужчиной, почти чернокожим, с энергичными чертами лица, с густой седоватой бородой. Он протянул доктору руку; тот сказал, что пришел вручить дары. Мохаммеду вежливо возразил, что нет для него лучше дара, чем сам визит. Когда доктор стал извиняться за бедность подарков, монарх с достоинством ответил: он не ожидал от гостя ни вещей, ни денег — как владыка, он сам обязан озолотить любого гостя. После такого обмена любезностями доктор предъявил подарки — порох, ружья, ткани, орехи гуру — которые, как вы помните, стоили двести пятьдесят франков. Во времена былой пышности низложенного монарха такие подарки от христианина почитались бы весьма скромными, ныне сошли за вполне пристойные. На следующий день Отец Ножа приказал устроить в честь гостя смотр войскам. Они были с виду довольно разношерстны, но достаточно грозны. В них состояло тысячи две человек. Следующие дни проходили без особых приключений. Но вот однажды Мохаммеду спросил доктора, не знает ли он, как справиться с мятежниками, которые засели на сейбах и там живут: ни посулы, ни угрозы на них не действуют. Доктор признался, что никакого совета дать не может. Однако 14 апреля ему пришлось участвовать в походе против восставших. Они жили в лесу Кимре, всего в каких-нибудь четырех часах ходьбы от города — экспедиция, в которой участвовало почти все султанское войско, много времени не заняла. Гигантские сейбы были ничуть не хуже настоящих крепостей. На высоте метров восемь от земли почти горизонтально простирались огромные ветви, на которых были расстелены, как полы, прочные соломенные циновки, огражденные плетнем. Там жили козы, собаки, а иногда, в маленьких хижинах, и люди. Выше также были устроены хижины. В каждой из них размещалась одна семья с самой необходимой домашней утварью: большой ступкой для риса, кувшином с водой, орудиями труда, скудной провизией. Иногда подобное жилье устраивалось и еще выше этажом, так что на одном дереве селилось несколько семейств, причем все они могли взять с собой повседневный скарб, а в небольших количествах и мелкий скот. По ночам эти несчастные люди спускались с нашестов по веревочным лестницам, чтобы запастись водой и вырыть зерно, спрятанное в земле. Когда на них нападали, они отстреливались сверху тростниковыми стрелами (не причинявшими, впрочем, большого вреда), тяжелыми дротиками, от приступов отбивались копьями. Люди Мохаммеду, прикрываясь щитами и кусками плетней, собирались по сотне вокруг каждого дерева и осаждали мятежные гнезда одно за другим. Правда, проку от этого оказалось немного — полтора десятка султанских стрелков пользовались своими ружьями очень неумело. Когда же, к великому огорчению доктора, его собственные люди, стрелявшие гораздо лучше, тоже ввязались в дело и начали из-за укрытия обстреливать несчастных беглецов, последние так и посыпались на землю после каждого выстрела. На земле воины Багирми кромсали противника буквально на куски. Напрасно им обещали жизнь в случае сдачи в плен. Спасти жизнь означало попасть в рабство — и мятежники предпочитали смерть. То тут, то там начинался приступ. Вскоре осажденные, в большинстве израненные, уже больше не могли защищаться. Тогда они сначала побросали из крепости женщин и детей, а потом бросились вниз головой и сами. Только нехватка боеприпасов остановила бойню. К вечеру победители возвратились домой, уводя с собою околосотни пленных. Еще несколько недель предпринимались подобные экспедиции, обычно заканчивавшиеся массовыми избиениями. Мохаммеду приводил свой народ к покорности, уничтожая его: необычный, но действенный способ всегда иметь только верных подданных! Тем временем доктор уже удовлетворил свою научную любознательность и задумал вернуться назад. Но Мохаммеду никак не отпускал гостя: по бедности государь не мог придумать ценного подарка для гостя. Однажды султан прислал Нахтигалю десять рабов — тот решительно отказался от подобного обременительного дара. В другой раз султан дарит шесть мальчиков и шесть девочек — их легко продать за хорошую цену. Новый отказ. Не зная, что и делать, султан посылает к доктору одну из жен с полным гардеробом. Доктор снова отказывается! Наконец Мохаммеду убедился, что гость решительно хочет вернуться в Борну, и отпустил Нахтигаля, обеспечив — насколько возможно — провизией и проводниками по подвластным ему землям. Отъезд состоялся 31 июля 1872 года, а 7 сентября доктор возвратился в столицу Кукаву. Шейх Омар был рад снова встретить путешественника и принял как нельзя лучше. Доктор Нахтигаль провел в Борну еще целых полгода, чтобы совершенно оправиться от переутомления и болезней, перенесенных во время путешествия в Багирми, — в частности, перед самым возвращением его чуть было не погубил понос, не поддававшийся никакому лечению. Когда доктор поправился, его ум снова начала занимать мысль о поездке в Вадаи. Арабские купцы рассказали много хорошего о властелине этой страны — и путешественник решил отправиться в путь, хотя въезд европейцам в Вадаи был еще запрещен. Когда же в 1873 году в Кукаву прибыл посланник из Вадаи с торговыми поручениями, Нахтигаль решился окончательно. Он распрощался с другом шейхом Омаром и 1 марта 1873 года вместе с посланником выехал из Кукавы. В начале апреля они прибыли в Абеше, резиденцию правителя Вадаи. Расстояние составило около тысячи километров; караваны проходят его за двадцать восемь — тридцать дней, что составляет более тридцати трех километров в сутки. Товары из Вадаи вывозятся по двум главным направлениям. Первое направление — находящееся в руках представителей племени маджабра из оазиса Джоло и триполитанцев — ведет на север к Средиземному морю через Борну, Тибести и Феццан либо через Уньянгу, Джоло и Куфру. Другое направление — на восток, в египетскую область Фур. Предметами вывоза являются слоновая кость, страусиные перья и рабы, которых постоянно доставляет с юга и юго-востока агид (префект) округа Саламат. Охота на рабов ведется только за счет короля — никаким частным лицам не разрешается охотиться для себя. Выехав 17 января 1874 года из Абеше, доктор Нахтигаль за несколько переходов достиг границы Вадаи, на всем протяжении отделенной от пределов Фура, или Дарфура, полосой ничейной земли. Вадаи — страна в основном равнинная, тогда как через Дарфур тянется горная цепь Марра, отделяющая бассейн Нила от бассейна озера Чад и впадающей в озеро реки Шари. Восточная часть Фура почти совершенно безводна, запад, напротив, изобилует крупными реками, выходящими из берегов в сезон дождей. Но даже в сухой сезон под песком или гравием, устилающим ложе рек, на глубине от полуметра до полутора можно найти воду. Почва здесь по большей части неслыханно плодородна. Она порождает огромное количество овощей, зерна, ценную деловую древесину, фруктовые деревья, технические, красильные, лекарственные растения. Есть в Фуре и растения с необыкновенными свойствами. Таков шаламб — листья этого дерева жуют, чтобы отбить запах вина изо рта. Таково и кили, плод которого служит для судебных расследований: сок кили дают пить обвиняемому, и если человек невиновен, его, как считается, должно тут же вырвать. Упомянем также дагара — главное средство против воспаления глаз и растение, соком которого перекрашивают лошадей. Главная культура здесь — «духкю», разновидность проса, основная пища жителей области Фур. Им кормят также лошадей и ослов. Выращивают в Фуре и дурру, имеющую множество сортов. Пшеница и лучшие сорта других зерновых производятся в более возвышенных областях. В прудах и влажных низинах растет дикий рис, который весной местные жители собирают и оставляют про запас. В Фуре также множество арбузов и самых разнообразных овощей. Среди других культур следует упомянуть хлопок, табак, арахис, томаты, здесь производят масло и кожи, собирают мед и тамариндовые бобы, получают воск. Из домашних животных встречаются ослы, довольно редко — лошади, низкорослые, но сильные и резвые, не знающие усталости; далее — верблюды, овцы, козы, собаки. В лесах много диких зверей: львы, буйволы, носороги, дикие быки, кабаны, жирафы, газели. Столицей Дарфура должен считаться город Коббе, поскольку здесь — место жительства большинства купцов и, следовательно, главный торговый центр. Но резиденция султана — не Коббе, а Эль-Фашер, в двенадцати часах пути от него, своего рода фурский Версаль, очень длинный и узкий город, в котором на глаз не более шести тысяч жителей (в том числе немало рабов). Вокруг каждого дома — просторный палисад, между ними — обширные пустыри. Что касается жителей Фура, то доктор Нахтигаль, обычно очень снисходительный, сохранил о них не самые лучшие воспоминания. «Жители Фура, — сообщает он, — почти чернокожи, среднего роста, с довольно неправильными чертами лица; характером они неприятны: заносчивы, хитры, хвастливы, предатели, враждебны к иностранцам. Нигде я не встречал такой глубокой и резко выраженной антипатии…» Бесстрашный путешественник пересек весь Дарфур с востока на запад и 22 ноября 1874 года прибыл в Каир. Его путешествие длилось пять лет и девять месяцев.
ГЛАВА 20
ГЕНРИХ БАРТ
Экспедиция в Борну. — Радиальные походы из Кукавы. — Путешествие в Багирми. — В Адамаве. — В Томбукту.В 1849 году англичанин Джеймс Ричардсон[297], прославившийся участием в африканских экспедициях, собрался в путь из Лондона с миссией, сулившей выгоду не только науке, но и всему человечеству. Речь шла о том, чтобы Судан стал открыт для европейской торговли, причем торговал не рабами, но естественными богатствами Черной Африки. Ричардсон не был ученым и понимал необходимость взять с собой хороших исследователей. По совету прусского посланника в Лондоне барона фон Бунзена Ричардсон стал искать их в Германии. Берлинское географическое общество обратило его внимание на молодого естествоиспытателя из Гамбурга доктора Овервега[298], а тот, в свою очередь, рекомендовал включить в состав экспедиции еще одного немецкого ученого — Генриха Барта. Генриху Барту шел тогда двадцать восьмой год. Он родился в 1821 году в Гамбурге в семье богатого негоцианта. С юных лет охваченный страстью к серьезным занятиям и путешествиям, он четыре года назад совершил путешествие вдоль побережья Средиземного моря, от Марокко до Малой Азии. Он только что опубликовал первый том своих записок, в которых обнаружил весьма ценные качества наблюдателя и ученого. Перспектива путешествия в Центральную Африку открыла перед молодым человеком еще более широкие горизонты. Нетрудно угадать, что он с великой радостью согласился ехать. В марте 1850 года экспедиция собралась в Триполи, уже готовая направиться в Феццан, а из Феццана — во внутренние области континента. Сначала два молодых немца, рассказывает господин Вивье де Сен-Мартен, были в экспедиции далеко не на первых ролях. Только благодаря сверхчеловеческой активности Барта с Овервегом (в первую очередь Барта), задававшим предприятию мощный импульс, экспедиция приобрела широкий размах и вызвала в Европе большой резонанс. Первые шаги при выходе из Феццана ознаменовались открытием. От арабов уже и прежде смутно знали, что посреди Сахары есть какая-то страна Аир[299]. Экспедиция пересекла эту область, представляющую собой большой и красивый оазис — настоящую Швейцарию в пустыне. Открытие представило тем больший интерес, что страна Агисимба — крайняя точка, до которой, по сообщению древних, доходили римские войска и местонахождение дотоле оставалось неизвестно, — есть, вне всякого сомнения, Аир. В Тагелате путешественники разделились, чтобы больше осмотреть. Ричардсон через Зиндер и Гуре хотел выйти к озеру Чад, но в Гуре заболел. Пытаясь превозмочь болезнь, он дошел до Угурутуа, но дальше идти не смог — ему становилось все хуже. Правитель округа позаботился об уходе за путешественниками, но бедный Ричардсон все же скончался. Это произошло в начале 1851 года. Барт поспешил отдать последний долг несчастному спутнику. Тело Ричардсона завернули в саван, накрыли ковром и похоронили в тени большого дерева недалеко от села. На похоронах находился весь округ с шейхами во главе, а султан Борну прислал приказ оказывать могиле путешественника почести. Пока же Ричардсон с Овервегом следовали своими путями, Барт прошел до Кано — великолепного города с тридцатитысячным населением, огромной кладовой Центрального Судана. «Эта стоянка, — пишет он, — была для нас важна не только с научной, но и с финансовой точки зрения. Туареги нас начисто обобрали, и вся надежда была на товары, ожидавшие в Кано. По прибытии в город мне следовало уплатить сто двенадцать тысяч каури — и я был горько разочарован, узнав, как мало стоят вещи, составлявшие мое имущество. Вообразите же, каково мне пришлось в этом знаменитом городе, давно занимавшем мое воображение: квартира дурна, кошелек пуст, каждый день кругом толпятся кредиторы — и любой нахальный посетитель может смеяться над моей нищетой…» Однако следовало нанести визит правителям. «Небо было ясно. Город — с пестрыми кучками жителей, с зеленеющими пастбищами, на которых паслись лошади, ослы, верблюды и козы, с подернутыми ряской прудами, с великолепными деревьями, с удивительным разнообразием одежд, от узенького фартука раба до развевающихся арабских плащей, — являл собой живую картину целого мира. С виду он совсем не похож на то, к чему мы привыкли в Европе, но по сути точно таков же. Вот ряд лавок, полных иностранных и местных товаров, где покупатели и всевозможные продавцы норовят выгадать как можно больше и обмануть друг друга. Вон — загоны, набитые полуголыми рабами, умирающими от голода, взор которых безнадежно ищет хозяина, согласного их купить. Вот жизнь во всем разнообразии: богач вкушает самые изысканные деликатесы, бедняк тем временем жадно склонился над горстью зерна. Вот знатный сановник верхом на породистой лошади в блестящей сбруе, сопровождаемый наглой свитой, толкает несчастного слепца — лошади так и норовят затоптать беднягу… Вот на одной из улиц в глубине двора, огороженного камышовым плетнем, стоит симпатичный домик. Аллелуба и финиковая пальма охраняют это уединенное жилище от полдневного зноя. Хозяйка дома одета в черное приталенное платье и тщательно причесана. Она прядет хлопок и одновременно присматривает за тем, как обрушивают просо. Веселые голенькие ребятишки возятся в песке или гоняются за козой; в доме видны аккуратно расставленные глиняные кувшины и до блеска отмытые деревянные чаши. Неподалеку громко и принужденно хохочет бесприютная куртизанка[300] — звенит гирляндами ожерелий, подметает песок разноцветной юбкой, небрежно подвязанной под пышной грудью… Вот несчастный, покрытый язвами или искалеченный слоновой болезнью…[301] На открытой площадке — красильня со множеством рабочих. Тут же рядом кузнец кончает ковать клинок, острое лезвие которого отобьет охоту шутить над грубыми орудиями мастера! Вот в глухом переулке женщины развешивают сушиться на заборе мотки пряжи… Где-то караван привез вкусные орехи, а люди из Осбенавы — соль. Вереница верблюдов с предметами роскоши идет в Гадамес; отряд всадников, опустив поводья, едет сообщить правителю весть о стычке или грабеже. Толпа пестрит всеми людскими типами, всеми оттенками кожи: оливковые арабы, из черных же — канури[302] с раздутыми ноздрями, фулани[303] с тонкими чертами лица, гибкой талией и изящными руками, плосколицые мандинго… Мужеподобная женщина из племени нупе;[304] элегантная, хорошо сложенная женщина хауса… Повсюду жизнь в самых разных видах, самых разных формах — вплоть до самых мрачных». Это описание — столь образное, полное и достоверное — не оживляет ли в глазах читателя все, что так прекрасно увидел и передал Барт? Талант изображения, изящество формы ставит его в первые ряды не просто исследователей, но еще в первые ряды тех, кто обладает редкой способностью описывать увиденное[305]. Барт договорился с начальником экспедиции, о болезни которого еще не знал, встретиться в Кукаве в первых числах апреля. Из Кано он хотел отправиться 7 марта. Но если вспомнить о его финансовых затруднениях, о доводящей до отчаяния медлительности африканцев, принять во внимание, что Барта сжигала лихорадка, — можно себе представить, сколько энергии потребовалось путешественнику для выполнения обещания. Кроме того, никак не удавалось найти попутчиков. Между тем дорога кишела грабителями, и Барт мог рассчитывать лишь на одного слугу, так как сам, даже накануне отъезда, не мог подняться с ковра от лихорадки. При всем при этом путешественник был полон надежд и радовался, вырвавшись на простор из-за городских стен, как птица, вылетевшая из клетки. Утром 17 марта он пустился в путь через безводную дикую равнину, покрытую асклепией[306], с редкими одинокими баланитами[307]. В окрестностях Шефны — большого, обнесенного стенами города — Барт чуть не умер от жажды. За Машеном местность становится лесистой. Караван прошел через какую-то совершенно заброшенную деревню: по всему было видно, что здесь разразилась катастрофа. «Если у правителя оскудела казна и появились долги, — замечает Барт, — он непременно устроит набег на соседа — разве только рассудит, что проще продать собственных подданных». Барт пересек границу Борну вблизи Суниколо, а Кукавы, столицы государства, достиг через четыре дня после того, как получил роковую весть о смерти Ричардсона. Первый визит путешественник нанес важнейшему после султана лицу — визирю. Он был принят очень хорошо, узнал, что экспедицию давно ждут, и был препровожден в резиденцию, приготовленную заранее. Уже в Кано Барт познал бедность, но теперь дела были куда хуже: на нем лежала ответственность не только за себя, но и за долги всей экспедиции. «Мистер Ричардсон, — пишет он с горечью, — задолжал более полутора тысяч долларов. У меня же не было ни цента — даже бурнуса или еще какой-нибудь ценной вещи. Я не знал, разрешит ли британское правительство продолжать наше путешествие, а меня между тем известили, что шейх ожидает подарков». Ценой недюжинной деятельности и упорства добившись возврата вещей Ричардсона, на которые местные власти наложили секвестр[308], Барт договорился о займе под шестьдесят процентов с выплатой в Мурзуке и таким образом рассчитался со старыми кредиторами, заплатил слугам покойного. Восстановив доверие к экспедиции, он с еще большим пылом, чем прежде, стал заниматься исследованием местности и собрал множество ценных сведений. Сначала о городе. Столица Борну состоит из двух поселений, из которых каждое обнесено своей оградой. В одном живут богатые люди; оно хорошо спланировано, застроено пышными зданиями. Второе состоит из узеньких улочек, в которых теснятся маленькие домишки. Два города соединяются своего рода бульваром длиной метров восемьсот. Бульвар весьма многолюден; на нем вперемежку стоят и большие дома за толстыми глинобитными стенами, и хижины под соломенной крышей, огороженные плетнями — первоначально ярко-желтыми, со временем же приобретающими густой черный цвет. В предместьях — деревеньки, поселки, обнесенные стенами хутора. Каждый понедельник устраиваются базары. Местные жители на волах, верблюдах везут туда зерно и масло. А вот йедина — браконьер с озера Чад — торгует сушеной рыбой, мясом гиппопотамов и ремнями из бегемотовых шкур… Если день не базарный, в городе совершенно тихо. Здесь нет, как в Кано, промышленности, нет красилен, нет работы. Вся жизнь проходит на Дендале — бульваре, соединяющем два города. Там каждый день перед вами густая толпа: всадники и пешеходы, рабы и свободные, туземцы и иностранцы… Туземцы идут на прием к шейху или визирю — отчитаться в выполненном поручении, добиться правосудия, выпросить местечко, преподнести дары. Барт провел в Кукаве три недели, после чего представился случай продолжить путь к озеру Чад. Из этой поездки он привез интересные сведения. «Я выехал рано утром, — рассказывает он, — и любовался прелестной панорамой, открывавшейся взору. Но озера не видать — вместо него, насколько хватало взгляда, простирается огромная равнина без единого деревца. Мы едем дальше. Мало-помалу трава становится свежее, гуще, выше; начинается болотистая низина, граница которой то выдается вперед, то отступает. После долгих напрасных попыток выбраться из этой низины или углядеть блестящую поверхность на горизонте я вернулся, топая по грязи и утешаясь тем, что видел хоть какую-то воду. Очевидно, озеро Чад подобно большой лагуне, очертания которой меняются каждый месяц. Вследствие этого составить его подробную карту не представляется возможным. На следующий день в сопровождении правителя области Канем[309] и одного шейхского конногвардейца я отправился на северо-восток. За полчаса мы дошли до болота. Промокнув до колен, хотя и ехали верхом, мы добрались до края красивой водной глади, окаймленной папирусом и тростником высотой четыре-пять метров. Вода в озере, нагретая солнцем и полная мелких водорослей, не привлекательна на вид, но совершенно пресная. Напрасно утверждали, что озеро Чад либо имеет сток, либо соленое. Я утверждаю обратное: стока озеро не имеет — но откуда может в его воде взяться соль, если в этом краю соли нет вообще? Даже трава здесь совершенно обессолена, и молоко коров и овец вследствие этого безвкусно и нездорово. В ямах, окружающих берег, много почвенного натрия, и вода, естественно, солоновата, но, когда в разлив ямы заполняются водой из озера, соленый привкус навряд ли ощущается». Бескрайний водный простор (лишь справа, на востоке, его ограничивала болотистая равнина) открылся перед Бартом уже на другой день.
Барт изучил в Борну все, что хотел, и решил воспользоваться конфликтом шейха с правителем области Адамава[310], чтобы посетить Адамаву. Шейх согласился и отправил туда посольство (при котором поехал и Барт) для полюбовного разрешения спора. Экспедиция отправилась в дорогу 29 марта 1851 года. Путь был опасен: над местными жителями тяготел страх рабства, вследствие чего они вели себя недружелюбно и приходилось все время быть начеку. Но все же миссия добралась до Йолы[311] — столицы Адамавы. Барт был первым европейцем, попавшим туда, и хотя пребывание в этой стране оказалось гораздо короче, чем ему хотелось, он совершил там замечательные открытия. Майор Денгем[312] в 1824 году только мельком видел границу Адамавы и заметил издали Мендиф, о котором затем было столько догадок. Барт выяснил, что это одиноко стоящая конусообразная гора окружностью в основании не более десяти — двадцати миль. У подножия Мендифа расположена деревня того же названия. Из-за белесого цвета можно подумать, что гора сложена известняками, но это помет птиц, во множестве слетающихся сюда. Как говорят местные жители, на самом деле гора черная. Двойная вершина ее показывает, что Мендиф — древний вулкан, сложенный, без сомнения, базальтами[313]. Барт определил высоту в 5000 футов над уровнем моря и в 4000 — от подошвы. Страна Адамава простирается миль на двести с юго-запада на северо-восток. Это, без сомнения, одна из красивейших провинций Центрального Судана. Реки с тенистыми берегами, плодородные равнины, невысокие горы, тучные пастбища, пышная растительность: папайи, стеркулии[314], панданусы, баобабы, гифене, бомбаксы, элаисы[315], бананы… В Адамаве водится много слонов, в восточной части — носорогов, в Бенуэ — ламантинов[316]. На востоке Адамавы повсюду встречаются и дикие быки. Домашних животных множество, в том числе — особая порода серых коров, высотою в холке всего лишь метр. В Йоле живет не более двенадцати тысяч жителей. Находится она на расстоянии немногим более четырех градусов широты от Кукавы и почти на той же долготе. Чтобы проехать это расстояние (то есть, со всеми изгибами пути, сто тридцать наших обычных лье или триста шестьдесят английских миль[317]), Барту понадобилось двадцать четыре дня. Город расположен на реке Фаро, притоке Бенуэ, которая впадает в Нигер всего лишь в нескольких днях пути от устья великой реки. Бенуэ в месте слияния с Фаро достигает в ширину не меньше мили при средней глубине в сухой сезон около трех метров, и Барт весьма прозорливо осознал, какую важную роль призвана сыграть эта река в будущих сношениях Европы с внутренними районами Африки. Хотя Барт был по всем правилам аккредитован султаном Борну при правителе Адамавы, последний принял его настолько нелюбезно, что сразу после аудиенции путешественник вынужден был отправиться обратно. Тем не менее, как мы только что видели, он сумел извлечь пользу даже из такого краткого визита. Пользуясь благоволением султана Борну и великого визиря, удостоившего доктора своей дружбой, Барт устроил в Кукаве штаб-квартиру и стал совершать оттуда далекие радиальные походы по округе. Из каждого похода он возвращался в Кукаву, а затем вновь отправлялся в путь в поисках новых впечатлений и сведений. Между прочим, Барт решил посетить Багирми, хотя в те времена это было очень опасно и рискованно. 4 марта 1852 года он пустился в дорогу. По-прежнему без средств, борясь с нищетой, лихорадкой, тяготами пути, одолевая бесчисленное множество опасностей и препятствий, 17 числа того же месяца он добрался до Багирми, где не бывал ни один европеец. Сразу же по прибытии Барт попал под подозрение властей и жителей: в стране шла война. Путешественнику запретили входить в деревни; без разрешения властей он не мог следовать дальше — короче говоря, его интернировали. К счастью, он встретился с любезным старцем Бу-Бакр Садиком, который принял путешественника как нельзя лучше. Раздосадованный тем, что посланный к правителю человек не возвращается, Барт решил отправиться дальше и углубился в густые джунгли, надеясь выйти через них к реке Шари. У выхода из леса Генриха поджидали посланцы правителя, которые окружили доктора и дальше не пустили. Слова, протесты оказались бесполезными. Люди правителя грубо схватили Барта и заковали в кандалы. У путешественника отняли оружие, часы, бумаги, компас, лошадь, заперли в сарае и приставили двух часовых. Более того: приходилось выслушивать от этих фаталистов нравоучения, что все, дескать, от Бога и надобно покориться! Мучения продолжались четыре дня. Затем Барта освободил старый друг Бу-Бакр Садик: кипя от гнева, он прискакал за доктором на коне, заставил людей правителя Адамавы немедленно снять оковы и возвратить отнятое. Через два дня Барт без помех прибыл в Масенью, столицу Багирми. Она, как и вся страна, была пустынна: правитель уехал на войну, а с ним и двор; в городе никого не осталось. Все же доктору посчастливилось найти человека, общество которого стало для Генриха неоценимым. «Факи-Самбо, — рассказывает Барт, — высокий и худой, с редкой бородкой и выразительным лицом, был слепцом, но оказался не только знатоком арабской литературы всевозможного содержания — он читал и Аристотеля с Платоном. Я никогда не забуду, как застал его дома рядом с ворохом рукописей: теперь он мог лишь перебирать их листы… Сверх того, Факи-Самбо обладал глубоким знанием страны, в которой жил. Предки его, по национальности фульбе, переселились в Вадаи, а отец (автор ученого труда о народе хауса) отправил сына учиться в Египет, в медресе[318] Аль-Ахзар. Факи-Самбо пробыл там много лет, затем жил в Дарфуре, а потом вместе с одним караваном отправился на Нигер и вернулся на родину. В Вадаи он был важной особой, но после был оттуда изгнан. Он часто говорил мне о славных временах Халифата, о блеске, сиявшем от Багдада до далекой Андалусии; история и литература тех времен были для него родными. Мы пили кофе, напоминавший ему молодость, причем он непременно прикладывал чашечку по очереди к обоим вискам». Много раз объявляли, что султан возвращается, и много раз слух оказывался ложным. Наконец государь появился у стен города в сопровождении многочисленной конной свиты — огромного кортежа, блиставшего варварской роскошью, пестрой толпы разноцветных бурнусов. Сам султан в желтом бурнусе ехал впереди. Рабы с железными кандалами на правой руке прикрывали монарха двумя зонтами и обмахивали прикрепленными к длинным шестам страусиными перьями. Далее следовали высокие должностные лица государства, затем — оркестр: литаврщик на верблюде, флейтисты и трубачи. Далее на прекрасных лошадях ехали сорок пять султанских фавориток, закутанных в черное, — каждая в сопровождении двух рабов. Наконец, для вящего блеска триумфальной процессии, провели семерых побежденных вождей. Один из них, человек величественного вида, правивший большим племенем, вызвал общую симпатию спокойным видом и улыбкой. Все в толпе знали, что пленных вождей по обычаю убивают или, еще того хуже, предают на поношение сералю[319], после чего гнусным образом калечат. Час спустя султан передал Барту, что не знал о страданиях, перенесенных доктором, и в доказательство благорасположения прислал барана, масло и зерно. Это было 6 июля. Вечером Барт получил наконец депеши из Лондона, где находилось разрешение продолжать экспедицию и необходимые для выполнения задачи средства. В нищете и беспокойстве прошло пятнадцать месяцев! Получил он и самое приятное вознаграждение, какое существует для путешественника, — множество частных писем с высокой оценкой своих трудов. На следующий день султан дал доктору приватную аудиенцию. Государь явил к путешественнику благожелательство и с удовольствием принял дары. Затем, поскольку полученные инструкции звали Барта в Кукаву, он сразу же испросил разрешения покинуть Багирми. Пять недель спустя Барт воротился в Кукаву. К сожалению, радость его длилась недолго: в экспедиции вновь случилось несчастье. В сентябре 1852 года умер Овервег, сраженный, как и Ричардсон, столь немилосердным к европейцам климатом. После этого Барт хотел только одного: уехать из гиблых мест как можно дальше. Ожидая из Лондона нового сотрудника, доктор решил отправиться далеко на запад: исследовать Нигер и посетить неизведанное пространство между дорогами, пройденными Кайе, и землями, в которых делали открытия Лендер[320] и Клаппертон[321]. Итак, 25 ноября он отправился из Кукавы, намереваясь достигнуть Томбукту[322]. Девятого декабря унылые равнины Борну закончились и начались плодородные округа хауса. 12 числа Барт направился на северо-северо-восток к провинции Муниго, оттуда — не прямо в Зиндер[323], а на запад, желая посетить Ушек — местность в западной части Борну, где больше всего выращивают пшеницы. Затем Генрих попал в Бадуими, где многочисленные ручьи орошают плодородные поля и сливаются в два озера, соединенные проливом. Но странное дело — хотя озера и соединяются, одно из них пресное, другое солоноватое; одно совершенно спокойно, как лазурное зеркало, второе зеленовато, как море, и, беспокойно вздымаясь, катит волны, вынося на берег множество морских водорослей. Чтобы попасть в Зиндер, путешественник избрал путь школяров или исследователей, что часто является одним и тем же. Барт прибыл в этот город, где его ожидали средства для продолжения пути. Драгоценный багаж был надежно укрыт за толстыми глинобитными стенами от чуть ли не ежедневно опустошающих город пожаров. Вид Зиндера необычен: в западной части, прямо посреди города, вздымается скальный массив, а от городских стен во все стороны расходятся каменистые гребни. Вследствие этого вокруг Зиндера находится множество источников, орошающих табачные поля и питающих необыкновенно богатую растительность. Купы финиковых пальм, поселки торгующих солью туарегов оживляют пейзаж. Визирь — друг прогресса — даже распорядился учредить нечто вроде ботанического сада. У Барта было две тысячи долларов, тщательно упрятанных в ящик с сахаром. Доктор накупил кое-каких вещей: белых, желтых и красных бурнусов, тюрбанов, гвоздики, четок, зеркал — и отправился в Кацину[324]. Он приехал туда 5 февраля 1853 года. Правитель Кацины с явным удовольствием получил бурнус, кафтан и две головы сахара, а больше всего понравились два пистолета. Он постоянно носил их с собой и, словно старый ребенок, забавлялся тем, что поджигал пистонами бороды всем, кто к нему приближался. Двадцать первого марта под охраной чиновника, посланного собирать налоги, Барт отправился в Сокото. Мало-помалу они приблизились к границе мусульманских и языческих земель. Не стало видно засеянных полей; унылый вид брошенных городов говорил, что здесь прошла война. Алию, эмир Сокото, повел войска на людей Гобира. Это не прошло без следа и для жителей: воины здесь, не имея интендантской службы, живут обыкновенно за счет земель, через которые идет армия, и, подобно саранче, пожирают все под корень. Тридцать первого марта Барт считал одним из самых страшных дней за все время путешествий. Отряд оказался перед пустыней Гундуми[325]. Ее можно преодолеть только форсированным маршем, таким долгим, тяжким и изнурительным, что даже туареги, при всей баснословной выносливости, боятся пустыни. Лишь через тридцать часов ужасного, нечеловеческого напряжения обессиленная экспедиция, умирая от усталости и жажды, подошла к другому краю Гундуми. Многие были больны, а жена одного из проводников умерла. В тот же день Барту посчастливилось: мимо с войском проходил эмир Алию. Хотя доктор буквально валился с ног, он поспешно отобрал и отослал в подарок государю, от которого целиком зависел успех экспедиции к Нигеру, все самое ценное из своих товаров. На другой день время в ожидании ответа тянулось медленно. Когда Барт начал отчаиваться, правитель прислал Генриху быка, четырех баранов, двести килограммов риса и на словах передал, что ожидает визита доктора. Алию пожал путешественнику руки, дружески усадил и спросил, чем может быть полезен. Барт попросил покровительства в пути до Томбукту и охранную грамоту на жизнь и имущество любых англичан, которые когда-либо посетят владения эмира. Алию, благосклонно приняв обе просьбы, заверил, что думает лишь о благе человечества и, следовательно, не имеет иных желаний, как сблизить народы. На другой день Барт прислал монарху еще столько же подарков и один, без эмира, отправился в Нурно. Алию прислал путешественнику вслед сто тысяч каури на все расходы во время путешествия и охранную грамоту. Эмир отправился на войну, а Барт тем временем на досуге исследовал окрестности, добираясь иногда до самого Сокото. Город оказался заброшенным; лишь тонкой ниточкой текла нездоровая вода, которую людям приходилось пить. Барт заметил много слепых — следствие дурного воздуха и воды. Торговля там, правда, как и в большинстве суданских городов, довольно оживленная, но съестные припасы очень дороги. Барт вернулся в Нурно, куда эмир, покарав мятежников, торжественно въехал 23 апреля. Вообще люди здесь из года в год проводят время в непрестанных войнах. Поистине удивительно, что обширная область имеет довольно плотное население — каково оно бы было, если бы вдруг ненадолго оставил землю страшный бич войны! Еще две недели эмир, оказывая неизменное благорасположение, держал Барта при себе, а отпустил тогда, когда путешественник, сверх всяких пожеланий хозяина, подарил музыкальную шкатулку. Эмир был совершенно восхищен! Барт отправился в дорогу 8 мая. Славный эмир дал Генриху письмо к племяннику, эмиру Гандо. 17 мая доктор прибыл туда. В Гандо Барта гнусно обобрал некий мошенник, называвший себя «арабским консулом» и сумевший, благодаря слабости и плохому состоянию дел правителя, завоевать себе значительное влияние: знатный плут что хотел, то и творил! Пришлось буквально завалить проходимца подарками, чтобы он тоже дал грамоту с гарантией свободного прохода и с приказом чиновникам оказывать содействие. «Четвертого июня, — рассказывает Барт, — мы пересекаем долины Кеби[326], которые в сезон дождей становятся рисовыми чеками. В Камбаре[327] правитель присылает мне все необходимое для доброй суданской трапезы — от барашка до пирога и крупной соли. В Тальбе грохот барабанов возвещает о военных приготовлениях: рядом, в Даубе, засели мятежники, но каждый день с их земли пропадает какой-нибудь ремесленный поселок… Яра месяц назад была богатым селением с трудолюбивыми жителями — сейчас она пустынна; я пробираюсь через развалины, невольно держась за ружье. Но в этих плодородных краях жизнь и смерть держатся рядом! Забыв о руинах, мы с радостью видим рисовые поля под сенью прекрасных деревьев — главным образом делебов. В тени этих пальм сидит какой-то человек и преспокойно лакомится их плодами. Кто может путешествовать по таким местам в одиночку? Не иначе шпион? И мой араб, неизменно храбрый, когда нечего бояться, хочет убить одинокого путника. Мне едва удалось отговорить спутника. Звучат военные кличи, грохочут барабаны, но вдоль дороги непрерывно тянутся плантации хлопчатника и ямса, из-за оград видны кроны папайевых деревьев. Небо ясно, страна красива, хотя и обезлюдела из-за войны. Мы останавливаемся в Коле — столице правителя, располагающего семьюдесятью мушкетами. Здесь это важный человек, и его стоит посетить. Я разжился там жирным гусем (подарок от сестры правителя), таким образом, мой рацион получил ценную прибавку. …Десятого июня. Переход через большой лес, в котором во все стороны тянутся слоновьи тропы. Местность ровная, и по растительности ни за что не скажешь, что сразу за опушкой начинаются бесплодные земли». Через два дня Барт увидел блестящую водную гладь. Это Нигер! На другом берегу — город Сай. Нигер, все имена которого — Джолиба, Майо, Егирен, Ира, Куара, Баки-у-руа — означают не что иное, как река, в месте паромной переправы у Сая имеет в ширину не более семисот метров. Барт с волнением переправился через Нигер, поиски которого стоили стольких доблестных жизней, и вступил в город. Сай — квадратное укрепление со стороной около полутора километров — чересчур, надо сказать, просторное. За стенами разбросаны плетеные хижины, среди которых возвышается жилище правителя. С севера на юг через весь город тянется лощина, поросшая дикой редькой. В сезон дождей ее заливает водой, и тогда сообщение между двумя частями города прерывается, а климат становится чрезвычайно нездоров. Там растет мало злаков и мало овощей, хотя почва плодородна. «Однако, — замечает Барт, — едва Нигером, великим западноафриканским водным путем, начнут пользоваться, Сай станет самым важным пунктом на всем протяжении реки»[328]. Правитель принял Барта крайне недоверчиво: он никак не мог взять в толк, что доктор ничем не торгует. Сразу после аудиенции тот поспешно покинул Сай с его облаком болотных миазмов и поехал в Томбукту, избрав сухопутную дорогу, соединяющую два конца излучины Нигера наподобие тетивы. В Чампобавеле каравану пришлось без лодок, на плотах из камышовых вязанок, соединенных шестами, переправляться через глубокую реку. На другом берегу то и дело попадались следы буйволов и слонов. 12 июля караван прибыл в Дори[329], столицу Либтако. Дорогу на каждом шагу преграждали многочисленные речки и болота. Дикие буйволы во множестве встречались повсюду; видел Барт и очень редкую в Судане ядовитую муху, донимающую их. Все время лил проливной дождь, всюду стояла вода. Животные и люди проваливались в грязь так, что лишь с величайшим трудом их удавалось вытащить. Прежде доктор никогда не скрывал, что он христианин, но, попав в провинцию Далла, подчиненную фанатичному и жестокому правителю, который ни за что не пустил бы неверного на свою землю, выдал себя за арабского шерифа[330]. В конце концов ловкость, терпение, благоразумие и отвага помогли пройти опасную страну. 1 сентября на одной из боковых проток Нигера Генрих сел на корабль и поплыл в Томбукту. «Мы плывем по водной глади шириной метров сто, — пишет Барт. — Кругом столько водорослей, что мы словно скользим по луговине. Через четыре или пять километров мы входим в открытую воду, и наши лодки везут нас от поворота к повороту. Берега вокруг покрыты тамариндами, дроком, травами, на которых пасутся газели и коровы. Появились крокодилы — значит, большая вода недалеко; между тем протока, по которой мы плывем, имеет ширину не менее двухсот метров. Дивная поездка! Все люди и лошади плывут на корабле. Кругом бесчисленное множество пеликанов. Река петляет все больше, берега видны все ясней — нас притягивают огни. Мы останавливаемся в какой-то бухточке, вокруг которой разбросана деревушка. На берегу высится купа деревьев, у которых все ветви покрыты птицами. Плывем дальше. В черном небе встает луна, под которой блестят величавые волны реки; полыхают зарницы, внушающие спутникам благоговейный трепет. …На самом восходе солнца мы, переправившись через Нигер, входим в небольшую протоку, ведущую нас в Кабару — город, служащий аванпортом Томбукту, — а на другой день переваливаем через дюны, разделяющие оба города». Когда Барт достиг цели, он совсем обессилел, но тут-то ему и потребовались, как никогда, мужество и хладнокровие. Слух о том, что в городе появился христианин, опередил путешественника. Барт имел за собой поддержку шейха, однако из-за распри властей в Томбукту слово этого государя могло в любой момент лишиться веса, так что доктор не был в безопасности. Прошло какое-то время, и Барт действительно оказался вынужден временно покинуть город. Через два дня он смог вернуться туда — однако гражданские распри так усилились, что решительно стали угрожать путешественнику гибелью. Силой фульбе не смогли добиться от шейха его выдачи. Чтобы изгнать Барта во что бы то ни стало, они решили прибегнуть к хитрости. «Семнадцатого марта ночью, — сообщает путешественник, — старший брат шейха приказал бить в барабан, оседлал коня и велел мне с двумя слугами следовать за ним. Туареги — наши союзники — с боевым кличем колотят по щитам. Мы приезжаем к шейху, с которым находится многочисленный отряд. Я прошу его не проливать из-за меня кровь. Он обещает недовольным не пускать меня в город, и мы становимся лагерем в некотором отдалении». Барт оставался в Томбукту целых семь месяцев и в итоге был несколько разочарован, хотя и знал уже описание француза Рене Кайе, которое мы прочтем впоследствии. Дело в том, что Томбукту, как все далекое и таинственное, в нашем воображении вырос. Размеры города люди соотносят с его славой, а слава, к которой примешалось немного и легенды, превратила Томбукту в один из величайших городов Африки — богатейших и могущественнейших. Томбукту действительно сыграл в истории очень важную роль. Его торговое значение было велико, да и теперь еще не малое, однако неизвестное всегда кажется значительней того, что находишь в реальности… Город имеет в плане вид треугольника и был некогда окружен глинобитными стенами, ныне снесенными. Обойти кругом его можно за час. Но хотя он не так обширен, как другие большие города Восточного Судана, зато в нем нет больших пустырей и огородов — дома стоят тесней, а потому у Томбукту более городской вид. Да и в прочих отношениях он больше похож на северные мавританские города, чем остальные суданские столицы. Жилища, числом около тысячи, в большинстве построены из побеленной глины, многие имеют два этажа с террасами. Круглые хижины с коническими кровлями встречаются только на окраинах города и составляют его предместья. Вид города особенно своеобразен благодаря шести-семи мечетям, стройные минареты которых возвышаются над всеми домами. Город разделен на кварталы; улицы узки и извилисты. Число жителей Барт оценивает в двенадцать или тринадцать тысяч, а когда, с ноября по январь, в Томбукту приходят караваны, с ними является еще почти столько же мавританских купцов, туарегов с севера и негров с юга. Барт прибыл в Томбукту 27 августа 1853 года, был изгнан, содержался под надзором вне городских стен, потом снова заперт в городе с запрещением покидать его… Наконец в конце марта 1854 года путешественник смог беспрепятственно выехать из Томбукту. В сопровождении эскорта из двадцати человек он спустился по Нигеру до Сая. Обстановка ухудшалась — повсюду разгоралась война. Султан Асбена был свергнут, шейх Борну утратил власть, а великого визиря — друга Барта — удушили… Семнадцатого октября 1854 года Барт прибыл в Кано, где ждал писем, денег, новостей из Европы. Ничего! А он должен заплатить слугам, рассчитаться с долгами, уплатить по всем давно просроченным векселям. Доктор продал все, что у него оставалось, вплоть до револьвера, и сумел с присущей ему скрупулезной честностью рассчитаться со всеми. Здоровье Генриха, и до того расшатанное после перенесенного в путешествии, совсем ослабло. Животные от переутомления также все заболели. Верблюды и лошади Барта пали, в том числе благородный верный конь, три года деливший с ним все невзгоды. Воля путешественника и в этот раз победила все трудности. 24 ноября он выехал в Кукаву, где шейх Омар вернул себе власть. Там Барту пришлось пробыть еще четыре месяца. Весной он наконец отправился в путь на Феццан, в конце августа прибыл в Триполи, откуда отплыл на Мальту, потом — в Марсель, проехал через Париж и 6 ноября 1856 года прибыл в Лондон.
ГЛАВА 21
Анри Дювейрье. — Туареги. — Убийство Дурно-Дюперре. — Поль Солейе. — В. Ларжо. — Гибель экспедиции Флаттера.На последних страницах читатель нередко встречал имя туарегов. Итак, нелишне будет посвятить несколько строк этим кочевым племенам, не приемлющим нашей цивилизации, покамест неуязвимым для нашего оружия и представляющим собой главное (можно сказать — единственное) препятствие для нашего проникновения в Сахару. Это же позволит напомнить при случае о превосходных трудах нашего выдающегося путешественника, которыми по всей справедливости должна гордиться наша страна. Он много сделал для географической науки, и его имя вызывает живейшее сострадание и вместе с тем самое искреннее восхищение. Я имею в виду Анри Дювейрье[331], чья трагическая кончина только что потрясла нас. Блестяще закончив коллеж, давший юноше превосходное образование, Дювейрье почувствовал, что в нем проснуласьбеспокойная, неутомимая страсть к путешествиям. Это было в 1859 году — как видите, за тридцать три года до выхода этих строк в свет. Сейчас научные экспедиции вошли уже, можно сказать, в обиход — тогда они были далеко не столь частыми. Требовалось нечто большее, чем просто отвага, чтобы вот так, с легким сердцем, отправиться в совершенно не исследованную страну — не имея опыта научных экспедиций, без предварительных тренировок, почти без всяких сведений о тех местах, куда ты отправился. С великолепной самоуверенностью, присущей девятнадцатилетним, Дювейрье немедленно, без колебаний пустился в дерзкое предприятие. Никто еще не исследовал алжирскую и марокканскую Сахару. «Вот я и исследую», — сказал себе Дювейрье. И он сделал это насколько позволили обстоятельства, оказавшиеся сильнее воли и мужества самого отважного человека. Вначале Дювейрье постигла небольшая, совсем незначительная, неудача в области Туата. Далее путешественник сосредоточил исследования на Алжирской Сахаре от меридиана Алжира до меридиана Туниса[332] и даже значительно восточнее последнего. Посредством длительных, неустанных наблюдений, беспрестанных странствий по пустыне он самостоятельно добыл для нас множество точных, интересных и совершенно неизвестных дотоле сведений о жизни племен, населяющих в Великой пустыне пригодные для обитания места. До арабского нашествия в XI веке эти племена жили независимо по всей Северной Африке и составляли единый народ, называемый берберами[333]. Вторжение оттеснило берберов к югу. Одни из них укрылись в ущельях Джерджеры и труднодоступных частях алжирского Атласа, где и сейчас живут под именем кабилов. Другие, которых зовут теперь шлсхами, нашли убежище в Марокко и марокканской части Сахары. Третьи, наконец, углубились в пустыню и стали именоваться туарегами[334]. Еще недавно страна туарегов была на карте сплошным белым пятном. Сегодня она изучена во всех подробностях, которые полностью опрокидывают бытовавшее недавно представление об огромном пространстве, известном под общим названием «Сахара». Никто, конечно, не опроверг, что Сахара является пустыней — типичнейшим, эталонным, можно сказать, образцом для всего пояса бесплодных земель, простирающихся через весь Старый Свет от Атлантики до внутренних областей Тартарии[335]. Но она оказалась не такой уж однообразной и голой — не той обширной безводной равниной, повсюду, подобно пляжу, покрытой песком, которую с таинственным ужасом рисовало себе воображение. Бесчисленные русла пересыхающих речек, многочисленные озера, источники, цепи высоких гор, увенчанных крутыми пиками, снежные шапки, по нескольку месяцев не сходящие с этих вершин, — вот каков вид пустыни в действительности. И лишь по временам встречаются нескончаемые равнины, покрытые движущимися песками… Посреди своеобразной и не слишком-то приветливой природы живут туареги — искусные грабители, убийцы по инстинкту, поднявшие разбой до степени общественного порядка. Это люди высокорослые, хорошо сложенные, сухопарые, жилистые, не знающие усталости; под загорелой кожей рельефно выступают мускулы. Именно загорелой: в детстве кожа у берберов совершенно белая, и лишь солнце придает ей бронзовый оттенок, свойственный жителям жаркого пояса. Женщины — тоже высокорослые, с горделивой осанкой — по большей части красивы, но той грубой, звериной, так сказать, красотой, которой недостает женственности, того божественного духа, что образует настоящую женщину. Между тем лицом они гораздо более похожи на европейских женщин, чем на арабских. Скажем еще, что туарега можно узнать среди тысяч людей по походке: важной, медленной, твердой, широкой поступи с высоко поднятой головой. Говоря прозаически, она подобна отчасти походке верблюда или страуса, а происходит, как говорят хорошо осведомленные люди, от привычки постоянно носить копье. У всех туарегов — и благородных, и слуг — одно и то же одеяние, своего рода форма: более или менее богатая, блестящая, но совершенно похожая. Она состоит из длинной рубахи с рукавами и белого полотняного плаща. Вместо рубахи иногда надевают блузу, также полотняную. Под плащом — широкие штаны, напоминающие штаны древних галлов[336], а верхней одеждой служит длинная блуза, украшенная вышивкой. На голове носят красную тунисскую шапочку с шелковой кисточкой[337], на ногах — большие толстые сандалии с ремешками. Но самая характерная деталь туарегской одежды — литам, накидка, закрывающая всю голову, лицо и шею, так что видны только глаза, да и над ними, как некое забрало, висит широкая складка материи. Литам все туареги носят постоянно, не расставаясь с ним ни в дороге, ни на отдыхе, ни во время сна. Трудно объяснить причину и обнаружить происхождение подобного обычая. Говорят, будто литам носят из гигиенических соображений: он предохраняет глаза от солнца, ноздри и бороду — от неосязаемой песчаной пыли, поддерживает постоянную влажность в отверстиях дыхательных путей. Но если принять такое исключительно гигиеническое объяснение — почему тогда литама не носят женщины? Почему мужчины не освобождаются от стесняющей движения одежды ночью, на отдыхе, когда ни солнца, ни пыли, ни горячего сухого воздуха нет? Как бы то ни было, для туарега совершенно невозможно и неприлично раскрыться перед кем бы то ни было — разве что в интимных обстоятельствах или по просьбе врача для осмотра. Женская одежда еще проще мужской. Она состоит из одной, двух или трех хлопчатобумажных блуз, стянутых вокруг талии красным шерстяным поясом. Поверх блуз туарегские женщины на мусульманский манер завертываются с головы до пят в кусок шерстяной ткани — белой, красной или полосатой красно-белой, — волосы укладывают косами вокруг головы и покрывают матерчатой повязкой — кто богатой, кто бедной. Обувь такая же, как у мужчин, только более легкая и лучше украшенная. Странное дело: женщина-туарег пользуется большим уважением, если у нее много друзей среди мужчин, но если она хочет сохранить доброе имя, то не должна никому отдавать предпочтения. Если у женщины только один друг, ее сочтут развратной и станут указывать пальцем. Более того, здешние нравы дозволяют отношения между мужчинами и женщинами, несколько напоминающие предания средневекового рыцарства. Так, женщина может вышить на покрывале или написать на щите кавалера похвалу либо пожелание удачи, а кавалер — высечь имя возлюбленной на скале, воспевать ее красоту и добродетели, и никто в этом не увидит ничего дурного. К тому же северные туареги сохранили в целости некоторые добродетели, свойственные их народу и описанные еще шестьсот лет тому назад одним беспристрастным историком, которого они сами, как араба, считают врагом. Верность слову у туарегов такова, что добиться от них обещания чрезвычайно трудно, а обещать им что бы то ни было — опасно: свои обещания они выполняют скрупулезно, но такой же щепетильности требуют и от других. Обычное правило туарегов — обещать вдвое меньше, чем возможно, чтобы никто не упрекнул их в вероломстве. Храбрость туземцев вошла в пословицу. Вопреки всем слухам, они не отравляют ни стрел, ни копий. Огнестрельное оружие туареги презирают и называют предательским, потому что человек, засев в кустах, может убить противника, не подвергаясь никакой опасности. Но их важнейшая добродетель, возведенная в ранг религии, — защита гостей и клиентов. Если бы не это, торговля через Сахару была бы невозможна. Дело в том, что Великую пустыню часто бороздят караваны арабов, перевозящие товары с севера на юг и обратно. Эти арабы заключают с туарегами — исконными жителями пустыни — договоры, по которым хозяева обязуются за известную плату пропускать их, а при случае оказывать помощь и покровительство. В целом из материалов Дювейрье вытекает, что отношение арабов и туарегов к иноземцам было если не дружественным, то, по крайней мере, неагрессивным. К несчастью, подобные отношения в высшей степени обострились после восстания 1871 года и в ходе последовавших за ним репрессий. Кочевники стали враждебнее относиться к христианам, особенно к французам, чем и следует, думается, объяснить смерть двух наших соотечественников, Дурно-Дюперре и Жубера, убитых в 1874 году. Дурно-Дюперре был молодой путешественник — умный, благородный, энергичный, а главное — многообещающий. Французу исполнилось только двадцать девять лет, когда он задумал смелый патриотический проект, состоявший преимущественно в дальнейшем исследовании Сахары. Дурно-Дюперре напечатал записку о нем в «Бюллетене Географического общества» и показал, сколь важно было бы в интересах как политики, так и науки расширить наши отношения с соседними племенами Алжирской Сахары. Из всех возможных путей он предлагал избрать, как обещающий доставить более всего полезных результатов, путь из Туггурта в Гадамес, далее мимо Гата на запад к Иделесу в области Ахаггар, а оттуда к Томбукту. Торговая палата Алжира и министерство торговли, одобрив проект, проголосовали за субсидию, и Дурно-Дюперре начал готовиться к путешествию, маршрут которого так хорошо наметил. Он отправился из города Алжира в 1873 году вместе с господином Жубером, поселившимся в Туггурте. В марте 1874 года спутники оказались в Гадамесе, намереваясь ехать через пустыню, однако им пришлось ждать: они узнали, что дорога на Гат стала опасной. Вновь вспыхнули старые распри между туземцами; дальше надлежало идти вперед с чрезвычайной осторожностью и сделать большой крюк, чтобы на каком-то из обычных караванных путей в Гат не угодить в засаду. Дурно-Дюперре составил маленький отряд из туарегов дружественного Франции племени ифога, вождь которого Си-Отман в 1862 году приезжал в Париж. Один из этих четверых, некто Клас, нареченный наследник Си-Отмана, ставший впоследствии его преемником, уговорил путешественника отказаться от первоначального плана попасть в Иделес через Темассинин[338], несмотря на важность этого пункта, через который проходят дороги в Алжир, Туат, Айн-Салах, Ахаггар, землю аджеров[339] и Феццан. Клас прекрасно знал, что эту область беспокоят нашествия немирных арабов, не сложивших оружия после восстания 1870 года, борьба окрестных племен за преобладание, наконец, набеги туатинцев и феццанцев друг на друга. Следуя его мудрым советам, Дурно-Дюперре должен был избежать встреч и с племенем шамбаа[340], предводимым нашим смертельным врагом Мохаммедом бен Абдаллахом, мятежным шерифом Уарглы, и с людьми из Туата, где враги Франции подчинялись Бу-Шуше и брату уарглинского шерифа Си-Саиду бен Идрису. Дурно-Дюперре решил, что сможет избежать опасностей, сделав большой крюк через Феццан, то есть зависимые от Триполитании сахарские территории. И действительно, там он мог в известной мере рассчитывать на поддержку туарегов, заключивших в 1862 году с Францией соглашение в Гадамесе, и на содействие могущественного вождя аджеров, без разрешения которого нельзя было обогнуть опасное место, — того самого Ишнушена, который некогда милостиво отнесся к мадемуазель Тинне. Кроме упомянутых четырех туарегов, Дурно-Дюперре и Жубер взяли в отряд еще несколько рекомендованных им людей, и между прочим — некоего Насера бен Тахара, служившего проводником у господина Анри Дювейрье и досконально знавшего политическую обстановку в Сахаре. Может быть, он стоял перед выбором между союзом с Францией и пособничеством ее врагам; может быть, уступил влиянию, которое по временам оказывают на верных сторонников ислама религиозные фанатики; может быть, наконец, раскаялся, что не пограбил вдоволь Дювейрье. Так или иначе, сначала Насер скрыл намерения; до самого Гадамеса казалось, что он твердо решил сопровождать путешественников до конца. Однако по прибытии в Гадамес араб сразу сбросил маску и заявил, что из Гадамеса в Гат невозможно пройти, если не заплатить находившемуся в тех местах отряду туарегов-хоггаров[341] шесть тысяч франков дорожной пошлины. Это требование показалось Дурно-Дюперре непомерным. Он, естественно, отказался его принять, заподозрил араба в сговоре с туарегами и решил уволить. Произошла довольно бурная сцена, в которой принял участие и господин Жубер, причем Насер выказывал желание уступить, ведя себя по отношению к Жуберу гораздо сдержаннее. Французы не могли понять, с чем это связано; во всяком случае, их подозрения в нечестности проводника лишь усилились. Чтобы вывести араба на чистую воду, они прибегли к хитрости. Жубер притворился, будто поссорился с другом, пошел в Насеру и объявил ему, что Дурно якобы решил вернуться, сам он хотел бы продолжить экспедицию. Жубер таким поведением товарища очень возмущался и раскаивался, что в споре с Насером держал его сторону. Араб попался на удочку: он взялся доставить Жубера в Гат целым, невредимым и без всякой пошлины. Каковы бы ни были мотивы вражды араба к Дурно-Дюперре и симпатии к Жуберу, но дурные намерения араба стали очевидны. Дурно-Дюперре попросил Жубера изложить свой разговор с Насером письменно, отнес этот документ к каймакаму[342] Гадамеса и потребовал арестовать проводника. Затем французы решили, что опасаться больше нечего, и собрались в путь, хотя каймакам всячески их удерживал. В конце концов он потребовал, чтобы Дурно-Дюперре, по крайней мере, оставил расписку о принятом решении, чтобы снять с каймакама ответственность за возможное несчастье. Проводника каймакам рассудил за благо оставить в тюрьме, чтобы в случае гибели путешественников отправить в Триполи в распоряжение нашего консула. То ли Насер еще раньше снесся с врагами Франции, то ли ему уже из гадамесской тюрьмы удалось обратиться к ним и призвать к мести — только все были уверены, что он причастен к гибели несчастных путешественников. Вот при каких обстоятельствах свершилось это преступление. 14 апреля 1874 года маленький караван — Дурно-Дюперре, Жубер и их слуга Ахмед бен Зерба — верхом на верблюдах отправился из Гадамеса. Среди погонщиков находился араб по имени Насамр, который стал свидетелем событий и рассказал о них. Когда экспедиция отошла от Гадамеса уже на семь дней пути, около полудня ей повстречались семеро довольно подозрительных оборванцев. Караван приготовился к обороне и вступил в переговоры. Незнакомцы объявили, что родом они из племени шамбаа, сбились с пути, умирают от голода и хотели бы добраться до Гата. Отвечали они уверенно, без раздумий. Доверившись словам туарегов, путешественники отбросили первые предубеждения: гостеприимно приняли встречных к себе в караван, накормили и дальше отправились вместе. Вдруг, в тот момент когда французы менее всего ожидали нападения, разбойники предательски набросились на Дурно-Дюперре, Жубера и их слугу, изрешетили пулями и ограбили. Верблюжьих погонщиков убийцы не тронули — с ними они, конечно, были в сговоре. Шамбаа выпотрошили багаж, все забрав себе (кроме нескольких напечатанных европейскими буквами книг), чтобы выгодно продать туарегам-хоггарам. Нападение, несомненно, было заранее задумано и спланировано, избежать его караван не мог: ведь в момент убийства за путешественниками следовало с десяток туарегов-хоггаров, отделившихся от отряда, только что совершившего набег на Гадамес. Убийцы тут же направились к ним и доложили, что дело сделано. Некоторое время спустя из Триполи прибыл курьер, который вез несчастным путешественникам письмо из Парижского географического общества. Он увидел трупы, повернул назад и помчался поднять тревогу в Гадамесе. Затем возвратился в город погонщик верблюдов Насамр, доставивший более подробные сведения о мрачной драме. Он узнал, что убийцы были шамбаа — грабители самого худшего сорта, а в том, что туареги-хоггары были с ними заодно, никто и не сомневался. Почти в то же время Поль Солейе — еще один француз, смолоду проявивший темперамент истинного путешественника, — также отправился разыскивать путь к югу, на котором полегло столько жертв. Солейе имел все необходимое для успеха. Это был человек оригинальный, отважный, предприимчивый, терпеливый и вместе с тем энергичный. Будучи охвачен страстью к географическим открытиям, обладая непоколебимой верой, а также драгоценным даром внушать туземцам симпатию и уважение, он был человеком, вполне способным решить задачу, если бы обстоятельства хоть сколько-нибудь ему благоприятствовали. Совершив три плодотворных путешествия в нашу африканскую колонию, Поль Солейе в 1872 году посетил оазисы Алжирской Сахары, горы Ксур[343], священный город Айн-Мади, Мзаб и земли шамбаа. Нигде он не встречал отпора — ведь если когда-либо избирался образ действий, прямо противоположный военному походу или даже крупной экспедиции, организованной на военный лад, то, конечно, таков был поход Солейе. Он просто шел пешком в арабской одежде, с тремя-четырьмя людьми и двумя-тремя вьючными верблюдами — без лишней рекламы и помпы… Солейе просил гостеприимства, на которое имеет право любой путник, в котором араб никогда не откажет, — и возникала симпатия, весьма удивлявшая господ начальников наших колониальных контор. Солейе стал третьим европейцем и первым французом, сумевшим достичь Айн-Салаха. Первым, в 1826 году, был английский майор Лэйн, вторым, в 1864 году, немецкий путешественник Герхард Рольфс. Путешествуя в страну шамбаа, Солейе обеспечил себе сотрудничество туземцев — этого не мог, не умел и, может быть, не хотел никто до него. Кроме того, он убедился, что частный человек — не офицер и не чиновник — вполне может, будучи христианином и французом, путешествовать по Сахаре, если только станет соблюдать местные обычаи. По возвращении в Алжир Поль Солейе предложил Торговой палате разведать дорогу в оазис Айн-Салах через Лагуат и Эль-Голеа. Кроме того, он надеялся пройти из Айн-Салаха в Томбукту и достичь Сенегала. Его проект одобрили; Солейе отправился в путь и без затруднений пришел в Лагуат, а затем в Эль-Голеа. Но добраться до Айн-Салаха оказалось сложнее. Этот город, самый значительный в оазисе Туат[344], расположен почти на равном расстоянии от Томбукту, Триполи, Могадора[345] и Алжира, вследствие чего станет, конечно, в будущем играть важную роль. Впрочем, этот оазис уже давно должен был попасть под прямое и непосредственное влияние Франции. Подумать только: еще в 1857 году под глубоким впечатлением наших побед Айн-Салах послал уполномоченных в Алжир с поручением вручить дань и признать главенство Франции, хотя и на условии сохранения местной автономии, но неожиданный подарок не приняли! Что сказать о глупости правительства, неспособного понять, что наше влияние могло быть сразу же перенесено на полдороге к Томбукту, что одним росчерком пера мы передвинули бы нашу алжирскую границу к 30° широты! С тех пор арабы убедились, что мы хотим завоевать Сахару, и стали потихоньку поглядывать в сторону Марокко. В 1861 году два французских офицера в военной форме производили в этих краях рекогносцировку — вполне, впрочем, мирную. Тогда жители Айн-Салаха, опасаясь возможности французской оккупации, обратились за поддержкой к султану Марокко, которого прежде признали своим духовным главой. Между тем считалось, что над Айн-Салахом установлен французский протекторат (как теперь над Тунисом). Вот почему тринадцать лет спустя Солейе думал попасть туда беспрепятственно — и неожиданно узнал, что эмир запретил въезд в Айн-Салах. У Солейе хватило терпения и упорства в конце концов преодолеть препятствие. Однако его людям намекнули, что лучше бы им из оазиса убраться. Не желая ничего слушать, они в паническом ужасе разбежались, и главе экспедиции тоже пришлось вернуться восвояси. Путешествие все же не осталось бесплодным. Солейе разведал путь из города Алжира в Айн-Салах — чего оккупационным войскам никогда не удавалось сделать — и вынес глубокую уверенность в возможности провести железную дорогу хотя бы через часть Сахары, которую он посетил. Подобно первым двум, еще один француз потерпел неудачу, отыскивая путь на юг, хотя и не столь трагическую, как Дурно-Дюперре. Это был Виктор Ларжо. Он, как и Солейе, был из тех путешественников, что обладают крепкой верой в себя, выдержкой, горячим патриотизмом и не падают духом. Первое путешествие Ларжо предпринял в 1874 году, располагая очень скромными средствами, собранными по подписке в Париже, Женеве, Лионе, Марселе и Алжире. Он не получил столь внушительной суммы, которые стали наконец-то предоставлять исследователям в наши дни. Но ему посчастливилось встретить в Туггурте агу[346] Мохаммеда бен Дриса, энергичная помощь которого стала для Ларжо наисущественнейшей поддержкой. Именно туггуртский ага дал нашему соотечественнику хороших проводников и добрые рекомендации к племенным вождям Сахары. Сначала Ларжо в сопровождении всего трех местных жителей прошел вверх по высохшему руслу реки Игаргар (древний Гейр[347] Птолемея[348]), которая ранее впадала, вероятно, в залив Тритон[349]. Ларжо предполагал вослед редкостно удачной попытке Солейе направиться прямо в Айн-Салах. Но фанатики из тайных обществ все время скрытно обрабатывали население — и оно взбунтовалось. Идти дальше по этой дороге, и без того снискавшей дурную славу, становилось небезопасно. Ларжо все понял, и французу хватило благоразумия не настаивать на своем. Не без колебаний, но он признал свой план невыполнимым (по крайней мере временно) и отказался от него. По прибытии в Гадамес Ларжо был благосклонно принят турецким губернатором, который свел Виктора с крупнейшими местными негоциантами. Ларжо воспользовался неожиданным обстоятельством и подписал с главными деятелями оптовой торговли в Гадамесе торговый договор, вследствие которого наши алжирские колонисты должны были получить наилучший путь в Судан. Едва успев приехать во Францию, отважный путешественник, не знавший усталости и преодолевавший все препятствия, стал собирать деньги для организации новой экспедиции. В кармане у Виктора лежал торговый договор, по которому исследователь имел право привезти с собой ученых, а главное — коммерсантов. Ларжо рассчитывал, что при таких условиях коммерсанты откликнутся на призыв и поедут вместе с ним искать путь, который обещает стать исключительно выгодным. Это оказалось элементарной ошибкой. Исследователи всегда простодушно таскали из огня каштаны для господ негоциантов, и можно предположить, что еще долго (наверное, пока существуют каштаны) таскать их из огня будут ученые, а кушать — другие люди. В конце концов спутниками господина Ларжо стали отважный молодой человек, блестящий флотский офицер Луи Сэй, и превосходнейший литератор Гастон Леме, журналист с весьма почтенным положением. Девятого ноября 1875 года экспедиция отправилась в путь, а 24 декабря покинула Туггурт, где ага Мохаммед дал Ларжо письма и подарки для самых важных персон Гадамеса. От Туггурта до Гадамеса шли весело. Спутники Ларжо были не из тех людей, которые падают духом, особенно Гастон Леме: сугубо галльский склад ума придавал особое своеобразие замечательной эрудиции литератора. Кое-как они приспособились к варварской кухне, зверски сдобренной жгучими пряностями, вызывавшими жажду, которую еле-еле утоляла вода — ни дать ни взять какая-то тошнотворная щелочь. Наши путешественники хохотали до упаду над неповторимой наивностью, которая только увеличивалась, оттого что хозяева произносили изречения с истинно мусульманской важностью. Как-то раз Ларжо сказал, что море покрывает две трети земного шара. Один из присутствующих с поспешностью человека, которому не терпится вставить глупость, тут же воскликнул: «Значит, после кончины Пророка выпало ужасно много воды! В Коране я читал, что тогда море занимало лишь одну треть». Другой арабский вождь уверял господина Сэя, что земля держится на рогах быка, стоящего на огромном камне, который лежит на спине огромной рыбы… Читатель может представить себе, каким потоком лился хохот трех французов, когда они выслушивали изъяснения причудливой, бессмысленной космологии![350] Впрочем, незнание астрономии не мешало местным жителям очень справедливо рассуждать на сельскохозяйственные темы и на опыте приспособлять сорта различных культур к разнообразию почв на окрестных землях. Первые артезианские колодцы прямо-таки потрясли арабов вопреки их обычной флегматичности. Артезианский колодец в Африке — жизнь, бьющая ключом из высохшей земли, это сок — кровь растений, — текущий полной струей и оживляющий унылые пустынные местности. Вот неотразимое (хотя и бывшее долго в пренебрежении) средство проникнуть в те места! Ведь жители пустыни отдали бы все на свете за эти источники — такие свежие, животворные, обильные, возникающие по указке наших инженеров. Инженеры были готовы всеми средствами способствовать строительству колодцев между Туггуртом и Гадамесом, и это оказался бы самый верный способ подчинить французскому влиянию все страны от Алжира до Сенегала. Почему подобного доныне не сделано? Почему не отмечен цепью колодцев, как вехами, путь, который должен полностью принадлежать нам? Ларжо со спутниками прибыли в Гадамес 5 января 1876 года и оказали городу важную услугу — участвовали в военной экспедиции против бандитов, нападавших на караваны. Несмотря на это, путешественников встретили равнодушно и неблагодарно. 21 января они были вынуждены отправиться в обратный путь, убедившись в непригодности города как опорного пункта для караванов из Алжира в Судан. После неудачи господин Ларжо не счел себя побежденным. В том же 1876 году он снова отправился в Сахару, намереваясь посетить оазис Айн-Салах и, если позволят обстоятельства, исследовать загадочный массив Ахаггар. На этот раз господину Ларжо помогало правительство. Он посетил бассейн уэда Гир[351], где пришлось надолго задержаться. Пользуясь задержкой, наш соотечественник произвел любопытнейшие археологические раскопки. Наконец 11 апреля, когда он уже собирался в Айн-Салах, к нему явились оттуда посланники и объявили, что султан Марокко запретил жителям этого оазиса принимать у себя христиан, а туареги и шаона гонятся за экспедицией. Ларжо пришлось спешно возвращаться другой дорогой. Нечеловеческие усилия вновь увенчались горьким разочарованием. Одновременно Луи Сэй в сопровождении господ Кайоля и Фурро направился к югу от Уарглы и добрался до оазиса Темассинин, пройдя в виду мятежных шамбаа, — дерзкое предприятие могло стоить французам жизни. К счастью, их сопровождало несколько наших союзников, и Сэй в полном здравии возвратился в Алжир, добавив свое имя к перечню европейцев, отторгнутых Сахарой. Эти путешественники все хотя бы остались в живых — пустыня была к ним сравнительно милостива. Но вот еще экспедиция, которая погибла и память о которой для французов будет всегда горька. Я имею в виду экспедицию Флаттера. Выдвинутая инженером Дюпоншелем и Полем Солейе мысль о строительстве большой железной дороги через всю Сахару до Сенегала или до Томбукту распространялась все шире и принималась общественным мнением все благосклоннее. Наконец в 1878 году господин де Фрейсине, бывший тогда министром общественных работ, созвал комиссию для изучения данного вопроса. Были предложены две трассы. Западная, начинавшаяся в Мешерии (провинция Оран), изучалась господином Пуйаном, восточная — двумя самостоятельными миссиями: господина Шуази и полковника Флаттера. Господин Пуйан не смог пройти дальше Тиу, в четырехстах шестидесяти километрах от побережья. Поль Солейе, в то же самое время предпринявший самостоятельную экспедицию из Сан-Луи в Сенегале до Томбукту, был арестован и ограблен в Адраре, но экспедиция Галиени была удачливей — она дошла до Бамако и водрузила французский флаг на берегу Нигера. Экспедиция Шуази, вышедшая 17 января 1880 года из Лагуата, к 16 апреля прошла около тысячи двухсот пятидесяти километров и достигла Бискры[352]. Дорогу Уаргла — Бискра признали во многих отношениях более удобной и рекомендовали для первой очереди будущей железной дороги. Миссия Флаттера 31 января вышла из Бискры. Предполагалось, что она вступит в земли туарегов, посетит себху[353] в Амагдоре, достигнет страны Аир и далее реки Нигер. Полковник избрал помощниками капитанов Массона и Бернара, младших лейтенантов Ле Шателье и Бросслара, статс-инженера Беренже, горного инженера господина Роша, доктора Гиара и других. Экспедиция, состоявшая из десяти человек штаба и девяноста пяти человек охраны, была превосходно организована, люди хорошо подобраны. Без больших задержек прибыв в Уарглу, она уже в марте смогла выступить в поход. Экспедиция прошла через барханы, после перехода в двести двадцать километров достигла болота Айн-Тайба, пересекла оазис Темассинин. В пути французы, насколько было возможно, завязывали отношения с туарегами и производили самые различные наблюдения. 16 апреля экспедиция прибыла к озеру Менгуг в ста двадцати километрах от Гата. Аджерские туареги за три тысячи франков, восемь ружей и еще кое-какие подарки приняли у себя миссию. Однако их правитель, старый марабут[354] Хадж-Ишнушен, чье разрешение все больше и больше становилось необходимым, счел долгом послать отчеты Флаттера на рассмотрение турецкого правительства в Триполи. Переговоры угрожали затянуться, и встал вопрос: а если экспедиция, простояв несколько месяцев на берегу Менгуга, в конце концов получит категорический отказ следовать дальше? Между тем к лагерю Флаттера каждый день подходило какое-нибудь новое племя и разбивало стан невдалеке — не столько для того, чтобы оказать почести, сколько для вымогательства подарков. В таких обстоятельствах элементарнейшее благоразумие требовало отправиться обратно в Алжир. Однажды рано утром Флаттер снял лагерь. Увидев, что никого нет, туареги от неожиданности всполошились. Они ожидали приказа от вождей, но вожди тоже пропали — Флаттер предвидел возможность нападения и очень ловко сумел купить их нейтралитет. Князьки удалились в пустыню, получив хорошие подарки. Подданные сочли это предательством. Двадцать первого мая миссия возвратилась в Уарглу. Флаттер поехал во Францию, чтобы представить отчет о полученных результатах и по новым инструкциям подготовить второй, решающий поход. Комиссия по Транссахарской магистрали одобрила первые результаты и пришла к такому заключению: необходимо следовать центральным направлением через Амгид, Тахохаит и Хоггар, обеспечив содействие туарегов. В октябре 1880 года Флаттер, снабженный инструкциями, вновь покинул Францию. Сбор экспедиции состоялся в Лагуате. В ней было девяносто два человека, три лошади, девяносто два верховых верблюда и сто восемнадцать вьючных: Флаттер был главой миссии; с ним следовали капитан Массон, инженеры Беренже, Рош и Сантен, лейтенант де Диану, доктор Гиар, унтер-офицеры Деннри и Побеген, солдат Луи Брам, семь проводников из племени шамбаа и марабут из мусульманского ордена теджана[355]. Перед отъездом полковник Флаттер получил от Ахитарена, вождя туарегов-хоггар, три письма, не суливших ничего хорошего. Письма от Ишнушена — эмира аджерских туарегов — были довольно обнадеживающими. Французский консул в Триполи между тем дал знать, что предвидит катастрофу, но Флаттер пренебрег предупреждением. Он выехал из Лагуата 24 ноября 1880 года, из Уарглы 4 декабря. Сначала казалось, что туземцы его принимают если не тепло, то, по крайней мере, не враждебно. С самого начала экспедиция избрала неизведанный путь — через уэд Мья и восточные отроги плато, протянувшегося от Эль-Голеа до Тидикельта[356]. Путь шел через владения трех туарегских племенных союзов: на востоке были аджерцы, на западе хоггары, на юге немови или аирские туареги. Хоггары — злейшие наши недруги — приютили у себя некоторых членов семьи шейха улед-сиди, бежавшего от нас с юга провинции Оран. Страна эта бесплодна, гориста и безводна. Несколько животных, взятых в экспедицию, пали. Отряд находился в пути уже два месяца, и Флаттер начал беспокоиться: вот уже несколько дней на западе параллельно курсу экспедиции следуют конные отряды. Шестнадцатого февраля отряд рассчитывает подойти к колодцу, но проводники утверждают, что колодец остался позади и немного правее. Они предлагают полковнику остановиться, сгрузить поклажу и отправить верблюдов на водопой. Верблюды вернутся скоро — ведь вода, по уверениям проводников, совсем близко. Более того, они уговаривают отправиться к колодцу и членов экспедиции. Забыв о подозрениях, полковник принял предложение проводников. Ослепившая его доверчивость необъяснима — еще накануне вид неизвестных всадников казался по меньшей мере подозрительным. Он пошел вместе с Беренже, Массоном, Рошем, Гиаром и десятью носильщиками — все они пребывали в том же ослеплении. Туареги двигались впереди. Охрана лагеря была поручена Диану, Сантену, Побегену, Маржоле и Браму. Дорога была так узка, что верблюдам приходилось идти гуськом. Через два часа пришли к колодцу. Внезапно с кручи раздались дикие вопли и во весь опор устремились вооруженные до зубов туарегские всадники. В тот же миг один из проводников предательски напал на господина Беренже, убил его ударом сабли и стал в ряды нападавших. Тут Флаттер увидел, в какую гнусную западню угодил. Вместе с капитаном Массоном он бросился на первые ряды врагов, разрядил в них пистолет и так же, как инженер, пал, сраженный ударом сабли. Капитан Массон, доктор Гиар, Рош, сержант Деннери после ожесточенной борьбы также погибли, а погонщики верблюдов спаслись бегством. Восемь из них добрались до лагеря и подняли тревогу. Лейтенант де Диану, оставшийся после гибели товарищей начальником экспедиции, приготовился отражать неминуемое нападение. Но когда Диану окончательно убедился, что люди погибли, а верховые животные оказались в руках врагов, он последовал совету могаддема[357] Си-Абделькадера бен Хамида и отступил. Ночью Диану разделил припасы, деньги и вещи на пятьдесят человек, оставшихся в живых, приказал свернуть лагерь и уходить. Начался ужасный переход через пустыню. Настроение после разгрома было подавленное — да и как иначе! 27 февраля один из стрелков был захвачен туарегами. 8 марта погибли пять человек, посланных на поиски съестных припасов, кроме одного, оставшегося в живых. Вечером встретились еще какие-то туареги. Они сказались друзьями, поклялись на Коране, что не участвовали в бойне, и предложили купить у них финики. Финики были отравлены! Под действием яда многие стрелки охраны впали в настоящее безумие, начали стрелять друг в друга, и их пришлось разоружить. Оставшиеся в живых собрались вокруг импровизированного знамени и с арабской песней на устах отправились в путь, полные решимости дать отпор преследующим их предателям. Вскоре небольшой отряд разбился на две группы. Более сильные, бросив на произвол судьбы слабых, пошли вперед и, укрывшись за складками местности, открыли по туарегам огонь. В Амгиде состоялось сражение, длившееся восемь часов и стоившее жизни лейтенанту Диану, Маржоле, Браму и двенадцати стрелкам. В экспедиции осталось всего тридцать четыре человека под командой сержанта Побегена. Им все-таки удалось вырваться из окружения и укрыться в какой-то пещере, где они и забаррикадировались. В ночь с 11 на 12 марта четыре человека сумели выбраться оттуда и направиться в Уарглу, куда благополучно пришли 18 марта. На помощь немедленно выслали кавалерийский отряд, но было уже слишком поздно. Отряд застал лишь десять человек, лишенных сил от усталости, страданий и голода. Побеген и остальные стрелки — всего двадцать человек — умерли в страшных мучениях. Ужасное дело — те, кто был покрепче, убивали и съедали слабых товарищей! Из десятерых выживших и возвратившихся в Уарглу не оказалось ни одного француза. Франция оплакивает и долго еще должна оплакивать гибель этих благородных жертв. С другой стороны, ее престиж был сильно подорван разгромом, закрывшим для нас доступ в Сахару. Вождь туарегов хвастает, что истребил армию христиан. И кто знает — не был ли крупный мятеж, вспыхнувший в 1881 году в Алжирской Сахаре, отзвуком этой катастрофы?
ГЛАВА 22
Алжир. — Завоевание. — Организация колонии. — Арабские бюро. — Гражданская администрация. — Тунис.Сейчас Тунис вполне офранцужен, но еще немногим более полувека назад (так немного в жизни народов!) казался загадочным и таинственным. Хотя от Европы его отделяло лишь малое расстояние, Тунис знали только по донесениям редчайших путешественников, сумевших на свой страх и риск преодолеть охраняемые фанатиками крепчайшие рубежи — как внешние, так и те, что отделяют столицу от провинций. Характер властей и жителей Алжира был отнюдь не из тех, что привлекают, а тем менее — поощряют путешественников. Только одному наблюдателю — доктору Шоу, который провел в Алжире двенадцать лет (с 1716 по 1728 год) капелланом английской фактории, — особо благоприятные обстоятельства, а главное, ревностная страсть к научным исследованиям, позволили собрать значительное количество фактов и наблюдений; его труд до сих пор остается в некотором роде классическим. Французу Андре Пейсоннелю в 1724 и 1725 годах, а после него в течение XVIII века еще нескольким исследователям также удалось повидать некоторые области Алжира, главным образом восточные. Это были: немецкий доктор Хебенстайт в 1732 году; знаменитый Брюс — с 1764 по 1766; французские натуралисты Дефонтен и Пуаре: первый с 1783 по 1786, второй — с 1785 по 1786 год. К началу нашей экспедиции 1830 года ученые располагали достаточно обширными сведениями по естественной истории Алжира и общими представлениями о его политической истории (с многочисленными пробелами, относившимися ко времени самостоятельности берберов). Что касается географии и топографии — тут зияла пустота. Завоевание 1830 года сорвало все завесы и опрокинуло все преграды. Известна причина, по которой Франция решилась на вооруженное вторжение: необходимо было уничтожить пиратское гнездо, существование которого беспрестанно угрожало достоинству и безопасности европейских держав. В 1827 году дей[358] Хусейн так разъярился из-за одной бесконечно тянувшейся тяжбы, которую вели во Франции два алжирских купца-еврея, что ударил французского консула по лицу. После столь тяжкого оскорбления терпение французского правительства иссякло, да и общественное мнение требовало энергичных действий. Незамедлительно была подготовлена крупная военная экспедиция. 15 июня 1830 года армия численностью в тридцать семь тысяч человек под командованием генерала де Бурмона и адмирала Дюперре высадилась в Сиди-Феррухе. Доблестное войско шло от победы к победе, и 6 июля дей сдался на милость победителя. Алжир стал французским! Но после столь ошеломительного завоевания оставалось еще много дел. Сначала покоренную часть Алжира оккупировали войска. Маршал Клозель занял Медеа, генерал Бертежен — Оран, Мостаганем, Бон и Бужи. Генерал Трезель создал арабские бюро и передал их в руки наших чиновников по административной, правоохранительной и финансовой части. Однако правительство все еще колебалось, сохранять ли Алжир за собой: оно предвидело значительные расходы, отягощающие бюджет метрополии, и необходимость содержания многочисленного войска. К 1836 году стало ясно, что режим ограниченной оккупации не дает сколько-нибудь серьезного результата и нисколько не решает дела. Следовало что-то предпринять: или уйти, или вступить во владение полностью. Правительство высказалось за последний план. Но тогда против нас поднялся грозный враг. Отвага и энергия его уже были известны; новые успехи с каждым днем увеличивали его влияние. Речь идет об эмире Абд аль-Кадире[359]. Впрочем, в лице генерала Бюжо[360] — впоследствии маршала и герцога Ислийского, самого популярного из наших генералов в Африке — он нашел достойного противника. Бюжо оказался в равной мере храбрым воином и тонким дипломатом. Однако он совершил тяжкую ошибку, заключив с эмиром в 1837 году договор на Тафне[361] о разделе Алжира[362]. Разбираясь в людях, генерал должен был знать, что Абд аль-Кадир не из тех, кто складывает оружие. Однако Бюжо подумал, что добьется нейтралитета, а получил двухлетнее перемирие. В 1838 году генерал Вале взял Константину, а спустя год эмир возобновил войну — упорную, жестокую, беспощадную. Она прославилась доблестной обороной ста двадцати пяти французов, осажденных в 1840 году в Мазагране двенадцатью тысячами арабов. Затем последовали пленение семьи и свиты Абд аль-Кадира, блестяще захваченных в 1843 году герцогом Омальским, разгром и уничтожение в 1844 году на берегах Исли марокканской армии, прибывшей на помощь эмиру, бомбардировка Могадора и Танжера принцем Жуанвильским, энергичное, но жестокое подавление мятежа берберов во главе с Бу-Маза генералами Сент-Арно и Пелисье, оставившими по себе в тех местах страшную память. Союзники и собственные воины оставили Абд аль-Кадира: каждую минуту наши экспедиционные колонны могли захватить его в плен. При таких обстоятельствах султан 23 декабря 1847 года сдался генералу Ламорисьеру и с тех пор честно держал слово ничего не предпринимать против Франции. Первое время после 1830 года исследования Алжира оказались теснейшим образом связаны с завоеванием. Ученым приходилось следовать строго за войсками — уйти вперед или уклониться в сторону путешественники не имели возможности, так как европейцам невозможно было находиться среди местных жителей — ярых религиозных фанатиков, сознававших, что поражение их окончательное. В 1847 году генерал Кавеньяк перешел через шотты[363], а генералы Пелисье, Боске и Сент-Арно опустошили непримиримую дотоле Кабилию, но лишь в 1857 году генералы Рандон, Мак-Магон, Рено и Юсуф ее полностью подчинили. В 1871 году генералы Вимпфен, Шанзи и Осмон подавили страшный мятеж на юге провинции Оран, в то время как генералы Сосье, де Лакруа, полковники Сери и Фуршо победоносно сражались против столь же страшного мятежа в Кабилии. В 1872 году генерал де Галифе занял Эль-Галеа в тысяче километров от города Алжира, а генерал де Лакруа преследовал туарегов на крайнем юге. В 1880 году печально известный марабут Бу-Амема поднял против Франции восстание на юге провинции Оран и благодаря исключительно быстрым передвижениям смог выдержать два года войны. Генералы Детри и Негрие прогнали его в пустыню, но захватить не сумели. Бу-Амеме удалось скрыться в Марокко, где он находится и сейчас вместе с союзником Си-Химан-бен-Каддуром. Вот краткая история завоевания Алжира Францией в важнейших датах. Хотя Алжир стал французской территорией, он сохранил свои нравы, обычаи, памятники. В то же время из метрополии он позаимствовал некоторые нововведения, не всегда удачные в своеобразной стране, гдеконтрасты очень сильны, но всегда гармоничны. «Город Алжир, — пишет Эжен Фромантен[364], главный художник и писатель этой страны, — состоит из двух частей. Французский, или европейский, город занимает прибрежные кварталы вплоть до предместья Ага; арабский не выходит за стены турецкой крепости и, как прежде, теснится вокруг касбы[365], где зуавы[366] заменили теперь янычар[367]. Франция забрала себе все относящееся к флоту и портам, превратила старый дворец беев[368] в губернаторскую резиденцию. Она разрушила темницы, отремонтировала форты, расширила гавань, разделила мечети — часть оставила Корану, другие же отдала Евангелию. На новых торговых улицах Франция сохранила базары, чтобы ремесла, встречаясь друг с другом, слились воедино. Мальный базар, где собирались все нищие, стал театральной площадью, сам театр стоит на огромном откосе — бывшем скате турецкого земляного вала. Что касается другого города, то людям, которых невозможно уничтожить, оставили ровно столько места, сколько нужно для жилья. И вот он из высокой беседки древних пиратов грустно глядит на отнятое у него море… Два города соприкасаются, живут в теснейшем соседстве, но не смешиваются; населяющие их народы питают друг к другу лишь неприязнь и недоверие. Не имея возможности нас истребить, арабы избегают и прячутся. Ненавидят они не нашу администрацию, промышленность, торговлю, но нас самих — наше соседство, обычаи, характер, наш дух. Они хотят, чтобы их не трогали, не наблюдали за ними, хотят жить сами по себе — владеть землями без кадастра[369], путешествовать без надзора, рождаться без регистрации и умирать без формальностей. Всего этого передовая цивилизация не дозволяет. Пока они — окруженные со всех сторон, не признающие никакого прогресса, безразличные даже к собственной грядущей судьбе — пользуются всей свободой, возможной для ограбленного народа, не имеющего торговли и ремесла. Выживают они благодаря бездеятельности, но находятся почти в отчаянном состоянии. Город, в котором они живут, подобен бурнусу — грубой бесформенной накидке. Улицы-ущелья, дома без окон, низенькие дверцы, прежалкие с виду лавчонки… Нет ни садов, ни деревьев — лишь кое-где на перекрестке уцепился в щебне чахлый побег винограда или смоковницы. Мечети скрыты от глаз, в бани ходят тайком. Здешние ремесленники — вышивальщики, сапожники, низкого пошиба ювелиры, торговцы семенами. Изредка встречаются молочные лавки, кофейни, непритязательные булочные, более всего — цирюльни. Что до частной жизни — ее охраняют непроницаемые стены. За тяжелыми дверьми, за железными решетками на окошках скрываются две главные тайны этой страны: движимое имущество и женщины. Женщины здесь почти не выходят из дома, и лица их всегда закрыты; они открывают лицо лишь затем, чтобы перейти из рук в руки от одного араба к другому. Богато арабское жилище или бедно — оно неизменно закрыто, как несгораемый шкаф, ключ от которого всегда у хозяина». Это описание содержится в письме Эжена Фромантена из Мустафы, датированном 10 ноября 1852 года. Оно все так же верно и живо, как в те времена, когда автор «Года в Сахеле» писал его. Географические исследования велись с огромным размахом. Прежде всего это были топографические съемки, начало которым положили вместе с завоеванием. Господин Фай[370] сообщает подробности, интересные и красноречивые. «Триангуляционные работы[371], — пишет почтенный член Академии наук, — спешно проведенные в недавно занятых провинциях, и топографические съемки, выполненные нашими учеными-офицерами на пути следования экспедиционных корпусов, осуществились ценой величайших трудов и опасностей, причем были связаны с военными операциями, так что начинать приходилось с частностей, а общую работу отложить до более спокойного времени, когда страна будет занята окончательно. Лишь в 1851 году военное ведомство смогло подумать о том, чтобы Алжир получил такую же карту, как Франция, — составленную путем регулярных съемок и основанную на определениях положения опорных точек с высокой точностью. Были измерены три базиса: в Блиде, Боне и Оране (1854–1867 гг.); с 1859 по 1868 год создана большая сеть из сотни треугольников с запада на восток от Марокко до Туниса. Положение основных географических пунктов: Алжира, Бона и Немура — было определено непосредственно (1874–1876 гг.). По этой сети, которая рассматривается как геодезическая основа для Алжира, проходят триангуляционные работы более низкого разряда, начатые в 1864 году и продолжающиеся до сих пор. Полная и подробная карта алжирского Телля будет закончена к 1894 году. В марте и в апреле 1870 года французская военная экспедиция, преследуя мятежные племена в провинции Оран, достигла Фигига и некоторых других оазисов в Марокканской Сахаре. Она доставила полезные сведения о местностях, которые еще не посетил ни один европейский путешественник. С тщательностью и рвением, сто́ящими выше всяких похвал, генерал Аното с 1857 по 1873 год изучал наречия и нравы Кабилии. Он издал кабильскую грамматику, сборник кабильских народных песен и, в соавторстве с советником алжирского суда господином Летурнс, прекрасную научную работу о Кабилии и ее обычаях. У кабилов вершит суд, собирает и распределяет налоги джема’а — деревенское народное собрание. Но каждый человек, каждая семья имеют право возмездия по закону «око за око, зуб за зуб». Марабуты от отца к сыну передают привилегии на замещение культовых должностей и монополию на обучение. Долгие годы в Алжире не было никакого правления, кроме военного режима. Хорошо это или плохо? Население, еще взбудораженное недавним завоеванием, нуждалось в железной руке, и штатские чиновники, позволительно думать, неважно выглядели бы перед людьми, каждый день обагрявшими свои кинжалы кровью и чернившими ружейные стволы порохом… Первые арабские бюро были созданы в 1832 году. В их функции входили политическое и административное управление, налоги, полиция, юстиция и надзор над поведением гумов — вспомогательных туземных отрядов. Подавляющая часть бюро строгими, но справедливыми мерами принесли большую пользу, однако иные вызвали негодование, злоупотребление всевластием. При начальнике арабского бюро появлялся прямо-таки королевский двор. Самые большие арабские вожди шли к нему за разрешением обратиться к высшему начальству. Когда он выходил на улицу, толпы бедуинов бросались целовать край его одежды, а телохранители — шауши — разгоняли народ палками. Начальник бюро был на деле верховным главнокомандующим; всякий посмевший обратиться к кому-то другому скоро узнавал, чего он сто́ит. Ныне военный режим уступил место гражданскому, но не все трудности еще сгладились и, возможно, не все злоупотребления исчезли. Управление нашей алжирской колонией и теперь остается одной из самых сложных проблем. Легко и хвалить и критиковать тому, кто некомпетентен и не несет никакой ответственности. Мы же предпочитаем не предлагать никаких проектов, беспристрастно изложить факты, а суждение предоставить читателю. «Честь первым устроить сооружение артезианских колодцев в Алжире, — пишет господин Шарль Рише, — принадлежит полковнику Дево. Первую скважину пробурили в оазисе Тамерна в июне 1856 года. В 1880 году арабы владели 434 скважинами, а французы — 59. Так познания и терпение одного человека даровали жизнь пустыне и создали оазисы там, где прежде был лишь песок. Ирригационные работы сделают эту почву плодородной! Сегодня они тем более необходимы, что в 1883 году парламент осудил систему принудительной экспроприации земель туземцев. Вследствие этого необходимо получать большую отдачу от земель, находящихся во владении колонистов. Против системы бесплатных концессий и государственной колонизации весьма энергично сражались очень авторитетные журналисты. Тем не менее сегодня белыми колонистами заселено уже более пятисот деревень, процветают города Филиппвиль, Буфарик, Сиди-Бел-Абес, Фор-Насьональ. Благодаря артезианским скважинам ежедневно поднимается на поверхность более 25 000 кубических метров воды, а площадь орошаемых земель превосходит 50 000 гектаров. Плотины — подлинные произведения искусства, какова, например, плотина Сиг, — позволяют накапливать речную воду в водохранилищах и в засушливое время года направлять ее на окрестные поля. Наконец, на осушение болот в колонии израсходовали более пяти с половиной миллионов франков. В Алжире насчитывают 3000 километров шоссейных и 1600 километров железных дорог, 6000 километров телеграфных линий. Для обеспечения прибрежного судоходства действует сорок три маяка. Чрезвычайно поощряется разведение и обработка альфы[372] — для умелых предпринимателей она может быть источником огромных доходов. Развивается культура эвкалипта; в последнее время приняты серьезные меры для защиты лесов от пожаров. Имеется двадцать пять железорудных, медных и свинцово-цинковых рудников, на которых занято около 4500 рабочих, многочисленные разработки строительного камня, мрамора и т. п. Охота за кораллами идет на убыль, но по-прежнему существует. Для образования открыто 703 начальные школы, 2 лицея, 9 коллежей, 4 высших учебных заведения на французском языке и 3 медресе (мусульманских университета). Во всех этих заведениях обучается 70 000 европейцев, 10 000 лиц иудейского вероисповедания и 3000 мусульман». Более красочно это процветание, которого стараются не замечать предвзятые критиканы, описал русский путешественник господин Чихачев:[373] «Алжир во всех отношениях развивается гигантскими шагами. Кто усомнится в этом, приняв во внимание обширную сеть дорог и мостов по всей стране, многочисленные публичные экипажи, следующие во всех направлениях, превосходную безопасность, которая могла бы послужить примером для таких европейских стран, как Италия, Испания или Греция, беспристрастное соблюдение закона по отношению к людям любой национальности и вероисповедания, наконец — замечательный дух веротерпимости, исповедуемый шире и мощнее, чем в большинстве самых цивилизованных европейских стран? Полагаю, я представил неопровержимые доказательства тому, что Франция, вопреки часто высказываемым мнениям по части управления колониями, ни в чем не уступает самым передовым нациям. Алжир в этом отношении непревзойден, и мало какая колония может с ним сравниться». К несчастью, делу умиротворения, прогресса и цивилизации непрестанно угрожает мусульманский фанатизм, не желающий, несмотря ни на что, складывать оружия. Это началось не сегодня — ведь уже в 1869 году Анри Дювейрье, обладавший великолепным наблюдательским даром, видел и указывал, какими опасностями нашему процветанию угрожает племя Улед-Сиди-шейха и религиозное братство сануситов[374]. Нельзя сказать, чтобы мятежи арабов угрожали общей безопасности страны, однако из-за них гибнут люди, тормозится развитие промышленности и сельского хозяйства страны. Короче говоря, никогда нельзя быть уверенным, что завтра не разразится новый религиозный бунт из тех, которые трудней всего подавить и которые всегда находят серьезную поддержку в Тунисе и Марокко. Поэтому для всех наших правительств после завоевания Алжира первейшей заботой было влияние в Марокко и покорение Туниса, расположенного у нас под рукой, между тем как его независимость представляет серьезнейшую опасность для Восточного Алжира. Впрочем, наше влияние в Тунисе началось давно — уже в 1685 году Франция добилась от тунисского бея Мохаммада торгового договора — так называемой капитуляции. В XVIII веке Хасан бен Али основал ныне правящую династию Хасанидов. В 1770 году, при Людовике XV, французский флот, в качестве возмездия за пиратские действия, бомбардировал Порто-Фарину[375], Бизерту и Монастир. В 1800 году Хамуда-бей заключил с Францией новый трактат. Одиннадцать лет спустя этот же государь отделился от Оттоманской империи и подавил военный мятеж. В 1842 году отменили рабство. В 1847 году мы учредили в Тунисе телеграфную службу; в 1877-м и 1878-м построили железную дорогу протяженностью двести километров от алжирской границы до города Тунис. Существует также ветка от Суса до Кайруана, а в дальнейшем новая линия должна соединить столицу с Сусом и Бизертой. Как говорят, в самом ближайшем будущем начнутся чрезвычайно трудные работы: обустройство Гулетты[376], чтобы суда получили доступ к тунисскому порту. Всем известно, как Франция, воспользовавшись набегами крумиров[377], в 1881 году добилась от бея признания протектората по договору в Бардо[378], затем подтвержденного в Каср-эль-Саиде[379]. С этого времени начинается решительное возрождение Туниса: теперь там установлен французский правопорядок, рекой потекли французские капиталы, составляющие две трети национального достояния, организовано народное просвещение, царят порядок, процветание и безопасность. Кроме того, чиновники военного ведомства очень активно занялись составлением большой карты Туниса, используя географические способности арабов для получения сведений о сопредельных районах, куда нам до сих пор запрещен доступ. Впрочем, нашим войскам удалось занять священный город Кайруан — некогда обширный, ныне же находящийся в упадке и насчитывающий всего 12 000 жителей. Но славу свою Кайруан сохранил полностью, и еще в 1860 году господин Виктор Герен не смог туда попасть. «Там, — пишет он, — взор муэдзина, призывающего к молитве с высоты минарета, еще никогда не встречал символов иной религии, не поклоняющейся имени Магомета. Целых двенадцать веков кайруанский имам — апостол и толкователь Корана — не видывал служителей Евангелия». Иначе говоря, Кайруан был всегда закрыт для всех, кто не исповедует ислам, и лишь в виде исключения немногим христианским путешественникам удавалось попасть в город. Кайруан одиноко стоит посреди пустыни, почти совершенно лишенной деревьев и всякой растительности, в ста сорока километрах к югу от Туниса и в пятидесяти километрах к западу от Суса. В дождливые годы — весьма, впрочем, редкие — пустыня под действием благодатной влаги вдруг оживает. Как по волшебству, являются в ней пастбища, привлекающие многочисленные стада под водительством арабских пастухов — таких же кочевников, как древние нумидийцы, обычаи и образ жизни которых они сохранили. Еще за городом видно несколько завия — часовен, посвященных различным мусульманским святым. Священный город окружен семью предместьями — семью отдельно расположенными кварталами — и зубчатой стеной, фланкированной несколькими встроенными в нее башнями. Четверо главных ворот выходят на площадь. Торгуют более всего скорняжным товаром, а главное ремесло — производство бабушей[380] из желтого сафьяна с особым блеском, который умеют наводить лишь мастера из этого города. Но для Кайруана более всего характерна сакральность. Его называют Священным городом. Поэтому, как сказано выше, прежде христианин лишь в знак особой милости мог попасть в Кайруан, и ни один иудей никогда не въезжал в его ворота. Со всех концов Туниса сюда приходят караваны, чтобы, так сказать, пропитаться духом ислама. По народному преданию, поддерживаемому в массах имамами, камни большой кайруанской мечети сами собой чудесным образом сложились в здание как раз на ее нынешнем месте. Приверженцы Корана глубоко почитают и часто посещают мечети. Благодаря французскому завоеванию все преграды, воздвигнутые суеверием, пали как по волшебству, хотя в протекторате строго уважается веротерпимость. Наш соотечественник господин Фонсен смог посетить Кайруан сразу после его покорения, когда город стал широко открыт для всех неверных. «Мечеть Брадобрея, — пишет господин Фонсен в путевых записках, — стоит вне городских стен. Вначале вы подымаетесь на квадратную паперть, над которой возвышается минарет, затем — в огороженный двор, куда выходят каморки послушников. Лестница ведет в залу, облицованную фаянсом, под резным, узорчатым, с невероятным тщанием сработанным куполом. Сквозь окна причудливой формы с блестящими витражами проникают разноцветные лучи света. Наконец, вы проходите в погребальную часовню, где покоится священная личность, имевшая некогда честь брить Магомета. Как и все марабутские могилы, гробница накрыта тканями, огорожена решеткой, увешанной множеством амулетов и скорлупой страусовых яиц, а вокруг разостланы ковры. В большой соборной мечети Джама Кебир[381] покоился и основатель Кайруана, свирепый Окба. Позднее прах его перенесли в окрестности оазиса Бискра в Алжирской Сахаре». Самый значительный город на побережье — Сус, откуда во множестве вывозится оливковое масло, финики, шерсть, кожи, мыло; эти товары служат предметом вы годных сделок. Земледелие здесь весьма развито и получило бы еще большее развитие, если бы удалось внести некоторые улучшения в извечные методы работы, применяемые местными жителями. Сами они, в общем, не враждебны идеям прогресса, но их умы постоянно обрабатывают мусульманские фанатики-сектанты, проповедующие недоверие и ненависть к христианам и нововведениям. Они задерживают наступление новой эры, пугая новыми налогами, которых арабы боятся как огня. Дел еще много, очень много! Вот, к примеру, Габес — главный город провинции Арад, важный центр нескольких оазисов и области, которая вскоре должна стать одной из богатейших в Тунисе. Сейчас река Уэд, на которой стоит Габес, при впадении образует бухту, открытую всем ветрам, вход в которую довольно затруднен. Но это поправимо для тех, у кого есть капиталы и способность плодотворно их применять! Довольно исправить дело природы с помощью искусственных сооружений, выполненных по хитроумным замыслам наших инженеров, — и Габес станет портом, доступным для торговых судов. Они привезут сюда наши товары, а в обмен получат выгодные тунисские. Будем надеяться, что этот проект, своим существованием обязанный частной инициативе, докажет власть предержащим, что улучшение торгового порта в Габесе должно идти рука об руку с улучшением военного порта в Бизерте. Второй порт будет охранять первый и обеспечит как свободу торговли, так и независимость нашей колонии!
ГЛАВА 23
Марокко. — Его упадок. — Закрытая страна. — Фанатизм. — Исследования. — Камилл Дульс. — Пять месяцев у мавров.Алжир давно покорен. Тунис, по сути, стал французским и быстро шагает к цивилизации. Вся Северная Африка стала бы спокойной и процветающей, если бы не Марокко, куда непрестанно стекаются и откуда исходят убийцы-проповедники, зачинщики мятежей. Между тем Марокко быстро стремится к развалу, как и большая часть мусульманских государств — на наше время приходится крушение большинства из них. Удивительна и печальна судьба этого последнего обломка некогда славной цивилизации, пережившего свое время, словно надгробный камень! Без усилия мысли уже не представишь себе чудес мавританской культуры. Где времена завоевания Испании, когда арабы находились во главе движения мысли, когда образованнейшие из монархов Европы гордились их дружбой, когда сицилийский король Рожер II[382] призвал знаменитого марокканского ученого Идриси[383], составившего для него всемирную географию и на серебряной сфере начертившего все известные тогда страны мира? Все это разом рухнуло во тьму веков. Марокко погрузилось в невежество, начало агонизировать и превратилось в пиратское гнездо, которое время от времени подвергается бомбардировкам европейских держав. Географическое положение Марокко весьма благоприятно для распространения цивилизации, но из-за политики его правительства и, в еще большей мере, из-за фанатизма местных жителей эта страна по-прежнему совершенно нам неизвестна. За исключением побережья, мы изучили ныне «de visu»[384] лишь следующие ее области: дороги, соединяющие столицы Мекнес и Марракеш с портами Танжер и Могадор; путь из Танжера к юго-восточным границам государства через хребет Адрар-н’Дерен или Гору гор, иначе говоря — настоящий Атлас; наконец — области Ангад и Уэд-Гир по соседству с Алжиром и верховья реки Уэд-Дра, текущей далее через Марокканскую Сахару. Между тем по всей средиземноморской округе не найдется страны, столь привлекательной для путешественника — география Марокко едва изучена. Величественный хребет Атласа, смело проведен на наших картах, но его еще не пересекли маршруты экспедиций и геодезических съемок: наука до сих пор не в состоянии даже указать его высшую точку[385]. Сведения о гидрографии не более полны. Так же, по еще более веским основаниям, обстоит дело с изучением местных обычаев и наречий; следов различных исторических эпох, оставивших след на марокканской земле; климата, столь неодинакового в разных частях государства; минерального, растительного и животного царства. Итак, в конце девятнадцатого столетия, невзирая на чудесные успехи нашей цивилизации, невзирая на близость к Европе и на все усилия, чтобы вывести Марокко из непостижимого застоя, подозрительность правительства и дикие нравы берберов — фанатичных мусульман и неисправимых бандитов — делают страну неким живым анахронизмом, подлинной terra incognita[386]. Для цивилизованных народов открыт один — единственный! — пункт, в котором и находятся все дипломатические и консульские представительства, аккредитованные при султане Марокко. Это Танжер — ничем не примечательный, безликий, нечистый и нездоровый арабский городок, населенный алчными и фанатичными оборванцами. «Танжер, — пишет господин Жюль Леклерк, — представляет собой нагромождение белых домиков кубической формы с квадратным отверстием, через которое жилище освещается и проветривается, и маленьким бельведером[387] на крыше. Окрестности города очаровательны: кругом живописнейшие холмы и овраги, на горизонте высятся горы, кое-где открывается великолепный вид на синюю с солнечными блестками морскую гладь. Улицы в Танжере не имеют названий, а дома — номеров. Торговцы сидят в грязных лавчонках без витрин — стекло в Марокко неизвестно, да и было бы, пожалуй, в таком жарком климате ненужной роскошью. Школ множество, и все марокканцы умеют читать». В городах Марокко живут мавры — смесь берберов с прочими расами. Это изнеженные, суеверные, склонные к интригам, алчные, фанатичные, лживые, коварные, сластолюбивые люди. В Марокко живут евреи, которые занимаются всеми ремеслами, ведут морскую торговлю и держат в руках всю администрацию — но гонимы, не имеют права свидетельствовать в суде и живут в гетто[388]. Берберы, будь то амазирки, рифы, шлсхи или туареги, будь то пастухи, земледельцы или купцы, все — своевольные воинственные разбойники. Арабы живут как кочевники и подчиняются, как и берберы, только своим марабутам и шейхам. У каидов[389], назначаемых султаном в те провинции, где власть его еще признается, заботы всего две: представлять требуемое количество людей и посылать к праздникам как можно больше денег. Вследствие этого каждый губернатор сам выжимает из населения все соки и позволяет разбойникам грабить. Столь пагубное управление безрассудным и недостойным образом разоряет страну, где плодородие почвы, годной для посевов любых культур, хвалят все путешественники. Лишь совсем недавно — можно сказать, в наши дни — мы узнали кое-что о Марокко. Господин Нарсис Котт, бывший французский консул, в 1860 году выпустил интереснейшее сочинение о современном Марокко. Господин Баласкоа проехал из Могадора в Марракеш, господин Гателль в Сус и Уэд-Ном, Герхард Рольфс в оазисы Драа и Тафилет. Драммонду Хэю Ричардсону удалось попасть во внутренние районы страны, господин Тиссо провел съемку нескольких важных дорог и открыл множество римских руин. Наконец, покойный французский консул в Могадоре господин Бомье, изучавший физическую, ботаническую, медицинскую и торговую географию Марокко, издал сводный труд о стране. Кроме того, господин Бомье заметил склонность к путешествиям у еврейского раввина Мардохея Аби Сераура. Это был тот самый человек, который сопровождал австрийского путешественника Оскара Ленца в Томбукту[390]. В благодарность австриец даже не упомянул Мардохея в путевых записках, хотя тот явился для экспедиции нежданным спасителем. Наш консул послал раввина в Парижское географическое общество, где иудея обучили необходимым для путешественника знаниям, дали денег, инструменты и отправили на родину, чтобы он сообщал интересные сведения об этой малоизвестной стране. Раввин Мардохей оказался достоин столь высокой чести. Он отправился в экспедицию, дошедшую до точки 28° северной широты и 13° западной долготы по Парижскому меридиану — всего в миле от Уэд-Дра, ныне являющейся южной границей марокканских владений. Мардохей нанес на карту несколько гор к югу от Атласа: Джебель-Тизельме, Джебель-Ида-У-Сагра, Джебель-Ида-У-Талтас, Джебель-Табайют и Джебель-Таска-Левин. Все они образуют как бы ребро, разделяющее два бассейна — Уэд-Ноун и Уэд-Дра. Некогда там процветала самобытная цивилизация, прежде совершенно нам неизвестная. Раввину и никому иному принадлежит исключительная честь открытия памятников таинственной цивилизации. Тридцать четыре эстампа, выполненные Мардохеем, воспроизводящие рисунки древних жителей Марокко, открывают горизонты для истории Северной Африки. Приблизительная дата этих рисунков определяется по сюжетам, где изображены животные, которые ныне в Марокко не водятся, причем натуральность изображений не оставляет сомнения, что художники видели этих животных своими глазами. Отсюда можно заключить, что их творчество относится к I веку нашей эры, а то и ранее. Отметим и дипломатическую поездку господина Вернуйе (в 1877 г.), германского посланника в Танжере господина Вебера и очень примечательное путешествие нашего соотечественника господина де Фуко, протекавшее не без опасностей. В 1883 году виконт де Фуко был в Танжере, в долине Дра, в Могадоре, откуда направился в Сахару и посетил оазис Дра, где под бесчисленными пальмами величественно протекает широкая река того же названия. По обоим ее берегам разбросано множество деревень. Чтобы совершить поездку, виконту пришлось выдать себя за марокканского еврея. Преодолев великие трудности, ему удалось определить координаты нескольких важных точек, в частности — исправить долготу города Тазы. Наконец, к числу самых интересных и основательных описаний лежащей в упадке империи принадлежит сочинение итальянца Эдмондо Де Амичиса[391]. Он сообщает нам любопытные сведения о неописуемой нищете марокканцев. «Питаются они, — пишет Де Амичис, — скудными плодами дурно обработанной земли; шейхи изнуряют их обременительными налогами. Они отдают десятую часть урожая деньгами или натурой, платят по франку за голову скота и по сто франков в год за участок земли, который можно вспахать двумя быками. Несколько раз в году они делают султану подарки к праздникам, что составляет налог приблизительно в пять франков на шатер. Когда в провинцию приезжает султан, паша или приходит армия, губернатору платятся кормовые. Горе тому, о ком известно, что он человек зажиточный: из такого выжимают все, что только можно. Но, накопив небольшое состояние, всякий зарывает его в землю и, чтобы не лишиться добра, притворяется бедным. Надобно еще давать подарки губернатору при получении наследства, приусадебной тяжбе или чтобы избежать расправы — иначе вас могут уморить голодом». При такой нищете кочевники, населяющие большую часть Марокко, позорящего наше время, отличаются сильнейшим фанатизмом и кровожадными разбоями! Чтобы убедиться в этом, достаточно рассказать историю замечательного и ужасного путешествия несчастного Камилла Дульса[392] — молодого француза, недавно столь жалким образом павшего от рук сахарских бандитов. Никогда и нигде — ни в центре Африки близ экватора, ни у каннибалов Южной Африки, ни в австралийских пустынях не было видано таких зверств и такого фанатизма. А ведь все эти злодеи умеют читать и писать! Камилл Дульс без ошибок говорил по-арабски, основательно знал Коран, в совершенстве изучил мусульманские религиозные обряды. Переодевшись купцом-мусульманином, он произвел своей отвагой такое впечатление на канарских рыбаков, что они согласились высадить его с двумя ящиками разных побрякушек на западном берегу Марокко неподалеку от мыса Бохадор. Дульс очутился в полном одиночестве под палящим солнцем на пустынном, бесплодном, каменистом берегу и поспешил как можно скорей отыскать каких-нибудь людей, с которыми можно было бы о чем-то договориться. Через несколько часов он повстречал четырех полуголых мавров, еле прикрытых грязными шкурами, с нечесаными гривами волос, прядями падавших на плечи, с кинжалами на боку и ружьями в руках. Дульс обратился к ним с приветствием, по которому мусульмане без ошибки узнают друг друга, словно масоны по тайным знакам, однако четверо злодеев набросились на путешественника, сорвали одежды, отобрали пояс со скромным имуществом. Чтобы жертва не сопротивлялась, один из них изо всех сил наступил Дульсу на горло, но он все же пытался высвободиться. Тогда другой рукоятью ятагана разбил ему губы и выбил передние зубы. На шум схватки явился старейшина шатра, некто Ибрагим Уэд-Мохаммед. «Убивать его ни к чему, — сказал он, — лучше продать в рабство». И вот, не успев провести полдня в ужасных местах, несчастный путешественник оказался ограблен, избит до полусмерти, почти догола раздет и попал в рабство к жестоким бандитам. При этом еще не миновала опасность лишиться жизни. Хотя Дульс знал арабский и выглядел как добрый мусульманин, мавры упорно допытывались, не христианин ли он на самом деле. Причина подозрений была по меньшей мере странной, особенно если учесть, что в этих местах еще недавно процветало пиратство. «Кто ты?» — спрашивали Дульса. «Я мусульманин из Алжира». — «Мусульмане не плавают по морю; с моря являются только христиане, неверные!» — «Я раб Аллаха. Аллах премудр: я иду Его путями». — «Скажи: нет бога кроме Аллаха, и Магомет пророк Его!» Дульс произнес эту формулу, но кочевники ему не поверили и продолжали угрожать. Если бы француз пришел не со стороны моря, его без колебаний признали бы за мусульманина! Тем временем бандиты никак не могли договориться между собой о разделе вещей. Наконец один из них, чтобы положить конец спору, с торжеством объявил, что лучше всего прирезать «христианина»! Вновь все ворвались в шатер, накинулись на Дульса, повалили наземь и потащили на улицу. Но французу удалось уцепиться за колышек палатки — в это время вмешался Ибрагим и вновь вступился за несчастного. Не то чтобы он был добрее других — но «христианин» его раб, а раб стоит денег. Лишь маленькая мавританка Элиазиза, дочь Ибрагима, проявила к Камиллу сострадание, хотя тоже считала его христианином: дала ему молока, чтобы он подкрепился. Наступил вечер. Все прочли вечернюю молитву, а вместе со всеми и Дульс, называвшийся мусульманским именем Абд-эль-Малик. За отсутствием воды, подобие вечернего омовения совершили песком. В восемь часов мавры подоили верблюдов и приступили к единственной за день трапезе — молоко в деревянной чашке, вымытой мочой дромадера[393]. Два ящика с товарами, которые путешественник, как мы помним, взял с собой, он имел осторожность спрятать близ места высадки на берег. Теперь Дульс решил рассказать о них Ибрагиму, рассчитывая в обмен на этот секрет получить милость. Сначала кочевники так же не поверили, как и в его мусульманство. Но жадность все же не давала покоя Ибрагиму с сородичами. Пусть «христианин», решили они, отведет нас к указанному месту. Но чтобы Дульс не завел их в засаду, где прячутся другие христиане, которые перебьют или отведут в рабство мавров, его решили заковать в железо. Путешественнику надели на ноги кандалы с тяжелыми цепями, водрузили на верблюда, рядом посадили человека с ружьем, чтобы тот при первом подозрительном движении пустил «христианину» пулю в голову. Банда шла долго и наконец обнаружила два ящика с товарами. Все товары были сделаны мусульманами и предназначались для мусульман. При виде ящиков кочевники стали вопить и кривляться, как каннибалы перед пиршеством. Расталкивая друг друга, мавры бросились к добыче. Тем временем, пока Ибрагим с другими главарями орды отошел в сторону на совет, четверо молодых людей набросились на Дульса, связали его, вырыли в песке глубокую яму, столбом поставили туда пленника и закопали по самую голову. Из утонченной жестокости палачи поставили перед ним деревянную доску с водой так, чтобы он видел ее, но не мог дотянуться губами. Потом молодые разбойники ушли, полагая, что Дульс испустит дух прежде возвращения Ибрагима. Пробил последний час француза. Приготовившись умереть мучительной смертью, пленник из последних сил громко закричал и тем наконец привлек внимание Ибрагима. Еще несколько минут — и все кончится! Увидев, что хозяин идет к нему, Дульс с поистине поразительным хладнокровием стал еле слышным голосом умирающего читать предсмертную молитву мусульманина. Это его и спасло. В умах бандитов произошел переворот. Они остолбенели и, ударяя себя по лбу, заголосили: — Он не христианин! Горе на наши головы! Пленника вырыли и вновь отвели в шатер, но кандалы сняли, только когда он ответил на коварные вопросы талеба[394] из Тафилета и прошел экзамен у паломника, побывавшего в Мекке. Паломник и вынес окончательный приговор, объявив, что Дульс — турок и правоверный мусульманин. Тогда ему дали ружье и приняли в племя Ибрагима, называвшееся улад-делим. С тех пор Камилл Дульс стал вести бродячую жизнь мавров, скитался с ними, питался верблюжьим молоком из миски с тошнотворным аммиачным запахом. Между прочим, он заметил, что эти бандиты весьма умны, довольно образованны (всех учат писать) и в большинстве обладают немалым ораторским даром. В пустыне есть бродячие писцы (толба), шатры которых служат настоящими передвижными лицеями. Там учатся мальчики и девочки тех мест, где эти люди сегодня находятся: ныне одни, завтра другие… Если же толба поблизости не окажется, маленькие кочевники учатся друг у друга: старшие обучают младших писать углем вместо карандаша на табличках, заменяющих бумагу. Как-то раз после долгого перерыва Дульс отведал мяса — баранины по-сахарски. Мясо освежеванного барана режут на куски и доверху набивают котел с кипящей водой. Кишки и печенку слегка разогревают на углях и тут же съедают. Мясо тоже вынимают из котла, едва оно чуть подогрелось, и бросают по очереди сотрапезникам; каждый ловит кусок на лету и с волчьей жадностью пожирает. Слово «волчий» здесь не преувеличение: ведь кочевники в отношениях между собой словно специально держатся изречения знаменитого латинского комедиографа: Homo homini lupus est[395]. Вот пример. Племя улад-делим, скитаясь к северу от мыса Бохадор, видит караван. На верблюдах узлы — купцы везут груз фиников из Тиндуфа в Тирис. По докладу разведки, в караване тридцать мужчин, десять женщин с детьми и сорок восемь верблюдов; принадлежит он добрым мусульманам, маврам из племени улад-тидерарин. Людей улад-делим налицо восемьдесят, и они единодушно решают овладеть добычей. Все достают оружие, садятся верхом на верблюдов и с устрашающим воплем бросаются в погоню. Несчастных караванщиков так мало, что они бегут, даже не пытаясь обороняться. Двадцати пяти пленникам тут же перерезают горло, словно баранам, и начинают делить награбленное: верблюдов, палатки и поклажу. Женщин и детей берут в плен, делят между собой по жребию — и разбойники едут дальше, словно ничего не произошло. «По пути, — рассказывает Камилл Дульс, — мы встретили пять или шесть курганов — могил потерпевших кораблекрушение европейцев, убитых маврами. Каждый проезжавший с проклятьями кидает на холм камень, так что курган с каждым годом растет. Ветер наносит на них немного плодородной земли, и между камнями распускаются цветники. У одной из этих гробниц я тайком преклонил колени. Взволнованно прошептал я над могилой первые слова скорби, благочестиво сорвал голубой цветок и храню его, как святыню…» Целых полгода жил молодой человек (Камиллу Дульсу было тогда двадцать два года) такой адской жизнью. Вдруг его бывший хозяин Ибрагим решил, что из юноши выйдет совсем неплохой зять. Он предложил ему руку дочери — грациозной и доброй маленькой Элиазизы. Дульсу пришлось согласиться — иначе Ибрагим стал бы смертельным врагом. Но он заметил нареченному своему тестю, что, будучи ограблен, не может заплатить положенного выкупа за невесту. Как тут быть? Дульс задумал уловку, чтобы выбраться на свободу. — Дай мне верблюда и проводника, чтобы проехать через Сус, — сказал он Ибрагиму. — Марокко я знаю, мне нетрудно будет добраться до дома. А через несколько месяцев я, если Аллаху будет угодно, вернусь тем же путем и привезу тебе все, о чем мы уговорились, и даже больше того. Ибрагим согласился — для его алчности такая сделка выглядела соблазнительно. Камилл Дульс нежно попрощался с милой мавританочкой. Она его больше никогда не увидела… После довольно долгого и очень тяжкого путешествия он добрался до Марракеша, где встретил английскую дипломатическую миссию. Дульс узнал, что его долго считали погибшим, но после узнали: он в плену где-то в Сахаре. Газеты Канарских островов объявили, что мавры требуют за него три тысячи золотых выкупа, и наш консул Лакост уже собирался послать к ним одного туземца для переговоров. Англичане доставили Дульса в Могадор, а оттуда он отправился сам объявить господину Лакосту счастливую весть о своем возвращении.
ГЛАВА 24
МУНГО ПАРК
Первое путешествие Мунго Парка. — Второе путешествие. — Катастрофа. — Последователи. — Гибель майора Лэнга.В 1788 году новые открытия в Африке породили в английском общественном мнении течение, благодаря которому возникла Африканская ассоциация[396] с резиденцией в Лондоне. В ассоциацию входили люди выдающиеся по богатству, общественному положению, а более всего — по горячему рвению к науке и любви к человечеству. Благодаря высоким взносам и щедрым пожертвованиям своих членов, ассоциация дала новый импульс географическим открытиям. Она придала им регулярность, предписала цели и методы, субсидировала походы. Первые экспедиции оказались весьма неудачны. Вначале американец Джон Лейдард, посланный от ассоциации исследовать малоизвестный тогда Верхний Египет, умер от желтухи, не доехав даже до Сеннара. Другой ее агент, некто Лукас, бывший поверенный в делах в Марокко, не смог пробраться в Центральную Африку через Триполи и Феццан. Туда же, но через Сенегамбию, в 1791 году устремился третий путешественник, майор Хаутон. Он добился больших успехов — прошел через государства Вулли, Буду и Бамбук. Далее майор отправился прямо в Сахару и там погиб, убитый туземцами. Ассоциация упорно искала новых исследователей и в лице Мунго Парка нашла нужного кандидата — двадцатичетырехлетнего молодого человека, вскоре ставшего знаменитым. Он родился 10 сентября 1767 года в Фаулсхилзе близ Селкирка в Шотландии. Юношу предназначали к духовной карьере, но он предпочел изучать медицину. Двадцати одного года от роду он блестяще отличился в Индии и был направлен армейским командованием в экспедицию на Суматру. Мунго Парк обладал всеми качествами, необходимыми для подобного рода трудов: был молод, деятелен, предприимчив, силен и образован. На английском корабле 21 июня 1795 года прибыл в Гамбию, задержался ненадолго в фактории Пизания, где запасся оружием, географическими инструментами и кое-какой провизией и отправился в неизвестность. При нем находилось всего двое негров, лошадь и два осла. Царь Каарта[397], хорошо встретивший путешественника, не советовал ему следовать в страну бамбара[398], где шла война, но тот все же продолжил свой путь. Мавры-бандиты схватили его, обобрали до нитки, обратили в рабство. Над ним издевались даже дети! Мунго Парк раздобыл обратно свой компас и еще кое-какие необходимые вещи, после чего сел на собственную лошадь и бежал. Вскоре его опять встретили мавры — и вновь ограбили. Он скитался, умирая от голода, питаясь одной листвой… Наконец, в полном изнеможении Мунго Парк вышел к вожделенным берегам Нигера. Как он и предполагал, река текла на восток. «Я подбежал к воде, — пишет он, — испил ее — и вознес Богу горячие благодарственные молитвы». Это было 20 июля 1796 года — Мунго Парк находился в пути уже тринадцать месяцев. Он вышел на берег невдалеке от Сегу, столицы бамбара, и собирался, переплыв Нигер на пароме, остановиться в этом городе. Но султан Сегу передал путешественнику повеление расположиться на жительство в соседней деревне, поскольку мотивы путешествия государю были неизвестны. Мунго Парк направился туда, но жители, увидев белого, испугались и отказались приютить. Приближалась гроза. Мрачный и обессилевший путешественник уселся под деревом. Какая-то женщина, возвращавшаяся с поля, пожалела его, взяла лошадь под уздцы и отвела к себе домой. Добрая душа дала путнику поесть, постелила циновку и, напевая песню о злоключениях белого человека, уселась прясть вместе с другими женщинами. «Я до слез был взволнован этой нежданной добротой, — пишет путешественник, — и не мог уснуть. Утром я подарил великодушной хозяйке две пуговицы от камзола (их всего оставалось четыре). Больше я ничем не мог отблагодарить ее…» Два дня спустя царь, дав Мунго Парку на дорогу мешок с пятью тысячами каури (около двадцати пяти франков), приказал ему немедленно идти восвояси. С удивительным упорством претерпев новые тяготы и лишения, перенеся тяжкую болезнь, надолго задержавшую его в деревне Камала, Мунго Парк 19 апреля 1797 года добрался до Гамбии. 12 июня он отплыл в Англию и вернулся туда, после двухлетнего отсутствия, 22 сентября. В 1804 году английское правительство, уже без всякого участия Африканской ассоциации, организовало новую экспедицию во главе с Мунго Парком. Выбор его был оправдан блестящим путешествием, о котором мы только что вкратце рассказали. План Мунго Парка, давно им задуманный, одобрили. Он отправлялся — уже не один, с достаточным сопровождением — к тому же самому месту на Нигере, откуда в 1797 году вынужден был вернуться. Далее, построив достаточно большое судно для себя и спутников, он должен был плыть вниз по реке. Устье Нигера в те времена было неизвестно, и о направлении течения существовали самые противоречивые сведения. Мунго Парк отправился в путь 30 января 1805 года вместе с зятем мистером Андерсоном. В Горе он согласился взять с собой и лейтенанта Мартина. 6 апреля вся экспедиция собралась в Кайи. В тот же день весь караван, включавший тридцать пять человек эскорта и проводника —пастора-туземца по имени Исаак, выступил в путь. Никогда еще в Африке не было столь хорошо организованной экспедиции — и ни одна не оказалась столь неудачной. С первых шагов все оборачивалось против нее. Богатая поклажа возбуждала алчность местных царьков, обильные стада привлекали хищных зверей. Сам караван был составлен из белых, непривычных к местной природе и климату. Кроме того, экспедиции повредил преждевременно наступивший сезон дождей. Главные испытания для путешественников начались за рекой Фалеме. Едва они ее перешли, как оказались застигнутыми врасплох ужасными ураганами, один страшней другого. Спутники шотландца, ранее никогда не сталкивавшиеся с подобными катаклизмами природы, были ужасно напуганы. «Мне очень льстит, — говорит Мунго Парк, — что при переправе через Нигер нам удалось так легко отделаться. Но потом мы попали в сезон дождей, и я дрожал от одной только мысли, что еще не пройдено и половины пути. В течение трех недель заболело двенадцать человек». Под воздействием тропических гроз людям невозможно бороться с сонливостью. Поэтому спутники Мунго Парка ложились где попало — то на промокшую насквозь поклажу, то прямо на сырую землю — и отказывались идти дальше. Вскоре не проходило и дня, чтобы смерть не унесла кого-нибудь из участников экспедиции. Местные жители заметили, в сколь бедственном положении она находится, и не преминули прибрать к рукам все, что плохо лежало, — когда тайным вымогательством, а когда даже и открытым грабежом. В деревне Гимбра солдатам пришлось штыками разогнать толпу туземцев, преградивших дорогу. И все-таки караван вышел к Нигеру. С высоты горной цепи Мунго Парк увидел великую реку, спокойно катившую волны в низине. Вновь его охватила радость, но затем — тревога. «Я подумал, — пишет он, — что на марше мы потеряли три четверти солдат. Более того, у нас совсем нет плотников, чтобы построить лодки, на которых отправимся за новыми открытиями, — и будущее показалось мне чрезвычайно мрачным». В завершение бед сам начальник экспедиции заболел дизентерией, уже унесшей многих несчастных, и надолго задержался в Марабу — городке, расположенном на правом берегу Нигера. Чтобы не терять даром времени, он послал проводника Исаака к султану Сегу по имени Мансонг за разрешением для каравана проследовать через его владения. Разумеется, посланник отправился в путь с дарами, которые пришлись государю весьма по душе и расположили в пользу экспедиции. Затем последовали нескончаемые, в соответствии с вековым ритуалом, переговоры, в результате которых Мансонг разрешил европейцам остановиться в Сансандинге — городе своего царства, насчитывавшем около двенадцати тысяч жителей. Он пообещал также дать Мунго Парку необходимые лодки, но в конце концов продал за безумную цену лишь одну, и то наполовину прогнившую. Простодушные дети природы прекрасно понимают, что такое коммерция, и великолепно умеют, сговорившись между собой, ограбить иноземцев, вводя их в заблуждение насчет цены товара. Поскольку Мунго Парку никак нельзя было проявлять несговорчивость, он на все согласился и потом несколько дней занимался ремонтом жалкого суденышка. Когда все приготовили, можно было хоть как-то отправляться в путь — и в этот момент отважного путешественника постигло страшное несчастье. 28 октября 1805 года скончался его друг, родич и верный спутник… «Прежде ничто из ужасов путешествия, — пишет Мунго Парк, — не смутило моего сердца. Но когда я проводил в последний путь Андерсона, мне показалось, что я вновь остался в африканской глуши один, без друзей…» Тем не менее мужество шотландца осталось непоколебимым. 14 ноября экспедиция погрузилась на лодку, а 16 февраля отважный путешественник отправился вниз по реке, отдав свой путевой дневник Исааку для доставки в Сегу. «Я отплываю на восток, — докладывал он английскому правительству, — следуя вниз по течению Нигера с твердым намерением открыть его устье или погибнуть. Если со мной не останется ни одного спутника, если сам буду близок к смерти, я все равно продолжу путешествие. А если я все же не достигну цели, Нигер будет мне могилой». После этого известий о Мунго Парке не поступало. Затем поползли тревожные слухи, которые с каждым годом становились все настойчивей: заговорили о его гибели. Встревожившись, английское правительство распорядилось — с большим, впрочем, опозданием — об организации поисков. Стало ясно: никто лучше проводника Исаака для этого не подойдет. Его удалось уговорить возглавить предприятие, и 7 января 1810 года Исаак отправился из Сенегала. В конце сентября он прибыл в Сансандинг, где случайно встретил негра по имени Амади Фатума, проводника Мунго Парка в путешествии по Нигеру. Негр, увидев Исаака, заплакал и произнес: «Они все погибли!» Вот что узнал от него Исаак. Плавание вниз по Нигеру превратилось в беспрерывную цепь сражений. Вопреки миролюбивым намерениям, Мунго Парк был вынужден принимать бой, чтобы расчистить себе путь и защитить спутников. На всякий случай он все же решил пройти в обход Томбукту — через страну хауса. Договор с Амади Фатума как раз истекал; на прощанье он получил от начальника экспедиции жалованье и великолепные подарки для местного царька. Тот подарки принял, но затем объявил, будто не получил ничего, и даже велел отобрать силой у бедного Амади его небольшие сбережения. Кроме того, негодяй-князек отрядил войска, чтобы ограбить Мунго Парка. Оказавшись в окружении, путешественник, естественно, стал сопротивляться, но борьба была неравная. Чтобы не попасть в плен, Мунго Парк решил броситься в Нигер. Значительно позже один английский путешественник услышал на самом месте событий из уст очевидца другую версию, согласно которой как раз Амади Фатума и был прямым виновником трагедии. Именно он, получив жалованье, стал утверждать, будто бы не получил, и обратился с жалобой к правителю. Путешественник протестовал, но царек все же хотел заставить шотландца повторно заплатить мошеннику, но Мунго Парк ответил решительным отказом. Путешественника попытались задержать, но он вырвался и силой пробился к лодке. Один из военачальников схватил лодку за корму — Мунго Парк саблей отрубил руку. Завязалась ужасная битва; на град камней и стрел англичане отвечали ружейным огнем. По словам очевидца, прежде негры относились к белым без особой вражды — многие даже готовы были стать на их сторону, если бы не боялись вождей. Но когда белые пролили кровь, негры рассвирепели и безжалостно истребили весь экипаж лодки. Существует еще одна версия: будто бы Мунго Парк с товарищами погибли, пытаясь преодолеть пороги Бусса, что находятся под 10°10′ северной широты и 2°30′ восточной долготы от Парижского меридиана. Негры не проявляли никакой враждебности — напротив, они во множестве прибежали на берег и громкими криками пытались предупредить путешественников, что лодка сейчас разобьется о скалистую преграду. Несмотря на предупреждения, суденышко погибло, и всех путников поглотили волны Нигера. Последователи Мунго Парка оказались столь же неудачливыми. Перечень путешествий за двадцать лет составляет, так сказать, один красноречивый мартиролог. В 1805 году англичанин Николс, справедливо предположив, что верный путь лежит через залив Бенин, высадился возле Старого Калабара[399]. Все ожидали успеха, но внезапно пришла весть, что Николс умер от желтухи. В 1809 году еще один путешественник — немец Рёнтген фон Нёйвильд — погиб по дороге в Томбукту. По всей вероятности, его убили свои же носильщики, соблазнившиеся поклажей. Затем англичане Педди и Кемпбелл вместе с саксонцем Куммером попытались проникнуть в глубь Африки по течению реки Рио-Нуньес. Все трое после страшных мучений погибли в песчаной пустыне. В 1816 году английский капитан Такки[400], посланный британским Адмиралтейством и Африканской ассоциацией проверить гипотезу, что Нигер и Конго — одна и та же река, бесславно погиб после трехмесячного путешествия вместе с семнадцатью спутниками. В 1817 году майор Грей попытался повторить несчастную экспедицию Педди и Кемпбелла, но столкнулся с такой алчностью туземцев (возбужденной доходами от прежних экспедиций), что вынужден был сжечь всю поклажу и вместе со спутниками укрыться под защиту пушек французского порта Бакель. Он умер от лихорадки, так и не вернувшись в Англию. Из всех путешественников той поры выжить удалось лишь одному — французу Мольену[401]. Он однажды уже имел необыкновеннейшую удачу — спастись после кораблекрушения «Медузы»[402]. Вместе с одним марабутом, говорившим по-арабски и на многих местных диалектах, Мольен проник в глубину Западной Африки. После мучительного путешествия он открыл в густой лесной чаще каскад из двух прудов, откуда, пенясь, вытекала вода. Это был исток реки Сенегал, или, как говорят туземцы, Черной реки. После Мольена возобновляется зловещая серия путешествий, завершившихся катастрофой. К числу самых известных и плодотворных принадлежит экспедиция английского майора Лэнга[403], который в 1821 году отправился на поиски истоков Нигера и нашел их. «С истоком величайшей реки Черной Африки, — сообщает Лэнг, — связано множество поверий. Ширина его всего полтора фута, но утверждают, что всякий, кто попытается перепрыгнуть через ручей, утонет — исток дозволяется лишь перешагивать. Здесь нельзя также брать воду, иначе невидимая сила вырвет у человека из рук калебасу[404] и может даже сломать руку». У верховья река называется Тембье, что на туземном диалекте означает «вода». В продолжение нескольких миль она течет на север, затем поворачивает на восток и начинает называться Джолибой. Это имя река носит вплоть до Томбукту. Лэнг сообщает также прелюбопытные подробности о нравах народов, среди которых жил. Например, в их среде обыкновенные занятия мужчин и женщин словно перевернуты наизнанку. Всеми полевыми работами, кроме сева и жатвы, здесь занимаются женщины, а мужчины ухаживают за коровами и даже доят их. Женщины строят дома, штукатурят стены, исполняют обязанности цирюльников и хирургов — мужчины шьют одежду, а то и стирают белье. В 1826 году майор Лэнг отправился в новое путешествие, стоившее ему жизни. В нескольких днях пути к северу от Томбукту его караван остановили кочевники — по одним сведениям, туареги, по другим, одно из племен, живущих на берегах Джолибы. В нем признали христианина и решили убить; от первого же удара Лэнг упал без чувств, и майора сочли мертвым; слуга его погиб сразу. Лэнга все же отвезли в Томбукту, где удалось исцелить раны «какой-то мазью, привезенной из Англии», как пишет его простоватый историограф. Лечился путешественник долго. Поскольку в Триполи майору дали рекомендательные письма, а хозяин сам был родом из Триполитании, в городе Лэнга никто не беспокоил. Он мог даже свободно ходить по Томбукту в европейском платье, снимая план города, и в самом худшем случае слышал, как его за спиной называют кяфиром (неверным). Лэнг прожил в Томбукту довольно долго и решил отправиться через Сегу во французские фактории на берегах Сенегала. Фула[405] пригрозили путешественнику расправой, если он проследует через их земли. Убедившись, что сговориться с этими фанатиками не удастся, Лэнг выбрал путь к северу через Араван и Великую пустыню. В пяти днях пути от Томбукту караван встретился с вождем племени зават, который задержал путешественника под предлогом, что тот без разрешения вторгся на его землю. Он хотел принудить Лэнга признать Магомета[406] Пророком Аллаха и принять ислам. Майор отказался, понадеявшись на покровительство триполитанского паши, давшего ему письма ко всем шейхам пустыни. Черные рабы тут же набросились на Лэнга и удавили. Убийцы разделили добро англичанина, а тело бросили на съедение воронам и грифам…[407]
ГЛАВА 25
РЕНЕ КАЙЕ[408]
Ранний выбор призвания. — Страсть к путешествиям. — Начало странствий. — От Рио-Нуньес до Томбукту. — Обратный путь через Марокко.Трогательная особенность французского путешественника, о приключениях которого мы собираемся рассказать, состоит в том, что он начал свою карьеру шестнадцати лет от роду, без денег, почти без знаний, и при том ему удалось предпринять и успешно завершить одну из самых поразительных в анналах географии экспедиций. Этот путешественник — Рене Кайе. Он был сыном пекаря, родился в 1800 году в Мозе (департамент Де-Севр), в детстве потерял родителей и получил в своей деревне самое начальное образование — научился только грамоте и письму. Однажды в руки Рене попал «Робинзон Крузо». Книга явилась мальчику откровением; его дух воспламенился жаркой страстью к путешествиям, наполнившей отныне жизнь Кайе. Он знал одну мысль, одно желание: отправиться в дальние края, искать приключения, совершать открытия, следовать славному Мунго Парку, горестную гибель которого оплакивал весь мир. Кайе раздобыл книги по географии с картами, по которым проследил маршрут британского путешественника, увидел белые пятна — и поклялся заполнить часть этих пятен. У юноши был опекун — дядя, единственный родственник. Он долго не сдавался на пылкие мольбы мальчика отправиться в путешествие, но тот так просил и умолял, что дядя не выдержал и позволил Рене поехать в Сенегал. Преисполненный решимости, достойной настоящего мужского характера, шестнадцатилетний подросток покинул родной дом, имея в кармане только шестьдесят франков. В Рошфоре он сел на габару[409] «Луара», сопровождавшую «Медузу» — ту самую, на которой плыл Мольен, вскоре открывший исток Сенегала. Кайе добрался до Сен-Луи, отправился на острова Зеленого Мыса, а когда в Сенегале вновь возникла французская колония, несколько месяцев провел на берегах реки Сенегал. Так он странствовал два года: из Сенегала поехал даже на Гваделупу, вернулся в Бордо, оттуда вновь попал в Сенегал. Закалившись в превратностях бродячей жизни, в начале 1819 года Кайе нашел себе место в экспедиции Партарьена, спутника майора Грея. Она побывала в Кайоре, дошла до страны волофов, пересекла пустыню, вышла к Булибабе — деревне, где живут пастухи фульбе, и направилась к Фута-Торо. После тяжелейшего пути маленький отряд, в который входил Кайе, вышел к Буду, где встретил майора Грея. Но альмами (царь Буду) заставил путешественников повернуть назад. Французы отделились от англичан. Кайе вернулся на левый берег Сенегала возле Бакеля и спустился по реке к Сен-Луи, а оттуда вернулся во Францию. Первоначальные странствия послужили Рене как бы послушанием; в них еще больше — если такое возможно — укрепилось его призвание. В 1824 году, взяв с собой немного безделушек, Кайе вновь отплыл в Сенегал с прежним намерением посетить внутренние области Африки. В Сен-Луи Рене удалось добиться от барона Роже (тогдашнего губернатора колонии) правительственного покровительства для экспедиции. Это была моральная поддержка, благодаря которой Кайе уже не чувствовал себя каким-то одиноким авантюристом. Кроме того, губернатор добавил товаров и дал совет пожить какое-то время среди племени бракна, чтобы выучить арабский язык и научиться правильно вести себя с туземцами. Нет сомнения, что именно мудрые советы губернатора позволили затем Кайе совершить дерзкий переход от берегов Сенегамбии до Гибралтарского пролива через Бамбара, Томбукту, Сахару и Марокко. Стажировка продолжалась два года. Она была действительно необходима, к тому же Кайе за это время удачной торговлей увеличил состояние. Имея в запасе богатый опыт и две тысячи франков, он собрался в дорогу. На тысячу семьсот франков Кайе купил пороха, бумаги, табака, стеклянных вещей, амбры, кораллов, шелковых платочков, ножей, ножниц, зеркал, гвоздиков, три штуки гвинейской ткани, зонтик. Все это весило около ста фунтов. Оставшиеся триста франков он обратил в золото с серебром и зашил в пояс. Кайе взял с собой еще два компаса, оделся в арабское платье, набил его карманы листками из Корана, представился мандинго[410] с берегов Рио-Нуньес как египтянин, возвращающийся на родину, и 20 апреля 1827 года во главе каравана выступил из Каконди. Только при слове «караван» пусть читатель не представляет себе большого отряда, сопровождающего путешественника подобно экспедиционному корпусу. Вместе с Кайе было пять свободных мандинго, три раба, лично преданный французу пастух из племени фульбе и проводник по имени Ибрагим с женой — итого двенадцать человек. Они двинулись левым берегом Рио-Нуньес, пробираясь через заросли акации неде, в стручках которой содержится крахмалистое вещество. Местные жители употребляют стручки в пищу; Кайе со спутниками тоже полакомились плодами акации, сэкономив дорожные запасы. Путешествие обещало быть успешным. Фульбе, считавшие Кайе арабом, относились к французу с большим почтением и сочувствием: ведь ему предстоял такой долгий путь… Наш соотечественник пересек ручей Танкилита (спутники сказали, что это та же Рио-Нуньес), прошел через деревни Ореус, Санкубадьяле, Даур-Кьюар, Кусатари, перевалил через горную цепь, называемую туземцами Лантегове, и 29 апреля прибыл в страну Тума, лежащую между Ирнанке и Фута-Джаллонном[411]. 8 мая Кайе перешел через Ба-Финг[412], или, по-туземному, Черную реку, главный приток Сенегала. Следуя дальше на восток-юго-восток, он 10 мая достиг Тимбо — столицы Фута-Джаллона. Жители этой страны по большей части высоки ростом и хорошо сложены, ведут себя независимо и с достоинством. Цвет кожи у них светло-каштановый, но несколько темнее, чем у кочевых фульбе, волосы кучерявятся по-негритянски, глаза большие, нос орлиный, овал лица несколько удлиненный — одним словом, их тип приближается к европейскому. Жители Фута-Джаллона — магометане, причем фанатичные, и ненавидят христиан. К тому же они завистливы и склонны к грабежу: обирают всех сколько-нибудь богатых купцов, проезжающих через страну. Они воинственны и искренне преданы родине. В военное время все они без исключения становятся воинами: в деревнях остаются лишь женщины, дети и старцы, совершенно неспособные держать копье и лук. Одеваются они опрятно и любят частые омовения, но волосы издают неприятный для европейца запах, потому что обильно смазаны прогорклым маслом. В каждой деревне есть школа — конечно, самая элементарная. Там почти ничему не учат, кроме Корана: умение бегло читать священную книгу считается аттестатом об образовании. Тридцатого мая 1827 года Кайе покинул Фута-Джаллон и пришел в одну деревню, где жили мандинго. Там праздновали свадьбу вождя и по этому случаю истребили колоссальное количество баранины с рисом. 11 июня путешественник без приключений добрался до Куруссы — деревни, расположенной на левом берегу Нигера, и с тем же волнением, что некогда Мунго Парк, созерцал легендарную реку. От местных жителей Рене узнал, что здесь Нигер начинает выходить из берегов и воды разливаются по долине на три мили, удобряя почву илом, после чего на ней сеют рис. Путешественник пересек на пироге реку и, продолжая путь на юго-юго-восток, прибыл в Канкан — город, знаменитый базарами, где в изобилии продается местная утварь, европейские товары, доставляемые с побережья мандингскими караванами. Особенно много там ружей, пороха, кремней, цветного ситца, синей и белой гвинейской кисеи, амбры, кораллов, стекла, скобяных товаров, а больше всего — соли: это главная статья экспорта, самая редкая и ценная. Все купцы пользуются чрезвычайно точными маленькими весами местного производства. Гирями служат исключительно ягоды одного из африканских деревьев — черные и тяжелые. Вес двух таких плодов равен весу золота стоимостью шесть франков. Шестнадцатого июня 1827 года Кайе покинул Канкан и к 3 августа с великим трудом добрался до Тинне, оставив далеко позади рудный округ Уассула. В Тинне он тяжело заболел: ссадины на ногах растрескались и превратились в зловещие язвы. Более того — его поразила цинга. Одна старая негритянка принялась лечить француза, и лишь благодаря ее преданности он избежал страшной смерти. Положение Рене было подлинно отчаянным, и нужен особый закал души, чтобы в подобных обстоятельствах не пасть духом! Четыре месяца провел Кайе между жизнью и смертью — один в дикой стране, на сырой земле, без всякой постели, если не считать кожаного мешка с поклажей, запертый в полуразрушенной жалкой хибарке, почти без еды — лишь добрая старуха приносила иногда немного риса, чтобы больной не умер с голода. Пятнадцатого декабря Кайе выздоровел, а 10 января следующего года отправился в Дженне, следуя с караваном мандинго — пятидесяти носильщиков с грузом на голове, тридцати пяти женщин, также с грузом, и восьми вожаков, с которыми шло полтора десятка ослов в поводу. При вожаках находились их жены и рабы, которые несли поклажу и готовили обед на стоянках. Два месяца Кайе шел на север через жуткие, дикие места, населенные, впрочем, гостеприимными людьми. Наконец 11 февраля он вступил на землю государства Дженне[413]. 11 марта Кайе пересек два рукава Нигера (Джолибы) и пришел в город Дженне, стоящий между обоими рукавами немного выше их слияния. Губернатор города радушно встретил путешественника и позволил поселиться в Дженне. Кроме того, Кайе познакомился и подружился с одним шерифом, который помог продать путнику безделушки и купить местных тканей, пользующихся спросом в Томбукту. Он дал путешественнику лодку, чтобы доплыть до Томбукту, чрезвычайно теплое письмо к одному негоцианту и провизии на дорогу. Кайе подарил шерифу единственный зонтик, показавшийся в Дженне каким-то чудом; шериф ничего другого и пожелать не мог. Двадцать третьего марта Кайе сел в лодку, нагруженную товарами, продуктами и двумя десятками рабов, которых отправляли на рынок, чтобы продать за обыкновенную для Дженне цену: тридцать пять — сорок тысяч каури, что равняется ста пятидесяти — двумстам франкам. От города до слияния двух рукавов Нигера расстояние невелико. «Часа в два пополудни, — пишет Кайе в записках, — мы выплыли на простор величественного Нигера, медленно текущего с запада на восток. В этом месте река очень глубока и в три раза шире Сены под Новым мостом. Берега реки совершенно плоски и лишены растительности». Два дня спустя весь груз перенесли на лодку побольше, входившую в флотилию из шести барок, направлявшихся в Кабра — порт Томбукту. 1 апреля, после пяти недель утомительного плавания, Кайе достиг обширного озера Дебо. Там он заметил три острова, которые в честь короля Франции, его дочери и герцога Бордосского назвал: остров Святого Карла, остров Марии-Терезы и остров Генриха. 12 числа флотилия пришла в Кабра, а на другой день к вечеру Кайе наконец попал в знаменитый таинственный Томбукту — с давних пор единственный предмет его желаний. Негоциант, к которому у Кайе были письма, превосходно принял француза. Кайе по-прежнему выдавал себя за мусульманина и под именем Абдаллаха мог, хотя подчас и не без больших предосторожностей, ходить куда угодно, удовлетворяя собственное любопытство. С первого взгляда Томбукту кажется просто скоплением дурно построенных глинобитных зданий. Жара стоит невыносимая, поэтому базар открывается лишь вечером. Кайе увидел на нем много европейских товаров, в частности, французские ружья и стеклянные изделия, а кроме того — амбру, кораллы, серу, слоновую кость и прочее. Рене сообщает также интересные подробности о населении города, в основном состоящем из негров народа кисур. Там много мавров, ведущих торговлю с Дженне, они быстро богатеют, строят дорогие дома и роскошью ослепляют жителей столицы Западного Судана. «Царь Томбукту — самый обыкновенный негр, — пишет Кайе, — и ничем не отличается от подданных; жилище его ничуть не роскошней, чем у любого мавританского купца. Впрочем, он и сам купец. Власть передается по наследству. Ни народ, ни чужеземные торговцы не платят царю никаких податей, но дарят подарки. Нет у царя и администрации: он — отец семейства, управляющий своим народом с кротостью и в патриархальной простоте нравов. Государь принял меня при всем дворе. Он восседал на циновке с богатой подушкой. Лет ему на вид пятьдесят пять, волосы курчавые и седые. Рост у него средний, лицо очень красивое, совершенно черного цвета, с орлиным носом, тонкими губами, седой бородой и большими глазами; одежда, как и у всех местных богачей, сшита из европейского материала. На голове у царя была красная феска, обмотанная большим муслиновым тюрбаном. В Томбукту семь мечетей, из них две большие, и над каждой возвышается кирпичная башня с лестницей внутри. Расположен этот таинственный город, столь долгое время привлекавший мысли ученых людей, посреди огромной равнины, покрытой движущимися белыми песками, на которых растут лишь чахлые кустики. Таким образом, в городе не хватает дров, чтобы удовлетворить нужды ремесленников и кулинарные потребности жителей, число которых достигает двенадцати тысяч, — за дровами рабы отправляются в дальние путешествия и продают на базаре для богатых людей. То же и с питьевой водой. Вообще говоря, главный источник существования для Томбукту — торговля солью, а продукты питания доставляют из Дженне. Все коренные жители Томбукту — мусульмане и могут иметь до четырех жен. Среди них много хорошеньких; они могут выходить на улицу с непокрытыми лицами и страстно любят украшения: кому не хватает денег на золотое кольцо в нос, вставляют кольцо из красного шелка. Торговле Томбукту сильно мешают туарики (туареги). Эти дикие кочевники обложили негров данью и грабят подчистую. В Томбукту рабов после захода солнца не выпускают на улицу, чтобы туарики не похитили». Через две недели — 4 мая 1828 года — Кайе выехал из Томбукту. В итоге путешественнику удалось установить координаты города: 17°50′ северной широты и 6° западной долготы. Он попрощался с хозяином, снабдившим француза провизией и подарившим роскошное полотняное покрывало, нанял верблюда, погрузил на него ткани, закупленные в Дженне, и отправился в путь. В караване считалось шестьсот верблюдов, но вскоре их стало почти полторы тысячи: в пути встречались меньшие караваны и присоединялись к большому. Кайе рассказывает, что в пути он, помимо карманного компаса, днем сверялся с солнцем, ночью — с Полярной звездой, поистине путеводной для арабов в бесконечных странствиях по пустыне. Они определяют путь без всякого компаса — и никогда с него не сбиваются — по цвету песка, скалам, пятнам травы и другим неуловимым для нас признакам. Чем дальше к северу, тем безжизненней становилась пустыня, изнурительней жара. 10 мая Кайе увидел место, где два года тому назад лежало брошенное на растерзание хищным птицам тело майора Лэнга, удавленного людьми из своей охраны. К счастью, путники отыскали для верблюдов немного травы и воды. Эти драгоценные в пустыне животные, пишет Кайе, могут служить людям проводниками: едва их навьючат, как они сами отправляются в дорогу, словно помнят, где находится колодец для стоянки. Караван прошел через ужасную местность Араван и 26 мая вышел к колодцу Телиг, где удалось отварить риса, которого не видели уже неделю. 12 июля вступили на территорию Эль-Гариба, 13-го миновали рощицы финиковых пальм, окружающие Эль-Дра[414], а 29-го прибыли в Тафилалет[415]. 12 августа караван пришел в Фес, два дня спустя Кайе выехал оттуда и в тот же вечер прибыл в Мекнес. 15 числа Рене отправился в Рабат, в котором оказался 18-го. Французский консул, еврей, отказался принять путешественника. Пришлось ехать в Танжер. Там после многодневных напрасных попыток Кайе удалось попасть к генеральному консулу господину Делапору, который радушно принял гостя и поселил у себя в доме. Двадцать восьмого сентября Кайе сел на шхуну и 10 октября вернулся во Францию. Его путешествие длилось шестнадцать с половиной месяцев, в том числе семь с половиной месяцев в пути. Скажем не без гордости: он стал первым европейцем, посетившим Томбукту (несчастный майор Лэнг трагически погиб)[416]. За это Географическое общество 5 декабря того же 1828 года присудила Кайе Большую премию в десять тысяч франков. Кроме того, путешественник получил орден Почетного легиона и государственную пенсию. В деревне Мозе Кайе избрали мэром, но его здоровье так никогда и не оправилось полностью от тяжких испытаний, и Рене умер тридцати восьми лет от роду.
ГЛАВА 26
СЕНЕГАЛ
Андре Брю. — Миссия Галлиени. — Полковник Борньи-Деборд. — Карон в Томбукту.Наши отважные нормандские моряки, не ведающие преград, уже в XIV веке вели торговлю с Сенегалом, откуда привозили перец, золото и слоновую кость. Они разведывали торговые пути до самой Гвинеи, а плодами их изысканий потихоньку пользовалась географическая наука. После многих опытов нормандцы пришли к выводу, что лучшее место для фактории — устье реки, и ограничили исследования бассейном Сенегала. Впрочем, прежде них там побывали португальские мореплаватели (лишь мимоходом) и португальские капуцины[417]. Сколько времени провели там миссионеры, сказать точно невозможно. В конце концов, не выдержав местных климатических условий, они в мучениях скончались, а их проповедь разбилась о равнодушие туземцев, всецело преданных языческим обрядам. В XVI веке моряки из Дьеппа и Руана основали фактории, достигшие впоследствии процветания. Мы располагаем списком управляющих этими факториями (главная из них — Сен-Луи на острове в устье Сенегала) начиная с 1626 года. Но все это были мелкие предприятия, основанные, как правило, на недостаточные капиталы; им не хватало единства действий. Положение было исправлено могучей рукой Кольбера[418]. Желая дать мощный толчок французской торговле, Кольбер повсюду создавал большие компании, часто, соответственно суровой и прямой натуре, прибегая к авторитарным методам, и, конечно, не забыл о Сенегале. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все там шло отлично. Так, «город» Сен-Луи насчитывал в те времена двести жителей! В нем был форт с тридцатью пушками, но ни капли питьевой воды. Кольбер умер в 1683 году. Компания еще некоторое время кое-как прозябала — и зачахла. В 1693 году вместо нее была создана другая, известная под именем Парижской компании, во главе со знаменитым Андре Брю[419]. Предписание, в котором Брю давалась безраздельная власть над подчиненными, ссылается на его военный и коммерческий опыт. Где он воевал, неизвестно, торговал же долгое время в Триполи и сообщил много ценных сведений о Триполитании. Кроме того, он обладал — хотя в предписании не сказано — глубоким знанием людей. Вступив в должность, он навел в компании дисциплину и железной рукой управлял народцем мелких торговцев и служащих, привыкших делать, что им вздумается. Со своей стороны, он не жалел ни времени, ни усилий, чтобы расширить и укрепить связи компании. Ради этого он сам возглавил ее экспедиции и отважно искал пути в варварские страны, окружавшие фактории. Он несколько раз поднялся вверх по Сенегалу, чтобы добиться от туземцев права открывать новые фактории. Андре Брю дошел до Бакеля, затем до водопадов Фелу и собрал ценные сведения о дороге от Сенегала до Томбукту. Близ устья реки Фалеме он поставил форт Сен-Пьер, на побережье и вдоль Гамбии — форты Герегес, Биссак, Бутрам, Портанди, Арген, Альбареда, Жоаль и мечтал связать Сенегал с Нигером цепью укрепленных постов. К несчастью, в действиях своих Брю был не вполне свободен. Подчиненные, конечно, целиком находились в его власти, и даже самые ответственные решения Андре мог принимать, ни с кем не советуясь, — но каждый служащий всегда мог ослушаться управляющего, поступать по собственному капризу, обвинять его во всех грехах и писать доносы. Компания не поощряла больших исследований и запретила различные завоевания. К тому же общественное мнение не интересовалось предприятием, выгоду от которого получали только акционеры, и не требовало отправки в Сенегал королевских войск… Так или иначе, Брю открыл эру неведомого дотоле процветания. Этому благоприятствовали его энергия, работоспособность, знание людей и выдающееся умение применяться к обстоятельствам вкупе с качествами дипломата. Андре можно упрекнуть в том, что он сделал важным орудием колонизации водку. Чтобы завязать с неграми торговые сношения, он в изобилии поставлял крепкие напитки и превратил этот товар в очень ценный предмет торговли. Конечно, это не лучшая сторона его деятельности, но он был лишь робким предшественником современных проповедников, которые при помощи тафии[420] пытаются заставить паству хотя бы более или менее тихо сидеть во время проповеди и службы. Да и чем водка Брю безнравственней опиума, которым англичане отравили Дальний Восток, или виски, при помощи которого американцы понемногу уничтожают краснокожих? Независимо от названного способа колонизации, который поныне в ходу, и даже больше, чем прежде, Андре Брю был выдающимся человеком и организатором. Двадцать семь лет он провел в Сенегале и, покидая его, мог гордиться, что собрал колонию из лоскутков. К несчастью, затем в течение ста двадцати с лишним лет дело Брю запустили до такой степени, что Сенегал превратился в обузу для метрополии. В 1758 году, во время Семилетней войны, англичане завладели страной. В 1770 году Сенегал вернул герцог де Лозен. В 1787 году дамель Кайора уступил нам Зеленый мыс и Дакар. С 1784 года колония стала государственным владением и управляется губернатором, назначаемым королем. В 1809 году англичане отобрали у нас Сенегал, в 1817-м — вернули. С 1817 по 1854 год в Сенегале сменилось тридцать семь генеральных и временных губернаторов — всего лишь по одному в год! Разумеется, в такой чехарде дела шли все хуже и хуже. Несмотря на необычайное плодородие и замечательные продукты, земля была словно проклята. Торговцы приезжали туда, чтобы нажиться и сразу уехать; чиновники не чувствовали себя в безопасности и всеми силами добивались перевода на другое место. Впрочем, по совести говоря, положение этих людей — в большинстве образованных, воспитанных, из хорошего общества — было плачевно. За исключением Сен-Луи, Бакеля, Сенудибу и Горе, мы нигде не числились в хозяевах — да и государем острова, на котором стоит Сен-Луи, считался ничтожный сорский царек. Мавры обирали и презирали нас; негры считали нас людоедами (!!!) и ненавидели. И те и другие пользовались любым случаем выразить ненависть, поощряемые непостижимым нашим долготерпением. Да и не просто долготерпением: ни один из губернаторов, беспрерывно сменявших друг друга в метрополии, и понятия, кажется, не имел о положении вещей, отчего и не протестовал против ежедневных оскорблений, наносивших урон чести нашего флага. В частности, Франция платила под видом подарков самую настоящую дань своре чернокожих — законным и незаконным вождям, их прихлебателям и даже рабам! И эта дань, вначале назначаемая туземцам как милость, мало-помалу стала постоянной, санкционированной особыми законами! Пусть хотя бы эти ничтожества имели властный вид! Так нет же — всей одежды-то перья да веревочка, на которой болтается грязный лоскут! Губернаторы разговаривали, как равные с равными, со смехотворными созданиями без достоинства, ума, чести, которым вы бы не доверили чистить башмаки, в то время как наши купцы были вынуждены подчиняться самым нелепым капризам царьков! Тщетно старались относиться к туземцам все добрей и снисходительней — они, упорно пользуясь нашей мягкотелостью, не останавливались перед грабежом и насилием. Например, французы вообще не имели права плавать вверх по Сенегалу, за исключением жителей Сен-Луи. Но и те, останавливаясь у какой-нибудь деревни, должны были платить «обычные» деньги. Будут они здесь торговать или нет — не имеет значения; сперва надобно уплатить налог. А если от этого пытались уклониться, суда под нашим флагом немедленно арестовывались, а товары конфисковывались. Да и сами «таможенные пошлины», на ходу установленные по прихоти очередного князька, в соответствии с «благорасположением» и алчностью его величества могли быть всегда увеличены вдвое, вчетверо, вдесятеро… А мы все терпим, с непостижимой кротостью снося каждодневные оскорбления, постоянное хамство, непрестанные угрозы изгнать нас, когда довольно было стукнуть кулаком и провести военную операцию силами четырех солдат морской пехоты с капралом во главе! Так продолжалось до 1854 года. В тот год марабут Хадж Омар[421] с тукулёрами[422] захватил Бамбук, угрожая французским торговым заведениям. Тукулёры, происходящие от пёль[423] белой расы и негров из тех же мест, в 1802 году основали империю Сокото[424]. Это были противники иного сорта, чем всякие там бамбара, мандинго и йолофы[425]. Требовалось действовать без промедления и губернатор Проте послал в Бакель капитана Фэдерба[426] с лейтенантом Коке. Офицер, ставший позднее одним из героев национальной обороны, привел форт в должный порядок и принудил марабута отступить. Два месяца спустя Фэдерба назначили командиром саперного батальона и губернатором Сенегала. Под управлением славного воина, обладавшего гражданскими добродетелями и прекрасными душевными качествами, Сенегал поистине стал частью французской земли, любезным и достойным уголком метрополии. Вот несколько дат, чтобы напомнить важнейшие деяния, предпринятые во время губернаторства Фэдерба, после чего мы перейдем собственно к исследованию Сенегала, подготовленному завоеванием и с ним сопряженному. В 1855 году Фэдерб с пятьюстами человек разбил армию Хадж-Омара, желавшего основать мусульманскую державу и поглотить нашу колонию. В 1858 году губернатор отобрал левый берег Сенегала у мавров трарза;[427] в том же году майор Фарон и капитан-лейтенант Об взяли штурмом форт Гему; в 1859 году Фэдерб аннексировал Бооль, Сине, Салум, Казаманс и возобновил военные действия со старым неприятелем — марабутом; в 1860 году он отбросил этого фанатика в Сегу и завершил покорением тукулёров — пусть временным — борьбу, от исхода которой зависела жизнь и смерть нашей колонии. В 1861 году, в результате похода против кайорского царя Фэдерб покорил его прибрежные земли и аннексировал провинцию Диандер. В то же время губернатор строил дороги, мосты, телеграфные линии, школы, казармы, форты, проводил опытные посевы индиго и хлопчатника, создал банк, музей, типографию, журнал, короче говоря — могучим дыханием вдохнул в старую колонию новую жизнь. Одновременно Фэдерб — столь же ловкий дипломат, как храбрый солдат и несравненный администратор, — благоразумно решил завязать отношения с укрывшимся в Сегу Хадж-Омаром: оттуда марабут ничем не мог вредить, но иметь о нем сведения было полезно. Для этого Фэдерб отправил к мятежнику с миссией капитан-лейтенанта Мажа[428] и доктора Кентена. Они отправились в Сегу из Медине 25 ноября 1863 года. Перед самым их прибытием старый марабут при таинственных обстоятельствах скончался. Сын его Ахмаду, позднее доставивший нам столько неприятностей, принял посланников довольно любезно, но с присущим африканцам упорством несколько месяцев не отпускал обратно. Ленивое лукавство этих людей нервирует европейцев и постепенно вовсе выводит из равновесия… Отважным путешественникам не удалось заключить договора, но они собрали поразительный урожай важных сведений. Результаты их трудов опубликованы в сочинении под заглавием «Путешествие в Восточный Судан», удостоенном большой золотой медали Географического общества. Любопытные подробности об Ахмаду и окружении, которые сообщают посланники из Сегу, заслуживают права быть воспроизведенными. С первого взгляда господин Маж дал Ахмаду лет девятнадцать — двадцать, хотя на самом деле ему было уже тридцать. Роста он высокого, имел умное выражение лица, но говорил тихо и медленно, слегка заикаясь. Несмотря на высокий лоб и не слишком крупные ноздри, общий тип лица из-за толстых губ и скошенного подбородка был негритянский. Носил он синюю феску и очень свободное бубу[429] с весьма обширным гиба (карманом), надетое поверх белой рубахи тончайшего полотна. В руках держал четки и в паузах среди разговора перебирал их, шепча молитвы. На козьей шкуре перед ним лежали арабская книга, сандалии и турецкая сабля. За время долгого, по милости Ахмаду, пребывания в Сегу Маж и Кентен смогли убедиться, сколь иллюзорна, вопреки внешней видимости, власть султана в государстве. Последующие события доказали, что они весьма проницательно разобрались в обстановке. Вместо сильного султаната марабут Хадж-Омар построил воздушный замок. После его смерти тукулёрские отряды погрязли в беспрестанных распрях, а их вожди, непримиримые сепаратисты, разорвали вассальные присяги и провозгласили независимость. Верной осталась лишь армия государства Сегу, но в ней было от силы тысяч десять человек и никакой организации. Братья султана оказались отрезанными восставшими белудегу, а буре перешли на нашу сторону. Воцарилась анархия, вероятным исходом которой оказалась скорая гибель и самая банальная аннексия. С 1865 по 1878 год не произошло ничего примечательного. Губернаторы вновь сменяли один другого. Несомненно, господа Жорегиберри, Пине-Лапрад, Вальер, Бриер де Лиль делали все, что было в их силах, но до заслуг славного предшественника им было далеко. Следует, однако, отметить аннексию Рио-Нуньес в 1867-м и Понго в 1876 году, победу над кайорским царем в 1875-м, договор с Эли, царем трарза, в 1877-м и блистательную экспедицию Поля Солейе в Сегу в 1878-м. Упомянем еще экспедицию Байоля и Нуаро в Фута-Джаллон (1880) — и перейдем наконец к путешествию Галлиени[430], намного превосходящему прежние по значению. Морской министр адмирал Жорегиберри, бывший губернатор Сенегала, был поражен, с каким трудом осуществляется провоз наших товаров и вообще все наши дела в Судане. У него родилась идея завязать отношения с неграми Верхнего Нигера, чтобы при случае, пользуясь замечательным путем, проникнуть в центр Африки. Организацию подобной экспедиции, требовавшую такта, изобретательности и энергии, поручили губернатору Бриеру де Лилю, который остановил выбор на капитане Галлиени. Этого человека рекомендовали крупные заслуги по службе, выдающаяся способность переносить африканский климат и вообще долгий опыт жизни в Африке. Под его команду поступили лейтенант Пьетри из морской артиллерии, лейтенант Вальер из морской пехоты и военно-морской врач доктор Тотен. Все трое были достойны отважного начальника. С экспедицией отправился и доктор Байоль, но дошел лишь до Бамако, где Галлиени должен был оставить его в качестве резидента и представителя французского протектората на Нигере. Экспедиция, носившая совершенно мирный характер, имела многочисленные подарки (в Африке это «sine qua non»[431] для любыхсоглашений), нагруженные на двести пятьдесят ослов и двенадцать мулов. Охрану послов французского правительства к негритянским вождям составляли около тридцати туземных солдат, стрелков и сенегальских спаги[432]. Невинные дети природы невероятно чувствительны ко всяким почестям, и психологически необходимо, чтобы в моменты официальных встреч наши представители являлись с пышностью, указывающей, что в своей стране это знатные и почтенные люди. Кроме того, капитан (ныне полковник) Галлиени прекрасно знал опасности, грозящие подобной экспедиции по Черному континенту. Из осторожности, которая должна быть свойственна всякому, кто отвечает за живых людей, он спрятал на дне ящиков четыреста — пятьсот упаковок патронов. Последующие события показали: эта мудрая предосторожность спасла экспедицию от той катастрофы, которая постигла небольшую миссию Флаттерса. Миссия Галлиени отправилась из Сен-Луи 30 января и 26 февраля была в Бакеле, главном городе наших владений на Верхнем Сенегале. Там она пополнила ряды и 7 марта выступила в дальнейший путь. 20 числа она пришла в Кита[433], где Галлиени сразу добился блестящего успеха. Вождь макадиамбугу по имени Токута, самый богатый и влиятельный человек тех мест, беспрекословно подписал договор, по которому нам предоставлялось право в любой момент устроить важное военное и торговое поселение. Этот замечательный человек, в отличие от сородичей, хотел как можно скорее принять наши войска — несомненно, из страха перед Ахмаду, претендовавшим на земли, утраченные его отцом, хотя на них власть султана признавали все меньше и меньше. Достигнутый успех в Кита без единого выстрела имел первостепенное значение, поскольку и географическое положение этой страны первостепенно. Кита находится в точке, откуда дороги расходятся во все стороны — на Бафулабе и наши фактории на Верхнем Сенегале, на Ниоро и к мавританским рынкам Сахары, на Нигер и Бамако, наконец, на Мургулу и долину Бахой, а оттуда к Буре и золотоносным землям. Главная миссия, в которую входили Галлиени, Байоль и Тотен, 27 апреля направилась к Бангасси. Перед ней в авангарде шел лейтенант Пьетри с отрядом стрелков; его задачей было вести разведку на дороге и готовить трудные участки пути для вьючных животных. Тем временем лейтенант Вальер, которого, чтобы не возбуждать подозрений мусульманского коменданта, сопровождало всего несколько солдат и переводчик, должен был попытаться пройти к Нигеру через долину Бахой, производя съемку дороги и выспрашивая у местных племен, насколько возможно, самые подробные сведения о добыче золота. Миссия шла быстро, намереваясь успеть до сезона дождей попасть в Бамако — первый пункт, где отважные офицеры, не ведавшие ни голода, ни усталости, хотели видеть развевающийся французский флаг. К несчастью, вскоре отношение жителей Белудегу к путешественникам переменилось без всяких видимых причин — по крайней мере, на взгляд европейцев, которые не всегда могут уловить побудительные мотивы действий этих больших, наивных, легкомысленных и извращенных детей. Десятого мая экспедиция остановилась в деревне Дио за восемьдесят километров от великой реки. На другой день утром она отправилась дальше. Вдруг, когда проходили через лес масличных пальм, на наших соотечественников без всякого повода со всех сторон накинулись невесть откуда взявшиеся полчища бамбара. Разделенному пополам отряду — Галлиени и Байоль с одной половиной стрелков шли впереди, Тотен с другой — позади — пришлось завязать с неприятелем ожесточенный бой, длившийся не менее часа. Стрелки и спаги показали чудеса храбрости. Они были спокойны, подчинялись командирам, неустрашимо сплотились вокруг них, заняв круговую оборону против ревущей толпы, и, неся огромные потери, открыли мощный ружейный огонь. Как же они тогда радовались предусмотрительности капитана, спрятавшего в ящики запасные патроны! Тридцать храбрецов, почти все раненные, не прекратили беглого огня, поразившего сто пятьдесят бамбара, не считая раненых. Нападавшие, испугавшиеся эффективного огня скорострельного оружия, поняли, что им не справиться с отважным маленьким войском, недвижно стоявшим в клубах дыма, откуда вырывались стремительные разящие молнии, и скрылись в чаще леса. Освободившись, капитан Галлиени тут же поспешил на помощь доктору Тотену. Окруженный пятью сотнями бамбара, тот также вел героическую оборону и потерял почти всех стрелков арьергарда. В полдень, в изнурительную жару, экспедиция двинулась дальше к Нигеру. Четырнадцать человек из отряда было убито, еще столько же ранено! Весь обоз пропал, почти все животные, кроме нескольких мулов, разбежались. Этих мулов Галлиени велел развьючить и вместо поклажи погрузить на них раненых. Он проследил, чтобы никто из смелых и верных солдат не остался на поле боя. Экспедиция попала в страшное положение, но никто и на секунду не помыслил об отступлении. Это окончательно смутило и привело в отчаяние бамбара. В ярости они смотрели, как французский отряд направляется к Нигеру, где царствует извечный враг этих негров — султан Ахмаду. А кто знает, оставили бы они в покое экспедицию в случае отступления? Позволю себе усомниться… Боеспособные солдаты с тридцатью «Шаспо»[434] окружили раненых, уложенных на оставшихся мулов, и направились на восток. Путь лежал через заросли кустарника и гигантских трав — ни следа, ни тропинки, проводников нет… Местность для похода тяжелейшая, бамбара, прячась за кустами и корнями деревьев, преследовали колонну, беспрерывно беспокоили, стреляли из-за укрытий, и каждый в нашем отряде ожидал: вот сейчас будет последняя, страшная засада… Тогда капитан Галлиени приказал остановиться: раненые, истощенные потерей крови, не могли больше выносить переход; здоровые утомились, стерли ноги о корни с камнями, шли с большим трудом. Некоторые даже утонули в глубоком илистом ручье, через который пришлось переходить в темноте. Нельзя было определять путь и по звездам — они спрятались за тучами. Чтобы не попасть в ловушку, пришлось остановиться на поляне и ждать, пока тучи разойдутся. Вы представляете себе, что чувствовал начальник миссии, не зная, где он находится, как его встретят в Бамако, что сталось с отправленными вперед лейтенантами Пьетри и Вальером! Двенадцатого мая в три часа ночи Галлиени отправился дальше, хотя уставшие туземные солдаты говорили: им легче умереть, чем вновь терпеть тяготы и подвергаться опасностям. На пути оказалось обрывистое плато, взобраться на которое стоило неслыханных усилий. За плато началась необъятная долина; над ней плавали клочки тумана, указывая, что где-то невдалеке течет большая река. Пройдя через нее, выбившийся из сил отряд попал в овраг, который, вероятно, вел к Нигеру. Сколько было мук, страданий, опасностей! И вот показалась деревушка, окруженная глинобитной стеной. Увидев белых людей, жители все вышли навстречу с оружием в руках и встали перед калиткой в ограде. Из задних рядов меж тем доносили: бамбара подходят, они полны решимости не упустить добычу. Неужели экспедиция окажется меж двух огней? Неустрашимый капитан Галлиени один отправился к защитникам деревни. Увидев, что белый человек так смело и доверчиво идет к ним навстречу, туземцы застыли. Офицер рассказал, что случилось накануне — как коварно поступили бамбара с ним, другом Бамако, посланным с дарами и миром. Тогда негры рассказали ему, что он находится во владениях Бамако и они отведут его в город, и отрядили к бамбара глашатая объявить: впредь до новых распоряжений белые находятся под их защитой. Пока не дождутся ответа от вождей Бамако, которые решат, что сделать с пришельцами, их ни в коем случае нельзя трогать. В восемь часов под охраной десятка деревенских юношей экспедиция двинулась дальше. Перевалив по тяжелейшим дорогам через горы, около часа пополудни пришли в Бамако, где капитан рассчитывал найти заслуженный отдых для раненых, четыре дня и четыре ночи не знавших покоя. К несчастью, жители и особенно военачальники в городе встретили экспедицию как нельзя более прохладно. Они уже знали о том, в каком печальном положении находится ограбленная миссия, и больше всего опасались прогневать бамбара. Таким образом, не только не удалось оставить доктора Байоля резидентом, но и на ночлег пришлось устраиваться в полном отчаянии — на другом берегу Нигера, в Нафадие. Положение было самое тяжкое, но отважный капитан решился в любом случае выполнить задачу. Он отправил доктора Байоля обратно в Сен-Луи, чтобы с ним вернулись домой сопровождавшие миссию туземцы, поручив также как можно скорей попросить у губернатора подмоги, а сам отправился в резиденцию Ахмаду. В Нанго Галлиени пришлось остановиться и ожидать султанского благорасположения, пришедшего через десять месяцев, протекших в тяжких лишениях и муках. Папаша Ахмаду не любил торопиться! Но терпение храброго офицера было вознаграждено, и 10 марта Ахмаду согласился подписать договор, передающий часть Нигера под французский протекторат. Двадцать первого марта миссия покинула Нанго и отправилась в обратный путь. С восхищением и изумлением приветствовала она французский флаг над Кита, а 12 мая 1881 года возвратилась в Сен-Луи. Когда капитан Галлиени разведал ценность пункта Кита — перекрестка пяти дорог, полковнику Борньи-Деборду[435] поручили взять эту область под наш контроль. Кроме того, он должен был разведать возможность проведения железной дороги от Медине[436] (где кончается судоходство по Сенегалу) до Бамако, Манабугу или Дины. С небольшим экспедиционным корпусом из четырехсот двадцати четырех человек полковник выступил в путь 9 января 1881 года. Туземцы племени губоко стали сопротивляться, оскорбляли и попытались помешать построить форт в Кита. В кровавом бою полковник нанес поражение неграм и без дальнейшего сопротивления установил протекторат от Бафулабе до Кита. После успеха первой кампании полковник Борньи-Деборд в 1881–1882 годах предпринял вторую экспедицию, чтобы продолжить линию фортом в Бадумбе и начать тянуть железную дорогу от Каеса до Кита. 26 декабря 1881 года он с тремястами пятьюдесятью воинами пришел в Бафулабе и сразу же столкнулся с пресловутым Самори. Этот страшный вождь буквально опустошал окрестности, жег деревни, избивал и угонял в рабство жителей. Когда комендант форта Кита отправил ему через одного офицера-туземца протест, Самори арестовал посла, которому, по счастью, удалось бежать. Полковник Борньи-Деборд решил отомстить за оскорбление: безнаказанность могли отнести на счет нашей слабости, что нанесло бы тяжкий ущерб престижу Франции в Судане и, возможно, задержало нас на пути к Нигеру. Хотя у альмами (султана) Самори было две тысячи человек, а у полковника во много раз меньше, негры получили жестокий урок. К сожалению, они его забыли слишком быстро. Третья экспедиция полковника Борньи-Деборда была намного тяжелей прочих, но и намного плодотворней. Ненасытное честолюбие Самори, дерзкого альмами Уасулу, вновь угрожало нашей безопасности. Решено было жестоко покарать непокорного. 7 января 1883 года экспедиционная колонна выступила из Кита в Бамако. В ней числилось пятьсот сорок два человека под ружьем и семьсот при обозе. Полковник Борньи-Деборд сразу овладел сильной крепостью Мургула, после чего капитан Пьетри отправился с авангардом, готовя дорогу, добывая провиант и пытаясь привлечь на нашу сторону вождей беледугу, три года назад ограбивших миссию Галлиени. Старый Ноба, вождь деревни Доба, был тогда главным подстрекателем к грабежу. Надменный и несговорчивый старик отклонил мирные предложения капитана Пьетри, надеясь задержать колонну в пути и перебить. Заблуждение длилось недолго и обошлось туземцам дорого. 12 января полковник Борньи-Деборд получил донесение, что старый Доба готовится к войне, и без колебаний решил покарать мятежника раз и навсегда. Селение Доба расположено в долине и обнесено четырехугольной стеной; дома его — настоящие крепостные казематы — также были соединены между собой глинобитными стенами. Для прохода оставались лишь узкие извилистые улочки, некоторые меньше метра шириной. Полковник занял позицию на открытой местности, выстроил войска к бою в двухстах пятидесяти метрах от села и приказал легкой горной артиллерии открыть огонь. Перед сражением было слышно, как затворившиеся в Доба гриоты (колдуны) вопили пронзительными голосами песнопения и надсадно кричали, словно петухи. При первом залпе голоса их задрожали и стали потише. После второго наступила тишина. Бамбара дрогнули, но не сдались. Отверстия, пробитые в стенах нашими артиллеристами, служили им бойницами: едва снаряд пробивал дыру, как из нее показывалось черное лицо и ружейный ствол. Наши маленькие горные пушечки сосредоточили огонь — и вот уже открылась брешь шириной девять или десять метров. В четверть одиннадцатого в бой вступила штурмовая колонна: впереди шли стрелки при поддержке морской пехоты. Капитан Комб, командовавший колонной, первый вошел в пролом с отвагой человека, которому ничего не грозит, — и каким-то чудом не получил ни царапины! Защитники, отступившие на миг под нашими ядрами, вновь бросились вперед, открыв убийственный огонь, задержавший, но не остановивший штурм. Колонна пробилась внутрь деревни и закрепилась там. Но каждый дом обратился в крепость, которую приходилось брать приступом. Пули градом свистели вокруг капитана Комба, но он под свирепым огнем четким почерком, свидетельствовавшим о совершенном присутствии духа, писал полковнику записочки, чтобы держать командира в курсе происходящего. Несколько человек взобрались на самые высокие крыши и открыли огонь по местам скопления защитников деревни. Полковник ввел в бой еще одну роту морской пехоты, оставив при себе лишь роту стрелков и батарею артиллеристов. От улицы к улице, от дома к дому — и вот наконец в полдень пройдена вся деревня. Доба наша! Три недели спустя полковник Борньи-Деборд присутствовал при закладке форта Бамако: несмотря на попытки Самори разрушить наше предприятие, форт начал строиться. Полковник сказал на церемонии товарищам: «Сейчас прозвучит одиннадцать пушечных залпов в ознаменование того, что отныне и навсегда на берегах Нигера развевается французский флаг. Звук наших маленьких орудий не долетит даже до окрестных гор, но эхо его разнесется значительно дальше Сенегала!» Впрочем, и Самори вскоре убедился, насколько белые сильны, отважны, с ужасным оружием, и, прекратив бесплодную борьбу, сдался на милость победителя. Он признал протекторат Франции и подписал договор, вследствие которого французское влияние распространилось на прекрасные и богатые страны Западного Судана и на весь водный путь по Верхнему Нигеру. Напомним в двух словах еще об одном важнейшем событии истории французских исследований в Судане. В 1888 году капитан-лейтенант Карон на канонерке «Нигер» достиг знаменитого порта Томбукту! Жители — преимущественно туареги — встречали его негостеприимно, хотя и без открытой враждебности. Они приглашали Карона на берег, но тот, чтобы не попасть в засаду, подобно Флаттерсу, не сходил с корабля. Впрочем, Риайя, глава здешнего государства, под давлением мавританских купцов объявил капитану, что страна закрыта для иностранцев и французам здесь делать нечего. Надо сказать, права этого вождя очень спорны: настоящая власть принадлежит Алимсару, великому вождю туарегов, который со всех товаров, проходящих через Томбукту, берет десять процентов пошлины. Карон вступил в переговоры и с ним, но также без большого успеха. Великолепная экспедиция капитана Карона заложила основы для создания карты Нигера и географического изучения Западного Судана. Карон продолжил труды первых исследователей этой реки: Мунго Парка (1795), Рене Кайе (1828), Генриха Барта (1853) и капитан-лейтенанта Мажа (1866). Но точные и подробные съемки реки до Карона и не начинались. Даже положение Томбукту с присущей морякам точностью определил именно Карон!
ГЛАВА 27
ДОКТОР РЕПЕН В ДАГОМЕЕ
Дагомейское войско. — Амазонки. — Человеческие жертвоприношения. — Похороны царя Гезо.Для путешественника есть интереснейшая страна, о которой вспомнили благодаря новейшим исследованиям, — Дагомея[437]. Выдающийся военно-морской врач, доктор Репен, посетил ее в 1853 году, но и тридцать пять лет спустя там все осталось по-прежнему: стародавние обычаи, рабство, женщины-воины, фетиши[438], ужасающие человеческие жертвы, наконец — цари, вечно пьяные от крови и совершенно не приемлющие идей нашей современной цивилизации. Доктор Репен отправился в Дагомею к царю Гезо с богатыми дарами от французского правительства, чтобы уладить несколько торговых дел. Он сошел на берег в Вида, где было тогда и французское поселение. Это второй по значению город царства; площадь его — не менее семи квадратных лье, население около миллиона человек. Прежде всего путешественника поразил змеиный храм. В Дагомее змеи — весьма почитаемый фетиш. Круглое здание имеет десять — двенадцать метров в диаметре и семь — восемь в высоту, внутри украшено древесными ветвями. Через две двери в круглой стене свободно проползают туда и обратно местные божества… Змеи, длиною от метра до трех, от природы безобидны. Нередко можно видеть, как они ползут по улице. Тогда туземцы почтительно подходят к ним, с невероятными предосторожностями берут в руки и относят назад в храм. Горе чужеземцу, который по неведению или неосторожности убьет или как-нибудь обидит змею — он поплатится жизнью. Охрана змей-фетишей поручена неграм, которые живут близ храма в огромном доме и питаются от обильных приношений верующих. По дороге из Вида в Абомей (столицу Дагомеи)[439] стоит еще один змеиный храм, но охраняемый женщинами — они считаются змеиными женами. Наконец, неподалеку от столицы вы проезжаете Кану — священный город, обитель великих жрецов. Там находится храм, где приносят в жертву людей, — небольшой квадратный глинобитный домик, расписанный изображениями фантастических животных… Абомей — значительный город, имеющий в окружности двенадцать — пятнадцать миль и насчитывающий тридцать тысяч жителей. Его защищает глинобитная стена семиметровой высоты и ров десятиметровой ширины и глубины. Проходят в город по легким деревянным мостикам через ров — такие мостики ничего не стоит убрать или разрушить. Улицы в основном широки и чисты, но малолюдны, поскольку каждый дом стоит посреди отдельного двора, обнесенного глиняной стеной. Путешественника со спутниками у входа в город встретил некий придворный сановник с пышной свитой и отвел на большую площадь под сенью прекрасных деревьев, где гостей усадили и подали прохладительное. Вскоре явилось множество военачальников с воинами. Они прошли перед путешественниками парадом, причем вожди, при знаках различия, по очереди изображали перед французской миссией бешеную пляску. «Когда странный парад закончился, — пишет доктор Репен, — отворились ворота дворца, прозвучал артиллерийский салют и громкие вопли, все пали ниц в пыли — и в глубине обширного двора, словно вымощенного человеческими спинами, появился царь Гезо, окруженный женами и гвардейцами-амазонками. Он восседал под большими опахалами на чем-то вроде трона. Сняв шляпы, мы направились к нему. Государь встал, ступил несколько шагов к нам навстречу и, пожав по-европейски руки, знаком пригласил нас усаживаться в расставленные перед троном кресла. По другому знаку руки вождя прежде лежавшие ниц в пыли подняли головы и обступили нас, но с колен, однако, так и не встали». Царю было лет семьдесят. Роста он был выше среднего, станом еще прям и тверд, одет весьма просто: шелковая повязка, завязанная на поясе, окутывала его плечи. Голову правителя венчала черная широкополая шляпа с золотым шнурком, ноги обуты в шитые золотом и серебром сандалии. Украшений почти не было, лишь большое золотое ожерелье недурной работы, на котором висело что-то вроде ажурной шкатулочки с какими-то ценными талисманами. По правую руку от государя совершенно неподвижно сидели по-турецки на коврах шестьсот женщин гвардии, зажав между ног ружья, а за ними — охотницы на слонов с закопченными карабинами, одетые в коричневые ткани. По левую находились жены из сераля, всего около двухсот — одни еще совсем девочки, другие в полном расцвете и блеске негритянской красоты; были и пожилые, сиявшие богатыми шелками и украшениями из серебра и золота. Наконец, позади трона стояло несколько фавориток и начальница женской гвардии. Перед повелителем преклонили колени его старший сын Бахаду — загодя назначенный наследник престола — и министры. Путешественники представились царю и после нескольких речей, встреченных кликами толпы, удалились. На другой день состоялась приватная деловая беседа. Затем государь, чтобы дать представление о могуществе, повелел устроить большой военный парад. Монарх уселся на роскошно украшенный помост, окруженный женами и частью женской гвардии; важнейшие сановники стояли перед ним на коленях. Перед помостом было выставлено двадцать пять — тридцать нацеленных на площадь пушек всевозможных калибров и форм на массивных лафетах; артиллеристки-амазонки держали зажженные фитили. Когда все собрались, по площади прошагала колонна из пяти — шести тысяч человек. Впереди шли музыканты — десятка три. Одни из них дудели в слоновьи бивни, продырявленные на кончиках, издавая хриплые звуки, подобные пастушьему рожку; другие били в барабаны из антилопьей кожи, натянутой на деревянные колоды, выдолбленные, как ступка. Иные сотрясали странным инструментом: пустой высушенной калебасой, обтянутой редкой сеткой, в каждую ячейку которой был вделан овечий позвонок; звук такой калебасы подобен звуку надутого пузыря с сушеным горохом. Еще иные звонили железными палочками в грубые колокольцы; кто-то еще, наконец, свистел в бамбуковые флейты, звук которых терялся в шуме всех оркестров. После парада воины салютовали несколькими ружейными залпами, а затем показали обычные приемы. Они с поразительной скоростью выбегали из строя с ружьем наперевес и с ножом в руке, словно врасплох кидаясь на противника. Отбежав на некоторое расстояние, все они, как один человек, встали и с устрашающим воплем разрядили ружья. Одни воины делали вид, что сносят тесаком голову невидимому неприятелю, и торжествующе несли ее в руках, другие бежали, увлекая за собой противника, чтобы он оказался в окружении всей армии… Внезапно войско сломало строй и все воины, потрясая оружием, с воплем бросились в бешеную атаку, преследуя разбитого врага. Погоня продолжалась до конца площади, потом дагомейское войско довольно стройно запело победную песнь и застыло перед лицом государя. Едва они смолкли, как воздух вновь потрясли звуки канонады. Артиллеристки-амазонки заряжали и стреляли, забивая старые пушечки порохом по самое жерло, так что те подпрыгивали, плохо закрепленные на лафетах. Путешественники, сидевшие прямо напротив многошумной батареи, начали побаиваться, как бы в них не угодил какой-нибудь банник, забытый в стволе артиллеристом в юбке… И тут в клубах пыли на площади явилась женская армия — около четырех тысяч амазонок, лучше вооруженных и единообразней одетых, чем мужчины. Их войско состояло из четырех полков. Первый был одет в синие рубахи, перехваченные на талии синим или красным поясом, и белые с синими полосками штанишки до колен. Знаком полка были белые шапочки с изображением крокодила, вышитым синими нитками. Вооружение состояло из мушкетов и коротких, почти прямых сабель в кожаных ножнах с медной инкрустацией (на саблях отсутствовали гарды); рукояти отделаны акульей кожей. Сабли висели на узких кожаных перевязях через плечо, разнообразно вырезанных по краям и украшенных каури либо разрисованных красной краской. Порох в гильзах из высушенных банановых листьев держался на поясе в патронташах из нескольких отделений. На шее висело множество разнообразных амулетов. Второй полк, числом около четырех сотен женщин, составляли охотницы на слонов. Высокий рост, обмундирование, покроем подобное вышеописанному, но все коричневое, длинные и тяжелые закопченные карабины, с которыми они управлялись весьма легко, придавали отважным воительницам чрезвычайно внушительный вид. На поясе у них висели чрезвычайно прочные кривые кинжалы, а вместо головного убора — причудливое украшение: антилопьи рога на железном обруче вокруг головы, наподобие диадемы. В третьем полку насчитывалось всего две сотни амазонок, вооруженных короткими мушкетонами и одетых в туники из двух полотнищ синего и красного цветов, похожие на средневековые одеяния. Это были артиллеристки, для которых, по-видимому, не хватило орудий. Все полки промаршировали в недурном порядке. Потом генеральша, которую можно было опознать по конским хвостам на поясе, дала команду, и начались учения, совершенно подобные тем, что описаны выше, — только все, насколько возможно, делалось еще яростней и самозабвенней. Трудно описать, прибавляет доктор Репен, что представляла собой эта сцена: раскаленные небеса, вихри пыли и дыма, блеск мушкетов, грохот пушек — и четыре тысячи женщин, упоенные шумом и порохом, скакавшие и корчившиеся с дикими криками, как одержимые… Наконец, когда порох и силы подошли к концу, понемногу восстановились порядок и тишина. Амазонки встали в строй и заняли места прямо перед повелителем. Настала очередь охотниц на слонов, не принимавших участия в предыдущей сцене. Они встали в круг и поползли на корточках, не выпуская карабинов, к тому месту, где якобы находилось стадо слонов. Когда охотницы добрались до воображаемых толстокожих, они по приказу командирши разом вскочили и выстрелили в воздух, затем бросились на животных с ножами, чтобы прикончить их и отрубить в знак победы трофеи — хвосты. Потом охотницы с песней вернулись на место. «Но это было еще не все, — пишет доктор Репен. — Праздник был не завершен, пока не пролилась кровь. Дело в том, что у жителей Дагомеи в обычае по случаю любого общественного торжества приносить человеческие жертвы. Царь извинился перед нами, что в настоящий момент он может казнить всего лишь дюжину заключенных, — для таких гостей, сказал он, это слишком ничтожная честь. Но мы сказали, что уйдем, а не будем присутствовать при подобном зрелище. Так что в этот раз роковой медный чан, стоявший перед повелителем (путешественники давно гадали, каково его предназначение), был обагрен не человеческой кровью. На площадь принесли связанную гиену с заткнутой кляпом пастью. Главные вожди собрались вместе и сделали вид, что совещаются так, если бы в жертву приносилась не гиена, а человек. Гиену приговорили к смерти. Как она ни рычала, как ни пыталась в отчаянье сопротивляться, министр юстиции, соединяющий высокую должность со званием верховного палача, одним взмахом огромной сабли, на которую всегда опирается при ходьбе, отрубил животному голову». Царь Гезо был не лучше и не хуже предшественников — все в их роду предавались кровавому упоению. Он умер года через два после визита доктора Репена. Достойные доверия миссионеры сообщают ужасные подробности похорон — их здесь стоит привести как картину дагомейских нравов. Тело монарха положили в гроб из глины, замешанной на крови сотни пленных с последней войны, которых принесли в жертву, чтобы они охраняли монарха в ином мире. Голова покойного почивала на черепах побежденных владык, а землю вокруг гроба в память о царском достоинстве усопшего усеяли обломками скелетов. После этого открыли ворота пещеры и ввели туда восемь придворных танцовщиц с пятьюдесятью солдатами. Всем им дали немного еды; они также должны были сопровождать государя в царство теней. По обычаю, наследный принц Бахаду восемнадцать месяцев правил как регент от имени покойного отца. Когда срок истек, он созвал в абомейском дворце большое собрание. Из дворца проследовали в погребальную пещеру. Открыли гроб, достали череп покойного государя. Регент взял череп в левую руку, топорик — в правую и громогласно объявил якобы неизвестную народу новость, а именно: царь умер, он же, регент, прежде правил именем усопшего. Услышав мнимую новость, все пали ниц и в знак великой скорби посыпали себя прахом. Но траур был недолог: регент положил череп и топорик, достал из ножен меч и объявил себя царем. Народ, вмиг перейдя от величайшей скорби к буйной радости, начал петь и плясать под оглушительную музыку… Тогда начались настоящие похороны. В царском склепе замуровали шестьдесят человек, пятьдесят баранов, пятьдесят коз, сорок петухов[440] и множество монет. Затем солдаты обоего пола начали палить из ружей, а новый властелин совершил пеший обход дворца. Когда он вновь подошел к воротам склепа, под очередной залп зарубили еще пятьдесят рабов. Так повторялось в течение трех недель — но это был лишь первый акт драмы. Бахаду велел бить в барабан, чтобы возвестить празднование Дня великой дани. Подобная церемония совершается ежегодно, когда посланцы государя и вожди племен приносят повелителю дань, которой он и живет. Утром первого дня праздника на главной площади было предано казни сто мужчин, а в дворцовых покоях — сто женщин. Под мушкетный салют вышел царь, которому знатные люди поклонились и каждый подарил рабов, чтобы принести их в жертву. Затем Бахаду поднялся на помост, где стояли большие корзины. В каждой сидел живой человек, так, что наружу торчала только голова. Корзины выстроили в ряд перед царем. Тот горячо помолился государственным фетишам. Несчастным, сидевшим в корзинах, развязали правую руку и дали выпить по стакану рома за здоровье повелителя, обрекавшего их на смерть… После этого корзины одну за другой столкнули с помоста на площадь — и толпа с воем, песнями и плясками бросилась на добычу, как в иных странах дети бросаются на праздничное угощенье. Всякий обыватель, имевший счастье отхватить голову жертве, мог немедленно пойти обменять ее на кое-какую сумму денег. Когда часть страшного церемониала наконец завершилась, торжественно пронесли оружие и одежды покойного царя Гезо, прошли парадом войска — и все успокоилось. Убивать в Абомее пока больше было некого…
ГЛАВА 28
ПОЛЬ ДЮ ШАЙЮ[441]
Путешествия по Габону. — Гориллы. — Дю Шайю первый царь апинга. — Четыре года странствий. — Хулители. — Второе путешествие.Одно из самых главных достоинств настоящего путешественника, и даже, пожалуй, самое главное, — это, несомненно, наблюдательность. В самом деле: к чему претерпевать жару и холод, ядовитые миазмы, встречи с дикими животными, вредными насекомыми и свирепыми людьми, если не обладаешь способностью, без которой самое суровое и опасное путешествие будет бесплодно? Действительно, бывают такие путешественники, которые, почувствовав призвание, пускаются в путь по горам, долам, лесам, пустыням и рекам, наносят на маршрутные схемы широты, долготы и высоты, записывают названия и составляют прекрасные карты, но не умеют видеть вокруг себя множество вещей, которые могли дополнить и освежить их сухие реляции, варварски пересыпанные странными именами и бессвязными звуками. Дело в том, что они лишены дара наблюдения! Дар этот более редок, чем обыкновенно думают. Он сразу посвящает чужеземца в тайны нравов, обычаев и языков незнакомых племен; благодаря ему путешественник с первого взгляда оценивает облик, продукцию и ресурсы страны. Одним словом, одним мазком, одной чертой он может передать всю жизнь таинственных народов. Вот почему так часто бывают различны записки двух людей, побывавших в одной и той же стране. Кажется, будто один из них по дороге мучился и добровольно закрывал глаза, в то время как другой жадно впитывал в себя как губка подробности жизни новых земель и воссоздавал их в насыщенном фактами повествовании… Без сомнения, среди путешественников, одаренных подобным даром, к числу способнейших принадлежит Поль дю Шайю. Тридцать пять лет назад его имя ненадолго прославилось, но, к сожалению, сейчас оно погружается в пучину забвения. Дю Шайю опередил свое время — тогда еще не было моды на путешествия. Он же был путешественником прирожденным — не терявшим присутствия духа, безупречно отважным, поразительно находчивым. Он умел наблюдать — хорошо наблюдать, как показывает его интереснейшая книга, из которой мы много позаимствуем. Француз по происхождению и исследователь совершенно неизвестной тогда земли, интересный и, главное, правдивый рассказчик (как ни пытались бы опорочить путешественника), упорный и проницательный наблюдатель диковин неизведанной страны — со всех точек зрения он достоин занять в нашем сборнике важное место. Отец его некогда владел факторией в эстуарии[442] Габона. Первые годы жизни дю Шайю провел с ним в почти неизвестных местах — правда, незадолго перед тем Франция завела там торговую контору и воздвигла форт. Он изучил язык, нравы и обычаи туземцев, привык к палящему африканскому солнцу и, насколько по силам белому человеку, к тлетворным болотам, непрерывно навевающим страшную лихорадку. Могучий, непьющий, заядлый охотник, он был рожден, чтобы стать исследователем, и стал им. В октябре 1855 года дю Шайю отплыл из Соединенных Штатов и месяц спустя высадился в эстуарии Габона, недалеко от места, где стояла фактория отца. Прибрежные негры встретили Поля с буйной радостью: они думали, что он вновь приехал торговать. Каково же было их разочарование, когда дю Шайю объявил, что приехал не с безделушками, а с непреклонным желанием путешествовать по стране, о которой они сами рассказывали ему столько чудесных историй, и охотиться по пути на птиц и диких зверей. Сначала добрые негры подумали, что дю Шайю смеется над ними, но когда с корабля стали сгружать не товары, а снаряжение, необходимое для жизни охотника в пустынных местах, им пришлось поверить. Удивление и беспокойство туземцев не знали границ. Одни из них решили, что дю Шайю лишился рассудка, другие встревожились, как бы он не перебил у них торговлю с внутренними районами. Обступив француза, они наперебой принялись рассказывать всякие ужасы о верховых землях: он-де погибнет в водоворотах, слопают людоеды, леопарды, крокодилы, растопчут слоны, утопят гиппопотамы, заманят в ловушку и разорвут на части гориллы… Но когда дю Шайю убедил туземцев, что не собирается вредить их торговле, что ничьи интересы никак не пострадают от подобного путешествия, — все, кроме немногих преданных друзей, бросили Поля на произвол судьбы. Как шутит сам дю Шайю, вначале он познал упоение славы: все пироги местных жителей словно почетным кортежем сопровождали корабль путешественника. Но вскоре у него осталось лишь две лодочки и восемь гребцов. С ними он добрался вверх по эстуарию Габона до американской миссии в Бараке. Затем дю Шайю продлил маршруты странствий до верховьев реки Рембо, что течет с Хрустальных гор. Первым изученным им народом были мпонгве, которых мы здесь будем называть габонцами. Габонские мужчины — среднего роста и с приятными, в общем-то, чертами лица. Они носят каликотовые[443] рубашки английского, американского или французского производства, поверх них — полотняную накидку до самых пят, а на голове шляпу из толстой соломы. Лишь царь имеет право носить шелковый цилиндр — а ведь это верх элегантности не только для негров, но и для цивилизованных народов, включая монархов… Женщины носят простую юбку до колен; обнаженные руки и ноги унизаны множеством медных колец: иногда на каждой ноге носится по двадцать пять — тридцать фунтов металла! Из-за такого глупого кокетства им становится трудно ходить и приходится ковылять. И мужчины и женщины очень любят всяческую мишуру и парфюмерию; они выливают на себя изрядные порции всевозможных духов, заботясь лишь о количестве, а не о качестве. Племя мпонгве, как и многие другие, постепенно уменьшается в числе. Больше, чем лихорадки и даже страшный алкоголизм, в этом виновны полигамия и непрестанные казни по обвинениям в колдовстве. Общество мпонгве подразделяется на многочисленные классы, границы между которыми поддерживаются прежде всего запретом на смешанные браки. Кажется, мпонгве повинуются четырем главным царям, но когда между ними возникают споры (а это случается часто), необходимо собрать «говорильню», или ассамблею. Тогда все старейшины встречаются между собой и решают вопросы. Когда дю Шайю был в Габоне, умер один из царей — Гласс. Тотчас раздались траурные крики и причитания; рыдала вся деревня. Любопытно наблюдать, замечает путешественник, как по малейшему поводу, а то и вовсе без повода — не испытывая ни скорби, ни боли — африканские женщины начинают плакать. Бывает, что они проливают потоки слез и в то же время хохочут. Траур и плач продолжались шесть дней. На второй день усопшего тайно похоронили. Этот обычай происходит от одного горделивого поверья мпонгве: воображая себя самым умным народом в Африке, они считают, будто соседние народы хотят завладеть головой какого-нибудь из их повелителей и сделать себе из монаршьего мозга фетиш, обладающий особенно сильным действием. В траурные дни деревенские старики приступили к выборам нового государя. Это также тайная церемония. Выборы происходят в особом совещании — настоящем конклаве[444], где есть все — просьбы, посулы, угрозы… Лишь на седьмой день некий счастливец избранник узнает, что повелителем избрали его. В тот раз избрали Н’Жогони, друга дю Шайю. Он был обязан этой честью отчасти высокому происхождению, но более всего — народной любви. Утром седьмого дня Н’Жогони гулял по берегу. Вдруг толпа окружила его и тут же приступила к церемонии, предшествующей коронации. Церемония способна у кого угодно, за исключением самых отчаянных честолюбцев, отбить вкус к власти. Ревущая, совершенно упившаяся толпа набросилась на избранника с самыми низкопробными площадными ругательствами. Кто плевал ему в лицо, кто изо всех сил колотил кулаками, кто ногами, кто швырялся всевозможными нечистотами. Неудачники, не попавшие в первые ряды, непрестанно проклинали его самого, отца, мать, братьев, сестер, дедушек, бабушек — и так вплоть до самых отдаленных предков. Непривычный наблюдатель гроша ломаного не дал бы за человека, которого так венчают на царство… Посреди шума и криков дю Шайю уловил несколько слов, которые объяснили ему происходящее. Некий молодец, распоряжавшийся избиением, поминутно орал во все горло: — Ты еще не государь наш! Сейчас наша воля! Станешь государем, тогда и будешь делать все по своей воле! Н’Жогони вел себя как подобает мужчине и будущему монарху: хладнокровно и с улыбкой переносил все оскорбления. Полчаса спустя его отвели в жилище предшественника. Там Н’Жогони усадили на трон, где еще несколько минут он оставался мишенью народных проклятий. Но вот все стихло; старейшины из народа поднялись и произнесли формулу, которую все повторили за ними: — Теперь мы избираем тебя своим государем. Обещаем слушаться тебя и повиноваться. Наступила полная тишина. Шелковый цилиндр — монаршья регалия мпонгве — был немедленно водружен на голову нового государя, забывшего с этим назначением все предшествующие испытания. На Н’Жогони надели и красную мантию — отныне он мог пользоваться всеми прерогативами власти. Впрочем, ему оставалось еще одно, последнее испытание — и что за испытание! В течение шести дней новый монарх обязан принимать, не выходя из дома, поздравления подданных, которые один за другим приносят присягу верности и упиваются алугу — ромом с изрядной добавкой купороса. Монарх, естественно, тоже участвует в возлияниях, так что в конце концов упивается до чертиков. Наконец заключение нового государя заканчивается, запасы спиртного иссякают… Его величество может наконец выйти из насквозь проспиртованного ritiro[445] и безраздельно властвовать. Дю Шайю покинул новых друзей и отправился на мыс Лопес к королю. Мыс открыт португальцем и назван в честь Лопу Гонсалвиша[446], а позднее стал французским владением. Это длинная песчаная коса, далеко выдающаяся в море и с каждым годом заметно увеличивающаяся за счет речных наносов. Одним из берегов коса выходит на глубокую бухту окружностью в пятнадцать миль. В нее впадает река Назарет, главный приток которой — знаменитая река Фетиш. В те времена работорговлю строго запретили, но некоторые негодяи еще занимались ею. Время от времени под покровительством монарха они устраивали охоту на людей, а жертв перевозили под португальским флагом. Государь радушно встретил дю Шайю в своем Лувре[447] — жуткой трехэтажной постройке. Там Банго содержал гарем, которым немало гордился; кроме того, он был закоренелый пьяница. По довольно крутой лестнице с хлипкими ступеньками путешественник поднялся на третий этаж, где восседал монарх, окруженный целой сотней жен. Разумеется, разговор шел о работорговле. Мошенник Бонго жаловался: дела идут плохо, вернейшая статья дохода исчезает… Затем для путешественника устроили пир с плясками, о характере которых лучше не распространяться, и морем алугу — непременного атрибута любых празднеств. Монарху понравилось симпатичное лицо гостя, и он решил не сходя с места выдать за него двух дочерей. «Я почтительно, но твердо отклонил это предложение, — пишет дю Шайю. — В конце концов вонь в зале стала нестерпимой для моих нервов, а развлечения слишком разнузданными — и я счел за благо тихонько удалиться». На мысе Лопес официально существовало несколько барраконов[448] — загонов для рабов. Дю Шайю посетил главный из них, который содержал белый человек, португалец! Снаружи барракон представлял собой огромное пространство, огороженное крепкими кольями высотой около четырех метров, заостренными на конце. За частоколом находились навесы в окружении деревьев, под которыми валялись несчастные невольники — их было не меньше, чем бывает жителей в большой африканской деревне. Рабы-мужчины были скованы по шестеро крепкими цепями, пропущенными через ошейники. Дю Шайю простодушно, без малейшего возмущения, словно речь идет о чем-то естественном, поясняет: «Опыт показывает, что это самый лучший способ заковывать рабов. Шесть человек, как правило, не могут единодушно воспользоваться случаем к побегу, так что доказано — все подобные попытки заканчиваются неудачей». В другом загоне, также огороженном частоколом, находились женщины и дети — их не сковывали, и они могли бродить по барракону как вздумается. Мужчины все были почти голые, женщины обертывали кусокткани вокруг живота. За большим трехэтажным домом, где жили белые, стояла больница — довольно хорошо построенное, просторное и прохладное здание. Вдоль стен стояли бамбуковые кровати, поверх которых наброшены циновки. На улице, под деревьями, стояли огромные котлы, где варили рис и бобы — пищу рабов. В каждом загоне за чистотой и порядком наблюдали несколько надзирателей-португальцев. По временам они отводили негров на море купаться. Иные из негров были веселы и, казалось, довольны судьбой! У других вид был грустный — они, пишет дю Шайю, «как будто тревожились о грядущей судьбе». Как не тревожиться: ведь они думали, будто белые покупают их, чтобы съесть! Во внутренних районах, где приобретают рабов, полагают, что белые — великие людоеды… Поздно ночью, в темноте, дю Шайю вернулся домой, где его ожидал неприятный сюрприз. «Я зажег факел и хотел лечь в постель, но, оглядевшись, чтобы проверить, все ли в порядке, увидал: на моей акоко (бамбуковой кушетке) лежит что-то блестящее и радужное. Вначале я не обратил особого внимания на предмет, едва различимый в неверном свете факела, но вскоре понял: это блестит чешуя огромной змеи! Она свернулась на постели в двух шагах от меня… Первым моим побуждением было выскочить из дома, но потом я решил убить змею. К несчастью, ружья висели на стене за постелью: змея находилась как раз между ними и мной… Я стоял неподвижно, глядел во все глаза, обдумывал, что делать, и не упускал из виду дверь, чтобы в случае чего быстро исчезнуть. Вскоре я понял, что гостья моя лежит смирно. Тогда, набравшись храбрости, я пробрался между кроватью и стеной, снял со стены ружье — слава Богу, в нем был очень сильный заряд. Я приставил дуло к одному из змеиных колец, выстрелил и убежал. На шум со всех сторон примчались негры. Они думали, что тут убили человека, и беспорядочной толпой поспешили поймать злодея. Но, увидев, что под ногами у них извивается змея, они исчезли так же быстро, как и появились. Через некоторое время они потихоньку вновь стали собираться — посмотреть, чем закончилось дело. Факел мой, по счастью, не погас, и я смог увидеть пресмыкающееся на земле. Выстрелом в упор я разорвал ее пополам; обе половины еще корчились. Несколькими ударами дубинкой по голове я прикончил змею. Тогда она, к моему изумлению, изрыгнула проглоченную утку. Вероятно, рептилия поймала добычу вечером и улеглась на мою постель спокойно переварить ее… Милая соседка имела в длину девятнадцать футов. Признаюсь, той ночью мне все время снились змеи — ведь я их терпеть не могу!» Хотя здесь много миссий и миссионеры очень стараются, мпонгве — язычники. Подданные царя Банго поклоняются пяти божествам, которые теснятся в трех хибарках возле царского дома. Его величество весьма набожно почитает их, а они за это охраняют его от всякого зла. Панжо — идол-мужчина — женат на Алеке, и они живут вместе. Панжо особенно покровительствует царю с народом. Другой идол-мужчина, Макамби, женат на Абьяле; они занимают другую хижину. Но бедный Макамби совсем безвластен: всю власть захватила Абьяла. У нее в руках пистолет, и она, говорят, в любой момент может убить кого угодно. Негры очень ее боятся! Наконец, есть бог-мальчик Нумба — туземный Нептун и Меркурий, отвращающий беды, приходящие из-за моря, и усмиряющий волны. Нумба живет в хижине один. Ничего не скажешь — догматы очень просты и доступны самому нехитрому разуму. Экваториальные боги огромного роста и грубо высечены из камня и дерева. Народ, кажется, весьма почитает их. Дю Шайю предложил за одного из идолов сто франков, но ему сказали, что не продадут и за сто рабов, — иначе говоря, статуи богов вообще не продаются. Тем временем путешественником, как никогда, овладела старая страсть к охоте. Он попросил у венценосного приятеля Банго разрешения побродить с ружьем по его отдаленным владениям. Государь милостиво согласился и даже дал дю Шайю двадцать пять рабов, чтобы они повсюду следовали за гостем и несли вещи. Дю Шайю хотел пробраться в неизученные места, простиравшиеся до реки Назарет, и за два дня собрался в дорогу. Его маленький отряд пересек необъятные луга и вышел на сильно пересеченную местность, где высокие холмы вдруг перемежались обрывистыми пропастями, внезапно разверзавшимися под ногами. Внизу, на глубине футов сто и даже больше, можно было увидеть стада в уютных и тенистых оврагах, за которыми высились новые холмы. Ночи обыкновенно были светлые, не туманные, но — удивительное дело — весьма прохладные для Африки: даже лежа рядом с огромным костром, путешественники от холода не могли уснуть. Наконец дю Шайю со спутниками добрались до Нголы, резиденции вождя племени шекиани по имени Н’Жамбе, вассала царя Банго. Все женщины Нголы при виде дю Шайю завопили и разбежались кто куда, в отличие от мужчин. Н’Жамбе принял путешественника со всей учтивостью, приготовил хижину и велел принести ужин. На другой день дю Шайю официально представился вождю и разговаривал с ним. Тот, будучи человеком добрым и великодушным, объявил дю Шайю, что все женщины деревни к услугам почетного гостя Нголы. «Я отклонил этот дар, — вспоминает путешественник, — и рассказал, что белые люди считают подобное отношение к женщинам дурным. В нашей стране, сказал я, у каждого мужчины только одна жена — больше иметь не дозволено. Этого они не смогли перенести — все так и завопили от удивления. Женщины первые объявили, что законы у нас очень странные и никуда не годные». Из-за жестокой мигрени дю Шайю и на другой день остался в деревне. Со всей округи сбегались туземцы смотреть на него, как на диковину (царю, само собой, такое оживление очень нравилось), так как никогда не видели белого человека. Они глядели на путешественника испуганно и вместе с тем как-то глупо. Особенно поражали всех его волосы. «Хорошо, что я остался в деревне, — пишет он. — Мне, таким образом, представился случай спасти жизнь несчастной женщине, погибавшей под страшными пытками. После обеда я читал, как вдруг услышал отчаянный крик. Я спросил, что случилось. Вождь наказывает жену, ответили мне — и кто-то добавил, что, быть может, еще не поздно попытаться спасти ее. Я побежал к дому вождя, где увидел зрелище, от которого кровь застыла у меня в жилах. Перед верандой к толстому столбу привязали обнаженную женщину. Ноги были разведены в стороны и привязаны к колышкам поменьше; шея, талия, ноги и лодыжки обмотаны толстыми веревками, со страшной силой закрученными на палках. Когда я подошел к несчастной, на ней от страшного трения уже лопалась кожа. При зрелище присутствовала огромная толпа, которой такое было не в диковинку. Я подошел прямо к вождю, взял за руку и умолял ради любви ко мне не лишать жизни злосчастное созданье. В это время палачи немного отпустили веревки: они, похоже, были за отмену казни. Но вождь медлил: ему было трудно отказаться от мщения и поэтому ушел в дом. Я последовал за ним и пригрозил: если женщину не отпустят, я немедленно уеду. Вождь наконец решился и сказал: — Я тебе ее дарю, развяжешь сам. Я тут же бросился на улицу и, будучи не в силах развязать, разрезал страшные путы ножом. Бедняжка была вся в крови, веревки уже впились в живое мясо — кровь так и хлестала из открытых ран… Но раны были неопасны. Я возблагодарил в сердце своем Господа, что спас ей жизнь… Тотчас я отправился к вождю и взял с него обещание не наказывать более эту женщину и спросил у нее самой, в чем она провинилась. Она призналась, что утащила у мужа шитый бисером поясочек и подарила любовнику. Нечего сказать, ужасное преступление!» Вождь был все еще не в духе. Чтобы развеселить его, дю Шайю решил переменить разговор и поговорить об охоте, в том числе о подвигах разных знаменитых стрелков. Между прочим путешественник показал вождю птичку на вершине огромного дерева и объявил, что убьет ее. «Это невозможно!» — вскричал Н’Жамбе. Дю Шайю так и знал — негры ведь стреляют плохо. Тогда он послал за ружьем, прицелился, выстрелил — и несчастная птичка под рукоплескания пораженной толпы камнем рухнула вниз… Дю Шайю прожил в Нголе долго. Его охотничья коллекция что ни день росла после удачных походов. Он решил не идти к реке Назарет, раздал новым друзьям в благодарность за гостеприимство весь табак и попрощался с Н’Жамбе. Прежде чем вернуться к рассказу о жизни на мысе Лопес, дю Шайю сообщает прелюбопытные подробности о жизни малоизвестного племени шекиани. Он первым посетил его и лучше, чем кто-либо, познакомился с ним. Вот в основных чертах рассказ Поля. Шекиани и союзные им племена населяют территорию на побережье и внутри страны, простирающуюся на восемьдесят с лишним морских миль. Просторы их земель испещрены многочисленными деревнями, но ни одна не является главной, объединяющей — более полной децентрализации быть не может. Но все они называют себя шекиани, оберегая национальную идентичность. Роста негры среднего, цвет кожи у них несколько светлей, чем у большинства жителей Экваториальной Африки. Они воинственны, коварны, очень любят заниматься торговлей и, строго говоря, большие жулики. Не лишены шекиани и смелости. Они страстные охотники, привычны к жизни в лесу, подвижны, ловки, быстроноги и умеют с помощью любых хитростей подобраться к добыче. Как и многие другие африканцы, мужчины не любят земледелия — это занятие оставляют на долю женщин и рабов. Как правило, у шекиани бывает несколько жен. Племя весьма чтит подобный обычай, возведя его в ранг политического института. Похоже, что главный интерес мужчины здесь — породниться со сколь можно большим числом семейств как своего племени, так и соседних, чтобы расширить торговые связи, влияние и доверие. С другой стороны, из-за легкости нравов происходят почти все их ссоры и войны. Мужчины постоянно заводят интрижки с чужеземными женщинами. Если их застигнут на месте преступления — либо убивают несчастного, либо тяжко расплачивается вся страна. Кроме того, девочек здесь часто выдают замуж в столь юном возрасте, что они теряют способность к материнству — одна из причин, по которой шекиани, как и многие другие племена, постоянно уменьшаются в числе. Детей сватают лет трех-четырех от роду, а то и прямо от рождения, а в восемь — девять лет, если не раньше, девочка уже приходит к мужу. Иногда они рожают тринадцати — четырнадцати лет, но зато рано и стареют, большая часть умирает бесплодными в ранней молодости. Мужья здесь верностью не отличаются, жены тоже невысоко ценят честь и нередко ведут довольно-таки бурную жизнь. При этом прелюбодеяние считается тяжким преступлением и карается штрафом, соответствующим стоимости имущества преступника. Многих мужчин, если им нечем заплатить, продают в рабство. Иногда виновный откупается тем, что какое-то время работает на оскорбленного супруга, иногда дело заканчивается самоубийством. Одна из жен у каждого шакиани считается главной, как правило, та, кого он взял первой. Прелюбодеяние с этой женой карается особенно строго; тот, кто уличен в нем, по меньшей мере навечно продается в рабство. Когда муж берет себе другую жену — часто маленькую девочку, — новая супруга поступает под начало и надзор к главной, пока сама не повзрослеет. Мужчина может жениться и на рабыне, однако дети ее хотя и будут лично свободными, но не получат у племени того почета и влияния, что сыновья от свободных женщин. Часто жены бегут от мужей — по причине жестокости или по иным — в соседние деревни. Не выдать беглянку — дело чести, и отсюда также происходят многие войны. Браки совершаются крайне просто и без всяких формальностей: невесту просто передают в обмен на подарок, зависящий от богатства жениха и его родни. Однако церемония всегда сопровождается оглушительным кошачьим концертом нестройных инструментов и потоками помбе, пива из сорго. Его наливают в огромное корыто, из которого все и лакают, как животные. С женами здесь, как и во всех диких племенах, обходятся весьма сурово. Мужчины принципиально возлагают на них самые тяжелые работы. Количество детей, особенно мальчиков, весьма важно для престижа главы семейства, поэтому плодовитые женщины в большом почете. В довольно частых случаях, когда муж стар и немощен, законы весьма снисходительны к матери: у нее не спрашивают, каким чудом происходит приращение потомства… Наконец дю Шайю вернулся к старому приятелю Банго. Венценосный пьяница, несмотря на крепкий организм, заболел, как и дю Шайю: у Поля случилось сильное воспаление ног. Пришлось оставить вольные странствия по африканским просторам: хорошо, если он мог отойти ненадолго от дома подстрелить какую-нибудь птицу. Однажды дю Шайю заметил, как неподалеку от его убогого жилища из барракона вышла колонна негров и направилась к другому краю леса. Когда они подошли ближе, путешественник увидел: две шестерки скованных через ошейники невольников под присмотром надзирателя с бичом несли какой-то груз. Поль сразу догадался, что это был труп раба. Покойного отнесли к опушке и положили прямо на землю, затем, все так же под надзором, негры вернулись обратно в темницу. Дю Шайю пошел взглянуть на труп, к которому уже слеталось воронье. Под ногами у путешественника что-то хрустнуло. Он взглянул на землю и увидел, что стоит посреди черепов, — по неосторожности он наступил на скелет какого-то бедолаги, давно обглоданный зверями и птицами. И куда ни глянь — кругом такие же скелеты… На этом месте их складывали давно — смертность в барраконах ужасна. За кустами белели целые груды скелетов. Когда мыс Лопес еще был большим невольничьим рынком, сюда швыряли как попало множество трупов. Затем дю Шайю посетил место последнего упокоения свободных людей — оно было полной противоположностью зловещему оссуарию[449] несчастных жертв работорговли. Кладбище находилось напротив царской резиденции в прекрасной роще, где некоторые деревья были великолепны и достигали огромной высоты. Тела не хоронили под землей: они стояли под деревьями в больших деревянных гробах. Один из гробов развалился, так что можно было увидеть скелет. Иные останки, словно бежав из дощатой тюрьмы, лежали на земле подле гробов. Повсюду белые кости и груды праха… Вокруг останков нескольких девушек лежали еще их медные кольца и браслеты. Сокровища, вместе с которыми похоронили какого-то богача, рассыпались вместе с ним. Кое-где лишь блеск украшений из меди, железа или слоновой кости в кучке праха указывали, что здесь был погребен человек. Дю Шайю вошел под сень самых густых деревьев и направился к гробнице царя Пассола, брата Банго. Гроб стоял на земле, окруженный большими сундуками с сокровищами покойного монарха. Между и поверх сундуков были навалены груды всевозможной утвари: зеркал, кувшинов, блюд, горшков, железных стержней, медных и бронзовых звонков и прочих предметов, которые государь пожелал унести с собою в мир иной. Кроме того, вокруг царской могилы лежало множество скелетов — не менее сотни. Это конечно же были рабы, убитые вместе с государем, чтобы в загробном царстве он явился среди прочих африканских властителей с достойной свитой… Оправившись от болезни и хорошо отдохнув, дю Шайю распрощался с мпонгве, вернулся в Габон и спрятал в надежное место коллекции. Затем демон дальних странствий вновь овладел им. Дю Шайю отправился на остров Кориско набрать отряд для путешествия на реку Муни. Гористый и лесистый остров Кориско расположен в бухте того же названия между мысами Сан-Хуан и Эстейрас и имеет около двенадцати миль в окружности. Деревни расположены вдоль по берегу; население, принадлежащее к племени мбенга, много времени уделяет торговле. На острове есть три поселения миссионеров. Двадцать седьмого июля 1856 года дю Шайю отправился вверх по Муни в сторону деревни Дайоко. Как и большинство рек побережья, Муни течет среди мангровых деревьев, но чем дальше вверх, тем более болотистыми становятся берега. К ночи экспедиция приплыла в затончик, на берегу которого и стояла Дайоко, и шумом разбудила всю деревню. Мужчины схватили старые мушкеты и изготовились к бою на случай отражения вооруженного нападения. Отвага их тем больше заслуживает похвалы, что стояла непроглядная тьма. Узнав, кто к ним приехал, жители пришли в восторг и разожгли большой костер. Явился, потирая глаза, сам царек Дайоко. Он оказался очень рад, что придется не сражаться с врагом, а принимать гостя. Началось знакомство — долгая, утомительная церемония, принятая у африканских племен. Общество уселось в кружок и потребовало рассказа о всех малейших происшествиях, случившихся от начала пути. На другой день дю Шайю первым делом поторопился испросить у вождя разрешения на дальнейший путь и взять людей для охраны. Старый вождь сначала упрямился, но дю Шайю убедил его, что помышляет не о торговле, но лишь об исследовании новых земель и об охоте. Вскоре он отправился дальше, и через пять-шесть переходов добрался до земель мбудемо — воинственного племени, живущего в хорошо укрепленных деревнях. Они вечно дерутся друг с другом, причем, что удивительно, всегда находят союзников при помощи грубой уловки, в которую никто не верит, но которая срабатывает безотказно. «Например, — пишет дю Шайю, — два племени затеяли ссору, но одно из них нуждается в подкреплении. Что делать? Оно тайно посылает своего человека в деревню, не имеющую к их делам ровно никакого отношения, кого-нибудь убить. Вы, естественно, думаете, что люди из этой деревни будут мстить за убитого? Как бы не так! Тут-то и начинается самое интересное: убийцы заявляют, будто совершили преступление потому, что их оскорбило другое племя. Тогда, по африканскому обычаю, обе деревни объединяются и идут в поход на общего врага. Иначе говоря: чтобы найти союзников, одна деревня убивает людей в другой, а они вместе наказывают третью! Их принцип таков: обидчик отвечает полностью за все последствия своих действий». Путешественник недолго пробыл среди этих людей, о нравственности которых получил подобные сведения. Узнав, что невдалеке видали следы гориллы, он сорвался с места и со всей поспешностью устремился в погоню — охота на чудовищную обезьяну всегда считалась делом невозможным, но дю Шайю мечтал о ней. И вот он увидел следы на земле… «Мы пошли по приметам, — пишет он, — и вскоре увидели много отпечатков лап столь вожделенного животного. Я увидел их в первый раз. Не могу передать, что я испытал при этом. Я сейчас окажусь лицом к лицу с чудовищем, о свирепости, силе и хитрости которого у туземцев ходят легенды, в цивилизованном мире почти неизвестным, — животным, на которое белый человек еще никогда не охотился! Сердце мое колотилось так, что я боялся, как бы его стук не спугнул гориллу. Я поистине страдал от предвкушения! Мы медленно шли через густые кусты, не смея дохнуть, чтобы не выдать себя. Вдруг я услышал необыкновенный нестройный вопль, похожий не то на человеческий, не то на дьявольский, и разглядел, как четыре молодые гориллы пустились бежать в лесную чащу. Мы выстрелили, но не попали. Потом я вновь увидел гориллу, однако она, к несчастью, стояла за деревом и я не мог стрелять. У нас не хватило сил гнаться за проворными обезьянами, и мы вернулись в лагерь». На другой день дю Шайю отправился в лес, надеясь подстрелить какую-либо дичь: из-за нерасторопности спутников он остался совсем без еды. Внезапно ему навстречу попался воин племени фанг[450] с двумя женами. Место было глухое, дю Шайю шел один… Он поневоле насторожился, но вдруг увидел, что дикарь со спутницами буквально обезумели от ужаса. Руки у негра задрожали так, что щит с грохотом упал на землю. Бедняга в ужасе разинул рот, не зная, как ему быть; губы посерели, глаза застыли и выкатились из орбит. У африканца было три дротика — один он уронил, а с прочими от испуга позабыл, как обращаться. Женщины сначала уронили на землю корзины, которые несли на голове, а потом, полумертвые от страха, повалились сами. Так дю Шайю и убогие дети природы долго глядели друг на друга. Француз ласково улыбнулся и вообще постарался выказать любезность, но дикари, никогда не видавшие улыбки белого человека, приняли ее за смех людоеда, отправившегося за свежатиной. Они в полной панике искали, в какую бы трещину в земле им провалиться. К счастью, послышались голоса спутников дю Шайю. Фанг понял, что с белым человеком идут негры, пришел в себя и пригласил маленький отряд к себе на стоянку. Вскоре фанг совсем успокоился, а после стакана водки и вовсе подружился с путешественником. Он рассказал ему новость, от которой сердце дю Шайю так и затрепетало: лес так и кишел гориллами! День клонился к вечеру. Охоту пришлось отложить на завтра. Дю Шайю не мог глаз сомкнуть: волновался, как школьник перед экзаменом… «Мы вышли на рассвете, — пишет он, — и забрались в самую что ни на есть густую, неприступную чащу — там мы надеялись найти убежище животного, с которым я так хотел сразиться. Час за часом шли мы вперед, но ни малейших следов горилл не обнаружили: кругом все те же крикливые обезьянки да кое-где — птицы. Вдруг Мьенге, один из спутников, тихонько прокудахтал — этим сигналом туземцы пользуются, когда случается что-нибудь неожиданное. В тот же миг прямо перед нами затрещали ветки — это была горилла! Я понял это по гордому виду своих людей… Они тщательно осматривали ружья — вдруг порох ссыпался с полки? Я на всякий случай тоже проверил ружье, и мы осторожно двинулись дальше. Ветви все трещали и трещали. Мы шли на цыпочках в полном молчании. По спутникам было сразу видно, что ввязались в серьезное дело… Наконец за густыми кустами мы увидели, как качаются ветки и молодые деревца: зверь вырывал их с корнем, добывая себе на корм плоды и ягоды. Мы поползли дальше, соблюдая такую тишину, что было слышно наше дыхание. Вдруг лес огласился ужасным ревом. Кусты раздвинулись — и перед нами возник огромный самец гориллы. Он пошел через заросли на четвереньках, но, заметив нас, встал и дерзко поглядел нам в глаза. Мы были от него шагах в пятнадцати. Никогда не забуду эту встречу! Роста в нем было футов шесть, плечи огромны, грудь чудовищна, сила рук неимоверна. Глубоко посаженные серые глаза дико блестели, а в его оскале было нечто дьявольское. Ничуть нас не испугавшись, он стоял на месте и бил себя огромными кулаками в грудь, бухавшую, как гигантский барабан, и непрестанно рычал. Рык гориллы — самый поразительный и странный звук из всех, что можно слышать в лесу. Он начинается с отрывистого лая, как у разъяренного пса, и постепенно переходит в звук, в точности подобный раскатам дальнего грома, — когда я слышал крик гориллы где-нибудь вдалеке, мне часто казалось, что гремит гром. Кажется, что рык исходит не изо рта и гортани, а из огромных полостей в груди и в чреве — так он глубок и звучен. Не шевелясь мы готовились к обороне, а глаза гориллы все разгорались. Редкие волосы на макушке у зверя встали дыбом и зашевелились, он обнажил могучие клыки и вновь страшно зарычал. В этот миг он напомнил мне какое-то зловещее сонное видение или одно из тех фантастических существ, полузверей-полулюдей, которыми художники населяют адские пределы. Он подошел на несколько шагов, остановился и вновь страшно взревел, двинулся дальше, шагах в десяти от нас опять встал и продолжил реветь… В это время мы выстрелили и убили его наповал. Стон животного был подобен и звериному и человеческому. Он упал ничком на землю, несколько минут конечности в напряжении конвульсивно дергались, и наконец все стихло: смерть взяла свое. Тут уже я мог вдоволь наглядеться на огромное тело. Роста в горилле было пять футов восемь дюймов; мускулатура рук и груди говорила о недюжинной силе». Одержав нетрудную в общем-то победу и получив вожделенное чучело, дю Шайю отправился в деревню фангов. Путешественник хотел своими глазами убедиться в том, о чем давно слышал, но не хотел верить: в людоедстве фангов. Любопытство Поля было удовлетворено, и даже слишком. Едва он вошел в деревню, как увидал следы крови. Дю Шайю сразу показалось, что это кровь человеческая, но он все еще сомневался. Вскоре все сомнения отпали: он встретил женщину, которая преспокойно, словно баранью ляжку с базара, несла человеческую ногу. Вся деревня, особенно женщины и дети перепутались появления дю Шайю. Пока он шел по длинной аллее, по сторонам которой там и сям валялись человеческие скелеты (дю Шайю решил, что это главная улица), перед ним все разбегались по домам. Наконец он дошел до главного дома, из которого слышался громкий ропот. Позже он узнал, что там как раз ели человека и ругались между собой, потому что пищи на всех было мало… Вскоре все фанги сбежались посмотреть на белого. Представили его и царю. Вид царя-людоеда, пишет путешественник, был свирепым и неприятным. Совершенно голое — если не считать пояска из древесной коры — тело было покрыто грубыми рисунками красной краски; татуировка покрывала и лицо, и грудь, и тело, и живот. Правитель был увешан амулетами, вооружен с головы до пят и носил на ногах медные кольца, звеневшие при ходьбе. Борода состояла из нескольких сплетенных жестких торчавших вперед косичек, украшенных жемчугом, зубы заострены и выкрашены в черный цвет. «Словно могила разверзлась!» — сказали бы вы, увидав, как он открывает черную пасть. Царя сопровождала супруга — самая уродливая женщина, какую только можно увидеть. Она также была почти обнажена: всей одежды на ней была повязочка, крашеная, как и у царя, в красный цвет. Тело царицы покрывали малопонятные рисунки; кожа, вечно открытая дождю и ветру, стала пористой и шершавой. На ногах у нее были огромные железные кольца, а в ушах медные серьги двух дюймов в диаметре. Стоявший рядом с путешественником важного вида негр объявил царю: он-де привел духа, проехавшего много тысяч миль через «Великие воды» специально к фангам. В восторге от такой чести, царь велел супруге как можно скорей приготовить жилье для столь важного гостя. Без дальнейших промедлений дю Шайю отвели в новое жилище. По пути он с любопытством разглядывал деревню. Она была совсем еще новая и состояла из единственной улицы длиной около километра с крохотными домиками из древесной коры, крытыми пальмовыми листьями. Наружу выходили через крышу; окон в плетеных стенах не было. В одной и той же комнате ели, спали, готовили; тут же хранили запасы: к потолку были подвешены куски дичины и копченой человечины… Надо сказать, деревни здесь хорошо укреплены: огорожены крепкими частоколами и ночью охраняются стражей — даже днем чужеземцам строго запрещено появляться здесь. Дю Шайю провели в отведенную ему хижину через всю деревню, и на каждом шагу он наблюдал ужасные следы антропофагии: целые груды человеческих костей, перемешанных с останками животных… После такой тошнотворной прогулки путешественнику плохо спалось на кое-как сколоченной из досок походной постели… Утром к нему с визитом явился царь в полном боевом снаряжении и раскраске. Заново покрашенное красной краской тело повелителя было все увешано амулетами и фетишами, охраняющими от дурного глаза, стрелы и пули. Три дротика, пук отравленных стрел, щит из слоновьей кожи составляли вооружение монарха. Дротики имели железный зазубренный наконечник и напоминали гарпун. Стрелами служили простые тонкие бамбуковые палочки, не более фута длиной, лишь слегка заостренные с одного конца. Они несут смерть всему живому: довольно, чтобы вытекла одна капля крови… Ядом служит сок одного растения, в который окунают стрелы; высохнув, они краснеют на острие. Никто не знает лекарства от ран, нанесенных этой столь безобидной с виду палочкой, — смерть наступает через несколько мгновений. Во время войны дикари иногда втыкают эти стрелы в землю, высунув острие на дюйм или на два. Стоит врагу чуть-чуть поцарапать босую ногу, как он падает замертво, моментально пораженный ядом! Фанги пользуются также трехфутовым охотничьим ножом и острым метательным топором. Как мы знаем, фанги являются людоедами, но зато свято чтут супружескую верность, в отличие от мпонгве, их соседей. Дочерей они строго стерегут и не выдают замуж до достижения ими определенного возраста. Брачные церемонии, разумеется, крайне грубы и служат поводом для столь же грубых развлечений. Как везде, жених должен выкупить невесту. Хитрый отец невесты стремится продать ее как можно дороже, причем запрашивает плату тем выше, чем больше страсти видит в будущем зяте. Часто проходят годы, прежде чем человек может выкупить жену. Выше всего у фангов ценятся медные браслеты, белый жемчуг и медные блюда. Перед свадьбой друзья новобрачных в течение нескольких дней собирают и копят множество еды, особенно копченого мяса слона и пальмового вина. Когда все готово, собирается вся деревня. Без всяких церемоний — просто как на публичной распродаже — отец передает невесту жениху. Счастливая чета в праздничном уборе. Жених надевает плюмаж из ярких перьев, тело натерто маслом, зубы — черные и полированные, словно эбеновое дерево, на боку висит большой нож. Если жениху посчастливилось убить леопарда или другое какое животное — он заворачивается в его шкуру. Невеста одета гораздо проще — по правде сказать, совсем не одета. Но для торжественного случая она надевает все медные и бронзовые браслеты, какие только у нее есть, а в курчавых волосах у нее блестит множество белых жемчужин… Когда все в сборе и супруга вручена нареченному, начинается большой пир, продолжающийся иногда несколько дней. Там объедаются антилопьим мясом, свининой, слониной, буйволятиной, упиваются помбе и пальмовым вином — до отвалу, пока из ушей не польется, пока не иссякнут силы и провизия… Фанги верны в браке, но они многоженцы. Кроме того, суеверны: невероятно почитают свои амулеты и фетиши, которыми увешаны все от мала до велика. Согласно обычаю, их освящает колдун племени. Амулеты состоят из маленького мешочка, подвешенного на шее или у пояса, а также из железной цепочки, перекинутой через левое плечо. Мешочки сделаны из кожи редкого животного, а лежат в них кости другого редкого животного. В главной деревне каждого фангского рода в святилище стоит колоссальный идол; по временам весь род является поклониться ему. Дю Шайю хотел продолжить путь дальше на восток, в глубь континента, и обратился к фангскому царю, чтобы тот дал ему людей для сопровождения. Но царь отказал, объяснив, что соседние племена сейчас воюют и всякий, кто появится в одной деревне, сильно рискует стать мишенью для отравленных стрел их врагов из другой. Дю Шайю хотел было пренебречь опасностью, но, поразмыслив и наведя справки, призадумался. Ведь он был целиком во власти фангов, которые, несмотря на расположение к Полю, весьма любили человечину. Вкусы капризны — как бы неграм не пришла в голову фантазия полакомиться мясом белого человека… Так что дю Шайю решил вернуться назад к морю, но другой дорогой. Он перешел через реку Нойя — приток реки Муни — и попал в страну мбишо. Это племя весьма похоже на жителей побережья, но гораздо грязней. Однажды, когда на деревенской площади дю Шайю свежевал и разделывал добычу, его обступили женщины, и путешественник был вынужден бежать от нестерпимой вони. Вернувшись в Габон, дю Шайю подлечился и собрал все необходимое для нового путешествия в страну комми, расположенную к югу от мыса Лопес. Он отплыл 5 февраля 1857 года, а 13-го после трудного плавания достиг устья реки Фернандо-Вас. Когда дю Шайю сошел на берег, его сразу же окружили почестями. Два царька так усердно спорили за право приютить гостя, что чуть было не передрались между собой. Верх одержал царь Рампано; другому, по имени Сангале, француз, чтобы прекратить спор, подарил бочонок рома. Сангале подобная учтивость так тронула, что он хотел отречься от престола в пользу белого человека, но Дю Шайю отказался. Избавившись от короны, Поль сел на пирогу и поплыл вверх по Фернандо-Вас, по пути встречались целые стада гиппопотамов. Наконец он остановился в деревне Аньямбья. Вождь прекрасно встретил путешественника. Несколько дней спустя дю Шайю принесли живого детеныша гориллы! Он рассказывает: «Не могу передать своих чувств при виде звереныша! Его тащили на веревке по деревне, и он отчаянно брыкался. Один этот миг вознаградил меня за все тяготы и лишения путешествий по Африке. Детенышу было года два-три, роста два фута шесть дюймов, но обладал свирепостью и дикостью, как взрослый. Я чуть не расцеловал охотников! Они поймали малыша в окрестностях деревни. Вот как было дело. Их было пятеро, и они тихонько шли к деревне лесом вдоль берега, как вдруг услышали крик, который сразу узнали, — это детеныш гориллы звал мать. Они пошли на крик. Зов прозвучал еще раз. Сняв ружья с плеч, они пробрались в заросли, где сидел малыш. Затаив дыхание, они раздвинули кусты и увидели зрелище, необыкновенное даже для негров. Детеныш сидел на земле вместе с матерью и ел какие-то чуть пробившиеся из земли стебельки. Негры решились выстрелить — и кстати: старая самка как раз заметила людей. Пришлось стрелять. Гориллу смертельно ранили. При звуке выстрела детеныш бросился к матери, крепко-накрепко обнял и спрятался у нее на груди. С криками торжества охотники бросились на малыша, но тот быстро пришел в себя и, бросившись к дереву, с немыслимой ловкостью вскарабкался на верхушку и принялся дико рычать. За поимку живого зверя можно было рассчитывать на щедрую награду… Мои люди ломали голову, как его достать: стрелять не хотелось, но иначе он мог их покусать. Наконец охотники решили срубить дерево и, пока маленькое чудовище потеряет ориентировку, набросить ему на голову накидку. Так и сделали. Все же горилленок сильно укусил одного из охотников в руку, а другого в ляжку. Звереныш был еще совсем мал и ростом, и годами, но очень силен, и ярость ничем нельзя было укротить. Он непрестанно брыкался, так что невозможно было его взять с собой. В конце концов детенышу надели на шею рогатку: так он не мог убежать и держался на некотором расстоянии. В таком виде его и привели. Вся деревня всполошилась. Звереныша вытащили из пироги — он рычал, стонал и свирепо озирался. Весь вид маленького пленника говорил, что поймай он кого из нас, тому не поздоровится!» Дю Шайю хотел приручить малыша и сделал ему большую клетку — но ничто не сломило обезьяньей натуры, даже голод! Вскоре детеныш умер от истощения и конечно же от тоски по невозвратно утраченному родному лесу… Животного похоронили по всем правилам погребального искусства. После этого дю Шайю решил поохотиться на гиппопотамов. Дело было нетрудное — мы уже говорили, что в тех местах толстокожие водились во множестве. Поздно вечером путешественник вместе с одним из охотников по имени Ингола отправился на реку. Они ожидали несколько часов. Все это время гиппопотамы где-то ворочались в реке, храпели, плескались… Наконец, к радости охотника, один из них вышел на берег и принялся мирно щипать травку. Дю Шайю и Ингола выстрелили одновременно, и смертельно раненный зверь рухнул наземь. Этот успех привел в восторг всю деревню — в ней не хватало мяса, и каждый теперь предвкушал чудовищное пиршество. Мясо бегемота вкусом напоминает говядину; волокна грубее, зато нет жира. Это очень здоровая и вкусная пища — любимая еда негров. Гиппопотамы водятся в большинстве африканских рек. Неуклюжее тяжелое животное замечательно прежде всего огромной головой и несоразмерно короткими ногами. Самец гораздо больше самки; в расцвете сил толщиной он бывает равен слону. Самые толстые бегемоты на ходу волочатся брюхом по траве. Короткие толстые ноги бегемота приспособлены к тому, чтобы ходить в тростниках по речному илу и ловко плавать в воде. По грязи эти животные ходят довольно быстро, так как ноги заканчиваются четырьмя толстыми короткими растопыренными пальцами. Прочная и шершавая шкура взрослого гиппопотама имеет в толщину от дюйма до полутора. Обычная пуля пробивает шкуру лишь в нескольких местах, где потоньше, — за ушами, около глаз. Ее цвет грязно-желтый, на брюхе розоватый. В реках гиппопотамы предпочитают днем лежать в местах со слабым течением — вот почему они так любят большие озера Центральной Африки. Любят они и соседние луга; по ночам уходят пастись довольно далеко от берега — лакомятся гвинейской травой. И еще одно их замечательное свойство: они всегда идут назад той же дорогой, какой пришли, по ней же идут на следующий день — и так постоянно. В течение второй половины 1857 года дю Шайю неутомимо странствовал, объехав страну комми и окрестности Бигано — резиденции друга его царя Рампано. За все это время с ним случилась лишь одна неприятность — довольно сильная дизентерия, вскоре, впрочем, побежденная могучим организмом путешественника. Он рыскал по округе в поисках новых этнографических материалов и любопытных предметов для коллекции по естественной истории — коллекции воистину замечательной. Между прочим, он не без риска для себя поймал пару больших шимпанзе и препарировал их так искусно, что из путешествия привез домой неповрежденные чучела. В феврале 1858 года дю Шайю отправился вверх по Фернандо-Вас, чтобы исполнить давнюю мечту — посетить царя Кенгесу, правившего в Гумби в верховьях реки. При встрече путешественнику устроили триумф — оглушительно звучали приветственные клики и выстрелы. Все жители бросились к берегу навстречу дю Шайю и с великой пышностью отвели гостя к месту, назначенному для официального приема. «Царь Кенгеса, — пишет дю Шайю, — тотчас, сияя, явился пожать мне руку. Это был пожилой, поседевший, высокий худощавый человек. Суровые манеры обличали в нем смелость и волю — и царь действительно обладал ими. Он тотчас объяснил мне, что не надел праздничных одежд из-за траура по брату, умершему два года тому назад. В ответ на приветствие Кенгесы я подозвал его маленького сына, которого царь посылал в качестве заложника. Царь подошел ко мне, и я сказал так, чтобы все слышали: — Ты прислал ко мне сына как поруку в моей безопасности. Я ничего не боюсь. Я люблю тебя и на тебя полагаюсь. Я уверен, что ты сотворишь благо мне и спутникам моим. Я возвращаю тебе дитя — и без него я не сомневаюсь в нашей дружбе. Затем я напомнил царю, что он обещал мне дозволить и даже помочь посетить внутренние области его государства. Он подтвердил обещание, подарил мне великолепный дом с большой верандой и, обернувшись к подданным, объявил: — Перед вами мой белый друг! Он приехал ко мне издалека; я посылал за ним, чтобы пригласить к себе. И вот он здесь. Не делайте никакого зла тем, кто сопровождает его, не говоря о самом госте. Угождайте им, приносите еду. Паче же всего — не воруйте у них. Горе вам, если вас уличат в этом, — всех продам в рабство». На том аудиенция окончилась. После столь гостеприимной встречи дю Шайю волен был передвигаться куда угодно, и благосклонность царя с первого дня осталась неизменной. Путешественник прожил в Гумби до 13 августа 1858 года, воротился в Габон, а 10 октября приехал назад в Гумби и стал подбирать людей, чтобы отправиться в поход на восток от деревни. В это-то время ему довелось присутствовать при сцене жуткого колдовства. Умер некий достойный человек по имени М’Помо. Как водится, смерть приписали волшебству злого колдуна. Немедленно из соседней страны вызвали знаменитого чародея, два дня и две ночи справлявшего самые непристойные церемонии. На третий день все умы возбудились до крайности. Тогда чародей всех созвал на площадь для решительного испытания. «Все мужчины и юноши, — передает дю Шайю, — были с оружием: кто с копьем, кто с тесаком, кто с ружьем или топором — и на всех лицах было одно безумное желание кровавой мести преступникам. Все племя дышало невыразимым бешенством и ужасающей жаждой человеческой крови. Впервые мой голос звучал втуне, впервые ни одно ухо не услышало меня… Видя, как оборачиваются дела, я грозил, что царь накажет тех, кто совершит убийство в его отсутствие, — но увы! Меня опередили. В самый день смерти М’Помо к Кенгесе было тайно отправлено посольство за дозволением убить уличенных в преступлении. Несчастный царь боялся колдовства, а меня рядом с ним не было. Он, не думая, отвечал, что с виновными следует беспощадно расправиться. Я понял, что все мои усилия тщетны, что кровавое дело свершится, — и смиренно решился стать скорбным свидетелем последующих событий. По знаку колдуна ропщущая толпа вдруг смолкла и застыла. Молчание продолжалось с минуту. Его нарушил лишь пронзительный голос чародея: — В доме таком-то (следовало подробное описание дома и его местонахождения) живет очень черная женщина. Она околдовала М’Помо! Не успел он закончить, как вся толпа, словно свора хищных зверей, ринулась к указанному месту. Там схватили несчастную женщину по имени Окандага — сестру одного из моих проводников, которую крепко связали и потащили к реке. Затем толпа вернулась к чародею. Когда несчастную Окандагу тащили мимо, зная, что бессилен ей помочь, я хотел скрыться, но она заметила меня, и я услышал отчаянный крик: — Шайи! Шайи! Спаси меня! Что за мука! Я хотел было броситься в глупую толпу и вырвать у нее жертву — но к чему послужил бы этот слепой порыв? Масса была так электризована, так обезумела, что и внимания на меня не обратила бы… Я бы лишь пожертвовал собой без всякой пользы для обреченной. Спрятавшись за дерево, я — мог ли подумать такое? — в бессилии горько плакал! Толпа вновь утихла, и вновь послышался хриплый голос зловещего чародея: — В доме таком-то (вновь описание дома) есть старуха — она тоже околдовала М’Помо! Тупая свирепая толпа устремилась туда и схватила племянницу царя Кенгесы — почтенную старую женщину. Когда одержимые с угрозой на устах и в глазах обступили ее, она гордо поднялась, невозмутимо посмотрела им в лицо и, отстранив негров движением руки, произнесла: — Я выпью мбунду (отраву), но горе моим обвинителям, если останусь жива! Ее также отвели к реке — впрочем, не связывая. Она покорилась всем требованиям палачей без единой слезы, без единой мольбы… В третий раз воцарилась тишина в деревне, и в третий раз прозвучал голос чародея: — Есть женщина — мать шестерых детей; она живет на плантации в стороне восходящего солнца. Она тоже околдовала М’Помо. Вновь раздались вопли — и несколько минут спустя к реке уже тащили одну из царских рабынь — прекрасное и весьма уважаемое создание, ранее знакомое мне. Чародей, окруженный толпой, отправился к реке и загробным голосом произнес обвинение каждой из женщин. Окандага, объявил он, нескольконедель назад просила у М’Помо — он был ей родня — соли, но соль здесь большая ценность, и М’Помо отказал. Тогда она затаила на него зло, околдовала и погубила. Племянница царя была бесплодна, а у М’Помо были дети; из зависти она околдовала его. Наконец, царская рабыня попросила у М’Помо зеркало, и он отказал ей; из мести она его погубила. Все эти дурацкие обвинения народ встречал дикими озлобленными криками. Даже близкие родичи несчастных жертв должны были участвовать в этом! Каждый старался превзойти соседа в бесчинстве, чтобы в общем безумии его холодность не была замечена и не навлекла беду. Через несколько минут женщин погрузили в пирогу; с ними сели колдун, палач и еще несколько человек. Забили в тамтамы и приготовили яд. Чашу взял старший брат покойного. Вокруг пироги с осужденными плыло еще несколько лодчонок, в которых находились вооруженные воины. Отравленное зелье поднесли вначале рабыне, затем царской племяннице и Окандаге. Толпа между тем вопила: — Пусть убьет их мбунду, если они виновны! Пусть не причинит вреда, если невинны! Никогда в жизни не видел столь потрясшего меня зрелища! Ужас леденил мне кровь, но глаза не в силах были оторваться от происходящего. Кругом царило гробовое молчание. Вдруг рабыня упала. Не успела она коснуться дна пироги, как палач взмахом тесака отрубил голову. Настал черед царской племянницы, и кровь ее окрасила воды реки. Несчастная Окандага тем временем шаталась, пытаясь бороться с действием яда. Тщетно! Она тоже упала, и голова покатилась в реку. Дальше — одна беспорядочная толчея и мельканье топоров… Не успел я глазом моргнуть, как все три тела были изрублены в мелкие кусочки и выброшены в воду. Затем толпа разошлась по домам и воцарилась полная тишина». Дю Шайю еще оставался в деревне, но с тех пор ни слова не сказал с людьми, принимавшими деятельное участие в казни трех несчастных. Им было крайне неприятно, что белый человек не обращает на них никакого внимания; они пытались извиниться — но напрасно. Он твердо решил показать, как отвратительно их поведение, и сдержать свою угрозу — не иметь с ними более ничего общего! С тяжелым чувством от происшедшего путешественник 22 октября покинул Гумби и через неделю оказался в стране ашира. С великим изумлением, как и везде, местные жители увидели человека с белой кожей и гладкими волосами! Царь подарил ради встречи коз, бананов, кур, сахарного тростника и двух рабов и велел народу заботиться о «Духе». Долина Ашира, пишет дю Шайю, одно из красивейших и приятнейших мест во всей Африке. Ее орошает множество маленьких ручейков, вокруг стоят горы, покрытые роскошными лесами. Долина усеяна чистыми, превосходно содержащимися деревеньками, которые состоят по большей части из одной длинной улицы. Кожа здешних жителей совершенно черна; женщины отличаются прекрасной фигурой. Несмотря на отчетливо негритянский тип лица, некоторые из них обладают грацией и непринужденностью, не свойственной, казалось бы, африканским дикаркам». Долгое время дю Шайю не видел ни одного раба — он уже было подумал, что эта блаженная страна избавлена от столь ужасной язвы. Француз спросил царя и узнал, что рабов здесь много, но, услышав о прибытии белого человека, они в ужасе убежали на плантации и схоронились там, не подавая признаков жизни. Бедняги воображали, будто дю Шайю явился отвезти их на побережье, откормить, увезти в страну белых людей и съесть! Женщины ашира, как почти во всех африканских племенах тех мест, занимаются обработкой земли. Надо сказать, что они весьма предприимчивы, любезны, приятны в обращении и обладают великолепным здоровьем. Там не практикуются преждевременные браки, роковым образом ведущие к вырождению и исчезновению племени. Вследствие этого ашира по большей части крепки телом и разумом. Дю Шайю решил отправиться в глубь континента, и ашира вдруг насторожились: они всегда боятся, что кто-то перебьет у них торговлю. Но путешественнику удалось успокоить туземцев. Он получил царское благословение и отправился на восток от страны ашира, к апинджи. В тех местах уже давно разнеслась весть о близком приходе белого человека, так что дю Шайю встретили с недвусмысленными изъявлениями величайшей радости. Туземцы твердо веровали, что наш путешественник может сделать сколько угодно жемчуга, ситца, медных котлов, ружей, пороха… Они надеялись воспользоваться случаем и поживиться всем этим. Старейшины деревни собрались, долго совещались и отправились наконец к дю Шайю с такой просьбой: сделать завтра к утру гору жемчуга высотой с дерево (они указали, какое), чтобы они сами, жены и дети взяли сколько нужно. Нелепая просьба! Естественно, дю Шайю отвечал, что это невозможно. Они удалились сильно разочарованные и решили, что «Дух» просто не хочет снизойти к их простодушному молению… Но апинджи не обиделись на путешественника: вскоре, к своему огромному изумлению, дю Шайю оказался удостоен кендо (знак царской власти у апинджи) — своеобразного грубого колокольчика на длинной кривой железной ручке. Церемония состоялась в присутствии огромной толпы, громкими криками изъявлявшей одобрение. Вождь племени обратился к дю Шайю: — Ты — Дух, никогда нами не виданный. Мы смиренные люди перед тобой. Мы много слышали о таких, как ты: они приходят из неведомой земли. Мы не надеялись тебя увидеть. Ты царь и господин наш; останься у нас навсегда. Мы любим тебя и исполним твою волю. Речь окончилась, и вновь раздались крики. Затем началось веселье — принесли пальмового вина, и народ стал развлекаться в соответствии с чином венчания на царство. «С этого дня, — пишет путешественник, — я мог бы называться дю Шайю I, царь апинджи. Полагаю, немногие государи восходили на трон на основании столь всеобщего народного волеизъявления!». Мужчины и женщины апинджи подпиливают себе зубы, что придает лицам страшный, кровожадный вид. Женщины, кроме того, имеют татуировку, которая представляется верхом элегантности. Они рисуют себе широкие полосы от макушки по шее к плечам, затем наискось к груди, а на уровне желудка эти полосы под острым углом соединяются. Кроме того, они наносят полукруглые полосы на спине и на животе — и чем больше женщина разрисована, тем красивей считает себя. Ходят они почти нагими, лишь едва прикрыты двумя лоскутками материи, в то время как мужчины зачастую носят пышные одежды. Из-за такого обычая здешние женщины потеряли последние остатки стыда, еще сохраняющиеся у других племен. В стране апинджи путешествие дю Шайю и завершилось. Он заболел и долго вынужден был оставаться в постели. Тогда в нем внезапно с немыслимой силой проснулось желание вновь повидать родину. Впервые этого закоренелого путешественника поразил приступ ностальгии… и он решил немедленно уехать. Шестнадцатого января 1859 года дю Шайю отправился в дорогу, а 10 февраля прибыл в факторию Биагано. Прошло четыре долгих месяца, прежде чем показался корабль. Наконец в первых числах июня путешественник с невыразимой радостью сел на маленький бриг, доставивший его в Америку. Он вновь обрел возлюбленную отчизну, друзей, которых не чаял увидеть, и восстановил сильно подорванное здоровье… Поль дю Шайю путешествовал целых четыре года! Вскоре путешественник опубликовал подробный отчет о своей великолепной экспедиции. Заявления дю Шайю возбудили весьма живое любопытство — но и только. Глупцы, никогда не покидавшие своего прихода, возопили о неправдоподобии; кабинетные ученые оспорили подлинность открытий; естественнонаучные наблюдения критиковали, мягко говоря, небеспристрастно, этнографическим не верили, а путешествие в глубь Африки и вовсе сочли басней! С великолепным достоинством и презрением дю Шайю не обращал внимания на подобные вопли. Он был убежден: когда за ним последуют новые путешественники, общественное мнение обратится на его сторону. События доказали полную правоту дю Шайю, утверждения которого давно уже формально подтверждены. Сам Поль в ответ на насмешки лишь решил безотлагательно доставить из Габона доказательства правоты и отправился в новое путешествие, чтобы подтвердить результаты предыдущего. На этот раз он хорошо снабдил себя недостававшими в прошлый раз приборами и инструментами. 6 августа 1863 года дю Шайю сел на корабль в Грейвзенде и 6 октября оказался близ устья Фернандо-Вас. Главной его целью было, вновь следуя по реке, проникновение в глубь Африки еще дальше, чем в прошлый раз. Кроме того, Поль хотел с астрономической (иначе говоря, с научной) точностью определить положение открытых им мест и новыми опытами подтвердить справедливость своих опубликованных наблюдений об этих землях. Он встретил по большей части тех же царей и племенных вождей, с которыми был прежде знаком. Они были очень рады вновь увидеть белого друга и не меньшую радость испытали от великолепных подарков, которые он привез для них. В результате дю Шайю легко добрался до страны ашанго — племени, живущего к востоку от апинджи. По дороге дю Шайю повстречал следы обитания диких карликов, которых туземцы называют обонго. Услышав неточные и преувеличенные описания, путешественник усомнился в их существовании. Однажды он вышел к кучке необыкновенно маленьких домиков, очень низких и круглых, как цыганские шатры. Самая высокая их часть над дверью достигала лишь четырех футов, ширина была также четыре фута. Хижины были построены из гибких прутьев, согнутых арками и воткнутых концами в землю — самые длинные посередине, к краям постепенно короче, — и покрытых листвой. Дырочки, служившие дверьми, тоже были заткнуты свежесрезанными ветками. Дю Шайю подошел с величайшей осторожностью, чтобы не устрашить жителей, как говорили, весьма робкого нрава. Проводники его в знак дружбы несли в руках нити жемчуга. Но предосторожность оказалась тщетной — все мужчины уже сбежали. Дю Шайю обнаружил лишь трех старух, совсем молодого юношу, не успевшего скрыться вместе с остальными, да несколько детей, схоронившихся в одной из хижин. Путешественник смог подойти к странным созданиям лишь потому, что страх сковал все их члены… Он смерил рост туземцев: как оказалось, он едва превышал четыре фута. Цвет кожи обанго грязно-желтый, лоб необычайно низкий и узкий, а скулы весьма велики. Вся их одежда — лоскуток ткани. Они одарены удивительным умением ловить зверей в ловушки и добывать рыбу в реке. Излишки дичи и рыбы продают соседним племенам, а в обмен получают кухонную утварь, бананы, зерно и железные орудия. Недоброжелатели дю Шайю оспаривали и это открытие, но в последние годы оно было блистательно подтверждено де Бразза и Стенли. В новом путешествии дю Шайю опять изучал повадки горилл, и его прежние мнения об этом животном несколько переменились. Он признал, что гориллы ходят более крупными стадами, чем полагал ранее. Лишь к старости гориллы привыкают к более уединенному существованию и начинают жить парами, а старые самцы — иногда даже и в одиночку. Туземцы редко решаются напасть на этих поразительных зверей. Лишь самые отважные охотники решаются на подобное опасное предприятие, причем им нужно ружье с очень длинным стволом. Охотник прячется за куст и неподвижно ожидает гориллу. Животное, по обыкновению, идет прямо на человека, но сначала хватает ружье за ствол и сует себе в пасть, чтобы перекусить могучими челюстями. Только тут охотник нажимает на спусковой крючок! Выстрел в упор разносит зверю голову. Двадцать первого июня дю Шайю прибыл в большую деревню ашанго, называемую Муау-Комбо. Там преждевременно и трагически закончилась его экспедиция. Вначале путешественника приняли очень холодно и даже недружелюбно, но ему удалось преодолеть неизбежные в путешествиях по Африке затруднения. Все уже наладилось, и после нескончаемых переговоров дю Шайю готов был идти дальше, но вдруг случилось роковое событие, прервавшее путешествие, а самому Полю едва не стоившее жизни. Как-то случайно один из людей дю Шайю убил жителя Муау-Комбо, и невольное убийство привело в смятение всю деревню; раздались зловещие звуки военных тамтамов. Туземцы повели себя угрожающе. Дю Шайю собрал семерых спутников, ободрил, разделил между ними поклажу, раздал порох и патроны, доверил все самое ценное — путевой дневник, фотографии, натуралистические коллекции и прочее. Себе Поль оставил научные инструменты. Первым делом надо было выйти на лесную дорогу, опередив туземцев, — иначе они отрежут путешественникам выход и к тому же настроят против них жителей других деревень. «Впрочем, — пишет дю Шайю, — на миг я подумал, что дело можно уладить миром. Мой проводник докричался наконец до деревенских вождей и старейшин, так что те поверили: гибель их соплеменника была всего лишь несчастным случаем, и я заплачу в двадцатикратном размере. Затем я поспешил принести много жемчуга и тканей и разложил товар посреди улицы как выкуп за убитого. Один из старейшин, несколько успокоившись, сказал даже: — Хорошо! Мы поговорим и все обсудим. Военный барабан умолк. Но увы! Солнце из-за туч блеснуло лишь на мгновенье. В ту же секунду из-за домов выбежала женщина; она вопила и рвала на себе волосы. По непостижимой случайности тем же выстрелом, которым убили несчастного негра, убили и первую жену того самого вождя, который готов был примириться с нами! Пуля, пройдя навылет через голову африканца, пробила и тонкую стенку хижины… Мир стал невозможен. В мгновение ока все переменилось. Поднялся общий крик: «Война! Война!»; все мужчины схватили луки и копья. Увидев, что на примирение шансов нет и вот-вот начнется смертельная схватка, я дал приказ отступить. Не успели мы дойти до леса, как на нас обрушился град стрел. Одна из них попала мне в руку и до кости впилась в палец. К счастью, наши преследователи находились в не совсем выгодном положении: чтобы натянуть тетиву и прицелиться, им приходилось останавливаться — и на петляющей тропинке они часто теряли нас из виду. С другой стороны, нам вскоре также пришлось замедлить шаг. Люди мои вначале держались неплохо, но вскоре испугались, разбежались по лесу и минут десять я никакими криками не мог собрать их. Чтобы легче бежать, они побросали все свертки в кусты… Как тяжко мне было видеть, что все ценнейшие фотографии, инструменты, чучела животных, записки, карты, бутылки с лекарствами и спиртным — столько ценностей, столько дорогих воспоминаний — что все это гибнет! Плод многих месяцев тяжких трудов пропал, пропал безвозвратно!» Погоня была долгой и упорной. Несколько раз, чтобы избавиться от верной гибели, дю Шайю был вынужден отстреливаться из ружья. Он был ранен еще раз: стрела угодила ему в бок, и, если бы ее не задержал кожаный пояс, без сомнения, рана оказалась бы смертельной. Наконец после безумного бегства выбившийся из сил и умиравший от голода маленький отряд дю Шайю добрался до дружественных мест, где непреклонным преследователям пришлось остановиться. Дю Шайю несколько дней передохнул у старого друга Кенгесы и вернулся к побережью. «Не могу выразить, — пишет он, — с какой радостью здешний народ встретил нас целыми и невредимыми! В первый же вечер, когда я гулял один по прибрежной лужайке, сестра одного из моих проводников со слезами на глазах благодарила меня за доброту к брату… Меня глубоко тронуло простое и откровенное изъявление благодарности. Весьма сомнительно, что мне удастся вернуться в эту страну, где я столько сил положил ради расширения круга наших познаний. Но воспоминание о ее жителях никогда не изгладится из моей памяти». В устье Фернандо-Вас бросил якорь какой-то корабль, направлявшийся в Лондон. Дю Шайю с удовольствием воспользовался оказией и в конце 1865 года сошел на британский берег.
ГЛАВА 29
КАПИТАН БЕНЖЕ[451]
От Нигера до Гвинейского залива.Франция долго не проявляла интереса к дальним экспедициям. Но в последние два десятка лет — после постигших бедствий — она вернула себе славное место, издавна занятое ею в анналах великих открытий. В итоге мы, некогда со всех сторон теснимые нашими соперниками, ныне можем с чувством законной гордости объявить, что наша держава занимает первое место не только в Азии благодаря экспедициям Гарнье, Дюпюи, Нейса, Пави, Лебона, отца Гука, Бонвало, Бро де Сен-Поль-Лиа, Марша и многих других; не только в Америке благодаря Винеру, Туару, Крево, Шаффанжону, Кудро, Монье, Ординеру — но и прежде всего в Африке, где отличились де Бразза, Галлиени, Пьетри, Вальер, Тотен, Дульс, Жиро, Солейе, Мизон, Карон, Тривье, Бенже… Я перечислил только первых пришедших в голову современников! Иностранцы прежде могли (впрочем, в течение очень недолгого срока) толковать о закоренелом домоседстве французов — как будто французы в иные времена сделали недостаточно, чтобы позволить себе ненадолго почить на лаврах! — но теперь вынуждены признать, что мы совершенно воспряли ото сна и имя нашим исследователям — легион. Воины сухопутных и морских сил, чиновники, простые граждане, увлекаемые страстью к открытиям — все они состязаются друг с другом в терпении, силе воли, отваге, щедро расточают силы, здоровье, самую жизнь; все они скромно, достойно и неутомимо идут вперед ради славы древней галльской отчизны, ради того, чтобы повсюду почитался ее трехцветный стяг. Мирные завоеватели, недруги всяческого насилия, спокойные, скромные, сдержанные, инстинктивно владеют чисто французским умением расположить к себе первобытные народы. Именно через них открывается благодетельное влияние Франции и прокладываются новые пути, по которым любой путешественник и коммерсант сможет следовать без боязни, в уверенности обрести повсюду лишь друзей. Ибо пускай другие прокладывают себе дорогу на Черный континент ружейными залпами! Девизом всех настоящих и будущих Дювейрье, Солейе, Бразза, Бенже остается: «Мир и свобода». И вот когда пришла пора завершить длинную череду рассказов об Африке, я ощутил некоторое сожаление, что общий план труда побуждает меня оборвать ее, почти не рассказав о моих соотечественниках — последних по времени, но не по заслугам. Тогда я сказал себе: «Пусть пострадает соразмерность заранее намеченного плана! Прежде чем отправить читателей на Северный полюс, я еще продолжу африканскую серию рассказами о некоторых отважных и добрых французах!» Начнем с капитана Луи Гюстава Бенже. Ему было не более тридцати двух лет, и всего он достиг сам — благодаря труду и способностям. Восемнадцати лет он записался добровольцем в егерский полк, унтер-офицером учился в училище Сен-Мексан, в 1880 году стал младшим лейтенантом морской пехоты. В 1881 году отправился в Сенегал и там провел без перерыва шесть лет — почти исключительно в походах в глубь материка. Вернувшись во Францию, стал адъютантом генерала Фэдерба, великого канцлера Почетного легиона, и несколько месяцев провел в Париже. Затем Бенже вновь затосковал по Сенегалу и, вернувшись к его рекам, болотам, лихорадкам, тайным опасностям, начал готовить большую экспедицию, выдвинувшую его в первые ряды современных путешественников. Предоставим слово самому путешественнику, вмешиваясь лишь тогда, когда чрезмерная скромность повествователя не дает верного представления о заслугах исследователя. «Я сам просил, — говорит Бенже, — чтобы министр иностранных дел и заместитель министра колоний поручили мне эту миссию. В то время я был адъютантом генерала Фэдерба, который взял меня к себе за некоторые лингвистические работы, опубликованные по возвращении моем из Сенегала. Да будет мне позволено прежде всего выразить, сколь драгоценна была мне поддержка незабвенного генерала Фэдерба — славного прежде губернатора Сенегала, — благодаря которой мне удалось получить и исполнить миссию, к которой я стремился. Миссия состояла в посещении области между Верхним и Нижним Нигером, заключенной между маршрутами Рене Кайе и Барта. Лишь эти два путешественника смогли прежде дать кое-какие сведения о занимающей нас местности. Я уже побывал в трех экспедициях в Сенегал и Французский Судан[452] и долго жил среди коренных жителей тех мест. 20 февраля 1887 года я отправился в Дакар, взяв с собой все, что полагал необходимым для путешествия (я предполагал, что оно продлится года полтора — два). Перечень предметов, которые я взял сверх геодезических приборов, одежды, лекарств, карт и бумаг, всякого заставит улыбнуться — он доказывает ребяческий вкус туземцев. Вот что, к примеру, было в моем багаже: зеркала, ножи, бритвы, ножницы, висячие замки, медные цепочки, стеклянные шарики, бисер, кораллы всех сортов, шапки, шейные платки, серьги и прочие украшения из накладного серебра, сабли, ружейные кремни, кошельки, проволока, мыло, духи, синька в горошинах, бумага, детские игрушки, всевозможные ткани — и дешевые, и шелковые, — шнурки, пистолеты, амбра, рыболовные крючки, иголки и прочее, и прочее, и прочее… Вместе с моим снаряжением и палаткой все это весило девятьсот килограммов. Из оружия у меня было два ружья Гра, охотничье ружье, револьвер и общим счетом две тысячи шестьсот патронов с картечью и пулями. При помощи сенегальского губернатора и всех моих друзей в этой колонии я поднялся вверх по реке на четыреста миль — до Мофу на шаланде, шедшей за пароходом на буксире, а далее до Бакеля. Дальше мне пройти не удалось, ибо в это время года (март — апрель) вода стоит слишком низко. В Бакеле я набрал себе отряд и, пользуясь бескорыстной помощью нескольких добрых волофских купцов и почтовых чиновников, нашел восемнадцать ослов для перевозки поклажи. Людей я набрал частично там же, частично в Каесе и Медиру при помощи полковника Галлиени и его подчиненных, служащих во Французском Судане. Итак, со мной отправился мой слуга Диаве и девять негров. Диаве — славный парень, профессиональный охотник — служил мне уже и в прежних моих походах в Судане, так что я его прекрасно знал. Он почти не говорил по-французски — только я один мог понять его. На нем покоились все мои надежды. Остальных туземцев я прежде не знал, но, должен признать, они служили с неизменной преданностью. Одни из них вернулись домой прежде меня, чтобы передать письма, другие вместе со мной морем доехали из Гран-Бассама[453] во Французский Судан через Сен-Луи. От Бакеля до Бамако путешествие прошло без приключений. Дорога там защищена укрепленными фортами, и путешественник может ехать так же безопасно, как во Франции. Полковник Галлиени снабдил меня превосходными рекомендательными письмами на арабском языке, но в Бамако мне пришлось задержаться на несколько дней, чтобы изучить политическую обстановку в тех странах, куда я направлялся…» Это было поистине мудрое решение, оно доказывает, как превосходно капитан Бенже был готов вести исследования в весьма труднодоступной части Африки, проникнуть туда пытались уже давно и тщетно. В этой части Африки политика играет огромную роль. Там плетут такие же интриги, как в нашей просвещенной Европе, только в иных масштабах, и черные деспоты ничуть не уступают белым монархам в подозрительности, коварстве, бесстыдстве, желании оторвать кусок у соседа и прочих любезных свойствах пастырей народов. Поэтому нашему офицеру надо было прощупать почву, чтобы не совершить с самого начала какую-нибудь ошибку, погубившую предшественников. Перед Бенже было два пути. Один вел через владения Самори, другой — через земли Ахмаду, знаменитого султана Сегу. Бенже имел основания не доверять Ахмаду: в 1860–1861 году он надолго задержал Мажа и Кентена, а в 1881 дурно принял миссию полковника (тогда еще майора) Галлиени. Капитан решил идти к Самори: с тех пор, как мы заключили с ним договор, тот вел себя достаточно дружелюбно. Кроме того, главной целью Бенже был Конг. Дорога к нему через земли Самори была короче, и капитан рассчитывал добраться по ней до реки без особенных затруднений. К несчастью, мудрый план осуществился не так успешно, как можно было думать, исходя из априорных соображений. Самори отправился на войну с соседом Тьебой и осадил его столицу Сикасо. Невозможно даже представить себе, как овладевает негритянскими царями демон войны, какая жажда крови побуждает их истреблять друг друга! Капитан Бенже едва отошел на двадцать миль от Бамако, когда люди Самори остановили француза под тем предлогом, что они не могут своей властью дать разрешение на дальнейший путь. К Самори, под стены осажденного города, был послан гонец, и капитан долгий месяц томился со спутниками, ожидая его возвращения. Более того, пока гонца не было, местные вожди, вначале отнесшиеся к Бенже равнодушно, начали выказывать столь явную неприязнь, что путешественник счел за благо вернуться в Бамако. В самом деле, достаточно было пустяка, чтобы погубить все дело. Луи Гюстав вновь переправился через Нигер, но уже несколько дней спустя вернулся гонец с письмом от Самори — очень кратким, но дававшим позволение следовать через земли альмани. С этим фирманом капитан Бенже в третий раз переправился через реку и дошел вдоль берега Бауле[454] без сколько-нибудь значительных происшествий — не считая тех, что случаются со всяким путешествующим в тех местах. Бауле — первый в той стороне приток Нигера. Едва остановившись на берегу, Бенже, к великому изумлению, получил послание от Самори. Тот без обиняков, с откровенностью человека, понуждаемого необходимостью, открыл капитану, что осада продвигается отнюдь не блестяще. Вследствие этого, не отдавая себе никакого отчета в силах Бенже и не веря в исключительно мирный характер миссии, Самори просил капитана прислать на подмогу тридцать человек и пушку. В столь щекотливом положении наш офицер показал себя настоящим дипломатом. Он подумал, что будет неправ, если не поддержит союзника Франции хотя бы морально, и решил использовать свое положение официального французского посланника, чтобы заключить с Тьебой почетный мир. Поэтому Бенже решил сам отправиться в Сикасо. К тому же при этом он получал возможность оценить силы негритянского царя, которого почитали всемогущим и который некогда причинил нам много неприятностей. Капитан Бенже со всем отрядом — десять человек и восемнадцать ослов — пошел берегом Багое[455] к месту под названием Бенокобугула на дороге в Теутпелу. Оттуда он немедленно отправился в Сикасо вместе с верным Диаве и еще одним слугой. «Война и голод, — пишет он в отчете, — превратили обширную область в настоящую мясорубку. В деревнях никто не живет, повсюду лежат трупы. В первый же день я увидел десять — пятнадцать мертвых тел, не считая тех, что выдавали себя запахом из придорожных кустов. Затем трупы исчислялись уже сотнями. Под каждым кустом, в каждой хижине разрушенной деревни лежали тела — где побелевшие скелеты, где умирающие. На берегу каждой речки из-за нехватки мостов и лодок происходили схватки, в которых гибли слабые и больные, неспособные добыть себе место на единственном зачастую суденышке. Несчастные не в силах были переплыть в это время года очень глубокие и бурные потоки и оставались умирать на берегу…» Сам капитан, хотя в то время был очень силен, а сопровождали его люди умелые и преданные, с большим трудом пересекал реки, на берегах которых кучами валялись раненые, больные, умирающие от голода… Приходилось снимать всю поклажу, раскладывать порциями по пять — десять килограммов в огромные калебасы; люди переплывали реку, толкая их перед собой. Посудите, как это было тяжко, утомительно, сколько отнимало времени! Но терпение — главная добродетель путешественника, а капитану Бенже терпения было не занимать. Обоз с провизией для осаждающей армии, прошедший дней пятнадцать — двадцать, был в удручающем состоянии. Бедняги, шедшие с ним, для пропитания в день имели лишь по нескольку зерен кукурузы или дикие клубни, которые ели сырыми, и едва заглушали голод, однако вызывали страшную дизентерию, быстро приводившую к смерти. Наш офицер дошел до Сикасо за семь дней форсированного марша — вы получите представление о его выносливости, узнав, что каждый переход продолжался пятнадцать часов! Сикасо — город, насчитывающий пять или шесть тысяч жителей, окруженный солидным поясом укреплений, состоящих из глинобитной стены с грубо выстроенными башнями вместо бастионов. Укрепления, конечно, весьма примитивны, однако для негритянских войск почти неприступны: ведь у них нет ни артиллерии, ни стенобитных античных орудий. Поэтому осаждающий, чтобы овладеть городом, рассчитывает главным образом на голод или измену. Осада грозила сильно затянуться, тем более что Тьебе удалось весьма искусно расширить кольцо укреплений и таким образом избежать полной блокады. Вследствие этого он мог пополнять провиант даже с меньшим трудом, чем Самори. Последний, заметно удалившись от операционной базы, был вынужден иметь при себе всю армию, в то время как противник держал в городе ровно столько людей, сколько необходимо для обороны. Время от времени — довольно часто, примерно раз в неделю, — Тьеба, свободно сносившийся со своей страной, приводил свежий отряд из дальней деревни и производил мощные атаки на один из аванпостов Самори. Пост, как правило, уничтожался, всех людей перебивали, и отряд возвращался домой: воины вновь становились мирными земледельцами и работали ради собственного пропитания и снабжения осажденного города. Увидев подобные военные предприятия, невольно вспомнишь Троянскую войну… Армия Самори насчитывала около двенадцати тысяч человек, из которых от силы половина имела кремневые ружья. Кроме них, там были гриоты[456], рабы, работники, притащившие с собой жен и детей… От кавалерии осталось всего тридцать пять лошадей, отощавших, как скелеты. Войско набрали кое-как, оно состояло из совершенно разрозненных отрядов, каждый под командой своего вождя. Построения производятся под несколькими сигналами трубы или тамтама; кое-где видны белые флаги — не столько знамена, сколько обозначения места сбора. «Впрочем, — замечает капитан Бенже, — неграм в этих местах почти незнакомо присущее цивилизованным народам чувство чести знамени: негр никогда не умрет за него… Нет ничего любопытней и мрачней ночи в этом негритянском лагере. Часов в десять — одиннадцать вечера по сигналу тамтама все люди Самори начинают дружно выть, как хищные звери, — если не знать, что это такое, то, пожалуй, испугаешься. Едва они замолкают, как люди Тьебы громко и очень дружно кричат: “Хо!” Сразу слышно, что их много и этот звук исходит из груди настоящих мужчин. Время от времени весь лагерь беспорядочно вскакивал по тревоге: стоит только поймать шпиона или воришку, попытавшегося обокрасть товарища, как поднимается страшный шум, все начинают палить из ружей — и хотя вы среди союзников, за вашу безопасность никто не поручится. Как я ни старался исполнить роль посредника между Самори и Тьебой, все было тщетно. Самори был тщеславен и горд; он твердил каждый день, что вернется домой только с головой Тьебы…» Капитан Бенже сделал все, чтобы добиться мира, и наконец решился уехать. Он всячески просил Самори дозволить отъезд и помочь добраться до Конга. Но Самори не желал ничего слышать: он хотел до бесконечности удерживать Бенже при себе, чтобы устрашить Тьебу одним присутствием французского офицера. Притом Самори ловко распространял слухи, будто отряд Бенже — лишь авангард огромной армии белых, идущей на подмогу. Капитан ничего не добился от Самори и через посредничество сына его Карамоко — молодого человека, побывавшего, как известно, во Франции. Самори не сдавался и на доводы сына. Тогда капитан Бенже возвысил тон. Он сильно рисковал, идя на ссору с монархом-дикарем, и благодаря решительному поведению сумел наконец избавиться от замаскированного заключения, в которое угодил благодаря эгоизму Самори. Что бы с ним было, останься капитан до конца злосчастного похода! Он ведь завершился лишь год спустя, причем к великому позору Самори, который вынужден был снять осаду, потеряв большую часть людей умершими от голода, болезней и ран или проданными в рабство (чтобы на вырученные деньги купить лошадей). Капитан с двумя слугами отправился вперед без всяких средств. В Беногобугу он встретил свой отряд, который в его отсутствие разложился и страдал от голода. С величайшим трудом Бенже добыл провиант, причем сам, как последний из погонщиков ослов, довольствовался скудной порцией — двести пятьдесят граммов риса в день. В конце концов Луи Гюстав убедился, что на Самори рассчитывать нечего — тот лишь беспрестанно хитрил и обманывал. Бенже покинул его владения и направился на Тенгрелу. Не желая воздать отважному капитану за усилия, предпринятые, чтобы избавить его от позора у стен столицы Тьебы, Самори без проводников и почти без провианта отпустил француза в пустынную страну, где не было никаких дорог, кроме тропок, заросших беспорядочной растительностью. Чтобы не пропасть в гигантских травах пятиметровой высоты, где человек теряется, как букашка в поле пшеницы, приходилось идти гуськом, не ступая ни шагу в сторону и ориентируясь по компасу. Каждый шаг давался с бесконечным трудом. Но это было еще ничего — отважного путешественника ожидали еще более многочисленные и тяжкие препятствия. Прежде всего — как пройти из владений Самори во владения Тьебы? Одна мысль об этом приводила в содрогание: ведь чернокожие не признают нейтралитета — для них существуют лишь друзья и враги. Что же решит Тьеба? Ведь у него есть все основания считать врагом французского офицера, который еще вчера был гостем Самори. Если вспомнить, как мало ценят чернокожие тираны человеческую жизнь, намерение капитана Бенже следует признать по меньшей мере дерзким. Как ни опасно было столкнуться с кровожадным дикарем, опьяненным своим небольшим успехом, наш офицер, не раздумывая, отправился вперед. В первую очередь он рассчитывал на знание языка манде[457] — таким образом он мог сам, не прибегая к помощи глупых или плутоватых переводчиков, изложить свое дело. Луи Гюстав вышел из Тион-хи с двумя проводниками — здоровыми парнями, которые бросили его у деревни Тинчиниме, не доходя мили до Тенгрелы. Сразу после этого деревенский старшина, не желая ничего слушать, приказал путешественнику повернуть назад немедля — иначе на него нападут с оружием. Бедный Бенже под проливным дождем повернул назад вместе со спутниками и животными, промокшими и утомленными двадцатипятикилометровым переходом. Они шли целую ночь, а утром оказались на полянке среди гигантских трав, где можно было немного передохнуть. На другой день караван вернулся в Тион-хи. «Мои беглые проводники, — рассказывает капитан, — вернулись в Тион-хи еще ночью и рассказали, будто едва успели убежать, услышав, что нам собираются перерезать горло. Увы! Несчастный белый человек, говорили они, и девять его спутников наверняка теперь лежат зарезанные… Этот слух быстро разнесся, оброс подробностями и достиг наконец наших постов на Нигере, а там и Франции. Именно из-за подобного происшествия слух о нашей смерти прошел в Париже и огорчил бедную матушку: шесть месяцев она носила траур по мне». Капитан благоразумно остался в Тион-хи. Ему удалось добиться дружбы местных жителей и лишь затем, две недели спустя, переправиться через Багое и устроиться в Фуру, в землях сенуфу[458]. Этот народ отличается умом; он населяет государства Тьебы, Фоллоны, Тенгрелы и даже часть Уородугу. Как ни удивительно, туземцы, несмотря на частое общение с подданными Самори — манде, не знают их языка, а говорят на совершенно особом, понятном только им, почти односложном. Они искусные земледельцы, добрые скотоводы и к тому же — хорошие ремесленники, умеющие обрабатывать металлы и лепить сосуды из глины. Гончарные изделия изящны и замечательно расписаны; кастрюли, сковородки и котелки, выкованные из одного куска железа, говорят о хорошем вкусе и ловкости. Религиозные обряды, развлечения и церемонии необычны и носят отпечаток подлинной оригинальности. Причудлив похоронный обряд: скорбь выражается по меньшей мере странным образом. Как только приходит весть о смерти, в деревне, где жил покойный, и в окрестностях начинают палить из ружей, рекой льется просяное пиво, деревенские музыканты — своего рода дикий деревенский орфеон[459], страшно нестройный, играют как можно громче, чтобы шумом звуков заглушить горе тех, кто плачет об усопшем. Музыкально-алкогольная вакханалия происходит прямо рядом с трупом, которому также приносят еду и питье, и продолжается несколько дней — сколько выдержат пьяницы и музыканты. Затем траурный праздник заканчивается, покойника обряжают в белый саван, завертывают в циновку, и двое сильных мужчин кладут его на голову и отправляются предать земле. Перед ними с воплями идут женщины и машут в такт коровьими хвостами. Капитан Бенже провел в Фуру четыре недели, чтобы дать отдых спутникам и чтобы соседние племена привыкли к его присутствию и таким образом был подготовлен дальнейший путь. Мы уже сказали, что передвижение по этим местам непременно требует терпения. По счастью, Бенже имел много всяческих предметов для обмена. Раздавая со щедростью подарки, он сумел завоевать симпатии туземцев и обеспечить себе их содействие. Тогда он отправился дальше. Прежде всего Луи Гюстав желал не останавливаться у Тьебы. Поэтому он шел форсированными переходами и сумел быстро дойти из Фуру до Фоллоны, где правил царь Пеге. Шесть дней спустя после выхода Бенже был уже у стен его столицы Ниелле. К несчастью, суеверный, как и все негры, Пеге приписал смерть Тидьяни плаванию наших канонерок, а смерть вождя Фуру — тому, что капитан ушел от него. Из этого он заключил, что у белых дурной глаз, и отказался принять путешественника: как бы самому не отправиться на тот свет. Но в глубине души Пеге был добрый человек. Как ни настраивали царя колдуны, он не желал зла капитану и много раз являл ему свое благорасположение. Каждый день он присылал французу провизию и справлялся о здоровье. А здоровье Бенже сильно пострадало от страшного бича этих мест — желтухи. Пеге даже был столь любезен, что рекомендовал нашего путешественника Ямори-Ваттаре, одному из вождей в стране Конг[460], в пяти переходах от Ниелле. Несмотря на болезнь, капитан отправился в дорогу. Между Фоллоной и государством Конг он встретил реку, которая текла на юг. Вначале он принял ее за приток Вольты[461], но вскоре убедился, что это был рукав Комое, впадающей в Гвинейский залив у Гран-Бассама. Исток реки находится километрах в пятистах к востоку от Бамако, почти на той же широте. Там, где ее пересек капитан, это красивая река шириной метров сорок, а глубиной в сухой сезон около метра. Она служит границей между землями сенуфу и скоплениями племен различного происхождения, говорящих на совершенно несходных языках. Это несчастные люди, сбежавшиеся сюда со всех сторон под натиском более цивилизованных соседей и нашедшие в общей беде убежище в каменистой бесплодной местности. Там и живут они — бедно, но спокойно. У мбойнов — одного из этих отверженных племен — вся одежда мужчин состоит из соломенной остроконечной шляпы с маленькими полями, напоминающей традиционный колпак Пьеро[462]. Фантазия женщин изобрела себе жандармское кепи (тоже из соломы); уступая требованиям приличия, они носят еще пучок листьев и украшения: вставляют в нижнюю губу палочку синего стекла или же просто листок. Это невероятно некрасиво и неудобно. По рекомендации Пеге Ямори-Ваттара очень хорошо принял капитана и дал в проводники до Конга сына Сабану. Чтобы попасть туда, надо было перейти главное русло Комое — реки, текущей до Гран-Бассама, — и преодолеть еще семь переходов в юго-восточном направлении. Эта часть пути прошла без затруднений. Путешественники приближались к Конгу — предмету живейшего вожделения капитана Бенже. Вот уже по неоспоримым признакам он стал угадывать близость большого города: лес повсюду вырублен, выкорчеваны даже кусты! Кругом — плоская равнина, истощенная десятилетиями постоянной обработки без удобрений. Нигде ни холмика — а главное, ни следа знаменитого Конгского хребта, доверчиво нанесенного на карты завороженными или дурно осведомленными географами. Вскоре Сабана указал капитану на юг: за километр от них виднелась полоса хлопковых деревьев и финиковых пальм, а в просветах — минареты и громоздящиеся террасами крыши домов. Это был Конг. «Ровно через год после моего отплытия из Бордо, а именно 20 февраля 1888 года, я въехал в город на простом воле. Народ вокруг не проявлял ни вражды, ни приязни — ему было просто любопытно видеть белого человека. На крышах, на улицах, на деревьях, на площадях — всюду было полно людей; они дрались между собой за лучшее место. Лишь благодаря дюжине здоровых молодцов — рабов градоначальника, разгонявших хлыстами народ с узких улочек, по которым я следовал, мне удалось дойти до небольшой площади. Там наш отряд остановили. Под двумя большими деревьями на базарной площади среди тысячи человек сидели: по правую руку — царь Карамохо-Уле с друзьями, по левую — градоначальник Диаравари со своими людьми. Все они хранили полное молчание, были чисто и пристойно одеты и сидели на циновках и покрывалах. Зрелище имело в себе нечто грандиозное, этому так способствовали и восточные костюмы, и черные лица с седыми бородами — подлинно собрание патриархов! Я был представлен царю и градоначальнику, после чего Карамохо-Уле отвел меня в дом рядом со своим дворцом и предоставил в распоряжение несколько человек, тщетно пытавшихся оградить меня от любопытства публики. Огромная надоедливая толпа покинула мой дом лишь за полночь. Но и несколько дней спустя мне приходилось терпеть весьма стеснительное подчас любопытство этих людей. Я шагу не мог ступить, чтобы меня не окружила тысячная толпа, не отступавшая даже в таких местах, куда обыкновенно ходят в одиночку. Они никогда не видали белого и желали видеть его как можно ближе… По счастью, все это продолжалось не более недели — столь чрезмерное внимание начало, право же, становиться утомительным. Утро второго дня я провел в визитах к местным властям — имаму и шестерым начальникам городских округов. Днем царь Карамохо-Уле и прочие начальники — все мусульманские книжники — просили меня изложить прилюдно, что привело меня в Конг. Сначала я рассказал им о Франции, о наших поселениях на Нигере, об укрепленных постах, созданных, чтобы защитить купцов, путешествующих от Сенегала к Нигеру. — Французам, — сказал я, — давно известно о городе Конге. Мы знаем также, что жители егомиролюбивы, деятельны, умеют торговать и именно они развозят по всему Нижнему Нигеру европейские товары. Поэтому наше правительство решило отправить к вам посла, чтобы завязать более тесные отношения. Мне поручено также узнать, какие из наших товаров, тканей, оружия и прочего более всего вам нужны, чтобы я рассказал об этом нашим промышленникам и они бы знали, что следует отправлять сюда по Нигеру или из Гран-Бассама. Но прежде чем грузить корабли, нам следует знать также, что мы можем получить в обмен на наши товары. Для этого я должен пожить несколько дней здесь, посетить другие торговые города на Нигере, особенно Масси. Затем я вернусь сюда и испрошу разрешения на обратный путь домой через Бондуку и Кринжабо, если возможно. Далее меня «интервьюировали» о войне Самори, подозревая, не его ли я шпион. Разумеется, мою невиновность легко было доказать. И вот Карамохо-Уле так отвечал мне: — Твои слова правдивы, христианин. Мы все поняли, что ты говорил нам, — благодарю тебя от имени всей страны. Я рад, что ты доказал свою невиновность, и убежден, что белый человек занимается только честными делами. Раз ты прошел через всю нашу страну, значит, такова воля Аллаха. Не нам с ней спорить. Аминь! Градоначальник Диаравари добавил: — Считай Конг городом своего отца, можешь остаться здесь сколько захочешь. Когда ты решишь покинуть нас, я дам тебе охранную грамоту — с ней ты можешь ездить повсюду под нашим покровительством». Так как эти объяснения давались публично, при большом стечении народа, следует предположить, что не все доброжелательно относились к проживанию капитана Бенже в Конге. Как и во всех больших мусульманских городах, часть жителей здесь образованна, веротерпима и гостеприимна, но есть и невежественные, грубые, жестокие фанатики, с которыми нельзя не считаться: они составляют большинство. Возбужденные врагами властей — такие всегда найдутся, — они попытались натравить чернь на капитана, как только стало известно о его приезде. Как он узнал впоследствии, фанатики решили впустить Луи Гюстава в город, а ночью напасть и зарезать. Дошло до того, что трем старцам из царского рода Ваттара пришлось, устраняя опасность для французского путешественника, собраться ночью на совет. Почтенные старцы решили приложить все усилия, чтобы успокоить толпу. Если допрос белого человека, сказали они, не даст полного удовлетворения, убить его будет еще не поздно. Лишь ясность ответов отвела от Бенже смертельную опасность, уничтожила все подозрения и сделала француза неприкосновенным гостем Конга. Хотя капитан Бенже страстно желал посетить Конг и претерпел тяжкие испытания, чтобы добраться до него, но вид большого африканского города, который он лицезрел первым из европейцев, не произвел на путешественника того впечатления, как на иных Нигер или Томбукту. Он, конечно, сознавал, что разрешил интересную географическую проблему, что разделался с мнимыми Конгскими горами, что установил точное географическое положение города. Но дело в том, что никто из туземцев не говорил здесь с пафосом, присущим жителям Томбукту… Конг, или Пон, оказался точно таким, каким капитан его себе и представлял. Это — большой неогражденный город, беспорядочно застроенный глинобитными домами под плоскими крышами, с извилистыми улочками, расходящимися от квадратной площади со стороной двести метров, на которой проходит базар. Жителей в городе около пятнадцати тысяч — все ревностные мусульмане, умеют читать и писать, могут толковать Коран, но не становятся от этого фанатиками, как фульбе и арабы. В городе пять больших мечетей с минаретами и еще несколько меньших, но столь же усердно посещаемых верными. Карамохо-Уле — глава государства, а Диаравари, которому подчинены семь начальников наиля — городских округов, исполняет, так сказать, должность мэра Конга. В городе есть еще имам — религиозный начальник, управляющий делами культа и ведающий вопросами образования. Оно здесь развито весьма сильно, хотя несколько необычно по форме. Здешние мусульмане весьма веротерпимы, равно почитают Моисея, Христа и Магомета и утверждают, что все три учения ведут к одному Богу, что все три религии представлены людьми великого достоинства и нет причины объявлять одну из них лучшей, чем другие. С другой стороны, в Конге процветает торговля. На базаре можно купить не только продукты, но и промышленные изделия из Европы, доставленные с побережья, многочисленные продукты местного сельскохозяйственного и кустарного производства: табак, красители, хлопок, орехи кола, корзины, посуду, индиго, кожаные изделия, ножи, оружие, золото. Покупки оплачиваются каури — всем известными ракушками, занимающими сравнительно много места, и золотым песком, более удобным в обращении и имеющим по всей стране одну цену. В Конге делают бумажные ткани, ценимые по всей стране до устья Нигера и даже до Золотого Берега[463] и страны ашанти[464]. Они превосходного качества, окрашены индиговыми красками местного производства. В окрестностях Конга выращивают также коней. Капитан Бенже купил одну лошадь за круглую сумму — восемьсот франков, представленную, впрочем, кучей самых разнообразных предметов. При случае капитан с патриотической гордостью замечает, что наш каликот туземцы берут с большей радостью, отдавая справедливое предпочтение перед английскими и немецкими аналогичными тканями. Двенадцатого марта пребывание нашего отважного путешественника в Конге подошло к концу. Он послал двух человек с вестями в Бамако (они прибыли через четыре месяца), а сам с рекомендательными письмами, которые для мусульман почти священны, покинул владения Карамохо. Во время путешествия он исследовал значительную часть течения Комое, открыл несколько притоков Вольты, прошел через страну тьефо и пришел к бобо. Страна этого племени довольно невелика. Столица его — Бобо-Диуласо, городок с тремя-четырьмя тысячами жителей. Но значение Бобо-Диуласо больше, чем можно было подумать, основываясь на этой цифре, главным образом потому, что он находится между Конгом и Дженне. В нем всегда будет около тысячи проезжающих, привозящих соль, чтобы купить в обмен орехов кола, тканей, золота. Главный товар здесь — соль. Базар Бобо-Дьюласо подобен базару в Конге: на нем продаются те же товары и по той же цене. Привозятся они из Кинтампо, Конг-Буны, Дженне, Софурулы и Уагадугу. Отличительная особенность этих мест — обилие бродячих брадобреев и маникюрщиков. Брадобреи устраиваются на площадях, на перекрестках, ходят к клиентам на дом. Твердой таксы у них нет. За скромную плату — от десяти до двадцати каури — они скоблят щеки и черепа, а затем, чтобы исцелить порезы, мажут их пальмовым маслом. Операции, исполняемые маникюрщиками, стоят меньше страданий и денег. За четыре каури парнишки, вооруженные скверными ножницами местного производства, стригут ногти на руках и на ногах, а все обрезки возвращают клиентам, которые тщательно зарывают их в землю[465]. Чтобы попасть в Уахабу — резиденцию самого значительного мусульманского вождя Дафины, капитану Бенже по дороге из Бобо-Диуласо пришлось проехать через государства Ньенеге, Бодо-Диула и Соммо. Путешественник в здешних местах на каждом шагу сталкивается с совершенно особыми трудностями: местные жители суеверны до безрассудства. Для этих несчастных всякая незнакомая вещь — фетиш, всю жизнь они трепещут от страха, боятся дурных примет. Стоило капитану бросить по дороге клочок бумаги на землю, стоило туземцам увидеть его стол, складной стул — их тотчас охватывал ужас. Луи Гюстава обвиняли чуть не в колдовстве, подозревали в дурном глазе — и французу великих трудов стоило объясниться: хорошо, если неверно понятый вопрос, неосторожный жест, вырвавшееся слово не приводили к тому, что он был вынужден идти обратно! Так он терял драгоценное время, крайне медленно продвигаясь вперед. Скольких трудов стоило преодолеть невероятную обидчивость, которая в любую минуту могла привести к убийству! Зато Бенже посчастливилось найти исток Вольты. Река образована слиянием двух рек, каждая шириной двадцать метров. Затем Вольта течет по дуге, а далее направляется на юг, орошая золотоносные земли гурунси и ньенеге. Прежде капитану встречались плодородные страны. Великолепно принятый вождем Уахубу, капитан, получив у хозяина рекомендации к моси[466], живущим в Боромо, на берегах Вольты, сумел убедить последних сопровождать отряд до первых деревень, которые встретятся за страной гурунси[467]. Теперь же он попал в область, разоренную ордами грабителей хауса и замберма. Не было больше полей проса, сорго и земляного ореха; не было злаков и финиковых пальм — лишь дикие заросли, заглушившие прежние посевы, дающие неприступное убежище бандитам. Повсюду разбойники, анархия, нищета и смерть. Капитану Бенже с превеликим трудом удалось успокоить спутников, возбужденных страшными историями, которые они слышали каждый день. Сам он часто был болен, почти всегда терпел лишения. Ему требовалось величайшее спокойствие, чтобы уберечься от измен или слабости и внушить людям уверенность, которой не было и в нем самом. Да и как было не бояться? Ведь в этих местах при каждой встрече надо готовить оружие к бою — у одной стороны заряжены ружья, у другой отравленные стрелы на тетиве — и стараться держаться подальше от встречных, не то неосторожное слово или движение приведет к неминуемой катастрофе. Конец пути по опасным землям был весьма тяжким и ознаменовался печальным для маленького отряда происшествием, лишившим его средств на дорогу. Во время проливного дождя люди кириписи, воспользовавшись недолгим замешательством часовых, ночью увели четырех ослов. После этого каждый человек не только вел в поводу двух ослов, но еще тащил на голове двадцать пять килограммов груза, а сам капитан перекинул тюк такого же веса через седло своей лошади. И вот из глубин души нашего отважного офицера вырывается крик: «Когда мы увидели первые хижины моси — для нас это был настоящий праздник!» После множества тягот, неприятностей и страданий он пришел в Банему, где жил Букари-Ноба, брат царя моси, наследник престола. Луи Гюстава ждало замечательное гостеприимство, по-настоящему царский прием, какой только может негритянский вождь устроить белому человеку. Все явилось в изобилии: не только еда, которой объедался отряд после стольких лишений, но и много такого, чего люди Бенже и не видали. Букари-Ноба вел себя воистину по-джентльменски и пригласил гостя принять участие во множестве самых утонченных развлечений. Брат правителя, Ноба-Саном, царь моси, тоже принял француза великолепно. Все предвещало нашему офицеру, что сердечные отношения с моси будут продолжаться и дальше, но тут пришла весть, что немецкий военный отряд, вышедший из Того, поднимается по Вольте. Негры Уагадугу, не зная, что и подумать о столь необычном обилии белых, внезапно почувствовали угрозу в подобном нашествии и прервали только что начатые переговоры о подписании торгового договора, предложив капитану вернуться назад, во владения Букари-Нобы. Капитана весьма раздосадовала подобная помеха — совершенно непредвиденная и непреодолимая. Ему пришлось отказаться от любовно выпестованного плана смелого марша к Либтако, где он хотел продолжить труды Барта. Вместо этого Бенже вновь спустился по Солаге через Гурму[468] и Буссангси. Но жизнь путешественника полна таких неприятностей, и встречать их должно с душевной стойкостью. Отважный капитан так и поступил. Бенже прожил у моси от силы месяц, и благодаря необыкновенному дару наблюдательности ему удалось составить совершенно верное представление о богатствах этих мест. Страна моси лежит на роскошной равнине, где равно поразительные плоды приносят и скотоводство и земледелие. Впрочем, сельское хозяйство развивается здесь в ущерб ремеслу, произведения которого ограничиваются небольшим количеством плетеных корзин да еще белым полотном, продаваемым по чрезвычайно скромной цене. Главное занятие моси — скотоводство, особенно разведение лошадей и ослов. Кони здесь великолепны, упитанны, выносливы, статью напоминают наших драгунских; как правило, они и ухожены столь же тщательно, как у нас. Доходит до того, что к каждой лошади приставляют особого конюха, который должен кормить коня до отвала зерном, давать лизать соль и чистить по всем правилам, принятым в Европе. Что касается ослов, которых так хвалит доктор Барт, они оказались гораздо ниже своей славы — несравненно менее выносливы, чем фута-джалонские ишаки, которых мавританские купцы продают нам в Бакеле и Медине. «К Букари-Нобе я отправился почти что опальным, — пишет капитан Бенже, — и боялся, как бы он не встретил меня недружелюбно. По счастью, этого не случилось — наша вторая встреча оказалась не менее теплой, чем первая. Он был даже настолько любезен, что подарил мне прекрасную пегую лошадь и трех женщин двадцати — двадцати пяти лет от роду, изъявив желание, чтобы я их взял в жены. Мне, холостяку, сразу стать троеженцем — это было, пожалуй, чересчур. Я поделился с Букари-Нобой сомнениями, и он согласился, чтобы девушек я выдал бы замуж за трех своих верных слуг. Без всяких административных или религиозных формальностей, вроде оглашения брака, я тем же вечером поженил спутников, дав им в подарок немного тканей и стекляшек, да еще еды на свадебный пир. Девушки стали прекрасными женами и не породили в нашем лагере никакого раздора. Когда мы расставались, они в знак благодарности за столь удачное сватовство обещали назвать своих первенцев в мою честь». Вторично покинув гостеприимное жилище Букари-Нобы, капитан Бенже столкнулся с новыми затруднениями: даже за цену нескольких рабов он не нашел проводника, который твердо обещал бы провести его через страну гурунси. В конце концов наш капитан отправился на свой страх и риск, с рекомендациями, годными лишь на первых два перехода, потому что от города Валвали в стране мампруси[469] мусульман уже не встретишь… Итак, Бенже пришлось без посторонней помощи медленно идти по недружелюбной, а то и открыто враждебной стране. На девять обычных переходов ему пришлось потратить восемнадцать дней — столь негостеприимны были жители, на каждом шагу являвшие намерение ограбить или задержать капитана. Всякий день случались тревоги, не дававшие маленькому отряду ни отдохнуть как следует, ни запастись провизией. Питались только просом и рисом с небольшим количеством копченого мяса прежде убитого буйвола. Едва экспедиция подходила к какой-нибудь деревне — крыши тут же ощетинивались вооруженными людьми, угрожавшими путешественникам и ожидавшими лишь случая, чтобы на них напасть: глухая оборона несколько раз чуть было не превращалась в яростную атаку. Воины-дикари покидали жилища и следовали за путниками, словно волки, готовые в любую минуту растерзать отставших. В завершение бед окрестности изобилуют потоками, переправляться через которые необычайно трудно, так как лодок совсем не было. Приходилось шлепать по грязи, развьючивать ослов, сушиться, навьючивать вновь — короче говоря, к уже привычным хлопотам прибавились новые. Лишь на восемнадцатый день, казалось, трудности закончились — капитан с отрядом достиг восточного рукава Вольты[470], на котором стоит мусульманский город Валвал. Больному, совершенно обессиленному Бенже пришлось остановиться там на целых сорок пять дней, чтобы прийти в себя и восстановить силы для продолжения предприятия. По счастью, у мусульман Валвала капитан встретил братскую поддержку и самую бескорыстную помощь: его хозяин с имамом даже посылали людей за два часа пути от города купить для путника молока и масла. Между тем пришел сезон дождей. Он плох для любых путешествий — даже негры в это время безвыездно сидят дома. Но капитан так спешил попасть в Салагу, что пустился в путь, едва оправившись, невзирая на тропические ливни. Каждый лишний день, посвященный собственному здоровью, казался ему напрасной тратой времени; он торопился как можно скорей изучить торговлю Салаги, а также (на что, впрочем, было мало надежды) отправить о себе вести во Францию. Салага и впрямь поддерживает оживленнейшие сношения с нашими колониями на побережье Гвинейского залива. Это не мешает ей быть одним из самых грязных городов на целом свете — омерзительная цепь зловонных луж, где валяются всевозможные нечистоты и гниют трупы животных. Не диво, что здесь нет питьевой воды: в дождливый сезон колодцы отравляются нечистотами, в сухой — пересы хают. Воду приходится возить за четырнадцать километров из ручья, вполне соответствующего необычному названию: Воровской ручей. Вследствие этого на рынке в Салаге всегда торгуют дровами и водой, а более всего — солью, которую туземцы ценят выше всех товаров. Соль привозят в Салагу по Вольте, а оттуда караванщики развозят ее в Линтампо, Буле, Бонну, Манго… С другой стороны, из Аккры в Салагу поступают товары европейского производства. Наряду с солью главный предмет местной коммерции, особенно в сухой сезон, — орехи кола. К несчастью, войны с ашанти прервали выгоднейшую торговлю — сбыт колы, — и хауса, которые занимаются ею, вынуждены теперь ездить лишь в Кинтампо и Бондуку. Нечего и говорить, насколько вредна жизнь среди вонючих помоек Салаги. Не только белые, но и негры, менее восприимчивые к действию миазмов, заболевают от этой нечистоты. Капитан со спутниками также вдоволь надышались болезнетворными испарениями и благословили окончание дождей. Как капитан Бенже и собирался, из Салаги через Порто-Ново он отправил письмецо во Францию. Благодаря попечению управляющего колонией господина Либрека д’Абека, оно пришло по адресу и, несмотря на краткость, успокоило родных и друзей капитана. Наконец Бенже оставил мерзкий город Салага и по правому берегу Вольты отправился в Кинтампо — город в провинции Коранза. После сезона дождей вся местность на несколько миль вперед оказалась затоплена. Ценою множества трудов и тягот капитан достиг наконец Ку-Кросу, откуда идут дороги в Окуаву. Но и эта дорога представляла тогда бесконечный ряд болот, заросших густой травой, и лесов, растущих на вязкой пористой тине; она хлюпает под ногами, вы тонете в ней, спотыкаетесь, животные скользят и падают… По пять-шесть километров людям приходится тащить груз на спине — невыносимый труд! Между тем ослы даже без поклажи едва-едва могут пройти через неимоверные трясины. Но в переходе через ужасную местность было и некоторое утешение для путешественника. Из почвы, насыщенной влагою, с поразительной мощью произрастали изумительные растения. Взор капитана, которому наскучила рахитичная, чахлая флора земель гуджа[471], мампруси и дагомба[472], наслаждался ими. Кроме того, Бенже повстречал здесь хауса — предприимчивый народ, любящий торговлю не меньше, чем манде из Конга. Он путешествовал вместе с ними и собрал о них много прелюбопытных сведений. Далее в отчете Луи Гюстав вновь говорит о местах, поразивших его красотой: «Многие места здесь восхищали не только меня, но и моих негров. То и дело по пути попадаются быстрые ручейки, берега которых поросли дивным тенистым лесом. Солнце не в силах проникнуть через эту зелень. Перед вами то заросли папоротников, то висят гигантские лианы с листьями всевозможных размеров, а кое-где вы чувствуете себя совсем как в тихом уголке какого-нибудь симпатичного французского леса, и лишь роскошная стеркулия (дерево кола) возвращает вас к реальности. Здесь господствуют бомбакс, пальма ронье и еще одно дерево с белесоватым стволом; высота стволов до нижних веток — метров двадцать или тридцать, крона же теряется высоко над сводом других деревьев. На каждом шагу хочется остановиться, но провианта и фуража, к сожалению, не хватает, повсюду пронизывает сырость, а муравьи не дают покоя, не говоря уже о кишащих в лесу змеях. Кинтампо расположен в ополье, посреди одного из этих лесов и окружен великолепными банановыми и другими плантациями — в руках европейцев это место обратилось бы в рай. Город насчитывает около трех тысяч жителей — хауса, ашанти, манде, лигуи, дагомба, моси и котоколи[473]. Главные статьи торговли составляют кола и краски — их продают в Бобо-Диуласо в обмен на пленных, золото и ткани, поступающие затем в земли ашанти. Ткани привозят сюда и из Салаги вместе с конгской солью и маслом из Се. В качестве европейца, а главное, благодаря знанию языка манде, я всюду проходил свободно: даже в тех местах, где за проход берут пошлину, с меня обычно не требовали ничего». Маршрут капитана становился все длиннее и длиннее. Из Кинтампо в Бондуку он хотел было пройти кратчайшей дорогой — той, что идет по правому берегу Вольты через Фугулу, пересекая реку Тэм. Но, подобно всем злосчастным африканским землям, где так дешево стоит человеческая жизнь, места эти были опустошены бичом войны. Поэтому Бенже оказался вынужден повернуть в земли диамара, дважды пересек Вольту и тогда только попал в Гаман, он же Бондуку. Впрочем, он отклонился с пути отнюдь не без пользы — путешественник открыл важный горный массив, преграждающий дорогу главному руслу Вольты и заставляющий реку изменить меридиональное направление на широтное. В этих горах нет ни золотых, ни железных копей. Они сложены своеобразным гранитом, переслоенным черными и серыми песчаниками. Их высота на глаз не превышает семисот метров. На берегах Вольты капитан Бенже узнал новость, преисполнившую радости: две недели назад в Бондуку прибыл француз, посланный разыскать его! В понятном восхищенье, мгновенно забыв все — усталость, лишения, болезни, — он поспешил, удвоив продолжительность переходов, в Бондуку… и с большим огорченьем узнал: соотечественник уехал пять дней тому назад. Капитана давно не было, и о нем поступали тревожные слухи, а вести от него приходили редко; никто не знал, где он странствует. Все это возбудило и серьезно обеспокоило общественное мнение во Франции. По инициативе достопочтенного любителя наук из Ла-Рошели, господина Вердье, благородно оплатившего половину расходов, было решено послать спасательную экспедицию, чтобы снабдить капитана новыми товарами, а если у него нет уже никаких средств — помочь вернуться на побережье. В экспедицию входило сорок пять человек, из них двадцать вооруженных. Правительство, оплатившее половину расходов, доверило возглавить ее господину Трейш-Лаплену[474], который в 1887 году, будучи французским резидентом, уже совершил путешествие в Инденье и Бетье, а потому превосходно знал места, прилегающие к побережью неподалеку от Асини[475] и Гран-Бассама. Господин Трейш-Лаплен отправился с побережья в августе месяце, в Бондуку пришел в октябре. Лишь изредка ему удавалось получить сведения — крайне недостаточные — о том, куда направился из Конга капитан Бенже. Не зная, что делать, он решил, во всяком случае, не терять времени и сам отправился в Конг — то ли чтобы встретить капитана там (туземцы уверяли, будто Бенже намерен туда вернуться), то ли чтобы отправиться к нему навстречу, когда сам что-нибудь разузнает. Со своей стороны, капитан, утомленный перенесенными лишениями и форсированным переходом, счел необходимым задержаться в Бондуку — прийти в себя, изучить местную торговлю и попытаться установить связь с господином Трейш-Лапленом. Все население Бондуку не превышает трех-четырех тысяч жителей, однако тамошняя торговля европейскими товарами весьма значительна. Эти товары поступают из Санви, из Инденье и Аброна, из Асини и Гран-Бассама, от ашанти и из страны сахуэ на Кейп-Кост. Кроме того, многих привлекает сюда орех кола — главный, как мы знаем, предмет туземной торговли наряду с солью; с Верхней Камоэ и Вольты стекаются сюда за драгоценным товаром купцы. Покупки до сих пор еще оплачиваются каури, но эту неудобную и не имеющую ценности в других местах валюту все более вытесняет золотой песок, для расчетов которым все носят с собой небольшие весы с коромыслом, магнит — вытягивать из драгоценного металла крупицы железа — и перышко, чтобы удалять оттуда другие инородные тела. Гирями служат причудливые штуковины из дерева, меди, кости, железа и рога. Все они, однако, имеют общую меру с туземной единицей веса — миткалем. Миткаль равен четырем граммам. В Алжире до колонизации эта мера служила для взвешивания духов и драгоценных металлов. Миткаль золота стоит двенадцать франков. Для оплаты меньших цен — вплоть до долей франка — в ход идут твердые семена с довольно равномерным весом: например, двадцать четыре семечка хлопкого дерева или сорок восемь зерен «растительного коралла»[476] довольно точно соответствуют упомянутой мере в четыре грамма. Когда нужно оплатить более значительные покупки, в ход идет и более крупная мера, равная четырем миткалям. Она называется «барифири» — искаженное французское «barre de fer» (железный слиток). Кусок железа определенного размера как раз и равняется четырем миткалям золота. Далее в увлекательном сообщении, сделанном в Географическом обществе, капитан Бенже передает: «В этих местах повсюду много золота, но сколько его находится в обращении — точно оценить не могу: боюсь завысить или занизить его количество. Могу, однако, утверждать: не проходило дня, чтобы на моих глазах не расплачивались золотом — и в доме моего хозяина, где всегда были иностранцы, и в других домах, и даже на улице. Золото носят обычно в тряпице, перевязанной ниткой, или в футлярах, сделанных из перьев грифов и снабженных деревянными затычками. Кроме песка, довольно часто встречаются и самородки весом от одного до восемнадцати граммов. У меня самого был самородок весом сорок четыре грамма, а у моего хозяина стотридцатиграммовый. Продать его мне он не соглашался ни за какую цену: самородок достался хозяину от предков. Меня больше ничто не задерживало в Бондуку, и я решил как можно скорее добраться до Конга, который от Бондуку отстоит на девятнадцать дней пути. Поскольку последняя моя лошадь сдохла, тяжелейший путь мне предстояло одолеть пешком. За два года жизни в этих краях я дошел до полного измождения и боялся, что на дорогу у меня не хватит сил. Но желание и воля нагнать француза, посланного за мной, так взбодрили меня, что я проделал весь путь за одиннадцать дней». До Комоэ капитан шел той же дорогой, что и господин Трейш-Лаплен, но затем переменил маршрут и уклонился к северу. Так он сделал полезное дело — посетил золотоносные земли Саматы. Шахты добытчиков расположены там так близко друг от друга, что идти приходится с величайшей осторожностью. Но путешественнику не удалось увидеть промывку и обработку золотоносного кварца. В это время года в округе нет ни капли воды, вследствие чего наступает вынужденная безработица, конец которой кладет лишь сезон дождей. Говоря одним словом, золото есть здесь повсюду, даже на Конгском плато[477], на высоте семьсот метров, в кварцевых жилах. Там даже пробовали начать разработки, но вскоре забросили, так как большую часть года не хватает воды. Совсем измучившись, капитан Бенже 8 января 1889 года после одиннадцатимесячного отсутствия возвратился в Конг, где и встретил господина Трейш-Лаплена. Последний, узнав о скором прибытии капитана, выслал ему навстречу лошадь и хотел уже сам идти навстречу, когда Бенже вдруг появился сам. «Под влиянием неописуемого чувства, — рассказывает господин Бенже, — я пал в объятия достойного соотечественника, который, едва оправившись от последствий долгой жизни на африканском берегу, вдруг вызвался пойти мне на выручку. Кроме запаса товаров, он привез мне известия о матери и друзьях, быстро заставившие меня позабыть о тяготах и лишениях. Через несколько минут после нашей встречи сторонний наблюдатель принял бы нас за давних знакомцев — непосредственность, свойственная африканским жителям, вмиг сдружила нас. Умолчу о всех визитах и поздравлениях от конгских вождей и народа, бурно радовавшегося моему возвращению. Этому помогло написанное по-арабски письмо, которое я им прислал из Салаги: оно привлекло ко мне общие симпатии и последних недругов сделало сторонниками моего дела. Прием, оказанный мне, и свободный доступ в город господина Трейш-Лаплена стали лучшими залогами того, что все население здесь полностью поддерживает наше дело. Люди здесь не забыли имени Франции, которому я с таким терпением учил их в первый свой приезд, и все указывало мне, что предложение заключить договор непременно будет благосклонно принято. За одиннадцать месяцев этот вопрос, благодаря кампании, которую вели оставленные мною в Конге друзья, значительно продвинулся. Несколько дней спустя я подписал с Карамохо-Уле договор, по которому его государство поступало под наш протекторат, наша торговля получала преимущественные права перед всеми другими странами, а французские купцы и миссионеры получили дозволение селиться здесь. Этот договор вместе с тем, что за несколько месяцев до того подписали в Бамако капитан Сетан и Тьеба, а также с тем, что подписал господин Трейш-Лаплен в Бондуку, соединял наши поселения на Верхнем Нигере с владениями на Золотом Берегу! Государство Конг очень велико — простирается на три градуса как долготы, так и широты (от 8°30′ до 12° северной широты). Таким образом, наши владения на Золотом Берегу отступили от Дженне на двести пятьдесят километров и включают теперь страну манде в Конге, Тьефо, Дохо-сье, Бобофинг, Тагуару, Ньенеге с частью округов Паллага, Пахалла, Бигури и Лоби». Капитан Бенже был чрезвычайно доволен, что счастливо завершил щекотливое и трудное дело с подписанием договора, и немедленно отправил в Бамако четырех людей с женами. Этот маленький отряд взял с собой донесение во Францию и коллекцию местных костюмов, чрезвычайно любопытную с этнографической точки зрения. Достойно замечания, что и письма, и костюмы, и люди прибыли в целости, сохранности и добром здравии, что доказывает, какую симпатию умел внушить к себе капитан. Его людей повсюду встречали превосходно — даже вожди иногда дарили им подарки. Вскоре капитану вместе с господином Трейш-Лапленом также пришел черед оставить Конг и распроститься с добрыми неграми, оказавшими путешественникам столь радушный прием. Господин Бенже особо отмечает, сколь необычайно трогательно было расставанье. «Как последний знак симпатии, — пишет он, — эти славные люди дали нам письма и рекомендации; они даже встали до зари, чтобы проводить нас до первого ручья к югу от города. Нам пришлось обещать, что мы либо сами вернемся, либо пришлем соотечественников, а они говорили, что примут гостей как нельзя гостеприимнее. Наконец, я увез с собой их здравицы президенту Республики и всем, как они выражались, “старейшинам Франции”». В последний раз покинув Конг, капитан отправился к югу и решительно вступил в земли джимини. Там он имел счастье собрать много новых материалов об этой столь интересной и связанной с Конгом неразрывной дружбой стране. Он кое-что узнал об ее истории — записал список важнейших вождей — и познакомился с народами, власть которых некогда простиралась от Конга до нижнего Комоэ. Ныне эти племена пришли в упадок; от них осталось теперь пять частей: пахалла, набе и зазере принадлежат к той этнографической ветви, откуда происходят жители Бондуку, Буны и бауле; тагуасы, наряду с миорон, близки к семье сьере, а фаллафалла отосятся к группе комано. С большой радостью путешественник убедился, что люди джимини весьма миролюбивы, общительны и живут в добрых отношениях с соседними племенами. Их ремесла находятся в цветущем состоянии; они умеют прекрасно ткать покрывала из хлопка, а также особую полосатую бело-голубую ткань — тоже из хлопка, — которая может смело конкурировать с белыми полотнами моси. В связи с производством крашеных тканей, которые выменивают на привозимые с севера соль и железо, здесь процветает еще культура хлопка и индиго. Как еще один весьма ценимый товар следует назвать орех кола, привозимый из стран анно и бауле. Эта страна анно, непосредственно граничащая с джимини, у туземцев известна под самыми разными названиями, что подчас сбивает путешественников с толку. Например, манде называют ее Мангуту — Чащоба Манго, — причем имя Манго для главного ремесленного центра страны тоже дали манде: местные жители называют его Гоненедаха или Грумания. Из-за такого обилия названий для обозначения одного и того же места, никоим образом не связанных между собой, капитану пришлось вести долгие и тщательные разыскания, иногда же случались невероятные недоразумения. Он уже сталкивался с этим и раньше, по дороге из Дагомбы в Бондуку. Там каждая деревня кроме туземного — настоящего — имени имела название на языке хауса и на языке манде, данное купцами из этих стран. Господин Бенже с обычной добросовестностью изучил страну Анно. Она длинной узкой полосой тянется от Джимини до Инденье вдоль левого берега реки Комоэ, отделяющей Анно от Баробо, государства арджума. Здесь живут как кочевые (или, вернее, странствующие, ибо они всегда возвращаются домой) купцы, так и оседлые земледельцы. Купцы происходят из манде племени диула[478], земледельцы — га, исконные местные жители. Есть еще здесь поселения аньи[479], племени одного корня с жителями земель кринжабо, сахуэ, инденье, бауле[480] и абру. Поскольку рельеф страны Анно весьма разнообразен, а следовательно, разнообразна и растительность, эту область следует признать обладающей большими сельскохозяйственными, ремесленными и минеральными ресурсами. Любопытно, что каждое племя здесь выбирает свой род занятий. Диула занимаются торговлей, разъезжают повсюду, ткут ткани, красят индиго и выменивают как их, так и товары, произведенные га. Последние — по инстинкту и вкусу земледельцы — разводят дерево кола (Sterculia acuminata) и масличную пальму; этой работой они занимаются с методичностью и упорством, поразившими капитана. Деревья га высаживают с идеальной регулярностью — не будь они столь разнообразны и пышны, вы бы приняли их за прекрасно ухоженный сад в Европе. Покуда мужчины изо всех сил занимаются полевыми работами, женщины прядут ананасную пряжу — ее покрасят в красный, желтый и синий цвета и вывезут в дальние края для вышивки узоров на одежде. Эти края — главное место разведения «дерева дураков», приносящего большой доход. Кору тщательно разминают колотушкой (разумеется, ободрав с дерева), и она становится очень прочным и качественным материалом, из которого делают мужское и женское платье, колпаки, мешки, скатерти. Что касается аньи, они главным образом занимаются старательством золота. Добыча ведется двумя способами: промывкой песка и поиском самородков. Промывка золотоносного песка производится исключительно в сезон дождей, ибо эта работа требует много воды. В сухой сезон потоки иссякают и золотоискатели ищут в кварцевых жилах обогащенные гнезда золота. Кажется, промысел этот довольно прибыльный. Во всяком случае, благодаря ему ужасные деньги каури выходят из употребления и заменяются золотым песком, более удобным при расчетах и куда менее громоздким. Вожди джимини и анно прекрасно встретили господ Бенже и Трейш-Лаплена — правители заверили путешественников в добрых намерениях, объявили, что желают жить в наилучших отношениях с Францией, готовы помочь купцам приезжать в их страну. В конце концов они подписали договоры, аналогичные конгскому, также с признательностью принимая французский протекторат. Все многомесячные и многолетние странствия по Западной Африке понемногу подорвали могучее здоровье капитана Бенже. Нельзя безнаказанно сносить столь суровые тяготы и долгие лишения, да еще в придачу неизбежный для путешественника неправильный режим. Отважный офицер совершенно утратил способность ходить — его пришлось нести до Комоэ в гамаке. Господин Трейш-Лаплен чувствовал себя немногим лучше. Итак, двум товарищам пришлось отказаться от горячего желания отправиться на запад к реке Аттакру, чтобы совершить по ней путешествие в пироге и составить лоцию. Плаванье на пироге по Комоэ оказалось не легче остального путешествия — по дороге случилось множество происшествий, о которых сейчас слишком долго рассказывать. Из-за порогов и стремнин путешественникам приходилось проводить в пироге на солнцепеке целые дни (!). Более того — им ни разу не удалось совершить дневной переход на одной и той же пироге. Деревни здесь почти все враждуют друг с другом, и лодочники не смели заходить на участок реки, принадлежащий соседям. Поскольку же деревни стоят очень тесно, товарищам по три, по четыре раза на дню приходилось менять суденышки с гребцами. В здешних краях существует один нелепый обычай: земляки несут солидарную ответственность — все отвечают за действия одного. Например: некто, живущий в верховьях реки, задолжал кому-то, обитающему ниже по течению. И вот если любой житель верховой деревни, будь он хоть совершенно посторонний должнику, попадет случайно в низовую деревню, его непременно возьмут в заложники с конфискацией всех товаров до полной уплаты долга. Воображают, будто такая солидарность способствует торговле и взаимным отношениям! В таких условиях понадобилось целых три недели, чтобы достичь деревни Беттие, расположенной милях в шестидесяти к северу от Гран-Бассама. Вождь деревни, умница Бенье-Комье, прислал изможденным путешественникам ящик галет и несколько бутылок вина. Несколько стаканов благородного напитка — возлюбленного чада старой Франции — вдруг взбодрили товарищей и, как весело замечает капитан, немало поддержали дух. «Этот вождь, — продолжает отважный исследователь, — который еще в 1887 году вошел благодаря господину Трейш-Лаплену в число наших верных союзников, принял нас весьма радушно и предоставил в наше распоряжение собственный дом — нечто вроде двухэтажного шале[481], выстроенного на европейский манер, с верандой и балконом. Две довольно удобные кровати позволили нам немного отдохнуть, пока мы готовились плыть дальше вниз до Алепе. Там нас должна была ждать французская канонерка “Алмаз”, несущая службу на Комоэ ниже Алепе и приводящая к повиновению беспокойные племена вокруг лагуны Эбрие. Путь от Беттие до Моламолассо мы частично прошли по суше, поскольку русло Комоэ так загромождено обломками скал, что пироги не могут пройти по нему даже в паводок. От Моламолассо мы плыли к Алепе с четырех часов утра до полуночи. И вот показался светлый силуэт “Алмаза”. С весьма радостным чувством ступил я на палубу небольшого французского судна… По приказу капитана старший боцман переворошил весь камбуз[482], чтобы как можно лучше принять нас. На другой день после этого радостного события судно направилось вниз к Гран-Бассаму. За час до прибытия я спустился в каюту. Около полудня, к великой радости, я увидел наконец в иллюминатор, как морские волны плещутся о берег и над факторией Вердье развевается наш родной национальный флаг. В фактории я встретил самый радушный прием и самое щедрое гостеприимство, какие только можно пожелать. Я был изможден до последней степени, но добрый прием способствовал поднятию моего духа, и я смог безопасно перенести морское плавание — иначе из-за слишком резкого контраста оно могло бы плохо для меня кончиться… Еще несколько недель — и вот я в Сенегале, во Франции, в Париже!» Это великолепное путешествие, которое, как мы уже говорили, выдвинуло капитана Бенже в первые ряды путешественников нашего времени, было исключительно плодотворно не только с точки зрения чистой географической науки, но и с промышленно-торговой, столь важной для процветания нашей страны. Неустрашимый путешественник все видел, все записал, все запомнил. С несравненной ясностью и отчетливостью — нельзя не удивляться им у солдата, которому могли быть чужды подобные качества, — он предоставил дотошнейший отчет о местных ресурсах, нуждах, произведениях не хуже, чем торговый агент, съевший собаку на подобных делах. Одна часть его отчета так полна и говорит о столь здравой и верной способности суждения, что я не могу противиться удовольствию в самом сжатом виде пересказать ее. Разделив мысленно все огромное пространство, которое обошел господин Бенже, на четыре зоны с севера на юг, мы получим: 1. Область, прилегающую к Томбукту — там, где проходит воображаемая граница, отделяющая от черной расы белую, представленную арабами. Это область равнин с превосходными пастбищами; арабов там мало. Жители питаются кускусом из проса и сорго. Фрукты — финики и папайя. Технические культуры — хлопок и индиго. Здесь выращивают скот на продажу: быков, баранов, ишаков, лошадей. 2. Вторая зона, с более пересеченным рельефом, может быть разделена на возвышенности и низменности. На возвышенностях возделывают просо и сорго, добывают железную руду. На низменностях диким образом растут прекрасные деревья, в частности, баобаб и масличное дерево. Культуры — рис, кукуруза, табак. 3. Чем дальше продвигаешься к югу, тем роскошней становится растительность. Туземцы здесь возделывают ямс, хлопок, индиго, табак, сажают дерево кола, орехи которого, как мы знаем, суть лучший предмет меновой торговли наряду с солью. Почти везде очень много золота. 4. Четвертая зона, расположенная между третьей и морем, — сплошная стена почти непроходимого леса. Проход приходилось прорубать саблями. Туземное население питается маниокой, бананами, кукурузой. Эта область дает много золота, пальмового масла и кофе. Из беглого перечня следует, что вся страна в высшей степени благоприятна для сельского хозяйства, то есть для выращивания не только африканских продуктов, но и европейских, которые здесь можно акклиматизировать — особенно тех, которые при малом объеме имеют высокую ценность. Отдача будет огромна, а прибыль неисчислима, ибо сила растительности здесь поистине неимоверна. В путях сообщения недостатка не будет. В самом деле, что нужно местным жителям? Иметь по безопасным дорогам доступ к побережью, чтобы обменять золото на наши товары или пустить нашу мануфактуру к себе. Так как Конг и Дженне — два важнейших торговых центра, нашим коммерсантам необходимо снабжать товаром именно эти два города: либо посылать негритянских торговцев, либо переманивать людей из Дженне в Бамако, а из Конго в Гран-Бассам. Это элементарно и не требует лишних доказательств. А возможно ли это? Вполне! Проложив надежные дороги в глубь материка, мы, так сказать, притягательной силой неведомого вынудим туземцев внутренних районов материка прийти в наши фактории — ведь люди там лучше одеты, носят украшения и живут богаче.Кроме того, африканцы увидят склады и захотят купить товары, которые бродячий купец не взял бы с собой, опасаясь не найти сбыта. Племена, столь недавно ставшие известными, симпатизируют нам и хорошо чувствуют, что рано или поздно (скорее рано, чем поздно) войдут в общение с цивилизованными нациями. Как только мы увидим, что они нам не враждебны, следует воспользоваться их расположением и мирным путем покорить. «Это нетрудно», — говорит капитан Бенже и бросает в заключение призыв к нашей молодежи, взоры которой все более и более обращаются к дальним краям, где жизнь легка и вольна, труд благодарен, свобода неограничена. «Направимся к Сенегалу, — говорит он, — к берегам Гвинеи! Создадим там конторы и будем поддерживать наилучшие отношения с нашими новыми союзниками. Больше всего я хотел бы видеть, что молодых людей поощряют отправиться в дальние края, — это лишь послужило бы славе и благоденствию Франции. Конечно, такие походы не проходят без тягот, но дают и много удовлетворения. Сколько юношей, прозябающих во Франции, могли бы там сколотить состояние и одновременно принести пользу родной стране! У каждого, конечно, свое представление о счастье, но неужели те, кто прежде меня и подобно мне на долгие годы оставили все, чтобы увеличить нашу славу и запас географических познаний, не счастливы? Конечно да! И я думаю, это не худший род счастья, ибо лучший способ почувствовать жизнь — переносить лишения!»

Луи Буссенар ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
ГЛАВА 1
Первые открытия в Арктике. — Пифей. — Скандинавы. — Эйрик Рыжий. — Братья Дзено. — Баренц. — Ченслер. — Гудзон.Наши далекие предки имели весьма смутные представления о северных районах Европы, или гиперборейских странах, как они именовали их. Тем более поразительны подробные знания некоторых из этих мест, добытые отдельными мореплавателями. Ошибочно полагать, что жители солнечных земель — финикийцы, греки, карфагеняне, — испуганные туманами, холодом и снегом, поворачивали назад, лишь завидев первые плавучие льдины в северных водах. Если бы античных мореходов влекло только желание выгодно обменять товары на сырье, а не героизм, они и тогда решились бы пройти за Геркулесовы Столбы[1], где их поджидало полное опасностей неведомое. Судя по всему, они посещали острова к северу от Великобритании, побережье Швеции и берега Балтийского моря. Эти страны, несомненно, изумляли их, а порой и ужасали, не говоря уж о трудностях подобных переходов на кораблях того времени. Среди предшественников современных мореплавателей с большим почтением отметим одного грека, а точнее колониста — Массалиота Пифея, жившего в четвертом столетии до Рождества Христова. Во-первых, он значительно опередил свою эпоху по части научных познаний, во-вторых, снаряженный в далекий путь греками, жившими на территории современного Марселя, действовал и в интересах чистой науки, и в коммерческих интересах благосклонных кредиторов. Пифей являлся не только искусным и бесстрашным мореходом, но и настолько выдающимся астрономом, что смог определить широту родного города с точностью, отличающейся всего на несколько секунд[2] от вычислений современных географов. Он прошел вдоль средиземноморских берегов Испании, миновал пролив, обогнул, вероятно, Галлию, затем Англию, обследовал острова Касситериды и достиг острова Туле, то есть, как считают, Исландии. Одним из доказательств реальности столь дальних путешествий служит его описание полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт. Трудно выдумать подобное явление тому, кто никогда его не видел. «В этих краях, — писал он среди прочего, — уже нет ни собственно земли, ни воздуха, ни моря; только что-то вроде загустевшей кипени из всех элементов, похожей на мягкую и пористую субстанцию, называемую морскими легкими и почти непреодолимую». Отдав должное воображению уроженца средних широт и естественному для предка современных марсельцев пафосу, нетрудно распознать в этой странной картине смешение туманов, снегов и полурастаявших льдов, дрейфующих в сумрачных арктических морях. Естественно, Пифей не заслужил признания современников, относившихся к его рассказам, как к фантазиям. Но что более серьезно, Полибий[3], а после него Страбон[4] и много лет спустя испытывали к описаниям марсельского первопроходца непонятное для таких умов презрение. Это пренебрежение непостижимо и несправедливо, поскольку далекие потомки подтвердили точность наблюдений древнего мореплавателя и почтили его память. Пифей заслуживал лучшего хотя бы потому, что, возможно, именно он первым предположил связь морских приливов и отливов с движениями Луны. Кроме того, Пифей знаменит своими скрупулезно точными наблюдениями за высотой нашего светила во время летнего солнцестояния, сделанными при помощи гномона[5] значительной величины. Эти наблюдения легли в основу учения о вековом уменьшении наклона эклиптики[6], которое в наши дни окончательно подтверждено. По словам Гиппарха[7], он первым из греков понял, что Полярная звезда находится вовсе не на полюсе; Плиний и Плутарх[8] писали о том, что Пифей заметил связь, существующую между приливами и временем прохождения Луны через меридиан. Как бы то ни было, Пифей не заслужил признания при жизни, и эра открытий замкнулась более чем на четыре века. И когда наконец люди снова решились выйти на просторы Атлантики, то не без опаски и чрезмерной осторожности, чего нельзя сказать об отважном первооткрывателе античной Туле. Знания древнего ученого, дошедшие до нас в основном благодаря трудам Полибия и Страбона, были утеряны для его соотечественников, которые могли бы извлечь из них немалую пользу. Оттого же, что Пифей не высаживался на арктических землях, он не становится менее знаменитым ученым и неустрашимым пионером; под таким титулом он, несомненно, заслуживает особого упоминания во главе славного списка героев и жертв полярных экспедиций. Миновала долгая череда веков, прежде чем стали заметны серьезные, реальные усилия, направленные к расширению обитаемых земель на Крайнем Севере. Оставив без внимания старинные легенды, лишенные какой бы то ни было достоверности, а потому недостойные изложения в солидном труде, мы начнем повествование с IX века, то есть перенесемся через тринадцать веков от Пифея в эпоху переселений и открытий скандинавов, или, если угодно, норманнов. Благодаря совокупным исследованиям датских ученых, объединенным и блестяще представленным господином Габриэлем Гравье, секретарем Руанского географического общества, мы достаточно хорошо знаем этот в каком-то смысле героический период арктических путешествий, и не остается ничего лучшего, как проследить за событиями по труду господина Габриэля Гравье, из которого мы сделаем немалые заимствования[9]. Первым отважным мореходом, который бросил вызов наводящему ужас Ледовитому океану, был норвежец Отер; описание его походов сохранилось в летописях времен царствования короля англосаксов Альфреда Великого. Отер, или Оттар, владел богатым княжеством на крайнем севере Норвегии. Нам известно, что он обладал бесчисленными стадами оленей, не чурался охоты на тюленей и китобойного промысла и обожал мореходное дело. Особенно интересной деталью является тот факт, что он предпринял свое великое путешествие из чистой любознательности, вне всяких меркантильных соображений. Он прошел вдоль берегов Норвегии, Финмарка[10], Лапландии, пересек Белое море до устья Северной Двины, то есть обогнул Европу по маршруту, который Ричард Ченслер[11] повторил только шесть веков спустя. В то время как Альфред Великий внимал из уст самого Отера рассказ о его приключениях в стране льдов, началась колонизация Исландии норвежцами. Смутно известную во времена Плиния, а затем забытую Исландию вновь открыл в 861 году норманнский пират Наддод[12], обследовавший вулканическую поверхность новой земли и назвавший ее Снёланд, то есть страна снегов. Несколько лет спустя еще три норвежца — Флуки-Рафна, Херьольф и Турольф — прибыли с Фарерских островов, чтобы обосноваться на острове Наддода вместе с домашней живностью. Естественно, они пережили здесь очень суровую зиму, и скот пал из-за недостатка кормов. В 873 году Ингольф, также норвежец, невзирая на мрачные описания Флуки-Рафны, вернувшегося на родину после неудачной попытки, окончательно обосновался на острове, названном Флуки-Рафной Исланд, или Землей Льдов. Вскоре сюда переправились многочисленные его последователи, и новую территорию быстро колонизовали. К 930 году вся пригодная к обитанию часть страны была заселена, и Исландия превратилась в довольно процветающую республику. Так норвежцы преодолели самый трудный этап на пути в Гренландию. Хотя первооткрыватели Исландии и видели мельком берега этой американской земли, но по доброй воле никто не отваживался к ней даже приблизиться. Только трагические обстоятельства заставили Эйрика Рыжего, опасавшегося мести за убийство, покинуть Исландию, что и послужило началом массового переселения на таинственные берега. Случилось это в 983 году. Эйрик направился на запад, обнаружил на 64° северной широты восточный берег Гренландии, проследовал вдоль него к югу, обогнул мыс Фарвель и остановился в заливе, который он назвал Эйриксфьорд; позднее на западном берегу, признанном им куда более гостеприимным, он основал поселение Братталид. Он набрал колонистов, и в 985 году тридцать пять кораблей взяли курс на Гренландию. К несчастью, две трети эмигрантов не увидели новую родину, расписанную Эйриком как землю обетованную. Ужасная буря пустила ко дну двадцать одно судно из тридцати пяти. Тем не менее освоение продолжилось, и западное побережье Гренландии до 73-й параллели усеяли датские и норвежские укрепления; по крайней мере, так гласит руническая надпись на камне, откопанном на этой широте и датированном 1135 годом. Лейв, один из сыновей Эйрика Рыжего, узнав о том, что Бьёрн Херьюлфсон, унесенный течением, обнаружил сушу на юге, отправился в экспедицию вместе с самим Бьёрном и тридцатью пятью матросами. Он нашел вышеупомянутые земли и назвал их Хеллюланд[13] и Маркланд: то были Лабрадор, Ньюфаундленд и Новая Шотландия. Проследовав вдоль побережья, он дошел до территорий современных штатов Массачусетс и Род-Айленд, поднялся вверх по реке, называемой сегодня Покассет-Ривер, и построил на ее берегах жилище, где путешественники перезимовали. Обнаружив по соседству дикие виноградники, он окрестил этот край Винланд, а весной вернулся в Братталид на корабле, груженном плодами благодатной земли. На следующий год брат Лейва, Турвальд, продолжил его дело; он пережил зиму в том же, никем не тронутом убежище и продвинулся летом 1003 года до Лонг-Айленда, то есть до того места, где сегодня гордо возвышается Нью-Йорк. Но жестокое обращение с местными эскимосами стоило ему жизни. Он погиб в бою и был похоронен на полуострове Кейп-Код. Его спутники вернулись в Гренландию в 1005 году. Третий сын Эйрика, Торстейн, отправился в путь вместе с женой, прославленной старинными исландскими легендами красавицей по имени Гудрид, с целью привезти домой останки брата. Двадцать пять моряков составляли его экипаж. Встречные ветры отнесли корабль почти к Полярному кругу; Торстейн вскорости умер, а команда, лишившись капитана, сочла за лучшее вернуться в Гренландию. Его вдова вышла некоторое время спустя замуж за норманна по имени Турфинн Карлсэвн, который решил повторить героический путь сыновей Эйрика. Экспедиция состояла на этот раз из трех кораблей с экипажем в сто шестьдесят человек и пятью женщинами, включая Гудрид. Турфинн прибыл в Винланд и в течение четырех лет тщательно изучал этот край. Следуя вдоль берега на юг, он достиг устья Потомака и познакомился со страной, названной Ибритраманноланд, или Землей Белых Людей (видимо, людей в белых одеяниях). Скорее всего, это современная Каролина, Джорджия или даже Флорида, где находились, как говорят, ирландские колонисты. В общем, не вызывает никаких сомнений, что в XI веке, за пятьсот лет до Колумба и Кабота, норманнские пионеры побывали на северо-восточном побережье Америки. Как говорит господин Вивьен де Сен-Мартен, для них это было всего-навсего несколькими островами дальше в огромном северном море, где они в течение многих веков обживали архипелаг за архипелагом — Оркнейский, Шетландский, Фарерский, затем Исландию и Гренландию — и не находили ничего особенного в открытии пары, тройки новых земель; они не сознавали ни важности, ни последствий этого события, и познания, которые подарил им случай, утратились так же, как и появились, не оставив после себя ничего, кроме легенд. В общем, эти нечаянные открытия скандинавов никоим образом не умаляют славы Колумба, не имевшего никаких сведений о них, и не наносят ни малейшего ущерба гению великого генуэзца. Они не имели никакого отношения к космографическим исчислениям, послужившим отправной точкой для экспедиции Христофора и открытия Нового Света. Колонизация Гренландии, начатая Эйриком Рыжим, успешно развивалась, что подтверждают многочисленные развалины от мыса Фарвель до Упернавика. Но, к сожалению, не так уж долго. В 1261 году гренландские поселения вместе с Исландией отошли к Норвегии, и вскоре новые власти довели их до разорения, раздавив колонистов непосильными налогами. Правда, упадок происходил достаточно постепенно, настолько выносливы и живучи оказались наследники непобедимых викингов. Агония, вызванная нелепым управлением новой метрополии, продолжалась почти три века, примерно до 1340 года. Именно в это время исчезли последние представители гренландцев скандинавского происхождения. Теперешние обитатели древней «Зеленой земли» Эйрика Рыжего пришли гораздо позже, во времена датского правления, и никакого родства с норманнами не имеют. Интереснейший документ, относящийся к концу XIV века, описание и карта путешествия братьев Никколо и Антонио Дзено[14], проясняет многое в норвежском наследии и проливает новый свет на разведанные тогда северные районы. Братья Дзено, выходцы из влиятельной и благородной венецианской семьи, внесли в историю имя своей родины. Их старший брат, Карло, великий адмирал, несколько раз выручал Республику в критических ситуациях. Никколо, средний брат, превзошедший старшего в завоевании почестей, обожал, как и многие другие его соотечественники, дальние плавания. Он снарядил корабль и отправился на север от Гибралтара. В водах Англии его настиг сильнейший шторм, который отнес судно далеко на север. Никколо пришлось пристать к одному из Оркнейских островов, где был ласково принят местным князем, которого он называет Дзикми; этот Дзикми доверил ему сначала командование кораблем, а через два года и всем своим флотом. Тогда Никколо вызвал своего младшего брата Антонио, и они вместе помогли Дзикми в завоевании «Фрисланда», вероятно — Фарерских островов. Продолжая плыть на север, венецианцы посетили Исландию и восточный берег Гренландии. Здесь неподалеку от 69-й параллели они обнаружили рядом с источником теплой воды колонию, основанную скандинавскими монахами. Хотя в наше время не найдено и следов этого монастыря, любопытно сопоставить с этим фактом, указанным в донесении Антонио Дзено, встречу капитана Гро[15] с несколькими сотнями кочевников определенно европейского типа в тех же широтах, но уже в 1828 году. Кто эти кочевники? Далекие потомки колонистов Эйрика, ставшие постепенно такими же дикими, как эскимосы, с которыми они делят жалкое существование? Вполне правдоподобное предположение, тем более что так происходило и во многих других точках земного шара, где белые люди жили среди первобытных народов, переняв их образ жизни, но не смешиваясь с ними. За этой плодотворной на результаты экспедицией последовала другая. Толчком послужили рассказы старого финского моряка, который взялся проводить братьев Дзено к неведомым землям. Путешественники потерпели неудачу, и Антонио, после того как с большим трудом привел обратно остатки флотилии, скончался подле князя Дзикми. Никколо еще четырнадцать лет оставался во владениях князя — благодетеля и друга братьев. За это время он написал множество писем Карло, великому венецианскому адмиралу. Несколько этих писем, найденных позднее в архивах семьи, а также карта, где рукой Никколо очерчены морские берега к северу от Шотландии и к западу от Норвегии, были опубликованы[16]. Несмотря на неточности в месторасположении указанных на карте земель, они легко узнаваемы. Так, на северо-западе от Шотландии отмечен большой остров — Фрисланд, давший пищу многим ошибочным предположениям и спорам. На самом деле это Фарерский архипелаг, многие местные названия совпадают с картой венецианца. Эстланд, между Фрисландом и Норвегией, — это Шетландские острова. К северу от Фрисланда расположена Исландия, а над ней на севере и на западе нависает Гренландия, ясно обозначенная в форме гористого полуострова, с названиями по обеим сторонам водных потоков и мысов, и под двойным именованием Гроландия и Энгронеланд. И наконец, к югу от оконечности Гренландии — два острова, выходящих за рамки карты, Эстотиланд и Дросео, описываемых иногда под именами Хеллуланд и Винланд. Однако, несмотря на то что труд братьев Дзено представляет огромный интерес, было бы не совсем правильно представлять эти экспедиции, особенно вторую, как еще одно открытие Америки в XIV веке. После братьев Дзено и до настоящего времени скандинавы уже не предпринимали более попыток, направленных на завоевание Арктики. Зато эстафету полярных исследований подхватили англичане, снискав на этом поприще немалую славу.
Первое путешествие Христофора Колумба в 1492 году приковало внимание всей Европы. Лихорадочное возбуждение вызвали чудесные открытия великого мореплавателя. Венецианский торговец, обосновавшийся в Англии, Джованни Кабот[17], или Джон Кабот, как его называют британцы, задумал отыскать на севере или северо-западе путь в Катай (Китай) и в «Индию», найденную Колумбом в тропических широтах. Кабот легко добился от Генриха Седьмого высочайшего дозволения отправиться от имени короля Англии на открытие «всех земель, морей и заливов на западе, востоке и севере». Четыре корабля, оснащенных богатейшими купцами Бристоля, вышли в море весной 1497 года. Джон Кабот привлек к участию в своем предприятии сына Себастьяна[18]. Следуя на запад-северо-запад между пятидесятой и шестидесятой параллелями, 24 июня того же года он достиг, по всей видимости, побережья Лабрадора между 56 и 57° северной широты. Судовые журналы и карта Кабота, к несчастью, утрачены, и нам так недостает сведений об этой первой экспедиции! На следующий же год Себастьян Кабот, не откладывая, вновь отправился в путь. Он значительно продвинулся к северу по сравнению с предыдущим путешествием, пройдя до точки, расположенной на шестьдесят седьмом с половиной градусе, то есть на северной оконечности Девисова пролива. Возвращаясь на юг, он открыл Ньюфаундленд, названный им «Терра ди Бакалауш», или Тресковой землей, и спустился вдоль побережья до 35° северной широты, то есть оказался всего в пяти градусах от Флориды. Недостаток провианта заставил его повернуть назад. Таким образом, пока Колумб совершал свое третье путешествие, честь открытия восточных берегов Америки от Девисова пролива до Флориды завоевали отец и сын Каботы. Почти полвека спустя, а точнее через сорок восемь лет, в 1546 году, семидесятилетний Себастьян Кабот на регентском совете Эдуарда VI предложил снова начать поиски пресловутого прохода в Китай, но не на северо-западе, а на северо-востоке. Карта Птолемея, единственная, из которой в то время черпали сведения об этих районах мореходы, подсказывала эту идею. Проект Кабота получил пылкое одобрение, и два корабля под командованием Хью Уиллоуби и Ричарда Ченслера вышли из Лондона в 1553 году и повторили маршрут Отера, осуществленный шестьюстами годами ранее. Судно сэра Хью затерялось у берегов Лапландии, возможно, экипаж погиб от холодов и недоедания вместе с капитаном. Более удачливый Ченслер продолжил свой поход на север, прошел в Белое море и высадился в Архангельском (Архангелогородском) порту. Узнав, что эти края подвластны Великому князю Московскому, чья резиденция находилась довольно далеко от Архангельска, в большом городе внутри страны, он пожелал ему представиться. Ченслер прибыл в Москву, был обласкан Иваном Васильевичем и заключил с великим князем, первым удостоившимся царского титула[19], торговый договор от имени своего правительства и Лондонской торговой компании. Сразу после возвращения Ченслера Лондонская торговая компания снарядила еще один корабль, чтобы дополнить открытия предыдущей экспедиции. Получив новое задание, братья Барроу[20] в 1556 году прошли дальше на восток от Белого моря и обследовали всю часть Ледовитого океана, что омывает Самоедский берег к западу от Урала. От дельты Печоры они повернули к острову Вайгач и южной оконечности Новой Земли, и только жестокие морозы помешали им пройти через Карский пролив[21]. Честь обойти вокруг Новой Земли принадлежит нидерландским мореходам; сбросив испанское ярмо, голландцы всеми силами стремились развить собственную торговлю. Поскольку амстердамские купцы жестко соперничали с лондонскими негоциантами, они также задумали найти пресловутый северный путь в Китай и Индию. Командование первой экспедицией вверили Корнелису Корнелисзону Наю, но настоящим главой предприятия явился Виллем Баренц, уже известный по нескольким путешествиям в Арктику. Отважный и опытный мореплаватель стал капитаном одного из четырех судов исследовательской эскадры, которая вышла в море в 1594 году. Обогнув Нордкап и Лапландию, разведчики вышли к Белому морю. Затем два корабля под предводительством Корнелисзона направились к острову Вайгач, в то время как Баренц, также на двух судах, взял курс на Новую Землю. Он первым обследовал весь западный берег острова на протяжении в шесть географических градусов, вплоть до мыса Нассау на широте в 76°25′[22]. Непогода заставила его повернуть на юг, и он воссоединился с Корнелисзоном, прошедшим обратно через Вайгачский пролив[23], после разведки берега, поворачивающего на юго-восток. На самом деле, в этой части побережья образуется Карский залив[24], предшествующий устью Оби. Но, введенные в заблуждение очертаниями берегов северной Азии на карте Птолемея, голландцы решили, что они дошли до начала прямой дороги на Катай. Они поспешили вернуться, чтобы принести в Голландию радостную новость. Баренц встретился с ними в Белом море, и эскадра взяла курс на родину. Вторую, еще более значительную экспедицию возглавил Баренц. Но поскольку опыта плавания в арктических водах тогда явно не хватало, флотилия слишком поздно отошла от острова Тессела — 2 июля 1595 года. В результате Баренц в районе острова Вайгач увидел непроходимые льды. Он пытался бороться со снегом, туманами и яростными северными ветрами, но тщетно; пришлось вернуться в Европу. Неласковый климат едва знакомого нового региона несколько охладил пыл трезвомыслящих практичных голландцев. И все-таки на следующий, 1596 год, на этот раз уже в мае, вновь два корабля под командованием Баренца вышли в путь с твердым намерением попытаться пройти по более высоким широтам. Это необыкновенно отважное путешествие внушает восхищение. Корабли одним броском преодолели огромное расстояние до восьмидесятой параллели, почти не отклоняясь от меридиана Амстердама! Они обнаружили скопление островов, покрытых остриями пиков и ледниками, — то был Шпицберген![25] Капитан второго судна Ян Рип предложил идти на восток прямо по этой высокой широте, но Баренц нашел более надежным спуститься на юго-восток к Новой Земле. Эта часть пути также прошла благополучно, и голландцы вскоре опознали мыс Нассау и пошли дальше на восток. Но тут поднялись ледяные восточные и северо-восточные ветры, которые несли целые горы льда и не позволили идти дальше. Окруженная со всех сторон льдами, угрожавшими раздавить корабль, экспедиция не смогла даже повернуть обратно. Пришлось решиться на зимовку в этом унылом краю, самую жестокую, какую только можно представить. Что Баренц и его экипаж претерпели от мороза и различных болезней в течение следующих десяти с половиной месяцев, превосходит всякое воображение, а история навигации не знает ничего более мрачного. На берегах Новой Земли, в заливе, названном голландцами Ледяной Гаванью, они провели ужасную зиму; нельзя не восхититься веселым нравом, дисциплиной и самообладанием неунывавших моряков, построивших дом из плавника, принесенного течениями, и корабельных досок. Койки расположили вдоль внутренних стен жилища, а бочку превратили в ванну. Снег нисколько не мешал зимовщикам; наоборот, сугробы, наметенные бешеными метелями даже поверх крыши, защищали от потери тепла. Когда появление солнца обозначило наконец измученным морякам час освобождения, оказалось, что судно наполовину разломано давлением льдов и не подлежит ремонту. Пришлось его бросить и на двух беспалубных баркасах пуститься по волнам бурного моря, покрытого плавучими льдинами. Баренц не дожил до счастливого дня возвращения на любимую родину. Он слабел с каждым днем, но при этом нисколько не берегся, и ничто не говорило о близости фатальной развязки. Только сам Баренц чувствовал приближение смерти. Некоторое время спустя после начала скорбного пути по морю, получившему впоследствии его имя, Баренц, услышав, что один из матросов очень плох, сказал: «Кажется, и я долго не протяну». Один из его товарищей, историограф путешествия, Геррит Де Фер[26], добавляет: «Никто и не думал, что Виллем Баренц настолько болен; мы беседовали, рассматривая нарисованную мной небольшую карту нашего путешествия, и высказывали различные предложения. Затем Баренц сложил карту и сказал: “Геррит, дай мне попить!” Он выпил и вдруг почувствовал дикую слабость; глаза его закатились, и он умер настолько внезапно, что мы даже не успели позвать капитана, находившегося в другой шлюпке». Экспедиция продолжила свой путь вдоль берегов России. Наконец, голландцы повстречали поморских рыбаков, оказавших им всяческую помощь; затем они сделали остановку в Коле и вернулись в устье Мааса только 26 октября 1597 года. Три путешествия голландцев, завершившиеся столь несчастливо, долго не находили последователей. Но они оставили значительный след в истории навигации. Мы обязаны Баренцу открытием двух самых крупных островов арктических морей: Новой Земли и Шпицбергена[27]. Кроме того, выйдя на северную оконечность последнего, Баренц достиг широты в 80°11′, к которой до него ни разу не приблизился ни один навигатор, да и в наши дни это достижение ненамного превзойдено исследователями полюса. Еще несколько слов об этой экспедиции: недавнее открытие как бы придало ей вторую жизнь. В 1871 году капитану Карлсену, норвежцу, посчастливилось найти в Ледяной Гавани домик зимовщиков, в точности такой, как его описал Геррит Де Фер; все осталось на местах — кастрюли над очагом, старинные часы, утварь, оружие, чарки, музыкальные инструменты и книги, убивавшие скуку долгими зимними вечерами и скрашивавшие двести семьдесят лет назад жуткую полярную ночь. Трогательные реликвии перевезли в Голландию, и теперь они выставлены в музее Гааги. После славных походов голландца Баренца самыми значительными путешествиями, предпринятыми в нехоженых приполярных районах, можно считать плавания Генри Гудзона[28]. Чтобы отыскать проход через Северный полюс, он снарядил за счет Лондонской торговой компании, ставшей вскоре Московской, небольшое судно водоизмещением в восемьдесят тонн, названное «Хоупвелл» («Добрая Надежда»), Его экипаж состоял из двенадцати матросов и одного юнги![29] Дрожь охватывает, как только подумаешь об отважном безумце, который всерьез вознамерился пуститься в Японию прямым курсом через полюс, тем более что он и в самом деле осуществил эту затею; впрочем, Гудзон организовал свое предприятие с тщательностью и здравым смыслом, присущим современным, куда лучше экипированным экспедициям. «Хоупвелл» вышел из Грейвзенда в мае 1607 года, 26 числа прошел в виду Шетландских островов, обогнул Шпицберген, достигнув 81° широты, и после тысячи всяческих опасностей и перипетий 13 июня оказался у берегов Гренландии. Далее Гудзон намеревался вернуться в Англию, обогнув северную оконечность Гренландии через пролив Девиса, но по сильному сверканию льдов на северном горизонте понял, что здесь ему не пройти. На обратном пути он обнаружил до тех пор неизвестный остров, который окрестил Tushes de Hudson[30]. Несомненно, это остров, незаслуженно названный позднее по имени голландского капитана Яна Майена, якобы заметившего его некоторое время спустя, в 1611 году[31]. В 1608 году Генри Гудзон организовал еще одну экспедицию, чтобы попытаться пройти между Шпицбергеном и Новой Землей. Теперь он отправился в неизвестное вместе с сыном Джоном и экипажем из четырнадцати человек. 22 апреля он покинул берега Темзы, и уже 9 июня его маленький корабль достиг паковых льдов[32] на широте 73°29′. Он надеялся обнаружить проход, но льды повсюду были плотными и крепкими, как скала, и ему пришлось отказаться от своего проекта. Он взял курс на восток вдоль ледового барьера, возвышавшегося по левому борту наподобие крепостной стены, и выискивал в нем хоть малейший просвет, пока не оказался у берега Новой Земли на широте 72°25′. Таким образом он убедился, что ледовая преграда между Новой Землей и Шпицбергеном непроходима, так же как та, что остановила его в предыдущем путешествии между Гренландией и Шпицбергеном. Гудзон сделал все, что только может сделать самый смелый мореход на таком хрупком суденышке, как миниатюрный «Хоупвелл», и ни один исследователь не превзошел его в этом направлении с тех пор, как отважный англичанин повернул вспять от неприветливых берегов северных земель. Он возвратился в Грейвзенд 26 августа. Дерзкие плавания Гудзона принесли открытия, которыми не преминула воспользоваться Московская компания, а впоследствии английские и голландские судовладельцы. Гудзон обнаружил необыкновенное скопление китов в обследованных им районах, и китобои ринулись на промысел в окрестности Шпицбергена. Так завершились полярные исследования Гудзона. Позже, уже прославившийся и почти великий благодаря своим первым блестящим плаваниям, свершив немало гидрографических и физических открытий, в том числе отклонение магнитной стрелки, он обнаружил на восточном берегу Америки большую реку, названную в его честь. Это произошло в 1610 году, когда, по-прежнему неутомимый, он предпринял еще одну значительную морскую экспедицию на север Нового Света. Первым делом Гудзон обогнул Лабрадор, назвав его северо-западную оконечность мысом Вулстенхолм, затем через широкий пролив, принявший впоследствии его имя, вышел на обширную водную гладь, которую окрестили Гудзоновым заливом, хотя он вполне заслуживает называться морем. Вскоре судно Гудзона сковали льды, вынудив его зазимовать уже 10 ноября. Поначалу экипаж кормился перелетными птицами, но вскоре наступил изнуряющий голод, который едва удавалось утолить мхом и лягушками. Когда наконец начался весенний ледоход, какое-то время выручала рыбалка, но, к несчастью, недолго. В первых числах июня Гудзон разделил между членами команды остаток провианта. Его можно было растянуть от силы на пятнадцать дней! Лишения, болезни и голод — плохие советчики — возбудили безумную взаимную ненависть. Большая часть членов экипажа винила во всех бедах мужественного капитана, стоически переносившего страдания и служившего примером остальным. 21 июня разразился бунт. Особенно удручало, что главным подстрекателем заговора оказался Грин, секретарь капитана — своего благодетеля! Несчастного Гудзона связали, а затем вместе с больными и немощными спустили в шлюпку среди моря, покрытого льдинами. Им оставили охотничье ружье, несколько зарядов и минимум продуктов. Больше никто никогда не видел и не слышал о беднягах, чей конец наверняка был ужасным. Прощелыга Грин занял место капитана, но вскоре погиб в стычке с туземцами. Уцелевшие варили шкуры животных, поедали порошок из дробленых костей и даже свечи! Многие умерли от голода, а те, кто выжил, превратившись в неузнаваемые скелеты, добрались в конце концов до Голуэя в Ирландии. В 1615 году Байлот и Баффин[33] обследовали берега Гудзонова пролива, на следующий год прошли вдоль берегов Гренландии, затем через Девисов пролив и намеревались идти дальше на запад. Они разыскали вход в пролив Ланкастер, но не смогли в него проникнуть. Экспедиция продолжила путь на север и обнаружила залив, названный ими заливом Джонса;[34] но пройти его опять не удалось из-за льдов. Надежда постепенно испарилась, команда ослабела, и корабль вернулся в Англию. Именем капитана Баффина нарекли море, которое он обследовал[35]. Это путешествие оказалось последним сколько-нибудь значительным в XVII веке. Поиски северо-западного прохода приостановились на целых шестьдесят лет. Было предпринято, правда, несколько попыток прорваться сквозь льды со стороны Гудзонова пролива, но они оказались напрасными, по крайней мере с точки зрения поставленной цели.
ГЛАВА 2
Джон Росс. — Эдвард Парри и его экспедиции. — На восемьдесят втором градусе широты. — Сэр Джон Франклин.Какими бы интересными и героическими ни были последующие плавания бесстрашных моряков по гибельному пути в ледяной ад, мы поспешим обратиться к современному периоду, весьма плодотворному, но — увы! — омраченному длинным скорбным мартирологом. С самого начала XIX века полярные экспедиции организовывались с исключительной планомерностью, тщательностью и целенаправленностью. Цели путешественников не изменились, по крайней мере в первой половине столетия. Все они стремились к открытию пресловутого прохода сквозь льды на Дальний Восток. Мореплаватели, знаменитые как научными познаниями и искусством навигации, так и личным мужеством, считали за честь испытать свои силы на пути к открытию, которое навеки прославило бы и их самих, и их отчизну. К тому же условия исследований намного улучшились. Увеличился тоннаж кораблей, которые оборудовались согласно предназначению; чтобы сделать более сносной страшную арктическую зимовку, много внимания уделялось гигиене и заготовке продуктов. И наконец, по-прежнему отдавая предпочтение коммерческим интересам, покорители северных путей не пренебрегали, как ранее, научными изысканиями, ставшими во второй половине века единственной целью труднейших и великолепных походов. Мореплавателей теперь сопровождали естествоиспытатели, геологи и астрономы, которые серьезно исследовали районы вдоль пути следования и привозили точные и полезные отчеты. Кроме того, теперь не только открывали новые края и местности, но также изучали обычаи и достижения неизвестных народов, тщательно наблюдали за вращением земного шара, а также углубляли познания о природе и дарах земель и омывающих их морей. В 1818 году, после продолжительных войн, отвлекавших все силы европейских народов, начался новый виток путешествий в неведомые земли, в частности, в северном направлении. Англия, самая могущественная морская держава, возглавила движение. Сэр Джон Росс[36], офицер, отличившийся в военно-морских сражениях, получил приказ разыскать пресловутый северный проход, который сделал бы короче путь на Дальний Восток. Экспедиция состояла из двух кораблей: «Изабеллы» под командованием Джона Росса и «Александра» под началом капитан-лейтенанта Эдварда Парри[37]. Росс пустился в плавание по великому северо-западному пути, который столько раз пытались одолеть его предшественники! Пройдя Девисовым проливом в виду острова Диско, он вышел на простор неизвестного залива, который назвал заливом Мелвилл. Естественно, суда с большим трудом продирались через плавучие льды, но вскоре показались заснеженные берега. Против всяких ожиданий, путешественники встретили здесь немалочисленные группы первобытных северян, передвигавшихся на санях, запряженных собаками; при виде европейцев туземцы испытали безграничное удивление. Несчастные никогда не видели морских кораблей! Благодаря дружеским приветствиям находившегося на борту гренландского эскимоса, служившего переводчиком, они вскоре пришли в себя, и любопытство взяло верх над испугом. Вот первые вопросы, с которыми они обратились к толмачу: — Что это за громадина? Она свалилась с солнца? Или с луны? Подойдя поближе, туземцы с недоверием щупали обшивку судна, видимо считая, что это какое-нибудь морское чудовище неизвестной им породы, наделенное душой и разумом. Паруса, хлопавшие на ветру, напоминали им огромных размеров крылья гигантской птицы. Наивное недоумение детей природы забавляло команду. Несколько пустячных подарков и полных до краев стаканов вина окончательно покорили гостей. При виде такой щедрости они странным образом выразили свою благодарность, несколько раз потянув себя за кончик носа, что, должно быть, означало верх удовольствия. Полностью успокоенные, туземцы поднялись на борт «Изабеллы», в то время как судно Парри маячило в далекой дымке. Гости с бесподобным восторгом изучали необычные и многочисленные предметы на палубе, как бы образовывавшие новый, незнакомый для них мир. Планшир из меди, ввергнувшей их в глубокое изумление; топор, простой гвоздь, да еще металлическая цепь! Они никогда раньше не видели железа! А такелаж, реи! Они не ведали, что такое дерево, и тем более не представляли, как получаются текстильные изделия. Глядя на мачты, они принимали их, без сомнения, за части скелета какого-то морского великана: — Ого! Неужели на свете есть звери с такими костями? Вскоре капитан Росс снялся с якоря и дошел до 76-й параллели. Море было пока свободно ото льдов, но на горизонте появилось нагромождение торосов, преграждавшее дорогу. Он решил, что дальше пройти невозможно, и повернул обратно. В последующие несколько лет состоялись еще несколько значительных экспедиций, в том числе и под командованием капитан-лейтенанта Парри, к которому мы еще вскоре вернемся. Росс десять лет провел в бездействии, а затем, опасаясь, видимо, что Парри, чья слава неизмеримо возросла, без его участия откроет великий северо-западный проход, он стал добиваться от английского правительства новой милости — командования еще одной экспедицией. Но, увидев, что лорды адмиралтейства не расположены в его пользу, он обратился к одному из своих друзей, богатому купцу Феликсу Буту. Коммерсант с полным доверием отнесся к проектам сэра Джона и взял на себя все расходы по оснащению экспедиции. Он истратил на это предприятие огромную по тем временам сумму — восемнадцать тысяч фунтов стерлингов, то есть четыреста пятьдесят тысяч франков, что почти равнялось вознаграждению, обещанному правительством за открытие северо-западного пути. Поскольку на судне с паровым двигателем намного легче передвигаться в арктических морях, чем на паруснике, Росс подготовил к плаванию «Виктори» («Викторию»), пароход водоизмещением в восемьдесят пять тонн с небольшой осадкой, показавшийся сэру Джону подходящим для такой цели. «Виктори» вышла из Вулиджа 23 мая 1829 года, 13 июля вошла в Девисов пролив, а 23 числа того же месяца пристала к берегу у датского поселения Хольстейнсборг на широте 66°58′. 27 июля она покинула гренландский берег, пересекла Баффинов залив и 6 августа вошла в пролив Ланкастер. Десятого числа капитан Росс обогнул мыс Йорк и мыс Уоррендер, а тринадцатого открыл залив, который назвал заливом Аделаида. Четырьмя годами ранее именно в этом месте Эдвард Парри покинул один из своих кораблей, «Фьюри» («Фурия»), при обстоятельствах, о которых мы узнаем позднее. Провиант Парри был заботливо складирован на суше, с тем чтобы им при надобности воспользовалась другая экспедиция. Часть продуктов осталась в приемлемом состоянии, особенно мясо и овощи в герметично запаянных ящиках, а также вино, спирт, сахар, сухари и мука. Росс приказал погрузить все, что могло позволить ему продлить пребывание в Арктике, после чего «Виктори» вошла в пролив Принс-Риджент (Принца-Регента), достигнув, таким образом, точки, где были сделаны последние открытия. Росс прошел вдоль берегов неизвестной ранее земли, объявив ее владением английской короны, и названной им Бутия, по имени щедрого судовладельца. Плавание продолжалось до 30 сентября 1829 года; в этот день «Виктори» была затерта льдами. Пришлось зимовать, к чему, впрочем, команда Росса была готова. В начале нового, 1830 года появились эскимосы, предоставившие капитану драгоценные географические сведения, а также продукты, великолепно выдрессированных собак и сани — то есть наилучший транспорт для этих краев, который позволял осуществить новые открытия. Несмотря на свирепые морозы, Росс, точно определив местонахождение судна, в сопровождении своего племянника Джеймса[38] отправился в путь. К северо-западу от Порт-Феликса, места зимовки, они обнаружили реку Стенли, озеро Оуэн и перешеек, отделяющий пролив Принс-Риджент от западного океана, затем срезали северо-восточную оконечность Америки и вернулись на корабль, собрав богатейший урожай наблюдений. Зима никак не кончалась, 1 июня еще не было ни малейших признаков потепления. Тем временем Росс определил местонахождение магнитного полюса в точке на широте 70°7′ и на долготе 45°;[39] он отметил свое открытие возведением «керна», или пирамиды из камней, прикрывавшей ящичек с меморандумом о своем достижении. Плен «Виктори» длился одиннадцать месяцев, после чего льды на время отступили. Росс отдал приказ сниматься с якоря, и корабль тотчас взял курс на родину. Пятнадцать дней спустя ударила еще более жестокая стужа, которая вновь сковала корабль, приговорив несчастный экипаж к еще одному зимнему заключению почти на том же месте! 1831 год встретили в унынии и грусти, но, в сущности, в относительном изобилии, благодаря продуктам, найденным возле «Фьюри». Наступил август, вот-вот море очистится от льда… Удастся ли на этот раз выскользнуть из цепких лап пролива Принс-Риджент? Наконец команда дождалась вскрытия льдов. «Виктори» медленно покидает гавань. Все полны надежд, пьяны от счастья, бьющего через край. «Виктори» проходит… четыре мили, после чего внезапная снежная буря бросает ее в глубину небольшой бухты, где льдины в мгновение ока окружают судно изамуровывают его наглухо в проклятой, видимо, гавани. Освободиться невозможно. А вскоре вновь наступает зима, третья по счету! Морозы 1832 года с особенной яростью набросились на несчастных путешественников. Почти никого не миновала цинга, а в кубрике температура опускалась до минус сорока семи градусов! Запасы продуктов и горючего подходили к концу, и под угрозой голодной смерти капитан Росс принял болезненное решение — покинуть корабль. Любой ценой следовало добраться по льду до берега, где команда еще как-то сможет прокормиться остатками провизии «Фьюри». Моряки подняли на клотик флаг и выпили по стаканчику, прощаясь с родным кораблем. Горе сэра Джона Росса нельзя передать словами. «Виктори» стала первым судном, которое он был вынужден покинуть после сорокадвухлетней службы на тридцати шести кораблях! Наперекор судьбе бесстрашные англичане с удивительной энергией преодолевали ледяную пустыню. Они использовали пилы и взрывчатку, чтобы расчистить себе дорогу, и продвигались вперед, несмотря на препятствия. Во что бы то ни стало, надо идти, чтобы достигнуть широт с более милосердным климатом. …Меж тем день за днем проходил в страшных лишениях и изнурительном, тяжком труде. Только душевные силы поддерживали несчастных; они тащились, несмотря на слабость и отчаяние. Продукты таяли, ежедневный рацион сократили до минимума, который едва позволял не умереть с голоду. Количество больных росло с каждым днем, увеличивая нагрузку, возложенную на плечи трудоспособных, если можно так выразиться, людей. Еще несколько дней, и наступит жестокая агония! И как в душераздирающей концовке драмы, вышедшей из-под плодовитого пера богатого на выдумку автора, в тот момент, когда чувство безысходности охватило всю команду, раздался крик наблюдателя: — Парус! В мгновение ока шлюпки спустили на воду, и, казалось бы, изможденные моряки с невероятной энергией налегли на весла. А может, это только иллюзия голодного воображения? А парус… и не парус вовсе, а только айсберг, плывущий по воле волн? Но они гребли в последнем отчаянном усилии, которое должно было бы полностью обессилить истощенных, но мужественных моряков. Нет никаких сомнений, это корабль! Вдруг поднимается ветер, а с судна не видят лодки, затерявшейся среди льдин! Оно удаляется и вот-вот исчезнет, оставив бедняг на краю могилы! И начинается яростная погоня, со слезами, проклятиями и молитвами… Судно все дальше и дальше… как внезапно ветер стихает! Шлюпки Росса продолжают движение; наконец их заметили — спасение! По вдвойне счастливому, поистине чудесному стечению обстоятельств судно, принявшее на борт умиравших от голода, измученных болезнями и тяжким трудом путешественников, — это та самая «Изабелла», которой в 1818 году командовал Джон Росс во время своей первой экспедиции; британское правительство послало корабль на поиски пропавших моряков. В конце октября 1833 года Джон Росс и его мужественная команда вернулись наконец на родину. Правительство произвело капитана в контр-адмиральское звание, а его племянник Джеймс получил чин капитана первого ранга. Вернемся теперь на несколько лет назад, в те уже далекие времена, когда сэр Джон Росс, сорвавший теперь единодушную овацию нежданным возвращением, был весьма холодно принят своими согражданами после первого арктического путешествия. Результаты этой экспедиции, предпринятой в 1818 году и преждевременно законченной через шесть месяцев, оказались довольно посредственными, и Парри, заместитель Росса, обрисовал ее в весьма резком тоне. С другой стороны, Эдвард Парри, тогда еще молодой офицер двадцати девяти лет от роду, утверждая, что его командир ошибся и слишком быстро отступил из боязни быть затертым льдами, привлек внимание лордов адмиралтейства к своей особе. Правительство решило организовать еще одну экспедицию, а командование доверило Парри. Назначенный капитаном «Хеклы», которую сопровождал «Грайпер» («Схватывающий»), он вышел в море 11 мая 1819 года и 21 июля углубился в пролив Ланкастер, загроможденный плавучими льдинами. Не обращая внимания на препятствия, Парри упорно шел на северо-запад. 4 сентября он пересек 110° западной долготы и стал претендентом на получение двух тысяч фунтов стерлингов (пятисот тысяч франков), обещанных адмиралтейством английским мореплавателям, которые смогут продвинуться до этого меридиана. Парри обследовал весь пролив Ланкастер и, пройдя до отметки в 113°54′ западной долготы, открыл остров Мелвилл и пролив Веллингтон. 24 сентября ему пришлось искать место для зимовки; он выбрал на юге острова Мелвилл местечко Уинтер-Харбор, что означает «Зимняя бухта». Экспедиция провела десять месяцев во льдах, страдая от жуткой стужи; ртуть в градусниках неизменно замерзала в течение нескольких недель, то есть температура опускалась ниже минус сорока пяти градусов. Половина матросов обморозили носы и ноги. Но через десять месяцев Парри возобновил свой маршрут. Он хотел пробраться еще дальше на запад, лишь полное изнеможение команды вынудило его вернуться в Англию, куда он прибыл в 1820 году. Британское адмиралтейство вполне удовлетворилось достигнутыми результатами, горячо поздравило Парри и охотно предоставило ему два корабля для продолжения открытий. Он отправился в путь 8 мая 1821 года; но его суда два раза подряд попадали в ледовый плен, с 8 октября по 2 июля следующего года и с 31 октября 1822 года по август 1823 года, а потому Парри вернулся, ничего не прибавив к итогам своей первой экспедиции. Никто не посмел упрекнуть его в относительной неудаче и двух зимовках подряд, и бесстрашный мореплаватель вновь устремился на поиски неведомого. 8 мая 1824 года «Хекла» в сопровождении «Фьюри» вышла в море. Прибыв в пролив Ланкастер, Парри продолжил его исследование, но и на этот раз не смог избежать ледовой ловушки и зазимовал в Порт-Боуэне — бухте в районе пролива Принс-Риджент, где оставался с 28 сентября 1824 года до 20 июля 1825 года. В довершение всех бед во время вскрытия льдов «Фьюри» раздавило торосами. Экипаж, к счастью, спасся. Запасы с пострадавшего корабля аккуратно сложили на берегу, и благодаря удивительной предусмотрительности Парри они здорово пригодились четыре года спустя сэру Джону Россу. Практически Парри спас будущего адмирала и его экипаж от голодной смерти во время зимовки, растянувшейся на три года. В октябре Парри вернулся в Англию, убежденный в невозможности пройти северо-западным путем. И тогда у него возникла идея экспедиции к Северному полюсу. Таким образом, вопрос арктической навигации стал уже не коммерческим, а чисто научным.
ПАРРИ
Долголетний опыт многочисленных мореплавателей убедительно доказал невозможность достичь Северного полюса морским путем, и в светлые головы двух наиболее видных исследователей Арктики, сэра Джона Франклина и сэра Эдварда Парри, пришла мысль, что самым верным способом осуществления интереснейших и важнейших исследований в этом направлении является путешествие на санях, запряженных собаками. Этот оригинальный для своего времени проект не замедлил реализоваться. Парри, как будет видно позднее, ошибся в выборе маршрута и времени года для такой экспедиции, но он заложил фундамент глубоко продуманной системы полярных исследований с помощью саней, давшей позднее великолепные результаты и доведенной до совершенства гением сэра Леопольда Мак-Клинтока[40]. Адмиралтейство полностью одобрило проект Парри добраться до полюса на лодках-санях по льду и по пространствам чистой воды, которые то и дело встречаются в арктическом море. 3 апреля 1827 года Парри вышел в море на «Хекле», намереваясь пройти по меридиану Шпицбергена. Одним броском «Хекла» достигла высокой широты в 81°5′, где встретила дрейфующие в северном направлении льдины, но не обнаружила ни малейшего признака многолетнего полярного льда. Это случилось 14 апреля. Но Парри на этот раз не стремился идти на судне к полюсу; он хотел только выбрать надежную гавань. Ему удалось найти прекрасную якорную стоянку, которую он назвал бухтой Хекла, на северном берегу Шпицбергена с координатами в 79°55′ северной широты и 16°53′ восточной долготы. И вот началось крайне любопытное, дерзкое предприятие, которое, несмотря на неудачу, снабдило последующих исследователей драгоценными сведениями и разбудило в них дух благородного соревнования. «Хекла» беспрепятственно стала на якорь в бухте, носившей теперь ее имя, и была оставлена на капитана Крозье[41] — будущего спутника Джона Росса в антарктическом путешествии и адмирала Франклина в великом и трагическом открытии северо-западного прохода. 21 июня, после полудня, при прекрасной погоде и температуре в почти 15° ниже нуля по Цельсию, полностью подготовленные катера на полозьях, «Энтерпрайз» («Смелое предприятие») и «Тентетив» («Пробный»), взяли курс на Северный полюс. Парри находился вместе с господином Беверли на первом судне, а Джеймс Росс и Эдвард Бэрд — на втором. Экипаж каждого составляли десять солдат морской пехоты и два моряка. Эти плоскодонки имели семь английских футов в ширину и двадцать — в длину; корпуса были изготовлены из твердых пород дерева — американского орешника и ясеня. На форштевне[42] установили обшивку, обеспечивавшую упругость при частых столкновениях со льдинами. Она состояла из нескольких слоев; с внешней стороны — оболочка из непроницаемой просмоленной парусины, затем — тонкий слой сосновых пластин, потом войлочная прослойка и, наконец, доски из дуба; все это было туго скреплено с корпусом стальными болтами. По обе стороны киля выступали мощные металлические полозья, как у саней, с помощью которых шлюп полностью вытаскивался на лед. Передние концы полозьев были связаны кожаными ремнями, к которым крепились ремни из конского волоса. Каждое суденышко имело по две скамьи для гребцов, небольшие трюмы на носу и корме, вдоль бортов ящики для хранения провианта и сухой одежды, бамбуковую мачту и парус из дубленой холстины, четырнадцать небольших гребных весел и одно рулевое весло на корме. Ясная, тихая погода, а также течения, несшие льдины перед ними, казалось, благоприятствовали прошедшим на веслах мимо Семи островов[43] морякам. Но 23 числа они натолкнулись на ледовый массив; пришлось вытянуть суденышки на лед. Случилось это на широте 81°12′51″. Тогда-то, собственно, и началось труднейшее путешествие. Чистый вес каждого катера на полозьях составлял 1539 английских фунтов (685 килограммов), плюс провизия — 3753 фунта (1700 килограммов), плюс, предположим, по двести восемь фунтов (94 килограмма) на человека, и кроме того, четверка легких саней по двадцать фунтов (9 килограммов). Ежедневный рацион членов экспедиции состоял из десяти унций[44] сухарей, девяти унций пеммикана[45], одной унции какао и примерно одной четверти пинты[46] рома. Все спали внутри катеров, укрываясь парусом, и продвигались вперед по ночам. Трудно представить более трудный и обескураживающий поход, чем экспедиция Парри. Он требовал невообразимого мужества и энергии как от офицеров, так и от матросов. К тому же погода того лета выдавала исключительные сюрпризы. Дождей выпало больше, чем за предыдущие семь лет, вместе взятые, а паковый полярный лед, край которого доходит, как правило, до 81° северной широты, и не думал начинать свой обычный прирост на юг. Итак, пришлось продвигаться по разбитому крошеву осколков льдин, размягших и разрушившихся под дождем. Ледяные поля то и дело прерывались нагромождениями «хамек» (торосов); людям по три, а то и по четыре раза подряд приходилось сначала спускать лодки на воду, чтобы пересечь полынью, затем опять переоборудовать лодки в сани. Матросы проваливались по колено в образованные дождями посреди льдин лужи; во многих местах выросли заграждения из «перочинных ножиков», как говорят моряки. Эти «ножики» величиной в восемь — десять дюймов состоят из бесчисленного количества кристаллов и расположены вертикально друг подле друга, острые, как иголки, с обоих концов. Парри пишет, что издалека они смахивают на зеленоватый бархат; он считает, что они образуются под ливневыми дождями, пронизывающими лед насквозь. Только 7 июля путешественники вышли на ровную поверхность пакового льда. 11 числа они обнаружили гораздо более солидную льдину, с торосами высотой в девять — десять метров, с вершины которых они не увидели ничего, кроме бесконечной ледяной пустыни. Двадцатого июля матросы вытащили шлюпы на льдину длиной примерно с полмили и толщиной в пять — шесть метров, ограниченную со всех сторон огромными торосами, что не исключало сжатия невероятной силы. Во всех свободных промежутках между мощными полями пакового льда образовался за прошедшую зиму молодой лед толщиной всего от восьмидесяти сантиметров до метра, порой залитый поверху водой. Двадцать второго числа Парри увидел льдины площадью в три квадратных мили и толщиной шесть — семь метров, и здесь наконец, казалось, он приблизился к крепкому массиву полярного льда, который другие экспедиции встречали уже возле северных берегов Шпицбергена. Но случилось это слишком поздно или слишком рано! Близился август, и ледяные поля дрейфовали все дальше на юг, сводя практически к нулю неимоверные усилия моряков, из последних сил тянувших сани на север. Скорость движения льдов на юг вскоре превысила четыре мили в сутки. Стало очевидным, что самоубийственно продолжать столь трудный, но напрасный путь, и Парри решил возвращаться, хотя это могло не лучшим образом сказаться на его репутации. Наивысшей широты — 82°45′[47] он достиг 23 июля. Здесь над северным горизонтом распростерлось желтоватое отражение льдов. Это говорило о том, что полярные льды простирались очень далеко, возможно, бесконечно далеко на север, так как желтоватый отсвет в небе выдает ледовую поверхность. Путешественники находились в тот момент в ста семидесяти двух милях от «Хеклы» (больше, чем в трехстах километрах)[48], но на самом деле они преодолели двести девяносто две мили, из них двести по воде и девяносто две по льдам. После шестидесятидневного отсутствия шлюпы вернулись в бухту Хекла; через несколько дней Парри вышел в море и 6 октября вошел в устье Темзы. Парри не обнаружил новых земель во время санного похода, хотя и вытягивал ил из прорубей на 82-й параллели. Но, помимо того что он подошел ближе кого-либо из цивилизованных людей к Северному полюсу, его дерзкая попытка послужила уроком его последователям. Первой причиной неудачи, впрочем весьма относительной, послужила непогода и невообразимое обилие осадков, что невозможно было избежать или предвидеть. С другой стороны, его метод арктического путешествия содержал определенные ошибки, которые вполне поддавались исправлению. Первая состояла в выборе времени года. Если бы он провел зиму в бухте Хекла и отправился в путь с легкими санями и лодками на полозьях в начале февраля, то, прежде чем ополовинить провиант, проделал бы гораздо больший путь до начала летнего дрейфа льдов к югу[49], совершая ежедневные и регулярные переходы прямо на север. Еще один просчет — недостаточный дневной мясной рацион плюс чрезмерный груз, который приходился на каждого участника экспедиции… Но все познается только опытом; сэр Эдвард Парри заслужил право называться пионером арктических исследований, ибо первым открыл эффективный способ проникновения в приполярные районы, по крайней мере, при современном развитии транспортных средств и коммуникаций.ДЖОН ФРАНКЛИН
Сэру Джону Франклину принадлежит важнейшее, можно сказать, исключительное место в истории полярных исследований. Он заслужил его не столько своими собственными изысканиями в унылых заполярных краях, сколько открытиями, последовавшими за его трагическим исчезновением, когда неимоверные усилия по поискам пропавшей экспедиции поставили имя Франклина в ряд тех имен, которыми гордятся моряки всех стран. Таинственное исчезновение на пути к полюсу Франклина, адмирала британского флота, и двух военных кораблей произвело невыразимо горестное впечатление на весь цивилизованный мир. Многие навигаторы устремились на их поиски, и, хотя после долгих и горьких лет бесстрашного прочесывания негостеприимных арктических берегов никто не обнаружил ни малейшего следа мужественного мореплавателя, они утешали себя тем, что честно исполнили свой долг, а попутно способствовали прогрессу географической науки. Джон Франклин родился в 1786 году; в сражении под Новым Орлеаном во время англо-американской войны его тяжело ранили, после чего он получил чин капитан-лейтенанта за доблесть. В 1818 году Франклин попытался найти проход на Дальний Восток через район Шпицбергена, и, хотя его плавание потерпело неудачу, он зарекомендовал себя искусным, отважным мореходом и прекрасным наблюдателем. В 1819 году, в то время как капитан Парри отправился на поиски прохода из моря Баффина в Тихий океан, английское адмиралтейство решило организовать сухопутную экспедицию, чтобы определить действительное местонахождение Медного моря и контуры берегов к востоку от реки того же названия[50]. Франклин возглавил экспедицию, в которой приняли участие: выдающийся натуралист доктор Ричардсон, два морских офицера — господа Худ и Бак[51], а также два английских матроса. 30 августа 1819 года они прибыли в факторию Йорк на берегу Гудзонова залива и занялись приготовлениями к походу. Отправившись в путь 9 сентября, они до 22 октября прошли без остановки шестьсот девяносто две мили и, несмотря на наступление холодов, решили добраться до форта Чипевайан на озере Атабаска. Франклин и Бак пошли в авангарде и прибыли в форт 26 марта, совершив в разгар зимы переход почти в девятьсот миль при морозах, достигавших порой 50° ниже нуля по Цельсию. Экспедиция, воссоединившаяся 18 июля, продолжила исследования на пространстве в пятьсот пятьдесят миль; после наступления холодов пришлось зимовать в пункте с координатами в 64°38′ северной широты и 113° западной долготы. Застигнутые врасплох, путешественники оказались перед угрозой голодной смерти, но их выручил самоотверженный Бак, который 18 октября отправился в Чипевайан и вернулся с подмогой, пройдя пешком тысячу сто миль, то есть около двух тысяч километров! 14 июня 1821 года на Медной реке[52] начался ледоход. Франклин спустился по ней до устья, достиг мыса Возвращения на широте 68°30′, открыл залив Коронации Георга IV[53], обследовал обширный и неведомый до тех пор район, не думая возвращаться к месту предыдущей зимовки до наступления первых холодов. В тот год скоротечное приполярное лето кончилось еще быстрее, чем обычно, а потому Франклин и его спутники подверглись суровым испытаниям. Запасы провизии подошли к концу; путникам пришлось питаться сортом лишайника, который они называли «каменной вырезкой»; они вернулись наконец к Медной реке и, за неимением лодки, по очереди переправились через нее в большой корзине, обшитой парусиной. Заключительная часть пути была еще более несчастливой. 4 октября довольно мягкая погода сменилась жестокими холодами. Землю застелило покрывало снега, а до места зимовки, названного Франклином форт Энтерпрайз, оставалось еще сорок миль. Не имея ни крошки съестного, люди, ослабленные трудной дорогой, тревогами и лишениями, отказывались продолжать путь. Бак и трое канадских индейцев ушли вперед. Несколько дней спустя Франклин с семью спутниками отправился за ними, оставив на попечение доктора Ричардсона и лейтенанта Худа всех неспособных идти дальше. Четверо из тех, кого Франклин взял с собой, отстали по дороге. Только один ирокез вернулся к доктору Ричардсону, остальные пропали без вести. Франклин, полностью истощенный, добрался до форта Энтерпрайз 11 октября; он ничего не ел целых пять суток! Вообразите его разочарование, когда он нашел место прошлогодней зимовки разоренным и пустым, без малейшего следа живых существ, похороненным под толстым слоем снега! В течение восемнадцати дней он кое-как справлялся с этой гибельной ситуацией, питаясь, чтобы не умереть с голоду, только отвратительным варевом из костей и шкур диких животных, убитых год назад! Только 29 октября к нему присоединились доктор Ричардсон и один из английских матросов; остальные члены экспедиции остались где-то позади. Увидев друг друга, они были ошеломлены устрашающей бледностью и искаженным голосом товарища, не подозревая, что каждый из них представлял столь же жалкое зрелище! На следующий день после прибытия Ричардсона двое индейцев — спутников Франклина умерли от истощения. Последний индеец, а также сам Франклин, доктор Ричардсон и матрос-англичанин тоже были на пороге смерти, но 7 ноября наконец прибыли на помощь трое индейцев, посланные лейтенантом Баком. Еще немного, и они обнаружили бы только трупы! Как только Франклин и его товарищи несколько окрепли, они вышли из форта Энтерпрайз в ближайшую факторию Компании Гудзонова залива, где встретили господина Бака. Теперь они были в безопасности! Результаты столь невероятно тяжелого путешествия отважных моряков протяженностью, если включить плавание вдоль берегов, в пять тысяч пятьсот миль (более десяти тысяч километров) представляли исключительную ценность для географической науки и покрыли неувядаемой славой имя Франклина. В 1825 году заслуги Франклина содействовали его назначению одним из участников новой полярной экспедиции вместе с капитанами Парри и Бичи[54]. В то время как Парри предстояло обследовать проливы Ланкастер и Принс-Риджент, а Бичи — проникнуть в полярные моря со стороны Берингова пролива, Франклин вместе со своими верными старыми товарищами — доктором Ричардсоном и лейтенантом Баком — решил спуститься по реке Маккензи, впадающей в Ледовитый океан, а затем, разделив экспедицию на две группы, исследовать в противоположных направлениях северные берега Америки настолько далеко, насколько представится возможность. Пушная Компания Гудзонова залива заблаговременно получила распоряжение направить к Большому Медвежьему озеру три шлюпки из красного дерева, гораздо более крепкие и легкие, чем лодки из березовой коры, которыми пользовались индейцы. Поэтому, когда участники похода прибыли 29 июня 1825 года к реке Мети в двенадцати сотнях миль от Гудзонова залива, где находились эти великолепные речные суда, их обуревали радостные чувства. Что касается трудностей, сопутствующих подобным исследованиям, то к ним относились как к неизбежной оборотной стороне тяжелых, но приносящих огромную пользу предприятий. Первым делом Франклин занялся подготовкой зимних жилищ, поскольку жестокие морозы наступают в этих краях без всякого предупреждения. Шестьдесят человек, входивших в состав экспедиции, построили два убежища, способных разместить по двадцать человек каждое. Одно из них расположилось в четырех, другое — в семи милях от основного жилища, названного форт Франклин. За это время глава экспедиции использовал остававшиеся пять или шесть недель до конца летнего сезона и спустился по реке до ее впадения в море, разведав таким образом дорогу, запланированную на будущий год. Началась восьмимесячная зимовка. Но как она отличалась от невообразимых мук, перенесенных в форте Энтерпрайз! Искусные рыбаки регулярно забрасывали сети и ежедневно вытягивали из озера от трехсот до восьмисот рыбин — в основном селедку, семгу, форель, карпов и белую рыбу изысканного нежного вкуса, названную листаменгом. Охоту на оленей доверили индейцам, знавшим в ней толк. С другой стороны, Франклин позаботился, чтобы его люди не бездельничали. Он организовал школу, где офицеры обучали грамоте матросов и аборигенов. В середине октября обильные снега устлали окрестности Большого Медвежьего озера. Три зимних месяца стояли жуткие морозы, но благодаря принятым мерам зимовщики пережили их относительно легко. В 1826 году лед на реке тронулся только в мае; приготовления заняли целый месяц, и 24 июня экспедиция начала свой путь по реке Маккензи. Восемь дней спустя доктор Ричардсон с десятью спутниками отделился от основной группы, направившись по восточной протоке к морю, чтобы исследовать затем берега вплоть до устья Коппермайна. Франклин продолжил путь на запад. 7 июля он вышел к дельте реки Маккензи и чуть было не погиб в стычке с шайкой эскимосов, хотевших ограбить его судно. Вынужденные ожидать разлома льдов на море, люди неотрывно следили за грандиозным зрелищем ледохода; затем они опять спустили на воду свои суденышки, предусмотрительно вытащенные на сушу до окончания вскрытия льдов, и, приложив немалые усилия, не без риска добрались до острова, которому Франклин дал имя знаменитого ученого Гершеля[55]. Но затем бесконечные мели возле берегов, бесчисленные огромные обломки айсбергов в море и непроглядные туманы, окутывавшие округу, возвели такие препятствия к продвижению вперед, что Франклин начал сомневаться в успешном завершении своей миссии. На 141° западной долготы он обнаружил впадающую в Ледовитый океан широкую реку, которая отделяет английские владения от Русской Америки. Франклин дал ей имя Кларенс. В этом месте оставили шкатулку, в которую поместили медаль с изображением короля; троекратное «ура» приветствовало водружение английского флага. Чуть дальше открылся еще один водный поток, названный Каннинг-Ривер. Но вскоре густые туманы вынудили путешественников вытащить шлюпки на берег и ждать прояснения, чтобы продолжить затем труднейшее и опаснейшее из-за близкого соседства льдин путешествие. Вызванная обстоятельствами задержка разрушила последние надежды на полный успех предприятия, так как 16 августа Франклин находился только на полпути к Ледовому мысу. А ведь за скоротечным северным летом нагрянет жестокая зима! Глава экспедиции рассудил, что он не имеет права рисковать жизнью своих подчиненных в безнадежном предприятии, и приказал поворачивать обратно. Последнее астрономическое наблюдение недалеко от рифа Возвращения показало 70°26′ северной широты и 140°52′ западной долготы. 30 августа шлюпки подошли к острову Гарри и некоторое время спустя вошли в устье красивой реки, которую моряки посчитали за один из рукавов дельты Маккензи. Вскоре они обнаружили свою ошибку. Эта река, достигавшая значительной ширины, от четверти до половины мили, получила название Пил. Как и на Маккензи, ее берега покрывали заросли ив, берез и тополей. 21 сентября экспедиция вернулась в форт Франклин, проделав путь длиной в две тысячи сорок восемь миль. Она обследовала берега протяженностью в триста семьдесят четыре мили на запад от Маккензи и на всем протяжении побережья не нашла ни одной гавани для надежного укрытия судна. Доктор Ричардсон, в свою очередь, уже 1 сентября вернулся в форт Франклин после успешного похода к мысу Батерст. Началась вторая зимовка. Несмотря на морозы, достигавшие минус 46°, путешественники, обеспеченные провиантом и укрытые в добротном жилище, находили даже время для слушания лекций доктора Ричардсона по минералогии, зоологии и ботанике. В 1827 году Франклин вернулся в Англию. Правительство оказало ему самые высокие почести, а публика встретила с неподдельным энтузиазмом. Он получил титул баронета, Оксфордский университет присвоил ему высшее академическое звание, а Французское географическое общество наградило большой золотой медалью. После суровых и утомительных походов 1819 и 1825 годов последовали восемнадцать лет относительного отдыха. С 1830 по 1834 год Франклин на средиземноморской военно-морской базе командовал фрегатом «Рейнбоу» («Радуга»). В 1836 году его назначили губернатором Земли Ван-Димена (Тасмания), где его правление оставило самые приятные воспоминания. В 1845 году он оставил тасманийское губернаторство, чтобы принять участие в морских изысканиях, которые вовсе не стояли на месте эти восемнадцать лет. Английское адмиралтейство организовало очередную экспедицию в Арктику, доверив Франклину командование двумя кораблями, «Эребусом» и «Террором», которые под предводительством Джеймса Росса, племянника сэра Джона Росса, уже побывали в сражении с полярными льдами. 26 мая 1845 года Франклин отправился из Шернесса в свое последнее путешествие, привлекшее всеобщее внимание и сочувствие. Он намеревался пройти через проливы Ланкастер и Барроу к мысу Уолкер — границе последних открытий Парри. При первом же удобном случае он намеревался продвинуться оттуда на юго-запад к Берингову проливу. Если ему не удастся пройти этим путем, то он вернется обратно к проливу Веллингтон, чтобы обогнуть архипелаг Парри с севера и только затем повернуть на юг к устью Маккензи и таким образом достигнуть своей цели. В самом деле, тогда считалось, что между островами Мелвилл и Банкс существует непроходимый ледовый барьер, а потому не стоило лишний раз пытаться проскочить в этом месте. За ходом экспедиции можно проследить вплоть до июля 1845 года; именно тогда корабли Франклина остановились перед ледовыми полями в море Баффина, ожидая удобного момента, чтобы проникнуть в пролив Ланкастер. Обуреваемый грустными и странными предчувствиями, в письме полковнику Сабину[56] от 9 июля, Франклин, обращаясь к жене и дочерям, пытается успокоить их на случай задержки возвращения из похода. Почти тем же числом датируется письмо к старому соратнику и другу — контр-адмиралу Парри, полное оптимизма и задора. Двумя днями позже Франклин отправил рапорт лордам адмиралтейства, в котором докладывал, что получил и перегрузил провиант с транспортного корабля. Здесь же он самым благоприятным образом отзывался о настроении и самочувствии команды… Это были последние сведения об экспедиции. И с тех пор — ни слова, ни весточки! Ничего! Словно два корабля провалились в небытие… Ничего не давшие напрасные поиски… и горестные сожаления…ГЛАВА 3
Поиски Франклина. — Рене Белло. — Героическое самопожертвование. — Сэр Роберт Мак-Клур. — Открытие северо-западного прохода.До 1847 года не возникало ни малейшего беспокойства о судьбе Франклина. Но полное отсутствие каких-либо сведений начало наконец тревожить Совет адмиралтейства. Поисковые экспедиции направились в арктические моря; немалое вознаграждение обещали тому, кто предоставит какие-либо сведения об участи Франклина. Принц Альберт, Компания Гудзонова залива и частные лица, в особенности коммерсант Гриннел[57], вызвались оказать материальную поддержку самоотверженным морякам. Общественность всего мира присоединилась к трауру Британии и сочувствовала горю героической женщины, которую называли уже не иначе как вдовой Франклина. Со всех сторон — единодушный порыв, как бы соревнование в отваге, достойное всяческих похвал. Никто не считался с расходами, не жалел ни сил, ни времени. Леди Франклин делала все для организации поисков, жертвуя состоянием и здоровьем, не зная ни минуты покоя; она провожала моряков до самых дальних пределов английских владений, на свои деньги снаряжала корабли; поведение этой женщины побуждало мореплавателей к подвигам! Уже пожилой доктор Ричардсон, старый товарищ Джона Франклина, забыл о своих шестидесяти двух годах и с юношеской горячностью обследовал весь север Америки, опрашивал эскимосов и китобоев, разыскивал повсюду друга, не веря, что Франклин погиб. Джон Росс и Джеймс Кларк Росс пустились в не менее бесстрашную и самоотверженную экспедицию, также, к несчастью, безрезультатную. Их эсминцы, «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор» («Исследователь»), со смелостью, граничившей с безрассудством, бороздили район, по которому, вероятно, проследовал Франклин. Они палили из пушек, по ночам зажигали бенгальские огни на верхушках мачт, бросали в море бочонки с записками, удерживали корабли на минимальной скорости, поднимая только самое малое количество парусов; марсовые[58] беспрерывно осматривали горизонт… Увы, все было напрасно! Неудача постигла и капитанов Келлета[59] и Мура на «Геральде» («Вестник») и «Плавере» («Зуек»). Тревога достигла апогея, поиски продолжались с лихорадочной, почти отчаянной активностью. Зимой 1850–1851 годов в них участвовало более десяти английских и американских судов: ветеран Джон Росс на собственной яхте «Феликс», американцы Хавен[60] и Гриффит на «Эдванс» («Успех») и «Рескью» («Избавление»), зафрахтованных великодушным нью-йоркским коммерсантом Гриннелем; капитаны торгового флота Пенни и Стюарт на «Леди Франклин» и «Софии», капитаны Мак-Клур[61] на «Инвестигейторе», Коллинсон[62] на «Энтерпрайз», а также Остин с четырьмя кораблями: «Резолюшн» («Решительность»), «Эсистенс» («Помощь»), «Интрепид» («Неустрашимый») и «Пайонир» («Пионер»). Кроме того, леди Франклин снарядила на собственные средства «Принца Альберта» с двумя капитанами на борту, Форсайтом и Кеннеди[63], опытнейшими ветеранами полярных морей. На этом судне вышел в море и французский офицер-доброволец Рене Белло, который в двадцать семь лет погиб, став жертвой своей смелости и самоотверженности. Этот на редкость энергичный молодой человек, разносторонне образованный, с доблестным сердцем, никогда не занимавший высших постов в каких-либо экспедициях, оказывал на команду сильнейшее влияние, блестяще разбираясь в самых различных областях науки. Белло вписал свое славное имя в драматическую историю путешествий. Его заслуги были исключительны. Он родился в 1826 году в Париже, в юном возрасте его перевезли в Рошфор, который стал его второй родиной. Благодаря необыкновенным способностям Белло получил за счет города солидное образование, соответствующее благородным стремлениям его души. Он поступил в брестское морское училище и полностью, без остатка, посвятил себя морскому делу. Прежде чем принять участие в прославивших его исследованиях, Рене сражался на французском военном корабле «Берсо» («Колыбель») в районе Мадагаскара и в двадцать лет стал кавалером ордена Почетного легиона! В чине лейтенанта Белло обошел всю Океанию и Южную Америку, а после возвращения в Европу добился от морского министра разрешения на участие в спасательной экспедиции. Отправленный в отпуск с сохранением содержания, он ступил на борт «Принца Альберта» под командованием Кеннеди; вскоре ему доверили функции второго помощника. Двадцать второго июня 1851 года «Принц Альберт» подошел к берегам Гренландии и обогнул мыс Фарвель. 10 июля он вошел в гавань Упернавика. 16 числа доктор Кейн[64], участник американской экспедиции, нанес визит капитану Кеннеди, пришвартовавшему свой корабль к айсбергу. «Я видел много удивительных вещей в своей жизни, — сказал он Белло, — но чего никак не ожидал, так это встретить французского офицера на британском судне!» Тридцать первого июля «Принц Альберт» обнаружил на мысе Райли скорбные следы пребывания экспедиции Франклина — три могилы моряков с именами на надгробиях. 5 сентября корабль подошел к Порт-Леопольду у входа в пролив Принс-Риджент. В октябре «Принц Альберт» вошел в залив Бетти, где вскоре оказался в ледовом плену. Началась зимовка, к которой, впрочем, экипаж заранее подготовился. Несмотря на лютую стужу и нескончаемую полярную ночь, мужественные моряки не сидели без дела. В частности, в январе капитан Кеннеди, Белло и еще несколько человек совершили переход к мысу Фьюри. Они обнаружили склад, оставленный капитаном Парри двадцать шесть лет назад. Провиант полностью промерз, но не потерял своих вкусовых и питательных качеств. Четвертого марта еще одна экспедиция покинула корабль; люди и несколько собак тянули сани с провиантом и необходимыми вещами. Небольшой отряд направился сначала на юг по проливу Принс-Риджент, а затем взял курс на запад. В глубине залива Брентфорд путешественники открыли пролив, который разделяет остров Сомерсет от полуострова Бутия, и назвали его в честь Белло. Затем они повернули на север, так нигде и не обнаружив — увы! — признаков пребывания экспедиции Франклина. Провиант подходил к концу; но в первых числах мая Кеннеди и Белло со своими спутниками подошли к заливу Леопольд, где в 1849 году Джеймс Росс оставил продовольственный склад. Они неплохо подкрепились, но только 30 мая добрались, полностью изнуренные, до стоянки «Принца Альберта», где их уже считали погибшими. Пятнадцатого июля «Принц Альберт» вырвался из ледовой тюрьмы и вернулся в Англию без добрых вестей, впрочем, как и все остальные спасатели. Опасности и лишения первого путешествия нисколько не смутили Белло. Наоборот, его разум, можно сказать, неотступно преследовала мысль самому отправиться на поиски сэра Джона Франклина по еще не хоженым краям негостеприимной Арктики. Он надеялся, что новое правительство Наполеона III (стоял февраль 1853 года), подобно русским и американцам, проявит великодушие, снарядив экспедицию, в которой он примет участие. Репутация Белло уже так укоренилась в Англии, что леди Франклин предложила ему командование и полное распоряжение пароходом, который она специально готовила для экспедиции в Берингов пролив, а капитан Кеннеди, его прежний командир, опять пригласил Рене вторым помощником в новом походе. Белло отказался, все еще рассчитывая на содействие своей родины благородному делу. Но французское правительство без конца откладывало начало собственной экспедиции, и Белло, не желая пропускать сезон 1853 года, обратился к капитану Инглфилду[65], который с удовольствием принял его на «Феникс», вышедший в море из Вулиджа 11 мая. Белло не зал, что Арктика уже подготовила ему могилу. В августе «Феникс» подошел к проливу Веллингтон. Судно везло депеши, предназначенные английским адмиралтейством капитану Белчеру[66], который находился где-то немного севернее. Сознавая важность этих писем, Белло 12 августа отправился на поиски Белчера в сопровождении боцмана и троих матросов. Первую ночь маленький отряд провел в трех милях от мыса Иннис; вторую — на льдинах, дрейфовавших примерно в трех милях от мыса Боуден. Вечером 14 числа Белло предложил разбить лагерь на берегу; боцман и один из матросов уже спрыгнули на сушу, как вдруг льдину, на которой задержались Белло и два матроса, унесло в море. Пронизывающий холод заставил трех человек вырезать ножами во льду хоть какое-то укрытие. Затем Белло, желая осмотреть ледяной паром, оставил своих товарищей, вооруженный только тростью с острием на конце. …И все! Пропал! Так что никто позднее не смог в точности сказать, как он погиб. Один из его товарищей по несчастью сделал на этот счет следующее предположение: «Господин Белло отсутствовал уже четыре минуты, и я решил обойти кругом льдину. Но его нигде не было, и я вернулся к нашей норе, где вдруг увидел трость лейтенанта напротив трещины шириной в пять туазов[67], в которой плескались взбаламученные осколки льда. Тогда я начал кричать и звать господина Белло, но не получил никакого ответа. Тут налетел сильнейший шквал! Мы обыскали затем всю льдину, но не нашли и малейшего следа бедного юноши. Думаю, когда он вышел из нашей берлоги, порыв ветра столкнул его в трещину, и намокшая, застегнутая на все пуговицы одежда помешала ему выбраться обратно на поверхность льдины». Гибель Рене Белло вызвала единодушную скорбь. Леди Франклин, испытавшая еще один жестокий удар судьбы, оплакивала благородного и бескорыстного героя. «Отважный юноша… Я любила его как сына и стольким ему обязана! Истинный французский рыцарь! Наши моряки уважали и любили его как брата, и увы! Его больше нет… Он жил и умер как герой и христианин…» — сказала леди Франклин, получив горестное известие. …В почетном мемориале морского госпиталя в Гринвиче, прямо на берегу Темзы, можно увидеть сегодня небольшую пирамиду из розового гранита, на цоколе которой начертана фамилия, одна только фамилия: БЕЛЛО. Так британское адмиралтейство почтило память мужественного французского офицера. Еще один памятник Белло находится в морском музее Лувра. Его установили англичане, жившие во Франции.
РОБЕРТ МАК-КЛУР
«Геральд» и «Плавер», отправившиеся под командованием капитанов Келлета и Мура на поиски Джона Франклина, застряли на два года у берегов Берингова пролива; в 1850 году к ним присоединился капитан Мак-Клур на «Инвестигейторе». Отважный моряк, подлинный герой, раззадоренный успешным и быстрым переходом, решил воспользоваться благоприятной ледовой обстановкой и не ждать «Энтерпрайз» под командой Коллинсона, который шел за ним вслед и должен был сопровождать «Инвестигейтора». Мак-Клур продолжил плавание к архипелагу Парри под свою ответственность, заявив капитану Келлету, что или он разыщет Франклина, или пройдет великим северо-западным путем. И он сдержал обещание, правда, только во второй его части. Пятого августа под свежим попутным ветром «Инвестигейтор» устремился на восток; 11 числа он уже оказался на траверсе острова Джонс, а 30-го — у мыса Батерст. После нескольких дней, проведенных в гостях у эскимосов, капитан Мак-Клур взял курс на север, прямо в гущу льдов; плавание стало чрезвычайно трудным и опасным. Мак-Клур надеялся выйти к Земле Банкса[68], открытой в 1819 году капитаном Парри. К своему глубокому удивлению, 6 сентября 1850 года он натолкнулся на сушу, которой дал имя Земли Бэринга;[69] продолжив затем свой путь на восток, он открыл еще один берег — Землю Принца Альберта. Этот берег образует, по современным представлениям, северное побережье Земли Вулластона и Виктори[70]. Мак-Клур подходил к обоим берегам пролива, который он окрестил проливом Принца Уэльсского. Но вскоре погода начала ухудшаться, льды преградили дорогу «Инвестигейтору», и капитан решил не откладывать с подготовкой к зимовке. Поход обещал многое, и все участники, учитывая уже достигнутое, надеялись на успешный исход. Мак-Клур ввел свой корабль в расщелину огромной льдины, где он вмерз, словно введенный в сухой док, на весь зимний сезон. Из предосторожности, на случай, если придется покинуть судно, капитан приказал поднять на палубу годовой запас продовольствия, распределил между членами экипажа одежду, обувь и всякие «прочие теплые причиндалы». «Таким образом, — говорил он шутя, — поскольку при таком жутком морозе наша ледовая пристань казалась непоколебимой, мы закончили подготовку к зиме». Как следует устроившись и обосновавшись в отсеках корабля, путешественники начали пешеходные исследования, убежденные, впрочем, в том, что найдут «Инвестигейтора», поскольку тщательно выверили его координаты. Первым ушел капитан в сопровождении шести человек. Они высадились на Землю Принца Альберта, установили мачту с британским флагом и торжественно объявили этот край владением английской короны. Кроме того, они совершили продолжительную экскурсию в глубь острова, обнаружив там большие озера, бесчисленные протоки и,конечно, полное безлюдье. Затем все вернулись на корабль. Второй поход, прошедший также без осложнений, принес тем не менее неожиданный результат, который, собственно, и прославил позднее первопроходца Мак-Клура. 21 октября капитан с несколькими матросами отправился на санях, намереваясь дойти до выхода из пролива; и вдруг, 26 числа, он понял, что находится в западной оконечности пролива Барроу. Итак, северо-западный путь открыт! Но насколько он проходим? Мак-Клур, торжествуя, был весьма далек от мысли, что ему придется ждать еще два года, провести еще две долгие полярные ночи среди враждебных льдов, прежде чем он пересечет Арктику с запада на восток. В конце апреля 1851 года, как только немного ослабел мороз, Мак-Клур и его товарищи начали подготовку к весенней кампании. Во-первых, на одном из островков посреди пролива поставили на якорь большой китобойный шлюп с запасом провизии на три месяца — на случай, если льды раздавят и пустят ко дну «Инвестигейтор». Во-вторых, еще один шлюп и резиновую лодку вытащили на сушу, чтобы исследовательские или охотничьи отряды добрались до корабля в случае, если льды разойдутся. Приняв все эти меры предосторожности, Мак-Клур благословил три экспедиции под руководством второго помощника Уиннэтта и лейтенантов Хасуэлла и Кресуэлла. Уиннэтт вернулся после тяжелейшего пятидесятидневного похода. Он продолжил исследование Земли Принца Альберта, оказавшейся частью огромного острова Вулластона, и дальше других углубился на юг от пролива Барроу. Он повернул обратно 24 мая 1851 года, находясь, по необыкновенному стечению обстоятельств, всего в двадцати милях от партии лейтенанта Осборна, также проводившего рекогносцировку Земли Вулластона, но пришедшего со стороны Девисова пролива; Осборн и не подозревал, что совсем недалеко от него — моряки с «Инвестигейтора». Лейтенант Хасуэлл совершил путешествие по все той же земле Вулластона, до той поры не принимавшей, видимо, столько европейских гостей сразу. Его целью было проверить, является ли она островом или северной оконечностью Американского континента. Поход продолжался сорок два дня. В это же время лейтенант Кресуэлл прошел вдоль земли, которой дали имя Бэринга, и удостоверился, достигнув залива Мелвилл, что на самом деле она является только частью Земли Банкса. Он вернулся раньше намеченного срока, так как двое его людей сильно обморозились. Тем временем наступившее лето прервало все походы. Лед стал ненадежным. В июле он пришел в движение и вдруг в один прекрасный день на удивление тихо разошелся в стороны, оставив корабль на плаву на узком пространстве воды. Несильный ветерок подтолкнул «Инвестигейтор» к северо-востоку; началось тяжелейшее месячное плавание, порой с помощью парусов, порой с помощью матросов, тянувших судно за канаты. Пролив был уже недалеко, и Мак-Клур, казалось, достиг цели, но внезапное и роковое течение возвело на пути корабля неприступный ледовый барьер. Мак-Клур стал прокладывать путь взрывчаткой, обходя самые большие айсберги. Корабль мало-помалу продвигался вперед по чистой воде сквозь непроглядные туманы. Напрасные усилия! Однажды утром небо прояснилось, и с верхушек мачт все увидели только бесконечные нагромождения торосов. Надеясь найти другой путь в обход Земли Бэринга, Мак-Клур решил вернуться назад и обойти мыс Банкс. Поначалу он продвигался довольно легко. Но, выйдя на простор Ледовитого океана, «Инвестигейтор» остановился перед ледяными горами, угрожавшими раздавить корабль, как яичную скорлупу. Бесстрашный капитан не захотел признать поражение. Он решил найти хоть тропинку вдоль берегов, но и это ему не удалось, после чего он остановил корабль на зимовку в том месте, где находился. «Двадцать четвертого сентября 1851 года, — докладывал он, — мы накрепко вмерзли в небольшой гавани, которую назвали бухтой Милосердия[71] в знак благодарности за спасение от всех опасностей, что подарил нам Ледовитый океан». Здесь закончилась морская часть пути «Инвестигейтора» и его мужественного экипажа; а бухта Милосердия стала вскоре могилой для корабля! Начиная свое путешествие, Мак-Клур клялся, что пройдет как можно дальше, а если корабль застрянет во льдах, то пойдет пешком. И в самом деле, после зимы, проведенной в бухте Милосердия, как только чуть-чуть отпустили отнюдь не милосердные морозы, он с семью спутниками отправился в путь на санях. Двадцать восьмого апреля Мак-Клур подошел к острову Мелвилл, где уже побывал ранее Парри. Мак-Клур нашел камень с выгравированной надписью: «Корабли флота Ее Величества “Хекла” и “Грайпер” провели здесь зиму 1819–1820 годов». В этом месте, уже освященном мужественными предшественниками, капитан Мак-Клур оставил сокращенное изложение своего судового журнала. Он добавил, что намеревается вернуться в Англию через Порт-Леопольд, то есть продолжить свои изыскания; просил оставить провиант на острове Мелвилл, и если он пропадет бесследно, то это будет означать, что его поглотило Ледовитое чудовище. В этом случае он не просил помощи, так как судно, попавшее в эту бездну, имеет минимальные шансы выбраться. Документ заканчивался такими словами: «Это сообщение оставлено 12 апреля 1852 года отрядом капитана Мак-Клура. (Затем следовали подписи его подчиненных.) Нашедшего просим передать сие послание секретарю адмиралтейства Доти от экипажа корабля флота ее величества “Инвестигейтор”, застрявшего во льдах в заливе Милосердия». Приняв эти меры предосторожности, Мак-Клур вернулся на корабль. Он еще надеялся продолжить летом путь на восток. Но жестокий удар опрокинул его чаяния. Прошла весна, подходило к концу и лето, а лед как был, так и оставался крепким и непоколебимым. В конце августа пришлось решаться на третью зимовку почти на одном и том же месте! Уже можно было без опаски передвигаться по льду залива; первый снег убил скромные цветочки, что несколько скрашивают унылую тундру; перелетные птицы сочли за лучшее перебраться в теплые края. «Ну и погодка! — говорил Мак-Клур. — Этот год можно назвать длинным бессолнечным днем, так как с конца мая светило практически не показывалось на небосклоне и никак не влияло на массу льдов, блокировавших выход из залива. Не думаю, что Арктика просто так отпустит нас в этом году, поскольку мы так и не увидели ни капли чистой воды». Убедившись в необходимости еще одной зимовки среди льдов, капитан собрал экипаж и без обиняков изложил свои намерения на будущий год. Весной он предложил отправить половину команды в Англию через море Баффина или по реке Маккензи. Остальные останутся на корабле: а вдруг льды смилостивятся и отпустят с миром дерзкое судно летом 1853 года? В противном случае моряки уйдут на санях в Порт-Леопольд. Оскудевший рацион вынуждал на все эти меры. Паек членов экипажа и так уже был урезан на треть в течение последнего года, а впереди еще по меньшей мере восемнадцать месяцев изоляции! Команда, без сетований и ворчания переносившая тяготы сурового похода, безоговорочно приняла предложенный капитаном план. Четыре месяца прошли в бесконечной череде страданий, тяжелой работы и лишений; наконец наступила весна и пришло время намеченного расставания. Окончательно распределили обязанности. Лейтенант Хасуэлл с частью команды должен был по проливу Барроу дойти до входа в пролив Веллингтон, где, как было известно из послания, полученного прошедшим летом на острове Мелвилл, находился склад с провиантом. В этом пункте лейтенанту предстояло погрузиться на китобойное судно и вернуться на родину через море Баффина. В то же время лейтенант Кресуэлл намеревался дойти до места зимовки 1850 года, а затем по реке Маккензи добраться до Гудзонова залива[72]. Сам же капитан Мак-Клур вместе с добровольцами решил остаться еще на год на корабле, чтобы любой ценой спасти его и провести, несмотря ни на что, из Тихого океана в Атлантику. Если же освободить судно не удастся, он пешком доберется до Порт-Леопольда в проливе Барроу. Тщательные приготовления завершены; для мужественных моряков, так сдружившихся в этой полярной одиссее, настал час прощания — возможно, навсегда! Но совершенно чрезвычайное событие, словно неожиданная театральная развязка, опрокинуло все планы. Как было сказано выше, весной 1852 года Мак-Клур совершил экскурсию из бухты Милосердия на остров Мелвилл, оставив там описание своего похода и дальнейших планов. Это послание обнаружил капитан Келлет, принимавший участие в грандиозной экспедиции под командованием Бэлчера, во время санного перехода на остров Мелвилл зимой 1852–1853 годов. Да-да, тот самый капитан Келлет, с которым Мак-Клур распрощался, прежде чем выйти из Берингова пролива. Именно по странности судьбы он и пришел на выручку к шотландцу. Донесение капитана Келлета об этом драматическом событии крайне интересно… «День 19 апреля 1853 года нужно выделить красными чернилами в нашем отчете; его будут вечно помнить наши последователи и наследники. Утром сигнальщик заметил на западе группу людей. Все выскочили наружу. Тут же увидели еще один отряд. Первым, с кем мне удалось поговорить, был доктор Домвилл. Не могу выразить словами, что я испытал, узнав, что во втором отряде находится и капитан Мак-Клур. Я рванулся к нему, и мы обменялись самыми сердечными рукопожатиями; думаю, никто и никогда не радовался в такой степени нежданной встрече. Мак-Клур выглядел неплохо, хотя был очень истощен и голоден. Его рассказ о встрече с лейтенантом Пимом (подчиненным Келлета) довольно забавен. Прохаживаясь по льдам вместе с первым помощником, они вдруг увидели непонятную личность, летевшую сломя голову прямо на них. Мак-Клур и его спутник решили, что за этим человеком гонится медведь, и бросились ему на выручку. Каково же было их удивление, когда они поняли, сблизившись на сотню шагов, что этот человек вовсе не с “Инвестигейтора”! Пим орал что-то неразборчивое и размахивал руками. Капитан и его лейтенант были еще довольно далеко, чтобы его расслышать, и остановились, ничего не понимая. В конце концов Пим, совершенно обезумевший от радости, добежал до Мак-Клура и на вопрос последнего: “Кто вы? Откуда свалились?”, четко доложил: — Лейтенант флота ее величества Пим! Корабль “Геральд” капитана Келлета!» «Мак-Клур оторопел, — продолжает Келлет, — ведь я был последним, кому он пожал руку перед расставанием в Беринговом проливе. Наконец до него дошло, что перед ним не одинокий дух Арктики, а всамделишный британец — лучезарный ангел, как он умиленно выразился позднее с шутливым пафосом. Их увидели с “Инвестигейтора”; и поскольку только один люк оставался открытым, то все сгрудились у его отверстия, стремясь поскорее вырваться наружу; даже больные сорвались со своих подвесных коек». Естественно, планы Мак-Клура изменились; люди, которых он собирался отправить двумя отдельными группами, перебрались на корабли капитана Келлета. Лейтенанту Кресуэллу поручили сопровождать их, и 12 мая ослабевшие моряки оказались на борту. Через несколько дней тот же лейтенант Кресуэлл отправился к острову Бичи, где базировалась «Северная Звезда». Он нес с собой депеши Мак-Клура, который вернулся на свой родной корабль в бухту Милосердия. В июле Кресуэлл на «Фениксе» под командованием капитана Инглфилда направился в Англию, прибыл в Лондон 7 октября 1853 года и первым получил неслыханные почести за совершение перехода через Ледовитый океан северо-западным путем. Мак-Клур, опасаясь за судьбу подчиненных во время четвертой по счету зимовки в полярных льдах на борту «Инвестигейтора», покинул свое судно в бухте Милосердия и вместе со всей командой перешел на «Геральд» и «Резолюшн», стоявшие на якорях у острова Мелвилл. Он вернулся в Англию осенью 1854 года. Величайшее путешествие, совершенное сэром Робертом Мак-Клуром, представляло огромный интерес с точки зрения географической науки. Но оно доказало также, что нет ни малейшей надежды на постоянное использование в коммерческих целях пути через Ледовитый океан, так бесстрашно исследуемого географами. Льды неизбежно возведут неприступные редуты на пути регулярных торговых рейсов. Нужно отметить между тем, что холода и опасности, возникающие при столкновениях со льдами, и прочие сложности плаваний через Арктику кажутся куда более труднопреодолимыми между 60 и 66° широты, чем севернее, между 71 и 74°. В последней экспедиции обнаружились также резервы, о наличии которых раньше и не подозревали. Так, экипаж «Инвестигейтора» во время трех зимовок, проведенных на юго-западе острова Мелвилл, не без успеха охотился на диких северных оленей и полярных зайцев. Моряки добыли целых четыре тысячи фунтов парного мяса. Напрашивался вывод, что, возможно, окрестности Северного полюса менее суровы, чем негостеприимное побережье Америки. Дальнейшие исследования вскоре подтвердили это предположение.ГЛАВА 4
Доктор Кейн. — Бриг «Эдванс». — Капитан Мак-Клинток. — Следы экспедиции Франклина. — Доктор Хейс. — Чистое море.«Весной 1853 года, — пишет доктор Кейн в интереснейшем отчете, из которого мы приведем довольно обширную выдержку, — я получил от американского адмиралтейства почетное задание — командовать второй экспедицией, снаряженной нашим (то есть американским) правительством на поиски сэра Джона Франклина. Господин Гриннел, так щедро оплативший расходы первого похода, в котором я принимал участие, предоставил в мое распоряжение бриг “Эдванс”. На борт корабля поднялись семнадцать отборнейших добровольцев — лучшего экипажа нельзя и вообразить. Энергичные, решительные люди, ясно сознававшие опасность и готовые противопоставить ей неустрашимое хладнокровие. Все соблюдали непреложные законы, действовавшие на протяжении всего нашего долгого и трудного путешествия: беспрекословное подчинение приказам капитана или его заместителя, полный отказ от употребления крепких напитков и непристойных выражений. Через восемнадцать дней после выхода из Нью-Йорка, 30 мая 1853 года, мы были на траверсе Ньюфаундленда. 1 июля под аплодисменты местного датско-гренландского населения мы вышли на рейд Фискенеса. Благодаря предупредительности управляющего колонией к нашей экспедиции присоединился юный охотник-эскимос восемнадцати лет от роду по имени Ханс Кристиан. Это было настоящей удачей для нас: ловко маневрируя на каяке[73] и искусно орудуя копьем, невозмутимый, как индеец Дальнего Запада, он принес нам огромную пользу. 16 июля мы проскочили мимо отрогов Свартенхука и 27-го были уже в заливе Мелвилл в окружении ледяных гор — “айсбергов”, заполонивших это море, которое по праву заслужило у китобоев прозвище “ямы с обрывистыми краями”. Густые туманы, обычные для этих мест, окутали нас со всех сторон. Положение становилось угрожающим; я приказал зацепить якорь за ледяную гору, чтобы прекратить непредсказуемый дрейф; после тяжелой восьмичасовой работы нам наконец это удалось, как вдруг с вершины нашего укрытия на нас посыпалась ледяная крошка, словно град во время весенней грозы. После такого ясного предупреждения не оставалось ни минуты на сомнения и промедление. Едва мы отцепились и отошли от айсберга, как он опрокинулся со страшным грохотом… Шестого августа после утомительного плавания мы обогнули мыс Хаклуйт, затем мыс Александер, образующий с мысом Изабеллы Геркулесовы Столбы Ледовитого океана. Вплоть до 22 августа нас преследовала ужасная погода; бури и ураганы то и дело угрожали разбить судно о скалы или льды. Но наш доблестный бриг удачно избежал всех неприятностей, и 23 числа мы весь день тащились вдоль длинного ледового барьера на семьдесят восьмом с сорока одной минутой градусе северной широты. 28 августа, оказавшись в окружении льдов, я решил провести некоторые исследования, чтобы найти наилучшую зимнюю квартиру на берегу. Вылазки не дали сколько-нибудь обнадеживающего результата, и пришлось оборудовать зимовку непосредственно в том месте, где застрял корабль, правда, нам все-таки удалось ввести его в узкую протоку между двумя островками, чтобы не подвергать сильному давлению льдов. Едва мы обосновались, как исчезновение дневного света оповестило нас о начале зимовки. 7 сентября окрестности погрузились во мрак. Солнце скрылось на сто сорок дней, и сто сорок дней на твиндеке[74] непрерывно горели лампы. Звезды шестой величины[75] ясно различались даже в полдень. Вот обычный распорядок наших будней. В шесть часов утра поднимался мой первый помощник господин Гари, и вахтенные, которые отдраивали палубу от снега и льда, пробивали прорубь, проверяли сети, где хранилось мясо, и наводили порядок на борту. В семь часов — общий подъем; команда умывалась прямо на палубе, открывала иллюминаторы, чтобы проветрить кубрики, затем все спускались на завтрак, состоявший из свинины, промороженной и твердой, как леденцы, картошки, чая и кофе с нежным ломтиком сырого картофеля. После завтрака — перекур до девяти часов, затем свободные от вахты отдыхали, остальные принимались за работу. Ольсен и Брукс чинили паруса, господин Гари превращался в портного, Уипп — в сапожника, Бузальт — в жестянщика, Бейкер препарировал птиц. Представьте себе наш рабочий кабинет: стол с лампой, горевшей на топленом свином жире, создававшей удушливую, но уютную атмосферу; три табурета, на которых восседают три человека с восковыми лицами, поджав ноги под себя, поскольку палуба слишком холодна для ступней; все были при деле: Кейн писал, вычерчивал планы и карты, Хейс заносил в судовой журнал метеорологические наблюдения, Зонтаг описывал походы по округе. В полдень — всеобщая поверка, затем тренировочные поездки на собаках. Поездки входили в мои обязанности, я с превеликим удовольствием разминал колени, ревматически скрипевшие на каждом шагу, и отсыревшие плечи, куда отдавался каждый резкий взмах кнута. Ну вот и обед!.. Еще один повод для всеобщего собрания. За этой трапезой не подавался ни чай, ни кофе. Впрочем, их вполне заменяли квашеная капуста и вобла. На обед, как и на завтрак, все получали для профилактики ломтик сырого картофеля. Как и все лекарства, блюдо это не столь аппетитное, как хотелось бы. Я тщательно протирал самые здоровые, неиспорченные кусочки, поливал маслом в достаточном количестве, и все-таки, несмотря на все мои кулинарные ухищрения, мне приходилось применять все свое красноречие, чтобы убедить членов экипажа проглотить, закрыв глаза, мое чудо-рагу. Вот так, прохлаждаясь, прогуливаясь, работая и отдыхая, проводили мы время до шестичасового ужина — жалкого подобия завтрака и обеда. Офицеры приносили мне рапорты, и я их подписывал, заносил в журнал, который с каждой страницей наглядно демонстрировал, как слабеем мы с каждым днем… Чтобы скрасить долгие вечерние часы, мы иногда картежничали, играли в шахматы, в лучшем случае — читали… На первый взгляд такая жизнь вовсе не кажется тяжелой; но нужно учесть и обратную сторону медали. Горючее подходило к концу, и мы не могли сжигать в день более трех ведер угля. А снаружи — минус 40° по Цельсию! К тому же, за исключением Петерсена и Мортона, мы все в той или иной степени страдали от цинги, и, замечая бледные лица и запавшие глаза своих товарищей, я говорил себе, что мы проигрываем в этом сражении с природой, что полярный день плюс полярная ночь изнуряют и старят человека быстрее, чем год, проведенный где бы то ни было в этом жестоком мире. Таким образом тянулась наша первая арктическая зима. …Ранним утром 7 апреля я проснулся от самого ужасного для уха медика хрипа, исходившего из груди Бейкера. Непрошеный гость — черный ангел смерти уже давно стучался в двери наших кают; и вот он захватил нашего товарища. Состояние моряка быстро ухудшалось, и к следующему утру он скончался. Мы сколотили гроб; скорбный кортеж проследовал к проруби вдоль крутого откоса, ведущего к нашей обсерватории. После заупокойной молитвы бедняга Бейкер навечно погрузился в ледовую могилу… Как-то раз мы получили приглашение от группы эскимосов посетить их поселок, который находился на берегу залива Херстен всего в восемнадцати милях от нашей якорной стоянки. Через узкий лаз длиной в десяток метров я ползком проник внутрь иглу — самой настоящей норы. Здесь мне в нос сразу ударил аммиачный дух четырнадцати раздетых обитателей мрачной конуры, довольно откормленных на вид, но грязных и потных. После весьма утомительных восемнадцати миль пути при морозе в 90° по Фаренгейту (примерно 32° по Цельсию) я попал в пещеру размером пятнадцать на шесть футов. Невозможно представить, если не увидеть самому, такое бесформенное скопление человеческих существ: мужчин, женщин, детей, прикрывавших свою наготу только природной грязью, ползавших чуть ли не друг по другу, как черви в баночке рыбака. Чтобы представить это зрелище, не хватит самого преувеличенного воображения. Площадка в форме полуэллипса, служившая то ли общей постелью, то ли местом всеобщих трапез, насчитывала не больше семи футов в длину и шести — в ширину; что ж, считая детей, на ней размещалось четырнадцать человек, включая и мою персону. Светильники — “котлуки”, горели ровным пламенем высотой в шестнадцать дюймов[76]. На полу распластали четверть замороженного тюленя, затем порезали его и немного подкоптили кусками от десяти до пятнадцати фунтов. Вождь клана Метек сердечно пригласил меня отведать местный деликатес. Но мне вполне хватило одного взгляда на это изысканное блюдо. Так что я отужинал остатками мороженой печенки, которую предусмотрительно захватил с собой; обливаясь обильными ручьями пота, я разделся, как и все остальные. Затем я расположил свои утомленные кости у ног госпожи Айдер-Дак, хозяйки этого жилища; слева примостился ее ребенок, а теплой подушкой мне служил урчавший живот господина Метека; вот в такой уютной постели, которая предоставляется только самым почетным гостям, я сладко уснул. Солнце стояло уже высоко на следующее утро, когда я проснулся. Госпожа Айдер-Дак соблаговолила подать мне завтрак в постель. На чашке из вогнутой кости дымился отборный кусок вареного китового мяса! Я не видел, каким образом его приготовили: я много бродил по белу свету и не имел никакого желания вникать в кулинарные тонкости. Как всегда, не страдая от отсутствия аппетита, я уже дотронулся до желанного подношения, но вдруг увидел как хозяйка, манипулировавшая у соседнего “котлука”, видимо, в качестве шеф-повара, проделала некую операцию, которая меня остановила. Когда я к ней обернулся, она держала в руках чашку, подобную той, в которой принесли мне завтрак (видимо, такая посуда служит для разных целей на эскимосской кухне), только что преспокойно вытянув ее из-под своих одеяний; затем она погрузила ее в котел с супом и извлекла оттуда копию того очаровательного куска, что лежал на моем блюде. Впоследствии я узнал, что подобная утварь применяется для различных целей, и когда нет экстренной необходимости ставить ее на стол, ею пользуются для… я не осмелюсь сказать для чего! Для эскимосов не существует вопроса о нечистоплотности. Эта черта является неотъемлемой частью народов Крайнего Севера; происходит она не из-за присущей им небрежности в приготовлении пищи и крайней скученности, а от зверского мороза, постоянно препятствующего гниению и предупреждающего нежелательные последствия скопления собак и людей. Они и в голову не берут возмутительные для разума и ощущений цивилизованных людей вещи. Я мог бы изложить еще немало подобных довольно отвратительных подробностей, но ограничусь только более-менее выносимыми деталями… …В течение лета 1854 года я отправил несколько отрядов на разведку местности вокруг залива, пленившего наш корабль. Самой значительной была экспедиция Мортона и гренландца Ханса. Лето пролетело мгновенно, так и не разблокировав наше судно, и зиму 1854–1855 годов мы провели, скованные теми же льдами, что и в прошлом году. Эта зимовка подвергла нас еще большим испытаниям, чем предыдущая. К несчастью, двое наших товарищей скончались, а Ханс сбежал. Апрель и май не принесли никаких изменений. В июне мы осознали необходимость покинуть бриг. Уже не оставалось времени для сомнений и колебаний. Как подготовить к долгому и опасному путешествию шлюпки, столь хрупкие, перегруженные и ветхие? Оправдают ли они наши надежды увидеть их на плаву? Эскимосы, полюбившие нас, пришли на помощь. Мой лучший друг Метек навалил целую кучу убитой дичи, словно нам предстояло питаться вечно. Его жена плакала у входа в мою палатку, утирая слезы птичьими перьями… …После страшной бури три наших ялика: “Вера”, “Надежда” и “Эйрик Рыжий”, уж не знаю с помощью какого бога, добрались 22 июня до острова Нортумберленд. 24 числа мы проделали немалый путь, но после шестнадцати часов непрерывной работы наши силы иссякли. Дневной рацион сводился теперь к шести унциям хлебных крошек с огромным, величиной с орешек, кусочком сала. К счастью, в нашем распоряжении оставался немалый запас чая. На следующий день скорость движения еще уменьшилась, а силы все убывали. Отрадно было только то, что исчез и аппетит! Кулебяка из сала и хлеба, орошенная чайком, убивала чувство голода… А меж тем огромная масса дрейфующих льдин, вращаясь веретеном, начала неумолимо надвигаться, как пресс, на льдину, служившую нам временным пристанищем. Приведенная в движение, она, в свою очередь, напоролась на скалу. В следующее мгновение начался страшный хаос. Люди автоматически заняли свои посты, стараясь спасти шлюпки. В какой-то момент я потерял всякую надежду на спасение. Льдина, на которой мы находились, раскололась; лед треснул, разбился на множество частей, начавших беспорядочно громоздиться друг на друга. Хотя мы и привыкли без страха смотреть в лицо смерти, собрав все свое мужество перед лицом опасности, ни один из нас не смог бы вспомнить, каким чудом мы вскоре оказались на плаву. Скажу только, что в невообразимом грохоте, который заглушил бы оркестр из тысячи мощных труб, а не то что голос человека, наши скорлупки приподняло, закачало и бросило, словно мячики, в кипевшее ледяное месиво… …Одиннадцатое июля, мыс Диггс… 21-е — мыс Йорк… Срочно нужно переставить наши лодки на полозья. Но влажная погода и полуголодный рацион ослабляют нас с каждым днем; вернулась одышка, а ноги распухли так, что мы вынужденно разрезали сапоги и замотали их в парусину. Но самый тревожный симптом — это почти полная бессонница. Только сон мог избавить нас от изнурительных мучений… Больше сна — больше надежды на спасение! Истощенные тяжелым трудом, голодом и нескончаемым невезением, мы вдруг заметили неподалеку дремавшее на дрейфующей льдине животное. Точнее говоря, то была нерпа, но столь огромная, что я принял ее за моржа. Я подал сигнал своим людям, и, дрожа от лихорадочного нетерпения, мы начали подкрадываться к зверю. Когда мы приблизились вплотную, возбуждение матросов достигло такой степени, что они не могли уже слаженно грести. Нерпа очнулась и обратила на нас внимание, когда мы были уже на расстоянии ружейного выстрела. Я до сих пор ясно помню отразившееся на исхудалых лицах моряков отчаяние и горе, когда они заметили движение животного — от его смерти зависела жизнь каждого из нас! Решив, что дистанция между нами и нерпой уже достаточна для нанесения смертельного удара, я конвульсивно сжал кулак, что было условным сигналом для Петерсена; но стрелок, парализованный волнением, никак не мог удержать цель на мушке. Нерпа, приподнявшись на передних плавниках, разглядывала нас с беспокойством и любопытством, но готовилась уже нырнуть в воду. Наконец раздался выстрел; сраженный зверь упал прямо рядом с водой, настолько близко, что море омывало его голову, свесившуюся с края льдины. Еще не веря в удачу, я хотел было добить его еще одним выстрелом, но об этом не могло быть и речи. Моряки, забыв о дисциплине, дико заорали и навалились на весла, устремившись к жертве. Загребущие, жадные руки схватили ластоногого и вытянули груду живительного мяса в более надежное место. Матросы словно сошли с ума; я никогда не думал, что люди настолько могут настрадаться от голода. Размахивая ножами, они носились вокруг добычи, смеясь и плача одновременно. Пять минут спустя кто-то облизывал пальцы, обагренные свежей кровью, другие судорожно глотали длиннющие полоски сырого жира. Забыв о всякой опасности, мы расположились посреди огромной льдины и вечером, пожертвовав частью обшивки “Эйрика Рыжего”, предались разнузданному пиршеству. Закончились наши страдания! Первого августа мы были у Пальца Дьявола — обычного поля битвы китобоев. И вот мы уже у архипелага Дак, а обойдя с юга мыс Шеклтон, мы начали готовиться к высадке. Материковая твердь! Суша! Какое счастье вновь ощутить ее под ногами! С какой любовью, с каким почтением мы приветствовали ее! Немного времени ушло на поиски удобной бухточки и на взаимные поздравления; мы вытащили наши многострадальные скорлупки на берег и предались блаженному отдыху. Два дня спустя туман окутал все вокруг, а когда он растворился, мы уже гребли дальше неподалеку от Каркамонта. …Чу? Что за звук? Это не крик чайки, не тявканье лисы, которое мы частенько путали с хуканьем эскимосов; ритм нам слишком знаком, я не мог обознаться! — Петерсен! Слышите? За весла, ребятки! Что же это? Петерсен с привычным спокойствием внимательно прислушался и вдруг с дрожью в голосе прошептал: — Датчане! Ясеневые весла согнулись под руками рванувших матросов; наши лодки полетели по волнам, мы кровожадно обшаривали взглядом горизонт… И наконец, вот она — одинокая среди бескрайнего моря мачта морского шлюпа! — Это “Фрейлейн Флайшер”! Чарли Моссин… с корвета “Марианна”, который мы и ждали! — закричал Петерсен. Спокойствие изменило ему, и суровый моряк заплакал: — Они самые… Датчане! Мы спасены! Через час мы благополучно прибыли в Упернавик».
СЭР Л. МАК-КЛИНТОК
Итак, все английские, русские и американские экспедиции, частные или государственные, так и не смогли после напряженных восьмилетних поисков приподнять завесу мрака над судьбой несчастного Франклина и его товарищей. Но благодаря безграничной самоотверженности женщины, которую не смущали ни бедствия, ни препятствия, которая не показывала ни признаков слабости, ни колебаний тогда, когда зрелые мужи падали от усталости и страха, загробная тайна, хранимая духом Северного полюса, была приоткрыта. Леди Франклин совершила то, что британское правительство после восьми лет напрасных поисков, восьми погибших кораблей и тридцати потраченных миллионов признало невозможным. По поручению неустрашимой вдовы адмирала, стремившейся вырубить из льдов и пустынных берегов Арктики тайну трагической гибели Франклина и его спутников, капитан Мак-Клинток осуществил наконец то, на чем обломали зубы все его многочисленные предшественники. Не то чтобы он обладал большим мужеством, чем другие моряки, просто, по всей видимости, он был более везучим; судно, экипированное на остатки состояния непреклонной женщины, принесло ему удачу. Первого июля 1857 года «Фокс» («Лис»), корабль, снаряженный леди Франклин, покинул порт Абердин. 6 августа он остановился в Упернавике, чтобы принять на борт двое саней и тридцать пять собак с проводниками. Начало путешествия не предвещало ничего хорошего. На полпути к проливу Ланкастер «Фокс» внезапно попал в окружение огромного скопления дрейфующих льдов, пленивших его ровно на восемь месяцев. Во время этой нежеланной передышки капитану пришлось выполнить торжественную, но самую грустную обязанность, что может выпасть на долю главы экспедиции. «Вечером 4 декабря, — пишет он, — мы собрались подле останков нашего механика, бедного Скотта. При свете фонарей состоялась панихида; английский флаг прикрыл тело моряка — все пробуждало самые глубокие чувства. Затем усопшего поместили на сани и проводили в последний путь к проруби неподалеку от судна. Тело поглотила пучина, а экипаж прошел почетным маршем вокруг отверстия, которое при сорокаградусном морозе уже начало закрываться! Никогда это зрелище не изгладится из моей памяти! Бедняжка “Фокс”, плененный ледяным хаосом; мачта с приспущенным до половины флагом; колокол, отбивавший леденящим загробным гласом похоронный звон; небольшая процессия мрачных людей, медленно ступавших по замерзшей поверхности бездны, только что поглотившей их товарища; зверская стужа, серый сумрак — все эти скорбные детали как бы старались придать сцене еще большую унылость». Только 25 апреля 1858 года капитан Мак-Клинток вновь обрел свободу маневра и вошел в контакт с туземцами возле мыса Йорк. Эскимосы узнали переводчика, бывшего в этих краях еще с доктором Кейном, и рассказали о судьбе Ханса Кристиана, дезертировавшего с «Эдванса». Двенадцатого июля экспедиция подошла к мысу Уоррендер у входа в пролив Ланкастер и вскоре направилась к заливу Понд. Здесь Мак-Клинток встретил старуху и мальчика, проводивших его в свою деревню, расположенную неподалеку от пролива. На влажном мху узкой долинки, промытой весенними водами, в хаосе скальных обломков и островерхих торосов, высились яранги из тюленьих шкур — летний лагерь эскимосов. В течение недели гостеприимные жители затерянного во льдах уголка радушно принимали необычных гостей. Эти загнанные судьбой в Богом забытую дыру люди ничего не могли сообщить о Франклине, но прекрасно помнили о крушении трех кораблей в гораздо более отдаленные времена. Они общались с племенем, обитавшим в заливе Мелвилл, и потому имели сведения о зимовке Парри в тех краях. Шестого августа Мак-Клинток покинул залив Понд, а 11-го уже встал на якорь у острова Бичи. Здесь, совсем неподалеку от стелы в память Белло, он решил поставить большую мраморную доску, подготовленную леди Франклин, со следующей надписью:СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФРАНКЛИНА КРОЗЬЕ, ФИТЦДЖЕЙМСА и всех их мужественных товарищей — офицеров и матросов, страдавших и погибших во имя науки и во славу Родины, возведен сей камень возле места их первой зимовки в Арктике. Отсюда они отправились дальше, чтобы победить или умереть. Он освящен преклонением соотечественников и друзей, верой и любовью той, что потеряла в лице главы экспедиции самого верного и обожаемого супруга.…Посетив склады, оставленные на острове Бичи предыдущими экспедициями, Мак-Клинток осуществил необходимый ремонт строений, после чего направился к проливу Пил; но здесь его путь преградили непроходимые льды, и капитан решил взять курс к проливу Белло. По дороге он проверил состояние провианта в Порт-Леопольде и оставил там шлюпку на случай, если придется оставить «Фокс». Пролив Принс-Риджент порадовал его чистой ото льдов водой, впрочем, так же как и пролив Белло. Вскоре судно бросило якорь в надежной гавани; пользуясь последними светлыми днями, моряки перевезли запасы провианта от места нахождения Магнитного полюса на западный берег полуострова Бутия, чтобы облегчить выполнение будущих операций. Зима 1858–1859 годов оказалась необычайно жестокой. Тем не менее несколько санных экспедиций исследовали окрестности места зимовки. Во время одного из походов капитан узнал от эскимосов, зарывшихся в зимних берлогах недалеко от мыса Виктори, что несколько лет назад один корабль застрял во льдах к северу от острова Кинг-Вильям и весь экипаж погиб до единого человека. Никто из туземцев лично не видел никого из европейцев во время бедствия, но один из них клялся, что нашел их останки на острове, где часть погибших осталась непогребенной. Во время другой экспедиции в начале апреля капитан Мак-Клинток и лейтенант Хобсон встретили две эскимосские семьи, которые поведали, что они видели восемь или девять лет назад еще один корабль возле острова Кинг-Вильям; в тот же год это судно разбилось о скалы. Вскоре лейтенанту Хобсону поручили пройти на место предполагаемой катастрофы; в то же время Мак-Клинток отправился к мысу Нортон, где находилась заснеженная деревушка с тридцатью обитателями. Вот что рассказал позднее капитан «Фокса»: «Хозяева отнеслись к нам без малейшего признака страха или сомнений — ни один из них не видел ранее белых людей живьем. С великой охотой они поделились всеми своими знаниями и совершили обоюдовыгодный обмен. Они сказали, что в пяти днях пути на норд-норд-ост находится место кораблекрушения. На редкость сообразительная пожилая женщина на вопросы переводчика без минуты колебаний отвечала, что корабли и останки экипажа находятся у берегов Большой реки[77]. Она добавила также, что в тех краях мы найдем местных жителей, которые точнее расскажут о несчастных бледнолицых. К сожалению, все оказалось не так. Мы тщательно обследовали мыс Бут и остров Монреаль, но не встретили ни души, а нашли только несколько железных и медных обломков. Я пересек даже границу области, исследованной в 1855 году Андерсоном и Стюартом, между устьями Маккензи и Большой Рыбной реки. Не думаю, что я достиг бы большего, чем мои уважаемые коллеги, а потому решил вновь переправиться на остров Кинг-Вильям, чтобы осмотреть его южные берега. Двадцать четвертого мая поблизости от мыса Хершел мы обнаружили человеческие останки в оборванной одежде европейского образца. Проведя тщательные раскопки в наметенных за несколько лет сугробах, мы нашли также планшет с несколькими поврежденными, но вполне поддавшимися расшифровке письмами. По остаткам платья мы определили, что это труп то ли стюарда, то ли денщика офицера, а его местоположение соответствовало словам эскимосов, утверждавших, что бледнолицые умирали один за другим вдоль избранной ими дороги. На следующий день мы вышли на мыс Хершел, где изучили пирамиду, сложенную из скальных обломков в 1837 году Симпсоном[78], а вернее то, что от нее осталось, поскольку теперь она имеет не больше четырех футов в высоту, а центральные камни отсутствуют, словно внутрь что-то положили. Я считаю, что экипаж поместил туда какие-то вещи, извлеченные позднее аборигенами[79]. Вернемся теперь к лейтенанту Хобсону, который расстался со мной у мыса Виктори 28 апреля и направился к мысу Феликс. Почти сразу он наткнулся на бесспорные следы экспедиции Франклина, обнаружив обширную каменную пирамиду, а совсем рядом — маленький навес, под которым были сложены одеяла, одежда и другие предметы. В камнях обнаружили также лист чистой бумаги и две разбитые бутылки — и это все, несмотря на то что они перерыли все в радиусе десяти футов. …Через две мили к югу — еще две пирамидки; опять ничего, кроме сломанной лопаты и еще полной коробочки с чаем. Хобсон продвигался дальше и 6 мая вышел на мыс Виктори, где племянник Джона Росса, Джеймс, сложил в 1831 году пирамиду высотой в шесть футов. О ее существовании все знали. Хобсон нашел среди верхних камней жестяную коробочку с коротким, но огромной важности отчетом; это был столь долгожданный рапорт так долго разыскиваемой погибшей экспедиции сэра Джона Франклина! Из документа, написанного на пергаментной бумаге, мы узнали, что день 28 мая 1845 года на борту “Эребуса” и “Террора” прошел отлично; что в течение все того же года — года, когда они покинули Англию, оба корабля поднялись по проливу Веллингтон до семьдесят седьмого градуса широты и повернули на запад от острова Корнуоллис с целью устроиться на зимнюю стоянку у острова Бичи. 12 сентября следующего, 1846 года корабли застряли во льдах в пункте с координатами 69°5′ северной широты и 98°23′ к западу от Гринвича, то есть примерно в пятнадцати милях от северо-западных берегов острова Кинг-Вильям. Здесь они и зимовали второй раз. Лейтенант Гор и господин Де-Во[80] в сопровождении шести матросов совершили санный поход, поместив драгоценный отчет не только в найденную Хобсоном пирамиду, но и в другую, на расстоянии в один дневной переход к югу. На полях первого документа мы обнаружили несколько заметок, добавленных одиннадцать месяцев спустя (25 апреля 1848 года). За лето корабли преодолели только пятнадцать миль, экипаж покинул их 22 апреля. Сэр Джон Франклин скончался 11 июня 1847 года; девять офицеров и пятнадцать матросов умерли в разное время до и после кончины капитана. Все выжившие, в количестве ста пяти человек, под командованием лейтенанта Крозье высадились на мысе Виктори и на месте каменной пирамиды Джеймса Росса, разрушенной, видимо, эскимосами, построили новую, которая до сих пор стоит нетронутой. Они намеревались направиться следующим утром к Большой Рыбной реке, или реке Бак; рапорт подписали Крозье, как капитан “Террора” и глава экспедиции, и Фитцджеймс, как капитан “Эребуса”. Похоже, что трехдневный переход от кораблей забрал последние силы несчастных, и они оставили в этом месте большое количество одежды, различных предметов и провианта, словно хотели избавиться от всего лишнего. Прошло десять лет; кирки, лопаты, кухонная утварь так и валялись по округе или вмерзли в лед; здесь был даже секстан[81], помеченный именем Фредерика Хорнби (R. N.)[82]. Лейтенант Хобсон продолжил изыскания на расстоянии в несколько дневных переходов к мысу Хершел, но больше никаких следов пребывания потерпевших бедствие или эскимосов не обнаружил. Он оставил мне подробный рапорт о своих находках и предложил встретиться к западу от острова Кинг-Вильям, где он доложит мне о дальнейших событиях. Мы покинули мыс Хершел, и с каждым днем следы местных жителей встречались все реже. Чуть дальше на запад они пропали совсем. Эта низменная часть острова Кинг-Вильям была совершенно лишена растительности. Дальше простирались многочисленные мелкие островки, а за проливом Виктория возвышались огромные непроходимые айсберги и торосы. Мы оказались в точке с координатами — 69°9′ северной широты и 99°27′ западной долготы, откуда направились к шлюпу, который обнаружил несколькими днями раньше лейтенант Хобсон. Шлюп предназначался для подъема по Большой Рыбной реке, после чего его бросили. Он насчитывал в длину двадцать восемь футов, а в ширину — семь с половиной. Конструкция его была очень легкой, но он был установлен на полозья из крепкого твердого дуба, весившие столько же, сколько сама лодка. Здесь же мы нашли множество различных вещей. На корме притаился под ворохом одежды иссушенный скелет; останки другого, над которым, видимо, хорошо поработали зубы животных, валялись неподалеку от лодки. Также мы обнаружили пять карманных часов, значительное количество серебряных ложек и вилок, несколько религиозных брошюр; но так и не разыскали ни бортовых журналов, ни другихбумаг, ничего, что могло бы назвать нам имя владельца. Два заряженных двухствольных ружья со взведенным курком так и простояли, видимо, у борта лодки одиннадцать лет, где их поставили последний раз хозяева, чьи бренные останки остались незахороненными. Здесь же находился немалый запас зарядов, тридцать — сорок фунтов шоколада, чай, табак. Некоторые из этих находок подобрал еще лейтенант Хобсон, остальное забрал я. Пятого июня я вернулся на мыс Виктори, не добыв больше никаких данных. Еще раз мы тщательно осмотрели обрывки одежды и блокнотов, в надежде напасть на новый след, но безуспешно. Вплоть до моего возвращения на корабль 19 июня (через пять дней после лейтенанта Хобсона) ничего примечательного больше не произошло. Мы убедились, что эскимосы не забредали на берега острова Кинг-Вильям между его северной и южной оконечностями и мысами Феликс и Крозье со времени пребывания здесь “Эребуса” и “Террора”, поскольку все предметы и хижины остались нетронутыми. Мы поняли, что если еще и можно обнаружить где-нибудь следы погибшей экспедиции, то только возле маленьких островов между мысами Крозье и Хершел. Двадцать восьмого июня на корабль вернулся капитан Янг. Как и его люди, он был в плачевном состоянии. Не был исключением даже лейтенант Хобсон. Нельзя сказать, что он хорошо себя чувствовал в начале похода, а вследствие усталости его совсем одолела цинга. Тем не менее он профессионально и честно выполнил свой долг; наши дела сами говорят о том, как мы были воодушевлены во время поисков. Наконец-то мы собрались вместе на борту судна. Обнаружилось несколько больных цингой, а потому корабельный медик применил усиленное лечение, и вскоре все мы пребывали в добром здравии. Во время стоянки в Порт-Кеннеди мы и так проводили двух товарищей в последний путь. Господин Джордж Брендс, инженер, скончался 6 ноября 1856 года от апоплексического удара, а 14 июня 1859 года от цинги умер Томас Блеквелл, прошедший немало арктических походов. Необыкновенная теплынь стояла в северных краях, и море чудесным образом было абсолютно свободным ото льдов; следовательно, 9 августа, мы начали путь на родину, и хотя из-за смерти механика и инженера мы остались только с двумя кочегарами, мне удалось тем не менее довести с их помощью пароход к мысу Фьюри, а затем, 27 августа, и в Годхавн. Первого сентября мы взяли курс на Англию. Этот отчет был бы неполным, если бы я не сказал о самых добрых чувствах, что я питаю к своим товарищам, офицерам и матросам, за усердие и чистосердечную помощь во время всего путешествия. Чувство глубокой преданности леди Франклин и твердое желание сделать все, что только может мужчина, — вот две движущие силы, что вели нас через тернии и помогали преодолевать препятствия. С меньшим энтузиазмом и дисциплиной столь небольшой коллектив, всего двадцать три человека, никогда не достиг бы такой трудной, но великой и благородной цели».
Храни, Господи, покой усопших в последней небесной гавани. 1855
ДОКТОР ХЕЙС
Наступил 1860 год. Иссякли мотивы, побуждавшие многочисленных путешественников к подвигам в Арктике. Северо-западный проход, открытый Мак-Клуром, признали абсолютно непроходимым. Развеялись последние сомнения по поводу участи экспедиции Франклина. И все-таки путешественники не потеряли вкуса к исследованиям северных краев. Только теперь начался новый этап. Рожденные чисто коммерческими интересами, продолженные из человеколюбия, изыскания стали преследовать только географические, а точнее, просто научные цели, поскольку не одна география лежала в их основе. И отважные искатели приключений решительно бросились на поиски пути, который рано или поздно привел бы их к Северному полюсу. Грандиозная мысль дойти до полюса без всяких побочных целей первым осенила американца Хейса, хирурга из военно-морского госпиталя. Хейс сопровождал в 1853 году доктора Кейна в поисках сэра Джона Франклина; и во время этой тяжелой, но блестящей экспедиции ему пришла в голову изящная гипотеза о совершенно свободном ото льдов океане вокруг полюса. Естественно, гипотеза опиралась на довольно серьезные и правдоподобные предположения, которые и должны были подтвердить или опровергнуть горевшие огнем священного стремления к истине исследователи. И доктор Хейс сказал себе, что если уж действительно океан вокруг полюса не замерзает, если здесь существует свободное море, окруженное грандиозным ледяным барьером, выдержавшим столько дерзких атак, то нужно непременно туда дойти, и если это окажется правдой, то плавание по полярному морю превратится в обычное путешествие и полюс будет завоеван. Доктор Хейс попытался проверить верность своей гипотезы в восхитительной кампании, о ходе которой мы расскажем ниже. Предыдущее путешествие убедило его, что путь через пролив Смит, по которому пошел доктор Кейн, самый перспективный. Он надеялся достигнуть восьмидесятой параллели на корабле, затем выгрузить на лед лодку с полозьями и эскимосских собак, а потом, если повезет, спустить лодку на чистую воду, чтобы продолжить путь к полюсу. В общем — повторение идеи Парри, только предназначалась она теперь для завоевания полюса. После немалых осложнений и трудностей доктору Хейсу удалось наконец собрать по подписке необходимые на его проект средства и оснастить шхуну «Юнайтед Стейтс» («Соединенные Штаты»). На палубу небольшого суденышка водоизмещением всего в сто тридцать три тонны, в сущности, ореховой скорлупки, поднялись одиннадцать отборных матросов, капитан, писарь, помощник-астроном, а также врач Август Зонтаг, также бывший спутник доктора Кейна, — всего пятнадцать человек. Шхуна вышла из Бостона 16 июля, 30 числа того же месяца пересекла Полярный круг и 12 августа вошла в бухту Упернавик. Благодаря содействию датского управляющего доктор Хейс приобрел здесь одежду, приспособленную к холодным климатическим условиям, взял на борт собак, нанял троих местных охотников — крещеных эскимосов: Петера, Марка и Якоба, переводчика Петера Янсена и двух матросов-датчан — Эмиля Ольсурга и Кристиана Петерсена. «Теперь, — говорил доктор Хейс, — нам предстоит борьба не только со льдом всех видов под самыми различными названиями — айсбергами, паковым, флоу[83], но и с течениями и ветрами, пришедшими со всех сторон света, чтобы столкнуться и смешаться в центре Баффинова залива. Здесь простирается огромный “срединный пак”, который все мореплаватели и китобои, идущие в “северные воды”, то есть за проливы Смит, Джонс и Ланкастер, вынуждены огибать с востока, вполне довольные, если один раз из двух их не останавливает смычка ужасного пака с прибрежным льдом, заполняющим в то же время залив Мелвилл. На карте берега этого залива выглядят простой кривой, вырисованной побережьем Северной Гренландии, но моряки понимают все несколько иначе, чем географы. Под заливом Мелвилл они имеют в виду восточную часть Баффинова залива, которая начинается на юге с появлением “срединных льдов”, а кончается с выходом на “чистую воду”; поверхность моря, не скованного льдом, обозначаемая ими этим термином, почти не распространяется к югу дальше 72-й параллели, чаще всего она находится севернее. Что касается гигантского ледового плота пака или “срединных льдов”, все время пребывающего в движении с различной скоростью и направлениями, то он вполне может простираться и до самого Полярного круга». Можно представить из этого заимствованного описания, какие трудности поджидали путешественника с самого начала. Во время всего плавания не утихали страшные бури, бросавшие льдины друг на друга; ужасный грохот разбивавшихся льдин постоянно сопровождал маленький кораблик, того и гляди угрожая его распылить. В течение недели все думали, что вот-вот это произойдет, но затем потрепанная шхуна нашла все-таки пристанище в бухте Хартсен, где плотный паковый лед запер лодку на долгую зимовку. Доктор Хейс назвал это место Порт-Фулке в честь господина Уильяма П. Фулке, самого усердного покровителя экспедиции. Нет нужды описывать зиму, проведенную среди льдов, поскольку подобные зимы неизбежно сопровождают любую арктическую экспедицию и все они практически одинаковы; но эта зима оказалась последней для доктора Зонтага. Несчастный молодой человек во время санного похода упал, к своему несчастью, в воду и, простудившись, умер, несмотря на весь опыт его спутников-эскимосов, пытавшихся вернуть доктора к жизни. Хейс с нетерпением ждал того часа, когда можно будет возобновить путь к Свободному морю на собаках. Железную лодку длиной двадцать четыре фута, предназначенную для дальнейшей дороги к полюсу, прочно закрепили на санях. В феврале начало выглядывать солнышко и вроде чуть-чуть потеплело, поэтому все торопились поскорее подготовиться к отправлению. Но зима в этих краях не только жестока, но и капризна. Ожидание продлилось до 3 апреля. Экспедиционный отряд состоял из трех саней и двенадцати человек, американцев и эскимосов. Поход по резким перепадам ледяной поверхности был очень трудным. Уже в первый день несколько человек совершенно обессилели и скорчились от холода; один из них с отрешенной невозмутимостью смертника сказал Хейсу: «Вы же видите, доктор, — я превратился в сосульку!» В самом Деле, его пальцы и уши стали белыми, словно восковые свечи. Беднягу нещадно растерли, а затем заставили под присмотром двух матросов сделать форсированный марш, чтобы он избавился от остатков онемения и всяческих мыслей о смерти. Обескураживающее начало! Впрочем, Хейс нисколько ничему не удивлялся, ничто не поколебало его решимости. Он приказал вырыть в снегу берлогу, отопить ее спиртовой лампой, и вскоре больные почувствовали себя лучше. Целых шесть дней пурга продержала путешественников в этой норе длиной пять с половиной метров, шириной — два и глубиной — четыре! Десятого апреля маленький отряд возобновил свой путь, извивавшийся то вправо, то влево, то вверх, то вниз; вынужденный то и дело останавливаться, он с трудом преодолел за день четыре километра; затем дорога стала вообще неописуемой. Пролив Смит превратился в сплошной хаос из ледяных глыб, нагроможденных в огромные скопления торосов с острыми вершинами и неровными кручами! Едва ли удавалось пройти хоть метр по ровной поверхности. Хейс, отчаявшись пробиться через беспорядочные завалы, приказал скрепя сердце поворачивать. И сотне человек не по силам было бы справиться с таким заданием! Прощай мысль о плавании по Свободному морю! У доктора осталось единственное желание — добраться до Земли Гриннела[84] с тем количеством провианта, которым он располагал, и беречь людей, чтобы они как можно дольше оставались на ногах. Но и с этим проектом пришлось распроститься. 27 апреля он отправил обратно на корабль свой отряд, решив идти дальше лишь с тремя матросами и собаками. Только 11 мая, после пятнадцати потерянных во время перехода через пролив Смит дней, Хейс выбрался на Землю Гриннела. Когда он сравнивал свое местонахождение и свои желания, его сердце нисколько не переполнялось ликованием. К тому же широкая брешь в запасах провианта, сделанная собаками, которым пришлось давать больше пищи, чем обычно, чтобы они не сдохли от тяжкого труда, так уменьшила его ресурсы, что он уже не мог рассчитывать на дальнейшие исследования. Прожорливые зверюги ели более чем вдвое против принятого в таких путешествиях. Ничто не ускользало от их жадных клыков. Если бы не принятые меры, они съели бы и упряжь. В довершение всех бед один из трех человек, оставшихся с Хейсом, Йенсен, оступился на льду и растянул связки так, что вскоре ему стало трудно идти. Его состояние все ухудшалось, и Хейс решил оставить его на попечение Мак-Дональда и продолжать путь вдвоем с Кнорром. Осуществив эту комбинацию, Хейс бесстрашно устремился напролом через ледяной ад, чтобы сыграть последнюю партию. Он хотел теперь пройти настолько далеко, насколько позволят его мизерные ресурсы, достигнуть наиболее высокой точки и выбрать благоприятное место для наблюдений, чтобы сформулировать окончательное мнение о Свободном море и об ускользающей — увы! — надежде спустить когда-нибудь на полярные воды корабль или хотя бы лодку. В мае он находился уже севернее, чем лейтенант Мортон из экспедиции Кейна в середине июня 1854 года, и на том же расстоянии в сто или сто десять миль от точки напротив мыса Конституции. Еще два дня пути, и он оказался перед так глубоко врезавшимся в берег заливом, что решил пересечь его по льду, а не идти по извилистой линии побережья. Но едва он прошел несколько километров, как его сани резко остановились. Собаки, предупрежденные безошибочным инстинктом об опасности, встали как вкопанные, отказавшись идти вперед. Доктор прекрасно понял, что необыкновенное упрямство четвероногих друзей означает плохое состояние льда. Желая разыскать проход, Хейс взобрался по скалистым выступам на высоту около двухсот пятидесяти метров над уровнем океана. Повсюду — ледяной хаос! Только середину залива рассекала трещина, которая расширялась в сторону моря. Вдалеке отсвечивал мертвенной белизной высокий мыс — самая северная суша, когда-либо обнаруженная цивилизованными людьми. И наконец за ее скалистыми выступами ошеломленный и обрадованный Хейс увидел море! Свободное море разлеглось бескрайней ширью, испещренной белыми и темными пятнами, обозначавшими те места, где лед полностью растаял. У горизонта пятна смешивались, превращались в черновато-синюю полоску и растворялись в небесном своде, где отражались его воды. «Все свидетельствовало о том, что я дошел до полярного бассейна. Океан дремал у моих ног! Земля, на которой я стоял, заканчивалась на севере мысом, что вырисовывался перед моими глазами. Лед вдоль берегов вскоре исчезнет; не пройдет и месяца, как море освободится от чего, как и северные воды моря Баффина, и только кое-где останется подтачиваемый течениями припай. Я достиг своей цели. Мне оставалось только поднять флаг и построить пирамиду из камней, как доказательство моего открытия. И вот над искусственной возвышенностью взвился американский стяг! Затем я написал на листке из блокнота следующие строчки: “Здесь, в самой северной, какую до сих пор смогли достигнуть люди, точке побывали после путешествия на санях, запряженных собаками, Ф. Джордж Кнорр и нижеподписавшийся. Мы добрались сюда после тяжелейшего сорокавосьмидневного марша от места зимовки нашей шхуны у входа в пролив Смит возле мыса Александер. По моим наблюдениям, мы находимся на восемьдесят первом с тридцатью пятью минутами градусе северной широты и семидесятом с половиной градусе западной долготы[85]. Непрочный лед и трещины препятствуют дальнейшему продвижению. Похоже, пролив Кеннеди переходит в Полярный океан. Я убежден, что он вполне судоходен, по меньшей мере в июле, августе и сентябре; потому я возвращаюсь к месту зимовки, чтобы попытаться провести корабль после того, как лето растопит льды.Без промедления первопроходцы отправились в обратный путь. Приближение весны, быстрота таяния льда, уверенность, что море отвоевало уже немалые пространства как к югу, к Баффинову заливу, так и к северу, к проливу Кеннеди, — все заставляло Хейса поторапливаться, чтобы успеть вовремя возвратиться в Порт-Фулке. Но вскоре их застигла страшная буря. Собаки настолько изнемогли, что не чувствовали ударов кнута. С большим трудом они дотащили сани до лагеря, в котором оставались Мак-Дональд и вполне оправившийся после болезни Йенсен. Уже вчетвером они пошли дальше и вернулись в беспорядочное царство ледяных глыб. К великому счастью, ветер не успел замести следы их продвижения на север, поэтому они легко нашли маленькие склады с провиантом, отмеченные вехами. Наконец появился берег Гренландии, и путники опознали издалека утес, что высился по соседству с Порт-Фулке. Лед в проливе Смит показался прочным, и они направились по нему к утесу. В двух километрах от суши они встретили трещину, но успешно переправились через нее. Но уже совсем близко от цели вода преградила путь, и пришлось возвращаться обратно. К их великому удивлению, смешанному с ужасом, перейденная ими трещина быстро расширялась, превращаясь в разлом! Она достигала уже ширины двадцать метров! И несчастные путешественники оказались на льдине, дрейфующей в сторону открытого моря! К счастью, только один ее край двигался довольно быстро, другой же почти стоял на месте. Небольшой айсберг, зацепившись за мель, образовал как бы ось, вокруг которой вращалась льдина. Во время этого вращения она неизбежно должна была соприкоснуться с землей. Путешественники поспешили к этой точке. И вот случилось то, чего они так ждали. В момент столкновения они быстро перескочили на сушу. Умиравшей от голода и усталости четверке людей со стертыми ногами жестокий переход по суше показался бесконечным. И все-таки они шли, как бы обретя второе дыхание. Третьего июня они вернулись в Порт-Фулке. После нескольких дней отдыха Хейс приступил к внимательному осмотру судна, который разрушил все его надежды на новую кампанию в проливе Смит. Измочаленная льдами обшивка и износившийся такелаж[86] предлагали одно: скорее возвращаться в Штаты. Там Хейс мог бы снова экипироваться, пополнить запасы, а может, и получить в свое распоряжение пароход, чтобы предпринять новую попытку, которую, несомненно, облегчит накопленный опыт и сделанные наблюдения. Четырнадцатого июля шхуна снялась с якоря и вернулась в Баффинов залив. В Упернавике нежданная весть, словно гром среди ясного неба, поразила Хейса — его родину разрывала гражданская война. На траверсе[87] Галифакса[88] он получил сообщение о кровавой битве возле Бул-Ран[89]. «Тогда, — сказал он, — у меня не осталось места для сомнений: прощайте, мои планы и мечты! Немедля я написал президенту Линкольну о том, что вверяю в его распоряжение судьбу своего бедного корабля и команды». Шхуна превратилась в канонерку береговой охраны. Хейс, назначенный военным хирургом первого класса, до конца войны командовал полевым госпиталем в федеральной армии…И. И. Хейс”».
ГЛАВА 5
Лейтенант Пайер. — «Тегеттхоф» во льдах. — Английская экспедиция капитана Нэрса. — «Алерт» и «Дискавери». — Что стало со Свободным морем доктора Хейса.Бравые офицеры австрийских военно-морских сил, господа Юлиус Пайер[90] и Карл Вайпрехт[91], уже попытавшие счастья в северных водах, предложили новый проект большой полярной экспедиции. Случилось это в 1872 году. В идеале они хотели открыть путь к полюсу, но более практической целью путешествия являлось исследование морей и земель к северо-востоку от Новой Земли, при случае они рассчитывали пройти этим путем к Берингову проливу. Правительство предоставило им «Тегеттхоф»[92], прекрасный корабль водоизмещением в двести двадцать тонн с паровой машиной мощностью в сто лошадиных сил, великолепно приспособленный к плаванию, которое ему предстояло. Сначала он должен был идти под парусами, дабы поберечь уголь, необходимый для преодоления сопротивления паковых льдов. На борт поднялись двадцать человек, не считая восьми собак, предназначенных для санной упряжки. К сожалению, корабль ожидала плачевная участь. Он вышел из Бремерхафена и уже 20 августа к северо-востоку от Новой Земли попал в ледовый плен, из которого ему не суждено было вырваться! Итак, экспедиция застряла в точке с координатами: 76°22′ северной широты и 62°3′ восточной долготы. Вскоре огромный ледовый массив, сковавший корабль и его команду, под давлением льдов и воздействием течений начал медленный дрейф на север, что стало характерной чертой этого тяжелого и неудачного похода. 2 октября «Тегеттхоф» вместе с окружавшими его ледяными глыбами пересек 77-ю параллель. Для зимовщиков началась жизнь, полная страхов, которые удваивали усталость и тревогу и удесятеряли безжалостность стихии. По меньшей мере один раз в день, а вернее — каждые двенадцать часов, поскольку полярная ночь окутывает мраком эти края, сжатие льдов, такое же мощное и неожиданное, как землетрясение, приводило в движение поверхность паковых льдов. Лед грохотал, гремел, лопался и трещал с диким и чудовищным шумом. Бывали моменты, когда торосы, сдавленные со всех сторон, громоздились друг на друга, угрожая раздавить корабль то справа, то слева, то спереди, то сзади; порой образовывались огромные трещины, где плескались волны, готовые поглотить все и вся. Когда наконец судороги ледяного поля стихали, наступал более или менее продолжительный период затишья, после которого стихия разыгрывалась с новой силой. Людям грозила опасность оказаться раздавленными вместе с судном или утонуть в случае эвакуации, поэтому они построили просторный снежный дом и постепенно приспособились к своему двойственному положению, полному непрерывных тревог. Они установили в нескольких местах склады с провиантом, тщательно упаковали инвентарь и держали сани наготове; день за днем протекал в напряжении и ожидании — моряки переходили то с корабля в дом, то обратно, а иногда покидали и тот и другой, чтобы спасти свое имущество; в любую минуту они могли бы отправиться по арктической пустыне в путь, конец которого никто не смог бы предсказать. И сверх всего — жестокий мороз. Разница температур между внутренними помещениями корабля, где постоянно горела печка, набитая углем, и наружным воздухом достигала порой 80°. Стоило только открыть дверь, и в каюты врывался вихрь белесого пара; вошедшего окружало настоящее облако, и если падала хоть капля воды, она моментально превращалась в лед даже около печки. Если вошедший приносил книгу и тут же открывал ее, то со страниц валил дым, словно они горели. Иногда верхний слой воздуха в отсеках разогревался сверх меры; тогда моряки, если позволяла погода, раздраивали люк, который вел на верхнюю палубу, и воздух устремлялся в небо, словно столб дыма из печной трубы, постепенно растворяясь в холодной атмосфере. Двадцать второго января судороги прошли по ледяному полю, вся его масса настолько резко раскололась, и притом по всем направлениям, что путешественники уже решили: настал их последний час. Но вот вернулись тишина и спокойствие; а несколько часов спустя все вокруг опять грохотало и гремело, отдаваясь в корпусе корабля, как в деке музыкального инструмента. Снова вахтенный офицер поднял тревогу: «Свистать всех наверх!», и снова все вскочили, похватали рюкзаки и ружья и без оглядки высыпали на палубу. Девятнадцатого февраля на минутку выглянуло растерянно-бледное солнышко. Корабль, по-прежнему дрейфуя, находился уже на семьдесят восьмом с четвертью градусе северной широты. Солнце только наполовину показалось из-за горизонта, но тем не менее его ласковые лучи наполнили надеждой исстрадавшиеся сердца несчастных зимовщиков. Немного света — то было возвращение к жизни! Еще чуть-чуть, и наступило, принеся свои «прелести», лето — самая неправдоподобная изнанка заполярной зимы. Во-первых — всепроникающая, вездесущая сырость, которая портит все ржавчиной и плесенью; во-вторых — невероятный избыток такого долгожданного света, вызывающего опасные воспаления глаз. Лето напролет моряки прилагали титанические усилия, чтобы освободить судно. Они пустили в ход все, что только могли: кирки, топоры, пилы, слабые человеческие руки, неотразимую силу пороха… Но увы! Их усилия были тщетны. Тем временем ослабевший в феврале дрейф снова набрал силу. 19 августа «Тегеттхоф» находился в точке с координатами 79°29′ северной широты и 61°31′ восточной долготы. Вскоре продвижение на север еще ускорилось. Тридцатого августа раздался вдруг крик марсового: «Земля!» В мгновение ока все оказались на палубе, даже больные вскочили, словно подстегнутые этим криком. То был день важнейшего открытия в Арктике. Суша, так неожиданно появившаяся перед изумленными путешественниками, тут же получила от главы экспедиции имя его государя и стала называться Землей Франца-Иосифа. В конце сентября «Тегеттхоф» оказался на широте в 79°58′ — самой северной, что ему удалось достигнуть вместе с льдиной. И австро-венгерская экспедиция во второй раз зазимовала во мраке полярной ночи. Стояли жестокие холода. Порой температура опускалась ниже 38° по Реомюру (минус 47,5° по Цельсию). Но постоянные подвижки льдов на этот раз уже меньше тревожили моряков. К несчастью, в зиму 1873 / 74 годов вовсю разыгралась цинга. В 1874 году солнце появилось 24 февраля. К сожалению, возвращение света омрачилось глубоким трауром. Механик Криш, стоически переносивший ужасные страдания, умирал от цинги. Десятого марта лейтенант Пайер отправился на санях по вновь открытым землям в сопровождении шести человек и трех собак. Трескучий мороз достигал минус 40° по Реомюру, или минус 50° по Цельсию. «Наш великолепный ром, — вспоминает лейтенант Пайер, — потерял свое сногсшибательное действие; на наши глотки он производил теперь не большее впечатление, чем молочная сыворотка. Хлеб стал твердым как кирпич, а потому десны и язык начинали кровоточить вскоре после начала еды. Если кто-нибудь решался закурить сигару, то она быстро гасла от соприкосновения с ледяными иголками длиной в дюйм, что покрывали наши бороды; что касается трубок, то даже самые маленькие промерзли до самой сердцевины… Принято считать, что тепло делает человека вялым и ленивым, в то время как холод закаляет и возбуждает. Но это утверждение никак не относится к полярному морозу. Если он что и возбуждает, то только пассивность. Человек словно пьянеет; челюсти немеют, будто их сводит, и каждое слово дается ценой большого усилия. Движения становятся неуверенными, ощущения притупляются, как у сомнамбул. Даже полярные животные большей частью стараются избежать, насколько возможно, самой жестокой стужи, они или мигрируют, или зарываются в хорошо защищенные берлоги, где погружаются в зимнюю спячку. Даже рыбы, которых можно встретить в маленьких пресноводных озерцах у побережья, полностью промерзают вместе с водой и отходят от оцепенения только во время оттепели. При всем при том воздух приобретает необыкновенную сухость; табак сам по себе крошится на мелкие частички; все это не мешает непередаваемому ощущению постоянной сырости, происходящему от тончайшей снежной пыли, с тихим своеобразным шумом наводняющей светящийся воздух… Дерево становится столь плотным, что строгать его так же трудно, как кость. Масло, стремящееся растаять в тропиках, становится твердым, как кремень. Мясо не режется, только рубится, а его волокна смахивают на деревянные; ртуть же хоть в ружье заряжай вместо пули… Даже веки покрываются во время сна ледяной корочкой, и приходится долго растирать глаза, прежде чем их открыть. При 30° по Реомюру (минус 37,5° по Цельсию) испарений от глаз вполне достаточно, чтобы защитные очки помутнели и покрылись инеем, словно окошки в домах… Европейцы плохо переносят полярные морозы. Нос, губы и руки в конце концов распухают и покрываются как бы еще одним кожным покровом, который трескается и при малейшем ветерке нестерпимо болит. Иногда, стоит только не уследить, как нос и руки после обморожения приобретают фиолетовый оттенок, от которого не избавляют самые усиленные растирания; необычайная чувствительность пораженных частей тела даже через многие годы дает о себе знать во время изменений погоды. Самая невыносимая пытка Арктики — жажда. Многие пытаются ее облегчить с помощью снега; но это плохой способ, так как в результате воспаляется язык, гортань, болят зубы, начинается понос. Лекарство оказывается мнимым. При температуре от 30° до 40° по Реомюру (от минус 37° до 50° по Цельсию) снег производит во рту эффект расплавленного металла и увеличивает жажду за счет воспаления затронутых им слизистых оболочек. Даже эскимосы предпочитают переносить самую жестокую жажду, чем утолять ее снегом». Не успев вернуться из первой санной вылазки, лейтенант Пайер уже задумал новый поход, на этот раз — на север. 25 марта экспедиция из семи человек и трех собак вышла в дорогу. Сначала путешественники обследовали остров Вильчека, затем крупный массив, самый восточный из видимых островов, которому они дали название Земли Вильчека. Они открыли остров Колдвей, мыс Франкфурт, остров Хэлл, возвышенность Вуллерсторф, до того безымянные, затем мыс Ганза и пролив Маркем; они дошли до широты 80°42′. Утром 10 апреля чуть не произошло несчастье, которое могло стоить жизни некоторым участникам экспедиции: сани провалились в трещину. По небывалой, но счастливой случайности сани зацепились на глубине в сорок футов за карниз; собаки повисли на постромках, матрос, управлявший санями, чудом остался цел и невредим. Лейтенант Пайер и его спутники бросились на помощь; все были спасены, но ценой тяжелейшего труда и острой тревоги. Двенадцатого апреля отряд вышел к самой северной точке суши. Согласно обычаю, моряки составили меморандум, запечатали его в бутылку и спрятали в скальной расселине. Этот документ должен был подтвердить, что лейтенант Пайер и его товарищи вышли на мыс Флигели, находящийся на восемьдесят втором градусе и пяти минутах северной широты. Возвращение оказалось нелегким. Людям, изнуренным семнадцатидневным маршем и перенесшим две арктические зимовки, предстояло найти «Тегеттхоф», пребывавший в постоянном дрейфе вместе со льдом. «…Еще несколько сотен шагов, и дорога вдруг исчезла! Перед нами, на сколько хватало глаз, плескались волны свободного ото льдов моря. Удручающий пейзаж! Айсберги и торосы, через которые мы с таким трудом пробирались всего месяц назад, удалились неизвестно куда, повинуясь течениям и дрейфу. Кто знает, нет ли среди них той льдины, где мы оставили склад с провиантом? Что делать? Мы оказались без лодки, без продуктов, в пятидесяти пяти милях от “Тегеттхофа”. Даже если мы съедим собак, наш последний запас на самый крайний случай, то все равно не продержимся больше недели. Как спастись? В какую сторону двигаться? Направо — никакого смысла. Морская гладь протянулась от оголенных рифов острова Хейса до входа в пролив Маркем. Осталось только искать счастья на ледниках Земли Вильчека, простиравшихся слева по курсу. Нас страшно занимал вопрос: что за ними? Крепок ли лед к югу от этой земли? В довершение всех бед на нас обрушилась снежная буря, и поход продолжался в ослепляющем метельном вихре, затруднявшем видимость и дыхание, под зловещий шум моря, кипевшего рядом. Наконец, умирая от голода, холода и усталости, мы добрались до первых отлогих склонов ледника, где и поставили палатку. Все так вымотались, что повалились спать на голодный желудок». Двадцать второго апреля после десятидневного марша лейтенант Пайер вышел в одиночку на поиски «Тегеттхофа», находившегося еще в двадцати пяти милях. К счастью, корабль остался на прежнем месте. Иначе не миновать бы ему и его спутникам смерти! И какой ужасной смерти! Не желая подвергаться опасностям третьей зимовки, лейтенант Пайер решил покинуть судно и, как только начнется вскрытие льдов, отправиться на поиски чистой воды, погрузив шлюпки на сани. Оружие, провиант, медикаменты и одежду тщательно упаковали и закрепили; судовые документы и бортовые журналы, как драгоценные сокровища, укрыли в жестяном ящике; 15 мая путешественники почтили память механика Кирша, навестив его могилу на берегу. Двадцатого мая моряки накрепко прибили флаги к мачтам «Тегеттхофа», последний раз отобедали на палубе и со слезами на глазах попрощались с кораблем. Дорога не предвещала ничего хорошего. В первый день отряд прошел одну милю! Паковый лед под совместным действием первого тепла и последних холодов стал малопригодным для передвижения как саней, так и лодок. Приходилось то и дело возвращаться, искать новые пути, лавировать, превращать сани в шлюпки, чтобы пересечь полынью, затем опять ставить лодки на полозья и, если позволяло состояние льда, тянуть, тянуть из последних сил… Третьего июня прошел слабый дождик, что было признаком близкого вскрытия льдов. Наконец 17 июня моряки спустили лодки на воду и, взяв сани на буксир, медленно то под парусами, то на веслах двинулись к югу. 20 июня — мертвый штиль. 25-го — смешанный путь, то есть наполовину по воде, наполовину по льду. 27-го — определение широты показало: 79°41′! За двадцать три дня экспедиция сместилась к югу всего на пять минут![93] 1 июля целый день ушел на переправу через трещину. За три дня пути они преодолели всего минуту! 3 и 4 числа путешественники окончательно поняли, что встречный дрейф отнес их к тому месту, где они находились три недели назад! После двух месяцев тяжелого труда отряд оказался всего в тридцати километрах от корабля! Стойкий южный ветер и течения сводили к нулю самые самоотверженные усилия. Восемнадцатого июля дождь снова подал надежду на полное разрушение льда. Ветер, переменившись на северо-восточный, оказал морякам мощную поддержку. Полыньи расширялись. Дожди продолжались, и движение вперед изнуряло все больше. Несмотря ни на что, проклятый пак все еще держался! К 13 августа экспедиция все еще находилась на широте 77°58′. По утрам сильно подмораживало. Если лед окончательно не растает, путешественникам придется опять зимовать и на этот раз в еще более суровых и ужасающих условиях. К счастью, 14 августа потеплело. Вечером 15-го, в день Успения Богоматери, зловредные льды разошлись и маленькую флотилию окончательно спустили на воду, а сани за ненадобностью бросили. Утром 16 числа поднялся свежий северный бриз, который настолько ускорил плавание, что уже к полудню завиднелись острова Новой Земли. Не осталось ни льдинки вокруг; 1874 год ознаменовался невиданным отходом многолетних льдов к северу, что, по всей видимости, и спасло экспедицию лейтенанта Пайера. Восемнадцатого августа, в полночь, при свете солнца, первый раз после короткого лета коснувшегося горизонта, моряки высадились на берег к югу от Черного мыса. Они упивались зрелищем цветов и зелени тундры, которых не видали два с половиной года. На следующий день они добрались до мыса Черницкого (74°21′ северной широты) — излюбленного места зимовки русских судов, частенько подходивших к берегам Новой Земли. 21 августа налетела буря, грозившая потопить шлюпки вместе с неустрашимыми экипажами. Войдя в пролив Маточкин Шар, моряки возвели на откосе у входа в залив Ортодокс пирамиду из стволов деревьев и камней, куда поместили меморандум об экспедиции на случай своей гибели — чтобы остался хоть какой-то след. Шансы на спасение и в самом деле значительно уменьшились. Не оставалось сомнений, что европейские рыболовные суда уже покинули высокие широты из-за наступавшей осенней непогоды. Двадцать четвертого разразился страшный шторм; шлюпки вынесло далеко в открытое море. Моряки решили, что пробил их час! Буря разметала скорлупки в разные стороны, и когда они сошлись вновь, то вдруг оказалось, что их не четыре, а… пять! К ним добавилась еще одна, совсем небольшая, с двумя гребцами на борту. То были бравые русские матросы, гостеприимные и приветливые, с рыболовецкого судна «Николай», что стояло на якоре за мысом Бритвина. Так к команде «Тегеттхофа» пришло спасение. Капитан «Николая» Федор Воронин тепло принял австро-венгерских моряков и отвез их в небольшой порт на северном берегу Лапландии Вардё. 5 сентября Пайер, Вейпрехт и их бесстрашные товарищи поднялись на борт почтового пакетбота, шедшего курсом на Гамбург, откуда по железной дороге они вернулись в Вену.
КАПИТАН НЭРС[94]
После открытия Мак-Клуром непрактичного северо-западного прохода, а особенно после того как Мак-Клинток разыскал останки экспедиции Франклина, англичане, казалось, потеряли всякий интерес к полярным путешествиям. Однако пример немцев, австрийцев, а главное — американцев, пославших в Арктику одного за другим «Германию», «Ганзу», «Тегеттхоф», «Юнайтед Стейтс» и «Поларис», расшевелил в конце концов и британцев. Инициатива исходила от Лондонского географического общества, которое сочло своевременным начать новую полярную кампанию, создав для нее самые благоприятные условия, на отличных кораблях с отменными экипажами и санями и сверх того — под командованием достойнейших капитанов. Вняв голосу почтенного ученого сообщества, лорд Биконсфилд[95] охотно уступил и организовал экспедицию из двух кораблей, которым поставил задачу продвинуться как можно дальше к полюсу. Адмиралтейство остановило свой выбор на двух великолепных военных кораблях: «Алерте» («Тревога») и «Дискавери» («Открытие»), а командование доверило капитану Нэрсу — одному из тех настоящих профессионалов, которые составляют гордость нации. На мостик «Дискавери» поднялся капитан Стефенсон, достойный коллега главнокомандующего экспедицией. Корабли вышли из Портсмута 29 мая 1875 года и, несмотря на противодействие трех свирепых штормов, подошли 25 июня к мысу Фарвель. 4 июля они пересекли Полярный круг, а 6-го встали на якорь в заливе Ливли, вблизи Годхавна. Как видите, путем к полюсу снова был избран пролив Смит, который и раньше предпочитался англичанами и американцами. 15 июля экспедиция покинула Годхавн с трехгодичным запасом провианта, а также двадцатью четырьмя собаками и одним проводником-эскимосом. Двадцать второго июля 1875 года после недолгой задержки сначала в Прёвене, где капитан Нэрс взял в проводники эскимоса Ханса, бывшего спутника доктора Кейна, и сэра Мак-Клинтока, затем в Упернавике корабли вошли в Баффинов залив. 25 июля оба судна уже были в северных водах — им неслыханно повезло, когда всего за четырнадцать часов они преодолели барьер Срединных льдов. 28-го экспедиция устроила небольшой привал в Порт-Фулке, то есть там, где зимовал и куда с таким трудом добрался на маленькой шхуне доктор Хейс. Капитан Стефенсон провел рекогносцировку фьорда, а капитан Нэрс со своим помощником лейтенантом Маркемом обследовал остров Литлтон, возле которого погиб «Поларис», корабль несчастного капитана Холла[96]. Утром 29 июля «Алерт» и «Дискавери» вышли из Порт-Фулке с целью пересечь пролив и выйти к его западному побережью. Внезапная снежная буря раскидала корабли в разные стороны уже на расстоянии пятнадцати миль от мыса Изабелла; но появившиеся тут же льды не смогли воспрепятствовать им вновь соединиться и встать на якорь в бухточке у мыса Сабин, которой капитан Нэрс дал имя Пайера, мужественного командира «Тегеттхофа». Переждав три штормовых дня на этом безопасном рейде, экспедиция обогнула мыс Сабин, продвинулась еще немного вперед и укрылась в небольшом порту. Здесь перед путешественниками раскинулась цветущая долина, в которой изобиловала самая различная дичь, особенно мускусные быки. Затем они продолжили путь на север, но уже с опаской и большим трудом. 8 августа они оказались в свободных ото льда водах напротив мыса Виктория. Переход проливом Кеннеди был мучителен. Коренастый «Дискавери» на всех парах устремился вперед и обрушился мощным вертикальным водорезом на молодой лед, не устоявший перед неотразимыми ударами судна. На выходе из пролива — мыс Мортон; капитан Нэрс не преминул взобраться на него в ясную погоду и с шестисотметровой высоты внимательно осмотрел всю округу: земли, горы, протоки и судоходные фарватеры. Вскоре корабли отправились дальше, прошли в пролив Франклин и у его северной оконечности обнаружили просторную гавань, хорошо защищенную от вторжения льдов. Берег порадовал куда более богатой растительностью, чем район Порт-Фулке. Здесь водилось множество самых разных диких животных, в том числе и крупных. Удалось подстрелить девять овцебыков, что надолго обеспечило команды кораблей свежим мясом. Место сочли благоприятным во всех отношениях для зимовки «Дискавери». «Алерт» же направили на поиски убежища дальше на север. Командир экспедиции принял очень мудрое решение, обеспечивавшее в случае непоправимой аварии или невозможности освободить из ледового плена «Алерт» отступление к кораблю, оставшемуся южнее. Двадцать пятого августа «Алерт» расстался со своим другом «Дискавери», взяв курс на север. Корабль вошел в пролив Робсон, окаймленный с обеих сторон десятиметровыми ледовыми стенами, прорезанными тут и там отвесными скалами. 31 числа «Алерт» миновал мыс Шеридан, но вскоре льды сомкнулись и взяли его в плен на одиннадцать месяцев. Моряки измерили широту, которая оказалась равной 80°24′, то есть «Алерт» вышел на самую высокую широту, когда-либо достигнутую мореплавателями. По этому поводу моряки подняли национальный флаг и троекратным «ура» приветствовали еще одну победу древнего английского королевства. С 5 сентября начались в общем-то классические приготовления к зимовке, которые несравненно облегчались благодаря комфортабельным условиям военного судна. В первые дни октября глава экспедиции отправил в трех разных направлениях своих лейтенантов — Олдрича, Роусона и Маркема[97], с тем чтобы они оборудовали продуктовые склады, которые облегчили бы дальнейшие исследования. Первые морозы жестоко обошлись с теми, кто не привык к походам в Арктике и пренебрег необходимыми мерами предосторожности. В отряде лейтенанта Маркема троим матросам пришлось ампутировать отмороженные конечности. Вскоре прервалось всякое сообщение с «Дискавери». Солнышко распрощалось с отважной командой «Алерта»; началась беспросветная полярная ночь. С отцовской предупредительностью и заботой капитан Нэрс и доктор Колан строго следили за любой мелочью, касающейся гигиены, питания и одежды людей. Одежда заслуживает отдельного описания. Она состояла из следующего комплекта (перечисляю носильные вещи в том порядке, в каком они были надеты): толстая фланелевая фуфайка, кальсоны и шерстяные носки, рубашка из мольтона[98] с отложным воротником, широкий галстук из черного шелка, вязаный жилет, а поверх всего — куртка из грубого вяленого сукна, штаны из тюленьих шкур и войлочные башмаки. Кроме того, выходя на лед или на палубу, моряки надевали куртки из тюленьей шкуры или парусиновый плащ. Синий шарф укутывал шею; теплые рыбацкие чулки, валенки на толстой подошве, шерстяной шлем с кожаным верхом и подбитыми мехом ягненка наушниками, к которым легко прилаживалась накидка, — все это составляло обязательную форму одежды. А если температура опускалась ниже 35° по Цельсию, то моряки надевали на голову еще валлийский капюшон из шерсти или нерпичьего меха и накидку. И наконец, вахтенные наблюдатели, чтобы не окоченеть на посту, надевали поверх всех этих громоздких облачений еще и полный комплект одежды из замши. Часы и дни проходили в обычных для зимовщиков делах и заботах, перемежаемых ради поднятия боевого духа всевозможнымиразвлечениями и забавами. «Тридцать первого декабря, — вспоминает глава экспедиции, — тихо скончался старый год. По своей воле мы забрались в эти края, но, да простит нас Бог, нам хотелось, чтобы время проходило быстрее… Я заявляю со всей ответственностью, что никогда еще коллектив офицеров и матросов не переносил с такой стойкостью и бесстрашием тяготы долгой полярной ночи». И все-таки жуткая стужа наводила тоску. 24 января моряки зафиксировали показания термометра — минус пятьдесят с половиной градусов по Цельсию! Но, несмотря на то что мороз немилосердно драл за нос, экипаж, хорошенько смазав маслом лица, ежедневно совершал короткую прогулку по «авеню прекрасных дам», наблюдая за разраставшимся заревом на юге. 29 февраля показалось солнце, а 3 марта холод достиг небывалой силы — 58° ниже нуля! Капитан Нэрс имел приказ достичь наивысшей северной широты, и, как только погода несколько смилостивилась, он организовал небольшие экспедиции, дабы изучить будущий маршрут и облегчить, получив предварительный опыт, путь тем, кто вскоре отправится к полюсу. И вот 3 апреля, после возвращения отрядов, лейтенант Маркем отважился на труднейший прорыв через ужасающее скопище льдов по прямой линии от «Алерта» к полюсу. Так как эта дерзкая вылазка на север явилась высшим достижением полярной экспедиции под командованием капитана Нэрса, мы последуем сначала за лейтенантом Маркемом, а чуть позже вспомним об исследованиях, выполненных в то же время его товарищами с «Алерта», которые обошли на санях районы, прилегавшие к неподвижному судну. Заботясь о снаряжении, приспособленном к движению в конкретных погодных условиях, лейтенант Маркем придумал оригинальное решение проблемы усталости глаз от ослепляющего сверкания снежного покрова, не отказываясь, естественно, от защитных очков. Все члены отряда лейтенанта надевали во время переходов парусиновые плащи, предназначенные для защиты от снега, то есть препятствующие его скапливанию и таянию на одежде. Лейтенант приказал разрисовать все эти парусиновые полотна различными жанровыми картинками, которые веселили глаз, давали ему отдохнуть от снежного блеска, если человек сосредоточивал взгляд на спине идущего впереди. Каждый был волен украшать свой горб, как ему заблагорассудится, и экипаж вдоволь повеселился над элегантным стилем и богатым воображением авторов эпохальных композиций. Особенное воодушевление вызывали сюжеты о полярных медведях и ослах, изображенных в самых экстравагантных позах. Каждая сценка сопровождалась шутливой подписью на латинском или французском языке. Упомянем еще одну трогательную деталь, делающую честь тем, на чью долю выпала почетная и опасная обязанность водрузить английский флаг в глубине неведомого края земли. Никто и ни в чем не проводил никаких различий между офицерами и простыми матросами: все несли одинаковую нагрузку и питались одной и той же едой. Как те, так и другие спали под одним парусиновым слоем палатки; командиры и подчиненные одинаково стремились честно выполнить свой долг, твердо надеясь на успех своей миссии. Лейтенант Маркем и его первый помощник — лейтенант Парр с пятнадцатью товарищами отправились в путь на двух лодках-санях с запасом продовольствия на семьдесят два дня. Первый переход был непродолжительным — несколько человек, никогда ранее не впрягавшихся в тяжеленные сани, вскоре уже падали от изнеможения. А кроме того — тридцатишестиградусный мороз, скверная дорога, метель! В пять часов путешественники стали лагерем, преодолев всего шесть миль по прямой. Ночью — тоже не позавидуешь. Внутри палатки температура опускалась до 26° ниже нуля, и люди, зарывшись по уши в меховые спальные мешки, подвергались жестоким страданиям. «Сложнейшая операция по одеванию и раздеванию являлась одной из главных неприятностей нашего путешествия, — писал лейтенант Маркем в своем докладе. — Мы предпочитали всю ночь держать свои вещи в спальных мешках, но тщетно: к утру они промерзали так, что только с огромным трудом удавалось влезть в них обратно. Тяжелейшим делом оказалось также завязывать и развязывать шнурки на наших мокасинах, пальцы замерзали настолько, что почти потеряли чувствительность. Термометр то и дело зашкаливал за сорокаградусную отметку. Мы могли бы повторить слова адмирала Ричардса, который сказал, что его вещи стали словно жестяными, а наш повар то и дело жаловался, что соус карри похож на латунный брусок. За день мы с трудом преодолевали от шести до десяти миль. Ноги коченели и отваливались от холода. Люди жаловались на ночные боли в различных частях тела, а также на жажду, которую приходилось утолять только во время ужина; у всех имелась фляга из жести в чехле из шерсти, но напрасно мы держали ее на поясе, прижимая к телу, — вода все равно замерзала. В то же время строжайше запрещалось пытаться унять жажду снегом, что крайне небезопасно для здоровья. Прежде чем углубиться дальше на север, мы попытаемся рассказать без особых длиннот, как проходит день полярного путешественника, который тащит сани. Поскольку обязанности кока очень утомительны, то все выполняют их по очереди в течение суток. В конце дня почетная должность передается вместе с передником следующему дежурному, который с рассветом приступает к дополнительному нелегкому труду. Поднявшись раньше всех, он зажигает лампу, растапливает лед или снег для завтрака; затем он возвращается в палатку и не стесняясь вышагивает прямо по телам спящих товарищей, чтобы собрать с внутренней поверхности вышеназванной палатки влагу, которая сконцентрировалась за ночь и время от времени падает небольшими льдинками на специальное покрывало. Окончив эту операцию, к безмерному облегчению коллег, которых он топчет без всякой жалости, кок вытаскивает покрывало наружу, чистит его, встряхивает и укладывает на сани. После чего, собственно, и начинается приготовление завтрака: обычно повар приносит нам утреннее какао два часа спустя после своего подъема, то есть немного погодя после нашего вынужденного пробуждения. В сильный мороз мы завтракаем сидя, но не вылезая из спальных мешков; должно быть, со стороны это весьма забавное зрелище — пиршество фигур в серых капюшонах и шерстяных одеяниях. По центру палатки ставится мешок с сухарями; затем все вынимают ложки (единственное, что является здесь частной собственностью) и бросаются в атаку на какао. Ложки — этот драгоценнейший инструмент — мы, как правило, бережно носим в кармане или на шее. В это время повар режет пеммикан на кусочки; пока он варится в котле, мы молимся, а затем решительно одеваемся, обуваемся и скатываем спальные мешки. Наконец пеммикан готов и в одно мгновение исчезает в наших глотках; затем моряки скатывают палатку, впрягаются в сани и по команде: “рраз! два! трри! па-ашел!” экипаж трогается с места. И вот, плохо ли, хорошо ли, а скорее плохо, чем хорошо, мы идем вперед в нетерпеливом ожидании часа перекуса, состоящего из четырех унций сала, мизерного кусочка галеты и чашки горячего чая. После перекуса мы бы с удовольствием отдохнули, если бы холод не препятствовал дреме; к тому же вода никак не хочет закипать. Наконец чай подан, и мы делаем из него, так сказать, суп, и вот почему: сало разгрызть не легче, чем кусок гранита, и мы вынуждены размачивать его в чае! Оцените — каков коктейль! Вечером мы останавливались в разное время, но не раньше чем через десять — двенадцать часов пути. Выбрав более или менее удобное место, мы ставим палатку, а затем окружаем ее снежной стенкой высотой в три фута. И вот дом из парусины возведен; мы можем переобуться и внимательно осмотреть ноги — не отморожены ли они; в этом случае кровообращение немедленно восстанавливается, а к больным местам прикладывается корпия, смоченная глицерином. Как правило, мокасины и шерстяные носки смерзаются, и вынуть ноги из сапог стоит огромных усилий. Но настоящий водевиль начинается при надевании шерстяного нижнего белья — сколько отчаянных попыток делают матросы, чтобы влезть в обледеневшую и негнущуюся ткань, что удается только после долгих конвульсий и не без помощи товарищей! Упаковавшись наконец, приходится терпеливо ждать, пока тепло тела немного размягчит это одеяние, которое по праву заслужило у нас название “смирительного камзола”. Когда все эти мужественные люди комфортабельно устраиваются в спальных мешках (за исключением кока), начинается ужин, который состоит из пеммикана и чая. Затем моряки раскуривают трубки, начинается болтовня за предписанной уставом порцией грога. Это самое счастливое время суток, и я проклял бы всякого, кто попробовал бы отнять у человека, тянувшего целый день сани, его законную чашку разбавленного водой рома! В течение утомительной дневной работы алкоголь только повредил бы, но после ужина и в небольшом количестве — это великое благо! И вот, пока все прикладываются к грогу, покуривая, один из нас громко читает вслух, или же начинается всеобщая оживленная беседа, а то и пение; но пока мы болтаем, поем или слушаем чтеца, мы счастливы — нет ничего более радостного, чем этот короткий момент отдохновения перед сном. Частенько мы вспоминаем родину, добрую старую Англию, и мечтаем о том, что будем делать, когда судьба дозволит нам вернуться домой. И вот кок (опять этот несчастный дежурный!) приносит совершенно неописуемое покрывало: оно похоже на кусок дерева или, скорее, на железную глыбу, чем на “изделие" из овечьей шерсти. С превеликим трудом удается его развернуть, но растянуть — это совсем другое дело! Оно высится посередине, как палатка в палатке, и отказывается разравниваться, хоть убей. Наконец, к великому наслаждению путешественников, покрывало несколько смягчается… Вот так наше маленькое войско выступает по дороге к полюсу, ощетинившейся суровыми преградами в виде нагромождений торосов. Торосы — страшный враг. Чтобы пройти через них со скоростью улитки, приходилось использовать лопаты, кирки, мотыги, прогрызая узкие ущелья в ледовой каше. Враг номер два — снег, в который можно провалиться даже по грудь. В таких местах мы работали лопатами, освобождая путь для саней. Как говорит с поистине героическим весельем лейтенант Маркем, мы превратились в дорожных рабочих. Тем не менее мы относимся к копательным инструментам с настоящей нежностью. Не дай Бог потерять их — тогда мы не сможем идти ни вперед, ни назад. Наша жизнь зависит от нескольких кусков железа, насаженных на деревянные ручки!» Проходили дни, утомление и слабость все увеличивались; болезни набросились на маленький отряд. Двоих матросов одолела цинга. Они не только не могли тянуть сани, но и им самим приходилось помогать перебираться через невообразимые нагромождения льдин. Ужасная дорога! Как правило, переход в восемь — девять миль означал, что экспедиция продвинулась на полторы-две мили по прямой. Двадцать второго апреля лейтенант Маркем пересек 83-ю параллель, что не удавалось до него ни одному человеку. 27 числа занемогли еще двое людей. Мужественные матросы, несмотря на полумертвое состояние, все-таки тащились из последних сил, стараясь не быть обузой для товарищей. 28 числа отряд прошел всего полмили, и ценой каких усилий! К тому же вызывало тревогу резкое сокращение провианта. По всей видимости, экспедиция не выйдет на 85-ю параллель… и даже на 84-ю! 4 мая уже большая часть людей жалуется на боли в суставах. 6 мая на обоих санях уже по трое больных. Удается пройти всего четверть мили… Армия торосов сплотила свои бесчисленные ряды, превратившись в настоящую непроходимую возвышенность, пустыню из ледовых обломков, от маленьких до гигантских, величиной в пятьдесят футов. 9 числа всем стало ясно, что нужно отступать, — цинга затронула в той или иной степени всех членов отряда, а продуктов осталось меньше половины. 10 мая моряки находились на восемьдесят третьем градусе, двадцатой минуте и двадцатой секунде северной широты. «Итак, — пишет Маркем, — мы возвращаемся! Бог свидетель, мы выполнили свой долг. Поэт сказал: “Дерзнув, я сделал все, что в силах человеческих. Кто сможет больше?”» Возвращение было страшным, и все-таки, несмотря на все несчастья, настроение людей оставалось превосходным. А между тем «из тридцати четырех ног только одиннадцать были работоспособными, и еще несколько едва ковыляли». 26 числа, на тринадцатый день отступления, разразилась метель, еще уменьшив скорость передвижения измученных людей. Каждый день, каждый час дорогого стоил — рацион таял; потеплело, и передвижение саней стало еще более трудным. Под мягким пористым снегом пряталась вода; как-то раз почти все люди промокли и простудились, не пострадали только двое. Все эти причины вынудили Маркема бросить одни сани, облегчив работу изнуренным матросам. В самом деле, важно было как можно быстрее вернуться на «Алерт», поскольку речь шла уже о жизни тех больных, которым с каждым днем становилось все хуже и хуже. Двадцать восьмого мая, то есть через пятнадцать дней после выступления в обратный путь и сорок три дня после отправления с «Алерта», путешественники увидели пуночку;[99] птичка весело порхала по торосам и заливалась радостными трелями — сладкая музыка для людей, так долго не слышавших ничего, кроме завываний арктических ветров! Даже больные высунулись из-под покрывал, наслаждаясь песенкой маленького друга, прилетевшего из такого далека, чтобы подбодрить бедных моряков. 30 числа они заблудились и только через сутки выбрались на старую дорогу. Но снежные сугробы завалили путь, снова сделав его малопроходимым. Сани с больными матросами провалились в трещину; людей едва удалось спасти. 5 июня — чудесная погода; яркое солнце вселяло надежду в сердца, придавало новые силы ногам и рукам. Но ночью морякам не удалось отдохнуть — налетел шторм, наполовину сорвавший палатку. 7 числа силы путешественников подошли к концу. Маркем подсчитал, что в таком темпе только за три недели они доберутся до «Алерта», расположенного всего в тридцати милях, то есть в пятидесяти пяти километрах. Оставался единственный шанс на спасение больных — идти как можно быстрее за помощью. Вызвался лейтенант Парр. Спотыкаясь и чуть не падая на каждом шагу, он отправился в одиночку через груды торосов и ледяные поля, заваленные сугробами. Доберется ли он до корабля? Как для него, так и для всего отряда то был вопрос жизни и смерти. Восьмого июня настал скорбный день. Один из матросов, Портер, в полдень испустил последний вздох. Состоялась грустная церемония почестей, оказанных несчастному товарищу. На невысокой мачте лодки, закрепленной на санях, наполовину приспустили флаг; британский стяг прикрыл тело бедняги, и похоронная процессия моряков, за исключением четверых самых больных, покинула палатку в девять часов; прочитали заупокойную молитву и закопали бренные останки в лед арктической пустыни. На могилу водрузили сделанный из весел большой крест с табличкой, напоминавшей имя, возраст и дату смерти бедняги. Девятого июня поднялся сильный северный ветер; больные, угнетенные смертью и похоронами Портера, впали в прострацию. Предстояла новая, куда более страшная катастрофа; Маркем не находит себе места. И вдруг появляются сани с упряжкой собак, прибывшие с «Алерта», нагруженные всем необходимым для помощи! Лейтенант Парр благополучно добрался до корабля! Отряд Маркема спасен! Пять дней спустя он ступил на борт корабля. Вот заключение бесстрашного офицера относительно своей экспедиции: «…По этому поводу у меня сложилось окончательное мнение. Я считаю невозможным дойти до Северного полюса через паковые льды в этом регионе; лейтенант Парр абсолютно согласен со мной. Даже сконцентрировав все силы и средства экспедиции на одном направлении, используя легкие сани без лодок и предположив, что все участники будут в добром здравии, я уверен, ни одна экспедиция не сможет превзойти ни на градус широты, достигнутой людьми, которыми я имел честь командовать». Никто не стал бы подвергать сомнению эти убедительные доводы, опиравшиеся на достоверные данные. Но как примирить абсолютно бесспорное резкое суждение лейтенанта со взглядами доктора Хейса, обнаружившего бескрайнее Свободное море несколькими минутами южнее места зимовки «Алерта»? К тому же мнение капитана Нэрса совпадает по всем пунктам с мнением лейтенанта Маркема. В своем донесении он отмечает, что, проводя наблюдения с вершины мыса Джозеф-Генри, пользуясь прекрасной видимостью и самыми совершенными оптическими приборами, он ни разу не обнаружил ничего похожего на сушу на расстоянии в сто сорок километров. А также ни одной полыньи, ни малейшего признака воды на всем этом огромном пространстве. Только чудовищный хаос льдин и огромных ледовых гор, возраст которых невозможно определить точно, но наверняка он исчисляется не одной сотней лет. Итак, полярное море, недвусмысленно заявляет капитан Нэрс, полностью закрыто слоем льдин неслыханной толщины. Чтобы лучше изучить этот своеобразный вопрос, он назвал северный океан Палеокристическим, то есть морем Старых Льдов. Движение льдов на юг приостанавливается, но они никогда не растапливаются полностью, и каждый год новые пласты намерзают поверх старых. Он подводит итог следующими словами: «Мы считаем несомненным тот факт, что у берегов земли Гриннела, от восемьдесят третьей до восемьдесят четвертой параллели, простирается громадный массив паковых льдов, на приступ которого отважился Маркем и его товарищи. Существуют или не существуют земли к северу от исследованного нами пространства — не имеет никакого отношения к вопросу о путешествиях на санях. Шестьдесят морских миль (сто десять километров) льдов, которые, как мы теперь знаем, расположены к северу от мыса Джозеф-Генри, представляют собой преграду, непроходимую современными методами, а потому я без всяких сомнений могу заявить, что никто никогда не сможет пройти к Северному полюсу через пролив Смит». Невозможно сказать более определенно и категорично. Тем не менее между гипотезами о совершенно свободном море доктора Хейса и абсолютно ледовитом океане капитана Нэрса осталось место для третьей концепции. Пройдет несколько лет, и лейтенант Локвуд[100] из американской экспедиции Грили[101] превзойдет на треть градуса достижение Маркема; он становится перед Свободным морем почти там, откуда начал отступление Маркем, и именно там, где, по представлениям капитана Нэрса, должно простираться скованное льдами полярное море. …Пока Маркем штурмовал полюс, лейтенант Олдрич продолжил исследования Земли Гранта. Самая отдаленная точка, достигнутая им, находится на широте в восемьдесят градусов шестнадцать минут и в восьмидесяти пяти градусах тридцати трех минутах к западу от Гринвича, напротив мыса, который он назвал по имени «Алерта», в заливе, нареченном также им заливом Йелвертона. В то же время состоялась еще одна экспедиция, но отправленная не с «Алерта», а с «Дискавери», под командованием лейтенанта Бомона. Она оказалась самой несчастливой. Цинга застигла и этот отряд. Двое моряков умерли. Из одиннадцати остальных только четверо сохраняли какие-то силы, а семеро были бы уже на грани смерти, если бы не заботы доктора и, самое главное, не свежее мясо, добытое Хансом, эскимосом, охотником на тюленей… «Участники экспедиций с “Алерта”, — говорит капитан Кэрс, — вернулись совершенно “убитыми”. Я был в большом замешательстве. Из пятидесяти трех человек команды двадцать семь жестоко страдали от цинги, и еще четверо затронуты болезнью слегка; еще пятеро плохо себя чувствовали, а восемь едва выздоровели. В сущности, не считая офицеров, я располагал только восемью здоровыми людьми. Конечно, с возвращением в нормальную обстановку, к питанию свежими продуктами и с приходом лета команда постепенно должна прийти в себя. Но учитывая, с какой силой обрушилась на нас эта беда, я понимал, что мой первейший долг — избежать повторной атаки. Поэтому я решил взять курс на юг, как только льды соблаговолят освободить нас от своих тяжелых объятий. Результаты наших санных экспедиций только укрепляли меня в этом решении — никаких земель дальше на север, только непроходимый полярный паковый лед! Мне казалось очевидным, что “Алерт” даже в наилучших погодных условиях пройдет только крайне незначительное расстояние и такой маленький выигрыш никак не поможет саням достигнуть полюса. Какую пользу принес бы нам еще один год, проведенный в этих краях? Ну, еще несколько, от силы — пятьдесят миль (меньше ста километров), к востоку или западу от уже достигнутых пунктов, и то при условии, что новый год все мои люди встретят в добром здравии! Северный полюс недосягаем по льдам, что лежат перед нами, и я не хотел испытывать милости еще одной зимы ценой не знаю скольких человеческих жизней. Но когда ледяные тиски разожмутся и позволят нам уйти?» Первого июля по оврагам и ложбинкам зажурчали ручьи. Какое счастье слышать их ласковый шепот после морозного безмолвия и страшного грохота зимних льдов! А мелодии весенних птиц! Больные потихоньку приходили в себя. 18 числа доктор насчитывал только двадцать два нетрудоспособных, из которых восемь — на постельном режиме. Зимовщики на глазах возвращались к жизни. Зимняя бледность лиц сменилась легким загаром, который приписывался действию «тропического» солнца. Яркое дневное светило слепяще отражалось во льдах. Температура поднялась до плюс четырех с половиной градусов в тени. Лед непрерывно таял. Но через две недели теплая пора закончилась. Пурпурный ковер камнеломок уступил место сверкающей желтизне лютиков и драб, нежным тонам цветущего полярного мака, трав Святого Бенуа[102] и маленьких желтых камнеломок. Среди трав и мхов появился очаровательный белый цветок — cerastium alpinum[103]. Тридцать первого июля «Алерт» снялся с якоря и взял курс на гавань, в которой уже целый год томился «Дискавери». «Алерту» потребовалось двенадцать дней на преодоление относительно небольшого расстояния; пришлось пробиваться через тесные льды с помощью волнореза и динамита. На борту «Дискавери» все обстояло благополучно; его экипаж также провел несколько интереснейших экспедиций. Капитан Стефенсон и лейтенант Фалфорд пересекли бассейн Холла[104] и углубились в бухту, где погиб капитан несчастного «Полариса». Обнаружив место зимовки отважного американца, они подправили его могилу и прикрепили дощечку со следующей надписью: «Светлой памяти капитана корабля военно-морских сил Соединенных Штатов Холла, отдавшего свою жизнь за процветание науки 8 ноября 1871 года. Это надгробие возведено в 1875 году английской экспедицией, которая прошла по пути усопшего, воспользовавшись его опытом». Двенадцатого августа «Алерт» прорвался наконец к «Дискавери»; восемь дней спустя, после того как моряки возвели оригинальную пирамиду из консервных банок, набитых песком и галькой, корабли снялись с якоря. В пирамиде оставили коробочку с письмами и подробным изложением истории всего путешествия. Суда вышли в море, обогнули мыс Либер, вошли в пролив Кеннеди, соединяющий бассейны Холла и Кейна[105]. 21 числа они прошли мимо величественных шестисотметровых откосов мыса Лоуренс. В следующие два дня они удачно миновали один за другим залив Ричардсон, мыс Мак-Клинток, залив Скорсби, мыс Нортон-Шоу, мыс Джона Барроу и мыс Фрейзер, у подножия которого высилась мощная стена льдов. После разного рода неприятностей, задержек и трудностей корабли оказались в виду мыса Хоукс, за которым начинается залив Эллман, куда сползает огромный ледник Эванса. Затем суда прошли мимо хорошо знакомых берегов и мысов Виктория, Альберт, Сабин, Изабелла и через пролив Смит вошли в Баффинов залив. Мало-помалу они выбрались из «северных» в такие же студеные «южные» воды; моряки снова увидели крутые берега, острова, ледники и фьорды Гренландии. 25 числа они прибыли на остров Диско, где расстались с верными помощниками — Хансом и «кинологом»[106] Фредериком. 27-го корабли навестили датский городок Эгедесминне, пораженный цингой. 4 октября «Алерт» и «Дискавери» пересекли Полярный круг, проведя пятнадцать месяцев в полярных водах. Двадцать седьмого октября «Алерт» прибыл на остров Валеншия[107], а «Дискавери» 29-го — в Рингстон, где моряки немного передохнули; 2 ноября корабли вместе пришли в Портсмут. Это преждевременное в сравнении с двух-, а то и трехлетними экспедициями прошлых лет возвращение вызвало в Англии некоторое недоумение. Поначалу все подумали о полной неудаче, но вскоре общественное мнение, порой довольно справедливое, но иногда склонное к скоропалительным суждениям, оценило по достоинству достижения отважных мореплавателей. Стало ясно, что, хотя Северный полюс опять избежал вторжения любопытной европейской науки, исследователи сделали огромный шаг вперед. Теперь общепризнано, что в благоприятные по ледовой обстановке годы вполне возможно подойти к полюсу по воде на дистанцию менее четырехсот миль; меньшее расстояние разделяет Париж и Марсель. Можно ли преодолеть его, используя динамит, электричество и транспорт помощнее, чем сани и собаки, этот вопрос не решен к тому моменту, когда пишутся эти строки, то есть к 15 августа 1892 года. Однако смею надеяться, что в конце этого века, столь плодотворного на открытия, мы еще станем свидетелями великих событий и освоение Африки не заставит нас забыть о Северном полюсе. В отношении английской экспедиции, со времени которой прошло уже семнадцать лет, можно смело сказать, что она принесла большую пользу различным отраслям науки. Прежде всего, географы получили многочисленные карты, вычерченные с точностью, присущей военным морякам. Тщательно исследовались также различные метеорологические феномены и магнитные аномалии. Последние наблюдались в самых благоприятных условиях, поскольку действие магнитных явлений становится ощутимее при приближении к полюсу. Путешественники добыли образцы различных приполярных почв. Ботаника обогатилась на сто пятьдесят видов растений, цветущих в этих пустынных широтах. Зоология также получила несколько неизвестных ранее видов, попавшихся в тралы и сети. Естественно, среди них оказалось маловато птиц и рыб; зато — обилие насекомых. Тем не менее морякам удалось выловить небольшого лосося, мирно плескавшегося в пресноводном озере на широте 82°40′… Млекопитающую живность Заполярья представляли лисы, полярные зайцы, горностаи, волки и овцебыки. В общем и целом, экспедиция добилась отменных результатов; ничего подобного не достигал еще ни один путешественник, пересекший Полярный круг. Хотя экипажи «Алерта» и «Дискавери» не осуществили своего главного намерения, их предприятие несомненно явилось одним из самых выдающихся в новейшие времена. Возможно, кто-то упрекнет капитана Нэрса и лейтенанта Маркема за безапелляционность в отношении Палеокристического моря; по их словам, этот пресловутый океан вечно неподвижных льдов простирается от пролива Робсон до самого полюса. И все-таки, несмотря на исследования американского лейтенанта, ныне уже генерала Грили, сильно поколебавшие выводы мужественных англичан, никто не осмелится обвинить их в недобросовестности, так как они высказывали свое мнение от чистого сердца.ГЛАВА 6
Капитан американского военно-морского флота Де-Лонг. — «Жаннетта». — Ледяная пучина. — К сибирскому берегу. — Агония. — Голодная смерть.Весьма достойное применение своему огромному состоянию нашел господин Гордон Беннет, богатейший владелец «Нью-Йорк геральд», король американских газет. В один прекрасный день он снарядил экспедицию на поиски Ливингстона, затерявшегося в центре Африки. Во главе ее встал тогда еще никому не известный Стенли. И Стенли, отправившись в отважное путешествие, обнаружил старого исследователя на берегах озера Танганьика. Блестящий журналист, окрыленный успехом, услышав о неудаче экспедиции, предпринятой английским правительством, решился на дерзкий поход к Северному полюсу. Как человек, для которого не существует трудностей, сэр Гордон Беннет приобрел вскоре «Пандору» — увеселительную яхту сэра Аллена Янга, старого полярного волка, спутника Мак-Клинтока во время поисков экспедиции Франклина. «Пандору» переименовали в «Жаннетту», поручив командование капитану Де-Лонгу[108], потомку старинной французской фамилии, родившемуся в 1844 году в Нью-Йорке. Это был мягкий, доброжелательный человек, справедливый, но непреклонный в вопросах соблюдения дисциплины, и к тому же первоклассный моряк. Де-Лонг в чине капитан-лейтенанта военно-морских сил США приобрел немалый опыт борьбы со льдами во время поисков потерпевшего бедствие «Полариса». Первым помощником на «Жаннетте» стал господин Чипп, друг капитана Де-Лонга, невозмутимый, серьезный и деятельный. Он спокойно и тщательно выполнял все ему порученное. Человек слова, надежный, всегда готовый прийти на помощь и непоколебимый в своих суждениях. Второй помощник, господин Дейнинховер, по словам капитана, являлся незаменимым и аккуратнейшим штурманом. Главный механик, Джордж У. Мелвилл, также был старым товарищем капитана, который отзывался о нем в таких словах: «Неутомим, несравненно находчив, блестящ и проворен, при необходимости способен изготовить котел из бочоночных обручей, он всегда радостно напевал что-то задорное; ничто, казалось, не могло расстроить второго помощника, и одно его присутствие вселяло в людей надежду на самый лучший исход. Наш врач, господин Амблер, — добавлял капитан, — весьма похож на него. При любых обстоятельствах он весел и оживлен». Ледовый лоцман, господин У. Данбер, «всегда серьезный и степенный, настоящий профессионал». Метеорологом подвизался журналист Джером Дж. Коллинз, жизнерадостный «магистр каламбурологии». Кроме того, в экспедиции принимали участие: господин Реймонд Л. Ньюкомб, небольшого роста энергичный человек, не воротивший носа от самой черной работы; старший матрос Джон Кул и старший матрос по борьбе со льдами Уильям Ниндеманн. Таким был командный состав экспедиции; стюардами наняли двух китайцев — A-Сама и его помощника, «редкой наивности» юношу. Матросов с особой тщательностью подбирали в Сан-Франциско. Они должны были отвечать следующим требованиям Де-Лонга: «Отменного здоровья, холостяки, непоколебимые трезвенники, веселого нрава. Умеющие читать и писать по-английски. Естественно — отличные моряки, желательно — музыканты». Всего на борт поднялись тридцать два человека. С таким отборным экипажем, с запасом великолепного провианта «Жаннетта», имея в своем распоряжении неиссякаемую кассу «Нью-Йорк геральд», лучше многих других судов была снабжена всем необходимым для успеха. Но увы! Экспедиция закончилась катастрофой, принесшей неслыханные страдания ее участникам и погубившей почти всех отважных моряков. Доверившись немецкому географу Петерманну, безоговорочному, но вовсе не непогрешимому авторитету, Де-Лонг избрал путь через Берингов пролив. Впрочем, он обладал полной свободой действий и лишь стремился сделать как лучше. И потому «Жаннетта» вышла в море из Сан-Франциско 3 июля 1879 года и стала на якорь у острова Святого Михаила[109] возле побережья Аляски. Здесь исследователи взяли на борт недостающие предметы для зимовки, сорок эскимосских лаек, переводчика Алексея и погонщика собак Анегина. Покинув 20 августа Сен-Мишель, «Жаннетта», едва успев пройти Беринговым проливом, встретила паковый лед и оказалась у него в плену на широте 71°! Случилось это 5 сентября. Льды толщиной в три метра и более взяли яхту в вечный плен. Вначале она стояла на месте почти пять месяцев в виду первой открытой земли, названной Де-Лонгом островом Геральд. 10 ноября наступила полярная ночь, которая продолжалась до 25 января. Понемногу «Жаннетта» начала дрейфовать на северо-восток вместе со своим ледовым паромом, который, как когда-то и тот, что увлекал в неизвестное «Тегеттхоф», наполнял атмосферу ужасным грохотом. Первая зимовка прошла в беспрерывных тревогах и опасениях, что льды вот-вот раздавят корабль, как скорлупу. Экипаж мужественно сносил все испытания, с восхитительной стойкостью ожидая лета и таяния льдов. Лето 1880 года наконец наступило, не принеся с собой тепла. В июне средняя температура едва ли подошла к нулевой отметке! Холодные туманы июля и августа ничего не изменили. Лед и не думал таять; наоборот, он нарастал с каждым днем и все больше вздувался вследствие сжатий, так что в сентябре, спустя год, проведенный в ледовых застенках, несчастной «Жаннетте» угрожали со всех сторон огромные глыбы льда, нависавшие уже над палубой. Пришлось начинать вторую зимовку на по-прежнему дрейфовавшем судне, которое в январе продвинулось почти на четыре градуса. В эту вторую зиму общее состояние здоровья экипажа ухудшилось; в мае 1881 года на борту появилась цинга. Свежие продукты были редкостью, поскольку охота чаще всего не приносила результатов, и пришлось даже, заглядывая в будущее, уменьшить ежедневный рацион. Шестнадцатого и девятнадцатого мая исследователи открыли два острова, получившие имена Жаннетты и Генриетты. Тем временем приближалось еще одно лето, и многочисленные трещины раскололи паковый лед. 10 июня «Жаннетта» на какой-то момент оказалась даже на плаву; двадцать один месяц пробыла она в ледовых оковах! У моряков пробудилась надежда, все мысленно уже представляли, как льды окончательно разойдутся и яхта пойдет своим ходом. Увы, надежды быстро испарились. Снова начались сжатия, чередовавшиеся с разломами; появлялись многочисленные полыньи, которые вскоре опять затягивались льдом. Ночами корабль сотрясался от страшных ударов. 11 числа в полночь льды вновь разошлись вдоль всего корпуса судна. «Жаннетта» выпрямилась, вернувшись к былому равновесию. Ожидая, что корабль вырвется в свободное море, моряки подняли на борт снаряжение, оставленное на льду… «Двенадцатого июня в семь часов, — говорится в донесении, — лед пришел в движение, скапливаясь вокруг корабля, но затем резко остановился. В восемь часов — еще один приступ. Затрещали и застонали внутренние переборки. Обшивка правого борта начала ломаться, швы разошлись на один, а то и на три сантиметра… Но то была лишь разведка боем. В пять часов лед пошел в решительную яростную атаку, спардек[110] прогнулся. Я отдал приказ спускать на лед провизию, одежду, одеяла, судовые документы, переместить больных в безопасное место… В шесть часов корпус яхты на глазах погрузился в воду, а затем волны залили и спардек… Не видать бедной “Жаннетте” свободного моря, еще чуть-чуть, и она пойдет ко дну! Мы подняли флаг на фок-мачте[111] и ровно в восемь часов покинули корабль. Затем мы оттащили снаряжение и лодки как можно дальше от опасных трещин. Тринадцатого июня в час ночи фок-мачта бедной “Жаннетты” обрушилась; в три часа исчезла верхушка трубы. В четыре часа корабль вдруг резко выпрямился, продолжая медленное погружение… Конец! “Жаннетта” погибла!» Восемнадцатого июня тридцать три потерпевших бедствие отправились к сибирскому побережью по паковым льдам. Двадцать три собаки тянули пять лодок на салазках и трое саней с провиантом на шестьдесят дней. Устье Лены находилось на расстоянии пятисот миль от места катастрофы. Моряки разделились на три небольших отряда в четырнадцать, восемь и одиннадцать человек, соответственно под командованием капитана Де-Лонга, лейтенанта Чиппа и механика Мелвилла. Было решено идти по ночам, чтобы избежать отражения солнечных лучей ото льда, слишком утомительного для зрения в течение дня[112]. Уже в первый день сломались трое саней. Два дня ушло на перевалку грузов. Вскоре стало невозможно тянуть более одних саней сразу по ужасному крошеву на поверхности пакового льда. Приходилось впрягаться всей команде в одну упряжку. Оставалось семь саней. Поэтому матросы семь раз шли вперед и шесть раз возвращались порожняком, тринадцать раз повторяя один и тот же путь, проходя тринадцать миль, чтобы продвинуться на одну. Поэтому за день они с трудом уходили на расстояние ружейного выстрела от вчерашней стоянки, в то время как лед дрейфовал в обратном направлении и порой сводил на нет все титанические усилия моряков. Девятнадцатого июля потерпевшие бедствие высадились на остров, расположенный на семьдесят седьмом с четвертью градусе широты и названный ими островом Беннетта[113]. Моряки провели здесь около десяти дней и немного подкрепились мясом морских птиц, которые буквально заполонили остров. Вскоре пришлось бросить еще пять саней, окончательно вышедших из строя на ледовых ухабах. В распоряжении Де-Лонга остались только большой и малый тендер[114], вельбот[115] и маленький ялик[116]. Экипаж большого тендера под командованием Де-Донга составляли Коллинз, Ниндеманн, Эриксен, Каак, Бойд, индеец Алексей, Ли, Норос, Дресслер, Гортц, Иверсен. На борт погрузили триста фунтов пеммикана, сто шестьдесят фунтов спирта, суп Либиха[117] и четыре больших ящика консервов. Малый тендер тянули лейтенант Чипп, а также Данбер, Свитманн, Шарвелл, Кюне, Стар, Маусон, Уоррен, Джонсон; в их распоряжении было двести сорок пять килограммов пеммикана, два килограмма супа Либиха и чуть больше сорока пяти фунтов лимонного сока. Вельботом, также нагруженным пеммиканом, спиртом и супом Либиха, командовал Мелвилл; его команду составляли Дейнинховер, Ньюкомб, Кул, Бартлет, индеец Анегин, китаец A-Сам, Вильсон, Лаутербах и Лич. Весь август прошел в изнурительном и неблагодарном труде — волоке по льду. 29 числа экспедиция высадилась на Фаддеевский остров, одну из земель Новосибирских островов. «В первый раз за два года мы ощутили под ногами настоящую твердую землю», — говорится в донесении. Шестого сентября, шесть недель спустя после гибели «Жаннетты», провианта оставалось уже катастрофически мало, поскольку пришлось многое бросить, лишь бы иметь возможность продвигаться вперед. 10 числа не осталось ни крошки сахара, ни капли супа Либиха. 12 числа осталось продуктов на семь дней. Но море освободилось, тендера и вельбот наконец-то спущены на воду! Путь к сибирскому берегу, лежавшему на расстоянии в восемьдесят миль, открыт! Но едва маленькая флотилия подняла паруса, как грянула ужасная буря. Суденышки разбросало по морю. Шторм продолжался до вечера 14 сентября; капитан Де-Лонг так и не увидел больше две пропавшие шлюпки. 17 числа его тендер пристал к берегу, и экипаж вброд выбрался на сушу, проваливаясь по колени в ил, покрытый осколками льда. «Одежду, рюкзаки и нас самих можно было отжимать, — пишет Де-Лонг. — Пришлось тем не менее в таком виде заночевать на сырой земле. 19 сентября мы прикончили последнюю банку консервов. Пеммикана осталось на три с половиной дня, зато чая у нас вволю. Мы на земле, но она абсолютно пустынна. Ближайшее русское поселение находится, я думаю, в девяноста пяти милях. Индеец Алексей подстрелил большую чайку, и она тут же угодила в котел. Но мы вынуждены опять бросить часть снаряжения, ибо оно может замедлить наше продвижение. Мы возьмем только Библию, судовые документы, одеяла, палатки, немного медикаментов и жалкие остатки провизии. Двадцатое сентября. По-прежнему мы идем очень медленно. Дорогу преграждают торфяные болота и многочисленные озерца, покрытые корочкой льда. Бедняга Эриксен заболел, выбился из сил и сильно задерживает нас. Он ковыляет практически на одной ноге, впрочем, и все остальные давно не чувствуют ног. Открываем последний ящик с пеммиканом — двадцать с половиной килограммов. Двумя взмахами ножа я делю его на четыре части. Это — на четыре дня, а затем наша верная собачка Снуза сослужит нам последнюю службу. Эриксен падает, умоляя товарищей бросить его. Он не может идти, а мы не можем его нести. Как за четыре дня добраться до какого-нибудь обитаемого места? Мы с доктором остаемся в арьергарде, подбадривая и поддерживая товарища, который все-таки поднимается и проходит за час милю. Двадцать первое сентября. Эриксен, поспав, чувствует себя лучше. Поэтому нам удается пройти четыре мили за четыре часа. После полудня мы натыкаемся на две хижины; одна из них совсем новая. Что это — Чолбогое?[118] Если да, то наши шансы на спасение весьма призрачны, так как в этом случае мы находимся в пятидесяти шести километрах от следующего пункта, нанесенного на картах, и в ста сорока километрах от наверняка населенного места. Однако после завтрака у нас останется провианта на два дня, а наши трое калек не могут делать больше пяти-шести миль в день; но я не могу и не хочу бросать их. Двадцать второе сентября. Браво, Алексей! Индеец завалил двух оленей! Теперь мы можем задержаться на пару дней в этих хижинах, чтобы немного восстановить силы. Я спрятал драгоценный пеммикан, ведь завтра он будет единственным нашим спасением. Обед великолепен, а ужин даже, я бы сказал, изыскан. Отдых под крышей и здоровая пища позволят вскоре нашим доходягам продолжить путь, а оставшиеся пятьдесят килограммов мяса препятствуют жестокому решению разбиться на две группы. Мы пойдем дальше послезавтра с утра. Двадцать четвертое сентября. Пройдя мимо трех разрушенных хижин, мы вышли к реке, еще свободной ото льда. Естественно, возникла здоровая идея построить плот, чтобы подняться по водному потоку. Пусть мы и не выиграем в скорости, зато мы будем меньше уставать. Я выбрал несколько стволов; всю вторую половину дня мы трудились как проклятые, и в пять сорок плот был готов. Из-за недостатка веревок стволы соединили кое-как. И вот парус поднят, и нас выносит на середину реки. Мы рискуем потерять остатки снаряжения. К несчастью, началось мощное течение, вызванное отливом, а ветер ослаб. Неудача! Хватит экспериментов! Мы взвалили груз на плечи и отправились дальше по земной тверди. Больные и доктор шли впереди к хижинам, которые надеялся обнаружить Алексей. Но и здесь неудача! Мы останавливаемся на ночлег у хиленького костерка из хвороста, который удалось наломать вручную на речном откосе. Двадцать пятое сентября. Жуткая холодная ночь, заснуть не удалось. К одиннадцати часам мы прошли шесть миль. Три килограмма мяса и два оленьих языка — вот вся наша сегодняшняя еда. А что ждет нас дальше? Двадцать шестое сентября. У Эриксена гноится подошва ноги. Он сможет идти дальше, но недолго. Наш обед — чай и сто тридцать граммов пеммикана, которого хватит еще на три подобные трапезы, после чего придется прибегнуть к крайнему средству — собаке! До наступления темноты мы успеваем переправиться через протоку на импровизированном пароме и проковылять четыре мили. Холод и слякоть; опять не спать всю ночь! Двадцать седьмое сентября. Бесконечная, бессонная ночь;холод собачий. Ниндеманн и Алексей ушли на рассвете. В восемь часов — отдаленный радостный крик. Охотники подстрелили здоровенного оленя. Опять спасены! Когда они уходили, наш последний пеммикан варился в котле. Он пошел на обед, во время которого четырнадцать изголодавшихся душ поглотили двадцать килограммов пищи, и это после трехдневного рациона по четыреста пятьдесят граммов! Мы отправляемся дальше счастливые от сытости, за исключением Эриксена, которого все больше мучает язва на ноге. Двадцать восьмое сентября. Мы выходим при пронзительном ветре и на первом же привале засыпаем. Отныне мы идем двадцать минут, а отдыхаем десять. Мы обнаружили на снегу следы двух людей, прошедших в противоположном нашему направлении, а затем — хижину, где еще теплые угли и объедки не оставили сомнений, что кто-то провел здесь предыдущую ночь. Если Чиппу или Мелвиллу удалось добраться до обитаемых мест, то, возможно, эти двое разыскивают нас? Двадцать девятое сентября. Мы перед протокой; Ниндеманн уже выбрал, из чего сделать плот. Алексей ушел на охоту. Эриксену стало хуже, его ноги гноятся, и доктор опасается столбняка. Вести его дальше на гангренозных ногах — это смерть. Оставаться здесь рядом с ним — риск потерять остальных. Какой ужасный выбор! Алексей приносит рыбу и сбивает чайку, которая заинтересовалась нашим флагом над хижиной. Тридцатое сентября. Мы несем Эриксена на себе. Доктор только что ампутировал ему четыре пальца на правой ноге и один на левой. На обед — по триста граммов рагу. Маловато! А охотники вернулись несолоно хлебавши… Первое октября. На завтрак — двести двадцать пять граммов мяса и жиденький чаек. Это сто одиннадцатый день нашего пребывания во льдах. Доктор опять оперирует Эриксена, оставив ему только один палец. Дальше мы будем тянуть беднягу на санках, изготовленных Ниндеманном. Второе октября. Всю ночь Эриксен бредил. Завтрак состоял из двухсот двадцати пяти граммов оленины и чая… На ужин — те же блюда. Пищи едва хватает… Одной бессонной ночи достаточно, чтобы лишиться последних сил. Наши промерзшие сапоги представляют из себя весьма жалкое зрелище. На холоде они сжимают ноги, как тиски. Мы спотыкаемся, скользим и падаем. В четыре часа, после дневного перехода, больше похожего на пытку, мы разбиваем лагерь. “Разбиваем лагерь” — это я говорю скорее по привычке: надо всего-навсего развести костер, поесть, а затем отдаться во власть жуткой и студеной ночи… Третье октября. К полуночи мы совершенно промерзли, и я решил вскипятить чай; затем мы кое-как убили время до пяти часов, когда решили съесть последний кусок оленины. Эриксен быстро слабеет. Как только его глаза закрываются, он начинает что-то бормотать на датском, английском и немецком языках… Едва мы вышли, следуя по замерзшему руслу реки, как я провалился под лед по плечи, а вслед за мной сначала Гортц, а затем и Коллинз. Когда мы наконец выбрались из воды, то мигом превратились в ходячие сосульки, подвергаясь неминуемой опасности обморожения… К четырем часам Алексей обнаружил лачугу. И вовремя! Но теперь пора ужинать… Да, мой бедный песик! Увы! Настал твой час! Одним выстрелом я убиваю несчастную собаку. Иверсен разделывает бедное животное, и те части, что тяжело нести, быстро превращаются в рагу. Все едят с аппетитом, кроме меня и доктора — мы сыты одной только силой духа. Остаток мяса равен двенадцати килограммам. Трое “утопленников” — Коллинз, Гортц и я сушились и парились у огня. Гортц и Коллинз глотнули спирту, но мне он не лез в горло. Опять бесконечная холодная и промозглая ночь на сквозняке, от которого нет никакого спасения; бред Эриксена, словно заунывный оркестр, подчеркивал незавидность нашей судьбы. Несмотря на обжигающий огонь, никак не удается согреться. Похоже, нам просто не суждено высохнуть. Ну и холодрыга! Невозможно даже измерить силу мороза — последний термометр разбился во время одного из моих многочисленных падений. Мы съежились вокруг костра, в который беспрерывно подкидываем хворост. Если бы Алексей не закутал меня в тюленью шкуру и не прижался ко мне, согревая, я замерз бы насмерть. Четвертое октября. Сто четырнадцатый день похода. Мы пьем кипяток прямо с огня. Эриксен, без сознания, скорчился на санках. Форсированным маршем мы добрались за два часа до хижины, достаточно просторной, чтобы вместить весь отряд, и разжигаем огромный огонь. Эриксену совсем плохо. Он так и не пришел в себя, а последняя ночь нанесла ему сокрушительный удар. Он угасает на глазах, и едва ли ему придется еще долго мучиться. Поэтому я попросил товарищей присоединиться к моей отходной молитве, прежде чем отдыхать самим. Алексей возвращается с охоты в полдень пустой и продрогший: он тоже умудрился провалиться под лед. В шесть часов вечера мы просыпаемся, так как давно настала пора ужинать: четыреста пятьдесят граммов собачатины и чай — вот все наше подкрепление на сутки. Но мы еще возблагодарили судьбу за укрытие, которое защищает нас от ревущего юго-западного ветра! Пятое октября. Сто пятнадцатый день. Завариваем второй раз вчерашний чай. Единственную серьезную еду — половину собачьей тушки оставляем на вечер. Бесстрашный Алексей берет ружье и скрывается в метели. Я занимаю людей сбором мелких веток, чтобы застелить пол в хижине; это защитит нас от холода и сырости, которые исходят от ледяной земли, выстуживают наши продрогшие кости и сокращают недолгие часы сна. Пурга свирепеет. Антонов огонь пожирает ноги Эриксена; операция невозможна, к тому же бедняга навряд ли ее перенесет. Порой бред оставляет его. В полдень с пустыми руками возвращается Алексей, он устал бороться с разыгравшейся непогодой. Если я не ошибаюсь, мы находимся на восточном берегу острова Тит-Ары[119], в двадцати пяти милях от Кан-Марк-Сурка[120] — ближайшего, судя по карте, населенного пункта и последней нашей надежды, так как Сагастырь упорно от нас ускользает. Наша избушка совсем новенькая, а потому не отмечена на моей карте; она даже не достроена, без двери и крыльца. Безусловно, это летний охотничий домик, хотя множество расставленных отличных лисьих капканов наводит на мысль, что время от времени кто-то сюда наведывается. Я не вижу другого выхода, кроме как послать Ниндеманна, как только метель утихомирится, за помощью в Кан-Марк-Сурку. На ужин — вторично заваренный чай и четыреста пятьдесят граммов собачатины на каждого. Шестое октября. Сто шестнадцатый день. Подъем в семь тридцать. Чашка чая, заваренного по третьему разу, разбавленного пятнадцатью граммами спирта. Ветер немного стих. Алексей уходит на охоту. В восемь сорок пять бедняга Эриксен ушел из жизни. Пришлось обратиться к товарищам со словами, внушающими надежду и отвагу. Алексей возвращается ни с чем — идет слишком густой снег. Великий Боже! Что будет с нами? Шесть килограммов и триста пятьдесят граммов собачьего мяса — вот весь наш провиант, а до ближайшего возможного поселения — сорок шесть километров. У нас нет инструментов, чтобы вскрыть окаменевшую от мороза почву, поэтому река станет могилой Эриксена! Мы зашиваем усопшего в ламбрекены палатки; я накрываю его английским флагом. Мы пытаемся при помощи пол-унции спирта обрести какие-то силы, чтобы выполнить последний долг. Но сможем ли мы хотя бы донести тело до реки? В двенадцать сорок я прочитал заупокойную молитву. Затем процессия добралась-таки до берега; мы сделали прорубь и спустили под лед тело товарища; троекратный залп наших ремингтонов почтил его память. Напротив места, где волны скрыли Эриксена, мы поставили крест, на котором вырезали следующую надпись:
ПАМЯТИ X. X. ЭРИКСЕНА 6 ОКТЯБРЯ 1881 ГОДА «ЖАННЕТТА» ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИУжин в пять часов вечера — четыреста пятьдесят граммов собачатины и чай. Седьмое октября. Сто семнадцатый день. На завтрак остатки бедной собачки и последние крошки чая. Мы выходим в путь, имея в запасе только два литра и двести семьдесят пять граммов спирта и пустой чайник! Бог, столько раз помогавший нам до сих пор, не оставит нас в беде! Мы несем с собой два ремингтона и двести сорок три заряда, а винчестер, превратившийся в лишний груз, и сто шестьдесят один патрон к нему я оставляю в избушке вместе со следующим документом: “Пятница, 7 октября 1881 года. Мы, офицеры и матросы с “Жаннетты”, корабля военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, выходим сегодня утром с целью достигнуть форсированным маршем Кан-Марк-Сурки или любого другого поселения на берегах Лены. Мы добрались сюда во вторник 4 октября с товарищем, который был уже очень плох; вчера он скончался от обморожения и крайнего утомления, а в полдень мы похоронили его в реке. Остальные чувствуют себя хорошо, но у нас совсем не осталось провианта: остатки съедены сегодня утром”.
Мы вышли в восемь тридцать и к одиннадцати двадцати прошли три мили. После обеда (тридцать граммов спирта с кипятком) Алексей уходит в тундру с ремингтоном на плече. В пять часов он приносит чайку, которая тут же угодила в котел и приготовлена на ужин с половиной унции спирта. Легкий ветерок; полнолуние; ясное звездное небо; мороз вроде ослаб. Восьмое октября. Сто восемнадцатый день. Подъем в пять тридцать, завтрак — унция спирта и пинта кипятка. Как говорит доктор, спирт спасает нас от многих напастей: глушит голодные спазмы в желудке, препятствует скоплению газов после трапезы, а в количестве трех унций на одну глотку поддерживает силу духа. До обеда (по унции “огненной воды” на человека), который состоялся в половине одиннадцатого на берегу реки, проходим пять миль. После привала удается пройти только милю — тяжелая дорога по почти лишенной растительности тундре и жуткий холод. На ужин опять только пол-унции спирта. Девятое октября, воскресенье. Сто девятнадцатый день. Подъем в полпятого, утренняя молитва. Унция спирта. В семь часов Ниндеманн и Норос отправились за помощью. Они взяли с собой свои одеяла, карабин, сорок зарядов и две унции спирта. Я советую им держаться западного берега реки, чтобы добраться к ближайшему населенному пункту. Мы тепло проводили товарищей. Ужин — пол-унции спирта. Десятое октября. Сто двадцатый день. В пять тридцать — последняя доза спирта. В полседьмого Алексей опять уходит на охоту. Тем временем мы варим остатки оленьих шкур. Вчера утром я с удовольствием позавтракал своими кожаными гетрами. Легкий ветерок с юго-юго-востока. Прохладно. Привал в одиннадцать. Мы едва не падаем от изнеможения. Разжигаем добрый костер. Чаем, заваренным по десятому разу, промываем бутылку из-под спирта, затем выпиваем всю эту бурду. Выходим в полдень. Метель. Тяжелый переход; Ли не выдерживает и умоляет, чтобы его бросили. Мы идем по следам Ниндеманна и Нороса. В три часа останавливаемся — сил нет никаких. Только Алексей уходит опять с ружьем, но впустую. Отужинали: каждый проглотил по ложке глицерина. Мы очень ослабели, но не теряем чувства юмора. Бог нам поможет! Одиннадцатое октября. Сто двадцать первый день. Снежные шквалы с юго-запада. Идти не можем. Дичь исчезла. Ложка глицерина, разведенная в кипятке. Дров в округе мало. Двенадцатое октября. Сто двадцать второй день. На завтрак последний глицерин. Настаиваем в котелке листья арктической ивы. Все слабеют на глазах. Сил едва хватает на вылазки за дровами. Тринадцатое октября. Сто двадцать третий день. Чай из листочков ивы. От Ниндеманна никаких новостей! Только Бог может спасти нас! Четырнадцатое октября. Сто двадцать четвертый день. Утром — чаек из ивы. На обед — то же самое плюс пол кофейной ложки сладкого миндального масла. К ужину удалось подстрелить чайку. Пятнадцатое октября. Сто двадцать пятый день. Завтрак: чай из ивы и два старых сапога. Алексей совсем плох, так же как и Ли. Шестнадцатое октября, воскресенье. Сто двадцать шестой день. Молитва. Алексею все хуже. Семнадцатое октября. Сто двадцать седьмой день. Доктор крестит умирающего Алексея. Отходная молитва. Сегодня день рождения Коллинза, сорок лет. Перед заходом солнца Алексей испускает последний вздох — голодная смерть. Я накрываю его флагом. Восемнадцатое октября. Сто двадцать восьмой день. Спокойно и тихо падает снег. После полудня мы несем Алексея на замерзшую реку и накрываем толстыми ледяными глыбами. Девятнадцатое октября. Сто двадцать девятый день. Разрезали полотно палатки, чтобы лучше укутать ноги. Доктор ушел вперед на поиски лучшего пристанища. Мы нагнали его только глубокой ночью. Двадцатое октября. Сто тридцатый день. Яркое солнце, жуткий мороз. Ли и Каак при смерти. Двадцать первое октября. Сто тридцать первый день. Около полуночи мы с доктором обнаружили, что Каак, лежавший между нами, умер. Ли скончался в полдень. Когда он понял, что конец близок, я прочитал отходную молитву. Двадцать второе октября. Сто тридцать второй день. Мы слишком слабы, чтобы вынести тела Ли и Каака на лед. Оставляем их за поворотом, подальше от глаз. Двадцать третье октября, воскресенье. Сто тридцать третий день. Все очень слабы. Отдыхаем и спим весь день. Вечером выходим все же за дровами. Прочитали часть воскресной молитвы. Ноги болят и не влезают в сапоги. Двадцать четвертое октября. Сто тридцать четвертый день. Очень трудная ночь. Двадцать пятое октября. Сто тридцать пятый день. Двадцать шестое октября. Сто тридцать шестой день. Двадцать седьмое октября. Сто тридцать седьмой день. Иверсен при смерти. Двадцать восьмое октября. Сто тридцать восьмой день. Иверсен ушел в мир иной. Двадцать девятое октября. Сто тридцать девятый день. Ночью умер Дресслер. Тридцатое октября. Сто сороковой день. Бойд и Гортц не проснулись утром. Коллинз при смерти».
Здесь резко обрывается душераздирающий дневник, который до последнего вздоха вел несчастный капитан Де-Лонг. Мы привели в несколько переработанном виде часть этого скорбного документа по журналу «Тур де монд» («Вокруг света»), чтобы дать читателю представление об ужасе, который пережил мужественный экипаж «Жаннетты». Все кончилось! Любая помощь после 30 октября прибыла бы слишком поздно! Как вы помните, 9 октября Ниндеманн и Норос без всяких запасов отправились за помощью. Они шли сквозь ураганные метели, спали в снежных ямах, ели вареные или печеные на углях сапоги, тухлую рыбу, найденную на песчаных откосах, и кусок за куском — штаны из тюленьих шкур. Нороса два раза рвало кровью. Обоих мучила дизентерия… Через двенадцать дней они вышли к обитаемой избушке. Никто из несчастных дикарей на зимних стоянках, куда перевезли еле живых моряков, не понял, что они так хотели сказать… А тем временем голодная смерть уносила одного за другим Де-Лонга и его товарищей. Между тем вельбот механика Мелвилла с командой из одиннадцати человек благополучно перенес все наскоки штормов. В течение ста восьми часов волны яростно перекидывали лодку друг другу, но в конце концов 17 сентября экипаж оказался в одной из многочисленных устьевых проток Лены. Моряки умирали от голода и усталости, но им здорово повезло: неподалеку от побережья они встретили троих полудиких, но очень милых якутов; эти Богом забытые люди радушно приняли потерпевших бедствие, но так и не смогли понять, о чем просили их европейцы — помочь в поисках товарищей. Мелвилл и его спутники, невзирая ни на что, все-таки собрались в дорогу. Но их силы оказались не равны их отваге, и вскоре они заблудились. Тем не менее в конце октября Мелвиллу посчастливилось встретить русского промышленника, который разобрался, что от него хотят иностранцы, и отправился за помощью в Булун. Затем до механика дошел слух, что в одном из поселений на Лене находятся двое белых людей. Он помчался туда сломя голову и нашел Ниндеманна и Нороса, рассказавших все, что произошло после бури, разлучившей его с капитаном. Неутомимый Мелвилл на быстроходных санях пробежал тысячу километров сквозь вставшие дыбом ветра и арктический холод; он следовал указаниям Ниндеманна, но так и не смог разыскать в хаосе снега и льда других следов капитана, кроме нескольких записок Де-Лонга, оставленных в пирамидах из камней. По ним он установил удручающую деталь — капитан и его люди прошли, без всяких сомнений, совсем рядом с тунгусскими[121] поселениями. Суровая сибирская зима помешала Мелвиллу продолжить поиски. В марте он вернулся вместе с Ниндеманном и множеством туземцев. 23 числа того же месяца он вышел к старому костровищу, у которого грелись, видимо, умирающие… Он хотел уже подобрать чайник, наполовину занесенный снегом… и вдруг споткнулся о какой-то предмет, выступавший из сугроба — скрюченная рука! Они! Вот капитан, вот доктор Амблер, а вот и китаец А-Сам; Де-Лонг и Амблер вытянулись рядышком головой к северу, лицом на запад. A-Сам лежал перпендикулярно к товарищам; его голова касалась спины доктора, а ноги находились в центре погасшего костра. Здесь же валялся и чайник, наполненный кусками льда и листьями арктической ивы. Де-Лонг и его товарищи безусловно понимали, что, если они умрут прямо на берегу большой реки, дикие весенние воды смоют в океан всякую память о них, а потому подняли дневники и судовые документы на вершину песчаного обрыва. Здесь Мелвилл и обнаружил ящик с картами; тяжелый подъем, должно быть, не дал изможденным морякам убрать в безопасное место остальное. «Я собрал, — вспоминает главный механик, — предметы, разбросанные вокруг столь дорогих нашему сердцу останков. Последний дневник лежал в трех или четырех футах от капитана. Похоже, перед смертью Де-Лонг последним усилием перебросил его через плечо. Туземцы привели Ниндеманна; мы прикрыли тела старым палаточным полотном и начали раскопки в снегу; вскоре показались ноги одного человека и голова другого, затем шкатулка с бумагами. Два дня спустя мы раскопали тела всех несчастных, кроме Алексея, которого Де-Лонг похоронил подо льдом. Где предать земле десять тел? Эти места весна накрывает пяти-, шестиметровым слоем воды. Зимой вся местность исчезает подо льдом и снегом, которые, в свою очередь, сметаются половодьем в океан… Чтобы найти надежный участок земли, нужно пройти к подножию отрогов горных хребтов, сдавливающих долину Лены. В десяти верстах к югу от Мон-Ваи мы заметили удобную сопку высотой в сто двадцать метров, напоминавшую формой спину кита. Я послал туда туземцев выкопать могилу и поставить крест, сделанный в Мон-Ваи из елового плавника. Наиболее сохранившиеся части разбившегося неподалеку старого судна послужили Ниндеманну и Норосу материалом для просторного гроба… После того как Мелвилл собрал личные вещи усопших, чтобы передать их семьям, тела уложили в гроб, как следует заколотили крышку; крест мы поставили на высоком могильном холме из камней и дерева». …Итак, десять человек, находившиеся на вельботе Мелвилла, избежали гибели, но лейтенант Дейнинховер почти потерял зрение, а старший матрос Джон Кул сошел с ума. Из тринадцати человек команды большого тендера под командованием Де-Лонга одиннадцать погибли и только двое чудом спаслись — Ниндеманн и Норос. Десять человек экипажа малого тендера лейтенанта Чиппа бесследно пропали в бушующем море.
Крушение «Жаннетты» привело к гибели двадцати двух человек.
ГЛАВА 7
Лейтенант Грили. — Две зимовки в бухте «Дискавери». — Самая северная точка на пути к полюсу. — Бедствие.Американцы решились на еще одну арктическую экспедицию. Она также оказалась несчастливой, хотя и принесла определенный успех, поскольку прошла дальше англичан по пути к полюсу. Первой отличительной чертой этой кампании являлся тот факт, что ее инициаторы не были моряками. Ни один из тех, кто вместе с лейтенантом Грили решил сорвать завесу с ревностной Полярной Исиды, не числился в морском флоте. Почти все, кроме двоих или троих, принадлежали к войскам связи (Signal-Corps), знаменитому подразделению американской армии, основная задача которого — изучение метеорологии, геодезии и географии; его отборные солдаты проходят великолепную школу. Причиной этой несчастной и славной экспедиции стало одно событие, которое и оказало влияние на решение составить ее из солдат и офицеров Сигнального корпуса, привычных к научным наблюдениям. В апреле 1879 года в Риме состоялась весьма представительная конференция по геодезии, во время которой Карл Вайпрехт, капитан-лейтенант австрийских военно-морских сил, один из героев экспедиции «Тегеттхофа», представил отменный план исследования Заполярья. Этот мужественный и в то же время образованный офицер предложил, кроме всего прочего, окружить неприступный полюс поясом из тридцати научных станций для кропотливого изучения климата региона и подготовить таким образом наилучшие условия для полярных путешественников. Генерал Майерс, основатель и главнокомандующий Сигнального корпуса, был на конгрессе одним из самых горячих сторонников проведения крестового похода на полюс. После внезапной смерти генерала его последователь, разделявший его точку зрения, с помощью сенатора Конджера чуть ли не силой вырвал у правительства кредит в двадцать пять тысяч долларов (сто двадцать пять тысяч франков) на экспедиционные расходы. Командование исследовательским отрядом доверили лейтенанту Грили из Сигнального корпуса; ему помогали офицеры того же подразделения Кислингбэри и Локвуд и подчинялись восемнадцать унтер-офицеров и солдат. Американских добровольцев сопровождал также доктор Пави, француз по национальности, бывший лейтенант Гюстава Ламбера. Приготовления быстро закончились; зафрахтованное китобойное судно «Протеус» («Протей»)[122] отвезло путешественников сначала в Годхавн, а затем и к месту зимовки «Дискавери». Операция была, конечно, непростой, но абсолютно несопоставимой с суммой, которую запросил за нее владелец «Протеуса», проделавшей огромную дыру в тощем кошельке лейтенанта Грили. Этот спекулянт, имени которого мы, к сожалению, не знаем — иначе представили бы его здесь во всей «красе», — потребовал ни больше ни меньше как девятнадцать тысяч долларов, оставив, таким образом, путешественникам на всю экипировку и провиант ничтожно мало — шесть тысяч. В Годхавне путешественники приобрели зимние меховые одежды, сани, собак, наняли проводников: метиса Кристиансена и эскимоса Йенса Эдвардса. На борт «Протеуса» погрузили также пронумерованные бревна, привезенные ранее на другом судне, для постройки обширной избушки. Пятого августа 1881 года «Протеус» встал на рейде в бухте Дискавери; 18 числа, выгрузив людей, имущество, сто сорок тонн угля, оставив несколько шлюпок и паровой катер, корабль отправился в обратный путь. Лейтенант Грили передал с капитаном судна детальный меморандум, который содержал его соображения по организации взаимодействия со спасательными экспедициями; он объявил, что 9 августа 1883 года — дата безоговорочная и безвариантная — он покинет место зимовки, если до того какой-нибудь корабль не привезет новостей из Америки и запасов провианта. В случае если спасательные суда не пробьются через льды, то Грили будет зимовать на острове Литлтон, внимательно следя за мысом Сабин, с которого можно будет подать ему сигналы. Это условие сыграло определяющую роль, так как именно его точное выполнение со стороны Грили стало причиной катастрофы, по меньшей мере равной бедствиям экипажа «Жаннетты». Виной тому — легкомыслие, если не сказать больше, с которым соотечественники отнеслись к своим обязательствам. Шикарный бревенчатый дом, длиной двадцать метров, шириной — шесть и высотой — четыре, поднялся как в сказке — многочисленные помещения со столами и печками, просторные прихожие из парусины, своего рода шлюзы, где входившие и выходившие постепенно привыкали к резкой и гибельной смене температур. Грили назвал дом в честь сенатора, добившегося от правительства необходимого кредита, фортом Конгер. Пусть читателя не страшит сама идея зимовки в простой избе. Многие суда были менее приспособлены к жутким морозам, чем это жилище с двойными стенами толщиной по двенадцать сантиметров каждая, разделенными пустым тридцатисантиметровым пространством, покрытыми внутри и снаружи толстым слоем гудронированной бумаги. Кроме того, дом вскоре замело снегом, что в еще большей степени препятствовало потере тепла. Уже 29 августа ударил жестокий мороз, который продержался девять месяцев. Полярная ночь вскоре прервала экскурсии по ближайшим окрестностям форта, приучавшие людей и собак к походам по льдам. Солнечный свет исчез с удручающей быстротой. 21 сентября день сравнялся с ночью; 8 октября полярники тушили лампы только с одиннадцати тридцати до половины первого дня, а неделю спустя на небосклоне воцарились величественные сумерки. Все это время, несмотря на мороз, кусавший все сильнее и сильнее, метеорологические наблюдения не прекращались, так же как и изучение земного магнетизма. Кроме того, разгоняя тоску и скуку, которые навевала бесконечная темень, зимовщики развлекались от души: учение, чтение, лекции, песни, розыгрыши, драматические сценки, выпуск газет… Двенадцатое декабря было самым темным днем, а самым холодным — 3 февраля, когда термометр показал 52° ниже нуля! Вполне возможно, по словам лейтенанта Грили, температура падала еще ниже — ртуть замерзла на шестнадцать дней. Ром превращался в субстанцию, похожую на сироп, азотная кислота — в нечто похожее на сало, а из обычной водки менее чем через час на открытом воздухе получался кусок льда. Первые походы с возвращением солнечного света организовали доктор Пави и лейтенант Локвуд. Пави с сержантом Райсом и эскимосом Йенсом отправился на север на санях 19 марта. В то же время еще двое участников экспедиции вышли на санях, нагруженных провиантом, чтобы пополнить склад, оставленный английской экспедицией в заливе Линкольн. Переждав жуткую метель, которая продолжалась два дня при минус 38° по Цельсию, доктор Пави исследовал сухопутный маршрут, который показался ему куда более удобным, чем кошмарная дорога по льдам. 11 апреля он вышел к месту зимовки «Алерта», вскарабкался на высокий утес и застыл в изумлении. Никаких следов палеокристического пакового льда! За исключением полосы в двух-трех километрах от берега, в море — ни малейшего осколка тех поразительных ледовых образований, которые сэр Джордж Нэрс счел вечными! Доктор Пави сделал естественный вывод, что английский капитан ошибся, объявив плавание по заполярным морям невозможным. Семнадцатого и восемнадцатого числа, когда доктор и его товарищи исследовали угольный пласт на Земле Гранта, их вновь застигла пурга. Непогода продержала их в снежных берлогах, вырытых второпях; как только снежная буря стихла, Пави решил, что вполне может, подражая Маркему, попробовать дойти до полюса прямо через паковый лед. И вот трое людей с санями спустились на лед и пошли как ни в чем ни бывало! За два дня они продвинулись на десятую долю градуса. Ночью вся троица помешалась в одном просторном спальном мешке из меха; подобные мешки принесли огромную пользу всей экспедиции Грили. Затем с новой силой поднялся ураганный ветер, скорость которого доктор оценил в шестьдесят километров в час! Как только ветер утих, неустрашимый француз вновь взял курс на полюс. Увидев, что лед в направлении на мыс Хекла поровнее, он решил добраться до высокого утеса, чтобы оставить там склад с провиантом. Но едва они прошли полмили к северо-западу, как Йенс закричал: «Море! Море!» И в самом деле! Там, где когда-то простирался океан вечных льдов сэра Джорджа Нэрса, сломивший мужество лейтенанта Маркема, до северного горизонта пролегла полоса воды шириной в добрых пол-лье. В то же время на севере и востоке виднелись характерной формы кучевые облака, которые, по мнению эскимосов, знавших в этом деле толк, неминуемо свидетельствовали об обширных просторах Свободного моря. Итак, путь на север был перекрыт. Пави решил вернуться к мысу Джозеф-Генри, что удалось ему с огромным трудом после передвижения по громадным плавучим льдинам, угрожавшим увезти его в увлекательный дрейф к полюсу без всякой надежды на обратный билет. Льдина, на которой они находились, коснулась берегового обрыва; им посчастливилось выбраться самим и спасти собак, но сани остались на оторвавшейся льдине и отправились дрейфовать. Со всех сторон простиралось море. Так самым безоговорочным образом была доказана ошибка капитана Нэрса и лейтенанта Маркема. Понятия «свободного моря» Кейна и «скованного моря» сэра Джорджа обязаны теоретическим построениям, опиравшимся на неполные наблюдения. Истина лежит между двумя крайностями. И если бы прекрасно оснащенные исследователи подождали несколько лет на месте зимовки «Алерта», то, вполне вероятно, стали бы свидетелями таяния великих паковых льдов и очутились бы в условиях, когда завоевание вершины планеты уже не являлось бы делом безнадежным. Двадцать шестого апреля Пави вернулся к мысу Блэк. К этому моменту море Нэрса полностью освободилось ото льдов. В отвратительных условиях доктору удалось достигнуть 80°51′ северной широты, и, возможно, он зашел бы намного дальше, если бы неожиданное таяние льдов не преградило ему путь. …В свою очередь, лейтенант Локвуд собирался в поход к полюсу. Совершив несколько тренировочных вылазок по окрестностям форта Конгер, офицер объявил о готовности. Грили приказал ему продолжить исследования лейтенанта Бомона с «Дискавери» на северо-западе от Гренландии. Бомон, вынужденный остановиться, вроде бы разглядел вдалеке неизвестные земли. Ему казалось, что эти земли вполне достижимы. «Наверняка, — сказал Локвуду Грили, — этот путь позволит вам зайти гораздо дальше, чем лейтенант Маркем прошел по паковым льдам. Идите вперед смело и решительно, как подобает офицеру Сигнального корпуса! Не забывайте, генерал Хейзен рассчитывает на ваше мужество; звездно-полосатый стяг должен развеваться за широтами, завоеванными британским львом!» После неудачной попытки, только распалившей его отвагу, 16 апреля лейтенант отправился в путь в сопровождении одного эскимоса и сержанта Брейнарда, чье имя, несомненно, заслуживает упоминания вместе с его собственным славным именем. Поклажа на санях состояла из провианта на двадцать пять дней для трех человек и восьми собак, одежды, палатки и инструментов для расчистки дороги. Несмотря на усердие четвероногих помощников, к привалу люди полностью выбивались из сил; приходилось не только тянуть сани, но еще то и дело разгружать их, чтобы пройти трудные места, разбивать лед, раскапывать снег… Уже в виду земель, обнаруженных когда-то лейтенантом Бомоном, Локвуд заметил, что лед во многих местах рассечен паутиной трещин, где бурлила чистая вода. У Локвуда возникла вполне естественная мысль измерить глубину, но, даже вытравив на всю длину трехсотметровый лот, он не достал дна. Эти трещины, как решил Локвуд, обязаны своим происхождением мощным течениям, которые начинаются у берега и загибаются затем к югу. Происхождение же самих течений американский офицер объяснил сильными приливами, которые порождаются только обширными водными пространствами. Отсюда Локвуд сделал вывод о весьма скромных размерах земель к северу от Гренландии, а также предположил, что полюс расположен посреди океана. Третьего мая трое людей остановились у мыса Британниа, а 5 числа они продвинулись уже гораздо дальше лейтенанта Бомона. На краю обрыва Локвуд построил пирамиду из камней, оставив часть провианта и лишние вещи; затем он продолжал свой путь то по льду, то по суше. Он первым из европейцев побывал у берегов двух заливов, которым дал имена Чиппа и Норденшёльда; 10 мая после ошеломляющего двадцатидвухмильного перехода он открыл фьорд, названный им в честь капитана Де-Лонга, и вышел к острову Марри. Здесь он также возвел керн, подтверждающий его открытие, и 14 числа отправился дальше. Локвуд, Брейнард и эскимос отважно шли вперед, как вдруг соплеменник спутника доктора Пави воскликнул: «Море! Море!» И в самом деле, перед путешественниками разверзлась широкая протока, преградившая им путь точно так же, как и доктору Пави. Вынужденные отступить, Локвуд и Брейнард высадились на остров, которому Грили позднее дал имя Локвуда. Они построили еще одну каменную пирамидку, а затем лейтенант по звездам и солнцу определил широту: 83°23′. Итак, американцы на три минуты превзошли результат английской экспедиции! Возвращение прошло без особых происшествий и трудностей, и можно представить, какой теплый прием оказали победителям товарищи, остававшиеся в форте Конгер. …Тем временем лето катилось к концу, а новостей из Америки все не было. Пришла зима, из осторожности пришлось урезать рацион. Среди зимовщиков, особенно среди простых солдат, появились симптомы не то чтобы неподчинения, а скорее упадка сил. Грили пришлось строго наказать двоих-троих провинившихся, чтобы поднять боевой дух остальных. С другой стороны, не было никакой возможности подготовить склады с провиантом для походов будущей весны, поскольку «палеокристический» океан капитана Нэрса упорно не желал замерзать вплоть до октября. Зимовка 1882 / 83 годов оказалась более трудной, чем первая, в том смысле, что американская экспедиция уже лишилась энергии и духа самоотверженности; Локвуд, достойный помощник своего командира, хотел было возобновить исследования, но ему это не удалось. В пресловутом океане вечных льдов там и тут плескались волны. Паутина водных улиц и авеню, преградившая в прошлом году дорогу к полюсу отважному лейтенанту Сигнального корпуса, разрослась еще больше, протянув отдельные ниточки даже к мысу Вашингтона! Этого препятствия оказалось вполне достаточно, чтобы остановить бесстрашного человека, поначалу зашедшего дальше англичан на пути к вершине планеты! Какое невезение, что в свое время неутомимые британские моряки, прекрасно оснащенные шлюпками и средствами передвижения, столь полные отваги и благородного энтузиазма, не встретили вместо непроходимых нагромождений палеокристических торосов эту сеть проток, этот полусвободный океан, с которым они могли легко справиться! Наступило короткое заполярное лето; лейтенант Грили, не желая сидеть третью зиму в форте Конгер, решил оставить бревенчатый дом и любой ценой добраться до места, где он назначил рандеву тем, кто отправится на поиски экспедиции. Как вы помните, речь идет об острове Литлтон, расположенном чуть южнее 79-й параллели, тогда как форт Конгер находился чуть южнее 82-й; итого отряду Грили предстояло пройти около трех градусов[123]. Девятого августа 1883 года, когда льды еще продолжали таять, Грили, располагавший только тремя лодками и катером с паровым двигателем «Леди Грили», дал сигнал к отправлению. Из-за недостатка места с собой взяли только провиант и самое необходимое; пришлось оставить даже ценные вещи. 26 августа, когда отряд находился на траверсе мыса Хоукис, льды сковали катер, тянувший на буксире маленькую флотилию. Исследователям пришлось тащить лодки и катер по льду. С 29 августа по 10 сентября отряд медленно продвигался на юг по бассейну Кейна. 10 числа, неподалеку от острова Бейч, Грили решил бросить катер и шлюпки, оставив при себе только одну маленькую лодку. 29 сентября Грили добрался наконец до мыса Сабин, расположенного напротив острова Литлтон, в точке рандеву. Но провианта осталось всего на тридцать пять дней! Без промедления Грили отправил на оконечность мыса сержанта Райса и одного эскимоса, дабы они осмотрели керн, где вспомогательная экспедиция согласно договору должна была оставить весточку и провиант. Через неделю двое людей вернулись с письмом, написанным 24 июня предыдущего года офицером «от кавалерии» Гарлингтоном, командовавшим экспедицией. Письмо информировало Грили, что «Протеус», раздавленный льдами, пошел ко дну со всем грузом между мысом Альберт и мысом Сабин. Дальше Гарлингтон сообщал, что тем не менее ему удалось оставить пятьсот дневных рационов в трех милях от мыса Сабин; там же следует искать еще двести пятьдесят рационов с корабля, заходившего в эти воды в 1882 году. Гарлингтон с любезной непринужденностью закончил свое послание банальными заявлениями о безграничной преданности, добавив, что, дождавшись американского парохода «Янтик», он отбывает в Америку. Локвуд принялся искать обещанные пятьсот рационов, но нашел только сотню. Еще один склад содержал всего шестьдесят три килограмма мяса! И все! Больше ничего, кроме наилучших пожеланий доблестного кавалериста. После столь благородного поступка посланца родины пришлось еще больше урезать пайки, что было очень нелегко из-за ужесточившихся морозов, и приступить к постройке зимнего убежища. Убежище соорудили из одной четырехугольной стены и парусиновой кровли, опиравшейся на каркас из весел, поставленных параллельно и перевязанных веревками; крышей служила последняя лодка, повернутая килем в небо. Все это засыпали толстым слоем снега, весьма сомнительной защитой от кусачего мороза. К 23 ноября стройка закончилась. Беда стояла на пороге жилища. Несмотря на жесткую экономию, уголь быстро подошел к концу. Тогда постепенно сожгли две лодки, найденные неподалеку от места зимовки, и отказались от ламп, чтобы сберечь топливо. Бедные солдаты проводили почти все время в темноте; скорчившись в меховых спальных мешках, они, как изголодавшиеся псы, мучительно поджидали часа кормежки. Еще недавно столь мужественно переносившие все тяготы, зимовщики вскоре начали подозревать друг друга в нечестной дележке, ревновать к каждому куску, а то и красть с убогого стола жалкие крохи, которые никак не могли насытить их стонавшие желудки. «Жир для ламп вызывал поистине непреодолимое вожделение. Помешать кому-либо съесть украдкой ложку масла становилось все труднее и труднее. Словно в результате колдовского превращения, человек доходит до такой степени измождения, что эта мерзкая субстанция кажется невообразимым лакомством». Вскоре пища становится всепоглощающей навязчивой идеей. Разговоры неизбежно сводились к будущему пиру. Кто-то воображал жирный кусок тюленьего мяса, другой мечтал о бараньей вырезке! По мере того как голод усиливался, скудные трапезы становились предметом зависти, а затем и ссор, подобно тому как звери дерутся из-за каждой косточки или сухожилия. Поначалу повар, запускавший руку в котелок, не утруждал себя задачей донести до каждого его пайку и ее передавали друг другу сами солдаты. Но после резкого уменьшения рациона пришлось отказаться от этого процесса распределения, так как каждый кусок вызывал слишком сильный соблазн у того, через чьи руки он проходил. Двоих зимовщиков, один из которых, Генри, впоследствии трагически умер, заподозренных и почти уличенных в краже продуктов, подвергли строгому карантину. Но рядом с позорными поступками, опускавшими род человеческий до уровня изголодавшейся скотины, находились достойные восхищения самоотверженность и самопожертвование. Примером тому служит сержант Райс, посланный с одним из коллег, Элисоном, на поиски провизии, оставленной у мыса Изабелла англичанами. Беднягу Элисона терзали голод и жар, мучила невыносимая жажда, и, несмотря на предупреждения товарища, он съел несколько пригоршней снега. Вскоре его рот и горло пылали, в то время как конечности парализовало холодом. Он упал, оцепенев от мороза. Райс привел его в чувство, растерев чуть не до крови, закутал в меха и, слишком слабый, чтобы нести или тащить Элисона, сделал двадцатикилометровый переход до лагеря за помощью. Элисона спасли, но его могучее здоровье было безвозвратно подорвано, и вскоре он умер. К тому же, несмотря на все старания Райса, он все-таки обморозился, и доктору пришлось ампутировать ему пальцы на ногах. В довершение всех бед обнаружилась цинга. Сначала она набросилась на одного из солдат, Кросса, и молниеносно, за несколько дней, довела его до могилы. В то время, когда умирала эта первая жертва цинги, топливо подходило к концу. Лейтенанту Грили пришла в голову мысль сжигать вместе с деревом старую кожу. Но доктор Пави возразил, заметив, что кожа, если ее хорошенько вымочить, затем прокипятить и поджарить, становится вполне съедобной. И кожу оставили про запас! Огонь теперь зажигали раз в сутки, во время вечерней трапезы. Все остальное время люди проводили, закутавшись в меха, как дикие звери. Семнадцатого февраля выглянуло солнце, но зимовщики по-прежнему опустошали последние запасы замороженного тюленьего мяса, солонины, луковичного порошка и овощных консервов. Охота не приносила ни крошки! 21 марта Локвуд приступил к математически точной дележке последнего куска окорока. И вдруг лампа, смутно освещавшая берлогу зимовщиков, почему-то погасла! Окорок моментально исчез, украденный кем-то из доходяг! Последовала жуткая сцена; все обличали Генри, уже замеченного ранее в подобного рода проделках грубого геркулеса, чье исполинское телосложение почти не изменилось к худшему. Генри яростно протестовал; отступая и ругаясь на чем свет стоит, он забился в угол, и улику обнаружили в плевательнице! Товарищи потребовали немедленно линчевать виновного, особенно после того как следственная комиссия, назначенная лейтенантом Грили, установила, что этот прощелыга сохранил цветущий вид только благодаря неоднократным и дерзким кражам. Грили ограничился только предупреждением; в третий раз, сказал он, прощения не будет, и вор подвергнется серьезному и неотвратимому наказанию. В конце марта Кристиансен, один из эскимосов, умер, как раз в тот момент, когда все рассчитывали на его искусство охотника. Тогда же Грили отправил сержантов Райса и Фредерика на мыс Изабелла — забрать полторы сотни фунтов мяса, которые остались там из-за болезни Элисона. Два героя не согласились, чтобы им увеличили рацион, несмотря на трудную дорогу. Через четыре дня Фредерик вернулся в лагерь еле живой. Один! Его верный друг, сержант Райс, умер от кровоизлияния, вызванного переохлаждением. Фредерик сбросил тело в трещину во льдах, чтобы спасти его от посягательств белых медведей, и принес документы и фотографии товарища, чтобы передать их впоследствии семье усопшего. И поистине поразительный, среди взаимных притязаний, которые скоро станут невыносимыми, факт: Фредерик, чья самоотверженность растрогала до слез его командира, не дотронулся до пайка погибшего, чтобы живые справедливо разделили его между собой. Меж тем за три дня скончались еще трое: один солдат, сержант Джевелл и мужественный лейтенантЛоквуд, побивший рекорд англичан… Голодная смерть! Одиннадцатого апреля сержант Брейнард еле дотащился до двери и, выглянув наружу, пробормотал, запинаясь: «Медведь!» Трое самых крепких похватали ружья и погнались за зверем, чья туша обещала спасение или, по меньшей мере, успокоение голодных спазмов в желудке. Один из них быстро обессилел и упал по дороге; но эскимос Йенс и сержант Лонг упрямо шли по следу. Наконец Йенс выстрелил и серьезно ранил косолапого. И все-таки тот ушел бы от смерти, если бы не Лонг; чтобы лучше прицелиться, сержант снял перчатку, невзирая на обжигающий на морозе металл, и, оставив на стволе полоску кожи, метким выстрелом добил зверя. Впрочем, не в первый раз уже отважный солдат спасал экспедицию своими дерзкими действиями, во время которых он не жалел жизни для общего блага. Медведь дал двести килограммов чистого мяса, не считая потрохов, сохраненных зимовщиками целиком до последнего атома. На следующий день Лонг подстрелил тридцатикилограммового тюленя, а Йенс погнался за шестью другими ластоногими на каяке и, слишком ослабевший для того, чтобы удержать против волны хрупкую лодчонку, перевернулся и утонул в открытом море. Сержант, к сожалению, не мог что-либо предпринять для его спасения. С того момента как погиб Йенс — последний добытчик-эскимос, мучения зимовщиков стали столь жестокими, что они дошли до такого, что невозможно извинить даже голодным безумием. Впоследствии утверждали, что выжившие растягивали свою агонию, пожирая тела умерших товарищей… Меж тем неисправимый ворюга Генри украл спирт, предназначенный для лампы. Два следующих дня он пьянствовал, не в силах даже держаться на ногах. Умирающий Грили едва уговорил остальных помиловать беднягу. Чувствуя, что у него больше нет сил на выполнение командирских обязанностей, он назначил своим преемником сержанта Брейнарда. Затем он приказал, как бы объявив последнюю волю, сержантам Брейнарду, Лонгу и Фредерику следить за Генри и в случае поимки при еще одной попытке кражи расстрелять. И уже на следующее утро Генри уличили в хищении «штанов из тюленьей кожи», которые должны были кормить экспедицию целые сутки!.. Приговор привели в исполнение. В этот день угас доктор Пави, затем умерли рядовые Бендер и Гардинер… После смерти доктора умерших уже не хоронили; вернее, люди настолько ослабели, что только имитировали погребение, оттащив умерших на несколько шагов и сбросив в трещину… Вскоре в живых осталось семеро. Семеро из двадцати четырех человек, считая двух погибших эскимосов. Они дышали с трудом, не могли снова поднять палатку, опрокинутую ураганом; умирающие проводили все время в неподвижности, закутавшись по двое в один меховой спальный мешок, утоляя пожиравшую их жажду только льдом, растопленным в маленьком каучуковом мешочке, который они держали под мышкой. Двадцать второго июня все они пребывали уже неподалеку от врат вечности, но вдруг совсем рядом раздался свисток парохода. В то же время послышались голоса друзей, с тревогой выкрикивавшие имя Грили. Уцелевших в жуткой арктической трагедии спас отважный американский капитан Шли, посланный на помощь — увы! — слишком поздно. Вот имена тех, кто выжил: Грили, начальник экспедиции, сержанты Лонг, Брейнард и Фредерик, повар Бидербик и рядовой Коннелл. Еще несколько дней, и ни один из них не ускользнул бы от лап смерти. Капитан Шли приказал извлечь все четырнадцать трупов, так как тело Райса покоилось где-то в ледяной пустыне, а тело казненного Генри решили оставить на месте. Всех усопших положили в гробы и вместе с оставшимися в живых увезли в Америку. В примечательном произведении под названием «Голодная смерть на Северном полюсе» господин В. де Фонвьей как всегда талантливо рассказывает о несчастьях, постигших экспедицию Грили, и описывает величественный прием, оказанный героям и жертвам… Что особенно важно, а главное — очень грустно, там же приведено ужасное откровение одной американской газеты относительно жуткой подробности, о которой до сих пор хранилось молчание. Газета поведала широкой общественности, что гробы якобы оказались наполовину пустыми и что все тела, которым отдавали последние почести, были частично обглоданы…[124]

Луи Буссенар ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ОКЕАНИЯ
ГЛАВА 1
Общие сведения. — Первооткрыватели. — Магеллан. — Фернандес де Кирос. — Луис Ваэс де Торрес. — Пармантъе. — Ле-Мер и Схоутен.Океания — пятая часть света, которую мы посетим. У нее нет иных границ, кроме самого огромного, безбрежного океана, коему она обязана своим названием. Из толщи вод один за другим появляются тысячи и тысячи островов и островков, таких разных, таких непохожих друг на друга. Есть среди них очень большие и бесконечно малые, плодородные и начисто лишенные растительности, населенные людьми и совершенно необитаемые. Океания тем именно и отличается от других частей света, что состоит из неисчислимого множества островов. Начиная с Австралии, имеющей размеры настоящего континента, и кончая коралловым атоллом или едва выступающим над поверхностью вод рифом, все части Океании навечно разделены бушующими волнами, населены племенами, относящимися к разным расам, и жители различных островов зачастую ничего не знают друг о друге. Некоторые ученые эмпирическим[1] путем вычислили размеры Океании и утверждают, что она едва превосходит по площади Европу. Эти великие любители точности считают, что площадь Океании составляет 10 631 000 квадратных километров[2]. Разумеется, это весьма спорная цифра, но мы все же ограничимся ею до лучших времен, памятуя о том, как трудно произвести триангуляцию[3] бесчисленных островков, из коих и состоит Океания. Несмотря на то, что площадь Океании, зафиксированная в атласах и документах, достаточно мала, она все же занимает третью часть нашей планеты[4], и вся эта россыпь островов, островков и рифов вписывается приблизительно в гигантский овал, чья «продольная ось» пересекает экватор чуть севернее Новой Гвинеи и одним своим концом упирается в одинокие скалы Салас-и-Гомес. В давние времена наш прославленный Дюмон-Дюрвиль разделил всю Океанию на четыре части, и он, несомненно, имел на это право, так как обладал всеми необходимыми знаниями. С тех пор утекло много воды, и кабинетные ученые внесли в это деление Океании свои изменения, что весьма и весьма достойно сожаления. По Дюмон-Дюрвилю же части эти таковы: 1. Малезия, представляющая собой скопище островов, примыкающих к Азии, и отделенная от Индо-Китая и самой Поднебесной империи[5] Малаккским проливом и Китайским морем[6]. В состав Малезии входят: Борнео, Суматра, Ява, Тимор, Сумбава, Бали, Филиппины, Молуккские острова и остров Целебес, иначе именуемый Сулавеси. 2. Меланезия — «мир черных островов», заселенных негроидными племенами. В ее состав Дюмон-Дюрвиль включил Австралию, Тасманию, Новую Гвинею, Новые Гебриды. 3. Микронезия — «мир малых островов», состоящая из малюсеньких островков, включала в себя Марианские острова, Каролинские острова, Маршалловы острова и острова Гилберта. 4. К Полинезии, по мнению Дюмон-Дюрвиля, относились Гавайские острова, Маркизские острова, острова Общества, острова Тонга, Фиджи, Новая Зеландия и т. д. Как я уже говорил, позднее, под влиянием немца Петерманна, в столь четкое и рациональное деление были внесены некоторые изменения, приведшие к тому, что Полинезию перепутали с Микронезией и в конце концов разрушили стройную систему Дюмон-Дюрвиля. Спрашивается, для чего и почему? Облик этой части света очень интересен и разнообразен. Здесь живут представители различных рас и народов, растительность и животный мир соседних островов часто поражают воображение своей несхожестью, их геологическое строение тоже весьма различно. С этой точки зрения, Океания — явление удивительное, просто уникальное: большая часть островов представляет собой гигантские глыбы базальта или известняка. Скорее всего, это острова вулканического происхождения. На некоторых мы и сейчас видим жерла давно потухших вулканов, но зато их собратья до сих пор содрогаются от страшных конвульсий, терзающих недра земли, и потоки раскаленной лавы опустошают их. Некоторые же острова представляют собой настоящие коралловые кольца, на которых произрастают кокосовые пальмы с огромными перистораздельными листьями и тяжелыми плодами. Эти острова созданы крохотными микроорганизмами, что в изобилии обитают в теплых морях и возводят не только отдельные рифы, но и целые цепи грозных скал, что медленно, но верно вырастают из толщи воды, так как в строительном материале недостатка не бывает никогда. Постепенно волны, принося с собой песчинки и останки морских организмов и растений, делают свое дело: появляется плодородный слой, а вместе с ним и самая простейшая флора, представленная в основном однодольными и бессемядольными растениями. Ветры на этих необъятных, воистину бескрайних просторах дуют обычно с востока на запад. В том же направлении движутся и течения. Таким образом потоки воды и воздуха следуют в обратном направлении относительно вращения земного шара. Здесь почти постоянно царствуют восточные ветры, но так только говорится, ибо потоки воздуха покорно следуют за мощными морскими течениями. Наибольшую силу ветры, называемые пассатами[7], набирают в проливах между островами, так как те в основном тоже расположены в направлении «восток — запад». В районе Филиппин и около Новой Каледонии скорость течения чрезвычайно велика, а так как острова эти довольно крупные и сильно накаляются под обжигающими лучами солнца, то это приводит к тому, что здесь зарождаются довольно сильные ветры, дующие в противоположном направлении. Эти западные ветры властвуют у берегов Австралии. Каждый остров в Океании постоянно овевает морской бриз. Если остров большой, то по ночам ветер чаще всего дует со стороны суши в сторону моря, а днем — наоборот. Как я уже говорил, земля здесь сильно прогревается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому там, где берега по каким-либо причинам заболочены, над сушей поднимается страшное зловоние, и эти ядовитые испарения чрезвычайно опасны для человека. Следует, однако, отметить, что такое явление встречается довольно редко. Болота отмечены только на ничтожном количестве островов, и все они хорошо известны путешественникам. В основном же климат здесь просто чудесный, в особенности на маленьких островках. В Океании царит вечная весна, которая дарит этим землям воистину поразительное плодородие. Растительность островов Океании очень похожа на ту, что можно встретить в Индии и Индокитае, однако здесь произрастают и такие травы, кустарники и деревья, что свойственны только этому уголку мира. Мы найдем на этих райских островах сахарный тростник, стираксовое дерево, дающее росный ладан для богослужений, различные сорта перца, камфарное дерево, кокосовую пальму и хлебное дерево. В изобилии растут здесь бананы, маис, батат[8], различные пряности и тропические фрукты. На Зондских островах, на Филиппинах, в Новой Гвинее и на Молуккских островах собирают богатый урожай риса. Стройные пальмы самых разных видов растут практически повсюду. В водах морей, омывающих острова Океании, водится неисчислимое множество рыб и ракообразных, разнообразие видов которых просто невообразимо. Они служат пищей племенам, населяющим острова. Что же касается млекопитающих, то в Малайзии водятся в основном те же самые, что встречаются в джунглях Юго-Восточной Азии. В Полинезии же млекопитающих практически нет, но зато в Австралии, как мы увидим далее, фауна чрезвычайно интересна. Таких зверей нет больше нигде на земном шаре. Следует также сказать, что на островах Океании гнездится огромное количество птиц и таким разнообразием пернатых не может похвастаться больше ни одна часть света. Люди, населяющие эти восхитительные, чудесные, изумительные острова, могут быть разделены на две большие группы. Первые относятся к расе с оливково-желтым цветом кожи, вторые — к черной, причем первые скорее всего происходят от малайцев, которые когда-то, похоже, населяли все острова от Мадагаскара до берегов Америки. Языки различных племен восходят к общему праязыку, да и обычаи и обряды этих племен тоже сходны. Большинство языков — письменные, и все эти племена имеют некое подобие литературы, но они страдают ужасным, гнуснейшим из пороков, так как… являются каннибалами, то есть поедают себе подобных. Пожалуй, нигде в мире люди не представляют собой такого странного смешения цивилизованности и самого дикого варварства, ужасающей жестокости и поразительной мягкости. Происходят они скорее всего с островов Зондского архипелага, но живут сейчас по всей Полинезии. Негроиды, похоже, являются аборигенами этих мест. Они стоят на самой нижней ступени человеческого развития. Весь их облик, следы невероятного вырождения на их лицах, нищета, в которой они прозябают, каннибализм, ярыми поклонниками коего они являются, их полнейшее невежество и отсутствие всякого представления о самых грубых и примитивных формах искусства, а также яростное сопротивление любым попыткам приобщить их к цивилизации способны вызвать лишь жалость и отвращение. Вообще же они осуждены самой судьбой бесследно исчезнуть с лица земли в недалеком будущем в ходе битвы за выживание, которая становится с каждым часом все более жестокой и непримиримой. Каждая из рас может быть разделена еще на два типа. К расе людей с желтовато-оливковым цветом кожи относятся малайские и полинезийские типы, к негроидам — австралийский тип и тип чернокожих океанийцев, населяющих некоторые острова. Малайцы близки к китайцам: их роднят строение черепа, разрез глаз, широкоскулость, густые черные жесткие прямые волосы, чуть выступающие вперед челюсти. Хотя многочисленные межплеменные браки и сделали полинезийский тип отчасти чуть менее четко выраженным, все же обычно представители этого типа характеризуются наличием высокого лба и легким, весьма отдаленным сходством с кавказским типом. Однако носы у них несколько широковаты, лица крупны и скуласты, губы заметно вывернуты наружу, верхняя челюсть выступает вперед. Самыми яркими и достойными представителями этого типа являются таитяне. Кожа у них желтовато-коричневая, у женщин — гораздо более светлая, чем у мужчин. Из всех обитателей Океании жители Таити отличаются особенной красотой и тонкостью черт, а также силой характера. Негроидный тип преобладает на островах Меланезии, а также достаточно часто встречается в Полинезии и имеет все отличительные черты, присущие представителям черной расы: резко выступающие вперед челюсти, толстые губы, приплюснутый нос, короткие курчавые волосы. Зачастую они малорослы, довольно хрупкого телосложения. Все эти племена совершенно дикие, и обитают они в отдаленных и малодоступных гористых районах крупных островов. Папуасы, населяющие в основном Новую Гвинею, по мнению ученых, появились в результате смешения меланезийцев и негроокеанийцев. И наконец, австралийский тип характеризуется наличием резко выступающих скул, выпирающих вперед зубов, больших глаз, расплющенного носа, хрупкого и несоразмерно длинного тела. Кожа у австралийцев грязновато-коричневого оттенка, очень темная, но не черная, у них очень густые длинные волосы, а лица мужчин украшают довольно длинные и густые бороды, весьма жесткие на ощупь. Представители этого типа, стоящие на самой низшей ступени развития, столь же отвратительны на вид, как и обитатели Огненной Земли, но, пожалуй, достигли большей степени вырождения. Они населяют не только саму Австралию, но и другие крупные острова Океании. Например, к данному типу относятся алфурусы, намного отстающие в своем развитии от своих соседей-папуасов. Говорят, что народы, не имеющие истории, счастливы. С этой точки зрения, все жители Океании должны считаться самыми счастливыми обитателями земного шара, так как у них почти нет никаких летописей и письменных документов о своей собственной истории. Многие племена вообще не имеют никакого понятия о происхождении своего народа и ничего не знают о своем прошлом, как будто его и не было. Только у яванцев есть кое-какая литература, они сохраняют традиции письма на санскрите[9], и в памяти народа хранятся целые романы и поэмы о национальных богах и героях. На острове Ява интересная и своеобразная архитектура. Здесь можно увидеть весьма впечатляющие развалины старинных городов. Различные обряды яванцев также очень богаты и живописны. Другие малазийские народы имеют кое-какое представление об астрономии, хранят в своей памяти сказки и легенды, имеют письменные законы и установления, а также религиозные догматы, весьма, впрочем, расплывчатые. У остальных же океанийцев нет ничего! В общем и целом история этих племен и народов не позволяет дать четкое определение их происхождения. Ученые же ведут яростные споры на сей счет и будут спорить еще долго, не добавляя никаких новых фактов, способных подтвердить или опровергнуть ту или иную теорию, и ограничиваясь более или менее приемлемыми предположениями[10]. Первыми эти благословенные края посетили португальцы и их вечные соперники испанцы. В 1508 году португальцы добрались до Суматры, в 1511-м — до Борнео и Явы, а в 1513-м — до Молуккских островов. Карл V поручил Магеллану возглавить экспедицию по поиску и изучению новых земель. В 1520 году великий мореплаватель обогнул южную оконечность Америки, пересек Тихий Океан и в 1521 году подошел к большому архипелагу, названному позднее Филиппинами. Он открыл Разбойничьи острова, получившие впоследствии название Марианских в честь королевы Испании Марии-Аны Австрийской[11], но на этом его жизнь оборвалась: 27 апреля того же года он погиб на острове Зебу во время стычки с аборигенами. Под руководством лейтенанта Себастьяна дель Кано (Эль-Кано) кругосветное путешествие, предпринятое Магелланом, было благополучно завершено. Открыв острова Солор и Тимор, экспедиция обогнула мыс Доброй Надежды и 6 сентября 1522 года вернулась в Сан-Лукар, совершив, таким образом, плавание вокруг земного шара и доказав тем самым тот факт, что Земля — круглая. Это было первое кругосветное плавание в истории человечества, и Себастьян дель Кано достоин того, чтобы имя его вспоминали благодарные потомки. Вскоре отчаянно смелую попытку разведать новые земли предприняли и французы, а тот факт, что эта попытка была предпринята по инициативе частного лица, делает ее тем более похвальной. Инициатором путешествия к неизведанным землям был прославивший себя в веках уроженец Дьепа Жан Андо. В 1529 году отважный судовладелец снарядил экспедицию под руководством капитана Пармантье[12]. В море вышли два корабля: «Посвящение» и «Мысль». Во время длительного и трудного плавания Пармантье открыл Коморские острова, Цейлон[13] и еще множество мелких островков, расположенных вокруг Суматры. 29 октября 1529 года он увидел впереди по курсу Большой остров, как он назвал Суматру, подошел к берегу, а затем ступил на твердую землю. От предводителя одного из племен Пармантье получил богатые дары: рис, пряности, живых коз и странное растение под названием бетель. Он был первым, кто дал довольно точное описание этого растения: «То, что туземцы называют бетелем, представляет собой растение с довольно крупными листьями. Они употребляют его с большой пользой для себя, так как постоянно жуют эти листья до и после еды вместе с небольшим количеством извести. При этом листья дают красный сок, который со временем окрашивает зубы туземцев в черный цвет и предохраняет их от разрушения, а также помогает поддерживать во рту весьма приятный запах». К несчастью, Пармантье скончался 3 декабря от жестокой лихорадки. Потерявшая руководителя экспедиция покинула Суматру 22 января 1530 года, увозя на борту одного из кораблей шестерых туземцев, которые изъявили желание отправиться в неведомые края. Оба корабля благополучно вернулись в Дьепп, а один из океанийцев там женился и прожил еще тридцать лет. Почуяв богатую добычу, не остались в стороне и голландцы. Ловко воспользовавшись картами французов (ибо испанцы и португальцы очень тщательно скрывали свои географические открытия), голландцы основали в 1594 году компанию «для торговли с дальними странами». Взяв на вооружение карты французов Жана Роса[14], Никола Вайяна, Гийома Летеста и Жана Альфонса, они отправили в плавание в 1595 году четыре корабля, которые отошли от берегов Европы 2 апреля. Уже 11 июня голландцы благополучно высадились на Суматре и надолго задержались там, несмотря на всяческие интриги весьма неодобрительно воспринявших сей факт португальцев. Во время одной из схваток с туземцами на берегу Явы командующий этой небольшой эскадрой капитан Кейзер был убит, и обратно в Европу корабли привел уже Корнелис Хоутман[15]. В 1598 году новая эскадра, состоявшая из восьми кораблей, совершила плавание в теплые моря и вернулась с богатейшим грузом. На следующий год по следам своих соотечественников отправился капитан Варвейк. Он основал в Бантаме факторию. В последующие годы голландцы осуществили еще множество экспедиций, принесших баснословный доход. За три года 65 голландских судов бросали якорь у берегов архипелага, на котором голландцы вскоре укрепились окончательно и бесповоротно. В 1600 году эти неустрашимые купцы добрались до Японии, еще через два года нанесли на карту берега Аннама (Вьетнама) и Камбоджи, заключили союз с малайскими правителями, чтобы не только успешнее торговать, но и всеми возможными способами бороться с испанцами и португальцами. В конце концов голландцы одержали полную победу, монополизировали там всю торговлю, а в 1619 году основали город Батавию (Джакарту)[16]. В то же время не бездействовали испанцы и португальцы. Блестящую карьеру сделал бывший лоцман прославленного капитана Менданьи, испанец Фернандес де Кирос[17]. В жизни этого одержимого одной пламенной страстью человека, отчасти, быть может, даже и безумного, было много взлетов и падений, но не было ничего заурядного, банального, что верно, то верно. Совершив ряд путешествий в Мексику и Перу, он вернулся в Испанию и отправился в Рим пешком, как простой паломник. В то время он жил подаянием, питался фруктами, травами и корешками. Несомненная набожность, столь явно проявившаяся во время его паломничества в Рим, побудила короля Филиппа III благосклонно взглянуть на де Кироса. Король дал ему корабли и предоставил кредит[18]. Во главе эскадры из трех кораблей де Кирос отбыл в Перу и пробыл в этой чудесной испанской колонии столько, сколько понадобилось для отдыха команды и для того, чтобы пополнить припасы, а в декабре 1605 года отправился в Океанию[19]. Он добрался до Новых Гебрид, дал названия многим островам, «основал» (на бумаге) город Новый Иерусалим, столицу так называемых земель Эспириту-Санто[20], предусмотрел наличие в этом городе коррехидоров[21] и алькальдов[22], устраивал для своих людей пышные празднества, щедро награждал их, основал Орден рыцарей Святого Духа, распределил посты, установил непомерные городские налоги и вообще вел себя так, как будто город существовал на самом деле. Он без пользы растрачивал время и припасы. Однажды де Кирос едва не умер, съев на обед ядовитую рыбу. Вместе с ним едва не отдали Богу душу почти все его люди, но, к счастью, все обошлось. Вернулся де Кирос в Акапулько совершенно нищим, как блудный сын, который, как говорят французы, жжет свечу с двух концов, то есть проматывает все до последнего гроша. Вот так, без единой медной монетки в кармане, он отправился в Испанию, встретив у мексиканских властей весьма холодный прием. Обреченный на весьма неприятную роль просителя, де Кирос много раз умолял короля об аудиенции, но ему было отказано. Великий мореплаватель был вынужден продать стяг, под которым он плавал к «Земле Святого Духа», писать мемуары, занимая у сочувствующих жалкие гроши на покупку чернил, бумаги и перьев и питаясь лишь хлебом, жидким супом и баклажанами. — Я научился, — говорил он, — находить в церкви укромный уголок, где я мог бы встать на колени, да так, чтобы никто не видел, какие потрепанные и дырявые у меня сапоги. Я не могу умолчать и о том, что однажды один зоркий болтунишка сказал, что, мол, у второго Колумба очень плохая обувь. Я научился также держать мою шляпу таким образом, чтобы никто не видел изодранную в клочья подкладку, научился не поднимать руки, чтобы люди не видели, в какие лохмотья превратились мои рукава, не распахивать плащ, чтобы не было заметно, во что превратился камзол. Как писал де Кирос в своих мемуарах, у него было всего две рубашки. Но из этих двух нельзя было сшить одну приличную, шутливо замечал он. Де Кирос не скрывал даже и того, что его страшно мучили паразиты. Да, знаменитый мореплаватель обовшивел! И ловлей этих мерзких тварей он занимался более двух лет! Разумеется, денег на стирку белья у де Кироса не было, поэтому он ограничивался тем, что выворачивал воротник и рубашку на другую сторону. Можете представить себе, какого цвета стали через два года такой жизни интимные части его туалета… Должно быть, они были чернее грязи… В конце концов король сжалился над де Киросом и дал ему небольшую пенсию. Через пять лет тот снова отправился в Перу, где и умер в безвестности[23]. Больше он уже не путешествовал. Несмотря на все свои фантазии и безумства, Фернандес де Кирос был одним из самых отважных, умелых и удачливых мореплавателей своего времени. Мы можем простить ему от чистого сердца все его сумасбродства и безудержное мотовство, к тому же искупленное долгими годами жизни в крайней нищете, без жалоб и с улыбкой на устах. Во время знаменитого плавания к «Земле Святого Духа» под командованием де Кироса была эскадра из трех кораблей. Капитаном одного из этих кораблей был Луис Ваэс де Торрес[24]. Когда де Кирос, крайне обеспокоенный плохим состоянием своего судна, был вынужден вернуться в Америку, Луис де Торрес захотел продолжить исследование новых земель самостоятельно и дошел до Молуккских островов. Во время этого путешествия в июне 1606 года де Торрес, следуя вдоль берегов Новой Гвинеи, обнаружил пролив, которому было присвоено его имя. Однако мы не можем не задать себе вопрос, было ли это открытие действительно открытием как таковым и сыграло ли оно в то время какую-нибудь роль? Ведь судя по всему, де Торрес так и не узнал, что прибрежный район, усеянный множеством рифов и подводных камней, который он благополучно миновал, является широким проливом, отделяющим Новую Гвинею от суши, расположенной немного южнее. Одним словом, похоже, де Торрес даже не заподозрил, что совсем рядом находится Австралия. Несколько лет спустя два голландца, Якоб Ле-Мер[25] и Виллем Схоутен[26], отплыли от острова Тессел и в октябре 1616 года достигли берегов острова Ява. Это плавание было долгим и очень трудным, но один из мореплавателей сделал важное открытие, прославившее его имя. Дело было в том, что Ост-Индская компания запрещала любым судам, не принадлежащим самой компании, проходить через Магелланов пролив. Ле-Мер и Схоутен заключили союз и объединили свои усилия именно с целью найти проход, расположенный южнее. И действительно, они нашли его, на самом краю Огненной Земли, и дали ему имя Ле-Мера, которое он носит до сих пор. Два дня спустя они увидели самую южную оконечность Огненной Земли и назвали ее в честь родного города Ле-Мера мысом Хоорн или, следуя современной орфографии, мысом Горн[27]. Но вклад Ле-Мера и Схоутена в изучение географии не ограничился этим великим открытием, ибо они были первыми, кому удалось пройти вдоль всего или почти всего северного берега Новой Гвинеи.
ГЛАВА 2
Экспедиции голландцев. — Абель Тасман. — Якоб Роггевен.Единственным значительным результатом всех разрозненных исследований, проведенных на просторах Великого океана в XVII веке, как считает Вивьен де Сен-Мартен, было открытие голландскими мореплавателями западной части Новой Голландии, или Австралии, как называют эти земли теперь, от залива Карпентария на севере до середины южного берега. Эти необъятные просторы бороздили португальцы, они видели эти земли, но в те времена ни один документ не был опубликован и не засвидетельствовал их первенства в открытии новых территорий, ибо политика Португалии в том и заключалась, чтобы как можно тщательнее скрывать всякие географические открытия. Таким образом, плавания португальцев не оказали никакого влияния на ход событий и исследований. На страницах истории мы можем упоминать о них лишь как о курьезах, не повлиявших на ход общественного развития. Однако открытия голландцев, совершенные в XVII веке, имели огромное значение. Правда, мы нигде не находим никаких воспоминаний или рассказов непосредственных участников этих событий, но, тем не менее, результаты великих географических открытий зафиксированы на картах, созданных почти одновременно с самими открытиями. Сравним карты Южных морей, как говорили в те времена, но такие, что были созданы до и после XVII века. Возьмем, например, карту мира Ортелия или Меркатора, датируемые 1587[28] и 1589 годами, и положим рядом карту Гийома Делиля, созданную в 1704 году. На двух первых мы не найдем никаких признаков наличия Австралийского континента, за исключением лишь едва обозначенной береговой линии какого-то куска суши к югу от Большой Явы и названной частью Южной земли. В то время как на последней уже четко нанесены контуры западной части Новой Голландии. Как я уже говорил, нам неизвестны подробности того, как были сделаны эти открытия, так как никакие сведения о плаваниях голландцев не были опубликованы, но на картах того времени зафиксированы их результаты. Каждая новая карта дает нам пищу для размышлений, ибо на ней изображены все новые и новые куски суши, которым даны имена исследователей и их кораблей, и все эти имена голландские. Как мы увидим, большую часть открытий голландцы совершили между 1605 и 1630 годами, в период, когда они основали первые свои поселения на Яве и на Зондских островах. В XVI веке, во времена владычества португальцев, вся суша, которую обнаружили к югу от Зондских островов, называлась Большой Явой. После того как голландские мореплаватели совершили свои открытия, ее переименовали в Большую Южную Землю. Название Новая Голландия закрепилось за этой территорией несколько позднее и долгое время превалировало над всеми прочими. Впервые оно упоминается в 1655 году. В этом нет ничего удивительного, так как голландцы после основания Батавии, столицы заокеанских владений, где находилась резиденция колониального правительства, стали хозяевами всей Океании. Первоначально целью голландской Ост-Индской компании было как можно большее распространение своего могущества в сфере торговли, но, после того как она получила монопольное право торговать со многими островами, руководство компании приняло решение о необходимости иметь в заморских владениях генерал-губернатора с почти не ограниченной властью, имеющего право объявлять войну и заключать мир. Основание Батавии явилось отправной точкой для многочисленных исследований голландцами неизведанных земель с целью распространения влияния Голландии на всю Малезию. Именно желанием найти новые земли и было обусловлено замечательное кругосветное плавание Абеля Тасмана. В те времена бытовало мнение, что Большая Южная Земля, являвшаяся объектом всеобщего нескрываемого вожделения, составляет часть огромного Южного континента, расположенного (волей воображения) как бы в противовес Европе и Америке в другой части земного шара. В 1622 году два корабля, «Пера» и «Арнем», подошли к земле, которая получила название «Земля Арнема». В 1628 году капитан Карпентер вошел в залив, которому было дано его имя — залив Карпентария[29], а в 1627 и 1628 годах торговые суда, сбившиеся с курса во время шторма, по чистой случайности подошли к Земле Нейтса. В 1636 году голландские моряки заметили какую-то землю к западу от Земли Арнема. В 1641 году генерал-губернатор Ван-Димен, желая узнать, как далеко простирается Большая Южная Земля и не является ли она частью неведомого южного континента, снарядил специальную экспедицию в составе двух кораблей, командование же было поручено Абелю Янсзону Тасману, очень опытному моряку, состоявшему на службе у Ост-Индской компании. Тасман отплыл из Батавии 14 августа 1642 года. Получив формальный приказ следовать к Мадагаскару, он бросил якорь в виду острова Маврикий 5 сентября, оттуда пошел прямо на юг, а затем повернул на восток, в направлении тех земель, которые он хотел исследовать. Корабли Тасмана оказались примерно на 45° южной широты, то есть на 10 градусов южнее юго-западной оконечности Австралии. Взяв курс на ост-норд-ост, Тасман оказался 24 ноября в виду берега какой-то неведомой земли. Первооткрыватель назвал ее Вандименовой Землей в честь генерал-губернатора голландских колоний, но впоследствии это название было заменено новым, гораздо более оправданным с исторической точки зрения, так что теперь эти земли именуются Тасманией. То был самый большой остров, соседствующий с Южным континентом, но члены экспедиции не заметили пролива, отделяющего его от самой Австралии. Далее Тасман пошел вдоль берегов еще неизведанных земель и вскоре обнаружил довольно удобный залив, где и бросил якорь, дав самому заливу имя Фридриха-Генриха. Члены команды уже приготовились к высадке на берег, когда услышали некие звуки, отдаленно напоминавшие пение труб, что их весьма удивило. Вскоре страх прошел, и матросы ступили на сушу. Но каково же было их удивление, когда почти у самой воды они увидели два дерева обхватом не менее двух саженей каждое, причем самые нижние ветви располагались на расстоянии не менее шестидесяти футов от земли. Однако не столько сам размер деревьев поразил бывалых моряков, а то, что в коре этих гигантов были сделаны зарубки, предназначенные явно для того, чтобы человек мог забраться на вершину, и располагались эти зарубки на расстоянии пяти-шести футов друг от друга. Этот факт заставил Тасмана предположить, что новые земли или населены настоящими великанами, или у туземцев есть какой-то особый способ взбираться на деревья. Моряки заметили, что на одном из деревьев зарубки были сделаны не далее, как три-четыре дня назад, к тому же в окрестностях были найдены следы человеческих ног, а также следы каких-то крупных животных, предположительно, тигров. На берегу моряки обнаружили невиданные ранее очень высокие деревья, выделявшие какую-то липкую смолу (камедь). Эти деревья росли на большом расстоянии друг от друга, а под ними не было ни кустов, ни молодой поросли. По обычаю, существовавшему у моряков — открывателей новых земель, Тасман объявил новую территорию владением Ост-Индской компании и в знак закрепления земли за Голландией приказал вкопать в песок короткую мачту с небольшим флажком наверху, на котором все участники экспедиции поставили свои подписи. Тасман покинул залив Фридриха-Генриха 5 декабря, взял курс на восток и через двенадцать дней добрался до другого залива, оставив на северо-востоке еще один неведомый остров, который он назвал Землей Штатов[30]. То была Новая Зеландия. Вскоре на берегу появились туземцы. Они были настроены будто бы доброжелательно и выказывали пришельцам видимое доверие. Туземцы эти были высоки ростом, хорошо сложены, стройны и крепки, с правильными чертами лица. Вообще же они были явно негроидного типа, хотя кожа у них была не черная, а темно-коричневая. Особенно заинтересовали мореплавателей прически аборигенов: волосы были собраны в большой пучок на макушке, а уже в сам пучок было воткнуто длинное перо. Несколько человек, немного освоившись, поднялись на борт корабля. Но напрасно моряки поверили в благодушие туземцев, ибо, когда несколько членов экипажа сели в шлюпку и направились к берегу, «гостеприимные хозяева» напали на них и троих убили. На столь подлое коварство Тасман страшно разгневался и жестоко отомстил аборигенам, пролив много крови, а само место происшествия назвал Бухтой Убийц. Эта бухта и по сию пору носит такое название, она находится на оконечности южного острова Новой Зеландии, около 40°50′ южной широты. «Вполне возможно, — писал в своем донесении Тасман, — что эти земли соприкасаются с Землей Штатов, которая соседствует с Огненной Землей, но это — всего лишь предположение. Страна эта очень красива, и все мы очень надеемся на то, что она является частью неведомого Южного континента». Направив корабль в открытое море и потеряв из виду крайнюю точку Новой Зеландии примерно на 34° южной широты[31], Тасман взял курс на норд-вест и дошел до двадцатой параллели, а затем повернул на норд-ост, чтобы вернуться в Батавию, пройдя вдоль всего северного берега Новой Гвинеи. Во время этого длительного и трудного плавания по бурному морю Тасман открыл два архипелага, хотя и не исследовал их: то были архипелаги Хорн и Фиджи. Плавание Абеля Тасмана внесло самый большой вклад в дело исследования Океании после плавания самого великого Магеллана, ибо никто еще не плавал в этих водах так долго, не сделал столь многочисленных открытий и не был так точен в своих наблюдениях. Хотя Тасман ни разу не подошел к берегам Новой Голландии, этот замечательный исследователь новых земель, практически обойдя всю Австралию по кругу, доказал ее изолированность от других континентов и таким образом решил задачу, поставленную перед ним его патронами и содержавшуюся в тайных инструкциях, полученных им перед отплытием. Еще одним важным результатом этого плавания явилось открытие Большой Земли, которую сто тридцать один год спустя капитан Кук назвал Новой Зеландией. В своем дневнике Тасман записал: «Чтобы получить полное представление об этих обширных землях, надо всего лишь разведать, не составляет ли Новая Гвинея единого континента с Большой Южной Землей, или они разделены проливами, а также узнать, соприкасается ли вновь открытая Земля Ван-Димена с одной из этих территорий или с обеими». С этой целью Тасман отправился в море со второй экспедицией и отважно приступил к осуществлению столь достойного его великого проекта. К несчастью, по неизвестным до сей поры причинам экспедиция потерпела неудачу. Мы можем только предполагать, почему это произошло, так как судовой журнал не сохранился. Но в Британском музее была обнаружена карта, на которой четко изображен путь экспедиции. Тасман, несомненно, встретил на своем пути сильные восточные ветры, которые и не позволили ему двигаться дальше, а потому он и не смог обнаружить пролив, отделяющий Новую Гвинею от Новой Голландии. Он обследовал весь залив Карпентария и разведал северный берег континента к западу от залива. На западном же побережье Новой Голландии Тасман дошел лишь до Земли Эндрахт и не рискнул отправиться дальше 25° южной широты. Несмотря на то, что Тасман не совершил более никаких великих географических открытий, имя этого мореплавателя значит в истории не меньше, чем имена Колумба и Магеллана, и навсегда останется среди тех, что занимают первые строчки в списке первооткрывателей новых земель. Хотя все великие мореплаватели были очень умелы и опытны, им не хватало знаний, столь необходимых в этой нелегкой и опасной профессии. Можете ли вы себе представить, что во времена Тасмана никто не знал, что в море можно приблизительно определить географическую долготу при помощи хронометра. Упоминание об этом способе определения долготы впервые встречается в 1663 году, то есть через двадцать лет после того, как Тасман совершил свое первое плавание. Теоретически идея, вообще-то, очень проста, ибо долгота есть на самом деле всего лишь разница во времени между двумя заданными точками, но практическое осуществление процесса точного определения долготы предполагает наличие очень точного хронометра, а часовых дел мастера были в те времена очень далеки от такой точности. Следует сказать, что задолго до Тасмана, примерно в 1612 году, один английский моряк попытался определить долготу при помощи астрономических приборов и математических вычислений. Процесс оказался сложным, долгим, не исключал возможности ошибок, так как приборы, которыми располагал англичанин, были очень несовершенны. Но эта попытка, пусть неудачная, служит еще одним доказательством того, насколько моряки были обеспокоены отсутствием способов точного определения местонахождения, считая, что это очень вредит мореплаванию. После славного имени Абеля Тасмана мы можем упомянуть еще имена Винка и Кейтца, совершивших плавание в поисках новых земель в 1663 году, а также имя англичанина Уильяма Дампира, совершившего в конце века почти двухгодичное путешествие по бурным водам Южных морей. Плавание Дампира произвело большое впечатление на его современников и имело огромный резонанс в обществе, но поразил всех англичанин скорее своими бесконечными и опасными приключениями, нежели географическими открытиями. Следует сказать, что по справедливому, хотя и несколько напыщенному определению господина Вивьена де Сен-Мартена, Дампир относится к тому же сорту людей, что и Фрэнсис Дрейк, а никак не Абель Тасман. Имена таких людей долго живут в народной памяти, и молва приписывает им все мыслимые и немыслимые подвиги, но их вклад в науку ничтожен, и человечеству не за что их благодарить… Приходится только удивляться тому, что голландцы, стремившиеся к полному монопольному господству над Океанией и к образованию там целой империи, ничего не сделали для того, чтобы пополнить знания, полученные в результате блестящих открытий Абеля Тасмана. Да, факты говорят сами за себя: ни один из отважных искателей приключений, состоявших на службе у Ост-Индской компании, не сделал серьезной попытки совершить плавание вокруг Австралии или хотя бы исследовать различные части побережья. Может быть, Нидерландской Ост-Индской компании с лихвой хватало земель, пожалованных ей королем, что было зафиксировано в королевской хартии? Но известная всем неуемная алчность компании заставляет нас усомниться в справедливости такого предположения. К тому же сам дух этой хартии свидетельствует об обратном, да и многочисленные факты тоже. Но тогда, быть может, сам вид этих необжитых и суровых мест, а также явная дикость несчастных и очень бедных туземцев, увиденных моряками, отвратили руководителей компании от намерений продолжать исследования, так как торговля здесь представляласьбесперспективной? Скорее всего, дело обстояло именно так. Подтверждением нашего предположения может служить тот факт, что именно восточная часть Австралии, гораздо более богатая по сравнению с северной и западной, и не была исследована, ибо ни разу голландцы не приблизились к берегу в этих краях. Но как бы там ни было, Австралия осталась для голландцев абсолютным белым пятном, и они ничего не узнали об этой несравненной жемчужине Океании, об этом необъятном континенте с плодородной землей, с богатейшими залежами полезных ископаемых и с очень полезным для здоровья, даже целебным, климатом. По-настоящему открыли Австралию и завладели ею англичане. Совершил же этот подвиг, обессмертив свое имя, капитан Кук. Не стоит думать, что в начале XVIII века голландские купцы утратили свою стойкость и отвагу, а также не надо воображать, что к этому времени неуемная жадность двух компаний — Ост-Индской и Вест-Индской — пошла на убыль и уступила место благоразумию. Соперничество двух компаний, существовавшее на протяжении многих лет, переросло в открытую вражду, вернее будет сказать, в необъявленную войну, и все ради расширения торговли. Этот факт подтверждается тем, что в 1721 году голландец Якоб Роггевен[32], бывший советником юстиции в Батавии и являвшийся членом Высшего Юридического совета, проявил настойчивость и добился от руководства Вест-Индской компании организации экспедиции с целью открытия и исследования новых земель. Роггевен был очень опытным моряком, ему и было поручено командовать небольшой флотилией. Отец Якоба Роггевена, тоже очень опытный моряк[33], много лет тому назад уже предлагал Совету директоров Вест-Индской компании хорошо разработанный план отправки в Тихий океан трех кораблей с целью поиска новых земель, но лишь сыну удалось убедить руководство компании в необходимости субсидировать научные исследования. План Якоба Роггевена был рассмотрен и получил одобрение. Итак, под командованием Якоба Роггевена было три корабля: «Аренд», с 36 пушками на борту и с 111 членами экипажа, капитаном на нем был сам Роггевен; «Тинховен», с 28 пушками и 100 человек на борту, под командованием Якоба Боумана; «Африкансхе Галей» с 14 пушками и 60 членами команды, под командованием Генриха Розентолла. Отойдя от острова Тексел 21 августа 1721 года, Роггевен довольно быстро дошел до Рио-де-Жанейро, прошел проливом Ле-Мер, затем пошел вдоль побережья Чили, сделал короткую остановку у архипелага Хуан-Фернандес в марте 1722 года, взял курс вест-норд-вест и 6 апреля 1722 года оказался в виду неведомой земли, которую и назвал островом Пасхи[34]. Моряки высадились на берег и вступили в переговоры с туземцами. Но в итоге совершенно неожиданно все закончилось настоящей катастрофой. Сначала дела шли как нельзя лучше: один из аборигенов даже поднялся на борт «Аренда», не выказывая ни малейшего страха. Члены экспедиции уже с радостью предвкушали, какие выгоды сулят им в будущем добрые отношения с островитянами, ибо туземцы были настроены очень благодушно и вроде бы выказывали пришельцам свои дружеские чувства. На следующий день, сойдя на берег, голландцы увидели среди огромных каменных статуй большую толпу туземцев, которые, казалось, с нетерпением и неприкрытым любопытством ожидали прибытия гостей. Неожиданно с борта корабля грянул выстрел, и один из туземцев упал замертво. Никто так никогда и не узнал, кто стрелял и почему. В первую минуту толпа в панике разбежалась, но затем островитяне вернулись, и было их гораздо больше, чем прежде. Туземцы, однако, как будто ничем не угрожали пришельцам. Да и что они могли сделать против корабельных пушек? Все же Роггевен дал приказ стрелять, и вскоре берег был усеян телами убитых и раненых. Запуганные аборигены, лишившись своих вождей, принесли на берег все, что у них было, только для того, чтобы умилостивить этих ужасных пришельцев. Подул сильный ветер, и голландская экспедиция была вынуждена покинуть остров Пасхи и на всех парусах направилась курсом вест-норд-вест. Корабли благополучно миновали место, названное Схоутеном «Дурным морем», и прошли более восьмисот миль, не встретив на своем пути никакой иной суши, кроме небольшого острова, названного Роггевеном Карлсхофом[35]. Однако на следующий день случилось неожиданное: флотилия, гонимая сильным ветром и стремительным течением, оказалась среди целого скопища небольших плоских островков, и «Африкансхе Галей» налетел на риф и разбился[36]. «Аренд» и «Тинховен» едва избежали такой же участи, но морякам пришлось трудиться не покладая рук в течение пяти дней и пяти ночей, чтобы отвести от себя угрозу гибели. Обитатели архипелага, которому Роггевен из-за пережитых треволнений и присущих этому месту коварных подводных течений дал название «Гибельные острова», были высоки ростом, с длинными и прямыми волосами, ниспадающими на плечи, а тела у них были разрисованы ярчайшими красками. Наконец море успокоилось, и моряки уже считали себя вне опасности, но всего лишь сутки спустя «Тинховен» едва не разбился о скалы у одного из плоских островов, а еще через день голландцы избежали новой опасности лишь благодаря чрезвычайной бдительности впередсмотрящего. Продвигаясь на запад, флотилия по-прежнему находилась среди бесконечного множества островов, где моряков поджидали тысячи и тысячи ловушек. Преодолев неисчислимое множество препятствий, корабли все же миновали опасный район, названный Роггевеном «Лабиринтом» из-за того, что пришлось сделать множество обходных маневров, чтобы выбраться на вольный простор. По-прежнему продвигаясь на запад, через три дня голландцы увидели впереди по курсу прекрасный зеленый остров, где почти у самой воды росли кокосовые пальмы, чьи мощные стволы возвышались над изумительным густым подлеском. Все свидетельствовало о том, что почвы здесь исключительно плодородные. Глубина моря у берегов была так велика, что корабли не могли бросить якорь. Роггевен приказал хорошо вооруженным отрядам высадиться на берег, а корабли в это время курсировали вдоль побережья, держа зеленые заросли под прицелом артиллерии. Увидев собравшуюся на берегу толпу туземцев и сочтя ее слишком большой, а потому опасной, голландцы и здесь открыли огонь, как на острове Пасхи. Они безжалостно расстреливали несчастных местных жителей, а потом попробовали привлечь их на свою сторону с помощью богатых даров, чтобы пополнить запасы продовольствия. Но туземцы, вначале собиравшиеся было снабдить пришельцев плодами своей щедрой земли совершенно добровольно, не поверили в добросердечие незваных гостей, которое те пытались продемонстрировать после того, как проявили чудовищную и ничем не оправданную жестокость. Аборигены завлекли матросов в глубь острова и забросали их камнями. Голландцы ответили шквальным огнем, и аборигены лишились своих вождей, но все же не разбежались, а, напротив, вынудили пришельцев поспешно отступить. Голландцы еле-еле сумели погрузиться на корабли, унося с собой раненых и захваченные у туземцев припасы. Несмотря на то, что на вновь открытых островах пролилось много крови, Роггевен назвал их Островами Отдохновения[37] в память о том, что он сумел получить там запас свежей пищи для моряков, которым опротивела солонина, а также восполнить запасы питьевой воды, уже бывшие на исходе. Вскоре главнокомандующий голландской эскадры, не осмеливаясь идти дальше, созвал военный совет, хотя и мог бы решить все вопросы сам, ибо обладал почти неограниченной властью. Роггевен захотел, однако, посоветоваться с другими членами экспедиции, чтобы решить вопрос о том, следует ли двигаться дальше на запад в поисках Земли Святого Духа или повернуть на север и вернуться на Яву, воспользовавшись благоприятным направлением ветра. Члены совета выслушали руководителя экспедиции и решили использовать силу муссонов, чтобы добраться до Явы. Два месяца спустя капитан «Тинховена» Якоб Боуман обнаружил группу островов, которым было присвоено его имя. Вскоре на берегу появились и туземцы, привлеченные необычным зрелищем. Они принесли груды плодов и плотной толпой окружили шлюпки, ведя весьма выгодную для обеих сторон торговлю, в то время как большие группы их вооруженных соплеменников с любопытством наблюдали за этой сценой, держась на почтительном расстоянии. Один из спутников Роггевена, немец Беренс[38], написал в своем донесении: «Туземцы эти были совершенно белыми и отличались от европейцев только тем, что у многих из них кожа была совершенно сожжена палящими лучами солнца. На бронзовых телах не было следов краски и татуировки. Куски искусно сотканной и украшенной бахромой ткани закрывали их тела от пояса до пят. Шляпы из такой же ткани защищали головы туземцев от прямых лучей солнца, а их стройные шеи были обвиты гирляндами прекрасных благоухающих цветов. Следует признать, что народ этот является одним из самых благородных и порядочных из всех, что мы встречали на островах Южных морей. Туземцы были страшно рады нам и приняли нас как богов, а когда мы вознамерились отправиться дальше, они выразили живейшее сожаление». В своем рассказе об этих островах Беренс указал широту и долготу весьма приблизительно, поэтому нам теперь трудно с уверенностью утверждать, что же это были за острова, где голландцев приняли так хорошо и где они сами, вопреки обыкновению, не причинили туземцам вреда. Затем Роггевен встретил на своем пути еще какие-то острова, которые он принял за Кокосовые острова и Острова Предателей, упоминавшиеся в описании плавания Ле-Мера и Схоутена. Но здесь голландец ошибался, ибо эти земли никогда не были ранее нанесены на карту, и Роггевен был их счастливым первооткрывателем. Острова эти получили имя Роггевена, которое они и носят до сего дня. После этого экспедиция обнаружила еще два острова, которые получили названия Гронинген и Тинховен[39]. Наконец голландцы добрались до Новой Ирландии, где опять учинили кровавую бойню, перебив множество туземцев, которые всего лишь горели желанием оказать гостеприимство людям с белой кожей и обменять плоды щедрой земли на разные диковинки. Корабли Роггевена прошли вдоль берегов Новой Гвинеи, миновали Молуккские острова и бросили якорь в порту Батавии. Но завершилась эта экспедиция так, как не мог предположить, пожалуй, никто на свете: едва Роггевен и его спутники, изнуренные долгим и трудным плаванием, ступили на твердую землю, как их корабли были конфискованы по приказу властей, а офицеры и матросы арестованы без различия чинов и званий, как настоящие пираты, и срочно отправлены в Европу, чтобы их там судили. Причиной же такого злоупотребления властью (тем более чудовищного, что речь шла о соотечественниках) было то, что Роггевен и его спутники, состоявшие на службе у Вест-Индской компании, отважились ступить на земли, которые Ост-Индская компания считала находящимися в сфере своего влияния. Однако Ост-Индская компания рано праздновала победу. Во время судебного процесса, состоявшегося уже в самой метрополии, голландские юристы по достоинству оценили вклад Роггевена и его спутников, потрудившихся во славу родины, и осудили поведение руководства Ост-Индской компании. Суд вынес решение, обязывавшее Ост-Индскую компанию вернуть потерпевшим корабли и груз, а также выплатить значительную компенсацию за причиненный ущерб. Роггевен вернулся на остров Тексел 11 июля 1723 года, и мы не знаем, как завершился его жизненный путь[40].
ГЛАВА 3
КАПИТАН КУК
Первое плавание[41]Наверное, нельзя найти на всем белом свете человека, который мог бы сравниться с прославленным Джеймсом Куком своей приверженностью к этой труднейшей профессии, каковой является профессия моряка. Джеймс Кук был призван стать капитаном, и он стал им. Любовь к морю была воистину его всепоглощающей страстью. Имя Кука достойно стоять среди имен самых отважных, самых знаменитых людей, которыми по праву гордится старушка Британия. Джеймс Кук, родившийся в бедной незнатной семье, не имевший возможности и средств, чтобы получить даже начальное образование, сумел пробить себе дорогу, находя помощь только в силе своего характера и в высоких помыслах. Он, никому не известный простолюдин, сумел подняться до уровня самых знатных и почитаемых людей и вписать свое имя золотыми буквами на первую страницу Книги славы английского флота. Джеймс Кук родился 27 октября 1728 года в Мортоне, в графстве Йоркшир. Его отец, обремененный многочисленным семейством, был батраком на ферме, а Джеймс оказался восьмым ребенком в семье, с огромным трудом добывавшей себе хлеб насущный. Уже в самом нежном возрасте, в семь-восемь лет, Джеймс помогал, как мог, своими маленькими детскими ручонками отцу и матери, выполняя всякие работы на ферме. Хозяин фермы обратил внимание на не по возрасту разумного мальчугана, такого трудолюбивого и любознательного, и обучил его грамоте и счету. В тринадцать лет мальчик, сделавший заметные успехи, поступил в ученье к торговцу галантерейными товарами в приморском поселке Стейтсе. Городок этот в те времена был довольно большим портом, имевшим важное значение для развития торговли. По-видимому, близость моря, бесконечная суета в порту, вид надутых ветром парусов и рассказы бывалых моряков очаровали юного Джеймса и внушили будущему приказчику галантерейной лавки непреодолимое отвращение к сидячему образу жизни, столь свойственному этой профессии. Почти сразу же по прибытии в Стейтс паренек решил, что хочет стать моряком и не желает провести всю оставшуюся жизнь в крохотной комнатенке, расположенной рядом с лавкой. Родители Джеймса, угадав, быть может, что море — истинное призвание их сына, согласились с решением юноши. Конечно, вполне возможно, что они пошли на этот шаг с извечной крестьянской покорностью многодетных бедняков, довольных уже тем, что один из отпрысков нашел свою дорогу и пристроен в жизни. Итак, Джеймс Кук завербовался юнгой на торговое судно, курсировавшее между Англией и Ирландией. Его патронами были Джон и Генри Уокеры, которым принадлежал корабль. На долю юноши выпали все обычные испытания, которым подвергались те, кто начинал с самых нижних ступеней общественной лестницы. Он преодолел все, став сначала юнгой, потом матросом, шкипером и, наконец, капитаном. Джеймс Кук прекрасно изучил мельчайшие тонкости морского дела и превратился в моряка, которому были известны все тайны этого сложного и опасного ремесла. По стечению обстоятельств Джеймс Кук был вынужден поступить в британский военный флот. Надо сказать, что то, что случилось с ним, было довольно обычным явлением в жизни английских моряков: матросов насильно рекрутировали на военную службу, окружая войсками места, посещаемые моряками с торговых судов, в частности, кабачки и таверны, и уводя под угрозой смерти на военные суда всех, кто находился там в данный момент. В 1755 году, когда началась война между Англией и Францией, корабль, на котором находился Джеймс Кук, стоял на якоре в устье Темзы. Кук был на берегу, и в это время началась облава на моряков. Сначала молодой моряк решил было спрятаться, но потом передумал, словно ему был глас свыше, предсказывавший его судьбу. В конце концов Джеймс Кук записался добровольцем в британский военный флот и попал на шестидесятипушечный корабль «Игл» под командованием сэра Хью Паллисера. Знания и умения молодого моряка вскоре были оценены по достоинству, и он стал боцманом. В 1759 году Кук покинул «Игл»[42] и на борту «Меркурия» отправился к берегам Канады, в Квебек. Во время канадской кампании Джеймсу Куку было поручено произвести работы по промеру фарватера реки Святого Лаврентия и сделать топографическую съемку данного региона. Работы были проведены Куком со всем тщанием и оказались столь успешны, что британское Адмиралтейство оказало молодому моряку особую честь, опубликовав его карту как лучшую из тех, что были известны к тому времени. После завоевания Квебека Кук перешел на «Нортумберленд», под командованием лорда Колвилла и ревностно занялся изучением астрономии, а также практическими астрономическими наблюдениями. Затем ему были доверены очень важные гидрографические исследования у берегов Ньюфаундленда, и Кук справился с ними столь блестяще, что был назначен старшим гидрографом, ответственным за территорию Ньюфаундленда и Лабрадора. Это произошло в 1764 году, когда Джеймсу Куку исполнилось тридцать шесть лет. Два года спустя Кук опубликовал очень интересный и подробный доклад о солнечном затмении, которое он наблюдал, находясь на Ньюфаундленде. Лорды Адмиралтейства поручили Джеймсу Куку отправиться в Южные моря, чтобы понаблюдать за столь редкостным явлением, как прохождение Венеры на фоне солнечного диска. Это была очень ответственная и трудная миссия, требовавшая от исполнителя не только знания всех тонкостей морского дела, но и больших познаний в астрономии. Но Джеймс Кук уже прекрасно зарекомендовал себя с обеих сторон, поэтому Адмиралтейство и поручило именно ему проведение чрезвычайно важных для науки исследований. Учитывая многолетний опыт, лорды Адмиралтейства сочли наилучшим местом для проведения наблюдений остров Таити, открытый капитаном Уоллисом. Кук получил приказ отправиться на Таити на борту военного корабля «Индевр». Он был назначен капитаном корабля вместе с присвоением ему чина лейтенанта Королевских военно-морских сил. В состав экспедиции входили: Чарлз Грин, астроном из Гринвичской обсерватории, доктор Соландер, швед по происхождению, бывший профессором Британского музея, сэр Джозеф Банкс, миллионер, без памяти увлеченный наукой и путешествиями, а также два художника, один из которых должен был зарисовывать пейзажи и людей, а другой — различные предметы и сцены жизни. На борту «Индевра» находилось 90 членов экипажа[43]. Судно было хорошо вооружено, и команда могла чувствовать себя в безопасности под защитой десяти пушек и двенадцати камнеметов. На борт было взято столько провианта, чтобы его хватило команде и исследователям на восемнадцать месяцев. Корабль под командованием Джеймса Кука покинул порт Плимут 26 августа 1768 года и прибыл в Рио-де-Жанейро 13 ноября. Плавание протекало без особых тревог и хлопот. В январе 1769 года «Индевр» благополучно прошел пролив Ле-Мер, обогнул мыс Горн 21 января и вышел в Тихий океан. Удача по-прежнему сопутствовала отважным мореплавателям, и плавание оказалось очень успешным. Джеймс Кук смело вел корабль по безбрежным просторам океана, открывая на своем пути неизвестные ранее острова, относящиеся к архипелагу Туамоту. Наконец впереди по курсу показался и остров Таити. «Индевр» вошел в удобную бухту и бросил якорь. Все плавание до места назначения заняло полгода. Туземцы встретили пришельцев сначала не слишком приветливо, но капитан Кук, памятуя о неудачах многих исследователей, с помощью ласки, богатых даров, незаурядной выдержки и хладнокровия сумел сделать отношения моряков и островитян достаточно терпимыми, хотя, пожалуй, он и не стремился к тому, чтобы туземцы воспылали к англичанам горячей любовью. Как и подобает руководителю экспедиции, ответственному за жизни многих людей, он приказал построить на берегу форт, предназначенный для обсерватории, где исследователи звездного неба чувствовали бы себя в безопасности. Надо сказать, что все работы производились под защитой пушек «Индевра», чьи жерла грозно смотрели в сторону берега. Погода стояла отменная, и все наблюдения были проведены прекрасно. Кук, чрезвычайно довольный тем, что ему удалось выполнить одну из поставленных перед ним задач, счел своим долгом приступить к выполнению второй: начать поиски легендарного Южного континента. Решение этой задачи должно было покрыть его неувядаемой славой. Моряки начали готовиться к отплытию: снесли построенный на берегу форт, наполнили все бочки питьевой водой, погрузили на борт свежие овощи и фрукты. Туземцы наконец изменили свое отношение к англичанам и даже стали выказывать пришельцам некоторую симпатию. Причем до такой степени, что один из островитян, по имени Тупиа, занимавший в таитянском обществе довольно высокое положение, выразил желание отправиться на «Индевре» к неведомым землям. Туземец проявил такую настойчивость, что в конце концов добился от Кука невероятной чести отправиться вместе с экспедицией в путь, чтобы когда-нибудь добраться до берегов Англии. Можно было бы подумать, что капитан Кук заключил какой-то особый пакт с числом 13, ибо именно 13 июля «Индевр» покинул Таити. Лорды Адмиралтейства поручили Куку после осуществления наблюдений за Венерой совершить большое плавание по Океании с целью открытия новых земель, и мы сейчас увидим, как справился отважный мореплаватель со второй своей задачей. Покинув Таити, Кук по совету Тупиа встал на якорь около острова Хуахине, где местный правитель по имени Оре пожелал стать его другом. В качестве доказательства того, как высоко он ценит дружбу с чужеземцем, повелитель дикарей предложил Куку обменяться именами. И все то время, что англичане оставались на острове, он называл себя Куки, а произнося имя Оре, всегда подразумевал руководителя британской экспедиции. «Индевр» снялся с якоря 7 августа, а двадцать третьего путешественники отмечали годовщину отплытия из Плимута. Налетел шторм, и сильный ветер понес «Индевр» в открытое море. 5 октября впередсмотрящий закричал: «Земля!» Корабль стал на якорь неподалеку от берега, а вновь открытая земля была наречена Новой Зеландией. Увидев военный корабль, на берег сбежались вооруженные копьями и палицами туземцы. Несмотря на все попытки вступить с аборигенами в контакт и как-то задобрить их подарками, те оставались настроенными воинственно и крайне враждебно. Куку никак не удавалось хотя бы вступить с островитянами в переговоры. Тупиа, однако, говорил на диалекте, который туземцы явно понимали. Желая помочь Куку, Тупиа все время старался подозвать воинов поближе и на все лады превозносил щедрость своих покровителей. В конце концов завязался товарообмен, но ничем хорошим это не кончилось, ибо островитяне стали бесстыдно воровать приглянувшиеся им безделушки, а потом напали на группу англичан. В ответ моряки, по своему обыкновению, конечно, открыли огонь, к огромному огорчению капитана Кука, который был гораздо более терпимым и гуманным человеком, чем его предшественники да и некоторые современники. На следующий день, 11 октября, Кук покинул эти негостеприимные, очень бедные края, дав бухте многозначительное название: он назвал ее бухтой Бедности[44], так как не смог восполнить здесь свои припасы, а получил лишь немного дров для приготовления пищи. «Индевр» пошел вдоль берега к югу. Проявив невиданную сдержанность, Кук сумел избежать дальнейших конфликтов с туземцами и 23 октября приказал бросить якорь в заливе Тегаду, где англичане нашли пресную воду и пополнили припасы. Обитатели этих мест были, казалось, настроены гораздо менее враждебно, чем их прочие собратья, поэтому господин Банкс и господин Соландер решили сойти на берег, чтобы собрать растения для гербария. Во время этой экскурсии доктор-швед выменял у одного из дикарей настоящий волчок, совершенно идентичный тем, с которыми играют дети в Европе. Туземцы весело смеялись над изумлением доктора, увидевшего столь знакомый предмет, и с помощью жестов объяснили, как надо запускать игрушку, чтобы она крутилась. Короче говоря, ничего нового под солнцем нет и не было! Вскоре англичане увидели нечто такое, что вызвало у них неподдельный интерес и даже восхищение, ибо то было настоящее произведение искусства, созданное руками первобытных кораблестроителей: на песке лежала пирога 78 футов в длину, 5 — в ширину, а нос ее был украшен странными скульптурами, поражавшими воображение своей оригинальностью и какой-то скрытой силой. Тридцатого октября Кук приступил к поискам места для новых астрономических наблюдений, так как близилось время, наиболее благоприятное для того, чтобы увидеть Меркурий, проходящий на фоне солнечного диска. В память об этом событии имя римского бога торговли было присвоено заливу, расположенному у основания полуострова, являющегося северной оконечностью Новой Зеландии. «Индевр» обогнул мыс, который Тасман нарек именем Мария-Ван-Димен. Ничего особенно важного и интересного за это время не произошло, но сразу же за мысом на моряков обрушился ужасный шторм. Встречный ветер дул с такой силой, что не давал англичанам двигаться вперед, и только 14 января 1770 года впереди показалась величественная гора, покрытая снегами, которую Кук нарек пиком Эгмонт. Туземцы встретили пришельцев довольно гостеприимно. Моряки ступили на землю и тотчас же пришли в ужас, ознакомившись с некоторыми сторонами жизни местного населения. Дело было в том, что, когда матросы меняли различные безделушки и ткани (до которых все дикари мира такие большие охотники) на овощи и фрукты, один из членов команды случайно заметил на дне корзинки две наполовину обглоданные кости. С первого взгляда он определил, что это были кости какого-то крупного животного, но вот только не знал какого. В это время подошли спутники матроса и тоже заинтересовались находкой. Они тщательно осмотрели кости и определили, что то были останки человека. Члены экспедиции стали расспрашивать туземцев о происхождении и назначении таинственных предметов, полагая, что кости служат дикарям талисманом. Новозеландцы же совершенно невозмутимо рассказали, как нечто само собой разумеющееся, что у них существует обычай поедать попавших в плен представителей враждебных племен. Через несколько дней после того, как было сделано это потрясающее открытие, туземцы принесли на борт «Индевра» шесть человеческих голов, на которых еще сохранились волосы и кожный покров, но уже лишенные мозга, так как дикари считали его особым лакомством. Плоть была дряблой, и скорее всего туземцы пропитали ее каким-то особым составом, так как запах не чувствовался абсолютно. Бенксу удалось заполучить один из этих отвратительных трофеев, но прежде пришлось долго уговаривать владельца расстаться со своим сокровищем. Все последующие дни были посвящены изучению местности. Поднявшись на вершину одной из высоких гор, Кук увидел широкий пролив, которому он дал имя Королевы Шарлотты, а также и берег другого острова (ныне этот пролив носит имя Кука). Теперь Куку стало ясно, что он достиг оконечности того острова, вдоль берегов которого он недавно проследовал. Сейчас же перед ним встала задача: посетить и обследовать тот остров, что он только что открыл на юге. Вскоре начался сильнейший шторм. На борту «Индевра» был объявлен общий аврал, так как ветер и течение влекли судно прямо на скалы. Кораблю был нанесен значительный ущерб, но все же Кук принял решение пройти вдоль берега земли, которую туземцы называли землей Тови-Поенамму. После долгого и трудного плавания, когда «Индевр» постоянно держался в двух-трех милях от берега, лавируя среди коварных рифов, экспедиция достигла точки, которую Кук посчитал южной оконечностью Новой Зеландии и назвал Южным мысом (это была оконечность острова Стюарта). Достигнув этой точки, Кук тотчас же взял курс на север, чтобы пройти вдоль западного побережья острова и таким образом завершить плавание вокруг Новой Зеландии. Совершив сие великое деяние, Джеймс Кук привел «Индевр» обратно в пролив Королевы Шарлотты и восполнил запасы пищи и пресной воды перед долгим плаванием к родным берегам. В инструкциях, полученных Куком от лордов Адмиралтейства, говорилось, что целью экспедиции является не только проведение астрономических наблюдений, но и поиск новых земель. Желая как можно лучше справиться и с этой задачей, Кук решил возвращаться в Англию через Океанию. Прежде чем приступить к рассказу о втором периоде плавания «Индевра», я хотел бы познакомить читателя с некоторыми выдержками из довольно длинного и обстоятельного доклада Кука, в котором он описывает жителей только что им открытых и преподнесенных в дар британской короне новых территорий. Я полагаю, это будет весьма занимательное чтение. Итак, вот что пишет о новозеландцах великий мореплаватель: «В основном они питаются рыбой и съедобными растениями, заменяя хлеб корнями папоротника, иногда, правда, едят и себе подобных, но это скорее исключение, чем правило. Мы видели на острове и небольшие плантации, где почва была очень хорошо обработана, росли же там батат и тыквы. Женщины раскрашивают свои лица, применяя охру и растительное масло и нанося их на щеки и лоб, так что тот, кто вздумает поцеловать приглянувшуюся ему красавицу, получит вместе с поцелуем свою долю краски. Должен признать, что носы многих наших матросов красноречиво свидетельствовали о том, что местные красотки ничуть не возражали против столь фамильярного обхождения. Новозеландцы любят смазывать свои волосы жиром, причем используют для этих целей зачастую прогорклый жир, что делает их крайне неприятными для обоняния европейцев. Пожалуй, здесь они могут поспорить с готтентотами. Их шевелюры отнюдь не свободны от различных паразитов, хотя мы имели возможность убедиться в том, что туземцы умеют пользоваться расческами, сделанными из кости или дерева. Иногда дикари втыкают эти гребни в волосы и так и ходят целыми днями, считая гребень украшением, что, впрочем, роднит их с английскими дамами, ибо мода на гребни существует в Англии и по сей день. Мужчины носят обычно небольшую бороду, волосы же зачесывают наверх и связывают на макушке в пучок, куда втыкают, каждый на свой лад, несколько птичьих перьев. Встречали мы и таких щеголей, у которых концы перьев спускались по обе стороны лица до середины щек, что, на наш взгляд, делало их лица безобразными. У некоторых женщин волосы коротко подстрижены, а у некоторых — довольно длинные и ниспадают на плечи. На телах туземцев, как мужчин так и женщин, мы заметили черные пятнышки, называемые на местном наречии «амоко». Украшая себя таким образом, новозеландцы используют способ, известный на Таити и называемый татуировкой. На телах мужчин гораздо больше таких знаков, чем на телах женщин, ибо новозеландские красавицы наносят краску только на губы. Правда, у некоторых мы видели маленькие черные пятнышки и на других частях тела. Мужчины же, похоже, каждый год прибавляют какую-нибудь новую деталь к этим странным украшениям; таким образом, у некоторых из них, достигших почтенного возраста, тела с головы до пят были почти полностью покрыты густой сетью черных точек. Кроме татуировки, на телах туземцев мы видели и другие необычайные украшения, способ нанесения которых на кожу остался нам неизвестен. Представляют же они собой сеть тончайших надрезов (похожих на первый взгляд на годовые круги на срезе молодого дерева). Края этих надрезов раскрашены все той же черной краской. Таким образом, вид у этих украшений просто устрашающий и отвратительный. Но у туземцев они в большой моде, так что лица стариков почти сплошь усеяны такими знаками отличия. У юношей мы видели надрезы только в области губ, так же, как и у женщин. У людей чуть постарше обычно бывают еще надрезы на щеках и над бровями. С возрастом количество этих украшений все возрастает, а вместе с ним возрастает и почтение, с коим относятся к щедро украшенному старцу его соплеменники. Обезображенные татуировкой и надрезами лица внушали нам отвращение, ибо мы считаем, что нельзя так уродовать лицо человека, созданного Великим Творцом по своему образу и подобию. Однако мы не могли не восхищаться тем, как искусно и умело наносят новозеландцы эти хитрые узоры на кожу. А ведь сделать это очень сложно, так как на лицах мы обычно видели закрученные спирали, причем узор на одной стороне лица в точности повторялся на другой. Узоры на остальных частях тела напоминают переплетенные растения. Такие узоры мы встречаем на предметах, созданных руками старых мастеров чеканки или на хитросплетениях филиграни. Однако, присмотревшись внимательно, мы обнаружили, что у туземцев воистину богатейшее воображение, ибо среди сотен людей, у которых на первый взгляд узоры были идентичны, мы не нашли даже двоих, у коих они на самом деле при ближайшем рассмотрении оказались бы одинаковыми. Но и этих украшений туземцам мало. Они наносят на кожу охру. Некоторые натираются сухой краской, другие же смешивают ее с жиром и рисуют на теле большие круги и полосы. Таким образом, невозможно даже коснуться этих размалеванных тел, чтобы не испачкаться. Одеяние же жителей Новой Зеландии, на взгляд европейца, относится к разряду наиболее диковинных и примитивных из всех, что нам доводилось видеть до сих пор. Сделано оно из листьев растения, похожего на шпажник. Островитяне разрезают длинные листья на несколько узких лент, высушивают и переплетают, создавая таким образом некое подобие ткани, нечто среднее между циновкой и грубым холстом. Концы листьев, размером в шесть — восемь дюймов, торчат из «ткани» там и сям и делают ее похожей на те соломенные циновки, что мы видим у себя дома в Англии. Одеяние же представляет собой обычно два куска этой «ткани», если ее можно так назвать. Один кусок при помощи веревки крепится на плечах и ниспадает до колен. На конец веревки туземцы помещают нечто вроде костяной иглы, которая соединяет два конца этого «плаща» и удерживает их в таком положении. Второй же конец «ткани» оборачивают вокруг бедер, и спускается он почти до пят. Мужчины надевают нижнюю часть одеяния только по особым случаям. Когда же они не имеют на себе ничего, кроме верхней части своего традиционного одеяния и им приходится по какой-либо причине присесть на корточки, то они становятся похожи на покрытые соломой домишки. Хотя это «покрывало» весьма неприглядно на вид, следует признать, что сей род одежды вполне соответствует условиям жизни туземцев, которые зачастую ложатся спать под открытым небом и не имеют иной защиты от дождя, кроме сплетенного из сухих листьев «плаща». Средства передвижения по морю, созданные руками туземцев, свидетельствуют о том, что местные жители очень хорошо умеют обрабатывать дерево. Боевые пироги вмещают до 50 хорошо вооруженных воинов, и длина этих судов достигает 80 футов. Пироги всегда богато украшены резьбой, на бортах же специальным клеем крепится бахрома из черных перьев. Самые малые пироги всегда снабжены балансирами, чтобы было легче удерживать равновесие, иногда они даже соединяются по две вместе. Пироги, предназначенные для рыбной ловли, несколько отличаются по виду от боевых, ибо на таких лодках, на носу и на корме, мы видели фигурки отвратительных гримасничающих человечков, страшно уродливых, с глазами, сделанными из белых ракушек. Так как причиной всех болезней является невоздержанность в еде и недостаточность моциона, то нас не должно удивлять, что туземцы, часто страдающие от недоедания и вынужденные совершать ежедневно длительные походы в поисках пищи, отличаются отменным здоровьем. Всякий раз, когда мы посещали туземные деревни, малые дети и дряхлые старики, мужчины и женщины собирались вокруг нас и смотрели с тем же любопытством, с коим мы взирали на них. И ни разу мы не заметили в толпе ни единого человека, страдающего какой-либо болезнью, а среди тех, кого мы видели обнаженными, мы ни разу не заметили ни одного хотя бы с малейшими признаками сыпи, прыщей и гнойников». Следует сказать, что привычные к войне и видящие в каждом чужеземце только врага, а может быть, и животное, предназначенное для бойни, туземцы вознамерились было напасть на моряков с «Индевра». Но, убедившись в собственной слабости и в превосходящей силе противников, они оставили свои попытки. Поняв же, что моряки избегают применять оружие, дикари, уже знакомые с этими страшными «палками» белых и с их смертоносной силой, стали обращаться с англичанами как с истинными друзьями и все оставшееся время вели себя поразительно лояльно. Взяв на борт достаточный запас воды, продовольствия и топлива, капитан Кук приказал 31 марта 1770 года поднять якорь и взять курс на запад, а 19 апреля на 37°68′ южной широты и 210°39′ западной долготы[45] по Гринвичу была обнаружена суша. Кук, однако, не мог проверить, была ли эта земля тем большим островом, который был обозначен на карте как открытый Абелем Тасманом и названный Землей Ван-Димена. «Индевр» продолжал свой путь, и вскоре моряки увидели «большую землю», которую так долго искали европейцы. Туземцы встречались редко, к тому же они, завидев английский корабль, тотчас же убегали. Однако в один прекрасный день ступившим на сушу матросам удалось поймать несколько пытавшихся бежать аборигенов. Они были вооружены длинными и тонкими пиками с наконечниками из заостренных осколков камней или заточенных костей. Кроме того, у них имелось не виданное ранее англичанами оружие, представлявшее собой изогнутый плоский кусок, дерева, напоминавший кривую саблю. То был знаменитый бумеранг, странное и ужасное оружие, которое туземцы метали с поразительной ловкостью, в то время как у моряков, пытавшихся научиться управляться с этим предметом, ничего не получалось. Лица аборигенов были выкрашены белой краской, а на их черных, цвета сажи, телах виднелись белые полосы, которые издали можно было принять за кожаные ремешки, так как находились они в тех местах, где у европейцев обычно расположена портупея. Такие же широкие белые полосы были на запястьях туземцев и на ногах, чуть ниже колен. Место для высадки здесь было совсем неподходящее, поэтому Кук повел «Индевр» вдоль берега и немного погодя, ступив на сушу, попытался приручить туземцев, которые оказались самыми дикими из всех, что ему доводилось встречать прежде. Англичане бросали дикарям гвозди, раковины-жемчужницы, всякие безделушки, до которых жители Океании всегда были большими охотниками. Но обитатели этих мест повели себя иначе, и их поведение было столь враждебно, что даже возникла угроза самой жизни пришельцев. Поэтому англичане попытались как следует напугать воинственных туземцев и несколько раз выстрелили в воздух. От звуков выстрелов аборигены пришли в неописуемый ужас и в страхе разбежались, но тотчас же вернулись. Причем на сей раз они вели себя еще более нагло и вызывающе, так как выстрелы не причинили им никакого вреда. Они принялись метать в англичан камни и копья, да так ловко, что те едва-едва успевали уворачиваться и были вынуждены на сей раз стрелять по орущей толпе. Один из туземцев был ранен в ногу, и свирепые воины вновь бросились врассыпную, издавая звуки, похожие на рычание диких зверей. Несколько матросов отважились отправиться в глубь суши и обнаружили жалкую хижину, где аборигены хранили большое количество копий. Туземцы больше не показывались. Вероятно, все эти воинственно настроенные мужчины с кожей цвета сажи спрятались в густых зарослях и отсиживались там, пока англичане наполняли большие бочки пресной водой и втаскивали их в шлюпку. Больше никаких неприятностей в этот день не случилось. Если местные жители были на первый взгляд весьма малопривлекательны и даже уродливы, то птицы и насекомые, встречавшиеся здесь на каждом шагу, просто поражали своей красотой, так же как и растения, изумлявшие англичан своей ярчайшей зеленью, мощью побегов и невероятным количеством плодов. Природа была столь пышна и изобильна, что капитан Кук решил назвать этот цветущий рай Ботаническим заливом (Ботани-Бей). Впервые подданные британской короны увидели здесь деревья, выделявшие какой-то красноватый сок (скорее всего, то были эвкалипты). На вершинах этих гигантов, в их зеленых кронах, без умолку трещали, вопили и свистели мириады попугаев всех цветов и размеров. Прямо у берега залива матросы поймали огромного ската, весившего более четырехсот фунтов[46], и убили дрофу, которая, по общему мнению, оказалась самой вкусной, самой нежной дичью, какую англичанам удалось отведать после отплытия от родных берегов. «Индевр» покинул Ботани-Бей 6 мая, и никто тогда не мог предположить, что с этого момента начинается славная история огромного континента, который ныне является истинным лицом Океании. Корабль продолжил свой трудный и опасный путь вдоль незнакомых берегов. В прибрежных водах постоянно встречались рифы и коварные отмели, что каждую минуту грозило судну гибелью. Эта часть побережья Австралии получила название Нового Южного Уэльса. Двадцать пятого мая «Индевр» пересек тропик Козерога[47], а 29 мая Кук приступил к поиску места, где можно было бы стать на якорь и отремонтировать корпус корабля. Все шло хорошо, но 10 июня, ночью, судно наскочило на риф и застряло на нем, получив большую пробоину. Положение было отчаянным. Все попытки освободить судно поначалу были тщетны. Напрасно моряки выбросили за борт пушки, бочки с порохом, балласт;[48] напрасно спустили на воду все шлюпки — корабль, казалось, намертво застрял на остром выступе, так как несчастье случилось во время прилива. В течение целых суток вся команда яростно, до изнеможения работала, откачивая насосами воду. Во время следующего прилива благодаря находчивости Кука, придумавшего хитрый маневр, морякам удалось спасти «Индевр», правда, ценой потери части обшивки. Пробоину кое-как заделали, и спасенный «Индевр» почти чудом добрался до большого залива, где и встал на якорь для основательного ремонта. В залив, где стоял «Индевр», впадала река, которую Кук назвал именем своего корабля. Пока матросы ремонтировали корабль, некоторые члены экспедиции вступили в контакт с туземцами и нашли, что местные жители настроены гораздо менее враждебно, чем те, что встречались им ранее. Как написано в докладе Кука, обитатели этих мест были среднего роста, с очень маленькими руками и ногами, чернокожие, коротко стриженные, причем волосы росли у них не очень обильно, и у одних они были прямые, а у других — вьющиеся. Тела туземцев во многих местах были выкрашены красной краской, а у одного из них над верхней губой и на груди красовались белые полосы. Черты лица у них были довольно тонкие и даже приятные, глаза — живые и блестящие, зубы — белые, а голоса — нежные и мелодичные. Ученые, входившие в состав экспедиции, совершили несколько походов в глубь неведомой земли, где встретили невиданных животных и растения, абсолютно неизвестные науке. Им удалось поймать опоссумов, кенгуру, волков, кускуса, какаду, иволгу, изумительных по красоте диких голубей и попугаев всех цветов радуги. Когда ремонт подводной части судна был завершен, Кук принял решение как можно скорее вернуться в Англию, так как припасов у него оставалось всего лишьна три месяца. С огромным трудом ему удалось найти проход в барьере, образованном рифами, ибо эта цепь скал тянулась вдоль всего побережья и об нее с ревом разбивались волны. Дважды «Индевр» был на краю гибели, и моряки сумели спасти корабль только благодаря своему мужеству, хладнокровию, железной дисциплине и великому мастерству. Несмотря на вновь и вновь возникавшие на пути коварные рифы, которых в прибрежных водах были сотни и тысячи, Куку удалось 21 августа достичь самой северной точки Новой Голландии, которой он дал название мыса Йорк[49]. Он еще раз высадился на берег, поднял английский флаг и торжественно провозгласил именем короля Георга III всю территорию от 38° южной широты до 10°40′ южной широты британским владением. В завершение сей церемонии был произведен артиллерийский салют из всех орудий «Индевра». Кук повел свой корабль в Торресов пролив, прошел мимо небольших островов, назвав их в честь своего предшественника, английского капитана Уоллиса, и направился к Новой Гвинее, где, к своему великому сожалению, не смог пристать к берегу из-за сильного шторма. «Индевр» прошел мимо острова Тимор и наконец прибыл в Батавию, где вновь пришлось заняться ремонтом корпуса, так как из-за течи осадка судна ежедневно увеличивалась на восемь дюймов. Капитан Кук понимал, что они просто чудом добрались до порта, и не уставал благодарить за это Бога. Однако обстановка в столь нездоровом месте, как Батавия, оказалась для команды воистину роковой. Большая часть матросов, офицеров и членов экспедиции заболели лихорадкой, многие умерли, в том числе врач и таитянин Тупиа, так и не увидевший чудес Европы. Капитан Кук хотел поскорее покинуть места, столь опасные для ослабленных долгим и тяжелым плаванием людей, но ремонт затянулся, и англичане смогли поднять паруса только 27 декабря, а уже 5 января[50] они достигли острова Принсес, где должны были пополнить припасы. Здоровье членов экипажа внезапно ухудшилось, и еще 23 человека стали жертвами тропической лихорадки, в том числе и господин Грин, астроном. Понеся большие потери, капитан Кук дошел до мыса Доброй Надежды, где был вынужден стать на якорь, чтобы дать отдых команде. Затем «Индевр» совершил переход до острова Святой Елены. Наконец после четырехлетнего плавания «Индевр» прибыл в Англию.
Второе плавание капитана Кука[51]
В Англии по достоинству оценили заслуги прославленного моряка, подарившего британской короне новую огромную колонию. Кук получил повышение в чине, стал капитаном III ранга, и его имя передавалось из уст в уста, а вскоре стало известно не только в Англии, но и во всем мире. Но не в характере отважного капитана было возлежать на столь дорогой ценой заработанных лаврах. Несмотря на огромную значимость результатов, полученных в ходе кругосветного плавания «Индевра», гипотеза существования большого Южного континента не была до конца доказана, но и не была опровергнута. Закон симметрии, столь почитаемый современниками Кука, требовал наличия в Южном полушарии материка, сходного по размерам с Африкой или двумя Америками. Ученые того времени, причем из числа тех, кто пользовался большим авторитетом в научных кругах, не желали отказаться от теории, горячими поклонниками которой они являлись. Вследствие всего вышесказанного правительство Англии приняло решение организовать еще одну экспедицию в Океанию. Перед мореплавателями ставилась задача проведения научных исследований, но, разумеется, прежде всего правительство имело в виду возможность расширения колониальных владений. Само собой подразумевалось, что командование должно было быть возложено на знаменитого мореплавателя, который в то время делал все возможное, чтобы опубликовать воспоминания о своем плавании и доклад о наблюдениях за Венерой. Так как «Индевр» был уже явно непригоден для нового плавания, Адмиралтейство купило два крепких, надежных судна, имевших не очень большое водоизмещение, но все же способных взять на борт достаточное количество продовольствия, топлива, воды и боеприпасов в соответствии с числом членов экипажа и предполагаемой продолжительностью плавания. Одним из этих кораблей, под названием «Резолюшн» («Решительность»), грузоподъемностью 462 тонны, командовал Джеймс Кук. Капитаном второго судна, под названием «Адвенчер» («Приключение»), был назначен Тобайас Фюрно, служивший ранее на судне капитана Уоллиса в чине лейтенанта. В состав команды входили офицеры и боцманы, совершившие плавание на «Индевре». Перед выходом в море была тщательно проверена оснастка судов, столь же большое внимание руководитель экспедиции уделил вооружению и запасам продовольствия. В трюмы были погружены припасы, рассчитанные более чем на двухгодичное плавание. Не забыл знаменитый покоритель стихий взять различные медикаменты, в том числе и самые известные в те времена противоцинготные средства. На корабли были погружены также пронумерованные части судов грузоподъемностью 20 тонн, которые могли бы быть собраны в том случае, если бы один из кораблей потерпел крушение и пошел ко дну. В состав экспедиции входили: художник-пейзажист Джемс У. Ходжес, два астронома, Уолс и Бейли, два натуралиста, Иоганн Рейнгольд Форстер и его сын Георг[52], взявшие с собой лучшие инструменты для наблюдений, какие только можно было достать в те времена. Короче говоря, ни одна мелочь не была оставлена без внимания, и сделано было все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить успех новой кампании по исследованию Океании. В своих мемуарах Кук писал: «Я получил в Плимуте инструкции, подписанные лордами Адмиралтейства 25 июня 1772 года. Мне было предписано как можно скорее дойти до острова Мадейра, взять там на борт достаточный запас вина и следовать к мысу Доброй Надежды. Там я должен был встать на якорь, чтобы дать отдых команде и пополнить запасы воды, топлива и продовольствия, а затем взять курс на юг и попытаться найти мыс Сирконсисьон, открытый, как говорят, господином Буве[53] на 54-й параллели, приблизительно в 11°20′ к востоку от Гринвича. В том случае, если бы я нашел эту землю, я должен был убедиться в том, остров это или материк. Если “Земля Обрезания” оказалась бы частью материка, мне предписывалось сделать все возможное, чтобы пройти как можно дальше вдоль его берегов и наносить на карту береговую линию, а также производить всяческие наблюдения, записывая сведения, которые могут оказаться полезными для мореплавания, торговли и развития естественных наук. Мне было также рекомендовано оценивать разум, характер и количество местных жителей, если таковые там окажутся, и прибегать ко всем возможным и достойным методам для установления добрых отношений с туземцами и заключения с ними дружественных союзов. В инструкциях говорилось о том, что мне следует попытаться исследовать океанские просторы к востоку или к западу от этой точки в поисках новых земель, в зависимости от обстоятельств, в коих мы будем находиться. Мне предлагалось попробовать приблизиться, насколько это будет возможно, к Южному полюсу и следовать этим курсом так долго, как только позволят состояние судов, здоровье команды и запасы продовольствия. Мне было рекомендовано всегда заботиться о том, чтобы иметь на борту такие запасы, которые позволили бы мне дойти до любого известного порта, где я мог бы их восполнить для возвращения в Англию. В инструкциях содержалось указание на то, что если “Земля Обрезания” окажется островом, я должен буду определить его точное местоположение, а затем взять курс на юг и плыть в этом направлении до тех пор, пока у меня останется хотя бы малейшая надежда обнаружить Южный континент. Если же я не найду в предполагаемом месте “Землю Обрезания”, я должен буду поступить точно так, как и в вышеупомянутом случае. Мне предлагалось впоследствии повернуть на восток с целью обнаружения островов, которые могут располагаться в этой части Южного полушария. Лорды Адмиралтейства предлагали мне постоянно держаться в высоких широтах и как можно ближе подойти к полюсу. Таким образом, я должен был совершить кругосветное плавание, вернуться к мысу Доброй Надежды, а уже оттуда направиться в Англию». Кук снялся с якоря 13 июля 1772 года[54]. Все то же вещее 13 число! 29 июля он был уже у Майдеры, 11 августа — у островов Зеленого Мыса, а 30 октября — в Кейптауне, у мыса Доброй Надежды, в тогдашней голландской колонии. От губернатора-голландца он узнал, что в марте в порт заходили два французских корабля под командованием капитана Мариона, отправившиеся в море на поиски новых земель. Здесь, в Кейптауне, к экспедиции присоединился еще один ученый-натуралист, швед Спаррман, ученик Линнея[55], чья помощь оказалась весьма полезной. Корабли снялись с якоря 22 ноября и направились прямо на юг в поисках мыса Сирконсисьон, следуя инструкциям, полученным начальником экспедиции. Пять дней спустя налетел сильнейший шторм и отнес «Резолюшн» и «Адвенчер» далеко к востоку, так что поиски таинственной земли стали невозможны. Внезапно так похолодало, что почти все животные, взятые на борт обоих судов, заболели и передохли. Уже 11 декабря показались первые дрейфующие льдины невиданных, гигантских размеров, высотой до 200 футов, шириной и длиной, соответственно, 400 и 2000 футов. Матросы, одетые в теплую одежду и меховые шапки, предусмотрительно захваченные Куком, своим видом походили на членов экспедиции к Северному полюсу и точно так же занимались ловлей китообразных, обитающих в этом краю вечных льдов. В конце концов случилось то, что и должно было случиться: 14 декабря огромное ледяное поле преградило путь на юг. Корабли долго шли вдоль ледяной кромки, чтобы убедиться в том, что вечные льды нигде не примыкают к какой-либо суше. Хотя тогда и была середина лета (по меркам Южного полушария), приходилось опасаться, что корабли могут оказаться зажатыми во льдах, как это иногда случается с китобойными судами, которые по какой-либо причине задерживаются в море после летней кампании. Однако Кук продолжал строго следовать полученным инструкциям и пошел вдоль меридиана, где, по сведениям капитана Буве, должен был находиться мыс Сирконсисьон. Но в указанном районе Кук не нашел никаких признаков суши и сделал вывод, что если эта земля и существует в действительности (а так оно и есть на самом деле), то это остров, причем очень незначительных размеров. Итак, у капитана Кука больше не было причин предполагать наличие большого континента в этих широтах. С 1 февраля по 15 марта 1773 года Кук упорно стремился приблизиться к Полярному кругу и пересечь его, но ему мешали холодные дожди, снег и плавучие горы льда, получившие название айсбергов[56]. Твердо уверившись в том, что позади нет никакой сколь-нибудь значительной суши, Кук повернул к северу и пошел к Новой Зеландии, где должен был встретиться с «Адвенчером», так как месяц назад корабли разошлись в густом тумане. Двадцать шестого марта «Резолюшн» вошел в залив Даски, а 18 мая — в пролив Королевы Шарлотты, где его уже в течение полутора месяцев ожидал «Аднвенчер». Кук сделал одно очень доброе дело, за которое его должны были бы очень и очень благодарить туземцы: он приказал выпустить на берег в малонаселенном месте барана и овцу, козу и козла, двух супоросных свиноматок, пять гусей, а также повелел вскопать небольшой клочок земли и посеять семена овощных культур. Куку показалось весьма странным, что по сравнению с его первым плаванием на острове было очень мало туземцев. И действительно, количество местных жителей, похоже, уменьшилось на две трети, и было непонятно, то ли они вымерли, то ли по каким-то причинам покинули родные края. Первого августа оба корабля находились на 25° южной широты и 134° западной долготы. К тому времени экспедиция обнаружила множество еще не нанесенных на карту атоллов, о которых Кук в своем докладе написал так: «Плоские острова, которыми изобилует Южное море в районе между тропиками Рака[57] и Козерога, едва-едва возвышаются над уровнем моря (не более чем на величину веретена корабельного якоря[58]), причем внутренняя их часть иногда бывает расположена даже ниже уровня моря. Очень часто они имеют форму круга или овала, в середине располагается водоем, наполненный морской водой, а глубина у их берегов столь велика, что ее невозможно измерить. Растительность этих островов очень бедна, и кокосовые пальмы — самое лучшее из всего, что произрастает на них. Несмотря на чрезвычайно малые размеры атоллов и их крайне скудные почвы, почти все они обитаемы. Сказать, каким образом были заселены эти острова и откуда пришли их нынешние обитатели, крайне затруднительно». Следует сказать, что это описание атоллов, данное Куком, весьма неполно, так как члены экспедиции, в том числе и ученые-натуралисты, похоже, даже не подозревали, какую роль в создании этих крохотных участков суши сыграли кораллы. Пятнадцатого августа Кук узнал очертания острова Оснабрюк и направился к заливу Оаити-Пиха, где рассчитывал пополнить припасы, прежде чем пойти к Матаваи, уже известному ему по первому плаванию удобному месту стоянки. На Таити островитяне встретили англичан очень радушно. Кук увидел почти всех, с кем познакомился три года назад, и эти славные люди оказали дружеский прием человеку, которого хорошо запомнили. Стоянка на Таити была непродолжительной. Через две недели оба корабля подошли к острову Хуахине, где нашелся молодой человек по имени Омаи, упросивший капитана Фюрно разрешить ему подняться на борт «Адвенчера» и отправиться в Англию. Далее корабли прошли мимо островов Херви[59] и 2 октября бросили якорь у острова Мидделбург (Эуа). Здесь англичане впервые увидели, как островитяне готовят напиток кава. Все было очень просто: берут корешки особых растений, тщательно их пережевывают, выплевывают полученную массу в чашку, заливают водой и ждут, когда напиток забродит. Подают сей океанийский нектар в кубках, свернутых в виде рожка из листьев. И как было отказаться? Пришлось героическому руководителю экспедиции собрать все свое мужество и выпить полный «кубок», с почтением преподнесенный ему предводителем туземцев. Корабли посетили острова Амстердам (Тонгатабу), затем 9 октября подошли к острову Пилстарт, открытому Тасманом, и наконец 21 октября встали на якорь в заливе Ханке, в Новой Зеландии. Тридцатого октября, вскоре после выхода из залива, во время сильного шторма, Кук потерял из виду «Адвенчер», и корабли во время плавания так больше и не встретились. Лишившись своего собрата, «Резолюшн» покинул Новую Зеландию 27 ноября и направился к югу, чтобы совершить еще одну попытку пробиться сквозь ледовые поля и как можно ближе подойти к Южному полюсу. Второе путешествие в страну вечных льдов оказалось намного тяжелее первого, так как команда уже была изнурена столь долгим плаванием. Моряков валили с ног различные болезни, в том числе появилась и цинга, несмотря на все принятые меры предосторожности. Сам Кук очень серьезно заболел, у него было нечто вроде желтухи. Несмотря на плохое состояние команды и капитана, «Резолюшн» дошел до 66-й параллели, не встретив на своем пути ничего, кроме дрейфующих айсбергов. Наконец, уверившись в том, что если и существует Южный континент, то он практически недоступен из-за вечных льдов, Кук посчитал, что его миссия выполнена, и, ко всеобщему удовольствию, отдал приказ взять курс на север. 11 марта «Резолюшн» подошел к острову Пасхи, открытому Роггевеном. Англичан, как и когда-то голландцев, прежде всего поразило огромное количество гигантских статуй, грубо вырубленных из камня. Эти каменные истуканы виднелись там и сям на золотом песке пляжей. Как отметили спутники Кука (да и сам капитан был того же мнения), эти уродливые исполины не были творением рук современных обитателей острова Пасхи. Кстати, сами туземцы не обращали на каменные изваяния никакого внимания, а жили бок о бок с ними, как будто то были самые обыкновенные каменные глыбы, и не выказывали к ним никакого почтения. Отважные путешественники обследовали остров и везде находили гигантских истуканов: в расселинах скал, в оврагах, на склонах холмов. Некоторые стояли, грозно выпрямившись во весь рост и обратив к небу свои высоколобые лица с плохо отесанными носами, с едва намеченными круглыми глазами, узкими ртами и длиннющими ушами. Сказать по правде, их можно было принять за черновые наброски, сделанные руками каких-то очень неумелых детей. Некоторые же статуи, когда-то тоже стоявшие, рухнули на землю и теперь лежали на песке, уставившись в небо незрячими глазами. Встречались морякам и незаконченные работы: едва лишь вытесанные из цельного камня грубые заготовки, у которых были только намечены контуры. Седьмого апреля Джеймс Кук, страдавший от новых приступов своей болезни, добрался до Маркизских островов, открытых испанцем Менданьей[60], где нога европейца не ступала в течение восьмидесяти лет. Отдых на Маркизских островах был недолгим. 13 апреля 1774 года Кук приказал поднять якорь и направился к Таити. По пути он открыл архипелаг Туамоту, высадился на острове Тиукеа, открытом его соотечественником Байроном[61], и с большим трудом пополнил там припасы, так как туземцы, казалось, затаили злобу против пришельцев, посетивших остров десятки лет назад и натворивших много бед. Дикари, похоже, вообще не питали доверия к людям с белой кожей. Однако, подойдя к другой оконечности острова, Кук встретил гораздо более теплый прием. Аборигены, следуя новозеландскому обычаю, пришли приветствовать англичан и в знак особого уважения потереться с ними носами о носы. Следуя далее своим курсом, Джеймс Кук открыл и нанес на карту множество островов, относящихся к архипелагу Туамоту, изобилующему коварными рифами. Он увидел также так называемые «Гибельные острова», где Роггевен потерял корабль, и дал им название островов Паллисера[62]. Прибыв на Таити 21 апреля, Кук ненадолго остановился в бухте Матаваи, а затем отправился к острову Хуахине, где восполнил припасы. Пройдя мимо некоторых островов, открытых Уоллисом, славный исследователь 20 июня открыл скалистую и гористую землю, названную им островом Дикарей, что вполне объяснялось нелицеприятным приемом, оказанным англичанам местными жителями (сейчас это остров Савидж)[63]. После общения с любезными и радушными таитянами моряки утратили бдительность, поэтому Кук, Спаррман и несколько офицеров высадились на остров. К счастью, их сопровождали хорошо вооруженные матросы. Как только англичане оказались на берегу, тотчас же из зарослей появились туземцы и безо всякой видимой причины обрушили на пришельцев град стрел, дротиков и камней. Спаррман был ранен в руку, а Кука едва не проткнули копьем… Покинув эти негостеприимные края, «Резолюшн» взял курс на запад и посетил остров Прокаженных[64], остров Аврора[65], остров Пентекост[66], а также остров Малликолло[67], где англичане вступили в ожесточенную схватку с туземцами. В какой-то момент положение стало настолько угрожающим, что пришлось даже палить из пушек, и только грозный голос корабельной артиллерии образумил островитян. Этот гром небесный, загремевший по воле белых, заставил местных жителей угомониться, и Кук смог спокойно пополнить запасы топлива и пресной воды, что всегда было главной заботой знаменитого мореплавателя. Он покинул место стоянки 23 июля, назвал его Порт-Сандвич в честь одного из лордов Адмиралтейства[68]. Как только «Резолюшн» снялся с якоря, у членов команды появились признаки острого отравления: колики в животе, тошнота, головная боль, ломота в суставах. Кук и другие члены экспедиции не без оснований полагали, что причиной отравления стали огромные рыбины, выловленные в бухте, а затем приготовленные коком[69]. Одна из собак, а также попугай, отведавшие сего лакомства, подохли на следующий день. Принятые меры по прочистке желудков членов команды помогли, однако, спасти людей, так что для моряков все кончилось благополучно. После Малликолло Кук открыл еще несколько небольших островов и 5 августа прибыл к острову Танна, где находится действующий вулкан[70]. Туземцы, являвшиеся явно поклонниками каннибализма, повели себя сначала крайне агрессивно, но, познакомившись с убойной силой огнестрельного оружия и услышав грохот пушек, были вынуждены смириться. Однако они ни за что не желали, чтобы пришельцы приближались к вулкану, а также к горячему источнику, открытому Форстером во время краткой, но небезопасной экскурсии по острову. Как и на всех островах этого региона, на Танне в изобилии росли кокосовые пальмы, хлебные и мускатные деревья, смоковницы (фиговые деревья) и другие полезные растения, которые не были известны натуралистам Форстеру и Спаррману. Здесь также встречались батат и дикий ямс. Покинув остров Танна 20 августа, Кук продолжил плавание около Новых Гебрид, открыл еще несколько островов, нашел Землю Святого Духа, виденную де Киросом, а затем обнаружил залив Сан-Фелипе-и-Сантьяго, нанесенный когда-то на карту знаменитым испанцем. Обойдя множество островов, Кук дал архипелагу название «Новые Гебриды». Четвертого сентября Кук совершил еще одно чрезвычайно важное открытие: обнаружил Новую Каледонию, о существовании которой мореплаватели того времени даже не подозревали. «Резолюшн» пошел вдоль барьерного рифа[71], наличие которого столь характерно для большинства островов Тихого океана, осторожно проследовал мимо острых скал и, воспользовавшись внезапно открывшимся широким проходом, приблизился к берегу. На первый взгляд этот край островов, поросших сухой белесой травой, показался бедным, малоплодородным и очень унылым. Среди моря травы там и сям к небесам возносили свои кроны странные деревья с белыми стволами. Вскоре, однако, одиночеству англичан, загрустивших было у пустынных берегов, был положен конец. Показались очень красивые пироги, ведомые опытными гребцами. Туземцы, привлеченные видом огромных кораблей, без устали выражали свое восхищение и проявляли неуемное любопытство. Некоторые даже бесстрашно поднялись на борт британского судна и на каждом шагу выказывали безграничное удивление при виде всяких диковинок. Они продемонстрировали, что отдают предпочтение металлическим предметам и ярким тканям, но остались равнодушны к бусам и зеркальцам. Туземцы выказали также явное отвращение к любой пище, которую им предлагали, кроме ямса. Вид же коз, овец, свиней, собак и кошек, совершенно им доселе незнакомых, привел туземцев в настоящий восторг. В языке островитян, непохожем на диалекты других океанийцев, не было слов для обозначения так поразивших их четвероногих, и они только в немом восхищении гладили собак и кошек. Среди островитян, похоже, были распространены различные кожные заболевания. Так как климат здесь жаркий, местные жители, не испытывая ни малейшего стыда, довольствовались самой примитивной одеждой, если только вообще короткие юбочки из травы и такие же ленты на животе можно было назвать одеждой. Их длинные уши с безобразно изуродованными, оттянутыми книзу мочками были отягощены очень простыми, грубо сделанными украшениями, которые даже мешали поворачивать голову. В целом же это были, казалось, довольно мирные, безобидные дикари, и руководителю британской экспедиции сначала даже в голову не пришло, что перед ним находятся настоящие каннибалы. Вот что написал Кук об обитателях Новой Каледонии: «Они научили нас нескольким словам своего языка, который не похож на язык жителей соседних островов. Туземцы — очень мирный и мягкий нравом народ, но очень апатичный. Они редко сопровождали нас во время экскурсий по острову, предпочитая заниматься своими делами. Если мы оказывались около их хижин и пытались с ними объясниться, они нам отвечали, но если мы проходили мимо и не заговаривали с ними, они не обращали на нас никакого внимания. Разумеется, женщины, как и везде, проявляли большее любопытство, чем мужчины. Местные красавицы прятались в зарослях и тайком наблюдали за нами, но они соглашались приблизиться к нам только в сопровождении мужчин. Казалось, туземцы не сердились на нас, когда мы убивали птиц выстрелами из ружей. Напротив, когда мы приближались к жилищам дикарей, молодые люди выбегали из хижин и показывали нам птиц, так как им нравилось смотреть, как мы стреляем. Казалось, у островитян было мало забот в это время года, и они предавались праздности, ибо землю они уже обработали и посадили всякие полезные растения, в том числе и бананы, урожая которых следовало ожидать только через год. Может быть, именно поэтому у туземцев было довольно мало провизии, и они не очень были расположены торговать, так как боялись, что не дотянут до следующего урожая. Нам показалось, что этим людям хорошо известны законы гостеприимства, существующие у племен Южных морей, те самые законы, что делают столь полезными для мореплавателей контакты с аборигенами. Мы имели веские основания полагать, что, приди мы в эти места в период сбора урожая, то ушли бы мы от этих берегов с доверху набитыми трюмами». Несколько дней спустя после прибытия на Новую Каледонию члены экспедиции едва не стали жертвами тяжелейшего отравления, аналогичного тому, что причинило столько неприятностей у берегов Малликолло. Пострадали лишь капитан, а также отец и сын Форстеры. Кук рассказывал об этом случае вот что: «Мой секретарь купил рыбину, которую один из местных жителей поймал при помощи остроги в небольшой лагуне, и прислал ее мне на борт корабля. Эта рыба, совершенно неизвестная науке, напоминала луну-рыбу и, по-видимому, относилась к числу тех, что господин Карл Линней называл “тетродонами”[72]. У нее была очень большая безобразная голова. У меня и в мыслях не было, что рыба эта может быть ядовитой, и я распорядился приготовить ее и подать на стол в тот же вечер. К счастью, у наших художников и наших натуралистов ушло очень много времени на то, чтобы нарисовать и описать это чудище, поэтому кок не успел сварить всю рыбу и подал на стол только печень. Я отведал этого блюда, а следом за мной попробовали невиданный деликатес Форстер-отец и Форстер-сын. К трем часам утра мы ощутили невероятную слабость во всем теле. Я почти потерял способность двигаться и чувствовать что-либо до такой степени, что не мог отличить тяжелый предмет от легкого, так что кувшин и гусиное перо казались мне по весу одинаковыми. Пришел наш лекарь и сначала дал нам рвотный порошок. После обильной рвоты у нас сразу выступил пот, и мы испытали невероятное облегчение. Наутро одна из свиней, сожравшая потроха ядовитой рыбы, сдохла. Когда же на борт корабля поднялись туземцы и увидели висевшую на толстой веревке рыбину, они знаками дали понять, что это крайне нездоровая пища, и всячески демонстрировали ужас и отвращение. Следует, однако, сказать, что, когда их соплеменник продавал моему секретарю столь сомнительный трофей, ни один из туземцев не выказал ни малейших признаков отвращения или беспокойства». Великий оптимист, видевший в людях только хорошее, капитан Кук описал жителей Новой Каледонии как людей крепкого телосложения, высокого роста (что является чистой правдой), культурных и мирных… К тому же он считал, что туземцы — народ очень честный и что они совсем ничего ни у кого не воруют… Те, кому довелось иметь дело с обитателями Новой Каледонии после Джеймса Кука, придерживаются совершенно иной точки зрения. Следует также отметить, что довольно высокая культура этого племени прекрасным образом уживается с любовью к ближнему, превращенному в рагу. Что же касается того, с каким «почтением» они относятся к чужой собственности, то участники экспедиции д’Антркасто получили веские тому доказательства, точно так же, как и многие другие путешественники, побывавшие на Новой Каледонии впоследствии.
«Большинство туземцев, — отмечает Кук, — относятся к негритянскому или, скорее, к негроидному типу. У них толстые губы, широкие и немного приплюснутые носы, вьющиеся волосы, но только вьющиеся, а не курчавые. Если бы мне пришлось определять происхождение этого племени, то я бы сказал, что оно занимает промежуточное положение между племенем, населяющим остров Танна, и племенем с островов Общества или с Новой Зеландии. Быть может, они есть результат смешения всех трех вышеупомянутых народов, так как язык жителей Новой Каледонии в некотором отношении представляет собой смесь языков довольно резко отличающихся друг от друга народов».
Тринадцатого сентября «Резолюшн» покинул Новую Каледонию, где морякам так и не удалось запастись свежим провиантом. Пришлось идти к Новой Зеландии, в уже знакомый пролив Королевы Шарлотты, где путешественников ждали щедрые дары благодатной земли. Подойдя к Новой Зеландии 18 сентября, Кук пополнил припасы и направился дальше 10 ноября, переправив на берег еще несколько свиней, так как непременно хотел, чтобы эти полезные животные акклиматизировались на островах и расплодились на радость местным жителям и мореплавателям. «Резолюшн» взял курс на мыс Горн. Следуя этим курсом, Кук не встретил никакой земли, пока не дошел до большого острова, пустынного и дикого, названного по иронии судьбы Огненной Землей. «Эта часть Америки, — писал Кук, — поразила нас своим унылым видом. Нам показалось, что земля эта состоит из множества маленьких островков, плоских, черных и почти голых. Затем мы увидели высокие скалистые горы, покрытые снегами, почти сползавшими в воду. Этот берег — самое дикое место, какое мне только доводилось видеть». Вид несчастных обитателей этой скудной земли, питавшихся мясом тюленей и наполнявших свои желудки прогорклым вонючим жиром, вызвал у Кука живейшее сочувствие. Он сочинил несколько прочувствованных фраз, в которых описывал их жалкое состояние и спорил с философами, прославлявшими радости жизни первобытных людей.
Приняв на борт запас воды и топлива, «Резолюшн» обогнул мыс Горн, прошел через пролив Ле-Мер и оказался около Земли Штатов. 4 января 1775 года неутомимый Джеймс Кук приказал лечь на курс зюйд-ост, чтобы исследовать часть океана, где он еще не бывал. Он дошел до земли, вроде бы открытой в 1675 году капитаном Ларошем[73], и провозгласил ее именем короля Георга III британским владением, назвав новую землю в честь своего монарха[74]. Покончив с сим важным делом, Кук, как и во время предыдущих походов в антарктическую зону, направился к юго-востоку и двигался среди дрейфующих льдов так долго, сколько мог. Было совершенно очевидно, что земли, если они и существуют где-то за Полярным кругом, значат не так уж много, ибо недоступны в течение восьми месяцев в году из-за крайне сурового климата. Самому Куку было ясно, что открытие этих земель не будет иметь никакого практического смысла и что не стоит тратить столько сил и подвергать людей опасности ради крохотных кусочков суши, скованных вечными льдами, даже если таковые и существуют в действительности. Но отважный мореплаватель был рабом долга и желал непременно до конца следовать указаниям, содержавшимся в полученных перед началом плавания инструкциях. Не найдя столь вожделенного Южного континента, Кук выдвинул гипотезу (нашедшую впоследствии свое подтверждение) о существовании суши в районе Южного полюса, там, где образуются гигантские глыбы льда, дрейфующие по просторам океана. Двадцать второго марта 1775 года Кук прибыл в Кейптаун, где наконец получил известия об «Адвенчере». Капитан Фюрно, опередивший начальника экспедиции на пути домой, оставил для Кука письмо, в котором информировал его о том, что случилось с «Адвенчером» после того, как суда разошлись. Как следовало из этого письма, на команду «Адвенчера» обрушилось страшное несчастье. Придя 30 ноября 1773 года в пролив Королевы Шарлотты, капитан Фюрно отправил к берегу шлюпку с матросами под командованием мидшипмена[75] Рау для сбора съедобных растений и плодов. К великому огорчению капитана, люди не вернулись ни вечером, ни на следующий день утром. После продолжительных поисков членам команды «Адвенчера» удалось отыскать остатки разбитой шлюпки, а затем и обувь пропавших. В то же время один из матросов нашел кусок вареного мяса, сначала принятый за собачье, так как англичане не подозревали, что местные жители — каннибалы. Но вскоре была сделана страшная находка: на мокрой от крови гальке стояли двадцать наполненных чем-то корзин, прикрытых сверху листьями и обвязанных лианами. Некоторые корзины были доверху набиты вареным мясом, причем явно человеческим, так как можно было опознать части тел, другие же — съедобными растениями, заменяющими туземцам хлеб. Последующие поиски привели к тому, что были обнаружены остатки одежды членов команды и отрубленная рука, тотчас же опознанная как последнее, что осталось от матроса Томаса Хилла, так как на коже четко выделялись вытатуированные на таитянский манер две буквы: Т и Х. Пройдя еще немного по берегу, офицер, возглавлявший группу поиска, заметил четыре пироги и довольно большое количество дикарей, сидевших вокруг костра. Матросы, разъяренные гибелью товарищей, схватили ружья и тотчас же открыли огонь. Они обратили каннибалов в бегство, ранив многих из них. Приблизившись к костру, англичане онемели от ужаса, ибо их глазам предстало чудовищное зрелище: на песке валялись головы, сердца и легкие их несчастных друзей, а в стороне собаки жадно пожирали внутренности убитых. Офицер, имевший в своем распоряжении всего десять человек, не имел возможности отомстить за учиненную аборигенами кровавую бойню. К тому же погода портилась, надвигался шторм, а разбежавшиеся было в страхе туземцы опять собрались все вместе, и толпа все прибывала и прибывала. Из соображений элементарной осторожности англичанам пришлось срочно вернуться на «Адвенчер», под защиту корабельных пушек. Таково было печальное происшествие, поджидавшее капитана Фюрно на обратном пути в Англию. Он покинул Новую Зеландию 23 декабря 1773 года и прибыл к родным берегам 14 июля 1774 года, потеряв в стычке с туземцами одного офицера и девять своих лучших матросов. Капитан Кук покинул Кейптаун 27 апреля 1775 года и 29 июля вошел в плимутскую гавань после почти трехлетнего отсутствия.
Прежде чем стали известны огромные, поразительные результаты этой тяжелейшей кампании и прежде чем капитан Кук смог отдохнуть от своих тяжких трудов во славу родины, на него обрушились невиданные почести. Через неделю после прибытия в Плимут он был повышен в чине и стал капитаном I ранга, а полгода спустя члены Королевского географического общества приняли его в свои ряды.
Третье плавание и гибель капитана Кука[76]
Третье путешествие, прерванное из-за трагической гибели прославленного мореплавателя, совершалось, в принципе, с целью проведения исследований в арктических водах. В то время умы и политиков и ученых занимала идея необходимости обнаружить более короткий путь в Восточную Азию вокруг Северной Америки. Идея существования прохода между Атлантическим и Тихим океанами находила немало приверженцев, в том числе и весьма именитых. Много раз английские моряки пытались найти этот путь в районе моря Баффина и Гудзонова залива, но поиски ни к чему не привели. Чтобы проверить, существует ли этот проход в действительности, а если существует, то судоходен ли он и удобен ли для торговых судов, следовало снарядить солидную экспедицию, и Адмиралтейство приняло решение поставить во главе исследователей Тихого океана капитана Кука. Лорды Адмиралтейства доверили ветерану морей два корабля: уже испытанный всеми штормами «Резолюшн», подчинявшийся малейшему мановению руки своего хозяина, как хорошо объезженная лошадь, и «Дискавери», где капитаном стал Чарлз Клерк, сопровождавший Кука в двух предыдущих плаваниях. Кук получил от Адмиралтейства инструкции, в которых ему предписывалось сначала идти к мысу Доброй Надежды, затем взять курс на юг, к островам, открытым французами около 48° южной широты[77], примерно на том же меридиане, у которого лежит Маврикий. Посетив этот район и обследовав его, Кук должен был отправиться к Новой Зеландии, если он сочтет это необходимым, пополнить припасы на островах Общества, высадить там таитянина, которого он привез в Англию и покровителями которого были лорд Сандвич и сэр Хью Паллисер[78]. Затем Кук должен был подойти к берегам Новой Англии, миновав холодные арктические воды, Гудзонов залив и море Баффина, и вернуться в Англию путем, который покажется ему наиболее удобным и полезным для развития торговли и мореплавания. Одним словом, программа плавания была очень обширна и интересна, так как предоставляла широкое поле деятельности человеку, на мастерство и знания которого лорды Адмиралтейства всецело полагались. «Резолюшн» покинул Плимут 12 июля, а «Дискавери» — только 1 августа 1776 года. Оба корабля встретились в Кейптауне и ненадолго задержались там, так как пришлось срочно ремонтировать корпус «Дискавери», а также восполнить припасы, прежде чем отправляться к берегам Новой Зеландии и Таити. 30 ноября английская экспедиция вышла в море, оставив позади голландскую колонию. Двенадцатого декабря Кук открыл два пустынных и бесплодных острова на 46°53′ южной широты и 37°46′ восточной долготы. Эти острова были впервые замечены в 1772 году французскими мореплавателями Крозе и Марион-Дюфреном. Двенадцать дней спустя англичане обследовали острова, открытые в 1772–1773 годах Кергеленом. Кук констатировал, что описание этих островов, сделанное его предшественником, в точности соответствовало действительности. Пройдя более 300 лье в густом тумане, оба корабля, каким-то чудом не потерявшие друг друга, прибыли 24 января 1777 года к Земле Ван-Димена и бросили якорь в том же самом заливе, где четыре года назад останавливался капитан Фюрно. Вскоре к месту стоянки потянулись туземцы. Но они явно не торопились, не выказывали никакого любопытства, а явились словно по привычке. Кук оставил для потомков свои дневники, где мы находим несколько страниц, посвященных описанию этого племени, практически исчезнувшего с лица земли в наше время. Как писал Кук, туземцы с Земли Ван-Димена были среднего роста, довольно щуплые, кожа у них была черного цвета, волосы тоже черные и такие же пушистые, как у обитателей Новой Гвинеи, но вот губы у них были вовсе не такие толстые, как у африканских негров, да и носы не были расплющены. Вообще их лица вовсе не казались англичанам неприятными. Моряки сочли, что глаза у туземцев довольно красивые, а зубы — прямые и ровные, но очень грязные, что у островитян встречается чрезвычайно редко. Волосы и бороды большинства мужчин были вымазаны какой-то красноватой мазью, на носах и щеках некоторых островитян тоже красовались такие же красноватые пятна и полосы. Кук оставался в этой тихой бухте до 30 января, а затем направился в пролив Королевы Шарлотты, к месту своей обычной стоянки. Именно там, как мы помним, аборигены учинили кровавую бойню, убив несчастного лейтенанта Рау с «Адвенчера» и девять его матросов, а потом расчленили трупы так, как разделывают забитый скот, и явно намеревались съесть их, явив англичанам свой истинный лик — лик каннибалов. Судите сами, имели ли туземцы желание подниматься на борты британских судов и вообще приближаться к пришельцам? Разумеется, островитяне были твердо уверены, что англичане прибыли для того, чтобы отомстить за то, что их соплеменников коварно заманили в ловушку и убили. Туземцы кружили в своих пирогах вокруг кораблей, держась на почтительном расстоянии, и все же постепенно приближаясь, так как любопытство, страх и сознание собственной вины вели в их душах ожесточенную борьбу. Наконец туземцы убедились в том, что англичане настроены миролюбиво и не собираются мстить. Большую роль сыграли на сей раз и примирительные, успокаивающие речи таитянина Омаи, говорившего на новозеландском диалекте. Постепенно островитяне успокоились и поднялись на борт корабля, уверовав в человечность руководителя экспедиции, великодушно пообещавшего простить их. Прежде всего Омаи заставил туземцев рассказать, что произошло с моряками с «Адвенчера», а сам переводил как мог. И вот какая вырисовалась картина: англичане сидели на траве и ужинали, а в это время к костру приблизились туземцы и без зазрения совести потихоньку стащили несколько вещиц. Одного из воришек матросы поймали и сурово наказали, пожалуй, даже слишком сурово, если учесть, какую безделицу он стащил. Подвергнутый порке юноша принялся вопить так, будто с него сдирали кожу. Тотчас же, потрясая копьями, примчались его соплеменники, готовые наброситься на моряков. Те же схватили свои ружья и открыли огонь с целью предотвратить нападение. Англичане выстрелили одновременно, что было большой неосторожностью с их стороны, так как ружья стали совершенно бесполезны, а времени на перезарядку у моряков не было. Толпа туземцев угрожающе загудела и двинулась на врагов. Произошла короткая рукопашная схватка, и европейцы пали под ударами в десятки раз превосходящего по численности противника. Многие новозеландцы, то ли опасаясь мести англичан, то ли для того, чтобы выслужиться перед руководителем экспедиции, указали Куку на вождя, который руководил отрядом, устроившим это кровавое побоище. Они даже принялись уговаривать «вождя белых людей» приговорить убийцу к смерти. Кук, однако же, заявил, что не станет делать ничего подобного, а Омаи перевел слова великого мореплавателя туземцам, чем поверг их в величайшее изумление. Сам Омаи тоже был растерян и недоуменно вопрошал: «Как же так? В Англии человека, убившего себе подобного, казнят, а вы не хотите убить негодяя, повинного в смерти десятерых!» И кто мог тогда предвидеть, что неустрашимый мореплаватель, столь гуманный по отношению к коварным и жестоким обитателям островов Океании, вскоре сам падет от руки подлого убийцы! Дойдя в своем всепрощении до полного забвения совершенного дикарями преступления, Кук отправил на берег свиней и коз в надежде, что животные приживутся, дадут потомство и станут впоследствии прекрасной пищей для островитян. Когда Кук собирался сниматься с якоря, к нему обратились два новозеландца: они просили отвезти их на Таити, наслушавшись рассказов Омаи. Кук согласился и взял их на борт своего судна. Двадцать девятого марта «Резолюшн» подошел к еще неизвестному европейцам острову Мангаиа. Омаи долго уговаривал местных жителей подняться на борт корабля и в конце концов добился успеха: робко озираясь, туземцы появились на палубе. Но как только речь зашла о желании англичан посетить остров, так они наткнулись на глухую стену вражды и непонимания: аборигены ни за что не хотелипозволить англичанам даже приблизиться к берегу на шлюпке. Обитатели Мангаиа были малы ростом, коренасты, крепки, пропорционально сложены. У них были длинные бороды, заплетенные в косу черные волосы, а тела украшены татуировкой. Вскоре показался остров примерно такого же размера, что и Мангаиа, но его обитатели оказались гораздо более гостеприимными. Успокоенный тем, что островитяне были настроены явно дружелюбно, Кук отправил к острову шлюпку, в которой сидели матросы, два офицера, натуралист Андерсон и Омаи. На последнего были возложены обязанности переводчика. Чтобы добиться наибольшего расположения дикарей, офицеры и Андерсон, приказав матросам оставаться на берегу и оставив в лодке свое оружие, бесстрашно приблизились к гудевшей от возбуждения толпе. Англичан приняли превосходно. Им воздавали всевозможные почести, в их честь устроили пышное празднество. Вняв просьбам гостей, женщины исполняли подходящие для сего случая танцы. Осмелев, туземцы окружили пришельцев плотным кольцом. Они ощупывали одежду англичан, прикасались к лицам и волосам, изумлялись, радостно галдели. В конце концов наивные дети природы принялись безо всякого зазрения совести опустошать карманы гостей. Сильно отставший от англичан Омаи наконец-то смог к ним пробиться и объяснить, что островитяне не замышляют ничего худого, а лишь хотят поскорее получить подарки, которыми их, несомненно, оделили бы немного погодя, но дикари не хотят ждать. Англичане предполагали вернуться на борт корабля часа через два-три после высадки, так как своим нескромным поведением эти воришки доставили им немало неприятных минут. Но их удерживали почти силой, хотя и с любезными улыбками, в течение целого дня, то и дело ставя в неловкое положение. Так, островитяне были изумлены цветом кожи англичан и потребовали, чтобы те сняли одежду, и все любопытные могли осмотреть их тела. И если бы только один раз бедные путешественники подверглись столь неприятной процедуре! Но нет, жаждавшие новых впечатлений островитяне сменяли друг друга, и порой казалось, что этот поток никогда не иссякнет. С наступлением темноты все неприятные вольности, иногда даже сопровождавшиеся угрожающим ворчанием при попытке положить им конец, к счастью, кончились. Офицеры были отпущены на свободу и смогли вернуться на корабль, доставив на борт внушительный запас продовольствия, которым их щедро снабдили туземцы. Этот остров, расположенный на 20°01′ южной широты и на 201°45′ к востоку от Гринвича[79], называется Ваутьеа (Атиу). К своему величайшему удивлению, Омаи встретил там четырех таитян, выброшенных на остров сильнейшим штормом. Произошло это несчастье двенадцать лет назад. Жителей Таити очень хорошо здесь приняли. Они взяли себе в жены местных девушек, и каждый уже обзавелся весьма многочисленным семейством. На предложение отвезти их обратно на родину все четверо ответили решительным отказом, так как опасались, что на Таити их все уже давно забыли, и они не хотели ничего менять в своей жизни. «Описываемый случай, — говорит Кук, — лучше всяких теоретических рассуждений может служить объяснением, каким образом были заселены все отдаленные части земного шара, и в частности острова Тихого океана, в особенности же те из них, что находятся на большом расстоянии от какого-либо материка или друг от друга». Пятого апреля Кук оказался в виду острова Херви, открытого им в 1773 году во время второго плавания. 14 апреля он уже был у острова Палмерстон, 28 апреля достиг острова Команго, а 6 мая подошел к острову Аннамока. Здесь ему нанес визит некий островитянин по имени Финау, выдавший себя за верховного властителя всего архипелага Тонгатабу. Сей проходимец прибыл на корабль в сопровождении двух слуг, каждый из которых буквально сгибался под тяжестью огромной рыбины, предназначенной в дар командиру корабля, и заявил, что является королем всего архипелага. Возраст его было определить трудно: быть может, лет двадцать пять, а может быть, и все тридцать пять. Он был высок ростом и хорошо сложен, но что особенно поразило Кука, так это то, что чертами лица он поразительно походил на европейца. Кук принял Финау за того, кем тот себя называл, то есть за законного короля и повелителя всего архипелага. Да и как было не поверить? Ведь именно благодаря распоряжениям Финау англичан везде принимали очень дружелюбно, и моряки смогли пополнить припасы свежей свининой, фруктами, съедобными кореньями и топливом. Вместе с полезным Финау смог предложить гостям и нечто приятное. Он приказал устроить в честь своих новых друзей пышные празднества. Воины разыграли перед англичанами несколько сцен из военной жизни и продемонстрировали умение вести кулачный бой, причем, как отметил в своем подробнейшем докладе Кук, в сей забаве участвовали даже женщины. «Больше всего, — писал Кук, — нас удивило появление на ристалище двух тучных женщин, которые стали награждать друг друга без всяких церемоний сильнейшими ударами, причем проделывали они это с ничуть не меньшей ловкостью, чем мужчины. Сражение дам длилось не более чем полминуты, и одна из них признала себя побежденной. Героиню-победительницу наградили аплодисментами, какими награждали и мужчин, сумевших доказать при помощи силы или сноровки свое превосходство над противником». Ликующие островитяне, подбадриваемые криками весельчака Финау, на этом не остановились. Начались танцы, для участия в которых прибыли лучшие прыгуны со всего острова. Около пятисот мужчин, не иначе как ужаленных то ли тарантулом, то ли сколопендрой, то ли еще каким-нибудь мерзким созданием, скакали как безумные в течение нескольких дней и ночей под звуки двух чудовищных барабанов, а точнее, двух выдолбленных обрубков дерева. Засим последовало совместное распитие кавы. Желая ответить любезностью на любезность, Кук повелел солдатам и матросам продемонстрировать приготовления к бою, произвести несколько выстрелов из пушек и мушкетов, а в конце концов устроил фейерверк, повергший туземцев в неописуемое изумление. Островитяне же придумывали все новые и новые развлечения. Такое гостеприимство полностью оправдывало название, данное когда-то островам Тонга: острова Дружбы. Празднества и пиршества продолжались бы, наверное, до конца стоянки, но вдруг, совершенно неожиданно, 23 мая Финау явился к Куку с прощальным визитом и заявил, что должен немедленно отбыть на соседний остров Вавау. Столь поспешный отъезд походил на бегство… Это и в самом деле было бегство, ибо Финау, очаровательный и любезный самозванец, узнал о том, что прибыл настоящий король, маленький толстенький человечек, похожий на мячик. Он весь так и лоснился от жира, и звали его Палахо. Сначала Кук, увидев вновь прибывшего монарха, не знал, следует ли ему рассматривать Палахо в качестве настоящего повелителя местных жителей, так как на его глазах весь клан выказывал знаки почтения веселому обманщику Финау. Так не был ли и второй посетитель таким же самозванцем? Однако пришлось признать очевидное, ибо доказательством того, что сей персонаж на самом деле обладает реальной властью, явилось поведение туземцев, поклонявшихся ему словно божеству. Да, Палахо, огромный, необъятный Палахо, действительно король. В отличие от весельчака Финау он был очень серьезен и степенен, как и полагается пастырю и предводителю целого народа, вне зависимости от того, цивилизованный это народ или племя каннибалов. Палахо внимательно и с большим интересом осмотрел корабли, выразил свое восхищение невиданными диковинками, поразившими «его дикарское величество», удивлялся, расспрашивал, непременно хотел побольше узнать и задавал весьма неглупые вопросы, а под конец согласился пообедать. Внезапно возник вопрос этикета, который едва не нарушил идиллию, так что монарх чуть было не остался без обеда. Все дело было в том, что приближенные Палахо, узнав, что кают-компания находится на нижней палубе, объявили, что их король — «табу»[80] и что никто не смеет ходить у него над головой. Таким образом, вопрос об участии монарха в торжественном обеде вместе с начальником экспедиции и членами его штаба повис в воздухе. Но хитроумный Кук нашел весьма оригинальный выход из положения. При посредничестве Омаи он дал понять туземцам, что объявляет часть верхней палубы, расположенной над кают-компанией, запретной территорией и что, таким образом, ничья святотатственная нога не пройдет над головой монарха, пока он будет находиться в обозначенном месте. Итак, ко всеобщему удовольствию, все устроилось. Король дикарей отобедал за одним столом с отважным мореплавателем, продемонстрировал отменные манеры и оказался столь умерен в еде и питье, что все англичане пришли в восхищение. Двадцать девятого мая Кук вернулся к острову Аннамока, а затем и к Тонгатабу. Он почтил своим присутствием празднество, устроенное островитянами в его честь. Празднество это было столь пышным, что намного превзошло все предыдущие. Он оставался в этом райском уголке до 10 июля и покинул столь полюбившиеся ему острова с явным сожалением, не переставая восхищаться добродушием, веселым нравом и сердечностью островитян. Прославленный мореплаватель был очень доверчив и честен. Он даже не мог предположить, насколько коварны эти мерзавцы и какими завзятыми мастерами всяких хитрых проделок они являются. Да и кто бы мог заподозрить, что эти негодяи, то ли подкупленные весельчаком Финау, то ли тайно понуждаемые строгим и сдержанным толстяком Палахо, а вернее всего, с одобрения всех вождей, задумали перебить англичан во время ночного празднества Хапай и захватить корабли. Однако все это было чистой правдой, и тщательно разработанный план, державшийся в строгом секрете, провалился только по причинам, не зависевшим от воли подлых предателей и обманщиков. Если бы не были общеизвестны величайшая честность капитана Кука, его отвращение ко всяким преувеличениям и шуткам дурного тона, мореплаватели, шедшие по его стопам, могли бы подумать, что название «Острова Дружбы» было дано им этим клочкам суши, населенным жестокими и коварными туземцами, в насмешку. Ведь у всех исследователей Южных морей были веские причины жаловаться на местных жителей. Следует сказать еще несколько слов, чтобы объяснить значение выражения «табу». Как писал в своих заметках Кук, «…слово это, играющее столь важную роль в жизни данного народа, имеет множество значений. К примеру, когда хотят сказать, что какого-то предмета касаться запрещено, то говорят, что он «табу». Если король входит в жилище своего подданного, то это жилище становится «табу» на все то время, что монарх почтит его своим присутствием. К тому же оно остается «табу» и после того, как правитель его покинет, и хозяин не имеет права больше жить в нем и должен искать себе другое пристанище». Семнадцатого июля Кук покинул острова Тонга, а 8 августа оба корабля прошли мимо острова Табуаи и прибыли 12 августа на Таити, в бухту Матаваи. «Как только мы встали на якорь, — писал Кук, — тотчас же со всех сторон к кораблям устремились десятки пирог, где на веслах сидело по два-три таитянина. Но так как эти люди стояли на низших ступенях таитянского общества, то Омаи не обращал на них ни малейшего внимания. Туземцы тоже взирали на него с полнейшим равнодушием и даже, казалось, не замечали, что на борту английского судна находится их соплеменник, разодетый в пух и прах по последней английской моде. Наконец на корабль прибыл вождь по имени Ути, с которым я был знаком прежде, оказавшийся шурином Омаи. Его сопровождали несколько человек, знававших Омаи до того, как он уплыл на корабле капитана Фюрно. Встреча старых знакомых была довольно прохладной. Островитяне не выказывали ни радости, ни восхищения при виде своего повидавшего Европу соплеменника. Напротив, они выказывали путешественнику даже некоторое презрение. Так продолжалось до тех пор, пока задетый за живое Омаи не привел шурина в свою каюту. Там он открыл сундук, где хранил разные безделушки, и подарил любимому родственнику несколько красных перьев. Находившиеся на палубе туземцы, услышав сие потрясающее известие, тотчас же изменили свое отношение к Омаи. Всего лишь несколько минут назад Ути явно не желал разговаривать со своим родственником и едва-едва цедил слова сквозь зубы. Теперь же он униженно умолял Омаи стать его другом и поменяться с ним именами. Омаи великодушно согласился (ибо обмен именами с вождем считается у таитян большой честью) и в знак признательности подарил шурину еще несколько красных перьев, а тот сейчас же послал своих приближенных на берег за свиньей для своего нового друга. Все мы, разумеется, поняли, что островитяне высоко оценили не самого Омаи, а его богатства. Вот так прошла первая встреча таитянина-путешественника с соплеменниками. Признаюсь, я подозревал, что все произойдет именно так, как оно и случилось. Омаи нашел себе в Англии могущественных друзей и покровителей, и они щедро одарили его перед возвращением на родину. Я надеялся, что разбогатевший Омаи станет важной персоной и что самые влиятельные вожди с островов Общества будут оказывать ему почести и добиваться его дружбы. Так бы все и случилось, если бы Омаи был чуть более осторожен. Но его поведение никак нельзя было назвать благоразумным. Я с горечью должен признать, что он не последовал советам тех, кто желал ему добра, и давал себя обманывать всем самым отъявленным проходимцам из числа своих соплеменников». Эксперимент с Омаи, посетившим Англию и вернувшимся на родину, окончился полной неудачей. Жалкий и никчемный человечишка, этот дикарь оказался совершенно невосприимчив к добродетелям цивилизации. И кто знает, не стал ли он еще хуже, чем был от природы, после контакта с миром белых? Получивший богатейшие дары от своих покровителей, не пожалевших ничего для того, чтобы обеспечить Омаи роскошную, беззаботную жизнь на родном острове, этот молодой человек оказался отменным идиотом, да еще и грубой скотиной в придачу. Англичане рассчитывали, что Омаи станет помогать распространению британского влияния на Таити, но этот законченный негодяй вел себя ужасно, просто отвратительно и компрометировал своих покровителей дурацкими проделками. В конце концов Омаи высадился на острове Хуахине со всем своим барахлом, бывшим в глазах дикарей несметным богатством: двумя лошадьми, козами, гусями и утками, кольчугой, делавшей его совершенно неуязвимым для вражеских копий, ружьями, запасами пороха и пуль, пистолетами и целыми тюками разноцветных тканей. Король острова Хуахине тотчас же начал обхаживать новоявленного богача, желая прибрать к рукам его сокровища. В конце концов он предложил Омаи жениться на своей дочери, на что тот ответил согласием, сочтя подобное предложение большой честью. Король сделал Омаи своим «alter ego»[81] и пообещал, что в будущем зять унаследует трон. Голова бедного дикаря, столь быстро достигшего вершины почестей и славы, а также опьяненного неограниченной властью, закружилась от успеха, о котором он не смел и мечтать. Все кончилось очень печально: Омаи превратился в некое подобие свирепого животного, для коего жестокие, кровавые деяния стали естественной необходимостью. Я приведу всего лишь один пример такой бессмысленной, внезапной, необъяснимой жестокости Омаи, жертвами которой становились пленные и даже его соплеменники: Омаи никогда не ходил без огнестрельного оружия, и его излюбленным развлечением была беспричинная стрельба по людям, которых он подстреливал просто так, ради того, чтобы тренироваться в меткости! Итак, этот странный посланец цивилизации жестоко обманул надежды своих покровителей. Мало того, он, совершая свои безумства, нисколько не способствовал распространению влияния англичан на Таити, а напротив, вольно или невольно содействовал тому, что недовольство, вызванное его поступками, превратилось в глухую ненависть, распространившуюся на англичан. Причем ненависть эта не исчезла со смертью Омаи, а давала о себе знать еще довольно долго. Английская экспедиция покинула Таити 30 сентября, провела почти два месяца у острова Хуахине, отходя от его берегов только для того, чтобы исследовать весь регион, затем дошла до Болаболы[82], а 24 декабря открыла остров Рождества[83], названный так в честь приближавшегося праздника. Прошло уже почти полтора года с тех пор, как «Резолюшн» и «Дискавери» покинули прибрежные воды Британии. Теперь Кук собирался заняться выполнением поставленной перед ним задачи по исследованию северной части Тихого океана и поиску прохода в Атлантику. Корабли Кука снялись с якоря 2 января 1778 года и взяли курс на север. Вскоре впереди возникли очертания островов, которые Кук назвал Гавайскими[84]. Вот что писал он в своем дневнике: «Мы не знали, обитаема ли лежащая впереди земля, но очень скоро убедились в том, что это так и есть, потому что от берега отчалили пироги и устремились к кораблям. В каждом из этих суденышек сидело от трех до шести человек, и мы были приятно удивлены, когда они заговорили на том же языке, что и обитатели Таити и других островов, на которых мы уже побывали. Туземцы охотно согласились расположиться рядом с нашими кораблями и сопровождать нас, но никакие уговоры и подарки так и не смогли заставить их подняться на борт. Я привязал к веревке несколько медных пластинок, от которых дикари на других островах всегда приходили в дикий восторг, и спустил в одну из лодок. Аборигены с благодарностью приняли мой дар и привязали к той же веревке крупную макрель, прося принять ее в обмен. Тогда, при помощи все той же веревки, я спустил в пирогу маленькие гвоздики и кусочки железа, которые островитяне Южных морей ценят больше всего на свете. Они же в ответ прислали мне довольно большое количество рыбы и сладкого батата, и это явно свидетельствовало о том, что местным жителям знаком принцип обмена товара на товар или, по крайней мере, о том, что они умеют быть благодарными. На дне туземных пирог мы заметили только круглые тыквы и нечто, отдаленно напоминавшее рыболовные сети, но один из островитян вдруг предложил нам купить что-то, похожее на ткань. Этой тканью были обернуты его бедра, так же, как у жителей островов Общества. Кожа у островитян была темно-коричневого цвета, роста они все были среднего, но казались очень крепкими и сильными. Кожа у всех туземцев была почти одинакового оттенка, но вот в чертах лиц наблюдалось большое разнообразие, причем некоторые лица явно походили на европейские. Волосы у большинства были коротко подстрижены, у некоторых они ниспадали на плечи, а у очень небольшого числа они были зачесаны наверх и образовывали пучок на макушке. От природы волосы у них были черные, как у обитателей островов Дружбы, и были выкрашены соком каких-то растений, что придавало им коричневатый и даже рыжеватый оттенок. Мужчины в основном носили бороду. На телах у них не было никаких украшений в виде красочных полос или татуировки, и мы не заметили, чтобы у них были проколоты уши. Но у некоторых мы видели какие-то черные точки на руках и около паха. Куски ткани, служившие им набедренными повязками, выделялись на общем коричневом фоне яркими красными, черными и белыми пятнами и имели довольно интересный рисунок. Мы посчитали, что характер у островитян довольно хороший, ибо они приветливы и мягки. К тому же все туземцы были безоружны, если не считать небольших камешков, лежавших в лодках. Они захватили их явно с целью самозащиты и побросали в море, когда увидели, что мы не собираемся нападать на них». На следующий день островитяне уже совершенно освоились и безо всякого страха поднялись на борт кораблей, где все вызывало у них безмерное удивление и восхищение. Они уже были знакомы с железом и высоко ценили его, называя «тое» или «хамайте». При виде такого богатства у островитян проснулась алчность, и эти славные люди, склонные к воровству, как и все жители островов Океании, безо всяких угрызений совести стали присваивать себе разные мелкие предметы, причем крали они их столь ловко, что им могли бы позавидовать наши современные воры-карманники. Англичанам стоило большого труда уберечь свое имущество, так как посетители тащили все подряд, причем делали это с такой изобретательностью и наглостью, что приводили моряков в полное замешательство. Один из островитян стянул огромный тесак, которым кок резал мясо, бросился в воду, перелетев через релинги[85], добрался до своей пироги и был таков. В погоню за ним устремились матросы под руководством лейтенанта Уильямсона. Вскоре отряд лейтенанта вернулся несолоно хлебавши. Однако Уильямсон принес и добрую весть: он видел за полосой пляжа, неподалеку от деревни, большое озеро с очень прозрачной водой. Кук тотчас же послал лейтенанта обратно, чтобы тот обследовал берег, промерил глубину прибрежных вод и выяснил, можно ли здесь стать на якорь, так как место для стоянки казалось весьма подходящим. Вопреки всем ожиданиям, туземцы встретили Уильямсона и его отряд очень плохо, а ведь совсем недавно они были такими приветливыми и гостеприимными! Они окружили приставшую к берегу шлюпку плотной стеной и попытались отнять у матросов весла и ружья, да и вообще хватали все, что попадалось под руку. Туземцы так яростно атаковали англичан, что те были вынуждены открыть огонь, чтобы вырваться из плена. Один из туземцев упал, сраженный пулей. Этот кровавый урок оказался полезным, и на следующий день, когда Кук сам лично направился осматривать озеро, все жители деревни простерлись перед ним ниц и преподнесли ему в знак уважения бананы и маленьких поросят. Матросы притащили к озеру большие бочки, и туземцы, охваченные священным ужасом, помогли их наполнить и прикатить на берег. Одним словом, островитяне добровольно оказывали англичанам всяческие услуги. Так как наполнение бочек пресной водой происходило вполне благополучно и личное присутствие Кука больше не требовалось, он передал бразды правления господину Уильямсону, а сам вместе с господином Андерсоном и господином Веббером отправился в расположенную рядом чудесную долину. Встречавшиеся на пути туземцы при виде англичан падали ниц и оказывали им почести, которые было принято оказывать великим вождям. Идя вдоль берега, Кук и его спутники подошли к каким-то странным белым сооружениям, напоминавшим своей формой обелиски, высотой примерно в 40 футов. Они увидели их еще издалека, но никак не могли угадать, что это такое. Как оказалось, то действительно были своеобразные обелиски, возведенные на кладбище, которое туземцы именовали «мораэ»[86]. Это были четырехугольные сооружения из переплетенных ветвей. Находились они в весьма плачевном состоянии, и было видно, что островитяне совершенно за ними не следят. Вид одного из погребальных сооружений, достаточно хорошо сохранившегося, позволял сделать вывод, что первоначально грубый деревянный каркас был обтянут тонкой легкой сероватой тканью. Вообще, казалось, что островитяне используют эту ткань для своих религиозных отправлений, так как в мораэ там и сям виднелись изодранные в клочья куски. Кроме того, в знак почтения островитяне набросили на плечи капитана Кука несколько больших серых полотнищ. С такими же полотнищами на плечах расхаживали и местные вожди. Странные надгробные памятники на местном наречии назывались «хенану» и возводились на месте захоронения влиятельных лиц. Внимательно осмотрев несколько погребений, Кук сказал, что останки людей явно свидетельствуют о том, что среди гавайцев распространен обычай человеческих жертвоприношений. Из всего огромного количества островов, относящихся к Гавайскому архипелагу, Кук исследовал только большой остров, Оаху, и еще четыре малых. Следует сказать, что во время своей первой стоянки у Гавайских островов Кук, наверное, не осознал всю важность своего открытия. Затем экспедиция открыла остров Атоуи (сегодня называемый Кауаи) и соседствующие с ним острова Ниихау и Тахора. Кук не заметил ни довольно большую группу островов Мауаи, ни главный остров архипелага — Гаваи, своими размерами в три раза превосходящий Оаху. Кук отметил, что климат там очень здоровый и нет удушающей жары, а также то, что земли этих островов очень плодородны: везде в изобилии росли бананы, сладкий батат, кокосы, таро, ямс, тыквы, но вот хлебное дерево встречалось здесь гораздо реже, чем на Таити. Правда, на Гавайских островах встречались и растения, которых на Таити англичане не видели, например ароматные гардении, достигающие просто гигантских размеров. Островитяне показали Куку и еще одно полезное дерево, называемое на местном наречии «дуидуи», на котором растут содержащие много жиров орехи. Аборигены накалывали эти плоды на пики и поджигали, так что получалось нечто вроде подсвечников со свечой или факела. Единственными животными, которых заметил на Гавайях Кук, оказались свиньи и собаки, причем, как выяснилось, туземцы явно отдавали предпочтение при приготовлении пищи собакам. Бродила около жалких хижин и кое-какая птица. В подавляющем большинстве местные жители были среднего роста, крепкие и мускулистые, но вот стройными их, пожалуй, назвать было нельзя. Круглолицые, добродушные и честные с виду, они производили очень приятное впечатление. Кожа у них в основном темно-коричневого цвета. У обитателей Гавайских островов не в моде натираться прогорклым жиром, как это делают туземцы островов, лежащих южнее. Зубы у них белые и очень хорошие, волосы густые, прямые или слегка вьющиеся, но никак не курчавые. Они прекрасно плавают и чувствуют себя в воде как рыбы. Вода для них столь же привычная стихия, как и воздух. Нередко морякам доводилось видеть, как женщины, кормящие младенцев грудью, бросались в волны, если прибой был слишком сильным и пироги не могли подойти к берегу. Эти смуглые русалки преспокойно преодолевали бурное море и добирались до суши, не причинив своим детишкам ни малейшего вреда. Кук писал в своем докладе: «Характер у туземцев очень хороший. Они честны, добродушны и жизнерадостны. Мы пришли к выводу, что они прекрасно ладят между собой и живут очень мирно. Нас они встретили очень радушно, однако мы имели возможность заметить, что обитатели этих островов столь же склонны к воровству, как и большинство жителей Океании. У нас создалось впечатление, что аборигены очень умны, доказательством чему является тот факт, что, когда они увидели различные предметы, созданные на европейских фабриках, они выразили свое неподдельное восхищение и удивление, а также стали жалобно сетовать на несовершенство собственных изделий. В любой ситуации местные жители давали нам понять, как высоко ставят нас и как низко — самих себя, признавая наше превосходство во всем. Такое поведение и такая самооценка тем более заслуживают похвалы и уважения, что всем известна гордость, граничащая с чванством, столь свойственная как цивилизованным японцам, так и обитающим в Гренландии дикарям. С превеликим удовольствием мы наблюдали, как заботливо и ласково обращаются женщины со своими малышами и с каким усердием мужчины помогают им. В этом отношении они гораздо выше тех племен, где мужчина взирает на женщину и ребенка скорее как на нечто необходимое, а не желанное и достойное внимания и любви. Излюбленным оружием местных жителей являются копья, палицы, луки и кинжалы, заточенные с двух сторон, которые они прикрепляют к рукам с помощью веревок и применяют во время рукопашных схваток. Они используют также нечто вроде пращей, при помощи которых обстреливают врагов большими кусками красного железняка, имеющими по бокам специальные выемки, чтобы лучше держалась веревка». Второго февраля Кук покинул острова, названные им Сандвичевыми в честь первого лорда Адмиралтейства (это название, к счастью, не сохранилось и его заменило гораздо более благозвучное — Гавайи). На земном шаре существует множество других английских названий, и не стоит украшать карту Океании именем этого лорда, навечно связанного в сознании современных людей с двумя ломтиками намазанного маслом хлеба с кусочком ветчины посредине. Утром 10 марта Кук оказался в виду берегов Америки. Он нашел довольно удобную и хорошо защищенную бухту, соединенную с морем узким проходом, и стал там на якорь, чтобы дать отдых команде и провести необходимые ремонтные работы на судах. Тотчас же показались три пироги. В докладе Кука написано следующее: «Один из дикарей встал во весь рост и произнес длинную речь, сопровождая ее бурной жестикуляцией. Мы приняли сие действо за приглашение сойти на берег. Туземец стал бросать в нашу сторону какие-то перья, его же собратья принялись швырять в нашу сторону пригоршни красноватой пыли. Странный оратор носил на плечах шкуру какого-то крупного зверя, а в каждой руке держал нечто непонятное и извлекал из этих предметов звуки, похожие на те, что издают детские погремушки. Когда он устал произносить свою длиннейшую торжественную речь, из коей мы не поняли ни слова, он умолк. Но тотчас же два других туземца взяли слово, правда, их речи не были столь долгими, да и говорили они не столь напыщенно. Поднялся легкий бриз, и наши корабли приблизились к берегу. Пироги все прибывали и прибывали. У борта моего корабля их уже собралось более тридцати, и в каждой сидело от трех до семи человек, мужчин и женщин. Многие стояли, гордо выпрямившись во весь рост; они произносили речи и все время отчаянно жестикулировали, как те, что появились первыми. На одной из лодок была нарисована огромная голова неведомого животного, с одним глазом и острым, загнутым птичьим клювом. В этой лодке, по-видимому, находился вождь племени. Он отличался от всех прочих диковинным украшением: у него над головой колыхалось целое облако разноцветных перьев. Лицо вождя было ярко раскрашено, и узоры эти были просто поразительны». Между англичанами и американскими индейцами завязался товарообмен. Следует отдать местным жителям должное: во время первого контакта они вели себя наилучшим образом. Они явно отдавали предпочтение изделиям из металла и в качестве товара, предназначенного на обмен, притащили нечто такое, что заставило моряков задрожать от ужаса и отвращения: человеческие головы и руки, которые они предлагали как самое изысканное лакомство. Эти жуткие останки были уже сварены, и индейцы жестами объяснили, что они уже съели недостающие части тел. Но честность индейцев оказалась всего лишь видимостью, и демонстрировали ее они очень недолго. Очень скоро их естество вышло наружу, и индейцы показали, кем они являются на самом деле, то есть законченными ворами. Причем крали индейцы не только пустяковые безделушки, как это делали обитатели многочисленных островов Океании, а воровали различные инструменты и прочие весьма нужные морякам вещи. Индейцы имели железные ножи и без стеснения перерезали веревки, которыми крепились различные приглянувшиеся им снасти и части оснастки корабля, что иногда даже наносило вред безопасности судна. Они были очень хитры и упрямы и ради достижения своих целей дьявольски умело и ловко обманывали бдительность часовых, приводя тех в неописуемое изумление своей наглостью. Однако, несмотря на все неприятности, стоянка оказалась очень полезной, так как моряки смогли восполнить припасы и запастись пресной водой. Кук назвал залив именем короля Георга, хотя и знал, что индейцы называют это место заливом Нутка[87]. История рассудила по-своему и сохранила на географических картах индейское название. Кук оставался в удобной гавани до 26 апреля 1778 года. Едва корабли вышли в открытое море, как на них всей своей мощью обрушился ужасный шторм. Сильнейший ветер понес их к северу. Во время шторма уже изрядно потрепанный «Резолюшн» получил довольно серьезную пробоину, но ее, к счастью, удалось заделать. Держась на небольшом удалении от берегов Американского континента, Кук заметил вдающуюся в море часть суши и назвал это место мысом Саклинг[88]. Затем он увидел небольшие острова и еще один мыс, нареченный им мысом Хинчинбрук, и наконец вошел в залив Принс-Вильям. Тотчас же навстречу английским кораблям устремились суденышки, напоминавшие лодки эскимосов, где сидели еще более горделивые и надутые спесью туземцы, чем в заливе Нутка. Их лодки были сделаны не из дерева, а из натянутых на легкий деревянный каркас шкур каких-то животных, и отличались эти суденышки большой маневренностью. Местные жители были одеты в одежду, сшитую из шкур морской выдры[89], а на головах у них красовались меховые шапки, украшенные стеклянными бусами. Они, похоже, явно ничего не знали об убойной силе огнестрельного оружия, так как захотели захватить «Резолюшн», когда моряки сильно накренили его, чтобы дать возможность плотникам заделать пробоину. И напали они на корабль, видя перед собой добрую сотню вооруженных ружьями матросов и пушки «Дискавери»! Англичане сохранили выдержку и хладнокровие, и до кровопролития дело на этот раз не дошло: матросы отбили в рукопашной схватке атаки туземцев, угрожавших им острыми ножами. В течение двух дней плотники работали не покладая рук и наконец-таки заделали пробоину, после чего Кук снялся с якоря и продолжил путь к Берингову проливу. Во время этого перехода случилось несчастье, надолго опечалившее капитана. Вообще плавание было довольно спокойным и проходило без особых треволнений. Дни следовали за днями, принося с собой новые открытия. Корабли миновали мыс Елизаветы, косу Бэнкса, мыс Дуглас[90]. Затем Кук посетил гору Святого Августина[91] и дал ей название, прошел в залив, получивший впоследствии название залива Кука[92], обнаружил остров Кадьяк[93] и остров Тринити[94], нанес на карту Бристольский залив[95]. Далее англичане прошли вдоль берегов Круглого острова[96], обогнули большую косу Спокойствия[97] и мыс Ньюэнхем. Как раз в это время натуралист Андерсон[98], давно страдавший от болезни легких, почувствовал себя хуже, так как погода резко испортилась и очень похолодало. Состояние ученого с каждым днем ухудшалось, и через несколько дней наступила агония. Он умер как раз в то время, когда корабли проходили мимо какого-то неведомого острова. Останки Андерсона были препровождены на остров с военными почестями и захоронены в глубокой могиле, выдолбленной в мерзлой земле. Кук назвал открытый им остров именем своего умершего соотечественника[99]. После вынужденной стоянки Кук открыл еще один остров, а затем подошел к западной оконечности Америки, к мысу Принца Уэльского, который находится как раз напротив восточной оконечности Азии, и разделяет два материка в этом месте Берингов пролив. Капитан Кук решительно вошел в пролив после краткой стоянки у берега, во время которой англичане совершили взаимовыгодный обмен с чукчами, и вышел в открытое море 11 августа 1778 года. Через неделю показалось огромное ледяное поле. Корабли долго шли вдоль кромки льда, пытаясь найти проход. 17 августа экспедиция оказалась на 70°41′ северной широты[100]. В течение последующего месяца Кук со свойственным ему упрямством предпринимал попытку за попыткой пробиться к северу, даже пытался пробить проход корпусом корабля, но ледяные поля оказались непреодолимой преградой, так как представляли собой толстый, крепкий, смерзшийся в монолит лед, всего лишь чуть подтаявший сверху под робкими лучами арктического солнца. В своем дневнике Кук записал: «Я считаю, что это смерзшийся снег и что образовался он в самом море, так как такие горы не могут плавать по рекам, где едва хватает воды для того, чтобы проплыть там на лодке. К тому же, исследуя эти льды, мы не заметили среди абсолютно белого безмолвия никаких останков животных и растений, никаких следов камней или земли, которые непременно должны были бы там оказаться, если бы льдины образовывались в руслах больших или малых рек». Лето заканчивалось, и приходилось признать, что кампания 1778 года оказалась неудачной. Капитан Кук, не желая застрять во льдах и видя, что зима неумолимо приближается, принял решение вернуться в теплые моря и в следующем году сделать еще одну попытку найти столь желанный проход из Тихого океана в Атлантику. Он надеялся, что сезон 1779 года принесет ему удачу. Кук принял весьма благоразумное решение: отправиться зимовать под гораздо более гостеприимными небесами на Сандвичевых (Гавайских) островах, чем рисковать судами и командой в краю вечных льдов. Двадцать шестого октября экспедиция покинула остров Уналашку и ровно через месяц оказалась в виду острова Мауи, который был еще незнаком англичанам. А вскоре показались и покрытые снегами вершины гор самого большого острова Гавайского архипелага, получившего название острова Гавайи[101]. Корабли встали на якорь в большой удобной бухте, называемой туземцами Каракакуа[102], где капитан Кук надеялся капитально отремонтировать «Резолюшн» и «Дискавери». Тотчас же на берег явились туземцы, желавшие засвидетельствовать свое почтение гостям. Они бурно выражали свою радость песнями, криками, странными жестами и смешными гримасами. Они нисколько не робели и чувствовали себя столь непринужденно, что вскоре буквально облепили борта кораблей. Множество женщин и мальчишек, не сумевших раздобыть пирогу, добирались до заветных судов вплавь, и в море было черно от кудрявых голов. Большинство туземцев, не сумев подняться на борт, так как там было слишком много посетителей, провели целый день, играя и кувыркаясь среди волн. Среди вождей, поднявшихся на борт «Резолюшн», англичане заметили молодого человека по имени Пареа[103]. Он, видимо, пользовался среди своих соплеменников большим влиянием и, представ перед капитаном Куком, заявил, что он является «якане». Слово это уже было известно англичанам, так как некоторые жители других островов того же архипелага называли себя именно так, но моряки не могли понять, обозначает ли это слово титул, чин или степень родства с королем. Пареа, казалось, испытывал к англичанам дружеские чувства и оказал им множество весьма полезных услуг, в том числе когда помог очистить от любопытных борт «Дискавери», сильно накренившегося от перегрузки. Едва «Резолюшн» приблизился к берегу и бросил якорь, как Пареа и еще один вождь, Канеена, привели пользовавшегося непререкаемым авторитетом вождя Коаху[104]. Это был очень заслуженный воин, который, состарившись, стал жрецом. Маленький, дряхлый, очень худой, покрытый лишаями, с зубами, испорченными неумеренным употреблением кавы, он не производил благоприятного впечатления. Старика провели в кают-компанию, и он приблизился к капитану Куку и выразил тому свое почтение, набросив ему на плечи кусок ярко-красной ткани. Затем он сделал несколько шагов назад и с поклоном преподнес англичанину маленького поросенка, сопроводив свой дар довольно длинной торжественной речью. Эта церемония не раз повторялась во время пребывания англичан на Гавайях, и моряки сделали вывод, что таким образом туземцы выказывали нечто вроде религиозного поклонения новым богам. Они заметили, что все идолы островитян всегда окутаны той же красной тканью, которую жрец набросил на плечи капитана Кука, и что в дар богам приносили все тех же маленьких поросят. К тому же туземцы, обращаясь к англичанам с какой-либо просьбой или вознося свои молитвы к небесам, говорили скороговоркой, словно заранее затвердили некий образец. Каждый раз, когда Кук, обладавший воистину неистощимым запасом терпения, ступал на сушу, он становился объектом поклонения, и всякий раз церемония была одной и той же, хотя и с некоторыми вариациями. Доброе согласие продолжалось до 24 января. Жрецы выказывали Куку особое почтение и воздавали ему почести, как божеству. Однако некоторые воинственно настроенные вожди начали подговаривать своих подданных против англичан и подстрекать их к кражам, к чему те и так проявляли большую склонность. Произошло несколько неприятных инцидентов, свидетельствовавших о том, что настроение островитян изменилось, и с каждым днем их отношение к англичанам все ухудшалось. Обмен с туземцами происходил в обстановке всеобщего недоверия, а кражи постоянно множились. Выведенные из себя англичане ответили в конце концов преследованием и наказанием наглых воришек. Обстановка резко обострилась. Однако официальный визит на корабли короля Торреобу, верховного правителя Гавайев[105], послужил, казалось, знаком ко всеобщему умиротворению и немного утихомирил страсти. После взаимного обмена подарками все внезапно ощутили некий спад напряженности и вздохнули с облегчением. И напрасно. Ибо Торреобу был ничуть не лучше своих подданных, таких же коварных и хитрых, как и прочие их сородичи-океанийцы. Корабли покинули бухту 4 февраля, но во время урагана «Резолюшн» получил значительные повреждения, и англичане были вынуждены вернуться обратно к месту стоянки. Бросив якорь, моряки обнаружили, что туземцы настроены крайне враждебно. 13 февраля вожди попытались помешать матросам наполнить бочки пресной водой из источника. Там произошла первая стычка, в ходе которой англичан забросали камнями. Почти одновременно произошла еще одна крупная неприятность: большой отряд туземцев похитил плоскодонку, принадлежавшую «Дискавери», разграбив все, что в ней находилось, и крепко побив матросов. «Я очень опасаюсь, что туземцы вынудят меня прибегнуть к насильственным мерам, — сказал Кук, узнав о фактах грабежа и разбоя, — ибо мы не можем позволить им думать, что они одержали над нами верх». В ночь с 13 на 14 февраля случилась беда: был похищен большой ялик с «Дискавери». Нужно было его непременно вернуть и строго наказать виновных. Кук приказал взять в заложники короля Торреобу и еще четырех высокопоставленных островитян и удерживать их до тех пор, пока не будет возвращено все украденное. Начальник экспедиции лично возглавил отряд солдат морской пехоты. Найдя на берегу Торреобу и его сыновей, Кук рассказал им о похищении ялика и попытался склонить к тому, чтобы они сами добровольно поднялись на борт английского флагмана. Сначала король согласился было выполнить просьбу Кука. Его сыновья уселись в плоскодонку и направились к «Резолюшн». Торреобу уже собирался последовать их примеру, как вдруг появилась толпа туземцев, ведомая воинственными вождями и одной из жен короля. Дикари не позволили своему монарху сесть в лодку и силой увели его с собой. Капитан Кук понял, что не сможет осуществить свой план без большого кровопролития, и предпочел отказаться от него. Он спокойно шел по берегу, чтобы сесть в лодку и вернуться на корабль, когда один из самых высокопоставленных вождей туземцев был убит выстрелом, произведеннымодним из солдат, на которых была возложена обязанность не подпускать местных жителей к пирогам, чтобы англичане не лишились возможности добраться до корабля. Весть об убийстве вождя мгновенно распространилась среди воинов. Они надели боевые доспехи и примчались к берегу, потрясая дротиками, копьями и палицами. В эту минуту Кук находился в нескольких шагах от лодки. Один из туземцев, вооруженный заточенным с двух сторон кинжалом, называемым на местном наречии «пахуа»[106], принялся угрожать капитану. Желая оградить себя от грозного оружия, Кук выстрелил в дикаря из пистолета, заряженного дробью. Туземец, защищенный доспехами, сделанными из подвергнутых специальной обработке толстых кусков то ли листьев, то ли коры дерева, называемого «тапой», даже не был ранен. Он впал в еще большую ярость и присоединился к группе нападавших. Поняв, что его жизни грозит смертельная опасность, Кук выстрелил в туземца, оказавшегося прямо перед ним, и убил его, так как на сей раз пистолет был заряжен пулей. Началось кровавое побоище. Первым от рук туземцев пал лейтенант[107], сопровождавший капитана Кука. По свидетельствам очевидцев этой ужасной драмы, в последний раз они видели Кука, когда он стоял у самой кромки воды и кричал находившимся в шлюпке солдатам морской пехоты, чтобы они прекратили огонь[108]. Если это на самом деле было так, то Кук, видимо, желая предотвратить еще большее кровопролитие, пал жертвой своего человеколюбия. Авторитет капитана среди дикарей был столь велик, что ни один из них не осмелился причинить ему вред, пока он стоял к ним лицом, но как только Кук повернулся к ним спиной, чтобы отдать приказ сидящим в шлюпке солдатам прекратить огонь, так тотчас же был сражен ударом в спину и упал на песок, лицом в воду. При виде поверженного божества островитяне разразились радостными криками, похожими на рычание диких зверей. Затем они вытащили тело Кука на берег и принялись с дикой яростью осыпать мертвеца ударами. Не удовлетворившись этим, туземцы стали рвать труп на куски. Ошеломленные произошедшим несчастьем, англичане возвратились на корабли и, опасаясь нападения, приняли особые меры предосторожности. В особенности моряки опасались, что туземцы атакуют «Резолюшн», так как флагман не мог в данный момент выйти в море из-за производившихся на нем ремонтных работ. К тому же перед англичанами стояла трудная задача: они непременно хотели получить останки своего несчастного руководителя, чтобы воздать ему последние почести. Хотя моряки испытывали непреодолимое отвращение при мысли о необходимости вновь вступить в переговоры с коварными негодяями-островитянами, приходилось делать над собой усилие и преодолевать отвращение ради достижения благородной цели. Два жреца, по-прежнему питавшие к англичанам добрые чувства, доставили им тайком от вождей кусок человеческой плоти весом в восемь — десять фунтов[109]. По их словам, это было все, что осталось от трупа капитана Кука. Вид этих печальных останков вызвал среди команды ужасающий взрыв ярости, тем более понятный и объяснимый, что члены команды буквально боготворили Кука. Они жаждали мести. В то же время и туземцы, обозленные гибелью пяти вождей и двух десятков воинов, тоже не думали ни о чем ином, кроме как упиться кровью чужаков. Всякий раз, когда моряки отправлялись на берег, чтобы наполнить бочки пресной водой, вспыхивали ожесточенные схватки. После смерти капитана Кука командование принял на себя капитан «Дискавери» Чарлз Клерк. Он счел своим долгом дать туземцам хороший урок и повелел сжечь расположенную у берега деревню, где находились жрецы, а также приказал перебить всех, кто попытается оказать сопротивление. Узнав о том, что англичане снаряжают карательную экспедицию, объятые ужасом жрецы поняли, что пощады им не будет[110]. Они приняли решение выдать англичанам другие части тела Кука, хотя прежде утверждали, что больше от него ничего не осталось. 19 февраля жрецы поднялись на борт «Дискавери», неся на куске очень чистой и красивой материи жалкие останки великого мореплавателя: руку, легко узнаваемую по имевшемуся на ней шраму, голову с наполовину содранной кожей и другие изрубленные, изрезанные на мелкие кусочки части тела[111]. Останки знаменитого первооткрывателя множества островов были положены в гроб и опущены в воду посреди залива со всеми положенными воинскими почестями. Капитан Клерк перешел на «Резолюшн» и поднял на нем свой флаг, а капитаном «Дискавери» был назначен лейтенант Джон Гор[112], первый помощник Кука. Капитан Клерк взялся за выполнение задач, поставленных перед экспедицией лордами Адмиралтейства, так как приближалось лето. К сожалению, Клерк был тяжело болен и страдал от той же болезни, что свела в могилу натуралиста Андерсона. Клерк знал, что обречен, и все же исполнил свой долг до конца. Он завершил исследование Гавайского архипелага и двинулся в край вечных льдов. Клерк дошел до Камчатки, прошел через Берингов пролив и достиг 69°50′ северной широты[113], но здесь путь на север преградили огромные ледовые поля, как уже было в прошлом году. Двадцать второго августа капитан Чарлз Клерк скончался в возрасте 38 лет, сраженный болезнью легких, от которой он страдал с того самого времени, как корабли покинули Англию. Перед смертью он выразил желание быть похороненным на суше. Его тело было доставлено в Петропавловск и нашло свой последний приют под большим деревом, напротив церкви, где местные жители, русские, воздали ему последние почести со всем благородством, свойственным этому народу[114]. После смерти Клерка экспедицию возглавил Джон Гор. Он еще раз встал на якорь у берегов Камчатки, затем дошел до Кантона, где был вынужден дать отдых команде. Следующим местом стоянки двух кораблей стал мыс Доброй Надежды. Наконец 1 октября 1780 года, после более чем четырехлетнего плавания, корабли возвратились к родным берегам.
ГЛАВА 4
ЭКСПЕДИЦИЯ ЛАПЕРУЗА
Жажда великих открытий и приключений, казалось, навсегда угасшая в начале XVIII века, вспыхнула с новой силой в конце этого столетия, где мы встречаем так много прославленных имен. И предприимчивые, неутомимые исследователи морей, англичане нашли во французах не только упорных учеников и последователей, но и опасных соперников. После удачного кругосветного путешествия, совершенного коммодором[115] Байроном[116], французское правительство возложило на капитана Бугенвиля довольно сложную миссию по исследованию новых земель. Бугенвиль успешно справился с поставленной перед ним задачей и стал первым французским путешественником, совершившим кругосветное плавание[117]. После бессмертных подвигов капитана Кука капитан Лаперуз тоже совершил длительное тяжелое плавание в Южных морях и обошел весь земной шар, что поставило его имя в один ряд с именем прославленного английского мореплавателя. Имя Кука гремело по всей Европе, и по прочтении его захватывающе интересного доклада о драматических событиях во время плавания Людовик XVI, обладавший весьма обширными познаниями в области географии, загорелся идеей прославить свое правление значительными географическими открытиями и расширением колониальных владений Франции. Почему бы какому-нибудь французу не составить достойную конкуренцию капитану Куку? В это время между двумя великими враждующими нациями был заключен мир. Так почему не воспользоваться столь редкой (увы!) передышкой для военно-морских сил, почему бы не исследовать огромные пространства, дабы отодвинуть границы неизведанного? Изголодавшиеся по настоящему делу моряки и ученые радостно приветствовали решение короля. Со всеобщего одобрения Людовик XVI обратил свои взоры на Лаперуза как на человека, способного совершить сие великое многотрудное дело. Как мы увидим, Лаперуз не обманул надежд монарха, но путешествие оказалось столь опасным, что заплатил он за свои открытия жизнью, точно так же, как капитан Кук. Людовик XVI не мог сделать лучшего выбора. Жан-Франсуа Гало де Лаперуз родился в Альби в 1741 году. С самого раннего детства он мечтал стать моряком. Это было настоящее призвание. Какой-то неведомый голос неумолимо звал его пройти по следам отважных мореплавателей, этих бесстрашных воинов и исследователей, которые как в дни войны, так и в дни мира так высоко держали флаг с золотыми королевскими лилиями и так далеко занесли его. Уже в том возрасте, когда обычно окруженный родительской лаской подросток едва осмеливается бросить робкий взгляд за черту, проведенную заботливым отцом, и всегда готовой разрыдаться от всяких воображаемых ужасов матерью, уже в этом возрасте Лаперуз был настоящим моряком. В пятнадцать лет он был принят в состав Королевского морского флота. Произошло сие знаменательное событие 19 ноября 1756 года. Он служил во флоте все время, пока Франция вела войну с Англией. Согласитесь, для подростка то была весьма суровая школа. Уже в самом начале своей карьеры Лаперуз принял участие в пяти военных походах французского флота: сначала он служил на «Селебре» («Знаменитом»), потом был переведен на «Помону», а затем — на «Зефир» и «Серф» («Олень»). В пятом походе ему представилась счастливая возможность отличиться: юный Лаперуз входил в состав экипажа корабля «Формидабль» («Замечательный») под командованием капитана I ранга Сент-Андре дю Верже. Три французских судна, в том числе и «Формидабль», подверглись нападению восьми вражеских кораблей. Завязалась ожесточенная битва. Два французских судна и шесть английских пошли ко дну, а «Формидабль», очень пострадавший во время сражения, был захвачен англичанами; все члены команды, оказавшей врагу воистину героическое сопротивление, оказались в плену, в том числе и тяжело раненный Лаперуз. Едва оказавшись на свободе, молодой моряк тотчас же вернулся на флот и в трех последующих походах на борту корабля «Робюст» («Крепкий») продемонстрировал недюжинную отвагу и рвение. Первого октября 1764 года, в возрасте двадцати трех лет Лаперуз получил чин лейтенанта, что не являлось столь уж невиданным и неслыханным делом во времена правления Людовика XV. Следующего повышения в звании он ждал тринадцать лет и получил чин капитан-лейтенанта 4 августа 1777 года. Ему было тогда тридцать шесть лет. Следует сказать, что обычно ни при королях XVIII столетия, ни при нашей республике, склонной всех уравнивать, офицеры, в особенности младшие, не ждали повышения так долго. С 1764 года Лаперуз постоянно находился в море, если так можно выразиться. В 1765 году он служил на флейте[118] «Адур», в 1766 году перешел на флейту «Гав» («Горный поток»), а в 1767 году вновь вернулся на «Адур», где стал капитаном. В 1768 был назначен на «Доротею», в 1769 Лаперузу доверили «Бютею», в 1770–1771 годах он верой и правдой служил на «Бель-Пуль» («Красивая бабёшка»). С 1774 по 1777 год он командовал флейтой «Сена», курсировавшей у Малабарского берега[119], а когда в 1778 году Франция и Англия вновь приступили к военным действиям, Лаперуз вернулся на «Бель-Пуль», принял участие в кровопролитном сражении, где, по своему обыкновению, не щадил себя. В 1779 году Лаперуз командовал фрегатом «Амазонка», входившим в состав большой эскадры под командованием графа д’Эстена. Огнем своих пушек он поддерживал высадку французских войск на остров Гренаду и бесстрашно прошел вдоль линии, разделяющей две сражающиеся эскадры, французскую и английскую, под командованием адмирала Байрона. Лаперуз сумел захватить фрегат «Ариэль» и покрыл себя славой, так как при его непосредственном участии был захвачен такой большой корабль, как «Эксперимент». Получив в 1780 году чин капитана I ранга, он возглавил фрегат «Астрея» и отправился на нем к берегам Новой Англии, а затем совершил кругосветное плавание в составе экспедиции под командованием адмирала Латуш-Тревиля, находившегося на флагмане под названием «Гермиона». Два французских корабля вступили в бой с превосходящими силами англичан, имевших в своем распоряжении 6 судов. Лаперуз сумел захватить один британский корабль, остальные же обратились в бегство и ушли от преследования под покровом ночи. Лаперуз, чья слава опытного моряка и отважного воина все росла, отправился в заморские владения Франции, в Канаду. Он получил очень ответственное и трудное поручение: пройти в Гудзонов залив и разрушить укрепленные поселения англичан. Он командовал судном под названием «Септр» («Скипетр»), имевшим на борту семьдесят четыре пушки. Сопровождали его фрегаты «Астрея» и «Ангажант» («Привлекательный»). Выступив в поход 31 мая 1782 года, эскадра вошла в Гудзонов пролив и двинулась вперед, прокладывая себе путь во льдах, при сильном тумане. 8 августа корабли оказались около форта принца Уэльского. Хотя форт был хорошо защищен и мог оказать длительное сопротивление, англичане, не сделав ни единого выстрела, тотчас же открыли ворота, то есть сдались на милость победителя. Точно так же поступили их соотечественники и в форте Йорк и в форте Бурбон, принадлежавшем французам в те времена, когда Франция владела всей Канадой[120]. Но Лаперуз был даже несколько разочарован: столько тяжких трудов было затрачено, столько опасностей преодолено, и все для того, чтобы в результате совсем несложных маневров уничтожить все укрепления англичан! Нет, право, какая досада! В результате этой экспедиции Лаперуз прославился еще больше, и французское правительство обратило на него свои взоры как на офицера, способного наилучшим образом провести кампанию по открытию и исследованию новых земель. В ходе плавания в Гудзонов залив отважный моряк имел возможность продемонстрировать всем не только свой талант воина, но и благородство души, человечность, умение сдерживать себя и иметь сострадание к поверженному врагу, что по тем временам было довольно редкостной добродетелью. Как военный, Лаперуз выполнил свой долг до конца, но как человек, он не забыл о том, что надо уважать противника и быть к нему снисходительным. Узнав о том, что англичане из фортов Принца Уэльского и Йорк при приближении французской эскадры попрятались в окрестных лесах и остались после ухода французов практически безоружными, Лаперуз понял, что они не смогут противостоять натиску дикарей и станут либо их легкой добычей, либо умрут с голоду. Побуждаемый самыми добрыми чувствами, он настоял, чтобы поселенцам возвратили оружие и оставили кое-какие припасы. Один из английских моряков в своем отчете о плавании в Ботани-Бей воздал должное Лаперузу в таких выражениях: «В Англии люди должны с признательностью вспоминать этого гуманного и благородного человека и его поведение в то время, когда он получил приказ уничтожить все наши поселения на берегах Гудзонова залива». Людовик XVI замыслил, чтобы французские моряки совершили кругосветное плавание. Морской министр маршал де Кастри предоставил в распоряжение Лаперуза два фрегата: «Буссоль» и «Астролябию». Капитаном «Буссоли» стал сам Лаперуз, а капитаном «Астролябии» был назначен его старинный друг, капитан I ранга де Лангль. На обоих разместили многочисленных ученых. Здесь были: знаменитый геометр Монж[121], который был вынужден высадиться на сушу по состоянию здоровья в самом начале плавания, на Тенерифе, астроном Дажеле из Академии наук, физик Ламанон[122], из Туринской Академии, ботаник де Ламартиньер, натуралист Дюфрен, художник Люше де Ванси, пейзажисты Прево (отец и сын)[123], географ Бернизе[124] и другие[125]. Академия наук и Медицинское общество направили в адрес маршала де Кастри памятные записки с просьбой провести многочисленные исследования. Господин де Флерье, капитан I ранга в отставке, бывший в то время управляющим портами и арсеналами, сам лично составил карту, по которой должны были ориентироваться участники экспедиции. На фрегаты погрузили огромное количество съестных припасов и топлива, а также великое множество товаров, предназначенных для взаимовыгодного обмена с обитателями далеких островов. На обоих кораблях было еще по разобранному на части боту водоизмещением примерно в двадцать тонн[126], по две бискайские шлюпки[127], запасные мачты и комплекты парусов, кабестаны[128] и т. д. «Буссоль» и «Астролябия» вышли в море 1 августа 1785 года и взяли курс на Мадейру, куда и прибыли 13 августа, а 19-го — оказались в виду острова Тенерифе. 29 сентября фрегаты пересекли экватор примерно у 18° западной долготы[129]. Шестнадцатого октября Лаперуз увидел скалы Мартин-Вас и, определив их точное местоположение, направился к острову Триндади (Троицы) и был очень удивлен, обнаружив, что там хозяйничают португальцы. Он вступил в переговоры с губернатором-португальцем, который обосновался на острове после ухода оттуда англичан, и попытался договориться о пополнении припасов свежей провизии, а также пресной воды и топлива. У губернатора острова, некоего сеньора Вожюа[130], под началом было не более двух сотен солдат, из которых всего лишь человек пятнадцать могли похвастаться мундирами. К тому же на вооружении у этого гарнизона было всего несколько пушек, да и те были выведены из строя. Сеньор губернатор, страстно желавший скрыть свою крайнюю нищету, даже не позволил натуралистам высадиться на берег и собрать травы для гербария. Французы поняли, что обитатели острова испытывают нужду буквально во всем, и были вынуждены продолжить путь, так и не пополнив припасы. Потратив некоторое время на поиски острова Вознесения и не найдя его, Лаперуз взял курс к берегам Бразилии и после 96-дневного перехода достиг острова Санта-Катарина. Благодаря строгому соблюдению правил гигиены, а также и тому, что руководитель экспедиции щадил матросов и давал им отдых, здоровье у членов команды было отменное. Как говорится в отчете одного из участников плавания, остров Санта-Катарина простирается от 27°19′10″ южной широты[131], ширина его с востока на запад составляет всего два лье; и от материка он отделен проливом, ширина которого в самом узком месте не более двухсот туазов. На мысе, выдающемся в пролив, расположен город Носа-Сеньора-ду-Диштерру[132], являющийся столицей этого заповедного уголка. Там же находится и резиденция губернатора. В городе насчитывается самое большее три тысячи жителей и около четырех сотен домов. Выглядит городок очень мило и привлекательно. Остров Санта-Катарина с 1712 года служил убежищем для бродяг, бежавших туда из различных районов Бразилии. Они оставались подданными Португалии чисто номинально, на деле же не признавали над собой никакой власти. Почва здесь была столь плодородна, что они могли существовать без всякой помощи из соседних колоний. Корабли, бросавшие якорь у острова, в обмен на продовольствие снабжали жителей только одеждой, в которой те испытывали большую нужду. Только в 1740 году король Португалии назначил на остров постоянного губернатора, под чьим управлением оказались и другие земли, примыкающие к материку. Португальские власти, испытавшие сначала некоторое смущение при виде двух входящих в гавань военных кораблей, оказали затем членам экспедиции очень теплый прием (что, в общем, свойственно этой нации, представители которой отличаются как отвагой, так и гостеприимством). Здесь моряки получили все, что им было нужно. Лаперуз был очень доволен результатами своих переговоров с местными властями и потом долго вспоминал вежливость и предусмотрительность чиновников, а также отменную честность и порядочность всех прочих жителей острова. Девятнадцатого ноября корабли вышли в море и взяли курс на внушавший морякам большие опасения мыс Горн. Они прошли через пролив Ле-Мер и обогнули мыс Горн, причем даже с большей легкостью, чем моряки смели надеяться. Лаперуз первым восстал против существовавших у мореплавателей предрассудков относительно трудностей и опасностей плавания в этих водах. Он говорил, что не стоит преувеличивать трудности, ибо они вполне сравнимы с теми, что встречаются морякам во всех высоких широтах. Девятого февраля экспедиция оказалась на траверзе Магелланова пролива, а уже 24-го корабли стали на якорь в порту города Консепсьон. Все члены команды и все участники экспедиции были абсолютно здоровы, что несказанно удивило испанского капитана порта, который заверил Лаперуза, что ему еще никогда не доводилось видеть в столь прекрасном санитарном состоянии корабль, обогнувший мыс Горн. Город Консепсьон был разрушен землетрясением в 1751 году и отстроен заново на берегах реки Био-Био, в трех лье от моря. Землетрясения здесь случались довольно часто, а потому в городе строили только одноэтажные здания, а это, в свою очередь, привело к тому, что Консепсьон занимал довольно большую площадь. Население его достигало 10 000 жителей. Бухта же является одной из самых удобных корабельных стоянок в мире, ибо море в ней всегда спокойно и течение совсем не чувствуется. В отчете Лаперуза написано: «Эта часть Чили отличается исключительным плодородием. Урожай пшеницы достигает сам-шестьдесят, виноград дает тоже очень обильные урожаи, а на лугах пасутся бесчисленные стада, увеличивающиеся с совершенно невероятной быстротой. Женщины, принадлежащие к богатому сословию, сходят с ума по туалетам. Женский праздничный наряд состоит из плиссированной юбки из старинной золотой или серебряной парчи, изготовлявшейся когда-то в Лионе. Юбки эти, приберегаемые для особо торжественных случаев, являются фамильными драгоценностями, как бриллианты, и переходят от бабушек к внучкам. Впрочем, такими нарядами обладает лишь незначительное меньшинство местных жительниц, другие же едва прикрывают наготу». После того как французские моряки получили от местных властей и общества чрезвычайно горячий прием, какой умеют оказать очень экспансивные и ни в чем не знающие меры испанцы, Лаперуз приказал сняться с якоря. 15 марта 1786 года он покинул гостеприимный Консепсьон и 9 апреля вошел в залив Кука на острове Пасхи. С первого же взгляда начальник французской экспедиции и его офицеры определили, что Ходж, художник, сопровождавший Кука, очень плохо изобразил обитателей острова. И в наши дни данное обстоятельство бросается в глаза всякому, кто посетил эти края или даже просто видел фотографии, сделанные путешественниками. Действительно, приходится задавать себе вопрос: какими же глазами смотрел Ходж на островитян и что он держал в руке вместо кисти, чтобы изобразить дикарей, у которых головные уборы из перьев, одеяния и даже черты лиц напоминали бы строгие линии одеяний и лиц древних греков и римлян. Возможно, конечно, что такой эффект получался из-за того, что в эпоху Ходжа людям, в особенности художникам, было свойственно все приукрашивать и идеализировать, вплоть до того, что пастухов и пастушек изображали в кружевах и лентах, овец — словно только что вымытых с мылом, а всех остальных персонажей — словно обсыпанными пудрой и разодетыми в пух и прах. В любом случае, надо было до крайней степени пропитаться духом античности, чтобы превратить дикарей в воинов Древней Эллады и Древнего Рима. Корабли недолго находились у острова Пасхи и уже через день снялись с якоря. 10 апреля эскадра взяла курс на Гавайи, куда и прибыла 29 мая. Хотя Лаперуз и оказался первым европейцем, ступившим на берег острова Мауи, он не счел нужным объявить его именем короля французским владением по причинам, весьма необычным для человека старой закалки, что делает ему особую честь. Лаперуз писал: «Обычаи европейцев в данном вопросе смешны и являются полной нелепостью. Великие философы должны испускать дружные стоны при виде того, что люди, обладающие пушками и штыками, совершенно не считаются с мнением шестидесяти тысяч себе подобных только по той причине, что у них есть грозное оружие, а у тех — нет. Любой благоразумный человек должен страдать из-за того, что европейцы, пренебрегая самыми священными правами других людей, смотрят как на желанную добычу на землю, которую ее обитатели обильно полили своим потом и в которой на протяжении долгих веков они хоронили своих предков». Лаперуз не стал исследовать архипелаг, столь хорошо изученный и описанный капитаном Куком, и не пытался найти какие-то новые земли, не замеченные его знаменитым предшественником. Он провел на Гавайях всего лишь несколько дней и вскоре взял курс к берегам Америки, как ему предписывалось в инструкциях. Попутные ветры благополучно доставили экспедицию к американскому побережью. Фрегаты преодолели район, где морякам повстречались скопища очень любопытных, неизвестных науке водорослей, образовывавших даже нечто вроде мелей. Эти водоросли представляли собой шарики размером с апельсин, с полым стеблем длиной в сорок — пятьдесят футов. По мере приближения судов к Американскому континенту в море стали появляться киты, затем утки, нырки и прочие птицы, что свидетельствовало о близости суши. Двадцать третьего июня, когда рассеялся туман, скрывавший сушу, моряки увидели покрытую снегами вершину горы Святого Ильи, которую заметили бы еще за тридцать лье, если бы не густой туман. Первой заботой руководителя экспедиции стали поиски удобной и безопасной стоянки, и Лаперуз послал на разведку три шлюпки, чтобы промерить глубины и исследовать состояние дна. Один из офицеров, господин де Монти, обнаружил большую бухту, которую Лаперуз позже назвал его именем[133]. Затем Лаперуз исследовал берег вплоть до устья большой реки, получившей название реки Беринга[134]. Но погода испортилась, и корабли были вынуждены покинуть оказавшееся ненадежным убежище. 2 июля на 58°36′ северной широты и 140°З1′ западной долготы была замечена бухта, показавшаяся прекрасным местом для стоянки. Лаперуз приказал господину Пьереверу отправиться на шлюпке в бухту и вместе с господином Берназе осмотреть ее. В это же время и с «Астролябии» по указанию де Лангля были спущены две шлюпки под начальством Фласана и Бутервилье. Вскоре офицеры вернулись и сделали подробный доклад об увиденном. Сведения оказались благоприятными. Оба фрегата подошли ко входу в бухту, но ветер был очень слаб, да, к несчастью, в то время начался отлив, и течение было столь сильно, что корабли не смогли преодолеть силу сопротивления воды. «Астролябию» с огромной скоростью относило в сторону, и «Буссоль», совершив попытку стать на якорь, была вынуждена за ней последовать. Простояв всю ночь борт о борт, в 6 часов утра корабли вновь направились к бухте, чтобы войти в узкий проход вместе с приливом. Впереди каждого фрегата шла лодка. Ветер дул от вест-зюйд-веста, а направление прохода в бухту было с севера на юг. Таким образом все обстояло благополучно. Но в 7 часов утра ветер внезапно переменился на вест-норд-вест, так что морякам пришлось очень и очень потрудиться, чтобы преуспеть. К счастью, течение внесло корабли в бухту, и от скал, высившихся у восточного берега, фрегаты прошли на расстоянии пистолетного выстрела. «Буссоль» стала на якорь на глубине трех с половиной саженей, в полукабельтове от берега. Дно оказалось скалистым. «Астролябия» стала на якорь на таком же дне и на такой же глубине. Вот что написал по поводу этой стоянки Лаперуз: «За те тридцать лет, что я провел в море, мне еще ни разу не доводилось видеть, чтобы два корабля были так близки к гибели. Мы тотчас же спустили на воду шлюпки и завели якоря при помощи удлиненных тросов как можно дальше. Еще до того, как уровень воды в бухте значительно понизился из-за отлива, мы оказались на глубине шести саженей. Нас, правда, рывками потащило в сторону, но довольно слабо, так что корабли не пострадали. Наше положение было бы совершенно безопасным, если бы мы не стояли на каменистом, даже скалистом дне, тянувшемся вокруг нас на несколько кабельтовых. Я был очень удивлен, так как Фласан и Бутервилье сообщили мне совершенно иные сведения. Но время для размышлений было совсем неподходящее. Следовало как можно скорее покинуть это отвратительное место». Ситуация была очень тяжелой и требовала немедленных действий. Пришлось производить многотрудные хитрые маневры, занявшие довольно много времени. Чтобы выйти из крайне затруднительного положения, потребовались все знания тонкостей морского дела двух столь опытных и умелых моряков, какими были Лаперуз и де Лангль. Столь негостеприимно встретившую путешественников бухту Лаперуз нарек Порт-де-Франсе[135]. Вскоре появились и туземцы, желавшие совершить взаимовыгодный обмен. Вороватые и наглые, они мало чем отличались в моральном плане от обитателей Океании. Лаперуз, приказавший возвести на берегу легкую постройку для обсерватории и натянуть палатки для кузнецов и парусных дел мастеров, отмечает, что, несмотря на строгую охрану и постоянное наблюдение, и обсерватория и палатки были разграблены. Индейцы подползали на животах бесшумно, словно змеи, умудряясь двигаться так, чтобы ни травинка, ни листочек не шелохнулись. Несмотря на присутствие зорких часовых, им удавалось за один раз стянуть несколько предметов. Наконец индейцы изловчились и ночью проникли в палатку, где спали стражи обсерватории, господа Лористон и Дарбо. Индейцы похитили отделанное серебром ружье и даже одежду офицеров, которую те для путей сохранности положили себе под изголовье. Двенадцать человек охраны не заметили воришек, а сами офицеры даже не проснулись. Стоянка в Порт-де-Франсе была довольно долгой, так как требовалось провести очень кропотливую работу по промерам дна, топографической съемке берегов, составлению карт и планов, проведению астрономических наблюдений. Моннерон и Бернизе составили карту бухты. Оставалось только нанести на нее данные промеров. Эту задачу поручили нескольким офицерам. Для промеров снарядили три шлюпки под командованием Эскюра, Маршенвиля и Бутена, возглавлял же всю экспедицию Эскюр, лейтенант с «Буссоли»[136]. По этому поводу Лаперуз написал следующее: «Так как мне было известно, что Эскюр иногда бывает склонен переусердствовать в своем рвении, я счел своим долгом дать ему письменные инструкции. Они были так подробны и я так настаивал на том, чтобы Эскюр проявил максимум осторожности, что мой лейтенант даже обиделся и спросил, не принимаю ли я его за неразумное дитя, это его-то, человека, уже успевшего побыть капитаном нескольких судов, добавил он. Я очень мягко, по-дружески объяснил, какими соображениями я руководствовался, отдавая приказ соблюдать величайшую осторожность. Я рассказал лейтенанту о том, что два дня назад мы с господином де Ланглем уже промеряли фарватер, и тогда офицер, командовавший второй шлюпкой, прошел слишком близко к скалам и даже задел их бортом. Заканчивая разговор с Эскюром, я добавил, что молодые офицеры считают хорошим тоном стоять на самом бруствере[137] во время битвы и попусту рисковать своей жизнью. Я заметил, что тот же самый глупый юный задор заставляет молодых моряков не обращать должного внимания на буруны и скалы, а ведь такое неразумное лихачество может иметь весьма печальные последствия, в особенности в столь тяжелом и опасном деле, как наше». Затем, перечислив еще раз во всех подробностях свои требования, Лаперуз продолжал: «Дав столь подробные инструкции, должен ли был я еще в чем-то сомневаться? Ведь даны они были не мальчику, а зрелому мужу, тридцатитрехлетнему человеку, уже успевшему побыть капитаном на военных кораблях!» Шлюпки ушли в шесть часов утра. Моряки воспринимали этот поход как увеселительную прогулку, а не как ответственное задание, сопряженное с опасностью. Им предстояло поохотиться, а затем и пообедать на берегу. «В десять часов утра, — писал Лаперуз, — я увидел, что возвращается маленькая шлюпка. Я был немного удивлен, так как не ждал моих людей так рано. Прежде чем Бутен поднялся на палубу, я спросил, что случилось. В первую минуту я подумал, что на них могли напасть дикари. Вид Бутена только усилил мою тревогу, ибо лицо его выражало глубокую скорбь. Он тотчас же рассказал мне об ужасной катастрофе, свидетелем которой он стал: наши шлюпки утонули, а вместе с ними утонули все, кто на них находился. Сам Бутен уцелел только благодаря самообладанию и силе характера, давшим ему возможность использовать все средства для спасения, остававшиеся при таких исключительно опасных обстоятельствах. Бутен рассказал, что, следуя за начальником отряда, он оказался среди бурунов, разбивавшихся о берега пролива. Это было время отлива, и скорость течения составляла три-четыре лье в час. Бутен сообразил поставить свою шлюпку кормой к волнам, так что вода не попадала внутрь, потому что большие валы высоко поднимали ее, и в таком положении, то есть задом наперед, отлив и должен был вынести ее из бухты. Вскоре Бутен увидел буруны позади шлюпки, а потом оказался в открытом море. Думая больше о спасении друзей, чем о своей собственной безопасности, он подошел к самому краю бурунов и пошел вдоль него, в надежде спасти хоть кого-нибудь. Он даже вступил в полосу прибоя, но отлив отбросил шлюпку назад. Тогда Бутен взобрался на плечи Мутона, чтобы охватить взглядом как можно больше пространства. Надежда оказалась тщетной! Море уже поглотило всех! Отлив кончился, и море успокоилось. У Бутена еще сохранялась слабая надежда на то, что бискайская шлюпка с “Астролябии” не потонула, так как своими глазами он видел только гибель своих друзей с «Буссоли». Шлюпка под командованием Маршенвиля находилась примерно в четверти лье от опасного места, то есть в самых спокойных, как в самой тихой гавани, водах. Но этот молодой офицер, побуждаемый благородством (несомненно, безрассудным, ибо при сложившихся обстоятельствах он не мог оказать погибающим никакой помощи) и обладавший слишком возвышенной душой и слишком большим мужеством, поспешил на выручку. Он не мог предаваться размышлениям в ту минуту, когда его друзья подвергались величайшей опасности, и устремился в полосу прибоя. Он стал жертвой своего великодушия и погиб вместе с теми, кого пытался спасти. Могу сказать также, что Маршенвиль поплатился жизнью еще и потому, что не подчинился моему приказу. Вскоре ко мне на корабль прибыл де Лангль, столь же удрученный, как и я, и со слезами на глазах сообщил мне, что несчастье неизмеримо ужаснее, чем я предполагал. Со времени отплытия от берегов Франции он выработал для себя непреложный закон: никогда не посылать на одно и то же задание двух братьев, Лаборд-Маршенвиля и Лаборд-Бутервилье. Но на этот раз он уступил их настоятельным просьбам, так как им очень хотелось прогуляться и поохотиться вместе. Ведь именно такой увеселительной прогулкой считали мы оба поход наших шлюпок и полагали, что наши люди находятся в такой же безопасности, как на рейде в Бресте, да еще в хорошую погоду». Немедленно к месту катастрофы были посланы шлюпки на поиски потерпевших кораблекрушение. Моряки тешили себя надеждой (весьма слабой), что их товарищей могло прибить к берегу. Туземцам было обещано большое вознаграждение, если им удастся кого-нибудь спасти или даже найти труп. Но шлюпки пошли ко дну вместе со всеми, кто в них находился[138]. И было этих несчастных 21 человек! Удрученный горем Лаперуз приказал возвести на маленьком островке, расположенном посреди бухты, памятник погибшим и дал самому острову красноречивое название: Кенотаф (Гробница). Через восемнадцать дней «Буссоль» и «Астролябия» покинули место, оставившее у членов экспедиции столь печальные воспоминания. От бухты Порт-де-Франсе корабли направились вдоль американского побережья и дошли до Монтерея. Лаперуз нанес на карту береговую линию при входе в залив Кросс-Саунд, осмотрел залив Кука, мыс Энганьо, или мыс Эджкем[139], пролив Норфолк, гавань Неккер, мыс Чирикова[140], острова Де-Ла-Кройера, острова Сан-Карлос и мыс Гектора[141]. Он открыл и дал название мысу Флёрьё[142], острову Сартин[143]. Пройдя 5 сентября мимо мыса Бланко, экспедиция прибыла в бухту Монтерей. Двадцать второго сентября Лаперуз вышел из Монтерея для того, чтобы пересечь огромный Тихий океан с востока на запад и посетить Китай. Бесконечный переход не принес морякам никаких открытий, хотя и был далеко не безопасным. Лаперуз писал: «Наши паруса и такелаж напоминали нам, что мы уже шестнадцать месяцев непрерывно находимся в море. Каждую минуту наши снасти рвались, а парусные мастера не успевали чинить пришедшие почти в полную негодность паруса». Пятого ноября, когда море было поразительно спокойно и стояла прекрасная ночь, «Буссоль» едва не потонула на 166°52′ долготы к западу от Парижа и 23°34′ северной широты, ибо на пути фрегата оказался остров, вернее, скала в пятьсот саженей длиной, голая, без единого дерева и без единой травинки, покрытая птичьим пометом и окруженная бурунами. Шум прибоя почти не был слышен, и легкий шорох услышали только тогда, когда положение было уже очень серьезным. Сложные маневры, направленные на спасение корабля, удалось осуществить только тогда, когда фрегат находился всего лишь в одном кабельтове от рифов[144]. Четырнадцатого декабря фрегаты прошли через лабиринт, образованный Марианскими островами. Моряки высадились лишь на острове Успения, оказавшиеся бедным клочком суши вулканического происхождения, не представлявшем никакого интереса ни для мореплавателей, ни для ученых, ни для колонистов. Чахлая растительность виднелась в основном около лощин и пропастей, образованных потоками лавы, ибо там скапливался гумус, хотя и в очень небольших количествах. Образцы, собранные ботаниками, не стоили тех трудов, которые ученые затратили на очень опасное путешествие к острову и обратно. Первого января 1787 года Лаперуз завершил переход через Тихий океан и на следующий день бросил якорь в гавани Макао. В этом порту экспедиция пробыла целый месяц. Перед Лаперузом стояла задача: продать меха, полученные от американских индейцев в обмен на доставленные французами товары, а также дождаться корабля, который мог бы отвезти во Францию его отчет. Вся его кровь француза и дворянина гневно кипела при виде тех страшных оскорблений, которым подвергали европейцев желтолицые марионетки. Лаперуз изо всех сил желал, чтобы была организована международная экспедиция и эти негодяи из насквозь прогнившего и коррумпированного правительства, жестоко угнетавшего всех и вся, получили бы по заслугам. Ведь оно, это правительство, пало бы даже от пустячного щелчка. Испытывая безграничное отвращение к местным властям, Лаперуз покинул наконец этот ужасный город и дошел до бухты Кавите[145], где располагался военный порт острова Лусон. Гавань оказалась очень удобной. Испанцы чрезвычайно радушно встретили путешественников и предоставили очарованному таким приемом Лаперузу мастерские для починки парусов, для заготовки солонины, для постройки новых шлюпок, а также очень удобные дома, где поселились натуралисты и ученые-географы. Комендант порта предоставил свое собственное жилище для устройства обсерватории. Лаперуз отмечал: «Мы пользовались полной свободой, как если бы находились в деревне. На рынке и в порту, на складах, мы нашли столь же хорошие припасы, что и в лучших портах Европы». Фрегаты простояли на якоре до 9 апреля, а затем взяли курс к берегам Китая. 21 апреля они очутились около Формозы (Тайваня) и вошли в пролив, отделяющий остров от Китая. Немного позже Лаперуз уточнил координаты Пескадорских островов[146], которыми через 100 лет сумел овладеть адмирал Курбе[147] после ожесточенной борьбы, покрыв себя неувядаемой славой. Затем «Буссоль» и «Астролябия», продолжая свое кругосветное плавание, вошли в Восточно-Китайское море и взяли курс к проливу, отделяющему Китай от Японии. Начальник экспедиции сумел определить точное местоположение южной оконечности острова Квельпарта (Чечжудо), так как место это было известно тем, что там потерпело кораблекрушение не одно судно. Определение точных координат острова было тем более важно, что никогда прежде ни один европейский корабль не бороздил эти моря, показанные на картах того времени только на основании сведений, полученных из китайских и японских карт, опубликованных иезуитами. Двадцать пятого мая фрегаты вошли в Корейский пролив, тоже совершенно неизвестный европейцам. Была произведена тщательная съемка берегов, и каждые полчаса делались промеры глубин. 27 мая был обнаружен небольшой остров на удалении примерно 20 лье от берегов Кореи. Он получил название острова Дажеле[148]. Затем французская экспедиция направилась к берегам Японии и 6 июня обнаружила мыс Ното[149]. 11 июня корабли оказались у берегов Татарии (так тогда называлось побережье Японского моря, именовавшегося Татарским), где не нашли мало-мальски пригодного места для стоянки. «До 14 июня мы шли вдоль берега на северо-восток, — писал Лаперуз. — Мы достигли 44° северной широты и добрались до того места, где географы предполагали наличие так называемого пролива Тессей, но нашли мы его только на 5° западнее той долготы, где он должен был располагаться». Двадцать третьего июня «Буссоль» и «Астролябия» стали на якорь в бухте, расположенной на 45°13′ северной широты и 135°09′ восточной долготы, получившей название бухты Терней[150]. «Мы горели нетерпением, — писал Лаперуз, — исследовать эту землю, занимавшую наше воображение с момента отплытия из Франции. То был единственный уголок земного шара, который не посетил неутомимый капитан Кук. И тем, что мы первыми ступили на эту землю, мы были обязаны, наверное, лишь трагическим событиям, приведшим к его гибели. Пять маленьких бухточек образуют бухту Терней. Они отделены одна от другой холмами, до самых вершин поросших деревьями. Никогда, даже самой ранней весной, вы не увидите во Франции столь яркой зелени и такого разнообразия оттенков. И хотя мы не заметили у берегов ни единой пироги, ни единого огонька, мы не могли поверить, чтобы столь плодородный и столь благодатный край, расположенный в непосредственной близости от Китая, мог быть необитаем. Прежде чем спустить на воду шлюпки, мы осмотрели берег при помощи подзорных труб, но обнаружили только лишь оленей и медведей, спокойно бродивших у самой кромки воды. Это зрелище только увеличивало наше желание поскорее высадиться на сушу. Оружие было приготовлено и заряжено с такой поспешностью, будто нам предстояло сражаться с многочисленными врагами, а пока шли все эти приготовления, наши матросы-рыболовы уже поймали при помощи простых удочек штук двенадцать — пятнадцать крупных рыбин, и рыба эта оказалась при ближайшем рассмотрении треской. Земля была устлана ковром из тех же растений, что произрастают и в нашем климате, но они отличались более яркой зеленью и большими размерами. Сейчас была как раз пора цветения, и на каждом шагу нам попадались розы, желтые и красные лилии, ландыши и прочие наши луговые цветы». Раноутром 27 июня Лаперуз приказал оставить на берегу несколько медалей и врыть памятный столб с надписью, в которой говорилось о посещении сего места французскими кораблями. Затем фрегаты снялись с якоря. Через день матросы отправились на шлюпках на рыбную ловлю, и она оказалась очень удачной, так как было поймано около восьмисот штук все той же трески, а сети принесли со дня моря огромное количество устриц и изумительной красоты раковин-жемчужниц. Рыбу, разумеется, тотчас же засолили, а часть съели свежей. «Буссоль» и «Астролябия» стали на якорь в бухте Сюффрен, на 47°51′ северной широты и 137°25′ восточной долготы. 6 июля моряки увидели остров Сахалин. Берега здесь были столь же лесисты, как и побережье Татарского моря. А вдалеке возвышались высокие горы, и наивысшую нарекли пиком Ламанон[151]. Там и сям курились дымки. Эти высокие и тонкие струйки свидетельствовали о наличии на острове людей. Де Лангль высадился на берег в сопровождении нескольких офицеров. Они нашли хижины туземцев. Зола в очагах еще не успела остыть, но островитяне, по-видимому, убежали. Весьма разочарованные неудачей моряки оставили для местных жителей несколько подарков и уже собирались сесть в шлюпку, когда показалась пирога с семью гребцами. Туземцы, казалось, совершенно не боялись французов. «В их числе, — говорится в отчете, — были два старика с длинными седыми бородами, одетые в ткань из древесной коры, напоминавшую ту, из чего делают свои передники обитатели Мадагаскара. У двоих из семи островитян одежда была из подбитой ватой нанки[152] голубого цвета, и она мало чем отличалась от одежды китайцев. Другие были одеты лишь в длинные халаты, при помощи пояса и нескольких пуговиц скрывавшие все тело, что избавляло их владельцев от необходимости носить нижнее белье. Головы у островитян в основном были непокрыты, и только у двоих-троих мы заметили повязки из медвежьей шкуры. Лицо и темя они брили, но на другой манер, чем китайцы, которые сохраняют только венчик волос вокруг головы, называемый «пенцек». Все семеро носили сапоги из шкуры тюленя с очень искусно сделанными, на китайский манер, каблуками. Они были вооружены луками, копьями и стрелами с железными наконечниками. У старшего из островитян, того, к кому остальные относились с явным почтением, глаза были в очень плохом состоянии. Он носил над глазами нечто вроде козырька, чтобы защитить их от яркого солнечного света. Туземцы вели себя очень вежливо и благородно, но с большим достоинством». Де Лангль условился встретиться с островитянами на следующий день. Они прибыли точно в назначенное время и, выказав немалые знания и рассудительность, сообщили весьма ценные сведения о географии данного региона, что побудило Лаперуза продолжить исследования и пройти еще дальше к северу. «Нам удалось объяснить им, что мы просим их изобразить очертания своей страны, а также страны маньчжуров. Тогда один из стариков встал и концом копья начертил берег Татарского моря, изобразив его тянущимся прямо с севера на юг. Находилось все это творение рук островитянина на западе, а напротив, на востоке, он нарисовал остров, тянущийся в том же направлении, и, приложив руку к груди, дал нам понять, что он изобразил свою родину. Между берегом Татарского моря и своим островом он оставил пролив и, обернувшись в сторону наших кораблей, стоявших в виду берега, провел посреди этого пролива линию, показывая таким образом, что они могут там пройти. К югу от своего острова старик изобразил еще один и оставил между ними пролив, пояснив, что это тоже путь для наших кораблей. Стараясь нас понять, старик проявил большую сообразительность, уступавшую, впрочем, сообразительности другого островитянина, лет тридцати от роду, ибо тот, увидев, что линии, начертанные на песке, постепенно исчезают, взял у нас карандаш и бумагу. Он нарисовал свой остров, назвав его Чока, и отметил чертой речку, на берегу которой мы находились. Он поместил ее так, что до южной оконечности острова от нее было вдвое ближе, чем до северной. Затем он нарисовал страну маньчжуров и точно так же, как сделал до него старик, оставил между островом и материком пролив. К величайшему нашему изумлению, он добавил еще реку Сахалин[153], название которой туземцы произносили так же, как и мы. Устье реки он изобразил намного южнее северной оконечности своего острова. Теперь мы захотели узнать, насколько широк пролив, и постарались растолковать нашу мысль собеседнику. Он ее уловил и попытался объясниться с помощью рук. Вытянув руки вперед и держа их на расстоянии двух-трех дюймов одну от другой, он дал понять, что такова ширина реки, на берегу которой мы набирали воду; раздвинув их пошире, он таким образом обозначил ширину реки Сахалин; и наконец, раздвинув руки еще шире, островитянин изобразил ширину пролива, отделяющего остров от материка. Де Лангль и я, мы оба полагали, что было бы очень важно установить, является ли остров, вдоль берегов которого мы плыли, тем самым, что географы называют Сахалином, не подозревая, как далеко на юг он простирается. Я распорядился сделать все приготовления, чтобы на следующий день можно было выйти в море. Бухта, где мы стали на якорь, получила название бухты Де-Лангль, по имени этого заслуженного капитана, который открыл ее и первым ступил на берег», — писал в своем отчете Лаперуз. Начав исследование средней части западного побережья острова и продвигаясь с юга на север, экспедиция вскоре обнаружила еще одну бухту, получившую название бухты Эстен[154]. Шлюпки пристали к берегу неподалеку от селения туземцев, состоявшего из дюжины хижин. Жилища эти были гораздо больше тех, что морякам довелось видеть прежде, и состояли из двух помещений. Здесь уже проявилось представление о пусть примитивном, но комфорте. В задней комнате находился очаг, кухонная утварь и грубо сделанные деревянные скамьи, стоявшие вдоль стен. Передняя «комната» оставалась совершенно пустой и, должно быть, предназначалась для приема гостей. Так как женщины были в то время в хижинах одни, без мужчин, отправившихся на рыбную ловлю, то они бросились бежать, завидев французских моряков. Двух из них, однако, удалось поймать. Сначала они выглядели ужасно испуганными, но их всячески успокаивали, и при виде подарков они приободрились и даже согласились, чтобы художник набросал их портреты. Эти бедные создания, несмотря на маленькие глазки, морщинки в углах глаз и толстые губы, не были лишены привлекательности и соблазнительности. Над верхней губой у них было нечто вроде усиков, но при ближайшем рассмотрении сие украшение оказалось татуировкой. Вскоре де Лангль встретил хозяев жалких хижин и повелителей этих дикарок. Они в то время пытались столкнуть в воду четыре лодки, доверху набитые копченой рыбой. Мужчины дали понять, что данный район необычайно богат рыбой, доказательства же не заставили себя ждать, ибо матросы с «Буссоли» и «Астролябии» наловили совершенно невероятное количество трески и лососей. Лаперуз обнаружил бухту Жонкьер, но прошел мимо и бросил якорь в бухте Де-Кастри[155]. Топлива на кораблях не хватало, да и бочки с пресной водой уже стали пустеть. К тому же постоянные промеры глубин свидетельствовали, что пролив становился все мельче по мере того, как фрегаты двигались дальше. Лаперуз, опасаясь, что ему не удастся обогнуть Сахалин с севера, решил остановиться в бухте Де-Кастри всего лишь на пять дней, чтобы восполнить припасы и взять курс на юг. В отчете экспедиции содержатся очень интересные сведения о жизни туземцев, которые вскоре утратили всякий страх перед моряками и выказали им полное доверие. «Вокруг каждой хижины островитян, называвших себя орочами, была расположена сушильня для лососей. Рыбу предварительно держат три-четыре дня над очагом, расположенным посреди жилища, а затем нанизывают на жерди и оставляют сушиться под лучами солнца. Все это входило в круг обязанностей женщин, которые должны были сначала хорошенько прокоптить рыбу, а потом вынести на свежий воздух, где она становилась тверже дерева. Орочи ловили рыбу в той же реке, что и мы, и пользовались они сетями и острогами. Мы видели, как они с отвратительной жадностью поедали в сыром виде головы, жабры, печень, хрящи и даже кожу лососей, которых они поразительно искусно потрошили и разделывали. Они высасывали из всех этих частей жир и сок точно так же и с таким же удовольствием, как мы глотаем устриц. Большая часть рыбы доставлялась в дома уже выпотрошенной и разделанной, кроме тех случаев, когда улов был уж слишком обилен. Когда же добыча оказывалась слишком велика, женщины вытаскивали целые рыбины и с такой же потрясающей жадностью пожирали самые сочные и жирные части, считавшиеся самым изысканным лакомством. Народ этот столь грязен, что вызывает отвращение. К тому же от островитян ужасно дурно пахнет. Пожалуй, орочи принадлежат к числу физически самых слабых племен, а черты их лиц очень далеки от нашего представления о красоте. Они среднего роста (чуть выше четырех футов и десяти дюймов[156]), хрупкого телосложения, а голоса у них слабые и пронзительные, как у детей. У них выдающиеся скулы, маленькие раскосые глаза, которые к тому же гноятся, большие рты, сплющенные носы, короткие, почти лишенные растительности подбородки и желтоватая кожа, лоснящаяся от жира и дыма. Мужчины не стригут волосы и заплетают их в косы, как наши женщины. Что касается женщин, то волосы у них свободно падают на плечи. Нарисованный мной портрет в равной степени подходит как к мужчинам, так и к женщинам. Представителей различных полов трудно было бы отличить, если бы не некоторая разница в одежде. Впрочем, местным обитательницам, в отличие от американских индианок, не приходится выполнять тяжелые работы, которые могли бы лишить их изящества, если бы природа наградила их таким преимуществом. Все обязанности женщин сводятся к кройке и шитью одежды, сушке рыбы и заботам о детях, которых они кормят грудью до трех-четырехлетнего возраста. Я был до крайности удивлен при виде ребенка примерно этого возраста, сначала натянувшего небольшой лук, довольно метко пустившего стрелу, поколотившего палкой собаку, а затем устремившегося к груди матери и сменившего там пяти-шестимесячного младенца, уснувшего у нее на коленях». Орочи подтвердили предположения Лаперуза относительно расположения Сахалина и материка, между которыми лежала небольшая песчаная отмель, где росли в великом множестве водоросли, едва скрытые водой. В этом не было ничего удивительного, так как промеры в проливе показывали, что глубина становится все меньше и меньше по мере того, как фрегаты шли вперед. По последним промерам получалось, что глубина не превышает шести саженей. Второго августа корабли покинули бухту Де-Кастри и легли на другой курс. Они отправились на юг. Открыв остров Монерон[157] и определив координаты его и пика Лангль[158], моряки обогнули южную оконечность Сахалина, дав ей название мыса Крильон, и прошли в пролив, получивший название пролива Лаперуза. И это было вполне справедливо, так как именно ему принадлежит честь наведения порядка в той неразберихе, что царила в умах географов относительно расположения суши и морей в данном районе. Лаперуз определил координаты этого доселе неизвестного европейцам пролива и окончательно подарил его науке и мореплавателям. Лаперуз писал, что обитатели мыса Крильон гораздо более красивы, умны и трудолюбивы, чем орочи из бухты Де-Кастри. Но ему показалось, что они гораздо менее гостеприимны и великодушны, чем их более дикие сородичи. «Местные жители, — писал Лаперуз, — ведут значительную торговлю, чего совершенно не знают орочи. У них есть очень нужный и важный товар, которого нет на берегах Татарского пролива и от которого происходят все их богатства. Товар этот — китовый жир, и добывают они его в большом количестве. Способ добычи, правда, не очень экономичен и рационален: он заключается в том, что китовую тушу разрезают на куски и кладут разлагаться на обращенный к солнцу склон. Вытекающий жир собирают в сосуды из древесной коры или в бурдюки из тюленьей шкуры». «Буссоль» и «Астролябия» прошли мимо мыса Анива и бухты, носящей то же название и являющейся превосходной якорной стоянкой, подошли к Курилам, прошли между островом Симушир и островами Черных Братьев и назвали пролив, разделяющий эти клочки суши, проливом Будёз, в честь знаменитого корабля капитана Бугенвиля[159]. Как говорится в отчете, 5 сентября моряки увидели берега Камчатки, «чрезвычайно уродливого края, где взгляд с трудом привыкает к виду огромных, вселяющих ужас скал, где уже в начале сентября лежит снег и где, казалось, никогда не бывает никакой растительности». Через три дня экспедиция достигла Авачинской, или Петропавловской бухты. Астрономы не стали терять времени даром и немедленно приступили к наблюдениям, а естествоиспытатели совершили поход в глубь страны, к вулкану, возвышающемуся в восьми лье от берега моря, и совершили весьма нелегкое восхождение. Тем временем остальные члены экипажа занимались извечными корабельными работами, которые заполняют жизнь моряков, а также охотились и ловили рыбу, с тем чтобы обеспечить себя свежей провизией. К тому же любезный русский губернатор оказал путешественникам очень радушный прием и постарался обеспечить их всеми мыслимыми развлечениями. «Он пригласил нас, — рассказывает Лаперуз, — на бал, который он дал в честь нашего прибытия и где присутствовали все женщины Петропавловска, как русские, так и камчадалки. Общество было весьма невелико, но, по крайней мере, очень необычно. Тринадцать женщин, разодетых в шелковые платья, сидели на скамьях вдоль стен комнаты, причем десять из них были камчадалки, круглолицые, с маленькими глазками и приплюснутыми носа ми. И русские и камчадалки покрывали головы шелковыми платками, примерно так, как мулатки в наших колониях. Начали с русских танцев. Сопровождавшая их музыка была очень мелодична, и они напоминали казацкую пляску, исполнявшуюся в Париже несколько лет тому назад. Затем последовали камчадальские танцы; и их можно было сравнить с конвульсиями одержимых у знаменитой могилы Святого Медара[160]. В танцах жителей этой части Азии принимают участие только руки и плечи, а ноги остаются почти неподвижными. Камчадальские женщины, увлеченные танцами, производят тягостное впечатление на всех присутствующих своими судорожными движениями и ужасными конвульсиями. Оно еще более усиливается от скорбных криков, которые вылетают из груди танцующих и составляют единственную музыку, помогающую им сохранить ритм. Бедняжки так устают от подобных упражнений, что обливаются потом и падают на пол, где долго лежат, не имея сил подняться». Сей весьма реалистично изображенный бал был прерван прибытием курьера из Охотска. Он принес прекрасные известия, в частности, Лаперуз получил сообщение о производстве его в чин командира эскадры[161]. Во время стоянки в Петропавловске французские моряки, движимые чувством солидарности, делающим честь всем, кто связан с морем, отправились почтить память капитана Клерка, возглавившего английскую экспедицию после гибели капитана Кука и похороненного здесь. Они посетили его могилу и установили большую медную доску с памятной надписью, а затем посетили также могилу своего соотечественника Луи де ла Кройера, члена Академии наук, умершего на Камчатке в 1741 году на обратном пути из Русской Америки. Он принимал участие в экспедиции, организованной самим русским царем. «Авачинская бухта, — писал Лаперуз, — является самой красивой, удобной и безопасной из всех, что нам встречались. В ней есть две обширные гавани, одна на восточном берегу, другая на западном, и в них могли бы укрыться объединенные флоты Англии и Франции». Двадцать девятого сентября 1787 года «Буссоль» и «Астролябия» снялись с якоря. Господин Лессепс, вице-консул в России, до тех пор сопровождал Лаперуза[162]. Он получил задание от новоиспеченного командира эскадры отправиться во Францию по суше, с тем чтобы передать правительству дневник и отчеты экспедиции. Позднее мы узнаем, как справился с этой трудной задачей Лессепс, вынужденный пересечь всю Сибирь и Россию. Покинув Камчатку, фрегаты направились на юг, затем взяли курс на восток, затем опять на юг и, таким образом, прошли более трехсот лье, не найдя никаких следов земли, якобы открытой испанцами в 1621 году. Они прошли мимо тех мест, где коммодор Байрон обнаружил вроде бы острова Опасности, но не нашли их и добрались наконец до архипелага Мореплавателей (Самоа), открытого Бугенвилем. Множество пирог немедленно окружили корабли. В них сидели туземцы, по выражению Лаперуза, «более безобразные, чем это может быть дозволено». Лаперуз заметил там среди толпы уродливых мужчин двух женщин, черты лиц которых также были начисто лишены миловидности. «У младшей, которой можно было дать лет восемнадцать, — писал Лаперуз, — на ноге была отвратительная язва. У многих островитян тоже имелись большие раны на различных частях тела. Возможно, они являлись первоначальными проявлениями проказы, так как я заметил двух мужчин, чьи изъеденные язвами невероятно распухшие ноги не оставляли никаких сомнений насчет того, какой болезнью они страдали. Туземцы не были вооружены. Они приближались к нам с большой робостью. Их поведение свидетельствовало о том, что они столь же мирные люди, как и обитатели островов Общества и Дружбы (Тонга)». Девятого декабря фрегаты стали на якорь у островов Мануа. Якорная стоянка оказалась не слишком надежной. Лаперуз задумал быстро набрать воды и дров, чтобы не оставаться в этом месте еще одну ночь. Приняв все меры предосторожности и проверив все корабельные службы, чтобы не было никаких неприятных неожиданностей, он высадился на берег и отправился к источнику. Что касается капитана де Лангля, то он в это время направился на экскурсию в маленькую бухту, находившуюся в одном лье от источника. «И эта прогулка, из которой он вернулся совершенно очарованный красотой увиденной там деревни, явилась причиной всех наших бедствий», — написал Лаперуз. На суше начался оживленный товарообмен. Мужчины и женщины устроили на берегу настоящий рынок, где продавались различные изделия местных мастеров, куры, попугаи, всякие корешки, фрукты, овощи и тому подобное. Однако произошло одно событие, нарушившее всеобщую гармонию: один туземец забрался в шлюпку, схватил деревянный молот, называемый на флоте мушкелем[163], и стал изо всех сил колотить им по спине матроса, сидевшего в шлюпке. Мастера по проламыванию голов немедленно схватили и вышвырнули за борт. Как и де Лангль, капитан Лаперуз совершил чудесную прогулку в сопровождении женщин, детей и стариков. Он увидел очень плодородный край, с очень здоровым климатом, где продовольствия было с избытком и оно отличалось большим разнообразием. Несмотря на то, что Лаперуз был очарован своей прогулкой по океанийскому раю, он все же сохранял бдительность, как и положено начальнику экспедиции, чья подозрительность никогда не должна дремать. Он хотел как можно скорее сняться с якоря. Однако никаких серьезных столкновений не было, кроме того, когда матросы были вынуждены искупать туземца, схватившего мушкель, не причинив ему при этом ни малейшего вреда. Благодаря благоразумию французов ссоры не перерастали во что-то более серьезное, так как моряки постоянно держались настороже, получив приказ не вступать в конфликт с островитянами. Лаперуз отдал приказ приготовиться к подъему якорей, но де Лангль обратился к нему с просьбой позволить еще несколько раз сходить на шлюпках за водой. Как говорится в отчете, «… де Лангль придерживался взглядов капитана Кука и считал, что свежая вода в сто раз лучше той, что имелась в трюме. Так как у нескольких человек из его команды появились легкие признаки цинги, он совершенно справедливо полагал, что мы должны принять все меры для улучшения их состояния». У Лаперуза было какое-то тайное предчувствие, побуждавшее сначала отказать де Ланглю в его просьбе. Но тот настаивал и даже предупредил начальника экспедиции, что именно на него падет ответственность за возможное развитие болезни. Он указывал на то, что гавань, где он намеревался высадиться, была очень удобна. Де Лангль сказал, что он сам лично возглавит отряд, и обещал через три часа вернуться с бочками, наполненными водой. «Де Лангль был очень здравомыслящий и способный человек, и это обстоятельство скорее, чем какие-то другие соображения, и побудило меня дать согласие, или, вернее, подчиниться, его воле…» — записал в отчете Лаперуз. Итак, на следующий день две шлюпки под командованием Бутена и Мутона, взяв на борт всех больных цингой, а также шестерых солдат и каптенармуса, всего двадцать восемь человек, отошли от борта «Астролябии», чтобы поступить в распоряжение де Лангля, находившегося на большом баркасе. Его сопровождали довольно плохо чувствовавшие себя Ламанон и Колине, а также выздоравливающий Вожюа. Командовал баркасом Гобьен. Еще тридцать три человека отправились с «Буссоли», в том числе Ламартиньер, Лаво и отец Ресевер. Итак, всего в походе принимали участие 61 человек, так сказать, цвет экспедиции, ее элита[164]. Де Лангль вооружил всех участников похода ружьями и приказал установить в шлюпках шесть фальконетов[165]. Он сам и все его спутники были чрезвычайно удивлены, когда вместо обширной и удобной бухты нашли маленькую бухточку, усеянную коралловыми рифами, куда можно было проникнуть по узкому извилистому каналу, где бурлили водовороты. Все дело было в том, что де Лангль побывал в этой бухте во время полной воды[166], поэтому первым его движением при виде открывшейся картины стало желание отправиться к прежнему месту набора воды. Однако поведение островитян, огромное количество женщин и детей среди них, обилие плодов и свиней, принесенных ими для обмена, заставили умолкнуть глас благоразумия и осторожности. Он безо всяких помех и тревог выгрузил бочки, доставленные на первых четырех шлюпках. Солдаты установили на берегу полный порядок: они образовали живую изгородь вокруг того места, где работали матросы, оставив для них свободный проход. Но спокойствие длилось недолго. Пироги, наполненные островитянами, распродавшими привезенные на корабли продукты, возвращались. Они входили в бухту и мало-помалу совершенно ее заполнили. Вместо двухсот туземцев, включая женщин и детей, которых де Лангль обнаружил там полтора часа назад, теперь набралось тысяча — тысяча двести человек. Положение отряда де Лангля становилось с каждой минутой все более и более затруднительным. Тем не менее де Ланглю удалось с помощью Вожюа, Бутена, Колине и Гобьена погрузить в шлюпки бочки с водой. Но в бухте почти не оставалось воды, такой был сильный отлив. Все же де Лангль и весь его отряд заняли места в шлюпках. Командир встал впереди, сжимая в руках ружье, и запретил стрелять до тех пор, пока он не отдаст приказ. Он начал понимать, что вскоре будет вынужден прибегнуть к огнестрельному оружию: в воздухе уже замелькали камни, а вода доходила островитянам только до колен, так что они могли беспрепятственно добраться до шлюпок, что они и сделали. Теперь туземцы находились на расстоянии не более сажени от моряков, а солдаты тщетно пытались их отогнать. Если бы де Лангля не останавливал страх первому вступить в схватку, если бы он не боялся быть обвиненным в варварстве и неоправданной жестокости, он, несомненно, приказал бы дать залп из ружей и фальконетов, который, безусловно, рассеял бы толпу или заставил бы ее отступить, но он тешил себя надеждой сдержать напор туземцев, не проливая крови, и пал жертвой своей человечности. Вскоре град камней, пущенных с очень небольшого расстояния и с такой силой, словно их метали из пращи, обрушился на тех, кто находился в командирской шлюпке. Камни попадали точно в цель и поразили почти всех. Сам де Лангль успел только дважды выстрелить из ружья, а потом был сбит с ног и упал, к несчастью, за левый борт, где находились почти две сотни вооруженных островитян, которые убили его на месте, забросав камнями и забив палицами. Когда он уже был мертв, его привязали за руку к уключине шлюпки, для того, несомненно, чтобы использовать труп в пищу. Шлюпка с «Буссоли», которой командовал Бутен, находилась примерно в двух саженях от шлюпки с «Астролябии», и между ними была полоса воды, куда не проникли туземцы. Именно туда и устремились вплавь все раненые, которые имели счастье упасть не в ту сторону, где находились дикари. Они добрались до шлюпок, оставшихся, к счастью, на плаву. Таким образом спаслись сорок девять человек из шестидесяти одного, что отправились за водой. Бутен во всем следовал примеру де Лангля; он не позволял своим матросам стрелять до тех пор, пока не раздался выстрел командира. Само собой разумеется, что на расстоянии четырех-пяти шагов промахнуться невозможно, и каждая пуля попала в цель, но вот перезарядить ружья моряки не успели. От удара камнем Бутен тоже упал в воду, но, к счастью, попал как раз между стоявшими на мели шлюпками. Все спасшиеся вплавь были изранены: у каждого было не по одной ране, и почти все — на головах. Те же, кто имел несчастье свалиться за борт в ту сторону, где находились туземцы, нашли свой скорый конец под ударами палиц. Своим спасением сорок девять моряков оказались обязанными благоразумию Вожюа, установившего и поддерживавшего на вверенном ему суденышке образцовый порядок, и точности и исполнительности Мутона, командовавшего баркасом с «Буссоли». Баркас «Астролябии» был так перегружен, что сел на мель. Это происшествие внушило туземцам мысль напасть на убежище раненых. Огромное количество туземцев устремилось к рифам, расположенным у самого входа в бухту, мимо которых шлюпки должны были непременно пройти, и на очень небольшом расстоянии, всего в десяти футах. Матросам пришлось выпустить в этих одержимых, разъяренных дикарей остаток зарядов, и шлюпки наконец выбрались из этого жуткого логова. Совершенно естественно, что Лаперуз сначала задумал отомстить за своих несчастных спутников. Но Бутен, который получил очень серьезные ранения и, по всей видимости, должен был пылать неукротимой злобой к подлым убийцам, принялся изо всех сил уговаривать начальника экспедиции отказаться от своего замысла. Он доказал Лаперузу, что в случае если по несчастному стечению обстоятельств шлюпки с моряками, стремящимися наказать дикарей, опять сядут на мель, то ни один из них не вернется живым из бухты, так как расположение ее таково, что растущие у самого края воды деревья смогут послужить островитянам надежной защитой. Лаперуз прислушался к мудрым советам Бутена и удовлетворился тем, что в течение двух дней лавировал вблизи места, где разыгралась эта кровавая драма, не имея возможности дать своим людям удовлетворить охватившую их жажду мести. Гнев и отчаяние, овладевшие моряками, сменились бесконечным изумлением, когда они увидели, что от берега отошли 5–6 пирог с островитянами, везшими на обмен свиней, голубей и кокосовые орехи. «Я должен был изо всех сил сдерживаться, чтобы не отдать приказ стрелять», — записал в дневнике Лаперуз. Катастрофа, лишившая экспедицию части офицеров, тридцати двух лучших матросов и двух шлюпок, существенно повлияла на планы Лаперуза. Самая незначительная авария могла вынудить его либо сжечь, либо потопить один из фрегатов, чтобы оснастить другой. Итак, Лаперуз принял решение немедленно идти в Ботани-Бей, исследуя лежащие на пути острова, еще не нанесенные на карту. Четырнадцатого декабря был обнаружен прекрасный остров Ойолава, когда-то открытый Бугенвилем, но лишь замеченный им издалека. Этот остров находился всего лишь в восьми лье от острова Мануа[167], где произошла кровавая бойня. Даже Таити едва ли может сравниться с ним в красоте, размерах, плодородии почвы и плотности населения. Когда фрегаты приблизились к его северо-восточной оконечности, их тотчас же окружили пироги, нагруженные плодами хлебного дерева, кокосами, бананами, сахарным тростником, голубями, курочками-султанками и поросятами. Жители острова Ойолава очень походили на коварных предателей с острова Мануа: и ростом, и костюмами, и чертами лиц. Сходство было столь велико, что матросам показалось, будто они узнают убийц, и Лаперузу пришлось использовать весь свой авторитет и даже употребить власть, чтобы не дать матросам стрелять по толпе. Он не мог позволить своим людям наказывать обитателей острова Ойолава за бойню, учиненную их собратьями за 8 лье отсюда, ибо в таком случае пострадали бы невинные. Когда гнев французов мало-помалу утих, началась оживленная торговля, проходившая весьма спокойно, так как малейшая несправедливость тотчас же наказывалась и пресекалась при помощи ударов, угрожающих жестов и слов. Присутствие в толпе большого числа женщин и детей свидетельствовало, казалось, о мирных намерениях островитян. «Но мы имели веские основания не доверять более туземцам, умевшим создавать видимость благорасположения, и были готовы пресечь любые враждебные действия таким способом, что островитяне стали бы опасаться мореплавателей, — писал Лаперуз. — Я склонен думать, что мы оказались первыми, кто стал торговать с этим народом, ибо они не имели ни малейшего представления о железе. Они постоянно отбрасывали в сторону любые предлагаемые им железные предметы и отдавали предпочтение одной-единственной бисерине, отвергая топор или шестидюймовый гвоздь. Природа столь щедро одарила их плодами и живностью, что они желали получить в обмен лишь предметы роскоши. Среди довольно большого числа женщин я заметил двух-трех миловидных. Волосы их были украшены цветами и зелеными лентами, опоясывавшими голову, в косички были вплетены травы и мох. Они были хорошо сложены, руки у них были округлые и очень изящные, а их глаза, черты лиц и жесты свидетельствовали о мягкости характера, в то время как лица мужчин выражали плутоватость и свирепость». Лаперуз узнал от островитян, что архипелаг Мореплавателей, названный так Бугенвилем потому, что его обитатели проводят почти всю свою жизнь на воде, в пирогах, состоит из десяти островов: Опун (самый восточный), Леоне, Фанфуе, Мануа, Ойолава, Калинассе, Пола, Шика, Оссамо и Уэра[168]. Острова эти, расположенные на 14° южной широты и на 171–175° западной долготы, составляют один из самых красивых архипелагов Южных морей. «Обитатели этих островов, — говорится в отчете, — превосходят ростом и пропорциональностью телосложения всех, кого нам доводилось видеть до сих пор. Рост их достигает пяти футов десяти — одиннадцати дюймов (примерно 175–178 см), и даже удивляет не только сам рост, но гигантские размеры отдельных частей тела этих колоссов. Наше неуемное и, быть может, излишнее любопытство позволяло островитянам сравнивать их физическую силу с нашей, и всегда эти сравнения говорили не в нашу пользу. Возможно, именно тому, что у некоторых туземцев зародилась мысль о превосходстве над белыми пришельцами, мы и обязаны всеми нашими бедами. Мне даже казалось, что на их лицах часто бывало написано нечто похожее на презрение к нам, и я подумал, что смогу стереть это выражение с физиономий дикарей, если прикажу продемонстрировать им силу наших ружей. Но цель моя была бы достигнута только в том случае, если бы мы вели огонь по живым людям, так как при стрельбе по мишеням они воспринимали все как игру и шутку». Фрегаты прошли в виду острова Пола и 20-го, после сильного шторма, оказались около Кокосового острова и острова Предателей, открытых Схоутеном. От островов Мореплавателей, именуемых ныне Самоа, корабли взяли курс на острова Дружбы (Тонга), которые Кук не исследовал из-за нехватки времени. 27 декабря показались острова Вавау и Тофуа. Фрегаты приблизились к острову Тофуа и замерли примерно в полулье от берега. Члены экспедиции сделали вывод, что остров этот необитаем, по крайней мере, та его часть, что они осмотрели. Остров Тофуа оказался очень гористым, и все склоны гор до самых вершин были покрыты лесом. Там росли очень красивые, могучие деревья. Протяженность береговой линии этого клочка суши составляла около четырех лье. Вероятно, жители Тонгатабу и других островов архипелага высаживались здесь, когда погода благоприятствовала мореплаванию, чтобы срубить деревья, из которых они делали свои пироги, так как члены экспедиции заметили на склонах гор множество специальных желобов, по которым деревья скатывались прямо на берег моря. Тридцать первого декабря фрегаты оказались в виду Тонгатабу и подошли к южной оконечности острова. Вскоре завязался торг с местными жителями, которые уже привыкли вести себя подобным образом, когда корабли посещали этот отдаленный уголок земли. Стоянка была недолгой, и матросы всего лишь один раз высадились на сушу. Лаперуз спешил поскорее добраться до берегов Австралии. Лавируя между островами, он наконец потерял всякую надежду получить столько свежей провизии, чтобы можно было не только покрыть ежедневный расход, но и восполнить припасы, и решил взять курс на вест-зюйд-вест, избрав такой путь, по которому не проходил еще ни один мореплаватель. В планы Лаперуза не входило посещать остров Пилстарт, открытый Тасманом. Во время одного из своих плаваний капитан Кук определил координаты этого острова, являющегося скорее скалой, но ветер переменился, и Лаперуз был вынужден лечь на другой галс. 2 января 1788 года он заметил впереди по курсу остров, не превышавший четверти лье в самом широком месте. Это был риф с очень крутыми, почти отвесными берегами, расположенный на 22°22′ южной широты. Всего лишь несколько деревьев росли на его северном склоне. Остров Пилстарт мог служить лишь прибежищем для морских птиц. Дул встречный ветер, и Лаперузу пришлось в течение трех дней совершать довольно сложные маневры около бесплодной скалы. Вскоре все же Нептун сменил гнев на милость, и корабли продолжили свой путь. 13 января Лаперуз увидел остров Норфолк и еще два небольших островка, находившихся около его южной оконечности. Он приказал бросить якорь в одной миле от берега на глубине двадцати четырех саженей. Дно оказалось песчаным, с небольшой примесью кораллов. Он хотел, чтобы ученые, принимавшие участие в экспедиции, высадились на берег для проведения исследований и экспериментов. Но шлюпки, совершив несколько неудачных попыток приблизиться к суше, были вынуждены вернуться обратно, так как прибой был настолько силен, что делал высадку невозможной. Надо было быть воистину безрассудным, чтобы попытаться вновь высадиться на берег при таких условиях, а Лаперуз слишком заботился о безопасности своих людей, чтобы с легким сердцем подвергать их жизни ненужному риску. Семнадцатого января, на 31°28′ южной широты и 159°15′ восточной долготы бесчисленные стаи морских птиц окружили фрегаты и сопровождали их на протяжении двадцать четырех лье, то есть проделали с ними половину пути до Новой Голландии. Возможно, эти птицы поднялись с каких-то скал или крохотных островков, оставшихся незамеченными в тумане. На всем пути следования от острова Норфолк до Ботани-Бей Лаперуз из соображений безопасности приказал ежедневно измерять глубину дна при помощи каната длиной в двести саженей. Только в восьми лье от берега груз достиг дна на уровне девяноста саженей. 23 января показалась земля, довольно плоская, поэтому и увидеть ее можно было только с близкого расстояния. Преодолев различные препятствия в виде рифов и водоворотов, «Буссоль» и «Астролябия» стали на якорь в заливе Ботани-Бей, где в то время находилась английская эскадра. «Когда наши корабли подошли к проходу в залив, капитан британского фрегата “Сириус” господин Хантер прислал ко мне на борт лейтенанта и младшего лейтенанта. От его имени они объявили, что окажут мне любую помощь, какую только будут в силах оказать. Правда, потом они добавили, что капитан Хантер собирается сняться с якоря и направиться на север, поэтому он не сможет поделиться с нами ни продовольствием, ни боеприпасами, ни запасными парусами. Таким образом их обещание помощи свелось к пожеланиям дальнейшего счастливого плавания, — с иронией отметил Лаперуз в отчете. — Я послал одного моего офицера выразить сердечную благодарность капитану Хантеру, чей корабль уже стоял под всеми парусами. Я приказал передать английскому капитану, что мы нуждаемся только в пресной воде и топливе и что в этом недостатка в Ботани-Бей не будет. Я просил также передать, что прекрасно понимаю, что эскадра, посланная в такую даль с целью создания колонии, ничем не может мне помочь. Но мы нисколько не сомневались в том, что поселение будет основано в непосредственной близости от Ботани-Бей, ибо множество баркасов под парусами уже были готовы выйти из залива. Вскоре английские матросы, гораздо менее сдержанные на язык, чем их командиры, молодые офицеры, рассказали нашим матросам, что баркасы направляются в Порт-Джексон, место в семнадцати милях севернее мыса Банкса, где коммодор Филипп лично обнаружил очень удобную гавань площадью около десяти квадратных миль. По словам матросов, корабли там могут бросить якорь на расстоянии всего лишь пистолетного выстрела от берега, и море там такое спокойное, как в доке. Впоследствии мы часто получали известия о строящемся английском поселении, так как сбежавшие оттуда каторжники доставляли нам много хлопот и тревог», — писал Лаперуз[169]. На этом заканчивается дневник знаменитого мореплавателя. По счастью, Лаперуз позаботился переслать его в Европу с оказией. Последнее письмо, адресованное морскому министру Франции, отправлено из Ботани-Бей и датировано 7 февраля 1788 года. Среди всего прочего Лаперуз сообщал: «Я вернусь к островам Дружбы и выполню абсолютно все, что мне предписано сделать вашими инструкциями относительно южной части Новой Каледонии, острова Санта-Крус, открытого Менданьей, южного берега земли Аршакидов Сюрвиля и Луизиады Бугенвиля; я постараюсь выяснить, является ли последняя частью Новой Гвинеи или отделена от нее. В конце июля 1788 года я пройду между Новой Гвинеей и Новой Голландией до Земли Ван-Димена, но с таким расчетом, чтобы иметь возможность вернуться на север достаточно рано и в начале декабря прибыть на Иль-де-Франс (Маврикий)». …С той поры никто ничего не слышал ни о самом Лаперузе, ни о его несчастных спутниках. Шли годы, и тревога во Франции все нарастала и нарастала. Хотя революция затронула все слои общества, знаменитого моряка не предали забвению, и его необъяснимое исчезновение страшно огорчило всех истинных патриотов своей родины, пекшихся о ее славе. Голос общественности ясно выразил с трибуны Национального собрания настоятельное требование организовать новую экспедицию; 9 февраля 1791 года депутаты приняли решение о том, что король обязан снарядить один или несколько кораблей на поиски Лаперуза и его спутников. Руководство экспедицией было поручено капитану I ранга Жозефу Антуану Брюни д’Антркасто, превосходному моряку, родственнику бальи[170] Сюффрена, под началом которого он совершал свои первые шаги. Д’Антркасто получил два корабля: «Решерш» («Поиск») и «Эсперанс» («Надежда»), причем капитаном последнего был Юон де Кермадек. Двадцать седьмого сентября 1791 года д’Антркасто покинул Брест и на следующий день, когда берег исчез из виду, вскрыл запечатанный пакет, в котором содержались инструкции. Прежде всего он был приятно удивлен тем, что обнаружил в пакете свидетельство о присвоении ему контр-адмиральского звания, а также еще два свидетельства о присвоении званий капитанов I ранга двум его заместителям: д’Орибону и Юону де Кермадеку. Во время кругосветного плавания д’Антркасто посетил Тенерифе, Кейптаун, остров Амстердам, Землю Ван-Димена (кстати, он первый заподозрил, что это остров). Он исследовал Новую Каледонию, Новые Гебриды, Соломоновы острова, острова Адмиралтейства. Напрасно он искал следы Лаперуза у островов Тонга. Через несколько дней д’Антркасто оказался около архипелага Санта-Крус и прошел всего в пятнадцати лье от острова Ваникоро, не заметив его. Не найдя никаких следов пропавшей экспедиции, д’Антркасто отправился к берегам Новой Гвинеи, а затем открыл несколько островов к северу от Новой Британии. Двадцатого июля 1793 года контр-адмирал д’Антркасто скончался от дизентерии и цинги в возрасте пятидесяти четырех лет[171]. И только в 1827 году капитан Диллон, проходя севернее Новых Гебрид, заметил на большой глубине среди рифов, окружавших самый крупный остров группы Ваникоро, останки кораблей и большое количество предметов, несомненно принадлежавших потерпевшим кораблекрушение «Буссоли» и «Астролябии». Он определил точные координаты места, где фрегаты налетели ночью на никому не известные рифы, получили большие пробоины и затонули.ГЛАВА 5
Дюмон-Дюрвиль[172]. — Плавание на «Астролябии».Этот прославленный мореплаватель, чья очень короткая жизнь трагически оборвалась, когда он был на вершине славы, родился 23 мая 1790 года в Конде-сюр-Нуаро. Он поступил в Высшее военно-морское училище в 1808 году и занимался очень усердно. Он выучил не только латынь и древнегреческий, но еще и английский, немецкий, древнееврейский языки, а также приобрел весьма обширные знания в области ботаники. Таким образом, научные познания молодого выпускника военно-морского училища были велики. В 1810 году Дюмон-Дюрвиль, блестяще выдержав очень серьезный экзамен, стал кандидатом к производству в офицеры, и все считали, что этот юноша подает очень большие надежды и что ему обеспечено прекрасное будущее. Получив чин лейтенанта в 1814 году, Дюмон-Дюрвиль провел почти пять лет без перерыва в море, так как страстно любил свое дело. В 1819 году капитан Голтье-Дюпарк, командовавший кораблем под названием «Шевретта» (Козочка), остановил свой выбор на Дюмон-Дюрвиле и предложил ему принять участие в экспедиции, имевшей целью гидрографические исследования Эгейского и Черного морей. Во время сей интереснейшей кампании Дюмон-Дюрвиль, в ком рядом с мореплавателем и ученым уживался еще и истинный художник, указал французскому послу в Константинополе на статую Венеры Милосской[173], обнаруженную каким-то крестьянином, когда он обрабатывал свой участок земли. Французское правительство приобрело это великое произведение искусства для Музея Древностей, а Дюмон-Дюрвиль в знак признания своих заслуг получил крест ордена Святого Людовика[174] и чин капитан-лейтенанта. Когда гидрографические исследования бассейна Черного моря были завершены, неутомимый труженик по возвращении во Францию тотчас же занялся публикациейрезультатов своих трудов и наблюдений, в том числе и трактата по ботанике, написанного на латыни под названием «Enumeratio plantarum quas in insulis Archipelagi aut littoribus Ponti-Euxini inveni»[175]. Эти работы принесли Дюмон-Дюрвилю большую известность и сослужили ему хорошую службу, так как именно благодаря им он и был назначен помощником капитана на корабль «Кокий» («Раковина»), где оказался под началом у капитана I ранга Дюперре[176]. Дюмон-Дюрвилю в ту пору исполнилось 32 года. Корвет «Кокий» должен был совершить кругосветное плавание с научной целью, и никто лучше Дюмон-Дюрвиля не справился бы с задачами, стоящими перед помощником капитана во время столь длительного и сложного путешествия. Выйдя из Тулона 8 августа 1822 года, «Кокий» в течение 32 месяцев 7 раз пересек экватор и прошел 25 тысяч лье, не потеряв ни одного человека и не имев ни одной серьезной аварии. В ходе этой экспедиции были сделаны выдающиеся географические открытия, а сам Дюмон-Дюрвиль привез в Европу более 11 000 видов насекомых, в том числе около 300 видов неизвестных науке, а также собрал 3000 видов растений, из них 300 никогда не виданных учеными прежде. Используя этот драгоценный, воистину уникальный гербарий, Дюмон-Дюрвиль составил описание флоры Мальвинских (Фолклендских) островов на латыни. «Кокий» вернулся во Францию 24 октября 1825 года, и в том же году Дюмон-Дюрвиль получил чин капитана II ранга. Во время плавания Дюмон-Дюрвиль, хотя и несколько ограниченный в своих действиях довольно неблагодарной ролью помощника капитана, обязанного заниматься не только важными делами, но и всяческими мелочами, все же внимательно наблюдал за направлением ветров и течений и за сезонными изменениями погоды. Он усердно изучал карты для того, чтобы выяснить, где еще в Южных морях остались «белые пятна», и составил план своей собственной экспедиции, которая должна была сослужить большую службу географам, а также и приверженцам других наук. Так, в ходе этой экспедиции можно было бы получить сведения, относящиеся не только к географии, но и к другим областям знания. Ко времени возвращения во Францию план новой экспедиции был уже детально разработан. Дюмон-Дюрвиль употребил все свои силы и влияние для того, чтобы военно-морской министр одобрил этот план и дал согласие на его осуществление. Огромные заслуги Дюмон-Дюрвиля перед наукой красноречиво свидетельствовали в его пользу, и министр довольно легко поддался на уговоры. В декабре 1825 года Дюмон-Дюрвиль получил из министерства письмо, в коем ему дозволялось самому набрать себе спутников, которые разделят с ним все тяготы и славу опасного путешествия. Дюмон-Дюрвиль остановил свой выбор на капитан-лейтенанте Жакино, который стал его помощником, а также на лейтенантах Лоттене, Грессьене, Гилбере, гардемаринах Пари, Фараге и Дюдемене. В состав экспедиции вошли ученые Куа, Гемар и Лессон, а также художник Жанисон и его секретарь Ловернь, тоже очень искусный пейзажист. Вот каковы были инструкции, которых по мере сил и возможностей должен был придерживаться Дюмон-Дюрвиль: он должен был выйти из Тулона 15 апреля 1826 года и идти в южную часть Атлантического океана, совершив краткую стоянку в Санта-Крус-де-Тенерифе, чтобы проверить точность хронометров. Дойдя до мыса Доброй Надежды, Дюмон-Дюрвиль должен был взять курс на восток, чтобы направиться к проливу, который отделяет Новую Голландию от Земли Ван-Димена. Затем он должен был провести несколько дней в Порт-Далримпле[177], а потом — дойти до Порт-Джексона и простоять там около месяца. В первых числах октября экспедиции предстояло покинуть гавань и отправиться исследовать северный остров Новой Зеландии. Потом, пройдя через пролив Кука, моряки должны были направиться вдоль северо-восточного побережья и обследовать его. Первого октября экспедиция должна была покинуть Новую Зеландию и отправиться к Тонгатабу, где морякам и предстояло встретить новый, 1827 год. В первых числах января Дюмон-Дюрвилю нужно было покинуть острова Дружбы и направиться к островам Фиджи, где ему следовало пробыть не более чем до середины марта, а оттуда взять курс на Новую Каледонию и Луизиаду, а затем и на мыс Родней в Новой Гвинее. В течение пяти — шести месяцев он должен был исследовать Новую Гвинею, пройти Торресовым проливом и произвести тщательные промеры глубин, а затем обследовать весь этот регион, изобилующий почти неизученными островами. После Новой Гвинеи Дюмон-Дюрвилю предстояло посетить остров Амбоину[178], куда он должен был прибыть в октябре 1827 года. Там ему пришлось простоять на якоре до конца ноября, чтобы восполнить припасы и дать отдых команде. 1 декабря экспедиция должна была в некотором роде вернуться по своим следам обратно к берегам Новой Гвинеи и продолжить исследование этого края. В начале января 1828 года Дюмон-Дюрвиль должен был ненадолго зайти в порт Дорей[179], потом отправиться к северному побережью и исследовать его вплоть до пролива Дампир. В марте ему довелось посетить Новую Британию, а к 20 апреля прибыть на стоянку к Каролинским островам, чьи координаты были установлены в ходе плавания Дюмон-Дюрвиля на корвете «Кокий». Здесь экспедиции предстояло провести около месяца. Особое внимание следовало уделить изучению западной части архипелага, затем устроить короткую стоянку, чтобы дать отдых экипажу. В первых числах июля Дюмон-Дюрвиль должен был прибыть на Яву. Там он мог провести недели три, прежде чем взять курс на Маврикий, где ему следовало простоять около месяца. Отойдя от берегов Маврикия в начале октября, Дюмон-Дюрвиль должен был еще посетить остров Реюньон и вернуться в Тулон в начале 1829 года. В письме министра помимо общих соображений относительно предстоящей кампании содержалась еще просьба быть как можно более внимательным, чтобы отыскать хотя бы какие-нибудь следы Лаперуза и его товарищей по несчастью. Капитан одного американского судна утверждал, что видел у туземцев на каком-то небольшом островке, расположенном между Новой Каледонией и Луизиадой, крест ордена Святого Людовика и медали, которые он принял за предметы с кораблей знаменитого французского мореплавателя. Разумеется, эти сведения давали лишь слабую надежду на то, что несчастные жертвы кораблекрушения были живы. Министр, однако, отмечал, что был бы чрезвычайно рад, если бы господин Дюмон-Дюрвиль смог вернуть на родину даже одного моряка, столько выстрадавшего за годы лишений и бед. В письме говорилось, что Дюмон-Дюрвиль ни в коей мере не должен заранее настраиваться на неудачу, а потому ему следует сделать все возможное, чтобы поиски принесли плоды. Дюмон-Дюрвилю было предоставлено право не только самому подобрать себе спутников, но он получил также полную свободу в выборе корабля. Дюмон-Дюрвиль указал на «Кокий», чьи превосходные качества он имел возможность оценить в ходе предыдущего плавания. Министр одобрил его выбор. В память о корабле Лаперуза Дюмон-Дюрвиль переименовал «Кокий» в «Астролябию». Экипаж состоял из восьмидесяти человек, первоклассных моряков, знавших все тонкости морского дела. «Астролябия» снялась с якоря не 15, а 25 апреля 1826 года. После захода в Гибралтар 13 июня корвет оказался в виду острова Тенерифе и на следующий день прибыл в гавань Санта-Крус. Члены экспедиции совершили восхождение на пик Тейде, а также несколько экскурсий по острову. Стоянка продлилась шесть дней, и 21 июня, рано утром, судно снялось с якоря. Двадцать девятого июня Дюмон-Дюрвиль прибыл в порт Прая, на одном из островов Зеленого Мыса, где он надеялся найти капитана Кинга, который мог сообщить ему ценные сведения об условиях плавания у берегов Новой Гвинеи. К несчастью, капитан Кинг покинул Праю за полтора дня до прибытия «Астролябии». Двадцатого июля пересекли экватор, отметив сие событие совершением традиционных ритуальных действий. 31 июля показались Мартин-Вас и Триндади. Далее французские моряки проследовали к мысу Доброй Надежды, обогнули его и прошли к берегам Новой Голландии, не встретив на пути никакой земли. Пятого октября «Астролябия» оказалась в виду мысов Луин[180] и Хамелин, а 7-го стала на якорь в порту короля Георга (Кинг-Джордж)[181]. «Чтобы представить себе, какое счастье мы испытали, ступив на твердую землю, следовало бы провести в открытом море 108 суток кряду, причем половина из них пришлась на шторм и бурю, — писал Дюмон-Дюрвиль. — Наши тела, наши члены приходили в нормальное состояние после ужасной качки и яростных ударов волн. Мы испытывали истинное наслаждение. Кроме всего прочего, стояла прекрасная погода, а вид цветущей земли, ее тенистых лесов, спокойной и надежной гавани составляли разительный контраст с вечно ревущим морем, где нас поджидали неисчислимые опасности, которых нам, к счастью, удалось избежать». «Астролябия» простояла на якоре восемнадцать дней, и все это время члены экспедиции исследовали окрестности. Край показался французам очень диким, но Дюмон-Дюрвиль отметил, что трудно было бы найти более подходящее место для основания большого поселения. На островке в заливе жили всего восемь англичан и один молодой новозеландец, да еще две туземки. Англичане находились здесь уже полгода и терпели, по их словам, жестокую нужду. Они ждали, чтобы какой-нибудь корабль взял их на борт и отвез на родину. Но когда Дюмон-Дюрвиль предложил переправить их в Порт-Джексон, только трое ответили согласием, из чего французский мореплаватель сделал вывод, что эти так называемые «потерпевшие кораблекрушение» были на самом деле беглыми каторжниками. В это время на берегу появился туземец и изъявил желание подняться на борт корабля. Он ни за что не хотел расставаться с головней какого-то смолистого хвойного дерева, которая помогала ему сохранить огонь и всегда иметь его при себе. Туземец говорил, что, его соплеменникам с большим трудом удается добыть огонь, поэтому эта головня — огромная ценность. Он прикладывал ее к своему животу и с безмятежной улыбкой сообщал, что таким образом он согревается. Туземец провел на борту «Астролябии» два дня, ел и пил до отвала, продолжал мерзнуть, а потому почти все время проводил у пылающего очага. Стоянка продолжалась до 25 октября. Покинув Кинг-Джордж, «Астролябия» прибыла в Уэстерн-Порт[182], но оставалась там недолго, до 19 ноября. Дул встречный ветер, поэтому «Астролябия» только 1 декабря оказалась у узкого прохода в гавань Порт-Джексон (Сидней). С первой же минуты, когда перед Дюмон-Дюрвилем и его спутниками по плаванию на корвете «Кокий» открылся вид на город, они с восхищением увидели, насколько Порт-Джексон вырос и похорошел за довольно короткий срок, всего-то три года. Дюмон-Дюрвиль предсказал юному городу большое и славное будущее, и его прогноз полностью оправдался. Английский губернатор Дарлинг и колониальные власти оказали французам как нельзя более сердечный прием и старались представить гостям все мыслимые и немыслимые развлечения. Губернатор и его помощники настоятельно просили Дюмон-Дюрвиля продлить стоянку, но тому не терпелось поскорее приступить к выполнению задания, и он сократил срок пребывания в Порт-Джексоне. Дюмон-Дюрвиль торопился сделать свои донесения достоянием гласности и отправил их во Францию с оказией, а вместе с ними и множество ящиков и коробок с предметами, составляющими коллекцию по естественной истории земли. На борт «Астролябии» были подняты солидные запасы продовольствия, пресной воды и топлива. 19 декабря «Астролябия» взяла курс к берегам Новой Зеландии, но прибыла туда только 10 января 1827 года, настолько погода не благоприятствовала плаванию. Перед взорами членов экспедиции простирался остров Таваи-Пунамау, расположенный несколько южнее своего собрата. Французы оказались у западного побережья острова. Пройдя мимо довольно опасной мели, корвет вошел в залив Тасмана, который был замечен Куком лишь издали и который на самом деле оказался не небольшой бухтой, а огромным заливом шириной более сорока миль, да к тому же очень глубоким. Корвет стал на якорь в бухточке, нареченной бухтой Астролябии. Тотчас же появились пять пирог, в которых сидели туземцы, числом более шестидесяти. Они стали менять продукты питания и мелкие предметы, использовавшиеся в быту, на всякие европейские безделушки. Они были доверчивы, довольно добродушны и не очень вороваты. Однако не следовало забывать, что эта бухта была той самой зловещей бухтой Убийц, где нашли смерть четыре спутника Абеля Тасмана, а позднее и члены экипажа капитана Фюрно. Двадцать второго января корвет снялся с якоря и направился к восточному берегу залива Тасмана, по очень узкому проливу, к бухте Адмиралтейства. Плавание длилось шесть дней, и все это время корабль шел вдоль скалистых берегов, а на небольшой глубине моряков подстерегали коварные рифы. Двадцать третьего января впередсмотрящий закричал, что «Астролябию» несет прямо на подводную скалу, туда, где кипели буруны. В течение долгих часов жизнь моряков висела на волоске, и понадобились воистину чудеса ловкости, силы, знаний и отваги, чтобы спасти корабль и вывести его из опасной зоны. Двадцать восьмого января у самого входа в бухту Адмиралтейства, когда коварный пролив уже был пройден, случилось самое худшее: подхваченная сильным течением «Астролябия» перестала слушаться руля. Напрасно моряки меняли паруса, чтобы отвести корвет от скал. Ничто не помогало. Дважды «Астролябия» стукнулась бортом об острые скалы: в первый раз совсем легко, но вот второй удар был очень силен и сопровождался зловещим треском. Ход корабля замедлился… По словам Дюмон-Дюрвиля, в это мгновение все члены экипажа невольно вскрикнули от ужаса. «Ничего страшного! Мы вне опасности!» — громко закричал я, чтобы приободрить моих спутников. И в самом деле, течение, увлекая за собой корабль, помогло ему уйти от скалы. Вдруг повеял легкий бриз, корабль стал слушаться руля и парусов, и мы, уже ничего не опасаясь, поплыли по глади бухты Адмиралтейства. Мы легко отделались, так как потеряли только часть киля. От удара большой кусок разлетелся в мелкие щепки, и они еще долго плыли в кильватерной струе корабля[183]. В память об опасном плавании, совершенном в этом проливе «Астролябией», я нарек его Французским проливом». Вскоре «Астролябия» вошла в пролив Кука, прошла мимо залива Королевы Шарлотты и обогнула мыс Паллисер. Дюмон-Дюрвиль обнаружил, что в отчет и карты знаменитого английского мореплавателя вкрались довольно серьезные ошибки, причем столь серьезные, что кое-где координаты пришлось уточнить на пятнадцать — двадцать минут. Дюмон-Дюрвиль хотел исследовать восточный берег Ика-а-Мауи[184], острова, где нет «пунаму», этого зеленого нефрита, из которого новозеландцы делают оружие и украшения, но зато есть свиньи (напротив, на Таваи-Пунаму нефрит встречается часто, а вот свиней там нет). На борту «Астролябии» было два новых пассажира, два туземца, которые пожелали отправиться в дальние страны. Один из них, Тахи-Нуи, носил титул «рангатирануи», то есть был большим вождем. Другой, по имени Хоки-Хоре, был простым смертным и отправился путешествовать из уважения к своему предводителю. В течение нескольких дней туземцы, казалось, испытывали большое удовольствие от плавания, несмотря на то, что иногда выказывали озабоченность, как бы белые их не съели. Однако, по мере того как корабль удалялся от места их постоянного проживания, дикари перестали бахвалиться своей удалью и отвагой. Восторг сменился сожалением и полнейшим упадком сил. Второго февраля «Астролябия» прошла вдоль берегов бесплодного острова Кука, высокой скалы с очень крутыми склонами, где на вершине располагалась укрепленная деревушка под названием И-Па. Подул встречный ветер, и корвет был вынужден стать на якорь в заливе Толага, где пятьдесят пять лет назад стоял «Индевр» Кука. Вскоре к корвету подошли пироги, как всегда бывало, когда в бухту заходил корабль. Начался оживленный товарообмен. Но островитяне не доверяли друг другу и пылали взаимной ненавистью. Как только к кораблю приближались новые пироги, те туземцы, что поднялись на борт раньше, принимались умолять Дюмон-Дюрвиля стрелять и убить вновь прибывших. Разумеется, начальник французской экспедиции оставлял их просьбы без внимания, и новые гости поднимались на борт. Те же, кто только что жаждали их гибели, радостно их приветствовали, выказывая знаки неожиданной дружбы. «Столь странное поведение объясняется взаимным недоверием и жестокой ревностью, так как каждый из них хотел бы один пользоваться теми благами, которых он ожидал от иностранцев, и приходил в отчаяние, видя, что и его соседям тоже что-то досталось», — писал Дюмон-Дюрвиль. Во время стоянки на борт корвета была доставлена засушенная человеческая голова, которую приобрел счетовод экспедиции всего за несколько бусинок. Она очень хорошо сохранилась и, должно быть, красовалась когда-то на плечах одного из вождей. Два островитянина, в течение двух недель предававшиеся отчаянию на борту «Астролябии», познакомились с обитателями залива Толага, именуемом на местном наречии Хуа-Хуа, и решили покинуть корвет, чтобы поселиться у своих соплеменников. Несмотря на все тяготы своего ответственного поста, Дюмон-Дюрвиль находил время для исследования природы. Однажды он увидел у островитян очень красивую циновку, украшенную пухом и перьями какой-то неведомой птицы. Туземцы рассказали ему, что то были перья птицы киви и что они считаются предметом роскоши. Эта птица получила название «Аптерикс»[185]. Величиной она всего лишь с курицу. От всех прочих птиц отличается она тем, что у нее совсем нет крыльев. Оперение у киви буровато-стального цвета, обитает она в низменных сырых местах и очень быстро бегает, что не мешает, однако, страстным охотникам-туземцам ловить ее. В наше время этот вид почти исчез. С 6 по 14 февраля корвет шел вдоль берегов острова, а затем зашел в залив Изобилия. Но 16 февраля налетел шквальный ветер, и в течение полутора суток моряки сражались с бурей, помышляя всякую минуту о том, что корабль вот-вот пойдет ко дну. К счастью, 19 февраля море успокоилось и установилась прекрасная погода. «Астролябия» находилась на противоположной стороне земли по отношению к Гибралтару, а на борту был всего лишь один больной! Двадцатого февраля корвет прошел мимо мелких островов у входа в залив Хаураки, а на следующий день впереди по курсу показались острова Тауи-Ти-Рахи (названные Куком островами Бедных Рыцарей) и острые пики Теуары. 20 февраля «Астролябия» бросила якорь у Онангороа. Вскоре Дюмон-Дюрвилю нанес визит знаменитый «рангатира», то есть вождь, по имени Ранги, сын некоего Текоке, главного вождя племени «пахиа». Это был устрашающего вида дикарь, хитрый и изворотливый, как мы бы сейчас сказали, продувная бестия. Правда, он дал довольно ценные сведения о топографии данного района и сообщил названия всех близлежащих островов на местном наречии, которыми Дюмон-Дюрвиль и заменил на картах пышные названия, данные капитаном Куком. Корвет достаточно долго простоял в заливе Хаураки, и Ранги стал частым гостем Дюмон-Дюрвиля. С ним произошел довольно забавный случай (впрочем, весьма типичный) в момент, когда «Астролябия» снялась с якоря. Это случилось 10 марта. Ранги, как и другие вожди, вел себя на борту прилично и был относительно честен. Он много раз просил у Дюмон-Дюрвиля свинец для изготовления пуль, но тот всегда ему отказывал, так как запас металла на корабле был невелик. Однако в ту минуту, когда на «Астролябии» ставили паруса, Дюмон-Дюрвиля известили о том, что один из туземцев украл свинец от лота[186], забытого по небрежности на вантах[187]. Далее Дюмон-Дюрвиль повествует об этом событии вот что: «Застигнутый на месте преступления туземец тотчас же вернул свою добычу безо всякого сопротивления и поспешил улизнуть. Тогда я обратился к Ранги и сказал суровым тоном, что такие поступки недостойны честных людей и что я буду наказывать воров самым безжалостным образом. Сей упрек и несомненная угроза, звучавшая в моем голосе, глубоко поразили вождя. Он извинился и принялся утверждать, что преступление было совершено без его ведома, да к тому же и не его соплеменником, а чужаком, пленником-рабом. Затем Ранги с униженным и жалким видом приблизился ко мне, вопрошая, не стану ли я наказывать его за это преступление. Я ответил, что на этот раз ему ничего не будет, и дружески с ним распрощался, чтобы заняться делами, так как корабль совершал в тот момент довольно сложный маневр. Некоторое время спустя звук наносимых изо всех сил ударов и жалобные крики, доносившиеся с пироги Ранги, вновь привлекли мое внимание. Я посмотрел в ту сторону и увидел, что Ранги и Тавити колотят по плащу, под которым будто бы находится человек. Но я без труда понял, что они бьют всего по скамейке в пироге. Они ломали эту комедию в течение нескольких минут, пока весло в руках Ранги не сломалось, а «человек» не свалился на дно лодки. Ранги же окликнул меня и сказал, что он только что убил вора. Он спросил, удовлетворен ли я, на что я ответил утвердительно, внутренне смеясь над хитростью дикарей, той самой хитростью, примеры которой встречаются и у представителей народов, стоящих на гораздо более высокой ступени цивилизации». После пятидневной стоянки в Островной бухте (Бейоф-Айлендс) «Астролябия» покинула бурные прибрежные воды Новой Зеландии и направилась в более спокойный регион, ближе к экватору. «Поверив рассказам наших предшественников и нашим собственным впечатлениям, оставшимся у нас после спокойного плавания на корвете «Кокий», мы надеялись наконец-то отдохнуть после столь тяжких трудов, ведь в этом районе в основном господствует очень приятный легкий восточный или юго-восточный бриз. Мы рисовали в нашем воображении весьма приятные для нашего взора картины и старались забыть о тех ужасных испытаниях, коим нас подвергла стихия. Уже трижды экспедиция была на грани полного провала, да нет, не провала, а гибели! Двадцать раз на нас обрушивались всей мощью ураганные ветры, и мы сумели исполнить свой долг только ценой огромных усилий. Но мы покидали берега Новой Зеландии с сознанием того, что наше здесь пребывание было заполнено благороднейшей работой, ибо огромная часть побережья была очень подробно и скрупулезно отражена на картах. С этих пор ни один географ не сможет говорить об этих больших островах Южных морей, не вспомнив об открытиях, совершенных в ходе плавания «Астролябии». Ради достижения такого результата можно забыть о любых опасностях и лишениях!» — записал в своем дневнике Дюмон-Дюрвиль. Корвет «Астролябия» покинул Новую Зеландию 18 марта 1827 года и взял курс на острова Тонга, в виду которых и оказался 20 апреля. Но налетел ужасный шторм, и «Астролябии» пришлось отойти подальше в открытое море и провести там около двух дней. Вторая попытка приблизиться к вожделенному берегу была более удачной. Вскоре корабль подошел к проходу, который вел к стоянке в Пангам-Моду, где когда-то побывали Кук и д’Антркасто. «Астролябия» вошла в узкий проход между грядой рифов, о которую с невероятным грохотом разбивались волны, и берегом. Внезапно ветер стих, паруса опали, скорость хода резко уменьшилась. И корабль оказался пленником течения, которое несло его прямо на рифы! Здесь, среди огромных коралловых глыб невозможно было бросить якорь. Эти грозные скалы поднимались словно острые шипы со дна, готовые пропороть корабль, а между ними зияли глубокие пропасти, готовые поглотить творение рук человеческих. Однако течение медленно, но верно продолжало увлекать «Астролябию» за собой, теперь уже унося корабль чуть в сторону от рифов. И все же корабль задел подводную скалу! Сильнейший удар сотряс корпус, нос задрался вверх… К счастью, корабль оказался достаточно крепким и снес вершину кораллового рифа, не получив при этом пробоины. Обшивка корвета оказалась столь прочной, что совершенно не пострадала. И все же гибель казалась неминуемой! Подул сильный ветер, по морю заходили большие волны, и с каждой минутой положение путешественников становилось все более отчаянным. В постоянной тревоге прошли целые сутки. Наконец море успокоилось и моряки получили возможность поставить паруса. Потеряв несколько якорей на каменистом дне, «Астролябия» в конце концов сумела стать на якорь в заливе Пангам-Моду четыре дня спустя. Следует сказать, что якорь у французских моряков оставался один-единственный. Как только изрядно потрепанный корвет застыл на месте, тотчас же завязались тесные отношения между гостями и хозяевами этих мест. Первым явился некий туземец по имени Буду-Додаи, даже не взявший на себя труд скрыть свою радость по поводу плачевного состояния корабля. Затем явились три англичанина, состоявшие на службе у большого вождя по имени Полон. Затем припожаловал сам Полон в сопровождении верховного вождя по имени Лавака. Всем им был оказан очень хороший прием, и они остались на борту. Итак, по счастливой случайности в руках Дюмон-Дюрвиля оказались люди, которых можно было бы использовать в качестве заложников в том случае, если «Астролябия» все же пойдет ко дну, ведь восседавшие в пирогах туземцы с нескрываемым нетерпением дожидались момента, когда море позволит им сказочно обогатиться тем, что останется от корабля и от его команды. К счастью, корабль оказался достаточно крепким, чтобы с честью выйти из ужасного положения. И когда вновь подувший ветерок позволил ему двигаться, маневрировать и покинуть полосу рифов, покрытую кружевом пены, разочарованные туземцы, обманувшиеся в своих надеждах, удовольствовались тем, что путем обмена получили жалкую частичку той богатейшей добычи, которую они рассчитывали получить целиком. Начиная с 30 апреля туземцы проявляли к пришельцам довольно дружеские чувства и охотно шли на контакт. 9 мая Дюмон-Дюрвиль в сопровождении почти всех своих офицеров отправился с визитом к вождю Полону, который очень сердечно относился к белым. Однако на сей раз, принимая у себя офицеров, он был, против обыкновения, смущен и скован, что никак не вязалось с шумными и восторженными излияниями предыдущих дней. Столь резкая перемена в поведении возбудила подозрительность Дюмон-Дюрвиля, который стал испытывать живейшее беспокойство, так как оставил на «Астролябии» очень мало членов экипажа. Дюмон-Дюрвиль и офицеры не мешкая вернулись на борт, где все, к счастью, было в порядке. Однако через несколько часов Дюмон-Дюрвиль узнал, что заподозрил он неладное не без оснований. Более того, его подозрения полностью подтвердились! Коварные туземцы составили целый заговор, целью которого было разом захватить всех офицеров. Тогда они могли бы легко договориться с матросами, тем более что часть экипажа уже возымела желание зажить беззаботной жизнью островитян. Как рассказал капитану боцман, заподозривший истину из-за нескольких слов, ненароком вырвавшихся из уст матросов, большинство рядовых членов команды подло предали своего командира и вступили в сговор с дикарями. Таким образом, опасность становилась еще большей, и необходимо было как можно скорее предпринять все меры, чтобы отвести беду. К счастью, в самый последний момент Полон струсил. Счастливо избегнув западни, Дюмон-Дюрвиль дал себе слово более не быть столь неосторожным и не попадаться. Опасаясь, с другой стороны, бунта на корабле, он принял решение покинуть Тонгатабу как можно скорее. Тринадцатого мая все было готово к отплытию, но туземцы внезапно напали на небольшой отряд моряков из десяти человек, среди которых находились гардемарины Дюмен и Фараге, причем безо всякого видимого повода. Эти недружественные, откровенно враждебные действия можно было объяснить только редкостной переменчивостью характера островитян, их широко известным коварством или просто желанием держать европейцев в плену. На берег, на выручку, были посланы два отряда, но все усилия оказались тщетны. Французы даже понесли потери: был убит капрал морской пехоты Ришар, а один офицер был ранен. Дюмон-Дюрвиль, чрезвычайно обеспокоенный судьбой матросов и захваченных вместе с ними офицеров, в конце концов потерял надежду на то, что туземцы освободят пленных добровольно, и решил применить силу. Он приказал поставить корвет напротив укрепленной деревни Мафога, где находились святилища местных богов и могилы вождей. Деревня эта считалась священной, как говорили дикари, «табу». Укрепления, окружавшие деревню, хотя и были примитивны, но оказались очень прочными, и понадобилось бы производить многодневную осаду, чтобы вынудить туземцев сдаться и отпустить пленников. При ближайшем рассмотрении «фортификационных сооружений» туземцев Дюмон-Дюрвилю стало ясно, что они падут только в случае применения артиллерии. И пришлось стрелять из пушек. Пленники вернулись на корвет, впрочем, не все, так как двое, Ребуль и Симоне, решили остаться среди дикарей добровольно. Капитуляция туземной деревни сопровождалась принесением в качестве жертвы большого количества бананов и свиней, дабы умилостивить разгневанных моряков. Двадцать четвертого мая «Астролябия» покинула острова Дружбы, чье название звучало для французов как странная и грустная ирония. Как и большинство островов Океании, остров Тонгатабу создан кораллами и покрыт очень толстым слоем перегноя. Поэтому растительность здесь пышна и просто великолепна. Кокосовые пальмы и бананы растут здесь с поразительной быстротой и достигают невероятных размеров. Сам остров довольно плоский, рельеф его однообразен, без гор и ущелий, в чем может убедиться любой, совершив десятиминутную прогулку. Его население насчитывает примерно семь тысяч человек явно выраженного полинезийского типа. «В них сочетаются, — рассказывает Дюмон-Дюрвиль, — самые противоположные качества. Они великодушны, услужливы, гостеприимны, но вместе с тем жадны, дерзки и, в особенности, очень скрытны. В ту самую минуту, когда они осыпают вас ласками и проявлениями дружбы, они способны напасть на вас и ограбить, стоит только их жадности и самолюбию разыграться. По своему развитию, но также и по своей злобности они намного превосходят жителей Таити. Мы не могли не восхищаться, в каком образцовом порядке содержат они свои плантации кавы, бананов и ямса, как чисто у них в домах, какие красивые и изящные изгороди окружают постройки, а также их искусством возведения укреплений, как в Мафоге, окруженной крепким частоколом и рвом шириной в пятнадцать — двадцать футов, до половины наполненным водой. Мужчины заняты изготовлением оружия, рыболовных сетей и пирог. Женщины ткут ткани, которые они окрашивают в очень красивый коричневый цвет. Главной же их заботой является приготовление пищи, процесс, который здесь не лишен определенной рафинированности. Наши моряки высоко оценили качества такого кушанья, как свиная туша, приготовленная целиком при помощи раскаленных камней. Следует заметить, что свинина составляет основу всех завтраков, обедов и ужинов. Вокруг главного блюда располагают разнообразные плоды, вареный ямс, помещенный в половинки кокосовых орехов, корни таро и так далее. Все это подается на банановых листьях, и глава семьи режет мясо и распределяет куски. Позади пирующих стоят рабы и время от времени подают им наполненные пресной водой тыквы. Все, и мужчины и женщины, сходят с ума по туалетам и являются большими модниками и модницами. Они натираются жиром (чем, в общем-то, злоупотребляют), прокалывают себе уши и изобретают самые необычные прически. Любимым их времяпровождением являются танцы, которым они предаются со всей страстью первобытных людей и во время исполнения коих доходят до полного изнеможения. У туземцев самые общие и расплывчатые представления о религии, поэтому они и не нуждаются, строго говоря, в настоящих служителях культа. Таковым там может быть тот, кто пожелает, а для этого нужно всего лишь, чтобы на человека снизошло божественное вдохновение. Пока длится состояние полуэкстаза, человек является служителем культа, но, как только оно исчезает, он опять становится простым смертным. Обычно люди, на которых снизошло божественное вдохновение, принадлежат к низшим слоям местного общества…» Корвет «Астролябия» покинул острова Тонга 22 мая, а уже 25-го оказался в виду самого южного острова архипелага Фиджи. Пирога, отошедшая от рифов Онгеа-Леву[188], приблизилась к «Астролябии», и пятеро туземцев, находившиеся в ней, поднялись на борт французского судна. Предводитель маленькой группы выступил вперед и обратился к Дюмон-Дюрвилю. Он сказал, что сам он уроженец Тонгатабу, но живет на острове Лакемба под покровительством местных вождей, так как занимается весьма выгодной для всех торговлей, и добавил, что некоторое время назад он на борту английского судна посетил Порт-Джексон, Новую Зеландию и Таити. Этот человек, отличавшийся приятными манерами, был отменно вежлив. Ему было около сорока пяти лет и звали его Муки. Среди сопровождающих находился также уроженец Гуама по имени Медиола. На Фиджи его доставил испанский корабль, прибывший туда за санталовым деревом. Испанцы бросили беднягу на незнакомом острове три года тому назад, и он скитался по островам в надежде найти корабль, который мог бы отвезти его на родину. Медиола умолял Дюмон-Дюрвиля позволить ему остаться на борту и легко добился согласия капитана. Муки тоже испросил у руководителя французской экспедиции дозволения добраться на «Астролябии» до острова Лакемба, и просьба его была удовлетворена. Два новых пассажира оказались весьма полезными Дюмон-Дюрвилю, так как Муки очень хорошо знал, где расположены коварные рифы, а Медиола вообще прекрасно изучил весь архипелаг Фиджи. Кроме всего прочего, они сообщили капитану, что в прибрежных водах Лакембы, на дне, лежит якорь от потерпевшего кораблекрушение брига. «Астролябия» потеряла два якоря у островов Тонга, и Дюмон-Дюрвилю очень хотелось раздобыть новый. Поэтому, подойдя к Лакембе, он послал на разведку шлюпку под командованием лейтенанта Лоттена. Однако появившиеся на берегу туземцы вели себя столь агрессивно, что шлюпке пришлось срочно возвращаться назад, а самому кораблю уйти подальше в открытое море, так как туземцев было так много, что столкновение могло стать для французских моряков роковым. Восемнадцать дней подряд, несмотря на отвратительную погоду и чрезвычайно бурное море, «Астролябия» шла среди островов архипелага Фиджи. Были открыты и нанесены на карту острова Лакемба, Мбенга, Кандаву, Ватулеле, Моала, Онгеа-Леву, Вити-Леву, то есть южная часть архипелага, до той поры совершенно неизвестная. По мнению Дюмон-Дюрвиля, местные жители относятся к переходной группе между медно-красной, или полинезийской, расой и черной, или меланезийской. Все они, разумеется, каннибалы и даже похваляются этим. «Астролябия» взяла курс на Картерет и прошла мимо островов Эрронан[189] и Анейтьюм, группы Лоялти (Луайоте), крохотных островов Бопре, рифов Астролаб, острова Ибну и цепи рифов около северных берегов Новой Каледонии. Оттуда Дюмон-Дюрвиль за шесть дней добрался до архипелага Луизиады и собирался направиться к Торресову проливу, как было указано в инструкциях, но погода была столь ненастной, что он отступил от предписанного маршрута из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Дюмон-Дюрвиль решил исследовать южное побережье Новой Британии и северное — Новой Гвинеи. Испытывая нехватку пресной воды и топлива, Дюмон-Дюрвиль направился сначала к берегам Новой Ирландии, пройдя по пути мимо острова Россел. Наконец 5 июля корабль вошел в гавань Картерет при очень густом тумане, причем несколько раз «Астролябия» была на грани гибели. Корвет простоял в гавани с 5 по 19 июля. Вскоре показались и туземцы, числом не более двадцати. Эти несчастные составляли, видимо, население этих пустынных мест. Жалкие подобия человека, совершенно неразвитые, эти существа тупо смотрели на пришельцев, не проявляя ни малейшего любопытства к тем предметам, что им показывали. Они были очень уродливы, чернокожи, грубы, словом, настоящие животные. Французам не удалось получить от них хотя бы самую малость путем обмена. Девятнадцатого июля корвет снялся с якоря и отправился исследовать южный берег Новой Британии, виденный когда-то лишь издали Дампиром. Исследователям страшно мешали туманы и дожди, а также сильные ветры, вынуждавшие Дюмон-Дюрвиля держаться довольно далеко от берега из боязни сесть на мель или напороться на рифы. «Нужно самим побывать в этих местах, — писал Дюмон-Дюрвиль, — и оказаться в тех же условиях, чтобы составить себе верное представление о совершенно невероятных тамошних ливнях; нужно, кроме того, чтобы вам пришлось выполнять те же работы, что были вынуждены выполнять мы, и только тогда вы вполне здраво сможете судить о том, с какими заботами и тревогами сопряжено подобное плавание. Лишь в редких случаях видимость превышала сто туазов, и наши маневры поневоле были очень неуверенными, так как наше истинное местоположение оставалось для нас загадкой. В общем, вся наша работа у берегов Новой Британии, несмотря на невероятные усилия, коих она нам стоила, и опасности, которым подвергалась «Астролябия», намного уступает в точности остальным съемкам местности, проведенным во время этой кампании». Дюмон-Дюрвиль был вынужден пройти через пролив Дампир, хотя и очень не хотел этого. И не зря, ибо два раза «Астролябия» застревала на рифах. Корабль прошел мимо островов Схаутен[190], бухты Нападения, залива Гумбольдт, островов Предателей, скал Арфак и наконец стал на якорь в гавани Дорен. Тотчас же в своих пирогах прибыли папуасы. Они узнали и корабль, посещавший эту гавань три года назад, и тех, кто совершал на нем плавание под началом капитана Дюперре, но на сей раз они встретили гостей без особого восторга. В обмен они предлагали райских птиц и требовали непомерную плату. Дюмон-Дюрвиль считал, что население этих мест очень смешанное, и делил их на три большие группы: папуасов, метисов и альфурусов, сходных с австралийским типом и, по-видимому, являющихся коренными обитателями данного района. Стоянка не представляла особого интереса и не давала большого урожая новых сведений и находок. Пятого сентября «Астролябия» покинула Новую Гвинею и взяла курс на остров Амбоина, куда и прибыла 24 сентября. Голландские власти оказали Дюмон-Дюрвилю и офицерам корабля исключительно теплый прием. Корвет, сильно пострадавший во время очень тяжелого плавания, нуждался в ремонте. Дюмон-Дюрвиль нашел на складах порта все необходимое для того, чтобы устранить ущерб, нанесенный «Астролябии» скалами у Тонгатабу, а натуралисты, проведя несколько экскурсий в глубь острова, сумели пополнить свои коллекции. Корабль был отремонтирован, припасы восполнены, а утомленная, почти деморализованная бесконечными опасностями команда хорошо отдохнула, набралась сил и вновь обрела уверенность в себе. 10 октября «Астролябия» покинула Амбоину и направилась к берегам Тасмании (ранее называвшейся Землей Ван-Димена). Дюмон-Дюрвиль хотел посетить Хобарт-Таун[191], который во времена д’Антркасто был всего лишь жалкой кучкой хижин. Туда со времен Бодена не заходил ни один французский корабль. Преодолев 1700 лье за 76 дней, корвет вошел в гавань 17 декабря 1827 года. Еще не став на якорь, Дюмон-Дюрвиль во время беседы с лоцманом вдруг узнал нечто новое об экспедиции Лаперуза. Лоцман спросил Дюмон-Дюрвиля, дошли ли до него вести о пропавшей французской экспедиции. «Получив от меня отрицательный ответ, — писал Дюмон-Дюрвиль, — лоцман поведал мне о том, что капитан одного английского судна, по имени Питер Диллон, совсем недавно нашел останки корабля Лаперуза у какого-то острова в Тихом океане и что он привез оттуда не только вещественные доказательства, но будто бы даже одного из потерпевших кораблекрушение, матроса, уроженца Пруссии. Этот маловразумительный рассказ показался мне досужим вымыслом, способным отодвинуть на задний план все слухи, что в течение сорока лет после исчезновения экспедиции Лаперуза постоянно возникали то там, то сям». Но лоцман стоял на своем и уговорил Дюмон-Дюрвиля расспросить некоего господина Келли, бывшего капитана дальнего плавания. При встрече этот последний полностью подтвердил рассказ лоцмана, за исключением момента, касавшегося возвращенного на родину матроса. «Я узнал, — продолжал Дюмон-Дюрвиль, — что господин Диллон, капитан небольшого торгового судна, действительно нашел на Тикопии, маленьком островке архипелага Эспириту-Санто, неоспоримые свидетельства того, что Лаперуз потерпел кораблекрушение у острова Ваникоро (архипелаг Санта-Крус). Он даже привез эфес шпаги, принадлежавшей, по его предположению, самому несчастному руководителю экспедиции. Прибыв в Калькутту, Диллон доложил о своих находках губернатору, и тот немедленно отправил его обратно за счет Вест-Индской компании, с тем чтобы он посетил место кораблекрушения и забрал с Ваникоро французов, если кто-либо сумел выжить. Келли добавил также, что он лично знаком с Диллоном и полностью ему доверяет. Можете себе представить, господа, с каким интересом я выслушал сообщение господина Келли! Ведь таким образом оказывался сорван покров тайны, столь долго окутывавший трагическую судьбу Лаперуза и его спутников! Счастливый случай помог какому-то безвестному английскому капитану совершить это великое открытие, а в данный момент он, судя по всему, должен был находиться на месте катастрофы. Как же я ему завидовал! Как сожалел я о том, что роковое стечение обстоятельств не позволило мне ранее узнать о находках Диллона на Тикопии! Кстати, должен заметить, что мои спутники не поверили рассказам лоцмана и господина Келли и говорили о них шутливым тоном, как о какой-то сказке». Вот факты, сообщенные Диллоном. Они свидетельствуют о последних минутах экспедиции Лаперуза и слишком интересуют нас, французов, чтобы можно было обойти их молчанием. Во время стоянки у островов Фиджи корабль Вест-Индской компании «Хантер» взял на борт в 1813 году матроса-немца по имени Мартин Бушарт, одну женщину-туземку, его жену, и одного матроса-шутника, индийца по происхождению, по имени Ашулия, которых местные жители собирались съесть, как они уже поступили со всеми матросами-европейцами, бежавшими с кораблей и обосновавшимися на островах. Эти трое несчастных просили лишь о том, чтобы их взяли на борт и высадили на первом обитаемом острове. Капитан «Хантера» выполнил их просьбу и высадил на острове Тикопиа, находящемся на 12°15′ южной широты и 169° восточной долготы. Тринадцать лет спустя Диллон, служивший прежде на «Хантере», оказался в этом районе на борту корабля, тоже принадлежавшего Вест-Индскойкомпании, и захотел узнать, что произошло с этой троицей. Он нашел их счастливыми и довольными, ведущими спокойную жизнь среди мирных обитателей Тикопии. Матрос-немец продал Диллону серебряный эфес шпаги, украшенный вензелем. Разумеется, заинтригованный Диллон осведомился, каким образом сей предмет попал в руки к немцу. Мартин Бушарт рассказал, что когда он попал на Тикопию, то обнаружил у туземцев большое количество железных предметов, доставленных, по их словам, с группы островов Малликолло, расположенных к западу, на расстоянии двух дней плавания на пироге. Индиец-шутник, тоже допрошенный Диллоном, в свой черед сказал, что шесть лет тому назад плавал на Малликолло и видел там двух очень старых белых из команды потерпевшего кораблекрушение судна. Диллон сделал вывод, что речь идет об исчезнувшей экспедиции Лаперуза, и тотчас же отправился к Малликолло. Немец согласился его сопровождать, и вскоре они оказались около острова, который д’Антркасто назвал островом Решерш. К сожалению, полный штиль и нехватка продовольствия не позволили Диллону пристать к берегу. Однако Диллон не был обескуражен неудачей. Он вернулся в Калькутту, сделал подробный доклад обо всех известных ему фактах английскому губернатору и сумел того заинтересовать до такой степени, что был снаряжен корабль, специально предназначенный для продолжения поисков. Губернатор полностью одобрил планы Диллона и доверил ему судно. Диллон взял курс на Тикопию, куда прибыл в конце августа 1827 года. Там он нанял в качестве лоцмана и переводчика некоего туземца, который провел пять лет на Малликолло и прекрасно знал весь этот изобиловавший опасностями район. Этому туземцу были известны также подробности кораблекрушения. Прибыв на Малликолло, Диллон сумел узнать от стариков, что сорок лет назад корабль белых людей налетел на рифы у острова Ваникоро и затонул. Часть команды погибла от рук туземцев, а часть сожрали акулы. На следующую ночь еще один корабль напоролся на те же рифы и тоже затонул. Члены экипажа сумели добраться до берега, построили из останков корабля маленькое судно и через некоторое время уплыли на нем в неизвестном направлении. Правда, двое тогда решили остаться на острове. Один из оставшихся умер, а второй переселился на другой остров. Туземцы говорили, что белые, спасшиеся со второго корабля, прожили на острове около пяти месяцев, пока не построили свой корабль, и о них стали рассказывать настоящие легенды. Туземцы Малликолло считали их сверхъестественными существами. Утверждению таких взглядов немало способствовало весьма странное, на взгляд дикарей, поведение белых, ибо они, по словам туземцев, часто беседовали с луной и звездами при помощи длинной трубы. У них были огромные носы, а некоторые все время стояли навытяжку с железной палкой в руках. Так запечатлелись в памяти дикарей астрономические наблюдения, треуголки и часовые с «Астролябии» и «Буссоли». Диллон собрал множество реликвий, напоминавших об этой экспедиции. Он также увидел на дне, на коралловой отмели, в том месте, где корабль налетел на риф, бронзовые пушки, корабельный колокол и всякие обломки. Он сумел достать эти драгоценные предметы со дна, а также выкупил что мог у туземцев и доставил все найденное в Калькутту, где эти находки вызвали огромный интерес. Руководство Вест-Индской компании приняло решение доставить все найденное в Лондон для дальнейшей передачи французскому правительству. Сия почетная миссия была возложена на капитана Диллона, и он доставил все реликвии в Париж в 1828 году, где они и были выставлены для всеобщего обозрения в Военно-морском музее. Король Франции Карл X горячо поблагодарил Диллона за труды и назначил ему пожизненную пенсию в четыре тысячи франков. Если и оставались еще скептики, сомневавшиеся в том, что Диллон доставил в Париж все, что осталось от экспедиции Лаперуза, то они должны были склониться перед приговором графа Лессепса, единственного оставшегося в живых спутника Лаперуза, который был обязан своим спасением тому, что высадился на Камчатке, с тем чтобы через Сибирь и Россию доставить во Францию по суше отчет о первой части путешествия. Господин Лессепс официально опознал пушку и резную корму «Буссоли». В то же время на одном из серебряных подсвечников различили герб ботаника Колиньона. Узнав о находках Диллона, Дюмон-Дюрвиль поднял паруса, чтобы отправиться к острову Тикопиа. К сожалению, он не знал точных координат этого острова, так как либо по чистой случайности, либо из боязни, что его кто-то опередит, Диллон не указал ни точного местоположения Ваникоро, ни пути, которым он шел туда. Дюмон-Дюрвиль на две недели стал на якорь в гавани Хобарт-Таун и покинул ее 4 января 1828 года. После довольно спокойного плавания, во время которого Дюмон-Дюрвиль прошел мимо островов Филиппа и Норфолк, скалистого острова Матью, одиноких вулканических островов Эрронан, Митре и Схени, вечером 9 февраля впереди показался остров Тикопиа, маленький клочок суши окружностью в три-четыре мили, в центре которого возвышалась довольно островерхая гора, сплошь поросшая зеленью. Приближаться к нему надо было с большой осторожностью, так как с некоторых сторон о берег непрерывно с ревом разбивались грозные волны. В борьбе со стихией прошла ночь, а утром была замечена лодка, в которой сидели три человека. Один из них был явно европеец. То оказался немец Бушарт, сопровождавший недавно Диллона к острову Ваникоро. Он сообщил Дюмон-Дюрвилю, что на острове не осталось больше ни одного живого француза, так как последний из потерпевших кораблекрушение умер в прошлом году. Сначала он согласился стать гидом французской экспедиции и привести «Астролябию» к Ваникоро, но затем в самый последний момент передумал. К счастью, два англичанина, сбежавшие с военных кораблей, заявили, что готовы занять место немца, и Дюмон-Дюрвиль их охотно нанял, тем более что они жили на островах больше года и довольно сносно объяснялись на местном наречии. Собрав на Тикопии все нужные сведения, Дюмон-Дюрвиль приказал взять курс на Ваникоро. На борту «Астролябии» по чистой случайности остались пять аборигенов с Тикопии, которые не смогли вернуться к себе домой, когда корабль снялся с якоря. Капитан «Астролябии» оставил в своем дневнике несколько строк, посвященных этим мягким и услужливым людям, своим характером напоминавшим обитателей островов Тонга. Спутники Дюмон-Дюрвиля, ступившие на берег Тикопии, очень удивлялись тому, что такие рослые и наделенные недюжинной силой мужчины могут радоваться любым пустякам словно малые дети. Свою радость обитатели Тикопии выражали громким смехом, прыжками на месте и приплясыванием, а также они трясли своими длинными волосами точь-в-точь как молодые петушки потряхивают своими гребешками. Они собирали цветы и плели из них гирлянды, а затем украшали ими себя и своих гостей. На этом острове все дышало невинной радостью натур простых, юных и беззаботных. Казалось, им очень нравились европейцы. Они очень сожалели о том, что англичане их покидают, и всячески уговаривали гостей остаться. Туземцы пытались даже склонить французских матросов покинуть «Астролябию» и поселиться вместе с ними. Вечером того дня, когда «Астролябия» покинула Тикопию, вдалеке, на расстоянии приблизительно шестидесяти миль, показались вершины гор Ваникоро. Так как этот остров окружен цепью рифов, то оказалось, что довольно трудно найти проход, чтобы войти в бухту Осили, где совсем недавно стоял на якоре Диллон. Место кораблекрушения находилось с противоположной стороны острова. Сначала Дюмон-Дюрвиля преследовали неудачи, так как получить какие-либо сведения от местных жителей, жадных, наглых и коварных, было очень трудно. После двухдневных переговоров один старик признал, что белые, высадившиеся на берег у деревни Вану, были встречены градом стрел. По его словам, завязалась кровавая битва, в ходе которой погибли многие туземцы и все «мара», то есть белые, были перебиты. Черепа белых туземцы зарыли на берегу у Вану, а их кости они использовали для производства наконечников стрел. Большой баркас вышел в море, чтобы попытаться найти место кораблекрушения, но первая попытка оказалась неудачной. Во второй раз на том же баркасе отправился заместитель Дюмон-Дюрвиля Жакино. Проведя долгие и безрезультатные переговоры с обитателями деревень Вану и Нама, Жакино додумался развернуть перед туземцами большой кусок красной ткани. Увидев это сокровище, один из аборигенов забрался в баркас и предложил свои услуги в качестве гида, попросив в награду кусок драгоценной ткани. Сделка была заключена, и туземец тотчас же принялся показывать дорогу. Цепь рифов образует вокруг Ваникоро нечто вроде защитного пояса, на расстоянии примерно двух-трех миль от берега. Около Ваникоро находятся еще два маленьких островка Пайон и Амби, и здесь рифы подступают к самому Ваникоро очень близко и располагаются на расстоянии всего лишь одной мили. Именно здесь, в некоем подобии прохода между подводными скалами, туземец и подал знак остановиться, а затем стал указывать на дно. И действительно, на глубине четырех-пяти метров французы различили облепленные кораллами и водорослями якоря, пушки, ядра и прочие предметы, в том числе и многочисленные свинцовые бляхи. При виде сего печального зрелища все сомнения рассеялись: это было то, что осталось от кораблей Лаперуза. Время пощадило только предметы из железа, меди и свинца, а все деревянные части исчезли под воздействием волн и морских организмов. Расположение якорей позволяло сделать вывод, что четыре из них пошли ко дну вместе с кораблем, тогда как два других были сброшены в надежде стать на якорь. Вид места происшествия заставлял предположить, что корабль, совершив попытку проникнуть за цепь рифов по узкому проходу, застрял и не мог сняться со скалы, что и привело к его гибели. По рассказам дикарей выходило, правда, что команда этого судна смогла спастись, высадиться на островок Пайон и там построить новое небольшое судно, в то время как второй корабль разбился за цепью рифов и вся его команда погибла. Жакино купил у туземцев множество предметов, среди которых были крюк от багра, кусок цепи от громоотвода, медная мерка для пороха, ножка от научного инструмента или медного подсвечника, какой-то сосуд кубической формы, тоже медный, и большая железная болванка весом в сто фунтов. Желая получить какие-нибудь более веские доказательства, Дюмон-Дюрвиль решил отправить баркас к Пайону и поднять со дна пушку и якорь, которые станут свидетельством того, что в этом месте потерпела кораблекрушение экспедиция Лаперуза. Третьего марта «Астролябия» покинула бухту Осили и стала на якорь в бухте Маневаи. Баркас вышел в море и на следующий день вернулся с трофеями. С рифов сняли якорь весом девятьсот килограммов, сильно заржавевший и покрытый коралловыми наростами, бронзовый фальконет (в таком же состоянии), короткоствольную чугунную пушку и медный мушкетон[192], гораздо лучше сохранившийся, чем все другие предметы. Следует сказать, что на фальконете и на мушкетоне сохранились их номера. Также были подняты со дна свинцовая болванка, большая свинцовая пластина, одна из тех, что были на кораблях в качестве балласта, осколки фарфоровой посуды, остатки чайника и так далее. Все эти предметы, как и те, что были собраны Диллоном, выставлены в залах Военно-морского музея и Лувра. Дюмон-Дюрвиль не хотел покидать Ваникоро, не воздвигнув там хотя бы скромного обелиска в память о моряках, до конца выполнивших свой долг. Он хотел отметить тот факт, что «Астролябия» посетила место кораблекрушения, а также выразить безграничную скорбь французов прежде, чем Франция возведет на этом месте солидный памятник, гораздо более достойный ее силы и могущества. Обелиск был установлен на том самом рифе, у которого разбился один из кораблей, под купой мангровых деревьев. Он представлял собой четырехгранную призму высотой в два метра, сложенную из коралловых глыб, на которой стояла четырехгранная пирамида таких же размеров. Четырнадцатого марта все работы были завершены. Надпись, сделанная большими буквами на свинцовой дощечке, гласила:
АМЯТИ АПЕРУЗА И ЕГО СПУТНИКОВ «СТРОЛЯБИЯ» 14 МАРТА 1828.Открыли обелиск в торжественной обстановке, в присутствии всей команды в парадной форме и при полном вооружении. Был произведен артиллерийский салют двадцать одним залпом. Миссия «Астролябии» была выполнена, и Дюмон-Дюрвиль стал торопиться с отплытием. Нездоровый климат Ваникоро оказал ужасное действие на состояние команды «Астролябии». Ситуация ухудшилась еще из-за страшной сырости, вызванной бесконечными ливнями. Не менее 25 человек уже свалила на койки жестокая лихорадка. Другие тоже чувствовали себя плохо, и Дюмон-Дюрвилю потребовалось сделать сверхъестественные усилия, чтобы выполнить свой тяжелый долг начальника экспедиции. Ко всему прочему капитан был крайне обеспокоен поведением туземцев, становившихся с каждым днем все более наглыми. Он с тревогой задавал себе вопрос, что произойдет в том случае, если придется отражать нападение столь малыми силами, коих и так едва хватало для совершения маневров. Последние мгновения, проведенные на этой стоянке, оказались просто критическими. Вот что написано в отчете Дюмон-Дюрвиля: «Я был очень удивлен, когда около восьми часов заметил, что к нам направляются 6 пирог с Теваи. Еще больше меня поразил тот факт, что двое-трое жителей Маневаи, находившиеся на корабле, казалось, ничуть не были напуганы их появлением, хотя всего лишь несколько дней назад говорили мне, что обитатели Теваи — их заклятые враги. Я высказал мое недоумение людям с Маневаи, но они лишь как-то двусмысленно захохотали и заявили, что заключили мир с обитателями Теваи, а сейчас, мол, те везут нам кокосы. Но вскоре я увидел, что вновь прибывшие не привезли с собой ничего, кроме отлично сделанных луков и стрел. Два или три туземца с решительным видом поднялись на борт и приблизились к главному люку, чтобы заглянуть в кубрик и удостовериться в количестве больных. Их глаза заблестели от какой-то дьявольской радости. В ту же минуту несколько членов экипажа сообщили мне, что находившиеся на корабле жители Маневаи проделывали то же самое в течение трех-четырех последних дней. Грессьен, с утра следивший за передвижениями туземцев, заверил меня, что видел, как воины обоих племен встретились на берегу и долго о чем-то совещались. Подобные действия свидетельствовали о самых вероломных намерениях, и я счел, что нам грозит очень серьезная опасность. Я немедленно приказал туземцам покинуть корвет и вернуться в свои пироги. Они имели наглость с гордым и угрожающим видом посмотреть на меня, как бы предупреждая, чтобы я не настаивал на выполнении моего приказа и не применял силу. Я ограничился тем, что распорядился открыть оружейный склад, обычно тщательно запертый, и с грозным видом указал на него пальцем, другой же рукой я указывал дикарям на их пироги. Вид двадцати блестящих мушкетов, чья смертоносная сила уже была известна туземцам, привел негодяев в трепет, и они освободили нас от своего зловещего присутствия». Прежде чем расстаться с этими печальными местами, перескажем в нескольких строках впечатления, оставшиеся у отважного капитана «Астролябии» от посещения Ваникоро. Группа Ваникоро, или Лаперуза, как ее называет Диллон, состоит из двух островов: Решерш и Теваи. Первый имеет в окружности 30 миль, второй — около 9 миль. Оба острова относительно гористые, покрыты почти до самого берега непроходимыми лесами и окаймлены кольцом рифов окружностью в 36 миль, где лишь в некоторых местах есть узкие проходы. Обитатели, числом не более 1200–1500 человек, люди тщедушные, на вид хрупкие, с грязновато-черной кожей. У них очень узкие лбы, странно суженные у висков. Как мы уже говорили, кожа у них грязная, шершавая, покрытая какими-то язвами и производит отталкивающее впечатление. Что касается моральных качеств островитян, то они коварны, трусливы, свирепы, лживы и алчны. Даже в молодости женщины уродливы, но в зрелом возрасте они становятся просто безобразными. Не будем… Местный климат, губительный для европейцев, не оказывает благотворного действия и на сих отвратительных островитян. Среди них практически нет стариков. Кажется, все, и взрослые и дети, страдают от жестокой лихорадки. К тому же у всех имеются признаки худосочия, столь заметные тем, кто знаком с ущербом, который наносит человеку малярия. Одним словом, Ваникоро навсегда останется лишь местом упокоения знаменитого Лаперуза. Семнадцатого марта «Астролябия» вырвалась наконец из плена рифов, опоясывающих Ваникоро. Капитан Дюмон-Дюрвиль намеревался отправиться в Порт-Джексон, чтобы там ослабленная болезнями команда могла отдохнуть и набраться сил. Но состояние экипажа было таково, что корабль вынужден был взять курс на Гуам, куда и прибыл 2 мая, имея на борту сорок больных. Испанский губернатор оказал французам самый теплый прием. Молодой человек по имени Медиола, подобранный экспедицией на Тонгатабу, смог наконец увидеться со своими родными, давным-давно считавшими его умершим. «Астролябия» простояла на якоре до 29 мая и отбыла к берегам Амбоины, хотя больным было еще далеко до полного выздоровления. Горячий прием, оказанный членам экспедиции генерал-губернатором Молуккских островов Маркусом, а также другими голландскими чиновниками, обильное питание, состоявшее из свежих овощей, фруктов и мяса, и полный покой совершили чудо, так что вскоре здоровье моряков, людей крепких и выносливых, полностью восстановилось. В это время Дюмон-Дюрвиль получил известия из Франции. Он питал надежду на то, что работы экспедиции, перенесенные тяготы и отлично исполненный долг будут по достоинству оценены министерством военно-морского флота, но надежды оказались тщетны. Ни труды участников экспедиции, ни те лишения и опасности, коим они подвергались, не были оценены, причем до такой степени, что ни один из офицеров, несмотря на представления Дюмон-Дюрвиля, не получил повышения в чине. «Астролябия» снялась с якоря и вместе с небольшим судном, на котором находился любезный генерал-губернатор, направилась в гавань Манадо на острове Целебес (Сулавеси), куда оба корабля и прибыли 27 июля. Как всегда предупредительный, губернатор Маркус смог достать для Дюмон-Дюрвиля двух чудесных бабирусс (диких свиней), одного сапиутана (животное, напоминающее небольшую корову с рогами, как у антилопы), змей, птиц, рыб, насекомых, растения, короче говоря, замечательные образцы, значительно пополнившие естественно-научную коллекцию экспедиции. Климат Манадо не был благоприятен для больных лихорадкой, и Дюмон-Дюрвиль решил сократить время пребывания в этой гавани. 4 августа «Астролябия» снялась с якоря и 27-го прибыла в Батавию, простояла там три дня и пустилась в обратный путь. 29 сентября корабль подошел к берегам Маврикия. В то время когда «Астролябия» стояла на рейде Порт-Луи, в гавань вошло судно «Байоннез», получившее задание отправиться к Ваникоро и отыскать там следы экспедиции Лаперуза. Капитан Легоаран, командовавший судном, рассказал Дюмон-Дюрвилю, что даже не пытался проникнуть за цепь рифов и ограничился посылкой на разведку шлюпок. Он поведал также, что туземцы сохранили памятник, возведенный Дюмон-Дюрвилем, в целости и сохранности и даже объявили его «табу». Дикари с большим трудом позволили морякам с «Байоннеза» прикрепить к обелиску медную памятную табличку. Простояв в гавани Порт-Луи 51 день, «Астролябия» снялась с якоря, обогнула мыс Доброй Надежды, прошла к острову Святой Елены, затем совершила остановку у острова Вознесения и 25 марта прибыла в Марсель, проведя в море ровно 35 месяцев. Дюмон-Дюрвиль привез во Францию 65 новых карт, многие тысячи этнографических зарисовок, 10 тысяч образцов животного мира, 7 тысяч видов растений и бесчисленное множество образцов минералов. Уже по этому можно судить, какое огромное значение для науки имели результаты этой экспедиции, добытые ценой таких тяжких трудов, а иногда и с риском для жизни. «Это рискованное плавание, — написал в своих мемуарах Дюмон-Дюрвиль, — превзошло все предыдущие не только по количеству опасностей, которым мы подвергались, а также и по серьезности этих опасностей, но и по обилию и глубине полученных результатов по всем областям знаний. Железная воля никогда не позволяла мне отступать перед препятствиями, каковы бы они ни были. Раз навсегда принятое решение погибнуть или добиться успеха не оставило во мне места для каких-либо колебаний и нерешительности. Двадцать раз видел я «Астролябию» на грани гибели, не сохраняя в глубине души никакой надежды на спасение. Тысячу раз рисковал я жизнью моих спутников, чтобы достигнуть цели, поставленной передо мной инструкциями, и я могу утверждать, что в течение двух лет мы ежедневно подвергались большему количеству реальных угроз, чем может возникнуть во время самого длительного перехода при обычном плавании. Офицеры, смелые, исполненные благородства и сознания долга, прекрасно отдавали себе отчет, каким опасностям я подвергал их изо дня в день, но они хранили молчание и выполняли свои обязанности». Доклад об этом замечательном плавании был опубликован за счет государства, а сам Дюмон-Дюрвиль 8 августа 1829 года получил чин капитана I ранга.
Плавание на «Астролябии» и «Зеле»
Желая пополнить сведения, собранные им самим и другими мореплавателями о недостаточно исследованных районах, Дюмон-Дюрвиль составил грандиозный проект. На сей раз речь шла о том, чтобы пересечь семьдесят четвертую параллель и как можно ближе подойти к Южному полюсу. Было начало 1837 года. Тогдашний министр, относившийся к знаменитому мореплавателю с гораздо большим пиететом, чем его предшественники, занимавшие министерское кресло во времена реставрации, немедленно одобрил планы Дюмон-Дюрвиля и всячески поддерживал его в дальнейшем. Сам король Луи-Филипп заинтересовался новой экспедицией, поэтому все приготовления шли очень быстро и безо всяких затруднений. В распоряжение Дюмон-Дюрвиля были предоставлены два корвета: его старушка «Астролябия», верная и отважная спутница, разделившая с ним все тяготы и всю славу, и «Зеле» («Усердный»), где капитаном стал его бывший помощник Жакино, которому он доверял целиком и полностью. На корабли погрузили все запасы, которые были признаны необходимыми в ходе экспедиций последних лет. Запасы эти были очень велики и упакованы со всем тщанием, чтобы избежать порчи. В числе офицеров, тогда почти никому не известных, находились Куван-Дебуа, Дюбузе, Тарди де Монтравель, Периго, впоследствии ставшие адмиралами. Команды, подобранные с большой осторожностью, были достойны своих руководителей, которых неустрашимый глава экспедиции хорошо знал и высоко ценил. Седьмого сентября 1837 года корветы покинули Тулон и после непродолжительного плавания стали на якорь у берегов острова Тенерифе. Члены экспедиции совершили восхождение на главную вершину острова. 12 октября вышли в море, чтобы как можно скорее достичь полярных областей. 13 ноября оба корабля стали на якорь на рейде Рио-де-Жанейро, но на следующий день продолжили путь и 12 декабря подошли к Магелланову проливу, где Дюмон-Дюрвиль хотел провести детальные гидрографические исследования. В ходе этого трудного плавания, когда постоянно возникали всякие препятствия и ежечасно требовалось проявлять выдержку, невозмутимость и спокойствие, Дюмон-Дюрвиль проявил себя как несравненный мастер маневра, чьи отвага, хладнокровие и огромные знания изумляли и приводили в восхищение спутников. Посвятив целый месяц гидрографическим изысканиям, оба корабля, стоявшие на якоре в Пуэрто-Амбре, вышли в море 11 января 1838 года и взяли курс зюйд-ост, к тому району, где англичанин Джеймс Уэдделл в 1823 году сумел достичь самой южной точки, куда до него прежде не доходил ни один мореплаватель. Восемнадцатого января показались плавучие льды, среди которых кораблям предстояло вскоре лавировать. Одна из ледяных глыб достигала двадцати пяти метров в высоту. На следующий день количество ледяных глыб увеличилось. Наконец 22 января путь кораблям, достигшим 65° южной широты и 47°30′ западной долготы, преградили сплошные льды, простиравшиеся до самого горизонта в направлении с юго-запада на северо-восток. В течение нескольких дней суда следовали вдоль кромки ледяных полей до Оркнейских островов, где устроили недельную стоянку для проведения гидрографических работ. Второго февраля Дюмон-Дюрвиль решил все же пробиться дальше к югу. Уже 4 февраля, находясь на 62° южной широты, корабли оказались у края сплошных льдов. Заметив впереди нечто вроде узкого прохода, Дюмон-Дюрвиль отдал приказ обоим кораблям следовать туда, но вскоре понял всю опрометчивость своего решения, так как суда оказались зажатыми во льдах, все теснее и теснее смыкавшихся вокруг них. К тому же мороз все усиливался, что грозило морякам гибелью, ибо, смерзаясь в монолит, льды могли раздавить корабли. Только благодаря сверхъестественным усилиям всей команды французские путешественники смогли избежать ужасной опасности. Им пришлось крушить лед при помощи ломов и пешней и прорубать путь на протяжении более двух миль, на что ушло около восьми часов, а затем корветы стали пробивать себе путь корпусами. Вырвавшись из ледового плена, «Астролябия» и «Зеле» продолжили путь вдоль кромки льдов, следуя с запада на восток, но на протяжении трехсот миль не нашли прохода к югу. 14 февраля, достигнув 33° западной долготы и увидев, что ледяной барьер уходит на север, по направлению к Сандвичевым островам, Дюмон-Дюрвиль счел дальнейшие попытки пробиться на юг бесполезными и приказал взять курс на запад, чтобы уточнить координаты Оркнейских островов и восточной части Шетландского архипелага, а затем еще раз попробовать пройти на юг, к загадочным южным землям с их покрытыми вечными снегами вершинами, склоны которых иногда блестят под слабыми лучами неяркого полярного солнца, к тем самым заветным землям, которым китобои дали название «Земли Палмера» и «Земли Троицы». Двадцать седьмого февраля, после долгого перехода к югу среди дрейфующих льдов, члены экспедиции сумели нанести на карту точные очертания островов, находящихся между 63–64° южной широты и 58–62° западной долготы. Эти два жалких клочка суши, постоянно покрытые снегами и льдом, получили название Земли Луи-Филиппа и острова Жуэнвиль. Так, в тяжких трудах, проходило время. К нужде и лишениям прибавилась болезнь. Цинга стала косить офицеров и матросов с такой силой и скоростью, что пришлось как можно скорее покидать эту зловещую ледяную пустыню и добираться до гостеприимных берегов Чили. Корветы стали на якорь сначала в бухте Консепсьон, а затем — в Вальпараисо. Вскоре больные выздоровели, и в начале июня «Астролябия» и «Зеле» уже летели по волнам Тихого океана. На пути от Вальпараисо до островов Гамбье в Полинезии моряки повстречали всего лишь один остров, прославившийся тем, что на нем долгое время находился в гордом одиночестве матрос Селькирк. То был остров Хуан-Фернандес[193]. На островах Гамбье, принадлежавших Франции, еще пять лет назад царили ужасающие нравы: все жители были каннибалами и влачили жалкое существование. Но за довольно короткий отрезок времени миссионеры-католики сумели преобразить весь архипелаг: нравы жителей смягчились, а вместе с душевным спокойствием сюда пришло и доселе неведомое благополучие. Корветы стали на якорь у острова Мангарева, главного острова архипелага, где находился центр по распространению католицизма в Океании, то есть резиденция епископа, откуда в разные уголки дикого края отправлялись неустрашимые миссионеры, дабы завоевать души дикарей и обратить их в свою веру. Экспедиция провела на Мангареве две недели, а 24 августа корветы оказались в виду острова Нукухива из группы Маркизских островов. Никакие другие острова Океании не обладают, пожалуй, таким богатством, даже буйством природы, плодородием, разнообразием и очарованием, как острова этого архипелага. Их еще почти не затронула европейская цивилизация, и туземцы, разгуливающие нагишом, похоже, ведать не ведают о том, что такое стыд. Они и в самом деле не носят никакой одежды, но зато их кожа украшена татуировкой, причем с очень сложными узорами. Счастливый обладатель самых затейливых и замысловатых узоров является самым почитаемым человеком, его считают как бы наиболее приближенным к местному божеству. У женщин узоров на теле очень мало. Они просты и скромны. У детей, подростков и юношей татуировок нет вообще. Открыв множество мелких островов, «Астролябия» и «Зеле» подошли к Таити и 9 сентября стали на якорь в бухте Матаваи. Затем они направились к архипелагу Мореплавателей Бугенвиля, обретших печальную славу места, где были злодейски убиты капитан де Лангль и множество матросов. По сведениям, собранным офицерами экспедиции Дюмон-Дюрвиля, выходило, что сие кровавое побоище произошло в результате ужасного недоразумения, а не в результате заговора. Следует добавить, что за все время стоянки ничто в отменно вежливом поведении островитян не говорило об обратном, но все же моряки все время были настороже. Разве можно предугадать, чего следует ожидать от этих коварных океанийцев! Затем экспедиция направилась к острову Вавау (острова Тонга), где Дюмон-Дюрвиль уже бывал во время предыдущего плавания. Здесь он повстречал старых знакомых, а именно миссионеров-протестантов, англичан, которые предпринимали отчаянные усилия для того, чтобы создать как бы противовес распространению влияния французских миссионеров, ослабить это влияние и даже совсем уничтожить. Причем занимались своим делом эти проповедники мира столь рьяно, что иногда даже не боялись прибегать к насилию, чтобы сделать жизнь миссионеров-католиков невыносимой и чтобы изгнать их с некоторых островов. Дюмон-Дюрвиля ждала здесь еще одна неожиданная встреча: ему на глаза попался матрос Симоне, который остался на Тонгатабу, дезертировав во время нападения туземцев на отряд французов. Жизнь этого бедняги, который мечтал о беззаботном существовании и полнейшем безделье в солнечной стране дикарей, вовсе не была окрашена в розовые тона. Вожди туземцев проклинали его и изгоняли отовсюду, поэтому несчастный скитался с острова на остров и нигде не мог осесть надолго. Симоне, неугомонный, непоседливый и довольно распутный парень, навлек на себя гнев миссионеров-протестантов, которые обвиняли его в том, что он — католик и продает туземцам водку, что наносило ущерб торговле правоверных лютеран, которые не гнушались никаким источником доходов. К тому же Симоне вызвал неудовольствие священников-протестантов еще и тем, что стал переводчиком одного священника-католика. То был французский миссионер, и знакомство с соотечественником пробудило в душе нечестивца Симоне давно забытые воспоминания детства и отрочества. Миссионер-католик стал покровителем и защитником Симоне, и именно это переполнило чашу терпения протестантов, которые объявили им настоящую войну. В результате католический священник был вынужден отступить и покинуть острова. Но перед отъездом он позаботился о том, чтобы дать Симоне письмо, в котором разоблачались все неблаговидные поступки протестантов и которое матрос должен был вручить капитану первого французского военного корабля, что появится в этих водах. Опасаясь, что письмо будет иметь крайне нежелательные последствия, миссионеры-протестанты потребовали, чтобы Симоне либо уничтожил его сам, либо передал им. Симоне наотрез отказался, и участь его была решена. Однажды ночью его похитили и отвезли на маленький пустынный островок, который он мог бы покинуть, уплатив двадцать пиастров[194]. Когда в бухте показались «Астролябия» и «Зеле», Симоне был доставлен на флагманский корабль связанным по рукам и ногам, как какой-нибудь злоумышленник. Представ перед лицом капитана, Симоне хотел было оправдаться, но его не стали слушать, а заковали в кандалы. Сняли их с бедолаги только у берегов Новой Зеландии, и Симоне тотчас же съехал на берег. Англичане избавляют своих соотечественников, даже самых недостойных, от подобных наказаний, дабы не ронять перед островитянами свой престиж и не выставлять себя в глупом и смешном виде. В данном случае, похоже, Дюмон-Дюрвиль затаил злобу, что весьма недостойно столь прославленного человека, и выместил ее на своем беззащитном подчиненном, который, к слову сказать, пострадал за интересы Франции. У берегов Вавау корветы простояли недолго и отправились на острова Хаапаи. Два английских миссионера оплатили свой проезд и были с почетом препровождены к новому месту службы, где они, разумеется, собирались бороться с французским влиянием и с католицизмом. Острова Хаапаи принадлежали в то время Финану, самому прославленному воину, который когда-либо рождался на архипелаге Тонга. Финан предчувствовал близкое наступление европейской цивилизации на острова Океании и умел предвидеть свойственные ей пороки. Два вождя с Тонгатабу, проведшие 15 месяцев в Сиднее, рассказали ему однажды о том, что там можно умереть с голоду, находясь у битком набитого едой склада. — Разве такое возможно? Как же так? — вопрошал Финан. — Ну да, — отвечал собеседник, — потому что для того, чтобы прокормиться, нужны деньги. — Деньги?! — изумлялся Финан. — А что это такое? Из чего они сделаны? Что это, железо? Из них можно сделать оружие и другие полезные вещи? А если можно, то почему же каждый не позаботится и не сделает себе деньги, чтобы обменять их на товары, которые ему нужны и которые он хочет иметь? Как всякий настоящий дикарь, Финан был сторонником самых простых решений, что является уделом людей с трезвым рассудком. Он возмущался и протестовал, а вождь по имени Тонга[195] старался успокоить его и просветить: — Деньги, — говорил он, — штука гораздо более удобная, чем вещи. — Но почему? — Вещи всегда можно обменять на деньги, а именно на серебро или золото, потому что потом, в любую минуту, когда потребуется, можно обменять деньги на вещи. Любая вещь может испортиться, а вот деньги — нет. Они не могут стать хуже! Несмотря на столь разумное объяснение, Финан упорствовал и возражал: — Нет! Что-то здесь не так! Не может так быть! Это же полный абсурд: придавать металлу какую-то цену, хотя он сам столько не стоит! Если бы для этих целей употребляли железо, то это было бы очень хорошо, очень правильно, так как из него можно сделать топоры, ножи, ножницы, сабли… Но серебряные деньги? Да зачем кому-то нужно серебро? Если у тебя есть лишний ямс, ты меняешь его на ткани. Хм… хм… Деньги, серебряные деньги… Конечно, деньги — вещь удобная, они не могут испортиться… Но тогда… тогда человек их закопает в землю, а не поделится со своими соседями, как подобает благородному вождю… Да, он станет скупым, злым и будет думать только о себе, что никогда не случится, если у него будут продукты, потому что их надо либо отдать, либо обменять… Корветы покинули Полинезию и проследовали в Меланезию, к острову Пива в архипелаге Вити. Один из вождей, живших на этом острове, по имени Накалассе, незадолго до этого перебил почти всю команду французского судна «Жозефина», как всегда, заманив моряков в ловушку. Разграбив корабль, этот дикарь приобрел грозное оружие: ружья, пушки, сабли, кинжалы, а также порох и ядра. Теперь он терроризировал своих соседей и держал бедняг в постоянном страхе. Дюмон-Дюрвиль считал, что для сохранения чести французского флага, а также для обеспечения безопасности французских судов в этом районе преступление должно быть сурово наказано. Проведение карательной экспедиции затруднялось тем, что остров этот был окружен цепью рифов. Корветы, встав напротив укрепленной деревни Накалассе, были вынуждены бросить якорь на довольно большом расстоянии от крепости, что делало ее еще более неприступной, так как она оставалась недоступной для корабельной артиллерии. Штурм начался 17 октября. В пять часов утра от кораблей отошли шлюпки с пятьюдесятью матросами под командованием капитан-лейтенанта, а также два баркаса, в которых находились почти все офицеры обоих корветов, добровольно решившие принять участие в этой экспедиции. Моряки были готовы к тому, что дикари окажут упорное сопротивление, тем более что еще накануне Накалассе заявил, что он не сдастся и предпочтет погибнуть под развалинами своей крепости, чем капитулировать. Однако, как оказалось, все его заявления были лишь пустым бахвальством, и вождь трусливо бежал, даже не попытавшись изобразить хотя бы видимость сопротивления. Французские моряки, желая преподать урок, который запомнился бы надолго, разрушили и деревню и крепость до основания, буквально стерли их с лица земли. Хотя Накалассе и избежал справедливого гнева наших матросов, его ждало возмездие со стороны соплеменников, сгоравших от желания когда-нибудь отомстить злобному низвергнутому вождю за его злодеяния. Бытовавшие среди туземцев предрассудки запрещали Накалассе возвести деревню на прежнем месте, и он нигде не мог найти себе пристанища. Ему оставалось лишь пойти к соседям, но те, разумеется, воспротивились, да Накалассе и сам опасался ступать на территорию бывших друзей, так как его тотчас же взяли бы в плен и съели. Справедливое наказание надоевшего всем разбойника было очень хорошо воспринято рядовыми островитянами, вождями и самим верховным вождем, которые, в общем, всегда были готовы пасть ниц перед лицом чужого могущества и силы, так как, в сущности, были обычными океанийцами, не признававшими иных аргументов. В ознаменование сего приятного события состоялись визиты вежливости, торжественные обеды и совместные распития кавы, даже артиллерийский салют. И все на этом наименее дурном из всех островов пошло на лад, впрочем, до следующей кровавой бойни и новых репрессий. Следует сказать, что эти дикари были настоящими негодяями, к тому же страстными поклонниками каннибализма! Ни одно празднество не обходилось без поедания себе подобных! В тех случаях, когда для приятного завершения пирушек не хватало пленников, сотрапезники выбирали себе жертву среди беззащитных соплеменников, причем чаще всего — женщину, которую ее сородичи и пожирали с наслаждением. Новый друг французов, старый вождь с острова Пива, приказал однажды убить тридцать несчастных, дабы публичное увеселение состоялось на славу. Покинув сей благословенный край, корветы последовали мимо многих островов, отмечая их на картах и уточняя координаты: Новые Гебриды, Ваникоро, архипелаг Санта-Крус, острова Нью-Джорджия, Соломоновы острова. 12 ноября корабли во второй раз пересекли экватор и оказались в виду острова Хоголен[196] из Каролинского архипелага. На всем пути обитатели даже пользовавшихся самой дурной славой островов вели себя тихо и мирно, но вот туземцы с Хоголена напали на корветы, за что и были жестоко наказаны. В начале 1839 года «Астролябия» и «Зеле» стали на якорь у Гуама, главного острова Марианского архипелага. Внезапно множество членов обеих команд стали жертвами дизентерии. Болезнь оказалась коварной и очень долго косила моряков, несмотря на все предпринимаемые меры гигиены и долгие стоянки в местах, считавшихся очень здоровыми. В течение этого года экспедиция, изрядно поредевшая, посетила Молуккские острова, Филиппины и Зондские острова. Довольно длительная стоянка в Батавии в октябре 1839 года не способствовала улучшению состояния здоровья членов экипажа, и по прибытии в Хобарт-Таун в Тасмании корветы походили скорее на плавучие госпитали, чем на боевые корабли. К счастью, климат оказался здесь очень здоровый и совершил настоящее чудо: самые безнадежные больные вернулись к жизни, а вместе с отличным самочувствием вернулось и желание приступить к осуществлению новых исследований. Первого января 1840 года, когда экспедицию уже можно было считать завершенной, Дюмон-Дюрвиль приказал сниматься с якоря и взять курс на Южный полюс. Перед ним лежало обширное пространство между 120 и 170° восточной долготы, где он еще не бывал. Дюмон-Дюрвиль хотел заметить, на каком градусе южной широты ему встретятся крепко спаянные льды, а также он желал обнаружить магнитный полюс. Шестнадцатого января впередсмотрящий заметил впереди первые льдины. Это были всего лишь маленькие льдинки, но через несколько часов на горизонте показались айсберги и большие ледяные поля, а ведь моряки находились всего лишь на шестидесятой параллели. На 66° южной широты подул западно-северо-западный ветер, а затем море успокоилось. Для опытного моряка это были верные признаки того, что где-то поблизости расположена суша или сплошной лед. Вскоре показались огромные остроконечные айсберги, чья высота достигала сорока — пятидесяти метров, а толщина — до тысячи. Наконец 20 января 1840 года на широте Полярного круга и неподалеку от магнитного полюса, на 133° восточной долготы была обнаружена суша, протянувшаяся на довольно большое расстояние с юго-востока на северо-запад. Солнце жгло немилосердно, и казалось, что льды разрушаются под воздействием палящих лучей, составлявших разительный контраст с однообразным и скучным пейзажем. По склонам гор бежали многочисленные ручьи, и водные потоки образовывали целые водопады. Двадцать первого января корабли приблизились к земле, возвышавшейся над уровнем моря примерно на тысячу — тысячу двести метров. Она была плоской, почти безо всяких возвышений. Только где-то в самом центре огромной белой равнины из-под пелены снегов торчали совершенно черные скалы. Оба капитана направили к берегу шлюпки, приказав доставить вещественные доказательства того, что была открыта новая, никому не ведомая земля. Офицер, командовавший шлюпкой с «Астролябии», поднял над заснеженным берегом трехцветное знамя и провозгласил всю территорию острова французским владением. В честь своей жены Дюмон-Дюрвиль нарек открытую землю Берегом Адели. Двадцать второго и двадцать третьего января экспедиция продолжала исследовать пустынный берег, но ледяной припай заставил корабли повернуть на север. В это время налетел шквальный ветер и повалил такой густой снег, что корабли едва не погибли. «Астролябия» вышла из этого испытания невредимой, а вот паруса «Зеле» были повреждены изрядно. Правда, на следующий день все последствия непогоды моряки устранили. Исследования Берега Адели были прекращены 29 января, а 30-говпередсмотрящий заметил впереди, на севере, новый ледяной барьер. Дюмон-Дюрвиль посчитал, что за белой стеной скрывается суша, и назвал ее Землей Клари в честь жены капитана Жакино. Было это на 128° восточной долготы. Семнадцатого февраля корветы еще раз стали на якорь в Хобарт-Тауне, а 25-го вновь вышли в море. По пути Дюмон-Дюрвиль открыл остров Окленд, провел гидрографическую съемку восточного побережья Новой Зеландии, подошел к Новой Гвинее и установил, что архипелаг Луизиада не составляет единого целого с большим островом, а отделен от него проливом. Затем корабли смело вошли в Торресов пролив и принялись лавировать среди коралловых рифов, увлекаемые очень опасными течениями. «Астролябия» даже попала на коралловую отмель и в течение тридцати шести часов оставалась ее пленницей, пока сильный прилив не позволил морякам совершить удачный маневр. Экспедиция благополучно достигла Тимора, затем Реюньона и прибыла на остров Святой Елены за месяц до эксгумации праха Наполеона. Простояв на якоре весь месяц, вплоть до дня знаменательного события, корабли покинули гавань и пустились в путь к берегам Франции. 6 ноября 1840 года корветы вернулись в Тулон через тридцать восемь месяцев после отплытия. За время плавания они 6 раз пересекли экватор и обошли половину всех морей земного шара. Экспедиция достигла поразительных результатов: кроме карт, на которых были нанесены около двенадцати тысяч лье береговой линии, а также указаны результаты гидрографических исследований, был собран богатый урожай сведений, имевших огромное значение для естественных наук, таких как зоология, ботаника и минералогия. Через месяц после возвращения Дюмон-Дюрвиль получил чин контр-адмирала, а в следующем году Географическое общество наградило его большой золотой медалью. В плодотворных трудах по изданию записок об этом замечательном плавании прошли два года. Потребовалось свести воедино разрозненные заметки, увязать и согласовать кое-какие факты, кое-что вспомнить… Уже была начата публикация капитального труда «Плавание к Южному полюсу и по Океании», когда произошло несчастье: вся семья Дюмон-Дюрвиля погибла в результате страшной железнодорожной катастрофы на линии «Версаль — Левый берег» 8 мая 1842 года. Дюмон-Дюрвиль находился в поезде вместе с женой и сыном. Все трое сгорели заживо и буквально превратились в уголь, так что их тела едва могли опознать. Так погиб в возрасте пятидесяти двух лет знаменитый мореплаватель, которого морская стихия столько раз щадила.
ГЛАВА 6
ПУТЕШЕСТВИЕ ЛУИ ДЕ ФРЕЙСИНЕ
Английский капитан Джордж Ванкувер[197], еще будучи младшим лейтенантом, принимал участие во втором и третьем плаваниях капитана Кука и был свидетелем открытия Гавайского архипелага. Так же, как и его командир, Ванкувер признавал, что обитатели Гавайев гораздо более ловки, умны и способны к обучению, чем представители всех остальных племен, населяющих острова Океании. Он совершенно утвердился в своем мнении, так как посетил Гавайи в 1792, 1793 и 1794 годах и нашел, что туземцы во многом изменились. Там появился очень энергичный и чрезвычайно одаренный человек, который заставил о себе говорить и который стал насаждать в этом диком краю определенные законы, что должно было в скором времени привести страну к процветанию, ибо на архипелаге должна была возникнуть новая цивилизация, разумеется, во многом весьма далекая от совершенства, но со всех точек зрения интересная и даже замечательная. Да, на островах все изменилось до такой степени, что абсолютно голый дикарь, получивший из рук Ванкувера в качестве самого почетного дара плащ из красной ткани и выпрашивавший у английского моряка в качестве бесценнейшего сокровища пару пистолетов, через несколько лет владел батареей из шестнадцати пушек и пороховым погребом. Он отмечал рождение своих сыновей артиллерийским салютом! В его портах стояло более шестидесяти небольших судов, шлюпов и шхун водоизмещением до сорока тонн, а также настоящий корабль водоизмещением в двести тонн с шестнадцатью пушками на борту, который он купил у американцев. Имя этого островитянина — Камехамеха[198]. Основатель этой маленькой океанийской империи заслужил, чтобы имя его не кануло в Лету[199], так как человек этот, иногда весьма непоследовательный в своих действиях, сумел создать у себя на островах, хотя и странную, но все же цивилизацию, что резко отличало Гавайи от других островов Океании, где проживали люди, сохранившие верность татуировке, набедренной повязке, дротикам и соломенным хижинам. Французы, занятые ужасной войной, опустошившей как саму Францию, так и многие страны Европы, были вынуждены покинуть эти прекрасные острова, на которые распространили свое влияние американцы, русские и в особенности, англичане. В те времена правительство не имело возможности выделить хотя бы один военный корабль для совершения кругосветного плавания, и, кроме адмирала Бодена, предпринявшего в 1800 году плавание по водам Тихого океана[200], французские мореплаватели не появлялись в этих краях, так что туземцы долгое время не видели нашего флага. Первым, кто после столь длительного перерыва направился к берегам маленькой Гавайской империи, был блестящий, удачливейший моряк Луи де Солс де Фрейсине[201], уже прославившийся своими открытиями в Южных морях. Заключенный в 1815 году мирный договор, каким бы тяжелым и унизительным он ни был для Франции, давал все же ее флоту свободу на море, и король Людовик XVIII, бывший большим поклонником науки, приказал снарядить экспедицию под руководством Фрейсине. В задачу экспедиции входило совершить кругосветное плавание, произвести гидрографические работы во многих точках земного шара, уточнить форму земли в Южном полушарии, понаблюдать за такими феноменами, как земной магнетизм, произвести метеорологические наблюдения, заняться изучением растительности и животного мира, а также изучать нравы, обычаи и язык различных племен. Не следовало также забывать о новых географических открытиях… Фрейсине привлек к участию в экспедиции таких известных и опытных морских офицеров, как Дюперре, Ламарш, Берар и Оде-Пельон, сделавших впоследствии замечательную карьеру. В качестве научных сотрудников выступали Куа, Гемар, Годишо. Первые двое были военными медиками, а третий — фармацевтом[202]. Сто двадцать отборных, опытных матросов составили команду корвета «Урания», избранного для кругосветного плавания. Семнадцатого сентября 1817 года «Урания», взяв на борт большой запас всего необходимого, покинула Тулон. На борту корвета, кроме команды, находилась и молодая жена капитана, не пожелавшая разлучаться с мужем и не испугавшаяся опасностей и лишений длинного и трудного плавания, которому к тому же предстояло завершиться кораблекрушением. После коротких стоянок у Гибралтара и у Тенерифе корвет прибыл в гавань Рио-де-Жанейро. От берегов Бразилии, где начались научные наблюдения, до самого мыса Доброй Надежды не произошло ничего примечательного. «Урания» встала на якорь у знаменитого мыса 7 марта, а уже 19 июля прибыла к берегам Реюньона. Затем корабль направился к заливу Морских собак (залив Шарк) в Австралии, расположенному на 111° восточной долготы и 24°40′ южной широты[203]. И за все время пути не было никаких особенных происшествий. Во время стоянки у берегов Новой Голландии, как называли эту часть Австралии в то время, не было сделано сколько-нибудь значительных научных открытий в животном и растительном мире, так как аборигены вели себя очень недоверчиво и были настроены враждебно. Без сожаления распрощались члены экспедиции с этими негостеприимными краями, после чего корвет взял курс на Тимор и бросил якорь на рейде Купанга[204] 9 октября. Португальские власти оказали французским морякам исключительно теплый прием, и вплоть до 23 октября ученые и офицеры с огромным рвением занимались научными изысканиями и наблюдениями, хотя температура воздуха доходила до 35° Цельсия в тени. Столь ревностные занятия наукой не прошли даром и повредили здоровью многих членов экспедиции, так как вызвали ослабление организма, за которым последовала дизентерия, вынудившая капитана поскорее покинуть эту гостеприимную землю, обладавшую, однако, нездоровым и опасным климатом. Покинув Купанг, члены экспедиции занялись гидрографической съемкой пролива Омбай[205]. Затем корвет проследовал к проливу Буру[206], прошел мимо острова Писанг[207] и 16 декабря бросил якорь у острова Равак. Здесь натуралисты нашли столь пышную растительность, что пришли в восторг. Среди мощных, великолепных деревьев встречались баррингтонии[208], чьи стволы всегда были наклонены в сторону моря, смоковницы, мангровые деревья, казуарины с прямыми негнущимися стволами, напоминавшие каменные колонны, такамахаки (бальзамические тополя) обхватом около семи метров, синометры[209], странные деревья с золотистыми плодами и пурпурно-красными цветами, пальмы, мускатные деревья, ямбозы (вид мирта) и бананы. Напротив, фауна оказалась здесь очень бедной и была представлена лишь кускусами да дикими собаками овчарками. Из птиц здесь встречались невиданные калао[210] с огромными клювами, попугаи, голуби, горлицы, большие зимородки. Но если природа этого острова была прекрасна, то человек, населяющий эти места, — ужасен. «Плоский лоб, — писал о туземцах Оде-Пельон, — выпуклый, шишковатый череп, лицевой угол[211] в 75°, большой рот, маленькие, глубоко посаженные глаза, выступающие скулы, толстый мясистый нос, приплюснутый на конце и нависающий над верхней губой, редкая борода (особенность, уже отмеченная у обитателей этого региона), плечи средней ширины, огромный живот, тонкие нижние конечности — таковы отличительные признаки этого народа (папуасов). Волосы и прически у них очень разнообразны; чаще всего это пышная грива, не менее восьми дюймов толщиной, вьющихся от природы волос, шерстистых или лоснящихся; тщательно причесанные, закрученные, приподнятые со всех сторон кверху, к тому же скрепленные какой-то жирной смазкой, они образуют вокруг головы почти правильную сферу. Часто папуасы втыкают в волосы большой длинный деревянный гребень с пятью-шестью зубцами, который служит скорее для украшения прически, а не для придания ей большей прочности. Этих несчастных буквально пожирает проказа, причем поражена ею десятая часть населения. На телах у них видны отвратительные язвы и раны, у некоторых члены искривлены и изуродованы болезнью, а у некоторых отсутствуют пальцы на руках и ногах. Туземцы обитают в жилищах, построенных на сваях, будь это на суше или даже на море, вблизи берега. Состоят эти дома из длинных и толстых свай, вбитых в землю, к которым при помощи сделанных из коры деревьев веревок крепятся поперечные бревна, а уже на них настлан пол из переплетенных и хорошо подогнанных друг к другу жилок пальмовых листьев. Те же пальмовые листья, искусно переплетенные и составляющие нечто отдаленно напоминающее черепицу, образуют крышу жилища, имеющего только одну дверь. Если эти хижины построены над водой, то они соединяются с берегом чем-то вроде мостков на козлах, съемный настил которых может быть быстро убран. Дом обычно бывает со всех сторон окружен подобием балкона с перилами. Эти обездоленные, несчастные люди, однако, очень изобретательны: они искусно мастерят различные рыболовные снасти, прекрасно обрабатывают дерево, делают красивые глиняные горшки при помощи гончарного круга, кладут печи, чтобы печь лепешки из саго[212], плетут циновки, ковры, корзины и создают статуи идолов». Шестого января «Урания» покинула Равак, имея на борту сорок человек, страдавших тропической лихорадкой. 12 февраля корабль прошел мимо Анахоретских островов, острова Святого Варфоломея и других островов Каролинского архипелага, таких как Пулухат, Алет, Таматам, Аллап, Фанадик и прочих[213]. Корвет приблизился к Марианским островам, а затем 17 марта 1819 года стал на якорь на рейде городка Умата (Уматак) на берегу Гуама. Губернатор острова дон Мединилья-и-Пинеда очень радушно принял членов экспедиции. Корвет простоял в бухте до 5 июня, и все это время ученые и офицеры занимались гидрографическими работами и вели астрономические наблюдения, а также занимались изучением геологии побережья. Все больные были помещены на суше в госпиталь, построенный по образцу и подобию местных жилищ, в очень здоровом месте, где воздух был даже целебным. Здесь вместе с превосходным уходом они получили свежие продукты, столь необходимые для их быстрого выздоровления. Повседневная жизнь, наполненная научной работой, прерывалась роскошными празднествами, которые любезный губернатор и местные власти устраивали в честь гостей, желая их развлечь. По поводу туземцев, которые в то время, похоже, уже вымирали (и это было заметно), Фрейсине сообщил кое-какие любопытные факты, касающиеся их нравов: «Жители Марианских островов были разделены на три класса: 1) люди благородного происхождения, 2) люди, так сказать, полублагородные, 3) плебеи. Последние, кажется, относятся к другому народу, чем представители двух других кланов, и отличаются более низким ростом. Они не могут никогда возвыситься до высшей касты, и им запрещено заниматься мореплаванием. В составе каждой из этих резко разграниченных групп имелись также колдуньи, жрицы, целительницы, занимавшиеся лечением какой-нибудь одной болезни. Профессия строителя пирог была привилегией людей благородного происхождения, местной знати, точно так же как когда-то в стародавние времена у нас во Франции правом выдувать стекло обладали лишь дворяне. Туземцы благородного происхождения разрешают только полублагородным помогать им в этой работе, имеющей для них чрезвычайно важное значение и являющейся самой ценной из привилегий, так как она вызывает всеобщую зависть». Уже более двух месяцев «Урания» стояла на якоре и была готова к отплытию. Капитан и офицеры делали прощальные визиты, выражая любезным хозяевам искреннюю признательность за воистину братский прием. Губернатор не только не хотел слышать о благодарности за заботу и внимание, которыми он постоянно окружал французов в течение всего срока стоянки, но отказался, как воистину благородный человек, принять плату за поставки, произведенные им для пополнения запасов корвета. Более того, в трогательном послании, адресованном капитану «Урании», он извинялся за недостаток съестных припасов, обусловленный тем, что в течение шести месяцев страшная засуха опустошила Гуам и помешала ему снабдить дорогих гостей так, как ему хотелось бы. Вот как описывал сцену прощания сам Фрейсине: «С глубокой печалью прощались мы с этим любезным человеком, осыпавшим нас столь многочисленными знаками благорасположения. Я был слишком взволнован, чтобы выразить ему чувства, переполнявшие мое сердце и душу. Но слезы, блестевшие на моих ресницах, должны были стать для него гораздо более ярким свидетельством того, какое волнение и какую грусть я испытывал, чем самые возвышенные слова». С 5 по 16 июня «Урания» продолжала идти вдоль Марианских островов, а затем Фрейсине, желавший побыстрее добраться до Гавайев, воспользовался попутным ветром, давшим ему возможность достичь более северных широт, где он мог рассчитывать на благоприятные ветры. Шестого августа корвет обогнул южную оконечность острова Гавайи, чтобы пройти к западному берегу, где Фрейсине надеялся найти удобную и безопасную якорную стоянку. На море установился полный штиль, и к корвету устремились пироги, в которых сидели представители обоих полов, причем женщин было гораздо больше, чем мужчин, так как для местных красавиц заход корабля в бухту — большая удача. Но капитан, желавший соблюсти правила приличия, к чему его обязывало присутствие его собственной жены, запретил туземцам подниматься на борт. Первое, что услышал Фрейсине, еще до того как «Урания» стала на якорь, было известие о смерти Камехамехи, могущественного создателя Гавайского государства. Король умер, и наследником стал его сын, молодой Рио-Рио, что, впрочем, было вполне естественно. Поднялся легкий приятный ветерок, и капитан приказал двигаться на север, к заливу Какокуа. Он уже собирался скомандовать бросить якорь, когда показалась очень красивая пирога, в которой восседал правитель острова, принц Конакини, более известный под именем Джона Адамса, как его нарекли в детстве. Это был молодой гигант в возрасте двадцати семи — двадцати восьми лет, и его образованность очень удивила Фрейсине. Он осведомился, каким путем следовала «Урания»: вокруг мыса Горн или вокруг мыса Доброй Надежды. Конакини также с большой озабоченностью спрашивал, что слышно о Наполеоне, который, как ему было прекрасно известно, находился на острове Святой Елены. Джон Адамс сообщил капитану «Урании» также о том, что молодой король покинул Куакакону, резиденцию своего отца, и разместился со двором в деревне Кохайхай. При восшествии на престол молодого монарха мир не был нарушен, но многие вожди заявили о своих претензиях на самостоятельность, поэтому приходилось опасаться, что в скором времени начнутся военные действия. Фрейсине сошел на берег, нанес принцу ответный визит вежливости, потом они вместе навестили двух вдов Камехамехи, сестер Джона Адамса, а затем направились к верфям и мастерским покойного короля. Четыре навеса были предназначены для того, чтобы сооружать под ними боевые пироги; под другими хранились европейские шлюпы. Далее шли навесы, под коими находились строительный лес, медные слитки, железные прутья и полосы, рыболовные сети, различные инструменты. Там же располагалась кузница, бондарная мастерская, короче говоря, то был настоящий склад. В ящиках, принадлежащих министру Краимокону, находились навигационные инструменты: секстанты, часы, термометры, компасы, барометры, хронометры — все в прекрасном состоянии. Французы, однако, не были допущены на склады, где хранилось оружие, порох, спиртные напитки. Десятого августа Фрейсине получил от короля любезное приглашение направиться в бухту Кохайхай, чтобы быть официально представленным ко двору. Фрейсине приказал сниматься с якоря и под руководством опытного лоцмана прибыл в указанное место безо всяких приключений. «Король ждал меня на берегу, — писал Фрейсине, — он был одет в английскую парадную форму капитана I ранга и стоял в окружении всех своих придворных. Несмотря на ужасающую бесплодность и засушливость этой части острова, вид причудливого сборища мужчин и женщин показался нам величественным и весьма живописным. Король стоял впереди, а его высшие офицеры держались на некотором расстоянии позади него; на одних были великолепные длинные плащи из красных и желтых перьев или из алого сукна, на других — гораздо более короткие плащи, типа пелерин, такого же цвета, но у них яркие полосы чередовались с полосами черного цвета; у некоторых на головах были шлемы. Довольно большое число солдат, расставленных тут и там, придавали своими причудливыми и разношерстными «мундирами» еще большую живописность этому странному зрелищу». Фрейсине обратился к монарху с просьбой о пополнении припасов, и молодой король пообещал, что в течение двух дней все желания капитана будут удовлетворены. Затем беседа в течение некоторого времени продолжалась, причем король проявлял свойственную дикарям быструю смену настроений, так как еще был не способен подчиняться строгим правилам этикета (чего, кстати, он требовал от своих придворных). Фрейсине же сохранял важный и невозмутимый вид все понимающего и все замечающего человека. Он слушал, иногда отвечал, был немногословен и в глубине души откровенно забавлялся. В общем, король Гавайев и французский капитан расстались совершенно очарованные друг другом после того, как в честь их знакомства был дан залп из ружей и пушек. Некоторое время спустя офицеры «Урании» отправились с визитом к вдовам Камехамехи. Доктор Куа сделал следующую юмористическую зарисовку этого забавного и странного приема: «Это было воистину странное зрелище, когда в тесном помещении мы увидели восемь или десять полуголых туш с человеческими формами, из которых самая меньшая весила, по крайней мере, триста фунтов; они лежали на земле, на животах. Не без труда нашли мы место, где могли бы, следуя обычаю, также лечь. Слуги постоянно держали в руках опахала из перьев и зажженные трубки, которые они поочередно вставляли вдовам во рты, а те делали несколько затяжек, а затем трубка перекочевывала по кругу. Легко себе представить, что наша беседа была не слишком оживленной, но прекрасные арбузы, поданные нам, оказались прелестным средством скоротать время и не томиться продолжительностью визита…» А в это время первый министр молодого короля Рио-Рио, Краймокон, заметил на борту «Урании» корабельного священника, аббата де Келена, и был чрезвычайно поражен его одеянием. Как только он узнал, что это католический священник, так тотчас же выразил желание немедленно принять христианство и креститься. Его мать сподобилась благодати на смертном одре и крестилась. Она взяла с сына слово, что он при первой же возможности сделает то же самое. Аббат с радостью согласился, и было решено, что обряд крещения состоится на борту «Урании». Так как королю заблагорассудилось присутствовать на этой церемонии, капитан Фрейсине отправил к берегу свой баркас, и Рио-Рио вскоре поднялся на борт в сопровождении пяти своих жен, а следом к «Урании» подошли пироги с приближенными короля и их женами. Сам король был одет в синюю гусарскую форму с золотыми галунами, на которой красовались огромные полковничьи эполеты. Один из офицеров нес королевскую саблю, другой — веер, еще двое тащили огромные мушкетоны, а пятый торжественно выступал с трубкой, и в его обязанность входило постоянно держать ее зажженной. Прежде чем подняться на борт «Урании», король приказал снять с себя «табу», чтобы иметь возможность прятаться от солнца под зонтом или в шатре. «При появлении короля, — рассказывает Фрейсине, — я приветствовал его одиннадцатью залпами из пушек, и он спустился вниз, к батарее, чтобы посмотреть, как стреляют артиллеристы. Все было готово для крещения: алтарь, священник и новообращенный. Господин де Келен совершил обряд по всем правилам, и во время всей церемонии у министра Краймокона был чрезвычайно взволнованный вид. Когда все было кончено, я приказал подать моим высокопоставленным гостям угощение прямо на палубу. Это было поразительное зрелище! Просто чудо! С какой невероятной быстротой опустошались бутылки с вином и водкой! Все придворные и сам король так перепились, что я опасался, что его величество будет не в состоянии добраться до берега. К счастью, спускалась ночь. Рио-Рио выразил желание вернуться домой, но мне пришлось дать ему еще две бутылки водки, чтобы он мог, по его словам, выпить за мое здоровье и за счастливое плавание. Старая королева получила такой же подарок, и все придворные, следуя примеру своего господина и повелителя, сочли своим долгом попросить и для себя по две бутылки каждый. Не будет преувеличением сказать, что сия королевская компания выпила за два часа и унесла с собой такой запас спиртного, коего хватило бы на десятерых, да не на один месяц, а на три. Еще до начала церемонии мы с королевской четой обменялись подарками, и молодая королева подарила мне плащ из ярких перьев, одеяние, ставшее весьма редкостным в наши дни даже на Сандвичевых островах. При отбытии короля с «Урании» я вновь велел отсалютовать ему одиннадцатью залпами корабельных пушек». Восполнив припасы, экспедиция окончательно распрощалась с Гавайским архипелагом 30 августа. Каждый занялся своей обычной работой, немного подзабытой среди всех этих приемов, шумных пиров, блестящих празднеств и продолжительных экскурсий по острову. Офицеры вернулись к своим расчетам и картам, натуралисты Куа и Гемар принялись классифицировать и снабжать этикетками собранные на острове растения и насекомых, анализировать сделанные прямо на месте зарисовки Жака Араго и описывать редкостных животных, хранившихся в заспиртованном виде в больших стеклянных банках. Годишо, со своей стороны, взялся за лупу и микроскоп и, сидя у себя в каюте, превращенной в настоящую лабораторию, при свете дня, проникавшего через иллюминатор, пытался разгадать тайну размножения растений и с увлечением, даже со страстью, предавался своему любимейшему занятию — составлению гербария. Следует сказать, что пока Годишо был в плавании, он стал действительным членом Академии наук. Седьмого октября «Урания» вошла в южное полушарие. Почти тотчас же к востоку от архипелага Мореплавателей был открыт островок, не обозначенный ни на одной карте, и он получил название острова Розы[214], в честь госпожи де Фрейсине. 13 ноября корвет прибыл в Порт-Джексон, который к тому времени уже превратился в настоящий европейский город, что составляло разительный контраст с дикой австралийской природой. Губернатор Маккуори очень хорошо принял французов. Представители властей наперебой старались проявить внимание к начальнику экспедиции и его офицерам. Корабль простоял на якоре до 25 декабря, и члены экспедиции успели провести важные научные исследования, высоко оцененные впоследствии. «Урания» вышла в море и направилась сначала к берегам Новой Зеландии, а оттуда — к мысу Горн. Обогнув мыс Горн, корвет прошел проливом Ле-Мер. Здесь моряков встретил сильнейший ветер. И Фрейсине принял решение стать на якорь у Мальвинских (Фолклендских) островов. В тумане корабль прошел мимо острова Конти[215], залива Марвиля и мыса Дюрас. Ветер нес «Уранию» к заливу Франсез, и вот тут-то на пути возник подводный коралловый риф, буквально пропоровший днище корабля. У моряков едва хватило времени, чтобы подвести несчастную, смертельно раненную «Уранию» к острову Пингвинов и буквально выброситься на берег. Французы провели на пустынном острове три месяца и все это время пытались отремонтировать «Уранию», но тщетно. Потеряв всякую надежду на то, что в бухту зайдет какое-нибудь судно, Фрейсине уже было собрался направить в Монтевидео за помощью баркас, на котором можно было сделать палубу и нарастить борта, когда в бухту одна за другой вошли две американские шхуны «Генерал Нокс» и «Меркурий». От имени французского правительства Фрейсине купил «Меркурий» и переименовал эту шхуну в «Физисьен» («Физик»). На этой шхуне французы благополучно добрались до Рио-де-Жанейро, а затем и до Гавра, куда прибыли 13 ноября 1820 года. По прибытии во Францию Фрейсине получил повышение в чине, что было вполне справедливо.ГЛАВА 7
ПУТЕШЕСТВИЕ БЕРКА ЧЕРЕЗ ВЕСЬ АВСТРАЛИЙСКИЙ КОНТИНЕНТ
Хотя на богатых и плодородных землях Австралии процветали города, хотя предприимчивые и жаждавшие приключений люди проникали все дальше и дальше в глубь континента, двигаясь от окраины к его сердцу, все же внутренняя часть Австралии оставалась для всех «белым пятном», terra incognita[216]. Напрасно в течение более двадцати лет различными частными лицами организовывались многочисленные экспедиции, призванные стереть с карт эти белые пятна, так возмущавшие их составителей. Но ни один путешественник не смог покрыть себя славой, пройдя вдоль тропика, пересекающего Австралию, никто еще не прошел по этим бескрайним просторам, где бродили никем не потревоженные собаки динго, опоссумы, кенгуру и… каннибалы. Великая древняя пустыня защищалась и жестоко мстила тем, кто осмеливался нарушить ее покой. Исследователи уходили из городов, гибли, исчезали бесследно; на смену им шли другие, но с тем же успехом… Но в 1860 году желание познать неизведанное усилилось, получив мощный толчок. Один из обитателей провинции Виктория назначил премию в двадцать пять тысяч франков тому, кто пересечет Австралию с юга на север. Губернатор тотчас же выделил около двухсот пятидесяти тысяч франков на покрытие расходов экспедиции, а частные лица внесли еще пятьдесят тысяч. Нашелся и человек, согласившийся возглавить это опаснейшее предприятие. То был отважный, бесстрашный авантюрист в лучшем смысле этого слова, то есть — искатель приключений (к несчастью, в наше время слово «авантюрист» приобрело совсем иное значение), некто О’Хара Берк[217], ирландец по происхождению, окончивший военное училище в Вулвиче и служивший в чине лейтенанта в венгерском гусарском полку. Смелый, дерзкий, предприимчивый, неутомимый, неустрашимый и бескорыстный, Берк был хорошо известен в Мельбурне. В качестве помощника он избрал себе некоего Уиллса[218], молодого человека двадцати шести лет от роду, гораздо более спокойного и уравновешенного, чем он сам, трезвого и разумного, способного сдерживать его собственные порывы. Уиллс был астрономом, и в его обязанности входило указывать экспедиции путь среди бесплодной пустыни. Двадцатого августа все было готово. В состав экспедиции входили семнадцать решительных, хорошо вооруженных мужчин. Они имели при себе двадцать семь привезенных из Азии верблюдов, двадцать семь самых крепких и выносливых лошадей, палатки, боеприпасы и запасы продовольствия на пятнадцать месяцев. Экспедиция выступила в путь под восторженные крики толпы. Тысячи и тысячи граждан сопровождали колонну. До реки Муррей путь был долог. Берк был требователен к себе самому и не церемонился со своими спутниками, поэтому на границе исследованных районов три члена экспедиции покинули его, а он нашел им весьма недостойную замену. Берк планировал разбить свой маршрут на три этапа: первый должен был пролечь до озера Менинди, в шестистах километрах от Мельбурна, второй — до Куперс-Крик, отстоящий еще на шестьсот километров севернее, третий — до залива Карпентария, расположенного в тысяче километрах от Куперс-Крик. Но, как пишет маркиз де Бовуар в своем замечательном «Путешествии вокруг света», чтобы понять, что произошло с этой экспедицией, следует учесть то обстоятельство, что в конце каждого этапа отважный первопроходец должен найти запас продовольствия, на который он рассчитывает, и что малейшее недоразумение или небрежность в подобном предприятии может причинить большие неприятности на первом этапе, привести к беде на втором, а на третьем — к настоящей катастрофе с трагическим исходом. Итак, без особых приключений Берк дошел до озера Менинди и, полагаясь на то, что слово его — закон, оставил там 19 октября своего второго помощника, лейтенанта Райта, дав ему строжайший приказ соединиться с ним у Куперс-Крик, где должен был быть создан главный склад продовольствия. А Райт проявил непростительную забывчивость и нарушил священный договор, выступив в путь тремя месяцами позднее чем полагалось, в конце января 1861 года. И с того дня в течение долгих месяцев об экспедиции не было никаких известий! Общественность была обеспокоена, везде распространялись самые ужасные слухи… Из четырех противоположных точек континента выступили одновременно четыре спасательные экспедиции. Вскоре от одного из отважных спасателей, молодого Хоуитта[219], поступили горестные известия, повергшие всех в ужас. 29 июня, то есть десять месяцев спустя после триумфального шествия Берка по улицам Аделаиды, Хоуитт, к своему великому удивлению, встретил возвращавшегося обратно Райта, того самого Райта, который остался у озера Менинди и должен был отправиться в Куперс-Крик, а также некоего Брейха, который должен был ждать Берка на обратном пути с дополнительным запасом провианта. Хоуитт принялся их расспрашивать, и вот что он узнал. За два месяца Берк преодолел расстояние, разделяющее озеро Менинди и Куперс-Крик, и оказался на полпути между Мельбурном и заливом Карпентария. Он долго, но тщетно ждал там Райта, необъяснимое отсутствие которого в условленном месте лишало экспедицию продовольствия и верблюдов, способных нести груз. Берк ждал долго и упорно, но, видя, что ожидание совершенно бесполезно, пошел дальше на север, в наводившую теперь на него настоящий ужас пустыню. Не без оснований предположив, что ему следует взять с собой в зловещую Каменную пустыню как можно меньше людей, Берк оставил в оазисе у Куперс-Крик больных с запасом продовольствия, достаточным для них самих и для всех членов экспедиции на обратный путь. Он поручил Брейху охранять склад и командовать лагерем, а также приказал ждать его возвращения не менее трех месяцев, а по истечении этого срока — еще столько, сколько позволят запасы. Берк взял с собой Уиллса, Грея и Кинга, шесть верблюдов, одну лошадь, продовольствие на три месяца и выступил в поход с непоколебимой решимостью непременно достичь берега Тихого океана. 16 декабря 1860 года четверо безумцев покинули Куперс-Крик, сказав товарищам: «Ждите нас! Ждите нас!» И однако, заметил изумленный и удрученный Хоуитт, Брейх и Райт возвращались со своими людьми без Берка, Уиллса, Грея и Кинга. Что с ними произошло? Но в ответ все только пожимали плечами и разводили руками. Они ничего не знали о судьбе своих друзей! Оправдываясь, Брейх сослался на то, что после ухода Берка в лагере вскоре воцарилась жестокая нужда. Из-за бесконечных нападений туземцев и жуткой жары все страдали от жажды, а также и от цинги, так как продовольствия не хватало, а охотиться было опасно. От болезней несколько человек умерли. Дойдя до последней степени истощения, Брейх и его люди покинули лагерь в конце апреля, так как считали, что Берк и его спутники погибли. На всякий случай они оставили небольшой запас продовольствия в тайнике. По дороге он встретил Райта, явившегося четыре месяца спустя к условленному месту встречи и, разумеется, не встретившего там своего начальника. И Брейха и Райта мучила совесть, и они еще раз отправились к Куперс-Крик, но никого там не нашли, а посему решили вернуться в Мельбурн. Хоуитт был возмущен трусостью и предательским поведением Брейха и Райта, бросивших друзей в беде, и направился на север, надеясь успеть вовремя, чтобы спасти Берка и его друзей. Он очень торопился и не щадил себя, так как понимал, что время не ждет. Через полтора месяца отряд добрался до Куперс-Крик. Оказавшись на месте, где располагался лагерь Брейха, Хоуитт увидел на коре большого дерева вырезанное ножом слово: «Копай!» Хоуитт принялся копать у корней дерева и обнаружил железный ящик, в котором Брейх оставил записку с объяснением своего ухода из лагеря. Но тотчас же с изумлением и ужасом он обнаружил бумаги, подписанные самим Берком, в которых тот сообщал, что пересек всю Австралию и дошел до Тихого океана, а затем вернулся к Куперс-Крик. Хоуитт, лихорадочно листавший дневник Берка, с ужасом узнал правду… После ухода из оазиса Берк и его спутники двигались очень быстро. Вскоре Каменная пустыня осталась позади, и с каждым днем почвы становились все плодороднее. Пейзаж менялся на глазах: кругом росла зеленая трава и везде была вода, это самое драгоценное сокровище австралийских прерий. Туземцы боялись белых и при их приближении убегали. Тут и там по пути попадались соленые озера, красивые песчаные холмы, глубокие овраги, бывшие свидетельством очень давнего землетрясения и подвижек масс земли. На севере на фоне неба вырисовывалась горная гряда, которую Берк нарек горами Стендиш. Впереди же простирались столь пышные леса, столь зеленые равнины и столь полноводные и прохладные речки, что Берк назвал этот край Землей Обетованной. Исследователи продолжали неуклонно идти на север. Стали агрессивны туземцы, и приходилось отражать многочисленные нападения. Появилась и новая угроза: в зарослях шипели змеи, а по ночам путешественников осаждали огромные крысы, дерзкие и прожорливые, так что приходилось все время быть начеку. Искателям приключений с большим трудом удавалось уберечь от этих противных тварей продовольствие, одежду, да и самих себя. Вскоре путь на север преградили непроходимые заросли, и пришлось прорубать дорогу топором. Земля уходила из-под ног: вязкое болото простиралось на многие мили. Но у путников была только одна мысль: «Вперед!» Жидкая грязь доходила им до плеч, а они все шли и шли… Воздух стал чуть солоноватым. Вот появились мангровые деревья, произрастающие вблизи морского побережья. Океан должен быть где-то рядом! Путешественники позабыли про шесть тяжелейших месяцев, про сегодняшние лишения, про трудности обратного пути. Они влезали на возвышенности, чтобы в качестве высочайшей награды увидеть волны Тихого океана, но буйная растительность скрывала от их взоров то, что они так жаждали увидеть. Однако они не ошиблись, в чем и убедились, когда начался прилив и они едва не погибли в болоте, которое оказалось заболоченной океанской лагуной. Одиннадцатого февраля Берк и его друзья достигли своей цели: пересекли Австралию с юга на север. Надо было возвращаться. При выходе из лагеря они взяли продовольствия на двенадцать недель, но теперь у них осталось всего лишь на пять, что означало верный голод в скором времени. Путешественники спешили, изматывали себя и животных, в то время как нехватка продовольствия заставляла их сокращать рацион, а это приводило к тому, что люди и животные слабели день ото дня. Пошел дождь, вскоре перешедший в настоящий ливень. Земля размокла и превратилась в жижу, так что путники едва могли идти. Маленькие ручейки превратились в бурные потоки, через которые было очень опасно переправляться. 6 марта Берк сварил и съел змею, отчего едва не умер. 20 марта верблюды окончательно обессилели и не смогли подняться. Надо было уменьшить навьюченный на них груз, то есть снять с каждого по 60 фунтов продовольствия и бросить его, а ведь еды и так не хватало. Голод становился все более жестоким. 30 марта у всех свело желудки и пришлось забить одного верблюда, но есть там практически было нечего: одна кожа да кости. Десятого апреля пришлось пристрелить Билли, лошадь Берка. 11-го все были вынуждены устроить привал на четверть часа, чтобы дождаться Грея, который не мог идти. Изголодавшиеся люди стали злыми, нервными, раздраженными. Они ругали беднягу, который был виноват лишь в том, что умирал с голоду! Хотя у путешественников был уговор не трогать муку без крайней нужды, Грей решил, что для него такой момент уже наступил, и спрятался за деревом, чтобы тайком съесть горсть муки. Затем он упал, чтобы больше не подняться… Обратный путь был ужасающе долог. Наконец обессилевшие путники, буквально умиравшие с голоду и превратившиеся в обтянутые кожей скелеты, с глубоко ввалившимися глазами, осипшие и охрипшие, спотыкаясь и падая на каждом шагу добрались до оазиса около Куперс-Крик, где надеялись найти спасение. Но напрасно призывали они на помощь своих друзей, которые должны были их ждать… Никто не ответил на отчаянные призывы несчастных… Лагерь был пуст… Никого! Ни людей, ни животных… Берк и его спутники были растерянны, ошеломлены… Они уже почти потеряли голову и чувствовали, что смерть близка… Они искали какую-нибудь записку, какое-нибудь указание… Наконец они заметили слово «Копай», вырезанное Брейхом на коре дерева. Несчастные путники из последних сил, обдирая в кровь пальцы, принялись разгребать землю и нашли в железном ящике немного продовольствия, а также письмо Брейха, в котором он объяснял причину своего ухода из лагеря. Послание было датировано утром 21 апреля! То есть тем же самым днем, когда Берк с друзьями прибыл в лагерь! Бедняги опоздали всего на несколько часов! «Итак, — пишет маркиз де Бовуар, — после отчаянно-смелого и трудного похода к океану, после еще более тяжелой обратной дороги, когда путешественники потеряли или съели почти всех своих верблюдов и лошадей, после того как было сделано самое великое открытие в истории Австралии, искатели приключений добрались наконец до оазиса, о котором они столько мечтали… И что же? Люди, которые могли их спасти, те самые люди, на чью помощь они рассчитывали, покинули эти края всего 7 часов назад! Что было делать? Несчастные совсем обессилели. Они почти не могли двигаться… Попытаться догнать караван? Но как это сделать, имея при себе полумертвых от голода и усталости животных? А ведь следовало учесть и тот факт, что верблюды и лошади Брейха отдыхали и набирались сил в течение долгого времени. И все же, наверное, надо было последовать за караваном и идти по его следам, пусть даже и не имея сил догнать шедших впереди Брейха и его людей. Как мы увидим дальше, то было бы самым разумным, но бедняге Берку, казалось, окончательно перестало везти, он словно заключил какой-то договор с неудачей. На свое несчастье, он вспомнил, что в тридцати пяти лье от Куперс-Крик, у подножия горы Отчаяния существует ферма, где разводят овец. Он решил, что, по крайней мере, уж ферма-то никуда не денется и трое друзей найдут там спасение. В течение двух дней путешественники отдыхали, а 23 апреля Берк положил в железный ящик свой походный дневник, где говорилось о проделанном пути и о выходе на берег океана, письмо, в котором горько сожалел об уходе Брейха, рассказывал о смерти Грея и сообщал о том, что направляется к горе Отчаяния вместе с Уиллсом и Кингом. Наверное, существуют люди, в жизни коих все каким-то странным образом предопределено! Видно, Берку суждено было погибнуть, хотя спасение было так близко… В то время как еле державшиеся на ногах от истощения Берк, Уиллс и Кинг покинули оазис и двинулись по выжженной солнцем равнине на запад, Брейх и Райт встретились и вернулись к Куперс-Крик, в оазис. Они были там в тот же злосчастный день 23 апреля, так как их замучили угрызения совести и они решили еще раз удостовериться в том, что Берк не вернулся. Но они, эти двое, оказались страшно легкомысленны и непредусмотрительны! Они даже не подумали разрыть землю и взглянуть на свой тайник! Если бы они это сделали, то обнаружили бы послание, написанное рукой Берка утром того же дня! Они узнали бы, куда он направился, и догнали бы! И Берк с друзьями был бы спасен! Но нет! Брейх и Райт ограничились тем, что быстро осмотрели лагерь и отметили, что поверхность земли в том месте, где находился тайник, была вроде бы такой же ровной, какой они ее оставили, и ушли на юго-запад, к реке Дарлинг! Таким образом дважды в течение одной недели люди, искавшие встречи друг с другом, не ведая того, оказались совсем рядом, на площади в каких-нибудь четырнадцать квадратных километров, в самом сердце бескрайней пустыни. Злой рок продолжал преследовать Берка и его друзей. Покинув лагерь, они спустились в долину, по которой змеилась река. Они уносили с собой припасы, найденные в тайнике. Через два дня их последние верблюды пали и моментальноразложились от нестерпимой жары. У несчастных не осталось больше ничего, что могло бы поддержать их силы! Немного погодя путешественники повстречали туземцев, которые прониклись жалостью к истощенным чужакам и поделились с ними своими запасами. К несчастью, у дикарей было только немного каких-то ужасно твердых семян, которые они называли «нарду» и жевали, не имея возможности их смолоть. Среди туземцев тоже царил голод, но аборигены, более близкие к природе и животным, умели выживать, поедая «нарду», раз уж ничего другого не было. К тому же запасы семян кончались, и рано утром 15 мая аборигены убежали и больше не появлялись. Делая невероятные усилия, несчастные исследователи двигались к горе Отчаяния (какое название!). Они еле-еле тащились по песку и 24 мая, не видя впереди никаких гор, отказались от мысли дойти до фермы и решили вернуться обратно в лагерь. Если бы они продолжали идти вперед, то на следующий день увидели бы гору! Тогда они были бы спасены! Питаясь одним только «нарду», что с большой натяжкой можно назвать пищей, путешественники добрались до Куперс-Крик. Они непременно хотели увидеть перед смертью оазис. Бедняги дотащились до лагеря 27 мая, вырыли железный ящик и послание, повествующее об их последней отчаянной попытке спастись. А затем началась агония, и длилась она долго. 20 июня Уиллс записал слабеющей, дрожащей рукой, что дни и даже часы его сочтены. 22 июня он написал, что сейчас ляжет на песок, чтобы больше не встать, и что Кинг, как наиболее крепкий, отнесет этот листок в тайник и спрячет. 29-го Уиллс еще находит в себе силы набросать эти строки: «Я умру… Я совершенно точно умру через несколько часов… Но душа моя спокойна…» И все! Хоуитт, со слезами на глазах расшифровавший неровные пляшущие строки, не нашел под роковым деревом ничего, что бы указывало ему на дальнейшую судьбу Уиллса. Последние слова, написанные рукой Берка, были на листке, датированном 28 июня, то есть на день раньше последнего письма Уиллса. Берк, отважный, неукротимый Берк, хотел бороться до последнего вздоха. Он чувствовал, что умирает, но не хотел сдаваться без борьбы. Он хотел найти аборигенов, так как только они теперь могли спасти путешественников. Он был крепче и выносливее, чем Уиллс, но понимал, что у него самого нет шансов на спасение. Берк писал: «Кинг выживет, я на это очень надеюсь; он выказал большое великодушие… Наша задача выполнена… Мы первыми достигли берега океана, но нас брос…» Берк не смог закончить слово, как мы это можем видеть на оригинале его послания, выставленном в Национальной библиотеке в Мельбурне. Хоуитт подумал, что все три исследователя умерли, истратив последние силы на то, чтобы закрыть ящик с драгоценным дневником экспедиции и зарыть его у корней дерева. Куда они могли пойти? Где испустил каждый свой последний вздох? И где были их тела, не получившие достойного погребения? Вокруг дерева было много следов. Между лагерем и большой лужей, из которой несчастные брали воду, тоже было много следов, но невозможно было разобрать, какие из них старые, а какие — относительно свежие. Хоуитт проявил великое терпение и принялся искать следы с упорством настоящего следопыта, и, хотя часто обманывался и возвращался назад, он все же не терял надежды. 10 сентября он нашел следы босых ног, а также следы человека в сапогах. Он пошел по этим следам, и они привели его к стоянке аборигенов. Хоуитта заметили еще издали. Навстречу ему, пошатываясь, выступил какой-то человек в жалких лохмотьях. Это был белый. Он мало походил на человека, скорее то был какой-то бесплотный призрак, едва державшийся на ногах и разразившийся при виде Хоуитта бурными рыданиями. Бедняга не мог вымолвить ни слова… То был единственный оставшийся в живых… И это был Кинг! Понемногу несчастный обрел дар речи и рассказал Хоуитту о том, что произошло после того, как он, более выносливый, чем Берк и Уиллс, зарыл ящик в песок. По его словам, 28 июня агонизирующий Уиллс стал умолять его отправиться на поиски аборигенов. Только на них была теперь надежда. Берк пошел с Кингом. Уиллс доверил Берку свои часы и прощальное письмо к отцу. Наконец, трое мужчин, чья дружба была скреплена перенесенными вместе страданиями, расстались, как оказалось, навсегда. Пошатываясь от голода и слабости, Берк и Кинг брели по пустыне в течение двух дней, но не нашли стоянки племени аборигенов. Берк потерял сознание… Он ничего не видел и почти ничего не слышал. Затем он поднялся, но тотчас же упал… Едва слышным голосом он попросил своего спутника не бросать его до тех пор, пока он не умрет, а затем оставить труп под немилосердным австралийским солнцем, не пытаясь предать тело погребению. Агония продолжалась почти целые сутки. Берк скончался около восьми утра. Кинг провел еще несколько часов рядом с мертвым другом, а затем отправился дальше, искать аборигенов. Он оплакивал начальника экспедиции и уже ни на что не надеялся. Кинг бродил по пустыне еще два дня. Он немного подкрепился, так как нашел мешок «нарду», случайно забытый аборигенами. В конце концов он решил вернуться обратно, в оазис, к Уиллсу. «Я надеялся застать его живым, — говорил он тихим, безжизненным голосом, — и я принес ему трех птиц, похожих на ворон… Но я нашел его мертвым, на том самом месте, где я его оставил. Похоже, что в оазис приходили туземцы… Они унесли часть его одежды… Я засыпал тело песком… Мои припасы подходили к концу, и я пошел по следам аборигенов…» Когда Кинг немного восстановил силы, он отвел Хоуитта в то место, где лежали два скелета, так как аборигены в знак почтения соединили обоих умерших и сохранили их останки в некоем подобии покрытой листвой хижины. Рядом с Берком на песке лежал его револьвер, который он попросил Кинга поместить рядом со своей правой рукой. Хоуитт покрыл тела британским национальным флагом. Его спутники вырыли глубокую могилу и с почестями опустили туда останки двух отважных первопроходцев. Затем Хоуитт щедро наградил туземцев и отправился вместе с Кингом в Мельбурн, увозя с собой дневник экспедиции и предсмертные письма Берка и Уиллса. Девятого декабря того же года неутомимый Хоуитт, создавший себе нечто вроде культа двух жертв неумолимого рока, вновь выступил в поход, получив от властей Виктории поручение доставить останки Берка и Уиллса в Мельбурн, что и было сделано. Через год после смерти Берка и Уиллса весь город Мельбурн, а вернее, вся провинция Виктория и вся Австралия торжественно хоронили своих героев. В центре города был установлен памятник, увековечивший память смельчаков.ГЛАВА 8
Маркиз де Бовуар. — Бро де Сен-Поль-Лиас.Маркиз де Бовуар, без сомнения, является одним из самых замечательных рассказчиков, который сумел в увлекательной форме изложить свои впечатления от увиденного во время путешествий и сообщить читателю немало полезных фактов. Молодой, богатый, сильный, выносливый, отличный спортсмен и стрелок, маркиз де Бовуар, которому в 1866 году было двадцать лет, с какой-то молодецкой удалью разгуливал по всему белому свету в компании молодого герцога Орлеанского и его гувернера, блестящего морского офицера в отставке. Путешествуя, маркиз делал многочисленные записи, нет, вернее будет сказать, он писал, он творил. Его путевые заметки, облаченные в форму писем к родным, позже были собраны воедино и изданы. И по сей день они являются образцом литературы такого жанра. В этом блестящем, совершенном по форме, остроумном, чуть шутливом, даже озорном произведении, очень живом и очень умном, и, что самое главное, очень французском по своему духу, перед очарованным взором читателя проходят чередой люди и животные, сменяют друг друга пейзажи и картины нравов. Перед нами открываются неведомые горизонты, кипят невиданные страсти, разворачиваются странные события, появляются необычайные, загадочные типы, и все это чередуется с такой быстротой, что читатель испытывает одновременно и удовольствие от чтения, и непреодолимое желание совершить вместе с маркизом де Бовуар кругосветное путешествие всякий раз, когда открывает его книгу… Сейчас нас занимает Океания. Остановимся на страницах книги, посвященных Яве, и последуем за маркизом на этот дивный остров. Лучшего гида нам не найти. «Мы галопом проносимся по улицам старой части Батавии, построенной в очень нездоровом месте, на заболоченном морском побережье. Здесь есть только жилища туземцев и довольно большое количество ветхих строений контор торговых фирм, чьи крыши напоминают голландские дома, построенные в прошлые века. Эти древние мрачные постройки составляют разительный контраст с роскошной зеленью тропической растительности. Но вот мы проезжаем по мосту и въезжаем в новый город. О, это какой-то сказочный сад! Зеленый рай! Настоящая феерия! Сказать по правде, в Батавии совсем нет улиц, а есть только величественные тенистые аллеи, обсаженные самыми прекрасными и самыми густыми деревьями, которые образуют нечто вроде арок и беседок, что в Европе мы можем видеть только на сцене Гранд-Опера[220]. Жгучие лучи безжалостного солнца проникают под сей плотный покров только в некоторых местах и придают зелени чудесный золотистый отлив. Золотые отблески играют на пышных султанах кокосовых пальм, на длинных, вытянутых вверх ветвях каких-то деревьев, которые не назовешь иначе как «пылающими»[221], ибо они сплошь усеяны ярко-алыми цветами. Солнечные блики играют на банановых гроздьях, на огромных листьях, длиной превышающих человеческий рост, на хлопковых деревьях, усыпанных плодами, напоминающими хлопья белейшего снега. А вот перед нами пальмы, которые здесь называют «счастьем путника», это неописуемо элегантные гигантские веера, из коих можно извлечь целый фонтан напитка, вкусом и цветом напоминающего молоко, стоит только воткнуть в толстый ствол свою трость. И наконец, мы видим позолоченные лучами солнца необъятные баньяны, с вершин которых спускаются тысячи лиан, чтобы пустить корни в землю и вновь вознестись к небесам, сплестись там в гирлянды и вновь спуститься вниз! Одно-единственное дерево представляет собой целый лес, оно опутано плотной завесой, настоящей сетью из листвы, переплетенных ветвей и цветов, сквозь которую проглядывают личики детишек. Эти малыши, разгуливающие по городу так, как бродили когда-то в Эдеме люди, то есть нагишом, раздвигают ручонками трепещущие под легким морским ветерком лианы и смотрят, как по глади каналов скользят пироги и пловцы. Дело в том, что все эти беседки и арки тропического Вавилона[222] высятся на тротуарах каналов, так называемых «арройо»[223], этих путей сообщения, которые непременно прорыли бы голландцы в память о своей родине, если бы малайцы не прорыли их раньше. Вот нашим взорам открывается новый канал под сенью многоцветного полога. Мы двигаемся как бы против течения, и я не могу оторвать глаз от бесчисленного множества лодок, скользящих по его глади, от живописных групп смеющихся детишек, барахтающихся в грязи, от зарослей кувшинок и водяных лилий. Справа виднеются кофейные, мускатные и тамариндовые деревья, а в просветах между ними сверкает изумрудная зелень газонов. В глубине, словно сказочные видения, проплывают дворцы богачей европейцев с увитыми цветами верандами. Я видел лишь эти аллеи и эти роскошные виллы и думал, что нахожусь за городом, в цветущей долине, но вдруг совершенно неожиданно оказался в отеле «Нидерланды», который, как мне сказали, находится в самом центре Батавии. Итак, этот райский сад и есть город…» После пейзажа, написанного кистью настоящего мастера, обратим наши взоры на картину нравов. «Я писал письмо, и вдруг мое занятие было прервано какой-то дьявольской музыкой. Как оказалось, большую площадь пересекала свадебная процессия, шествие открывали две гигантские куклы, изображавшие мужчину и женщину. За ними следовали музыканты, извлекавшие настоящие громовые раскаты из шестидесяти барабанов, именуемых тамтамами. За музыкантами верхом на пони двигались разряженные молодые люди числом около сотни, все в саронгах, то есть в голубых или розовых юбках из шелка, со сверкающими украшениями в виде колье на шеях, со столь же блестящими перевязями поперек груди и с заткнутыми за пояс кинжалами в золотых ножнах (эти кинжалы называют здесь крисами). Молодой муж скромно забился в паланкин, который несли четверо мужчин. Молодожен был опоясан серебряным поясом, а лицо его было покрытом толстым слоем ярко-желтой краски, изготовленной из сока шафрана; точно так же были изукрашены его руки до локтей и ноги от стопы до икр. Следом за паланкином шли все члены его семьи, образуя довольно большую колонну. Счастливая супруга держится на почтительном расстоянии, но, кажется, бедняжку искупали в той же бочке с краской, что и ее будущего повелителя, причем прямо в роскошном платье. Право, никогда я не видел ничего более забавного и странного! Решительно, яванцам нравится окрашивать все в ярко-желтый цвет во время бракосочетаний! Мы спросили у нашего гида, сколько лет главным действующим лицам этого празднества, и получили ответ, что ей одиннадцать, а ему четырнадцать! Этой юной паре двадцать пять лет на двоих! Но… так как мужчины здесь носят точно такие же юбки, как и женщины, и совершенно безбороды, то мы перепутали супругу и супруга и обнаружили нашу ошибку только после многократных объяснений Ак-Ну. Итак, я приношу мои извинения, ибо под паланкином находилась юная жена, а молодой супруг следовал за ней на почтительном расстоянии. Я, как настоящий зевака, последовал за свадебным кортежем, точь-в-точь как уличные мальчишки в Париже следуют за тамбурмажором[224]. Более часа я наблюдал за этим невероятным, неописуемым сборищем и стал свидетелем церемонии, на описание которой ушел бы целый том, да еще далеко не все я бы смог объяснить. Но понемногу я стал замечать, что упорство, с коим я разглядывал присутствующих, заинтриговало яванцев и что я сам привлек к себе всеобщее внимание, так как участники церемонии вставали на цыпочки, чтобы рассмотреть меня, ибо ростом яванцы едва доходят европейцу до плеча. Потом я, правда, узнал, что ни один белый не опускается до того, чтобы смешаться с толпой яванцев. Среди белых в Батавии ходить пешком уже считается дурным тоном, передвигаться без зонтика почитается очень вредным для здоровья, без фонарщика — неприличным, а без высокомерного выражения на лице — полнейшим падением. Когда однажды мы с французским резидентом вместе вышли из дому, я был очень удивлен тем, что впереди него в столь поздний час следует слуга с золотистым зонтиком. «Но это же наши эполеты, знак нашей власти и могущества. Разве вы не видели, что все мои коллеги поступают точно так же?» — сказал французский представитель. Как выяснилось, чем больше этот символ власти, тем более высокий ранг имеет его обладатель. Зонтик моего спутника имел метр и восемьдесят сантиметров в диаметре и ручку высотой в два метра. Под ним можно было бы укрыться всей семьей, и он свидетельствует о том, что его обладатель стоит на самой высшей ступени общества. У его помощника на зонтике гораздо меньше позолоты, да и размером он поменьше. У простого контролера зонтик и вовсе без позолоты, а тени он дает столько, что ее едва хватает, чтобы скрыться от палящих лучей солнца. Что же касается младшего чиновника, или веданы, то я нисколько не удивлюсь, если ему полагается лишь ручка от зонтика. Короче говоря, наш резидент в своем расшитом золотом мундире, с его шпагой и шляпой с перьями, в глазах яванцев является лишь простым смертным, но при наличии зонтика он становится могущественнейшим человеком, полубогом. Яву нельзя назвать настоящей колонией, так как здесь нет белых колонистов, владеющих землей. Земля здесь объявлена собственностью правительства, которое распоряжается ею по своему собственному усмотрению при помощи специальных опытных и волевых чиновников. Как говорится, здесь правят железной рукой, но в замшевых перчатках. Главной задачей властей является сокрытие того факта, что истинными хозяевами острова стали европейцы. Чужеземцы не правят здесь открыто, а всегда распоряжаются при непременном посредничестве представителей местного населения. Малайцы по природе мягки, но очень горды, и у них сохраняется иллюзия того, что подчиняются они только своей знати. Европейцы как бы скрываются за спинами яванских принцев, хотя сами назначают их на высокие должности, выбирая наиболее угодного из множества равных по происхождению, что гарантирует их полнейшую покорность и даже утрату чувства собственного достоинства. Принцам воздают почести, как в древности. Колониальные власти также поддерживают престиж местной религии, что только упрочивает положение принцев, так как подданные почитают их божествами. Услуги местной власти очень хорошо оплачиваются, так что некоторые принцы получают до двухсот тысяч франков в год, что заставляет их усердно служить своим покровителям, чтобы у тех не возникло желания заменить их другими. В особенности принцы заинтересованы в том, чтобы урожай был как можно большим, ибо они получают определенную часть от всего собранного, что заставляет их всячески понукать и подгонять своих безропотных подданных. Итак, колониальные власти создают себе определенную ширму в лице представителей местной аристократии, из которых мусульманские священнослужители, тоже крайне заинтересованные в получении своей десятины, творят настоящих идолов для простого народа. И все это делается для сохранения власти иностранцев. Такова политика колониальных властей. Следует сказать, что во времена правления султанов только священнослужитель являлся собственником земли и только он обладал правом торговать с чужеземцами. До 1872 года на Яве существовала следующая система земледелия: каждая семья должна была тщательно обрабатывать небольшую плантацию кофейных деревьев, числом до шестисот, и питомник, где выращивались саженцы для замены тех, на которые укажет контролер-европеец. Власти говорили людям, населяющим горные районы: «Точно так же, как когда-то только ваши повелители имели право вести торговлю, так и теперь вы будете продавать кофе только нам, колониальному правительству. И мы будем платить вам ту цену, которую установим сами». Так все и происходит: скупают кофе за гроши, а затем государство-торговец продает его в десятки, даже в сотни раз дороже в самой Голландии. Что касается людей, населяющих равнины, то им чиновник, представитель завоевателей, говорит: «Там, где я построю сахароперерабатывающие заводы, вы должны будете выращивать сахарный тростник, а продавать его вы станете откупщику-европейцу по установленной мною цене». Эти заморские владения являются неистощимым источником богатства для метрополии, то есть для Голландии. Все прекрасно организовано, и здесь в основном царят мир и спокойствие, за исключением, пожалуй, внутренних районов Суматры, хотя общая площадь этих колониальных владений не менее чем в пятьдесят раз превосходит площадь Нидерландского королевства. Не стоит, однако, смотреть на туземцев, которых полностью подчинила себе горстка европейцев, как на дикарей. У них есть своя культура, религия, литература и история. Большинство местных жителей умеют читать и писать. Среди многих замечательных памятников, свидетельствующих о славном прошлом этого народа, особо выделяется храм Боробудур[225], сооруженный еще в VIII веке и являющийся самым величественным воплощением культа Будды на Яве». Наш глубокоуважаемый соотечественник, господин Дезире Шарней, посетил Боробудур в 1878 году и дал одно из самых полных и интересных описаний этого произведения искусства. Вот что он пишет: «Боробудур возвышается на природном холме, который служит ему основанием, сам же храм является, собственно говоря, вершиной этого холма, обложенной со всех сторон огромными блоками камня. Это сооружение нельзя назвать строением в том смысле, как мы понимаем это слово, так как у него нет внутренних помещений. Сам храм представляет собой колоссальную массу искусно изукрашенных камней, расположенных в виде пяти уступов на склонах холма. Линии этого творения рук человеческих чрезвычайно причудливо изломаны, так как повсюду устроены ниши, где скрываются бесчисленные изваяния Будды. Вдоль уступов идут узкие дорожки с каменным же ограждением, нечто вроде галерей, а на стенах изумленный взор странника видит бесконечные барельефы, прекраснее которых нет ничего на свете. На барельефах разворачивается история семьи будущего Будды. Мы видим его отца и мать, прекрасную королеву Майю, иначе именуемую Цветком Красоты и Цветком Добродетели. Есть здесь и барельеф, изображающий сцену, когда божество извещает Майю о том, что Великий Бодхисатва войдет в нее и получит новое воплощение в ребенке, который появится из ее чрева. Затем следует сцена предсказания судьбы будущего принца, который покинет дворец своего отца, а также отречется от величия, почестей, успехов и удовольствий, отречется от трона, чтобы в возрасте двадцати девяти лет облачиться в рубище отшельника и стать Шакьямуни, великим реформатором. Короче говоря, в тысяча шестьсот тридцати двух рельефах[226] отображена вся жизнь и все деяния Будды, где присутствуют двадцать пять тысяч персонажей. Они танцуют, разговаривают, поют и рассказывают нам историю чудесного воплощения божества, но не в гротескной форме, как мы это видим в некоторых храмах Индии. Нет, все эти фигуры живут своей особой жизнью, они великолепны и сделаны чрезвычайно искусно. Уступы высятся один над другим, образуя усеченную пирамиду, на вершине которой находится площадка, где в ажурных ротондах располагаются статуи Будды размером в человеческий рост (во всем сооружении таких статуй ровно 555[227]), а в центре возвышается огромная ротонда, где скрывается гигантская статуя Будды. Все это сооружение имеет в основании 120 метров в длину, а в высоту — около 40 метров[228]. С площадки, где находится большая ротонда, открывается изумительный, воистину волшебный вид, и ему можно было бы посвятить великое множество слов, выражающих безграничное восхищение. Чтобы вы получили представление о том, насколько велико это сооружение, скажу только, что все барельефы, если их вытянуть в одну линию, покрыли бы расстояние длиной более пяти километров. День, что мы провели в Боробудуре, относится к числу самых незабываемых дней в моей жизни. Мы сделали там целую серию превосходных фотографий, а когда мы завершили изучение сего таинственного, чудесного места, то нашли прямо перед храмом, под сенью больших деревьев, прекрасно сервированный стол, замечательный обед и вдобавок ко всему восхитительные вина, которым мы с наслаждением воздали должное. Спустилась ночь, и надо было уезжать. Но как добраться до города? Какая разница! Мы были в таком расположении духа, что готовы были выдержать любые испытания! Да что я говорю! Какие там испытания… Нам предстояло невероятное удовольствие, ибо погода стояла прекрасная, а дорога проходила по очень живописной местности и была нам хорошо известна. Весь небосклон был усеян сверкающими звездами. И мы отправились в путь. Перед нашими взорами разворачивалась целая феерия: в воздухе носились тучи светлячков, так что повсюду то вспыхивали, то гасли мириады огоньков, и все вокруг, включая залитые водой рисовые поля, саму дорогу и растущие вдоль дороги пальмы, озарялось призрачным светом. Мы оказались на большой дороге, где нам встречались молчаливые прохожие с непременными факелами в руках. Даже работая в поле, крестьяне не забывают принять меры предосторожности против коварных хищников — тигров. Но вот появилась луна, и в свете ее молочно-белых лучей нашим глазам открылись новые красоты природы. В город мы вернулись в полночь, захмелев от восхищения и умирая от усталости. В Брамбанаме, куда мы прибыли на следующий день по железной дороге, мы увидели весьма впечатляющие руины храмов, имевших когда-то пирамидальную форму и весьма внушительные размеры, если судить по обломкам. Только один из этих храмов частично сохранился, и мы посетили четыре небольших сооружения, которые можно назвать часовнями. Они располагались по углам бывшего храма и были сориентированы на четыре стороны света. В них находились превосходно сохранившиеся изображения индийских божеств, среди них замечательные статуи Ганеши[229], бога мудрости, всегда якобы присутствующего на свадьбах и при главных событиях жизни, а также богини Лакшми[230]. Перед каждым идолом находится крохотная подземная комнатка, куда скрывался жрец, чтобы там совершить свои таинства. Повсюду в окрестностях храмов валялись огромные плиты, обломки статуй, части искусно изукрашенных барельефов, а слева возвышалась эспланада, где должны были красоваться другие храмы или дворец священнослужителей. Развалины были в ужасном состоянии, что не позволяло судить об истинных размерах сооружения. Мы сделали вывод, что причиной подобных разрушений могло быть только землетрясение, ибо люди не взяли бы на себя труд сокрушить здесь все почти до основания. После осмотра руин наш гид сделал вид, что собирается препроводить нас обратно на вокзал. Как? Неужели это все, что осталось от тысяч храмов, которые нам были обещаны? То ли по незнанию, то ли из лености, то ли по глупости, но яванец знаками дал нам понять, что это так и есть. Мы не захотели ему поверить и двинулись наугад в сторону от дороги. Нам повезло: чуть в глубине, прямо посреди полей, мы наткнулись на целую группу довольно хорошо сохранившихся храмов, образующих четырехугольник, по пять храмов с каждой стороны и с внушительным храмом в центре. Мы отправились дальше и в пятистах метрах обнаружили огромную земляную насыпь, явно сотворенную руками людей, а на ней самый большой из виденных нами храмовый ансамбль с четырьмя воротами, охраняемыми какими-то фантастическими существами. Мы были поражены количеством храмов в этом комплексе, называемом Шанди-Шива: их здесь около трехсот. Они тоже образуют четырехугольник, а внутри него еще три аллеи. В центре же высится главный храм довольно внушительных размеров. Сами же маленькие храмы представляют собой очаровательные изящные павильоны длиной и шириной в три метра и высотой в семь-восемь метров, с многочисленными выступами и нишами, украшенными резьбой… Из всех описаний, сделанных путешественниками, в которых они говорят об отсутствии всяческих затруднений во время экскурсий и о теплых, даже сердечных отношениях, существующих между яванцами и иностранцами, можно заключить, что находящаяся под властью голландцев Ява является одним из самых доступных и удобных для туристов островов Океании. Здесь нет иных опасностей для жизни путешественника, кроме нездорового климата в некоторых частях страны да крайне редко случающихся нападений диких зверей. Не так обстоят дела на лежащем неподалеку от Явы большом острове Борнео[231], где туземцы-даяки настроены гораздо более воинственно и относятся к белым во сто крат хуже, чем представители малайской расы, к коей относятся яванцы[232]. Даяки вовсе не являются выродившимся или отставшим в своем развитии племенем, как австралийские аборигены. По своему умственному развитию они намного превосходят представителей других цветных народов. Они очень умны, сообразительны, у них прекрасная память, и они очень восприимчивы к знаниям. Но все эти прекрасные качества тотчас же теряют свое значение в наших глазах, как только мы узнаем о страшном обычае, распространенном среди даяков, ибо этот обычай может существовать лишь у самых мерзких, гнусных дикарей. По причине распространенных среди даяков верований, а точнее — диких суеверий, происхождение которых нам совершенно неясно, все представители этого племени являются завзятыми и ужасно ловкими охотниками за головами. И занимаются они этим страшным делом по природной жестокости, по чудовищной любви к виду пролитой крови не для того, чтобы утолить отвратительное пристрастие к человеческой плоти, так как они вовсе не столь свирепы, как полинезийцы и папуасы, и вовсе не являются каннибалами и не предаются кровавым оргиям, столь дорогим сердцам других дикарей. Нет, даяки охотятся за головами своих жертв из чистой любви к искусству. Головы являются для даяков военными трофеями точно так же, как скальпы врагов — для индейцев. Итак, когда какого-нибудь даяка обуревает желание обзавестись таким трофеем, он вооружается сарбаканом, страшным национальным оружием, при помощи которого он с поразительной точностью поражает цель отравленным дротиком, а также саблей, лезвие которой столь остро, что ею можно перерубать гвозди. Он устраивает засаду и подстерегает одиноких прохожих: мужчин, женщин, детей, иностранцев, соотечественников и даже жителей соседней деревни. Из своего убежища он пристально следит за дорогой, а затем убивает жертву дротиком и практически одним ударом отрубает ей голову. Тело несчастного остается на месте преступления, где его очень быстро либо пожирают хищники, либо до костей обгладывают гигантские муравьи. Что же касается головы, то даяк заботливо и с величайшими предосторожностями помещает ее в сосуд, сплетенный из жилок и волокон ротанговой пальмы, раскрашенный в яркие цвета и украшенный птичьими перьями, затем приносит в свой дом, построенный на сваях, и помещает у самого входа на острие воткнутого в пол копья. Эти головы считаются у даяков военными трофеями и ценятся превыше всего. Их обрабатывают специальными составами для того, чтобы они сохранялись как можно дольше, а затем украшают, каждый на свой вкус и следуя своему воображению. С головы убитого сдирают кожу, удаляют язык, глаза и мозг, все мягкие части, и вновь обтягивают череп кожей, набитой хорошо просушенным хлопком. Затем на кожу наносят татуировку, инкрустируют ее тонкими пластинками свинца, вставляют в глазницы длинные спиралевидные раковины с заостренными концами. Когда работа бывает завершена, голову подвешивают под самой крышей дома. В некоторых жилищах под кровлей висят целые гирлянды этих жутких трофеев. Они раскачиваются при малейшем дуновении ветра, словно венецианские фонарики… Представляется маловероятным, что сей странный и ужасный обычай исчезнет в скором времени, если только по каким-либо причинам, совершенно невероятным, не исчезнет весь этот народ или в умах даяков не произойдет полная смена идей, что нам кажется абсолютно невозможным. Остров Борнео огромен, а леса его непроходимы. Голландцы захватили здесь лишь очень небольшой плацдарм, а англичане, как ни стараются, укрепились лишь в Сараваке[233]. Европейская цивилизация еще очень долго будет пробивать себе дорогу в этих огромных безлюдных пространствах. Борнео относится к числу районов, куда очень трудно проникнуть, хотя остров этот начинают понемногу изучать и осваивать, как отмечает путешественник Чарлз Бок, который первым после госпожи Иды Пфейфер довольно серьезно исследовал этот край.
Путешествие на Суматру Бро де Сен-Поль-Лиаса[234]
Покончив с эпохой сомнений и робких действий на ощупь в сфере колониальной политики, Франция сумела вовремя опомниться и, действуя методично, не только увеличила свои владения, но и обеспечила благосостояние многих людей, вырвав их из варварства, в коем они пребывали. Франция вновь обрела былую славу и встала во главе стран, несших свет культуры диким народам. Но каких трудов это стоило! Какие опасности пришлось преодолеть для того, чтобы возродить великие традиции знаменитых в прошлом французских исследователей, которые, казалось, давно умерли из-за проявленного правителями неразумного небрежения и из-за полнейшего равнодушия граждан! А какую стену недоброжелательства пришлось пробить, какую враждебность преодолеть, сколько снести насмешек! Пришлось действовать, несмотря на яростную ревность и низкие дрязги тех, кто хотел воспротивиться процветанию нашей страны. Одним из самых достойных и бескорыстных представителей славной когорты тех, кто принял участие в этом колониальном крестовом походе и кто оплатил экспедиции из своих личных средств, несомненно, является Бро де Сен-Поль-Лиас, чьи подвиги в Океании получили достойное признание. Красноречивый оратор, прирожденный писатель, ярый сторонник идеи необходимости расширения территориальных владений Франции, он был убежден в своей правоте, словно апостол, и посвятил свою жизнь служению этой идее. Он отправился исследовать большие океанийские острова, которые властно притягивали его. Три раза он появлялся в местах, где климат бывает иногда губительным для европейцев, и не жалел ни своего времени, ни денег, ни здоровья. В 1876–1877 годах он совершил свое первое путешествие на Суматру. В 1880–1881 годах он отправился туда же со специальной миссией, а именно в так называемую страну Ачех[235], в то время с большим трудом усмиренную голландцами. В 1883 году правительство Франции назначило Бро де Сен-Поль-Лиаса членом международного жюри на выставке колониальных товаров в Амстердаме, и в этом качестве он предпринял третье путешествие в Малезию и Индокитай. Он привез из этих тяжелых и опасных странствий около полудюжины томов записок, где чувствовался странноватый хмельной привкус, так называемый местный колорит. Очевидно, сам автор проникся духом этих мест и воспылал любовью к природе тропиков, которую он столь талантливо описывал. К тому же Бро де Сен-Поль-Лиас написал еще и чрезвычайно изысканный, тонкий, очаровательный роман, повествующий о жизни на островах Океании, под названием «Айора», под которым с удовольствием подписался бы такой признанный мастер, как Бернарден де Сен-Пьер[236]. Целью первого путешествия Бро де Сен-Поль-Лиаса было осуществление проекта, который в то время был опубликован и широко обсуждался во всех ведущих газетах Франции и большинства стран Европы. За этим диспутом с большим вниманием следили немцы и в результате почерпнули немало полезных идей. Ах, сколько прекрасных идей относительно развития колониальной системы было высказано французами со времен Дюплеикса![237] Но мы не сумели применить их на практике и извлечь выгоду, в то время как другие державы воспользовались ими и собрали богатый урожай вместо нас! Господин де Сен-Поль-Лиас основал в 1876 году Общество колонистов-исследователей, ставившее перед собой задачу вести одновременно исследование и освоение новых земель, образовав плодотворный союз науки и коммерции. В своей книге «От Франции до Суматры» знаменитый исследователь рассказывает о начале этого предприятия: «В 1876 году мы основали на берегу реки Бедаге, в одном из самых удаленных районов провинции Дели на острове Суматра, первое поселение, которое должно было стать по нашему плану весьма процветающим хозяйством и опорной базой для дальнейших исследований. Сначала мы отправились на Яву и получили разрешение колониальных властей на ведение хозяйственной деятельности. По прибытии на Суматру мы тотчас же решительно взялись за работу: наш агроном принялся закладывать табачную плантацию, а я занялся исследованиями. Должен сказать, что в то время я в основном занимался нашим обустройством на месте, а также устанавливал добрые отношения с местным населением. Голландские власти явно нам благоволили, потому что мы у них почти ничего не просили и заверили их в том, что сами позаботимся о нашей безопасности. В самом начале наше поселение напоминало лагерь первопроходцев. Мы прибыли в Дели на пароходе; из Дели до устья реки морем мы добирались на малайском про[238], а от устья реки до кампуна[239] Бедаге — на сампане, большой китайской лодке. В кампуне мы наняли пирогу и поднялись на ней вверх по реке так далеко, как только это батакское[240] суденышко, выдолбленное из ствола дерева, смогло пройти. Мы сами управляли им на стремнинах, толкали его на отмелях, волочили по песку и несли на плечах, когда пороги преграждали нам путь. Затем, когда на лодке пройти дальше уже не представлялось возможным, мы пошли пешком до соломенной хижины, которую туземцы построили для нас заранее. Затем, после нескольких дней отдыха, посвященных в основном ознакомлению с местностью, мы вновь двинулись в путь по самому чудесному девственному лесу, какой только можно себе представить. Мы шли по едва заметным тропинкам, протоптанным туземцами, переходили через ручьи по мосткам, зачастую состоявшим из одного-единственного бревна (иногда по необходимости мы сами валили дерево, чтобы преодолеть очередную водную преграду), иногда брели по колено в воде, а иногда продирались через густые заросли каких-то колючих растений, где даже приходилось прорубать проходы. Все мы были хорошо вооружены. Впереди и позади отряда шли туземцы и китайцы с топорами и парангами[241] в руках. Время от времени нам встречались следы огромных диких животных, чаще всего носорогов и слонов. Мы видели бесчисленное множество гиббонов, крупных черных обезьян. Они в ужасе разбегались при нашем появлении и оглашали лес своими громкими криками, напоминавшими собачий лай. Наконец мы прибыли в место, которое оранг-туа, то есть почтенные старцы, указали нам как наиболее пригодное для выращивания табака. Гигантские деревья, произраставшие здесь, являлись наилучшим свидетельством плодородия почвы. После краткого предварительного осмотра наших будущих владений мы избрали небольшой холм неподалеку от берега реки в качестве места, где мы возведем наши жилища. Но сначала требовалось разбить лагерь, потому что мы уже были слишком далеко от построенной для нас хижины и возвращаться не имело смысла. Облюбованный нами холм был покрыт непроходимыми бамбуковыми зарослями, и на его очистку потребовалось бы несколько недель. Четверо китайских кули[242], которых мы привели с собой, для начала срубили несколько деревьев и расчистили небольшую площадку у самого подножия холма, где мы натянули две палатки, чтобы скоротать в них первую ночь. На следующий день китайцы вновь взялись рубить деревья и делали это столь успешно, что освободили довольно большой кусок земли, где построили хижину, которая стала служить нам кухней, а им самим — жилищем. Ну что же! Смею вас уверить, что такая суровая и тяжелая жизнь в неведомом мире (ибо мы не знали точно ни какие животные водятся в этом лесу, ни какие люди проживают по соседству, а потому спали, держа револьвер под подушкой), и все же, повторяю, такая жизнь больше всего подходит молодым людям, так как не оставляет ни времени, ни места для скуки и тоски! В одну из первых ночей какой-то одинокий слон (а может быть, и разведчик) протопал в десяти метрах от наших палаток, громко выразив свое удивление и опаску при виде столь непонятных и подозрительных предметов… Позднее, когда подобные ночные визиты стали повторяться все чаще и чаще, мы узнали, что местные крестьяне никогда не осмеливались разбивать плантации на этих землях, потому что они были заповедными угодьями слонов. Понемногу мы ознакомились с окрестностями, а также с нашими соседями, батаками, у которых неподалеку были плантации перца. Мы ходили туда на охоту и отлавливали там самых забавных и удивительных зверей и птиц, каких нам только доводилось видеть: калао (птиц-носорогов), летучих обезьян и прочая, прочая… Наши соседи-батаки, склонные к каннибализму, вскоре перестали быть неприступными, а затем и вовсе стали выказывать нам доверие. Вождь близлежащего кампуна явился к нам с торжественным визитом и преподнес мне в знак дружбы белого козла. Пироги, спускавшиеся вниз по реке, останавливались возле возведенных мной купален, и туземцы продавали нам бананы, ямс, пальмовое вино, а иногда — кабана или медведя…» А теперь мы отправимся вместе с Бро де Сен-Поль-Лиасом в страну Ачех, которую он знает лучше, чем кто-либо другой. Он высадился там как раз в тот момент, когда двое французов, Валлон и Гийом, только что погибли от рук представителей этого воинственного племени. Как пишет Бро де Сен-Поль-Лиас в своей замечательной работе под названием «У ачинов», край этот особенно знаменит тем, что Голландия вела там войну в течение девяти лет. Каковы же были корни этого многолетнего кровавого конфликта? В 1871 году, а именно 2 ноября, между Англией и Голландией был заключен договор, по которому Англия признавала Голландию единственной и полновластной владычицей всего острова Суматра, вследствие чего только голландские власти были обязаны поддерживать порядок на суше и на море в данном регионе. Однако правитель ачинов султан Махмуд-шах, будучи истинным малайцем, принявшим ислам, действовал в те времена как настоящий пират и вовсю разбойничал на побережье и в проливе. Голландские власти направили ему ультиматум с требованием немедленно прекратить разбой, но Махмуд с еще большим рвением стал предаваться своему «милому занятию», своей «излюбленной рыбной ловле», так что губернатор был вынужден послать туда экспедиционный корпус из трех тысяч человек, имевших при себе восемнадцать пушек. Но начало военных действий оказалось неудачным для голландцев. Генерал Колер[243], командовавший небольшим войском, был убит через десять дней после высадки; среди офицеров, претендовавших на его пост, разгорелось острое соперничество, и дела пошли еще хуже. В конце концов состояние войска карателей оказалось таковым, что они были вынуждены отправиться обратно в Батавию всего через восемнадцать дней после прибытия в страну Ачех. Это был тяжелый удар по самолюбию властей и военных, а также большой урон был нанесен и престижу самой метрополии. Вскоре все побережье было блокировано военной эскадрой, состоявшей из двадцати восьми кораблей. В декабре 1873 года к непокорному султану была направлена новая карательная экспедиция во главе с генералом Ван Свитеном[244], прославленным ветераном, участником многих сражений, семидесяти четырех лет от роду. Ему потребовалось не менее десяти тысяч человек, снабженных полевой и осадной артиллерией, чтобы заставить просить пощады жалкую горстку негодяев, захватить крепость, называемую на местном наречии «кратон», и поднять над ней флаг Нидерландов. Логово султана-разбойника было разгромлено, но теперь надо было усмирить его подданных и сделать так, чтобы в данном районе воцарился мир. Сию тяжкую и неблагодарную работу генерал-победитель поручил полковнику Пелу, оставив под его командованием экспедиционный корпус в шесть тысяч солдат. Но умиротворение шло с большим трудом, так как договоры постоянно нарушались. Туземцы часто устраивали настоящие тайные заговоры против завоевателей, а те отвечали насилием на насилие. В такихусловиях полковник Пел был вынужден в 1876 году перейти к активным военным действиям, но умер во время наступления. В дальнейшем кампанией руководил генерал Виггерс. Для маленького голландского войска она оказалась очень тяжелой, ибо нездоровый климат и болезни стали союзниками пиратов, кося и без того немногочисленных защитников интересов метрополии. В 1877 году на сцене театра военных действий появился совершенно новый человек, как всегда бывает в кризисные моменты, когда вдруг неведомо откуда появляется очень яркая личность. То был полковник Ван дер Хейден[245], человек, словно отлитый из стали, превративший в буквальном смысле в прах коварного и жестокого врага, которого никто в течение шести лет не мог заставить просить пощады. Он досконально изучил весь этот край. Ему было известно, какими ресурсами располагает противник. Его обожали солдаты, о которых он пекся, словно то были его дети. Ван дер Хейден шел в огонь всегда первым, увлекая за собой других. Он всегда был спокоен и бесстрашен. К тому времени в его активе было уже немало славных деяний на полях сражений, что обеспечивало ему доброе имя в войсках. Еще будучи подполковником, он всего лишь с дюжиной солдат сумел захватить вражеское орудие. Во время битвы при Самолангане, одной из самых горячих баталий в стране Ачех, он был дважды ранен, причем если первая пуля не причинила ему особого вреда, а лишь слегка оцарапала кожу лица, то вторая вошла в голову около левого глаза и вышла горлом только двадцать шесть дней спустя! Но несгибаемый офицер не покинул поля битвы до конца сражения! Итак, война разгорелась с новой силой; в ходе этой кампании полковник Ван дер Хейден дважды получал повышение в чине, став сначала генерал-майором, а затем и генерал-лейтенантом, и вдобавок еще был назначен королевским адъютантом. Когда мощь султана была окончательно уничтожена ценой жестоких потерь, все же на покоренной территории время от времени вспыхивали отдельные очаги сопротивления, словно искры плохо потушенного пожара, о чем свидетельствуют события, приведшие к гибели Гийома и Валлона. Однако голландцы, несмотря ни на что, являются бесспорными властителями этого уголка Суматры. «Владения султана, — пишет Бро де Сен-Поль-Лиас, — делились на три так называемых сагни, а те подразделялись на мукимы, бинаки и кампуны. В одной сагни было 22 мукима, во второй — 25, а в третьей — 26. Верховный правитель каждой сагни имел титул туку-панглима и был высшим офицером при султане. Из трех правителей один погиб, второй сразу же в начале войны перешел на сторону голландцев (и мой друг туку-лохонг является его преемником), и только третий еще скрывается с повстанцами в болотах или горах, где население отказывается подчиниться голландским властям. Что же касается более мелких правителей, именуемых кеджуруанами, находившихся в вассальной зависимости от султана, то они понемногу сдаются. Не проходит и месяца, чтобы в кратон, бывшую резиденцию султана, не явились несколько кеджуруанов объявить о своей полной покорности генералу. Так называемый кратон представляет собой старинную крепость, в которой долгое время проживали султаны, правившие страной ачинов. Сие сооружение находится в самом центре городка Кутараджа, в восьми километрах от Уделе, порта на побережье[246]. Два городка связаны железной дорогой, берущей начало прямо у причала. В крепости находятся склады продовольствия и боеприпасов, большие казармы, помещение, где собирается генеральный штаб, различные службы экспедиционного корпуса, контора ассистент-резидента (гражданского чиновника), жилища офицеров и дворец губернатора. К югу от Кутараджи расположен второй военный лагерь голландцев. Он находится в небольшой долине Незон, омываемой водами реки Крунг-Дару. Неподалеку от лагеря высится старинное здание сераля[247] и какое-то непонятное сооружение, представляющее собой три водруженных друг на друга тумбы из белого камня. У его подножия лежит большой камень, напоминающий формой жернов. Когда-то он служил местом казни. Осужденный покорно клал голову в специально выдолбленную для этой цели впадину, и его убивали одним ударом молота по затылку, в присутствии судей. Неподалеку располагается исправительное заведение, где содержат всех преступников, осужденных на каторжные работы, причем не только с Суматры, но и с Явы, и с других подвластных Голландии островов. Это отъявленные негодяи, совершившие все мыслимые и немыслимые преступления, поэтому дисциплина там установлена очень жесткая. Осужденные заняты тяжелой работой и служат в основном носильщиками, корзинщиками, садовниками у губернатора и поварами на солдатской кухне. Они сопровождают армию в походах, носят боеприпасы и продовольствие, осуществляют земляные работы, наводят мосты, выносят раненых с поля боя, причем часто делают это добровольно, демонстрируя завидную отвагу. В благодарность за проявленное мужество и за спасение многих солдат генерал Ван дер Хейден добился для некоторых из них смягчения наказания и даже полного помилования». Бро де Сен-Поль-Лиас собирался отправиться к реке Лохонг, куда обещал его доставить в своем про уже упоминавшийся выше туку-лохонг. Но однажды утром, проснувшись и взглянув в окно, Бро увидел, что весь городок Кутараджа затоплен. Как он позднее узнал, в верховьях Крунг-Дару прошли сильные ливни, и вода прорвала плотину. Никогда он еще не видел, чтобы население полузатопленного города так веселилось. Казалось, эта огромная «ванна», наполненная теплой водой, привела всех в бурный восторг и так и притягивала к себе. Спасение предметов домашней утвари и мебели служило лишь предлогом для того, чтобы искупаться и вдоволь побарахтаться в ласковом потоке, совершенно безопасном из-за того, что тропическое солнце быстро прогрело воду. Наш неутомимый путешественник отправился с двумя бо́ями[248], Майманом и Арипу, в про туку-лохонга по неведомой реке. Экипаж суденышка состоял из матросов-ачинов. Туку-лохонга в этом краю все очень уважали и повиновались ему беспрекословно. В кругу своих подданных он был истинным повелителем, таким, какие были здесь в стародавние времена. Он вел себя очень просто и обращался со всеми как со своими родными и близкими. Обратимся вновь к заметкам Бро де Сен-Поль-Лиаса. «…Мы приближаемся к берегу. Там черным-черно от вооруженных до зубов ачинов. Они яростно жестикулируют и размахивают своими страшными мечами, называемыми клевангами[249], очень тяжелыми и отлично заточенными. Так и кажется, что это жуткое оружие само принуждает держащую его руку искать голову, которую можно было бы отрубить. Туземцы смотрят на меня с нескрываемым любопытством и даже не пытаются делать вид, что я их не интересую, но в их поведении, пожалуй, нет ничего такого, что должно было бы меня обеспокоить. Те, кто еще не видел кеджуруана, торопливо подходят и выказывают знаки почтения ему: они хватают туку-лохонга за руку, кладут ее себе на лоб или подносят к губам, а затем низко кланяются, касаясь обеими руками его колена и целуя сие высокопочитаемое место. Некоторые, воздав радже[250] почести, подходят и ко мне, приветствуя меня почти таким же образом, а другие пристально смотрят на меня, желая увидеть, как европеец здоровается… В двадцати шагах от берега, в густых зеленых зарослях, мы останавливаемся около небольшого сооружения под соломенной крышей, с полом из толстых брусьев и с крохотной верандой. — У нас это называется румах самбайам, то есть молитвенный дом, — говорит мне раджа, — а рядом находится колодец, чтобы совершать омовения. В зарослях прорублен проход, и видно, что залитая солнцем дорога идет среди арековых и кокосовых пальм к кампуну. Туку-лохонг просит у меня разрешения сперва немного отдохнуть и растягивается прямо на полу в этой миниатюрной мечети, которая служит также местом для бесед и для отдыха всякому прохожему. В то время как я становлюсь хозяином колодца, от которого Майман удаляет всех зевак, чтобы я мог спокойно умыться, Арипу устанавливает на свежем воздухе нашу походную кухню и начинает готовить завтрак. Но когда мой кофе оказывается готов, а яйца сварены всмятку, кеджуруан просыпается и приглашает меня присоединиться к нему в румах самбайам. На полу тотчас же оказывается разостлан ковер, уставленный такими яствами, что я немею от восхищения. Меня приводит в неописуемый восторг и сервиз, в котором поданы кушанья: он состоит из больших медных ваз на высоких ножках, накрытых сверху огромными крышками в виде колоколов. Эти вазы на местном наречии именуются далум. Они красные, желтые и золотистые, и около каждой лежит квадратик расшитой золотом материи. Сервиз этот уже явно не новый, но тем не менее он очень красив, и чувствуется, что он из хорошего дома. Откуда же он тут взялся? Но в данный момент я интересуюсь только содержимым этих чудо-ваз. Угощение превосходно на вкус и весьма обильно. Я пробую есть рис руками, на манер туземцев, и очень удивляюсь тому, как легко можно обходиться без ложки и вилки. Однако Арипу приносит мой прибор и тарелки, что позволяет нам продолжать завтрак уже на европейский лад. Вскоре, правда, мне приходится сделать еще одну уступку и на время забыть о моих европейских привычках, так как на ковре стоит огромная ваза с чистейшей, прозрачнейшей холодной водой, и мы с раджой по очереди пьем из деревянной плошки, что плавает на поверхности. …Я с интересом наблюдаю за раджой, которого мне прежде не доводилось видеть в кругу своих придворных. Сейчас он предстает передо мной в облике настоящего светского человека, благовоспитанного и изысканного. В движениях его подданных, незнакомых с обувью, всегда сидящих, а порой и спящих на голой земле, больше изящества и грации, чем в движениях европейцев. Я, при моих грубых башмаках и негнущихся ногах, которые я не мог ни спрятать под ковром, ни вытянуть, чувствовал себя точно так же (да и выглядел, наверное), как чувствовал бы себя и выглядел бы кирасир, введенный в своей полевой форме, то есть в шлеме, со шпорами, в кирасе и толстых перчатках, в бальный зал, оказавшийся после дыма и огня битвы среди элегантных туалетов. Мы не умеем вести разговор в устланных коврами и циновками помещениях, нам нужны стулья, кресла, столы на ножках… Мы живем стоя, в нас нет гибкости, ибо у нас нет времени кланяться. Быть может, это и к лучшему, но какими же негибкими и неграциозными мы должны казаться обитателям Востока! И как это ни ущемляет нашу европейскую гордость, но мы, наверное, кажемся грубыми и неотесанными представителям многих народов, которых мы с превеликой легкостью обвиняем в дикости и которые склоняются перед нами только из-за нашей силы, питая к нам в глубине души чувство, весьма напоминающее презрение». Прибыв в Паро, Бро де Сен-Поль-Лиас увидел там множество людей, богатых и бедных, пришедших воздать почести туку-лохонгу. Все они были вооружены: у одних в руках были уже знакомые ему клеванги с ручками, инкрустированными золотом, цветными эмалями и драгоценными камнями, стоимостью не менее двухсот рангджутов (1000 франков) каждый, другие же крепко сжимали простые паранги, служившие им для распашки земли и стоившие не более полурупии[251] (60 сантимов[252]). Большинство присутствующих носили за поясами еще и ранчонги, острые кинжалы с ручками из слоновой кости, из рогов животных или даже просто из дерева, помещенные в искусно изукрашенные ножны. У некоторых были грозные яванские крисы в золотых ножнах, а у других — педанги, нечто вроде шпаг или сабель с эфесами, украшенными узорами из пересекающихся линий и изнутри подбитыми ватой, чтобы не поранить ладонь, к тому же гарды эфесов у них такие узкие и маленькие, что ни один европеец не может просунуть в них руку. «Одеяния богачей очень живописны, — пишет Бро де Сен-Поль-Лиас. — Они в основном носят индийские шапочки, расшитые золотом и серебром, но надевают их не прямо на голову, а поверх шелкового тюрбана. Простая шелковая рубашка с огромными золотыми пуговицами конической формы, украшенными эмалями или тончайшими узорами, покрывает плечи и грудь. Так называемый саронг, напоминающий юбку, скрывает широкие штаны, доходящие до лодыжек. Сам саронг украшен большим ромбом с золотой и серебряной вышивкой. Все одеяние сшито из превосходных шелковых тканей местного производства и дополняется многочисленными золотыми украшениями, а также непременным предметом роскоши, именуемым кайн-сири, служащим как бы символом богатства. Сия странная деталь костюма богачей представляет собой довольно большой шелковый мешок, украшенный вышивкой и драгоценными камнями, который носят на левом плече. Один конец этого мешка, отягощенный запором из золота, свешивается на спину, а другой — на грудь, и здесь к нему прикрепляется золотой цепочкой целая связка весьма полезных инструментов: ключи, щипчики для удаления волос и ногтей, зубочистка, ножички, пилочки, палочка для чистки ушей и так далее. В самом же мешке содержатся свежие листья растения сири, плоды арековой пальмы, табакерка (золотая, серебряная или бронзовая) с рубленым табаком, коробочки с пряностями и благовониями». Благодаря покровительству туку-лохонга, все эти люди оказали французу очень теплый прием. Они почтительно приветствовали гостя, подали обильное угощение и устроили в честь него пышное празднество с плясками и дикими прыжками. Будучи добросовестным исследователем и желая узнать, каковы природные ресурсы страны, Бро де Сен-Поль-Лиас вступил в разговор с одним китайцем, который показал ему образцы добытого этим утром золота. Он с большим интересом слушал то, что говорил ему представитель Поднебесной империи, но туку-лохонг прервал беседу и увел своего подопечного на еще одно празднество, настоящий пир, отличавшийся особой пышностью. — Возможно, туан (господин) не захочет есть чампур[253] вместе со мной, — сказал туку-лохонг своему гостю. Далее предоставим слово самому Бро де Сен-Поль-Лиасу. «Я успокоил его на сей счет, хотя и не очень представлял себе, что такое чампур. Мы расселись на ковре, и слуги принесли дулумы[254], наполненные рисом. Все присутствующие разделились на небольшие группы, сгрудившись вокруг блюд. У нас с туку-лохонгом было одно блюдо, а третьим в нашей компании оказался его сосед слева. Затем слуги внесли большие подносы, числом около полудюжины, на которых лежали горки мелко нарезанного жареного буйволиного мяса, куски курицы под соусом карри, огурчики и прочие овощи. Каждый из присутствующих аккуратно берет с подноса приглянувшиеся ему кусочки двумя пальцами, большим и указательным, и кладет их на общее блюдо с рисом, затем все перемешивается и соседи приступают к трапезе. Время от времени пирующие подкладывают друг другу самые лакомые кусочки, пододвигая их кончиками пальцев. Вот что означает есть чампур». Иногда исследователь совершал дальние прогулки верхом на быках, смотрел, как крестьяне работают на плантации сахарного тростника. Однажды, когда стояла страшная жара, слуга подал путешественнику пенистый сок тростника, чтобы утолить жажду. В мутноватой жидкости плавали какие-то частички. Туземец, доставивший сей прохладительный напиток, тотчас же сорвал плод с ползучего растения (плод этот напоминал по виду то ли высохший стручок, то ли завявший огурец). Желая услужить чужеземцу, местный житель быстро снял с плода шкурку, вытряс семена и, вытащив сухую волокнистую мякоть, сделал из нее превосходный фильтр. Во время одной из прогулок Бро де Сен-Поль-Лиас повстречал так называемого капола кебон[255], то есть управляющего плантацией, который сообщил ему весьма подробные и полные сведения, касающиеся кофейных плантаций в Лохонге. Он обстоятельно и долго рассказывал о том, как готовят почву под посадки, на каком расстоянии одно от другого следует сажать кофейные деревья, о количестве саженцев, за которыми должен ухаживать один человек, о средствах, требующихся на устройство плантации, и о доходах, которые она приносит, а также о том, сколько он платит работникам после сбора урожая, причем наш путешественник был весьма удивлен тем, что плата столь скромна. Управляющий плантацией рассказал еще и о том, что, выкорчевав деревья и подняв новь, он не сразу приступает к посадке кофейных деревьев, а сначала высевает на этом участке рис, чтобы почва стала более плодородной и как бы получила подкормку на два-три года вперед. Затем высаживаются подрощенные саженцы, и к концу третьего года уже можно собирать урожай. Бро де Сен-Поль-Лиас, вдохновленный всем увиденным, а в особенности соблазненный плодородием этого края, выразил горячее желание организовать компанию по освоению этих богатейших сельскохозяйственных угодий. Он спросил у туку-лохонга, могут ли представители местной знати гарантировать ему безопасность, на что кеджуруан ответил буквально следующее: — Сейчас дела идут хорошо, и все у нас прекрасно. Весь вопрос состоит в том, чтобы голландские власти не торопили событий и дали время, хотя бы несколько лет, чтобы все окончательно успокоилось и все горячие головы остыли. Я думаю, все будет хорошо. Я очень рад, что туан, будучи другом голландцев, возымел намерение обосноваться в наших краях. Вам никто не станет чинить ни малейших препятствий, более того, все страстно желают, чтобы вы поселились здесь. А когда господин резидент спросил меня, могу ли я целиком и полностью поручиться за вашу жизнь, я без колебаний ответил «да». Уверяю вас, я ничем не рискую, ручаясь головой за вашу личную безопасность и за безопасность французов, которые прибудут вместе с вами. Нашей стране в данный момент очень нужно, чтобы вы обосновались здесь. Записки нашего путешественника заканчиваются следующими словами: «Я твердо убежден в том, что появление нашего поселения в Лохонге отвечает как интересам голландцев, так и интересам местного населения. Что же касается интересов нашей родины, то, без сомнения, для Франции будет весьма выгодно иметь подобные поселения на западном побережье Суматры, которое является одним из самых богатейших и плодороднейших уголков земли. К тому же установление торговых отношений с местным населением тоже отвечает интересам деловых кругов Франции. Я всю жизнь мечтал создать нечто такое, что не вредило бы никому, а напротив, шло бы всем на пользу, а в особенности моей родине и вообще — делу процветания всего человечества. Этот идеал, наверное, не так уж сложно воплотить в жизнь на практике, если найти применение своим силам на территории стран, которые пользуются дурной репутацией как места нездоровые и дикие, но зачастую на деле оказываются не более опасными для жизни и деятельности, чем страны Европы».
ГЛАВА 9
Миклухо-Маклай. — Луиджи д’Альбертис.Новая Гвинея была по-настоящему изучена и исследована совсем недавно, можно сказать, в наше время. До 1850 года ни один путешественник не осмелился пересечь этот пользовавшийся очень дурной славой остров. Именно в 1850 году знаменитый натуралист Альфред Рёссель Уоллес[256] высадился на побережье Новой Гвинеи и прожил там довольно долгое время. Он исследовал заливы Камрау, Аргуни и Каймана, а завершил свои блестящие изыскания длительным пребыванием в Дорей, у подножия Арафакских гор. Уехал он с Новой Гвинеи, увозя с собой богатейшую естественнонаучную коллекцию, а также множество ценнейших этнографических и антропологических материалов. Уроженец России, Николай Миклухо-Маклай[257] прошел по следам Уоллеса и добрался до залива Астролябии (Астролейб) в северной части Новой Гвинеи, где он собирался изучать естественную историю Земли. Сюда его доставил русский военный корабль «Витязь». Несмотря на известную всем жестокость папуасов, Миклухо-Маклай принял решение поселиться среди них и жить здесь в одиночестве. Миклухо-Маклай высадился на берег между мысом Круазий и мысом Короля Вильгельма. Он долго обследовал совершенно пустынную местность, пока наконец не наткнулся на отряд дикарей, которые грозились убить его на месте, если он попробует приблизиться. Пройдя еще немного, Миклухо-Маклай оказался перед стоящими на сваях хижинами. Их обитатели были настроены мирно и даже как будто приглашали к себе в гости. Он решился и подошел к группе дикарей. Приняли его очень хорошо, по-дружески, и в конце концов он даже привел четверых туземцев на борт корвета «Витязь». Оказавшись на палубе, бедняги стали дрожать всем телом. Немного успокоенные жестами своего нового друга, они спустились в кают-компанию и даже выпили предложенный чай, который, похоже, им понравился. Однако вместо того, чтобы сесть на скамьи, они взобрались на них и съежились в комочки, скрестив ноги и руки. Увидев свои отражения в зеркале, дикари несказанно удивились и испугались. Еще немного освоившись на новом месте, благодаря оказанному им теплому приему, дикари до того осмелели, что на следующий день привели на берег своих соплеменников с вождем племени во главе. Они принесли подарки, положили их на песок, указали на них руками, а затем удалились. В качестве даров дикари принесли множество кокосовых орехов, плоды таро[258], одну дикую свинью, привязанную к бамбуковой палке за морду и задние ноги, и двух маленьких желтых собачек, которых они предварительно убили, размозжив им головы о сваи. Моряки с «Витязя» забрали дары и положили на то же место корзинку, доверху наполненную гвоздями, веревками, бутылками и другими мелочами, которые, как они думали, могли оказаться полезными папуасам или просто им понравиться. Явное благорасположение моряков ободрило островитян. С недоверием было покончено, и дикари расхрабрились до того, что прислали на корабль посла с подарками. Затем, соблазнившись чудесными вещицами, предложенными белыми, они принялись менять свое оружие, домашнюю утварь и высоко ценимые высушенные человеческие головы на пустые бутылки с яркими этикетками, какие-то коробочки, стальные перья, бисер, ножи и табак. Пока «Витязь» стоял на якоре, корабельный плотник соорудил для Миклухо-Маклая из досок и бревен хижину на сваях. Чтобы дикари, которым все же не следовало доверять полностью, не могли подобраться к жилищу исследователя незамеченными, моряки окружили хижину изгородью из кольев и ветвей кустарника, а также расположили вокруг десять фугасов, тщательно замаскировав их. Снабдив отважного натуралиста большим запасом продовольствия, капитан корвета приказал сниматься с якоря, оставив на берегу Миклухо-Маклая и двух его слуг. К сожалению, один слуга, полинезиец, умер в декабре 1871 года, а второй, голландец, страшно испугался, буквально пришел в ужас, осознав, что находится в почти полном одиночестве среди дикарей и должен рассчитывать лишь на их милость. Состояние его было близко к панике, и он категорически отказывался выходить из хижины. Положение бесстрашного ученого бывало иногда критическим. Дикари не знали, что и думать об этом странном низкорослом белом, худеньком блондине, единственным оружием которого были только зонтик, карандаш и записная книжка. Они следовали за ним на почтительном расстоянии, частенько окружали и подвергали суровому испытанию, угрожающе размахивая своими кинжалами, копьями и дротиками. Но Миклухо-Маклай продемонстрировал такое хладнокровие, что туземцы, то ли опасаясь неведомой силы белого, то ли просто из благорасположения, так на него ни разу и не напали. Миклухо-Маклай оставался на Новой Гвинее в течение полутора лет, но неожиданно тяжело заболел. Он спрятал свои записи в месте, о котором на всякий случай заранее договорился с офицерами «Витязя», а затем собрался храбро встретить смерть. Однако 19 декабря 1872 года в виду берега появился русский корвет «Изумруд». Моряки тотчас же приняли на борт больного и взяли курс на Батавию. Место же, где жил Миклухо-Маклай, стало называться Берегом Маклая. Едва оправившись после болезни, по-прежнему неутомимый Миклухо-Маклай вернулся к научным исследованиям. В 1873–1875 годах он посетил южную часть Новой Гвинеи и Малайю, забираясь в такие глухие углы, где до него не бывал ни один европеец[259]. В январе 1876 года он обследовал множество островов в Тихом океане, в том числе Молуккские острова и острова Адмиралтейства[260], а затем вновь вернулся на Новую Гвинею, к папуасам. Он высадился на Берегу Маклая, имея при себе трех слуг и деревянный двухэтажный дом. Туземцы приняли его как старого друга, и он, как следует обустроившись, смог совершить множество экскурсий в глубь страны, а на лодке прошел вдоль всего стопятидесятимильного Берега Маклая[261]. Миклухо-Маклай обосновался на маленьком островке Били-Били, в крохотной деревушке Айиру, где продолжал заниматься научной работой, а также совершенствовал знания языка папуасов. Он использовал свое влияние на туземцев, чтобы помешать им развязать междоусобную войну между деревнями. Во второй раз Миклухо-Маклай пробыл на Новой Гвинее до ноября 1877 года и действовал столь успешно, завязывая дружеские отношения с папуасами, что когда во время отсутствия исследователя на остров высадился один английский чиновник, то ему было достаточно сделать несколько условных знаков, показанных ему Маклаем, и произнести несколько слов, чтобы местные жители оказали ему исключительно теплый прием. Про Миклухо-Маклая можно сказать, что он был не только исследователем Новой Гвинеи, но в некотором роде ее апостолом[262]. Примерно в то же время, в 1875 году, один из самых выдающихся итальянских натуралистов Луиджи д’Альбертис совершал путешествие по Новой Гвинее, обогащая такие науки, как география, ботаника и зоология, ценнейшими данными. Из этих странствий он привез на родину замечательную естественнонаучную коллекцию, а также очень полный и подробный отчет о проделанной работе, написанный живо, остроумно и с большим чувством юмора. С каким блеском и как красноречиво описывает д’Альбертис ситуацию, когда обманщики-папуасы, которых он нанял для того, чтобы они сопроводили его до Хатама, пытались обвести его вокруг пальца! Папуасы, видимо не знавшие дороги, но желавшие непременно получить обещанную плату, повели д’Альбертиса, как он установил по показаниям своего анероида[263], в совершенно противоположную сторону. Он сумел уличить мошенников в обмане, объяснив им, как действует прибор. — Смотрите, когда мы идем вверх, то стрелка анероида движется в одну сторону, а когда спускаемся — в другую. Хатам, насколько мне известно, находится в горах, то есть наверху, а значит, стрелка должна двигаться справа налево. А что же мы видим сейчас? Все наоборот. Дикари убедились в правоте д’Альбертиса. Они были безмерно удивлены талантами и огромными знаниями белого человека. Теперь д’Альбертис, защищенный предметом, который стал настоящим фетишем[264] для дикарей, мог быть уверен, что проводники больше не будут пытаться обмануть его и поведут туда, куда нужно. Туземцы обещали отвести исследователя в самые интересные и таинственные уголки и сдержали свое слово в тот памятный день, когда он подстрелил свою первую райскую птицу. «Величественнейший, знаменательнейший день в моей жизни! — восклицал он в порыве восторга, сознавая, что выглядит несколько комично. — Чего бы только не дали мои братья-натуралисты для того, чтобы оказаться сегодня на моем месте, в этой задымленной конуре! Утром, ощущая во всем теле приятную бодрость, я отправился на прогулку в сопровождении одного папуаса. Мы долго, примерно в течение двух часов, карабкались в гору, затем пересекли небольшое плато и вновь полезли вверх по довольно крутому склону, пока наконец не оказались у самой вершины горы, на высоте 5300 футов над уровнем моря. Туземец тотчас же обратил мое внимание на темную птицу, перелетавшую с ветки на ветку с громкими криками. Я выстрелил, и крупный самец райской птицы упал к моим ногам, поразив меня своим атласным оперением. Была пора брачных танцев, и наряд чудо-птицы отличался особой пышностью и многоцветием. Большое пятно, напоминающее своим видом щит зеленовато-голубоватого цвета, с металлическим блеском, покрывало его грудку и бока. Вся спинка от шеи была покрыта черными перьями с фиолетовым отливом, и казалось, что самец обряжен в черную бархатную мантию. Головка его была покрыта крохотными, напоминавшими чешуйки, перышками темно-зеленого цвета, яркими и блестящими, словно благородный металл или драгоценный камень. Это был представитель вида Lophorina atra, иначе именуемого натуралистами miedda из-за издаваемых резких криков: «Гнед! Гнед!» Необычайно обрадованный тем, что стал обладателем такого сокровища, я приготовился возвращаться в мою лачугу, но проводник, словно желая в один день показать мне все богатства своего края, повел меня дальше. Мы оказались около большого трухлявого пня, почти полностью скрытого мхом, папоротниками и ползучими растениями. Настоящий ботанический музей! Великолепные мощные деревья, среди которых выделялась своей красотой араукария[265], дарили нам густую тень и прохладу. Мягкий полумрак позволил мне наблюдать за суетой и беготней крохотных пичужек, которые сновали по стволам, выискивая под корой насекомых. Туземец указал пальцем на черную птицу, сидевшую на ветке довольно близко от нас. Я прицелился, но мой гид не дал мне выстрелить, ибо птица, относившаяся к виду Parotia sexpennis, вспорхнула и опустилась на лужайку, окруженную низким кустарником. Это место выглядело довольно странно, так как там была абсолютно голая утрамбованная земля, лишенная всякой растительности. Я положил ружье на пень таким образом, чтобы этот великолепный образчик новогвинейской райской птицы не мог меня заметить, и приготовился стрелять. Но гид во второй раз удержал мою руку, и я подчинился, хотя и был очень недоволен. Постояв несколько мгновений в центре лужайки и оглядевшись по сторонам, словно для того, чтобы удостовериться, что опасности нет, самец начал покачивать головкой, и шесть длинных черных перьев пришли в движение. Затем он стал то поднимать, то опускать маленький султанчик из белых перьев, который располагался у него под клювом и блестел на солнце словно серебро. Время от времени он топорщил блестящие перышки, украшавшие его шею, и они сверкали ярче, чем блестки на елочной мишуре под Новый год. Он то вытягивал крылья, то громко хлопал ими, топорщил длинные перья на боках, делаясь гораздо больше, чем был на самом деле, подпрыгивал на месте, принимал горделивую боевую стойку, словно хотел сразиться с невидимым соперником, и нарушал лесную тишину пронзительными криками, выражавшими то ли презрение, то ли бахвальство, то ли приглашение полюбоваться его красотой. При каждом движении мне открывалась какая-то новая грань красоты этого великолепного творения природы, но я испугался, что самец улетит, и нажал на спусковой крючок прежде, чем папуас, не менее меня захваченный редкостным зрелищем, смог удержать мою руку. Когда дымок рассеялся, маленькая черная тушка на голой земле свидетельствовала о том, что я хорошо прицелился. Захмелев от радости, я бросился к моей добыче, но вдруг словно задохнулся. Я не мог протянуть руку и поднять птицу, ибо горькое раскаяние охватило меня и отравило всю сладость победы. Великолепный самец, почитавший себя самым прекрасным и самым роскошным созданием на свете, лежал без движения на ристалище. Тут и там валялись перышки, вырванные из тела птицы смертоносным свинцом, и ярко-алая капля крови сверкала словно рубин на черном бархате. Золотистые перышки на голове и на горле птицы своим блеском могли затмить сияние самых дорогих камней! Но, увы! Самец был недвижим. Никогда больше не вызовет он на бой соперника, никогда не будет гордо выступать перед подругой! Внезапно маленькое тельце забилось в агонии: задрожали перья, судорожно вытянулось и упало крыло, дернулась и сжалась лапка. Самец два-три раза приоткрыл глаза, и я увидел то расширявшийся, то сужавшийся черный зрачок, окруженный оболочкой цвета небесной синевы. Когда глазок закрывался, происходило нечто непонятное: оба цвета как бы сливались и между почти смеженными веками проскакивала какая-то зеленовато-желтая искорка. Я не осмелился прикоснуться к бедняге до тех пор, пока не понял, что он мертв». Но как истинный натуралист, д’Альбертис недолго оставался сентиментальным. В своих заметках он пишет, что тотчас же выпотрошил птицу, именуемую на местном наречии Коран-а, и констатировал, что питается она фруктами и ягодами, ибо желудок оказался набит плодами мускатного дерева и инжира, в изобилии росших в лесу. Окончательно обретя душевное равновесие, д’Альбертис хладнокровно застрелил еще трех райских птиц и поспешил вернуться домой, чтобы изготовить чучела. Он обнаружил, что мышцы, приводящие в движение горловое оперение у птиц вида Lophorina, расположены точно так же, как у птиц вида Parotia, что позволяет последним покачивать длинными перьями на голове, причем строением черепа они отличаются от других птиц, так как он у них совершенно плоский и с большим выступом в передней части. Совесть ученого совершенного успокоилась, и он запросто утолил райскими птицами голод, словно его жертвы были обыкновенной дичью. Пребывание господина д’Альбертиса на Новой Гвинее продолжалось и было весьма приятным. Новые друзья ухитрялись доставать чудесные образчики местной флоры и фауны, предоставляя исследователю самому право заниматься чем его душе угодно. Дикари в меру своих сил и возможностей помогали натуралисту, а он, прибегая к невинным хитростям, умело поддерживал в умах дикарей мысль о его превосходстве над ними во всех сферах деятельности и часто поражал воображение туземцев разными трюками, дабы держать их в полном подчинении. «Сегодня в моем жилище идет большое представление! — шутливо писал он. — Публичная демонстрация различных чудес! Мужчины, женщины и дети прибежали, а я развлекаюсь тем, что возбуждаю их любопытство, переставляя с места на место мои приборы. Раздаются взрывы смеха, но звуки холостых выстрелов из револьвера обращают толпу в бегство. Однако мне удалось заманить любопытных обратно, правда, не без труда. Вынув из кармана бутылочку со спиртом, я наливаю немного жидкости в раковину, взятую у зрителей, затем подношу спичку… Солнечный свет заливает комнату и мешает туземцам увидеть пламя, они чувствуют только исходящий от раковины жар… Но вот я поместил мой необычный светильник в тень, и дикари замечают, наверное, колеблющееся голубоватое пламя. Их изумлению нет границ: «Вода, которая может гореть!» Я выхожу из хижины, спускаюсь по песку к самой кромке воды, достаю спичку, чиркаю о коробок и наклоняюсь, делая вид, что собираюсь поджечь море. При виде этого бедные легковерные дети природы бросаются к колдуну, заклиная его остановить меня. Я делаю вид, что поддаюсь на уговоры, и с важным видом задуваю светильник. Туземцы, с перекошенными от ужаса лицами, начинают с помощью жестов объяснять мне, что, если бы я поджег море, они больше не смогли бы пользоваться лодками и у них бы больше не было рыбы для еды. Но, оказывается, у всякой славы есть и свои темные стороны, так как туземцы, в особенности женщины, теперь страшатся меня: как только я приближаюсь к плантации, они бросаются ко мне и начинают умолять меня уйти. Напротив, мужчины вовсе не стесняются просить белого о помощи. Они приносят мне ножи, которые я им дал, чтобы я их наточил на моем примитивном точильном колесе. Работа точильщика оплачивается кокосами и бананами. Однажды вечером один туземец попросил подстричь ему волосы при помощи ножниц. Я вовсе не претендую на то, что смогу сравниться в мастерстве с самим Фигаро[266], но, когда многотрудное дело было закончено, мой приятель выглядел довольным. Эти славные люди хотят все увидеть, все потрогать. Они во все глаза глядят на нас, когда мы едим, но не соглашаются отведать нашу пищу, хотя мы и предлагаем. Туземцы вовсе не постеснялись бы запустить свои пальцы в наши тарелки, что нам, разумеется, не понравилось бы, так как весь день они только тем и занимаются, что отлавливают насекомых, которые кишмя кишат в их густых шевелюрах. Но наша еда кажется им очень странной. Замечу еще, что голову одного из посетителей венчает роскошный убор из перьев казуара[267], вещь весьма полезная, если судить здраво, ибо паразиты предпочитают гнездиться именно там, а не в волосах. Время от времени счастливый обладатель сего украшения внимательно осматривает свою собственность и тотчас же давит зубами отловленную живность. Мне приходится проявлять здесь различные таланты, в том числе и талант целителя. Многие из этих бедняг буквально с головы до ног покрыты ужасными язвами. У некоторых я видел на ногах старые зарубцевавшиеся шрамы, свидетельствовавшие о том, что у них гнили кости. Один человек показал мне свои страшно распухшие руки и колени, при этом он уверял меня, что нисколько не страдает. Я консультировал больных и решительно вошел в моду: женщины стали сбегаться на консультации толпами. Они прибывали по морю и по суше и показывали мне своих сосунков, которых обычно носят на плечах в каких-то сетках, закрепленных на лбу и спадающих назад. Кроме малышей женщины чаще всего приносили ещё маленьких поросят, именуемых айпоро и являющихся членами семьи вместе со щенками и большими собаками, охраняющими дом. Новогвинейские собаки окрасом и видом напоминают австралийских динго, но шерсть у них очень короткая и жесткая. Они никогда не лают, быть может, не научились, а быть может, и не способны. Завязать знакомство с этими глупыми животными оказалось невозможно. Стоит мне только на них взглянуть, как они бросаются к своим хозяевам и прячутся у них между ног, громко и грозно ворча. Если этот вид и заслуживает какого-либо названия, то я бы назвал его canis tristissimus[268]». Последующие исследования оказались весьма плодотворными, но, к сожалению, были сопряжены с большими трудностями и опасностями. Кроме жестокой лихорадки, от которой д’Альбертис несколько раз едва не умер, ему пришлось еще сражаться с племенами, населяющими внутренние районы страны. Отважный итальянец хотел пройти к верховьям реки Флай, которая берет начало в горном районе в самой глубине острова и впадает в большой залив Папуа, образуя широкую дельту. Правительство Нового Южного Уэльса предоставило в распоряжение д’Альбертиса красивый паровой катер под названием «Не́ва», водоизмещением десять тонн. Д’Альбертис отправился в путешествие с небольшим экипажем, состоявшим из восьми человек: двух белых, пяти туземцев и одного повара-китайца. Первый отрезок пути по Флаю был очень тяжелым: часто попадались мели и пороги, к тому же здесь трудно было раздобыть продовольствие, так как местные жители были настроены крайне враждебно и эта враждебность в любую минуту могла перейти в открытую ненависть. Ко всем вышеперечисленным неприятностям прибавьте еще адскую жару и вредные испарения тянувшихся вдоль реки болот, которые вызывали у всех приступы лихорадки. Однако природа на каждом шагу вознаграждала ученого-натуралиста, заставляя его забыть о тяготах пути при виде несравненной красоты местной флоры и фауны. Д’Альбертис охотился, и удача сопутствовала ему, ибо добычей становились самые чудесные, самые редкостные птицы. Он глушил рыбу с помощью динамита и вытаскивал из реки невиданных рыб. Однажды д’Альбертис проник в туземную деревню и своим появлением обратил в бегство всех ее обитателей. Там он захватил в качестве трофея два скелета, которые представляли собой бесценный антропологический материал, и доставил их на «Неву». Неустрашимый итальянец добрался до Арафакских гор, борясь с быстрым течением, порогами и мелями. Под конец река стала столь бурной и стремительной, что продвигаться вперед было уже решительно невозможно: скорость течения достигала шесть — семь узлов[269], берега неумолимо сближались и грозно нависали над переставшим слушаться руля катером, а вокруг кипели водовороты. Расхрабрившиеся туземцы, поняв, что путешественники попали в затруднительное положение, напали на маленькое суденышко. Не желая убивать дикарей, а имея целью лишь преподать им хороший урок, д’Альбертис отразил нападение, стреляя дробью. Дальше нужно было идти пешком, но д’Альбертис на сей раз решил отступить. Вторая экспедиция оказалась еще более трудной и опасной. Д’Альбертис выступил в поход 1 мая 1877 года, а уже 1 июня ему пришлось сражаться с туземцами. Глубокой ночью на «Неву» обрушился целый град стрел, причем дикари с такой силой натягивали тетиву луков, что одна из стрел пробила металлическую обшивку и доску толщиной в палец. В ответ загремели ружейные выстрелы. На рассвете туземцы разбежались, а путешественники обнаружили на палубе сорок пять стрел. Повар-китаец был ранен. Четвертого июня судно подверглось новому нападению, но на сей раз хватило одного выстрела, чтобы обратить дикарей в бегство. К 29 июня почти всех путешественников свалила лихорадка, и туземцы вознамерились взять «Неву» на абордаж. Опять пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. Первого июля катер окружили тридцать пирог. Дело принимало опасный оборот, так как запас топлива для паровых котлов был на исходе. К счастью, течение в этом месте было очень сильным, и путешественникам удалось уйти от преследователей. Спустившись по реке, они стали на якорь в пустынном месте и сумели восполнить запасы топлива. На следующий день произошла новая стычка с туземцами, правда, не очень серьезная. Но члены экипажа, жители новогвинейского побережья и китайцы, были страшно напуганы. Отважный итальянец был вынужден буквально разрываться на части, так как ему приходилось подбадривать своих спутников, вести катер, следить за порядком на борту, наблюдать за берегом и отражать атаки туземцев. Такая жизнь продолжалась недели и месяцы, пока неукротимый исследователь не был вынужден во второй раз отступить перед лицом непреодолимых преград, пройдя вверх по проклятой реке более восьмисот километров. Обратный путь был ужасен. Казалось, все туземцы собрались вместе, чтобы захватить маленькую «Неву». Иногда на берегу можно было насчитать до тысячи папуасов, а на реке — до двадцати пирог, в каждой из которых сидели до двадцати воинов. Пироги устремлялись вслед за летевшим как стрела катером. Достаточно было бы экипажу совершить одну-единственную ошибку (налететь на подводный камень или не заметить мель), и дело кончилось бы кровавой бойней. Но все обошлось. Путешественники благополучно добрались до побережья. Луиджи д’Альбертис вернулся в Европу, проведя на островах Океании около семи лет. Дома его ждала вполне заслуженная слава.
ГЛАВА 10
АЛЬФРЕД МАРШ
Здоровье вернувшегося из Экваториальной Африки Альфреда Марша оказалось изрядно подорванным. Он перенес жестокую нужду во время путешествия вместе с безвременно скончавшимся маркизом де Компьеном по реке Огове в Габоне. Исследуя вместе с Пьером де Бразза примерно тот же регион, Марш подхватил тропическую лихорадку, с которой, правда, его крепкий организм весьма успешно справился. Он вернулся во Францию, немного отдохнул и обратился к министру образования со следующей просьбой: отправить его с ответственной миссией на Филиппины «в целях окончательного выздоровления» (по его собственному выражению). Это он называл «лечением подобного подобным», как говоряг гомеопаты. Альфред Марш был наделен железной волей. Если он что задумывал, то обязательно осуществлял свой план любой ценой. К тому же он был страстным, фанатичным исследователем. Он не мог жить, не бродя по густым зарослям кустарника и не продираясь через непроходимые джунгли. Прибыв на Филиппины, Марш задержался там на шесть долгих лет, посвятив их детальному изучению этих прекрасных испанских владений и сбору бесценного научного материала. Подвиги Марша были хорошо известны, и у него имелись самые лучшие рекомендации от весьма достойных и уважаемых людей, поэтому генерал-губернатор Филиппин оказал ему отличный прием и обещал всяческую помощь в осуществлении научных изысканий. Следует сказать, что он сдержал свое слово и во многом способствовал тому, что исследования Марша оказались успешными. В своем немногословном, но очень содержательном докладе, настоящем научном отчете, Марш приводит много интересных фактов об этом архипелаге, где очень высокая, даже утонченная культура соседствует подчас с самыми дикими, варварскими обычаями. Отчет начинается со страниц, посвященных Маниле, столице островного государства, расположенной на острове Лусон. Этот красивый город находится в том месте, где река Пасиг, берущая начало в прекрасном озере Бай, впадает в море. Манила располагается на длинной узкой косе, потому что река Пасиг несет здесь свои воды почти параллельно морскому берегу. Берега самой реки соединены двумя навесными мостами и одним солидным, каменным. Собственно Манила, окруженная толстой крепостной стеной, насчитывала в 1879 году всего лишь 18 000 жителей, но вокруг нее располагались большие поселки и деревни, населенные туземцами. Так, в Бинондо-Сан-Хосе в ту пору было 22 340 жителей, в Санта-Крусе — 12 140, в Киапо — 6085, в Сампалое — 7025, в Сан-Мигеле — 3745, в Тудо — 22 970. Это составляло в общем 92 тысячи жителей. А если прибавить к этой цифре число обитателей деревень Малата, Эрмита, Пандакан, Сан-Фернандо-де-Дилос, Санта-Ана, то получится, что большая Манила насчитывала в 1879 году около 115 тысяч жителей, причем большинство из них составляли тагалы. Среди обитателей Манилы были в небольшом количестве китайцы, европейцы (несколько сотен, не более) и полторы тысячи испанских солдат, составлявших местный гарнизон. Манила была защищена с трех сторон высокими стенами и широкими рвами, заполнявшимися водой во время прилива, а с четвертой стороны естественную преграду для врагов представляла собой река Пасиг. К сожалению, крепостные сооружения, выглядевшие очень надежными, на самом деле таковыми не являлись, ибо в ходе многочисленных землетрясений подверглись разрушению: стены были испещрены трещинами, а кое-где даже обвалились. Улицы Манилы, обычно очень немноголюдные, в основном немощеные, были снабжены узкими тротуарами, пребывавшими, впрочем, по словам Марша, в весьма плачевном состоянии. Несколько центральных улиц отличались тем, что были вымощены большими каменными плитами. Дома в Маниле не радовали глаз путешественника многообразием, а скорее, наоборот, удивляли своим сходством, так как все они были довольно большие, двухэтажные, причем первый этаж возводился из камня, а второй у всех был деревянный. Все дома еще в 1879 году были покрыты черепицей, что при малейшем сотрясении почвы приводило к большим несчастьям. В результате разрушительного землетрясения 1880 года куски черепицы стали причиной гибели многих граждан, и губернатор издал указ, запрещавший покрывать крыши какими-либо иными материалами кроме железа и цинка. Первые этажи манильских домов служили обычно каретными сараями, а на втором жили сами хозяева. По всему фасаду здания шла крытая галерея с резными подъемными рамами, где в качестве стекол использовались маленькие полупрозрачные ракушки, белые с перламутровым отливом, носящие название Placuna placenta[270]. Храмы Манилы отличаются большим разнообразием как архитектуры, так и внутреннего убранства. Иное дело в провинции. Там каждый монашеский орден следует одному раз и навсегда избранному типу строения и почти никогда не допускает отклонений от определенного образца, идет ли речь о храме или монастыре, где иногда проживает один-единственный человек, а именно — приходский священник. Кафедральный собор Манилы, разрушенный землетрясением 1863 года, был заново отстроен и открыт в 1879 году. В городе были также возведены две больницы, и содержались они в образцовом порядке. Названия высших учебных заведений красноречиво свидетельствуют о том, что они находились под управлением церкви: коллеж Святого Фомы находится в ведении доминиканцев, так же как и коллеж Святого Иоанна, а название коллеж Ордена иезуитов говорит само за себя. В последнем имелась большая обсерватория, возведенная с целью сбора метеорологических данных, что было просто необходимо в краю, где ураганы часто разрушали все, что встречалось на их пути. В те времена в Маниле было несколько довольно широких и приятных улиц: к примеру, улица Сан-Фернандо, украшенная аркадами, отдаленно напоминающими те, что радуют наш глаз на улице Риволи в Париже. На этой улице располагались многочисленные лавочки, хозяевами коих были китайцы. Затем следует назвать улицу Эскольта, настоящую улицу моды, где с обеих сторон располагались большие богатые магазины, принадлежавшие европейцам, которые к тому времени уже начинали понемногу теснить мелких китайских лавочников. Взору путешественника внезапно открывалась река Пасиг, где сновали катера и лодки, а до моста Испании даже доходили морские суда. Движение на реке было очень оживленным. По мосту Испании можно было переправиться на левый берег, в предместья Манилы, располагавшиеся на крохотных островках, образованных из намытого рекой ила. Итак, в те времена Манила представляла собой новую Венецию, и многочисленные лодочники доставляли в своих суденышках товары в магазины, лавки и на склады. Улицы Эскольта и Росарио были очень многолюдны. По утрам по ним проходили молочники, вернее даже, пробегали, ловко неся на головах свои кувшины, затем появлялись так называемые сакатерос, торговцы сеном, чуть позже — цирюльники-китайцы, одновременно умевшие сооружать замысловатые прически, брить усы и бороды, а также чистить уши, а вместе с ними — и разносчики шербета, бежавшие от дома к дому с громкими криками: «Шербет! Шербет!» Существовали в Маниле и кафе, где подавали в основном лимонад и немецкое пиво, очень крепкое. Обслуживали посетителей там официанты-тагалы, все в белых штанах и таких же рубашках навыпуск, по тагальской моде очень коротких и едва скрывающих пояса. В Маниле было несколько очень красивых бульваров, обсаженных деревьями, например, бульвар Самполое, излюбленное место гуляний манильцев. Когда устанавливалась хорошая погода, на бульварах Пасео и Лунета два раза в неделю играл военный оркестр. Манильцы часто бывали здесь и в те дни, когда оркестр не звучал, так как с бульваров открывался прекрасный вид на площадку, на которой солдаты и офицеры местного гарнизона совершали маневры. Были в Маниле и театры: в одном служили артистами только европейцы, в других же на сцену выходили очень молодые тагальцы и спектакли шли на тагальском языке. Предоставим теперь слово самому Альфреду Маршу и прочтем, что он написал о местном населении: «У тагальцев очень развит художественный вкус, им нравится все прекрасное. Среди них есть художники, в особенности пейзажисты, скульпторы, в основном работающие по дереву. Делают это они весьма талантливо, но являются скорее имитаторами, чем творцами. Тагалы обожают музыку. Они предаются ей со страстью, по любому поводу, но, пожалуй, злоупотребляют пением фальцетом. Их любимая мелодия зовется «Прекрасная филиппинка», в которой прославляются красота и изящество обитательниц этих мест. Должен сказать, что описать, вернее, определить местный тип довольно трудно, так как в этом уголке земли смешалась кровь многих народов: негров, малайцев, китайцев, индусов, мексиканцев, испанцев и представителей многих стран Индокитая и Европы. Однако тот, кто долго наблюдал за людьми, населяющими Манилу, скажет, что есть все же особый тагальский тип, представляющий собой некую разновидность малайского и получившийся в результате браков малайцев-завоевателей с туземцами, чернокожими и низкорослыми, населявшими эти края в незапамятные времена». Но Альфред Марш не стал, подобно Ганнибалу[271], надолго «засыпать среди наслаждений» этой океанийской Капуи, где всякий был рад его приветствовать и оказать услугу. Вскоре он сменил свой фрак светского человека на неряшливый, но испытанный костюм исследователя и отправился в путь по равнинам, рекам, горам и лесам. В этом первом путешествии, по счастливому стечению обстоятельств, спутником Марша стал господин Видаль, директор ботанического сада и по совместительству главный смотритель лесов. В состав экспедиции вошли: сам Марш, Видаль с помощником, два охотника, четверо слуг Марша, двадцать носильщиков багажа, десять носильщиков гамаков, четыре надсмотрщика и один капрал, призванный надзирать за порядком. Итак, экспедиция представляла собой довольно внушительный караван, растянувшийся метров на пятьдесят. Экспедиция проследовала в долину реки Синилоан, быть может, самую плодородную на всем Лусоне. Марш, хотя уже и привыкший к виду бамбука, не мог сдержать своего восхищения зарослями, где отдельные растения достигали сорока пяти метров в высоту. Растительность долины вообще поражала воображение своей пышностью, и Марш не уставал восхищаться окружавшей его роскошью, но вот фауна здесь была довольно бедной, и натуралиста охватило некоторое разочарование. К тому же пошли проливные дожди. Среди членов экспедиции начались раздоры. Вдобавок ко всему приходилось пристально следить за носильщиками, которые были готовы сбежать в любую минуту и которых надсмотрщикам пока удавалось держать в повиновении. Поднимаясь вверх по течению реки, Марш заинтересовался жизнью тагалов и их искусством. Он видел на реке лодки тагалов, следовавшие в столицу с грузом фруктов. Плоды лежали грудами в больших, украшенных причудливыми орнаментами глиняных горшках или прямо на дне лодок. В других лодках сидели направлявшиеся в город прачки или просто гуляющие, причем лодки с гуляющими были снабжены специальными крышами, защищавшими их от солнца. Встречались на реке и большие лодки, следовавшие в столицу с сеном. Почти на всех лодках на носах сидели петушки. Как объяснили исследователю, тагалы вообще редко расстаются со своими бойцовыми петухами. Не раз встречались на реке и большие плоскодонные баржи, служившие для транспортировки целых партий товаров. Иногда эти баржи, называемые коскосами, двигались под парусом, иногда их тянули буйволы, а иногда лодочники ловко орудовали шестами, но всегда шли они по водной глади очень медленно. Время от времени перед взорами путешественников возникала хижина, стоявшая чуть ли не посередине реки на сваях, с двумя ступеньками из бамбука, спускавшимися прямо к воде. То были маленькие тагальские ресторанчики, где питались сновавшие по реке люди. «Лодочники любят останавливаться у таких ресторанчиков, — писал Марш. — Они сидят, сжавшись в комок, на ступеньках лестницы и жуют свой бетель. Так они могут сидеть часами. Они почти не пьют (у тагальцев вообще нет пристрастия к алкоголю, и я редко видел здесь пьяных), а просто меланхолично жуют сушеную рыбу с так называемой морискетой, то есть отваренным в воде рассыпчатым рисом. Они едят медленно, растягивая удовольствие насколько это возможно, и поглаживают своих петушков». Оказавшись в маленьком городке Лугбане, Марш заметил, что все жители там работали более усердно, чем где бы то ни было. В городке практически не было бездельников, все трудились не покладая рук. Женщины плели шляпы из соломки и делали очень красивые портсигары из древесины одного из видов пальм под названием «бури». Марш много слышал о местном умельце, кузнеце-индусе, и решил посетить кузницу. Кузнец в это время выполнял очень ответственный заказ: он ковал ограду для церкви. Индус отливал причудливые завитки и приваривал их к прутьям решетки. Делал он все очень аккуратно и со вкусом. В кузнице были также выставлены другие изделия мастера, например боло, то есть большие охотничьи ножи с рукоятками, изукрашенными оригинальными и тонкими узорами, выполненными при помощи расплавленной меди и даже золота. Марш посетил также мастерскую художника-туземца и приобрел одно из его творений, где была изображена сценка из сельской жизни, причем работа была выполнена на куске жести, явно отодранного от какого-то ящика, где хранились товары. Несколько дней спустя Марш, возвращаясь из лесу, заметил на цветке дивную бабочку. «Я выхватил из рук слуги сачок и со всеми возможными предосторожностями, буквально на цыпочках, двинулся вперед… Взмах руки… Промах! Бабочка упорхнула… В ту же минуту я ощущаю на лице дождевые капли. Но на небе ни облачка… Я оглядываюсь и силюсь угадать, откуда взялся этот загадочный «ливень». Я вновь взмахнул рукой, и снова мельчайший дождик оросил мое лицо. Третий взмах… и новые довольно противно пахнущие капли у меня на лице. Наконец-то до меня дошло, что это спрятавшиеся в листве цикады пытались отпугнуть меня (или отомстить мне), выпуская жидкость из заднего прохода при каждом моем движении. Какое-то время я еще забавлялся этой игрой, но вскоре все кончилось тем, что несколько насекомых попали в бутылочку со спиртом и пополнили собой мою коллекцию». Чуть позже Марш участвовал в охоте на так называемого большенога, или сорную курицу, красивую птицу из семейства куриных, очень редкую и осторожную. Охота оказалась удачной, ибо Марш вернулся с богатой добычей. Марш решил прервать путешествие на короткое время, чтобы дать людям отдых. Сам он обосновался у одного тагальца, сняв у того комнату. Марш поступил так не случайно, а потому, что заинтересовался профессией своего нового знакомого, который занимался тем, что выращивал и обучал бойцовых петухов. Каждый петушок у него сидел в отдельной клетке. По утрам заботливый хозяин обмывал и ласкал своих подопечных, гладил их и разговаривал с ними. Он говорил, что каждый тагалец любит своего петушка больше всего на свете. И действительно, Марш видел и сам, что тагальцы практически не расставались со своими пернатыми друзьями, постоянно их хвалили, разговаривали с ними как с людьми, без конца гладили… Но все кончалось в день поединка, когда тагальцы позволяли петухам убивать друг друга. «Горячая, порывистая птица платит довольно высокую цену за счастье быть обласканной хозяином, а потом умереть на ристалище. Разумеется, петуха холят и лелеют, но зато постоянно держат на привязи (веревочка обычно крепится к лапке). Самец с невероятной завистью взирает на то, как его собратья квохчут и ухаживают за курами, что ему, бедняге, строжайше запрещено и чего он лишен до конца жизни. День, когда проходят петушиные бои, является для тагальцев большим праздником. Следует отметить, что ни один праздник не обходится без петушиных боев. Все мужское население собирается вокруг места проведения боев. За вход надо платить, а так как бой — дело государственной важности, то именно местные власти назначают судью, призванного вынести вердикт в сомнительном случае. Заключаются пари, причем ставки довольно высоки, а когда все улажено, то к правой лапке каждого бойцового петуха прикрепляют стальную изогнутую шпору, сделанную из лезвия перочинного ножика. Хозяева держат соперников друг против друга и подзуживают их, время от времени то прикрывая им головы руками, то вновь открывая. Маленькие, но злобные бойцы набрасываются друг на друга, клюются и вырывают друг у друга перья. В конце концов петухи приходят в такую ярость, что хозяева уже не могут их удержать и снимают чехольчики со шпор, а затем с презрительным и вызывающим видом швыряют их на землю. Петухи бросаются друг на друга, и при каждом удачном ударе толпа начинает вопить, подбадривая своего фаворита. Когда один из петухов, признав себя побежденным, падает или убегает с ристалища, зрители уже не кричат, а ревут…» В своем знаменитом произведении «Вокруг света» Марш рассказывает: «18 июля 1880 года я находился в большой лагуне на борту судна под названием “Нипа”. Внезапно, в 12 часов и 47 минут пароход затрясло. Неведомая сила бросила его прямо к причалу и ударила о сваи. Это было одно из самых страшных землетрясений, когда-либо обрушивавшихся на Филиппины. Города и поселки острова уже подвергались полному разрушению в 1625, 1795, 1827, 1828, 1863 и 1874 годах, и это были лишь те землетрясения, что приобрели самую печальную известность. Мы бросились на нос корабля, чтобы взглянуть на город. Над жилыми кварталами поднимались тучи пыли и столбы дыма, свидетельствовавшие о том, что все каменные постройки там были разрушены. Мы спешно покинули судно и устремились к Санта-Крусу, чтобы оказать помощь тем, кому еще можно было помочь. По улицам, запруженным гудящей, взволнованной толпой, мы добрались до церкви и монастыря. От старинного храма осталась лишь часть стены и каким-то чудом уцелевший алтарь с частью купола над ним. Все это грозило в любую минуту рухнуть. К счастью, в момент толчка церковь была пуста. Монастырь лишился крыши. Мы обнаружили во дворе обезумевшего от страха священника, лежавшего на земле и судорожно цеплявшегося за траву. Он, по моему мнению, легко отделался. Городская ратуша была наполовину разрушена, как и дом мэра, но сам достопочтенный алькальд и его семья были целы и невредимы. Самый первый и самый сильный толчок длился 1 минуту и 10 секунд. Толчки продолжались весь день и всю ночь, но уже гораздо меньшей силы, и прекратились только в четыре утра. Следует отметить тот факт, что здание тюрьмы пошло трещинами и грозило рухнуть, поэтому всех заключенных вывели наружу, но ни один не воспользовался всеобщим смятением и не сбежал. В два часа ночи заработал долго молчавший телеграф и принес страшную весть: столица лежала в развалинах! Я тотчас же отправился к месту катастрофы и уже в четыре часа дня оказался в Маниле, где нашел своих друзей целыми и невредимыми, чему был несказанно рад. Но толчок и в самом деле был страшный, так что почти все большие здания либо оказались в аварийном состоянии, либо просто превратились в груды камня, в том числе и дома англичан. На улице Эскольта были повреждены все дома, на улице Сен-Рок вообще не осталось ни одного целого строения, да и улица Холо, по словам местных жителей, выглядела ничуть не лучше, чем после землетрясения 1863 года, ибо на ней остались всего лишь два-три дома, да и в те заходить было опасно. В городе, окруженном крепостной стеной, то есть в собственно Маниле, все дома без исключения лишились крыш, а храмы — колоколен, а те из них, что еще держались, были так повреждены, что непременно должны были вот-вот рухнуть. Колокольня кафедрального собора рухнула на соседний дом и снесла целый угол, так что можно было видеть накрытый для трапезы стол, за которым в час дня должны были собраться семь-восемь человек, но, к счастью, не успели. На улицах рассказывали и смешные истории, например о том, как мужчины и женщины, находившиеся в момент толчка в бане, выскакивали на улицу в костюмах Адама и Евы[272]. По словам очевидцев, некоторые европейцы, проходившие в ту ужасную минуту по берегу реки Пасиг, бросились в мутноватую воду, отдав предпочтение жидкости, так как земля представлялась им в данный момент ненадежным убежищем. Все эти люди были хорошо и модно одеты, можно сказать, с иголочки, и, конечно, вымокли до нитки». Вскоре стало известно, что из числа европейцев погиб только один человек, но вот среди китайцев и тагалов было около сотни жертв и около трехсот раненых. «Все мои знакомые вскоре сумели справиться с душевным волнением, кроме доктора Пармантье, — писал Марш. — Он признался мне в том, что страх перед землетрясением все больше и больше обуревает его. Так происходит почти со всеми. Чем больше толчков пережил человек, тем больший страх, а вернее, ужас он испытывает перед этим явлением природы. 19 числа последовала серия незначительных толчков, и все преспокойно улеглись спать. 20-го, когда мы в 7 часов утра пили кофе, земля задрожала, дом заходил ходуном. «Спасайтесь! Скорее на улицу!» — крикнул кто-то. И все бросились во двор. Я последовал примеру моих друзей, но вдруг заметил, что господин Варломон-отец, мой любезный хозяин, исчез. Испугавшись, что с ним произошло какое-то несчастье, я вернулся в дом и заглянул в комнату. К моему изумлению, господин Варломон тихо и мирно спал под столом. — Когда у тебя нет времени выскочить на улицу или спуститься на первый этаж, то самым разумным является залезть под стол, так как местные мастера делают очень крепкие и массивные столы. Таким образом ты спасешь свою голову от кусков черепицы, если рухнет крыша, — сказал он. Едва почтенный мой хозяин закончил свое весьма разумное объяснение, земля опять задрожала, и теперь уже мы оба оказались под столом. После полудня того же дня я находился в комнате на втором этаже вместе с двумя слугами и господином Полем Варломоном, старшим сыном моего амфитриона[273]. Мы были заняты очень важным делом: приводили в порядок мои коллекции. Вдруг мы ощутили сильнейший толчок, гораздо более сильный, чем 18 числа. Сами, мой кули, мгновенно исчез, испанец Педро полез под стол, а Поль закричал: «Бежим!» Я выскочил на лестницу, но в ту же минуту увидел, как большие куски штукатурки отваливаются от стен и падают на ступени. Я отступил назад и, вспомнив утренний урок, последовал примеру Педро и залез под стол, чтобы переждать землетрясение. Толчки продолжались не более 45 секунд, но мне эти секунды показались вечностью. Прямо передо мной была стена, на которой образовались многочисленные трещины. Казалось, эта проклятая стена корчила мне гримасы и насмехалась надо мной. Да к тому же я видел, что поддерживавшая потолок балка грозит рухнуть в любую минуту. Воспользовавшись мгновеньем затишья, я все же бросился к лестнице и буквально слетел вниз. Когда я выскочил на улицу, толчки уже прекратились. Мы отправились в город на разведку. Количество развалин удвоилось: все дома, что получили какие-либо, пусть даже незначительные повреждения 18 числа, сейчас рухнули. Почти все китайцы, владельцы домов по улице Росарио, оказались погребенными под развалинами своих домов, так как они, бедняги, не пожелали покинуть свои жилища и оставить товары без присмотра. Китайцы поступили точно так же, как они поступают во время пожаров. Странное дело! В это почти невозможно поверить, но, по словам местных жителей, когда китайская лавка горит, то частенько приходится выбивать дверь и вытаскивать хозяев силой! Удивительное упрямство! Казалось, все обитатели Манилы разом потеряли голову. Население в панике покидало город. Люди снимали комнаты в бедных крестьянских домах за сумасшедшие деньги. Некоторые семьи искали спасения на борту стоявших на рейде кораблей, некоторые — в качавшихся на реке лодках. Даже стоявшие в устье реки землечерпалки, несмотря на свой весьма непрезентабельный вид, служили убежищем для множества людей (народу там было, пожалуй, больше, чем они могли вместить). В одиннадцать часов вечера наши хозяева заползли за свои противомоскитные сетки, пожелав нам доброй ночи. Погасив свет, я уже собрался было последовать их примеру, но пол вновь заходил ходуном. Толчок был ничуть не слабее, чем после полудня! В мгновенье ока все оказались на ногах и забились под аркады. Я чувствовал, как дом, один из самых высоких в Маниле, содрогается под действием колебаний почвы. По стенам словно пробегали судороги… Казалось, никогда уже они не будут стоять прямо… Но секунд через сорок все пришло в норму. В два часа ночи все мы заснули, и слабые толчки, продолжавшиеся почти до утра, нисколько нас не тревожили». Шестнадцатого августа Марш вновь отправился в паломничество по острову Лусон. Везде ему в изобилии встречались следы ужасной катастрофы. От Манилы до Урданеты поселки и деревни подверглись страшным разрушениям. В местечке Маласика он заметил у ворот монастыря небольшой продолговатый ящик, обтянутый белой, голубой и розовой материей, в котором лежала аккуратно причесанная, нарумяненная кукла, одетая в разноцветные одежды. Марш подошел поближе… Увы! Кукла оказалась мертвой маленькой девочкой, которую родители оставили у ворот монастыря в ожидании той минуты, когда викарий[274] сможет прочесть над ней молитву. Вскоре пришел священник и совершил над девочкой последний обряд. И маленькая процессия с безутешными родителями и деревенским оркестриком во главе отправилась на кладбище. Через какое-то время Марш покинул побережье и двинулся в глубь страны. Вскоре он оказался в районе, населенном жуткими дикарями и еще более отвратительными дикарками, которые походили то ли на китайцев и китаянок, то ли на малайцев и малаек, а быть может, на японцев и японок… Но, Боже мой! До чего же они были уродливы! Они украшали свои тела татуировкой, и то были настоящие произведения искусства. На коже этих созданий красовались диковинные узоры в виде змей, птиц и цветов. В моде были также и узоры, состоящие из причудливо переплетенных линий. Кстати, эти дикари, довольно безобидные и мирные, очень умело добывали золото, которое встречалось в горах, правда, в небольших количествах. Перед сезоном дождей они выкапывали большую яму у крутого склона, а затем устраивали все так, чтобы произошел оползень. Начинались тропические ливни, и план дикарей воплощался в жизнь: масса земли обрушивалась в яму вместе с драгоценным металлом, который дикари отмывали после окончания сезона дождей. Таким образом они получали золото на сумму от ста до ста двадцати тысяч франков. Марш совершил очень интересное путешествие к знаменитому вулкану Тааль, который во время землетрясения так пугал население провинции Батангас, к югу от Манилы. Однако, когда к вулкану приблизился Марш, он выглядел до странности мирным, хотя и продолжал грозно ворчать, так как его деятельность не прекращалась ни на минуту. Вдруг из жерла вулкана 1 июля взметнулись первые языки пламени, а 6-го и 7-го из кратера стали вылетать камни. 14, 17, 18 и 22-го июля горячие осколки уже можно было обнаружить в радиусе двух километров, а в день, когда произошло очередное землетрясение, вулкан внезапно успокоился, хотя над вершиной продолжал куриться дым. Марш и его спутники поднялись по склону вулкана и заглянули в кратер, который представлял собой гигантскую впадину глубиной не менее двухсот метров, овальной формы, и протяженностью с севера на юг около пятисот метров, а с востока на запад — более тысячи метров. Внутренние склоны кратера были испещрены глубокими трещинами. Вершина горы как снаружи, так и изнутри была покрыта толстым слоем беловато-серого пепла. Почти в самом центре кратера находилось маленькое озерцо, наполненное водой бледно-зеленого цвета, над которым постоянно курились испарения. Рядом с ним находилось еще одно озерцо меньшего размера. Оно было отделено от первого холмиком застывшей лавы, и вода в нем была желтовато-зеленоватой. На юго-юго-западной стороне кратера зияли три огромные черные дыры, окруженные гигантскими валами из застывшей лавы. Они напоминали какие-то чудовищные, дьявольские колодцы с неровными, как бы изрубленными гигантским ножом краями черно-серого цвета. Один из этих «колодцев» и был жерлом вулкана, и из этой разинутой пасти дьявола поднимались столбы дыма. Слева от гигантских дыр возвышался островерхий холмик метров в триста высотой. Его склоны испещряли тысячи трещин и глубоких борозд, откуда валил густой дым с едким запахом серы, и толстый слой этой желтовато-серой субстанции покрывал весь холм. В центральной части впадины, там, где находились два озера, земля во всех направлениях была изрезана глубокими расщелинами. Края их то и дело осыпались, и ходить там было очень трудно и опасно. Марш долго созерцал сие величественное зрелище, в то время как один из его спутников делал наброски в своем альбоме. Затем неугомонный исследователь спустился по крутому склону, угол которого составлял 45°, метров на двести. Он почти бежал, но почва здесь была настолько рыхлой, что каблуки его вязли в пепле, что позволяло Маршу не скользить и не падать. Предоставим слово самому Маршу: «После полудня мы совершили восхождение по северо-западному склону вулкана, чтобы взглянуть на кратер с другой стороны. Когда мы оказались на самом гребне и собирались достать инструменты, чтобы приступить к изучению сего феномена, из центра озера взметнулся мощный фонтан, столб кипящей воды и серы. При этом мы услышали грозное клокотание, напоминавшее то, что издает сильно кипящее варево на кухне, но, разумеется, этот звук был в тысячу раз громче. Как только вода в озере забурлила, наши слуги и носильщики пустились наутек. Мы же застыли в немом восхищении. К несчастью, сей великолепный спектакль длился всего лишь несколько секунд. Вся масса воды рухнула в озеро, и оно вышло из берегов, а из жерла вулкана еще сильнее повалил дым…» Проведя на Филиппинах три с половиной года, Марш ненадолго вернулся во Францию, но заскучал и вновь оказался в Маниле 14 января 1883 года. В ту пору все жители были потрясены обрушившимся на город несчастьем. На сей раз причиной всеобщего уныния и страха оказалось не землетрясение, а недавно пронесшийся над архипелагом ураган огромной разрушительной силы, а затем и поселившаяся среди развалин холера, сеявшая повсюду горе и смерть. Тем не менее приняли Марша очень тепло и сердечно, и он смог приступить к своим исследованиям, будучи прекрасно обеспеченным продовольствием, боеприпасами и вообще всем необходимым не только благодаря вниманию со стороны местных властей, но и большой помощи частных лиц. Марш, уже прекрасно изучивший Лусон, на сей раз отправился на остров Палаван, расположенный к юго-западу от Манилы. Это был довольно большой и длинный остров, протяженностью свыше пятисот километров, а к югу от него лежал остров Борнео (Калимантан). В те времена Палаван служил своеобразным перевалочным пунктом для торговцев самыми различными товарами. Административным центром острова являлся городок Пуэрто-Принсеса, пребывание в котором нельзя было назвать приятным, так как поблизости располагались исправительные заведения, где отбывали свой срок воры и убийцы. Заключенные часто бежали с каторги, поэтому находиться в городке было небезопасно. Да и вообще жизнь в этом городишке, довольно жалком, была беспокойной. Как почти всюду на Филиппинах, в Пуэрто-Принсесе не было ни гостиницы, ни приличного ресторана. Марш же хотел устроить там свой «генеральный штаб» сроком не менее чем на год, поэтому он решил снять дом и поселиться в нем с двумя слугами, уроженцами северной части Лусона. Одного он возвел в ранг мажордома[275], повара и лаборанта, на второго же возложил обязанности охотника и носильщика. Марш обратился к руководству одного из исправительных заведений с просьбой предоставить в его распоряжение одного-двух каторжников из числа самых смирных, чтобы они помогли ему в весьма многотрудном деле изучения острова. Впоследствии же Марш имел много поводов раскаяться в этом своем решении. Обеспечив себе все же необходимый минимум удобств, Марш приступил к изучению южной части архипелага. Иногда его отлучки были очень продолжительными, но из каждого похода он привозил с трудом добытые трофеи, которые на самом деле представляли собой настоящие сокровища. Однажды Маршу крупно повезло: он убил птицу калао, еще неизвестную науке. Господин Устале, ассистент Музея естественной истории в Париже, которому выпала честь описать это творение природы, обессмертил имя славного путешественника и натуралиста, дав птице научное название Anthracoceros Marchei. Калао — крупный представитель семейства птиц-носорогов и отличается от всех прочих пернатых клювом колоссальных размеров. Сей невероятный, фантастический орган, кажущийся очень тяжелым, на самом деле, напротив, чрезвычайно легок, ибо состоит не из плотной, а из губчатой, состоящей из множества мелких ячеек кости. Если бы дело обстояло иначе, то обладатель сего любопытного украшения не смог бы летать, так как тотчас же потерял бы равновесие. Калао Марша отличается от прочих калао тем, что перья на крыльях у него черные, а на хвосте — снежно-белые. Над клювом у него имеется нарост беловато-желтого цвета, причем форма этого странного образования может быть различной, но все же чаще всего напоминает перевернутую лодочку. Эта занятная птица редко встречается в единственном числе, так как живет обычно в стае. О своем приближении или о своем присутствии калао извещают всех издалека: их крики, похожие на хриплое мычание, многократно усиливаются эхом и разносятся над лесом, так как птицы эти чаще всего рассаживаются на вершинах самых высоких деревьев. Летают они довольно тяжело и неуклюже, а когда опускаются на землю, то подпрыгивают, как вороны. Калао вьют гнезда высоко в горах, в дуплах толстых старых деревьев. Дупло они выдалбливают сами, используя свой клюв в качестве очень удобного строительного инструмента, но делают это только в том случае, если не находят уже готовое дупло. Дно своего жилища они выстилают травой и самыми тонкими, самыми нежными веточками, а затем самка откладывает яйца. Калао относятся ко всеядным птицам, поэтому в их меню входят различные фрукты, зерна растений, насекомые и даже мелкие млекопитающие, такие как крысы, мыши и так далее. Коллекция Марша пополнялась быстро. Он приносил убитых животных домой и делал чучела, так что вскоре его жилище стало напоминать настоящий Ноев ковчег[276]. Марш старался ловить самых редких животных и птиц живьем; он пытался содержать их в клетках, чтобы доставить во Францию, но, к несчастью, в большинстве случаев бедные пленники в неволе погибали. С присущей ему ловкостью Марш делал новые чучела, утешаясь тем, что в таком виде животное будет гораздо легче доставить на родину. Кроме усталости от весьма нелегких путешествий и болезней, которые Марш рисковал подхватить в этих краях, отличавшихся крайне нездоровым климатом, поджидали его и другие неприятности. Если кто-то представляет себе жизнь исследователей и первопроходцев в розовом свете, то, быть может, следующий случай из практики знаменитого натуралиста поможет развеять эти иллюзии: «Однажды, когда мы возвращались из похода, мой охотник Мариано принес мне красивую змею, называемую на местном наречии даум-палайе. Змея обвилась вокруг толстой палки, и мне показалось, что она спит. Я был очень рад этому приобретению и решил поскорее поместить редкое земноводное в спирт. Я осторожно снял змею с палки, взял ее левой рукой за голову, а правой — за туловище и приготовился поместить в жестяную банку со спиртом, которую держал Мариано. Я попросил слугу как можно скорее закрыть банку крышкой, как только наш трофей окажется внутри. В ту минуту, когда я выпустил змею из рук и бросил ее в жидкость, Мариано, испугавшись, как бы рептилия не выскочила, поторопился и накрыл крышкой не только змею, но и мою руку. Злобное создание пробудилось и не преминуло воспользоваться оплошностью Мариано: ядовитые зубы впились в мою руку. Я тотчас же сунул руку в спирт, чтобы продезинфицировать рану, затем сделал надрез на месте укуса и капнул туда несколько капель карболовой кислоты. Мой охотник в это время всячески меня утешал, на свой лад, разумеется: «Знаешь, господин, это плохой укус. В наших краях все, кого укусила даум-палайе, умирают через два часа. Знаешь, господин, дело-то плохо. Лекарства-то от ее укусов нет. Верно говорю, человек умирает через два часа…» И пусть мой любезный читатель не подумает, что всю эту тираду Мариано произносил с волнением и беспокойством в голосе. Нет, все говорилось совершенно спокойно, даже равнодушно, как будто не обо мне шла речь. Сделав перевязку, я сказал Мариано, что он может быть спокоен, так как я не умру. Затем я пошел к себе, лег и вытянул руку, чтобы замедлить циркуляцию крови. Вскоре я заснул. Проснувшись часа через три, я обнаружил, что все мои люди либо спят, либо сидят и курят. Ни один не пошел на охоту, так как все они считали, что я непременно умру и охотиться теперь не имеет смысла. Мой охотник Мариано изумленно уставился на меня, а затем умоляющим голосом произнес: «Дай мне это лекарство, господин, дай!» — А зачем тебе? — спросил я. — А затем, что я впервые в жизни вижу, что человек, укушенный даум-палайе, не умер, хотя уже прошло куда больше двух часов! Ну что с ним было делать? Я подарил Мариано бутылку с карболовой кислотой, и все мои люди со спокойной душой отправились на охоту. Следует сказать, что укус этой змеи действительно очень опасен и обычно влечет за собой смерть, но у меня рана была очень неглубокой, змея успела лишь слегка повредить кожу. Я принял энергичные меры и, наверное, именно прижигание карболовой кислотой спасло меня. Непосредственная опасность миновала, но, однако, в течение трех-четырех дней рука у меня была как бы онемевшей и двигалась с трудом». Пережив весьма неприятные минуты, Марш стал чуть более осторожен, но, подхватив дизентерию, был вынужден две недели провести в полнейшем бездействии, лежа в постели. Едва встав на ноги, Марш вернулся в Манилу, чтобы поместить свои драгоценные коллекции в безопасное место. Он нашел весь город в страшной тревоге и печали, вызванной гибелью двух офицеров, убитых среди бела дня прямо на улице фанатиками-мусульманами, которых испанцы очень опасались с тех самых пор, как завладели островом[277]. Несчастные офицеры пренебрегли простейшими мерами предосторожности и пали жертвами подлых убийц, не оказав сопротивления. Они спокойно сидели перед лавочкой какого-то китайца, читали письма от родных и в эту минуту были убиты. Одному из них снесли голову мгновенно, так что он даже не понял, что случилось. Второй сумел заслониться рукой, и убийца тотчас же отрубил ее, а затем нанес еще один удар и добил жертву. Военный врач, находившийся рядом с офицерами, хотя и был безоружен, смог уцелеть благодаря своей безумной отваге, так как сам, первый, бросился на противника. Бедняга спас свою жизнь, но из этой схватки вышел одноруким и с лицом, изуродованным чудовищными шрамами, которые остались после ударов криса. Услышав душераздирающие крики «Мавры! Мавры!», тотчас же прибежали солдаты и вооруженные тагалы. Они прикончили трех бандитов на месте, но офицеров спасти уже было нельзя. Однажды, охотясь в дебрях острова Балабак[278], Альфред Марш увидел очень странное и милое животное, совершенно не встречавшееся на Лусоне. То была грациозная маленькая кабарга Tragulus kanchil[279]. Следует сказать, что животное это обитает на Малаккском полуострове, в Кохинхине[280] и на Пуло-Кондоре[281], видом своим напоминает крошечного оленя. Прелестная головка самца бывает украшена очень тонкими, длинными и острыми рожками. Самочка всегда меньше самца. Охота на этих редких и пугливых животных очень трудна, в особенности если у охотников нет собак. У кабарги очень хороший слух, и при малейшей опасности малютки спасаются бегством. Они столь малы, что охотник, не разглядев, может принять бегущее животное за крысу, а бегают они так быстро, что исчезают прежде, чем человек успевает вскинуть ружье и прицелиться. Обитатели острова Балабак обычно ловили этих милых крошек, устраивая ловушки. В конце концов Маршу удалось приобрести одного живого самца, но он очень скоро погиб в неволе, так как жестоко поранился о прутья клетки, пытаясь вырваться на свободу. Туземцы смогли поймать для Марша одну очень редкую и красивую птицу, Polyplectron Napoleonis, или шпорника. Самец поражает любителей пернатых своей красотой, так как оперение у него точно такое же, как у павлина, но размером шпорник не больше фазана, что ему отнюдь не вредит. Практически все тельце у него ярко-зеленого цвета с металлическим отливом. На хвосте, как у павлина, расположен целый ряд глаз неописуемой красоты. Головка у шпорника зеленая с белыми пятнышками. Название же свое он получил из-за того, что для защиты от врагов с гордостью носит на лапках двойные шпоры, которыми может наносить весьма чувствительные удары. Маршу раздобыли редкий экземпляр этой птицы, но он тоже недолго прожил в неволе. Находясь на острове Тапуль[282], Марш воспользовался случаем и принял участие в ловле моллюсков, называемых тридакнами, из раковин которых делают кропильницы для богослужений. Эти раковины достигают просто фантастических размеров. Местные жители уверяли Марша, что изредка попадаются даже экземпляры до двух метров длиной. Обитают эти удивительные моллюски на коралловых отмелях, и рыбаки высматривают их, пристально вглядываясь в толщу воды. Наконец они замечают это восхитительное творение природы, неподвижно лежащее на дне и вроде бы сросшееся с окружающими его звездчатыми кораллами. Тогда кто-нибудь из охотников за раковинами ныряет, поднимает свою находку со дна и выныривает на поверхность, держа добычу на вытянутых руках, а его собратья принимают драгоценный трофей и бережно укладывают его на дно лодки. Точно так добывали раковины и во времена, когда остров посетил Марш, причем целью охоты была не только сама добыча будущих кропильниц, но и пополнение запасов. Дело в том, что мясо этих гигантских моллюсков хотя и несколько жестковато, но все же вполне пригодно в пищу, так как обладает довольно приятным вкусом. Разумеется, мясо моллюска выглядит не слишком аппетитно, ибо оно отличается зеленоватым цветом, да к тому же испещрено многочисленными желтыми и черными разводами, но тагалы, для которых главным аргументом является полный желудок, с удовольствием ели и едят мясо тридакны. Вот что рассказывал сам Марш: «Мывыловили около дюжины моллюсков, из коих самый маленький имел около восьмидесяти сантиметров в длину. Ловцы положили раковины на берег, и вскоре огромные створки раскрылись. Мой охотник Мариано, уроженец внутренних районов Лусона, ничего не знал о море и его обитателях, но был большим гурманом. Поэтому он тотчас же явился взглянуть на диковинные трофеи, как только ему сказали, что мясо моллюсков съедобно. Мариано направился к самой большой раковине и сунул руку внутрь, чтобы потрогать невиданное животное или оторвать кусочек плоти. К счастью, один из ловцов вовремя заметил, как неразумно поступил Мариано, и успел оттащить его от раковины, так как ее створки уже собирались сомкнуться. В результате моллюск непременно сломал бы бедняге руку, а тот даже не подозревал, какой опасности только что подвергался. Сначала Мариано с недоверием отнесся к объяснениям рыбаков, но пришел в ужас, когда один из них решил доказать свою правоту и ткнул довольно толстой палкой в складчатую плоть моллюска. Створки сомкнулись, и щепки упали на песок!»[283] В один из дней все тот же Мариано сообщил Маршу, что на опушке леса находится змея, проглотившая целого быка. Марш усомнился в правдивости сообщения слуги, так как тот вообще был склонен иногда приврать, но приказал доставить змею к себе в лагерь. Примерно через час он увидел, что к лагерю приближается крестьянин, который гонит храпящего от страха буйвола. Испуг бедного трудяги был вполне понятен: у него на шее болталась веревка, другим концом обвивавшая шею чудовищной змеи. Это был огромный питон, метров семи в длину и толщиной не более сорока пяти сантиметров, но вот живот рептилии был неправдоподобно раздут. Змея как раз переваривала свою добычу, поэтому туземцы поймали ее безо всякого труда, к тому же ничем не рискуя. Марш приказал вытянуть змею в длину и закрепить ее голову и хвост, привязав к деревьям. Затем он сделал большой надрез на шее питона, сломал ему позвоночник при помощи молота и зубила, чем сделал его совершенно безопасным. Потом он вскрыл брюшную полость змеи и, к своему великому удивлению, извлек оттуда ну, быка не быка, но маленького теленка, двух-трех месяцев от роду. Разумеется, все это выглядело весьма непривлекательно, но Марш был до крайности поражен возможностями змеи. В ходе путешествия на остров Дибатак[284] Марш опробовал новый способ передвижения, и нельзя сказать, чтобы он был им очень доволен, но другого выбора у него в то время не было. А заключался этот способ в езде на буйволе. Конечно, буйвол очень неудобен в качестве верхового животного со всех точек зрения, так как у него слишком широкая спина, чтобы можно было сидеть на нем верхом, а кости позвоночника у него выпирают так, что сие неудобство не может скрыть даже сложенная вчетверо попона. Наилучшим способом путешествовать на этом пузатеньком и довольно нервном животном было усесться боком, то есть как великосветская амазонка[285], и в таком положении можно было выдержать час или два. Но когда человек вынужден проводить на буйволе целый день, то он чувствует себя к вечеру совершенно разбитым и не может потом сидеть в течение нескольких дней. При этом способе верховой езды не использовали стремена, а пользовались только поводьями, да и те были простой веревкой, прикрепленной к кольцу в носу буйвола. Поступь у животного столь же тяжела, как у слона, но тряска на нем гораздо сильнее, да и синяки после такой поездки оставались весьма болезненные. Одним словом, все это напоминало бесконечную килевую качку и превращало путешествие в жестокую пытку. К тому же животные иногда проявляли поразительное упрямство: они шли вперед, когда им было угодно, но порой вдруг начинали упираться и даже пятиться задом, словно строптивые ослы. Частенько у них возникало желание освежиться, и, когда им в голову приходила такая идея, они бросались в воду или начинали валяться в грязи, не обращая ни малейшего внимания на крики несчастного седока, вынужденного волей-неволей принимать сию отвратительную ванну. Напрасно погонщики лупили животных по бокам, те прекращали свое милое занятие только тогда, когда считали это нужным. Свое пребывание на островах Океании Марш завершил посещением островов в море Сулу, совсем недавно завоеванных Испанией, а потому еще не до конца умиротворенных. Действительно, аннексия этой территории завершилась лишь 11 марта 1877 года, когда Англия, Германия и Испания подписали протокол, по которому за Испанией признавалось право завладеть группой мелких островов в море Сулу и самим островом Кагаян-Сулу. Марш отмечал, что население малых островов настроено гораздо более мирно, чем обитатели самого острова Кагаян-Сулу. Например, на островке Сиасси, где он провел некоторое время в самой гуще туземцев, можно было даже ходить без оружия. Местные жители были скорее пугливы и робки. К тому же они не отличались слишком большой решительностью в отличие от ярых фанатиков с Кагаян-Сулу. Как всегда неутомимый и жадный до впечатлений, отважный исследователь посетил почти все острова и островки архипелага, изъездив самые крупные вдоль и поперек, существенно пополнил свою коллекцию и в конце концов стал подумывать о возвращении на родину, где он так долго не был. Перед отъездом Марш обратился с письмом к испанским колониальным властям, в котором высказал им свою величайшую благодарность за неоценимую помощь в течение шести лет, что он провел на этой благодатной земле. Особо отмечал Марш необычайную благосклонность, так облегчившую ему выполнение столь тяжелой и ответственной миссии, со стороны его превосходительства генерал-губернатора Филиппин Хоакина Ховельяра. Он также от всей души благодарил за помощь полковника Паррадо и капитана II ранга Канга-Аргуэльеса, а вместе с ними и всех знакомых офицеров сухопутных войск и военно-морского флота, к которым ему приходилось обращаться с различными просьбами во время странствий по островам. Двадцать восьмого февраля 1885 года Марш прибыл в Сингапур. Затем он отправился в Пном-Пень и Сайгон, чтобы забрать адресованные ему письма, и 25 апреля прибыл в Марсель, совершив очень приятное и спокойное плавание на борту французского судна.ГЛАВА 11
ЖЮЛЬ ГАРНЬЕ
Хотя господин Жюль Гарнье посетил Новую Каледонию двадцать восемь лет тому назад, я все же предпочту поведать вам о путешествии горного инженера, наделенного незаурядным талантом литератора, а также обладавшего обширными знаниями во многих науках, так как он получил прекрасное образование. Воспоминания Гарнье о пережитом во время путешествий написаны очень искренне, они легко читаются, так как довольно кратки и не перегружены лишними деталями. Военно-морской министр поручил Жюлю Гарнье провести геологические изыскания на Новой Каледонии с целью разведки ее природных ресурсов, в основном, разумеется, полезных ископаемых. Он прибыл на Новую Каледонию в 1863 году. Эти земли стали французским владением лишь за десять лет до прибытия Гарнье, и объявил их собственностью Франции в 1853 году капитан I ранга Тарди де Монтравель. В 1863 году Новая Каледония переживала довольно трудный период, когда там в муках зарождались новое общество и новые отношения. Гарнье с жаром принялся исследовать остров. Все казалось ему здесь странным и удивительным: пейзажи, рельеф местности, предметы обихода, животные, люди, слова, обозначавшие новые понятия и реалии. Теперь-то многое из того, что так поражало Гарнье, для нас является делом привычным и само собой разумеющимся, но, даже если что-то в воспоминаниях исследователя покажется нам старомодным и смешным, мы не должны забывать, что он был первым, кто посетил и описал эти земли, столь хорошо изученные в наши дни. Один из первых колонистов, господин Жубер, взял Гарнье под свое покровительство и поселил его в своем доме. Вскоре отважный инженер погрузился в исследование жизни обитателей острова и очень быстро ознакомился с нравами, обрядами и языком канаков, коренных жителей Новой Каледонии. «Кожа у канаков не черная, а коричневая, как шоколад, — писал Гарнье. — У них сильно выдающиеся скулы, толстые носы, прямые или чуть курносые, с большими подвижными ноздрями. Глаза у них черные, налитые кровью, что придает их взгляду выражение свирепости. Они высоки ростом, крепкие, с хорошо развитой мускулатурой. Эти люди отличаются большой ловкостью и выносливостью. Зубы у них длинные, белые, широкие и очень крепкие. Они как бы постоянно что-то яростно жуют, и эти движения заставляют заподозрить их в каннибализме. На самом деле это так и есть, ибо канаки поедают себе подобных. Представители обоих полов украшают себя татуировкой, но в большей степени привержены такому способу наведения красоты на океанийский лад женщины. Для того чтобы стать красивыми, бедняжки с поразительной стойкостью и терпением, безо всяких колебаний позволяют втыкать себе в кожу острые травинки, которые их товарки затем поджигают. На шоколадных телах появляются болезненные ожоги, а потом, когда опухоль спадет, из шрамов образуется определенный узор. Мужчины носят бороды, но некоторые бреются, оставляя усы и крошечную бородку, чтобы походить на офицеров и солдат морской пехоты. Разумеется, проделывают они это без мыла и бритвы. Инструмент Фигаро заменяет осколок бутылочного стекла; в качестве зеркала служит лужа, куда специально кладут банановый лист. И вот уже достойный всяческого уважения канак начинает в высшей степени старательно сдирать кожу со щек. Канаки употребляют в пищу ямс, таро, батат, бананы, кокосы, сахарный тростник, папайю, большое количество рыбы и моллюсков, а при особых случаях и человеческую плоть». Да, вот такой маленький, славненький грешок существует у канаков до сих пор, и мясо себе подобных они предпочтут любому другому, даже самому изысканному яству. И ничто не помогает: ни увещевания, ни запреты священников, ни угроза строгого наказания, ни даже возможность отлучения от церкви. Известно, какой необычный ответ дал один канак увещевавшему его епископу: — Быть может, это и плохо — есть людей, как ты говоришь. Но не говори, что это невкусно, ибо ты солжешь! Рассказывают еще историю про канака, у которого было две жены. Он пожелал принять христианство. Ему сказали, что католическая вера категорически отрицает и осуждает многоженство, а потому он будет крещен тогда, когда у него будет только одна жена. Канак покинул дом священника с видом человека, принявшего какое-то важное решение, и вернулся через неделю. Он заявил, что отныне будет довольствоваться только одной женой, и потребовал, чтобы над ним совершили обряд крещения. — А что же сталось с твоей второй женой? — спросил миссионер. — Я ее убил и съел… Хорошая была женщина… и очень вкусная, — чистосердечно признался канак, пребывая в твердом убеждении, что не совершил ничего дурного. Когда колонизаторы делали свои первые шаги по острову, стычки между европейцами и канаками случались часто. Иногда целые отряды первопроходцев попадали в засады. Дикари окружали белых и убивали с невероятной жестокостью. Затем на канаков обрушивались ужасающие репрессии, которые влекли за собой новые убийства. В конце концов все же заключался мир, и канаки приходили в лагеря колонистов, чтобы получить работу. Обычно их использовали на самых тяжелых работах, а именно на расчистке лесных участков под будущие плантации. Вражда, казалось, была забыта, но… перемирие бывало недолгим, до следующей враждебной выходки туземцев. Хотя путешествовать по дебрям Новой Каледонии было делом вовсе не безопасным, Гарнье смело устремился в неведомую страну. Он углубился в джунгли в сопровождении проводника и верного пса Сулука, хорошего друга и страстного охотника, при помощи которого исследователь добыл немало ценных трофеев. Сулук заслужил благодарность своего хозяина уже тем, что выследил и поймал никогда не виданную Гарнье птицу под названием кагу́[286], не причинив той ни малейшего вреда. Кагу́ — большая насекомоядная птица, которая водится только на Новой Каледонии. Она легко поддается приручению и одомашниванию. Даже дикие особи очень доверчивы и охотно подходят к жилищам человека, а затем заходят внутрь и, к великой радости хозяев, освобождают их от всяких вредных насекомых. Оперение у кагу пепельно-серого цвета с рыжеватыми подпалинами. Изящную головку украшает прелестный беловато-сероватый хохолок. Клюв у кагу красный, длинный, острый и очень крепкий. Глазки у этой птицы ярко-красные, очень ясные и прозрачные, с угольно-черным зрачком. И наконец, крылья кагу, снабженные длинными перьями, образуют настоящий чудесный веер, когда птица начинает ими хлопать или расправляет их. Этот «веер» украшают концентрические кольца белого, рыжеватого и серого цвета. Хвостик, нижняя часть крыльев и брюшко птицы покрыты длинным шелковистым пухом, серовато-черным и чуть волнистым, очень похожим на страусиный. Это — нечто среднее между настоящим пухом и пером. Кагу невелики ростом, от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров (от головки до лапок), но, будучи размером с курицу, они гораздо более грациозны, так как тела у них более вытянуты. У кагу довольно длинные и сильные ноги, ярко-красные, с большими крепкими пальцами, снабженными толстыми и острыми когтями. Прежде чем Новая Каледония стала местом ссылки, отвратительным вместилищем всех самых гнусных преступников, каких только рождала земля, там появились колонисты. В начале 1863 года губернатору пришла в голову мысль осуществить попытку организовать совместное хозяйство силами многих людей. Он отправил в долину реки Яте, отличающуюся необычайным плодородием, группу из двадцати человек. Среди колонистов были механик, два жестянщика, два кузнеца, каменщик, два горнорабочих, пекарь, плотник, кровельщик, два мастера-кирпичника, шорник, слесарь и даже торговцы писчебумажными товарами и галантереей. С ними отправились и две женщины, решившие разделить участь своих мужей. Этому странному сообществу людей, из коих только двое мало-мальски смыслили в сельском хозяйстве, был выделен участок земли в триста гектаров. Правительство выдало им также крупный аванс на закупку птицы, скота, семян и сельскохозяйственного инвентаря. Работа пошла ни шатко ни валко. И так продолжалось целый год. Затем колонисты стали подозревать друг друга в неблаговидных поступках, перессорились и даже воспылали взаимной ненавистью. Они были вынуждены расстаться. Все они не только потеряли те немногие деньги, что у них были, но еще и оказались в долгах. Два года спустя, в 1866 году, в этот чудесный край доставили первых мерзавцев-каторжников, которые надолго отравили благословенный воздух острова своим гнусным дыханием. Они проводили время в полнейшей праздности (и это на языке чиновников называется тяжким бременем наказания за уголовные преступления!). Несмотря на то, что существовала реальная угроза повстречать совсем еще диких канаков, непривычных к виду европейцев и по сию пору настроенных крайне воинственно, Гарнье в силу возложенных на него обязанностей был вынужден забираться в самую глушь, где порой ему волей-неволей приходилось вступать в контакт с туземцами. Гарнье очень прилежно изучал их нравы, обряды, привычки и язык и одним из первых сообщил весьма интересные сведения об этом народе. Он первым собрал данные и представил правительству прискорбный документ, в котором говорилось, что канаки вырождаются и вымирают. Гарнье осуждал и отвергал те методы, которые обычно применяли по отношению к местному населению своих заморских владений англичане. На сей счет он высказывался весьма определенно: «Я считаю, что для дальнейшего процветания нашей колонии было бы полезно позаботиться об этих несчастных дикарях. Это необходимо сделать и с точки зрения гуманности. К тому же канаки вполне заслуживают того, чтобы мы проявили к ним участие и нашли способ оградить этот народ от полного и неминуемого исчезновения. Прежде всего следует обратить внимание на то, как и почему канаки умирают. А умирают они практически по одной-единственной причине: во время сезона дождей, в феврале — марте, многие заболевают сильнейшим бронхитом. Каждый больной обвязывает себе бедра сухой лианой, забирается в свою жалкую хижину и ждет, когда придет его смертный час, среди вредных насекомых и клубов дыма от очага. У всех больных почти тотчас же пропадает аппетит, они ничего не едят и постепенно доходят до ужасающей худобы, а их бронзово-шоколадная кожа как бы выцветает, становится сероватой и тусклой. Время от времени каждого больного посещает местный лекарь. Почти всегда сию роль играет отталкивающего вида старикашка или поразительно уродливая старуха. Этот, так сказать, врачеватель устраивает несчастному пациенту обильное кровопускание в области головы, лопаток и ног. Затем знахарь укладывает больного на спину и начинает растирать ему грудь, причем это растирание превращается в настоящую пытку, которую бедняга переносит безо всяких жалоб, хотя его вылезающие из орбит глаза и обильный пот на искаженном от боли лице ясно свидетельствуют о том, какие муки он испытывает. Лекарь продолжает делать массаж, от которого у пациента трещат ребра, и останавливается только тогда, когда сам окончательно выбьется из сил. После этого лечение переходит в завершающую фазу, заключающуюся в том, что пациент должен проглотить большую порцию настойки из целебных трав. Однако вопреки всем стараниям лекаря чаще всего желудок больного перестает работать, и смерть наступает через двое-трое суток после того, как несчастный почувствовал себя плохо и перестал принимать пищу. Раньше, несколько десятков лет назад, сородичи заболевшего отсчитывали три дня с того момента, как он отказался от еды, и если он по-прежнему не мог (или не хотел) есть, то его убивали, а затем с почестями хоронили. Следует сказать, что сами умирающие никогда не просили пощады или отсрочки, а даже торопили свою кончину, настолько стоически они относятся к смерти». Однажды, проходя по деревне, Гарнье заметил сидевшего у выхода в хижину юношу. Это был уже не человек, а обтянутый сероватой кожей скелет. Бедняга, знавший инженера, робко попросил у Гарнье немного табаку. — Но ты нездоров… Ты плохо выглядишь… Курение тебе повредит… — заметил Гарнье. — О господин, это не для меня! Я умру, наверное, дня через два… Так все и случилось: несчастный умер на исходе второго дня. Гарнье часто расспрашивал канаков о том, откуда взялась эта страшная болезнь, уносившая столько жизней, и все они в один голос утверждали, что ее завезли в эти края белые. Один из туземцев, вождь с маленького островка Уэн, рассказывал, что двадцать пять лет назад, когда у острова появились первые английские каботажные суда[287], деревня, в которой жил его отец, практически опустела, так как все жители вымерли от этой страшной болезни. Те, кто пережил ужасное бедствие, покинули родную деревню и переселились на другой конец острова. Врачи военно-морского флота всерьез озабочены тем, что эта жестокая болезнь беспощадно косит туземцев и они могут просто исчезнуть с лица земли, а в результате наша колония лишится местного населения, что весьма нежелательно. Медики внимательно изучили множество случаев и не нашли сколько-нибудь серьезной причины возникновения болезни, а потому вынуждены были удовлетвориться наличием нескольких гипотез, которым можно легко найти как подтверждение, так и опровержение[288]. «Канакам совершенно незнакомо чувство страха перед смертью, — писал Гарнье. — Их представления о мире — это представления большого наивного ребенка, но они от этого нисколько не страдают. Канаки предпочитают как можно меньше работать, так как потребности их очень невелики, и работают они только для того, чтобы раздобыть некоторые предметы роскоши, ставшие для них необходимыми: европейскую одежду, лакомства, безделушки, служащие им украшениями, табак. Все остальное время канаки бродят где им вздумается, свободные, словно дикие животные, с которыми их роднит пугливость и желание ни от кого не зависеть. Когда же канаками овладевает желание повеселиться, начинается настоящая оргия[289], которую либо предваряет, либо завершает убийство одного или двух из них, а то и целая бойня. Иногда канаки по любому поводу, а то и вовсе без повода предаются бешеным пляскам. Этот национальный танец, под названием пилу-пилу, в прежние времена всегда исполнялся на празднествах, во время которых канаки предавались радостям каннибализма. Теперь же подобными увеселениями сопровождаются дни окончания сбора урожая, а также похороны какого-нибудь высокопоставленного лица или рождение сына вождя. Такими же плясками встречают и государственных чиновников. В этих шумных увеселениях принимают участие и мужчины и женщины, но по отдельности. Мужчины, абсолютно голые, встают в круг или выстраиваются в затылок друг другу. Скулы, веки и брови у них выкрашены синей или красной краской, а в волосы воткнуты разноцветные перья и веточки с листьями. Грудь у каждого танцора вымазана жиром и охрой, в руках у него зажат топор или палица или просто толстая палка с султаном из белых перьев на конце. Мужчины движутся по кругу, ритмично стуча по земле своими грозными орудиями убийства, затем ненадолго останавливаются перед вождем или важным гостем и преподносят ему свои дары: фрукты, кокосовые орехи, бананы, ямс, рыбу. Если деревню посетил губернатор, то ему преподносят белого петуха и оружие. За этими дарами, которые как бы символизируют полное подчинение гражданскому или военному лицу, следует еще одно приношение: привязанная за ноги к бамбуковой палке молодая свинка. Обычно гость в свой черед одаривает гостеприимных хозяев одеждой, тканями, табаком и деньгами, а также животными, которых тотчас же убивают, чтобы после плясок устроить пир. Затем начинаются собственно танцы, сопровождаемые звуками туземных флейт и ритмичным похлопыванием по полым кускам бамбука. Какие неописуемые прыжки и движения выделывают танцоры! Как резко выбрасывают они руки в разные стороны! Как дергаются их бедра и ноги! Какие гримасы они корчат! И делают они эти судорожные движения, подчиняясь определенному ритму, выполняя дичайшие прыжки почти одновременно, с поражающей воображение точностью! Время от времени из трепещущих от возбуждения грудей вырывается ужасающий вопль. Он разносится над деревней и лесом и постепенно замирает вдали. И эти безумные упражнения, сопровождаемые звериным ревом, длятся до тех пор, пока танцоры не начнут обливаться потом, на губах у них не выступит пена и они не повалятся на землю без сил…» Прежде чем закончить это довольно краткое описание замечательного путешествия господина Гарнье, нам надо еще поговорить о растении, чье название будет непременно многократно звучать в беседах жителей Новой Каледонии и тех, кто там побывал. Растение это на местном наречии называется ниаули, оно произрастает только на Новой Каледонии и является для этого края тем же, чем эвкалипт для Австралии. Его присутствие придает местным лесам свой особый колорит. Это растение всегда поражает путешественников, когда они видят его впервые. Ниаули (Melaleuca viridiflora) встречается на Новой Каледонии повсеместно: в долинах, на склонах холмов и даже высоко в горах, среди скал. Его неровный, искривленный, перекрученный ствол отдаленно напоминает ствол оливкового дерева. Кора у него грязно-белого цвета, что заставляет вспомнить какую-нибудь засаленную тряпку. От ствола во все стороны торчат корявые ветки с мелкими темно-зелеными листочками. Ниаули поразительно живуче и убивает все другие виды растений, которые растут рядом. Молодые побеги в изобилии появляются повсюду, и оно давным-давно завоевало бы весь остров, если бы время от времени огонь не уничтожал густые заросли, а также если бы колонисты не употребляли его для различных нужд. Следует сказать, что древесина этого растения ценится довольно высоко, так как употребляется и краснодеревщиками при изготовлении дорогой мебели, и каретниками для производства экипажей, и плотниками для оконных рам, а также в судостроении и вообще там, где требуется особо крепкая древесина, ибо ниаули почти не поддается гниению даже в воде. Кора этого растения представляет особый интерес: она образована из крохотных, очень тонких и прозрачных концентрических пластинок, наложенных одна на другую. Можно без особого труда отделить эти пластинки одну от другой. Из сырой, необработанной коры, снятой с дерева большими кусками, делают не пропускающую воду дранку для покрытия крыш. В некоторых домах внутренние стены комнат покрывают полосками коры с пластинками, толщиной не превышающей толщины огуречной шкурки. Что же делает древесину ниаули столь стойкой против гниения, а ее кору — непромокаемой? Некая клейкая субстанция, то есть смола, пропитывающая и кору, и древесину. Наличие этой смолы позволяет древесине очень хорошо гореть, вот почему ветви этого дерева обычно служат канакам и даже бедным колонистам факелами. Короче говоря, ниаули является на Новой Каледонии самым почитаемым и высокоценимым растением, хотя выглядит довольно неказисто. Скажем еще несколько слов относительно питания местных жителей. В прибрежных водах водится много очень вкусной рыбы, и островитяне воздают дарам моря должное. Однако следует остерегаться употреблять в пищу незнакомые виды, так как они могут оказаться ядовитыми, причем до такой степени, что приводят неосторожных рыболовов к гибели. Мало того, даже самые безобидные и самые вкусные рыбки могут в определенный период года стать несъедобными и очень опасными, как, например, сардины. Однажды пять матросов с американского судна погибли, поев сардин. Гарнье стал очевидцем массового отравления рыбой, правда не имевшего столь печальных последствий, так как никто не умер. 8 сентября 1866 года члены экипажа сторожевого корабля «Марсо» занялись рыбной ловлей неподалеку от деревушки Канала. Они поймали довольно крупную рыбину, именуемую на местном наречии бекуной, длиной в полтора метра и весом в двадцать фунтов. В водах Тихого океана эта рыба водится в довольно больших количествах, особенно вблизи островов, и ценится очень высоко за то, что мясо у нее чрезвычайно нежное и вкусное. Команда «Марсо», обрадованная таким трофеем, устроила небольшой пир, где главным блюдом, конечно, была поджаренная рыба. Все поужинали с большим аппетитом и улеглись спать. Однако ночью двенадцати участникам пира (из тринадцати) стало плохо: у них отчаянно болело все тело, наблюдался общий упадок сил, к тому же страдания усиливались еще и тем, что тела несчастных покрылись странной сыпью и у больных начался страшный зуд. Все говорило об отравлении, но предпринятые врачом меры смогли исправить положение. Незадолго до своего возвращения на родину Гарнье принял участие в карательной экспедиции, отправившейся из Нумеа для того, чтобы отомстить за гибель моряков военного корабля «Королева островов» и одномачтовой яхты «Секрет», убитых и съеденных канаками. К сожалению, то были не последние жертвы кровожадных дикарей. Список французов, столь печально окончивших свои дни на Новой Каледонии, довольно длинен…ГЛАВА 12
Доктор Монен. — Господин Робержо.После Новой Каледонии мои читатели, надеюсь, с удовольствием познакомятся с группой небольших островов, которая является как бы естественным дополнением наших заморских владений, где отбывали каторгу преступники. Это Новые Гебриды. Эта земля должна была бы быть французской, если бы не бесконечные нападки и придирки со стороны Англии. Политику Соединенного Королевства, весьма ревниво относящегося к распространению французского влияния на острова Океании, а также к увеличению колониальных владений Франции, иначе как мелочной не назовешь. В результате проводимой англичанами политики Франция до сих пор не может установить свое господство на Новых Гебридах и вынуждена довольствоваться тем, что эти земли являются ее протекторатом[290]. После объявления в 1843 году острова Таити французским протекторатом Англия стала чинить препятствия распространению французского влияния на так называемые Подветренные острова (часть островов Общества). Точно так же повел себя Форин Офис и в 1878 году, заявив во время переговоров, что увязывает вопрос о Новых Гебридах с вопросом о Ньюфаундленде. В конце концов между двумя державами был заключен договор, по которому Новым Гебридам предоставлялось нечто вроде независимости, ибо ни Франция, ни Англия не имели права оккупировать эту территорию. По обоюдному согласию сторон окончательное решение этого вопроса было отложено до 1885 года. Но в то время, когда переговоры возобновились, на архипелаге произошла страшная резня, многие французские колонисты были убиты, и губернатор Новой Каледонии направил туда войска и основал несколько фортов. Англия выступила с нотой протеста, обвинив Францию в нарушении договора 1878 года, и французское правительство было вынуждено признать справедливость требований Лондона, но стало настаивать на необходимости обеспечить на Новых Гебридах порядок и безопасность граждан. С ноября 1887 года, когда вопрос о Подветренных островах разрешился в пользу Франции, была создана объединенная комиссия, в задачи которой входило разработать временное соглашение по совместному управлению Новыми Гебридами и защитить проживавших там английских и французских подданных. Британское правительство, быть может, и согласилось бы полностью отдать этот маленький архипелаг под власть Франции, если бы против такого решения единодушно не высказались австралийские власти, весьма враждебно относившиеся к тому, что Новая Каледония была выбрана местом, где отбывали каторгу преступники. Они опасались, что и с Новыми Гебридами произойдет то же самое, а потому изо всех сил противились передаче архипелага под власть Франции. Два выдающихся офицера, два достойных представителя французского военно-морского флота недавно посетили и изучили Новые Гебриды. То были капитан-лейтенант Робержо, ставший ныне капитаном I ранга, и доктор Монен, военный медик. Этот архипелаг невелик, его площадь составляет примерно 13 200 квадратных километров, а население — около 70 000 человек[291]. Край этот полон очарования, и он произвел неизгладимое впечатление на обоих офицеров, красноречиво описавших свои ощущения. «Все возвышенности, — писал доктор Монен, — покрыты чудесной растительностью, как мы выяснили впоследствии, кокосовыми пальмами. Кроме того, мы заметили, что, хотя небо очистилось и туман над морем рассеялся, во многих местах над островом курились легкие облачка. Белые столбы то ли пара, то ли дыма поднимались над верхушками деревьев. Вскоре мы узнали о происхождении этих сгустков пара: оказывается, на острове существует большое количество фумарол, то есть мест, где из расселин и трещин время от времени (с некоторыми интервалами) вырывается со свистом и шипением горячий пар, а то и фонтан кипящей воды. Пожалуй, на всем побережье нельзя найти ни единого участка, где бы мы не наблюдали сие интересное явление природы. Зрелище это тем более любопытно, что иногда столб пара вырывается прямо из какой-нибудь прибрежной лагуны или возникает под купой кокосовых пальм, которые стоят здесь зеленые и свежие среди облака пара. Нигде на Новых Гебридах мы не видели плантаций сахарного тростника и никаких сооружений, которые свидетельствовали бы о том, что туземцы умеют извлекать из него сладкий сок, а затем выпаривать его, чтобы получить сахар. Повсюду они употребляют тростник в свежем виде, впиваясь зубами прямо в сочную палку. Они жуют сладкую сердцевину, а остатки выплевывают, усеивая этими кусочками все тропинки в лесу и окрестностях деревень. Вообще же число раскорчеванных и обработанных участков очень невелико, да и сами они довольно малы. Их хозяева с трудом борются с сорняками и ползучими растениями, которые стремятся отнять у человека уже отвоеванный у дикой природы клочок земли. Природа же, предоставленная самой себе, с удовольствием демонстрирует удивленному путешественнику вырастающие на этих сырых почвах самые диковинные, самые редкие и самые замечательные свои создания. Здесь всегда очень тепло, да и влаги предостаточно, поэтому тут в изобилии произрастают древовидные папоротники, разнообразные пальмы, панданус и бамбук. Здесь встречаются деревья с очень ценной древесиной: таманус, железное дерево, тик, араукария, а также фикус-каучуконос. Причем последние занимают довольно большие пространства. Дерево это выглядит весьма занятно: из земли вверх устремляются прямые и гладкие корни, похожие на колонны. Они поддерживают ствол, на котором покоится крона, состоящая из горизонтально расположенных веток. Короче говоря, это растение напоминает гигантский зонтик, под которым произрастают самые нежные мхи и кусты с листьями в крапинку, с яркими цветами на ветвях[292]. Практически везде стволы деревьев исчезают за плотной завесой, образуемой переплетенными ползучими растениями и гибкими лианами, которые достигают вершин, а затем ниспадают до земли красивыми гирляндами. Богатство и пышность того, что мы видим прямо перед собой, ни в коей мере не умаляет красоты того, что находится на горизонте, где высится цепь крутых холмов, теряющихся в синеватой дымке. В лесу стоит неумолчный шум водопадов. Ажурные хлопья пены сверкают и переливаются на солнце словно затканные золотом и серебром кружева. Сотни ручейков бегут по плантациям и образуют в каждой долине речку. К несчастью, некоторые из этих потоков несут с собой ил, тину, мелкую гальку, так что в их устьях образуются отмели и очень вредные для здоровья людей болота, поросшие мангровыми деревьями. Другие речушки, почти дойдя до моря, вдруг резко изменяют направление и несут свои воды параллельно морскому берегу, постоянно встречая на своем пути преграды в виде песчаных дюн, которые долго не дают пресной воде смешаться с морской соленой водой». «Хижины, — повествует господин Робержо, — стоят небольшими группами, по четыре-пять, окруженные частоколом высотой примерно в восемьдесят сантиметров. Все они повернуты фасадом к центру площадки, и перед входом в дом вбиты несколько кольев с укрепленными наверху высушенными и побелевшими на солнце свиными челюстями. Так как свиньи считаются на острове главным богатством, то хозяин дома как бы хвастается тем, сколько животных он и его домочадцы съели. Мертвых хоронят прямо около хижин, а земля, покрывающая бренные останки, украшена сокровищами, принадлежавшими умершему: бутылками, набедренными повязками, оружием, кабаньими клыками. На небольшом удалении от хижин мы увидели множество вкопанных в землю стволов деревьев, причем одни стояли прямо, другие же были вкопаны под определенным углом. В каждом стволе наверху были проделаны две сквозные дыры таким образом, что через них можно было бы проткнуть довольно толстую палку и соединить стволы попарно. Внутри эти стволы абсолютно полые, а на внешней поверхности у них проделана глубокая борозда, заканчивающаяся внизу и наверху двумя окружностями, чтобы стволы не лопнули при вибрации. Левая сторона сих диковинных музыкальных инструментов украшена резьбой с замысловатыми узорами, зато правая — совсем гладкая, так как именно по ней наносят удары ладонью или специальной колотушкой из маисовых листьев. Мы насчитали 17 таких изукрашенных стволов, что составляло целый оркестр». Как и большинство океанийцев, жители Новых Гебрид были и остаются каннибалами. Путешественники видели у дверей жалких хижин отвратительные трофеи, представляющие собой высушенные и изукрашенные странными узорами человеческие головы, и хозяева домов явно выставляли их напоказ для того, чтобы возвыситься в глазах своих соплеменников. «Однако, — писал доктор Монен, — островитяне редко нападают, так сказать, в индивидуальном порядке. Но вот войны между деревнями вспыхивают довольно часто. Они сопровождаются массовыми убийствами раненых и пленных, которых затем обе враждующие стороны поедают вместе во время пира в честь заключения перемирия. Горе тем несчастным обитателям соседнего острова, которые окажутся в пироге, застигнутой штормом в море и выброшенной на берег Новых Гебрид! Чужаков выследят и непременно убьют. Любой иностранец, в том числе и белый, подвергает свою жизнь опасности, если окажется в этих краях без оружия. И если мы и смогли «безнаказанно» посетить некоторые места на острове Танна, чьи жители славятся своей жестокостью, а также другие столь же «гостеприимные» островки, то только потому, что нас было много и мы были вооружены до зубов, а не благодаря нашим богатым дарам и выражениям сердечной дружбы. Вообще новогебридцы не могут похвастаться тем, что у них установились добрые отношения с представителями так называемых цивилизованных народов. К сожалению, следует признать, что туземцы имеют веские основания относиться к незваным гостям с подозрением и опаской, ибо слишком часто белые посещали Новые Гебриды не с научной целью и не для осуществления честной торговли, а с целью разграбления природных богатств островов и жестокого угнетения местного населения. Первыми на Новые Гебриды высадились авантюристы и разбойники, желавшие только одного: добыть санталовое дерево, столь высоко ценимое в Китае. Они не задумываясь расстреливали туземцев, когда те пытались воспротивиться вырубке лесов. Следом за ними на Новых Гебридах появились вербовщики «свободных рабочих», на деле оказавшиеся настоящими работорговцами. Они вербовали туземцев, якобы заключая с ними временный контракт, а затем направляли живой товар на плантации Австралии, откуда, разумеется, бедняги не могли вернуться. Правда, еще задолго до того, как на Новых Гебридах появились европейцы, обитатели крупных островов Малезии частенько появлялись здесь и брали новогебридцев в плен, привозили к себе на родину и превращали в рабов. Китобои тоже не стеснялись пополнять команды за счет завлеченных хитростью на борт туземцев, которых они потом удерживали силой. Путешественники, относившие себя к числу людей совестливых и порядочных, тоже, казалось, находили оправдание своим действиям, ибо считали новогебридцев представителями низшей расы, а потому полагали себя совершенно свободными от каких-либо законов по отношению к ним. Эти люди, питавшие добрые чувства к более симпатичным и изящным полинезийцам, безо всяких угрызений совести похищали детей новогебридцев, а также юношей и девушек. А некоторые добропорядочные европейцы без колебаний уничтожали целые толпы дикарей, причем очень часто без всякого повода, иногда даже ради забавы». С другой стороны, доктор Монен и Робержо отмечали, что климат Новых Гебрид оставлял желать лучшего. Местность здесь была настолько нездоровой для европейцев, что это обстоятельство могло помешать попыткам белых обжить острова и разбить здесь плантации. Мнение доктора Монена, большого знатока в данной области, было весьма категоричным. «Новые Гебриды по своему географическому положению относятся к зоне, которая по справедливости считается нездоровой. У нас имеются веские причины полагать этот край весьма неблагоприятным для здоровья европейцев, правда, из-за вулканического происхождения островов и большой рыхлости почвы климат здесь все же чуть лучше, чем мог бы быть. Большинство из тех туземцев, с коими мы вступали в контакт, показались нам людьми крепкими и здоровыми, но мы почти не встречали стариков, а детишки выглядели болезненными и рахитичными. Это навело нас на мысль, что здесь действует жестокий механизм естественного отбора и что немногие дети достигают подросткового возраста, не говоря уже о зрелости. Те, кто побеждает в этой игре со смертью, обязаны своим спасением тому образу жизни, который они ведут, то есть почти полному безделью, а также чувству самосохранения, которое заставляет их укрываться от непогоды в хижинах. Туземцы очень быстро бы вымерли, если бы стали заниматься столь тяжелой работой, как раскорчевка леса и освоение земель. Из всего вышесказанного следует вывод, что туземцы сами не способны освоить природные богатства островов, ибо такая работа слишком тяжела для них и грозит им полным вымиранием». «Это, однако, — писал в заключение доктор Монен, — не помешало бы добиться первоначальных успехов тем европейцам, которые пожелали бы поселиться на Новых Гебридах с целью добычи природных ископаемых или производства сельскохозяйственной продукции. Ведь край этот щедро одарен природой. Ведя свойственный белым образ жизни и проявляя свою обычную активность, европейцы быстро взяли бы верх над туземцами, пугливыми и плохо вооруженными, число которых постоянно бы уменьшалось. Однако, мне кажется, европейцам не удалось бы основать здесь настоящую колонию. Они вынуждены были бы отступить, так как вскоре им пришлось бы самим заниматься обработкой земли, ибо некого бы стало нанимать на сельскохозяйственные работы, да и принуждать было бы некого».
ГЛАВА 13
Исследователи Маркизских островов: капитан Маршан, адмирал Дюпети-Туар, господин Жарден.Наши читатели, надеюсь, не забыли имени блистательного испанского мореплавателя Альваро Менданьи де Нейра, который в 1595 году открыл в Тихом океане к югу от экватора множество островов. Названные Маркизскими в честь маркиза Мендосы, бывшего в те времена вице-королем Перу, эти острова оставались, к сожалению, неизвестными для европейцев на протяжении еще ста пятидесяти лет из-за величайшей скрытности испанцев и их нежелания публиковать свои карты. В 1774 году в южной части архипелага побывал капитан Кук. Кроме уже открытых Менданьей четырех островов он обнаружил еще одинокую скалу. Несколько лет спустя, в июне 1791 года, капитан Ингрэм открыл северо-западную часть архипелага. Он назвал острова именем Джорджа Вашингтона. Через месяц капитан французского судна «Солид» («Крепкий»), некто Маршан, посетил Маркизские острова и дал самому крупному из них (именуемому на местном наречии Нуку-Хивой) имя владельца корабля господина Бо. Он торжественно объявил архипелаг французским владением и нарек его «Островами Революции». В 1813 году американец, капитан Портер, избрал залив Тайшае на острове Нуку-Хива в качестве центра военных операций против английских крейсеров. От имени своего правительства он объявил острова владением Соединенных ШтатовАмерики, а затем отбыл, оставив небольшой гарнизон. Солдаты вели себя по отношению к туземцам настолько отвратительно, что возбудили к себе живейшую ненависть. Англичанин Уильсон подбил туземцев на бунт, и в результате кровавой бойни почти все американцы погибли. В последующие годы на Маркизские острова часто заходили китобойные суда. 1 мая 1842 года контр-адмирал Дюпети-Туар[293] объявил архипелаг французским владением. После долгой борьбы и кровопролитных сражений все племена в конце концов были вынуждены покориться и признать полную власть Франции. Почти все мореплаватели, когда-либо стоявшие на якоре около Маркизских островов, описывают местных жителей как людей очень красивых. Да они и на самом деле таковы: среднего роста, хорошо сложенные, ловкие, гибкие; движения их изящны. Они очень пропорционально сложены, руки у них маленькие, но крепкие, лица скорее овальные, а не круглые, как у большинства океанийцев, глаза черные, опушенные длинными ресницами, носы орлиные, а зубы очень белые и ровные. Волосы у туземцев черные, и женщины смазывают их жиром, добытым из кокосовых орехов, а затем высоко приподнимают на затылке или же распускают по плечам. Кожа у маркизцев приблизительно того же оттенка, что и у арабов, обитающих в Алжире. Вожди и жрецы относятся к привилегированному классу общества. Они являются «табу» для простых смертных. К этой категории относятся и так называемые «атона», то есть лица, которым приписывают способность общаться с божествами и которые вроде бы даже обладают божественной силой. Живой «атона» рассматривается его собратьями как человек, обладающий сверхъестественной властью над предметами, животными, людьми и даже стихиями. Чаще всего «атона» становится вождем. Его соплеменники внешне не проявляют к нему особого почтения, не преподносят ему даров и не избавляют от трудов, ибо вождь сам управляет своей пирогой, строит дома, ловит рыбу, чтобы прокормить семью, и смешивается с толпой соплеменников, а не выступает впереди них. Но он сам и его жилище считаются «табу», то есть неприкосновенными. Надо сказать, что «атона» избираются из числа так называемых «таона», то есть колдунов и знахарей, имеющих огромное влияние на жителей Нуку-Хивы и других островов. Все «таона» после смерти становятся «атона», а некоторые достигают сей чести и при жизни, как мы уже говорили выше. Когда один из «атона» умирает, то, чтобы задобрить дух умершего, совершаются человеческие жертвоприношения, причем чем большей властью располагал покойник, тем больше жертв ему приносят. К числу людей, являющихся «табу» для простых смертных, относятся также «уху», «моха», «ноти-хахо», в обязанности которых входит помогать колдунам и знахарям в их многотрудном деле. К низшему классу относятся те, кто не владеет землей, а также не является хорошим воином или умелым строителем домов и пирог. Разумеется, класс этот гораздо более многочисленный, чем привилегированный. Он тоже подразделяется на несколько разрядов. Например, так называемые «пейо-пекейо», которые существуют только за счет подачек от вождей, ибо играют при них роль преданных слуг: обрабатывают землю, собирают урожай, занимаются приготовлением пищи. Основным занятием «авериа» является рыбная ловля. «Коки» или «кайуа» — своеобразная разновидность бродячих трубадуров, чрезвычайно заботливо относящихся к своему внешнему виду. В стремлении быть красивыми они доходят до того, что отбеливают кожу при помощи едкого сока растения, называемого на местном наречии «попа». Они не пользуются никаким уважением в обществе из-за того, что выглядят очень женственно, да и привычка следить за собой и ухаживать за своей кожей считается среди островитян-воинов чем-то недостойным. И наконец, следует упомянуть «хаона», которые стоят на общественной лестнице еще ниже, чем «коки». Они добывают себе средства к существованию обработкой земли, ибо живут только ее плодами. Когда «таона» требуют принести богам жертву, то чаще всего жертвенным животным становится кто-либо из «хаона». Право собственности на землю имеют только представители местной знати, но иногда вожди наделяют таким правом кого-либо из простых смертных, если он является признанным мастером-оружейником или умеет очень хорошо строить пироги, а также изготавливать рыболовные снасти. Обитатели Маркизских островов очень бережно хранят свои традиции. Обычаи и обряды этого народа запечатлены в священных гимнах, которые «таона» знают наизусть и передают из поколения в поколение. В этих песнопениях рассказывается о происхождении народа, населяющего архипелаг, а также о многочисленных путешествиях обитателей Нуку-Хивы и других островов по всему океану к неведомым берегам. Среди туземцев существует обычай, свято соблюдаемый повсюду и заключающийся в том, что мужчина, взявший в жены девушку из соседнего племени, может совершенно свободно ходить в ее селение даже в то время, когда два племени находятся в состоянии войны. Он может передвигаться по вражеской территории, абсолютно ничего не опасаясь, ибо его личность неприкосновенна, в особенности если он состоит в близком родстве с вождем той или другой деревни. Часто такому человеку поручают отправиться в соседнее селение, чтобы объявить войну или предложить заключить мир. Иногда даже европейские мореплаватели прибегали к помощи этих привилегированных персон для того, чтобы начать переговоры о мире, если пришлось применять оружие в ответ на какие-либо враждебные действия островитян. В этом весьма далеком от совершенства обществе свобода личности практически ничем не ограничена. У обитателей Маркизских островов нет каких-либо гражданских законов или установлений, регламентирующих поведение человека, как нет и определенных наказаний, полагающихся за совершение того или иного преступления. Из этого следует, что действиями человека здесь руководят лишь его наклонности (дурные или хорошие), чувства и желания. Островитяне признают лишь обязанности, накладываемые на них родством. Как я уже говорил, у них нет свода законов, ни письменного, ни хотя бы устного. Им его заменяют религиозные верования, чаще всего выражающиеся понятием «табу». Следует сказать, что «табу» существует на всех островах Океании, от Каролинских островов до Новой Зеландии. Словом «табу» обозначают священный (или посвященный богам) предмет, человека или животное, к которому запрещено прикасаться. В некоторых случаях на предмет или человека, объявленного «табу», нельзя даже смотреть. Срок, на который тот или иной человек или предмет объявляется «табу», бывает очень различен. Правом (и большой привилегией) накладывать «табу» наделены только «таона». Именно благодаря существованию этого понятия люди, принадлежащие к привилегированному классу, смогли закрепить за собой собственность на землю. Существование строгих запретов не гарантирует, однако, собственников земли от разорительных набегов и даже от попыток захватить участок. И часто такие попытки бывают успешны: сильный завладевает собственностью более слабого, могущественный вождь отбирает землю у ребенка, своего родственника. Итак, сила решает все, и человек, одержавший верх, мгновенно попадает в высший класс. Животный мир архипелага очень беден. Говорят, что в то время, когда здесь появились первые европейцы, единственными представителями фауны тут были свиньи и крысы. Из насекомых, пожалуй, одно заслуживает того, чтобы о нем сказать отдельно: это ноно, москит, чей укус чрезвычайно болезнен. В качестве эффективного болеутоляющего рекомендуют лимонный сок. Из полезных растений на острове растут маис, бананы, батат, разнообразные тыквы, табак, таро, сахарный тростник. На Нуку-Хиве из корня растения под названием куркума получают желтую краску. Коренные жители Маркизских островов умны и доброжелательны, но в то же время все они склонны к пьянству, апатичны, малообщительны. Женщины кокетливы, следят за собой и очень часто сохраняют красоту (иногда просто поразительную) до весьма почтенного возраста. На островах очень распространен обычай усыновления, и есть такие семьи, где дети становятся объектом настоящей спекуляции, ибо родители уступают, или, скорее, продают, своих сыновей и дочерей тем, кто желает усыновить или удочерить их. В прошлом (впрочем, в весьма недалеком) мужчины ходили совершенно голые, а женщины прикрывались небольшим куском ткани. Сегодня у островитян вошли в моду штаны и рубахи. Когда туземцы отмечают какой-нибудь праздник, они водружают себе на головы некие подобия диадем из зубов морской свиньи[294], пышные султаны из птичьих перьев, а на руки и на ноги надевают браслеты, которые служат дополнением к излюбленному украшению островитян — татуировке. Обитатели Маркизских островов проводят время в основном в приятной праздности, столь дорогой сердцу тех, кто живет в жарком климате. Они работают ровно столько, сколько нужно для того, чтобы обеспечить себе и своей семье средства к существованию, и соглашаются сделать лишнее усилие, только соблазнившись порцией спиртного или каким-либо предметом фабричного изготовления, будь то ткань, гвоздь или топор. Следует сказать, что эта рабочая сила не очень-то и нужна, ибо колонисты-европейцы завезли на острова китайских кули, которые разбили здесь плантации хлопчатника, и дела на этих плантациях идут с каждым днем все лучше и лучше. Труд подданных Поднебесной империи используется также и при добыче полезных ископаемых, которыми богат этот край, например при добыче железной руды. Слово Священного Писания впервые прозвучало на Маркизских островах в 1797 году, когда капитан американского брига «Дафф» доставил сюда миссионеров Крука и Харриса. Когда на островах обосновались французы, задачи, стоявшие перед католическими и протестантскими проповедниками, несколько упростились. Некоторые островитяне приняли христианство. Хотя, конечно, сила традиционных верований еще очень велика. Мы уже знаем, какое великое, можно сказать основополагающее, значение для всего сообщества островитян имеет понятие «табу». Это своего рода краеугольный камень, на котором зиждется вся социальная структура местного общества. Обряд, по которому какой-либо человек объявляется «табу», чрезвычайно любопытен и живописен. Он достоин того, чтобы мы с ним познакомились. Обратимся к запискам господина Жардена, одного из последних исследователей островов. Он рассказывает о том, как сына великой жрицы объявили «табу». «В течение многих дней ребенок, призванный сыграть главную роль в предстоящем празднестве, был покрыт с ног до головы какой-то ярко-желтой краской растительного происхождения (вероятно, добытой из куркумы). Бедняжку держат в полутемной хижине, тщательно скрывая от солнечных лучей, чтобы кожа его стала более светлой. Головка мальчика была тщательно выбрита, и на ней сохранились лишь две пряди волос, перевязанные ленточками. Когда наступило утро праздничного дня, ребенка стали одевать для торжественной церемонии. Его голову туго обвязывают широкой и толстой полосой белой тапы[295]. Она должна служить как бы основанием для всего сложного сооружения, которое бедный малыш будет вынужден тащить на себе. По обеим сторонам маленького личика свешиваются укрепленные с помощью веревочек украшения из слоновой кости толщиной в полдюйма и размером с визитную карточку, испещренные тонкой резьбой. На затылке укрепляют два султана из перьев, взятых из хвоста птицы фаэтон. Черные перья той же птицы образуют пышный воротник, ниспадающий на плечи красивым полукругом. Надо лбом мальчика укрепляют великолепную таваху, то есть роскошное украшение из длинных перьев черного петуха. Сия ритуальная принадлежность весьма похожа на распущенный хвост индюка, ухаживающего за индюшкой, хотя, конечно, уступает ему в богатстве красок. Следует сказать, что любой богатый канак заплатил бы многие сотни франков за таваху из павлиньих перьев. В центре тавахи укреплен султан из белых перьев, столь высоко ценимых жителями Нуку-Хивы. Они ниспадают на лоб ребенка белоснежными хлопьями. Но это еще не все! К уже описанному пышному и громоздкому сооружению прибавьте еще диадему шириной в ладонь, сделанную из коры какого-то дерева, на которой специальным составом укреплены красные горошины. Вот теперь вы имеете представление о том, как выглядит головной убор бедного маленького канака. Ах, да! Совсем забыл! На затылке укреплен еще один кусок тапы, сложенный в виде веера. Он, видимо, призван выполнять роль некоего противовеса для тяжелого сооружения, укрепленного надо лбом ребенка. Само облачение, скрывающее тело мальчика, столь же необычайно, как и головной убор. Шею украшает ожерелье из кабаньих клыков. Второе ожерелье, еще большего размера, чем первое, образовано из бутонов гардении[296], связанных в пучки и завернутых в листья папоротника (весьма напоминающего тот, что во Франции называется ужовником). От этого ожерелья исходит очень приятный запах. Спина мальчика покрыта сложенным в виде веера куском тапы, как тот, что прикрывает затылок. Ребенок подпоясан поясом из такой же материи. И каким поясом! Скорее это не пояс, а кусок материи длиной в несколько метров, образующий на теле мальчика валик толщиной в полфута, а то и более. Ничто не поддерживает эту тяжелую массу, так что бедный малыш вынужден все время поднимать ее вверх, так как она под действием собственной тяжести постоянно сползает, хотя, когда на него только начинали накручивать тапу, то ее сильно затягивали. Островитянам свойственно определенное кокетство, и любящие родители соревнуются в том, кто из них навертит больше тапы на несчастного маленького мученика. Но я еще не до конца описал костюм ребенка, которому предстоит стать «табу». От основания «веера», украшающего спину ребенка, отходят четыре широкие ленты белой и серой тапы, наложенные одна на другую. Они столь длинны, что тянутся по земле, словно двух-, трехметровый шлейф, что является для ребенка еще одним неудобством. Хорошо еще, что это подобие придворной мантии торжественно несут взрослые канаки, которые пристально следят за всеми движениями мальчика и постоянно оказываются позади него. Пальцы рук украшены маленькими султанчиками из белых перышек с двумя длинными черными перьями птицы фаэтон в самом центре. На ногах малыша мы тоже видим диковинные украшения: какие-то непонятные черные ленты с длинной черной бахромой обвивают худенькие лодыжки. Такие же ленты с бахромой, отдаленно напоминающей кудрявый хвостик жеребенка, ниспадают с плеч мальчика и почти касаются земли. Так был наряжен сын Матаевы в тот знаменательный день. Кусок тапы, обмотанный вокруг его талии, образовывал нечто вроде «орденской ленты», так как был перекинут через плечо за спину, где умелые руки свили из него жгут, и этот жгут, украшенный пучочками цветов гардении, волочился по земле. Один из вождей, приглашенных на праздник в качестве почетных гостей, торжественно выступал во главе процессии, страшно гордясь своим украшением: на груди у него поблескивало маленькое зеркальце в бледно-голубой рамке с красными и зелеными полосочками. Зеркальце это стоило у нас на родине не более пятидесяти сантимов, но у дикарей подобные украшения ценились очень высоко, поэтому его обладателю было чем гордиться. На площади, около самого алтаря, собрались в кружок канаки. Они попеременно произносили какие-то речи, размахивая своими веерами из листьев или перьев. Я однажды держал в руках такой веер и могу сказать, что его ручка обычно делается из железного дерева и украшается искусной резьбой. Все присутствующие внимательно выслушивали очередного оратора и выражали ему свое одобрение сильными взмахами вееров, ужасными гримасами и судорожными приплясываниями на месте. Обряд возведения ребенка в ранг высокопоставленной персоны начался. Все участники торжественной церемонии уселись на корточки, положили свои веера на землю и, ритмично хлопая в ладоши, затянули какую-то довольно невыразительную протяжную песню. Пение сопровождалось звуками, извлекаемыми из трех больших тамтамов[297], сделанных из шкур гигантских акул. Музыканты так старательно били ладонями по своим инструментам, что вскоре крупные капли пота уже выступили у них на лбах. Когда песня была близка к концу, некоторые певцы с такой силой хлопнули в ладоши, что этот сухой, трескучий звук перекрыл голоса поющих, и хор мгновенно смолк. Время шло, и все почувствовали, что пора отдохнуть. Бедного малыша посадил себе на плечи крепкий высокий канак и унес прочь. Остальные участники праздника с видимым удовольствием стали избавляться от праздничных одежд, весьма неудобных и стеснявших движения. И певцы, и зрители приступили к самой приятной части церемонии: к обильному пиршеству и отдыху в тени деревьев. Мы тоже направились к хижине, где завтракали утром, ибо там нам предстояло воздать должное угощению, которое повелела приготовить для нас Матаева. Главным блюдом на пиру был поросенок, приготовленный самым распространенным у канаков способом, который заключается в том, что тушу животного укладывают в яму, выложенную раскаленными камнями, заваливают сверху такими же раскаленными камнями, а затем насыпают толстый слой земли, чтобы жар внутри этой «печи» сохранялся как можно дольше. Наш поросенок, предварительно начиненный плодами хлебного дерева и завернутый в листья, чтобы ни одна песчинка не попала на нежное мясо, был просто превосходен…» В заключение следует сказать несколько слов о климате Маркизских островов. Я считаю, что место это достаточно здоровое для европейцев, так как здесь дуют свежие морские ветры, благотворно влияющие на атмосферу, так как миазмы, выделяемые небольшими болотцами, очень быстро рассеиваются. Европейцы вполне спокойно могут переносить местный климат, а следовательно, они могут здесь заниматься сельским хозяйством и развивать промышленность. Но кому придет в голову отправиться искать счастья на Нуку-Хиву?!..
М. Г. ВЕРШУУР
Господин Вершуур, заядлый путешественник и очень добросовестный исследователь, задумал в 1888 году совершить путешествие вокруг света, употребив таким образом с пользой свое свободное время и деньги, которыми он располагал. Но господин Вершуур вовсе не собирался «промчаться галопом по Европам», как делали до него многие, для коих главной целью было преодолеть как можно большее расстояние за самый короткий срок. Как настоящий любитель всего неизведанного, господин Вершуур направлялся туда, куда манило его пылкое воображение. Он изучал людей, предметы быта, обычаи, нравы, пейзажи и при этом никогда не терял хорошего расположения духа. Он посетил Австралию, Новую Зеландию, Новую Каледонию, Новые Гебриды, Южную Америку, а затем, собрав воедино путевые заметки, издал интересную книгу под названием «У антиподов». Книга эта написана легко и живо, в ней приводится много неизвестных ранее фактов, в ней все — истинная правда. Мы обратимся к тем страницам книги господина Вершуура, на которых он описывает свое пребывание на островах Фиджи. После посещения Новой Зеландии Вершуур поднялся на борт небольшого судна, перевозившего четыре сотни баранов, нисколько его не стеснявших, и отправился на Фиджи. В состав архипелага входят 255 островов и островков, треть из которых обитаемы. Фиджи — колониальное владение Британской империи, и управление всеми делами на островах осуществляется напрямую из находящегося в Лондоне департамента[298]. Среди островов архипелага есть как крупные, так и совсем крошечные острова, едва появившиеся из морской пучины атоллы и одинокие скалы. Главный остров архипелага Вити-Леву размером почти равен Корсике[299]. На нем расположена столица архипелага, город Сува. Второй по значению город этой британской колонии, Левуко, располагается на восточном берегу острова Овалу (Овалау), примерно в шестидесяти километрах от Сувы. Рядом с островом Вити-Леву находятся острова Вона-Леву (Вануа-Леву) и Тавуини (Тавеуни). Последний интересен тем, что он явно вулканического происхождения, и на нем путешественники могут осмотреть кратер потухшего вулкана. За архипелагом закрепилось название «Фиджи», хотя ранее его именовали «Вити», то есть так, как произносили название главного острова туземцы. Теперь же это слово, означающее «большой», сохранилось в названии самого крупного острова архипелага. В 1859 году последний король Фиджи Какобау[300] (или Такомбау, как говорят туземцы) пожелал передать королеве Англии суверенитет над архипелагом, на определенных условиях, разумеется. Сей щедрый дар сначала, правда, был отвергнут, но в 1874 году передача власти все же состоялась, и Великобритания стала полновластной хозяйкой на островах. До оккупации островов англичанами фиджийцы были ярыми поклонниками каннибализма, но за последние лет десять — двенадцать их нравы несколько улучшились. Нравоучения, читавшиеся миссионерами на протяжении трех четвертей века, дали свои плоды, но не без помощи силы и твердости колониальных властей, способствовавших завершению процесса выведения местного населения из состояния абсолютной дикости. Быть может, кое-кому и хотелось бы отведать мяса своего собрата в виде жаркого, поданного с традиционным гарниром из сладкого батата, но англичане не одобряли подобных кулинарных изысков, и волей-неволей местным гурманам — любителям человечины пришлось покориться и забыть о своих пристрастиях. Как и большинство океанийцев, фиджийцы хорошо сложены и крепки. Они выше ростом, чем канаки и жители других близлежащих островов. Как и у обитателей Соломоновых островов, у фиджийцев есть привычка покрывать свои черные волосы толстым слоем извести, в результате чего они приобретают рыжеватый оттенок, довольно неприятный, надо сказать, и начинают мелко-мелко виться. Пышная шевелюра, тщательно, с огромным старанием расчесанная при помощи специальной щетки и составляющая предмет особой гордости дикарей, напоминает огромную губку, водруженную на макушку. А фиджиец, страшно довольный своим природным головным убором, который защищает его от палящих лучей солнца, берет в руки палку и с видом заправского щеголя отправляется гулять по улочкам жалкого городишка или крохотной деревушки, причем ходит этот франт-океаниец вразвалку. Когда у молодого местного повесы нет подходящей трости, а он претендует на некоторую элегантность и светский лоск, тогда он выходит на прогулку с ручкой от зонтика, выпрошенной у какого-нибудь европейца. Если же наш франт по натуре консерватор, то тогда вместо палки у него в руке оказывается дедовская палица его предков. К несчастью, близкое соседство с фиджийцем производит пренеприятное действие на органы обоняния любого европейца (тем паче если фиджийцев будет несколько, разумеется, при том условии, что этот европеец не является любителем запаха прогорклого жира, добытого из кокосовых орехов, которым островитяне щедро натираются с головы до пят). Следует отметить, что фиджийцы далеко не одиноки в своем пристрастии к аромату, к которому никакие капризы моды не заставят нас привыкнуть, но фиджийцы в этом своем пристрастии не знают меры и намного перещеголяли своих собратьев с Зондского архипелага и с других островов Океании, ибо любой из них одним своим присутствием способен отравить все, что его окружает, любой предмет, которого он коснется. Климат здесь в основном здоровый и приятный, ибо благодаря наличию морского ветерка на островах не бывает изнуряющей жары, которая свойственна тропическим странам. Год здесь делится как бы на два сезона: жаркий и умеренный. Первый начинается в октябре и длится до мая, его еще можно назвать сезоном дождей. Напротив, время с мая по октябрь можно назвать засушливым сезоном. С декабря по апрель над островами Фиджи проносятся разрушительные циклоны. Их последствия бывают ужасны. Они сметают с лица земли города и деревни, опустошают поля, уничтожают урожай и посевы, ломают деревья, топят пироги, сея повсюду разрушения и смерть. Быть может, это единственное темное пятно на картине истинного океанийского рая, каким является архипелаг Фиджи. И всякий, кто живет на этих благословенных островах, находит, что сие неудобство с лихвой компенсируется приятной, легкой жизнью в неге и безделье, которая составляет столь разительный контраст с суровой и полной яростной борьбы за существование жизнью европейских пролетариев.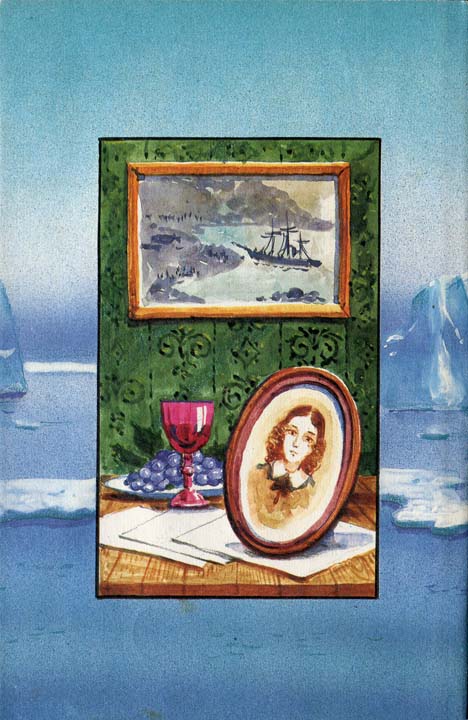
Луи Буссенар ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ АМЕРИКА
ГЛАВА 1
ХРИСТОФОР КОЛУМБ
У историков нет единого мнения ни о годе, ни о месте рождения Кристофоро Коломбо[1]. Одни утверждают, что он родился в окрестностях Генуи в 1436 году, другие настаивают, что действительно около Генуи, но в 1446 году, и, наконец, третьи, что в самой Генуе в 1456 году[2]. Впрочем, для нас не столь важно, где появился на свет этот великий человек. Такие люди — граждане Мира! Отец знаменитого путешественника, Доменико Коломбо, как и все его предки, был простым чесальщиком шерсти и кроме Кристофоро, старшего ребенка в семье, имел еще двух сыновей, Бартоломео и Джакомо, и двух дочерей[3]. С ранних лет ребенок проявил живой интерес к морскому делу, который семья, несмотря на свои скромные средства, всячески поддерживала. Мальчик оказался очень способным, и его послали в Павию изучать в местном университете геометрию, географию, астрономию и навигацию[4]. Но Доменико Коломбо не имел достаточно средств, чтобы оплачивать учебу сына, и совсем юный Кристофоро должен был вернуться в родительский дом и с утра до вечера работать в отцовской мастерской. Впрочем, он недолго занимался этим ремеслом и в четырнадцать лет отправился в свое первое плавание[5]. Позже, когда Колумб стал знаменит, льстецам показалось неприличным простое происхождение их кумира, и они составили для него генеалогическое древо с корнями, уходившими в знатную плезанскую[6] семью. Кристофоро, единственным пороком которого была гордыня, не протестовал против вздорных вымыслов изобретательных поклонников. Ему нравилось произносить на латинский манер собственное имя по моде той эпохи, и Коломбо становится Колумбусом. В Испании его назовут Кристобалем Колоном. Известно, что он, страстно любя географию, всю раннюю юность провел в плаваниях, осваивая с неизменным пылом все трудности профессии, и стал одним из лучших моряков своего времени. В Португалию тогда стекались все, кого привлекали опасности больших плаваний, и в 1476 году Христофор Колумб, которому, по утверждению заслуживающего абсолютного доверия Вивьена де Сэн-Мартена, было около тридцати лет, обосновался в Лиссабоне[7], что позволяет считать 1446 год истинной датой рождения знаменитого мореплавателя. Отсюда он отправился, неизвестно в каком качестве и с какой целью, в экспедицию по северным морям. Однако море не было его единственной страстью, и в перерывах между плаваниями будущий знаменитый путешественник изучал космографию. Постоянная бедность не позволяла ему полностью отдавать все свободное время любимой науке и вынуждала рисовать для моряков карты и глобусы, что тогда, кстати, требовало незаурядных знаний и морского опыта. Таким образом Кристофоро зарабатывал немного денег, чтобы поддержать семью — к тому времени он был уже женат на дочери лоцмана Перестрелло[8] и имел сына. Мрачное, почти без надежд существование не могло убить грандиозные мечты бедного моряка. Склоняясь над картами, он мысленно бороздил моря и рисовал в своем воображении неизвестные земли, населенные необычными людьми и страшными животными. Мысль о дерзком путешествии, обессмертившем его имя, пришла к Колумбу скорее всего, когда он рисовал морские планисферы и запоем читал произведения философов (как тогда называли исследователей и ученых). К космографическим исканиям, из которых возник первый росток этой идеи, примешивались иногда мистические образы, порождаемые страстной набожностью. Но в конечном счете побудительным мотивом к решению, по его собственному выражению, «искать Восток через Запад», то есть открыть западную часть Азии, стал логический вывод о ее существовании, вытекающий из доктрины шарообразной формы Земли, к которому он пришел, изучая труд епископа д’Альи «Картина мира»[9], лишь повторившего теорию Аристотеля об антиподах обитаемой земли[10]. Итак, все помыслы и действия Кристофоро уже давно направлены к единственной цели: путь к Восточным Индиям через Запад. Огромное влияние на его мышление оказывал проживавший тогда во Флоренции очень почитаемый всеми математик Тосканелли, к которому мореход обратился в 1480 году с письменной просьбой высказаться по этому поводу. Ученый не замедлил ответить, прислав к тому же нарисованную собственной рукой карту полусферы, лежащей напротив нашего Старого Света между Африкой и Азией[11]. «В настоящем письме, — сообщает он, — предоставляю Вам сведения о пространстве между Западом и началом Индий. Я отметил расположенные по пути острова и местности, где можно пристать, если из-за встречных ветров или какой-либо другой случайности придется искать убежище. Не удивляйтесь слову “Запад” применительно к стране бакалейных лавок, называемой среди нас Левантом; те, кто продолжат плыть на запад, найдут там те же самые места, которые идущие по суше на восток, находят на востоке». По этой карте и собственным расчетам, основанным на очень недостоверных данных о долготе и широте, Колумб определил, что расстояние между Канарскими островами и Восточной Азией по широте только 90°, и приравнял их по параллели Канарских островов к 1100 испанских лиг[12], то есть к пяти неделям непрерывного плавания. Счастливая ошибка! Если бы он знал, что эти девяносто градусов обернутся двумястами, а расстояние будет не 1100 испанских лиг, а более 3000, то по меньшей мере сомнительно, чтобы ему хватило смелости даже подумать о подобной экспедиции. В 1484 году эта дерзкая мечта окончательно завладела Кристофором, но для ее осуществления требовались средства. Сначала он обратился к правительству своей страны, и прослыл фантазером, потом к королю Португалии Жуану II, и нашел только недоверие и невыполненные обещания; написал королю Англии Генриху VII, королю Франции Карлу VIII и поручил брату отправить письма. Во Франции, как и в Англии, предложения даже не были рассмотрены. Отчаявшись, почти без гроша в кармане, Колумб, чтобы избежать долговой тюрьмы, покидает Португалию, перебирается в Испанию, а оттуда отправляется во Францию вместе с юным сыном. Случай приводит его в небольшой приморский городок Палос в Андалузии. В полулиге от Палоса находится францисканский монастырь Санта-Мария-де-ла-Рабида. Бедняга останавливается здесь и просит немного хлеба и воды для ребенка. В это время мимо проходит местный настоятель дон Хуан Перес де Марчена, пораженный благородными манерами просящего милостыню, завязывает с ним разговор и приглашает войти. Незнакомец рассказывает о своих горестях, нужде, проектах. Монах, имевший хорошее образование, оказывается к тому же страстным географом, интересующимся вопросами навигации, и, покоренный энтузиазмом этого мечтателя, становится страстным приверженцем его идеи![13] Так Христофор Колумб приобрел своего первого покровителя, который дал ему мула, проводника, подходящую одежду, деньги и рекомендательное письмо к духовнику королевы Изабеллы и отправил в Мадрид[14], куда скиталец прибыл полный надежд, с ощущением достигнутой цели, но не сомневаясь, что самые жестокие разочарования еще впереди. Ему довелось испытать грубость слуг, заносчивость придворных, насмешки со всех сторон и преодолеть барьер общего безразличия только для того, чтобы получить аудиенцию у королевской четы. Наконец могущественное вмешательство архиепископа Толедо Педро Гонсалеса де Мендоса помогло будущему путешественнику предстать перед Фердинандом и Изабеллой. Их поразили простые, исполненные достоинства манеры и одновременно искренняя и убедительная интонация этого иностранца, предложившего, если они соизволят доверить ему один-единственный корабль, открыть для Испании путь к Индиям, который в течение трех четвертей века тщетно искала Португалия. Фердинанд, покоренный сдерживаемым, хотя и неизменно прорывающимся энтузиазмом, одной из наиболее неотразимых черт характера Колумба, допускал практическую возможность предприятия, но монарху требовался совет. К кому обратиться? Ну конечно, к ареопагу, в который входили высшие церковные должностные лица, отстаивающие догматы веры, и ученые (математики, профессора, астрономы), принадлежащие по большей части к религиозным орденам и несведущие в науках, они-то и должны были проверить, не запятнаны ли ересью предложения Христофора, представшего перед ними в Саламанке, в монастыре Сан-Стефано, чтобы изложить, объяснить и защитить свои проекты. Возможно, именно тогда, по словам Вивьена де Сен-Мартена, начались для него более тяжелые испытания, чем те, которые он уже преодолел. Все, что за двенадцать веков умственного и научного вырождения, схоластического и религиозного крючкотворства, узкого толкования текстов Писания накопили невежество, предрассудки, нетерпимый догматизм и ребяческое неприятие физических истин, уже подтвержденных предшествующей наукой, Колумб должен был выслушать и выдержать. Ему надо было снова и снова приводить уже неоднократно представленные доказательства, плохо воспринимаемые закоснелым мышлением, сформированным монашеским воспитанием. О! как можно выразить словами страдания этого грандиозного ума в подобной борьбе! Только двое или трое из всего ареопага увлеклись проектом и высказались в его защиту. И такими твердыми были доводы и железная логика моряка, что инертное и нетерпимое большинство, возможно чувствуя некое рациональное зерно, не осмелилось обойтись с ним, как с простым мечтателем, а прибегло к последнему средству властей, которым нечего было возразить: проходили месяцы тщетного ожидания, но ассамблея не сообщала о своем решении. Впрочем, сложные обстоятельства, казалось, способствовали бесконечным отсрочкам. Мавры еще держались в Гренаде, и король Фердинанд, поддерживаемый удивительной энергией его супруги Изабеллы Кастильской, собирал силы для последнего удара. Колумб находился в лагере Санта-Фе с королевскими полками, нетерпеливо ожидая окончания войны, надеясь на успех, который сделал бы монархов более доступными и расположенными выслушать его. Наконец настало 2 января 1492 года; цвета Арагона и Кастильи развеваются над Альгамброй[15]. Мавры побеждены навсегда. Колумб резонно считает, что наступил благоприятный момент, и просит аудиенции. Но саламанкская хунта не дремала. Ее председателем был тот самый Фернандо де Талавера, который позже стал архиепископом Гренады и которому дон Хуан Перес, настоятель францисканского монастыря в Палосе, так горячо рекомендовал Колумба. Подозрительный, темный и завистливый, он был враждебно настроен против мореплавателя, не оценил его гениального замысла, посчитал простым интриганом и с радостью поспешил сообщить о решении хунты, сделавшей следующее заключение: «…Проект, подвергнутый нашему рассмотрению, бесполезный и невозможный, и не стоит великим государям ввязываться в подобное предприятие на таких слабых основаниях, как представленные инициатором идеи». Это несправедливое и абсурдное суждение стало для Колумба крушением последних надежд. С разбитым сердцем он покидает лагерь и готовится распрощаться с Испанией. После его отъезда друзья обращаются за помощью к королеве, которая лучше, чем король, поняла значение этого человека и ценность проекта. Она колеблется и вот-вот уступит. На что решиться? С одной стороны, ее духовник Фернандо де Талавера протестует против такого жеста. С другой, наперсница, маркиза Мойя, поклонница Христофора, просит за своего кумира. Наконец решившись, Изабелла удовлетворяет ходатайство Колумба. Потом, с широтой, свойственной женщине, которая ничего не умеет делать наполовину, захваченная опьяняющей и уже ясной перспективой, добавляет: «Я беру на себя предприятие во славу моей собственной кастильской короны; я дам деньги, необходимые для экспедиции, даже если для этого придется заложить мои бриллианты». Тотчас к Колумбу, находящемуся в нескольких лигах от Гренады, был отправлен курьер. Христофор не решался возвратиться в город, вызывающий у него отвращение из-за стольких огорчений, изощренных, унизительных отказов и насмешек. Ему нужно формальное подтверждение, что сама королева требует его возвращения и намерена покровительствовать делу, которому он посвятил жизнь. Получив его, путешественник возвращается в Гренаду, и после обсуждения некоторых формальностей стороны достигли соглашения на самых почетных для Колумба условиях, то есть пожизненное адмиральское звание для него и его наследников во всех открытых им землях с назначениями вице-королем и главным наместником. Это соглашение, которое будет иметь такие важные последствия, было заключено 19 апреля 1492 года. Через три недели в Палос был отправлен приказ оснастить в течение десяти дней две каравеллы и по возможности добавить к ним третью для адмирала[16]. Богатый моряк Мартин Алонсо Пинсон великодушно предложил свое участие в предприятии. Колумб с открытым сердцем принял эту помощь, которая выражалась в предоставлении корабля, денег, продовольствия и людей. Вскоре знаменитому мореплавателю, лично наблюдавшему за всеми приготовлениями, осталось только дать сигнал к отплытию. Он уже не был молод, говорит историк Лас Касас, и всяческие заботы, тяжелая работа, одержимость изнурительной навязчивой идеей оставили на его лице странную печать серьезности, к которой примешивалось нечто вроде спокойного величия. В ту пору ему было пятьдесят шесть лет. Это был державшийся с достоинством человек высокого роста, хорошо сложенный, с лицом несколько вытянутым, ни полным, ни худым, слегка усеянным веснушками. Светло-серые глаза иногда оживлялись и, казалось, сверкали, внешность внушала уважение и заставляла повиноваться. В молодости он был блондином, в тридцать лет поседел от работы, страданий, бесконечных забот. Одевался скромно и строго, как аскет, был красноречив и умел зажигать словами, идеями, обладая вспыльчивым характером, энергично обуздывал себя, подавляя приступы гнева, и проявлял чрезвычайную мягкость к малым, обездоленным, слабым. Наконец Колумб одержал верх над людьми. Океан открылся перед ним: величайший эксперимент должен свершиться. Теперь необходимо победить природу и обуздать стихии. Никогда его вера не была так крепка, отвага так безгранична, хотя помощники сильно уступали во всем своему командору. Сначала трудно шло комплектование команд для двух каравелл. Город Палос был приговорен за какой-то проступок к поставке короне двух судов, они-то и предназначались для экспедиции под командованием Колумба[17]. Хотя матросам обещали большие выгоды, многих пришлось силой загонять на борт. Нанявшиеся добровольно были обмануты людьми, заинтересованными в задержке экспедиции. Кто-то дезертировал. А тех, кто остался, пугала отвага командора, пренебрегавшего всякими опасностями. Корабли были слишком малотоннажные, чтобы на них без опасения отправиться в плавание по совершенно незнакомым морям. На одном уже настелили палубу, это была каравелла «Санта-Мария» водоизмещением 100 тонн, которой командовал сам Колумб. На втором, водоизмещением 80 тонн, носившем название «Пинта» и еще стоявшем без палубы, капитаном был назначен Мартин Алонсо Пинсон; наконец, третьим, «Нинья», водоизмещением 70 тонн, командовал Висенте Яньес Пинсон[18]. Кроме того, на борту было три штурмана, чтобы вести каравеллы в случае смерти капитана: Санчо Руис, Педро Алонсо Ниньо и Бартоломео Ролдан-Родриго; а также Санчес де Сегуар — генеральный инспектор флотилии и Родриго де Эскобар — королевский нотариус, официальный представитель короны, в его задачу входило записывать все происходящее. Еще был врач, один хирург, несколько слуг и девяносто матросов: всего сто двадцать человек. Итак, плохо укомплектованные команды, принудительная вербовка большинства матросов, сожаление остальных, нанявшихся сначала добровольно, трусость всех, малое водоизмещение каравелл и их конструктивное несовершенство, все, казалось, было против Колумба. Наконец, все эти грубые, суеверные, плохо дисциплинированные, склонные к бунту люди, неспособные понять важность того, в чем они участвуют, едва подчинялись и горевали, убежденные с самого начала, что никогда не вернутся на родину. В таком тревожном настроении 3 августа 1492 года флотилия выходила из Палоса на завоевание Нового Света. Адмирал взял курс на юго-восток, на Канарские острова, откуда хотел отправиться прямо на запад, как задумал с давних пор. Начиная с момента отплытия он день за днем ведет подробный дневник путешествия и рисует на карте путь, пройденный экспедицией. 9 августа Колумб уже был в виду Канарских островов и бросил якорь у Гомеры, чтобы отремонтировать поврежденный руль одного из кораблей. Эта остановка продлилась не более четырех недель. 6 сентября флотилия покинула Гомеру и девятого числа прошла в виду Ферро, самого южного из Канарских островов. У матросов, покидающих последние мили Старого Света, чтобы вступить в сомнительный неизведанный мир, в этот торжественный час сжимались сердца, и слезы навертывались на глаза. Напрасно Колумб подбадривал их, говорил о долге, о Родине, во славу которой они трудились, тщетно пытался пробудить у них личный интерес, описывая красоты мест и ослепительные богатства, ждущие их. Темный страх висел над всеми этими людьми, убежденными, что командир ведет их к неизбежной гибели. И тогда, начиная с этого дня, адмирал пускается на хитрость с благородной целью по возможности успокоить экипаж, скрывая от него подлинное расстояние, пройденное за день. Для этого он составляет два вахтенных журнала, один, подлинный, для себя, с точными данными, другой, оставляемый на виду у матросов, с заниженными. Впрочем, в двухстах лигах к западу от острова Ферро 13 сентября произошло событие, которое потрясло его самого. Магнитная стрелка компаса, вместо того чтобы показывать прямо на Полярную звезду, отклонилась на пять или шесть градусов к западу. За следующие три дня это отклонение еще увеличилось. Колумб никак не отреагировал на это явление, зная, какбыстро команда впадала в панику; но подобное изменение не могло долго ускользать от внимания пораженных лоцманов. Если компас потеряет свое волшебное свойство, кто же их поведет через таинственные глубины океана! Вдруг болид[19] пересек небо огненной чертой и упал в море с оглушительным треском. И вот с востока задули бесконечные пассаты, усложнившие и без того тяжелую работу матросов, теряющих надежду на возвращение, если ветры не изменят направление. Столько поводов для страха и малодушия для этих отчаявшихся людей. Невозмутимый адмирал находит безапелляционные ответы и с каждым делится своими знаниями: от штурманов до последнего конопатчика. Затем экспедиция входит в Саргассово море. Огромные массы плавающей травы рыжеватого цвета напоминают бесконечные луга в середине океана. И это новое чудо, объяснения которому еще не найдено до сих пор, стало очередной причиной для беспокойства. Девятнадцатого сентября появилось несколько морских птиц, и среди прочих два пеликана, усевшихся вдруг на рей[20]. Это указывало на близость земли, и к людям вернулась надежда. Но дни текли за днями, а земля не появлялась. Снова плавающие луга, более густые, чем вначале, бесконечно стелились под форштевень кораблей, нагоняя на моряков отчаянный страх. Начался ропот, затем последовали угрозы силой заставить адмирала повернуть назад и даже убить. — Если откажется, — говорили самые дерзкие, — выбросим его за борт и скажем, что упал случайно. Для Колумба эти разговоры и подстрекательства к бунту не были тайной. Но, не растрачивая энергии, он успокаивал одних добрыми словами, подбадривал других, обещая удачу, удерживал самых недисциплинированных угрозой примерного наказания. Часто возникали ложные тревоги, когда морякам казалось, что наконец-то появилась такая желанная земля. Чтобы заставить людей набраться терпения, Христофор напоминал им об обещанной испанским правительством премии в тридцать крон[21] тому, кто первым увидит землю; огромная сумма по тем временам, что-то около нынешних 6000 франков. Двадцать пятого сентября Алонсо Пинсон, капитан каравеллы «Пинта», закричал: «Земля!» и стал подавать адмиралу условные сигналы, потом упал на колени и воспел со своим экипажем «Gloria in excelsis»[22]. Матросы с «Ниньи» карабкались на мачты. Каждый заверял, что видит землю. Пришла ночь. Легли в дрейф, но и на следующий день ничего не было видно. Низкая туча на горизонте стала причиной этой иллюзии. Тем не менее они не переставали двигаться вперед. Счисления, которые Колумб держал перед глазами своих людей, показывали 584 лиги от Испании, но для тех, кто владел секретом, это расстояние составляло 707 лиг. А это не более чем в сорока лигах от острова Сипангу, описанного Марко Поло (Япония), там, где его указал на карте Тосканелли, то есть самая восточная земля Азии. Но адмирал, ничего не подозревая, стал жертвой явления, которое значительно уменьшило расстояние, считавшееся пройденным; речь идет о течении, препятствующем ходу кораблей таким образом, что количество пройденных лиг в действительности приближалось скорее к тому, которое показывали матросам, чем к отмеченным в его записках. Вечером 6 октября Алонсо Пинсон, потеряв надежды на западное направление, предложил спуститься чуть больше к югу. Колумб согласился тем более охотно, что признаки, указывающие на близость земли, начинали, несомненно, множиться. Появлялось все больше птицы, ловилась прибрежная рыба, плавающие травы становились зеленее, на волнах принесло даже ветку с листьями и палку, обработанную руками человека. Еще раз возникла иллюзия, вызванная видом темного облака, принятого за землю, вид которого вызвал тем более жестокое разочарование, что ошибки становились слишком частыми и вызывали угрожающие вспышки гнева. Впрочем, для всех было очевидно, что подобная ситуация больше продолжаться не могла. Вскоре неизбежно должна была наступить развязка. И это случилось 11 октября вечером. Экипажи, как это было заведено, пели «Salve, Regina»[23]. Колумб после короткого мужского разговора с людьми устроился на полуюте своего корабля, «Пинта», как всегда, шла во главе флотилии. Поскольку адмирал уверенно обещал, что на следующий день откроется земля, глаза всех были прикованы к западу. Около десяти часов Колумб сказал, что вдали по линии горизонта вроде бы пробежал проблеск. Находившиеся рядом тоже увидели или посчитали, что увидели, свет. Попутный бриз подгонял корабли, и вот в два часа после полуночи с борта «Пинты» раздался пушечный залп. В эту памятную ночь с 11 на 12 октября 1492 года на горизонте определенно показалась земля. Ее заметил один матрос с «Пинты», имя которого история сохранила: Педро Триана. Это был плоский остров протяженностью в несколько лье, весь покрытый деревьями и походивший на обширный фруктовый сад, дающий свежую прохладу и роскошную зелень. Растительность разрослась с пышностью, не обузданной человеком. Тем не менее остров был обитаем, поскольку моряки заметили, как тут и там из лесов осторожно выходили люди и устремлялись к отмели, с изумлением глядя на корабли. По сигналу Колумба каравеллы бросили якоря, и матросы спустили на море шлюпки с вооруженными людьми. Адмирал вышел из шлюпки, окутанный роскошным ярко-красным плащом, с королевским штандартом Кастилии и Арагона в руках. Два его лейтенанта, братья Пинсон, шли следом в шлюпках, также неся флаги с вышитым зеленым крестом, на котором стояли и инициалы Фердинанда и Изабеллы, и двойные короны над ними… Высадившись на берег, адмирал обнажил голову и упал на колени перед крестом, образованным эфесом его шпаги, поцеловал землю и возблагодарил Бога! Потом, поднявшись со шпагой в одной руке и королевским штандартом в другой, торжественно принял остров во владение от имени короля и королевы Испании и потребовал от остальных принести клятву повиноваться ему как адмиралу и вице-королю, представляющему их величества… Туземцы, ободренные мирными намерениями пришельцев и восхищенные пестрой одеждой и сверкающим оружием, подошли и очень быстро освоились с гостями. Они называли свой остров Гуанахани, а Колумб, по обычаю того времени, переименовал его в Сан-Сальвадор. Это был остров из группы Багамских островов к северу от большого острова Куба. Прошло ровно десять недель с тех пор, как флотилия покинула порт города Палос и тридцать три дня, как потеряла из виду Канарские острова. Христофор, одержимый идеей, что Азия находится непосредственно напротив Европы и Африки, без промежуточного континента, обманутый достаточно точным совпадением расстояния, рассчитанного им от Канарских островов, с тем, на котором Тосканелли на своей карте отметил остров Сипангу, полагал, что находится в одном из архипелагов, которые прикрывают восточный берег Азии. Такая мысль не покинула исследователя даже после трех других путешествий, ибо к моменту его смерти, последовавшей в мае 1506 года, эта часть земли не была изучена настолько, чтобы опровергнуть заблуждение. Поскольку в Европе было принято называть индейцами всех жителей крайней Азии, естественно, что так же окрестили и жителей вновь открытых стран. В следующие дни на пути каравелл встречались небольшие острова, а 28 октября перед ними предстала Куба. Колумб, абсолютно уверенный, что находится на берегах Катая (Китая), решил отправить посольство к какому-то мелкому кубинскому вождю, наивно полагая, что имеет дело с вассалом Великого Хана! Послы более или менее владели китайским, совершенно очаровали своей речью островитян, очень высоко оценив после этого свои лингвистические способности[24]. Пятого декабря экспедиция открывает остров Гаити и называет его Эспаньола, то есть Маленькая Испания, которая впоследствии будет именоваться островом Санто-Доминго, а затем снова получит свое местное название. Все это время, чем дальше тем больше, Колумб не перестает считать, что находится недалеко от Китая. Поскольку коренные жители всегда говорили ему с нескрываемым ужасом о стране Каниба, то адмирал принял это место за вотчину Великого Хана, откуда тот берет для себя рабов. По словам путешественника, островитяне были самыми мягкими, доверчивыми, гостеприимными людьми, которых ему доводилось когда-либо встречать. В своей реляции монаршей чете Кастилии и Арагона он пишет: «Эти аборигены такие дружелюбные, мягкие и миролюбивые, что я могу заверить Ваши величества — во Вселенной нет лучшего народа и лучшей страны». Впрочем, жизнь была так прекрасна, так полна изобилия и солнца, что некоторые члены экспедиции умоляли своего командира позволить им остаться здесь[25]. Адмирал не возражал и распорядился построить деревянную крепость, получившую название Форта Рождества, в том месте, где позже был построен город Кап-Аитьен. Но, поскольку остальные, а их было большинство, требовали возвращения в Испанию, Колумб передал свои полномочия Диего де Арена, Пьедро Гутьересу и Родриго Эскобедо, которые оставались в форту с достаточными силами, и отправился в Старый Свет, салютуя залпами первой испанской колонии, созданной в Новом Свете. Четырнадцатого февраля 1493 года флотилия достигла юга Азорских островов; 4 марта стала на якорь в устье реки Тежу и, наконец, 15 марта прибыла в Палос, откуда она отправилась семь с половиной месяцев тому назад. Христофор по возвращении бросился в объятия своего старого друга Хуана Переса, настоятеля францисканского монастыря Санта-Мария-де-ла-Рабида, и босым отправился в монастырскую церковь, чтобы отблагодарить его и Бога за спасение, славу и победу, одержанную во имя Испании. Из Палоса адмирал, которого после высадки на родной берег повсюду встречала восторженная толпа, отправился в Барселону, где находился двор и где его ждал торжественный прием. Он проехал по городу верхом на лошади, сопровождаемый многочисленным кортежем, впереди которого шли шесть индейцев с Эспаньолы, раскрашенные в различные цвета по обычаю их страны, все в перьях и золотых украшениях, за ними несли живых попугаев, чучела птиц и животных и различные растения, что должно было показать великолепие Нового Света, завоеванного путешественником для его монархов. Король и королева во всем блеске королевского величия, окруженные великолепием, свойственным испанской монархии, ожидали на троне в роскошно убранном зале, открытом всем взорам. Около них расположились сановники королевства вместе со знатью Кастилии, Каталонии и Арагона, как во время приема королевской особы! Фердинанд и Изабелла встали, когда в зал вошел Колумб, который смиренно, согласно строгому этикету эпохи, преклонил колено перед ними, монархи подняли его и пригласили сесть в своем присутствии. Неслыханная честь в глазах придворных. Если, как красноречиво говорит Вивьен де Сен-Мартен, вознаграждение измеряется ощущениями, охватывающими душу в час триумфа, то этот день полностью воздал Колумбу за прошлые страдания и за те, которые его еще ожидали, и стал первым шагом в бессмертие. Это был действительно неповторимый, незабываемый, неслыханный праздник, торжество, на котором те, кто составлял благородство и величие страны, вместе с недавними гонителями бедного моряка, а теперь готовыми стать его верными слугами, вместе со всей нацией в исступленном восторге приветствовали одного человека. И когда он рассказывал в королевском кругу о приключениях во время путешествия, описывал увиденные им земли, богатство стран, где в изобилии росли роскошные плоды и проживало бесконечное количество человеческих существ, которым суждено вскоре узнать могущество королей Кастилии и истинную веру, можно было подумать, что это воин из античных эпопей, рассказывающий о своих подвигах королеве, почти богине, окруженной нимфами[26] и двором, жадно слушающей все слетающее с уст героя!.. Хотя земли, открытые Христофором Колумбом, считались принадлежащими к империи Великого Хана, их католические величества совершенно не задумывались о законности владения ими. Практика захвата нехристианских земель пришла в Европу вслед за крестовыми походами, как ответ князей христианской церкви на право завоевания, провозглашенное мусульманами во времена халифата[27]. К тому же папская власть санкционировала эту особую доктрину, которой еще и теперь следуют наши современные сторонники аннексировать так называемые неосвоенные земли, населенные якобы дикими людьми. Второго мая Папа Александр VI обнародовал буллу, дающую испанским монархам такие же права и привилегии на недавно открытые на западе территории, как португальским на их африканские владения, с тем же условием нести туда христианскую веру. Папа, будучи человеком осторожным, во избежание вполне возможных конфликтов, указал демаркационную линию, ставшую столь знаменитой как в истории открытий, так и в политической истории. Этой линией стал меридиан, прочерченный от одного полюса до другого в ста лигах, или примерно в шести градусах, западнее Азорских островов и островов Зеленого Мыса. Все земли, встреченные испанскими мореплавателями к западу от этой линии, будут принадлежать испанской короне, а к востоку — короне португальской. Принимая такое странное решение, лишающее другие христианские нации привилегий открытий, Папа даже не подозревал, что испанцы и португальцы, продолжая свои исследования в предписанных направлениях, рано или поздно должны встретиться в другом полушарии и пользоваться на всем пространстве земного шара одинаковыми правами! Но не это занимало умы в ту эпоху горячки, внезапно вызванной замечательной экспедицией Колумба. Воодушевление первых дней росло, если это только возможно, и превратилось в алчность, охватившую всех, от монархов до последнего авантюриста. И как следствие, новая экспедиция, но уже в больших масштабах, чем первая. Ее организовал и подготовил архидиакон Севильи Фонсека, получивший впоследствии должность председателя Совета по делам Индий. Тщеславный духом, посредственного ума и завистливый, он был врагом великого открывателя, и тем более опасным, что скрывал свою враждебность. В состав экспедиции входили три больших корабля и четырнадцать каравелл, всего семнадцать судов, на которых отправилось полторы тысячи нещепетильных, собранных отовсюду людей, готовых на все, истинных авантюристов, навсегда опорочивших это первое вступление нации в свое владение, целью которого было продвижение цивилизации и проведение в жизнь религии любви и прощения. Флотилия покинула Кадис 25 сентября 1493 года и пристала к большому острову 3 ноября в воскресенье, от которого он и получил свое название Доминика, сохранившееся до сих пор. Затем один за другим были открыты острова Гваделупа, Антигуа, Сент-Кристофер, целый рой островов под общим названием Наветренных. Вскоре экспедиция достигла бухты, где в Форту Рождества Колумб ранее оставил сорок своих спутников. Все они были истреблены индейцами, восставшими против поработителей, которые обременяли их тяжелой работой, оскорбляли и обкрадывали. Колумб, хорошо зная моральные качества этих прохвостов, еще во время их первого путешествия замышлявших убить его самого, не удивился, услышав от касика[28] Гуаканагари рассказ об этом трагическом событии. Христофор, сожалея о случившемся, покинул это печальное место и основал на Эспаньоле город, которому дал название Изабелла, в честь своей королевы. Затем путешественник отправился на запад, проследовал почти до южной оконечности Кубы, которую упорно принимал за Золотой Херсонес[29], и должен был вернуться на Эспаньолу, чтобы отремонтировать потерпевший аварию корабль. Еще через три дня он признал островную форму того, что считал полуостровом, проник в узкий пролив, отделяющий землю Антильских островов от Мексиканского залива, и, таким образом, несомненно нашел континент. Вернувшись больным после пятимесячного отсутствия, Колумб нашел новую колонию на Эспаньоле в полном расстройстве. Касики, возмущенные грубостью, злонамеренностью, жадностью испанцев, взбунтовались; сами испанцы, работающие рудокопами, отказывались признавать власть адмирала и распространяли о нем бессовестную клевету, против которой восставала вся его долгая честная жизнь и верная служба. Некий Маргарит предпринял попытку мятежа и, овладев несколькими каравеллами, сбежал в Испанию. Один монах по имени Бойль, сообщник Маргарита, подтвердил клевету Святым Крестом и постарался очернить адмирала в глазах Фонсеки, прелата[30] Индий, первого духовного лица Нового Света. И тот, давний его враг, посылает на Эспаньолу в качестве комиссара Хуана де Агуадо, давно ненавидевшего знаменитого путешественника. Христофор понимал, какая угроза нависла над ним, и, чтобы защититься, решил вернуться как можно быстрее в Испанию. Он назначил наместником своего брата Бартоломео, человека интеллигентного, мужественного, энергичного, деятельного, и отправился в путь. Одиннадцатого июня 1496 года Колумб высадился в Кадисе и отправился в Бургос, где находился двор. Оказанный ему прием, хотя и без триумфальной пышности 1493 года, был, однако, успокаивающим. Подлые интриги, которые плелись в колонии, еще недостаточно распространились, чтобы заставить забыть о его славе и заслугах перед монархами, исконно не склонных к благодарности. К тому же королева Изабелла не перестала быть ему защитой и опорой, стойко не желая верить наветам, чего нельзя сказать о Фердинанде, менее постоянном в своих привязанностях и склонном выслушивать все, что говорили о генуэзце, как называли Колумба при дворе его завистники. Несмотря на явную благосклонность королевы, ему потребовалось не менее двух лет, чтобы организовать третью экспедицию, во время подготовки к которой приходилось тратить последние силы на опровержение темных слухов, с неисчерпаемым вероломством и ловкостью распространяемых о нем. Экспедиция отправилась 30 мая 1498 года из порта Санлукар-де-Баррамеда, расположенного в устье Гвадалквивира. Ее флот состоял из шести небольших судов. Колумб решил пересечь Атлантику по линии очень близкой к экватору, которая должна была привести непосредственно в Амазонку, если штили экваториальной зоны не помешают подняться между 5-й и 7-й параллелями. Проплавав три недели под этой широтой, он взял курс на вест-норд-вест, и через четыре дня перед ним открылся холмистый остров большой протяженности. Поскольку первая открытая земля была обещана Святой Троице, то остров получил название Тринидад, оставшееся за ним до сих пор. Этот остров, к северу которого заканчивалась цепочка Малых Антильских островов, частично обследованный во время предыдущего путешествия, расположен к северо-востоку от Южноамериканского материка, напротив северных рукавов дельты Ориноко, и отделяется от континента только глубокой впадиной, называемой заливом Пария, под 10° северной широты. Колумб отправился к южной части острова и заметил между Тринидадом и соседней землей, которую также принял за остров, сильное течение, образуемое водоворотом Ориноко. Этот гибельный для кораблей такого малого водоизмещения проход получил название Бока-де-ла-Сьерпе (что значит «Змеиная пасть»), сохраненное до настоящего времени. Христофору, здоровье которого было подорвано не столько возрастом, сколько усталостью и заботами, был необходим отдых, и он с чрезвычайной тщательностью принялся за карты залива Пария и Жемчужного берега, а потом занялся Эспаньолой, хотя и не мог утверждать, что этот берег, как и залив Пария, принадлежат одному большому континенту. Тем не менее поток пресной воды предсказывал ему наличие большой реки, несущей в море воды с континента. К несчастью, состояние здоровья не позволило продолжить это исследование, которое, несомненно, привело бы к открытию Ориноко. Впоследствии этот район получил название Колумбия, хотя уже стало привычным слово Америка. Без первооткрывателя, носящего это имя, вовсе не было бы на карте обнаруженных им земель. Это было единственное открытие, сделанное во время третьего путешествия. Колумб вернулся на Эспаньолу, которую нашел в еще большем беспорядке, чем когда-либо, и решил восстановить дисциплину, но эта затея полностью провалилась. Впрочем, управление недавно созданной колонией, возлагаемое на него как на обладателя титула вице-короля, который он имел слабость когда-то принять, принесло ему горькие плоды. Гений такого человека должен был вести его к великим делам и уберечь от мнимых ценностей и этой мании играть в монарха, от всего того, что принесло только неприятности и огорчения. А между тем клеветники в Испании, продолжая свое подлое дело, в то время как этот бедный гигант тратил последние силы ума и тела, чтобы обогатить владения неблагодарных монархов, возложили именно на него вину за то плачевное состояние, в котором находилась Эспаньола. Как все короли, склонные всегда подозревать худшее и преувеличивать его, Фердинанд поверил в конце концов в недобросовестность Колумба и назначил комиссию, которой поручил отправиться на Эспаньолу и на месте проверить управление колонией. Естественно, председателем этой комиссии был назначен личный враг адмирала Франсиско Бобадилья. Это был один из тех людей, к несчастью существующих во все времена, которые, получив гнусное поручение, всегда тяжкое для порядочных людей, вносят в его исполнение всю низость и подлость своей грязной души. Бобадилья, придворный вельможа его величества Фердинанда, короля Кастилии и Арагона, едва прибыв на Эспаньолу, приказал схватить вице-короля, заковать его в кандалы и отправить как преступника в Испанию. Разумеется, позволительно думать, что Бобадилья, действуя таким образом, постыдно превысил полученные полномочия, хотя потом никто не выразил ему своего неодобрения. Вся Испания была охвачена негодованием, когда народ узнал о том, что с цепями на руках и ногах высажен в Кадисе тот, кто шестью годами раньше с триумфом высаживался в Палосе, кто стократно увеличил владения испанского дома! Королева Изабелла, его защитница, возможно не знавшая о таком подлом бесчинстве, возмутилась и запротестовала с высоты своего трона. Цепи пали, свобода тотчас была возвращена Колумбу и двум его братьям, добровольно сопровождавшим заключенного. Письмо Фердинанда предписывало властям оказывать адмиралу наивысшее почтение и благосклонно приглашало прибыть ко двору не для оправдания, а чтобы получить свидетельства уважения от монархов. Все хорошо и красиво, но это были только пустые обещания. Колумб хотел единственного удовлетворения — немедленной замены Бобадильи, который, конечно, был замещен, но другим, первым попавшимся, Николасом Овандо! Чувство собственного достоинства и страстная набожность помогли Христофору перенести новую несправедливость. Единственным знаком протеста стали его цепи, теперь всегда находившиеся перед его глазами. Фернан, сын и историк адмирала, написал по этому поводу: «Я всегда видел их висящими в кабинете отца, и он просил положить их вместе с ним в могилу». Тем не менее Христофор Колумб задумал четвертое путешествие, и неотвязная мысль, во власти которой он так долго находился, надеясь на славу, сделающую его не подвластным никаким гонениям, снова позвала в дорогу, ведущую, как он считал, к Индиям. Васко да Гама только что обогнул мыс Бурь, и это открытие морского пути в Индии стало для Колумба новым предметом соперничества. Тотчас его никогда не дремавший ум разработал план экспедиции, которая, как он считал, должна превзойти все другие. Речь шла вовсе не о том, чтобы искать и найти, а о том, чтобы отправиться в Индии более коротким путем, чем да Гама. Поскольку адмирал находился здесь, чтобы защититься, монархи еще верили в него. К тому же нетрудно было заставить их проникнуться его идеями и разделить с ним надежды. Четвертая экспедиция была разрешена. Однако враги, не сложившие оружие, тайком готовили ему неприятности, разочарования, препятствия. Удалось снарядить только четыре каравеллы, и лишь 9 мая 1502 года экспедиция смогла покинуть Кадис. Эта флотилия, такая жалкая с виду, предназначалась, по мнению Колумба, для кругосветного плавания. Два обследования с двух сторон моря у Антильских островов: с севера вдоль южного берега Кубы, которую он считал полуостровом Азиатского континента, и с юга вдоль участка берега материка — неполные как одно, так и другое, — привели его к мысли, что оба параллельных берега продолжаются дальше на запад и заканчиваются в проливе, связанном с морем, омывающим Индии. Адмирал решил найти этот пролив и проникнуть через него в Индийский океан, куда да Гама попал африканским путем, посетить Острова пряностей, зайти в китайские и индийские порты, увидеть богатый город Каликут[31], бывший у всех на устах, и открыть для кастильского флага легкий доступ к богатому рынку, затем вернуться в Европу через Красное море и Иерусалим, или по португальским путям, обогнув в свою очередь оконечность Африки[32]. Таков был план Колумба, абсолютно невыполнимый, поскольку грешил прежде всего отсутствием какой-либо базы и покоился на недостоверных данных. Естественно, нельзя найти пролив, которого не было, проникнуть в море вокруг Индий, отделенное от исследователя огромным океаном, о существовании которого он даже не подозревал. Это четвертое путешествие тем не менее было самым значительным после совершенного в 1492 году и самым богатым по результатам. Все так, но вернемся немного назад. Отправившись, как известно, 9 мая 1502 года из порта Кадис, Христофор Колумб достиг 15 июня Мартиники. Король и королева в письме дружески советовали не останавливаться на Эспаньоле, где его присутствие «могло вызвать волнения». Но поскольку выяснилось, что одна из его каравелл совершенно непригодна для плавания, он решил, что необходимость обзавестись другим судном оправдает в высших сферах это маленькое пренебрежение «дружескими советами» монархов. Итак, курс лежит на Эспаньолу. Но испанские колониальные власти уже получили приказ, категорически запрещающий ему высаживаться на берег; ему! которому королевской милостью был присвоен титул вице-короля и главного правителя, как и его потомкам. Между тем некоторые признаки, никогда не обманывающие опытных моряков, предупреждали адмирала о приближении шторма, но все только посмеялись над его прогнозом, и богатый караван, отправлявшийся в Испанию, построился в походный порядок, несмотря на благоразумное и бескорыстное предупреждение. Как и предвидел Колумб, ураган не заставил себя ждать и захватил флотилию в открытом море. Бобадилья, его старинный недруг, возвращавшийся в Испанию, погрузил на судно все богатства, добытые нечестным путем во время своего правления. Это судно погибло среди прочих со всем имуществом. По крайней мере, презренный негодяй не смог воспользоваться плодами своих вымогательств и вероломства. А небольшой корабль, укрытый опытным моряком на пустынном рейде, сохранился благодаря умной мере предосторожности. Оставив Эспаньолу и другие острова Карибского моря, снова проплыв вдоль Кубы, Колумб направился на юг и прошел вдоль бесконечного берега с запада на восток сначала Гондурас, потом в течение шестнадцати недель с 14 августа по 4 декабря шаг за шагом вдоль Антильских островов и мимо того места, где сейчас располагаются республики Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Сальвадор и т. д. Итак, Колумб первый разведал на самом большом участке восточное побережье узкого перешейка, связывающего обе части Американского континента. С омертвевшей душой, всеми брошенный, не найдя пролива, с экипажем, потрепанным жестокими штормами, изнемогающим от усталости, и почти без провианта, он решил вернуться на Эспаньолу только тогда, когда его полурасшатанные корабли, лишенные части своего такелажа[33], с корпусами, изъеденными червями, уже не были пригодны для плавания. На обратном пути один из жестоких тропических штормов выбросил его на берег Ямайки. Положение адмирала и его друзей осложнялось растущей день ото дня враждебностью туземцев. Два матроса рискнули собой и отправились в корабельной шлюпке искать помощи на Эспаньоле. Николас Овандо, сменивший подлого Бобадилью, сначала не внял их мольбам, но потом, уступив наконец, послал маленькое судно. Вскоре потерпевшие крушение моряки, опьяневшие от надежды и радости, умирающие от голода, наконец-то увидели его. Корабль долго стоял на виду у отчаянно ждущих его людей — так близко, что можно было различить его цвета; потом вдруг без всякой видимой причины повернулся другим бортом и исчез. Была ли физическая причина, помешавшая капитану подойти к берегу, или с чисто испанской изощренной жестокостью Овандо захотел еще больше усилить страдания адмирала и его спутников, тяжко страдающих из-за недостатка самого необходимого? Но тут очень кстати произошло лунное затмение. Колумб объявил о нем за несколько дней до начала; туземцы, увидев, что начальник белых управляет по своему желанию звездами, согласились предоставить провизию матросам адмирала. А тем временем Николас Овандо, поняв наконец гнусность своего поведения и подталкиваемый к тому же частью колонистов Эспаньолы, не питающих к Колумбу этой глупой и подлой ненависти, послал помощь. Колумб, больной и без каких-либо средств, но, как всегда, гордый и не теряющий достоинства, был доставлен на Эспаньолу, а оттуда в Испанию, куда прибыл 7 ноября 1504 года. Не прошло и трех недель, как умерла его покровительница, королева Изабелла, скончавшаяся 26 ноября 1504 года. Эта смерть стала одним из жесточайших ударов, настигших мореплавателя и без того в печальных для него обстоятельствах. Постаревший, больной, истощенный, едва ли не такой же бедный, как до завоевания им королевства для неблагодарного Фердинанда, он напрасно протестовал против несправедливости, лишавшей его титулов и законно полученного состояния. Ему даже не ответили! С этих пор Колумбу ничего не оставалось, как изнемогать под тяжестью растущих забот, огорчений, и, наконец прекратив борьбу, поддерживавшую его всю жизнь, он угас в Вальядолиде в конце мая 1506 года, через четырнадцать лет после открытия Нового Света. Смерть этого человека, имя которого известно во всем мире, осталась настолько незаметной, что даже не была упомянута королевским историографом. Ее точная дата[34] не известна. Не выяснено даже, умер ли он в Вальядолиде или в Севилье. Ничего точного по этому поводу нет, как и о месте его погребения. Как бы то ни было, его труп, положенный в гроб вместе с цепями, был отправлен заботами его сына Диего на остров Санто-Доминго, где Колумб уже никому больше не мог внушать опасения. Наконец-то появилась надежда, что после такой бурной жизни он сможет насладиться полным покоем на этой земле, открытой им для Старого Света. Но судьба, преследовавшая Христофора при жизни, казалось, ополчилась и на его останки. В 1795 году, когда остров Санто-Доминго станет французским, испанский адмирал, командовавший там в ту пору, решит перенести в Гавану прах Колумба, чтобы сохранить его для Испании. Но на острове после перенесения в Испанию останков Колумба случилось множество инцидентов и происшествий. Никто точно не знает, где находится его погребение! По меньшей мере официально были эксгумированы из какой-то могилы анонимные и сомнительные останки и отосланы в Гавану, где сегодня, несомненно, никто не позволит заняться поисками точного места захоронения. Что значит горстка праха, неизвестно кому принадлежащая! Потомки Колумба крепко отомстили его хулителям, прославили его имя, оплакали его несчастья, воздали должное его борьбе, окружили ореолом славы его память. Быть может, они постарались забыть его недостатки, чтобы видеть в нем только гонимого, но тем не менее славного гения? Чем стали Фонсеки, Бобадильи, Овандо и прочие, завидовавшие Колумбу или клеветавшие на него? Их имена, опозоренные мстительными потомками, не забыты только благодаря низости носивших их. Чем стали Изабелла и Фердинанд, эти монархи, о которых сегодня вспоминают только в связи с именем Христофора Колумба? Изабелла и Фердинанд для нас, людей XIX века, только государи человека, прославившего их, и без которого сегодня они не имеют основания принадлежать истории. А Колумб! Он принадлежит бессмертию.ГЛАВА 2
АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ
В том, что континент, открытый Христофором Колумбом, носит имя не его, а Америго Веспуччи, очевидно, нет непосредственной вины последнего, хотя у потомков бытует другое мнение. И напрасно книжники, ученые, географы, историки будут рыться в записях, рукописях, отчетах, комментировать события, сопоставлять даты, придираться к словам: дело сделано, название есть и таковым останется; и как Америка всегда будет называться Америкой, так навсегда останется легенда, справедливая или нет, о том, что Америго Веспуччи украл у истинного первооткрывателя право назвать своим именем открытую землю. Ничто так не прочно, как легенда, в сознании общества, выносящего свой приговор, руководствуясь скорее чувством, чем разумом. Но неудачи, постоянно преследующие Колумба даже после смерти, вызывают еще большее сочувствие к этой великой личности, а восхищение им возрастает по мере ущерба, который ему наносит несправедливость, совершенная от имени Америго Веспуччи. Впрочем, этот флорентиец, родившийся 9 марта 1451 года[35] и умерший в 1512 году, через шесть лет после Христофора Колумба, не был случайным человеком. Выходец из знатной, но небогатой семьи, успешно учился в монастыре Святого Марка, где его дядя, Антонио Веспуччи, был монахом в то же время, что и знаменитый Савонарола[36]. Америго с интересом изучал космографию и математику, но вынужден был отказаться от своих научных привязанностей и заняться коммерцией. Это обстоятельство свело его с блистательным семейством Медичи, имевшим в Испании свои интересы, которые требовали присутствия доверенных людей. Назначенный представителем Лоренцо Пьеро Франческо Медичи[37], сына и наследника Лоренцо Великолепного, он покинул родную Флоренцию[38] и обосновался в Андалузии, где остался надолго, даже после того как в 1497 году, в возрасте сорока шести лет, совершил свое первое путешествие. Впрочем, эта дата не совсем достоверна. Некоторые довольно видные историки считают, что Америго отправился в путешествие двумя годами позже вместе с Охедой. Другие подтверждают, что это произошло в 1497 году, и начальником экспедиции был Яньес Пинсон, прежний лейтенант Колумба. Итак, его дебют окружен некоторой неясностью, впрочем, чисто хронологического порядка, поскольку путешествия действительно были. Во всяком случае, Америго не руководил экспедицией, увлекательный отчет о которой он написал. Отправившаяся из Кадиса флотилия прошла, говорит рассказчик, расстояние в тысячу лиг на вест-зюйд-вест, и находилась на исходе тридцать седьмого дня на 16° северной широты и 77° долготы к западу от Канарских островов. Обогнув полуостров — без сомнения Юкатан, — она проследовала через Мексиканский залив и остановилась, очевидно, в прибрежном районе Веракрус[39], поскольку Америго Веспуччи утверждает, что корабли находились около тропика Рака[40] и над горизонтом была видна Полярная звезда. Он сообщает подтвержденные впоследствии любопытные подробности о нравах, обычаях, питании коренных жителей: «Мы подошли к домам туземцев и увидели множество предназначенных для еды змей, у которых были связаны лапы, а вокруг шеи была намотана веревка, мешавшая открывать им пасть. У животных был такой страшный вид, что никто из нас не осмеливался прикоснуться к ним. Они были размером с козленка; лапы длинные, с когтями; кожа твердая и разноцветная; шея и голова как у змей, и от морды вдоль спины и до кончика хвоста тянулось нечто вроде волосатого гребня!..» Этими причудливого вида змеями с когтистыми лапами, очевидно, были безобидные игуаны, очень вкусным мясом которых лакомятся как дикари, так и цивилизованные люди XIX века. Америго Веспуччи пишет также о другом туземном блюде, показавшемся ему восхитительным. Оно походило на хлеб, изготовленный из маленьких рыбок, замешанных в тесто и высушенных, который потом перед употреблением пекли на раскаленных углях. Такое рыбное кушанье готовят еще и сегодня в некоторых районах Мексиканского залива. Как осторожные путешественники, спутники флорентийца не посягали на собственность местных жителей и старались задобрить их мелкими подарками. Еще он пишет: «Видя, что туземцы не оправились от первого волнения, мы решили ничего не трогать, чтобы снискать их доверие, и к тому же оставили на виду множество наших вещей в таком месте, где они могли их видеть и взять себе в пользование. На закате следующего дня на прибрежном песке нас ожидало множество людей, которые, хотя и с опаской, осмелились переговорить с нами и дали все, что у них просили. Наконец мы подружились, и туземцы показали свои поселки, где жили, когда приходили ловить рыбу; тут же всех пригласили в деревню, уверяя, что примут дружески, и выполнили обещание, хотя среди нас были двое заключенных из стана их врагов. В ответ на настойчивые приглашения аборигенов[41] двадцать восемь человек последовали за ними, рискнув в случае чего погибнуть. Итак, мы пошли в глубь страны и на расстоянии трех лье от берега обнаружили деревню всего с девятью домами, но несметным количеством людей. Нас встретили такими варварскими церемониями, что не хватит перьев описать их. Эти люди танцевали, пели и плакали одновременно, угощали своими блюдами… Старейшины соседних деревень приглашали пойти с ними дальше в глубь страны, что было большой честью. Мы согласились, и трудно передать, каким вниманием нас окружили. Это путешествие заняло девять дней, и друзья, оставшиеся на берегу, сильно волновались. В обратный путь к морю мы шли в сопровождении аборигенов. Когда кто-то из нас уставал, его очень удобно несли в гамаке. Средства для переправы через реки были такие надежные, что исключалась всякая опасность. Многие провожавшие несли подаренные нам вещи, гамаки для сна, богатые украшения из перьев, множество луков и стрел, попугаев различных цветов… Когда мы добрались до шлюпок, все кто мог погрузились в них, остальные бросились вплавь. Было забавно смотреть, как они спешили взобраться на наши корабли, чтобы осмотреть их. Создалось довольно затруднительное положение, когда на борту оказались около тысячи совсем голых и безоружных людей. Тогда же произошел смешной случай. Команды решили произвести несколько выстрелов из пушек. Под их гром большинство дикарей бросились вплавь, как испуганные лягушки на краю болота. Оставшиеся на борту были так напуганы, что нами овладело раскаяние в содеянном. Проведя с туземцами целый день, мы спровадили их, сообщив, что хотим сегодня сняться с якоря, и они ушли, выразив нам свое дружеское расположение…» Конец реляции об этом первом путешествии такой темный, что благоразумно сделать несколько оговорок, не столько по поводу его достоверности, сколько хронологии. У историка просто должен вызвать сомнение конец рассказа Америго Веспуччи, настолько он совпадает с отчетом о путешествии Охеды, совершенном двумя годами позже. Простой участник экспедиции, не имевший никакой значительной должности, охотно приписывает себе важную роль и большинство приключений и успехов, при этом очень неточен в датах и никогда не называет имени командора[42]. Далее Веспуччи рассказывает, что встречи с местными жителями не всегда носили столь сердечный характер. В прибрежных районах Ити — неизвестно точно, хотел ли он сказать о Гаити, — индейцы хотели силой помешать высадке испанцев. Около четырехсот человек, хорошо вооруженных палками и луками, выстроились на берегу моря и неустрашимо отразили нашествие европейцев, которые, погрузив на шлюпки три пушки, открыли по туземцам огонь. Напуганные выстрелами аборигены, яростно преследуемые пришельцами, убежали в леса. На следующий день борьба возобновилась в очень оживленных рукопашных схватках. Голые дикари храбро бросались на закованных в латы людей и ловко отражали удары их копий и шпаг. Много было убитых и плененных. По утверждению Веспуччи, было захвачено двести двадцать два туземца, которых привезли в Кадис и продали в рабство. В свое второе путешествие Америго Веспуччи отправился в мае 1499 года или, по другим источникам, в ноябре того же года. Одни утверждают, что экспедицией командовал Охеда, вторые — уже упоминавшийся Висенте Яньес Пинсон. Автор книги «Путешественники вокруг света» не встает ни на чью сторону и даже не пытается прояснить ситуацию, в которой путаются историки со времен путешествия Веспуччи и до наших дней. Вместе с читателем он приходит к выводу, что флорентийский мореплаватель для собственного блага запутывает события и оставляет их в этом состоянии, что, несомненно, раздражает нас, но позволяет итальянцам превозносить сверх всякой меры своего не всегда объективного соотечественника[43]. Экспедиция Охеды отправилась из Кадиса, а Пинсона из Палоса. Курс последней пролегал ближе к юго-западу, чем у всех предыдущих, и испанские корабли впервые пересекли линию экватора. Экспедиция спустилась еще примерно на восемь градусов к югу и натолкнулась на сушу там, где бразильское побережье образует вдали на Атлантическом океане самый восточный угол Американского континента. Земля здесь как бы затоплена водой; она появляется зеленеющая и поросшая большими деревьями. Тотчас распознаются низкие, покрытые мягкой тиной болота, из которых вырастают леса с воздушными корнями. Это открытие бразильского берега, так как, несомненно, речь идет именно о провинции Рио-Гранде-дель-Норте, произошло на три месяца раньше того, как его случайно обнаружил португалец Алвариш Кабрал, обычно считающийся первооткрывателем Бразилии. Экспедиция спустилась на юг примерно на сорок лиг, потом, снесенная с курса течением, вновь взяла направление на северо-запад. Она преодолела вдоль побережья огромное расстояние, может быть 600 лиг, до залива Пария и Жемчужного берега, пристала у исполинов (?), в конце концов приблизилась к Эспаньоле и вернулась в Кадис в 1500 году. Америго Веспуччи, который не был, как Колумб, безоглядно верен испанскому королю, и, возможно, был прав, находился в Севилье, когда король Португалии Мануэл[44] пригласил его к себе на службу. Он тотчас согласился и принял участие в новой научной экспедиции, но, очевидно, как всегда, в положении рядового члена команды[45], поскольку его имя не обнаружено в документах эпохи или в архивах администрации, терпеливо изучаемых добросовестными исследователями[46]. Экспедиция, посланная королем Мануэлом к землям, открытымКабралом, состояла из трех кораблей. Она покинула Лиссабон 13 мая 1501 года[47], приблизилась к островам Зеленого Мыса и продолжала свой путь в течение семидесяти семи дней, после чего достигла земли, которую объявила собственностью короля Португалии. Это было 17 августа 1501 года. Аборигенов явилось множество, настроены они были враждебно. Три матроса, неосторожно опередившие остальных, были схвачены, умерщвлены, разрезаны на мелкие кусочки, сварены и съедены. Все это произошло так быстро, что никто не успел прийти им на помощь. Подняли якорь, и флотилия, идя вдоль берега в направлении на юго-восток, подошла к мысу Святого Августина, получившему свое название по дню открытия — 28 августа. Она спустилась еще ниже и обследовала бухту, получившую имя Рио-де-Жанейро («Январская река»)[48], потом моряки отважились отправиться дальше на юг, очевидно до широкого эстуария[49] Рио-де-ла-Плата[50], и вернулись в порт Лиссабон 7 сентября 1502 года после шестнадцатимесячного похода. В 1503 году, также на средства короля Португалии, с целью достичь восточного, очень богатого, по слухам, острова, называемого Малакка, была снаряжена четвертая экспедиция Америго Веспуччи, а точнее экспедиция под руководством Гонсалу Куэлью, в которой, неизвестно в каком качестве, принимал участие Америго Веспуччи[51]. Она покинула Лиссабон 10 июля 1503 года и была очень далека от выполнения поставленной перед ней задачи. Флотилия прошла через острова Зеленого Мыса, пересекла экватор и 10 августа, перейдя через 3° южной широты, оказалась в виду острова, расположенного недалеко от бразильского берега — очевидно Фернанду-ди-Норонья, расположенного за 4° к югу[52]. Там из-за небрежности начальника экспедиции Куэлью самый большой корабль «Капитана», один из шести, составляющих флотилию, погиб на рифе. Два других сбились с пути, и под командованием Жуана Диаша ди Солиша и Жуана ди Лижбоа впервые посетили Рио-де-ла-Плата. Куэлью и Веспуччи с оставшимися кораблями прошли вдоль берега Бразилии до 18° южной широты, затем совершили экскурсию в глубь суши, собрали там запас красящего дерева и закончили тем, что 28 июня 1504 года вернулись в Лиссабонский порт. После этой экспедиции, в которой Америго, будучи второстепенным участником, не реализовал ни одной из вполне законных своих надежд, он, повинуясь настойчивому требованию испанской администрации или, возможно, как намекали, даже по приглашению самого короля, вернулся в Испанию. Правительство Мадрида собиралось снарядить экспедицию на поиски с южного направления знаменитого прохода, тщетно отыскиваемого в ту пору. Именно в связи с этим мореплаватель и был призван ко двору. Но обстоятельства политического характера помешали реализации этого проекта, осуществленного только спустя три года. Веспуччи никак не участвовал в нем. Он получил назначение на почетную и доходную должность главного лоцмана[53], в обязанности которого входило экзаменовать лоцманов на умение обращаться с астролябией, проверять их теоретические и практические знания, обучать их, что требовало очень обширных знаний в области навигации[54]. Он занимался этим до самой своей смерти в 1512 году, когда ему был шестьдесят один год. А теперь последнее слово о безусловно значительном человеке, которому судьбой было предназначено нести тяжелое бремя незаслуженной славы. Америго был итальянцем, и на его родине, которая тогда была самым оживленным центром литературного Возрождения, наперегонки перепечатывали его записки о Новом Свете[55], бывшие в ту пору единственным источником сведений об этих удивительных открытиях. Поскольку записки были написаны таким образом, что роль рассказчика выглядела в них более значительной, чем на то были основания, то Италия, гордящаяся своим флорентийским навигатором, очень скоро отождествила имя Америго Веспуччи с понятием Нового Света. При таком положении вещей в 1507 году, то есть за пять лет до его смерти и, следовательно, когда у него еще была возможность установить истину, в Виченце была отпечатана книга с чудовищной неправдой в заглавии «Новый Свет и страны, недавно открытые Альберико Веспутио флорентийцем»[56]. В том же 1507 году в Сен-Дье, в Лотарингии[57], издали книгу, которая должна была оказать особое влияние на распространение этой исторической несправедливости. Ее автор, ученый Мартин Вальдземюллер, переиначивший свое имя по обычаю того времени на греческий манер и называвший себя Хилакомилус[58], преклонялся перед великими географическими открытиями, сделанными за последние пятнадцать лет в Атлантическом океане, прочитав записки Америго Веспуччи, отпечатанные в Италии, в которых последнему приписывалось большинство этих открытий, выразил свое удивление, что ни одной из новых земель не было присвоено имя ее первооткрывателя!.. Тогда, очень решительно, как человек, исправляющий большую несправедливость, он взял на себя инициативу и дал Новому Свету orbis novus — название Америка![59] Колумба уже год как не было на свете. Веспуччи прожил еще пять лет и не протестовал, хотя вряд ли стоит утверждать, что главный лоцман Испании мог ничего не знать о книге Хилакомилуса, даже принимая во внимание как трудно и каким малым тиражом распространялись первые печатные книги. Эта идея ученого быстро пробила себе дорогу и нашла широкое распространение. На картах мира, одной, составленной в 1520 году знаменитым космографом Петрусом Аппианусом, и другой, опубликованной Лораном Фризием[60] в Страсбурге в 1522 году, нанесено название Америка на новых землях к югу от Карибского моря, но сохранено противоречивое пояснение: «Наес terra, cum adjacentibus insulis inventa est per Columbum Jannensem, ex mandato regis Castillae», что значит: «Эта земля с прилегающими островами была открыта Колумбом под покровительством короля Кастилии». Позже имя Христофора Колумба исчезает с этих документов, на которых отныне стоит имя Америго Веспуччи…[61] Sic vos non vobis… Так вы, но не вам…ГЛАВА 3
МАГЕЛЛАН
Больше, чем когда-либо, идея прохода, ведущего к Ост-Индии, тревожила умы. Область, открытая ранее Колумбом, значительно расширилась. Начало было положено открытием новых земель на огромном пространстве, лежащем между Азией, с одной стороны, и Европой с Африкой — с другой. Следовательно, это не была Азия, как предполагал Колумб и его последователи. Но тогда длинную линию побережья должен разрывать пролив, какой-нибудь проход, чтобы можно было попасть в нее. Новый континент, как уже было очевидно, не должен был, просто не мог перегораживать океан от полюса до полюса. Следовательно, надо было искать этот проход. Поскольку Америго Веспуччи удалился от дел, то новая миссия была поручена в 1508 году Хуану Диасу де Солис, очень способному навигатору и космографу, принимавшему ранее участие в путешествии Куэлью. Де Солис высадился вместе с Висенте Яньесом Пинсоном на побережье хорошо известной земли Санта-Крус[62], будущей Бразилии, но не смог перешагнуть за 40° широты, чтобы подойти к устью Рио-Негро[63], хотя преодолел, сам того не зная, широкий залив Рио-де-ла-Плата, который ему будет суждено открыть только через семь лет, в 1515 году[64], во время нового путешествия, ставшего последним в жизни мореплавателя. Обследуя могучую реку он, поверив в дружелюбие индейцев, неосторожно высадился на землю, был внезапно схвачен ими, убит, разрезан на куски и съеден на глазах потрясенного экипажа, который, не имея шлюпок, не мог прийти ему на помощь или отомстить за него. Честь отыскать проход досталась Магеллану. Фернанду Магальяинш, или по-французски Магеллан, родился в 1470 году в португальском городе Порту в знатной семье[65]. Человек с железной волей, решительным характером, но умеющий при необходимости обуздывать себя, при этом неустрашимый, ни во что не ставящий собственную жизнь, он должен был сделать блестящую карьеру при благоприятных обстоятельствах, которые и сумел сам создать. Двадцатилетний юноша сел на корабль и отправился в Индию, долго воевал в Кочине, в Зондском проливе и у берегов Малайского полуострова, стал во время этих опасных со всех точек зрения битв умелым военным и не имеющим себе равных моряком. Кроме того, очень четкие понятия о восточных морях и их пышных архипелагах, вынесенные из Европы, внушили ему первые мысли о будущем дерзком предприятии. Магеллан вернулся в Португалию, эффективно посодействовав захвату Малакки[66], и затем отправился в африканские колонии, где был настолько тяжело ранен в стычке с дикарями, что на всю жизнь остался хромым. Уже тогда его имя было покрыто славой и обещало верную службу тому, кто сумеет плодотворно ею воспользоваться. Он посвятил в свои проекты короля и просил у него субсидий на организацию экспедиции для поиска знаменитого прохода в Восточные Индии, но, как и прочие активные и мыслящие люди, натолкнулся на глухое противодействие королевского двора, занятого исключительно интригами и заискиванием перед владыкой. Независимая и гордая душа не позволила ему вступить в бесполезную и недостойную борьбу. Внезапно Магеллан покидает страну. Оставив Португалию, он отправляется в Севилью, привлеченный туда энергичным и очень самобытным характером Карла V. Это было в 1517 году, то есть через два года после страшной смерти Хуана Диаса де Солиса на берегах Рио-де-ла-Плата. Путешественник предлагает возобновить попытку отыскать на юге проход, открывающий прямую дорогу к Молуккским островам. Его вера в успех, твердое слово и убежденность, подкрепленные отличным знанием навигаторского дела, очень подействовали на короля. Предложение было принято. Иностранное происхождение Магеллана вызывало, как это было и с Колумбом, враждебность, выразившуюся кознями, клеветой, всякого рода препятствиями и ловушками. Но он на все это поглядывал свысока с видом человека, имеющего цель и не удостаивающего вниманием подобные пустяки. Впрочем, этому способствовала поддержка монарха, человека совсем другого масштаба, чем Фердинанд Арагонский, умеющего к тому же проявить свою волю, перед которой склонялось все. Путешественнику предоставили пять кораблей, наперекор всему, даже покушениям на его жизнь, которые он предотвратил благодаря своей отваге. После двух долгих месяцев упорной работы приготовления были наконец закончены. В последний момент против Магеллана подняли мятеж с бестолковым участием черни, всегда покорно следующей за вожаками. Наконец двести шестьдесят пять отборных моряков погрузились на корабли; эскадра под звуки артиллерийского салюта распустила паруса в Санлукар-де-Баррамеда, порту Севильи, расположенном в устье Гвадалквивира. Было 20 сентября 1519 года. Магеллан, сознавая свой долг и возложенную на него ответственность, претендовал на абсолютную власть и держал в руках всю экспедицию. Его корабль всегда шел первым, за ним следовали остальные. Ночью на каждом из судов, которые должны были сохранять строевой порядок, горели фонари. Другие фонари, зажигаемые по два, по три, по четыре, то больше, то меньше, в зависимости от того, как было условлено, служили сигналами для управления маневрами, подлежащими точному исполнению капитанами других судов… На борту судна, управляемого Магелланом, в качестве волонтера находился уроженец итальянского города Виченцы, называвший себя Антонио Пигафетта, который прибыл к испанскому двору в свите папского посла Кьерикати. Ловкий моряк[67], отличный математик, страстный путешественник, итальянец быстро познакомился и подружился с Магелланом, который охотно взял его с собой и назначил историографом экспедиции[68]. Все события, описанные им, отличаются большой достоверностью. Его чрезвычайно увлекательный отчет заслуживает того, чтобы привести его здесь, настолько он прост, элегантен, искренен и непретенциозен[69]. «…Двадцатого сентября, — пишет он, — мы отправились из порта Санлукар, держа курс на юго-запад; 26 числа достигли одного из Канарских островов Тенерифе на 28° северной широты. Здесь мы остановились на три дня в месте, пригодном для того, чтобы запастись водой и дровами; затем провели два дня в гавани Монте-Россо[70], расположенной на том же острове. Нам рассказали о странном местном явлении: дело в том, что здесь никогда не идет дождь, нет ни источника, ни реки, но растет огромное дерево, листья которого непрерывно источают капли великолепной воды, собирающейся в яме у его подножия; отсюда берут воду островитяне, сюда приходят на водопой животные, как дикие, так и домашние. Дерево всегда окружено густым туманом, без сомнения снабжающим водой его листву[71]. В понедельник 3 октября направили паруса непосредственно на юг, прошли между мысом Зеленым и примыкающими к нему островами, расположенными на 14°30′ северной широты. Проплыв несколько дней вдоль берега Гвинеи, подошли к горе, именуемой Сьерра-Леоне, расположенной на 8° северной широты. Здесь мы испытали на себе встречные ветры и мертвые штили с ливнем вплоть до линии экватора; период дождей длился шестьдесят дней, вопреки мнению древних[72]. На 14° северной широты нас застигли безжалостные шквалы, которые вместе с течениями не позволили двигаться вперед. При приближении шквалов мы в качестве меры предосторожности спустили все паруса и успели поставить суда поперек волн еще до того, как налетел ветер. В ясные и спокойные дни огромные рыбы, называемые акулами, плавали около нашего корабля. У этих рыб страшные зубы в несколько рядов; и не приведи господь, если они встретят человека в море, — сожрут на месте. Мы поймали на крючки несколько штук; но крупные были совсем не пригодны для еды, да и мелкие не многого стоили. Во время грозы часто видели огонь святого Эльма[73]. Очень темной ночью он появлялся в виде прекрасного факела на вершине большого дерева, где оставался в течение двух часов, и служил нам большим утешением среди бури, а в момент исчезновения вспыхивал ослепительным ярким огнем. Мы уже готовы были проститься с жизнью, но ветер внезапно прекратился. Когда мы пересекли линию экватора и направились на юг, из виду исчезла Полярная звезда. Идя по курсу юго-юго-запад, мы добрались до суши, называемой Земля Верзин, лежащей за 20°30′ южной широты и являющейся продолжением той, где находится мыс Святого Августина (берег Бразилии) на 8°30′ той же широты, и сделали большой запас кур, пататов[74], какого-то фрукта, напоминающего еловую шишку, но очень сладкого и изысканного на вкус (без сомнения ананас), очень сладкого тростника (сахарный тростник), мяса «анта»[75], напоминающего говядину. Сделка была очень удачной: за один рыболовный крючок или нож нам давали пять-шесть кур; двух гусей — за гребень; за маленькое зеркальце или пару ножниц получали столько рыбы, что ее хватило бы на десять человек; за один бубенчик или бант индейцы приносили нам корзину пататов, так они называли коренья, формой похожие на репу, а вкусом — на каштаны. Так же хорошо нам заплатили за игральные карты; за короля — шесть кур, можно ли себе представить более выгодную сделку. В гавань мы вошли в день святой Люсии, то есть 13 декабря. Был полдень, солнце стояло в зените, и жара была как на экваторе. Земля Бразилии, изобилующая съестными припасами и распростертая на площади, равной Испании, Франции и Италии, вместе взятым, теперь принадлежала королю Португалии. Бразильцы не христиане, но и не идолопоклонники, поскольку никому не поклоняются. Живут очень долго, и старики обычно доживают до ста двадцати пяти, а иногда и до ста сорока лет. Как женщины, так и мужчины ходят совершенно голыми. Их жилища представляют собой длинные хижины, “бойи”, в которых они спят на сетках из хлопка, называемых гамаками и привязываемых двумя концами к огромным балкам. Пищу готовят на земляных очагах. В одной хижине может иногда находиться до сотни человек, среди которых много женщин и детей, отсюда постоянный шум. Лодки, называемые “каноэ”, сделаны из бревна, выдолбленного при помощи каменного инструмента; поскольку камни заменяют им железо, то их всегда не хватает. Деревья такие большие, что в одну лодку могут поместиться до тридцати и даже сорока человек, для управления используют весла, похожие на наши лопаты, которыми орудуют булочники. …Мужчины и женщины хорошо сложены и почти не отличаются в этом от нас. Иногда они едят человеческое мясо, но только если оно принадлежало их врагам. Людоедство не связано с необходимостью или вкусом, это дань обычаю, который укоренился следующим образом. У старой женщины был только один сын, и его убили враги. Спустя некоторое время убийца ее сына был захвачен в плен и приведен к ней. Мать бросилась на него, как разъяренный зверь, и зубами разорвала ему плечо. Этому человеку посчастливилось не только вырваться из рук старухи и убежать, но и вернуться к своим соплеменникам, которым он показал след от зубов на плече и заставил их поверить, а может быть, поверил в это и сам, что враги хотели сожрать его живьем. Чтобы не уступать другим в жестокости, его соплеменники тоже решили съедать врагов, захваченных в битвах, а те, в свою очередь, пришли к такому же решению. Однако пленников не съедали на месте живьем, а резали на куски и делили между победителями, которые уносили свою долю, сушили ее над дымом костра и каждый восьмой день жарили маленький кусочек и съедали. Об этом мне рассказал Жуан Карвалью, наш лоцман, проживший четыре года в Бразилии. Бразильцы раскрашивают тела и особенно лица самым различным образом, женщины в такой же мере, как мужчины. Волосы, которые они тщательно общипывают, у них короткие и курчавые. Мужчины одеты в нечто похожее на куртку, сделанную из попугаичьих перьев, сотканных вместе и расположенных таким образом, что длинные перья из крыльев и хвоста образуют кольцо вокруг поясницы. Такой наряд придает его владельцу причудливый и странный вид. Почти у всех мужчин в губе проделаны три отверстия, с которых свисают круглые камушки длиной в палец. У женщин и детей нет такого неудобного украшения, как, впрочем, и никакой одежды. Их кожа имеет скорее оливковый, чем черный цвет. Правит ими король, которого называют “касиком”. Страна населена бесчисленным множеством попугаев; за одно зеркало нам их давали по восемь — десять штук. Там водятся очень красивые обезьянки желтого цвета, немного похожие на львов[76]. Аборигены едят нечто напоминающее по виду круглый белый хлеб, а по вкусу простоквашу, который нам не понравился. Готовят это кушанье из вещества, находящегося между корой и древесиной какого-то дерева[77]. У них имеются также свиньи, как нам показалось, с пупком на спине[78], и большие птицы с клювом, похожим на ложку, но совсем без языка[79]. Женщины выполняют самую тяжелую работу, их часто можно видеть спускающимися с горы с тяжелыми корзинами на голове; но они никогда не ходят одни; мужья всегда следуют за ними со стрелами в одной руке и луком, сделанным из бразильского дерева, или черной пальмы, в другой. Если у женщин есть маленькие дети, то они их носят в сплетенной из хлопкового волокна сетке, подвешенной к шее. …Эти люди чрезвычайно доверчивы и добры. Их было бы легко обратить в христианство. Случай помог нам снискать у туземцев благоговение и уважение. Великая сушь царила в стране в течение двух месяцев, и, поскольку именно в момент нашего прибытия небо послало им дождь, они не преминули приписать нам это благодеяние. Когда мы высадились, чтобы на суше отслужить мессу, туземцы молча с сосредоточенным видом присутствовали на ней. Увидев, что мы спускаем на воду шлюпки, привязанные к бортам судна или следовавшие за ним на буксире, они вообразили себе, что это детеныши корабля и что он их кормит. В этой гавани мы провели тринадцать дней, после чего продолжили наш путь и проследовали вдоль берега этой страны до 34°20′ южной широты, где обнаружили большую реку с пресной водой. Именно здесь жили каннибалы, или людоеды. Один из них, громадного роста, с голосом, напоминавшим рев быка, приблизился к нашему кораблю, стараясь успокоить своих соплеменников, которые в страхе, что мы причиним им зло, убегали от берега и отступали вместе со своим имуществом в глубь страны. Сотня наших людей спрыгнула на землю и бросилась вдогонку, чтобы поговорить с аборигенами и рассмотреть их поближе, но они делали такие огромные шаги, что даже бегом и прыжками догнать их было невозможно. На этой реке было семь маленьких островов: на самом большом, называемом Санта-Мария, нашли драгоценные камни. Прежде считалось, что это не река, а протока, по которой можно попасть в “Южное море”. Но вскоре убедились, что это все-таки впадающая в море река, устье которой имеет ширину семнадцать лиг. И именно здесь Хуан де Солис, пришедший, как и мы, чтобы открыть новые земли, был съеден каннибалами, которым он слишком доверился. Продолжая плыть вдоль берега в направлении Южного полюса, мы остановились на двух островах, населенных только гусями и морскими волками[80]. Первые были в большом количестве и такие доверчивые, что в течение часа мы сделали большой запас провианта для экипажей наших пяти кораблей. Гуси были черные, сплошь покрытые мелкими перьями, длинные маховые перья на крыльях, необходимые для летания, у них полностью отсутствовали; они и в самом деле не умели летать. Птицы питались рыбой и были такие жирные, что мы вынуждены были снимать с них кожу, чтобы очистить от перьев. Их клюв походил на рог. Морские волки были разного цвета и размером почти с теленка, на которого походили головой. Уши короткие и круглые, зубы очень длинные. У них почти не было ног, и лапы, посаженные прямо на тело, напоминали расплющенные кисти наших рук с маленькими ногтями, пальцы соединялись перепонкой, как на утиной лапе. Если бы эти животные могли бегать, их можно было бы испугаться, такой у них был свирепый вид. Они быстро плавали и кормились только рыбой. …В середине этих островов мы пережили страшную грозу, во время которой огни святого Эльма, святого Николаса и святой Клары[81] появлялись несколько раз на концах мачт, и в момент их исчезновения было заметно, как на мгновение стихала гроза. Удаляясь от этих островов, чтобы продолжить путь, мы достигли 49°30′ южной широты, где нашли хорошую гавань; и поскольку приближалась зима, следовало решить, где провести это плохое время года. Прошло два месяца, а нам не встретился ни один обитатель этой страны. Но однажды совершенно неожиданно перед нами предстал человек гигантского роста. Почти голый, он пел и танцевал на берегу, посыпая себе голову песком. Капитан послал на сушу одного из матросов и приказал жестами подавать знаки мира и дружбы. И гигант спокойно позволил проводить себя на маленький остров, куда высадился капитан. Я находился там среди прочих. Туземец очень удивился, увидев нас, и, подняв палец, показал, что думает будто бы мы спустились с неба. Прекрасно сложенному незнакомцу мы едва доставали до пояса. На его широком лице, выкрашенном в красный цвет, глаза были обведены желтым, а на щеках красовались два пятна в форме сердца. Его негустые волосы казались выбеленными каким-то порошком, одежда, напоминавшая пальто, была из хорошо сшитых шкур животного, в изобилии водившегося в этой стране. Это животное, которое мы потом неоднократно встречали, имело голову и уши мула, тело верблюда, ноги оленя, а хвост и ржание, как у лошади[82]. На ногах туземец носил нечто похожее на обувь, сделанную из той же шкуры. В его левой руке находился короткий массивный лук с тетивой, чуть толще струны лютни, из кишки того же животного; в правой — короткие тростниковые стрелы с перьями на одном конце и с кремневым белым и черным наконечником, вместо металлического, на другом. Из того же камня делают режущий инструмент для обработки дерева. Начальник экспедиции накормил и напоил его и среди прочих безделиц подарил большое стальное зеркало. Гигант, не имевший ни малейшего представления об этом предмете и, без сомнения, впервые увидев свое лицо, испуганно отступил, опрокинув на землю четверых из наших людей, стоящих сзади. Ему подарили еще бубенчики, маленькое зеркало, гребень и несколько стеклянных бусин, а потом отправили на сушу в сопровождении четверых хорошо вооруженных людей. Через шесть дней наши люди, занятые заготовкой дров для эскадры, увидели другого гиганта, одетого и вооруженного, как наш первый гость, но еще выше ростом, еще лучше сложенного и с более приятными манерами. Он провел с нами несколько дней. Мы научили его произносить имя Христа, “Патер ностер”[83] и т. п., что у него получалось не хуже, чем у нас, но очень громко, и окрестили, дав имя Хуан. Капитан-генерал подарил ему рубашку, куртку, суконные штаны, колпак, зеркало, гребень, бубенцы и другие безделушки. Наш гость вернулся к своим соплеменникам, казалось, очень довольный нами. Эти люди, — продолжает рассказчик, — питались обычно сырым мясом и сладкими кореньями “капак”, мышей поедали, даже не сняв с них шкурку. Но при этом, находясь у нас в гостях, они не стеснялись съедать каждый по полной корзинке сухарей и выпивать на одном дыхании по полведра воды. Наш капитан назвал их патагонами (что значит по-испански “большие ноги”)». …Эскадра оставалась на этой якорной стоянке, получившей название бухта Святого Юлиана[84], около пяти месяцев. За это время здесь возник заговор с целью убийства Магеллана, преподавшего покушавшимся страшный урок. Один из руководителей заговора, Хуан де Картахена, был четвертован, другой, Луис де Мендоса, заколот кинжалом, третий, Гаспар де Кесада, был оставлен со священником, его сообщником, в стране патагонов. И другое событие — один из кораблей эскадры «Сантьяго» разбился о скалы. К счастью, экипаж и часть груза удалось спасти. Двадцать первого октября 1520 года, когда эскадра, продолжая путь на юг, находилась, по мнению Магеллана, на 52° южной широты, а в действительности на 52°25′, с борта заметили проход, вид которого наполнил радостью сердце командора. Но весь экипаж, говорит Пигафетта, был так уверен, что это бухта, а не пролив, что никто даже не подумал бы его исследовать, если бы не интуиция и обширные знания Магеллана. И как потом оказалось, это действительно был пролив, имевший в длину 110 морских лиг, а в ширину в среднем половину лиги[85], и выходил в другое море, названное нами Тихим. Магеллан, который ничего не хочет оставлять на волю случая, посылает вперед два корабля: «Сан-Антоньо» и «Консепсьон». А пока он ждет со стоящими на якорях «Тринидадом» и «Викторией», налетает ужасная буря, продлившаяся тридцать шесть часов; корабли дрейфуют на якорях и мотаются по воле ветра и волн. Проходят три дня тревог и смертельных опасностей. И когда командор уже почти теряет надежду снова увидеть корабли, посланные на разведку, они возвращаются на всех парусах, салютуя из пушек. Проход имеет продолжение. Эскадра устремляется в него и проходит примерно две трети его длины. Новая стоянка, осторожный Магеллан опять посылает на разведку «Сан-Антоньо» и «Консепсьон». «Сан-Антоньо» поднимает паруса и отправляется, не дожидаясь «Консепсьон». Все аплодируют такому рвению, не подозревая, что за ним кроется предательство. Кормчий «Сан-Антоньо»[86] решил воспользоваться ночью, чтобы вернуться обратно в Испанию, что он успешно и сделал. «Этим кормчим, — пишет Пигафетта, — был Гомиш, ненавидевший Магеллана за то, что, когда последний прибыл в Испанию и предложил императору экспедицию к Молуккским островам через запад, Гомиш уже почти получил каравеллы для своей экспедиции, но их отдали Магеллану, а ему пришлось довольствоваться местом младшего лоцмана на корабле соперника; но больше всего испанца раздражало то, что он находился в подчинении у португальца. За ночь Гомиш сговорился с другими испанцами из членов экипажа. Они ранили и заковали в кандалы капитана корабля Альваро де Мескита, двоюродного брата Магеллана, и доставили его таким образом в Испанию. Предатели рассчитывали также привести с собой одного из двух гигантов, захваченных нами, находящегося на их корабле. Но, вернувшись, мы узнали, что он умер на подходе к экватору, не перенеся страшной жары. Корабль “Консепсьон”, который не мог сразу последовать за “Сан-Антоньо”, крейсировал в проходе, напрасно ожидая его возвращения. А мы с двумя кораблями вошли в другой проход, который оставался у нас на юго-западе, и, продолжая путь, достигли реки и назвали ее Сардиновой из-за огромного количества увиденной там рыбы[87]. Здесь мы стали на якорь, дожидаясь двух других кораблей, и простояли четыре дня; но, чтобы не терять даром время, Магеллан послал хорошо оснащенную шлюпку на разведку этого прохода, который, по его предположению, должен был иметь выход в другое море. Матросы вернулись на третий день и объявили, что видели мыс, где заканчивался пролив, и огромное море, то есть океан. Мы заплакали от радости. Этот мыс был назван мысом Желания[88], поскольку в действительности мы уже давно желали его увидеть. Вернувшись назад, чтобы воссоединиться с двумя нашими кораблями, мы нашли только “Консепсьон”. Расспросили у лоцмана Жуана Серрана[89] о судьбе второго корабля. Он считал его потерявшимся, поскольку не видел с момента, когда тот отправился в пролив. Командор отдал приказ искать “Сан-Антоньо” повсюду, но главным образом в том проходе, куда он вошел. “Виктория” отправилась до начала пролива, и, не найдя его, моряки установили штандарт, а у подножия положили горшок с письмом, указывающим маршрут следования эскадры. Такой способ предупреждения на случай рассеяния кораблей был оговорен в момент нашего отправления. Таким же образом было установлено еще два сигнала на высоких местах в первой бухте и третий на маленьком островке, населенном огромным количеством морских волков и птиц. Командор вместе с “Консепсьон” дождался возвращения “Виктории” около реки Сардин и установил крест на маленьком острове у подножия двух покрытых снегом гор, откуда река брала свое начало. На тот случай, если бы мы не открыли этот пролив, чтобы пройти из одного моря в другое, командор решил пройти до 75° южной широты, где летом совсем или почти совсем не было ночи, как не было дня зимой. В то время, когда мы находились в проливе, был октябрь, и ночь длилась всего три часа. Левый берег этого пролива, обращенный к юго-востоку, был низкий. Мы дали ему название Патагонского. Через каждые пол-лиги здесь можно было найти надежную бухту с хорошей водой, кедровые деревья, сардины и великое множество раковин. Вокруг источников росли тучные травы, среди которых были как горькие, так и вполне съедобные, например, трава, похожая на сладкий сельдерей, которой мы питались, за неимением иной пищи. В конце концов, я решил, что в мире нет лучшего пролива, чем этот. …В среду 28 ноября на выходе из пролива перед эскадрой внезапно открылся простор океана. Казалось, наконец-то мы достигли цели, не подозревая, какое расстояние нас от нее отделяет. Обманутый идеей Христофора Колумба, которая не оставляла того до конца дней, Магеллан решил, что найден разрыв между двумя континентами и понадобится самое большее две-три недели, чтобы оказаться посреди азиатских островов. Он не знал, что впереди, между оконечностью Америки и Молуккскими островами, лежит простор океана, составляющий половину окружности глобуса! О, если бы ему повстречался хоть один из этих чудесных архипелагов, усеивающих межокеаническое пространство! Но его путь, направленный сначала на север, потом на северо-запад и, наконец, на запад, всегда проходил в стороне от полинезийских островов. В течение девяноста девяти дней флотилия шла с попутным ветром, три каравеллы, оставшиеся после гибели “Сантьяго” и исчезновения “Сан-Антоньо”, бороздили молчаливые просторы безбрежного океана, не имея перед собой ничего, кроме горизонта, неба и воды! К страданиям моральным, вызванным столь долгим однообразием, прибавились физические, а потом болезни и жесточайшие лишения. Провизия, израсходованная или испорченная, уже давно подошла к концу; в пищу пошло все, кроме человеческого мяса». Пигафетта нарисовал душераздирающую картину страданий экипажей. «Сухари, которые мы ели, уже были не хлебом, а пылью, перемешанной с отвратительными червями и пропитанной крысиной мочой. Вода, которую мы вынуждены были пить, была гнилой и зловонной. Чтобы не умереть с голоду, мы были вынуждены есть куски воловьей шкуры, покрывавшей грот-рей, чтобы ванты[90] не перетирались. Эта шкура от постоянного воздействия ветра, воды и солнца была такой твердой, что ее приходилось вымачивать в морской воде в течение четырех-пяти дней, чтобы она стала немного мягче; затем мы клали ее на угли, пекли и ели. Часто мы доходили до того, что ели опилки и даже крыс; и даже крысы, такие отвратительные для человека, становились таким желанным блюдом, что за каждую платили по полдуката[91]. И это еще не все. Самым большим несчастьем было видеть, как на нас наваливается болезнь, при которой опухали десны так, что не было видно зубов как на нижней, так и на верхней челюстях (цинга), и заболевший уже не мог принимать никакой пищи. Девятнадцать из нас умерли от нее, и среди них гигант патагонец и один бразилец, которых мы забрали с собой. Кроме мертвых, у нас было от двадцати пяти до тридцати матросов, страдавших от болей в руках, ногах и других частях тела, но они вылечились…» Экипажи несли такие жестокие потери, что отчаяние уже начало охватывать самых мужественных. И тут 6 марта 1521 года появилась группа зеленых островов[92], покрытых пальмовыми деревьями. Это был архипелаг Марианских островов, названных Магелланом Воровскими[93]. С этого момента страдания, лишения, потери — все было забыто. Десятью днями позже, 16 марта 1521 года, в памятный для испанской колониальной истории день, когда она получила одно из самых богатых своих владений, флотилия оказалась в виду большого и прекрасного архипелага, получившего через пятьдесят лет название Филиппинские острова[94]. Следует отметить как выдающийся факт в истории навигации, что, подходя к Воровским островам, Магеллан, судя по его лоцманскому журналу, где ежедневно отмечалось расстояние и направление, пройденные флотилией, считал, что он находится в 176° к западу от меридиана Канарских островов, тогда как на самом деле, расстояние, отмеченное на наших современных планисферах[95], составляет 198°. Эта ошибка в 22 градуса объясняется незамеченным влиянием течений, а также частично очень неточным в то время счислением земных градусов при путевых измерениях. Прибывший на Острова Пряностей Магеллан решил проблему западной навигации; шарообразная форма Земли и реальность существования антиподов были доказаны не только научной теорией, но опытом и осязаемо. Имя великого мореплавателя обрело бессмертие; но ему не привелось вкусить плодов своей славы. Благосклонно принятый властителем Субу (Себу)[96], обращенным в христианство и признавшим себя вассалом испанского короля, путешественник допустил ошибку, вмешавшись в межплеменную войну[97]. Окруженный врагами и имея с собой лишь пятьдесят шесть человек, он, безуспешно отбиваясь, упал и был заколот копьем дикаря[98]. Сразу после его смерти Субу резко изменил свое отношение к испанцам и, пригласив их на большой праздник, приказал убить[99]. Избежавшие резни укрылись на кораблях. Но людей оставалось недостаточно, чтобы вести все три судна, и «Консепсьон» пришлось сжечь. Двум оставшимся были уготованы различные судьбы. «Тринидад» при попытке вернуться к берегам Америки был захвачен португальцами[100]. Единственным кораблем, возвратившимся в Европу, был адмиральский корабль «Виктория», который 6 сентября 1522 года прибыл в порт Санлукар, имея на своем борту лишь восемнадцать человек под командой Себастьяна Эль Кано. Это путешествие, ставшее первым кругосветным плаванием, длилось тридцать семь месяцев. Антонио Пигафетта, автор интересного описания, многочисленные отрывки из которого приведены выше, был из числа выживших. Раненный в сражении на стороне короля Субу, в котором погиб Магеллан, он сумел добраться до своего корабля и сопровождал к Молуккским островам Себастьяна Эль Кано, ставшего адмиралом, и вернулся с ним на борту «Виктории», обогнувшей мыс Доброй Надежды, закончив, таким образом, самое изумительное путешествие, о котором когда-либо упоминала история мореплавания. Хотя Пигафетта был итальянцем, он написал свое сообщение по-французски[101], и ученый, ученик школы Хартий, одобрил его в мемуарах, опубликованных в Бюллетене Географического общества. Наконец, заслуживает восхищения наблюдательность историографа, сообщение которого так богато этнографическими подробностями. Пигафетта был первым из путешественников, кто собрал словари племен, у которых он гостил. Принятый с почестями императором Карлом V, королем Франции[102], королем Португалии, князьями Италии, папой Климентом VII[103], путешественник получил должность коменданта Новизы и провел остаток жизни в уединении, занимаясь наукой.ГЛАВА 4
ВАСКО НУНЬЕС ДЕ БАЛЬБОА
За героическим периодом открытий вдруг последовал период завоеваний. На смену мореплавателям, терпеливо открывавшим Старому Свету неизвестные земли, поспешили конкистадоры, захватывавшие их и эксплуатировавшие бог ведает как и с какой лютой жадностью! Со всех сторон стали появляться дерзкие авантюристы, околдованные богатыми владениями, открытыми для Испании гением Колумба и Магеллана, вечные странники в поисках добычи, типа Дон-Кихота наизнанку, которые, вместо того чтобы любить и защищать слабых, обкрадывали, притесняли и драли с них три шкуры, подчиняясь только своим страстям, любя золото и сражения, совсем не думая о человеческой жизни, полные предрассудков и суеверий, настоящие бандиты, жестокие, алчные и лицемерные, впрочем, способные иногда возвыситься до героизма. Три имени — Бальбоа, Кортес, Писарро — замечательно олицетворяли эпоху вооруженного завоевания, свирепая жестокость которых опозорила Испанию и навсегда оттолкнула от нее сердца ее новых подданных. Первым в хронологическом порядке, а также наименее известным был Васко Нуньес де Бальбоа[104]. Дворянин из знатного рода, хорошо сложенный, вещь немаловажная в стране, где вошло в поговорку «Страшный, как большой испанец», в развлечениях и бешеном мотовстве растерял все свое состояние и однажды утром остался без гроша. Полное разорение, рычащая свора кредиторов, нищета и долговая тюрьма преследовали по пятам веселого прожигателя жизни. Но его не так легко было смутить. У веселого кутилы оставалось имя. Если нет ничего другого, то это всегда кое-что. Там за океаном был Новый Свет с золотом касиков к услугам того, кто сможет или захочет его взять. Васко Нуньес договаривается со своими кредиторами, обещает удовлетворить их иски, добивается снятия ареста с имущества, потом отправляется с туманным напутствием монарха: «Иди туда и вернись богатым…» И он, юноша из хорошей семьи, отправился в колонии, чтобы поправить свои дела, как говорили сорок лет тому назад. Удача быстро нашла его. Бальбоа прибыл на Жемчужный берег[105], собрал золото в большом количестве и, роскошный как галион[106], вернулся в Испанию. Это было сказочно, но быстротечно, как костер из соломы, и Васко Нуньес в действительности не так уж много имел в руках, чтобы разбрасывать с беспорядочной щедростью легко добытое золото. Не стоит говорить, что опытный бонвиван[107] даже не подумал удовлетворить, хотя бы частично, своих кредиторов. Последние, разгневанные тем, что их одурачили, разъярились и снова стали охотиться за этим фантастическим должником. Но Бальбоа, уже и не такое видевший в битвах с касиками в заливе Париа, ловко ускользнул от них, отправившись в Вест-Индию, погруженный за ночь, как тюк, на корабль. Он приплыл, не имея ни гроша за душой, с единственным своим достоянием: хорошей испанской шпагой, энергией, силой и отсутствием предрассудков. В подобную эпоху и в такой стране этого было более чем достаточно. Главарь шайки, Энсисо, неопределенно именуемый наместником ее величества, принял испанца и осыпал благодеяниями, что не помешало последнему быстро отделаться от благодетеля и самому стать главарем. Люди возроптали против такого грубого захвата власти незнакомцем, да к тому же прибывшим последним. Но Бальбоа умел внушить почтение своей неимоверной силой и отвагой. Он объединяет всех испанских негодяев, которые прозябали, живя грабежами в Санта-Мария-де-Дарьен, объявляет себя губернатором и вскоре командует многочисленной бандой крепких, хорошо обстрелянных людей, как и он, без предрассудков и не менее жадных. Ему нужно было золото любой ценой, и он хорошо умел его находить. Это стало настоящей войной, объявленной несчастным жителям Дарьена, вскоре совершенно ограбленным, обложенным данью и замученным, а в конечном счете уничтоженным. Не было дня, чтобы он не учинил баталию, вымогательство, оргию. Туземцы отважно защищались. Конечно, их было много, но испанцы подчинялись дисциплине, имели наступательное и оборонительное оружие и страшных собак, натасканных на дикарей и пожиравших их мясо… В испанской армии был лейтенант Писарро, имя которого должно было снискать в Перу сомнительную славу. Однажды в перестрелке Писарро оставил одного из своих людей в руках индейцев. Бальбоа узнал об этом и вскричал возмущенный: — Возвращайтесь откуда пришли! Позор! Испанцы бежали от дикарей и оставили товарища в их руках! «Идите и освободите этого человека, вы своей жизнью отвечаете за него». Такая забота о судьбе своих людей, благородство, храбрость снискали Бальбоа любовь этой орды шалопаев. Но при этом он вырезал часть жителей Дарьена и разогнал или поработил остальных. Богатые трофеи, посылаемые им в Испанию, возвысили его имя и заставили позабыть о прошлых проделках. У него никто не знал пощады. Туземец, что бы он ни делал, был для него бесплатной рабочей и оброчной скотиной. Однажды один касик добровольно покорился ему, взывая к великодушию. С беспощадной испанской жестокостью Бальбоа приказал сжечь его деревню, а семью повесить! — За что же, — вскричал несчастный кариб, — ты так жестоко обошелся со мной? Разве я не кормил вас или плохо обращался с кем-нибудь из твоего народа, пришедшего в мою страну? Ты сомневаешься в моих добрых намерениях? Хорошо… посмотри на мою дочь! Я даю ее тебе в залог дружбы… Возьми ее в жены и будь уверен в верности ее семьи и народа! В одном из своих набегов Бальбоа был гостеприимно встречен другим касиком, который осыпал его солдат подарками и, возможно, таким образом смог избежать участи, постигшей другого. Бальбоа как можно более беспристрастно распределил эти подношения. Два солдата позавидовали доле друг друга. Они заспорили иготовы были сцепиться. — Почему вы спорите о такой малости? — спросил их туземный вождь. — Если любовь к этому металлу заставила вас потревожить покой нашей страны, я за шесть недель доведу вас до берега другого океана, который находится на западе, в страну, где золото, которое вы ищете с такой жадностью, служит для изготовления самой ничтожной домашней утвари. Услышав об этом океане, с поисками которого было связано столько трудов и опасностей, жестокий главарь авантюристов, жадный конкистадор понял, какую великую миссию он должен выполнить и что судьба приготовила ему славу, которую напрасно искало столько других людей, а именно открыть океан, омывающий берега Восточных Индий! Бальбоа поспешил вернуться в Дарьен, собрал многочисленный отряд, с которым ему предстояло преодолеть трудный путь к открытию. Но прежде, поскольку в нем конкистадор всегда соседствовал с мистиком, окрестил касика, дав ему имя Карлос. Если он не крестил туземцев, он их убивал. Сразу по возвращении в Санта-Мария-де-Дарьен Бальбоа, пока собирался его экспедиционный корпус, отправился в небольшое путешествие. Вот он в устье реки Атрато, населенном непокоренными туземцами, поселки которых располагались на гигантских деревьях, росших в этой местности. Пришельцы потребовали от хозяев спуститься на землю из своих воздушных крепостей. Зная, что если они повинуются, то их ничего хорошего не ждет, туземцы начали забрасывать камнями незваных гостей. Испанцы укрылись щитами, выполняя маневр «черепаха», как это делали античные воины, идя на штурм городов. Деревья затрещали под ударами топоров, а дикие воины, признавшие себя побежденными, были хладнокровно перерезаны. В отместку аборигены вырезали одну шайку вместе с лейтенантом, оставленную без поддержки около Рио-Негро. После первого успеха туземцы осмелели и организовали заговор, чтобы истребить своих угнетателей, но одна из их женщин предала своих соплеменников, предупредив Бальбоа; заговор был потоплен в крови. Наконец-то мир? Нет! Еще нет. Испанцы, не имея, по крайней мере в тот период, внешних врагов, стали плести заговоры друг против друга. С этими несговорчивыми пройдохами нужно бороться без передышки и пощады, говорили они, совершая обычную ошибку противников, сражающихся между собой. Дикая энергия Бальбоа дала себе волю в деле усмирения, которому он предался с обычным неистовством, хотя несколько смягченным ловкими дипломатическими маневрами. Конкистадор, понимая, что есть не только грубая сила и удары шпаги, становится более осторожным, дальновидным. Однако ситуация становится угрожающей. Прежний, смещенный им наместник Энсисо сумел добраться до Испании. Будучи сам разбойником, он потребовал против другого разбойника помощи со стороны королевского правосудия. Тревожные слухи о том, что узурпатор будет вызван в Испанию для наказания за свои неблаговидные дела, еще не носили официального характера, но их источник заслуживал доверия. Но все это беспокоило Бальбоа не больше, чем крики его кредиторов. Наконец он собрал свою команду, состоявшую из семи-восьми сотен человек, настоящую армию негодяев, ждущую только, как бы поскорее отправиться в путь. Их ждало золото, бери сколько хочешь, но и сокрушительные удары, которые придется наносить… а может быть, и получать, не все ли равно! Вперед! На завоевание неизвестного океана!.. Вперед, во славу Родины!.. и золота, и безумных радостей, которые оно оплачивает! Цель экспедиции была всего в шестидесяти милях. Но на пути к ней предстояло карабкаться на горы, такие крутые, преодолеть реки, такие широкие и быстрые, пересечь топи, такие глубокие, проникнуть в леса, такие густые, разогнать, завоевать или уничтожить столько неукротимых племен, что только через двадцать дней люди, самые привычные к опасностям, усталости и лишениям, окажутся на пороге их надежд. Дорога усеяна трупами, но высшая цель достигнута. Последняя гряда отвесных скал преодолена, и там внизу, насколько хватает глаз, лежит в слепящем свете солнца необъятный океан с гигантской зыбью и сине-зелеными волнами, вспыхивающими огнем! Охваченный восторгом перед этим чудесным зрелищем, великолепие которого никогда не созерцал глаз европейца, конкистадор обнажает голову, падает на колени и шепчет горячие слова благодарности. Священник, сопровождающий экспедицию, запевает Те Deum[108], и все искатели приключений, также стоя на коленях, с большой признательностью повторяют благодарственный гимн. Затем Бальбоа поднимается и торжественно принимает во владение от имени короля все обозримые земли, приказывает срубить большое дерево, из него делают крест и устанавливают его на этом месте. Экспедиция терпеливо возвращается по своим следам, огибает подножие гор и через несколько дней тяжелого перехода выходит на берег нового океана. Перед ней бухта, которой Васко Нуньес присваивает имя святого Михаила, память которого отмечалась в день открытия[109]. Потом он берет знамя с королевским гербом Испании и с нарисованными на нем Святой Девой и младенцем Иисусом, вытаскивает шпагу, входит в воду, ударяет по волнам клинком и от имени Испании объявляет об открытии нового океана. После этой блестящей победы Бальбоа исследовал часть берега к югу, принес огромное количество жемчуга, накидал как всегда горы трупов аборигенов и вернулся через четыре месяца в Санта-Мария-де-Дарьен. Тщательно взвесив все отрицательные моменты своего положения, он решил послать в Испанию надежного человека, преданного друга Педро де Карболанчо, чтобы объявить королю о своем блестящем открытии, надеясь, и не без основания, что подобная заслуга обеспечит ему прощение за самовольное вступление в должность наместника. К несчастью, Карболанчо был еще в пути, когда прибыл новый наместник, назначенный королевским декретом на место Бальбоа, смещаемого как узурпатор. Энсисо был полностью отомщен, очернив в глазах двора Васко Нуньеса, который, если и вел себя бесчеловечно по отношению к туземцам, все же блестяще выполнил свою миссию с точки зрения материальных интересов Родины. Месть Энсисо была тем более полной, что новый наместник Педро Ариас д’Авила[110], более известный под именем Педрариас, был образцом плута, интригана и самым заклятым личным врагом Бальбоа. Прибытие Педро де Карболанчо в Испанию подняло бурю восторга, и объявление об успехах Васко Нуньеса сделало его имя еще более популярным. Король с большим опозданием признал несправедливость, но исправил ее лишь частично. Педрариас, прибыв в Дарьен, был ошеломлен, увидев, что неустрашимый конкистадор, о подвигах которого говорит весь цивилизованный мир, живет в простой хижине. Сначала он боялся конфликта и чувствовал себя не совсем уверенно, несмотря на серьезную поддержку двух тысяч прибывших с ним человек. Бальбоа терпеливо дожидался новостей из метрополии, надеясь, что справедливость восторжествует. Первый корабль, прибывший из Испании, принес ему частичное удовлетворение. Король, признав Бальбоа невиновным, назначил его правителем Южного моря с титулом наместника провинций Панама и Куба, но оставив тем не менее в подчинении у наместника Педрариаса. Конечно, он заслуживал большего, несмотря на недостатки, ставшие достоинствами в этот период создания колоний, когда фатально победитель встает на место побежденного. Да, Нуньес де Бальбоа заслуживал лучшего, тем более что, образумившись, приобрел настоящие качества дипломата, знал страну, ее нужды и ресурсы. А тем временем благодаря Педрариасу ситуация для Бальбоа становилась все более и более трудной. Наместник перехватывал депеши, приходившие от короля, и прекратил это делать только под нажимом со стороны епископа. Видя, что их мужественный командир больше не вызывает подозрений двора его величества, спутники славы и приключений решили устроить для своего кумира праздник и собрались вокруг него. Жестокий и подлый Педрариас, вообразив угрозу, испугался и запер Бальбоа в деревянной клетке!.. Епископ своей властью освободил его и, стремясь примирить этих двух людей, раздор между которыми мог стать пагубным для интересов метрополии, посоветовал наместнику выдать одну из своих дочерей за Васко Нуньеса де Бальбоа, который, будучи дворянином и войдя в его семью, конечно, оказал бы ему неоценимую помощь своим опытом и популярностью. Наместник согласился. Бальбоа и не желал лучшего, оставалось только вызвать из Испании невесту для конкистадора. Ожидая этой свадьбы, которая должна была положить конец разногласиям, Васко Нуньес решил осуществить проект, не дававший ему покоя со времени открытия Тихого океана, который состоял в том, чтобы исследовать со стороны моря неизвестные берега нового океана. Для этого необходимо было построить в устье Атрато бригантины, а потом выполнить труднейшее дело — доставить их по суше на спинах людей из Атлантического в Тихий океан! На этих кораблях, ничтожных скорлупках, смельчак, имевший опыт мореплавания и обладавший трезвым гением завоевателя, обследовал перешеек, «Жемчужный берег», вернулся в бухту Сан-Мигель, еще раз победив стихию, в ореоле славы и нагруженный добычей. А тем временем подлый Педрариас, не только не сложивший оружие, но еще больше разжегший в своей душе гнев, искал способ погубить соперника и не нашел для этого ничего лучшего, как обвинить его в том, что Нуньес действует в собственных интересах и намерен выкроить себе королевство, короче, в намерении узурпировать корону! С судьями, безгранично преданными наместнику, для Бальбоа это должно было стоить головы. В момент прибытия в Дарьен его встретил бывший лейтенант Франсиско Писарро в сопровождении многочисленного отряда хорошо вооруженных людей с приказом об аресте. Бальбоа тотчас заковали в цепи и немедленно отправили в тюрьму. Быстро было проведено следствие, и по настоянию Педрариаса его действительно приговорили к смерти, хотя судьи склонялись к тому, чтобы сохранить путешественнику жизнь. Васко Нуньес де Бальбоа был казнен на площади Аклы с тремя соратниками, обвиненными для проформы и осужденными вопреки всякой справедливости. Когда он отправился на место казни, глашатай шествовал во главе скорбной процессии и, согласно обычаю, объявлял громким голосом: — Такое наказание, по приказу короля и его наместника дона Педро Ариаса д’Авилы, налагается на этого человека, как на изменника и узурпатора короны! — Это ложь, — возмущенно воскликнул закованный в цепи Бальбоа, — никогда я не замышлял такого преступления, я всегда служил моему королю как верный и преданный подданный. Он поднялся на эшафот с видом человека, который уже давно не дорожит своей жизнью, и отважно претерпел последнюю муку. Ему было сорок два года. Всеобщий крик возмущения раздался в Испании при известии об этом беззаконии, совершенном Педро Ариасом. Но у того были могущественные друзья при дворе, и среди них Фонсека, епископ Гренады, бывший заклятый враг Христофора Колумба, который сохранил свой ранг, титул и власть.ГЛАВА 5
ФЕРНАН КОРТЕС[111]
Фернан Кортес — завоеватель во всей полноте значения этого слова, заключающего в себе идею всевозможных насилий, зверств, подлостей, которые человеческое существо, предающееся самым кровожадным инстинктам, может совершить во имя алчности, славы и религии. Завоеватель! У автора этих строк нет другого определения для человека, сделавшего убийство своей профессией, и именно таким остался в истории Фернан Кортес, покоривший и разоривший Мексику, великолепную несчастную страну. Это был второй Васко Нуньес де Бальбоа в худшем его выражении, поскольку являлся более крупной фигурой. В остальном та же отвага, мужество, алчность, пренебрежение человеческой жизнью… завоеватель! Эрнандо Кортес, или, как мы говорим, Фернан Кортес, родился в 1485 году в маленьком городке Медельин в Эстремадуре[112]. Он был очень знатного происхождения, по некоторым неточным сведениям, даже потомком старинных ломбардских королей[113]. Впрочем, генеалогия здесь не столь важна. Его родители, Мартин Кортес-и-Муруа и донья Каталина Писарро-и-Альтамиро, жили в среднем достатке с небольшой позолотой, который поэты считают идеалом существования, лишенного честолюбия. В раннем детстве будущий конкистадор был болезненным, почти тщедушным ребенком, но гимнастические упражнения придали ему ловкость и силу. В четырнадцать лет его послали учиться в университет в Саламанку[114], где он с невероятной легкостью получил вполне приличное образование, вызывая при этом недовольство педагогов полным отсутствием прилежания. Кортес любил только оружие, лошадей, и единственными занятиями, которые он охотно посещал, были уроки фехтования. В шестнадцать лет юноша покинул Саламанку и, отдавшись страсти к оружию, решил отправиться в Неаполь вслед за знаменитым Гонсало де Кордова[115], слава которого будоражила молодое воображение. Ему помешала тяжелая болезнь; но занять место около этого полководца вовсе не было пределом мечтаний молодого честолюбца. Он хотел иметь свободные руки и как можно раньше занять первое место, которого, впрочем, вскоре будет вполне достоин. Новый Свет был только что открыт. Золота здесь было в изобилии, но аборигены начали энергично защищать свою жизнь и независимость; надо было драться, собирать золото, добиваться славы. Одно упоминание названий этих далеких стран, о которых рассказывал Колумб и его спутники, возбуждало мечты о роскоши, ослепляло сеньоров испанского двора. Им уже виделись рыжеватые лучи, исходящие от кучи золота, и многие подумывали о том, как завоевать такую многообещающую землю; и молодой Кортес — как никто другой. В 1504 году девятнадцати лет от роду он взошел на борт корабля, отправляющегося на остров Эспаньолу, в Санто-Доминго. Океанский переход был удачным, и Кортес прибыл на Эспаньолу к королевскому наместнику Николасу де Ованда, давнему знакомому семьи Кортесов, который принял молодого человека наилучшим образом. Тот прожил здесь около семи лет, хозяйничая на плантации, подаренной ему вместе с партией туземных рабов. Вскоре такая сельская идиллия ему сильно наскучила, и непоседа стал искать случая дать волю своему влечению к военной славе, страсти тем более острой, что ее долгое время приходилось подавлять. В 1511 году, когда Диего Веласкес де Леон получил приказ покорить Кубу и закрепиться на ее землях, Кортес последовал за ним. Он отличался изысканными манерами и был назначен за свое поведение алькальдом[116] столицы острова. Этот завидный титул давал, особенно в Новом Свете, большие права, поскольку его обладатель по своей благосклонности мог наделять любого большими земельными концессиями и множеством индейских рабов. Выполняя столь важную миссию, Кортес с блеском защитил честь испанца и сумел своей отвагой, силой духа, юмором снискать всеобщую симпатию. Кроме того, он постарался изучить обычаи, нравы и язык карибов[117], при этом постоянно думая хоть о какой-либо экспедиции, чтобы вырваться из будничности гражданских дел. Через некоторое время он женился на донье Каталине Суарес, которая родила ему сына, и занялся освоением своего поместья около Сантьяго, где он открыл золотой прииск. Ему уже удалось собрать сумму в три тысячи кастельяно[118], очень значительную для того времени, когда важное решение наместника Диего Веласкеса избавило его от такого тягостного оседлого образа жизни. Пышная роскошь, принесенная Альворадо наместнику, и восторженные рассказы этого авантюриста о недавно открытых странах убедили Диего Веласкеса подготовить новую армию, а руководство ею поручить Кортесу, не ожидавшему такой милости[119]. Впрочем, едва о его назначении начальником экспедиции стало известно, как со всех сторон поднялся ропот, и недоброжелатели предприняли все меры, чтобы оно было отменено. По правде говоря, этот выбор был действительно несправедливым. Грихальву[120], принимавшего участие в последней экспедиции и считавшегося храбрым и талантливым офицером, незаслуженно отодвинули на второй план, и он со жгучей досадой наблюдал за выдвижением своего молодого соперника. Предчувствуя дальнейшее обострение эмоций и интриг, Кортес решил, что надо торопиться, пока его назначение не отменили. И вот уже над портом развевается флаг и герольды[121] звуками своих труб созывают по всему городу добровольцев. Тотчас толпы авантюристов, бывших офицеров, стареющих под ратными доспехами, молодых и горячих искателей приключений, жадных до славы, битв и быстрого обогащения, бросились на его зов. Сам Кортес заложил землю и индейцев и пустил все свое состояние на покупку части оборудования, проявив при этом такое проворство в вооружении флота, что самое необходимое вскоре было уже готово. Тем временем враги Кортеса интриговали вокруг наместника, который поддался их влиянию, а возможно, уже и сам начал испытывать ревность к человеку, которого сам выделил. В последний момент Веласкес решил отстранить Кортеса от должности начальника экспедиции и отдал приказ о его аресте. Но тот, предупрежденный преданными друзьями, без шума снялся с якоря глубокой ночью 18 ноября 1518 года, даже не дождавшись полного снаряжения своих кораблей, сразу отправился к Тринидаду[122], чтобы завершить загрузку провианта и попытаться завербовать еще несколько новых сподвижников. Между тем Веласкес де Леон, одураченный и разъяренный, послал алькальду города распоряжение арестовать ослушника, что было легче приказать, чем сделать, ведь Кортеса окружали многочисленные люди из его команды, доведенные до фанатизма колоссальным авторитетом, которым тот всегда пользовался у своих соратников. Из Тринидада Кортес отправился в Гавану, куда за ним последовал новый приказ Веласкеса, предписывающий правителю теперь уже этого последнего города арестовать молодого бунтаря. Алькальд Гаваны не более, чем его коллега из Тринидада, позаботился произвести этот арест, становившийся все более трудновыполнимым в среде людей, решившихся на все ради завоевания новых земель. Будущий покоритель Мексики наконец поднял якоря 11 февраля 1519 года, чтобы направиться к континенту. Его эскадра состояла из одиннадцати кораблей. Но даже самый большой из них, называвшийся адмиральским, не имел и ста тонн водоизмещения, а у семи других не было даже палуб. Вся экспедиция насчитывала сто десять моряков, пятьсот пятьдесят три солдата, из которых тринадцать были вооружены мушкетами, тридцать два аркебузами, остальные пиками и шпагами, а также более двухсот индейцев и несколько индейских женщин, используемых для хозяйственных работ. Кроме того, было шестнадцать лошадей и десять пушек с боеприпасами и в изобилии провианта. К нему присоединилась группа отважных людей, имеющих большой опыт сражений против туземцев, чтобы в качестве офицеров командовать рядовыми членами экспедиции. Это были Педро де Альворадо[123], Лопес де Авила, Хуан Веласкес де Леон, племянник наместника, Берналь Диас[124], Кристобаль де Олид[125], Гонсалес де Сандоваль — все испытанные в неоднократных схватках, любящие добычу и сражение, авантюристы без страха, если и не без упрека, к неукротимой храбрости которых прибавлялся страстный религиозный фанатизм. Эскадра направилась к мысу Сан-Антонио[126] под руководством пилота[127] Аламиноса, который успешно провел эскадру Колумба в его последнем путешествии, Эрнандеса и Грихальвы, и обогнула затем остров Косумель. Кортес, едва высадившись, сумел внушить доверие индейцам своими приветливыми манерами. Вскоре между испанцами и туземцами воцарилась гармония. Недоставало переводчика. К счастью, эти функции взял на себя оказавшийся на острове испанец Херонимо д’Агилар — узник одного касика с мыса Каточе. Вдруг Кортес приказал индейцам разрушить их храмы и идолов. Несчастные надеялись, что боги не потерпят такого кощунства, но они позволили разнести себя на кусочки, не поразив молнией ни одного испанца. Тогда, поверив, что бог Кортеса выше всех их божеств, туземцы собрались толпой вокруг падре[128] Хуана Диаса, который отслужил мессу[129], а затем произнес проповедь по-кастильски![130] Идолов заменил огромный деревянный крест и изображения Святой Девы и нескольких святых. Уходя, Кортес отдал себя и своих спутников под защиту этого креста и взял с индейцев клятву чтить его. Эскадра снова отправилась в плавание и пришла в устье реки Табаско[131], поднялась до городка Потончан, хорошо защищенного прочным палисадом с бойницами. Несмотря на мощное сопротивление туземцев, городок был легко захвачен. На следующий день 18 марта 1519 года маленькая испанская армия высадилась на берег и вступила в бой с индейскими войсками, численность которых хроникеры того времени определяют в сорок тысяч! Несмотря на отвагу туземцев, их разгром был полным. Артиллерия, переносное огнестрельное оружие, лошади, принимаемые индейцами за единое существо с их всадником, внушали дикарям безумный ужас. Они думали, что молния, гром, демонические существа объединились с их врагами. Индейцы потеряли, говорит хроника, более тысячи человек убитыми, тогда как у испанцев было только двое убитых и шестьдесят раненых. Мир был заключен при условии, что касик реки Табаско признает себя вассалом Испании и примет христианство. Тому ничего не оставалось, как согласиться на эти условия и одарить победителей щедрыми подношениями в виде золота и тканей, а также двадцати молодых рабынь, одна из которых, удивительная, знаменитая Марина, предназначалась самому Кортесу. Наделенная живым умом, девушка с невероятной легкостью выучила кастильский язык и вскоре уже была в состоянии служить переводчицей для экспедиционного корпуса. К тому же она привязалась к своему хозяину, с которым вскоре разделила существование, и сохранила навсегда непоколебимую верность испанскому делу. Кортесу было даровано счастье найти в этой юной рабыне умелую переводчицу, активную разведчицу, компетентную советчицу в политике, иногда красноречивого и осторожного посла, в общем умного сотрудника, старательного, умелого и бескорыстного. Она была рядом с ним все годы сражений за покорение Мексики Испанией, и можно с уверенностью сказать, что своим поражением Монтесума в большой степени был обязан ей. От реки Табаско эскадра отправилась к реке Папалоаба[132], получившей название Альворадо в честь Педро Альворадо, который первым ее заметил. Потом бросили якорь в Сан-Хоан-де-Улуа. Тотчас пирога, управляемая индейцами, причалила к адмиральскому кораблю с цветами, фруктами и золотыми украшениями для обмена на стекляшки. Туземцы сообщили Кортесу, что этой новой территорией управляет наместник по имени Тендиле, а могущественный император Мексики Монтесума является его сюзереном[133]. Кортес осыпал гостей подарками и временно остановился на берегу, высказав желание увидеть Тендиле[134]. Монтесума[135], у которого была хорошо организованная курьерская служба, уже знал о прибытии испанцев. Очень встревоженный, он убедил свой большой совет сделать иностранцам роскошные подарки, но при этом категорически запретить им ступать на мексиканскую территорию. Тотчас отправили посольство к Кортесу с подарками неслыханной щедрости, и что очень странно и необычно, так это блестящие ритуальные украшения бога Кецалькоатля, предназначенные для больших торжеств. Индианка Марина[136] служила переводчиком. Послы были приняты на палубе адмиральского корабля, где на корме было установлено нечто вроде трона с украшениями, богатство и оригинальность которых должны были поразить воображение полномочных представителей Мексики. Сам Кортес, нарядившись в парадный костюм, сидел в окружении офицеров и действительно имел очень внушительный вид. Перед тем как произнести свои речи, послы пали к ногам кастильского героя. Они почтили его как Кецалькоатля, прадавнего просветителя Анауатля, который должен был вернуться однажды в страну с Востока. Кортес оказал большую милость, приняв поклоны и позволив надеть на себя украшения бога в присутствии местных жителей, толпой прибежавших на берег, решивших, с их логикой истинных дикарей, что действительно вернулся Кецалькоатль. На следующий день Кортес со своим отрядом произвел высадку на мексиканский берег. Тревога Монтесумы росла, и он отправил новые и еще более богатые дары предводителю испанских войск и повторил в доброжелательных, но категорических выражениях, что последний должен немедленно покинуть его территорию. — Большое спасибо, — сказал смеясь генерал, — слишком роскошные дары преподнес нам этот щедрый властелин Мексики, чтобы мы не пошли лично поблагодарить его. Потом он добавил, повернувшись к своим офицерам и солдатам: — Не правда ли, кабальерос[137], мы просто обязаны нанести ему визит? И все эти алчные авантюристы при мысли о богатой добыче, предлагаемой предводителем, вскричали в один голос: — Вперед!.. Мы готовы!.. Вперед!.. Корабельный колокол зазвонил в этот момент «Агнус Деи»:[138] офицеры и солдаты тотчас пали на колени, прося Святую Деву Божью Матерь охранить их от опасностей и принести победу, удачу и богатство. Тем временем неожиданное событие еще больше утвердило Кортеса в решении идти на Мехико, несмотря на явное пугающее несоответствие его небольшого отряда силам, которыми располагал хозяин этой мощной империи. Ацтекский вождь, молодой Иштлишоитль, тайно послал к испанцу нескольких своих офицеров, чтобы разъяснить положение в стране, ее внутреннее подразделение и желание провинций присоединиться к любому, кто захочет объявить войну Монтесуме. В то же время Тлакошкалкатль, вождь тотонаков[139] из Семпоалы, скрытно предложил свою дружбу испанскому полководцу, испросив у него поддержки для возвращения себе утраченной свободы. Он не особенно рассчитывал на помощь, но сложившаяся в стране обстановка наполнила радостью душу Кортеса. Как ловкий политик, он понимал, какую выгоду можно из нее извлечь, и больше не сомневался, что ему судьбой уготовано завоевать богатую империю. Тем временем в окружении Кортеса возникло несколько робких попыток мятежа и заговора, подавленные с обычными для него решимостью и энергией. Затем, успокоенный с этой стороны, уверенный в надежности своего окружения, он с двумя небольшими отрядами, послав вперед Альворадо, осторожно снял с кораблей артиллерию и боеприпасы, нагрузил ими индейцев, оберегая тем самым своих людей от ненужного утомления, и отправился в Семпоал. Солдаты перешли реку Чачалака, образующую границу тотонакского княжества, и направились к столице, куда прибыли на следующий день. Кастильских авантюристов приняли как освободителей и мстителей за угнетенную родину. Маленький вооруженный испанский отряд пробыл там несколько дней и отправился в порт Киауйстлан[140], куда уже прибыл флот со всем военным снаряжением. И тут же Кортес объявил две провинции, Семпоалу и Киауйстлан, вассалами Испании; их освободили от обязанности платить дань мексиканской короне и арестовали сборщиков налогов, прибывших из Мехико. Это стало настоящим объявлением войны. Оно вызвало в обеих провинциях неописуемый энтузиазм и еще больше повысило популярность вновь прибывших, которые ничего не сделали, чтобы заслужить ее, а только принимали подарки. Пребывая в качестве победителя в Семпоале и думая, что ему все позволено, конкистадор, никогда не забывавший о религии, решил обратить всех тотонаков в католицизм, что не потребовало много времени. В сопровождении пяти десятков солдат, поющих Gloria in excelsis, он решительно поспешил к храму, пообещав тотонакам, сначала пришедшим в отчаяние, а затем перепугавшимся насмерть, полностью вырезать их, если они не успокоятся. Несмотря на стоны верующих и жрецов, ожидавших, что молнии поразят святотатцев, испанцы мгновенно разбили статуи богов. Толпа, видя, что небо остается ясным, гром не гремит и осквернители святынь без малейших затруднений совершили свое злодеяние, опустили головы и смирились, добровольно отказавшись от культа богов, не сумевших заставить уважать себя. На руинах храма воздвигли алтарь, на котором установили крест и икону с изображением Девы Марии с младенцем Христом на руках. До этого Кортес одерживал победы в силу своей наглости, храбрости и дипломатии. Но на смену преодоленным препятствиям приходили новые, и причин для беспокойства всегда было в достатке. Зная испанское упорство, сам будучи типичным испанцем, он, не сомневаясь, что Веласкес де Леон на Кубе не сложит оружие и будет всегда преследовать его, хотя бы просто из ненависти, предпринял следующий шаг, чтобы навсегда освободиться от его власти. Кортес решил основать на мексиканских землях колонию от имени испанских монархов: автономную область, подчиняющуюся только им. С этой целью он построил форт и несколько домов в полулиге от Киауйстлана, и дал поселению название Вилья-Рика-де-ла-Веракрус, то есть Богатое поселение во славу Истинного Креста, — название, как говорит Робертсон, отражающее две движущие силы кастильцев в их предприятиях в Новом Свете, а именно: жажду золота и религиозный фанатизм. Тотчас были назначены должностные лица нового города, сразу приступившие к своим обязанностям. Тогда Кортес как человек, уважающий законные власти, торжественно передал им полномочия, полученные от Веласкеса де Леона. В свою очередь, совет серьезно обсудил и по зрелом размышлении предложил Кортесу должность главнокомандующего и главного судьи молодой колонии, то есть предоставил ему гражданские и военные полномочия. Тем временем новоиспеченный главнокомандующий, готовясь предпринять большую, жизненно важную для него экспедицию против Монтесумы, принял героическое решение, подобными которому история небогата. Уже несколько раз ему приходилось подавлять попытки мятежа и особенно дезертирства. Несколько его людей даже захватили однажды каравеллу, на которой собирались вернуться на Кубу. Беглецы были пойманы и жестоко наказаны, но, пока морской путь был свободен, попытка могла повториться. Именно поэтому, чтобы избежать неприятностей, Кортес решает уничтожить флот, изолировав свою маленькую армию на континенте. Он доверил свой проект тем, в ком был абсолютно уверен, объяснив, что благодаря этому шагу освободится сотня сильных и отважных матросов, которые, присоединившись к солдатам, будут очень нужны, когда потребуется решать мучительную альтернативу: победить или погибнуть. Все одобрили план полководца; потом вытащили корабли на берег, разобрали и сожгли. Это, по словам Робертсона, единственный случай в истории, когда пять сотен человек во вражеской стране, населенной сильными и неизвестными народами, добровольно лишили себя возможности к отступлению и не оставили себе другой возможности к спасению, кроме собственной храбрости и твердости духа. Испанская армия выступила из Семпоалы 16 августа 1519 года. Она состояла из 450 пехотинцев, пятнадцати лошадей и семи пушек. Кортес захватил с собой также сорок знатных тотонаков в качестве заложников и проводников. Этот, без сомнения, очень маленький, но неустрашимый отряд, сильный и хорошо закаленный, сопровождали две тысячи пятьсот нестроевых воинов из Семпоалы и большое количество вестовых, которые несли артиллерийские припасы, багаж и провизию. Через шесть дней пути Кортес достиг Хокотлапа, большого и красивого города, подчиненного государству Анауак[141]. Там он остановился и послал несколько тотонакских депутатов в Тласкалу, отважную и гордую республику, которая с давних пор храбро сопротивлялась ацтекским войскам и заставила уважать свою независимость. В ожидании возвращения послов он не мог усидеть на месте и заторопился в дорогу. Вскоре армия оказалась перед отлично сделанным укреплением, восхитившим испанцев. Это были прочные стены длиной около десяти лиг, толщиной двадцать футов и высотой девять, с единственным входом в середине. Такая конструкция, служившая республике границей с этой стороны, была предназначена для защиты от мексиканских набегов. Авангард колебался, прежде чем войти в неохраняемый проход, когда Кортес, вскочив на лошадь, со словами: «Вперед, солдаты; на нашем знамени крест, с ним мы победим» — устремился к проходу. Кортес решил, что тласкаланы, исконные враги мексиканцев, пойдут вместе с ним против общего врага, или, по крайней мере, пропустят его армию. Ничего подобного. Слишком осторожные, чтобы сопротивляться или открыто сдаться, они решили по совету одного из их старейшин выбрать нечто среднее. Старик по имени Шикотенкатль убедил их поручить его сыну, молодому человеку, полному отваги и дерзости, атаковать испанцев. Удобного случая для нападения ждать пришлось недолго. Безусловно, таким противником не следовало пренебрегать, хотя это и были грубые горцы, крестьяне, подданные аристократической феодальной республики — диковинный политический нонсенс, к которому, однако, приноровился подневольный народ, работящий и смелый и, как считалось, не подверженный какому-либо влиянию. Армия тласкаланов, руководимая молодым Шикотенкатлем, очень многочисленная, хорошо дисциплинированная, заставила крепко призадуматься горстку отважных испанцев, перед которыми стояла альтернатива: победить или умереть страшной смертью. Кастильцы приготовились к битве с обычной для них отвагой. За ночь все исповедались у капелланов[142] и на заре причастились. Это было 5 сентября 1519 года. Кортес произвел смотр своим солдатам, пехоте дал рекомендации, как рубить саблей, кавалерии — как атаковать манежным галопом и целиться копьем в глаза противников, подбодрил их проникновенными словами и стал ждать атаки. Вооруженные луками, короткими пиками, копьями и пращами тласкаланы очень ловко обращались со своим арсеналом. Кроме того, у них были длинные палки из твердого дерева, нечто вроде дубин с шипами на конце, делающими смертельным любое ранение. В свирепом натиске они бросились на испанцев, их не могли остановить ни огонь мушкетов, ни опустошения, производимые в сомкнутых рядах литыми ядрами, ни даже атаки кавалерии, так пугавшие людей касика Табаско. Битва была длительной, ожесточенной, не на жизнь, а на смерть. Потребовалось все превосходство тактики и вооружения испанцев, вся их чрезвычайная выносливость, ловкость в обращении с копьем и шпагой, наконец, отличное оборонительное оружие, чтобы добиться весьма спорной победы. Кортес не питал иллюзий и понимал, что столь дорогой ценой оплаченная победа уничтожит его армию, истощив ее силы. Он предложил мир тласкаланам, которые согласились с этим предложением, показав в последней битве, решившей их судьбу, что они, лучше вооруженные и, главное, более дисциплинированные, могут сражаться с испанцами на равных и остановить их. Заключив мир, тласкаланы к тому же стали самыми надежными и верными союзниками, и именно благодаря им Кортес смог осуществить эпопею, которая называется покорением Мексики. Однако эта победа над тласкаланами, до того непобедимыми, определенно повысила престиж отважного маленького отряда испанцев. С нее началось добровольное подчинение грозных соседей. Одна за другой стали прибывать депутации от республики Уэхоцинго и городов соседних государств, чтобы оказать почтение победителю и объявить себя вассалами испанской короны. Оставался священный город Анауака Чолула, посвященный богу Кецалькоатлю. Его не захватило всеобщее движение покорности. Кортеса это не удивило и особенно не встревожило. Он решил обойтись без покорения Чолулы и сразу отправиться в долину Мехико, несмотря на категорическое несогласие своих новых союзников тласкаланов, пытавшихся его отговорить. Он попросил у жителей Чолулы разрешения пройти через их город, и те, казалось, не возражали, но в глубине души твердо решили захватить ночью спящих испанцев и передушить их всех до последнего. Но верная, неустанно бодрствующая Марина раскрыла заговор и тотчас сообщила о нем Кортесу. Последний решил преподать страшный урок и покончить одним ударом с предательством. Он приказал разграбить город Чолулу и перерезать жителей. Испанцы и тласкаланы тотчас кинулись на приступ города и со свирепой жестокостью резали всех, кто попадался им под руку. За два дня погибли шесть тысяч человек! Добыча была огромной. Испанцы награбили золота, серебра и драгоценных камней; тласкаланы завладели птичьими перьями великолепных расцветок, которые они ценили в тысячу раз выше, чем самые ценные металлы. Вслед за резней было объявлено всеобщее прощение, и несчастный город, разграбленный, разбитый, укрощенный, полностью подчинился Испании. Этот полный успех кастильского оружия был, однако, омрачен неприятной новостью, вызвавшей сильный гнев Кортеса и побудившей его к более быстрым и решительным действиям. Курьер известил его о том, что властитель Нотлана, находившегося всего лишь в тридцати шести милях от Веракруса, по приказу Монтесумы предательски напал на тотонаков. Последние тотчас попросили помощи у своих испанских союзников из гарнизона в Веракрусе. Во время сражения, отбивая врагов, был смертельно ранен вместе с другими семью своими людьми Эскаланте, командовавший войсками от имени Кортеса. Восьмой захваченный в плен испанец был предан смерти со страшной, утонченной жестокостью, а его голова послана Монтесуме. Кортес никому не рассказал эту печальную новость, но поклялся жестоко отомстить за смерть своих людей, он был из тех, кто держит слово. Маленькая кастильская армия, «усмирив» таким образом Чолулу, двинулась дальше и прошла между Попокатепетлем и Истаксиуатлем[143], где находился проход, ведущий к долине Мехико. Испанцы долго шли, сопровождаемые несколькими тысячами тотонаков, тласкаланов и жителей Чолулы — союзников, которых слепая ненависть к мексиканцам заставила бороться бок о бок с жесточайшим своим врагом, который вскоре не задумываясь поработит их самих. Шел октябрь 1519 года, славная дата в пышной колониальной истории Испании. По мере того как союзническая армия спускалась с вершин Чалько, обширная равнина Теночтитлана развертывалась перед ней, а потом, как бы из глубин внутреннего моря, выступал феерический город Монтесумы с его башнями, замками, соборами, большими зданиями, во всем смутно проглядывающем великолепии. Кортес, восхищенный этой волшебной картиной, где он угадывал землю, о которой грезил, упал на колени и воздал хвалу Богу! Потом смело скомандовал идти вперед, больше не сомневаясь в успехе, уверенный отныне, что с горсткой своих людей покорит огромную империю. Восьмого ноября отважный авантюрист вошел в Мехико, город с трехсоттысячным населением. Монтесума, хорошо владеющий собой в этот горестный и критический момент, предстал перед победителями в паланкине[144], который несли несколько знатных горожан. При виде Кортеса, следующего первым, верхом на лошади, повелитель ацтеков сошел на землю, опираясь на плечи племянника и брата. Кортес, со своей стороны, также спешился, приветствовал императора и надел ему на шею стеклянные бусы. Потом император, отдав приказ брату проводить испанцев в приготовленные для них кварталы, вернулся в свой дворец, проходя через толпу, простершуюся перед ним, словно перед божеством. В этих кварталах находился пышный дворец Аксаякатля[145], в котором свободно разместилась вся армия захватчиков, предварительно позаботившись об обороне. И Кортес, предполагая ловушку, запретил своим людям под страхом смерти выходить из здания. Зная, что среди тласкаланов ходят зловещие слухи о том, что Монтесума согласился допустить их в свою столицу, чтобы легче расправиться с ними, Кортес постарался, как обычно, поразить разум и воображение туземцев могуществом испанцев. Когда спустилась ночь, множество артиллерийских залпов объявили о прибытии войска его католического величества в столицу государства Анауак, принятого в испанское владение от высочайшего имени. Грохот пушек, подобный громовым раскатам, отраженный фасадами огромных зданий, рокотал над водами озера, яркие частые вспышки, возникающие внезапно в едком дыму, с опьяняющим запахом действовали устрашающе на рассудок, мешая заснуть всему городу, погрузив его в эту первую ночь в омут мистического страха. В принципе все прошло хорошо. Испанцев радушно приняли в Мехико, и самая искренняя сердечность, казалось, царила между Кортесом и Монтесумой. Император вроде бы убедился, что имеет дело с посланцем бога Кецалькоатля, и соответственно принимал конкистадора. Прежде всего Кортес, чтобы показать свою власть над туземным вождем, решил категорически запретить употреблять в пищу человеческое мясо, что было очень разумно со стороны европейца. Затем он потребовал от Монтесумы принять вместе со своим народом католичество и водрузить огромный крест на плоской крыше большого храма, чтобы верхушка креста возвышалась надо всем городом. Это было по меньшей мере преждевременно, даже для ревностного христианина. Таково было и мнение отца Олмедо, который мягко пресек этот неуместный порыв. На предложение принять всем народом христианскую религию Монтесума ответил просто: «Я думаю, что все боги хороши; ваш может быть таким, как вы говорите, не принося вреда моим. Они хорошо служили мексиканцам, и будет неблагодарно отречься от них». Однако их боги были омерзительными идолами, которым приносили страшные жертвы. Как Уицилопочтли, бог войны, так и Тескатлипока, бог — создатель народа, и Кецалькоатль, бог-просветитель, хотели только человеческих жертв. Повсюду кровь текла рекой, оскверняя стены, стекая ручейками по желобам, окрашивая в красный цвет одежды безобразных жрецов, совершающих жертвоприношения! Поражали сваленные в кучу трупы, с зияющими провалами ртов, обескровленные, изуродованные, с вырезанными сердцами, которые преподносили на золотых блюдах этим страшным божествам. Повсюду жестокая ярость убийства, заклание сотен жертв, из которых выпускали кровь, а потом трупы потрошили ужасные жрецы, превратившие свои храмы в страшные бойни, один вид которых приводил в негодование даже грубых кастильских воинов! «Запах, исходивший из этих смертоносных святилищ, — писал Берналь Диас, один из хроникеров покорения Мехико, в котором он принимал непосредственное участие, — был невыносимее, чем запах от скотобоен Кастилии!..» По прошествии восьми дней пребывания в Мехико Кортеса начало одолевать беспокойство. После первого опьянения победой, после столь неожиданного подчинения, возможно слишком абсолютного, чтобы быть искренним, мог ли он довериться Монтесуме и огромному народу, среди которого затерялась его маленькая армия? Уйти также было невозможно из-за опасности нападения состороны жителей, имевших подавляющий численный перевес. Впрочем, как унести огромные богатства, с которыми никто не пожелал расстаться! С другой стороны, оставаться в городе было почти так же гибельно, поскольку у мексиканцев имелось немало средств, чтобы уничтожить испанскую армию: достаточно было просто блокировать ее и лишить продовольствия. Надо было действовать без промедления; и в этих критических обстоятельствах Кортес еще раз доказал свою изворотливость и энергию. Он без колебания принял необыкновенно дерзкое решение, которое тем не менее одно могло спасти всех, однако в случае неудачи все могло быть безвозвратно потеряно. План состоял в том, чтобы взять в заложники самого Монтесуму и удерживать его в испанском квартале, во дворце Аксаякатля. Предлог вскоре был найден. Кортес вспомнил о тревожном послании, полученном еще в Чолуле, в котором ему сообщали о смерти Эскаланте, убитого вместе с восемью другими испанцами при защите тотонакских союзников, атакованных касиком Нотлана. Кортес, будто только что узнав эту новость, созвал своих офицеров, сообщил им ее, посвятив в свой план захвата императора, одно присутствие которого среди испанцев могло гарантировать им безопасность. План был одобрен. На следующий день Кортес испросил аудиенции у императора, и тот без промедления принял испанца. Прослушав мессу, вероломный испанец выстроил свою армию во дворе дворца, провел ее внутрь мелкими подразделениями, и сам предстал перед императором с пятью самыми храбрыми и решительными воинами. Монтесума встретил гостя очень любезно, но Кортес, изобразив суровость на лице, рассказал о западне, в которой погибли его люди и союзники, потом, обвиняя в вероломстве касика Нотлана, возложил на Монтесуму ответственность за происшествие. Император возразил, что виновный будет немедленно вызван в Мехико и наказан, но что лично он сам ни в чем не виновен. Кортес ответил, что в его монаршьих заверениях он не сомневается, но у короля Испании нет такой уверенности. — Что надо сделать, чтобы доказать ему мою непричастность к этому преступлению? — спросил несчастный монарх. — Вам следует жить среди нас и доказать этим знаком доверия, что у вас никогда не было и не будет плохих намерений против подданных его католического величества. Монтесума выразил протест; его гордость была уязвлена, он приготовился сопротивляться, выгадать время, позвать на помощь верных людей. Но дворец был во власти закованных в латы испанцев со шпагами или мушкетами в руках. И повелителю Мексики пришлось уступить окружавшим его людям, которых звали Веласкес де Леон, Сандоваль, Альворадо, Луго и де Авила, уже зарекомендовавших себя телохранителями Кортеса. Они отвели Монтесуму во дворец Аксаякатля, и его подданные даже не осмелились протестовать. Сначала испанцы обходились с монархом почтительно. Он давал аудиенции, посылал приказы своим касикам, принимал министров, короче, внешне сохранил все свои императорские прерогативы. Это продолжалось пятнадцать дней, вплоть до того момента, пока касик Кецальпопока, который организовал восстание в Нотлане, не прибыл в Мехико в сопровождении своего сына и трех старших военачальников. Несчастные были приговорены к сожжению живьем и, узнав о своей страшной участи, заявили, что они действовали по приказу императора. Именно этого и ждал Кортес, чтобы окончательно сокрушить то, что еще могло остаться у монарха от его гордости и достоинства. Пока пять человек подвергались страшным истязаниям, он послал за Монтесумой, предъявил последнему обвинение в вероломстве и приказал заковать его в кандалы. Отныне Монтесума стал лишь призраком властителя и марионеткой в руках Кортеса, который манипулировал им по своему желанию. Его сокровища были разделены между испанцами и их союзниками. Униженный и разоренный, император присягнул в верности королю Испании и отдал один из главных храмов, чтобы с большой помпой посвятить его христианскому Богу. Кортес сам снял с Монтесумы кандалы, сказав, что он свободен вернуться в свой дворец. Но воля мексиканского повелителя была сломлена, он отказался, предпочитая оставаться среди испанцев, не осмеливаясь предстать перед свидетелями своего отрешения от власти. Так прошло около шести месяцев, ничто не нарушало спокойствия и процветания конкистадоров, когда непредвиденное событие вырвало Кортеса из его безмятежного существования, отвлекло от выполнения обширных организационных проектов. Гонсало де Сандоваль, заменивший Эскаланте в Веракрусе, сообщил, что флот, состоящий из одиннадцати кораблей[146] и семи каравелл, с пятью сотнями матросов, восемью сотнями пехотинцев, с восемьюдесятью пятью всадниками и двенадцатью артиллерийскими орудиями на борту, высадился под командованием Панфило де Нарваэса[147]. Этот флот был послан наместником Кубы Диего Веласкесом де Леоном для борьбы с Кортесом как с мятежным вассалом и предателем! И не важно, что Кортес покорил для испанской короны империю с огромными богатствами! Какое это имело значение для Веласкеса, мстящего врагу с совершенно испанской беспощадностью! Это был тяжелый удар. Но Кортес не стал тратить время на ненужные жалобы и бесполезные споры. Уступить Нарваэсу, отдать ему завоеванное и стать заключенным? Нет! Только сопротивляться с оружием в руках. Гражданская война? Пусть! Да и кто такой этот Панфило Нарваэс? Без сомнения, храбрый солдат, но он не способен быть полководцем при его тщеславии, самоуверенности и, главное, неумении снискать любовь солдат, которые просто молились на Кортеса. Надо любой ценой выиграть в скорости и действовать в обстановке величайшей секретности. Умный конкистадор, человек стремительных предприятий, отчаянной решительности в невероятных ситуациях, внезапно оказался в своей стихии интриг и сражений. Больше не теряя времени, он отправил Нарваэсу очень вежливое письмо и, зная, какие несравненные послы церковники, когда они преданны и верны, поручил своему другу отцу Олмедо передать письмо. С дипломатичностью священника и солдата последний установил отношения со старшими офицерами Нарваэса, очень ловко отдалил их от начальника и сделал сообщниками конкистадора. В это время Кортес, оставив в Мехико своего личного друга дона Альворадо с отрядом в семьдесят человек, отправился форсированным маршем с двумя сотнями имевшихся у него людей сражаться с армией Нарваэса, в шесть раз превосходившей его силами. В Чолуле он вооружил пиками около двух тысяч туземцев, чтобы противопоставить их кавалерии, и прибыл, не теряя времени, в Семпоалу, где разместился Нарваэс. В полночь, проведя неслыханно смелую атаку, отряд Кортеса овладел вражеской артиллерией и с яростью обрушился на главный храм города, в котором находился командующий. Войска, хотя и захваченные врасплох, упорно защищались. Но их уже раненный командир был захвачен в плен в тот момент, когда получил в глаз удар пикой. Сражение тотчас прекратилось. Нарваэса заковали в кандалы и немедленно отправили в крепость Веракрус. Солдаты Кортеса уже братски обнимаются со своими соотечественниками, восхваляя их храбрость, рассказывают о щедрости своего командира, который осыпает их золотом, о богатстве Мехико, о жизни, которую они там ведут, короче, начали обольщение, завершенное Кортесом, без громких фраз, лишь огромным авторитетом своей личности, заставившим признать себя главнокомандующим и верховным судьей той армии, которая пришла сражаться с ним как с бунтовщиком. И вот он возглавляет армию из тысячи шестисот обстрелянных солдат, ста лошадей и восемнадцати судов в тот момент, когда крах казался неминуемым. Он уже ликовал, чувствуя себя победителем над всей империей Анауак, когда из Мехико получил печальные новости. Мексиканцы взбунтовались против испанцев, и семьдесят человек во главе с Альворадо были осаждены во дворце. Кортес тотчас отправился во главе новой армии, мобилизовал, проходя через Тласкалу, новый нестроевой корпус и прибыл в Мехико 24 июня 1520 года. Город был темен и пуст, поведение жителей — угрожающим. И тогда трубачи получили приказ трубить самые звонкие фанфары, ворота дворца Аксаякатля, где забаррикадировались солдаты Альворадо, внезапно распахнулись навстречу освободителям. Причиной восстания, плачевные последствия которого еще отзовутся слезами для испанцев, послужил акт глупой жестокости, совершенный по вине Альворадо, человека высокого происхождения, отважного во всех испытаниях, но гордого, алчного, жестокого и фанатичного. Когда шестьсот знатных ацтеков собрались на ежегодный праздник в честь бога войны Уицилопочтли, он кинулся на них со своими людьми и перерезал всех до последнего. Не только бесчеловечная, но и политически недальновидная резня раздула искры мятежа, тлеющие в сердцах мексиканцев. Они восстали всем народом, чего не сделали, чтобы защитить самого императора, бросились на штурм дворца, понесли большие потери, но жестоко потрепали бойцов Альворадо, которые, конечно, умерли бы с голоду, если бы Кортес не пришел им на выручку. Командующий был тем более рассержен на Альворадо за его нелепую выходку, что тот с первых дней своего пребывания в Мексике видел, какие беды обрушивались на завоевателей, и если оставил содеянное без наказания, то только потому, что вовсе не хотел получить врага в лице самого храброго из своих офицеров в момент, когда очень нуждался в его услугах в той беспощадной борьбе, которая ждала его впереди. Действительно, на следующий день после возвращения Кортеса штурм дворца Аксаякатля, где укрылись девять тысяч испанцев и их союзников, был предпринят с беспримерной яростью. Казалось, все ацтеки вышли внезапно из длительного летаргического сна. Пробуждение было ужасным. Монтесума, который, не имея больше политического авторитета, сохранил религиозный, посетил Кортеса, был принят очень холодно и удалился удрученный. «Буду я еще возиться с этой собакой-императором, готовым уморить нас голодом!» — сказал пренебрежительно конкистадор. Тем не менее он отпустил одного из своих пленников, Куйтлауака, брата императора, и поручил ему переговорить с мятежниками. Но мексиканский принц, полный отваги и горячего патриотизма, далекий от мысли выполнять навязанное ему позорное поручение, наоборот, принял на себя руководство повстанческим движением. Мексиканцы под водительством своего нового неустрашимого вождя, стремящегося искупить по возможности слабость характера Монтесумы, решил взять с бою цитадель, где укрылись испанцы. Героическая, отчаянная атака показала, что мог бы сделать патриот, обладающий политическим и религиозным авторитетом, даже с нестроевым войском, когда Кортес впервые появился со своим маленьким отрядом перед Мехико. Несмотря на страшный гром крупнокалиберной артиллерии, захваченной недавно у Нарваэса, и огонь мушкетов, фанатичные мексиканцы наталкивались на оборонительные сооружения и падали почти у жерл пушек. Их трупы беспорядочно сваливались на дно рвов, но это не уменьшало патриотизма. На смену рядам, скошенным ураганом железа и свинца, вставали другие, не менее храбрые и решительные. Потеряв надежду сломить сопротивление крепости, они решили поджечь ее и послали град стрел с привязанными к ним зажженными соломенными факелами; и если главное здание, построенное из камня, избежало пламени, то все служебные постройки, служившие убежищем для испанцев и их союзников, были истреблены огнем. Кортес, пораженный такой храбростью у людей, которых привычно презирал как трусливое сборище ничтожных рабов, не мог поверить своим глазам! Понимая, что он не может оставаться надолго запертым во дворце, поскольку любая осажденная армия обречена на гибель от голода, если не прорвет блокаду, конкистадор совершает одну за другой несколько вылазок, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха и захватить провизию. Всеми операциями он руководит сам лично с не покидающим его присутствием духа и невероятной смелостью. Казалось, он разрывается на части, его всегда видели там, где опасность была наибольшей. Берналь Диас, говоря об этой войне, заявляет, что артиллерия французского короля не была более грозной, чем ярость этих мексиканцев. Авторитет Монтесумы перестал существовать, и напрасно несчастный монарх, жертва собственной слабости, попытался однажды в разгар боя склонить стороны к примирению. Возмущенные подданные забросали его градом стрел и камней, один из которых попал ему в висок. Испанцы унесли его полумертвого, а через три дня, 30 июня 1520 года, император умер, не подпуская к себе хирурга, громкими криками проклиная испанцев вместе с их богом и призывая смерть. По крайней мере, такова общепринятая официальная версия; но все местные авторы согласны с самыми знаменитыми испанскими писателями, которые, основываясь на национальных источниках, утверждают, что Монтесума умер вовсе не от ран. Кортес, поняв, до какой степени монарх утратил свое влияние на подданных, для своего собственного спокойствия принял варварское решение умертвить в тюрьме бесполезного теперь монарха вместе с большинством его придворных. Такова печальная судьба Монтесумы, которому не хватило смелости сопротивляться, когда Кортес угрожал свободе его народа и его собственной, и который стал в руках завоевателя лишь инструментом для сдерживания справедливого гнева мексиканцев. Кортес, считая, что не может больше оставаться в городе, где число противников беспрестанно увеличивалось, решил вывести гарнизон до того, как он станет полностью небоеспособным. Вывод был назначен на 1 июля 1520 года по дороге на Тлакопан[148]. Авангардом руководил Гонсало де Сандоваль, Кортес командовал центром, где находились сокровища, и Веласкес де Леон с Альворадо — арьергардом. Союзнический контингент был присоединен к этим трем подразделениям европейской армии. Путь лежал по дороге длиной две мили, пересеченной тремя широкими и глубокими рвами, наполненными водой. Построили перекидные мосты, чтобы преодолеть их, последовательно перебрасывая через каждый. К счастью, армия отправилась темной дождливой ночью. Первый ров преодолели беспрепятственно. Но тревога поднялась, когда пришла пора переносить перекидной мост ко второму рву. Вес людей, лошадей, пушек вдавил его концы в мягкий грунт, они просто завязли в нем. Одновременно сотни лодок с мексиканскими воинами на борту подошли по воде рва и осыпали стрелами испанцев, пытавшихся вытащить мост, не имевших в это время возможности ответить. Но впереди был еще второй, поперечный, ров, который надо было преодолеть или погибнуть. Сандоваль и его всадники бросились вплавь. Пехота последовала за ними, отягченная грузом снаряжения и оружия. Перебрались с грехом пополам, отбиваясь и неся огромные потери. Впереди еще третий ров. Даже самые храбрые не решались прыгать в воду. Пример показывали офицеры, бросаясь первыми. Пехотинцы цеплялись за лошадей. Переход был страшный, полный трагизма, но наконец все было кончено. Испанцы уже облегченно вздохнули и готовы были поздравить друг друга, когда тревожные и яростные крики послышались над проклятым рвом. Между вторым и третьим рвами мексиканцы окружили арьергард, и он едва держался под натиском численно превосходящего противника. Не колеблясь, с удивительным чувством долга и солидарности те, кто уже прошли и находились в безопасности за третьим рвом, бросились обратно и отбили своих товарищей в яростном сражении! Этот отход, во время которого Кортес, по его собственному признанию, потерял сто пятьдесят человек, цифра, конечно, сильно заниженная[149], получил от старых хроникеров название noche triste (пагубная ночь). Уменьшившаяся таким образом испанская армия, падающая от усталости, голода, лишений, должна была еще вступить в сражение при Отумбе, одно из самых знаменитых из великой американской эпопеи[150]. Она еще раз одержала победу и наконец пришла к своим верным союзникам тласкаланам, принявшим ее наилучшим образом. В то время как его отважные соратники заслуженно отдыхали, Кортес, раздираемый демонами завоевания, писал Карлу V: «Ваше величество может быть уверено, что с Божьей помощью вскоре получит обратно если не все, то по меньшей мере большую часть потерянного. Я посылаю на Кубу четыре корабля за солдатами и лошадьми и четыре других в Испанию за оружием, арбалетами и порохом, в которых я очень нуждаюсь, поскольку пехотинец со щитом — слабое средство против крепостей и громадных толп. С такой помощью я рассчитываю пойти на Мехико, вернуть наши потери и подчинить Вам этот гордый город». В подготовке прошло шесть месяцев, и 28 декабря 1520[151] года Кортес отправился в поход на столицу. За время пребывания в Тласкале он приготовил все необходимые материалы для строительства двенадцати каравелл, при помощи которых надеялся свободно наложить руку на озеро. Восемь тысяч союзников, сопровождаемых многочисленным корпусом под командованием нескольких испанцев, перенесли деталь за деталью весь этот флот через провинцию, пересеченную горами, до озера Мехико[152]. Уже во время приготовлений Кортес не мог избавиться от сожаления о том, что придется подвергнуть осаде прекрасную столицу новой империи, которой собирался одарить корону Кастилии[153]. Именно поэтому он неоднократно обращался с предложением к Куаутемоку, пришедшему на смену Куйтлауаку[154], который в свое время сам на очень короткий период занял место Монтесумы, добровольно признать себя вассалом Карла V. С высоты своего величия гордый ацтек отверг это унизительное предложение и храбро приготовился к сопротивлению. Со своей стороны, Фернан Кортес объявил осаду Мехико[155] и потребовал от своих союзников привести обещанные контингенты. Ему послали сто пятьдесят тысяч человек, как утверждают испанские историки, и двести тысяч, по утверждению местных летописцев. Он получил некоторое подкрепление из Европы и теперь имел в своем распоряжении девятьсот пехотинцев, восемьдесят шесть всадников, пятнадцать полевых бронзовых орудий, три больших железных осадных орудия и большое количество боеприпасов. Кортес разделил свою армию, состоящую из испанцев и наемников, на три почти равных корпуса и доверил управление ими своим лучшим командирам Альворадо, Сандовалю и Олиду, оставив себе командование кораблями и войсками, находящимися на них. В путь отправились 19 мая 1521 года. Перед тем как атаковать Мехико, Кортес хотел овладеть всеми городами долины, чтобы по возможности помешать столице получать помощь людьми и продовольствием извне. Эта ловко проведенная операция отняла у него два месяца, после чего он полностью посвятил себя большому предприятию, от которого зависел не только успех кампании, но и будущее Испании в Мексике. На следующий день с бесконечными мерами предосторожности, не полагаясь на волю случая, Кортес одновременно двинул три корпуса своей армии, чтобы взять город в плотную блокаду. Этот очень трудный стратегический ход был счастливо завершен, но, конечно, не без стычек. Серьезные сражения происходили между каравеллами и многочисленными мексиканскими хорошо управляемыми и великолепно вооруженными лодками, вышедшими из того же городского порта и храбро кинувшимися в бой. Мексиканцы двинулись вперед со страшными криками и осыпали испанцев дождем стрел. Последние хладнокровно позволили неприятелю подойти на близкое расстояние, а потом расстреляли стройные ряды нападавших из артиллерийских орудий. После первого залпа лодки были разметаны и вскоре превратились в бесформенные обломки, пляшущие в волнах озера среди гибнущих людей, делающих безнадежные попытки спастись, цепляясь за доски, и расстреливаемых с дьявольской ловкостью из аркебуз испанцами, жестоко мстящими за поражение «пагубной ночи». Три дороги, ведущие к Мехико, были надежно перекрыты армейскими корпусами, хорошо укрепившимися в прекрасно построенных фортах с двумя фасами, откуда, не подвергая себя опасности, можно было атаковать город и долину. Благодаря стоявшей на страже флотилии никто не мог больше войти в город, который вскоре оказался во власти голода. Но блокада, даже очень надежная, казалась слишком медленной мерой для нетерпеливого конкистадора. Он решил использовать вынужденный досуг, чтобы подразнить врага, рассчитывая на один из тех сюрпризов, которые иногда открывают двери хорошо защищенной крепости. Поддерживаемый каравеллами, Кортес лично отправился вперед по дороге, идущей из Устапалана, увлекая за собой армейский корпус, воодушевленный его присутствием. Попытавшиеся прорваться мексиканцы были сметены корабельными пушками, обстреливавшими дорогу с двух сторон, и с боем отступили. Операция прошла с успехом. Она позволила подойти вплотную и заделать одну за другой бреши, образовавшиеся на дороге, а потом захватить начало большого проспекта вблизи предместья и замкнуть таким образом кольцо окружения города. И это не все. Сторожевые посты смогли даже войти в улицу, разрезающую столицу на две части с севера на юг. По сторонам этой улицы, настоящего бульвара, стояли высокие дома, на террасах которых засели вооруженные мексиканцы, дождем сыпавшие стрелы, впрочем бесполезные. Кортес приказал союзникам стереть дома с лица земли и на их месте построить баррикады. Этот смелый маневр увенчался полным успехом, и вскоре испанцы неожиданно вышли к большой площади, одну из сторон которой они некогда занимали. Площадь обрамляли здание, служившее прежде императорской резиденцией Монтесумы, большой храм и дворец Аксаякатля, бывший когда-то их пристанищем. Отряд остановился здесь, построил баррикады, чтобы избежать какого-либо сюрприза и дождаться новых приказов. Но тогда, взглянув на плоскую крышу, где ранее был воздвигнут примитивный крест, испанцы заметили жрецов бога войны Уицилопочтли, покрытых окровавленными одеждами. Размахивая ножами со сверкающими лезвиями, они взывали к отвратительному божеству, только что получившему от них человеческие жертвы. При виде этого зрелища разъяренные испанцы бросились к ступеням, взяли их штурмом, вбежали на террасу и оказались перед идолом, занявшим место креста, увидели тазы, где еще дымились сочащиеся кровью сердца, и трупы, белый цвет кожи которых позволил распознать в них испанцев. Тотчас идол и жрецы, схваченные мощными руками, кувырком полетели с террасы и разбились при падении. Разгневанные мексиканцы сочли это за надругательство и попробовали снова установить символы своей веры. Началась свирепая битва, трупы громоздились один на другой, в жестокой борьбе не было ни победителей, ни побежденных, каждый вернулся на свои позиции. Атаки возобновлялись очень часто с переменным успехом, однако испанцам не удавалось существенно продвинуться. Удивленные невиданной раньше отвагой противника, они решили окончательно подавить сопротивление и во весь голос потребовали генерального штурма. Кортес, настолько же храбрый, насколько и осторожный, чувствуя, что одно превосходство в силе не приведет к успеху без больших потерь, попытался выиграть время и дождаться, пока голод совершит свою работу, не прекращая при этом постоянных обстрелов. Уступая настойчивому давлению своих воинов и не желая брать на себя ответственность за такую серьезную операцию, он решил созвать на военный совет старших офицеров. Наперекор его мнению, большинство совета решило занять в центре города его ключевую точку — самую большую площадь Тлалтелолько[156], где подсобные помещения рынка могли обеспечить хорошее укрытие для войск. Кортес категорически не одобрил этот план как очень опасный и впервые был вынужден отдать приказ об операции, противоречащей здравому смыслу. Напрасно он объяснял, что мексиканцы, зная стратегическую важность этой позиции, будут отчаянно защищать ее, совет оставался непреклонным. Последовавшие вскоре события оправдали опасения опытного военного тактика, поскольку еще никогда с начала кампании не было такой неудачной операции. В назначенный день после кропотливых приготовлений осаждающая армия, разделенная на три корпуса, продвинулась по трем большим проспектам, выходящим к рынку Тлалтелолько. Траншеи были взяты без боя с легкостью, которая заставила Кортеса, малопривычного с некоторых пор к подобным успехам, крепко задуматься. Он приказал тщательно засыпать траншеи, чтобы обеспечить в случае необходимости путь отступления. В этот момент Альворадо, один из его лейтенантов, прислал гонца с известием, что его корпус почти достиг рынка. Заподозрив неладное, Кортес захотел сам осмотреть окрестности, не веря, что мексиканцы позволят взять без сопротивления такую важную позицию, и внезапно оказался перед огромной, только что вырытой ямой шириной в пятнадцать футов, представляющей собой опасное препятствие. В это время на людей Альворадо с тыла напали сотни и тысячи ацтеков, устремившихся из боковых улиц, улочек и домов, отрезая путь к отступлению. Лейтенант повел свой корпус вперед к площади и оказался перед ямой! Без минуты колебания Кортес послал своих солдат на помощь отряду Альворадо, дрогнувшему перед численным перевесом противника. Битва была длительной и беспощадной. Ацтеки сражались с неслыханной свирепостью, и испанцы, предчувствуя, что погибнут, если не одержат полную победу, напрягали последние силы! Кортес в этот момент избежал смертельной опасности. Сражаясь как простой солдат, уже раненный в бедро, он вдруг оказался окруженным шестью мексиканцами громадного роста. Он бы погиб, если бы не преданность одного из его людей, спасшего его ценой собственной жизни. Наконец испанская армия вышла из абсолютно безнадежного сражения, оставив в руках врага шестьдесят двух солдат, которых ацтеки должны были уничтожить с изощренной жестокостью. Но у мексиканцев не было оснований долго радоваться успеху. Горестная ошибка военного совета еще больше подняла авторитет Кортеса, сделав его абсолютным хозяином положения и дав ему возможность управлять осадой по собственному усмотрению. Вскоре железное и огненное кольцо еще плотнее сжалось вокруг несчастного города. Свирепствовавший голод приводил к ужасающим сценам каннибализма. Разразившаяся чума, порожденная разлагающимися трупами, довершила работу голода. Однако осада длилась уже сорок пять дней, и Кортес, потеряв надежду овладеть городом без разрушений, к тому же понимая, что его армия слабеет день ото дня, решил захватывать дом за домом и стирать их постепенно с лица земли. Но для этой разрушительной работы ему не хватало рук. Он обратился к своим союзникам, которые через три дня прислали ему сто тысяч помощников, со свирепой радостью кинувшихся помогать уничтожению вражеского города. Вскоре строения начали исчезать, как растения под жадными челюстями саранчи. Не оставалось камня на камне, а осколки сбрасывались во рвы и в озеро. Город уменьшился более чем наполовину, жители, ослабленные голодом и болезнями, вскоре оказались сваленными в кучу на рыночной площади Тлалтелолько. Вопреки прогнозам Кортеса неустрашимый Куаутемок не капитулировал, хотя город был на грани падения. Оставалось только ждать решающего штурма. Он состоялся 13 августа[157] и воплотился жесточайшей резней на полное уничтожение несчастных ацтеков, не способных сражаться, полумертвых от голода и загнанных на рыночную площадь. Многие пытались преодолеть каналы и тонули в таком количестве, что их трупы лежали вровень с дорогой, образуя мосты, по которым ходили совершенно опьяневшие от пролитой крови испанцы. Другие пытались убежать на лодках, ждавших у берега озера. Но каравеллы без труда топили или захватывали беглецов. Вдруг капитан одной из каравелл[158], увидев более роскошную, чем прочие, лодку с отборной командой, бросился вдогонку и остановил ее. Испанские солдаты уже почти всех перебили, когда поднялся один из беглецов и сказал с достоинством: — Я Куаутемок! Пощадите мою жену и моих слуг. Приведенный к Кортесу, он предстал перед своим победителем с гордым спокойствием. — Я защищал, — сказал он, — свой народ, как это пристало королю; делайте со мной что хотите. И Кортес, восхищаясь благородством его поведения и гордым самообладанием в несчастье, ответил: — Вам окажут все почести, как вы того заслуживаете. Испанцы умеют уважать смелость в своих врагах. Прекрасные слова, которые должны были — увы! — и очень скоро, получить жестокое опровержение. Захват императора, бывшего душой сопротивления, завершил успех, помешал вспыхнуть восстанию в провинциях, и падение Мехико стало окончательным. Осада продолжалась восемьдесят дней. Во время нее погибли сотни испанцев, тридцать тысяч союзников и сто пятьдесят тысяч мексиканцев, около трети которых умерло от голода или болезней. Добыча была огромной: только драгоценных металлов собрали в бессчетном количестве. Из-за этих богатств подвергли пыткам несчастного императора вместе с одним из его министров. Испанцы, не найдя, или считая, что не нашли, королевские сокровища, совершили настоящее варварство, положив Куаутемока и министра на слой раскаленных углей, чтобы узнать, где спрятаны сокровища. Когда министр, сраженный страшной болью, испускал душераздирающие крики, Куаутемок, обращаясь к нему, произнес ставшие поистине знаменитыми слова: «Разве я лежу на постели из роз?» Через некоторое время несчастный монарх, заслуживший более достойной доли, были обвинен в заговоре, приговорен к смерти и повешен. Куаутемока не стало. У Кортеса больше не было причин опасаться будущих волнений, по крайней мере со стороны местных жителей, и он решил восстанавливать Мехико. Рабочих рук для строительства ему хватало. Новый город поднялся на руинах старого с невероятной быстротой. Более симметричный, лучше продуваемый ветром, с прямыми улицами, но меньший по размерам. Отныне Кортесу надлежало заниматься только хозяйственными делами, и он показал себя не менее ловким администратором, чем прежде прекрасным воином. Были проведены выборы муниципальных чиновников и образован административный совет, подобный существующему на родине, созданы церкви, больницы, даже мануфактуры; в страну завезли новые виды домашних животных, стали выращивать сахарный тростник, виноград, тутовые деревья… Занимаясь этими мирными делами, он, однако, не оставлял мысли продолжить завоевания, и для начала подчинил провинцию Сануко, потом сумел аннексировать страну Ибуериас (Гондурас), совершив для этого достаточно тяжелую экспедицию. Кортес вернулся в Мексику в 1526 году, там его ожидал неприятный сюрприз. За неоценимые заслуги перед короной королевский приказ, прибывший во время его отсутствия, отзывал у него и передавал королевскому совету административные и юридические полномочия в Новой Испании, как стали называть Мексику. Ему же была оставлена только военная власть. Распознав здесь происки непримиримых врагов, которые, конечно, ввели в заблуждение короля и его советников, Кортес решил отправиться в Испанию, чтобы защитить себя перед Карлом V. Его сопровождали верный Сандоваль, несколько товарищей по оружию, а также несколько знатных ацтеков или тласкалан с кортежем из индейцев и индианок из Анауака. Высадившись в Палосе в последние дни мая 1528 года, он поспешил в Мадрид и вопреки интригам давних сторонников Веласкеса де Леона без труда спутал карты своих хулителей. Карл V оказал ему самый ласковый прием, утвердил в должности наместника Новой Испании, сделал маркизом богатой и прекрасной долины Оахака, отдал в полное распоряжение долину Атлиско, пожаловал крест ордена Сантьяго[159] и соединил его со старинной и известной семьей Суньиги. Но эти щедро расточаемые почести были всего лишь чистой проформой, польстившей его честолюбию. По возвращении в Америку Кортеса ожидали разочарование и потеря надежд. Поугас энтузиазм времен завоеваний, а с ним преданность и самоотверженность героической эпохи. Пресытившиеся соратники великого конкистадора стремились теперь только к одному — в спокойной обстановке насладиться своими огромными богатствами. Кортес остался единственным, кому не прискучили волнения и кипучая отвага. Он хотел еще большей славы, новых путешествий и открытий и именно с этой целью приказал исследовать берега Северной Америки и Панамского перешейка, надеясь найти наконец проход между двумя океанами. Но эта экспедиция была неудачной, и все корабли погибли. Тогда бывший конкистадор решил сам вытянуть счастливый жребий, отправившись в путешествие. Он оснастил флот, и если не открыл желаемый проход, то пристал, по крайней мере, к большому полуострову Калифорния, преодолев немало тягот и избежав множества опасностей. Это Кортес открыл узкий продолговатый залив в Тихом океане, названный Калифорнийским, или Красным морем. Вернувшись в Мехико (все события всегда происходили во время его отсутствия), он нашел обосновавшегося там дона Антонио де Мендосу, назначенного королевским указом вице-королем Новой Испании. Не желая быть подчиненным в империи, которую завоевал ценой таких тяжких трудов и страданий, Кортес вернулся в Испанию, чтобы отстоять свои права главнокомандующего и потребовать возмещения сумм, потраченных им на службу государству. Отныне он утратил всякое влияние, его заслуги были полностью забыты. Человек, который мог бы при желании возложить себе на голову корону Монтесумы, испытал холодный прием у короля, наглость министров и грубое обращение их служащих! Как бы то ни было, упрямец снова решил завоевать королевское расположение и с этой целью последовал за Карлом V в его алжирскую экспедицию в 1541 году. Там он проявил огромное мужество, но все сделали вид, что не замечают его, пренебрегали его услугами, старались вычеркнуть из памяти славное имя. Ему больше не удавалось даже получить аудиенцию! Тогда и произошло это событие, рассказанное Вольтером в «Очерке нравов». Однажды покоритель Мексики, не имея возможности подойти к королю, растолкал толпу, окружавшую монаршую карету, и поднялся на ступеньку. — Кто этот человек? — спросил Карл V. Кортес ответил: — Я тот, который вам дал больше королевств, чем ваши предки оставили вам городов! Кортес, перед глазами которого был пример Колумба, вернувшегося закованным в цепи, после того как завоевал мир для неблагодарного Фердинанда, должен бы знать, как полагаться на признательность королей и чем вознаграждают они за самые славные деяния, блеск которых падает на их царствование. Карл V, как бы гениален он ни был, не мог не проявить эту общеизвестную неблагодарность. Видя себя покинутым и униженным, Кортес удалился в уединенное место в окрестностях Севильи и умер там 2 декабря 1547 года на шестьдесят третьем году жизни. Его тело было положено в фамильный склеп герцогов Медина-и-Сидония, а оттуда перенесено в Тескоко, а потом дальше в монастырь Сан-Франсиско-де-Мехико, и, наконец, в церковь Иисуса Назаретского при госпитале Непорочного Зачатия, основателем которого был знаменитый конкистадор. Его прах исчез, когда Мексика объявила независимость от испанской короны в 1821 году. Неизвестно, был ли он выброшен во время восстания или похищен итальянскими потомками конкистадора — семейством Монтелеоне. Еще одно, живущее сегодня воспоминание, связывается с этой славной эпопеей. На дороге из Мехико в Попотлан находится колоссального размера кипарис, хорошо известный во всей Мексике под названием Ahuehuete de la noche triste у desgraciada[160]. Именно в его тени Кортес отдыхал в роковую ночь на 1 июля 1520 года, вынужденный покинуть Мехико после нелепого и чудовищного убийства людьми Педро Альворадо шести сотен знатных мексиканцев. Вершина старого дерева упала, ветки обломаны, оно скорее влачит жалкое существование, чем живет, символизируя, по словам историка, бедственный час, когда Кортес, сомневаясь в своей звезде, сидел в его тени и нашел успокоение, только увидев около себя того же Альворадо, Диаса, Олида, Сандоваля, Ордаса, своих бесстрашных соратников, которых считал погибшими. Рядом со старинным кипарисом можно увидеть маленькую скромную часовню, которая, как обет потерпевшего крушение, кажется, освящает некое таинственное воспоминание. Не связан ли как-нибудь этот скромный памятник христианской веры с драматическим эпизодом, косвенно относящимся к жизни Фернана Кортеса? Почему нет? Впрочем, вот этот эпизод в нескольких строках. Дело было в 1520 году. Правитель Кубы Диего Веласкес де Леон, заклятый враг Кортеса, в своем, может быть, искреннем намерении примирения решил отправить покорителю Мексики письмо. Чтобы эта миссия была успешно выполнена, он выбрал в качестве посланца Алонсо Суасо, близкого родственника Кортеса, жившего на Кубе, предоставив ему каравеллу, экипаж, не лучший, но и не худший, чем другие, и отправил корабль из порта Хагуа. Суасо имел неосторожность перегрузить сверх всякой меры свое маленькое судно, приняв на борт множество пассажиров, охотников отправиться в Мексику в поисках удачи. Тем не менее он надеялся на благополучное плавание, поскольку рейс обычно не занимал много времени и не представлял особых сложностей. И в самом деле все шло хорошо, большая часть пути была уже пройдена, когда вдруг разразилась буря, жестокая и внезапная, какие бывают только в тропиках. Шторм бушевал пять дней и пять ночей, спокойствие ни на мгновение не изменило экипажу и капитану, несмотря на отчаянные вопли испуганных пассажиров. Но вот упали сломанные мачты, корабль потерял управление и стал игрушкой огромных волн, которые схватили его, подняли, как соломинку, и бросили на скалы. Матросов и пассажиров низвергло на дно пучины, перевернуло, беспомощные обломки крушения выбросило на пустынный берег. В довершение всего эта трагедия произошла ночью. На восходе солнца Суасо подсчитал всех, избежавших смерти. Их было всего сорок семь, все в жалком состоянии. Волны выбросили путешественников на пустынный остров размером едва ли две сотни шагов в длину и двадцать пять в ширину, без тени, воды и без чего-либо съестного. Каравелла пошла ко дну, и с нее нельзя было взять ни капли воды, ни крошки сухаря, ни кусочка мяса, ничего! Несчастные спаслись от разъяренных волн, но те могли дать хотя бы мгновенную смерть, а теперь предстояло страдать в медленной агонии и умереть в мучениях от голода и жажды, под жгучими, сводящими с ума лучами солнца. Суасо, хотя и находился во власти смертельной тревоги, изображал спокойствие, сам от которого был очень далек, и своим примером старался ободрить товарищей по несчастью, вовсе не мужественных искателей удачи, среди которых оказались женщины и несколько малышей! В день катастрофы на маленьком пляже, куда успокоившиеся наконец волны принесли обломки, нашли одну из шлюпок с каравеллы. Суасо приказал тотчас пяти добровольцам снять с мели это суденышко, которое, по счастью, было в состоянии держаться на воде, и немедля отправиться на поиски более гостеприимного убежища. Остров, где потерпевшие крушение умирали от голода и жажды, принадлежал к группе других коралловых островов, на которых не было ничего пригодного для жизни. Отважно продолжая поиски, моряки, сами истощенные, встретили наконец остров чуть большей площади, на котором находилось множество водоплавающих птиц, высиживающих яйца в самых элементарных гнездах: простая ямка в песке. В крайнем случае люди, умирающие от голода, могли есть эти яйца. Все-таки какая-то провизия. Матросы кое-как подкрепились, убив несколько птиц, позволивших без сопротивления поймать себя, и, съев их сырыми, как могли быстрее отправились за своими умирающими спутниками. Шлюпкой всех их за несколько длительных и тяжелых рейсов переправили в это новое убежище, где, по крайней мере, голод больше не был таким страшным. Еще больше, чем от голода, потерпевшие кораблекрушение страдали от жажды. Едва ступив на землю, они набросились на сидящих на гнездах птиц, разрывали им глотки и жадно пили их кровь! Дни текли за днями в безнадежном ожидании, поскольку эти скалистые острова находились далеко от обычных морских путей, и каждый понимал, что этот недолговечный запас насиженных яиц и съедаемых сырыми птиц с их кровью для утоления жажды скоро иссякнет. Поймали несколько морских черепах, которых также убили и съели. Сумели сделать еще более трудное дело: выловить очень крупных акулу и ушастого тюленя. С величайшей ловкостью и изобретательностью смогли развести небольшой огонь; жир, полученный от двух чудовищ, послужил горючим, вместо фитиля использовали нити, надерганные из одежды. Так появилась возможность съесть несколько едва прожаренных кусков и хотя бы ненадолго избавиться от пытки питаться сырым мясом. К несчастью, постоянно не хватало воды, и кровь, заменяющая ее в первые дни, оставалась на долгое время единственным безвкусным и отвратительным питьем. К тому же ее неизменное употребление начало вызывать серьезные нарушения в здоровье людей. Их изнуряла лихорадка, жажда становилась все более жестокой. Некоторые, самые слабые, погибли от такой суровой диеты. — Воды!.. Воды!.. — бормотали несчастные, сжигаемые днем и ночью внутренним огнем. — Воды!.. — едва мог произнести пересохший рот с растрескавшимися, опухшими губами. Исхудалые, с пергаментной кожей, под которой жалко выступали кости, с блестящими от лихорадки глазами, они походили на призраки! Эта страшная агония длилась шесть недель, и смерть уже проредила ряды обездоленных, сплоченных общим несчастьем, когда одну девочку, почувствовавшую приближение смерти, посетило видение. В момент, когда душа готовится навсегда покинуть тело, потерявшее надежду от подобных страданий, иногда обостряются все способности и разум приобретает странную ясность. Умирая, едва слышным голосом девочка прошептала это слово, воплощающее в себе все надежды и все страдания… «Воды!.. Воды!.. Там внизу, под скалами… там… ищите… воду!.. Вам говорю… Ах!.. слишком поздно…» Истощенная рука, показывающая на скопление бесплодных скал, упала безжизненная, затуманенные глаза остановились, незрячие, страшные… она была мертва! Стали искать среди скал, копали веслами, ножами, руками, и внезапно потекла тоненькая струйка воды, вызывая оцепенение и безумное ликование. Горячая молитва вырвалась из уст несчастных, и не один грубый матрос почувствовал влагу на глазах, глядя на труп ребенка, которого могла бы спасти одна капля воды! Мгновенное блаженство пришло на смену всем мукам, превратившим в уголок ада этот остров, где томились жертвы кораблекрушения. Потом злой рок, который, казалось, на какое-то время забыл о них, обрушился с новой силой. Птицы, закончив насиживание яиц, исчезли, и лодка, на которой Суасо хотелпроизвести новые изыскания, потонула. И вот снова без еды, еще более ослабевшие и лишенные единственного суденышка! Тогда капитан принял отчаянное решение. Все равно умирать, так не лучше ли предпринять что-то невозможное, отважно сражаясь за жизнь, чем пассивно ждать смерти на этом проклятом острове? Тщательно собрали все деревянные обломки, связали их между собой канатами, сделанными из лохмотьев одежды, ремешками из кожи акулы, и сделали подобие плота, на котором отважились отправиться в путь четыре лучших моряка. Когда эти четверо отплыли от берега, неся с собой последнюю надежду страдальцев, оставшиеся упали на колени, взывая к Святой Деве, заступнице страждущих, и поклялись возвести благодарственный знак в том месте, где они высадятся, если когда-нибудь смогут спастись. Четверка моряков, отправившихся на плоту, прибыла в Веракрус через пятнадцать дней тяжелейших испытаний. Они рассказали о своих несчастьях и вручили коменданту, которым был храбрый Сандоваль, послание Суасо. Тотчас на поиски был послан корабль, и выжившие, которые могли только дышать, были спасены и привезены в Мексику.ГЛАВА 6
ФРАНСИСКО ПИСАРРО
Ни кола ни двора, без имени, без семьи, без каких-либо предрассудков, жестокий, беспощадный, энергичный, жадный и безусловно храбрый, Писарро был всего лишь одним из солдат этой героической эпохи. Будучи человеком, которому нечего терять, а можно приобрести все, абсолютно лишенным представлений о морали, готовым на любые дела, не знающим угрызений совести, он мог бы далеко пойти при благоприятных обстоятельствах, заставив их при необходимости служить себе. Внебрачный ребенок дворянина, который никогда не хотел признать его, родившийся примерно в 1475 году (точно неизвестно даже ему самому), в раннем детстве влачил жалкое существование. Он пас свиней, чтобы не умереть с голоду и чем-то прикрыть тело. Естественно, у него никогда не было случая научиться читать, и на всю жизнь Писарро остался совершенно неграмотным. Желая как можно скорее избежать мерзости нищенского существования, он, как только набрался сил, чтобы держать в руках оружие, поступил на службу в армию и отправился в Италию, безвестно затерявшись в последних рядах. Это были первые шаги в его карьере. Если Франсиско и не достиг чинов, то научился блестяще владеть оружием, хорошо разбираться в людях и обстоятельствах, что было характерно для кондотьеров[161] тех времен, когда предпочтение отдавали военным. Понимая, что в Европе он никогда ничего не достигнет, околдованный рассказами о Новом Свете, где купаются в золоте, где слава и богатства принадлежат тому, кто умеет их завоевать, он отправился в заокеанские владения Испании, где долгое время не мог занять приличного положения, хотя его командиры с первых шагов отмечали ловкость, хитрость, скрытность и глубокую проницательность своего начальника, как и отсутствие у него щепетильности. Впрочем, возможно, именно благодаря этим качествам его держали во втором эшелоне, поскольку начальники часто стремятся иметь под рукой исполнителей, которым можно поручить темные и неблаговидные дела. В 1513 году Писарро сопровождал Алонсо Охеду и заставил заговорить о себе. К этому времени ему исполнилось тридцать восемь лет, и он в должности помощника уже участвовал в героической экспедиции несчастного Нуньеса Бальбоа, когда тот пересек Дарьенский перешеек и открыл Тихий океан, потом под командованием подлого Педрариаса отправил в тюрьму своего командира, с которым делил и славу и поражения. За собственный счет Писарро совершил несколько не очень значительных походов и влачил жалкое существование, хотя в ряде случаев его поведение было отмечено. Однако время шло. В 1524 ему было уже сорок девять; устав ждать счастливого случая, он решает сам пойти ему навстречу. Во время скитаний судьба послала авантюристу двух людей, как будто созданных, чтобы понять и крепко поддержать его по принципу «услуга за услугу». Это были Диего д’Альмагро, солдат удачи, подкинутый ребенком на ступени церкви в Альмагро, и Бернардо де Луке, честолюбивый и жадный монах, который, хотя и не вынимая шпаги, должен был внести ценный вклад в задуманное товарищество. Не теряя больше времени, три приятеля заключили союз с целью захвата Перу — страны, о которой они не знали ничего, кроме названия! Впрочем, почему бы и нет?! Ведь Кортес же завоевал Мексику! Почему же Писарро не может повторить его подвиги? На деньги, предоставленные де Луке, товарищество купило две каравеллы, построенные Бальбоа для исследования Тихого океана, и набрало будущий экспедиционный корпус. Писарро нашел сотню людей, готовых на все, но недостаточно дисциплинированных, неспособных на длительные тяжелые усилия, короче, отбросы неустрашимых отрядов, которым конкистадоры обязаны своими успехами и славой. Этой первой экспедиции, начавшейся в последние месяцы 1524 года[162], воспрепятствовали сильные грозы и вспышка жестокой лихорадки, разразившейся в маленьком отряде. Не обладая выносливостью и самоотверженностью солдат Бальбоа или Кортеса, люди Писарро начали жаловаться и потребовали возвращения в Панаму. Им пришлось сражаться с индейцами, обследовать реку Биру, осаждать индейскую деревушку, впоследствии названную Пунта-Кемада, где Писарро лишился глаза, собрали достаточно большую добычу и вернулись в Дарьен. В общем это был ничтожный успех. Писарро и оба его компаньона, возбужденные роскошью увиденных земель, захотели попробовать вторгнуться туда еще раз. Вторую экспедицию удалось подготовить благодаря доброй воле наместника Педро Ариаса (Педрариаса), надеявшегося получить от нее большую выгоду. Ведомые лоцманом Бартоломе Руисом, Писарро, Альмагро и шестьсот человек, весь состав маленького экспедиционного корпуса, прибыли в Такамес. Они увидели плодородную страну с достаточно развитой индейской цивилизацией, нашли золото в украшениях и в предметах обихода и решили все это прибрать к рукам. Но Писарро, не чувствуя в себе достаточно сил, удалился на маленький островок Гальо, пока Альмагро, всегда неутомимый, несмотря на свой возраст — ему было около шестидесяти, — вернулся в Панаму за подкреплением. Педрариаса там больше не было. Заменивший его наместник Педро де лос Риос был категорически против экспедиции. Он отказал в какой-либо субсидии и отправил Альмагро обратно к Писарро с требованием немедленно вернуться со своими людьми. Этому приказу, полностью дезорганизовавшему его войско, Писарро, как прежде Кортес, отказался повиноваться. Он начертил своей шпагой на прибрежном песке прямую линию и сказал своим солдатам: — Пусть все трусы и малодушные, у кого не хватает смелости, чтобы завоевать славу и приобрести огромные богатства, переступят эту черту и вернутся на корабль, а тот, кто верит в будущее, останется со мной. С ним остались только двенадцать человек! Авантюрист покинул остров Гальо, где не чувствовал себя больше в безопасности, укрылся на острове Горгона и прожил здесь пять месяцев, дожидаясь возвращения Альмагро, снова отправившегося к наместнику, чтобы склонить его на свою сторону и привести помощь. На этот раз посланец преуспел, но помощь в действительности была слишком мала, чтобы такой человек, каким был Писарро, осмелился отправиться на завоевание богатых стран, один вид которых его гипнотизировал. Экспедиция взяла курс на Ту́мбес в заливе Гуаякиль, королевский город, полный роскоши и богатства, но и очень хорошо защищенный. Писарро, не желая довериться случаю и компрометировать даже частичной неудачей свое предприятие, на которое он возлагал большие надежды, продолжал в течение нескольких месяцев вести наблюдения. Он изучил страну, очертания ее берегов, ресурсы, язык, сумел расположить к себе участников похода, а потом, считая, что наступил благоприятный момент, отправился в 1528 году в Панаму, просить у наместника достаточной поддержки. Поскольку последний не мог себе позволить сократить и без того уже очень немногочисленный контингент, которым располагал, Писарро по совету своих единомышленников отправился в Испанию просить помощи у самого Карла V и сумел привлечь того на свою сторону, призвав на помощь страстное, хотя иногда и грубое красноречие, и тем самым сумев завоевать монаршье доверие. Король предоставил ему концессию на двести лье завоеванного побережья к югу от реки Сантьяго, где кончалось наместничество Панамы; кроме того, он присвоил ему титулы главнокомандующего и вице-короля. Патер Луке был назначен епископом новых земель[163], а Диего Альмагро, в ожидании лучшего, комендантом крепости, которая будет построена в Тумбесе[164]. Писарро нанял сотню людей, собрал немного денег и вернулся в Панаму, чувствуя себя сильным благодаря поддержке короля, позволившей ему получить субсидии. Третья экспедиция была немедленно сформирована. В нее входили три малых корабля, две сотни пехотинцев и сорок всадников. Задувшие вдруг ветра задержали экспедицию, вынудив ее лавировать севернее Тумбеса. Чтобы помощники не томились в ожидании, командир бросил им на съедение маленький городок Коак, где они нашли неплохую добычу. Полностью разграбив город, Писарро смог послать в Панаму значительную часть награбленного, прельстить таким образом новых компаньонов и склонить их присоединиться к его авантюре. Затем он отправился на остров Пуно, где встретился с теми, кто должен был доставить новых рекрутов. Ожидание было долгим. Чтобы разогнать скуку, несколько раз ввязывались в перестрелки с индейцами Пуны, однажды в стычке погибли четверо солдат, что вызвало страшный гнев среди белых. Наконец Эрнан де Сото и Себастьян де Беналькасар привели подкрепление, около шестидесяти отпетых негодяев, которыми надо было управлять железной рукой, да и оба новоявленных начальника были достойны своего элитного корпуса. С тремя сотнями этих людей Писарро вскоре сумел завоевать Перу. Вот как Прескотт[165], бывший сначала историком Кортеса, а позднее описавший приключения Писарро, излагает ситуацию в Перу до того, когда она попала в руки отважного конкистадора: «Манко Капак и Мама Окльо, муж и жена, импозантного вида, пышно одетые, с великолепными украшениями, появились однажды на берегах озера Титикака перед индейцами региона, назвав себя детьми солнца и утверждая, что отцом на них возложена миссия “наставлять людей их племени и дать им счастье, полностью изменив нравы и обычаи”. Они соблазнили таким образом многочисленные племена индейцев, разделенных мелочным соперничеством, и, примирив между собой, организовали в централизованное государство и в конце концов привели всех на равнину, где и был основан город Куско. Манко Капак и Мама Окльо стали королем и королевой нового народа и начали таким образом династию инка[166], или детей Солнца, имя которого впредь будут носить монархи Перу, примерно с 1150 года, до испанского завоевания. Манко Капак упразднил человеческие жертвы, обучил индейцев внутренне поклоняться Великому Пачакамаку, душе мира, высшему богу в образе Солнца, низшему видимому богу и создателю[167]. Учредив культ Солнца, Манко Капак установил административную, юридическую, военную иерархию и утвердил законы, жестоко пресекающие воровство, убийство, прелюбодеяние и праздность. Короче, он разработал все основные положения абсолютной патерналистской монархии, видевшей ребенка в каждом подданном и большую семью в объединении всех тех, кто составляет государство инка».После сорокалетнего царствования Манко Капак оставил трон своему сыну, тот — своему и так далее без перерыва до прибытия Франсиско Писарро. До этого времени люди жили безмятежно. Единственным завоеванием наследников Манко Капака были люди, стихийно отдавшиеся в их подчинение, привлеченные доброй репутацией долголетней монархической преемственности, продолжающей благородные традиции предков и посвятивших свою жизнь счастью подданных[168]. К моменту внезапного вторжения испанских солдафонов этот мир был впервые нарушен. Монархом, правившим тогда в Перу, был Уайна Капак, двенадцатый Верховный Инка[169]. Подчинив себе королевство Кито[170], он обосновался в городе, носившем такое же название, и женился на дочери побежденного монарха. Однако закон категорически запрещал Верховному Инке покидать Куско и брать в жены женщину, не являющуюся членом семьи. Кроме того, Уайна Капак, почувствовав приближение смерти, в 1529 году разделил наследование трона между Уаскаром, его старшим сыном, рожденным женщиной из семьи Солнца, и Атауальпой, сыном иностранки, хотя Уаскар должен был один унаследовать трон и как истинный инка, и как старший сын[171]. Это тройное нарушение вековых обычаев, тщательно соблюдаемых длинной и славной плеядой монархов, было неблагожелательно встречено народными массами. Уаскара, законного наследника, поддержало большинство, верное духу и букве закона[172]. Атауальпа же имел на своей стороне армию. Впервые гражданская война опустошила Перу[173] и разделила страну на две части, управляемые двумя братьями. Уаскар, несмотря на свое наследственное право, был побежден и взят в плен, а его брат Атауальпа, чтобы спокойно насладиться своим узурпаторством, умертвил всех членов семьи инка, которых сумел захватить. Эти серьезные и непредвиденные события, взволновавшие Перу, заслонили опасность испанского вторжения. Что за угроза для большого и сильного народа, погруженного в печаль и траур, три сотни проходимцев? А будущие завоеватели не могли, конечно, найти более благоприятного момента для захвата небывало богатой добычи. Можно сказать, что Писарро долго ждал случая, и он представился во всем своем великолепии. Как человек, ничего не желающий оставлять на волю случая, алчный, но осторожный, грубый, но вкрадчивый, он продвинулся через прекрасную страну, жители которой выглядели такими гостеприимными, до города Таран, остановился в его окрестностях и послал на разведку в Канас, другой еще более значительный город, своего заместителя Эрнана де Сото. За это время неотесанные искатели приключений, мечтавшие только о сокровищах, были буквально загипнотизированы изобилием украшений и драгоценных камней на жителях. Здесь, как в Мексике, а возможно и в большей мере, золото использовалось для самых обычных бытовых целей. И какой-то предмет кухонной утвари, казавшийся на первый взгляд медным, оказывался сделанным из самого чистого золота. В качестве украшений люди носили алмазы, сапфиры, изумруды и другие камни невиданных размеров, на работы ходили с целым состоянием на шее и в ушах. Страна, казалось, купалась в изобилии. Поражало огромное количество скота и птицы. Хорошо обработанные поля давали прекрасные злаковые культуры, а также восхитительные клубни, которыми лакомились спутники Писарро, не что иное, как картофель. Они узнали также живительные свойства коки, священного дерева перуанцев[174]. По их примеру испанцы жевали листья, сок которых снимал чувство голода и жажды, придавал рукам и ногам особую силу и позволял без питья, еды и сна преодолевать усталость. Тем не менее Эрнан де Сото был хорошо принят людьми, которые привели его к королю-победителю Атауальпе. Последний, как всегда, был в военном лагере, расположенном на западном склоне Анд, окруженный своим верным войском, ожидая, что время совершит свою миротворческую работу и заставит забыть сторонников все еще находящегося в тюрьме Уаскара, что на трон претендует законный наследник. Он нагрузил Сото подарками для Писарро и любезно пригласил посетить его в лагере у Кахамарки. Писарро радостно принял приглашение и совершил со своими хорошо отдохнувшими людьми тяжелый подъем на Анды. Они поднимались по крутым склонам на головокружительную высоту, преодолевали перевалы и ущелья, где было достаточно нескольких человек, чтобы остановить многочисленную армию. В доказательство дружеского расположения индейцы во время этого путешествия оказывали испанцам всяческие услуги и даже помогли перенести испанскую артиллерию, о страшном действии которой эти несчастные даже не подозревали! После спуска почти такого же тяжелого, как подъем, Писарро, следуя за посольством, которое Атауальпа любезно послал ему навстречу, наконец увидел пред собой Кахамарку, но, обеспокоенный, вопреки всему, видом бесчисленных палаток, окружающих насколько хватает глаз маленький город, остановился, послал двадцать пять всадников под командованием Сото, своей правой руки, приветствовать короля и постараться прояснить обстановку. Прибыв в лагерь, Сото, не сходя с лошади, смело представился королю и, как писал Сарате[175], один из историков эпохи завоеваний, объявил себя посланцем верховного командующего, представляющего самого могущественного короля стран, на которых восходит солнце. Он заявил, что Франсиско Писарро, зная о победах и высокой мудрости его величества, прибыл предложить ему свои услуги и посвятить в истинную веру и, наконец, почтительно приглашает оказать честь испанским солдатам своим королевским присутствием. Более доверчивый, чем испанцы, не ведая о мощи оружия, которым те располагали, успокоенный присутствием многочисленной и храброй, преклоняющейся перед ним армии, желающий в глубине души присоединить к своим союзникам вновь прибывших, Атауальпа заверил Сото, что на следующий день встретится с командующим на центральной площади Кахамарки. Обрадованный такой удачей, на которую не осмеливался даже рассчитывать, Писарро, как человек, для которого цель оправдывала средства, решил заманить короля в ловушку, похитить и взять в заложники. Гнусность подобного предательства для вероломного завоевателя не имела большого значения. Ему было пятьдесят лет, с самого детства он влачил жалкое существование, а теперь хотел стать богатым и могущественным; случай представился, его надо было использовать любой ценой. Впрочем, этот король варваров был некрещеным язычником; отобрать у него богатства, могущество и его территории — это богоугодное дело! Подбодрив своих спутников несколькими энергичными словами, он описал им богатства, которые станут их добычей, и пообещал, что дикари не устоят перед испанским оружием; потом с большим искусством расположил свой отряд; разместил солдат в зданиях на большой площади, любезно предоставленных в его распоряжение королем, приказал зарядить огнестрельное оружие и направил жерла пушек на площадь. На следующий день 16 ноября 1532 года все было готово для выполнения этого подлого замысла, успех которого был предопределен и прославлен испанскими историками. Всадники и пехота, толпящиеся за монументальными воротами, размеры которых позволяли ринуться им толпой на площадь, ждали сигнала. Однако время шло, а король не появлялся. Королевский кортеж, медленно собиравшийся в это утро, отправился в путь с опозданием. Писарро топтался на месте, и его соратники, как охотники в засаде, стонали от нетерпения. Пришло сообщение. Король приносит свои извинения, что не смог прибыть в назначенное время. Уже слишком поздно, и он войдет в город завтра утром. Но негодяя, охваченного нервным возбуждением, это не устраивало, к тому же поздний час давал ему новые преимущества. Ночные тени могли содействовать успеху. Итак, он настаивал, чтобы король вступил в город в тот же день, и отправил послание, в котором просил его величество оказать ему честь, отужинав в его компании. Атауальпа, подкупленный такой настойчивостью, которую принял за свидетельство уважения, приказал кортежу отправиться в путь. Короля несли в роскошных носилках в сопровождении отборного отряда, численность которого испанские историки определяют примерно в восемь тысяч человек, рядом шли слуги и знать его двора. Процессия прибыла на середину большой площади, король построил свой отряд, и когда он уже был готов принять Писарро, то увидел, что в середину свободного пространства, предназначенного для встречи, вступил одетый в длинную одежду человек с бритой головой, лицо которого скрывала густая борода, в одной руке у него было распятие, в другой большая книга. Это был доминиканский монах Висенте Вальверде, которому стало суждено сыграть первый акт этой трагедии. Историки эпохи завоевания не сумели сохранить, и не без основания, текст его речи, но смысл ее они передали достаточно хорошо, особенно Зарат. Доминиканец объявил перуанскому монарху, что испанцы пришли в Перу, чтобы обратить его величество перуанского короля и подданных его величества в истинную веру. Он быстро и очень ясно передал суть Нового и Ветхого Заветов, рассказал о полномочиях пап, представляющих на земле Христа, и показал изображение Сына Божьего. Объяснив это важное положение, монах поведал, что папы, представители Бога на земле, возложили на испанского короля миссию победить и обратить в христианство народы Нового Света и что этот монарх послал Писарро, чтобы просить инков отречься от культа поклонения Солнцу, принять христианскую веру и признать зависимость от испанского короля[176]. Атауальпа, очень удивленный этой речью, которая представляла Писарро в роли божественного посланца, с достоинством ответил, что не желает быть зависимым от какого-либо человека, и папа не имеет права распоряжаться в стране, не принадлежащей ему. Что касается религиозных вопросов, то он хотел бы знать, на какой авторитет опирается монах и как тот собирается доказать преимущество своей веры над его. Тогда Вальверде протянул королю Библию, которую держал в своих руках. Тот полистал ее, потом вдруг резко бросил на землю, со словами, что испанцы поплатятся за нанесенную обиду. Именно на это и рассчитывал Писарро со своими компаньонами. Едва священная книга коснулась земли, как Висенте Вальверде поднял крест и вскричал: — Осквернение!.. Осквернение!.. К оружию, солдаты истинной веры, к оружию! Солдаты, ждавшие сигнала, бросились, чтобы захватить короля, но его эскорт, настоящая армия, сгрудились вокруг него, а Вальверде ловко спрятался. Всегда осторожный Писарро сделал несколько залпов из пушек[177], чтобы расшатать зыбкую крепость. Ядра, врезаясь в плотные ряды королевских защитников, произвели страшное опустошение, а вспышки разрывов посеяли страх. Перуанцы пассивно сопротивлялись, теснились вокруг своего монарха и перекрывали ему все пути для бегства. Пехотинцы, вооруженные аркебузами, поливали их градом пуль и еще больше увеличивали сумятицу. Когда опустилась ночь, во всю ширь распахнулись ворота, и через них ринулась кавалерия во главе с Писарро. Перед их натиском обезумевшая толпа раздвинулась, смятая лошадьми, и всадники с поднятыми шпагами пробились к Верховному Инке, дрожащему от страха в своих носилках. Писарро, слегка раненный в щеку, лично взял его в плен и отвел в здание, занятое испанскими войсками, предупредив, чтобы никто не пытался пробиться к нему, в противном случае король будет заколот! Битва длилась всего полчаса. Погибли тысячи перуанцев, и только один из испанцев, Писарро, получил царапину. Вокруг плененного Атауальпы выставили надежную охрану, но, зная алчность испанцев, он предложил хороший выкуп за свою свободу. Приступили к переговорам, и Писарро, боясь продешевить, колебался назвать сумму. Верховный Инка, веривший как в свою личную значимость, так и в богатство своей страны, предложил победителю наполнить золотом комнату, в которой он находился, на такую высоту, чтобы испанский полководец смог достать до нее рукой. Писарро согласился. Но пока королевские подданные занимались сбором такого колоссального выкупа, Уаскар, лишенный власти законный наследник престола, все это время остававшийся пленником у людей своего брата, узнал о происходящем и предложил конкистадору за свою свободу еще больше золота, чем тому было обещано Атауальпой. Писарро был верен себе: узнав о предложении Уаскара, он сразу решил принять оба предложения, обобрать обоих братьев и сделать затем своим ставленником того, сделка с которым ему покажется наиболее выгодной. Но Атауальпа предвидел это. Он секретно отдал приказ приближенным утопить соперника, чтобы остаться одному перед победителем. Страшный приговор был приведен в исполнение. Между тем в Перу прибыл старый компаньон Писарро Альмагро и привез ему столь желанное подкрепление: сто пятьдесят человек пехоты и пятьдесят всадников. Полководец, видя себя во главе настоящей армии, решает, что стоит продолжать завоевание, а не ждать полного выкупа от Атауальпы, персона которого начинала к тому же сильно обременять его. Он разделил между своими солдатами огромное количество уже полученного золота, присвоив вместе с Альмагро большую часть, и приказал задушить Атауальпу, обвинив в заговоре против испанцев. Но перед этим насильно окрестил его[178]. Писарро устроил Верховному Инке пышные похороны и назначил наследником его брата Топарку[179]. Коронование нового Великого Инки произошло в Куско, и, естественно, испанская армия отправилась в столицу присутствовать на этой величественной церемонии. По крайней мере, таким был официальный предлог. Что касается истинной причины… Известно, что Куско изобиловал богатством, и шли переговоры о займе, естественно, как его понимали конкистадоры. Эта мирная экспедиция была такой плодотворной, что некоторые компаньоны Писарро, нагрузившись золотом, покинули его, считая себя слишком богатыми, чтобы оставаться простыми искателями приключений. Но на место десяти ушедших приходили сто новых, привлеченных ни с чем не сравнимыми богатствами, которые в действительности превосходили все, что можно было о них рассказать и предположить. Писарро, награбив несметные сокровища, нагрузил несколько кораблей богатыми трофеями и отправил их Карлу V. И Карл V, будучи очень дальновидным сувереном, с радостью принял трофеи щедрого подданного и в награду за услуги подтвердил его титулы, расширил наместничество до семидесяти лье к югу от первых границ и по тому же случаю предоставил к югу от этой последней концессии двести лье Альмагро. Эрнан Писарро, брат конкистадора, доставив королю военные трофеи, принес весть о назначениях и наградах и привез новых добровольцев. После того как Писарро приобрел известность, у него обнаружились братья, как и он, внебрачные, рожденные якобы от одного дворянина, но разными матерями. Их было четыре: Эрнан, Хуан и Гонсало Писарро и Франсиско де Алька́нтара[180]. Франсиско Писарро, желая быть единственным властелином в Перу, моментально избавился от своего компаньона Альмагро, который его стеснял. Поскольку король только что назначил последнего наместником территории, включающей в себя Чили, перуанский диктатор легко убедил его отправиться осваивать свою вотчину и официально принять ее в свое владение. Впрочем, экспедиция была со всех точек зрения неудачной и не принесла практического результата. С другой стороны, Писарро за это время набрался сил. Когда умер Великий Инка Топарка, конкистадор для установления равновесия между требованиями двух королевских семей назначил королем Манко, законного брата Уаскара. Он очень рассчитывал сохранить свою власть над ним, но Манко сумел ускользнуть из-под его влияния и возглавил группу знати, восставшей против испанской тирании. Восстание нашло поддержку у соотечественников и распространялось с неслыханной быстротой. Вскоре новый Великий Инка смог во главе двухсот тысяч человек осадить Писарро в Куско. Эта героическая осада длилась пять месяцев, несмотря на огромный пожар, разожженный осаждающими, и на жесточайший голод, свирепствовавший в обеих армиях, испанской и перуанской. Снята она была только в момент, когда Альмагро, возвращаясь из Чили, отбился от пятнадцати тысяч перуанцев, пытавшихся его арестовать, а потом и разбил их вдребезги. Тогда-то между двумя старинными друзьями, Писарро и Альмагро, разразился такой жестокий конфликт, что между испанцами началась настоящая война, которой индейцы, на их несчастье, не сумели воспользоваться. Союзники в нищете, бывшие компаньоны, разбогатев, начали завидовать друг другу, увидев, что фортуна улыбается им в равной мере. Впрочем, личность Писарро в конце концов вряд ли могла быть приятной человеку с характером Альмагро, благородному, любителю роскоши, верному, с рыцарскими наклонностями, в то время как первый был коварный, жадный, заносчивый и невероятно эгоистичный. Это соперничество, начавшееся еще во время путешествия Писарро в Испанию, откуда он привез для Альмагро должность коменданта крепости Тумбес, возобновилось из-за тяжбы, предметом которой было владение Куско. Альмагро требовал включить Куско в границы губернаторства, которое Карл V предоставил ему на юге, а Писарро, естественно, придерживался противоположного мнения. Началась драка, и два испанских отряда втянулись в настоящую битву. С одной и другой стороны ожесточение было неслыханным, а перуанцы не осмелились вмешаться. Наконец Альмагро был побежден и взят в плен в битве при Салинасе. Писарро и его четыре брата устроили над ним суд и приговорили к смерти как бунтовщика. Он был задушен в тюрьме, потом публично обезглавлен. Ему исполнилось шестьдесят пять лет. Это было в 1538 году. Писарро не долго пользовался плодами своего преступления. Альмагро оставил после себя совсем еще юного, но отважного, боевитого, благородного сына, безгранично любившего своего отца[181]. Юноша сделал все, чтобы отомстить, и провел целых три года в подготовке кровавого искупления. Он стал душой огромного и грозного заговора, в котором принимали участие все многочисленные враги Писарро. Заговор обнаружился в момент, когда еще не все было готово для его успеха. Заговорщики, понимая, что находятся на грани провала и не сомневаясь в расправе, которую им устроит человек с темпераментом Писарро, приняли решение действовать безотлагательно. Они неожиданно устремились ко дворцу губернатора с криками: «Да здравствует король!.. Смерть тирану!..» В мгновение ока заговорщики набежали со всех сторон, выломали двери дворца, перерезали стражу. Восставшие поспешили в залы дворца, крича и разбивая все вокруг. Захваченный врасплох Писарро не потерял хладнокровия. Вместе с двумя соратниками и братом Франсиско де Алькантара он забаррикадировался в одной из комнат и бесстрашно отбивался от нападающих. Разъяренный, всегда надеющийся на помощь извне, он защищался, как старый лев, выкрикивая громкие призывы и прочерчивая грозной шпагой кровавые круги вокруг себя. Но день высшего искупления настал, все было кончено! Франсиско де Алькантара упал замертво, два соратника Писарро также погибли, и, оставшись один перед лицом многочисленного противника, знаменитый завоеватель испустил дух, буквально изрешеченный ударами. Как Альмагро, ему было шестьдесят пять лет (1541 год)[182]. Эта страшная, безжалостная и беспощадная война длилась еще семь лет и закончилась казнью Гонсало Писарро, который сумел все это время продержаться у власти[183]. Чтобы помешать повторению подобных эксцессов, король Испании решил, что впредь вице-королевство будет подчиняться монарху через председателя Совета по делам Индий… Из братьев Писарро остался только Эрнан. Хуан был убит еще в 1536 году в Куско во время восстания. Эрнану пришла неудачная мысль отправиться в Испанию, чтобы испросить прощение для Франсиско за убийство Альмагро. Он был арестован и просидел в тюрьме целых двадцать лет.
ГЛАВА 7
Вальдивия. — Эрсилья-и-Суньига. — Острова Хуан-Фернандес и Александр СелькиркЗа исключением Христофора Колумба, звезда которого, казалось, таинственным образом парит над веком открытий и завоеваний, и Магеллана, более жесткого, но всегда симпатичного, первооткрыватели и завоеватели показали себя жестокими авантюристами, лишенными каких-либо моральных устоев, драчунами, алчными стяжателями, кровожадными и фанатичными. Первым вопросом, который они задавали местным жителям, едва прибыв в неизвестную страну, был: «У вас есть золото?..» И к несчастью для последних, оно было всегда и повсюду. К тому же эти люди жили счастливо и спокойно, но имели культуру и религию, отличные от европейских, что было большим пороком в глазах белых людей, прибывших из Европы. И эти белые пришельцы, нетерпимые и алчные, не думая, что совершают по меньшей мере преступление против человечества, высокомерно представляли себя как реформаторов, требовали немедленной отмены вековых вероисповеданий, резали и грабили тех, кто осмеливался сопротивляться, вытесняли и разоряли тех, кто подчинялся, жгли, убивали, повсюду сеяли безнадежность и смерть под предлогом стремления обеспечить в этой и другой жизни счастье людям, не просившим об этом, по меньшей мере подобным образом. Взять одного за другим всех этих конкистадоров: Бальбоа, Грихальва, Кортес, Писарро, Альмагро и множество других сеньоров меньшего размаха — они, как отливки из одной формы, похожи друг на друга алчностью, фанатизмом и жестокостью. Но среди этих миссионеров в кирасах[184], этих жадных рубак, историк с явным удовольствием для себя найдет некую преданную, симпатичную, бескорыстную личность, не похожую на прочих, занятых исключительно выжиманием последней капли золота и крещением на смертном одре предварительно обобранных аборигенов. Но такие люди, редкие в подобную эпоху, не очень-то интересовали хроникеров, ослепленных подвигами конкистадоров, и об этих гуманистах с трудом можно найти несколько строк. Так было с честным и неудачливым Педро де Вальдивия[185], погибшим в тридцать девять лет от рук араукан[186], славную жизнь и жестокий конец которого прославил поэт Эрсилья-и-Суньига[187]. Вальдивия один из героев, которых нельзя упрекнуть в бесчестном поступке. Истинный рыцарь исчезающей эпохи, он строил города — Сантьяго, Консепсьон, Вильярика, Вальдивия — вместо того, чтобы разрушать их, развивал сельское хозяйство, а не опустошал поля, любил индейцев и налаживал их быт, вместо того, чтобы убивать их, и умер в бедности, подобно прекрасному человеку Педро де ла Гаска, пришедшему на смену братьям Писарро. Этот труженик добровольно сменил Альмагро, хорошо зная, в каком трудном положении находится страна. Его доброта, решительность, талант администратора, честность решили трудную задачу завоевания мирным путем всей территории, и еще более трудную — научить дорожить завоеванным. Взяв на себя обязанность оказывать поддержку основанным им городам против набегов араукан, периодически разоряющих страну, он попал в засаду и умер после трех дней невероятных мучений. Тот, кто воспевал его храбрость, славу и беды, Алонсо де Эрсилья-и-Суньига, представляет завоевание как нечто артистическое, живописное и в высшей степени бескорыстное. Выходец из знатной и богатой семьи, молодой, красивый, прекрасный наездник, стремящийся к славе и совершенству, любитель дальних прогулок верхом, поэт и воин, отправился в Новый Свет и смешался с толпой грубых авантюристов, от которых выгодно отличался своим высоким и изысканным интеллектом. Он видел новые горизонты, испытывал волнения, хмелел иногда от пороха, прославлял победителей, находил слова жалости для побежденных, воспевал всеобщее мужество и всегда рассказывал о необыкновенном подъеме чувств. Впрочем, все это совершалось инстинктивно, как доказали его стихи, написанные в высоком литературном стиле, которые слагались понемногу повсюду, как он сам позаботился сообщить об этом в предисловии к поэме «Араукана», ставшей действительно знаменитой. Эрсилья постарался отразить в ней истинные события и для этого, по его словам, сочинял ее во время военных действий, на маршах, в осадах, записывая, за неимением бумаги, на коже, на обрывках писем, часто таких узких, что на них с трудом можно было разместить шесть строчек; потому, утверждал он, позже было так трудно их собрать вместе… Вот при каких обстоятельствах Алонсо де Эрсилья принял участие в битве, во время которой испанцы чуть было не потеряли Чили, называвшуюся тогда Новый Толедо. Как уже было сказано, Вальдивия был только что захвачен врасплох превосходящими силами противника и попал в плен к арауканам. Последние, возглавляемые Кауполиканом, предали его смерти с изощренной жестокостью, в которой, впрочем, сами конкистадоры имели большие навыки. Вальдивия погиб, его заместитель Франсиско де Бильягро принял командование. Это была огромная ответственность, но он мог взять ее на себя, будучи достойным своего предшественника. Арауканы, объявившие себя врагами испанцев и их многочисленных союзников — индейцев, разрушили цитадель Пурену, потом — крепость Пенко, наконец, пошли на цитадель Кантеу и прочно закрепились около Сантьяго. Четыре раза бесстрашный Бильягро предпринимал попытку вытеснить их, и каждый раз безуспешно, с огромными потерями. И только на пятый измученные, по большей части раненные люди взяли крепость в отчаянном порыве, перебив затем араукан. Именно с этого момента участие Эрсильи становится особенно активным. Прибыв из Европы с подкреплением, присланным королем, он был прикомандирован лично к командующему кавалерией дону Гарсии, сыну дона Андрео Уртадо де Мендосы, маркиза де Канет, наместника короля в Перу. Как человек военный, насколько искусный, настолько и осторожный, дон Гарсия, вместо того чтобы ввязаться в партизанскую войну с недисциплинированными, но опасными ордами кочевников, начал операцию с того, что отправил войска на казарменное положение на остров Кинкина и приказал соорудить редут перед разрушенной крепостью Пенко, занятой врагом. Когда редут был построен, дон Гарсия, не опасаясь больше быть сброшенным в море в случае поражения, приказал решительно атаковать араукан. Но отвага этих кочевников была такова, что потребовалась вся мощь, дисциплинированность, задор этих свежих отрядов и, наконец, превосходство их вооружения, чтобы добиться частичного успеха. Победа стала окончательной только после нескольких очень яростных атак, в результате которых испанцы овладели крепостью Пенко. Они возвели новые укрепления, оставили там сильный гарнизон и отправились освобождать также полуразрушенную крепость Тукапель. Перед тем как прибыть на место, где испанцы прежде потерпели поражение и так трагически погиб несчастный Вальдивия, дон Гарсия нанес новое, еще более жестокое поражение арауканам. Побежденный снова, но не разбитый, неукротимый противник остановился недалеко от Тукапели, цитадели, уже восстановленной заботами дона Гарсии. Мир устанавливался медленно, но уверенно. Оставалось направить оружие на Каутан, чтобы окончательно вытеснить врага. Эта операция, проведенная доном Гарсией с обычными для него осторожностью и отвагой, увенчалась успехом. Он вернулся победителем в Тукапель, сопровождаемый верным Эрсильей, не покидавшим его с начала этой выдающейся кампании, которой посвящены взволнованные строфы поэмы «Араукана». Полководец прибыл в Тукапель накануне дня, когда Кауполикан, касик араукан, душа этой беспощадной войны, предпринял ночную атаку на крепость, все поставив на карту. Но бдительность дона Гарсии нельзя было обмануть. Кауполикан, предполагая захватить испанцев врасплох, сам попал в ловушку, был полностью разбит и взят в плен. Око за око, зуб за зуб! Дикарь, замучивший Вальдивию, умер в таких же муках. Эрсилья, который поведал об этих славных и жестоких эпизодах, посвятил несколько сочувственных слов побежденному врагу и как поэт и христианин высказался против пыток, которым дикарь был подвергнут людьми, считающими себя цивилизованными и проповедующими религию милосердия. Такая праведная, интеллектуальная и рыцарская жизнь поэта-солдата чуть было не кончилась трагически, когда он возвращался с доном Гарсией из трудной и дальней экспедиции, предпринятой на остров Чилоэ. Эрсилья, втянутый в ссору с другим дворянином из свиты генерала, был вызван на поединок. А поскольку дуэли были запрещены в армии под страхом смерти, обоих приговорили к смертной казни, хотя потерпевшей стороной был поэт. Дон Гарсия, узнав, что того спровоцировали, помиловал его и смягчил наказание, заменив смертную казнь ссылкой. Эрсилья вернулся в Испанию, осыпанный почестями современников, женился, совершил путешествия в Германию, Австрию, Богемию[188] и умер в очень преклонном возрасте. Еще несколько строк о другом испанском мореплавателе, чуть позже участвовавшем в этих завоеваниях, имя которого случайно известно не столько его заслугой, сколько достаточно странным совпадением. Этот мореплаватель — Хуан Фернандес[189]. Его имя связано с исследованием чилийских земель, но не из-за открытий, которые он сделал. Известность ему принесли острова, носящие его имя. Прежде моряки считали, что плыть с севера на юг вдоль побережья Перу так же трудно, как между тропиками с востока на запад по Тихому океану. Но Хуан Фернандес открыл, что, удаляясь к западу на достаточно большое расстояние от земли, встречаешь южные ветры, которые, доходя до широты переменных или западных ветров, позволяют морякам приставать к земле на юге, чего бы они не смогли сделать, оставаясь около побережья. Во время одного из своих путешествий моряк открыл в ста семидесяти лье от побережья Чили несколько островов, среди которых Сан-Фелис, Сан-Амбросио и группа островов, получивших название Хуан-Фернандес[190]. На одном из этих островов в течение четырех лет прожил английский моряк Александр Селькирк, рассказ которого дал Даниелю Дефо сюжет для бессмертного романа «Робинзон Крузо». Селькирк, родившийся в 1660 году[191] в Ларго, в графстве Файф, в Шотландии, совсем молодым поступил в английский флот и дослужился до старшего матроса. В 1704 году он плавал на корабле «Сэнк-Порт», когда его капитану, которого звали Стредлинг, после каких-то столкновений, так и оставшихся невыясненными, пришла мысль бросить строптивого моряка на совершенно пустынном и находящемся в стороне от морских дорог островке из архипелага Хуан-Фернандес. Селькирк прожил на нем в одиночестве четыре года. Он остался бы там и еще дольше, если бы капитан Вудз Роджерс не заметил столб дыма, поднимающийся с острова, который всегда считался необитаемым. Интересно прочитать страницу бортового журнала, написанную этим капитаном, в таком виде, в каком она была опубликована в 1712 году и послужила отправной точкой для Даниеля Дефо. «31 января 1709 года. — В семь часов утра мы увидели острова Хуан-Фернандес. 2 февраля. — Я послал туда ялик, и когда он не вернулся, отправил на его поиски плоскодонку. Вскоре она вернулась и привезла множество раков и человека, одетого в шкуры диких коз,который казался таким же диким, как и сами козы. Четыре года и четыре месяца тому назад он был оставлен на этом месте Стредлингом, капитаном корабля “Сэнк-Порт”, на котором наш гость был старшим матросом. Его имя Александр Селькирк. Когда капитан Дампир[192], знавший команду “Сэнк-Порт”, сказал мне, что этот человек был лучшим моряком на борту, я немедленно принял его на наше судно на ту же должность. Это он разжег огонь, который мы заметили предыдущей ночью, по некоторым признакам признав в нас англичан. Во время его пребывания на острове он видел, как вблизи прошло несколько кораблей; и только два бросили якорь. Присмотревшись к ним, он догадался, что это испанцы, и это заставило его тотчас спрятаться. Если бы это был французский экипаж, он открылся бы им, но что касается испанцев, то ему лучше было умереть с голоду в этой пустыне, чем попасть им в руки. По его словам, они убили бы его или отправили как раба на работы в рудники, поскольку вряд ли пощадили бы иностранца, которому в такой ситуации пришлось бы волей обстоятельств открыть секреты, относящиеся к пути в Южное море. Ему стоило большого труда уйти от них, поскольку его заметили, открыли огонь и преследовали до леса, где он взобрался на вершину дерева, у подножия которого преследователи остановились, чтобы набрать воды, и убили нескольких коз; но испанцы ушли, не обнаружив его. Селькирк был высажен на этом острове по приказу капитана, с которым у него возникла ссора. Ему оставили одну смену одежды, гамак, ружье, немного пороха, несколько пуль, табак, топор, нож, котел, Библию, несколько молитвенников, морские приборы и книги. В течение первых восьми месяцев своего пребывания он с трудом боролся с удручающей его меланхолией и с трудом преодолевал страх одиночества. Он построил две хижины из перечных деревьев, покрыл их длинными травами и обтянул внутри шкурами коз, которых убивал, чтобы добыть пропитание. Мясо было его единственной пищей до тех пор, пока не кончился оставленный ему фунт пороха, а огонь он добывал интенсивным трением двух палочек, зажав их коленями. В маленькой хижине, расположенной на некотором расстоянии от другой, он готовил пищу. В большой спал, читал, распевал псалмы и молился, будучи больше христианином в этом одиночестве, чем прежде, и каким не будет, возможно, потом. Сначала он принимал пищу, только когда его принуждала к этому необходимость, из-за грызущей его тоски, а также отсутствия хлеба и соли. Спать он ложился тоже только тогда, когда его совсем одолевал сон. Перечное дерево, дававшее светлое пламя, служило ему одновременно для обогрева и освещения, а бальзамический древесный запах утешал. Селькирк ловил столько рыбы, сколько мог съесть, но недостаток соли делал ее вредной для здоровья; только некоторые раки, большие, как омары, казались ему вкусными всегда. Он их готовил двумя способами: варил или пек. Мясо коз, обитавших на островах Хуан-Фернандес, ему казалось лучше, чем мясо наших коз, и всегда обеспечивало ему отличный бульон. Бедняга подсчитал, что за время своего пребывания убил почти пять сотен коз и еще больше поймал, а затем отпустил, поставив метки на ушах. Когда его небольшой запас пороха был исчерпан, он ловил их, бегая за ними вдогонку, и такой образ жизни, требовавший постоянного движения, сделал его очень ловким, мы это видели, когда он бежал через лес среди скал и холмов за козами, которых ловил по нашей просьбе. Несколько раз мы отправлялись с ним, чтобы помочь в охоте, брали одного бульдога и нескольких наиболее расторопных матросов, но вскоре он оставлял позади людей и собак, устремлялся за козами, ловил их и приносил к нам на спине. Селькирк рассказал, как однажды, преследуя козу, в азарте чуть не поплатился жизнью. Настигнув ее на краю пропасти, скрытой кустарником, он упал вместе с ней с огромной высоты, а когда пришел в себя, пролежав примерно сутки без сознания, разбившийся, подавленный, увидел рядом с собой мертвую козу; было очень трудно дотащиться до хижины, находившейся более чем в двух тысячах шагов, где он десять дней пролежал потом без движения. Через некоторое время мясо без хлеба и соли показалось ему лучше, чем в первые дни. В сезон у него было огромное количество прекрасной репы, посеянной людьми из экипажа капитана Дампира и покрывавшей тогда несколько акров земли. Пальма хамеропс (капустная пальма) давала ему листья, напоминавшие по вкусу капусту; плодами перечной мирты, называемой обычно ямайским перцем, он приправлял свои блюда, рос здесь и черный перец или малажита[193], который помогал ему при различных недомоганиях. Его ботинки износились очень быстро, впрочем как и одежда, но ступни так затвердели, что он мог ходить повсюду, не испытывая ни малейшего неудобства. Потом ему было очень трудно привыкнуть надевать обувь. Первое время его очень мучили кошки и крысы. Эти животные, завезенные на остров кораблями, которые останавливались здесь набрать воды и дров, невероятно размножились. Крысы кусали его за ноги и грызли одежду, пока он спал. Чтобы избавиться от грызунов, Селькирк стал бросать кошкам мясо, вскоре приручил их, и они стали являться сотнями и очень быстро избавили его от крыс. Он приручил также несколько коз, которых научил, как и кошек, танцевать под звуки своих песен. Когда одежда превратилась в лохмотья, ему пришлось сделать себе плащ с широкими рукавами и колпак из козьих шкур, все это было собрано из различных кусков при помощи нитей, выдернутых из старого тряпья. После того как нож отслужил свой срок, Селькирк заменил его новым, изготовленным с грехом пополам при помощи камней из кусков обручей от бочек, подобранных на песчаном берегу. Поскольку у него было немного полотна, он сшил себе рубашки тем же способом, что и плащ; во всех операциях такого рода иглой ему служил гвоздь. В первые моменты свидания с нами он был вне себя от радости, но в одиночестве бедняга почти забыл язык, с большими интервалами произносил отдельные слова, не связывая их, и мы с трудом понимали его. По истечении трех дней речь начала к нему возвращаться, и он признался нам, что молчание, которое он хранил до этого времени, было совершенно невольным. Мы предложили ему стакан водки, но поскольку он с момента его высадки не пил ничего, кроме воды, то не захотел даже пригубить; прошло достаточно много времени, прежде чем он смог вернуться к привычке есть нашу обычную пищу». Став, как сказано выше, старшим матросом на корабле Роджерса, Александр Селькирк вернулся в Англию в 1711 году, где слух о его приключениях придал ему некоторую известность, как и месту его изгнания.
ГЛАВА 8
ФРЕНСИС ДРЕЙК
Этот неустрашимый и искусный моряк, имя которого должны проклинать испанцы, заклятым врагом которых он был, родился в Тавистоке, в графстве Девон в Англии. Дата его рождения точно не известна, одни авторы называют 1539, а другие 1545 год[194]. Его отец служил капелланом на морском королевском судне по специальному распоряжению королевы Елизаветы, которая хотела таким образом компенсировать свое обращение в протестантство[195]. Френсис Дрейк был старшим из двенадцати детей. Дав мальчику, страстно любившему море, небольшое образование, родители поручили его заботам рыбака, чтобы приобщить к морской жизни. Некоторое время спустя будущий моряк поступил юнгой на торговое судно и до восемнадцати лет проплавал с одним и тем же капитаном. Френсис быстро добился его привязанности благодаря своему уму, бойкому и решительному характеру, любви к морской профессии и унаследовал от него корабль, которым тот командовал. Через несколько месяцев после смерти своего благодетеля Дрейк отправился в плавание к берегам Гвинеи[196] уже помощником капитана. Потом, по возвращении, почувствовав, что может командовать сам, он оснастил полученный в наследство корабль и, охваченный, как и множество других, лихорадкой приключений, отправился в Новый Свет[197]. Едва достигнув берега, он был остановлен испанцами, которые, считая себя абсолютными хозяевами на земле и на море, стремились помешать иностранцам ступить в их новые владения. Дрейк был схвачен, связан по рукам и ногам и препровожден к испанским властям, которые бросили его в тюрьму, а на корабль был наложен секвестр[198]. Преступление, или, скорее, преступления, которые оправдывали в глазах испанцев это вопиющее нарушение прав человека, было действительно серьезным. Во-первых, Дрейк пытался вести торговлю на землях его католического величества, во-вторых, он был англичанином и, что самое страшное, еретиком. Его бы охотно сожгли живьем, но не осмелились, опасаясь репрессий, поскольку англичане уже не шутили, когда речь шла о расправах, чинимых над представителями их нации. Испанские власти удовлетворились, конфисковав корабль с грузом и распродав конфискованное как контрабанду. Вот так Френсис Дрейк, свалившийся с высоты испанского законодательства беднее последнего из нищих, был вынужден наняться простым матросом на корабль, отплывающий в Европу. Озлобленный таким пиратским актом, англичанин, покидая город Рио-де-ла-Ача, показал кулак проклятой земле и поклялся отомстить. Мы увидим, как он сдержал слово и какой страх нагоняло на испанцев его имя. Полностью разоренный, Дрейк вернулся в Англию, нашел одного из своих родственников, Джона Хокинза[199], прекрасного моряка, который ему всегда выказывал дружеское расположение, и попросил у него помощи и защиты. Хокинз представил Френсиса ко двору, где тот рассказал о своих злоключениях. Королева живо заинтересовалась им и вручила рекомендательное письмо к королю Испании. Но государь-католик даже не удостоил ответом беднягу капитана-протестанта, чем еще больше, если это только возможно, укрепил в нем ненависть и жажду мщения. Зная, что месть — это «плод, который следует съедать зрелым», Френсис Дрейк прекратил всякие ходатайства и поступил под начало к Джону Хокинзу, организовавшему экспедицию для захвата негров-рабов. Это коммерческое мероприятие не требовало ни больших вложений капитала, ни особых знаний, достаточно было обладать жестокостью и абсолютной бесчувственностью к страданиям несчастного человеческого существа. С другой стороны, работорговля была единственным видом коммерческой деятельности, который испанцы разрешали «собакам-еретикам» в своих колониях, и англичане пользовались этим для обогащения и разведки прибрежных районов, где позже они смогут действовать в полной безопасности. Многочисленную партию негров из Гвинеи погрузили в первые дни сентября 1567 года. Их с большой прибылью продали в Гаване и в Санто-Доминго. Итак, первая часть путешествия прошла удачно. Но, неожиданно атакованные испанцами, принявшими торговцев живым товаром за пиратов, англичане потеряли три корабля и едва спаслись (23 февраля 1568 года). Вряд ли это новое происшествие могло усмирить бурный темперамент мстителя, скорее оно еще более укрепило его намерения. За 1570 и 1571 годы Дрейк предпринял два путешествия в Вест-Индию, не найдя того, что искал, но с большой пользой провел это время, приобретя более точные сведения о морях, в которых собирался совершать свои кровавые подвиги. Почувствовав себя уверенно, Френсис, оснастив два маленьких судна — «Лебедь» и «Дракон», вышел из Плимута в мае 1572 года и направился к берегам Южной Америки. В одиночку, с ограниченными ресурсами, он отважился нанести удар в самое сердце испанских владений! Поступок тем более экстраординарный, что этот авантюрист развязал войну, когда между Англией и Испанией царил глубочайший мир, и мог быть повешен за это как пират. Но совесть, впрочем очень спокойная, не укоряла его. Он находил оправдание в том, что тоже был ограблен в период полного мира в нарушение прав человека. Войдя в порт Фезан[200] 20 июля, он ставит на якоря два своих корабля, пересаживает команды на шлюпки, прибывает в Номбре-де-Дьос[201], овладевает крепостью без боя, оставляет там половину шайки, чтобы обеспечить свой отход, а с остальными отправляется на рыночную площадь. Звук труб до такой степени поразил жителей, и без того озадаченных этим нападением среди полного спокойствия, что они разбежались и оставили город на разграбление. Но вскоре, оправившись от страха, стыдясь своего малодушия, увидев, что имеют дело с горсткой людей, вернулись с большими силами, яростно атаковали и принудили пиратов бежать, бросив добычу. Дрейк, раненный в ногу, с трудом добрался до кораблей. Вернувшись в Фезан, он снова отправился в море, появился около Картахены, захватил по дороге несколько испанских судов очень большого водоизмещения, потом подошел к берегу, поджег дома Санта-Круса, причинив таким образом своим противникам ущерб более чем на два миллиона франков. После этой экспедиции Дрейк вернулся в Плимут, где стал на якорь 9 августа 1573 года, нагруженный огромной добычей. Эти богатства дали ему возможность на свои средства вооружить три больших фрегата, с которыми он помог Уолтеру Деверё, графу Эссексу[202], в его операциях против Ирландии; но, когда граф, не сумев реализовать свои проекты, умер в 1576 году, Дрейк вернулся в Англию вместе со своими кораблями. По возвращении, представленный снова королеве Елизавете вице-камергером[203] и канцлером сэром Кристофом Аллоном[204], он поведал своей государыне разработанный им план: проникнуть в Южное море, через Магелланов пролив неожиданно войти в испанские владения и опустошить их. Естественно, склонная к крупным авантюрам королева одобрила этот план и доверила Френсису Дрейку пять военных кораблей с командами из отборных матросов. Тринадцатого декабря 1577 года Дрейк вышел из Плимута в свое знаменитое кругосветное путешествие. Сначала он шел вдоль берегов Африки, захватывая все испанские корабли, которые встречал на пути, потом направился к берегам Бразилии и шел вдоль них до Патагонии. Прибыв в порт Сан-Хулиан, открытый и названный так Магелланом, путешественник нашел две виселицы, которые известный навигатор воздвиг, чтобы казнить двух своих помощников, организовавших против него заговор. Дрейк, находясь в похожих условиях, приказал повесить одного из своих помощников капитана Джона Даути, который пытался организовать заговор против него. Джон Даути, хороший моряк, но неугомонный и амбициозный человек, лелеял мысль избавиться от Дрейка, поскольку чувствовал себя единственным способным наследовать ему… в случае если наследство откроется. И он считал себя способным поторопить фортуну и именно поэтому принялся подстрекать к бунту нескольких человек из экипажа, но не смог завершить свой преступный план, поскольку был разоблачен. Дрейк приказал поставить мятежника перед военным трибуналом из сорока матросов, выбранных среди экипажей, чтобы придать приговору наибольшую справедливость. Даути приговорили к смерти. Ему предоставили выбор из трех возможных наказаний: оставить на берегу, отправить в Англию или казнить. Будучи настоящим англичанином и оригиналом, пренебрегавшим жизнью, он счел для себя более достойным выбрать смерть, съязвив, что «ему очень приятно быть первым англичанином, повешенным в этих широтах». Приговоренный смотрел, как приближался последний час его жизни с редким безразличием. В утро казни он причастился вместе с Дрейком и несколькими другими офицерами, позавтракал с ними за одним столом, пил и ел с великолепным аппетитом, поднял тост за здоровье своих сотрапезников, простился с ними, как если бы речь шла о простом путешествии, и спокойно отправился на место казни. Двадцатого августа Дрейк вступил в Магелланов пролив, и ему потребовалось шестнадцать дней, чтобы пройти его. Свирепая буря встретила флотилию на выходе из пролива, разбила один корабль и значительно сбила с курса. 20 ноября он наконец стал на якорь возле острова Моча у берегов Чили[205]. Вскоре Френсис Дрейк приступил к «операциям», начав с захвата корабля с грузом, состоящим из четырехсот фунтов чистейшего золота. Потом он разграбил расположенный около Сантьяго маленький городок, очистив его до последней крохи. Около Тарапакса он застал на берегу спящего испанца, около которого лежали тридцать слитков серебра в виде брусков, стоящих в сумме четыреста тысяч дукатов. Он забрал серебро, а испанца оставил спокойно спать, кажется, даже не потревожив его сна. Недалеко от того места матросы, посланные за водой, встретили испанца и индейца, ведущих восемь лам, нагруженных серебром по сто фунтов каждая. Естественно, животные были освобождены от ценной ноши. Вскоре в руки Дрейка попали три корабля с пятьюдесятью семью слитками серебра весом тысяча сто сорок фунтов. Корабли никем не охранялись, поскольку испанцы не опасались воров в своих прибрежных водах, где, кроме них, никто не плавал. В порту Кальяо 13 февраля 1579 года он также захватил двенадцать кораблей. Никто не охранял груз, состоящий из шелка, полотна, сундуков, полных серебряных монет, и полутора тысяч слитков серебра. Продолжая путь, Дрейк захватил бригантину, нагруженную золотом и серебром; а чуть позже овладел «Какафуэго», кораблем, на борту которого находились жемчуг и драгоценные камни, восемьдесят фунтов золота, тринадцать ящиков серебряных монет и столько необработанного серебра, что его можно было использовать в качестве балласта для корабля. Продвигаясь дальше к Америке, говорит Жюль Труссе, выдающийся автор «Истории пиратов», он освобождал от груза все испанские суда, встречавшиеся ему на пути. На короткое время Дрейк остановился на севере Калифорнии, где дикари оказали ему почести и признали сюзеренитет Англии. Отсюда он пересек Тихий океан, прибыл на остров Тернате в Молуккском архипелаге, потом 10 февраля 1580 года бросил якорь у острова Ява и возвратился в Англию, обогнув мыс Доброй Надежды, совершив таким образом кругосветное путешествие за время этой трехлетней кампании, оказавшейся такой доходной, что соотечественники, позавидовав огромным богатствам, которые он привез, приняли путешественника с презрением и обошлись с ним как с пиратом. Посол Испании, дон Бернардино де Мендоса, вступил в хор недовольных и отправился жаловаться королеве. — Это правда, — очень строго ответила Елизавета, — Френсис Дрейк совершал акты пиратства; но я должна напомнить вам, господин посол, что несколько лет тому назад этот же человек не смог добиться возвращения корабля, который был у него несправедливо отнят. Посол не смог удержаться от жеста, выразившего досаду. — Позволит ли мне, ваше величество, — продолжал он, — заметить, что корабль Дрейка был конфискован справедливо в местах, где только его католическое величество и его подданные имеют право заниматься торговлей. Эта слишком хорошо известная претензия испанцев не удивила королеву; она ограничилась возражением: — Рассматривая иноземных торговцев как пиратов, его католическое величество теряет право жаловаться на истинных корсаров[206]. Потом, будучи женщиной, которая ничего не делает наполовину, и намереваясь преподать урок тем, кто стремился ввергнуть в немилость Френсиса Дрейка, а также засвидетельствовать свое уважение первому англичанину, совершившему кругосветное путешествие, она с большой торжественностью отправилась в Дептфорт, где бросили якоря корабли Дрейка, отобедала на том, которым он командовал, допустила его за свой стол и посвятила в рыцари. Не ограничившись публичным одобрением всех действий Дрейка, королева приказала сохранить этот корабль как вечный памятник славы известного мореплавателя и Англии. В 1585 году разрыв, произошедший между Елизаветой и Филиппом II, позволил королевскому рыцарю проявить себя на новом поприще. Рассчитывая на его отвагу, жестокость и ловкость, королева поручает Дрейку командование двадцатью пятью военными кораблями с находящимися на них двумя тысячами человек. Он отправляется 15 сентября из Плимута и, прокрейсировав какое-то время у берегов Испании, 16 ноября прибывает в Сантьяго[207]. Здесь он высаживает тысячу людей под командованием генерала Карлиста, овладевает городом, грабит его, сжигает и захватывает огромную добычу, затем появляется в Санто-Доминго, требует с города выкуп в двадцать пять тысяч дукатов, отправляется в Картахену и берет ее штурмом, потом во Флориду, мимоходом разрушает крепости Сан-Аугустин и Сан-Антонио, оставленные хозяевами при его приближении. По возвращении в Англию после кампании, в результате которой испанцы потеряли более пятнадцати миллионов франков, Дрейк получил звание вице-адмирала и принял командование одним из отрядов кораблей, разгромивших в 1588 году Непобедимую Армаду[208]. На вершине своей славы адмирал с флотом из двадцати четырех кораблей, с одиннадцатью тысячами человек под командой генерала Норрея, принес войну на землю Испании. Он овладел городом Ла-Корунья, разогнал, захватил или пустил на дно двадцать галер, потом сжег дотла Пегу[209]. Вернувшись в Плимут в начале июля 1589 года, Дрейк остался там на некоторое время, стал депутатом парламента от этого города и заседал в нем с 1592 по 1593 год. Затем его ненависть к испанцам, дремавшая в течение двух или трех лет, проснулась еще жарче, чем когда-либо. И ему снова захотелось предать огню и залить кровью Вест-Индию. Он объединился со своим родственником Джоном Хокинзом и двумя богатыми авантюристами (обоих в этой экспедиции поджидала смерть), вооружил флотилию из шести кораблей и отправился из Плимута 28 августа 1595 года. Месяцем позже он, следуя совету Хокинза, тщетно попытался овладеть Тенерифом. Через некоторое время, опять же по совету Хокинза, который, казалось, приносил ему только неудачи, Дрейк напал на Пуэрто-Рико и потерпел поражение. Придя в отчаяние оттого, что столько человек бесполезно погубил, Хокинз в тот же день умер от огорчения. С его смертью исчезли неудачи, преследовавшие Дрейка каждый раз, когда рядом с ним оказывался его родственник. Став единственным командиром эскадры, он вскоре оказался в прибрежных водах Рио-де-ла-Ача, где тридцать лет тому назад он был оскорблен, посажен в тюрьму, потом ограблен. Несчастный город, который не мог защищаться, напрасно предложил ему выкуп в 35 000 дукатов. Френсис Дрейк, неумолимый, как раньше это было по отношению к нему, сам поджег город и не сдвинулся с места, пока тот не обратился в пепел! Поскольку его ненависть не была удовлетворена, он сжег еще и город Санта-Мария со всеми кораблями, находившимися в порту. Стремясь завладеть Панамой, Дрейк бросил через перешеек отряд из 750 человек под командованием сэра Томаса Баскервилла, храброго и талантливого офицера. Экспедиция через два дня хода встретила такое сопротивление, что должна была с боем отойти, счастливая, что смогла 2 января 1596 года вернуться на эскадру. Эта неудача только озлобила Дрейка. Отыграться за нее он решил, захватив Портобело. Он отправился в путь, но внезапно скончался от апоплексического удара 5 января 1596 года[210]. Так ли это на самом деле? Выдвигаются различные версии его смерти, из которых одна по меньшей мере экстраординарна. Одни считают, что Френсис Дрейк умер от приступов вялотекущей лихорадки, осложненной кишечной геморрагией, другие утверждают, что он покончил жизнь самоубийством, но самая интересная версия гласит, что, высадившись на острове Крабов, он был окружен чудовищными ракообразными, крупнее которых не знал мир, и, схваченный за руки, за ноги и шею, не смог отбиться от них, и его труп был обглодан до костей. Дрейк, хотя соотечественники не считают его гордостью нации, был одним из основателей морского величия Англии. Хотя он имел, и возможно именно поэтому, в характере и поступках нечто от флибустьера[211], это бесспорно один из наиболее смелых и наиболее удачливых моряков, которых когда-либо знал мир.ГЛАВА 9
Гонсало Писарро. — Мартинес. — Уолтер РэйлиПрежде Уйаной или Гвианой называли обширное пространство непроходимых лесов, болот и саванн, которые разделяли две великие реки Ориноко и Амазонку и простирались от восточных отрогов Анд до Атлантического океана. Эта страна могла бы долгое время оставаться забытой в своем диком одиночестве. Алчные вожделения испанских конкистадоров привлекла к ней легенда об Эльдорадо, приписывающая этой стране огромные и изумительные богатства. Вот как возникла и распространилась эта легенда. К подножию Анд, в глубину густых лесов Вилькабамбы[212] были перенесены сокровища городов Кито, спасаемые от жадности Беналькасара, и Куско, до которых Франсиско Писарро, несмотря на свое проворство, смог добраться лишь частично. Несчастные остатки семей Великих Инка укрывались здесь с верными орехонами[213] и здесь основали новую империю Солнца, такую же богатую, как та, которая недавно так быстро пала под ударами горстки авантюристов. По общему убеждению, золото Перу, изобилие которого овладело воображением испанцев, должно было происходить из этих неизвестных районов, где находился центр сказочных богатств и рудники драгоценных металлов. Прибытие в Такунгу индейского посольства подтвердило это предположение. Очевидно, его прислали из Новой Гренады, чтобы потребовать для своего государя, «сипа» Боготы или «саку» Тунхи, помощь императора Перу. Рассказы индейских послов разожгли алчность испанцев. По их словам, они были подданными одноглазого короля великого Патити, правившего в обширных горных областях, расположенных на северо-востоке. Каждое утро, когда король встает с постели, камергер смазывает ему тело душистой смолой, на которую при помощи длинных сарбаканов (духовых трубок) наносится золотая пыль. Вечером, с большой торжественностью великий Патити спускается по лестницам своего дворца и погружается в воды священного озера, куда его подданные бросают как жертвоприношения золотые вазы и драгоценные предметы. Испанцы заключили из этих описаний, что страна должна располагать огромными богатствами, и прозвали монарха Эль Рей Дорадо (Позолоченный Король), или проще — Эль Дорадо. Потом название постепенно распространилось на придуманную страну, которой правил этот монарх, и вскоре заговорили о волшебной земле Эльдорадо, на поиски которой в течение двух веков жадно устремлялись прибывавшие со всех сторон авантюристы. Организовывались бесчисленные экспедиции, чтобы добраться до сказочного миража. Одной из наиболее примечательных, по крайней мере своими побочными географическими результатами, была экспедиция Гонсало Писарро, самого младшего из братьев Франсиско Писарро. Недовольный службой лейтенанта Себастьяна де Беналькасара, своего наместника в Кито, Франсиско Писарро отобрал у него должность и передал своему брату Гонсало Писарро. Пребывая на этом высоком посту, последний не переставал оставаться конкистадором и решил заняться завоеваниями с удвоенной энергией. Равнины к востоку от Анд возбуждали его алчность богатствами, о которых рассказал недавно побывавший там разведчик. Пинеда был первым, кто отправился на поиски великого Патити[214], одноглазого позолоченного короля, и он достиг истоков Напо. Сияющие города, охраняемые стражей, вооруженной золотым оружием, показались ему вдали; но утомленное войско, умирающее от голода, отказалось воевать. Итак, Гонсало Писарро решил завладеть сокровищами, которые скрывались под непроницаемым куполом девственных лесов. Он отправился из Кито в сопровождении трехсот сорока солдат и четырех тысяч туземных носильщиков; с большими трудностями отряд преодолел Анды, понеся огромные потери среди носильщиков, гибнувших от холода, потом долго блуждал по пустыням, где изредка встречалось какое-нибудь незнакомое и жестокое племя, и достиг наконец берегов Напо после немыслимых лишений и неслыханных страданий, но ничего не узнал о Позолоченном Короле. Отряд таял под губительным влиянием климата, к тому же сказывалась скудость продовольственных припасов. С трудом добрались до середины тех мест, где бесконечные и неприступные болота чередовались то с непроходимыми зарослями, то с пустынями, занятыми варварскими племенами, убегавшими при его приближении. Чтобы уменьшить трудности и тяготы похода и облегчить поиск продовольствия, Писарро решил на берегу Коку — притока Напо построить бригантину и спустить ее на воду. В полном одиночестве, без инструментов, материалов, специальных рабочих рук подобное предприятие казалось чрезвычайно трудным, если не невозможным. Но люди из его отряда при помощи оставшихся в живых индейцев сумели заложить барку достаточно больших размеров. Они использовали сырое дерево; из лошадиных подков делали гвозди; рубашки шли вместо пакли, деготь получали из древесной смолы, которой в избытке было в лесу. Набрав экипаж из пятидесяти человек, Гонсало Писарро поручил командование своему доверенному офицеру Орельяне[215] и дал ему поручение спуститься по реке, изучить местность с точки зрения ресурсов и дороги, достать провизию и дождаться в месте слияния рек прибытия отряда, который будет продолжать идти вдоль берега. Впрочем, по возможности соизмерять ход барки со скоростью движения пеших, ведь им предстояло преодолеть непроходимые заросли речных берегов. Орельяна доверился течению Напо, потом через несколько дней плавания почувствовал, что его с непреодолимой силой захватывают обильные воды реки Мараньон[216], течение которой еще не было изучено. Тогда Орельяна, забыв о долге, решил сам попытать счастья и бросить своего командира в этом безлюдном месте. Предварительно он посоветовался со своими спутниками, и все согласились, несмотря на то, что общие интересы связывали между собой этих авантюристов. Против был только один, очень преданный Писарро офицер. Орельяна приказал высадить его на берег и оставил одного среди непроходимых джунглей. Без запасов продуктов он должен был там вскоре погибнуть, озадачивая индейских кочевников странным зрелищем скелета, облаченного в железные доспехи. Как бы строго и заслуженно мы ни осуждали это предательство Орельяны, необходимо все же признать, что экспедиция на судне, построенном кое-как из кусков сырого дерева, едва оснащенном, без карт, без компаса, является, возможно, одной из самых замечательных в ту эпоху. К тому же только подумайте о размерах Амазонки, этого пресноводного моря, как сказал Луи Агассис[217], о враждебности племен, обитающих на ее притоках, о том, как трудно управлять судном в устье реки, наконец, о том, чего стоило добраться до ближайшего испанского владения, острова Кубанга к северу от Венесуэлы, и мы не сможем отрицать, что такой подвиг заслуживает восхищения. Несчастный Писарро, не найдя своего неверного лейтенанта на назначенном месте, понял только часть истины. Преодолевая душевную боль и негодование, он принял все меры, чтобы ободрить своих деморализованных спутников, и начал отход. Он длился два года и был совершен только ценой неслыханных тягот, жестоких болезней, многочисленных потерь. Искатели приключений питались мясом своих лошадей, дикими фруктами, рептилиями, кореньями… Четыре тысячи индейцев погибли все до единого. Европейцы сопротивлялись лучше. Из них умерли двести девятнадцать человек! Таким образом, если вычесть пятьдесят, сопровождающих Орельяну, осталось только восемьдесят, вернувшихся в Кито в самом плачевном состоянии. По прибытии Гонсало Писарро узнал о гибели брата и о смертном приговоре, вынесенном ему самому за мятеж, поднятый против власти Педро де ла Гаска, доверенного лица короля Карла V. В Испании, куда он вернулся после семимесячного путешествия по Амазонке, Орельяна не удовлетворился простым открытием огромных районов, через которые его провела счастливая судьба. Он хотел представить себя соотечественникам героем сказочных приключений. Среди прочих чудных рассказов он описал республику женщин-воительниц, которые своей враждебностью на долгое время перекрыли ему дорогу вперед. Но что больше всего привлекло внимание его соотечественников и возбудило их зависть, так это открытие, которое, по его утверждению, он сделал около территории, населенной племенами омайанасов между устьями Жавари и Япуры, в земле, называемой Машипара, где люди носили одежды и доспехи из золота, его там было столько, что им покрывали дома и использовали для самых заурядных целей. Этому рассказу, несмотря на ребяческое преувеличение, поверили безоговорочно. Испанские авантюристы, бросившиеся в погоню за Эльдорадо, заполонили высокие плато и равнины у подножия Анд, чтобы найти сказочные земли, отмеченные Орельяной по берегам Амазонки. Третья волна миграции еще раз передвинула местонахождение мифического Эльдорадо и приблизила его к современным Гвианам. Мартинес, начальник артиллерии экспедиции Диего де Ордаса, по неосторожности допустил поджог пороховых запасов и был приговорен к смерти. Вняв мольбам артиллеристов, Диего изменил ему наказание, ограничившись тем, что несчастного посадили в шлюпку и оставили без каких-либо припасов на волю Ориноко. Унесенную течением шлюпку выбросило на один из берегов реки. Дикари заметили ее и, поскольку Мартинес был один, приблизились скорее с удивлением, чем с недоверием. Туземцы не стали убивать его, но взяли в рабство и водили из города в город, показывая как чудо, пока не привели в Маноа, знаменитый город, расположенный в середине огромного озера, называемого Белое море или море Парим. Здесь жили люди развитой цивилизации. На улицах возвышались пышные монументы, сияющие дворцы, покрытые самородным золотом, как в Эльдорадо, описанном Орельяной. Берег покрывал золотой песок. Золото использовали для самых обыденных целей; наконец, дороги были вымощены рубинами, алмазами, сапфирами огромного размера и несравненного блеска. Мартинес, будучи человеком изворотливым, ловким и дальновидным, повел дело так, что стал желанным гостем у своих хозяев, и последние в награду за оказанные услуги приняли его в свой круг и единогласно признали членом племени. Спустя некоторое время его выбрали помощником вождя, и несколько вождей отдали ему в жены своих дочерей. Не испугавшись полигамии[218] и упрочив свое положение этими брачными союзами, он приобрел большое влияние среди новых сограждан. Возможно, он закончил бы свои дни среди этих детей природы, с существованием которых окончательно свыкся. Но однажды, выйдя на берег, Мартинес увидел стоящий на якоре корабль, и в нем проснулась ностальгия[219] по родине, и ему захотелось вернуться в цивилизованный мир. Он переговорил с капитаном, и тот без лишних разговоров взял его на борт. Корабль отплыл, и безутешные жены Мартинеса бросились за ним вплавь. Увидев, что корабль удаляется, и испугавшись, что не хватит сил на обратный путь, они повернули к берегу. И только одна продолжала плыть, пока ее совсем не оставили силы; бедняжка утонула на глазах неблагодарного супруга, засвидетельствовав таким образом свою преданность! Вернувшись на родину, Мартинес начал соблазнять соотечественников чудесами, которые он будто бы видел. Рассказы путешественника мешались с баснями, принесенными Орельяной о городе омайанасов, и историей священного озера, куда погружался Великий Патити. Страстная жажда богатства — движущая сила первых экспедиций — пробудилась в Испании с новой силой. Воображение перенесло миф об Эльдорадо в низовья Риу-Негру, к месту впадения в нее Риу-Бранку, то есть вне пределов Французской Гвианы. Так, Уолтер Рэйли[220], горячо стремившийся к продолжению поиска химерического королевства, считал, что реки Марони, Апруаг, Ояпок вытекают из таинственного озера и показывают наиболее верное направление к волшебному городу, стремление завоевать который стало традицией. Имя Рэйли, возникшее здесь неожиданно, свидетельствует о том, что не только грубые, жадные и наивные авантюристы верили этим басням, сегодня вызывающим у нас лишь улыбку, но и просвещенные, высшие умы принимали за правду, по меньшей мере частично, россказни мореплавателей, побывавших в золотом раю. Уолтер Рэйли, придворный, королевский фаворит, на пороге блистательной карьеры, в своей одновременно драматической, странной и беспокойной жизни отвел немалое место исследованиям новых земель, сначала, возможно, из любопытства, потом охваченный страстью, как неизбежно кончали все эти беспокойные первооткрыватели. Немногие люди вели жизнь более неспокойную, значительную и тесно связанную с событиями их эпохи, чем этот высокородный дворянин, который вносил в самые возвышенные ситуации темперамент и пыл авантюриста. Исключительная, блестящая, рыцарская натура, соединившая в себе все страсти и беспокойный, неугомонный дух XVI века; только характер его не соответствовал гению. Буйный темперамент Рэйли проявился еще в детстве. Он едва смог продержаться год в одном из колледжей Оксфорда[221], хотя за это время проявил себя незаурядным учеником как по «риторике, так и философии». Совсем юным Уолтер писал стихи, некоторые из них вошли в его стихотворный сборник. В семнадцать лет он отправился во Францию и прослужил до двадцати трех лет под началом адмирала Колиньи. Ужасы ночи святого Варфоломея[222] укрепили его в ненависти к папизму, инспирировавшему или одобрившему такие действия, и к испанцам, сделавшим из католицизма инструмент политической власти. Эта ненависть стала одной из главных движущих сил его жизни, и он всегда и повсюду старался удовлетворить ее, будь то в качестве фаворита королевы, дипломата, моряка, когда направлял свои самые дерзкие удары против испанских колоний и морского флота; ненависть же и стала причиной его смерти, поскольку Яков I приказал обезглавить его, чтобы дать политическое удовлетворение Испании. Вернувшись на родину в 1576 году, Рэйли занялся изучением юриспруденции. На следующий год ненависть к испанцам толкнула его наняться на службу к сэру Джону Харрису, посланному Елизаветой на помощь Вильгельму Оранскому, сражавшемуся против Филиппа II и кровавого герцога Альбы. Когда в 1579 году один из трех братьев, Хемфри Рэйли[223], предпринимал попытку колонизовать Ньюфаундленд, Уолтер принял участие в экспедиции и даже чуть было не попал в плен к испанцам. В 1580 году Уолтер Рэйли в качестве капитана принял участие в экспедиции под командованием лорда Грея[224], посланной Елизаветой против мятежной Ирландии. И он, полный ненависти к вдохновителям и исполнителям Варфоломеевской ночи, отличился в жестокой бойне, вырезав ирландских католиков, ставших печальными жертвами этой Варфоломеевской ночи наоборот. Честолюбие и стремление к неизведанному — доминанты его жизни — привлекли Рэйли в Лондон к королевскому двору, где, надеясь на ум, приятную внешность и невозмутимую уверенность в успехе, он собирался достичь приличного положения. Очень гибкий, вкрадчивый молодой человек сумел подружиться с герцогом Лестером, пользовавшимся тогда благосклонностью королевы, и вел с ним активную переписку. Это была веха в ожидании счастливого случая, который он, конечно, не упустит, а может быть, и сам спровоцирует. Вскоре таковой представился. Находясь в разладе с главнокомандующим лордом Греем по поводу средств усмирения Ирландии, он написал Лестеру в таких выражениях, что его письмо, переданное королеве, вызвало у нее желание самой покончить с распрей. Уолтер Рэйли и лорд Грей были вызваны в Лондон; королевский кабинет открылся перед ними, и молодой капитан защитил свое дело с такой ловкостью, обходительностью и учтивостью даже к своему противнику, так сумел польстить этой стареющей королеве, изобразив преклонение перед ней как женщиной, ценимое ею куда больше королевских почестей, что без труда завоевал ее расположение. После этой аудиенции честолюбец был допущен ко двору и не терял даром времени; вскоре он получил доступ в будуар и рабочий кабинет королевы. Очень обходительный, уверенный в себе, обладающий удивительной сообразительностью, умеющий импровизировать самую тонкую и красноречивую лесть, пользуясь своими обольстительными внешними данными, новый придворный очень быстро добился монаршей благосклонности. В качестве примера лести и тонкой чуткости известен анекдот, который вовсе не странен для его судьбы. Однажды, совершая после дождя прогулку, королева, обутая в белые атласные туфельки, не решаясь пройтись по влажному участку, сделала вид, что собирается повернуть обратно. Рэйли галантно отстегнул богатый бархатный плащ, который носил на плечах, и расстелил его, как ковер, под ноги своей повелительнице, та преодолела препятствие и поблагодарила своего кавалера улыбкой. Польщенная королева не забыла этой услуги, и банальный сам по себе инцидент сослужил ему неплохую службу. Это был момент, когда открытия в дальних странах будоражили все умы, когда говорили только о новых путях в этот неизведанный мир, где богатство шло в руки тому, кто хотел его взять, королевская власть тому, кто умел ее завоевать. Рэйли стал благодаря королевской милости одним из самых богатых дворян ее величества, получил грамоту, предоставляющую ему и его наследникам королевскую юрисдикцию во всех странах, которые он сможет завоевать. Тогда, чтобы компенсировать провал первой попытки своего брата на Ньюфаундленде, он помог ему оснастить флотилию, предназначенную для тех же прибрежных районов. Эта вторая экспедиция не стала более удачной: буря разбросала корабли, и Хемфри Рэйли погиб. Не обескураженный таким мрачным результатом, Уолтер оснастил маленький флот и послал его разведать берега, о существовании которых он не без основания подозревал, лежащие между Ньюфаундлендом и Флоридой, открытой, как известно, испанцами. Английские моряки высадились в устье реки Роанока в большом заливе Албемарл, на еще совсем неизвестных берегах. Капитаны Армадас и Барлоу, посланные Рэйли, приняли во владение эти территории, которые после их возвращения Рэйли преподнес Елизавете под названием Виргиния, с намеком на прозвище, которое она сама себе дала — Святая Дева западных островов. Эти территории, однако, не являются, как можно было бы подумать, современным штатом Виргиния. Они расположены на южных границах этого штата. Современная столица Северной Каролины, которой было дано имя Рэйли (Роли), должна находиться почти на месте расположения индейского поселения, названного капитанами Скикоак. В награду за эти открытия королева посвятила Рэйли в рыцари и даровала ему право на продажу вина (!) во всем королевстве; эта концессия принесла ему значительный доход. Три другие экспедиции на Роанок, снаряженные на средства Рэйли, первой из которых командовал сэр Роберт Гринвилль, второй — сэр Ричард Гринвилль и третьей — Джон Райт, имели целью колонизовать Чесапикский залив(1586–1588) и поглотили огромные средства. Пока Рэйли как член парламента оказывал королеве неоценимые услуги, она стремилась увеличить его состояние или по меньшей мере восполнить потраченное во имя высоких амбициозных целей. Так, он получил ценности, конфискованные у Бабингтона за участие в заговоре в пользу Марии Стюарт[225], к тому же специально для него была создана должность суперинтенданта оловянных рудников на Корнуолле[226], и его назначили сенешалем этого графства и капитаном гвардии. На вершине своего благополучия Рэйли, терзаемый непреодолимой потребностью действовать, оснастил другую флотилию и отправился сражаться с испанцами, армада которых была только что уничтожена. Несмотря на приказы Елизаветы, которая, разрешив ему поднять якорь, снова призвала его, Уолтер сбежал, как простой корсар. Он прошел вдоль прибрежных районов, посещаемых обычно галионами из Мексики и Перу, встретил их, был счастлив захватить один из самых богатых «Мадре де Диос» и привел его в Лондон в 1592 году. Елизавета простила неповиновение, соизволила принять королевскую долю добычи и подарила Рэйли золотую цепь. Но с такой властной и взбалмошной королевой никогда нельзя считать себя уверенным в завтрашнем дне. Внезапно благополучие королевского фаворита кончилось. Он был заточен в лондонский Тауэр[227] и пробыл там два месяца. Ловкая лесть и влияние в высоких кругах помогли ему выйти. Уолтер Рэйли был помилован, но не сразу явился ко двору, куда хотел вернуться только после блестящей акции, способной ослепить старую королеву. И тогда на память пришло богатство Эльдорадо. Если он сможет покорить эти территории, рассказы конкистадоров о которых рисовали картины, способные зажечь и менее тщеславных, то пошатнувшееся доверие к нему станет более прочным, чем раньше. Итак, в 1595 году Рэйли отправляется в надежде присоединить к английской короне этот ослепительный цветок. Первым пунктом был остров Тринидад из группы Малых Антильских островов, которым владели испанцы еще с начала открытия Нового Света. Он напал на эту островную жемчужину, овладел ею без особых трудов и оставил там небольшой английский гарнизон. Захватив в плен Антонио де Беррио, расспросил его о районе, где находилось Эльдорадо, узнал то, что обычно говорилось в то время, и решил направиться к Ориноко, дельта которой находилась прямо перед островом, который он только что окончательно подчинил английской короне, поскольку с тех пор Тринидад навсегда оставался английским. Благодаря переводчику, которого Рэйли привез из Англии, он смог переговорить с касиками, и все они подтвердили или почти подтвердили слова Антонио Беррио, не скрыв от него, однако, что завоевание этих таинственных мест будет сопровождаться страшными опасностями и лишениями. Далекий от колебаний авантюрист решительно пустился наудачу. Поскольку его корабли не могли преодолеть бар[228] Ориноко, он посадил около ста пятидесяти человек в беспалубный баркас, погрузил туда оружие и провизию с расчетом только на один месяц. Ему казалось, что тридцати дней будет достаточно для завоевания. Получив на Тринидаде подтверждение имевшихся у него сведений и даже не дав себе труда вникнуть в них, Рэйли окончательно поверил в существование, во-первых, двух озер, во-вторых, в королевство инков, которое, как предполагалось, было расположено около истоков реки Эссекибо. Преодолев реку Гуарапо[229] и равнины Чеймаса, Рэйли остановился в Марекито, где узнал от стодесятилетнего индейца, что чужестранцы, конечно, приходили в Гвиану. Что касается страны Позолоченного Короля, то старик знал о ней не больше, чем все остальные, и приблизительно указал места в глубине континента. Несколько охлажденный таким началом, Рэйли, подгоняемый нехваткой продовольствия и страхом потерять свои экипажи от лихорадки, продолжил путешествие и вскоре столкнулся с непреодолимыми трудностями. Экспедиция была вынуждена остановиться у водопадов реки Карони, которая, как предполагалось, была кратчайшим путем к Маукрегуари и Маное, городам, расположенным на берегах озер Кассипа и Рупунуини, или Дорадо. Здесь англичане встретили великолепные леса с деревьями необычной толщины и высоты, роскошные луга, реки с чистой прозрачной водой, ветвящиеся бесконечными притоками, несущими во все стороны живительную влагу и плодородие, увидели великолепных птиц, стада ланей, которых не пугало присутствие человека, и даже нашли несколько минералов, содержащих желтые пластинки, — возможно, золото, а может быть, и медь. И это было все. Теперь можно судить, каково было разочарование Рэйли, когда он понял, что Позолоченный Король, горы золота, города, застроенные дворцами, фонтаны с золотыми водоемами, ручные львы на золотых цепях, золотое солнце, поддерживаемое массивным серебряным алтарем, оказалось легендой, колоссальной мистификацией, на которую испанцы были большие мастера! Сэр Уолтер Рэйли, как говорил один из его историков, придворный в полном смысле слова, не захотел подвергнуться унижению и признать по возвращении провал своей экспедиции и даже позволить считать себя жертвой мистификации. Итак, он решил пожертвовать истиной во имя своего честолюбия, и поскольку с давних пор знал о проекте колонизации Гвианы, то решил, что будет легче реализовать его, если не разрушать мираж Эльдорадо. Вполне резонно подвергнуть сомнению большую часть сообщений Рэйли относительно результатов его путешествия. Решив уберечь экспедицию от насмешек, он, теряя голову, представил в своих описаниях жалкие хибарки Манои большими, роскошными, великолепными дворцами. Этот авантюрист сравнивал внутренние озера, о которых, впрочем, только слышал, с Каспийским морем, и не называл Маною иначе как царским и позолоченным городом. Владыка этой великолепной земли превращался под его пером в императора Гвианы из племени инка, который воздвиг, по словам путешественника, дворцы, превосходящие роскошью великолепные резиденции своих перуанских предков. Наконец, Рэйли по возвращении не боялся повысить свой кредит лестью и пробуждением алчности, рассказывая королеве, как он показывал ее портрет этим варварам и те с криками восторга бросались на колени перед самой великой северной касикой, святой, которой повиновалось больше касиков и подданных, чем было деревьев в их лесах. Судите сами, с каким восторгом гордая государыня слушала этот пошлый вздор. В довершение Рэйли сочинил, что будто бы во время завоевания Перу «в главных храмах» нашли предсказание, что инка, потеряв однажды свою империю, получит ее обратно из рук англичан. Он убедил ее величество, что туземцы согласятся ежегодно платить Англии сумму в 300 000 фунтов стерлингов, если она соизволит разместить в городах империи гарнизоны численностью от трех до четырех тысяч человек для защиты местного населения. «Мне кажется, — сказал он между прочим, — что эта империя в Гвиане просто предназначена для английской короны». Возможно, Рэйли преднамеренно связывал военную колонизацию этих восхитительно плодородных земель с разработкой золотых рудников, которые он, конечно, заметил или о существовании которых, вероятно, был извещен. Убежденный в значении этих земель, неугомонный искатель фортуны через некоторое время после своего возвращения в Англию отправляет в Гвиану две большие экспедиции, предназначенные для того, чтобы еще раз пробить ему дорогу к золоту. Первая была поручена Лоуренсу Кемису (1596) и вторая в том же году Томасу Мэшему. Эти исследователи произвели топографическую съемку американского побережья от Амазонки до Ориноко, отметили на своем маршруте устья пятидесяти двух рек и познакомились с различными народами, живущими на реке. А тем временем Рэйли боролся с испанцами, участвовал в захвате Кадиса в качестве контр-адмирала (1596)[230] и в морской экспедиции на Азорские острова, где он захватил остров Фаял. Его благополучие продержалось еще в течение шести лет, то есть до смерти Елизаветы, последовавшей в 1603 году. По восшествии на престол короля Якова, очень непопулярного среди англичан, Рэйли тотчас примкнул к задиристой оппозиции, образованной английской аристократией; некоторые историки даже считают, что он лелеял надежду заменить правление сына Марии Стюарт аристократической республикой[231]. Поскольку этот честолюбец умел наживать себе врагов, то от него постарались поскорее отделаться. За участие в заговоре он снова оказался в лондонском Тауэре. К тому же, следуя порядку вещей, достаточно рациональному с точки зрения придворной морали, фаворит нового монарха преследовал в лице Рэйли фаворита покойной государыни и страстно желал завладеть его имуществом, даже путем конфискации. Потом Рэйли обвинили в государственной измене как заговорщика против королевской персоны и привлекли к суду, члены которого состояли исключительно из его врагов. Король, фаворит, завистники — все имели слишком хороший шанс. Судебная комиссия, в отсутствие всякого, даже морального доказательства, осмелилась приговорить его к смертной казни после яростной обвинительной речи Эдуарда Коука, королевского прокурора, который, покрыв его оскорблениями, навлек позор на самого себя и на этот странный суд. Как это часто происходит, ненавидимый до вынесения приговора, Рэйли, став жертвой несправедливости, вызвал к себе горячее сочувствие, когда стали известны гнусные подробности этого несправедливого процесса. Был даже такой поворот в его судьбе, когда король, не осмеливаясь отдать приказ об исполнении приговора, на двенадцать лет отправил несчастного в лондонский Тауэр. Это было не помилованием, а только бесконечной отсрочкой, имевшей, как будет видно дальше, странные и скорбные последствия. Несмотря на самое мощное вмешательство, двери старинной крепости не открывались для Рэйли, и только после переговоров он смог за 1500 фунтов стерлингов купить благосклонность нового фаворита Бекингема[232], вернувшего ему свободу. Едва покинув темницу, неутомимый искатель приключений решает посвятить все свои силы и остатки средств большому проекту колонизации вожделенного Эльдорадо. Он оснащает эскадру из двенадцати кораблей и поднимает паруса 18 марта 1617 года. Эта экспедиция стала для него роковой. Обеспокоенная с начала приготовлений Испания сделала при помощи своего посла в Лондоне Гондомара все, чтобы оказать давление на Якова I и заставить его отменить выданное им разрешение. Тот ограничился тем, что вписал в лицензию, выданную Рэйли, оговорку с запрещением нападать на какую-нибудь дружественную европейскую нацию. В то время Англия находилась в состоянии мира с Испанией, но только на Европейском континенте. Пошли слухи, что король затребовал себе план Рэйли и передал его Гондомару, предупредившему своих доверителей, которые смогли в надлежащий момент противопоставить значительные силы попыткам отважного моряка. Как бы то ни было, Рэйли высадился на берега Гвианы в середине декабря следующего года и, веря в свое полное право, поскольку он значительно раньше испанцев принял во владение эти территории, атаковал Санто-Томас, индейский поселок, захваченный и укрепленный испанцами, выбил их оттуда в кровавой битве, в которой потерял старшего сына Уолтера, и продолжил свое исследование. Успех не сопутствовал этой экспедиции. Рэйли заболел, войска взбунтовались, один из его помощников, Кемис, покончил жизнь самоубийством. Пришлось снова погрузиться на корабли. Едва вернувшийся на Плимутский рейд, Рэйли был арестован по приказу короля и предстал перед личным судом его величества как напавший на дружественную нацию. Гондомар открыто потребовал его голову. Нелегко было найти нарушение прав человека в этой экспедиции, предпринятой с целью изгнания испанцев, неправедно обосновавшихся на территориях, открытых английскими путешественниками, и настолько было очевидно, что испанцы первыми нарушили права, что никто даже не подумал вынести ему новый приговор. И вытащили на свет старый, вынесенный четырнадцатью годами раньше, аннулированный по всем правилам предоставленной отсрочкой, а потом освобождением. Напрасно юристы приводили в качестве возражения, что Рэйли, назначенный королем главнокомандующим, то есть на должность, которая ему давала законные права в управлении будущей колонией, не мог выполнять свои функции, будучи приговоренным к смерти, поскольку такой приговор лишал его всех прав. Яков I, желая удовлетворить требования испанцев, оставался непреклонным. Рэйли понимал, что ему пришел конец, и ограничился тем, что меланхолично сказал: «Им кажется, что кровь одного человека сможет наладить торговлю». Его последние моменты перед казнью свидетельствовали о твердости духа. «Когда я начал готовить узника к смерти, — говорит Трансон, бывший тогда настоятелем Вестминстерского аббатства, а позже епископом в Солсбери, — меня поразило, насколько мало его волновало это событие. Когда я сказал ему, то слуги Бога содрогнулись, он признался, что умирает с отвращением, но — слава Богу! — не боится смерти: “Лучше умереть так, чем от тропической лихорадки”, — добавил этот мужественный человек». Двадцать девятого октября 1618 года в старом Вестминстерском дворце перед залом парламента Уолтер Рэйли был подведен судьями графства Мидлсекс к эшафоту, где его голова должна была упасть с плеч. Он проявил спокойствие и достоинство, поразившие всех присутствующих. На нем был камзол из коричневого атласа, жилет из черного шелка, расшитый серебром. Его прежняя элегантность, говорит один из биографов путешественника, проявлялась даже в строгости траурного костюма. Когда шериф, по обычаю, потребовал тишины, Рэйли обратился к публике: «Я хочу, чтобы меня услышали, хотя говорю очень тихо; у меня возобновляющаяся на третьи сутки лихорадка, и как раз сегодня день и час наступления моей болезни; если я выкажу некоторую слабость, то пусть она будет отнесена на счет моей болезни». Заметив лорда Арендела и лорда Дункастера у окна, он сказал, глядя на них: «Я благодарю Бога, что он позволил мне умереть не во мраке, но в присутствии почтенных людей. Я повышу голос, господа, чтобы быть услышанным вашими милостями». «Мы спустимся к эшафоту», — сказал Арендел. Действительно, Арендел, Дункастер и некоторые другие сеньоры окружили Рэйли. Он пожал им руки и продолжал говорить, опровергая многие из возведенных на него обвинений, а Арендел подтвердил справедливость сказанного. Потом приговоренный к смерти попросил прощения за свои ошибки, заявив присутствующим, что, без сомнения, его грехи были большими и многочисленными, но смерть будет только политическим удовлетворением, данным испанцам. «Я гордо прошел по жизни, — сказал он, — будучи последовательно, а часто одновременно, придворным, солдатом, капитаном, адмиралом, генералом и моряком, во всех сословиях, где изобилуют пороки…» И закончил словами: «Я прощаюсь с вами, примиренный с Богом». Потом, схватив топор, осмотрел его лезвие и произнес: «Лекарство острое, но оно лечит все болезни». Он дружески приветствовал палача, простил его и попросил нанести удар по сигналу быстро и точно. Казалось, что сам палач был тронут поведением своего клиента. Когда голова упала, он показал ее людям, молчащим против обыкновения, и не сказал: «Боже, храни короля!» Так умер Уолтер Рэйли, человек, полный возвышенных качеств, мужественный духом, обаятельный и образованный, который все смел, всего хотел, значивший, быть может, больше, а может, меньше, чем его репутация, и оставивший глубокий след в истории своего века, все признаки которого он собрал в себе и который великолепно олицетворял. Его жизнь была удивительнее всех приключенческих романов, и его дальние экспедиции, смелые предприятия, блестящие связи, которые он из них вынес, отводят ему выдающееся место среди самых достойных людей его эпохи.
ГЛАВА 10
Джон и Себастьян Кабот. — Гашпар Кортириал. — Жак Картье. Жан-Франсуа де Роберваль. — Шамплен. МонкальмВ 1493 году, через три года после первого путешествия Христофора Колумба, мысль о поиске прохода, ведущего в Индию и Катай (старое название Китая), часто посещала всех мореходов и возбуждала среди самых выдающихся благородное соперничество. Так, например, один венецианец, обосновавшийся в Англии, в Бристоле, и прозывавшийся Джованни Кабот или, у англичан, Джон Кабот[233], решил искать на севере проход, который Колумб пытался найти в тропиках. Космографическая теория говорила: чем выше поднимаешься к северу, тем более коротким будет расстояние по морю между Западной Европой и Восточной Азией. Кабот настойчиво просил и легко получил у Генриха VII[234] для себя и своих сыновей разрешение отправиться на разведку от имени английского короля «во все земли, моря и заливы к западу, востоку и северу». Четыре корабля, оснащенные на средства бристольских купцов, вышли в 1497 году на запад. Держа курс на вест-норд-вест между 50-й и 60-й параллелями, экспедиция высадилась, как считают, 24 июня 1497 года на побережье Лабрадора у 56-го или 57° северной широты. Впрочем, об этом путешествии и о следующем сохранились очень неполные сведения из-за потери вахтенных журналов и карт, где мореплаватель отметил свои открытия. Летом 1498 года Себастьян Кабот[235], сын Джованни, который первое свое путешествие совершал вместе с отцом, предпринял второе, на свой собственный счет, добился значительных результатов и, главное, более точных. Зайдя далеко на север, он, очевидно, поднялся до 67°37′, то есть до северного конца Девисова пролива. Считается, хотя и без достаточных оснований, что Себастьян проник в Гудзонов залив. Взяв курс на юг, он открыл остров Ньюфаундленд, который назвал Terra de Baccalaos, то есть Земля Трески, и спустился к юго-западу вдоль берега до 35° северной широты, на 5° севернее Флориды. Хотя ни он, ни его отец не увидели входа в залив Святого Лаврентия, открытие восточных берегов Северной Америки тем не менее принадлежит им. Через два года, то есть в 1500 году, португальский моряк Гашпар Кортириал[236] также решил отыскать дорогу в Восточную Азию, поднявшись к северу от земель, открытых Колумбом. Он отправился с двумя каравеллами, прошел до 60-й параллели, до оконечности побережья Лабрадора, уже виденного обоими Каботами, обследовал широкий вход, который не мог быть ничем иным, как Гудзоновым проливом, и назвал его пролив Аньян. Остановленный льдами исследователь вернулся в Лиссабон, совершив только часть намеченного. На следующий год он решил завершить свое исследование и с двумя кораблями покинул Португалию. Один вернулся в порт в конце года, а о другом, на котором находился сам Кортириал, больше никогда не было никаких известий. В мае 1502 года его брат Мигел отправился на поиски, но и он пропал. Потребовалось категорическое запрещение короля Мануэла, чтобы помешать отправиться третьему брату по имени Васкеанес… Вести об открытиях Кабота и Кортириала широко распространились. Тотчас баскские, нормандские и бретонские моряки пересекли Атлантику и с 1504 года начали вести рыболовство на отмелях Ньюфаундленда и в заливе Святого Лаврентия. В 1506 году капитан Жан Дени из Онфлера составил карту прибрежных районов, посещаемых французскими рыбаками, и в 1507 дьепское судно «La Pensee» («Мысль»), принадлежащее Жану Анго, доставило на новые земли первую партию нормандских эмигрантов. Затем его сын, которого также звали Жан, знаменитый правитель Дьепа, самовольно захватил эту морскую дорогу и иногда встречал португальцев. Известно, но стоит тем не менее напомнить, что в ответ на ущерб, нанесенный одному из его экипажей португальцами, Жан Анго объявил войну королю Португалии, вооружил флот, посадил на корабли восемьсот человек и блокировал порт Лиссабон. Монарх, не из самых сильных, вынужден был послать к дьепскому судовладельцу послов для переговоров на равных о возмещении ущерба. Так Франция прокладывала путь к новым землям в северо-западном направлении с первых лет XVI века. Этот век отмечен также попытками создать большие испанские колонии в Мексике и Перу. Франциск I[237], намекая на исключительные притязания португальцев и испанцев на Новый Свет, говорил шутя: «Я хотел бы видеть завещания нашего праотца Адама, который оставил им такое прекрасное наследство». В 1524 году король Франции предпринял, однако, еще одну попытку: он послал Джованни Верраццано[238], флорентийского капитана, служившего во Франции, с поручением произвести разведку в северо-западном направлении. Верраццано выдержал все превратности своей суровой и рискованной профессии. Ураганы, шквальные ветры, болезни, течения — все, кажется, объединяется, чтобы помешать успеху. В момент, когда капитан, согласно приказу Франциска I, только что принял во владение земли, прилегающие к большой реке, устье которой образовало один из самых красивых рейдов и портов мира, ураган выбросил его корабли в открытое море. Этой рекой был Гудзон; голландцы построили здесь Форт-Амстердам, который затем уступили англичанам. Именно на месте Форт-Амстердама высится сейчас Нью-Йорк[239]. Верраццано, отброшенный на сто лье от берегов, возобновил попытки. Он смело продолжил обследование, разведал берега, лежащие севернее Флориды, видел реку Святого Лаврентия, впадающую в обширный залив, открытый Каботом и Кортириалом, и принял во владения от имени короля Франциска I прибрежные земли. К несчастью, другие, более тяжкие заботы отвратили французский двор от этой серии исследований, а катастрофа при Павии[240] полностью их прервала на несколько лет. Неизвестно, чем закончил Верраццано[241]. Очевидно смертью, обычной для моряка, как его предшественник Кортириал и как, увы, множество других. Понадобилось десять лет, пока снова вспомнили об этих открытиях, и тогда возникла мысль попытаться извлечь из них что-нибудь. Инициатива принадлежала Филиппу де Шабо-Шарни[242], великому французскому адмиралу и фавориту Франциска I. Хотя он и не был моряком по профессии — в ту эпоху это не имело значения, — Филипп де Шабо, известный также под именем адмирала де Бриона, по названию имения, которым владела его семья, всерьез относился к своему титулу и успешно занялся делами навигации. У него возникла идея возродить план Верраццано. Король не возражал и предложил моряку из Сен-Мало Жаку Картье вернуться к делу флорентийского мореплавателя.
ЖАК КАРТЬЕ
В эту эпоху Жаку Картье, имя которого приобрело большую известность, было сорок лет[243]. Настоящий бретонец, коренастый, крепкий, энергичный, скромный, обладающий мощной волей, характерной для людей его породы, при этом любитель приключений, как все моряки того времени, горел желанием отличиться открытием, прославившим бы его и принесшим пользу его стране. Картье отправился из Сен-Мало 20 апреля 1534 года с двумя судами, водоизмещением по шестьдесят тонн каждое, и со ста двадцатью членами экипажа. Через двадцать дней плавания он достиг западного побережья острова Ньюфаундленд, потом повернул на север и вошел в пролив Белл-Айл[244], принял во владение южное побережье Лабрадора, установив крест около бухты Рошез (Скалистая). Затем Картье направился к югу и вдоль побережья острова Ньюфаундленд до пролива, расположенного между мысом Рей и Кейп-Бретоном[245], где на него обрушились встречные ветры, отбросившие корабли к островам Мадлен[246]. Посетив эти острова, он взял направление на запад, высадился в самом устье реки Мирамиши и обследовал залив Шалёр[247], названный так из-за чрезвычайной жары, от которой страдал экипаж. Исследователь остался здесь на несколько дней и познакомился с коренными жителями, которых нашел очень дружелюбными по отношению к белым и гостеприимными. Они дали ему за несколько безделушек меха изумительной красоты. Затем он отправился в бухту Гаспе[248], которую принял за устье большой реки, и продолжил добрые отношения с дикарями, настолько сердечными, что один из вождей доверил ему отвезти во Францию двоих его сыновей. Обольщение произошло очень просто и быстро. Картье пригласил на борт вождя и двух молодых людей, и, пока отцу показывали кое-какие железные предметы, бретонец приказал надеть на каждого из сыновей по рубашке, цветному платку и красной шапочке, а также повесил на шею каждому по латунной цепочке, которые им очень понравились. Потом всем троим вручили рукавицы и несколько ножей, что их очень обрадовало. Путешественники водрузили на берегу бухты Гаспе новый деревянный крест со щитом, украшенным гербом Франции, поднялись по рукавам реки Святого Лаврентия, не сомневаясь, что открыли одну из самых больших рек района. Раздосадованные сильнейшими ветрами, дувшими в направлении острова Антикости[249], они решили вскоре вернуться во Францию. 5 сентября 1534 года экспедиция пришла в Сен-Мало после шестимесячного отсутствия. Это первое путешествие принесло слишком хорошие результаты, чтобы не пробудить у Франциска I желание продолжить исследования. Он предоставил Жаку Картье три корабля королевского морского флота: «Большой горностай» («Ла Гранд эрмин») водоизмещением сто двадцать тонн, «Малый горностай» («Ла Птит эрмин») водоизмещением сорок тонн и «Кобчик» («Эмерийон») водоизмещением пятьдесят тонн. Король пожаловал ему также вместе с должностью командира эскадры из трех кораблей должности королевского капитана и лоцмана. Картье снялся с якоря в Троицын день 19 мая 1535 года. На борту его маленькой эскадры находились несколько дворян из королевского дома, пожелавших разделить с ним приключения и опасности. Переход оказался очень тяжелым из-за порывов ветра, набросившихся на корабли и раскидавших их. Они воссоединились только в конце путешествия при встрече, назначенной Картье своим спутникам в бухте Блан-Саблон[250] в проливе Белл-Айл. Этот переход, значительно более длинный, чем первый, длился до 25 июля. 31 июля он подошел к проливу, отделявшему континент от острова Антикости[251], и продолжил свою исследовательскую работу, медленно продвигаясь между островов, бухт, мысов, терпеливо и как можно более точно отмечая их положение. Картье объявил владением Франции гавань Сен-Никола, установив там крест, и пробыл там до 7 августа. 10 августа он открыл широкий лиман, которому дал название Святого Лаврентия в честь мученика, память которого отмечается в этот день, тщательно осмотрел бухту и заметил к юго-западу высокий мыс. Два индейца, не покидавшие его с первого путешествия, сообщили, что мыс принадлежит острову, расположенному между берегом залива Святого Лаврентия и страной Огедо. Исследователь осмотрел остров и дал ему имя Ассомпсьон (Успение) — календарь играл важную роль в наименованиях[252], — потом поднялся по реке Святого Лаврентия, называемой туземцами Ошлага. 1 сентября экспедиция достигла реки Сагеней. Четырнадцатого числа того же месяца Картье обследовал устье реки, расположенной в районе нынешнего Квебека, и дал ей название Сент-Круа[253]. Поднявшись по реке на «Эмерийоне», корабле самой малой тоннажности, экспедиция достигла селения Стадакона, называемого жителями Канада, то есть Город[254]. Картье описал это место с краткостью моряка, прославляя не имеющих себе равных красоту и плодородность. Благодаря двум своим индейцам, которые достаточно хорошо выучили французский, чтобы служить ему переводчиками, путешественник завязал отношения с жителями страны, оказавшими ему сердечный прием. Вождь по имени Доннакона прибыл на борт «Большого горностая», угостился вином и бисквитами и долго разговаривал с капитаном, пока женщины племени предавались в воде сумасшедшей сарабанде и пели во все горло, чтобы порадовать моряков. Жак Картье заключил с этими индейцами союз, извещение о чем было принято новыми союзниками с гримасами и страшным ревом одобрения. Уверенный, насколько это возможно, в благодушном расположении, высказанном так шумно, он провел до Стадаконы «Гранд эрмин» и «Птит эрмин», устроил их там как можно удобнее и попытался подняться по реке Ошлага (Святого Лаврентия) еще дальше на одном «Эмерийоне». Его новые друзья индейцы без особой радости приняли такое решение и постарались отговорить от него всевозможными зловещими пророчествами, особенно угрозой разгневать бога Кудуани, который, конечно, погубит французов, засыпав их кусками льда и снега. Жак, обозвав Кудуани дурнем, отплыл. Он продолжал путь к верховью реки и обнаружил прекрасные плодородные страны. К тому же, что очень важно, жители прибрежных районов оказали путешественнику наилучший прием и с радостью вступили с ним в переговоры. Через девять дней самого счастливого и приятного плавания Картье вошел 28 сентября в большое озеро, образованное разлившейся рекой и имеющее двенадцать лье в длину и шесть в ширину[255]. Он назвал его Ангулемским (сейчас озеро Сен-Пьер). Вскоре плавание осложнилось из-за многочисленных притоков, создававших в реке все более труднопреодолимые течения. Картье лишь 2 октября достиг индейского селения Ошлага, расположенного в сорока пяти лье от Ангулемского озера. По рассказу капитана Малуина, экспедиция прибыла в этот поселок, расположенный примерно в шести милях от берега, по хорошей, с оживленным движением дороге, какую не всегда встретишь во Франции. И это правда, поскольку в то время дороги Франции представляли собой весьма опасное место. Сам поселок находился в середине равнины, поросшей огромными дубами, около плодородного и возделанного холма, названного Жаком Картье Мон-Руаяль. В дальнейшем здесь будут построены дома, а на месте маленького селения Ошлага вырастет город Мон-Руаяль, который потом станет Монреалем, центром одной из самых процветающих провинций Канады[256]. Отчет о путешествии Картье, сдержанный, лаконичный, изобилующий фактами, выглядит порою очень наивным. Путешественник иногда доходит даже до того, что серьезно верит в некоторые экстравагантные утверждения местных жителей, против которых не восстают ни его разум, ни здравый смысл. Вот что он рассказывает по поводу одного заинтриговавшего его предмета туалета: «Украшением, которое индейцы считают самым ценным, является вещество, называемое иссаргай; оно белое как снег, и его добывают следующим образом: когда одного из индейцев приговаривают к смерти за какое-то преступление или захватывают военнопленного, то, убив жертву, проделывают глубокие отверстия в боках, плечах и бедрах трупа, который затем опускают на дно реки в определенных местах. Тело остается там в течение десяти или двенадцати дней, потом его вынимают, и к этому времени в ранах уже образуется иссаргай. Из этого вещества индейцы делают нечто вроде четок, которые носят вокруг шеи, как мы наши золотые и серебряные цепочки, и считают эти украшения самыми ценными из своих богатств». В действительности иссаргай не что иное, как жировой воск, производство которого налажено в Англии полвека тому назад. Картье ошибочно считает, что это вещество, покоящееся в глубине воды, выделяется из нее, чтобы прикрепиться к трупам. На самом деле оно образуется за счет подводного разложения ткани животного происхождения, приводящего к ее медленному омылению. Капитан дал также очень наивное и очень интересное описание табака и способа его употребления коренными жителями Канады. «Индейцы, — пишет он, — каждое лето высушивают на солнце некую траву, которой пользуются только мужчины. Некоторое ее количество они носят на шее в маленьких мешочках, где лежат также кусок камня и деревянный предмет, очень напоминающий свисток, — курительная трубка. Траву растирают в порошок, насыпают в один конец трубки, сверху кладут горящий уголек и вдыхают дым, заполняя им тело до такой степени, чтобы тот вышел изо рта и ноздрей, как из печной трубы. Они утверждают, что это полезно для здоровья; мы попытались сделать как они, но дым, попадая в рот, обжигал, как перец…» С ноября до марта Жак Картье зимовал в устье реки Сент-Круа[257] перед индейской деревней Стадакона. Его люди жестоко страдали от морозов, о суровости которых никто не подозревал. Корабли застыли во льдах многосаженной толщины, и снега навалило на палубы высотой более четырех футов; все жидкости замерзли. В довершение неизвестная им болезнь цинга поразила всех, пощадив только троих. Умерли двадцать пять человек, их закопали прямо в снег, поскольку у живых не было сил долбить промерзшую землю, ставшую твердой и плотной, как гранит. На помощь пришли индейцы, показав им дерево, называемое «амеда», из его сухих листьев путешественники приготовили питье, которое достаточно быстро вылечило их. Постепенно лед растаял, корабли освободились, и Жак Картье стал подумывать о возвращении. Но когда он начал заниматься оснасткой судов, оказалось, что теперь ему не хватает людей, чтобы обслуживать три корабля. Капитан решает оставить «Малого горностая» и вернуться во Францию с «Большим горностаем» и «Кобчиком». Между прочим, через триста лет, в 1848 году, в заросшем тиной русле «Птит эрмин», или, скорее, ее останки, нашли, перевезли во Францию и поместили в музей Сен-Мало. «Большой горностай» и «Кобчик» отправились в плавание 6 мая 1536 года, после того как Жак Картье торжественно от имени Франциска I принял эту землю во владение и водрузил крест с гербом Франции и надписью «Franciscus Primus, Dei gratia Francorum rex, regnat»[258]. 16 июля флотилия прибыла в Сен-Мало. Король оказал Жаку Картье прекрасный прием. Но страдания, перенесенные членами экспедиции, и огромное количество смертей, казалось, совсем не воодушевляли на новые подвиги. Вообще эти земли были значительно менее привлекательны по сравнению со странами с благоприятным климатом, открытыми португальцами и испанцами; но главным пороком в глазах колонизаторов той эпохи было то, что там не нашли золота. Итак, король не выказал особого интереса к своему новому владению — первой территории за пределами Франции — и, казалось, решил предоставить последующие попытки частной инициативе. Впрочем, она не заставила себя ждать. Пикардийский[259] дворянин Жан Франсуа де Ла Рок, сеньор Роберваль[260], воодушевился открытиями Картье и собрался сделать их более полными, а потом использовать. Настоятельными просьбами он добился от короля привилегии на колонизацию Канады, которую и получил 15 января 1540 года. Пять кораблей общим водоизмещением четыреста тонн были оснащены и поступили под командование Роберваля и Жака Картье. Роберваль получил титул вице-короля и королевского наместника новых территорий с теми же правами и полномочиями, что и сам король. Картье, казалось, возвращался в Канаду без всякого энтузиазма в прежнем звании главнокомандующего и главного лоцмана королевского флота. Эскадра снялась с якоря 23 мая 1541 года и 23 августа без происшествий вошла в устье реки Сент-Круа. Обследовав соседний берег, Картье открыл великолепную якорную стоянку в устье реки Ред-Ривер[261] и привел туда три из пяти своих кораблей. Два других разгрузились и вернулись во Францию под командованием Роберваля, чтобы доставить новую группу эмигрантов, состоящую из заключенных, «неповинных, однако, в ереси и оскорблении величия божественного или человеческого». Картье, оставшись один, посетил вторично Ошлагу, чтобы подробно изучить навигацию по этой реке, потом вернулся на свою стоянку, где достаточно скучно провел зиму. К концу мая 1542 года, не получая никаких вестей от Роберваля и видя, что припасы кончаются, а кроме того, опасаясь все более угрожающего поведения местных жителей, Жак Картье решается вернуться во Францию. Против всякого ожидания он, сделав 8 июня остановку на Ньюфаундленде, встретил Роберваля, вернувшегося из Франции 16 апреля с тремя кораблями и двумя сотнями поселенцев. Роберваль разразился упреками, обвинив командора в том, что тот оставил свой пост, и приказал ему королевской властью, которую он представлял, вернуться в Канаду. Картье угрюмо повиновался, потом, немного озабоченный зависимостью от властного человека, с которым к тому же он никогда не мог поладить, сбежал ночью со своими кораблями и вернулся в Сен-Мало. Он удалился в небольшой городок Лимолло около Сен-Мало и жил уединенно в своем маленьком помещичьем доме до смерти, последовавшей в 1554 году, не предпринимая больше никаких новых попыток странствовать по свету. Брошенный своим командором, разъяренный неудачей, Роберваль продолжил путь и высадился на северной оконечности Ньюфаундленда на пустынном острове с мрачным названием Остров Демонов[262]. Неограниченный властелин, тиранивший не только подчиненных, но и членов своей семьи, совершил возмутительный акт насилия над двумя несчастными женщинами, которых он подло бросил. Страстно влюбленный в свою племянницу Маргерит де Роберваль, он принудил девушку сопровождать его в Америку, чтобы не расставаться с ней. Но Маргерит, стремясь избавиться от его назойливых преследований, перед своим отплытием из Франции вступила в тайный брак с одним дворянином. Тот, поскольку Роберваль не был с ним знаком, в качестве поселенца проник на борт корабля, увозившего Маргерит и ее гувернантку. Во время плавания Роберваль заметил, что его обвели вокруг пальца, и рассвирепел. Подлый и жестокий, он своей властью приказал высадить несчастную женщину и ее старую гувернантку на необитаемом острове, и оставил их там без каких-либо припасов. Они питались яйцами, моллюсками, кореньями. Кое-как укрываясь от непогоды, мучились безнадежностью — их состояние можно легко себе представить. Через несколько месяцев мучимый тревогой муж Маргерит присоединился к ним неизвестно при каких обстоятельствах, очевидно, на рыбацкой лодке или на построенном им самим суденышке, неспособном принять несчастных узниц, поскольку все трое продолжали жить на проклятом острове. Мужчина привез с собой аркебузы, кое-какие припасы, предметы первой необходимости. После этого единственного лучика счастья, увы, слишком эфемерного, страшная судьба обрушилась на Маргерит с жестокостью, испытывать которую, кажется, Богом назначено некоторым его созданиям, отмеченным злой судьбой. Через некоторое время после прибытия супруга у Маргерит родился ребенок. Малыш умер от истощения, несмотря на слезы и заботы матери. За ним последовал супруг. Оставшись одна с гувернанткой, несчастная женщина раковинами выкопала могилу и похоронила своими руками верного спутника. Но непреклонная судьба еще не была удовлетворена. Настала очередь гувернантки, и Маргерит отныне осталась одна на проклятом острове! Таким образом, в одиночестве она провела два года и пять месяцев!.. В сто раз более несчастная, чем Селькирк на острове Хуан-Фернандес, поскольку Селькирк был мужчиной, крепким и искусным, как всякий моряк. Он не видел, как на его глазах умирали существа, которых он любил больше всего на свете, он не растрачивал свою жизнь между тремя могилами, единственным, что населяло этот лоскуток земли… Вопреки всем предположениям, Маргерит пережила все несчастья. Однажды огонь, который она зажигала на берегу как знак беды, был замечен рыбаками, ловившими треску, они подобрали ее и доставили в Европу. Что касается мерзкого автора этого преступления, то он спокойно продолжал свой путь к реке Святого Лаврентия, поднялся по ней до Красного мыса и тщетно пытался колонизовать земли возле него. Деспотизм, на службу которому он охотно поставил кнут и позорный столб, оттолкнул от него всех жителей зарождающейся колонии, вплоть до индейцев, так дружески расположенных вначале. Он вернулся во Францию и умер, как говорят, в 1542 году во время своего последнего путешествия в Канаду.
ШАМПЛЕН
Королевская власть почти полностью утратила интерес к Ньюфаундленду и Канаде во второй половине XVI века. И только в 1598 году месье де Ла Рош, бретонский дворянин, получил от Генриха IV поручение продолжить открытия Жака Картье и некоего Альфонса, лоцмана Роберваля, первым прошедшего в реку Сагеней. Но эта миссия, принятая на себя месье де Ла Рошем, не была исключительной, поскольку почти в то же время командор де Шастес также получил задание исследовать те же районы, что, впрочем, не могло вызвать недоразумений, учитывая размеры территории. Эти земли, омываемые с севера рекой Святого Лаврентия, не были богаты ни золотом, ни драгоценными камнями, но оттуда поступали прекрасные меха, и это стало достаточно серьезной причиной для освоения Канады. Кроме того, Франция, представленная там небольшим количеством своих сограждан, собранных невесть откуда, привлекла к себе симпатии аборигенов. Туземцы, обычно враждебно относившиеся к европейцам, завязали близкие отношения с нашими соотечественниками, веселость, задор, постоянно хорошее настроение которых покорили их. В общем мы крепко стояли на ногах в этой стране, и поэтому Генрих IV без колебаний решил извлечь пользу из ее богатств. Месье де Шастес доверил командование экспедицией Самюелю Шамплену[263], дворянину из Сентонжа[264], морскому офицеру, родившемуся в Бруаже в 1570 году, человеку энергичному и очень одаренному. Экспедиция погрузилась в Онфлере[265] и прибыла 24 мая 1603 года в гавань Тадуссак, расположенную на реке Святого Лаврентия в восьмидесяти лье от ее слияния с Сагеней[266]. Здесь корабли оставили и поднялись по реке на маленькой лодке до водопада Сен-Луи[267], где Жак Картье останавливался во время своего последнего путешествия. Экспедиция проникла затем внутрь индейских земель, и Шамплен составил карту маршрута, которую отправил во Францию с блестящим отчетом[268]. Когда срок исключительного права командора де Шастеса истек, лицензию вместе с титулами вице-адмирала и королевского наместника в Акадии[269] и всеми полномочиями вершить мир и начинать войну, а также заниматься торговлей пушниной в Америке, получил другой дворянин, месье Гюа де Монт, как и Шамплен, родом из Сантонжа. Шамплен отправился в Новый Свет вместе с де Монтом и пробыл здесь три года. Вернувшись во Францию в 1607 году, Шамплен пробыл там всего шесть месяцев и отправился в третье путешествие в должности «географа и капитана королевского флота». Эта третья экспедиция была значительно более важная. Поднимаясь по реке Святого Лаврентия с намерением основать постоянное поселение в Канаде, он выбрал точку, расположенную примерно в ста тридцати лье от устья реки, где берега внезапно сужаются. Здесь Шамплен заложил Квебек; название города на языке туземцев означает «ущелье» или «сужение реки». На следующий год путешественник проводил исследования вдоль реки Святого Лаврентия; он поддержал алгонкинов[270] в их борьбе против ирокезов и, обеспечив победу своим союзникам, дал свое имя озеру, на берегах которого произошло сражение. Потом он спустился по реке, связывающей это озеро с рекой Святого Лаврентия, позже ее назвали Ришелье, и отправился в Квебек, а оттуда во Францию. Неутомимый Шамплен вернулся в1610 году в свою дорогую, ставшую неотъемлемой частью его судьбы Канаду, для процветания которой благородный француз не щадил своих сил и делал все, что мог. В том же 1610 году он снова разбил ирокезов в устье реки, которая теперь носит его имя[271]. Стремясь не уступить англичанам, исследующим Гудзон, он также решил разведать путь в Китай через север Америки. Но вскоре необходимость заняться неотложными делами, которых всегда хватало в еще не окрепшей колонии, заставила его вернуться во Францию, чтобы набрать новых рабочих. В 1615 году он привез монахов ордена реколлетов[272], которые помогли распространению христианской веры в Новой Франции. Потом, вернувшись к своему проекту проложить путь в Китай, неутомимый француз поднялся по Оттаве и, продвигаясь то на лодке, то пешком по суше, достиг озера Гурон, прошел вдоль его южных пляжей, потом направился равнинами к Онтарио и пересек его. Вернувшись после этого длительного и плодотворного путешествия, Шамплен снова сразился с ирокезами, теперь уже помогая гуронам[273], провел зиму среди алгонкинов, язык и нравы которых хорошо изучил, покинул их в 1616 году и вернулся в Европу в 1617 году. Пробыв около трех лет во Франции, он в пятый раз возвращается в Канаду, на этот раз в качестве помощника маршала Монморанси[274], назначенного вице-адмиралом Новой Франции. Для него это было почти всемогущество, поскольку маршал вовсе не был обременительным начальником, и Шамплен имел всю полноту власти и умело пользовался ею в интересах колонии. Но, несмотря на все его усилия, ситуация всегда оставалась шаткой, настолько слабо правительство поддерживало свое американское владение. Поэтому Шамплен вынужден был вернуться в 1624 году в шестой раз во Францию лично просить помощи. Наконец он добился того, чего просил так долго, спешно вернулся в Канаду и занялся более активно укреплением Квебека. Казалось, генерал предчувствовал гибель, грозившую его дорогому городу. События в самом деле не заставили себя ждать, доказав, как своевременна была эта спешка. Когда в 1627 году Англия объявила войну Франции, шесть военных кораблей под командованием ничтожества и предателя по имени Девид Керк из Дьепа, перешедшего на сторону англичан, пришли, чтобы захватить Квебек. Хотя в молодом городе сосредоточились не более двух сотен человек, Шамплен дал перебежчику такой мощный отпор, что тот, испугавшись, отошел. Он начал блокаду города, но смог сломить его защитников только голодом[275]. После договора, подписанного в Сен-Жермен-ан-Лай (1630), Франция вернула себе Канаду, и Шамплен был послан туда в 1633 году в качестве генерал-губернатора. С этого времени страна начинает быстро развиваться. Именно смелости Шамплена, его авторитетному управлению и упорству обязана Франция прочностью своего положения в новой колонии. Он быстро превратил скромный поселок в цветущий город Квебек, чему, впрочем, крепко помогли индейцы, полюбившие честного француза, который умел так благотворно влиять на них. Во время короткого господства англичан эти отважные туземцы все ушли, не желая иметь никаких отношений с новыми хозяевами, и когда мир вернул сюда французов, вслед за ними пришли индейцы, чтобы снова завязать прерванные связи. Окруженный всеобщим уважением и почтением, Шамплен, которого следует считать истинным основателем колонии, умер в Квебеке в возрасте шестидесяти пяти лет[276].
МОНКАЛЬМ [277]
Наряду с героем, основавшим нашу колонию, вспомним и о герое, погибшем, ее защищая, о Монкальме. Хотя маркиз де Монкальм не был путешественником, необходимо посвятить ему несколько строк. Любой француз должен с уважением отнестись к этому человеку, который поклялся защищать эту часть французской земли до самой смерти и сдержал слово. В 1713 году Утрехтский договор положил конец войне за испанское наследство, отобрав в пользу Англии большую часть Акадии, Ньюфаундленд и наши владения в Гудзоновом заливе. Однако то, что нам осталось, то есть Канада во всей ее целостности, находилось в процветающем состоянии. Новая Франция в 1722 году была разделена на тридцать четыре прихода к югу от реки и на сорок восемь — к северу от нее; кроме того, общая перепись населения дала цифру 27 000 французов, из которых 7000 в Квебеке и 3000 в Монреале. Процветание длилось более тридцати лет до начала Семилетней войны[278]. Но наше положение, хотя и не из самых лучших, было все-таки не хуже, чем у англичан, исконного врага, злобно окружавшего нас со всех сторон. Когда в Европе Франции угрожала коалиция, в Канаде противостоял противник, в двадцать раз превышающий численностью ее население и стремящийся любой ценой обогатиться на нашем разорении. Министр д’Аржансон[279] понимал, что при исключительных обстоятельствах нужен и исключительный правитель, и он послал на защиту Канады человека, о героизме и гении которого ему было хорошо известно, — маркиза Луи де Монкальма де Сен-Верана. Несгибаемому воину, выдающемуся тактику, неоднократно отличившемуся на полях брани, получившему почетные раны во многих схватках, Монкальму к этому времени исполнилось сорок четыре года. Все, что деятельность, ум, храбрость, энергия, самоотречение, героизм могут испытать в обстановке полнейшей безнадежности, испытал Монкальм. В течение целых трех лет, почти не имея помощи от бессовестных администраторов, пошлых слуг гнусной фаворитки[280], почти без денег, во главе только горстки сильных людей, состоящей из индейцев и колонистов, французский генерал сумел держать оборону, совершая иногда с большим успехом смелые вылазки. Будучи мишенью для клеветы, вероломства внутренних врагов, открыто заискивавших перед англичанами, вынужденный быть ко всему готовым, все предусматривать, расстраивать планы противника, он был велик! Несмотря на победы, имевшие большое значение, Монкальм не смог в 1759 году помешать англичанам плотным кольцом блокировать Квебек. Ко всем бедствиям войны добавился голод. Было почти невозможно прокормить население города. Недоставало хлеба и муки. Метрополия танцевала на балах у Помпадур и ничего не присылала. У Монкальма было около 5000 человек регулярных войск, испытанных, храбрых, но ослабленных трехлетней войной. Он мог прибавить к ним 8000 индейцев и около 5000 колонистов, всего 13 000 человек, среди которых восьмидесятилетние старики и двенадцатилетние дети. Англичане же имели возможность выставить войско из 40 000 свежих воинов[281], хорошо накормленных, хорошо экипированных и имеющих мощную поддержку. Тринадцатого сентября 1759 года, через два месяца осады, Монкальма, лишенного всего, охватило отчаяние. Произошла жестокая битва, французский генерал был смертельно ранен одновременно с вражеским командующим — генералом Вулфом[282]. — Сколько я еще проживу? — спросил он у хирурга, осматривавшего его раны. — Всего несколько часов, мой генерал. — Тем лучше. Я не увижу англичан в Квебеке. Потом он добавил, тихо вытянувшись на кровати: — Тяжек был день солдата, но кампания закончилась… Маркиз Монкальм умер утром следующего дня, 14 сентября, почти одновременно со своим врагом генералом Вулфом. Квебек капитулировал 16 сентября, и Парижский договор, подписанный в 1763 году, отнял у нас Канаду!
ГЛАВА 11
КАВЕЛЬЕ ДЕ ЛА САЛЛЬ
Удивительно, что о существовании такой огромной реки, как Миссисипи, едва догадывались до 1686 года, пока она не была открыта Кавелье де Ла Саллем[283]. Эрнандо де Сото, один из сотоварищей Писарро, путешествуя в течение трех лет, с 1538 по 1541 год, по континенту от Мексики до реки Огайо, от Атлантики до районов, орошаемых Миссисипи, имел случай пересечь ее[284], но не оценил ее значение. Впрочем, у всех, кто огибал южную оконечность Флориды и плавал в Мексиканском заливе, создавалось в большей или меньшей степени ощущение огромного потока, поступающего с континента. Сначала — Жан Рибу из Дьепа, который в 1563 году основал во Флориде кальвинистскую[285] колонию, все члены которой были вырезаны испанцами; потом — Доминик де Гургес, отомстивший за них, и англичанин Ричард Гринвилл, а также Рэйли и его несчастный брат Хемфри Гилберт[286], более известный своими несчастьями, чем открытиями, стоически погибший во время шторма у Азорских островов. Последний, потеряв три корабля и девяносто человек на отмелях, возвращался в Англию всего лишь с двумя кораблями: «Золотая лань» и «Белка» водоизмещением всего двадцать тонн. Именно на «Белке» шел Хемфри. Она не могла устоять перед страшным штормом, идя рядом с «Золотой ланью», экипаж которой ничем не мог ей помочь. Видели, как с Евангелием в руках Хемфри подбадривал людей, готовя их принять христианскую смерть, а затем ушел на дно вместе с маленьким кораблем. Такая же участь постигла капитанов Ньюпорта, Джона Смита, Смуниса и др. В 1673 году французский миссионер отец Маркетт[287], обследовавший озеро Мичиган, отправился с Жолье на разведку в направлении большой реки, которую индейцы называли Мисчезебе, или «Отец рек»[288]. Они дошли до места впадения в нее реки Арканзас, потом повернули назад. Именно тогда появился Кавелье де Ла Салль, одна из наиболее крупных и симпатичных фигур среди старых французских исследователей. К сожалению, очень мало известный, он был извлечен из несправедливого забвения Габриелем Гравье, известным секретарем Руанского географического общества. Рене-Робер Кавелье, сьёр (господин де Ла Салль родился 22 ноября 1643 года в Руане и обучался в иезуитской коллегии. После смерти отца в 1666 году он оставил иезуитов и отправился в Новую Францию с капиталом в 400 ливров[289]. Молодой француз прибыл в Монреаль и получил от игумена семинарии Вильмари концессию на земли, расположенные на правом притоке реки Святого Лаврентия прямо напротив водопада Сен-Луи. Его маленькое владение так часто подвергалось набегам ирокезов[290], что пахать можно было, только имея под рукой ружье. Храбрый и умелый, как настоящий нормандец, молодой колонист показал дикарям, что он их не боится, завоевал их доверие и в конце концов сумел с ними договориться. Вскоре он построил маленькую деревеньку Сен-Сюльпис, сегодня Лашин[291], в свою очередь предоставил концессии на свой надел, где сумел обеспечить, по крайней мере, относительную безопасность. За это время Кавелье, которого стала утомлять оседлая жизнь колониста, установил связи со своими соседями, внимательно прочитал отчеты путешественников, выучил индейские диалекты, приобщился к обычаям племен и принялся совершать частые экскурсии, чтобы приучиться к тяжелому труду исследователя. Зимой 1668/69 года он начал свою карьеру путешественника. Узнав от ирокезов, что большая река, называемая ими Олигинсипон, а утауэзами[292] — Охайо, или Красивая река[293], берет начало в их стране и течет прямо в море, Кавелье надеялся найти по Огайо проход в Китай, тщетно отыскиваемый со времен Христофора Колумба. Он поделился своими мыслями с главным наместником и интендантом и убедил их принять участие в смелом проекте исследования этой реки, поставив перед собой задачу в первую очередь дойти до ее истока. Не имея средств на оплату этого мероприятия, путешественник не задумываясь перепродал семинарии Вильмари и частным лицам свою концессию, тогда очень доходную, и отправился 6 июля 1669 года в неизведанный район с двадцатью четырьмя компаньонами, французами по происхождению, двое из которых были из Сюльписа, и семью кораблями, снаряженными ирокезами. На берегу озера Эри в ирокезской деревне экспедиция потеряла почти целый месяц, потом взяла курс на юг, открыла реку Огайо и спустилась по ней до Миссисипи. Брошенный среди ночи своими компаньонами в четырехстах лье от Монреаля в стране, где никогда не видели белого человека, он отправился один, питаясь тем, что добывал охотой и давали туземцы; ночевал то в вигваме[294], то на снегу под открытым небом. В следующем, 1670 году Кавелье снова отправился в путь через Великие озера, открыл реку Иллинойс, спустился по ней до Миссисипи и проследовал до места, где она пересекает 36-ю параллель. Чтобы пройти через обширные пространства и многочисленные племена, отделявшие его от моря, нужно было большее количество людей и припасов, чем он располагал, и это вынудило его вернуться обратно. Некоторые биографы Кавелье де Ла Салля считают, что он примкнул к одному из отрядов миссионеров-иезуитов, которые вели пропаганду Слова Божия по всей Канаде[295]. Габриель Гравье, наоборот, видел в нем одну из жертв враждебного ордена, хотя Кавелье был учеником руанских иезуитов. Как бы то ни было, канадские иезуиты, как говорит Гравье, очень плохо принимали рассказ о его открытиях, старались приписать все его заслуги Жолье, сопровождавшему отца Маркетта. Осенью 1674 года Кавелье, который очень активно содействовал созданию форта Катаракони на озере Онтарио[296], отбыл во Францию. Был ли он или нет в ордене иезуитов, неизвестно, тем не менее путешественник получил в награду за услуги, оказанные Франции, дворянские грамоты, концессию на форт Катаракони, который переименовал в Фронтенак в честь нового губернатора[297], и огромный участок земли на озере Онтарио. С этих пор де Ла Салль начинает приобретать некоторое влияние в колонии, становится важной персоной, у него появляются завистники и даже враги. В 1678 году в ходе новой поездки во Францию Кольбер, отказав ему в аудиенции[298], предоставляет тем не менее все, о чем тот просил. После возвращения Кавелье основал крепость Ниагара, немного выше знаменитого водопада[299], и открыл навигацию на Великих озерах на корабле «Гриффон», который построил, вооружил и оснастил на свой счет. Кажется, удача улыбнулась ему, дела принимали отличный оборот, когда сбежали люди, возможно подкупленные его врагами, предварительно разграбив «Гриффон», пока он пересекал озеро Мичиган. Кавелье де Ла Салль закончил тем не менее это путешествие в простой лодке, проведя в пути двенадцать дней, и наконец прибыл в устье реки Миамис[300], где построил новую крепость, получившую название Кревкёр[301]. В середине зимы путешественник возвращается в Фронтенак, проделав 550 лье, в сопровождении только четырех французов и одного индейца. Зная стратегическую важность Старведрока, утеса, находящегося в Иллинойсе, он наметил его для строительства еще одного форта, вокруг которого в последующем образовалась бы большая колония. Двадцать первого апреля 1681 года де Ла Салль прибыл в форт Ниагара, совершив очень трудный переход по снегу со множеством лишений и трудностей. А за время его отсутствия накапливались неприятности. Корабль, отправленный из Франции с двадцатью двумя тысячами ливров для колонии, потерялся; двадцать два присланных ему человека арестовал интендант; крепость Кревкёр разграбили; а его верный лейтенант шевалье Тути исчез. Он бросился в Монреаль улаживать отношения с кредиторами, добился от них новых авансов и отправился в путь с двадцатью пятью людьми, рабочими и солдатами, чтобы вернуться, несмотря ни на что, на Миссисипи. 4 ноября Кавелье де Ла Салль снова увидел свою крепость Кревкёр и спустился по реке Иллинойс до Миссисипи. От семнадцати иллинойских деревень, в которых жили его верные индейцы, не осталось ничего, кроме почерневших от огня столбов и остатков человеческих трупов, из-за которых спорили волки и вороны, полуодетых женщин и детей, еще привязанных к столбу пыток, и котлов, наполненных человеческим мясом! Осмотрев стойбища, он понял, что это разорение — дело рук ирокезов, его старинных друзей, понемногу отошедших от него из-за чьего-то тайного подстрекательства. Для сплава по Миссисипи не хватало людей, пушек и провизии, с болью в сердце пришлось вернуться в форт Кревкёр и провести там зиму. Размышляя длинными холодными вечерами, он без труда понял, что грозные ирокезы встали на пути его замыслов, открытия никогда не принесут серьезных результатов и перед ним встает непреодолимая преграда. Тогда у него возникла идея создания крупного коммерческого и военного центра одновременно с мощной колонией между бассейнами рек Святого Лаврентия и Миссисипи. Форт Сен-Луи, построенный на Старведроке[302] среди богатых равнин Иллинойса, казалось, отвечал потребностям торговли, войны и колонизации. Проект был принят, де Ла Салль немедленно начал его осуществлять. Он посещает различные племена, на которые обычно совершают набеги ирокезы, подарками и ловкими разговорами пытается примирить их между собой и объединить против общего врага, грозящего уничтожить всех, обещает дать оружие и товары, взять под защиту французского короля. Но у него есть еще одна цель: обратить индейцев в христианство и ввести их в лоно европейской цивилизации, что реально осуществимо за два поколения за счет церковных браков и воскресных школ. Несмотря на осложнения, препятствия, убийства, дело двигалось успешно. В докладе военно-морскому ведомству Кавелье сообщает, что вокруг форта Сен-Луи собралось уже более 20 000 душ населения. На карте Франклина, датированной 1684 годом, отмечено 4000 воинов этой колонии, но цифра Кавелье заслуживает большего доверия. Как властелин страны, в силу королевской грамоты Людовика XIV, он предоставляет концессии, а это надежный способ установить точное количество французского населения. К несчастью для неустрашимого нормандца, на смену графу Фронтенаку, который поддерживал его, пришел Лефевр де Ла Барр, ограниченный солдафон, старый вояка[303]. Выслушивая клевету, распространяемую врагами Кавелье, он пытается отправить его во Францию, что и делает без особого труда. Пока на него бессовестно клевещут, Кавелье де Ла Салль пытается с двадцатью двумя французами, восемнадцатью дикарями и десятью женщинами еще раз спуститься по Миссисипи. 6 февраля 1682 года экспедиция достигает реки, 12 февраля садится в лодки и 14 марта водружает в устье Арканзаса крест и герб Франции, 7 апреля французы достигли косы в дельте Миссисипи и обследовали там три протоки; 9 апреля 1682 года — памятная дата в истории нашей колонии[304] — де Ла Салль от имени короля Франции принял во владение огромный бассейн Миссисипи! Вот какой случай произошел с маленьким отрядом Кавелье во время этой экспедиции. Однажды, буквально умирая от голода, они обнаружили тайник с копченым мясом. Естественно, путешественники не упустили случая устроить пиршество. В пустынной местности это обычное явление. Мясо им показалось очень вкусным, но вдруг они, к своему ужасу, обнаружили, что оно человеческое. Индейцы продолжали лакомиться им, но французы, естественно, не смогли даже притронуться к нему, хотя были страшно голодны. За один поход отважный француз прошел 1500 лье по пустынной местности и с сорока спутниками добился успеха там, где потерпел неудачу испанец Фернан де Сото с небольшой армией. Он подвергался всевозможным опасностям, выдержал все трудности, израсходовал все состояние, чтобы одарить свою страну этой несравненной жемчужиной, которой была наша Луизиана. И это справедливо, что американцы нанесли на карты Техаса и Иллинойса великое имя руанца Кавелье де Ла Салля[305]. И справедливо, что они поместили в вашингтонском Капитолии медальон с его изображением среди медальонов с портретами Христофора Колумба, Себастьяна Кабота и Уолтера Рэйли. Именно тогда наместник Ла Барр, ослепленный до глупости наветами врагов Кавелье, написал морскому министру, что «Ла Салль сумасшедший, хвастается открытиями, которых не совершал, стремится выкроить себе королевство, и пришло время остановить этого безумного честолюбца!». И, чтобы быть последовательным, этот глупый, да к тому же и злой, человек лишил Кавелье его концессий, крепостей, сооружений, приказал ирокезам разграбить корабли, скот, товары, опустошить поля, разогнать прекрасную колонию Иллинойс и силой отправить нормандца на родину во Францию! Однако несправедливость была слишком явной, и истина сама предстала перед министром. У Ла Салля также были друзья, среди прочих монахи ордена реколлетов; два почтенных прелата, отец Бернон и отец Ренодо, видевшие его достойные дела, знавшие и ценившие этого труженика и путешественника, поддержали его, рассказав правду, и им поверили. Кавелье реабилитировали, ему устроили прием при дворе, дали корабли, солдат, рабочих, оружие, боеприпасы, провизию и инструменты. Генерал де Ла Барр получил суровое внушение. Короче, отважный исследователь был вполне удовлетворен. Министр Сеньелей предоставил в его распоряжение три корабля: четырехпушечный «Жоли» («Милый»), шестипушечный «Белль» («Красивый») и «Эмабль» («Любезный») и баржу водоизмещением триста тонн, нагруженную большей частью припасов. В качестве вице-короля земель, бывших прежде Луизианой и простирающихся от форта Сен-Луи в Иллинойсе до Новой Бискайи[306], Кавелье имел абсолютную власть над всем личным составом эскадры, которой командовал Божё, посредственный моряк, очень самодовольный, как все ничтожества. Он попытался с самого начала освободиться от власти вице-короля и создавал для своего непосредственного начальника различного рода трудности. Считая, что его достоинству претит повиноваться сыну простого руанского галантерейщика, Божё написал на него клеветнический донос. В ответ он получил от министра выдержанный в очень жестких выражениях приказ, смысл которого сводился к тому, что в задачу моряка входит управление судном, а не выбор маршрута. С этих пор Божё смертельно возненавидел Кавелье. Он поклялся погубить его и действительно погубил. Вольно или невольно Божё, прибывший в Мексиканский залив, проскочил на 400 миль дельту Миссисипи, несмотря на данные ему точные координаты по долготе и широте. Он спустился до бухты Сен-Бернар и здесь бросил якорь. Несмотря на просьбы, приказы, угрозы Кавелье, заметившего ошибку, Божё уперся, клянясь, что прав он, поскольку, будучи моряком, лучше разбирается в таких делах. Когда ошибка обнаружилась, Божё находил всевозможные предлоги, чтобы не идти на восток, для него это был путь возвращения во Францию. Он протянул три месяца, испытывая терпение Кавелье и колонистов, которых пытался тайком прибрать к рукам, выбросил на берег «Эмабль», погубил таким образом все имущество и в конце концов оставил Кавелье и его людей на берегу, сообщив, что отправляется искать устье Миссисипи, и пообещав, если найдет, вернуться за ними и имуществом. Он легко нашел дельту, нанес ее на карту и никогда не вернулся! Тогда Кавелье, потерявший надежду на какую-либо помощь, принял героическое решение добраться до Миссисипи по суше. Не хватит места, чтобы описать страдания, выпавшие на долю этих отважных людей, пробирающихся с тяжелой ношей в течение шести месяцев через леса, равнины, кустарниковые заросли и болота, полуголодных, одетых в лохмотья, неотступно преследуемых туземцами и в конечном счете не нашедших реки! Прошел год в бесплодных поисках, несчастные колонисты умирали от тягот, лишений и болезней. Кавелье тем не менее не хотел признать себя побежденным. Он отобрал двадцать человек из самых крепких, пошел с ними на разведку, вернулся три месяца спустя и привел обратно только восьмерых. Некоторые из тех, кто выжил, видя в нем причину своих бед, решили его убить. Выстрелом из ружья с командиром расправился человек по имени Дюго… Так скверно кончил Кавелье де Ла Салль в момент, когда родина должна была воспользоваться его бесценными открытиями. В завершение приведем несколько строк, заимствованных у Френсиса Паркмана, знаменитого историка Северо-Американских штатов, которого нельзя заподозрить в пристрастности, поскольку он иностранец. «Легко критиковать его за ошибки, — говорит он о Кавелье де Ла Салле, — но нельзя скрыть его римского мужества. Окруженный толпой врагов, он возвышается над ней, как древний израильский царь. Как алмазная башня, несокрушимый фронтон которой противостоит всем силам и опасностям, ярости людей и стихий, палящему солнцу юга, буйным ветрам севера, он выдержал голод, болезнь, одиночество, разочарования… Его гордость, как гордость Кориолана[307], проявляется тем ярче, чем опаснее были его враги. Никогда под непроницаемой броней странствующего рыцаря или крестоносца не билось более отважное сердце, чем под стоическими доспехами, покрывающими грудь Кавелье де Ла Салля. Чтобы лучше оценить величайшее мужество неутомимого странника, следовало бы шаг за шагом пройти за ним по местам бесконечных путешествий через леса, болота, реки, измерить глубину отчаяния, когда непреодолимая сила толкала его вперед, а у него не было возможности достичь своей цели… Америка хранит о нем вечную память. Его мужественная фигура, отлитая в бронзе, — это образ героического первооткрывателя, оставившего ей самое богатое наследство». Не являются ли лучшим надгробным словом эти несколько строк, принадлежащие перу иностранца?ГЛАВА 12
Лемуан Д’ибервиль. — Отец Шарлевуа. — Отец Креспель. — Лемуан БьенвильКаким бы несчастливым ни был конец, великие труды Кавелье де Ла Салля не остались бесплодными. Открыв реку и присвоив ей имя Кольбера, над которым одержало верх ее индейское название Миссисипи, Кавелье действительно положил начало нашей колонизации новой страны, обширной, плодородной, прекрасной. Королевская власть приложила лишь относительно небольшое усилие по сравнению с тем, которое надо было бы сделать в этом районе, чтобы окончательно упрочить здесь наше влияние и создать кусочек Франции в этом уголке молодой Америки. Но она предпочла израсходовать сто миллионов и позволить убить пятьдесят тысяч солдат, чтобы занять несколько городов во Фландрии, чем посылать ежегодно несколько сотен тысяч фунтов и тысячу человек для колонизации этой легко поддающейся освоению страны. Король впустую растрачивал золото, не щадил людей, посылая их в бой на фламандской границе, вместо того чтобы использовать это богатство для процветания родины. Бесстрашного Кавелье де Ла Салля уже не было в живых, когда заговорили о Луизиане, названной так монахами ордена реколлетов в честь монарха, пренебрегшего ею. Впрочем, все, кто здесь побывал, рассказывали чудеса, и зарождающийся интерес к ней был полностью оправдан. Говорили, что климат там очень полезен для здоровья — что, несомненно, преувеличено, — температура благоприятна для растительности, невероятно пышной, почва небывало плодородна. Необработанные равнины, пересекаемые многочисленными реками, покрыты непроходимыми лесами, в которых произрастают деревья, дающие очень прочный строительный материал, а реки изобилуют вкусной рыбой. В лесах водится множество хищных животных, в реках плавают аллигаторы, и почти повсюду гремучие змеи. Но в европейских странах поистине преувеличивали опасность диких животных, как, впрочем, и очень редкую вероятность встречи с ними. Одна только дичь могла в течение долгого времени обеспечить пропитание колонистов, особенно «дикие быки, горбатые и покрытые шерстью», то есть бизоны, мясо которых отличалось изысканным вкусом. Эти могучие животные, стада которых насчитывали тысячи голов, сейчас почти полностью истреблены. Но все это были лишь отдельные путешественники, бродившие как заблудившиеся дети, разрозненные, почти без припасов, которым для плодотворной деятельности так необходима была мощная рука нормандского исследователя, чтобы объединить и поддержать их. Надо было как можно быстрее восстановить отношения со склонными к забывчивости местными жителями, начать производить в стране и ввозить промышленные товары, создавать потребительский рынок, объединять производителей, возводить крепости, такие как в Майами, в Ниагаре, в Сен-Луи и в Кревкёре, построенные благодаря прозорливости Кавелье. Элементарные, но вполне достаточные укрытия, состоящие из мощных палисадов, окружающих жилища колонистов, их магазины, огород с источником или колодцем. Все эти крепости существенно если и отличались, то только размерами от тех, которыми Компания Гудзонова залива и позже пушные компании Сен-Луи усыпали территорию Америки. Они представляли собой центральные пункты, где совершались сделки, находились увеселительные заведения, производились операции по снабжению. Многие из этих крепостей впоследствии стали городами. Прошло десять лет после трагической гибели Кавелье де Ла Салля. В старой Франции, бывшей всегда в огне и крови по капризу королей, установился мир. Наступила передышка в большой европейской бойне. Вместо того чтобы сражаться в зарождающихся колониях, можно было подумать об их мирной колонизации. Первым, кто по-настоящему решил извлечь пользу из богатств Луизианы, был канадский дворянин, родившийся в Монреале в 1642 году, Лемуан д’Ибервиль[308], второй из одиннадцати сыновей Шарля Лемуана[309] сьёра де Лонгей и де Шатогей, знатного нормандца, главы одной из самых старинных и знатных семей, обосновавшейся с давних пор в Канаде. Д’Ибервиль — моряк из тех франко-канадских гигантов, отважная и сильная порода которых укоренилась здесь со своими обычаями, религией, языком с архаичными оборотами, наивными и очаровательными, и культом «старой Родины», достаточно повоевав против англичан, решил употребить свой досуг на что-то полезное и прибыльное. Бывший моряк отправился во Францию и поделился своими планами с министром Понтшартреном[310], и тот, вопреки обычаю, не ответил ему отказом, сопровождавшим прежде почти неизменно все просьбы о колониальном кредите. Министр, будучи в благодушном настроении, предоставил два судна, чтобы возродить прежние «планы и проекты господина Кавелье, сеньора де Ла Салля». Д’Ибервиль вместе с двумя братьями, де Санваланом и де Бьенвилем[311], первому из которых было суждено умереть на следующий год, а второму основать Новый Орлеан, отправился из Ла-Рошели в сентябре 1698 года, сделал остановку в Санто-Доминго и в январе 1699 года пустился на поиски устья Миссисипи. Экипаж кораблей состоял по большей части из набранных им неотесанных канадских матросов, известных своей смелостью и выносливостью, неоднократно доказанных в битвах. Де Бьенвиль, еще совсем молодой, оказался моряком насколько храбрым, настолько и опытным. Он получил боевое крещение под командованием своего брата д’Ибервиля, был тяжело ранен в голову в славной битве, развернувшейся у берегов Новой Англии между французским фрегатом «Пеликан» и тремя английскими кораблями, потерпевшими поражение. Кроме того, к экспедиции в качестве капеллана был прикомандирован монах отец Анастаз, постоянный спутник Кавелье де Ла Салля по путешествиям. Его участие было очень ценным благодаря прекрасным знаниям страны и ее ресурсов. Д’Ибервиль привел свои корабли к острову Массакр, расположенному перед устьем реки Мобил. Его переименовали, назвав островом Дофина, и не спеша продолжили путь в западном направлении. 6 февраля корабли прошли между островами Корн и Вессо и приблизились к берегам с бесконечными предосторожностями, пустив вперед нагруженные шлюпки, чтобы исследовать характер грунта и глубину. Однажды одна из этих шлюпок, пристав к берегу, привезла группу индейцев, казалось хорошо знакомых с кораблями. Они без опаски поднялись на борт и сообщили капитану, что недалеко к западу от места стоянки экспедиции протекает большая река с несколькими устьями. Д’Ибервиль, полный надежд, тотчас снарядил самую большую из своих шлюпок, посадил в нее шестьдесят человек, отца Анастаза, своего брата Жана Батиста де Бьенвиля, и сам занял в ней место, поставив корабли на якорь под охраной Санваля и остатков экипажей. Вскоре довольно прозрачные морские воды помутнели; берега понизились, образовав огромную плоскую равнину, едва возвышающуюся над волнами. Воды все больше мутнели, смешиваясь с другими, загрязненными, приносимыми, очевидно, с континента. Вскоре показались заросли высокого тростника, наполовину скрывающие нечто вроде обширного лимана, уходящего в глубь материка. Вошли в лиман, и отец Анастаз радостно закричал, узнав устье Миссисипи, виденное им ранее. Эту счастливую новость приветствовали пением Те Deum и артиллерийским салютом, на звуки которого приплыли пироги с индейцами. Они вели себя очень дружелюбно, и один из них передал удивленному д’Ибервилю пожелтевшую бумагу, покрытую полустертыми знаками и сохраняемую индейцем долгие годы как талисман. Это было письмо, написанное четырнадцать лет тому назад Кавелье де Ла Саллю его верным помощником шевалье[312] де Тонти. Не оставалось больше никаких сомнений, что мутные воды, по которым в этот момент скользила шлюпка, были водами Миссисипи. Обследование прошло очень легко благодаря дружеской расположенности индейцев, предоставивших все мыслимые сведения, служивших проводниками, приносивших свежую еду и гостеприимно принимавших канадцев. Это они показали великолепное озеро длиной в десять и шириной шесть лье, которое д’Ибервиль прошел во всех направлениях на индейском челноке из коры березы, обычного судна для человека, обитающего на больших озерах Канады, и назвал именем министра Понтшартрена. Он вернулся к своим кораблям, открыв другое озеро, недалеко от первого, и присвоив ему имя Морепа[313]. Д’Ибервиль принялся искать место для строительства крепости и с этой целью посетил бухту Сен-Луи, присвоив Миссисипи такое же название, которое сохранилось не долее, чем Кольбер. Бухта оказалась недостаточно глубокой, чтобы в нее могли заходить корабли большого водоизмещения, и д’Ибервиль окончательно остановил свой выбор на бухте Билокси и там основал центр будущей колонии. Его канадцы, атлетического сложения лесорубы, умелые строители, валили деревья, распиливали их, превращали в прочные палисады, связывали мощными поперечинами и строили укрепления, обводя их широким рвом. Внутри такого укрепления возводились дома из бревен, здесь же размещались двенадцать пушек. Это была первая колония на побережье Луизианы. Д’Ибервиль оставил здесь гарнизон из тридцати пяти человек, все одновременно солдаты, моряки, колонисты и флибустьеры, назначил своего брата Санваля комендантом маленькой крепости, дав ему в помощники другого брата, Бьенвиля, и вновь поднялся по Миссисипи, чтобы отправиться к натчезам[314], многочисленному и ненадежному племени, которое он хотел сделать своим союзником. На его счастье, индейцы были хорошо подготовлены одним почтенным миссионером, отцом Сен-Космом, принадлежащим к иезуитскому ордену, жившим среди них, проповедуя в течение многих лет Евангелие. Его проповеди и пример не оказались бесплодными, и хотя натчезы, по большей части крещенные, стали христианами, не избавившимися от суеверий и дикостей, они, по крайней мере, могли оказать большие услуги новым колонистам. Вождь этого непримиримого до того времени племени, свирепый нрав которого был легендарным, называл себя Большое Солнце, почти так же, как его верховный властелин в старой Франции — Король-Солнце. Во главе многочисленного отряда воинов он с почестями принял командора экспедиции. Союз отныне был заключен, и д’Ибервиль мог рассчитывать на поддержку сильных прибрежных жителей большой реки. После длительного похода по стойбищам индейских племен, соседствующих с натчезами, он снова вернулся к сооружению Билокси и отправился во Францию в конце мая 1700 года. Во время его отсутствия умер Санваль, и Бьенвиль заменил его на должности коменданта. По возвращении д’Ибервиля во Францию король в награду за услуги присвоил ему звание капитана I ранга. Тот вернулся в Билокси в 1701 году, построил новый форт на реке Мобил, обустроив его таким же образом, как Билокси. Несмотря на энергию обоих братьев и их людей, колонизация продвигалась медленно, а внезапная катастрофа сделала ее еще более зыбкой. Д’Ибервиль в качестве капитана отправился в море, омывающее Антильские острова; лелея давнюю мечту изгнать англичан с Ямайки, он объявил им жестокую морскую войну, но был убит в Гаване в 1706 году. Поселок на реке Мобил стал столицей Луизианы, сама же Луизиана быстро распалась из-за войны, разразившейся в Европе с большей яростью, чем когда-либо, метрополия не могла присылать никакой помощи ни людьми, ни деньгами. И все-таки Жан-Батист де Бьенвиль, как будет видно дальше, был неординарным человеком! Именно тогда правительство Людовика XIV, не имея возможности что-либо сделать для агонизирующей колонии, отдало ее в концессию на шестнадцать лет богатому финансисту по имени Кроза. Шел 1712 год. Концессионер решил, что должен и сможет в подобных обстоятельствах добыть деньги из ничего. Против его ожидания, ему это не удалось. Но Бьенвиль сумел извлечь пользу из ситуации, длившейся почти четыре года. Он построил несколько важных сооружений, в частности, на территории натчезов форт Розали, названный так в честь мадам Понтшартрен. Не найдя ничего, что можно было бы извлечь из своей концессии, Кроза переуступил ее королю, который, в свою очередь, отдал Западной компании, недавно основанной Лоу[315], резиденция которой располагалась в знаменитом здании на улице Кинкампуа. Была сделана совершенно бессовестная реклама акций этой компании, начался оголтелый ажиотаж вокруг них, приобретались и терялись в мгновение ока целые состояния, безумие охватило даже наиболее здравомыслящих, поскольку о богатствах страны рассказывали легенды. Торговцы бумагой, которой, по сути, были эти акции, с апломбом рассказывали о слитках золота и серебра, лежащих на поверхности земли, о горах изумрудов, открытых в Арканзасе и охраняемых день и ночь полком вооруженных солдат, и другие чудовищные приманки для простофиль. Результатом этой искусственно нагнетаемой истерии стало разорение большого количества биржевых игроков и не виданное доселе процветание Луизианы. Неутомимый Бьенвиль, энергия и административный талант которого были хорошо известны, получил должность главного коменданта всей страны под началом наместника. Церемония назначения прошла с не виданной ранее пышностью. Ему пришла хорошая мысль строить поселки вдали от берега, чтобы потом производить заселения постепенно, как бы эшелонами. Видя, что события во Франции благоприятны для большого притока эмигрантов, Бьенвиль решил построить город в излучине, образованной Миссисипи, примерно в тридцати лье от ее дельты. И поскольку он был человеком быстрых решений, то приказал в 1717 году[316] начать строительство прямоугольного укрепления, в которое инженер де Ла Тур, как бы предсказывая композицию в виде шахматной доски будущих городов Америки, вписал план, состоящий из кварталов, нарезанных улицами, идущими под прямым углом. В честь Филиппа Орлеанского, регента Франции[317], молодой город получил от своего основателя имя Новый Орлеан. Население, насчитывавшее около шести сотен белых, по большей части канадцев, и три сотни чернокожих, пополнилось одним махом восемью сотнями прибывших из Ла-Рошели на трех кораблях эмигрантов, которых прельстили обещанные чудеса и надежда на роскошную жизнь нуворишей[318]. Они собирались основать здесь новую прекрасную Францию, счастливую соперницу старой. Несколько разоренных дворян, младшие сыновья в поисках поместий[319], составляли часть прибывших, в большинстве же это были ремесленники и земледельцы. Первые вволю получили прекрасные концессии и сидели сложа руки, другие, не желая работать на этих трутней, уходили в глубь страны, выбирали землю по своему вкусу и приступали к работе. Оставались только ремесленники, которые по профессии могли использоваться на строительстве города. Дворянам требовались рабочие, и поскольку добровольная эмиграция почти прекратилась, стали прибегать к принудительной, или, скорее, к депортации, как говорят сегодня в стиле тюремной администрации. С тех пор бродяг, темных личностей, жуликов, беглых каторжников, людей, которые «не нравились» властям, отлавливали и отправляли под надежной охраной в Новый Орлеан. Потом, когда для этих необычных колонистов понадобились соответствующие спутницы, были перерыты все тюрьмы, где находились приговоренные к заключению девицы, и их тоже отправили в Луизиану, чтобы они там вступали в брак с отбросами улицы и тюрем. Эта система колонизации существовала между двумя караванами с переселенцами и прекратила свое существование из-за протеста парижан и жителей Луизианы. Система уголовной колонизации, самая абсурдная из возможных, не оправдала себя. И наконец, чтобы кончить с повествованием об этой эпохе: водевильная история, которая развлекла зевак и заставила смеяться людей мыслящих, а закончилась драмой. Поднятая шумиха не была современным изобретением. Будучи финансистом, Ло пользовался и злоупотреблял ею во всех видах. Те, кто считает, что идея человека-сандвича принадлежит ему, ошибается, она рождена гением Ло. Когда земли в Луизиане были гарантией знаменитых миссисипских акций, ему пришла в голову мысль привезти из этих роскошных земель подлинных дикарей и дикарок, среди них была дочь вождя натчезов, которую парижские простофили наградили титулом королевы! Королева краснокожих была молода, достаточно хорошо сложена, с вполне сносной физиономией, в общем не посрамила чести своего отца Большое Солнце. Придворные регента вздумали выдать ее замуж за француза из метрополии, чтобы иметь на индейском троне подданного короля, который впредь будет его вассалом. В претендентах недостатка не было, даже среди подлинных дворян, которые почли за честь предложить принцессе свою персону и дворянскую грамоту. Дочь Солнца, обладавшая недурным вкусом, остановила выбор на сержанте французской гвардии по имени Дюбуа, по прозвищу Твердая Рука, ловком разбитном малом с закрученными кверху усами, щеголе, красивом мужчине. Дело не стали откладывать. Через неделю после этого лестного выбора принцесса была с большой пышностью окрещена в соборе Парижской Богоматери и стала мадам Дюбуа, не переставая быть королевой. Потом супруги Дюбуа отправились в свои владения, очарованные друг другом. Этот брак по любви не был счастливым, и медовый месяц длился ровно столько, сколько длятся все другие. Мадам Дюбуа во время своего пребывания во Франции привыкла к прискорбной неумеренности, которая вылилась в отвратительные сцены пьянства. Дюбуа, по прозвищу Твердая Рука, решил сделать ей замечание, но был плохо понят. Он оправдал свою кличку и крепко отдубасил мадам Дюбуа. Краснокожая дама его возненавидела и в конце концов приказала убить, а потом скальпировать. Бедный малый, мечтавший надеть на голову королевскую корону, не сумел сохранить даже собственную шевелюру. Есть два имени, которые следует упомянуть с почтением среди первых и самых замечательных исследователей Луизианы, это отцы Шарлевуа[320] и Креспель. Отец Шарлевуа прибыл, чтобы обратить в евангелическую веру дикарей, не прерывая этого занятия, несмотря наопасности и страдания, пережил за четыре года, с 1718-го по 1726-й, взлет и падение Луизианы и Канады. Достойный миссионер поднялся по реке Святого Лаврентия до реки Сент-Джозеф и до низин по берегам озера Мичиган, добрался до прибрежных колоний, последовательно спустившись по рекам Теолики и Иллинойс, и прошел по Миссисипи до земель натчезов и до Билокси. Отец Шарлевуа, как большинство членов ордена иезуитов, был не только ученым, но и обладал в том, что касалось колониальных вопросов, самыми здравыми и ясными суждениями. Не сосредоточиваясь на золотых приисках, сводивших с ума конкистадоров героической эпохи и колонистов первого периода, он оценил великолепие рыбных запасов Ньюфаундленда, «которые были менее исчерпаемыми и более обильными, чем рудники Мексики и Перу», и предсказал их будущее значение. Отец Креспель, миссионер ордена реколлетов, прибыл в Канаду в 1724 году. Он оставался там в течение двенадцати лет и в 1736 году решил вернуться во Францию. Корабль, на котором он плыл, потерпел крушение вблизи Антикости, и матросы спаслись на шлюпках, а вместе с ними и монах. Почти без провизии, плохо защищенные от страшного холода, они в конце концов пристали к берегу и укрылись, чтобы не замерзнуть, в прикрытых снегом ямах — как эскимосы. Их было тридцать человек, оказавшихся в пятидесяти лье от какой-либо помощи. Бедняги попытались вернуться в море, чтобы достичь берега Лабрадора, где располагался маленький французский пост. У них была лодка на двенадцать человек и шлюпка на семнадцать. Море бушевало, не давая возможности плыть. Предприняли попытку, но лодка пошла ко дну вместе с теми, кто был в ней. Пассажиры шлюпки вернулись на землю, построили хижину и скучились в ней, имея немного мороженого мяса, несколько фунтов гороха и немного муки, которую разводили в воде из талого снега. Так они скоротали зиму, съедая ежедневно только несколько щепоток съестного. Большинство из них поразила цинга, стали выпадать зубы, распухли десны, началась гангрена. Наконец пришла весна и принесла с собой ледоход, на который так рассчитывали моряки, надеясь спастись в шлюпке, но льды унесли и ее вместе с последней надеждой. Один за другим от холода, голода и цинги умирали люди. Из последних сил они приподнимали льдины и искали раковины. Но тщетно. Двое отправились на разведку, ничего не нашли, вернулись и умерли. Отец Креспель, в свою очередь, шатаясь, отправился искать помощи. Кончилось тем, что он встретил туземца, который, казалось, сначала заинтересовался им, но бросил на следующий день. Монах уже умирал, когда его заметили охотники и привели в чувство. Он проводил их туда, где находились его несчастные спутники. Их осталось пятеро, и один умер, выпив глоток водки. Только отец Креспель и эти четверо избежали гибели, претерпев страдания, которые трудно себе вообразить. Система выкачивания денег при помощи рекламы и выпуска ничего не стоящих «ценных бумаг» сработала прекрасно и жива до сих пор. Ло сбежал в мае 1720 года, и разорение постигло как обманутых им людей, так и начинания, которые он финансировал. Последствия разразившейся катастрофы, естественно, отозвались в Луизиане и были тем более тяжелыми, что миссисипские акции составляли одну из основ гарантии знаменитой системы. Все беды обрушились на колонию, находящуюся тогда на стадии организации. Первыми жертвами стали несчастные колонисты, собранные в Лориене в количестве более тысячи человек и отправленные почти сразу после краха концессионера с колониальными привилегиями. Корабли привезли их в крепость Билокси, которая в ожидании строительства Нового Орлеана всегда служила портом, временным пристанищем для коменданта и главным пакгаузом. Никто не предвидел такого огромного потока переселенцев, и их появление всех застало врасплох, поскольку, естественно, не было приготовлено жилье, не припасено достаточно продуктов питания и лодок. Прибыв в Билокси и высадившись на берег, эмигранты не знали, куда идти; они сидели под ливнями и под палящим солнцем со своим скудным багажом, усталые после долгого пути. На кораблях, которые их сюда доставили, провизии едва должно было хватить на обратную дорогу, и они ничего не могли оставить своим несчастным пассажирам. Склады администрации колонии были пусты. Людей следовало отправлять дальше к верховьям реки, чтобы распределить по недавно построенным поселкам, но для этого не хватало лодок. В Билокси скопилось множество людей, буквально умирающих с голоду. Их единственным источником питания были устрицы, вылавливаемые при отливах в горьковато-соленых водах устья, и тех, что они находили нанизанными, как четки, на корнях и стеблях водных растений. За короткое время погибло в страшных мучениях около пяти сотен человек. Некоторые нашли убежище у англичан в Каролине, особенно компания швейцарских наемников, прибывшая, чтобы составить местный гарнизон. Смерть, ожесточение, страдание, безнадежность зловеще реяли над несчастной крепостью, которой грозило опустошение, нищета и ее верные спутники — эпидемии. Когда Билокси стала почти непригодной для обитания, большая часть колонии укрылась в Новом Орлеане. Впрочем, с эвакуацией следовало тем более поторопиться, что крепость не была защищена от периодических разливов реки и очень пострадала от последнего сильнейшего наводнения. Но наводнение 22 сентября 1722 года осложнилось страшным ураганом и приливной волной, проникшей из Мексиканского залива. Океан вышел из берегов, завладел одним махом землями, по которым гуляли опустошительные волны. Незащищенная крепость Билокси была разрушена до основания, и Новый Орлеан очень сильно пострадал. Билокси восстанавливать не стали, но почти полностью пришлось перестраивать молодую столицу и навсегда обезопасить ее от таких катастроф. Словом, титул столицы не очень соответствовал тому, чем был тогда луизианский город. Как говорят историки, в дождливый сезон это была страшная топь, средоточие лихорадок. Город нуждался во всем: в свежем мясе, хлебе, соли! Консервированные продукты быстро портились под воздействием сырости и вызывали разнообразные болезни, усложняющие и утяжеляющие течение лихорадки. Больница была всегда переполнена больными, но не было медикаментов, белья, постельных принадлежностей! О! Как далека была эта отвратительная реальность от наглой лжи распространителей облигаций Компании Миссисипи! И сколько несчастных жертв слепой доверчивости погибло после неописуемых страданий. После таких трудов, несчастий, жертв, после стольких транспортов, привозящих из метрополии толпы растерянных колонистов, во всей Луизиане в 1724 году осело еще только 3700 белых из Европы или Канады и около 1300 черных. Из этих 5000 жителей Новый Орлеан едва насчитывал тысячу. Работали, без сомнения, активно, но без посторонней помощи обойтись не могли, особенно с продовольствием. Управление было налажено отменно, что для нас традиционно, но что касается ресурсов и населения, то с этим было все непрочно и очень сложно. Только в 1724 году Западной концессии пришел конец. Ей на смену пришла Вест-Индская компания. Монополия для монополии, компания для компании, режим был такой же, и не лучше. Несчастные колонисты находились в плачевном состоянии, и при больших кризисах всегда требовалось вмешательство государства. И оно действительно вмешалось, но чтобы снять коменданта Жана-Батиста Бьенвиля, единственного, кто до настоящего времени мог управлять колонией и сделать из нее то немногое, чем она была, короче, душой Луизианы. Вместо него был назначен капитан Перье, честный и храбрый моряк, единственным недостатком которого было то, что он абсолютно не знал потребности и ресурсы своей территории. У французов среди краснокожих были как враги, так и друзья, поскольку враги наших союзников неизбежно враждебны нам. Врагами были натчезы и чикачазы[321], друзьями — иллинои[322], арканзасы[323] и тоникасы, уступающие другим в численности, но проявляющие большую симпатию, чем остальные индейские племена. Дикари, легко возбудимые люди, постоянно находились под влиянием англичан, щедро наделяющих оружием, водкой и обещаниями. Вскоре против французов организовался заговор, в который вошли все враждебные племена. Индейцы, с их природной скрытностью, способны обмануть даже профессиональных дипломатов, настолько она непроницаема вплоть до момента осуществления замысла. Вопреки индейской пословице, утверждающей, что месть — это плод, который надлежит съедать зрелым, поспешность и алчность натчезов заставили их выступить ранее рокового часа, что и спасло французов от полного уничтожения. К сожалению, гарнизон и колонисты форта Розали заплатили за все. Поголовное уничтожение французов должно было начаться в установленные день и час. Натчезы, мирно собирающиеся вокруг форта и предательски выжидающие момента нападения, увидев прибытие множества кораблей, нагруженных провизией и товарами, не смогли смирить свою жадность при виде таких соблазнительных богатств. 28 ноября 1729 года один из вождей дал преждевременный сигнал, не дожидаясь, пока подойдут племена сообщников. Тотчас из мирных воинов, известных всем жителям форта, с которыми они долгие годы были в дружеских отношениях, натчезы внезапно превратились в свирепых убийц. Они кинулись на несчастных французов, не подозревающих об опасности, убивали их из ружей, топорами, ножами, перерезали им горло, скальпировали, страшно калечили. Эта жестокая бойня длилась едва ли час, но уже было две сотни жертв! Шестьдесят женщин, столько же чернокожих, пятьдесят детей были захвачены в плен, а припасы разграблены, испорчены, разбросаны. Это вероломное нападение, без сомнения принесшее большие потери, предотвратило всеобщую катастрофу. Комендант Перье, посредственный администратор, но энергичный и храбрый воин, встал во главе защитников, вооружил всех сильных мужчин, организовал в подвижные отряды, обеспечил оборону Нового Орлеана, привел два корабля в форт Розали, поставил коменданта Лобуа во главе колонистов и солдат регулярной армии, придал им индейские контингенты, на которые можно было положиться, и решительно атаковал натчезов. Комендант Лобуа оказался на высоте своей задачи. Он преследовал по пятам без передышки, без пощады краснокожих бандитов, сжег и разрушил их деревни, убил и обратил в бегство жителей. Получив подкрепление после того, как осторожность и долг повелели ему приостановить наступление, Лобуа вернулся с шестьюстами свежими воинами и закончил кампанию, истребив множество негодяев, взяв и отправив в Санто-Доминго большое количество пленных. Большое Солнце, отец или дядя мадам Дюбуа, был среди них. Когда в 1731 году оставшиеся в живых взбунтовались снова, против ненадежных соседей были приняты радикальные меры. Их просто истребили. В этом же году Вест-Индская компания снова передала Луизиану королю. Колония Миссисипи опять стала заброшенным владением, но почувствовала себя лучше. Комендант Перье, который оказал ей большие услуги в час опасности, был отозван во Францию и уступил место своему предшественнику Жану Батисту де Бьенвилю: простая чехарда. Это возвращение во главу колонии, той, которую он создал, не дало блестящих результатов. Бьенвиль, старея, становился придирой, к тому же более властным, чем раньше. Его диктаторские приемы, необходимые для эмигрантов первых лет, бедняков, не имеющих ни очага, ни места под солнцем, были неприемлемы для людей, разбогатевших от своих трудов, по большей части образованных и с чувством собственного достоинства, пришедших на смену первым колонистам. Однако он продержался еще шесть лет, воевал с чикачазами, которые еще продолжали свою кампанию после исчезновения натчезов и были истреблены после жестокой экспедиции против них. В 1738 году Бьенвиль подробно исследовал и колонизировал страну чокто[324], что обеспечило французам значительное расширение территории. В 1739 году начались первые серьезные опыты по сельскохозяйственному освоению новых земель. Поскольку почва была превосходной и со всех точек зрения благоприятной для выращивания злаковых культур и исчерпались возможности бесконечно тянуть из метрополии средства существования для разрастающейся с каждым днем колонии, кончилось тем, чем должно было начаться: большое количество земель распахали и засеяли зерновыми, ячменем, кукурузой, рожью, и этот опыт дал превосходные плоды. Вскоре Луизиана смогла обходиться собственными средствами. С этих пор она начинает процветать день ото дня. В 1746 году только Новый Орлеан насчитывал 4500 жителей, среди которых двадцать пять — тридцать плантаторов имели от ста пятидесяти до трехсот тысяч дохода. В остальной колонии было около десяти тысяч жителей, из которых пять тысяч чернокожих, не считая местных индейцев, привязанных к нашим поселениям внутренними узами. Начиналась вольготная и легкая жизнь для мелкой аристократии, устраивающейся постепенно по всему побережью на прекрасных плантациях, часто посещающей город, где можно было весело провести время в компании чиновников и офицеров, образованных, богатых, изысканных, предающихся всевозможным развлечениям: вечеринки, балы, охота, игры, приключенческие прогулки в индейские земли, которым опасность придавала дополнительную привлекательность. В общем это стал настоящий уголок Франции, перенесенный в глубину территорий, прилегающих к Мексиканскому заливу. Люди привнесли дух рыцарства, отваги, бескорыстия, расточительности, фатовства и в значительной степени мотовства. Женщины были красивы, умны, естественно, кокетливы, но умело прятали под внешним легкомыслием мужество, энергию, неоднократно проявленные в кризисные моменты. Понятно, что Бьенвиль с его авторитарным стилем правления стал для этих вольнолюбивых людей фигурой одиозной и был отозван в 1743 году, к великой радости колонии, которой он в высшей степени опротивел. Его преемником назначили маркиза де Водрея, тот продолжил и закончил усмирение чактазов, уже готовых восстать против жестоких мер, совершенно несвоевременно принятых Бьенвилем. Тем временем колония процветала с быстротой, которую невозможно было предположить, если судить по такому трудному началу. Выращивали индиго, хлопок, табак, сахарный тростник, кукурузу, ставшие доходными предметами экспорта. С равнин Иллинойса корабли уже везли зерно, кожи, соленое мясо, меха. Из Бордо, Ла-Рошели, Кадиса, Кап-Аитьена[325] часто прибывали корабли с европейскими товарами или предметами роскоши и уходили с обильным грузом продуктов, произведенных в молодой колонии. Город значительно усовершенствовался. Улицы были засажены красивыми, быстро растущими деревьями, клоаки исчезли, просторные дома с верандами и крытыми галереями вокруг них выглядели очень красиво. Так продолжалось восемь лет. Потом снова начались войны, нелепицы, безобразия, преступления. А с войной, бедствием народов, пришла нищета. Население Луизианы к этому времени почти удвоилось! Встал вопрос о том, чтобы соединить ее с Канадой дорогой, которая должна была пройти по неизвестным землям, и для обеспечения ее безопасности понадобилось возвести на некотором расстоянии один от другого форты. Строительство этих фортов было равносильно захвату внутренних земель, англичане воспротивились этому и перегородили намеченную трассу укреплением. Французский офицер, посланный для переговоров, был подло убит. Это преступление послужило сигналом к началу борьбы в Луизиане, ибо в Европе уже бушевала Семилетняя война между вековыми врагами — Англией и Францией[326]. Луизианцы дрались с неукротимой энергией и храбростью, мирились со всеми бедами, безропотно терпели разорение, но не сдавались. Понадобился позорный Парижский договор, который отрывал их от родины-матери, чтобы заставить прекратить героическое сопротивление. Франция, отказавшись от своих позиций на берегах Миссисипи, в 1764 году по секретному договору уступила свою колонию Испании. Трудно передать словами гнев луизианцев при мысли, что они перестают быть французами и становятся испанцами. Был даже момент, когда они решили провозгласить республику и объявить независимость, и уступили лишь силе. Но только в 1768 году войска вице-короля Мексики смогли завладеть Луизианой. В 1802 году Испания вернула ее Франции по Сен-Ильдефонскому договору. Но Первый Консул[327] на следующий год продал ее по непонятной причине Соединенным Штатам за восемьдесят миллионов франков. По крайней мере, она была свободна и не стала английской!
ГЛАВА 13
Береговые братья. — Санто-Доминго. — Бертран д’Ожерон. — Де Пуанси. Де Кюсси. — ДюкассМаленький остров Сент-Кристофер, расположенный в ста двадцати пяти километрах к северо-западу от Гваделупы, площадью всего 17 000 гектаров, является первой французской колонией на Антильских островах. Сначала испанцы не стремились обосноваться на этом острове, открытом еще в 1493 году Христофором Колумбом, давшим ему свое имя, поскольку имели другие, более важные для исследования земли[328]. В 1623 году капитан Эснамбюк, получивший от короля Людовика XIII право создавать поселения на Антильских островах, пристал к Сент-Кристоферу и на нем обосновался. Спустя два года отряд англичан, приведенный искателем приключений Уорнером, также пристал к нему; но они устроились на другом конце острова, противоположном тому, где находились французы. Обе колонии объединились для защиты от карибов[329], занялись преследованием туземцев и кончили тем, что полностью истребили их. С тех пор они жили, используя по возможности ресурсы страны, и становились немного охотниками, немного земледельцами, немного морскими пиратами. Так возникло знаменитое Береговое братство, которое наводило ужас на испанцев; пираты под названием «буканьеры» и «флибустьеры» совершали подвиги, граничащие с легендами. Испанцы, пренебрегшие сначала маленьким островом Сент-Кристофер, увидев его занятым, захотели заполучить свое владение обратно и прогнать тех, кого рассматривали как незаконно вторгшихся. Напомним, что папа отдавал им все земли, которые они откроют в Новом Свете[330], поэтому испанцы считали возможным не допускать туда других европейских пришельцев, намеревающихся там обосноваться. Но новые обитатели Сент-Кристофера с помощью судовладельцев из Дьепа оказали яростное сопротивление. Именно тогда адмирал Фадрике Толедо[331], посланный в 1631 году в Бразилию с многочисленным флотом, предназначенным для того, чтобы разрушить голландские укрепления, получил приказ истребить корсаров острова Сент-Кристофер. Французы и англичане напрасно сопротивлялись. Они были подавлены численным превосходством испанцев, и оставшиеся в живых вынуждены были разбежаться. Французы укрылись на острове Тортуга, расположенном к северо-западу от Санто-Доминго, называвшегося тогда Испаньолой[332]. Между ними была всего лишь прямая протока шириной десять километров. Остров Тортуга, названный так из-за формы, напоминающей панцирь черепахи[333], насчитывал восемь лье в длину и три в ширину. Окруженный отвесными скалами, которые по всему периметру делали его почти неприступным, он с южной стороны имел гавань, которую легко было защитить. На острове не было растительности, пресной воды не хватало, жить здесь было трудно; но эти недостатки с лихвой компенсировались безопасностью, и авантюристы не колеблясь обосновались на нем и устроили настоящую крепость. Искатели приключений, изгнанные из всех соседних земель испанцами, прибывали туда просить убежища: англичан и особенно голландцев принимали с распростертыми объятиями. Став более многочисленным, население острова разделилось по их склонностям и предпочтениям на три категории: буканьеры, флибустьеры и колонисты[334], пользующиеся все одинаковыми правами, имеющие равные обязанности и объединенные самыми тесными узами солидарности. Они назвали себя береговыми братьями. Буканьеры отправлялись на Санто-Доминго, где в изобилии водились коровы и быки, завезенные туда испанцами и расплодившиеся на свободе. Они охотились на этих животных, живущих абсолютно в диком состоянии, как и огромное количество свиней. Охотники убивали быков выстрелом из ружья, солили шкуру как прекрасный объект меновой торговли, и коптили мясо, чтобы оно хранилось как можно дольше, то есть окуривали его густым дымом, по карибскому обычаю в «букане», коптильне, — отсюда и «буканьеры»[335]. Они запасали мясо целыми артелями и продавали его на корабли, которые заходили к ним, чтобы пополнить запасы провизии. Мирные жители, самая малочисленная группа, были плантаторами. Они занимались обработкой земли и поставляли фрукты, овощи, кофе, сахарный тростник, какао, пряности, зерно. Флибустьеры, от искаженного английского free boonter, что означает «свободные грабители», или же от голландского fly boat, то есть «легкая лодка», разбойничали на море и становились грозными корсарами, как было сказано выше. Это необычное сообщество, жившее по законам, о которых мы сейчас только что узнаем, процветало. Жизнь была привольная и легкая, а население приумножалось за счет недовольных, бежавших из Европы, которых это существование, полное движения, опасностей и изобилия, привлекало на остров Тортуга. Разгневанные этим захватом испанцы, военный и религиозный деспотизм которых разрушил Санто-Доминго и оставлял повсюду пустыню, захотели, как прежде на Сент-Кристофере, прогнать береговых братьев. Они предательски воспользовались временем, когда одни флибустьеры и буканьеры в походе, другие — на охоте, высадились на остров, перебили колонистов, занимавшихся земледелием, перерезали женщин и детей, а потом разрушили поселки. Можно себе представить, как в бешенстве кричали буканьеры и флибустьеры, когда по возвращении узнали от оставшихся в живых о страшной бойне. Собравшись на совет, они поклялись смертельно ненавидеть испанцев, преследовать их отныне всегда и везде, грабить, убивать, разорять их владения, короче, объявили им настоящую войну на истребление. Они решили сдержать слово и жестоко отомстить. Под командованием английского авантюриста по имени Уиллис, который попытался перевести остров под сюзеренитет[336] Великобритании, береговые братья попытались организоваться, но не преуспели в этом и признали за командира француза, капитана Левассера. Последний организовал защиту острова, построил в порту маленькую цитадель, вооруженную пушками, сохранил острову французское подданство и потихоньку подготовил захват острова Санто-Доминго. К несчастью, Левассер стал настолько властным и так тиранил береговых братьев, что те убили его. С тех пор они жили в состоянии полной анархии, образовывали союзы, разваливающиеся после первой вылазки, руководимой главарем, который, закончив операцию, возвращался в строй или же образовывал небольшую шайку для участия в общем деле. И так продолжалось до того дня, когда шевалье де Фонтеней прибыл в качестве коменданта занять крепость и начать строительство жилища, более достойного для представителя короля Франции. Итак, остров Тортуга стал французским, на нем поднялся белый флаг, расшитый золотыми геральдическими лилиями, но какого страшного подданного заимело его величество! Сначала буканьеры. Почти все они были фламандцы или пикардийцы, согнанные с родных мест нищетой; они прибывали на Антильские острова полные свирепой ненависти к испанцам. Страсть к расправам и повседневные занятия вскоре сделали из них сомнительных воинов. Все предавались исключительно охоте на диких быков и коров, а также на свиней, вернувшихся в свое естественное состояние в лесах и горах. Они были экипированы длинными ружьями с восьмигранным стволом, издававшим при стрельбе очень громкие звуки, и тесаками с длинным лезвием для снятия шкур или разделки убитых животных. Порох, как у канадских охотников, хранился в больших бычьих рогах или в хорошо закрытых калебасах;[337] помогали им огромные собаки, которые загоняли животных и бесстрашно атаковали их. У буканьеров было по паре рубашек, короткие штаны или широкие брюки и куртка из грубого сукна. Войлочный или шерстяной колпак с козырьком дополняли вместе с башмаками из коровьей или свиной кожи этот нелепый и лишенный изящества гардероб. В свои экспедиции они брали маленькие палатки из тонкого полотна, которые скатывали и носили через плечо, как наши солдаты свои шинели, и с приходом вечера ставили их, чтобы защититься от дождей и комаров. Экипированные таким образом, они объединялись по двое и пользовались сообща всем, что имели. Выживший наследовал от умершего. Кроме этих маленьких сообществ было еще общее объединение всех буканьеров; таким образом, каждый из них мог найти около другого букана вещи, в которых нуждался. У них существовало взаимное доверие и общность всего, что они имели. В домах не было запоров. Такая мера предосторожности рассматривалась в первую очередь как преступление против общества. «Твое» и «мое» — были слова, непонятные в этой республике; пререкания и споры возникали редко; суд соседей или общих друзей обычно прекращал их. Если примирение было невозможным, то противники стрелялись на дуэли со свидетелями или без. Дуэль часто становилась смертельной из-за меткости этих искусных стрелков. Дуэлянты расходились на определенное расстояние, и жребий указывал, кто должен стрелять первым. Если одного выстрела было недостаточно, второй делали по желанию. Когда кто-то погибал, буканьеры собирались, чтобы проверить, «хорошо» или «плохо» он был убит, не была ли совершена относительно него подлость и откуда поразила мертвеца пуля. Всякая рана, нанесенная сзади или сбоку, рассматривалась как убийство. Виновного, кем бы он ни был, вешали или расстреливали. На охоте они занимались поиском «авеню», то есть троп, проложенных в кустарниках дикими животными. Следуя за собаками, охотники преследовали стадо и нападали на него, но не без риска, поскольку животные всегда были разъярены. Со всех убитых животных прямо на месте снимали шкуру, кожу засаливали, куски мяса коптили, за исключением того, что предназначалось для вечерней трапезы, и просто жарили на угольях, а затем натирали перцем. Когда запас шкур и мяса становился значительным, буканьеры всю добычу переправляли на рейд и продавали экипажам кораблей. Они снабжали также жителей, занимающихся только земледелием. Никого не интересовала национальность желающего принять участие в сообществе. Не спрашивали даже имени. У большинства членов общества были только клички, которые нередко передавались потомкам. Некоторые называли свое настоящее имя в момент женитьбы, а отсюда пословица, долгое время бытующая на Антильских островах: «Человека узнаешь только в тот момент, когда он женится». Впрочем, женатый человек не мог быть ни буканьером, ни флибустьером: он вынужденно становился «колонистом». Как и буканьеры, колонисты добровольно объединялись. Когда они хотели создать поселение, то обращались к коменданту за концессией на землю. Потом будущие земледельцы спиливали деревья, сжигали их и сажали на участке быстрорастущие овощи. Позаботившись о своем пропитании на будущее, они приступали к строительству большой хижины, или «каса»[338], как говорили испанцы, которые, привезли это слово в Америку. Поселенцы сами были архитекторами и строителями. Для этого они срезали три или четыре дерева, разветвленных в виде вилки, высотой пятнадцать — шестнадцать футов, вкапывали в землю, и на эти вилки укладывали ряд бревен, соединяемых гвоздями и образующих конек крыши хижины. С конька по бокам спускались тонкие стропила, связываемые с поручнями лианами или полосками бычьей кожи и служащие для поддержания покрытия из пальмовых листьев. Стены делали из легкого плетня из обычного или сахарного тростника. И все. В двух футах от земли внутри хижины устраивали плетеный настил, на который клали тюфяк, набитый кукурузными листьями. Это было ложе. Колонист, обладающий таким сооружением, считался богачом и никогда добровольно не оставил бы прекрасную землю Санто-Доминго, дающую ему почти без труда зерно и особенно табак, торговля которым в Европе была очень прибыльной. В этой своего рода республике, где, казалось, царило самое неукоснительное равенство, тем не менее были рабы, и притом белые! Этими несчастными были добровольцы из Европы, прибывшие в погоне за состоянием, но поскольку ничего, кроме собственных рук, у них не было, то они обычно нанимались на семь лет в услужение к буканьерам или жителям. Невозможно представить судьбу ужаснее той, что выпадала на долю этих бедолаг; положение их было раз в сто хуже, чем у негров. Еще больше, чем буканьеры и колонисты, необходимость объединяться испытывали флибустьеры для формирования экипажей. Быть может, никогда любовь к наживе и жажда мести не имели лучшего случая развернуться во всю ширь. Их первые походы были очень удачными, флибустьеры налетали огромными бандами, состоящими из английских, голландских, фламандских и португальских авантюристов. Чтобы поддерживать согласие между людьми различных национальностей и особенно относящихся с антипатией друг к другу, первые организаторы установили жесткий обычай, который вскоре стал неписаным правилом. Вне службы каждый человек сохранял всю свою независимость; но флибустьеры все время были связаны между собой непоколебимым обязательством. Сообщник, который нарушал эту своего рода присягу, терял звание берегового брата; его высаживали без еды и одежды на пустынном острове. По важным вопросам каждый береговой брат мог высказать свое мнение; каждый имел право на равную долю еды, вина и добычи. Дезертирство во время сражения каралось смертью. У того, кто воровал у своих, товарищи отрезали нос или уши; вора изгоняли из братства. Тот, кто крал из общего имущества, то есть из награбленного, но еще не разделенного добра, также изгонялся; его высаживали на пустынный берег с ружьем, припасами и полным бурдюком воды. Приговоры выносил выборный суд. Пьянство, неисполнение приказов главаря, оставление своего поста наказывались удержанием части добычи. Когда два флибустьера затевали ссору, им запрещалось выяснять отношения на борту, но при ближайшей высадке на берег они могли разрешить свои проблемы при помощи сабли или пистолета в присутствии помощника капитана. Постоянно нарушаемое правило запрещало игры в кости и карты на борту судна. Между экипажами и их главарями обычно составлялся договор, называемый по-французски chasse-partie. Вот как, по словам Оливье Эксквемелина[339], который долгое время жил на острове Тортуга, выглядит один из этих актов, состоящий из шестнадцати параграфов. Это документ достаточно любопытный и заслуживает быть изложенным полностью: «1. Если находящийся в плавании вооруженный корабль является общей собственностью экипажа, то первый захваченный корабль будет принадлежать капитану с частью добычи. 2. Если упомянутый корабль составляет собственность только капитана, то первый захваченный корабль будет принадлежать ему с двумя третями добычи; но он обязан сжечь тот из двух кораблей, который будет менее ценен. 3. Если корабль, принадлежащий капитану, погибнет при кораблекрушении, экипаж обязан оставаться со своим капитаном до тех пор, пока тот не добудет себе любым способом новый корабль. 4. Корабельный хирург получает двести экю[340] на свою медицинскую сумку, независимо от того, участвовал ли он в деле или нет и, кроме того, в случае участия, он получит часть добычи. Если ему не могут выдать ее деньгами, то он получит двух невольников. 5. Остальные офицеры получат каждый одну простую долю, за исключением отличившегося. В этом случае экипаж, собравшись вместе, должен большинством голосов назначить ему вознаграждение. 6. Тот, кто первый подаст сигнал, будь то днем или ночью, о появлении корабля-добычи, получит сто экю. 7. За потерю глаза во время сражения будет выплачено сто экю или выдан один невольник. 8. Потеря обоих глаз стоит шестьсот экю и шесть невольников. 9. Потеря правой кисти или руки будет стоить двести экю или два невольника. 10. Потеря обеих кистей или обеих рук будет стоить шестьсот экю или шесть невольников. 11. Потеря пальца или уха будет стоить сто экю или одного невольника. 12. Потеря одной ступни или одной ноги будет стоить двести экю или два невольника. 13. Потеря двух конечностей будет стоить шестьсот экю или шесть невольников. 14. Если береговой брат получит в какой-либо части тела рану, потребующую интубации, ему выдадут двести экю и двух невольников. 15. Если кто-либо потеряет конечность не полностью, но она не будет действовать, он получит компенсацию, как если бы потеря была полной. 16. Всякий покалеченный имеет право потребовать оплаты в счет возмещения ущерба деньгами или невольниками, лишь бы род добычи позволил его удовлетворить. В противном случае он осуществит свои права на следующую добычу». Ученики или новые матросы имели право только на половину доли добычи, и все подвиги вознаграждались независимо от доли добычи, предназначенной для каждого члена шайки. Естественно, что братство по оружию играло огромную роль у этих людей, существование которых было сплошной опасностью. Эти сообщества группировались по два человека по симпатиям, как буканьеры. На борту, где было абсолютное равенство, царила, однако, строгая дисциплина. В том, что касалось маневров или сражения, каждый неукоснительно подчинялся капитану или вахтенному офицеру под страхом смерти. Жизнь флибустьеров во время походов была очень тяжелой и лишенной всяких удобств. Они ели дважды в день, в десять утра и пять часов пополудни. Еда состояла главным образом из меда и соленого или копченого мяса. Матросы группировались вокруг котла по семь человек. Офицеры имели тот же распорядок и садились к общему котлу как равные. Некоторые из главарей славились неслыханной ловкостью, отвагой и смелостью, об их подвигах до сегодняшнего дня рассказывают легенды. Первым, кто приобрел известность в начале образования общества береговых братьев, стал моряк из Дьепа по прозвищу Пьер Ле-Гран[341]. Он захватил около мыса Тибурон, западной оконечности Санто-Доминго, вице-адмирала испанского флота, командовавшего кораблем с пятьюдесятью двумя пушками и с экипажем из четырехсот двадцати человек. У Пьера Ле-Грана была лодка с палубным настилом и двадцать восемь человек команды! Казалось, даже не думая о том, что на каждого его матроса приходится по пятнадцать испанцев, что враждебный корабль представляет собой почти неприступную крепость, он повернул на него. Флибустьеры поклялись победить или умереть. Дистанция сокращалась… Ле-Гран приказал хирургу просверлить отверстие в корпусе судна, чтобы оно, наполнившись водой во время абордажа, затонуло. Таким образом, для флибустьеров спасение было только в победе. Этот хирург, который, очевидно, стоил этой любопытной компании, без сомнения способный при случае всадить трепан[342] в череп, просверлил барку в тот момент, когда его сообщники, хватаясь за снасти, орудийные порты[343], вельсы[344], вскарабкались по бортам корабля и оказались на палубе. Первые испанцы, вставшие у них на пути, были безжалостно убиты. Потом эти двадцать восемь человек бросились с бешеной яростью в большую кормовую каюту. Они захватили врасплох весь офицерский состав, занимавшийся в кают-компании карточной игрой, нацелили ружья на каждого из офицеров, разоружили их, связали и оставили в качестве заложников, чтобы добиться капитуляции перепуганного экипажа. Уже начинало темнеть, и испанцы не увидели корабля, который мог бы привезти эту толпу демонов, хирург, отправив на дно лодку, вскарабкался на палубу и сражался как одержимый — суеверные испанцы могли принять это только за чудо. Дерзкий удар был нанесен, флибустьеры вернулись на Тортугу с адмиральским кораблем, который представлял для них очень ценную добычу. Как и во время этого невероятного абордажа[345], несколько месяцев спустя принадлежащий флибустьерам двадцатипушечный фрегат не побоялся ввязаться в сражение против двух крупных испанских галионов. Флибустьеры сражались с врагом, которому они объявили беспощадную войну, то есть с испанцами. Устремившись навстречу двум кораблям, чтобы разделить их и сражаться с каждым поодиночке, флибустьеры приблизились к ближайшему судну. Дав несколько залпов, фрегат благодаря своему превосходству в скорости обогнал испанца и перебил его фок-мачту[346]. Маневрируя таким образом со скоростью морской птицы вокруг этой неповоротливой баржи, фрегат послал в него серию залпов, смел его батареи от одного борта до другого, покрывая палубу убитыми и ранеными, а сам при этом не получил никаких серьезных повреждений. Второй галион прибыл на театр боевых действий, но при виде своего потерявшего управление и тонущего спутника удрал на всех парусах. Чуть позже флибустьерские нападения приняли такой размах, что испанцы, владевшие большей частью Америки, решили принять энергичные меры, чтобы избавиться от страшных врагов, становящихся все более свирепыми. Однако все их усилия были бесполезны, и флибустьеры продолжали неистовствовать. Не довольствуясь атаками на море, последние стали высаживать десанты на берег. Бедствие не ограничивалось больше потерей нескольких кораблей, речь уже шла о богатых и населенных городах. Первым флибустьером, осмелившимся высадить десант, был Льюис Скот. Он напал на Сан-Франсиско-де-Камиече, разграбил и разрушил до основания несчастный город. Вслед за ним Джон Девис взял штурмом Никарагуа[347], позже — высадился на Флориде и разграбил Сан-Аугустин[348]. Потом Александр, по прозвищу Железная Рука, разбил испанцев в Бокас-дель-Драгон…[349] Но самыми знаменитыми были Франсуа Нод, по прозвищу Л’Оллонэ Мишель Баск, Монбар Истребитель и Морган Красная голова. Л’Оллонэ[350] стал флибустьером, промучившись какое-то время в качестве «кабального». Храбрый до безумия, но жестокий до свирепости, он совершил большое количество очень удачных плаваний и однажды высадился на Кубе, перебил множество испанцев и нагрузил огромные богатства на свои корабли. Вскоре, поскольку дерзость возрастала с каждой удачей, он осмелился напасть на город Маракайбо, защищаемый тысячным гарнизоном и окруженный грозными фортификациями. Против всякого ожидания он взял этот несчастный город, истребил жителей, которые не могли заплатить достаточно большой выкуп, методично разграбил дома, общественные здания, церкви, с которых снял даже колокола. Оставив разрушенный Маракайбо, Л’Оллонэ пересек лагуну и подошел к Гибралтару, расположенному довольно далеко от берега[351], захватил его после жестокого боя и, чтобы заставить жителей расплатиться за их отважное сопротивление, утопил город в крови и поджег. Он не пощадил ни женщин, ни детей, на которых для забавы натравливал огромных псов, натасканных буканьерами для охоты на диких быков. Имя Л’Оллонэ стало на суше и на море таким страшным для испанцев, что торговля, казалось, полностью прекратилась. Это за короткий срок могло привести к полному разорению их колонии, если бы такое положение дел продолжалось. Но час невзгод прозвонил для бесстрашного предводителя флибустьеров. Он только что разорил побережье Гондурасского залива и взял приступом город Сан-Педро, а потом принялся за полуостров Юкатан, где его окружили значительные испанские силы и взяли в плен с большей частью его сообщников. Испанцы, которые при таких обстоятельствах были союзниками с индейцами этого региона, отдали захваченных им. Л’Оллонэ и его товарищи были привязаны к деревьям и съедены живьем каннибалами. Подвиги Монбара были таковы, что друзья и враги дали ему прозвище Истребитель. Выходец из знатной гасконской семьи с самого юного возраста мечтал стать корсаром, чтобы воевать с испанцами, которых ненавидел за их жестокость. Книги о покорении Америки, о пытках, применяемых к несчастным индейцам, приводили его в отчаяние, он мечтал отплатить победителям за их жестокость и освободить побежденных. В Монбаре было что-то от странствующего рыцаря, присоединившего к своему родовому имени прозвище Индейский Мститель. Лично очень бескорыстный, презирающий богатство, но страстно любящий славу, молодой гасконец способствовал обогащению своих компаньонов, охотно отказываясь от своей доли добычи. Отец не хотел отпускать его в море, и тогда он сбежал, добрался до Гавра, нашел там своего дядю, который командовал военным кораблем, отправляющимся на Антильские острова, и присоединился к нему. Прибыв на Санто-Доминго, молодой Монбар, мужественно приняв участие в нескольких морских сражениях, сошел на берег, пока его дядя давал отдых своему кораблю. Воспользовавшись вынужденной остановкой, он во главе нескольких матросов присоединился к шайке буканьеров. Последних испанцы преследовали, как диких животных. Монбар решительно напал, несмотря на явное численное неравенство, на корпус, насчитывающий около двух тысяч испанцев и их индейских союзников, и проявил такую смелость, помноженную на стратегическую ловкость, что пять сотен врагов нашли свою смерть в этой стычке. Индейцы были единственными, кого он взял в плен. Монбар объяснил им, что он пришел освободить их от ярма угнетателей, отпустил на свободу и сделал из них в дальнейшем полезных и отважных помощников. Буканьеры единогласно объявили гасконца своим главарем. Между тем его дядя, атакованный четырьмя испанскими галионами и пустив два из них на дно, видя, что сейчас будет захвачен, взорвал свой корабль. Эта трагическая смерть человека, которого он обожал, еще больше, если это только возможно, усилила ненависть Монбара. Он сражался то на суше вместе с буканьерами, то на море в рядах флибустьеров. Командуя двумя прекрасными кораблями, он вместе с командой, состоящей из испытанных моряков, наводил такой ужас на врагов своей отвагой и невероятным мужеством, что вскоре ни один испанский корабль не осмелился показаться в Гондурасском заливе и у берегов Юкатана. Монбар начал тогда опустошать побережья, жечь и грабить самые важные колонии испанцев: Сан-Педро, Пуэрто-Кабальо, Маракайбо, обращать в бегство флоты и армейские корпуса! Вот как описывает его внешность Оливье Эксквемелин: «Живой, расторопный и полный огня, как все гасконцы. Роста он был высокого, имел благородную бравую осанку, смуглое обветренное лицо. Что касается глаз, то никто не смог бы сказать, каких они формы и цвета. Черные и густые брови смыкались над ними дугой, почти закрывали их и прятали, как под темными сводами. Говорят, что в сражении он начинал побеждать уже одним взглядом, а заканчивал силой рук. Пока другие с удовольствием рассматривали попавшие в руки богатства, Монбаррадовался большому количеству лишенных жизни испанцев, поскольку рисковал жизнью вовсе не во имя добычи, а только ради славы и чтобы наказать испанцев за их жестокость». Шарлевуа добавляет, что ни разу Монбар не ударил невооруженного противника. Глубокой тайной покрыта вся жизнь известного флибустьера, погибшего, очевидно, во время шторма. Беспокойное население острова состояло из самых разношерстных элементов, живших группами в состоянии почти полной независимости. Правда, на острове Тортуге имелся «королевский комендант», но он, собственно говоря, не осуществлял никакой эффективной власти и находился здесь скорее для того, чтобы утвердить своим присутствием права Франции на владение землей. Впрочем, флибустьеры, буканьеры и жители, существуя как истинные бандиты, все же крепко держались за право оставаться французами и не хотели выглядеть личностями без отечества. Итак, остров был вроде бы французским по названию и национальной принадлежности его обитателей. Первым истинно французским комендантом истинно французской земли, который действительно сумел подчинить этих бунтарей, был Бертран д’Ожерон. Эта вовсе не легкая задача требовала энергии, такта и глубокого знания людей. Впрочем, все его прошлое давало ему, как никому другому, условия для успеха. После тщетных попыток колонизовать Мартинику он надеялся добиться большего на Санто-Доминго. Бертран плыл на остров с компаньонами, когда кораблекрушение отняло у него недалеко от Леогена[352] груз: оборудование и все припасы. Оставшись безо всего, он вынужден был расстаться со своими людьми и вести тяжелое существование с буканьерами, по-братски принявшими разорившегося дворянина. Живя и трудясь бок о бок с ними, он сумел изучить, понять нужды, стремления этих отважных людей и решил преобразовать в сильную процветающую колонию разношерстное сборище сухопутных и морских бандитов. Впрочем, некоторые из них жаждали отдыха и семейных радостей. Они-то и создали первое ядро из порядочных людей, которыми д’Ожерон окружил себя. Уверенный, таким образом, что будет поддержан в своем стремлении, он отправился во Францию, переговорил с министром, получил горячее одобрение и вернулся в 1664 году в должности губернатора. Буканьеры, и особенно жители, уже обосновались на большом острове, когда перепуганные испанцы перебрались на его западную часть и основали несколько поселений. С самого начала д’Ожерон добился, чтобы из Франции прислали бедных девушек. По прибытии они вышли замуж за буканьеров, и те, став отцами семейств, тотчас утратили свою прежнюю суровость. Одновременно поднялись колонии Птитанс, Ниппес, Фон-де-Негр, Анс-а-Во, Пор-Мариго и Кап[353]. Новые брачные союзы заключались по мере прибывания новых транспортов, привозящих невест для жителей и буканьеров, последние становились оседлыми и также начинали заниматься сельским хозяйством. С другой стороны, д’Ожерон под предлогом посылки во Францию своего груза купил два корабля, но сделал это скорее для жителей, чем для себя. Каждый грузил на них свои продукты для мелких перевозок. По возвращении д’Ожерон публично выгружал привезенные товары; колонисты их принимали, в оплату требовалось только простое честное слово покупателя. Такое поведение открывало ему все сердца и кошельки. Около двух третей, или, по крайней мере, половина жителей, были приручены. Флибустьеры, достаточно многочисленные, всегда были непримиримыми и упорными в признании власти, которая могла бы помешать некоторым морским операциям в исключительно пиратской сфере. Комендант решил использовать их для завоевания целого острова. В 1673 году в очередной раз вспыхнула война между Францией и Испанией. Поведя неутомимых морских вояк против их векового врага, обнаруживая ценные качества воина и моряка и не щадя себя, губернатор завоевал одновременно для Франции флибустьеров и большую часть острова Санто-Доминго, но, мечтая завершить это завоевание и полностью изгнать врага с большого острова, д’Ожерон в 1676 году снова отправился в Париж, чтобы заинтересовать правительство своими проектами и получить недостающие средства. Почти сразу по прибытии Бертран умер от болезни, которую приобрел в Америке. Бертран д’Ожерон умер бедным, сохранив репутацию добродетельного человека, заботливого сына своей родины, который никогда не думал скопить состояние, хотя сделать это ему бы не составило труда. Его место в правлении островом Тортуга занял де Пуанси, его племянник, честный и мужественный, как и он, и обладающий такой же энергией и знанием людей. Де Пуанси пришел на смену своему дяде в критических обстоятельствах. Ведь кроме испанцев, исконных врагов, были еще голландцы, большие охотники нападать на наши поселения, с которыми также не прекращались войны. К счастью, де Пуанси имел храбрых помощников. Он укрепил оборону множества пунктов на побережье, и буканьеры сняли с крюков свои ружья, бездействовавшие после исчезновения дичи, флибустьеры снова отправились в море и показали голландским морякам, что они достойны своей репутации. Наше поселение, что было очень редко, смогло продержаться своими собственными средствами, не прибегая к помощи метрополии. К тому же какими бы страшными людьми ни были береговые братья, они сражались теперь за свои семьи и свои очаги под знаменем своей родины! Положение улучшилось. Плантаторы обеспечивали существование колонии и могли даже экспортировать некоторое количество ценных продуктов, особенно табака, продажа которого давала значительную прибыль. Де Пуанси основал поселок Жакмель, и население нашей молодой колонии насчитывало уже восемь тысяч жителей, не считая черных невольников, привезенных из Африки. Правительство шевалье де Пуанси продержалось только семь лет и преждевременно закончило свое существование со смертью этого честного и искусного администратора. Ему на смену пришел шевалье де Кюсси, такой же храбрый, как и его предшественники, и, как они, стремящийся обеспечить превосходство Франции на всем острове. В 1689 году де Кюсси перешел в мощное наступление, решительно атаковал город Сантьяго и взял его штурмом, несмотря на отчаянную защиту. Последовавший вслед за этим сезон дождей помешал продолжить завоевание. Известно, что в тропиках в это время года вода с неба льет неделями и месяцами, пропитывая землю, переполняя реки, которые выходят из берегов и делают движение экспедиционного корпуса почти невозможным. Де Кюсси надеялся перейти в наступление тотчас после возвращения сухого сезона, но его опередили испанцы, располагавшие более многочисленной армией, и навязали ему сражение в долине близ Лимонада[354]. Де Кюсси допустил неосторожность, приняв сражение в этих неблагоприятных условиях с бесстрашием, проявленным еще тогда, когда первым атаковал Сантьяго[355]. Он был убит в бою, и вместе с ним погибли около шести сотен французов. Храброго и несчастного де Кюсси сменил Жан-Батист Дюкасс, отважный баск, от простого юнги дослужившийся до капитана корабля, несмотря на небывалые трудности при продвижении человека, не имеющего знатных предков. Дюкасс, привычный к сказочным подвигам, к отважным, считающимся невозможными поступкам, был человеком ситуации. Назначенный правителем в 1691 году, он быстро разделался с испанцами и преследовал их до Ямайки. Став во главе флибустьеров, он сделал смелый бросок к этому прекрасному острову, опустошил его, захватил огромную добычу и с триумфом вернулся на Санто-Доминго. Спустя некоторое время испанцы в союзе с англичанами снова напали на наше владение. Дюкасс должен был отойти в глубь острова, вступить в партизанскую войну, неотступно преследовать их, бить поодиночке и заставить покинуть остров. Верный своему стратегическому принципу, состоящему в том, чтобы вести войну на территории врага, он отправился вместе с бароном де Пуанси в его экспедицию в Картахену. Храбрый баск возглавил большую шайку флибустьеров, принял активное участие в кампании, внес свой мощный вклад во взятие форта Бока-Чика и первый водрузил французское знамя над фортом Ильимани. Рисвикский мирный договор (1697 г.), по которому Испания уступала Франции часть острова Санто-Доминго, положил конец этой волнующей борьбе и позволил снова заняться делами колонизации.
ГЛАВА 14
Французы в Гвиане. — Ла Равардьер. — Колониальные компании. — Маркиз де Феролль. — Тюрго и Шанвалон. — Катастрофа на Куру. — Малуэ. Барон де БесснерМиф о стране Эльдорадо, который зажег воображение и более века возбуждал вожделения, постепенно рассеялся, поиски золота отошли на второй план, и отныне путешественники занимались только колонизацией. Первые ее попытки можно назвать откровенно неудачными, если не больше, поскольку для колонизации этой страны бесконечных непроходимых лесов, не имеющей других путей для проникновения, кроме почти несудоходных рек, для разработки прекрасных лесов, всевозможных рудников и огромного разнообразия природных богатств, необходимо было привлечь большое количество людей, жадных до работы и не знающих усталости. Но первых колонистов, прибывших на эти реки, к тому же в малом количестве, привлекали надежда на легкую наживу, большие доходы, которые можно получить без особых усилий. Это были люди без определенного рода занятий, навербованные для новых колоний по притонам и злачным местам, не приспособленные к тяжкому труду, но одержимые алчностью, поэтому для эксплуатации природных богатств приходилось прибегать к труду порабощенных аборигенов и ввозимых в страну рабов. В 1604-м, а по другим сведениям в 1612 году, была организована первая французская экспедиция для колонизации Гвианы. Ее начальником назначили капитана де Ла Равардьера[356]. Очарованный мощным течением Амазонки, он обосновался и укрепился на большом острове Мараньян, откуда португальцы не замедлили его изгнать[357]. Рекой, принявшей в 1628 году первых колонистов, прибывших в Гвиану, была Синнамари[358]. Двадцать шесть человек под командованием сьёра Шантайя и сьёра Шамбо набросились на огромные леса с дерзкой мыслью прорубить в них просеку. Их дальнейшая судьба неизвестна. Вторая экспедиция, состоящая всего лишь из четырнадцати человек, оставшихся от колонистов, пытавшихся освоить берега Синнамари, обосновалась на реке Кунамане с целью произвести здесь раскорчевки[359]. Затем в помощь им прислали около пятидесяти человек, потом еще шестнадцать. Но колония все же развалилась из-за постоянной нехватки рабочих рук и плохо выбранного места для ее строительства. В 1633 году маленькая группа вынуждена была отступить на остров посреди реки Кайенна. Одна часть выбрала берег Ремира, другая укрылась на холме, носящем имя карибского вождя Сеперу[360]. В том же 1633 году несколько торговцев из Руана получили у Ришелье привилегию на торговлю и навигацию в странах, расположенных между Амазонкой и Ориноко. Новое подтверждение этих прав им было дано в 1638 году грамотой, в которой говорилось, что компании разрешается продолжить колонизацию земель от устья реки Кайенна до устья Марони, по направлению к мысу Норд[361] и обосноваться во всех странах, не занятых никаким христианским владельцем, между «рекой Ориноко, включая оную, и рекой Амазонка, включая оную». Эта грамота доказывает существование достаточно большого количества поселений до 1633 года. Первый полк был послан этой компанией, основанной под названием «Руанская» под командованием капитана Леграна. Второй, более многочисленный, прибыл позже, чтобы окончательно завладеть освоенными территориями, им командовал Понсе де Бретиньи[362]. Он появился 25 ноября 1643 года в устье Магури с двумя кораблями и тремя сотнями бродяг и отщепенцев на борту. В различных пунктах вдоль берега обитали несколько французов, жалкие остатки существовавших некогда по берегам рек колоний. Они говорили на языке племени галиби[363] и переняли их привычки. По прибытии Понсе де Бретиньи также обосновался на вершине холма Сеперу, построил форт и окружил его палисадом для защиты от возможных набегов индейцев. Вместо колонизации Бретиньи, охваченный истинным военным безумием, всех поставил под ружье и создал режим немыслимой тирании. Он истощил силы и энергию подчиненных на бесполезное строительство фортов и оборонительных сооружений. Голод, плохое обращение ожесточили толпу невольников. Они схватили Бретиньи и заковали его в кандалы, но поскольку среди них не было никого, кто мог бы его заменить, то власть ему вскоре вернули, и он воспользовался ею для еще более свирепых бесчинств. Вместо того чтобы подружиться с добрыми и миролюбивыми индейцами и, следовательно, легко подчинить их себе, этот кровожадный зверь мучил их без всякой нужды и стал первой жертвой своей нелепой жестокости. Индейцы ушли в леса и не кормили больше маленький отряд, которому угрожала теперь голодная смерть. Бретиньи, намереваясь преследовать их, попал в засаду и был убит вместе с большинством своих людей. Сумели убежать и укрыться на вершине холма Сеперу только двадцать пять человек. Руанские компаньоны прислали помощь этой колонии только через два года после отправления экспедиции. Французу по фамилии Лафорест было поручено проводить в Кайенну сорок человек подкрепления. В конце шестой недели индейцы их перебили, за исключением двоих, сумевших пробраться в Суринам, где уже обосновались голландцы[364]. К концу 1651 года в Париже создается новая ассоциация под названием «Компания Эквиноксиальной[365] Франции», состоящая из двенадцати членов, которые собрали капитал в восемь тысяч экю. Члены «Руанской компании», видя, что привилегия от них ускользает из-за невыполнения условий концессии, спешно отправили в Кайенну в феврале 1652 года шестьдесят человек, чтобы основать там новое поселение. Эта экспедиция возвела на холме Сеперу форт на развалинах прежнего, оставшегося от Бретиньи, произвела корчевку леса, посадила маниоку и батат, короче, выполнила задачи колонизации. Однако новая компания получила от короля грамоту, отзывавшую за невыполнение условий концессии прежние, выданные членам «Руанской компании». Парижская компания организовала, опять же опираясь на военных, экспедицию из восьми сотен человек. В момент отправления аббат Мариво, бывший душой предприятия, упал в Сену и утонул. Один из компаньонов месье де Руайвиль принял командование и тотчас, прямо в открытом море, стал претендовать на абсолютную власть. Его спутники не пожелали согласиться с подобными притязаниями, отделались от него, заколов в каюте и без всяких церемоний сбросив труп в море. Отплыв из Гавра 2 июля 1652 года, два корабля с новой группой колонистов прибыли в Кайенну 30 сентября. Они опасались встретить сопротивление со стороны контингента, посланного «Руанской компанией», чтобы сохранить свои привилегии. Но перед численным превосходством вновь прибывших те смирились и вошли в состав экспедиции. Однако это новое предприятие закончилось так же плохо, как предыдущие. Отсутствие общности интересов между командирами, их бесконечное соперничество, а потом и ожесточение местных жителей, которых они стремились обратить в рабство, сначала сократило ряды колонистов, а потом вынудило их покинуть эти благодатные земли. Так Гвиана была оставлена в покое европейскими колонизаторами до начала 1653 года. Голландцы, приведенные Спрингером, высадились в это время в Кайенне, никого не найдя, обосновались там на десять лет, показав, что можно сделать упорной работой, умным руководством и последовательностью осуществления замыслов. Они достигли замечательных и неожиданных результатов. Однако Кольбер после провала руанской и парижской компаний искал более надежный путь для колониальной экспансии. Он предоставил новой ассоциации те же привилегии, что и предыдущим, то есть полную собственность на всю страну, расположенную между Ориноко и Амазонкой. Эта ассоциация, директором которой стал докладчик в государственном совете де Ла Барр, образовалась в 1663 году и получила такое же название, как прежняя парижская компания, то есть «Равноденственная Франция»[366]. Новые колонисты вытеснили Спрингера и его людей, нашли распаханные земли, процветающее сельское хозяйство и последовали примеру голландцев, чтобы обеспечить будущее колонии. Но вмешалась война. Кольбер, чувствуя необходимость выработать общее направление для всех поселений, основанных вне континентальной территории, объединил французские колонии под управлением одной большой компании, Вест-Индской, которой королевской грамотой предоставлялись в собственность все острова и земли, населенные французами в Америке. Де Ла Барр был оставлен в своей должности, но в 1666 году, когда разразилась война между Францией и Англией, англичане захватили колонию, полностью разорили ее, несмотря на героическое сопротивление, и вскоре покинули, не основав там поселения. Именно этим, 1667 годом датируются старинные архивы, находящиеся в различных хранилищах колонии. В эту эпоху правители не проживали в Кайенне. Они поселились там позже, в 1674 году, когда два иезуита отцы Жан Грийе и Франсуа Бешамель произвели первую разведку этих земель. Миссионеры проникли в глубь Гвианы к верховью реки Ояпок[367]. Бреданский мир позволил де Ла Барру снова завладеть Кайенной, и колония узнала новые дни процветания, к несчастью, слишком короткие. Голландцы, которым Людовик XIV объявил войну в 1672 году, стали под командованием адмирала Бинкеса[368] с флотом из одиннадцати кораблей перед островом и 5 мая 1676 года внезапно без боя овладели Кайенной. В очередной раз она была захвачена иностранцами. Они приложили немало сил, чтобы расширить ее форты и средства защиты, а заодно укрепить поселения, строительство которых было начато еще в мирное время на Ояпоке и Апруаге без ведома Франции. Но в том же году 17 декабря адмирал Эстре снова овладел колонией и стал ею управлять от имени короля, как другими королевскими провинциями. После возвращения колонии прежним хозяевам опять началось заботливое возделывание земель. Какао, кукуруза, индиго, хлопок, сахарный тростник приносили хороший доход Кайенне. К несчастью, религиозная нетерпимость прогнала вскоре из квартала Ремир большое количество евреев, приносивших колонии немалую прибыль. Большая часть их переселилась в Суринам и там обосновалась. В 1686 году в колонии увеличилось количество населения и выросло благосостояние. Этот период можно считать одним из самых благополучных в ее истории. Кайенна была на пути к процветанию, когда Дюкас, губернатор Санто-Доминго, решив атаковать Суринам, явился в Кайенну со своими флибустьерами. Он навербовал здесь в свои ряды большое количество жителей и повел их в бой, но натолкнулся на хорошо организованную оборону и потерпел сокрушительное поражение. Флибустьеры не оправдали своей былой репутации и, быстро погрузившись на корабли, бросили большинство из своих кайеннских союзников, которые были взяты в плен. Голландцы отправили их потом на Антильские острова, и Кайенна потеряла в этой авантюре лучших своих колонистов; потеря была так ощутима, что на какое-то время колонизация приостановилась. В 1677 году в Гвиане появляется один из очень редких, к сожалению, людей, созидательный гений которого сотворил чудо: маркиз де Феролль, одна из наиболее симпатичных, по-настоящему великих личностей нашей колониальной истории. Назначенный адмиралом д’Эстре адъютантом командующего войсками в Гвиане, он был повышен в должности и стал командующим, а вскоре душой колонии. Обладая терпением и энергией, он имел страстное желание более четко обозначить границы Гвианы и привлечь внимание к ее бессчетным богатствам. В июне 1677 года де Ла Барр поручил ему вместе с горсткой людей изгнать голландцев, построивших на реке Ояпок колонию, названную Оранье (Оранжевая)[369]. Во время экспедиции маркиз увидел плодородные земли, изрезанные лесами и саваннами, которые простирались вдоль другого берега реки, и решил осмотреть эту обширную территорию и включить ее в доминион короля. Он проник в нее в 1688 году через Межакари и через область саванн. Португальцы, вторгшиеся в наши пределы, воздвигли там три форта: Арагуари, Дестену, Тожери. Из этого леса они выкачивали огромное количество какао, ванили и корицы. Влиятельные лица Португалии старались завладеть землями от мыса Норд до Амазонки вопреки их вековой принадлежности Франции. Экспедиция дала маркизу де Фероллю точное представление об этих обширных районах и о той пользе, которую можно извлечь из каждого кусочка здешней земли. В 1692 году он начал прокладывать через девственные леса, реки и топи дорогу, ведущую непосредственно к португальским фортам. Этот гигантский проект был осуществлен за пять лет. Проложенный таким образом путь шел от реки Комте, пересекал горный узел, где находились истоки основных рек Гвианы, и доходил до бухточки Пара. С десятью офицерами, пятьюдесятью солдатами и несколькими носильщиками-индейцами де Феролль обрушился на португальцев и отнял у них все три форта. Он оставил гарнизон на позиции Макапы и вернулся в Кайенну только после полного освобождения этой территории. Дальнейший ход колониальной истории протекал без особых событий вплоть до Утрехтского договора 1713 года, в ходе обсуждения которого встал вопрос, не решенный до сих пор, это «спорные территории». По статье 8 настоящего договора Франция отказывалась от собственности на земли мыса Норд и признавала в качестве северных границ Гвианы реку Жарус или Винсент-Пинсон. В течение более двух веков географы и дипломаты задают вопрос и не находят ответа, о какой реке идет речь. Португальцы и позже бразильцы считали, что Ояпок была единственной, которая отвечала этому назначению, тогда как для любого здравомыслящего человека ясно, что речь шла, конечно, о Арагуари. Этот договор оказал Гвиане плохую услугу. Фактически в тексте договора, сообщенного официально наместнику специальным посланием из Португалии, сеньор Жозе Дакунья Бесса название Ояпок умышленно заменил на Жарус. Это покушение на территориальные права колонии добавилось ко всем невзгодам, которые в течение полутора веков терзали Гвиану и сделали таким медленным и таким тяжелым ее развитие. В 1716 году колониальная администрация совершила, однако, ценное приобретение. Несколько французских дезертиров, нашедших убежище в Суринаме, надеялись добиться помилования, доставив в Кайенну саженцы кофе. Благодаря этим людям Кайенна стала первой французской колонией, пристрастившейся к бурлящему напитку. Десятью или двенадцатью годами позже стали сажать какао. Но, несмотря ни на что, население к 1740 году выросло только до 5290 человек (566 белых, 54 вольноотпущенника, 4634 черных невольника и 36 индейцев). Вскоре колонию постиг страшный удар. Рассказы о Гвиане, услышанные герцогом Шуазелем[370], привели его к мысли об экспедиции, которая должна была по количеству участников и значению превзойти все предыдущие. Он хорошо оценил географическое положение этой колонии, очень благоприятное в эту эпоху плавания под парусами. Из ее портов флот мог в короткое время достичь Антильских островов, защитить наши владения или атаковать вражеские. Следовательно, место было очень удобным для основания большого военного и сельскохозяйственного поселения. Ничем не следовало пренебрегать для успеха предприятия. Жажда золота, надежда быстро добиться успеха, пример баснословного процветания колонистов Санто-Доминго привлекли большое количество эмигрантов. Каждый видел перед собой чарующие горизонты легкой беззаботной жизни. В путь отправились не менее пятнадцати тысяч колонистов! Место на берегу для первых поселений было выбрано удачно[371]. Куру, расположенный на левом берегу реки того же названия, представлял собой песчаный и лесистый край, который и сегодня считается одним из самых здоровых курортов колонии. Старый колонист де Префонтен, отставной морской офицер, получил поручение приготовить место и построить необходимые жилища, но встретил противодействие со стороны местных властей, с беспокойством наблюдавших за образованием у ворот Кайенны этой независимой колонии, грозившей очевидным соперничеством. Ему отказали в рабочей силе и инструментах, и, когда колонисты прибыли, ничего не было готово. Руководить созданием колонии было поручено двум людям: де Тюрго, маркизу де Коммон[372], которому Шуазель доверил верховное командование экспедицией в должности генерального наместника, и де Шанвалону, юристу, назначенному на пост главного интенданта новой колонии. Шанвалон отправился с первым конвоем. Куча припасов, предназначенных для эмигрантов, была выгружена в Кайенне. Все помещения были заполнены. Складов не хватило, пришлось большое количество продовольствия оставить под открытым небом на волю переменчивого влажного климата. Интендант спешно отправился на место, намеченное для новой колонии, не переставая сожалеть о том, что оно отделено расстоянием более двадцати пяти морских миль от основного склада продуктов и материалов при отсутствии транспортных средств. Прибыв туда, он увидел шумное и радостное оживление первых колонистов. Не думая о завтрашнем дне, они затеяли игры, организовали театральные представления, пока по приказу Префонтена негры строили пристанища в ожидании приближающегося сезона дождей. Но эта преступная праздность вскоре была жестоко наказана. Пришла экваториальная «зима» с ее постоянными дождями, и вскоре эмигранты почувствовали, как их со всех сторон окружает нездоровая сырость, проникающая повсюду. Не хватало укрытий, а транспорты с людьми, которые должны были прибывать с равномерными интервалами, поступали непрерывно. Приходилось укрываться под деревьями. Продукты питания портились. Не замедлили объявиться болезни. Глубокое уныние охватило всех. И тогда раздался всеобщий клич «спасайся кто может», но бежать было некуда. Голод превратил всех этих людей в свирепых животных, лихорадочно оспаривающих кусок сухаря. Смерть косила без жалости! Трупы множились. Де Шанвалон тщетно пытался остановить катастрофу. Все было против него, даже недостатки местности и несгибаемая суровость природы. Между тем месье де Тюрго решился отправиться в Гвиану, куда прибыл в момент, когда катастрофа свирепствовала с наибольшей жестокостью. Зрелище таких бедствий заставило его позаботиться о самосохранении. Он не стал рисковать на зараженных песках Куру. Без сомнения, его совесть не была спокойна, и, не решаясь лишиться жизни во имя долга, он попытался свалить всю ответственность на беднягу Шанвалона, которого к тому же приказал арестовать. Последний и сам потерял голову. Безнадежность лишала его решительности. Он много суетился, но не действовал. Его сняли с должности и отправили в Мон-Сен-Мишель[373]. Месье де Тюрго довершил свои ошибки, отстранив коменданта колонии, не заменив его в момент, когда так было необходимо хоть какое-то управление. Отчаявшиеся колонисты не видели больше другого выхода, кроме смерти; и в отчаянии устремились навстречу ей, избавительнице от страданий. Месье де Тюрго вернулся во Францию и был встречен криками негодования. Комиссия по расследованию заклеймила его позором, как он того и заслуживал. Этот приговор был лишь слабым удовлетворением справедливости. Однако не все погибли в страшной катастрофе. Несколько эмигрантов из последних транспортов уцелели. В момент, когда уже начали появляться первые симптомы эпидемии, недостаток распаханных земель не позволил принять их на перенаселенных отлогих берегах Куру. Вновь прибывших переправили на острова Дьявола, которые с тех пор назывались островами Салю, что значит «спасение». Это название оправдано: большинство нашедших здесь убежище были спасены от эпидемии. Несколько эльзасских семей, посланных Хогвицем и Бесснером[374], также были застрахованы от голода и заражения. Они ушли в глубь саванн и даже начали процветать. Через три года после катастрофы, которая прервала во Франции исход колонистов, барон Бесснер, активный и беспокойный человек, задумал новый проект колонизации Гвианы. Он пользовался теми же приманками, что и его предшественники, расхваливал, что, впрочем, было справедливо, богатство и плодородие наших владений, приказал составить карты, где фигурировали многочисленные группы населения, что было ложью, упоминал о наличии золотых и серебряных рудников и утверждал, что единственная причина провала Тюрго — это отсутствие плана и плохое руководство. Если бы Шуазель, говорил он, следовал его, барона Бесснера, советам, катастрофу можно было предотвратить. Бесснер объявил, что он возобновит провалившееся дело с новыми средствами, собрав двести тысяч индейцев и двадцать тысяч беглых невольников из Нидерландской Гвианы, желающих стать колонистами… Он обещал прекрасное будущее тем, кто захочет участвовать в этом новом мероприятии, и опубликовал записки, всколыхнувшие многие умы. Однако месье де Сартин[375], морской министр, не очень верил во все это, и не без причины. Он послал де Малуэ[376], главного морского комиссара, воочию убедиться в возможности осуществить проекты барона де Бесснера. Прибыв в колонию, новый распорядитель кредитов быстро узнал, насколько они несбыточны. Невозможно было найти внутри страны более десяти тысяч индейцев, разбросанных по деревням, где жили от двадцати до пятидесяти семей, а количество беглых негров сократилось до пяти или шести сотен человек. Даже если бы миссия Малуэ только помешала новому колонизаторскому психозу, и то она уже была бы достойна интереса. Но Малуэ сделал больше. Рядом с прозябающей в нищете Французской Гвианой Гвиана Нидерландская приносила с каждым днем все больший доход, и он решил изучить экономические процессы в этой колонии, чтобы применить их к нашей. Благодаря своей последовательности и волевой энергии он, конечно, вытянул бы Гвиану из маразма, в котором она прозябала, если бы плохое состояние здоровья, а также глухое противодействие, которое он встретил при реализации своих проектов, не вынудили его вернуться во Францию. В его делах ему очень помог Гюизан, швейцарский инженер, которому голландское правительство позволило перейти на службу Франции. Это тот Гюизан, который сумел приобщить наших колонистов к обработке низинных земель, осушил окрестности Кайенны и открыл исключительную плодородность затопленных отлогих берегов, где речные наносы непрерывно наслаиваются на создающий плодородие ил. Это стало настоящей революцией в методике сельского хозяйства. Но звездный час настал, когда Гвиана после открытия на ее территории золота перестала заниматься раскорчевкой земель и занялась более доходным, хотя и более рискованным, делом, а именно золотодобычей. После отъезда Малуэ барон де Бесснер сумел восстановить свое прежнее влияние на умы и заставить принять свою точку зрения. Его назначили командующим. Никогда более свободное жизненное поприще не открывалось перед человеком для реализации его идей. По результатам можно судить о бездарности этого великого прожектера. Он жалко провалился, получил выговор от министра колоний и умер в конце года, может быть, даже в заключении, не осмеливаясь больше показываться на глаза тем, кого одурачил красивыми обещаниями. А между тем грянула Французская революция. В это время в гвианском колониальном обществе были представлены три расы: европейцы, туземные индейцы и негры, привезенные из Африки, и три класса: хозяева, вольноотпущенники и невольники. Это социальное разделение не имело аналогии с тем, что было в метрополии. Среди европейцев были как своего рода аристократы: белая знать, владельцы сахарных заводов, так и простолюдины: мелкие коммерсанты, владельцы небольшой собственности и даже неимущие. Вольноотпущенники приближались к третьему сословию, и невольников можно сравнить с крепостными, которых ночь 4 августа сделала свободными. Как и в других колониях, произошел раскол между двумя фракциями колониальной аристократии. Законом от 9 апреля 1790 года политические права были переданы без различия рас всем людям, достигшим возраста двадцати пяти лет, владельцам недвижимой или другого вида собственности. Простые белые, по большей части малоимущие, были лишены права голоса, и с их стороны прозвучал довольно странный протест: с одной стороны, против привилегии, зависящей от собственности, и, с другой стороны, против участия вольноотпущенных, обладающих собственностью, в политической жизни. Жинет Удлин, племянник Дантона, посланный в качестве чрезвычайного комиссара, обнародовал декрет Конвента, отменяющий рабство. Но, уступая жалобам местной аристократии, объединенной в колониальный совет, он решил, что колония погибнет, если крупные владения не будут защищены, и так организовал режим работы, что рабочие руки снова попадают под ярмо владельцев земли. Возникло энергичное сопротивление, и пришлось прибегнуть к наказаниям, чтобы добиться выполнения этого режима, который был не чем иным, как скрытым рабством. Реакция торжествовала день ото дня с большей силой, обязав негров оставаться при имении, покинутом по вынужденным обстоятельствам его владельцами. Возвращение прежнего положения вещей уже не было скрытным. Переворот 18 брюмера[377] снова отнял у чернокожих свободу, которая и была-то лишь номинальной, и вернул их в прежнюю кабалу. Перед окончательным освобождением, дарованным чернокожим американцам революцией 1848 года, колонии еще предстояло выдерживать в течение восьми лет иностранное господство. Атакованная в январе 1809 года англо-португальским флотом, она была отдана без боя Виктором Гюгесом, тогдашним проконсулом Гваделупы. Договоры 1814–1815 годов вернули ее нам, но вступление во владение произошло только в 1817 году.
ГЛАВА 15
Французы на Антильских островах. — Пьер Белэн д’Эснамбюк. — Де Пуанси. — Диель Дюпарке. — Льенард де Л’Олив. — Уэль и де Буассере. — Комиссар Виктор ЮгВ 1493 году в день святого Мартина Христофор Колумб открыл остров и дал ему имя Мартиника. Обитавшие на нем карибы называли его Мадиана[378]. Испанцы, уже владевшие огромными территориями, не посчитали нужным создать здесь поселение, и местные жители мирно владели островом до 1625 года. В 1625 году кадет из Нормандии, храбрый моряк, который за свои отличные действия получил звание «королевского капитана на Западных морях», Пьер Белэн, сьёр д’Эснамбюк[379], вышел из Дьепа на бригантине, вооруженной четырьмя пушками и несколькими камнеметами, с пятьюдесятью членами экипажа. В поисках приключений он направился в Новый Свет, и у тамошних берегов его атаковал испанский галион, вчетверо превосходящий размерами его бригантину. Пьер Белэн героически сопротивлялся и смог ускользнуть, но, поскольку его корабль был серьезно поврежден, французский мореход был вынужден сделать остановку для ремонта на первой подвернувшейся суше: это был маленький остров Сент-Кристофер. Заметив, что остров плодородный, а воздух здесь целебный, Эснамбюк решил тут и обосноваться. Когда карибы предательски напали на него, он объявил им войну на истребление[380]. Избежав опасности с этой стороны, Эснамбюк занялся разведением табака, который должен был впоследствии составить основное богатство острова. Забив полный трюм, он отправился во Францию не только для того, чтобы продать этот прекрасный груз, но главным образом для того, чтобы добиться поддержки короны. Встретившись с кардиналом Ришелье, моряк рассказал тому о богатствах, которые можно извлечь из этих земель, и кардинал, поверивший ему, благоприятствовал созданию Компании Американских островов[381], целью которой было «заселить американские острова с привилегией эксплуатировать земли и рудники в течение двадцати лет за услугу предоставить эти острова во власть короля и отдавать ему десятую долю дохода». Д’Эснамбюк вернулся на Сент-Кристофер и действительно основал несколько процветающих поселений. К несчастью, ряд пиратских вылазок, возможно спровоцированных, послужили предлогом для испанцев строго наказать французов. Адмирал Фадрике Толедо опустошил, как мы знаем, Сент-Кристофер. Жители спаслись внутри острова, потом часть из них укрылась на острове Тортуга и стала частью берегового братства, другие остались с Пьером Белэном д’Эснамбюком и попытались колонизовать соседние острова, особенно Гваделупу и Мартинику. На Гваделупе до него, как мы вскоре увидим, побывал один из его помощников, Льенард де Л’Олив, высаживавшийся даже на Мартинике и водрузивший там французский флаг, но, найдя берег слишком гористым, он ушел оттуда. Первого сентября 1635 года д’Эснамбюк высадился на Мартинике со ста пятьюдесятью людьми, отобранными из жителей Сент-Кристофера, и с большим количеством продовольствия. Он договорился с карибами, приказал построить на реке Рокселан, ныне Сен-Пьер, обнесенный палисадом форт[382], вооружил его пушками и торжественно принял остров во владение 15 сентября от имени Компании Американских островов. Организовав таким образом колонию, Пьер Белэн вернулся на Сент-Кристофер, оставив Мартинику под началом своего лейтенанта Жана Дюпона, который отбил атаки карибов, поддерживаемых местными жителями Сент-Винсента и Доминики в количестве 2000 человек, чуть было не захвативших форт, где укрылись колонисты. Жан Дюпон, усмирив наконец Мартинику, высадился на Сент-Кристофере, чтобы дать отчет Эснамбюку о событиях, развернувшихся в новоиспеченной колонии. Его корабль, поврежденный штормом, был выброшен на Санто-Доминго, и испанцы взяли в плен бедного Дюпона. Д’Эснамбюк, не получая больше от своего подчиненного новостей, решил, что тот погиб в море. Тогда он назначил комендантом Мартиники, Сент-Люсии, Гренады и Гренадинов[383] своего собственного племянника Жака Диеля Дюпарке[384]. Через некоторое время д’Эснамбюк умер, оставив заслуженную репутацию интеллигентного, храброго и верного человека. Его преемником в генеральном правлении Компании Американских островов стал де Пуанси, храбрый, честный и исполненный наилучшими намерениями моряк. Именно тогда произошли события, которые обернулись трагедией и привели к миниатюрной, стремительной, но жестоко подавленной революции. Вот как это было. Трудности, очевидно административного порядка, встали между новым генеральным правителем де Пуанси и его подчиненным Дюпарке, комендантом острова Мартиника. Король, верховный судья по спорным вопросам, признал правым Дюпарке, снял с должности де Пуанси и назначил вместо него Туази-Патроклеса[385]. Последний, отправляясь занять свой пост на Сент-Кристофере, резиденции генерального правления, остановился на Мартинике и был принят со всеми почестями, полагающимися в его новом положении. Пуанси, не желая оставлять свою должность, отказался признать Туази-Патроклеса, потом, узнав, какие почести воздал ему Дюпарке, разгневался и приказал последнему явиться на Сент-Кристофер под каким-то предлогом и в отместку вероломно заключил его в тюрьму. Поскольку отсутствие Дюпарке продолжалось слишком долго, Туази-Патроклес, не имея функций генерального правителя, подумал, что, может быть, разумно в ожидании лучшего принять на себя обязанности правителя Мартиники, вакантные из-за вынужденного отсутствия их обладателя. Итак, он устроился на месте Дюпарке, ввел новые налоги, единовластно по собственному усмотрению управлял островом и восстановил всех его обитателей против себя. Так организовался заговор на его жизнь. В эту эпоху действовали прямо. Руководителем недовольных был человек по имени Бофор, бывший королевский перчаточник. Он был краснобаем да к тому же отличался прекрасной осанкой; у него оказалось множество сторонников. Его шайка устремилась на резиденцию правителя и, прокладывая себе дорогу, разрушала лавки, жгла дома, убивала. Короче, мятежники побеждали. Наиболее храбрые начали колебаться, спрашивая себя, что будет дальше. Те, кто всегда поддерживал компанию, то есть ее полномочного представителя, решили завлечь Бофора в западню. Прикинувшись, что готовы войти с ним в сделку, они ему назначили встречу на пляже. Бофор пришел в сопровождении двадцати вооруженных до зубов сторонников. Те, кто хотел отделаться от него, спрятали семнадцать надежных людей, очень ловких убийц, в месте, где заговорщик и его сотоварищи не могли заподозрить их присутствия. Один из противников мятежа предложил выпить за здоровье короля. Бофор принял предложение; принесли бутылки и стаканы… Каждый из семнадцати спрятанных человек уже держал на мушке по одному мятежнику. В момент, когда подняли стаканы, раздался залп: Бофор и тринадцать из его товарищей упали замертво! Мятеж был подавлен одним ударом, а Туази-Патроклес, слишком счастливый, что так дешево отделался, подписал амнистию и был признан правителем Мартиники. Но это не устраивало шестидесятипятилетнего Пуанси. Если жители Мартиники признали власть Туази-Патроклеса, то они стали мятежниками против его, Пуанси, власти, и он жестоко покарает их за это. Не заботясь о том, что могут сказать о нем в Версале, старый морской волк вооружает пять кораблей с восемью сотнями человек на борту и 13 января 1647 года отдает якорь в виду Сен-Пьера. Жители Мартиники, которые сначала были так недовольны Туази-Патроклесом, почувствовали привязанность к нему с тех пор, как он обуздал заговор, организовались в ополчение и решили противопоставить силу силе. Вот-вот должна была политься кровь, и лишь тогда командир эскадры догадался предложить этим горячим головам обмен Туази-Патроклеса на Дюпарке, правителя на правителя — равноценный обмен! Хорошо! Правильно, Дюпарке!.. После всего случившегося почему бы и нет?.. Да здравствует Дюпарке!.. С почестями отпускают Туази-Патроклеса, который направляется на Сент-Кристофер, где Пуанси приготовил ему шумный прием. Дюпарке отправляют к его людям, которые с радостью его принимают… И самое лучшее то, что двор утвердил все это, и Пуанси был оставлен на своем посту правителя, на котором и умер в 1660 году в возрасте семидесяти семи лет. Вот почему мы говорим «его люди». Дюпарке, будучи человеком ловким и обладающим большими средствами, смог доказать Компании Американских островов, что их дело не стоит выеденного яйца и было бы бесконечно выгоднее найти покупателя и продать королевскую привилегию. Компания согласилась, а покупателем оказался сам Дюпарке, который уплатил сумму 60 000 ливров. За такую цену он стал полным хозяином Мартиники, Сент-Люсии, Гренады, Гренадин… Хорошая сделка, если площадь одной только Мартиники около ста тысяч гектаров![386] Впрочем, Дюпарке сумел плодотворно использовать эти земли, которые сталиочень процветающими. Он принялся выращивать на островах сахарный тростник и создал плантации, положившие начало огромному состоянию. Его правление длилось одиннадцать лет, и все это время колонисты на острове Мартиника процветали, несмотря на постоянные набеги карибов. Уважаемый своими подданными, Дюпарке умер и был искренне оплакан[387]. Сразу после его смерти снова поднялись карибы и были полностью истреблены в течение четырех последующих лет. Дети Дюпарке получили от короля грамоты, подтверждающие владение всем достоянием и должностями их отца. Но, поскольку в конце концов в этих колониях начались беспорядки, двор решил отобрать власть у частных лиц и отдать ее новой компании. Для этого на Мартинику заместителем губернатора был послан член тайного королевского совета Александр де Рувиль де Траси. Он прибыл на остров 1 января 1664 года[388], и после его визита корона выкупила владения наследников Дюпарке за 240 000 ливров, а потом уступила свои права только что созданной Вест-Индской компании, с привилегией в торговле и навигации в американских морях в течение сорока лет. Однако эта привилегия действовала только десять лет. В декабре 1674 года Мартиника была снова присоединена к владениям французской короны. Что касается Гваделупы, то она называлась Карукера, когда ее открыл Христофор Колумб 4 ноября 1493 года. Поскольку он обещал монахам монастыря Гваделупской Богоматери в Эстремадуре дать имя их покровительницы одной из открытых им земель, он назвал Карукеру островом Гваделупа[389]. Понсе де Леон попытался создать там испанское поселение в 1515 году, но его спутники были убиты, а сам он с великим трудом избежал этой участи. Он был даже в группе французов, посланных в 1523 году Франциском I с миссионерами для цивилизации дикого населения. И только через сто лет Пьер Белэн д’Эснамбюк, обосновавшийся, как известно, на Сент-Кристофере, подумал о том, чтобы колонизировать соседние острова. После путешествия во Францию д’Эснамбюк был назначен генеральным управляющим всеми этими островами от имени Компании Американских островов и сдал в аренду сроком на десять лет капитанам Льенарду де Л’Оливу и Дюплесси д’Оссувилю три из этих островов, а именно Гваделупу, Доминику и Антигуа. Л’Олив и Дюплесси прибыли в 1625 году из Дьепа на двух кораблях и привезли с собой пятьсот колонистов, обосновавшихся на западном побережье в устье маленькой речки. Построили форт на случай нападения карибов: так был заложен город Бас-Тер[390], ставший столицей колонии. Вскоре умер Дюплесси д’Оссувиль, и Льенард де Л’Олив, оставшийся один во главе управления, вел с карибами такую ожесточенную войну, что большинство вынуждено было укрыться на Доминике, а другие перебрались на другой берег реки Сале[391], в ту часть острова, которая называлась Большая Земля[392]. В результате этого перемещения французские колонисты, внезапно лишенные поддержки со стороны местных жителей, впали в жесточайшую нужду. Новый губернатор Обер, присланный в 1640 году, понял ошибки своих предшественников и постарался их исправить. Он установил приятельские отношения с карибами и постепенно примирил их с белыми. Вскоре прибыло множество колонистов, способствовавших созданию новых центров земледелия. Были разбиты плантации, главным образом табачные, хлопковые, какао, ямсовые, банановые и огородные, когда Оберу пришла мысль сажать сахарный тростник, доход от которого был значительно выше, чем от других культур, даже табака и хлопка. Рост благосостояния был стремительным. К несчастью, Обер не смог присутствовать при реализации своего проекта, поскольку в 1643 году его место занял Уэль. Большая часть колонистов острова не были женаты. Уэль, чтобы привязать их к стране и доставить им радости семейного существования, вызвал на Гваделупу большое количество женщин брачного возраста. Все это были сироты, взятые из больницы Сен-Жозефа[393], которые охотно отправлялись, не думая о возвращении. Женщины нашли здесь себе мужей, и европейцы, привязанные теперь к своей новой родине семейными узами, окончательно закрепились в колонии. Через некоторое время Компания Американских островов, поверив в жалобы на правление Уэля, послала ему на смену нового управляющего — генерала Туази. Но Уэль отказался признать его, помешал высадиться; начиная с этого момента на острове образовались две противостоящие партии, которые не упускали случая сцепиться. Естественно, эти досадные распри мешали процветанию. Дела компании шли все хуже и хуже. К тому же компания, изнемогая под тяжестью налогов и больших расходов, была вынуждена продать свои поселения маркизу де Буассера и Уэлю. Как и при продаже Мартиники Дюпарке, сделка была заключена на сумму 60 000 фунтов при ежегодных поставках 600 фунтов готового сахара. В течение первых месяцев 1653 года около пятидесяти голландцев, изгнанных из Бразилии португальцами по религиозным мотивам, обосновались на Гваделупе вместе с двенадцатью тысячами человек, включая солдат и их семьи и, наконец, черных невольников. Они построили сахарные заводы, и начиная с этого момента культура сахарного тростника стала здесь доминирующей. Но, несмотря на рост населения и увеличение поверхности обрабатываемых земель, положение союза Уэля и Буассера не было блестящим. К тому же, опасаясь разорения, они из предосторожности приняли единственное решение, способное вытащить их из затруднения: принять предложение короны, желавшей перекупить их в собственность (1663 г.). Кольбер уступил Мартинику Вест-Индской компании за 125 000 ливров. Но через десять лет дела этой компании пошли так плохо, что Людовик XIV отозвал ее концессию и присоединил Антильские острова к владению короны (1663 г.)[394]. В 1690 году англичане впервые покусились на Гваделупу; они осадили крепость, которая защищала Бас-Тер, и были изгнаны с острова маленьким гарнизоном форта, которому пришли на подмогу войска с Мартиники. В 1703 году была совершена вторая, такая же безуспешная попытка, как первая. Война шла с переменным успехом, но в конце концов англичане были разбиты, и очень жестоко. В 1756 году Гваделупа процветала, но тут на остров напал английский адмирал Джон Мур с весьма значительными силами[395]. Несмотря на ожесточенное сопротивление, французам, оказавшимся в ощутимом меньшинстве, пришлось капитулировать, впрочем, на самых почетных условиях. Возвращенная Франции в 1763 году, Гваделупа принесла метрополии свои возросшие богатства и возросшую численность населения. В 1790 году ее торговый оборот достиг почти тридцати семи миллионов франков, а население выросло до 13 908 белых, 3149 вольноотпущенных и 90 139 невольников: всего 107 196 жителей. Французская революция заметно повлияла на Гваделупу. Там происходили кровопролитные сражения между белыми и черными. В 1793 году капитан судна Лакрос сумел восстановить мир; и это было как раз вовремя, поскольку колония нуждалась во всех своих детях, чтобы защищаться от английского флота. Почти без боя адмирал Джервис и генерал Дандес овладели фортом Флер-д’Эпе, фортом Сент-Луис, городом Пуант-а-Питр и даже городом Бас-Тер, который бездарный генерал Калло даже не подумал защищать. Но успех этот оказался недолгим. Вскоре прибыла французская флотилия, доставив 1200 человек под командованием комиссаров Конвента Виктора Юга[396] и Кретьена и генералов Обера, Картье и Руйе. При поддержке местных сил французские войска смогли изгнать врага с Большой Земли. Потребовалось, чтобы адмирал Джервис прибыл с шестью линейными кораблями, двенадцатью фрегатами, пятью канонерскими лодками — всего с двадцатью тремя боевыми и шестнадцатью транспортными кораблями, чтобы помешать французам отбить Бас-Тер. В течение шести месяцев он бомбардировал из корабельных пушек Пуант-а-Питр, который к тому же опустошала эпидемия желтой лихорадки. Генерал Обер и комиссар Кретьен умерли. Генералы Картье и Руйе были убиты. Второго июля англичане высадили на берег 2000 человек, которые захватили город. Но Виктор Юг, единственный из французских командиров оставшийся на ногах, отошел на небольшой холм и выжидал благоприятный момент для атаки. Когда появились англичане, он беспощадно обстрелял их из пушек, потом, увидев, что они дрогнули, скомандовал: «В штыки!» Англичане не смогли сопротивляться такой атаке, разбежались, бросив убитых. Адмирал Джервис вынужден был отказаться от повторения попытки и отошел в британские владения. Юг, думая, что тот вскоре вернется, быстро организовал ополчение, в которое вошли и чернокожие, показавшие себя прекрасными воинами. Его предположения оправдались. Англичане появились в большом количестве. Но 6 октября Виктор Юг после серии стычек, когда победа была то на одной, то на другой стороне, окружил генерала Грехема в лагере Бервилль и взял его в плен с двумя тысячами английских солдат и матросов, тридцатью пушками и значительными трофеями. И только в 1810 году Гваделупа неожиданно оказалась во власти англичан благодаря беспечности военного коменданта. Она снова стала французской 25 июля 1816 года[397].
ГЛАВА 16
Французы в Америке. — Лафайет. — Д’эстен. — РошамбоЗавоевав огромную колониальную империю, к открытию большей части которой они оставались непричастными, англичане не разбогатели. Им пришлось выдержать множество войн, стоивших очень дорого, даже в случае победного конца, и понести всевозможные расходы, которые тяжелым бременем легли на бюджет. Их колонии, едва вышедшие из этого длительного периода завоеваний и с еще не сформировавшимся обществом, почти не приносили дохода, но очень дорого стоили метрополии, и Индские компании «еще не трясли деревьев, на которых росли рупии»[398], как живописно говорили индусы, задушенные налогами «старой лондонской дамы»; короче, денег не хватало. Во всех странах мира, когда государству не хватает денег, оно торопится ввести новые налоги, и предпочтительно на самые необходимые предметы. Англия, много расходуя на свои колонии, решила полезным для себя собирать с них новую дань и ввела налог на чай[399]. Это требование оказалось непомерным для колонистов американских городов вообще и Бостона в частности, которые протестовали во имя соблюдения законности; затем, чтобы еще больше подчеркнуть свой протест, пятьдесят молодых людей, нарядившись индейцами, захватили корабль, нагруженный чаем, и сбросили ящики в море[400]. Такова была, в нескольких словах, ничтожная причина, приведшая к образованию американской конфедерации. Однако этот протест «инсургентов»[401], как называли недовольных из Бостона, встретил живую симпатию во Франции, где всегда не любили англичан, и каждый француз приветствовал новость о первом успехе бунта, известия о котором быстро разнеслись по всей Европе. Английский полк был разбит в Лексингтоне[402], и генерал Гейдж осажден в Бостоне. Плантатор из Виргинии Джордж Вашингтон, старый полковник из ополчения, встал во главе 35 000 инсургентов[403]. Это уже не мятеж, а настоящая революция. Вскоре Бостон был взят[404], английский флот потерпел поражение перед Чарлстоном[405]. Революция побеждала… Люди поднимались тысячами. Вскоре у Вашингтона уже многочисленная армия, недисциплинированная, плохо, а скорее, вовсе не вооруженная, но храбрая и неутомимая. Англия противопоставила ей 20 000 немецких наемников в качестве подкрепления существующим войскам. В ответ на эту меру представители различных колоний собрались в Филадельфии и на конгрессе в памятную дату 4 июля 1776 года объявили независимость тринадцати колоний, составляющих впредь конфедерацию под названием Соединенные Штаты Северной Америки. Разрыв с Англией стал окончательным. Ненависть к англичанам способствовала тому, что американская революция снискала себе огромную симпатию во Франции, и это воплотилось в форме, более ощутимой, нежели демонстративные протесты. Франклин[406], прибывший в Париж как полномочный представитель молодой республики[407], настаивал на активном крестовом походе и собрал множество приверженцев. Вскоре стали стекаться добровольцы. Вещь по меньшей мере странная и на первый взгляд парадоксальная, но самыми решительными сторонниками американской независимости положительно были те, кто по своему рождению, воспитанию должен бы больше всего противиться установлению республики: дворяне, из века в век отличавшиеся приверженностью к монархизму. Среди первых волонтеров[408] следует назвать прежде всего маркиза де Лафайета[409], девятнадцатилетнего богача-энтузиаста, имевшего двести тысяч ливров ренты (огромная сумма в ту эпоху) и уже три года как женатого на мадемуазель де Ноай. Он горячо увлекся этой идеей освобождения колоний и объявил, что хочет без промедления отправиться бороться за нее, не потеряв пыл даже после тяжелого поражения, постигшего вначале солдат американской революции, Лафайет как мог ускорил свой отъезд. Под мощным давлением семьи ему было вручено предписание, категорически запрещающее покидать Францию. Лафайет пренебрег этим запретом, исходящим от министра, оснастил на свои средства корабль, пересек границу Франции, переодевшись курьером, прибыл в Сан-Себастьян[410], где его ждал корабль, и отправился в Америку 26 апреля 1777 года. Через пятьдесят дней он прибыл в Чарлстон, ускользнув от английских крейсеров, и сразу же направился в Филадельфию, где непрерывно заседал Конгресс. Филадельфия, основанная сотней лет раньше Уильямом Пенном[411], уже была городом с населением в 35 000 человек, суровым, работящим, не расположенным к увеселениям, с хорошо развитой торговлей — городом богатым, хотя и неуютным. Заседания Конгресса внесли некоторое оживление, контрастирующее с обычной монотонностью; теперь здесь можно было увидеть спешащих людей, шумных, иногда даже скандальных, найти волонтеров любого происхождения, любой наружности, прибывших из разных мест: охотников, одетых в кожу, полудиких гигантов, плантаторов, приехавших с собственным оружием и солидным багажом, фривольных, элегантных и храбрых дворян из Франции, и среди них — всевозможных просителей, осаждающих Конгресс своими планами, проектами, просьбами о должности или назначении и вконец измотавших всех членов ассамблеи. Совсем юный, без военного прошлого, если не считать воспитания, получаемого тогда молодыми людьми его возраста и социального положения, Лафайет, хотя перед отправлением из Франции ему была обещана высокая должность в армии инсургентов, рисковал не получить ничего. Его требования к членам Конгресса свидетельствуют о скромности, бескорыстии и желании быть полезным делу борьбы за независимость. Он попросился служить без жалованья в качестве простого солдата. Депутаты понимали, что они могут и должны сделать из этого молодого, полного энтузиазма человека нечто большее, чем примитивного оруженосца. Ему присвоили звание генерал-майора по решительной рекомендации Вашингтона, на которого молодой француз произвел очень сильное впечатление. Главнокомандующий американскими вооруженными силами был тогда во власти мрачных забот, вызванных после первых успехов неудачами, преследовавшими одна за другой дело борьбы за независимость. Это был человек сорока пяти лет, родившийся в Бридж-Крик в Виргинии 22 февраля 1732 года[412]. Первый свой воинский подвиг он совершил против французов, обосновавшихся на берегу Огайо, и показал в этом трудном деле смелость, осторожность, энергию и решительность. Ему тогда было только девятнадцать лет[413]. Потом борьба за границы между англичанами и французами помогла ему развить врожденные качества воина и командира. Успехи закончились, и начались неудачи. Вашингтон сердцем почувствовал, что Англия скоро нанесет тяжелый удар, и начал концентрировать силы, собирать их в кулак. Лафайет своей юностью и благородным энтузиазмом на какое-то время оторвал полководца от горьких мыслей, как будто вид этого молодого человека, олицетворяющего Францию, подсказывал ему возможность помощи, которую настойчиво просил Франклин и на которую едва осмеливался надеяться. Прошло 4 июля. Отпраздновали первую годовщину провозглашения независимости, и национальное знамя, усеянное серебряными звездами, впервые было поднято под аплодисменты толпы, заполнившей Филадельфию и проследовавшей кортежем за членами Конгресса. Два месяца спустя внезапно пришла дурная весть. Вашингтон, отступив за Делавэр, был разбит на Брэндивайне, протоке этой реки. В этом же сражении 11 сентября 1777 года Лафайет, который в глазах главнокомандующего вел себя как герой, получил ранение. Это поражение не было неожиданным и никого не деморализовало. Главнокомандующего менее, чем других. Его осторожность, энергия, настойчивость приумножили и без того высокое доверие, которым он пользовался среди своих соратников по борьбе во имя торжества американской независимости. Тем не менее его задача скоро станет еще более тяжелой. Англичане, отказавшись от попыток непосредственно преодолеть энергию сопротивления северных штатов, решили ударить в самое сердце Конфедерации, напав на Нью-Йорк и Филадельфию и завладев центральными колониями. После тщетных попыток защитить эти важные пункты, Вашингтон то и дело отходил за реки Делавэр и Гудзон, но всегда без потерь, не оставив на поле боя ни одного человека. 30 сентября англичане вошли в Филадельфию, за три дня до того эвакуированную Конгрессом[414]. Впрочем, англичане очень скромно оценивали эту победу, не питали особых иллюзий, что сумеют завладеть городом, где заседал Конгресс. Они знали на собственном опыте, что Вашингтон держится хорошо, и с беспокойством поглядывали в сторону Франции. Капитуляция Бургойна в Саратоге 17 октября[415] ухудшила положение их дел и ускорила принятие решений на переговорах, которые ловко и с беспримерным упорством вел в Версале старик Франклин. Вся Америка с нетерпением и тревогой ждала результатов. Тотчас из Бостона отправился фрегат, чтобы объявить во Франции об успехе в Саратоге, и через несколько дней после его прибытия комиссары молодой республики вступили в переговоры с месье де Верженном[416]. Несмотря на естественную поспешность, впрочем, вполне оправданную непрочным положением по другую сторону Атлантики, они длились семь полных недель и закончились, как известно, заключением союзнического договора, подписанного 6 февраля 1778 года между Францией и Америкой[417]. Это была огромная услуга, оказанная нашей страной американской нации, которая одна, очевидно, не смогла бы долго продержаться против Англии. Франция щедро тратила свою кровь и свое золото, а в награду не получила ничего, кроме черной неблагодарности. Спустя месяц после подписания договора был составлен флот из двенадцати линейных кораблей, четырех фрегатов и большого количества транспортов. Этим флотом командовал адмирал д’Эстен[418], герой индийской войны[419], заклятый враг англичан. Д’Эстен поднял свой флаг на «Лангедоке», девяностопушечном корабле, на котором находился также Жерар де Рейневаль[420], первый уполномоченный Франции в США. Адмирал начал операции, преследуя английскую эскадру, которая укрылась в бухте Сенди-Хук[421]. Но, поскольку два главных корабля «Лангедок» и «Тоннан» имели слишком большую осадку, чтобы пройти по неглубокому фарватеру, д’Эстен должен был стать перед Род-Айлендом в заливе Наррагансет[422], пока Лафайет и американские генералы высаживались на этом острове, расположенном вблизи континента[423], и вели наступление в сторону Провиденса[424]. Д’Эстен обошел мели и вышел к фарватеру, который вел к Ньюпорту, главному городу острова (8 августа 1778 г.). Напуганные англичане сами подожгли пять фрегатов, два корвета и несколько складов, чтобы они не достались французам. Развивая свой успех, французский адмирал высадил свои войска 10 августа, когда появилась английская эскадра адмирала Хоу. Снова пройдя узким фарватером, д’Эстен предстал перед англичанами, чтобы предложить им бой. Но в ночь с 11 на 12 августа, когда обе эскадры встали в боевой порядок, налетел страшный ветер и раскидал корабли. Ураган продолжался сорок часов. «Лангедок», потерявший мачты, лишившийся руля, полузатопленный, был встречен пятидесятичетырехпушечным линейным английским кораблем, которого пощадила буря. Несмотря на безнадежное состояние своего флагмана, д’Эстен защищался с такой энергией и мощью, что англичане, считавшие, что он уже в их руках, вынуждены были отойти с серьезными повреждениями. «Лангедок» удалось отремонтировать прямо на воде лучше, чем можно было ожидать, он присоединился к остальным кораблям эскадры и пришел на свою якорную стоянку перед Ньюпортом. Но, поскольку было действительно невозможно продолжать кампанию с довольно потрепанными кораблями, пришлось отвести эскадру в Бостон для ремонта. Мог ли подумать храбрый моряк, не щадивший себя в бою, что по прибытии будет оскорблен бостонцами, которые обвинят его в измене![425] Словно уже сейчас янки[426] демонстрировали свой чудовищный эгоизм, впоследствии ставший отличительной чертой этой нации, неспособной подняться над заурядной спекуляцией! Произведя мощный бросок по направлению к Антильским островам, захватив три линейных корабля, двадцать торговых судов, д’Эстен атаковал Гренаду, вынудил капитулировать ее защитника лорда Макартнея, который сдался с 800-ми солдатами, 3-мя знаменами, 102-мя пушками, 16-ю мортирами[427], 30-ю торговыми судами. Подошел флот лорда Байрона[428], но слишком поздно, чтобы можно было помочь Гренаде. Д’Эстен, хотя и раненный, приказал атаковать английский флот и вынудил его, потерявшего управление, укрыться на Сент-Кристофере. После этой блестящей кампании д’Эстен был призван в Саванну[429], которой овладели англичане и где они надежно укрепились. Он прибыл в последние дни августа, высадил свои войска в ночь с 11 на 12 сентября 1779 года и 16-го потребовал у английского генерала Превоста, командовавшего обороной города, сдаться. Тот попросил двадцать четыре часа отсрочки. За это время к англичанам подошла ожидаемая подмога в количестве 10 000 человек, и генерал заговорил другим языком, объявив, что готов защищаться. Разгневанный обманом, неудержимый д’Эстен встал во главе своих гренадеров и повел их в атаку на город. Встреченный страшным огнем, он удвоил рвение, но, раненный в ногу и в руку, видя, что его люди больше не выдерживают, вынужден был отдать приказ об отходе[430]. Хотя это была относительная неудача, поскольку адмирал не поставил под угрозу выполнение всей операции, американцы, презрев всякую благодарность к д’Эстену за услуги, уже им оказанные, за его морские победы над англичанами, за эвакуацию Ньюпорта, обвинили французов в том, что те предали их и бросили!.. Выходит, эти торговцы, которые сами никогда не сражались, рассматривали нас как наемников!.. Короче говоря, если у Конфедерации дела шли ни шатко ни валко, то это вовсе не по вине французов, не щадивших своей крови, а из-за американского ополчения, плохо дисциплинированного, болтливого, к тому же плохо вооруженного, да еще и малооплачиваемого и всегда готового к бунту. Вашингтон и депутаты Конгресса, более склонные к благодарности и более дальновидные, оказывали нашим солдатам и уполномоченному Франции Жерару де Рейневалю всяческие знаки уважения, понимая, что тучи сгущаются и надежд на победу остается немного; если Франция не вмешается во второй раз, англичане могут победить. Французский аристократ, принимавший к сердцу дела Америки, как если бы она была его собственной родиной, предложил Конгрессу тотчас пересечь Атлантику и вернуться во Францию за помощью. Конгресс и главнокомандующий одобрили этот план, и Лафайет поднялся 6 января 1779 года в Бостоне на палубу фрегата «Альянс». С красноречием тем более увлекательным, что оно шло от сердца, он обрисовал королю Франции и его министрам положение наших союзников, сумел их заинтересовать, взволновать, очаровать и в конце концов добиться посылки новых сил. И министерство так постаралось, что 14 апреля все было готово. Сорок шесть кораблей, из которых семь линейных, пять фрегатов, корветы, канонерские лодки вошли в состав флота, которым командовал шевалье де Терней, имевший под своим началом де Ла Грандьера, де Мариньи, Дестуша, Лаперуза[431] и Ла Клошетри. Сухопутные войска подчинялись главнокомандующему графу Рошамбо[432], генерал-лейтенанту французской королевской армии, герою Мастрихта[433], Маона[434] и Клостеркампа[435], храброму и умному военному. Этот экспедиционный корпус включал в себя Суассонский и Бурбонский полки, состоящие из старых, надежных, закаленных в боях, неутомимых солдат, более корпуса волонтеров, осадную и полевую артиллерию, — всего 6000 человек. Флот вышел в море 16 апреля 1780 года и бросил якорь на рейде Ньюпорта после семидесяти дней плавания. Можно было бы ждать, что прибытие этих храбрецов, этих отважных дворян, проделавших такой дальний путь, чтобы принести спасение «инсургентам», будет встречено овацией. Ничего подобного. Если обитатели Ньюпорта и не оскорбили, как жители Бостона, тех, кто прибыл пролить кровь за них, то состроили весьма кислые мины, упрекнули, что их так мало. Потребовался весь задор начальника и солдат, бравая выправка и несгибаемая дисциплина которых резко отличались от того, что представляли собой оборванные ополченцы молодой конфедерации, чтобы победить уныние. И только спустя некоторое время после высадки, как следует поразмыслив и понаблюдав, американцы отдали должное нашим воинам. К тому же помощь французов была более чем необходима. У англичан был перевес на юге; Чарлстон капитулировал в мае 1780 года; американцы, оставшиеся без помощи союзников, были разбиты по всему театру военных действий, они понемногу теряли территорию и с тревогой видели, что наступает момент, когда весь их прекрасный юг окажется в беспощадных руках прежнего хозяина. Перед тем как приступить к активным действиям, Вашингтон и Рошамбо встретились в Хартфорде[436] и составили план кампании, которая на тот момент была преимущественно оборонительной. Французская армия, охотно атаковавшая, устроилась на зимние квартиры на Род-Айленде, в то время как американская армия не выходила за пределы Ньюпорта. Это бездействие, длившееся долгие месяцы, во время которых не хватало хлеба, топлива и жилья, было очень тяжелым для наших солдат, с трудом переносивших бездействие. Но приказ есть приказ, и они его выполняли с обычными самоотречением и мужеством. Когда зима кончилась, получившие подкрепление англичане продолжили атаки в южных районах. Они уже вот-вот должны были овладеть Виргинией, когда Вашингтон откомандировал на ее защиту Лафайета во главе отдельной воинской части. Молодой генерал вполне подходил для этой сомнительной задачи. Благодаря чрезвычайной подвижности своих колонн он сумел быстрыми маневрами захватить противника врасплох, измотать его и окончательно привести в замешательство тактикой партизанской войны, единственной, которую можно было применить в подобных обстоятельствах. После хорошего отдыха наши войска предприняли наступление, соединившись с войсками американцев. Поначалу они выгодно отличались от последних. Рядом с нашими отборными солдатами, свежевыбритыми, с напудренными косичками, в мундирах без единой пылинки, в начищенной до блеска обуви, со сверкающим оружием, слаженно шагающими, как на параде, ополченцы конфедератов имели жалкий вид. Люди, одетые в холщовые плащи сомнительной чистоты, с натянутыми на головы грязными войлочными шапками или шлемами из плохо выделанной кожи, вооруженные разношерстными ружьями, содержащимися с такой же небрежностью, как и одежда, походили на сборище бродяг. Добавьте к этому невежество офицеров, плохую дисциплину солдат, отвратительное снабжение и отсутствие транспортных средств… Обе армии побратались в Филлипсберге[437], а потом объединились с большой выгодой для ополчения, которое в окружении наших старых отрядов быстро стало дисциплинированнее и, главное, сплоченнее. Проявив незаурядную находчивость, Вашингтон и Рошамбо прежде всего сделали вид, что угрожают Нью-Йорку[438], чтобы помешать английскому генералу Клинтону послать подкрепление в Виргинию. Тот попался на эту хитрость, оставил на месте свои войска и приготовился к защите, ожидая каждую минуту нападения. Американские генералы выставили перед англичанином только небольшой подвижный заслон, быстрые маневры которого должны были создать иллюзию присутствия многочисленных сил. Пока они вели перестрелку, оба главнокомандующих направились форсированным маршем на Виргинию. 28 сентября они подошли к Йорктауну, маленькому городку, которому вскоре суждено было приобрести громкую известность. Там находилась английская отдельная бригада под командованием лорда Корнуоллиса, одного из самых искусных воинов Англии, неоднократно побеждавшего американских генералов, в частности Гейтса и Грина. У него было 7000 солдат, 1000 матросов и 30 кораблей с 214-ю пушками. Франко-американская армия, насчитывающая около 16 000 человек (9000 американцев и 7000 французов), действовала открыто перед городом, защищенным прочными оборонительными сооружениями. В ночь с 6 на 7 октября 1781 года вырыли минную траншею. 14 октября, как только пробили бреши, два редута, прикрывающие левый фланг вражеской пехоты, были подорваны и захвачены стремительной атакой. Положение генерала Корнуоллиса стало безвыходным, он капитулировал[439]. Эта победа вызвала во всей Америке неслыханный энтузиазм. Торговцы сахаром, салом и хлопком расшевелились наконец и воздали должное отважным защитникам, которым были так обязаны. Они расточали им благодарности. Но, право, это недорого стоило, даже в стране, где время — деньги. Конгресс расщедрился до того, что предложил графам де Грассу[440] и де Рошамбо, которые, впрочем, ничего не просили, пушки, захваченные ими в Йорктауне. Это предложение, совершенно в духе конгрессменов, было преподнесено как национальная награда, и оба дворянина, люди хорошо воспитанные, прикинулись очень растроганными. Хотя капитуляция лорда Корнуоллиса значительно пошатнула престиж Англии, война продолжалась. Прежние хозяева страны еще владели Северной Каролиной и Джорджией, откуда с имеющимися силами их было очень трудно вытеснить. Кроме того, они все еще удерживали Нью-Йорк, и их флот блокировал часть побережья. Но Франция, которая не могла оставить свою миссию незавершенной, послала новые войска, и вскоре было предпринято мощное наступление. В рамки настоящего произведения не входит рассказ о всей кампании. Для нас, французов, важно показать решающую роль, которую сыграла наша родина в освобождении американского народа, когда вся эгоистичная, трусливая Европа не осмелилась или не захотела пойти против Англии[441]. Остальное известно. Английское правительство, смирившись с потерей колоний, начало в 1782 году переговоры с целью выторговать удовлетворительный для себя мирный договор. 10 января между воюющими сторонами было подписано предварительное соглашение, в основе которого было признание Англией независимости США[442]. Французская кровь пролилась не напрасно: американцы стали свободными. И когда десять лет спустя Франция, как всегда одна, сражалась во имя свободы народов в тяжелейшей борьбе, ежедневно грозившей гибелью, Джордж Вашингтон, президент молодой и уже мощной американской республики, спокойно наблюдал за ходом событий со стороны, держа по отношению к своему старинному союзнику эгоистический нейтралитет, что было не только неблагодарностью, но еще и забвением принципа солидарности, призванного объединять свободные народы. И когда спустя семьдесят семь лет Франция в третий раз провозглашала республику[443], как известно, в тяжелейших обстоятельствах, наследником Вашингтона на посту президента США был Грант[444]. Этот человек не только не оказал нам никакой моральной или материальной поддержки, но почти без колебаний после наших тяжелых поражений обратился с поздравлениями к прусскому правительству! И с чувством возмущения и боли французы узнали, что он после нашей окончательной капитуляции направил конгрессу послание, в котором выразил свои горячие симпатии прусскому правительству! И не нашлось ни одного среди внуков тех, кто сражался рядом с д’Эстеном, Лафайетом и Рошамбо, чтобы выразить свой протест!
ГЛАВА 17
ШАТОБРИАН[445]
Во Франции разыгрывалась великая революционная драма, и Шатобриана, поэта и мечтателя, который провел все свое детство в уединении среди лесов на песчаных берегах Бретани, непреодолимо потянуло к неизведанному. Под влиянием парадоксов Руссо о прелестях дикой жизни и нетронутой природы у него возникла идея отправиться искать красоту в одиночестве Нового Света, который после недавней освободительной войны вошел в моду; а поскольку поэт был страстным любителем путешествий и не испытывал материальных трудностей, он отправился в 1791 году в Северную Америку. Ему было тогда двадцать три года. Ступив на землю молодой республики, свой первый визит Шатобриан нанес Вашингтону, в окружении которого был тепло принят одним из французских героев Войны за независимость. Легендарный генерал жил в Филадельфии в очень простом доме, в жилище мудреца или человека, которому хватает здравого смысла пренебрегать всем тем, в чем он не испытывает потребности. Шатобриан рассчитывал найти римлянина героической эпохи, а увидел сурового пуританина[446], немного сухого в повадках и словах, что его, впрочем, вовсе не смутило. Поэт вручил ему рекомендательное письмо, генерал ознакомился с ним и, поскольку еще не впал в грех неблагодарности по отношению к Франции, начал встречу в лирическом тоне. — Я понимаю, месье, — сказал он молодому путешественнику, — что вам очень хочется полюбоваться делами рук ваших соотечественников. — Я знаю, — ответил Шатобриан, — какую роль сыграла французская армия в последних событиях, но я знаю также, на помощь какому зажигательному и храброму вождю пришло наше дворянство. Перед тем как начать путешествие по Америке, я пришел поклониться ее освободителю. — Не стоит думать, что Соединенные Штаты своим объединением полностью обязаны усилиям одного человека, скорее это заслуга опытного народа, пришедшего нам на помощь. — То, что Франция совершила для вашей нации в пределах благоразумия, она пробует сегодня выполнить для себя самой, презрев всякую осторожность и поддавшись движению страстей. — Вы не согласны с тем, что происходит в вашей стране, месье? Американцы не понимают этого чувства. — Генерал, если бы американцам дать ключ от Бастилии, они бы, без сомнения, поцеловали его. Но во Франции наш энтузиазм не вознесен так высоко, мы бы побоялись запачкаться кровью, прикасаясь к этому зловещему символу. — И напрасно боитесь. Не сопротивляйтесь народу, а руководите им. Месье Тюрго[447] взялся осуществить свой собственный переходный период, это оказалось ему не под силу. Вся нация должна подняться в этот час. Внушите себе, что если даже меньшинство французов встанут, чтобы победить несправедливость, их революционная вера восторжествует над оппозиционерами; и вы лучше поймете ваши интересы, служа все вместе делу освобождения. — Расслоение усиливается день ото дня. Дворяне не смогут больше подбить народ на бесчинства. — Если у вас образуются два лагеря, тогда все пропало! — Генерал, не предвосхищайте события. — Я поверю в ваше дело только в том случае, когда все французы будут бороться за одни принципы! — Я верю вам, потому и удаляюсь. — Куда вы направляетесь, месье? Долго ли собираетесь пробыть в Америке? Расскажите мне о ваших планах. — Я прибыл в надежде продолжить географические открытия, начатые десятки лет тому назад двумя английскими путешественниками. Когда я тщательно обследую ваш северный континент, я отправлюсь по следам Херна[448] и Александра Макензи[449]. — Как! Вы отваживаетесь отправиться в эти полярные районы Америки без помощи и поддержки?.. Очень смело! — Легче открыть пролив на северо-западе, чем создать народ, как это сделали вы. Вашингтон мог бы добавить: «Но две эти вещи не связаны между собой, и когда вы попытаетесь открыть этот пролив, то, возможно, измените мнение…» Этим беседа ограничилась, и визит закончился. «Такова, — добавил Шатобриан, — была моя встреча с этим человеком, давшим волю целому народу. Вашингтон спустился прежде, чем исчез звук моих шагов; я прошел перед ним, как один из многих; он был во всем своем блеске, а я совсем не заметен. Мое имя, возможно, не продержалось в его памяти даже одного дня. А я был счастлив, что его взгляд упал на меня, и чувствовал себя согретым на всю оставшуюся жизнь; есть такое свойство во взглядах великого человека». Думается все же, что этот панегирик Шатобриана несколько надуманный, и с трудом верится в искренность приведенных слов, собранных во фразу, претендующую на афоризм. Шатобриан, хотя и очень молодой, был себе на уме и слишком самолюбив, чтобы впасть в ничем не оправданный фетишизм. Он посетил Виргинию и Мэриленд, впрочем, несколько торопливо, как турист, потом Балтимор, Бостон и остановился на поле Лексингтонского сражения[450], которому посвятил такие напыщенные слова: «Я увидел, — говорит он, — поле битвы Лексингтона, остановился в молчании, как путешественник на Фермопилах[451], чтобы рассмотреть могилу этих воинов из Старого и Нового Света, погибших первыми, повинуясь законам Родины». Замечательно сказано, только ложно по самой сути; вряд ли стоит идеализировать борьбу тех, кто хотел заставить платить, с не желавшими платить пошлину на чай, стекло и бумагу. Поскольку именно в этом и заключена сущность так называемой американской эпопеи. Впрочем, Шатобриан, который так красноречиво пел «воины умирали, повинуясь законам Родины», не колеблясь вступил в борьбу с теми, кто во Франции немного позже хотел подчиняться тем же самым законам. Он эмигрировал в Кобленц и так храбро сражался против народа, отстаивающего свои права, что был ранен при осаде Тьонвиля[452]. Истина по одну, заблуждение по другую сторону Атлантики! Затем путешественник поднялся по Гудзону и отправился в Олбани[453]. У него было рекомендательное письмо к торговцу по имени Свифт, принявшему наилучшим образом молодого француза, который, в свою очередь, поделился с ним проектом исследований. Как человек практичный, Свифт, рассмотрев проект, внес в него многочисленные и очень существенные поправки. Предприятие переставало быть простой туристической прогулкой и превращалось в экспедицию, требующую серьезного материального обеспечения, знания множества индейских и эскимосских местных говоров, предварительной договоренности с испанскими и английскими факториями и, наконец, поддержки французского правительства. Без этого экспедиция могла закончиться только провалом. Для Шатобриана все это оказалось слишком сложно и недоступно, и он вынужден был отказаться от своего грандиозного проекта, мысль о котором к нему часто возвращалась, даже во время его увенчанной славой старости. «Я не могу не думать о том, — говорит он по этому поводу, обращая взгляд к прошлому, — как бы изменилось мое жизненное поприще, если бы я достиг цели моего путешествия. Годы раздоров, с таким шумом раздавившие несколько поколений, в тишине пролетели бы надо мной, затерянным в этих диких краях на песчаных гиперборейских[454] берегах, где ни один человек не оставил следа своей ноги, мир стал бы другим за это время. Вероятно, я никогда не имел бы несчастья быть писателем. Мое имя осталось бы неизвестным, или же с ним было бы связано одно из тех тихих преданий, которые не вызывают зависти и предвещают не столько славу, сколько счастье. Кто знает, даже если бы я снова пересек Атлантику, не остался бы я в одиночестве с моими открытиями, как завоеватель среди своих завоеваний?» Покинув Свифта, избавившего его от унизительного провала, а может быть и от худшей участи, Шатобриан пересек территорию штата Нью-Йорк, населенную тогда индейцами, и достиг Ниагарского водопада, оставив ставшее классическим и едва ли не самым прекрасным из когда-либо сделанных описание этого чуда природы… «Мы пришли к краю водопада, который еще издали извещал о себе страшным ревом. Река Ниагара, вытекающая из озера Эри и впадающая в озеро Онтарио, образует стену воды высотой по перпендикуляру сто сорок четыре фута. От озера Эри до Онтарио река течет с крутым наклоном, и в месте впадения это уже не река, а море воды, стремительные потоки которой обрушиваются в зияющую пасть пучины. Водопад разделяется на две части и изгибается, как подкова. Между потоками выдается островок, подрезанный снизу водой и нависающий со всеми его деревьями над хаосом волн. Масса потока, устремляющегося на юг, свертывается в огромный цилиндр, потом развертывается в белоснежную скатерть, сверкающую под солнцем всеми цветами спектра; восточный рукав опускается в пугающую темноту сплошным водяным столбом. Тысяча радуг перекрещиваются над пропастью. Ударяясь о дрожащую скалу, вода отскакивает вихрями пены, напоминающими дымы огромного пожара. Сосны, дикий орешник, скалы причудливых форм дополняют картину. Орлы, увлекаемые потоком воздуха, опускаются, совершая круги над заливом, американские барсуки висят на гибких хвостах на концах свешивающихся веток и выхватывают из пропасти трупы разбившихся лосей и медведей». Налюбовавшись на досуге этим грандиозным спектаклем, Шатобриан решился на рискованный шаг, доступный сегодня всем путешественникам, бродящим по миру с путеводителями Бредшоу[455] или Бедекера[456] в руках, то есть спуститься к подножию водопада. Фантазия тем более странная, что игра, грубо говоря, не стоила свеч, поскольку пропадала всякая иллюзия, как за изнанкой великолепно задуманной декорации. «…Поскольку индейская лестница была сломана, я решил, вопреки увещеваниям моего проводника, отправиться к низу водопада в то место, где он падает со скалистого утеса. Присутствие духа не оставляло меня, несмотря на рев воды и пугающую пропасть, кипевшую подо мной. Я начал спускаться. Когда до дна оставалось сорок футов, стена стала гладкой и на вертикальной скале уже не было ни корней, ни трещин, куда можно было поставить ноги. Я повис на руках и не мог ни подняться, ни опуститься, чувствуя, что пальцы постепенно разжимаются, онемев от тяжести тела. Вряд ли кто-нибудь пережил то, что довелось мне за те десять минут, что я висел над пропастью Ниагары. Наконец руки ослабели, и я упал, но, придя в себя, обнаружил, что жив, похоже без серьезных повреждений, лежу всего в полудюйме от пропасти на голой скале, о которуюнепременно должен был разбиться, но когда холод воды начал пронизывать меня, я понял, что не все так хорошо, как показалось сначала. Я почувствовал непереносимую боль в левой руке, она была сломана ниже локтя. Мой проводник побежал за дикарями, которые с большим трудом подняли меня при помощи веревки, сплетенной из бересты, и взяли к себе…» Едва оправившись после падения, Шатобриан устремился подробно осмотреть озера, где, впрочем, не узнал ничего нового, но счел себя обязанным с пафосом, иногда раздражающим и почти всегда гиперболическим, описать очень простые вещи и события, для которых было бы достаточно простого рассказа. Из района Великих озер он перебрался в штат Огайо[457], пришел по обыкновению в восторг от монументальных руин, ни происхождения, ни назначения которых он сам не понимал, но подробно объяснил человечеству в претенциозном стиле, увы! невежественного молодого человека! Из Огайо он перешел в долину Миссисипи и проник в Луизиану, ставшую испанской, перед тем как на какое-то время снова стать французской, а потом войти посредством финансовых операций в американскую конфедерацию. Вид заходящего солнца вдохновил его на описание, очень позабавившее исследователей и ставшее для них чем-то вроде забавного анекдота. «Солнце упало за пологом деревьев, окружающих долину; по мере того как оно садилось, движения теней и света рисовали волшебную картину: там луч пробился через купола деревьев и блестел, как кроваво-красный рубин в темной листве; здесь свет разливался между стволами и ветвями и проецировал на газоны перекрещивающиеся колонны и подвижные сетки… Животные, как и мы, внимательно созерцали это величественное зрелище: крокодил, повернувшись к дневному светилу, выпускал из своей распахнутой пасти озерную воду красочными снопами; взгромоздившись на высохшую ветку, пеликан по-своему восхвалял владыку природы, и лебедь поднимался над тучами, чтобы благословить его…» Все это, надо признаться, очень красиво, величественно, возвышенно и мастерски написано. Но где же правда в этой напичканной преувеличениями картине? Крокодилы в природном состоянии ведут себя обычно не так, как эмблема городских фонтанов; пеликаны, а равно как и лебеди, как мы знаем, не имеют привычки читать, как послушные дети, молитвы по утрам и вечерам. Писатель побывал у натчезов, этих страшных дикарей, убивших, скальпировавших и частично съевших несчастных французских колонистов из форта Розали. Он познакомился с верховным вождем племени по прозвищу Солнце, уверявшим, что спустился с дневного светила, очевидно, одним из сыновей, внуков или родственников по побочной линии мадам Дюбуа, супруги бедного сержанта французской гвардии, которая, как известно, сама сделала себя вдовой. Шатобриан описал интимную жизнь дикарей и рядом с абсолютно неверно представленной ролью женщины у североамериканских краснокожих начертал захватывающую картину подготовки к войне у этих первобытных людей, для которых она великое и, можно сказать, единственное занятие. Вот несколько не связанных между собой отрывков: «…У дикарей вооружены все, мужчины, женщины и дети, но отряд воинов состоит обычно из пятой части племени. Пятнадцать лет — это возраст, когда индеец становится воином… Война для них более законное дело, чем для цивилизованных народов, потому что почти всегда объявляется во имя существования племени, которое ее развязывает, чтобы сохранить охотничьи угодья или земли, пригодные для возделывания. И именно эта причина, по какой индеец, стремясь выжить, занимается смертельным для себя ремеслом, создает непримиримую вражду между племенами, оспаривающими друг у друга пропитание для семьи… Война объявляется необычным и страшным образом. Четыре воина, окрашенные в черное с головы до ног, проникают в глубоких сумерках к своему будущему врагу; пробравшись к дверям хижин, они бросают в очаг палицу, окрашенную в красный цвет, на ручке которой нанесены известные обеим сторонам знаки, указывающие на мотивы враждебности… Затем индейские глашатаи войны исчезают в ночи, как привидения, испуская знаменитый боевой клич «уооа». Этот звук образуется, если прижимать руку ко рту и часто-часто шлепать по губам, при этом вылетают вибрирующие звуки с диапазоном от глухих до звонких. Заканчивается клич чем-то вроде завывания, которое невозможно описать. Война отменяется, если враг, слишком слабый, чтобы участвовать в ней, убегает; если же он чувствует себя сильным, то принимает вызов, и тотчас начинаются приготовления к выступлению. На площади зажигается большой костер, и на огонь ставится военный «янычарский»[458] котел. Каждый воин бросает туда какую-нибудь, принадлежащую ему вещь. Затем устанавливают два столба, к которым подвешивают стрелы, булавы и перья, окрашенные в красный цвет. Столбы устанавливаются с северной, восточной, южной или западной стороны площади, в зависимости от географической точки, откуда должно начаться сражение. Сделав это, воины принимают боевой медицинский препарат, сильнодействующее рвотное, растворенное в двух пинтах[459] воды, которое они должны выпить залпом. Молодые люди расходятся по окрестностям, но не уходят слишком далеко. Вождь, который руководит ими, натерев шею и лицо медвежьим салом и толченым углем, удаляется в парильню, где проводит целых два дня, потеет, постится и предается размышлениям. Два дня уединения истекают, молодые воины отправляются, в свою очередь, к военачальнику: они объявляют ему о своем намерении отправиться в поход; хотя совет и объявил войну, это решение никого не связывает; выступление с войском только добровольное. Все воины разрисовывают себя черной и красной краской так, как, по их мнению, можно сильнее напугать врага. Одни рисуют продольные и поперечные полосы на щеках; другие круглые или треугольные метки; кто-то вычерчивает на лицах змейки. На открытой груди и оголенных руках воинов пишется вся история их подвигов; специальные шифры отображают количество снятых скальпов, битв, в которых они участвовали, опасности, которых они избежали. Эти иероглифы, нанесенные на кожу синими точками, несмываемы и представляют собой наколки, прижженные сосновой смолой. Воины, совершенно обнаженные или одетые в рубаху без рукавов, украшают перьями только прядь волос, которую оставляют на макушке. За кожаным поясом у них заткнут нож, чтобы раскраивать черепа; на том же поясе подвешена булава; в правой руке лук или карабин; на левом плече они носят колчан, наполненный стрелами, или рог с порохом и пулями…» А вот еще несколько эпизодов, описанных Шатобрианом. «…Во время этой овации вождь поет вполголоса знаменитую песню смерти, которую запевают перед пыткой огнем… Когда воин прощается со своей хижиной, он останавливается на ее пороге. Если у него есть мать, то именно она первой выходит вперед. Он целует ее глаза и губы, затем подходят сестры, и он касается губами их лба; жена падает перед ним ниц, он желает ей добрых духов. Из всех его детей к нему приводят только сыновей; он прикасается к ним топором или булавой, не произнося ни слова. Наконец, последним появляется отец. Ударив сына по плечу, он произносит речь и приглашает его воздать честь их предкам. На следующий день на ранней заре военачальник выходит из хижины и издает крик смерти… Лагерь поднимается и вооружается…» Осведомив таким образом читателя о нравах, обычаях и практической жизни краснокожих Северной Америки, описав их охоту, войны, празднества, похороны, Шатобриан вывел на сцену их самих, сделав истинными героями романа, представил во всех деталях такими, какими увидел, или по меньшей мере такими, какими они должны быть в его представлении, поскольку в соответствии с милой привычкой всех поэтов он просто идеализирует этих страшных дикарей, и мы вынуждены смотреть на них сквозь призму его воображения. Впрочем, не было ли это уже началом реабилитации этих ужасных мерзавцев, грабителей, воров, грязных, грубых каннибалов, воспетых гением, возвысившимся до доброты и сочувствия к ним?ГЛАВА 18
БАРОН Д’УОГАН
Открытие золота в Калифорнии капитаном Суттером, гвардейским офицером Карла X, вызвало не только интенсивный поток эмиграции, но еще, как говорят американцы, rush[460], то есть массовое нашествие людей, сбежавшихся со всех стран на добычу драгоценного металла. Суттер нашел в 1841 году первое золото; поставя мельницу на реке Ла-Фурш, он заметил желтые крупинки: вода, приводя в действие колесо, размывала землю и высвобождала из нее металл[461]. Новость тотчас распространилась по всей Америке, потом по всему миру, слухи росли, без сомнения преувеличенные, но по сути правдивые. Тотчас искатели золота нахлынули в долину Сакраменто. Очень быстро были сколочены значительные состояния благодаря открытиям, сделанным неопытными людьми случайно, и рассказы об этих изумительных удачах разошлись по свету, еще больше увеличивая алчность, толкавшую людей стремиться туда за удачей, как в колоссальный игорный дом. Все слои общества приняли участие в этом безумии: торговцы, рабочие, адвокаты, лесорубы, матросы, врачи, землекопы, пахари, бедняки, мечтающие разбогатеть, богатые, которые хотели стать еще богаче, и бандиты, намеревающиеся собирать с золотых полей свою десятину за счет грубой силы. Иногда выручка была значительной, но для золотоискателей она стоила тяжелого труда и большого риска. Давила усталость, неслыханные лишения, абсурдная дороговизна, а кругом подстерегали всевозможные опасности, не считая уже грабителей, от которых приходилось беспрерывно защищаться. А еще индейцы, озлобленные вторжением на их земли, скрытно подстерегали день и ночь пионеров золотодобычи и убивали их без жалости. Беда всякому белому, который имел неосторожность удалиться от обжитых мест. Внезапно из кустарников возникали монстры, бесшумно следуя по пятам, бросались на него с поднятым топором, рыча как сумасшедшие, убивали, если не могли захватить живьем, а в последнем случае держали у столба пыток, где он находил медленную жестокую и мучительную смерть. Итак, нужна была твердая воля тем, кто оставил цивилизованную жизнь для лишений и опасностей поистине адского существования первых золотоискателей. Короткая биография, которую мы приводим в настоящей главе, является красноречивым и достоверным примером. Это биография барона Уогана. Вот при каких обстоятельствах этот представитель одной из самых старинных и самых знатных семей Франции прибыл в Калифорнию всего лишь через девять лет после открытия Суттера. «…Не совсем по собственной воле однажды утром, — вспоминал месье д’Уоган, — я сел на корабль, отплывающий в другой мир, в поисках фортуны, как Колумб — континента. Лишившись со смертью отца значительного наследства, исчезнувшего в нечестных руках, я должен был обеспечить моей дорогой жене существование, которое обещал, беря ее в жены, а моим детям воспитание и образование в соответствии со знатным и ко многому обязывающим именем, которое мне завещали Уоганы и Керхоенты, мои предки. Итак, я не литератор, не профессиональный путешественник; я только искатель приключений, который во всем случившемся нашел, быть может, больше, чем искал, во всех отношениях…» Месье д’Уоган отправился в конце 1850 года в Калифорнию с тремя компаньонами (двое из которых, как и он, бывшие офицеры Африканской армии, а третий доктор медицины), чтобы начать эксплуатацию недавно изобретенной машины для промывки золотоносных песков, которая обещала дать прекрасные результаты, по крайней мере, не хуже тех, о которых трубили все газеты, опубликовав на своих последних страницах подробные чертежи с разрезами, видом сбоку и спереди, сопровождаемые сногсшибательной рекламой. Четверо компаньонов, высадившись в Сан-Франциско, где в ту эпоху проживало только 25 000 жителей, тотчас направились в Сакраменто, расположенный на левом берегу реки, носящей такое же название. Они отправились на золотые россыпи Грасс-Валли, которые, как им сказали, были заброшены, установив свою ценную машину на тележку, запряженную четырьмя мулами. Этап за этапом, тщательно охраняя себя от мародеров, компаньоны прибыли в городок Невада-Сити и впервые увидели поселок золотоискателей. «На дне лощины, казалось, развороченной ураганом, — говорит рассказчик, — из земли было выворочено огромное количество деревьев; среди глубоких рытвин копошились золотоискатели. Склонившись над мотыгами, одни снимали слои золотоносной земли, которую потом относили на расстояние примерно в одну милю к маленькому ручью, где другие, зайдя по пояс в ледяную воду, промывали эту драгоценную землю в деревянных или железных лотках. По обе стороны лощины теснились жилища золотоискателей: палатки всевозможных форм и хижины из кедровых досок». Посмотрев с любопытством на это зрелище, такое новое для них, и поняв, что их ждет впереди, они отправились в Грасс-Валли, куда и прибыли на следующий день. Как люди, спешащие разбогатеть и уже охваченные золотой лихорадкой, они поторопились установить свою машину, чтобы как можно быстрее ее опробовать. Компаньоны выбрали себе участок земли площадью в десять квадратных метров, на который имел право каждый старатель, прибывший на золотоносные земли. «…Сказал ли я, — продолжает месье д’Уоган, — что главным элементом, заложенным в конструкцию нашей машины изобретателем, является ртуть? Каждый раз, когда золото проходит в непосредственной близости от нее, ртуть должна захватить его крупинки, затем мы пропускаем ртуть через замшу и кладем в карман золото, которое в ней останется. Так было задумано. Мы принялись за дело. Слишком долго рассказывать все подробности. Но дело в том, что ни одна пылинка золота не хотела соединяться с нашей ртутью. Поскольку золота хватало, земля была полна им, следовательно, плоха была ртуть. Тогда мы вспомнили, что во время грозы между Панамой и Сан-Франциско мы одолжили упомянутую ртуть капитану парохода, когда тот пролил свою. Металл он нам, конечно, вернул, но, очевидно, подпорченный. Мы напрасно потратили этот день и несколько следующих. Бессмысленно было обманывать себя дальше, наша машина ничего не стоила, абсолютно ничего! Это открытие, надо признать, не принесло нам радости, ведь единственное, что заставило нас покинуть родину и предпринять столь долгое путешествие, это надежда на огромную добычу. Мои компаньоны были удручены, мне тоже нечему было радоваться; но, поскольку вся моя жизнь была дуэлью с судьбой, я мог более философски переносить это новое невезение. Так как для существования нашей ассоциации больше не было повода, то она была распущена сразу, как только поступило предложение. Мы разделили оборудование, капиталы, еще остававшиеся в кассе, и разошлись. Мои друзья, не испытывавшие особого стремления к тяжелым работам по добыче золота, решили вернуться в Сан-Франциско. А я, в глубине души довольный, что представился случай окунуться в приключения и бросить вызов судьбе, к чему у меня решительно было призвание, пожал им руки, сердечно пожелал счастливого путешествия и удачи. Я составил план своей собственной кампании. Мне очень хотелось проникнуть внутрь континента на знаменитый Дальний Запад, по крайней мере, до Скалистых гор. Но для этого были необходимы многие вещи и среди прочего — золото. Итак, я решил еще на некоторое время задержаться в Грасс-Валли и собрать здесь достаточно золота, чтобы хватило средств для моей экскурсии. Для этой цели я сначала купил хижину, затем позаботился об инструментах золотоискателя, которые достал у одного американца, возвращавшегося в Нью-Йорк, и выбрал себе участок в верховьях долины. Моя хижина, не очень просторная, около восьми футов на восемь, совсем не изящная, но удобная, располагалась на берегу ручья, заросшего красивыми цветами. Кедр, не менее двадцати футов в диаметре у основания, служил ей контрфорсом[462], ветки заменяли каменную кладку; крыша из дощечек того же дерева, наколотых топором и уложенных одна на другую ласточкиным хвостом, достаточно хорошо защищали меня от солнца и дождя, в середине возвышалась маленькая жестяная труба, глубокая сковорода составляла всю мою кухонную утварь и служила как для приготовления супа, так и поджаривания дичи. Что касается постели, то в ее роли выступал походный мешок, наполненный дубовыми листьями. В головах, как эгида[463], висел медальон с портретом моей жены, а на стенах оружие: прекрасный карабин и револьвер. За хижиной я разбил садик, где посадил цветы и овощи из Франции, которые смог здесь достать, а рядом построил маленькую печь для выпечки хлеба, казавшегося мне очень вкусным. Золотоискатель, продавший хижину, уступил еще и сорок фунтов муки, которая, даже испортившись, имела огромное значение для такого любителя хлеба, как я. Обустроившись таким образом, я занялся установлением добрососедских отношений. Примерно в миле от моего жилища я обнаружил маленькое общество канадских золотоискателей французского происхождения, с которыми не замедлил завязать дружбу. Они почти не получили воспитания, но это были храбрые и честные молодые люди, я потом часто хвалил себя за отношения, которые у нас установились, благодарен счастливому случаю, когда невольно поспособствовал их удаче. Я уже рассказал, из чего состояла моя постель. Итак, однажды, собираясь обновить свой тюфяк, я вышел с мешком и ружьем поискать сухой листвы и заметил заполненную ею яму, спустился в нее и, работая руками и ногами, набил полный мешок, после чего отправился пострелять дичи и вернулся в хижину уже глубокой ночью. Слегка перекусив, я бросился на постель и вскоре заснул. Примерно в половине четвертого утра что-то разбудило меня, я снова начал засыпать, когда почувствовал, что в мешке, на котором лежу, что-то шевелится. Сначала я решил, что это крыса; но каков был мой ужас, когда я увидел, что имею дело не с четвероногим животным, а с рептилией; не с крысой, а со змеей! Очевидно, по неосторожности я затолкал змею в мешок: вещь вполне возможная в это время года, когда, окоченев от холода, они свертываются в клубок и спят. Одним прыжком я отскочил от нее, но чудовище, забыв, что это я отогрел его, кинулось на подставленный мной штык и принялось кусать ствол ружья. Пришлось нажать на спусковой крючок, пуля буквально рассекла тварь надвое. Это была первая гремучая змея, которую я увидел в Калифорнии. Ее длина составляла четыре фута. Я отрезал ей хвост, на котором насчитал двенадцать маленьких роговых колец, издававших сухой звук при движении. Это как раз и были змеиные погремки». Что предвещало такое начало? Через некоторое время Уоган, намыв немного золота, занялся охотой, которая стала приносить ему большой и надежный доход. Он смело вступал в схватку с дикими животными, которые оспаривали у него дичь: койотами, пумами, медведями и другими не менее страшными хищниками, не испытывая при этом особого страха как человек, уверенный в своей отваге и ловкости. Именно по совету одного из французов, виконта де Пиндрея, как и он искавшего здесь приключений, Уоган почти полностью забросил поиски золота и занялся охотой. Для начала он убил оленя, голову которого украшали рога с десятью веточками, взгромоздил на своего мула Кади, отправился в Невада-Сити[464], чтобы продать добычу, как ему посоветовал месье де Пиндрей. «Я, — продолжает он, — прибыл точно в час, когда золотоискатели возвращаются со своих участков на обед. Храбро шествуя посередине единственной улицы городка, я выкрикивал: — Дичь! Дичь! По одному доллару за фунт! Дойдя до конца улицы, я продал мяса на восемьсот франков. Видно, идея была неплоха. Но это еще не все. Два молодых человека из Нанта, содержавших таверну в Невада-Сити, купившие одну из задних ножек оленя, пригласили меня на обед и за десертом спросили меня, не хотел бы я регулярно поставлять им дичь, а они бы брали ее у меня по цене, о которой мы договоримся. Я принял предложение, если и не на целый год, как они того хотели, то по меньшей мере на то время, пока я останусь в Грасс-Валли. Сделка была заключена, а наше простое бретонское слово равноценно нормандскому акту на гербовой бумаге с печатью. В этом городе, как на всех золотых приисках, золото и серебро, обращенные в деньги, практически не применялись; все торговые сделки, а также продажа продуктов питания оплачивались золотым песком. На прилавке каждого торговца стояли одни весы для товаров и другие, меньшие, для взвешивания песка. Каждый золотоискатель имел при себе кожаный мешочек вместо кошелька, в котором держал золотой песок, предназначенный для мелких покупок. …Недели, месяцы протекали таким образом между работами на участке и развлечениями на охоте, приносившими мне, как ни странно, больший доход, чем золотодобыча. Потом настал момент, когда я не мог больше сопротивляться настойчивому желанию, толкавшему меня к пустынным восточным районам. Оставив хижину под присмотром канадцев и отдав мое небольшое состояние в их надежные руки, я ранним утром закончил свои последние приготовления в дорогу. Медвежью шкуру и гамак, сложенные вчетверо, положил на спину моего мула и прикрепил при помощи ремня, туда же пристроил переметную суму с провизией и поверх всего уселся сам. Я бросил последний влюбленный взгляд на мой мирный эрмитаж[465], дорогие цветы, которые, возможно, скоро засохнут, лишенные моих усердных забот. Дружеское рукопожатие соседей-канадцев, — и со счастливым сердцем, наполненным предчувствием приключений, я отправился в дорогу. На мне было нечто вроде плаща с капюшоном из шкуры койота, поскольку матросская рубашка из красной шерсти уже порядком поизносилась. В таком снаряжении я походил на Робинзона, недоставало только мехового зонтика. Я заменил его капюшоном и находил это бесконечно более удобным для движения или отдыха, во время бодрствования или сна». …Проведя множество дней в пути, избежав опасностей при встрече с людьми и хищными животными, после бивачных ночей, проведенных около огня с карабином и револьвером в пределах досягаемости руки, в одиночку или со случайными попутчиками, охотниками или золотоискателями, как и он, барон Уоган пересек южную оконечность горной гряды, откуда стекает на запад река Гумбольдт[466] и, поднявшись между озерами Севир[467] и Николлет, проник в горы Уа-Уа[468]. В эту эпоху по темным каньонам или ущельям гор, по гигантским лесам на их склонах обитало множество диких животных и не менее диких людей, принадлежащих к многочисленным племенам индейцев паюте[469]. Именно здесь наш путешественник стал героем драматического приключения, рассказ о котором лучше даст читателю представление о том, что происходило тогда в этой части Северной Америки. «Остановившись на ночь, — рассказывает он, — на берегу реки, которая, как выяснилось позже, оказалась притоком Грин-Ривер[470], я был разбужен таким страшным медвежьим ревом, что решил основательно подготовиться. На рассвете я перезарядил ружье, вложив закаленные железные болванки вместо свинцовых пуль; что-то носилось в воздухе, какое-то нехорошее тоскливое предчувствие, как бы предупреждающее: остерегайся!» И оно не замедлило оправдаться. Уоган отправился в путь и к середине дня углубился в лес, пройдя немного по берегу реки, увидел на том берегу многочисленное племя индейцев, мужчин и женщин, последние несли детей, привязанных к их спинам. Люди в панике бежали, перебирались вплавь через реку и исчезали в лесу. По крайней мере, все мужчины, кроме троих; женщины, тяжело нагруженные, не могли поспеть за мужьями. Барон опять услышал тот страшный рев, который разбудил его среди ночи, и увидел, как огромными скачками приближается чудовищное животное грязного серого цвета, бегущее со скоростью галопирующей лошади. Это был серый медведь[471], самый страшный из животных Американского континента. Он бросился вплавь и почти нагнал женщину с двумя близнецами, орущими от страха. Уоган, находясь в ста двадцати метрах, выстрелил в медведя и попал ему в голову, но тот не остановился. Женщина смогла тем временем опередить животное и уже находилась недалеко от берега. Медведь, рассвирепев, поплыл еще быстрее, когда второй выстрел в голову замедлил его движение. Женщину, едва спасшуюся от когтистой лапы, полумертвую от страха, вытащил из воды один из трех индейцев, ее муж, а медведь ожесточенно бросился на охотника. Два выстрела из ружья, сделанные на расстоянии одного метра в огромную пасть, не успокоили его. Зверь упал на спину, но одним прыжком вскочил, готовый опять кинуться на охотника, у которого уже не было времени перезарядить карабин. Ему пришлось схватить топор и нанести страшный удар, снеся медведю один глаз с куском черепа. Медведь снова упал и опять поднялся, получил в упор два выстрела из револьвера в грудь, потом третий, вырвавший у него другой глаз. В этот момент Уоган смог перезарядить карабин и снова сделал два выстрела железными болванками. Зверюга, получивший, таким образом, семь выстрелов и один удар топором, испустил дух! Он весил около семисот килограммов и был более трех метров в длину. Его когти были не короче тридцати сантиметров, а сила и жизнестойкость оказались такими, что он не умер сразу, хотя сердце было пробито двумя пулями! Благодаря мужеству французского охотника бедные индейцы, малые дети и женщина, были спасены. Они наелись до отвала мясом своего преследователя, и глава спасенной семьи, знавший несколько слов по-испански, обратился к Уогану с торжественной речью, закончившейся афоризмом: «У неблагодарности бледное лицо, но признательность — благодетель краснокожих». «Я ушел, — продолжал рассказчик, — не зная, что ответить на такие рассудительные речи. Но двумя днями позже ответ легко нашелся, поскольку я был брошен в этой глуши и обворован вызвавшимся сопровождать меня в качестве проводника индейцем, тем самым, жену и детей которого я спас! И это не все: на следующий день на восходе солнца, когда я, не столько размышляя об этом индейском способе выражать благодарность, сколько вспоминая дорогую покинутую родину, внезапно был оторван от приятных мыслей свистом стрелы, вонзившейся в землю в шаге от меня… через несколько мгновений за ней последовала вторая и воткнулась в нескольких дюймах от моего плеча в ствол кедра, у которого я сидел, привалившись. Я спрятался за кустами и, осторожно высунув голову, увидел индейца, в котором узнал моего неблагодарного вора, выглядывавшего из-за скалы, стараясь обнаружить место, куда я спрятался. Красноватые наконечники его стрел свидетельствовали о том, что они отравлены; я быстро принял решение. Прицелился, и моя пуля поразила негодяя чуть выше правой подмышки. Он осел на скалу и остался лежать там, свесив верхнюю часть тела и руки. Пока я вскарабкался к нему, цепляясь за выступы скал и корни, прошло достаточно времени, чтобы он смог прийти в себя. С проворством, удивительным для довольно серьезно раненного человека, он добрался до плато, где я не смог достать его вторым выстрелом; когда я, в свою очередь, ступил на плато, индеец был уже в четверти мили и убегал в долину». На следующий день барон Уоган, озабоченный этим инцидентом, продолжал свой путь, когда шестьдесят индейцев, выйдя на тропу войны, о чем поведала раскраска их лиц, неожиданно окружили его и осыпали издали градом стрел. Всякое сопротивление стало безумием. Было лучше сдаться на милость победителей, чтобы не быть убитым на месте. По их раскраске путешественник узнал людей из племени индейца, раненного накануне, и эта встреча не обещала ничего хорошего. Но, доверяя своей звезде и разуму, он храбро стал ждать развития событий. После двенадцатичасового пути, во время которого всякая попытка бегства была абсолютно невозможна, Уоган пришел в деревню, состоящую из многочисленных хижин, беспорядочно разбросанных по берегу реки. Сверившись с картой, он увидел, что эта деревня принадлежит большому племени тимпабачей, одной из ветвей паюте, живущих на берегах реки Сан-Хуан, впадающей в Колорадо. Путешественнику связали руки и проводили в хижину, где на циновке лежал индеец, раненный им накануне. Вождь, указав на раненного, спросил Уогана по-испански, узнает ли он этого человека и он ли ранил его в грудь. Барон честно ответил «да», и его преступление было доказано. Путешественника отвели в хижину совета, где собрались все вожди, чтобы его судить. Они пустили по кругу легендарную трубку, но, вместо того чтобы предложить ее пленнику, ему показали томагавк[472], испачканный кровью. Без сомнения, орудие палача. Спустя достаточно длительное время, в течение которого Уоган сидел, не произнося ни слова, на корточках, индейцы ввели женщину, которую он тотчас узнал: это была спасенная им вместе с детьми от когтей серого медведя, супруга которой он ранил. «Ее допросили, — рассказывает дальше барон о происшествии, — и я увидел, что бедная скво[473] жалеет меня, вместо того чтобы упрекать; я понял по ее глазам и жестам, что она пытается защитить своего спасителя насколько ей позволяет ее положение супруги раненого. Я понял также, что она рассказывает сцену битвы с медведем и как я их спас от верной гибели. На лицах членов совета обозначилась доброжелательность, и после довольно оживленных дебатов большой вождь обратился ко мне с речью на испанском: — Почему, бледнолицый, пришел ты в наши районы объявить войну тимпабачам? Пусть он отвечает! Великий вождь ждет, чтобы он оправдался, если может. — Бледнолицый, — ответил я, — вовсе не объявлял войну; наоборот, на него напали, и он защищался. — Тогда, — добавил он, — пусть он покажет рану, которую ему нанес агрессор. — Я не получил раны, но я должен был защищаться, чтобы спасти мою жизнь. — Бледнолицый не имел на это права; после того как он показал свою храбрость перед серым медведем, он должен быть милосердным и убежать от стрел тимпабача, которые не сумели его достать. Он пролил кровь, его кровь тоже должна пролиться. Большой вождь Рогатый Змей и его совет думают, что бледнолицый достоин смерти. При этих словах индианка что-то сказала и, приподняв медвежью шкуру, закрывавшую вход в хижину совета, ушла. После ее ухода обсуждение в совете вождей возобновилось; в какой-то момент я поверил, что мнения на мой счет разделились; но вскоре, окончательно решив вопрос, большой вождь снова велел принести томагавк войны, положил его мне на голову, произнеся несколько слов на каком-то индейском языке, устремив глаза на грубое изображение солнца, нарисованное на куске березовой коры. Я решил, что мне вынесен смертный приговор. Я подумал о родине и о любимых существах, с которыми приходилось навеки проститься. В глубине хижины находилась дубовая колода, к ней меня привязали за шею кожаным ремнем, продетым в массивное золотое кольцо, внутренняя отполированная поверхность которого позволяла думать, что оно послужило не одной жертве. Принесли охапку сухого тростника, на ней улеглись множество туземцев, дымя и напевая монотонную нескончаемую песню… Два дня и две ночи прошли, не внеся никакого изменения в мое положение. На утро третьего дня мое внимание привлек непривычный шум голосов, то удаляющихся, то приближающихся к лагерю. Ночью меня постоянно будило зловещее предчувствие; вскоре появились четыре вождя в величественном наряде, за ними следовала сотня воинов с волосами, украшенными орлиными перьями; одни были вооружены луками и щитами из твердого дерева, покрытыми шкурой серого медведя, окрашенной в различные цвета, другие — кремневыми ружьями. Большому вождю принесли томагавк войны, о котором я уже говорил, и он открыл шествие. Мне развязали ноги и вывели с веревкой на шее из хижины. Я понял, что час моей смерти пришел. Как истинный солдат, я смирился и гордо шел в полной уверенности, что моя душа сможет соединиться с бренным телом. Индейцы моего эскорта сели на лошадей, покрытых попонами, богато украшенных шкурами медведей, пум и бизонов; все подвесили к удилам пучки волос, на которых еще оставались куски кожи с головы или даже целые черепа. Огромный луг, окружавший вигвамы тимпабачей, был заполнен индейцами. Вскоре я обнаружил по разнообразию их нелепых нарядов, что здесь собрались представители нескольких племен: меня привел в центр этой саванны мой военный эскорт, вооруженный томагавками, с трудом отодвигавший толпу народа, с любопытством наблюдающего за событием. В середине луга возвышалось нечто вроде покрытого травой пригорка, образованное стволом молодого раздвоенного дуба; это был столб пыток; меня немедленно привязали к нему за ноги и за руки. Я оставался в этом положении некоторое время, когда большой вождь подошел ко мне в сопровождении личности хотя и одетой по-индейски, однако явно европейского типа. Это был человек примерно шестидесяти пяти лет, высокого роста, с мощным торсом, с рыжей, очень длинной бородой, вопреки обычаю индейцев, которые свою выщипывали; одежда из невыделанной шкуры пумы добавляла дикости его физиономии; на ремне за спиной у него висел длинноствольный карабин, из-за пояса торчали топор и револьвер. — Присутствующий здесь великий вождь тимпабачей, — произнес незнакомец на хорошем английском языке, — поручил мне сказать, что он приговорил вас к смерти; его мудрость подсказала это решение по многим причинам: первая, и самая главная, та, что вы американец; вторая — это смертельная рана, которую вы нанесли на землях тимпабачей индейцу этого племени. Однако, принимая во внимание то хорошее, что рассказали о вас, он согласен оказать вам милосердие, применив к вам менее мучительные пытки, обычные при подобных обстоятельствах; жестокое наказание, я его не одобряю и, будучи индейцем в душе и англичанином по национальности, постараюсь его предотвратить. — Я благодарю вас за чувства, которые делают вам честь, но скажите великому вождю, что он ошибается по поводу моей национальности: я вовсе не американец. Если я и ранил одного из его индейцев, то только защищая себя, и до глубины души задетый его неблагодарностью ко мне, спасшему его и его семью от зубов и когтей серого медведя. Впрочем, разве это не в природе человека — защищать свое существование, когда ему угрожают? Не ответив мне прямо, мой странный собеседник сказал: — Сэр, ваше положение очень меня печалит; у вас есть семья, которая будет скорбеть о вас, жена, мать, сестра, которые оплачут вашу смерть? — Да, — ответил я, — и все будут испытывать глубокую скорбь, если не увидят меня вернувшимся к очагу предков; но не меньшую и оттого, что не будут знать, где и как я закончил свою жизнь. Если бы не это, то смерть не пугала бы меня; несчастья слишком хорошо научили меня презирать ее. Когда я решился на это путешествие за Скалистые горы, я понимал, что рискую жизнью. Впрочем, я солдат и сумею показать варварам, что француз умеет умирать так же храбро, как индейский воин. Произнеся эти слова, я заметил волнение в зрачках охотника на людей, казавшегося таким свирепым на первый взгляд. — Я все испробовал, — сказал он мне, — чтобы добиться для вас помилования у индейцев, но большая часть совета против вас. Индеец, которого вы смертельно ранили, шурин одного из самых влиятельных воинов племени. — Еще раз благодарю вас, — ответил я ему, — но позвольте мне перед смертью попросить вас о двух вещах. Первое — это сократить мою пытку; что касается второго… Так вот, у меня на груди портрет дорогого мне существа, моей жены, англичанки, как и вы, которую я оставил во Франции, когда отправился в Америку. Я не хочу, чтобы эта ценная реликвия была осквернена после моей смерти варварами… Конечно, когда-нибудь вы будете в Сакраменто или даже в Сан-Франциско; поискав, вы найдете там француза, достойного принять мою святыню с обещанием рассказать той, кому она предназначена, что я умер на золотых россыпях. — Эта миссия для меня священна, — ответил он мне, — я нарочно отправлюсь туда и выполню вашу последнюю волю и обещаю честью английского дворянина и индейского вождя точно исполнить вашу просьбу. — Тогда расстегните блузу, вы найдете этот медальон. Попросив у меня разрешения открыть его, он устремил на него растроганный взгляд и сказал: — Мне от всего сердца жаль, что вам приходится навсегда покидать эту женщину, печальный взгляд которой как будто заранее предвидел опасности, подстерегающие вас в этом опасном путешествии. Несколько слезинок, скатившихся на мех моей одежды, были моим единственным ответом. Внутри металлического футляра, где я хранил это дорогое лицо, я написал свою фамилию. Прочитав ее, иностранец живо спросил меня, моя ли это фамилия и не англичанин ли я по происхождению. — Да, конечно, и горжусь этим, — ответил я. — Мои предки, разделив судьбу Стюартов, покинули имения и родину, чтобы сопровождать во Францию свою королеву[474]. Их потомки стали французами!.. — Но тогда ваш предок — храбрый и верный Уоган, достоинства которого были воспеты Уэверли и который славно погиб за своего короля!..[475] — Вы не ошиблись!.. Но вы сами, кто же вы, месье, вы, утешающий меня в этот высший момент и знающий род, от которого я самая скромная и последняя ветвь? — Я англичанин, как вы уже знаете, такого же славного рода, как и ваш… Только мой отец, принадлежавший к младшей ветви, был беден, а бедность в такой стране, как Англия, груз очень тяжелый. Я покинул страну, приехал в Америку, и мои вкусы понемногу сблизили меня с индейцами. Я пришел к тому, что полностью сбросил с себя облик английского джентльмена и стал индейцем. Однажды племя табегуачей, которому я оказал некоторые услуги в войне против соседних племен, выбрало меня своим вождем. Я Леннокс, герцог Ричмонд, потомок сына герцогини Портсмутской и Карла Второго…[476] Как только я узнал, что ваши предки пролили свою кровь во имя моих, я поклялся любой ценой помешать погубить вас. Вождь табегуачей не может спасти французского искателя приключений, жертву своего безрассудства, но потомок Ленноксов должен спасти потомка Уоганов! Этот разговор продолжался меньше времени, чем мне потребовалось, чтобы рассказать о нем. Леннокс отошел, сопровождаемый главными воинами своего племени, и я остался один, привязанный к столбу смерти, спрашивая себя, каких новых демаршей я должен ждать от этого странного индейского вождя, и говоря себе, что, может быть, я стану предлогом и жертвой конфликта между прежде дружественными племенами. Прошло еще около четверти часа, когда мои размышления внезапно прервал шум, доносившийся из лагеря и взволновавший окружавших меня воинов. Это были боевые кличи племен, готовящихся к битве, в чем я не сомневался. С возвышенности, где я был привязан к столбу, я мог все охватить взглядом; я отчетливо видел храброго Леннокса, собирающего вокруг себя людей племени, выбравшего его своим вождем, и стоявших спиной к лесу, тогда как тимпабачи оставались в центре долины. Через несколько мгновений вожди каждого племени направились важно и торжественно к середине поляны, быстро переговорили между собой и по окончании этого короткого совещания все вместе направились ко мне, с Ленноксом во главе, и вернули мне свободу и жизнь. Красноречие правнука герцогини Портсмутской восторжествовало! А также воинственное настроение его племени напугало тимпабачей. Конечно, тимпабачи очень хотели отомстить за смерть одного из них; но они значительно меньше хотели это сделать во вред себе, живым, и, все хорошенько обдумав, решили, что будет выгодным проявить милосердие. Леннокс вытащил свой нож, перерезал путы, я упал ему на руки и сжал их с чувством признательности, понятным всякому. Отныне я был свободен, и моя жизнь стала священной для всех индейцев этой области. Потом каждый наперегонки праздновал мое освобождение в бесконечном пиршестве, устроенном тимпабачами, внезапно ставшими моими друзьями. В течение четырех дней это был сплошной праздник, танцы, игры, всевозможные развлечения. Наконец пришло время уходить мне и всем приглашенным племенем, я попрощался с моим новым другом. …Так встреча, действительно ниспосланная мне Провидением, с человеком, хорошо известным сегодня в Калифорнии своими приключениями и влиянием на индейцев, вырвала меня из лап ужасной смерти. Леннокс на этом не остановился; благодаря его протекции я смог с полной безопасностью спуститься по Колорадо до Вёрджин-Ривер, подняться по этой реке и вернуться в золотоносный район и Грасс-Валли, где меня уже давно считали мертвым».ГЛАВА 19
ТИХООКЕАНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Как средство передвижения Тихоокеанская железная дорога имеет право на особое место в этой книге, специально написанной для путешественников. Эта дорога имела слишком большое значение для путешествий по Североамериканскому континенту, чтобы не рассказать о ее строительстве. Не забудем, что она была чудом эпохи; чудом, несколько забытым в наши дни, когда прогресс шагает быстрее пара, которое привело менее четверти века тому назад в восхищение целый мир. Именно поэтому этот верный союзник путешественников должен найти свое место среди вереницы портретов самих путешественников. Сначала посмотрим, как путешествовали до того, как двойная стальная лента Трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги связала Атлантический и Тихий океаны через всю огромную территорию США, а произошло это через четыре года после войны между Севером и Югом и за один год до франко-прусской войны. Послушаем, что говорит по этому поводу французский инженер Луи Симонен, о захватывающих путешествиях которого мы расскажем после. Перед нашим выдающимся соотечественником стояла задача пересечь Америку с востока на запад. «Представьте, — рассказывает он, — нечто похожее на многоместную дорожную карету в стиле Людовика XIV, поскольку американские экипажи так и не изменили форму с тех пор. Внутри девять одинаковых по стоимости мест: три впереди, три сзади, три в середине. На местах в середине пассажиров поддерживает только кожаная лямка, проходящая с одной стороны на другую поперек экипажа на уровне середины спины: очень неудобно. Багажа мало, очень мало, иногда совсем нет: рубашка из фланели (ее носили подолгу); пристежной воротничок, при необходимости — бумажные манжеты (их меняли только время от времени); платок и кое-какая другая одежда — следует ли перечислять?.. Носки были почти неизвестны американскому пионеру. Для чего тогда стеснять себя чемоданом? Для посылок предназначалась только задняя часть экипажа, где имелась подставка, на которую натягивалось вощеное полотно. Дилижанс тащили черезравнину, монотонную, как море в штиль, шесть лошадей, управляемых большими вожжами. Со стороны кучера садились пассажиры, любители пейзажей. Через определенные расстояния, в среднем каждые десять миль, меняли лошадей. Большая часть станций, настоящих блокгаузов[477], были укреплены сооружениями из adobe, обожженного на солнце кирпича. Там и тут открывались бойницы. Внутри станций имелось также несколько траншей в качестве оборонительных сооружений для отчаянной защиты в случае, если не помогут стены. Часто совершали набеги многочисленные индейцы, чтобы поживиться». Этот дилижанс, такой неудобный, ходивший некогда от Миссури до Калифорнии, имевший свое расписание и определенный маршрут протяженностью более восьмисот лье, назывался Overland-Mail[478] и служил в США почтовой каретой. Дилижансы перевозили огромное количество корреспонденции между восточными и западными штатами — официальных депеш, любовных писем, торговой, промышленной, сельскохозяйственной переписки, всевозможных ценностей: банковских билетов, простых векселей, переводных векселей — все это перевозилось без присмотра, часто без охраны, страховки, как попало, в бесформенных тюках; ценный груз с грехом пополам добирался до измученного ожиданием получателя. Охрана, если была, состояла из нескольких хорошо вооруженных солдат, но чаще путешественники сами должны были не только заботиться о своей безопасности, но и защищать почту Соединенных Штатов. Знаменитый путешественник Хепворт Диксон[479] однажды оказался в подобных обстоятельствах. «Экипаж, — вспоминает он, — передвигался, запыленный и шумный. Через два часа мы проехали Форт-Райли, двумя или тремя часами позже остановились в Джанкшен-Сити. Этот так называемый город состоял из шести деревянных бараков. Вышли, чтобы поужинать. Нас ждали теплые лепешки, чай и помидоры. Час проговорили с хозяином. — В путь! — кричит кучер, или кондуктор, как его здесь называют. Мы торопимся, пояс застегнут, а за него засунут пистолет с большим количеством патронов. Ночь черна. Наш огромный дилижанс заменила легкая, поставленная на ужасные рессоры коляска меньшего размера, менее прочная, с несколькими полотняными лохмотьями вместо штор. Прекрасный экипаж для прерий, но не внушающий доверия путешественникам. Письма свалены в мешки, пришлось применить силу и изобретательность, чтобы они все поместились. Обитатели Запада слывут мастерами в таких делах. Они так хорошо выполнили задачу, что не верится, чтобы два человеческих существа могли втиснуться между сокровищами, доверенными почте, и стенкой экипажа. Но все возможно в этом мире. Скрестив ноги, просунув локти в ремни, мы смогли это сделать, правда с большим трудом. Ждем. Нас успокаивают, утверждая, что через несколько минут кто-то сейчас принесет еще несколько ценных посылок, но они не займут много места. Но что это? Экипаж готов к отправлению, а охраны не видно. Мы требуем объяснений, и служащий сообщает, что офицер, командующий в этом районе, не дает солдат. Штат очень маленький; индейцы волнуются, угроза со всех сторон; трудно удержаться на своем посту. — Однако, — дополняет служащий, который очень хочет нам помочь, — дорога совершенно надежна; я уверен, что вчера уже отправили в долину несколько человек. «Счастливого пути!» И вот удача. Полоска света! Слава Богу, охрана!.. Нет, в моих длительных и бесчисленных путешествиях я не встречал ничего подобного этому Почтовому Национальному Большому Дилижансу Прерий. Он пересекает самый сомнительный район, тот, что создает наибольшую опасность для путешественника и торговца. Цивилизация и ее достижения очень далеки. Индейские племена вооружены. Итак! Все предоставлено на волю случая. Вперед, путешественники, прокладывайте путь! Умирайте, живите, устраивайтесь! Но мы англичане и способны себя защитить. Покажем наши револьверы, пусть думают, что мы умеем ими пользоваться. Доверимся нашему оружию и нашей храбрости. «Ах! ах! дорога не слишком приятная», — сокрушается смотритель одной из станций. Мы приветствуем его, готовые углубиться в ночь и пустыню. — Впереди дикая прерия, — предупреждает он, — вы там не найдете никакого гарнизона. Правительство никогда ничего не сделает для нас, пока не произойдет какое-нибудь страшное несчастье и не откроет властям глаза… Что для них жизнь нескольких человек! Слышим, как другой храбрец вскричал в момент отъезда: — Да! Вот если этих месье скальпируют!.. Может, тогда администрация пошевелится хоть немного!.. В момент, когда мы преодолеваем один из длинных пологих хребтов Смоки-Хилс, мы видим отряд чейенов[480], которые держат путь по соседней возвышенности. Они все на лошадях и ведут в поводу запасных. Блеск их длинноствольных карабинов говорит о том, что они вооружены. У каждого краснокожего револьвер; у некоторых два или три пистолета, засунутых за пояс; почти у всех поперек седла ружье. Нас заметили и, кажется, собрались перерезать путь. Я обращаюсь к кучеру, рядом с которым устроился на сиденье. — Кто эти индейцы? — Клянусь честью, — ответил он тем особым непринужденным тоном, свойственным людям Дальнего Запада, — они мне не нравятся. Потом, поразмыслив, добавил: — Я думаю, невозможно догадаться, чего они хотят; если не собираются нас зарезать, то подойдут, чтобы попросить милостыню; если это воры, то спрячутся в укромном месте, чтобы их не было видно; я полагаю, что эти парни ступили на тропу войны. Вот несколько индейцев сбились в кучу, мы можем их пересчитать: всего их пятеро, и ведут они в поводу четырех лошадей. Индейская тактика заключается прежде всего в том, чтобы разведать, каковы силы противника, поскольку для индейцев до сих пор большее значение имеет количество врагов, чем их сила. Изобретательные в военной хитрости, они устраивали засады и редко осмеливались вступить в бой, когда темнота или другая причина мешала им просчитать все шансы на успех. Осторожность этих краснокожих была нам в этот момент на руку. Мы получше задернули занавески, чтобы наши противники, которые видели лишь двоих на козлах, кучера и меня, не догадались, сколько вооруженных револьверами людей поджидали их внутри экипажа. Они знали, что обычно пассажир не сидит под обжигающим солнцем, если внутри почтовой кареты есть места. Но в данном случае места в карете были заняты мешками с почтой, о чем чейены и команчи[481], конечно, знать не могли. Пятеро краснокожих легко атаковали бы одного или даже двух белых, если только те будут почти безоружными, а сами дикари откроют огонь первыми. Итак, все прошло без сюрпризов, мы с облегчением увидели, как они один за другим проследовали по гребню, с каждым шагом все больше удаляясь от нас. Держа палец на курке револьвера, внимательно наблюдая за тем, что происходит вблизи и вдали, глядя в оба, мы продолжали путь». Английские путешественники счастливо отделались. В подобных обстоятельствах дело не всегда обходилось миром, и мародеры часто бывали лишь осведомителями многочисленной банды, хорошо вооруженной, алчной, злобной и жестокой. Непрекращающейся борьбе белых и краснокожих на этом бескрайнем пространстве посвящено немало незабываемых строк. Вы, надеюсь, читали романы Купера[482] или Ирвинга[483] о кровавых драмах, разграблениях станций, убийствах мужчин и женщин, из-за чего эти равнины Дальнего Запада долгое время оставались малонаселенными. Янки, с их удивительным духом инициативности, сумели с изумляющей быстротой найти замену этому древнему средству передвижения, непригодному для ярых сторонников технического прогресса. Как мы увидим дальше, потребовались веские причины, чтобы на смену допотопному деревенскому дилижансу пришел локомотив, позволяющий преодолевать с полной безопасностью за несколько дней путь от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Инженер Джозеф Плам был первым, кто серьезно предложил в 1836 году в газете «Нью-йоркский курьер» строительство железной дороги как средства для соединения Атлантических и Тихоокеанских штатов. Но в ту пору идея еще не созрела; строительство железных дорог и машинного оборудования было еще в зародыше и не позволяло найти быстрое и практичное решение. Предложение Плама сочли за эксцентричную фантазию. Однако война с Мексикой, уступка ее правительством обширных территорий Соединенным Штатам, открытие золота в Калифорнии, все это увеличило потребность в сообщении и заставило подумать о том, как его облегчить. Вспомнили о проекте Плама и пришли к заключению, что железная дорога между штатами, добывающими золото, и теми, что производят хлопок и зерно, найдет очень широкое применение для торговли и даст неисчислимые выгоды. Однако обстоятельство, на первый взгляд непреодолимое, сначала заставило отступить даже самых ярых сторонников. Цепь Скалистых гор стала на пути локомотивов. Длинная серия исследований, произведенных по приказу правительства, показала наконец, что огромная горная цепь имеет на своем протяжении разрывы, вполне пригодные для прохода поездов. Так исчезло главное возражение, формальное, но вполне справедливое, против строительства железнодорожной линии. Тогда инженеры представили на рассмотрение правительства Соединенных Штатов несколько проектов. В это время, а тогда шел 1861 год, военное превосходство южных штатов было бесспорным. Поэтому было предложено вести железнодорожную ветку вдоль тридцать второй параллели и соединить Шривпорт на берегу реки Ред-Ривер в восточном Техасе с Сан-Диего на побережье Тихого океана. Война между Севером и Югом помешала осуществлению этого проекта, созданного исключительно в пользу южных штатов. Но, несмотря на невероятные потери, понесенные из-за этой страшной войны, правительство не оставило идею Тихоокеанской железной дороги. Инженер Томас Джуда, исследовавший ущелья Сьерра-Невады, сумел на собрании богачей Сакраменто убедить их в необходимости принять современную трассу. Получив мощную поддержку, подкрепленную внушительными миллионами, инженер представил свои планы в Конгресс США, который их одобрил 1 июля 1862 года. По декрету, подписанному президентом Линкольном, новый железнодорожный путь должен был идти на запад до встречи с «Сентрел-Песифик рейлвей»[484]. И только после этой встречи начинался путь от Сакраменто на восток. Построенная калифорнийской компанией колея смогла, несмотря на бесчисленные препятствия, преодолеть один из перевалов Сьерра-Невады на расстоянии девяноста миль от исходной точки. Строительство началось с двух концов и шло с небывалым энтузиазмом. Итак, прокладывали одновременно две ветки навстречу друг другу. Такой метод позволял вдвое сократить время завершения этой колоссальной работы. Декрет под угрозой конфискации требовал полного окончания работ и начала регулярного движения по новой дороге 1 июля 1876 года. Кроме того, в 1869 году должна быть пущена в эксплуатацию Трансконтинентальная железная дорога! Такая активность объясняется содержанием акта о концессии. Вместо того чтобы доверить производство работ одной компании, Конгресс сумел ловко воспользоваться принципом конкуренции. Две компании разделили между собой семьсот лье, отделявшие берега Тихого океана от уже существовавших железнодорожных линий на востоке страны. Государство предоставило им огромные кредиты и стимулировало соперничество между ними обещанием всевозможных доходов. Так, каждая законченная миля железной дороги давала право на участок земли, размер которого колебался в зависимости от трудности освоения. Размер горных участков в три раза превышал равнинные. Поскольку доля участия обеих компаний в строительстве дороги не была ограничена, то между ними, чтобы получить больше земли, развернулось соревнование за первенство. Но был еще один мощный стимул. Калифорнийская компания, естественно, стремилась продлить маршрут Центрально-Тихоокеанской железной дороги как можно дальше на восток, тогда как ее соперник «Юнион-Песифик», напротив, старалась отодвинуть в западном направлении точку стыковки, чтобы расширить таким образом свою эксплуатационную сеть. Поэтому на равнинных местах строили в среднем одно лье железной дороги в день — неслыханные темпы! Железнодорожная линия начиналась в городе Омаха, расположенном на Миссури. В 1851 году по этой реке проходила граница цивилизации. Обширная территория, простирающаяся от ее западного берега до Скалистых гор, считалась охотничьими угодьями, оставленными индейцам. Белые не имели законного права устраиваться на этой земле, которую пересекали только две дороги для дилижансов. Несколько пионеров осмелились, однако, переправиться через Миссури на плотах и барках; они захватили на свой риск и погибель лучшие куски земли, особенно по краям речных бухточек и вблизи источников. За ними последовали другие, и тогда вспыхнула безжалостная война, из-за которой этот регион получил название Кровавый Канзас. Война эта в конце концов закончилась победой дерзких колонистов. Построить железную дорогу в такой стране было очень нелегким делом. Если в Европе рельсы обычно прокладывали только для того, чтобы соединить между собой города или богатые многонаселенные провинции, то американские железные дороги пролегали в безлюдной глуши. Следовательно, приходилось издалека доставлять материалы, необходимые для строительства, на скорую руку сооружать жилье для рабочих, снабжать продовольствием передвижную колонну. Все эти трудности удалось преодолеть, и просто невероятно, с какой скоростью, качеством и почти математической точностью была выполнена гигантская работа. Дадим слово очевидцу, корреспонденту большой американской газеты. Рабочие, по свидетельству репортера, разделились на бригады, каждой была поручена своя работа. Впереди шли лесорубы и землекопы. За ними инженеры расставляли вехи по трассе дороги, потом наступал черед укладчиков шпал, большинство среди которых составляли китайцы. Они тоже разбились на группы; одна, состоявшая из элитных рабочих, прокладывала шпалы в местах, где дорога образует уклоны и повороты; другая укладывала промежуточные шпалы и делала то, что можно назвать засыпкой. Когда дорога была проложена, подходила широкая передвижная платформа, нагруженная примерно сорока рельсами и всеми необходимыми принадлежностями. На каждом краю этой платформы установлен подвижный цилиндр для облегчения загрузки рельсов. Эта платформа всегда держится наготове, и ее сопровождают десять человек — по пять с каждой стороны. Первый из рабочих укладывает на цилиндр рельс, который вытаскивают из вагона трое других, еще один подкладывает подушку, на которую рельс сбрасывают по команде бригадира. Эта команда «down!»[485] раздается дважды в минуту, и два раза в минуту железнодорожное полотно удлиняется на четыре метра, на длину одного рельса. Платформа-укладчик продолжает свой путь, даже не дожидаясь, когда рельсы закрепят. Забота по креплению предоставляется бригадам рабочих, следующим за платформой. Затем по только что проложенной дороге устремляются маневровые и строительные поезда, состоящие из больших вагонов длиной по восемьдесят метров — своего рода склады, кухни, столовые, спальни. Повсюду шум работ, удары падающих рельсов, звон молотов по костылям. Движение, жизнь, цивилизация пришли на землю, где навсегда обосновалась великая республика. Железная дорога в десяти милях от Омахи подходит к реке Платт и долго следует вдоль нее. Наконец она пересекает эту реку по мосту длиной около километра и достигает станции Джулсберг, от нее идет к городу Шайенн у подножия Скалистых гор. Этот город, построенный пионерами незадолго до подвода железной дороги, находился в центре всех операций. Две ветки отходили от этого пункта, одна на юг, до Денвера, недавно построенной и процветающей столицы Колорадо[486], другая к северу, к границам Монтаны. После Шайенна железная дорога входит в ущелья Скалистых гор. Составы отцепляются от легких локомотивов, которые везли их по прериям, и прицепляются к более тяжелым и мощным машинам, при помощи которых они будут взбираться на крутые склоны. Все инженерное искусство состоит в правильном выборе маршрута, чтобы по возможности избежать тоннелей. Дорога огибает препятствия, выбирает самые доступные проходы и преодолевает по виадукам с небывалой дерзостью ущелья первых отрогов Скалистых гор. Затем она проходит по перевалу Эванса, расположенному на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря[487], а за городом Ларами выходит на плоскогорье. Очевидно, эта равнина была когда-то дном огромного озера, высохшего в результате вековых колебаний климата и превратившегося в плодородные степи. Преодолев гористые пространства Вайоминга, железная дорога идет по территории штата Юта и приближается к восточному берегу Большого Соленого озера близ городка Огден[488]. Эта станция связывает железную дорогу «Юнион-Песифик» с железной дорогой «Сентрел-Песифик». Сначала соприкосновение намечалось на пятьдесят три мили дальше к западу в Промонтори-Пойнт; но, договорившись между собой, обе компании остановились на Огдене. Однако именно в Промонтори-Пойнт, деревне, расположенной близ северо-восточного угла Большого Соленого озера, 10 мая 1869 года был положен последний рельс. Один француз, месье Родольф Линдау[489], известный путешественник, который находился тогда в Сан-Франциско, застал празднование этого события. «Вечером 7 мая, — пишет месье Линдау в “Ревю де Дё монд”, — я отправился в Калифорнийский театр, чтобы в последний раз увидеть весь высший свет Сан-Франциско. Во время антракта занавес поднялся, и один из актеров в белом галстуке и черном костюме приблизился к рампе. Ему зааплодировали еще до того, как он открыл рот. — Дамы и господа, — сказал он, когда установилась тишина, — дирекция Калифорнийского театра только что по телеграфу получила депешу с конечного пункта Центральной железной дороги о том, что последний рельс, тот, который соединит «Юнион-Песифик» с «Сентрел-Песифик» и завершит Великую Национальную Тихоокеанскую железную дорогу, будет положен в полдень. Оратор замолчал, раздались восторженные аплодисменты. Он поблагодарил публику, как если бы эти знаки одобрения были предназначены ему лично, и удалился, излучая счастье. Его вызывали три раза и в конце концов осыпали цветами, без сомнения, предназначенными актрисе, которая должна была появиться в другой пьесе». На следующий день, в субботу 8 мая, в полдень весь Сан-Франциско был взбудоражен. Праздновали окончание того, что в эти дни волнений называли не иначе, как «Большое Дело», то есть соединение «Сентрел» и «Юнион-Песифик». Это празднование, одновременно происходившее во всей Калифорнии, было, однако, несколько преждевременным. Со стороны калифорнийцев работа действительно была в некотором роде завершена. Телеграфные депеши объявляли, что точно в полдень в Промонтори-Пойнте положат последний рельс на последнюю шпалу «Сентрел-Песифик». Но в «Юнион-Песифик» последняя неделя не была такой лихорадочной, как у калифорнийцев. Юнионисты, главной резиденцией которых был Чикаго, а отправной точкой Омаха, должны были достичь точки соединения только через два дня. Было бы правильнее праздновать окончание строительства 10 мая; но у калифорнийцев была своя программа: закрытие банков и мастерских уже было объявлено, установлен порядок процессий, составлены речи, приготовлены банкеты, все было готово к 8 мая, и нетерпеливые, как дети, жители Сан-Франциско не желали больше ждать, даже сорок восемь часов, которые потребовались их соперникам, чтобы те могли достичь узловой точки. «Итак, в этот день в городе царил праздник, — продолжает месье Линдау. — Дома были украшены флагами, корабли расцвечены вымпелами сверху донизу; был произведен пушечный салют из ста залпов. Улицы запружены по-праздничному нарядной толпой; многочисленные кортежи, составленные из членов ассоциаций или гильдий мастеровых, обществ гимнастов, франкмасонов[490], волонтеров, механиков, пожарных беспрерывно сменяли друг друга. У пожарных были пальмовые ветви, может быть, потому, что они больше всех шумели. Они провели двадцать паровых помп, которые тянули упряжки из четырех лошадей, и машинисты соревновались между собой, кто громче и дольше заставит свистеть свою помпу. Этот шум немало способствовал тому, чтобы довести волнение до предела. Однако главные почести дня были предназначены новому локомотиву, выходящему из мастерских Сан-Франциско. Его поставили на платформу, которую тянули двадцать прекрасных лошадей серой масти, запряженных при помощи толстых железных цепей в пять рядов с каждой стороны. Два здоровых парня вели эту внушительную упряжку. На локомотиве собралось множество рабочих в спецодежде. Это выглядело очень эффектно, и толпа горячо аплодировала. Потом прибыли фальшиво играющие музыканты, распорядители праздника верхом на лошадях, смущенные и одновременно гордые тем, что привлекают всеобщее внимание, солдаты, ремесленники, члены Филармонического общества и так далее. Короче, половина города была представлена в этом кортеже, а другая половина толпилась по пути его следования. Вечером была всеобщая иллюминация. Я присутствовал на всех праздниках с живейшим интересом; но что меня забавляло больше всего, так это отчеты различных калифорнийских газет. Преувеличения, которыми зарекомендовали себя американские журналисты, очень занимательны. Трудно раскрыть газету, чтобы не найти повода для смеха: некоторые редакторы особенно отличаются тем, что нанизывают пустые фразы и сыплют звонкими словами. Есть и такие, кто предпочтительно используют парадокс и выставляют напоказ грубый цинизм; другие, наконец, пишут в тоне патетической буффонады[491], секрет которой существует только в Америке. По случаю большого национального события, каким стало открытие Тихоокеанской железной дороги, все журналисты сговорились устроить парад театрального патриотизма, которым они взапуски щеголяют в неслыханно циничных статьях. Редко, чтобы в подобных обстоятельствах не было кого-то, кто бросит камень в “дряхлые старые цивилизации Европы”. Добавляя, что “им понадобились века, чтобы совершить то, что несколько бравых парней и предпринимателей свободной Америки развернули за считанные месяцы и закончили перед изумленными глазами всего мира”. Можно прочитать фразы такого типа в большинстве американских газет с 8 по 15 мая 1869 года. Там же можно увидеть курьезные образцы эпистолярного стиля по поводу железной дороги: это поздравительные письма, которыми некоторые мэры, президенты торговых палат и другие видные лица обменивались между собой в тот период. Все это — высокопарная галиматья. Простоты — вот чего больше всего не хватает американской прессе…» Пока в Сан-Франциско праздновали завершение строительства калифорнийского участка железной дороги, и газеты возносили до небес тех, кто его задумал и осуществил, в окрестностях Промонтори-Пойнта, в точке соединения двух участков огромной железнодорожной линии, работы продолжались с беспримерным пылом. Результаты последних месяцев не только превзошли все, что до сих пор было достигнуто в строительном деле, но и самые оптимистичные прогнозы. В марте рабочие «Сентрел-Песифик» проложили за один день десять километров рельсов. Они назвали место, где вечером работа была остановлена: Челиндж-Пойнт, вынудив, таким образом, рабочих компании «Юнион» поступить так же. Последние не замедлили ответить на вызов еще более удивительной работой: им хватило рабочего дня, чтобы проложить одиннадцать километров. Со своей стороны калифорнийцы, не желая смириться с чьим-либо превосходством, когда речь шла о борьбе за скорость в строительстве национальной гордости, собрали все силы, которые можно было использовать в одном месте, и за одиннадцать часов работы уложили и закрепили, к удовольствию комиссии, которой было поручено наблюдение за работами, десять миль, то есть около шестнадцати километров рельсов. Этот беспрецедентный случай имел место 28 апреля 1869 года, руководил работами главный инспектор Чарлз Крокер[492]. Очевидец, директор компании «Верхняя Калифорния», сообщает, что первые двести сорок футов рельсов были уложены за восемьдесят секунд; вторые двести сорок футов — за семьдесят пять секунд. Почти с такой же скоростью, с какой совершается неторопливая прогулка пешком. Вот другие достоверные факты проявления этой ударной работы: поезд с двумя тысячами рельсов, то есть с двумястами десятью тоннами железа, был разгружен бригадой китайцев за девять минут и тридцать семь секунд. Первые шесть тысяч рельсов были уложены за шесть часов сорок две минуты, и за это время, когда каждый рабочий выкладывал все свои силы, ни один из полутора тысяч не потребовал ни минуты отдыха. И самое главное, что все рельсы, составляющие вместе длину шестнадцать километров и весящие вместе около десяти тысяч тонн, были уложены только восемью рабочими, выбранными в качестве самых опытных и выносливых из десяти тысяч. В этот день вся работа выполнялась как обычно. Вагон, нагруженный железом, направляется в начало линии, доставляя рельсы, необходимые для продолжения пути. Его галопом тянут две лошади, запряженные цугом[493]. Пустой вагон, который только что привез рельсы, отправляется ему навстречу. Это выглядит невероятно, поскольку два вагона, идущие в противоположных направлениях, не могут двигаться по одной железнодорожной колее. Однако нагруженный вагон продолжает свой путь, не замедляя хода; пустой вагон останавливается, и человеческие руки поднимают его и ставят рядом с линией. Нагруженный вагон проходит мимо, машинисты обмениваются криками «ура!» со своими коллегами. На границе готовой колеи два человека устанавливают деревянные башмаки перед вагоном, который тотчас останавливается. Четыре других рабочих, по двое с каждой стороны пути, тянут крючьями пару рельсов из вагона, укладывают ее и выравнивают на деревянных шпалах, уложенных заранее китайскими кули[494], которые с полным правом слывут за прекрасных землекопов. Затем вагон толкают вперед по только что уложенным рельсам, и та же операция повторяется. За укладчиками следует бригада рабочих, укрепляющих рельс со всей необходимой точностью при помощи заклепок и болтов. Эту работу, требующую большого опыта и ответственности, поручают механикам. Бригада китайцев следует за ними, чтобы закончить работу, которую те начали. Наконец, прибывает арьергард, также состоящий из китайцев, работающих под наблюдением ирландских и немецких смотрителей; вооруженные кирками и лопатами, они засыпают концы шпал землей и хорошо утрамбовывают, чтобы сделать их более устойчивыми. В это время инженеры, инспекторы и помощники инспекторов работ мелькают тут и там. Их беспрестанно видят верхом, скачущими вдоль линии, что-то исправляющими, хвалящими и ободряющими, убеждающими, наконец, что все быстро и хорошо сделано. Впереди линии в открытом экипаже находились Чарлз Крокер, главный инспектор, и Стубридж, его первый адъютант. Озабоченные и внимательные, с лорнетами в руках, они следят за фронтом работ, как армейские генералы. В полдень они уже почти уверены, что все будет в порядке. Губернатор Станфорд, президент Центральной железной дороги, потерял 500 долларов, поспорив с Минклером, начальником укладчиков рельсов, что его рабочие выполнят предложенную норму. Прибыл поезд-отель, состоящий из деревянных домов, установленных на колеса, где белые рабочие ели и спали. Китайцы составляли отдельную группу; но их обед, который они съедали на открытом воздухе, также был приготовлен заранее; все, и кавказцы и азиаты, кидаются на еду с аппетитом, который бывает после хорошо выполненной работы. После обеда все возвращаются к работе с новым рвением. Дни еще довольно короткие, и солнце явно приближается к горизонту. Тени удлиняются и принимают фантастические формы; но строители дойдут до конца. Все кажется наэлектризованным; тяжелые массы железа подняты, перенесены, уложены и закреплены; гвозди, заклепки, болты, казалось, сами находили свои места; звенели молотки, а лошади носились широким самым резвым аллюром[495]. «Вперед, Джон Чайнемен![496] Смелее, Пэдди![497] Вперед, вперед, не теряйте времени!» — кричат надсмотрщики, подбадривая людей на труд, как на битву; но в этом нет необходимости, и так каждый старается изо всех сил. Внезапно все остановилось. Страшный шум, крики «ура!» послышались в начале линии. Все! Последние рельсы положены, и работа, заданная утром, выполнена до наступления темноты. Чуть ли не обнимаются кавказцы с китайцами. Чтобы представить себе все, что пришлось преодолеть в этот памятный день, следует помнить, что дело происходит в глуши, далеко от какого-либо города и вообще от жилья. Когда рабочие, собранные в этот день в одной точке в количестве полутора тысяч, оставили свою работу, чтобы поесть в полдень, они были на расстоянии десяти километров от того места, где завтракали утром и оставили свой лагерный багаж. Провизия, палатки, утварь, инструменты, вещи, огонь и вода — все это переносилось вперед в полном порядке по мере продвижения работ на железной дороге. Эта армия рабочих регулярно снабжалась всем необходимым, чтобы питаться и иметь укрытие, и это в местах, где еще утром не было ничего. Точка, где остановилась работа 28 апреля, была названа Виктори-Пойнт; этим хотели сказать, что в конце концов калифорнийцы победили юнионистов, не оставив им даже надежды на реванш. Однако последние не пали духом и продолжали работать с таким проворством, что 10 мая только на сорок восемь часов позже калифорнийцев они достигли конца своего участка и передовых сооружений Центральной железной дороги. Последний рельс, соединивший два отрезка великой магистрали, был уложен. Между двумя концами линий оставили свободное место длиной около ста футов. Две бригады, состоящие из белых (со стороны юнионистов) и китайцев (со стороны калифорнийцев), пошли навстречу друг другу в полной рабочей форме, чтобы заделать этот пробел. В обоих лагерях отобрали лучших рабочих, и было отрадно смотреть, как ловко они выполнили свое дело. Особенно — китайцы, важные, молчаливые, готовые к работе, слаженно помогающие друг другу; они работали, как фокусники, отмечает очевидец. В одиннадцать часов две бригады сошлись лицом к лицу. Два локомотива с каждой стороны двигались навстречу друг другу, чтобы струей пара произвести оглушительный салют. Одновременно комитет отправил в Чикаго и Сан-Франциско телеграфные депеши, адресованные ассоциациям газет западных и восточных штатов, в которых говорилось: «Будьте готовы принять сигналы, соответствующие последним ударам молота». Очень простым способом телеграфные провода главной линии, связывающие западные и восточные штаты, были подключены к системе электрической связи с тем местом, где будет забит последний стык. В Чикаго, в Омахе, в Сан-Франциско — в трех основных телеграфных бюро, наиболее близких к Промонтори-Пойнт, были готовы непосредственно связаться с Нью-Йорком, Вашингтоном, Сент-Луисом, Цинциннати и другими большими городами. Через них большая телеграфная линия сообщалась с системой электрической противопожарной сигнализации, установленной в этих городах. Итак, удар молота, сделанный в Промонтори-Пойнт, чтобы закрепить последний рельс Великой Тихоокеанской железной дороги, эхом разнесся по всем Соединенным Штатам[498]. Шпала, на которую укладывали последний рельс, была из благородного лавра, болт, соединяющий шпалу с рельсом, — из чистого золота, молоток — из серебра. Доктор Хаскнесс, депутат от Калифорнии, предоставил эти предметы Стенфорду и Дюрану. — Это золото добыто в шахтах, а лавровое дерево спилено в лесах Калифорнии, — сказал он, — граждане штата дают их вам, чтобы они стали неотъемлемой частью дороги, которая соединит Калифорнию с братскими штатами, Тихий океан — с Атлантическим. Генерал Саффорд, депутат от территории Аризона[499], предложил другой болт, сделанный из железа, золота и серебра. — Богатая железом, золотом и серебром территория Аризона, — говорил он в свою очередь, — вносит свой вклад в предприятие, которое является символом объединения североамериканских штатов и открывает новый путь для торговли. Последние рельсы предоставила администрация «Юнион-Песифик». Генерал Додж, депутат, указывая на них, произнес речь, которую закончил словами: «Вы завершили дело Христофора Колумба… Эта дорога ведет в Индию!» И наконец, последний, депутат от Невады, предложил третий болт, серебряный, и сказал: «К железу Востока и к золоту Запада Невада добавляет свое серебро». Стенфорд и Дюран, президенты обеих железных дорог, которым была предоставлена честь закрепить последний рельс, приготовились нанести последний удар. В то же мгновение следующая депеша ушла в Чикаго и в Сан-Франциско: «Все подготовительные работы закончены. Снимите ваши шляпы. Будем молиться». Чикаго, приняв эти слова от имени атлантических штатов, ответил: «Мы поняли и следим за вами. Все восточные штаты слушают вас». Через несколько мгновений электрические сигналы, повторяющие на всю Америку каждый удар молота, сделанный в этот момент в середине континента, сообщили гражданам, слушающим, как в религиозном экстазе, о завершении этого великого дела. Понять, что чувствовала в этот момент Америка, может только тот, кто присутствовал при этом. Звук шел из таинственных внутренних районов континента, оповещая мир об окончании грандиозной работы, задевал самые чувствительные струны человеческого сердца; были слезы волнения и радости. Наконец, в воздух взлетели шляпы, и разразились крики: «Ура! Да здравствует Америка! Да здравствует великая республика!» В главных городах США событие было отпраздновано пушечным салютом из ста залпов, в Чикаго и во многих других местах прошли такие же праздники, как в Сан-Франциско. Отчет о празднике в Чикаго дает следующие подробности: процессия состояла из 813 экипажей, среди которых 19 двуколок, нагруженных дровами, 20 омнибусов[500], 15 пожарных насосов и 30 велосипедов. Хроникер не объяснил, почему двуколки были нагружены дровами и при чем здесь велосипеды. В Промонтори-Пойнт в это время продолжали произносить речи и рассылать депеши. Как это всегда происходит в подобных обстоятельствах, говорили много хорошего и здравого, абсурдного и странного; потом шум поутих, и мероприятие, выйдя из области чувств, вступило непосредственно в практическую и торговую жизнь, чтобы стать предметом менее шумной эксплуатации деловыми людьми. Сегодня точка соединения двух линий отмечена мачтой с национальным флагом. Золотой костыль, серебряные болты Аризоны и Невады исчезли, чтобы дать место обычным материалам. Что касается шпалы из лавра, то она была заменена шпалой из обычного дерева, поскольку первую как реликвию моментально растащили по кусочкам путешественники… В нескольких милях от Промонтори-Пойнт железная дорога входит в пределы штата Невада, на унылую территорию, которая была бы еще и пустынной, если бы не богатейшие найденные на ней залежи серебра. Несколько вулканических горных цепей, среди которых хребет Гумбольдт, прерывают монотонность пейзажа. Дождя в этих районах почти не бывает. Редкие реки, которые там встречаются, не доходят до океана; они сбрасывают свои воды во внутренние моря, такие, как Большое Соленое озеро и озеро Гумбольдт[501], или исчезают в почве. Вирджиния и Остин основные города этой страны[502]. В Вирджинии существует знаменитая серебряная жила, дающая массу руды в пятьсот миллионов кубических футов. За пять лет разработки она принесла добытчикам чистого серебра не менее, чем на пятьдесят миллионов долларов. На выходе с территории штата Невада железная дорога встречает самое трудное препятствие на всей трассе — горный хребет Сьерра-Невада. Здесь пейзаж поражает воображение своим мрачным и грозным величием. Вдали виднеются громадные вершины, покрытые нетронутыми снегами. Дорога по мостам сомнительной прочности проходит над зияющими пропастями, глубину которых едва можно промерить глазом, а потом на многие километры тянется вдоль них; наконец, на протяжении около восьмидесяти километров ныряет в обшитые досками тоннели, почти сплошь прикрывающие все железнодорожное полотно, идущее через высокогорные районы Сьерры. Эти тоннели или укрытия от снега — несомненная достопримечательность страны. Снега на высокогорьях покрывают землю слоем от трех до двенадцати метров. Чтобы не прерывать сообщение на зиму, требовалось защитить железнодорожные пути от заносов. И инженеры сумели это сделать, построив тоннели. На участках с меньшей угрозой, например, когда путь лежит по склону горы, защищенной от ветра, достаточно было приспособления соответствующей мощности для расчистки пути. Был сооружен огромный железный клин, формой напоминающий двойной лемех очень тяжелого плуга. Его ставили перед локомотивом, и он почти целиком исчезал в огромном валу снега, который гнал перед собой. Поезд почти не терял скорости, поскольку глубина сугроба не превышала пятидесяти сантиметров; если слой снега вырастал до одного, двух или трех метров, ставили два, три или четыре локомотива, а в трудные моменты отцепляли вагоны, и локомотивы налегке летели на всех парах; но это не всегда помогало, известны случаи, когда конвои, измученные этой героической борьбой со стихией, вынуждены были отступать. Эти огненные повозки, тянувшие за собой вагоны, в которых, развалившись, сидели белые, проклятые враги краснокожих, не пришлись по душе индейцам; они начали нападать на рабочих, занятых на строительстве железной дороги. Но после того как рабочие, а их здесь было великое множество, преподали им жестокие уроки, индейцы понемногу стали вести себя спокойнее. Когда началась эксплуатация и была снята охрана, индейцы снова стали нападать на поезда. Самые сильные и отчаянные требовали для себя чести сражаться с огнедышащим монстром. Верхом на лошадях они вставали на пути компактной группой, направив копья на мчащийся на всех парах локомотив. Из тех соображений, что подступы к железнодорожному полотну на этой линии были свободны и на рельсы могло попасть все что угодно, локомотивы всегда оснащали устройством, подобным тому, что применяется для расчистки снегов в Сьерра-Неваде. Только оно было менее тяжелым и не таким громоздким. В Сьерре оно называлось снегоочистителем; в любом другом месте «погонщиком коров». Сейчас узнаете почему. Первые же индейцы, храбрые, но наивные, естественно, были раздавлены, перемолоты, опрокинуты «погонщиком коров» и превращены в кровавое месиво, по которому прокатился поезд с беспощадным безразличием неодушевленного предмета. Урок был жестокий, и впредь воины таким образом не нападали на «огненную повозку, катившуюся сама по себе». Они изменили свою тактику: то провоцировали сход состава с рельсов, то набрасывали на пути всевозможные обломки, то снимали рельсы и шпалы. Порой они расстреливали на ходу поезда машинистов и механиков или открывали огонь по вагонам и яростно палили в пассажиров. Чтобы помешать этим зловещим развлечениям, против них предприняли несколько экспедиций, в которых янки знают толк. Уроки оказались такими жестокими, что отныне нападения на железную дорогу прекратились. Теперь усмиренные индейцы приняли ее тем более охотно, что компания согласилась перевозить их бесплатно, но только на открытых платформах. У железной дороги появились и другие враги, бессознательно виновные в многочисленных дорожных катастрофах. Это были бизоны, сейчас почти полностью исчезнувшие. В ту эпоху их было видимо-невидимо, они бродили стадами, насчитывающими иногда по нескольку тысяч голов. Когда они шли, ничто не могло остановить их: горы, долины, реки, они проходили через все, не признавая никакой другой дороги, кроме прямой. Когда поезда встречались с их огромными стадами, пересекающими пути плотной массой, локомотивы вынуждены были останавливаться. Много раз безрассудные механики пробовали пробить себе проход при помощи «погонщика коров», как в снегах Сьерра-Невады, но бизоны противопоставили удару машины такую силу инерции, что поезд должен был откатиться назад, а то и вовсе остановиться среди небывалой мешанины из конечностей, внутренностей, костей и крови. Эти встречи, впрочем, доставляли радость путешественникам, которые, будучи хорошо вооруженными, чтобы отражать возможные атаки индейцев, с увлечением расстреливали бизонов, пользуясь случаем, чтобы скрасить часы ожидания волнующим спортом. Расстояние от берегов Атлантического до берегов Тихого океана, составляющее пять с половиной тысяч километров, путешественники преодолевали в среднем за сто шестьдесят восемь часов; то есть за семь полных ночей и дней. Что, с учетом остановок, дает скорость примерно тридцать пять километров в час. Пассажирам, чтобы проделать такой длинный путь через почти пустынную страну, нужны были соответствующие условия. Поэтому компания постаралась как можно лучше благоустроить вагоны, сделав из них настоящие дворцы на колесах. Днем купе служили салоном; ночью они превращались в удобные дортуары[503]. Вагоны были широкие, высокие, хорошо проветриваемые и могли вместить пятьдесят человек. Сиденья располагались в два ряда, в середине оставался проход. При желании можно было ходить взад и вперед, поскольку сиденья могли откидываться вокруг их боковой оси. Имелись просторные и комфортные туалетные кабины и другие удобства, преимущества которых очень высоко ценили пассажиры; платформы соединяли вагоны один с другим, позволяя ходить из одного конца поезда в другой, и люди, желающие полюбоваться пейзажами, могли находиться на этих платформах, имеющих ограду такой высоты, что на нее было удобно опираться. Новинка, с которой мы за долгое время свыклись, но тогда вызывающая восхищение в Старом и Новом Свете, — это вагон-ресторан, состоящий из кухни, столовой и иногда салона, где находились пианино и орган. Внутренняя отделка столовой была роскошной. Потолок блистал позолотой; зеркала в богато украшенных рамах помещались между дверями; разноцветные ковры покрывали пол; сиденья, украшенные подушками, обшитыми дорогими тканями, были из резного дерева. Путешественники могли здесь получить полное питание на американский манер, что вовсе не значит, что оно было отличного качества. Но это была обильная, разнообразная и не слишком дорогая еда. Курить можно было только в некоторых купе, но повсюду исступленно жевали табак и сплевывали тошнотворную слюну с развязностью, свойственной янки. Избежать этого желтоватого болота под ногамине удавалось никому, так как очень демократичные американские вагоны имели только один класс. Тихоокеанская железная дорога с самого начала, естественно, имела сторонников и противников. Первые любезно перечислят бесконечный список товаров, которыми в течение года обменялись между собой города тихоокеанского и атлантического побережий. Опираясь на бесспорный факт, признанный экономистами, что пути сообщения способствуют созданию и быстрому развитию промышленности в областях, по которым они проходят, и одновременно благоприятствуют заселению пустынных местностей, они рассчитывали на такой поток пассажиров, чтобы его одного было достаточно для получения дохода от капитала, затраченного на строительство. Со своей стороны, противники Тихоокеанской железной дороги объясняли свое неприятие тем, что на большей части своего протяжения линия проходит через пустыни, где сама природа противится быстрому и значительному росту населения. Они допускали, что мощные и процветающие поселения смогут со временем сгруппироваться в окрестностях Омахи, вокруг Большого Соленого озера[504] и на некотором расстоянии от Сан-Франциско и Сакраменто; но Большой Бассейн Северной Америки между Сьерра-Невадой и горами Уосатч, бесплодный район Горьких вод и большая часть плато, простирающегося от Скалистых гор до Миссури, — все эти обширные площади обречены, по их мнению, на постоянную скудость и запустение. Кроме того, они считают, что, вообще говоря, железнодорожная линия такой протяженности, как Тихоокеанская, чтобы быть достаточно загруженной, должна обслуживать населенные районы; и, связывая степень населенности и богатства мест отправления и назначения, они склонны считать, что компания после того, как обогатит своих директоров, закончит разорением. Двадцать лет тому назад и те и другие были лишь рядом с истиной. Оптимисты — поскольку не дотягивали до правды, пессимисты — поскольку грубо ошибались. Тихоокеанская железная дорога не только не обанкротилась, но сейчас в США существуют еще две другие, не менее процветающие[505]. Канада также захотела иметь собственную железную дорогу, которая и по сей день работает к удовлетворению населения и акционеров. Вот чего никто не предвидел, так это того, что в США количество железных дорог растет даже в глухих местах, которые они оживляют, как артерии развивающийся организм. Нельзя точно предсказать, как пойдет развитие нации, удвоившей свою численность за сорок лет, погасившей за несколько лет долг в десять миллиардов долларов, которая сегодня только и умеет что делать деньги. Тем более никто не может предсказать, чем все это кончится.ГЛАВА 20
УИЛЬЯМ ХЕПВОРТ ДИКСОН[506]
Раз уж мы задержались на этом районе Америки, лежащем рядом с таким еще таинственным Дальним Западом и с месторождениями золота, в наши дни обедневшими, останемся здесь еще на некоторое время. В предыдущей главе эпизодически уже упоминались два имени, когда речь шла о трудностях, подстерегающих путешественника, пересекавшего огромный континент до строительства трансконтинентальной железной дороги; это француз Луи Симонен и англичанин Хепворт Диксон. Проследуем сначала за одним из них, а потом и за другим. Сначала Диксон, старший из них. Впрочем, ненамного. Только на девять лет. Хепворт Диксон родился в 1821 году в Манчестере. Не будучи вундеркиндом[507], он был мечтательным, малообщительным ребенком, высказывавшим иногда остроумные идеи, которые удивляли и восхищали его старого дядюшку, эрудита и оригинала, воспитывавшего племянника в суровом одиночестве Овер-Дарвина. В пятнадцать лет подросток поступил в коммерческую школу, не столько для того, чтобы изучать торговлю, сколько ради изучения языков — этого сокровища, которое англичане так разумно открывали своим детям. Потом он занялся без малейшего интереса изучением права. Молодой человек был волен в своих поступках, поскольку на него ничто не давило, а приличный достаток давал ему абсолютную независимость. Через некоторое время он написал несколько вещей, которые были замечены и имели настоящий успех, а затем совершенно естественно с удивительной легкостью принялся писать. История, философия, даже полемика стали его привычными занятиями. Короче, еще совсем молодым Хепворт сделал себе имя в литературе. И вдруг им завладел демон странствий. Писатель посетил Восток, Америку, Россию и привез из этих экспедиций семь или восемь блистательных томов удивительных повествований[508]. А теперь несколько отрывков, к сожалению, очень коротких, из его «Молодого американца». «…К западу от Миссури, на площади около двухсот квадратных миль, встречаются леса, состоящие из ореха, дуба и американского ильма[509]. Повсюду кусты и цветы, среди прочих ноготки, клевер, кувшинки в прудах, смолистая, с неприятным запахом трава и солнцевороты-гелиотропы[510]. Последние не похожи на подсолнечник, крупные растения с несколько примитивной или, скорее, привычной для глаза пышностью, которые сияют в сельских цветниках; это мелкие золотистые цветы, собранные в кисти, такие же многочисленные, как звезды на небе, и которые на больших участках блестят и переливаются волнами, как расплавленное золото. Воздух сладкий и горячий; небо голубое; маленькие белые облачка, очень подвижные, выделяются на яркой лазури и скрашивают ее бесконечную монотонность. По мере удаления от Миссури лесистые пейзажи исчезают. Равнина простирается направо и налево; не на чем остановиться взгляду путника: безграничность. В этом волшебном окружении, так хорошо описанном Фенимором Купером, на воображение действует странное очарование. Сердце и ноги становятся легкими, чувства обострены, бальзамический воздух затопил все вокруг; простая красота, величественный покой края восхитительно волнует. Но едва начинаешь, как говорят в этой стране, терять землю из виду, то есть начинаешь видеть вокруг себя только океан зелени без малейшей неровности почвы, без единого дерева, куста, пучка травы выше, чем соседние, которые поднимались бы над линией горизонта, чтобы разорвать эту надоедливую прямую линию, так тотчас тебя охватывает скука и уныние. В недрах этого глубокого одиночества с таким мрачным однообразием, где не от чего отмерить движение, когда приходит ночь, возникает ощущение, что ты находишься на том же месте, где проснулся утром, и что весь путь, который ты проделал в течение прошедшего дня, был подобен кружению белки в колесе. К усталости, скорее моральной, чем физической, после такого перехода добавляется фантасмагория миражей, постоянно возникающих перед глазами. Вдруг открывается вдали прекрасное озеро, сверкающее в лучах солнца, грациозные рощи, гигантское дерево, у которого легкий ветерок колышет густую и роскошную листву… Ускоряешь шаг… Видение исчезает… Вправо, влево, спереди, сзади только цветы и трава, трава и цветы!.. Никаких следов цивилизации. Здесь царствует дикая природа. Гремучие змеи скользят среди трав. Украдкой бесшумно пробегает волк. Неутомимо снуют муравьи. Совы и вороны насыщаются там и тут на трупах мулов, лошадей, жирных быков. Луговая собачка[511], этот комедиант пустошей, испускает нечто похожее на раскаты пронзительного смеха, потом, засовывая голову в нору, исчезает, радостно виляя хвостом. Гремучие змеи, волки, муравьи, совы, вороны и луговые собачки жили вместе в удивительном согласии». Дальше сцена менялась: волнистые степи, раскаленные жарким солнцем; от земли поднимался золотой пар, рождавший фантастические видения; мертвенное спокойствие нависло над прериями. Эти великолепные края, где заступ почти без труда входит в плодородную землю, где плуг может пропахать борозду длиной в десять лье, не натолкнувшись на камень, не лишены, однако, крупных недостатков, которые делают их колонизацию чрезвычайно трудной. Кажется, что эти места не созданы для того, чтобы здесь жили люди. Первый недостаток — это резкий перепад температур; тропическую жару внезапно сменяют холода, приходящие с северными ветрами. Жара иногда достигает 40° Цельсия, а морозы достаточно свирепы, чтобы сковать более чем на метр в глубину воды Миссури и Миссисипи. Зимой за несколько часов температура изменяется на 35° Цельсия. Утром, например, светит солнце, жарко, на дороге тает снег. В полдень все меняется. Северо-западный ветер дует с такой силой, что путник рискует обморозить лицо. Второй недостаток — засухи. Реки легко пересыхают от солнечного жара, и урожаи из-за отсутствия достаточной ирригации[512] крайне скудны. Необходимо бурить артезианские скважины. Но даже если колонисту удастся вырастить хоть один стебель маиса[513], мириады саранчи гудят в воздухе и пожирают на своем пути все зеленые листья и молодые побеги. Однако американский поселенец, пионер Дальнего Запада, не отступил перед этими препятствиями. В силу дерзости ума и терпения он сумел открыть незадолго до строительства Тихоокеанской железной дороги торговый путь между двумя океанами; вскоре, может быть, удастся протянуть его по всей стране, где сейчас разбросаны далеко друг от друга одинокие ранчо[514]. Этот необычный персонаж, смелый и жизнерадостный, сквернослов, в высшей степени услужливый, когда считает это полезным, ни во что не ставит свою жизнь и не очень дорожит деньгами. В войлочной шляпе с широкими полями, с развевающейся шевелюрой, нечесаной бородой, в брюках, заправленных в грубые кожаные сапоги, он идет, везя в фургоне, который тащит неуклюжий бык или мул с длинными ушами, жену, детей, инструменты и доски для строительства дома. У него вид неотесанного, грубого человека; но зато какой мужественный характер, гордый, неукротимый! Какая решительность и упорство! Со скудными припасами приходил он в прерии, поскольку не мог погрузить слишком тяжелый багаж. Время прижимало, а делать надо все только своими руками. К счастью, у него была кукуруза. В едва возделанную землю крестьянин бросает благодатное семя, и через несколько месяцев, если не появится саранча, всей семье будет чем питаться. Пионеры приходили на Дальний Запад с мотком бечевки в кармане и дюжиной колышков в руке; выбрав благоприятное место, вбивали в землю колышки, бечевкой намечали расположение будущих улиц и домов и говорили: здесь будет такой-то город. И действительно, в этих районах города рождались, как по взмаху волшебной палочки. Так, Денвер, нынешняя столица Колорадо, которая насчитывала в 1892 году более 135 000 жителей, не существовал еще в 1860 году![515] В то время золотоискатели в поисках золотых россыпей у подножия Скалистых гор, где-то между Санта-Фе в Нью-Мексико и фортом Ларами в Дакоте[516], останавливались на Саут-Платт. Они промывали песок ручья Черри[517], притока этой реки, и, к их огромному удивлению, нашли там крупинки золота. Всегда немного удивительно, когда впервые находишь золото, даже если его ищешь. Новость о счастливом открытии распространилась очень быстро. Пионеры, колонисты последних западных штатов, по большей части недовольные или считающие себя таковыми, поспешили туда с толпой скваттеров[518], отчаявшихся, всевозможных авантюристов, которых было великое множество в штатах, омываемых водами Миссисипи и Миссури. Пока города еще не было, эмигранты останавливались в своих фургонах, за неимением другого укрытия. Вскоре были открыты новые золотоносные месторождения. Возбуждение в Колорадо достигло своего апогея, и все банкиры Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии готовы были послать своих агентов на эти рискованные предприятия, если не могли отправиться сами, чтобы действовать на местах. За этим кочевым населением потянулось другое, более оседлое: трактирщики и торговцы, которые устраивали свои заведения в ужасающих деревянных бараках; оно, в свою очередь, стало приманкой для игроков, мошенников, грабителей, висельников, которых манила надежда разбогатеть любым путем, не опасаясь кары Фемиды[519]. Будущий Сити в прериях[520] был тогда страшным притоном, где на две хижины приходилось две винных лавчонки и одно злачное место; воровство и убийство выставлялось напоказ с наглым цинизмом. Поскольку обычные юридические процедуры не применялись из-за отсутствия полисменов, шерифов[521], тюрем и судов, жители должны были найти средства самим пресекать насилие и преступления. И они изобрели систему, которая не требовала тюрем, ничего не стоила и имела своим преимуществом то, что пугала злодеев быстротой возмездия и таинственностью, которая ее окружала. Это был тайный комитет, так называемый «Комитет бдительности», нечто вроде священной Фемы[522], который действовал почти таким же образом, как в средние века, и применял то, что называется судом Линча[523]. Этот непреклонный комитет заседал по ночам; его приговоры исполнялись между полуночью и двумя часами ночи, в те тихие часы, в которые всякий добропорядочный гражданин предается обычно сну. Когда лавочники открывали двери своих заведений, они обнаруживали труп, висящий на дереве. В обществе с совершенной организацией суд Линча был бы чудовищным; но когда город только зарождается и, не имея защиты, может оказаться во власти опасных отбросов общества как Старого, так и Нового Света, Комитет бдительности становится его защитой. Впрочем, миролюбивым людям нечего было его бояться: вина должна была быть совершенно очевидной, чтобы таинственный судья рисковал своей жизнью, исполняя приговор, вынесенный преступнику. Облагораживанием нравов столица штата Колорадо[524] особенно обязана двоим: губернатору Джилпину и шерифу Роберту Уилсону. Первый, пенсильванец по рождению, человек энергичного склада характера и возвышенного духа, высокоодаренный, организовал все службы нового штата и его неугомонной столицы. Что касается шерифа Роберта Уилсона, по кличке Великий судья Боб, одаренного геркулесовой силой, несмотря на маленький рост, то он отважно не щадил себя и энергично помогал Комитету бдительности в его нравственном деле. «…Молодость шерифа прошла бурно, — продолжает Диксон, который жил некоторое время в Денвере и с любопытством изучал этот строящийся город, — но с возрастом страстный игрок (впрочем, за ним водились грехи и похуже), остепенился. На вид ему было не более сорока — сорока двух лет, маленького роста, плотно сбитый, с головой, напоминающей голову олимпийца Юпитера[525]. Рассказы о смелых подвигах, которые ему приписывают жители прерий, леденят кровь. Он провел со мной несколько часов, говоря только о городе и провинции, куда пришел в погоне за счастьем. — В Денвере, — рассказывает он, — убийство — это пустяк; по моральному кодексу страны — это всего лишь правонарушение. Лишь два или три года тому назад здесь не было ничего более обыденного, чем убийство, которое вообще не считалось преднамеренным действием. После драки почти каждое утро несколько трупов лежало перед домами, пользующимися дурной славой в городе. Заметим, что на главной улице на десять жителей насчитывался один притон, где любители находили свой любимый ликер, карты, музыку и все, что их возбуждало. К полуночи игроки окружают рулетку, и, как всегда, начинается драка. У всех револьверы; вылетают пули, и самый медлительный или неловкий падает сраженный. Что касается причины ссоры, то она никого не волнует; одним проходимцем меньше, велико ли дело?! Для города это удача, и траур он не наденет. Человеческая жизнь здесь ничего не стоит. Жена мэра Денвера сообщила мне, что из шестидесяти человек, погребенных на маленьком кладбище, ни один не умер естественной смертью. Мне это показалось чрезмерным, и я навел справки. Цифра едва ли была преувеличена. Драки на улицах шли беспрерывно, и никто не думал положить этому конец. — Вечером (это рассказывает Боб Уилсон) я был у себя в комнате, занимаясь писаниной, когда услышал выстрел: открываю окно, вижу, бедолага, сраженный пулей, корчится на мостовой. Его унесли приятели; никто из них даже не подумал преследовать напавшего, который так и остался неизвестен. Другим вечером, было уже очень поздно, когда два солдата остановились около колодца, находившегося прямо перед моим окном. «Смотри, — говорит один из солдат своему товарищу, — вот сапожник на пороге! Его только здесь не хватало». Действительно, лавочка сапожника была открыта недалеко от нас. Другой открыл огонь; бедняга поторопился закрыть ставни. Пули пробили ставни и застряли в стенке. Солдаты даже не были наказаны. Меня это очень удивило, и я во всеуслышание заявил об этом; моего удивления никто не понял. Надо, чтобы какой-нибудь плут убил полдюжины человек, чтобы это вызвало беспокойство. Я видел одного злодея, имевшего на своей совести шесть или семь убийств, который мирно жил по соседству в Сентрел-Сити. Бедный малый! Не слишком ли его мучили угрызения совести за содеянное? Опрокинув стаканчик в кругу друзей, не жаловался ли, что устал от своего кровавого ремесла? Однажды, проезжая верхом по улицам города, он встретил приятеля и пригласил выпить. Когда тот отказался, он выстрелил в него. Да, в людном месте среди белого дня пуля пробила человеку сердце, а наш негодяй с комическим, почти шутливым выражением произнес: «Бог мой! Неужели мне суждено убивать кого-нибудь всякий раз, когда появляюсь в городе!» Запоздало разъярившаяся толпа схватила неисправимого бандита, тут же приговорила к смерти, оставив ему время только на признание, и, наконец, он отправился раскаиваться на верхушку знаменитой на всю страну виселицы, мрачного дерева, на подходах к Денверу, бросающего на город свою чудовищную тень. А вот что еще мне сказал Великий судья Боб. Утром он заметил, что недостает пяти хороших лошадей в коррале[526] Денвера. Уилсон, осмотрев место происшествия, заподозрил трех типов, недавно прибывших с рудников по горной дороге, игроков и негодяев, которых звали Броунли, Смит и Картер. Поискав этих героев во всех тавернах и злачных местах, Уилсон, не найдя их, уже не сомневался, что они и есть истинные виновники, и бросился за ними в погоню. И вот он с револьвером за поясом, вооружившись длинным охотничьим ножом, вскакивает на лошадь и несется галопом к дороге на Платт. Весна была поздняя, снег как раз начал таять. Вода стояла очень высоко. Уилсон пустил свою лошадь вплавь и, держа револьвер над головой, переправился через реку. Проскакав галопом ночь и день, в пятидесяти милях от Денвера, среди прерии, не ближе чем в пяти милях от какого-либо жилья, он заметил воров: Картер и Смит, оба верхом, держали еще по одной лошади в поводу. Броунли, у которого не было в поводу лошади, замыкал шествие. День только начинался. Воры знали шерифа только по слухам. Тот завязал разговор с Броунли, явным главарем, и выдал себя за несчастного рудокопа, собирающегося добраться до Невады. Боб сопровождал их таким образом в течение восьми часов вплоть до полудня в надежде встретить дилижанс или какой-нибудь небольшой караван, достаточно сильный, чтобы мог оказать ему помощь. Но наступил полдень; никого не было видно. Представитель закона решился один выполнить обязанности жандарма, стрелка, комиссара и судебного следователя. Он, внезапно подтянув поводья лошади, резко остановился и, сменив тон и выражение лица, выкрикнул: — Господа, хватит болтаться по степи! Мы возвращаемся в Денвер… — Что?.. Ты что это там поешь? — прорычал Броунли, выхватывая револьвер из-за пояса. — Кто ты?.. Шериф не дрогнул и, тоже показав свой револьвер, ответил: — Я Боб Уилсон. И я привезу вас в Денвер. Вы обвиняетесь в краже пяти лошадей. Сдайте оружие. Вас будут судить по закону. — Судить! Ко всем чертям! — прорычал Броунли, поднимая пистолет. Усмешка еще блуждала на его устах, и он не торопился стрелять, когда скатился на траву с пулей в черепе. На шум обернулись Смит и Картер и приготовились отстреливаться. Но Смит, уронив револьвер, спрыгнул с лошади, чтобы его подобрать, а Картер, пораженный насмерть, упал в пыль. — Вперед! — крикнул Уилсон Смиту, который протягивал ему руки, умоляя о пощаде. — Держи мою лошадь. Шевельнешься — застрелю! У меня точный глаз! — Да, вы хорошо целитесь, — ответил бандит. — Слушай внимательно! Я отведу тебя в Денвер с лошадьми. Если ты украл их, тем хуже для тебя; если нет, тем лучше. В любом случае тебя будут судить, и судить справедливо. — Я подобрал, — вспоминал Уилсон, подробно описывая свое приключение, — три заряженных пистолета и после зрелого размышления завязал их в свой платок, потом перезарядил свой револьвер, заставил Смита сесть на лошадь и привязаться ремнями. Трупы остались лежать на месте; украденных лошадей я отпустил на пастбище и повел свою добычу на ближайшее ранчо. Эта ферма в прериях принадлежала французскому колонисту, женатому на англичанке. После того как я назвал себя и объяснил цель моего визита, супруги принялись помогать мне. Смита привязали к столбу; я отошел в сторону с хозяином, порекомендовав его жене вышибить пленнику мозги, если тот попытается освободиться. “Она не промахнется”, — заверил муж. Мы отправились на место расправы, выкопали яму для двух тел, поймав четырех лошадей, обыскав карманы воров и взяв вещи, которые могли установить их личность, вернулись на ранчо. Фермерша была на своем посту, и привязанный Смит плакал. Напрасно он расточал красноречие, чтобы убедить свою тюремщицу отпустить его на свободу; напрасно он взывал к ее состраданию, тщеславию, зависти, часовой в юбке оставался непреклонным. Наконец англичанка ему заявила, что, если он не замолчит, она сумеет надежно заткнуть ему рот. Дрожащий и бледный, вор ждал своей участи. За этим дело не стало: приведенный на следующий день в Денвер, он стал одним из плодов исторического дерева. — И таким образом, месье, — закончил Боб Уилсон, — я вершил правосудие в Денвере». Покинув эту страшную, но динамичную цивилизацию, которая сделала за несколько лет из Денвера город, похожий на всякий другой, Диксон отправился к индейцам, стоящим перед неизбежной альтернативой: подчиниться цивилизации и ее требованиям или исчезнуть. Вот что он рассказывает об этих интересных племенах, которые скоро будут существовать только в легендах, с такой быстротой происходит их ассимиляция или полное уничтожение. «У краснокожих, — пишет он, — как у всех диких орд, власть осуществляется стариками, кроме периодов войны; тогда бразды правления берут в руки самые храбрые и хитрые. О том, чтобы трудиться, не может быть и речи; они знают, что всегда были племенами охотников и воинов, повелителями стрелы и дубины, и были слишком гордыми, чтобы заняться каким-нибудь трудом — уделом женщин. С последними обходились как с рабынями, они составляли часть движимого имущества индейца. Вся работа в доме и вне его лежала на них. Женщины вкапывали столбы, поддерживающие хижины, носили воду из источника, ходили в лес за дровами, выкапывали из земли съедобные коренья, собирали желуди, готовили пищу, шили одежду, сушили скальпы, чинили навесы, несли детей во время переходов. Женщина обязана была полностью подчиняться мужчине; все в ней принадлежало хозяину; и в свободе дикой жизни не было ничего более обыденного, чем видеть краснокожего, меняющего свою жену на товар. Естественно, индейские женщины, “скво”, как их называют, таковы, какими их сделало подобное положение. Если их хозяин жесток, они свирепы, если он нечистоплотен, они вызывают брезгливость; если он ведет беспорядочный образ жизни, они бесстыдны. На их лицах не отражается ничего, что раскрывает женщину. Застенчивые, стыдливые, они опускают глаза перед белым. Когда надо сделать какое-то гнусное или непристойное дело, его поручали скво. Если надо было пытать врага, его отдавали в их руки; женщины проявляли при этом возмутительную жестокость. Они сдирали с несчастных кожу лоскутами, вырывали им ногти, дробили суставы пальцев, отрезали в один день руку, на другой — ногу, потом разводили огонь на животе и ходили вокруг, завывая. Все племена охотились и воевали одинаково, верхом, с копьями, луками и стрелами. Питались исключительно мясом бизонов и одевались в их шкуры, которые дубили мозговым веществом. Эта же шкура шла на сооружение хижины или шалаша, которые обычно называются вигвамами. Для этого брали несколько тонких шестов, связанных у верхушки ремешком. На одной стороне низкий и узкий лаз, через который можно было забраться только ползком, заменял дверь. В центре хижины всегда горит огонь, а на этом очаге и вокруг него — горшки и котлы для еды. Через отверстие, оставленное в верхней части хижины, выходит дым и поступает свет. Внутри по периметру лежат постели, сваленные в кучу одежды из бизоньей шкуры, которые одновременно служат покрывалами и матрасами, всевозможное тряпье, которым прикрывают тело. Возле одной стены собрана кухонная утварь. Повсюду царит неописуемый беспорядок. Вокруг хижин бегают полуголые дети, мальчики и девочки. Женщины, сев в кружок, шьют, престарелые матроны обрабатывают шкуры, пока мужчины курят и играют. У краснокожих гортанный язык; они разговаривают также знаками. Очень любопытен их способ счета. Дойдя до десяти, начинают прибавлять по одному: десять и один, десять и два, и так до двадцати. Это число называется два-десять. Потом следует два-десять и один, два-десять и два до три-десять, то есть тридцать, до десять-десять, то есть сто. Они делят время на луны, которые обозначают так: холодная луна — январь; луна, когда самка бизона беременная, — февраль; луна, когда тает снег и прорастает трава, — март; луна зеленой травы — апрель; луна, когда телится самка бизона, — май; луна, когда теленок бизона начинает бегать, — июнь; луна, когда краснеют ягоды, — июль; луна фруктов — август; луна, когда бизон весь покрыт шерстью, — сентябрь; луна, когда у молодых бизонов вкусное мясо, — октябрь; луна, когда чернеет шерсть бизона, — ноябрь; наконец, луна, когда следует обрабатывать шкуры, — декабрь… Краснокожий, — рассказывает дальше Диксон, — суеверен и представляет себе, что пространство наполнено богами и духами, которые находятся рядом, когда он охотится или сражается. Его единственная вера — природа; он трепещет перед ведьмами и волшебниками, приписывая им высшее могущество. Религиозные обряды краснокожих немногочисленны и загадочны; танец — основная и наиболее обычная из церемоний. Фигуры хореографических сцен, которые сопровождаются пением и ударами в барабан, не обнаруживают какой-либо закономерности. Некоторые — гротескны и забавны, тогда как другие внушают опасение и страх. Среди последних следует назвать “танец скальпа”, которым празднуются победы; он исполняется ночью при свете факелов. Несколько молодых людей входят в центр круга, образованного пламенем; они поднимают в воздух скальпы (кожа и волосы с верхней части черепа), остальные воины бегают вокруг, вопя самым устрашающим образом, прыгая одновременно на двух ногах и гневно потрясая оружием, с которым они, кажется, составляют единое целое. Во время этих прыжков, криков, исступленных гримас каждый воин конвульсивно растягивает мускулы лица, перекатывает с одной стороны на другую сверкающие, безмерно выпученные глаза и скрежещет зубами, как если бы он находился в пылу битвы». Все эти причудливые сцены, которые описывают путешественники, вскоре останутся только в книгах. Сегодня у индейца почти нет случая отпраздновать победу. Опутанный со всех сторон сетями цивилизации, он чувствует себя во власти бледнолицых и со страхом смотрит, как мало-помалу исчезает самый надежный из его ресурсов, то есть бизон, которого американцы называют «buffalo». Бизоны, по словам Диксона, в то время, когда они были, если так можно выразиться, домашними животными для краснокожих, бродили от Канады до берегов Мексиканского залива и от Миссури до Скалистых гор. В августе они собирались в бесчисленные стада; равнина была покрыта их черными спинами до горизонта. Это напоминало беспорядочную варварскую армию, пыль вылетала вихрями у них из-под копыт; раздавался глухой шум, подобный дальним раскатам грома. Но с прибытием в страну европейцев началось истребление этих животных тысячами; сами индейцы, попавшие в плен крепких ликеров новоприбывших, помогли этому истреблению[527]. Недалек момент, когда эти богатые стада останутся только в воспоминаниях, и триста тысяч дикарей, которые могли бы еще обитать на территории США, будут лишены средств к существованию. Охота на бизонов была для краснокожего не только необходимостью, но и развлечением. Оседлав одну из своих проворных и терпеливых лошадей, пойманных в прериях, он отправлялся на смертельную прогулку. Охотник освобождался от всего, что могло бы стеснять его движения, оставлял только грубый ремень длиной двадцать метров, который тащился по земле во всю свою длину, привязанный под подбородком лошади и переброшенный через шею животного; это повод, но прежде всего это запасное средство, которым всадник пользуется при падениях или в других непредвиденных случаях, чтобы поймать лошадь. У охотника в левой руке лук и столько стрел, сколько можно удержать в кулаке; в правой руке хлыст, он немилосердно хлещет им лошадь. Она, хорошо выдрессированная, сразу останавливается перед указанной целью, чтобы дать всаднику возможность уверенным выстрелом поразить бизона. Но как только пропела тетива, стрела вошла в волнистую шерсть, лошадь инстинктивно отскакивает, чтобы избежать рогов разъяренного животного, и направляется к следующей жертве. Таким образом, мчится с быстротой молнии через прерию эта дикая охота до тех пор, пока лошадь не устанет, и тогда охотник прекращает это рискованное занятие. Жены охотника следовали за агонизирующими бизонами, приканчивали их и лучшие куски уносили в свои вигвамы. Остальное оставалось на растерзание волкам, всегда следовавшим в большом количестве за стадами. Длинная грива закрывала бизону глаза и мешала различать предметы, что позволяло индейцу охотиться на них даже пешком. Охотник накрывался волчьей шкурой и продвигался на четвереньках, держа оружие перед собой. Если ветер не выдаст его, сбросив позаимствованную одежду, охотник легко подберется к бизону и убьет его без звука, чтобы не потревожить стадо. Соседи раненого, услышав его хрип, вряд ли поднимали хоть на мгновение свои волосатые головы, а если и поднимали, то почти тотчас снова опускали к земле, чтобы продолжать стричь любимую «бизонью траву». Бизонов преследовали во все времена года, даже когда прерия была покрыта снегом, и охота на лошадях была невозможна. Гиганты с трудом передвигались по сугробам, а индеец привязывал к своим проворным ногам длинные полозья и бежал, чтобы проткнуть копьем бизона, который зарывался в глубокий снег. Таким образом, без передышки и пощады продолжалась война на истребление против животных, составлявших украшение прерий. Никакой бережливости, никакой предусмотрительности; беспечный краснокожий жил одним днем, не заботясь о будущем; предаваясь своим причудам, он не ищет для них разумного обоснования и будет охотиться на бизона, пока последний из этих четвероногих не отдаст ему свою шкуру. Индеец как дикий зверь. Все, что он видит, должно попасть ему в зубы, но, даже умирая от голода, он не станет трудиться для себя или своей семьи… …Неутомимый, любознательный Диксон, ничего не оставлявший без внимания, долго и тщательно изучал религиозные секты, которыми изобилуют США. Если католицизм насчитывает только одну восьмую приверженцев, то другие семь восьмых распределяются между протестантскими церквами, породившими там огромное количество разнообразных сект. В этой путанице некоторые выделяются количеством своих приверженцев и местом, которое они занимают в истории США. Первым по значению является пресвитерианство, еще и сегодня сохраняющее жесткие пуританские традиции и называющее себя «спинным мозгом Америки». Оно холодно и жестоко; его суровость доходит до чрезмерности; это религия инициативных и предприимчивых людей, коммерсантов и промышленников. Рядом с пресвитерианцами занимают существенное место конгрегационисты, имеющие большое сходство с предыдущими. Это образованные, увлеченные работой люди, противники роскоши; их культ обращается к разуму и никогда к сердцу. Затем следует епископальная церковь, сторонники которой относятся к богатым классам. Храмы их значительно богаче, чем у прочих сект. Методисты и баптисты, наоборот, встречаются среди ремесленников и простолюдинов; среди них очень много негров. Секты сами подразделяются на множество различных причастий. Назовем еще лютеранство, значимость которого растет с каждым днем за счет немецкой иммиграции;[528] квакеры или ами, эта секта, такая добрая и милосердная, несмотря на ее причудливость, всегда остается достойной уважения всех слоев общества; унитаристы и универсалисты, глава которых Шеннинг провозглашает высокомерное господство разума и демонстрирует одновременно самое ревностное соблюдение Евангелия. Все эти секты возникли из различного толкования Библии, а такие, как кальвинисты и лютеране, занимаются этим с самого начала своего зарождения. Имеются и другие со своим источником вдохновения, «внутренним светом»; но, как всегда, на пути любых стихийных откровений, естественно, происходят самые удивительные и чудовищные эксцессы. Эти возрожденческие или спиритуальные циклы, нечто вроде периодических религиозных кризисов, обычно дают толчок для образования новой секты или способствуют разрастанию уже существующих. И именно наиболее странным доктринам, наиболее деспотическим формам отдают предпочтение многие души, которым наскучил рассудочный холод и ничем не ограниченная свобода. Вот как в нескольких словах X. Диксон описал одно из этих пробуждений, в котором он лично участвовал. «…Американская религиозная горячка разражается в местах наиболее беспокойных и диких; очень часто на границах цивилизованных штатов, всегда в среде секты, проповедующей крайние взгляды. Современный ревивалист завоевывает паству теми же методами, что и его предшественники. Живя в обстановке приключений, довольствуясь грубой пищей, идет проповедник пешком по грязным дорогам, засыпая на куче листвы или на шкуре лани, разбивая лагерь среди волков и бобров, преследуемый индейцами, белыми из низших классов, неграми, проникая в тюрьмы, в кабаки, в игорные дома, изгоняя бедность, нужду и преступление. Если хотите, это фанатик; в нем говорит жар крови, а не холодный рассудок; его слово — судорога, красноречие — пронзительный крик; но если его разглагольствования вызывают улыбку философов и возмущают должностных лиц, то они трогают, волнуют рудокопа с почерневшим лицом, мощного лесоруба, крепкого фермера. Он совершает духовную работу и обтесывает камень души с силой, на которую не способен ремесленник. Религиозные лагеря, такие, как я видел в глуши Огайо и Индианы, представляют весьма интересное зрелище. Здесь можно увидеть забавные сцены, вызывающие смех, или слезы трогательного усердия. Спокойным октябрьским днем я присутствовал на одном из этих “пробуждений”: тысячи желтых цветов и красные мхи ковром покрывали обширную равнину, выбранную для религиозного действа; листва дубов и платанов начинала коричневеть, клены горели темно-красным огнем, и ветви ореховых деревьев казались отлитыми из золота. На узловатых корнях и около старых вековых пней, среди весело гудящих насекомых и пролетающих молниями птиц раскинулось множество бараков и палаток. Этот лагерь фанатиков нельзя было сравнить ни с каким лагерем пастушеского племени на земле, равно как арабского, так и индейского; в некотором отношении он напоминал шумную ярмарочную площадь наших провинций. Из двуколок и телег выпряжены лошади и привязаны к столбам или пасутся на свободе. В дюжине просторных палаток люди едят, пьют, курят или молятся. Одни развлекаются различными играми или отдыхают на траве; другие разводят огонь, готовят еду. Парни рубят дрова для очагов; девушки гурьбой идут за водой к соседнему источнику. В центре лагеря проповедник с мертвенно-бледным лицом, стоя на обрубке поваленного дерева, произносит назидательную речь. Слушатели кажутся такими же разгоряченными и оживленными, как и он; по большей части это фермеры и фермерши, съехавшиеся отовсюду; там и тут — несколько негритянок, яркие шали и юбки которых не блещут чистотой, или группа краснокожих с перьями на головах и разрисованными лицами. Слушатели возбуждены не менее проповедника; и тот вещает с удвоенной энергией. Зажигательная речь оратора прерывается криками и рыданиями, его жесты встречают одобрения и стоны. Он, не давая себе передышки, продолжает режущим слух голосом бросать в толпу ураган молитв и библейских угроз. Люди остаются сидеть вокруг вдохновенного миссионера; бледные, неподвижные, с молитвенно сложенными руками, сжатыми губами, у них вид грешников, подавленных отчаянием безнадежности. Женщины, воздев руки к небу, исповедуются во весь голос, кидаются на землю или падают в обморок, охваченные внезапным приступом истерии; на губах появляется белая пена, глаза вылезают из орбит. Индейцы, соблюдая обычное хладнокровие, взирают с презрительным видом на слабости белых женщин. Негры и их подруги разражаются рыданиями и кричат в конвульсивном экстазе: “Слава! Слава Богу! Аллилуйя!” Множество посетителей заболевали, а кто-то в лагере даже умирал. Свидетели, присутствовавшие на этих религиозных собраниях, говорят, что среди ужасов борьбы с грехом и страха смерти кажется, что бушуют все страсти. В самом деле, в лагере ревивалистов (возрожденцев) люди спорили, дрались и обхаживали находящихся рядом женщин. Возникали ссоры, лезвия длинных охотничьих ножей сверкали на солнце. Через восемь дней, иногда через месяц, пламя религиозного рвения начинало затухать и гасло. Атеисты начинали посмеиваться; равнодушные готовились вернуться к привычному образу жизни. Запрягали повозки; укладывали багаж и сажали женщин в двуколки. Кабатчик снимал свою палатку, и вся шваль отправлялась искать другое ярмарочное поле. Любопытные исчезали один за другим, и наконец проповедник, надоевший своей аудитории, переставал вещать. Уже все сказано: оседлана последняя лошадь; последняя повозка отправилась в путь; вскоре останутся только обугленные головешки да несколько свежих могил, чтобы напомнить о странном сборище, возмутившем спокойствие леса…» Среди других более или менее странных вероисповеданий Диксон называет религию шекеров, привлекшую его внимание не только своим названием, а, вернее, прозвищем, которое лучше, чем «трясуны», просто не переведешь. Дело в том, что их культовый обряд заключался главным образом в танце. Хотя этот культ зародился в Англии, шекеры имели церкви и последователей только в Соединенных Штатах Америки. Вот в чем состоит их догма: Наступило господство Неба. Иисус появился на земле. Установилась Божественная власть; следовательно, первородный грех исчез, небо примирилось с землей, проклятье не довлеет больше над трудом, произошло окончательное искупление, ангелы возобновили прежнее общение со смертными. Но заметили это только шекеры. Только они осознают эти чрезвычайные изменения, умирают в миру, торопятся покинуть его и решительно войти в эту новую фазу их существования. Прежние соперничество, интриги, страсти, удовольствия — все забыто. Они убеждены, что когда умирают, то только меняют одежду и видимую грубую оболочку на невидимую и прекрасную реальность. Итак, шекеры утверждают, что живут в компании с ангелами и ведут общение больше с мертвыми, чем с живыми. В своих жилищах, занятые работой, они видят вокруг себя толпу духов, слышат голоса, и их мечтательный взгляд, потерянный в пространстве, странное выражение лиц указывали бы на полное отсутствие рассудка, если бы не редкое здравомыслие, которое шекеры выказывают в обычных житейских делах. Но особым отличием этих сектантов является обет целомудрия, который они клянутся соблюдать при посвящении. В их среде никто не женится, не рождаются дети. Мужчины и женщины живут парами, но парами абсолютно целомудренными. Что касается тех, кто пришел к ним семьей, муж и жена с детьми, то от них требуется отбросить все плотские мысли их предыдущего мирского существования; они отрекаются друг от друга и не являются больше супругами, а остаются только братом и сестрой. Среди верующих, как на Небе, чистая любовь требует, чтобы оба пола уединялись и чтобы чистая нежность овладевала душой, но не телом. Шекеры не придерживаются мнения, что безбрачие должно быть принято во всех странах, всеми обществами и на все времена; они понимают, что если бы все человечество соблюдало целомудрие, то мир опустел бы менее чем через век; но они утверждают, что супружество, как вино, побуждает людей совершать излишества. Это искушение, от которого мужчины и женщины, стремящиеся служить примером для себе подобных, считают необходимым избавиться. Обряды культа шекеров не менее странные, чем их догмы; они начинаются с наставления пастора; собрание, которое остается стоять во все время проповеди, опускается на правое колено, чтобы вслед за проповедью услышать молитву. Затем мужчины снимают сюртуки и выстраиваются в цепочку по двое, за ними следуют в том же порядке женщины, держа на руке белые салфетки, как горничные. Приняв такое положение, верующие приступают к движению. Этот танец сопровождается простой и веселой песней на античный манер. Ноги ударяют в пол, и в такт с ними колышутся руки. Сначала, продолжает Диксон, посторонний едва сдерживает смех, но, увидев религиозную серьезность и небесное блаженство на просветленных лицах, он в конце концов начинает со спокойным удовольствием созерцать этот оригинальный обряд в его нарастающей экспрессии. По мнению шекеров, танец как религиозный обряд не только позволителен, но и обязателен. Человек, говорят они, вторя святому Марку, должен любить Бога всем сердцем, всей душой, всем духом и всеми силами; следовательно, он должен танцевать. Вот их рассуждения: Бог ничего не делает зря. Способность танцевать, так же как петь, была, несомненно, создана честью и славой Всевышнего; следовательно, ее надо поставить ему на службу, чтобы отвечать цели существования человека. Вы хотите активности в пороке, но почему пассивности — в службе Богу? Раз мы получили руки и ноги, эти активные и полезные части тела, не должны ли признать наши обязательства перед Богом, давшего их, развивая в выражении почтения, которое оказываем ему? «Бог обращен к сердцу», — говорите вы? Это правда, но когда сердце искренне и с усердием отдано на службу Богу, оно стремится активно повлиять на тело. Поскольку танцуют отрадости, почему не танцевать от религиозного ликования и восторга? Эти безобидные и интересные сектанты появились в 1787 году в Нью-Лебенене. Начиная с этого времени, секта прошла обычный путь развития благодаря обстоятельствам и природе новой религии. Мало-помалу чувства американского народа изменились по отношению к ним. Кончилось тем, что их стали уважать, любить и даже оказывать покровительство. Вид Нью-Лебенена произвел очень яркое впечатление на Диксона. Это, по его словам, маленькая красивая деревня, расположенная в нескольких милях от истоков Гудзона на склоне прекрасного холма. Когда взбираешься на него, мягкие тенистые тропинки, благоухание шиповника, приятный шелест кустов и цветов, улыбающиеся, немного меланхоличные лица встречающихся на пути девочек и мальчиков — все говорит о новом и неизвестном мире. Тут и там среди зелени выглядывают деревянные домики под соломенными крышами; доски обтесаны и отполированы, окна хорошо промыты, занавески девственной белизны, ставни и шторы чистые. Кажется, что все это только что построено. Душистый дым, пропитанный тысячью ароматов деревьев и луговых трав, плавает в воздухе. Это спокойствие рая. Улицы такого сельского поселения обрамлены садами. Здесь огромная рига[529] из тесаного камня: чем Иерусалимский храм был некогда для израильтян, тем является эта рига для всех членов общины. Несколько пристроек предназначены для хлева и других нужд сельской жизни. Большой белый дом без каких-либо украшений: это церковь. Дальше жилище двух старших духовных лиц: старца Фредерика и старицы Антуанетты. Ресторанчик, кафе, таверна, тюрьма, театр; ничего бурного, ничего чрезмерного; никакой суеты, никаких криков; повсюду мир, труд, изобилие. Обстановка внутри жилищ соответствует их внешнему виду. Ни пылинки — даже становится невмоготу. Паркет натерт до блеска, которому может позавидовать самая аккуратная хозяйка в Гарлеме. В углу находится кровать с очень белыми простынями и подушками в виде валиков, таз, кувшин с водой и полотенца; около кровати — маленький коврик; на столе из белого дерева — Библия на английском языке, письменный прибор, перочинный нож; у стен — четыре плетеных стула; наконец, плевательница. Вот и все. Легкость домов почти воздушная. У шекеров особая забота о вентиляции: изобилие окон, балконов; винтовая лестница приводит к флюгеру, около которого сделано отверстие, предназначенное для отвода спертого воздуха. Именно этим объясняется постоянное здоровье, царящее в секте. Их единственное лекарство — свежий воздух, и, глядя на розовые щеки, свежий цвет лица обитателей, хочется думать, что они на истинном пути к здоровью. Женщины спят обычно по двое в одной комнате; мужчины имеют отдельные комнаты. Пищу принимают сообща: первый раз в шесть часов утра, второй раз в полдень, третий — в шесть часов вечера. Еда простая и хорошо приготовленная: помидоры, картофель, местные фрукты, яблоки, персики, виноград, сушеные фрукты, конфитюры, пирожные и пироги всех видов; пьют они только воду, чай и молоко. Поскольку они не беседуют за едой, через двадцать минут трапеза заканчивается. Нет ничего более простого и менее кокетливого, чем костюм шекера. У мужчин волосы коротко острижены спереди, а сзади оставлены длинными. Длинный, ниже колен, сюртук с одним рядом пуговиц и прямым воротником. На жилете, застегивающемся доверху, баски, спускающиеся на бедра. Из-под ворота белой полотняной рубашки выглядывает галстук. Брюки доходят до щиколоток, не закрывая обуви; на голове — шляпа с широкими полями. Женщины не более элегантны. Волосы у них подстрижены и муслиновый чепчик не слишком грациозно покрывает голову. Белая косынка наброшена на шею и плечи поверх узкого прямого платья, талия которого — под грудью. Неприталенный длинный рабочий халат ниспадает до пят, белые чулки и зашнурованные башмаки дополняют туалет. Ритм жизни Нью-Лебенена спокойный, вежливый, легкий; когда приходишь сюда из суматохи обычного города, думаешь, что вошел в Эдем, так поражают нежность, спокойствие, строгое и благоразумное воздержание, которое царит в этой спокойной общине. Каждый очень занят и миролюбив. Никому не позволяется оставаться праздным, даже под предлогом учебы, созерцания, медитации или мечтания. Необходимо независимо от занимаемого ранга участвовать в общественных работах, возделывать землю, боронить, копать, ковать, строить, работать в саду, пересаживать, красить и т. п. Женщины занимаются только домашними делами. Кухня, работа горничной, которую они выполняют по очереди и каждая по месяцу; винокурение, изготовление вееров, экранов и разнообразных игрушек занимают все их время. Для этой доброй и безобидной секты, для этих людей, которые отказались от мира и отреклись от всех общественных связей, природа стала всем: женщиной, другом, счастьем и семьей; они испытывают нежность к ней и отдают ей всю душу. «Неверно, — говорит старец Фредерик, — рассматривать растение как неодушевленный предмет. Это существо, которое имеет свои потребности, желания, вкусы, склонности. Если вы его очень любите, оно умеет быть благодарным, если вы не обращаете на него внимания, все пропало. Я не знаю, одарено ли дерево интеллектом и узнает ли оно человека, но знаю, что оно наделено душой, чувствительной ко всему, что делают для него. Вы заботитесь о нем, оно, возможно, не знает этого, но чувствует, как ребенок, как женщина. Посмотрите на этот сад, мы посадили его не кое-как. Были выбраны лучшие черенки. Для каждого из них мы подготовили небольшую, со здоровой атмосферой и хорошим дренажем, тепличку. Черепица была положена так, чтобы обеспечить сток воды. Мы приготовили слой почвы из тщательно просеянной земли, защитили детство маленьких существ, нежно укрывая их землей, ничего не забыли для их счастья. Конечно, кто-то сочтет это лишней заботой и лишним трудом, но мы так любим наш сад!..» В противоположность мормонам, шекеры вовсе не занимаются пропагандой; это сам Бог сделал свой выбор и привел избранных в общину. От новых адептов[530] требуется абсолютное отречение от того, что делает жизнь приятной и дорогой для остальных смертных. Нет больше семей, женщин, детей, любимых книг и забав, титулов, рангов, состояний, развлечений. Шекер отдает все, чем он располагает, его состояние вносится в общий фонд. Для него больше нет ни славы, ни роскоши, ни земных привязанностей. Работать на общину — вот все его будущее. И поскольку мы случайно заговорили о мормонах, то следует сказать, что Диксон посвятил им превосходное исследование, к сожалению, слишком длинное, даже для того, чтобы дать из него несколько выдержек. Впрочем, доктрина известна. Это новая секта, созданная или по меньшей мере распространенная в США. Мормоны признают подлинной только одну определенную Библию, написанную, по их мнению, в эпоху короля Иуды Седесиаса, то есть около 600 лет до Рождества Христова, пророком, прозываемым Мормон. Как эта мистическая Библия была найдена на американской земле, это вопрос, на который сектанты пытаются дать ответ, возможно, не очень убедительный, но, как бы то ни было, они называют себя Святыми Последнего дня и утверждают, что спустились с Хеброна, как, впрочем, говорят они, и все аборигены Нового Света. Они допускают полигамию и общность имущества. Знаменитая библейская рукопись в руках Джозефа Смита была подправлена, и возникла следующая легенда: ангел явился Джозефу Смиту и открыл ему, что начиная с восемнадцатого века человечество пойдет по ложному пути. Ему было указано место, где находятся металлические пластины с выгравированными на них новыми законами, которые должны возродить человечество. Чтобы прочитать и перевести эти законы на простой язык, ангел вручил Смиту два прозрачных как хрусталь камня; Уриус и Туммиус. Вооруженный этими предметами, Смит расшифровал мистический текст. Таким образом была написана Книга Мормона, опубликованная в 1830 году в США и в 1841 году в Европе. Джозеф Смит, признанный пророком несколькими адептами, отправился на Миссури и основал там поселение, но в 1838 году был изгнан оттуда. Тогда со своими приверженцами он отправился в штат Иллинойс в Нову[531], то есть в Ла-Бель[532]. Разразился бунт. Обезумевшее население восстало против несчастного пророка, и он был убит вместе со своим братом Хайрамом. Выдворенные из Иллинойса в 1846 году мормоны после одного из самых долгих, тяжелых и опасных странствий, истинного исхода, когда погибло великое множество их сподвижников, обосновались между Скалистыми горами и Сьерра-Невадой и в штате Юта к югу от Большого Соленого озера. Они заложили основание поселения, которое назвали Рюш-д’Абей (Улей)[533]. Эта колония быстро развилась благодаря изобретательности мормонов, их необычайному трудолюбию, настойчивости, а может быть, и вере. Почувствовав в них угрозу из-за быстрого распространения их веры, американское правительство начало преследование мормонов. Брайгем Янг, простой столяр, последователь Джозефа Смита, единодушно избранный мормонским папой[534], сумел среди всех этих бурь верно руководить сектой, которая еще сегодня, несмотря на ее странности, несмотря на преследования, а быть может, и благодаря им, рассматривается в США как сила, с которой следует считаться.ГЛАВА 21
ЛУИ СИМОНЕН
Такой же проницательный, одаренный, неустрашимый, как англичанин Диксон, наш выдающийся соотечественник Луи Симонен опубликовал интересные, обстоятельные и поразительные обзоры по Северной Америке, отмеченные необычайной оригинальностью. Видный инженер, он принимал участие в рекогносцировочных[535] работах, предваряющих строительство Тихоокеанской железной дороги, затем посетил золотые россыпи, прошел континент во всех направлениях и кончил тем, что так ассимилировался в Америке, что его называли, впрочем, в наилучшем значении слова: «Американский марселец». Как и Диксон, он заинтересовался индейцами и также предсказал их быстрое исчезновение в результате уничтожения или ассимиляции, за что янки не любят говорить о нем. Его рассказ слишком хорошо дополняет то, что рассказал Диксон, чтобы мы отказали себе в удовольствии опубликовать его, не меняя ни единого слова, считая своим долгом сохранить всю его сочность. «Итак, приговор индейцам вынесен, — сообщает он в своей прекрасной работе “Великий Запад США”. — Они должны исчезнуть, чтобы уступить место белым. В Вашингтоне есть администрация, которая не имеет аналога ни в одной стране мира: Бюро по делам индейцев. Функционеры этого бюро осуществляют все связи с индейскими племенами. Здесь объявляется война, готовятся законы для краснокожих, отсюда руководят операциями по выселению, благодаря которым скрупулезные американцы обогатили английский язык гармоничным и почти ласковым словом removals, то есть перемещения. Каждый год правительство посылает комиссаров с поручением договориться с краснокожими и положить конец войне на уничтожение. Некоторые из этих диких племен, делавары, чироки, семинолы, огазы, крики, чартозы, которые прежде жили во Флориде, Каролине, Алабаме, Джорджии и других штатах вблизи Атлантики и Миссисипи, кончили тем, что согласились поселиться в резервациях, называемых «Индейская территория». Эта территория, владение которой гарантировано индейцам договорами, расположена к западу от штатов Миссури и Арканзас и к югу от Канзаса. Она занимает площадь в 44 154 240 акров[536] и заселена примерно 60 000 жителей. Одни занимаются сельским хозяйством, другие, оставшиеся в первобытном состоянии, промышляют только охотой. У этих индейцев есть школьные учителя, пасторы, врачи, мельники, кузнецы, присланные правительством Соединенных Штатов, и живут они в крытых домах. Чироки и крики имеют даже верхнюю и нижнюю палаты. У них есть также газеты и книги, написанные на их языке. Среди краснокожих Индейской территории сегодня многие умеют читать и писать; некоторые получили высшее образование и стали настоящими джентльменами. Многие к тому же являются богатыми собственниками земельных участков, располагают солидными площадями возделанной земли или большим поголовьем скота, которым позавидуют большинство наших аграриев. Таким образом, постепенно стабильная жизнь смогла приобщить краснокожего к цивилизации, хотя второе поколение не теряет надежду объявить отдельным штатом то, что все еще называется Индейской территорией. Племена, живущие в прериях: апачи, кайова, команчи, чейены, арапахо, объединенные под названием “пять народов Юга”, были вытеснены на новую территорию, на берега Ред-Ривер. Но северные племена, особенно те, которые своим слиянием составили большую нацию сиу, не хотели принять условий белых». Во время путешествия Луи Симонена в Форт-Ларами в штате Дакота[537] как раз шли переговоры. Наш соотечественник, присутствовавший при переговорах индейцев-воронов с функционерами Бюро по делам индейцев, сообщает чрезвычайно любопытные подробности церемонии. «Начало этого длинного и утомительного действа было назначено на десять часов утра. Индейцы, которые вообще никогда не торопятся, а время определяют только по солнцу, заставили себя немного подождать. Наконец они появились, наряженные в самые красивые одеяния, некоторые верхом. Одни перешли вброд реку Ларами, пока другие, сопровождаемые скво и паппусами (детьми), которые тоже хотели присутствовать на конференции, прибывали по мосту. Жена Медвежьего Зуба, одного из главных ораторов, восседала на лошади, как и ее муж, которого она никогда не оставляла. Индианки сидят на лошади по-мужски. Великий вождь Черная Нога, спустившись на землю, сделал знак воинам встать в один ряд. Костюмы у всех были разные: на одних — бизонья шкура поверх полотняной рубашки; на других — шерстяное покрывало и куртка из оленьей шкуры, украшенная бахромой, но без украшений из волос, которыми индейцы никогда не осмеливались хвастаться перед белыми. В этот день скальпы остались дома. На одном — офицерский мундир, но не было штанов. К счастью, полы мундира были достаточно длинными. На головах у многих — черные войлочные шляпы на манер генеральских. Тулья шляпы на всю высоту украшена многоцветными лентами. У некоторых вождей на ногах красовались чулки и кожаные мокасины[538]. На шеях — ожерелья, в ушах — серьги, сделанные из раковин и зубов животных. Не довольствуясь этими украшениями, один ворон добавил к своей шевелюре огромный шиньон[539], похожий на хвост, идущий от затылка до подошвы. Этот хвост не был разноцветным, как у великого вождя горелых (брюле), но зато был усеян круглыми серебряными пластинками небольшой толщины, полученными терпеливым обтачиванием американских долларов или других монет небольшого достоинства. Кружки шли, постепенно уменьшаясь в диаметре от головы до ног, и можно было догадаться по великой гордости вождя, носителя этого дорогого украшения, что он не отдал бы его и за большое царство. Длинноволосый вождь был не единственным, кто приковывал к себе взгляды. Один ворон с гордостью носил большую медаль, полученную в свое время в Вашингтоне из рук президента. Другой, за неимением официальной медали, повесил на себя мексиканский пиастр. В свою очередь, Белая Лошадь не забыл серебряную верховую, в честь которой он получил имя и изображение которой повесил на грудь. Туда же он присоединил не очень чистый квадратный серый полотняный мешочек, в котором бережно хранил зеркало. Как большинство краснокожих, он очень заботился о своем туалете и внешнем виде. Рядом с ним шагали Конец Кола Хижины, Человек Раненный Из Ружья В Лицо, Птица В Своем Гнезде — три знатных вождя, или воина народа воронов[540]. Большинство лиц расписаны ярко-красной, желтой, синей красками. Выстроившись в ряд, вожди запели торжественную песню (каждый своего племени), к которой примешивались несогласованные крики и иногда пронзительные вопли. Басы, баритоны и теноры не соблюдали в этом хоре никакого порядка, но тем не менее примитивная дикая музыка очень гармонировала с типами певцов и с их окружением. Вожди статно выступили на одну линию, не обращая внимания на толпу, окружавшую их. Помещение, где проходило совещание, было большого размера, оно могло легко вместить 250–300 человек. Вожди воронов, рассевшись по рангу все вместе на скамьи, и комиссары, каждый из них — на отдельном сиденье, образовали круг; совершенная цивилизация предстала перед лицом совершенного варварства. В центре этого круга находился оратор. С одной стороны расположились переводчики и представители индейцев, с другой — стенографист, секретарь комиссии, репортеры из газет и т. п. Вошли жены и дети вождей и несколько женщин, среди прочих престарелые матроны[541], уселись на те же скамейки, что и вожди. Там были Бегущая Вода, Желтая Кобыла и Женщина Убившая Медведя. Паппусы (дети), совсем маленькие и даже грудные, часто возмущали криками и плачем спокойствие ассамблеи[542], но никто не обращал на них внимания, особенно вороны. Когда установилось молчание, доктор Маттеу, представитель правительства США у воронов, поднялся и сказал по-английски: — Я имею честь представить комиссию по примирению с вождями народа воронов. Потом, повернувшись к вождям, он произнес: — Вот комиссары, посланные из Вашингтона, чтобы установить с вами мир. Слушайте то, что вам скажут, и вы узнаете, была ли ложь в моих словах. Пока происходило это двойное представление, вороны издавали глухой крик «А’гоу!», который служил у индейцев прерий приветствием и знаком одобрения. В это время курительная трубка шла по кругу от одного к другому, а неподвижные, молчаливые вожди казались безучастными ко всему происходящему. Тогда среди глубокой тишины председатель Тейлор поднялся и произнес речь: — Меня прислал, — сказал он, — Великий Отец, который находится в Вашингтоне, чтобы договориться с великим народом воронов об ограничении территории, где белые никогда не могут обосноваться и где народ воронов и его дети смогут жить в мире. Он добавляет, что помыслы его правительства самые чистые и вороны получат лошадей, скот, одежду и все, что им будет нужно, чтобы стать такими же счастливыми, как белые. Затем слово дали Медвежьему Зубу, тот пожал руку каждому из комиссаров и поблагодарил их за то, что те прибыли повидаться с его народом, а потом сказал, что вороны бедны и утомлены; в пути они страдали от холода, голода, недостатка воды, их лошади почти ослепли, пожаловался на бледнолицых, которые разъезжали по стране, опустошали деревни, убивали животных; подчеркнул, что его народ никогда не причинял вреда бледнолицым и даже много раз отказывался воевать против них в союзе с другими народами; в завершение добавил, что не хочет отказываться от кочевой жизни, и закончил, предложив свои мокасины президенту Тейлору, чтобы тот держал ноги в тепле. Медвежий Зуб уступил место Черной Ноге, другому красноречивому оратору воронов. — Когда у воронов нет стрел, они их делают при помощи куска железа; когда у них нет огня, они трут один о другой два кремня и поджигают таким образом дерево, чтобы согреться; когда им надо разрезать на куски мясо, они используют каменные ножи и при их помощи разделывают убитых на охоте животных. Все это вороны умеют хорошо делать; но если они отправятся в резервации, которые им укажут белые, они погибнут, поскольку не умеют ни управлять быками, ни пахать землю плугом. Поэтому им не нравится, когда говорят такие вещи. Пусть лучше их белые отцы дадут им лошадей и ружья, чтобы охотиться на бизонов, — и все будет хорошо. Великий Дух создал мужчину и женщину, чтобы они жили вместе: мужчину, чтобы охотиться, и женщину, чтобы работать. Мы ничего не хотим менять в этом положении. Черная Нога одобрил затем то, что сказал Медвежий Зуб, и попросил комиссаров удовлетворить их просьбы. После множества других речей, в которых индейские ораторы все как один требовали ухода белых, в договор о мире внесли изменения и предложили вождям поставить под ним свои подписи[543], но никто не хотел подписываться без одобрения отсутствующих сиу. Предметом ожесточенных споров явились еще и дорога и форты на реке Паудер, которые индейцы желали оставить за собой. Медвежий Зуб добавил, что не все вожди воронов присутствуют на собрании и сидящим здесь не известны их намерения. Короче, провал был полный, и комиссии пришлось отложить переговоры до более благоприятного момента». С Индейской территории, которую белые все больше урезали с бесцеремонностью, характерной для пионеров Дикого Запада, Луи Симонен вместе с одним тупицей-янки перебрался в Калифорнию и надолго остался там. В эпоху, когда он посетил этот красивый штат, во всех отношениях так счастливо одаренный природой: климатом, теплом, плодородностью, рудниками, золотая лихорадка свирепствовала еще достаточно сильно. Он обосновался на золотых приисках и смог на месте изучить это существование в атмосфере зависти, мрачной безнадежности, неслыханных лишений, неистовых оргий. Но прежде чем мысленно последовать за Симоненом на участок, где суетится золотоискатель, обследуем вместе с ним Калифорнию с научной точки зрения. Потом посмотрим на ее красоты, и мы ничего не потеряем. Новая, или Верхняя Калифорния граничит на севере с Орегоном, на востоке — с Аризоной и Невадой, на юге — с Нижней Калифорнией, с запада омывается Тихим океаном. На ее территории две горные цепи: Калифорнийские Кордильеры, или Береговые хребты, и на западе — Сьерра-Невада, которая, как указывает ее испанское название, представляет собой цепь крутых гор, покрытых снегом. Между этими горными массивами развернулась прекрасная широкая долина, самой природой предназначенная, чтобы по ней текли многоводные реки. Самая замечательная из них — река Сакраменто, которая течет с севера почти параллельно побережью и служит водосбросом для нескольких озер и второстепенных рек. Ее глубина такова, что самые большие корабли могут подниматься по ней на расстояние до 300 км. Именно на этой прекрасной реке маневрируют пароходы, не имеющие соперников во всем мире по красоте, технической оснащенности и комфорту, которыми не без основания гордятся янки. Эта чудесная провинция Соединенных Штатов отличается, как мы говорили, едва ли не самым благоприятным климатом в мире. Шесть месяцев в году — с конца апреля до конца октября — всегда чистое, без единого облачка небо. Воздух удивительно прозрачен, ночи ясны. «Дышать в этом краю, — утверждает Луи Симонен, — истинное наслаждение. Чужестранцу не надо приспосабливаться к климатическим изменениям, обычно таким вредным для здоровья». Тем не менее с десяти часов утра до пяти вечера морской бриз приносит достаточно холодный воздух на берег, на песчаные дюны, окаймляющие берег. Этот ветер периодически вызывает похолодание, поэтому можно сказать, что, в сущности, на океанском побережье нет летнего сезона. Зима, или, если хотите, осень, здесь — самое приятное время года, поскольку именно в этот период ветер меньше всего дает себя знать. Если жаркого лета на побережье не бывает, то во внутренних областях Калифорнии в течение трех или четырех месяцев, с июня по сентябрь, нередко термометр показывает в тени, особенно с полудня до трех часов вечера 40° Цельсия. Раскаленная атмосфера освежается утренним и вечерним бризами, и ночью жара спадает до 25 и даже 22° Цельсия. Эти изменения происходят медленно, в некотором роде как часовые колебания барометра в экваториальных странах, и тело от них почти не страдает; но в разгар дня жара непереносима, особенно на юге страны, и ее воздействие имеет самое различное выражение. Мебель трескается, обложки книг коробятся, как от огня. Самая легкая одежда стесняет. Вода приобретает в сосудах температуру, близкую к точке кипения; свечи плавятся; металлические предметы в жилищах, камни, лежащие на солнце, буквально обжигают руки при прикосновении. Зато ночью не бывает туманов, роса не выпадает, и все лето можно спать на открытом воздухе без опасения намокнуть. К началу или к середине ноября внезапно приходят периодические дожди; таким образом, год делится на два сезона: сухой и дождливый, каждый из которых длится примерно по шесть месяцев. Дожди идут с ноября до конца апреля; они не такие сильные и непрерывные, как тропические, и после многодневного ливня нередко стоит хорошая погода с таким же чистым небом, как летом, и с умеренной температурой. Поля, опустошенные сильной жарой, начинают зеленеть. Март и апрель — это время цветов, и естественные луга, где трава поднимается почти в человеческий рост, насыщают ароматом воздух и радуют глаз. Это самое лучшее врем года в Калифорнии, так как к концу мая зеленый ковер начинает исчезать. Именно такому чередованию жары и влажности обязана Калифорния своим чудесным плодородием, которое удивляет и очаровывает впервые попавшего сюда путешественника. Что будет, когда эта прекрасная земля станет полностью освоена! Какой прекрасный источник богатства! Ведь на возвышенностях земли освоены еще далеко не полностью. В этих горных районах встречаются лишь огороды и фруктовые сады вблизи поселков и рудников и несколько ферм, где собирают урожай злаковых культур. В долинах, наоборот, сельское хозяйство очень развито и совершенно. Все, что земля может дать в жарких и даже тропических странах, растет на юге; сельскохозяйственные культуры стран с умеренным климатом можно найти в центре и на севере. Изобилие и размер фруктов поражает воображение. Так груша, называемая Дюшес, достигает невероятного веса в три-четыре фунта, требуя половину меньше забот, чем во Франции. Кустарник, называемый мансанилья[544], покрывает еще нераспаханные земли и чередуется с вереском, и вместе они заполняют оставшиеся свободными пространства между густо растущими, дикими каштанами. Мансанилья дает мелкие кисловатые плоды, используемые индейцами для приготовления путем ферментации сорта сидра, потребляемого за неимением такой любимой и медленно убивающей их водки. Вперемешку с вереском и каштанами там и тут растут сосны и дубы, используемые, особенно дуб, для отопления. В некоторых местах, главным образом на песчаных равнинах и необработанных плато, растет мыльная трава, по виду настоящий дикий лук, луковицы ее образуют в воде пену, как мыло. Наконец, среди дубов и на склонах гор появляется опасный кустарник йедра[545]. Это ядовитое растение, оказывающее странное действие на организм при прикосновении к нему. Кожа краснеет, взбухает и даже покрывается прыщами. Взятый в рот лист йедры может отравить насмерть. Иногда ветер далеко разносит испарения этого вредного кустарника, и тогда целые города поражаются эпидемией неизвестного рода. На некоторой высоте эта флора исчезает, и на самых высоких вершинах, на высокогорных плато появляются лиственницы, кедры, красные и белые ели. Последние используют в качестве строевого и мачтового леса. Среди них также попадаются гигантские секвойи[546]. Эти деревья, самые высокие в мире, свидетельствуют о потрясающей древности того, что называют Новым Светом. В прекрасной долине реки Йосемит сохранился лес, состоящий из этих колоссов растительного мира. По количеству годовых колец на пне одного из них, упавшего от старости или поваленного бурей, смогли определить, что исполин дожил до почтенного возраста — четырех тысяч лет. Луи Симонен посетил этот лес и сам убедился, что деревья действительно таковы, как их представляют янки, эти мастера дутой рекламы и преувеличений… «Вскарабкавшись за два часа по извилистым тропинкам, мы пришли, — пишет он, — на вершину, где росли эти большие деревья. Невозможно представить зрелище, открывшееся перед нашими глазами; я стоял пораженный. Мы выглядели пигмеями рядом с этими гигантами: наши даже самые величественные дубы, самые высокие ели Альп и Пиренеев, эвкалиптовые деревья Австралии кажутся карликами, сидящими на корточках в их тени. Их там шестьсот двенадцать штук, возвышающихся как гигантские колонны стометровой высоты. Когда их видишь, приходишь в восхищение! Но здесь хочется просто привести некоторые цифры, которые недавно опубликовала ученая комиссия, посланная администрацией штата, чтобы обмерить эти деревья. Гриззли — самое красивое, диаметром одиннадцать метров и сто десять метров в высоту. Первая ветвь на высоте семидесяти метров от земли. Все остальные деревья вокруг имеют примерно такие же размеры! Но подумайте, сто десять метров! Это две высоты башни Святого Жака[547], которая возвышается на пятьдесят четыре метра над землей. Это выше, чем купол Дома инвалидов[548] с его высотой сто метров семьдесят сантиметров, а башни Нотр-Дам[549] с их пятьюдесятью четырьмя метрами могли бы укрыться под первыми ветвями. Одиннадцать метров в диаметре, это, если я не ошибаюсь, величина лучшего танцевального зала в Париже. Тогда представьте себе круглый салон, тридцать три метра в окружности, вырезанный в стволе одного дерева, и паркет этого салона сделан из единого куска! Удивительно, не правда ли? Мы долго ходили вокруг невероятного дерева, достойного эпохи титанов. К несчастью, индейцы прежде разбивали здесь свой лагерь, и их костры, зажженные у подножия многих деревьев, оставили на толстой коре широкие обугленные пласты. Большинство этих королей растительного мира, вечных, как их вечная зелень, выстояли против лет и пожаров. Однако некоторые упали; по одному из них мы прошлись вчетвером в ряд по всей длине и насчитали шестьдесят восемь метров до первой ветки. Другое было охвачено огнем спустя некоторое время после падения; сердцевина дерева выгорела, тогда как кора толщиной в несколько футов, шишковатая и пропитанная влагой, осталась нетронутой. Мы въехали на лошадях в этот деревянный тоннель; у нас были рослые кони, да и сами мы люди высокого роста, но, подняв руки, не смогли коснуться свода над нами. Представьте себе четырех всадников в этой огромной бочке!.. Американцы окрестили эти деревья мамонтовыми. Да и действительно, эти колоссы в растительном царстве — то же, что исчезнувшие сегодня мамонты для животного мира. Гиганты имеют довольно странные клички: Мать и Дочь, Три Сестры, Муж и Жена, Старый Холостяк, Хижина Рудокопа, и т. п. Один спекулянт совершил настоящее варварство, погубив самое замечательное из этих чудесных растений. В течение примерно месяца пятеро рабочих, вооруженных огромными сверлами, проделали множество отверстий вокруг основания и таким образом убили гиганта, можно сказать, уколом булавки. Этот способ обычно применяется в Калифорнии для валки елей. Калифорнийское законодательство, к счастью, приняло энергичные меры, чтобы помешать повторению преступления против природы: лес был объявлен национальным достоянием. Рядом с этим чудом находится другое, не менее необычайное и уникальное — каскад реки Йосемит, низвергающейся отвесно тремя следующими одна за другой ступенями с высоты восьмисот метров. Ниагарский водопад насчитывает только триста метров в ширину, а высота не превышает пятидесяти. Объем сбрасываемой воды также не поддается сравнению, и именно это создает неповторимый эффект. Каскад Йосемит занимает одно из первых мест среди природных достопримечательностей Америки. Как видим, путешествия Луи Симонена по Америке были не просто деловыми поездками. Изучая страну с точки зрения промышленника и коммерсанта, он не упускал интересные подробности и вел записи, демонстрируя тем самым замечательную наблюдательность, позволяющую ему одновременно заниматься двумя совершенно разными вещами — искусством и техникой, и одно никогда не причиняло ущерба другому. Эта способность, такая ценная у путешественника, видна также в той части его книги, в которой рассматриваются проблемы, связанные с золотом. Как мы уже сказали, считается, что в Калифорнии золото было открыто только в 1848 году, и обязана она этим капитану Суттеру, или, скорее, одному из его рабочих, американцу по имени Маршалл[550]. В 1830 году Суттер был офицером королевской гвардии Карла X. Видя, что революция сломала его карьеру, он отправился в Америку и после различных бесплодных попыток прибыл в долину Сакраменто, где, получив от мексиканского правительства концессию на тридцать квадратных лье, занялся выращиванием скота; его дело, очевидно, стало довольно процветающим, поскольку в 1842 году у него уже было тысяча лошадей и три тысячи голов скота. Он продолжал свое занятие и не искал другого, когда в эпоху великого исхода мормонов, выдворенных из США в качестве врагов нации, два человека по имени Маршалл и Веннетт, простые рабочие-строители, обессилев, нанялись к капитану Суттеру для строительства механической лесопильни. Лесопильня приводилась в действие течением маленького ручья, впадавшего в Саут-Американ-Ривер, протекавшую в местности, поросшей дубами, соснами, кедрами, где проживали несколько бедных индейских племен. Именно в этом ручье было найдено золото. Об этом событии рассказывают по-разному. Одни считают, что во время первого спуска воды в только что вырытый канал изумленным глазам Маршалла предстал самородок, но рассказ, который лежит у меня перед глазами и принадлежит будто бы самому Маршаллу, повествует несколько иначе о появлении самородка. По словам почтенного мормона, с открытием, которым должны бы были воспользоваться его единоверцы, произошла вот какая история. «Поскольку у нас была привычка сливать каждый вечер воду из лесопильни в отводной канал, я обычно спускался утром, чтобы посмотреть, не произошло ли за ночь какого-нибудь повреждения. К половине восьмого, по-моему, 19 января 1848 года, не помню точно, какой был день, но где-то между 18-м и 20-м, я, как обычно закрыв вентиль, спустился в отводной канал, ближе к его нижнему концу. Там, на скале, примерно на шесть дюймов ниже уровня, до которого обычно доходит вода, я обнаружил золото. В этот момент я был совершенно один. Отколов пару образцов, я внимательно осмотрел их. У меня в руках был минерал, который мог быть пиритом[551] или золотом. Они очень похожи, но первый очень блестящий и хрупкий, а второй — блестящий и ковкий. Положив образец на один камень, я стал бить по нему другим, минерал менял форму. Это было золото. Четыре дня спустя я собрал около трех унций золота и мы вместе с капитаном Суттером проверили его азотной кислотой. Затем в присутствии капитана я сделал еще одну пробу: взял три серебряных доллара и уравновесил их на весах золотым порошком. Затем обе чаши весов опустил в воду, и этот простой опыт помог определить нам удельный вес и стоимость находки». «Этот отрывок, — добавляет Л. Симонен, — который я перевел целиком и близко к тексту, является введением в “Пособие для золотодобытчиков”, маленькую брошюру, отпечатанную в Сан-Франциско в 1858 году. Рассказ, открывающий эту книгу, показался мне достоверным, и я без колебания признал за Маршаллом авторство строк, которые вы только что прочитали. Могут сказать, что он рассуждает о своем открытии, как человек с институтским образованием, и что его опыт с весами напоминает знаменитый опыт Архимеда. Но подобные факты неудивительны у американцев, людей здравого смысла и практической хватки. Как бы то ни было, несомненно, что именно Маршаллу Калифорния обязана открытием на ее земле золота. И возблагодарим святого того памятного дня за это счастливое событие, которое, впрочем, как мы это увидели, есть не что иное, как воля случая». Несмотря на то, что капитан Суттер и Маршалл хотели сохранить открытие в тайне, им это не удалось. Последствия были неслыханными. Землю капитана Суттера захватила алчная, сильная толпа, которая, пренебрегая правом первого владельца, вскоре вытеснила его. Как собственник капитан Суттер был разорен. Золото, находившееся у него под ногами и часть которого принадлежала ему, обогатило бы его, если бы, смирясь с обстоятельствами, он оставил скотоводство и земледелие и поддался горячке золотоискательства, поскольку находился в лучшем положении, чем другие. Но капитан не сделал этого и вскоре был вынужден оставить землю, которую сделал плодородной. Рудничное законодательство Калифорнии — одно из самых простых и самых оперативных, и именно благодаря ему она смогла стать за несколько лет классическим штатом, занятым промывкой золота и добычей его из кварцевых жил. Конгресс постановил, что золотоносные земли принадлежат всему американскому народу и запрещены любые концессии, не отвечающие законам управления золотыми приисками, установленными самими золотодобытчиками. Закон, касающийся права владения, может применяться только к общественным землям с сельскохозяйственными угодьями и пастбищами, и никак не к землям, содержащим ценные металлы; они остаются в общем пользовании. Золотоискатель, с киркой и лопатой на плече, с деревянным лотком для промывки золота в руках, ножом и пистолетом за поясом, отправляется на разведку участка, обследуя еще не разработанные земли и пески, богатые самородками. Найдя место, которое ему кажется подходящим, он отмечает свой участок и объявляет обществу запиской на английском языке, прибитой к врытому в землю столбу, что начиная от этой точки до другой соответствующей точки, расположенной на расстоянии ста пятидесяти футов, он намеревается начать разработку. Если в течение трех дней не последует никакой претензии, золотоискатель немедленно приступает к работе. Сначала он роет яму, сухой колодец, в который кладет инструменты, чтобы не брать их обратно вечером, если на заявке еще не поставлена палатка. Инструменты оставляют, чтобы предупредить «джемпера». Так называют золотоискателя, который, набредая на заброшенную заявку, продолжает за свой собственный счет и вполне законно прекращенные когда-то работы. Колодец, всегда имеющий около двух метров в диаметре, квадратный или чаще круглый, занимает обычно почти всю площадь, так как запрещается выбрасывать извлеченную землю за пределы участка. Эксплуатация ископаемых богатств также предоставлена всему обществу, и земля никогда не должна быть в простое. Выигрывает тот, кто сумеет сделать лучше и быстрее. Сначала земля захватывалась с полным произволом, и не было юридической власти, защищающей старателя. Однако существовал главенствующий повсюду общий принцип. Так, всегда провозглашалось право личной собственности, которое, надо сказать честно, часто нарушалось; существовало право неприкосновенности границ, свободы действий, но без покушения на права соседа. Существовали обязанности перед обществом и взаимные обязательства, которые не позволялось нарушать даже тайком и без свидетелей. Например, в глубоких подземных выработках право общности владений сохранялось и никогда не разрешалась горизонтальная проходка по золотой жиле под участком соседа, позже приступившего к рытью колодца. Грубая сила и хитрость, без сомнения, нарушали эти правила; часто именно они решали споры, да и не могло быть иначе при наличии такой ненадежной власти, как власть шерифа, осуществляющего свои полномочия только с одобрения масс, почти постоянно собирающихся на митинги. Больше всех от нарушений страдали иностранцы. В некоторых местах американские граждане их едва терпели. Лучше всего относились к французам: они были более сильными и симпатичными. Но китайцы, чилийцы и мексиканцы испытывали жестокую несправедливость. Если они позволяли себе какую-нибудь слишком богатую находку, им намекали, что в шахтах, как в любом другом месте, судьба иногда продает очень дорого то, что, казалось, дала бесплатно. Чтобы уравнять права всех тружеников, было решено ввести налог на иностранцев. Этот закон не нанес ущерба золотоискателям или мелким объединениям, но он стал обременительным для компаний, объединяющих только капиталы, а не рабочие руки. В Калифорнии золотодобытчиками называли всех рабочих — и тех, кто промывал золото на россыпях, и тех, кто добывал в кварцевых шахтах руду с использованием пороха. Однако существовала разница, и довольно существенная, между работой первых и вторых, являющихся настоящими шахтерами в подлинном значении слова. Золотые россыпи представляют собой песчаные отложения, наносные земли, где золото, принесенное водными потоками, находится в большем или меньшем количестве, и его достаточно вымыть. Кварцевые шахты, напротив, это — рудное месторождение, где драгоценный металл вкраплен в твердую скалистую породу. Самородные отложения золота находятся в Сьерра-Неваде, внутри кварцевых жил, где характер его вкраплений не оставляет сомнений в одновременности их образования в результате извержений вулкана, которые в незапамятные времена выбросили его из недр земли. Трудно узнать, повторялись ли эти геологические катастрофы несколько раз; но металл несет на себе явные следы плавления, как сама страна — след вулканических потрясений. Геологи считают, что, с одной стороны, скалы Калифорнии состоят из мягкой и рыхлой породы и не могут сопротивляться атмосферным воздействиям; с течением времени горы, оседая под собственной тяжестью, дробят скалы, и металл высвобождается. Как бы то ни было, но после работы вулканов или оседания пород следующую задачу выполнили текучие воды, захватывавшие и разносившие это золото по долинам, образуя таким образом россыпные месторождения. Металл скатывался под действием вулканических толчков, сотрясающих землю. Он задерживался перед препятствиями, лежащими на его пути, или под действием законов тяготения перемещался вниз. Из-за своей тяжести золото, вкрапленное в породу или в самородках, даже после измельчения оставалось очень близко от места зарождения, тогда как более легкие, блестящие и тонкие чешуйки постоянно уносились потоками вод. Обыденный и упрощенный промысел золотодобычи — промывание земли и песка; дробление кварца — это уже крупная индустрия. Два главных принципа добычи заключаются в том, чтобы копать и промывать, все остальное — производное от них. Промывка производится индивидуально или маленькими артелями вручную с помощью только простейших инструментов; дробление кварца требует больших капиталов для приобретения механизмов и оплаты наемных рабочих. В принципе промывка была как раз работой для дикарей, которые использовали первые попавшиеся инструменты. Самым первым приспособлением было батте. Батте — это нечто вроде большого таза из кованого железа или дерева, в который насыпают подлежащий промывке песок. Держат батте двумя руками, опускают в воду и покачивают. Легкие примеси уходят вместе с водой, и только чешуйки золота остаются на дне приспособления. Батте было родоначальником люльки, или лотка. Оно состояло из трех частей,одной верхней, называемой сито, другой нижней — фартука, сделанной из простого куска полотна, прибитого к раме. Третья часть — корпус устройства — ящик с колодками снизу, в который входят две предыдущие. Мойщик держит одной рукой люльку, а другой рукой поливает водой камни и песок, насыпанные на сетку. Вода уносит землю, и золото остается на фартуке. Повторив операцию по промывке несколько раз, дно люльки, где застревают наиболее тяжелые частицы, очищают и пересыпают этот золотоносный песок в новый сосуд вместе с песком, собравшимся в батте. Затем вечером под пологом на жарком огне его поджаривают на сковороде, как кофейные зерна; земля и прилипшие к металлу частицы отделяются и превращаются в пыль. Именно тогда становится видимым блеск золотых частиц. Эту смесь из пыли и металла провеивают, слегка дуя поверху, сор улетает, а песок, состоящий из магнитного железа и золота, остается лежать неподвижно. При помощи магнита убирают железо или вылавливают золото при помощи ртути. По результатам этой операции подводился итог дня золотоискателя. Радость или грусть будет царить сегодня под пологом? По берегам рек люльку заменил «Длинный Том», который получил свое название от американца по имени Том и его роста. Это было нечто вроде гроба двухметровой длины; один его конец представлял собой сито, а другой конец погружался в воду. Большими лопатами непрерывно бросали песок и воду на сито, расположенное над большим чаном с тремя отсеками. Первый останавливал наиболее крупные частицы металла, а те, что из него ускользнули, падали во второй; третий захватывал самые легкие с помощью ртути или без. Эту работу могли выполнять только пять или шесть человек, особенно когда за золотоносной землей надо было ходить подальше. Вместо того чтобы носить ее в мешках, использовали двухколесную тележку, в которую впрягали лошадь, и таким образом значительно экономили человеческие силы. «Длинный Том» позволял промывать большее количество земли, чем люльки или лотки, и вскоре стал таким же распространенным, как вышеназванные примитивные приспособления. На ручьях использовалось также другое устройство, называемое рудопромывочным желобом, который представлял собой череду деревянных каналов, через которые пускали воды ручья, вместо того чтобы дать им течь по их прихоти в скалах и песках. Затем в это искусственное русло бросали землю и щебень, и поток сам промывал породу, захватывая только отслоившиеся частицы, остальное медленно скользило, и постепенно задерживались все более тяжелые частицы металла, а в конце самые чистые смешивались с ртутью. Таким, конечно, несовершенным способом, но достаточно быстро промывали большое количество земли. Для подобного устройства, которое изготавливают на месте в не обделенных лесом краях при помощи топора, пилы и нескольких гвоздей, не требуется капитала. Калифорнийцы изобрели еще один способ разработки золотоносных пород: они используют струи воды колоссальной мощности. Длинные трубы из листового металла, герметично соединенные одна с другой, подсоединяют к резервуару, в который вода поступает от источника, подводят воду к подножию разрабатываемой горы. Вес воды выталкивает породу с огромной силой относительно узкой струей; под ее сильным напором глыбы земли обрушиваются и измельчаются, а через несколько мгновений, как сахар, тают холмы, для раскопки которых потребовалось бы сто человек и десять дней работы. Желоб, выкопанный заранее, вымощенный крупной галькой и залитый на всем протяжении толстым слоем ртути, принимающей на себя массу желтоватой грязной воды со склонов горы; по пути в несколько сотен метров чешуйки золота оседают, поглощаются ртутью и перемешиваются с ней, тогда как бесполезные частицы гравия, щебня, глины быстро уносятся искусственным потоком. Раз в месяц закрывается шлюз резервуара, замирают струи воды, поток прекращается, собирают насыщенную золотом ртуть и отправляют в лабораторию, где ртуть выпаривают, а чистое золото остается. Итак, вода всегда является принципом и средством разработки золотоносных земель. Но как быть летом и особенно на золотых россыпях, где нет воды? Возникают многочисленные предприятия, которые, вместо того чтобы искать золото, начинают заниматься изобретениями и производством орудий труда для шахтеров. Искусство организации и заключается в том, чтобы одновременно дать достаточно воды тому, кому ее недоставало, и забрать ее у того, кто имел ее в избытке. Большая группа промышленников, объединившись, завладела высокогорными источниками и направила их воды по искусственным руслам. По существу, это лишь только применение принципа, провозглашенного одним инженером: реки созданы, чтобы питать каналы. Другие при помощи насосов поднимают речные воды, чтобы сбросить их в каналы, подобные тем, по которым под небольшим наклоном спускают воды горных источников, часто находящихся на очень удаленных высотах. Но ничто не останавливает деревянные акведуки на сваях; они преодолевают долины и вместе с проложенными в горах широкими желобами, хорошо сработанными из гончарной глины, дополняют систему каналов. По этим искусственным руслам, покрывающим пространство во многие мили, по желобам или отводным трубам подается вода на золотые россыпи на всех уровнях. Каждый золотодобытчик делает свой водоотвод, естественный или с жестяными трубами, за свой счет или за счет водопроводной компании, и платит поденно по объему израсходованной воды. Одна и та же вода, которую бережно расходуют, часто используется неоднократно и быстро восстанавливает свою чистоту. Чтобы заниматься водоснабжением, необходимо прежде всего иметь большие капиталы, которые идут на ежедневную оплату рабочих рук землекопов, лесорубов, строителей. Благо, дерево стоило лишь затрат на то, чтобы срубить и обтесать его. Только богатые могли позволить затраты на работы, требующие много времени, которые плохая погода прерывала, а часто и разрушала сделанное. Но законченные и пущенные в эксплуатацию сооружения давали огромную, просто невероятную прибыль. Рядом с обычной разработкой золота путем промывания почвы существует более прибыльная и трудоемкая добыча из кварцевых жил. Самородное золото, то, которое, не будучи подвергнуто вулканическому плавлению и размельчению, не было перенесено в золотоносный слой почвы в долинах или не просочилось в россыпи, покоится в кварцевых жилах в виде вкраплений мелких зерен. Именно это золото ищут в недрах земли, и именно оно стоит постоянной и регулярной добычи. Необходимы большие геологоразведочные работы в виде бурения шурфов и рытья больших тоннелей, чтобы удостовериться в наличии жил; как мы уже говорили, это под силу только крупным объединенным силам и капиталам: ведь необходимо двадцать — тридцать человек только для того, чтобы произвести изыскания. После добычи кварцевой руды — процесса, иногда очень трудоемкого, кварц необходимо дробить. В принципе на некоторых шахтах использовали силу падающей воды для вращения мельничных жерновов. Но если зимой воды много, то летом ее недостаточно, а это и приводило к дорогостоящим сезонным потерям там, где жизнь и рабочие руки были чрезвычайно дороги. Следовательно, пришла пора обзаводиться паровыми машинами. Не было угля, но дров было всегда и везде в достатке. И теперь уже только паровые машины размалывали, превращали в пыль золотоносные породы. Но не всем золотодобытчикам, извлекающим золото из кварца, по средствам иметь эти машины; да и тем, кто их имеет, не всегда удается открыть хорошую жилу, организовать бригады, достаточно мощные, чтобы пробурить колодцы и тоннели. И тогда владельцы механизмов предлагают свои услуги тем, у кого есть что молоть. Мельницы становятся центральными заводами: они производят мельничные работы для всех тех, кто им доставляет породу. Транспорт, конечно, дорого обходится тем, кто ведет добычу на удаленных разработках; но если жила богатая, она щедро оплатит деревянные дороги, проложенные от рудника до мельницы. Чтобы закончить, приведем некоторые цифры, относящиеся к добыче золота в Калифорнии. Официальные публикации значительно занизили действительные цифры. Так, вместо трехсот миллионов франков, вырученных в 1858 году, из этих документов следует, что добыча золота и серебра принесла только сто сорок пять миллионов франков в 1871 году. Добавив девяносто пять миллионов франков золотых и серебряных монет, отчеканенных в том же году Монетным двором Сан-Франциско, получим цифру двести тридцать девять миллионов франков. Но если учитывать последние открытия очень богатых золотых и серебряных рудников, усовершенствованные средства, применяемые в настоящее время для их эксплуатации, многочисленные капиталы, инвестированные в горную промышленность, то цифра четыреста миллионов, представляющая современную доходность рудников Калифорнии, не будет преувеличена. Пусть даже двести тридцать девять миллионов, разве это не превосходно для страны, которая не только обеспечивает себя всем необходимым, но и экспортирует большую часть даров своей земли? Можно ли это сравнить с той порой, когда шахты давали ей триста миллионов, которые надо было обменивать на предметы первой необходимости?[552]ГЛАВА 22
Поль Тутен. — Стефан Жусслен. — Карлье. — Барон де Мандат-ГрассейПеред тем как оставить США, будет интересно показать читателю, чем стал за сто лет этот народ, политической эмансипации которого мы помогли когда-то в порыве энтузиазма, ничем не оправданного ни тогда, ни впоследствии. Современные путешественники, изучавшие по другую сторону Атлантики эту странную цивилизацию, упрямо восхваляемую только потому, что она исходит из так называемой свободной страны, предоставляют нам по этому поводу очень интересные и красочные документы. Поль Тутен, искрящийся остроумием руанец, написал маленькую книжку под названием «Француз в Америке», полную задора, веселья, лукавства и искренности, которая стоит того, чтобы о ней подробно рассказать и дать из нее некоторые выдержки. «Впечатление, которое производит эта страна, — говорит Поль Тутен, — решительно странное. Эта Америка с ее любовью к рекламам, театральным патриотизмом, звуковыми штампами, митинговыми ораторами, похожими на зазывал, самовосхвалением, доходящим до безумия, если не глупости, броскими плакатами, которые можно увидеть даже на спине прогуливающегося человека, правда, получающего за это плату, “большие аттракционы”, спиритические знаменитости, необычная неугомонность, подвижность, скорее беспорядочная, чем обоснованная, перед лицом которой всякий европеец, только что ступивший на ее берег, всегда спрашивает себя: “Что, сегодня праздник?”, намеренная эксцентричность, цель которой по большей части привлечь внимание и приманить клиента, огромные предприятия, которые распространяют акции, как шарлатаны пузырьки с лекарством, эмансипированные женщины, выставляющиеся напоказ как достопримечательность, врачи, достойные не более чем титула костоправов, города, похожие на барачные лагеря, Америка со всем этим производит впечатление гигантской ярмарки. …В этой стране не имеет значения, чужак ты или близкий сосед, поскольку здесь свирепствует борьба за выживание; если у тебя затруднения, никто не поможет из них выпутаться; если ты упал, то рискуешь долго пролежать на земле; если жив — хорошо, умер — не важно! Место есть только для сильных. Течение уносит слабого, и никто не протянет ему руку: каждый думает о себе, этого достаточно. Даже не надейтесь в этой стране озлобленной индивидуальности на знаки внимания, мелкие услуги, за которые скудными чаевыми широко платят в остальном мире. Вы все обязаны делать сами — нести посылки, найти дорогу, если потерялись, и чистить свою обувь. Отель, где я остановился, “Тремон-Хауз”, огромный; мне говорили, что в нем сто пятьдесят комнат. В американском городе на видном месте стоит не церковь и не мэрия, а отель: все живут там, даже местные. Не правда ли, очень характерно для этой поспешной и как бы временной цивилизации? Цены здесь очень высокие — тридцать франков в день, но даже за эти деньги не надейтесь, что слуга почистит вам ботинки, и не думайте, что носильщик мнит о себе меньше, чем вы. Гордись, тебя обслуживает свободный человек! Что касается стола, то он просто отвратителен. Судите сами: вам дают огромную карту, в которой перечислены по меньшей мере шестьдесят блюд; вы можете попросить их все, это не стоит ни одного сантима сверху. Однажды я позволил себе фантазию заказать двадцать. Я сделал заказ, меня посадили одного за круглый стол, вокруг которого легко разместились бы десять человек; через полчаса ожидания появляются заказанные блюда, каждое на отдельном маленьком блюдце, и на все только одна тарелка. Поскольку я француз, то, конечно, требую, чтобы мне блюда подавали постепенно и с отдельным столовым прибором, — напрасный труд: официант не намерен подчиняться моим фантазиям, если он белый и, следовательно, ровня мне. Если он черный, он идиот. Волей-неволей пришлось смириться. На одну тарелку мне кладут порцию со всех блюд: суп из стручкового перца, пирожное, жаркое, конфитюр, ломтик хлеба с маслом, пикули, горчицу, консервы, картошку, арбуз, рагу, сыр, огурцы, пудинг, помидоры, жареные устрицы, галантин[553] и крем; и едят вместе или по очереди одно блюдо за другим эту чудовищную мешанину. Если хочешь выпить, тебе принесут ледяную воду, кофе с молоком, но высшая изысканность, верх хорошего вкуса состоит в том, чтобы разбить в стакан сырые яйца и разбавить их содовой, потом проглотить ужасную желтую смесь: меня пытались убедить, что этот варварский напиток восхитителен; мне даже предложили его попробовать, я заявил, что верю на слово. Клянусь всем моим соотечественникам, держа руку на желудке, все это неудобоваримо. Надеюсь, что моя откровенность не приведет к дипломатическим осложнениям, но мне трудно простить Америке, что меня здесь так плохо кормили. Насытившись, что, как вы сами понимаете, не занимает много времени, вы имеете возможность посмотреть, как американцы едят, — вещь действительно очень любопытная, но описанию поддается с трудом. Они едят быстро, поспешно, стремительно; они торопятся, они спешат скорее закончить! Абсолютно так же, как накапливают состояние на Бродвее. Янки ест бодро, увлеченно, усердно; он занимается этим старательно, для него обедать — не удовольствие, а работа: он ест и пьет до пота на лбу. Вилка, нож — это инструменты, помогающие успешно завершить работу, которую он делает в этот момент. И, смотрите, он усердно трудится над бифштексами, проглатывает, не ощущая вкуса, — все, он кончил, обжора!..» Можно до бесконечности цитировать эту книгу; жаль, не хватает места. Поль Тутен только что нам показал, как живут в Америке; другой путешественник поведает, как там женятся. Это Стефан Жусслен, опубликовавший недавно том[554], полный сочных подробностей и оригинальных наблюдений. Его литературный дебют имел вполне заслуженный успех. Известно, что женитьба в Америке не окружена ни формальностями, ни гарантиями, как в Европе, особенно во Франции. Прежде всего благословение родителей совершенно необязательно, и будущие супруги умеют очень хорошо обойтись без оного, закон этого не требует. «Вы хотите жениться? — пишет Стефан Жусслен. — Нет ничего проще. Идете в мэрию, заходите в отдел регистрации браков и обращаетесь там к служащему: — Я бы хотел получить лицензию. — Отлично, месье; впишите ваше имя и имя вашей будущей супруги и выкладывайте доллар. Эта маленькая операция закончена, вам после клятвы на Библии, что вы еще не женаты и достигли совершеннолетия, выдают розовую или голубую бумагу, в зависимости от того, какой сегодня день. Теперь вы можете предстать перед любым пастором. Заслуживающий уважения пастор — человек очень нелюбопытный; он не будет спрашивать, кто вы и откуда явились. Как я уже имел честь доложить, это настоящий джентльмен, который не имеет привычки вникать в ваши личные секреты. Он видит только одно: два человека разного пола, а это значит, что они могут воспроизводить себе подобных. Кроме того, есть перспектива получить несколько полновесных долларов, которые возблагодарят его святое пасторство; большего он не спросит и поспешит соединить вас. Дело сделано. Ситуации, которые возникают из этих скоропалительных браков, иногда невыразимо причудливы. Так, известен человек, женатый пять раз; поскольку каждый штат имеет свои, отличные друг от друга законы, то можно очень легко жениться в различных штатах и иметь в конце своей карьеры небольшой симпатичный гарем. Этот акт бракосочетания, который для нас один из наиболее важных в жизни, совершается иногда в Америке самым странным образом. Однажды молодая романтическая мисс объявляет, что она выйдет замуж только за человека, способного похитить ее оригинальным способом. Некоторое время спустя она отправляется купаться на самый модный пляж и, как опытная пловчиха, заплывает далеко от берега. Вдруг она чувствует, как ее хватают сильные руки, оборачивается и узнает одного из своих обожателей, который, несмотря на ее крики и мольбы, взваливает ее себе на спину и уплывает прочь в открытое море к заранее нанятой лодке, в которой уже находится пастор. Там оба в купальных костюмах получают брачное благословение, пока безутешная семья делает им на пляже отчаянные знаки. Церемония закончена, они возвращаются вплавь, и месье, теперь женатый, сообщает о счастливом событии опешившим родителям. Другая история. Перед моими глазами уведомительное письмо о свадьбе китайца с молоденькой и красивой мисс, из которого я узнал, что свадьба будет происходить в доме матери невесты. Хонг, китаец, о котором идет речь, обладатель достаточно большого состояния, предпочел европейский костюм и был бы настоящим американцем, если бы не отказался наотрез пожертвовать своими длинными волосами, заплетенными в косичку. Мать девушки решительно воспротивилась этому союзу, но дочь, всем сердцем привязавшаяся к косе сына Небесного императора, объявила, что убежит с ним, и мать вынуждена была согласиться. Теперь — свадьба на велосипеде. У одного месье, большого любителя велосипеда, был постоянный соперник, оспаривающий его рекорды в скорости. Этим соперником была девушка. Однажды месье налетел своим стальным конем на камень. Кульбит на полной скорости, страшный удар, потеря сознания, велосипедист очнулся от прикосновения белых ручек своей соперницы-велосипедистки. Так он нашел родственную душу. — Не хотите ли вы стать моей женой? — Договорились, — ответила его новая подруга. Оставалось только назначить день и час и выздороветь как можно скорее. Все готово. Час настал. — Джек, — говорит невеста, — не могли бы вы сделать мне одолжение? Я бы хотела венчаться на велосипеде. — Я не осмеливался просить вас об этом, — говорит глубоко взволнованный жених со слезами в голосе. Несколько дней спустя среди многочисленной и сочувствующей аудитории протестантский пастор благословил союз двух влюбленных, которые, каждый на велосипеде, вступил под своды церкви в сопровождении шаферов и подруг невесты, горевших желанием последовать такому прекрасному примеру. На выходе трехколесный велосипед поджидал супругов, которые тотчас же отправились в большое путешествие через равнины великой республики». Другой путешественник, Карлье, приводит случай, когда проводник железнодорожного поезда, слишком занятый, чтобы выкроить хотя бы один день для своей свадьбы и тем не менее не желая оставаться холостяком, нашел счастливый выход. Он устраивает невесту и пастора в вагоне и занимается своими служебными делами, то есть готовит поезд к отправлению. Поезд трогается, жених присоединяется к своей невесте и пастору, последний соединяет их узами брака. Таким образом, от одной станции до другой обряд бракосочетания был завершен, и проводник не потерял ни минуты своего рабочего времени. Ну и чтобы закончить эту тему. Двое вступающих в брак направились вместе к пастору, который должен был их обвенчать. На пути была река, случаю было угодно, чтобы поток, вздувшийся от дождя, не позволил молодоженам переправиться на другой берег. Молодые люди, сильно огорченные, решили было вернуться обратно, но заметили на другом берегу прохожего. Они окликнули его и объяснили как смогли цель своих хлопот. Прохожий оказался человеком услужливым. Он сходил за пастором, и тот не замедлил явиться. Обменялись издалека несколькими словами, потом свернули бумагу с разрешением, привязали к ней камень и, рискуя утопить в реке, бросили сверток почтенному пастору, который, с важным видом приступив к произнесению привычной формулы, вскричал своим хорошо поставленным голосом: — Очень хорошо, дети мои; вы можете идти к себе: вы женаты в соответствии с обрядами церкви. Разумеется, что такие неординарные способы заключения брака чрезвычайно редки, но достаточно того, что закон позволяет их, чтобы показать, насколько этот порядок способствует заключению скороспелых, комичных, плохо подобранных браков, так часто кончающихся разводами, правда, сопровождаемыми не более сложными процедурами. Что бы стало со всеми этими беднягами, так необдуманно вступающими в брак, если бы не было возможности исправить положение! Выход так же доступен, как и вход. Вы достаточно пожили вместе и хотите развестись? Нет ничего проще. Как и для заключения брака, отправляетесь в мэрию и говорите служащему: — Месье, я бы хотел развестись. — Отлично, месье, с вас два доллара. Это дороже, чем за вступление в брак, но не важно. — Очень хорошо, месье; вот два доллара, а вот также мое заявление. Дело сделано. Вы предстаете перед судом, который объявляет вас разведенным. И ничто вам не мешает, пока вы еще там, вернуться в мэрию и сказать: — Теперь, когда я разведен, я готов снова жениться; дадите мне разрешение? — Конечно, месье, с вас один доллар… «Так, однажды, — рассказывает Жусслен, — в штате Коннектикут дама девятнадцати лет, едва выслушав постановление суда о разводе, пошла за разрешением на брак и менее чем через час снова вышла замуж. И еще я знаю одного парня, который обещает к старости иметь хорошую коллекцию браков». И после этого пытаться запретить мормонам иметь несколько жен! Что касается меня, то я не очень понимаю разницу между этими двумя системами. Менять супругов каждые пятнадцать дней или иметь несколько всегда одних и тех же, которым сохраняют верность, — не знаю, что больше достойно осуждения… …Заканчивая эту главу, автор глубоко сожалеет, что имеет возможность процитировать только несколько строк из описаний путешествия барона Мандат-Грансея, который опубликовал три изысканных тома о современной Америке и американцах[555]. Тем не менее следует позаимствовать у него портрет ковбоя, сделанный с натуры. «…Ковбои, по-нашему, “коровьи парни”, садятся на поезд. С их высокими фетровыми шляпами, украшенными тусклым золотым шнуром, огромными сапогами с мексиканскими шпорами и поясом, украшенным револьверами кольт, патронташами и большими ножами, они выглядят как настоящие бандиты, однако ведут себя прилично; но увы! не всегда. Несколько недель тому назад пьяный ковбой захотел, очевидно, предаться одному из своих любимых видов спорта. Он выбил пулей из револьвера сигару у безобидного соседа. Охранник тут же пристрелил ковбоя сзади из пистолета. Тело выбросили через дверь, и на этом все было кончено. Эти ковбои — язва Запада. Набранные обычно среди людей слишком ленивых, чтобы работать на рудниках или фермах, проводящие свою жизнь в прерии, верхом на лошади днем и ночью, следуя за стадами, постоянно ведя войну с индейцами, они появляются в городе только в дни заработной платы, неизменно напиваются и нагоняют страх на жителей, которые, впрочем, наилучшим образом используют их. Газеты и романы полны описаниями их подвигов. Время от времени сообщается, что компания ковбоев овладела пограничным городом и разграбила его или что просто, охваченные приступом веселья, они согнали всех жителей на площадь и заставили несколько часов танцевать перед ними, стреляя по ногам недостаточно ловких. Потом в один прекрасный день жители создают комитет по защите, который наугад хватает трех-четырех ковбоев, вешает их на первом попавшемся дереве, пока другие в это время невдалеке продолжают совершать свои подвиги. В остальном наилучшие в мире ребята, обожаемые хозяевами салунов, для которых их визиты — большая удача». И вот так это все происходит самым прекрасным образом в лучшем из новых миров… Да здравствует молодая Америка!
ГЛАВА 23
ФРЕДЕРИК ВИМПЕР
Как большинство его соотечественников, англичанин Фредерик Вимпер[556], человек огромной энергии и нерастраченной жизнедеятельности, искал, куда разумно и плодотворно приложить свои способности, не востребованные до сих пор. Уверенный в своей силе и выносливости, он задумал длительное исследование севера Британской Колумбии и тогда еще мало известной Русской Америки. В этот момент стоял вопрос об уступке Россией Соединенным Штатам обширной территории, что в действительности и произошло чуть позже, и присоединении Британской Колумбии, до тех пор — отдельной колонии, к Канаде. Кроме того, было много разговоров об открытии золотых рудников Карибу, поговаривали о том, чтобы связать Америку с Сибирью кабелем, проложенным под водой. Короче, весь этот регион по тем или иным причинам был в центре всеобщего интереса, и проект путешествия Вимпера органично вписался в проблему, занимавшую тогда умы. Может быть, именно это и определило его выбор и побудило высадиться в начале 1862 года в Виктории, откуда он отправился 16 марта того же года в Карибу[557]. Карибу, Эльдорадо Британской Колумбии, из которого собирались сделать счастливого соперника Калифорнии, — горнопромышленный и, без сомнения, очень богатый район. Компания добывала до двух тысяч восьмисот унций[558] золота за день. Вимпер сам держал в руках двести унций, собранных за восемь часов одним старателем. Это поразительные результаты, представленные на суд публике без малейшего объяснения, дали ошибочные представления о действительной производительности шахт этого района. Как заметил Вимпер, эксплуатационные расходы были очень высоки; шахта начинала давать доход только через два или три сезона. Но этот период еще надо было продержаться. Самые необходимые продукты, например хлеб и мясо, продавались в то время по доллару за фунт, и рабочие руки стоили очень дорого, в среднем десять долларов или пятьдесят четыре франка за рабочий день. Даже наиболее отважные пионеры, даже те, кто предварительно закалился тяжелым трудом на калифорнийских залежах, не все сумели добиться успеха. Печальный конец горняков, открывших Уильямс-Крик, самую богатую долину Карибу, показывает, как трудно, даже в самых благоприятных условиях, добиться успеха в этой стране. Один из них, немец Вильгельм Дитц, раздавленный работой и лишениями, дошел до крайности и вынужден был жить за счет благотворительности. Другой, шотландец, умер в лесу от голода. Его труп, обнаруженный спустя несколько дней его товарищами, носил на себе следы страшной агонии, рука еще судорожно сжимала оловянную флягу, на которой несчастный пытался концом ножа нацарапать страшный рассказ о своих страданиях. Такова была страна, в которую храбро устремился молодой исследователь. Ему посчастливилось повстречать на станции Гоматео известного инженера Альфреда Уоддингтона[559], который на свои средства решил построить дорогу в Карибу и приехал проверить, как идут начавшиеся работы. Объединенные сходством вкуса, одинаковым бескорыстием и любовью к неожиданностям, англичане очень скоро подружились. Когда они прибыли на место, где в глухом лесу остановились работы, Вимпер, решив посетить ледник, отправился туда вместе с краснокожим проводником. Диалект чинук[560], единственный, который понимали индейцы, чудовищная смесь английских, французских и туземных слов, не имеет эквивалента понятию «ледник». Вимпер попытался объяснить его, применив слова hiou ice, hiou snow, скопление льда и снега; тщетная надежда. «Моя ситуация очень напоминала случай с сановником епископальной церкви, который, решив однажды возвестить Евангелие индейцам, начал свою речь словами: “Дети леса!” К сожалению, его переводчик не нашел необходимых слов, и протестантский пастор был оскорблен, услышав в его переводе такое помпезное обращение: “Многочисленные маленькие люди среди стволов деревьев!” Я не больше преуспел в объяснении с моим гидом». Намучившись, Вимпер вынужден был вернуться в город, где нашел старого индейца по имени Теллот, более сведущего в лингвистике. Последний согласился его сопровождать. После чрезвычайно трудного перехода через густой лес, после нескольких дней изнурительного пути путешественник оказался перед ледником. Он определил ширину ложа близ края ледника примерно в четыре лье. Но кверху ледник существенно расширялся. Молчание, царившее среди гор и леса, делало еще более ощутимым движение льдов. Обломки скал и камни устремлялись вниз с такой силой, что могли бы раздавить наблюдателя, слишком поглощенного этим странным и величественным зрелищем. Снег, покрывавший ледник, быстро таял и превращался в ручьи, которые искрились на солнце; наконец, ноздреватые расщелины между блоками льда разбивали прозрачные как хрусталь потоки. Чрезвычайная жара придавала работе вод двойную активность. Вдали последние лучи солнца золотили величественные пики, снега которых питали ледник. «Проведя целый день, — говорит Вимпер, — в созерцании этого любопытного зрелища, я очень поздно вечером вернулся в свой лагерь, где нашел Теллота. Он встретил меня с улыбкой, которая ясно свидетельствовала: по его мнению, было чистой глупостью потратить столько усилий, для того чтобы увидеть лед и камни. Вид моих рисунков, казалось, заинтересовал его, но не смог вывести из упрямого, привычного для него молчания. В манерах этого человека было что-то свирепое; я тогда мало обращал на это внимания. Мне бы следовало поскорее понять, какие зловещие планы кроются под этой темной сдержанностью». На следующий день Вимпер вернулся обратно и нашел своего друга Уоддинггона вместе с двадцатью рабочими, занятыми работами по строительству дороги. Он провел рядом с ним два дня в приятном задушевном общении, потом спустился до устья Гоматео с депешами, которые инженер ему дал, чтобы отвезти в Викторию. Вимпер погрузился затем в лодку индейца Клейоча — легкое каноэ из кедрового дерева, — в котором он не побоялся бы пуститься и по морю, и высадился через шесть дней в Виктории. Примерно через неделю после его прибытия пришла страшная весть, ошеломившая его и повергшая в оцепенение целую нацию. Уоддингтон и четырнадцать его служащих были захвачены среди леса индейцами и убиты с неслыханной по своей жестокости изощренностью[561]. Мерзавцы досыта напились еще теплой крови своих жертв, как вампиры, и сожрали их сердца! Только трое смогли избежать страшной смерти и принесли, тяжело раненные, страшную новость. Необходим был урок, чтобы предотвратить повторения подобных жестокостей. Этого категорически требовало как спасение будущей колонии, так и безопасность многочисленных колонистов, обосновавшихся на уединенных фермах в долине или в лесах. В подобных обстоятельствах, беспрецедентных для того времени, правительство приняло энергичные меры. Корпус морских пехотинцев, усиленный добровольцами, набранными в окрестностях, был послан, чтобы отомстить за погибших. Сами индейцы, у которых эта резня вызвала благородное возмущение, присоединились к европейцам. Губернатор лично руководил поисками, но только часть замешанных в убийстве была захвачена, потом предана законному суду и повешена. Среди них находился Теллот, старый индеец, провожавший Вимпера к большому леднику. Допрошенный о причинах его ненависти к европейцам, которые до того осыпали его благодеяниями, он ответил, что строящаяся дорога проходила через охотничьи угодья аборигенов, и старейшины племени решили не допустить, чтобы бледнолицые захватили страну. Месяц спустя после этих страшных событий Вимпер добился участия в экспедиции под руководством шотландского натуралиста Роберта Брауна[562] на остров Ванкувер, тогда еще мало известный, хотя там и располагалась столица провинции Виктория. В состав экспедиции входили двенадцать человек, среди которых инженер по имени Лич, охотники, рудокопы и несколько индейцев. Маленький отряд прошел на канонерской лодке «Грепплс» вдоль восточного берега острова и высадился в устье реки Кауичан[563], разделившись на три части. Одни отправились под руководством натуралиста, другие — с инженером, а Вимпер, сопровождаемый рудокопом по фамилии Мак-Дональд, решил идти по реке Кауичан. Они соорудили плот из досок и столбов, взятых из заброшенной хижины, связав их веревками, служившими для упаковки одеял. За неимением сверл два компаньона, чтобы не очень затруднять себя, пробили отверстия для шпилек, прострелив деревянные детали из пистолетов. «Река, — пишет Вимпер, — в сущности, представляла собой ряд порогов, отделенных один от другого почти стоячими водными плесами, и наши мускулы ждало тяжелое испытание. Шесты почти нигде не доставали до дна, но не легче было удержать плот и около берега. Когда мы выходили на стремнину, наша водная прогулка, хотя и не лишенная опасностей, принимала самые смешные обороты. Мак-Дональд, этакий Геркулес с короткими конечностями, весивший не менее трехсот фунтов, выполнял обязанности рулевого. Течение было дополнительным фактором риска к достаточно тяжелому грузу, который нарушал равновесие нашего утлого плота, поэтому корма часто уходила под воду на глубину в несколько футов, а нос при этом задирался вверх самым экстравагантным образом. Мы представляли собой весьма любопытное зрелище, когда плот, уносимый течением со скоростью два-три лье в час, держался в воде почти вертикально, а два исследователя цеплялись за его края, один — полузатонувший, другой — повисший в воздухе, и оба изо всех сил старались с комичной безнадежностью занять более приемлемое положение. Нет необходимости говорить, что каждую минуту наш плот нырял в водовороты так, что перед становился задом, и наоборот». Это фантастическое плавание через три дня привело исследователей в Виак, маленькую деревеньку недалеко от моря на западном берегу острова. Потом все члены этой разрозненной экспедиции воссоединились в Порт-Сан-Хуан[564]. Тем, кто шел по суше, было не легче, чем добиравшимся по воде. Все измучились и очень устали; и Вимпер заключил: после десятидневного перехода через лесистые возвышенности путники смогли убедиться, что в подобной стране проселочные дороги являются всего лишь иллюзией, а иногда могут превратиться в настоящую ловушку. Шлюп, посланный навстречу путешественникам из Виктории, отвез их вскоре обратно, после того как они достигли цели. …На следующий год Вимпер, обладавший невероятным запасом энергии, а также исключительной жаждой деятельности, напросился на участие в так называемой телеграфной экспедиции, организованной для изучения трассы прокладываемого подводного кабеля. Полковник Балклей, назначенный ее руководителем, принял путешественника наилучшим образом и взял его с собой. Для Вимпера это была давно желанная оказия посетить Новый Архангельск, или, как его теперь называют, Ситку, главный город территории Аляска, которую русские уступили США. Бегло осмотрев остров Баранова, где находится этот красивый, а сейчас поистине очаровательный город, увидев Камчатку и ее столицу Петропавловск и чукчей, скитающихся по ледяным берегам Берингова моря, он отправился в Форт-Нулато, одну из станций, созданных для торговли пушниной прежней русско-американской компанией, сегодня называющейся «Пушная компания Сент-Луис». Зима прервала едва начавшиеся исследования и заперла в форте путешественников на весь холодный сезон. «В порту, — рассказывает Вимпер, — возвышаются две сторожевые башни, отдельно стоящие от складов и жилых домов. Он окружен прочным палисадом, на ночь ворота всегда закрываются, поэтому индейцы не могут проникнуть в него в большом количестве. Такова простая мера предосторожности в целях предотвращения резни, подобной той, которая в 1850 году опустошила мирную факторию. Во время этой зимовки стояли страшные холода. В течение ноября и декабря я пытался сделать несколько набросков форта и окрестностей, но это было очень трудно при температуре —34° Цельсия. Мне неоднократно приходилось прекращать работу, прежде чем удавалось закончить малюсенький набросок; едва нанеся на бумагу пяток мазков кистью, я был вынужден делать несколько интенсивных движений, чтобы согреться, или бежать к печке. Несмотря на эти предосторожности, у меня с рук несколько раз слезала кожа; однажды я обморозил левое ухо, которое потом раздулось до размеров головы… Понятно, что в такой ситуации я не мог сделать ни одной акварели, тем не менее не оставил попыток и принес с собой горшок, полный воды, которую нагревал на маленькой печке, но опыт был не настолько удачным, чтобы мне захотелось повторить его. Однажды, забыв, где нахожусь, я развел краски водой, которую держал около печки, и, смочив маленькую кисточку, начал по памяти рисовать эскиз в альбоме. Еще до того как кисточка коснулась бумаги, она покрылась слоем льда и лишь оставила на листе царапину. Холод странно действовал на наши продовольственные припасы: все сушеные яблоки, насыпанные в мешок, образовали одну сплошную массу, которую можно было разрубить только топором; то же произошло и с патокой… А вот мясные консервы при подобной температуре могли храниться бесконечно. В случае осады их можно было использовать для обстрела». …Когда наконец наступил ледоход, Вимпер и его компаньон погрузились на байдары, легкие лодки из кожи, чтобы подняться по Юкону, еще забитому льдами. Это был тяжелый переход, требующий изнурительной работы, но он вознаградил Вимпера зрелищем, которое перед ним открыла сама река. «Могу ли я, — говорит приведенный в восторг путешественник и художник, — описать великолепие этой реки, которую мои спутники сравнивали с Миссисипи!» В Нулато, то есть в двухстах лье выше своего устья, Юкон от одного берега до другого имеет ширину более половины лье; чуть дальше он образует лагуны, раскидывающиеся иногда более чем на два лье и усеянные бесчисленными островками. Его длина не меньше поражает воображение. Члены телеграфной экспедиции поднялись по ней на расстояние шестисот лье, и когда они остановились на отдых, то были еще далеки от ее истока; что касается притоков Юкона, то каждый из них в Европе считался бы крупной рекой. Рассматривая этот огромный водный поток, орошающий территорию размером в несколько королевств, Вимпер понял наивную гордость обитателей ее берегов. «Мы не дикари, — сказали они русскому переводчику, — мы — индейцы Юкона!» Забравшись на такое расстояние от Нулато, русские, находя предприятие слишком рискованным, вернулись обратно. Только Вимпер, один из его друзей по имени Долл, хозяин байдары Курилье и два индейца продолжили этот трудный и опасный подъем по реке. В течение трех недель они бесстрашно двигались вперед, и вместе с длинными июньскими днями внезапно наступила жара, вызвавшая бурный рост растительности. Постепенно Вимпер достиг места впадения реки Мелозекаргут[565], и там в тени было 22° Цельсия. Он спустился к Невикаргуту, красивому селению индейцев племени того же названия. Там путешественники пополнили и обновили свои припасы, купили великолепную партию мехов, наняли новую байдару, отдохнули два дня и продолжили плавание, осмотрев мимоходом устья рек Тушекаргут[566] и Танана, селение Нуклукайетт, и прибыли наконец после неслыханных тягот и опасностей к месту слияния Поркьюпайна и Юкона, где находится Форт-Юкон, цель этого нелегкого путешествия. Через пятнадцать дней честно заработанного отдыха, не желая быть застигнутым при сплаве к низовьям Юкона холодами, которые иногда бывают очень ранними, Вимпер дал сигнал к отправлению. Чтобы облегчить основную лодку, он достал еще две, связал цепочкой, и вскоре караван уже спускался по течению со скоростью от тридцати до тридцати пяти лье в день. На лодках установили маленькие палатки, чтобы укрываться от солнечных лучей, и таким образом отправились по течению, без труда, без усилий, лишь время от времени поворачивая штурвал. Остановку делали два раза в сутки, чтобы приготовить еду, и шли днем и ночью. Отважный путешественник без затруднений достиг форта Нулато, потом — морского берега близ острова Святого Михаила[567], где сел на корабль и отправился в Сан-Франциско.ГЛАВА 24
ГРАФ ДЕ РАУССЕТ-БУЛЬБОН
Рассказ, который вы сейчас прочитаете, заимствован из героических времен конкистадоров. Это подлинная история француза, трагически погибшего при попытке возобновить в середине XIX века подвиги Писсаро и Кортеса и чуть было не основавшего империю на развалинах старинных испанских владений в Мексике. Этим французом был граф Гастон де Рауссет-Бульбон[568], которого президент Санта-Анна[569] приказал расстрелять 12 августа 1854 года в Гуаймасе. С внушительной внешностью, гордой походкой, остроумный, храбрый до безрассудства, преданный до наивности, Гастон де Рауссет-Бульбон, охваченный благородными стремлениями, вынужден был вступить в борьбу не только с людьми, но и с подлыми интригами, в которые был втянут, как лев, опутанный сетями. Умея постоять за себя перед людьми, он пал жертвой коварства, в котором мексиканцы, эти индейско-испанские метисы[570], соединившие в себе коварство одних и вероломство других, не знают себе равных. Неординарный характер Гастона де Рауссет-Бульбона с самого нежного возраста позволял увидеть, каким станет взрослый мужчина. Высокомерный, капризный, злой, властный, вспыльчивый, он не мог терпеть принуждения, когда считал, что прав, но вспышки злобы кончались очень быстро, он внезапно опять становился любезным, приятным, ласковым, великодушным, экспансивным и добрым до слабости. Гастон, с колыбели лишенный матери, провел юность в Гаскони у бабки и деда, пока его отец оставался в своем родном Авиньоне. За сложный характер он в семилетием возрасте получил прозвище Волчонок. Не получив однажды удовлетворения своих капризов, мальчик убежал иззамка, и нашли его только к ночи в трех лье от дома. Через два года отец отправил Гастона во Фрайбург к иезуитам[571], надеясь, что их строгость справится с маленьким бунтарем. После первого же наказания Волчонок снова сбежал и провел две ночи в лесу, где его нашли умирающим от холода и голода. Он не желал вернуться в колледж, но его все же отправили туда силой. Там Гастон оставался в течение восьми лет, так и не позволив себя сломить. Ему было чуть меньше семнадцати, когда он покинул воспитательное учреждение. Наказанный за нарушение дисциплины стоянием на коленях, юный гордец предпочел быть исключенным, чем подвергнуться такому унижению. Когда он достиг восемнадцатилетия, отец, человек старого уклада жизни, без сомнения придерживающийся достойных уважения, но устаревших традиций минувшей эпохи, предоставил ему свободу. Этот старик, холодный, сурового нрава, носивший в своем сердце траур по двум королям, не мог жить рядом с таким буйным молодцем, испытывая полную несовместимость во всем. Он дал сыну отчет по опекунству, и тот отправился в Париж. Жизнь кипит в нем. Страстный любитель всяких физических упражнений, неустрашимый наездник, великолепно владеющий шпагой и пистолетом, обладающий приятным голосом и талантом рисовальщика, пишущий даже стихи, он бросился в парижский мир, где красивое, гордое и задумчивое лицо, элегантность и приличное состояние обеспечили молодому человеку отличный прием. Вскоре он был на всех праздниках и начал проматывать свое состояние с очаровательной беззаботностью. Так, в порыве фантазии молодой повеса оставил однажды свою виллу в Отейе, купил пароход и три месяца провел на Сене со скрипками и отличным поваром, взятым из какого-то посольства. Позже он купил дом в Руане, прожил в нем три месяца, вернулся в Париж и устроился в прекрасном особняке на улице Риволи. Стихи, найденные в его бумагах, весьма характерные излияния неуравновешенного юнца, свидетельствуют о лихорадочном состоянии мятущейся души, постоянном беспокойстве, доминанте этого неустойчивого темперамента. В 1845 году, когда графу Гастону де Рауссет-Бульбону было двадцать восемь лет, это постоянное чрезмерное возбуждение, это беспрерывное легкое порхание по жизни стали его утомлять. Как говорят в скверных романах, он вел разгульную жизнь и ему прискучили светские удовольствия. Молодой человек решил сделать что-нибудь полезное и затеял основание колонии в Алжире. Смерть отца, сделавшая Гастона владельцем хорошего состояния, позволила организовать там обширное сельскохозяйственное предприятие. Но хотя Гастон так и не распрощался с любовью к роскоши и склонностью к мотовству, устраивал блестящие охоты на диких животных пустыни, доходящие до эксцентричности, принимал участие в военных экспедициях, в пышных кортежах, он все же преуспел в делах даже тогда, когда события 1848 года его разорили. Хотя революция и унесла большую часть его состояния, молодой граф с энтузиазмом ее приветствовал. Он давно потерял веру в монархию, и новые идеи нашли в нем горячего пропагандиста. Обратив в деньги остатки своего состояния, Гастон де Рауссет поспешил в Авиньон. Дискуссии в клубе, статьи в газете «Либерте», которую он основал и возглавлял в течение года, полные огня и страсти, снискали ему небывалую популярность. Когда этот граф показывался в клубах Воклюза, одетый в черное, в белых перчатках, простые люди криками приветствовали его и сбегались, чтобы видеть и слышать своего кумира. В Авиньоне, как позже в Сан-Франциско или Соноре, выдвигая свою кандидатуру, выполняя грубую ремесленную работу, жестоко сражаясь во главе своих сторонников, он всегда сохранял эту изысканность, которая возвышала его над толпой, всегда оставался джентльменом, независимо от размера своего состояния. К сожалению, Гастон де Рауссет-Бульбон провалился на выборах в Законодательную ассамблею и в 1850 году вернулся в Париж полностью разоренным. Это было то самое время, когда Калифорния многим кружила головы — только и говорили о колоссальных состояниях, нажитых в кратчайший срок бедняками, не имевшими ничего, кроме пары собственных рук. Граф, как его отныне стали называть, сел на английский пароход и высадился 22 августа 1850 года в Сан-Франциско. Поскольку у него не было никаких припасов, то первое время пропитание ему обеспечивал карабин. Затем он сделался рыбаком, потом занялся разгрузкой кораблей, выполняя весело, с достоинством тяжелую работу грузчика и честно зарабатывая на жизнь. Вскоре граф объединился с одним французом, чтобы создать собственное докерское[572] предприятие, которое могло дать значительные доходы, так как большая часть рабочих рук была занята на приисках, когда неожиданная конкуренция убила зарождающуюся отрасль. Тогда компаньоны пригласили третьего и занялись торговлей скотом. Они отправлялись за двести лье за стадом и, пригнав его, продавали животных на мясо в Сан-Франциско. Но еще раз вмешалась конкуренция, убившая торговлю в самом начале. Да, поистине трудно пришлось этому молодцу на золотой земле Калифорнии! Но пока он боролся таким образом с судьбой, в его голове рождались новые проекты и фатально вели его к трагической развязке. Мексика, терзаемая политическими разногласиями, совершенно распалась и территория за территорией входили в состав США. К тому же, с другой стороны, достаточно многочисленная французская эмиграция в Калифорнии, рассеянная, неоднородная, влачила жалкое существование. Объединившись, она могла бы добиться успеха. С этой целью уже предпринимались некоторые попытки, в том числе под командованием виконта Пиндрея, пришедшего в Сонору во главе ста пятидесяти человек. Но Пиндрей был убит, его отряд рассеялся. Замысел де Рауссет-Бульбона заключался в том, чтобы захватить во владение какую-нибудь область страны, прочно обосноваться, привлечь туда эмигрантов и создать зону французского влияния, противодействующую уже опасному американскому вторжению. С этой целью граф договорился с богатым банкирским домом в Мехико и основал компанию «Ресторадора». 17 февраля 1852 года Мексиканская республика уступила этой компании рудники Аризоны, очень богатые, неразрабатываемые из-за соседства апачей. Рауссет-Бульбон, заручившись письменным обязательством генерала Агилара, губернатора Соноры, обязался облегчить разработку и изгнать из провинции наводнивших ее опасных дикарей. Предприятием заинтересовались самые высокопоставленные лица, население Соноры считало его огромным благом, и граф получил официальную поддержку мексиканского правительства. Итак, все шло наилучшим образом. Располагая солидными рекомендациями от чиновников, граф собрал отряд из 270 человек, которые 1 июня 1852 года высадились в Гуаймасе под приветствия местного населения. Но за это время сформировалась конкурирующая с «Ресторадорой» компания и стала претендовать на владение рудниками Аризоны. И во главе этой новой компании, вступившей в борьбу за уже отданные прииски, стояли как раз те, кто поддержал Рауссета при создании «Ресторадоры»! В Мексике, этой классической стране коррупции и вероломства, подобная вещь никого не удивляет. Лица, о которых идет речь, были просто-напросто куплены акционерами новой финансовой компании и, бессовестно поправ закон, не позволили графу с его отрядом выступить из Гуаймаса. Преданному еще и полковником Хименесом, который сопровождал его в качестве представителя компании «Ресторадора», графу оставалось только вытащить шпагу или опозоренным вернуться в Сан-Франциско. Тогда он написал заинтересованным лицам в Мексике срочные письма; надежный человек был отправлен в Сан-Франциско за подкреплением, другой отправился в Масатлан[573] с той же целью, а отряд отступил 23 сентября к Эрмосильо. 29-го он стал лагерем в Сан-Лоренсо и на следующий день — в Маделене, где каждый год происходили большие праздники, которые позволили французам устанавливать связи со всей Сонорой. Рауссет получил уведомление, что ему грозит обвинение в мятеже; но одновременно ему было сделано предложение от имени местных властей северных поселений штата, ожесточившихся против своего правительства, которое отдало индивидуальным предприятиям деньги, предназначенные для охраны Соноры от индейцев. Чувствуя себя уверенно с внезапно предложенной ему поддержкой, обещающей гарантию материального благополучия, Рауссет-Бульбон, к тому же подталкиваемый его людьми, больше не колебался. Он форсированным маршем отправился на юг с отрядом в двести пятьдесят три человека, из которых сорок два были на лошадях; артиллерия, обслуживаемая двадцатью шестью людьми, почти все моряки, имела два камнемета и два бронзовых орудия малого калибра. Эта маленькая, плохо одетая, но хорошо обученная, хорошо вооруженная армия, управляемая отважными командирами, продвинулась к Эрмосильо. Ступая почти босыми ногами, бравые солдаты прошли за семь дней пятьдесят две испанские лиги, или около трехсот семидесяти километров[574]. Эрмосильо с 12 000 душ населения, защищенный укрепленным мостом и стенами, обороняемый индейцами, национальными гвардейцами и регулярными войсками, послал парламентеров к Рауссету, чтобы с кастильским хвастовством заставить его отойти. Тот пожал плечами, вытащил часы и холодно сказал: — Сейчас восемь часов; через два часа я атакую город; через три часа буду в нем хозяином. Вот что он сделал. Город, атакованный с десяти точек с невероятной отвагой, был захвачен. У Рауссет-Бульбона было убито семнадцать человек и двадцать пять ранено. Мексиканцы потеряли около двухсот и оставили в руках победителя много имущества и пленных. Эта победа, получившая в Старом и Новом Свете огромный резонанс, была, против всех предположений, бесплодной. Влиятельный человек, который должен был послать мексиканским союзникам сигнал к восстанию, обманул ожидания. Там ждали напрасно, и в момент, когда Рауссет начал действовать самостоятельно, его сразила болезнь, возможно от яда. Армия тихо отошла к Гуаймасу; умирающего графа унесли на носилках. За три недели, которые потребовались для его выздоровления, мексиканское правительство сумело организоваться, и всякая помощь стала невозможной; Рауссет вынужден был вернуться в Сан-Франциско, где его восторженно приняли. Тем временем со всех сторон вспыхнуло восстание, но слишком поздно. Генерал Санта-Анна, который только что снова захватил власть, призвал графа в Мехико, обещал ему исправить несправедливость своих предшественников, попросил у него карту, осыпал ласковыми словами и отложил до бесконечности выполнение своего обещания. Заключается первый договор и аннулируется под ничтожным предлогом; Рауссет теряет терпение; тогда ему предлагают полк в мексиканской армии. Он гордо отвечает, что просил не милости, а справедливости. Санта-Анна рассердился, и не менее рассерженный на диктатора граф учинил против него заговор вместе с недовольными генералами. Его собирались арестовать, но француз, вовремя предупрежденный, ускользнул. После возвращения в Сан-Франциско он занялся вербовкой новых сторонников для второй экспедиции, нашел капиталы и приготовился для нового десанта в Сонору. В разгар этих хлопот Рауссет узнал, что Санта-Анна продал Сонору американцам. Это перевернуло все его планы. Но и это еще не все, судьба угрожала ему другими и более страшными разочарованиями. Один негодяй, которому он доверил свою переписку с участвующими в его заговоре генералами, предал его и передал все письма диктатору. Рауссет тотчас был объявлен вне закона, и сразу же были аннулированы договоры, заключенные с акционерами его будущей компании в Соноре. Но тем не менее он решил бороться до конца, надеясь, что переворот, который произошел в Эрмосильо, поправит его дела. С большим трудом он смог собрать 300 человек, преодолел с ними 800 лье, отделяющие его от Гуаймаса, сумел ускользнуть от крейсеров и в момент, когда его собрались арестовать в Сан-Франциско, высадился в Соноре. Он нашел спокойно обосновавшихся в казарме Гуаймаса нескольких своих соратников, опередивших его. Город был абсолютно спокоен, и мексиканские отряды проявляли явную симпатию к французам. Но эта гармония недолго длилась. Графу довелось вести дела с преемником генерала Ианеса, тот сначала был очень любезен, но самые абсурдные, умышленно распространяемые наветы привели к возникновению частых и бурных ссор. Несколько французов было убито, а другие, атакованные на виду у всех, были вынуждены защищаться от мексиканских солдат, прибывших из глубины страны для укрепления гарнизона. Наконец наступил момент, когда уже нельзя было бездействовать, и Рауссет, видя, в какой постоянной опасности находятся его соратники, отдал приказ атаковать казарму, чтобы предупредить события. Несмотря на стремительность яростной атаки и сверхчеловеческую отвагу, маленький отряд, страшно поредевший, был разбит. После трехчасовой битвы, в которой он потерял сто человек из трехсот, Рауссет, окруженный многотысячным противником, был схвачен. Отправленный во французское консульство, он был помещен вместе со своими соратниками под надзор вице-консула Кальво. Потом начались переговоры между последним и генералом, который в конце концов согласился сохранить жизнь всем пленным французам. Спустя час они были разоружены и заключены в городскую тюрьму. Что касается графа, то в тот же вечер его забрали из консульства, передали суду военного трибунала и приговорили к смерти, несмотря на протест консула! Мексиканский капитан, которого он когда-то брал в плен в Эрмосильо и с которым обращались очень уважительно, пытался защитить его перед трибуналом, призвав на помощь все свое красноречие. Все было напрасно. — Я слишком беден, — сказал ему Рауссет, пожимая руку, — чтобы достойно вознаградить ваши усилия… Соблаговолите принять от меня этот скромный сувенир… Это самое ценное из того, что у меня есть. И он надел ему на палец свое кольцо, старинную семейную драгоценность, с которой никогда не расставался. Граф выслушал без видимого волнения приговор, написал весточку своей семье, составил завещание и мужественно стал ждать рокового момента. Двенадцатого августа 1854 года полковник вошел в его камеру, где он спал глубоким сном. Было пять часов утра. — Это произойдет сегодня, месье граф, — сказал он, приветствуя заключенного. — Сейчас? — У вас есть один час. — Хорошо! Рауссет-Бульбон тщательно привел себя в порядок, причесал бороду и свои прекрасные волосы, надел чистое белье и твердым шагом отправился на место казни, обмахиваясь соломенной шляпой, поскольку уже было очень жарко. Он прислонился к стене, выронил шляпу, распахнул рубашку на том месте, где билось его сердце, и приказал стоящим перед ним солдатам: — Ну что же, храбрецы, выполняйте свой долг: огонь! Потрясенные его удивительным спокойствием, солдаты волновались, стреляли не целясь и промахнулись!.. Он остался стоять, прямой, гордый, среди дыма. Многочисленная толпа закричала: «Пощады!..» Несколько женщин упали в обморок. Бросились к губернатору и получили от него приказ — «кончать». Раздался второй залп, и французский граф Гастон де Рауссет-Бульбон упал замертво. Ему было тридцать семь лет.ГЛАВА 25
ГАРИБАЛЬДИ
О личности Гарибальди по-разному судят люди, принадлежащие к различным политическим партиям. Но следует напомнить, хотя политика тщательно изгнана из этого повествования, что мы, французы, никогда не забываем, что итальянский патриот любил Францию и пришел ей на помощь в скорбные часы вражеского нашествия. Именно поэтому память о нем всегда будет дорога нам, и мы считаем своим долгом посвятить героическому партизану несколько взволнованных строк, как цветок, уважительно положенный на могилу друга, который, как известно, собрал свои первые армии в Америке. Гарибальди родился в Ницце 4 июля 1807 года[575] в семье моряка и с детства проявлял склонность к активной жизни. Сначала его прочили в торговый флот, но он вступил в партию «Молодая Италия», устраивал заговоры, был в изгнании, потом окончательно обосновался в Южной Америке, где не без основания считал, что сможет плодотворно использовать свою энергию и активность. Это было в 1836 году[576]. Ему тогда было двадцать девять лет. Надо было жить. Гарибальди, прибыв в Рио-де-Жанейро, нашел нескольких соотечественников, изгнанных как и он, и смог с их помощью купить маленький корабль, на котором совершал каботажные плавания из Рио в Кабу-Фриу. Скромная торговая деятельность длилась девять месяцев. В это время республиканское движение стало особенно массовым в штате Риу-Гранди-ду-Сул[577]. Его руководителем был Бенту Гонсалвиш да Силва. Уступив настояниям своих соотечественников, Гарибальди предоставил помощь и свой корабль Гонсалвишу да Силва, который принял их с благодарностью. Маленький корабль был тайно вооружен и, едва покинув Рио-де-Жанейро, поднял флаг новорожденной республики. Гарибальди стал ее частью. Для начала он захватил большую палубную лодку, которая значительно увеличила морские силы восставших. Ему тотчас поручили командование всеми морскими силами, если только можно так назвать два или три жалких каботажных суденышка, вооруженных несколькими пушками малого калибра. Гарибальди сумел быстро увеличить свой флот за счет мелких судов, находящихся в окрестностях; он укрыл их в озере Патус и посадил на них итальянцев, быстро обучившихся навигационным маневрам, обращению с оружием и специальной тактике абордажа. С тех пор легендарный итальянец непрерывно и неустанно вел борьбу с врагами партизанскими методами, в которых он был большим мастером. Однажды на суше, когда он стоял один на посту, его атаковал отряд кавалеристов. Гарибальди был окружен, но разрядил в осаждающих все оружие, которое находилось в его распоряжении; одежда была продырявлена ударами пик, но он казался неуязвимым. На шум этой неравной битвы прибежали матросы, по счастью находившиеся неподалеку, чтобы помочь командиру. Их было только тринадцать против шестидесяти бразильцев. Они дали отпор, несмотря на их малочисленность, с такой энергией, что осаждающие отступили. Провоевав внутри огромной бразильской империи, Гарибальди был заблокирован на озере Патус с двумя из своих кораблей бразильским императорским флотом. Поскольку совершенно невозможно было пройти по фарватеру и он не хотел потерять свои корабли, то Гарибальди задумал следующую экспедицию, настолько же дерзкую, насколько оригинальную. Он приказал своим морякам построить грубые, но очень прочные дороги и приспособил их для рам, пропущенных под кили кораблей еще под водой. Сделав это, он запряг по две сотни быков в каждый корабль и протащил их через лес на расстояние двенадцать лье до маленькой речки Капиори, а оттуда провел корабли в океанский залив. Достигнув лагуны, он дождался подходящего момента, чтобы возобновить борьбу. Именно тогда, воспользовавшись временным бездействием, он смог наконец-то удовлетворить нежное стремление своего сердца, взяв в жены юную дочь этой страны, знаменитую Аниту, которая стала затем неразлучной подругой во всех его делах[578]. Достойная подруга героя, которого она выбрала, Анита последовала за суженым на корабль, когда началась самая острая и ожесточенная борьба. Императорский флот вошел в лагуну. Гарибальди сопротивлялся с неукротимой энергией против десятикратно превосходящих сил. Потом, когда потерял половину своих людей, увидел, как вокруг него упали двенадцать офицеров, а его корабль, изрешеченный ядрами, грозил пойти ко дну, он сумел спастись, бросившись в шлюпку вместе с женой и оставшимися в живых сподвижниками, и добрался до берега. Флот был разбит, но борьба продолжалась на суше с неслыханным упорством. Через некоторое время произошел скорбный эпизод, героиней которого стала храбрая спутница Гарибальди. Однажды с горсткой людей он атаковал пятьсот солдат императорских войск. Как всегда, Анита держалась около него верхом на лошади в самой гуще боя. Превратности яростной битвы разлучили ее с супругом. Она очутилась в центре толпы неприятелей, требовавшей, чтобы она сдалась. В ответ она вонзила шпоры в бока лошади, та бешеным скачком вынесла ее. Анита открыла огонь из пистолета и прошла сквозь скопище врагов как смерч. Шквальным огнем пытались прервать это дерзкое бегство. Бесстрашная наездница осталась целой и невредимой; пуля пробила ее шляпу и срезала прядь волос, но смертельно раненная лошадь споткнулась, рухнула и увлекла всадницу за собой. Злоба и сердечная боль, когда она увидела себя плененной и разлученной, может быть надолго, с Гарибальди, заставили ее решиться на побег, смелость которого обескуражила врагов. Уверенная, что ее супруг жив — его не нашли на поле битвы, — она воспользовалась моментом, когда никто не обращал на нее внимание, вскочила на взнузданную лошадь и ускакала на ней в лес, чтоб никто не смог и не осмелился ее преследовать, проделала через запутанные заросли двадцать лье, без пищи, в одежде, превращенной колючками в лохмотья, и после нескольких дней невыразимых тревог нашла убежище в маленькой колонии. Через несколько месяцев она родила своего старшего сына Менотти, у которого на голове был шрам, образовавшийся, говорят, при падении его матери с лошади в описанном нами драматическом эпизоде. К 1843 году Гарибальди решил покинуть Риу-Гранди. Война за убеждение переродилась в конфликт личных амбиций, и это не отвечало никоим образом его идеалам республиканизма. Составив план, он погрузился на корабль и отправился в Уругвай, разоренный тогда аргентинскими бандами. Принятый как освободитель, он, не мешкая, встал во главе флота и, потерпев сначала неудачу из-за малочисленности личного состава, все же сумел прорвать блокаду Монтевидео. Поскольку на море ему больше нечего было делать, он принял на себя командование итальянским легионом, который вместе с французским, возглавляемым полковником Тибо, пришел на помощь молодой республике. Вспомнить подробно вылазки, безнадежные атаки, беспорядочные перестрелки, в которые постоянно ввязывался этот непобедимый легион — это значит начать славную, но бесконечную повесть. Тем не менее стоит рассказать об одном блестящем военном эпизоде, взятом наугад из сотни других, не менее замечательных. Посланный за три сотни лье, чтобы выбить противника, присутствие которого беспокоило целую страну, Гарибальди всего лишь с восемьюдесятью четырьмя итальянскими легионерами и пятьюдесятью всадниками в течение восьми часов сражался против полутора тысяч человек, не уступая ни дюйма земли. Когда пришла ночь, маленький отряд героического партизана уменьшился наполовину! Оставшиеся в живых, падающие с ног от усталости, едва добрались до Сальто, где Гарибальди устроил свою штаб-квартиру. Раненых посадили по двое, по трое на лошадей, которых смогли найти, и до предела измученные товарищи вынуждены были поддерживать их с двух сторон. Наконец 8 февраля 1846 года они прибыли в Сальто. В честь этой славной победы правительство Уругвая приказало написать эту дату золотыми буквами на знамени легиона. Французский адмирал, комендант корабельной стоянки Рио-де-ла-Плата, счел за честь адресовать поздравительное письмо итальянскому патриоту, в котором говорилось, что «такие подвиги бросают новый отблеск на солдат великой армии Наполеона». Когда Гарибальди вернулся в Монтевидео, выполнив свою миссию, правительство присвоило ему звание генерала. Итальянский патриот скромно отказался от этой чести, но позже вынужден был согласиться по просьбе общества. Кроме того, ему предложили земли и стада для него и его легионеров. Он ответил просто, что итальянцы в Монтевидео взяли в руки оружие, повинуясь только зову свободы. Он наотрез отказался от всякого вознаграждения. Как видно, его храбрость равна его бескорыстию; лучше не скажешь, и хорошо, что это известно. Вскоре он вернется в Италию, куда его позвали письма друзей и где в течение более двадцати лет будет играть весьма значительную роль.ГЛАВА 26
АЛЕКСАНДР ФОН ГУМБОЛЬДТ И ЭМЕ БОНПЛАН
Фридрих Генрих Александр барон фон Гумбольдт родился в Берлине 14 сентября 1769 года. Он происходил из богатой и знатной померанской семьи[579]. Его отец, военный врач прусской армии, умер совсем молодым, отличившись в Семилетней войне. Мать была бургундка по происхождению. Юный Александр до четырнадцати лет воспитывался в замке Тегель около Берлина и проявлял такие способности к наукам и трудолюбие, что изумлял всех своих близких. «Среди причин, — говорит он, — которые могут привести нас к изучению естественных наук, мы можем назвать случайные и кажущиеся мимолетными впечатления юности, которые часто решают всю нашу дальнейшую судьбу… Если бы меня попросили сказать, что внушило мне мысль отправиться в тропические районы, я назвал бы прекрасные описания островов Южного моря, сделанные пером Георга Форстера[580]». Уроки одного из его самых любимых учителей, Йоахима Кампе, автора «Немецкого Робинзона»[581], придали большую отчетливость его детским мечтам и определили дальнейшую судьбу ученого. Воображение и любовь к природе развивались в ребенке, соперничая с горячей любовью к науке, благодаря домашнему образованию, данному Христианом Кантом, членом Академии наук и государственным советником Пруссии. Когда Александр достиг четырнадцатилетнего возраста, его вместе с братом Вильгельмом[582] отправили завершать образование в Берлин. С 1786 по 1788 год он учился в университете Франкфурта-на-Одере, а затем отправился в Геттинген, где занялся, можно сказать, исступленно изучением филологии, истории, анатомии, физиологии и естественных наук. Совсем еще юный, он обладал уже обширными знаниями, и его имя получило известность в научных кругах. В конце 1790 года, после путешествия в Англию и Голландию, Гумбольдт отправился в Гамбург изучать языки вместе с Бушем и Эбелингом. Вскоре его мать, встревоженная тем, что сын слишком долго не был дома, вознамерилась приучить его к оседлому образу жизни, для чего отправила сына учиться в Горную академию во Фрейберг для усовершенствования знаний по геологии. Академию Гумбольдт окончил через год и был назначен в 1792 году горным асессором и обер-бергмейстером франконских[583] княжеств и маркграфства Байройт. В 1796 году умерла мать. Глубокая сыновняя привязанность до того времени заставляла скрывать, как тяготили его необходимость сидеть на одном месте и невозможность реализовать давно выношенные в душе проекты. Отныне, оставшись один, Александр Гумбольдт продал свои владения в Пруссии и отправился в Париж. Радушно принятый учеными, составлявшими гордость этой лихорадочной эпохи, работая бок о бок с Араго[584] и Гей-Люссаком[585], очень уважаемый за свои обширные знания, он легко добился от Директории разрешения присоединиться к экспедиции капитана Бодена, который собирался предпринять кругосветное плавание. Именно там он познакомился с Эме Бонпланом[586], который должен был сопровождать капитана Бодена в качестве натуралиста. Этой экспедиции помешали войны в Германии и Италии. Видя, что их планы рухнули, ученые отправились в Испанию, надеясь оттуда попасть в ее южноамериканские владения. Это был конец 1798 года. Бонплан родился в Ла-Рошели 22 августа 1773 года и, следовательно, был на четыре года моложе Гумбольдта. Он служил военным хирургом в республиканском флоте, но к тому времени, когда судьба свела его с прусским ученым, ставшим затем его неразлучным другом, уже оставил службу и был свободен. Прекрасно принятые испанским правительством, натуралисты получили все желаемые разрешения и даже возможность бесплатно переправиться на фрегате «Писарро», который отправился из Ла-Коруньи 5 июня 1799 года. Посетив Канарские острова и совершив классическое восхождение на пик Тенериф[587], они прибыли 16 июля в порт Кумана[588], столицу страны, которую тогда называли Новой Андалузией. Друзья провели несколько недель в Кумана, собрали ботанические коллекции и проверили приборы. Первым результатом этой проверки для Гумбольдта было точное определение положения Кумана по широте и долготе посредством астрономических наблюдений. До того времени этот город на картах находился по меньшей мере на полградуса южнее. Бонплан, страстный ботаник, восхищенный пышностью флоры, собрал гербарий, накопив настоящие сокровища, пока Гумбольдт с его универсальным образованием и ненасытной жаждой знаний изучал все, что попадало в его поле зрения: землю, людей, животных. Из Кумана оба друга, умножая свои труды и производя многочисленные метеорологические наблюдения, отправились в Ла-Гуайру[589] вдоль побережья и прибыли в Каракас в январе 1800 года. Они пробыли там некоторое время и, пройдя по многим инстанциям, увеличили и без того уже большой численный состав экспедиции. Из Каракаса ученые отправились в Пуэрто-Кабельо, вскарабкались на горы, сжимающие долины Арауки, и достигли заросших травой равнин, местами покрывавших огромные пространства, известных под названием льяносов. Они приближались к Ориноко. Именно в степных реках Венесуэлы натуралисты впервые увидели электрических угрей, рыб с такими необычными и опасными свойствами. Отсюда они добрались до одного из притоков Ориноко Апуре и по нему спустились в индейской пироге. Путешествие становилось все более трудным, мучили лихорадка, надоедливые тучи комаров, лишения, утомление. Продолжая неустанно свои исследования, друзья смогли проверить гипотезу, выдвинутую Буашем четырьмя годами раньше, относительно сообщения между Ориноко и Амазонкой. Они отправились по Риу-Негру, притоку Амазонки, проследовали по ней на сотню лье и обнаружили на левой стороне приток, направляющийся на север, поднялись по его течению и после долгого и утомительного плавания вошли непосредственно в Ориноко. Этим природным каналом была река Касикьяре, которая действительно соединяла две огромные американские реки, вытекая из Ориноко в трехстах километрах от ее истока и впадая в Риу-Негру, приток Амазонки. Это плавание длилось семьдесят пять дней в индейской пироге как по Ориноко, так и по Риу-Негру и Касикьяре. Оттуда друзья направились к побережью, но не смогли идти дальше из-за английской блокады, прервавшей всякую связь с морем. Они были вынуждены ждать два месяца с августа по октябрь и отправились в Гавану, куда прибыли в конце года. Здесь ученые надеялись присоединиться к экспедиции капитана Бодена, чтобы вместе с ней обогнуть мыс Горн, пересечь Тихий океан и достичь Австрало-Азиатского архипелага. Поняв, что этот проект никоим образом нельзя осуществить, друзья решили вернуться в Южную Америку и в Картахене сели на корабль. Гумбольдт хотел дополнить как можно более подробным орографическим[590] исследованием результаты своей предыдущей кампании, носившей главным образом гидрографический характер. Верный Бонплан продолжил бы свои ботанические исследования и, как всегда, оказал бы начальнику экспедиции ценную помощь своей увлеченностью, гуманной философией и крепкой дружбой. Из Картахены в Боготу друзья решили отправиться по реке Магдалене. Они любовались по пути одним из самых красивых, после Ниагарского, водопадом Текуандана, от которого поднималась колонна водяной пыли, видная из Боготы. Ученые посетили горную цепь Киндио[591], вулкан Попаян[592], Парамо[593] д’Альмагер, плато Лос-Портос и 6 января 1802 года прибыли в Кито. Здесь они в два приема взобрались на вершины Пичинчи, возобновили свои опыты по определению состава воздуха, электрическим, магнитным и физиологическим явлениям, поднялись на малоизученные вершины вулкана Котопахи[594] и пять месяцев провели в Кито, оттуда отправлялись в разные стороны на поиски исторических документов, собираемых со страстью истинных исследователей. Следующим местом их паломничества стала Лима, откуда путешественники морем приплыли в конце декабря 1802 года в Гуаякиль, добрались до Акапулько и, пройдя через Таско и Куэрнаваку, прибыли в апреле в город Мехико. Ученые более года прожили в этой любопытной стране, которая тогда называлась еще Новой Испанией, а вскоре вернула свое исконное название — Мексика. Среди прочих они посетили рудники Морана[595], единственный порог Реглы[596], совершили восхождение на вулкан Хорульо[597], один из интереснейших в Новом Свете, потом на Толуку[598] и Пероте[599], отсюда проследовали до Халапы, потом до Веракруса, откуда морем отправились на Кубу. С Кубы они перебрались в США, потом вернулись во Францию 9 июля 1804 года. Это прекрасное путешествие, такое плодотворное по всевозможным результатам, и до того времени единственное в летописи науки, длилось без перерыва почти пять лет! Гумбольдт привез материалы для своего бессмертного труда «Путешествие в экваториальные районы», гениальный памятник стиля и эрудиции, делающий честь не только его Родине, но и человечеству, поскольку этот ученый, величайший ум которого вмещал в себя невероятно разносторонние знания, был еще и хорошим поэтом. «Наука будет неполной, если она не сможет нравиться по форме и вызывать желание читать», — напишет он однажды, и никто лучше, чем он, не обладал этим ценным даром блестящего стилиста, такого редкого у ученых. Гумбольдт долгое время жил во Франции, хорошо знал и любил французское общество, наши обычаи и язык и оплакивал (редкое и ценное явление для неэмоциональных пруссаков) беды нашей страны. Он обладал великолепным чувством языка, к тому же прекрасно писал на французском, лукаво говоря по этому поводу: «Когда сущность вещей суха, я чувствую, что мои фразы становятся тевтонскими». В 1829 году, хотя ему было уже шестьдесят лет, Гумбольдт без колебаний предпринял большое путешествие с целью исследования Центральной Азии, продлившееся не менее шести месяцев, во время которого он легко переносил все тяготы нелегкого пути. Он вернулся в Берлин, где окончательно обосновался, и занялся публикацией великолепной научной энциклопедии «Космос», известной и признанной во всем мире. Александр Гумбольдт умер в 1859 году, дожив до девяноста лет в славе и почестях, через год после своего друга Бонплана, в жизни которого было столько тяжелых и бурных событий. А теперь в нескольких строках расскажем о жизни верного соратника знаменитого автора «Космоса». Бонплана назначили управляющим замка «Мальмезон», его заботам были поручены сады и оранжереи императрицы Жозефины. Он жил как простой и добрый человек, страстно влюбленный в естественную историю, среди обожаемых им растений, любимый всеми и особенно уважаемый Наполеоном, ценившим его непреклонную честность, общеизвестное бескорыстие и страстную привязанность. После смерти той, которая была императрицей Жозефиной, доброй, нежной креолки, безжалостно пожертвованной интересам династии, после окончательного падения империи Бонплан, раненный в самое сердце невзгодами, обрушившимися на его благодетелей, захотел вернуться в Америку, хотя не испытывал нужды, и правительство режима Реставрации оставило ему пенсию, назначенную императором. В 1816 году в Гавре ученый сел на корабль, идущий в Буэнос-Айрес. В этом городе он прожил некоторое время, даже занял место профессора и преподавал естественную историю для многочисленных и усердных слушателей. Но бедный ученый, забравшийся в такую даль в поисках спокойствия, не смог найти его. Против него, человека в высшей степени доброго и безобидного, начали затеваться мелкие дрязги, он предпочел ретироваться и подал в отставку, чтобы вернуться к милой его сердцу жизни ботаника, блуждающего среди красот американской флоры. Бонплан поднялся по Паране и поставил своей целью посетить провинцию Санта-Фе, Гран-Чако, а также Боливию, когда безжалостная судьба привела его на территорию, оспариваемую Парагваем и Аргентинской конфедерацией[600]. Он, очевидно, чувствовал себя в безопасности, когда произошел инцидент, полностью разбивший его жизнь. В это время Парагваем управлял Франсиа[601], образец тирана, недоверчивое животное, автократ, недоступный для добрых чувств, для сантиментов; лишенный всякого интеллекта, он терроризировал маленькую республику и запер ее, как монастырь. Франсиа видел в натуралисте шпиона на содержании у своих неприятелей, или, как он говорил, авантюриста, покушающегося на монополию Парагвая на траву-мате, или местный чай. 3 декабря 1821 года он приказал отряду из четырехсот человек ночью переправиться через Парану. Солдаты неожиданно напали на маленький мирный отряд ученого и яростно атаковали его. Некоторые слуги были убиты, другие ранены, а Бонплан получил удар саблей по голове, который едва не стоил ему жизни. Против всякого права и справедливости, поскольку земля, на которой он находился, была по меньшей мере спорной, Бонплан был уведен в кандалах в Санта-Марию, в полудикую местность в середине парагвайской территории. Несмотря на его протесты и просьбы, Франсиа упрямо отказывался увидеться с ним и продержал ученого у себя на виду около десяти лет на ограниченном пространстве, откуда тот не мог уйти под страхом смерти! Без каких-либо средств Бонплан сумел своим трудом и терпеливой находчивостью поддерживать свое скудное существование и в конце концов даже сумел улучшить его, занимаясь врачеванием, приготовлением лекарств и давая людям, живущим по соседству под строгим надзором диктатора, агрономические советы. Его доброта, милосердие, мягкость были неисчерпаемы, и имя ботаника осталось у бедняков Парагвая священным и почитаемым, как настоящего апостола. Незаконное лишение свободы Бонплана вызвало возмущенный протест в ученом мире, но напрасно император дон Педру[602] вступился за него, напрасно Шатобриан, тогда министр иностранных дел, просил предоставить узнику свободу, а один добросердечный француз месье Грандуар передал самому страшному Франсиа коллективную просьбу членов Французского Института[603] об освобождении Бонплана. Все эти инстанции добились только одного: его тюрьма стала еще более тесной, а заключение более тяжким. Ах! Если бы Бонплан был английским гражданином! И вот животное, называющее себя Верховным, терроризирующее маленькую республику, уже видит британский флаг, развевающийся на гафеле[604] крейсера, слышит рев ядер и вынуждено открыть двери тюрьмы! Двенадцатого марта 1829 года его превосходительство Верховный, посоветовавшись с Боливаром[605], соизволил сообщить Бонплану, что тот свободен. Бедный ученый готовится к отъезду и прибывает на границу. Но это еще не конец, поскольку Франсиа не хотел выпустить свою добычу. Невольника еще допрашивают, на него давят, пытаются запугать, заставить признаться, что он шпион Франции или Аргентинской республики. И вот в нищете прошло еще двадцать тревожных месяцев, прежде чем Бонплан смог покинуть проклятую территорию. Его карьера была сломана, состояние потеряно, пенсия вычеркнута из книги государственных долгов. Он не получил никакого возмещения. У правительства времен Реставрации[606], казалось, были более важные дела, чем забота о старом слуге наполеоновской империи, и оно как бы даже не обратило внимания на то, что самодурство парагвайского тирана наносило оскорбление самой Франции. Бедный, старый, уставший, одинокий ученый не захотел вернуться в Европу. Он нашел себе убежище на левом берегу реки Уругвай, в бразильском городке Сан-Боржа, где обосновался, занимаясь наукой и оказывая беднякам медицинскую помощь. Вдали от мирской суеты, окруженный любовью, он позволил себе спокойно стареть среди цветов и птиц… Французский путешественник Демерсей, проезжая по стране, посетил его в 1851 году и в следующих выражениях описал свою встречу с ним: «Пробыв несколько часов под непрерывным дождем, я больше походил на бандита, чем на географа, выполняющего важное поручение; мои огромные высокие сапоги, пропитанные водой, спускались винтом на пятки, где болтались большие железные шпоры. Пончо[607], похожее на то, что носят негры, выпачканное красноватой глинистой грязью, едва прикрывало плечи; обязательная сабля била по ногам. Французский слуга, сопровождавший меня, походил на калабрийского[608] разбойника и вполне мог напугать своим видом нашего хозяина. Но было достаточно нескольких слов, чтобы в глазах Бонплана, пристальных и удивленных, появилось другое выражение. Вечером я остановился в его доме, и через несколько часов мы стали друзьями, как будто были знакомы лет двадцать…» Добрый обаятельный старик, тогда восьмидесятилетний, но полный жизни, бодрости и веселья, по-отечески принимал французов, приехавших повидаться с ним. Удивительная память позволяла ему воскресить в обстоятельных и полных очарования беседах все подробности его удивительной жизни, охватывающей три четверти века, и наполненной невероятными событиями. Он тихо умер 11 мая 1858 года бедным, заброшенным, но все-таки счастливым в стране солнца и цветов[609].ГЛАВА 27
ДОКТОР КРЕВО
Написав имя этого несчастного путешественника, трагически погибшего в полном расцвете сил, славы и таланта, понимаешь, какой трудной и болезненной для автора становится задача рассказать об этом человеке. Исчезновение этой личности, такой верной, такой откровенно симпатичной, было для него тем более жестоко, что он лично мог оценить выдающиеся качества Жюля Крево во время длительного переезда из Франции в Гвиану. Крево отправлялся в третье путешествие вместе со своим храбрым другом Лежанном, выдающимся фармацевтом. Случай соединил нас на борту, и в течение трех недель мы почти не разлучались. И к страшной боли, которую мне причинила его смерть, как французу, как приверженцу науки и гуманизма, добавляется простая человеческая жалость к товарищу, ставшему другом, так трагично закончившему свою прекрасную жизнь. Теперь послушайте короткую биографию этого сердечного человека, хорошего француза и пламенного патриота. Жюль Крево родился в Лоркине (департамент Мерт) 1 апреля 1847 года. Бретонец, ставший лотаринжцем[610], у которого война 1870 года, как говорил он, вырвала кусок сердца. Блестяще выдержав экзамены на бакалавра, Жюль после года изучения медицины в Страсбурге приехал в Брест, в школу морских медиков. «Именно там, — пишет Лежанн, который предоставил нам собранные им ценные документы, — я познакомился с ним в 1867 году, и мы стали товарищами по учебе. В нашу школу его привлекли желание посетить малоизученные районы, уверенность, что удастся посмотреть мир; одним словом, это были опасности и волнения морской жизни, ибо он любил опасности, и можно сказать, что они были егостихией». Жюль Крево был маленький, коренастый, необычайно энергичный, с высоким лбом и пламенем в глазах. Привычка больше задавать вопросы, чем говорить самому, выдавала в нем человека жадного к знаниям. «Он был прекрасным товарищем, — продолжает Лежанн, — и я не могу себе представить, чтобы Жюль когда-нибудь мог кому-то отказать в услуге. Крево обладал острым умом и веселым нравом; его речи, точные, остроумные, никогда не были злыми». Назначенный помощником врача, 24 октября 1868 года, он начал свою карьеру на транспортном судне «Церера» и смог бросить взгляд на наши колонии в Сенегале и на Антильских островах. В момент, когда разразилась война 1870 года, Крево, отчаявшись после первых неудач, кипел нетерпением и давно уже искал случая найти применение своей отваге и горячему патриотизму. Наконец он смог добиться назначения в четвертый морской батальон в Шербуре. Во Фретвале[611] этот батальон был истреблен, его командир убит и Крево взят в плен, когда ухаживал за ранеными. Молодой медик, сумев убежать, отправился в Бурж[612], где поступил в распоряжение военного министра и предложил себя для самых трудных, самых опасных поручений. Гамбетта[613], хорошо разбиравшийся в людях, оценил его смелость и преданность и отправил с приказами сначала в Орлеан, занятый неприятелем, потом в осажденный Салин. Раненный в Шаффуа 24 января 1871 года пулей в правую руку, доктор вернулся на свой пост в морские батальоны и покинул их в апреле, чтобы вернуться в Брест. Двадцать восьмого октября 1873 года Крево получил должность врача второго класса, взошел на борт «Ламот-Пакета», с экипажем которого участвовал в кампании на Южной Атлантике, и стал на якорь в Ла-Плате, которую в следующий раз увидел снова только для того, чтобы там умереть. По своем возвращении во Францию он представил в Геологическое общество наблюдение, доказывающее, что его проницательность распространяется не только на медицинские материи. С давних пор рассматривали отполированные и покрытые бороздками огромные каменные блоки в пампасах Аргентины как эрратические валуны[614], перенесенные ледником. Ему не составило труда доказать, что эти камни по своему составу не отличаются от местных пород и должны быть отполированы и изрезаны на месте мощными потоками воды, с огромной скоростью перемещавшей бесчисленные обломки. Безапелляционным аргументом стало то, что некоторые из них даже не отделены от материнской породы, и доктор Крево постарался сфотографировать их. В 1876 году он выдержал конкурс на звание врача первого класса. С давних пор все его мысли были обращены к Гвиане. Ученый знал, что вот уже двести лет многочисленные путешественники напрасно пытались проникнуть в район предполагавшегося расположения знаменитого Эльдорадо, к горам Тума-Хума, от которых воды оторвали горстку крупинок, таких желанных для старателей. Почему бы ему не попытаться сделать то, чего до сих пор никто не смог? Ни у кого не было больше, чем у него, энтузиазма и священного огня. Он молод, хорошо закален как физически, так и морально, налицо все благоприятные условия. «Что еще надо? — продолжает его биограф Лежанн. — Немного денег». На помощь пришла колония. Его снаряжение было минимальным. Стараясь не обращать на себя внимание, он имел больше шансов пройти. Путешественник уже собирался отправиться в путь, когда на острове Салю разразилась эпидемия желтой лихорадки и потребовала его присутствия. Преданность доктора своим больным, хладнокровие перед страшным бедствием были вознаграждены крестом Почетного легиона. Болезнь настигла его одним из последних, едва не погубив. Чуть поправившись, Крево вернулся к своим проектам и начал готовиться к отъезду. 9 июля он оставил Кайенну и поднялся по Марони до страны племени бони[615], где нашел красивого могучего негра[616] Апату, ставшего его постоянным и преданным спутником. Экспедиция достигла гор Тума-Хума ценой таких тягот и лишений, что вздрогнешь, подумав о них. Потом они спустились по Жари до Амазонки, совершили одно из самых невероятных путешествий, о котором когда-либо слышали в этом районе, хотя сначала даже старые гвианцы отказывались верить в его успех. А теперь дадим слово самому путешественнику, чтобы сохранить всю прелесть его повествования. «…Один взгляд на карту, — сообщает Крево, — и становится ясно, что низовья Жари, как и гвианских рек, пригодны для судоходства, а среднее течение усеяно бесчисленными скалами, позволяющими проходить только пирогам. Это или пороги, где вода бежит просто с бешеной скоростью, или отвесные стены, прорезанные водой в кварците, по которым устремляются вниз водопады. Чтобы преодолеть все эти препятствия, приходится перетаскивать лодки через камни и крутые холмы, совершая тяжелую и часто рискованную работу. Один из этих водопадов мы назвали «Безнадежность» потому, что, остановившись перед этим препятствием, подумали, что преодолеть его невозможно. Индейцы рукуйены[617], которых мы наняли как проводников, бросились врассыпную, заметив опасность. Эти водопады так страшат индейцев рукуйенов, что они совершенно отказались от торговли с бразильцами, обосновавшимися в нижнем течении. Индейцы предпочитают подняться к бухточке Ку, пересечь часть гор Тума-Хума, чтобы купить нож стоимостью в один франк, отдав за него гамак из хлопкового волокна, изготовление которого потребует от них нескольких месяцев работы. Апауани совершенно пустынная местность; на реке Ку живет одна небольшая семья (около тридцати человек) индейцев оямпи, которых рукуйены называют калайуас, потому что прежде те имели связи с португальцами, которых рукуйены называют этим именем. Нас уверили, что есть еще несколько маленьких семей оямпи, рассеянных по притокам, впадающим в Жари ниже бухты Ку. Верхняя Жари занята индейцами рукуйенами, которых так называют потому, что они причесываются при помощи «руку», но их настоящее название уаяна. Отсюда, без сомнения, произошло название Гуайана[618] или Гвиана, страны, в которой они обитают. Рукуйены, обычаи и язык которых мы изучали, принадлежали к большой народности карибов, абсолютно диких представителей которых еще можно встретить на Ориноко и Апуре. Рукуйены сохранили все обычаи карибов, за исключением каннибализма. Большинство среди них незлые люди, но они опасны, если двинутся на уаякулетов[619] Верхней Марони и индейцев бухты Куари, которые, хотя и принадлежат к той же семье, но совершенно от них изолированы из-за войн с соседями. Не странно ли обнаружить по меньшей мере в ста лье от побережья Французской Гвианы людей, которые еще находятся на уровне каменного века? Таковы уаякулеты, ужас негров бони; они настолько дикие, что еще не умеют строить пироги. На карте мы отметили скалы и главные съедобные растения, которые можно найти на Жари. Если золото и почти чистое железо (гематит)[620], встречающиеся в верховьях реки, трудны для добычи, то в нижнем течении можно в достатке найти природные богатства растительного происхождения, заслуживающие интереса производителя. Сарсапарель[621], каштаны или бразильский орех, копаиба, приносят хороший доход. Но наиболее интересным является каучук, млечный сок гвианской гевеи (креольская сиринга), очень распространенной на низменных землях нижнего течения Жари. Крево закончил свое путешествие 9 ноября. Принятый за беглого каторжника властями Белена, что лестно для их проницательности, он был отправлен на родину обосновавшимся здесь добрым французом Д. Барро, который дал ему деньги, необходимые для возвращения. Едва вернувшись во Францию и вылечившись от глубокой анемии, которая чуть было не погубила его, доктор Крево отправился во второе путешествие, более длительное, трудное и рискованное, чем первое, предмет его давней мечты. Он легко добился от морского министра второго задания и отправился из Франции 7 июля 1878 года. Прибыв в Гвиану 28 июля, путешественник снова взял с собой храброго Апату, который с нетерпением ждал его и с радостью к нему присоединился. Во время этого путешествия главным было исследование реки Ояпоки и сплав по Пару, который он совершил в пироге, несмотря на пороги и водопады. Затем ему пришла мысль пройти по Амазонке до отрогов Анд. «Поднявшись по Ояпоки и спустившись по Пару, — рассказывает он, — мы замыслили проплыть на пароходах по Амазонке, которые поднимаются по этой большой реке почти на восемьсот лье в глубь Американского континента. В пути бразильский морской офицер, капитан Таварес, член Парижского географического общества, пригласил меня совершить экскурсию по реке Иса, или Путумайо[622], притоку Амазонки, длина которого составляет не менее четырехсот километровых лье[623]. Я принял его предложение и высадился в устье Токантинса[624] вместе с Апату, набрал экипаж, купил лодку, но вот в момент отплытия мой компаньон заболел и индейцы покинули меня. “Эта река, — говорят они, — очень нездоровая, полна насекомыми, которые преследуют путешественника днем и ночью; сезон неблагоприятный (январь), берега затоплены, течение быстрое, нужно пять месяцев, чтобы достичь верховий”. После экскурсии по Амазонке, где я изучил способ приготовления кураре у индейцев тикуна[625] на Жавари, я вернулся в Пара[626] с намерением возвратиться во Францию. Я уже взял пассажирский билет на английский корабль, когда узнал, что маленький пароход «Кануман» должен вскоре подняться по реке Иса. Он зафрахтован, чтобы принять груз хины, собранный компанией Р. Рейеса в отрогах Восточных Анд, в верховьях Исы и Жапуры[627]. Я занял место на борту 29 марта 1879 года, и 15 апреля 1879 года в семь часов вечера мы подошли к устью Исы… Населения на берегах этой реки было немного. Мы не насчитали более двух сотен в хижинах, встречавшихся тут и там. Индейцы района Верхней Амазонки, как и Гвианы, расселились по большой реке, чтобы укрыться на ее притоках; рыбная ловля и охота здесь были легче, и их не беспокоили белые, стремившиеся эксплуатировать и поработить аборигенов. Время от времени эти дети природы вступают в деловые отношения со сборщиками сарсапареля или какао, но они не бывают продолжительными. Наступает момент, когда дикарь, поменяв свой каменный топор на нож или клинок, находит общество белого непереносимым и возвращается в лес. Большую трудность в распространении промышленной цивилизации среди местных жителей Южной Америки составляет отсутствие честолюбия. Индеец, у которого есть один нож, не сделает ничего, абсолютно ничего, чтобы иметь другой. “Кануман” отправился из Пара 29 марта, нам потребовалось пятьдесят дней, чтобы пройти от устья Амазонки до предгорий Анд. Не удивительно ли, что пароход заходит в глубь континента на расстояние двух тысяч трехсот тридцати шести миль, то есть около четырех тысяч трехсот двадцати шести километров? Пятьсот тридцать шесть миль отделяют Пару от Санту-Антониу в устье Исы. Еще бы четыреста километров — и мы бы попали из Атлантического океана в Тихий. Я был рад немного отдохнуть, поскольку завершил тяжелую работу. Вынужденный выскакивать из гамака в пять тридцать утра, я каждый день проводил по двенадцать часов на палубе под жгучим экваториальным солнцем, постоянно занятый измерением углов, и рисовал малейшие неровности почвы. Апату помогал мне в этой работе; я показал ему большое дерево, очень известное на Исе, которое рукуйены и туземцы Верхней Амазонки называют «океима» (Bombux seibo). Отметив его положение по компасу, Апату следил за ним до момента, пока мы не пройдем мимо. Таким образом, я не мог ошибиться в точках отсчета. Он же приносил мне блюдо соленой пираруку и рис, составлявшие почти все мои ужины. Имея отменное здоровье, я чувствовал в себе силы подняться по Исе не только до того места, где она становится непроходимой для пироги; я хотел вернуться по Жапуре, одному из самых больших и наименее известных притоков Верхней Амазонки. Весь мой экипаж состоял из Апату и молодого индейца по имени Доминго, нанятого мною на Амазонке; нужно было еще несколько человек, чтобы преодолеть эту огромную реку, где природа и люди объединились против дерзких пришельцев, посягающих на их тайну. Мне удалось нанять метиса по имени Санта-Круж, которого сопровождали два еще диких сильных индейца с реки Сан-Мигель[628]. В момент отплытия мне сообщили, что мой проводник разбойник, который только что убил англичанина на Напо. Представитель Компании Р. Рейеса, без сомнения опасаясь, что откроется их секрет использования хинного дерева, постарался воспрепятствовать моему переходу из верховий реки Иса. Он приказал своим агентам не давать мне лодок и людей. Но мы решились на переход, даже если бы нам пришлось стрелять в белых, которые показали себя более дикими, чем индейцы. Апату сделал открытие: карихоны[629] называют огонь “тата” и воду “туна” точно так же, как жители Гвианы. Люди, имеющие поразительное внешнее сходство с рукуйенами, были в восторге, услышав, что мы говорим на их языке. Я нанял двоих, согласившихся следовать за мной до водопада Араракуара; каждый получил тесак, топор и несколько метров ситца. Четырнадцатого июня в полдень мы увидели, что река сузилась, и глухой шум предупредил нас о приближении к большому водопаду. Мы подошли к Араракуаре, называемому так, потому что его берега из песчаника, как бы уставленные столбами, выточенными водой, служили пристанищем для длиннохвостых попугаев ара, которые отдыхали здесь, как на больших деревьях. Араракуара не была простым ущельем. Этот узкий коридор заканчивался огромным водопадом высотой около тридцати метров. Не найдя лодки у подножия водопада, мы вынуждены были погрузиться на плот, который построили из стволов очень легких деревьев, называемых “бальса”[630]. Мы расположили стволы в два слоя; и сверху построили хижину, где разместили багаж и сами могли удобно укрываться. Плот имел не прямоугольную, а трапециедальную форму, с меньшей стороной спереди, чтобы он легко рассекал воду. Для этого было достаточно поставить толстые концы стволов назад, немного их раздвинув, а тонкие концы плотно пригнать один к другому. Крепление, а это очень важная операция, было произведено при помощи гибкой и очень прочной лианы, которая в изобилии растет в здешних лесах. Мы попрощались с нашими проводниками, которым надо было только перейти гору, чтобы найти хорошую пирогу, а нас ждал спуск по реке на судне совершенно новом как для меня, так и для Апату. Вскоре ниже по течению мы увидели скалы; они образовали пороги и даже маленькие водопады, к которым мы подступились не без страха, но наш плот показал себя наилучшим образом; зарывшись сначала немного носом — достаточно, чтобы окатить нам ноги, но не намочить багаж, который располагался на решетке, — он выпрямился и помчался, не касаясь скал. Через три часа мы повстречали трех индейцев, которые согласились проводить нас в их деревню, расположенную на реке Арауа. Карихоны называли этих индейцев китотосы, что значит “враги”. Я допустил большую неосторожность, отправившись с Апату в пироге, которую мы вели на большом расстоянии от плота, где оставили наших спутников, но мы были вынуждены принять такое решение, поскольку у нас кончались продукты. Однако эта прогулка показалась нам очень интересной: мы пополнили наши припасы, купили хорошую лодку, имели случай наблюдать за пиршеством каннибалов. Некоторое время спустя мы прошли перед устьем большого притока, называемого Жари. Эта река не только имеет такое же название, как та, которую мы уже описали, рассказывая о Гвиане, но ее обитатели карихоны говорят на том же языке и имеют такие же обычаи, как рукуйены гвианской Жари. Мы достигли маленькой деревни карихонов, устроившейся на левом берегу Жапуры, навигация по которой значительно более легкая, чем по всем остальным притокам нижнего течения Амазонки. У этой реки есть несколько своих крупных притоков, в частности — Опапори. Плавание в нижнем течении очень утомительно; днем нас одолевали мухи, ночью комары, и почти постоянно — проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. Мы с трудом находили места для ночевки, не затопленные водой. Устье Жапуры образует огромную дельту, такую же сложную, как у Ориноко. Мы плыли среди низких болотистых островов, где несколько рыбаков построили хижины на сваях высотой три-четыре метра. Они ловили главным образом пираруку[631], которых сушили на солнце, и черепах. Наш проводник показал нам очень интересные географические детали; это устье Ауати-Пиорини, которая ведет к Амазонке. Вода здесь черная и течение слабое; сначала мы подумали, что это водосброс Жапуры, но проводник показал нам, что вода идет из Амазонки. Девятого июля в пять часов вечера мы достигли деревни Каикара на Амазонке. Нам потребовалось только сорок три дня, чтобы спуститься по этой большой реке от истоков до устья и сделать ее топографическую съемку, не пропустив ни одного участка». Вернувшись во Францию после такого прекрасного, такого плодотворного на географические, антропологические, ботанические, геологические открытия путешествия, Крево остался здесь только на несколько месяцев. Уже популярный, снискавший себе добрую славу не только среди ученых, но и в обществе, которое его оценило, ученый хотел сделать еще больше. Он добился третьего поручения и отправился в путь 6 августа 1880 года со своим коллегой и другом Лежанном, матросом Франсуа Бурбаном и Апату, которого он привез с собой. Именно в этой поездке автор рассказа познакомился с ученым на «Лафайете», судне Трансатлантической компании. Двадцать седьмого августа Крево со спутниками высадились в Барранкилье, в Колумбии. «Моей первой задачей было, — пишет он, — обследование Гопеса, притока Ориноко. Зная, что эта река находится поблизости от Апуре, с которой я познакомился во время предыдущего путешествия, я решил подняться по Магдалене как можно дальше, сделать бросок до Апуре и оттуда, направляясь к северу, поискать истоки Гопеса. Таким же образом я сумел отыскать Жапуру, идя от Исы. Я заранее предвидел, что путешествие по суше от Апуре к истокам Гопеса не будет длительным, поскольку в первом случае мне потребовалось только шесть часов хода. Из-за того что всю экваториальную Америку покрывают огромные леса, дожди здесь обильнее, чем в любой другой части земного шара, реки текут почти соприкасаясь. От порога Хонда река называется Верхняя Магдалена. По этому участку редко поднимаются на лодках; предпочитают восемь дней пути на спинах мулов месяцу плавания. Но представилось счастливое обстоятельство: только что пустили маленький пароход выше порога, чтобы попытаться наладить навигацию до Нейвы. Узнав, что этот участок реки мало изучен, я счел полезным сделать его подробную трассировку. Нам потребовалось пятнадцать дней, чтобы проделать путь в сто пятнадцать лье. Скорость парохода не превышала пяти-шести миль в час, мы могли двигаться только с прибылью воды и, когда вода уходила, каждый раз садились на мель. Чтобы преодолеть некоторые перекаты, приходилось оказывать помощь машине, заводя тросы на берег, и мы продвигались вперед, накручивая их на судовую лебедку. Русло Верхней Магдалены отличается двумя особенностями, которые затрудняют навигацию. Оно то слишком широкое, и в этом случае глубина реки не превышает метра; то сужается, проходя по ущельям с отвесными песчаниковыми стенами; тогда вода глубока, но течение такое быстрое, что необходима скорость в восемь узлов, чтобы преодолеть его. Наше плавание было бы очень скучным, если бы мы не были постоянно заняты. Лежанн описывал свои впечатления, делал эскизы, производил метеорологические наблюдения; Франсуа Бурбан увязывал наш багаж для перевозки по суше и изготавливал противомоскитные сетки; Апату, привычный к моим географическим работам, оставался целый день на палубе рядом со мной. Его помощь позволяла мне принимать пищу, не опасаясь сбить ориентировку компаса. Пока я ем классическое колумбийское санкочо[632], Апату глядит на дерево, которое я ему указал как ориентир, по которому я определял азимут[633]. Когда мы выходили на траверс[634] ориентира, он меня предупреждал; я брал другой угол и наспех заканчивал скромную трапезу…» Животное, которое больше всего занимает путешественника на всем протяжении Магдалены, это кайман. Нет песчаного пляжа, на котором бы не лежали дюжины этих страшных тварей. Несколько пассажиров, не жалея свинца, посылали в них пули, скользившие по коже, как по броне корабля. А дальше исследователь столкнулся с затруднением, связанным с поиском дальнейшего маршрута. Благодаря сведениям, полученным от хинейрос — сборщиков хинной коры, — Крево имел представление о многих реках, находившихся на небольшом расстоянии от Нейвы и направлявшихся, как казалось, на северо-восток. Эти реки, думал Крево, должны быть истоками одного притока Ориноко. В этой стране считают, что они образуют реку, называемую Гуаяберо, или Гуавьяре[635]. К берегу подступают стеной вечнозеленые псидиумы[636], которые здесь встречаются в огромном количестве. Впрочем, никто не знает ни ее приблизительного объема, ни направления. «Нам посоветовали, — продолжает Крево, — отправиться по этому пути, так как Гуаяберо, кажется, самая большая река после Апуре, уже исследованной нами, которая стекает с восточных склонов Анд». Доктор Крево нанял мулов, чтобы перевезти багаж и людей в горы. «Я не буду распространяться, — вспоминает он, — о перипетиях путешествия в горах. Скажу только, что мои спутники, вынужденные оставаться в седле по десять часов в день в течение двух недель, должны были проявить недюжинную силу воли и энергию в этом испытании. Поскольку ни один из них не имел навыка в верховой езде, то выход отряда из Нейвы не был триумфальным. Простим местных жителей, которые во всеуслышание предрекали, что с такой командой мы далеко не уедем. На четвертый день похода мы пришли в маленькую деревню Коломбия, которая служила складом для хины, собранной в этом районе. Лежанн совершил экскурсию в Пуэрта-дель-Сьело (то есть Врата Неба), где один из наших соотечественников, бежавший от Коммуны[637] и живущий отшельником, выращивал хинное дерево на высоте 2000 м. Я разговорился с генералом Лусио Рестрепо, стоявшим во главе хинной компании. Он пришел в восторг, когда я ему рассказал, что прибыл сюда с намерением спуститься по Гуаяберо. Четырнадцатого октября мы преодолели Восточную Кордильеру на высоте 1970 м; я не видел ничего более величественного, чем бескрайний горизонт, который предстал перед нами. Что может быть приятнее для глаз, чем это огромное море зелени, которое лежало у наших ног! Двадцать пятого ноября в полдень багаж погружен на плот, пирога привязана сзади. Мы приближаемся к торжественному моменту нашего путешествия; сердца трепещут, сейчас мы бросимся в эти воды, которые понесут нас через Американский континент. Апату не хотел покинуть порт, не оставив память о нашем переходе. Я написал на дереве:Четыре француза Двадцать пятого октября 1880 года.Все заняли места на плоту; мы отдали швартовы и вот отправляемся в неизвестность. Не имея возможности управлять нашим судном, мы пустили его плыть по течению. Сначала мы шли медленно, но после сотни метров река немного сузилась и образовалась стремнина; нас потащило с головокружительной скоростью, нечего было и думать о том, чтобы остановиться. Палатка, которая должна была укрывать нас от знойного солнца, зацепилась за ветки и была тотчас снесена. Вскоре несколько бревен, вырванных ударом о ствол дерева, уплыли по течению. Плот сильно накренился в мою сторону. Апату пытался остановиться, набрасывая веревку на ветку, но неудачно нас продолжало нести с еще большей скоростью. Нельзя было терять ни минуты, поскольку уже половина багажа плавала в воде; плот полностью расшатался, еще немного, и он рассыплется. Необходимо причалить любой ценой. К счастью, река расширилась; течение было еще сильным, но воды менее глубокие. Апату прыгнул в воду и, напрягшись изо всех сил, остановил наше потрепанное судно. Прошло всего двадцать минут, как мы покинули порт! Пирога также была в плохом состоянии, поскольку была слишком истонченная огнем при строительстве. На дне у нее была трещина, и она набрала столько воды, что едва могла нести двоих. Ее останки были выброшены на пляж, и следовало немедленно подумать о строительстве нового плота. Апату увидел на другом берегу те же деревья с легкими стволами, которые колумбийцы используют для строительства плотов на Магдалене. Мы устроились на ночлег на мокром песке. Апату подвесил свой гамак к ветке над маленьким ручьем. Мы начали засыпать, когда он явился с гамаком в руках. Негр решил сменить квартиру, когда услышал плеск воды прямо под собой. Что это — выдра, кайман или змея боа? Темнота была такой глубокой, что Апату смог разглядеть только хвост, который с силой бил по воде. Соседство невиданного животного нас тоже не оставило спокойными. Тем не менее мы вытянулись на песке бок о бок. Но Лежанн и Апату, которые расположились по краям, держали ружья под рукой, готовые по тревоге немедленно взяться за них. Ночь прошла, к счастью, без осложнений. Как обычно, мы встали днем; Франсуа разжег огонь, приготовил кофе, и вскоре мы принялись за работу. Лежанн снимал кору с бальсы, чтобы сделать дерево еще легче. Апату и Франсуа разрезали стволы на нужную длину, пока я сушил багаж на каменистом пляже. Я обнаружил, что вчерашнее кораблекрушение нанесло нам значительный ущерб; один из хронометров намок и не замедлил остановиться; у Лежанна больше не было пальто; я погоревал об одной из моих фланелевых рубашек; Франсуа потерял брюки, а Апату — две пары прекрасных туфель, привезенных из Парижа; это было меньшее из наших несчастий, поскольку он умел обходиться без обуви. Наш шоколад пришел в негодность; рис, маис, немного сухарей, которые мы привезли, полностью размокли, но стоявшее в зените солнце не замедлило все это высушить. Главное, что все наши пятьсот патронов были в хорошем состоянии; мы хранили их в коробках из белой жести. Днем мне пришлось оказывать помощь бедному Апату, который, утомившись в борьбе с водной стихией, нечаянно нанес себе удар тесаком, раскроив ногу до кости, а у Франсуа лицо так распухло от укусов комаров, что он едва мог приоткрыть веки. Но болеть было некогда; необходимо как можно скорее выбраться из этих прибрежных районов. В два часа мы отправились в путь. Новый плот, который был шире, казалось, лучше перенесет плавание; к тому же мы его облегчили, сняв укрытие, предназначавшееся для того, чтобы можно было спрятаться от солнца. Через некоторое время после отплытия Апату, стоявший спереди, был отброшен силой инерции, когда плот натолкнулся на препятствие, и упал в реку. Это было опасно для менее опытного пловца; но мы увидели, что он вынырнул сзади плота, ухватился за него и спокойно поднялся. Вскоре нам пришлось остановиться, чтобы подождать Апату, который отправился в пироге разведать путь; эта мера предосторожности была необходима, так как река, усеянная множеством островов, образовывала пороги, а может быть, и водопады. На повороте, в момент когда мы еще видели спокойную реку, перед Апату уже бурлила пенящаяся вода. Это были первые большие камни, перекрывающие ложе Рио-Лессепс. Апату прыгнул в пирогу, бросил швартов на дерево, и мы остановились в тот момент, когда нас бросило на препятствие. Надо было разгрузить багаж и перенести его на расстояние двести метров, к месту, куда мы подведем плот, после того как переправимся, удерживая его на канатах. Эта утомительная операция длилась не менее трех часов. Валуны, составляющие препятствие, были глыбами песчаника, скругленными водой, которые когда-то упали с очень крутого берега. Этот песчаник составлял только основание берега, он выступал из-под более чем десятиметрового слоя глины, замечательной своими красными, как кровь, пятнами. Наш плот расшатался, и, что пугало меня гораздо больше, Апату подхватил лихорадку, Франсуа на исходе сил, у Лежанна ноги и руки так распухли от укусов комаров, что он едва может пошевелить ими. За ночь, проведенную нами под проливным дождем, у меня начался приступ печеночной колики: это маленький сувенир от моих предыдущих путешествий. Мы утешались в наших бедах только надеждой достичь вскорости более приятных районов. Апату отправился в лес за лианами, чтобы пришвартовать плот; Франсуа очень эффективно помогал ему в этой операции, так как, прослужив в качестве матроса первого класса во французском морском флоте, он легче, чем кто-либо, умел приготовить прочные связки. В это время я делал топографическую съемку при помощи компаса, тщательно нанося на схему главные вершины Анд, от которых мы еще недалеко отошли; я определил также высоту солнца при помощи теодолита, а Лежанн занимался барометрическими и гипсометрическими измерениями, а также измерял температуру воздуха. Эти наблюдения очень тяжелые не столько из-за солнечных лучей, от которых мы могли укрыться только под деревьями, сколько из-за мошкары, донимавшей без передышки с шести часов утра до шести часов вечера. Наш лагерь находился непосредственно перед порогом, казавшимся нам очень сложным; в полдень мы погрузились, и наши страхи вскоре оправдались. Плот швырнуло с такой силой о ствол дерева, что он разбил лодку, которая находилась сбоку. Это была большая потеря для нас, поскольку теперь мы лишились возможности разведать дорогу и переносить швартовы, чтобы останавливаться, теперь мы были полностью предоставлены капризам воды, которая могла сбросить нас в бездну. Мы подумывали о строительстве новой лодки, но поблизости не было подходящих деревьев, и Апату, больному, обессиленному, понадобилось бы более восьми дней, чтобы выполнить эту работу. За это время мы исчерпали бы большую часть нашего продовольствия, и нам грозила бы голодная смерть. К тому же нам всем не терпелось увидеть людей, будь они даже людоедами, как на Жапуре. К часу пополудни река стала немного спокойнее; впервые у нас выдалась минутка передышки, чтобы закурить. Течение становилось все более ровным, нас не преследовала больше опасность налететь на заросли бамбука, нависавшие над рекой. Мы заснули в надежде, что с этого момента плавание будет спокойным. Апату, менее беспечный, чем я, опытным ухом различил шум переката в тишине ночи. Это ниже по течению по камням проносилась вода. Еще немного, плот понесло и с силой ударило о препятствие — полузатонувший ствол дерева; Апату, никогда не садившийся, вылетел вперед, и плот прошел над ним. Он поспешил вернуться на свой пост и продолжал следить за всей этой неразберихой, чтобы по возможности уберечь нас от опасности. Я сидел сзади него, упершись о ящики, с тетрадью и компасом на коленях, и с трудом, из-за большой скорости движения, делал топографическую съемку реки. Вдруг я вижу огромный, наклонившийся поперек реки почти вровень с водой бамбук, но надеюсь, что Апату сейчас приподнимет его, чтобы пропустить под ним плот, но у того уже не хватает времени. Апату прыгает через дерево, а я просто не могу последовать за ним, и этот огромный и очень твердый ствол прижимает меня к ящикам; я чувствую, как он раздирает мне живот, грудь, подбородок, нос; тетрадка вырвана из рук; я выглядел так, будто бы меня пропустили через блюминги. Очевидно, я бы потерял сознание, если бы у меня не пошла носом кровь, что и привело меня в чувство. Бамбук не причинил вреда Лежанну, укрывшемуся за ящиками, но сбросил в воду Франсуа. Чуть дальше в нескольких метрах от нас на берегу мы увидели капибар[638], которые не проявили ни малейшего удивления, видя, как мы проплывали мимо. Прошло уже много времени с тех пор, как мы последний раз ели мясо, поскольку были полностью во власти реки и не могли остановиться тогда, когда хотели. Лежанн выстрелом убил одного из этих животных. Мы на мгновение остановили плот, чтобы Франсуа мог подобрать добычу. Едва Апату привязал канат, как течение, которое было чрезвычайно сильным, притопило плот и грозило разорвать лианы, на которых крепился швартов. Я не хотел уходить, пока Франсуа не присоединится к нам; но Апату, не видя Лежанна, подумал, что тот упал в воду; он отпустил швартовы и прыгнул на плот. И вот мы мчимся со скоростью около четырех миль в час, оставляя Франсуа среди непроходимого леса без оружия, даже без ножа. Через четверть часа течение немного ослабевает, и Апату, прыгнув в воду, несет швартов на землю, и мы высаживаемся на каменистый берег. Прошел час, а Франсуа не подавал признаков жизни. Наконец мы увидели его выше, ощупывающего дно и пытающегося перейти реку. — Несчастный, — крикнул ему Апату, — не переходи здесь, течение сильное, ты сейчас утонешь! Мы заставили его спуститься ниже, чтобы поискать брод и перейти к нам, а сами ждали его под деревом, когда прибежала собака, дрожа и лая. Лежанн шлепнул ее по носу, чтобы заставить замолчать. Вскоре мы поняли, что ее напугало. Я, определяя высоту солнца, бросил взгляд на хронометр, потом поднял глаза и заметил ягуара, смотревшего на нас с беззаботностью домашней кошки. Я тихонько предупредил Лежанна, и мы подошли к нему поближе. Лежанн шел впереди с единственной пулей большого калибра в карабине; Апату следовал за ним с тесаком, а я, не имея ничего лучшего, вооружился большим камнем, который подобрал на берегу. Мы сделали шесть шагов; Лежанн выстрелил, и животное, осев, испустило дух. Я срезал у него когти и осмотрел шерсть и зубы. Нам попалось животное, которое рукуйены называли маракаи. Без сомнения, отсюда название озера Маракайбо в Венесуэле. Мы очень беспокоились за Франсуа. Апату посоветовал попробовать вместе с плотом перебраться на другой берег. На первом повороте реки мы увидели нашего товарища, пытающегося перейти ее по шею в воде. Проплывая мимо, Апату бросил ему канат с привязанным на конце камнем; камень улетел, канат остался. Тогда я схватил шест, бывший у меня под рукой, и протянул его Франсуа; тот схватился за него изо всех сил, и вот он на плоту. Спустя час мы пришли к устью большого правого притока, впадавшего под прямым углом. Его ширина равнялась примерно одной трети ширины основной реки. Очевидно, это была Унильо, истоки которой хинерос видят в предгорьях Анд рядом с верховьем Нейвы. Четвертого ноября мы увидели каймана на пляже; Апату позвал его гортанным криком; животное плавало прямо под нами и, отойдя на пятнадцать метров, исчезло под водой. Апату, находившийся с моей стороны, приготовился дать хороший удар веслом по носу дураку, позволившему себе попасть в западню, но кайман не появлялся. Мы искали его с моей стороны, когда он внезапно всплыл с широко открытой пастью прямо перед носом Лежанна и оцарапал ему лицо, захлопнув свои огромные челюсти, издавшие звук закрывшегося чемодана. Я посоветовал Апату не звать больше кайманов, оказавшихся более дерзкими, чем те, которых мы видели в наше предыдущее путешествие. Девятого ноября мы прибыли ко входу в ущелье, в которое нас и снесло течением… Это ущелье было милостивым к путешественникам, которые очень нуждались в отдыхе, и мы остановились здесь на полдня…» Потом они возобновили спуск и прошли перед устьем Арьяри, берущей свое начало в обширных прериях Сан-Хуана на восток от Боготы[639]. «Эта река, — отмечает Крево, — считается продолжением Гуавьяре и составляет только треть от главной реки. Но она очень интересна тем, что на ней нет порогов и, следовательно, можно переправлять продукты из восточных предгорий Анд, тогда как Гуаяберо или Рио-Лессепс абсолютно не пригодны для этого. Никто до нас не спускался по ней, и я думаю, что не найдется больше сумасшедших, чтобы пройти по нашим следам. Какое счастье остаться целыми и невредимыми; ведь месяцем раньше, то есть в сезон дождей, слишком высокие воды разбили бы нас о скалы, а месяцем позже во время засухи нам не хватило бы воды для плавания. Эта река впадает в ста пятидесяти лье от того места, где мы спустили на воду плот, и нам потребовалось семнадцать дней, чтобы пройти этот путь». Через некоторое время Крево вместе с Лежанном и Апату спустились по течению Ориноко. Здесь их поджидала печальная весть: они узнали о смерти, несмотря на самую преданную заботу и квалифицированную помощь, Франсуа Бурбана, последовавшей от укола колючего ската. Третьего марта 1881 года экспедиция пришла в устье Ориноко, и вскоре после этого Крево и Лежанн вернулись во Францию, а Апату отправился в Кайенну. …Крево, вернувшийся на родину больным и измученным, казалось, решил положить конец, по крайней мере на время, своим исследованиям. Но этот неутомимый человек не мог долго оставаться на месте. Через несколько месяцев он снова погрузился на судно и отправился в Южную Америку с мыслью подняться по Паране и достичь притока Амазонки. Его сопровождал художник Рингель, лиценциат наук Билле и рулевые Ора и Дидело. Но по прибытии в Буэнос-Айрес доктор Себельо и Морино рассказали ему, какой интерес представляет исследование реки Пилькомайо, притока Парагвая, которая пересекает север Гран-Чако[640] и служит в некотором роде пограничной линией между Боливией и Аргентинской Республикой[641]. Тотчас Крево решил ее обследовать. Аргентинское правительство предоставило в его распоряжение двух матросов, а боливийское правительство взяло на себя расходы на мулов для переезда из Тарихи в Сан-Франсиско-де-Солано на реке Пилькомайо. И теперь в нескольких словах, как эта экспедиция из двенадцати сильных, храбрых и хорошо вооруженных людей была перебита в самом начале. За несколько дней до того, как Крево перешел границу Боливии, произошел инцидент, о котором рассказал Артур Туар и которому исследователь не придал значения, совершив тем самым роковую ошибку. У коменданта Каисы были украдены лошади, подозрения пали на индейцев племени тоба, и против них была устроена вылазка. У них убили десять человек и столько же взяли в плен, в том числе несколько детей. Тоба ожесточились и поклялись отомстить первым белым, которых они встретят. Крево знал это, но, не колеблясь ни секунды, отправился в путь, говоря: — Если погибну, значит, так тому и быть! Но если не рисковать, то ничего не узнаешь. Девятнадцатого числа в девять часов утра он отправился в Сан-Франсиско-де-Солано. 20-го экспедиция без инцидентов достигла Белья-Эсперансы, но тоба следовали за маленьким отрядом по обеим берегам Пилькомайо. 22 числа Крево один провел ночь среди тоба, численность которых росла беспрерывно. 26-го их было уже более двух тысяч. 27-го экспедиция достигла песчаного пляжа, и индейцы предложили путешественникам рыбу и барана. Крево спустился первым с Билле, за которым последовал художник Рингель. Едва они сделали несколько шагов, как тут же на них набросилась толпа тоба и убила ударами «моканос» (палиц) и ножами. Молодой Себалос, опытный рулевой Ора и аргентинский матрос Бланко, которые находились в последней лодке, поспешили к месту событий. При виде опасности, которая им угрожала, они бросились в воду, чтобы достичь противоположного берега. Бланко и Ора ускользнули от индейцев. Молодой Себалос был схвачен одним тоба, который собрался его убить, когда его перехватил другой индеец и защитил. Себалос видел, как упали Крево, Рингель и Билле. Сразу же после страшного убийства индейцы захватили багаж, оружие, припасы исследователей, потом подожгли лодки и пустили на волю вод. Что касается жертв, то их разрезали на куски, и каждый из вождей отнес свою часть соплеменникам в качестве победного трофея. Их месть была удовлетворена. «Они, — свидетельствует А. Туар, — зарезали свои жертвы точно на том месте, где за несколько дней до этого жители Каизы перерезали их соплеменников». Туар и есть тот храбрый француз, который на свои средства предпринял расследование обстоятельств гибели экспедиции Крево и привез, кроме печальных и достоверных подробностей, опубликованных в «Тур де монд», несколько предметов, принадлежащих героическому исследователю.
ГЛАВА 28
М. МОРИНО
Страшная смерть доктора Крево показала, что индейцы, которые часто охотно позволяют белым жить среди них, иногда нападают без видимых причин. Чаще всего это месть и расправа над белыми, невиновными в насилии, совершенном другими белыми над индейцами. Так произошло с топографической экспедицией Пас Сольдана[642], которой было поручено исследовать Жавари. Сопровождал экспедицию капитан корвета Хорес Пинто. На экспедицию, поднимающуюся по реке в лодке, неожиданно напали дикари из прибрежных племен, осыпав градом отравленных стрел. Хорес Пинто был убит вместе с другим членом экспедиции, а Пас Сольдан, раненный в ногу, вынужден был пойти на ампутацию. Эти индейцы чинили возмездие, которое пало, как всегда, на невиновных. Морино, аргентинского ученого, пригласившего Крево обследовать Пилькомайо, чуть было не постигла та же участь, но, попав в плен, он по счастливой случайности смог бежать. Морино исследовал тогда север Патагонии. Большой вождь, предупрежденный специальными гонцами о прибытии исследователя, принял его в парадном одеянии, восседая на лошади, бока которой были украшены серебром. «Он произнес, — рассказывает Морино, — длинную речь и, тряся мою руку четверть часа, заверил через переводчика, что хочет быть моим другом и принимает, хотя и не любит, христиан. Вождь пригласил меня в свою палатку и угостил обильной порцией жареной конины. Тогда же я рассказал о мотивах моего визита. Я слышал о его знатности, отваге и хотел получше узнать, чтобы стать его другом; будучи также любознательным, я хотел собрать образцы растений и насекомых, а потом отправиться в Чили, чтобы оттуда вернуться на родину. Я подарил ему свой карабин (так как знал, что он все равно его отнимет), свою резиновую одежду, несколько теплых плащей, шляпу, бусы и серьги для его четырех жен. Мой визит доставил ему удовольствие. Вождь сообщил, что со мной никогда не будут грубо обращаться на этой земле, но он не может позволить мне пройти в Чили, не зная, какие мысли таятся в глубине моего сердца, поскольку я могу солгать, как всегда делают белые, и разведать тропинки в горах, чтобы прийти с армией и напасть на них. Я поставил свою палатку рядом с его и на следующий день дал ему бутылку коньяка, а в ответ получил самые горячие заверения в нашей дружбе, после чего он добросовестно напился. Жить белому у этих дикарей не сладко, — вспоминает Морино, — особенно в отношении питания. Обычно ему предлагают на деревянном блюде сырые легкие и почки, плавающие в еще теплой крови. Очень почетное блюдо состоит из требухи и рубца овцы или гуанако[643],всегда сырых. Вождь, — продолжает Морино, — желая сообщить своим воинам о моем прибытии и проектах, собрал большой совет в уединенной долине около реки Квем-Квем-Фрук, вдали от женщин, которые никогда не вмешиваются в дела мужчин. Пятьсот индейцев, присутствовавших на этом совете, все время демонстрировали боевые приемы, чтобы поразить иностранца ловкостью и смелостью. Это был воинственный шабаш, длившийся около десяти часов. Совет старейшин, услышав о моей просьбе пройти в Чили, отклонил ее, сказав, что не доверяет белому; вождь Чакуайяль высказал свое мнение, что христианин вполне может иметь вместо человеческого сердце броненосца… Кинчаола, который вел церемонию, заявил, что у меня четыре сердца, к тому же подозревал что-то плохое под моими очками. Мне удалось наглядно объяснить ему, что мы братья и, хотя у меня белый цвет кожи, я родился на той же земле». Благодаря терпению и дипломатии исследователь смог продолжить свое путешествие и стал первым белым, который от океана прошел по берегам Рио-Негро[644] до ее истоков в Андах. «…— Патагонцы, — рассказывает дальше Морино, — перестали пользоваться луками. Их оружие — это копье, булавы да несколько ружей, которые они смогли добыть в Кармен[645] или Пунта-Аренас. Добрые и гостеприимные, они позволили себя измерить; и я могу сказать, что, хотя они не гиганты в полном смысле слова, это племя самого высокого роста из известных до сих пор. В среднем их рост достигает 1,852 м, но женщины значительно ниже. Говорят, что название “патагонцы” дано им за очень большой размер ступней, это совсем неверно[646], их следует причислить скорее к числу народов, имеющих самые миниатюрные ноги. Они сами называют себя ахокнекенке, то есть “люди юга”. Патагонец в своей кухне еще более нечистоплотен, чем араукан; паразиты водятся в изобилии; собаки, очень многочисленные, иногда облизывают мясо, предназначенное для людей». Теперь мы подходим к событию, которое чуть было трагически не завершило путешествие и которое было, что бы там ни говорили, ответом коренных жителей на захват группы индейцев-грабителей аргентинскими отрядами. «Индейцы пришли от имени Чегуека и предложили мне написать письмо аргентинскому правительству, чтобы оно отпустило на свободу захваченных в плен индейцев. Я был не в том положении, чтобы сопротивляться, хорошо зная, что, избежав первой ловушки, мы неизбежно попадем во вторую, поскольку индейцы приняли все меры предосторожности, чтобы не позволить нам улизнуть. Вынужденный отказаться от сопротивления, я решил пойти на хитрость, притворившись, что не знаю, какая судьба меня ждет; под предлогом, что мне необходимо послать моих спутников к большому начальнику, отправил троих из моих людей с коллекциями к Бови. Я написал аргентинскому правительству, изменив на противоположное содержание, продиктованное мне вождем: то есть, что не следует отпускать никаких пленников, поскольку был уверен, что индейцы никогда не вернут мне свободу, а я надеюсь сбежать. На следующий после отправления курьера день с Рио-Негро пришел индеец. Он убежал из аргентинского лагеря, где уже погибли многие из его арестованных соплеменников, и сказал, что их все время убивают. Большой совет собрался в Квем-Квем-Трен. Там старые вожди одобрили поведение Чегуека относительно меня и решили занять все проходы, близкие к христианским постам… …Боевыми приемами, сопровождавшими этот совет, индейцы демонстрировали готовность к битве, и не раз я видел в нескольких сантиметрах от моей груди острие копья в руках свирепого индейца; не один камень, пущенный из пращи, просвистел у моего уха. Вождь Нокучиек не хотел присутствовать на этом совете; у него были напряженные отношения с Чегуеком из-за высокой цены, которую тот запросил у него за смерть своего зятя, убитого в палатках Нокучиека. Однако он велел передать, что не понимает, почему пленников не убивают. Перед советом послали за колдунами, и, когда мы вернулись в Калькуфу, мы нашли там одного из них с помощниками. Колдун провел три дня в кустарнике, произнося свои заклинания. На третий день он объявил, что знакомые духи принесли ему новость, что я написал в письме губернатору, чтобы тот не давал свободу индейцам, а убил их. Ненависть к христианам, естественно, выросла. Мачи сказал, что он считает мою смерть необходимой, поскольку многие индейцы уже погибли и бесполезно дожидаться возвращения остальных. Он приговорил меня к разрезанию живьем, чтобы предложить Богу мое сердце, как это сделают сейчас с быком. Чегуек воспротивился тому, чтобы жертва была принесена немедленно. Он считал, что следует дождаться возвращения гонца. Они принесли в жертву быка и его внутренности. От меня, впрочем, скрыли причины, выдвинутые колдуном, и Чегуек соизволил объявить мне, что он не убьет меня сам, но не может противиться тому, чтобы другой великий вождь совершил жертвоприношение. После молитв была большая оргия, во время которой мне непрерывно угрожали смертью. Я занимал маленькую палатку вместе с солдатом, настоящим храбрым гаучо, а вокруг нас бесновались более сотни пьяных индейцев. Утрак и проводник принимали участие в празднике. На следующий день опасность возросла; я решил спасаться. У меня с собой был флакон гидрата хлорала от моих невралгий, и я влил его в ликер двум моим индейским стражам; тогда мы смогли отойти от лагеря, солдат и я. Проводник не пожелал присоединиться к нам, так как в этот момент колдун пел в нескольких метрах от моей палатки, и он считал, что тот сейчас догадается о нашем бегстве: итак, пришлось вернуться в палатку. На следующий день колдун ушел, для проводника больше не было препятствия. Мне удалось отвлечь на мгновение охранника, и в начале ночи, когда индейцы ели, мы убежали. Воспользовавшись темнотой, мы за три часа достигли берега Кольон-Кура, расположенного на расстоянии тысячи пятисот метров. За следующие три часа мы построили маленький плот из бревен и спустили его на воду. Наше путешествие длилось две ночи и семь дней среди порогов и почти затопленных островов, до момента, когда не стало больше сил, и, совершенно изможденные, мы покинули плот. Мы прошли еще около сорока километров по суше без обуви по камням, кактусам и кустарникам и достигли Неукена[647], где были хорошо приняты передовым постом аргентинских солдат, которые нас уже разыскивали. В мае месяце я вернулся в Буэнос-Айрес, поскольку мое здоровье было сильно подорвано и я опасался тифоидной лихорадки».Конец

Луи Буссенар ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ АЗИЯ
ГЛАВА 1
ПЕРВЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ИНДИИ
Васко да Гама. — Мишель Фроте и Франсуа Гране. — Карон. — Франсуа Мартен.Следует углубиться в седую древность, чтобы составить четкое представление о том, как приближалась Европа в различные эпохи к огромным владениям в Индии. В самые отдаленные времена, даже до Александра[1], завоевательные походы между двумя частями Евразийского материка вели к довольно частым сношениям. Во всяком случае, в течение длительного периода, обнимающего сотни и сотни лет, походы чаще всего были случайными и всегда недолгими. Конечно же, воображение жителей Запада сплошь да рядом крутилось вокруг чудес, которыми изобиловал этот солнечный край, манивший завоевателей и путешественников ослепительным сиянием золота, роскошных тканей и драгоценных камней. Кроме того, внимание и алчность торгового люда привлекали пряности, столь щедро произраставшие в этой волшебной стране. Но, несмотря на все сильное тяготение к Индии, сообщение с нею, проходившее через малоизученные и негостеприимные земли, приобрело некоторую регулярность, а также стало сравнительно безопасным, только с 17 мая 1498 года, когда Васко да Гама проложил морской путь в Индию. Король Португалии, понимая все значение открытия мыса Бурь, которое совершил в 1486 году Бартоломеу Диаш, решил организовать знаменитую экспедицию, покрывшую славой Васко да Гаму и почти полностью заслонившую немалую заслугу Диаша. Эскадра из трех кораблей, чей экипаж насчитывал сто семьдесят три человека, снялась с якоря из Лиссабона 8 июля 1497 года, обогнула Африку, посетила Малинди и острова у восточного побережья этого материка, а через десять месяцев и несколько дней после своего отплытия прибыла в Каликут[2]. Прием у повелителя Каликута был сперва очень сердечным; но, видя, что иностранные моряки привезли ему вместо редких металлов и драгоценных камней отрезы материи, сахар, одежду, мед, он сменил милость на гнев и стал обращаться с пришельцами очень небрежно, со всей надменностью индийского царька. Потребовались долгие переговоры, чтобы добиться разрешения на высадку и на обмен привезенных товаров на местные продукты. Продав или обменяв свой груз на скорую руку и дождавшись благоприятной погоды для возвращения, Васко да Гама решил больше не медлить. Но ему еще хотелось для полноты своего триумфа привезти в Европу несколько местных жителей. Возникли новые затруднения. Подданные саморина[3] ни за что не желали подниматься на борт кораблей из страны заходящего солнца. Гама нашел быстрое и радикальное решение: он захватил в плен группу туземцев и силой погрузил их на корабль. А затем снялся с якоря. Местные суденышки пустились за ним в погоню. Чтобы избежать столкновения, он поспешил их потопить. На родине Васко да Гаму бурно приветствовал весь народ, от короля Мануэла он получил вместе с ежегодной пенсией в три тысячи дукатов титул великого адмирала. В 1500 году, то есть на следующий год после возвращения прославленного моряка, король поручил Альваришу Кабралу основать в Индии португальские торговые конторы. Миссия Кабрала, получившего рекомендации действовать с большой осторожностью, потерпела полное фиаско. В своем отчете о путешествии он настаивает на том, что появление португальцев и их поведение в новой стране должны опираться только на силу. Итак, шла речь о попытке завоевания, а это требовало опытного флотоводца, искушенного и доблестного в военных делах человека, способного на все, не отступающего перед любыми средствами. Выдвигалось имя Васко да Гамы. Без колебаний он согласился выполнить нелегкую задачу и принял командование третьей экспедицией, на сей раз намного более внушительной: к отплытию готовилось двадцать кораблей. Комплектуя экипаж, Васко да Гама принимал всех авантюристов, посулив им быстрое обогащение, лишь бы это были храбрые люди, способные к любой работе. Прибыв на рейд Каликута, Гама без всякого предупреждения беспощадно бомбардирует город в течение трех дней, сжигает все торговые суда, отказывается принять делегацию принца и подвергает город жестокой осаде. Затем он направляется в Кочин, где индийский владыка, полностью капитулировав, принимает его как победителя, подписывает все навязанные ему соглашения и предоставляет португальцам полную свободу, все мыслимые монополии на торговлю. После этого Гама возвращается в Каликут с единственными судном, атакует флот растерянного саморина, обращает его в бегство, захватывает два корабля со множеством драгоценностей, берет курс на Европу и прибывает в Лиссабон 1 сентября 1504 года. Будучи пионером колонизации, основав поселения, которым судьба сулила долгую жизнь, Васко да Гама принес своей стране неисчислимые выгоды. Прежде всего он обеспечил Португалии путь в Индию и монополию на торговлю пряностями. Кроме того, великая и гордая торговая республика Венеция, снабжавшая всю Европу восточными товарами, была разорена в короткий срок и пришла в глубокий упадок. Наконец, торговые пути европейцев через Средиземное море уступили место более надежным и прямым путям через Атлантический океан. Жуан III, наследник короля Мануэла, возвел Васко да Гаму в сан вице-короля Индии, и тот, несмотря на возраст и физические недуги, приобретенные на службе отечеству, немедленно принял новое назначение. Девятого апреля 1524 года он покинул родину, которую ему уже не суждено было увидеть. По прибытии в Кочин тяжелая болезнь сразила Васко да Гаму. Он передал полномочия Энрики да Минезишу, своему заместителю, заставил офицеров дать клятву верности избранному наместнику и ушел из жизни при полном сознании. Тело его привезли позже в Португалию и торжественно предали огню в городе Видигейра, чье название присоединилось к графскому титулу завоевателя. Удивительная вещь: пока португальцы обогащались подобным образом, Англия, столь ненасытная в захвате новых территорий, и Франция, так отважно несущая в дальние края огонь своей цивилизации, буквально плелись в хвосте и упустили богатейшие новые земли. Лишь столетие спустя две эти державы начинают фигурировать среди наций, которые ведут значительную торговлю с Ост-Индией. Это происходило как бы на ощупь, с величайшей осторожностью, под угрозой жестоких просчетов и провалов, как случилось, например, с одной из первых серьезно организованных французских экспедиций. Дело было в 1601 году, едва лишь год спустя после жалованной грамоты королевы Елизаветы, дававшей английским купцам привилегии на торговлю в новых странах. Перед лицом невероятного обогащения португальцев, которые продолжали процветать, торговцы Сен-Мало, Лаваля и Витре, объединившись в ассоциацию и презрев недостойную бездеятельность французского правительства, решили тоже испытать судьбу и любой ценой, идя на любой риск, добиться успеха в Ост-Индии. С этой целью они зафрахтовали два корабля: «Круассан», водоизмещением четыреста тонн, и «Корбен», водоизмещением двести тонн. Во главе экспедиции стали смельчаки Малуен, Мишель Фроте и его заместитель Франсуа Гране — все горожане Сен-Мало. Отчалив от бретонского берега 18 мая 1601 года, корабли добрались к 1 июля до Мальдивских островов, где напоролись на грозные рифы, столь опасные для моряков XVII века. «Едва рассвело, — повествует интересный и содержательный отчет Мартена де Витре, историографа экспедиции, — как мы увидели многочисленные отмели и острова, именуемые Мальдивами, и нашим взорам предстал в четверти лье от нас злополучный “Корбен”, потерявший грот-мачту. Его швырнуло на мель, он застрял безнадежно, и разъяренные волны свободно перекатывались через бизань[4]. Вторая мачта еще торчала, но вскоре свалилась и она. Это зрелище привело нас в содрогание: мы ничем не могли помочь гибнущим товарищам. Оставалось только надеяться, как бы нам, все еще находившимся в опасной близости от рифов и островов, не повторить судьбу “Корбена”…» «Круассану» удалось избежать катастрофы, но на обратном пути его не пощадили бури у мыса Доброй Надежды. Сбившись с дороги, исчерпав провиант, с пустыми питьевыми баками, он носился, полузатопленный, по воле волн. Обстоятельства выглядели тем серьезнее, что, даже успокоившись, море оставалось непредсказуемым и грозным. «Мы опасались, — продолжает Мартен де Витре, — как бы судно не треснуло под нашей тяжестью, когда вдруг заприметили три фламандских корабля, что послужило нам некоторым утешением. К вечеру мы приблизились к ним. Рассказав о своих злоключениях фламандцам, мы попросили их принять нас на борт и, согласно морскому обычаю, обещали поделиться с ними нашими товарами». Добрые фламандцы, которым не терпелось заполучить всю добычу целиком, охотно пришли французам на помощь. «В конце концов нам удалось перегрузить на их корабли и то, что каждый хранил для себя, а потом довелось отдать им наше судно на разграбление. Впрочем, бедный “Круассан” спустя недолгое время наполнился водой и затонул на наших глазах». Итак, и этот корабль постигла участь не лучшая, чем «Корбена», и усилия отважных моряков не увенчались никакими успехами, ибо они лишь обогатили восточными товарами три фламандских корабля. Как замечает Мартен де Витре, моряки и пассажиры «Корбена» не могли получить никакой помощи от «Круассана», уже сильно поврежденного, который не в состоянии был приблизиться к рифам. Часть экипажа «Корбена» пошла ко дну, другие, кому удалось добраться до берега, попали в плен к туземцам. Эту неудачную экспедицию, однако, нельзя назвать совершенно бесполезной. Она глубоко взволновала общественное мнение и породила цепочку новых попыток, которые завершились три года спустя созданием Французской Индийской компании, утвержденной в 1604 году патентными письмами Генриха IV. Первые шаги, экспедиции, напоминающие скорее разведывательные рейды, дали еще немного стимулов для развития французской компании. Руанцам удалось продвинуться до Явы, но без особого практического эффекта; посланники Дьеппа остановились на Мадагаскаре, но не стали там задерживаться — не было смысла. Только со времен правления Кольбера[5] начинается реальная французская торговля на полуострове Индостан. По предложению Кольбера король Людовик XIV предоставляет реорганизованной компании привилегии на пятьдесят лет. Руководство компанией и командование первой экспедицией поручаются Карону[6]. Хотя он был выходцем из семьи французских протестантов, принято считать Карона голландцем, поскольку его семья жила в Нидерландах. Лишенный средств к существованию, не имея возможности получить серьезное образование, Карон то плавает юнгой на одном судне, коком — на другом, то работает мелким служащим фактории в Дезима. Тяжелый физический труд, лишения, плохое обращение не помешали юноше, однако, приобрести обширные познания. Осведомленные о его выдающихся деловых способностях, голландцы доверяют ему ведение своих торговых дел в Японии и принимают его в руководящий совет Нидерландской компании. Тем не менее он покидает ее и переходит на службу во Францию. Нельзя читать без сожаления памятную записку, составленную им для Кольбера. Его проект, основанный на обстоятельном знании тонкостей торговли, а также взглядов, обычаев и нравов народов, к которым он адресовался, в случае своего одобрения дал бы нам могучий толчок для развития торговли с Индостаном, Китаем и Японией. И Сушю де Ренневаль, который сопровождал первую экспедицию, организованную Кароном на средства новой компании, заявляет, что никогда еще подобное предприятие не начиналось при таких благоприятных обстоятельствах, если бы только все служащие честно исполнили свой долг… И он добавляет: «Проект господина Карона, в справедливости которого нет ни малейших оснований сомневаться, отмечен умом и высоким духом того, кто его создавал. И он, безусловно, способен был выполнить свой план, если бы Карона не заподозрили в каких-то тайных умыслах, кроме своего частного интереса. Во всяком случае, французы, то ли неверно оценив его поведение, то ли проявляя недоверие к голландцу, представителю иной веры, вообразили, что они не получат никакой выгоды, и нарушили все планы и исполнение его замысла. С явной ревностью отнеслись они к предложению Карона послать главными агентами в Коромандель[7] и Бенгалию голландцев, его компаньонов по прежней работе. Католики никогда не одобряли его намерения посылать в Японию только религиозных людей. Некоторым европейцам удалось убедить японцев, что католики — это идолопоклонники, которые стараются проникнуть в их страну». Разрываясь на части между религиозными предрассудками, национальным соперничеством и личными амбициями, Карон был обречен на гибель. Высадившись в Кочине в декабре 1667 года, он основал в Сурате[8] в 1668 году первую французскую торговую контору. Здесь он составляет смелый план распространить французское влияние на остров Цейлон, принадлежавший тогда Голландии. Ему удается овладеть районом Тринкомали[9]. Однако, натыкаясь на происки врагов, еще более опасных в силу своей замаскированности, а также испытывая противодействие со стороны собственных агентов, которые разрушали все его замыслы, он не смог удержаться ни на Цейлоне, ни в Сан-Томе, ни на Коромандельском берегу, куда в 1672 году совершил отважную вылазку. В 1674 году Карон был вынужден оставить голландцам бывшую португальскую территорию. Враги его торжествовали. Во Франции сумели ловко использовать относительные неудачи Карона, не имевшие никакого значения для будущего компании. Провозглашенный изменником, нарушителем долга, он был вызван для дачи показаний и отчета в своем поведении. Незамедлительно Карон взошел на борт корабля, но это судно налетело на риф неподалеку от Лиссабона и затонуло вместе с экипажем и грузом. Несчастный Карон оказался в числе жертв и уже не мог лично рассеять наветы, пятнавшие его честь и достоинство. После его отъезда дела шли все хуже и хуже. Банкротство компании стало бы неминуемым, если бы не оборотистость одного из агентов, Франсуа Мартена. Вышедший из темных низов общества, он сам определил свою судьбу упорным трудом. Начав с мелкого клерка в лавочке восточных пряностей, благодаря собственной энергии и настойчивости, а также незаурядному уму, Мартен поднялся по всем ступенькам колониальной администрации. Лишенный образования, он сам воспитал себя; ничего не ведая об обращении с оружием, становится генералом на службе в компании; и, когда пробил урочный час, когда надо было занять опустевшее кресло Карона, стать лицом к лицу с острейшими трудностями, предотвратить катастрофу, бороться, невзирая ни на что, и спасти ситуацию, Мартен проявил себя как человек исключительных способностей. В тот момент, когда дело казалось безнадежно проигранным, Франсуа Мартену удалось объединить шестьдесят французов, остатки поселений на Цейлоне и Сан-Томе, и привести их на Коромандельский берег, на важность которого он давно обращал внимание земляков. В 1680 году Мартен купил у владыки Бриджапура маленькую деревушку из тростниковых хижин и обосновался там со своими компаньонами. Место это называлось Пондишери[10]. Вскоре завязалась оживленная торговля с местными жителями. Затем, когда заброшенный прежде утолок превратился в цветущий край, Мартен воздвиг укрепления, построил дома из кирпича и сумел организовать весьма значительный рынок, привлекавший наибольшее число покупателей со всего региона. Это обстоятельство вызывало зависть у европейцев, обосновавшихся на побережье Индостана задолго до появления французов. Особое неудовольствие выказывали голландцы. Не в состоянии затормозить этот бурный расцвет, они вздумали применить силу. Собрав многочисленный экспедиционный корпус, они осадили Пондишери, охраняемый смехотворно малым отрядом. Невзирая на ошеломляющее неравенство сторон, Мартен сражался до последнего и уступил только десятикратно превосходящему противнику. Пондишери пал, несмотря на героизм защитников и их предводителя. «Я много раз докладывал о значении, которое имела бы для нас своевременная помощь, — писал Мартен руководству компании. — Мы продержались около пяти лет с того момента, как запаслись оружием в Европе, и сорвали множество враждебных происков. Мы сделали все, что могли себе позволить люди вроде нас, брошенные на произвол судьбы и не имеющие никакой подмоги…» По Рисвикскому миру[11] Пондишери остался за Францией. Мартен укрепил свое детище, внес в быт колонии многообразные улучшения, основал Чандернагор и заставил наконец полуостров Индостан уважать французский стяг, дотоле здесь презираемый. Уезжая в Индию, он оставил во Франции жену и дочь. Не получая от них очень долго никаких известий, он воспользовался своим высоким служебным положением и прибег к помощи агентов компании, работавших в метрополии. В конце концов его родные были найдены на центральном парижском рынке, где они торговали рыбой. Компания обошлась с ними как с настоящими принцессами, и две скромные, но отважные представительницы народа смогли вскоре с честью занять высокое положение, отвечавшее их новому общественному статусу. Преображение их было настолько успешным и заметным, что тонкий ум того времени, описавший экспедицию Дюкена, который доставил женщин в Индию, счел необходимым посвятить им несколько строк. «Сегодня, — пишет рассказчик, — ничто в них не напоминает о грязи и мерзости рынка, где они провели так много времени. Они держатся с величайшим достоинством, бриллианты и жемчуг на их шеях переливаются искристей, чем чешуя у карпов, которых они продавали…» Назначенный президентом Высшего совета колонии в 1697 году, Мартен прожил до 1727-го. Несмотря на преклонный возраст, он ни на миг не прекращал трудиться.
ГЛАВА 2
Дюплекс. — Лабурдоннэ. — Лалли-Толлендаль.Несмотря на значительный ущерб в связи с грандиозным банкротством банка Лоу (1721), Французская индийская компания неизменно процветала. В 1726 году губернатор Ленуар провел успешные переговоры о приобретении территории Маэ[12] на Малабарском берегу[13]. Ленуара в 1735 году сменил губернатор Дюма, чье правление оставило столь же яркий след, как и Франсуа Мартена. Он добился от Великого Могола[14] Мухаммад-шаха разрешения на чеканку монеты и благодаря одному этому шагу увеличил доходы на пять-шесть миллионов ежегодно. В 1739 году Дюма приобрел Карикал[15] и прилегающую территорию, он заметно улучшил быт многих поселений, издавна принадлежавших Франции. Короче говоря, дела компании шли отнюдь неплохо, когда новый импульс им придает появление Дюплекса, подлинного колониального гения, равного которому трудно отыскать во французской истории. Жозеф-Франсуа Дюплекс[16] родился 1 января 1697 года в городке Ландреси[17], в провинции Эно. Его отец был откупщиком и признавал одно-единственное занятие в мире: делать деньги. Но тот, кому суждено было прославить в скором времени имя Дюплексов, вопреки всяческим предсказаниям, с самого юного возраста проявляет живую склонность к наукам, искусству и поэзии. Разъяренный этим обстоятельством отец поклялся «выбить дурь» из сына. И, не найдя лучшего средства пресечь артистические замашки Жозефа-Франсуа, старый скупец заставляет его в восемнадцать лет подняться на борт корабля Ост-Индской компании. Несколько лет Дюплекс, лишенный своего любимого времяпрепровождения, почти непрерывно путешествует и за неимением лучшего со всей страстью и силой природного ума отдается изучению коммерции и морского дела. По истечении пяти лет гордый сыном отец, полагая, что навсегда наставил его на верный путь, прерывает эти бесконечные вояжи, приводившие то в Индию, то в Америку, и добивается у компании для Жозефа-Франсуа места члена Высшего совета и военного комиссара. Дюплексу исполнилось только двадцать четыре года. Используя приобретенный опыт, Дюплекс по прибытии в Индию устанавливает главную слабость торговых операций компании, которая пренебрегала ввозом европейских товаров в Индию, а лишь экспортировала грузы во Францию за счет получаемых из метрополии средств. Дюплекс решил исправить эту ошибку, которая вызывала серьезные затруднения у наших колонистов, заставляя их везти необходимые изделия из самой Европы. Затеянное Дюплексом предприятие увенчалось полным успехом и стало источником огромных прибылей. В сентябре 1730 года компания назначает Дюплекса губернатором Чандернагора. Желая сделать этот город центром двойного торгового оборота, откуда уходили бы товары, предназначенные для рынков Индостана, Японии, Китая, Персии, Аравии, и куда взамен поступало бы азиатское золото и деньги, Дюплекс вступил в сношения с внутренними районами, привлек местных торговцев, купил суда и начал торговать с соседними городами. Приободренный первыми значительными успехами, стремясь внушить больше доверия к себе, Дюплекс поставил на службу общим интересам свое личное состояние. Он развил такую бурную деятельность, что уже через десять лет после его прибытия целые флотилии торговых судов доставляли в Китай товары французского производства, а Чандернагор вполне отвечал требованиям главных городов континента. И все это стало лишь подступом к более масштабным планам, которые начали вскоре осуществляться. В 1741 году Жозеф-Франсуа Дюплекс женился на Жанне де Кастро, ослепительной красоты креолке франко-португальского происхождения. Понимающая все наречия Индии, она в этом отношении оказывала солидную поддержку мужу, вела переговоры от его имени с местными правителями, способными воспринять его проекты. Под именем Джоханны Бегум — принцессы Жанны — ее и сегодня хорошо знают и почитают на полуострове Индостан. Став генерал-губернатором всех французских владений в Индостане после отставки Дюма в 1742 году, Дюплекс решил подарить Франции всю эту огромную страну. План его заключался в том, чтобы ловко вмешиваться во все внутренние дела, пользоваться любым случаем или создавать условия для приращения территории и в то же время подрывать английское влияние. Момент представлялся благоприятный. Тюркская империя, основанная в XVI веке Бабуром[18] на руинах афганской конфедерации, распалась, и на ее обломках воинственный народ махратов[19] образовал несколько княжеств. Умело используя расчленение единой прежде страны, Дюплекс постарался заключить союзы с местными царьками и отлично преуспел в этом деле. К сожалению, ослепленная стремлением к повседневной наживе компания не проявила готовности поддержать Дюплекса; ему прислали даже бессмысленный приказ прекратить сооружение укреплений в Пондишери. Неизменно бескорыстный, исполненный глубокой веры в начатое дело, Дюплекс поступил прямо наоборот и продолжил работы, оплатив их из собственного кармана, совершенно естественно не желая оставить без защиты самое значительное из наших поселений в стране. Между тем проявленная Дюплексом активность, его чуткое понимание индийской политики, его коммерческие способности все больше и больше беспокоили англичан, которые день ото дня наблюдали возрастающую угрозу своим владениям. В 1746 году вспыхнула война между Францией и Англией. Тогда версальский кабинет, который претендовал на соблюдение интересов торговли, заключил с Англией договор о нейтралитете в пользу двух соперничающих между собой индийских компаний и стал посылать распоряжения в этом духе в Маэ, губернатору Иль-де-Франса[20] и острова Бурбон[21] Лабурдоннэ[22]. В равной степени с Дюплексом ненавидя англичан, Лабурдоннэ, неприятно удивленный этими приказами, исповедовал отличный от Дюплекса идеал с целью достижения превосходства Франции. Военный человек прежде всего, он мечтал артиллерийским огнем уничтожить английские постройки и флот. И развитие торговли было для него связано прежде всего с территориальным расширением. Возможно, превосходя Дюплекса в военной области, он намного уступал ему по интеллекту, политическому такту, знанию людей. Это различие во взглядах двух столь энергичных и столь несхожих в своей душевной организации людей неминуемо должно было привести к разрушительным последствиям. Руководимые могучей рукой Кольбера, эти двое выдающихся мужчин, в равной степени патриотично настроенных, наверняка подорвали бы английское влияние, тогда как их разногласия сослужили неприятелю бо́льшую службу, чем многочисленные военные победы… Тем более что министры мадам де Помпадур[23] полагали, что искусная политика заключается в том, чтобы подогревать эти разногласия, противопоставлять одного деятеля другому, чтобы впоследствии предать их жестоко и подло. Единственный пункт, в котором изначально сходились Лабурдоннэ и Дюплекс, была невозможность поддержания нейтралитета в Индии между англичанами и французами. Впрочем, иллюзией было полагать, будто английская компания старается сохранить нейтралитет: она лишь тянула время для завершения своих приготовлений. И действительно, пока Дюплекс заканчивал возводить фортификационные сооружения в Пондишери, англичане в нарушение предложенного ими же нейтралитета выслали эскадру под командованием Барнетта, без повода и предупреждения захватили французские торговые корабли и готовились осадить с моря и суши столицу наших поселений. Шестого июля 1746 года Лабурдоннэ встретил английский флот, рассеял его и с первого же раза отвел угрозу от Пондишери. А в сентябре он предпринял наступательные действия и осадил Мадрас. Вот когда с полным блеском проявился эффект умелой и умной дипломатии Дюплекса. Англичане рассчитывали на союз с набобом[24] Карнатика[25]. Однако тот, будучи связанным с Дюплексом тайным договором, не оказал им никакой поддержки, и через пять дней англичане вынуждены были сдаться Лабурдоннэ. Но Мадрас получил от Лабурдоннэ неожиданную милость — городу разрешено было откупиться, и размер выкупа определили в 10 700 000 фунтов стерлингов. Между тем более целесообразно и патриотично было бы сохранить завоеванное либо стереть врага с лица земли. И в самом деле, что значила для богатых торговцев та или иная сумма денег, когда само существование их компании находилось под угрозой?.. Неизменно проницательный и дальновидный Дюплекс, мечтавший о тотальном изгнании англичан, признал недействительным соглашение о капитуляции и отдал город на разграбление. Лабурдоннэ вернулся к своему губернаторству на Иль-де-Франсе, потеряв по пути во время жестокой бури большинство кораблей. Совет компании обвинил его в том, что он взял слишком маленький выкуп с Мадраса, и, что намного серьезнее, ему инкриминировали служебные злоупотребления. Так что, едва прибыв на остров, он встретился со своим преемником и без задержки отправился во Францию, чтобы оправдаться. Оставшись в одиночестве в Индии с горсткой преданных людей, Дюплекс оказывается перед новыми испытаниями и угрозами. Поддержанный своими бесстрашными лейтенантами Бюсси и Паради, он совершает чудеса. И какими же ничтожными силами он располагает! В качестве подкрепления он получает только необученных рекрутов — чаще всего это беглецы из тюрем и с каторги. Как правило, командиры бездарны и не выполняют указаний, за исключением, разумеется, Бюсси и Паради. Офицеры в большинстве своем — люди без малейшего достоинства и патриотизма, бесконечно требуют денег и отказываются сражаться. Дело доходит до того, что, когда большая армия махратов угрожала Пондишери, эти ничтожества накануне битвы целой группой подали в отставку, дезорганизовали французские силы, что и вынудило к позорному отступлению, которое чуть не привело к потере столицы наших владений. На редкость негодные, беспомощные войска! Среди офицеров почти не было способных командовать. И не хватало им не храбрости, а таланта: все это были юнцы без малейшего военного опыта. Они не пользовались никаким авторитетом у своих людей, те потешались над ними. Что же касается солдат, особенно последнего пополнения рекрутов, то это было, по выражению Дюплекса, сборище отъявленных подонков. Короче говоря, если приходилось использовать наемников, то почему же было не позаимствовать опыт англичан?.. Но вместо того чтобы поступать, как наши враги, — нанимать швейцарцев, отыскивать в пехотных батальонах регулярной армии закаленных добровольцев, агент компании, которому доверили столь важное дело, прикарманивал львиную долю сумм, предназначенных для каждого волонтера[26] и навербовал шайку преступников и мерзавцев, удравших с каторги. Англичане презирали эти войска, которые «видели огонь только в своих халупах», как говорил Дюплекс. Они больше походили на банду, чем на армию, но нужда заставляла прибегать к их услугам. И вот с такими жалкими типами Бюсси и Паради обратили в бегство тысячи индусов! Картина победы, одержанной неустрашимым Паради над Мафисканом, аркатским набобом, выступившим на Мадрас с целью изгнать оттуда французов, показывает всю пользу, которую могли извлечь при случае эти замечательные воины даже из такого малопригодного человеческого «материала». Подавая личный пример подчиненным, они сумели поднять их и бросить на врага. Утром 4 ноября, с редкой для генералов точностью, Паради прибыл на берег Адгара. Вокруг, сколько охватывал взгляд, простиралась бесконечная равнина с посевами зерновых, с кокосовыми пальмами, тутовыми деревьями, баньянами. Прямо перед ним, на другом берегу, — армия набоба, численностью около десяти тысяч человек. Она не окапывалась. Полагая, что река послужит рвом для лагеря и составит достаточную преграду, Мафискан ограничился тем, что выставил свою артиллерию перед линиями бойцов. У Паради не было ни единой пушки. Однако это не устрашило его. Исполненный презрения к индийским войскам, плохо обученным и скверно вооруженным, хаотично выпускавшим по снаряду через четверть часа, он построил свой маленький отряд в колонну и, возглавив его с клинком в руке, бросился в реку, уровень воды которой был невысок, поскольку сезон дождей миновал. Свежесть вод взбодрила солдат, которые выбирались на противоположный берег под вражеским огнем. Немедленно Паради подал сигнал к атаке и во главе маленького батальона стремительно накинулся на индусов. Историк этой доподлинной эпопеи, столь мало известной, так продолжает описание: «При виде сверкающих штыков этих дьяволов, что мчались с оглушительными воплями, душа у солдат Анавердикана ушла в пятки; не ожидая удара, они обратились в бегство. Сан-Томе находился неподалеку, крепостные стены влекли беглецов, все устремились в Сан-Томе. Паради гнался за ними по пятам. Он прибыл в тот момент, когда индусы заполнили город. Он остановился и открыл сокрушительную пальбу, простреливая улицы продольным огнем и накрывая градом пуль пришедшие в смятение полчища». Вот это была бойня! Неимоверная давка на улицах, индусы пробивались к оставшимся свободными городским воротам. Но едва лишь они выбирались за пределы города, как с флангов раздавались новые залпы и прокладывали кровавые борозды в перепуганной толпе. Это мадрасский гарнизон занял боевые позиции и в свою очередь отрезал путь к отступлению войскам Мафискана, которые в ужасающей панике разбежались во все стороны и перевели дыхание лишь после многомильного бешеного бега в направлении Арката. В 1748 году английский адмирал Босковен блокировал Пондишери флотом из тридцати кораблей, в числе которых тринадцать было высокобортных. Со своими силами — тысяча четыреста французов и две тысячи сипаев[27] — Дюплекс успел занять позиции на участке, который вскоре был осажден с моря и с суши. И хотя средств не хватало, Дюплекс, наделенный неукротимой энергией и организаторским талантом, сумел позаботиться о всем необходимом. Пондишери, который был уже обязан ему своими укреплениями, стал обязан ему и своим спасением. После пятидесяти пяти дней осады, из которых сорок два были заполнены схватками в траншеях и повторными атаками, англичане вынуждены были отступить с огромными потерями. Эта победа, одна из самых блестящих военных акций XVIII века, получила широкий резонанс в Индии и во всей Европе и принесла Дюплексу красную ленту ордена Святого Людовика[28]. Договор, заключенный в том же 1748 году в городе Аахене, позволил Дюплексу попытаться реализовать свои обширные планы. Не имея больше возможности прямо атаковать англичан, он решил сокрушить их косвенными путями, обеспечивая перевес нашим друзьям над союзниками англичан, нарушая равновесие в пользу Франции путем усиления нашего влияния и расширения территории. Он сохранил в боеготовности все свои войска, и в этом его примеру последовали англичане, которые, отнюдь не собираясь разоружаться, первыми дали пример территориальных захватов. Тогда Дюплекс, поддержанный отважным Бюсси, стал вмешиваться во все войны, затеваемые индийскими набобами и магараджами. Таким путем он получил от султана Декана, которого Дюплекс усадил на трон, набобию Карнатик, а после смерти султана его наследник занял трон также при содействии Дюплекса и в благодарность передал ему пять провинций на побережье Саркара[29] и Ориссы[30], что в совокупности составляло целую империю с тридцатью миллионами жителей и открывало для нашей торговли двести лье побережья со столицей в Масулипатнаме. Великий Могол согласился на все, утвердил все территориальные изменения. В скором времени он сам попал в зависимость от Франции, а вместе с ним и вся Индия[31]. В этот период достигло апогея наше владычество в Азии. К сожалению, взгляды Дюплекса не были поняты акционерами компании, людьми мелочными, тупыми торговцами, которые требовали дивидендов, а не королевств. И затем был еще английский кабинет, который, имея все основания страшиться деятельного гения великого человека, с дьявольской ловкостью щедро рассыпал золото и распространял клевету, в надежде погубить Дюплекса. Дворцовая интрига, затеянная на английское золото, один из обычных дипломатических приемов наших соседей, медленно завязывалась в Версале. Министры, придворные, фавориты — каждый внес свою лепту в крушение дела жизни смельчака, который отважился завоевать империю для своего короля. Обескровленный собственным триумфом, испытывая нужду в подкреплениях, Дюплекс требовал присылки войск. И вот когда оставалось сделать одно-единственное усилие для закрепления победы, он получает мирные увещевания. Наконец, когда в 1754 году английский кабинет ставит отзыв этого великого француза главным условием мира, Людовик XV, введенный в заблуждение своими узколобыми министрами, имел величайшую глупость подписать отрешение от власти Дюплекса, в то время как это был единственный человек, которого стоило бы послать в Индию, если бы он там уже не находился. В этот момент он выдерживал в Карнатике ожесточенную борьбу; его заместитель Бюсси победоносно проходил через Верхнюю Годавери и Нарбуду[32]. Дюплекс покинул с горечью эту землю, где он снискал такую славу, трезво понимая, что Франция теряет свои завоевания, из-за инерции правительства уступая их Англии. А та, переняв политическую систему Дюплекса, которую во Франции расценили как несбыточную, начала понемногу прибирать к рукам наши владения и вскоре извлекла из них неслыханные богатства. Вернувшись во Францию, Дюплекс безуспешно добивался от правительства восстановления справедливости, а от компании — возвращения ему семи с половиной миллионов ливров, которые он израсходовал из своего собственного кармана. Скончался Дюплекс в 1763 году в нищете и в отчаянье, с горечью наблюдая упадок наших колоний и унижение родины, которую он так пламенно любил! После плачевной ликвидации всех дел компании неким Годе, слепым исполнителем чужой воли, посланным для разрушения многолетних трудов Дюплекса, барон Лалли-Толендаль[33], ирландец на французской службе, был назначен генерал-губернатором. Верный принципам чести ипорядочности, доблестный солдат и хороший военный руководитель, Лалли, однако, не был политиком, тем более что со своим прямым и негибким характером, непреклонный к нарушениям дисциплины и честности, он попытался преследовать и разоблачать биржевых игроков. Преданный своими помощниками с самого начала, втоптанный в грязь негодяями, с которыми он боролся, Лалли скоро потерял свое место. Враги действовали против него с дьявольской ловкостью и коварством, им существенно помогли неудачи графа в боях под Танджуром[34] и Мадрасом в феврале 1759 года. Возвратившись в Пондишери, он не без оснований обвинял агентов компании в плохом обеспечении его экспедиции, в предательстве священных интересов родины в угоду торговле, стремился положить конец казнокрадству, публично разоблачал нарушителей служебного долга. Против него разжигали недовольство в армии, часть кавалерии графа дезертировала. В довершение всех этих беспорядков англичане дали сражение под Вандабачи, исход которого остался неопределенным, захватили Аркат и осадили Пондишери. Лалли, защищавший город почти без продовольствия и военных припасов, имевший семьсот человек против двух тысяч с английской стороны, мужественно продержался семь месяцев и был вынужден капитулировать в январе 1761 года. Англичане разорили город, взорвали крепостные стены, форты, дома, превратили в руины цветущее поселение, с утонченным искусством и жестокостью уничтожая столицу наших владений. Не только захваченные в плен бойцы, но и все французы, служащие компании, были насильно вывезены в Европу. Доставленный в Англию как военнопленный, Лалли получил разрешение британского правительства выехать во Францию, чтобы снять с себя оскорбительные для его достоинства наветы. Но, едва он прибыл в Париж, как был заключен в Бастилию. Полтора года длилось следствие. Скандальный процесс падет впоследствии всей своей тяжестью на недостойный королевский суд, который посмел обвинить честного солдата «в предательстве интересов короля и Ост-Индской компании, в злоупотреблении властью и незаконных поборах с подданных короля и иностранцев». Представ перед судьями, Лалли обнажил свою седую голову и покрытую шрамами грудь и воскликнул: «Вот награда за пятьдесят пять лет службы!» 6 мая 1766 года огласили осуждавший Лалли приговор. Слушая его чтение, старый солдат, не в силах перенести обвинение в предательстве, осыпал бранью своих врагов и, выхватив из кармана циркуль, вонзил его себе в грудь. Однако удар оказался несмертельным и не помог ему избежать последних мучений. 9 мая 1766 года, покинутый всеми друзьями, Лалли-Толлендаль с кляпом во рту, словно уголовный преступник, был обезглавлен на Гревской площади. Доброе имя его было восстановлено в 1778 году по требованию сына. Глупая и жадная компания, которая стала сообщницей собственных врагов и с яростью преследовала своих благодетелей, испустила дух в 1769 году. Осыпанная насмешками, продырявленная, почти разоренная по своей же вине, слишком ничтожная, чтобы англичане позволили ей играть хоть какую-то роль, она ликвидировала свои дела и уступила английской короне свой капитал — более тридцати миллионов, дававший ренту в двести тысяч ливров! С этого момента наши владения в Индии сузились до пределов, которые сохраняются и поныне: пять колониальных торговых контор в Пондишери, Маэ, Янаоне[35], Карикале[36] и Чандернагоре с общей площадью около пятисот квадратных километров и населением, не достигающим трехсот тысяч жителей.
ГЛАВА 3
Виктор Жакемон. — Луи Жаколио.Одним из самых наблюдательных путешественников, наилучшим образом описавших современную Индию, является, без сомнения, Виктор Жакемон, этот авторитетный ученый, преждевременно отнятый у Франции в ту самую пору, когда, выполнив наконец свою задачу после четырехлетнего тяжкого труда, он вкушал плоды заслуженной славы. Родившийся в Париже в 1801-м, умерший в Бомбее 7 декабря 1832 года, Жакемон оставил два тома, написанные в изысканном стиле, полные ярких фактов, наблюдений и юмора, которые законно выдвигают его в первый ряд писателей и исследователей. Отец его, человек большого достоинства и весьма образованный, желал, чтобы сын изучал медицину. Но юноша питал большую склонность к естественным наукам, он предпочел ботанику, геологию и зоологию, которые не задевали его чувствительности столь болезненно, как медицина. Тяжело заболев после несчастного случая в лаборатории Тенара, где он изучал химию, Жакемон устроился у генерала Лафайета в замке Гранж, где провел долгое время, отдаваясь любимой страсти к ботанике. Именно там он положил начало своему великолепному гербарию, который постоянно пополнялся в ходе экскурсий в Швейцарию, Овернь[37], Севенны[38]… Тогда ему было двадцать пять лет. Его призвание путешественника определилось внезапно, при обстоятельствах стесненных и неблагоприятных, о которых нет смысла долго распространяться. Вооруженный серьезным научным багажом, он был готов к плодотворному посещению дальних стран, настроившись не упустить ни одного из встречных чудес, что удваивает радость для наблюдательного путешественника. Взойдя на борт «Кадмуса», он посетил Северную Америку, на обратном пути задержался в Санто-Доминго[39], где жил среди неизбывного великолепия тропической природы. В это время брат его получает из Музея естественной истории предложение для Виктора Жакемона отправиться с научной миссией в Индию. При этой новости наш герой немедленно возвращается во Францию, чтобы получить инструкции и подготовиться к поездке. Хотя долгий период в шестьдесят лет уже отделял его время от поражения французов в Индии, хотя положение английской Ост-Индской компании, утвердившейся на принципах Дюплекса, было устойчивым и процветающим, Индостан все еще был закрыт для иностранцев, особенно для французов. Надлежало объяснить директорам богатейшей компании, что речь шла исключительно о научной экспедиции, и убедительно доказать подозрительным и ревнивым чиновникам, что политика абсолютно чужда затеянному предприятию. С этой целью Жакемон выехал в Лондон, запасшись весьма авторитетными рекомендательными письмами, поддержанный также — хотя и умеренно — правительством режима Реставрации[40], которому Англия не желала бы отказать. Справедливости ради надо отдать должное англичанам: если сперва они проявляют ледяное равнодушие к незнакомцам, то они же становятся, быть может, самыми гостеприимными в мире, самыми любезными и великодушными к тому, кто переступит их порог. Великолепно принятый английской аристократией, на которую его высокий рост, обаяние, манера поведения и воспитанность произвели наилучшее впечатление, Жакемон убедился, как легко рушатся перед ним все возникавшие препятствия. Директора Ост-Индской компании с необычайной любезностью отнеслись к нему; он был избран членом Азиатского общества и снабжен большим количеством рекомендательных писем, которые впоследствии чрезвычайно ему пригодились. Освободившись от всех этих хлопот, исполненный веры в будущее, он пересек Ла-Манш, попрощался с семьей и 26 августа 1828 года поднялся на борт корабля «Зеле» в Бресте. «Зеле» направился в Санта-Крус-де-Тенерифе, затем в Рио-де-Жанейро, где задержался из-за аварии. После этого он добрался до мыса Доброй Надежды, где бросил якорь почти одновременно с «Астролябией» под командованием Дюмон-Дюрвиля. Как известно, знаменитый мореплаватель заканчивал тогда первый этап своих поисков пропавшей экспедиции Лаперуза и только что обнаружил в Ваникоро следы кораблекрушения. Живая дружба, как результат общей любви к естественной истории, не замедлила объединить двух молодых людей, которые за время пребывания в Кейптауне почти не разлучались и совершали в окрестностях города увлекательные экскурсии с научной целью. С мыса Доброй Надежды «Зеле» направляется к острову Реюньон, а затем берет курс на Пондишери, где Жакемон проводит несколько дней у французского губернатора Демелея. В мае 1829 года он прибывает в Калькутту. Рекомендательные письма к влиятельным лицам открывают перед ним все двери, и он снова познает щедрость и великодушие этого замечательного английского гостеприимства, которое превращает официально аккредитованного гостя в любимого члена семьи. Он стал таким для самых высокопоставленных чиновников и даже для лорда Уильяма Бентинка, генерал-губернатора Индии. Шесть тысяч франков годового содержания, назначенного ему Ботаническим садом, — весьма скромная сумма для страны, где даже рядовые европейские служащие производят значительные траты, и на свои деньги Жакемон далеко бы не уехал. Но ему было открыто гостеприимство столь щедрое и сердечное, что желания Жакемона буквально угадывались на лету. Он провел шесть месяцев в Калькутте, чтобы привыкнуть и акклиматизироваться в стране, а также изучить обычаи местных жителей. Легко выполнив поставленную задачу, Жакемон обнаружил, что в этот неизбежный подготовительный период он помимо своей воли сэкономил несколько тысяч франков, и он отправился в путь с небольшим отрядом из шести слуг, с бамбуковой повозкой, шестью быками и верховой лошадью. Всегда в приподнятом и радостном настроении, с бьющей через край увлеченностью он описывает в письме к брату состав своего отряда и образ жизни, который он намерен вести с первых же дней. «…Поговорим об опасностях, — пишет он. — Я получил статистические данные об армии, согласно которым ежегодно погибает один офицер из тридцати одного в армии Мадраса, и один из двадцати восьми в армии Бенгалии. Вроде не так много, как ты видишь. Правда, они не ведут столь тяжкую жизнь, которая выпадает на мою долю, не ходят под палящим солнцем и тому подобное… Зато они выпивают бутылку-другую вина или пива каждый день, не говоря уж о гроге; я же пью только воду с небольшой добавкой европейской или местной водки… А кроме того, у меня полный набор хинина против перемежающейся лихорадки и все что нужно от холеры, хотя она почти не встречается в тех местах, куда я направляюсь. Тигры обычно не вступают в беседу с людьми, которые к ним не обращаются. Медведи тоже. Самый опасный зверь — это слон, но он исключительно редок на моем маршруте. Да и в конце концов, я твердо намерен беседовать с этими типами только на ушко и стрелять только в упор. Передвигаясь верхом на лошади, я всегда держу под рукой пару крупнокалиберных револьверов; и мой саис, или конюх, который следует за мной вприпрыжку на своих двоих все шестьсот лье, делая в день по пять, шесть или семь лье, и мой grass cutter, или резчик травы для прокорма клячи, оба идут за мной по пятам словно тени, один с карабином, другой — с моим ружьем: всего у нас пять тяжеленных тюков. Там и сям попадаются воришки или разбойники, но они имеют глупость обворовывать только собственных братьев или туземцев, которых они безжалостно убивают за несколько рупий, однако ни один случай расправы с европейцем мне не известен. Люди здесь ужасно трусливы, а англичане нетерпеливы: в этом смысле я вынужден был позаимствовать их подлую манеру. Домашнее обслуживание тут настолько раздроблено, что у каждого слуги очень ограниченная функция, и от него требуется точность почти военная, для достижения которой используются средства военной же строгости. Все это, впрочем, представляется вполне естественным. У меня есть человек, на обязанности которого только одна доставка воды; он необходим мне в путешествии, потому что, хотя двое других приставлены к моей кавалерии (состоящей из вышеозначенной клячи), она подохла бы от жажды без подносчика воды: человек, который носит траву для кормежки, и другой, который чистит и седлает вышеупомянутую клячу, они не могут, видите ли, зачерпнуть воды из лужи. Правда, я даю своему поильцу, который также приносит воды и для меня, лишь десять франков в месяц. Но, когда он проштрафится, мне не остается ничего другого, как дать ему ногой пинка под зад. Так же приходится поступать и с остальными. А поверишь ли ты, что у меня только две тарелки, но мне необходим в пути посудомойщик? И если тарелки не чисты, то берегись! Мне понадобились необычайные ухищрения, чтобы совместить в одном человеке обязанности повара и прислужника за столом. За столом! Как будто у меня есть стол… У путешествующих английских лейтенантов он есть в их палатке, а также и стулья… Но что касается меня, то я ем с колен или же стоя…» Жакемон выехал из Калькутты 20 ноября 1829 года, направляясь в Чандернагор, прибыл туда на третий день и остановился на берегу Хугли, где джемадар, разновидность местного полицейского, спроваживает его к сборщику налогов с несколько озадаченной миной. Жакемон, понимая, что они желают узнать, кто он такой, протянул означенному сборщику свой пропуск от лорда У. Бентинка. При виде документа, где во всем великолепии красовалась подпись всесильного английского повелителя Индии, стена недоверия разрушилась. Внезапно растаявший сборщик послал джемадара умолять путешественника считать его дом своим собственным и немедленно воспользоваться предложенным гостеприимством. На другой день к отъезду сборщик присылает гостю, как бы тот ни отговаривался и не отбрыкивался, чапрасси[41], нечто вроде индийского янычара, и пятерых сипаев в полном облачении, с оружием и багажом, с набитыми до отказа патронташами. Эти сопровождающие, оплаченные правительством, проследуют с Жакемоном до Хазарубанга[42], первого военного поста, расположенного в восьмидесяти лье от Хугли. Там другие вооруженные солдаты заменят первых — до соседнего поста, и так будет длиться, пока Жакемон остается на землях Ост-Индской компании. И он добавляет: «Лорд Бентинк не сказал мне о магическом эффекте, который произведет его пропуск. Моя маленькая охрана, увеличивать которую по обстоятельствам зависит только от моей доброй воли, не много добавляет к моей личной безопасности, но она освобождает меня от страха быть ограбленным. Когда я выезжаю утром верхом, с несколькими из своих людей и двумя сипаями, то могу быть уверен, что мои повозки следуют за мной и что слуги их не обчистят, скрывшись потом с добычей. Никакое препятствие их не остановит: если они застрянут в рытвине или на водной переправе, если быки станут у подножия горы, неспособные ее преодолеть, то мой сержант со своими солдатами сумеет найти руки, чтобы выйти из затруднения. Где бы я был сегодня без них?.. Наверняка утонул бы в грязи какой-нибудь речки, неподалеку от Бурдвара…[43] Когда багаж прибывает к месту, намеченному мною для стоянки, мой генералиссимус с самым решительным и непреклонным видом приходит мне доложить, что все в полном порядке; затем он организует разбивку лагеря и натягивание тента. Вечером он входит ко мне, чтобы выслушать распоряжения на завтра и сообщить, что он выставил часового возле моей полотняной двери. Пистолеты и ружья спят соответственно в своих чехлах и кобурах, хотя местность и не угрожает обилием тигров: во всяком случае, все у меня находится под рукой, и я не промедлю ни секунды при малейшем шуме…» Хотя путешественник заметно удаляется от Калькутты, край остается если и не цивилизованным, то освоенным. Жакемон движется по широкой дороге, которая ведет через Бенарес[44], Пунну[45], Агру, Дели, и всюду по пути находит пристанище в бунгало, воздвигнутых для этой цели к услугам именитых путешественников. Бунгало эти состоят из двух очень чистых комнат, с двумя кроватями, двумя столами и шестью стульями, так что при необходимости там могут разместиться две семьи. Каждому путнику администрация постов предоставляет трех слуг, которые особенно важны для тех, кто путешествует в одиночестве в паланкине. В одном из таких приютов ему повстречался однажды сборщик налогов с женой и маленьким ребенком. У служащего был слон, восемь повозок, два кабриолета, специальная коляска для ребенка, два паланкина, шесть верховых лошадей и карета. А чтобы передвигаться от одного бунгало к другому — восемьдесят носильщиков, и это не считая, по крайней мере, шестидесяти человек домашней прислуги. Он одевается, переодевается, снова переодевается, завтракает, полдничает, обедает, а по вечерам пьет чай точно так же, как и в Калькутте, сохраняя весь привычный ритуал: хрусталь и фарфор, сверкающая серебряная посуда, распаковываются и запаковываются с утра до вечера, белоснежные скатерти сменяются четыре раза в день… Жакемон, привыкший скромно питаться рисом и молоком, насмехается над этим пышным изобилием, благодаря которому англичане в целом так скверно ведут себя в Индии, и в конце концов начинает избегать этих банальных постоялых дворов, которым предпочитает свой полотняный домик, где спокойно спит и который он устанавливает где только ему заблагорассудится. Тридцать первого декабря 1829 года Жакемон прибывает в Бенарес, но остается очень недолго в этом городе, где его принимают с распростертыми объятиями в самых высоких кругах английского общества и буквально носят на руках, как избалованного ребенка. Но все это скоро ему наскучило; Жакемон уже стал опытным и закаленным путешественником, ему нужно бродяжить по дальним дорогам и совершать вылазки в окрестные леса, где он как ботаник и геолог неустанно пополняет свои коллекции, предназначенные для музея. Благодаря своему строго организованному и гигиеничному режиму Жакемону удалось пересечь Бенгалию, не подхватив лихорадки среди гниющих болот на плоских равнинах, не имеющих стока. Ему не страшны ни миазмы, ни солнце, ни усталость. Он проникает все дальше и дальше в глубь страны, стремясь достичь Гималаев и покрытых снегом плоскогорий Тибета, где намерен провести все лето и доставить оттуда наряду с геологическими образцами неизданные исторические документы. Торопясь выполнить намеченное, Жакемон почти не задерживался даже в главных городах, оставляя удовольствие осмотреть их на обратный путь. В Дели английский резидент представил его старому императору, коронованному рабу Ост-Индской компании, который дал нашему соотечественнику цивильный лист[46] на четыре миллиона. Счастливый уже тем, что ему выпала честь лицезреть живого француза, добряк император посвятил гостя в сан «сахед бахадур», или победоносного рыцаря, что с благодарностью принял Жакемон, как и титул барона. Француза пригласили на охоту с гончими эти заядлые спортсмены-англичане, которые даже в первобытную страну переносят развлечения метрополии. «Я выказал, — пишет Жакемон, — такое же безразличие, как и они, к своей голове и конечностям, преследуя вместе с ними кабанов. Совершенно случайно я не свалился с седла. Падения с лошади стоят сразу после хронического гепатита и перед холерой в списке причин смерти в этой стране. Несколько сломанных ног и раздробленных плеч — столь обычная принадлежность индийской охоты, что она никогда не ведется без хирурга. Что касается львов или тигров, то это — разумеется, для джентльменов — забава самая невинная, поскольку на них охотятся не на лошадях, а только на слонах. Каждого охотника помещают, как свидетеля перед английским судом, в высоко вознесенную над землей клетку, привязанную к спине животного. Небольшой артиллерийский арсенал рядом с ним: пара ружей и пара пистолетов. Случается, правда весьма редко, что тигр, взбудораженный собачьим лаем, прыгает прямо на голову слона, но нашего брата это не касается: забота махаута[47], которому платят двадцать пять франков в месяц, — принимать на себя подобного рода испытания. В случае смерти последнего он остается, по крайней мере, полностью отмщенным, ибо слон не играет безмятежно, словно в дудочку, на своей трубе, когда чувствует, что тигр оседлал ему шею. Он «обрабатывает» врага со всем усердием, так что охотникам остается лишь добить хищника в упор. Как вы можете видеть, погонщик выполняет в некотором смысле роль ответственного редактора. За вашей спиной на слоне устраивается другой сопровождающий, в чьи обязанности входит держать зонтик над вашей головой. Его положение еще хуже, чем у проводника: когда перепуганный слон мчится впереди тигра, тот бросается на него сзади, стремясь пробраться к затылку, и подлинная роль сопровождающего — быть съеденным вместо джентльмена. В Индии торжествует утопический социальный порядок по отношению к “светским людям”. В Европе бедняки носят богатых на руках, но только в метафорическом смысле; здесь это обыденная реальность. Вместо тружеников и обжор, или руководимых и руководителей — тонких нюансов европейской политики, — в Индии есть только носимые и носильщики; это более ясно». Из Дели Жакемон направился в Мератх, Ширдану и Шарумпур и добрался до Хардвара, маленького городка на берегу Ганга, при выходе его из Гималаев. Это как раз было время знаменитой ежегодной ярмарки, куда съезжаются китайцы, тибетцы, татары, кашмирцы, узбеки, афганцы, персы и пр. Жакемон надолго распростился с равнинами и направился со своими повозками и быками в горную местность. Из предосторожности, а также для облегчения своего продвижения, он оставил врачу, директору маленького ботанического сада в Шарумпуре, самый тяжелый багаж и коллекции, сформированные после выхода из Дели. Прибыв в Дерху, он расстался с быками и лошадью и продолжил путь пешком, с палкой в руке, подступив к первому порогу гигантских гор. После этой пробной и очень трудной экспедиции Жакемон выступил снова в путь с тридцатью пятью носильщиками и с небольшим эскортом из солдат-гуркхов[48], бесстрашных и надежных горцев. Питаясь отварным рисом и жесткой козлятиной, утоляя жажду из горных ручьев, засыпая на каменистой почве, кое-как прикрывшись полотняным тентом, он начинает страдать от холода. А кроме резкого падения температуры — почти ежедневные страшные ураганы, сопровождаемые дождями и градом. Влияние высоты в этих местах уравновешивается влиянием широты, составляющей тридцать один градус. Однажды путешественник ночует в лесу из абрикосовых деревьев, которые только-только выпускают листочки в начале мая. Пол его палатки, без преувеличения, покрыт цветами: это земляничные кустики усеяли все пространство. С другой стороны, растения наших европейских лесов или же настолько близкие к ним, что только ботаник способен уловить различия, доминируют в средней зоне Гималаев. Они сочетаются с некоторыми другими, чуждыми для наших краев, но имеющими своих собратьев на равнинах Северной Америки. Обстоятельство весьма существенное, помогающее идентифицировать цветы и растения по высоте их произрастания, какова бы ни была при этом широта местности. Наконец Жакемон прибывает в Шимлу, превратившуюся нынче в прекрасный санаторий, где лечатся пострадавшие от ужасного климата Индии служащие и военные. Но во времена Жакемона это был скромный городок, затерявшийся у границ Китайской империи. Путешественника великолепно принял офицер, в обязанности которого входило руководить военной, политической, юридической и финансовой службами в регионе, капитан артиллерии по фамилии Кеннеди, который и был подлинным основателем Шимлы. Вот как это произошло: девять лет тому назад капитан Кеннеди, жестоко страдавший в долине от знойного лета, надумал разбить стоянку под сенью густых кедров. Он был один со своей свитой и прислугой. Друзья приехали его навестить и нашли место очаровательным, а климат — превосходным. Призвали несколько сот горцев, которые вырубили деревья вокруг стоянки, обтесали их грубо под прямым углом и с помощью рабочих, пришедших из долины, соорудили в течение месяца просторный дом. Но каждый из приглашенных захотел такого же дома и для себя, так что вскоре с полсотни построек усеяли склоны. И, словно по мановению волшебной палочки, целый поселок возник среди гималайских деревушек; в скалистой породе прорубили отличные дороги, и в семистах лье от Калькутты, на высоте семи тысяч футов над уровнем моря, воцарилась роскошь индийской столицы вместе со всем утонченным комфортом, столь любезным сердцу англичан. Гостеприимство капитана Кеннеди, настоящего проконсула с жалованьем в сто тысяч франков, было поистине безгранично. Жакемона поражает это необычное обилие обязанностей, к которым относится командование полком горных стрелков, функции генерального приемщика, судебный разбор дел индусов, татар, тибетцев, при необходимости заключение виновных в тюрьму, наложение штрафов и даже вынесение приговоров к повешению… И все это — на протяжении какого-нибудь часа работы в сутки! Между делом офицер водит своего гостя по горам и ущельям, снабжает его лошадьми, предоставляет ему полную свободу заниматься геологией или же присоединяться к светской кавалькаде, едущей на прогулку, короче говоря, в лепешку расшибается, чтобы ему угодить. Он устраивает в его честь изысканные обеды, куда приглашенные являются во фраках и в шелковых чулках, где пьют рейнское вино, херес, шампанское и мальвазию, а на десерт подают вкуснейший кофе-мокко. Не ограничиваясь щедрым гостеприимством, услужливый капитан помогает Жакемону в исследовательской работе, стремясь облегчить ее выполнение. И для начала он сводит путешественника с королевским визирем Биссахиром, союзником англичан, во владениях которого Жакемон окажется по ту сторону Гималаев. Этот раджа[49] пришлет Жакемону одного из своих офицеров, чтобы сопровождать путешественника повсюду, а для усиления его безопасности Кеннеди еще придаст ему эскорт карабинеров-гуркхов из своего полка, самых расторопных и ловких парней, с одним из своих чапрасси, который уже посещал эту страну. Следует заметить, что люди с индийской стороны ужасно боятся людей со стороны китайской; и Жакемону ни за что не удалось бы набрать себе носильщиков, если бы его новый друг не предложил ему со всей любезностью бросить за решетку тех, кто откажется следовать за ним. Аргумент, подкрепленный, впрочем, обязательствами со стороны визиря, оказал немедленное воздействие. Раджа Биссахир уже очень хорошо усвоил, что он несет полную ответственность за исследователя, и он проявит большую заботу о Francis sahib captânne Kindi sahibké doste: о господине Французском друге великого генерала Кеннеди. В сопровождении полусотни людей, включая носильщиков и эскорт из солдат-гуркхов, Жакемон покинул Шимлу и прибыл в Серан, летнюю резиденцию раджи, где ему был оказан прием, наглядно подтвердивший, насколько умеют англичане заставить себя уважать и повиноваться себе. До такой степени, что этот на три четверти первобытный монарх предоставил в его распоряжение своих вьючных животных, своих людей и свой карман — на случай непредвиденных расходов у путешественника. Как было условлено, он также придал Жакемону в качестве переводчика одного из своих офицеров, и вскоре, перейдя Сатледж (Гифазис), исследователь очутился на северном склоне Гималаев, или, вернее, на отрогах, окаймляющих главную горную цепь[50]. Поскольку ему еще следовало подняться более чем на пять тысяч футов, чтобы достичь Тибетского плоскогорья. Июль давно вступил в свои права, но на подобной высоте воздух остается свежим и холодным. Однако путешественник был счастлив подбодрить свой организм щедрой живительной дозой кислорода, а потому забывает об усталости и о трудностях; он пересекает потоки, долины и ущелья, преодолевает перевалы и берет приступом вершины, нисколько не заботясь о том, что создает для Англии casus belli[51], вместе со своим вооруженным отрядом проникая прямехонько на китайскую территорию, куда его неотразимо влечет таинственное очарование неведомого. С невероятным мужеством и как бы между прочим, не придавая этому особого значения, Жакемон преодолевает горные хребты высотой пять с половиной тысяч метров, разбивает стоянку на отметке пять тысяч метров. Четырежды он повторяет этот подвиг в местах абсолютно неисследованных и малодоступных. Затем он возвращается в Ладак[52], оставаясь все на той же огромной высоте. Из понятного путешественникам кокетства он принимается писать письма в горной деревушке Гиджурмол, расположенной в пяти километрах над уровнем моря, — самый высокогорный населенный пункт на всем маршруте исследователя. Между тем путешественнику хватает различных приключений, и он рассказывает об одном из них в письме к брату, написанном на китайской границе. Жакемону не изменяют привычные живость изложения и азарт. «…Экскурсия, — говорит он, — в ходе которой я должен был четыре раза подниматься на огромную высоту — на семьсот метров выше Монблана[53], — имела целью обнаружить пласты ракушечника, о чем я догадывался и чему действительно нашел подтверждение; она дала мне также изрядное количество новых растений. Но пять дней пути в безлюдной местности, с ночлегами, самый низкий из которых находился на четырнадцати тысячах футах, и еще я волоку запасы продуктов на двенадцать дней… Поскольку я очень сомневался с самого начала, что мне удастся добраться до какого-нибудь китайского городка или деревушки, и, уж во всяком случае, я не рассчитывал запастись там харчами на обратную дорогу… Ведь я совершал поистине враждебный акт по отношению к его величеству, чайному королю Пекина, в мой отряд входило более шестидесяти человек, в том числе шестеро солдат. Мне очень повезло: я нашел, что охрана китайской границы отнюдь не отличается особой бдительностью; и неожиданное прибытие моего каравана, шедшего плотной колонной, настолько поразило жителей Беара, что они удрали при моем приближении, не оказав ни малейшего противодействия. Я мирно расположился лагерем в избранном месте, а наутро в мою маленькую палатку последовал визит китайского офицера, который нес вахту в сторожевой будке, сложенной из сухого камня, с двумя жалкими солдатиками. Он явился с жалобами; я превратил его в обвиняемого, задал ему множество вопросов, бесцеремонно свел его речь только к ответам на них и отпустил кивком головы вместе с его оруженосцами, когда исчерпал заряд своего красноречия. Я разыграл сцену и подавал команды своим людям угрожающим тоном, чтобы подействовать на “гостей”. Жители Беара не имели понятия о двуствольных ружьях, не говоря уж о зарядах ударного действия. Эффект от двух пуль, которые я одну за другой влепил в соседнее дерево за несколько мгновений до моей аудиенции китайскому офицеру на глазах у многих его приспешников, произвел на подданных Поднебесной империи[54] магическое действие. Я велел выдать им немного табака, что заставило их сменить страх на благорасположение ко мне. Странное происшествие намного увеличило их уважение к господину французу. Я падал от усталости и, однако же, должен был трогаться в путь. Я выпил “на посошок”, наполнив водкой свою ложку, чтобы растворить в ней кусочек сахара. Положив сахар, я поджег водку; и, когда он растаял, я, дуя на ложку, проглотил эту капельку пунша. Беарцы, которые никогда не были артиллеристами, подумали, что я выпил огонь, и приняли меня чуть ли не за дьявола. В этот день я ночевал очень высоко, в шестнадцати тысячах футах над уровнем моря. Я все еще находился на китайской территории, где хотел наутро определить залегание некоторых пород. Ночью какие-то всадники расположились рядом с моим лагерем. Я тотчас догадался об их появлении и о небольшом их количестве. Не получив от них никакой информации, я пошел на разведку утром в сопровождении шести слуг. Тогда татаро-китайская конница пришла в движение, следуя за мною по пятам, но на почтительном расстоянии. Я дал знак одному из всадников приблизиться; и поскольку бедняга даже не слез с лошади, чтобы меня приветствовать, я ухватил его за длинные волосы и сбросил на землю. Вот что значит, мой друг, прожить целый год в Индии. Начинаешь вполне искренне чувствовать себя оскорбленным любым поведением, если оно недостаточно услужливо. Но здесь, конечно, я был не прав, поскольку этот злосчастный беарец не знаком с правилами индийского этикета. Но я увидел только одно: цвет его кожи. И, забыв о различии стран, принял его невежество за вызывающую дерзость: inde irae![55] Его товарищи пустились в бегство галопом. Мой бедолага водрузился кое-как на свою лошадку и поспешил за ними». На такой высоте даже летом очень прохладно, а ночи прямо леденящие. Жакемон кутается в шерстяную одежду, в несколько одеял и, несмотря на доблестную оборону против врага, жестоко страдает от холода. Странный климат, что и говорить! Снега выпадает не так много зимой, но он не тает четыре месяца. Дождей почти не бывает, и засушливый ветер свистит три часа кряду ежевечерне, иногда и ночью. Так что путешественник просыпается перед рассветом, окоченев под пятью одеялами. Жакемон продвигается вперед подобным образом до 32° северной широты и, кажется, начинает сомневаться в существовании Тибетского нагорья. За спиной уже довольно далеко осталась покрытая снегом горная цепь Индийских Гималаев, и он констатирует, что местность впереди все время идет на подъем. Рядом с ним люди, которые хаживали по три месяца пешком к северо-востоку и по шесть месяцев — на восток, и сообщения их, полагает Жакемон, слишком согласуются между собой, чтобы не быть точными. Все эти неизвестные Жакемону места они представили как нечто схожее с теми, которые он уже посетил, как причудливое и хаотичное нагромождение разветвленных отрогов гор, вытянутых в цепи, которые пересекаются во всех направлениях. И Жакемон приходит к выводу, что Гималаи, чьи вечные снега видны с берегов Ганга до самого Бенареса и которые образуют столь величественный контраст с долинами Индии, представляют собой не что иное, как скромные подступы к «Тибетским Альпам»[56]. Тот факт, что Жакемон является представителем Франции и французом по происхождению не только не вызывает осложнений, но и служит в некотором роде пропуском. Англичанину было бы крайне трудно, а то и вовсе невозможно, совершить такое путешествие, какое совершил с такой легкостью господин француз. Действительно, английское правительство запрещает своим подданным приближаться к китайским границам, чтобы избежать беспорядков из-за нарушения территориальной неприкосновенности. Свободный от дипломатических пут и убежденный в том, что его маленький караван пройдет по этим пустыням победным маршем, он вклинивается туда безбоязненно. Несколько раз Жакемон встречался с группами людей, намного превосходящими его отряд, они собирались вокруг своих деревушек, пытаясь задержать его продвижение; иногда ему вдруг преграждали путь на гребне горы, в узком ущелье, где один человек мог бы сдерживать тысячу, на берегу потока… Он не колеблясь шел своим путем, не придавая значения никаким окрикам и приказам, в редких случаях грубо отпихивая кого-нибудь с пути, чтобы рассеять всю изумленную толпу. И никогда он не наблюдал у противников, при всем сдержанном поведении до стычки, никакого признака открытого сопротивления. Зато в отместку они старались чем-то ущемить его на обратном пути, например, уморить голодом. Они не осмеливались полностью отказать ему в продаже продуктов, но ловко манипулировали ценами, взвинчивая их все выше по мере его следования. В конце концов Жакемон, видя, как быстро пустеет его кошелек, вынужден был принять меры, к коим, возможно, ему следовало прибегнуть с самого начала. Он вполне щедро сам назначил цены и заявил, что если их не примут, то он подвергнет деревню разграблению и уведет весь скот. Угроза подействовала мгновенно, ее не нужно было повторять дважды. Тем не менее трудности возрастали и становились почти нестерпимыми, невзирая на все ухищрения путешественника. Гибель была вполне реальной, хотя ей и противостояли жизнерадостная веселость сердца и французская беззаботность. В ту эпоху действительно редко случалось, чтобы кому-то удалось победить или обмануть подозрительность китайского правительства, которому подчинена эта часть Тибета. Мы цитировали английского врача, который добился почти такого же успеха, как Жакемон, и прошел не меньшее расстояние. Правда, путешествие его оказалось в научном отношении бесплодным, поскольку он не обладал специальными геологическими познаниями, как Жакемон. Мистер Муркрофт[57] проник даже за те пределы, которых достиг его земляк доктор, и сравнялся с Жакемоном, поскольку посетил Лейо; но он умер внезапно, без сомнения будучи отравленным. До этого путешествия, ставшего для него роковым, Муркрофт совершил другое в те районы Тибета, которые закрыты для иностранцев коварной и мнительной китайской полицией. Он проделал паломничество к священному озеру Манзаровер, и нам трудно понять, как для удовлетворения своего беспредельного любопытства он подверг себя опасностям странного переодевания и вытерпел лишения всякого рода по этой причине. В самом деле, ему пришло на ум посетить Манзаровер и восточных кайлд[58] в костюме факира, давшего зарок молчания! В свою последнюю и злосчастную экспедицию он отправился в персидском костюме и стал в дороге объектом пристального внимания. Он мог расспрашивать, но с большой оглядкой. Любопытство его погубило. Он раскрыл из-за него маскарадный характер своего азиатского одеяния и вскоре погиб, став жертвой собственной неосторожности. Что касается Жакемона, то он предпочел держаться позиции превосходства в отношениях с императором Китая, а это лучший способ общения на Востоке. Ради этой фарфоровой куклы, которая скромно именует себя Сыном Неба, он не сменил одежды и не лишил себя средств наблюдения, без которых его экспедиция становилась бесцельной и ничего бы ему не дала. Он твердо вел свой караван вперед, избегая по возможности опасных встреч, но, когда не мог уклониться от них, то говорил властным тоном и заставлял подчиняться людей, пришедших его прогнать или остановить. И всегда они убирались восвояси, что-то недовольно бормоча. Впрочем, Жакемон старался не провоцировать их грубыми словами, окриками, бесцельными фразами. Самым спокойным и естественным тоном, как говорят о вещах известных, надежных и неизбежных, его тибетский переводчик отвечал на требование убираться прочь таким же властным, командным тоном. И он продолжал двигаться вперед неспешным шагом своего коня или яка, в сопровождении всей своей свиты, следующей плотно сбитой колонной. И от этого маленького каравана исходил дух такой непреклонной воли и решимости, что он безотказно действовал на природную робость и мягкость татар, так что путник никогда не встречал активного сопротивления, разве что в самой пассивной форме. Однажды в сопровождении лишь нескольких безоружных слуг (за исключением того, что нес ружье Жакемона) француз попал в довольно опасную переделку, столкнувшись с двумя сотнями горцев в одежде лам[59]. Хотя исследователь часто убеждался в их опасливой осторожности и осмотрительности, он все-таки ощутил беспокойство из-за малочисленности своей группы. Переводчик его отстал. Никакого иного средства для общения, кроме жестикуляции, у Жакемона не оставалось. Не уступая дороги новопришельцам, он подал им энергичный знак, чтобы они немедленно убирались с тропинки. Однако двое застыли на месте, загородив проход. «Я оттолкнул первого без грубости, — пишет Жакемон, — потому что от резкого толчка он мог бы свалиться с крутого откоса, не удержавшись на нем. А так он уцепился за какие-то пучки трав и, бранясь, присоединился к более уступчивой основной массе. Но второй, без сомнения главарь всей группы, не сдвинулся с места. Все-таки я отстранил его, не проявляя никакого гнева, и мои слуги прошли вслед за мной беспрепятственно. Вот самый краткий отчет о моей самой большой “баталии”. Я не имел представления о том, что значит быть татарским королем, я повторял здесь действия Доктора Франсиа[60]. С большой охотой я предпринял бы завоевание Центральной Азии с какой-нибудь сотней солдат-гуркхов. Имя этих последних наводило ужас на местных жителей, правда, и мое белое лицо, хотя и не заключало ничего пугающего, казалось очень грозным и чем-то страшило этих мирных и тихих лам». По словам Жакемона, Индийские Гималаи имеют немало точек соприкосновения с Европой. Здесь многое сопоставимо. Эти горы покрыты лесами, сходными с альпийскими. Те же сосны, ели, кедры, сикоморы, дубы, которые сочетаются в разных пропорциях в зависимости от высоты гор. За верхней границей лесов зеленеют пастбища вперемешку с зарослями карликовых кустов, ив и можжевельника, и эта зона простирается до полосы вечных снегов. Но ближе к Тибету местность повышается настолько, что впадины долин оказываются над границей лесов на южных склонах гор. Растительность тут скудная, она представлена лишь колючим и скрюченным кустарником да редкими пучками сухой травы, образующими там и сям темноватые пятна на берегах потоков; склоны гор покрыты лишь каменными обломками; во всю ширь горизонта простираются однообразные картины унылого бесплодия, во всех направлениях увенчанные снежными вершинами. Таковы странные особенности местного климата, что тибетские горные цепи, высота которых не превышает двадцати тысяч футов, полностью освобождаются от снега к середине лета. Жакемон много раз устанавливал свою палатку на высоте, превышающей высоту вершины Монблана, к северу от 32°. И поскольку это всегда бывало на берегах проточной воды, то всякий день давал ему возможность вволю изучать редкие следы необычной растительности. На той же высоте в южной части Гималаев его всегда окружали только заснеженные просторы. Хотя главное внимание исследователь отдавал изучению явлений природы, он не игнорировал и местное население с его своеобразием, столь тесно связанным с особенностями этой земли и климата. Одна из примечательных сторон тибетских и татарских нравов, без сомнения, — полиандрия, или многомужество. Сколько бы ни было братьев, у них только одна общая жена. Им совершенно не знакомо чувство ревности, и мир и согласие никогда не нарушаются в этих многолюдных семействах. Едва ли даже смогут вас понять, если вы станете допытываться, не вызывает ли ссоры между братьями предпочтение, которое женщина оказывает одному из них. Воистину — удивительный противовес полигамии, царящей на всем остальном Востоке. Из такой холодной страны Жакемон не мог привезти слишком много органических экспонатов. И однако же его коллекции весьма значительны и содержат немало новых видов растений. С другой стороны, исключительная обнаженность горных пород благоприятна для геологических наблюдений, и они отличаются высоким научным уровнем. В разгар своих путешествий по странам, почти неизвестным тогдашней науке и цивилизованному миру, среди девственных тибетских гор Жакемон получил следующее письмо, каким-то чудом переадресованное ему капитаном Кеннеди из Шимлы в это первозданное безмолвие:
«Лахор, 28 июля 1830. Месье, Я узнал от доктора Муррея о прибытии в Шимлу французского путешественника, столь просвещенного и наделенного столь серьезной миссией. Эта новость подала мне надежду, что старый офицер может оказаться полезным для одного из своих земляков в краях столь отдаленных от нашей матери-отчизны. Вот почему я имею честь адресовать Вам настоящее письмо с предложением воспользоваться в Ваших целях моим положением при дворе лахорского раджи. Располагайте мною, месье, со всей простотой и искренностью, с какими я предлагаю Вам свои услуги. Это не более чем знак национального единства. В ожидании ответа примите уверения в моем совершеннейшем к Вам почтении и пр.».
Письмо это, доставившее Жакемону самое живое удовольствие, подписал генерал Алар, один из героев наполеоновской эпопеи, бывший адъютант маршала Брюна, который после возвращения Бурбонов предпочел эмигрировать, но только не выбрасывать белый флаг капитуляции. Генерал Алар отбыл в эмиграцию после высылки Наполеона на остров Святой Елены. Он приехал в Индию, потом поступил на службу к махарадже Лахора, знаменитому Ранджиту Сингху[61]. Французский генерал реорганизовал его армию, знаменем которой он даже сделал трехцветный флаг, и заставил азиатского владыку любить и почитать Францию. Это послание, догнавшее Жакемона на китайской границе, глубоко его тронуло, и он ответил на него с подлинным душевным жаром, приняв без промедления любезное приглашение генерала. Кроме проявления дружеской симпатии, он увидел в нем реальный шанс посетить знаменитую страну Кашмир, почти закрытую для европейцев из-за пугливой и завистливой мнительности раджи. Одного только влияния англичан могло не хватить, чтобы открыть доступ в эту страну, и Жакемон рассчитывал на добрую волю генерала с его внушительным весом главнокомандующего армией султана. Высокочтимый, щедро вознаграждаемый, генерал Алар получал сто тысяч франков в год — сумма огромная по тем временам, однако пребывал в некотором роде на положении пленника или арестанта. Необычайно хитрый, Ранджит Сингх опасался, что генерал покинет его королевство, и умудрялся заставить его расходовать все жалованье на месте, удерживая генерала блеском роскошной жизни. А золотую цепь труднее всего сбросить человеку, который назавтра окажется без средств к существованию. По возвращении в Серулу Жакемон снарядил гонца к лорду Уильяму Бентинку с просьбой позволить ему покинуть земли Индийской компании и пробраться к Ранджиту Сингху — на тот случай, если переход к туземному монарху из-за тайного сопротивления местного населения сопровождался бы трудностями и опасностями. Со своим обычным душевным расположением лорд Бентинк немедленно прислал ему рекомендательное письмо в самом требовательном тоне, адресованное радже, совсем еще юноше, а также его могущественным соседям, предписывая оказать наилучший прием господину доктору Виктору Жакемону. И господин доктор, который просил называть его в письме именно так, пустился в путь с несколькими фунтами шпанских мушек в качестве аптечки. Все эти переговоры и обмен письмами отняли немало времени, и лишь спустя несколько месяцев Жакемон очутился в Лудхияне, на берегах Сатледжа, который отделяет Британскую Индию от королевства Лахор[62], в ожидании позволения Ранджита Сингха вступить в его владения. Вскоре раджа прислал к нему сына своего премьер-министра, чтобы принять гостя в Фалуре, на другом берегу Сатледжа. И одновременно он получил послание от генерала Алара, подтверждавшее, что этот последний сгорает от нетерпения обнять дорогого земляка, как и его ближайший друг и товарищ по оружию генерал Вентура, итальянец, служивший прежде во французской армии, где он снискал заслуженную репутацию храбреца. Он командует пехотой Ранджита Сингха в генеральском звании. Взгромоздившись на слона, любезно предложенного капитаном Уэйдом — резидентом в Лудхияне, вторым изданием важной персоны в духе капитана Кеннеди, — Жакемон в сопровождении изрядного отряда кавалерии сикхов пересек Сатледж. На правом берегу реки выстроившийся в боевой порядок эскадрон встретил его с военными почестями, когда он выбрался на сушу, и сопроводил его торжественным маршем к палатке, где Жакемон должен был дожидаться королевского представителя. Эскадрон оставался под ружьем, а вскоре вместе с группой офицеров прибыл и мехмандар, что означает по-персидски «хранитель гостеприимства», — Факир Шах-эд-Дин. Капитан Уэйд, усвоивший уроки сикхского этикета, принял его без затруднений. Впрочем, молодой Факир поддерживал беседу самым естественным образом. «Он принимал, — пишет Жакемон, — самые умоляющие позы, чтобы всучить мне увесистый мешочек денег, тогда как часть его приспешников дефилировала перед палаткой, снося к дверям корзины с фруктами, горшки со сливками или вареньем… Все эти подарки прислал мне раджа. Я просил Шах-эд-Дина написать его повелителю тотчас же, чтобы передать мою благодарность и дать ему понять, что я вовсе не рассчитывал на столь избыточную щедрость…» Вечером, выразив желание побыть в одиночестве, Жакемон совершил долгую прогулку вдоль пустынных берегов Сатледжа, с облегчением освободившись от чрезмерных почестей, которые начали уже его тяготить. По возвращении в лагерь он принял секретаря своего мехмандара, который явился, чтобы выслушать распоряжения на завтрашний день. Путешественник назвал время отъезда и место ближайшей стоянки. Весь переход он по своему выбору проделал на слоне, восседая в гордом одиночестве, и на почтительном расстоянии его сопровождал кавалерийский взвод. Прибывший в лагерь вместе со своим эскадроном чуть позже Факир Шах-эд-Дин, который следовал за Жакемоном на расстоянии двух-трех миль, послал ему письмо с вопросом, когда тот сможет его принять. И вскоре он явился с теми же самыми комплиментами, что и накануне, с новым мешком денег и с провизией всяческого рода. Вечером Жакемон в свою очередь нанес визит Факиру, не откладывая надолго ответную вежливость, хотя он уже совершенно истощился в высокопарных заверениях своей глубочайшей признательности. И, удаляясь под барабанный бой, Жакемон с трудом сдерживает неукротимое желание хохотать от звуков музыки, под которую движутся на медвежью берлогу охотники. «Я кое-как сохранил свою невозмутимость до возвращения к себе, — пишет он, — а закрывшись в палатке, нахохотался вволю над своей актерской игрой и наконец-то снова обрел себя самого. В Индии принято говорить “мы” вместо “я”, уже не очень скромная формулировка; но с тех пор, как я перешел через Сатледж, говорю о себе только в третьем лице, как например: “Сахиб[63] совершенно не устал”; “Господин очарован Вашей Милостью”; “Господин приглашает Вашу Милость подняться на его слона” и пр. За четверть часа моего разговора с сикхами звучит больше “милостей”, чем во всех трагедиях Расина»[64]. Наутро, как и накануне, новый визит Факира Шах-эд-Дина, который приносит очередную порцию комплиментов и неизбежный мешок с деньгами. В каждом мешке содержится сотня рупий, что составляет двести пятьдесят франков. Прибыв в Лахор на шестой день, Жакемон оказался владельцем изрядно набитого кошелька, где звенело полторы тысячи франков, примерно треть годовой музейной выплаты. Согласно требованиям этикета, он не мог отказаться от подобного проявления индийской вежливости. Желая как можно скорее попасть в Лахор, Жакемон проезжает не останавливаясь Амритсар, священный город сикхов, и встречается в двух лье от городской черты с генералом Аларом, которого сопровождают двое коллег — Вентура и Курт. Они приехали на встречу с путешественником в коляске, запряженной четверкой лошадей. С двух сторон они спрыгивают на землю, и Жакемон крепко обнимает генерала, который представляет ему обоих своих друзей. Затем все четверо усаживаются в экипаж. Через час езды по первозданной и пустынной равнине, усеянной, как и в окрестностях Дели, руинами былого могольского величия, они приближаются к очаровательному оазису. Огромный цветник с левкоями, ирисами, розами, аллеи жасмина и апельсиновых деревьев, украшенные фонтанами, откуда брызжут многочисленные струйки воды; а в центре этого великолепного сада — небольшой дворец, убранный с большим вкусом и изяществом. Здесь будет жить французский исследователь. На роскошно сервированном завтраке присутствуют почетные гости, которые с величайшим почтением встречают прибывшего. Затем он целый день бродит по садовым аллеям со своими новыми друзьями, беседуя обо всем, прежде всего о Франции, которой они не видели уже шестнадцать лет и новости откуда доходили до них случайно и обрывочно. Лишь с наступлением темноты они расстаются. Вечером Жакемон получает через своего мехмандара поздравления от короля и его подарки: нежнейший кабульский виноград, сочные гранаты из той же страны, самые изысканные местные фрукты и кошелек с пятью сотнями рупий. За великолепным обедом при свечах его обслуживала целая армия слуг, разодетых в богатые шелка. Однако, храня верность своему спартанскому режиму, который позволял с честью переносить тяжелую усталость и убийственный климат Индии, он набирается мужества отказаться от пиршества и довольствуется, как обычно, фруктами, хлебом и молоком. Наутро его ждет торжественный прием у старого короля, который рассыпается в любезностях и уже в скором времени просто не может обойтись без своего нового друга. Ежевечерне он заставляет Жакемона приходить во дворец, осыпает его подарками: деньгами, драгоценными тканями, предметами роскоши, ювелирными изделиями, и буквально-таки донимает вопросами, до такой степени, что Жакемон, хотя его и трудно захватить врасплох, признается, что беседа с королем превращается иногда для него в подлинный кошмар. «Это, — пишет он, — первый любознательный индус, коего мне довелось увидеть; он как бы возмещает своим любопытством апатию всей нации. Он задал мне сто тысяч вопросов об Индии, об англичанах, Европе, Бонапарте; о нашем мире вообще и об ином, о рае и аде, о душе, Боге, дьяволе и еще о тысяче других вещей. Впрочем, как и у всех людей, воспитанных на Востоке, у него болезненная фантазия. Поскольку он способен оплатить самый рокошный обед, какой только возможен в этой стране, то его странным образом угнетает, что он не в состоянии пить, как рыба, не пьянея, или набивать брюхо, как слон, без неприятных последствий в виде одышки». Между тем Жакемон, чей престиж возрос еще больше, прогуливается по столице Пенджаба и, чтобы избежать назойливого любопытства подданных раджи, одевается на индийский манер и восседает на слоне, чья масса и высота достаточно его изолируют от толпы. Однако ему с трудом удается удовлетворять свой профессиональный интерес, поскольку дружеское расположение раджи порой становится прямо-таки тираническим. Раджа жалуется на все и на всех, даже на офицеров, которые стоят во главе его армий и дисциплинированы чересчур уж по-европейски. Иногда он готов подозревать их в тайном умысле, хотя за десять лет службы они доказали свою преданность и честность. Его фантазии доходят до того, что офицеры кажутся ему англичанами или русскими, и несчастные служаки, щедро оплачиваемые и весьма чтимые, невзирая на крайнюю подозрительность властелина, вынуждены вести себя чрезвычайно осмотрительно, чтобы сохранить его доверие. Сам Жакемон, будучи французом, не забывает ни на минуту о своей «английскости» перед Ранджитом Сингхом. Изо всех его личин эта — наилучшая для восприятия и понимания царьков вроде лахорского раджи. Исследователь расхваливает силу, лояльность, мирную политику правительства Калькутты, и, когда его красноречие иссякает, Ранджит высокопарно замечает, что генерал-губернатор и он — это два сердца в едином теле. «В конце концов, — пишет Жакемон, — он мне чертовски нравится, а в мое отсутствие он расхваливает меня вовсю, не жалея самых пышных эпитетов. Вчера, например, я не был при дворе, и мне передали, что он назвал меня полубогом, да еще поиздевался над одним из своих придворных, который хотел вручить мне какое-то особое лекарство от простуды. Она терзает меня настолько часто, что голова моя просто раскалывается». Этот варварский монарх очень наблюдателен и способен на удивительно тонкие суждения. Нет ничего забавного в городских сплетнях о его беседах с Жакемоном. Но он находит нужным проинформировать об этом гостя и первый смеется вместе с ним, хотя, без сомнения, в душе сам считает его английским шпионом. Что касается национальности Жакемона, то здесь раджа, по-видимому, спокоен. Когда французский натуралист расстался с ним после первой аудиенции, раджа воскликнул, что тот, конечно же, не англичанин. «Англичанин, — заявил он, — не переходил бы двадцать раз с места на место, он никогда не стал бы жестикулировать во время беседы, не повышал бы и не понижал тона, не смеялся бы так заразительно над шутками…» Короче, целая цепочка весьма справедливых и точных наблюдений. Говоря, что раджа ему очень нравится, Жакемон выносит о Ранджите Сингхе глубоко мотивированное суждение, не оставляющее никаких иллюзий насчет нравственности азиатского владыки. Он далеко не святой; для него не существует ни закона, ни веры, если его личный интерес не повелевает ему быть верным и справедливым; однако он не жесток. Совершившим тяжкие преступления раджа велит отрезать нос, или уши, или кисть, но никогда не лишает их жизни. Он питает пламенную страсть к лошадям, доходящую до безумия; он затевает самые кровопролитные и дорогостоящие войны, чтобы захватить в соседнем государстве коня, которого ему отказались продать или подарить. Храбрость его беспредельна — редкое качество среди восточных владык. И хотя он всегда добивается успеха в своих военных делах лишь путем сложных политических интриг, хитроумных соглашений и переговоров, простой сельский дворянин превратился в абсолютного монарха всего Пенджаба, Кашмира и пр. Самый набожный среди своих подданных, как никто из императоров во времена их наибольшего могущества, сикх по своему облику и скептик по существу, он отправляется ежегодно для поклонения святыням в Амритсар и, что самое удивительное, к могилам разных мусульманских святых; и эти паломничества не вызывают недовольства у его пуританствующих[65] единоверцев. Вскоре он покинет Лахор; он пошлет в Мултан[66] генерала Вентуру с десятью тысячами людей и тридцатью пушками; а для генерала Алара, без сомнения, найдется вслед за Вентурой такое же дельце. Это перемещение войск имеет единственной целью выбивание налогов из самых отдаленных провинций империи: важнейший вопрос, тут уже Ранджиту Сингху не до шуток. Раджа и для себя найдет какое-нибудь занятие в том же роде. Ведь он ужасно любит командовать военными экспедициями, воображая, что походит на Бонапарта, своего любимого героя. Дни бегут, и Жакемон при поддержке своего любезного покровителя готовится к отъезду в почти неисследованные районы Кашмира. Ранджит Сингх дает ему прощальную аудиенцию, проводит два долгих часа в дружеской беседе с гостем и на прощанье дарит ему халат, почетное одеяние, причем высочайшего качества. Халат стоит пять тысяч рупий, то есть тысячу двести франков. Затем следует великолепная пара кашмирских бордовых шалей в сочетании с двумя другими, тоже кашмирскими, но менее роскошными; Жакемону дарят семь отрезов шелковых или муслиновых тканей исключительной красоты. В общей сложности — одиннадцать предметов, самое почитаемое из чисел. Его одаривают, согласно традиции страны, богатым украшением из драгоценных камней и напоследок — кошельком, заключающим тысячу сто рупий. Все это вместе взятое стоит две тысячи четыреста франков — больше, чем годовая стипендия Ботанического сада. Жакемон дает себе слово использовать полученные средства для основательных и плодотворных научных изысканий. Но это еще не все. Ранджит предоставит своему другу, французскому сахибу, пеших и конных солдат с целью обеспечить его безопасность, одного из своих секретарей на тот случай, когда Жакемону придется ему написать, верблюдов, чтобы везти палатки и весь багаж до подножия гор, и, наконец, носильщиков, чтобы заменить вьючных животных, когда эти последние не в состоянии будут продвигаться дальше. Наконец на «соляных копях», куда он прибудет через десять дней пути, Жакемон получит новый кошелек с пятьюстами рупиями, а в Кашмире — еще один, с двумя тысячами рупий. Раджа желает, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. Снабженный, таким образом, в избытке всем необходимым, одаренный щедростью французских генералов, в частности, храброго Алара, который, со своей стороны, обеспечивает Жакемону в Кашмире неограниченный денежный кредит, исследователь отбывает в конце марта в Кашмир. После пятидневного марша он прибыл на берега Гидаспы, во владения Пинде-Даден-Хана, где раджа Гуляб Сингх принял его от имени Ранджита Сингха, которому подчинялся. Гуляб Сингх, чье имя означает «кроткий лев», изо всех сил старался услужить гостю, осыпал его подарками и вызывался сопровождать его в глубь соляных копей, хотя это и не приличествовало радже. Жакемон охотно избавил бы его от унизительного бремени. Однако «кроткий лев» настолько боялся, как бы чего не случилось с другом Ранджита, за которого он отвечал головой, что предпочел следовать за Жакемоном по пятам и подвергнуться тем же опасностям, ибо шахты славились частыми обвалами. Исследователь трогается в путь в северо-восточном направлении, и некоторое время еще проходит без инцидентов. Но в один прекрасный день отлично отрегулированная машина, которая сглаживала и устраняла перед ним все трудности, вдруг дает сбои. Жакемон, любивший повторять, что он нигде не чувствует себя в такой полнейшей безопасности, как в Индии, что драматические происшествия есть плод воображения путешественников, желающих приукрасить свои писания и рассказы, сам вдруг попадает в неприятнейшие переделки. В маленьком городке Шукшенепуре, принадлежавшем одному из сыновей короля, местный повелитель отказался повиноваться распоряжениям Ранджита Сингха о снабжении путников провиантом. Он укрылся в своем глиняном укреплении с несколькими негодяями, вооруженными фитильными ружьями, и угрожал открыть огонь по охранникам Жакемона, если тот будет настаивать на своем. Жакемон отправил жалобу королю в Амритсар, а его всадники рессеялись по окрестностям и занялись грабежами. И, как всегда, бедным крестьянам пришлось отдуваться и платить разбитыми горшками. После первой стычки Жакемон вступил в Гималаи и разбил лагерь в Мирпуре[67], где, согласно приказу раджи, должны были находиться пятьдесят мулов для замены верблюдов, непригодных для дальнейшей транспортировки багажа экспедиции. Но вместо мулов он встретил сотню негодяев с фитильными ружьями, засевших в земляном укреплении, вполне безразличных к приказам раджи, нисколько не обеспокоенных реквизициями шейха Боддер-Боша, мехмандара Жакемона. Этот гигант превращался в трусишку и плаксу, как только его фанфаронские речи переставали достигать цели. За неимением пристанища Жакемону довелось ночевать под открытым небом, под дождем, перешедшим в яростную бурю. Буря же рассеяла охранников и помешала мехмандару, который отправился добывать продукты, присоединиться к основной части отряда. Наутро налетел новый ураган, новая нехватка продуктов и носильщиков и новые реквизиции с последующим дезертирством. Сахиб Жакемон, привыкший повиноваться требованию момента и обращаться с индусами как с простыми машинами, начинает находить весьма неприятным свое положение. Напрасно возвещал он о себе в третьем лице, напрасно принимал горделивые позы, демонстрируя свое достоинство. Эти дикари были неспособны понять, какую честь оказывал им сахиб. Валясь с ног после пятнадцатичасового марша, покрытый испариной, Жакемон добрался кое-как до Берали, первой деревни после Мирпура. Свинцовый сон сморил его в палатке. А выступив наутро со своим арьергардом, он очутился вскоре у подножия крепости, которую охраняли пятьсот солдат под командованием королевского коменданта. Неподалеку, под священной смоковницей, единственным деревом в этом странно пустынном месте, растянулись некоторые из людей, терпеливо поджидавших, пока незнакомцы приблизятся. Жакемон попытался подозвать их к себе, но они отвечали, что выполняют приказ и должны оставаться на месте. Это разозлило сахиба Жакемона и даже вызвало у него приступ гнева. Из крепости вышли солдаты и столпились вокруг его лошади; они были не столько агрессивны, сколько любопытны, назойливы, нескромны. Люди из охраны Жакемона мелькают тут и там вдалеке, теряясь в этой толкучке. Сгорая от нетерпения, обеспокоенный путешественник требует, чтобы как можно скорее вызвали коменданта. Наконец тот появляется вместе с новой толпой солдат, физиономии которых выглядят еще более угрюмо, а одеяние столь жалко и убого, что Жакемон вынужден уточнять, кто же из этих оборванцев их начальник. Из уважения к Ранджиту Сингху, которому подчиняется комендант, Жакемон спешивается с коня, чтобы выслушать приветствия начальника крепости. Он дарит ему ягненка, которого подвел распорядитель экспедиции. Затем путешественник с пристрастием допытывается у коменданта: правда ли, что тот намеревался помешать движению каравана, защищенного грамотой раджи, его повелителя?.. Комендант Неал Сингх протестует из уважения к королю и его распоряжениям. Но он тут же добавляет, что, устав от несправедливостей Гуляб Сингха и его брата, а также не имея возможности довести свои жалобы до сведения короля, он воспользуется случаем привлечь к себе внимание. Исходя из сказанного, объявил он Жакемону самым почтительным тоном, сцепив руки перед собой, задержание персоны сахиба будет хорошим средством заставить короля исправить свои просчеты по отношению к нему, коменданту. Вот почему он удержит пленника до восстановления справедливости; и сам путешественник, и его эскорт вместе с багажом послужат ему в качестве заложников. «Этот человек, — пишет Жакемон, — разгорячился, повествуя о своих мытарствах и бедах, ибо такова была плата за его верность. Гуляб Сингх хотел заставить его сдать эту крепость, которую король доверил ему охранять. Ему постоянно приходится защищаться от этого господина, а его брат Тео Сингх, приближенный короля, игнорирует все приказы последнего о выдаче жалованья. Вот уже три года он сам и его люди не получают ничего. И у него нет лучшей одежды, чем эти жалкие тряпки. Солдаты его питаются травой на лугах и листьями с деревьев. Я видел с тайным, о! очень тайным беспокойством, как действовало красноречие коменданта на голодную и вооруженную массу, в руках у которой я очутился. Всеобщие вопли нередко перекрывали голос начальника, и завершение его речи утонуло в гуле одобрения очень угрожающего свойства. Слушая коменданта, солдаты наблюдали за горящими фитилями своих ружей и стряхивали пепел на землю. Многие солдаты порывались выступить сами; но я властно призвал к молчанию эту нахальную шваль, и она утихомирилась, лишь местами еще звучало злобное шипение, которое и сам начальник не смог бы подавить. Незыблемое спокойствие, которое я разыгрывал, и громкий уверенный тон оказали надлежащее воздействие на этих несчастных. Мое презрение их подавляло. Без сомнения, они никогда не слышали, чтобы какой-то их раджа говорил о себе в третьем лице, как это делал я и как Ранджит Сингх делает повсюду в Пенджабе. И, воздавая почести самому себе, я обращался с ними как со слугами. Такой маневр позволил мне вбить клин между большинством солдат и их начальником, с которым я беседовал с такой же фамильярностью, но с оттенком доброжелательного покровительства. Я увел его под сень большой смоковницы, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз». Очень умелый дипломат, Жакемон уселся на стул, коменданта усадил на корточки рядом и объяснил ему, как и почему он прибыл в эту страну, помянул особую заинтересованность короля в его экспедиции, дружеские чувства, которые он испытывал к путешественнику, и ужасную кару, что непременно постигнет любого, кто причинит какой бы то ни было вред человеку, защищенному грамотой короля. И Неал Сингх подтвердил свою преданность персоне короля и свое уважение к его большому другу сахибу, но все же настаивал, что ему нужны заложники. Тем не менее он согласился отпустить сахиба, но при условии, что тот оставит весь свой багаж. Поскольку предложение оказалось совершенно неприемлемым, то комендант потребовал выкуп в тысячу рупий. Жакемон запротестовал, но в конце концов сошлись на сумме в пятьсот рупий, которую исследователь пообещал передать мошеннику через своего распорядителя. В общем-то Жакемон еще легко отделался, могло все обернуться гораздо хуже. И он немедленно выступает со своим отрядом в Кашмир. На следующий день он встретил неподалеку от Берали, то есть на полдороге от места, где с него содрали грабительский выкуп, отряд королевских войск из трех тысяч человек, идущий из Кашмира на соединение с маленькой армией генерала Алара. Начальник с почтением отнесся к Жакемону, преподнес ему нуккер (подарок младшего старшему) и принялся беседовать с ним. Естественно, Жакемон рассказал ему о своих злоключениях накануне, и командир предложил ему немедленно отправиться в крепость Неала Сингха, схватить негодяя и подвергнуть его заслуженному наказанию. Но Жакемон, поблагодарив, вежливо отверг эту идею, которую так охотно принял бы вчера утром, написал генералу Алару отчет о своих неурядицах и продолжил путь. Через восемь дней он прибыл в Пронне совершенно больным, кашляя кровью из-за переохлаждения. Но он пресек развитие болезни энергичным лечением. Он приказал наловить пиявок в окрестных реках и поставил шестьдесят пять штук себе на грудь и на живот, что принесло ему немедленное облегчение. Для восстановления потери крови Жакемон отдал распоряжение закалывать по барану в день и наедался недожаренным, с кровью, мясом. Выздоровление было скорым. Пройдя без осложнений через перевал Пронне, все еще засыпанный снегом, он достиг Кашмира в первых числах мая. Информированный о подходе путешественника, губернатор послал ему навстречу большую лодку с офицерами, которые и встретили Жакемона в двух лье от города, а затем проводили в сад, предназначенный для его проживания. Этот сад был усеян еще не расцветшими розами и сиренью, там росли огромные платаны. В одном из его уголков, на берегу озера, стоял небольшой дом. Там и расположился Жакемон, а люди его устроились в палатках, раскинутых под сенью деревьев. По указанию Ранджита Сингха губернатор Кашмира предоставляет в распоряжение гостя весь комфорт, каким располагает, окружает его роскошью и создает условия для продолжения его научных изысканий, мысль о которых не покидает Жакемона ни на минуту. Впрочем, удовлетворив свое начальное любопытство, он и сам торопится проследовать дальше, ибо в свою очередь становится объектом и пищей для самого нескромного любопытства кашмирцев обоих полов и всякого возраста. «У моего домика, — пишет исследователь, — были кружевные стены; он прикрывался только резными ставнями, изготовленными с величайшим искусством. Он был открыт настежь всем ветрам и жадным взглядам зевак, стекавшихся тысячами из окрестностей на своих маленьких лодочках поглазеть на меня, как на дикого зверя, сквозь прутья клетки. Я приказал натянуть внутри полотно, которое кое-как укрыло меня от ветра и спрятало от назойливых визитеров. Губернатор расставил по углам часовых, и они сыплют палочные удары на всех ротозеев, которые подходят слишком близко. Мне пришлось пойти на эту меру, иначе меня перестали бы уважать! Этот очаровательный уголок послужит мне жилищем, а точнее — штаб-квартирой на ближайшие пять месяцев. Я оставлю здесь самый тяжелый груз и пешком, на лошади или на лодке — в зависимости от мест, которые я намечу для посещения, — проведу несколько вылазок по окрестностям. Щедрость короля позволила мне произвести необходимые затраты для формирования крупных зоологических коллекций. За пять месяцев я рассчитываю удвоить в этих местах свой — уже изрядный — багаж, который я таскаю с собой». Едва обосновавшись на новом месте, путешественник замечает — о, безо всякого труда! — что его пытаются эксплуатировать самым недостойным образом. Находчивость и плутовство кашмирцев вошли в пословицу на Востоке. Его прямо-таки осаждают так называемые «знающие люди», которые предлагают свои услуги в качестве чичероне. Они все знают, везде бывали, но при ближайшем рассмотрении их опыт оказывается веселым обманом. Некоторые, рекомендованные генералом Аларом, чуть получше. Один из них дает исследователю ежедневные уроки персидского языка. Что же касается пунди, из касты браминов, то все они отличаются потрясающим невежеством, и последний слуга Жакемона чувствует свое превосходство над ними. К тому же — непростительный грех! — они едят все подряд, за исключением говядины, и пьют араку, местную водку. Такие вещи позволяют себе только представители низших каст. Наконец, если месть — это услада богов, то она, без сомнения, является также радостью для исследователей, даже наименее злопамятных. Так, Жакемон, ведя жизнь восточного владыки в своем дворце, не без удовольствия узнает об аресте господина Неал Сингха и о его заключении — в наручниках и ножных кандалах — в тюрьму. «Он останется там, — пишет Ранджит Сингх в письме к сахибу Жакемону, — пока вышеназванный сахиб не смилостивится над своим обидчиком. А по выходе из тюрьмы тот получит еще изрядную порцию ударов кнутом». По поводу населения Кашмира, ведущего происхождение, как полагает Жакемон, из самой глубокой древности, он констатирует, что, если мужчины здесь великолепны, то женщины в большинстве своем отвратительны. Это население было сперва буддийским, как в Пенджабе, а затем стало исповедовать брахманизм, как во всей Индии. Нет сомнения, что оно долгое время не имело религиозных вождей, под предводительством которых добилось бы абсолютной политической независимости, ибо защитить эту независимость помогла бы сама природа, окружившая со всех сторон эту страну огромными горами. От тех давних времен остаются лишь смутные воспоминания у тех, кого мы называем сегодня учеными, да несколько разбросанных там и сям руин. Их массивность и орнаменты характерны для индийского стиля. Остались еще какие-то следы общественно-полезных работ, они относятся к той же эпохе. Ислам умел только разрушать. Императоры Дели сооружали одни лишь беседки и каскады. Торжеством абсолютной монархии было правление Моголов. Все доходы государства проходили по цивильному листу, на них не строили ни мостов, ни каналов, зато возводили дворцы, гробницы и мечети. Афганцы разорили край в последний век правления Моголов, затем сикхи прогнали афганцев, и каждая новая победа знаменовалась грабежами и запустением, а в мирные периоды царили анархия и угнетение — враги всякого производительного труда. И страна в наши дни пребывает в такой полнейшей нищете, что, кажется, кашмирцы уже на все махнули рукой и превратились в самых апатичных людей мира. Голодать так голодать, и уж лучше это делать, скрестивши руки на груди, чем сгибаясь под непосильным бременем. В Кашмире одинаково мало шансов поужинать и у того, кто неутомимо пашет, прядет или гребет целый день, и у того, кто, во всем отчаявшись, храпит с утра до вечера под платаном. Несколько тысяч грубых и глупых сикхов с саблей на боку, с пистолетом у пояса ведут, как стадо баранов, этот народ, столь одаренный и многочисленный, но такой инертный! На какую высоту ни поднимайся, южный склон Гималаев сохраняет все время индийский характер. Смена сезонов, вплоть до границы вечных снегов, здесь такая же, как и в индийских долинах; летнее солнцестояние приводит сюда каждый год обильные дожди, которые льют до осеннего равноденствия: отсюда особенный характер растительности, неведомой Альпам и Пиренеям, лишенным таких погодных условий. Но Кашмир на северном склоне великой заснеженной горной гряды оказывается огражденным этим барьером от индийского климата и формирует свой собственный, чрезвычайно похожий на климат Ломбардии. Растения нетронутой природы и культивированные человеком, в тесной связи с законом, по которому температура уменьшается от экватора к полюсу, говорят на языке таком точном и ясном тому, кто умеет его толковать, о высоте мест… При полном прежнем неведении, до путешествия Жакемона, относительно уровня этой странной долины он определялся между пятью и шестью тысячами английских футов на основании изучения множества растений, привозимых торговцами. Теперь же тщательные, математически выверенные наблюдения позволили ему определить точно высоту долины — пять тысяч триста пятьдесят футов. Итальянский тополь и платан доминируют в окультуренном пейзаже. Платан здесь колоссальный; в садах огромные виноградные кусты, нередко попадается лоза, достигающая больше фута в диаметре. Леса слагаются из кедров и многочисленных разновидностей елей и сосен, как две капли воды похожих на своих европейских собратьев; в более высоких зонах немало берез, они ничем не отличаются от наших. Водяные лилии цветут на поверхности стоячих вод; розовые цветы бутома и водяная кашка возвышаются над ними; в сочетании с тростником и камышами все это придает озерам вполне европейский вид. Но, невзирая на значительную высоту, широта вскоре заявляет свои права, и в летние месяцы здесь властвует жара отнюдь не европейская. Реки постепенно пересыхают, а ведь только от них и зависит жизнь страны. Это подлинно общественное бедствие! Народ ропщет, вымирает от голода, требует у своих мулл, чтобы они вымолили дождь, но понапрасну взывают муллы к Аллаху в своих мечетях! Небо хранит безнадежную ясность, ни одного облачка, предвещающего дождь! Вся страна превращается в раскаленную печь, где растения выгорают на корню, где задыхаются животные и агонизируют люди. Жакемон также страдает от высокой температуры воздуха; от нее и саламандре стало бы дурно. «Вода в озере, — пишет он, — настолько теплая, что мне кажется, будто абсолютно ничего не меняется, когда я в нее погружаюсь. Надо очень долго оставаться в ней, чтобы почувствовать хоть какую-то свежесть. Единственное благоприятное место находится глубоко. Надо нырять. Я очень преуспел в этом упражнении и могу долго оставаться под водой. Приходится изрядно потрудиться в стоячей воде, и когда я вновь забираюсь в лодку, то не чувствую себя отдохнувшим. Солнце меня не пощадило: за исключением лица и рук, которые давно огрубели и потемнели, все мое тело стало ярко-багровым. Прикосновение к нему самой легкой одежды мучительно; я забросил европейскую одежду, использую правила восточной стыдливости: они менее обременительны. Слуга, стоя возле меня с широким щитком, устраивает мне искусственную бурю, единственно благодаря которой я вспоминаю временами, что жизнь — приятная штука». Путешественник Бернье, который задолго до Жакемона посетил Кашмир, говорит о маленьком островке Платанов. Это безделушка могольских императоров. Ее покрывает тень двух огромных платанов, оставшихся от четырех, посаженных Шах Джаханом[68]. Это говорит о миниатюрности островка. Весь дворец составляет одна большая зала, открытая всем ветрам, когда им только вздумается задуть; ее потолок поддерживают колонны в странном стиле, позаимствованном у каких-то старинных пагод. Шахлимар находится на переднем плане, со своей прекрасной тополиной аллеей. Нишат-Багх с чудесными тенистыми деревьями возникает как большое темное пятно у подножия желтеющих гор. В противоположной стороне находится Саифхан-Багх, который представляет собой сегодня только заросли гигантских растений. Маленькая мечеть, куда стекаются правоверные мусульмане из Индии и из Персии поклониться Волосам и Бороде Пророка, выставляет позолоченную вершину своего минарета над группой однородных деревьев. Позади находится трон Соломона, которого летопись представляет как великого путешественника[69]. Эта панорама воскрешает множество воспоминаний у кашмирцев, которые проводят свою жизнь в созерцании — слабая компенсация их крайней нищеты… Из Кашмира неутомимый Жакемон направляется к границам Китая в поисках новых открытий. Как всегда, он собирает редкие растения, интересные минералы и случайно находит рецепт — точнее, два рецепта приготовления чая. Номер первый предполагает использование молока, масла и соли, причем горькой щелочной соли. Что и говорить, вкус этого чая не восхищает. Второй рецепт еще похлеще. Кипятят чайные листья два часа, воду сливают, к листьям добавляют прогорклое масло, муку и рубленое мясо ягненка. Комментариев не требуется!.. Проведя месяц в горах, он спускается в Сафапур и находит там письмо от генерала Алара. Тот сообщает, что Ранджит Сингх проникся желанием вновь увидеть путешественника и побеседовать с ним по душам. «Без сомнения, — образно выражается генерал, — раджа предполагает к тому сену, что вы бросаете в кормушку, подкинуть что-то и в ваши сапоги…» Для Жакемона, принявшего от Ранджита Сингха столько добрых услуг, выражение такого желания равносильно приказу, и он немедленно трогается в путь. Он спустился к Жуммао и, руководя своим караваном, дал пример такой судейской справедливости, что вполне могла бы снискать ему славу Соломона. Его секретарь пожаловался на солдата из эскорта, укравшего у него шаль, и Жакемон сделал то, на что не отважился бы в подобном случае ни один из самых тонких судейских крючков Индии и Пенджаба: отправился на место происшествия — в тридцати шагах от своей палатки, допросил свидетелей и обвиняемого и легко убедился в виновности последнего. Начальник эскорта тут же обратился к Жакемону: желает ли он, чтобы вора немедленно повесили, или же велит только отрезать ему нос и уши?.. Жакемон распорядился, чтобы наутро, в его отсутствие, перед строем всего отряда представитель самой низшей касты сломал саблю и ружье преступника, чтобы ему затем дали сто ударов палкой, выдали пять рупий — месячную плату — и изгнали с позором из отряда. Шесть дней спустя он встретился с Ранджитом Сингхом и провел с ним целый день, беседуя о горах, о Кашмире, о бессмертии души, паровых машинах, о вселенной и о многих других предметах. В лесной чаще воздвигли две башни из ветвей и листвы. Король поместился на одной, Жакемон на другой, и всадники вторглись в лес, гоня перед собою дичь. Жакемон убил кабана, и это был первый его подвиг в таком деле, не доставивший ему никакой радости. Повара-брамины раджи, сопровождавшие его верхом, соорудили великолепный завтрак раджпуту[70], который был сервирован в двух больших плетеных корзинах с маленькими мисочками из листьев. «Наши люди и всадники-мусульмане, — замечает по этому поводу Жакемон, — а также представители некоторых индийских каст пустились наутек со всех ног, как только увидели жареного кабана: они питают к нему глубокое отвращение, как и к свинье. Этот страх разделяют многие жители Индустана». И напоследок, высокопарно попетляв вокруг да около, Ранджит Сингх раскрыл свои карты, то есть информировал Жакемона о том таинственном предмете, на который смутно намекал в своем письме генерал Алар. Короче, раджа предлагал ему должность вице-короля Кашмира с ежегодным жалованьем в полмиллиона франков. Жакемон в шутливой, но твердой форме уклонился от этого сомнительного и опасного предложения, и Ранджит не остался в обиде на него. На прощанье раджа прислал французскому другу очередные подарки: белого красавца коня в роскошной сбруе, согласно обычаям сикхов; халат и кашмирские шали; кошельки с рупиями и т. д. Проведя восемь дней в Амритсаре в обществе почтенного генерала Алара, Жакемон со стесненным сердцем расстался со своим замечательным другом, который столько раз проявлял к нему самое живое душевное расположение. Из Амритсара, где отдых, по-видимому, начинает его тяготить, Жакемон еще раз спускается в Дели; затем он начинает колесить с северо-востока на юго-запад, потом с севера на юг, снова с северо-востока на юго-запад и, наконец, с востока на запад, чтобы снова пересечь Британскую Индию и прибыть в Бомбей. Одним из наиболее интересных этапов был Ферогпур[71]. Он находит прекрасным это название в связи с его персидской этимологией: «ферог» — очаровательный камень, известный у нас как бирюза. Впрочем, Жакемон задерживается здесь ненадолго, ровно настолько, чтобы оценить гостеприимство молодого набоба, чьим любимым развлечением были слоновьи бои. Встретит он также офицера индийской армии, который сопровождал в Агру свою больную жену. Эта чета, желая склонить Жакемона к протестантизму, вручит ему увесистую Библию в издании ин-кварто, от которой он не посмеет отказаться. Из Ферогпура он отправился в Джайпур, где провел три дня, обозревая город и окрестности. «Это, — пишет он, — самый прекрасный город Индии, ни с чем не сравнимый, и окружающая местность полна очарования и привлекательности». Оттуда он направляет стопы в Аджмер, тоже очень красивый город. Жакемон совершил экскурсию в Бьявар, столицу Малвы, горной страны, где обитает туземное индийское племя, на протяжении веков не знавшее другого промысла, кроме разбоя в прилегающих долинах. Но вот уже десяток лет, как здесь каким-то чудом воцарились порядок и свобода. «Эта последняя, однако, — замечает Жакемон, — является только мужской привилегией. Муж покупает себе жену, отец продает свою дочь, сын продает свою мать. И бесчестье для женщин заключается в том, чтобы быть слишком дешево проданными или же не быть проданными вовсе». Он остановился в маленьком сельском храме у подножия форта Читор, запечатленного в индийской истории, посетил Бавру и внезапно свалился больным в Нимуче. К счастью, он встретил старого доброго джентльмена, знакомого ему по Шимле и Дели, который служил главным хирургом английской армии в этих регионах. Его умелые заботы скоро поставили Жакемона на ноги, и он смог продолжить свой путь, быть может, несколько преждевременно, потому что болезнь очень его ослабила. Он проследовал по дороге, ведущей в Джаору, потом в Кашад[72], затем в Удджайн. После того он направился в Индаур, затем в May, посетил внушительные развалины Манду, расположенные на краю плато, которое подступает к горам Виндхья. Несмотря на изнурительную жару, причинявшую много мучений, он спускается к Майсуру[73] на берегах Нарбуды и через три дня прибывает в Мундлесир. Жакемон немного отдыхает у капитана Сандиса, резидента в Мундлесире, но большинство его людей,в свою очередь, расхворались, пораженные чудовищной жарой. Здесь находится страна бхилов, коренного индийского племени, занимающегося разбоем по давней традиции. Их суверены, маграты, не проявляли способности к управлению. Но вот уже десять лет англичане руководят краем, они передают доходы магратскому царьку. Эти перемены заметно улучшили и оздоровили нравы дикарей. Переправившись через Нарбуду, Жакемон оказывается уже на землях Бомбея. Эта страна, которую отличает совершенно особое геологическое строение, чрезвычайно интересует исследователя, и он дает себе слово скрупулезно ее изучить. Она обладает свойственной только ей конфигурацией и решительно не похожа на те районы Индии, которые посетил до этого Жакемон. Река Нарбуда также отличается красотой оригинальной, странной и впечатляющей. Исследователь останавливается ненадолго в Идулабаде, на левом берегу Пурны, и, пребывая в настроении веселом и приподнятом, описывает в письме к брату некоторые подробности своего существования с того момента, как он пересек Нарбуду. Прежде всего это жара, достигающая 44°! «Человек крупный и сильный вроде тебя, — шутит он, — растаял бы здесь, как комок масла. Через неделю от него остались бы кожа да кости. Здесь побеждает математическая ось, прямая линия вроде меня, лишенная других степеней измерения, кроме длины! Эта невероятная жара невероятна со всех точек зрения. Когда я сажусь писать, на мне из одежды только плотный тюрбан из белого муслина, чтобы мысли в голове не путались, и штаны, потому что, хотя название этого предмета не очень пристойно (по-английски, по крайней мере, оно звучит ужасно неприлично), я считаю оный предмет — штаны — одним из самых выдающихся изобретений, на какие только способна человеческая мудрость; пиджак, жилет, сорочка, исподнее фланелевое белье, носки и туфли — все это к черту! Изо всего этого я делаю подушку для сиденья, и через какой-нибудь час ее можно выкручивать — настолько она пропитана потом! Но тем не менее — и это просто поразительно! — я чувствую себя таким свежим в умственном отношении, таким легким (сказал бы еще — и свежим) телесно, как будто на термометре не 43°, а только 14 или 15. Завтрак мой состоит из молока и бананов, этот фрукт распространен во всех южных странах, ты часто о нем слышал; он напоминает по вкусу сладенькую прогорклую помадку с ароматом жасмина. На обед у меня лук, жареный в омеле, это разновидность масла в Индии, масла вытопленного и очень густого, тягучего. При этом я пью теплую воду, а днем еще и теплый или горячий лимонад, потому что здесь все теплое или горячее. Я уже в достаточной мере превратился в индуса, чтобы полюбить густое, терпкое масло…» Четыре дня он уже находится на землях Бомбея, и первый пункт в этих провинциях — знаменитая крепость Ассеергур[74]. Комендант принял его замечательно, а кроме того Жакемон получил письмо от правительства Бомбея с сообщением, что оно отдало необходимые распоряжения всем гражданским и военным служащим на пути французского исследователя к столице всячески ему содействовать. Затем он направляется в Бурханнепур, город Синдии, к принцу Махратту из Гвалиора[75], потом в Аджанту, где уже вступает на территорию низама[76] и покидает бассейн Нарбуды, чтобы перейти в бассейн реки Годавари. Наконец Жакемон прибывает в Аурангабад, жалкие остатки большого города, основанного Аурангзебом[77]. В этом городе, пришедшем в упадок со смертью своего основателя, как это обычно бывает в Индии, находится могольский мавзолей. Он кажется выдающимся сооружением для тех, кому ведома только южная часть Индии. Но после Лахора, Агры и Дели с их великолепными мавзолеями Шах-Джахана, Аршера и Жехангира руины Аурангабада вряд ли заслуживают серьезного внимания. Что действительно примечательно в окрестностях города, так это удивительный подземный лабиринт, прорытый в горе. Тайна его происхождения остается нераскрытой. Вслед за этим Жакемон посетил знаменитую крепость Даулатабад[78], чье сооружение индусы и мусульмане приписывают богам, имя которых доселе неизвестно. Крепость эта, считавшаяся неприступной, могла и в самом деле быть таковой во времена Жакемона, когда баллистика находилась в зачаточном состоянии, но она не устояла перед бывшим лейтенантом Дюплексом, славным маркизом де Бюсси, который захватил ее не с помощью пушек, но с помощью рупий. Прием, которым не следует пренебрегать и военным людям… Из Даулатабада он направился в Эллору. Как подлинному художнику и философу, ему доставляет огромное наслаждение знакомство с удивительным подземным лабиринтом[79], самым большим на полуострове Индостан, и с оригинальным монолитным храмом Кайлы. Отсюда без задержки он перебирается в город Пуну, столицу махратов. Впрочем, слово «столица» не должно создавать у читателей представление об однородном государстве, с какой-то мерой независимости, которую англичане хотя бы для виду оставили своим союзникам. От бывшей Махратской империи сохранилось одно название. Как автономная держава она была разбита в 1818 году лордом Гастингсом вследствие подлой измены ее последнего правителя, который домогался союза с англичанами и в итоге предал национальные интересы. Пуна стала одной из самых крупных английских военных баз на полуострове. Расположенная на западном склоне Гат, неподалеку от Малабарского берега и от истоков Кришны и Годавари[80], приподнятая на шестьсот метров над уровнем моря, она заметно отличается по своему климату от окружающих регионов. Жара здесь не столь изнурительна, как в Бомбее, и дожди здесь также менее яростны. Весьма осмотрительный Жакемон задерживается в Пуне на целых четыре месяца, почти на все дождливое время, и отдается своим трудам с обычным рвением. Тем не менее он далеко не в восторге от жизни в Пуне по сравнению с другими индийскими городами, где ему довелось побывать. Особенно жалеет он о Кашмире, где жить было так легко и привольно, где судьба проявляла щедрость к нему. Здесь у него возникает смутное ощущение, что большинство англичан, обитающих в махратской столице, презирают его скромный образ жизни, и это портит ему настроение, невзирая на всю его жизнерадостную философию. «Я настолько впал в нищету, — пишет Жакемон, — что у меня даже нет шляпы, и в этой сильно англизированной стране я вынужден носить нечто вроде бархатного колпака, наполовину смахивающего на «пенджаби», наполовину — черт знает на что. С меня заломили семьдесят шесть франков за паршивенькую английскую шляпу, и я заявил, что напялю скорее тюрбан, чем подчинюсь такой подлости. Мое меню очень напоминает пищу бедного индуса, и тем не менее я нуждаюсь в поваре и подручном, а этот плут еще жалуется и требует второго помощника! В Калькутте, где я был в два раза беднее (что по-английски можно точно перевести, как «в два раза более презренный»), мне повезло с самого начала встретиться с достойными людьми, которые помогли мне с королевской щедростью. Но здесь преобладают заносчивые глупцы, и меня оценивают только по тому, чего я стою, — в рупиях, разумеется. Я исключаю из этого ряда губернатора Бомбея Клэра, человека умного, с изысканным вкусом и безупречными манерами, и английского генерала, который командует здесь. Но лорд Клэр, питающий ко мне самые дружеские чувства, живет в нескольких милях от меня, и я только редко, мельком вижу моего соседа генерала, в пятнадцать раз более уважаемого, чем я, то есть получающего в год пятьдесят тысяч экю…» Пуна — довольно большой город, население которого Жакемон оценивает примерно в полсотни тысяч жителей, к сожалению, постоянно подвержен холерным эпидемиям. Когда в Пуну прибыл французский путешественник, холера уносила там ежедневно от пятидесяти до шестидесяти человеческих жизней. «Однако, — пишет он далее, — я пока что жив и даже полон жизненных сил, которых, я надеюсь, мне хватит на предстоящих восемнадцать или двадцать месяцев — до того времени, когда я рассчитываю на удовольствие свидеться с вами». В конце июля 1832 года Жакемон заболевает. Внезапный приступ жесточайшей дизентерии пять дней держит его жизнь на волоске. Заботливый уход и крепкая натура торжествуют над болезнью, вскоре он возобновляет свои научные изыскания. Три недели спустя исследователь узнает о присуждении ему ордена Почетного легиона. Заслуженная награда доставляет ему большую радость, ибо в те времена этот знак почетного отличия еще не был так дискредитирован, как в наши дни. В начале сентября Жакемон готовится к переходу в Бомбей, несмотря на испытанную им неприятность, которая не проходит бесследно. Он планирует пересечь горную гряду — Западные Гаты, затем спуститься к берегу моря, в необозримую грязь, которая окаймляет побережье и захватывает Сальсет и Бомбей. Он смутно чувствует опасность увязнуть на рисовых плантациях; ему это предрекают. Тем не менее, полагая, что вполне оправился от нездоровья, Жакемон трогается в путь тринадцатого сентября. В первых числах октября он прибывает в Танну, на острове Сальсет, и неосторожно обосновывается в этом пункте, одном из самых нездоровых на всем побережье, весьма неблагоприятном для здоровья. Жакемон заболевает почти сразу же по прибытии, после долгого перехода под палящим солнцем, однако лечится очень разумно благодаря своим медицинским познаниям, и ему удается подавить воспаление печени, внезапно его поразившее. Ему стало намного лучше, без сомнения, но он не вполне излечился. В конце октября, точнее — 23-го, его сражает повторный приступ болезни. Убедившись, что он не в состоянии побороть ее в Танне, Жакемон распорядился перевезти себя в Бомбей, в военный госпиталь, где в отделении больных офицеров ему предоставлены вся возможная помощь и заботливый уход. Увы, лечение не увенчалось успехом, и несчастный путешественник, проболев тридцать пять дней, скончался 7 декабря 1832 года от гнойного воспаления печени. Ему исполнился лишь тридцать один год. Жакемон знал, что погибает, и мужественно шел навстречу смерти. Последнее письмо его к брату, которое он с трудом нашел силы закончить и подписать карандашом, необычайно трогательно: «Что самое жестокое при мысли о тех, кого мы любим, если умираешь в дальних краях, так это ощущение своей изоляции и заброшенности, с каким проходят последние часы твоего существования. Ну что же! Мой друг, тебя должно будет немного утешать убеждение, которое я внушаю тебе этим письмом, что с момента моего прибытия сюда я не остаюсь ни минуты без самого сердечного и трогательного внимания множества добрых и милых людей. Они навещают меня постоянно, выполняют любой мой каприз и фантазию… Если бы ты был здесь, возле моей постели, с нашим отцом и Фредериком, моя душа была бы разбита, и я не принимал бы приближения смерти с таким спокойствием и покорностью… Прощай! О, как любит вас бедный ваш Виктор!.. Прощай навсегда!» Губернатор Бомбея организовал пышные похороны, на которых присутствовали все гражданские и военные чины, Жакемону воздали военные почести. Драгоценные коллекции, которые он собрал в Америке, Санто-Доминго и в Индии, находятся в Музее естественной истории; часть из них, имеющая отношение к текстильной промышленности, хранится в Музее искусств и ремесел.
ЛУИ ЖАКОЛИО
Видный писатель, одаренный служащий судебного ведомства, который сумел плодотворно использовать вынужденный космополитизм своих функций колониального судьи и превратиться в очень почтенного исследователя: таков был в глазах многочисленной читающей публики Луи Жаколио[81], которого преждевременная смерть унесла в 1890 году, в возрасте пятидесяти двух лет. Он завоевал подобную репутацию уверенным пером, незаурядным талантом рассказчика и популяризатора. Он дебютировал как судья в Пондишери, и эта должность послужила в какой-то степени предлогом для увлекательных экскурсий по Индии, маршрутами которых мы проследуем, но сперва сделаем вместе с Жаколио недолгую остановку на Цейлоне[82]. Как многоопытный путешественник, избегавший больших городов и презиравший гостиницы, Жаколио поторопился поскорее расстаться с Коломбо, столицей колониального Цейлона и крупнейшим торговым центром. Для него не имело особого значения, что отсюда экспортируются в Европу в огромных количествах кокосовое масло, кофе, корица, перец, арак, чай, кокосовая водка, кардамон, графит, кокосовое волокно, слоновая кость, черепаший панцирь, шкуры тигров и пантер, кунжут, рис, древесина черного, атласного[83], и тикового деревьев; что на острова Маврикий и Реюньон, в Сингапур и Китай отправляются свежие плоды кокосовых и арековых пальм, бетель, трепанги, рыбий жир, кокосовое масло, медь; и что взамен Великобритания посылает в свою колонию фабричные изделия, а также вино, пиво, крепкие алкогольные напитки, солонину и парфюмерные изделия. Больше всего Жаколио хотелось наблюдать природу, изучать обычаи и нравы местных людей, полуцивилизованных или же вовсе диких, познать удивительный мир животных и растений и идти, идти вперед — по воле своей фантазии, навстречу неизвестности и приключениям. Сперва Жаколио предпринял путешествие в экипаже, запряженном двумя лошадьми, с которым легко управлялся малабарский[84] виндикара[85]. «… Подъехав к форту — обширной крепости, надежно защищенной двумя сотнями пушек, где сконцентрировано управление армией и флотом, которая могла бы в случае необходимости вместить пятнадцать тысяч человек, мы взяли влево по дороге вдоль откосов, и внезапно нам открылся простор Индийского океана — самая захватывающая и волшебная картина. Солнце садилось вдали, окрашивая в пурпурные и золотые тона огромную водную поверхность; ни единого облачка в густой синеве неба; где-то у горизонта несколько кораблей, чьи белые паруса, отражая игру света, казалось, плавали в закатном зареве, тогда как на переднем плане грандиозной панорамы сотни макуа, или туземных рыбаков, восседавших в своих легких катамаранах[86], устремлялись к берегу, выплясывая на гребнях волн, которые с минуты на минуту становились темнее. Я бросил быстрый взгляд на побережье: на высоких макушках пика Адама[87], покрытых вечнозеленой растительностью, последние лучи дня исчезали с головокружительной быстротой, и экваториальная ночь — ночь без сумерек — уже накинула на землю и волны свое звездное покрывало, и лишь на западе еще чуть-чуть виднелась красноватая полоска, как будто покачиваясь на гребне волны, — последний привет светила, которое поднималось уже над горизонтом другого полушария…» Затем путешественник и его возница направили бег своей тележки по дороге, где им встречались на каждом шагу сингалы обоих полов, которые, отнеся фрукты и овощи на базары в Коломбо, возвращались в свои затерянные в лесу хижины, напевая что-то монотонное. Время от времени под огромными деревьями, чьи корни тянулись чуть ли не до самого моря, попадались им на глаза крытые листьями лавчонки, где чандо, или туземные винокуры, продавали прохожим местную водку и крепкие наливки из мякоти кокосовых орехов и пальмового сока. С исчезновением солнца внезапно остывший воздух в высоких долинах Котмальских гор породил один из тех сладчайших ветерков, напоенных запахами эбеновых и коричных деревьев, полей цветущего индийского нарда, которые ежевечерне освежают западные берега Цейлона… Волшебный вечер, когда в двух шагах нежно и меланхолически бормочет отдыхающий океан, когда у подножия деревьев смеется и распевает человеческий муравейник, довольный минувшим днем и не страшащийся дня грядущего… Монотонный звук пестиков, растирающих в ступах карри[88] для вечерней трапезы. А в густой листве тамариндовых деревьев птичий гам вплетает пронзительные звуки в тычсячеголосый шум, исходящий от земли и вод… Нет ничего удивительного, что, наслаждаясь подобными роскошными вечерами, сингал превращается в отъявленного лунатика, хотя он и боязлив до чрезвычайности, а воображение его буквально нашпиговано предрассудками. Он свято верит во всевозможных злых духов и ни за что не отважится отправиться ночью в пустынные места, за исключением тех случаев, когда он сопровождает европейцев. Но и вдоль обитаемых дорог, и даже у себя в деревне он отходит ко сну как можно позже, разнообразя свое бодрствование игрой, выпивкой, песнями и бесконечными историями, о которых повествуют бродячие сказители на площадях или перекрестках. Впрочем, страхи эти могли оказаться не такими уж безосновательными: кроме достаточно безобидных духов могли встретиться путникам и бродяги, принадлежавшие к грозному племени сукалеров. Народное поверие приписывает им обычай, согласно которому во время определенных празднеств они совершают ритуальные жертвоприношения. Когда им надлежит выполнить свой ужасный ритуал, они тайком похищают первого встречного и приводят его в пустынное место. Там выкапывают яму и засыпают несчастного землей по самую шею. Затем водружают у него на голове нечто вроде светильника из клейкой массы, заполняют его маслом и зажигают в нем четыре фитиля, после чего мужчины и женщины, взявшись за руки, пляшут с песнями и воплями вокруг обреченного, пока он не испустит дух. Менее отталкивающим выглядит их поклонение луне, культ которой в определенные времена года соблюдается особыми обрядами тех сект идолопоклонников, которые странным образом уродуют и искажают верования брахманизма[89] и буддизма. Ритуальная дань ночному светилу сопровождается криками, танцами, гримасами и кривляньем, она включает также торжественные шествия богато изукрашенных слонов, диковинно костюмированных персонажей, из которых одни несут изображающие наш спутник диски, другие размахивают факелами, третьи на разнообразных музыкальных инструментах устраивают подлинно кошачий концерт. Кроме действительно опасных бродяг, отъявленных воров, есть и совершенно безобидные кочевники паканатти, около двух тысяч которых бродит по Цейлону. Говорят они на языке телинга. Хотя они очень бедны и перемещаются группами, это не грабители и не погромщики. Если кто-то из них совершит насильственное действие в отношении какого-то человека или чьей-то собственности, то соплеменники строго его наказывают. Большинство кочевников торгует лекарственными травами. Бродяжничая, они собирают растения и корешки, которые можно использовать либо в красильном деле, либо в медицине, для лечения людей и домашних животных. Целебные травы они продают городским и деревенским торговцам, туземным лекарям, и эта скромная торговля, дополняемая рыбной ловлей, охотой и попрошайничеством, дает им средства к существованию. Образ жизни они ведут совершенно изолированный от других каст, контакты с которыми возможны только в вышеназванных случаях. Они бродят группами по десять, пятнадцать, тридцать семей, а отдыхают всегда под шатрами на бамбуковом или ивовом остове, которые таскают с собой повсюду. У каждой семьи свой шатер — семи-восьми футов длины на четыре-пять ширины и такой же высоты, там размещаются, а точнее — сбиваются в кучу в полном беспорядке родители, дети, куры, а порой и свиньи, ибо это единственная их защита от непогоды и свирепых ветров. Для стоянок они выбирают лесистые уединенные места, чтобы надежно укрыться от посторонних глаз. Кроме циновок из лозы и немудреного лагерного имущества, есть у них небольшие запасы зерна и бытовой инвентарь, необходимый для приготовления пищи. Часто Жаколио, охотясь в кустарнике или в лесу, натыкался на бедняка паканатти, который нес, пошатываясь, свой шатер, да еще тащил глиняные чаши и кое-какой провиант. За ним следовала почти голая жена, водрузив на голову мельничный жернов для перетирания зерен. На спине у нее путешествовал запеленутый в грубое полотно младенец, к груди прижимался другой, а третий — пяти-шестилетний малыш — плелся позади, сгибаясь под тяжестью вязанки хвороста. Взволнованный печальным зрелищем, Жаколио бросался вперед, чтобы вручить им несколько рупий, но, завидев европейца, вся семейка немедленно скрывалась в джунглях. Тощая собачонка, бежавшая за ними следом, возвращалась из любопытства и украдкой высовывала мордочку из высоких трав, как бы наблюдая за нахалом, который посмел нарушить столь привычное для ее хозяев уединение. На первых порах бродяг паканатти третировали не так откровенно, как другие кочевые племена — париев, или родиа. Но понемногу они приучились к мясу и стали использовать в пищу самых нечистых животных, даже грязную падаль. Мужчины и женщины пристрастились к крепким напиткам и в конце концов дошли до крайней степени падения. Тем не менее паканатти отличаются храбростью, о чем свидетельствует нижеследующая история. Однажды вечером Жаколио охотился на тигрицу со своим слугой Амуду, рослым нубийцем, преданным ему по-собачьи. Ягненок служил приманкой для хищницы, которая пробиралась по-кошачьи тихо через заросли мимозы, ведя своих малышей на водопой к ручью, возле которого сидели в засаде двое охотников. Ударом могучей лапы тигрица наповал сразила ягненка и на миг оказалась в пределах досягаемости. Вспышка молнии рассеяла ночную мглу, эхо выстрела громом прокатилось по лощинам. Это целился Амуду, и тигрица, перекувыркнувшись в воздухе, забилась в судорожных конвульсиях. Напуганные ярким блеском и шумом выстрела, четверо тигрят прижались к мертвой матери. Дым еще не успел рассеяться, как Амуду бросился из чащи, на ходу разматывая свой «шомен», или полотняную набедренную повязку. Жаколио устремился вслед за ним с пистолетом в одной руке, с карабином — в другой. И он подоспел как раз в тот момент, когда верный Амуду, захватив осиротевших малышей, укладывал их в самодельный полотняный мешок, стянутый узлами с четырех концов. В эту минуту четверо совершенно голых сингалов появились с противоположной стороны. Завидев европейца, они распростерлись плашмя в траве, совершая особый ритуал — шактангу. Знаком высочайшего почтения служили прижатые к земле шесть точек тела: стопы ног, колени и руки. Это были тота-ведды[90], или охотники на тигров, принадлежащие к одному из обездоленных бродячих племен. После почтительного приветствия они поднялись с земли, и один из них, отделившись от группы, приблизился к Жаколио и заговорил с ним на диалекте прибрежных тамилов. Завязалась беседа, и вот как ее передает путешественник. «— Уже четыре дня тота ночуют в горах, чтобы найти тигра, и вот мулуку (черный человек с кудрявой шерстью на голове, дословно: баран) убил животное и забрал детенышей. А у тота нет риса для их семей. — Сколько тебе платит за тигра Чото-саэб[91] в Коломбо? — спросил я. — Три рупии за самца, четыре — за самку и одну рупию за тигренка. — Значит, сегодня ночью ты мог бы заработать с твоими товарищами восемь рупий (двадцать франков)? — Так точно, саэб! — А как бы вы смогли убить этого хищника? Вместо ответа на вопрос туземец бросился в заросли и тут же вернулся с одним из тех допотопных кремневых ружей, которые после реформирования европейских армий батальонные торгаши поразбросали по всему свету. Я не мог удержаться от смеха при виде этого музейного экспоната. Разбитый приклад был скреплен кое-как деревянными шпильками, а несколько плотных веревочных витков поддерживали ружейный замок с выпавшими болтами. — Если у тебя нет ничего другого для охоты на зверя, — заметил я своему собеседнику, — то ты закончишь свои дни у него в пасти. — Тигр не убьет тота раньше, чем пробьет его час! — Скажи твоим товарищам, что мы поохотились вместо них. Ты можешь забрать животное и детенышей, кроме одного, которого я желаю оставить себе. Я дам тебе за него две рупии. На такое решение туземцы не смели даже надеяться; оно привело в полнейший восторг этих бедняков, и тота принялись выражать свою бурную радость, распластываясь у моих ног со всеми знаками глубочайшей преданности и признательности. Таким образом они обеспечили себя и свои семьи рисом на два месяца». Эти бедные туземцы, последние представители коренного населения Цейлона, составляют предмет всеобщего презрения как «нечистые» и, как уже говорилось, не имеют других средств для жалкого существования, кроме сбора фруктов, трав и корешков, да еще эпизодической охоты на хищников. И разве не приходится им жестоко расплачиваться за попытки одолеть свирепых животных?.. Плохо вооруженные, слабого сложения, они в восьми случаях из десяти лишь наносят несмертельную рану своим грозным противникам, и те их тут же разрывают на клочки, если беднягам не удается — в редких случаях — укрыться на деревьях. Во всех своих путешествиях по Цейлону Жаколио испытывает равное влечение к лесу и к океану — в одном его чарует девственная пышность, в другом — изобилие форм животного мира. Последуем за ним к устью реки Калтны. Он долго едет верхом, пытаясь ближе подобраться к намеченной цели, но джунгли встают непреодолимой стеной, и он со своими спутниками вынужден спешиться. Девственный лес встречает его таинственным переплетением лиан, бамбука, гигантских ползучих растений. Через какие-нибудь полсотни шагов он уже ступает на плотный ковер из мха и столетних остатков; острый свежий воздух, напоенный запахами коричного дерева и сарсапареля[92], приходит на смену горячим испарениям равнин; ни один солнечный луч не пробивается сквозь многослойный лиственный шатер, образованный верхушками деревьев-исполинов. В эту чащу с трудом проникает рассеянный дневной свет, обретая зеленоватую окраску различных тонов, что придает всем предметам необычайный, причудливый вид… Путники неторопливо поднимаются по довольно пологому и непрерывному склону, среди пышного великолепия природы, способного потрясти даже самое богатое воображение. Вся окружающая необычная живность резвится, порхает, стрекочет, прыгает, семенит среди огромного беспредельного вольера. Большие черные обезьяны с белыми воротничками, любопытные и ловкие, в изумлении прерывают свои гимнастические упражнения, чтобы поглазеть на путников, которым они корчат уморительные гримасы; разноголосые птицы всевозможной расцветки и величины, разрисованные тончайшими узорами, застывшими комочками металла сваливаются с веток, где они замерли в полуденной дреме, и резкими пронзительными криками протестуют против вторжения человеческих существ; пальмовые крысы, похожие на серых белок, задорно гоняются друг за дружкой, задевая иногда во время прыжков больших лесных бабочек с удивительно тонкой и переливчатой расцветкой, которые припадают к коре благоуханных коричных деревьев. Там и сям, как мрачные пятна на яркой картине, встречаются пресмыкающиеся: кобра-капеллос[93], блестящая, словно коралловая ветвь, инкрустированная золотом и черным деревом, или гремучая змея с треугольной головой, что пробирается по нижним веткам с угрожающе громким шипением. Поводом для этой экскурсии послужила охота на розовых фламинго, которыми кишит маленькое озеро, где они беспечно резвятся на свободе. В тот момент, когда Жаколио и его спутники взяли оружие на изготовку, они достигли высшей точки склона, в верховьях ущелья, и путешественник, забыв о всякой осторожности, не смог удержаться от возгласа восхищения. И действительно, представшее его взору зрелище было настолько великолепно, что его не передаст и самая изощренная кисть художника, оно превзойдет любую фантазию и даже заставит самого ярого, самого заядлого охотника забыть о желанной добыче. На заднем плане — исполненный влекущей загадки лес каскадами цветов и волнами крон спускается вдоль горы; прямо перед глазами на небольшом плато покоится миниатюрное озеро, вряд ли более шестисот метров в ширину. Оно сверкает и искрится сквозь листву вьющихся растений и карликовых пальм, одной стороной примыкая к лесистому склону и как бы нависая над нижней частью горы, края же из розового гранита удерживают озеро, словно в чаше. В одном месте гранитная стенка прерывается узкой щелью, и вода устремляется туда пенистым водопадом, который дробится на миллионы брызг по глянцевым скалам и расцветает всеми цветами радуги. Чуть ниже маленький, но яростный водопад замыкается меж двумя цветущими берегами, образуя игрушечную речушку, над которой резвятся мириады стрекоз… И все это сияет и переливается на экваториальном солнце, которое оживляет все, к чему только прикасается, удивительной игрой золота и света… Охота обещала быть удачной. Сотни фламинго в нежно-розовом оперении самозабвенно увлеклись рыбной ловлей посреди буйного изобилия бледно-голубых и золотистых лилий. Охотники осторожно приближались на необходимое для выстрела расстояние, когда внезапный и долгий рев, хриплый и грозный, устрашающий и загадочный, донесся из глубины долины, прокатился, словно сквозь огромную акустическую трубу, по ущелью, стиснутому стенами леса, и отразился резким и мощным эхом от поверхности озера. Потревоженные в своей безмятежности представители отряда голенастых один за другим поднялись в воздух, сопровождая свой полет затяжными взмахами крыльев, которые так ловко изображают японские артисты. — Это крик дикого слона, — заметил один из индийских слуг. — Их много… Целое стадо… Действительно, вслед за первым раздались и другие трубные звуки, затем еще, они сливались в бесконечную вереницу, умноженные эхом, и громыхали раскатами грома. Должно быть, между исполинами завязалась настоящая битва, судя по яростным воплям, которые не стихали ни на минуту. Охотникам на птиц не оставалось ничего другого, кроме осторожного отступления в противоположном направлении. Ярость великанов, несомненно возбужденнных в это время года, могла обратиться против них, и людей бы растоптали, как насекомых. Это отступление удлинило их маршрут, и крайне затруднительным представлялось отыскать безопасный ночлег в лесу, населенном хищниками и змеями. Между тем надвигалась ночь. Слуга-индус начал проявлять беспокойство, поскольку эти животные особенно опасны и агрессивны в сумерках. И вдруг — о счастье! — путники заметили на холме деревянные домики туземной деревни. И в скором времени они повстречали на поле, огнем очищенном от растений, приятного вида молодую пару — юношу и девушку, стоявших возле источника. Молодой человек поклонился с достоинством, которое указывало, что он принадлежал к благородной касте, хотя и был босоног и очень просто одет. Охотники вежливо ответили на приветствие, обменялись несколькими фразами на тамильском языке и в конце концов приняли добросердечное предложение переночевать в деревне, необыкновенно довольные тем, что им не придется брести среди опасных ловушек, которыми ощетинивается лес с наступлением ночи. …Другая экскурсия, морская, едва не завершилась трагедией. Неутомимый в поисках нового, Жаколио сговорился с макуа и карауэ (касты рыболовов). Первые относятся то ли к малабарцам, то ли к сингалам, вторые — мавританского происхождения. Каждый вечер они попарно выходят в море на катамаранах — сооружениях типа плотов, состоящих из трех крупных бревен, накрепко связанных прочными веревками из волокна кокосовых пальм. В передней части бревна заострены, чтобы рассекать волны, сзади обтесаны под прямым углом. Это плоское суденышко совершенно непотопляемо, какой бы ни была погода; оно всегда держится на поверхности воды и управляется с помощью двух весел. Экипаж состоит из двух человек: один выдерживает нужное направление, другой ловит рыбу. Жаколио и его спутник выбрали катамаран больших размеров, сторговались на ночь с хозяином Шейх-Туллой, погрузили запас продовольствия, напитков и хороших сигар. Это была хорошая сделка для рыбака, который не мог надеяться заработать за ночь больше двенадцати — пятнадцати су[94], при невысокой рыночной стоимости рыбы. А сахибы очень великодушно предложили ему каждый по рупии и оставляли всю пойманную рыбу. И чтобы заинтересовать их еще больше, хозяин катамарана предложил организовать рыбную ловлю с факелами вместо обычной, при помощи удочек или сетей. Оба француза расположились в кормовой части катамарана на двух боковых бревнах, свесив ноги внутрь третьего ствола, выдолбленного в форме пироги, тогда как прислуга следовала за ними на таком же суденышке. Две крепкие веревки из кокосового волокна были закреплены на каждом борту, они служили страховкой на случай штормовой погоды, хотя таковая и представлялась маловероятной. При малейшей угрозе рыбакам надлежало обмотаться веревками, чтобы их не сбросило с плота. Согласно обычаю, оба вождя каст макуа и карауэ подали сигнал к отправлению, и не меньше двух сотен катамаранов, ожидавших в полной готовности, под энергичными взмахами весел своих экипажей устремились вперед. Через несколько минут флотилия пересекла три волны в районе прибрежной каменной гряды, которые даже в спокойную погоду достигают внушительной силы на этих берегах. И вскоре монотонная замедленная зыбь уже вздымала одну из тех волн, длиной более километра, что хорошо известны плавающим в Индийском океане. Управляемые ловкими гребцами, суденышки легко взлетали на гребни и с такой же легкостью соскальзывали вниз, словно проваливаясь в бездонную пучину. Катамаран, сильно накренившийся на спуске, оказывался на дне водного ущелья, меж двух огромных водяных гор; он выпрямлялся незаметно и начинал взбираться на следующую волну, чтобы затем обрушиться снова и начать очередной подъем. Вскоре сгустилась ночная мгла, с той особой внезапностью, которая свойственна лишь тропическим районам. «В первый момент, — пишет путешественник, — я почувствовал легкое головокружение, и немедленно два или три раза обмотался веревкой. Движение нашего катамарана, монотонное и бесконечное бормотание волн, отсутствие человеческих голосов, вода, которая временами окатывала меня с ног до головы, — все способствовало погружению в очень странное болезненное состояние: мне казалось порой, что веревки, связавшие наши бревна, вот-вот порвутся и мы окажемся среди волн как потерпевшие кораблекрушение, безо всякой надежды на помощь…» Шейх-Тулла отдал приказ остановиться, и яркий свет вдруг вспыхнул, отразившись в волнах рассыпанными блестками. Карауэ зажег факел из кокосового дерева, пропитанного смолой. Он привязал его к концу маленького горизонтального шеста, который выступал примерно на метр над бортом катамарана и был укреплен на высокой подставке, чтобы волны не загасили огонь. В тот момент, когда факел пролил свет на воду, оба гребца поспешно убрали из нее свои ноги, которые болтались там с самого отплытия. Позиция весьма удобная, впрочем, вызванная необходимостью, поскольку оба сидели на концах двух внешних бревен. Путешественники заинтересовались причиной такого поведения и услышали в ответ: — Махапонгу! (Акулы!) Во время гребли скорость катамарана достигала пяти-шести узлов[95], и подручные Шейх-Туллы могли спокойно оставить свои ноги в воде, не заботясь об акулах, чья скорость не превышает трех узлов. Но теперь, когда сингальское суденышко остановилось, опущенные в воду ноги могли у них отхватить как топором. Шейх-Тулла, со своей стороны, дал указание пассажирам оставаться внутри катамарана и ни в коем случае не погружать в воду руки. Предоставленный самому себе катамаран медленно дрейфовал[96] на волнах, и рыбы, привлеченные светом факела, целой толпой поднимались из глубины океана. Сперва большая стая серебристой селедки появилась и исчезла в одно мгновение, за ней последовало с полдюжины громадных бонито[97]. Молниеносным движением хозяин всадил в одного из них маленький гарпун с шипами, насаженный на трехметровый шест, который с помощью железного кольца удерживался на крепкой веревке. Бонито долго сражался за свою жизнь, пять или шесть раз уводил веревку под воду, но после отчаянных прыжков ослабел и затих. Несмотря на близость акул, подручный без колебаний бросился в воду, чтобы опутать сетью огромную рыбину и подтянуть ее к борту. Длина ее превышала два метра, а вес был не менее ста двадцати пяти килограммов! Тунец разместился между ногами пассажиров, в углублении, выдолбленном в среднем бревне и достигавшем более полутора метров в длину. Затем потянулись долгие часы великолепной тропической ночи, принесшие не одну удачу рыболовам, и всякий раз гарпунщики издавали крики восторга. Красные дорады, пеламиды, изумрудно-зеленые скаты и морские петухи скопились вокруг огромного бонито на тесной палубе катамарана. Путешественники устроили роскошный ужин и забавлялись тем, что швыряли объедки сонмищам маленьких рыбок, привлеченных светом из океанских глубин. Но вдруг хозяин отдал какое-то краткое распоряжение своим помощникам и погасил факел. Двое мужчин налегли на весла, и катамаран быстро понесся по волнам. — Осторожно, сахибы! — крикнул Шейх-Тулла, предупреждая всякие вопросы. — Махопонгу нас преследуют!.. Оставайтесь внутри катамарана! Лишь с полдюжины фосфоресцирующих следов по обеим сторонам лодок указывали на присутствие грозных обитательниц океана. В течение нескольких минут они пытались соревноваться в скорости с рыболовецкими судами. Но у гребцов были крепкие руки, и не прошло и десяти минут, как преследователи прекратили бесполезную погоню; на счастье, скорость акул была обратно пропорциональна их прожорливости. Нет ни одной, даже самой маленькой рыбешки, которой не удалось бы легко уйти от акулы. Так что вечно голодному чудовищу, пребывающему в постоянных поисках пищи, приходится пробавляться случайной добычей или же довольствоваться мертвыми и больными рыбами. В общем, больше эмоций, чем реальной опасности, вызывала близость зубастых хищников. Что же касается трагического исхода, то он мог последовать лишь в результате собственной небрежности путников или из-за того, что вождь карауэ забыл бы их предупредить об опасности. Последнее же практически исключалось, поскольку ловцов рыбы при свете факелов немедленно предупреждает о появлении акул внезапное исчезновение огромных стай салаки и уклейки, которые постоянно толкутся в освещенных местах на поверхности океана. Экскурсия в общем завершилась без инцидентов. В Индии, к счастью, пираты водятся только в море, в джунглях и в лесу: это тигры, змеи и акулы. Но есть еще там животное необычайного ума и исключительной силы, к которому Жаколио испытывает глубокую нежность и о котором собрал на полуострове Индостан наблюдения столь же многочисленные, сколь и интересные. Это слон. И прежде всего, как человек, наблюдавший за работой доброго гиганта, использовавший его услуги, изучивший его на месте, Жаколио расправляется с теми кабинетными учеными, которые отрицают качества слона, возвышающие его над прочими животными, подобно тому как сам человек превосходит в умственном отношении того же слона. Кабинетные ученые воистину не правы, потому что они просто не знают толком это животное. Действительно, необычаен тот факт, что этот колосс безмерной мощи способен в кратчайший срок полностью одомашниться и выполнять самые разнообразные работы с прилежанием, тщательностью и терпением, которых не всегда дождешься и от людей. Каких-нибудь полгода тому назад он бродил еще в глубине лесов, свободный, дикий и независимый; а теперь он принадлежит какому-нибудь торговцу кокосовым маслом, гончарными изделиями, копченой рыбой или рисом. Каждую неделю слон отправляется в Галле, Калутару, Негомбо или Коломбо, неся товары своего хозяина для грузополучателей на базарах. На первых порах его сопровождает слуга, затем ребенок, в конце концов слону дозволяется преодолевать маршрут в одиночестве. И он никогда не собьется с пути, не ошибется с пунктом назначения. Через два или три дня он возвращается, выполнив свою миссию, и в ожидании дня, когда он повторит свое еженедельное путешествие, слон собирает хворост и фрукты в лесу для своего хозяина, траву и молодые побеги бамбука в джунглях на корм буйволам и себе самому. А когда настанет вечер, он приводит в движение коромысло, которое служит индусам для откачки воды, и в течение одного-двух часов будет поливать рисовые делянки и поля бетеля. И это еще не все. За время долгой своей жизни слон неоднократно сменит хозяина. Добрый и преданный в равной мере каждому, слон с удивительной легкостью приспособится к требованиям новой обстановки, в какой он окажется, и поочередно будет служить носильщиком, дровосеком, рассыльным, охотником, охранником пагод[98], боевым слоном против носорогов, а также дрессировщиком и начальником «слоновьей команды» на английских лесоразработках. «Я видел, — рассказывает Жаколио, — как слоны добросовестно трудятся носильщиками целыми днями, а с наступлением вечера, словно наемные рабочие, отправляются спать к себе, то есть к своим хозяевам. Видел я и других в горах Котмалес, на Цейлоне, как они на неприступной высоте рубят топорами, обращению с которыми их научили, высоченные деревья, чьи стволы используются при постройке судов. И в зависимости от длины ствола двое-трое слонов взваливают его себе на плечи и транспортируют в порт Коломбо, где уже другие слоны принимают груз и по всем правилам искусства укладывают его штабелями. И слоны эти трудятся совершенно одни! В лучшем случае надсмотрщик заглянет к ним раз в день. Им стоит сделать только шаг, чтобы оказаться в глубоких ущельях, откуда время от времени доносятся крики их диких соплеменников, но они этого шага не делают… Нет ни одного случая в Индии, чтобы одомашненный слон вернулся к лесной жизни, вопреки утверждениям автора Словаря естественной истории…» Тот же самый автор уверяет, будто слоны не могут привыкнуть к огнестрельному оружию и обращаются в бегство при звуке выстрелов. Жаколио возражает ему, рассказывая об «охотничьих слонах», верхом на которых атакуют хищников в джунглях, ведя стрельбу из карабинов. Более того, слонов приучили даже к артиллерийской стрельбе, и во время войн в Абиссинии[99] и в Гане они с полным хладнокровием внимали артиллерийскому огню, пребывая рядом с батареями. Для подтверждения своей правоты и придания большего веса своим утверждениям, Жаколио заимствует у различных авторов характерные примеры, показывающие, сколь незаурядны умственные способности слонов. Они позволяют им даже проявлять инициативу в некоторых случаях, не предусмотренных никакой дрессировкой или предварительным обучением. Так, в один прекрасный день майор Скиннер, ехавший верхом, повстречался на узкой тропке со слоном, несшим на спине огромное бревно. Лошадь встала на дыбы с перепугу. Слон сбросил бревно на краю тропы и зашел в лес, пропуская коня со всадником, азатем спокойно продолжил свою работу. Другой офицер, майор Моуэт, рассказывает, что в Бенгалии слонов используют для сопровождения военных конвоев. Случись дорожное происшествие — съехала с дороги или перевернулась повозка, орудийная упряжка — слон даже не ожидает указания своего «махаута», а подбегает к пострадавшему экипажу, поднимает его хоботом и возвращает в исходное положение. А затем занимает свое место в строю, готовый снова все повторить в случае надобности. Томас Анкетиль также приводит два факта, на которые с удовольствием ссылается Жаколио в подтверждение своего тезиса о приспособляемости этих животных. Это случилось в Бирме, в Рангуне. Слон подносил глиняные кувшины с керосином, а его махаут находился на корме барки, пришвартованной на реке Иравади, очень широкой и глубокой в этом месте. Сделав неловкое движение, махаут оступился и упал в воду. Слон немедленно бросился в реку, стремительно подплыл к человеку, уносимому течением, схватил его хоботом, поднял над водой и доставил на берег. В другой раз Томас Анкетиль принимал своего друга, прибывшего верхом на слоне. На тесной улице тяжелая повозка переехала животному ногу, и слон взвыл от боли. Анкетиль подошел, осмотрел рану, обмотал раненую ногу полотенцем, смоченным водкой с камфорой, закрепил компресс и велел отвести охромевшего слона в стойло. После полудня он проведал его, и умное животное само протянуло ему раненую ногу. В течение недели Анкетиль менял повязки, лечил слона, и с того времени благодарный великан ни разу не забывал радостно протрубить, проходя мимо дверей Анкетиля. А когда он встречал своего исцелителя, то нежно потирал ему хоботом спину, руки, плечи и так сопел на него, что Анкетиль покрывался гусиной кожей… Самому Жаколио довелось быть свидетелем еще более удивительного случая. Маленькая девочка часто гостила по нескольку дней на плантации своего друга, майора Дэли, расположенной на берегах Брахмапутры в окрестностях Дакки. И она очень привязалась к одному из слонов в этом поместье. Нечего и говорить, что она щедро угощала животное, очень чувствительное к такого рода вниманию. Любую пищу она обязательно разделяла со своим большим другом. И вот однажды ее мать вся в слезах появляется на плантации майора… Ее ребенка похитили! Злодейскую кражу приписали кочевникам йеру-вару, ловцам хищных животных, которые побывали недавно в этих местах. Но никто не знал, куда они направились. Правана — так звали слона — обожал девочку. Всякий раз, когда маленькая Эмма находилась в поместье, он становился ее охранником, вел ее на прогулку вдоль реки или по рисовым полям, собирал для нее цветы и фрукты, ловил хоботом ярких колибри, порхавших среди цветущих бананов; ночью он охранял комнату, где находилась детская кровать. Одним словом, ласковое обращение девочки обладало гораздо большей властью над ним, чем все приказы погонщика. Едва завидев коляску, в которой приезжала его маленькая подруга, гигант радостно мчался ей навстречу… И нужно было видеть его разочарование, даже глубокие страдания, когда однажды повозка оказалась пустой. Муриам-Дала, погонщик слона, сказал ему на ухо несколько слов, которые привели животное в подлинный гнев. Понял ли Правана? Кто знает! Вероятно… Во всяком случае, угрожающе проревев два дня в лесу, он отправился с Муриам-Даллалом на розыски маленькой Эммы. Спустя три недели он появился на плантации, гордо неся ребенка на спине! Слон настиг йеру-вару в тот момент, когда они собирались переправляться через Ганг в районе Раджмахала[100]. Отнять у них малышку, схватить за шею и бросить в реку несшего ее кочевника было минутным делом. Злодеев так перепугало внезапное появление слона и его агрессивное поведение, что они разбежались в разные стороны. Доброе животное, впрочем, и не думало их преследовать. «Я был тогда в Велледжпуре, поместье майора, — рассказывает Жаколио, — и все мы в семейном кругу слушали повествование Муриам-Даллала, погонщика, о метаниях слона, чьи упорные поиски похитителей увенчались столь блестящим успехом». …Удивительно, но эти животные, служащие для человека ценными и надежными помощниками, не размножаются в неволе. Надо сперва захватить их в плен, вырвать из джунглей, одомашнить и приучить к разнообразным видам работ, которые они выполняют с поразительной ловкостью и усердием. Методы, с помощь которых удается захватить слона и хорошо его выдрессировать, восходят к самым давним временам. В наши дни они практикуются в широких масштабах, особенно в английских колониях, ввиду бесценных услуг, которые способно оказать это животное. В тех же случаях, когда слоны служили только для украшения праздников раджи или для религиозных процессий, приходилось довольствоваться охотой на отдельных животных. Их захватывали в плен, завлекая с помощью одомашненных слоних или же благодаря ловкости и умению людей, практикующих это опасное занятие. Двух мужчин достаточно, чтобы захватить слона; в то время как один отвлекает его внимание, раздражая или провоцируя чем-то, другой проскальзывает позади животного и набрасывает ему на ногу крепкую веревку. Привязанный к могучему дереву, слон превращается в пленника, вынужден смириться и покоряется воле новых хозяев. С тех пор как обосновавшиеся в Индии европейцы решили использовать слонов наряду с лошадьми и другими домашними животными, потребовалась иная система охоты, чтобы раздобыть сразу большое количество животных. На острове Цейлон португальцы, а следом за ними голландцы и англичане организовывали облавы. Будучи людьми практичными, они разделили территорию, где в изобилии водятся слоны, на охотничьи участки, во главе которых поставлены суперинтенданты, чаще всего это армейские офицеры. Им вменяется в обязанность вместе с многочисленным персоналом захватывать и дрессировать этих умных помощников человека. Эти облавы, которые проводятся ежегодно в соответствующих округах на Цейлоне и в Индии, передают в руки охотников целые стада слонов. Однако брать живьем, да еще без единой царапины, столь могучих и умных животных удается, лишь используя природную пугливость и неопытность диких слонов, а особенно — прибегая к помощи уже прирученных животных. Безо всякого отвращения помогая людям в борьбе с собственными сородичами, они вносят в охоту особую смекалку и увлеченность. Они подталкивают диких слонов к деревьям, к которым тех должны привязать, завлекают своих собратьев в обнесенные охотничьи загоны, не дают им сбрасывать хоботом узы, которые на них набрасывают, и защищают своих собственных хозяев от яростных атак плененных животных. Так с помощью одомашненных слонов происходит дрессировка очередной партии пленных. В слоновьем питомнике, который содержится английским правительством в Дакке, в Бенгалии, находится группа избранных слонов, из числа самых сильных и умных, для обучения новоприбывших. Это как бы старые сержанты-инструкторы, под управлением которых муштруется каждый рекрутский набор. Дрессировка слона длится несколько месяцев; к работе его следует приучать постепенно, шаг за шагом, когда послушание станет для него привычным и он проникнется симпатией к людям, проявляющим заботу о нем. Слон подчиняется погонщику скорее из привязанности к нему, чем из страха. В этом отношении его покорность напоминает больше собаку, чем лошадь. Она простирается вплоть до стоического перенесения боли. Есть немало свидетельств того, что по приказу своего махаута слоны безропотно глотают самые невкусные лекарства и терпеливо переносят не только кровопускание, но и весьма тяжелые хирургические операции — такие, как прижигание язвы или удаление опухоли. Впрочем, ни один слон не забывает о своей привольной жизни в лесу, на свободе. Так что обращаться с ними следует осмотрительно и мягко. Но даже и при таком обращении смертность среди пленников весьма высока, особенно в первые месяцы неволи. Они просто ложатся и умирают, безо всяких видимых признаков какой-то болезни. С полным основанием можно сказать об этом животном, что оно отличается необычно высокой чувствительностью, что фактор моральный для него важнее физического, и в этом слон крайне походит на человека… Наконец, эта чувствительность способна обостряться настолько, что слон буквально теряет свои умственные способности. Он впадает в бешенство, как и человек. Однако его ярость ужасна и принимает разнузданные формы. Тогда он крушит все на своем пути и предается самым невообразимым причудам, самым диким выходкам. Выздоровление его, как правило, невозможно. Жаколио, один из путешественников, чьи наблюдения над слонами наиболее полны и последовательны, рассказывает по этому поводу удивительную историю, произошедшую на той самой плантации его друга, майора Дэли, неподалеку от Дакки, где была похищена маленькая Эмма, а потом столь чудесным образом возвращена. Один из рабочих слонов майора как-то пришел в состояние внезапной ярости, когда он находился на берегу Ганга, занимаясь погрузкой мешков с рисом на транспортную баржу. Ни с того ни с сего он принялся швырять мешки в воду; растерявшийся махаут попытался его урезонить — слон уложил его одним ударом хобота. Матросы из касты рыбаков макуа забрались в испуге в трюм маленького суденышка. А слон с диким ревом понесся в сторону поселка. Дети майора играли на лужайке под присмотром старого боевого слона по имени Супрамани. Этот последний, видя приближение ослепленного яростью собрата, понял опасность происходящего, заслонил собою детей, дав им возможность укрыться в доме, и преградил дорогу нападавшему. Завязалась ожесточенная схватка двух слонов, в которой Супрамани подтвердил свою давнюю репутацию ловкого и мужественного бойца. После двухчасовой беспощадной битвы — в это время никто не смел приблизиться к дерущимся, да и чистым безумием было бы послать пулю в обезумевшего слона, ведь убить его можно, лишь попав в глаз или висок, — старый богатырь покинул умирающего противника и вернулся в свой загон, весь покрытый ранами, с окровавленным хоботом, разодранными в клочья ушами и без одного бивня. Это доброе старое животное было специально натренировано для борьбы с носорогами, которые в определенное время года поднимаются от низких и заболоченных берегов Ганга до самых окраин Велледжпура и опустошают рисовые поля. В юности заслуженный слон почти ежегодно находил случай проявить свою доблесть. Но, когда он добросовестно прослужил чуть ли не целый век у дедушки и дяди майора, его заменили более молодым бойцом, а сам он уже несколько лет не дрался. Выйдя «на пенсию», Супрамани превратился в товарища и компаньона детей майора; он сопровождал их повсюду, в лесу и на берегах реки. Маленький отряд иногда отсутствовал целый день, но никто в селении не проявлял беспокойства. Достаточно было знать, что дети находятся под надежной охраной старого слона. «Однажды утром, — продолжает свое повествование увлеченный писатель, — я искал старшего из детей, чтобы вручить ему обещанную книгу. — Супрамани повел их всех на рыбную ловлю, — сообщил мне отец. — На рыбную ловлю? — переспросил я с недоумением. — Если желаете, идемте вместе со мной, — продолжал майор, — мы спустимся к берегу реки за несколько минут и посмотрим, как они развлекаются. Я принял предложение моего друга, и очень скоро мы действительно увидели на песчаной полосе пляжа, довольно далеко вдававшейся в реку, всю живописную маленькую группу, обычно столь шумную, но на сей раз спокойную и молчаливую. Все стояли у самой кромки воды. Мы подошли к ним. У каждого в руках была наживленная удочка, заброшенная в реку, а жадные взоры прикованы к поплавкам, плясавшим на мелких волнах, как бы возвещая о крупной добыче. А рядышком старый Супрамани держал хоботом длиннющий бамбуковый шест, оборудованный под удочку, с леской и непременной наживкой; застывший, словно гранитная глыба, слон представлял неотъемлемую часть всего оркестра удильщиков. Легко понять, что внимание мое тут же обратилось не столько на детей, сколько на слона-рыболова, я не хотел упустить ни малейшей подробности его поведения. И слон не заставил себя долго ждать. Поскольку религиозные догмы запрещают индусам покушаться на все живущее, то местные реки изобилуют рыбой, как и джунгли — дикими животными. Не прошло и двух минут, как поплавок удочки Супрамани задергался на воде… Слон не пошевелился; его маленький горящий глаз с вожделением следил за движениями поплавка: нет, слон был явно не новичком в искусстве рыбной ловли, столь милом для всех мечтателей. Он выжидал удобного момента. И в самом деле, лишь только поплавок резко дернулся, будто пытаясь уйти под воду, как удочка была выхвачена со всей ловкостью опытного рыбака. На конце ее болтался один из тех превосходных золотистых линей, которые в изобилии водятся в Ганге и отличаются изумительным вкусом, но есть которых, как и всякую речную рыбу, можно, лишь продержав месяц-другой в рыбоводном садке. Множество трупов, которые индусы по ночам сбрасывают в Ганг, придают отвратительный запах всем рыбам. Когда Супрамани увидел свою добычу, он немедленно издал ликующий победный рев, протрубив радостно два раза подряд, словно проиграв партию на тромбоне. А потом стал ждать, пока Джеймс, старший сын майора, освободит его удочку и наживит ее снова. Этот мальчуган, большой проказник, часто потешался над своим огромным добродушным другом. И на сей раз он воспользовался нашим присутствием, чтобы разыграть забавный спектакль. Сняв рыбу с крючка, он бросил ее в кувшин с водой и спокойно вернулся на свое место, не нацепив наживку на удочку Супрамани. Умное животное смирно ожидало, не забрасывая удочку в воду; затем стало подавать признаки нетерпения. Слон начал испускать призывные клики в сторону Джеймса, причем старался делать это как можно деликатнее. Комично было наблюдать, как великан пытается придать своему голосу нежное звучание: все пернатые взмыли в воздух со своих веток. Видя, что все его попытки не достигают успеха, что маленький проказник не сдвигается с места, Супрамани направился к нему и попытался хоботом подтолкнуть вредного мальчишку к ящичку с наживками. Когда же слон убедился, что и эти действия не способны смягчить его друга, он вдруг резко оборотился, как бы пораженный внезапной идеей, схватил хоботом коробок, содержавший червей и насекомых, и поставил его у ног майора, а затем подобрал свою удочку и протянул ее хозяину. — Что же тебе надобно от меня, старина Супрамани? — спросил мой друг. Тотчас же великан стал нетерпеливо топать ногой и испускать самые мягкие просительные звуки. Желая понаблюдать, как обернется дело, я подхватил игру Джеймса и, подняв с земли коробку, сделал вид, что хочу убежать… Наказание последовало мгновенно: рассерженный слон погрузил свой хобот в реку и выпустил на меня под всеобщий хохот целый столб воды с силой и скоростью пожарного насоса. Майор остановил его знаком, и, чтобы помириться с мудрым животным, я сам надел наживку на его леску. Дрожа от радости, словно ребенок, которому вернули его любимую игрушку, слон ринулся к берегу на свой пост, едва успев поблагодарить меня самым нежным рыком. Я рассказал об этом случае, которому сам был свидетелем, кабинетным натуралистам, желающим видеть в плененном слоне существо запуганное и глупое… Нельзя сказать, что здесь мы имели дело лишь с ловкой дрессировкой. Конечно, слона научили держать удочку и выдергивать ее из реки в тот момент, когда поплавок скрывается под водой. Но как же могли ему внушить, что рыба не будет ловиться на удочку без наживки?.. С помощью какой дрессировки обучили его размышлять, умолять маленького Джеймса, чтобы он привел его рыболовецкий инструмент в надлежащий вид?.. И наконец — полнейшее отчаяние для наших натуралистов! — кто же подучил его адресоваться к нам, более того, на мою шутку ответить другой шуткой?.. Все это порождает цепочку совершенно необычных мыслей. Это уже не просто рудиментарный природный инстинкт; это познавательные способности, это зачатки сознательного мышления; это ум, развитый воспитанием и тренировкой. А ум человека, каким путем развивается он?» …Рассказывать о многочисленных и плодотворных путешествиях Жаколио, насыщенных наблюдениями и исследованиями, можно бесконечно. Ведь неутомимый труженик, постоянно выполняя свои юридические обязанности, написал добрых пятнадцать томов! Сначала о кастах[101]. Главных четыре: брахманы (жрецы); кшатрии, или раджи, образующие верхушку армии; вайшьи (земледельцы, скотоводы, ремесленники, торговцы); наконец, шудры, рабы и наемные работники, и парии, вместе с шудрами составляющие девять десятых населения. Все касты, вполне понятно, подразделяются на «подкасты», состоящие из бессчетного множества вариаций. Брахманы воздерживаются от употребления в пищу всего живого и питаются только овощами и фруктами в соответствии со своей верой в перевоплощение душ. Каста кшатриев больше не существует в прежнем виде, и те, кто еще претендует на принадлежность к ней, не пользуются признанными привилегиями, за исключением редких случаев, когда под владычеством англичан удается еще сохранить какие-то лоскутки власти. Более низкая каста вайшьев подразделяется на две главные ветви: коммути, или торговцы, лодочники, банкиры, и четти, продавцы мелкого товара. Каждое из этих подразделений в свою очередь членится на множество «подкаст»[102]. Самая многочисленная каста — шудры[103], и, несомненно, у нее самая сложная и разветвленная структура. Любое ремесло, сколь бы мелким и незначительным ни было оно, представляет собой касту, не имеющую ничего общего с прочими кастами; и эта мания зашла так далеко, что и проведя несколько лет в Индии, Жаколио не смог составить полный список всех каст только на юге страны. Он прекратил подсчет на двухстах пятидесяти! Европейцы, со своей стороны, образовали пятьдесят новых каст, среди которых есть и совершенно неожиданные и причудливые. Не говоря уж о касте добашши, или начальников слуг, о касте кучеров, или виндикара, о касте велакукара, или зажигающих лампы, о садовниках, или татутара, о кастах конюхов, уборщиков нечистот и пр. Из всего этого проистекает, что для обслуживания в Индии необходимо как минимум от пятнадцати до двадцати слуг, каждый из которых выполняет одну строго определенную функцию, предписанную его «специализацией». К счастью, заработки их не превосходят скромную цифру, которая колеблется между пятью и двенадцатью франками. Даже обслуживая европейских хозяев, они приносят с собой все индийские предрассудки, закоренелое пристрастие к классификации и церемониалу. Очень часто возникают между ними странные распри по поводу первенства. Например, кто должен первым проходить через дверь, кто имеет право сидеть на краю веранды, возле помещения хозяев и т. п. Эта бесчисленная каста шудр, которая одна составляет добрых шесть десятых всего населения Индии, включает всех ремесленников и слуг, подобно тому как вайшьи включают всех купцов и продавцов. Но, даже принадлежа по своему происхождению к одной из четырех каст, установленных брахманами, индусы из новых каст столь же отчужденны по отношению друг к другу, как и прежние брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры были между собой; и, как в прежние времена, никто не может выйти из касты, в которой он рожден, никто не может приобрести иную профессию, чем у отца. Среди класса ремесленников наиболее почитаемы земледельцы, которые, в зависимости от рода занятий, входят составной частью в два десятка каст. Затем следуют панчала, или представители пяти ремесел: мастера золотых и серебряных дел, литейщики, кузнецы, плотники, гончары и производители кирпича, которые, в свою очередь, подразделяются еще более чем на тридцать различных каст. В верхней части их находятся ткачи, давильщики масла, винокуры, рыболовы, занятые прачечным ремеслом, производители пальмового сахара, парикмахеры и великое множество мелких ремесленников, которые образуют, по крайней мере, полторы сотни специальных каст. А кроме того, существует немало самых удивительных каст, как, например, каллеру, или воров, «которые пользуются привилегией присваивать имущество других», без чего данное занятие считалось бы бесчестным, или намбури, каста молодых девушек, которые умирают девственницами, чтобы выйти замуж после своей смерти; или же каста макулу, то есть матерей, взявших обязательство ампутировать первую фалангу указательного пальца левой руки, как только выдадут замуж старшую из дочерей, и т. д. и т. п. Но и это не все; дело не ограничивается таким дроблением до бесконечности. Индусы нашли еще способ разделить каждую касту на две ветви: первую — валан-гаи-мугаттар и вторую — валан-ваи-мугаттар, то есть на приверженцев правой руки и приверженцев левой руки. Эти различия проистекают из того факта, что в пределах определенной касты одни пользуются правой рукой для гигиенической очистки своего организма, другие же приспособили левую. И поскольку рука, совершающая гигиеническое омовение, рассматривается как нечистая, то отсюда следует, что сторонники правой и левой рук в одной касте не имеют никаких контактов между собой и смотрят друг на друга с отвращением, обмениваясь взаимными ругательствами, самыми оскорбительными, какие только можно адресовать индусу: — Эти люди едят рукой, запачканной в экскрементах! Каждая рука мало-помалу начинает присваивать себе исключительные привилегии; поскольку же эти привилегии точно не определены и не узаконены, то открывается простор для вечных споров и столкновений, которые, касаясь наиболее фривольных тем, приводят иной раз в возбуждение целые районы. Следующая история может дать об этом достаточное представление: «В 1865 году, — пишет Жаколио, — апелляционный суд в Пондишере, где я тогда заседал, рассматривал очень любопытное дело. Однажды в городе прошел слух, что селение Янаон на побережье Ориссы превратилось в настоящий театр военных действий. Индусы с французской территории и их соплеменники из английской колонии схватились врукопашную и оставили на поле брани два десятка убитых с обеих сторон. Суд возбудил дело и послал на место происшествия одного из своих советников. Вот что приключилось. На праздничном гулянье, которое состоялось на границе двух территорий, один чакили — представитель касты сапожников ветви левой руки появился в венке из желтых цветов на волосах. И тотчас же другой чакили из противоположной ветви взбунтовался, заявляя, что венки такого цвета могут носить только чакили правой руки. Сапожник-левша стал возражать, между спорщиками очень скоро завязалась драка, и тотчас же в нее вступили другие. Все приверженцы левой и правой рук, и не только из касты чакили, но и из всех прочих низких классов, присутствовавшие на празднике, устроили настоящую свалку. В смешной этой стычке приняли участие несколько тысяч человек. Чтобы их разнять, потребовался батальон английских войск, предоставленный в распоряжение французских властей». Индус, такой робкий и мягкий в обычных житейских обстоятельствах, без колебаний пойдет на смерть, как только дело коснется того, что он называет своими привилегиями. А вот другой факт, еще более трагический, который, возможно, полнее рисует характер индусов. В 1860 году, когда англичане вознамерились отправить полк индусов-сипаев на бирманское побережье, бедняги решительно отказались грузиться на корабль, так как закон Ману[104] запрещает людям их касты пересекать море. Английское начальство велело расстрелять каждого десятого; индусы продолжали упорствовать. Расстреляли начальников; солдаты побросали оружие и потребовали смерти. Джон Булль[105], который никогда не упускает случая дать индусам почувствовать отеческую и цивилизаторскую силу своего правительства, выставил против безоружных целую батарею и посек сипаев картечью, в назидание их соплеменникам. Большинство преимуществ, ради поддержания которых индусы готовы вступить в рукопашную схватку, примерно такого же свойства, как мы только что видели в требованиях чакили: это право носить сандалии того или иного цвета, передвигаться верхом или на носилках, выполнять какую-то церемонию так или иначе, использовать ли музыку на праздниках, носить то или иное оружие, тот или иной вид одежды, прогуливаться с тростью с золотым набалдашником или без — и еще превеликое множество других правил и обычаев, перечислить которые просто немыслимо, образуют те бессчетные отличия, которые каждая каста пытается присвоить себе или запретить другим. Все это выглядит крайне смешно, однако имеем ли мы, европейцы, право смеяться над другими? Ведь и сами мы, даже не подозревая об этом, остаемся людьми каст и привилегий. Да разве мы свободнее, чем индусы, в выборе своей одежды, например?.. Разве не предназначена наша одежда для такой-то или другой касты?.. Красное платье для судейских, отороченное зеленым для академика, форменные штаны для солдата. И если бы кто-нибудь вздумал вырядиться неподобающим образом, то разве не предали бы его тут же суду?.. Одинаково ли одеваются даже люди одной касты? Не разнятся ли они плюмажами, галунами, орнаментами более или менее сложными, составляющими привилегию того или другого, запрет для третьих?.. Индийский сапожник-«левша» не имеет права носить на голове желтые цветы, но французский кондитер или медник, у которых никто и не спросит, пользуются ли они двумя руками в известных случаях, немедленно попадут в тюрьму, стоит лишь им продеть в петлицу своего костюма крохотный кусочек красной ленточки, или зеленой, или фиолетовой! О! Старая притча о соломе и бревне! Можно задать себе вопрос, почему же сохраняются все эти причудливые разделения и подразделения, навязанные индусам самыми первыми законодателями? Вот объяснение, хорошее или плохое, которое дается по этому поводу. Исходя из общего для всех организаторов примитивных обществ принципа, согласно которому никто в государстве не должен быть бесполезен, те, что разделили на касты индийскую нацию, поняли, что имеют дело с народом апатичным, беззаботным, причем климат благоприятствует этой всеобщей инертности, так что потребовалось четко очертить каждому его место и обязанности, чтобы противостоять угрозе анархии. Благодаря союзу религии и политики, суеверие докончило начатое, предопределив каждому его жизненные действия, таким образом этот ленивый народ выполняет наложенные на него обязанности из уважения к священным традициям предков и из страха перед наказанием в случае неподчинения. А наказания эти ужасны и могут простираться вплоть до приговора к смерти, правом оглашать который обладают некоторые классы. Самым тяжелым изо всех наказаний является изгнание из касты. Это настоящая изоляция с трагическими последствиями. Человек, подвергшийся такому наказанию, лишается всяких связей с подобными себе; он оказывается за пределами человеческого общества. Он теряет друзей, родителей, жену, детей, которые бросают его, чтобы не разделить с ним бесчестья. Никто не смеет разделить с ним трапезу, никто не предложит даже капли воды. Брак становится невозможен для его сыновей и дочерей, его избегают, на него показывают пальцем, это воистину проклятый всеми. Самая низшая каста не решится принять брахмана, изгнанного подобным образом. Ему остается примкнуть к грязным париям или же перебраться в страну, где большинство составляют европейцы. Впрочем, установлено, что изгнанный из касты индус превращается обыкновенно в бандита или воришку. Иногда это столь грозное наказание имеет первопричиной какую-нибудь причуду, какое-то забавное, случайное происшествие. Если бы пария, переодевшись, затесался среди представителей какой-то касты, проник бы в их жилища, разделил с ними трапезу, то он поставил бы под угрозу изгнания всех тех, кто по неведению общался с ним. А сам пария, будучи разоблаченным, немедленно был бы убит на месте. Шудра, который вступил в связь с женой парии, изгоняется безжалостно и безвозвратно. Приводят пример поразительной жестокости, имевшей место в одном племени пастухов. Молодая девушка была обручена с юношей, который умер до освящения брака. Спустя некоторое время ее родители выдали дочь за другого мужчину. Поскольку они нарушили обычай, всю семью подвергли изгнанию из касты с запрещением ее членам когда-либо жениться и выходить замуж. Рассказывают также, что одиннадцать брахманов, путешествуя в опустошенном войной краю и не в силах переносить муки голода, были вынуждены сварить имевшуюся у них горстку риса в чашах, которыми им не следовало пользоваться под угрозой бесчестья. Они поклялись хранить тайну, но, вернувшись к своим семьям, были разоблачены одним из них, который отказался участвовать в кощунственной трапезе. Десять обвиняемых, сговорившись, заявили, что доносчик сам совершил преступление и клевещет на них по злому умыслу. Поскольку свидетельства нескольких человек перевесили показания одного, то сам обвинитель и оказался наказанным. Легко понять, как дорожат индусы своими кастами, которые представляют для них подлинные вывески благородства. Так что самое серьезное оскорбление, которое можно нанести индусу, — это назвать его человеком без касты. Бывает, что исключение из касты не является окончательным, что от него при определенных условиях можно откупиться, уплатив штраф, выполнив установленные «очистительные» церемонии. Среди этих неизбежных для реабилитации испытаний есть очень болезненные. Раскаленным слитком золота прижигают язык испытуемого; его клеймят раскаленным железом, заставляют босиком пробежать по горящим углям, несколько раз пройти под брюхом у коровы. Наконец, его принуждают выпить смесь, составленную из пяти продуктов священного животного — коровы: молока, сыворотки, растопленного масла, мочи и кала. Этот «коктейль» считается наилучшим очистительным средством[106]. Завершив эти обряды, реабилитируемый должен выставить щедрое угощение для брахманов и поднести им подарки, после чего он вновь обретает свои права. Есть, однако, преступления, которые никогда не могут быть прощены. Например, употребление в пищу коровьего мяса. В обществе с такой строгой иерархией снизу доверху все жизненные акты заранее регламентированы. Более того, эти застывшие и отчеканенные формулы сопровождают индуса до самой смерти и расстаются с ним лишь после полного исчезновения тела, преданного огню. Жаколио описывает индийские похороны с огромным количеством интереснейших деталей, и только нехватка места вынуждает нас ограничиться кратким пересказом. Демонстрирование мертвого на пышном ложе; священное омовение; музыканты с их дикой какофонией; проклятия, которые шлет вдова богам индийского Олимпа; выступления плакальщиц; приготовление костра из пахучих дров, смазанных ароматическими маслами и жиром для облегчения и ускорения горения; пение брахманов… Короче, вся цепочка необходимых обрядов вплоть до момента, когда тело кладут на тростниковую решетку, установленную над костром. «Должно быть, уже около часа ночи ритуальные приготовления достигли кульминации, — пишет исследователь, который присутствовал на церемонии вместе со своим спутником по экспедиции. — Умерший, по имени Нараяна, представал нашим взорам при свете факелов, окруженный россыпью желтых цветов, называемых в Индии «цветами смерти». Его резко очерченный застывший профиль принимал порой фантастические формы, в зависимости от прерывистого ветерка, раздувавшего пламя. Неподалеку стояли родители, неподвижные и молчаливые, в траурных белых набедренных повязках, а на вершине холма, выделяясь более темными силуэтами на фоне ночного неба, четверо рабочих заканчивали свой погребальный труд. И совсем рядом я увидел сидящего на корточках факира, скрестившего руки на груди. Это зрелище заставило меня вздрогнуть, ибо я тотчас же угадал, что должно было произойти. Семья Нараяны достаточно богата, чтобы позволить себе arta mourta — воспоминание о мертвом!» Хорошо известны — по крайней мере по слухам — эти ясновидцы, которые служат пассивным инструментом в руках брахманов и способны стоически переносить ужасные мучения. Индусы считают их святыми, победившими боль. Одни из них во время народных праздников с улыбкой позволяют раздавить себя колесам тяжелых повозок, везущих статуи их богов. Другие выкалывают себе глаза в честь любимого божества, сковывают себе руки таким образом, что растущие ногти пронзают ладони, или же прижигают руки раскаленным железом, связывая их вместе, до такой степени, что приходится оперировать шрамы. Есть и такие, что, напевая, вырывают себе ногти клещами или же, выполняя комическую пантомиму, загоняют в живое тело раскаленные гвозди. У тех больше нет губ, век, языка — они пожертвовали их Шиве[107]. Эти шкандыбают на бесформенных культяпках или же на долгие годы накрепко связывают руки с ногами, приобретая в такой позиции полную неподвижность суставов. Наконец, другие, как присутствовавший на похоронах Нараяны факир, делают своей профессией отрезание одной из конечностей, которую они кладут на костер рядом с мертвецом, чтобы, если по случайности этот последний не очистится от всех своих грехов, верховный судья Яма[108] не мог бы отправить его в maroca — ад, — ведь невозможно отделить пепел умершего от пепла части тела святого лица… Отсюда известная индийская поговорка: достаточно пальца факира, чтобы спасти сто человек. В южных провинциях, где этот старинный обычай все еще процветает, немного найдется богатых индусов, которые не завещали бы перед смертью значительные суммы для обеспечения столь драгоценной поддержки. Брахманы вульгарного культа эксплуатируют эти предрассудки с вызывающим бесстыдством, делая из них постоянный источник немалых доходов. Они доходят до того, что продают волосы и обрезки ногтей своих факиров людям среднего достатка, убеждая их, что, будучи орошены в костер, эти предметы окажут точно такое же действие на посмертную судьбу человека. Ради справедливости, однако, надо снять с ученых брахманов обвинения в потворстве этим спекуляциям. «…Последнее очищение; умащивание всего тела умершего жидким маслом, затем последнее обращение к Брахме[109]. Небесные духи, будьте к нему благосклонны!.. Настала очередь факира. Он приблизился к костру на расстояние не более двух шагов. Затем присел и, подтянув одну из ног к бедру другой, крепко-накрепко стянул ногу повыше лодыжки несколькими витками веревки и кокосового волокна… Мы следили за операцией с замиранием сердца, близкие к обмороку. Несчастный, схватив большой нож, который он носил в ножнах, висевших на цепи у него на груди, одним кольцевым ударом разрезал плоть ноги до самой кости; и в странной недвижности, как будто он оперировал над безжизненным телом, введя свой нож в сочленения костей, он отделил ступню, которая упала на траву, вся в крови. Он мгновенно схватил ее и бросил в самую сердцевину костра; затем, помогая себе руками, отступил на несколько шагов и остался в сидячем положении, прижимая открытую рану к другой ноге. Сын покойного, приблизившись с факелом в руке, прокричал три раза подряд: “Мараяна! Мараяна! Мараяна!” Он выждал какое-то время, как будто рассчитывая получить ответ на этот призыв. Затем бросил свой факел на поленницу костра. В одно мгновение языки пламени охватили покрытое жидким маслом тело. Когда костер превратился в груду прогоревших, но еще вспыхивающих огоньками пламени углей, факир велел одному из индусов принести накаленное искрящееся полено и стал огнем зарубцовывать свою ужасную рану…» Участие факира в этих похоронах, свидетелем чему стал уважаемый юрист, в ту пору — председатель суда в Чандернагоре, заставляет подробнее поговорить об этих личностях, игравших значительную роль в старом индийском обществе. Иногда их необоснованно смешивают с очень ловкими жонглерами, выполняющими некоторые головокружительные трюки, и даже с доходной, но подчас смертельно опасной профессией sâpwallah, заклинателя змей. Эти кочевники, бросающие якорь в разных местах со своей маленькой корзиной, тихо играют на миниатюрной флейте, чьи нежные звуки тревожат змей[110], и кобры выползают из своего убежища, покачивая капюшонами. Заклинатели очень умело манипулируют ими. Называемые индусами joghi (созерцатели) или toposivis (суровые) — слово fakir (бедный) арабского происхождения и занесено в Индию мусульманами, — факиры — это кающиеся аскеты, или нищие, которые путем самоистязаний, изнурительной строгости стремятся достичь сверхъестественной власти, как это делали до них, согласно традиции, Риши[111], Индра[112], Агастья[113]. Большинство из них являются поклонниками Шивы, они живут под открытым небом и часто доводят себя до крайнего умерщвления плоти. Несмотря на арабское имя, факир во многом предшествует исламу. Буддизм появился на свет в одеждах нищего монаха. И Будда в самом деле был нищим монахом. Так что если западные религии, как христианство или магометанство, приняли монашество, то не они его изобрели. Индия остается излюбленной родиной нищих монахов, которые под именем факиров живут в одиночестве, бродяжничают, никогда не задерживаются на одном месте. Спит факир на голой земле, тело его прикрывает только набедренная повязка. Если он оказывается в местности с холодной зимой, то старается греться как можно меньше и для добывания огня использует сухие экскременты коровы, повсюду почитаемого священного животного. Некоторые путешественники говорили о факире как о человеке опасном, если встречаешь его вдали от городов. Заявляли даже, что бродячие монахи объединяются в банды для грабежей на большой дороге. Что ни слово, то ложь… Факир — это фанатик, но он не ворует и не убивает, он живет в постоянном одиночестве. В иные смутные эпохи он способен оказать услуги своим единоверцам, стать их представителем, доверенным лицом, усердным и неподкупным, ненавидящим иностранцев. Но в обычное время он беззащитен. Индусы относятся к факирам с глубочайшим почтением. Когда они проходят мимо, то становятся перед ними на колени, чтобы заслужить их благосклонный взгляд, когда они публично возносят к небу свои молитвы, толпа почтительно раздвигается. Иногда какой-нибудь смельчак бросается обнять их ноги или лохмотья, которые их покрывают. К тому же у факиров репутация лекарей, врачующих от любых болезней. У них есть формы молитв для излечения паралитиков, хромых, слепых и всяких других страдальцев. Религиозная практика и аскетизм факира привлекают к нему всеобщее почтительное внимание. Кроме описанных выше страданий, которые они причиняют себе вполне добровольно, можно увидеть факира, закопанного в землю по шею и остающегося в этой позиции долгие годы; другие приговаривают себя к иной каре — например, держать руки поднятыми кверху в течение десяти лет. Это кончается тем, что они перестают пользоваться руками и вообще не могут больше их опустить. С целью покаяния, из духа самоуничижения они подставляют себя укусам насекомых, холодному дождю и палящему солнцу, предаются любым мучениям, какие мистическая экзальтация способна внушить фанатику. Вот такой беспощадной суровостью joghi, или претенденты на святость, надеются обрести состояние полного очищения. Английский путешественник рассказывает, что joghi умудрялись оставаться в стоячем положении и двенадцать лет, ни разу не присев и не ложась на землю. После такого испытания, которое потребовало бы контроля столь же тщательного, сколь и трудноисполнимого, этот фанатик прожил следующие двенадцать лет с руками, накрепко сцепленными на голове: ногти проросли сквозь руки и вросли в кожу черепа. Напоследок он решил пройти через пять огней: четыре — в честь главных совершенств и один — в честь солнца. Через полчаса он сгорел. Но самый необычный факт, намного превосходящий все, что проделывают индийские чародеи, это история с факиром, который заставил похоронить себя заживо и через несколько месяцев вышел из-под земли в таком же добром здравии, как и до «похорон». Хотя сам факт не кажется вполне убедительным автору этих строк, он считает необходимым поведать о нем, поскольку реальность происшедшего подтверждают люди весьма почтенные, хотя их доверчивость и могла оказаться обманутой. Вот как описывает дело один из свидетелей, мистер Осборн, бывший в ту пору офицером Индийской армии:[114] «В итоге ряда приготовлений, длившихся определенное время, перечислять которые мне было бы неприятно, факир заявил, что он готов подвергнуться испытанию. Генерал Вентура и магараджа, предводитель сикхов, собрались у выложенной кирпичом могилы, сооруженной специально для факира. На наших глазах факир залепил воском все отверстия своего тела, через которые мог бы поступать воздух, за исключением рта, затем сбросил свои одежды. Его всунули в полотняный мешок и, согласно его желанию, перевели язык в заднее положение таким образом, чтобы он закупоривал вход в дыхательное горло. После этой операции факир впал в летаргическое состояние. Мешок, в котором он находился, был плотно закрыт, и магараджа приложил к нему свою печать. Затем мешок поместили в деревянный ящик, закрыли его на замок, также опечатали и опустили в яму. Сверху набросали много земли, притоптали ее и засеяли ячменем. Наконец, расставили вокруг часовых с наказом нести службу днем и ночью. Несмотря на все эти меры предосторожности, у магараджи сохранялись какие-то сомнения. И он дважды приходил в течение десяти месяцев, которые факир обязался провести под землей, и заставлял вскрывать могилу. Факир находился в мешке, холодный и безжизненный, каким его туда положили. По истечении десяти месяцев приступили к эксгумации. В нашем присутствии сняли висячие замки, — продолжает мистер Осборн, — сорвали печати и, вытащив ящик из каменной могилы, извлекли оттуда факира. Никакого биения сердца; никаких следов дыхания; только макушка сохраняла чуть ощутимое тепло, позволявшее предположить, что жизнь еще теплилась в этом теле. Затем один из присутствующих очень осторожно ввел палец в рот факиру и перевел язык в нормальное положение. Затем тело растерли и полили теплой водой. Мало-помалу дыхание и пульс восстановились, факир поднялся и стал ходить улыбаясь. Он поведал, что во время пребывания под землей ему снились приятные сны, но пробуждение всякий раз бывало очень тягостным. Прежде чем прийти в себя, говорил он, у него бывали головокружения. Человеку этому было тридцать лет (в 1838 году); лицо егонеприятно и оставляет впечатление хитрости. Он долго беседовал с нами и предложил вновь приступить к испытанию в нашем присутствии и под нашу ответственность. Мы поймали его на слове и назначили ему встречу в Лахоре. Соорудили могилу по типу предыдущей, с крепким ящиком и секретными замками. Пообещали факиру крупную сумму вместе с ежегодной пенсией, и все шло как нельзя лучше, когда он вдруг заинтересовался, какие меры предосторожности мы готовы принять для успеха эксперимента. Показали ему замки; сообщили, что ключи будут находиться у английского представителя, что службу часовых будут нести английские солдаты, меняясь каждую неделю. Но он не захотел принять эти условия и потребовал, чтобы ключи и могилу охраняли его единоверцы, добавив, что английские офицеры желают его смерти и что он никогда не выйдет из могилы живым. Мы ему ответили, — завершает свой рассказ мистер Осборн, — что касательно самого последнего пункта мы вполне разделяем его убеждение, а посему освобождаем его от данного им обещания». Жаль, конечно, что этот эксперимент не состоялся, ибо он либо разоблачил бы ловкое жульничество, либо дал бы науке новые факты о явлениях весьма интересных и малоизученных. Кроме добровольных самоистязаний, факиры практикуют также религиозное самоубийство. Выполняют они его при помощи орудия, называемого karivat, который состоит из клинка в форме полумесяца с очень тонким внутренним лезвием и двух цепей со стременами, укрепленных на концах полумесяца. Добровольная жертва приставляет этот клинок к своей шее и с помощью ног, вставленных в стремена, производит резкий толчок и сносит себе голову. Если она упадет, полностью отделенная от тела, то этого факира почитают святым. Если же она срублена лишь наполовину, то святость этого лица вызывает подозрение. Впрочем, фанатикам хватает оригинальных приемов для погружения в нирвану, это освобождение от земных мук, слияние с божественной первоосновой мира. Скучно долго распространяться на эту тему. Однако еще несколько слов напоследок. Самые ожесточенные и непримиримые сектанты в странах, не подчиненных английскому влиянию, стремятся соблюдать со всеми ужасными обрядами культ мрачной богини Кали, страшной Дурги, жены Шивы[115]. Впрочем, и в самой Британской Индии, принимая величайшие меры предосторожности против разоблачения, сектанты, как говорят, во время больших празднеств, в октябре, приносят своим богам человеческие жертвы! Дурга, или Кали, представляется в виде черной женщины с четырьмя руками. В одной у нее — кривая сабля; в другой она держит за волосы голову великана; третью простирает для благословения; четвертой снимает страхи. Серьгами в ушах у нее служат два трупа; на шее колье из человеческих голов, язык высунут; пояс у нее из гигантских рук, а волосы ее спадают на пятки. Она только что напилась крови; потому у нее красные брови и такого же цвета грудь. Впрочем, если факиры и не совершают ритуальных убийств в честь богини Кали, то человеческих жертвоприношений у нее все равно в избытке, только они добровольные. Ибо не проходит и дня, чтобы отчаянные фанатики не топились в ее честь в священных водах Ганга. Этот культ богини Кали относит нас мысленно к породе людей, которые в прошлом — всего лишь несколько лет тому назад — пользовались мрачной известностью. Мы имеем в виду тхагов[116], отчаянных сектантов, поклонников богини смерти, жертвами которых становилось такое количество людей, какое определяли смелость и ловкость самих преступников. Вот из какого принципа они исходят и каким побуждениям повинуются: «Вы находите громадное удовольствие, атакуя тигра в его логове, — объяснял один тхаг английскому судье на допросе, — вы испытываете непередаваемые ощущения, когда присутствуете при его последних конвульсиях, потому что смогли сразить его на свободе, то есть победить зверя в честной борьбе благодаря своей ловкости и бесстрашию… Но подумайте, каково же должно быть наслаждение, когда вы такую борьбу ведете с человеком… когда человек стал дичью, которую надо загнать в ловушку и уничтожить! Вместо одной какой-то способности следует сразу вводить в игру и мужество, и хитрость, и осторожность, и дипломатию… Ввести в действие все страсти, заставить вибрировать даже струны любви и дружбы, чтобы бросить человеческую добычу к ногам богини, доставить ей удовольствие этой жертвой… Вот подлинное опьянение, вот исступленный восторг, какого никогда вы не знали» В этом — вся мораль сектантов. Убивать из любви к искусству и к богине смерти! Англичане, которым не очень нравились эти художественные теории, воплощенные в трупах, без церемоний вешали всех этих мистических убийц и преследовали их с такой непреклонностью, что подвиги их намного поубавились, хотя и не прекратились полностью. Есть еще в Британской Индии более сотни тысяч тхагов, в частности, в бассейне реки Нарбуды. Они предаются время от времени своим миленьким грешкам, но действуют скрытно; и уже не бывает, как до 1870 года, этой лихорадки убийств, которая будоражила и терроризировала мирное население[117]. А в прежние времена доходило до того, что некоторые районы буквально опустошались этими убийцами. Один из них, попав за решетку, признался, что отправил на тот свет семьсот девятнадцать человек! И высказывал только одно сожаление, что не довел счет до тысячи!.. …Все касты, из которых мы перечислили лишь несколько, подчинены особой юриспруденции, за исключением отдельных преступлений, подлежащих рассмотрению в английских судах. При прочих обстоятельствах кастовые распри разрешаются некоей разновидностью Божьего суда. Случай благоприятствовал Жаколио и его компаньону, им удалось присутствовать на одном из таких состязаний, называемых ордалья, между макуа-рыболовом и шетти из касты торговцев. Последний обвинил рыбака в краже и бросил ему вызов. Турнир должен был состояться на рассвете перед людьми обеих каст, задолго до того собравшимися в шумный круг. С первыми лучами солнца вожди макуа и шетти вошли в эту естественную ограду вместе с обоими противниками, каждого из которых сопровождал брахман. Борьба, как вскоре поняли французы, предстояла нешуточная, ее серьезность возрастала оттого, что обвинение усугублялось религиозными вопросами и кастовой ненавистью. Шетти обвинял макуа в том, что тот похитил рисовую лепешку, положенную в виде подношения к ногам статуи Шивы. Макуа отвечал, что вырвет у шетти глаза и язык в доказательство того, что тот ничего не видел и нагло лжет. Брахманы заставили их повторить «coram populo»[118], обвинение и вызов на поединок, а затем провозгласили хором: — Pô! (Сходитесь!) И пусть победа достанется правому! Противники были вооружены железными инструментами, своей формой напоминавшими немного американский «кулак»[119], но снабженными длинными острыми шипами на уровне каждой фаланги. Противников развели на тридцать шагов, и они принялись бросать друг другу обвинения, как это делали в незапамятные времена герои «Илиады»[120] или «Рамаяны»[121]. — Как смеют эти грязные шакалы шетти смотреть в лицо макуа, королей моря? — У макуа, — ответствовал шетти, — есть лишь дырявые сети, и они вынуждены, подобно париям, воровать для своего пропитания подношения, принесенные богам! — Иди сюда, бесстыдная собака, я тебе всыплю! — Последний раз пошевели своим языком, сын свиньи, потому что я его вырву и брошу на съедение кабанам! Очень скоро, распалившись от собственных слов, противники превратили свой «диалог» в настоящий ливень жутких эпитетов и оскорблений, подыскать которым точный перевод не удалось бы на самом низком европейском жаргоне. И, поливая друг друга бранью, они постепенно уменьшали разделявшую их дистанцию. Скрипя зубами, обезумев от злобы, они преодолели бегом последние метры и накинулись друг на друга. Примерно одного роста, оба плотные и коренастые, противники не позволяли предугадать, кто же из них возьмет верх. Первый удар был страшен. Не пытаясь защищаться, они одновременно поразили друг друга железными перчатками. Макуа оторвал левое ухо у врага, а тот в лепешку расплющил рыбаку нос. В едином порыве они бросились в реку, омыли свои раны и с новой яростью бросились в бой. На этот раз шетти выбил сопернику глаз, но и сам остался без губ и кожи на подбородке. С выдавленным из орбиты глазом, весь в крови, макуа устремился к реке. Но шетти, хотя и сильно искалеченный, не пожелал принять перемирие и преградил дорогу врагу. Несчастный рыбак с залитым кровью лицом, почти ничего не видя, даже не пытался пробить себе дорогу и остановился, покачиваясь, едва держась на ногах. Все люди касты макуа, созерцавшие битву, хранили мрачное молчание. И вся толпа умолкла. Трагедия, начавшаяся столь шумно, завершалась в полной тишине. Видя, как изнурен его противник, шетти с занесенным кулаком двинулся к нему, чтобы нанести последний удар. И так как лишенный губ не мог говорить, из-за его спины выдвинулся брахман и прокричал на ухо макуа: — Признайся, что ты украл подношение богам, и твоя жизнь спасена! — Illè, nai! (Нет, собака!) — воскликнул макуа с энергией, которой никто от него не ждал. Затем он пустился наутек, преследуемый шетти, но вдруг ситуация резко переменилась. Бегство оказалось ложным ходом, макуа внезапно обернулся к врагу, уже готовому поразить его, и с неожиданной ловкостью, о которой и помыслить никто не мог в данный момент, повалил его на траву ударом головы в грудь. Всем стало ясно, что торговец окончательно пропал. Едва лишь он коснулся земли, как макуа уже оседлал его, в ярости молотя железным кулаком по голове, не оставляя даже времени снять свое обвинение… «Мы отвернулись от этого зрелища, — пишет рассказчик. — Нет ничего отвратительнее, чем наблюдать, как на твоих глазах убивают человека, а ты не в состоянии ему помочь. Если бы мы попытались это сделать, нас растерзали бы на куски». Под исступленные победные клики рыбаки подобрали своего товарища и, поскольку он не мог сам передвигаться, отнесли его домой на носилках, усыпанных цветами. Суд ордальи торжественно объявил, что макуа доказал свою невиновность, а труп шетти, согласно предусмотренному за клевету наказанию, бросили в джунглях на растерзание хищникам. Нам приходится вопреки нашему желанию прервать на этом цитирование знаменитого писателя, который в увлекательной серии сочинений, получивших заслуженное признание, так хорошо описал Индию, живописную и анекдотическую, и чьи труды столь же интересны, сколь и поучительны[122].
ГЛАВА 4
Дудар де Лагре и Франсис Гарнье. — Жан Дюпюи.Франция вовсе не собиралась завоевывать Кохинхину[123], когда в 1857 году жители Аннама[124] с холодной азиатской жестокостью перерезали христиан — испанцев и французов. Было решение организовать экспедицию, в которой участвовали бы две державы, и на следующий год франко-испанская эскадра под командованием адмирала Риго де Женуи[125] появилась перед Тураном[126], чтобы отомстить за резню. Поскольку мандарины[127] не ответили на требование сдаться, Туран подвергли бомбардировке. В начале 1859 года адмирал, рассчитывая на то, что управиться с Аннамом будет гораздо легче, нанеся ему удар из Кохинхины, взял курс на Сайгон[128], защищенный двумя фортами и крепостью. Атака состоялась 15 февраля, а 17-го мы уже хозяйничали в крепости и форту, разрушив до основания другой. В апреле и мае адмирал Женуи, вернувшись в Туран, объявил войну аннамитам[129] и захватил у них лагерь Кьен-Сан, который господствовал над дорогой в Хюэ. К несчастью, китайская война сковала большую часть наших морских сил, и невозможно было действовать с необходимой решительностью и нанести мощный удар. Адмирал Паж, который принял командование от адмирала Женуи, вынужден был сконцентрировать силы в Сайгоне и Шолоне, тогда как аннамиты понемногу укреплялись повсюду. После завершения китайской кампании возобновились активные боевые действия, и 7 февраля 1861 года адмирал Шарне[130] прибыл в Сайгон с четырьмя тысячами человек. Умелые и решительные операции в течение нескольких дней привели к падению линий обороны Кихоа и захвату населенных пунктов Тонкеу, Окмон, Ратьза и Тьянбан. За это время адмирал Паж, применяя отвлекающие маневры, разрушил молы и форты и рассеял войска аннамитов, насчитывавшие до пятнадцати тысяч человек. До этого он поднялся по реке Донай и провел свой небольшой отряд между двойным ограждением из могучих деревьев-корнепусков, которые окаймляют реку… Здесь на ветвях резвятся проворные кривляки-обезьяны, а меж корней скользят питоны и крокодилы, напуганные шумом паровых машин. За пятнадцать дней экспедиционный корпус провел пять сражений, разблокировал Сайгон и захватил провинцию Зядинь[131]. Двенадцатого апреля войска короля Аннама Ту Дока покинули Митхо, и наступило временное затишье, вызванное сезоном дождей. Военные действия возобновились в ноябре захватом Бьенхоа, затем Виньлонга. Операцию блестяще провел контр-адмирал Боннар. В скором времени после этого аннамиты потерпели поражение под Мики, и река Хюэ была надежно блокирована. Поскольку рис, необходимый для питания горожан, доставляется по реке, то король Ту Док, опасаясь увидеть свою столицу в тисках страшного голода, капитулировал. Пятого июня 1862 года в Сайгоне был подписан мирный договор. Ту Док отдавал французам провинции Сайгон, Бьенхоа и Митхо, а также острова Пуло-Кондор;[132] открывал для французской и испанской торговли порты Туран, Балак и Куанган; выплачивал союзникам четыре миллиона пиастров репараций; обязывался не превышать контингент войск, который определила Франция для трех западных провинций Нижней Кохинхины; предоставлял свободу действий миссионерам по всей империи; обещал не заключать никаких договоров без согласия французского императора и предоставлял режим наибольшего благоприятствования Франции и Испании. Но едва лишь договор был подписан, как Ту Док со всем аннамитским коварством попытался его нарушить. Преследования христиан в Кохинхине и Тонкине[133] не прекращались; предоставленные для торговли три порта оставались закрытыми, и аннамитский монарх подстрекал своих подданных к восстанию. Офицеры, которым было поручено командование в различных районах, стали готовиться к войне. Адмирал Боннар, затребовав и получив новые подкрепления, овладел провинциями Виньлонг[134], Гоконг[135] и Чаку[136]. Ту Док согласился ратифицировать договор в Хюэ 16 апреля 1863 года. Но Ту Док, проявив необычные лукавость и упрямство, тотчас же попытался сделать все возможное, чтобы заставить нас покинуть Кохинхину, чье значение оживленно обсуждалось при дворе Наполеона III. Ему это почти удалось; но некоторые светлые умы, прежде всего морской министр Шасслу-Лоба, энергично высказались за оккупацию, и французский император согласился с ними. Ту Док, однако, не сдавался; хоть армия его и была разгромлена, он все же плел новые интриги и использовал все средства, чтобы вытеснить нас из страны, делая оккупацию крайне дорогостоящим, тяжелым и часто гибельным предприятием. Он попытался восстановить против нас Камбоджу, ставшую нашим союзником по договору 1863 года; в итоге, чтобы преподать ему новый урок, мы должны были оккупировать в 1867 году еще четыре провинции. Победа была полной. Если не считать захвата Ратьзя в 1868 году и восстания 1872 года, то Кохинхина сегодня стала вполне французской, она приняла безоговорочно наше владычество. Результатом этого завоевания и лояльной позиции короля Нородома стало разблокирование Камбоджи, зажатой между Аннамом и Сиамом[137], которые уже зарились на ее земли и начинали понемногу «пощипывать». Несмотря на протесты Сиама, границы установили по нашему желанию в 1867 году, за исключением Ангкора и Баттамбанга, переуступленных еще раньше королевству Сиам. Люди предприимчивые, энергичные, бесстрашные и бескорыстные, кроме того обладавшие в высокой степени тем, что мы называем колониальным тактом, не ожидали всеобщего умиротворения и начали искать пути сообщения с Китаем через новообретенные районы. Именно эта цель занимала таких здравомыслящих деятелей, как Франсис Гарнье[138], Люро, де Биземон и Жан Дюпюи. С 1863 года Гарнье вместе с Люро и Биземоном требовал исследовать путь, который мог бы привести к богатым провинциям южного Китая, — то есть долину Меконга. Выше Луангпрабанга, где погиб наш соотечественник Муо, долина Меконга была нам совершенно неведома. Эту тайну надлежало выяснить ради высоких интересов будущего французской колонии. Со времени завоевания Кохинхины Франция немало сделала для ее изучения и обследования. Провинции эти обладали огромными природными богатствами (золото, серебро, цинк, железо, серпентин, бирмит[139], уголь и т. д.); ежегодно туда отправлялись множество рабочих из числа китайцев, населяющих провинцию Юньнань. Гражданский морской министр Шасслу-Лоба одобрил проект экспедиции и горячо рекомендовал его императору, который также согласился с ним. Надлежащая миссия была организована, командование принял капитан I ранга Дудар де Лагре. Пятого июня 1866 года миссия покинула Сайгон на канонерке. Первую остановку она сделала возле руин Ангкора, на территории, которая еще год должна была оставаться камбоджийской, а потом переходила к королевству Сиам. Этот комплекс, вызывающий в нашем сознании лишь представление о странных и колоссальных развалинах, имел в период своего расцвета, о котором напоминают нынче только живописные обломки, совсем другие очертания. Озеро Тонлесап сообщалось тогда напрямую с морем и образовывало обширную бухту, открывавшуюся в просторы Сиамского залива. Расположенный неподалеку от большого озера, Ангкор был центром оживленной торговли между Индией и Китаем; здесь находились самые крупные купеческие склады, и в течение столетий бесподобный Ангкорский рейд являлся как бы соединительным звеном между двумя могучими азиатскими державами. Изо всех уголков Малезии и с больших островов Явы и Суматры сюда съезжались купцы, чтобы принять участие в крупнейших на Дальнем Востоке торговых операциях. Этим и объясняется неслыханное могущество Ангкора, его богатство и его старшинство над ста двадцатью королями, как говорят буддийские книги. В 1295 году Китайская империя вознамерилась заключить союз с кхмерами, ее послы были восхищены богатством королевства. Возможно, что такая роскошь в конце концов разнежила потомков древних камбоджийцев, потому что в XVI веке завязывается борьба между новым королевством и Сиамом, и могущество кхмеров мало-помалу угасает. И угасание это произошло столь быстро, что в конце XVII века уже почти перестали говорить об Ангкоре, хотя еще в 1672 году, по свидетельству французского миссионера отца Шевроля, о нем отзывались с большим почтением. Между тем итоги истребительной войны, когда победитель массами уводил жителей в плен, не были единственной причиной упадка Камбоджи; бывали еще проблески мужества и славы; в 1540 и 1570 годах ее король побеждал сиамцев и смог вернуть уведенное в плен население. Но вскоре междоусобные войны и анархия заставляют выродившихся потомков прежних королей Камбоджи искать у своих прежних вассалов, сиамцев, поддержки против соперников. К концу XVII века претенденты на престол, не получив поддержки от Сиама, ищут союзников среди властелинов Хюэ, а те в свою очередь вмешиваются в дела Камбоджи, овладевают Нижней Кохинхиной, тогда как Сиам захватывает провинции Баттамбанг, Ангкор и Лаос. С тех пор началось расчленение могучей прежде империи, и только наша интервенция смогла его прекратить; наши войска нанесли поражение Аннаму и проявили твердость в отношениях с Сиамом. Гениальные архитекторы, воздвигшие чудеса Ангкор-Вата[140], были вывезены вместе с прочими жителями и украшали столицу Сиама, которая в те времена располагалась в Айютии, но победители плохо обращались с ними, и они не открывали секретов своего мастерства. Варварская военная тактика сиамцев, которые всюду несли пожары и разрушения, объясняет исчезновение памятников письменности Камбоджи. Самым знаменитым и почитаемым из всех архитектурных творений, говорящих об уровне цивилизации и мощи старой Камбоджи, является храм Ангкор-Ват. «При взгляде на этот храм, — рассказывает натуралист Анри Муо, который погиб в лесных дебрях Лаоса, — разум чувствует себя подавленным, а воображение ощущает свою бедность; смотришь, восхищаешься и, охваченный восторгом, хранишь молчание; ибо где найти слова, чтобы воздать хвалу творению, которое не имеет себе равных в мире?.. Когда входишь во врата центрального павильона, перед тобой открывается широкая, выложенная плитками дорога, ведущая к зданию. Оно состоит из прямоугольных галерей, обрамляющих террасы[141]. Меньшая сторона нижней террасы достигает ста восьмидесяти метров, тогда как боковые стороны равны двумстам; терраса украшена по углам беседками. Среднюю террасу венчают четыре башни, напоминающие по форме огромные тиары. Посредине средней террасы находится приподнятая верхняя терраса, которая также завершается четырьмя башнями. Центр верхнего массива, являющийся одновременно и центром всего сооружения, несет на себе еще одну башню, самую высокую. Алтарь, или святилище, находится именно в ней, в наиболее близкой к небу и дневному свету части здания. И нет ни одного камня, который не был бы тщательно обработан, орнаментирован, изукрашен скульптурами, одна чудесней другой. Огромные блоки, из которых сложен храм, вырезаны из песчаника и просто составлены вместе, то есть они держатся без цемента; этот монумент, размеры которого исчисляются километрами и который содержит не менее тысячи восьмисот колонн, является одним из последних свидетельств архитектурной мощи кхмеров». Отдав щедрую дань восхищения величественным руинам, французская миссия проплыла по большому озеру через камбоджийские земли, достигла одного из притоков Меконга и углубилась в Лаос. Лаос — это внутренняя область, хорошо известная сегодня благодаря прекрасным исследованиям доктора Неиса, французского судового врача, и месье Пави, консула в Луангпрабанге, но в то время совершенно неведомая. Знали о ней только то, что в основном ее населяют дикие племена, что она простирается вдоль Меконга, на запад от Аннама и Тонкина, от которых ее отделяет горная цепь. При вступлении в Лаос всякая надежда продолжить плавание на пароходе рухнула. Огромное количество скал и островков было разбросано в водах реки с чрезвычайно бурным течением; русло перегораживало немало водопадов высотой до пятнадцати метров… Все это заставило участников миссии тащить на себе весь багаж, чтобы пересесть в туземные пироги за полосой водопадов. Франсис Гарнье, которому поручили вести разведку и находить проходы, рассказывает об экскурсии, совершенной им в глубину затопленного леса, где он на каждом шагу подвергался риску наткнуться на невидимый под водой ствол дерева, унесенного течением. Вот как он описывает рискованный эпизод этого плавания, предпринятого в хрупкой пироге с одним французским матросом и двумя камбоджийскими гребцами: «Поскольку мой экипаж отказывался продвигаться вперед ввиду опасности маршрута, я напомнил им, что они обещали сопровождать меня до самого Преатапанга, что было не так трудно на такой маневренной лодке, как наша, и кроме того, я пообещал им двойную плату. Тогда они согласились, но продолжали удаляться от берега, намереваясь пройти посередине реки, обходя быстрины. Я подал знак Рено взяться за кормовое весло и с револьвером в руке приказал камбоджийцам следовать тем путем, который я укажу. Они повиновались и тут же завладели веслами, полагаясь больше на свое умение, чем на наше. Довольно долго тянувшийся в меридиональном направлении правый берег внезапно выгнулся к востоку, перпендикулярно перегородив поток. Выступающий на другом берегу мыс, расположенный выше по течению, направлял в этот изгиб воды реки, которые всей массой обрушивались на эту преграду с огромной скоростью и жутким грохотом, разбиваясь на четыре или пять проток, разделенных островами; мутные волны с яростью кидались на пляж, перехлестывали через него, прорывались в лес, вздымая пену вокруг каждого дерева и каждой скалы, и оставляя нетронутыми лишь самые крупные деревья и наиболее массивные валуны. Обломки сбивались в кучи, и только несколько лесных гигантов и черноватых скал еще сопротивлялись бешеному напору воды, возвышаясь посреди обширного ослепительно белого моря, полного водоворотов и щепок. Вот куда несло нас с быстротой молнии. Самое главное было — не дать воде увлечь нас в лес, где нашу лодочку разнесло бы на тысячу кусочков. Нужно было во что бы то ни стало обогнуть мыс… Эту задачу нам удалось частично выполнить. Грохот стоял оглушительный, зрелище стремительного потока просто завораживало. Секунду спустя мы уткнулись в ствол дерева, вдоль которого вода вздымалась на несколько метров в высоту. Бледным от страха, но сохранявшим присутствие духа гребцам удалось не разбить об этот ствол наше суденышко. Понемногу головокружительное течение приутихло, берег снова обрисовался, и мы смогли высадиться на сушу. Когда преодолеешь водопады, попадаешь в район, где Лаос предлагает изобилие естественных продуктов, ибо это один из наиболее благоприятных регионов тропической Азии. К сожалению, со времен завоевания сиамцами жители Лаоса, придавленные налогами и поборами, упавшие духом от притеснений, работали только на самих себя, совершенно не заботясь о процветании своего плодородного живописного края». После многих волнующих приключений миссия достигла наконец Вьентьяна, прежней столицы Лаоса, от которой осталась лишь груда руин. Туда французы прибыли 2 апреля. А 28-го достигли города Луангпрабанга, тогдашней столицы страны. Начиная от Луангпрабанга Меконг меняет свой вид. Ширина его, измерявшаяся километрами, теперь не превосходит пятисот — шестисот метров, а зажатые между скалами воды буквально кипят и ревут в бессильной ярости. В Сиангкхуанге река сужается до восьмидесяти метров; пирог и лодочников там почти не найти. С этого момента исследователи должны были покинуть свои лодки и следовать по суше; им оставалось пройти еще две тысячи четыреста километров, после чего они вступили в Бирму, где они подверглись недоброжелательным выпадам со стороны местных властей. На их долю выпало немало страданий и жестокой усталости, пока они добрались до Юньнани. Начался сезон дождей, все вокруг было затоплено. Вода повсюду… одна только вода! Они проводили дни и ночи, бредя по пояс в залитых водою оврагах, засыпая на мокрой земле, где их терзали кровососущие насекомые, пересекали бесконечные леса, вечно остерегаясь, как бы не попасть в бирманскую ловушку. Так они прибыли в Сиангкхуанг, где находится король, зависящий от двора Ава. Несмотря на изодранную одежду путников, их крайне утомленный вид, французскую миссию встретили очень гостеприимно жители деревни Се-Mao, находящейся уже в провинции Юньнань. Больше всего туземцев интересовали лица европейцев, потому что на этот счет ходили самые странные и фантастические россказни. Однажды китайский мандарин обошел вокруг Дудара де Лагре и вопреки формальным требованиям этикета, принятого среди жителей Поднебесной, приподнял шляпу начальника экспедиции, а когда его спросили о причинах столь странных действий, ответил: — Это чтобы увидеть третий глаз, который, говорят, есть у европейцев сзади на голове и служит им для нахождения подземных кладов! Французская миссия должна была направиться окольным путем, чтобы не пересекать разрушенную страну, опустошенную восстанием фанатичных и глупых мусульман, которые все вокруг обратили в руины. Она уклонилась к востоку и встретила на своем пути Сон-кой, или Красную реку[142], великий тонкинский водный путь, названный так из-за красновато-бурого цвета воды. Начальник экспедиции Лагре поручил Франсису Гарнье провести обследование реки, в то время как остальная миссия продвигалась в Люнгаму. Гарнье желал непрерывно продвигаться вперед, хотя его энергия, как и на Меконге, наталкивалась на противодействие и малодушие лодочников. Вскоре он и совсем вынужден был отступить, потому что его экипаж отказался преодолевать водопад, более опасный, чем прочие. Берега Хотицзян, притока Красной реки, населены дикими племенами, основное занятие которых состоит в переноске грузов вверх и вниз от водопада. В Мангко, где на берегу расположен большой рынок, река становится судоходной. Вниз по течению от Мангко, все еще на берегах Хотицзян, находится город Лаокай, от которого лишь два дня пути до столицы Тонкина. В этом краю много шахт, где добывают золото, серебро, медь, олово. Очень оживленная торговля Мангко находится в руках кантонцев, которые массами переселяются сюда, чтобы избавиться от бесконечных заварушек в своей провинции. Наконец после многих сложных и трудных перипетий прибыв в Фученфу[143], Гарнье, Делапорт, Торель и де Карне предприняли небезопасное исследование провинции, занятой мусульманами. Но 12 марта Дудар де Лагре[144], вынужденный остановиться, внезапно умер от лихорадки. Ведомые миссионером Р. П. Легильшером, Франсис Гарнье и его спутники прибыли в Тали[145], резиденцию султана. Окруженный высокими горами с узкими ущельями и крутыми склонами, Тали возвышался на берегу озера, имеющего, как говорили, сток в Меконг. В окрестностях были видны развалины сотни деревень, уничтоженных новыми хозяевами страны, которых вот уже одиннадцать лет никто не в состоянии был изгнать. При помощи кровавых расправ они подчинили себе население, в сто раз превышающее их по численности, и продолжали его терроризировать. Гарнье попросил аудиенции у султана и получил ее. Но в назначенный день ему передали угрожающий приказ об отъезде. Наутро после бессонной ночи, проведенной начеку и во всяческого рода сомнениях, исследователи направились к горному ущелью, через которое они проникли в страну. В Дунчуане Гарнье узнал о смерти своего доблестного начальника, майора де Лагре. «Я немедленно выехал вместе с отцом Легильшером, — пишет Франсис Гарнье в своем отчете, — и в тот же вечер прибыл в Дунчуань. Остальная часть экспедиции присоединилась к нам наутро. Еще раз мы собрались все вместе, но между нами — увы! — стоял гроб. Если смерть уважаемого руководителя всегда вызывает горестное чувство, то как описать охватившую всех печаль, когда этот руководитель делил с вами два года опасностей и страданий, уменьшая для вас первые, облегчая вторые; и к этой ежечасной душевной близости, к глубокому уважению, которое он внушал, добавлялось чувство нашей привязанности и преданности… Умереть, победив столько неимоверных трудностей и лишений, когда цель достигнута, когда борьба и страдания уже уступали место радостям возвращения, — это казалось нам вопиющей несправедливостью, жестоким решением судьбы. Мы не могли подумать без глубокого чувства горечи, насколько этот траур непоправим, насколько он бросает скорбную тень на плодотворные и славные результаты общего труда. Мы очень живо чувствовали, как будет нам недоставать высоких моральных и интеллектуальных качеств майора де Лагре. У людей, нас сопровождавших, чувство огромной потери, понесенной нами, было ничуть не менее острым и единодушным. Никто не мог оценить лучше их, сколько воодушевления и веселья было в мужестве нашего руководителя, сколько энергии в его воле, сколько нежности и доброты в характере. Они вспоминали, с какой терпеливой самоотверженностью работал месье де Лагре в ходе всего путешествия, как бросался им на помощь, стремясь полнее удовлетворить их нужды и уменьшить усталость. Так что, когда я выразил намерение забрать с собой тело их бывшего начальника, они сами предложили, несмотря на явную их малочисленность, нести его на руках. Неустойчивое положение страны, отсутствие какого-либо миссионера или просто христианина, способного поддерживать могилу в порядке и защищать ее от осквернения, действительно заставили меня опасаться, что по прошествии нескольких лет от могилы не останется и следа. Дунчуань мог пасть под натиском магометан[146], и эта возможная смена власти лишала нас и той слабой гарантии, которую предлагали нам по своей доброй воле китайские руководители. Мне хотелось избежать всякой возможности разрушения усыпальницы, что было бы оскорбительно для национального флага и весьма болезненно для столь дорогой памяти. Я решил эксгумировать тело и перенести его в Синчжоу[147]. План этот был исключительно трудным и тягостным, ввиду огромного веса китайских гробов, ужасного состояния дорог и горного характера местности. Но уже от Синчжоу транспортировка гроба до французской территории не составит никаких сложностей, поскольку путешествие можно совершить по воде. Мне казалось, что колония Кохинхина была бы счастлива предоставить приют останкам того, кто открыл для нее новый и многообещающий путь, что она хотела бы сохранить воспоминание о трудах, выполненных с таким пламенным бескорыстием, о страданиях, перенесенных с таким благородством». Тридцать дней спустя, 12 июня 1868 года, миссия, над которой принял командование Франсис Гарнье, прибыла в Шанхай с телом своего оплаканного начальника, каковое в скором времени было торжественно погребено в Сайгоне. Прибыв во Францию, Гарнье был представлен к офицерскому кресту Почетного легиона[148], как и месье Делапорт, его заместитель. Остальные помощники — Жубер, де Карне и Торель — произведены в кавалеры. Парижское географическое общество присудило Гарнье совместно с Дударом де Лагре большую золотую медаль, а Англия — медаль королевы Виктории, которой до тех пор не удостаивался ни один француз. Затем началась война[149]. Гарнье, человек воинского долга и пламенный патриот, был одним из тех бесстрашных моряков, что так стойко защищали Париж. После окончания войны его взгляды снова обратились к уже частично известному ему Индокитаю, сохранявшему для него неизъяснимую, магическую притягательную силу. Он уехал в Кохинхину с планами исследовать Тибет, мечтая открыть водное сообщение между этой страной и Китаем. Поскольку политические обстоятельства задержали экспедицию в провинциях Аннама, Франсис Гарнье, не желая оставаться в бездействии, отправился в Китай. На свои средства он предпринял обследование реки Янцзы, по которой поднялся до района порогов, и описал это путешествие в памятной записке, адресованной Географическому обществу. После возвращения из экспедиции его вызвал в Сайгон адмирал Дюпре, который желал поручить ему миссию в Тонкине. Мы скоро увидим, в чем заключалась эта миссия, какие события затем последовали и какой драмой они завершились. Но прежде нам представляется важным ввести в действие одного человека, чье имя тесно связано с историей Тонкина и который играет решающую роль в событиях, приведших к аннексии Тонкина: это Жан Дюпюи.
ЖАН ДЮПЮИ
В течение долгого времени англичане искали торговый путь, который напрямую связал бы Индию с Китаем. В тот момент, когда миссия де Лагре добилась столь замечательного успеха, английский отряд пытался подняться по Янцзы, отыскивая этот самый проход, но вскоре вынужден был отступить, едва добравшись до Ханьяна[150], поскольку восстание, поднявшееся в Сычуани[151], представляло собой большую угрозу для жизни исследователей. Семь месяцев спустя вторая английская миссия поднялась по Янцзы до границы Юньнани, но вынуждена была тоже отступить из-за явной подозрительности мандаринов. Англичане упрямы. Препятствия их ожесточают. Один за другим, Браун после Купера, который сам шел по следам Сореля и Блекстона, последовательно терпели неудачи. Последний, Маргари[152], был убит. Британское правительство добилось сатисфакции, но прохода англичане так и не нашли[153]. Лишь в 1876 году англиканский миссионер Джон Маккарти, выехав из Шанхая, добрался до Бамо[154]. Путешествие длилось шесть месяцев, с декабря 1876 по август 1877 года. Военная миссия под командованием лейтенанта Джилла достигла Рангуна на бирманском побережье в ноябре 1877 года. Наконец новой английской миссии удалось пройти от берегов Янцзы до берегов Иравади. Ее начальник, мистер Колборн Бобер, преодолев множество опасностей и затруднений, пришел к выводу, что следует отказаться, по всей видимости, от попыток установить прямое сообщение между Бирмой и Юньнанью через гористый регион, буквально изрезанный притоками верховьев Янцзы, Салуина[155], Иравади и Брахмапутры. В общем, то был полный провал английских попыток. С другой стороны, члены миссии де Лагре пришли к убеждению, что пороги, водопады и паводки Меконга делали эту реку непригодной для навигации. Но с удивительной проницательностью майор Лагре указывал 30 октября 1867 года в очень обстоятельном докладе на то значение, какое имеет признание общей границы Тонкина и верховьев Красной реки. И Франсис Гарнье, в общем признавший Хотицзян одним из притоков реки Красной, также отмечал: «Тонкинская река, которая берет начало в сердце Юньнани, является, по всей вероятности, намного более судоходной, чем эта последняя, с более прямым течением, и, кроме того, представляет огромное преимущество: единство владычества на этих берегах». «Собранные сведения, — писал Франсис Гарнье в 1869 году, — заставляют предположить, что река эта вполне пригодна для лодок». А между тем появился Жан Дюпюи. Сын земледельца, Жан Дюпюи родился в 1829 году в Сен-Жюст-Лапандю, в департаменте Луара. Сначала он был фабрикантом тканей, вероятно, потому, что так определила его профессию семья. Но была у него также в мозгу та загадочная, еще не открытая антропологами извилина, которая неодолимо толкает некоторых людей на поиск неведомых стран. Вместе с тем необычный купец был наделен здравомыслием, совершенным тактом, незаурядным интеллектом. То был человек решительный, вне всякого сомнения очень смелый и авантюрист каких мало. В один прекрасный день он бросает свое ткацкое производство и для начала отправляется в Исмаилию, которая, по мнению месье де Лессепса[156], должна была в близком будущем превратиться в кладовую двух миров. Прибыв туда в 1859 году, Дюпюи скоро осознает ошибку, возвращается в Александрию и, по совету капитана торгового судна, решает попытать счастья на Дальнем Востоке. Он набирает всякий залежалый товар, вкладывая в него всю наличность, затем грузится на корабль в Суэце и прибывает с Шанхай, где тут же по коносаменту[157] сплавляет все привезенное, выручая пятьдесят тысяч франков прибыли, и завязывает многочисленные связи. Немного погодя он уезжает с Эженом Симоном, в то время поверенным миссии в Китае, чтобы подняться по течению Янцзы и попытаться связать нашу кохинхинскую колонию с Юньнанью, что он и осуществил позже, открыв Красную реку. Хорошо принятый китайскими мандаринами, он обосновался в Ханчжоу и стал поставщиком китайского правительства, что позволило ему извлечь значительную прибыль. Приняв решение обходиться без переводчика, желая как можно глубже узнать новую страну, где он намеревался сделать карьеру и заработать состояние, Дюпюи терпеливо изучал язык, нравы, ресурсы страны, чтобы в нужный момент и в подходящих обстоятельствах действовать наверняка, во всеоружии знаний. Обуреваемый любовью к географическим открытиям, которую он умел так хорошо сочетать с интересами высокой коммерции, Дюпюи решил исследовать густонаселенные провинции Южного Китая, куда, как мы уже говорили, англичане пытались добраться со стороны восточной индийской границы, а Дудар де Лагре не смог проникнуть по Меконгу. Разделяя мнение Франсиса Гарнье о Красной реке как о соединительном пути, хорошо знакомый с бытом прибрежных жителей, Дюпюи отправляется по суше в 1868 году, углубляется в Юньнань и пытается достичь Красной реки, чтобы спуститься по ней к морю. Но в этот момент мусульманский мятеж распространился чуть ли не на весь юг Китая, и Дюпюи не смог уйти дальше столицы провинции. Ему легко было заинтересовать главных мандаринов своими проектами, поскольку он снабжал китайские силы французским и американским оружием, с помощью которого они подавили выступление мятежников. Эта первая экспедиция продолжалась до 1869 года. А в 1870-м Жан Дюпюи, снабженный настоятельными рекомендациями для губернаторов провинции, которые он собирался пересечь, покидает свою резиденцию в Ханчжоу и, даже не ожидая конца восстания, отправляется вместе с мандарином Уангом, его секретарем и слугой Ю на поиски заветного пути в юго-восточную часть Китая. В Юньнани мандарины дали ему новые рекомендации для ти-таи, или маршала Ма Жулуна, занятого тогда осадой Тунчжоу. Маршал Ма Жулун, отныне командующий китайскими войсками, был сперва известен под именем Ма Хен как один из самых свирепых предводителей восставших. Война началась по незначительному поводу: в 1855 году произошла пустячная ссора между членами разных сект, и она превратилась в массовое побоище во многих частях провинции, в настоящую войну на истребление между китайскими мусульманами и китайцами других верований[158]. Ма Хен, бывший мусульманином, встал во главе своих единоверцев и двинулся от города к городу, от деревни к деревне, убивая и истребляя всех, кто попадался под руку и кто, в свою очередь, уничтожал его сторонников. Он отправил на тот свет, как сам признавал позднее, около миллиона человек. Он уже готов был захватить столицу, когда китайцы согласились на требования мусульман; Ма Хен принял встречные предложения и обязался умиротворить мусульман, проживающих на западе Китая, которые хотели продолжать борьбу. Позже Ма Хен был назначен ти-таи и принял официальное имя Ма Жулун. Жан Дюпюи покинул Куньмин в конце февраля 1871 года и поплыл по каналу, который связывает эту провинциальную столицу с озером того же названия. Окаймленное с запада горами или, вернее, холмами трехсотметровой высоты над уровнем своих вод, прекрасное лазурное озеро омывает подножие великолепной пагоды, которая служит местом отдыха для мандаринов в дни больших церемоний. К югу от Куньмина находится на берегу озера город Куэнянг[159]. Прежде его окружали деревни, но почти все они разрушены мусульманами в 1871 году. В окрестностях Куэнянга обитают горцы лоло[160] — представители народа, не имеющего ничего общего с китайцами. К югу от Куэнянга, примерно в шестидесяти ли[161], раскинулась долина Син-Шин, самая красивая и богатая в Юньнани. Долины Таншан и Шинго, стиснутые высокими лесистыми горами, где живут некитайское население и сектантыстарых верований, избежали смертоносного и разорительного вторжения. В Шингосен всего пять тысяч жителей. Эти люди из племен паи и черных лоло храбры и гостеприимны. Китайцы немного необдуманно и легкомысленно нарекли их ицзу, то есть «дикие». Дюпюи приводит интересные подробности из жизни этих туземцев, в частности, об их брачных отношениях. «Каждый из будущих молодоженов приглашает своих родителей и друзей, в день свадьбы все направляются к невесте, и брачная церемония, состоящая из танцев и обильных возлияний, длится три дня. А после этого молодая жена возвращается к своим родителям, где она должна оставаться до двадцати пяти или двадцати шести лет, если она богата, и до двадцати восьми или тридцати, если бедна. Все это время она остается свободной, и то, что она заработает своим трудом, составляет ее экономический взнос для вступления в семейную жизнь. В целом это женщины крепкого сложения, хотя и довольно маленького роста. У них короткий нос, круглое лицо, толстые щеки, что придает им слегка грубоватый вид. Они превосходят мужчин в силе, и те их побаиваются. Молодые девушки носят маленькие колпачки из разноцветного пестрого материала; замужние женщины — высокую прическу с накидкой темного цвета. Костюм их состоит из штанов длиной чуть пониже колена и одной или нескольких рубашек, в зависимости от температуры воздуха. Эти рубашки ниспадают до колен и застегиваются, как и у китайцев, на боку. Нижние рубашки очень ярких расцветок, с пестрыми каемками. Они носят на груди множество серебряных украшений в виде фигурок животных, а прически украшают шпильками, медальонами и подвесками. Мужские костюмы не выделяются ничем особенным. В праздничные дни мужчины надевают поверх рубах куртки, расшитые серебром или многоцветным шелком. При любой погоде и женщины и мужчины ходят босиком». Дюпюи проехал без остановок от Шинго до Тунхая и остановился в лагере маршала Ма. Последний, предвидя всевозможные опасности для путешественника, приложил все силы, чтобы задержать его у себя. Не добившись успеха, он отправил вместе с Дюпюи охрану и одного из мандаринов, отлично знающего страну. Из Тунхая Дюпюи направился, наконец, прямиком к Красной реке. Местность была бедная, гористая и безлюдная до Нинчжоу. От этого города начинается плодородная долина Хамичжоу, затем Тачуан, деревня, населенная исключительно мусульманскими бандитами, которые опустошают и грабят все окрестности. Там, к величайшему удивлению исследователя, его ожидал великолепный прием, более двух тысяч жителей вышли ему навстречу. В шестидесяти ли от Тачуана он попадает в Мынцзы, крупный рынок, где на прилавках встречаются изделия из металла и чай из Пуэльфу с лаосским хлопком. Все эти товары направляются по рекам Куэй и Куангси к месту их слияния с рекой Кантон[162] в Пейсай. Последнее прибежище принцев династии Мин[163], крепость Синьаньсо, где еще можно увидеть обитые железными обручами большие пушки, находится примерно в десяти ли от Мынцзы. Двадцать третьего апреля 1871 года Дюпюи прибывает в Манг-Хао[164] и видит внизу панораму Сон-кой, или Красной реки, которая катит свои бурные воды среди остроконечных гор. В этом месте ширина ее не превосходит сотни метров. Манг-Хао, расположенный на левом берегу Красной реки и населенный почти одними китайцами из Кантона[165], прежде был крупным торговым центром. Сегодня это пришедшая в упадок большая деревня. Манг-Хао и крепость Лаокай, отделяющая Китай от Тонкина, изобилуют рудниками, где добывают золото, серебро, медь, олово, сереброносный свинец, цинк, горный хрусталь, а самое главное — уголь и железо. С давних времен Лаокай вел широкую и оживленную торговлю. Но ее подчинили себе Черные Флаги[166], тогда как Желтые Флаги обосновались в Хажанге, на реке Светлой[167], притоке Красной. Эти бандиты не замедлили перессориться между собой, и Желтые Флаги, чтобы пресечь всякие контакты своих соперников с Тонкином, разбили лагерь в Лаокае. Но Черные Флаги объединились с аннамитами и отбросили соперников во внутренние районы, оставшись, таким образом, единственными хозяевами Красной реки от Лаокая до Хуанце, первого поста аннамитов на границе с Тонкином. Вся эта местность до завоевания Тонкина аннамитами была спокойной, процветающей, хорошо ухоженной. Сегодня здесь на добрую сотню миль не встретишь мирного, занимающегося производительным трудом поселения. Жители ушли в глубь страны, под защиту непроходимых лесов, которые спасают их от речных разбойников, бандитов самого худшего сорта. Эти леса с неслыханно богатой растительностью покрывают почти весь регион. Повсюду встречаются заросли, пробраться через которые невозможно без помощи топора, а то и пилы. Еще более недоступны речные берега, заросшие непроходимым кустарником и деревцами, купающими свои ветви в воде, где полощутся невероятные сплетения лиан. Очень разнообразная флора включает многие породы деревьев, которые легко использовать ввиду близости реки. Заметим попутно, что преобладают твердые породы. Не менее богата и фауна. Слоны бродят многочисленными стадами, как и буйволы, дикие быки, носороги, но они встречаются только на правом берегу, в юго-западной части края. Кабан, олень, косуля, лань, серна, мускусная козочка, дикий баран встречаются повсюду. Павлин, фазан, куропатка, перепел, глухарь, гусь, кряква, утка-мандаринка, синьга (разновидность дикой утки) и все виды голенастых в изобилии водятся в зарослях, что стоят стеной вдоль берега реки. Миновав Хуанце, Жан Дюпюи увидел, что не сжатая больше скалистыми берегами река становится все шире и шире. По мере того как он спускался вниз по течению, взору его открывались тучные земли, разделенные на мелкие, тщательно обработанные участки. До бесконечности раздробленные поля окружают маленькие деревушки, очень чистые, но весьма скромные по внешнему виду. Понемногу они укрупняются и начинают появляться все чаще. Местность явно становится богаче и многолюднее. Черная река, крупный правый приток Красной реки[168], впадает в главный поток примерно в двух километрах выше Хынгхоа, маленькой крепости, расположенной почти на границе с Тонкином. Вход в реку затруднен большой мелью, затем Черная становится судоходной до деревни Цонг-По, где находятся большие пороги и непреодолимый водопад. Здесь начинается край мононгов, туземцев, образующих независимые и сильные племена. Они живут по берегам Черной реки. О них идет слава как о богачах, поскольку в их владениях много золотых и серебряных приисков. Но их женщины, питая нелепую и неодолимую страсть к игре, которая совершенно сводит их с ума, теряют на ярмарках большие суммы, что, впрочем, абсолютно их не тревожит. И на следующие ярмарки они снова приносят крупные суммы, а затем проигрывают их с такой же легкостью. Километрах в десяти ниже устья Черной реки находится река Светлая, которая берет начало около Каухоа в Юньнани и подходит к Красной реке слева. Этот приток крупнее Черной реки. В Хуанце Дюпюи, узнав о судоходности Красной реки до самого моря, прерывает свое путешествие. Возвратившись в Юньнань, он совещается с маршалом Ма в Тунчжоу, а 16 декабря 1871 года, после пятнадцатимесячного отсутствия, он возвращается в Ханчжоу, оттуда через несколько дней уезжает во Францию, чтобы организовать новую экспедицию. Маршал Ма поручил Дюпюи привезти ему по реке Красной оружие и военное снаряжение, чтобы разбить раз и навсегда мятежников-тайпинов, чьи бесконечные нападения ставили под удар безопасность империи. Кроме того, маршал предоставил нашему земляку корпус из десяти тысяч человек для его защиты от Черных Флагов, которые оккупировали берега Сон-кой, и предложил официально аккредитовать Дюпюи при императоре Аннама, находившемся в зависимости от Китая. Жан Дюпюи согласился выполнить коммерческое поручение, но отказался от всякого вмешательства китайских властей, потому что он решил предоставить Франции все выгоды от своего открытия. Он приехал в Париж и поделился своими планами с адмиралом Потюо, тогдашним морским министром. Адмирал, которого тревожили исключительно коммерческая сторона дела, а также положение Франции в ту эпоху — ведь на дворе был 1872 год, — объявил Жану Дюпюи, что мы не в состоянии расширять наши заморские владения. Тем не менее он дал ему рекомендательное письмо для губернатора Кохинхины и согласился для придания большего престижа миссии Дюпюи предоставить в его распоряжение корабль, на котором тот отправится в Хюэ. Частично удовлетворенный итогами своего визита, благодаря официальной поддержке французского правительства, Жан Дюпюи отбыл в Азию. По прибытии в Тонкин он тотчас же принялся выполнять свои обязательства перед китайским правительством и снарядил торговую флотилию, груженную оружием и провиантом для маршала Ма. Он поднялся по Красной реке, но едва прибыл в Ханой, как со всех сторон возникли трудности, спровоцированные аннамским правительством, в которых угадывались интриги англичан, крайне завистливых и ревнивых к французским успехам. Ведь мы нашли путь проникновения в глубь континента, который они столь долго и безуспешно искали, путь для торговли с Китаем с этой стороны. Как бы там ни было, мандарины отказались снабдить Дюпюи продуктами питания, парализовали все его действия и, сами будучи китайскими вассалами, сделали для него невозможным выполнение обязательств перед китайским правительством. Перед лицом этих фактов Дюпюи больше не сдерживался. Он отказался платить таможенную пошлину, которую ему навязывали, заявил, что пройдет силой, и потребовал защиты у адмирала Дюпре, губернатора Кохинхины. Адмирал, очень довольный возможностью проникнуть в Тонкин, сделал заявление при дворе в Хюэ и потребовал открытия Сон-кой для французских судов. При этом вмешательство Англии стало неизбежным. Королевское правительство, крайне враждебно настроенное к договору, выгодному для французов, обязало своих агентов настроить против нас аннамские власти и, в частности, старого и недееспособного вице-короля Тонкина. Видя, что переговоры затягиваются, адмирал Дюпре вызвал из Сайгона Франсиса Гарнье, чьи профессиональные знания и высокий интеллект он очень ценил. В нескольких ярких и лаконичных тезисах Гарнье составил план операции и вручил его своему руководителю. Речь не шла о насильственных действиях, о попытке завоевания, которое нетрудно совершить, ибо потом гораздо труднее удерживать захваченное. Наоборот, следовало помешать исчезновению аннамитской власти в Тонкине, чтобы поддерживать там в неприступной дипломатической плоскости и на законном основании французское влияние. Таким образом, переговоры начались одновременно с Пекином, чтобы предотвратить вступление китайских войск; с наместником Юньнани, чтобы гарантировать открытие нового пути и договориться о справедливых таможенных тарифах; с Хюэ, чтобы показать императору Аннама опасности, которым он подвергался, сохраняя закрытой Сон-кой, и, наоборот, выгоды и преимущества, которые он немедленно получил бы, разрешив торговлю по реке под наблюдением французской таможенной администрации, подобной той, которая функционирует в Китае под управлением англичан. Следовало также внушить двору в Хюэ, чтобы он потребовал официального вмешательства Франции. Получив одобрение плана, Франсис Гарнье 18 октября 1873 года выступил в Тонкин во главе маленького подразделения, состоявшего из двух канонерок, «Мушкетон» и «Скорпион», и отряда морской пехоты. Несмотря на то, что он имел право рассчитывать на знаки уважения как представитель великой державы, Гарнье встретил со стороны мандаринов лишь плохо замаскированную брань под личиной восточного лицемерия. Его пытались обвести вокруг пальца, заставить попусту потерять время и, видя, что он держался с достоинством, стали выдвигать возражения, что у него нет полномочий на переговоры. К тому же мандарины настраивали жителей против Гарнье, а наместник Тонкина Нгуен огорошил его наглым требованием покинуть страну. Гарнье, в чьем распоряжении находилось всего сто восемьдесят человек, не желал уступать и с неслыханной смелостью предъявил ультиматум! Это произошло 19 ноября 1873 года. Содержание ультиматума было таково: если в этот же самый день наместник не отзовет свой приказ о высылке посланца Франции из страны, если он не принесет извинений представителю Франции, которую он оскорбил, если он не даст согласия на открытие Красной реки для коммерческой навигации, то Гарнье завтра же его атакует. Он готов был напасть на город с населением в восемьдесят тысяч человек и с крепостью, которую охраняли семь тысяч солдат! Впрочем, население в своем большинстве было за нас. Прокламации, распространенные в первые же дни, привлекали жителей мягкостью и в то же время — твердым тоном. Они обещали под нашим покровительством освобождение от тирании мандаринов, свободное участие в торговле, установление справедливых налогов и законный суд вместо самоуправства всемогущих властелинов, для которых не существовало иного закона, кроме собственной прихоти. Но, чтобы в открытую перетянуть на нашу сторону множество людей, требовался успех. Вот почему Гарнье не колеблясь замахивается на прямо-таки немыслимое, невероятное: взятие Ханоя. Не получив ответа на свой ультиматум, Гарнье подал команду атаковать назавтра, 20 ноября, в шесть часов утра. Во главе своих ста восьмидесяти человек, к которым присоединился маленький отряд дисциплинированных китайских солдат, вооруженных и возглавленных Жаном Дюпюи, он выступает против крепости, в то время как две канонерки непрестанно ее бомбардируют. Действия были молниеносными, порыв всеобщим, и самый строгий порядок царил в этой атаке, совершенно неожиданной для противника. Застигнутые врасплох аннамские солдаты, которых подняли и подстегивали их начальники, понемногу выходили из оцепенения. Они заняли посты на валах и зажгли фитили у пушек. Пули и снаряды свистели с обеих сторон; но наши почти всегда попадали в цель и поражали врага, тогда как у французских солдат не было ни единой царапины. Большая часть осажденных бросала с высоты валов громадные бревна; другие осыпали нападающих камнями; наконец, третьи швыряли на землю пригоршнями треугольные гвозди, которые, упав, обязательно торчали острыми концами кверху — вероятно, осажденные полагали, что наши солдаты маршируют босиком. Наместник лично командовал контратакой и проявил незаурядное мужество. Но он был ранен в самом начале, и это лишь приблизило час окончательной победы. Врата крепости были осаждены в мгновенье ока, невзирая на адский огонь, и выбиты ударами топоров, которыми ловко орудовали матросы. В половине седьмого утра они пали, и люди Гарнье устремились в пролом в несокрушимом порыве. Двадцать минут спустя французский флаг уже развевался на самой высокой точке крепости, и канонерки прекратили обстрел. Моряки-артиллеристы и солдаты морской пехоты охраняли выходы, но мандарины обманули их бдительность и сумели ускользнуть, вырядившись в лохмотья, под которыми их невозможно было распознать. Наместник, несмотря на рану, также хотел бежать. Разоблаченный переводчиком, он был задержан, как и военный губернатор города с четырьмя другими генералами. На следующий день сорок два человека под командованием заместителя Гарнье, лейтенанта флота Бальни Даврикура, овладели фортом Фухаи в семи километрах от Ханоя, еще остававшимся под властью аннамитов. Четыреста пленников, несколько лет сидевших на цепи и в шейных колодках, были освобождены. Исполненные благодарности, они пришли вместе с именитыми гражданами города благодарить своих избавителей. Победа была настолько полной, что местные жители, встречая француза, простирались ниц в знак великой радости и покорности! Маленький экспедиционный корпус, блестяще выполнив свою задачу, завладел огромным количеством оружия, пороха, пушек, продуктов питания, а также слонов и лошадей. Франсис Гарнье, обосновавшийся в крепости, которую он назвал Храмом Королевского Духа, принимал от местных чиновников заверения в готовности служить новой власти; затем он отправил в Сайгон наиболее важных пленников и обратился к адмиралу с просьбой о подкреплении. Великолепную победу в течение нескольких дней завершили помощники Гарнье: лейтенант флота Бальни Даврикур, доктор Арман, судовой врач, помощник комиссара Морис Дюбар, младший лейтенант морской пехоты де Трентиньян и гардемарин Отфёй. Надо сохранить в памяти имена этих бесстрашных молодых людей. Самому старшему из них, Бальни Даврикуру, не исполнилось и двадцати восьми лет, а самому молодому, Отфёю, было лишь девятнадцать! И это тот самый Отфёй, который с пятеркой солдат овладел крепостью Ниньбинь! Не теряя времени, Гарнье занялся вопросами управления. Он опирался на своих разумных и деятельных помощников. Действительно, следовало прежде всего позаботиться о безопасности войска, обеспечить сообщение с морем, распространить на промежуточные провинции, с таким малым количеством людей, французское верховенство, гарантировать порядок тонкинцам, воспользоваться их расположением для вербовки помощников среди них и, наконец, окончательно открыть Красную реку для торговли. Со своим блестящим знанием китайского характера, со своей деятельной, ловкой и осторожной натурой Франсис Гарнье сумел выполнить эти задачи за один месяц. Тем временем, оправившись от первого шока, аннамиты начали приходить в себя. Чем больших успехов добивался наш маленький экспедиционный корпус, тем труднее становилось поддерживать и охранять наши завоевания. Черные Флаги угрожали Ханою. Гарнье понимал неотложность мирного решения проблемы. Он возобновил переговоры с аннамитами, которые после поражения стали более покладистыми. «Торговый договор и протекторат одобрены в принципе, — писал он 21 декабря 1873 года. — Я надеюсь, что все идет к лучшему». Увы! В тот же самый вечер он трагически погиб. Атакованный Черными Флагами, он совершил вылазку, оказался в окружении превосходящих сил противника, все же потеснил их, однако в разгаре боя оступился, попал ногою в яму и не смог уже подняться. Бился он до последнего, как лев. Оставшись без патронов и со сломанной саблей, он пал под натиском врага. Его растерзали в тот момент, когда в нескольких шагах от него погибал в героической борьбе Бальни Даврикур. Четыре дня спустя, 25 декабря, прибыло долгожданное подкрепление: двести пятьдесят человек. Хотя и осложнившаяся из-за гибели Гарнье, ситуация не стала критической. Едва лишь возникала какая-либо угроза для французов, как молодые соратники Гарнье успешно преодолевали возникавшие трудности, встречая их лицом к лицу и выказывая после геройских сражений выдающиеся административные способности. Мы могли повелевать деморализованными мандаринами, лишенными своих крепостей и потерявшими доверие в собственных войсках. Мы организовали тонкинскую милицию, раздавили бандитов, перейдя в решительное наступление, и успокоили страну. И все это было проделано без большого кровопролития, с горсткой людей и с головокружительной быстротой. Напуганный Аннам пообещал Жану Дюпюи все, чего тот от него потребовал. Присланные в Тонкин послы были уступчивыми без меры; они согласились открыть Тонкин для торговли французской, испанской, китайской и аннамитской; поставить на постой в крепостях французские гарнизоны вплоть до заключения окончательного договора, разрешить французам подавлять восстания и гарантировать на вечные времена мирную навигацию по Красной реке. Текст этого соглашения был составлен, его должен был подписать месье Эсме, когда все прервалось из-за прибытия новых полномочных представителей от французов и аннамитов. Вот что произошло. Когда Гарнье покидал Сайгон, под началом адмирала Дюпре служил один флотский лейтенант по имени Филастр, который, увлекшись аннамитской цивилизацией, проводил свою жизнь в обществе посланников Хюэ, перенял их язык и в конечном итоге неизвестно как и почему стал слепо следовать их примеру во всем. Питая недостойное чувство зависти к Франсису Гарнье, чью память он пытался очернить, этот печальный персонаж был нашим злым гением в Тонкине, и только ему следует приписать всю ответственность за последующие события. Это Филастр, обманув адмирала, добился для себя назначения посланником в Хюэ якобы для обсуждения условий договора, который поверженный Аннам и так уже согласен был подписать. Нельзя было сделать худшего выбора. Мы победили безоговорочно, Тонкин у нас, тонкинцы на нашей стороне против Аннама, и вот этот странный уполномоченный действует таким образом, как будто побеждены мы и находимся в зависимости от Аннама! Он соглашается с распоряжениями Ту Дока, нашего злейшего врага, и, любой ценой желая убрать Гарнье, который не стал бы терпеть подобные гнусности, предписывает ему направиться в Сайгон для переговоров с аннамитскими посланниками. К несчастью, Гарнье погибает через несколько дней. Оставшись хозяином положения, Филастр, вследствие какой-то аберрации зрения, очень смахивающей на предательство, начинает уступать всем приказаниям мандаринов. Этот французский офицер отдает распоряжение о немедленной эвакуации из провинций, занятых нашими войсками всех наших отрядов, затем, нисколько не уважая благородную память злосчастного Гарнье, называет его пиратом и авантюристом и горько упрекает месье Эсме в том, что тот составил неуважительный по отношению к аннамитам договор. Одно из двух: либо этот человек был предателем, либо — сумасшедшим. Выберем меньшее из зол и назовем его сумасшедшим. Но это еще не все. Странный сей француз, который также стал аннамитом из разряда наихудших мандаринов Ту Дока, позволил оскорблять французов, уничтожать наших тонкинских союзников и изгнать без всякого вознаграждения Жана Дюпюи, чьи суда, оружие и товары были конфискованы! Шестого февраля он подписал соглашение, по которому нам позволялось иметь нашего резидента с охраной в Ханое и давалось обещание открыть Красную реку. Но, эвакуируя крепости, мы лишались всякого залога, который гарантировал бы выполнение иллюзорных обязательств, так и оставшихся на бумаге! Ведь самым важным было то, что Филастр удовлетворил все претензии своих друзей мандаринов. Тело Франсиса Гарнье было погребено безо всякой торжественности, разоренному Дюпюи грозила тюрьма, с принявшими нашу сторону тонкинцами обращались как с разбойниками. Ту Док не только не открыл для торговли Красную реку, но наш поверенный в делах в Хюэ пять лет не мог добиться аудиенции у этого чучела, которое дрожало перед Гарнье с его двумя сотнями людей. Наконец, Черные Флаги, тайно подстрекаемые этим подлым правительством, полностью прервали всякую торговлю. Положение стало абсолютно нетерпимым. Кроме того, поскольку Тонкин превратился в пристанище для всех китайских бандитов, пиратство могло послужить предлогом для иностранной интервенции, и несомненно, Англия с удовольствием взяла бы на себя полицейские функции в этой стране. Чтобы предупредить интервенцию, в результате которой нас бы вытеснили с уже завоеванных земель, в Ханой был послан комендант Ривьер с целью изучения ситуации и постепенного оттеснения Черных Флагов. Оскорбленный мандаринами, комендант предпринял атаку на крепость 16 апреля 1882 года. К несчастью, вместо того чтобы припугнуть Ту Дока и заставить его подписать договор о протекторате, удовлетворились полумерами. Он же обратился за поддержкой к Китаю, и китайские претензии не заставили себя ждать. Императорские войска вступили в Тонкин в конце июня. Коменданта города Ривьера заговорщики попытались отстранить от власти. План, разработанный месье Буре, который делил Тонкин между Францией и Китаем, был отброшен, а потому следовало действовать быстро и энергично. Однако удовольствовались отправкой отряда в семьсот пятьдесят человек, да и те прибыли на место лишь в конце марта 1883 года. Ободренные долгим нашим бездействием, китайцы и Черные Флаги сжали вокруг Ханоя кольцо блокады. 19 мая комендант Ривьер погиб во время вылазки. Лишь тогда Франция решилась на более энергичные действия. Организовали крупную экспедицию, которая увенчалась, без сомнения, серьезным успехом, однако утверждение нашего господства в Тонкине стоило нам немало золота и крови. Потратили три года, пожертвовали тысячами человеческих жизней и сотнями миллионов франков, чтобы восстановить завоевания Франсиса Гарнье и исправить преступные нелепости Филастра!
ГЛАВА 5
ДОКТОР АРМАН
Доктор Арман — один из тех молодых смельчаков, которые под руководством Франсиса Гарнье осуществили великолепное и отныне уже легендарное завоевание Тонкина. Прикомандированный к маленькому экспедиционному корпусу Гарнье в качестве корабельного врача, доктор Арман выполнял одновременно функции доктора, солдата и администратора. Он вел в сражение морских пехотинцев как боевой офицер и замещал командира отряда. В тех краях никто не соблюдал Женевскую конвенцию[169], пираты не берут пленных, уничтожают раненых и отрезают голову любому, попавшему к ним в лапы. В организационный период — увы, слишком краткий! — доктор Арман проявил себя таким же отличным администратором, как и его доблестные товарищи Бальни Даврикур, Отфёй и Трентиньян; он был столь же храбрым перед лицом аннамитских бандитов. Когда Гарнье погиб, а Филастр так бездарно разрушил дело его жизни, доктор Арман оказался в одиночестве, преисполненный неиспользованных сил и энергии. Он сумел применить их столь же полезным, сколь и патриотическим образом, блестяще проведя несколько опасных экспедиций, что принесло ему заслуженную славу. В 1875–1877 годах он совершил не менее пяти исследовательских путешествий по правому берегу Меконга, то есть по Камбодже. В мае 1875 года он выезжает из Пномпеня с четырьмя бродячими аннамитами, поднимается по реке Тонлесап, изучает пустынные гранитные холмы Кампонгчнанга, затем пересекает по диагонали Великое озеро[170], а потом, в свою очередь, обследует развалины Ангкора. Но лесная лихорадка поражает храброго путешественника, и, будучи не в силах держаться на ногах, он останавливается на острове Фукуок[171]. В ноябре он снова выезжает из Пномпеня, посещает остров Конг и обнаруживает в ходе нескольких экскурсий, что река Се-Лампорепо, замеченная Гарнье, которой рассчитывали воспользоваться как путем сообщения между Камбоджей, Кохинхиной и Лаосом, не оправдывает надежд: по ней можно подниматься только несколько часов на пироге. Река Стунг-Се[172], которая служит границей между Камбоджей и Сиамом, судоходна только шесть — восемь месяцев в году. Водораздел между нею и большой рекой пролегает в огромном заболоченном лесу. Богатейшая растительность, которая приводила в восхищение путешественников, когда они поднимались по Меконгу, в действительности покрывает лишь его берега. Однако на границе Камбоджи и Лаоса «куи-пор занимают открытую местность, очень плодородную, которая кажется оазисом в пустыне». Провинции Тулерепо и Молупрей, отделившиеся от Камбоджи около тридцати лет назад, населяют преимущественно куи, которые постепенно переняли язык, нравы и одеяние камбоджийцев[173]. Народ этот разделяется на два племени: куи-пор[174], земледельцы и производители сахара, и куи-хах, или куи-дек, которые работают почти исключительно с железом. Неутомимый доктор Арман в своем третьем путешествии прошел по северному побережью озера Тонлесап, посетил королевство Убу, самую богатую провинцию Лаоса. Затем, изучив течение всех правых притоков Се-Муна, он спустился по этой реке, а потом по Меконгу до Бассака[175]. Там его посетил принц Убу и в соответствии с наименованием, которое лаосцы дают каждому европейцу, назвал его фаланг (француз). «Этот вождь, — пишет месье Арман, — сущий деспот и отличается ненасытной жадностью. Когда налоги не дают ему нужных денег, он со своей свитой устраивает охоту на людей, которых продает затем китайцам или малайцам, а те переправляют их в Бангкок или Корат[176]». Русло Меконга, который камбоджийцы называют Тхулетхом (длина реки три с половиной тысячи километров), загромождено островами, отмелями и маленькими островками, окаймлено возвышенными берегами, имеющими порожистую структуру. В Камбодже река соединяется с Великим озером и делится на многочисленные рукава, которые ветвятся до бесконечности. Судоходны они с июля до декабря. Один из рукавов, исходный и основной, пригоден для плавания в любую пору года. Притоки несут в него воды внутренних болот. Множество водных артерий, которые прорезают болотистую и лесистую местность между Бассаком и Сиамским заливом, приносят огромное количество ила, который образует мощные отложения при их впадении в море. Паводки Меконга отличаются периодичностью и большой силой. Начинаются они в июне, достигают высшей точки в сентябре и уменьшаются к февралю. Вода поднимается иногда на двенадцать метров над меженным уровнем. В разгар наводнения скорость течения реки такова, что джонки и барки не в состоянии ее преодолеть. В этот момент вся страна представляет собой внутреннее море, откуда торчат, как островки, воздвигнутые на сваях жилища. Жители сообщаются между собой, как и с другими районами, только с помощью лодок. Два главных сезона: сухой, с октября по апрель; во время северо-восточного муссона с декабря до апреля, хотя горизонт часто и затянут облаками, не выпадает ни единой капли дождя, стоит нестерпимая жара, и равнины представляют собой выжженные солнцем саванны. Другой сезон — влажный, с мая по июль. В этот период дожди льют очень часто, затем наступает короткий сухой сезон, а потом вновь с августа по октябрь разверзаются хляби небесные. Основная часть населения принадлежит к желтой расе и состоит из аннамитов. Характер у них мягкий и легкий, они отличаются от китайцев небрежностью, с какой расходуют заработанные деньги. Тем не менее они очень привязаны к земле, которой владеют, с трудом и неохотно расстаются с деревней, где родились, где живет их семья и находятся могилы предков. Они веселы, любят развлечения, азартные игры, театральные представления и петушиные бои. Но зрелища эти нередко вызывают ссоры, драки, иной раз доходит и до убийства. Игра — это одна из самых сильных страстей у них; владельцы игорных домов и игроки, пойманные на мошенничестве, согласно кодексу Зя Лонга[177] получают восемьдесят ударов палкой. Богатые аннамиты очень любят крепкие напитки и питают пристрастие к опиуму. Но большинство населения — трезвенники. Вообще представители этого народа быстро осваиваются с цивилизацией и стремятся к просвещению, чтобы их считали образованными и чтобы они могли войти в класс служащих. Прежде всего азиат рассматривает европейца как соперника, чьи обычаи и нравы базируются на противоположных для азиата принципах. Аннамиты — стойкие и мужественные люди, они бестрепетно переносят болезнь и без боязни смотрят в лицо смерти. В глубине души они хотели бы выделиться чем-то среди себе подобных и для обретения высокой репутации нередко тратят огромные суммы на памятники, чтобы увековечить себя в памяти потомков. Их главные недостатки — невежество, боязливость, лживость и непостоянство, — вероятно, не более, чем результаты воспитания, следствие деспотизма их прежних властителей. Вежливость у них всегда немного услужлива, подобострастна. Это, без сомнения, пережиток, ибо в прежние времена мандарины требовали от своих подчиненных, чтобы они простирались перед ними ниц до четырех раз подряд. Их обычное приветствие состоит в легком наклоне головы, подкрепленном сомкнутыми на груди кулаками. Они любят роскошь, одежды ярких расцветок. Мужчины из простонародья носят кусок ткани, называемый канчян, перехваченный поясом, в карманах которого помещаются табак и коробок с бетелем. Белый цвет и хлопчатобумажная ткань обозначают траур. Богатые люди носят китайские штаны, застегнутую на боку блузу и сандалии из красной кожи. Низшие классы редко носили обувь до нашей оккупации. С тех пор вкусы и требования возросли. В деревне преобладают китайские башмаки на толстой подошве, с заостренными и загнутыми вверх носками; но в Сайгоне можно увидеть лакированные европейские туфли и носки. Мода все еще предписывает женщинам слишком маленькие сандалии, чуть ли не на дюйм меньше нужного размера. Это делает их походку некрасивой и затрудненной. Чулки и носки были здесь совершенно неизвестны до нашего прихода, и в местном языке нет слов для их обозначения. Туземцы часто носят зонтики, особенно после французского завоевания, ибо сей предмет, помимо явной своей пользы, заключает для них особую привлекательность издавна запретного плода. При аннамитском владычестве зонтик оставался привилегией мандаринов. Так что и рабочие сайгонского порта поднимаются с зонтиками даже на строительные леса. Насколько привлекателен этот примитивный предмет для местных жителей, можно судить хотя бы по факту, о котором повествует месье Дютрей де Рен:[178] один мандарин не самого высокого пошиба, прикомандированный к этому французу, велел сопровождать себя сразу троим носильщикам зонтиков, хотя по занимаемой им в Хюэ должности ему полагалось не более одного. Женская одежда состоит обычно из панталон и шелкового платья, чуть длиннее, чем одеяние мужчин. Они носят серьги, ожерелья, до пяти-шести пар браслетов; женщина из простонародья много работает: она занимается домашним хозяйством, следит за порядком в лавочке или мастерской, собирает хлопок, ткет материю, сажает и вылущивает рис, а сампаны — лодки, используемые нередко под жилье, — водит с удивительной ловкостью, ничуть не уступая мужчинам. Национальный головной убор — салакко, шляпа в форме абажура, первичным материалом для нее служит солома или пальмовый лист. Она плетется очень искусно, покрывается слоем лака, который делает ее водонепроницаемой, и отлично защищает от дождя и солнца. Как правило, аннамиты носят длинные волосы. Ремесленники часто разгуливают с непокрытой головой, богачи покрывают свои прически убором из крепдешина, напоминающим по форме тюрбан. Время от времени они смазывают свои волосы касторовым маслом. Они никогда их не стригут, только в детстве выбривают головы, оставляя до десятилетнего возраста маленький хохолок на макушке. Женщины часто носят одну или две накладные косы, которые соединяются с естественными волосами длинными золотыми шпильками. Представители обоих полов, к сожалению, отталкивающе нечистоплотны. Длинные шевелюры кишат паразитами, и туземцы с удовольствием ищут друг у друга в головах. Плоды «охоты» всегда изобильны… Они не сменяют одежды до тех пор, пока старая не превратится в лохмотья. Праздничный церемониал их заключается в том, что они напяливают новое платье поверх старого, совершенно изношенного и грязного. Аннамиты слепо веруют, что контакт с малейшей каплей воды представляет для них большую опасность, когда они больны или просто в плохом расположении духа. Почти все курят сигареты или маленькие трубки с длинной головкой и коротким чубуком. Опиум распространен здесь гораздо меньше, чем в Китае. Большинство его курильщиков принадлежат к относительно состоятельным слоям. Богатые курят у себя дома; бедные посещают специальные курильни, открытые в больших центрах. Главная пища у них — отварной рис, рыба и овощи. Они едят мало мяса, однако любят полакомиться свининой и курицей. Мясо быков и буйволов идет в пищу только тогда, когда приходится забивать животное по той или иной причине. Впрочем, у простонародья вкус не отличается особой изысканностью. Они едят кошек, собак, крыс, летучих мышей, змей, шелковичных червей и ласточкины гнезда. Любят они и очень острые соусы; самый популярный — ныок-мам, приготовленный из морской воды, растертых маленьких рыбок и специй. За исключением довольно редких в Кохинхине городов, к которым, в сущности, можно отнести только Сайгон и Шолон, население распределяется небольшими группами, живущими в деревушках, затерянных посреди густых зарослей. Селения обнесены бамбуковыми изгородями, снабженными дверьми без замков, которые держат открытыми целый день при помощи палок. На ночь двери просто падают в свои проемы. Дома строятся следующим образом: бамбуковые шесты втыкаются в землю, точнее — в грязь, стены обмазывают тиной, высохшей на солнце, крыши кроют тростником, а сверху покрывают пальмовыми листьями. Чаще всего надо нагибаться, чтобы войти в эти жилища; но внутри довольно просторно, подпертая бамбуковыми шестами крыша поднимается в виде свода. Все детали скрепляются только тростником и деревянными шпильками, гвоздей нет нигде. Подобные дома можно воздвигать за несколько часов. Деление на комнаты производится с помощью циновок, образующих перегородки, пол покрыт чем-то вроде раствора, приготовленного из разведенной извести. Дым выходит только из окон и дверей. Дома грязные; они служат одновременно для людей, свиней и домашней птицы. Узкие улицы полны гниющих отбросов; это настоящие клоаки, рассадники инфекции. Не стоит поэтому удивляться, что аннамиты не привязаны к своим домам и покидают их очень часто, чтобы спастись от тиранического правления мандаринов. Только у богачей, представителей привилегированных классов, как и повсюду, есть дома из кирпича, крытые черепицей. Мебель у них состоит из толстых досок крепкого дерева редкой породы, они служат им кроватями; из нескольких резных стульев, грубо окрашенных столов, свитков изречений и медной жаровни, распространяющей аромат. У бедняков, как и богатых, есть алтарь предков и иногда — семейный гроб. Медицинские услуги больным оказывают знахари, которые сами себе присвоили звание врачей. Азиатский лекарь обязан рассказать своему пациенту, чем он страдает и что он испытал с начала заболевания. Если знахарь ошибается, его отсылают как невежду. Свою плату он получает только в случае выздоровления больного, если же тот умирает, то ему не платят ничего. Аннамиты полагают, что это самый надежный способ заставить врачей хорошо лечить. В Кохинхине, как и в Камбодже, главной религией является буддизм. Прежде всего буддизм, завезенный не позднее VI или VII века, усвоил и приспособил к своим нуждам древние легенды и традиции, придав им под личиной пророчеств незыблемый священный отпечаток. Главная догма буддийской религии основывается на бесконечном перевоплощении души, каждый раз в новых ликах и обстоятельствах, до тех пор, пока она не очистится настолько, чтобы освободиться от своих грехов и пороков и заслужить право больше не возрождаться или, точнее, возродиться уже в нирване, месте небесной красоты и полного счастья. Итак, однажды Будда еще при жизни в сопровождении Ананды, любимого ученика, шел по берегу моря с запада на восток и увидел, как из дупла дерева, называемого Тхелок, выползла большая ящерица и принялась лизать ему ноги. Чуть дальше старик, который выращивал огурцы, подобрал один из плодов, слегка подпорченный вороньем, и предложил Будде, следуя за ним в его тени. «Когда я буду в нирване, — сказал Будда своему спутнику, — здесь будет основан царский город. К концу своей жизни этот старик поднимется в жилище богов, чтобы воплотиться в принца Антепатту; но его прогонят братья, и он придет сюда основать царство, которое станет государством болтунов; соседи будут его притеснять и в конце концов лишат всего. И это потому, что он бросил в мой котелок поклеванный огурец». Придя на север нынешнего Сиама, Будда увидел большую гусеницу, выползшую из дерева. Она стала выражать ему свое восхищение. Ее склевал ворон. Будда предсказал, что здесь возникнет царство Нокор-Нонг-Сно (царство лужи), нынешний Сиам, страна расхитителей, ворующих для своей выгоды людей и разную добычу. Камбоджийцы много сделали, чтобы придать какой-то смысл словам Будды. Они сами называют себя болтунами и сеятелями смуты. Одна их пословица гласит: «Обезьяна не расстается с гримасами, сиамец с трактатами, аннамит с лукавством, а камбоджиец — с болтовней». …В феврале 1877 года доктор Арман отправляется в четвертое путешествие, поставив своей целью на этот раз исследовать левобережье Меконга. Покинув Бассак, он пересекает густые заросли, рисовые поля, наблюдает пик Лагре, вулканический и лишенный растительности, преграждающий большое плато. Перед отрядом разбегаются хищники, слишком сытые, чтобы нападать на человека. На берегах Уе-Куены, или Соленой реки, доктор находит туземцев, одетых в хлопчатобумажные лоскутки, украшенные стекляшками; они вырываются и убегают от европейцев. Деревни их, весьма отдаленные друг от друга, не имеют никакой связи между собой, разве что — в случае военных действий. Путникам удалось подойти к одному из жителей. «Кто вы?» — спросили его. «Дикари!» — последовал ответ. Пройдя вдоль Се-Кампо, доктор Арман прибывает в деревню Кампо, расположенную в очаровательной местности, затем пересекает довольно крупный поток Се-Пьен, стекающий, по-видимому, с пика Лагре, и выходит к берегам Конга. Эта река объединяет всю водную систему региона. Наконец, миновав лаосскую деревню Канг, чьи домики прячутся под кокосовыми пальмами и мангровыми деревьями, и деревню Кха, чьи жители выращивают рис по заказу лаоссцев, путники прибывают в Аттопё, где Се-Кеман впадает в Конг. Навстречу Арману вышел губернатор, перед ним несли зажаренного кабана. За губернатором шествовал его штаб с чайниками, плевательницами и подносами, которые в этой стране заменяют галуны и плюмажи. Немного далее Арман попадает в большую деревню Монг-Као, чьи жители, еще недавно промывавшие золотоносный песок Се-Кемана, обратились в бегство из-за вспышки холеры. «Брошенные дома защищены бамбуковыми рогатками, так беспрерывно тревожит опасность это несчастное население, пребывающее постоянно во власти страха. Внутри хижин мы видели мертвых, накрытых древесной корой, возле них были котелки с рисом, комки жевательного табака и все прочее, что могло бы понадобиться туземцу, если он очнется от последнего сна. Дома защищены нитями белого хлопка, которые натянуты вокруг крыш и предназначены служить дорожным указателем для злых духов, если они появятся по соседству». Из Аттопё доктор Арман направился к большому плато, которого он достиг, миновав несколько деревень, населенных лаосцами. Преодолев лесистые горные отроги, путники вышли к склонам гор: «Рощи саговых пальм нависали над головокружительными безднами, куда низвергались потоки, а издалека доносился шум водопада Се-Нои, который обрушивается в нижний водоем сгромоподобным шумом». Через тридцать пять дней после выхода из Бассака доктор Арман возвращается туда, терзаемый тяжелейшей лихорадкой, которая поставила его на грань смерти. Наконец, с помощью сульфата хинина и корня ипекакуаны он выздоравливает и может снова продолжить путешествие. Направляясь к Хюэ, он посещает провинции Ла-Кхон, Пху-Ва, Нам-Но, Фонг, Сон-Конг, пересекает район Пу-Таис, затем Аннамитскую цепь[179] и, наконец, добирается через Лаос до берегов Меконга на аннамских равнинах. Доктор Арман внес исправления в карты рек Куанг-Три и Хюэ и обогатил геологию и географию ценными открытиями.ГЛАВА 6
Иезуиты в Сиаме. — Шевалье де Шомон.Теперь нам пора узнать, по какому поводу и при каких обстоятельствах совершил путешествие в Сиам[180] шевалье[181] де Шомон, на которого в конце XVII века была возложена честь установить официальные дипломатические отношения между Францией и этим азиатским государством. Два монаха ордена иезуитов, преподобные отцы Ламот-Ламбер и Паллю, пустились в дальний путь в 1656 году с целью евангелизировать страны Дальнего Востока. В августе 1662 года они прибыли в Аютию, столицу королевства Сиам, совершив долгое, тяжелое и опасное путешествие, которое длилось более четырех лет. Они посетили Сирию, Персию[182], Индию, Бенгалию и Индокитай. Король Сиама Пхра-Нарай очень хорошо принял святых отцов, и они тотчас же получили официальное разрешение читать проповеди и исполнять религиозные обряды. И дело было вовсе не в том, что король сделал исключение для французских миссионеров, а в том, что он оказывал всяческое содействие распространению различных вероучений в своей стране, лишь бы только это не противоречило интересам правительства и не влекло бы нарушения законов. Король Сиама руководствовался принципом, что всякая религия хороша и достойна уважения. Этому умному и веротерпимому монарху было ясно, что положение о полной свободе вероисповеданий будет благоприятствовать установлению добрых отношений с иностранцами. Он был уверен, что при таких условиях чужеземцы не замедлят появиться в его стране. Так как король Сиама считал, что появление в королевстве людей из-за рубежа является непременным условием развития торговли и искусств, а также служит преумножению национальных богатств, то он безо всяких колебаний предоставлял иностранцам различные льготы, пренебрегая в данном случае общественным мнением (которое, впрочем, его нисколько не интересовало) и даже энергично подавляя заговоры среди своих подданных. Преподобные отцы были людьми высокообразованными, очень умными и хитрыми, словом, такими, какими обычно бывают посланцы этого знаменитого ордена. Вскоре они оказались в очень большой милости у короля. Он оценил по достоинству ученость монахов и проникся к ним большим уважением. Иезуиты очень хотели обратить монарха в католичество, но Пхра-Нарай каждый раз после беседы на божественные темы улыбался своей чуть загадочной улыбкой скептически настроенного ко всему и донельзя пресыщенного восточного правителя и говорил: «Небо похоже на большой дворец, к которому ведет множество дорог. Одни — короткие и легкие, по ним идет много народу, другие — долгие и трудные, но в конце концов все люди, какую бы дорогу они ни выбрали, достигают дворца вечного блаженства, которое является высшей целью человеческой жизни». Полнейшее безразличие короля к той или иной религии оказалось непреодолимым препятствием на пути обращения его в католичество. Дело не двигалось с места, и, казалось, не было ни малейшей надежды на успех. Однако миссионеры не отчаивались. Они задумали основать в Сиаме семинарию, с тем чтобы превратить первых новообращенных в своих помощников, а для этого неофитам[183] следовало дать хоть какое-то образование. Преподобный Паллю тотчас же отправился в Рим, чтобы получить одобрение Святейшего Престола, каковое и было им, разумеется, получено. По возвращении в Сиам монах был приятно удивлен тем, что во время его отсутствия король Сиама подарил миссионерам большой участок земли для строительства жилища святых отцов и их последователей, а также большое количество строительных материалов, что семинария уже построена и что желающие учиться стекаются со всей страны. Следует признать, что к тому времени миссионеры стали широко известны и среди простых людей, ибо они обладали обширными познаниями в медицине и всегда оказывали помощь страждущим. Благодаря своей учености, всем известному милосердию и способности к самопожертвованию, монахи стали пользоваться огромным уважением в народе. Не скупясь на заботу и внимание к пораженным недугами телам азиатов, иезуиты готовили почву для завоевания их душ. Немного позже один из вновь прибывших из Франции миссионеров, отец Лоно, затратил много труда на составление катехизиса для жителей Сиама. Он перевел также на тайский язык христианские молитвы, написал небольшой трактат о Боге, а затем составил грамматику тайского языка и два словаря: словарь народного тайского говора и словарь языка образованных тайцев. К 1673 году в стенах семинарии обучалось уже около 700 учеников, представителей всех народностей, населявших в то время Сиам. В том же 1673 году преподобный Паллю возвратился из второго путешествия во Францию. Он привез новых помощников, книги, различные припасы и деньги, но самое главное, он привез королю Сиама личные письма от его святейшества Папы Римского и от его величества короля Франции. Король Сиама, узнав, какие ценные бумаги должен передать ему монах-иезуит, решил осыпать отца Паллю особыми милостями, чтобы тем самым выразить особое уважение Папе Римскому и французскому монарху. Милость же короля Сиама заключалась в том, что он согласился принять миссионера без соблюдения всех строгих правил этикета, то есть достойный иезуит был избавлен от необходимости предстать перед его величеством босиком, а также от довольно неприятной позы при беседе с монархом, ибо согласно церемониалу с королем полагалось разговаривать не иначе как распростершись на полу и упорно глядя в землю. Узнав о том, как милостиво обошелся с монахом король Сиама, многие и многие позавидовали отцу Паллю, так как подобной чести удостаивались лишь избранные из избранных. Ознакомившись с драгоценными письмами, Пхра-Нарай принялся расспрашивать миссионеров о семействе короля Франции, о численности войска Людовика XIV, о территориальных приобретениях Франции, явившихся результатом побед в войне с голландцами, интересовался он и дальнейшими планами своего французского собрата. Монахи подробно ответили на все вопросы короля Сиама, а тот, желая доказать, сколь высокое уважение питает он к Людовику XIV, пообещал даровать французскому монарху право избрать любое место на побережье Сиама и основать там город. Пхра-Нарай сообщил миссионерам также о своем желании отправить во Францию свое посольство, но, правда, осторожный азиат «хотел бы, чтобы закончилась война между двумя державами, Францией и Голландией». Таким образом, король Сиама как бы оставлял за собой право выбирать себе союзников по результатам военных действий. Но, как бы там ни было, святые отцы сумели воспользоваться благорасположением короля для того, чтобы расширить пропаганду своего вероучения. В 1677 году они уже основали пять миссий, в том числе в Бангкоке и Тенассериме. В том же году умер отец Паллю, и ему устроили очень пышные похороны. Когда в Неймегене был заключен мирный договор между Францией и Нидерландами, Пхра-Нарай успокоился, так как понял, что никаких неприятных неожиданностей союз с Людовиком XIV ему не принесет. Он удостоверился в том, что, послав своего полномочного представителя в Париж, не совершит оплошности. К несчастью, корабль, на котором плыли во Францию послы с дарами от Пхра-Нарая для короля, королевы и для всех придворных, попал у берегов Мадагаскара в страшный шторм и затонул. При дворе короля Сиама еще никто не знал об ужасной катастрофе, когда из Франции прибыл новый миссионер с новым письмом от Людовика XIV. Пхра-Нарай был приятно удивлен и очень обрадован тем, что «во второй раз удостоился чести получить послание от столь могущественного монарха, причем даже прежде, чем король Франции мог получить мой ответ на его первое письмо». В ответ на великую любезность французского монарха Пхра-Нарай поспешил разрешить монахам приступить к строительству нового храма, как только они обратились к нему с подобной просьбой. Таким образом, число миссий увеличилось, и влияние иезуитов распространилось до Тонкина, Кохинхины и Камбоджи. Благорасположением короля пользовались все французы, обосновавшиеся в Сиаме. Под покровительством Пхра-Нарая процветала и Французская Индийская компания, реорганизованная Кольбером. К тому же миссионеры и торговцы имели счастье найти при дворе короля Сиама верного друга Франции, который долгое время был для них настоящим благодетелем, так как всячески поддерживал любые их начинания. То был знаменитый Констанс, или Константин Фолкон, грек по происхождению, родившийся на Кефаллинии[184] в 1648 году. Пережив множество странных и опасных приключений, он добрался до Сиама, где тотчас же был замечен первым министром, так как отличался живым умом, приятными манерами и умением разбираться в сложных государственных делах. Он удостоился чести быть представленным королю и вскоре стал его любимцем. Но хитрый грек боялся, что у Пхра-Нарая окажется переменчивый нрав и тогда он сам разом потеряет свое влияние, а с ним и богатство, поэтому он решил заручиться поддержкой какого-либо могущественного покровителя и остановил свой выбор на французах, которым оказал множество весьма ценных услуг. Первое посольство короля Сиама отбыло из Аютии в конце 1680 года. В 1683 году при дворе Пхра-Нарая никто еще не знал, что все посланцы погибли во время кораблекрушения. Однако сам Пхра-Нарай был чрезвычайно обеспокоен тем, что из Парижа не было никаких вестей. Он захотел узнать причину столь долгого молчания и решил отправить во Францию еще одно посольство, в состав которого входили два мандарина, шесть персон рангом пониже, переводчик и преподобный Леваше, миссионер из Кохинхины. Послы покинули Сиам 25 января 1684 года и благополучно прибыли в Кале, откуда их препроводили в Париж. Послов отвезли не к самому Людовику XIV, а к его министрам. Они остановились у маркиза де Сеньелея во дворце на улице Нев-де-Пти-Шан, принадлежавшем семейству Кольбер. Принятые сначала морским министром, послы заявили, что прибыли в Париж с целью установления добрых отношений с Францией, которые будут способствовать развитию торговли между подданными двух монархов. Затем знатных чужеземцев принял господин Кольбер де Круасси, министр иностранных дел. Посланцы заверили его в том, что прибыли во Францию для того, «чтобы от имени короля Сиама просить его величество короля Людовика XIV отправить в Сиам посольство для установления тесных отношений между двумя странами». Послы предстали перед королем Франции, распростерлись на полу, подняв руки высоко кверху и упорно глядя вниз. В таком положении они оставались до тех пор, пока аудиенция не была закончена и король не удалился. Посланцы короля Сиама говорили о горячем желании их повелителя принять у себя французское посольство, и Людовик XIV без труда уверовал в то, что таким образом будет найден самый верный и легкий способ обратить короля Сиама в католичество. Людовик XIV решил направить в Сиам довольно много блестящих молодых людей. В состав посольства входили: шевалье де Шомон, капитан I ранга, главнокомандующий французским флотом в странах Леванта;[185] шевалье де Форбен и еще двенадцать молодых дворян, аббат де Шуази и целая толпа иезуитов. Вместе с французами в обратный путь отправились посланцы короля Сиама, которых по повелению Людовика XIV снабдили различными ценными предметами в качестве подарков для Пхра-Нарая: зеркалами, хрустальными люстрами, жирандолями, отрезами драпа всех цветов, оружием, мебелью, а также большим конным портретом короля. В Бресте уже стояли наготове два корабля: «Уазо» («Птица»), где капитаном был Водрикур, и «Малинь» («Насмешница») с капитаном Жуайё во главе. Третьего марта 1685 года корабли покинули берега Франции и после остановок в Кейптауне и Батавии 23 сентября оказались у входа в устье реки Менам в Сиаме. Французскому посольству в королевстве Сиам был оказан невероятно теплый прием. Пышность, с коей была обставлена торжественная встреча при дворе, превосходила все, что мог бы заставить вообразить самый безудержный полет фантазии. Главу посольства шевалье де Шомона приветствовали так, как если бы он сам был могущественным монархом. Все стоявшие в тот момент на рейде корабли, под какими бы флагами они ни прибыли в Сиам (английскими, португальскими или голландскими), приветствовали француза орудийным салютом и выстраивались в линию. И наконец, французским посланцам была оказана высшая честь, которой удостаивались лишь лица, принадлежавшие к королевской семье: все здания, где разместились члены посольства, были выкрашены в красный цвет. Настал день, когда французы должны были быть официально, в торжественной обстановке, представлены королю Сиама. Это было довольно нелегким делом для представителей короля Людовика XIV, который чрезвычайно серьезно относился к вопросам этикета. Про восточных же владык и говорить было нечего, ибо для них церемониал — самое главное на свете. Поэтому Констанс Фолкон и шевалье де Шомон еще за неделю до великого дня обговорили все детали вступления посольства в столицу и прибытия во дворец, на аудиенцию к королю. Послы доставили в Сиам письмо от Людовика XIV. Оно было положено в золотую шкатулку, которая находилась в золотой чаше. Чашу же поставили на золотое блюдо. На реке Менам уже скопилось огромное количество лодок-долбленок. В самую красивую лодку поместили королевское послание, в самую роскошную — самого посла, а за ними, в других лодках, разместились свита посла, Констанс Фолкон и мандарины, вернувшиеся из Парижа. Когда посольство добралось до столицы, загремели пушечные выстрелы. Драгоценное послание с превеликими почестями поместили в большую золоченую повозку. Шомон уселся в золоченые носилки, которые несли десять рабов, а Шуази занял место в других, за которые взялись восемь рабов. За ними верхом следовали дворяне и мандарины в окружении толпы радостных зевак. Шествие медленно двигалось по улицам города под оглушительные звуки рожков, барабанов, цимбал, труб, колокольчиков и каких-то еще инструментов, напоминавших шотландские волынки. Симон де Лалубер, один из посольских, заметил, что вся эта музыка очень напоминала звуки, которые извлекает из своего товара торговец скобяными изделиями. И вот кортеж вступил под своды королевского дворца. Послы торжественно следовали между двумя рядами королевских солдат, вооруженных мушкетами, луками и пиками. На головах у них красовались головные уборы из позолоченного металла, одеты они были в ярко-красные рубашки, а на шеях у всех были повязаны разноцветные шарфы. Все посольство разместилось в большом зале, где задняя стена была скрыта огромным занавесом. По сигналу невидимые слуги быстро отдернули занавес, и перед взорами французов появился сидевший на возвышении король Сиама. Шевалье де Шомон, заранее принявший решение вручить королю послание Людовика XIV лично, как говорится, из рук в руки, был очень удивлен и даже обескуражен таким поворотом событий. Хитрый Констанс Фолкон заранее повелел прикрепить длинную ручку к блюду, чтобы облегчить процесс передачи послания, и он очень надеялся, что французский посол воспользуется этим приспособлением. Но все вышло иначе. Де Шомон поприветствовал монарха, произнес длинную торжественную речь, а затем приблизился к трону и, не обращая внимания на униженные мольбы грека, ползавшего по полу по восточной моде, протянул письмо королю. Пхра-Нарай, вдосталь посмеявшись над уловками своего любимца, поднялся с трона, наклонился к послу и взял из его рук письмо. Между его величеством и французом завязалась оживленная беседа, в которой Констанс служил переводчиком. Надо сказать, что задача у него была довольно трудная, ибо надо было угодить обоим, так как король говорил только о торговле, а посла интересовали только вопросы веры. Часто люди охотно верят в то, во что им хочется верить. И тем горше бывает разочарование. Так произошло и с де Шомоном: до сей поры он убаюкивал себя сладкой мыслью о том, что король Сиама легко и просто согласится перейти в католичество. Он страстно желал, чтобы обращение Пхра-Нарая состоялось как можно скорее. Но теперь он был вынужден признать, что был введен в заблуждение. Из уст самого короля де Шомон услышал, что тот стал завлекать в свое королевство французов только потому, что ненавидел англичан и голландцев. Итак, благорасположение короля целиком и полностью объяснялось его чувствами и не имело ничего общего с религией. Сперва Шомон стал настаивать на своем и передал через дрожавшего от страха Констанса, что Людовик XIV очень желает, чтобы король Сиама перешел в католическую веру. Прежде французский посланник полагал, что ему предстоит иметь дело с дикарем, который будет счастлив исполнить любое желание Короля-Солнца. И что же? Он оказался лицом к лицу с очень утонченным и умным азиатом, за плечами которого было двадцать веков восточной цивилизации. Да, перед ним был ловкий и осторожный политик, к тому же очень убежденный последователь своей веры. Ответ короля был категоричен и положил конец дискуссиям: Пхра-Нарай заявил без обиняков, что не желает изменять вере предков, которую в его королевстве исповедуют уже в течение двух тысяч двухсот двадцати лет. С этого момента разговор шел уже только о торговле. По особому договору Французская Индийская компания получила полную свободу торговли с Сиамом. Правда, французам запрещалась контрабанда, а также им предписывалось приобретать все товары на королевских складах. По этому же договору компания получала право распоряжаться в городе Сингоре, к тому же ей предоставлялось монопольное право на торговлю оловом, добываемым на острове Жонселанг. Теперь компания могла основать там факторию. Кроме всех уже перечисленных преимуществ, французы получили еще массу всяких льгот, за которые представители других наций согласились бы заплатить очень большую цену. Наконец пришла пора посольству отправляться в обратный путь. После того как Пхра-Нарай в торжественной обстановке вручил шевалье де Шомону огромное количество роскошных даров для Людовика XIV, членов его семьи и его министров, французы заняли места на тех же кораблях, что доставили их в Сиам. Констанс Фолкон, мастер интриг и заговоров, как настоящий левантиец, очень боявшийся впасть в немилость у французов (из-за того, что король Сиама оказался столь стоек в вопросах веры), стал искать другого могущественного союзника и покровителя. Он ступил на путь предательства и обмана, причем обманывал он не только французов, но и Пхра-Нарая. Делая вид, что печется об интересах Сиама и Франции, Фолкон более всего был озабочен своими собственными делами. Он постарался убедить короля Сиама в том, что следует воспользоваться случаем, чтобы отправить к Людовику XIV еще одно посольство, которое должно было обратиться к королю Франции с просьбой прислать в Сиам солдат. По замыслу Фолкона, французские солдаты должны были составить гарнизон Бангкока, где французский инженер де Ламар должен был построить крепость. В то же время хитроумный грек договорился с отбывавшим на родину преподобным Ташаром, что тот добьется аудиенции у Людовика XIV и объяснит королю Франции, что необходимость держать гарнизон в Бангкоке — всего лишь предлог для присылки солдат, которые на самом деле нужны для того, чтобы обеспечить безопасность миссионеров и, в частности, самих иезуитов. Посольства прибыли в Брест 18 июня 1686 года. Людовик XIV дал мандаринам торжественную аудиенцию. Вообще, посланцев короля Сиама принимали во Франции с превеликими почестями: в их честь устраивались празднества, и все представители высшего света наперебой обхаживали их. Мандарины, в свой черед, во время торжественного приема выказали французскому королю величайшее почтение. В длиннейшей речи, несколько подправленной и даже удлиненной старательными переводчиками, мандарин, возглавлявший посольство, восторженно превозносил «непостижимые для разума простого смертного добродетели Великого Людовика» и чудеса, совершавшиеся во время его царствования. Пока эти весьма живописные, вернее сказать, экзотические персонажи развлекали общество и купались в лучах славы, истинный посланец первого министра Сиама, преподобный Ташар, объяснял министрам подлинный смысл посольства. Король по достоинству оценил все преимущества, которые проистекали из предложений франко-сиамского дипломата, и принял решение оккупировать два порта, которые открыл для французов Констанс Фолкон. По повелению короля во Франции спешно приступили к формированию экспедиционного корпуса, который должен был отправиться в Бангкок. В марте 1687 года все было готово: корабли, вооружение, припасы, солдаты и офицеры. Людовику XIV оставалось только протянуть руку, чтобы сорвать этот «созревший для порабощения плод». Для того чтобы добиться успеха в деле, которое не было ни военной кампанией, ни путешествием, предпринятым с целью развития торговли, ни крестовым походом, требовались необыкновенный такт и чрезвычайная тонкость, ибо по сути своей сие предприятие было сразу и первым, и другим, и третьим. К несчастью, те, кому король Франции доверил возглавить экспедицию, Симон де Лалубер и Клод Себере дю Буллей, оказались неспособными справиться со столь трудной задачей. Кроме всего прочего, и преподобный Ташар, так сказать, «серый кардинал» данного предприятия, безумно возгордился тем, что достиг таких неожиданных успехов при дворах двух монархов. Он стал говорить со всеми свысока, повел себя высокомерно и надменно и потребовал, чтобы все делалось только так, как он того пожелает. Путешествие по морю было долгим и очень тяжелым. К невероятной жаре добавилось еще и отвратительное качество продуктов, что повлекло за собой цингу. На кораблях свирепствовала жестокая тропическая лихорадка. В результате многие солдаты и матросы умерли. Прибыв в Сиам, французы, к своему великому изумлению, обнаружили, что ставший всемогущим Констанс Фолкон теперь полагал, что сможет обойтись без союзников, явившихся из такой дали. С самого начала стало ясно, что статьи договора, заранее оговоренные послами, выполнены не будут. Вместо того чтобы предоставить Бангкок в полное распоряжение французов, о чем существовала договоренность, Фолкон потребовал, чтобы войска, посланные Людовиком XIV, оказались в его подчинении и выполняли бы его волю. Между французами, фаворитом короля Сиама и мандаринами начались разногласия. Преподобный Ташар, чье поведение никак нельзя было назвать безупречным, казалось, совершенно забыл об истинных интересах Франции, а также о воле Людовика XIV. Фолкон не выполнил ничего из того, что обещали французам послы. Начались всякие происки, интриги, заговоры. Среди придворных возникло настоящее соперничество за приобретение влияния и большего веса в обществе. Дела в королевстве Сиам, бывшем столь благополучным и спокойным до прибытия чужеземцев, шли все хуже и хуже. У короля Пхра-Нарая был еще один фаворит, мандарин по имени Питрача. Разумеется, они с Фолконом ненавидели друг друга и стремились один другого уничтожить. Использовав ложь, клевету, подкуп, устрашение и убийства, Питрача одержал верх: интриган-левантиец был побежден желтокожим азиатом. Внезапно король Пхра-Нарай умер, и было совершенно непонятно отчего. По всей видимости, он был отравлен. Его родных братьев поместили в ярко-красные шелковые мешки и забили насмерть палками из санталового дерева. Питрача завладел государственной печатью, женился на единственной дочери Пхра-Нарая, бывшей законной наследницей престола, и стал королем, заняв место своего покровителя. И первой заботой нового правителя стало: обезглавить своего давнего врага и соперника Фолкона, чья неукротимая жажда власти и явилась причиной всех бед. Высокомерие преподобного Ташара, его двусмысленное поведение ни в коей мере не способствовали тому, чтобы среди мандаринов и новых придворных у него появились друзья. К тому же французские солдаты вели себя так, словно находились в покоренной стране. Грубость, безобразные выходки, поборы, вымогательство, столь характерные для солдафонов той эпохи, порождали в народе жгучую ненависть. Дело зашло так далеко, что всем было ясно: восстановить добрые отношения уже не удастся. Все рухнуло из-за того, что несколько честолюбцев пожертвовали интересами народов ради своекорыстных интересов, и Франция навсегда утратила надежду распространить свое влияние на страну, которая, так сказать, «сама отдавала себя под ее руку».
ГЛАВА 7
Марко Поло. — Ибн Баттута. — Иезуиты в Китае. — Граф Беневский.В году 1255 от Рождества Христова мессер[186] Никколо Поло, венецианский купец, и его брат Маттео[187], отец и дядя Марко Поло, находились с товарами в Константинополе, где в то время правил император Бодуэн[188]. Оба они были людьми благородными, благоразумными и очень осторожными. Посовещавшись, они решили отправиться торговать к Черному морю. Они закупили много драгоценностей и покинули Константинополь, отправившись морем в Судак. Благополучно добравшись туда и совершив несколько удачных сделок, братья решили продолжить путь верхом. Они ехали довольно долго и прибыли к правителю татар, хану Берке, столицами которого были города Сарай и Булгар(?). Хан очень обрадовался прибытию венецианских купцов и оказал им превосходный прием. Братья показали хану все драгоценности, которые они привезли с собой, и правитель татар был так пленен блеском сокровищ, что заплатил вдвое больше, чем стоили сами украшения. Купцы прожили во владениях Берке-хана около года, но вскоре между ним и ханом Хулагу[189], повелителем левантийских татар, началась война. В кровопролитных сражениях погибло много воинов как с одной, так и с другой стороны, но в конце концов Берке потерпел поражение, вернее сказать, был разбит наголову. В результате этой войны дороги стали столь небезопасны, что никто не рисковал отправиться путем, по которому прибыли братья Поло, так как не было никакой гарантии, что странник благополучно вернется из путешествия. Вот почему братья решили двигаться вперед, раз уж они не могли повернуть назад. Покинув город Сарай, братья добрались до города Укек, где кончались владения хана Берке, затем переправились через большую реку Тигери (Волгу) и целых семнадцать дней ехали по выжженной солнцем пустыне, где не было ни городов, ни поселков. Только изредка братьям попадались татарские шатры, сделанные из шкур животных. Венецианские купцы пересекли пустыню и прибыли в город Бухару, где правил хан Борак. Они прожили в Бухаре около года. В это время через Бухару проезжали посланцы Хулагу, направлявшиеся к великому хану. Они явились к братьям Поло и сказали: «Великий хан никогда еще не видел ни одного латинянина и очень хочет посмотреть, каковы же они собой. Если хотите, поезжайте с нами. Можете быть уверены, хан вас очень хорошо примет, со всеми почестями, и щедро вас одарит». Братья согласились и последовали за послами. Их путешествие длилось целый год. Наконец они прибыли к великому хану Хубилаю, который, как и предсказывали послы, принял венецианцев очень тепло и оказал им большую честь, устроив по поводу их приезда празднество. Хубилай стал расспрашивать братьев об их родине, о королях и императорах Европы, о папе, которого он именовал духовным главой всего мира. Хан Хубилай сказал, что он уже был наслышан об этом великом человеке и что все услышанное заставило его проникнуться к главе христианской Церкви величайшим почтением. Братья Поло отвечали на вопросы великого хана правдиво, с достоинством, обстоятельно, со знанием дела, как положено людям мудрым и знающим, каковыми они и являлись. Следует сказать, что говорили они на татарском языке, так как за время путешествия хорошо изучили его. Они рассказали Хубилаю о священном елее, который они назвали «самым лучшим средством от любых болезней души». Получив от венецианцев столь ценные сведения, великий хан повелел написать на своем языке письмо, адресованное папе, и поручил братьям Поло и одному из своих вельмож отвезти сие послание главе христианского мира. В письме же речь шла вот о чем: «Хубилай сообщал папе, что если тот пришлет к нему около сотни мудрых и образованных христиан, сведущих в семи искусствах и умеющих хорошо говорить и спорить и они сумеют доказать идолопоклонникам, что вера Христа лучше всех остальных, а другие веры — плохие и ложные, то тогда он сам, хан Хубилай, а также все его подданные станут христианами и самыми преданными сыновьями Церкви». Хан Хубилай поручил братьям привезти ему священного елея из лампады, которая горит в Иерусалиме у Гроба Господня. Никколо и Маттео покинули дворец хана и отправились в Европу. Они путешествовали верхом более трех лет и прибыли наконец в Сен-Жан-д’Акр, где их и настигла весть о смерти папы. Им пришлось ждать избрания нового папы в течение двух лет. Папский легат Тебальдо, давний знакомый братьев Поло, был избран главой христианского мира и получил имя Григория X. После многолетнего отсутствия братья Поло вернулись в Венецию, и здесь мессер Никколо узнал о постигшем его несчастье: жена его умерла, оставив сына Марко, которому впоследствии было суждено прославиться. Братья Поло посетили папу Григория X, и его святейшество доверил им священный елей, с тем чтобы они передали сей дар хану Хубилаю. В качестве представителей Святейшего престола их сопровождали по повелению папы два монаха-доминиканца. С братьями Поло отправился и юный Марко, хотя он и был еще очень молод. К сожалению, монахи-доминиканцы недолго сопровождали венецианских купцов, ибо они испугались воевавших между собой монголов и предпочли вернуться домой. Мессер Никколо, мессер Маттео и молодой Марко продолжили свой путь одни. Путешествие было долгим и трудным, но в конце концов купцы благополучно прибыли к великому хану. Они передали Хубилаю священный елей из лампады, пылавшей у Гроба Господня, чему тот был несказанно рад и всячески показывал, как высоко он ценит оказанную ему честь. Когда Хубилай увидел Марко, он спросил, кто это. — Великий хан, — с поклоном ответил мессер Никколо Поло, — это мой сын и ваш преданный слуга. — Добро пожаловать, юноша, добро пожаловать! — милостиво улыбнулся великий хан. Так приступил к описанию истории странствований Марко Поло выдающийся писатель Анри Беланже, когда взялся за труд перевести на современный французский язык рукопись XIII века. С этой своей задачей он справился прекрасно, хотя и оставил на повествовании легкий и изящный налет старины, эдакую «патину времени», что и придавало всему труду особое очарование. Автор «Путешествий вокруг света» полагает, что не сумеет сделать ничего лучше, как привести несколько отрывков из этой книги именно потому, что в ней рассказы, которые столь долго считались почти вымыслом, приобретают некое правдоподобие[190]. Марко Поло, наделенный от природы живым умом, столь быстро ознакомился с нравами, обычаями, языком и письменностью монголов, что, пораженный успехами юноши, хан Хубилай проникся к нему глубоким уважением. Очень скоро Марко стал любимцем хана. Несмотря на то что Марко был еще очень молод, хан без колебаний давал ему чрезвычайно ответственные поручения, для выполнения которых требовались ловкость, энергия, ум и хитрость. И юноша справлялся с поручениями столь успешно, что Хубилай даже доверил ему управление целой провинцией. Марко Поло, обладавший трезвым рассудком, умевший наблюдать различные явления и выносить справедливые решения во всяких спорных вопросах, смотревший на мир широко открытыми глазами, многое знавший и многое понимавший, собирал по собственному почину ценнейшие документы о древней азиатской культуре, которая в ту пору была совершенно неизвестна в Европе. Марко Поло провел при дворе хана Хубилая около семнадцати лет и вернулся в Венецию при обстоятельствах, о которых мы расскажем позже. Некоторое время спустя между Генуей и Венецией началась война, и Марко Поло, как истинный патриот своего города, снарядил за свой счет галеру, сам стал во главе боевого отряда и присоединился к военно-морской экспедиции. В состоявшемся большом морском сражении Марко Поло проявил чудеса храбрости, но венецианский флот потерпел поражение, и знаменитый путешественник попал в плен. Его отвезли в Геную, где он томился в неволе целых шесть лет. Знаменитому путешественнику необходимо было придумать себе какое-нибудь занятие, чтобы скоротать время, и, к счастью, его посетила весьма удачная мысль: продиктовать свои воспоминания известному литератору Рустикелло[191], уроженцу Пизы. Тот и сделал бесценные записи, а затем перевел их на французский язык, так как этим языком пользовались в то время все образованные люди Европы. Мы не раз будем обращаться к этому литературному труду и цитировать его, лишь слегка подправляя стиль, что необходимо для того, чтобы современный читатель мог понять смысл высказываний. Марко Поло создал подлинный шедевр, описав огромную империю, каковой являлся в те времена Китай. Он подробно остановился на государственном устройстве империи, а также на способах и методах управления провинциями. Он описал, как в Китае производились общественные работы, как строились большие дороги, пересекавшие практически все провинции из конца в конец и связывавшие их между собой. Не оставил Марко Поло без внимания наличие бесчисленного количества искусственных каналов, которые способствовали развитию как сельского хозяйства, так и торговли. Особое внимание венецианца привлекло существование как в центре страны, так и на самых глухих окраинах почтовых станций, а уж употребление бумажных денег повергло его просто в изумление, как и невероятная предусмотрительность китайских правителей, создававших в разных местах большие запасы продовольствия на случай войны или каких-либо катастроф. Марко Поло пересказывал, однако, и различные легенды, не удосуживаясь проверить их достоверность, так что в его книге содержатся сведения о людях с собачьими головами и с обезьяньими хвостами, о гигантских сказочных птицах и животных, таких, как мифический единорог, которые вроде бы водятся в Китае. Марко Поло пересек знаменитое Памирское нагорье, куда практически не решались заглядывать путешественники. Этот край представился его взору как огромное высокогорное плато, абсолютно пустынное и безжизненное. Он писал, что на этой унылой равнине нельзя найти ни еды, ни воды и что там царит ужасный холод. Венецианец красочно описывал горные страны — Бадахшан, Кашгар и Хотан, а также бескрайнюю пустыню Гоби, которая лежит на пути того, кто направляется в Монголию и Китай. В этих краях существовало странное поверье, что неосторожный путешественник, вольно или невольно отставший от каравана, слышал голоса духов, окликавших его по имени и указывавших ему неверное направление. В результате несчастный шел навстречу неминуемой гибели. Знающие люди утверждали, что голоса духов можно было услышать как днем, так и ночью, причем часто их сопровождали звуки, извлекаемые из различных музыкальных инструментов, в частности, бой барабанов. Великий хан Хубилай правил тогда всей Центральной и Восточной Азией. Благодаря своему высокому положению при дворе этого могущественного владыки Марко Поло имел возможность путешествовать и наблюдать жизнь Китая. Он побывал и в Тибете, но этот край был разорен одним монгольским полководцем, и зрелище, которое представилось там взору Марко Поло, было весьма печальным: города и дворцы разрушены, а монахи, подчинявшиеся далай-ламе, заперлись в монастырях. Итальянский купец в своей книге рассказывал о том, что в те времена в Китае происходили массовые убийства, и это красноречиво свидетельствовало о том, как мало ценили монголы человеческую жизнь. Однако Марко Поло писал и о том, что уже тогда сказывалось благотворное влияние буддизма, выражавшееся в некотором смягчении нравов. Когда монголы, не исповедовавшие буддизм, имели несчастье потерять своего хана, они убивали тысячи лошадей, а также всех людей, которые попадались им на пути следования погребального кортежа. Все дело было в том, что монголы верили в загробную жизнь и желали обеспечить своего повелителя лошадьми, воинами, слугами и в будущей жизни, а потому и убивали всех встречных с криками: «Ступайте служить вашему господину и в ином мире!». Однако монголы, принявшие буддизм, ограничивались тем, что клали в могилы только вырезанных из картона лошадей и человечков, чтобы они сопровождали умерших. Марко Поло довольно подробно и красочно описал, как ловко обманывали легковерных людей шаманы. Когда какой-нибудь ярый приверженец этой религии заболевал, маги, или колдуны, собирались в его жилище и возбуждали себя до такой степени, что один из них начинал биться в конвульсиях и кататься по земле. Считалось, что в этот момент в него вошел злой дух. Тогда все собратья-колдуны окружали упавшего и принимались изгонять дьявола и допрашивать его о том, какова причина болезни их пациента. Хитрый дух сообщал, что больной, не сознавая того, нанес ему тяжкое оскорбление и избавится от своей хвори только в том случае, если согласится принести ему, духу, хорошую жертву, причем в качестве жертвы обычно указывалось определенное количество спиртного и овец. Разумеется, больной и его домочадцы соглашались принести сей искупительный дар и старались как можно скорее умилостивить духа. Предназначенных в жертву овец резали, а их мясо варили или жарили. В надлежащий момент в доме больного появлялись жены колдунов и все приступали к трапезе. После того как спиртное бывало выпито, а мясо — съедено, шаманы покидали дом страждущего, пообещав бедняге скорое исцеление. Марко Поло очень подробно описал устройство империи и отмечал, что бумажные деньги, столь поразившие первых путешественников-арабов, были на самом деле величайшим изобретением. В своей книге Марко Поло без конца превозносил великого хана Хубилая и говорил о нем так: «Ни низкий, ни высокий, а роста среднего, полный, но крепкий, хорошо сложен, с лицом белым и румяным, черноглазый, с прямым носом». У хана было четыре законные жены, а при дворе его было около десяти тысяч человек, которые прислуживали ему самому, ханшам и их детям. По рассказам венецианца, хан Хубилай три месяца в году (декабрь, январь и февраль) проводил в столице Северного Китая, городе Ханбалыке, ныне называемом Пекином, где находился его дворец, полный всяческих чудес и диковин. Вот что мы находим в знаменитой книге: «Дворец хана вот каков. Прежде всего крепостная стена, образующая квадрат. Протяженность стены около восьми километров, а в вышину она добрых десять шагов. В каждом углу находится красивый дворец, и в дворцах этих хранится сбруя великого хана, луки, колчаны, седла, одним словом, все, что нужно для ведения боевых действий. Затем следует вторая стена, и в ней уже восемь дворцов, а также пять ворот. А в самой середине находится дворец властителя. Знайте, что столь большого дворца нигде в мире не было и нет. Второго этажа у него нет, зато фундамент поднимается больше, чем на десять пядей (около 2,5 м). Крыша у дворца превысокая, стены в покоях покрыты серебром и золотом, а сверху еще разрисованы драконами, животными и птицами, а также всадниками и прочими изображениями. И стены так расписаны, что, кроме серебра, золота и живописи, ничего не видно. Большой зал такой просторный, что более шести тысяч человек могут там отобедать. Диву даешься, сколько во Дворце покоев. Да, дворец этот столь велик, столь богат и столь прекрасен, что никому на свете не выстроить ничего лучше. Балки и стропила крыши — красные, желтые, зеленые, синие и других цветов. Они так отполированы и так искусно сделаны, что блестят словно кристаллы, и, таким образом, дворец виден издалека, а крыша его так и сияет. Знайте же, что крыша эта крепкая и сделана так прочно, что выдержит самую дурную погоду и простоит долгие-долгие годы. Между двумя крепостными стенами находятся прекрасные луга и сады с различными фруктовыми деревьями. Здесь множество зверей, таких как олени, лани, козы, а также животные с чудесным мехом. Встречаются и зверьки, в изобилии выделяющие мускус, и другие красивые звери. И от одного угла к другому протянулось очень красивое озеро, где водится много всяких рыб, которых великий хан повелел туда выпустить. И всякий раз, когда ему захочется рыбы, вся она в его распоряжении и для его удовольствия. В озере берет начало река, но все устроено таким образом, что ни одна рыбина не может покинуть озеро, ибо этому мешают железные и бронзовые решетки. На севере, на расстоянии полета стрелы, по приказу великого хана насыпан руками людей холм. В вышину он не меньше ста шагов, а в округе — не менее тысячи. Холм этот покрыт деревьями, которые никогда не теряют листьев, а всегда зелены. Скажу вам, что ежели великий хан прознает, что есть где-либо красивое дерево, то он тотчас же отправляет за ним людей и приказывает вырыть его с корнями и землей и привезти сюда, на холм. И слоны несут дерево, как бы велико оно ни было, а затем его сажают. И, таким образом, в парке великого хана растут самые прекрасные деревья в мире». Далее Марко Поло, склонный восхищаться всем необычным и красивым, с восторгом рассказывает о том, что хану Хубилаю пришло в голову украсить сей холм воистину на китайский лад. «Скажу вам также, что великий хан повелел покрыть весь холм мельчайшим розовым и голубым песком, истолченным в пыль, а сверху еще и зеленым дерном. Таким образом, деревья там зеленые, и гора зеленая, и все зеленое, и зовется это место Зеленым холмом, что вполне справедливо. А на вершине холма возвышается большой и красивый дворец, также весь зеленый, как снаружи, так и изнутри. И так это все с виду прекрасно: и деревья, и гора, и дворец, что смотришь и сердце радуется. Настоящее чудо! И всякий, кто видит сие, становится весел и радостен. Вот так повелел все устроить великий хан для своего удобства иудовольствия… У великого хана есть также летний дворец, весь из мрамора, а стены внутри там изукрашены золотом, а поверх нарисованы всякие звери, птицы, деревья и чудные цветы, и все сделано на удивление искусно и красиво. Эта летняя резиденция, где хан проводит жаркое время года, окружена высокой стеной длиной в шестнадцать тысяч шагов, а внутри обитают самые разные звери. Великий хан посвящает свой досуг охоте с соколами, кречетами, а то и с гепардами. И наконец, у повелителя есть еще третий дворец, выстроенный из бамбука, весь вызолоченный изнутри и украшенный очень тонкой резьбой. Бамбук, из коего сделана крыша, покрыт таким толстым слоем лака, что ни одна капля не просачивается внутрь, так что дождь не причиняет крыше вреда и она не гниет. Сам же бамбук, употребляемый при постройке крыши, очень толст (не менее трех пядей), длиной в десять пядей, а то и в пятнадцать, и он разрезан поперек. Этот дворец особый, ибо его можно разобрать на части, а затем вновь собрать по воле хана очень быстро. Так и делают, если хан того пожелает: дворец переносят на другое место, куда укажет повелитель, возводят вновь, а потом укрепляют при помощи двух сотен шелковых веревок, которые используют в качестве растяжек. Неподалеку от главного дворца находится табун из десяти тысяч белых кобылиц, чье молоко предназначено для самого императора, членов его семьи, его дальних родственников и сонма его приближенных. Этих благородных животных очень почитают, даже самые высокопоставленные вельможи относятся к ним с превеликим уважением. Когда табун великого хана направляется куда-нибудь, все люди должны уступать лошадям дорогу и воздавать им почести…» Свое повествование Марко Поло продолжает подробным описанием «большого города Катая под названием Ханбалык». Слово «ханбалык» является точной транскрипцией восточно-тюркского выражения, означающего «город хана». Сегодня этот город называется Пекином, что по-китайски значит «северная столица». Сам город этот существовал задолго до покорения Китая монголами. Однажды хан Хубилай узнал от своих придворных звездочетов, что когда-нибудь в городе вспыхнет восстание, и он повелел выстроить новый город рядом со старым, на другом берегу одного из притоков реки Пей-Хо. Когда строительство было закончено, хан приказал всем жителям покинуть свои дома и отправиться жить в новый город. Именно в этом новом городе находятся и в наше время императорский дворец и здания, где располагаются государственные учреждения, причем многие из них построены еще во времена владычества монголов. Пекин, состоящий из двух частей, представляет собой и в наше время два квадрата. Один из них, практически идеальный по форме, с прямыми улицами и с толстой крепостной стеной, был выстроен монголами: второй же квадрат, пожалуй, и не квадрат вовсе, а вытянутый прямоугольник. Это и есть старый китайский город. Когда Марко Поло посетил Ханбалык, город был окружен глинобитными стенами, на месте которых впоследствии выросли мощные каменные укрепления. В те времена в городе было двенадцать ворот, а рядом с ними располагались роскошные помещения для стражников. Это были настоящие дворцы, где обитали хорошо вооруженные солдаты. В наше время в Пекине только девять ворот, но они очень похожи на те, что видел когда-то знаменитый венецианский путешественник. Теперь же путник, едва миновав ворота города, выстроенного монголами, тотчас же попадает на прямые и широкие улицы. Город устроен так, что, стоя у одних ворот, можно видеть ворота, расположенные на противоположной стороне. Разумеется, во времена Хубилая в Ханбалыке можно было найти большие и роскошные дворцы, замечательные особняки и красивые дома. В самом центре города стоял огромный дворец, где находился колокол, звонивший по ночам для того, чтобы указывать дорогу путникам. В этом дворце великий хан давал торжественные обеды, там же заседал военный совет и там же устраивались роскошные приемы. Марко Поло не уставал восхищаться бесподобной пышностью, с коей обставлялись эти приемы. «Когда великий хан собирает придворных по любому торжественному поводу, все устраивается вот каким образом: стол, за которым сидит хан, расположен на возвышении. Сам хан сидит лицом на юг. Первая жена хана занимает место по левую руку от повелителя, что считается в Китае большой честью. А по правую руку от хана сидят его сыновья, племянники и прочие родственники, причем располагаются они гораздо ниже хана таким образом, что их головы находятся на уровне ног повелителя. А еще ниже располагаются жены высокопоставленных вельмож, а также сами вельможи. Все сидят там, где им укажет великий хан. А столы расставлены так, что владыка Китая может видеть всех пирующих, сколько бы их ни было. В одном углу огромного зала, где великий хан дает торжественные обеды, находится большущий чан из чистого золота, вмещающий столько вина, сколько входит в самую большую бочку. Рядом с ним стоят горшки поменьше, тоже из чистого золота. Сначала в них кладут разные пряности, обладающие приятным вкусом (а стоят эти пряности очень дорого), а затем уж наливают вино из большого чана при помощи золотых черпаков. Из тех горшков, что поменьше, вино разливают в столь большие кубки, что их содержимого хватило бы на десятерых. Такой полный до краев кубок ставят между двумя пирующими, а рядом помещают две небольшие золотые чаши с ручками, и таким образом каждый наливает себе вина столько, сколько потребно его душе и желудку. Знайте же, что эти кубки и чаши стоят целого состояния, и у великого хана их столько, что ни один человек не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами эти несметные сокровища. Знайте также, что подают хану разные блюда и напитки знатные вельможи, а нос и рот у них прикрыты расшитой золотом шелковой тканью, дабы их дыхание и запах не коснулись пищи и питья великого хана. Когда великий хан изъявляет желание выпить вина или воды, все музыкальные инструменты, коих в этом зале превеликое множество, начинают издавать мелодичные звуки. А когда повелитель Китая поднимает кубок, все присутствующие, вплоть до самых знатных, становятся на колени и низко кланяются. И тогда великий хан выпивает свой кубок. И всякий раз, когда он изволит пить, все делают так, как я вам только что рассказал. Я не стану ничего говорить о том, какие яства подают на торжественном обеде, ибо вы и сами понимаете, что их бывает превеликое множество, причем самых разных. Когда все пирующие насытятся, столы убирают, и перед знатными гостями начинают показывать свое искусство танцоры и жонглеры, очень умелые и ловкие. Они танцуют и поют перед великим ханом и его гостями и делают это столь хорошо, что все веселятся и радуются от души. А когда представление заканчивается, все гости расходятся по домам…» Повелитель Китая был великим любителем пышности, роскоши, блеска, поэтому в Пекине празднество следовало за празднеством, и всякий раз хан поражал Марко Поло своей невероятной щедростью. Читая книгу знаменитого венецианца, можно без конца удивляться неописуемому великолепию дворцов и изумительной пышности двора Хубилай-хана. Можно даже обвинить Марко Поло в склонности к преувеличению, как это делали его современники. Однако они были неправы, ибо знаменитый путешественник ничего не преувеличивал, и китайские хроники времен правления монгольской династии не только подтверждают правоту Марко Поло, но, более того, красноречиво свидетельствуют о том, что он даже кое-что утаил от своих современников, опасаясь, очевидно, что ему не поверят. По свидетельству Марко Поло, главными праздниками в году являлись день рождения хана и день наступления Нового года. В день своего рождения великий хан облачался в свои самые роскошные одежды, украшенные таким количеством золота, что можно было ослепнуть. По меньшей мере двенадцать тысяч вельмож и воинов одевались в шелковые одежды, затканные серебром и золотом, и с таким количеством нашитых на них драгоценных камней, что каждое такое одеяние стоило не менее десяти тысяч безантов[192]. Хан дарил такое роскошное одеяние каждому своему сановнику три раза в год, поэтому вы можете без труда посчитать, во что ему обходилась щедрость. Нет, никогда мы не сможем вообразить себе подобной роскоши! До начала празднеств и увеселений император получал богатые дары от всех провинций своей колоссальной империи. Даже из самых отдаленных уголков страны прибывали посланцы со щедрыми приношениями. «Церемония, имевшая место в день наступления Нового года, называлась «Белым торжеством», потому что сам хан и все его подданные, мужчины, женщины и дети, облачались в белые одежды, ибо белый цвет в ту пору был символом счастья. Зато после падения монгольской династии сей цвет уже стал считаться символом траура и печали. В этот торжественный день, как и в день своего рождения, хан получал от провинций, областей, княжеств и стран, находившихся под его властью, огромное количество богатейших даров, поражавших воображение всякого, кто их видел. Золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни и дорогие ткани прибывали на бесчисленных повозках со всех концов страны. По свидетельству венецианца, «… хан получал кроме всего прочего сто тысяч белоснежных чистокровных монгольских лошадей, без единого темного пятнышка и без единого изъяна. Получал повелитель Китая и пять тысяч слонов, покрытых дорогими тканями и сукнами, затканными золотом. Слоны эти несли на своих спинах тяжелые ларцы и сундуки, доверху наполненные золотой и серебряной посудой, а за ними следовали верблюды, нагруженные прочими драгоценными предметами. И было этих верблюдов великое множество, так что и счесть-то их было нельзя». Марко Поло свидетельствовал: «И бесконечной чередой проходили ханы, вельможи, князья, военачальники, придворные звездочеты, философы, сокольничьи, лекари, мудрецы и сановники всех рангов. И все они явились только для того, чтобы воздать почести величайшему из всех земных владык, великому хану Хубилаю! На улицах столицы, во всех городах и поселках страны, даже в самых крошечных, жалких деревушках, затерянных на окраинах этой огромной империи, все подданные праздновали наступление Нового года, обменивались подарками (непременно белого цвета), обнимались, веселились и желали друг другу, чтобы все дни в году были радостными и приносили бы только хорошие известия». Охота, являвшаяся любимым развлечением монголов, служила Хубилай-хану еще одним поводом продемонстрировать свое богатство и погрузиться в роскошь. Он был страстным охотником, а потому имел леопардов, волков и даже тигров, отлично выдрессированных для ловли диких зверей, таких как кабаны, дикие буйволы, медведи, антилопы и олени. Были у хана и бесчисленные своры собак, о которых пеклись единокровные братья хана Байян и Минган. У каждого из братьев в подчинении было по десять тысяч человек, одетых в одежды разного цвета: те, что подчинялись Байяну, носили одеяния ярко-алого цвета, а Мингану — синего. Когда великий хан отправлялся на охоту, его сопровождал один из братьев со своими людьми. Две тысячи псарей вели две тысячи прекрасно натасканных собак, и каждая беспрекословно слушалась хозяина. Когда же великий хан хотел потешить себя большой охотой, то с ним отправлялись оба брата, и тогда псари с собаками выстраивались в две шеренги. Они шли параллельно друг другу и гнали дичь. Такое расположение загонщиков приносило хану великое множество трофеев. Обычно после облавы на крупных зверей хан любил поохотиться с ловчими птицами. Тогда с ним на охоту отправлялись десять тысяч сокольничих с орлами, кречетами, ястребами и священными соколами, которых предстояло выпустить где-нибудь над равниной или у берега реки. Хана сопровождали также еще десять тысяч человек, и они шли по двое и наблюдали за огромным пространством, охраняя таким образом покой хана. В руках каждый из стражников держал хлыст, чтобы прогонять любопытных, способных побеспокоить великого владыку Китая. Они имели при себе и свистки, чтобы по мере надобности подзывать птиц, а также специальные колпачки, чтобы накрывать им головы. Таким образом, те, кто запускал птиц, не должны были более о них заботиться и бежать за ними, а занимались сбором убитой дичи. У всех ловчих птиц без исключения к одной из лапок был привязан кусочек пергамента, где указывалось, кому она принадлежит, и имя ловчего, кому было доверено ее воспитывать. Все это делалось для того, чтобы птицу тотчас же могли вернуть владельцу, если кто-нибудь ее случайно поймает. Если же ловчая птица потеряет кусочек пергамента и невозможно будет узнать, кому она принадлежит, всякий подданный великого хана был обязан передать ее вельможе, которого называли «буларгучи», что означает «хранитель потерянных и не нашедших хозяина вещей». Вообще же тот, кто найдет потерявшуюся лошадь, собаку, птицу, саблю или какое-либо оружие, предмет одежды или украшение, должен принести все найденное этому ответственному лицу, призванному сохранить чужое имущество и по возможности вернуть его владельцу. А ежели кто этого не сделает, то подвергнется суровому наказанию. Сам же сановник всегда размещается в середине кортежа и высоко поднимает свой развернутый штандарт для того, чтобы те, кто что-либо потерял или нашел, смогли бы тотчас же обратиться к нему. Когда же в голову великому хану приходит фантазия отдохнуть на берегу моря-океана, — писал Марко Поло, — он отправляется туда со всем своим двором. От Ханбалыка до моря около двух дней пути. В дороге хан любуется чудесными птичками и дивными пейзажами. И право, нет ничего на свете, что так бы услаждало взор! Великий хан путешествует к морю на четырех слонах, которые несут очень красивый переносной дворец, обитый изнутри золотой парчой и прочими дорогими тканями, а снаружи обтянутый львиными шкурами. Хан держит при себе постоянно дюжину своих лучших кречетов. Самые знатные вельможи сопровождают повелителя Китая и всячески стараются развлечь его. В то время как великий хан беседует в переносном дворце со своими приближенными, другие сановники скачут рядом и иногда сообщают ему: — Повелитель! Вон летит стая журавлей! Хан тотчас же выглядывает из дворца и видит птиц. Он берет того кречета, какой ему больше понравится, пускает его, и ловчая птица сбивает журавля прямо к ногам своего хозяина, и хан бывает очень доволен и рад… В этом располагающем к неге и праздности экипаже хан прибывает в городок, называемый Качар-Модуном[193], где уже загодя поставлены шатры для него самого, для его родных, сановников и для всех, кто входит в его свиту. И шатров этих не менее десяти тысяч!» — восторгается Марко Поло. «Шатер, предназначенный для повелителя Китая, очень просторен, и в нем много покоев. Один служит ему спальней, другой — гостиной, а третий предназначен для аудиенции. Все стены покоев обтянуты роскошными шкурами тигров, а спальня — бесценнейшими соболиными шкурками. И шатер этот столь велик, что добрая тысяча человек могла бы укрыться в нем от непогоды. Вокруг шатра императора стоят стражники, а внутрь входят только высшие сановники, ибо только они имеют право приближаться к жилищу великого хана. А вдалеке, насколько хватает глаз, разбросаны шатры, где обитают придворные, ловчие, слуги; там охотники прогуливают гепардов и собак, а ловчие дрессируют соколов и кречетов». Разумеется, зрелище, которое представлял собой лагерь великого хана, должно было производить очень сильное впечатление на всякого, кто его видел. Картина, нарисованная Марко Поло как бы чуть приглушенными красками (так как венецианец полагал, что современники ему не поверят), достаточно правдива, ибо описание увеселений и забав великого хана мы находим и в старинных китайских манускриптах. Но какие же чувства должны были испытывать те несчастные, что наблюдали, как их посевы гибнут под копытами двадцати тысяч лошадей, когда всадники как безумные мечутся по полям в поисках дичи! Следует сказать, что великий хан, «отец народов», как его называли в Китае, питал такую же неукротимую страсть к охоте, как и наши французские короли. И точно так же, как они, хан не позволял охотиться простолюдинам, так как считал всю дичь своей собственностью. Запрет был столь строг, что никто не смел «иметь или держать у себя ловчую птицу и охотничьих собак в самом Качар-Модуне и в его округе на удалении не менее двадцати дней пути». Но этот запрет распространялся на сравнительно небольшую часть владений великого хана, ибо в других районах охотиться дозволялось, правда, при особых условиях. Посвятив многие страницы своей книги описанию двора хана, чья пышность во много раз превосходила блеск и роскошь, которую можно было найти в Средние века при дворах европейских монархов, Марко Поло обратил свой взор на внутреннее устройство государства, на царившие в стране нравы и на состояние торговли, что представляло для него особый интерес. Но прежде всего Марко Поло обратил внимание на количество жителей Ханбалыка, ибо эта цифра повергла его не только в изумление, но и в некое подобие священного ужаса. Он видел в городе столько домов и людей, как внутри крепостной стены так и за ее пределами, что даже не осмелился привести в своей книге точную цифру, так как побоялся, что ему никто не поверит. И это вполне понятно. Знаменитый венецианец очень пекся о том, чтобы его не обвинили во лжи, и поэтому он приходил в отчаяние при мысли, что ему придется заставить европейцев, столь привычных к своим крохотным городишкам и деревушкам, поверить в то, что население Ханбалыка достигало совершенно невообразимой по тем временам цифры в 1 500 000 жителей. Разумеется, этот огромный город, где находились император и его двор, был важным торговым центром. Каждый день в Ханбалык со всех сторон стекались тысячи и тысячи повозок, на которых торговцы везли в город не только продовольствие и предметы первой необходимости, но еще и драгоценные ткани, украшения, пряности и прочие символы богатства и роскоши. Движение в городе было весьма оживленным, ибо и повозки, и люди сновали по улицам от зари до зари. Достаточно будет сказать, что во времена хана Хубилая в Ханбалык одних только повозок с шелком прибывало ежедневно около тысячи, так что можете себе представить, сколько в город привозили всего остального. Золотые и серебряные китайские монеты были очень велики по размеру и тяжелы, что составляло большое неудобство для торговцев при заключении сделок. Торговля была бы крайне затруднена, если бы по повелению хана Хубилая в Китае не ввели бы бумажные деньги. Марко Поло без устали восхищался мудростью владыки Китая, который сумел наводнить свою страну бумажными деньгами, не обеспечив их никаким капиталом. Конечно, Марко Поло не задавал себе вопросов о том, чем может кончиться эта милая игра по бесконтрольному производству денег, ибо он видел в сем финансовом изобретении одни лишь преимущества, забывая о том, что чрезмерное увлечение этим процессом может оказаться чрезвычайно опасным. Не раз в своей книге он восклицал, что «великий хан нашел аркан, философский камень, который столь долго и упорно искали алхимики». Вот как, по описанию Марко Поло, в Китае производились бумажные деньги: «Надо взять кору тутового дерева, того самого, чьей листвой питаются черви, что производят шелк. Деревьев этих здесь великое множество, и все долины буквально заполнены ими. Итак, берут тонкую белую часть коры, которая находится между собственно древесиной и грубой внешней корой. Из этой тонкой коры изготавливают плотную черную бумагу. А когда бумага готова, ее режут на куски таким образом: самый малый кусочек соответствует по стоимости половине турского денье;[194] побольше — половине серебряного венецианского дуката;[195] есть куски ценой в пять монет, есть — в десять, а есть и такие, что равны золотому безанту и даже — десяти безантам». Самая мелкая бумажка, которую Марко Поло приравнивал к половине турского денье, называлась «ча» или «5 вен». «Лян» равен по стоимости золотому безанту. «На всех бумажных деньгах стоит печать великого хана, — продолжает Марко Поло. — И он каждый год повелевает изготовить столько денег, что смог бы скупить все сокровища мира, ибо это ему ничего не стоит. А после неограниченного выпуска хан сам назначает цену своим деньгам. Деньги, изготовленные вышеописанным способом, имеют хождение по всей стране, и ими расплачиваются при любых сделках, везде, где установлена власть великого хана. И нет никого, кто бы осмелился отказаться принять их в уплату за товар, ибо сие деяние карается смертью. Разумеется, такая мера устрашения действует безотказно, и люди охотно принимают бумажные деньги и не видят в том для себя вреда, так как сами могут купить на них любые товары». Следует сказать, что Марко Поло заблуждался, думая, что хан Хубилай был изобретателем сей замечательной финансовой операции. Изготовление бумажных денег имело место в Китае еще во времена правления Золотой династии, задолго до Новой эры, а также при императоре Огодае, в 1236 году до Рождества Христова[196]. Первая эмиссия была бесконтрольной и привела к разорению государства, вторая же, мудро ограниченная разумными пределами, не имела негативных последствий и послужила только во благо стране. Но все же долгое время правители Китая воздерживались от производства бумажных денег, а хан Хубилай, возродивший эту систему со всеми недостатками, проистекающими из государственной монополии и полного отсутствия контроля за процессом, привел в конце концов свою страну к катастрофе. Финансовый крах произошел уже после его смерти, семьдесят четыре года спустя, в результате всяких скандальных операций и огромных злоупотреблений. Это печальное событие повлекло в 1367 году падение династии. Следует отметить, что уже во времена правления хана Хубилая появились кое-какие зловещие симптомы приближавшейся катастрофы, выражавшиеся в недовольстве и брожениях в народе, что даже привело к тому, что один из высокопоставленных сановников, равный по положению министру, был убит заговорщиками прямо в императорском дворце. Однако находившемуся при дворе великого хана венецианскому купцу подобная система казалась истинной благодатью. Быть может, так считали в то время и жители Китая, по крайней мере, большинство. И бойкое перо пизанца Рустикелло доносит до нас сквозь века хвалебную песнь, которую поет Марко Поло, превознося мудрость Хубилая: «Знайте же, что все купцы, что прибывают в Китай из Индии и других дальних стран, не смеют продавать золотые и серебряные изделия, драгоценные камни, жемчуга и дорогие меха никому, кроме самого великого хана. Для этой цели у него на службе состоят двенадцать сановников. Они знают цену всем товарам, они мудры и честны. Эти сановники покупают у торговцев товары и платят очень хорошую цену бумажными деньгами. И торговцы охотно берут то, что им предлагают, ибо нигде им не заплатили бы столько, а также потому, что плату они получают тотчас же и могут закупать новые товары, чтобы уже с ними отбыть в дальние страны. Купцы ничего не имеют против бумажных денег еще и потому, что они легки и очень удобны в дороге. И таким образом повелитель Китая покупает столько драгоценных вещей ежегодно, что сокровищница его полным-полна, а богатства — несметны. И все это благодаря бумажным деньгам, производство которых ему ничего не стоит, как я уже говорил. Много раз в году глашатаи великого хана отправляются на улицы города, бьют в барабаны и трубят в трубы, а затем объявляют, что тот, у кого имеются золото, серебро, драгоценные камни, жемчуга и меха, нес бы свой товар на монетный двор, где ему хорошо заплатят. И люди охотно отзываются на сей призыв, потому что знают, что не найдут никого, кто заплатит столько, сколько даст великий хан. Просто диву даешься, сколько ценнейших предметов приносят за день! И вот таким образом великий хан собирает у себя все сокровища, какие только есть в его владениях…» В огромной империи была отлично налаженная почтовая служба, работавшая с поразительной точностью. Все провинции страны пересекали великолепные дороги, лучами отходившие от столицы, и по этим дорогам то и дело во все концы летели посланцы и гонцы великого хана. Не стоит путать эти две категории государственных служащих, ибо у них были совершенно различные функции и занимали они на общественной лестнице весьма отличные друг от друга положения. Посланцы вовсе не были простыми почтальонами, доставлявшими ханские грамоты и депеши, как вы могли бы подумать. Нет, они были весьма высокопоставленными чиновниками, облаченными большой властью. Они отправлялись в провинции по повелению хана, чтобы передать местным властям его приказы и его личные послания. Иногда они выполняли специальные поручения повелителя и наделялись практически неограниченной властью. За время своего пребывания при дворе хана Хубилая Марко Поло не раз исполнял роль посланца. Совершая путешествия по Китаю, венецианец записывал все, что слышал и видел в пути. Обычно посланец покидал Ханбалык в большом экипаже, и его сопровождала многочисленная свита. Он имел при себе охранную грамоту от хана, которая давала ему права на проведение реквизиций, если таковые потребуются. На расстоянии в двадцать пять миль одна от другой на всех дорогах располагались почтовые станции — ямы. На каждой станции посланца ждал роскошный дворец с чудесными комнатами, с мягчайшими постелями, покрытыми шелковыми покрывалами. В таком дворце доверенное лицо хана находило все удобства, которые только мог бы пожелать путешествующий король. На всех почтовых станциях всегда стояли наготове от сотни до четырехсот превосходных лошадей. Марко Поло утверждал, что количество таких станций по всей стране достигало невообразимой по тем временам цифры в 10 тысяч, а лошадей на них держали около трех миллионов голов. Кроме больших почтовых станций на дорогах империи встречались еще специальные поселки, приблизительно в сорок домов, где обитали неутомимые скороходы, коим вменялось в обязанность носить послания великого хана. Поселки эти располагались в трех милях один от другого, а гонцы были бедными тружениками, от которых требовалось только одно: здоровые легкие и крепкие ноги. Вот что писал Марко Поло о гонцах: «… и исполняют они службу вот как: у них широкие пояса с колокольчиками, которые являются знаком их рода занятий и служат для того, чтобы издали слышно было, что они бегут. Получив послание, гонец бросается во весь дух к следующему поселку и бежит, не переводя дыхания, все три мили, чтобы отдать бумагу своим собратьям, которые уже выскочили из своих жилищ, заслышав звон колокольчиков. Чтобы сделать работу этой службы безупречной, в каждом поселке и на каждой почтовой станции имеется писарь, который отмечает прибытие и отбытие всех гонцов. Он дает каждому гонцу маленький клочок бумаги со своей подписью, и этот клочок бумаги должен подписать писарь со следующей станции. Столь строгий контроль исключает обман, но это требует наличия очень большого количества чиновников». Такой способ сообщения позволял преодолевать большие расстояния с невероятной скоростью. Так как скороходы бегали и днем и ночью, то им удавалось доставить послание за десять дней в такое место, куда простой путник добрался бы только через сто дней. Можно подумать, что такая служба должна была обходиться хану Хубилаю очень дорого, но вы бы ошиблись. Великий хан, умевший превращать в звонкую монету обыкновенную кору тутового дерева, поступал просто и не тратил денег попусту. Ханские же гонцы не получали жалованья, а довольствовались лишь освобождением от налогов. Лошадей же для подмены поставляли жители деревень, располагавшихся поблизости от почтовых станций, ибо такова была воля повелителя Китая. И кто бы посмел его ослушаться? Итак, все было очень просто и дешево… Конечно, то был произвол, но если бы император не мог позволить себе маленькие вольности по отношению к своим подданным, то зачем тогда вообще быть императором, хотя бы и китайским?! Воздадим, однако, должное благородству и милосердию хана Хубилая, а также его предшественников, ибо императоры Китая охотно приходили на помощь своим подданным, когда те становились жертвами каких-либо стихийных бедствий: наводнений, засухи, ураганов и ранних заморозков. Когда в стране случался неурожай, великий хан повелевал раздавать несчастным хлеб и зерно для посевов и не взимал с них ни налогов, ни оброка. Тем, кто в результате какого-либо бедствия или эпидемии потерял скот, он раздавал животных из своих бесчисленных стад и табунов, а также на несколько лет освобождал их от уплаты налогов. Следует сказать, что столь трогательная забота о своих подданных была в Китае очень древним обычаем, уходившим своими корнями в незапамятные времена. Этот обычай как бы проистекал из самого принципа государственного устройства Китая, где император считался «отцом народа», а императрица — «матерью». Отметим также, что хан Хубилай, желая предотвратить в стране голод (что было настоящим бичом божьим для простого народа в Средние века), по примеру своих предшественников собирал на складах всякое зерно, чтобы иметь возможность прийти на помощь своим подданным и поддержать их в течение нескольких лет. В случае надобности в голодные годы запасы из закромов продавались по очень низкой цене. Такая система существовала в Китае со времен правления династии Хань[197], то есть примерно с 200 года до Рождества Христова. Особые сановники пеклись о поддержании цены на зерно примерно на одном уровне, чтобы в голодные годы население не страдало, но и чтобы в годы, когда собирали богатый урожай, крестьяне не разорялись от резкого снижения цен. Среди обитателей городов тоже были свои несчастные и отверженные. В домах, тесно лепившихся один к другому на узких грязных улочках, царила нищета, быть может, даже более ужасная, чем в домах сельских жителей. Как утверждал Марко Поло, «великий хан приходил на помощь самым страждущим семьям. Такие семейства помещали (по 6–10 семейств) в специально предназначенные для сей цели дома, где их снабжали зерном и продовольствием. И так происходило из года в год. Все, кто хотел, могли явиться за милостыней ко двору императора, и там по приказу великого хана каждый бедняк получал горячий хлеб. И никому не бывало отказа, ибо так повелел великий хан. И каждый день ко двору приходило более тридцати тысяч человек, и все были сыты». Вот в таком виде во времена правления монгольской династии существовала общественная благотворительность. И надо сказать, что представители этой династии прославились в веках своим милосердием и постоянным стремлением смягчить страдания обездоленных. В 1260 году по городам и весям Китая был оглашен императорский указ, по которому все образованные люди, достигшие преклонного возраста, сироты, а также больные и не имевшие пристанища, словом, все те, кто по каким-либо причинам не имел возможности обеспечить свое пропитание, объявлялись «людьми небес» (как у нас бы сказали, «божьими людьми»). По указу всех несчастных, увечных и больных запрещалось укорять за то, что они оказались в столь жалком состоянии, что не могут себя прокормить, а напротив, повелевалось всячески им помогать. В китайских летописях приводится длиннейший список пожертвований хана в пользу бедных, там указываются даты раздач зерна во всех провинциях империи, а также его количество. Сопоставив все приведенные в хрониках цифры, можно сделать вывод, что Марко Поло, упомянув про тридцать тысяч человек, являвшихся ежедневно к императорскому дворцу за подаянием, поскромничал и немного уменьшил цифру вспомоществований. От зоркого глаза старательного наблюдателя не ускользала ни одна, даже самая незначительная деталь повседневной жизни Китая. Три вещи несказанно удивили его и привели в истинный восторг: рисовая водка, горючие камни и маленькая тележка с парусом. «Знайте же, — писал Марко Поло, — что большинство жителей Катая[198] пьет особое вино, о котором я вам сейчас расскажу. Они приготовляют его из риса с добавлением различных пряностей, и получается вино такое доброе, что лучше любых других, ибо оно очень вкусное, светлое, прозрачное и приятное на вид. И вино это опьяняет гораздо быстрее и сильнее прочих, ибо его пьют очень горячим». В сущности, то, что Марко Поло называет вином, является рисовой водкой, полученной в результате брожения зерна, и этим традиционным напитком китайцы склонны злоупотреблять и в наше время. «По всей провинции Катай, — продолжал путешественник-венецианец, — находят особые черные камни. Добывают их из гор, как железную руду, и они горят, как дрова! Да нет, они даже лучше дров, так как горят дольше, ибо если вы разожжете очаг на ночь и положите туда такой камень, то и утром у вас еще будет гореть огонь. И камни эти столь хороши, что население употребляет только их, хотя дров здесь предостаточно. Но люди не хотят ими пользоваться, так как камни дешевле и горят лучше, да и жару дают больше». Судя по тому, что рассказывает о загадочном топливе Марко Поло, можно было бы подумать, что речь идет о каком-то веществе, которое употребляют только в Китае, в этой удивительной стране, где на каждом шагу путешественника поджидают всякие загадки и сюрпризы. Но разумеется, это не так, ибо «камни, которые горят, как дрова», на самом деле не что иное, как уголь, обыкновенный бурый уголь, употреблявшийся на протяжении более двух тысяч лет в Китае как самое удобное для отопления дома топливо. Настоящим открытием для достойного венецианца явилось существование в Китае обычной тачки, к которой какой-то хитроумный умелец приделал парус. Однажды Марко Поло повстречал на дороге человека, толкавшего впереди себя небольшую тележку из бамбука, с одним колесом впереди и с двумя длинными ручками. Тележка была нагружена доверху, но катилась очень быстро, так что ее хозяин едва поспевал за ней, а все благодаря тому, что мастер прибег к хитрой уловке, установив впереди, над колесом, мачту с парусом. Ветер надувал парус и нес вперед все это интересное устройство. Марко Поло восхитился умом того, кто все это выдумал, и назвал сие изобретение изумительным. Вы, читатель, легко догадаетесь, что речь шла об обычной тачке, изобретение которой ошибочно приписывают Паскалю[199], хотя сие устройство было известно во Франции еще в XIV веке. Конечно, венецианский купец XIII века мог ничего не знать о таком способе транспортировки грузов, так как был родом из города, где единственным средством передвижения была гондола. От всех прочих тачек на свете китайская и по сей день отличается тем, что подданные Поднебесной империи снабжают ее парусом для того, чтобы увеличить грузоподъемность и скорость. Можно было бы еще долго цитировать Марко Поло, так как ничто не ускользало от внимательного взора венецианца, но надо и честь знать. Пора заканчивать повествование об одном из самых замечательных странствий в истории человечества. Покинув Ханбалык, Марко Поло отправился сначала в Синганфу[200], где правил один из сыновей Хубилая, а затем проследовал дальше, в Тибет. И вот через двадцать три дня он достиг огромной равнины Акбалек[201], по которой можно было добраться до города Чэнду, столицы провинции Сычуань. Но Тибет в те времена представлял собой пустыню, так как незадолго до того был захвачен и разорен монголами. Покинув Тибет, Марко Поло отправился в провинцию Гаинду[202], расположенную по границе с Тибетом;[203] потом перебрался в провинцию Каражан;[204] потом посетил провинцию Сардандан[205], где жители именовали себя «кинчи», что означает «золотозубые», ибо у них существовал обычай покрывать зубы тончайшими пластинками золота[206]. Затем Марко Поло посетил «царство Мьен»[207], где находился большой базар, куда стекались торговцы, желавшие обменять либо золото на бумажные деньги, либо — наоборот. Покинув эту провинцию, совсем недавно подпавшую под власть Хубилая в результате кровопролитной войны, Марко Поло добрался до Бангалы, как тогда именовали Бенгалию, еще не захваченную тогда великим ханом, после чего посетил провинцию Кангигу[208], королевство Аннам, которое он называет Анью, провинции Толоман[209], Кунгун[210], Качанфу[211]. Пора было возвращаться к хану Хубилаю, и Марко Поло повернул назад. Сначала он ехал по знакомой дороге, а затем свернул в сторону и посетил провинцию Шаньдун, где пришел в изумление при виде полноводной реки Хуанхэ, именуемой еще Желтой рекой. Через некоторое время Марко Поло вновь отправился с поручением от хана на юг Китая. Около трех лет он пробыл губернатором в городе Ючжоу[212]. Посвятив многие страницы своей книги описаниям китайских провинций и рассказу о неудачном походе Хубилая против японцев, Марко Поло перешел к описанию Индии. Он повествует о своем путешествии в страну Сьямба[213], на большой остров Яву, на острова Сандур и Кондур[214], на остров Сукат (вероятно, Борнео[215]), в королевство Молайур, которое он называет Молиуром, располагавшееся на западном побережье Малаккского полуострова, в шесть царств на острове Суматра, который он называет Малой Явой. Довольно подробно знаменитый венецианец описывает острова Некуран и Гавениспола, в наши дни носящие название Никобарских, остров Андагуанез, упоминаемый им как Ангаманяй[216], и наконец — Цейлон. Потом Марко Поло переправился на Коромандельский берег полуострова Индостан, который он, вслед за арабскими историками и путешественниками, называет Малабаром[217]. Покинув Индию, Марко Поло направил свой корабль к Мадагаскару и оказался, вероятно, первым европейцем, отметившим наличие сильных течений в Мозамбикском проливе. Затем он достиг Занзибара, а потом благополучно добрался до Абиссинии, откуда вместе с отцом и дядей, не расстававшимися с ним, прибыл в Венецию. На родине они не были двадцать шесть лет, семнадцать из которых провели у Хубилай-хана. Не без труда и не без долгих уговоров согласился великий хан отпустить своих обожаемых латинян домой. Но венецианские купцы так стосковались по родине, так долго просили Хубилая позволить им уехать и были столь настойчивы, что в конце концов Хубилай согласился. Он буквально засыпал их дарами и вручил послания, адресованные папе, королю Франции, королю Англии и прочим монархам христианского мира. Он приказал снарядить флот из тринадцати кораблей, на которых и пустились в путь венецианцы и несколько высокопоставленных сановников, сопровождавших юную принцессу, дочь Хубилая. Все дело было в том, что ей предстояло выйти замуж за Аргуна, левантийского принца, который в то время правил в Персии[218]. Вернувшись в родной город[219] после двадцатишестилетнего отсутствия, три путешественника не нашли там радушного приема. Все эти годы они провели среди азиатов, переняли их манеры, язык, одежду, а потому трех представителей семейства Поло не признали поначалу даже самые близкие родственники и друзья. Да и то сказать, Марко Поло покинул Венецию в пятнадцатилетнем возрасте, безусым юнцом, а возвратился зрелым сорокалетним мужчиной! С огромным трудом путешественникам удалось убедить всех окружающих в том, что они и есть те самые Никколо, Маттео и Марко, которых в городе давно уже считали погибшими, причем с наибольшим недоверием отнеслись к ним их же родственники, обосновавшиеся в особняке семейства Поло. Какое-то время путешественников не пускали на порог родного дома, потому что по одеянию они походили на татар, а речь их была столь невнятной, что было трудно что-либо разобрать, так как за долгие годы они почти забыли родной язык и говорили с ужасным акцентом, все время вставляя какие-то «варварские», по понятию венецианцев, слова. Но путешественники очень быстро вспомнили европейские обычаи и манеры, и вскоре уже все представители самых богатых и знатных семейств Венеции искали их дружбы, так как по городу прошел слух, что эти люди, вернувшиеся с другого конца света и выглядевшие столь странно, принесли под своими грубыми варварскими одеждами несметные сокровища, в том числе и огромное количество драгоценных камней, которые были зашиты в складках их халатов. Вступив вновь во владение семейным особняком, путешественники выставили на всеобщее обозрение огромное количество всяких ценных вещиц, привезенных ими из Азии и до той поры почти неизвестных европейцам, что вызывало неподдельный восторг гостей. В результате жилище семейства Поло стали называть «дворцом миллионеров», а самого Марко Поло — Марко Миллион. Вскоре после возвращения Марко Поло в Венецию генуэзский флот под командованием Лампи Дориа появился у острова Куддзоло[220], у берегов Далмации, и стал угрожать торговым связям венецианцев. Жители Венеции, разумеется, не остались равнодушными и снарядили флот из многих кораблей. Марко Поло за свои деньги снарядил галеру и сам же стал командовать кораблем. Он участвовал в морском сражении при Лайосе, но венецианский флот был разбит, а сам знаменитый путешественник попал в плен; его увезли в Геную, где он провел в заключении около шести лет. В 1298 году, устав излагать всем встречным историю своих странствий и желая, чтобы с ней ознакомилось как можно большее количество людей, он и принялся диктовать свои воспоминания пизанцу Рустикелло, с которым судьба свела его в генуэзской тюрьме. Когда Марко Поло отправился сразиться с генуэзцами, оставшиеся дома Никколо и Маттео Поло задумали его выгодно женить по возвращении с «поля битвы». И каково же было их разочарование, когда в результате его пленения столь замечательный план рухнул! Братья Поло предприняли много попыток освободить Марко из заточения. Они предлагали генуэзцам богатый выкуп, но всякий раз что-то мешало освобождению их сына и племянника. Опасаясь, что он не выдержит столь суровых испытаний и умрет в тюрьме, не оставив наследника, братья, желавшие непременно передать свое огромное состояние только прямому наследнику, порешили, что Никколо, уже достигший весьма почтенного возраста, но обладавший завидным здоровьем, женится вторично. Через четыре года после того, как Никколо Поло вступил во второй брак, Марко Поло, приобретший всеевропейскую известность благодаря своей книге, был отпущен на свободу безо всякого выкупа, так как за него хлопотали многие уважаемые жители Генуи. Марко Поло вернулся в Венецию и нашел в отцовском доме трех маленьких братьев, родившихся во время его пребывания в тюрьме. Он был хорошим, почтительным сыном и мудрым человеком, а потому жил со своими новыми родственниками в полнейшем согласии. Вскоре он и сам женился. Сыновей у негоне было, а было только две дочери. Марко Поло стал весьма именитым гражданином Венеции и был избран членом Большого Совета. Жил он довольно долго и умер в 1324 году. В своем завещании, написанном на латыни и датированном 9 января 1323 года, Марко Поло упоминал привезенного из Китая слугу-татарина, которому он давал после смерти свободу и некоторую сумму денег. Так закончил свои дни на родной земле, окруженный почетом и уважением, один из самых знаменитых путешественников в истории человечества.
ИБН БАТТУТА
Марокканец Ибн Баттута хотя и гораздо менее известен, чем Марко Поло, все же считается замечательным путешественником, и он достоин того, чтобы его имя не предавали забвению, как это происходит сейчас. Практически мы ничего не знаем о его детстве и юности. Сжигаемый жаждой увидеть мир, Ибн Баттута отправился в 1324 году в путешествие, которое закончилось только спустя двадцать восемь лет. Посетив Тир и Дамаск, Ибн Баттута направился в Мекку, чтобы совершить паломничество, как и положено всякому правоверному мусульманину. Он оставил очень интересные воспоминания о нравах и обычаях жителей этого священного города. Ибн Баттута последовал примеру других верующих и коснулся губами знаменитого черного камня. Вот что он пишет о своих ощущениях: «Поцеловав сие чудо света, каждый испытывает невероятное удовольствие, которому радуются уста. И каждый, кто хотя бы раз поцеловал святыню, хотел бы целовать ее бесконечно. На него нисходит благодать, что свидетельствует о том, что Аллах благоволит к нему». Мекка к тому времени, когда ее посетил Ибн Баттута, превратилась в богатый, цветущий город, многонаселенный и красивый. Некоторые города Сирии, Аравии и Персии желали поспорить с Меккой в богатстве и даже в святости, чтобы привлечь к своим стенам такое же значительное число паломников. Одним из таких городов был Мешхед в Хорасане[221]. Ибн Баттута пересек Аравийский полуостров, проехал берегом Персидского залива, посетил западную окраину Персии и Месопотамию. Он осмотрел Басру, бывшую в те времена важным портом, и Багдад. К сожалению, в Багдаде взору путешественника предстали лишь безжизненные развалины, ибо город был разграблен и разрушен монголами (по свидетельству арабских хронистов, захватчики истребили около 700 000 жителей). Из Месопотамии Ибн Баттута направился в Малую Азию, находившуюся под властью турок. Если монголы, недавно покинувшие свои бескрайние степи, еще и сохранили обычаи, свойственные кочевым народам, а также жесткую военную организацию, то турки цивилизовались на свой манер. Удобно устроившись в замках и дворцах, турки эксплуатировали порабощенные народы, кормились и обогащались за счет налогов, взимаемых с людей, работавших не покладая рук. Кстати, с тех времен мало что изменилось, и современные турецкие паши весьма успешно следуют примеру своих достойных предков. Представляясь султанам, правившим в Малой Азии, в качестве знатного и богатого путешественника, Ибн Баттута рассказывал им о своих странствиях и умело разгонял невыносимую скуку, царившую во дворцах, чем несказанно радовал хозяев. Они дарили ему роскошные подарки, с тем чтобы он везде прославлял их щедрость. Посетив Смирну[222], Бурсу и все большие города полуострова, хитроумный марокканец оказался обладателем крупной суммы денег, а также немалого числа рабов, верблюдов и породистых лошадей. В Синопе Ибн Баттута сел на корабль, который доставил его к берегам Крыма. Он посетил Керчь и Кафу[223], а затем углубился в южнорусские степи, захваченные монголами. Эти кочевники, перемещавшиеся по бескрайним просторам в поисках новых пастбищ для своих бесчисленных табунов, везли за собой в повозках своих жен и детей. Более того, они везли с собой целый город, и тысячи и тысячи дымков, взвивавшихся над повозками и шатрами, смешивались с клубами пыли, поднимавшимися из-под копыт лошадей. Узнав о том, что одна из жен хана собирается отправиться в Константинополь к своему отцу императору, Ибн Баттута решил воспользоваться этим случаем, чтобы посетить прославленный город, и попросил разрешения присоединиться к свите ханши. В качестве путешественника, посетившего когда-то Иерусалим, Ибн Баттута был очень хорошо принят в Константинополе. Император проникся к нему таким уважением, что даже дал ему в проводники по столице офицера. Неутомимый Ибн Баттута вернулся вместе с ханшей, пересек юг России, а затем направился в Туркестан, обширную область между Каспийским морем и Центральным азиатским плато. Посреди выжженных пустынь там встречались цветущие оазисы, где располагались большие города. Первым городом, который увидел Ибн Баттута, была Хива; ему показалось, что это самый большой и богатый город тюрков. Все города Туркестана в то время были разрушены монголами, но все же, как отмечал путешественник-араб, «Самарканд оставался одним из самых прекрасных городов мира». Разумеется, эта оценка — даже для времени расцвета восточных цивилизаций — была несколько преувеличенной. Из Туркестана он двинулся в Герат, разоренный постоянными набегами банд разбойников. Оттуда он собирался на полуостров Индостан, чтобы попытаться составить там себе состояние, когда вдруг узнал, что мусульманский император Дели призывает к себе иностранцев и раздает им должности и деньги. Ибн Баттута поторопился преодолеть Гиндукуш, отделявший его от бассейна Синда[224]. Он проехал через Газни, бывший еще совсем недавно цветущим городом, а теперь полностью опустошенный. В этом горном районе, как и теперь, обитали афганцы. Не встретив на своем пути ни единого человека, Ибн Баттута, спустившись по восточному склону горного хребта, оказался в широкой долине Синда, по которой он и проехал до самой дельты, недалеко от нее обширная равнина с раскиданными по ней развалинами свидетельствовала о существовавшем там городе, разрушенном, как ему сказали, больше тысячи лет назад; принадлежность этих руин нельзя уже было определить. Наконец марокканский путешественник прибыл в столицу империи — Дели. Все смешалось в этом прекрасном городе: тирания и анархия, рачительное управление и бесхозяйственность, богатство и жуткая нищета, тяжкий гнет и постоянные восстания. Непокорным рубили головы, с них живьем сдирали кожу, их превращали в пыль. Когда кого-нибудь приговаривали к смерти на перевязи, задача палача состояла в том, чтобы разрубить осужденного одним ударом наискось, от правого плеча до левого бедра. Иногда приговоренного к смерти пронзали насквозь копьем, и несчастный оставался в таком положении до тех пор, пока не испускал дух. В Дели существовали специально выдрессированные для убийства слоны, и они протыкали свои жертвы острыми бивнями с надетыми на них железными наконечниками или топтали их ногами. Что касается людей знатного происхождения, то с них сдирали кожу, а затем набивали ее соломой и таскали по улицам для устрашения других. Однако если в город попадал иностранец, его сразу же признавали знаменитостью, оплачивали его расходы и назначали на любую должность, какую он только мог пожелать. Хотя Ибн Баттута не знал местного языка, он тотчас же по приезде был назначен главным судьей столицы, в задачу которого входил также надзор за кладбищенским святилищем. Да, поведение правителя Дели отличалось совершенно неслыханной и ничем не объяснимой непоследовательностью, но таковы были царившие в этом городе нравы. Ибн Баттута все больше входил в милость, и в конце концов он был назначен послом в Пекин, куда неутомимый путешественник направился морем, на двух кораблях. Но судно, на котором находился он сам, попало в сильный шторм и затонуло. Ибн Баттута сумел-таки выбраться на берег, но второй корабль, где находились его жены, рабы и имущество, прошел мимо, не обращая внимания на отчаянные крики и сигналы путешественника. Ибн Баттута потерял все свое состояние. Но ему и в голову не пришло возвратиться в Дели. Он отправился на Мальдивские острова. Этот архипелаг, состоящий из великого множества мелких островков, расположен неподалеку от полуострова Индостан. Баттута объехал почти две тысячи островов и рифов и сделал вывод, что вместе они образуют нечто вроде кольца. Островитяне очень хорошо принимали там чужеземцев, но потом ни за что не соглашались отпустить, а хотели заставить их навечно остаться на островах. По преданию, в давние времена тибетцы заманивали путешественников и поедали их для того, чтобы приобрести их ум и знания. Обитатели Мальдивских островов, напротив, были приветливы и добры. Ибн Баттута был назначен на должность судьи и в этом качестве попытался исправить нравы островитян. Его подручные бегали по городу и награждали ударами палок тех нерадивых граждан, что опаздывали на молитву в мечети. Характер Ибн Баттуты был властный, необузданный, поэтому он очень скоро поссорился с одним из самых значительных и влиятельных жителей острова и был вынужден покинуть Мальдивы. После этого Ибн Баттута посетил остров Цейлон, но у берегов этого замечательного острова марокканца дочиста ограбили пираты. Без гроша в кармане он добрался до города Каликут, а уж оттуда — в Бенгалию, на Малаккский полуостров, Суматру и Яву. Во время своих странствий Ибн Баттута много слышал о невероятных чудесах, которые любознательный человек мог увидеть в Китае. Он горел желанием увидеть эту замечательную страну, а потому сел в китайскую джонку, стоявшую у берегов Явы. Хотя Ибн Баттута не довез до китайского императора дары правителя Дели по не зависящим от него причинам, он очень боялся, что с него живьем сдерут шкуру, так хорошо ему были известны обычаи жестоких властителей Востока. И все же он предстал перед императором в качестве посла и рассказал о своих многочисленных злоключениях. Император Поднебесной принял Ибн Баттуту просто великолепно. Он осыпал его щедрыми дарами и дал хорошую должность при дворе. Но, видимо, в книге судеб было написано, что счастье должно покидать Ибн Баттуту всякий раз, когда ему покажется, что он наконец-то крепко его держит. Только-только дела Ибн Баттуты пошли на лад благодаря милости императора, как в Китае вспыхнуло восстание, и несчастный путешественник опять лишился всего состояния и был вынужден покинуть территорию этой страны. Ибн Баттута принял решение вернуться в Марокко и написать там книгу о своих невероятных приключениях. Он снова увидел Суматру, Каликут, Персидский залив, второй раз посетил Персию, пересек Сирию и наконец увидел родину. Великий любитель приключений, человек честный, открытый, чрезвычайно проницательный и справедливый, Ибн Баттута внес достойный вклад в историю исследования земли, хотя путешествовал он отнюдь не бескорыстно, а с намерением разбогатеть.
ИЕЗУИТЫ В КИТАЕ
После Марко Поло первыми путешественниками, которые исследовали Китай с научной точки зрения и собрали ценнейшие сведения об этой стране, были миссионеры, принадлежавшие к ордену иезуитов. И первую попытку проникнуть в Поднебесную империю они совершили всего лишь через шестнадцать лет после того, как Игнасио Лойола основал сей знаменитый орден. Один из верных последователей и соратников Лойолы, отважный и благородный брат Франсиско-Ксавьер, собирался отправиться в Китай в 1552 году, но неожиданно скончался, сраженный тяжелым недугом. К тому времени на его счету уже было много всяких славных дел, например, его заслугой следует считать и то, что его стараниями Священное писание стало известно в Японии, где у христианского вероучения появилось много последователей. Однако братья-иезуиты не захотели предать забвению мечту Франсиско-Ксавьера: принести свет Евангелия и в Китай. Они рьяно взялись за многотрудное дело, ибо империя оставалась закрытой для европейцев, еще одним доказательством чего явился отказ китайцев установить торговые связи с Португалией, несмотря на то, что сие предприятие сулило им немалую выгоду. Итак, надежда проникнуть в Китай еле теплилась в сердцах иезуитов, когда на помощь пришел его величество случай, и ситуация резко изменилась. А произошло вот что. Какой-то главарь пиратов захватил город Макао[225], находившийся в то время под властью китайского императора. Португальцы тотчас же жестоко наказали разбойников и сами захватили Макао, а затем вступили в переговоры с властями Китая. Вскоре между двумя странами было заключено соглашение, по которому Португалия не только получала право оккупировать Макао, но и привилегию вести торговлю через порт Кантон[226]. Итак, Китай был официально открыт для португальцев, и иезуиты не замедлили воспользоваться сим благоприятным обстоятельством. В Макао тотчас же была открыта миссия, откуда миссионеры отправились дальше, в Кантон. Первые попытки обратить китайцев в христианскую веру оказались неудачными, ибо здесь европейцы спасовали перед давно установившимся и тщательно поддерживаемым порядком вещей. Однако один из миссионеров, некий отец Риччи, человек образованный и умный, нашел способ снискать доверие и уважение как властей, так и простого народа, познакомив китайцев с достижениями европейской науки. В течение нескольких лет преподобный Риччи ревностно проповедовал, но не преуспел в деле обращения китайцев в христианство. Он понял, что все его усилия тщетны, ибо представителям желтой расы присуща чрезмерная гордыня и они считают, что во всем превосходят чужеземцев. Тогда он решил завоевать их доверие и заслужить уважение при помощи своих обширных познаний в математике, астрономии и географии. Он нарисовал карту полушарий, поместив в центр мироздания Поднебесную империю, что должно было польстить национальной гордости китайцев (нам такая проекция показалась бы по меньшей мере странной). Преподобный Риччи перевел на китайский язык первые книги Евклида, в том числе и его «Геометрию», изложение научных трактатов Цицерона. Усилия миссионера не пропали даром: к нему потянулись мандарины, сам император разрешил построить церковь. Высокопоставленные сановники вручили Риччи указ, по которому отныне ему разрешалось читать проповеди и совершать богослужения. Заслуга отца Риччи очень велика, ибо он открыл китайцам мир европейской науки и литературы, а европейцам — торговый путь в Поднебесную империю. Один из наследников дела Риччи, преподобный Мартини, человек умный и тонкий, прошедший по следам своего достойного предшественника и во всем следовавший его примеру, опубликовал в 1649 году «Atlas Sinensis»[227], который явился первым полным описанием всей великой империи, и подробную историю Китая с древнейших времен. Труды эти вызвали большой интерес в обществе того времени. К сожалению, методы, к которым прибегали иезуиты в Китае, не нашли одобрения у доминиканцев. Они обвинили иезуитов в невежестве и даже в богохульстве, так как те позволяли новообращенным некоторые вольности при отправлениях религиозных обрядов. Споры продолжились перед папой, который направил в Китай своего легата[228], чтобы тот во всем разобрался. Однако правители Китая, всегда относившиеся с великой ревностью ко всему, что касалось их прав, были на сей раз очень недовольны вмешательством чужеземцев во внутренние дела Китая и воспользовались удобным случаем для того, чтобы избавиться от назойливых гостей: пекинский епископ вскоре был заключен в тюрьму, а затем все иезуиты и все доминиканцы были изгнаны из страны. Правительство Китая вновь вернулось к своей старой политике по отношению к иностранцам: стало чинить им всяческие препятствия даже в торговых делах и относиться к ним с величайшим недоверием. Впрочем, иезуиты покинули Китай ненадолго. Когда на смену правителям из династии Мин пришли выходцы из Маньчжурии[229], святые отцы вернулись. Продолжатели дела преподобного Риччи трудились на ниве просвещения с тем же умом и тактом, что и он. Поэтому новые власти, оценив по достоинству знания монахов, охотно привлекали их к ведению астрономических наблюдений и к редактированию календарей. По свидетельству одного из авторов «Назидательных писем», «… в Китае существовал обычай каждый год создавать новый календарь, как в Европе создают различные ежегодные альманахи. И это почиталось делом государственной важности, так что в создании календаря принимали участие люди, имевшие наибольший авторитет в обществе, и даже сам император не пренебрегал этой работой». С незапамятных времен китайцам было свойственно обожествлять небесные тела вместо того, чтобы по-настоящему изучать их с научной точки зрения. Когда случалось солнечное затмение, китайцы даже в XVIII веке принимались возносить молитвы некоему божеству, называемому Пуссах и отождествляемому с одной из звезд, чтобы огромная жаба, обитающая на небесах, не проглотила солнце. Император Канси, второй представитель маньчжурской династии[230], заявлял во всеуслышание, что только европейцы разбираются в астрономии и что китайцы — просто дети по сравнению с ними. Таким образом, иезуиты, чрезвычайно сведущие в сей области знаний, были в большом почете при дворе. На одного из святых отцов даже была возложена обязанность председательствовать на заседаниях большого совета по «небесным делам». После прибытия французских миссионеров влияние иезуитов достигло наивысшей точки. Они были в необычайном почете, ибо действовали столь же мудро, как и преподобный Риччи. Они тщательно отбирали среди китайцев людей выдающихся, обучали их математике, астрономии, физике, другим естественным наукам и расставались с ними только тогда, когда убеждались, что их подопечные приобрели обширные познания. Как вы, наверное, помните, фаворит короля Сиама Пхра-Нарая грек Констанс Фолкон обратился в 1685 году к Людовику XIV с просьбой прислать в Сиам посла и солдат. Вместе с послом туда прибыли и шесть иезуитов, собиравшихся проследовать далее, в Китай. Они провели в Сиаме два года, но кровавые события, связанные с загадочной смертью Пхра-Нарая и трагической гибелью его фаворита, положили конец надеждам на распространение влияния французов на Сиам; иезуиты сели на корабль и отправились в Кантон. Они едва не погибли в открытом море во время сильного шторма, но все же высадились целыми и невредимыми на побережье Поднебесной империи, где и нашли просвещенного покровителя в лице императора Канси. Святые отцы много и славно трудились на поприще просвещения, так что их имена не должны быть преданы забвению теми, кому дороги культура и прогресс. Имена преподобных Леконта, Буве, Фонтане, Гамбиля и Жербийона навсегда останутся на страницах истории. Следует сказать, что отца Гамбиля и два века спустя считают самым авторитетным синологом[231]. Французские иезуиты были возведены императором Китая в ранг мандаринов, что было, по понятиям китайцев, неслыханной честью. Они занимались научными исследованиями, исполняли при дворе обязанности переводчиков, руководили образованием юных представителей маньчжурской династии, преподавали в основанном ими Коллеже молодых маньчжуров, а также составляли подробную карту Поднебесной империи. Они часто виделись с императором и подолгу беседовали с ним, сообщая ему немало ценных сведений. Французы сумели оказать китайскому правителю множество услуг и проявили себя настолько полезными, что преемники Канси тоже пожелали иметь при своем дворе иезуитов в качестве часовщиков, художников, механиков и так далее. Китайские императоры заказывали в Европе карманные и настенные часы, оптические инструменты, подзорные трубы и телескопы, физические приборы, пневматические и электрические машины, при помощи которых иезуиты демонстрировали на занятиях различные опыты. Миссионеры собрали множество ценнейших сведений о Китае. Особые заслуги перед наукой имеют те иезуиты, что прибыли в Китай в 1685 году; они собрали огромное количество исторических и этнографических материалов, а также сделали достоянием европейцев ценнейшие сведения по географии Центральной Азии. Когда в середине XVIII века орден иезуитов был упразднен, французская миссия в Китае постепенно обезлюдела, так как не было притока новых кадров. Но китайский император столь высоко ценил заслуги иностранцев, что в 1778 году довел до сведения всех европейцев, обосновавшихся в Кантоне, что он принял решение призвать в Китай художников и ученых, в особенности астрономов, из разных стран. Император обещал всем, кто пожелает прибыть к его двору, сан мандарина и многочисленные привилегии. Призыв императора был услышан, и в 1784 году в Китае появились миссионеры-лазариты[232]. Они представились императору в качестве математиков, художников и тотчас же получили богатые подарки и разрешение заниматься своим делом. Иезуиты пользовались благосклонностью китайских правителей более полутора веков и сумели добиться многих привилегий. В те времена в Китае существовала поразительная веротерпимость. Высшие слои общества исповедовали учение Конфуция, в котором не было строгих религиозных догм, кроме предписания с особым почтением относиться к умершим предкам. Простолюдины же поклонялись древним божествам, в которых верили многие поколения китайцев задолго до того, как возникло учение Конфуция. Одновременно с расширением влияния католицизма ширилось и влияние буддизма. В 1691 году император издал указ, имевший большой резонанс в обществе. По этому указу христианство признавалось одной из государственных религий. Император приказал построить прямо в своем дворце церковь для набожных европейских ученых, и вскоре в Пекине уже был возведен настоящий собор. За короткий срок число новообращенных достигло четырех тысяч, причем эта цифра была, наверное, далеко не точной. Иезуиты оказались очень умными и тонкими политиками. Они понимали, что не добьются ничего, если будут действовать прямо, в лоб, и станут пытаться бороться с верованиями, существовавшими в Китае на протяжении многих веков. Они сознавали, что вина людей, поклонявшихся древним божествам, заключалась лишь в том, что их верования отличались от верований европейцев. Иезуиты вели себя тихо и скромно, они демонстрировали большую веротерпимость и умеренность, и у них становилось все больше приверженцев. Именно вследствие столь разумного поведения количество новообращенных было очень велико. И это среди китайцев, которые из всех народов отличались наибольшим равнодушием к вопросам религии. Однако вслед за иезуитами в Китай проникли и представители других религиозных братств Европы: доминиканцы, августинцы, якобинцы[233], лазариты и монахи всякого рода из Испании и Португалии. Глядя на деяния иезуитов, они уже давно испытывали жгучую зависть, а потому торопились, вели себя неразумно и даже глупо, проявляли ужасающую нетерпимость и всячески поносили иезуитов, обвиняя их в невежестве, а зачастую и в пособничестве дьяволу. Разумеется, все эти скандалы, сплетни, заговоры и дрязги могли только повредить делу распространения христианской веры в Китае. Клеветники действовали нагло и напористо. Они даже достигли некоторых успехов. Так, в результате наговоров замечательная книга иезуита отца Леконта, в которой он оправдывал действия своих собратьев и восхвалял конфуцианскую мораль, была торжественно приговорена парижским судом к сожжению, и палач совершил казнь на Гревской площади[234]. Все эти доминиканцы, августинцы и лазариты рыскали по всем провинциям огромной империи как одержимые. Они пытались внушить бедным и темным простолюдинам пагубные мысли о несправедливости общественного порядка в их стране. К тому же они утверждали, что столь чтимые в Китае древние божества есть не что иное, как порождение дьявола. Правительство Китая забеспокоилось, как бы в народе не вспыхнули беспорядки. Во все концы страны из Пекина отправились мандарины. Они провели многочисленные дознания, а затем прислали императору донесения обо всем увиденном и услышанном. Прочитав эти донесения, составленные самыми образованными людьми, мы поймем, каково было в те времена положение европейцев в Китае. Вот отрывок одного из них: «В этой провинции всего восемнадцать христианских храмов. Те, что были построены недавно, очень высоки и просторны. Старые же храмы были не так давно отремонтированы. Чтобы возвести столь величественные здания, потребовались огромные суммы денег, и деньги эти были взяты у народа. Бедные простолюдины, столь скупые, когда речь идет о расходах на иные нужды, не жалеют денег на храмы, хотя те не приносят им никакой пользы, а лишь вред. Они закладывают свои дома и продают имущество. А что всего ужаснее, они не воздают почестей умершим! Нисколько не опасаясь того, что им самим никто не будет воздавать почести после смерти, эти несчастные соглашаются оставаться бездетными. Не имеем ли мы дело с очень вредной сектой, которая совращает простых людей, разрушает семьи и ухудшает нравы?» Вопрос был столь важным, что занимал умы представителей всех слоев китайского общества. В конце концов дело было передано на рассмотрение совета по ритуалам. После длительных дебатов этот высший суд вынес следующее решение относительно всех служителей христианской церкви: арестовать и выслать! Если опустить многочисленные преамбулы, которыми изобилуют все юридические решения в Китае, смысл вердикта был таков: «Европейцы, находящиеся при дворе, оказывают ценные услуги по составлению календарей. Они бывают полезны также и в некоторых других случаях. Те же, что находятся в провинциях, не приносят никакой пользы. Они завлекают в свою веру темных, необразованных людей. Они возводят храмы, где собираются все вместе, без различия пола, под тем предлогом, что возносят там молитвы своему богу. Они не приносят империи никакой пользы. А потому надо оставить при дворе тех, кто оказывает императору услуги, а также прислать из провинций тех, кто может быть полезен. Что касается всех прочих, то их надо отправить в Макао». После того как суд вынес такое решение, император издал указ: выслать за пределы страны «всех чужеземцев-фанатиков, которые нарушают законы, призывают к бунту против социальных установлений общества, вносят смятение в умы простолюдинов, оскорбляют национальные чувства и пренебрегают приличиями». Однако некоторые миссионеры в провинциях заупрямились и осмелились ослушаться императорского указа. Правительство прибегло к жестоким репрессиям: некоторых поймали и обезглавили. В Пекине же иезуиты продолжали без помех делать свое дело, хотя в провинции католицизм был строжайше запрещен. Они были очень осторожны и осмотрительны, с великим тщанием соблюдали все законы и следовали всем указаниям правительства, а также продолжали оказывать властям ценные услуги, а потому сохранили благорасположение императора. Однако из чувства христианского долга иезуиты были вынуждены предпринять какие-то меры, чтобы вступиться за своих собратьев по вере, и они обратились с прошением к императору. Он принял их очень милостиво и разрешил им и далее оставаться в Пекине и Кантоне, но только в том случае, если они будут строго подчиняться его указам. Вот что он сказал: «Я хочу быть единственным хозяином в моей империи, и горе тем, кто явится сюда, чтобы вносить смятение в умы моих подданных, призывать к бунту и учить пренебрегать культом умерших предков. Когда Сей Матеу (так по-китайски звали преподобного Риччи) прибыл в Китай, он был совсем один. В первые годы вас было мало, у вас не было последователей и храмов в провинции. Но теперь в Китае много христиан, вы обратили людей в свою веру, и они признают только вашу власть и ваше слово. В годину потрясений, народных восстаний или голода они станут слушать только вас… А что же будет с нами, если вы обратите в христианство всех наших подданных? А как приняли бы у вас на родине китайских бонз и лам, если бы я послал их проповедовать нашу веру? Так знайте: я не желаю ничего слышать о миссионерах в провинциях! Их там быть не должно! Но я согласен позволить вам оставаться в Пекине. Моей единственной заботой является хорошее и разумное управление империей, поддержание в ней должного порядка и предотвращение, а при необходимости и подавление восстаний!» Миссионеры не торопились отвечать покорностью на предъявленный ультиматум. На свой страх и риск они оставались в самых отдаленных провинциях, но стали более осторожны и действовали уже не с прежним глупым рвением, породившим столько бед. Император же был столь великодушен, что закрыл глаза на их существование, позволив им прозябать в безвестности в глухих уголках страны и изредка обращать в свою веру китайцев. Несмотря на жестокие преследования, христианские священнослужители сумели удержаться в Корее, стране, находившейся в некоторой, правда весьма условной, зависимости от Китая. Им даже удалось обратить в католическую веру довольно большое число корейцев, но все их попытки открыть страну для европейцев окончились неудачей. Миссионеры попытались проникнуть на остров Формоза[235], обширнейшее владение китайских императоров, длиной в 100 и шириной в 30 лье. Очень долгое время европейцы ничего не знали о его существовании. До 1637 года в Европе не было никаких документов, где бы упоминалась эта земля. Первым, кто представил ученым достоверные сведения о восточной части этой территории, оказался голландский миссионер Кондидий. Еще очень долгое время покров тайны окутывал края, о которых ловкие мистификаторы писали так называемые отчеты и доклады, но их быстро разоблачили. До XVIII века не было ни одной серьезной публикации об острове Формоза, куда проникали редкие миссионеры да еще более редкие мореплаватели. Из числа последних один достоин быть упомянутым особо, ибо его ждала громкая слава. То был граф Морис Август Бенёвский.
ГРАФ БЕНЁВСКИЙ [236]
Еще один представитель славной когорты искателей приключений, история странствий которого настолько невероятна, что похожа на сказку. И раз уж счастливый случай заставил нас упомянуть это имя, то автор полагает, что читателю будет интересно хотя бы вкратце познакомиться с историей его бурной жизни. Граф Морис Август Бенёвский родился в Венгрии в 1741 году. В очень юном возрасте он поступил на военную службу к австрийскому императору, а затем по каким-то непонятным причинам внезапно вышел в отставку и отправился в Литву. Граф совершил несколько морских путешествий, во время которых изучал искусство управления кораблем. В 1768 году граф Бенёвский предложил свои услуги польским мятежникам[237] и был возведен в ранг полковника, а позднее — и генерала кавалерии. Но конфедераты потерпели поражение, и Бенёвский попал в плен к русским. Его судили, через всю Сибирь провезли до Камчатки, где он и должен был отбывать наказание. Губернатор Камчатки очень хорошо принял графа и, встретив в лице ссыльного образованного человека, свободно говорившего на нескольких языках, поручил ему обучать своих детей французскому и английскому языкам. Однако случилось непредвиденное: дочь губернатора, Анастасия, влюбилась в осужденного и заявила во всеуслышание, что хочет выйти за него замуж. Услышав столь решительное заявление и зная несгибаемый характер дочери, губернатор согласился на ее брак с графом. Он даже решил отпустить пленника на свободу, хотя и понимал, что рискует бесповоротно себя скомпрометировать. Но Бенёвский не хотел покинуть этот печальный край в одиночку, ибо состоял в заговоре с другими ссыльными, страдавшими от тягот угнетения и от разлуки с родными. К великому огорчению графа, заговор был раскрыт. Однако любящая и преданная жена вовремя предупредила его, и Бенёвский сумел бежать. Вместе с ним бежали шестьдесят девять его бывших соратников. В погоню за беглецами была послана целая рота солдат. Завязалось настоящее сражение, из которого граф и его друзья вышли победителями. Бенёвский сумел даже захватить небольшую крепость и получить столь необходимые деньги, оружие, боеприпасы и продовольствие. После многочисленных волнующих приключений Бенёвский добрался до Формозы и обосновался там. Через некоторое время граф купил корабль, обучил своих спутников искусству мореплавания, а сам стал капитаном. Он попытался организовать на Формозе какую-нибудь торговую компанию и наверняка преуспел бы в своем начинании, если бы неведомая болезнь не начала косить ряды его сотоварищей. Несчастная Анастасия, разделившая с графом все тяготы скитаний (хотя она и узнала, что он уже был женат законным браком), стала первой жертвой эпидемии. Бенёвский тяжело переживал утрату и буквально впал в отчаяние, так как остался почти совсем один в чужом краю, который люто возненавидел. От горя бедняга едва не лишился рассудка. Он продал все свое имущество, в том числе и корабль, а сам вместе с немногими уцелевшими друзьями поднялся на борт какого-то французского судна. Граф Бенёвский прибыл во Францию. Его очень хорошо приняли в Версале. Бенёвский изложил морскому министру давно созревший и хорошо продуманный план колонизации заморских земель. Он был убежден, что основать колонию и даже целое поселение на Формозе будет довольно просто, и говорил, что подарит Франции этот большой остров, ибо им очень легко завладеть, имея поддержку со стороны правительства мощной державы. Разумеется, нужно было завоевать доверие и благорасположение местного населения, но Бенёвский был заранее уверен, что он легко и быстро преуспеет в этом деле. Как показало дальнейшее развитие событий, граф нисколько не ошибался в своих талантах. По плану Бенёвского, должно было случиться следующее: когда умы и сердца островитян будут завоеваны, они сами признают новых поселенцев, иначе говоря колонистов, хозяевами края и с удовольствием станут подчиняться. Вот тогда уже можно будет установить на острове такие законы, какие будут угодны победителям в этой тонкой игре. План получил одобрение министра, но только с тем условием, что осуществлен он будет не на Формозе, а на Мадагаскаре. Бенёвский тотчас же согласился, ибо ему было все равно. В распоряжение графа предоставили 1200 человек, но он заявил, что потребуется всего 300, сам отобрал наиболее подходящих и отбыл в дальние края 8 августа 1772 года. На Мадагаскаре граф Бенёвский пробыл более двух с половиной лет и сумел добиться поразительных результатов: он заставил туземцев работать на себя после того, как при помощи какой-то дьявольской хитрости уговорил их построить дороги. Короче говоря, граф осуществил свой план покорения умов и сердец дикарей. Даже сто лет спустя агенты Мадагаскарской компании находили в лесах, к своему величайшему удивлению, следы его бурной деятельности. Следует, однако, сказать, что сразу по прибытии графа на Мадагаскар между ним и колониальными властями Иль-де-Франса в лице губернатора, интенданта и прочих чиновников разгорелась жестокая вражда. Плантаторы и администрация пытались помешать Бенёвскому исполнить его миссию и старались заставить его удалиться с острова. Бенёвский не получал никакой помощи от метрополии, а администрация Иль-де-Франса, как я уже говорил, не только не содействовала ему, но и всячески старалась навредить. Дело дошло до того, что состоявшие в преступном сговоре губернатор и интендант, под чьим контролем находились склады новорожденной Мадагаскарской компании, отдали приказ служащим как можно хуже вести счета и потакать разграблению богатств. Однако, несмотря ни на что, компания получила в первый год 340 тысяч ливров дохода, а во второй — 450 тысяч. Осознав, что дальнейшая работа невозможна, граф Бенёвский потребовал от губернатора письменного свидетельства о том, что дела компании находятся в полнейшем порядке, и подал в отставку с поста «управляющего королевскими предприятиями в заливе Антонжиль». Однако граф не покинул Мадагаскар, где туземцы буквально боготворили его, а потому на всеобщем совете под открытым небом (ампамсакабе) назвали повелителем довольно большой части острова. Хотя у графа не было никаких причин признавать над собой и над подвластной ему территорией верховенство французского короля, он все же пожелал передать под покровительство монарха правительство, которое он организовал и которое функционировало идеально. Его не хотели слушать, ему даже запретили упоминать в каком бы то ни было документе имя короля Франции. Во время его отсутствия распустили порочащие его честь слухи, и он, если можно так выразиться, добился от министра проведения расследования. Из Франции прибыли компетентные чиновники и провели это расследование на месте. Дело обернулось таким образом, что пришлось публично признать выдающиеся заслуги графа. Его даже наградили именным оружием. Тем не менее от всех его предложений правительство Франции отказалось. По совету находившегося одновременно с графом в Париже Франклина[238] Бенёвский обратился к правительству совсем еще юной республики Соединенных Штатов Америки. Один из крупных торговых домов Балтимора предоставил в распоряжение графа корабль, и он снова отправился на Мадагаскар, но из соображений такта высадился на том берегу, где не было французских поселений. Хотя Бенёвский провел вдали от Мадагаскара целых восемь лет, его появление на острове туземцы встретили с необычайным восторгом. Два года спустя возник новый конфликт между графом и французскими уполномоченными с острова Иль-де-Франс, причина которого так и осталась не выясненной до конца. Из Порт-Луи[239] против него был выслан отряд солдат из полка, что квартировал в Пондишери, и 3 мая 1786 года граф Бенёвский был убит выстрелом из ружья в стычке с французами. «Так бесславно погиб, — пишет господин Полиа, — один из самых странных и загадочных представителей рода человеческого, а быть может, и один из самых замечательных людей XVIII века. В любой другой стране, кроме тогдашней Франции, были бы рады воспользоваться его услугами».
ГЛАВА 8
Аббат Дегоден. — Леон Руссе. — Доктор Пясецкий. — Полковник Пржевальский.Даже в XIX веке проникнуть в Китай было очень нелегко, ибо правительство этой страны, не питавшее никакого доверия к иностранцам, упорно отвергало самые выгодные предложения европейцев, будь то миссионеры, торговцы или даже представители властей мощных держав. Однако и те, и другие, и третьи страстно желали проникнуть в Китай либо для того, чтобы установить дипломатические отношения, либо для того, чтобы основать там отделения своих торговых домов, либо для того, чтобы попытаться обратить китайцев в свою веру. Но напрасно правительства различных стран направляли в Поднебесную империю одного чрезвычайного посла за другим; напрасно торговцы, привлеченные запахом богатой наживы, рисковали своим состоянием; напрасно бесстрашные миссионеры пытались преодолеть строго охраняемые границы Китая (иногда даже с риском для жизни). Ворота загадочной страны не желали распахиваться ни перед расточавшими льстивые улыбки дипломатами, ни перед сулившими неслыханные доходы торговцами, ни перед преподобными отцами — любителями читать проповеди. Из всех европейских стран одна только Англия добилась определенных привилегий для ведения торговли, коими довольно широко пользовалась Ост-Индская компания. Однако в 1834 году договор о предоставлении особых привилегий не был продлен, а ведь именно они более всего интересовали наших соседей. Товаром, что приносил Ост-Индской компании наибольший доход, был опиум, который китайцы с превеликой охотой, даже с какой-то страстью, употребляют до сих пор. Английские купцы были страшно разочарованы: раз договор не продлен, придется распрощаться с баснословными прибылями! Англичане попытались исправить положение и стали провозить опиум контрабандой. Они ввезли в Кантон двадцать тысяч ящиков с дьявольским зельем, прибегнув к подкупу и обману. Мошенничество оказалось делом довольно легким благодаря ужасной, просто сказочной жадности и продажности чиновников. Но китайские власти, имевшие, вероятно, очень веские основания для того, чтобы разорвать торговое соглашение с Англией, приказали произвести тщательный обыск в порту. Ящики с опиумом были обнаружены, и по распоряжению правительства их затопили в открытом море. Англичане остались страшно недовольны тем, что китайцы осмелились столь вольно распорядиться чужим имуществом, находившимся, правда, на территории Китая. Гордые британцы полагали, что император не имеет права мешать своим подданным травить себя ядом, если яд приносит Англии баснословные барыши. Таковы были причины «Опиумной» войны[240], в результате которой пушечные ядра пробили первую брешь в китайской стене. Англичане предъявили ультиматум: либо власти Китая предоставят им полную свободу продавать в Поднебесной империи опиум, либо — война! Китайское правительство предпочло воевать. И хотя правительственные войска были очень многочисленны, они не могли противостоять военной мощи Британской империи и были вынуждены капитулировать, а затем китайцам пришлось уплатить сто двадцать миллионов фунтов стерлингов в возмещение убытков. Англия же получила монопольное право на торговлю опиумом. Когда соглашение между двумя странами было подписано, Франция пожелала заключить с Китаем такой же договор. Поводов для предъявления ультиматума было предостаточно: хотя бы один тот факт, что китайские власти отказали в разрешении на въезд миссионерам-лазаритам. И вот в ответ на настоятельные просьбы французского посла в Китае, господина Лагрене, Наполеон III тоже предъявил ультиматум повелителю Поднебесной империи. Как и в случае с англичанами, китайцы заупрямились и отказались удовлетворить требования французов. Теперь войну Китаю объявила Франция[241]. Со своей стороны, лорд Палмерстон[242] считал, что Англия «недостаточно завернула гайки» (по выражению этого известного дипломата), и он предложил заключить с Францией военный союз, объединив усилия как сухопутных, так и морских сил двух держав. В 1859 году объединенные войска союзников появились в устье реки Пей-Хо. Китайцы оказывали ожесточенное сопротивление захватчикам, но не могли устоять против английских и французских пушек. Все форты и укрепления, защищавшие вход в устье реки, пали. Начались переговоры, и европейцы очень легко уверовали в то, что китайцы дадут им в скором времени дойти до Пекина, не оказывая ни малейшего сопротивления. Они медленно двигались по богатой, плодородной долине реки и видели большие каналы, прорытые для того, чтобы облегчить судоходство. «Местность здесь плоская и ровная, — писал один историк, — а пышная растительность и прозрачный,чистый воздух напомнили мне о плодородных долинах Ломбардии. Повсюду люди были заняты тяжелым трудом. Они были опрятно одеты, вежливы и, видимо, очень трудолюбивы. Повсюду нам встречались большие деревни, где у каждого дома был сад и огород. Почти во всех деревнях мы видели мечети и мусульман, а это было явным свидетельством того, что люди, которых обвиняли в крайней религиозной нетерпимости, на самом деле, напротив, очень веротерпимы, и все обвинения казались нам теперь несерьезными…» Между тем французов и англичан поджидал один из тех пренеприятнейших сюрпризов, от коих почти никогда не может уберечься европейская армия, когда она имеет дело с противником, которого она беспричинно недооценивает. Случилось же вот что: французские и английские офицеры, на коих была возложена почетная миссия вести переговоры с китайцами, а вместе с ними и несколько миссионеров-переводчиков совершенно неожиданно для себя наткнулись на целую армию маньчжуров, прибывших со всего бассейна Амура для защиты ближних подступов Пекина. Все европейцы были убиты самыми изощренными способами, на какие только способны вообще склонные к жестокости китайцы. Правда, в скором времени несчастные жертвы были отомщены, и с не меньшей жестокостью. За ужасной бойней последовало решающее сражение. Оно началось у деревни Паликао. Войска союзников, хорошо обученные и дисциплинированные, имевшие на вооружении дальнобойную артиллерию и точно поражающие цель ружья, очень быстро обратили в бегство орду азиатов, вооруженных кто чем: кто копьями, кто луками, кто старинными мечами, а кто и древними мушкетами. Китайцы были очень храбры и собирались сражаться отчаянно, но они не могли, разумеется, устоять против косивших их ряды снарядов. «Деревня Паликао, — писал в своем донесении Наполеону III генерал Кузен-Монтобан, получивший за победу в сражении несколько комичный и весьма экстравагантный титул графа Паликао, — сначала подверглась обстрелу. Затем наши войска решительно пошли в атаку. Китайские пехотинцы защищали буквально каждую пядь земли. То, что мы понесли незначительные потери, можно объяснить лишь тем, что противник, хотя и многочисленный, был плохо вооружен. Сообщаю вам, что мы потеряли убитыми и ранеными тридцать человек, в то время как китайцы — около трех тысяч. На мосту через реку осталась лишь элита китайского воинства. Разодетые в роскошные одежды люди размахивали знаменами и отвечали на ураганный огонь нашей пехоты редкими выстрелами. Они жертвовали собой, чтобы прикрыть поспешное отступление кавалерии, проявившей сегодня утром большое рвение. Невозможно вообразить себе блеск и роскошь летней резиденции китайских императоров, — писал далее главнокомандующий французским экспедиционным корпусом. — На протяжении более четырех лье высились пагоды неописуемой красоты, в которых находились золотые, серебряные и бронзовые статуи богов огромных, гигантских размеров, а далее среди прекрасных садов и прохладных озер виднелись здания из белого мрамора, покрытые разноцветной черепицей. В каждой пагоде находятся тысячи и тысячи самых диковинных предметов из золота, разукрашенных жемчугом и драгоценными камнями. Чтобы представить себе роскошь, в которой купается китайский император, достаточно сказать, что здесь в качестве упаковки используют самые тончайшие шелка». Англичане и французы без зазрения совести присваивали себе драгоценные украшения, слитки золота и серебра, а также прочие драгоценные вещицы, но от жадности у них разбегались глаза и они, по признанию генерала, «сожалели только о том, что не могут унести все». Разграбление летнего дворца, разумеется, не делало чести союзным войскам, тем более что в результате действий англичан и французов в здании начался пожар, и замечательный памятник искусства был уничтожен огнем. Объятые ужасом китайцы запросили мира, который и был заключен. Китай обязался выплатить огромную сумму в счет репараций и открыть три новых порта для европейских торговцев. Аббат Дегоден совершил несколько путешествий в Китай до и после вторжения союзных войск в эту страну. Он много раз подвергал свою жизнь риску, пытаясь проникнуть в Тибет. Первую такую попытку бесстрашный миссионер совершил в 1856 году. Он провел восемь месяцев в Дарджилинге, у подножия Гималаев, но так ничего и не добился. В 1858 году он сумел добраться только до буддийского монастыря в Канаме. В 1859 году он решил попробовать проникнуть в Тибет через Китай и отправился в Гонконг. В то время союзные войска осаждали Пекин, и аббат оделся как китаец. Несмотря на все хитрости, аббата опознали и даже заточили на три недели в тюрьму. Он вновь двинулся дальше и сумел добраться до Талинпина[243], где его ждал епископ, хотя путешествовать в тех краях в то время было очень опасно из-за многочисленных банд разбойников. С окончанием военных действий и подписанием мирного договора аббат Дегоден решил, что ничто уже не помешает ему совершить путешествие в Тибет, и он направился в Лхасу, где находится резиденция далай-ламы. Лхаса — священный для всех буддистов город, то же самое, что Рим для католиков. Но китайцы приняли аббата за шпиона и вновь бросили его в тюрьму, где продержали целый год. В 1862 году его отвезли в Бонгу, и там он провел в заточении два года. Христианская община в этом городе была уничтожена, и отважный миссионер, бежавший из тюрьмы, укрылся высоко в горах у дикарей лузе[244], где ему оказал большую помощь один буддийский монах, что является еще одним доказательством того, что дух веротерпимости, одушевляющий поклонников этой азиатской религии, еще не оценен по достоинству. Когда в стране воцарился наконец мир, аббат Дегоден, по-прежнему неутомимый и упорный, отправился к берегам Меконга, где и обосновался. Отважный миссионер, обладавший столь же обширными знаниями, как и его славные предшественники, собрал множество ценнейших сведений, так как проводил метеорологические и астрономические наблюдения, а кроме того создал подробнейшую карту района, где проживал.
ЛЕОН РУССЕ [245]
Одним из французов, наилучшим образом изучивших Китай, является, несомненно, Леон Руссе. И в самом деле, у нашего выдающегося соотечественника было то, чего обычно так не хватает путешественникам, которые торопятся посетить как можно больше стран, коснуться в своих путевых заметках как можно большего числа явлений и поверхностно осмотреть множество памятников, не изучив глубоко ни один. Так вот, у господина Руссе было время для глубокого и пристального изучения Китая! Находясь на одном месте в течение долгих лет, он мог в свое удовольствие наблюдать ход событий, действие законов и различные явления общественной жизни. Он имел возможность проверить при помощи более обстоятельного рассмотрения предметов и явлений некоторые свои впечатления и даже убедиться в их ложности. Он мог выбирать объекты для изучения, спокойно писать свои заметки и вести кропотливые исследования. Прибавьте ко всему вышесказанному большой ум, превосходное образование и тонкий вкус, и вы согласитесь с тем, что Леон Руссе был словно самим Богом предназначен для последовательного и скрупулезного изучения Китая в течение тех семи лет, что он преподавал различные науки детям европейцев в порту Фучжоу. Не стоит и говорить о том, что он был очень проницательным и прозорливым наблюдателем. Это столь необходимое для путешественника качество будет проявляться по мере того, как мы будем знакомиться с замечательным циклом путевых заметок Руссе, опубликованных под скромным названием «По Китаю». Едва приехав в Фучжоу и обосновавшись в европейской колонии на правом берегу реки Мин, Леон Руссе начал делать записи. Его первые впечатления от Китая были откровенно мрачны, и не без причины: дома европейцев располагались на склонах небольших холмов, как раз посреди некрополя[246]. Как отметил для себя Руссе, у китайцев нет кладбищ как таковых. Они хоронили (и хоронят) своих покойников практически повсеместно, но чаще всего именно на склонах гор и холмов, в местах, соответствующих определенным правилам. Таким образом, в Китае можно наткнуться на захоронение в самом неожиданном и, на наш взгляд, неподобающем месте. Следует сказать, что представление китайцев о смерти резко отличается от нашего. Либо в силу привычки, либо в силу существующих верований, либо даже из полнейшего равнодушия китайцы преспокойно живут среди могил и, похоже, нимало не озабочены таким соседством. Кажется, они никогда не думают о роковом часе, напоминанием о коем служат многочисленные надгробные памятники. Китайцы так сжились с мыслью о смерти, что выбор гроба для них — предмет самых больших забот. Почтительный сын непременно должен выразить свое уважение и любовь к отцу, подарив тому при жизни вместилище, в котором будут покоиться его бренные останки. Гроб является как раз тем предметом, на покупку которого китаец, живущий очень просто и скромно, не жалеет денег и платит не скупясь. Обычно выбирают самый роскошный, самый богато изукрашенный гроб, какой только может позволить себе семья в соответствии с доходами. Когда в гроб помещают тело умершего, то в сколько-нибудь зажиточных семьях этот гроб покрывают в несколько слоев специальным составом, чтобы древесина не намокала, а затем еще и слоем лака. После чего гроб в течение долгого времени (иногда год, а то и целых три) стоит посреди самой большой и богатой комнаты в доме, и только по прошествии положенного срока гроб захоранивают. В течение всего времени, что тело покойного остается в доме, старший сын умершего должен ежедневно воздавать ему почести и совершать обряды, следуя строгому ритуалу, и для того, чтобы ничто не отвлекало молодого человека от исполнения долга, законы и обычаи запрещают ему заниматься какими-либо общественными делами, пока не кончится трехлетний траур. Такое отношение к смерти и к умершему не лишено определенного величия, ибо лишает смерть и все, что с нею связано, таинственного оформления, наводящего на всякого священный ужас. Продолжение контакта между умершим и его живыми родственниками позволяет последним сохранить о нем более чистые и не омраченные скорбью воспоминания. В то же время такой способ общения с умершим не только внушает глубокое уважение к предкам, но и служит еще большему укреплению семейных связей. Почтительное отношение китайцев к умершим — одна из самых замечательных черт национального характера, ибо чувство это не является признаком или привилегией какого-либо слоя общества. Оно присуще представителям всех классов, всему населению в целом. Могила для китайцев священна: никто не может ее коснуться, никто не смеет оскорблять мертвых. И нет такой силы, которая могла бы одолеть чувство, владеющее душами всех китайцев без исключения. Подобное почитание мест погребения может иметь последствия совершенно непредвиденные, так как при строительстве шоссейных и при прокладке железных дорог наличие огромного числа захоронений, в беспорядке разбросанных по всей территории Китая, станет воистину непреодолимым препятствием. Чтобы попасть из колонии европейцев в южную часть города, Руссе приходилось проходить через обширное предместье, и там он не без интереса наблюдал за жизнью корпораций ремесленников. Люди одной профессии селились в одном квартале то ли случайно, то ли намеренно. Миновав рынок соленой рыбы, где витал острый запах рассола, исследователь оказывался на узких улочках, где жались друг к другу лавчонки суконщиков, сапожников, шляпников. Затем он оказывался в кварталах краснодеревщиков, мастеров по изготовлению лаковых ваз и прочих ценных вещиц из лака, жестянщиков и медников, ювелиров, изготавливавших украшения из натуральных и поддельных камней, мастеров каллиграфии, вышивальщиков и так далее, и так далее… Узкие грязноватые улочки предместья, до отказа забитые толпами покупателей и носильщиков, упирались в массивные ворота городских стен, увенчанные высокой башней, охраняемые и днем и ночью. Как только человек проходил через городские ворота и оказывался в самом городе, шум и крики стихали, словно по мановению волшебной палочки. На главной улице все же царило кое-какое оживление, но вот боковые улочки, казалось, навсегда погрузились в сон. Нигде больше не было видно мастерских под открытым небом, лавочек, где продается всякая всячина, складов и витрин, где ремесленники выставляют напоказ творения своих рук. Изредка на вымощенных гранитными плитками улицах слышались неторопливые шаги почтенных граждан, ибо здесь обитали образованные китайцы, занимавшие свое, особое, весьма значительное место в обществе, о котором европейцы знали очень мало. Как справедливо замечает Руссе в своей книге, явившейся настоящим откровением для его соотечественников, путешественники совершали очень большую ошибку, когда забывали о существовании целого слоя образованных горожан или относились к этим людям с презрением, не придавая им никакого значения. Многие европейцы полагали, что достаточно было изучить характеры и нравы тех китайцев, с которыми они вступали в контакт в портах, а затем сделать определенные выводы и распространить свое мнение на все остальное население Китая. Но с тем же успехом какой-нибудь китаец мог бы считать, что имеет полное представление о французском обществе, ограничившись знакомством с обитателями предместий больших портовых городов во Франции. Другие же путешественники ударялись в иную крайность: они ограничивались сведениями, полученными от людей, постоянно общавшихся с официальными лицами, а потому посчитали самым типичным представителем китайского общества хитрого, изворотливого, недоверчивого и надутого спесью мандарина. Таким образом, они приписали всей нации пороки, свойственные лишь бесчестной администрации. За исключением некоторых миссионеров-протестантов и очень редких представителей консульской службы, иностранцы в Китае почти не пытались проникнуть в китайское общество, но, напротив, питали к этому обществу и к совершенно незнакомой им культуре живейшее презрение, так как их головы были забиты идеями о превосходстве белой расы, а также еще и потому, что китайцы, с которыми они обычно общались, заставляли их относиться с величайшим недоверием и ко всей остальной нации. Со своей стороны, китайская буржуазия, в качестве образованного класса не слишком почитавшая торговлю, видела в прибывших из-за моря чужеземцах людей, ведомых только страстью к наживе, а потому не испытывала к ним ни малейшего интереса и платила иностранцам той же монетой. Из всего вышесказанного следует, что и те и другие сохраняли свои предрассудки, и каждая сторона обвиняла другую во всех мыслимых и немыслимых грехах. Однако образованные китайцы в большинстве своем люди очень гостеприимные и приветливые. Они превосходно принимали тех редких иностранцев, что давали себе труд изучить китайский язык, познакомиться с обычаями китайцев и выражали желание общаться. Леон Руссе имел счастливую возможность проникнуть в замкнутый круг образованных горожан, и то, что он смог узнать о нравах, царивших в этой среде, о внутреннем устройстве хозяйств горожан, заставило его преисполниться уважением к крепчайшим семейным связям, составлявшим основу социального устройства китайского общества. По свидетельству Руссе, глава семьи пользовался непререкаемым авторитетом и глубочайшим уважением тех, о ком он неустанно пекся. Установленного в этих небольших сообществах патриархального порядка вполне хватало для того, чтобы члены семейств жили в покое и мире. В то время как женщины под руководством супруги главы семьи выполняли работу по дому, мужчины занимались каким-либо ремеслом или находили применение своим знаниям где-нибудь вне дома. Пока жив отец, все дети, сколько бы им ни исполнилось лет, жили под отцовской крышей. Исключение составляли замужние дочери, которые отправлялись, разумеется, в семьи своих супругов. Что же касается молодых людей, то их обычно женили в очень юном возрасте, и целью таких ранних браков был количественный рост семейства, так что в Китае можно было нередко видеть под одной крышей представителей четырех поколений. «Глава семейства всегда столь добр к своим чадам и домочадцам, что они легко несут бремя его власти, — писал Леон Руссе. — Каждый член семьи обычно без жалоб и выражения неудовольствия склоняется перед авторитетом отца, деда и прадеда. Никто даже не помышляет избавиться от опеки патриарха или оспорить его право распоряжаться в доме. Ни разу за все время моего пребывания в Китае я не слышал ни единой жалобы по этому поводу. Старшие члены семьи первыми подают пример послушания и почтительного поведения по отношению к главе семьи. Я видел, как сорокалетний мужчина стоял и ждал, пока его отец предложит ему сесть. Старик же, отец человека, о котором я рассказываю, был одним из самых почитаемых членов небольшой общины и, хотя и не занимал никакой должности, все же пользовался среди соседей огромным уважением. Когда наместник Цо явился в Фучжоу, чтобы возглавить провинцию, он прежде всего пожелал познакомиться с самыми уважаемыми гражданами. Прослышав о существовании в городе весьма почтенного старца, новый губернатор написал ему послание, в котором извещал главу уважаемого рода о том, что, по единодушному мнению сограждан, он является одним из самых достойных и мудрых горожан, а потому наместник императора будет счастлив с ним встретиться и побеседовать. Чтобы показать, какое глубокое почтение он питает к старцу, губернатор приказал послать за ним свои парадные носилки, украшенные особыми знаками отличия, на которые имели право только мандарины самого высокого ранга. Почтенный глава многочисленного рода отправил, однако, обратно носилки вместе с носильщиками, так как скромность не позволила ему занять в них место, а сам отправился во дворец наместника, наняв простого рикшу. Новый губернатор довольно долго беседовал со старцем, в результате чего проникся к собеседнику еще большим уважением. Впоследствии он поддерживал с почтенным патриархом дружеские отношения. Когда мне об этом рассказали, я был потрясен. Такое внимание! Такая забота! Такое почтение со стороны могущественного, облаченного государственной властью высшего чиновника к простому подданному императора, человеку весьма небогатому и отличающемуся от всех прочих только тем, что он пользуется высоким авторитетом в обществе благодаря своей мудрости и честности! И такая невероятная скромность старца, который мог бы возгордиться тем, что встречи с ним ищет столь значительное должностное лицо! Да, довольно занятно наблюдать, как монархия дает нам пример самых высоких республиканских добродетелей! И подобные добродетели можно нередко встретить в стране, правителей которой мы привыкли изображать в виде абсолютных деспотов». … В лабиринте тихих улочек, где обитают образованные горожане, так сказать, душа Китая, находится квартал или, лучше сказать, скопление домов, которое редкие европейцы, посещающие эти места, называют улицей диковинок. Там живут около тридцати торговцев, в чьих крохотных лавчонках можно найти самые невообразимые вещицы, которые по окончании последней войны с Китаем появились в изобилии и в Европе: безделушки, изделия из бронзы и кости, лаковые вазы и шкатулки, посуда из тончайшего фарфора, фигурки из нефрита, инкрустированные перламутром предметы меблировки, редчайшие ткани. И все это в изобилии громоздится на полках. А посреди лавочки восседает хитрющий, изворотливый хозяин, способный заткнуть за пояс любого самого искушенного антиквара-европейца. Поэтому очень важно, чтобы зашедший в лавку любитель древностей был действительно знатоком в этом деле, то есть знал истинную цену предметов старины и не дал бы себя облапошить. Китайские торговцы с поразительной ловкостью умеют пользоваться безрассудством вновь прибывающих в Китай европейцев, так как те, не изучив еще как следует обычаи этой страны, теряют самообладание и забывают об осторожности. Переговоры о покупках редкостей следует вести тем более осторожно потому, что китайцы умеют столь искусно изготавливать подделки под старину, что их практически невозможно отличить от истинных произведений древнего китайского искусства. К тому же они безумно, безбожно завышают цены. Предмет, оцененный торговцем в пятьсот франков, вы получите всего за сто, если сохраните хладнокровие и проявите терпение. Иногда тому, кто потрудится стряхнуть пыль со всякого хлама, порывшись в куче старья, выпадает удача точно так же, как это случается у нас. Но это бывает редко, ибо богатые и просто живущие в достатке китайцы являются страстными коллекционерами и великими знатоками предметов старины, а потому составляют жестокую конкуренцию европейцам. Они, как правило, и забирают все самое ценное. Таким образом, теперь вы можете себе представить, чего стоят все редкости, в изобилии доставляемые во Францию. Китайцы, несомненно, посмеялись бы над нами, если бы увидели, с какой лихорадочной жадностью парижане вдруг принялись коллекционировать всякую дрянь и подделки, и если бы они увидели, как радуются мелкие буржуа своим приобретениям и как гордятся своими «диковинками» модные магазины. Занятия литературой и философией считаются в Китае весьма почетным родом деятельности (определенный талант в этой сфере является совершенно необходимым условием для получения какой-нибудь должности). Однако система образования в Поднебесной империи совсем не похожа на нашу, ибо здесь нет учебных заведений, аналогичных тем, что существуют во Франции. Богатые люди нанимают для своих детей наставников, которые становятся членами семьи и занимают в ней особое и очень почетное положение. Те же, для кого столь значительные расходы непосильны, отправляют своих детей к преподавателям домой, и мальчики в течение дня обучаются всяким наукам. К большой чести китайцев следует отметить, что в этой стране нет ни одной деревни, где не было бы такой школы. Дети обучаются чтению и написанию иероглифов, необходимых в повседневном обиходе, и приобретают начальные сведения о морали, истории и литературе своей родины. Хотя получают преподаватели за свой нелегкий труд не слишком много, их профессия считается весьма уважаемой. Ученики почитают наставника как своего второго отца. Законы и обычаи китайского общества предписывают оказывать любому учителю знаки внимания и уважения, и никто не смеет нарушить эти положения, не рискуя навлечь на себя всеобщее осуждение. Таким образом, детей в Китае не отрывают от семей и не лишают благотворного влияния родственников. В то же время они получают образование, соответствующее их положению на социальной лестнице. Маленькие китайцы избавлены от развращающего влияния, которому подвергаются наши дети в закрытых учебных заведениях типа пансионов и интернатов, давно признаваемых настоящими язвами на теле нашего цивилизованного общества. Семья в Китае резко отличается от нашей тем, что роднит китайца с мусульманином: там существует узаконенная полигамия (многоженство) и женщин практически всегда держат взаперти. По крайней мере, таково положение в высших слоях общества. Однако, хотя женщины и не принимают никакого участия в общественной жизни, но в доме, у домашнего очага они занимают свое весьма почетное место. Под руководством хозяина дома они ведут домашнее хозяйство, то есть делают то же самое, что и турецкие женщины, запертые в гареме. Жены богатых китайцев никогда не показываются на люди. Даже если вас связывают с каким-либо занимающим высокое положение в обществе китайцем узы теснейшей дружбы, вы, тем не менее, никогда не увидите его жен. Вы проявите величайшую бестактность, если осмелитесь задать хозяину дома самый незначительный вопрос по поводу его жен. Пока они молоды — а как узнать об этом, не спрашивая? — полагается игнорировать состояние их здоровья и даже сам факт их существования. Когда же женщины достигают почтенного возраста, то задавать такие вопросы становится не столь нескромно. Однако любопытство есть любопытство, и если мужья никогда ничего не говорят о своих женах, то соседи и знакомые тем не менее о них все знают, так как находят другие источники информации. Прежде всего не следует забывать о том, что у женщин есть подруги, которые горят желанием рассказать о том, что они видели и слышали в то время, когда либо посещали приятельниц на женской половине дома, либо сами принимали у себя гостей. Как известно, близкие друзья не считают себя обязанными быть скромными и хранить чужие тайны. К тому же во всякой семье есть слуги, горничные, няньки, кухарки, которые не видят ничего дурного в том, чтобы судачить о самых незначительных происшествиях, что так часто случаются в любом, даже очень закрытом доме, куда так нелегко проникнуть взгляду чужака. Короче говоря, сплетни, слухи, пересуды, россказни ходят из уст в уста, ибо их разносят друзья и слуги. Замечу кстати, что китайские женщины, похоже, полностью довольны своим положением, им и в голову не приходит что-либо в нем менять. Наверное, все дело в наследственности и воспитании. В течение тысячелетий с колыбели девочкам внушали, что неприлично и недостойно выходить из дому, а уж находиться в обществе представителей противоположного пола — и вовсе бесстыдство. Поэтому женщины не понимают и даже не хотят допустить мысль, что все может быть иначе. Возможно, это и к лучшему. В любом случае сей обычай является величайшим благом для китайцев, так как они живут в полнейшем спокойствии, ибо на их долю выпало большое счастье ничего не знать об «эмансипированной женщине конца века», об этом подвижном, велеречивом, кокетливом, капризном, волевом существе, которое голосует на выборах, флиртует, плетет интриги, строчит жалобы, пичкает всех и каждого лекарствами, дает советы, поучает и повсюду провозглашает себя свободной… Ох, уж эта мне свобода! Эмансипированная женщина претендует на равные права с мужчинами, но начисто забывает об обязанностях. Короче говоря, она находит время для всего на свете, кроме того, чтобы быть супругой и матерью! Однако не все так хорошо и благостно в Китае, ибо на теле китайского общества можно заметить отвратительные кровоточащие раны. Прежде всего это — торговля детьми. Люди, находящиеся на самой нижней ступени социальной лестницы, бывают слишком бедны и слишком обременены многочисленным потомством для того, чтобы иметь возможность воспитывать всех детей. Многие, очень многие бедняки вынуждены продавать своих детей, в особенности девочек. Одни, обеспокоенные будущим своих дочерей, продают их только богатым, уважаемым людям, которые таким образом проявляют заботу о своих собственных сыновьях и приобретают для них будущих жен за весьма умеренную плату. Других же гораздо менее заботит моральная сторона дела, ибо для них важна лишь сумма вырученных денег, а потому они отдают свое дитя в руки первому встречному, нисколько не заботясь о том, какая участь ожидает ребенка. Но так поступают только с девочками, ибо мальчиков в Китае считают источниками богатства, а потому и продают в исключительных случаях, когда родители оказываются уже у последней черты. Между тем, как бы ни был достоин сожаления обычай продавать девочек, это спасает жизнь многим из них; родителям — если не по любви, то по меньшей мере ради выгоды — есть прямой смысл воспитывать малышек, надеясь получить за них более или менее значительную сумму, а не бросать детишек на погибель или просто убивать их. Это замечание подвело наш рассказ к ужасному обычаю детоубийства. Китайцев обвиняют в том, что такого рода преступления совершаются ими довольно часто. В своей книге Леон Руссе попытался оправдать китайцев. Вот что он писал по этому поводу: «Разумеется, я не думаю, что существует в мире страна, которая могла бы похвастаться тем, что навсегда покончила с этим отвратительным явлением, какого бы высокого уровня культуры она ни достигла. На сей счет много дискутировали, но все эти споры были бесплодны, ибо никто не располагал сколько-нибудь точными цифрами. Что касается меня, то за все долгое время моего пребывания в Китае я не заметил, чтобы детоубийство было здесь частым явлением. Имея в виду огромную численность населения, я полагаю, что эта империя может с успехом выдержать сравнение с любой просвещенной страной Европы. Я изъездил весь Китай вдоль и поперек. Во время моих долгих странствий мне ни разу не довелось встретить брошенный труп ребенка. Если некоторые путешественники и могли видеть в Кантоне детские трупы, плывущие по реке, то это вовсе не значило, что несчастные были убиты. Просто в Кантоне есть столь бедные семьи, которые всю жизнь проводят в своих лодках, называемых сампанами. Их дети рождаются, живут и умирают на воде. Родители же оказываются слишком бедны, чтобы купить гроб и захоронить тело в могилу на суше, а потому предпочитают, чтобы несчастное дитя окутали саваном воды океана. Замечу также, что торговля детьми и детоубийство никогда не практикуются в средних слоях общества». Военный порт Фучжоу был основан по указу китайского правительства в соответствии с предложением наместника Цо. Там должны были строить паровые суда и изготовлять боеприпасы, а также готовить будущих моряков и судостроителей. Организация и управление новым военным портом, основанным неподалеку от острова Пагоды, были возложены на двух офицеров военно-морского флота Франции, лейтенантов Жикеля и Эгбеля, а в помощь им были присланы специально отобранные инженеры, рабочие и служащие, тоже французы. Автор просит у читателя позволения сделать короткое отступление и высказать кое-какие мысли по данному вопросу. Не считаете ли вы чистым безумием посылать соотечественников за тридевять земель создавать военный флот в стране, которая не сегодня завтра станет нашим противником? Разве можно обучать потенциального врага нашей наступательной и оборонительной тактике? Разве можно снабжать армию противника пушками, скорострельными ружьями и торпедами? А в довершение всего еще и предоставлять в его распоряжение наших офицеров для наилучшей организации дела?! Не находите ли вы такие действия безумными, даже сверхбезумными и антипатриотичными? Если китайцы могли сражаться с нами на равных и даже противопоставить нашим военным кораблям еще более быстроходные суда, а нашим пушкам — тоже пушки, и ничуть не менее дальнобойные, то нашим военным следовало бы учесть, что снаряды и пушки были произведены в Фучжоу и что именно благодаря французским офицерам из Фучжоу мы едва не потерпели сокрушительное поражение. Дела обстояли настолько плохо, что адмирал Курбе был вынужден очень долго обстреливать город, чтобы разрушить порт и заводы, ибо без этого война бы еще долго не кончилась. Я заканчиваю мое небольшое отступление напоминанием о том, что именно благодаря этой непростительной ошибке правительства Франции, которое дало распоряжение помочь китайцам построить базу для военного флота и отправило в Китай опытных офицеров, Леон Руссе и смог написать замечательную книгу об этой удивительной стране. Порт в Фучжоу, где распоряжался господин Проспер Жикель, находился под неусыпным наблюдением особого посланца императора Китая, именовавшегося императорским комиссаром. Этот высокопоставленный чиновник, человек лет пятидесяти, пользовался большим авторитетом в обществе, и все почтительно звали его не иначе как его превосходительством Чжоу. Особняк комиссара располагался прямо на территории порта, среди домов, где обитали служащие-европейцы. В Китае все делается в соответствии с раз и навсегда установленными правилами, которые на протяжении веков и даже тысячелетий передаются от отцов к сыновьям безо всяких изменений. Поэтому особняк (или, как там говорят, «я-мен») его превосходительства Чжоу был точной копией домов мандаринов всех рангов, отличавшихся друг от друга лишь размерами в зависимости от должности и богатства хозяев. Итак, жилище мандарина в Китае представляет собой группу одноэтажных построек, расположенных перпендикулярно друг другу и окруженных толстой и высокой глинобитной или каменной стеной. Перед главным входом расположен наполненный прозрачной водой бассейн. За ним возвышаются ворота. На створках этих ворот изображено фантастическое животное, дракон, чья широко разинутая пасть готова проглотить красный диск, изображающий солнце. Между стеной и домом, всегда ориентированным по меридиану, высятся два столба, выкрашенные в ярко-красный цвет. Это служит признаком официальной резиденции. Только наместник самого императора имеет право ставить перед своим дворцом четыре столба. Далее взору изумленного путешественника предстают новые ворота, да не одни, а несколько, на створках которых на черном фоне изображены столь дорогие сердцу каждого китайца драконы. Правые ворота всегда открыты, и через них можно попасть в обычные дни во внутренний двор. Средние ворота открывают только по большим празднествам и по случаю прибытия очень важных гостей. Те же, что расположены слева, распахивают только перед осужденными на смерть. Над воротами сделан большой общий навес, и с левой стороны под ним укреплен огромный гонг, в который могут бить те, кто пришел искать правосудия. В первом внутреннем дворе находятся административные здания: тюрьма, казарма, где живут солдаты, вооруженные старинным оружием, здание, где мандарин вершит суд, а также помещение, где хранятся носилки и зонтик мандарина, знаки его высокого сана. Во второй внутренний двор выходят двери помещения для торжественных приемов, контор, где сидят писцы и счетоводы, и прочих служб поместья. В третьем дворе располагаются жилые помещения, где обитает сам мандарин, а также отдельные домики, предназначенные для его секретарей и посыльных. Таким образом, дворец мандарина — очень большое, удобное, разумно устроенное роскошное жилище, где все необходимое всегда под рукой, в том числе и слуги, где все организовано так, чтобы не приходилось ничего искать без толку. Короче говоря, это настоящее идеальное жилище для высокопоставленного сановника. Нашим архитекторам, проектирующим здания для наших же «мандаринов» в непромокаемых плащах и цилиндрах, следовало бы принять его за образец. На работах по строительству порта Фучжоу было занято большое количество местных рабочих, что привлекло в город почти столько же мелких торговцев и ремесленников, так что вскоре в окрестностях Фучжоу появилось множество новых деревень и поселков. Разумеется, в таком огромном городе, как Фучжоу, где проживало более 600 000 жителей, и днем и ночью царило оживление. В лабиринте узких улочек жались друг к другу крохотные мастерские и лавчонки, а в невообразимо тесных хибарках ютились мастеровые и рабочие, чьи руки были столь необходимы для строительства. Однако можно было здесь встретить и представителей мира искусства. Конечно, чаще всего попадались на улицах и площадях Фучжоу люди, способные развеселить простой народ: жонглеры, канатоходцы, фокусники, силачи, предсказатели будущего, вокруг которых вечно крутились донельзя грязные и оборванные китайчата. По вечерам, когда темнело, на улицах появлялись странствующие чародеи, владевшие древним китайским искусством создавать целые спектакли при помощи волшебного фонаря. Китайцы, совершенно не знакомые с правилами гигиены, незамедлительно превратили предместье в гигантскую клоаку, где скапливались всевозможные нечистоты, что делало улицы отвратительными на вид, да и ходить по ним можно было, только прикрыв нос надушенным платком, ибо запахи там витали неописуемые. Однако дело из-за этих маленьких неприятностей нисколько не страдало: и мастерские и лавочки приносили очень хороший доход. Процветала в городе и торговля вразнос. По улицам города так и сновали лоточники, наблюдать за которыми было весьма интересно. Один предлагал прохожим арахис и апельсины, другой — заботливо политые водой кусочки очищенного от грубой кожуры сахарного тростника, третий — разрезанные на четвертинки огромные грейпфруты, а четвертый — листья бетеля, аккуратно уложенные в коробочку. Рядом с ними, под открытым небом расположился со своей кухней владелец крохотного ресторанчика. Он колотил ложкой по фарфоровой чашке, производя страшный шум, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто проголодался. Следует сказать, что нет ничего проще, чем его инвентарь: две корзины из бамбука в форме призмы высотой около метра, в длину и ширину от тридцати до сорока сантиметров, в которых было все необходимое для приготовления пищи. В одной размещался небольшой переносной очаг, сделанный, видимо, из огнеупорной глины, и там же хранились дрова, служившие топливом. В другой были аккуратно сложены фарфоровые чашки и ложки, а также сосуды, наполненные душистыми травами и пряностями, столь необходимыми при приготовлении блюд по рецептам любой уважающей себя кухни. Если «ресторатор» не находил в каком-то месте клиентов, он разжигал огонь, надевал свои корзинки на длинный бамбуковый шест, который носят на плече, и переходил на другую улицу со всем своим хозяйством. Варево в кастрюльке в это время томилось на огне и распространяло очень приятный запах, возбуждавший у прохожих волчий аппетит. Частенько рядом с владельцем переносной кухни располагались и другие уличные умельцы, такие как цирюльники, знахари, астрологи, ювелиры, кузнецы и так далее. Цирюльник тоже носил на плечах бамбуковые шесты, на концах которых были укреплены необходимые для художественной прически инструменты. Прямо у него перед носом при каждом шаге раскачивался из стороны в сторону деревянный цилиндр, полированный, покрытый красным лаком и увенчанный медным тазом. В этом украшенном полосами металла сосуде хранился запас воды. За спиной цирюльника покачивалась небольшая, тоже покрытая красным лаком скамеечка, а между ее ножками прятались несколько зеркал в начищенных до блеска медных рамках и таких же медных ящичков, где лежали инструменты китайского Фигаро[247]. Когда появлялся клиент, цирюльник снимал с шеста сосуд с водой и скамеечку, усаживал клиента поудобнее, ставил перед ним тазик и с важным видом приступал к ответственной процедуре бритья. Взмах бритвой, и голова клиента становилась голой, как арбуз. Затем при помощи различных щипчиков брадобрей обрабатывал уши, брови и ресницы клиента, причем действовал он практически молниеносно. Однако, несмотря на всю свою ловкость в работе и общепризнанную полезность (ибо ни один китаец не может бриться сам), в Китае на цирюльников смотрели и смотрят косо, причем они и в самом деле частенько оправдывают свою дурную репутацию. Их профессия считается одной из самых малопочтенных. Точно так же презираемы актеры и лодочники, никто из них никогда не сможет стать уважаемым членом общества и занять какую-либо должность, сколь бы ни были велики его заслуги и личные достоинства. Столь же жестоко относится общество и к их детям и внукам, и только третье поколение семьи цирюльника, то есть его правнуки, уже будут иметь возможность подняться выше по социальной лестнице. Попадались на улице и торговцы лекарственными травами, предлагавшие прохожим волшебные снадобья от всех болезней, вызванных ветром, холодом или жарой; эти снадобья относились к одной из трех категорий китайского лекарского искусства. Эти целители рекламировали свое искусство при помощи развернутых перед почтенной публикой огромных листов с изображением людей, излеченных кто притираниями, кто мазями, кто компрессами, кто пилюлями, кто настойками, приготовленными по рецептам красноречивых шарлатанов. Хотя по улицам весь день ездили тяжело нагруженные телеги, дорожные происшествия случались крайне редко, настолько дисциплинированны и точны в работе китайцы. Часто на улицах можно было встретить крестьянок, одетых в синие хлопковые халаты. Все они были подпоясаны широкими разноцветными поясами, а спереди носили небольшие фартучки. Из-под халатов выглядывали довольно короткие штаны также из крашеного в синий цвет хлопка, оставлявшие открытыми крепкие загорелые ноги. Черные блестящие волосы, стянутые ярко-красными лентами или укрепленные на макушке при помощи длинных серебряных булавок, украшенных искусственными цветами, являлись чудесным обрамлением для смуглых, дышавших силой и здоровьем лиц. Замечательным дополнением крестьянского костюма были и большие серебряные кольца (диаметром пять — шесть сантиметров), которые женщины с гордостью вдевали в уши в качестве серег. Иногда на улице появлялось небольшое стадо, состоявшее из четырех-пяти буйволов. Животные тяжело переставляли огромные ноги. На мордах у них было написано полнейшее спокойствие. Эти невозмутимые гиганты могли бы запросто растоптать надоевшего им своими пронзительными криками погонщика, зачастую не старше десяти лет от роду, но нет, напротив, они покорно шли туда, куда он им указывал. Случалось и так, что на улице, где царило вечное столпотворение, вдруг появлялась странная процессия. Она медленно прокладывала себе путь среди толп зевак. Постепенно шум стихал, и все взоры обращались к полицейскому, шедшему впереди и через определенные промежутки времени бившему в барабан. За ним следовал человек, прижимавший руки к ушам и пытавшийся скрыть лицо при помощи широких рукавов своего халата. В ушные раковины бедняги были воткнуты палочки с бумажками на концах, где красовались надписи, раскрывавшие суть совершенного наказуемым преступления. Этот человек должен был сам держать это странное украшение в виде рогов на своей голове, и он ни на секунду не смел опустить руки, так как следом за ним шли два солдата, призванные следить за каждым его движением. Обычно так водили по улицам воришек, чтобы другим было воровать неповадно. Его преступление было, видимо, незначительным, ибо в серьезных случаях китайское правосудие прибегало к ужасным, изощренным пыткам. Правда, человек, выставленный подобным образом на публичное обозрение, подвергался еще битью палками. Порка бамбуковыми палками чрезвычайно болезненна. При наказании используют очень гибкие и крепкие побеги бамбука. Осужденного укладывают на живот, один из подручных палача держит голову бедняги, второй садится ему на ноги, а сам заплечных дел мастер задирает штаны, обнажая ляжки до самых ягодиц, и затем принимается с поразительной быстротой наносить удары, отсчитывая их монотонным, ничего не выражающим голосом. Число ударов различно. Оно не ниже сотни, но редкопревышает три сотни. Наказание сносно, когда число ударов невелико, но мука становится невыносимой, если это число умножается в геометрической прогрессии. Кожа после такой порки отмирает, образуя огромную, ужасную на вид язву. Правда, с палачом можно договориться. Это способствует смягчению наказания, которое выливается порой в профанацию. Достаточно показать свои аргументы в виде кошелька. Палач не остается безучастным к подобному источнику барыша и сообразно финансовому вкладу делает снисхождение осужденному. Удары сыплются часто, словно дождевые капли, можно легко пропустить сколько-то там чисел в счете ударов; кроме того, палач делает особое движение рукой, при помощи которого раздается сухой треск бамбука, имитирующий жестокий удар по телу, тогда как на самом деле палка едва касается кожи. Разумеется, наказуемый в подобных случаях вопит, словно его колотят изо всех сил, и эти вопли звучат зверской музыкой в ушах любителей таких спектаклей. Арсенал китайских наказаний отличается редким богатством. В первую очередь здесь следует назвать шейную колодку, напоминающую наш допотопный позорный столб, с той лишь разницей, что в Китае он является переносным и постоянно сопутствует наказуемому. Шейная колодка представляет собой нечто вроде стола, без ножек, разумеется, с дырой посередине, достаточно широкой, чтобы в нее прошла шея, но слишком узкой для головы осужденного. Такая платформа, от семидесяти сантиметров до одного метра диаметром, состоит из двух подвижных частей, соединяемых перекладиной, прикрепленной к колодке с помощью стальной цепи, снабженной висячим замком. Сверху на доску через соединение двух половин наклеиваются две бумажные полоски с печатью «я-мена», перечнем совершенных преступлений, приговором и сроком наказания. Обычно шейная колодка не слишком тяжела, поэтому главное неудобство для наказуемого представляет не ее вес. Особые мучения он испытывает из-за того, что размеры колодки не позволяют ему дотянуться руками до головы, которая в результате оказывается совершенно изолированной от остального тела. Таким образом, он не может ни почесаться, ни высморкаться, ни прикрыть голову, ни снять головной убор, ни вытереть пот, ни принять пищу. Чтобы поесть, ему приходится прибегать к помощи кого-либо из друзей или близких; утолив голод, он может совершенно беспрепятственно прогуливать свой деревянный хомут где душе угодно. Это наказание, странное, унизительное и при длительных сроках чрезвычайно тяжкое, обычно длится восемь, пятнадцать и двадцать дней; иногда, правда, и месяц или два, но не более трех. Вооруженное ограбление или убийство обычно караются смертью. Согласно китайскому законодательству, только император имеет право осудить на смерть; поэтому всякий раз, когда суды рассматривают дела, предусматривающие подобный приговор, все вещественные доказательства по делу пересылаются в Пекин, и обвиняемый ждет в тюрьме решения своего монарха. Все дела такого рода император рассматривает раз в год, осенью, и именно в это время приводятся в исполнение приговоры над всеми осужденными на казнь в течение года. Кроме того, необходимо, чтобы императорский рескрипт, касающийся всех дел, представленных ему на рассмотрение, был получен судебной инстанцией каждого округа. Этот обычай, носящий, как правило, абсолютный характер, допускает, однако, некоторые редкие исключения. В районах, находящихся на осадном положении, а также в случае чрезвычайных обстоятельств, император передает главнокомандующему, под его личную ответственность, право приведения приговоров в исполнение. В районе порта Фучжоу насчитывалось немало людей, среди которых было совершенно необходимо поддерживать строгую дисциплину. Императорский комиссар, его превосходительство Чжоу, получил от своего монарха страшное право казнить и миловать любого китайца, совершившего преступление в пределах его округа. Он пользовался этим правом с непреклонной решимостью, благодаря чему повсюду царил столь отменный порядок, что в течение шести лет европейцы могли спокойно жить среди грубой толпы и при этом ни разу не подверглись оскорблениям, даже в самые напряженные моменты, в частности, во время резни в Тяньцзине. «Случаю было угодно, — пишет господин Леон Руссе, — сделать меня свидетелем одного из этих высших искуплений. Дело касалось заурядного убийцы, бродяги, явившегося в данный округ и ударом ножа убившего лавочника с целью ограбления. Общественное и, возможно, противоречащее официальному судебное разбирательство существует в Китае чисто формально. Дознание, ведущееся самым тщательным образом, позволяет судье принимать решение, и поэтому, если только не вскрывается каких-либо чрезвычайных обстоятельств по делу, приговор обычно известен заранее и получает одобрение общественного мнения. В тот день все были уверены, что виновный будет приговорен к смерти. Последние сомнения на этот счет исчезли, когда появился палач, простой солдат, вооруженный тяжелой острой саблей, и направился к месту, где свершалось правосудие, к пустырю на берегу реки Мин, совсем рядом с причалом, на котором и было совершено преступление. Придя на место, солдат вытащил саблю из ножен, проверил остроту клинка и замер в безразличном ожидании, а тем временем вокруг него уже начала собираться толпа. По воле случая я оказался совсем рядом. Меня поразило спокойствие и равнодушие этого человека, равно как и беззаботность толпы, принявшейся смеяться и шутить, тогда как сам я был охвачен страшным волнением, которое никак не мог унять. Вскоре взрыв двух петард возвестил о том, что осужденный покинул я-мен; быстро приближающийся дикий шум разнес по окрестностям весть о том, что наступил момент искупления. В толпе произошло движение, и в открывшемся проходе мы увидели группу солдат, вооруженных алебардами, пиками и трезубцами, буквально тащивших за собой, испуская при этом громкие крики, несчастного осужденного. У меня сжалось сердце. Этот человек находился, казалось, в полной прострации, настолько неподвижными и как бы застывшими были черты его смертельно бледного лица. Он был гол до пояса, а руки ему связали за спиной. Подталкиваемый солдатами, он рухнул на колени и тут же помощник палача, схватив его за косичку, пригнул голову к земле, тогда как палач с обнаженным клинком встал слева от жертвы. В толпе, только что еще страшно шумной, воцарилась мертвая тишина; солдаты выстроились по краям дороги и застыли в ожидании; на все это потребовалось времени гораздо меньше, чем на описание происшедшего. Палач, застывший как изваяние, устремил свой взгляд на дорогу. Вдруг со стороны я-мена показался верховой, это был мандарин в полном военном облачении; он размахивал чем-то вроде футляра, покрытого желтым шелком и вышивкой. Я почувствовал мгновенное облегчение: возможно, это было помилование или, по крайней мере, отсрочка приговора. Но увы! Это был роковой знак. Едва заметив его, палач быстро взмахнул саблей, и начиная с этого момента я уже ничего не видел. Перед моим взором что-то блеснуло, я услышал глухой удар, и, как мне показалось, успел различить что-то красное, и тут же толпа взорвалась дикими криками и в ней произошло какое-то движение. Солдаты бегом направились в сторону я-мена, палач тоже куда-то исчез; толпа поредела, а на земле осталось лишь кровоточащее тело, которое вскоре покроют белой циновкой. Головы там уже не было. Взрыв третьей петарды возвестил о том, что палач только что доставил ее в я-мен в качестве свидетельства свершившегося искупления. Несколько часов спустя голова уже находилась в решетчатой клетке, подвешенной на верхушке столба, вкопанного на берегу реки, в качестве предупреждения любителям поживиться на чужой счет. И еще очень долго, два или три года, как мне кажется, после свершения приговора, эта голова еще была там. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел осмыслить драматическую сторону всей сцены. Единственное, что я смог заметить, так это ловкость и силу палача, а также превосходные качества его сабли, без чего он бы просто не смог выполнить свою ужасную миссию. Для того чтобы выполнить столь страшную работу, нужно, кроме того, обладать завидным хладнокровием, поскольку, как я узнал позже, палач не имеет права повторить удар, и если ему не удалось отрубить голову жертве с первой попытки, он обязан последовательно перерезать все, что еще связывает голову с телом, не имея права вновь поднять саблю для повторного удара. Ловкость “нашего” палача, к счастью, избавила присутствующих от необходимости лицезреть эту ужасную операцию. Перед исполнением приговора он, кажется, в качестве тренировки упражнялся со своей саблей, рассекая огурец на ломтики толщиной с бумажный лист…» Таким образом, благодаря обилию свободного времени господину Леону Руссе удалось, проявив терпение и наблюдательность, с самого начала понять Китай, который для людей поверхностных остается и после длительного пребывания страной либо вообще за семью печатями, либо, что еще хуже, страной, понятой наполовину или на четверть. В первую очередь любопытство европейцев, попавших в Китай, возбуждает опиум и опиумные курильни. Господин Леон Руссе описывает нам саму процедуру курения опиума, столь дорогую сердцу каждого жителя Поднебесной… «… На “гане” расстелено красное покрывало; посреди находится лакированное блюдо, на котором расставлены все приспособления, необходимые для процедуры. С каждой стороны положены две огромные подушки, на которые курильщики могут преклонить головы. Трубка состоит из массивного черенка черного дерева, часто украшенного серебряным орнаментом и заканчивающегося с одной стороны цилиндром из нефрита или слоновой кости с отверстием посредине. На другом конце трубки, напоминающей несколько укороченную флейту, находится выступающая в сторону головка. По форме она напоминает луковицу и снабжена лишь очень узким отверстием. Курильщик располагается по одну сторону гана, а по другую — человек, занимающийся приготовлением опиума. В маленькую коробочку, содержащую опиум в виде сиропа, он погружает нечто вроде вязальной иглы и набирает небольшое количество этой отравы. Затем держит его в пламени лампы, стоящей на подносе. Опиумная вытяжка вздувается, уплотняется и густеет до консистенции мягкого воска. Разминая пальцами эту вязкую массу, ее уплотняют и придают ей форму небольшого конуса, пронзенного иглой, с вершиной, обращенной в сторону ее острия. Когда опиумная масса достаточно просушена, слегка нагревают отверстие головки трубки и, пока она не успела остыть, к дырке приклеивают вершину конуса опиумной массы. В таком положении массу держат некоторое время, чтобы она успела привариться к головке трубки. Затем, удерживая конус одной рукой в этом положении, другой осторожно вытаскивают иглу, которая оставляет в опиумной пасте сквозное отверстие. На этом подготовка заканчивается, и к делу приступает курильщик. Он берет губами толстый конец трубки и, наклоняя головку трубки, подводит ее к пламени маленькой лампы. Опиум вспыхивает и буквально в две-три затяжки все продукты горения всасываются курильщиком. Причем затягивается он глубоко, стараясь загнать как можно дальше в себя весь дым, и делает выдох лишь несколько мгновений спустя. Как правило, одной трубкой он не довольствуется, а выкуривает, сообразуясь со своими средствами, привычками и темпераментом, две, три, четыре, а то и больше трубок. У заядлого курильщика токсический эффект проявляется не сразу; отупение приходит медленно и вместо болезненного, извращенного сна, который, кажется, столь благостен для этих несчастных, наступает период непроходящего, тяжелого забытья, внушающего к людям, впавшим в подобное состояние, чувство глубокого сострадания. Несчастные, впавшие в такого рода забытье, становятся жертвами некоего летаргического оцепенения, превращающего их на время в настоящих рабов. Нет ничего ужаснее этого состояния каталептической неподвижности, при котором глаза закатываются и остаются видны лишь белки, лишенные всякого выражения; лицо превращается просто в маску, а движения становятся вялыми. Но что еще ужаснее, так это то, что привычка к жуткому зелью переходит в настоящее исступление; пристрастившись к опиуму, курильщик теряет интерес и вкус к работе, и, по мере того как тают его денежные средства, страсть к дурману лишь возрастает, и, чтобы удовлетворить ее, он готов спустить все что угодно; ради нескольких затяжек он готов не есть, не пить и, доведенный наконец до крайней нужды, способен удариться во все тяжкие, даже нищенствовать, лишь бы продлить на несколько дней это жалкое существование, конец которого, впрочем, недалек, поскольку вскоре он уже не сможет достать яд, который его убивает, но без которого он не в состоянии прожить и дня. К счастью, у китайцев есть и другие привязанности, более спокойные, более благородные и, главное, менее опасные. Они обожают все, что связано с сельским хозяйством, садами, цветами, разведением домашней птицы. В сельском хозяйстве их изобретательность и терпение дают просто фантастические результаты. Они умудряются буквально руками просеять всю землю, доставленную в совершенно недоступные места, полить, удобрить, просто заставить ее родить великолепные деревья и восхитительные цветы. Вкус их не всегда безупречен, поскольку они иногда насилуют природу, принуждая ее производить на свет настоящих чудовищ. Таковы, например, эти карликовые деревья, насчитывающие сто и более лет, выращенные в горшках, причем их рост сдерживался не одним поколением людей с целью придать им необычную, а иногда и просто нелепую форму. С помощью долготерпения и всякого рода ухищрений и уловок они заставили эти деревья воспроизводить форму человека, тигра, птицы, башни и т. п. Их сады являются образцом чистоты, порядка и ухоженности. Фруктовые деревья, выращенные с удивительной заботой, дают плоды редкой величины и вкуса. Овощи также отличаются великолепными размерами и вкусовыми качествами и приносят несколько урожаев в год. Кроме того, китайцы славятся поразительным искусством выращивать цветы. Здесь нет ни одного сада, в котором, как бы ни беден был его хозяин, вы не увидели бы цветника, большого или совсем крошечного, но в любом случае замечательно ухоженного, где бы не произрастали великолепные экземпляры. Следует также упомянуть и о восхитительных висячих садах, образующих гигантские корзины над озерами и реками, закрытые легкими оригинальными навесами от града и солнечных лучей и поддерживаемые ярко выкрашенными сваями, на которых покоятся в огромных плетенках роскошные цветники. Будучи друзьями природы, китайцы относятся к ней с любовью, и охота, которой с такой страстью предаются «западные варвары», их совсем не привлекает. Есть, конечно, охотники и в Китае. Но они отнюдь не спортсмены, увлекающиеся этим занятием из любви к искусству, по велению моды или просто от нечего делать, а профессионалы, сделавшие охоту своим ремеслом. Они довольно многочисленны, и их легко опознать по некоторым отличительным признакам. На правой скуле пониже глаза, около носа, у них есть довольно заметный шрам, неизгладимый след их профессиональных занятий, связанных с огнестрельным оружием. Ружья китайских охотников не имеют прикладов, которые можно было бы легко упереть в плечо; деревянная часть ружья просто слегка изогнута на конце. Для прицеливания охотник вынужден упереть изогнутый конец в щеку; часто повторяющиеся удары, вызванные отдачей, приводят к тому, что в этом месте образуется шрам, происхождение которого можно было бы искать довольно долго, если не получить разъяснений от местных жителей. То же самое можно сказать и о некоторых областях промышленности, в которых китайцы достигли поразительных результатов, несмотря на самые отсталые орудия труда. Можно сказать, что китайцам удается добиться замечательных результатов, благодаря своему неистощимому терпению и удивительной самоотдаче в работе. Например, в области переработки железной руды, залежи которой весьма велики и отличаются превосходным качеством. Вся переработка осуществляется на древесном угле. После предварительной промывки железной руды, дабы очистить ее от глины и песка, китайцы приступают к самой операции. Но представьте себе, какая рабочая сила, какой гигантский предварительный труд нужен для получения субстрата, правда, весьма богатого окисью магнитного железа, но себестоимость которого была бы уже очень высока в стране, где рабочая сила просто ничего не значит, если можно так выразиться. Теперь, вместо того чтобы получать железо сразу, как это делается в каталонских кузницах, китайцы начинают прежде плавить руду в устройствах, напоминающих доменную печь, но очень маленьких размеров. Если все прошло нормально, что бывает не всегда, они получают слиток чугуна, который затем перерабатывают в железо в небольших очистных печах. Все эти операции требуют тем большего внимания и точности, что сами орудия труда китайцев позволяют работать лишь с небольшими количествами материалов. Получаемое в Китае железо отменного качества, что неудивительно, принимая во внимание превосходные свойства исходного сырья и способ его переработки; китайцы делают из него небольшие призматические слитки, правда, почти всегда плохо проваренные и пористые, и в таком виде поставляют их на рынок. Китайские заводы не имеют постоянного местоположения; они, как правило, высоко мобильны и постоянно переезжают с места на место, в зависимости от потребностей промышленности. Что в конечном счете определяет расположение завода, так это не наличие сырья, а наличие необходимых запасов топлива. Промышленник покупает на корню весь лес, растущий на горе, и перевозит все необходимое оборудование и инструмент в какое-то место в пределах досягаемости ее склона; бригада лесорубов и угольщиков начинает валить лес и, обжигая его в печах, получает древесный уголь, необходимый для самых разнообразных нужд; это продолжается до тех пор, пока гора окончательно не «облысеет». Как только на ней совершенно не остается растительности, промышленник покупает другую гору и переезжает на новое место. Действительно, в горной стране, лишенной дорог и современных средств сообщения, гораздо выгоднее перевозить железную руду, нежели уголь; чем и объясняется кочевая промышленность этой страны и ее обычаи, на первый взгляд противоречащие здравому смыслу. Только что мы сказали: отсутствие дорог и затрудненное сообщение. Два этих недостатка в такой огромной стране как Китай, стране с многовековой историей, столь велики, что это даже трудно себе представить. Выражение «отсутствие дорог» не совсем справедливо, так как кое-какие дороги здесь все-таки есть, но они таковы, что лучше бы их не было вовсе. Прежде всего, порочен сам принцип их строительства в том смысле, что они не вымощены камнем. Мы, европейцы, считаем, что главным достоинством дороги является ее прочность. В Китае это далеко не так. Здесь же просто приказывают: чтобы попасть из одного пункта в другой, необходимо следовать в таком-то направлении. Первый экипаж прокладывает колею, которая постепенно все углубляется и разбалтывается, причем никто и не думает о том, чтобы заделать рытвины. А поскольку всякое покрытие отсутствует, от постоянного контакта колес с землей почва вскоре превращается в мельчайшую пыль, уносимую ветром бог знает куда, после того как она запорошит проезжающих с ног до головы. Вскоре такие дороги превращаются в две длинные глубокие ямы с высокими откосами по сторонам. Там же, где почва более рыхлая и легко уносится ветром, такие дороги вскоре начинают напоминать русло реки. Кроме того, ни о каком благоустройстве дорог здесь и не помышляют. Если почва твердая или каменистая, вас будет немилосердно трясти, ибо никто и не подумал выровнять дорогу; если же она мягкая и податливая, вас ждет немилосердная пылища и непролазная грязь; если же она, не дай бог, болотистая, вы увязнете в ней всенепременно. О! Путешествие по Китаю в экипаже — это далеко не увеселительная прогулка, поскольку если дороги просто плохи, то об экипажах и говорить не приходится. Господин Леон Руссе, которому предстояло совершить путешествие примерно в тысячу лье, из которых, на его счастье, две трети следовало сделать по воде, долго раздумывал, на чем же лучше проехать треть пути, приходящуюся на сушу. Сначала он подумывал о тачке. Да-да, не удивляйтесь! В Китае, насчитывающем сорок пять веков цивилизации, все еще в ходу тачки. Правда, эта тачка несколько совершеннее тех, которыми пользуются наши землекопы и которые уже заменены на больших предприятиях вагонетками Дековиля. Учитывая плачевное состояние китайских дорог, зачастую более смахивающих на тропинки, китайская тачка, не отличаясь ни удобством, ни комфортабельностью, тем не менее используется, за неимением лучшего, для перевозки людей и грузов на большие расстояния. Будучи чрезвычайно легкой, она представляет собой решетчатую раму с горизонтальными прутьями, установленную на одном колесе большого диаметра, расположенном примерно в центре всего сооружения. В результате тачка как бы делится колесом в продольном направлении на две примерно равные части, сужающиеся спереди. Груз равномерно размещается по бокам так, что основная тяжесть приходится на колесо, что облегчает возчику задачу по перемещению экипажа и управлению им. Путешествуя на тачке, странник расстилает по одну сторону от колеса постельные принадлежности, с которыми здесь никогда не расстаются, а затем уже располагается сам. Его компаньон поступает точно так же с другой стороны колеса, дабы все сооружение находилось в равновесии. Если дорожного спутника не оказывается, то в качестве противовеса используется багаж. Кроме очевидного неудобства подобного способа передвижения, другое соображение заставило господина Руссе выбрать иное, более комфортабельное и менее разорительное средство передвижения. Дело в том, что в Китае более чем где-либо нельзя обойтись без довольно значительного количества людей, чье число плохо согласуется со столь примитивными средствами передвижения. Сколько же нужно тачек, чтобы перевезти подобным образом, день за днем, такое число людей вместе с их багажом; а что за расходы! Путешественник отдал предпочтение другому способу передвижения, соперничающему с вышеописанным и использующему вместо человека мула, к тому же снабженного двумя колесами: повозке. Китайская повозка представляет собой маленькую тележку, лишенную каких-либо рессор и поставленную прямо на ось. Все сооружение сработано чрезвычайно экономно: целиком из дерева без единой металлической детали. Колеса, очень тонкие сравнительно с их диаметром, обиты по окружности железными полосами, а дабы предупредить слишком быстрый износ ободьев от соприкосновения с бесконечными рытвинами, сбоку их обивают гвоздями с большими закругленными шляпками, образующими на колесе замысловатые фигуры. На ось устанавливается легкая полуцилиндрическая конструкция, обтянутая толстым полотном, закрывающим бока повозки и образующим навес для защиты от дождя и солнца. Однако размещаться в такой повозке можно только лежа и доступ в нее открыт только спереди. Рама повозки несколько выступает спереди и сзади этого подобия коробки. К выступающей задней части привязывается багаж, открытый, таким образом, всем ветрам и непогоде; спереди помещается возница со свешенными вниз ногами. Что касается упряжки, то она состоит из двух мулов, один из которых впрягается прямо в оглобли, а другой впрягается не цугом, а справа от повозки, с помощью постромок. «Как ни медлительны и неудобны были эти отвратительные повозки, — сообщает господин Руссе, — мы были вынуждены их нанять за непомерную цену. Пришлось заплатить девяносто четыре тайла, то есть семьсот пятьдесят франков, за четыре повозки и девять мулов. Поездка, протяженностью в 1800 ли, или 180 лье, была рассчитана на восемнадцать дней. В условленный час все было готово, и мы разместились каждый в своей повозке. Не без некоторого труда мы протиснулись в узкое отверстие, ставшее еще более узким по причине наших узлов с постельными принадлежностями, которые следовало разостлать внутри этого ящика для большего удобства. Предосторожность не была излишней, в чем мы вскоре и смогли убедиться. Первый же взгляд, брошенный в глубину ящика, привел нас в веселое расположение духа: уж очень смешным показалось нам все это сооружение. Наконец мы кое-как устроились, и караван трогается в путь. Но не успел я крикнуть, чтобы возница остановился, как два или три ощутимых толчка заставили меня стукнуться головой и лицом об обе стенки ящика. И сразу все очарование исчезло; воображаемые достоинства, которыми я успел наделить свою повозку, мгновенно испарились, уступив место самому горькому разочарованию. Упершись обеими руками в стенки ящика, я делал нечеловеческие усилия, чтобы смягчить беспрерывные удары, которые, не прими я этих мер, непременно превратили бы мою голову в нечто бесформенное. Мой возница поглядывал на меня исподтишка и лишь втихомолку посмеивался над моей разбитой физиономией и неловкими усилиями избежать очередного толчка. Мало-помалу я все же освоился с этой невообразимой тряской и свыкся с ней настолько, что в конце путешествия мне удалось даже несколько раз соснуть в этом ящике для пыток». Вслед за этим произошел целый ряд совершенно невообразимых происшествий, являющихся непременным и весьма неприятным сопутствующим фактором любого путешествия по Китаю. Постоянная тряска здесь в счет уже не идет, ибо это постоянный атрибут кочевой жизни в катящемся ящике, называемом повозкой. Зачастую дорога становится совершенно непроезжей, а колдобины по краям колеи становятся такими высокими, что повозка того и гляди вот-вот развалится. Чтобы не опрокинуться, возница выбирается из колеи и идет куда глаза глядят, напрямик через поля, нимало не беспокоясь о том, что скажут или сделают их хозяева. Наконец день заканчивается, очередной этап вымучен, как выражаются наши старые служаки, и мы оказываемся в деревне, а следовательно, на постоялом дворе. Но это уже не времена Марко Поло и, старея, Китай уже многое потерял. Постоялые дворы теперь грязны и находятся в еще более мерзких деревнях, где на улицах полно зловонных луж, наполненных нечистотами животных и людей и гниющими отходами… За неимением лучшего приходится довольствоваться и этим. И все же иногда приятно оказаться под крышей, голодному, валящемуся с ног от усталости, измочаленному, и перекусить, отбросив всякие предубеждения, чем бог послал и тем, что можно достать за деньги. Чувствуешь себя просто счастливым, что удалось сюда добраться без поломки и не засесть на всю ночь в какой-нибудь рытвине под проливным дождем, поскольку в довершение всех несчастий, еще и льет дождь. И еще одно крайне неприятное обстоятельство: полное отсутствие солидарности, взаимопомощи у возниц, доходящее до абсурда, поскольку они действуют по принципу: мое дело — сторона, не задумываясь о том, что завтра любой из них может попасть в такой же переплет. Они не оказывают никакой помощи своему товарищу, что мается от скуки в ожидании подмоги, за которой путешественник вынужден отправиться в ближайшую деревню. Наконец приводят быков, все наперебой начинают предлагать свои услуги и заламывают с вас втридорога, разумеется; повозку разгружают, быки вытаскивают ее, иногда по частям, из грязной колдобины, в которую она угодила. Так проходит часть ночи. Наконец добираемся до какой-то вонючей деревеньки и зловонного постоялого двора, наскоро перекусываем чем-то совершенно невообразимым из дикарской кухни, закутываемся в свои более или менее влажные одежды, дабы избежать укусов самых разнообразных насекомых, кишащих в этих грязных местах и в конце концов засыпаем, совершенно разбитые, на постели из листьев сорго; хорошо еще, если они оказываются свежими. Считайте, что вам повезло, если дальше к северу вам удастся отдохнуть на «кунге», представляющем собой нечто вроде большой печки, занимающей бо́льшую часть комнаты и служащей одновременно и лавкой и постелью. Построенная из глины или кирпича, она обладает тем достоинством, что на ней можно расстелить циновки и отдохнуть более или менее спокойно. Изредка, однако, кое-что занятное встречается на дорогах. Кое-где можно заметить какие-то сооружения из гладко отшлифованного камня. Это нечто вроде портиков, где в нишах находятся большие глыбы хорошо обработанного черного мрамора, на которых выгравированы длинные надписи, посвященные каким-то достопамятным событиям или деяниям известных людей. Иногда дорогу путешественникам преграждает бесконечная вереница быков, груженных каменным углем. И тогда волей-неволей вы вынуждены ждать бог знает сколько времени! Встречаются также поля, более или менее возделанные, сельские местечки, более или менее заселенные, деревни, в той или иной степени грязные, затем ручьи, речушки, которые можно преодолеть вброд, реки с паромными переправами, справа и слева от дороги попадаются кладбища, разбросанные по полям, с небольшими кипарисовыми рощами. Попадаются и встречные повозки, везущие путешественников, таких же измученных и подверженных тем же испытаниям местными дорогами, бредут пешеходы с традиционными бамбуковыми шестами на плечах, на концах которых болтается какая-то поклажа, люди, толкающие перед собой тачки, а иногда и тачку с парусом, вид которой когда-то так развеселил достославного Марко Поло!.. Иногда дорога, которая была до этого плохой, но просто плохой, с ее колеями, где худо-бедно, но еще могли катиться гордо именуемые колесами диски, украшенные гвоздями, так вот, эта дорога, позвольте повторить, становится совершенно непроезжей. Мулы вытягивают шеи, возница щелкает кнутом, а путешественник, уже свыкшийся с этим неспешным передвижением, высовывает нос в окошко и интересуется, почему вообще остановились. Наконец все выясняется! Идет ремонт дороги! Крестьяне, насильно согнанные на работы, распределяются по обеим сторонам дороги побригадно, с лопатами и мотыгами, роют канавы, землю из которых выбрасывают, а затем разравнивают на дороге. В результате так называемый ремонт тут же превращает дорогу, которую, обладая неуемным оптимизмом и с большой натяжкой, все же можно было назвать проезжей, во вспаханное поле, где каждый шаг дается с неимоверным трудом. Немного времени потребуется дождю, чтобы пропитать эту рыхлую землю, превратить ее в непролазную трясину, в которой вязнут и мулы и повозки, а путник оказывается обреченным на нескончаемое ожидание. Однако постоялый двор, даже самый примитивный, к счастью, вознаграждает путешественника за все тяготы перегона. Издерганный, измученный, накувыркавшийся вдосталь, покрытый синяками, бедняга в конце концов начинает помаленьку продвигаться вперед и отдает себе в этом отчет, замечая порой с несказанной досадой, насколько полегчал его кошелек. Его кошелек! Не более чем общепринятое выражение. Поскольку здесь, в Китае, этой невообразимо странной стране, кошелек мог бы стать удивительным монументом… Однако лучше поговорить о деньгах сейчас, дабы не интриговать читателя по поводу металлических кружков, имеющих хождение в этой империи странного и неожиданного. В Китае существует только одна разменная монета, медная, называемая местными жителями «цянь» и которую европейцы окрестили «сапек». В центре монеты проделано квадратное отверстие. Состав ее и, следовательно, действительная стоимость подвержены сильным колебаниям в зависимости от нужд провинциальных властей, которые только и имеют право ее отливать, поскольку она действительно отливается, а не штампуется: количество меди, входящей в ее состав, иногда увеличивается, но чаще уменьшается и заменяется эквивалентными количествами свинца, олова, цинка, железа и даже земли. Вес и размеры монеты также меняются. В периоды волнений и возмущений провинциальные власти, дабы увеличить свои доходы, «урезают» монету, и тогда фальшивомонетчики, для которых Китай поистине рай земной, пускают в обращение еще более урезанные, если, конечно, это возможно, сапеки. В результате возникает фантастическая путаница, напоминающая известную головоломку, рожденную в той же стране, что и эта поистине уникальная монета. Монеты нанизывают на шнурок, пропущенный через центральные отверстия; собранные таким образом в нечто напоминающее четки, они называются «цяо» и служат самым ходовым средством денежного обращения. Но и цяо не является фиксированной единицей: он может состоять из тысячи сапеков, разделенных узелками на столбики по сотне монет. Иногда в нем бывает восемьсот, пятьсот, четыреста, а то и меньше монет. Но поскольку состав каждой монеты неоднороден, то вполне допустимо включать в цяо наряду с полновесными монетами и сапеки меньшего достоинства. При сохранении всех пропорций вот была бы «радость» для наших французских мясников и тихий ужас для всех домохозяек! Как бы то ни было, но эти «вкрапления» разнородных монет являются предметом бесконечных споров, в которых и проявляется дух и сущность китайской расы. Кроме использования в цяо обесцененных монет, торговые правила в некоторых местах разрешают банкирам удерживать более или менее значительное число сапеков в качестве комиссионного сбора. «Так, — пишет господин Руссе, — мне частенько случалось подозревать моего повара в том, что он наживается при закупке провизии, поскольку я просто не знал, что он совершенно законно недодает мне десять, двенадцать, а то и пятнадцать сапеков на тысячу». Из-за отсутствия денежного эталона все цены в Китае подвержены частым колебаниям, что вынуждает постоянно заниматься громоздкими подсчетами. Например, если мексиканский пиастр стоит иногда тысячу сто сапеков, то вдруг за него дают лишь тысячу сорок, а то и тысячу двадцать монет. Как бы то ни было, но можно считать, что один «цяо» из тысячи монет равноценен нашим пяти франкам, а один сапек стоит примерно полсантима. Но если принять во внимание, что цяо весит от полутора до двух килограммов, то можно себе представить, с какими трудностями связана перевозка значительной суммы. Таким образом, наш путешественник, имевший в расчете на все длительное путешествие сумму от восьми до десяти тысяч франков, не мог и помыслить обременить себя грузом в три тысячи килограммов медной монеты. Громоздкий и неудобный груз значительно увеличил бы транспортные расходы, да и присмотреть за ним было бы невозможно, дабы предотвратить кражу. Из-за отсутствия золотых и серебряных монет положение путешественника было весьма затруднительно. Невозможно воспользоваться кредитными билетами, выпущенными частными финансовыми учреждениями, поскольку они имеют хождение только в весьма ограниченном районе. Вексель также не подходил, поскольку банки, как правило, чисто местного значения, не имеют никаких связей с внешним миром, к тому же, если даже такие и существовали бы, то в любом случае эти банки драли бы такие комиссионные проценты, что и этот способ расчета оказался бы фактически неприемлемым. Господин Руссе уже подумывал о листовом золоте, однако обменный курс этого металла, столь легкого и удобного для транспортировки, оказался настолько невыгодным, что ему пришлось отказаться от этой затеи. Оставался только мексиканский пиастр, имевший хождение и более или менее устойчивый курс во всех портах, открытых для европейской торговли. Однако принятый на побережье пиастр буквально ничего не стоил во внутренних провинциях, где китайцы, воспитанные на многовековых традициях, просто отказывались его принимать. Единственный выход состоял, таким образом, в том, чтобы воспользоваться серебряными слитками, которыми в Китае охотно пользуются при расчетах. Эти слитки, большие и маленькие, как правило, имеют форму лодки и снабжены клеймом торгового дома, по заказу которого они отлиты. Не имея установленного законом определенного денежного эквивалента обращения, эти слитки оцениваются в соответствии с их весом брутто. Поэтому при проведении расчетов их необходимо предварительно взвесить. Для этой цели в Китае применяется специальная весовая единица, которую китайцы называют «лян», а европейцы «таэль»; этот вес равняется тридцати семи с половиной граммам. Следует сказать, что эта цифра весьма приблизительна. Поскольку местные обычаи в Китае поистине всемогущи, то и таэлей там существует, по крайней мере, с десяток, и стоимость их разнится в зависимости от провинции, в которой вы находитесь. Как ни неудобен был такой способ денежных расчетов, господин Руссе был вынужден с ним смириться. В конечном итоге такой вариант был наиболее практичен; в этом случае господин Руссе должен был взять с собой всего лишь пятьдесят килограммов серебра в слитках, вес которых составлял от двух до двухсот граммов, а нужные довески просто отрезались от слитков ножницами в виде маленьких кусочков и тщательно взвешивались. Вот уж чисто по-китайски! Теперь следовало только остерегаться воров, поскольку вполне можно было предположить, что в такой стране, как Китай, где все шиворот-навыворот, чего-чего, а уж мошенников хватает. Поэтому при отсутствии всякой более или менее организованной полицейской системы каждый бережется как может от гнусных проделок ловких и изобретательных ворюг, у которых есть чему поучиться и нашим жуликам из больших европейских городов. О какой-либо безопасности на улицах, дорогах и реках в Китае можно забыть с наступлением сумерек. Поэтому из-за страха перед грабителями всякое передвижение в Ночное время прекращается. Ночью жители не покидают своих домов. Как только солнце опускается за горизонт, все укрываются в домах, лодках, на постоялых дворах. И это происходит отнюдь не потому, что здесь совсем нет полиции, по крайней мере, в городах она есть; дело в том, что ее храбрость, преданность делу и особенно честность ставятся населением, и не без основания, под большое сомнение. Господин Руссе приводит по этому поводу весьма показательный ответ одного китайца, которому он выразил свое удивление в связи со всеобщим добровольным заточением в ночное время суток. — Слишком много воров, — совершенно серьезно пояснил тот. — Но ведь существуют полицейские, солдаты, обязанные прибежать на малейший подозрительный шум и начать преследование злоумышленников. — О! Нет-нет, — возразил на это китаец и добавил: — Ведь у жуликов есть ножи! Из-за этого ужаса, внушаемого ножами жуликов полицейским, последние предоставляют разбойникам полную свободу действий или, во всяком случае, позволяют им плодиться в огромных количествах. Поэтому воры не оказывают при задержании ни малейшего сопротивления. Они слишком хорошо знают привычки полицейских и понимают, что если уж те набросились на них, то только потому, что имели многократное превосходство в силе, а следовательно, всякое сопротивление просто бессмысленно. В небольших поселках, селах и деревнях, где полиции вовсе нет, все-таки существуют ночные сторожа; как правило, такой сторож — это безусловно храбрый человек, вооруженный полой и на удивление звучной бамбуковой палкой, который ночь напролет стучит своей «музыкальной» колотушкой, мешая людям спать и предупреждая о своем приближении мазуриков, которые спешат перебраться в другое место, где поспокойнее. Возможно, в этом и состоит цель бравого сторожа, поскольку это позволяет ему избежать нежелательных и весьма огорчительных встреч. Симпатичному путешественнику, к счастью, оказалось нечего делить с жульем Поднебесной империи. Его путешествие протекало без серьезных осложнений, если не считать риска и усталости, и он смог собрать огромное количество документов, делающих чтение его превосходной книги столь увлекательным и полезным. Отправимся же с ним, прежде чем с сожалением расстаться, в Ланьчжоу[248], к наместнику Ганьсу, туда, где заканчивается его путешествие по Северному Китаю. Итак, господин Руссе остановился в пригороде на постоялом дворе, дабы скинуть с себя дорожное платье и переодеться в более или менее приличный костюм. Солдат тут же отправился предупредить наместника о прибытии французского путешественника, чьи обязанности профессора при арсенале Фучжоу обеспечивали ему довольно высокое положение в китайской административной иерархии. Вскоре солдат вернулся с сообщением, что вице-король с радостью готов принять господина Руссе, и тот, приняв это лестное приглашение, немедленно отправился к я-мену. Вскоре показался и наместник Цо Цондан: полный, маленький, шестидесятипятилетний человек, прекрасно выглядевший для своих лет, с горделивой, надменной осанкой, строгого вида, с бронзовым, немного морщинистым лицом. Любезно, с изъявлениями чисто китайской, то есть утонченной, вежливости, он пригласил гостя пройти первым в салон для приемов. Едва переступив порог, господин Руссе, знакомый с китайскими обычаями и языком, повернулся к наместнику и приветствовал его, подняв сложенные ладонями руки на уровень лба. Этот знак вежливости со стороны одного из тех иностранцев, которых китайцы считают варварами, удивил и тронул наместника: — О! — воскликнул он, — вы знаете наши обычаи! Затем, обернувшись к одному из своих секретарей, сопровождавших его, он добавил: — Господин — ученый. Он проделал длинный путь, чтобы повидать меня. Я очень доволен. Следует позаботиться о нем. Наместник пригласил гостя сесть и перешел с ним на дружеский тон. Лед был сломан, и беседа протекала в обстановке дружеской сердечности и благорасположения со стороны вице-короля и почтительного уважения со стороны посетителя, сразу же завоевавшего симпатию старика, благодаря превосходному знанию обычаев и форм вежливости, принятых в Поднебесной империи. Пару слов мимоходом об одной из этих форм. Самая уважительная форма обращения: «старый, старик». Чем большим уважением пользуется кто-то, тем старше он должен быть, считаться старым, еще более «старым месье»! Вы не больше, чем его младший недостойный брат, а он «старший, очень старый месье»! Во Франции подобная форма обращения кажется смешной и надуманной, но никто на задумывался над тем, что наша форма, кстати самая банальная и уважительная, аналогична этой: «Monsieur». А это обращение состоит из двух латинский слов «Meus» и «senior» — «мой самый старый». Равно как и еще более уважительная форма «Monseigneur, seigneur», еще ближе к «senior», из которого и образовалось «seigneur», а затем и «sieur». Итак, наградив принцев титулом«Monseigneur», мы поступили в полном соответствии с китайским обычаем, поскольку эта уважительная форма обращения дословно означает «мой более старый». Наместник интересовался всем, что связано с Францией, идеями, имеющими там хождение в отношении Китая, последними научными открытиями и их применением. Затем он доверительно поведал своему собеседнику о том перевороте, который произвело в умах и самой организационной структуре его страны появление европейцев, о могуществе которых здесь даже не подозревали. Правительство и его чиновники заметили, что император Китая уже не является монархом по преимуществу, лицом, перед которым должны преклоняться народы, троны и княжества. Но поскольку подобный взгляд кажется китайскому народу унизительным, неким признаком слабости, они предпочитали закрывать глаза на очевидное и, уступая европейцам концессии, поскольку не чувствовали себя достаточно сильными для отказа, продолжали именовать тех же европейцев в официальных документах подданными и вассалами Китая. Но уважаемые очень старые господа — министры Англии, Германии, Франции и России — не хотели с этим согласиться. В соответствии с решениями своих правительств они требовали официальных приемов, с чем приходилось мириться, а соответственно и обращаться с этими западными варварами, на которых еще совсем недавно китайцы смотрели свысока, как с равными. Его превосходительство Цо, кажется, уже смирился со свершившимся фактом, о своевременности которого он, кстати, должен был высказаться, и, оценивая его с китайской строгостью, исходящей сверху, он в завуалированной форме дал понять, что первый нанесенный удар мог бы сильно отразиться на старом китайском обществе, кстати весьма трухлявом, и основательно потрясти его. В это время наместник собирался начать новую кампанию против восставших мусульман. Дикая жестокость, проявленная ими, когда они заживо сжигали пленных, внушала ему глубокое отвращение и ужас, и в ходе беседы он высказал некоторые соображения по поводу их военных способностей. Это почти неуловимая армия, и, чтобы овладеть довольно значительным числом их крепостей, требуется хитрость. Самое современное оружие оказывается бессильным против этих банд, которые своей манерой ведения боя ставят в тупик самых умудренных опытом тактиков. «Когда-то, — заметил он, — разрыв снаряда сеял ужас в их рядах, но сегодня к артиллерии настолько привыкли, что просто не обращают на нее никакого внимания». И господин Руссе, подумав про себя, что если противник не боится больше снарядов, то, видимо, потому, что их производят сами китайцы, собрался намекнуть вице-королю, что если снаряды не производят больше должного эффекта, то только по той причине, что они просто стали хуже. Но он, однако, побоялся быть столь откровенным и высказал уверенность, что китайские инженеры научились всему, и его собеседник в конце концов дал себя убедить в том, что китайские снаряды лучше европейских. Гостеприимство наместника было ненавязчивым, сердечным и щедрым. Его стол, выражаясь китайским языком, был изысканно-утонченным. Он любил поесть и обожал, когда ему в этом с чувством помогают гости, которых он частенько приглашал, дабы они могли поддержать компанию со стаканом в руке. Перемены блюд следовали нескончаемой чередой, и они подавались строго согласно принятым обычаям, которыми было предусмотрено буквально все; их разнообразие и изысканность свидетельствовали о редкой утонченности: ласточкины гнезда, акульи плавники, лишайники, шампиньоны нашли на столах достойное место, не считая жареных уток и восхитительных молочных поросят, которых повара Ланьчжоу готовили с редким искусством. Но что доставило нашему соотечественнику наибольшее удовольствие, так это свежие овощи, которых он не видел с самого начала своего долгого путешествия. После нескольких чрезвычайно интересных замечаний общего характера господин Леон Руссе заканчивает свой прекрасный труд следующими словами: «В течение семи лет я прилагал все усилия, дабы дать китайцам возможность узнать и полюбить Францию; по возвращении домой я мог бы считать, что еще раз послужил в меру своих сил тому, чтобы воздать должное китайцам, показав такими, как я их видел, не скрывая недостатков, но и не замалчивая положительных качеств, короче, так, как и следует судить о великой нации, пробуждающейся от долгой спячки и готовящейся занять достойное место в политической и экономической системе цивилизованного мира».
ДОКТОР ПЯСЕЦКИЙ [249]
Тому же самому наместнику Ганьсу, столь сердечно принявшему господина Леона Руссе, через полгода нанес визит доктор Пясецкий, входивший в состав русской миссии, возглавляемой господином Сосновским. Доктор Пясецкий также прибыл в Ланьчжоу и был принят старым правителем, имя которого он пишет несколько иначе, нежели его предшественник, господин Руссе, и которого он называет Цзо Цзундан. Но это не суть важно. Население Поднебесной империи предстает в описании доктора Пясецкого скорее наивным и весьма любопытным, нежели фанатичным и настроенным против иностранцев. Наш путешественник, защищенный от злоумышленников и даже от энтузиазма толпы китайской полицией, запросто вступает в беседы с мандаринами всех рангов, проникает в их внутренний мир и только и делает, что наблюдает и рисует. Мандарины не только охотно позволяют делать с них «наброски», но и сами напрашиваются на это. Поэтому господин Пясецкий переезжает из города в город, изучая язык, завязывает повсюду знакомства и заносит в свой путевой блокнот наброски и записи, отличающиеся поразительной точностью. Вот как он описывает свою встречу с наместником Ланьчжоу: «На следующий день мы получили приглашение на завтрак, адресованное каждому отдельно и запечатанное в красном конверте. Завтрак был назначен на десять часов; следовало облачаться, таким образом, в униформу. На этот раз Цзо сам вышел нам навстречу: и он сам, и вся свита были при полном параде. Столовая, совсем крошечная, была еще разделена на две равные части чем-то вроде ширмы; в каждой половине стоял ган с книгами и бумагами. На маленьком столике я заметил знаменитый презент, преподнесенный главой нашей миссии: это был пейзаж, сделанный из картона и помещенный под колокол; горы, деревья, реки на нем были сделаны с замечательным искусством, а в глубине там стояла музыкальная шкатулка. “Видите, — сказал он Сосновскому, едва мы успели войти, — вот ваш подарок, который я поставил на почетное место у себя в комнате”. И он еще раз поблагодарил, улыбаясь самым любезным манером. На черном лакированном столе без скатерти и салфеток были расставлены приборы: фарфоровые блюдечки и чашки, серебряные вилки и палочки из слоновой кости. Вокруг стола стояли шесть табуреток, покрытых голубыми чехлами, на которых лежали красные подушки. По сигналу к генералу приблизился слуга с подносом, на котором стояли маленькие чашечки и чайник, наполненный вином. Цзо взял чашечку, в которую слуга налил вина, и, обернувшись к нам, произнес имя нашего генерала; адъютант указал Сосновскому его место, предупредив, что садиться нельзя до тех пор, пока все не будут приглашены хозяином. Цзо поднял чашку над головой, держа ее обеими руками, и, торжественно приблизившись к указанному месту, поставил ее перед прибором. Он последовательно поднял над головой все приборы, потом поставил их на место, затем рукой подтолкнул табурет, как бы смахивая с него пыль. Еще раз воздев руки над головой, он низко поклонился Сосновскому и указал ему на место, где тот и остался стоять. Та же церемония была проделана перед каждым из нас все с тем же глубокомысленным видом. Когда все мы были расставлены по местам, Цзо, приблизившись к нашим табуретам, пригласил нас садиться, и сам сел последним. Слуга повязал ему на грудь салфетку; но какую! обычную кухонную тряпку из какой-то грубой материи. Другой слуга положил перед нами из-за наших спин маленькие бумажные листочки, сложенные вчетверо, — по-видимому, салфетки. Цзо взял чашечку с вином, встал, поприветствовал нас, пригласил нас выпить и начал нас обслуживать с помощью палочек. За закусками и супом из ласточкиных гнезд последовало еще добрых полсотни самых разнообразных блюд. Заметив, что нам не очень понравилось это вино, он приказал принести иностранного вина, которое и было подано в хрустальном погребце с европейским ярлыком и окаймленном позолоченной бронзой, в котором находились два графинчика и шесть бокалов. “Лин-вен”, — пояснил нам генерал, имея в виду рейнвейн (рейнское вино). Он извинился за то, что в данный момент у него нет “шан-пан-цзу” (“цзу” означает “вино”; “шан-пан” — шампанское), которое европейцы очень любят, добавил он. Во время завтрака Цзо не закрывал рта. Он интересовался великими европейскими державами и их взаимоотношениями; довольно враждебно высказался в отношении Англии; пытался получить сведения о состоянии российской армии и т. п. И даже когда мы уже встали из-за стола, генерал провожал нас, останавливаясь на каждом шагу, чтобы продолжить беседу. Он рассказал нам об одном французе, который, закончив службу при китайской армии, вернулся в Париж и прислал ему сувенир, который Цзо и приказал принести: это был замечательный, золотой с эмалью, хронометр в виде шляпы мандарина с красным бутоном и павлиньим пером. Хитрый старик, прикинувшись, что не знает его ценности, спросил нас, каждого в отдельности, относительно его стоимости; когда же мы расхвалили ему подарок, он объяснил, что хронометр стоит на наши русские деньги больше десяти тысяч рублей, а затем засмеялся низким голосом без всякой видимой причины. С этого дня Цзо Цзундан частенько захаживал к нам поужинать и поболтать. О его визите мы были предупреждены, когда к нам доставили серебряные канделябры европейской работы со свечами… … Я пообещал Цзо нарисовать его портрет, и в условленный день он явился при полном параде. Усадив старика перед собой, я начал писать. С дюжину мандаринов, столпившихся позади меня, вполголоса обсуждали достоинство едва сделанного наброска. — Никакого сходства!.. Очень плохо!.. Он вообще не должен был позировать, — говорили они, думая, что я их не понимаю. Но вскоре они изменили мнение; они смеялись от удовольствия, и чем больше увеличивалось сходство, тем сильнее было их удивление. Цзо уже не смог удержаться и подошел, чтобы взглянуть на то, что получилось; он казался вполне удовлетворенным, но сделал два замечания: на портрете он казался моложе, заявил он, и, кроме того, я не изобразил павлиньих перьев с двумя глазами, которые он носил на шляпе и которые свисали сзади так, что их невозможно было увидеть анфас. Однако Цзо не мог понять моих разъяснений, несмотря на все старания, и продолжал умолять меня изобразить на портрете эти знаки его высокого достоинства. Не желая отступать от истины, я этого, однако, не сделал. Когда портрет был закончен, Цзо и мандарины начали его рассматривать и вблизи и издалека, а иногда и приставляя к глазам руку, сложенную в виде подзорной трубы. Наконец Цзо распорядился принести бинокль, стереоскоп и микроскоп, дабы полюбоваться портретом с помощью этих инструментов. Вначале было условлено, что портрет останется у меня. Однако генерал начал умолять оставить сие произведение искусства ему или сделать копию. Отказать я не мог; когда на следующий день копия была закончена, я принес оба портрета, предоставив генералу право выбора, однако сделать свой выбор сам он не смог. Он пригласил десятка два лиц, которые единодушно посоветовали ему остановиться на оригинале как на лучшем варианте. Цзо был от портрета просто в восторге; он повесил его в своем кабинете и время от времени обязательно заглядывал туда, дабы полюбоваться своим изображением. Но он никак не мог смириться с отсутствием перьев (люи-цзи), и я убежден, что позже они наверняка были дорисованы кем-либо из китайских живописцев…» Не кажется ли вам, что со времени визита господина Руссе старина Цзо, которого наш соотечественник представил как человека мудрого, уравновешенного, можно сказать величественного, вдруг предстает немного придирчивым, немного по-стариковски мелочным, немного… лубочным китайцем? Поскольку доктор Пясецкий, будучи абсолютно правдивым историком, по-видимому, отнюдь не шаржировал его портрет… … Среди других чрезвычайно интересных заметок, тем более ценных, что они снабжены авторскими зарисовками, знаменитый русский путешественник оставил нам описание Великой стены, служащей северной границей собственно Китая. Известно, что идея этого гигантского сооружения принадлежала императору Цинь Шихуанди[250], в 215 году до христианской эры. Цинь, желая оградить свои владения от набегов чужеземцев и стремясь к тому, чтобы ни одна пядь китайской земли не выходила за пределы этой стены, невероятно усложнил задачу, и без того фантастически трудную из-за грандиозности самого замысла[251]. С огромным трудом удалось преодолеть естественные препятствия, встречавшиеся буквально на каждом шагу. Стена была тем не менее построена согласно приказу Циня и оказалась протяженностью примерно в шестьсот лье, окружив императорские владения, и то карабкалась по склонам гор, то терялась в бездонных расщелинах, преодолевала речные потоки и водопады, вздымалась на свайных основаниях над рытвинами и болотами. Восхищенный возможностью созерцать этот дивный памятник древности, единственный в своем роде, Пясецкий спешит нарисовать и описать рукой мастера это удивительное чудо. «Основанием Великой стены служат огромные блоки гранита и красноватого кварцита. Чтобы подняться на нее, пришлось пройти через ворота — а именно, Гуан-Гоу, — открывшие мне доступ в собственно Китай; там имелась лестница, ведущая на верхнюю площадку. Я пошел по ней в северном направлении. Вверху стена оказалась шириной в семь шагов и выложена каменными плитами размером примерно в сорок квадратных сантиметров и толщиной в девять сантиметров. С северной, то есть внешней, стороны, парапет достигает высоты человеческого роста. С южной — он примерно вдвое ниже. Кое-где плиты отсутствуют, и свободное пространство занято белым, желтым и черным лишайником; местами вся площадка покрыта высокой и густой травой, сквозь которую даже трудно пробиться. Вся эта растительность покрывает и чугунные пушки длиной приблизительно в метр. Некоторые из них по-прежнему стоят в своих амбразурах с северной стороны стены и, возможно, даже веками хранят свои заряды. Продолжая обход стены все в том же направлении, я обнаружил башню величиной с небольшой дом, с многочисленными соединяющимися между собой помещениями. Там полно строительного мусора, и дикий виноград растет, как в оранжерее. В некоторых местах потолки обвалились и можно увидеть деревянные балки, прекрасно, кстати, сохранившиеся. Исследуя башню, я пришел к выводу, что она, кроме чисто оборонительных целей, представляет несомненный интерес с архитектурной точки зрения; здесь все скомбинировано просто артистически. Кирпичи над дверями и окнами выложены правильным полукругом; кирпичи в верхней части парапета уложены наискосок; пороги в дверях — гранитные, а их верхняя часть выточена из камня. Имеются здесь и углубления, служащие водостоком; водосточные желоба, которыми они оканчиваются, выполнены в форме ковша; лестницы расположены чрезвычайно продуманно — короче, все свидетельствует о том, что сработано здесь не наспех, а весьма добротно, и рассчитано не только на оборону. Повсюду, во всяком случае в этом месте, Великая стена имеет одинаковую высоту. Она идет параллельно уровню почвы, на которой покоится; она также поднимается или опускается, и, следовательно, ее поверхность превращается в лестницу с огромной высоты ступеньками. Стоя на башне, я любовался окружающими просторами, погруженными в тишину, уносился мыслями в далекое прошлое, во времена строительства этого сооружения, и представлял себе людской муравейник, копошащийся с кирпичами, гранитными блоками, балками, растворами и т. п. Согласно легенде, на этой стройке было одновременно занято около миллиона человек». На следующий день путешественник прибыл в Пекин. Едва пройдя через ворота городской крепостной стены, увенчанной огромным и довольно своеобразным бастионом, он очутился на шумной улице. «Я сразу почувствовал, — пишет он, — как изменился сам воздух. Он здесь чрезвычайно неприятен. Зато что за любопытная картина! Дети, женщины, мужчины, лошади, мулы, ослы — все перемешалось здесь в какую-то массу, суетливую и крикливую; повсюду лавки, торгующие углем, гробами, мясом; кухни прямо на улице, бродячие торговцы, на все голоса и лады расхваливающие свой товар; косматые нищие со скорбными лицами, дохлая лошадь прямо посредине мостовой, верблюды, пережевывающие жвачку; огромный крытый рынок, по которому мы пробираемся верхом: такая картина открылась моему взору». Но давайте по порядку, пока миссия пробирается к русскому посольству. «Основанный задолго до нашей эры, Пекин скатился в разряд второстепенных, провинциальных городов после распада царства Цзинь, столицей которого был, опустел, затем отстроился, но стал столицей империи лишь в начале XV века. Название это означает “Северный двор”, в противоположность Нанкину — “Южному двору”. Прежде резиденцией китайских монархов был именно последний; но татары, племена беспокойные и воинственные, предпринимавшие бесконечные набеги на территорию империи, вынудили монархов перенести свой двор в северные провинции, дабы быть в состоянии организовать сопротивление набегам этих кочевых племен. Пекин расположен посреди обширной песчаной, а местами и весьма топкой, равнины. Храмы, находящиеся вне его крепостных стен и поражающие своими размерами, великолепные монастыри и кладбища с их живописным расположением могли бы сделать его чрезвычайно живописным, если бы не китайский обычай непременно обносить все по периметру оградой, что лишает их всякого очарования. И всегда, с какой бы стороны вы ни подъехали, въезд в город приносит вам разочарование. Не говоря уже об упомянутых захламленности улиц и грязи, содержание общественных мест, составляющих лицо города и которые путешественник привык видеть в образцовом порядке, таково, что никого не может порадовать. Но, в качестве компенсации, внешний вид домов производит приятное впечатление. Передняя часть каждой лавки или магазина оформлена всякий раз по-особому и с различными украшениями в соответствии с предлагаемым в них товаром; это конструктивное разнообразие вкупе с использованием киновари, лазури, лака и позолоты, равно как и замечательно симметричное расположение товаров, и, наконец, обилие разного рода триумфальных арок, возведенных на площадях, — все это привлекает внимание путешественника и заставляет забыть хотя бы часть постигшего его разочарования. В окрестностях Пекина нет ни одной судоходной реки, достойной упоминания. Единственный небольшой канал, удостоившийся названия «реки», протекающий в городе, предназначен лишь для снабжения водой прудов и каналов императорского дворца. Жители, правда, имеют воды в достатке, но, как правило, в черте города она соленая, так что за чистой питьевой водой приходится посылать за городскую заставу. Поэтому Пекин может лишь похвалиться преимуществами своего местоположения и колоссальными размерами своих стен; но, с другой стороны, все снабжение этого города осуществляется лишь с юго-востока. Транспортный канал, по которому доставляются продовольствие и топливо, иногда пересыхает из-за засухи, а во времена всякого рода смут его легко перекрыть. Последнее обстоятельство, буквально отдающее столицу на волю внешнего врага, и было одной из основных причин падения монгольской династии. Как и почти все китайские города, Пекин представляет собой большой квадрат, площадь которого равна шести тысячам гектаров. В этой обширной городской черте находятся два совершенно различных, но связанных между собой города, окруженных каждый своей крепостной стеной и рвом: первый, находящийся в северной части, заселен татарами, нынешними властителями Китая; он называется Нэй-Цзин, или “Внутренний город”; это официальный и военный центр. Другой, Вей-Цзин, или “Внешний город”, является китайским, торговым, и превышает татарский город по протяженности с востока на запад примерно на пятьсот метров. В этом последнем находится еще один город, также окруженный крепостной стеной и называемый Хуан-Цзин, “Императорский, или Желтый город”. В центре этого третьего города находится резиденция императора, известная под именем Цзенкин-Цзинь, “Запретный, или Красный город”[252], настоящий пекинский Кремль, окруженный, как и два других города, мощными крепостными сооружениями. Эта тройная городская ограда, каждый анклав которой имеет квадратную форму, представляет собой ансамбль фортификационных параллельных сооружений, которые в случае нападения можно было бы защищать одно за другим. Стороны этих анклавов сориентированы согласно частям света, которым они и соответствуют с исключительной точностью. И лишь северо-западный угол внешней ограды отсутствует, поскольку здесь к городским стенам подходит озеро. Татарский город имеет девять ворот, каждые с двумя пристройками, представляющими собой грозные крепости. Желтый, или Императорский, город отличается обилием пагод и дворцов, принадлежащих высшим сановникам империи. Китайский город отделен от татарского широкой, вымощенной плитами мостовой, окаймленной с одной стороны высокой крепостной стеной, а с другой — глубоким рвом, заполненным водой. Здесь нет выдающихся памятников архитектуры, если не считать двух храмов, Неба и Сельского хозяйства[253], чьи огромные голубые купола возносятся высоко над южным районом города и темным лесным массивом, окружающим их своими тенистыми аллеями. Одним словом, это город торговцев, скоморохов, барышников, черни и нищенствующего сброда. Днем торговые улицы Пекина являют собой довольно пеструю картину. Здесь собирается шумная толпа, что-то продающая и покупающая или занимающаяся довольно странным ремеслом. Что с первого момента поражает взгляд и привлекает внимание пораженного туриста, так это длинная вереница пилястров, украшенных флагами, вымпелами, флажками самых ярких цветов; это нечто вроде мачт с призами, представляющих собой планки высотой в три-четыре метра, раскрашенные, лакированные, а зачастую и позолоченные, на которых большими буквами написан перечень продаваемых товаров. У каждого торговца перед его лавкой несколько таких странных вывесок, на которых указано его имя, достоинства, все его звания и общественные заслуги, а зачастую и генеалогическое древо. Некоторые из них, дабы наверняка привлечь покупателей, вешают здесь же и другие, весьма красноречивые объявления, вроде «Здесь не обманывают». Просто невозможно себе представить, как только что было сказано, что за огромная, плотная, озабоченная толпа гудит, толкается, мечется из стороны в сторону каждый день на торговых улицах Пекина. Что за чудовищное скопление лошадей, мулов, повозок, тачек, пролеток, носилок, и что за ад кромешный творится на улицах из-за этого разношерстного скопища. Частенько вся эта толпа вынуждена сжаться или податься в сторону, дабы пропустить кортеж с каким-нибудь важным лицом, возлежащим на своем ложе мандарина и окруженным целой толпой слуг. Мандарин первого ранга никогда не появляется на публике без свиты, состоящей из всех подчиненных ему мандаринов, которые, в свою очередь, всегда следуют в сопровождении всех своих слуг. Придворные и принцы крови появляются на публике только в сопровождении огромной кавалькады, которой вполне хватило бы, чтобы опоясать весь город. Несмотря на это чудовищное скопление самой разношерстной публики, мало найдется в мире городов, где полиция была бы лучше организована, более дисциплинирована и работала столь же эффективно. Все более или менее значительные улицы патрулируются караульной службой, солдаты которой днем и ночью следят за порядком, обходя улицы с саблей на поясе и кнутом в руке, которым они нещадно стегают всякого, не разбирая чинов, кто нарушает порядок или затевает драку. Кроме того, каждая улица разбита на кварталы по десять домов, за порядком в которых следит кто-то из жителей. Как только наступает вечер, каждый обязан зажечь лампу, висящую перед домом; будь ты бедный или богатый, простой торговец или мандарин, но это твоя святая обязанность. В ночные часы всякое движение на улицах запрещено; шлагбаумы, стоящие в концах улиц, открываются чрезвычайно редко, да и то только для лиц безусловно знакомых и тех, кто выходит по уважительным причинам. В Европе конечно же довольно трудно было бы осуществить столь строгие меры; однако китайцы не без основания полагают, что ночь дана людям, чтобы отдыхать, а день, чтобы заниматься делами. Красный, или Запретный, город высится над Желтым городом, окруженный высокими стенами и широкими рвами. Он предназначен исключительно для проживания императора и его двора и занимает площадь в сто гектаров. При виде этого огромного скопления дворцов взгляд и воображение, пораженные их великолепием, пышностью и величием, как бы застывают в немом восхищении. Нет ни одного города в мире, ни одной столицы империи, которые могут похвастаться столь обширным, импозантным и восхитительным ансамблем зданий, отличающихся подобной живописностью. Сады, окружающие эти дворцы, огромные парки, простирающиеся даже за пределы крепостных стен и теряющиеся где-то вдали, с их тенистой прохладой, ручейками, озерами, мостами, островами, скалами, долинами, холмами, павильонами, башнями, пагодами и тысячами других чудес невольно заставляют думать о какой-то неземной стране, созданной мановением волшебной палочки доброй феи. Императорский дворец включает девять обширных дворов, расположенных один за другим и сообщающихся между собой беломраморными воротами, над которыми возносятся сверкающим лаком и позолотой башенки. Здания и галереи служат этим дворам как бы оградой. Первый двор весьма обширен; к нему ведет мраморная лестница, украшенная двумя огромными бронзовыми львами и беломраморной балюстрадой в форме подковы; ее огибает, извиваясь, ручей, через который перекинуты мраморные мосты. В глубине этого двора высится фасад с тремя воротами: средние предназначены исключительно для императора; мандарины и сановники пользуются только боковыми воротами. Эти ворота открываются в самый большой двор дворца; весь двор окружен огромной галереей, на которой устроены склады дорогого товара, принадлежащие лично императору. В первом из них находятся сосуды и другие изделия из различных металлов; во втором — пушной товар и меха; в третьем — одежда, подбитая лисьим мехом, горностаем, соболем, которую император иногда дарит своим приближенным; в четвертом хранятся драгоценные камни, редкие сорта мрамора и жемчуга, добытые в Татарии;[254] пятый, двухэтажный, забит сундуками и ящиками, в которых хранятся ткани, предназначенные для императора и его семьи; в других помещениях находятся стрелы, луки и другое оружие, захваченное у противника или подаренное другими монархами. В этом дворе находится и императорская зала, или зала Великого Согласия. Она построена в виде пяти террас, расположенных ярусом одна над другой и постепенно суживающихся вверху. Каждая из них украшена художественно оформленными балюстрадами и отделана белым мрамором. Перед этой залой собираются все мандарины, когда они в назначенный день являются сюда, дабы засвидетельствовать свое уважение и выполнить церемонию, предписанную законами империи. Эта зала, почти квадратной формы, имеет около ста тридцати футов длины; стены обшиты зелеными лакированными панелями и украшены позолоченными львами. Колонны, поддерживающие ее внутренние перекрытия, насчитывают у основания шесть — семь футов по окружности и покрыты красным лаком. Пол частично застлан, на турецкий манер, коврами, кстати весьма скромными; стены гладкие, без всякого орнамента, без ковров, люстр и росписи. Трон возвышается посреди залы; он представляет собой довольно высокое возвышение, очень чистое, без всяких надписей, если не считать слова «чин», которое знатоки китайского языка интерпретируют как «святой». На площадке, на которой покоится вся зала, установлены большие бронзовые чаши, в которых в церемониальные дни курятся благовония. Здесь же стоят и канделябры в форме птиц, окрашенные в самые разнообразные цвета, а также свечи и факелы, возжигаемые в эти дни. Эта же платформа продолжается дальше на север, и на ней размещены еще две залы; одна из них представляет собой ротонду со множеством окон и всю покрытую лаком; здесь император переодевается до или после церемонии; другая представляет собой салон, все двери которого выходят на север; через нее император, выходящий из личных апартаментов, должен пройти, чтобы принять на троне верноподданнические изъявления приглашенных. Кроме залы Великого Единения, или Великого Согласия, здесь же находятся, если следовать дальше с юга на север, прежде чем вы попадаете в личные покои императора, тронная зала Среднего Согласия, зала Покровительствующего Согласия, зала Западного Согласия, а затем зала Литературных перлов и Подношений Конфуцию; затем здание Личного Совета, библиотека, интендантство, дворец Небесной Чистоты, дворец императрицы и множество других покоев, внутреннее убранство которых описать не представляется возможным, поскольку туда никогда не допускаются посторонние. Как и этот таинственный город, являющийся резиденцией императора, так и знаменитая столица Китая долгое время были недоступны для иностранцев. Но уже сегодня в ней нет ничего тайного. Она вновь открывает некоторые европейские здания, среди которых следует упомянуть обсерваторию и католические миссии. Пекинская обсерватория представляет собой большую квадратную башню, внутренняя часть которой примыкает к юго-восточной стене татарского города; первоначально она была построена для китайских астрономов. В XVIII веке одному миссионеру удалось построить здесь, на основе принципов европейской астрономии, все инструменты, которые и до сих пор стоят на месте. Среди католических памятников следует назвать Северную миссию, расположенную внутри крепостной ограды Желтого города; Южную миссию с собором; Восточную и Северо-Западные миссии, школы для новообращенных китайцев, расположенные в китайском городе, и новый чудесный собор, торжественно открытый 1 января 1867 года. Население Пекина по самым грубым подсчетам составляет чуть больше двух миллионов человек. Основную часть жителей столицы составляют маньчжурские солдаты, чья судьба со времен завоевания резко переменилась. В тот период они получили в качестве трофеев дома в Южном городе; многие из них промотали состояние, доставшееся им в результате разбоя, а остальные живут за счет сдачи внаем жилья, которое китайцы, вероятно, в скором времени сумеют у них отобрать благодаря своей бережливости и изворотливости. Маньчжурские офицеры все еще пользуются правами членов гражданских судов; но из-за несусветной лени они передали все дела секретарям, в качестве которых служат образованные китайцы. Вторая по численности категория жителей — это торговцы и ремесленники и, наконец, третья — слуги разного рода. Оставим, однако, город и обратимся к сельской местности, которой мы едва успели коснуться, и закончим некоторыми соображениями общего порядка, касающимися области, в которой китайцы добились наибольших успехов, а именно — сельского хозяйства. Путешественники и миссионеры, объехавшие Поднебесную империю, сходятся в чрезвычайно привлекательном изображении сельского Китая. Здесь не встретишь ни пустынных равнин, столь частых в наших самых плодородных провинциях, ни пустошей, ни одного заброшенного клочка земли: буквально все обработано, вплоть даже до поверхности рек, местами покрытых плавающими садами. Повсюду наблюдается избыток чрезвычайно искусной рабочей силы, занятой в основном в сельскохозяйственном производстве. Если бы труд и производство могли бы одни обеспечить реальное благосостояние народа, то Китай должен был бы занимать одно из первых мест среди цивилизованных наций; поскольку чрезвычайно интенсивный способ ведения сельского хозяйства достиг там, кажется, высшей точки. К несчастью для китайцев, эти фантастические результаты объясняются их постоянным пребыванием в стесненных обстоятельствах и страданиях, и то, что мы с таким восхищением наблюдаем у них, не что иное, как постоянные усилия растущего населения добыть себе пропитание из матушки-земли. Усилия, без которых голод и его неизменные спутники, волнения и болезни, давно бы уже обрушились на страну. Фермы в Китае, как правило, очень маленькие, поскольку каждая семья приобретает или арендует только такой земельный надел, который она в состоянии обрабатывать, не прибегая к найму поденщиков. Подобная система, чрезвычайно рациональная для страны с огромным населением, способствует появлению простых экономичных и эффективных методов. Каждый работает с полной отдачей и тщанием, как этого никогда не делают наемные рабочие. С другой стороны, обладая необыкновенным терпением, упорством и ловкостью, китайцы придумали огромное количество новых орудий труда, приспособлений и механизмов, облегчающих их труд на самых тяжелых работах. В сельской местности повсюду можно увидеть немало орудий труда, изготовленных, как правило, из бамбука и вызывающих восхищение своей простотой и изобретательностью их создателей. Тягловая сила, такая как лошади, быки и одногорбые верблюды, редко используется китайскими крестьянами, и одной из отличительных черт сельского хозяйства здесь является отказ от содержания и разведения домашних животных; исключение составляют только свиньи. Разведение скота является обособленной отраслью, которой занимаются в кантонах, где почвы не пригодны для возделывания. Один из фермеров, которому задали такой вопрос, ответил, что он не понимает, почему то, что он производит, должен поедать скот, когда он со своей сноровкой и руками вполне может без него обойтись. Несомненно, если бы китайцы имели и использовали в тех же соотношениях столько же крупного рогатого скота, что и мы, то их территории не хватило бы, чтобы прокормиться самим. Абсолютно точные расчеты показывают, что с участка земли, потребного для производства кормов для одной лошади на год, может прокормиться семья из десяти человек. Несмотря на то что зерновые дают прекрасные урожаи во многих районах Китая, основным продуктом питания и главным предметом забот здесь является рис. Эта культура, как известно, может произрастать только на затопляемых участках; данное требование является непременным условием. Способы выращивания риса здесь такие же, как и в Японии. Китайцы имеют лучшие виноградники в мире, но не производят вина. Они его делали когда-то раньше и, похоже, весьма им злоупотребляли; причем в такой степени, что некоторые императоры были вынуждены отказаться от его производства по всей стране. Нашлись даже такие, которые приказали уничтожить виноградники и объявили, что эти опасные растения заполонили участки земли, способные давать богатые урожаи хлеба. Сегодня китайцы в качестве утешения лакомятся прекрасным виноградом, так как часть виноградников они еще не вырубили, а большую часть урожая они сушат и пускают в торговлю. Общеизвестно значение, которое имеет для Китая производство чая, что объясняется всеобщим и постоянным потреблением этого напитка по всей стране и ежегодно растущим экспортом. Кроме зерновых Китай производит большую часть фруктов и овощей, которые поставляет во все уголки земного шара. Местные горы сплошь покрыты сосной, ясенем, лиственницей, вязом и кедром. В южных провинциях произрастают все виды пальм. Отсутствие дуба компенсируется железным деревом, отличающимся великолепной твердостью, и бамбуком, наиболее распространенным и самым полезным для различных целей во всех провинциях Китая. Реки, озера, каналы, речушки буквально кишат рыбой. Это изобилие объясняется своевременными охранительными мерами, предпринятыми правительством в незапамятные времена. Икра здесь собирается с особой тщательностью и помещается затем в специальные резервуары, где и выводятся ежегодно мириады новых особей всех видов, пополняющих урон, «нанесенный ежегодным выловом». Естественно, в Китае есть и праздники, связанные с сельским хозяйством; прежде всего это весенний праздник, начало пахоты и праздник сбора урожая. Праздник Весны приходится на первые дни февраля. Утром высшее муниципальное должностное лицо каждого округа выходит из своего дворца: он возлежит на носилках, украшенных цветами, и следует под грохот различных музыкальных инструментов за целой толпой собравшихся. Его кресло окружено многочисленными носилками, украшенными богатыми шелковыми покрывалами, на которых восседают различные мифологические персонажи. Все улицы принаряжены и увешаны фонариками, а по пути следования кортежа воздвигнуты триумфальные арки. Среди процессии находится и изображение огромного буйвола из обожженной глины и с позолоченными рогами: его с трудом несут человек сорок. За ним следует ребенок, у которого одна нога обута, а другая голая: он олицетворяет рабочий настрой и прилежание; малыш непрестанно колотит хлыстом это подобие буйвола, как бы понуждая его двигаться быстрее. За ним следуют земледельцы, вооруженные своими орудиями труда. Замыкают шествие маски и комедианты, веселящие публику незатейливым представлением. Правитель следует к восточным городским воротам, как бы желая встретить весну, а затем обратным маршрутом возвращается во дворец. Как только это происходит, с буйвола срывают все украшения, а из его живота достают огромное количество маленьких глиняных буйволов, которых и раздают всем собравшимся. Большого буйвола разбивают на куски, и их также раздают присутствующим. Правитель завершает церемонию речью, в которой прославляет сельское хозяйство и желает ему дальнейшего процветания. Праздник Вспашки, или Первой борозды, приурочен к середине апреля. После трехдневного поста император приносит жертву Шан-ди[255], прося его даровать народу урожайный год, и лично проводит три борозды. Дабы придать этой церемонии большую торжественность и значимость, как гласят правила, плуг, которым работает император, окрашивается в желтый, императорский, цвет, равно как и его кнут. Короб с семенами должен быть зеленым. За императорским плугом следуют три императорских принца и девять высших сановников, каждый со своим плугом красного цвета и таким же кнутом. Бык, впряженный в плуг императора, должен также быть желтым; в остальные плуги должны быть впряжены быки черной масти. На эту церемонию приглашаются тридцать пять самых старых и уважаемых землепашцев, а еще сорок два земледельца призваны руководить и наблюдать за правильностью вспашки и соблюдением всех правил. Как только император подходит к плугу, наместник Пекина вручает ему кнут или стрекало и следует за ним до конца поля. Когда церемония заканчивается, тот же сановник во главе своих подчиненных и в сопровождении стариков и других землепашцев выстраиваются в определенном порядке перед «Башней созерцания вспашки», на западной стороне, обратясь лицом на север. По сигналу, поданному руководителем церемонии, все присутствующие девять раз простираются ниц. Когда церемония закончена и все ритуальные обряды выполнены, старики и остальные землепашцы заканчивают вспашку поля. Начиная с момента всхода семян и до полного созревания урожая это поле будет предметом самой тщательной заботы и пристального внимания, поскольку в зависимости от того, оправдает ли оно возлагаемые на него надежды или нет, судят о будущем урожае по всей империи. Зерно, собранное с этого поля, со всеми почестями засыпается в священный амбар и хранится для жертвоприношений будущего года. Праздник Жатвы отмечается в начале сентября. Он приурочен к моменту окончания всех уборочных работ, когда возносятся молитвы и совершаются народные гулянья, прославляющие вечное плодородие земли и окончание полевых работ. Этот праздник длится более двух недель, в течение которых посещают храмы, а обильные пиршества сопровождаются представлениями комедиантов. Во всех городах и сельской местности, особенно в окрестностях больших храмов, строятся летние театры, причем весьма вместительные. В этот период все дороги забиты сельскими жителями из близлежащих деревень, спешащими на очередное представление. Как мы уже говорили и что, несомненно, следует подчеркнуть еще раз, дабы дать более полную характеристику этому народу, китайцы не только добились превосходных результатов в сельском хозяйстве, но и являются замечательными садовниками, обладающими определенными навыками, а лучше даже сказать секретами, которые всем нам неплохо бы позаимствовать. Никто лучше китайцев во всем мире не умеет выращивать овощи, равно как никто не культивирует такого разнообразия этих культур. Именно здесь проявляется их редкое искусство, когда они буквально с клочка земли, который у нас едва-едва мог бы прокормить одного человека, умудряются жить всей семьей, да еще и подзаработать на продаже, получая четыре-пять урожаев в год. Характеризуя садовое хозяйство в Китае, можно было бы сказать, что они в этой области стремятся преодолеть трудности или, если угодно, обмануть природу, что, кстати, совершенно в духе китайцев. Заметим также, что если у нас любят цветы, то в Китае их просто обожают. И если нас привлекают в садах разнообразие, богатство цветовой гаммы, красота и уникальность произрастающих растений, то для китайца каждое растение является настоящим культом, предметом мистического поклонения, в котором он находит источник поэтического вдохновения. Примеры этой наивной и страстной любви можно найти в романах, в истории и даже в частной жизни. Важные сановники приглашают друг друга в гости, дабы похвастаться своими пионами или хризантемами. В классических китайских литературных произведениях можно встретить примеры даже своего рода экстаза (которого мы не в состоянии понять) от созерцания растений и желания наблюдать сам процесс их развития. Эта страсть вполне, кстати, объяснима у народа, чуждого всяких занятий политикой и напоминающего путешественника на пустынной дороге, оказавшегося между уходящим в века прошлыми расстилающимся перед ним бескрайним горизонтом и целиком ушедшего в созерцание окружающих его предметов, насколько это только может позволить его воображение и поэтический полет фантазии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что китайцы умудряются приукрашивать самые обыденные виды растений, меняя их форму и цветовую гамму, а также ускоряя их цветение; точно так же они овладели искусством увеличивать размеры низкорослых видов и превращать в карликов гигантские деревья».
ПОЛКОВНИК ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Еще один путешественник по призванию, один из тех блестящих, отважных и неутомимых русских, отодвинувших границы таинственной Азии и подготовивших для своей великой нации теперь уже несомненное завоевание берегов Тихого океана. Родившийся 31 марта 1839 года и умерший 20 октября 1888 года[256], Николай Пржевальский ушел из жизни в расцвете сил, в момент проведения своих исторических исследований в самом центре Тибета, еще вчера совершенно неизвестного европейцам, навсегда запечатлев свое имя в сердцах тех, кому дорога наука, и продвинув далеко на восток флаг Московского государства. Блестяще закончив гимназию в Смоленске, он поступил в Академию генерального штаба[257] и был выпущен лейтенантом из этого военного учебного заведения, давшего русской армии столько блестящих умов. Выйдя оттуда одним из первых в выпуске, Пржевальский выделялся среди всех соучеников обширностью своих познаний, постоянно углублявшихся благодаря его непреодолимой страсти к учебе. Дабы дополнить профессиональное образование предметами, не входившими в учебные программы, он изучает геологию, знание которой необходимо любому исследователю. Еще в молодости доблестный офицер мечтал о путешествиях по бескрайним неизведанным просторам, ставшим впоследствии владениями Московского государства[258]. Желание стать путешественником было у него так велико, что при выпуске он попросился на службу в Сибирь, дабы в свободное время заниматься научными исследованиями, к которым испытывал непреодолимое влечение. В 1867–1869 годах он предпринимает свое первое путешествие по Уссурийскому краю. Он пешком прошел эти пустынные, неисследованные территории и тщательно исследовал, в частности, берега озера Ханка, малоизученные в то время. Блестящие результаты, полученные им во время путешествия, проведенного им практически без всякой научной экипировки, привлекли внимание ученых. Поэтому, когда Пржевальский выступил с проектом путешествия через всю Центральную Азию вплоть до Пекина[259], он был горячо поддержан Русским Географическим обществом. В конце 1870 года в сопровождении лейтенанта Пыльцова[260] он покинул Кяхту, где заканчивал последние приготовления. Пройдя Калтан, путешественники достигли 15 мая 1871 года склонов Монгольского плато[261], которое они пересекли по южной окраине через страну Тулит. Переправившись через Хуанхэ в районе Баотоу, они проследовали по южному берегу реки до широты горы Дэнкоу; затем, вторично переправившись через Хуанхэ, они направились на юго-запад, в Алашань, в страну тангутов, к тангустам, по выражению Марко Поло. Пржевальский посетил и Хэланьшаньский хребет[262], главная вершина которого достигает высоты 3200 метров. Столица Алашани[263] оказалась конечным пунктом этого путешествия, поскольку нехватка ресурсов вынудила путешественников вернуться в Пекин. Экипировавшись на этот раз более основательно, они вновь выступают из Калгана в мае 1872 года и 26 числа того же месяца оказываются в Динъюаньине. Примкнув к каравану, несколькими днями позже они направляются к ламаистскому монастырю Хобсен, куда и попадают примерно через месяц. Убедившись, однако, что он не смог бы добраться до Лхасы тем путем, каким рассчитывал, Пржевальский, собрав замечательную геологическую коллекцию в массивах, прилегающих к северному берегу озера Кукунор, вознамерился исследовать его бассейн и проникнуть как можно дальше на запад. Затем он обследует новую область, Цайдам, обширное соленое болото, служившее, по-видимому, когда-то дном огромного озера. Обратная дорога стала самым трудным предприятием, поскольку, несмотря на самую строгую экономию во всем, средств по-прежнему недоставало. Даже не передохнув после этой экспедиции, Пржевальский решает предпринять новое путешествие по маршруту, которым еще никто не ходил: пересечь с севера на юг, между Алашанем и Ургой[264], пустыню Гоби! Это поистине героическое путешествие и было им совершено в разгар лета, с 26 июля по 17 сентября. Всего несколько дней провели после этого путешественники в Урге, где смогли воспользоваться хоть какими-то плодами цивилизации; 1 октября 1873 года они уже возвратились в Кяхту, на русскую территорию. В мае 1876 года Пржевальский вновь возвращается в азиатские просторы с намерением посетить Лобнор, куда до него не ступала нога европейца. Лобнор, как известно, является одним из многочисленных озер, расположенных между Внешней Монголией и Восточным Тибетом. В июле Пржевальский прибывает в Кульджу, а в августе отправляется к плато Юлдус. В начале 1877 года, открыв развалины двух городов, он достигает обширного заболоченного озера, которое принимает за Лобнор, и обнаруживает к югу от него горный массив. Затем, передохнув всего неделю в Чарклыке и оставив там часть багажа и эскорта, полковник направляется в горы Алтын-Таг[265], чтобы поохотиться. К своему великому удивлению, он обнаруживает, что этот горный хребет находится гораздо ближе к устью Тарима, чем это считалось, поскольку предполагалось, что пустыня Гоби распространяется гораздо дальше на юг. Страшный мороз, достигавший 30°, и отсутствие питьевой воды принудили Пржевальского вернуться, после того как он все же добрался вдоль отрогов хребта Чаглык-Булук. Это было в феврале. А уже в конце того же месяца, взяв несколько восточнее, он достиг озер, в которых теряется Тарим[266]. Возвращение экспедиции в Курлю не было ознаменовано ничем примечательным. Полковник Пржевальский вновь остановился в этом городе; 25 апреля 1877 года он был принят Якуб-беком, который уверил путешественников в своем благорасположении к русским. После непродолжительного отдыха в Кульдже Пржевальский предпринимает новое путешествие в Тибет через города Гучен и Хами, направляясь к Цайдаму и истокам Янцзы[267]. Он намеревался добраться до Лхасы в мае — июне 1878 года, посвятить целый год исследованию Тибета и вернуться в Россию в конце 1879 года. Однако не прошло и двух месяцев, как неутомимый путешественник, страдающий кожной болезнью, которой он заразился во время последней экспедиции, вынужден был вернуться в Европу. Оправившись от нее после долгого лечения, потребовавшего полного покоя, полковник предложил Русскому Географическому обществу план экспедиции в высокогорный Тибет. Как всегда, его предложение получило поддержку, и общество выделило ему 44 000 рублей на расходы, связанные с экспедицией. Он выехал из Петербурга в августе 1883 года и отправился по маршруту Москва — Нижний Новгород — Томск — Иркутск — Кяхта, последний русский город. Не без труда ему удалось организовать доставку багажа экспедиции, весьма многочисленного и громоздкого, хотя он и пытался сделать его менее обременительным. Его эскорт, состоявший из двадцати одного человека, вооруженных винтовками системы Бердана, принятыми в то время на вооружение русской армией, и револьверами, имел еще при себе довольно большое количество боеприпасов. Экспедиция имела также пятьдесят шесть верблюдов, семь верховых лошадей и небольшое стадо баранов, призванных при необходимости пополнить ее продовольственные запасы. На своем опыте познав опасности, подстерегающие любую экспедицию, Пржевальский установил среди своих людей железную дисциплину. Абсолютный запрет покидать лагерь в одиночку под любым предлогом, дозорная служба, как в военное время, часовые и днем и, особенно, ночью — короче, маленький отряд был организован чисто по-военному. Следует признать, что то были меры, совершенно необходимые среди коварных азиатов, алчных и жестоких, избегающих встреч лицом к лицу, но обожающих устраивать засады и ночные нападения. Именно поэтому бдительность становится здесь жизненной необходимостью. Едва покинув Ургу, отряд распростился и с плодородным районом Северной Монголии, лесистым и богатым водой, и вступил в великую пустыню Гоби, простирающуюся более чем на 4000 верст с запада на восток, от Памира до Хингана, и на 1000 верст с севера на юг. Эта песчаная пустыня[268], давно ли печально известная, представляет собой песчаные наносы и бывшее мелководье когда-то существовавшего здесь азиатского моря: страшные холода без малейшего намека на снег зимой; неимоверная жара, почти тропическая, летом; частые бури, особенно весной; полное отсутствие осадков и, следовательно, ни озер, ни речек, ни источников воды, откуда и полное бесплодие почвы — таковы отличительные признаки великой азиатской пустыни. И тем не менее монголы как-то умудряются здесь жить, а их стада довольствуются тем скудным кормом, который им удается отыскать. Исключительная бедность местной флоры и фауны не оставляла полковнику особых надежд как натуралисту. Зато испытаний, выпавших на долю экспедиции, особенно в начале похода по пустыне, было более чем достаточно. По ночам мороз иногда был настолько силен, что замерзала даже ртуть в термометре, а светлое время суток не приносило облегчения, особенно если поднимались песчаные бури. Температура несколько повышалась по мере продвижения на юг, но зато все явственнее обозначались признаки пустыни — кормов для животных становилось все меньше. К счастью, верблюд несколько дней может обходиться вообще без пищи, а лошади, привычные к пустыне, достаточно хорошо переносят усталость и бескормицу, чего, конечно, не скажешь о наших лошадях. Однако и люди и лошади нуждались в солидном запасе терпения и стойкости. Этот бесконечный переход проходил поэтапно, с удручающим однообразием. С восходом солнца совершался быстрый туалет, затем погрузка тюков, завтрак на скорую руку и в путь. Проделав двадцать пять — тридцать верст (1 верста равна 1,067 м), разбивали лагерь вблизи колодца. Если такого не было, то для приготовления пищи и питья использовали лед, захваченный впрок с предыдущей стоянки. Сухой навоз, собранный на привале и по дороге, служил топливом для костра, из-за отсутствия чего-то более подходящего. Таким образом удавалось хоть немного согреться в войлочных палатках, но ночью, когда костер угасал, температура в палатке падала до минус 26°. Горная цепь Хурхэ-Ула, восточная оконечность Алтая[269], служила в пути разделительной линией между центральной Гоби и южной пустыней Алашань. Этот песчаный район, почти совершенно бесплодный, населен, однако, монгольскими племенами. В западной части Алашаня, там, где находится горная гряда, отделяющая Хуанхэ[270], находится небольшой городок Динъюаньин, где экспедиция была тепло встречена местным владыкой, который, однако, не преминул чуть ли не силой выклянчить у нее подарки, не побрезговав даже обмылками, сахаром и перочинными ножами, подобно африканскому дикарю, схлестнувшемуся с торговцем слоновой костью или земляными орехами. За Динъюаньином пустыня простирается еще верст на сто, которые и были пройдены без помех, хотя и с немалыми трудностями. Уже отсюда, за сто верст, показались вершины Тибета[271]. Этот горный массив простирается непрерывной линией от Хуанхэ до Памира. Все здесь огромно, как, кстати, повсюду в Азии. Ширина горной цепи не превышает и тридцати верст, однако за этим барьером, на первый взгляд непреодолимым, открывается совершенно новый мир. Там вы попадаете в китайскую провинцию Ганьсу, где можно вволю отыграться за вынужденное безделье в пустыне: превосходная ежедневная охота в великолепных лесах и богатейший урожай зоологических и орнитологических образцов, не говоря уже о довольно часто встречающихся растениях, способных украсить коллекцию самого взыскательного ботаника. Покинув вскоре горные районы Ганьсу, экспедиция в марте совершила восхождение к озеру Кукунор. Леса здесь неожиданно сменились обширными лугами, представляющими собой идеальные пастбища, куда иногда забредают зебу[272] и антилопы и с удивительным бесстрашием смешиваются с домашними животными кочевников. Изумительное озеро Кукунор, длина которого по окружности составляет примерно двести пятьдесят верст, было покрыто льдом, хотя был уже конец марта, а ведь иногда температура повышается здесь весьма существенно. По берегам озера живут тангуты и монголы, причем первые при поддержке шаек бандитов, спустившихся с Тибета, притесняют монголов. Тем временем, желая ускорить продвижение, полковник оставил весь обоз и скарб под охраной семи казаков, а сам устремился с оставшимся отрядом в четырнадцать человек к истокам Желтой реки, которые китайцы, несмотря на все усилия, не смогли исследовать. Перейдя хребет Бурхан-Будда, экспедиция достигла вожделенной цели. Истоки Хуанхэ находятся на высоте 13 600 футов[273] и представляют собой ручьи, стекающие с гор; затем в реку впадают многочисленные ручейки долины Одоньтада. В этом месте ширина реки не превышает двенадцать — пятнадцать саженей (1 сажень равна 2 м 13 см), а глубина — двух футов на мелководье. Примерно верст через двадцать река пересекает озеро и, окрасив в желтый цвет его южную часть, устремляется дальше, ко второму озеру, выйдя из которого, она приобретает уже весьма внушительные размеры. Совершив затем резкий поворот, она огибает подножие горной гряды Амре-Мачин и набравшим силу течением прорезает параллельную горную цепь Куньлуня, после чего несет свои воды уже по собственно китайской территории. Хуанхэ имеет для китайцев исключительное значение, недаром же они сделали ее предметом эмблематического культа и ежегодно приносят ей искупительные жертвы, обставляя эту процедуру с необычайной пышностью. Отметим интересный факт: район, где находятся истоки Хуанхэ, совершенно пустынен. Климат здесь, как и по всему Северному Тибету, очень суровый. В мае месяце здесь еще не редкостью были метели, а температура ночью опускалась до 25° ниже нуля. И не только в мае, но и в июне и июле ночью частенько подмораживает, и каждый день или почти каждый день льют дожди: о чем можно говорить, если уж даже кочевники считают эту температуру просто невыносимой! Здесь в изобилии водятся дикие звери, в частности медведи. Экспедиция встречала их повсюду и, не утруждая себя поисками, сумела добыть десятка три косолапых, разнообразив таким образом свой весьма скудный стол. Кстати, такая охота вполне безопасна, поскольку эти звери чрезвычайно трусливы, даже будучи раненными. И только самки с детенышами, в коих говорит материнский инстинкт, могут напасть на охотника. Что произошло и с полковником, на которого бросилась медведица и который, естественно, был вынужден ее пристрелить из карабина. Изучив, таким образом, истоки Хуанхэ, полковник Пржевальский направился на юг, к истокам Янцзы. Проделав сто пятьдесят верст, экспедиция натолкнулась на тангутов, выказавших самые враждебные намерения, кстати, сие поведение было совершенно необъяснимо, без всякой провокации со стороны членов экспедиции. Поскольку тангуты пытались ружейной пальбой помешать продвижению русских, те ответным огнем заставили их отступить. Однако истоки Янцзы стали недосягаемы, и экспедиция была вынуждена повернуть назад. Тангуты вернулись и еще дважды атаковали Пржевальского и его людей, которые тем не менее вернулись к истокам Хуанхэ, где одному из озер, питающих реку, было дано название «Озеро Экспедиции». С этого момента нападения тангутов, скорее шумные, нежели опасные, уже не прекращались. В течение нескольких недель они неотступно преследовали маленький отряд казаков, не нанося, впрочем, ощутимого вреда. В сопровождении лишь части своих небольших сил Пржевальский покинул южный Цайдам и направился в его западную часть, столь бесплодную, что там не могут жить даже верблюды. Долгий переход в 800 верст привел полковника к берегам необитаемого болота, где гнездились лишь тучи фазанов. В местечке, именуемом Газ, он провел три месяца: оттуда путешественники совершили переход еще в 800 верст в Западный Тибет, где открыли три новые горные цепи. Возвратившись в Газ, они через ущелья вернулись в Лото, населенное тюркскими племенами, весьма гостеприимными. Такой же доброжелательный прием они встретили в западном районе Китая, граничащем с Восточным Туркестаном. По утверждению Пржевальского, это великолепная страна: с жарким климатом, с плодородной почвой, дающей два урожая в год (в феврале и июле), где население круглый год имеет свежие фрукты и где не бывает зимы. Все время двигаясь вперед, Пржевальский снова попал в пустыню с редкими вкраплениями оазисов. Около Черчена он открывает доселе неизвестную горную гряду, которой присвоил название Царя-Освободителя[274]; он первым также исследовал реку Хотан; переправился через нее, затем через Тарим и достиг богатого оазиса Аксу, затем пересек Тянь-Шань и достиг Секу, конечной точки своего путешествия. Подводя итог сказанному, следует признать, что четвертая экспедиция, совершенная по почти неизведанным местам, выдвинула полковника Пржевальского на одно из первых мест среди исследователей Центральной Азии. Произведенный после возвращения в генералы лично императором, по достоинству оценившим заслуги солдата и исследователя, Пржевальский смог наконец-то отдохнуть. Но и тут демон-искуситель дальних странствий не оставлял его в покое. Он готовился отправиться в Тибет, но смерть от переохлаждения настигла его в Караколе, маленьком городке Семиреченской области. Будучи просвещенным монархом, другом наук, царь, отличавший Пржевальского особым расположением, повелел переименовать Каракол в Пржевальск[275]. Преждевременная смерть исследователя явилась большой потерей для русской армии и для науки, прогрессу которой он способствовал столь активно и успешно, и имя его будет жить в памяти людей как имя человека, прославившего родину и человечество[276].
ГЛАВА 9
Первые европейские путешественники в ЯпонииПервые сведения европейцев о Японии едва ли восходят к более раннему периоду, нежели начало XVI столетия. Правда, тремя веками ранее Марко Поло упоминал под названием «Сипанго» — китайское название, «Джипенкуэ», Царство восходящего солнца — о Японии как о большой стране, расположенной к востоку от Китая, однако это название ни о чем не говорило европейцам. Что вполне объяснимо, учитывая полное отсутствие каких-либо данных об этой стране. Старинные космографии конца средневековья сохранили тем не менее это название венецианского путешественника, что послужило причиной весьма курьезной ошибки. Первые открыватели Америки, обнаружив остров Куба, сочли, что добрались до королевства Сипанго. Однако, как заметил господин Вивьен де Сен-Мартен, Фернан Мендиш-Пинту[277] не был, как это считалось, первым португальцем, добравшимся до Японии (1542 г.). Из анналов империи видно, правда хронологическая последовательность весьма неточна в столь отдаленный период, что за двенадцать лет до Пинту, то есть к моменту, относящемуся к 1530 году нашей хронологии, другие португальские моряки уже попадали на эти неизвестные берега. До этого — ничего! Что является правдой, так это то, что Пинту дал «зримое» описание этой самой удаленной суши, которому романтические приключения и привлекательность неизвестного придали огромную убедительность. Как бы то ни было, но человек он был весьма своеобразный и вполне заслуживает столь широкой известности. В течение двадцати лет Пинту скитался по восточным морям то в качестве раба мусульман или малайцев, то будучи пиратом, а то и наделенный посольскими полномочиями. Описание его приключений является самой фантастической одиссеей и самым авантюрным романом из всех написанных. И если оттуда нельзя извлечь достоверных сведений с точки зрения географии, тем не менее оно представляет существенный интерес как географический документ той эпохи, рисуя нам верную картину привычек и характера большинства из тех, кто в те далекие времена посещал удаленные западные области. Однако это чисто случайное посещение Японии Мендиш-Пинту послужило отправной точкой для последующих отношений между Португалией и микадо. С первого же момента было условлено, что ежегодно португальское судно будет доставлять на Кюсю шерстяные ткани, меха и т. п. И в этом случае, как, впрочем, и всегда, за торговцами тут же последовали миссионеры. Едва прошло семь лет с момента отплытия Пинту, как в 1549 году в Японию явилась миссия иезуитов. Ее возглавлял знаменитый Франсиско Ксавьер, чей талант, добродетели и вера сделали его самым привлекательным из всех миссионеров. Народ и правительство встретили священников и негоциантов с распростертыми объятиями, не чиня никаких препятствий проповедям христианства, равно как это было сделано раньше в отношении установления торговых отношений. Это была полная свобода, золотой век для вновь прибывших. Как одним, так и другим было разрешено свободное передвижение по всей территории империи. Народ охотно раскупал товары и внимательно прислушивался к проповедям. Поэтому в первое время обращение в христианскую веру шло довольно успешно, и работа миссионеров была плодотворной. Коммерция также процветала, благодаря содействию со стороны губернаторов прибрежных провинций. Падкие на редкий чужеземный товар, японцы покупали все, не торгуясь. Однако самые элементарные чувства осторожности и сдержанности недолго сопутствовали столь счастливому развитию событий. Вскоре португальцы стали открыто злоупотреблять незнанием японцев истинной стоимости продаваемых им товаров и старались получить прибыль не менее чем сто к одному. Обнаружив наконец, что их просто обкрадывают, японцы начали потихоньку шушукаться, а затем и открыто возмутились. Естественно, духовенство, осуждая в душе жадность торговцев, встало тем не менее на их сторону, поскольку они были соотечественниками. Мало-помалу дело дошло до того, что пришельцы окончательно обнаглели, распоясались, стали рассматривать Японию как покоренную страну и открыто презирать ее обычаи и законы. Столь дикое поведение вскоре принесло свои неизбежные плоды. Первоначальное уважение островитян сменилось недовольством и открытой неприязнью. За португальцами последовали испанцы, другие религиозные ордена и, в частности, доминиканцы. Сразу же возникло неизбежное соперничество между португальскими и испанскими торговцами, между иезуитами и доминиканцами. Местное население уже не знало, кому внимать, и разделилось на сторонников как тех, так и других. Возникли споры, стычки; анархия надвигалась со всех сторон. Желая остаться хозяином в собственной стране и восстановить мир, правительство приняло указ, запрещающий японцам принимать католическую веру. Это произошло в 1586 году. Прошло десять лет, а указ не действовал. Напротив. Прибывали все новые миссионеры, распри усиливались, а по наущению новоявленных святых отцов новообращенные жгли идолов и разрушали храмы. В 1596 году появился новый указ, официально запрещающий христианскую религию. Между тем, пройдя через Магелланов пролив, Японии достигло голландское судно под началом англичанина Уильяма Адамса. Он очень понравился императору, стал в своем роде фаворитом и получил даже резиденцию при дворе. Благодаря ему голландцы получили протекцию, равно как и его соотечественники, которым он поведал о торговых выгодах, предоставляемых иностранцам в Японии. Адамс добился для англичан тех же преимуществ, которыми пользовались португальцы, то есть разрешения посещать ежегодно Японию одному-двум судам с товарами. Первый английский корабль появился здесь в 1613 году. Англичанам был оказан весьма теплый прием, однако было рекомендовано не привозить сюда священников. Оставаясь фаворитом, Адамс сохранил все свое влияние, вплоть до своей смерти в 1631 году. Нет никакого сомнения в том, что Адамсу удалось бы окончательно навязать Японии своих соотечественников, если бы те не оказались рассеянными — вещь, правда, чрезвычайно редкая — до такой степени, что, забыв о своих интересах, не прислали ни одного корабля за шестьдесят лет. Голландцы, более упорные, цепляясь изо всех сил за любую предоставлявшуюся возможность, удержались, но вскоре мы увидим, что это стоило им огромных средств и потери достоинства. Что до португальцев, то, видя, что их влияние неуклонно падает, они решили вместо того, чтобы убраться подобру-поздорову, обвинить во всех смертных грехах правительство. С помощью многочисленных новообращенных японцев они устроили огромный заговор с целью сбросить правительство Японии. Было объявлено, что на борту португальского судна, захваченного в 1637 году на пути из Японии в Лиссабон, голландцами были найдены документы самого компрометирующего свойства. Естественно, голландцы поспешили вручить их императору. Монарх, обнаружив, что заговорщики ждут лишь прибытия португальских войск, дабы поднять восстание, принял решительные меры: немедленно был издан указ, предписывающий всем иностранцам незамедлительно покинуть страну. Христиане, объявленные заговорщиками, были обязаны отречься от новой веры под страхом смерти, и в том же 1637 году по всей Японии прокатилась волна гонений. Это послужило отправной точкой антиевропейских настроений и радикального изменения отношений Японии с внешним миром. В течение более двух веков японское правительство ни на йоту не ослабляло жесткости этих мер. Абсолютный запрет появления в Японии любого иностранца и для любого японца поддерживать отношения с внешним миром стал непреложным законом государства. Если штормовое море выбрасывало на японский берег потерпевшее кораблекрушение судно, его экипаж был осужден на вечное заточение; если же море уносило от родных берегов туземное судно, его экипажу было запрещено под страхом смерти возвращаться на родину. Это было полное, абсолютное лишение свободы. Англичане, появившиеся в 1673 году согласно обещанию, данному Адамсу, больше уже сюда не допускались. Не доверяя им, особенно после того, как их король женился на португальской инфанте, японцы запретили англичанам посещать порт Нагасаки. И лишь нескольким голландцам было разрешено пребывание в Нагасаки, на искусственном острове Десима, воздвигнутом здесь путем переноса в море высокого холма, окруженного базальтовой стеной, дабы защитить его от морских приливов. Остров был шириной 82 шага и длиной, в самой вытянутой части, 236 шагов и служил складом. Здесь голландцы получали европейские товары, а в обмен брали очень дешевую медь, получая при этом приличную прибыль. В 1641 году оборот здесь достиг 700 000 фунтов стерлингов, а голландцы оставались здесь в качестве пленников с 1641 по 1859 год! Десима был, таким образом, как бы приоткрытой дверью, правда, тщательно охраняемой лодками, через которую Японская империя осуществляла хоть какие-то сношения с внешним миром. Однако правительство Эдо[278] решило, что глава голландской фактории обязан раз в два года наносить визит императору и вручать ему подарки. Именно этим визитам и обязаны своим появлением замечательные работы Кёмпфера (1690–1693), Тунберга (1771–1776), Тицинга (1778–1784), Зибольда (1823–1830). Кёмпфер родился в Лемго (Вестфалия) в 1631 году, был врачом и натуралистом. Страстный путешественник, он в 1683 году назначается секретарем посольства, направленного русскими в Исфахан[279]. Когда его миссия была окончена, Кёмпфер предпочел продолжать путешествовать вместо того, чтобы вернуться в Германию, в то время воевавшую с Людовиком XIV, настолько велик был его ужас перед этим массовым убийством. Из Персии он направился в Персидский залив, где находился голландский флот, и стал его первым хирургом. Вместе с флотом он обошел берега Благословенной Аравии, Малабара, Цейлона, Бенгалии, Суматры и в 1689 году добрался до Батавии. Назначенный врачом фактории Десима, он дважды сопровождал в Эдо голландское торговое посольство. Он завязал отношения с несколькими образованными японцами, и благодаря этому обстоятельству мы получили документальные свидетельства о японских нравах того времени. Затем Кёмпфер вернулся на родину, женился и, как рассказывает один из его племянников, в собственном доме подвергался таким ураганам, каких он не видел и у японских берегов, что в конце концов и свело его в могилу. Число людей, посещающих эту страну, пишет Кёмпфер в своем повествовании, просто невероятно. Край этот населен чрезвычайно. Князья-вассалы обязаны в определенный период являться к императору в сопровождении многочисленной свиты, бесконечные шествия паломников и весьма развитые торговые связи делают движение на дорогах довольно интенсивным. Главная дорога, например, гораздо многолюднее центральных улиц многих европейских городов. Дело в том, что создание путей сообщения восходит здесь к гораздо более раннему периоду. В японских анналах встречается упоминание о строительстве почтовых дорог в различных провинциях империи, относящееся к 259 году нашей эры. В VIII веке основная сеть начинает разветвляться. С тех пор крупные города уже были связаны дорогами. Строители выравнивали дорожное полотно и укладывали на его поверхности камни и измельченные валуны в несколько дюймов толщиной, а затем присыпали песком. Уход за дорогами не представляет труда, поскольку экипажей в Японии нет, а все перевозки осуществляются с помощью лошадей или людей. Дороги обсажены елями, кипарисами, туей. Отсчет расстояния ведется от центральной точки, моста Ниппубо, в Эдо. Холмики, межевые столбы отмечают расстояния, а на придорожных столбах указаны направление, названия провинций, ближайшие города. Кроме того, дорожные карты, книги-путеводители с планами, указателями расстояний, стоимости лошадей и носильщиков, адресами почт, сведениями о местах паломничества, метеоданные, хронологические сведения, таблица мер и весов и даже солнечные часы из бумаги, которые можно легко разложить и собрать, значительно облегчают путешествия. И, дополняя эту великолепную дорожную систему, вдоль дорог расположены почтовые отделения. Есть здесь и крупные города, торговые, ведущие довольно активную деловую жизнь, с довольно многочисленным населением. Меако[280], резиденция императора, главы духовной власти, насчитывал тогда 477 500 жителей и более 52 000 священнослужителей. Эдо, резиденция императора, главы светской власти, был больше Меако, но застроен менее продуманно. Голландское посольство отправилось в Эдо в паланкинах. Скука и однообразие путешествия, пишет Кёмпфер, были вознаграждены вежливым и внимательным отношением со стороны коренных жителей. По прибытии в город посольство было помещено в гостиницу, откуда уже не могло выйти, но имело право принимать многочисленных японских визитеров, являвшихся то для того, чтобы получить сведения, касающиеся европейской науки, то чтобы вручить богатые подарки и получить взамен какие-нибудь европейские безделушки, до которых они были очень охочи. Затем явились императорские чиновники, дабы препроводить представителей посольства во дворец. Император, императрица и высшие сановники находились за тростниковыми ширмами. Аудиенция началась с того, что все посольство распростерлось ниц перед императорским жалюзи. Голландцы сначала упали на четвереньки, а затем, в том же положении, отползли назад. Кроме того, они должны были дать представление, в котором нашли бы отражение нравы и обычаи Европы. Кёмпфер рассказывает, что он ходил, прыгал, танцевал, пел по-немецки, натянул плащ, надел шляпу, раскланивался, обменивался любезностями, затем ругался со своими коллегами и закончил тем, что изобразил пьяного. После этой смешной и крайне унизительной церемонии голландским представителям было дозволено обсудить некоторые торговые вопросы и осмотреть часть города. Перед отъездом из Эдо правительство вручило им меморандум, не менявшийся на протяжении века, где говорилось, что Япония прекращает всякие отношения с Голландией, если та будет поддерживать их с Португалией. Что за добровольное унижение из-за страсти к наживе! Во время войн, которые вела империя, все отношения между Францией и Японией были поневоле прерваны. И только с восстановлением общего мира Индийская компания смогла наконец заменить персонал фактории, долгие годы находившийся в строгом заточении на острове Десима. Вновь прибывшие не без удивления созерцали своих предшественников, сохранивших, естественно, и наряды, и старые обычаи амстердамских буржуа XVII века. Японцы учинили новичкам строгую проверку и отказались допустить в качестве работников фактории тех, кто не был голландцем. Несмотря на свою должность врача, шведский натуралист Тунберг столкнулся с большими трудностями. Лекарский помощник Зибольд, будучи немцем, вышел из положения, сказавшись голландцем, родившимся на юге страны, чем, мол, и объяснял его акцент. Зибольд, отвечавший за сбор научных данных, которыми голландцы интересовались очень мало, оставил нам довольно интересное описание своего пребывания в этой стране. Японцы, утверждает он, отличаются складом ума от китайцев. Часто они ставят вопросы, свидетельствующие об их обширных познаниях, тем более поразительных, что они обладают для их получения весьма скудными возможностями. … Еще пару слов, прежде чем перейти к современной Японии. В VIII веке внутренняя смута вынудила императора наделить одного из своих сановников чрезвычайно широкими военными полномочиями, дабы тот смог выполнить правительственные решения. Они-то и легли в основу могущества «тайгунов»[281]. Преемник этого императора поступил аналогичным образом, передав уполномоченному часть своей власти. Затем эти титулы и функции тайгунов непрерывно передавались параллельно с императорскими титулами и атрибутикой микадо[282]. А отсюда до настоящих королей-бездельников оставался лишь один шаг, и он был сделан. Тайгуны увеличили свое могущество, стали своего рода дворцовыми правителями, высокомерными, всевластными, стремящимися к высокому общественному положению, очень ловко и незаметно оставив за микадо лишь религиозные прерогативы. И хотя микадо по-прежнему оставался монархом, посланцем богов-создателей, на самом деле он превратился в номинального императора, выполняющего лишь функции, предусмотренные этикетом, и культовые обряды, которые он и олицетворял, оказавшись отстраненным от общественной жизни и став эдаким религиозным божком, постоянно пребывающим в своем совершенно недоступном дворце Киото. Напротив, тайгун стал официальным обладателем власти, своего рода фактическим императором, тогда как микадо был им по праву. Таковой была ситуация и в 1853 году, когда США, задумав освоить морской путь, призванный соединить Калифорнию с Китаем, направили в воды Эдо эскадру под командованием командора Перри. Выпровоженный тайгуном, Перри ретировался, объявив, что он явится на следующий год, и пригрозил применить силу, если вход в гавань будет ему закрыт. За этим последовал договор, подписанный в 1854 году и открывший американцам доступ в Симоду, Нагасаки и Хакодате. За сим последовали другие договоры, с Россией (1855), Францией (1858), Англией (1858), Голландией и Пруссией (1860), подписанные благодаря успехам нашего оружия на севере Китая. Все эти договоры были заключены с тайгуном, которого великие европейские державы рассматривали как светского императора Японии, тогда как микадо оставался ее духовным владыкой, чем-то вроде папы или далай-ламы. Однако реакционные даймио, феодальные князьки, заметим от себя, разгневанные открытием портов, отказали тайгуну, власть которого они постоянно оспаривали, в праве вступать в переговоры без одобрения микадо и использовали в борьбе с ним население, относившееся к иностранцам враждебно. Во время междоусобных войн, раздиравших страну, европейцы были вынуждены неоднократно вмешиваться, чтобы заставить японцев соблюдать договоры или наказать виновников резни. Среди таких актов самыми впечатляющими были: обстрел и разрушение Кагосимы, столицы принца Садзума, английской эскадрой 15 августа 1868 года; разрушение батарей принца Нагасо в проливе Симоносеки адмиралом Жаресом в июле 1863 и в 1864 году французской, английской, голландской и американской эскадрами. В конце концов партия микадо, поддержанная четырьмя могущественными принцами — Садзумой, Хизеном, Тодзой и Нагасой, победила армии дайкуна, которые, потерпев поражение в Фушиме, около Киото, 27 февраля 1868 года отступили в Эдо и предоставили микадо всю полноту власти. В марте следующего года микадо вдруг появился на политической сцене и, произведя на окружающих еще более странное впечатление одним фактом своего появления на людях, принимал лично, в качестве священной персоны, в своем дворце в Киото представителей Англии, Голландии и Франции. После ратификации им документов в качестве полноправного монарха договоры начали выполняться как положено. В конце 1868 года микадо, совершенно преобразившийся и осовремененный, дабы показать, что свершившиеся перемены носят необратимый характер, оставил священный город Киото и перенес свою резиденцию в Эдо, переименованный в Токио, то есть Восточная столица. В течение последующих пятнадцати лет феодальный строй окончательно рухнул, уступив место центральному правительству. Древняя Япония была побеждена.
ГЛАВА 10
МОРИС ДЮБАРУ морских офицеров нет недостатка в объектах изучения, а разные страны, куда их забрасывают судьба и профессиональный долг, могли бы предоставить им массу возможностей для глубокого изучения и описания. Они видят много удивительного, таинственного, ужасного, странного, но, однако, чрезвычайно редко пытаются воспользоваться свободным временем, будучи на борту или на судовой стоянке, чтобы заняться литературным трудом. Часто возникает вопрос, почему эти люди, образованные, трудолюбивые, выдающиеся, остаются столь безразличными к окружающим их чудесам, даже не думая запечатлеть на бумаге свои мимолетные впечатления, облечь в слова то восхищение, которое они испытывают и которое буквально готово слететь с их уст, когда та или иная страна собирается распахнуть перед ними все свои тайны и предстать во всем великолепии. Тому есть несколько причин, и среди них одна, главная. Дело в том, что писателем случайно не становятся. Кто-то, будучи неплохим стилистом, оказывается поверхностным и невнимательным наблюдателем; кто-то обладает даром наблюдателя, но, оказавшись один на один с чистым листом бумаги, теряется, как гранильщик, желающий получить бриллиант. Кто-то воображает, будто написать книгу все равно что письмо, и в изнеможении бьется над двадцатой страницей, вне себя от ярости и усталости. Но это говорится для тех, кто пытался этим заняться… поскольку большинство, причем подавляющее, ко всему этому просто безразлично. И поскольку писателем случайно не становятся, чтобы им стать, нужно обладать даром. Прежде всего нужно обладать даром наблюдения, гораздо более редким, чем это принято думать; стиля, еще более редким даром; и работоспособностью, твердым желанием писать, не останавливаясь перед трудностями, не падая духом перед неудачами и наполняя каждый новый день надеждой на успех. Вот почему, несмотря на благоприятные обстоятельства, которые, казалось бы, могли пробудить спящий талант, так мало истинных писателей как среди морских офицеров, так и среди представителей других, так называемых литературных профессий. Это вступление, быть может слегка затянутое и тем не менее весьма важное, позволяет понять, каким образом, приступая к изучению современной Японии, мы стали счастливыми обладателями прекрасного труда о живописной, анекдотичной и близкой Японии; а также почему этот труд принадлежит — вещь чрезвычайно редкая! — перу выдающегося писателя и вместе с тем заслуженного офицера нашего морского корпуса, а именно: Морису Дюбару. Родившийся 27 августа 1845 года в Жеврей-Шамбертен (департамент Кот-д’Ор), что на бескрайних холмах старой доброй Бургундии, давшей миру столько талантливых людей, Морис Дюбар, после усиленных занятий в Морском интендантском училище, был выпущен оттуда в 1868 году в чине помощника интенданта. Он плавал без перерыва, если можно так выразиться, вплоть до 1873 года и был тогда на борту «Декре», что дало ему возможность участвовать в памятной экспедиции Франсиса Гарнье. Известно, что офицеры морского интендантства кроме обязанностей, общих с армейскими интендантами, подвергаются сверх того всем опасностям плавания и вынуждены проводить длительное время в колониях да к тому же выполнять все обязанности действующего офицера. Участие в этой кампании, когда Дюбар чуть не погиб в Хайфоне из-за приступа злокачественной лихорадки, привело его на лечение в Китай, а оттуда в Японию, откуда он вернулся со своим трудом «Живописная Япония», из которого мы и заимствуем все детали нашего описания. Назначенный по конкурсу помощником инспектора военно-морского министерства в 1881 году, а затем, в 1885 году, начальником кабинета помощника государственного секретаря военно-морских сил и колоний, Морис Дюбар является сейчас генеральным инспектором, выполняя функции, сходные с генеральным контролером сухопутных сил, в чине контр-адмирала. Находясь в расцвете сил и своего замечательного таланта, он, несмотря на огромную занятость по работе, находит время писать по случаю чудные эссе, полные юмора и фантазии, доставляя знатокам огромное удовольствие… Так последуем за ним в Японию, которую видело столько людей, но так, походя, как листают богато иллюстрированную книгу, и которую он сумел показать нам глубоко и разносторонне. Если верить Дюбару, эта, еще недавно таинственная страна, столь желанная, куда он прибыл с чувством обостренного интереса, с трепетно бьющимся сердцем, разочаровала его. Было ли это, как иногда случается, осуществлением слишком долгого ожидания заветного желания? А может быть, во всем виноват дождь, ливший как из ведра в тот день? Все возможно. Однако первое неблагоприятное впечатление от высадки в Иокогаме быстро стерлось. Один из друзей, довольно долго живший в Японии, встретил Дюбара, окружил вниманием, избавив, таким образом, от чувства изолированности, столь тяжкого для европейца вообще, а особенно для француза, находящегося на пороге неизвестности. Будучи человекомподнаторевшим в путешествиях, Дюбар организует свою жизнь таким образом, чтобы не терять времени зря. Он устраивает все так, что получает возможность совмещать службу на корабле с посещением самых интересных мест, быстро улаживает все дела, как заправский матрос, и очертя голову устремляется в неизвестность. Сначала, как человек сообразительный, Дюбар спешит все увидеть наскоро, как бы делая общий набросок, эскиз обширного и детального исследования, уже намеченного им. Так, он посещает «Шиво», тройную гранитную крепостную стену, за которой высился дворец тайгунов, сгоревший во время одного из тех страшных пожаров, что пожирали за несколько часов целые города. Пожары — это бич Японии, чьи фанерные дома, настоящие ажурные светильники, горят как бумажные. Затем он побывал у «Шиба», гробницы сёгунов — что означает: «главнокомандующий» — так раньше величали тайгунов, пока они не захватили власть; посетил храм «Асаха», знаменитый своими чудесами, приписываемыми богам, а также невероятными скоплениями голубей и окружающими его площадками для стрельбы из лука; и наконец, сады Уэно, где все еще царит беспорядок и хаос, а стволы деревьев обожжены и хранят следы пуль и картечи, — печальные развалины того, что было когда-то главным храмом империи и где в 1868 году разыгралась кровавая драма, положившая конец незаконному владычеству тайгунов и восстановившая права законных властителей страны. Эти места, пишет Дюбар, хранят зловещий вид, которому воображение готово придать еще более унылые оттенки; кажется, война кончилась только вчера, а на стволах больших деревьев и камнях со следами картечи еще видна кровь храбрецов, страшных даймио, погибших в схватке, похоронившей древнее японское рыцарство. И тем не менее буквально в двух шагах отсюда шумит нескончаемый праздник; если правительство микадо, подхваченное вихрем дел, не успело еще окончательно стереть следы пролетевшей грозы, то японский народ, самый смешливый в мире, не долго носил траур, и уже на следующий день после урагана на земле, дрожавшей от топота воинственных орд, поднялись сотни элегантных домиков, куда назойливые «мус’ме» — молодые девушки — зазывают праздных прохожих и день и ночь угощают этих больших детей чаем, их излюбленным напитком, играя им на «сямисене» — трехструнной гитаре. Большой знаток и ценитель оригинальных безделушек, которыми публика увлекается последние два десятка лет, Дюбар в первую очередь посетил магазины редкостей в Иокогаме, самые многочисленные и богатые во всей Японии, что объясняется большим наплывом иностранцев. Он становится завсегдатаем двух главных параллельных улиц: Бентен-дори и Хучо-дори, почти сплошь застроенных магазинами, забитыми редкостями, приводящими в экстаз или отчаянье коллекционеров. Японцы вообще, и в частности японские торговцы, настолько приветливы и любезны, что вы можете сотню раз войти в его магазин, смотреть, торговаться, щупать товар, ничего не покупая, и он будет с вами все так же приветлив; каждого посетителя он встречает вежливо и с неизменной улыбкой, непременно предлагая ему чашечку чая, обязательную для каждого, кто претендует на обходительность. А если сделка заключена, что иногда дело далеко не простое, то торговец становится вашим другом. Вы можете заявиться к нему в любое время, обосноваться у него, посидеть рядом. Он угостит вас табаком, чаем, поговорит с вами о делах, о вашей семье, родине, о новостях и политике; но он никогда не опустится, в отличие от европейского торговца, до того, чтобы навязывать вам свой товар; его товар выставлен на продажу, вы можете его видеть, купить, если вам угодно и вас устраивает его цена; но он почти никогда не будет вам надоедать, пытаясь заставить раскошелиться; это в своем роде артист, а иногда — философ. Вот почему прогулка по Бентен столь привлекательна, и наш путешественник с первых дней испытывал колоссальное удовольствие, бродя по этому огромному своеобразному музею, столь необычному для него и где он мог удовлетворить свое любопытство и приобрести необходимые навыки в разговорном языке. Сопровождаемый обычно одним из своих близких друзей-моряков, Дюбар не обходил вниманием ни одного уголка, рыская повсюду в поисках впечатлений, документов, разнообразных сведений. Во время одной из таких прогулок у его друга почти завязалась идиллическая дружба с юной японкой, очаровательной О-Ханой, дочерью торговца редкостями Митани, которая помогла им познакомиться с частной жизнью японцев. «Однажды, — пишет автор “Живописной Японии”, — мы долго торговались по поводу маленькой шкатулки, инкрустированной золотом. Безделушка была чрезвычайно симпатичная; она просто очаровала моего друга, пожелавшего отослать ее сестре; однако ему пришлось умерить свой пыл и привести его в соответствие со щедростью правительства, а поскольку упрямый торговец не желал уступать, то мы и ушли несолоно хлебавши. Вечером мы вернулись, поскольку уж если покупателю что-то действительно приглянулось, то он охотно будет бродить кругами вокруг вожделенного предмета, как если бы он мог стать его обладателем при помощи взгляда. Молоденькая девчушка, почти ребенок, которую мы не заметили утром, наводила порядок на полках, как это делалось каждый вечер перед закрытием магазина. — Так как? — крикнул прямо с порога, едва успев поздороваться, Марсель, так звали друга Дюбара, старому торговцу: Тот понял смысл вопроса. — Это невозможно, месье, — ответил он, — приглянувшаяся вам шкатулка просто великолепна; я предпочитаю оставить ее у себя, чем продавать задешево. Возьмите вот эту, побольше, она стоит дешевле. Предлагаемая шкатулка блестела как самовар, но была на редкость безобразна. — Нет, эта не подойдет, — ответил Марсель, — мне нужен подарок для сестры, и я решил, что это должна быть только шкатулка, которую я выбрал утром, и никакая другая. Во время нашего разговора малышка прервала свое занятие. — Сестра идзин-сана — господина иностранца — знатная дама, — молвила она как бы про себя. Звук детского голоса заставил моего друга обернуться как раз в тот момент, когда он уже доставал деньги, чтобы покончить с этим делом. — Знатная дама… нет, моя красавица; она малышка, примерно одного возраста с вами и почти такая же красивая. Пораженная этим комплиментом, возможно, первым в ее жизни, юная мус’ме бросила на Марселя удивленный, почти испуганный взгляд, а затем, взяв шкатулку, служившую предметом торга, подошла к отцу; между двумя действующими лицами этой сцены завязался оживленный разговор; девчушка недовольным и обиженным тоном избалованного ребенка, казалось, в чем-то убеждала отца; пристыженный старик как-то сник. — О-Хана! — ответил он ей с укором. Но раскрасневшийся ребенок был уже перед нами. — Вот она! — сказала она, протягивая моему другу шкатулку, которая ему приглянулась. — Возьмите. — Сколько, моя крошка? — Не знаю, но мне кажется, что предложенная вами цена вполне справедлива, я в этом убеждена. Сконфуженный Марсель колебался. — Возьмите же, — настаивала она, — это для вашей сестры. Видя наше изумление, старик сказал: — Торг окончен, не смущайтесь! О-Хана так захотела: это моя дочь, отрада моей старости, она приказывает — я подчиняюсь. Когда же мы хотели поблагодарить любезную малышку, она уже исчезла. … На следующий день новый визит в магазин Митани; подойдя ко входу, двое неразлучных, прозванных офицерами корабля «японскими братьями», увидели очаровательную О-Хану, принаряженную, с чисто детской грацией выставляющую на витрине, перед изумленными взорами нескольких вновь прибывших иностранцев, сокровища своего магазина. — Отец! — крикнула она торговцу, едва заметив нас, — вот и вчерашние иностранцы. А затем с очаровательной улыбкой добавила: — Конничи ва, идзин-сан. (Здравствуйте, господа иностранцы.) Старик, занятый, несомненно, проверкой вчерашних счетов, поднял голову, взглянул на нас с хмурым видом через широкие очки, слегка кивнул и принялся за прерванную работу. Марсель остановился как вкопанный, почувствовав, что если в лице мадемуазель О-Ханы он имеет союзника, то для хозяина дома он стал заклятым врагом. О-Хана, задумчивая и рассеянная, невпопад отвечала на вопросы покупателей. Нервные, порывистые движения свидетельствовали о ее плохом настроении; тревожный взгляд ее черных глаз пробежал по невозмутимому лицу старика и, подернувшись легким налетом печали, остановился на моем друге. Внезапно, возмущенная, очевидно, молчанием отца, девчушка быстро подошла к нам и, взяв нас за руки, подвела к старику. — Гомен насаймоши, — сказала она. — Простите меня, прошу вас — присядьте, пожалуйста, и немного подождите. Затем, позвав мать: — Окка-сан! Окка-сан! (Мама! Мама!) Принесите чай. За это время любители редких безделушек, обойденные вниманием, ушли. — Саёнара! (До свидания!) — весело сказала девчушка. — Это англичане; для них у моего отца нет ничего интересного. Послушная матушка примчалась на зов дочери: держа в одной руке кукольный чайник, принятый у японцев, другой она передала нам с низким поклоном крошечную чашечку на легком подносе из рисовой соломки. Японские дома, подлинные шедевры столярного искусства, отличаются поразительной чистотой; драпировки сделаны из красивой бумаги, наклеенной на белоснежную деревянную раму; пол, покрытый циновками, толщиной в семь-восемь сантиметров, подогнанных друг к другу и называемых “татами”, представляет собой мягкий, нежный ковер, на который никто никогда не ступит в уличной обуви. В домах, посещаемых иностранцами, татами заменяют фантастически чистыми тонкими досками, которые моют и вытирают каждое утро. В комнате есть особое место, поднятое сантиметров на тридцать — тридцать пять над полом, на котором татами укладываются симметрично в ряд, занимая площадь в три-четыре квадратных метра. Там, вокруг «чибачи», небольшой жаровни, от которой прикуривают трубки и на которой постоянно греется вода для заварки чая, собираются члены семьи, соседи и друзья, ибо японцы проводят там время до заката солнца. Туда-то и провела нас, взяв за руки, О-Хана, подчеркнув этим, что хотела бы считать обоих французов друзьями дома. Мы поблагодарили Окка-сан, отведали изумительного ароматного напитка, приготовленного ею, сделали ей комплимент по поводу любезности ее дочери, и я заявил главе семьи, что, посетив все магазины на улице Бентен, не нашел ни одного, равного его магазину. Все казались довольными, но следы недоверия все еще читались на лице старого торговца. — Покажите-ка нам ваш товар, — добавил я, — я хотел бы прямо сейчас купить партию безделушек, причем цену вы назначите сами, и я куплю все, не торгуясь. Это заявление окончательно разгладило морщины на лице скупердяя, и он принялся демонстрировать нам свои сокровища. Стоя на коленях перед чибачи и протянув руки к углям, покрытым золой, О-Хана рассеянно следила за нами. Отец, встав на табурет, передавал мне предметы, на которые я указывал пальцем. Я ставил их на татами рядом с девушкой; несколько раз она взглянула довольно внимательно на предмет, который я только что принес и отставил в сторону. Когда первый отбор был закончен, я понял, что от доброй половины придется отказаться, если я не хочу остаться без единого франка в кармане; вдруг, пока ее отец был в другом конце магазина, О-Хана указала мне на два-три серьезных дефекта, которых я не заметил, и быстро вытащила забракованные безделушки из уже отобранных мною. — Коре ва мина икува? — спросил я старика. — Сколько за все? Он водрузил на нос свои огромные очки и бросил взгляд на часть своего художественного товара, с которой собирался расстаться. — Ток сан! — воскликнул он. — Здесь очень много. Затем, взяв счетный инструмент, называемый “совобан”, которым пользуются все японцы, он на несколько минут погрузился, судя по выражению лица, в сложные подсчеты; наконец, положив счеты, он несколько раз провел рукой по седеющим волосам, испустил пару горестных вздохов, как-то затравленно взглянул на дочь и затем, как бы говоря “ладно, где наше не пропадало!” сквозь зубы процедил цену, которую я не понял. — Ёросий! — радостно воскликнула девчушка, хлопая в ладоши, — прекрасно! Договорились: тридцать пять “рио”, два “бу” с четвертью… (около 173 франков). Я подумал, что она хочет повторить вчерашнюю сцену; я уже собирался возразить, когда старый торговец объявил совершенно серьезно: — Послушайте, О-Хана может говорить, что ей заблагорассудится, но я не сбавлю больше ни “темпо” (чуть меньше одного су). Тогда я понял, что он назвал самую низкую цену, а дочь просто поймала его на слове. С этого момента все более или менее значительные покупки мы делали с Марселем только здесь. Если отец О-Ханы не мог предложить нам то, что было нужно, он покупал это у своих собратьев по вполне разумным ценам. С тех пор мы стали друзьями дома. Особенно Марсель, более юный и более непосредственный, он был в полном восторге. Не проходило дня, чтобы он не проводил несколько часов в беседе с этими добрыми людьми. — Почему вас не было вчера? — спрашивала его О-Хана, если ему случалось пропустить какой-нибудь день. — Я скучала весь вечер, и ночь мне показалась бесконечной. Вы же обещали научить меня говорить по-французски и рассказать обо всем, что происходит в вашей прекрасной стране; я жду. Она была так прекрасна и так наивна, эта дорогая милая подружка! А ее имя, означающее по-японски “цветок”, было так приятно произносить! Нам представили всю семью: О-Сада-сан, старшая сестра О-Ханы недавно вышедшая замуж; Уйно, ее муж, служащий японской таможни, прозванный его невесткой “Данна-сан”, господин, поскольку он перенял, доведя до клоунады, европейские манеры. Нам показали весь дом и маленький внутренний садик — высокая степень доверия — и сопроводили в одно из воскресений в “йосики”, исключительно плодородную долину в окрестностях Иокогамы, названную американцами “долиной Миссисипи”…» Не кажется ли вам, что эта простая безыскусная картина, переданная точным и острым пером, вся наполнена светом и искренностью? С какой непосредственностью вводит он нас в частную жизнь японцев и подготавливает к восприятию нравов и обычаев страны! Приближающаяся зима, грозившая прервать продолжительные прогулки, должна была только укрепить дружбу между молодыми офицерами и обитателями магазина с улицы Бентен. Дни уже становились короче, а ночи длиннее; начинало холодать; уличные торговцы с тысячами своих лавчонок на открытом воздухе, придававших улице столь живописный вид во время чудесных летних ночей, с заходом солнца, ежась, спешили по домам: «ча-йа», чайные дома, установленные вдоль жилых домов и приносящие теперь дополнительные издержки, один за другим свертывали свое немудреное хозяйство. «Японские братья», уже не находя больше прежнего очарования в своих долгих вечерних прогулках, заканчивали день у своих друзей с улицы Бентен. В то время как О-Хана переписывала под бдительным оком учителя написанные им французские слова, Дюбар беседовал с членами семейства, с О-Сада-сан, сестрой маленького «Цветка», ее старым отцом, с добрейшей Окка-сан, когда домашние заботы давали ей пару минут передышки. Он отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся Франции, и сам задавал им бесчисленные вопросы об их жизни, традициях, обычаях, столь отличных от наших. В тот переходный период, неизбежно следующий за революционными событиями, потрясшими страну, в Японии нередко можно было увидеть деклассированные семьи, которые, занимая до этого блестящее положение, оказались в незавидной ситуации, граничащей с бедностью. Семья О-Ханы, не принадлежащая к дворянскому сословию, смогла выстоять во время страшного урагана, вырывавшего с корнем дубы, но пощадившего слабый тростник. Скромное существование стало залогом спасения. И все же рикошетом судьба ударила и по ней. Во времена своего расцвета могущественные «даймё», настоящие феодальные князья, кроме многочисленной домашней прислуги держали еще и разного рода ремесленников, настоящих умельцев, художников по шелку, резчиков по дереву и слоновой кости, архитекторов, рисовальщиков, живших в княжеской йосики со всей семьей, пользовавшихся большим уважением и умудрявшихся даже сделать кое-какие сбережения благодаря щедрости своих господ. Митани-сан, отец О-Ханы, был самым искусным художником принца Садзумы; он жил в Эдо, в одном из самых богатых йосики тайгунской столицы, и надеялся спокойно дожить свои дни там, где родился, где жили его предки, когда разразилась гражданская война, а за ней и революция. Изгнанный из своей вотчины, принц Садзума часть своей челяди взял с собой, а часть рассчитал. Митани должен был последовать за хозяином; однако возможность разлуки с семьей привела его в ужас. Он отказался от предложенной чести и предпочел расстаться с местом, нежели с родными. Поэтому он покинул Эдо и перебрался в Иокогаму, где благодаря небольшой сумме, оставленной ему отцом, и собственным сбережениям он купил домик и мало-помалу открыл при нем магазин. Его талант художника, безукоризненный художественный вкус и честность скоро вошли здесь в пословицу, и магазин Митани стал одним из самых посещаемых в городе. Его клиентура была почти чисто французской. Если не считать представителей трех великих латинских наций, то художественные изделия не пользовались у других иностранцев большим спросом; японские торговцы это великолепно знают и показывают обычно островитянам с другой стороны Ла-Манша и дикарям из тевтонской империи лишь безвкусные современные поделки, припрятывая истинные шедевры своих коллекций для тонких ценителей красоты. В тот период, когда Дюбар находился в Японии, слава магазина Митани пошла на убыль: художник постарел и сильно сдал, зрение позволяло ему лишь передавать свое искусство дочерям. Поскольку сыновей у него не было, старшая дочь вышла замуж за правительственного чиновника, а младшая не испытывала никакой тяги к торговле, он вынужден был подумывать о том, чтобы совсем отойти от дел и спокойно дожить свои дни. Поэтому полгода назад он сообщил своим многочисленным друзьям и клиентам, что прекращает обновлять свой ассортимент, остается в городе еще на некоторое время, дабы распродать самые ценные вещи, а затем устроит широкую распродажу; после чего с женой и младшей дочерью О-Ханой отправится доживать свой век в маленьком домике в «долине Миссисипи». — Пора, — говаривал иногда старый добряк, — спокойно пожить за счет труда целых трех поколений. О! Мы прокляли иностранцев!.. Прокляли, а надо бы благословлять. Конечно, наша прежняя жизнь была спокойнее, более обеспеченной, чем сегодня; но это была скорее жизнь домашнего животного, довольствующегося ежедневным рационом и почивающего в унизительном благополучии рабского существования. Новая эра, открывшаяся с появлением европейцев, погрузила многих несчастных в болото нищеты… Но свободный человек, с добрым сердцем, холодным умом и умелыми руками, всегда может в такой стране как наша, с ее теплым, ласковым солнцем, обеспечить себе честное и порядочное существование. — Вы говорите совсем как сын Французской революции, папаша Митани, — заметил смеясь офицер, очарованный подобным либерализмом со стороны японца старой закалки. Добряк, не понявший взрыва этого веселья, показавшегося ему неуместным, прервал гостя с легким раздражением: — Не понимаю, о чем вы здесь толкуете! Каждый француз, ну прямо как наши девушки, всегда надо всем смеется; недаром считают, что рыжеволосые разбили французские армии из-за вашего легкомыслия. Заметив, что при упоминании о разгроме на лице собеседника появился налет печали, он добавил: — Да!.. Но я также знаю, что под вашей постоянной веселостью скрывается незаурядная храбрость, пылкий патриотизм и что однажды, причем скорее, чем думают многие, вы вновь займете в Европе место, которое вы когда-то занимали, во главе великих европейских держав. Затем пришел Данна-сан. Данна-сан, японец новой формации, сын века, как сказали бы сегодня. Как и все государственные служащие, зять Митани выглядел европейцем и относился явно свысока к своим менее образованным соотечественникам и, в частности, родителям жены. Откровенно восхищаясь обоими офицерами французского военного флота, явно подражая им, обезьянничая и копируя их, зачастую ни к селу и ни к городу, бравый Данна-сан обожал держать себя с ними на равной ноге, с совершенно неподражаемой развязностью. К числу его странностей можно было отнести и то, что он никогда не отвечал им, когда они обращались к нему на его родном языке, зато неизменно подвергал их настоящей пытке, беседуя на своем фантастическом англо-франко-японском жаргоне, каком-то птичьем языке, понимание которого было для них настоящей… японской головоломкой. Несмотря на все эти недостатки, присущие людям его круга, стремящимся к мгновенной европеизации, Данна-сан был, вообще говоря, прекрасным человеком, обожавшим жену и проявлявшим по отношению к ней все знаки внимания; умным, хорошо знавшим обычаи своей страны и стремившимся к знаниям. Именно ему, как это станет ясно из дальнейшего повествования, Морис Дюбар был обязан бесценными сведениями о старой и новой Японии, а также весьма любопытными данными о ростках разногласий, существующих в скрытом состоянии в любой стране, пережившей революционные потрясения. Однажды вечером, когда автор «Живописной Японии» явился в магазин один, он, к своему удивлению, услышал какое-то неясное гудение. Вся семья, как обычно, собралась за столом; не было только О-Ханы. Шум доносился из ее комнаты, то усиливаясь, то затихая до какого-то неясного бормотания. Удивление, явно читавшееся на лице гостя, которое он и не пытался скрыть, вызвало улыбки на лицах хозяев дома. О-Сада встала, взяла его за руку и, приложив указательный палец к губам наподобие статуи Молчания, подвела к бумажной перегородке, за которой была комната ее сестры. Небольшое отверстие в тонкой перегородке позволяло нескромному взору проникнуть в крохотную комнатку юной девушки. Показав ему на отверстие, О-Сада жестом пригласила его удовлетворить любопытство. Перед чем-то вроде небольшого алтаря, освещенного тонкими многочисленными свечами, сидела на корточках маленькая фигурка бонзы в ритуальных одеяниях. Перед его почти закрытыми глазами лежал молитвенник, и он, бормоча без перерыва бесчисленные строфы, как раз и производил шум, который Дюбар уловил еще у входной двери. В двух шагах позади священника, погрузившись в глубокое раздумье, в позе глубокого раскаяния стояла О-Хана. — И сколько же времени, — совсем уж непочтительно спросил у О-Сады путешественник, — этот молитвенный жернов будет еще молоть? — Не имею понятия, — ответила та, — с некоторого времени О-Хана стала очень набожной. Она очень почтительна со священнослужителями, и этот пробудет у нас еще долго… часа два, по крайней мере, поскольку она, к несчастью, дала ему «бу». — Как? За один «бу» (один франк двадцать пять сантимов) больше двух часов молитв! О-Сада рассмеялась, и оба присоединились к остальным членам семейства, казавшимся отнюдь не взволнованными занятием преподобного визитера. Дело в том, что в глубине души японцы не отличаются набожностью. Они безразличны к религии. За редким исключением, мужчины отличаются практицизмом, а женщины просто-напросто суеверны. Распространены два религиозных течения: синтоизм, религия древней Японии, которую исповедовали в основном коренные жители островов, и буддизм, завезенный из Индии и преодолевший бескрайние просторы Китайской империи, заселенные данниками. О христианстве здесь можно даже не упоминать: поскольку если даже, по мнению самих миссионеров, оно и получит распространение в будущем, то сегодня число его приверженцев не увеличивается и ограничено незначительным количеством сторонников — в основном потомков обращенных святым Франсуа или Франсиско, — которых довольно трудно удерживать в рамках Евангелия. Синтоизм и буддизм, две долгое время соперничавшие религии, по очереди поддерживаемые правительством, в последнее время, кажется, начинают сливаться, дабы не подвергнуться своего рода остракизму, угрожающему и тому и другому. Храмы все чаще остаются заброшенными; казна священнослужителей, опустошенная во время революционных потрясений, пополняется лишь за счет незначительных воздаяний суеверных, да и то мелкой монетой, к тому же не всегда полноценной, о чем свидетельствуют торговцы, обивающие пороги некоторых храмов и без зазрения совести подающие паломникам для их воздаяний монахам и подношений богам старые, вышедшие из употребления монеты. Культовые обряды, когда-то столь блестящие в буддистской религии, имеют теперь много общего с католическими. Служители культа в ритуальных облачениях, похожие на наших церковников, отличаются важностью, елейностью и размеренностью движений, что роднит их с бритыми и босыми представителями некоторых католических орденов. Сегодня бедность священника почти повсеместно отражается и на отправлении культа. Большинство храмов, за исключением немногих, пользующихся поддержкой, превратилось сегодня в прибежище для монахов, изгнанных из их приходов, и являет собой довольно странную картину. Это хитросплетение обломков двух враждующих религий, сблизившихся волей обстоятельств, производит удручающее впечатление. Паломники, бормочущие молитвы, с одинаковым безразличием падают ниц и перед Синто, и перед Буддой, и если их спросить, какой, собственно, религии они придерживаются, то они, вероятнее всего, просто расхохотались бы, поскольку и сами, очевидно, этого не знают. У одного болит голова, у другого нога; господь-целитель вольготно устроился в одном углу, под сальным от прикосновений десяти поколений покрывалом. Первый страдающий, погладив физиономию висельника «иуса», трется о нее головой с сокрушенным видом, бросает свои два фальшивых «дзю-му-сен» (один сантим) в зияющую дыру перед алтарем и удаляется с довольным видом. Второй немощный поступает точно так же, с той лишь разницей, что обращается он теперь к ноге, а не к голове бога. Затем появляются: женщина, желающая родить непременно мальчика, юная дева, желающая получить мужа, отвечающего требованиям ее сновидений, какое-то рахитичное создание, желающее стать нормальным человеком. Безразличный бог терпеливо сносит все самые смехотворные ласки и самые страстные лобзания. Является ли этот святой одним из будд? Или это один из славной плеяды синто? Вряд ли найдешь среди простых японцев человека, способного ответить на этот вопрос… Однако один храм избежал столь печальной участи, благодаря одной особенности, совершенно не связанной с религией, которая скорее служит напоминанием об известной драме из блестящего прошлого Японии. Это храм Сенгакудзи в Эдо, где покоятся сорок семь «ронинов» Асано-такуми-но-ками. Их история весьма любопытна и напоминает об одной из наиболее характерных черт истории рыцарской Японии; она показывает, до какой степени абсурда были доведены понятия о чести в древнем воинственном обществе, произошедшем от богов. Эта странная и вместе с тем страшная история заслуживает того, чтобы быть изложенной здесь в том виде, как ее представил нам автор «Живописной Японии», поскольку кроме всего прочего она поведает нам о нравах, бытовавших в то время в стране. Морис Дюбар со своей тенью также совершили паломничество к Сенгакудзи в сопровождении одного из японских друзей, досконально знавшего историю своей страны и поведавшего им много интересного. Итак, они подошли к храму. — Заметили ли вы, — сказал французам их спутник, — длинную цепочку мавзолеев, придающих храму вид обширного и богатого склепа? Это гробницы сорока семи ронинов Асано-такуми-но-ками. Слово «ронин» с этимологической точки зрения чрезвычайно экспрессивно и поэтично и означает «человек-волна»; человек, чья жизнь зависит от капризов судьбы, подобен волне, поднятой налетевшим ураганом. Ронинами назывались благородные воины, которые, оставшись без своих сюзеренов в результате какой-то катастрофы, вели образ жизни странствующих рыцарей, живущих за счет своей храбрости и умелого владения мечом. Асано-такуми-но-ками, даймё одного из самых сильных кланов Японии, будучи оскорбленным другим даймё по имени Кодзуке-но Суке, не смог снести этого и в приступе гнева бросил свой кинжал прямо в лицо обидчику. Кинжал нанес тому лишь небольшую царапину, но Кодзуке-но Суке, занимавший официальную должность при дайкунайском дворе, приказал своим людям схватить Асано и обманом, воспользовавшись оказанным ему доверием, добился того, что его противник был осужден на смерть путем харакири, что, как известно, является официальным и почетным смертным приговором для даймё. Асано без колебаний принял смерть согласно всем канонам японского рыцарства; все его владения и имущество были конфискованы, разоренная и доведенная до нищеты семья была обречена на скитания и влачила жалкое существование, а его воинский отряд был распущен. С этого момента его вассалы и сторонники и стали ронинами. Тогда же и появился один из самых героических выдуманных персонажей, чьи доблестные и бескорыстные подвиги столь почитаемы в Японии; один из тех великих образов, что так часто появляются на японской сцене; олицетворение абсолютной, слепой преданности вассала, долга и самоотречения, доведенных до неправдоподобия. Кураносуке, первый офицер благородного Асано, его ближайший соратник, доверенное лицо и сердечный друг, присутствовавший при совершении его горячо любимым господином харакири, поклялся на его высокочтимой голове в страшной, непоколебимой ненависти к Кодзуке и его клану; затем, отдав последний долг обезглавленному телу, с тяжелым сердцем и неугасимой жаждой мести он покинул йосики. За ним последовали сорок пять самых благородных и самых храбрых самураев из клана Асано, которые, поверив в несгибаемое мужество Кураносуке, его мудрость и ловкость, примкнули к нему, задавшись целью отомстить за поруганную честь своего клана. Отныне у всех этих сорока шести человек была лишь одна цель, одна всепоглощающая мысль: добраться до Кодзуке, отрубить ему голову, свершив тем самым искупительное жертвоприношение. Задача была трудной, поскольку Кодзуке, столь же трусливый, сколь и могущественный, удвоил охрану своего йосики и окружил свое жилище такой защитой, что добраться до него было не под силу самым смелым и отчаянным. Кураносуке понял, что момент для расплаты еще не настал и следовало подождать более удобного случая. Собрав своих сторонников, он дал им приказ рассеяться по всей империи, но быть готовыми явиться по первому зову; сам он также покинул Эдо со всей семьей, взяв с собой все самое ценное, и удалился от места, которому суждено было стать ареной драмы, в которой он сыграл главную роль. Он обосновался в Киото; там, по крайней мере, о нем вскоре забудут, мало-помалу память о трагической кончине Асано сотрется, и убийца, успокоенный бездействием ронинов своей жертвы, придет в состояние роковой беспечности. Однако вскоре Кураносуке, казалось, совершенно забывает о мести и пускается во все тяжкие. Он слоняется по самым захудалым притонам, валяется смертельно пьяным в придорожных канавах и буквально скандализирует весь Киото своими похождениями; напрасно его друзья и товарищи по оружию пытаются его образумить; напрасно его верная супруга, любящая мать его детей, мягко выговаривает ему за его недостойное поведение, — все напрасно. Однажды, в один из таких приступов запальчивости, он выгоняет из дома всю свою семью, за исключением старшего сына, юного О-Ичи-чикана; теперь уже ничто не может удержать его от падения; он опускается все ниже и ниже, пока наконец не теряет всякое понятие о чести. Нет уже такого оскорбления, которому он не подвергался бы со стороны окружающих; какой-то самурай плюет ему в лицо, пинает ногами, обливает презрением и награждает самыми грязными прозвищами. Кураносуке никак не реагирует; на него уже смотрят с жалостью; это уже не человек, а животное, которое каждый может пнуть ногой, не боясь быть укушенным. В течение долгих месяцев Кодзуке был настороже. Наконец, устав от осадного положения, в которое он поставил себя сам без всякой видимой причины, а возможно, и устыдившись своего поведения из-за беспочвенных страхов, он решается возобновить прежний образ жизни и распускает часть охраны, которая его столь долго окружала. Наступает час Кураносуке, вожделенный миг расплаты. Пьяница, бродяга, безвольное существо, молча сносившее любые оскорбления, внезапно исчезает из Киото. Никто о нем и не вспомнил, мало ли таких опустившихся существ кончает свои бесславные дни где-то на задворках. Однако вот уже неделю как его старший сын, юный О-Ичи-чикана, разъезжает по стране с приказом сторонникам отца собраться вместе в определенное время, а сам Кураносуке, бывший доблестный воин, присоединится к ним под стенами Эдо. Собираются сорок шесть ронинов, сорок седьмым становится О-Ичи-чикана. Они вновь дают клятву мести, обращаются к богам с короткой молитвой и, не теряя ни минуты, со всеми возможными предосторожностями продвигаются к йосики Кодзуке. Все это происходит темной зимней ночью. Резкие порывы ветра с воем крутят в воздухе снежные вихри; вокруг царит непроглядная тьма и слышны лишь завывания вьюги. Воины крадутся вдоль стен, прячась за деревьями, и наконец оказываются в йосики. Вскоре повсюду уже слышатся громкие крики, звон скрещивающихся мечей. Это охрана Кодзуке, застигнутая врасплох, безуспешно пытается оказать сопротивление ронинам Асано. Но ничто не может устоять перед отчаянным напором неудержимого Кураносуке и его товарищей. Побежденные, разоруженные, рассеянные охранники прекращают сопротивление. Разбуженный шумом боя, охваченный ужасом, Кодзуке пытается спастись бегством. Но в тот момент, когда он пытается скрыться через потайную дверь, железная рука опускается на его плечо и увлекает в пышно обставленные апартаменты. — Узнаете меня, князь? — спрашивает его глава ронинов. — Я — Кураносуке!.. Это я отдал последние почести высокочтимой голове знаменитого Асано-токуми-но-ками… Я тот, кто поклялся над его еще теплым телом отомстить за его гибель и вручить его обоготворенной душе голову вашей милости. Произнеся эти слова, бесстрашный самурай вытащил кинжал и почтительно предложил Кодзуке тут же совершить харакири. Тот трясущейся рукой взял орудие мести, взглянул на него расширившимися от ужаса глазами и, казалось, совершенно не понимал, что это означает вынесение ему смертного приговора. Пока он колебался, Кураносуке, не в силах более ждать свершения великой цели, к которой он стремился с таким упорством и долготерпением, взмахнул мечом и одним ударом отрубил голову подлому трусу, не способному принять смерть, достойную воина. Покончив с этим, сорок семь ронинов, все получившие более или менее серьезные ранения, покинули йосики, прихватив с собой лишь голову даймё. С восходом солнца, когда буддийские жрецы Сенгакудзи явились, чтобы открыть двери храма, на внешних ступенях алтаря они обнаружили сорок семь распростертых ниц воинов. Вид этих людей, покрытых кровью и пылью, был ужасен. Одному из них, юному О-Ичи-чикана, не было еще и шестнадцати, и его безусое нежное лицо резко контрастировало с суровым обликом его отважных товарищей. На груди у него зияла страшная рана; но он не обращал на нее внимания и, как подобает воину, стойко переносил ужасную боль; черты его лица, побледневшего от потери крови, выражали непреклонную решимость и отвагу. — Братья! — сказал предводитель маленького войска пораженным монахам, бросив им несколько пригоршней золотых монет, — примите наше подношение. Это все, что у нас есть, и откройте собратьям божественного Асано двери их последнего прибежища. Ошеломленные монахи открыли двери и удалились. Когда же они вернулись, на полу храма они увидели сорок семь окровавленных трупов! Сорок семь ронинов приняли смерть, воздав последние почести могиле своего властителя. С быстротой молнии весть об этом массовом самоубийстве облетела всю империю, Кураносуке, чье эксцентричное поведение получило наконец объяснение, заслуживает после своей героической кончины полную реабилитацию, становится полубогом, а его сорок шесть сподвижников — очень почитаемыми святыми. Могилы героев становятся объектом особого культа: вся страна желает воздать почести отважным воинам, с такой самоотверженностью отдавшим свои жизни, чтобы отомстить за поруганную честь своего сюзерена. Паломники являлись сюда из самых отдаленных уголков страны. Однажды в храме появился самурай из Сацума, с ног до головы покрытый дорожной пылью. Весь путь он совершил пешком. Не позволив себе ни минуты отдыха, он входит в храм Сенгакудзи. Совершив молитву перед статуей Будды и положив все, что у него было, на ступени алтаря, он опустился на колени перед могилой Кураносуке и, обращаясь к изображению героя, заявил: — Благородный друг, прости несчастного, не сумевшего распознать великое сердце, и прими его жизнь в виде искупления за незаслуженное оскорбление, которое он имел несчастье тебе нанести. Произнося эти слова, покаявшийся воин вскрыл себе живот и испустил дух в потоках собственной крови. Это был тот самый самурай, который когда-то в Киото плюнул в лицо Кураносуке. Он похоронен рядом с сорока семью ронинами. Эта могила неизменно вызывает удивление посетителей, недостаточно хорошо знающих историю ее появления и насчитывающих сорок восемь могильных плит там, где их должно было бы быть сорок семь. «После этой драмы, — добавляет любезный чичероне французских офицеров, — и прежде чем отправиться в обход по более приятным местам, мне кажется, следует рассказать вам, что же собой представляет это ужасное харакири, о котором шла речь в этой мрачной истории». Харакири, называемое еще «сеппуку», представляет собой способ самоубийства, принятый среди военных, решивших покончить счеты с жизнью или приговоренных к смерти за ошибку, не носящую позорящего характера и не влекущую за собой ни понижения в чине, ни разжалования. Существовало еще два способа приведения в исполнение смертного приговора; речь идет об удушении и обычном отсечении головы; однако оба эти способа, считавшиеся позорными, никогда не применялись в отношении самураев, по крайней мере, если они не были замешаны в преступлениях против чести, в понимании японцев. Таким образом, харакири являлось в древнем японском обществе скорее способом морального наказания, поскольку, отнимая жизнь, оно не покушалось на честь наказуемого и даже не носило характера самоубийства в европейском понимании этого слова. Эта дуэль человека с самим собой не может быть сопоставлена и с нашей дуэлью, хотя между этими двумя существенно отличными актами и имеется некоторое моральное сходство. Во Франции в некоторых слоях общества дуэль действительно является последним способом защиты оскорбленной чести. Однако в этом вопросе общественное мнение разделилось; кто-то отворачивается или пожимает плечами при виде человека, принявшего участие в дуэли; кто-то, наоборот, пожимает ему руку с чувством некоторого восхищения; существует расхождение во взглядах. В Японии ничего подобного. При старом строе каждый уважающий себя японец должен был быть готов в любой момент своей жизни вычеркнуть себя из списка живых или оказать эту маленькую услугу одному из своих друзей. Харакири являлось в какой-то степени частью воспитания класса военных; и хотя сегодня этот способ вышел из употребления, благодаря довольно быстрому изменению нравов под воздействием европейского влияния, но тем не менее люди, принявшие такую смерть, остаются в глазах общества святыми. Более того, я убежден, что какой-нибудь фанатик, пожелавший подобным образом свести счеты с жизнью после совершения какого-то уголовного преступления, повлекшего, согласно новому кодексу, осуждение на вечную каторгу, и сегодня нашел бы многих почитателей и немало других фанатиков, стремящихся сделать из него полубога. При совершении харакири помощник играл гораздо более важную роль, нежели секундант в европейской дуэли. Его миссия была поистине священной и требовала безусловной преданности, смелости и ловкости. Согласно правилам японского рыцарства каждый даймё должен был иметь среди своей свиты хотя бы одного человека, способного стать его помощником при совершении этого обряда, кстати, даймё особо выделял его и приближал к себе. Сама церемония харакири обставлялась с исключительной торжественностью, призванной замаскировать под видом праздника ужас и жестокость самого акта. Я имею здесь в виду не добровольное харакири, которое совершалось где угодно, без всякой подготовки и, возможно, даже без участия помощника, а акт, вытекающий из какого-то серьезного проступка, потребовавшего вмешательства своего рода военного суда. В этом случае осужденный передавался под охрану какого-нибудь даймё, который содержал его в своем йосики в качестве пленника, оказывая ему тем не менее все почести, приличествующие его рангу. В старину эта процедура осуществлялась, как правило, в храмах; позже и до самого последнего времени она производилась в зависимости от ранга приговоренного либо в одном из залов йосики даймё-тюремщика, либо в прилегающем парке. Если проанализировать саму процедуру ритуального убийства, то можно прийти к выводу, что она протекает везде одинаково, а различия столь незначительны, что достаточно описать одну из них, чтобы понять саму суть подобных актов. Не будучи непосредственным свидетелем подобных драм — с чем себя и поздравляю, — я тем не менее неоднократно видел их в театре, воспроизведенными с потрясающей достоверностью. Речь идет о харакири, развязка которого была доверена человеку со стороны, какому-то второразрядному офицеру. Еще накануне в парке была расчищена площадка в четыре квадратных метра, открытая с севера и юга и завешанная белыми шелковыми полотнищами; по углам были поставлены длинные шесты с флагами, покрытыми изречениями из священных книг. Перед каждым входом находилось деревянное изображение, убранное белым шелком; в центре площадки перпендикулярно друг другу были расстелены двеновые циновки с белой каймой. Прибыли свидетели, называемые здесь цензорами и назначаемые правительством. На пороге йосики их с большой помпой встретил сам даймё; два факела, установленные по краям расстеленных циновок, должны были освещать всю сцену бледным, дрожащим светом. И вот подготовка закончилась. Осужденный в одеждах веселых тонов появился со стороны северного входа, а цензоры, помощники и зрители — южного. Каждый занимает место, отведенное ему правилами этикета, осужденный усаживается на циновке, расстеленной с юга на север, лицом на север. Цензоры устраиваются на перпендикулярной циновке, а помощники, чей выход еще впереди, становятся кру́гом вместе со зрителями. Первый цензор начинает зачитывать смертный приговор: «Самурай, вы совершили проступок, позор которого вы смыть не в состоянии; отныне вы недостойны принадлежать к касте японских рыцарей. Однако из уважения к вашему высокому званию вы не будете подвергнуты унижению и ваше имя не будет опорочено; но вы должны сами обречь себя на смерть, предусмотренную принятыми у нас правилами и обычаями». С этими словами цензор удаляется и покидает йосики. Осужденный, только что с полным безразличием выслушавший приговор, удаляется, чтобы совершить последний торжественный туалет. Спустя несколько минут он возвращается, переодевшись в праздничные одежды, и занимает свое прежнее место на циновке. Встает даймё, хозяин йосики, и обращается к своему гостю: — Не желаете ли вы что-нибудь сказать мне? — Мне нечего сказать, — отвечает тот, — но, поскольку вы снизошли до того, что приняли участие в моей судьбе, позвольте тому, кто должен сейчас умереть, поблагодарить за доброе к нему отношение. Таков священный обычай и классический ответ. Единственный допустимый при этом вариант заключается в возможном добавлении: «… Покорнейше прошу вас передать мою последнюю волю такому-то». С этими словами осужденный передает даймё запечатанный конверт. В этот момент второй помощник передает осужденному кинжал, называемый «кусум-гобу», а первый помощник обнажает ему правое плечо, одним движением выхватывает меч, причем ножны падают на землю, делает шаг назад и влево и собирается с силами… Осужденный, сидя на пятках по японскому обычаю, берет кинжал в правую руку и без малейшего колебания всаживает его себе в живот! Затем недрогнувшей рукой он медленно ведет клинок слева направо и сверху вниз. Поток крови захлестывает циновку перед ним… Герой, не позволяя себе ни малейшего вскрика, вытаскивает окровавленный кинжал и вытягивает руку в сторону цензоров: это знак к ужасной развязке. Первый помощник взмахивает мечом; отяжелевшая голова осужденного наклоняется немного вперед; короткий блеск стали — и голова, отделенная от тела с одного удара, гримасничая, катится к ногам присутствующих: честь спасена, и справедливость восторжествовала. Если согласно этикету звание осужденного требует проведения этой процедуры внутри йосики, то все происходит так же, как и в парке. Вместо циновок, на которых выступают актеры этой ужасной драмы, в этом случае используют «ф’ту» — нечто вроде матрацев, подбитых ватой, сшитых вместе и обтянутых хлопочатобумажной тканью, которые укладывают на татами, чтобы на него не попала кровь. Вместо обычных факелов иногда используют более яркие светильники; однако признаком хорошего тона является, по-видимому, затемнение помещения, что позволяет скрыть от глаз осужденного все детали печальной процедуры и дает ему возможность стойко перенести последние мгновения. Если же он не отличается необходимой силой воли, то первый помощник, который, добавим, может быть предупрежден заранее, не ждет первого удара осужденного, а отрубает ему голову сразу, как только замечает, что тот чуть-чуть наклонился вперед… В любом случае справедливость торжествует и на месте действия остается лишь труп, которого ждут пышные похороны; поскольку, как мы видели, харакири не является бесчестьем. В Японии похороны состоят в простом предании тела земле или кремации. Предается ли труп земле или огню, но последняя церемония всегда происходит в присутствии многочисленных буддийских жрецов. Насколько тесно древние обряды связаны с обычаями современной религии, указывает тот факт, что если рождается ребенок, то хвала воздается Синто, а если случается смерть, то в этом замешан Будда. Прочитав над телом и могилой, приготовленной для принятия бренных останков, установленную молитву, священник с помощниками удаляется, предоставляя собравшимся родственникам самим завершить печальную церемонию, состоящую в погребении или сожжении тела. Те, кто исповедуют синтоистскую религию, предпочитают кремацию, процедура которой в последние годы должна по приказу императора, осуществляться в соответствии с установленными правилами. Для этих церемоний за городскими стенами отведены специальные места, где можно сжигать трупы умерших, не боясь вызвать недовольство граждан специфическим запахом. Странный, но весьма распространенный обычай состоит в том, что скончавшемуся дают новое имя — Укури-на, которое он будет носить вечно в той тайной и бессмертной жизни, в которую он только что вошел через скорбную дверь смерти. Это имя заносится на записные дощечки, подвешиваемые в почетном углу дома умершего, где по определенным дням зажигаются маленькие свечи и курятся благовония. … В то время, пока «японские братья» благодаря тесной дружбе, установившейся у них с семейством Митани-сан, знакомились с деталями жизненного уклада японцев, им выпала редкая удача получить приглашение на свадебную церемонию. Юная невеста, которая часто встречала обоих офицеров у добряка Митани, просила их об этом с такой трогательной настойчивостью, что они были буквально покорены. — Приходите! — убеждала она их. — Мои родители будут рады и счастливы вас принять. Девушка сумела затронуть слабую струнку французов, поскольку они горели желанием присутствовать на одной из таких церемоний, от которых благодаря волне новаций, поддержанных правительством и юным поколением, вскоре останется лишь одно воспоминание. Действительно, два французских журналиста, приглашенных микадо для написания его доброму народу свода законов, подобного тому, который подарил нам великий Наполеон, с завидной неторопливостью занимались составлением новых законов, подгоняя их по мерке автора тех, которым еще и сегодня завидует Европа. Однако задача эта была весьма трудная, поскольку следовало приспособить к японскому менталитету довольно странные формулировки, которыми мы довольствуемся из-за отсутствия других, и поэтому, как говорится в просторечье, дело продвигалось туго. Поэтому данные законы не только не были изданы, но и некоторые горячие головы даже выражали сомнение по поводу целесообразности этой значительной и дорогостоящей работы. Гражданское состояние, этот краеугольный камень любого социального здания, не отличалось, да и сейчас еще не отличается необходимым единообразием: вместо того чтобы покоиться на законах, оно строилось лишь на семейных отношениях и, следовательно, носило весьма относительный характер. Это была довольно серьезная и трудная проблема, принимая во внимание обычаи, изменить которые могло лишь время. Действительно, если мы в качестве первого акта гражданского состояния примем акт рождения, то французское законодательство сразу же сталкивается с проблемой усыновления. В Японии просто не существует семей без приемных детей. Обычно два соседних дома обмениваются одним ребенком; этот естественный обмен не подвержен никаким ограничениям ни возрастного, ни какого-либо другого плана, как во Франции. Это самый естественный способ воспитать мужа для своей дочери; зачастую это также возможность создать себе нужное окружение, а иногда просто стремление удовлетворить свою фантазию или желание соблюсти очень почетный и глубоко укоренившийся обычай. Сохраняя право усыновления в столь широком масштабе, акт рождения, скрепляющий в какой-то степени принадлежность к родной семье, стал бы для доброй половины населения лишь первой ступенькой, которую вскоре предстоит преодолеть для вхождения в социальную приемную семью. Отсюда и серьезные затруднения, которые, по мнению компетентных людей, могли бы долгое время оставаться причиной огромных ошибок и печальных недоразумений. Пока же наши законодатели были бы заняты поиском путей примирения всех этих требований и точек зрения, древние патриархальные отношения, дающие отцу семейства полную власть во всем, что касается проблем, связанных с семейным очагом, продолжали бы оставаться единственными, принятыми в стране. Еще более серьезная проблема, нежели даже вопрос о гражданском состоянии, связана с браком. Из того факта, что полигамия в Японии не разрешена, а разводы не слишком часты; из того, что представители слоев общества, доступные нашему наблюдению, редко меняют своих супруг, — отнюдь не следует, что развод официально запрещен существующими правовыми актами, а внебрачные связи полуофициального плана под семейным кровом просто недопустимы. Отмена развода была бы просто нелогичной, учитывая, что этот правовой акт должен быть вскоре восстановлен и во Франции. Напротив, было бы разумнее оправдать внебрачные связи под семейным кровом. В Японии, отмечает Морис Дюбар, бракосочетание не подпадает ни под какие законодательные акты. Любовь и привычка, а также соблюдение взаимных интересов способствуют установлению и продолжению супружеских отношений. В союз мужчины и женщины не вмешивается ни представитель людского закона, ни служитель религиозного культа. Это сугубо частное дело. Юноша желает вступить в брачный союз с девушкой: он спрашивает ее согласия или испрашивает его через посредство ее родителей. Если просьба принимается благосклонно, будущий супруг вручает подарки, после чего, согласно обычаям, молодые люди считаются мужем и женой. Подарки невесте представляют собой различную одежду и украшения, ценность которых зависит от благосостояния жениха: обычно это белое шелковое платье, кусок шелка того же цвета и расшитый золотом женский пояс. Теща также получает белое шелковое платье, а тесть — роскошную саблю. Причем платья не должны быть сложены. Тесть, со своей стороны, делает будущему зятю равноценный подарок, если, конечно, в состоянии это сделать, но в любом случае не дает за дочерью приданого. В качестве такового невеста приносит в семью: два шелковых платья, сшитых особым способом, два пояса, полный праздничный наряд, веер, пять-шесть книг небольшого формата и маленькую саблю, предназначенную для защиты собственной чести в случае нападения. Назначается день свадьбы. Родители, друзья, соседи приглашаются в этот день на торжественный обед, юноша представляет собравшимся девушку, выбранную им в жены, и на этом все заканчивается. Начиная с этого момента девушка считается его женой, она поселяется в его доме и занимает там главенствующее положение. Если муж решает завести себе еще одну, незаконную, подружку, или ликаке, он может это сделать, не разводясь с законной супругой, а если он достаточно богат, то может вообще завести у себя гарем. Каждая вновь прибывшая тихо занимает в доме место, соответствующее моменту ее появления там; она может быть второй, третьей или десятой, но при этом никогда не становится объектом издевательств со стороны предшественниц. Что касается детей, то все они считаются в равной степени законными; каков бы ни был порядковый номер их матери, права их одинаковы, и, независимо ни от чего, они остаются исключительной собственностью отца. Чтобы отделаться от законной супруги, нет необходимости обращаться в суд. Достаточно простой маленькой записки «Микудари-Хан», дословно «три с половиной строчки». «Объявляю, — пишет супруг, — что такая-то, бывшая моей женой, не является таковой с сегодняшнего дня, может вступать в повторный брак и вообще вольна делать все, что ей заблагорассудится». Коротко, зато вполне ясно и недвусмысленно. Получив такой «документ», жена собирает принадлежащие ей нехитрые пожитки и, оставив детей на попечение отца, ответственного за их воспитание, отправляется на поиски более счастливой доли. На этом все и заканчивается, без лишних формальностей и хлопот, как и в случае бракосочетания, которое заключается и разрывается все с той же непостижимой легкостью. И тем не менее в стране, где так легко избавиться от жены, которая в один прекрасный день вам вдруг разонравилась, число ежегодных разводов значительно меньше числа юридически оформленных актов бракосочетаний в течение одного лишь квартала. Естественно, возникает вопрос, так ли уж срочно следовало во что бы то ни стало европеизировать этих прекрасных людей, которым чужды наши обычаи и которые могли бы, естественно, восстать против новых, налагаемых сходными с европейскими законами обязанностей, ибо они, возможно, заставили бы их отречься от самого духа их нации, ради желания стать похожими на других. А теперь продолжим наше повествование. Родители жениха, богатые торговцы шелком из Иокогамы, владели в получасе езды от города, неподалеку от домишка Митани, в прекрасной «долине Миссисипи», очаровательной японской виллой. Согласно древним обычаям страны там и должно было состояться бракосочетание их сына. В назначенный день «японские братья» прибыли в указанное место. Было чудесное апрельское утро; с приходом весны природа расцвела; вдалеке, в небольшой рощице, виднелись сотни разноцветных флажков, развевающихся на ветру, и оттуда уже доносились веселые звуки сямисена. Вскоре за поворотом дороги показался маленький йосики, расцвеченный флажками, вымпелами, фонариками и гирляндами. Когда офицеры ступили на землю, а вернее, на белые татами, расстеленные перед домом, большинство гостей, явившихся перед ними, уже заняли свои места в большом зале, красочно убранном для предстоящего торжества. Двое друзей жениха, выбранные им, с большой помпой отправились за невестой к ее родителям; ждали только ее; но вот наконец показался запыхавшийся «бэтто», то есть вестник, посланный им навстречу; а вот и она сама, королева дня. В то время как в доме завершаются последние приготовления к торжественной встрече новобрачной, двое «кодзукаи» (слуг) — мужчина и женщина, с факелами и ступами для риса, становятся в почетный караул по обе стороны входной двери. В тот момент, когда новобрачная переступает порог своего нового дома, рис из двух ступ пересыпается в один общий сосуд, символизируя материальный достаток и прилежание в работе, а факелы — символ пылкой любви — соединяются, образуя одно пламя. Эти знаки мистического единения чрезвычайно трогательны. Но, как заметил повествователь, едва соединившись, оба факела внезапно гаснут без всякой видимой причины, в чем суеверный наблюдатель мог бы усмотреть намек на весьма недолгое супружеское счастье. Невеста, принаряженная, с головой, прикрытой длинной белой шелковой вуалью, дрожащая как былинка, входит в дом, полный гостей. Отец жениха торжественно подводит бедняжку к почетному месту, отведенному для нее на время церемонии, в то время как юноша незаметно усаживается на более скромное место, опустив очи долу. На возвышении пола парадной залы установлены многочисленные подносы; на одном покоится клетка с двумя трясогузками, символом верности и душевной чистоты, на других — рыба, птица, всевозможные пироги, два сосуда с саке, три поставленные одна на другую чаши и, наконец, спиртовка для подогрева саке. Пока девушки симметрично располагают на столе эти символические яства, женщины окружают новобрачную и увлекают ее в отдельную комнату, чтобы довести до совершенства ее свадебный туалет и, разумеется, дать полезные советы по поводу ее новых обязанностей. Когда с этой важной процедурой покончено, все возвращаются в общий зал; две матроны берут сосуды с саке, каждый из которых прикрыт бумажной бабочкой, разных поло́в, разумеется; об этом различии японцы помнят всегда, даже при изготовлении картонных кукол. Бабочка-самка располагается на полу, а ее партнер — рядом. Как только сосуды оказываются вскрытыми, старшая из матрон берет по одному из них в каждую руку; другая женщина берет чайник; саке из обоих сосудов смешивается и с величайшей осторожностью водружается на горячую печку, именуемую чибачи; как только жидкость закипает, та из женщин, которая сливала саке из двух сосудов в чайник, берет поднос с тремя составленными чашками, наполняет верхнюю и протягивает жениху. После чего начинаются нескончаемые возлияния; жених и невеста выпивают по девять чашек саке, которые они поочередно поглощают по три кряду, сначала выпивая первую, затем — вторую и, наконец, третью. Все это происходит так быстро, что оба офицера, озабоченные столь частыми возлияниями, начали уже беспокоиться, не упьются ли новобрачные до конца церемонии. Однако их очаровательная маленькая подружка О-Хана успокоила их, объяснив, что если согласно обычаю и следует выпить определенное количество чашек, то совсем необязательно их каждый раз наполнять и, следовательно, новобрачные едва ли выпили больше полсклянки саке. Кстати, саке представляет собой довольно безвредный напиток. Это разновидность очень слабой водки, приготавливаемой из риса и сильно разбавленной водой; чтобы опьянеть, ее надо выпить изрядное количество, поэтому пьяный японец — большая редкость; и если обитателю Страны восходящего солнца и случается быть слегка навеселе, то ведет он себя при том настолько пристойно, что это заставило бы покраснеть пьяниц нашей страны, если, конечно, они еще не разучились это делать. Следует, однако, признать, что подобная сдержанность и трезвость не были характерны для прежней Японии. Считается даже, что когда-то, согласно одной из легенд, виноградники были распространены здесь повсеместно, и божественное вино — будо-но-саке — пользовалось таким успехом, что тогдашний суровый тайгун, напутанный повальным пьянством, издал указ об уничтожении виноградников по всей империи, разрешив иметь лишь один куст на семью. Впрочем, как известно, в легендах много преувеличений, так что не всегда им можно верить. Этот указ, сколь бы правильным он ни казался на первый взгляд, оказался тем более ошибочным, что вино никогда не являлось причиной падения народных нравов, и если судить по винограду, потребляемому в настоящее время японцами, то вино из него должно было бы быть великолепным. Сегодня умное и образованное правительство микадо вступило на путь подлинного прогресса. Оно приняло специальные меры по развитию сельского хозяйства и распорядилось разбивать виноградники повсюду, где это только возможно; поэтому, добавляет рассказчик, я надеюсь, что через несколько лет мы смогли бы уже вкусить этого божественного напитка, который, если верить легенде, веков пять-шесть тому назад едва не погубил Японию. Как бы то ни было, но первая часть свадебной церемонии закончилась; в ожидании второго акта, пока каждый беседовал со своим соседом по столу, закусывая печеньем, дабы поддержать аппетит, готовилось настоящее свадебное угощение, для которого столы накрывались в том же зале. Оно состояло из трех перемен блюд: первая была из семи блюд, вторая — из пяти и третья — из трех. Какая радость для Господа, если он, подобно поэту, предпочитает нечетные числа!.. Numero Deus impare gaudet[283]… Поскольку следует заметить, что все, что было связано с этой торжественной церемонией, повторялось три, пять, семь и девять раз. Это свадебное пиршество, не оставившее бы равнодушным и самого Пантагрюэля, отличалось особенным разнообразием рыбных блюд и продержало приглашенных за столом до трех часов пополудни. Несмотря на обильные возлияния, за столом царило веселье и приятная атмосфера. Затем последовала череда речей, посвященных данному событию; наконец появились певцы и танцоры. Присутствующие заметно оживились, оставаясь при этом в строгих рамках приличий. Песни представляли собой восхваления новобрачных, пожелания благополучия, плодовитости, безоблачного счастья и любви. Танцы, гораздо более экспрессивные, на взгляд европейцев, нежели музыка, в которой они не очень-то разбирались, изображали с большой достоверностью различные этапы супружеской жизни. И Морис Дюбар заканчивает свое повествование следующими словами: «Время летит незаметно; уже поздно, однако момент, когда новобрачные могут удалиться наконец в свои покои, еще не наступил. Тем не менее мы считаем, что пора откланяться, и, поблагодарив хозяев за дружеское, любезное приглашение, в пять часов вечера пускаемся в обратный путь в Иокогаму под впечатлением прекрасно проведенного дня и очарованные предоставившейся возможностью принять участие в этой любопытной старинной церемонии».
.......................................................................................
Вернувшись на борт корабля, друзья узнали о том, что уже организована увеселительная прогулка. Один из их приятелей по Эдо, явившийся в их отсутствие, предложил проехаться в Никко[284], и «японские братья», конечно же, не смогли отказаться от такой возможности пополнить запас своих сведений об этой стране. «Никко, — повествует далее Морис Дюбар, — является местом вечного упокоения великого Иэясу, первого тайгуна из династии Токугава[285], самой знаменитой и самой процветающей. В течение долгих лет микадо ежегодно посылает целую депутацию высокопоставленных лиц в сопровождении многочисленной свиты самураев, чтобы почтить могилу божественного Иэясу и вручить подарки находящемуся там храму. В настоящее время, как мне кажется, этот трогательный обычай уже почти соблюдается (хотя и не забыт окончательно) по причине всеобщего безразличия к религии. И тем не менее этот храм выделяется среди других как своей внутренней отделкой, так и связанными с ним историческими событиями, которые еще не изгладились из людской памяти». Сведения об этом священном месте восходят к гораздо более ранним временам, нежели эпоха, связанная с именем Иэясу; начало поклонения этим святым местам было положено в 767 году нашей эры монахом-буддистом по имени Чодо-Чонин. Гора Никко, расположенная в тридцати шести с половиной ри[286] от Эдо (один «ри» — примерно 3123 метра), на северо-восточных границах провинции Чимодзуке, в округе Цонга, называлась когда-то «горой Двух ураганов» из-за бурь, периодически дважды в год, весной и осенью, опустошавших этот край. В 820 году буддийский монах Кукаи дал этим горам то название, которое они носят и поныне и которое означает: «Горы Солнечного Сияния». В 1616 году, когда монашеской общиной Никко руководил верховный жрец Тёкаи, причисленный впоследствии к сонму буддийских святых, тайгун Хидэтада, сменивший достославного Иэясу, отправил двух высших должностных лиц на поиски места, достойного принять священные останки своего предшественника. После долгих поисков и тщательного обследования местности посланцы остановили свой выбор на южной части холма Хотоке-Ива. На двадцать первый день девятого месяца они возвратились в Эдо, где их ждали поздравления их господина, новые высокие должности и королевские подарки. Немедленно начатые работы по строительству мавзолея были закончены за три месяца; останки Иэясу, перевезенные с величайшей, невообразимой помпой к месту их последнего упокоения, через несколько дней были причислены к святым мощам согласно специальному указу микадо. Это обожествление явилось поводом для религиозных празднеств, ставших легендарными, которые возглавлял священнослужитель императорской семьи и на которых присутствовали самые высокородные лица всей империи. Указ о возведении в ранг святого божественного и почитаемого тайгуна зачитывался народу два дня кряду десять тысяч раз огромным количеством монахов, специально собранных для этой цели. Тёкаи умер в 1644 году, и его сменил Мудзаки. На следующий год в память о славных деяниях, совершенных Иэясу на военном поприще в восточных провинциях, которые он усмирил, император повелел назвать храм Готосё — Восточный дворец. Правление Мудзаки длилось всего лишь десяток лет, после чего он вернулся в Киото. Его сменил пятый сын микадо, и начиная с этого момента вплоть до революции 1868 года во главе буддийских жрецов Никко всегда стоял священнослужитель, в жилах которого текла императорская кровь. Этот императорский отпрыск постоянно проживал при тайгунском дворе в Эдо, являясь в Никко лишь трижды в год: в первый день нового года, в один из дней четвертого месяца и, наконец, на девятый месяц. В 1868 году настоятель храма Никко стал игрушкой в руках революции; поднятый на щит сторонниками царствующего тайгуна, он был провозглашен микадо; однако его царствование было весьма кратковременным. Законное правительство, одержавшее верх, проявило к нему терпимость. Узурпатору сохранили жизнь. Тем не менее новая администрация сочла полезным для него сменить климат и выдала ему подорожную до… одного немецкого университета, где он мог на досуге предаваться размышлениям о превратностях человеческой судьбы, находящей удовольствие в том, что вручает вам корону и почти тут же с еще большей радостью ее у вас отбирает. «Этот привлекательный исторический обзор, — замечает далее знаменитый автор “Живописной Японии”, — сделанный в общих чертах нашим другом, непременно склонил бы меня к поездке, даже если бы я к этому не был расположен. Марсель, со своей стороны, тоже согласился, даже не прибегая к каким-либо уверткам. Поэтому приготовления к поездке проходили в радостном возбуждении и были недолгими; в чемодан уложены смены белья для обоих, разрешение командира уже получено; паспорта, отправленные японскому правительству, в Иокогаму вернулись с небрежно проштампованными визами; в восемь часов маленькая группа погрузилась в последний поезд, отправляющийся из Иокогамы. Переезд из Иокогамы в Эдо недолог: всего один час. Время незаметно пролетело в веселой болтовне, легкой, как клубы пара, вырывавшиеся из трубы нашего паровоза, и вскоре мы уже оказались в очаровательной квартирке нашего друга в Кандабаши-учи, где нас уже ожидал изысканный ужин и мягкие манящие постели. В полночь все улеглись». Путешествие предполагалось осуществить на дзин-рикуся[287]. Когда-то средства передвижения в Японии были весьма простыми, но чрезвычайно неудобными. Прежде всего это были допотопные повозки, запряженные быками, кстати, их и сейчас еще можно увидеть в качестве местных достопримечательностей. Да, и в наши дни ими пользуются некоторые важные вельможи, предпочитающие путешествовать на них со всеми удобствами, наподобие странствующих королей. Существовали также «кочи», что-то вроде портшеза, покрытого лаком, с двумя оглоблями; затем «норимон» — другая разновидность кресла, установленного на единственной деревянной перекладине, жестко связанной с навесом экипажа, и переносимого двумя носильщиками. Эти средства передвижения, которые страшно неудобны для европейца из-за того, что там приходится сидеть на корточках, являются, однако, настоящей каретой по сравнению с «канго». Этот экипаж, бывший для Японии тем же, чем является обычный фиакр для Парижа, довольно трудно описать. Это нечто вроде корзины, сплетенной из бамбуковых ремешков, длиной в семьдесят и шириной в сорок сантиметров, совершенно открытой с одной из сторон и снабженной ватным тюфяком. Открытая сторона может закрываться занавесом из промасленной бумаги; плетеная часть снабжена частой решеткой из узких бамбуковых полос, позволяющей пассажиру видеть то, что происходит снаружи, оставаясь невидимым для прохожих. Глядя на тесную нору, предназначенную для пассажира, невольно задаешься вопросом: каким же образом туда можно проникнуть и, главное, разместиться? Нужно действительно быть просто гуттаперчевым, подобно профессиональному клоуну, чтобы принять там немыслимую позу восточного джина, упрятанного в сосуд, короче говоря, владеть секретом размещения в ограниченном пространстве предмета большего размера, чем оно может вместить. Можно, конечно, путешествовать верхом или на пароходе. Однако об этих способах передвижения лучше и не упоминать, поскольку первый из них предназначен почти исключительно для военных, а второй практикуется лишь на незначительной части империи. Экипажей, в том смысле как мы понимаем их во Франции, в Японии просто не существует. К тому же следует помнить, что используемые здесь подковы лошадей не являются железными, а плетутся из соломы и, следовательно, не предназначены для длительных путешествий. Сегодня же в Японии путешествуют, как и повсюду. Существует железнодорожная сеть, к сожалению, недостаточно развитая и состоящая всего из трех линий, эксплуатируемых уже несколько лет (связывающая Иокогаму с Эдо, Кобе с Осакой и недавно построенная линия Осака — Киото). Как только финансовое положение позволит соединить Кобе с Симоносеки и Киото с Иокогамой, появится возможность проехать из конца в конец самый большой остров Японии без пересадок и проделать это путешествие, когда-то связанное с невероятными трудностями, так же легко и просто, как путь из Марселя в Париж. Увы, пока что это не так. Конные экипажи здесь все еще редки, несмотря на европеизацию Японии, поскольку лошадей для этой цели по-прежнему недостает. Правда, в Эдо появилось несколько омнибусов, но их едва хватает для обслуживания одной десятитысячной части населения города. Кочи и норимоны, за редким исключением, вышли из употребления; канго еще существуют в отдаленных горных районах. Следовательно, единственным средством передвижения, доступным для обладателя любого кошелька, остается дзин-рикуся. Что же собой представляет дзин-рикуся? Дословно это сложное слово означает: экипаж на человеческой тяге. Это нечто вроде небольшого кабриолета, первые образцы которого были показаны на выставке 1867 года в Париже. С тех пор эта маленькая тележка, в которую впрягается возница, появилась в сотне тысяч экземпляров в некоторых областях Дальнего Востока, с успехом заменила в Китае тачку, а в Японии — канго. Этот экипаж, в котором, тесно прижавшись друг к другу, можно уместиться вдвоем, приводится в движение одним человеком. В больших городах, таких как Эдо, где поездки весьма продолжительны или когда речь идет о многодневных поездках, возчик берет себе помощника, который, в зависимости от обстоятельств, либо впрягается в экипаж, либо помогает сзади на крутых подъемах или спусках. Эта коляска, какой бы примитивной она ни казалась на первый взгляд, не лишена известных удобств. «Именно в таком экипаже, — заявляет Морис Дюбар, — я совершал все поездки по Японии, днем и ночью, в любую погоду; ни дождь, ни солнце, ни холод не служили для меня препятствием. С помощью большого японского зонта и защиты в виде занавесок из промасленной бумаги и теплых покрывал все можно выдержать. Средняя скорость движения достигает пяти километров в час. На ровной и сухой дороге эти несчастные неутомимые бегуны, называемые дзин-рикуся, развивают скорость хорошего арабского скакуна; однако на подъемах и размытых участках они теряют все, что сумели наверстать на ровной дороге. Но, вообще говоря, это средство передвижения является достаточно быстроходным и достаточно комфортабельным для таких путешественников как мы, сгорающих от желания увидеть всю страну и привыкших довольствоваться малым. Цены зависят от района и целого ряда обстоятельств; однако они никогда не превышают одного бу за ри, а иногда мне удавалось договориться и об оплате из расчета примерно пять сантимов за ри с человека. Как и во Франции, где есть частные фиакры и компании по найму, так и в Японии существуют частные дзин-рикуся, с которыми можно договориться об оплате, равно как и взимающие официально установленную плату. Иногда мне приходилось прибегать к услугам последних; однако опыт подсказал, что по возможности не следует иметь дела с такими компаниями, поскольку, забирая себе значительную часть платы, они вынуждены нанимать людей, изможденных этим тяжким трудом и довольствующихся за неимением лучшего мизерным вознаграждением. Поэтому наш хозяин, будучи в курсе всех этих тонкостей, решил не связываться с Генеральной компанией дзин-рикуся, находящейся в Эдо. В результате ладно скроенные молодцы, занимающиеся частным извозом, доставили нас в Никко благодаря заранее спланированным подменам на день раньше, чем это сделала бы компания». С самого начала поездки наши путешественники прекрасно приспособились к экипажам, влекомым людьми-иноходцами. В этой скромной и чрезвычайно распространенной коляске они пересекли всю огромную столицу и выехали на главную дорогу Очиу-Кайдо, ведущую в Никко. Первая остановка и ночевка в Коге. Как только с ужином было покончено, хозяйке гостиницы предложили приготовить постели. В холодное время года постель в Японии представляет собой два-три стеганых ватных матраца, называемых «ф’тоны», положенных один на другой на татами, «макуру» (подушку), небольшую лакированную шкатулку с игрушечным валиком для шеи, а отнюдь не головы; и, наконец, одно или несколько «мосенов» (покрывал), которыми накрывается спящий, в добавление к огромному бесформенному домашнему халату, непременному атрибуту отходящего ко сну японца. Что касается простыней, то они здесь неизвестны; желающие их получить должны отправляться в гостиницы, ежедневно посещаемые европейцами и предоставляющие гораздо меньшие удобства за значительно большую плату. И все же как себя чувствуешь на таком ложе? «Что касается меня, — утверждает автор “Живописной Японии”, — то я чувствовал себя в нем превосходно, заменив макуру скатанным покрывалом. Благодаря этому простому усовершенствованию жесткое японское ложе всегда казалось мне достаточно удобным. Впрочем, это дело привычки, и я частенько на рассвете выслушивал жалобы своих спутников; да и кто, собственно, вообще находит пробуждение приятным? Один жаловался на ветер, дующий сквозь щели, другой плакался, что у него свело поясницу и задубела шея, — короче говоря, окончательного мнения по этому поводу нет. И тем не менее в “Яо-Я” — гостинице Никко — все мы заснули мертвым сном и проспали допоздна, так что когда наконец мы натянули сапоги, наскоро проглотили завтрак и приготовили наши альбомы для рисования, было уже почти десять часов». Дорога последовательно проходит через Чичикенчо, Харамачи, Нонобикинотаки, затем Кингамине, потом ведет в очаровательную долину, где низвергает свои прозрачные воды водопад Хонья-даки. Затем перед вами беспрерывной чередой разворачиваются очаровательные японские пейзажи, столь веселые, радостные, кокетливые, что кажутся просто нереальными. Наконец добираемся до озера Чузаидзи, окруженного чайными домиками, с одноименной деревней на берегу, очень модного курортного местечка, нечто вроде японского Монте-Карло, где отдыхает знать Эдо в летнюю жару. Пока наш гид заказывает обед в прелестном ча-йа (чайном домике), мы обходим деревню, посещаем храм Ф’тарача и покупаем несколько сувениров в память о посещении этого милого местечка. Среди безделушек, производимых местными кустарями, следует упомянуть: небольшие блюда, «цута», служащие для подачи чашек с чаем, музыкальную шкатулку ценой в десять сантимов, бумажный веер, домик из обожженной глины, саблю, детские игрушки, картинки, пустяковые безделушки — словом, ничего стоящего. Цута, однако, заслуживает пары слов. Это, собственно, толстая лиана, разновидность гигантского плюща, ствол которого достигает десяти — двенадцати сантиметров в диаметре. Будучи разрезанной на мелкие части, лиана образует кружочки, из которых и делают оригинальные блюдца. Наконец наши путешественники добираются до знаменитого храма Тосёгу, или храма Иэясу, который Дюбар считает красивейшим из всех виденных им японских храмов и действительно самым очаровательным из всех аналогичных сооружений империи со всех точек зрения. Синтоистская архитектура в ее первозданном виде, прекрасно сохранившаяся, представляет особый исторический интерес, а множество изящных безделушек, большинство из которых являются дарами принца, разумеется, привлекают внимание туристов. Крыша, отличающаяся удивительным изяществом, опирается на мощную несущую конструкцию, которая, в свою очередь, покоится на прекрасно выложенном каменном настиле. Храм состоит из двух больших зданий, связанных между собой низким сводчатым залом, пол которого, как утверждают, состоит из одного-единственного камня длиной десять и шириной четыре метра, откуда и название «Каменный зал». Потолок главного зала выполнен из маленьких деревянных плит, украшенных изумительной резьбой; все находится в полной сохранности, что крайне редко бывает на Западе; роскошь меблировки просто поражает. На противоположных сторонах зала имеются небольшие помещения, одно из которых предназначено для микадо и его свиты, а другое — для тайгуна. Комната императора обставлена относительно скромно, что несколько непонятно, особенно если ее сравнить с покоями тайгуна, где взор поражает обилие позолоченной лакировки, картин и резных деревянных украшений; потолок образован всего двумя панелями по пять квадратных метров из деревьев ценных пород, украшенными великолепной резьбой; стенные деревянные панели с изящной резьбой достигают таких же гигантских размеров. Изумительно тонкие татами, различная изысканная домашняя утварь, стоящая повсюду, сверкающая лаком и позолотой и представляющая немалую ценность, — словом, все напоминало о надменном владельце. Проникнув в это небольшое помещение, ощущаешь какой-то привкус утонченной роскоши, которой умели окружать себя узурпаторы временной власти, роскоши, остававшейся одним из мощных факторов их престижа и безраздельной власти вплоть до революции 1868 года. Против обычаев эпохи, Иэясу после смерти не был сожжен на костре. После специальной обработки с целью предохранения его останков от разложения его тело было положено в гроб из ценных пород дерева и перевезено в склеп, специально построенный для этой цели самим микадо. Памятник, расположенный к северу от храма, построен на вершине пригорка, куда ведет изумительно живописная лестница. Этот мавзолей послужил прототипом для усыпальниц Шибы и походит на них как две капли воды. Он представляет собой массивный гранитный цоколь, на котором расположены различные бронзовые предметы: вертикально стоящий цилиндр диаметром в тридцать — тридцать пять сантиметров, снабженный дверью, собака, журавль, стоящий на спине черепахи, и букет цветов. Поскольку в данном случае тело было погребено, то стоящий в Никко цилиндр не играет существенной роли. Но в Шибе, где тела большинства тайгунов были сожжены, он, несомненно, служит погребальной урной для праха известных персон… … Вернувшись в гостиницу и отдав должное прекрасному ужину, путешественники забрались в свои ф’ту и, сломленные усталостью долгого дня, заснули мертвым сном. Не успели они, однако, проспать и двух часов крепким, здоровым сном, как внезапно два страшных толчка, последовавших один за другим, сначала побросали их друг на друга, а затем раскидали по углам комнаты. Вне всякого сомнения, это было землетрясение. В мгновенье ока все были уже на ногах и, схватив свою обувь, бросились к дверям, которые уже предательски трещали. Хозяева, более привычные к подобным происшествиям, нежели наши путешественники, были уже в саду; заспанные девушки наспех приводили в порядок свои туалеты; мужчины, не желая терять ни минуты драгоценного времени, закурили свои трубочки в ожидании конца происшествия. «Как только мы смешались с остальными, — замечает путешественник, — все страхи улетучились. Впервые в жизни я пережил ночное землетрясение; однако в Японии это не столь уж редкое явление. Не проходит и недели, чтобы здесь не случалось более или менее сильных толчков. И каждый раз я видел, как все повторялось: при первом толчке все как бы пребывали в нерешительности. Если дело было среди бела дня, все переглядывались, как бы задавая друг другу безмолвные вопросы. Если же все происходило ночью, то все прислушивались и при повторном толчке бросались вон из дома. Но стоило всем оказаться в безопасном месте, как спокойствие тут же восстанавливалось — не было смысла бежать дальше. Мне кажется, что если дому суждено было рухнуть, то времени для того, чтобы покинуть его, все равно бы не хватило. Лучше было бы оставаться на месте; так считали буквально все, но никто, однако, на это не решался. Японские домики строятся в расчете на подобные землетрясения. Легкие, как птичьи гнезда, они дрожат, колеблются, но обрушиваются не слишком часто. Подлинным бичом здесь являются пожары. Опрокинутая лампа, перевернутый чибачи — и вот уже пожар в комнате. Дом вспыхивает как спичка, и пламя тут же перекидывается на соседнее строение: оно стремительно распространяется, как по пороховому следу. Вся деревня занимается в мгновенье ока — удивительное зрелище. Так, за месяц до отъезда, когда мы обедали, один из рулевых сообщил нам, что над Хоммурой виден подозрительный столб дыма. Хоммура — это небольшой квартал Иокогамы, прилегающий к нашим владениям «Монтань». Мгновенно на воду была спущена шлюпка, посажена команда с насосами, и мы помчались к берегу! Вот мы и у цели. Хоммура был в огне, страшном, всепожирающем; мы предложили помощь. — И что же вы намереваетесь делать? — ответили нам. — Погасить пламя?.. Да вы шутите; огонь должен взять свое, и тут уж ничего не поделаешь. И, спокойно скрестив руки на груди, все принялись обреченно наблюдать, как мечется пламя, охватывая все новые и новые дома. И никаких криков отчаяния, душераздирающих воплей, никаких доведенных до умопомрачения семей, ни мечущихся в панике людей под слабыми струями бесполезных насосов. Все с удивительным спокойствием готовятся к переселению; эта операция не занимает много времени; никакой громоздкой, трудной для перевозки мебели, не говоря уж о бесполезных предметах роскоши; татами, кимоно, несколько музыкальных инструментов, домашняя утварь — вот, собственно, и все. Этот народ эпохи золотого века не выходит из себя по пустякам. Пусть японец сегодня остался без крыши над головой, зато он уверен, что завтра его дом будет восстановлен. Соседи, либо кто-нибудь из друзей всегда дадут ему прибежище на несколько часов, согреют огнем своего чибачи, поделятся кипятком —вот, собственно, и все, что нужно; а будет нужда — и он отплатит им тем же». Хоммура выгорел на участке длиной в триста и шириной в сто пятьдесят метров. На следующий день это была просто куча золы; славная уборка! А какой удар для домашних паразитов! Утром все отправились на родные пепелища, а рабочие тут же принялись за работу. Трое суток — и никаких следов пожара. Просто восхитительно! Для тех, кто не обременен лишним имуществом, а таких немало, подобные небольшие происшествия просто необходимы: превосходное средство избавиться от непрошеных гостей. Что же до торговцев, чье благосостояние напрямую связано с безделушками, выставленными в витринах их магазинов, то вот они страшатся огня больше всех других напастей. Недаром же магазины размещаются в каменных зданиях, в которых можно не бояться ни огня, ни землетрясений. Обычно это полностью каменные строения, не имеющие ни одной деревянной детали, приземистые и прочно стоящие на низком широком фундаменте. Каждая более или менее значительная торговая фирма имеет такой несгораемый магазин, а мелкие торговцы случайными вещами объединяются и в складчину арендуют подобное строение, куда и свозят ежевечерне после торгового дня все ценные предметы своей торговли. Возвращение в Никко после паломничества по храмам Икодо, Йоритомо и Хокке-до прошло без всяких приключений. Затем экскурсанты на тех же экипажах, запряженных людьми-иноходцами, добрались до Иокогамы и наведались в магазин Митани, где милый старик обрадовал их новыми замечательными сувенирами. В том числе целой коллекцией мечей из чистейшей стали и чудесными коваными кирасами, отделанными золотом, которые были на вооружении бывших японских воинов и становились подлинными раритетами, высоко ценимыми любителями, особенно с того момента, когда молодая Япония столь быстро переменилась, воскреснув из обломков прошлого, следы которого стираются с каждым днем. — Смотрите, — сказал им старый торговец после первого обмена любезностями, — вот что мне удалось откопать в разных местах во время вашего отсутствия. К сожалению, я не нашел того, что мне хотелось бы предложить вашему вниманию. Ценное оружие все реже попадает в лавки торговцев; европейцы, столь падкие на редкости, опустошают наши магазины, а с некоторых пор и сами японцы при случае перекупают интересные экземпляры у тех, кто испытывает временные материальные затруднения. Японский меч — страшное оружие, по сравнению с которым новое холодное оружие, принятое на вооружение армией, не более чем детская забава, что связано с совершенно необоснованной манией подражания, появившейся у японцев в последнее время. Раньше японцы придавали такое значение совершенствованию и качествам грозного оружия, что это отразилось и на положении оружейных мастеров. Они стояли неизмеримо выше презираемой категории ремесленников и торговцев; особым уважением пользовались сабельные мастера; нередко можно было увидеть дворянина, обнимающегося с представителем этой профессии, возведенной в ранг свободных. Когда же наступал ответственный момент и кузнец должен был приварить стальную рукоятку к клинку меча, мастер надевал наряд «куге» — приближенных двора микадо — и приступал к этой последней операции на открытом воздухе, в присутствии многочисленных приглашенных на торжественную церемонию. Цены на мечи весьма разнятся. И сегодня еще можно приобрести довольно сносные по относительно невысоким ценам, по сравнению с их прежней стоимостью. Однако хорошо и искусно изукрашенный меч стоит не менее трехсот — четырехсот франков. Подлинные представители японской феодальной знати не колеблясь платили за меч тысячу «рио» — пять тысяч двести франков. Эта цифра кажется нам фантастической, но она далека от той суммы, в которую могут оцениваться отдельные экземпляры этого действительно страшного оружия. Последний тайгун, с которым установили отношения европейцы и американцы, прибыв в Японию, подарил нашему полномочному министру клинок в простых деревянных ножнах, который, как говорят, был оценен одним из торговцев Иокогамы в полторы тысячи рио. На первый взгляд подобная цена кажется чрезмерной. Но все тут же объясняется, стоит только бросить взгляд на это ослепительно сверкающее лезвие и узнать, что для того, чтобы достигнуть подобного совершенства, понадобились долгие месяцы упорного труда, конечный результат которого был весьма проблематичным. Хорошо закаленный меч должен с одного удара «обезглавить трех человек». Прежде чем заключить сделку, самураи испытывали оружие на собаках и, как говорят, иногда и на нищих, попадавшихся им под руку на дорогах… Такое замечательное оружие считалось подлинным достоянием, содержалось в идеальном порядке и бережно передавалось из поколения в поколение. Будучи далеки от фантастических цен, упомянутых выше, мечи Митани были тем не менее действительно замечательны и способны привести в восхищение знатока. Морис Дюбар произвел тщательный осмотр товара, предложенного добрым стариком, довольствовавшимся весьма скромной надбавкой, и, не слишком ущемив свой бюджет, смог приобрести несколько экземпляров замечательных клинков. «Желая, — повествует он, — узнать возраст этих почтенных железных изделий, мы отделили рукоятки и гарды эфеса, с тем чтобы найти дату их изготовления, обычно проставляемую рядом с именем мастера, если, конечно, оружие того заслуживает, в той части клинка, которая скрыта под мелкими украшениями рукоятки. Поиски, однако, оказались безрезультатны, и мы уже собирались оставить это занятие, как вдруг восклицание Уено привлекло наше внимание. Служащий с ожесточением тер кончиком пальца стержень клинка, вставляемый в рукоятку, одного из мечей, покрытого легким налетом ржавчины. — Вот, — объявил он, — меч, которому почти сто лет, повествующий о прошлом столь же ясно, как страница истории. Этот клинок, способный резать железо, заставил скатиться с плеч не одну человеческую голову, является ценной реликвией, произведением искусства, и его находка делает честь проницательности Митани-сан. — О! О! — ответил торговец, — господин Уено хочет воздать должное скромным познаниям своего отца в предметах искусства; я тем более охотно принимаю этот комплимент, что мой зять не слишком щедро расточает их по моему адресу; я действительно сумел определить ценность этого клинка и счастлив, — продолжал он, адресуясь к французскому офицеру, — вручить вам его в качестве «синдзё» (почтительного подарка) и как сувенир. — А не знаете ли вы, — спросил офицер после изъявлений глубокой признательности, — кому принадлежало раньше это замечательное оружие? — Нет, — ответил торговец, — но, судя по гордому девизу, начертанному на этом клинке, он принадлежал далеко не простому человеку. И если он недостаточно хорош для даймё, то тем не менее он, несомненно, принадлежал одному из хатамото… Еще одно свидетельство наших рыцарских подвигов!» «Хатамото» означает: «под стягом». Число вооруженных людей, объединявшихся под стягом сёгуна — главнокомандующего, достигало восьмидесяти тысяч. Когда один из Йейа, возведенный в ранг сёгуна, покинул провинцию Микава, бо́льшая часть его воинов, обрадованных взлетом его славы, отправились вместе с ним. В знак признания их верности и военных заслуг они получили земельные наделы, дающие ежегодный доход в виде десяти тысяч «коку» риса (коку равно примерно 174 литрам)[288], и были возведены в ранг хатамото. Будучи по положению ниже фондай или даймё, главных вассалов тайгуна, хатамото вскоре составили могущественную касту, формирующую в военное время за счет собственных вассалов основное ядро японской армии; в мирное время они занимали второстепенные должности при правительстве. Эта каста нашего старого общества, самая храбрая, отважная и незапятнанная, постоянно враждовала с крупными даймё, вассалами микадо, что нередко приводило к кровопролитным сражениям, в которых победа приходила благодаря их славному оружию. Вплоть до революции 1868 года хатамото были самой главной и надежной опорой тайгунов, которых они в любой момент снабжали воинами и деньгами. Некоторые из них, наиболее преданные своему господину, последовали за ним и в ссылку; однако состояние принца Токугавы, заметно уменьшившееся с момента его отставки, не позволяло ему содержать сколь-нибудь значительную армию. Падение тайгуна повлекло за собой, таким образом, и разорение этого великого объединения, члены которого, вынужденные подчиниться превратностям судьбы, удалились в разные уголки страны, чтобы скрыть позор поражения и влачить свое существование подальше от нового правительства.
.......................................................................................
Еще одним замечательным искусством, фатально испытавшим такой же упадок, что и изготовление превосходного оружия, является производство лакированных изделий. И здесь необузданный меркантилизм, порожденный безудержным увлечением «всем японским», привел к печальному, со всех точек зрения, вырождению. То, что некогда было произведением искусства, превратилось в безделушку, предназначенную на экспорт, в «японский» товар для больших магазинов. И тем не менее художественная лакировка по-прежнему существует в Японии, правда, встречается она достаточно редко, но по-прежнему отличается превосходными качествами и высоко ценится истинными знатоками искусства. Несколько слов об этом национальном виде искусства будут далеко не лишними, тем более что сами предметы данного вида искусства по праву пользуются широкой известностью, а сам способ их производства известен далеко не всем. Искусство лаковой миниатюры, являющееся в Японии традиционным, восходит к VIII веку; однако сами японцы, проводившие исследования в этой области, относят время рождения этого открытия к концу IX века. Но и это уже впечатляет. Четыреста лет спустя это искусство получило дальнейшее развитие; поскольку сохранилась память об одном известном художнике лаковой миниатюры, пользовавшемся в тот период широкой известностью и создавшем новые методы работы. Основным компонентом для производства лаков является сок дерева, называемого «уруси»[289]. Кроме лака, уруси дает и плоды, из которых добывают растительный воск. Японцы различают мужские и женские особи этого растения; плодоносят только последние. Если их выращивают ради воска, то деревья растут свободно и достигают внушительных размеров. Если же, напротив, они предназначены для получения лака, то их обрезают ежегодно, чтобы усилить рост ствола; затем, когда он достигает нужных размеров, обычно на пятый год, приступают к производству надрезов для извлечения сока. Насечки делают горизонтально, начиная от основания; сок стекает по стволу дерева и по утрам тщательно собирается шпателем, а затем помещается в деревянные сосуды. После четырех-пяти лет такого иссушающего режима дерево совершенно засыхает, тогда его срубают, а его прекрасная древесина идет на разного рода поделки. Уруси размножается либо черенкованием, либо посевом семян; второй способ считается более привлекательным, хотя и требует постоянного тщательного ухода за всходами. Прежде всего следует измельчить плоды в ступе, чтобы отделить семена от мякоти; после промывки, просушки на солнце и отбора семена смешиваются с древесной золой и помещаются в соломенные мешочки, где их поливают в течение нескольких дней жидкими удобрениями. После окончания этой операции мешочки погружались в воду, где и оставались до конца зимы. Перед самым наступлением весны, в день, отмеченный в календаре как дата «Доброго японского садовника», мешочки доставали из воды, и семена разбрасывали по ветру, а затем присыпали слоем плодородной земли. Количество сока, даваемого уруси, зависит, естественно, от роста дерева и плодородия почвы, на которой оно растет; при хороших условиях через пять лет его ствол достигает диаметра шести семи дюймов. Кора больших деревьев такая толстая, что нередко приходится ее просто снимать, чтобы сделать необходимые насечки. Насечки делают, естественно, весной и летом. Иногда эту операцию осуществляют вплоть до осени, однако считается, что в начале сокодвижения сок получается лучшего качества. Наиболее высоко в торговле ценится сок, полученный в середине лета. Цены разнятся в зависимости от района добычи и видов на урожай; средняя цена достигает ста «рио» за один «пикуль» (60 кг), или 8 франков 70 сантимов за один килограмм. Кроме культурной разновидности уруси, существует вид дерева, называемый «яма-уруси», и плюща под названием «цутар-уруси», также дающие лак, но в малых количествах и худшего качества. Яма-уруси растет в Японии в изобилии. По внешнему виду это растение чрезвычайно похоже на столь ценимое японцами культурное растение, но трудолюбивые обитатели Страны восходящего солнца легко его распознают по каким-то одним им ведомым признакам и беспощадно изгоняют его со своих плантаций. Настоящее лаковое дерево распространено преимущественно в западной части Японии: провинция[290] Этидзен[291], долина реки Иосино в провинции Ямато[292], район Сойго и Ямаго в провинции Дева[293], а также район города Фукуока[294] в провинции Осио поставляют наибольшее количество лака для создания произведений искусства. Самые лучшие лаки производят в долине реки Иосино на острове Сикоку, однако лаки провинции Этидзен тоже очень хороши, и из них-то как раз и создаются вазы, шкатулки и прочие прелестные безделушки, что в великом множестве можно найти в лавках и лавчонках городов Японии. Именно в этой провинции живут самые знаменитые и искусные мастера росписи по лаку, именно сюда приезжают хозяева мастерских со всей Японии, чтобы найти самых умелых и знающих мастеров своего дела. Японцы обожают лакированные изделия и создают для личного потребления в повседневной жизни огромное количество лакированных предметов, лишенных какой-либо росписи: кухонную утварь, начиная с короба для хранения риса вплоть до тазика для умывания. Обычно все эти предметы очень красивы, тщательно обработаны, украшены резьбой, но довольно просты в изготовлении, так что большого таланта от мастера тут не требуется. Однако в богатых домах и лавках взор иностранца с восторгом останавливается на вещицах, покрытых изумительной росписью, выполненной при помощи лаков, которые японцы называют «маки-э»[295]. При изготовлении подобных лаков используется не только сок лакового дерева, но и растертое в пыль золото. Разумеется, создание истинного произведения искусства доверяют лишь настоящим большим художникам. «Я множество раз заходил в мастерские господ Тамая и Содзиро, знаменитых мастеров из Иокогамы, — пишет путешественник, — и всякий раз бывал восхищен и очарован невероятной ловкостью и высоким искусством работников, трудившихся в этих прославленных первоклассных фирмах». Заготовки для предметов, коим впоследствии предстоит быть покрытыми лаком, делаются из белой древесины; стенки их очень тонки и обработаны весьма тщательно; порой они столь гладки на ощупь, что остается только поражаться несравненному, удивительному мастерству японцев, слывущих, кстати, лучшими резчиками по дереву во всем мире. Только японцам известна тайна столь тонкой обработки дерева, но они свято хранят свои профессиональные секреты. Итак, работник в мастерской берет белую деревянную заготовку и покрывает ее слой за слоем лаком, используя тонкую кисточку. После нанесения каждого слоя изделие сохнет, иногда довольно долго, так как все зависит от температуры воздуха в мастерской. Сушить лакированный предмет у огня нельзя, так как лак может потрескаться. Прежде чем нанести какой-либо узор на лакированную поверхность, рисунок сначала выполняют на шелковой бумаге, затем покрывают слоем лака и с силой прижимают лист бумаги к уже покрытой лаком заготовке так, чтобы рисунок отпечатался на ее поверхности. И вот тут-то за дело принимается настоящий художник. Он берет самую тонкую кисточку и погружает ее в тончайшую золотую пыль, которую и наносит на влажный узор, причем делает он это с величайшей осторожностью, обводя мельчайшие завитки и вычерчивая все линии. Когда и эта работа завершена, изделие оставляют сохнуть не менее чем на сутки, а затем наносят следующий слой золотой пыльцы, и так до тех пор, пока художник не сочтет, что слой золотой краски уже достаточно толст. Затем мастер передает свое детище в руки полировщика, правда, он вновь возьмется за него после того, как поверхность лакированного изделия заблестит как зеркало, для того чтобы опытной рукой превратить свое творение в настоящий шедевр. Полируют лакированную вещицу сначала углем, полученным при пережоге поленьев уруси, а затем тончайшим белым порошком. Когда же все стороны вазы, шкатулки, миски или плошки окажутся отполированными до блеска, художник в последний раз проводит своей волшебной кисточкой по всем прихотливо изогнутым линиям и передает сияющее позолотой чудо мастеру, на коего возложена задача завершить работу, еще раз покрыв всю поверхность изделия слоем лака при помощи особой кисточки для лакирования. Как вы понимаете, подобная скрупулезная работа требует не только особого тщания, но и отнимает очень много времени, так что и цены на лакированные предметы, от коих в первый момент глаза буквально лезут на лоб, вполне объяснимы и оправданны. Господин Тамая, человек очень любезный и честный, не раз говорил господину Дюбару, когда тот восторгался изделиями его мастерской: «Мне очень не хочется, чтобы искусство создания лакированных предметов пришло в упадок и захирело. Вот почему я стараюсь создать моим работникам наилучшие условия для работы. Да, произведения, вышедшие из моей мастерской, стоят довольно дорого, но вы сами у меня ничего не покупаете, потому что предпочитаете покупать шедевры старых мастеров. И вы абсолютно правы, так как ни одно современное изделие не может сравниться с изделием старинным. Но если бы я стал работать так, как работали старые мастера, я вынужден был бы поднять цены раза в четыре и тогда бы уж точно не смог бы ничего продать. У меня масса конкурентов, и добро бы еще честных! Так нет же! Многие, очень многие мои собратья работают так, что буквально позорят наше ремесло в глазах европейцев! И никто ничего не может сделать, чтобы прекратить эти безобразия! Зло правит бал! Если еще в течение нескольких лет умами наших мастеров будет владеть навязчивая идея наделать как можно больше самых простых вещиц для продажи европейцам, наше древнее искусство умрет! Очень скоро мы докатимся до того, что, как китайцы, станем изготавливать не подлинные шедевры, а делать на скорую руку простенькие раскрашенные коробочки!» Некогда в Японии процветало и производство шелка, но сейчас оно пришло в упадок, правда, по иным причинам. В течение некоторого времени как импорт, так и экспорт шелка сокращаются, причем наиболее значительное сокращение объема торговли наблюдалось в 1874 году по отношению к 1873 году, когда оно составило более двадцати восьми миллионов франков! Первые партии европейских товаров были распроданы легко и быстро, что заставило торговцев-европейцев предположить, что в Японии для них открылся новый большой рынок сбыта, а потому корабли с товарами стали прибывать в японские порты все чаще и чаще. Европейская промышленность непрерывно развивается, производство продукции постоянно растет, причем растет очень быстро и без учета потребностей всего остального мира; таким образом, множество европейских товаров в изобилии выбрасывалось на японский рынок, а результатом, причем вполне предсказуемым, логичным и весьма печальным, явилось то, что импорт стал существенным образом сокращаться, так как произошло насыщение рынка европейскими товарами. Что касается экспорта японского шелка в Европу, то он тоже сократился, причем причины этого явления весьма сложны. Шелк — главный товар, доставляемый из Японии в страны Европы, и сейчас мы констатируем, что европейцы все меньше и меньше склонны покупать японские шелка. Почему? Прежде всего потому, что шелка, произведенные в Италии, гораздо дешевле, да и качеством, пожалуй, получше. С другой стороны, шелка, произведенные в провинциях Осио, Хамотуки[296] и Этидзен, весьма ценимые в прошлом европейскими торговцами и покупателями из-за невысокой цены и довольно приличного качества, теперь в Европу почти не поступают из-за того, что находят покупателей там, где были произведены, ибо потребление в самой Японии растет. Торговля шелковичными червями сейчас тоже пришла в упадок, кстати, по вине наших производителей, которые из-за собственной жадности и желания заработать как можно больше ошиблись в расчетах и теперь пожинают плоды своей недальновидности. Обычно коммивояжеры-европейцы, на коих возложена обязанность закупать в Японии партии гусениц шелкопряда для их дальнейшей выкормки семенами и листьями тутового дерева, садятся на корабли, держащие курс в Европу, в середине октября. Различные интересы заставляют всех европейцев строго соблюдать раз и навсегда строго установленные сроки. Что же делают японские шелководы, привычные к такому порядку вещей? Они держат свой товар у себя, в глубине страны, как можно дольше и прибывают на побережье именно к середине октября, за несколько дней до отплытия пароходов. Они считают, что европейские коммивояжеры непременно заключат сделки на любых условиях, так как время поджимает. Разумеется, расчет был весьма тонкий и, как мы бы сказали, «попахивал макиавеллизмом»[297]. Но, на беду японцам, европейцы каким-то образом то ли разгадали их тайные замыслы, то ли просто кого-то подкупили и раскрыли сей нехитрый заговор. Итак, коммивояжеры терпеливо выжидали и ничего не покупали. И вот в одно далеко не прекрасное для жадных продавцов утро рынок оказался переполнен до предела! В первые дни октября в Иокогаму доставили 2 миллиона 470 тысяч коробок с шелковичными червями! Но европейцы не дрогнули. Вместо того чтобы устремиться на рынок и осаждать торговцев предложениями выгодных цен или униженными мольбами о незначительной скидке, одни с равнодушным видом убивали время, бродя по лавчонкам и скупая всякие безделушки, другие же, менее практичные или более романтично настроенные, обратились к правительству с просьбой разрешить им совершить путешествие в глубь страны. Торговля практически замерла, спроса на товар не было… И вот однажды покупатели-европейцы, будто сговорившись, заявили о своем решении. — Мы хотим купить товар, но по низкой цене, — сказали они японским торговцам. Итак, покупатели объединились и объявили нечто вроде забастовки. В лагере японских торговцев началась паника… В течение двух дней было заключено множество самых невероятных сделок: то, что год назад стоило около двух мексиканских пиастров (то есть 10 франков и 50 сантимов), теперь шло менее чем за полпиастра. Положение было просто отчаянным. В волнение пришли все самые богатые купцы Японии. Необходимо было принимать какие-то срочные, чрезвычайные меры, иначе все шелководство империи могло бы погибнуть из-за того, что производители разорятся. Всем было ясно, что цены падают оттого, что образовался невиданный избыток товара, перепроизводство, а раз так, то следовало излишек товара уничтожить. Японские банкиры порешили объединить усилия и собрать деньги (устроить нечто вроде складчины), дабы возместить производителям ущерб, насколько это возможно в данных условиях. Часть коробок с шелковичными червями решено было сжечь. Вот таким образом в период с 9 по 24 октября 1874 года около 400 тысяч коробок были сожжены, а незадачливые торговцы получили в качестве возмещения убытков от 15 до 25 центов за коробку. В результате этой операции цены на несколько дней взлетели вверх, но затем, в связи с поступлением новых партий товара из внутренних районов страны, упали даже еще ниже. Короче говоря, сейчас как торговля шелком, так и шелководство пребывают в глубочайшем упадке. Какие сверхусилия понадобятся для того, чтобы вывести оба производства из застоя и вернуть к жизни, неизвестно. Но нашему правительству, нашим государственным деятелям тоже следовало бы поразмыслить над этим вопросом… Из всего вышесказанного становится ясно, насколько полно и с какой большой пользой смог использовать время своего пребывания в Японии господин Дюбар, несмотря на все сложности жизни на борту корабля и на многочисленные профессиональные обязанности. Похоже, ни одна мелочь не ускользнула от его пытливого взгляда; этот жадный до впечатлений, непредвзятый, искренний и невероятно наблюдательный человек все видел, все подмечал, все запоминал, не оставляя без внимания самых мелких деталей частной жизни японцев, и при этом он отдавал дань уважения как истории, так и искусству Страны восходящего солнца, причем судил он о данных предметах с основательностью истинного знатока. Вот почему отчет господина Дюбара получился столь обширным и почему я позволил себе приводить столь длинные цитаты из этого весьма поучительного, всеобъемлющего и в то же время написанного простым и чрезвычайно доступным языком труда. Вот еще несколько примеров точных зарисовок живописных картин жизни Японии. Однажды, во время захода в порт Нагасаки на несколько часов для пополнения запасов угля, господин Дюбар оказался счастливым свидетелем празднества, посвященного бумажным змеям. Вот как он его описывает: «…Нагасаки является, пожалуй, одним из самых живописных городов Японии. Когда корабль приближается к городу с моря, взору моряка открывается чудеснейший, очаровательнейший вид расположенных амфитеатром по склонам холмов лабиринтов улочек, образующих нечто вроде круглой чаши. Улочки Нагасаки, такие же чистенькие и ухоженные, как и улочки всех японских городов, показались мне гораздо более оживленными, чем улицы Эдо или Иокогамы. Вообще улицы японских городов узки, почти всегда вымощенны, но не камнем, щебнем или плитами, как в Европе, а деревянными брусками или просто досками. Когда я прохожу по таким улицам, мне почему-то всегда кажется, что я блуждаю по бесконечным галереям и переходам какого-то восточного караван-сарая. Покружив по лабиринту улиц Нагасаки, я оказывался то у подъема, ведущего в гору, на улицу, расположенную выше по склону холма, чем та, на которой я находился, то у ступеней храма или пагоды. В одном из самых знаменитых и модных заведений под названием “ядоя”[298] мы собирались провести остаток дня, после того как сделаем кое-какие покупки. Когда мы оказались в ядоя, то обнаружили, что перед нами открылся восхитительнейший вид на город и его окрестности, где царило необычное для тихих и степенных японцев оживление: все улицы и дороги, ведущие на холмы, были запружены зеваками, а на вершинах холмов расположились группки суетливо машущих руками, подпрыгивающих, кричащих человечков. И в самом деле, в городе творилось что-то невероятное! Все разъяснилось очень быстро: в Нагасаки пришел праздник бумажных змеев! В Японии все ведь не как у нас, там этой игрушкой забавляются не только непоседливые ребятишки, а и вполне взрослые мужчины. Торговцы закрывают свои лавчонки, ремесленники — мастерские, и все серьезные, почтенные люди, позабыв на несколько часов про всю свою важность и степенность, собираются в компании и отправляются потягаться в силе, ловкости и умении быстро-быстро перебирать веревочку, то отпуская ее, то натягивая до предела. Ах, как же занятно было наблюдать за этими большими детьми, с ребяческими улыбками на лицах, тащившими свои летательные аппараты! А впереди или позади главного героя еще шествовал либо друг, либо сын, либо слуга, несший в необъятной корзине несколько тысяч метров бечевки! Нигде я не видел столь искусно сделанных бумажных змеев! Они были такие большие, такие легкие, столь послушные, даже кокетливые! Самые утонченные любители сей японской забавы прикрепляют к своим игрушкам нечто вроде трещоток, которые под воздействием ветра издают громкие, пронзительные звуки. И как же много парило над городом змеев! Небо было закрыто облаками из раскрашенной бумаги, само солнце, казалось, померкло. Огромная туча, издающая треск, похожий на стрекот миллионов цикад, нависла над городом. Как нам сказали, подобным развлечением люди предаются обычно в течение нескольких дней. Мы являемся, оказывается, свидетелями заключительного торжества. Уже завтра все змеи будут аккуратно сложены и убраны до следующего года. А сегодня жители города веселятся от души, и продлится народное гуляние до полуночи…» Однажды, находясь в Иокогаме, господин Дюбар в компании друзей нанял рикш и отправился в Камакуру[299]. Японцы, великие любители повеселиться и развлечься всякими зрелищами, отмечали какой-то праздник. Бесчисленные толпы прибывали в Камакуру не столько для того, чтобы поклониться святыням и помолиться в храме Оманкосама, сколько для того, чтобы присутствовать на соревнованиях атлетов, о которых было объявлено заранее. «…Надо сказать, что японцы — страстные обожатели подобных зрелищ. В стародавние времена борцов вообще почитали необычайно, и не раз представители сей профессии играли очень важную роль в истории страны. В 705 году (по японскому календарю, то есть за 23 года до Рождества Христова) знаменитые в те времена борцы в каком-то смысле решили судьбу империи[300]. Вот как это было. Точно так же, как во Франции после смерти короля кричали: “Король умер! Да здравствует король!”, в Японии смена одного микадо на троне происходила обычно тихо, мирно, спокойно, без ненужных споров. Но случилось так, что после смерти микадо Суйнин-тэнно[301] два его сына-близнеца принялись оспаривать трон друг у друга. Надо было либо разделить власть и пойти против традиций, либо предоставить все воле Всевышнего. Итак, борцам было поручено выяснить, каково же решение Верховного Существа. Каждый претендент на трон выбрал своим представителем чемпиона по борьбе. Их имена начертаны на страницах истории и обрели бессмертие: Теманокуэхая и Номиносукунэ. Номино одержал победу в равной борьбе и в качестве вознаграждения получил все имущество побежденного. После схватки претендент, чей представитель потерпел поражение, признал, что его брат победил, и отказался от претензий на отцовское наследство. Позднее некий Киобаяси был провозглашен главным судьей борцовских поединков. Ему также был присвоен титул Князя Львов. Он составил свод правил борьбы, в котором описал разрешенные приемы, а также 48 положений тела, при коих тому из борцов, кто сумел привести противника в одно из этих положений, засчитывалось очко. Состязания по борьбе являлись в те времена одной из важнейших частей религиозных празднеств, что ежегодно проводились осенью, после сбора урожая, в Наре, древней столице Японии. Начиная с 1606 года эти соревнования стали постепенно утрачивать свое значение, а затем и вовсе перестали быть обязательной составной частью культовых церемоний. Однако японцы не утратили почтения к непобедимым чемпионам по борьбе. И в наши дни в Стране восходящего солнца немало людей, приходящих в неистовый восторг при одном упоминании имени какого-нибудь прославленного борца, так что борьба, утратив, так сказать, официальных покровителей в лице служителей культа, отнюдь не лишилась любви простого народа. Камакура — одно из многих мест, где проходят состязания борцов, притягивая словно магнитом многочисленных зрителей. Японский борец — по-своему значительный, прелюбопытнейший персонаж, не имеющий ничего общего с европейскими борцами и гимнастами. Мы, европейцы, никогда не видели ничего похожего на этих мастодонтов ни на рингах, ни на арене цирков. Среди тех, кто занимается национальной японской борьбой сумо, ценится не ловкость и легкость, как у наших борцов и акробатов, коим эти качества порой нужнее, чем физическая сила, нет, у борцов сумо особенно ценится масса тела. Да, борец сумо, натренированный исключительно для рукопашного боя, когда главное — обхватить противника поперек туловища и попытаться повалить его на землю, может рассчитывать только на вес собственного тела, который является как бы гарантом, причем единственным, его устойчивости. Нет, надо видеть, как эти жуткие туши медленно движутся на ристалище! Борцы обычно обнажены по пояс, ноги тоже голые. Тяжело ступая босыми, тумбообразными лапищами по циновкам, именуемым татами, эти чудовищные куски человеческой плоти чинно и торжественно проходят различные стадии подготовки к действу. Наконец борцы, крепко упираясь в землю своими огромными ногами, принимают боевую стойку и застывают, согнувшись в пояснице под прямым углом в ожидании атаки. В течение долгих томительных минут они пристально следят друг за другом, и никто из зрителей не знает, кто из соперников решится нанести удар первым. Внезапно одна из чудовищных туш начинает колыхаться, тяжело отступает назад, чтобы разбежаться, и устремляется вперед. Сначала борец движется с превеликим трудом и к тому же безумно медленно, но вскоре под действием массы тела движение ускоряется, и подобно пушечному ядру, пущенному по наклонной плоскости, нападающий устремляется на противника. Ни остановить, ни задержать эту гору мяса, кажется, невозможно! Следует жуткий удар, сопровождаемый крайне неприятным для слуха звуком столкновения двух обрюзгших, жирных тел. Иногда, правда, второй борец делает шаг в сторону, который и спасает его от соприкосновения с противником, а нападающий уже не может остановиться и с глухим стуком валится на веревки, ограждающие манеж, где происходят соревнования. Но это только небольшая разминка, проводимая для того, чтобы повеселить и разогреть публику. Вскоре противники принимаются бороться всерьез, буквально душа друг друга. По лицам и телам текут потоки пота, до зрителей доносится сопение и пыхтение… В конце концов через какое-то время в результате таких тяжких совместных усилий один из борцов начинает шататься, а затем тяжело валится навзничь, увлекая за собой и счастливого победителя. В подобном выставлении напоказ человеческого уродства есть что-то отвратительное, и я не получал от зрелища соревнований борцов сумо того удовольствия, которое я ожидал получить, наслушавшись восторженных рассказов моих японских спутников. Кстати, количество любопытных было просто невероятно! И все новые и новые группы зевак в живописнейших костюмах все прибывали и прибывали! Полы кимоно у многих были подняты выше колен, на боку болтался короткий меч, в руке — крепкая толстая палка…» Господин Дюбар пожелал осмотреть Киото и национальную выставку. Как настоящий художник, которого интересует и влечет все новое и непредвиденное, он отправился туда вместе со своим верным другом, наняв для этого путешествия рикш. Киото — один из самых древних городов Японии. Основан он был в конце VIII века[302], а микадо Камму[303], правивший Японией в 794 году, провозгласил город столицей и переименовал в Хэйан[304]. В те времена Хэйан уже был довольно значительным городом, но за прошедшее тысячелетие он не только не увеличился, а напротив, скорее медленно, но верно приходил в упадок, утрачивая свое значение. Как и все города Дальнего Востока, Киото был практически заранее обречен на тихое умирание, на застойное течение жизни. Вот почему сейчас, по прошествии почти десяти столетий он остается примерно таким же, каким и был в стародавние времена, несмотря на то, что часто становился ареной кровопролитных сражений во времена междоусобных и гражданских войн, опустошавших эту прекрасную страну. Киото превосходит все другие города Японии изобилием всяких достопримечательностей и диковин: здесь расположены самые знаменитые храмы и святилища, статуи богов и богинь, способных творить чудеса, прославленные роскошью отделки дворцы, чудесные сады и парки — все служит украшением городу, где до 1870 года обитал «Сын восходящего солнца», то есть император. В Киото чрезвычайно хорошо развиты промышленность и торговля, именно здесь производят те восхитительные шелка и расшитые золотом ткани, что приводят в восторг всех истинных знатоков; именно в Киото производят изделия из тончайшего фаянса с изысканным рисунком, которые столь высоко ценятся на европейском рынке и которые сами японцы ставят на второе место в ряду изделий из фарфора и фаянса, сразу же вслед за прославленными «са́цума». «— Куда желаете поехать, господа иностранцы? — спросили нас рикши. — Не имеет значения! Мы полностью полагаемся на вас, друзья! У нас нет никаких особых планов на сегодня… Так что положимся на удачу… Придя в восторг от предоставленной им свободы действий, наши рикши понеслись вперед как стрелы. Куда они нас везут? Скоро узнаем. Ловкость, проворство и быстрота этих бедных людей, а также желание услужить клиенту просто изумляют! Надо видеть, как ловко они маневрируют на узких улочках старинного города, как уходят от столкновения с неожиданным препятствием, как уворачиваются от встречных рикш, как мягко и в то же время быстро умеют повернуть за угол, как внезапно останавливаются и как вновь устремляются вперед, прокладывая себе дорогу среди плотной толпы. И никогда не бывает никаких столкновений, никто никого не толкает, не ударит, не скажет грубого слова, не выругается! Нет, все делается с улыбкой и смешком! Когда рикши останавливаются, обливаясь потом, они громко смеются и утирают друг другу лица бело-голубыми платочками, коими у них подхвачены волосы. Но вот «бешеная скачка» закончена, так как наши рикши не по своей воле вынуждены закончить бег, а потом и вовсе остановиться: улица идет круто вверх, да к тому же она буквально запружена толпой людей с размалеванными лицами, в ярких карнавальных костюмах. И все они приплясывают, подпрыгивают, машут руками, смеются и кричат. Это, по-видимому, какой-то маскарад… Нечто похожее на полушутовскую, полурелигиозную процессию в честь какого-то местного божества, чье имя вылетело у меня из головы… Если припомнить ужасные рассказы о людях с мечами, то есть о самураях, то при виде этой толпы можно было бы содрогнуться от ужаса, так как свирепые воины, чьи заношенные до дыр, ветхие кимоно мне с трудом удалось найти у старьевщиков в Иокогаме, шли сейчас во главе процессии. Они были вооружены, как говорится, с головы до пят, или до зубов, и поражали своим количеством. Наши рикши спокойно пристраиваются у дверей какой-то лавчонки, и в течение сорока минут перед нами нескончаемым потоком проходят представители самых разных корпораций ремесленников, одетые в неописуемо красочные, а иногда и в очень странные одеяния. Как только мужчины, женщины и дети прошли и путь стал свободен, рикши вновь устремились вперед. Господин Ясэ, самый умный из наших гидов, именуемых здесь курумахики[305], принял решение отвезти нас на выставку, и он был совершенно прав, так как именно выставка и была главной целью нашего путешествия в Киото. Дворец Госио[306], древняя резиденция императора, вплоть до этого года был закрыт для посетителей, и только члены императорской семьи и высшие сановники имели доступ к сокровищам, сокрытым высокими мощными стенами священной крепости. И сейчас еще правоверные богобоязненные японцы приближаются к этому святилищу со смешанным чувством величайшего почтения и страха. Вот почему многие из них, переступив порог этой национальной святыни, колыбели и усыпальницы наследных владык страны, падают на колени и простираются ниц. Сам дворец, называемый Сисиндэн[307], находится в самом центре огромной крепости с двойными крепкими стенами, в коих устроены девять ворот, построенных в совершенно особом архитектурном стиле, называемом Киомун. За первой внешней крепостной стеной высятся здания, предназначавшиеся когда-то для проживания принцев и вельмож императорской семьи. Называется эта часть Госио Сэйрёдэн[308], но, конечно, основное внимание посетителей привлекает сам дворец Сисиндэн, где выставлены различные предметы быта и шедевры японского искусства. Так как в этом лабиринте двориков, садов, беседок, залов, галерей и прекрасных комнат очень легко заблудиться, устроители выставки протянули от входа до выхода бамбуковые поручни со стрелками, указывающими направление движения, так что теперь ни один из экскурсантов не потеряется. Выставка состоит из трех разделов: 1) раздела древностей, где в изобилии представлены старинные изделия из лака, древние самурайские мечи и другое вооружение, доспехи, ценнейшие ткани, посуда из тончайшего фарфора; 2) раздела современного, где представлены произведения искусства нынешних мастеров, а также промышленные товары, производимые сегодня в Японии; 3) раздела европейского, где в живописном беспорядке представлены самые разнообразные предметы европейского быта, бог знает как попавшие в Страну восходящего солнца…» Если раздел древностей приводит нашего путешественника, к слову сказать, буквально помешанного на японской старине, в состояние восторга до такой степени, что обычно весьма велеречивый господин Дюбар даже и слова вымолвить не может, то в разделе современного искусства наш друг, повинуясь непреодолимому желанию стать хозяином как можно большего количества вещиц, прямо-таки теряет голову и опустошает свой кошелек. К огромному горю господина Дюбара, в разделе древностей экспонаты не продаются. Это национальное достояние, услада для глаз, объекты восхищения и поклонения. Но вот в разделе современного искусства купить можно практически любой предмет, да и цены указаны… Сколько соблазнов! Какое искушение! Вот знаменитые «са́цума» с их чудесными весенними букетами; а вот чашки и блюдца в стиле «канга» с богатыми пурпурными и золотыми узорами, а рядом пленяют взор изящные чашечки «киото», их фарфор имеет чуть желтоватый оттенок, и на этом фоне так чудесно смотрятся мастерски выполненные рисунки! А вот и прославленный фарфор «хисэн»![309] Короче говоря, господину Дюбару было очень нелегко сделать выбор… Увы, он не мог скупить все, хотя и так уже нанес непоправимый ущерб своим финансам! Ну да на что же тогда нужны деньги, если не на то, чтобы доставить себе маленькое и вполне невинное удовольствие! К тому же удовольствие это тем более приятно, что его можно будет ощущать снова и снова потом, во Франции, глядя на чудесные вещицы и вспоминая дни своей бурной молодости! Но восторг восторгом, а потребности организма, простые, грубые человеческие потребности, давали о себе знать… Путешественникиначали ощущать первые, еще неясные муки голода. Полагаясь во всем на благоразумие и осведомленность господина Ясэ, друзья заняли места в повозках рикш, не дав никаких указаний своему гиду, и правильно сделали. Через десять минут сумасшедшего бега запыхавшиеся, обливающиеся потом рикши остановились у дверей заведения, называемого «ядога»[310] и производившего очень приятное впечатление чистотой, опрятностью, а также тремя обязательными горками соли у входа, которые являлись свидетельством гостеприимства хозяев. Путешественники воздали должное блюдам из овощей и рыбы, а также шарикам из риса, после чего выпили огромное количество чашек чая, а затем вновь тронулись в путь, чтобы осмотреть Гинкакудзи («Серебряный храм»)[311], построенный в 1400.году… Этот небольшой павильон возвел тайгун Асикага Йосимаса[312], бывший в ту пору, как у нас бы сказали, мажордомом при императоре. Сей почтенный муж был, видимо, большим ценителем красоты, а посему окружил себя неописуемой роскошью. Потолки во дворце были покрыты толстым слоем серебра, а ведь серебро в те времена встречалось в Японии, как говорят, гораздо реже золота, а потому ценилось выше; все здание было изукрашено тончайшей резьбой по дереву, все стены обиты расшитыми золотом шелками, а мебель там была не простая, а покрытая драгоценными лаками и расписанная самыми искусными живописцами. Короче говоря, то была настоящая жемчужина! Но однажды война пришла и в эти края… Победитель, а вернее, банда грабителей завладела богатой добычей… К счастью, жадные руки разбойников не смогли уничтожить и растащить все сокровища дворца; до сих пор на потолках комнат видны куски серебряного покрытия, и серебра вполне достаточно для того, чтобы повергнуть посетителей в глубочайшее изумление при виде сих останков пышной роскоши давно минувших дней. Сад, посреди которого высится Гинкакудзи, наверное, самый прекрасный сад в Японии, где искусство создания садов и парков, в коем так прославился наш господин Ленотр[313], доведено до совершенства. Сад этот представляет собой бесконечную череду миниатюрных водопадов, крохотных прудиков с перекинутыми через них кокетливыми, изящно изогнутыми мостиками, рощиц и отдельных куп деревьев, прихотливо вьющихся тропинок и тенистых аллей, приводящих к таинственным гротам, увитым ползучими растениями беседкам и маленьким храмам. Здесь можно увидеть и другие чудеса: разные породы деревьев, привитые к одному стволу и дающие диковинные плоды, а также скалы и камни, где в каждой выбоинке и трещине растут цветы, искусно подобранные по цвету друг к другу так, что получается некая живая картина. …С огромным трудом мы буквально заставили себя покинуть сей Эдем[314], где в любую минуту, казалось, мог появиться сам Асикага собственной персоной в окружении своих жен и пышно разодетых придворных. В этом краю, прославившемся своими художниками и самураями, коих мы смело можем по доблести и смелости приравнять к нашим средневековым рыцарям, дворцов и храмов так много, что порой даже возникает ощущение, что им тесно. Едва мы вышли из садов Гинкакудзи, как тотчас же оказались у ступеней храма Эйкандо, построенного в 854 году по приказу тэнно Бутоку[315], где нас поразило обилие прекрасно выполненных и хорошо сохранившихся статуй местных ботхисатв[316], по всем признакам и до сих пор являющихся объектами поклонения. Совсем рядом с Эйкандо высится Ниакудзи[317], храм, который приказал построить тэнно Госиракава[318] в конце XIII века для буддистов. Немного дальше виднеется крыша старинного дворца тэнно Камэямы, где посетителей всегда приводит в восторг огромный и поразительно красивый каменный светильник «торо», своей формой напоминающий бронзовые светильники, что украшают в Эдо могилы тайгунов…[319] Господин Ясэ, человек-лошадь, превосходно знающий обязанности чичероне, то есть гида, ведет путешественников в Тионин[320], храм, построенный примерно в то время, когда буддизм только начал распространяться в Японии. Считают, что это произошло в первые годы XIII столетия[321]. «…Храм этот вначале процветал и славился своим богатым убранством благодаря щедрым пожертвованиям новообращенных, а служители его пользовались особым почетом и уважением, но и его не миновала печальная участь, постигшая в пору междоусобиц множество прекрасных культовых сооружений: несколько раз он был дочиста разграблен, а в ходе одной из последних гражданских войн он был буквально опустошен и разрушен. К счастью, знаменитый архитектор Хидари Дзингоро восстановил, нет, практически возродил сие сокровище из пепла, и в просторном помещении храма была устроена первая экспозиция произведений древнего японского искусства. В нескольких сотнях метров к юго-востоку от храма, на вершине холма, у подножия которого и стоит Тионин, находится гигантский колокол, являющийся особой достопримечательностью святыни. Сей бронзовый монстр в высоту достигает никак не менее шести метров, как свидетельствуют измерения, проделанные нашим ловким Ясэ при помощи бечевки… После осмотра Тионина путешественники вновь заняли места в повозках, и рикши повезли их к храму Киёмидзу, но по пути не забыли ненадолго свернуть к святилищу Гиу[322], чтобы иностранцы изумились изобилию неописуемо роскошных храмов… По общему мнению, святилище Гиу является наиболее ухоженным храмовым ансамблем во всем Киото, а многие считают его и самым красивым, несмотря на его сравнительно небольшие размеры. Заложенный по приказу микадо Сейва в 859 году после Рождества Христова, он был построен по плану Сисиндэна, то есть является как бы миниатюрным изображением этого дворца. На долю сего памятника архитектуры выпало немало испытаний: он несколько раз был разграблен, сожжен, восстановлен, а в довершение всех бедствий еще и практически сметен с лица земли сильнейшим землетрясением. Однако японские архитекторы недавно произвели раскопки, исследовали фундамент, а затем восстановили Гиу полностью, во всем блеске…» Наскоро осмотрев башню Йосака, которая, по мнению местных ценителей архитектуры, едва ли была достойна большего, путешественники, воспользовавшись рикшами, преодолели за пятнадцать минут очень крутой подъем и оказались у подножия храма Киёмидзу, чья крыша словно парила над облаком, образованным кронами цветущих вишен. «…Киёмидзу — наиболее удачно расположенный храм в Киото[323]. Он был сооружен в память Даир-хи, императора, которого после его смерти стали обожествлять точно так же, как в Древнем Риме обожествляли умерших императоров. Основателем храма считают священнослужителя Тамурамаро[324], жившего в царствование императора Камму. В течение долгих веков жители Страны восходящего солнца совершали паломничество в Киото специально для того, чтобы помолиться у алтаря Киёмидзу. Сегодня, несмотря на то что японцы в массе своей равнодушны к религии, все же довольно значительное число паломников ежедневно падают ниц на ступенях храма, чтобы вознести к Небесам свои молитвы и испросить милости. Следует сказать, что Киёмидзу высится на утесе, над бездонной пропастью, вот почему создается впечатление, что он буквально парит в воздухе…» В то время как путешественники, подойдя к самому краю обрыва, созерцали открывшуюся их взглядам чудесную панораму, Ясэ, пробормотав свои молитвы и проникшись духом святого места, приблизился к ним и принялся рассказывать следующую историю: — Когда-то, очень давно, люди в этих краях жили богобоязненные, они чтили традиции и своих богов, а потому воины и герои, прежде чем отправиться пытать счастья, приходили сюда и преклоняли колени перед алтарем. Они молились подолгу, вслух, громко, чтобы разжалобить Небеса, дарили главному священнослужителю богатые подарки, а затем вставали, перепрыгивали через ограду, на которую вы сейчас опираетесь, и… немногим счастливчикам удавалось благодаря их ловкости попасть прямо на узкую тропинку, ведущую вниз, и они преисполнялись уверенности в том, что их ждет успех… другие же, те, кому не повезло, разбивались и становились очень почитаемыми святыми, вы можете увидеть их изображения, то есть статуи, вон там, у подножия храма, за решетками. Выслушав историю Ясэ, путешественники бросили на ступеньки алтаря несколько мелких монеток, причем сей добровольный дар тотчас же подобрали бонзы, стоявшие на коленях и якобы усердно молившиеся Верховному Божеству. А господин Дюбар с другом меланхолично рассматривали зияющий черный провал у своих ног, а потом долго-долго созерцали, как солнце медленно и торжественно исчезало за горизонтом. Вглядываясь в черную пасть пропасти, путешественники поняли, что существует гораздо менее опасный, хотя и более прозаичный способ достичь ее дна, чем тот, к коему прибегали герои рассказа рикши, и заключался он в том, чтобы просто-напросто спуститься вниз по довольно крутой лестнице, если, конечно, не бояться, что устанешь пересчитывать ее 150 ступенек. На дне пропасти, видимо, бил ключ, и веселое журчание ручейка, переходившее в рокот небольшого водопада, составляло странный контраст с мрачной торжественностью места. Путешественники высказали предположение, что храбрецы, совершившие жуткое сумасбродство, то есть перепрыгнувшие через ограду и каким-то чудом не разбившиеся насмерть, должно быть, омывали в водах источника свои славные раны и охлаждали разгоряченные головы. Быстро сгущались сумерки, небо почернело, и внезапно в кромешной тьме вдруг вспыхнула звездочка… За ней вторая, третья… и вот уж сотни и тысячи огоньков засияли там, где лепились друг к другу дома японцев. То были разноцветные фонарики, поэтичные, романтичные японские фонарики, над которыми пока что не взяли верх в городе «Сына Солнца» газовые рожки, сами по себе вещицы полезные и практичные, но такие скучные. Во второй день пребывания в Киото друзья совершили чрезвычайно познавательную экскурсию на озеро Бива. Озеро это довольно велико, питают его воды речушек и ручьев, стекающих с окружающих Киото гор; расположено оно примерно в двух с половиной ри к востоку от города. Разумеется, в озере образуется излишек воды, в результате из озера вытекает довольно полноводная река, которая в районе Удзи вливается в другую большую реку, по которой путешественники, кстати, и проделали путь до Осаки. Именно сюда, на берега озера Бива местная знать отправлялась летом, чтобы пережить жару. Среди чудесных садов и зеленых рощиц и сейчас там и сям можно увидеть причудливо изогнутые крыши пышных дворцов. Правда, в наше время, в эпоху проникновения в Страну восходящего солнца европейской цивилизации, которая является предметом особой ненависти всех обожателей «старой Японии», края эти отчасти утратили свою поэтичную первозданность и дикость. Однако прогулка на озеро Бива доставила путешественникам, или, как они стали себя именовать, «японским братьям», огромное удовольствие. Итак, на рассвете господин Дюбар с приятелем выехали из Мориямы и, затратив всего лишь час, в семь часов утра прибыли в Оцу, чему были несказанно удивлены, так как рикшам пришлось бежать по дорогам, совершенно размытым ливневыми дождями, которые как раз прошли накануне. Оцу нельзя назвать самым главным и крупным портом на берегах этого небольшого японского «Средиземного моря», но сей городок наверняка является самым красивым. В нем можно найти очень удобные ядоя, а одно их таких заведений, особенно часто посещаемое европейцами, обладает двумя несомненными преимуществами: обслуживают там гостей на самом высшем уровне, да и расположено оно в самом райском уголке. Если выйти на внешнюю галерею этого красивейшего строения в старояпонском стиле, то взору откроется столь чудесная панорама, что просто дух захватывает. По утрам над небесно-голубыми водами озера стелется туман. С одной стороны взгляду открываются воистину неоглядные глади озера, а с другой — заливчик, где воды буквально не видно из-за тучи вечно кружащихся и гомонящих птиц. Вдоволь насмотревшись на беспокойное, крикливое и драчливое облако занятых добыванием корма птиц, путешественник может отдохнуть душой, переведя взор на очаровательные холмы, за которыми виднеются горы Хира, чьи вершины скрыты голубоватыми шапками туч. «…Когда мы приехали, рыбаки как раз вышли в “море”. Как нам объяснили, наступил самый удачный час для ловли рыбы, которую очень высоко ценят здешние гурманы. Фунэ (так здесь называют лодки), подгоняемые свежим норд-остом, легко скользят по поверхности озера, подернутой рябью. Ясэ, прекрасно знающий эти места, предлагает нам нанять одно из этих утлых суденышек. Он говорит, что “сэндо”, то есть хозяин лодки, с помощью нескольких “тэмпо”, то есть гребцов, покажет нам озеро наилучшим образом. Мы с радостью приняли это предложение и поспешили занять места на нашем новом “корабле”. Чтобы насладиться одновременно и видом глади озера, и его окрестностей, мы попросили хозяина не слишком далеко уходить от берега. Ясэ, сидя на носу, показывает нам местные достопримечательности, достойные, по его мнению, нашего внимания, например Карасаки. Мы пристаем к берегу и сходим на сушу, чтобы осмотреть знаменитое дерево. Говорят, что этой сосне около трехсот лет, а может быть и более. Ее огромные раскидистые ветви, подпертые толстыми кольями, прочно вбитыми в землю, скрывают от солнечных лучей весь мыс и на много метров простираются над водой. Сей колоссальный представитель растительного мира дает приют в своей благословенной тени нескольким маленьким храмам и чайным домикам. Японцы, великие обожатели и почитатели всяких феноменов природы, приходят в безумный восторг при виде этого гиганта, ибо его размеры поражают их воображение. Для японцев это не только нечто сверхъестественное, что одновременно и пугает, и притягивает, и внушает необычайное почтение, и вызывает суеверный ужас. Японцы — народ чрезвычайно поэтичный, а потому все необычное навевает на них мысли о загробном мире, а порой вещи самые заурядные и естественные превращаются в воображении японца в нечто совершенно фантастическое…» Передохнув и утолив жажду в чайном домике, путешественники вновь сели в лодку, чтобы добраться до самого отдаленного уголка побережья, где Ясэ обещал показать им чудеса, своей пышностью и роскошью превосходящие все, что они видели. Итак, «японские братья» должны отправиться из Карасаки в Сэта, чтобы уже оттуда добраться до храма Исияма. Что такое Сэта? Сэта — это мост, перекинутый над водами озера в том месте, где собственно озеро, резко сужаясь, превращается в реку. Но прежде надо сделать остановку в Авацу, откуда, говорят, открывается поразительно красивый вид. Ясэ также уговаривал путешественников заночевать в городке у моста, чтобы понаблюдать, как солнце будет садиться в озеро, ибо, по его словам, их ожидало просто необычайное зрелище. Увы, из множества чудес, предложенных для осмотра в окрестностях озера Бива, приходилось выбирать, так как кроме осмотра храма Исияма[325] на предпоследний день путешествия было запланировано еще и восхождение на гору Хиэй[326], а также повторное посещение выставки японского искусства. Собственно, сам храм Исияма как таковой никакого особого интереса не представляет: обычный храм, каких в Японии можно увидеть сотни, а то и тысячи. Особую прелесть этому вполне заурядному строению в глазах экскурсантов придает его положение. Все дело в том, что храм стоит на склоне самой высокой горы в цепи тех, что окружают озеро, и как бы возвышается над всеми окрестностями, парит над ними. В стародавние времена, когда в Японии властвовали могущественные феодалы и когда при их дворах расцветала та странная и утонченная культура, что так поражает и очаровывает нас и по сию пору, японцы, одаренные от рождения особым чувством прекрасного, часто приезжали сюда, на берега озера, и просили у служителей храма приюта. И приезжали они вовсе не для того, чтобы помолиться, принести пожертвования или дать какие-то обеты, они не исполняли чей-то приказ, а действовали в соответствии со своими желаниями. А желание у них было одно: увидеть озеро и в тиши уединения насладиться его красотой. Ясными осенними ночами, столь поэтичными в этих краях, когда «бледная богиня», то есть луна, озаряла своим призрачным светом спокойную гладь озера, эти любители природы подолгу гуляли под столетними соснами, с наслаждением вдыхая ароматы поздних цветов, что приносил на крыльях ночной бриз. — В определенный час посреди ночи, — говорил Ясэ двум офицерам, — воды озера начинают отливать серебром, сначала появляется легкая зыбь, потом пробегают небольшие волны, издалека доносятся какие-то неясные звуки, то ли пение, то ли бормотание… затем кто-то начинает тяжело вздыхать и горестно стонать; и вот уже над озером скользит, легкая как птица, тень Комати, задумчивой и печальной; деревья кланяются ей, тростник поет грустную песню, воды озера расступаются и поглощают тень божественной поэтессы, и вся природа, кажется, испускает один вопль горя и печали, и тотчас же мир объемлет кромешная тьма и воцаряется полная тишина. Автор, разумеется, хотел бы поведать своему другу-читателю трогательную легенду о знаменитой, но очень несчастной Комати… К сожалению, из-за нехватки места и времени мы вынуждены расстаться с господином Дюбаром, который сумел показать нам живую Японию и сделал это точно, красочно и правдиво.
ЭМЕ ГЮМБЕР
Господин Эме Гюмбер[327] — швейцарский дипломат, которого правительство Конфедерации отправило в 1863 году в Японию в качестве полномочного посла. Господин Гюмбер, человек очень образованный, обладавший безупречным вкусом и обожавший путешествовать, провел в Империи восходящего солнца целый год и привез оттуда интереснейшие заметки, опубликованные сначала в журнале «Тур дю монд» («Вокруг света»), а затем вышедшие отдельным изданием в виде прекрасного, прямо-таки роскошного тома в издательстве «Ашетт». Он тоже глубоко изучил ту странную и чрезвычайно занятную Японию, с которой нас познакомил господин Дюбар, и рассказ его ничуть не уступает в живости и красочности описаний рассказу, вышедшему из-под пера нашего соотечественника. Следует учесть, что господин Гюмбер побывал в Японии двенадцатью годами раньше господина Дюбара, за пять лет до революции[328], широко открывшей все порты страны для представителей цивилизованных народов. В те времена только Голландия имела официальные дипломатические отношения с двором тайгуна, или микадо. Господин Гюмбер был очень хорошо, даже сердечно принят в голландской дипломатической миссии в Иокогаме, ему предложили там поселиться, и предложение это было с благодарностью принято. Из Иокогамы швейцарский дипломат совершил множество путешествий по всей Японии и очень быстро ознакомился с жизнью и бытом японцев. Так как мы тоже приобщились к тайнам Японии, то продолжим наше «японское» образование, позаимствовав у швейцарского дипломата несколько бытовых описаний. …Сначала поговорим о чайных домиках, совершенно особенных национальных заведениях Японии, что можно встретить буквально повсюду. Никто точно не знает, когда они впервые появились в Стране восходящего солнца. Похоже, они там были всегда. Чайные домики делятся на две категории — «тяя» и «дзёроя». «Тяя» — это очень приличные заведения, посещаемые весьма почтенными членами общества, где любой путешественник может рассчитывать на вежливое и изысканное обслуживание, хороший отдых и чудесные напитки, как прохладительные так и способные согреть тело и душу. Тяя встречаются не только в городах, но и в сельской местности, причем строят их всегда в таких уголках, одного взгляда на которые бывает достаточно, чтобы понять, сколь высоким художественным вкусом отличаются японцы и как они ценят красоту природы. В любом уголке, куда только ступает нога человека и где взору открывается прелестный вид, чайный домик обязательно манит путников ненадолго задержаться, чтобы передохнуть и насладиться открывающейся перед ними панорамой. На больших проезжих дорогах тяя представляют собой довольно просторные помещения, по нашим европейским меркам вполне соответствующие постоялым дворам, а в местах малолюдных можно увидеть крохотные домишки, сооруженные из дерева и бумаги, под простыми соломенными крышами. Обычно обслуживает такой домик семейство, состоящее из отца, матери и целого выводка детишек, правда, одному Богу известно, каким образом могут они заработать себе на хлеб в сельской глуши. В самых глухих и безлюдных уголках Японии, куда человека приводит лишь прихоть или безудержная фантазия путешественника, где тропинки заросли густой травой, по берегам говорливых ручьев, тихих озер и у столь часто встречающихся в гористой местности водопадов можно найти под купами деревьев крохотные хижины, в которых обычно живут одинокие старушки. На скамеечках перед этими хижинами расставлены скромные предметы, необходимые для чайной церемонии: несколько чашек, чайник и жаровня. За один сен[329], то есть за сотую часть монетки, которая и сама-то не стоит четырех су, путник получает чашечку ароматного чая и маленькую плошку риса. Никакой японец не покинет чайный домик, не выкурив несколько трубок и не насладившись вдоволь чудесным видом умиротворенной природы. В больших чайных домах посетителей обслуживают девушки, которых называют «несо»[330]. Как только на пороге подобного заведения появляется клиент, несо начинают низко кланяться, приветствуя гостя, они приносят ему яйца, рис, рыбу, саке (так называют в Японии рисовую водку) и, разумеется, крепкий чай, а посетитель, медленно потягивая душистый напиток, сидит на мягкой циновке (татами) скрестив ноги. Что касается второй категории чайных домиков, то есть «дзёроя»[331], то лучше нам о них не вспоминать, как и о публичных или частных банях, ибо, на наш взгляд, взгляд жителей Европы, японцы уж слишком просто и реалистично смотрят как на процесс омовения, так и на некоторые другие вещи. Что ж, таковы обычаи, таковы нравы. У нас свои установления, у них — свои, и не стоит с пеной у рта доказывать, что кто-то прав, а кто-то нет. Я уже рассказывал о соревнованиях атлетов, которые вызывают у зрителей настоящие взрывы страстей. Японцы также очень любят, нет, вернее, обожают смотреть на выступления жонглеров, чья ловкость и впрямь способна потрясти воображение. Следует заметить, что жонглеры эти — не просто жонглеры, поражающие зрителей своей сноровкой в обращении со всякими летающими и мелькающими в воздухе предметами, но и весьма умелые фокусники. Причем переходят они от жонглирования к показу различных тонких трюков столь незаметно, что уличные зеваки обычно не успевают ничего заметить либо вообще не понимают, что происходит прямо у них на глазах, и воспринимают порой самый простой фокус как чудо. Например, один из жонглеров садится на корточки около довольно высокого железного подсвечника и, выписывая одной рукой различные замысловатые фигуры раскрытым веером, другой, свободной, рукой хватает зажженную свечу, подбрасывает ее в воздух, ловит, не давая погаснуть, затем проделывает все с той же якобы свечой прочие невероятные трюки: свеча у него взрывается, лопается как мячик, потом вдруг волшебным образом вновь возникает в руке фокусника, зажигается, гаснет, встает обратно в светильник, и, словно по мановению волшебной палочки, то есть веера, из нее вдруг начинает бить сильная струя воды, которую ловкий циркач и ловит в неведомо откуда взявшийся фарфоровый сосуд. Разумеется, праздным зевакам и в голову не приходит, что все это — довольно незамысловатый обман, осуществляемый под звуки громко играющего оркестрика, причем так, что все действия по подмене свечей четко совпадают с тактами музыки. Фокусы перемежаются маленькими комическими интермедиями, из коих наиболее любопытной является та, что изображает отдых жонглеров. Усевшись на корточки перед большим, туго натянутым куском белой материи, фокусники покуривают трубочки и, меланхолично попыхивая ими, вырисовывают на белом фоне отчетливо различимые японские и китайские иероглифы, причем делают они это не чернилами и не красками, а струйками дыма! Правда, сии замечательные картины недолговечны и тают в воздухе на глазах… Игра вееров все усложняется и усложняется. Конечно, проворные артисты очень умело используют оптические эффекты, так что спектакль превращается в настоящую фантасмагорию. Например, жонглер проносит перед почтеннейшей публикой большой раскрытый веер, который стоит у него на ладони правой руки, затем он его подбрасывает вверх, ловит левой, приседает, как-то весь сжимается в комок, обмахивается веером, затем поворачивается к публике в профиль, с шумом выдыхает воздух… и из его рта вдруг вылетает несущийся галопом конь! Сей конь, как вы сами понимаете, все из того же дыма… Зрители в восторге… А жонглер продолжает вдыхать и выдыхать воздух, и вот уже перед изумленными зеваками появляется целая толпа крошечных человечков, которые растворяются в воздухе, но прежде они успевают потанцевать и покланяться. Стоит отметить, что человечки появляются не изо рта жонглера, а из его правого рукава, куда он, ловко прикрываясь веером, успевает направить струю дыма на выдохе, но вот как он умудряется придать этой струе нужную форму, убейте меня, я не понимаю! Но вот жонглер наклоняется, складывает веер и стискивает его обеими руками. В эту минуту толпа дружно испускает вопль ужаса, так как голова фокусника вдруг непонятным образом… исчезает! Затем сей необходимый предмет вновь появляется на плечах артиста, но зато в каком виде! Это нечто колоссальное! Потом жонглер опять обретает свою обычную голову, которая на глазах у зрителей вдруг начинает двоиться, троиться… Один из помощников приносит и ставит перед жонглером большой сосуд, напоминающий своей формой амфору, и вот уже зрители видят, как «тело фокусника» протискивается в узкое горло этой «волшебной бутылки», воспаряет к подвешенным на специальных шестах картонным облакам и тает, как таяли конь и человечки. А вот на сцене появляются столь знакомые каждому европейцу с детства волчки, или юлы. Один из жонглеров показывает две юлы публике, даже дает потрогать, а затем берет за ручки и запускает, покатав каждую ручку в ладонях. С этого мгновения юлы беспрестанно вращаются. Помощник фокусника хватает одну юлу и пускает ее боком по длинному мундштуку огромной трубки, потом подбрасывает высоко вверх, чтобы поймать ее острие в чашечку трубки, которую он держит во рту. Фокусник ловко направляет бешено вращающуюся юлу куда хочет, и она покорно подчиняется его воле, совершая совершенно невероятные вещи: крутясь, влезает каким-то чудом на лакированный столик, на шест или стену. Однажды мне довелось увидеть, как запущенная опытной рукой юла влезла на ажурную арку и слезла обратно. Жонглер приносит очень высокий шест, на конце которого он устанавливает фарфоровый сосуд, наполненный до краев водой. Он кладет на воду лист лотоса, ставит на него вертящуюся юлу, и она, представьте себе, продолжает вращаться! А вскоре из верхушки юлы начинает бить маленький изящный фонтанчик… В то время как два самых больших волчка вращаются на месте, жонглеры запускают средние и маленькие, причем делается это также особым способом: юлу придвигают к уже вращающейся юле, и от соприкосновения с ней бывший только что неподвижным предмет реквизита начинает быстро-быстро вращаться, а следом — и целая цепочка выстроившихся друг за другом волчков. Но фокуснику недостаточно, чтобы вся эта гудящая и жужжащая компания дружно вращалась на полу. Распорядитель показывает почтенной публике обычные шкатулки, ракетки, куски совершенно прямой и гладкой проволоки, самурайские мечи, которые он позволяет осмотреть и потрогать, а затем он подает сигнал, и начинаются невероятные танцы: три жонглера выходят на сцену, низко кланяются и разом принимаются за работу под аккомпанемент оркестра. Один из циркачей жонглирует четырьмя-пятью волчками, заставляя их пролетать через обруч; второй заставляет волчки впрыгивать в коробки и шкатулки, а потом выпрыгивать оттуда и вращаться вокруг сих предметов реквизита, причем не как попало, а в определенном порядке, цепочкой; третий пускает юлы одну за другой по протянутой проволоке, и они бегают по ней туда и обратно, подчиняясь неуловимым движениям пальцев фокусника. Точно так же, как по проволоке, скользит вращающаяся юла по лезвию меча, а в довершение всех чудес жонглеры играют партию японской игры с ракетками, где вместо воланчиков над сценой летают волчки. Уверяю вас, господа, что в течение всего спектакля все эти большие, средние и маленькие волчки ни на секунду не прекращают вращаться! Вряд ли самый велеречивый оратор найдет слова, чтобы описать восторг публики и чтобы передать достаточно точно, какое впечатление производит на зрителей все это действие! Точно так же и я не могу передать, в какое изумление повергла меня сцена, когда жонглер небрежно разорвал лист бумаги на мелкие клочки, подбросил их в воздух и замахал веером, словно пытался их развеять… а белые хлопья стали на глазах превращаться в птиц. Стая покружилась над сценой и унеслась прочь… А что может быть очаровательней, чем сценка, когда тот же лист бумаги превращается в руках мастера в чудесную бабочку, которая принимается порхать у него над головой, да так низко, что он, кажется, вот-вот схватит бедняжку, а отважная бабочка будто бы насмехается над человеком, даже садится на веер, который представляет для нее реальную угрозу, а когда ей надоедает дразнить артиста, улетает, чтобы опуститься на изящный букет цветов, услужливо преподнесенный фокуснику одним из его помощников. Через секунду-другую бабочка слетает с букета вместе с еще одной, даже более прекрасной, чем первая, бабочкой, и они обе порхают, трепеща крылышками и отдаваясь на волю восходящих и нисходящих потоков воздуха; они то взмывают вверх, то опускаются вниз, преследуя друг друга. Внезапно одним мановением веера фокусник загоняет бабочек в коробочку и торопливо накрывает ее крышкой. Но как только он приподнимает крышку, пленницы тотчас же вырываются на волю, и игра человека и бабочек возобновляется. Наконец циркачу удается поймать обеих подружек одной рукой; он приближается к публике с торжествующим видом, чтобы показать зрителям свою добычу, раскрывает ладонь, но бабочек там нет, а лишь поднимается вверх легкое облачко золотистой пыльцы. Сей фокус приводит публику в полнейший восторг, но выражают они его не громкими аплодисментами, а легким постукиванием сложенным веером по ладони левой руки, сопровождая сии жесты отрывистыми радостными вскриками, которые по громкости не идут ни в какое сравнение с воплями европейских театралов. Теперь, мне кажется, было бы вовсе не лишним порассуждать немного о типичных чертах японцев. Следует отметить, что приспособляемость японцев к нашей европейской цивилизации просто поразительна, пусть даже она скорее поверхностна, чем глубоко осознана. Своим внешним видом японцы в большинстве своем напоминают испанцев и обитателей юга Франции; роста они в основном среднего, причем разница в росте мужчин и женщин в Японии более разительна, чем в Европе: рост мужчин достигает одного метра шестидесяти сантиметров, а вот женщины обычно не бывают выше метра тридцати сантиметров. Когда японцы одеты в пышные одежды, то можно подумать, что они сильны, крепки телом и сложены весьма пропорционально. Но если взглянуть на японцев, облаченных в самые простые костюмы, то есть в минимум одежды (что они, кстати, очень любят), то можно заметить, что верхняя часть туловища у них хорошо развита, зато ноги короткие, худые и слабые. Голова японца также явно не соответствует его телу, так как она явно велика и как бы уходит в плечи. Ноги и руки у японцев очень маленькие и изящные. Сходство между японцами и китайцами на самом деле не так велико, как принято считать: лица у японцев гораздо более удлиненные, чем у китайцев, а черты их лиц гораздо более правильные и тонкие; носы у японцев гораздо более явственно выступают вперед, чем у плосколицых китайцев; что же касается глаз, то они у японцев гораздо менее раскосы. У мужчин-японцев на щеках и подбородках обильно растут волосы, и они могли бы хвастаться хорошими бородами, но бород они не носят. У японцев густые прямые черные волосы, черные глаза, а зубы очень белые и слегка выдаются вперед. Цвет кожи японцев совсем не похож на желтый цвет кожи китайцев, так как японцы скорее уж смуглые, кожа у них может иметь чуть красноватый оттенок, но чаще всего бывает оливковой. У детишек и у очень молодых людей кожа розоватая. Зато между японками и китаянками довольно много общего: раскосые глаза, маленькие изящные головки. Волосы у японок прямые, очень черные и никогда не бывают столь же длинными, как у европеек. Кожа у японок светлая, матовая, иногда даже совершенно белая, в особенности у аристократок. У молоденьких девушек зубы сияют ослепительной белизной, глаза светятся добротой и нежностью; брови у японок черные, густые, выгнутые дугой; личики — овальные, очень милые. Юные японочки отличаются стройностью, невероятной грацией, учтивыми манерами, благородством поведения. Обычай требует, чтобы замужние женщины выбривали себе брови и чернили зубы. Японцы сознают, что заставляют женщин идти на большие жертвы, ибо им, как и представителям других народов, прекрасно известно, что белые зубы и густые выгнутые брови являются непременными атрибутами женской красоты. Однако замужние японки покорно следуют традициям для того, чтобы показать, что навсегда отказываются от мысли о том, чтобы нравиться после совершения брачной церемонии. Однако японки ужасно злоупотребляют румянами и белилами, быть может, из желания немного возместить себе утрату девичьей красоты. В самом деле, румяна и белила покрывают толстыми слоями их лбы, щеки и шеи. Самые смелые японки доходят до того, что вызолачивают себе зубы, хотя это их совсем не красит, а самые скромные ограничиваются тем, что делают их ярко-алыми при помощи кармина. Все население Японии одевается практически одинаково: и мужчины и женщины носят нечто вроде просторных домашних халатов, именуемых кимоно, правда, у женщин они длиннее и более украшены вышивкой, чем у мужчин. Японцы подпоясываются узкими шелковыми поясами, а японки, напротив, очень широкими полотнищами, из которых они сооружают весьма замысловатые банты на спине. Японцы не носят нательного белья, только женщины, да и то лишь те, что побогаче, надевают тонкие шелковые рубашки. Не стоит забывать, что японцы очень чистоплотные и моются каждый день. Вообще же представителям этой нации свойственно стремление к простоте. Однако те, кто относится к богатым слоям населения, по нашим европейским меркам буржуа, носят кроме кимоно некое подобие камзола и широкие штаны, от коих могут мгновенно избавиться, если в том возникнет необходимость. (Но так было во времена, когда господин Гюмбер путешествовал по Японии. В наши дни богатые японцы, испытывающие непреодолимую тягу ко всему европейскому, с превеликим удовольствием напяливают на себя рединготы, пиджаки, лакированные туфли и цилиндры.) Только зимой мужчины из простонародья носят камзолы и голубые хлопковые штаны, узкие, почти облегающие. Бедные крестьяне, носильщики и грузчики порой дополняют свой туалет плащами, сплетенными из соломы или сделанными из промасленной бумаги. Что же касается женщин, то в холода они заворачиваются в один или даже несколько плащей, подбитых ватой. Большинство японцев носят полотняные носки с отделением для большого пальца. Нога лежит на сплетенной из соломы сандалии, которую удерживают два перекрещивающихся ремешка, ловко и плотно схваченных пальцами ноги. По плохой погоде японцы надевают деревянные башмаки, напоминающие небольшие скамеечки на двух поперечных дощечках. Любую обувь принято снимать и оставлять у порога дома. Дело в том, что в Японии повсюду царит невероятная, прямо-таки сказочная чистота, коей могут позавидовать такие прославленные чистюли, как голландки. Кстати, жилища японцев очень простые, безыскусные, созданы, кажется, таковыми именно для того, чтобы облегчить домохозяйкам задачу по поддержанию чистоты. Надо отметить, что стремление к аккуратности и порядку свойственно представителям всех слоев общества, и чувство это у японцев врожденное. По внешнему виду дома аристократов мало чем отличаются от домов простых людей, но вот по внутренней отделке жилища можно с первого взгляда понять, богат или беден хозяин, принадлежит ли он к аристократии или к простонародью. Обычно дома японцев одноэтажные и в высоту не превышают двенадцати метров. Иногда, правда, бывают дома и двухэтажные, но первый этаж у них очень низкий и служит в качестве хранилища для съестных припасов. Строить одноэтажные здания японцев заставляют частые и весьма разрушительные землетрясения. Хотя эти дома не могут сравниться с нашими ни по прочности, ни по площади, они ни в коем случае не уступают им в удобстве и чистоте. Почти все дома в Японии деревянные, первый этаж возвышается над землей на полтора метра, стены сделаны из досок, внутри увешанных большими толстыми циновками, очень искусно соединенными между собой. Крышу, тоже покрытую досками или дранкой, поддерживают четыре толстых столба. В двухэтажных домах второй этаж обычно сооружают более солидным и прочным, чем первый, так как на собственном опыте японцы поняли, что именно такая конструкция лучше выдерживает землетрясение. Иногда внешние стены домов покрывают толстым слоем земли или глины, а внутренние — лаком, на который наносят позолоту и по которому делают чудесные росписи. У многих домов передняя и задняя стены представляют собой оклеенные бумагой деревянные панели, легко скользящие по деревянным пазам то в одну, то в другую сторону. Раздвижные стены… Очень удобно! То, что в Японии называют «ясики»[332], то есть жилища людей, занимающих видное положение в обществе, чаще всего представляют собой несколько обычных домов, окруженных служебными постройками с оконцами, снабженными решетками из черного дерева. Обычно службы у богатых японцев выбелены известкой. Стоит упомянуть еще об одном типе строений, которые придают японским городкам и городишкам весьма своеобразный вид. Я имею в виду «несгораемые склады», напоминающие низкие башни, построенные из бревен. Сверху они покрыты толстым слоем цемента, отделанного под мрамор, а кое-где и выкрашенного сверху черной краской. Имеются у этих сооружений и крохотные окошечки, которые при необходимости можно очень легко закрыть наглухо при помощи тяжелых железных ставен. В этих громоздких и неуклюжих сооружениях японцы прячут свое добро во время пожаров и тайфунов: при малейшей опасности они торопливо запихивают все мало-мальски ценное в эти хранилища, а сами спасаются бегством, надеясь на то, что крепкие стены выстоят и против жара огня, и под напором ветра. Жилища японцев, вне зависимости от их материального положения, радуют глаз чистотой и ухоженностью. И происходит это по двум причинам. Во-первых, как внешние большие панели, так и перегородки внутри домов сделаны из бумаги, а так как бумага — материал недолговечный, то японцы вынуждены часто обновлять как фасады своих жилищ, так и внутреннее убранство. Во-вторых, в японских городах часто случаются пожары, которые порой бывают столь сильны, что выгорают целые кварталы, и их приходится отстраивать заново. Обычно дома японцев разделены на две части: на женскую и мужскую. Женщины очень редко показываются на люди, по крайней мере те из них, что принадлежат к высшим слоям общества. Гостей японцы принимают на мужской половине. В обеих частях дома вы найдете множество комнат, разделенных подвижными перегородками, которые представляют собой движущиеся в пазах рамы, оклеенные бумагой. Положение этих перегородок можно менять так, как будет угодно хозяину или гостю, так что комната может то увеличиваться по площади, то уменьшаться в соответствии с требованиями данной минуты. С восхода до заката большая часть перегородок, а также и внешние панели сложены, чтобы в дом свободно проникал свежий воздух. Таким образом, днем японцы практически живут на улице, ибо можно видеть все, что происходит в доме. Да, японец живет «при свете дня», то есть он осуществил мечту того римлянина, который мечтал о том, чтобы жить в доме из стекла. Что придает улицам японских городов совершенно особое очарование, так это то, что внутри каждого жилища можно увидеть садик. О, вы не найдете в Японии ни одного горожанина, у которого не было бы своего крохотного садика, куда он приходит отдохнуть, побыть наедине с собой или просто посидеть, смакуя горячий чай или теплое саке. Садики эти порой чрезвычайно малы и похожи на какие-то сказочные парки, которые вам приходится почему-то разглядывать с головокружительной высоты через подзорную трубу. Что же такое японский садик? Причудливое нагромождение камней и камешков, где в расселинах растут, с трудом цепляясь корнями за выступы и желобки, карликовые деревца и кустики, порой темно-зеленые, а порой и ярко-алые. Эти крохотные изломанные растеньица простирают свои крючковатые веточки над маленькими озерцами, где плавают красные рыбки. Вы ясно различите там аллеи, по которым могут гулять разве что лилипуты; газоны, где не повернется и пигмей; там по специально прорытым желобкам струят свои воды искусственные речки, над которыми перекинуты увитые ползучими зелеными растениями мостики такой ширины, что только мышке впору по ним бегать; там вы увидите таинственные пещеры и гроты, где, пожалуй, смогут прятаться лишь кролики… Вот таковы эти крохотные садики. В тех кварталах, где живут люди побогаче, у каждого дома вы увидите не крохотный садик, а настоящий парк, где по воле его устроителя соединены все элементы японского пейзажа: скалы, узкие долины, причудливые гроты, источники, водопады, пруды, — и все части так изумительно подобраны, так хорошо гармонируют! Если природа не позаботилась о том, чтобы оградить от внешнего мира уголок отдохновения какой-либо преградой, то опытная рука садовника приходит ей на помощь, создавая живую изгородь из кустарника или зарослей бамбука, причем и кусты и побеги бамбука еще и оплетены ползучими растениями. Если из сада или парка можно выйти на улицу, то вы не увидите ни привычных для европейца ворот, ни простецкой калитки; нет, перед входом в сад будет непременно прорыт небольшой канал (который у меня просто язык не поворачивается назвать канавой), через него будетперекинут резной мостик, а сами ворота будут искусно замаскированы купами деревьев и кустами с густой листвой. Как только вы входите в сад, так тотчас же у вас возникает ощущение, что вы попали в девственный лес, что вы находитесь вдали от человеческого жилья и остались наедине с природой. Но вернемся в жилище японца. Как я уже говорил, внутреннее убранство дома отличается безыскусностью и простотой; можно сказать, что чистота является его главным украшением. Потолки в комнатах довольно низкие, сами комнаты весьма небольшие, но благодаря подвижным перегородкам японец может изменять свое жилище по своему вкусу. Во всех комнатах полы застланы толстыми циновками из рисовой соломы, очень аккуратно сплетенными, а потому достаточно прочными. Все циновки одинаковой величины: два метра в длину или метр в ширину (или наоборот, если вам угодно). Японцы ходят по дому, то есть по циновкам, только босиком, ибо ни один японец не осмелится испачкать циновку, ступив на нее в обуви. Циновки заменяют японцам все предметы меблировки, что столь привычны нам, европейцам. Да, в домах японцев вы не увидите ни столов, ни стульев, ни кроватей. Если японцу нужно что-то написать, он достает из маленького стенного шкафчика круглый столик на ножке высотой примерно в фут и становится перед ним на колени; закончив писать послание, японец складывает столик и убирает его в шкаф. Во время завтрака, обеда и ужина японцы ставят в комнате, служащей столовой, квадратный стол, по нашим меркам очень маленький, вокруг которого и собирается вся семья. Японцы сначала встают на колени, а затем усаживаются на пятки и в такой позе едят. На ночь на циновках расстилают толстые ватные одеяла, покрытые в домах победней простой хлопчатой тканью, а в домах побогаче — шелком. Рядом раскладывают просторные домашние одежды по типу наших халатов, причем в богатых домах эти одеяния бывают сшиты из очень дорогих тканей. Избавившись от кимоно, в котором он ходил целый день, японец обряжается в широкий, подбитый ватой халат, который окутывает его, словно Кокон, с головы до пят, затем берет свою классическую деревянную подушечку, ту, что приводит в ужас европейцев, засовывает ее себе под голову и, похрапывая и посвистывая носом, отдается во власть сна, каковой является, как считают многие, уделом праведников. По утрам все одеяла и халаты прячут в чулан, все перегородки раздвигают, чтобы проветрить помещение, а затем тщательно сметают с циновок мельчайшие пылинки. Пустая, абсолютно лишенная мебели комната, бывшая ночью спальней, днем превращается то в кабинет хозяина, то в гостиную, то в столовую. Правда, есть два предмета «меблировки», которые можно встретить как в богатых, так и в бедных домах: жаровня и курительная шкатулка. Японцы — великие любители потягивать чай и покуривать трубочки. В любое время дня и ночи японцу может прийти в голову мысль выпить чашечку ароматного напитка, так что кипяток может понадобиться в самую неподходящую (по нашим европейским понятиям) минуту. Вот почему огонь в жаровне должно поддерживать постоянно, как зимой так и летом. К тому же японец раскуривает при помощи угольков свою трубочку, которую он набивает чуть ли не каждую минуту, настолько она мала. Хозяин дома собирает вокруг жаровни своих гостей, и именно там ведутся нескончаемые неспешные беседы, ибо японцы по натуре своей ленивы и склонны к праздности. Японцы работают только для того, чтобы добывать средства к существованию, а живут лишь для того, чтобы наслаждаться радостями жизни. Японец быстро забывает о том, что случилось вчера, и не беспокоится о будущем, он воспринимает жизнь как череду ощущений, чувственных и зрительных, как смену часов, дней и лет. Отсюда, мне кажется, и проистекает полное отсутствие различных необходимых в быту предметов, способных обеспечивать какие-то удобства, ибо для того чтобы сделать тот или иной предмет обихода, необходимо обладать даром предвидения и соображать, для чего он понадобится. Японец воспринимает жизнь иначе: ему дом нужен в данный час и в данную минуту, а потому в нем и нет следов воспоминаний об уже прожитых днях; дом — всего лишь место отдохновения, временное убежище, куда человек удаляется, когда все занятия и работы закончены. В середине дня вся японская семья собирается, чтобы совершить главную трапезу дня, а затем предаться послеполуденному отдыху, столь высоко ценимому жителями Востока. В эти часы улицы японских городов абсолютно пусты. Ни шагов прохожих, ни криков, ни песен, вообще ни звука. По вечерам японцы обычно еще раз едят, после чего сотрапезники предаются тихим семейным радостям. Довольно часто в домах представителей высшего японского общества во время обеда и ужина слух хозяев услаждают звуки музыки: то играет оркестрик, находящийся в смежной со столовой комнате. Иногда музыканты еще и поют, причем песни эти довольно монотонны, с часто повторяющимися фразами. После обеда или ужина столы уносят, а из особых шкафчиков извлекают кисти, краски и большие листы белой бумаги. Все члены семьи дружно принимаются рисовать. Да, в Японии рисуют не только профессиональные художники, артистические натуры по призванию, нет, многие, очень многие представители высших классов в Стране восходящего солнца имеют представление о некоторых секретах этого древнего искусства. Занимаясь рисованием практически ежевечерне, японцы, как говорится, «набивают руку» так, что приходится только диву даваться. Даже у непрофессионального художника-японца невероятно зоркий глаз, великая точность кисти и мазка, да к тому же и огромная скорость при нанесении рисунка на бумагу. В течение нескольких минут картина бывает закончена! Разумеется, дело здесь в привычке, ибо живописец изучил досконально, буквально «вызубрил наизусть» некоторое количество мотивов, образов, если вам угодно, которые он и воспроизводит на бумаге почти машинально, механически, и его рисунок представляет собой обычно набор одних и тех же элементов, только в разных комбинациях. И вот тут-то, именно в искусстве комбинирования, художник старается проявить себя, свое мастерство, ибо он стремится поразить воображение зрителя самыми загадочными и странными сочетаниями уже знакомых элементов. Цель художника состоит в том, чтобы озадачить того, кто видит его за работой, заставить его усомниться в своих зрительных ощущениях, чтобы под конец, когда кисть в последний раз коснется бумаги, повергнуть всех в изумление. Например, японец начинает набрасывать голову лошади, потом рисует голову мужчины, потом еще одну, другую, третью, потом где-то на листе вдруг возникает нога, где-то — рука, где-то — лошадиные копыта и т. д., причем все эти отдельные элементы расположены на бумаге столь хаотично, что никто не может угадать, каков же сюжет картины. В конце концов, когда каждый высказал свое мнение и все, наговорившись досыта, так и не пришли к согласию, художник при помощи нескольких решительных и точных мазков объединяет все элементы в одно целое — и на бумаге внезапно возникает группа скачущих всадников. Занятный рисунок, воспроизведенный в данной книге, принадлежит кисти художника-любителя, ибо ни один художник-профессионал никогда не позволил бы себе столь наивного и безыскусного изображения сценки из жизни, но именно эта наивность придает рисунку такую оригинальность и неповторимость. Возможно, мы видим первую попытку изобразить железную дорогу (средство передвижения, столь мало в то время известное в Японии), ну а судить о том, насколько удачна эта попытка, право предоставляется зрителям. Паровозик ужасно похож на огромный бумажный фонарик, влекомый неведомой силой, он вот-вот въедет прямо в море, над которым расплывается зловещее пятно дыма; у белой лошади, на которой восседает господин в шляпе с высокой тульей, круп совсем не лошадиный, это скорее часть жирафа или верблюда; но вот две женщины, что уходят куда-то под своими зонтиками, просто очаровательны, хотя их силуэты намечены всего лишь несколькими штрихами, а рикша, впрягшийся в свою повозку, полон отваги и жизненной силы. По своей натуре японцы — люди очень веселые, беззаботные, даже отчасти безрассудные. Им неизвестны муки, которые испытывают жители тех стран, где главным в жизни является меркантильный расчет и погоня за чистоганом. Для японцев не существует такого понятия, что время — деньги, для них и время, и сама жизнь даны свыше для того, чтобы радоваться. И японцы изыскивают любую возможность доставить радость себе и своим близким, они старательно преумножают поводы для радости, изобретая все новые празднества, народные гулянья и карнавалы. И все же японцам показалось, что у них слишком мало поводов для всеобщего веселья (хотя изобилию праздников можно только поражаться), и они придумали специальные праздники для детей, в которых и взрослые, как вы понимаете, принимают самое активное участие. Главными среди праздников являются Праздник кукол, который устраивается в честь девочек, и Праздник знамен, который устраивается в честь мальчиков. В День кукол[333] в главной комнате каждого дома, где есть девочка или девочки, устраивают выставку кукол, которых юным виновницам торжества подарили родители, родственники и друзья семьи. Куклы эти, обычно изображающие придворных и знатных вельмож, разодеты в роскошные костюмы. Их ставят на возвышение среди зелени и цветов[334]. Юные же хозяюшки под руководством матери семейства готовят для кукол превосходный обед, каковой с шутками и прибаутками вечером поглощают родители малышек и их друзья. Второй праздник, Праздник знамен, не является чисто семейным торжеством, а отмечается публично, всем населением Японии[335]. В этот день все улицы японских городов бывают украшены разноцветными знаменами, флажками, вымпелами и огромными листами бумаги с замысловатыми надписями. По улицам снуют стайки мальчиков, одетых в особые, специально сшитые для торжественного дня одежды. Некоторые мальчишки вооружены до зубов, они изображают самураев, другие носят на высоких шестах гравюры, на которых изображено божество, являющееся воплощением отваги. В этот день оружейники и торговцы изделиями из бронзы выставляют напоказ новые образцы оружия и доспехов, ибо в Японии принято дарить мальчикам в качестве подарков шлемы, самурайские мечи, кинжалы, пики и прочие атрибуты воинского дела. Но если японцы и устраивают праздники в честь своих чад, то не следует думать, будто детей в этой стране растят в неге и праздности, что их балуют сверх всякой меры. Нет, маленькие японцы растут в довольно суровых, почти спартанских условиях, их с раннего детства приучают стойко переносить различные лишения и даже страдания. До двухлетнего возраста малыш постоянно находится при матери. Японки очень долго кормят их грудью и практически все время носят их либо на руках, либо привязывают их себе за спину (и именно в таком положении малыш чаще всего и проводит большую часть дня). В Японии не торопятся обучать детишек чтению и письму, а дают им наиграться вволю, не ограничивая ни в игрушках, ни в удовольствиях от прогулок и празднеств, в которых родители, в сущности тоже большие дети, умеют находить радость и для себя. В трехлетнем возрасте мальчик отправляется в школу. Там ему внушают идеи, влияние которых скажется потом на всем его восприятии внешнего мира. На все лады учителя постоянно твердят одно и то же: жизнь есть сон, который когда-нибудь исчезнет без следа. Подобная философия приучает японцев к мысли о небытии и заставляет их смотреть на кратковременное свое пребывание на земле как на повод доставить удовольствие себе и другим, а на смерть — как на неизбежную небольшую неприятность. Японец достигает совершеннолетия в возрасте пятнадцати лет. Как только мальчику исполнится пятнадцать лет, так он тотчас же принимает другое имя и, начисто забыв развлечения детства, приступает к исполнению обязанностей взрослого. Если мальчик является выходцем из семьи довольно богатой, как мы бы сказали, из семьи буржуа, то перво-наперво он старается занять достойное положение в обществе. Японец начинает обучаться какой-либо профессии, причем обучение начинается с азов данной профессии, с самой низшей ступени, но постепенно, шаг за шагом юноша из простого работника превращается в хозяина дела, и только тогда, разбогатев и обеспечив себе безбедное существование, японец женится. Но вернемся к народным увеселениям. В День фонариков[336] улицы японских городов выглядят столь же странно и столь же запружены толпами зевак, как и в Праздник знамен. Пожалуй, в сей знаменательный день не встретишь на улице ни одного прохожего, у которого не было бы крошечного бумажного фонарика (хотя, конечно, гораздо чаще встречаются люди с огромными, прямо-таки гигантскими светильниками). Все ребятишки, разумеется, тоже обзаводятся фонариками, которые по размерам соответствуют росту каждого, раскачивают их из стороны в сторону и во все горло распевают веселые песенки. Существуют еще два праздника — один в начале и другой в конце года, — которые вместе с уже упомянутыми были учреждены японцами в глубокой древности, в эпоху сплошных бедствий для того, чтобы умилостивить и развлечь богов и таким образом ослабить вредоносное влияние злых духов. Но это далеко не все! В каждом месяце есть несколько дней, предназначенных для увеселений и развлечений, дней, когда луна переходит из одной фазы в другую. Однако эти ежемесячные праздники не являются днями всеобщего обязательного безделья, их отмечают только те, кто пожелает. Но, как вы сами понимаете, японцы, столь жадные до развлечений и веселья, ни за что не упустят случая отдохнуть от повседневных забот и тягот обыденной жизни. Каждый праздник посвящен какому-нибудь божеству, времени года, событию. Одни японцы празднуют приход весны, другие — появление первых овощей и фруктов, третьи — вызревание зерновых культур, четвертые — рождение Будды или его перевоплощение, пятые устраивают праздник в честь бога воды, шестые — в честь богини луны, седьмые — в честь бога — покровителя рыбаков и т. д. В такие дни многие японцы бросают свои обычные занятия и предаются веселью, но все же далеко не все могут себе это позволить. Зато уж под японский Новый год, который приходится по европейскому календарю на конец февраля, на улицах всех городов и городишек царит необычайное оживление, ибо абсолютно все население Японии предается полнейшему, самозабвеннейшему веселью. Уже за много дней до наступления собственно самого Нового года начинаются приготовления к торжеству. Первейшей заботой каждого добропорядочного подданного японского императора является тщательная уборка в доме и приведение всего хозяйства в образцовый порядок. Хозяин дома вместе с хозяйкой чистят всю домашнюю утварь, чинят поломанные вещицы, зашивают дырки на одежде, поднимают с полу циновки, вытряхивают их, снимают подвижные перегородки и меняют на них бумагу, стирают пыль с лаковых ваз и шкатулок, моют полы, короче говоря, наводят глянец. Затем хозяин дома украшает фасад своего жилища ветками сосны, нежными листьями папоротника, гирляндами, сплетенными из рисовой соломки, перевитыми разноцветными бумажными ленточками, к которым прикреплены маленькие сосновые веточки. Вообще сосна, похоже, играет в этот период особую роль в жизни японцев, ибо они не только украшают сосновыми ветками свои дома, но и самих себя, так как прикрепляют молодые сосновые побеги к шляпам и кимоно. Однако в последние дни уходящего года японцы озадачены не только приготовлениями к празднику, но и более прозаическими, житейскими делами, ибо по всей Японии по традиции в эти дни принято отдавать долги, чтобы не вступать в новый год с невыполненными денежными обязательствами. Итак, все счеты и расчеты должны быть сделаны точно к указанному сроку, а потому все отцы семейств, хозяева мастерских, лавочники, все, у кого есть какое-то дело, вынуждены целыми днями бегать из дома в дом, чтобы вступить в новый год с чистой душой. У японцев принято также в последние дни уходящего года восполнять запасы саке (рисовой водки) и рисовой муки. Саке продают с аукциона в больших питейных заведениях типа винных складов. Толпы покупателей осаждают сии заведения, так что порой к заветным дверям просто не пробиться. Покупатели бывают разные: один приходит с двумя бочонками, прикрепленными к концам бамбукового шеста, что лежит на плече страждущего божественной влаги, другой довольствуется обычным ведром, третий — большим кувшином, а четвертый — просто бадьей. Свежеприготовленный хмельной напиток выставляют на торги как большими, так и маленькими порциями, чтобы каждый мог его купить, сообразуясь с возможностями своего кошелька. Каждый покупатель должен тотчас же получить и унести товар, вот почему в заведениях, где продают саке, всегда царит жуткая неразбериха и невероятный шум и гам; разумеется, по этой причине там часто случаются всякие неприятные происшествия и даже драки. Рисовую муку японцы не покупают, а делают сами столько, сколько нужно, используя для этой цели ступу и пестик. Так как работа эта довольно трудоемкая и скучная, то в богатых домах нанимают специальных профессиональных «мукомолов» (хотя, как вы понимаете, они муку не мелют, а толкут рис в ступках). Много дел в последние дни уходящего года и у булочников с подмастерьями, ибо каждый японец стремится запастись хлебцами и пирожками, которые принято дарить слугам и прочему бедному люду. Переутомившиеся торговцы саке, булочники и мукомолы, а также их юные помощники щедро вознаграждают себя за тяжкие труды в канун Нового года. Так как заработанные денежки они все за все получили, то с превеликим удовольствием предаются радостям еды и питья, ибо для них широко открыты двери чайных домиков. Подмастерья потом собираются группками и бродят по улицам, распевая песни и приплясывая. Многие из этих бесшабашных молодых людей надевают маскарадные костюмы, причем чаще всего они рядятся в некие подобия платьев знатных вельмож. В этих маскарадах принимают участие и слуги, и повара с поварятами, грузчики, разносчики, рассыльные, и у всех для сего знаменательного дня припасены замысловатые, причудливые костюмы. Вот так они и ходят из дома в дом, выпрашивая вознаграждение, которое далеко не всегда состоит из одних хлебцев и пирожков. Следует отметить, что скупиться в Новый год у японцев не принято, и денег, собранных в эту ночь, юным подмастерьям хватает на то, чтобы приятно и весело проводить время в течение многих дней. А между тем на улицах становится все многолюднее. Крестьяне приходят в город, чтобы накупить всяких мелочей для подарков домочадцам, а также для того, чтобы обзавестись амулетами для защиты своих посевов и полей от злых духов. Скоморохи, жонглеры, фокусники, бродячие актеры и танцовщики дают представления, собирая толпы зевак. Спешат воспользоваться благоприятным моментом и мелкие торговцы, предлагающие с лотков незамысловатый товар; одни прямо на улице возводят временные домики из бумаги, другие раскладывают свои «сокровища» прямо на земле. Вечером повсюду вспыхивают тысячи и тысячи огней. Улицы японских городов, щедро изукрашенные сосновыми ветками и гирляндами бумажных фонариков, превращаются в сияющие реки, по которым носятся толпы охваченных праздничной лихорадкой, озабоченных последними приготовлениями людей. Но с приближением полночи улицы постепенно пустеют, а затем и совсем вымирают. Над городом воцаряется тишина. Конечно, это совсем не означает, что японцы улеглись спать и мирно почивают на своих деревянных подушках, напротив, практически во всех домах люди бодрствуют. Наступил час проведения торжественных семейных церемоний, в которых редкий японец позволит себе не принимать участия. Начинаются же церемонии с того, что глава семьи сжигает особые поленья, на которых были записаны молитвы, продиктованные ему семейным божеством-покровителем (нечто вроде нашего домового). Глава семьи внимательно смотрит на пламя и по форме пляшущих язычков старается предсказать, удачным или неудачным будет наступающий год. Затем японцы принимаются изгонять из дому злых духов. Глава семьи обходит комнату за комнатой, разбрасывая повсюду жареные бобы и произнося магические заклинания, затем он падает ниц перед алтарем, посвященным богам — хранителям домашнего очага, и читает молитвы для того, чтобы бог богатства был милостив к семье в наступающем году. По завершении религиозных обрядов все в доме укладываются спать, но ненадолго, ибо с рассветом все поднимаются, одеваются в самые лучшие, самые богатые одежды и приступают к обмену поздравлениями и пожеланиями всяческого благополучия. Прежде всего муж с женой обмениваются короткими речами, в которых они желают друг другу множество счастливых событий и радостных дней. Японский этикет требует, чтобы пожелания всяческих успехов произносились в довольно неудобной позе: человек буквально переламывается пополам и почти касается руками пола. Затем супруги, не переставая низко кланяться, обмениваются подарками. После окончания сей церемонии в главную комнату дома входят дети и обращаются к родителям с поздравлениями и пожеланиями всех благ. Затем наступает черед близких и дальних родственников, так что ритуал может длиться едва ли не все утро, ибо японцы свято блюдут традиции и очень строго придерживаются правил хорошего тона (кстати, правилам этим несть числа, в особенности в той части, что касается поведения во время празднования Нового года). В конце концов, когда все правила вежливости соблюдены, приступают к первой в Новом году трапезе, а затем отправляются с визитами к друзьям и знакомым, где поклоны, улыбки, поздравления и пожелания всех благ длятся до полудня. Замечу, что в Японии визитные карточки распространены столь же широко, как у нас, в Европе. Обычно визитки бывают довольно большого размера и изукрашены замысловатыми рисунками. Приносят их рассыльные в конвертах, красиво перевязанных разноцветными лентами. Когда японец отправляется с частным визитом, его обычно сопровождают несколько слуг, несущих подарки, в качестве которых чаще всего выбирают инкрустированные перламутром, чрезвычайно красиво расписанные веера в лакированных шкатулках, изнутри обитых шелком. По традиции к дару присоединяют еще бумажный пакетик, в коем лежит кусочек высушенной рыбы, являющийся символом скромности, умеренности и воздержанности, ведь именно эти качества почитаются японцами главными из всех добродетелей. Японец, к которому друг или знакомый пришел с визитом, обычно предлагает гостю разделить с ним легкую трапезу, состоящую из пирожков и лепешек из рисовой муки, а также и стаканчик саке. В процессе обмена подарками особую роль играют лангусты и апельсины, ибо лангусты, по мнению японцев, являются самыми вкусными, самыми ценными дарами моря, и следовательно, получить сие сокровище в подарок считается большой честью. Полученных в дар лангустов высушивают и размалывают в муку, коей лечат некоторые болезни. Поговорим немного о японском языке и о письменности Страны восходящего солнца. Долгое время европейцы рассматривали японский язык как диалект китайского или как язык, имеющий с китайским очень много общего. Но сравнительное изучение двух языков заставило ученых понять свою ошибку. Да, японцы могут прочесть и понять то, что написано по-китайски, так как китайские иероглифы используются для написания японских слов. И это вполне понятно, потому что китайские иероглифы не являются буквами в европейском смысле слова, то есть не являются изображениями лишенных своего собственного смысла звуков, составляющих слова, но выражают сами слова или даже, скорее, понятия, обозначаемые словами. Соответственно, иероглифы должны сообщать тем, кому ведом их смысл, одни и те же идеи. Точно так же, как у китайцев, у японцев существует множество слов для обозначения местоимений, которые выражают отношения между собеседниками, между субъектом и объектом действия, а также служат для выражения степени почтения. Формулы вежливости — отличительная особенность японского языка, и они могут принимать не только вид особых местоимений, но и других частей речи. Многие действия и предметы, а также отвлеченные понятия могут обозначаться одними словами в обиходном языке и совершенно иными, если эти действия будет совершать какое-либо высокопоставленное лицо или идеи будут восприниматься от какого-либо божества или земного воплощения божества — императора. Очень часто фраза, в которой применяются изысканные формулы вежливости, оказывается более витиеватой и длинной, чем фраза без оных. Звуки японского языка мягки и приятны для слуха, но довольно трудны для произношения, так что иностранцам не удается правильно произносить некоторые из них. У японцев существует азбука из сорока восьми основных знаков, а при помощи специального знака озвончения, присоединяемого к основным, можно передать звонкость согласных. Азбука была создана, как полагают, примерно в VIII веке нашей эры и имеет четыре разновидности: 1) катакана, которая считается наиболее подходящей письменностью для мужчин; 2) киракана (или хирагана), которой чаще всего пользуются женщины;[337] 3) манъёгана[338], состоящая из полных китайских иероглифов с добавлением элементов катаканы и кираканы; 4) яматокана, в которой используются усеченные варианты китайских иероглифов. Японцы уже довольно давно овладели искусством книгопечатания и издают довольно много книг, что служит процветанию очень тонкой и лиричной японской литературы, однако в типографском деле они еще не могут соперничать с европейцами. Японским печатникам неизвестны матрицы, и они размножают страницы рукописей при помощи весьма примитивных и несовершенных деревянных клише, так что вся эта техника, напоминающая скорее гравировку по дереву, еще очень далека от того, что мы понимаем под словом «полиграфия». Однако книги в Японии все же выходят, и в немалом количестве. (Конечно, не надо забывать, что все вышесказанное относится к периоду, когда господин Гюмбер путешествовал по Японии. Однако после того как революция открыла для европейцев ворота Страны восходящего солнца, цивилизация, я имею в виду европейскую цивилизацию, очень широко и глубоко проникла в жизнь японцев, так что теперь там давным-давно используют матрицы, которые столь верно служат делу распространения плодов человеческой мысли среди людей.) Господин Гюмбер отмечал, что отношение ко времени в Японии довольно странное. В году у японцев обычно двенадцать лунных месяцев, но вот дней по японскому календарю не 365, а несколько больше, потому что астрономы микадо прибавляют к некоторым месяцам по два дня. К счастью, когда-то давным-давно кому-то пришла в голову счастливая идея фиксировать такие прибавления в ежегодных альманахах, но все равно разобраться в японской хронологии очень трудно. Как мы уже говорили, наступление нового года в Японии отмечают в то время, когда у нас в Европе наступает февраль. Кроме деления на двенадцать лунных месяцев, год делится еще на 24 периода протяженностью по 15 дней, в которые солнце находится в первом и пятнадцатом градусе каждого знака зодиака. Точно так же как месяцы революционного французского календаря носили различные поэтические названия, данные им Фабром д’Эглантином[339], японские месяцы в своих названиях содержат описания чувств и ощущений[340]. Так, например, первый месяц года называется дружеским[341], потому что празднества в честь Нового года порождают в душах людей нежность и благожелательность. Второй месяц называется «месяцем смены одежд»[342], потому что становится тепло и японцы прячут до следующей зимы теплую одежду. Третий месяц именуется «месяцем раскрывающихся почек»[343], потому что природа просыпается от зимнего сна. Четвертый месяц — «месяц цветения»[344], потому что именно тогда расцветают фруктовые деревья и цветет особенно любимая японцами вишня (сакура). Пятый месяц — «месяц пересадки»[345], потому что в течение этого месяца крестьяне пересаживают рис. Шестой месяц называется сухим[346], потому что обычно в Японии в это время совсем не бывает дождей. Седьмой месяц именуют «месяцем посланий»[347], потому что по традиции принято в это время писать на больших листах бумаги стихотворения, посвященные звездам, и подвешивать их на высоких шестах. Восьмой месяц — «месяц листьев»[348], так как наступает осень и опавшая листва покрывает землю. Девятый месяц называют длинным, потому что ночи в это время становятся все длиннее и темнее[349]. Десятый месяц называют «месяцем без богов»[350], потому что японцы считают, что все божества в этот период покидают свои храмы, чтобы совершить путешествие в дальние страны. Одиннадцатый месяц именуют «месяцем инея»[351], а двенадцатый — просто завершающим месяцем года[352]. С делением дня на часы все обстоит еще сложнее… День у японцев делится на 12 часов, причем 6 из них принадлежат ночи, а 6 — дню. Но вот подсчет этих часов далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Так как японцы почитают 9 священным совершенным числом, то у них полночь и полдень именуются, соответственно, 9 часами дня и 9 часами ночи, восход солнца — 6 часами дня, а заход — 6 часами ночи. Вы, вероятно, спрашиваете в полном недоумении, как могут 9 и 6 по два раза вмещаться в двенадцать. По правилам арифметики это совершенно невозможно, но японцы легко справляются с арифметикой, так как опускают при подсчете часов единицу, а также десятку, одиннадцать и двенадцать. Короче говоря, чего только не сделаешь из-за глубочайшего почтения к цифре 9! Однако теперь, когда в Японию нахлынули толпы европейцев, когда в стране произошли удивительные глубочайшие перемены, старые традиции постепенно отмирают и все эти сведения уже можно считать устаревшими. И я с ужасом думаю о том, что будет с древним искусством росписи по лаку, что будет со старинными тончайшими фарфоровыми чашечками, с самурайскими мечами, чайными домиками и старинными японскими обычаями. Боюсь, потребуется меньше полувека, чтобы до основания изменить жизнь этого жизнестойкого народа с богатой многовековой историей.
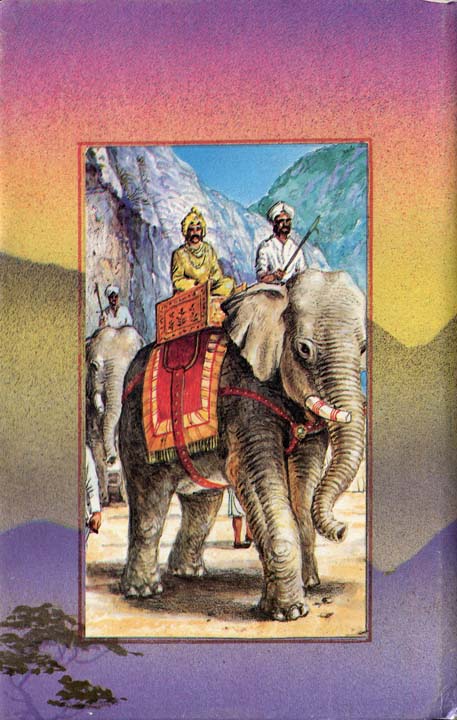
Луи Буссенар ПОДВИГИ САНИТАРКИ Путешествия и приключения мадемуазель Фрикет
Часть первая
ГЛАВА 1
Парижанка и японец. — В бою. — Перевязка раненых. — Ампутация под огнем. — Медицина и журналистика. — Война в Корее. — От Сент-Антуанского предместья до Дальнего Востока. — Среди зарослей бамбука. — В одиночестве! — Королевский тигр…— …Итак, не забывайте об осторожности. — А я, сударь, не из трусливых. — Мадемуазель, в вашей храбрости никто не сомневается. Если я говорю: будьте благоразумны, то это оттого, что здесь превеликое множество опасностей. — Ну и что? С ними радуешься жизни во сто крат сильнее. — Да, возможно, спорить не буду. Однако я не стал бы взывать к вашему благоразумию, если б угроза исходила только от града пуль да снарядов. — Здесь и вправду адский грохот. — И к тому же в бамбуковых зарослях стерегут свою добычу тигры, а в густой траве спят змеи, свернувшись в клубок. — Крепко же они спят! — Вы все смеетесь, мадемуазель Фрикет. — Конечно, смеюсь, господин Мито. Ведь мы, французы, шутим над чем угодно. — Да и мы, японцы, тоже. На всем Востоке нет никого веселее нас. — Прекрасно, ну и что? — А то, что в жизни бывают такие минуты, когда надо быть серьезной. — Вот уж никогда не поверю! — Какая несносная девчонка! По крайней мере, вы же знаете, что китайцы от нас на расстоянии выстрела. — Знаю! Что дальше? — Они опасней ядовитых змей и кровожадных тигров. — Ерунда, китайцы не страшнее тех, что нарисованы на их вазах. Ну прямо фарфоровые болванчики! Ваши славные солдаты бьют их почем зря! Совсем как во время ярмарочных состязаний на Тронной площади. Доктор невольно улыбнулся: — И мне довелось на это поглядеть, ведь я когда-то был практикантом в Сент-Антуанской больнице. — Так вы знаете Сент-Антуанское предместье?[1] Мои родные места… Правда, премилая и забавная деревенька? — Вы просто неисправимы, мадемуазель Фрикет. — Ну, конечно, господин доктор. Совершенно неисправима! Очень любопытна! И к тому же легко увлекаюсь! Страшно интересно быть в самой гуще сражения. — Неужели? — Честное слово, я вижу, что не зря сюда приехала. Раздался оглушительный взрыв, и разговор прервался. В нескольких шагах от доктора и француженки с ужасным грохотом разорвался снаряд, их заволокло дымом, осыпало землей и обломками. На мгновение все смешалось, послышались крики, лошадиный храп и стук копыт. Двое солдат упало, а одна из запряженных в повозку лошадей забилась в агонии — из груди несчастного животного полились потоки крови. Не обращая внимания на свистевшие вокруг пули, доктор и Фрикет бросились на помощь раненым. Помощники-санитары, храбрые и исполнительные, уже несли лекарства, повязки, хирургические инструменты. У одного из пострадавших была задета рука. Доктор Мито, невысокий человек с узкими глазами и седыми усиками, быстро осмотрел раненого, ощупал рану и негромко сказал: — Контузия и простой перелом… Управимся быстро. Другому солдату раздробило осколком снаряда правую ногу, из сапога вываливалось жуткое месиво, в котором, пульсируя, били и пузырились длинные струйки крови. Юная француженка с необыкновенным хладнокровием и проворством сделала то, что в таких случаях необходимо: крепко затянула артерию у самого бедра. Мадемуазель Фрикет очень молода, красива, изящна и отважна; среднего роста, с прекрасными руками, стройными ногами. У нее поразительно живое лицо, яркие лукавые глаза. Прибавьте к этому обаяние здоровой натуры в замечательном сочетании с решительным видом. На девушке легкий темно-синий костюм из тонкого драпа с короткой юбкой, высокие ботинки, голову украшает надетая чуть набок тирольская шляпа[2] с сине-черным перышком сойки[3]. Этот скромный, но кажущийся на ней великолепным наряд, довершают красная сафьяновая[4] сумка военного врача на левом боку и белая с красным крестом повязка на рукаве. Трудно предположить, что мадемуазель Фрикет — врач: слишком уж молода, скорее похожа на сестру милосердия. Ее выговор и остроумные замечания выдают в ней парижанку из Сент-Антуанского предместья.
Какими же судьбами это юное создание оказалось 15 сентября 1894 года в Фуонг Санге, самом сердце Кореи[5], на стороне японской армии, которая сражается против китайской? Да, чего только не бывает в жизни. …Итак, доктор устремился на помощь Фрикет и раненому. Их обступили люди. Осмотрев изувеченную ногу, Мито коротко бросил: — Ампутацию, срочно! Не упадете в обморок, мадемуазель? — Нет, сударь, — решительно ответила Фрикет. — Тогда приступим к делу! По знаку доктора санитары взяли раненого так, чтобы он не мог пошевелиться, Фрикет продолжала сжимать артерию. Быстрым взмахом ножа японец сделал надрез выше страшной раны, по живому телу. И сразу же в ход пошла пила, захрустела кость, в кровавой пелене мелькнула узкая полоска стали… Вот и все! Отрезанная нога упала на землю. Совсем как в номере фокусника. — Теперь зашиваем артерию, — удивительно спокойно сказал Мито. Вся операция, проведенная под вражеским огнем, заняла ровно четыре минуты. Фрикет смогла наконец разжать застывшие от напряжения руки. Но — о, ужас! — из раны тут же снова забила кровь. — Наверное, задеты боковые сосуды у малой бедренной артерии, — заметила девушка, как бы разговаривая сама с собой. — Совершенно верно! — изумился хирург. — Мадемуазель, в анатомии вы разбираетесь. — О, совсем чуть-чуть. — Я так рад, деточка, что командующий армией прислал нам именно вас. Вижу, вы сумеете помочь раненым. — Буду стараться изо всех сил. И не столько из сострадания, сколько из благодарности к японцам за их необычайное гостеприимство. — Мадемуазель, простите меня за то, что раньше я в вас сомневался. — Но почему же, сударь? — Конечно, я знал о вашей храбрости, однако думал, что для вас главное — информация… что вы просто репортер… или репортерша… — Можно и так и так… или же и то и другое, доктор, я, конечно, репортер… или репортерша, работаю на две газеты. Жить-то ведь как-то надо, а родители не столь богаты, чтобы поддерживать мою пагубную страсть к путешествиям! Дальние страны, невероятные приключения! Отправиться в путь по воле собственной фантазии, ехать куда угодно, побывать везде, видеть мир… всю Землю… Что может быть лучше! — Вы расскажете мне о себе? — С удовольствием, но после боя… — Ну, конечно. Так, беседуя, доктор и Фрикет закончили перевязку, а затем наложили шину на сломанную руку второму раненому. Бой не стихал, и они продолжали выполнять свою нелегкую миссию. Передышки были слишком короткими, ведь врачи шли вместе с наступавшей армией и подвергались не меньшей опасности, чем бойцы на передовой. Итак, борьба не на жизнь, а на смерть возобновилась с удвоенной силой. Азиаты вообще с презрением относятся к смерти, и обе армии сражались, не пользуясь укрытиями: люди падали как подкошенные под пулями пехоты. Все же японцы, вооруженные и организованные по-европейски, имели явное преимущество. Их войска двигались вперед, ряд за рядом, темными линиями, используя неровности рельефа, останавливались и открывали огонь, а затем стремительно отходили под защиту зарослей бамбука, кустов и высокой травы. Воздух сотрясали громовые раскаты пушек Круппа[6], беспрестанно щелкали выстрелы из ружей Мюрата. В то же время войсковые части Лу-лу, или Зеленого знамени, — своего рода армейская элита, оказывали японцам яростное сопротивление. Вооруженные многозарядными винтовками, новейшей артиллерией, правда маломаневренной, — ведь китайцы не умеют запрягать лошадей, они, под командованием авантюристов из разных стран, отступали очень организованно, медленно, как бы нехотя, пусть даже неся огромные потери. До самого горизонта глазам открывалась одна и та же трагическая картина: повсюду земля покрыта лежащими вперемешку неподвижными телами. Артиллерия, конница, пехота — люди, солдаты, лошади и повозки, проходя по следам этой страшной бойни, давили и топтали всех без разбора — врагов и друзей, мертвых и еще живых.
Фрикет не могла больше ждать и отправилась вперед с пятью санитарами, один из которых нес походную аптечку. Потрясенная до глубины души, француженка видела беспредельную жестокость того бедствия, которое зовется войной. Порой, задумавшись, она вытаскивала из сумки книжечку с карандашом и что-то быстро записывала, но, едва заслышав стоны раненого, бросала это занятие и спешила на помощь. Вскоре ей стали попадаться убитые и раненые из армии противника. Все как на подбор высокие, одетые по-азиатски. Они совсем не походили на маленьких японских солдат с европейскими ружьями и мундирами. На голове у китайцев красовалось некое подобие черного тюрбана[7], за спиной болталась длинная коса. Полотняный мешок, завязанный на груди крест-накрест, служил ранцем. Костюм их состоял также из блузы и брюк, заправленных в короткие сапоги с плоской, как у тапочек, подошвой. Одного из этих солдат Фрикет увидела неподалеку: он лежал на земле, с распоротым осколком животом, над выпавшими наружу внутренностями вился рой отвратительных мух. Несчастный был еще жив! Непостижимым образом ему удалось раскрыть мешок и достать все, что нужно курильщику опиума: трубку с микроскопической медной головкой, флакон с наркотиком, иглы для приготовления шариков, огниво. В последний раз он выкурил трубку, распространяя вокруг дурманящий аромат; теперь, убаюканный грезами, он погрузился в сон, который избавил его от предсмертных мук! Фрикет без устали шла вперед, преодолевая ужас и отвращение при виде человеческого месива. Вместе с санитарами она в первую очередь разыскивала раненых, оказавшихся далеко от остальных. Быстро наложить повязку, поднести стакан воды, ободрить ласковым словом, понятным каждому благодаря ласковой улыбке. Санитары клали раненого на носилки и несли к доктору. Так продолжалось много часов. Японцы наступали беспрерывно, китайцы теряли свои позиции одну за другой. Японцы предприняли обходной маневр слева, чтобы подойти поближе к Чонг-Хуангу, узловому пункту сражения. Между тем Фрикет ничего не замечала, она даже не поняла, что осталась отрезанной от своих войск. Пушечные выстрелы уже не гремели, а доносились издалека, почти совсем не было слышно ружей. Внезапно девушка увидала, что рядом никого нет, даже санитаров, которые, должно быть, подобрали последних раненых и вернулись вместе с повозками. Она попыталась определить, где находится, пошла в сторону орудийной канонады и заблудилась. Фрикет очутилась в таком густом лесу, что невозможно было по солнцу взять правильное направление. Тогда она пошла вперед, надеясь выбраться из проклятой чащи. Но стало еще хуже: она попала в совершенно непроходимые бамбуковые заросли. Девушка почувствовала смутный страх, и ей вспомнилось, но, увы, слишком поздно, о чем предупреждал доктор Мито. Все же она не потеряла присутствия духа и не впала в уныние, а бодро проговорила: — Нет ни надписи, ни номера дома, ни постового, у которого можно было бы спросить, как пройти, даже просто деревца, которое указало бы обратную дорогу! Фрикет в изнеможении уселась на траву и впервые за этот день ощутила невыносимую усталость, хотелось есть, мучила жажда. Сняв шляпу, она вытерла лоб и все тем же неунывающим голосом добавила: — Ну и что же, хотелось тебе приключений, вот и получай! Сама виновата, что здесь оказалась, значит, не о чем жалеть и нечего бояться. Пришло время действовать по плану, как твой герой из «Приключений парижского мальчишки», знаменитый и неподражаемый персонаж по имени Фрике, первый, кто носил это имя. План был прост, но осуществить его было трудно. Время шло, уже темнело, а с наступлением ночи леса Дальнего Востока наполняются неведомыми страшными тайнами. Девушка посмотрела вокруг, и, несмотряна всю ее храбрость, ей стало жутко — она осталась совсем одна. Фрикет опять заговорила сама с собой: — По правде говоря, одно дело — сидеть у камина и читать о чьих-то приключениях и совсем другое — участвовать в них самой. Да, неплохо все начинается! Юная француженка уже собиралась продолжить свой монолог, как вдруг сзади, совсем близко, послышалось прерывистое хриплое дыхание и треск сухих веток. — Кто здесь? — в тревоге крикнула Фрикет. Она обернулась и замерла от ужаса: перед ней стоял королевский тигр и пристально смотрел на нее своими желтыми глазами.
ГЛАВА 2
Опасная встреча. — Тигр укрощен?.. — Неудача! — Совсем как в «Красной шапочке». — Неужели конец? — Меткий выстрел. — Тревога. — Вторжение желтокожих. — Приговоренная к смерти.Дикие животные крайне редко нападают на людей. Завидев человека, они, как правило, поспешно удаляются, словно его присутствие внушает ужас даже самым бесстрашным и свирепым. Спасаются бегством слоны, носороги, бегемоты, тигры, пантеры и даже львы… Рассказывая о многих неудачных засадах в ночном лесу, охотники сходятся в том, что хищника труднее всего не подстрелить, а обнаружить и подойти к нему. Однако, к великому сожалению, встречаются и исключения из этого правила, обусловленные внешней средой, переменчивостью настроения и поведения животного. Сытый зверь не так опасен, как голодный. Впервые увидев человека, он испытывает страх. Все же при встрече с тигром обстоятельства могут складываться по-разному: ведь он превосходит остальных своей кровожадностью и ему нравится убивать ради собственного удовольствия. Как бы то ни было, встреча Фрикет и тигра началась вполне мирно. Девушка, видевшая хищников только в зоопарке или в цирке, остолбенела от ужаса. Тот, кто ей повстречался, был, разумеется, очень удивлен. Он замер, разглядывая необычное существо, странным образом не походившее на корейских женщин, которые были ему гораздо более понятны и знакомы. Его замешательство объяснялось еще и тем, что он слышал крики и выстрелы, видел солдат и лошадей, ощущал изнурительную борьбу пятидесятитысячного войска. Итак, тигр повел себя весьма миролюбиво, и Фрикет успела несколько успокоиться. Она осмелилась поднять глаза, сочла, что зверь хорош собой, и захотела ему об этом сказать. Понимая, что им восхищаются, тигр вильнул хвостом и замурлыкал, как огромная кошка… или, скорее, как ворчит переполненный паром котел. Эта сцена вызвала в памяти Фрикет давно забытое детское воспоминание: яркая лубочная картинка с изображением Красной Шапочки и Волка. Пытаясь сохранить спокойствие, девушка уговаривала себя, что не все хищники уж такие кровожадные: этот вполне мог быть из породы добродушных. Прошло всего несколько секунд, но они показались ей вечностью. Между тем тигр начал проявлять нетерпение. Его кошачьи усы, длинные и твердые как проволока, поднялись дыбом. Когти судорожно царапали мох, из оскаленной пасти показались страшные острые клыки. «Положение мое определенно ухудшается. Господи, что же будет?» — подумала Фрикет, начиная замечать враждебность зверя. Ее затрясло, в ушах загудело, глаза застлала пелена, ноги подкосились, казалось, что француженка сейчас лишится чувств. Но нет, она была не из тех барышень, которые падают в обморок по любому поводу. Собравшись с силами и призвав на помощь всю свою волю, Фрикет взглянула тигру прямо в глаза и, не отводя взор, замерла. Взгляд ее поразил хищника, как резкий удар хлыста, и тигр с озадаченным видом попятился. Девушка, храбрость которой граничила с безрассудством, сделала шаг вперед, все так же пронзительно глядя на противника. Тот заворчал, словно протестуя против гипнотического воздействия, которое мало-помалу овладевало им. Так прошло полминуты. Фрикет измучилась и обессилела, одежда ее стала мокрой от пота. Тигр, словно придавленный магнетической силой человеческого взгляда, все ниже и ниже припадал к земле. В своей упорной борьбе они не издавали ни звука. Может быть, Фрикет удастся одержать победу над хищником, укротить его свирепый нрав? Однако этой едва возникшей надежде не суждено было сбыться. Увы, бедная девушка переоценила свои силы. Зловещее мерцание тигриных зрачков становилось невыносимым… В какой-то миг ее веки дрогнули, глаза опустились, и сила гипноза разрушилась… Фрикет испугалась, пронзительно вскрикнула и бросилась бежать. Что до тигра, то он продемонстрировал свое знаменитое громовое рычание, от которого кровь стынет в жилах. Грациозным движением кошки, играющей с мышью, он опустил лапу на плечо своей жертвы. Конечно, он мог убить ее одним ударом и разорвать на мелкие кусочки, раздробив кости. Но он поступил иначе: всего-навсего проткнул когтями ее кожаную сумку и потянул на себя, отчего Фрикет не смогла устоять на ногах. Падая, она закричала и потеряла сознание. Впрочем, что же ей еще оставалось делать?
Можно было предположить, что мадемуазель Фрикет уже никогда не придет в себя и что ее приключения столь печально закончатся в самом начале. Между тем случилось иначе. Пробыв без сознания неизвестно сколько времени, она пришла в себя. Вокруг было очень темно, однако девушка почти сразу поняла всю сложность и необычность своего положения. Нет, ей не было больно, только иногда она чувствовала, как голова и ноги поочередно задевали за какие-то растения, видимо, стебли бамбука. Неужели она могла идти, сама того не зная? Разумеется, нет: ее несли довольно осторожно, но не слишком оберегая голову и ноги. Тигр держал Фрикет в зубах, ухватив ее за пояс. Он, вероятно, направлялся в свое логово, то ли чтобы спокойно поесть самому, то ли чтобы угостить тигрицу и тигрят невиданным блюдом из француженки, которая выглядела лучше самой аппетитной газели. Как истинный гурман, он заботился о том, чтобы изысканная дичь не попортилась, и собирался насладиться ею, пока она свежа и хороша. Фрикет сразу осознала безвыходность своего положения, решив, что поведение тигра следует истолковать именно так. Зверь нес девушку осторожно, не причиняя ей вреда, легко, как огромный кот, который не замечает тяжести крохотной мышки… И сколько же времени это будет продолжаться? Неизвестно. В конце концов, хищник дойдет до своей цели. И тогда… Бедняжка пришла в ужас при мысли о том, что ее ожидало. Все же ее энергия и воля противились бесплодным размышлениям. Не теряя попусту времени, Фрикет решила вырваться из тигриных зубов, пусть даже ценой смертельного риска. Избегая резких движений, потихоньку, чтобы не привлекать внимания зверя, не раздражать его, девушка стала открывать свою сумку. Несмотря на то что Фрикет находилась в чрезвычайно неудобной позе, ей все же удалось осуществить задуманное. На душе у нее стало веселее, она облегченно вздохнула, затем просунула руку в сумочку и вытащила оттуда изящный револьвер с перламутровой рукояткой и никелированным дулом, настоящее произведение искусства, более похожее на игрушку, чем на орудие смерти. Француженка почувствовала себя гораздо увереннее с револьвером: «Ну что ж, Фрикет, действуй смелее!» Да, смелости у нее было побольше, чем у иных мужчин: кто еще смог бы в подобной ситуации сохранить такое поразительное хладнокровие и надеяться выйти победителем из неравной борьбы со свирепым хищником? Итак, в правой руке Фрикет держала револьвер, а левой старалась отыскать в густой шерсти тигра то место, где должно было находиться сердце. Наконец пальцы ее почувствовали равномерные удары. Она прошептала: «Так вот какой у тигра пульс! Быстро же бьется его сердце!» Приставив револьвер к тому месту, где биение ощущалось сильнее всего, она нажала на курок. Раздался выстрел, эхом отозвавшийся в бамбуковом лесу, короткая вспышка на мгновение осветила темноту. Фрикет предусмотрела все, вплоть до того, что раненый зверь может сильнее сжать челюсти. Это означало бы для нее верную гибель. Нет, она не собиралась допускать подобного конца… Стреляя, отважная девушка упиралась спиной в тигриную голову, а левой рукой изо всех сил отталкивала ее от себя. Таким образом, еще прежде чем выстрел достиг цели, она выскользнула из страшных зубов и упала на землю. Все произошло с молниеносной быстротой. Тигр оглушительно зарычал и двинулся вперед, готовясь совершить прыжок, которого, однако, он так и не сделал. Смертельно раненный зверь вскинул вверх передние лапы, как на геральдических изображениях[8], ударил ими по воздуху и тяжело рухнул на спину. Фрикет тотчас вскочила, крича от восторга, упиваясь своей победой и обретенной свободой. Увы, радость ее была недолгой. Словно в ответ на выстрел из револьвера, рев умирающего хищника и крики девушки из ночной тишины вдруг послышался невообразимый шум. Громкие восклицания, грубые голоса, топот ног, треск веток, беспорядочные выстрелы, свист пуль — по правде говоря, от всего этого можно было сойти с ума. В густой листве замелькали факелы, вскоре окружившие то место, где ни жива ни мертва стояла мадемуазель Фрикет. Она сразу догадалась, что перед ней китайцы: достаточно было поглядеть на их темную одежду, раскосые глаза, приплюснутые носы, злые губы и реденькие жесткие усики. Девушка с ужасом смотрела на серые лица, искаженные гневом и страхом. Вне себя от злобы из-за недавнего поражения, боясь ночной атаки, они сбежались на разбудивший их выстрел, схватили бедную девушку, решив, что она шпионка… Напрасно Фрикет пыталась разубедить своих врагов, указывая на тело тигра, еще подрагивающее в предсмертной агонии. Китайцы не верили ей, были глухи и слепы… Поскольку французского языка никто из них не понимал, мысль о том, что перед ними японская шпионка, целиком завладела умами желтолицых. Ее грубо связали веревками, и Фрикет вновь вспомнила все, о чем предупреждал мудрый доктор Мито: «Китайцы коварнее змеи, кровожаднее тигра». Второй раз за эту ночь она почувствовала, что ей страшно, очень страшно. Да, судьба преподносила нашей героине слишком много неожиданных сюрпризов и опасных приключений. Китайцы несли девушку, приподняв ее над землей, быстрые ноги мчали их куда-то с необыкновенным проворством. Было совсем темно, только один факел освещал странную процессию, весьма похожую на похоронную. Время от времени в ночи раздавались выстрелы. Несмотря на затруднительность своего положения в настоящем и полную неясность его в будущем, Фрикет, призвав на помощь всю твердость и решительность, постепенно успокоилась. «Ничего — думала она, — не съедят же меня эти макаки[9]. Мы должны куда-нибудь прийти, и тогда я попробую освободиться. В приключениях главное — уметь выпутаться из трудного положения». В конце концов процессия вышла на большую поляну, где горело много костров, около которых сидели и стояли отвратительного вида вооруженные до зубов солдаты. На их плоских, словно пропитанных желчью лицах, в их косых взглядах читалась бешеная злоба из-за проигранного сражения. Гордость их была унижена, и они нетерпеливо ждали кровавой расправы, жертвами которой уже стали раненые японцы, захваченные в плен при отступлении. Человек двадцать этих несчастных были изувечены с изощренной жестокостью, поразительной даже для китайцев, которые считаются весьма изобретательными мастерами пыток. Одним отрезали пальцы рук и ног, другим выкололи глаза и набили окровавленные глазницы раскаленным пеплом, все узники лишились ушей, которые их мучители подвесили в ряд на веревке, у многих был отрезан нос или язык. Как только кто-нибудь умирал, ему отсекали голову и насаживали ее на копье, которое вкапывали в землю. Фрикет повсюду видела кровь, изуродованные людские останки, свидетельствовавшие о неслыханных зверствах. Забыв о том, что неосторожные слова могут ей навредить, вне себя от ужаса и возмущения, девушка воскликнула: — О, проклятые!.. Нет, вы не люди и не солдаты! Тотчас же подошел офицер и обратился к ней на правильном французском языке: — Вы что, француженка? — Да. — Вот и прекрасно. В Тонкине я командовал людьми, не знающими жалости, я ненавижу вашу нацию. Так вы были с японцами? — Конечно! И помогала всем без различий, и вашим раненым в том числе. — Понятно, чтобы лучше пошпионить на японцев. — Это ложь! — Что ж, вы умрете мучительной смертью, к которой мы приговариваем шпионов.
ГЛАВА 3
Что ее окружало в Париже. — Жертва любви к чтению. — Страстное увлечение… — Почему она стала Фрикет. — Мечты о путешествиях. — Примерная ученица. — Бакалавр-доктор. — Профессор и журналист. — Прощание. — Отъезд. — Долгий путь. — В Японии.Сент-Антуанское предместье, дом номер… А стоит ли уточнять? Нет, мы не назовем адрес, чтобы героям нашей правдивой истории не докучали назойливые толпы любопытных. Уютная и скромная, блистающая чистотой квартира, в которой живут и работают люди не без достатка. Две спальни, столовая и кухонька. Мебель из дуба, простая, без излишеств, куплена по случаю. Это несмотря на то, что отец семьи — столяр-краснодеревщик, а может, именно поэтому. Ведь недаром говорится «сапожник без сапог». И все же в квартире имелась вещь, которая указывала на ремесло главы семейства, — огромный книжный шкаф из черного дерева, стоящий в столовой, чудо готического искусства[10]. На полках в симметричном порядке выстроились книги — множество томов, читанных и перечитанных по нескольку раз, но сохранивших свои прекрасные переплеты. Отец чаще всего обращался к философским и политическим трактатам, он упорно занимался, интересовался науками. Сборники народных песен, томики Виктора Гюго[11], мало-помалу составившие полное собрание сочинений, потом «Революция 1870–1871 годов» Жюля Клареси[12], произведения Камилла Фламмариона[13] и Луи Фигье[14], полная подборка «Иллюстрированной науки» — одним словом, хорошая литература, которая свидетельствовала о серьезности и стремлении к знаниям ее обладателя. На отдельных полках, можно сказать на почетном месте, стояли выпуски «Журнала путешествий», в элегантных переплетах, начиная с первого тома, вышедшего в 1877 году, и кончая томом, датированным 1893 годом. И наконец, «Кругосветное путешествие юного парижанина», «Приключения парижанина в Океании», «Приключения парижанина в стране львов», — эти три подарочных издания, вышедших в издательстве «Фламмарион», а также бесчисленные рассказы о путешествиях в замечательном оформлении «Иллюстрированной библиотеки». Очевидно, что в подборе книг сказалось пристрастие одного из членов семьи к далеким путешествиям, экзотическим странам и приключениям. Читатель, наверное, уже вообразил себе отчаянного сорванца, парижского мальчишку, увлеченного странствиями Дон Кихота[15], мечтающего пересечь сушу и море и стать великим ученым или завоевателем… На самом же деле наш любитель путешествий принадлежал к слабому полу — это была очаровательная девочка. Однако обо всем по порядку. Кирпичный домик с крышей из толя выходил во двор, там же находилась мастерская, где со своими двумя помощниками увлеченно работал Леон Робер, краснодеревщик и коренной парижанин. Как настоящий патриот, унаследовавший свое чувство от отца и деда, он любил Париж, был убежденным домоседом и никогда не выезжал дальше парка Сен-Мор, Вилье сюр Марн или Рэнси. Его жена тоже никуда не ездила, ее мир ограничивался с запада площадью Бастилии, а с востока — станцией Эст-Сентюр. Все еще молодая и красивая, быстрая и аккуратная, она прекрасно управлялась с домашними делами — мыла, стирала, убирала, готовила, обшивала — и обожала своих близких. Во-первых — мужа и отца детей, кормильца семьи, крепкого и здорового мужчину сорока двух лет. Во-вторых — старшего сына, Жана, который служил в торговле и имел уже семью. В-третьих, по старшинству, — дочку Марию и, наконец, дочку Амелию, которая в шестилетнем возрасте вместо домашнего имени Лили взяла себе другое — Фрикет. Почему — это целая история. Вот, в двух словах, как это произошло. Как-то раз старший брат с торжествующим видом принес из школы толстую книгу. В награду за хорошую учебу он получил «Кругосветное путешествие юного парижанина». Лили тогда едва умела читать — не забудьте: ей было всего шесть лет. Она любила смотреть картинки в «Журнале путешествий», а на текст не обращала никакого внимания. Но когда брат завел обыкновение читать вслух всей семье после ужина, в голове у девочки произошло полное смятение. Приключения главного героя по имени Фрике произвели на нее необыкновенное впечатление, она не могла думать ни о чем другом. Днем Лили с увлечением рассказывала о них школьным подружкам, по ночам не переставала видеть их во сне, вечером не могла дождаться окончания ужина. Скорей-скорей малышка доедала свою порцию и бежала за книжкой. Она протягивала ее брату и трогательно просила: — Почитай нам про Фрике! И слушала открыв рот, дрожа, переживая, плача и смеясь. И еще: Лили, раньше не отличавшаяся прилежанием, стала много заниматься. Ей захотелось научиться читать, причем очень хорошо, чтобы наслаждаться любимой книгой. Она забросила кукол, стала равнодушной к сладостям и принялась откладывать деньги! Каждую неделю ей требовалось три су, которые она относила продавщице газет со словами: — Пожалуйста, мадам, дайте мне «Журнал путешествий». Лили не хотелось ждать, когда эти рассказы попадут в толстые книги. Она мечтала получить их сразу, как только они выйдут из-под типографского пресса, для того чтобы вкусить прелесть новых увлекательных историй. Можно сказать, она научилась читать, писать и думать, погружаясь в эту экзотику. Девочка не переставала мечтать о далеких странах, их красотах, своеобразии и даже опасностях, она часто повторяла: — Эх, была бы я мальчишкой! — Ну и что бы ты сделала? — Все бы делала, как Фрике. Она столько твердила по любому поводу: Фрике да Фрике, что ей дали прозвище «Фрикет». Это милое имя очень подходило и нравилось Лили, она твердо решила про себя, что будет его достойна.
Итак, она взрослела и становилась изящной и красивой. От нее больше уже не слышали: «Была бы я мальчишкой!» Постепенно в хорошенькой головке юной девушки созрел смелый план, о котором она до поры до времени молчала, не поверяя его никому. Все свои силы Фрикет отдавала учебе, так что близкие даже начинали опасаться за ее здоровье. Глядя на бледное похудевшее личико дочери, темные круги под глазами, отец принимался за уговоры: — Фрикет, нельзя столько заниматься… Так можно заболеть! — Нет, папа, — отвечала наша героиня, — ты же знаешь, что работа не вредит здоровью… Доказывать не стоит, посмотри на себя самого! — Но, дочка, зачем тебе губить молодые годы, сидя за книгами? — Потому что я хочу стать бакалавром. — Бакалавром!.. О Боже, девушке… быть ученой… Для чего? — Для того, чтобы стать доктором. — Доктором медицины? — Да, папа, медицины. — Ну что же… это неплохо, честное слово, ты способна добиться чего захочешь. В глубине души Леон Робер радовался, что дочь стремится к столь почетной профессии, которая, конечно, не сулит легкой жизни, иногда требует самопожертвования, но зато приносит огромное моральное удовлетворение, так как по самой своей сути призвана делать людям добро.
Мы уже упоминали, что Фрикет училась, чтобы получить, как принято говорить, классическое образование. В Париже много учебных заведений, и люди одаренные и трудолюбивые даже с небольшими денежными средствами могут приобрести свободные профессии, которые в других местах были бы им недоступны. Да, жизнь в Париже имеет свои преимущества, и Фрикет сумела ими воспользоваться: она поступила в лицей[16] Виктора Гюго, где учителя не могли нахвалиться на нее. Разумеется, она легко получила степень бакалавра: вначале — историко-филологический диплом, а три месяца спустя и естественнонаучный. Затем она записалась на медицинский факультет. Не меньше, чем сама Фрикет, радовался ее отец, славный мастер гордился успехами дочери. Ах, если бы он знал, для чего на самом деле ей нужны были и упорные занятия в знаменитом лицее на улице Севинье, и степень бакалавра, и факультет! Все это было призвано удовлетворить необыкновенную страсть девушки к путешествиям. Она справедливо рассуждала следующим образом: когда горишь желанием объехать свет, ни в коем случае нельзя мелочиться. Если денег у тебя почти нет, а есть только стремление отправиться в путешествие, необходимо найти презренному металлу достойную замену, нечто очень весомое, солидное. Мужчина может отправиться в научную поездку, в этом случае ему помогает министерство. Его могут послать с торговой миссией, подобно Альфреду Маршу и маркизу де Компьень[17], принесшими немалую пользу. Наконец, он может наняться матросом, кочегаром, помощником кочегара, как знаменитый Фрике. Главное — пуститься в путь. Куда угодно. А там уж, добравшись до цели, обязательно придумаешь, что делать дальше. Но вот беда: что хорошо для взрослого мужчины, совсем не годится молоденькой девушке. Фрикет сказала себе: «Когда у меня будет столичный диплом, ученое звание плюс солидный багаж, никакие соображения, моральные или материальные, не смогут помешать моим планам. Став врачом, я смогу ездить повсюду, и никто не примет меня за искательницу приключений. Все мое будет со мной и принесет мне уважение и почет. Как замечательно лечить и заботиться о больных и вместе с тем путешествовать, видеть мир, чудеса дальних стран! Итак, я буду ждать подходящего случая». Это было разумно, и счастливый случай не замедлил представиться, да к тому же гораздо раньше, чем даже могла предположить мадемуазель Фрикет. Она выделялась среди других благодаря своим способностям и прилежанию, и на нее обратил внимание один из профессоров. Видя его участие, Фрикет поведала ему свои мысли и надежды. Тот, почувствовав удивительную решимость девушки, настоящее призвание, обещал ей помочь и сдержал слово. Он был близко знаком с директором одной крупной парижской газеты. Тогда уже шли разговоры о том, что война между Китаем и Японией неизбежна и что в места грядущих сражений необходимо будет направлять корреспондентов. По этому поводу профессору пришлось выдержать ожесточенный спор со своим знакомым журналистом. — Это как раз то, что вам нужно, — утверждал профессор. — Она удивительная, смелая и энергичная, этих качеств у нее побольше, чем у многих мужчин… К тому же моя протеже образованна и в высшей степени нравственна… — Девушку! Послать военным корреспондентом! Да вы просто смеетесь! — Напротив, я совершенно серьезен. Каких людей вы хотите получить? Обладающих наблюдательностью, умеющих видеть и писать об увиденном. Что касается рассуждений о тактике и стратегии… они вам очень нужны? — Да нет, не очень. — Тогда мадемуазель Фрикет подойдет вам больше других. Ее корреспонденции для вашей газеты будут просто заметками репортера. Платить ей можно меньше, чем штатному сотруднику… Узнав о возможности сэкономить деньги, директор, как всякий деловой человек, отнесся к словам профессора более внимательно: — А что, собственно говоря, представляет собой эта ваша Фрикет? Ученый рассказал о подопечной все, что ему было известно, о возникшем у нее с детства стремлении к путешествиям, о ее многочисленных достоинствах. В результате собеседник поддался на его уговоры и согласился. — Но как же мы аккредитуем ее при японском Генеральном штабе? Повторяю, что статуса военного корреспондента ей не дадут ни за что! Нас подымут на смех! — Мы можем взять ее в полевой госпиталь. — Это другое дело. Медицинское образование, конечно, пригодится: у меня есть среди японцев знакомые врачи, мои бывшие ученики, я дам рекомендацию, и они с удовольствием примут мадемуазель. — Вот и отлично, договорились! Так Фрикет, осуществив свою заветную мечту, отправилась на Дальний Восток. Конечно, отъезд был для нее делом нелегким. Предстояло убедить родителей, которые сразу сказали «нет». Но их дочь трудностей не боялась и сдаваться не собиралась, ведь цель была совсем близко! Она приводила разные доводы, просила, умоляла, проявляла столько чуткости и внимания, что в конце концов получила их согласие. Впрочем, отец с матерью сами понимали, что дочка зачахнет от тоски, если они воспротивятся ее мечтам и планам. Сборы были скорыми. Несмотря на юный возраст, Фрикет знала, что если придется ехать долго, то багажа должно быть мало. Она взяла только два небольших легких чемодана с минимумом необходимых вещей. Через неделю все приготовления были закончены. О расходах на поездку Фрикет могла не беспокоиться: редакция обеспечила ей циркулярное письмо от одного солидного финансового учреждения: Лионская[18] железная дорога дала бесплатный проезд до Марселя[19], а компания по морским перевозкам — билет на теплоход «Эрнест Симонс». Все это позволяло девушке без особых затрат добраться до Иокогамы[20]. Расставание с родными было грустным. Всегда грустно расставаться, особенно когда любишь своих дорогих папу и маму, милого брата Жана и сестричку Мари. Но в сердце Фрикет была и другая любовь — посильнее кровных уз, она звала ее в дальнюю дорогу. Девушке хотелось смеяться и плакать одновременно, она чувствовала себя и счастливой и несчастной: у нее едва хватило сил проговорить на прощание несколько ласковых слов, чтобы близкие не расстраивались так сильно… Они в последний раз поцеловались и обнялись… А теперь — вперед! Грохоча колесами, поезд тронулся с места, Фрикет помахала провожавшим рукой из окошка… Пожелаем же ей, как говорят моряки, счастливого плавания. Выехав утром девятичасовым экспрессом, девушка оказалась в Марселе в десять часов вечера. Два дня отдыха в отеле Каннбьер — и вот она уже на борту великолепного теплохода. Было 23 июня 1894 года. Порт-Саид[21], Суэц, Аден, Бомбей, Коломбо, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шанхай, Кобэ[22], Иокогама… Теплоход делал остановки во всех этих местах, и их столь хорошо знакомые Фрикет экзотические названия наполняли ее сердце радостью и восторгом. Она не помнила себя от счастья: мечта ее осуществилась, она увидит далекие страны, непохожих на нее людей… Двадцать второго июля теплоход прибыл в Иокогаму. После тридцати семи дней, проведенных в плавании, девушка не ощущала усталости, напротив, своей живостью и энергией она напоминала парижского сорванца, юного Фрике, от которого ей досталось прозвище. О дальнейшем нетрудно догадаться. Во французской дипломатической миссии Фрикет приняли прекрасно: сыграла свою роль рекомендация влиятельной газеты, которая дала ей официальную аккредитацию. Военные врачи также встретили парижанку очень радушно, тем более что об этом просил их бывший учитель. По приказу Главного штаба ее незамедлительно направили в полевой госпиталь. Три недели спустя, отплыв из Хиросимы[23], армейский корпус, в составе которого была Фрикет, высадился в Фусане[24], крупном корейском порту, где концентрировались основные силы. О том, что война началась для нашей героини слишком бурно, мы уже знаем.
ГЛАВА 4
Психология китайцев. — Еще один пленник. — Привязанность ребенка. — Часовой. — Хитрость Фрикет. — Побег. — Тревога!.. — Погоня. — Игра случая! — Среди волн.Китайцы очень опасны: они мстительны, лживы, коварны и полны свирепой злобы… В бою не особенно сильны: когда силы равны, победить их нетрудно. Они внушают страх неслыханной жестокостью, которую проявляют к побежденному противнику. Им неведомы милосердие, сострадание, заставляющие оказывать помощь раненым, уважать жизнь и достоинство пленных. После боя они хладнокровно добивают раненых, отрубают головы убитым и подвергают бесчеловечным пыткам пленных, муки которых нам, жителям Запада, невозможно даже себе вообразить. Бесчувственность палачей не знает границ, ничто их не трогает, не волнует, как будто в жилах у них течет не кровь, а желчь, которая отравляет все органы, убивает великодушие, доброту и придает их лицам выражение желтушных больных. Итак, в плену у китайцев Фрикет угрожала смертельная опасность. Сначала с ней обошлись так, как поступают со всяким пленным. Эти господа, называющие себя Поднебесными воинами, обыскали ее с быстротой и ловкостью профессиональных фокусников. В карманах ничего предосудительного не нашлось, но в сумочке, к несчастью, они обнаружили записную книжку с заметками, которые она делала еще в Хиросиме, рассчитывая использовать их для своих корреспонденций. Бывший предводитель пиратов неплохо говорил и читал по-французски. Он сразу же вытащил из книжки все листочки, решив, что имеет дело с секретными военными бумагами, и мерзким скрипучим голосом, сохраняя важный вид, прогнусавил: — Вы шпионили, вас заслали сюда наши враги. Фрикет с возмущением запротестовала: — Шпионка, я? Да как вы смеете?! Я ненавижу войну, которая заставляет людей убивать друг друга. Мне жаль всех тех, которые оказываются жертвами этой борьбы, и мне не важно, желтые они, белые или черные. Сделав паузу, она торжественно объявила: — Я — женщина, и моя миссия — утешать и ободрять тех, кто испытывает страдания. В ответ китаец ухмыльнулся: — Вы — француженка и, значит, наш враг! Вы умрете! Фрикет снова запротестовала, однако предводитель бесцеремонно повернулся к ней спиной и что-то приказал солдатам. Двое стоявших рядом китайцев грубо схватили ее, потащили в хижину и швырнули на пол. У двери поставили часового, а в углу воткнули в стену горящий факел. Девушка, к счастью, не ушиблась: она упала на груду кукурузной соломы, которая лежала на полу. Раздался чей-то жалобный крик. Голос был человеческий, кричали не то от страха, не то от боли: среди засохших листьев пряталось какое-то существо. Факел чадил нещадно, но, вглядевшись, Фрикет заметила сжавшегося в комочек мальчика, такого несчастного и заброшенного, что у нее защемило сердце. Страшно худой, с тощими плечиками, цыплячьей грудкой, с торчащими, так что можно было пересчитать, ребрами. Ребенок казался умирающим. Вся его одежда состояла из грязной тряпки, обернутой вокруг бедер. Девушка поднесла связанные руки к лицу малыша, ласково погладила его по щеке и нежно провела пальцами по морщинистой, как у больной обезьянки, щечке. — Бедное дитя! — прошептала она, забыв о собственных несчастьях при виде страданий ребенка. Тот смотрел на нее недоверчивым взглядом дикаря, застигнутого врасплох. Ее изящные руки по-прежнему касались шершавой неровной кожи. Мальчик, по-видимому, немного успокоился, выражение его раскосых глаз смягчилось, в них показались слезы. Он жалобно скривил рог и незаметно для себя прижался губами к руке, которая была к нему так добра. Фрикет ласково улыбнулась, чем окончательно завоевала сердце бедняги. Свои чувства он выразил незамедлительно, однако смысл слов, которые он пробормотал, девушка не поняла. — О Боже! — воскликнула пленница. — Как можно быть таким уродливым и в то же время таким славным! Он же просто чудо! Звук ее голоса, мелодичный и нежный, еще больше расположил к ней маленького пленника, он широко улыбнулся, отчего вдруг сразу стал похож на всех своих сородичей. Мальчик кое-что придумал: он догадался, что может зубами развязать веревки, которыми связали пленницу. Веревки были прочными, зато и зубы у него были острыми, как у волчонка. Не прошло и пяти минут, как малец перегрыз все путы, охватывавшие руки девушки, отчего та даже повеселела. «Малыш совсем не глуп, — думала она. — Да, кажется, мне повезло». Китайцы, уверенные в том, что пленнице ни за что не убежать, не стали забирать у нее сумку с инструментами. Фрикет тотчас же вытащила скальпель[25], разрезала веревки, освободив себе ноги, а затем помогла своему юному спасителю. Очень хотелось размять затекшие руки и ноги, подвигаться, но девушка, несмотря на неопытность, знала, что шуметь нельзя. Следовало соблюдать осторожность. Маленький пленник перебрался из своего убежища поближе к девушке. Он явно гордился тем, что ему удалось совершить. Не отрывая от Фрикет восторженного взгляда, ребенок стал шепотом что-то очень быстро объяснять, показывая пальцем на дверь. — Да… да… понятно, ты хочешь убежать. И я тоже! Постепенно все в лагере затихло. Китайцы, измученные долгим походом и тяжелым сражением, попадали, как загнанные лошади, и уснули. Слышались только громкие окрики часовых и изредка торопливые шаги патрульных, проверявших расставленные посты. — Конечно, бежать, — повторила Фрикет, — терять уже нечего. Завтра эти мерзавцы меня расстреляют. Она невольно содрогнулась, представив себе, как ее поставят около дерева, а в грудь ей нацелятся дула карабинов. Девушка встала с подстилки и начала потихоньку передвигаться к распахнутой настежь двери хижины. Но тут же услышала чье-то сонное ворчание: это был часовой. «Ой, я совсем про него забыла, — подумала Фрикет. — Что же делать? Надо, чтобы он ничего не заметил». Солдат, уставший за день не меньше других, буквально засыпал стоя. Ловкий и гибкий как угорь мальчуган бесшумно проскользнул к двери и стал вглядываться в лицо часового. Тот клевал носом и, казалось, уже спал, опираясь на ружье. Малыш вернулся обратно и, подойдя к француженке, принялся закрывать глаза и махать рукой в сторону часового, а чтобы не оставалось никаких сомнений, далее чуть-чуть похрапел. — И это тоже понятно, — сказала Фрикет. — В любой стране это значит: он спит. Ну что же, надо действовать, следуя традициям приключенческих романов, в которых пленники при удобном случае обязательно совершают побег. Девушка, в свою очередь, направилась к двери, стала подкрадываться к часовому, но тот, словно настоящий караульный, только дремал, постоянно просыпаясь. Китаец приподнял голову и опять издал такое же ворчание. Фрикет юркнула обратно, как мышка в норку, и сердито проговорила: — Вот противный! Но не убивать же его, в самом деле! Убить человека я не смогла бы даже ради собственного спасения! Господи, мне бы пройти и не разбудить его! Мальчик смотрел на нее, как будто ждал сигнала к действию. Вдруг он вскочил на ноги, полез по столбу и столкнул вниз факел, который, падая, погас. В хижине стало совсем темно. — Удачная мысль, хотя светлой ее, пожалуй, не назовешь. И у меня тоже появилась идея, — продолжала Фрикет. — Раз солдат не засыпает, я попробую дать ему снотворного. Сумка была рядом, искать в ней пришлось недолго. Вскоре девушка на ощупь обнаружила хорошо знакомый флакон, лежавший на обычном месте. Она отвинтила пробку, понюхала и подтвердила: — То, что надо. Без колебаний, с удивительным хладнокровием она выбралась наружу и подошла к часовому. Тот ничего не видел, дверной проем был в темноте. Фрикет, крадучись, вытянув вперед руку, продвигалась все дальше. Сердце ее громко стучало. Несмотря на поразительную храбрость девушки, рука дрожала, пальцы судорожно сжимали открытый флакон. Опасность была велика, и следовало обладать необыкновенной силой духа, чтобы вот так смотреть ей в лицо. Восемнадцатилетняя девушка оказалась ночью во вражеском лагере, в плену у людей, не знающих жалости, ей вынесен смертный приговор, и на рассвете ее должны казнить. В таком положении испугался бы даже самый смелый. При малейшем неверном движении часовой мог заметить ее или обнаружить побег, закричать, позвать других солдат и даже убить ее на месте, выполняя приказ. Перед лицом смертельной опасности почти у всех сдают нервы, и лишь немногие могут, как Фрикет, найти в себе мужество для столь рискованного шага. Из флакончика шел особый сладковатый запах, незабываемый для тех, кто вдыхал его хотя бы один раз: запах хлороформа[26]. Фрикет носила его в своей походной сумке и давала тем несчастным, которые не могли вытерпеть страшные боли от ран и перевязок. Она поднесла флакончик к плосконосой физиономии дремлющего китайца. Как человек сильно уставший после трудного дня, тот дышал ровно и глубоко. Запах хлороформа не потревожил его, и он сделал несколько еще более глубоких вдохов, чем весьма обрадовал Фрикет. Она подошла поближе и смело приставила флакончик прямо к носу. Ей стало весело, и девушка подумала: «Надо дать ему хорошую дозу!» Пленница твердо решила не опускать руки, пока китаец не заснет как убитый. Впрочем, это случилось очень быстро. Мощный храп спящего часового мог бы заглушить завывание кузнечных мехов. Он все больше оседал на землю и вскоре окончательно свернулся в клубок и замер. Тогда Фрикет закрыла флакон, осторожно положила его обратно в сумку и воскликнула: — Вот так музыка! Ну и нос! Как в трубу дудит! Вернувшись в хижину, девушка обнаружила, что мальчуган поднялся с подстилки и, несмотря на видимую слабость, полон решимости идти вместе с ней. Она протянула руку, и ребенок, схватившись за нее своей маленькой обезьяньей лапкой, заковылял следом. Ночь была темной, но все же в небе светилось несколько звездочек, на которые время от времени набегала дымка. Благодаря этому Фрикет смогла сориентироваться и направиться к югу, где должна была находиться японская армия. Они медленно и осторожно пробирались через огромное скопление врагов, которые устроились прямо на земле, вповалку, словно охваченные летаргическим сном. Весьма странно, но факт остается фактом: в ночь после боя лучше других охраняет себя войско, одержавшее победу. Оно проявляет максимальную бдительность. Есть наблюдательные посты, часовые выставлены, и при малейшем сигнале тревоги все готовы действовать. У побежденных, напротив, охрана из рук вон плоха. Беспокойство и страх не пробуждают инстинкта самосохранения, а уничтожают его. Прибавьте к этому и подавляющую волю усталость. Сон после проигранной битвы невозможно побороть, люди засыпают где угодно — в воде, в снегу, в грязи! Итак, воспользовавшись полной анархией, царившей в китайском лагере, Фрикет и ее спутник отважно двигались вперед. Сердца их тревожно бились, ведь риск был так велик! Девушка уже начала надеяться на благополучный исход, но, к несчастью, они вскоре наткнулись на группу солдат, которые варили на костре рисовую похлебку. Хотя огонь горел еле-еле, те заметили и узнали обоих пленников. Кто-то вскочил, раздались крики. Фрикет еще крепче сжала ручку ребенка и пустилась бежать. Китайцы бросились к стоявшим поодаль ружьям и мгновенно зарядили их. Беглецы стремительно удалялись. Затрещали выстрелы, ночная темнота осветилась красноватыми вспышками. Пули летели со всех сторон, они ударялись о стволы деревьев, ломали ветки, сбивали листья. Маленький спутник француженки быстро терял силы, он уже не мог бежать. Девушка почти тащила его, спотыкаясь о корни, цепляясь за кусты. Бросить его казалось ей невозможным, она стремилась спасти мальчика и не думала о грозящей опасности. Выстрелы и крики множились. Поднятые по тревоге китайцы устремились в погоню. У Фрикет ни на секунду не появлялось мысли убежать одной, оставив малыша, хотя он ее задерживал. Она остановилась и, видя, что ребенок теряет сознание, подхватила его на руки и понесла. Страх и боль за несчастного придавали ей сил. Крики и выстрелы приближались. Каким-то чудом ни одна пуля не задела беглецов. Перед ними открылась поляна, они оказались на самом ее краю. Нужно было проскочить это пространство очень быстро, а там, дальше, метрах в ста, виднелись темные густые заросли. Но вдруг девушка поняла, что это широкая река: идти дальше было нельзя! — Лучше умереть, чем опять попасть в плен! — крикнула она вне себя от гнева. Француженка крепко прижала к себе мальчика и бросилась в черные волны.
ГЛАВА 5
В здоровом теле здоровый дух. — Пришлось немного поплавать. — Спасение. — Одни. — Фрикет. — Ли и Лилли. — Фрикет счастлива, что мечта ее сбылась. — Гастрономические пристрастия. — Ли завтракает, а Фрикет остается голодной. — Маленький крокодил всмятку.Французская система воспитания, разумеется, весьма далека от совершенства. Тем не менее реформы значительно улучшили прежнюю систему, в которой было много несуразностей. Современные педагоги уже не стремятся, как раньше, набивать до отказа знаниями головы своих учеников. Если раньше они заботились исключительно о развитии ума, забывая об укреплении тела, то теперь поняли необходимость так называемого физического развития. Игры на свежем воздухе, бег, ходьба, фехтование, плавание, гимнастика — все направлено на укрепление и оздоровление молодого организма, являясь условием гармонии тела и разума. В здоровом теле здоровый дух. В общем, воспитатели захотели, чтобы оболочкой для прекрасной и отважной души служило здоровое и сильное тело. Добились ли они этого? Наши потомки узнают об этом через несколько поколений. И все же даже сейчас мы иногда видим превосходные результаты. Это касается молодых девушек, которые, не теряя природной грации, свойственной их полу и возрасту, весьма успешно занимаются спортом. Одной из них и была мадемуазель Фрикет: ей подобные занятия в лицее на улице Севинье очень пригодились и пошли на пользу. Благодаря им она, во-первых, убежала от китайцев, а во-вторых, бросилась в темную реку, воды которой плескались в ночи. Надо было обладать необыкновенной смелостью, чтобы совершить такой прыжок с восьмилетним ребенком на руках. Но, как мы уже знаем, девушка отличалась необычайно решительным характером. Иначе она не звалась бы Фрикет. Вначале наша героиня камнем пошла на дно, успев все же отметить: «Да здесь глубоко». Вода была холодной, мальчик судорожно хватался за Фрикет, не давая ей шевельнуться. Все же ей удалось вынырнуть на поверхность: она изо всех сил пыталась удержаться на воде, но тут их заметили китайцы, которые сразу же открыли стрельбу. Пули летели со всех сторон, и Фрикет со страхом слышала, как они шлепаются в волны. Мальчикснова отчаянно уцепился за нее, и они опять скрылись под водой буквально за секунду до того, как их накрыл очередной смертоносный залп. Солдаты решили, что беглецы погибли, и вернулись к приготовлению риса. Фрикет прекрасно плавала и даже в этих тяжелых условиях не потеряла самообладания. Девушка схватила малыша за голову, зажала под мышкой и, освободив себе таким образом правую руку, поплыла. Мальчик забился, хлебнул раз-другой воды, закашлялся и затих; казалось, он едва дышал. Это вполне устраивало Фрикет, которая продвигалась вперед по-мужски, сильными размашистыми движениями, несмотря на тяжесть намокшей одежды и маленького корейца. Вот что значит быть одной из первых по физкультуре! Усталость все же дала о себе знать, дыхание ее стало прерывистым, а это очень плохо для пловца. «Как много времени прошло, — подумала беглянка, чувствуя, что теряет силы. — Ну же, Фрикет, приободрись немного! Неужели ты хочешь здесь оставить свое бренное тело… Что скажут об этом в Сент-Антуанском предместье?» Она задыхалась, ей не хватало воздуха, ребенок тянул ее ко дну, как свинцовый груз. Девушка глотнула воды… и начала тонуть. Потом все же вынырнула, секунд двадцать продержалась кое-как и захлебнулась еще раз… — Третий раз может стать последним! — решила она, выплевывая отвратительную, пахнущую тиной воду. Девушка опять начала погружаться, как вдруг ее нога коснулась твердого, из мелких камешков, дна. Затем наша героиня увидела перед собой, совсем близко, какую-то темную линию… Это был берег. Надежда придала ей сил, а смелости у нее и не убавлялось. Девушка с большим трудом сделала несколько шагов: у нее дрожали колени. Чтобы не упасть, она ухватилась за прибрежную траву и выбралась из воды. Фрикет, измученная и промокшая, упала на землю, все еще прижимая к себе ребенка, который не подавал признаков жизни. Минут пять она лежала без движения, затем очнулась, как от кошмарного сна, и почувствовала, что ее пробирает озноб. Маленький кореец, выносливый как большинство азиатов, постепенно приходил в себя. Видя, что малыш оживает, Фрикет воскликнула: — Отделался легким испугом… просто замечательно! Однако как холодно! Так недолго и насморк подхватить. — Апчхи! апчхи! — оглушительно чихнул мальчуган. — Так я и знала! И она прибавила: — Чуть не забыла сказать, мой любезный, что мы, видимо, вне опасности. Тот ответил длинной и, естественно, непонятной фразой. Едва передвигая свои слабые ножки, ребенок подошел и стал дергать ее за мокрую юбку, как бы говоря: «Пошли отсюда скорее!» — Конечно, но только… куда? Ты же местный, показывай дорогу. Девушка рассмеялась, но не слишком весело, напрасно она призывала на помощь все свое мужество. Ее по-прежнему пробирала дрожь, зубы стучали от холода, а мальчик не переставая тянул ее куда-то. — Ну, хорошо, пойдем… по крайней мере, не будет так холодно. И они отправились куда глаза глядят, спотыкаясь на каждом шагу, натыкаясь на сухие ветки и корни, обходя ямы и рытвины. Им удивительно повезло: они ни разу не встретили никого из своих врагов. Китайский отряд, вероятно, остался на той стороне реки, чтобы обеспечить отступление своей армии. Между тем вскоре к страданиям беглецов от холода и усталости добавились еще и муки голода. Маленький кореец уже давно ничего не ел, и ему становилось все хуже и хуже. Фрикет тоже чувствовала себя неважно, так как перед сражением только чуть-чуть перекусила, и с тех пор у нее во рту не было ни крошки. Так они долго бродили, валясь с ног от изнеможения, но не решаясь даже присесть из опасения, что недостанет сил подняться. Наконец стало светать. Фрикет, думавшая, что пройден немалый путь, с изумлением обнаружила, что они все время сворачивали в одну сторону и в результате сделали полукруг. Река по-прежнему была рядом, метрах в пятистах. Несмотря на серьезность положения, девушка звонко рассмеялась: — Совсем как в моих любимых книжках, в которых я впервые прочитала о необыкновенных приключениях и далеких странах. Когда ночью или в тумане путешественники сбиваются с дороги, они двигаются, отклоняясь от прямого пути в левую сторону. Да, наверное, я слишком хорошо это помнила! Глядя на Фрикет, развеселился и мальчик, и его жалкое сморщенное личико сразу преобразилось от радости. Девушка еще раз подивилась его безобразию, но это не могло уменьшить ее привязанности к малышу: ведь столько пришлось пережить вместе! Поднималось солнце, заливая золотистым светом верхушки деревьев, и тут француженку словно осенило. — Слушай, а как тебя зовут? Ребенок не понял, он попытался повторить за ней незнакомые слова, выговаривая их по-китайски. — Нет, нет, мы с тобой не на уроке французского! — Фалансуского, — невозмутимо твердил малыш. — С ума сойти можно! Ей никак не удавалось объяснить, пришлось действовать иначе: настойчиво показывать на себя пальцем и повторять: — Фрикет… Она проделала так несколько раз, чтобы ясно показать, что это ее имя. Мальчик заулыбался и повторил: — Фалликет! — Да нет же, совсем не Фалликет! Фрикет! Фрикет! — Фалликет! — Перестань, прямо наказание какое-то! Хватит коверкать мое имя, я не могу это слушать! Оказывается, здесь, в Китае, очень странно произносят «р». Она снова принялась объяснять с помощью жестов. Наконец мальчик сообразил, о чем идет речь. Он потыкал себя в живот грязным пальчиком с таким видом, как будто хотел сказать: — Это я! Фрикет кивнула головой в знак согласия, и малыш ответил: — Ли! — Значит, тебя зовут Ли! Жаль, что ты раньше мне не сказал. Я назвала бы свое настоящее имя — Лили, и мне не пришлось бы слушать, как ты коверкаешь мое прозвище. Мальчик, радостно улыбаясь, повторял: — Фалликет! Лили! — До чего хорош, просто удивительно! Мы уже понимаем друг друга, а скоро и разговаривать начнем! Но вот интересно, необыкновенное совпадение: Ли и Лили! Между тем Ли, казалось, придумал нечто замечательное. Под ногами у них был речной песок, который доходил до самой воды. Кое-где на нем виднелись островки, покрытые высокой травой и бамбуком, а вокруг — огромные странные следы перепончатых лап. Фрикет присмотрелась внимательнее: — Похоже на отпечатки какого-то чудовища! Чей же это след? Придется воспользоваться случаем и пополнить мои знания о диких животных. В песке попадались небольшие холмики, напоминавшие горки, которые оставляют кроты. Ли подошел к одному из возвышений, опустился на колени и, быстро-быстро перебирая руками, принялся рыть песок. «Что это он делает? — подумала девушка. — Ли двигается, как картонный заяц, играющий на барабане». Если бы не чувство голода, то можно было бы забыть о прочих злоключениях, которые выпали ей на долю: встреча с тигром, плен, побег. А о том, что она чуть не утонула, напоминала ее мокрая одежда. И все же о плохом думать не хотелось: светило солнце, пели птицы, гудели пчелы, распускались цветы, и Фрикет наслаждалась красотой природы. На душе у нее было радостно еще и потому, что осуществилось то, о чем она когда-то мечтала, сидя дома, в Париже: она попала в сплошной поток приключений, и ее подхватило как щепку. В калейдоскопе событий она не помышляла ни о пище, ни о крове, ни даже о жизни, она чувствовала себя в родной стихии. Многим ее нынешнее положение показалось бы ужасным, тогда как наша героиня представляла себе его иначе: — Боже, до чего же все интересно! В это время Ли выкопал два огромных яйца величиной с два кулака. Он взял одно из них и постучал им по острому камню. Разбив скорлупу, он приложился губами к отверстию, втянул в себя жидкость и, смакуя, выпил ее целиком. — Вот лучший способ потребления сырых яиц, — сказала Фрикет. — Но что-то они не внушают доверия, может, они несвежие? Покончив с первым яйцом, которое явно предназначалось для показа Фрикет, Ли взялся за второе, разбил его точно так же и протянул девушке, приглашая последовать собственному примеру. Она не удержалась и понюхала и тотчас же выпустила яйцо из рук: в нос ударил тяжелый запах сероводорода. — Там зрелый зародыш! Он сейчас вылупится! Фу, какой ужас! Скорлупа раскололась, и француженка с отвращением увидела… крошечного крокодильчика, перебирающего лапками… Поняв, что его спутница отказалась от лакомства, Ли схватил зародыш, открыл рот и с очевидным удовольствием проглотил рептилию, словно креветку. Знаете таких больших красных креветок, которых еще прозвали букетами? Ли причмокнул языком и, не сходя с места, приступил к дегустации[27] следующего яйца. Фрикет с восхищением наблюдала за действиями мальчугана и думала: «Да, видимо, жители Востока привыкли к очень необычным деликатесам! Ласточкины гнезда, акульи плавники, личинки бабочек, собачье мясо, тухлые яйца… и так далее. Нет, мне больше нравится наша кухня». Мадемуазель явно упустила из виду, что любой китаец мог бы сказать в качестве встречного аргумента примерно следующее: «А вы разве не едите испорченного молока? Отличие прекрасного белого сыра, свежего и нежного, от рокфора или ливаро[28], издающих удручающие запахи, не больше, чем разница между самым свежим яйцом всмятку и яйцом, насиженным заботливой наседкой. Еще неизвестно, что хуже». На самом деле разговор этот не состоялся, так как в области гастрономии у Фрикет еще были предрассудки, а Ли не знал французского языка и не мог ничего ей возразить. Поданный им пример делал честь его желудку, однако француженка не решилась ему последовать. Итак, она осталась без завтрака, в то время как ее спутник наелся и облизывался, весело потирая живот. Девушка раскрыла записную книжку, и на мокрых страницах появились такие строчки: «Моего нового друга зовут Ли. На завтрак он съел маленького крокодила всмятку, ну а я на голодном пайке. Что с нами будет дальше?» Ей суждено было вскоре это узнать благодаря одному весьма неожиданному происшествию.
ГЛАВА 6
Потомство крокодила. — Фрикет достает свое пенсне[29]. — Есть огонь! — Неудачный завтрак. — Появление чужака. — Сложная ситуация. — Чудовище. — Бегство. — На дереве. — Осада. — Сампан. — Ли оказывается «важной птицей».Река в этом месте делала крутой поворот, и во время наводнений сюда намывало много песка. Насыпь, состоящая из белого и мелкого песка, тянулась до самой воды. Ли наелся как следует, тем не менее его беспокоило то, что его спутница отказалась от предложенного им лакомства. Он догадывался, что Лили-Фалликет была голодна, и раздумывал, как бы достать для нее пищу. Своими черными блестящими глазками он зорко оглядывал окружающую их равнину. Вдруг мальчик запрыгал на месте, крича от радости. С проворством, которое трудно было ожидать от его тщедушного пузатого тельца и тоненьких кривых ножек, он припустился бежать, как будто за ним гнался огонь. Фрикет с интересом следила за действиями маленького корейца и спрашивала себя: «Что же он придумал?» Известно, что крокодилы, как и другие ящерицы, большие и маленькие, откладывают яйца. Воспроизводство данного вида происходит путем несложного процесса инкубации[30]. В период кладки самка роет в песке одну или несколько неглубоких ямок и откладывает туда свои яйца, которых бывает от двадцати пяти до тридцати. Затем она засыпает их песком и предоставляет заботу о будущем потомстве ярким солнечным лучам. Слой нагретых солнцем песчинок действует как образцовый инкубатор, и крокодилята появляются на свет, по наблюдениям одних натуралистов, дней через двадцать, а по утверждению других, — дней через сорок[31]. Наблюдая за действиями Ли, Фрикет вскоре получила ответ на свой вопрос. Изобретательный малыш приглядывался ко всем холмикам, оставленным крокодилами, и прежде всего к тем местам, где яйца, как ему казалось, были отложены уже давно. Найдя то, что он искал, Ли остановился, расставил и чуть согнул ноги, уперся руками в колени и замер в ожидании. Песок шевелился, словно внутри находилось что-то живое. Через несколько мгновений из него появилось существо, похожее на ящерицу с крупной головой, длиной сантиметров пятнадцать. Перебирая лапками и хвостиком, оно побежало к воде. Ли тут же с обезьяньей ловкостью перехватил его, как говорится, на лету, и положил на песок брюшком вверх. Такое положение чрезвычайно неудобно для этих ящерообразных, так как они не могут перевернуться обратно без посторонней помощи. — Господи, да ведь это крошечный крокодил! — воскликнула Фрикет. — Их здесь целый выводок, они сейчас должны вылупиться. И в самом деле, из песка выполз еще один детеныш, который также был моментально схвачен и приведен в беспомощное состояние. Ли весь сиял от гордости, что может продемонстрировать девушке свою ловкость. Та же участь постигла и третьего, и четвертого крокодиленка, и всех последующих. Француженку стало разбирать любопытство: — Неужели ты хочешь, чтобы я ела этих ящериц? Нет, спасибо, даже пробовать не буду, у меня аппетит пропал! Ли казался очень довольным: скопище шевелящихся хвостов и лапок очень радовало его, он смеялся, широко открывая рот, как буддийский идол[32]. Наконец мальчик понял, что завтрак из сырых крокодилят не привлекает девушку. Он направился к зарослям бамбука, набрал сухих веток, принес их, сложил в кучу и поочередно показывая то на ветки, то на маленьких чудовищ, явно пытался объяснить: — Вот мясо, вот дрова: разожги костер, зажарь мясо и поешь! И поскорее, мне грустно смотреть, как ты голодаешь. Фрикет почувствовала, что решимость ее тает, а отвращение слабеет по мере того, как усиливаются чувство голода и любопытство. «Конечно, — думала она, — мало кто пробовал мясо новорожденного крокодила! Этим не мог похвалиться даже мой уважаемый учитель, знаменитый Фрике. Да, но как же разжечь огонь?» Юная парижанка вспомнила, что у нее есть трут: это прекрасное, кровоостанавливающее средство должно было находиться в любой походной аптечке. Но не было ни кремня, ни огнива, ничего, даже увеличительного стекла. «Так хочется что-то придумать, — размышляла она. — Ситуация и правда не простая, тем более интересно выпутаться». Девушка ломала голову, стараясь найти выход. «Как же я могла забыть… Пенсне!» Подобно многим людям, посвятившим себя умственному труду, которые проводят большую часть времени за учебой и чтением, у Фрикет было слабое зрение, и для чтения ей приходилось надевать пенсне. Оно всегда лежало в кармашке ее блузки. Вынув его из чехольчика, девушка подставила его под солнечные лучи, сохраняя при этом стеклышки в сложенном виде, одно под другим. Затем она взяла кусочек трута и, то приближая его к стеклам, то удаляя, стала искать фокусное расстояние. Проводя этот занимательный опыт по физике, она сильно волновалась: от успеха могло зависеть слишком многое. Она не отрываясь следила за светлым кружком, который выделялся огненной точкой на светло-коричневой полоске трута. Постепенно точка нагрелась. Показался дымок, запахло паленым. Затем дым и запах усилились, и трут загорелся. — Победа! — закричала Фрикет, — у меня есть огонь… Победа! Ли, завороженный увиденным, тоже в восторге начал выкрикивать: — Пайбеда!.. Пайбеда!.. Девушка положила трут на ветки и принялась дуть. Огонь сразу разгорелся, и вверх взметнулись веселые язычки пламени. Такой способ получения огня был непривычен для корейца, однако Ли не стал предаваться раздумьям, а схватил с полдюжины крокодилят и без липших церемоний бросил их прямо в костер. Маленькие рептилии отчаянно задергались, их кожа надулась, лапки растопырились, и вскоре они затихли. Все произошло моментально, в воздухе запахло жареным мясом. «Что ж, — решила Фрикет, — наверное, это не так уж плохо. У детенышей косточки еще мягкие… видимо, надо будет снять кожу, как у банана, и проглотить целиком… Ведь даже Фрике пробовал маленьких черепах, приготовленных точно так же, и нашел их такими вкусными, что съел все целиком, вплоть до панцирей. Придется и мне попробовать!» Она осторожно дотронулась кончиками пальцев до одного из крокодильчиков, сморщенного и высохшего, как чучело гиппопотама в витрине зоологического музея. Француженка уже собиралась с честью перенести это испытание и отведать необычную пищу, как в тот же миг Ли закричал от ужаса. Фрикет вскочила, уронила свой завтрак и увидела, как малыш убегает и машет ей рукой, показывая что ей тоже надо спасаться. Она обернулась, чтобы узнать причину его испуга, и тоже громко вскрикнула. В нос ударил отвратительный запах мускуса[33], и совсем рядом, метрах в двух от нее, послышался чей-то рев. Огромный крокодил со злобными глазками и разинутой пастью полз, растопырив лапы, прямо на них, угрожая схватить девушку и ребенка. Ли первым заметил страшное чудовище и пустился бежать, предупреждая об опасности громкими криками. Фрикет почувствовала, что близка к гибели. Крокодил был уже совсем рядом, и у нее не оставалось времени спастись бегством: не успеешь сделать и десяти шагов, как огромные зубы схватят и разорвут на куски. Видя, что его подруге угрожает смертельная опасность, мальчик стал отвлекать крокодила пронзительными воплями, что привело зверя в еще большую ярость. В крокодиле было не меньше шести метров. Он закрывал и открывал свою метровую пасть с металлическим стуком, как будто орудовал огромными ножницами, и яростно бил по воздуху длинным хвостом, покрытым роговой чешуей. Одного его удара было бы достаточно, чтобы уложить наповал крепкого мужчину! Фрикет побледнела, но не растерялась. Протянув руку к горящему костру, она выхватила из него связку бамбуковых стеблей и, соединив их вместе, наподобие факела, сунула прямо в открытую пасть. Челюсти захлопнулись с громким стуком. Раздался жуткий рев, запахло паленым мясом. Обожженный зверь резко отпрянул и, задыхаясь, стал трясти головой и царапать морду когтями, чтобы вытащить наружу горящие прутья. Девушке только того и надо было: у нее появилась надежда на спасение. Избежав благодаря своей находчивости смертельной опасности, она бросилась бежать со всех ног; за ней следом припустился маленький кореец, который теперь весело смеялся. — Как ты можешь смеяться? — сердито проговорила она. — Ну и страна у вас здесь — настоящий зверинец! А между тем крокодил оправился от боли и страха и возобновил преследование. Из пасти и ноздрей чудовища шел пар, напоминавший клубы сигаретного дыма, который выпускает из себя заядлый курильщик. Ли решительно устремился к реке. Фрикет сомневалась в правильности его действий, впрочем, как оказалось, совершенно напрасно. Девушка боялась, что крокодил загонит их в воду, отрезав пути к отступлению. Вскоре так и получилось. Однако Ли не растерялся. На берегу было много высоких деревьев, нижние ветки которых росли всего в метре от земли. Спасаясь от коварного страшилища, Ли ухватился за одну из таких ветвей и, как обезьяна, вскарабкался вверх. Фрикет последовала его примеру и очутилась рядом с мальчиком на толстом суку. Теперь, когда крокодил уже не мог их настигнуть, девушка развеселилась и принялась подшучивать: — Вот так влипли! Сидим здесь прямо как в зоопарке, посреди медвежьей площадки. Мишка-мишка, влезь на дерево!.. Только медведи — это мы, а дикие звери — на свободе. Крокодил растерянно ползал вокруг дерева. Он в бешенстве бил хвостом, лязгал зубами, то открывая, то закрывая свои бычьи глаза, и, очевидно, находился в отвратительном настроении. Наконец он заметил обоих смельчаков, сидящих на ветке. Видя, что до них не добраться, зверь улегся под деревом, собираясь стеречь беглецов. — Теперь мы в ловушке, — произнесла Фрикет. — Что же теперь будет? Какое мерзкое и упрямое чудовище! А я-то думала, что крокодилы не нападают на человека… Хотя, может быть, мы и не очень похожи на людей… Ли — всего лишь ребенок, а я — слабая женщина. Крокодилы и в самом деле обычно не нападают на людей. Однако в период размножения поведение самки может измениться. В это время она вовсе не удаляется, как думают многие, от своего будущего потомства, а внимательно следит сначала за яйцами, а затем за детенышами, чтобы защитить их от многочисленных врагов. Вот почему, когда одна из таких заботливых мамаш обнаружила, сколь неподобающим образом обошлись с ее выводком, она обрушила на врагов всю свою ярость… Сколько времени им придется просидеть на дереве? Крокодил явно намеревался продолжать осаду, и девушка с ужасом думала о том, как они будут спускаться. Между тем Ли сохранял совершенное спокойствие. Пока его желудок переваривал полдюжины крокодильих яиц, с лица корейца не сходило непроницаемое выражение восточного идола. Так прошло часа два. Фрикет они показались вечностью. Вдруг Ли насторожился и начал прислушиваться к звукам, доносившимся с реки. Его физиономия осветилась радостной улыбкой, он явно открыл что-то очень для себя приятное. На повороте реки появилась одна из тех огромных крытых лодок, которые в Корее называют сампанами. На этих плавучих домиках рождаются, живут и умирают целые семьи, здесь находится также домашняя живность. Ли пронзительно свистнул и затем своим тоненьким фальцетом окликнул гребцов: он вел себя уверенно, как человек, привыкший к тому, что ему повинуются. Матросы послушно повернули к берегу, и лодка вскоре оказалась рядом с деревом, на котором спасались мальчик и девушка. Крокодил забеспокоился, заворчал и опять заметался вокруг ствола. Фрикет спрашивала себя, каким образом они смогут пробраться на так кстати подошедшее судно. Ли сразу подал пример: он залез на ветку, которая висела над водой и касалась крыши сампана. А дальше все было очень просто. Фрикет поступила точно так же, ступив на надежную и прочную крышу в тот момент, когда юный Ли, поддерживаемый самым почтительным образом множеством рук, спускался на лодку. Это было даже не почтение, а нечто большее, скорее поклонение, обожествление. Мужчины и женщины становились перед ним на колени, целовали его руки, ноги… это было так странно… Ли принимал знаки внимания, как будто был идолом всю жизнь, он без конца отдавал приказания, которые выполнялись с необыкновенной быстротой. Они касались Фрикет, его отважной спасительницы. Ей принесли огромное количество провизии. Всех этих продуктов хватило бы на двадцать человек на целую неделю. Девушка, вне себя от изумления, с большим аппетитом набросилась на восточные кушанья, возникшие вдруг по приказу маленького корейца. И хотя рот ее был занят, она произнесла остроумную фразу: — Поздравляю вас, господин Ли. Как видно, вы — большая шишка!
ГЛАВА 7
В пути. — Ли поклоняются, как божеству. — У корейцев две расы. — Местные жители. — Впечатления. — Мандарин с синей пуговицей. — В паланкине. — Самое неудобное средство передвижения. — Фрикет путешествует, сидя в ящике. — Прибытие в Сеул. — Дворец. — Сын короля.У счастливых народов не бывает истории. Так было и с Фрикет, которая считала свою историю законченной, хотя бы на некоторое время. Жизнь ее на корейском судне текла ровно и безмятежно, подобно плывущей по спокойному течению лодке. Девушка была очень наблюдательной, ей хотелось побольше узнать об этих славных людях, которые помогли им с Ли спастись. Все, что находилось на сампане, было так колоритно, интересно, необычно. Люди, животные, обычаи, одежда и пища вызывали у француженки любопытство, так как совершенно не походили на то, что она знала раньше. Ее острый взгляд проникал повсюду, она вынимала книжечку и записывала свои впечатления. Из этих зарисовок, написанных со знанием дела, получились прекрасные статьи, имевшие позже большой успех. Вот некоторые из записей, сделанных во время плавания на сампане: «Ли, ходивший до сих пор в простой набедренной повязке, получил костюм. Это длинная одежда, очень аккуратная и простая, сотканная из белых нитей. Она не делает его красивее, но придает ему более достойный вид. Все вокруг поклоняются Ли. Это для меня загадка, и я все чаще задумываюсь о его происхождении. С нами вместе здесь находятся четверо мужчин, четыре женщины и пятнадцать — двадцать детей, точно не знаю. О мужчинах. Сразу бросается в глаза интересная вещь — их принадлежность к разным расам. Двое имеют во внешности все черты монгольской расы, которая считается у нас столь непривлекательной. Короткий и плоский нос с широкими ноздрями, узкие раскосые глаза, выступающие скулы, большой рот, толстые губы, желтая кожа, светлая и жесткая как метла борода. Одним словом — вылитые китайцы. Двое других мужчин очень похожи на европейцев и лицом, и цветом кожи. У них длинная густая борода, светлая кожа, прямой нос, форма глаз близка к нашей. Наверное, здесь существуют две разные расы коренных жителей. Теперь о женщинах. Кореянок нельзя назвать красивыми. Робкие, туповатые лица, на которых лежит печать усталости и забот. Все находящиеся здесь женщины относятся к чисто китайскому типу; различия, столь очевидные у мужчин, у них совершенно незаметны, хотя тоже, видимо, должны существовать. Хорошо путешествовать по реке, когда волнения и тревоги позади. Огорчает только то, что сампан, как настоящий ковчег[34], переполнен до предела. Из-за тесноты животные иногда ведут себя чересчур бесцеремонно. Корейцы обращаются со мной необыкновенно почтительно, каждый старается сделать мне приятное. Это объясняется, по-моему, отнюдь не тем, что я женщина, а моей ученостью и образованием. Они видели, как я без конца что-то пишу, и, кажется, считают меня каким-то высшим существом. Сами они умеют читать и писать, в руках у них я замечаю книги, которые они перелистывают с видимым интересом. Неудивительно, что эти славные люди весьма уважают профессиональных литераторов, к которым принадлежу и я. Обитатели сампана полагают, что у себя на родине я должна быть мандарином или, точнее, мандариншей… Живем мы прекрасно. Каждый день питаемся свежей рыбой и рисом. И рыба, и сваренный на пару рис очень вкусны. Хозяина судна зовут Цент, его имя напоминает звук, производимый при чихании или ударе гонга. У него есть два ручных баклана[35], которые ловят для него рыбу. Днем мы плывем по реке, вечером привязываем сампан к берегу и ночуем, оставаясь на одном месте. Здесь все спокойно и не слышно шума войны. Правда, неизвестно, как долго это продлится. Меня учат корейским словам, но думаю, что у меня неважное произношение, так как все начинают смеяться, едва я пытаюсь что-нибудь сказать. Я тоже не остаюсь в долгу и хохочу от души, когда мои новые друзья повторяют мое имя на китайский лад — Фалликет. Позволю себе еще одно небольшое замечание: у мужчин нет длинной, напоминающей веревку косы, какие носят китайцы. Их волосы собраны на макушке, закручены в пучок и закреплены повязкой из тоненьких бамбуковых нитей. Нельзя сказать, чтобы это было очень красиво. Длинные, болтающиеся за спиной косички, за которые очень хочется подергать, есть только у детей, чем они весьма гордятся. Однако самая экстравагантная[36] деталь корейского костюма — шляпа. Она сплетена из бамбуковых нитей и не защищает ни от солнца, ни от дождя. Сие остроконечное сооружение надевают на пучок из волос и завязывают лентой под подбородком. Вчера у них был какой-то праздник, все надели свои лучшие наряды. Мужчины были в длинных белых одеждах и коротких сапогах на войлочной подошве, с загнутыми вверх носками. Мне показалось, что такие костюмы носят у корейцев люди незнатные. У женщин были красивые яркие платья с маленькими жакетами. Ли, который, несомненно, принадлежит к привилегированной касте[37], появился в роскошном шелковом костюме. Так хорошо одет только он один, что подтверждает мои догадки относительно его происхождения. Теперь о женских прическах. Они весьма оригинальны и изящны: косы закручиваются вокруг головы наподобие чалмы[38] и закрепляются золотыми и серебряными шпильками, которые, поблескивая, придают волосам особую прелесть».
Фрикет была в полном восторге от путешествия по реке. Оно продолжалось около двух недель. Не стоит забывать, что сампан двигался значительно медленнее океанского парохода и даже речного катера. Однако девушке некуда было торопиться, ей хотелось все разглядеть, она не переставала радоваться, что отправилась из родного парижского предместья навстречу опасностям и приключениям. Наконец в одно прекрасное утро сампан пристал к берегу около большой деревни, которая, по словам Цента, называлась Фажу. Здесь предполагалось сделать последнюю остановку. Едва ступив на землю, Цент поспешил к дому самого главного чиновника, который правил здесь от имени верховной власти. Пока они вели переговоры, Фрикет тоже вышла из лодки и направилась к приютившимся на берегу домикам. Увы, ей сразу пришлось пережить сильное разочарование. Издалека хижины, покрытые соломой, выглядели очень живописно. Вблизи же — это были жалкие лачуги, в которых наши крестьяне не стали бы даже держать скотину. Стены из глины, смешанной с соломой, покрытые множеством трещин, куда проникают дождь и ветер, крепились на плохо обтесанных и кое-как вбитых в землю деревьях. Внутри этих домиков царила невообразимая грязь, бок о бок жили в тесноте люди и животные. Фрикет заметила, что многие жители страдали кожными болезнями. Девушка собиралась продолжать свои наблюдения, но тут случилось нечто неожиданное. На главной улице поселка показалась странная процессия, которая торжественным шагом направлялась к сампану. Заинтригованная происходящим, француженка тоже свернула к реке. Первым шел, указывая дорогу, Ценг, за ним шествовала дюжина солдат в стальных касках, с длинными саблями и огромными ружьями, затем появились три паланкина[39], каждый из которых несли два человека, ухватившись за специальные приспособления, напоминающие оглобли в старинных повозках, замыкал процессию офицер с двумя саблями на боку и дорогим нераскрытым зонтиком. Люди остановились, и с передних носилок сошел почтенного вида старик с белой бородой. На нем была богатая шелковая одежда и шляпа с синей пуговицей, указывающая на сан мандарина. Увидев Ли, старик стал на колени и почтительно поцеловал мальчику руку. И снова Фрикет, теряясь в догадках, задалась все тем же вопросом: «Что это значит? Почему маленькому Ли поклоняются, как идолу? Может быть, он — королевский сын?..» Тем временем Ли с важным видом слушал старика, который говорил, не поднимаясь с колен. Затем мандарин жестом приказал носильщикам опустить носилки на землю. Ли что-то сказал, улыбнулся француженке и занял место в паланкине. Мандарин еще раз отдал какие-то распоряжения. Вперед вышли другие носильщики, они стали жестом приглашать девушку последовать за ребенком. Фрикет засомневалась, получится ли у нее, она видела, что верхняя часть носилок представляет собой небольшой ящик. Поместиться там — все равно что залезть в чемодан. Заметив нерешительность Фрикет, старик показал ей, как следует действовать: повернулся спиной к входному отверстию, присел на корточки, скрестил ноги и принял позу портного, произнеся несколько непонятных слов. Теперь девушка знала, как можно забраться в ящик. Едва она приняла столь неудобную для нас и столь любимую на Востоке позу, как почувствовала, что носилки подхватили и понесли с необыкновенной скоростью. Данный способ перемещения, весьма популярный в Корее из-за отсутствия дорог и лошадей, оказывается крайне неприятным для европейца — невозможно ни пошевелиться, ни переменить позу, чтобы согнать надоедливых насекомых, занесенных сюда с сампана, где их великое множество. Эти мерзкие создания отдавали явное предпочтение белой коже, столь же приятной и с виду, и на вкус. Бедняжка не знала, куда деваться. В довершение несчастья беспрестанное раскачивание носилок вызывало у нее дурноту, нечто вроде морской болезни. Так продолжалось много часов! Иногда ощущались более сильные толчки, которые отзывались во всем теле: это уставший носильщик уступал место другому. Заменивший его подхватывал носилки на лету и продолжал бег не останавливаясь. Когда стемнело, пришлось остановиться на ночлег в какой-то деревне. Там мандарин выбрал лучший дом, предварительно удалив из него всех его обитателей. Что касается Ли, с ним по-прежнему обращались как с очень важной персоной, сам же он неизменно старался выказать Фрикет свои дружеские чувства. Девушка часто слышала в разговорах одно и то же слово: Сеул[40]. Она знала, что так называют столицу Кореи, и догадывалась, что кортеж направляется в Сеул. К счастью, расстояние от Фажу до столицы оказалось не слишком большим. На следующий день, часам к двенадцати, они уже стояли перед мощными крепостными стенами, которые на протяжении четырех лье окружают столицу. По широким городским улицам, покрытым рытвинами и отбросами, ходили толпы нарядных людей. Кортеж проследовал через большие Северные ворота, и Фрикет увидела строй солдат, отдающих честь почти по-европейски. Затем послышались пушечные залпы. Продвигаться по улицам было непросто, дорогу все время преграждали любопытные, которых не пугал даже град палочных ударов, обильно сыпавшихся на спины неосторожных. Путь лежал через весь город до Южных ворот, а затем по широкой и грязной дороге — до каменной ограды высотой в десять метров. Внутри этих стен, на участке в три квадратных километра, располагался королевский дворец и служебные постройки. Фрикет, старый мандарин и вся свита прошли через ворота, у которых стояла пышно одетая стража, охранявшая дворец от непрошеных гостей. Наконец кортеж остановился перед дворцом, построенным в китайском стиле. У входа лежали два гранитных льва в позе сфинкса[41]. Выйдя из паланкинов, путники смогли наконец размять застывшие руки и ноги и вдоволь потянуться. Навстречу им вышел королевский распорядитель и без промедления повел их в огромный зал, украшенный с восточным великолепием. Вельможи в роскошных одеждах расступились перед Ли, и мальчик устремился к человеку, одетому в белое, торжественно восседавшему на высоком золоченом троне. Человек этот, вопреки своей восточной невозмутимости, казался очень взволнованным. Он крепко обнял и прижал к себе Ли, который бросился его целовать. Таким образом, догадки Фрикет полностью подтвердились: счастливым отцом был король Кореи, правитель десяти миллионов подданных, а маленький Ли был его законным наследником.
ГЛАВА 8
Тайное общество. — Немного истории. — Тогакуты. — Желтокожие соперники. — Причины китайско-японской войны. — Почему был похищен Ли. — В Сеуле. — Миссионер. — Грязь и нечистоты. — Фрикет хочет уехать.В ходе китайско-японской войны европейцы сделали удивительное открытие: оказалось, что на самом краю Дальнего Востока существует прекрасно организованная сильная армия. Многие поначалу не принимали ее всерьез, думая, что все обойдется без особой борьбы и кровопролития, как часто бывало в восточных странах. — Вот увидите, — говорил один старый генерал, известный своим остроумием, — пошумят-пошумят да и разойдутся! Случилось, однако, совсем по-другому: это была настоящая война, к которой готовились два с половиной десятилетия и которую возглавили замечательные военачальники, сразу отличившиеся искусством тактики и стратегии. Речь идет, разумеется, о японцах. Что же касается китайцев, то на их долю в течение нескольких месяцев, пока велись боевые действия, выпадали одни неудачи. Причиной их слабости была рутина многовековых традиций, которая делала невозможным любое развитие. Вероятно, не стоит подробно описывать военные операции и передвижения сражавшихся армий: нам известно, что по воле случая наша героиня на какое-то время была отстранена от всех событий. Тем не менее было бы интересно проследить не слишком хорошо изученные корни вражды, давшие начало этой войне. Несколько лишних строчек не смогут повредить повествованию, так как мы узнаем, почему оказался в плену маленький Ли, чудесной спасительницей которого стала Фрикет. Итак, причиной войны явился многовековой антагонизм между Китаем и Японией, издавна боровшихся между собой за господство на Востоке. Однако непосредственным толчком к конфликту двух великих держав послужила деятельность одного весьма опасного тайного общества, члены которого яростно сопротивлялись реформам, направленным на изменение существующего порядка вещей. Эти люди называли себя тогакутами[42], они считали каждого иностранца врагом, любую уступку — слабостью, а всякое нововведение — обманом. Их изображают патриотами Кореи, но — странное дело — они хотели не освобождения от иноземцев, а продолжения вассальной зависимости своей родины от Китая, которая сложилась еще в глубокой древности, задолго до нашей эры. На какое-то время, около двух тысяч лет тому назад, корейцам удалось добиться свободы. Однако вскоре они оказались в руках японцев, давным-давно мечтавших об этой территории. Так на Востоке разгорелась длившаяся столетия ожесточенная борьба, результатом которой стала сохравнившаяся вплоть до наших дней зависимость Кореи от Китая. Благодаря деятельности тогакутов страна все время была закрытой для иностранцев: лет тридцать назад о ней почти ничего не знали. Положение изменилось лишь незначительно после высадки экспедиций: французской, под командованием адмирала Роза, — в 1866 году и американской — в 1868 году. Корея неизменно оставалась как бы в изоляции от остального мира. Так продолжалось до 1875 года, когда в страну стали проникать японцы, которым удалось путем хитрой дипломатии усыпить подозрительность тогакутов. Агенты Страны восходящего солнца действовали очень ловко, и им потребовалось менее пяти лет, чтобы сделать то, чего японская армия не смогла сделать за двадцать столетий. Они добились права торговли в портовых городах Фузан, Чемульпо[43] и Женсан[44], куда теперь могли заходить их суда. Для успеха торговли японцам сразу же понадобилось уточнить гидрографические карты побережья, и это же в случае войны позволило бы им заранее разведать наиболее удобные для высадки места. Постепенно они окончательно обосновались в Корее и даже стали оказывать влияние на короля, в войске которого появились японские офицеры-инструкторы. Это был путь к захвату армии, насчитывавшей приблизительно восемь тысяч сильных и мужественных воинов. Описанные события происходили в 1881 году. В 1884 году эти искусные дипломаты подослали своих людей в армию и стали подстрекать ее к мятежу, который имел своей целью освобождение Кореи от китайского господства. В дело вмешался японский министр, он смог уговорить короля, признать Тьен-Цинский договор. Согласно ему Китай брал на себя обязательство не посылать войска на корейскую территорию, не предупредив об этом микадо[45], который в качестве ответного шага имел право послать такое же количество войск. Договор этот был для Кореи подобен обоюдоострому мечу. Король выразил согласие и поставил свою подпись. В Корею отправились три тысячи солдат — половина китайцев, половина японцев — и мятеж моментально прекратился, тем более что удалось добиться самого главного: ворота в Корею были отныне широко распахнуты. Видя, как японцы неторопливо и настойчиво осуществляют вторжение в Корею, тогакуты забеспокоились и решили приступить к активным действиям. Это были люди из привилегированных слоев: крупные чиновники, помещики, аристократы, вельможи. Они содержали своих агентов, очень ловких и преданных. Это мощное, богатое и прекрасно организованное общество постоянно прибегало к крайним средствам, не останавливаясь ни перед чем, будь то поджог, похищение или убийство. Они противились японскому влиянию, предпочитая иметь дело с китайцами, которые благодаря своему консервативному общинно-патриархальному складу и вялости характера, показали себя весьма удобными хозяевами, тогда как японцы с их амбицией нарождающейся нации отличались неблаговидными поступками, к тому же они были склонны считать корейцев низшей расой. Так продолжалось до апреля 1894 года, когда при подстрекательстве тогакутов вспыхнуло восстание в Северной Корее. Непосредственным к нему предлогом послужили злоупотребления чиновников: успех тогакутов, казалось, был предрешен. Представители королевской власти подверглись преследованиям и были смещены. На подавление мятежа свои войска направил Ли Уи[46], однако восстание приобрело такой размах, что силы королевской армии оказались явно недостаточными. Видя всю безнадежность положения, Ли Уи официально обратился за помощью к Китаю. В точном соответствии с Тьен-Цинской конвенцией Китай известил об этом микадо. Оказавшись друг против друга на корейской территории, китайцы и японцы вначале держались вполне дружелюбно. Но мирные отношения продлились недолго, ибо каждая из обеих великих держав хотела играть роль третьего разбойника, которому достанется вся добыча, пока двое других дерутся между собой. Китайцы тайно осуществили высадку двух тысяч солдат в надежде превзойти японцев. А у тех уже стояли наготове пять тысяч, которые, высадившись в Чемульпо, спешно заняли Сеул. В ответ китайцы послали еще солдат. Японский император счел это проявлением враждебности и объявил войну. Началом военных действий явилось торпедирование большого китайского судна «Коусонг» с тысячей двумястами военнослужащими на борту: все они погибли. В течение полутора месяцев шла концентрация войск и случались отдельные стычки, а затем разыгралась та самая большая битва, с которой для Фрикет началась война. Тогакуты всячески содействовали успеху китайцев, своих союзников: они знали, что в случае победы японцев Корея будет уничтожена навсегда. И вот, чтобы помочь Китаю и оказать решающее влияние на короля Ли Уи, лишив его воли, ониорганизовали похищение монаршего сына, маленького Ли. Ребенка выкрали из дворца ночью; охрана, возможно будучи подкуплена, не подняла тревоги. В комнате, где жил мальчик, над циновкой, служившей постелью, был обнаружен кинжал, пригвоздивший к стене квадратную бумажку следующего содержания:
«Король, сын твой у китайцев, он будет их заложником. Его жизнь или смерть зависят от тебя. Призови своих подданных к восстанию, прогони японцев, стань преданным другом Китая, и отпрыск твой останется жив. Иначе — наследника убьют».Китайцы очень жестоко обращались с бедным принцем. Так продолжалось до того дня, когда он удивительным образом встретился с Фрикет. Что было потом, мы уже знаем.
Правитель Кореи и любящий отец восторженно принял спасительницу своего сына и с первой же минуты стал выказывать ей свою благодарность. Несмотря на полудикие обычаи, этот монарх не обладал пресловутой королевской неблагодарностью, он щедро наградил хозяина лодки, доставившего принца домой, а также старого мандарина, который помогал освобождению. Цент получил богатые подарки, большую сумму денег и освобождение от тяжелых налогов, а мандарин — повышение: его включили в круг королевских приближенных и назначили завидное жалованье. К сожалению, ни тому, ни другому не суждено было насладиться королевской милостью. В ярости от неожиданной неудачи тогакуты решили отомстить и покарать прежде всего людей, вызволивших юного принца. Что касается Ли, то его собирались уничтожить при первой же возможности. Жизнь мальчика была в опасности — убийцы действовали изощренно, не зная жалости, сохраняя все в глубокой тайне и находя сторонников во всех слоях общества. Между тем Фрикет, ни о чем не подозревая, радовалась нахлынувшим на нее впечатлениям и живо интересовалась всем, что ее окружало. Она изучала, смотрела, успевала повсюду. И вновь нашей героине удивительно повезло: по счастливой случайности у нее оказался переводчик, который прекрасно владел французским языком по той простой причине, что сам был французом. Он много поездил по Китаю и Японии, досконально изучил Корею, в которой прожил двадцать пять лет. Корея стала для него второй родиной. Буддисты с их всегдашней невозмутимостью не обижали старого миссионера[47] из ордена[48] маристов, о котором, видимо, давно забыло начальство. Он вполне спокойно жил здесь в окружении небольшой группы корейцев, приобщенных им к христианской вере, которые относились к нему с глубоким почтением. Увидев незнакомца в первый раз, Фрикет не могла поверить своим глазам. Казалось, что старик прекрасно чувствовал себя в полном облачении мандарина, этот костюм шел ему необыкновенно. Даже бороду он отпустил себе на китайский манер: это была остроконечная бородка с длинными свисающими вниз усами. Его облик довершала коса от затылка до самых пят и огромные круглые очки в роговой оправе, свидетельствовавшие об образованности их владельца. Фрикет сначала приняла его за китайца. Миссионер улыбнулся и заговорил на правильном французском языке, и сразу сердце нашей путешественницы радостно забилось при звуках родной речи. — Я — старый галл с берегов Луары[49], я — священник, зовут меня отец Шарпантье. Китайцы не могут как следует произнести мое имя и называют меня Салпатье, переиначивая по-своему. — Да, да, господин кюре[50], и со мной то же самое, из Фрикет они сделали Фалликет. Старик и девушка сразу же подружились. Отцу Шарпантье нравилась жизнерадостность Фрикет, ее веселый нрав, и он предложил ей свою помощь в постижении тайн местной цивилизации, которая практически неизвестна европейцам. Француженка стремилась узнать как можно больше, она без устали исследовала все закоулки Сеула и сделала для себя множество интересных и неожиданных наблюдений. Перед ее глазами раскрылись поразительные контрасты. Обратимся вновь к ее путевым заметкам:
«Да, Сеул — город особенный. Можно даже усомниться, город ли это вообще? Впрочем, сомнения тут излишни. Конечно, город, даже если взять за основу население: в нем около двухсот тысяч жителей. Но вот постройки!.. Боже, что за лачуги!.. Убогие глиняные или земляные хижины с соломенными крышами, крошечные, как домики карликов. По высоте в них по большей части нет и трех метров. Когда из такой хижины выходит целое семейство — мужчины, женщины, дети, — можно подумать, что кудахтающие наседки высыпают из тесной клетки курятника. Эти жилища располагаются вкривь и вкось по зловонным улочкам или грязным проходам, в которых громоздятся кучи всяческих отбросов. Трудно даже себе представить! Их так много, что очень часто невозможно пройти! Удивительно, но корейцы чувствуют себя прекрасно и передвигаются как рыбы в воде, а точнее, как жуки по навозу. Не очень-то приятно, когда кто-то толкнет вас на ходу. Относительно широких улиц всего три или четыре, они такие же грязные, по ним протекают ручьи, которые служат сточными канавами, куда сливаются все отходы и всевозможные нечистоты. Подумать только, что в прошлом году мне не нравились некоторые парижские запахи! Сейчас это просто смешно! Обервилье, Пантен, Бонди и Бобиньи[51] — это цветочный аромат, благоухание роз по сравнению со здешними испарениями. Мне казалось, что нюх мой достаточно закалился, ведь сколько запахов я вдыхала во время учебы на медицинском — то в больнице, то в анатомическом павильоне. Но нет! В Сеуле никак не могу привыкнуть, становится дурно. Хорошо отцу Шарпантье — он, видимо, притерпелся и не замечает уличного зловония. В королевских покоях, конечно, дышится легче, воздух немного получше. Дворцов у короля несколько, но и там везде грязно, так что надо продвигаться с осторожностью, чтобы не наступить на какую-нибудь гадость. Нельзя не отметить, что отец моего юного друга не чужд достижений современной цивилизации. С любопытством большого ребенка он забавлялся, играя с телефоном и фонографом[52]. Ему все хотелось посмотреть, что там внутри, но вскоре игрушки сломались, а он так ничего и не понял. Один из дворцов по его приказу был обустроен по-европейски, то есть с электрическим светом, но он горел не дольше елочных свечек; как только туда хлынули чиновники, сановники, стража, фавориты[53], слуги — электричество перестало поступать раз и навсегда. От комфорта, неизвестного в Корее, не осталось и следа, одни только воспоминания, но что еще более печально, случилось это совсем недавно. Нет, не хочу оставаться в такой стране! Уже давно не терпится снова отправиться на войну. Пришли холода. Зима здесь суровая, дует ледяной ветер, чего я никак не ожидала, зная, что мы на одной широте с Неаполем…[54] Жители забиваются в свои лачуги и греются весьма оригинальным способом. В погребе под полом устраивается нечто вроде глиняной печки, которую набивают чем угодно, лишь бы горело, в том числе отбросами и всевозможным мусором. Нет ничего похожего на печную трубу. Дым выходит наружу через боковую трубку, которая выведена на улицу и торчит в метре от земли так, что, проходя мимо, можно споткнуться. Пока стоят холода, все эти трубы дымят до безобразия, и улицы застилает плотная темная пелена, от которой щиплет глаза и горло и становится дурно, а в результате не видишь дороги и все время падаешь. К несчастью, погода становится все хуже и хуже, все сковал лютый холод, и я страдаю, так как не переношу морозов. Утешает лишь то, что замерзли ручьи и лужи, вся грязь затвердела, и стало хорошо, будто дезинфекцию сделали. И все же, несмотря на дружеские чувства моего юного товарища, несмотря на заботу и внимание его отца и бескорыстную помощь славного доброго миссионера, мне очень хочется отправиться в путь и снова оказаться в армии. Поскорей бы!»
ГЛАВА 9
План отъезда. — Чудеса Фрикет. — Вода и мыло. — Снова тогакуты. — Страшные пытки. — Террор в Сеуле. — Первые жертвы. — Хитрость. — Закрытые ворота. — Возвращение. — Фрикет исчезает.Часть зимы прошла без особых событий. Все это время Фрикет, не переносившая холода, изрядно мерзла во дворце, который Ли Уи любезно предоставил в ее распоряжение. Да, представьте себе, целый дворец. Девушка описывала его в шутливых тонах в письме к родителям:
«Живу я под позолоченными лепными потолками, но это не улучшает моего настроения. Жилище достаточно комфортабельно, благодаря кое-каким улучшениям, которые я завела посреди удивительной восточной пестроты. В общем сейчас мне живется почти хорошо. Одно только плохо — холод, он причиняет мне страдания. Я читала, что в путешествиях случаются солнечные удары, а здесь как раз наоборот, рискуешь обморозиться. Нет, обязательно уеду при первой же возможности».Опять дальняя дорога? А как же иначе, ведь наша Фрикет не любит спокойной жизни, ей нравится бродить по свету…
…Маленький Ли уцепился за платье своей спасительницы и в отчаянии заплакал горькими слезами. Король излил свое горе гораздо более шумно: с помощью воплей и громких криков. Что же касается миссионера, то тот отвернулся, не в силах скрыть волнения, и, делая вид, что сморкается, украдкой смахнул слезу. Затем он обратился к Фрикет, и в его тихом голосе чувствовалось сожаление: — Для всех этих несчастных вы — настоящий ангел, посланный свыше. Что с ними будет без вас? — Ах, господин кюре, вы преувеличиваете мои скромные заслуги. — Дитя мое, ваши знания помогли тысячам больных. Ужасные кожные болезни, бывшие до сих пор неизлечимыми, исчезли совершенно. В ответ Фрикет весело рассмеялась, и смех ее прозвучал странно среди всеобщего уныния. — Да, да, — подтвердил священник, — вы сотворили настоящие чудеса. Его слова вновь рассмешили француженку, и она так заразительно расхохоталась, что малыш Ли пришел в восторг, а на плоском лице Ли Уи появилась радостная улыбка. — И вы тоже сможете творить чудеса — сотнями, тысячами — сколько захотите. — Я же не врач… — Ну и что? Вам хорошо известна причина здешних болезней: грязь и отсутствие гигиены. Как лечить от всех недугов? Мой рецепт очень прост. Возьмите aqua fontis (родниковая вода) — в достаточном количестве, sapo simplex (простое мыло) — в умеренной дозе. — Дитя мое… — Затем потрите как следует пораженные места хорошей щеткой. Вот и все. Вода и мыло — лучшие лекарства. В них квинтэссенция[55] моей науки и лечения, формула успеха. Ничего не выдумывая, поступайте так же, и результаты не замедлят сказаться. Был конец января, японские войска, продолжая удачно начатую кампанию, одерживали одну победу за другой. Они вытеснили противника с территории Кореи и вели теперь осаду Порт-Артура[56], намереваясь перенести военные действия в Китай. Неудачи китайцев и успехи японцев угрожали существованию тогакутов и приводили их в ярость, заставляя вновь активизироваться и готовить ответный удар. Во всех поражениях они винили иностранцев и прежде всего Фрикет, влияние которой на короля росло день ото дня. Они не могли простить ей того, что она спасла юного наследника престола и тем самым лишила китайцев весьма ценного заложника, удерживая которого можно было влиять на развитие событий. Тогакуты решили пойти на крайние меры и разом уничтожить короля, принца, Фрикет, отца Шарпантье и остальных иностранцев, приближенных к королю. Заговорщики действовали очень осторожно, чтобы усыпить все подозрения и внушить своим жертвам чувство безопасности. Хитрый план сработал: случившееся было громом среди ясного неба. Для осады Порт-Артура японцам требовались дополнительные силы, и им пришлось перебросить туда гарнизон, находившийся с начала войны в Сеуле. Это войско, которое обеспечивало безопасность короля и иностранцев, было отправлено из Чемульпо в Люшуньпао, прозванный англичанами Порт-Артур. Отныне Ли Уи мог рассчитывать только на своих солдат, а их ежедневно обрабатывали агенты тогакутов. На следующий день после ухода японцев из столицы, перед воротами королевского дворца глазам потрясенных жителей представилось ужасное зрелище. По обе стороны ворот, перед двумя львами, застывшими на задних лапах, стояли две красные деревянные мачты, увенчанные знаменами. К каждой из них на высоте около двух метров было привязано мертвое тело. Одно принадлежало старику, второе — мужчине средних лет. Первый, одетый изысканно и роскошно, явно относился к высшей знати, второй был простолюдином. Часовые ничего не слышали и не видели. Выпавший ночью снег уничтожил все следы. Поднялась тревога; к королю послали гонцов. Вскоре около ворот появился Ли Уи, он был очень бледен, весь дрожал. Мертвецов попытались отвязать. Но — о ужас! — оказалось, что ноги несчастных обрублены почти по пояс: оторвавшись от туловища, они с глухим стуком упали на снег. Затем из живота, подвязанного куском полотна, вывалились и полетели вниз внутренности… Никто не решался прикоснуться к этим изуродованным останкам… — Все убрать! Живо! — крикнул король, изменившись в лице, зубы его стучали, голос едва можно было узнать. Сердца изувеченных, тоже вынутые из тел и прибитые к мачтам под одеждой, были проткнуты странным кинжалом, под ним был прикреплен лист бумаги. Его подали королю, и он с ужасом прочитал: «Так будут уничтожены все враги Китая». Пальцы несчастных были сломаны, руки отрублены и кое-как прибиты гвоздями так, что они отвалились от туловищ, едва лишь до них дотронулись. Не упали одни только головы, державшиеся на мачтах с помощью кольев, вбитых в рот. Все сразу узнали несчастных: это был Цент, хозяин лодки, который подобрал Фрикет вместе с Ли, и старый мандарин, который помог им добраться до столицы. Эти зверства и изощренная жестокость имели скрытый смысл; король его сразу понял. Он поспешил обратно во дворец, говоря себе: «Все кончено! Они убьют меня!» Объятый ужасом, он пробежал по комнатам, по потайным убежищам, обследовал все окна и двери и в конце концов в изнеможении бросился на циновку[57], громко плача, как маленький ребенок. Старик миссионер узнал о случившемся от одного из новообращенных им христиан. Священник отправился к Фрикет и обо всем рассказал ей. Мысль о грозившей девушке опасности не давала ему покоя: — Дитя мое, положение серьезное, очень серьезное! — Что же делать? — Надо уезжать, и немедленно… — Да, но каким образом? — Отправляйтесь в Чемульпо. Вас понесут в паланкине, вы доберетесь туда за один день… — А где я возьму носильщиков? — Это моя забота, да и охрану я вам обеспечу. — Благодарю вас, вы так добры. — Мне надо заняться этим делом сейчас же. Они вышли на улицу. Фрикет направилась во дворец, чтобы попрощаться с королем и юным принцем. Однако король, вне себя от страха, никого не хотел видеть. Он приказал не пропускать к себе даже родных, даже своих приближенных и фаворитов. Сын его встретил Фрикет в окружении своей личной гвардии, состоящей из мальчиков, самому старшему из которых не было и четырнадцати лет. Все они были одеты и вооружены, как воины старых времен. Ли уже знал несколько французских слов, Фрикет немного понимала по-китайски. Таким образом, мешая оба наречия и подкрепляя слова выразительной жестикуляцией, друзья смогли поговорить друг с другом. Узнав, что его дорогая Фалликет собирается уезжать, бедняга бросился ей на шею и горько заплакал. При виде этих слез юные гвардейцы последовали его примеру и, как по команде, разразились отчаянными рыданиями, звучавшими в унисон, подобно хору из античной трагедии. Ли после своего возвращения из плена очень изменился: благодаря разумной диете и гигиене, предписанным француженкой, он поздоровел, поправился, похорошел и стал если не красивым, то, скажем, выглядел теперь неплохо. Вот вам и чудо — правильное питание, вода и мыло. В общем, каждый придворный считал своим долгом сделать комплимент наследнику по поводу его цветущего вида и вознести хвалу юной лекарше, прибывшей из Европы. Однако сейчас принц не хотел ничего слушать, он кричал «нет!», выговаривая на китайский лад: не!.. не!!! — Заладил одно и то же — «не» да «не!». Понимаешь, мне хотят сделать чик-чик? И она провела рукой под подбородком, показывая, что ей ножом перережут горло. Ли энергично замотал головой в знак отрицания и пронзительно крикнул: — Не!.. не!.. не чик-чик Фалликет, не чик-чик! — Говорю тебе, что все точно так и есть! Меня хотят убить эти ужасные люди, которых здесь зовут тогакутами. Теперь понимаешь?.. Они точат свои ножи против меня, против нас… Этот каламбур понравился бы отцу Шарпантье, но все это не слишком весело! Фрикет улыбнулась, и Ли немного успокоился, слушая поток слов, которые обрушила на него его милая спасительница. Она прижала мальчика к себе и горячо поцеловала. В глазах ее блеснули слезы: — Малыш, понимаешь, нельзя мне тут оставаться, не удерживай меня! Я должна ехать. Мне грустно тебя покидать, я уже успела полюбить тебя. Тебе было плохо, ты страдал, а мы, женщины, всегда сочувствуем несчастным и привязываемся к ним всей душой… Мы испытываем то, что чувствуют матери и сестры… И ты, у которого нет ни матери, ни сестры, ты меня любишь… Ты — мое самое лучшее воспоминание о днях, проведенных в Корее. Прощай, милый мой мальчик… Фрикет была взволнованна, говорила тихо и очень быстро, и Ли не понял га единого слова, но нежный голос, ласковая интонация успокоили его. Он крепко поцеловал ее в последний раз и вернулся к своей гвардии, а француженка, вытирая слезы, вернулась домой и начала собираться в дорогу. Она решила уехать потихоньку, не прощаясь, чтобы избежать новых тяжелых сцен при расставании. В три часа к ней пришел старик миссионер и с ним целая группа людей — десять носильщиков с двумя носилками и полтора десятка солдат, отобранных среди верных людей. — Мы уезжаем, дитя мое, — проговорил кюре. — Я готова, — отвечала Фрикет, — и благодарю вас за… — Не стоит благодарности, — остановил ее священник, — я рад помочь вам. — А почему два паланкина? — удивилась Фрикет. — Потому что я буду сопровождать вас до Чемульпо. — Как вы добры! — Снова вы за свое!.. Лучше поскорей садитесь, у нас мало времени. Старик и девушка забрались каждый в свой паланкин, носильщики взялись за ручки, и вся процессия устремилась к Южным воротам. Фрикет не страшилась смерти, когда можно было взглянуть ей прямо в лицо, но неизвестная опасность, скрытая западня, коварство врагов пугали ее. Храбрость ее нуждалась в солнце и свете и пропадала во мраке и темноте. Вот почему у девушки вырвался вздох облегчения, когда их носилки оказались возле ворот. — Ах, какое счастье, я спасена! — радовалась Фрикет, воображая, что скоро окажется на свободе. Бедняжка не знала, как далек может быть путь на волю. Кортеж остановился. Послали гонца разузнать, в чем дело, он вернулся с печальным известием: ворота заперты по приказу короля, и начальник стражи не хочет их открывать. Миссионеру пришлось выйти из паланкина и начать переговоры. Ему помогала Фрикет, которая страшно расстроилась и стала упрашивать, умолять, угрожать!.. Увы, все напрасно, стражник был неумолим: приказ есть приказ. — Я рискую головой, если отопру ворота. Вы ведь не хотите, чтобы мне отрубили голову? Король, отдавая подобный приказ, видимо, думал о собственной безопасности: в закрытом городе он чувствовал себя как человек, который забаррикадировал все окна и двери в своем жилище. Потеряв голову от страха, он надеялся защититься таким способом от внешних врагов, забывая, что среди двухсот тысяч жителей Сеула наверняка находились и самые главные заговорщики и их подручные. Итак, неудачливые беглецы вернулись. Священник вновь очутился в своем домике в виде пагоды, а француженка — в своем дворце. Наступила ночь. Фрикет, которую при мысли о тогакутах обуревал страх, повела себя совсем как несчастный король: заперлась на все засовы. «В конце концов, — думала она, — ночь скоро пройдет, наступит завтрашний день, и я добьюсь от Ли Уи разрешения на выезд из города». На следующий день весь Сеул пришел в движение. Люди сновали туда-сюда, окликали друг друга, собирались и расходились. С невероятной быстротой распространялись ужасные слухи. Говорили даже, что король убит. Миссионер, едва узнав эту страшную новость, поспешил в королевский дворец. Но пройти туда не смог: дворец был оцеплен солдатами. Священнику, несмотря на все ухищрения, так и не удалось проникнуть в королевские покои. На этот раз его не приняли. В сильном беспокойстве старик отправился к Фрикет и обнаружил, что все там очень расстроены. Он спросил, где хозяйка, и с ужасом узнал, что она исчезла. Страшная догадка терзала его: — Бедное дитя!.. Исчезла!.. Мне известны ее враги… Неужели ее ждут страшные пытки этих извергов? Господи, сохрани ее… и дай мне силы, чтобы спасти ее, если еще можно.
ГЛАВА 10
В камере. — Стражник. — Смертный приговор на дурной латыни. — Яд, веревка или кинжал. — Гипнотизм. — Он спит! — Переодевание — Побег. — Тронный зал. — Королевский зонтик. — В Чемульпо.Несмотря на запертые двери и ставни, замки и задвижки, Фрикет чувствовала себя неспокойно. Слуги не внушали ей полного доверия, хотя она была к ним добра, а может быть, именно по этой причине. Восточные люди не слишком ценят благодеяния. Чаще всего тот, кто оказывает им услугу, наталкивается на черную неблагодарность. Итак, девушка не могла рассчитывать на поддержку слуг, которые почти ее не понимали, едва слушались и, вероятно, в глубине души ненавидели за то, что она была чужестранкой с Запада. Удивительное дело: переживания не помешали ей с аппетитом приняться за ужин, приготовленный поваром-корейцем. Она решила, что в преддверии неведомой опасности стоило подкрепиться. Случившееся очень взволновало Фрикет, и, зная свою нервную натуру, она приготовилась провести бессонную ночь. Но вскоре после ужина ее стало неудержимо клонить ко сну, что было очень странно. «Как будто мне в пищу подмешали наркотики», — думала девушка, возвращаясь в большую комнату, служившую спальней. Не раздеваясь, она упала на матрац из циновок, машинально натянула на себя шелковое одеяло и тотчас же заснула подозрительно глубоким сном.
Она не знала, сколько прошло времени. Проснулась Фрикет с тяжелой головой, во рту горело, руки и ноги затекли и онемели. В полусне девушка не узнавала знакомую обстановку спальни, привычных вещей. Зажженный светильник освещал темные стены, на которых не было яркой обивки, столь любимой азиатами. «Нет, все это мне снится, у меня из-за этих страхов голова не в порядке». Фрикет пошевелилась, ущипнула себя, чтобы удостовериться, что она не спит, и вдруг вскрикнула от ужаса: кто-то сидел рядом. На мужчине был живописный костюм корейского воина: высокая железная каска с красным султаном[58], кольчуга, защищающая грудь, руки и затылок, железные наколенники и фетровые[59] сапоги. Незнакомец, вооруженный саблей, кинжалом и пикой, холодно смотрел на нее своими черными свирепыми глазами. Фрикет стала пленницей. Она сразу поняла это, содрогнулась от ужаса и почувствовала, что ее заливает холодный пот. Ее похитили из спальни во время сна, вызванного искусственно, отнесли в закрытое со всех сторон подземелье, и теперь она оказалась одна, беспомощная, во власти врагов, беспощадная жестокость которых была ей хорошо известна. У нее вырвалось: — Это тогакуты!.. Я пропала… На лице солдата появилась гримаса, изображавшая улыбку, которая на самом деле напоминала оскал хищника, почуявшего добычу. Фрикет посмотрела внимательнее, и ей показалось, что перед ней один из офицеров королевской гвардии, один из тех, кому Ли Уи доверял больше других. Видя, что француженка проснулась, воин, сидевший неподвижно на бамбуковой табуретке, встал, сделал несколько шагов и рукояткой своей пики ударил в дверь три раза с равными промежутками. Затем он вернулся на место, снова сел и застыл как статуя. Немного погодя дверь открылась, и Фрикет увидела человека в темном одеянии с подносом в руках. «Надо же, — подумала она, чуть успокоившись, — они хотят дать мне поесть. Может, я отделаюсь испугом и они не причинят мне вреда?» Поставив поднос на маленький столик, мужчина жестом указал на принесенные им предметы: чашка с какой-то бледно-желтой жидкостью, кинжал и шнурок из красного шелка, свернутый в кольцо и похожий на коралловую змейку. Все это было очень странно. Незнакомец произнес несколько слов, и девушка вздрогнула от гнева и изумления. Он говорил на неправильной и упрощенной латыни, которую наши миссионеры почему-то преподают в этой стране здешним новообращенным вместо французского языка. — Puella, damnata fratribas morietur[60]. — О подлец!.. Мерзавец!.. Предатель!.. — в негодовании закричала Фрикет. Не реагируя на бурное возмущение француженки, человек продолжал свой монолог: — Mors ejus erit vuluntaria… utet aut veneno, aut cultro, aut laguaeo[61]. — Ax, какое великодушие, мне дают право самой выбрать, как умереть. Что лучше — нож, веревка или яд, и еще надо, чтобы это походило на самоубийство, вероятно, они боятся последствий… Ну, там видно будет! Довольный, что его поняли, «латинист» ждал ответа. Ответом были полные презрения слова, которые Фрикет бросила ему в лицо. Ее латынь была безупречна, что, конечно, усугубляло ее вину. — А ты, который считался христианином и которому Господь наш вверял души добрых людей… ты, негодяй… как Иуда[62] предал Господа нашего!.. Ты хуже всех пославших тебя убийц, потому что они не обманщики и не вероотступники! Услышав это гневное обвинение, мошенник усмехнулся и ответил: — Прежде всего я принадлежу к тогакутам. Какое мне дело до бога западных варваров, когда я всегда сохранял в глубине души веру своих отцов и лишь притворялся, что верю в вашего бога, чтобы обмануть вас всех, проклятые чужестранцы! А теперь ты умрешь!.. Выбирай свою смерть и знай, что тебя ничто не спасет. — А если я не хочу? — Тогда ты умрешь от голода в этой тюрьме, из которой тебе никогда не выйти. Произнеся эти страшные слова, незнакомец удалился, заперев за собой массивную дверь и оставив бедную девушку один на один с безмолвным стражником, пристально смотревшим на нее своими змеиными глазами. Фрикет одолевали разные чувства, но не столько страх, сколько гнев. Сначала она хотела схватить кинжал, броситься на охранника и всадить ему нож в самое горло. Ну и что дальше? И вряд ли это получится: солдат выглядел очень сильным, а кольчуга делала его почти неуязвимым. Даже если ей удастся его убить, сможет ли она выйти отсюда живой? Взгляд стражника был по-прежнему устремлен на пленницу… Она недоумевала: «Как странно, что нужно этому солдафону? Может, ему поручили следить, чтобы я даже не пробовала убежать? Или он должен в определенный момент инсценировать мое самоубийство, чтобы все думали, что я добровольно ушла из жизни? Ну, мы еще посмотрим: у меня есть оружие, и я не позволю, чтобы меня прирезали как цыпленка». Пленница подняла глаза и устремила свой взгляд на корейца. Тот не отвел и не опустил глаза, а по-прежнему спокойно и пристально, как жаба, глядел на нее. «Неужели он меня хочет загипнотизировать? — размышляла Фрикет. — Это было бы забавно!» Потянулись долгие томительные минуты, в течение которых девушка должна была собрать всю свою волю и энергию. Солдат упорно не отрывал взгляда, движимый, вероятно, самолюбием, которое не позволяло варвару уступить, да к тому же женщине. А француженка, со своей стороны, не сдавалась и буквально сверлила его взглядом, думая при этом: «Нет, приятель, если ты надеешься меня напугать, то у тебя ничего не выйдет! Я на тигра смотрела и глазом не моргнула!» Все же усталость или моральное давление взяли свое, солдат моргнул несколько раз, и его физиономия исказилась. Не будь ситуация такой опасной, Фрикет тотчас рассмеялась бы над незадачливым противником. «Господи, что за урод!» — думала она, все пристальнее смотря на корейца. Странный поединок продолжался, и неизвестно, чем бы все закончилось, но вдруг взгляд корейца помутнел и страж заморгал своими черными глазами. «Кажется, он засыпает?» — предположила Фрикет. Девушка взяла светильник и поднесла к солдату, который был похож на медную статую: глаза его смотрели в пустоту, но никого не видели, взгляд застыл! Фрикет страшно обрадовалась и воскликнула: — Это мы, западные варвары, называем гипнозом! Она поставила лампу на место и вновь вернулась к своим переживаниям. «Этот дикий воин не знал, что я сильна в гипнозе и что свои способности я развивала еще в Париже. Он спит и будет спать, сколько мне будет угодно!» — подумала она, прикоснувшись к глазам спящего и слегка надавив на веки, чтобы странный сон, в который он впал, сделался еще глубже. Избавившись от сторожа, Фрикет решила, что времени терять нельзя и что надо немедленно бежать. Она обследовала стены, простукивая их с помощью ручки кинжала. Звук повсюду был глухой, значит, нигде за толстой каменной облицовкой не было ни впадины, ни отверстия. Оставалась только дверь. — Что ж, придется идти через дверь, — прошептала Фрикет, которой пришла в голову замечательная мысль. — Да, да, это то, что нужно… Ой, как же будет интересно, к моей маленькой коллекции прибавится еще одно замечательное приключение… Она снова подошла к солдату, толкнула его, чтобы удостовериться, что тот ничего не чувствует, и осторожно сняла с него шлем. Несмотря на храбрость, сердце девушки громко стучало. Она надела на себя шлем, предварительно распустив длинные волосы и опустив их на лицо, как это принято у корейских воинов, затем сняла со спящего кольчугу, надела ее на себя и облегченно вздохнула. — Как раз! — весело проговорила француженка. — Мне она совершенно впору, теперь сапоги. Девушка надела остроносые сапожки, прицепила к поясу саблю и в один миг превратилась в офицера королевской гвардии. — Вот и все! — воскликнула она, проделав это превращение с необыкновенной быстротой. — Ой, я чуть не забыла самое главное: надо же еще выйти отсюда. Фрикет решительно обхватила спящего корейца, уложила его на циновку, заткнула ему рот, схватила пику и громко постучала в дверь древком. Прошло несколько томительных минут. «Ну что, придет кто-нибудь или нет?» — спрашивала она себя, и сердце ее сжималось в тревоге. Девушка вновь принялась колотить в дверь и подняла адский шум. Вскоре дверь приоткрылась, и вошел прежний горе-латинист. Он раскрыл было рот, вероятно, чтобы осведомиться, умерла ли француженка, но в этот момент получил удар пикой по голове. Послышался шум падающего тела, и мошенник, потеряв сознание и даже не вскрикнув, тяжело рухнул на колени. — Вот это удар! — воскликнула девушка. — Правда, не смертельный, хотя по справедливости у меня есть право уничтожить негодяя. Фрикет заткнула рот «латинисту», связала ему руки и ноги шнурком из шелка и вышла из тюрьмы, подражая корейским офицерам, которые считают высшим шиком покачиваться при ходьбе. Итак, самое трудное было позади. Она прошла по темному коридору, еле-еле освещенному факелами, поднялась по лестнице, прошла через приоткрытую дверь, встретила по пути пять или шесть человек, которые стояли на часах в коридоре и внизу лестницы, и оказалась в большом пустом зале, в глубине которого под балдахином[63] стояло богато украшенное нарядное кресло с пятью ступеньками, покрытое красным лаком. Над ним был огромный зонт из красного шелка, с эмблемой[64] королевской власти. Фрикет узнала это место и сказала себе: — Тронный зал! Значит, я нахожусь во дворце моего славного друга Ли Уи! У каждого выхода стояли вооруженные часовые. Но никто не узнавал француженку, переодетую в гвардейца королевского войска, к тому же волосы закрывали ей лицо. Девушка шла вперед не останавливаясь, чувствуя себя как дома, не ломая себе голову над тем, почему она оказалась здесь, каким опасностям подвергается и думая только об одном: «Теперь пора уходить отсюда как можно дальше и как можно скорее». Ей в голову пришла оригинальная мысль, настоящая находка. Она походила на все идеи, которые осеняли ее время от времени. Все, что придумывала Фрикет, влекло за собой новые приключения. В Корее символом власти и могущества является зонтик. Чиновнику низшего ранга полагается скромный маленький зонтик, который едва-едва защищает от солнца. По мере продвижения по службе зонтик становится все больше и больше, прибавляя своему владельцу почестей и уважения. Зонт короля огромен и напоминает круглые тенты, под которыми прячутся от дождя на ярмарках уличные зазывалы. Француженке это было хорошо известно. Зная особенности здешних нравов, она не стала колебаться, а спокойно влезла на трон, сняла зонтик, сложила его, взвалила себе на плечо и совершенно хладнокровно, с высоко поднятой головой и с пикой наперевес, гордо направилась к большим воротам. При виде символа королевской власти, еще внушавшей страх и уважение, стража отдала честь, как будто здесь был сам король. Фрикет торжественно проследовала за ворота. За ней шествовал целый эскорт[65]. Вскоре беглянка оказалась на ровной площадке, где постоянно стоял наготове один из королевских паланкинов с двадцатью носильщиками. Королевский зонтик, безусловно, не мог передвигаться пешком, и Фрикет, устроив его в паланкине, уселась рядом. «Теперь бежать, но куда? — думала отважная путешественница. — О, я знаю: к отцу Шарпантье». Она крикнула главному носильщику китайское имя миссионера, и процессия понеслась по городским улицам. Священник, обеспокоенный участью Фрикет, недавно вернулся к себе из дворца и уже вновь собирался уходить, чтобы забить тревогу и позвать на помощь, как вдруг увидел королевский кортеж. Из паланкина проворно сошел офицер, взял священный символ королевской власти и направился к дому старика. Когда они оказались наедине, офицер протянул руку и сказал: — Добрый день, господин кюре… Надеюсь, вы в добром здравии и у вас все хорошо? Священник остолбенел от изумления: — Как, это вы, мадемуазель Фрикет, дорогая, вы живы! Надо же… в таком костюме!.. Слава Богу, вы спаслись! А я-то здесь с ума сходил от тревоги за вас!.. Тронутая волнением старшего друга, девушка взяла его за руки и рассказала в нескольких словах о своем странном приключении. Тот прервал ее: — Дитя мое, не теряйте ни минуты, бегите! Скройтесь в Чемульпо… Только там вы будете в безопасности. — Вы поедете со мной?.. — Нет, я остаюсь… Я не брошу своих сыновей во Христе. — Даже того Иуду, который предал вас, а меня чуть было не убил? — Бог ему судья, а я его прощаю. — Они же убьют вас! — На все воля Божья! — Тогда последнее: что с королем? — Он едва избежал смерти этой ночью. Его спасло то, что он принял меры предосторожности: приказал положить в свою постель другого человека, одетого по-королевски. И несчастный был зарезан в постели. — А мой приятель Ли? — Жив и невредим и находится в безопасности. Он в буддийском монастыре, куда никто не может проникнуть. — Передайте ему от меня привет и поцелуйте. — Конечно, дитя мое. Но вам надо ехать!.. Я боюсь, что обман ваш скоро откроется. — Прощайте, святой отец! — Прощайте, дитя мое! Старик и девушка в последний раз пожали друг другу руки, и Фрикет, по-прежнему надежно замаскированная своим военным обмундированием, поднялась в паланкин. Носильщики тронулись с места, помчались бегом и вскоре оказались перед Южными воротами. Королевский приказ все еще оставался в силе. Никто не мог ни выйти, ни войти в Сеул. Однако символ королевской власти, представленный девушкой, оказался сильнее всех запретов. Король, бесспорно, и без зонтика сохраняет могущество, но и зонтик без короля тоже кое-что значит. И Фрикет, обладая столь драгоценным предметом, получила всевозможные привилегии. Она распоряжалась чиновниками и солдатами, приказывала носильщикам и видела, как люди становятся на колени вдоль дороги, когда видят их процессию. Вот так, с необыкновенной быстротой и минуя преграды, француженка добралась до порта Чемульпо, бывшего под властью японцев. Ей удалось спастись!
ГЛАВА 11
Удивление. — И снова зонтик. — Участь идола. — Перед Порт-Артуром. — Сражения. — Новые успехи японцев. — Капитуляция. — Почта из Франции. — Война на Мадагаскаре. — Телеграмма. — Отъезд.Прибытие Фрикет с таким сопровождением вызвало некоторое волнение, и первые увидевшие ее японцы были просто поражены. Вначале девушку приняли за настоящего офицера, а королевский зонтик объяснили тем, что якобы Ли Уи прислал сюда своего посланника. Встретившие ее младшие офицеры не понимали французского, поэтому гостью отвели к генералу, который был на военном корабле, отплывавшем в Порт-Артур. Проучившись два года в военной школе в Сен-Сире[66] в качестве иностранного курсанта, генерал прекрасно говорил по-французски. Недоразумение быстро объяснилось. Узнав, кем была молодая француженка, он спросил, чем может быть полезен. — Мне хотелось бы доехать до Порт-Артура и вновь вернуться к своим обязанностям сестры милосердия и корреспондентки. — Нет ничего проще, мадемуазель. Этот корабль отправляется завтра, на нем будет наше войско, вместе с ним поедете и вы. Согласны? — Конечно… Огромное спасибо. А сейчас не разрешите ли мне отправиться в город, чтобы подобрать какую-нибудь одежду, которая более соответствовала бы моему внешнему виду и полу? — Конечно, вы можете отправляться сейчас же, — с улыбкой ответил генерал. — Хочу только предупредить вас, что в Чемульпо очень много всяких авантюристов[67], вы у меня в гостях, я беспокоюсь о вашей безопасности, и потому дам в сопровождение несколько солдат. Весьма довольная таким оборотом событий, Фрикет поблагодарила гостеприимного хозяина, попрощалась и удалилась, по-прежнему не расставаясь с зонтиком, которому она, впрочем, не находила больше применения. Однако, как мы увидим, он еще ей пригодится. А случилось вот что. Женщина в сопровождении японского патруля пугала лавочников, и они не спешили выставлять перед ней свои товары. Зато при виде зонтика они начинали вести себя совсем иначе: лавки открывались, и все их богатое содержимое вытаскивалось наружу проворными руками приказчиков. На свет появлялись груды белья и кружев, горы туфель, огромное количество китайских платьев экзотической расцветки, причудливых и изящных. Фрикет совсем не нужно было столько всего. За недостатком же времени, хотя она была и не прочь порыться во всей этой красоте, девушка отобрала только необходимые вещи и положила их в сундук из камфорного дерева[68], источавший неповторимый аромат; говорят, в нем никогда не заводится моль. Затем, как честный покупатель, она захотела заплатить за покупки. Но ее ожидал сюрприз: торговцы махали руками, что-то быстро говорили и отказывались от золота, серебра, меди, от любых денег! Девушка не сдавалась и пыталась всучить им плату. Безуспешно: хозяева лавок приходили в ярость, показывая на зонтик и на собственную шею. Тогда ей все стало ясно. Король имел обыкновение присваивать себе все, что ему нравилось, не испытывая никаких угрызений совести. И если торговец просил заплатить, это расценивали как преступление, за которое виновный мог поплатиться жизнью. Между тем злосчастный зонт надоел Фрикет, он был уже совершенно бесполезен. Сначала она решила отослать его королю. Но так как это была все же очень любопытная вещь, предпочла оставить его у себя, завернула в шелковую бумагу, уложила в длинный ящик и отослала на борт корабля вместе с сундуком из камфорного дерева. Генерал любезно предоставил ей офицерскую каюту, где француженка наконец-то смогла избавиться от своего военного обмундирования и надеть женский костюм. Королевский зонт очень мешал: на военных кораблях каждый сантиметр учитывается очень тщательно. Ее каюта, бывшая чуть больше телефонной будки, была заставлена так, что едва можно было повернуться. «Что же мне, в конце концов, делать с этим дурацким зонтом?» — думала с досадой Фрикет. Она поразмыслила, затем хлопнула себя по лбу и рассмеялась: — Придумала!.. Я придумала! Отличная идея. Девушка приказала принести кисточку, тушь и надписала на крышке ящика крупными буквами:
Господину Леону Девезу, директору «Журнала путешествий», 12, улица Сен-Жозеф, Париж.После этого взяла лист белой бумаги и вывела на нем следующее:
«Дорогой господин директор, Посылаю Вам зонтик корейского короля. Это одна из интереснейших находок, сделанных мной во время путешествия. Надеюсь, он украсит редакцию Вашей газеты.Она осведомилась у генерала, может ли почтовое ведомство Японии переслать во Францию ее письмо и посылку. — Нет ничего проще, мадемуазель. Почта отправляется в Японию каждую неделю, а оттуда теплоходом «Мессажри» — во Францию. Перестав беспокоиться о судьбе священного предмета, девушка распаковала вещи и стала спокойно дожидаться отправления. На следующий день на рассвете корабль снялся с якоря и благодаря мощности двигателя доплыл до Порт-Артура менее чем за восемнадцать часов. Насчет Порт-Артура необходимо сделать уточнение. Сам город и его окрестности, которые все еще удерживали китайцы, являлись совершенно неприступными. Повсюду были видны насыпи и редуты[69], откуда стреляли пушки. Над всем этим постоянно висело пороховое облако, которое накрывало собой море,непрестанно раздавались разрывы снарядов. Тридцать первого января японцы вновь одержали победу. Кольцо, сжимавшее многострадальный город, становилось все теснее. Назавтра бои продолжались и на суше, и на море. В два часа ночи начался настоящий поединок между китайской и японской артиллерией, который закончился только в девять часов, когда китайцы отступили, бросив половину батарей и фортов[70]. В общем наступлении участвовал и флот, и Фрикет с палубы крейсера было прекрасно видно, как шло сражение. Она ощущала себя журналисткой, так как, к счастью, японцам пока не требовались ее медицинские познания. У моряков не было потерь: ни убитых, ни раненых. Эта военная операция походила больше на маневры, чем на настоящий бой. Затем наступило трехдневное затишье. Третьего февраля война возобновилась с новой силой: японцы, направив против врага захваченные батареи, подвергли бомбардировке город и корабли, приютившиеся под его стенами. Чтобы японский флот не смог подойти к городу, китайцы заполнили бухту джонками[71], но их противники спустили на воду шлюпки и высадили морской десант, который уничтожил все очаги сопротивления. Конечно, Фрикет с большим удовольствием пошла бы вместе с отважными моряками в атаку. Но желание ее было невыполнимо из-за множества преград, и физических и нравственных. Да, для женщины не оказалось места в этой суровой и жестокой борьбе, которую вели между собой смелые воины. Юная француженка поняла это и примирилась со своей участью. К тому же стоял страшный холод, минус пятнадцать, и она весьма охотно оставалась в своей каюте с паровым отоплением. Четвертого февраля японцы засыпали бомбами китайский флот и парализовали его. Ночью они проникли в порт и потопили три крейсера, броненосец[72] и грузовой корабль. Седьмого числа пали последние китайские редуты; они перешли к победителям. В тот же день одиннадцать китайских торпедистов предприняли отчаянную попытку прорваться в открытое море. Это удалось только трем катерам, а восемь остальных были оттеснены к берегу и захвачены пехотой!.. Это был конец. Девятого и одиннадцатого февраля остатки китайского флота, которые по-прежнему подвергались бомбардировкам, были погребены в волнах. Двенадцатого февраля Порт-Артур, лишившийся защиты и на суше и на море, объявил о своей капитуляции. Отметим делающий честь китайцам факт: адмирал Цинь и капитаны Лю и Шань, командовавшие островными фортами, не перенесли горечи поражения и покончили жизнь самоубийством. В то время как сухопутные войска продолжали массированное наступление в Маньчжурии[73], флот, находившийся перед Порт-Артуром, получил неделю передышки. Двадцать первого февраля пришла почта из Европы. Фрикет жадно набросилась на газеты, в которых были новости из Франции. Подумать только, она ничего не получала с родины почти три месяца! Маленькая заметка из последних новостей одного из номеров «Времени» заставила ее вздрогнуть:Искренне Ваша Фрикет».
«Франция только что объявила войну Мадагаскару[74]».Она схватила следующий номер и с волнением прочла текст французского заявления, который приводился в одной из статей. Девушка пробегала глазами строчки, удивляясь, переживая и уже думая о будущих сражениях. Газета была напечатана два с половиной месяца тому назад.
«Наши доблестные солдаты снова идут на войну… Снова убитые… матери будут оплакивать своих несчастных сыновей, которые вновь будут страдать и погибать… Да, слава дается дорогой ценой!.. Мадагаскар! Только бы он не стал для нас новым Тонкином… новой могилой для наших солдат!»Девушка продолжала изучать газеты, которые были разложены по числам. — Война уже началась — произнесла она вдруг. — Тринадцатого декабря прошлого года наши войска высадились в Таматаве[75]. Было наступление, бомбардировка… Теперь там развевается наш трехцветный флаг!.. Но что же я сижу здесь, я, француженка, и наблюдаю за тем, как убивают друг друга эти желтокожие!.. Мне надо быть там, где я смогу принести много пользы… Уехать… как можно скорее… если получится, сейчас же… Не теряя ни минуты, Фрикет отправила слугу к генералу спросить, сможет ли он принять ее по очень срочному делу. Через пять минут она уже была у знаменитого военачальника, имя которого знают теперь во всем мире. Он тоже разбирал со своими секретарями объемистую почту. Серьезное, почти торжественное лицо Фрикет поразило его. — Генерал, — сказала она ему без всяких предисловий, — вы были так добры ко мне, можете ли вы помочь мне еще раз? — Мадемуазель, я сделаю для вас все, что в моих силах. — Разрешите мне выехать в Японию с первым же поездом! — Вы покидаете нас? — Из-за одного дела, срочного, даже священного… Я, как вы знаете, француженка, и я люблю свою родину… Мне надо вернуться во Францию, и как можно скорее. — Я догадываюсь о причине… война на Мадагаскаре… — Вы тоже знаете?.. — Я только что прочел об этом и одобряю ваш поступок. В тот момент, когда льется кровь, родина-мать нуждается в лучших и преданных людях. Отправляйтесь, мы будем счастливы помочь вам выполнить свой долг. — Благодарю от всего сердца, генерал. Я вам очень признательна. — Не стоит, это мы у вас в долгу за вашу самоотверженность в лечении раненых… Но я вижу, вам не терпится отправиться в дорогу… Хочу успокоить немного ваше нетерпение прекрасной новостью… Через два дня в Хиросиму отправится поезд с больными и ранеными… Я немедленно распоряжусь, чтобы вам дали на нем одно из лучших мест… — Спасибо еще раз, генерал… А как вы думаете, опасна ли высадка на берег? — Трудно сказать… Думаю, что побежденные затаили злобу… Скажите, а зачем вы хотите сойти на берег? — Я хочу отправить телеграмму родным. Кажется, Порт-Артур связан телеграфной связью с Европой? — Да, конечно. Существует даже несколько линий, но лучше и быстрее действует линия через Владивосток и Сибирь. Видя, что ей идут навстречу во всех желаниях, Фрикет, довольная таким развитием событий, достала чистый лист бумаги и написала:
«Жива. Здорова. Уезжаю из Японии. Еду на Мадагаскар. Целую всех.Верный своему обещанию генерал отправил Фрикет двадцать третьего февраля в Хиросиму, куда она добралась двадцать седьмого. Не мешкая, в тот же вечер девушка села на поезд, который довез ее до Кобэ, затем до Киото[76]. После двенадцатичасовой остановки она направилась в Иокогаму, где оказалась двадцать часов спустя. До сих пор она не могла посмотреть расписания пароходов. Ей удалось сделать это только в отеле. Здесь ее ждал приятный сюрприз. Теплоход «Эрнест Симонс» отправлялся восьмого марта, а значит, оставалось ждать всего лишь неделю. Француженка рассчитывала приехать в Джибути[77] шестого апреля и оттуда теплоходом, который идет из Марселя до Реюньона[78], доплыть до Маюнги[79], где он делает остановку. Однако к ее радости примешалась и досада: до прихода корабля требовалось провести в Джибути целых две недели. И она окажется на Мадагаскаре не раньше первого мая! Вместе со злосчастной остановкой в Джибути это составит почти пятьдесят дней пути. Но делать было нечего, и мадемуазель Фрикет, печально вздохнув, смирилась с судьбой и приготовилась ждать. Наконец, после долгих дней и часов ожидания, пришло восьмое марта. Фрикет поднялась по трапу великолепного корабля и с замиранием сердца увидела на его корме французский флаг. Этот корабль был для нее частицей далекой и любимой родины. Глядя на флаг, она почувствовала, что на глаза навернулись слезы, она кивнула ему головой, и ей захотелось перекреститься, как в церкви. Выстрел из пушки возвестил отправление.Фрикет Робер, предместье Сент-Антуан, N X, Париж».
Конец первой части








Часть вторая
ГЛАВА 1
Плавание. — Что будет дальше? — Творить добро бывает нелегко. — Странное и печальное зрелище. — Отсутствие здравого смысла. — Мадама Гаскар и мадама Публика Франсеза. — Барка.«Ираоведди», пароход кампании морских перевозок, отплывший из Марселя десятого апреля 1894 года, первого мая приближался к Маюнге. Он только что стал на якорь, и командир, прежде чем дать разрешение на выход пассажиров, ждал посещения санитарного контроля, шлюпка которого под желтым флагом стояла наготове у причала. На корме находились три женщины. Они разговаривали и с каким-то грустным любопытством смотрели на бухту, берег, белые домики, кустарники, покрытые сероватым туманом. Две из них были в одежде скромных служительниц церкви из Сен-Поль-де-Шартр, которые в наших колониях несут страждущим жизнь, надежду и утешение. Третья, одетая в удобный и элегантный дорожный костюм и колониальный шлем, была молода, очень красива и имела чрезвычайно решительный вид. — Дитя мое, — кротко говорила ей старшая из монахинь, — я повторяю вам еще раз: то, что вы задумали, конечно, весьма похвально, но сопряжено со многими трудностями. — Сестра, представьте себе, — весело отвечала девушка, — мне приходилось встречаться с тигром, кайманом, китайцами, огнем, водой, тогакутами… и так далее… И конечно, я проделала такой огромный путь от Порт-Артура до Джибути, где мне пришлось просидеть две недели, отнюдь не для того, чтобы ни с чем вернуться во Францию. Я не сомневаюсь, что здесь есть много несчастных, нуждающихся в помощи и утешении, и ваш собственный пример, сестра, не может не вызывать восхищения и желания подражать и следовать ему. — Я не сомневаюсь в вашей храбрости и добрых намерениях, моя дорогая мадемуазель Фрикет. Но здесь мы с вами не в Корее. — Добавьте: к счастью, сестра! Мне так приятно смотреть на трехцветный флаг, он вызывает во мне воспоминания о милой родине. Скоро я окажусь на французской земле! — И вы не думаете о том, как вас там примут? — Как того заслуживает самая скромная и самоотверженная из девушек Франции. — Дорогая моя! Мне бы не хотелось охлаждать ваш энтузиазм. Но я почти в три раза старше вас и мне пришлось многое испытать в жизни. Я хорошо отношусь к вам и скажу то, что есть. Во Франции самоотверженность, служение идее должны быть замечены, внесены в каталог, официально признаны и разрешены. Человека спрашивают, кто он, откуда и чего он хочет… Он не может действовать на свой страх и риск, вмешиваться в борьбу враждующих сил, пытаться победить, не страшась пуль и болезней, если всемогущие власти не предоставляют ему такого права. Страна, в которую вы направляетесь, находится на осадном положении и подчинена в настоящее время военному режиму. Получите ли вы здесь место, соответствующее вашим знаниям, способностям и желанию?.. — А я согласна на самую плохую работу! — Думаете, что вам ее дадут? Как бы то ни было, помните, дитя мое: если вас нигде не примут, у нас вы найдете приют и помощь. Фрикет, тронутая добротой монахини, ответила: — Спасибо, сестра, за советы и участие, за обещанную помощь. Когда меня одолеет усталость и я не смогу больше переносить тяготы и бедствия здешней жизни, я отправлюсь к вам за утешением и покровительством, которое вы столь великодушно мне предлагаете. Прощайте, сестра, или, скорее, до свидания! — До свидания, дитя мое. Благослови вас Господь! Судовые документы были в порядке, и санитарный контроль дал разрешение на разгрузку. Фрикет торопилась покинуть корабль, а потому она должна была срочно приготовить все свои вещи. Спустившись в каюту, девушка взяла ручной багаж — чемодан, непромокаемую накидку и сумочку. Ее дорожный кофр[80] должны были выгрузить на берег матросы. К кораблю уже подплыли шлюпки, чтобы забрать провиант, снаряжение и товары. Фрикет простилась с капитаном, который передал ей письмо для одного городского негоцианта, и храбро отправилась вниз по трапу, так определяя создавшееся положение: «Кажется, будет тесновато и не все поместятся». Затем она вспомнила свою любимую фразу, которая включала в себя так много: «Ладно, что-нибудь придумаю». Разумеется, она сумела кое-что придумать, и ее взяли в шлюпку, нагруженную ящиками с багажом. Моряки приняли ее за жену какого-то офицера или чиновника и отвели ей лучшее место. И вот Фрикет вышла на берег и оказалась среди множества ящиков, коробок, тюков. Вокруг нее сновали негры, белые, желтые, носильщики, солдаты, погонщики мулов[81], все говорили, кричали, толкались. На земле лежало огромное количество разных предметов, которые не сочетались между собой и собранные вместе производили очень странное впечатление. Ящики с сухарями валялись вместе с мешками овса, котелки и башмаки, одеяла, соль, консервные банки, мука и лошадиная упряжь, рис, сахар, кофе, подковы, минеральная вода, мотыга — словом, все что угодно и кое-что еще. Все это, сложенное сотнями и тысячами, составляло рассыпающиеся холмы, рядом толпились люди, мулы, зебу[82] и проезжали знаменитые повозки Лефебвра, которые мадемуазель Фрикет видела первый раз. Сухари сыпались из ящиков, овес — из мешков, котелки гнулись, башмаками укрепляли колеса, сахар попадал в сало, соль — в кофе, подковы разбивали бутылки, содержимое их выливалось так, что вокруг получались небольшие озера из минеральной воды. Фрикет вспоминала японцев и образцовый порядок, царивший в их торговле, и сравнение со здешними нравами было явно не слишком лестно для ее национального самолюбия. Ей все же удалось выбраться из этого скопища всякой всячины. Перебравшись через кучу овса и проваливаясь почти по колено, она направилась в город. Здесь ее ожидало первое разочарование: негоциант, для которого у нее имелось рекомендательное письмо от капитана, находился в отъезде. Он уехал на целый месяц! Конечно, отсутствие хозяина дома нарушало ее планы, ведь он мог оказать ей помощь и содействие. Но выяснилось, что в колониях и бедные и богатые весьма гостеприимны: управляющий предложил ей остановиться в этом доме. Девушка с благодарностью согласилась и, едва распаковав вещи, взяла зонтик от солнца и вышла побродить по незнакомым улицам. Фрикет отправилась по дороге, которая вела к одному из самых больших военных лагерей — Камп-де-Мангье, — расположенному в пятистах или шестистах метрах от Маюнге. Дорога нисколько не напоминала то, что мы разумеем под этим словом, — это была скорее широкая просека, загроможденная повозками Лефебвра, которые все время вязли и застревали в песке. Юная француженка смогла хорошо рассмотреть эти столь популярные здесь средства передвижения, они не могли не вызывать насмешек, и в то же время глядеть на них было грустно: создатели их руководствовались, несомненно, благими намерениями, но ведь ими вымощена дорога в ад… Что же это такое — лодки или повозки? «И то и другое одновременно», — утверждали их конструкторы. «Ни то, ни другое», — говорил опыт и здравый смысл. Фрикет думала: «Вот так повозки!.. Путешествовать на них через заросли тропических лесов просто верх безрассудства! Они и полметра не проедут без остановки… Чтобы их использовать, необходимо сделать дороги». Увы, девушке предстояло еще не раз удивляться на своем пути. Экспедиционный корпус[83] не пробыл здесь и трех недель, а больных набралось уже великое множество. Несчастные заболели лихорадкой, с трудом передвигали ноги, исхудали и ссутулились, были страшно бледны. Сказывалась тяжесть похода, зной и нездоровая сырость климата. В больницы все время поступали совсем еще молоденькие солдаты, не выдержавшие здешней жизни и работ, которые следовало бы запретить европейцам. Вынести все это, пожалуй, смогли бы только наемники Иностранного легиона[84], крепкие мужчины, специально подготовленные и приученные к экстремальным условиям. «Тот, кто ворошит землю, ворошит лихорадку», — гласит пословица, которая справедлива для любой тропической страны. А ведь французы ворошили землю, пренебрегая опасностью и вопреки требованиям элементарной осторожности. Делать было нечего, приходилось прокладывать дорогу, чтобы повозки Лефебвра могли проехать: а местные власти имели глупость обзавестись пятью тысячами этих повозок. Идти по песчаной дороге, усеянной ямами и рытвинами, было нелегко. Фрикет решила взять чуть вправо. Теперь она шла среди чахлых и голых, как после налета саранчи, кустов. Жара стояла ужасная. Несмотря на выносливость, девушка обливалась потом. Солдаты продвигались группами, вязли в песке, сгибаясь под тяжестью вещевых мешков, их гимнастерки были мокрыми от пота, лица горели. «Как же так, — с досадой думала Фрикет. — Зачем их заставляют идти в самую жару? Глупость несусветная, хотят их убить, что ли?» То и дело кто-то падал как подкошенный на песок и оставался неподвижно лежать до тех пор, пока двое его товарищей не оттаскивали приятеля с дороги в кусты, откуда несчастного забирали на повозку. И каждый раз пострадавшему помогала наша юная героиня. Она быстро расстегивала ему мундир, растирала грудь, заставляла понюхать ароматические соли и закрывала от солнца своим зонтиком, чуть не плача от жалости и негодования: «Во Франции у них остались матери! О бедняжки… вы окружали своих двадцатилетних сыновей нежными заботами, ограждая от простуд и сквозняков! Если б вы видели их теперь!» Очнувшись от солнечного удара, солдат шептал слова благодарности и улыбался, видя склонившееся над ним прекрасное женское лицо, полное сострадания. В конце концов Фрикет добралась до лагеря Мангье. В нем было тысячи три вооруженных людей. Некоторые из них расположились под грубыми, наспех сколоченными навесами, однако большинство солдат оставались без всякого укрытия под палящими лучами солнца. В то же время здесь была дюжина превосходных лошадей, которые преспокойно жевали овес под крышей просторного загона, где у них были также отличные мягкие подстилки. Фрикет посмотрела на людей, изнывавших от зноя, на лошадей, наслаждавшихся прохладой, и воскликнула: — Как жаль, что для людей не существует закона Граммона![85] Девушка решила обойти лагерь, ей не хотелось входить в него, она знала: там нет для нее места. Минут через десять она остановилась, услыхав чьи-то голоса, доносившиеся из-за деревьев. Подойдя поближе и прислушавшись, девушка не смогла удержаться от смеха. Низкий гортанный голос говорил с неподражаемым арабским акцентом: — Война, Барка объясняй, как все получилось… Два женщины: мадама Гаскар и мадама Публика Франсеза один раз сильно спорить. И вот мадама Публика Франсеза сказал: «Солдаты, всыпьте как следует этой мадаме Гаскар». И получилась война! Моя здесь скоро подыхай! При последних словах Фрикет стало не до смеха. Она почувствовала, что говорившему нужна помощь, и подошла поближе. Их было трое: двое азиатов — кули — сидели на корточках, третий — алжирец — лежал и курил. При виде девушки он отдал честь и перестал дымить. — Тебя зовут Барка? — спросила она. — Да, госпожа. — Ты болен? — Да, моя ранена… в нога… мул меня кусать… кусок мяса вырывать… много-много черви… моя будет подыхай… — А почему ты не пошел к майору? — Моя ходил, он хотеть нога отрезай, моя убирайся. — Покажи свою рану. Араб засучил штанину чуть выше колена. Показалась страшная рана. От омертвевшей и кишащей паразитами плоти шел отвратительный запах. — Хочешь, попробую тебя вылечить? — Твоя не будет отрезай? — Нет. — Барка соглашаться и тебе благодарить. Фрикет вытащила из своей сумки пинцет и, не дрогнув, ловко и терпеливо, принялась удалять из раны мерзких червяков. Затем, обнаружив у приятелей бидон с питьевой водой, она налила кружку, капнула туда карболовой кислоты и промыла рану. Девушка наложила на больную ногу простую повязку, крепко перевязала ее бинтом и сказала: — Барка, хочешь, я приду сюда завтра и сделаю тебе перевязку? На глазах араба показались слезы, а голос задрожал от волнения: — Спасибо, сестра. — Я не сестра. — Значит, ты тубиба (женщина-врач)? — Да. — Карашо, карашо! — Тогда до завтра, ладно? — Да, до затра и спасибо тебе, госпожа. Фрикет вернулась к себе, с аппетитом поужинала и уснула, но ненадолго: уже на рассвете она была на ногах. Отодвинув кисейную занавеску, служившую одновременно и сеткой против москитов, девушка посмотрела в окно и заметила высокого тощего человека. Она узнала Барку, который приковылял сюда на самодельных костылях и, дожидаясь ее пробуждения, спал сном праведника, примостившись под навесом веранды.
ГЛАВА 2
«Хороший солдат всегда возьмет, что плохо лежит». — Затруднения. — В штабе. — Мораль Барки. — Зебу. — Еще один раненый. — Фрикет показывает свой долг. — Отъезд.Барка, как настоящий дикарь, спал очень чутко. Он приоткрыл глаза, увидел девушку, быстро сел и по-военному приложил руку к своей феске. — Драствуй, госпожа! — Здравствуй, Барка. Что это ты здесь делаешь? — Чтобы твоя туда не ходить, моя сама прийти сюда… Фрикет сбежала по ступенькам, подошла к арабу и заговорила с ним как со старым знакомым. Он рассказал ей о себе: — Моя была стрелок… два раза отпуск… моя кароший солдат… денщик у полковника, потом отпустил, карашо себя вести… сохранить военный билет… — А что ты теперь делаешь? — Моя работала проводником багажа… потом после рана моя болей, меня увольнять, не годен к службе… Барка выглядел крепким мужчиной лет сорока, с орлиным носом, блестящими глазами, белозубой улыбкой. Несмотря на худобу, в нем чувствовались сила, энергия и решительность. Француженка обработала его рану раствором карболки. Судьба несчастного не на шутку беспокоила ее, она знала, что у араба нет ни дома, ни денег, и поэтому спросила: — На что же ты будешь жить? Барка рассмеялся и просто ответил: — Кароший солдат всегда найти что плохо лежит… Барка найти кофе, сухари, табак и выпить чуть-чуть… — Выпить!.. А заповедь Пророка?[86] — Пророк оставаться в Алжире, заповеди тоже… — Ах так, отлично… Тогда счастливо тебе, Барка. Раненый попрощался и снова устроился под навесом, под которым он, видимо, намеревался поселиться. Фрикет вернулась в свою комнату, наскоро привела себя в порядок и, едва пробило девять, отправилась в штаб. Она хотела, чтобы ее принял начальник. Караульный взял у нее визитную карточку:
«Мадемуазель Фрикет, уполномоченная Комитета Французских Дам, корреспондентка газеты „Глобус“ и „Журнала путешествий“».Прождав довольно долго, она уже начала волноваться, когда наконец ее принял какой-то служащий малоприятной наружности, который сухо спросил, что ей угодно. — Я хотела бы присоединиться к нашим войскам, чтобы работать сестрой милосердия и одновременно передавать корреспонденции французским газетам. Коротышка-чиновник поправил пенсне, казалось, задумался и затем с важным видом ответил: — А у вас имеется разрешение? — Нет, я ведь за ним и пришла к вам. — Я имею в виду разрешение правительства. — Я только что приехала из Японии, точнее из Кореи, там были бои, и я оказывала раненым медицинскую помощь. — Значит, вы врач, мадемуазель? — О, я пока еще только учусь на медицинском, — ответила Фрикет, разозлившись на этот бесцеремонный холодный допрос. — Вам следует обратиться к начальнику медицинской службы и разузнать, не требуются ли им случайно помощники. «Мне нравится это „случайно“», — подумала девушка, которая видела накануне переполненные госпитали и больных, ковыляющих по городу. — Ладно, может быть, обращусь. А что вы скажете насчет корреспонденций из действующей армии? — Нет, это невозможно! — Однако здесь находятся журналисты из Франции, представляющие «Ажанс Ава», «Тан», «Пети Марсейе», «Голуа»… Есть даже художник-иллюстратор, господин Тинейр. — Эти господа еще до отъезда из Франции получили аккредитацию через министерство. Они находятся здесь официально и благодаря этому получают, разумеется за плату, определенный паек на себя, своих слуг и лошадей. — Сударь, как мне кажется, командующий волен брать на работу людей по своему собственному усмотрению, и тем же правом обладает и начальник штаба. — В уставе есть статьи, запрещающие подобные действия. — Что ж, я пойду к командующему. — Он в санатории Носси-Комба… — Тогда к начальнику штаба… — Он в Маровуэй… — Так, значит… — Пока мы для вас ничего не можем сделать, мадемуазель. — Отлично, сударь. Если дело обстоит так, то я постараюсь обойтись без помощи официальных лиц… Я придумаю, как обеспечить себя необходимым, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и рассказать обо всем увиденном. — Однако… — Надеюсь, что мне не будут чинить препятствий и я смогу следовать за армией на свой страх и риск… Я ни у кого ничего не попрошу и буду совершенно независима… — А как же… ваша безопасность… как вы будете питаться, ездить повсюду… и что, если вы заболеете… — Сударь, я благодарна вам за заботу, — с иронией сказала Фрикет. — Но я твердо решила следовать за нашей армией, и так и будет! А сейчас разрешите откланяться. Юная француженка вернулась к себе в отвратительном настроении. «Да, неплохое начало, — думала она. — Права оказалась добрая монахиня, когда предупреждала меня о здешних порядках!» Ей пришло в голову телеграфировать в Париж, чтобы получить разрешение, о котором говорил чиновник. Но потом девушка сообразила, что телеграф находится в распоряжении военных властей и ее депеша либо не дойдет по назначению, либо прибудет туда через несколько месяцев. Она утешила себя мыслью, что военные действия закончатся еще не скоро и что ее положение, конечно, изменится через какое-то время. — Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать, — повторяла она, расхаживая взад-вперед по комнате. — Что ж, буду ждать. …Так прошло несколько дней. Мадемуазель Фрикет узнала, что армия захватила без всяких потерь позиции Маровуэй. Ее патриотические чувства ликовали, а сердце преисполнилось гордостью от этой первой победы. Итак, пули и снаряды врага не нанесли вреда солдатам, однако то же самое нельзя было сказать о местном климате. Лихорадка, жаркое солнце, усталость, малокровие мучили, к несчастью, чаще всего самых молодых. Число «выведенных из строя» росло день ото дня, и войска буквально таяли на глазах. Между тем Барка, подопечный нашей героини, чувствовал себя гораздо лучше. Ужасная рана заживала и мало-помалу затягивалась. Все это происходило, конечно, благодаря юной француженке, которая проводила лечение очень тщательно, буквально вкладывая душу. Араб бойко передвигался на костылях, съедал все, что ему украдкой по ночам приносили товарищи, и относился к тубибе с благодарностью и восхищением. Недели через полторы он вдруг исчез и отсутствовал около суток. Фрикет, уже успевшая к нему привыкнуть, решила, что араб ушел насовсем. Ей это было неприятно, и она подумала с грустью: «Мог бы и подождать до полного выздоровления». Однако волнения Фрикет были напрасны. Наутро Барка подъехал к ее дому, сидя верхом на очень странном животном, которое выглядело как настоящее чудище, сошедшее с изображений Апокалипсиса[87]. Представьте себе огромного быка или, точнее, его призрак: он был такой тощий, что рядом с ним скелет показался бы толстяком; высохшая, шершавая как терка кожа местами была содрана и обтягивала ребра, которые уродливыми буграми выпирали наружу. У животного остался один рог, второй был сломан, из копыт шла кровь, желтоватые глаза тускло смотрели без всякого выражения, а хвост висел как плеть и явно не имел силы отгонять мух, роившихся над этим жалким созданием. Фрикет нетрудно было узнать зебу, bos indicus, как его называют зоологи, чье основное отличие от наших быков состоит в том, что он носит на спине горб весьма приличных размеров, придающий ему причудливый вид. Горб животного, на котором ехал Барка, печально висел сбоку как волынка;[88] если в нем и содержался когда-то жир, то он уже давным-давно был израсходован. Вопреки своей подозрительной и не внушающей доверия внешности, зебу, как все обездоленные судьбой создания, в поведении был кроток и послушен. Едва оправившись от изумления, девушка воскликнула: — Господи, Барка, что же ты хочешь делать с этим бедным животным? Араб неторопливо спустился на землю, поздоровался и объяснил, что зебу можно использовать как вьючное животное — оно послужит лучше, чем мул или лошадь, — зебу будет возить провизию и все «имущество» тубибы. — Надо только, — добавил он, — твоя его перевязать и вылечить… — Я же не ветеринар… — Твоя карашо вылечить Барка! На это справедливое замечание Фрикет нечего было возразить. Зебу страдал не только от истощения, но еще и от ран на спине, и в них, как это было с Баркой, копошились отвратительные червяки. И снова девушке пришлось взяться за свой пинцет и, по доброте душевной и чтобы не обидеть славного пациента, удалить по одному мерзких паразитов. Да, это было нелегко и заняло много времени. Прошло не меньше часа, пока она не закончила сию неприятную процедуру и не почувствовала, что вся обливается потом. Француженка промыла раны карболовым раствором, но не стала накладывать бинтов, в которых не было необходимости: все должно было быстро затянуться. Барка в полном восторге смотрел на бедное животное, которое благодарно лизало руки тубибы. Араб одобрительно кивал головой и повторял своим гортанным голосом: — Будет для тибе карашо служить! Он рассказал Фрикет, каким образом ему досталось это четвероногое создание. Ночью Барка, чувствуя себя почти здоровым, отправился проведать своих товарищей. Чтобы отпраздновать его возвращение, устроили небольшую пирушку. Между тем зебу, признанный непригодным для службы и чересчур худым и больным для употребления на мясо, шел и шел себе потихоньку куда глаза глядят. Он был совсем ручным, и его тянуло к людям; учуяв одного из друзей Барки, он направился по следу и набрел на веселую компанию. Сообразительный Барка подумал, что тубиба сможет вылечить животное, и оно будет очень полезно в предстоящих передвижениях. Араб дал несчастному сухариков, на которые тот с жадностью набросился, и уселся на него верхом, чтобы поехать в город. Когда лечение было закончено, Барка привязал зебу под навесом, а сам улегся рядом на свое любимое место в тени. Араб вел себя совершенно непринужденно и с такой бесцеремонностью, что местные служащие, удивленные и шокированные, тихо перешептывались между собой: — Да, странные знакомства у мадемуазель Фрикет! С наступлением ночи Барка отправлялся с зебу на пляж и водил его по песку, где валялись разные объедки. Они находили рис, ячмень, овес, и зебу лакомился всем этим досыта, потом араб отводил его обратно. Фрикет лечила раны животного, ласкала и видела поразительное улучшение его состояния. Она назвала его Мейс, и он уже начал признавать эту кличку. В общем, лечение и диета приносили замечательные результаты. Глаза зебу стали блестящими, тело налилось мускулами и жиром, кожа приобрела блеск, а горб уже не висел, как колпак над ухом нормандца, а все больше и больше поднимался и выпрямлялся так, что образовывал угол в сорок пять градусов! Мадемуазель Фрикет могла гордиться результатами своего лечения — оба ее пациента были уже почти здоровы. Беспокоило ее только одно: дела в штабе совсем не продвигались. Коротышка-служащий и его коллеги не могли простить смелости и инициативы, которые разрушали мир старых предрассудков и вели к эмансипации женщин. Женщина в армии!.. Это несерьезно!.. Не обойтись, конечно, без буфетчиц — в их ведении кухня, стряпня, посуда. Но женщина, претендующая на работу в верхних эшелонах власти! Нет, это просто смешно! Однако у молодой парижанки могли быть знакомства и связи, поэтому ей не отказывали окончательно, а обещали дать работу когда-нибудь… в будущем. Тогда Фрикет решила напомнить о себе в более резкой форме, заявив во всеуслышание, что она работает в газете. А как известно, именно боязнь огласки удерживает многих людей от неблагоразумных поступков. Не желая тратить времени на выяснение отношений с местными властями, она попрощалась с обитателями дома, в котором ее столь любезно принимали, и однажды утром исчезла. А с нею пропали араб и зебу…
ГЛАВА 3
Барка — добытчик продуктов. — Денщик! — Багаж. — Мешок Барки. — Сухопутная дорога. — Первая остановка. — В лагере Амбоитромби. — Прекрасный прием. — Подарки для выздоравливающих. — Букет. — В путь!Обычно люди испытывают привязанность не к тем, кто оказал им услугу, а к тем, кому они сами когда-то помогли. В данном случае Фрикет являла собой подтверждение второй части этой истины, а Барка опровергал ее первую часть. С самого первого дня он относился к тубибе с бесконечной благодарностью и сделался ее добровольным рабом, ее вещью. Это чувство, вместо того чтобы по мере выздоровления идти на убыль, становилось все больше и больше. Старый африканский солдат старался разыскать все, что могло бы пригодиться или же быть приятным молодой девушке. Он придумывал тысячи способов, чтобы ее развлечь, вызвать ее улыбку и разгладить морщинку, которая появлялась у нее на лбу, когда она бывала чем-то озабочена. Привязанность делает человека изобретательным. Расспросив штабных караульных, Барка узнал, что его исцелительнице не давали возможности следовать за экспедиционными войсками. Не раздумывая о трудностях или даже опасностях подобного предприятия, он решил: «Тубибе я обязан жизнью, и моя жизнь принадлежит ей. Я смогу отблагодарить ее, если помогу осуществить то, чего ей так хочется. Ну что ж, я, Барка, алжирский пехотинец, хитрый, смелый, крепкий как кремень, я повезу ее куда угодно… к черту… и даже еще дальше, если понадобится! Но сначала нужно поправиться. Итак, Барка, выздоравливай как можно скорее». Однажды утром он спросил Фрикет: — Скажи, госпожа, когда моя выздоравливать, твоя брать меня в денщики? — Что ты, Барка, — удивленно ответила она, — как это пришло тебе в голову? Мне скорее нужна горничная, служанка. Однако алжирец не унимался: — Когда моя была денщик полковника, карашо служила… и жене чистила туфли, натирала паркет, водила дети прогулка, варила еда, когда нет кухарка… Он говорил с таким жаром, в глазах его было столько мольбы, что Фрикет поддалась на уговоры: «А почему бы и нет?» И, приняв решение, сказала со своей обычной твердостью: — Ладно, договорились, беру тебя в денщики. — Карашо, госпожа, твоя будет довольна… увидеть… Счастливый, оттого что поступил на службу к француженке и теперь сможет быть ее слугой, посыльным, защитником и покровителем, Барка решил взять с собой второго пациента, зебу, из которого после лечения должен был выйти также прекрасный помощник. Сообразительный алжирец добывал продукты, не тратя денег. Каждую ночь он водил зебу «попастись» на пляже, набирал разного съестного, набивал им мешок, водружал на спину своего четвероногого спутника и доставлял все это к дому Фрикет. Таким образом он устроил маленький базар, где было всего понемногу. Девушка, дававшая ему денег на покупку необходимых вещей, иногда спрашивала: — Сколько ты за это заплатил? — Мало. — А за это? — Совсем мало. Он «раздобыл» таким образом топорик, материал для тента, бидон, котелок, кастрюльки, целый военный набор для кухни вместе с кофейной мельницей, железными тарелками и т. д. Что касается реальных покупок, то это были двузарядное охотничье ружье, похожее на мексиканские мачете[89], сабля, которой можно, если понадобится, прокладывать себе дорогу в тропических зарослях, вьючное седло для зебу и два офицерских багажных ящика. Продукты, добытые Баркой, рассовали по разным углам со всякими другими вещами так, чтобы они занимали поменьше места. Алжирец нисколько не терялся в этих бесконечных новых поступлениях, в этих вещах, все прибывавших и прибывавших, располагал их на удивительно малом пространстве и в любой момент находил нужное с закрытыми глазами. Его вещевой мешок выглядел замечательно. Разумеется, набит он был битком. Сзади было привязано ремнями огромное, как луна, блюдо, сверху — палатка, аккуратно свернутая посередине и болтавшаяся по бокам. Колья помещались справа и слева, на них покоились одеяла и тщательно сложенное постельное белье, над всем этим — котелок, полный всякой всячины, затем две миски, над которыми громоздились другие полезные мелочи. Все вместе, сложенное одно на другое, представляло собой сооружение, возвышавшееся над головой араба примерно на метр и, как ни странно, удивительно прочное благодаря хорошо продуманной системе креплений. Этот своеобразный монумент, напоминавший огромные рюкзаки африканских солдат, был страшно тяжелым. Но он был так хорошо уложен, что Барка, казалось, не замечал его веса и, не потеряв еще привычки к длительным переходам с подобными грузами, бодро шагал вперед, как старый пехотинец. Зебу, увешанный мелким и крупным багажом, походил на осла, везущего товар странствующего корзинщика. Наружу торчали только голова и хвост. Все остальное было скрыто множеством вещей, над которыми возвышалась мадемуазель Фрикет, удобно располагавшаяся в седле. Девушка опасалась, что Барка не сможет тащить рюкзак, который раздавил бы своей тяжестью обыкновенного человека, однако алжирец только посмеивался и продолжал идти спортивным шагом. — Если твоя заболей, — заметил он, — то моя посадить тебя наверх и понести! Фрикет успокоилась при виде подобной выносливости своего денщика и потянула за ремни, из которых были сделаны поводья и уздечка. Она радовалась, что едет в столь долгожданное путешествие и обходится без помощи чиновников. — Но, но, Мейс, трогай! Зебу качнул головой, горб его дернулся, и животное неторопливо двинулось в путь. Добраться до Маровуэя можно было бы и по воде, что было легче и быстрее. Например, сесть в одну из местных лодок, когда она не перевозила солдат или грузы. Или же взять пирогу, которых здесь было много и которые отвезли бы Фрикет и ее денщика за небольшую плату. Но тогда пришлось бы расстаться с зебу, этим славным животным… Нет, для юной парижанки это было невозможно: она к нему очень привыкла, а тот, в свою очередь, привязался к ней как собака. Барка прекрасно знал дорогу, он проходил здесь много раз и брался доставить свою дорогую тубибу до места назначения без риска и неприятностей. Все трое, выехав из центра Маюнге — европейского квартала, — проехали мимо туземных хижин, лагеря Мангье и вскоре оказались в чаще молодого леса и мелких кустарников. Мейс без устали шел вперед, Фрикет почти дремала, убаюканная мерным покачиванием, а Барка, согнувшись под тяжестью рюкзака, нес на лямке ружье, в руке — дубинку и чеканил шаг, напевая веселый марш. Обогнув холм Рова, путешественники взяли северо-восточное направление. Вскоре перед ними вновь предстали мангровые деревья, кусты хлопчатника и высокие мадагаскарские пальмы. Еще немного погодя они увидели несколько арабских захоронений, представлявших собой каменные четырехугольники, на каждом углу которых стояло нечто вроде пирамидки, ее внутренний край был вырезан в виде маленьких ступенек, а внешний — заострялся пикой. Барка рассказал Фрикет на своем немыслимом жаргоне, что знал об этих могилах, и, подойдя поближе, отдал честь. Город остался в стороне, издалека он выглядел замечательно: белые домики на фоне зелени деревьев, а за ними — голубой океан, который сливался с ослепительной голубизной неба и уходил в бесконечность. Это было необыкновенно красивое зрелище, и сердце девушки наполнялось восторгом оттого, что поездка началась так удачно. Алжирец, не слишком сентиментальный по своей природе, тоже поддался очарованию: он пригласил девушку полюбоваться огромной зеленой равниной, на окраине которой блестело устье реки Бецибока[90], окаймленное полоской мангровых деревьев. После небольшого привала они снова двинулись в путь. Дорога была каменистой, из нее торчали известняковые валуны, на них натыкались, издавая металлический звук, подковки на ботинках алжирца. Путники шли часа три и наконец достигли пустынной деревушки с дюжиной убогих, покинутых жителями хижин. — Это Ампаршинжидро, — сообщил Барка. — Можем тут остановиться, перекусить и отдохнуть. Фрикет проворно соскочила на землю, Барка сбросил рюкзак и прежде всего накосил своей саблей огромный пучок травы для Мейса. Друзья съели по сухарику с ломтиком тушеного мяса, немного передохнули и продолжили свой путь. Через четыре часа они достигли Амбоитромби, которым заканчивался первый этап. К арабу вернулись прежние силы и здоровье, и он, казалось, ничуть не устал. Для зебу этот переход был, по-видимому, всего лишь небольшой прогулкой. И только Фрикет еле передвигала ноги от усталости… Амбоитромби представлял собой нечто вроде лагеря, построенного мальгашами[91] во время прошлой экспедиции французов. Это было прямоугольное пространство протяженностью более пятисот метров, снаружи окруженное глубокими рвами, аизнутри — земляной насыпью, перемешанной с камнями, в которой были проделаны бойницы. Туземцы покинули лагерь давным-давно. Теперь в нем находились солдаты, выздоравливающие после лихорадки; ими командовал старшина. Прекрасная всадница — слово это не совсем правильно, ведь она ехала верхом на быке, — ее послушный зебу и колоритный телохранитель произвели необыкновенное впечатление. К ним стали медленно подходить солдаты — бледные, исхудавшие, в чересчур широких гимнастерках. Они разглядывали вновь прибывших с изумлением и детским любопытством. Барка вел себя как старый капрал, разговаривающий с новобранцами: — Мы хотеть говорить с начальник. Старшина представился и, не в пример чиновнику из посольства, очень вежливо осведомился, чем может служить. Фрикет объяснила, кто она такая, что имеет полномочия Комитета Французских Дам и везет подарки для солдат. Здесь необходимо рассказать о том, почему девушка действовала от имени этого общества, основанного французскими патриотами и ставившего перед собой очень высокие цели. В Сингапуре[92] ей довелось зайти в европейский магазин, чтобы купить кое-что для своего гардероба, основательно износившегося во время корейских событий. И тут ей пришло в голову дать телеграмму в комитет о своем отъезде на Мадагаскар и попросить официальное задание. У Фрикет слово никогда не расходилось с делом. Она тотчас же телеграфировала в Париж и попросила, чтобы с ближайшим теплоходом ей прислали в Джибути вещи, которые она от имени «Французских Дам» смогла бы подарить выздоравливающим солдатам. Члены комитета с радостью согласились. Подготовленные посылки подняли на борт «Ирауадди», на котором Фрикет добиралась из Джибути до Маюге. Из-за спешки не удалось собрать ничего особенного. Но девушка надеялась вскоре получить вторую, гораздо более солидную партию, которую она хотела направить туда, где окажется, следуя за войсками. Узнав приятную новость, солдаты оживились и повеселели, а Фрикет, хоть и валилась с ног от усталости, не стала откладывать раздачу подарков. Да, не так уж много было поводов для веселья у этих несчастных, страдавших от местного климата. Далеко позади остались торжественные проводы, букеты цветов, громкие речи, возгласы «браво!» и духовой оркестр, игравший «Марсельезу»… Теперь во Франции уже начали понимать, что эта война — не простая прогулка, и хотя противник не располагал большими силами, здешний тяжелый климат наносил не меньший ущерб, чем многочисленная и хорошо вооруженная армия. Те, что находились на Мадагаскаре, и подавно видели, как в отсутствие сражений и эпидемий войско тает на глазах, уменьшаясь с каждым днем из-за невыносимой усталости, тяжести перехода, палящего солнца, болотной лихорадки. Эти молодые солдаты испытывали много страданий и физических и нравственных, поэтому Фрикет показалась им воплощением той самой любимой родины, по которой они тосковали и которую им, возможно, не удастся увидеть вновь. Когда девушка, такая приветливая и ласковая, принялась раздавать подарки, они обрадовались и расчувствовались. В подарках не было ничего особенного: табак, курительная бумага, лимонные конфетки, шоколадки и разные другие сладости, однако все это напоминало о прошлом, а потому становилось необычайно дорогим. Фрикет, доставившая столько радости, слушала слова благодарности и ловила взгляды, полные признательности… Внезапно она спохватилась: — А у вас есть хинин? — Так точно, мадемуазель, — отвечал старшина. — Чтобы не заболеть, вы должны принимать определенную дозу каждый день, даже если нет температуры. — Нет, мы не особенно аккуратны… и этого не делаем… и я первый, признаюсь вам честно: он такой горький… — Безобразие! Хинин — лучшее лекарство от здешних болезней, он творит настоящие чудеса… Вы — командир, дайте мне слово, что будете ежедневно принимать нужную дозу сами и прикажете делать то же самое своим солдатам! Я прошу вас, умоляю и приказываю не только от себя лично, но и от имени ваших матерей, сестер, подруг… Ну как, согласны? — Да, мадемуазель, клянусь честью, — взволнованно произнес унтер-офицер. — Я на вас надеюсь. Барка успел разгрузить зебу, поставить багаж под навес, разжечь костер и приняться за готовку: все у него получалось так быстро и ловко, что солдаты глядели на араба, замирая от восторга и восхищения. Фрикет отвели одну из лучших хижин, и алжирец соорудил в ней простую, но очень удобную постель. Он взял обыкновенное одеяло, прорезиненное с одной стороны и с кармашками из парусного полотна по углам, вбил в землю четыре колышка и на каждый из них надел по кармашку — получилось хорошо натянутое полотно, совсем легкое и занимающее мало места, на котором можно было превосходно отдохнуть, не опасаясь сырости. Фрикет с аппетитом съела целую чашку риса с кусочком консервированного мяса, выпила кофе, показавшийся ей превосходным, подошла к зебу, ласково погладила его и пожелала спокойной ночи Барке. Устав до изнеможения после первого этапа пути, она растянулась на своей походной постели, мгновенно уснула и проспала почти десять часов. Проснулась она далеко за полдень. Зебу уже был нагружен вещами и оседлан. В кружках дымился горячий кофе, а в большой миске горкой лежал белоснежный рис. Девушка быстро-быстро привела себя в порядок, проглотила завтрак и, зная, что следующий переход будет долгим, приготовилась к прощанию с новыми друзьями. Все выздоравливающие солдаты выстроились в ряд перед ее хижиной, чтобы сказать «до свидания». Совсем молодой юноша, почти ее ровесник, морской пехотинец, вышел вперед и преподнес огромный букет цветов. Почтительно поклонившись, он проговорил: — Мадемуазель, позвольте мне подарить вам этот букет от всех моих товарищей в знак нашей глубокой и искренней благодарности, вы как ангел, несущий утешение и надежду. Спасибо вам от нас, наших матерей и сестер, от наших любимых. Фрикет взяла букет и растроганно проговорила: — Сударь, то, что я сделала, — совсем пустяк, и ваши похвалы превосходят мои скромные заслуги. Обратите вашу благодарность к «Французским Дамам», которых я представляю здесь и которые не оставляют вас своей материнской заботой. Что же касается меня, то я просто француженка, я люблю свою родину, желаю ей от всей души славы и процветания, и я счастлива, что встретила людей, служащих ей столь самоотверженно. Я последую вашему замечательному примеру. Прощайте, господа, желаю вам поскорее увидеть нашу дорогую отчизну. Солдаты, как по команде, сдернули фуражки. Фрикет сердечно распрощалась, помахала рукой и выехала из лагеря.
ГЛАВА 4
Отдых! — Переход через реку. — Изобретательность Барки. — Повозка Лефебвра. — Маровуэй. — Дом Фрикет. — Негодование. — Пример англичан. — Сломанная нога. — Хирургическая помощь. — Визит майора. — Медсестра.Дорога от Амбоитромби, как и повсюду отвратительная, пересекала открытое пространство, поросшее кое-где колючим кустарником и веерными пальмами, и доходила до поселка Амбатиколи — десятка полтора хижин, покинутых жителями из-за страха перед наступающей армией. Фрикет и Барка добрались сюда за два часа. Немного отдохнув, они вновь отправились в путь и через некоторое время достигли Маеварано, где обнаружили людей, которые, догадавшись, что никто не собирается их притеснять или покушаться на их скромное имущество, остались дома. Возможно, чтобы шпионить или помогать своим. Фрикет очень хотелось молока, свежих фруктов, но не тут-то было: ей ничего не дали! Однако ее спутник не растерялся: схватив одной рукой горсть блестящих побрякушек, предназначенных для обмена, а другой — дубинку, он принялся так грозно размахивать ею, что путники моментально получили все, что было нужно. Впрочем, мошенники не забывали о французских войсках, располагавшихся неподалеку, поэтому не осмеливались вредить. Отдохнув, маленький караван отправился в Миадану, где и оказался после четырехчасового тяжелого перехода. Путешественники проехали через огромную равнину, где им часто попадались веерные пальмы, столь характерные для мадагаскарского пейзажа. Барка поставил палатку довольно далеко от деревни, и Фрикет, уставшая еще больше, чем накануне, поев, мгновенно уснула, совсем не тревожась о том, что ее окружали дикари, лишенные понятий о совести и чести. Юная француженка находилась всего в двенадцати километрах от Маровуэя, где она рассчитывала отдохнуть денек-другой. Как! Опять отдых? Да, конечно, ведь подобные многочасовые переходы сквозь заросли тропического леса, когда нещадно палит солнце, ужасно утомительны. Для европейцев, привыкших преодолевать большие расстояния по прекрасным дорогам на поездах, машинах или велосипедах, трудно представить себе столь медленное движение и те препятствия, которые приходится преодолевать во время обычного перехода в пятнадцать — двадцать километров. Прежде всего — невыносимая жара, мучит жажда, глаза застилает пот, донимают москиты. Затем — сама дорога: едва заметная, она петляет то вверх, то вниз между скалами, оврагами, грязными ручьями и колючим кустарником. Наконец, неудобства верховой езды: лошадь оступается, падает, продираясь сквозь преграды, к тому же путешественник сидит в крайне неудобном седле и едва-едва сохраняет равновесие. Да, непросто представить себе, что чувствовала Фрикет, когда вы, удобно устроившись в купе вагона первого класса, смотрите на проносящиеся мимо пейзажи и телеграфные столбы. Однако на Мадагаскаре существует свой, менее утомительный, способ передвижения. Речь идет об устройстве, названном филанжан. Оно напоминает обычное кресло, которое соединяется с двумя параллельными шестами. Пассажир усаживается в кресло, и двое профессиональных носильщиков разом поднимают оба шеста, кладут их на плечи и отправляются в путь. Это, в общем, тот же принцип, что у паланкина. Носильщиков — боризана — найти довольно сложно, стоит недешево, и к тому же ими надо уметь управлять. Фрикет оставался только ее зебу, славный Мейс, воплощение кротости и доброты. Выехав часа через полтора из Миадана, путники встретили новое препятствие — им предстояло перейти вброд большую реку. Она называется Андранолава, имеет двенадцать метров в ширину и два с половиной метра в глубину, преодолеть ее нелегко. Когда-то здесь был мост, построенный военными, но он обвалился. До войны были лодочники, которые за небольшое вознаграждение возили пассажиров от одного берега к другому. Но они бежали при наступлении французов. Фрикет и ее верные друзья остановились, не зная, что делать. Девушке пришлось спуститься на землю, а Барка тут же стал разрабатывать план действий и, как обычно, кое-что придумал. Неподалеку было несколько повозок Лефебвра, брошенных проводниками из-за их полной непригодности к местным условиям: лучше было навьючить поклажу на мула, так как и пустая повозка представляла собой большую тяжесть и даже без всякого груза едва могла передвигаться. Итак, Барка выбрал самую близкую к реке повозку. Она была опрокинута и, словно в отчаянии, устремляла вверх свои оглобли, как бессильно воздетые к небу руки. Араб знал, как переделать повозку в судно и обратно: он снял шпонки и колеса и получил таким образом металлический ящик, похожий на вагонетку. «Ну и что он будет делать дальше?» — недоумевала Фрикет, глядя, как быстро и уверенно действует ее спутник. Вскоре ей все стало понятно. Барка, не тратя лишних слов, вытащил из мешка веревку, отмотал сколько нужно и, привязав один конец к ящику, столкнул его в воду. Ящик держался на поверхности благодаря внутренней перегородке, которая создавала своеобразный непотопляемый балласт. Араб пустился вплавь, зажав между зубами второй конец веревки. Он одним махом переплыл реку и закричал с другого берега: — Твоя садись, госпожа! Фрикет все поняла. Она послушно села в лодку, бывшую прежде повозкой, и Барка потихоньку потянул за веревку. Через две минуты девушка оказалась на том берегу. Зебу, видя, что его любимые хозяева куда-то отправляются, не захотел с ними расставаться. Он направился к воде, и все вещи и провизия обязательно намокли бы и испортились. Но Барка громко закричал и поплыл назад, как раз когда зебу уже намеревался ступить в воду. Араб снял с него поклажу, перенес часть в металлический ящик, опять залез в воду и, натягивая веревку, осуществил транспортировку в два приема, причем в последний раз в компании верного Мейса, который наслаждался неожиданной возможностью поплескаться в воде. Побултыхавшись вволю, зебу выбрался на берег, отряхнулся и стал кататься по траве. — Кароший!.. Мейс кароший!.. — смеялся араб, с которого лило как с водяного. Это было единственное происшествие второго этапа их пути и, наверное, единственный раз, когда повозки Лефебвра пригодились на что-то полезное. Вскоре наши герои приблизились к Маровуэю. — Ой, это же настоящий город! — воскликнула Фрикет. Их прибытие не осталось незамеченным. Солдаты почувствовали, что обретают в лице юной француженки друга и помощницу. Мальгашская часть города являлась одной из крупнейших агломераций на западном побережье Мадагаскара. По числу жителей город был таким же, как Маюнге, в нем насчитывалось почти четыре тысячи человек. Маровуэй имел вытянутую форму с юго-востока на северо-запад, в том же направлении в почти симметричном порядке располагались вдоль широкой улицы все строения. Местное население, как и в Маюнге, было очень неоднородно по составу и по расовой принадлежности. Здесь встречались каменные дома, в которых жили арабы и индейцы, занимавшиеся торговлей, хижины из самана и глины народа антимерина, наконец, убогие лачуги из тростника, убежища сакалавов, многочисленных мальгашских и африканских рабов. Город и окрестности были заполнены французскими военными, которые очень медленно направлялись на Юг, к Тананариве[93], узловому пункту экспедиции, куда солдаты должны были прибыть неизвестно когда после тяжелейших испытаний! Совершенно неожиданно Фрикет удалось найти квартиру. Конечно, это не «Гранд-отель», ни даже скромный постоялый двор: простая хижина на восточной окраине главной улицы, недалеко от речки, именуемой Цимаадзас. Обнаружил ее, разумеется, Барка. Сам он, как настоящий странствующий философ, заявил, что ему для ночлега вполне достаточно небесного свода. Ну а зебу остался вполне доволен отведенным ему пространством со вбитым в землю колышком. Фрикет предстояло прожить в городе неопределенное время, так как войска почти не продвигались вперед из-за трудностей транспортировки. Как и всюду на этой проклятой земле, больных было несчетное количество. Крепкие и полные сил и энергии мужчины вначале ощущали недомогание без видимой причины, затем теряли бодрость, аппетит, начинали обливаться потом, быстро худели и бледнели. Они становились легкой добычей разных болезней, которые уносили их, ослабевших и обессилевших, в течение нескольких дней. Объяснение следовало искать в общей депрессии, вызванной отравляющими кровь миазмами[94], которые превращали безобидные недомогания в смертельные болезни. Фрикет вскоре все поняла, и ее доброе сердце преисполнилось невыносимой болью при виде целых батальонов солдат, измученных страданиями и походивших на призраки. Медицинская помощь только что начала действовать регулярно. Не хватало лекарств, и главный врач был вынужден прибегнуть к изъятию из корабельных запасов и даже ветеринарных аптечек сульфата, предназначенного для мулов. В общем, нарушений было предостаточно. Девушка, конечно, их замечала, подробно записывая обо всем в свой дневник; но она не могла ограничиться простой критикой происходящего, а с обычной своей энергией принялась за дело. В сопровождении верного араба она поехала верхом на зебу за двадцать километров от города, чтобы передать солдатам подарки, посланные «Французскими Дамами». Там она узнала, что один молодой пехотинец, упав, сломал себе ногу. Ввиду отсутствия медицинской помощи его собирались отправить в Маровуэй. Фрикет обратилась к командиру и легко получила разрешение на то, чтобы наложить фиксирующую повязку. Ей ассистировали фельдшер-капрал и вездесущий Барка. Девушка быстро приготовила все необходимое для придуманного ею средства. Вместо шин использовались ленты из пальмовых листьев, в качестве компресса — сухие лепестки, а лигатурой[95] должны были служить волокна из рафии[96]. Затем, с присущей ей смелостью француженка решила: — Необходимо поставить на место сломанную кость! Вместе с помощниками ей это удалось, и несчастный солдат почувствовал необыкновенное облегчение, не зная, как ему благодарить замечательного доктора. Фрикет наложила повязку и решила довезти больного до города. В госпитале его сразу же осмотрел главный врач. Он поразился изобретательности, а также прекрасно проведенному лечению, увидя же необыкновенные бинты и шины, остался доволен результатом проведенной операции и воскликнул: — Прекрасно!.. Нам здесь делать нечего!.. Кость должна срастись правильно. Побеседовав с Фрикет, медик спросил, где она живет, и даже счел необходимым лично нанести ей визит. Барка как раз в это время занимался обедом. Увидев идущего к ним гостя, он пулей влетел в дом и закричал: — Госпожа!.. Моя вижу начальник! Сюда идти! Девушка удивилась, но ничуть не растерялась. Она поведала доктору свою историю, продемонстрировала каморку — и все это без всякой позы, скромно и сдержанно. Сказала, что стремится принести пользу родной стране. Майор слушал и восхищался этой щедрой, великодушной и такой энергичной и самоотверженной девушкой. Решив, что было бы нелепо не пойти навстречу ее желаниям, которые сочетались со столь высоким профессиональным уровнем, он обратился к Фрикет: — Мадемуазель, к моему огромному сожалению, я не могу дать вам работы, соответствующей вашей квалификации. — Но ведь какая-то работа все же есть? — Да, я могу взять вас к себе в госпиталь. — Тогда примите меня санитаркой… Для меня этого достаточно. — Это неблагодарный и тяжелый труд, вызывающий иногда даже отвращение… грязная работа… — Нет ничего грязного, когда делаешь благородное дело… Облегчать страдания — вот женское предназначение, святой долг. Во время войны и знатные дамы, и женщины из народа самоотверженно ухаживают за больными и ранеными… — Да, вы совершенно правы, мадемуазель. Я, старый военный врач, немало повидал на своем веку, и я знаю, на что способны француженки. Вы достойны ваших предшественниц. — Когда я смогу приступить к своим обязанностям? — Как можно скорее… завтра или сегодня вечером… — Что ж, пусть будет завтра. — Разумеется, вы получите паек. Что же касается денежного довольствия… — Мне не нужны деньги… мы ведь на войне… В крайнем случае меня прокормят мои репортажи. — Вы очень находчивы, мадемуазель, с вами интересно беседовать, — заметил врач, ему было приятно, что у девушки к тому же веселый нрав. — Я оставлю свой багаж в этой хижине, — проговорила Фрикет. — Мне нужны деньги, только чтобы оплатить питание денщика и зебу. — У вас есть денщик?.. — Да, араб, которого я вылечила… и зебу… Два моих первых здешних пациента. — Ну что же, ладно. До завтра, мадемуазель… Рад был с вами познакомиться. За это можно поблагодарить счастливый случай. — А я, сударь, благодарна вам за честь, которую вы мне оказали, придя сюда. Доктор откланялся и вышел, а Барка неподвижно замер у стены, держа руку в военном приветствии. Когда врач пропал из виду, араб обратился к Фрикет со своим обычным невозмутимым видом: — Твоя лучший доктор, чем все майоры… — Почему? — У них только резать!.. Всегда резать! — Может быть, этот не такой… — Как же… у моего, который хотеть резать мой нога, было две нашивки, а у этого целых четыре, так он резать вдвое больше.
На следующий день Фрикет отправилась на работу в военный госпиталь Маровуэя.
ГЛАВА 5
Лечение больных. — Добрый ангел госпиталя. — Отправление. — Эскорт. — Дорога до Амбато. — Капрал Пепен. — Встреча. — Снова повозки Лефебвра. — Этапы перехода. — Прибытие. — Что еще?В госпитале временно разместили более трехсот больных. Медицинского персонала, к сожалению, было явно недостаточно. Все предполагали вначале, что военная экспедиция будет лишь небольшой прогулкой. Злейшим врагом солдат неожиданно стал плохой климат. Едва прибывало пополнение санитаров, как они начинали жаловаться на вялость, утомление и вскоре заболевали сами. Приходилось всеми средствами выходить из трудного положения. Врачи работали без устали, не жалея себя, не считаясь со временем. Пациенты оказывали друг другу помощь, выздоравливающие ухаживали за тяжелобольными. Появление в госпитале Фрикет оказало удивительно благотворное влияние на моральный дух и настроение солдат. Она прибыла сюда посланницей «Французских Дам», неся поддержку и утешение от лица тех, кто с волнением следил издалека за экспедицией и стремился по мере возможности приостановить болезни. Да, Франция не забыла своих несчастных, так быстро повзрослевших сыновей, уехавших здоровыми и веселыми, а теперь ослабевших и подавленных, оказавшихся беззащитнее маленьких детей. Для каждого из них у Фрикет находились добрые слова утешения. Она старалась передать угасающим людям свою энергию, волю к жизни, заставляла себя слушать их, говорила о священном долге, о родине, о близких и часто побеждала апатию и бессилие — этих вечных спутников тропической лихорадки. Она ходила туда-сюда по палатам, не давая себе отдыха, стремительно, легким шагом, отзываясь на все стоны и жалобы, делая все необходимое и, как опытная и внимательная сиделка, не покидала больного до тех пор, пока ее не звал кто-То другой. Никогда она не выказывала усталости, отвращения или досады. Неутомимая и быстрая, она никого не забывала, успевая повсюду и проявляя заботу и сострадание. И все же самым главным было то, что благодаря Фрикет у больных поднималось настроение. Ее по-женски нежные прикосновения, ласковый голос вызывали у бедных юношей воспоминания о матери или старшей сестре, сердца их переполнялись радостью, они боготворили девушку и были готовы отдать за нее свою жизнь, которую она пыталась отвоевать у смерти. И как же трогательно она за ними ухаживала! Чуткость ее была поразительна! «Вот этот, — догадывалась Фрикет, — больше других тоскует по родине». Она заговаривала с пациентом о его семье, о деревенской церкви, добровольно брала на себя обязанности секретаря, писала письма, в которые вкладывала всю душу, и отправляла их по адресу. А тот, другой, неисправимый курильщик, умирал от желания покурить, не осмеливаясь нарушить распорядок. Фрикет приносила ему табак, бумагу, спички, не слишком умело помогала скрутить папиросу и убегала со словами: «Не забудьте, только одну!» Еще один ужасно боялся смерти, и это понятно: тяжело умирать в двадцать лет! Бедняга делился своими страхами с девушкой, которая, притворяясь веселой, клялась, что он непременно выздоровеет, и возвращала бедняге надежду, хотя неумолимая судьба уже готовилась нанести последний удар! У Фрикет, казалось, был дар поспевать всюду, было непонятно, когда она спала, ела и отдыхала. Девушка стала для госпиталя добрым гением, настоящим ангелом, приход которого преобразил все вокруг. Местные врачи высоко ценили и очень хвалили свою помощницу, отзываясь о ней самым лестным образом. А замечание ей делалось только одно: поберечь силы и отдохнуть. Напрасный труд! Она ничего не хотела слышать и упорно продолжала свой благородный труд. К тому же наша парижанка всегда улыбалась, была весела и приветлива. Общительная без вульгарности, быстрая без резкости, заботливая без навязчивости, она вызывала любовь и уважение, сама того не подозревая. Так продолжалось около месяца, день за днем, без передышки, без выходных, и работы не становилось меньше. Число больных все время увеличивалось по мере продвижения колонны в глубь острова. Однажды утром начальник госпиталя, военный врач первой категории, вызвал к себе Фрикет. С невеселым видом он приступил прямо к делу: — Мадемуазель, вы должны нас покинуть. Фрикет побледнела и проговорила: — О сударь, а как же мои бедные больные?.. Чем я могла заслужить подобное отношение?.. Доктор не дослушал: — Успокойтесь, у вас будет еще больше больных, и все они, увы, в самом тяжелом состоянии. — Но я не понимаю… — В двадцати пяти лье от нас, в Меватанана, находятся наши войска. Мы недавно захватили там линию укреплений противника. — Теперь понятно, есть раненые… убитые… — Эту линию мы заняли без боя и без потерь… — Как прекрасно! Ни одного раненого!.. Ни одного убитого! — Тем не менее дела наши плохи, у нас тысяча двести больных! Как вам известно, в Двухсотом линейном убит командир, а от самого полка мало что осталось. Мы разместили в Амбато, на полдороге от Меватанана, полевой госпиталь. Там нужны люди. У меня есть информация от моего коллеги, что им требуется помощь, положение тяжелое. Так вот, хотя мне очень не хочется с вами расставаться, я подумал, что вас следует направить туда. Трудностей и опасностей будет более чем достаточно. — Вы правильно сделали! — воскликнула Фрикет, сияя от восторга. — Я знаю, что вы стойко переносите физические лишения и обладаете твердым характером, вам могут позавидовать многие мужчины. Следовательно, я могу говорить с вами как с мужчиной и солдатом… — Спасибо! — Вы отправитесь в Амбато сегодня же, либо по суше, либо по воде. По прибытии на место вам окажут достойный прием. У Фрикет не хватило духу попрощаться со своими больными. Она попросила доктора передать всем, что должна подчиниться приказу командира. В госпиталь девушка не вернулась. Ей было так грустно, что хотелось плакать. Она решила ехать по суше, хотя этот путь был длиннее и утомительнее, но и интереснее для настоящего путешественника, который жаждет увидеть иные края, стремится получить побольше впечатлений. Барка страшно обрадовался их неожиданной поездке. Он уложил вещи, оседлал Мейса, уже окончательно поправившегося и повеселевшего. Их хозяйка теперь добилась всего, о чем мечтала: ее официально признали военной медсестрой, и она с полным правом могла посвятить себя раненым, число которых день ото дня умножалось. Начальник госпиталя написал ей рекомендацию, где восхвалял ее усердие, способности и профессиональные качества. В ее распоряжение были предоставлены повозка Лефебвра с мулом и погонщиком, а также небольшой эскорт из шести пехотинцев с капралом во главе. После санатория в Носси-Комба эти солдаты возвращались в свой полк, куда они стремились, чтобы помочь товарищам, оказавшимся в беде. Выехали ранним утром. Начало было хорошим: успешная переправа через реку Маровуэй на пароме. Потом стало хуже: путь их лежал по равнине Амбохибани, которую местные жители превратили в огромное рисовое поле. Во время сезона дождей здесь невозможно ни проехать, ни пройти, потому что земляные насыпи, разделяющие плантации, едва видны и наполовину размыты водой. Тем, кто сюда попадает, приходится брести, погрузившись в скользкую вязкую грязь и проваливаясь иногда чуть ли не по пояс. К счастью, сезон дождей уже миновал, и можно было не думать об этих неприятностях. Вместо них путников ожидало нечто иное. Повсюду еще стояли огромные лужи, которые приходилось обходить стороной. Солнце высушило землю, она покрылась широкими трещинами, изрезавшими почву по всем направлениям. Это тоже мешало движению, потому что трещины были глубокие, с отвесными краями, которые к тому же постоянно осыпались. Если люди и животные выбирались из них благополучно, то злосчастная повозка без конца застревала, и ее приходилось толкать, вытаскивать, переносить!.. Барка, оптимист по натуре, утверждал, что дальше дорога будет лучше и все пойдет «как по рельсам». В других условиях Фрикет просто бросила бы повозку, но теперь в ней лежали вещевые мешки солдат, и ей вовсе не хотелось заставлять их тащить эту тяжесть на себе. Они радовались, как дети на каникулах, пели, смеялись и шутили, глядя на неповоротливую повозку. А славный капрал, плотный, с хитрыми глазами, в котором по произношению чувствовался за версту парижанин, сочинил забавные куплеты, очень развеселившие Фрикет. Он пел, немного фальшивя, такую песенку:
ГЛАВА 6
По воде. — В Сюбербивиле. — Бедные больные! — Все больны. — Благодарность. — Барка становится санитаром. — Фантазия. — 14 июля. — Кресты и кресты. — Умирающий.— Итак, сударь, — сказала Фрикет начальнику госпиталя в Амбато, — неужели я должна уехать сразу и не могу даже остановиться, чтобы распаковать свои вещи? — Да, мадемуазель, нельзя терять ни минуты. — Значит, вам мои услуги не нужны? — Напротив, очень нужны! Но у нас здесь все же неплохие условия. У больных есть крыша над головой, белье, лекарства и уход… А вот в Меватанане или, точнее, в Сюбербивиле нет ничего! Там очень тяжелое положение! Все нужно организовать, слышите, все! Мы разговариваем, а люди там умирают! — Ужасно! — Да, хуже некуда… Впрочем, сами увидите. Больше тысячи больных, а врачей всего четверо и шестеро санитаров! Вам будет много работы. — Хорошо, сударь, я выезжаю немедленно. — Наша канонерка[98] «Ля зеле» поведет сегодня грузовую баржу в Меватанану. Вы можете поехать на ней и взять с собой кое-что из багажа, а остальное привезут потом. Счастливого пути, мадемуазель, и спасибо за все, что вы сделали для наших больных. Фрикет попрощалась и, все еще обдумывая слова доктора, направилась к Барке и Мейсу, ожидавшим ее неподалеку. Сообщив о неожиданном повороте их судьбы, она сказала, что им придется добираться по суше и встретиться с ней либо в Меватанане, либо в Сюбербивиле. — Карашо, карашо! — говорил араб. — Моя знать эти места как свой карман, я тебя найду… И за нашего Мейса не надо беспокоиться, и за моя тоже. — Ладно, я на тебя надеюсь. До свидания, друг мой. — До видания, госпожа, частливо пути! Получив бумагу о своем новом назначении, Фрикет отправилась на канонерскую лодку, где ее приняли очень любезно. О ней уже были наслышаны, встречали везде с почетом и оказывали знаки внимания. На следующий день она пересела около Манганоро на скорый поезд и пустилась далее сухопутным путем до Сюбербивиля, куда добралась через два дня после отъезда из Амбато. О Сюбербивиле особенно нечего сказать: это даже не город, а поселок, возникший на золотоносном участке и основанный одним богатым французом, господином Сюберби, который, по всей видимости, немало постарался, чтобы началась война. Что ж, если это правда, пусть ничто не отягощает его золота! Начальник госпиталя в Амбато не преувеличивал: здесь царило всеобщее смятение, грязь была ужасная. Больные находились в наспех сооруженном укрытии, под легким навесом. Все пространство заполняли несчастные, ждавшие первой помощи, и, пытаясь оказать ее, персонал буквально сбивался с ног. Фрикет сразу направилась к самым тяжелым больным; измученные страданиями, они уже потеряли всякую надежду. Она обнаружила несчастных кули, лежащих друг над другом на импровизированных койках в страшной тесноте, по двое, по трое, в отвратительной грязи. Алжирцы, уехав из дому, ни разу не переодевались, сплошь были покрыты червями. Многие болели дизентерией и корчились и умирали среди кровавых испражнений, источавших невыносимый запах. Юная француженка металась от одного к другому, обрабатывала раны, готовила лекарства. У нее нашлись преданные помощники, старавшиеся ей подражать. Да, это была тяжелая и грязная работа! Приходилось подавлять отвращение… Какой же удивительной энергией надо было обладать, чтобы постоянно ухаживать за теми, кто уже потерял человеческий облик. И в то же время ни с чем не сравнима радость врача, промывшего рану и услышавшего вздох облегчения: появляется надежда на выздоровление. Эти люди, полудикари, радовались, как маленькие дети, при виде изящной девушки с тонким лицом и нежным румянцем, которая, не замечая времени и не щадя себя, боролась за их жизнь. На черных лицах, искаженных страданием и похожих на страшные маски, появлялось подобие улыбки, никогда не плакавшие глаза увлажнялись слезами, и они стекали по щекам, как капли росы по иссохшей траве. Все они были мусульманами, привыкшими считать женщину низшим существом, и они восхищались ее красотой, сильным характером и образованностью. Фрикет стала для них каким-то чудом, добрым ангелом, творившим добро. Они беспрекословно слушались ее взгляда, улыбки, она подчиняла их целиком своей воле, которая настойчиво вела к исцелению. Постепенно в госпитале воцарились чистота и порядок. Хороший пример оказался заразителен, выздоравливающие старались помогать Фрикет. Все мало-помалу налаживалось. Проделав немалый путь по суше, к назначенному месту встречи прибыл Барка. Он тоже стал добровольным санитаром, брался за любые работы, прежде всего за те, где требовались мужчины, образцово исполняя все поручения. Приказания шли по цепочке: от главврача к Фрикет, от нее — к Барке, а тот, в свою очередь, спешил их тут же исполнить. Иногда дело не обходилось без комических происшествий. Это касалось, в частности, известного медицинского приспособления, особенно любимого врачами Мольера[99]. Наша эпоха внесла в него некоторые усовершенствования, но применение осталось прежним, и Барка, вслед за доктором Флераном, широко использовал его по своему усмотрению. Аппарат[100] имеет длинную трубку и изогнутый наконечник из слоновой кости, и алжирец решил, что он похож на кальян[101]. Барка так его и назвал — мой кальян. — Ну что, приятель, выкури трубочку, — говорил он больному, которому прописывали эту особого свойства процедуру. Приятель не хотел, упирался, даже намеревался сбежать. Барка проявлял настойчивость, казался непреклонным и в конце концов добивался успеха: — Начальник сказать, так надо! И барышень-доктор тоже сказать! Ну-ка, покури кальян… Он заливался смехом, и все начинали смеяться, и в эти минуты всеобщего веселья болезнь, казалось, отступала и давала передышку. Странное дело: находясь в самом очаге инфекций, Фрикет чувствовала себя превосходно. Она ела на ходу, мало спала, никогда не отдыхала, но ни разу не ощутила усталости или недомогания. Да, многие женщины, внешне хрупкие и слабые, в работе оказываются гораздо выносливее мужчин. Испытания и тяготы жизни закаляют их, самопожертвование придает им сил. Величие души не может возникнуть на несколько часов или несколько дней, эта черта присуща человеку всю жизнь! Время шло. В Сюбербивиле все было спокойно, Фрикет все так же работала. И вот наступил праздник 14 июля. Солдаты по приказу командира получили трехдневный отдых и пакет с подарками. Конечно, по традиции, не обошлось без парада. Затем сомалийцы и алжирцы устроили скачки на мулах. Вечером в городе было шествие с разноцветными факелами, а после отбоя офицеры пили пунш. Официальное веселье закончилось, а болезнь и страдания не знали отдыха, людям все так же требовалась помощь.
Фрикет вздрогнула от неожиданности, услышав стук копыт мула. Ей хорошо было известно, что он предвещал прибытие нового больного. «Еще один, — подумала она… — Боже, когда же ты сжалишься и прекратишь поток этих несчастных!» Санитары на руках сняли больного с телеги. При виде девушки на исхудавшем бледном лице показалась робкая улыбка. Несчастного уложили на носилки, Фрикет подошла к нему. Он поднес руку к козырьку и прошептал: — Здравствуйте, мадемуазель. Это я… Пепен, капрал Пепен… меня трудно узнать… тем более что я все еще не сержант. До этого дня Фрикет одинаково относилась ко всем своим больным, никого не выделяя, но прибытие капрала Пепена все изменило… Сердце ее дрогнуло. Парижанин не был для нее обыкновенным пациентом. Это был товарищ, друг, земляк, как говорили в полку. К тому же, как оказалось, они ходили в одну школу, были соседями, знали семьи друг друга. Их отцы, гордившиеся, что их отпрыски выросли настоящими патриотами, и матери, беспрестанно тревожившиеся за детей, часто виделись на улице. Случайная встреча молодых людей была трогательной и радостной. Капрал, не терявший веселья и бодрости в любых условиях, был, казалось, не из тех, кто навсегда остается в чужой земле, а из тех, кто побеждает недуги и смерть и с честью выходит из любых испытаний. Тем тяжелее было видеть его умирающим. Заразился он неожиданно. Три дня назад у него обнаружилась острая дизентерия, которая сопровождалась лихорадкой, и буквально сломила молодого человека. Он измучился от колик, сжигавших его внутренности раскаленным железом, лицо его то и дело искажалось от боли. Стараясь не стонать, он кусал свою простыню и с отчаянием глядел на девушку, как будто умоляя: «Сделай же что-нибудь!.. Спаси меня!» Фрикет срочно послала за врачом и дала больному большую дозу опиума. Затем она внимательно осмотрела его.
ГЛАВА 7
Ужасная болезнь. — Отчаянные усилия. — Самоотверженность. — Надежда. — Хитрость. —Тревоги. — Священник. — Последняя воля. — Агония. — На знамя равняйсь! Смирно!Изменившееся до неузнаваемости лицо парижанина выражало тоску и отчаяние. Язык, почерневший и иссохший, судорожно дергался, а слизистая оболочка рта уже покрылась струпьями. Фрикет сразу поняла, что состояние больного крайне тяжелое, почти безнадежное. Опиум не принес облегчения, надо было срочно что-то делать. Девушка решилась на инъекцию морфия. Пепену стало чуть лучше, он погрузился в сон, и муки его на какое-то время прекратились. В этот момент появился главный врач, который тоже внимательно осмотрел больного, одобрил все принятые меры и с грустью покачал головой. Когда он собрался уходить, девушка негромко спросила его об исходе болезни. — Капрал обречен, надеяться можно лишь на чудо, — ответил врач. Фрикет в ужасе прошептала: — Несчастные родители… Он — единственный сын… Какой удар! — Молодой человек — ваш знакомый, мадемуазель? — Да, в некотором роде… Мы — соседи по предместью… Это прекрасные люди, честные, трудолюбивые… — Страшное несчастье, но что делать… Неизвестно, как долго мы еще будем платить войне эту ужасную дань! Попробую сделать невозможное… И вы тоже станете бороться! — Конечно, сударь! — Хотя я вам все время твержу, что надо отдыхать, беречь силы. — Когда сами вы и ваши коллеги не щадите себя?.. Я начну отдыхать, когда больше не будет больных. — Госпиталь для нас поле боя, и долг наш сражаться со смертью. — Я тоже так думаю, сударь. Вы подаете всем нам пример, достойный подражания, я хочу походить на вас! Если я не выдержу здешних условий, то умру, по крайней мере, с сознанием выполненного долга и служения Родине! Не теряя ни минуты, врач энергично взялся за лечение, применяя самые сильные средства против дизентерии. Хлористая ртуть, строжайшая диета, тщательный уход. Каждый стремился что-нибудь сделать для бедного молодого человека, который оставался одним из самых тяжелых больных. В первые дни самочувствие капрала немного улучшилось, он приободрился и начал надеяться на выздоровление. К нему почти вернулась его прежняя веселость, однако она была наигранной, и Фрикет это не нравилось. Парижанин не знал, как ее благодарить, и не скупился на похвалы: — Какая же вы добрая, мадемуазель Фрикет! Да, добрая и заботливая, как мать или сестра… А ведь я для вас человек едва знакомый, почти чужой. — Вы — француз, солдат, вы воевали за Родину… Я тоже люблю свою страну. Разве я могу вести себя иначе? — Да, я все понимаю, мадемуазель, но вы и в самом деле достойны восхищения. Если мне удастся выкарабкаться, я перед вами навеки в долгу… — Обязательно, мой милый, вы обязательно поправитесь. — И наши старики в предместье увидят, как я возвращаюсь к себе домой. Бедная мамочка, как она обрадуется, когда узнает, что сын ее выздоровел благодаря вам… О, она у меня замечательная, просто золото. И отец тоже славный… папаша Пепен, по прозвищу Рифлар, такой веселый и добрый. Я так и вижу, как он сидит и вынимает соринку из часов… В левом глазу у него монокль[102], и он делает вот такую гримасу… И бедняга пытался изобразить своего отца: он подмигивал глазом, притворяясь, что туда вставлено увеличительное стеклышко, и смеялся, хотя по его впалым щекам катились слезы. Фрикет слушала, растроганная воспоминаниями, и живо представляла себе этот уголок предместья. Все здесь было мило ее сердцу — экипажи, трамваи, повозки, тележки, торговки, ротозеи, знакомые вывески. Вот кондитер: у него она покупала сладости, отдавая монетки, которыми награждала ее мать за школьные успехи. Вот старая торговка и ее газетный киоск; в ногах у нее грелка, а вот «Журнал путешествий» с прекрасными гравюрами. Мастерская, где работал отец, горы стружки, в которых она играла, резвилась, как чертенок, складывая в кучу щепки… Милая матушка: она по сто раз перечитывает письма из Японии, из Джибути, с Мадагаскара и смотрит на большую фотографию дочери, на ее награды за отличную учебу в коллеже и дипломы бакалавра филологии и естественных наук, висящие на стене на почетном месте. Кажется, что слышен голос отца, оторвавшегося от работы и говорящего самому себе: — Интересно, что сейчас делает наша дочурка? И где она, наша Фрикет? А мать сидит одна в столовой и говорит с ней, как будто она рядом: — Дочка, зачем же ты от нас уехала? Фрикет вспоминала дом, родных, ей казалось, что она вот-вот разрыдается, девушка едва сдерживала слезы. В этот момент умирающий застонал, и мысли медсестры вновь обратились к печальной реальности. Мадагаскар! Честь знамени, война, страдания, болезнь… Ад, в котором силились уцелеть наши солдаты. …Прошла неделя, больному становилось то лучше, то хуже. Он держался стойко и не сдавался. Бедняге не хотелось умирать, он изо всех сил боролся со смертью. Наступило 28 июля, день его рождения. Капралу исполнилось 22 года. Как грустно! Утром у больного произошло такое сильное кишечное кровотечение, что он потерял сознание. Фрикет решила, что все кончено. Вероятно, во Франции он смог бы выжить, а здесь не оставалось никакой надежды. После инъекции кофеина[103] и эфира[104] молодой человек пришел в себя. Он понимал, что обречен, и собирался достойно встретить смерть. Бедняга был в полном сознании и ощущал, как на него надвигается то «небытие», которого страшатся даже самые храбрые. Пепен долго смотрел на склонившуюся над ним Фрикет, а затем едва слышно прошептал: — Прощайте, мадемуазель… Когда вернетесь домой… скажите моим… отцу, матушке… всем… Скажите им, что я умер с честью и в свой смертный час думал о них… Отдайте им мои бумаги, военный билет… в нем нет ни одного замечания… У меня на груди медальон… Пусть меня с ним и похоронят, там портрет… одной девушки, на которой я по возвращении хотел жениться… Сделаете так? — Клянусь, — пообещала Фрикет, задыхаясь от слез. — И спасибо за все, добрый мой ангел… Как раз в этот момент возле капрала остановился священник, совершавший обход палат. Он был высок ростом, с открытым добрым лицом и длинной бородой. Парижанин обратился к нему: — Здравствуйте, господин кюре… хорошо, что вы пришли… Мне хотелось бы немного поговорить с вами… наедине… Вы не рассердитесь, мадемуазель Фрикет? Мне надо кое в чем признаться господину кюре… — Я к вашим услугам, сын мой, — проговорил священник, взяв Пепена за руку. Фрикет удалилась. Через пять минут кюре позвал ее: — Он умирает. Голос священника дрожал, и, хотя ему часто приходилось видеть смерть, он никак не мог к ней привыкнуть. Девушка подошла к умирающему. Глаза его уже заволакивал туман, дыхание становилось прерывистым, потрескавшиеся губы дергались, приоткрывая зубы в страшной усмешке мертвеца. Это была агония. Мог ли он еще видеть и слышать? В его последний час возле него находились близкие ему люди, они с глубокой скорбью ожидали, когда душа его вознесется к Богу. Губы еще шевелились, слова были бессвязны, но иногда можно было понять: — Отец, матушка… я ухожу… далеко… навсегда… Париж, друзья… О, дорогая матушка, как я страдаю… Прощайте… Издали донесся звук трубы — маршировали войска. Капрал приподнялся и пронзительно крикнул: — На знамя равняйсь! Смирно!.. Несчастный упал на постель и затих, страдания его прекратились. Фрикет и священник опустились на колени и начали молиться, а больные с ужасом прошептали: — Еще один! Окончив молитву, девушка, бледная как полотно, приблизилась к капралу и закрыла ему глаза. Рыдания душили ее. — Прощай, верный товарищ… С помощью Барки она приступила к омовению тела, затем взяла бумаги покойного и посидела возле, пока его не отнесли в морг. Но она не могла позволить себе долго плакать, ведь кругом были другие несчастные… И снова Фрикет погрузилась в свою работу, по-прежнему она боролась за жизни больных, делая все, что было в ее силах, и даже больше.
ГЛАВА 8
Похороны. — Процессия. — Венки. — Фрикет и капитан идут во главе. — Последнее «прощай». — Командующий принимает меры. — Французским журналистам ехать не разрешается. — Фрикет отправляется в путь.Фрикет предупредила Барку: — Ты должен действовать! Надо раздобыть доски для гроба… Я не хочу, чтобы капрала хоронили в простыне. — Да, госпожа, моя будет находить. — Вот тебе деньги, может быть, купишь… — Если моя не купить, тогда будет украсть. Покойников было столько, что уже давно для гробов не хватало досок. Умерших заворачивали в полотно и хоронили. Потом не стало хватать людей, чтобы рыть могилы. Но девушке хотелось, чтобы капралу были оказаны почести и похороны его совершились в соответствии с нашими представлениями о приличиях. Невыносимо было думать, что его бедное тело будет просто засыпано землей и может оказаться добычей диких зверей. Барка пустился на поиски и наконец, зайдя в один из магазинов господина Сюберби, в котором изготовлялось все, что нужно для промывки золотого песка, обнаружил там забытые кем-то доски. Они были ровные и гладкие и вполне годились для гроба. Фрикет проследила, чтобы тело капрала положили в гроб в ее присутствии, и, чтобы ему не было жестко, положила туда пальмовых листьев. После этого Барка заколотил крышку и проговорил, вытирая пот: — Он — карошая солдат… карошая француз… Барка сильно жалеть… Теперь будет прочесть молитвы ваш мулла. Похороны были назначены на раннее утро. Это случалось каждый день, но обстановка неизменно оставалась торжественной. В назначенный час перед моргом выстроилась похоронная процессия. Ее возглавили капитан, в роте которого служил капрал, и Фрикет, представлявшая родственников покойного. Священник, облаченный в стихарь[105] и епитрахиль[106], находился возле гроба, его помощником был высокий бородатый солдат Иностранного легиона. Он нес кропильницу. Поверх гроба лежали вещи капрала: гимнастерка, фуражка и сабля. Несли его четверо негров, крепкие, сильные и опытные носильщики. Далее следовал почетный караул: два отделения с командиром в полном боевом облачении. Четыре солдата несли венки из живых цветов, один — от местных офицеров, второй — от друзей, капрала, третий — от больных, а четвертый — от Фрикет. Венки не походили на пышные сооружения, изготовляемые специалистами своего дела. Ничего показного, напоминающего официальный, нередко фальшиво-лицемерный траур: великолепные цветы были обвиты вокруг снятых с бочек обручей. Так трогательно провожали эти люди своего товарища в последний путь, и горе их было искренним. Они оплакивали человека, который сражался, надеялся и страдал вместе с ними. Сразу за капитаном и Фрикет шли офицеры в парадной форме. Это были друзья, а также представители от разных воинских частей. Все они выглядели больными, измученными, их терзала лихорадка, и они с тревогой спрашивали себя, не придет ли вскоре и их черед. Священник торжественно прочитал короткую молитву и сделал знак носильщикам. Они подняли гроб, и процессия направилась к кладбищу. Шли они ритмично, плавно, неся мертвого, как будто он был живым. По дороге им приходилось подставлять под брусья носилок то одно, то другое плечо, но ни разу ноша не опустилась на землю. Неподалеку от госпиталя находилась часовня: соломенная хижина с крестом на крыше. Каждое утро священник служил в ней мессу[107]. Алтарь[108] заменял деревянный стол, накрытый простыней. Но сейчас часовня была разрушена, это случилось два дня назад во время бури. Вот почему траурный кортеж не сделал, как полагается, остановки в церкви, а держал путь сразу на кладбище, которое располагалось на открытом и ровном участке, где изредка попадались пальмы, напоминающие огромный веер. Войска в Сюбербивиле обосновались сравнительно недавно, но могил — увы! — было здесь уже очень много. Среди чахлой травы в симметричном порядке тянулись два параллельных ряда надгробных холмиков. Над каждым стоял деревянный крест с железной табличкой, на которой указывались фамилия, звание и возраст покойного. Было видно, что копали не так давно, земля была рыхлой, таблички еще не успели покрыться ржавчиной, и на многих венках еще не завяли цветы. Смерть была частым гостем в этих местах, и кладбище заполнялось со страшной быстротой. Покрытое телами убитых, застывшими в невообразимых позах, выражающих отчаяние и предсмертную муку, поле сражения после боя представляет собой ужасное зрелище. Но там, по крайней мере, в воздухе чувствуется запах пороха, а сердце наполняет праведный гнев. Это можно понять — и тяжелое впечатление, и волнение. Вид кладбища вызывает совсем иные чувства: никакого величия, здесь смерть предстает во всей своей бессмысленной и ужасной обыденности. Нет военного салюта, героев и медных труб. Все смешалось на небольшом клочке земли — люди, их подвиги, заслуги и звания. Холмик в шесть футов[109], крест и фамилия, которую назавтра забудут! Вот почему пришедшие на кладбище старались не смотреть на эту проклятую землю. Каждого терзала мысль: «Может быть, и я лягу там завтра!» Носильщики поставили гроб около глубокой ямы, в которую его должны были опустить. Капеллан[110] начал отпевание, и голос его резко зазвучал в тишине. У многих перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Присутствующие оплакивали не только покойника, но и самих себя! Наконец гроб медленно опустили в могилу. Настал самый тяжелый момент: расставание с близким человеком, с тем, кто любил, страдал, был верен идеалам Родины и долга, — этот человек сейчас должен был уйти навсегда! Все глаза устремились на деревянный саркофаг[111], скрывавший тело отважного парижанина. Казалось, что он что-нибудь скажет, что друзья увидят его опять… Все было кончено. Капитан закашлялся, не в силах скрыть своих чувств. Это был старый офицер, сын крестьянина, оставшийся простым солдатом. Он прекрасно разбирался в людях и от всего сердца полюбил славного капрала. Капитан не умел хорошо говорить, но слова его шли от души и находили отклик у остальных. — Товарищи! — сказал он, повернувшись к присутствующим. — Сегодня мы прощаемся с капралом Пепеном. Мне кажется, что я похоронил сына. Смерть уже не раз забирала у меня людей, но никогда еще мне не было так больно. Капрал был лучшим из лучших, верным долгу, смелым патриотом. И еще: он был такой веселый, любил пошутить, как истинный парижанин. Мы все любили и ценили его. Он был честным и бескорыстным, готовым пожертвовать собой во имя других. Он навсегда останется в наших сердцах, мы не забудем его! Тяжело говорить, но ведь он заболел, пытаясь помочь своим товарищам. Он любил людей, Францию и умер с честью, никакие страдания не сломили его. Прими же, Пепен, наше последнее «прощай». Я говорю это и от имени твоих близких, которых нет с нами, и от имени твоих боевых товарищей! Полковник выступил вперед, пожал руку Фрикет и старому офицеру, бросил на крышку гроба горсть земли и с тяжелым сердцем двинулся в обратный путь. Его примеру последовали офицеры, потом солдаты. Когда все разошлись, Фрикет сняла с одного из венков цветок, положила его в конверт и подумала: «Я отошлю этот цветок его матери». Потом она прочла молитву. Ей хотелось побыть одной. Вскоре девушка вернулась в госпиталь, где ее, как всегда, ждала работа. Она поможет ей отвлечься от горя. …Так прошло несколько недель. Фрикет, не щадя себя, ухаживала за больными. Между тем число их не уменьшалось, и она с ужасом видела, что ситуация становится все серьезней. К этому времени работа персонала понемногу наладилась. Снабжение продуктами и лекарствами шло без перебоев, так же как и перевозка госпитализированных. Фрикет удалось познакомиться с французскими журналистами, которые отнеслись к ней с большой симпатией. Наступило 15 августа. Время проходило, войска не продвигались, а, по выражению одного из корреспондентов, рассеивались. С каждым днем командующий видел все яснее, что основные силы французов не смогут дойти до Тананаривы раньше сезона дождей. Следовало торопиться, иначе они рисковали провести зиму в ужасных условиях и потерять с таким трудом завоеванные позиции. Тогда он решил принять чрезвычайные меры и, составив подвижную колонну из самых здоровых людей, взяв только необходимое и совершив марш-бросок, достигнуть с ними столицы. Сбор этой группы должен был происходить в Андрибе, местечке, расположенном примерно в восьмидесяти километрах к югу от Сюбербивиля. По расчетам командующего, отсюда можно было дойти до Тананаривы за двадцать дней. Французские корреспонденты: Пажес из «Голуа», Будуреск из «Пети Марсейе», Дельорб из «Тан», Тинер из «Монд иллюстрэ», Фабер из «Ажанс Ава» — собирались выехать вместе с экспедицией, воспользовавшись, как они делали раньше, специальным разрешением военного министра. Они надеялись получить его, так как уже давно были в стране и мужественно переносили все тяготы и лишения армейской жизни. Наши доблестные соотечественники намеревались выехать в Андрибу, движимые чувством патриотизма и профессионального долга. Они не знали, доведется ли им остаться в живых. Их опасения имели основания: один из журналистов, господин Фабер, недавно скончался. И вот, к своему крайнему удивлению, репортеры получили письмо, в котором командующий уведомлял их о том, что они могут отправиться за специальным отрядом, но что им следует подождать, когда в Тананариву войдут главные силы и дороги станут более приспособленными для путешествий. Этот неожиданный отказ поразил журналистов. В особенности расстроилась Фрикет, оскорбленная в своих лучших чувствах. Она отреагировала чисто по-женски: ей пришла в голову мысль действовать без разрешения. А как же иначе! Извечная женская непоследовательность. Чем сильнее запрещают, тем больше хочется. Lex irritat peccatum. А наша героиня была настоящей женщиной. Кроме того, ей нестерпимо хотелось вырваться из госпиталя, но не потому, что давали о себе знать усталость и разочарование. Работала она по-прежнему изо всех сил, ухаживая за самыми тяжелыми, не замечая времени и не думая об отдыхе. Но порой девушка испытывала тягу к перемене мест, непреодолимое желание уехать. Помогать несчастным можно было повсюду: ее услуги, конечно, пригодились бы и во время движения воинской колонны, ведь в этом походе рисковали заболеть очень многие. Такая жизнь более всего отвечала ее деятельной натуре, стремившейся к необыкновенным приключениям. Молодая парижанка обратилась за разрешением, которого не получили французские журналисты, надеясь, что, поскольку она выполняла обязанности медсестры, ей не откажут, и по своей наивности думала, что заслуживает того же, чего удалось добиться одному журналисту-немцу. Разумеется, в штабе на ее доводы не обратили никакого внимания, и Фрикет получила вежливый отказ. У нас уже стало правилом, что примерным французам не разрешается приближаться к нашим укреплениям. Другое дело итальянцы, которые появляются каждый день, то в качестве землекопов, то экспедиторов грузов. Когда вам запрещают уехать, все мысли сводятся только к тому, как этот запрет обойти. Фрикет рассуждала в полном согласии с логикой женщины, которая во что бы то ни стало добивается своего: «Я вольна распоряжаться собой и своим временем, как хочу. А если так, то я еду». Она приказала Барке готовиться к отъезду. Чрезвычайно довольный таким поворотом событий алжирец заявил, что на сборы ему нужно два дня. Девушка щедро предоставила ему четыре, но с условием, что ничего не будет забыто. Барка доверху набил свой мешок провизией, сложил вещи в кучу так, что получилась настоящая пирамида. Изрядно растолстевшему Мейсу тоже достался немалый груз: кроме всего прочего на него навьючили и полный набор медикаментов. Вспомнили и об оружии: Фрикет взяла с собой револьвер, а ее денщик — охотничье ружье. В одно прекрасное утро наши герои тронулись в путь. Фрикет казалось, что они взяли слишком мало продуктов. Но денщик успокоил ее: во время похода можно раздобыть столько сухарей и консервов, что хватит на целое войско. Друзья уезжали с легким сердцем и не подозревали об ожидавших их драматических приключениях.
ГЛАВА 9
Все в порядке. — Одни. — Привал. — Опасения. — К оружию! — Атака. — Пленники. — Переводчик. — Методист и папист. — Фрикет бьет тою, кто хотел побить ее. — Барка предпочитает быть убитым, а не повешенным.Вначале все шло замечательно. Враги, трусливые и плохо организованные, без всякого сопротивления отступали перед горсткой отважных людей. Именно на такой эффект и рассчитывал генерал Дюшен, задумав свой план, который в других условиях казался бы безумием. У наступавших имелась связь лишь с небольшими отрядами, и противник вполне мог прервать ее одним решительным ударом с тыла. Фрикет и Барка путешествовали в относительной безопасности. Спешить было некуда. Через некоторое время они приехали на пост Тарасоатра, подвергшийся первого июля ожесточенной атаке мальгашей. Алжирские пехотинцы с командиром Лентоне во главе не дрогнули и отбили натиск врага. Этот важный стратегический пункт охранялся очень тщательно. Наших путников устроили на ночлег в уютных хижинах. На следующий день они перебрались через реку Андрокели. Через второй поток — Мандендамбу — переправились с большим трудом, разбив лагерь для отдыха в поселке с таким же названием. Дорога шла в гору и местами была чрезвычайно тяжелой. Дальше пришлось преодолеть еще две реки — Ампазиру и Мороколои; на берегу последней располагалась деревушка из тридцати хижин, в которых размещался небольшой отряд. Переход от Мороколои до Молаи был очень длинным и тяжелым: извивающаяся среди скал тропинка, крутые подъемы. Ужасная жара сморила даже неутомимого Барку. Славный зебу едва передвигал ноги; он вытягивал шею, потряхивал головой и всем своим видом выражал обиду. К тому же за время безделья в Сюбербивиле он потерял прежнюю прыть. Такими темпами нельзя было дойти не только до Малаи, крупного поселения туземцев антимерино, где находился французский гарнизон, но даже до маленькой деревни Амбиакели. Хорошенько поразмыслив, наши герои решили сделать привал. Привычное дело для таких опытных путешественников, в особенности для старого солдата. И все же Барка немного тревожился. Ему казалось, что за большими камнями прячутся какие-то черные люди в белой одежде. Араб ничего не сказал Фрикет: ему не хотелось без особых причин беспокоить девушку, хотя, совсем одни, они легко могли стать жертвами грабителей. Дождя не предвиделось, однако Барка поставил палатку, разложил для француженки походную кровать, привязал зебу на короткую веревку, зарядил оба ствола ружья, вынул из ножен кинжал и принялся за стряпню. Поели они с аппетитом, немного поболтали. Барка уселся и закурил, а Фрикет, изнемогавшая от усталости, легла и заснула. Араб нервничал, ему не спалось: все время чудились какие-то шорохи, непонятные звуки. Зато славный Мейс сохранял полное спокойствие: наработавшись за день, он восстанавливал силы и с невозмутимым видом пережевывал пищу. Посреди ночи Барке изменили силы, он перестал вглядываться в темноту и на какое-то время задремал. Сколько он спал — пять минут, полчаса? Внезапно его разбудили ужасные крики. Привычки старого солдата не забываются: еще не проснувшись, он схватил свое ружье и громко крикнул: — К оружию! Из палатки, держа в руке револьвер, выскочила Фрикет. Конечно, это было нападение, обычное для мальгашей, которые любят подкрасться ночью и застать противника врасплох. Держались они тесной группой; сколько их было? Человек двадцать, может быть, тридцать или еще больше. Чтобы придать себе больше уверенности, они яростно и пронзительно кричали. Видя, что разбойники устремились прямо на них, Барка принялся палить в середину, как будто перед ним была стая ворон. Ружье было заряжено крупной дробью. Выстрелы освещали все как днем: черные тела падали и отчаянно корчились на земле. Фрикет, не поддаваясь страху, также повела стрельбу, стараясь попасть в темные силуэты, которые появлялись с разных сторон. Разбойники знали, что девушка и араб одни и им неоткуда ждать помощи: ведь ближайшие армейские посты далеко. Мальгаши надвигались на путников и уже готовились схватить их своими мерзкими обезьяньими лапами. У Фрикет кончились патроны, а Барка не успевал перезарядить ружье. Тогда старый солдат бесстрашно заслонил собой девушку и, размахивая ружьем как дубиной, попытался отогнать нападавших. От первого же удара приклад разбился в щепки, один из негров упал с проломленной головой. Ствол ружья остался в руках араба, и он с необыкновенной ловкостью стал орудовать им как топором, раздавая удары направо и налево, скрипя при этом зубами и выкрикивая арабский боевой клич: — Аруа! Аруа!.. Однако силы были слишком неравны. Вместо одного поверженного врага из мрака, подобно демонам, появлялось множество других, и все они сразу же бросались на подмогу собратьям. Кто-то из упавших мертвой хваткой вцепился Барке в ногу. Араб нанес врагу страшный удар, потерял равновесие и рухнул на землю. На него кучей навалились туземцы. Вскоре он не мог пошевелиться и, чувствуя, что пойман, печально воскликнул: — Прости, госпожа, твоя денщик больше не может защищать. Фрикет отбивалась изо всех сил, но ее тоже схватили. Барку, несмотря на его отчаянное сопротивление, связали по рукам и ногам. Совершив свое черное дело, разбойники поспешили убраться с дороги и унести раненых и убитых. Девушку усадили на зебу и приставили к ней четырех телохранителей, а Барку, внушавшего туземцам особенный страх, решено было тащить на носилках. Прошло всего несколько минут. Случившееся казалось кошмаром, дурным сном, который должен рассеяться при пробуждении. Фрикет не могла опомниться, ей не верилось, что они вдруг попали в лапы безжалостного врага, жестокого не только по природе, но и по причине военных неудач. Остаток ночи они шли по ужасной, изрезанной ямами, рытвинами и усеянной огромными камнями дороге, которую разбойники, видимо, знали очень неплохо, так как двигались по ней достаточно уверенно. Наконец они прибыли в большую деревню, где выбежавшие им навстречу жители приветствовали их криками, полными одновременно и ярости и веселья. Пленников заперли в соломенной хижине, а зебу освободили от груза и привязали к дереву. Наступал рассвет. Фрикет была относительно свободна: ее не стали связывать, как Барку. Но все равно она не могла выйти наружу: у двери стояли часовые, вооруженные ружьями, копьями и дубинками. На душе было тревожно; девушка без конца задавала себе один и тот же вопрос: «Что же они с нами сделают?» Барка выразил свои мысли одним-единственным восклицанием, которым у мусульман обозначается рок, судьба: — Местуб! («Так уж было суждено!») Он не проронил более ни слова и, покорившись своей участи, замкнулся в гордом молчании. А что еще им оставалось? Бегство было невозможным, спасти их могло только чудо… Когда совсем рассвело, в хижину прибыли гости. Разбойники столпились около входа. Один из них, кое-как говоривший по-французски, обратился к пленникам с надменно-суровым видом. Вместо ответа Барка презрительно отвернулся к стене. На шее у переводчика красовался медный крестик, по всей видимости, украденный у христианина и служивший амулетом[112]. Однако Фрикет подумала, что, может быть, туземец перешел в христианскую веру. А что, если попытаться использовать этот шанс? Потому она поддержала разговор: — Ты хотел узнать, кто я и что делаю в твоей стране? Я — француженка, лечу раненых и больных. Негр перевел ее слова и спросил снова: — Значит, ты нам враг? Фрикет уклонилась от ответа и задала встречный вопрос: — Ты — христианин? — Да. — И я тоже христианка. Почему ты хочешь причинить мне зло? У нас с тобой одна религия. Этот довод не произвел на переводчика ни малейшего впечатления: — У тебе нет такой же религия, как у меня. Хотя ты и христианка… Наш преподобный святой отец говорить, что тебе надо убить. Ты — француженка и папистка[113], тебе надо убить. Что можно было ответить на подобную глупость? Француженка пожала плечами. В это движение она сумела вложить столько негодования, что разбойник ужасно разозлился. Он замахал кулаками, подскочил к ней и заорал: — Проклятая!.. Ты смеяться… Погоди, сейчас получишь! И он поднял руку, чтобы ударить девушку по лицу. Но не тут-то было! Стены хижины состояли из переплетенных между собой стеблей гибкого и прочного тростника. Фрикет выхватила длинный прут и, не думая о последствиях, изо всех сил хлестнула негодяя. Удар пришелся по щеке, на которой сразу же вздулся багровый рубец. Разбойник завопил от ярости и боли и отступил, не помышляя более о нападении. — Ну ты, грязный негр! — в бешенстве крикнула пленница. — Как ты смеешь поднимать на меня руку!.. Вот тебе! Получай! Удары сыпались один за другим, она отхлестала негодяя до крови. Несчастный туземец в страхе уже готов был взмолиться о пощаде. Эта маленькая хрупкая женщина, которая, казалось, и мухи не обидит, проявила поразительную силу, чтобы защититься от оскорблений. По характеру негры походят на китайцев. Если вы уступаете им, они становятся наглыми, но, стоит лишь показать им плеть или применить ее на деле, они сразу делаются тихими и послушными. Переводчик, получив перед своими остолбеневшими от изумления собратьями столь суровый урок, поспешно ретировался за их спины. От боли и унижения он расплакался, всхлипывая как ребенок, его толстые губы обиженно дрожали. Фрикет, державшая в руке прут, напоминала укротительницу диких зверей. Она гордо смотрела на разбойников, в то время как Барка, не в силах сдержать своего восторга, говорил ей: — Твоя молодец, госпожа… Храбрый как госпожа полковник… А девушка все не могла успокоиться: — Вот и добивайтесь равенства рас! Черные братья отплатят вам добром! Между тем переводчик все же пытался сообщить пленникам нечто важное. По приказу высокого старика с обезображенным проказой лицом он снова приблизился к ним и заговорил. Сказанное сводилось к следующему: туземцы вели партизанскую борьбу, сражаясь исключительно для своей выгоды; захватывали больных и раненых, никого не щадили, забирали все, что у тех было, а затем вешали. Отвратительно ухмыляясь, негодяй уточнил: — И вас повесить завтра… Вместе с другими… На большом мангровом дереве! Сегодня его вам показать! Там много французов! При этой угрозе Фрикет стало не по себе, однако она воскликнула: — Вы хотите меня повесить? Ну, это мы еще посмотрим! А ты, Барка, ты им доставишь такую радость? Алжирец с досадой поднял связанные руки и фыркнул, как разъяренный тигр. — Ой, как я могла забыть! Когда все уйдут, я перережу веревки, и мы лучше умрем, чем дадим себя повесить, правда, Барка? — Конечно, госпожа. Карош умирать в бою, плохо на веревке!
ГЛАВА 10
Древо мертвых. — Страшное зрелище. — Напрасные ухищрения. — Барка ест в последний раз. — Фрикет помышляет о самоубийстве. — Воспоминание о Грибуйе. — Спасительная идея. — Немного химии. — Удивительное явление. — Они светятся! — Бегство.Несмотря на все волнения, Фрикет и Барке сильно хотелось есть. Так как пленники должны были хорошо выглядеть, чтобы разбойники смогли получить побольше удовольствия от их казни, им вскоре принесли еду — огромное блюдо вареного риса с курицей, похожее на любимый арабами кускус. Наши герои плотно пообедали, а затем стали обсуждать варианты побега, который казался невозможным, ведь их зорко стерегли. Однако девушка и ее денщик относились к тому типу людей, которые благодаря своей находчивости и энергии никогда не сдаются и не теряются в самых безнадежных ситуациях. Время шло, их смертный час неумолимо приближался, а они все еще не могли ничего придумать. Надеяться только на силу было глупо — их сразу убили бы при малейшем сопротивлении. Нет, добиться успеха можно было лишь хитростью. Но как? Как обмануть этих полудикарей, достаточно все же цивилизованных, чтобы не поддаться на примитивные уловки европейцев? Около полудня, когда солнце палило уже нещадно, за пленниками пришли. Их вывели из хижины, около которой собралось не меньше полусотни негров при полном вооружении. Они, казалось, ничуть не удивились тому, что Барка оказался развязанным, и не стали утруждать себя еще раз. Ему все равно ведь не убежать! Во главе почетного эскорта находилось с полдюжины музыкантов. Из своих варварских инструментов они извлекали ужасные звуки, совершенно невыносимые для слуха цивилизованного человека. — Да, траурный марш могли бы выбрать и получше, — с иронией заметила Фрикет. Барка свирепо оглядел разбойников и проворчал сквозь зубы: — Если бы моя иметь хоть взвод солдат из моего прежнего полка! С винтовками Лебеля! Моя расправляться с негодяями! Трррр! Пленников куда-то повели. Друзья шли в середине процессии, окруженные со всех сторон кричащей и жестикулирующей толпой. Перейдя через два небольших ручья, они оказались в узком ущелье, зажатом между темными скалами, выступавшими из красно-желтой земли, которую на Мадагаскаре можно увидеть на каждом шагу. Наконец перед ними открылась долина; посреди нее росло полузасохшее дерево-великан с уродливым толстым стволом. Взглянув на его огромные ветки, Фрикет побелела как полотно и чуть не потеряла сознание… Страшная картина потрясла ее: на дереве сидели бок о бок тысячи отяжелевших после сытной еды отвратительных черных стервятников[114]. Их головы, лишенные перьев, неподвижно торчали на тонких шеях. Увидев приближающийся кортеж, птицы заволновались, задвигались, захлопали крыльями; вновь предвкушая добычу, они готовились разорвать ее на мелкие кусочки. Разбойники подняли невообразимый шум, они злобно смеялись и кричали, а переводчик, ухмыляясь, проговорил: — Там — дерево бога. Паписты пойдут туда и потом на небо… Да, зрелище было действительно ужасное: на искривленных сучьях болталось около полусотни трупов, подвешенных за шею пальмовыми веревками. Все они были во французской форме — колониальных войск или метрополии: пехотинцы, легионеры, сенегальские стрелки. Одни, по-видимому, умерли уже давно и превратились в настоящие скелеты. От них остались лишь голые кости, которые торчали из мундиров, разорванных в клочья когтями хищных птиц; солдатские каски были надеты на черепа с пустыми глазницами. На других, убитых совсем недавно, еще виднелись остатки кровавой плоти. От этого жуткого скопища мертвецов исходил невыносимый трупный запах. Фрикет едва смогла подавить внезапную тошноту, затем ее охватило чувство гнева и жалости. В первый раз в ее душе не нашлось места состраданию: ей захотелось жестоко отомстить злодеям. Она вспомнила слова Барки и сказала себе: «Да, я тоже не отказалась бы от взвода солдат и с удовольствием посмотрела бы, как они перестреляли бы этих бандитов… Я и сама всадила бы пулю в чью-нибудь физиономию!..» Алжирец с высоты своего огромного роста посылал на головы разбойников страшные проклятия и грозно размахивал кулаком: — Трусливый дикари!.. Подлая негритоса!.. Как вы схватить этих солдат? Вы бояться француз и брать больных и вешать, чтобы считаться храбрый!.. Гнусные гиены![115] И в самом деле, Барка оказался недалек от истины. Негры любят похвастаться и выставляют напоказ свои мнимые победы. С этой целью они вполне могли подбирать больных или даже умерших и подвешивать их на дереве, чтобы продемонстрировать всем и каждому собственную военную силу. Как бы то ни было, пленников ожидал весьма печальный конец. Разбойники, не обращая внимания на араба, продолжали буйное веселье под варварскую какофонию, досадуя в глубине души, что солдат и девушка не молят о пощаде, а ведут себя с необыкновенным достоинством. — Да, да… Их вешать завтра утром! Белый женщин и большой солдат! — выкрикивал переводчик. — Они не сразу умирать, а птицы им клевать глаза и тело… Пленников торжественно отвели назад в хижину и снова окружили двойным кордоном вооруженных до зубов часовых. Оставшись одна, Фрикет, не в силах более сдерживаться, дала волю слезам. Не надо забывать, что она была почти ребенком, а выпавших на ее долю испытаний хватило бы и на несколько крепких мужчин. Она плакала, и ее бедное сердечко разрывалось от отчаяния. Увидев, что его благодетельница горько страдает, Барка страшно разволновался: он ругался по-арабски, яростно скрипел зубами и собирался пробить тростниковую стенку, чтобы выбраться наружу, навстречу неминуемой гибели. Он буквально сходил с ума. И вот настала ночь, последняя для наших героев!.. Им снова принесли еду. Барка набросился на нее с аппетитом старого солдата, который многое повидал на своем веку, говоря при этом: — Нет, не доставлю им такой радости! Не стану умирать на голодный желудок… И кто знает, что случится назавтра? Фрикет, все еще расстроенная, не притронулась к еде, выпив лишь стакан воды. Чуть позже, когда совсем уже стемнело, она немного успокоилась и стала придумывать план побега. После долгих размышлений ей пришлось отказаться от своего намерения из-за его явной нереальности. — Ну что же, значит, смерть! — грустно решила француженка. — Смерти я не боюсь… Она приходит ко всем… Но умереть для потехи банды разбойников, служить им развлечением… Знать, что на казнь тебя поведут жестокие дикари; что тебя растерзают когти и клювы отвратительных грифов…[116] Нет, ни за что… Лучше умереть по своей воле. Выбрать самому свой смертный час, то мгновение, когда ты оказываешься перед вечностью… Приняв это нелегкое решение, девушка чуть улыбнулась и прошептала: — Я веду себя прямо как чудак, который, укрываясь от дождя, бросается в воду. Хочу покончить с собой, чтобы избежать казни… Но ведь это так просто: вдохнуть побольше хлороформа… с хорошей дозой опиума… многие лекарства становятся ядами, все зависит от дозы! Однако Фрикет не хотела решать за двоих, а потому обратилась к алжирцу: — Барка, ты хочешь умереть? — Нет, госпожа, — благоразумно ответил тот, — пусть умирать через много лет. — Да, понятно. А если бы пришлось умереть, чтобы избежать позорной казни, которую готовят для нас эти разбойники… Скажи, неужели ты не предпочел бы покончить с собой? — Конечно, госпожа, если ты захотеть. — Бедный мой Барка, я думаю, что это лучшее, что мы можем сделать. — Самим убить себя? — Да, добровольно… Принять яд. — Ты давать кароший лекарство? — Да… и у нас будет легкая смерть, без боли и страданий. — Ладно, ты — командир, твоя приказать, моя выполнять. — Ты примешь из моей руки яд? — Приму! Твоя Барке приказать умирать… и Барка, старая солдат… Всегда слушаться командир… Барка умирать. Выслушав это торжественное обещание, Фрикет вздохнула и вытащила один из чемоданов с походной аптечкой, открыла его и замерла: в дальнем отделении, среди множества аккуратно упакованных флаконов с лекарствами, виднелся слабый свет. Удивленный Барка подошел поближе, чтобы рассмотреть диковинную вещь, осветившую лицо девушки и часть хижины. Между тем Фрикет, не говоря ни слова, сосредоточенно размышляла; внезапно она разразилась громким смехом. В их положении подобное поведение выглядело более чем странным. Барка, решив, что она повредилась в рассудке, пробормотал: — С ума сошла… беда… — Не бойся, Барка, — сказала Фрикет, — я не сошла с ума. Мне удалось придумать нечто потрясающее. Последнее слово парижанка произнесла с таким восторгом, словно ей неожиданно посчастливилось сделать ошеломляющее открытие. Араб ждал, что будет дальше со своей обычной флегматичностью мусульманина, всегда сохраняющего спокойствие. Фрикет, не теряя времени даром, начала действовать, умело выполняя манипуляции с химическими веществами. — Барка, у тебя есть кружка? — Да, госпожа, вот. — Отлично, давай ее сюда. Девушка медленно налила в нее какую-то жидкость, от которой исходил сильный запах скипидара. Затем она осторожно вынула из широкой склянки нечто твердое, напоминающее палочку и состоящее из вещества, источающего в темноте удивительный свет. Она опустила ее в жидкость, наполнявшую кружку; палочка стала быстро растворяться, распространяя вокруг себя то же таинственное свечение. Это походило на огненную воду; над ней закручивались белые струйки дыма, освещавшие всю хижину. Барка, ничего не понимая, вытаращил глаза. Он видел, что его госпожа улыбается. Светящиеся испарения придавали ее красивому лицу необыкновенное выражение. Девушка казалась каким-то высшим существом, и араб уже хотел закричать: «О, чудо!» Повелительным жестом Фрикет приказала ему молчать. Она взяла мягкую губку, намочила ее в чудесном растворе и осторожно провела себе по волосам и лицу. Эффект был поразительным: кожа на лбу, носу, щеках засветилась; только глаза и рот зияли темными пятнами, напоминая трагическую маску. Барка замер от изумления. В отсвете белого пламени в ее смехе, казалось, было что-то демоническое. Однако алжирец удивился еще больше, когда Фрикет все так же спокойно смазала волшебной жидкостью руки. — О госпожа, страшно… моя тоже сходить с ума… моя бояться. — Тем лучше! Другим будет еще страшнее, тем более что они ничего не смогут разглядеть. Приказ есть приказ: Барка покорился. Фрикет намазала чудесным средством его лицо и руки и воскликнула: — Великолепно! Солдат уставился на свои пылающие огнем пальцы. Он не мог понять, почему пламя не обжигало, и в смятении бормотал: — Велик и славен Аллах! — Конечно, Барка, Аллах велик и славен, но мы очень спешим… Надо уходить отсюда! В последний момент девушка решила дополнить маскарад, и волшебная жидкостьпоявилась и на их одежде, так что фигуры пленников были сплошь окутаны ярким сиянием. — Вот теперь все хорошо, — весело проговорила девушка. — Попробуем выйти наружу! Она выбралась из хижины первой, держа в одной руке флакончик, а в другой — губку. Барка шел следом, грозно размахивая руками и корча страшные гримасы. Увидев эти живые факелы, разбойники затряслись от ужаса и упали на землю. Жуткое зрелище поразило их настолько, что они не могли даже кричать и двигаться. Да, наверное, святые отцы методисты[117] не предупреждали их о таких чудесах. Они пичкали туземцев непонятной религией с чуждыми представлениями, и теперь дикари страшно испугались, подумав о чуде, совершенном Богом, или о дьявольской силе. Огненные призраки были живыми: они двигались, ходили, постепенно удаляясь… Да, не иначе, это были демоны, а как с ними бороться?.. Пусть себе уходят, только бы никого не тронули! Фрикет спокойно подошла к зебу, который тоже был напуган появлением фантастических силуэтов и изо всех сил натягивал свою привязь, стараясь освободиться. Девушка побрызгала его волшебным лекарством, и он тоже превратился в светящееся облако. — Барка, залезай скорей, — попросила француженка. Тот повиновался и сел верхом на зебу. — А теперь я! Девушка быстро вскочила на светящуюся спину животного и уселась позади араба, который дернул за поводья. Зебу пустился галопом. Изумленные разбойники увидели, как три огненных призрака смешались в огромный быстро удаляющийся светящийся шар. Он походил на метеор, рассекающий тьму горящим светом. Домашние животные нередко прекрасно ориентируются; вот и славный Мейс инстинктивно выбрал правильное направление и поскакал в ту сторону, откуда разбойники два дня назад уводили захваченных ими пленников. Зебу, казалось, знал дорогу наизусть и ни разу не сбился с пути. Освещая все вокруг, наши герои, ехали во мраке ночи. Да, туземцы еще долго будут со страхом вспоминать злых огненных духов. Через четыре часа, выбившись из сил после бешеной скачки, Мейс остановился у того места, где тропа выходила на большую дорогу, проложенную французскими солдатами. Пленники были спасены.
ГЛАВА 11
Французская колония. — Капитан. — Объяснение чудесного феномена. — Раствор. — Первые признаки болезни. — Отступление. — Лихорадка. — Приступ. — Тяжелая дорога. — В госпитале. — Фрикет при смерти.Было еще темно. Беглецы услышали оклик: «Кто идет?» — одновременно щелкнул затвор винтовки. — Друзья! Франция! — отозвалась Фрикет и спрыгнула на землю. — Подойти! — снова раздался голос часового. Девушка повиновалась и остановилась в трех шагах от направленного на нее штыка. От ее рук, лица и одежды еще исходило сияние, правда, уже не такое яркое. Глядя на незнакомку, солдат совсем растерялся; казалось, он перепугался не меньше, чем глупые туземцы. На шум прибежали все, кто был на посту, во главе с сержантом. Он радостно засмеялся: — Не может быть, чтобы я ошибался, это ведь вы, мадемуазель Фрикет? — Да, сержант, и со мной Барка и зебу. — Добро пожаловать, мадемуазель. Но вы горите, как стакан пунша![118] — Пришлось кое-что придумать, чтобы убежать из плена от этих негров. — Рад видеть вас целыми и невредимыми, мадемуазель. Ну что ж, вот вам двое солдат, они проводят вас до палатки капитана. Через пять минут наши герои предстали перед офицером, который тоже страшно удивился и обрадовался неожиданной встрече. По удивительному совпадению офицер этот шел первым в траурной процессии на похоронах капрала Пепена, и они с Фрикет встретились как близкие друзья. Не вдаваясь в детали, девушка рассказала обо всем, что им пришлось пережить, — о нападении, похищении, плене, дереве повешенных, смертном приговоре и, наконец, о побеге. — Как же вам удалось убежать? — воскликнул капитан. — О, это было не так уж трудно. Достаточно было взять немного фосфору[119], растворить его в терпентиновом масле[120] и намазать себя, денщика и зебу. Раствор моментально испаряется, а частички фосфора прилипают к влажной поверхности. Как известно, фосфор светится в темноте; вот почему сегодня ночью мы выглядели так живописно и до смерти перепугали незадачливых стражников. Вот и вся хитрость, видите, совсем просто. — Совсем не просто, не каждый способен на такую выдумку. Флакончик с остатками масла Фрикет предусмотрительно захватила с собой. Вытащив его из кармана, она смочила им носовой платок, вытерла лицо и руки. Барка сделал то же самое. Фосфорная пыль, смешавшись с растворителем, стерлась почти полностью и еще оставалась на одежде, так что от наших героев еще исходило сияние, которое делало их похожими на огромных светлячков. Однако с рассветом все пропало. Известие об удивительном побеге распространилось молниеносно и наделало много шума. На девушку и солдата со всех сторон сыпались расспросы и поздравления. Драматические события не прошли бесследно: пережитые волнения отразились на здоровье Фрикет, ее била нервная дрожь, предвещавшая приступ лихорадки. До этого она все время чувствовала необыкновенный прилив сил. А теперь, когда смертельная опасность миновала, ее одолевали неимоверная слабость и жуткая усталость. «Я что-то совсем расклеилась, — думала она. — До Андрибы, может, и доберусь, а уж до Тананаривы вряд ли». В первый раз она засомневалась в своих силах. Увы, для этого были все основания. Капитан посоветовал ей вернуться в город. Дальше дорога станет еще труднее, и ехать в таком состоянии было немыслимо. — Там не выдерживают даже самые крепкие мужчины, стои́т ужасная жара, свирепствуют болезни, мы несем огромные потери. Отряд получил приказ к отступлению, так как у нас сто пятьдесят больных, которые не могут следовать за основной колонной. Мы направляемся в Сюбербивиль. Конечно, никому не хочется отступать… Но что же делать? Нас преследуют отнюдь не враги, а страшные и беспощадные напасти. Фрикет ничего не оставалось, как последовать совету капитана. Нужно было торопиться, так как ей становилось все хуже и хуже. Болела голова, лихорадка усиливалась, тошнило. Ее осмотрел сопровождавший отряд доктор, который и сам был нездоров. Он сразу дал ей хинин. — Как вы считаете, что со мной? — спросила девушка. — Сейчас не время болеть! — Мадемуазель, — ответил врач, — виноват проклятый климат. Позже или раньше, каждый из нас платит ему эту тяжелую дань. Лекарство — абсолютный покой, вам требуется отдых и физический и моральный. — Спасибо, доктор, непременно буду вас слушаться… Фрикет поместили в повозку, а Барка пристроился рядом, чтобы держать над ее головой нечто вроде зонтика, который он смастерил из пальмовых листьев. Ему было больно видеть свою госпожу страдающей, доброе сердце араба разрывалось от горя и печали. Он заботливо следил за ней и не отходил ни на шаг. Хинин оказал свое действие, однако доктор ждал значительно большего эффекта. Больной требовался полный покой, но для этого надо было добраться до Сюбербивиля, а до него еще было очень далеко и надо было трястись по ужасной дороге. В группу входило более восьмидесяти повозок Лефебвра, которые хоть на этот раз могли пригодиться бедным больным. Процессия выглядела весьма печально: бледные тощие призраки, невозможно было определить их возраст — длинные бороды, запавшие глаза, иссохшие лица. Несмотря на жару, их постоянно бил озноб, одежда болталась на исхудавших телах. Они сидели по двое на повозках, прислонившись друг к другу спинами. Бедняги обреченно молчали; их страдания становились еще сильнее от нестерпимой жары и тряски. В каждую повозку был запряжен мул, которого тянул за поводья погонщик. У всех, вплоть до умирающих, винтовки были заряжены. Солдаты тревожно вглядывались в придорожные заросли, готовые из последних сил обороняться от возможного нападения. Время от времени то один, то другой со вздохом валился на бок и, чуть подергавшись, умирал на глазах у испуганного товарища. И до следующего поста мертвец и живой ехали вместе. По прибытии на место вырывали могилу, и в который раз в кроваво-красную землю Мадагаскара опускали еще одного сына Франции! Фрикет не было ни хуже, ни лучше, однако она чувствовала все большую слабость. Ее лицо осунулось, щеки ввалились. Прошло всего несколько часов, а анемия уже оказала свое разрушительное действие, как будто заставляя организм дорого платить за его прежний иммунитет. Барка с беспокойством наблюдал за развитием болезни. Девушка не шевелясь лежала на повозке. Алжирец давал ей хинин и защищал от солнца зонтиком. Солдаты тоже волновались: все они знали Фрикет, слышали о ее подвигах. Забыв о собственных страданиях, они по-настоящему переживали за медсестру и проявляли к ней столько сочувствия и внимания, что Фрикет даже чуть заметно улыбалась и растроганно смахивала слезу. Эта суровые люди старались порадовать девушку как могли: цветком или фруктом, кружкой родниковой воды. Наконец отряд добрался до Сюбербивиля — первого этапа обратной дороги. Но сколько народу умерло, так и не увидев вновь своей дорогой Франции, где многие безнадежные больные смогли бы поправиться. Здесь, на красной земле, вдали от родины, от близких им грозила неминуемая гибель. Тщательно осмотрев всех больных, врачи выбрали наименее ослабленных для отправки в Амбато, чтобы затем переправить их в Анкобоку и Мадюнге. Фрикет не попала в число избранных, так как считалась тяжелобольной. В Сюбербивиле у нее начался бред, она больше не узнавала доктора, который в отчаянии наблюдал за пациенткой. Он распорядился поместить ее в просторную чистую хижину и с фанатическим[121] упорством принялся за лечение в надежде отвоевать девушку у смерти. Барка не отходил от больной, забыв о еде и отдыхе. Фрикет была в полной прострации[122] и, казалось, ничего не слышала и не видела. Температура немного упала, но доктор опасался, что она могла не выдержать следующего приступа. Известие о возвращении и о болезни девушки потрясло весь госпиталь. Солдаты, унтер-офицеры, погонщики-арабы, сенегальские стрелки[123] — все спрашивали о ее здоровье и приходили в ужас, узнав, что их добрый ангел при смерти. Пришла почта из Франции. Фрикет принесли посылку с книгами от родителей, которые, наконец успокоившись после стольких тревог и волнений, ждали ее домой. Между тем у нашей героини не было сил вскрыть конверты с письмами и разобрать написанное; буквы плясали и расплывались перед глазами. По ее просьбе часть из них доктор прочел ей вслух. Сознание ненадолго вернулось, из глаз покатились слезы, и она прошептала: — Боже, увижу ли я их снова?
Конец второй части
Часть третья
ГЛАВА 1
В море. — Благотворное воздействие свежего воздуха. — Приятная прогулка. — Сутки отдыха при хорошей погоде. — Выстрел из пушки. — Прерванное путешествие. — Военная контрабанда. — Итальянский крейсер. — Недоверие. — В плену.Массивный арабский парусник, покачиваясь на голубых волнах, держал курс в открытое море, направляясь от бухты Таджора[124]. Позади остался маленький французский поселок Джибути с белыми домиками, выделявшимися на фоне сероватого песчаного побережья. Корабль, на котором было с десяток проворных молчаливых матросов, видимо арабов, шел по направлению к Обоку[125]. До восхода солнца оставалось около часа, и синяя полоска неба на горизонте начинала бледнеть, приобретая золотистый оттенок. Погода была чудесной, небольшой ветерок надувал паруса и нес приятную прохладу. Такое утро выдается здесь нечасто: это место по праву считается одним из самых жарких на Земле, солнце палит всегда невыносимо. Грациозно растянувшись на шезлонге, молодая женщина с жадностью вдыхала свежий бриз и, прикрыв глаза, наслаждалась плавным убаюкивающим покачиванием судна. Парусник давно плыл в открытом море, а пассажирка как будто не замечала течения времени; солнце уже поднялось, сияя над волнами как огромный болид[126]. Корабль находился на полпути между Таджорой и Обоком. Хозяин судна отдал приказ на своем гортанном наречии, и матросы наклонили паруса, чтобы слегка повернуть. От звука свистка и команды пассажирка очнулась от дремоты. Она чуть слышно позвала: — Барка! Высокий алжирец, сидевший на корточках около свернутого в моток каната, быстро вскочил: — Я! Женщина продолжала: — Спроси, пожалуйста, у хозяина, через сколько времени он рассчитывает быть в Обоке. Барка перевел на арабский, дождался ответа и сказал по-французски: — Через полтора часа, госпожа. — Так быстро! Снова мы окажемся в жутком пекле… все пышет жаром, и даже стены домов раскалены добела… Как это грустно! Скажи-ка, Барка, а мы взяли с собой еду? — Конечно, госпожа… хватит на много дней. — Отлично! Если бы хозяин согласился провести в море весь день, а затем и ночь и приплыть в Обок только завтра утром… — За деньги он согласится и сделает все… — Очень хорошо! Тогда попробуй договориться с ним, поторгуйся и дай, сколько запросит. — Да, госпожа. Барка отправился на переговоры и вернулся через пять минут. — Ну, что? — Он просил пятьдесят талари[127]. Я ему сказал, что он сукин сын и хочет обокрасть ученую женщину. В конце концов он согласился на двадцать пять. — Прекрасно! Благодарю тебя, мой друг. Араб вернулся на свое место около канатов, а пассажирка с наслаждением потянулась: — О, значит, я смогу целые сутки дышать этим замечательным воздухом, который придает мне сил. Он лучше всех лекарств! Как хорошо жить! Да, воздух лечит, уничтожая страшные микробы, проникающие в кровь, как проказа… Корабль повернул в открытое море, оставляя Обок слева по борту, словно направляясь к Адену. Вскоре берег совсем пропал из виду, и путешественница развеселилась, как сбежавшая с уроков девчонка. В предвкушении приятной прогулки, даже не предполагая, что могут случиться какие-то неприятности. Впрочем, где-то над морем бушевала гроза или буря, так как ветер все усиливался. Парусник скользил по волнам как яхта и все больше удалялся в открытое море. День прошел без происшествий. Часам к четырем на горизонте показался черный дым парохода. В этом не было ничего удивительного; многие суда приплывают со всех концов океана и входят в узкий пролив, известный под именем Баб-эль-Мандебского[128]. Естественно, что никто не обратил внимания на черный дымок. Однако через полчаса хозяин-араб заметил в передвижении парохода некоторые странности. Вместо того чтобы спокойно плыть прямо к проливу, он изменил направление и поплыл к паруснику. Моряки переглянулись, а хозяин, немного поколебавшись, отдал приказ развернуться, как бы намереваясь повернуть во французские воды. Этот подозрительный маневр погубил его. Таинственное судно стало приближаться с необыкновенной скоростью. Расстояние между кораблями быстро сокращалось. «Но почему мы убегаем? — спрашивала себя девушка. — Море никому не принадлежит, и разве я не вправе прокатиться на арабской лодке как на собственной яхте и использовать ее для увеселительной прогулки?» Ответ не заставил себя долго ждать. Показалось облако белого дыма, оно окутало борт судна, затем послышался разрыв пушечного снаряда. Хозяин парусника вмиг понял этот сигнал и, хотя его судно плавало без флага, вывесил французские цвета. Затем они стали продолжать свой маневр. Еще через пять минут с парохода вырвалось новое облако дыма, в этот раз был хорошо слышен свист снаряда. Выпущенный с математической точностью, он пролетел под бушпритом[129], чуть не снес нос и, проделав по воде несколько рикошетов[130], скрылся в волнах. Увидев столь серьезный поворот событий, хозяин отдал несколько быстрых распоряжений, приказав лечь в дрейф. Матросы вытащили длинные ящики и, прячась за низкий парус, выбросили их в море. Но их усилия пропали даром: корабль — а это был крейсер[131] — уже приблизился к ним на расстояние четырех-пяти кабельтовых. Опознавательные знаки указывали, что это было итальянское военное судно. Вскоре к ним подошла шлюпка с гребцами, командиром и пятнадцатью вооруженными матросами. Девушка, ничуть не испугавшись, следила за всеми передвижениями и спрашивала себя, что бы это могло значить. Все вскоре объяснилось. Матросы, как свирепые разбойники из Молаи, набросились на бедных арабов, которые даже и не думали сопротивляться. Каждому приставили револьвер к виску, и они покорно дали себя связать. Протестовал только Барка. — Моя не матроса!.. Моя французский солдат! К нему бросились двое. Алжирец влепил им по здоровенной затрещине, и те, оглушенные, упали на палубу. Девушка вскочила и пронзительно крикнула: — Этот человек — мой слуга, и я запрещаю вам его трогать! Офицер ухмыльнулся и проговорил: — Помолчи, красотка, а не то прикажу тебя штыком проткнуть. — Так вот как принято обращаться к женщинам в вашей стране! Красотка! Француженки привыкли слышать другие выражения, в особенности от людей в военной форме. Офицер что-то проворчал, но, видя, как уверенно девушка держится, не стал возражать и повернулся спиной. Барка подскочил и встал рядом с Фрикет, вооружившись массивным железным прутом. Нападавшие схватили хозяина; затем шестеро моряков с офицером спустились в трюм. Там под запасными парусами лежали прочные, тщательно закрытые ящики. Несколько ящиков подняли на палубу и вскрыли при помощи топора. В каждом из них лежало по двадцать пять ружей Ремингтона со штыком. Офицер радостно заулыбался. Страшно довольный находкой, он подошел к девушке и с ужасным акцентом стал объяснять: — Можете мне поверить, это самая настоящая военная контрабанда! Они везли ружья в Абиссинию[132] этому проклятому негусу[133] Менелику[134]. Пассажирка на какое-то мгновение растерялась; только теперь она начала понимать, чем могло им угрожать столь неожиданное открытие. Все же она возразила: — Военная контрабанда, а при чем тут я? Я не занимаюсь коммерцией… и не поставляю оружия воюющим сторонам. — В этом мы разберемся. — Надеюсь, вы не хотите предъявить мне обвинения?.. Офицер грубо оборвал ее: — Нас интересуют только факты. Во-первых, кто вы такая? — Нет, во-первых, скажите, по какому праву вы меня допрашиваете? — У меня есть на то полное право. Каждая из воюющих сторон конфискует контрабанду, направляемую ее противнику. Отвечайте! — Будьте повежливее, и я вам отвечу. — Мадам, скажите, пожалуйста, кто вы и что здесь делаете? — Меня зовут мадемуазель Фрикет, я совершаю морскую прогулку. — Фрикет, это не фамилия. — Тем не менее меня так зовут, и я француженка. — И вы здесь на морской прогулке? — Да, мы плавали по заливу Таджора и рядом. Я участвовала в мадагаскарской кампании в качестве сестры милосердия, заразилась лихорадкой и чуть не умерла. Теперь, перед возвращением во Францию, я хотела подышать морским воздухом. — Еще раз спрашиваю, что вы здесь делаете? — Возвращаясь с Мадагаскара, я остановилась в Джибути, потому что боялась, что не выдержу путь через Красное море. В ожидании более благоприятного сезона я стараюсь почаще совершать морские прогулки. — Это звучит не слишком убедительно. — Вы сомневаетесь в правдивости моих слов? — Совершенно верно. — Тогда вы недостойны офицерского звания, и я не стану вам отвечать. С этими словами она преспокойно разлеглась на своем шезлонге, словно не имея никакого отношения ко всему происходящему. Итальянец принялся допрашивать хозяина. Тот не стал отпираться и сознался, что в Зейле[135] взял на борт груз с оружием. Город был английским владением, однако это обстоятельство не прекратило вопросов офицера. — Тогда почему ты вывесил французский флаг? — Потому что мы были рядом с французскими водами, и я надеялся вас обмануть. — А сейчас ты идешь из Джибути? — Да, мы сделали остановку, чтобы запастись пресной водой, а эта женщина попросила довезти ее до Обока. Я согласился, потому что это было мне по пути. — Она не знала, что вы везете оружие? — Не знала. — Ты лжешь! Она ведь француженка и думала, наверное, что женщину не заподозрят в военной контрабанде… Вот почему вы ее взяли с собой: чтобы вернее обмануть нас. — Неправда! — Говорю тебе, что ты лжешь! А знаешь, что тебе грозит? — Меня могут повесить. — Да, тебе вынесут приговор и повесят. — Аллах всемогущ, на все его воля! Во время этого разговора Фрикет по-прежнему с беззаботным видом отдыхала в своем шезлонге. Офицер подошел к ней и заговорил немного учтивее: — Мадемуазель, к великому сожалению, я вынужден сообщить вам, что вы арестованы. — Но почему? — Вы находились на захваченном с контрабандой судне и вплоть до дальнейших распоряжений считаетесь соучастницей преступления. — Какая глупость! Я только что перенесла тяжелую болезнь… у меня с собой книги, посланные в Мадагаскар из Франции… они доказывают, что я возвращаюсь с Мадагаскара. До этого я была в Японии… Вот уже год, как я уехала из Европы, а вы меня задерживаете! — Вы замешаны в контрабанде. — Но ведь я здесь ни при чем! Посмотрите, на ящиках адрес одной английской фирмы из Бирмингема…[136] их подняли на борт в Зейла, где я никогда не была… — Расскажите все это на суде. А пока вы находитесь в плену. Видя, что ей ничего не удалось доказать, девушка пожала плечами и прекратила разговор. Итальянцы остались на судне, экипаж которого без лишних церемоний спустили в трюм. С крейсера протянули трос, прочно закрепили его на носу парусника, который взяли на буксир и торжественно довели до Массауа. Фрикет сохраняла полное спокойствие, как будто над ней не висело страшное обвинение, угрожавшее высшей мерой наказания. Она рассуждала следующим образом: «Мне хотелось посмотреть, как борются между собой абиссинцы и итальянцы. Ну что ж, теперь мне представится такой случай!»
ГЛАВА 2
Разорительная роскошь. — Незавидная колония. — Что собой представляет Массауа. — Итальянское хвастовство. — Две сферы: маленькая и большая. — Военный суд. — Ненависть к Франции. — Ответ патриотки. — Обвинение.Массауа, составлявший когда-то гордость итальянцев, теперь превратился в весьма незавидное владение. Этот город и прилегающие к нему территории являются самым обременительным подарком, который Криспи[137], одержимый манией величия, мог сделать своей стране. Только смертельный враг Италии мог додуматься до того, чтобы присоединить к ней эту раковую опухоль, которая терзает ее, вытягивая все соки. Ничего не поделаешь, великая держава должна иметь колонии, так же как богачу пристало иметь собственный экипаж. Разорительная роскошь может быть не по карману и человеку и государству. Однако она удовлетворяет тщеславие, составляет предмет гордости и служит достаточной компенсацией за причиняемые ею неприятности и огорчения. Итак, на берегу Красного моря, на 15°30′ северной широты и 37°15′ восточной долготы находится поселок Массауа. Население — 5000 жителей — смешанное: арабы, нубийцы[138], данакилы[139], абиссинцы, индусы и греки. Большинство из них — бывшие работорговцы, теперь сменившие род деятельности: в сущности, это настоящие бандиты. Названная цифра — 5000 — не включает в себя число солдат итальянского гарнизона, которых, к сожалению, требуется очень много; несчастные, попадающие в здешний ад, часто умирают, не выдерживая ужасного климата. Днем стоит сорокаградусная жара, ночью температура не опускается ниже 35 градусов по Цельсию. Средняя температура самого холодного месяца — января — 25°5′, а самого жаркого — июня — 36°9′! Отметим, что среднегодовая температура в нашей Гвиане — 27°, хотя Кайенна, известная своим жарким климатом, расположена всего в 4°56′ от экватора. Жара сама по себе не так уж страшна, гораздо хуже высокая влажность воздуха. В Красном море вода испаряется сильнее, чем в других местах земного шара. В результате воздух здесь, в особенности во время теплого сезона, до предела насыщен водяными парами. И в этой влажной душной атмосфере несчастный европеец ходит, двигается, обливаясь потом, ежеминутно претерпевая жестокие мучения. Нет ничего удивительного, что здесь свирепствуют тропические болезни: гепатит, дизентерия, злокачественная лихорадка, малярия. Говорят, что у счастливых народов нет своей истории. Это изречение нельзя отнести к жителям Массауа, имеющим свою историю, короткую и очень печальную. Когда-то эта территория, за которую так ожесточенно бились итальянцы, принадлежала Турции. Султану она была не очень нужна, и он уступил ее в 1866 году хедиву[140], стремившемуся присоединить ее в силу каких-то географических соображений. В 1884 году все порты на Красном море были оккупированы англичанами. Та же судьба постигла и Массауа. Однако они не старались присвоить эти земли себе. Во-первых, игра, как говорится, не стоила свеч. Во-вторых, им не хотелось ссориться с негусом. Англичане проявили великодушие и отдали ему Массауа, который не являлся их колонией. Так Массауа остался под властью хедива до 1885 года. В это время Италия захотела создать свою колониальную империю. Массауа, на который нацелились и хедив и негус, был для итальянцев лакомым кусочком. Италия сыграла роль третьего в споре и преспокойно захватила эту землю. Конечно, стоило это немалых сил и денег. Но у Италии появилась колония, чем она очень гордилась, доходя в своей гордости до абсурда. Достаточно сказать, что итальянское Министерство обороны выпустило карту, которая представляла собой весьма примечательный документ и называлась: Nova carta dei domini e protettorati italiani nell’ Eritrea e regioni limitrofe. Несмотря на плохое качество, карта эта показательна для образа мыслей своих авторов! Как известно, к французским владениям в данном регионе относятся бухта Таджора с городами Обок и Джибути и прилегающие территории. Вокруг и рядом находятся земли, которые называются сферой французского влияния. Итальянцы соблаговолили передать Франции в сферу ее влияния площадь, оцененную ими в 6000 квадратных километров, то есть примерно равную обычному французскому департаменту[141]. Но рядом с этой незначительной «сферой» находится сфера итальянского влияния, которая окружает Массауа и не имеет определенных пределов. Она охватывает много земель, рек, гор и поселений, так что в конечном итоге sfera d’influenza italiana простирается на площади примерно пятьсот семьдесят тысяч квадратных километров. Да, здесь нет ошибки: это составляет именно пятьсот семьдесят тысяч квадратных километров, иными словами, территорию по своим размерам намного превосходящую Францию. Когда хочешь иметь «влияние», то хочется иметь его как можно больше! Впрочем, это вполне невинная слабость. Хорошо и составителям карт: они всегда оказываются при деле. Вместе с тем находятся недалекие люди, которые предаются наивным рассуждениям: — Франция в Эфиопии? У нее там практически ничего нет… Крошечный кусочек земли — вот и вся сфера… Тогда как Италия — это совсем другое дело. У нее огромное влияние: Абиссиния, Шоа[142], Галла[143], часть Нубии[144] и Судана[145], вскоре она получит долину Нила…[146] Да, Италия — великая держава, соперница Англии… Вот два колосса, им предстоит разделить между собой мировое господство. Все это не что иное, как простая болтовня и детское хвастовство, на которое не стоит обращать внимания. К счастью, Менелик одним махом, как бильярдный шар, задвинул подальше эту сферу.
Фрикет пришлось побывать в плену и у китайцев, и у мальгашей, а теперь она оказалась пленницей итальянцев. Это был не первый случай ареста французов: вспомним капитана Романи, честного и храброго офицера, которого подвергли аресту вопреки всем международным нормам. Он был невиновен, однако итальянский суд приговорил его к четырнадцати месяцам тюремного заключения. Юную француженку поместили в настоящую крепость, где каждую дверь охраняли часовые. В течение суток Фрикет должна была предстать перед военным трибуналом, словно она совершила тяжкое преступление. Судьи восседали в креслах с важным видом, обливаясь потом от жары, затянутые в парадные мундиры, готовые треснуть по швам от малейшего неверного движения. Они радовались, что на скамью подсудимых вместе с обычными преступниками попала порядочная девушка и что им дано право распорядиться ее судьбой. Итак, председатель суда приступил к допросу. Фрикет отвечала с поразительным хладнокровием и достоинством. Когда она сказала о своем участии в мадагаскарской кампании, судьи недоверчиво переглянулись, а председатель решил повеселить всех своим ироническим замечанием: — Ах да, Мадагаскар, очередная глупость французов. Их колониальное величие там изрядно пострадало… Фрикет почувствовала, что лицо ее запылало от негодования: — У Франции всегда было достаточно славы и величия, ей не могут повредить мелкая зависть и насмешки, в особенности со стороны итальянцев. — На что вы намекаете, мадемуазель? — Ни на что, я просто излагаю свои мысли. Я думаю, что, хотя величие Франции и правда пострадало на Мадагаскаре, с вашей стороны нехорошо говорить об этом француженке… Колониальная война, сударь, способна преподнести неприятные сюрпризы любой европейской стране. Как бы ваше величие, в свою очередь, не пострадало в Эритрее…[147] Там вы можете сломать себе шею. Когда я говорю «вы», я имею в виду Италию. — Мадемуазель, все это не имеет никакого отношения к делу. — Вы хотели посмеяться над Францией, а я ответила вам как патриотка своей страны. Что касается того, что вы называете делом, я с нетерпением жду, когда вы к нему приступите. Председатель заговорил о военной контрабанде, преступлении, соучастницей которого хотели выставить Фрикет. Она защищалась очень уверенно, с железной логикой приводя аргументы в свою пользу, и убедила бы в своей невиновности любых беспристрастных судей. Но только не этих. Они не желали принимать очевидное и во что бы то ни стало хотели вынести обвинительный приговор, главным образом потому, что обвиняемая была француженкой. Служители итальянской Фемиды не нашли ничего лучше, как придумать целый роман, глупейшую историю, которая могла бы сделать честь писательской фантазии, но абсолютно не выдерживала критики с точки зрения логики. Но зачем логика, когда можно построить обвинение на вымысле, усиливая тем самым антифранцузские настроения, давая пищу итальянским газетчикам, всегда готовым подхватить и разнести гнусную и нелепую клевету. В речах и жестах этих людей, претендующих на объективность, чувствовались злоба и зависть к Франции.
ГЛАВА 3
Окончание заседания. — В тюрьме. — Заключение. — Одиночество. — Тюремщица. — Слепая. — Фрикет начинает исцеление. — Лечение. — Она видит! — Благодарность. — Отец. — Барка. — Планы побега. — Фрикет становится негритянкой.Фрикет продолжали настойчиво допрашивать, судьи были настолько пристрастны, что девушка в конце концов потеряла терпение и вспылила: — Заметьте, господа, что вы судите мою родину, а не присутствующую здесь француженку. Вы хотите решить дело о ружьях Лебеля… Чистейший абсурд. Ничего у вас не получится! Франции не нужно поставлять оружие Менелику, у негуса есть надежный поставщик, который снабжает его отборным оружием и не требует денег. Вам он прекрасно известен. — И кто же он? — наивно спросил председатель. — Италия, сударь. Да, Италия, от которой ему в огромных количествах достаются ружья, пушки и боеприпасы! Председатель в ярости вскочил со своего места. Он собирался ответить оскорблением, но сдержался из вежливости и произнес всего лишь: — Sangue di Cristo! Другие судьи тоже обиженно заволновались. Фрикет осталась весьма довольна; она пристально смотрела на них своими веселыми глазами и молчала. Наконец к председателю вернулось хладнокровие, и он, злобно улыбаясь, вновь приступил к слушанию дела, продолжая его лишь для формы, так как виновность Фрикет уже считалась доказанной и приговор был известен заранее. Девушка перестала отвечать на вопросы и обращать внимание на происходящее. На этом суде у нее даже не было того, что всегда предоставляют обвиняемым, то есть официального защитника. И ничего удивительного, что после короткого совещания француженке был вынесен обвинительный приговор. За попытку доставить противнику боевое оружие она приговаривалась к пяти годам тюремного заключения. Плюс пять лет за оскорбительные выпады против итальянского государства во время судебного заседания. Солдат Барка, называющий себя ее слугой, был также признан виновным и приговорен к десяти годам тюрьмы. Экипаж арабского судна был единогласно приговорен к смертной казни. Не прошло и суток, а приговор был приведен в исполнение. Итальянцы проявили изощренную жестокость, заставив Фрикет присутствовать на казни несчастных арабов. Их расстреляли на открытом месте, которое у итальянцев называлось полем для маневров и служило для казней. Моряки держались стойко, как истинные мусульмане проявляя равнодушное спокойствие перед лицом смерти и говоря о своей печальной участи «местуб» — так суждено было свыше. Француженка достойно выдержала тяжкое испытание; она не хотела, чтобы враги радовались, видя ее слезы или волнение. Затем ее с Баркой отвели в тюрьму — в самую настоящую крепость из гранитных глыб и тесаного камня, откуда невозможно убежать; она совершенно не напоминала легкие сооружения, которые используются для содержания заключенных в недавно организованных колониях. Камера Фрикет находилась в полуподвале: это был не подвал и не первый этаж, а нечто среднее, походившее на чулан. Места было немного, но зато здесь царила приятная прохлада, что являлось несомненным достоинством. Из мебели в камере была походная кровать с доской вместо матраца и двумя кусками сурового полотна вместо простыней. Массивный стол и табуретка были намертво прикреплены к полу. Свет проникал через пробитое под самым потолком окошко, узкое как бойница и закрытое толстыми железными прутьями. Девушка смотрела на этот каменный мешок и думала: «Нужно стать птицей или мышью, чтобы выбраться отсюда. И по милости этих макаронников я должна просидеть здесь целых десять лет! Через десять лет я поседею… нет, я умру с горя… Десять лет! А бедный мой Барка, что-то он сейчас делает, наверное, тоже вне себя от ярости!» Обязанности тюремщицы исполняла молодая негритянка; она принесла узнице скудный обед — миску риса и деревянную тарелку с ломтиками сала. К сомнительной чистоты посуде прилагались также деревянные ложка с вилкой. Фрикет заметила, что у негритянки были неуверенная походка и неподвижный взгляд, свойственные слепым. Француженка подошла к девушке, взглянула на ужасно распухшие веки и сделала вывод: запущенная офтальмия[148]. Из глаз вытекал и засыхал на щеках зеленоватый гной; на несчастную было страшно смотреть. Фрикет искренне пожалела ее, сказала несколько ласковых слов, смысл которых остался для слепой непонятным. Однако доброта пленницы так растрогала негритянку, что та не смогла подавить рыдания. Тюремщица думала, что обнаружит в камере отвратительное создание, преступника, от которого будет слышать грубости и ругань, а вместо этого в ее ушах раздавался нежный девичий голосок. Ее бедное сердце заполнило чувство бесконечной благодарности… Фрикет знала, что офтальмия очень распространена среди местных жителей; отсутствие медицинской помощи и антисанитария делают ее почти неизлечимой. На дорогах можно встретить много ослепших от этой болезни, они бродят повсюду, и их пустые глазницы закрыты огромными кровоточащими веками. После ухода тюремщицы француженка не без содрогания приступила к еде, а затем посвятила свое время обычному для узников занятию — стала придумывать планы побега, которые все были совершенно нереальными. После трудного дня девушка чувствовала усталость, тянуло в сон. Улегшись на жесткую постель, она, как ни странно, уснула как убитая. На следующее утро Фрикет с нетерпением ожидала прихода негритянки, единственного живого существа, которое ей позволяли видеть. Еще издали она услышала знакомые неуверенные шаги. Бедняжка не забыла ласковых слов сострадания и, желая отблагодарить пленницу, позаботилась о принесенной ей пище и посуде. Меню было значительно лучше, а приборы гораздо чище. Фрикет очень хотелось помочь несчастной, и она подумала: «А что, если попробовать ее вылечить?» Взяв слепую за руку, француженка осторожно притянула ее поближе к свету и стала внимательно рассматривать ее глаза. Негритянка дрожала, но, несмотря на испуг, покорилась. Болезнь зашла далеко, однако роговица и радужная оболочка еще уцелели. «Попытаемся сделать невозможное, — решила Фрикет. — Может быть, мне удастся вернуть ей зрение!..» К сожалению, девушка не могла объяснить то, что намеревалась осуществить. Совершенно случайно ей вспомнилось арабское слово Tébiba, и она произнесла его в надежде, что негритянке известно его значение. Черное лицо осветилось радостной улыбкой. — Tébiba! Tébiba! — повторил звучный голос. Слепая поняла, что эта женщина — врач и, может быть, сумеет ее вылечить. Фрикет видела одно-единственное средство — попробовать прижигания конъюнктивы[149]. При ней, к счастью, оставалась крошечная сумочка с медикаментами, которую она носила во внутреннем кармане кофты. Хорошо, что итальянцы ее не обыскивали. Достав ляписный карандаш, она подвела больную к окошку, чтобы лицо несчастной оказалось на свету, затем отодвинула правое веко и приложила к нему кончик ляписа. Негритянка тихо застонала, но не стала отбиваться, а стойко вытерпела прижигание, понимая, что ей желают добра. Француженка решила не подвергать пока этой операции другой глаз: был риск, что лечение окажется неудачным, тогда негритянка могла навсегда потерять зрение. Фрикет ласково погладила ее по щеке и сказала одно из тех слов, которыми матери успокаивают своих детей. Все следующие дни прижигания повторялись; вначале не было никаких положительных результатов, даже, наоборот, отмечалось ухудшение. Негритянка переносила все очень терпеливо и не жаловалась. Через неделю наступило значительное улучшение: опухоль заметно спала, стала проглядывать радужная оболочка. Видя такой успех, девушка приступила к лечению левого глаза. Между тем жизнь в тюрьме текла удивительно однообразно. Фрикет, привыкшая к движению и солнечному свету, страдала от своей каменной клетки, куда не доносились ни голоса людей, ни пение птиц, ничего! После болезни ее организм ослаб, ей требовалось хорошее питание. Она чувствовала, что силы, приобретенные ею в Носси-Комба, и особенно во время морского плавания и в Джибути, вновь покидали ее. Девушка с ужасом думала о том, что, если чудовищное обвинение не будет снято и заключение окажется длительным, она непременно умрет от горя и тоски. К тому же ей не давали чернил, бумаги, книг. Отсутствие пространства, свежего воздуха и впечатлений угнетало ужасно. Может быть, таким образом хотели уничтожить надежду на спасение? О пленнице, казалось, забыли; она была лишена даже прогулок по специальным залам или коридорам, которые обычно разрешаются заключенным. Фрикет пыталась не сдаваться, подбадривала себя, зная, что если дух ослабеет, то тело будет обречено на гибель. Но сколько времени она могла так продержаться? Единственными счастливыми были минуты, когда слепая негритянка приносила еду и покорялась неприятной процедуре. Каждый день француженка с лихорадочным нетерпением ожидала прихода нубийки. Так продолжалось около трех недель. Лечение свершило настоящее чудо. Страшная болезнь отступала, слепая начинала видеть. Когда ей в первый раз удалось разглядеть свою спасительницу, она упала на колени. Негритянка не знала, что Tebiba была белой женщиной. Увидев ее нежное тонкое лицо, прекрасные глаза, вьющиеся волосы, она решила, что это какое-то неземное создание, ангел, спустившийся с небес, чтобы творить добро и помогать несчастным; о таких чудесах она слышала от людей в черных сутанах[150]. Тюремщица схватила руку Фрикет и в порыве благодарности покрыла ее поцелуями. Француженка, взволнованная и растроганная, обняла ее и проговорила: — К чему это, зачем падать передо мной на колени, я же не императрица… Лучше обними и поцелуй меня, и я буду счастлива… И чтобы было понятнее, сама крепко расцеловала негритянку, а затем прибавила: — Теперь ты видишь… Так посмотри же на меня как следует… Я ужасно рада, что смогла вернуть тебе зрение… Негритянка не сводила со своей спасительницы восторженного взора и что-то быстро говорила на своем языке. — О да, — прервала ее Фрикет, — мы можем разговаривать часами, но мы ведь все равно не поймем друг друга. Хорошая ты девушка… как объяснить тебе, что я готова распрощаться с тобой ради свободы. Если бы ты могла выпустить меня отсюда! Два дня спустя вместо знакомой девушки появился старый негр с седойбородой, чей неожиданный приход почти испугал Фрикет. Он поклонился, почтительно поцеловал ей руку и произнес одно-единственное слово: — Барка! Фрикет радостно повторила: — Барка… Старик кивнул головой, приложил палец к губам и бесшумно исчез. Через пять минут он появился вновь; а за ним — Фрикет не поверила собственным глазам — в камеру вошел ее денщик Барка, живой и веселый, только сильно исхудавший от тюремной пищи. Встреча с любимой госпожой подействовала на него самым необыкновенным образом: растеряв всю свою сдержанность, он смеялся и плакал, и казалось, сошел с ума от радости. Однако старый негр что-то быстро сказал ему, и Барка пришел в себя. — Да, правильно, времени у нас мало, — проговорил араб. — Этот человек — отец той девушки, которую ты вылечила… в благодарность он хочет помочь тебе и готов, если потребуется, даже жизнь отдать. — Нет-нет, не надо жизнь, пусть он только вернет нам обоим свободу, если это в его силах. — Да, госпожа, несмотря на смертельный риск, он хочет устроить нам побег. Но для этого никто не должен обращать на тебя внимания, а ведь здесь нет других белых женщин… Если бы не твоя кожа, то… — То что тогда? — Тогда это было бы нетрудно. — Нетрудно что? — Убежать отсюда. — Неужели это возможно? — Конечно, госпожа. — Проскользнуть незамеченными под самым носом у итальянцев? — Да. — И мне мешает только моя белая кожа? — Да, так он говорит. — Ладно, завтра я сделаюсь негритянкой. — Достать черной краски… а вдруг пойдет дождь… краска смоется. — Не беспокойся, я стану настоящей негритянкой, так что чернота моя не смоется даже мылом и горячей водой. Прошло еще два дня. Старик теперь все время приходил со своей дочерью, которая совершенно поправилась.
ГЛАВА 4
Фрикет стала негритянкой. — Костюм и прическа. — Барка приходит в восторг. — Побег. — Опасности. — В таинственном долге. — Обыск. — Тревога. — Мнимую негритянку никто не узнает. — Опять животные с горбом. — Бегство. — Благодарность.Старый негр, несмотря на суровый вид, обладал добрым сердцем, и, хотя душа его очерствела оттого, что, будучи приставленным к заключенным, он видел много настоящих преступников, нравственных уродов, воров и убийц, его самым сильным чувством была любовь к дочери. Фрикет вылечила его дочь, за что он был бесконечно благодарен и согласился устроить побег. Старик работал в тюрьме очень давно, еще до итальянской оккупации, тогда он находился на службе у хедива; свое место он сохранил и после прихода итальянцев, пользовался у них абсолютным доверием, так как слыл образцовым тюремщиком; никто не мог бы заподозрить его в сочувствии или помощи кому-то из пленников. Когда Барка объяснил, что белая госпожа сделается негритянкой, старик не поверил и расхохотался. Барка заметил с серьезным видом, что госпожа все может, даже возвращать зрение слепым. Затем он рассказал о том, как они бежали из плена на Мадагаскаре, как светились в темноте и до смерти напугали туземцев. В заключение он добавил: — Да, мы горели огнем, а не сгорели! И все благодаря могуществу госпожи. — Тогда скажи ей, что сегодня ночью. Одежду она получит. Араб предупредил Фрикет, что решительный момент освобождения настал; он несколько раз повторил последние слова старика: — Сегодня ночью. Девушка радостно всплеснула руками и воскликнула: — Ура! И да здравствует свобода! Тюремщик и его дочь пришли вечером; они, разумеется, имели полное право ходить по тюрьме, когда им заблагорассудится. Старик нес фонарь, горящий фитилек был прикрыт от москитов стеклянным колпаком. Увидев Фрикет, старик и девушка застыли от изумления: ее лицо, руки, шея были совершенно черными; выделялись только прекрасные глаза и алые, как гранатовый сок, губы с ослепительно белыми зубами. Перед ними была настоящая негритянка, на лице ее сияла веселая улыбка. Старик поспешил в камеру Барки, а его дочь развернула принесенный ею сверток; в нем лежала женская одежда, видимо, ее собственное праздничное платье. Знаками она показала Фрикет, что одежда предназначалась для нее, и помогла ей одеться. Нубийский костюм состоял из большого куска белой ткани с разрезами для рук и головы, тонкого муслинового[151] шарфа, который служил поясом, легких полотняных шаровар и соломенных сандалет. В таком наряде девушка была очаровательна: она походила на одну из местных модниц. Оставалось сделать прическу, как у здешних красавиц. Бывшая пациентка Фрикет оказалась искусным парикмахером: она разделила волосы француженки на четыре пряди ото лба до затылка, заплела их в косы, посыпала черным порошком, самым причудливым образом обвила вокруг головы и закрепила длинными серебряными шпильками. Зеркала не было; впрочем, Фрикет оно все равно бы не пригодилось: ее внешность так изменилась, что она ни за что не смогла бы узнать себя. Вошел Барка, одетый в арабский костюм. Он был родом из страны гор, где одевались иначе, а сейчас выглядел одним из тех кочевников, которые странствуют по пустыне, выходящей к Красному морю, Индийскому океану и Персидскому заливу. Увидев Фрикет, он отшатнулся и широко раскрыл рот от удивления. — Госпожа! — воскликнул он, поднимая руки вверх, как муэдзин[152] на молитве. — Госпожа, моя никогда не думать, что твоя стать негритянкой… Твои отец и мать не смогли бы твоя узнать. Я, твоя слуга, не узнать свой госпожа… Француженка звонко рассмеялась и ответила: — Знаешь, Барка, чернота эта не смоется ни водой, ни мылом, ни маслом. — Но твоя не всегда оставаться черной? — До тех пор, пока это будет нужно для нашего побега. Оживленная беседа была прервана появлением старого негра, несшего веревки, сделанные из длинных, связанных друг с другом кусков материи. Он сказал Барке по-арабски: — Друг, время не ждет, иди к себе в камеру, накрепко свяжи меня этими веревками и заткни рот. Сделай все как следует, это должно выглядеть, как будто ты на меня напал. Если они заподозрят неладное, мне несдобровать. Скажи своей госпоже, что я благословляю ее и буду помнить всю жизнь. И скажи еще, чтобы она связала мою дочь. Барка точно перевел все, что сказал старик, не забыв и о его торжественном благословении. Молодая негритянка, знавшая все детали побега, присела на постель и протянула Фрикет руки, чтобы та связала их. Француженка так и поступила; затем она нежно расцеловала девушку, жалея, что не может обменяться с ней ни единым словом и не знает даже ее имени… После этого Фрикет взяла ключи, вышла в коридор и заперла дверь именно в тот момент, когда Барка покидал свою камеру, согнувшись и прихрамывая как старик тюремщик. Беглецы направились к выходу, стараясь вести себя как можно естественнее. Благодаря объяснениям старого негра алжирец уверенно ориентировался во внутреннем расположении тюрьмы, и они спокойно проследовали мимо охранявших ворота часовых. Выйдя на площадь, беглецы свернули на боковую улочку, пошли прямо, свернули еще раз и, наконец, оказались в каком-то тупике перед едва различимой в темноте дверью. — Здесь, — прошептал Барка. — Что здесь? — спросила Фрикет, с любопытством озираясь вокруг. — Дом того человека, который должен спрятать нас и переправить в Абиссинию к негусу. Это друг отца спасенной тобой девушки. Барка постучал, как было условлено. Его о чем-то спросили и, получив ответ, быстро открыли дверь. Француженка и араб вошли в дом; их провели в просторную комнату, где сразу накормили обедом; слуги бросали на них любопытные взгляды. Фрикет очень хотелось хоть что-нибудь разузнать у них, но Барка так выразительно посмотрел, что она не стала настаивать. Не имея никакого представления о том, что было уготовано ей судьбой, девушка решила покориться воле случая; она чувствовала, что ее несло в открытое море приключений. Между тем ее спутник чувствовал себя превосходно: он пил кофе, курил и наслаждался запахом табака и кофейным ароматом, как человек, который долгое время был лишен всех этих удовольствий и потому торопится наверстать упущенное. Когда их оставили одних, Барка тихо сказал: — Надо немного поспать и отправиться в путь завтра на рассвете. — Да, конечно, но как? Пешком, на повозке, верхом на лошадях? — Нет, госпожа, каждый иметь своя верблюд, он бежать быстрее лошади. Прошло два часа. Беглецы, взволнованные ожиданием, не могли сомкнуть глаз. Внезапно прогремел пушечный выстрел, от которого весь дом затрясся до основания; через минуту раздался второй. В городе поднялась тревога: послышались крики, топот шагов, бряцание сабель. В комнату поспешно вошел хозяин дома, высокий араб со смуглым морщинистым лицом; он обратился к Барке со словами: — Ваш побег только что обнаружили. Два выстрела означают, что из тюрьмы сбежали двое. Сейчас пойдут обыскивать дома… Сохраняйте спокойствие, и все обойдется… По улицам уже мчались солдаты, они заходили в каждый дом, открывали все двери, проверяли самые укромные уголки. Как настоящие полицейские, они пристально вглядывались в каждого человека и искали сходства со сбежавшими преступниками. У них были точные приметы: им приказали найти белую женщину, одну-единственную в колонии. Но напрасно они искали; и кто догадался бы, что Фрикет скрывается под совершенно несвойственной ей внешностью черной как смоль негритянки. Все же ей пришлось поволноваться, ведь в случае поимки беглецов ожидало суровое наказание за побег: ужесточение режима и продление срока заключения. Когда итальянцы собрались уходить, она почувствовала, что по лицу ее стекает холодный пот, и машинально вытерлась кончиком своего белого одеяния: местные жители никогда не пользуются носовыми платками. Барка пришел в ужас, он боялся, что черная краска сотрется с ее лица. Однако ничего не случилось, и негритянская внешность не пострадала. На рассвете беглецы вышли во внутренний дворик, который имеется во всех арабских домах, и увидели четырех навьюченных верблюдов. — Вот на чем мы поедем, — объявил Барка. — Опять будем путешествовать на горбатых животных! — заметила француженка. — Они напоминают мне беднягу Мейса! Что-то с ним сталось? Когда речь заходила о зебу, алжирец всегда хранил загадочное выражение лица. Вот и теперь он улыбнулся и проговорил: — Мы его там съедать… Наши солдаты иметь мало пищи… а он быть такой толстый… жирный бульон и кароший мясо… — Какой ужас! — Он спасать солдат и Барка, без него мы умирать… — Да, ты прав. Как людоед, который съел собственных детей, чтобы их отец не помер с голоду. Разговор их был прерван приходом двух высоких берберов[153], которые обменялись с Баркой несколькими фразами. Один из них что-то крикнул, и верблюды улеглись на землю. Алжирец показал Фрикет, как надо взбираться на животное, и помог ей сесть в седло. Затем сам сел верхом, и его примеру последовали оба бербера. Старший из погонщиков крикнул еще раз, верблюды подняли вверх свои длинные шеи и встали на ноги. Фрикет показалось, что ее бросили на крышу качающегося домика, который двигался с необыкновенной скоростью. Почти совсем рассвело, караван покинул таинственный дом, где удалось спрятаться беглецам. Фрикет не успевала разобраться в стремительном ходе событий, мысли ее путались. Она знала только, что была на свободе и ехала неизвестно куда в самом фантастическом виде на спине экзотического животного. Вскоре возникло неожиданное затруднение: после ночного переполоха выехать из города стало намного сложнее. Повсюду продолжались обыски, появились дополнительные часовые. Беглецов было приказано взять во что бы то ни стало — живыми или мертвыми. Особенно тщательный осмотр производился у городских ворот, из которых никого не выпускали без специального распоряжения коменданта. Фрикет всего этого не знала, иначе ей трудно было бы сохранять на своем черном лице столь беззаботное выражение. Когда путники подъехали к воротам и стражники преградили им дорогу, старший из берберов молча достал из кармана засаленный бумажник и вынул из него какой-то листок бумаги, спокойно развернул его и сунул под нос начальника стражников, которому пришлось прочесть следующее:
«Настоящим приказывается постоянно пропускать Ахмеда бен Мохаммеда и его сопровождающих как особого курьера главнокомандующего и оказывать ему в случае необходимости всяческую помощь и содействие. Подписано: Баратьери. Утверждено: начальником генерального штабаОслушаться столь высокопоставленных чинов было невозможно: документ оказал нужное воздействие. Охрана отдала честь и пропустила караван. Выйдя из города, верблюды припустились бежать своим знаменитым галопом, который позволяет им легко преодолевать за час расстояние в четыре лье. Они повернули на южную дорогу, окруженную холмами и укрепленную фортами, рассеянными между Массауа и Алаги, где итальянцы потерпели сокрушительное поражение. Стало ясно, что путники уже были в безопасности и их удивительное бегство прошло успешно. Только сейчас Барка рассказал обо всех обстоятельствах, благодаря которым их освобождение стало возможным. Ахмед бен Мохаммед был женихом бедной девушки, вылеченной Фрикет от слепоты. Вняв мольбам своей невесты, он согласился помочь узнице, рискуя собственной жизнью. Пользуясь абсолютным доверием в итальянском штабе, он часто возил зашифрованные депеши комендантам фортов. Его верблюды, быстрые как ветер, позволяли перемещаться с необыкновенной скоростью. Расхваливая их перед Баркой, он сказал: — Они за два дня перенесут нас к Макалле, осажденному войсками негуса. Там ты и твоя госпожа будете в безопасности. — Да сбудется воля Аллаха! — подхватил Барка, как верующий мусульманин.Монтелеоне».
ГЛАВА 5
Итальянские солдаты. — Петушиные перья. — На марше. — Оказаться меж двух огней. — Полковник. — Грубый солдафон. — Фрикет узнают. — Отчаянный поступок. — Бегство. — Скачка. — Выстрелы. — Зрелище агонии.Итак, Фрикет, несмотря на свой боевой характер и любовь к неожиданностям, спасалась от врага бегством. Она восседала на верблюде, ее ужасно трясло, а дорога, подобно тем, которые ведут в ад, была вымощена исключительно благими намерениями; но это оказалось явно недостаточным, чтобы по ней можно было нормально проехать. Что касается дромадеров[154], привычных к подобным путешествиям, они выделывали своими длинными ногами нечто невообразимое, забавными движениями вскидывая их вверх. Француженка старалась приспособиться к их странной скачке, зачастую вызывающей что-то вроде морской болезни, и надо сказать, ей это удавалось совсем неплохо. Однако приходилось держать в постоянном напряжении свою волю, подавляя усталость и не давая расслабляться измученному телу. Да, когда встречаешься с приключениями, надо быть готовым ко всяким неприятностям! По пути им без конца попадались солдаты. Чувствовалось, что итальянская армия собрала все силы и готовится к решительным действиям, и Фрикет, симпатии которой были на стороне абиссинцев, с тревогой спрашивала себя, чем их неизвестный друг, негус Менелик, ответит на такой мощный удар. Она бесстрашно смотрела на итальянских солдат, бывших когда-то товарищами по оружию, а теперь ставшими врагами Франции; итальянцы оказались неблагодарными и отвергли священный союз, несмотря на то, что за их независимость проливали кровь и французы. Солдаты, глядя на симпатичную негритянку, говорили ей вслед разные грубые шутки, состязаясь между собой в казарменном остроумии. Она немного понимала их, ведь итальянский так похож на латынь и, в общем, не сердилась. Невозмутимый Барка чуть заметно улыбался и шептал: — Солдаты Умберто[155] только языком молоть кароши, солдаты Менелика задавать им трепку! Фрикет не верилось, что абиссинцы, настоящие дикари, смогут оказать серьезное сопротивление прекрасно вооруженным и организованным европейцам. Итальянцы шли как на параде, в новеньких мундирах; это были берсальеры[156], их белые каски с левой стороны украшал плюмаж из петушиных перьев, которые гордо колыхались на ветру. Барка не мог спокойно смотреть на эти перья: — Да, да, кукарекайте себе на здоровье! Все равно негус вас ощиплет как миленьких и прикажет понаделать подушек, чтоб сидеть было помягче… Одно обстоятельство крайне удивляло Фрикет: итальянцы не соблюдали в строю порядка. Ей довелось видеть на марше войска японцев в Корее и французов на Мадагаскаре; все они шли образцовыми колоннами, ровными рядами, в соответствии с требованиями полевого устава. Итальянцы же вели себя совершенно иначе: они не соблюдали строя, присаживались на повозки, клали туда ружья; одним словом, всеми способами старались избавить себя от тягот военного перехода. В непосредственной близости от врага такое поведение было крайне легкомысленным и в случае хорошо организованной засады могло привести к страшному разгрому. Особенно нарядно выглядели офицеры. Глядя, как они принимают изящные позы, подкручивают усы, звенят шпорами, Фрикет с иронией говорила: — Тоже мне теноры, корчат из себя любимцев публики! Караван ехал все дальше; путники всюду встречали новые войска. Арабы, таинственно улыбаясь, иногда перебрасывались между собой словами. — О чем они все время говорят? — с любопытством осведомилась Фрикет. — О том, что войско негуса всыпет как следует всей этой компании хвастунов. — А разве они не друзья итальянцев? Они ведь у них служат и получают деньги. — Ну и что? У негуса тоже достаточно денег, и он может хорошо платить. Дорога была ужасно утомительной, девушка измучилась, но не подавала виду, не жаловалась. Она выносила все с удивительной стойкостью. Даже арабы не могли не восхищаться этой хрупкой француженкой, проявлявшей такую удивительную выносливость, которой позавидовали бы многие мужчины. Путники мчались вперед почти без отдыха. Изредка они делали очень короткие остановки, чтобы проглотить несколько кусочков твердой как камень галеты и дать верблюдам немного травы. Затем снова отправлялись в путь. Ахмед бен Мохаммед обещал прибыть к Макалле через максимально короткое время, и он хотел во что бы то ни стало сдержать слово. Караван уже проехал Адигру, где находилась мощная крепость и большой гарнизон, и подъезжал к зоне, в которой итальянцы уже не были абсолютными хозяевами: то и дело сюда наведывались солдаты негуса. В Адигре кончалась телеграфная линия. Сообщение с Макалле было прервано из-за осады Менелика. Итальянские войска, стоящие перед Адигрой, с трудом могли связаться с Макалле только по оптическому телеграфу[157]. Положение этого последнего укрепленного поста становилось все более критическим. Командующий, несмотря на итальянское хвастовство, не осмеливался вести боевые действия на большом участке и старался всячески подчеркнуть силу своих войск в коротких стычках, вызывавших у негуса лишь презрительное недоумение. Ахмед бен Мохаммед должен был прибыть к итальянским аванпостам[158] и передать свои депеши командиру, который ухитрялся как-то переправлять их в осажденный город. Именно эта последняя часть пути была особенно опасной для наших героев. Им надо было покинуть итальянские позиции, проникнуть в нейтральную зону, а затем добраться до тщательно охраняемых абиссинских позиций. Таким образом, сначала они рисковали, что их подстрелят итальянцы, а затем им угрожала та же опасность со стороны абиссинцев. В какой-то момент они могли оказаться между двух огней. Наконец караван прибыл к месту назначения: это был авангард[159], командовал им полковник. Он осматривал один из последних окопов, когда ему сообщили о приезде курьера с депешами. Полковник приказал привести курьера в свою палатку, поставленную неподалеку, и сам направился туда в сопровождении двух офицеров — капитана и лейтенанта. Внезапно лейтенант сказал ему вполголоса: — Господин полковник, посмотрите на эту негритянку. Честное слово, она копия нашей француженки, только лицо гуталином измазано. Полковник пожал плечами и стал бесцеремонно разглядывать девушку. Фрикет в тот же миг узнала его и невольно вскрикнула. Полковник вгляделся в нее еще внимательнее и сказал: — Мне кажется, что вы недалеки от истины, лейтенант. Мы сейчас проверим, какая у нее на самом деле кожа. Уловив кое-что из сказанного и догадавшись об остальном, Фрикет задрожала при мысли, что ее вернут обратно в тюрьму. Она гордо вскинула голову, еще тверже уселась в седле и шепнула Барке: — Осторожно! По-моему, они меня узнали. Алжирец, немного понимавший по-итальянски, подтвердил ее предположение. Полковник же остался очень доволен своими наблюдениями: — Да, теперь я совершенно уверен. Взгляните, лейтенант, через разрез одежды на плече заметна белая кожа… Проклятая девчонка намазала только рожу и руки с ногами… Вот уж будет потеха! Во время этого разговора Ахмед успел открыть свою сумку, достать оттуда депеши и передать их полковнику. Затем он попросил расписку о получении бумаг. Однако полковник сказал: — Погоди немного. А вы будьте добры сойти вниз… Хоть вы и хороши в этом маскараде, он вам больше не пригодится. Я узнал вас: вы мадемуазель Фрикет. Слова эти поразили бедную девушку в самое сердце. Быть разоблаченной, когда цель так близка… Она подумала о мрачной тюрьме, об утраченной свободе и загубленной молодости и печально посмотрела на полковника. Казалось, что эти прекрасные глаза, в которых блестели слезы, могли разжалобить кого угодно. Однако полковник был неумолим: он усмехнулся и грубо выругался. Фрикет вздрогнула, к щекам ее прихлынула кровь, и она с презрением бросила ему в лицо: — Трус! Трус! Трус! Наша парижанка предпочитала смерть постыдному плену и унижению; терять ей было нечего, и она решилась на отчаянный поступок. Чуть впереди, в нескольких шагах от нее находился окоп: узкая траншея с невысоким бруствером, за которым могла укрыться лишь одна линия стрелков. Повсюду располагались наблюдатели, готовые в любой момент открыть огонь. Девушка разом оценила обстановку и решила: — Мы проскочим, или нас застрелят! Вперед, Барка, вперед! И она изо всей силы хлестнула своего верблюда. Это гордое породистое животное не выносит, когда его бьют, и, как лучший племенной скакун на ипподроме, так же оскорбляется, если его ударяют плетью. Верблюд завопил по-телячьи, совершил великолепный прыжок и одним махом перескочил через окоп. Предварительно он еще ухитрился плюнуть, да так удачно, что вся его слюна попала прямо в физиономию полковника, который уже раскрыл было рот, чтобы испустить клич тревоги: — К оружию! Мгновенно сообразив, как надо действовать, Барка, не колеблясь ни секунды, тоже ударил своего верблюда изо всех сил. — Ах ты, мерзавец! Я тебе голову снесу, а язык твой выброшу на съедение собакам! — хрипло прокричал он и пригрозил итальянцу кулаком. Его дромадер вихрем понесся вслед за Фрикет. Ахмед бен Мохаммед сразу же понял, что ему не избежать обвинения в сговоре с беглецами, его арестуют, будут судить и, скорее всего, приговорят к смертной казни. Поэтому ему ничего не оставалось, как последовать за беглецами, которые уже мчались во весь опор к позициям абиссинцев. Он пронзительно закричал, и тотчас же оба оставшихся верблюда повиновались приказанию хозяина и почти одновременно перемахнули через траншею. Полковник не помня себя от ярости повторял: — Огонь! Огонь! Застрелить негодяев! Все, кто был в окопе, принялись стрелять; градом полетели пули, наполняя воздух свистом и оставляя за собой дымовой след. И, как нередко случается в таких неожиданных перестрелках, солдатам не удавалось попасть в цель. Это удивляло их и вызывало досаду; почти не целясь, они стреляли снова и вновь давали промах. К сожалению, у них были хорошие современные ружья, которые бьют на два-три километра. Если бы солдаты стреляли из старых винтовок, то беглецы очень скоро оказались бы вне досягаемости выстрелов. Между тем все вокруг гудело и завывало, пули рикошетом отскакивали от земли; просто чудо, что никого до сих пор еще не задело. Внезапно раздался совсем другой звук — словно пули угодили во что-то мягкое; два верблюда, пораженные насмерть, упали и забились в агонии, умирая, они жалобно стонали, почти как люди. Однако пули попали не только в животных. Первой жертвой стал спутник Ахмеда бен Мохаммеда, который был убит наповал выстрелом в затылок. Затем ранили самого курьера; его рана в спине была сквозной, из горла пошла кровь. Убитые дромадеры остались позади и своей массой образовали нечто вроде щита для беглецов. Алжирец собирался остановиться и помочь раненому товарищу, но тот проговорил: — Беги! Обо мне не заботься, я умираю… Помнишь… я обещал, что вы будете свободны… Я сдержал слово… Прощай! При каждом слове из горла его выливалась струйка крови. Фрикет не могла спокойно смотреть на это тяжелое зрелище и, несмотря на стрельбу, решила остановиться и что-то сделать для несчастного, который заплатил за их свободу собственной жизнью. Но она не успела: в тот миг, когда его запачканные кровью губы произносили «Прощай!», голова несчастного запрокинулась, глаза закрылись, он дернулся и затих навсегда. Фрикет не могла сдержать слез, а Барка снова прокричал итальянцам арабские ругательства.
ГЛАВА 6
Вперед! — Первые солдаты негуса. — Менелик II. — Встреча. — Врачей нет. — Лечат все понемногу. — Изумление. — Капитуляция Макалле. — Фрикет вновь становится белой и назначается главным врачом в армии негуса.И снова верблюды понеслись вперед. Вокруг по-прежнему свистели пули, но животные стремительно приближались к абиссинским позициям. Там их заметили и не стали стрелять; напротив, решено было открыть прицельный огонь по итальянцам. Загремели пушечные выстрелы, и итальянцы вскоре прекратили огонь, весьма удивленные столь мощной поддержкой. Целые и невредимые, Барка и Фрикет с триумфом въехали на территорию, занятую войском негуса. Первый раз в жизни беглецы видели перед собой тех самых шоанов[160], которых итальянцы считали дикарями, но от которых им тем не менее пришлось вытерпеть много неприятностей. У этих солдат не было ни плюмажей, ни пышных султанов, ни роскошных мундиров с золочеными пуговицами. Костюм их был прост и состоял из легких белых панталон, спускающихся ниже колен, и просторной белой хламиды[161] с красной полосой посередине. На манер негуса, скрывавшего свою лысину, головы их были повязаны платками, туго затянутыми сзади. На поясе у каждого солдата имелся огромный, набитый патронами патронташ, за плечами — полотняный вещевой мешок со всем его обычным содержимым, от которого мирному человеку стало бы не по себе. Правый бок украшала длинная, прямая, похожая на меч сабля; комплект довершало превосходное ружье Ремингтона, Мартини или Веттерли, предмет гордости и заботы. Люди эти были необыкновенно храбры от природы и преданы негусу до самопожертвования. Они сражались за независимость с удивительным мужеством. Следуя призыву негуса, они бросили все — семьи, дома, родные места — и стали солдатами, чтобы дать отпор врагу, который быстро почувствовал на себе мощь этой армии. Едва наши герои оказались на абиссинских позициях, к ним приблизились два важных всадника, одетых в длинные бурнусы[162] из черной шерсти; на головах у них красовались большие фетровые шляпы. Менелик, которому докладывали даже о самых незначительных происшествиях, уже знал о необыкновенных беглецах. По его приказу двое офицеров должны были привести их к самому негусу. С прибывшими обращались очень дружелюбно; и хотя незнакомцы вызывали всеобщий интерес, абиссинцы проявляли сдержанность, не досаждая им своим любопытством. Палатка негуса находилась не слишком далеко — полчаса, если ехать галопом. Менелик с минуты на минуту ожидал капитуляции Маллаке. Он сидел перед палаткой в окружении своих сановников на складном кресле, покрытом золотистым плюшем; специальный человек держал над ним огромный красный зонт. Фрикет с восхищением рассматривала этого правителя, ставшего за столь короткий срок, и вполне заслуженно, таким знаменитым. Она видела перед собой мужчину лет пятидесяти, с широким черным лицом, изрытым оспой, с необыкновенно проницательными живыми глазами и с курчавой бородкой, тронутой сединой. В нем чувствовались огромная энергия и воля. На негусе была шелковая фиолетовая рубашка, хлопчатобумажные белые брюки, chamma, также из белого хлопка, и бурнус из черного атласа с тонкой золотой каймой. Головной убор его, уже достаточно известный всем, состоял из черной фетровой шляпы с широкими полями, надетой на головную повязку из белого муслина. И наконец, обувь: мольеровские башмаки без шнурков, в которых его огромным ногам было легко и свободно. Перед палаткой стоял великолепный мул в расшитой золотом и серебром упряжи и накрытый роскошной попоной; на нем негус обычно ездил верхом. Здесь же находились лучшие воины, которые держали оружие правителя: ружье, саблю и щит. Над палаткой развевалось знамя с изображением его герба — лев с короной на голове держит в правой лапе обвитый лентами скипетр с крестом на конце. Таким предстал перед Фрикет этот замечательный во всех отношениях человек, скромно именовавший себя Менеликом II, императором Абиссинии, королем королей Эфиопии, избранником Божьим, львом — победителем иудейского племени. Наши герои приблизились к монарху. Тот заговорил с Баркой по-арабски: — Кто ты такой? — Слуга находящейся пред тобой докторши. — Эта черная женщина — доктор? — О нет, великий государь, она вовсе не черная, она белая, из Европы. — Клянусь Богом, ты что, смеешься надо мной? Я же вижу, что лицо ее чернее моего! — Она сама превратила себя в негритянку, чтобы сбежать от этих проклятых итальянцев. — Как хитро придумано… Так ты говоришь, она белая? — Да. Впрочем, ты можешь расспросить ее сам, она тебе все расскажет. Негус приказал привести переводчика, хорошо говорившего по-французски, и с его помощью принялся расспрашивать девушку. Фрикет отвечала очень четко и ясно; она коротко рассказала о своих приключениях в Японии и на Мадагаскаре, затем поведала о бегстве из Массауа. Негус заинтересовался именно этой последней историей. Он спросил у француженки, когда и как она собирается вновь обрести свой прежний цвет кожи и опять сделаться белой женщиной. Та объяснила через переводчика: — Это очень просто, если под рукой есть все необходимое. — Что ты имеешь в виду? — У тебя есть врачи? — Нет. — А кто же лечит твоих больных и раненых? — Все понемногу… и я сам лечу, и колдуны тоже. — Значит, у тебя нет лекарств, которые применяют белые врачи? — Есть! У меня есть походные аптечки — и те, что мы взяли у итальянцев, и те, что мне отовсюду прислали мои друзья. — Отлично! Дай мне, пожалуйста, одну из них. Там я точно найду то, что нужно. — И ты снова станешь белой? — Да, конечно. — Трудно поверить… Если у тебя получится, я буду считать тебя лучшим врачом на свете… И сразу же сделаю главным врачом своей армии. — Зачем так восхвалять мои скромные таланты?.. Приказы Менелика выполнялись без промедления. Одно слово, движение — и вмиг появились два ящика с лекарствами. Негус велел Фрикет разместиться в его палатке и заняться тем таинственным превращением, которое его столь интересовало. Ничуть не смутившись, француженка преспокойно воспользовалась императорскими покоями, поставив условие, что никто не будет ей мешать или подглядывать. Менелик пообещал, что никто не подойдет к палатке, и даже сам он, желая подать пример остальным, скромно удалился. Фрикет отсутствовала всего несколько минут, а негусу они показались часами… В это время произошло важное событие, которое отвлекло внимание Менелика. Со стороны Макалле прогремел пушечный выстрел. Затем наступила тишина. Вскоре примчались всадники с долгожданным известием: — Над Макалле вывесили белый флаг! Итальянцы хотят капитулировать! Негус и вся его армия ликовали. Наконец-то гарнизон, лишенный пищи и воды, сдался на милость победителя. Этот всесильный монарх, черный аристократ, осмеянный итальянцами, проявил поистине замечательное великодушие, которым вряд ли смогли бы похвалиться самые цивилизованные властители. Он показал себя милосердным и добрым. Он мог бы подвергнуть побежденных унижениям и пыткам. Вместо этого он оказал им военные почести, чтобы смягчить горечь поражения, и дал воду и пищу, чтобы те утолили муки голода и жажды. Менелику пришлось принимать парламентариев, обмениваться конвенциями[163], вокруг него суетились приближенные. За всеми этими делами он все же не забыл о Фрикет. Увидев ее наутро, негус поразился. — Не может быть! — воскликнул он, не веря собственным глазам. — Ты и есть вчерашняя негритянка? — Конечно! — ответила через переводчика девушка. — Но твоя кожа стала совсем белой… Кто бы мог подумать! Я не могу поверить своим глазам. — О, это было совсем нетрудно. Мне только надо было как следует помыть мою черную кожу, и я снова стала француженкой, которая любит твой храбрый народ за то, что он мужественно сражается с итальянцами. — Мне нравятся твои слова, мадемуазель. Я тоже люблю Францию, твою прекрасную и великую страну. Затем император вспомнил о данном накануне обещании; слишком слабые знания химии не позволяли ему догадаться об истинной причине ее метаморфозы: — Мадемуазель, вчера я дал слово назначить тебя главным врачом моей армии… Мой приказ действителен с данной минуты! Я дарую тебе это почетное звание, которое для меня равно генеральскому… Ты будешь получать генеральское жалованье, тебе будут оказывать генеральские почести. Ты будешь врачом и моим, и моей супруги, императрицы Таиту, ты будешь лечить раненых… Затем монарх повернулся к свите и громко провозгласил: — Такова моя воля! Фрикет, слегка ошеломленная неожиданным поворотом событий, не растерялась; она ответила африканскому правителю взволнованной речью, в которой поблагодарила его за доброту и щедрость. Негус улыбнулся и вместо ответа протянул ей руку. Они походили на политиков, заключивших между собой удачный договор, которые, обменявшись дружеским рукопожатием, немедленно расходятся в разные стороны по своим делам. Менелик отправился в Макалле, чтобы лично присутствовать при капитуляции крепости. Фрикет сразу же серьезно взялась за организацию медицинской службы. Благодаря своему важному положению в абиссинской армии, она могла командовать и распоряжаться по собственному усмотрению. Француженка немедленно обратила все силы и способности на благо раненых, о которых никто особенно не заботился; эти несчастные страдали и умирали без стонов и жалоб, покоряясь судьбе. Негус приставил к ней для помощи того самого переводчика, который прекрасно говорил по-французски. Он отдавал приказы и распоряжения Фрикет и следил за их исполнением. Барка по-прежнему вел хозяйство, ухаживал за мулами, занимался аптечкой, поочередно становился поваром, посыльным, санитаром, солдатом… словом, вникал во все дела и везде оказывался очень кстати. При этом он сохранял достоинство, умел внушить к себе уважение и заставить слушаться тех, кто находился у него в подчинении. Алжирцу дали коня с прекрасной упряжью, ружье, саблю; он чувствовал себя наверху блаженства, когда ехал во главе эскорта своей госпожи. Фрикет сразу завоевала всеобщее уважение и симпатию. Ее веселый нрав, приветливый характер и медицинские познания оказывали на этих неискушенных людей совершенно поразительное воздействие. Ей поклонялись, ее боготворили; и в стотысячной армии не нашлось бы ни одного солдата, который бы не был готов ради нее пожертвовать жизнью. К тому же ее окружала легенда. Утверждали, что у нее была таинственная способность по своему желанию изменять внешний вид. Конечно, эти слухи возникли из-за истории с маскарадом и превращением из белой в черную и обратно. Между тем ничего сверхъестественного здесь не было; однако ей так и не удалось убедить в этом негуса, как она ни старалась объяснить ему свой секрет. А секрет заключался в следующем: в Массауа у Фрикет было довольно много нитрата серебра[164]. Известно, что это вещество чернеет на воздухе, точнее, под воздействием солнечных лучей. Зная это свойство, она растворила в воде весь свой запас нитрата серебра, затем нанесла его на лицо, шею, руки и ноги и взобралась на стол поближе к маленькому окошку, откуда проникал дневной свет. Прошло немного времени, и кожа ее стала темнеть, чернеть, наконец, девушка превратилась в настоящую негритянку. Оказавшись у Менелика, Фрикет нашла в его лагере походную аптечку с веществами, необходимыми для обратного превращения. Она выбрала йодистый калий[165], которым протерла несколько раз почерневшую кожу, после чего и был достигнут требуемый эффект. Все же для негуса в этой истории оставалось много непонятного. — Если все так и есть, — говорил он, — то, значит, ты можешь и меня, черного, превратить в белого, а затем опять сделать черным? Да, в теории его рассуждение выглядело логичным, однако на практике оно было пока что недостижимым; по крайней мере, насколько было известно Фрикет, современное развитие химии еще не имело подобных примеров. Впрочем, внимание наших героев не слишком задерживалось на таких мелочах, ибо им вскоре предстояло стать свидетелями новых драматических событий и еще дальше погрузиться в бурное море приключений.
ГЛАВА 7
Менелик. — Друг Франции. — Шоанская армия. — Атака. — Ожесточенное сражение. — Разгром. — Поражение итальянцев. — Полковник. — Барка и его пленник. — Благородство Менелика. — Как Фрикет отомстила.Этот черный властелин, которому удалось принести столько серьезных неприятностей другому монарху, его величеству Умберто, королю Италии, был явно выдающимся человеком. Он рано лишился семьи и поддержки и оказался в плену, где ему пришлось пройти суровую школу междоусобной вражды; однако впоследствии он так повернул свою жизнь, что стал самым могучим и грозным из африканских монархов. Необыкновенным успехом этот человек был обязан только самому себе, своей воле, уму и таланту. Он был сыном негуса Шоа, несчастного и славного Хайле-Мэлекота[166], побежденного Теодоросом Абиссинским[167] и убитого в 1856 году. Теодорос, не отличавшийся великодушием, сделал четырнадцатилетнего принца, которого звали тогда Саала-Марием, своим пленником и продержал его восемь лет в тюрьме под строгим надзором и без связи с семьей и родиной. Однако в 1864 году молодому человеку удалось бежать, причем помогла ему некая юная красавица. Принц вернулся в Шоа, где сумел заручиться поддержкой сторонников своего отца; он поднял их на восстание против властей, бывших на стороне Теодороса, возглавил восставших и в ходе сражения убил абиссинского правителя. В результате этой победы он вернул себе утраченный титул и, ко всеобщей радости жителей, провозгласил себя негусом Шоа под именем Менелика II. Обладая блестящим умом, молодой правитель интересовался достижениями цивилизации и стремился проводить реформы; свое государство он устроил так замечательно, что после падения Теодороса стал самым могущественным из всех вассалов[168] абиссинской короны. Его возвышение вызвало зависть у преемника Теодороса Иоанна, или Иоханесса[169], который попытался уничтожить его. Однако Иоанн был слишком хитер, чтобы атаковать самому; он натравил на него Теклаимано, правителя Годжама. Менелик дал врагам решительный отпор, одержал много побед и в конце концов наголову разбил противника, взяв в плен Теклаимано. Иоанну Абиссинскому, напуганному еще большим усилением короля Шоа, пришлось притвориться великодушным и справедливым. Он утвердил право Менелика на завоеванные территории и избавил его от вассальной зависимости, признав тем самым его независимость. Впоследствии Иоанн проникся симпатией к своему сильному соседу и даже породнился с ним. Его единственный сын взял в жены старшую дочь Менелика, которой отец выделил в качестве приданого небольшое королевское владение Уолло; в свою очередь Иоанн отдал своему остепенившемуся сыну Тигре. Наконец, самым важным было то, что Иоанн объявил Менелика наследником престола Абиссинии с условием, что после смерти Менелика трон перейдет к его зятю. В 1889 году, после гибели Иоанна, убитого в сражении с дервишами, Менелик вступил в свои законные права императора Абиссинии. Показав себя мудрым правителем, он сделал очень много хорошего, особой его заслугой стала отмена в стране рабства. Народ горячо полюбил монарха. Император всегда был верным другом Франции и не раз пытался трогательно доказывать свою дружбу на деле. Так, узнав о том, что Германия навязала Франции огромную контрибуцию, Менелик, только что ставший негусом Шоа, хотел послать Франции несколько тысяч телари, чтобы помочь выплатить тяжелую дань. Хорошо, что какой-то европеец отговорил его от этого поступка, объяснив, сколько телари потребовалось бы для уплаты пяти миллиардов франков, и король испугался, как бы французы не подняли его на смех. Его опасения были напрасны, ведь важен был сам порыв его благородного сердца, а бескорыстная дружеская поддержка — дороже денег. Симпатия Менелика к Франции на протяжении всеговремени оставалась неизменной, и французов у него всегда принимали очень хорошо. Вспомним хотя бы Поля Солейе[170] и других знаменитых ученых-путешественников, которые столь успешно работали в Абиссинии во имя славы и процветания родины. Фрикет как настоящая патриотка радовалась, что здесь любят ее страну, и конечно же старалась отплатить негусу за его гостеприимство. Менелик после капитуляции Макалле принялся за дела с удвоенной энергией. По его призыву необыкновенно быстро собрались лучшие солдаты, которые, не обладая дисциплиной европейских войск, оказывались гораздо сильнее в местных условиях, ибо они были более выносливыми и приспособленными к климату. Эти поразительно храбрые люди горячо любили родину и были фанатично преданы императору. К тому же их было очень много. Если Менелик не мог считаться искусным тактиком, то ему нельзя было отказать в умении привести эту армию на поле боя и в мощном порыве бросить ее на противника, увлекая и вдохновляя всех своей личной храбростью. Абиссинское войско нельзя было назвать сборищем вооруженных людей, это действительно была армия, состоявшая из крепких и смелых мужчин, которые не боялись ни боли, ни смерти, не умели отступать и прекрасно владели самым современным огнестрельным оружием. Они прибывали отовсюду во главе с вождями и, пройдя военным парадом перед негусом, занимали свои места на огромной «шахматной доске», где вскоре предстояло разыграться решающей «партии», которая должна была определить независимость Абиссинии. Объединение войск шло очень тщательно, но без особого шума. Итальянцы, не имевшие достаточной информации о передвижении этой массы народа, не верили, несмотря на сдачу Макалле, в серьезность своего положения. Командующий армией генерал Баратьери расположил свои войска — элиту экспедиционного корпуса — вокруг Адуа[171]. Располагая примерно двадцатью тысячами человек, генерал вначале намеревался обрушить на Абиссинию с занимаемой ими позиции, считавшейся неприступной, сокрушительный удар, «сметая все на своем пути». Тогда сфера итальянского влияния расширилась бы до Нила. Однако от слов еще очень далеко до дела, уважаемые господа итальянцы. Генерал все же немного беспокоился; вопреки презрительному отношению к войску негуса итальянских военных, считавших абиссинцев просто дикарями, он знал, что Менелик неплохо управляет своими солдатами. Время пустого бахвальства миновало, следовало подумать об осторожности. Не обладая достаточной уверенностью, что им удастся удержать позиции, и опасаясь, что пути к отступлению могут быть отрезаны, командующий решил отложить свои воинственные планы и отвести армию назад. Наступило двадцать восьмое февраля 1896 года. В войсках уже готовились к отходу, когда на следующий день, двадцать девятого, из Италии пришла телеграмма. Политическая карьера Криспи находилась под угрозой, ему требовалась военная победа, причем по заказу, в назначенный им день и час. Телеграмма содержала приказ о немедленном начале наступления; в конце ее были несправедливые слова, вызвавшие законную обиду у солдат, которые, несмотря на любовь к хвастовству, все же неплохо показали себя в ходе сражений:
«…Это не война! Вы воюете как чахоточные! Жалею, что не могу присутствовать там, где вы находитесь, и не могу давать вам советы…Генерал Баратьери созвал военный совет, и все офицеры, за исключением одного, высказались за наступление. Приказ об отступлении был отменен, и на следующее утро, первого марта, итальянцы начали атаку, которая скоро перешла в жестокий рукопашный бой. На стороне итальянцев была дисциплина, опытные командиры и хорошая артиллерия, у негуса — численное превосходство и пламенный патриотизм солдат. Столкновение обеих армий представляло собой ужасное зрелище. Оба противника чувствовали, что наступило решающее сражение, и отдались жестокой борьбе не на жизнь, а на смерть. С самого начала каждая из сторон вела ожесточенную стрельбу, противники вступали в рукопашные схватки. Итальянцы три раза предпринимали штыковые атаки и всякий раз оказывались отброшенными назад отважными шоанами. Повсюду в лужах крови валялись горы трупов. Часть итальянской артиллерии постоянно стреляла в гущу абиссинского войска, которое несло огромные потери. Пушки итальянцев, установленные на горе, били без перерыва, проделывая своими ядрами в человеческой стене огромные бреши, которые сразу же заполнялись новыми воинами. Абиссинцы не имели артиллерии и не могли открыть ответного огня; поэтому они, ползком поднимаясь наверх, подбирались к пушкам, чтобы своими выстрелами вывести из строя канониров. Солдаты негуса гибли сотнями, но на место убитых сразу же вставали другие; мертвые тела громоздились в баррикады, за которыми прятались живые. Наконец итальянская артиллерия замолчала: большинство стрелков было убито возле своих орудий. Схватка приобрела особенно ожесточенный характер. Три итальянские бригады оказались зажатыми со всех сторон армией негуса, которая безжалостно истребляла их. И абиссинцы и итальянцы проявляли чудеса храбрости и героизма. Ужасная резня длилась почти весь день. Хотя итальянцев погибло великое множество, они держались и не отступали. К трем часам одна из бригад была полностью уничтожена, ее командир погиб, офицеры большей частью были убиты или попали в плен. Потери были очень велики с обеих сторон, однако абиссинцы без труда пополняли их новыми силами. Опьяненные битвой, они сражались на глазах их любимого негуса и, казалось, были одержимы манией истребления врагов. Менелик и его штаб вместе с отборными войсками находился напротив второй бригады, которая уменьшалась с каждым часом, но все еще держалась. Фрикет, сидя верхом на муле в окружении эскорта, внимательно следила за сражением. Не обращая внимания на опасность, император со своими сановниками расположился неподалеку. Француженке еще не приходилось применять свой профессиональный опыт. Схватка была такой кровавой, что раненых не было. Барка, вооруженный ружьем, носился на прекрасном коне, подаренном императором, и сражался как зверь. Он беспрерывно стрелял и время от времени испускал гортанные крики, напоминавшие тигриный рык. Подобно героям Гомера[172], он всячески поносил своих врагов, осыпая их оскорблениями, и искал глазами среди итальянцев арестовавшего их полковника. Вдруг у него вырвался ужасный вопль, почти заглушивший шум битвы. Он увидел полковника, который подавал пример храбрости своим солдатам, сражаясь в первом ряду. Да, на войне бывают такие поразительные встречи. Побледнев и сжав зубы, Барка, вне себя от ярости, вонзил шпоры в бока своего вороного коня, и тот помчался быстрее ветра. Всадники, которыми командовал Барка, увидели, что их командир куда-то поскакал, устремились за ним и ворвались в расположение итальянских позиций. Не успев перезарядить ружье, араб схватил его за дуло и стал действовать им как дубиной. Он привстал в стременах и принялся избивать окружавших его итальянцев, которые в страхе отступали перед его бешеным напором. Алжирец подъехал к полковнику почти вплотную; тот навел на него свой револьвер и выстрелил, однако дал промах. Барка размахнулся и изо всей силы ударил противника по голове так, что тот не удержался в седле и стал падать набок. Реакция Барки была молниеносной: бросив ружье, он подхватил своего оглушенного врага под мышки, швырнул его перед собой на коня и с ненавистью прокричал ему в ухо: — Наконец-то я поймал тебя, негодяй! Я тебе голову отрежу, а твой язык собакам выброшу! Сделаю, как обещал, слово мое твердое! Алжирец развернулся и, вырвавшись из гущи схватки, поскакал к Фрикет. Подъехав к ней, он бросил итальянца на землю к ее ногам и крикнул: — Госпожа, я привез тебе пленника. Всадники, мчавшиеся на полной скорости, не останавливаясь, на полном ходу врезались в расположение итальянцев и смяли их позиции. В образовавшийся прорыв они увлекли за собой еще солдат, за ними ринулась кавалерия. Итальянцы растерялись, стрельба с их стороны стала реже; в ту же брешь хлынула пехота абиссинцев, которая принялась расстреливать противника в упор. Возникла невообразимая паника, остановить которую было невозможно. Офицеры кричали, взывали к чувству долга, просили и угрожали — все было напрасно. Командиры чуть не плакали от ярости и подгоняли солдат саблями и револьверами, однако царившее в рядах смятение было сильнее, чем угрозы или привычка к повиновению. Артиллеристы, пехотинцы, берсальеры, альпийские стрелки[173], обезумев от страха, бросали оружие и бежали не разбирая дороги, ничего не соображая, как тупое стадо! Да, не было больше победного шелеста плюмажа на касках, да и хвастовства у бедняг заметно поубавилось. Их безжалостное истребление прекратилось только с наступлением ночи. Итальянцы потеряли шесть тысяч убитыми, столько же ранеными, три тысячи попало в плен. Они потеряли также почти всю артиллерию, около семидесяти орудий и все снаряжение. Эта ужасная катастрофа, после которой армии так и не удалось оправиться, необычайно укрепила могущество и престиж Менелика. Негус не стал извлекать выгоду из своей блестящей победы. Он проявил к пленникам не только великодушие, но и отнесся к ним с удивительной учтивостью, простив им расстрел парламентариев и даже пленных. Да, этот человек, которого так охотно высмеивали и оскорбляли, забыл все обиды и повел себя по отношению к побежденным как самый утонченный из цивилизованных европейцев. Кстати, если уж мы вспомнили о европейцах, закончим рассказ о полковнике, плененном Баркой. Представьте себе охватившие его стыд и досаду, когда итальянец понял, что в роли судьи, который должен был решить его участь, оказалась, по злосчастной случайности, его бывшая жертва. Почти совершенно оглушенный, силясь подняться, он хотел показать, что ему все нипочем, и вызывающе смотрел на девушку и алжирца. Барка в ответ метнул на пленника полный ненависти взгляд и, заскрипев от ярости зубами, бросился на него, пригнул ему шею, заставив упасть на колени, и крикнул: — Ну-ка, проси прощения у госпожи за то, что ты ее обидел! — Чтобы я унизил себя перед какой-то французской авантюристкой? Ни за что! Барка замахнулся саблей, но Фрикет жестом остановила денщика и с достоинством ответила: — Сударь, я не виновна в том преступлении, за которое вы меня осудили, это было несправедливо, честное слово! Я вовсе не авантюристка, а просто обычная француженка, патриотка, отправившаяся путешествовать. Со мной случались разные приключения. Наверное, самым необычным будет то, что после взятия в плен моего личного врага, итальянского полковника, я отпущу его на свободу. — Как, вы меня освобождаете? — Да, мой друг Менелик исполнит мою просьбу. — А если я не захочу принять от вас этой свободы? Фрикет побледнела от гнева, и голос ее задрожал: — Тогда по моему приказу десять оставшихся у меня всадников выпроводят вас ударами плеток за пределы наших аванпостов. — Вы это сделаете? — Да, клянусь честью. — Но зачем вы отпускаете меня, когда у вас имеются мотивы, чтобы ненавидеть меня. — Да потому, что такая развязка кажется мне изящной… и забавной! — Забавной! Как вы смеете? Что я вам, игрушка? — Нет, постараюсь объяснить получше… Я поступаю так, чтобы показать, как я вас презираю. Барка! — Что угодно госпоже? — Отвези этого человека как можно дальше, и пусть он ищет свои войска, если от них еще что-то осталось.Криспи Франческо».
ГЛАВА 8
Письмо Фрикет. — Резиденция Менелика. — Пленники. — Барка женится. — Врач! — Сокровища мадемуазель Фрикет. — Проект возвращения. — Перспектива скорого отъезда. — …Может быть, она приедет в Париж.«Аддис-Абеба[174], 15 мая 1898
Дорогие папа и мама! В моих приключениях, как в театральном спектакле, настал перерыв. С тех пор как я в своих последних письмах описывала вам нашу замечательную победу над итальянцами, не произошло ровным счетом ничего. Теперь эти господа нас совершенно не беспокоят, и Жизнь моя стала удивительно скучной и однообразной. Для меня так непривычно тихое благополучие в уюте и бездействии! Иногда мне кажется, что это не я, а другой человек. Я вспоминаю все испытания, выпавшие на мою долю за время войны в Корее, экспедиции на Мадагаскар, сражений в Абиссинии, и иногда спрашиваю себя, а может быть, это мне приснилось, а на самом деле я сижу у себя дома и немного задремала над книжкой о приключениях Фрикет! Но нет, я действительно нахожусь в Абиссинии, в которой благодаря энергии негуса и отваге его подданных воцарились мир и покой. Здешний климат удивительно благотворен для здоровья. Меня больше не лихорадит, нет слабости и недомогания, как на Мадагаскаре. Чувствую себя превосходно! Правда, я не успела толком поболеть, мне срочно пришлось вылечиваться. Итак, я совершенно здорова и готова вновь отправиться в какое-нибудь путешествие! Но о чем это я — наверное, «спятила», как выражается Барка, то есть сошла с ума… Говорить об отъезде, когда еще не было возвращения! Пока что я нахожусь в центре Абиссинии, в королевских покоях Менелика, и, прежде чем снова пускаться в дальнюю дорогу, мне необходимо заехать домой и расцеловать вас. И еще: откровенно говоря, мне очень хочется ощутить себя маминой дочкой. Утром кофе с молоком в постели, днем — бифштекс с запеченной картошкой, кусочек макрели[175] и немножко мягкого сыра. Да, я без конца думаю о еде: это оттого, что здесь меня потчуют разными экзотическими блюдами, от которых я все сильнее тоскую по нашей простой домашней пище! К тому же я так мечтаю снова увидеть улицы с газовыми фонарями, чахлые деревья, высокие здания, трамваи, газетные киоски, омнибусы и наших парижан! Не могу сказать, что скучаю. Просто мне хочется оказаться в иной обстановке, совершенно противоположной здешним условиям. И как будет замечательно, после того как мы столько раз вместе читали о приключениях парижского сорванца Фрике, рассказать вам о странствиях вашей дочки Фрикет! Думаю, это произойдет очень скоро, так как я предполагаю выехать отсюда самое позднее недели через две. Сезон дождей начинается в июле, а заканчивается в октябре. Месяцем раньше и месяцем позже здесь свирепствует тропическая лихорадка, с которой мне вовсе не обязательно встречаться. Вот почему я, вопреки всем просьбам побыть здесь еще некоторое время, должна отправиться в Джибути в конце мая. Вы, вероятно, спросите меня, что значит это «здесь». Знаете ли вы что-нибудь об Аддис-Абебе? Начнем по порядку, с географического положения: долгота — 36°35′; широта — 9°; высота над уровнем моря — 2300 метров. В политическом отношении этот город является столицей, так как в нем в настоящее время располагается резиденция Менелика. У Абиссинии нет постоянной столицы, а главным городом считается тот, в котором живет император. Географам немногое известно про этот маленький Версаль[176] или будущий Сен-Жермен[177] здешнего государства. Менелик живет здесь уже два или три года, потому что так ему захотелось. Через пять-шесть лет все может измениться. Вообще в Абиссинии очень интересная ситуация со столицами. В географических трактатах и картах вам встретится Анкобер[178], который был императорской резиденцией несколько лет тому назад. Теперь он представляет собой мертвый город. Переезд Менелика погубил эту цветущую, многолюдную и прекрасно расположенную столицу, заменившую Анголону, старую столицу, также пришедшую в упадок после бегства прежнего императора. И наконец, где-то в трехстах метрах над Аддис-Абебой расположен еще один опустевший город — Энтотто, который также обязан прихоти негуса своей жизнью и смертью. Дома там уже разрушаются и служат материалом для строительства в новом городе. Может быть, все это вам не слишком интересно… Однако какое странное зрелище для путешественника — разбросанные повсюду останки городов! Возвращаюсь к теперешнему фавориту, Аддис-Абебе, что на местном наречии значит «новый цветок». Затрудняюсь назвать даже приблизительное количество жителей, возможно 10 000 или 15 000… Трудно сказать точнее, так как отсюда постоянно уезжают и возвращаются обратно множество самых разных людей — вожди племен, губернаторы провинций, послы, торговцы, погонщики верблюдов. Все они составляют очень пеструю и живописную толпу, где безусловно преобладают люди, которым не сидится на одном и том же месте. Несмотря на свой столичный статус, Аддис-Абебу трудно назвать городом. Она представляет собой скопление круглых каменных хижин, промазанных вязкой грязью, с остроконечными соломенными крышами, напоминающими стог сена. Местных жителей, которые одновременно являются и архитекторами и каменщиками, вовсе нельзя упрекнуть в избытке фантазии. Вот как они сооружают дома: выбрав подходящее место, находят в округе строительные материалы, соединяют их между собой как придется, ударят здесь, ударят там — и готово! Никакого намека на архитектурный замысел, симметрию или ровные линии. Нет ни улиц, ни бульваров, ни тропинок, ни дорог. Все строения располагаются какой-то кучей, и выглядит это наивно и примитивно, словно нагромождение куличиков, сделанных из песка маленькими детьми. И вот посреди таких лачуг стоит огромный императорский дворец, называемый Геби. Он виден со всех сторон и возвышается над домиками, как гора над кротовыми холмиками, как высокий кедр над молодой порослью, как старинная церковь над деревенскими постройками. Собственно говоря, Геби — это и есть столица, а император воплощает собой нацию! Дворец окружен невысокими каменными стенами и ограждениями; самым большим залом является Эльфинь, который представляет собой личные покои негуса и императрицы Таиту. В высоту Эльфинь достигает, вероятно, пятнадцати метров, он походит на арабские постройки: стены побелены известью, крыша покрыта красной черепицей с блестящими оцинкованными краями; двери, окна, балконы и лестницы раскрашены яркими красками — зеленой, синей, желтой и красной. Все это выглядит веселым, нарядным, хотя и достаточно безвкусным. Кроме того, здесь есть Саганет, или башня с часами, и Адераш, главная трапезная, огромное восьмиугольное строение, окруженное крытой галереей. Стоит сказать еще о складе, который называется Гусда; это помещение выполняет очень важную практическую функцию. Когда приходит какой-нибудь караван, он непременно делает здесь остановку. И Его Величество, который учитывает даже мелкие доходы, собственной персоной осуществляет таможенный досмотр. Вероятно, это еще одно доказательство его мудрости, так как в этой стране, как и во многих местах на Востоке, нельзя обойтись без бакшиша. Итак, Его Величество взимает с торговцев таможенную пошлину деньгами и натурой. Он действует по своему усмотрению, но всегда очень разумно; и по его приказу в принадлежащие ему магазины доставляются самые различные вещи. Я была в такой лавке и обнаружила там удивительное разнообразие товаров, напоминающее своей пестротой восточный базар. Трудно не восхищаться широтой вкусов негуса: там находились в большом количестве часы без маятников и маятники без часов, ружья без прикладов и приклады без ружей, ковры, изъеденные мышами и крысами, охотничьи сапоги со шпорами, множество баночек с красками и широкими кистями — в здешних местах очень любят раскрашивать, — музыкальные инструменты как струнные, так и духовые, которые молчат, потому что, к счастью, на них некому играть. Здесь же куски упряжи, различные железки и неизвестные приспособления, ящики с продавленным дном… Все это перемешано, нагромождено друг на друга так, что трудно в чем-либо разобраться. В общем, императорское жилище не очень напоминает версальский дворец. Разумеется, меня поместили в Геби вместе с моими слугами, охраной, служанками; теперь здесь мой дом, мои конюшни и т. п. Да, ваша дочь сделалась важной персоной! Непонятно, зачем мне столько слуг? Чаще всего я обхожусь своими силами. Абиссинский слуга — человек особого рода. Он честен, послушен, предан хозяину, которому всеми силами стремится угодить. Однако все отношения у них подчиняются обязательной иерархии: хозяин отдает приказания управляющему, тот — своему помощнику, а помощник — своему подчиненному… и так далее до самого последнего; в результате никто ничего не делает. Все же я устроилась не так уж плохо, потому что взяла к себе в качестве слуг несколько пленных итальянцев, чем сразу же вызвала недовольство Барки, который смотрит на них искоса и относится к ним с большим недоверием. Он их просто ненавидит, и я опасаюсь какой-нибудь кровавой выходки. Таких, как он, немало; пленные здесь явно в самом незавидном положении среди абиссинцев, находящихся в крайнем возбуждении после недавней победы. Они помнят жестокость итальянцев: еще накануне они оплакивали одного из вождей, Мангосшу, убитого предательским образом. Его послали для мирных переговоров в качестве парламентария, а итальянцы приказали его расстрелять. И еще я думала о бедных пленных абиссинцах, заживо похороненных в горячих песках Массауа, или утопленных в Красном море, или расстрелянных по прихоти какого-то пьяного солдафона. Нужно признать, что абиссинцы по природе очень добрые люди. Хоть их считают дикарями, они не стали мстить своим вчерашним врагам, приняли их, несмотря ни на что, гостеприимно, дали кров и пищу, на которую те набросились с жадностью изголодавшихся животных. Итальянцы были до слез растроганы таким добрым отношением; эти молодые, не слишком воинственные люди говорили о тех, кто их послал на эту войну — о господах Умберто и Криспи — в самых нелестных выражениях. Весьма вероятно, что если бы они оказались победителями, то они бы грабили, поджигали и убивали, как настоящие европейцы, как это обычно происходит, когда белые хотят приобщить туземцев к благам своей цивилизации. Ничего удивительного, что черный брат оказывает сопротивление, если его убеждают в своей правоте с помощью гильотины! Негус показал себя не только человеком храбрым, но и сохранившим истинное великодушие, на которое не повлияли ни жестокость врага, ни клевета, ни оскорбления, ни даже собственная победа. Триумф победителя был скромен. Менелик не стал вспоминать обо всей грязи, которой его обливали, о все еще грозивших его родине опасностях, о непрочности его династии;[179] он проявил доброту, которая сделала его еще более привлекательным. Он обращается к офицерам с необыкновенным уважением, почитает их доблесть и военные заслуги и следит за тем, чтобы у них было все необходимое, даже немного балует их; короче, обращается с ними скорее не как с пленными, а как с гостями. Чтобы облегчить им возможность передвижения, он дал им мулов; он позаботился и о том, чтобы они смогли переписываться с родными. С простыми солдатами обращаются так же хорошо; я даже знаю несколько человек, которые не стремятся возвращаться домой, а собираются остаться здесь и завести семью. Почему бы и нет? Как было бы прекрасно, если бы это великодушие императора заставило надменных итальянцев задуматься о той бездне, в которую они угодили по своей вине. Я понимаю, что их самолюбию нанесен очень большой удар. Они надеялись на быструю победу, мечтали о колониальной империи, о распространении сферы итальянского влияния вплоть до Красного моря, и вдруг все эти мечты разлетелись в пух и прах; конечно, пережить это совсем непросто. Во всяком случае, не следует забывать о самом главном; не стоит сожалеть о потерянной славе, надо думать о том, чтобы сохранить людей. Пусть нечем будет похвастаться, это не столь важно, если воцарится долгожданный мир и высохнут материнские слезы! Негус хочет конца войны. Несмотря на его успехи в сражениях, он заслужил всеобщую симпатию своим упорным стремлением к миру. Если итальянцы пойдут ему навстречу и противники пожмут друг другу руки, я убеждена, что вся эта злосчастная история будет предана забвению. Но хватит о господах итальянцах, я не могу не сердиться на них! Да, я им прощаю, но я ничего не забыла. Посмотрим, как они поведут себя дальше, может, перестанут быть такими агрессивными по отношению к Франции. Еще новость: Барка покидает меня! У него важное дело, он собирается жениться на моей горничной, которую зовут Улетагоргис, или, говоря иначе, Жоржетта. Она очень хорошенькая, добрая и кроткая, ей двенадцать лет; Барка к ней очень привязался. Он даже намеревался взять в жены и ее сестру Микаэлу, которая на год младше Жоржетты. Он — мусульманин, и это кажется ему совершенно естественным. Пришлось напомнить, что абиссинцы исповедуют христианскую веру, и многоженство здесь категорически запрещено. Барка признал правильность такого замечания и ответил: — Да, моя понимай, женюсь на одной Жоржетте, пусть будет по-христиански. Менелик очень любит моего слугу; он дает за невестой богатое приданое и собирается обеспечить будущее молодых. Впрочем, алжирец очень сообразителен и уже нашел здесь себе неплохое занятие: сделался врачом и уже имеет много пациентов. Местные жители не слишком требовательны насчет учебы и диплома. А Барка утверждает, что, служа санитаром на Мадагаскаре, выучился всему необходимому. Возможно, что так оно и есть. Ну а я со своим незаконченным медицинским образованием занимаю пост главного врача абиссинской армии. Итак, мой друг объявил себя французским доктором; он дает слабительное, ставит банки, делает массаж, прописывает клизмы и хинин, вырывает зубы, неплохо разбирается в антисептических повязках, что позволяет ему излечивать раны; его слава день ото дня все увеличивается. В конце концов, чем он хуже многих? Он очень осторожен, кое-что знает и, применяя свои мази и микстуры, принесет не больше пользы или вреда, чем какой-нибудь гомеопат. Я пойду на его свадьбу, которую будут праздновать, как это принято у коптов[180]. Затем я двинусь в путь и надеюсь правильно рассчитать время, чтобы прибыть к пароходу и отправиться на нем во Францию. Мне предстоит преодолеть пустыню, эта дорога короче других, но менее безопасна. Не беспокойтесь обо мне! Менелик дает большой эскорт, составленный из лучших всадников, триста или четыреста человек, может быть, даже пятьсот. Этим храбрым воинам поручена охрана моей персоны и моих сокровищ. Менелик очень щедр и любит делать своим гостям подарки. За мою службу он отблагодарил меня по-королевски. Кроме богатых тканей, украшений и драгоценностей, которые он заставил меня принять, он дал мне ящик, скрепленный его печатью, в который он поместил десять килограммов золотого порошка, что равняется примерно тридцати тысячам франков. Для меня и для вас это целое состояние. Вы возьмете себе сколько захотите, а остальное пойдет на мое следующее путешествие. Но до него пока еще далеко, и у нас будет много времени, чтобы вместе помечтать о новых странствиях вашей Фрикет. Столько воды утекло, а я все та же! Подумать только, я ведь уехала из дома почти год назад! И оказалась на самом краю нашего полушария! Видела три войны, мои приключения составили бы толстую книгу! И все же я снова мечтаю о путешествиях! Я неисправима: ведь вначале надо вернуться, а до Джибути еще больше трех недель пути. Это довольно длительная прогулка, и я намереваюсь совершить ее на спине мула, так как мне надоели горбатые животные. Надеюсь, что прибуду вовремя и сяду на французский пароход «Мессажери». Все будет зависеть от погоды, от возможных происшествий, от моих желаний и везения. Не грустите обо мне: я очень рада, мечты мои осуществились, и я чувствую себя счастливее и богаче всех миллионеров, вместе взятых. Честное слово, если бы не начало сезона дождей, то я могла бы ехать по суше: либо через Азию, либо через Африку. Да, это было бы здорово. Но нет, надо быть благоразумной. Я сказала, что поеду самым коротким и быстрым путем. Хочу вновь увидеть свою милую Францию, поцеловать вас, мои дорогие. Я никогда не переставала думать о вас, люблю вас всем сердцем. Вы себе не представляете, как это чувство выручало меня в самые трудные моменты моих невероятных приключений. Вы близки мне как никогда, я вижу ваши лица, глаза, слышу знакомые голоса, угадываю движения. У меня такое ощущение, что я от вас вовсе не уезжала. Я перечитываю ваши письма, целую фотографии и, вспоминая какой-нибудь эпизод из того, что мне пришлось пережить, спрашиваю себя: — Как поступил бы папа, если бы он был на моем месте? А что сделала бы мама, окажись она под градом пуль на горбу верблюда? Захотели бы детишки попасть в герои «Журнала путешествий»? Да, я не устану повторять, что вы — мои самые любимые на свете люди! И я хочу закончить свое длинное письмо очень серьезным обещанием: До скорого свидания в нашем предместье. Крепко целую и обнимаю вас,Ваша Фрикет.
P. S. Если в дороге случится что-то непредвиденное, я могу задержаться. Надеюсь, что вы не станете на меня сердиться. Я действительно хочу вернуться, однако знать наверняка можно лишь час отправления, а разве можно точно назвать тот час, когда ты приедешь домой, если тобой целиком владеет непреодолимая страсть к путешествиям?»
Конец

Луи Буссенар ОСТРОВ В ОГНЕ
ОТ РЕДАКТОРА
Приблизительно с V до XVI века остров Куба был заселен индейцами. В 1492 году он открыт Христофором Колумбом. В 1510 году началось завоевание Кубы испанцами, вводившими здесь феодальные порядки, наряду с которыми существовало рабство. Дискриминации подвергались и креолы — родившиеся на Кубе потомки испанцев, они в начале XIX века выступили за экономические и политические преобразования. Растущее движение кубинского народа против испанских колонизаторов вылилось в Десятилетнюю войну за независимость (1868–1878 гг.), что привело к окончательной отмене рабства (1886 г.) Новое национально-освободительное восстание, отдельные события которого положены в основу романа, началось 24 февраля 1895 года и завершилось осенью 1897 года рядом серьезных политических побед повстанцев. Дальнейшие факты истории Кубы выходят за пределы данного повествования.ГЛАВА 1
Мачете изготовь! — Боевой клич кубинских повстанцев. — Кавалерийская атака. — Героиня. — Раненые. — Брат и сестра. — Появление мадемуазель[181] Фрикет. — Испания и Куба. — Пленных не трогать! — Не вмешивайтесь в чужие дела!Голос полковника прозвучал как сигнал боевой трубы: — Трензеля[182] снять! На быстром галопе полк тотчас остановился. Фырканье лошадей. Позвякивание металла. Лихие кавалеристы соскочили с коней, выполнили приказ и вновь вспрыгнули в седла. Встав на стременах во весь рост, полковник взмахнул массивным коротким клинком и, слегка повернув голову, прикрытую большой серой шляпой с приподнятыми спереди полями, отдал новую команду: — Мачете[183] изготовь! Точно волна пробежала по рядам бойцов, мощный возглас огласил округу: — Да здравствует свободная Куба! Полк рванулся вперед. Размахивая страшным оружием — мачете, всадники не пытались удерживать разгоряченных коней — напротив, немилосердно взбадривали их шпорами. Бешено скачущие животные слились в единую плотную массу. Казалось, ничто, кроме смерти, не остановит их. Великолепное, потрясающее зрелище! Не зная страха, бойцы, охваченные любовью к родине, мчались, полные решимости, навстречу почти неизбежной гибели. Храбрецы, казалось, не обращали внимания на посвист пуль вражеской пехоты. — Вперед! Да здравствует свободная Куба! Полковник, по обычаю повстанческих командиров, всегда показывавших пример бойцам, несся, высоко подняв саблю, метрах в двадцати пяти впереди войска. Обрамленное черной бородкой, красивое благородное лицо его искажала гримаса ярости — глаза горели, на матовой коже щек пылали красные пятна. Человек действия, он казался олицетворением того, кто был нужен именно в этот момент, именно для этой отчаянной атаки. От него сейчас зависела участь всей армии повстанцев. Полковник твердо знал, что атака не должна задохнуться. Кавалеристам любой ценой следовало вклиниться во вражеские ряды, влететь в них как снаряд. Потому командир и решил прибегнуть к последнему средству, в свое время использованному лордом Кардиганом при наступлении на Балаклаву[184]. Английский генерал приказал тогда снять с лошадей трензеля, чтобы солдаты не могли, приди кому-то в голову такое желание, удерживать коней. В штурме участвовало шестьсот человек. В живых осталось сто тридцать! Но… они спасли британскую группировку. Теперь расстояние между кубинскими кавалеристами и испанскими пехотинцами стремительно уменьшалось. Чаще и чаще раздавались беспорядочные выстрелы. На скаку замертво падали лошади. Стоял невообразимый гам. Даже смертельно раненные, солдаты не выпускали из рук мачете, кричали: — Да здравствует свободная Куба! Но вот сквозь грохот боя едва прорвался стон, в котором смешались и боль и гнев. Полковник на секунду обернулся и прошептал: — Бедная Долорес! Где-то за его спиной, в первых рядах атакующих мелькнула развевающаяся на ветру элегантного покроя амазонка[185]. В окружении всадников скакала удивительно красивая девушка, раненная в левую руку. Кто-то попытался помочь ей. Но она, не обращая внимания на кровь, резко ответила: — Оставьте! Оставьте!.. Я тоже боец. Всадница из последних сил держалась в седле, сжимая здоровой рукой револьвер. Казалось, атаку кубинцев не отбить — испанцев, истерзанных лихорадкой, бледных от малокровия, изнуренных нещадным тропическим солнцем, было мало. Но, тоже верные знаменам своего отечества, необыкновенно смелые, дисциплинированные и решительные, они не собирались отступать. Хорошо знакомый, но от этого еще более ужасный клич кубинцев «Мачете изготовь!» застал солдат его величества[186] врасплох, а чудеса ловкости, что проявляли мятежники, орудуя бритвенно отточенной сталью, насаженной на деревянные рукоятки, вынудили испанцев рассыпаться цепью и, используя малейшую неровность ландшафта — кусты, камни, кочки, — вести лишь одиночный огонь. И подобно присутствию красавицы Долорес в рядах повстанцев, волну восхищения вызвало появление за первой линией оборонявшегося противника другой прекрасной женщины. В короткой голубой юбке из грубой ткани и в такой же блузке, в изящных, но прочных полусапожках, в каске, на прелестной головке почему-то схожей с кокетливой шляпкой, она стояла в тени мангового дерева и, стараясь сдержать волнение, наблюдала за ходом боя. Простой и в то же время элегантный костюм девушки дополняли широкий пояс с револьвером и сумка военного медика через плечо. На левой руке белела повязка с красным крестом. Совершенно очевидно, юная особа не была креолкой[187]. Кудряшки, выбивавшиеся на лоб, быстрый взгляд светлых глаз и румянец на матовой коже выдавали ее европейское происхождение, а излучавшее живой свет лицо с мягкими и одновременно решительными чертами было из тех, что справедливо называют незабываемыми. Под сенью дерева манго рядом с повозками и носилками находились еще около двадцати санитаров. Один из них укрепил на самой вершине кроны флаг Красного Креста[188]. Капитан, направляя огонь бойцов, крикнул по-французски: — Осторожнее, мадемуазель Фрикет! Сестра милосердия пожала плечами, как бы говоря: «Чему быть, того не миновать». Офицер настаивал: — Спрячьтесь хотя бы за дерево… Сейчас начнется такое!.. Кубинская кавалерия наступала стремительно, но стрельба с близкого расстояния вела к большим потерям. Лошади падали десятками, подминая под себя убитых и раненых всадников. Из груды корчащихся тел, из хаоса раздавались стоны, вопли, проклятия, мольбы. Разрозненные эскадроны продолжали неудержимую скачку. И вот быстрая схватка — блеск сабель и мачете, скрежет металла о металл, потоки крови, изрубленные тела… Скоро смерч унесся, усеяв поле множеством погибших и умирающих. Мадемуазель Фрикет не могла отвести глаз от смертоубийственного действа. Когда же она вышла из тени дерева, кавалерийский полк, наступавший на вторую линию пехоты, оказался уже далеко. В нескольких шагах от себя она увидела капитана, который, вероятно, спас ей жизнь, посоветовав спрятаться. Из рассеченной ударом мачете головы офицера ручьем текла кровь. Половина санитаров погибла. Правда, испанцы, как это всегда бывает с обороняющимися, пострадали не так уж сильно. Значительно серьезнее оказались потери кубинцев. Оглядевшись по сторонам, мадемуазель Фрикет вдруг заметила среди мертвых полковника повстанцев. Он недвижно лежал на спине, сжимая в руке свое ужасное оружие. Только широко раскрытые глаза свидетельствовали о том, что он жив. Фрикет кликнула подмогу. Юношу приподняли за плечи и усадили. На спине пулевого отверстия не оказалось, но девушка нащупала уплотнение. Вынув из сумки скальпель, она ловко разорвала рубашку раненого, быстро сделала разрез и пальцами извлекла застрявшую под кожей пулю. Не имея ничего другого, Фрикет промыла карболкой раны на груди и спине, наложила повязку. Молодой человек с облегчением вздохнул и, все еще кривясь от боли, сказал: — Спасибо! И, собрав последние силы, прошептал. — Моя сестра!.. Спасите сестру! — Хорошо! Я сделаю все, что смогу… Клянусь! Только не разговаривайте! Не двигайтесь! Послышались шаги. Фрикет, обернувшись, чуть не вскрикнула от удивления — перед ней стояла, с трудом держась на ногах, раненая амазонка. — Брат, это я! — произнесла она. А произошло с ней вот что. Лошадь Долорес убило как раз тогда, когда в полковника ударила пуля. Выпав из седла, девушка потеряла сознание, но вскоре, преодолев боль и головокружение, встала и, гордо подняв голову, пошла по полю. Подчиняясь скорее инстинкту, чем разуму, она направилась к группе людей, среди которых виднелась женщина. Фрикет пыталась заняться рукой девушки. Но та с улыбкой благодарности отклонила помощь: — Зачем? — Да чтобы вы поскорее поправились! — А, ну конечно… Скоро мы все поправимся. — Что вы! Расстрелять пленных, раненых… Нет-нет, испанцы на такую подлость не пойдут. Недоверчиво глянув на Фрикет, девушка лишь добавила: — Мой брат — полковник Карлос Вальенте. А меня зовут Долорес. Теперь вам все понятно? — Да, мне понятно, что вы оба — герои борьбы за независимость. Испанцы ценят храбрость. Они проявят к вам снисходительность. — Во Франции расстреливали и раненых, и пленных коммунаров… А ведь французы славятся милосердием. К сожалению, гражданские войны всегда сопровождаются зверствами… Быстрой рысью к ним приближались всадники. Впереди скакал штабной офицер. Увидев их, Долорес с явным вызовом заявила: — Ну вот, смерть совсем близка! Что ж, мы ее встретим достойно. А вы, мадемуазель Фрикет, примите нашу бесконечную признательность. — Разве мы с вами знакомы? — Доходило до нас, что среди испанцев есть молодая француженка. Очень знающая и преданная своему делу. Она лечит всех — и друзей и врагов. Вы ведь и есть та самая сестра милосердия? Разговор прервали крики всадников: — Вальенте!.. Вальенте!.. Смерть бунтовщику! Смерть! Фрикет не задумываясь вышла вперед, чтобы своим телом прикрыть раненых. А всадники были уже совсем близко. Щелкали затворы карабинов. Бряцали сабли. И несся дикий вопль: — Смерть Вальенте!.. Смерть! Замелькали мундиры волонтеров[189]. Добровольцы либо прибыли из Испании, либо были местными, но принадлежали к старинным креольским семьям. Точеное лицо сорокалетнего офицера искажала странная гримаса. Понятно было, что его переполняет жгучая ненависть, которая не утихнет, пока он жив. Остановив лошадь в нескольких шагах от раненых, всадник закричал: — Разойдись! Разойдись, говорят вам! А то… Фрикет, раскинув руки, прикрыла брата с сестрой. В голосе ее звучало возмущение: — Вы их не тронете! Полковник, сдерживая гнев, произнес: — Дитя мое! Не вмешивайтесь в чужие дела… Уйдите! Не то погибнете вместе с ними. — Ну что ж! Убивайте нас! — ответила мужественная француженка. — Убивайте женщин, раненых… Вы трус!.. Подлец!.. Офицер, весь багровый от стыда и возмущения, поднял револьвер и, ругаясь на чем свет стоит, выстрелил.
ГЛАВА 2
Солдат, а не убийца. — Преданности мадемуазель Фрикет в конце концов воздается должное. — Жизнь спасена. — Возвращение. — В госпитале. — Желтая лихорадка. — Лекарство, спасающее от бедствия. — Воскресший из мертвых. — Qu’ès aco?[190] — Мариус-Альбан-Батистен Кабуфиг.Мадемуазель Фрикет, как это ни поразительно, осталась жива и невредима. Испанец промахнулся: от кипевшей в нем злобы (а ведь злоба, как известно, — плохой помощник), от презрительного взгляда юной француженки кровь бросилась ему в голову, руки плохо повиновались. Приказ об отходе, выстрел, смятение, охватившее офицера, — все это произошло в одно мгновение. Повернувшись к солдатам, полковник крикнул: — Огонь!.. Стреляйте в них!.. Никакой реакции со стороны еще не пришедших в себя от недавней схватки испанских бойцов не последовало. Кое-где раздалось лишь щелканье затворов. И все… Командир побледнел. Глаза налились кровью. Губы кривились. Видя, что всадники не проявляют ни малейшего желания принять участие в его преступной расправе, он обратился к стоявшему позадиунтер-офицеру: — Перес, отберите десяток солдат и расстреляйте мятежников. Иначе вы поплатитесь собственной жизнью. Прекрасно понимая, что ему грозит, унтер-офицер, лишь на минуту задумавшись, проговорил глухим голосом: — Нет, господин полковник, этого я делать не стану. Я солдат, а не убийца. И потом, я очень обязан молодой француженке… Она вылечила меня, когда я получил рану в голову… — Мне тоже эта девушка помогла, — сказал один из солдат. Со всех сторон послышались голоса: — Она всегда занята делом — то под огнем, то в госпитале… — Мы ее любим… уважаем… Она многих спасла… Хороший пример заразителен. Вскоре все как один отказались подчиниться приказу командира. Фрикет поняла: партия в смертельной игре выиграна. Сделав несколько шагов вперед, она остановилась перед всадником. Тот явно не мог принять окончательного решения — уж очень сложной оказалась ситуация. Да и благородная кастильская кровь[191] восстала против его же собственного распоряжения. Фрикет заговорила так, чтобы всем было слышно. — Полковник Агилар-и-Вега, вы согласны с солдатами? Я ведь действительно помогала испанской армии? — Да, мадемуазель, и очень часто. — Я требовала какой-нибудь награды? — Нет. — Тогда не хотите ли вы оплатить те услуги, которые я оказывала не за деньги, а из чувства долга? — Чем я могу вас отблагодарить, мадемуазель? — Подарите мне жизнь раненых… Дайте возможность доставить их в ближайший госпиталь… Пообещайте, что не тронете их, пока они не поправятся… что отпустите их потом на свободу! Испанец не мог отказать женщине в просьбе — достоинство ему не позволяло. Вежливо поклонившись, он сказал: — Мадемуазель, принимаю все ваши условия, кроме последнего. С этими людьми будут обращаться как с военнопленными. Но свободу им я обещать не могу — это решает только главнокомандующий. — Хорошо. Значит, они станут военнопленными. Вот именно, военнопленными, а не мятежниками. — Обещаю. — Честное слово? — Да, честное слово. — Благодарю. Вы полностью расплатились со мной. Так дайте же четверых солдат, чтобы перенести раненых в санитарную повозку. Добровольцев оказалось значительно больше. Долорес, с трудом, но еще державшаяся на ногах во время разговора, медленно опустилась на землю рядом с братом. Карлос тоже все видел и слышал, но он был в таком состоянии, что не мог ни шевельнуться, ни что-либо сказать. Подъехав к Карлосу, полковник, едва сдерживаясь, выдавил: — Карлос Вальенте, мы еще встретимся… Все равно я тебя ненавижу… Выздоравливай. Но тогда уж от моей мести не уйдешь. И, круто повернувшись, испанец пришпорил лошадь. А Фрикет хлопотала возле раненых. — Осторожнее! Осторожнее, друзья! — говорила она солдатам, которые укладывали на носилки Долорес и ее брата. — Не беспокойтесь, мадемуазель. Все сделаем как надо. Мы же знаем полковника Карлоса… — Он человек хороший, смелый… — Меня взяли в плен, а он освободил… — А когда меня ранило, сеньорита Долорес сделала перевязку… — И мне… И мне… Всем хотелось сказать что-нибудь приятное, похвалить командира мятежников. — Полковник Карлос думает, конечно, не так, как мы. Но человек он великодушный. Совсем успокоившись и даже позабыв об угрожающей опасности, мадемуазель Фрикет шла рядом с носилками, следя за тем, чтобы раненым было удобно. Вскоре она заметила, что Долорес чем-то обеспокоена. Догадавшись о причине, она спросила вахмистра[192] Переса: — Дружок, вы знаете, что случилось с кубинскими кавалеристами после осады? — У них большие потери — ведь они атаковали как бешеные. И все-таки им удалось соединиться с армией Масео[193]. Долорес, услышав эти слова, прошептала «спасибо» и потеряла сознание. Наконец они добрались до санитарной повозки. Поудобнее уложив брата с сестрой, Фрикет села рядом. Вахмистр устроился рядом с кучером. А солдаты-добровольцы вскочили на коней и убыли в полк. Часа через два повозка подъехала к железнодорожному военному составу, который должен был отправиться в Гавану. О том, что полковник Карлос Вальенте тяжело ранен и захвачен в плен, знали уже многие. Некоторым было известно и то, что полковник вместе со своей сестрой Долорес, тоже пролившей кровь в бою, должны приехать этим поездом. Поэтому на перроне собралось полно народу. Никакой враждебности не ощущалось. Конечно не все главари испанцев хорошо обращались с пленными: превышая власть, отказываясь признавать военнослужащими, их казнили без суда и следствия. Но солдаты в большинстве своем обходились вполне терпимо с теми, кто в ходе боев попадал к ним в руки. Впрочем, пример показали командиры повстанцев, которые по отношению к раненым и пленным вели себя поистине благородно. Неудивительно поэтому, что брата с сестрой доставили в госпиталь без всяких происшествий. Главный врач ни в чем не усомнился, полностью доверяя полковнику Агилару-и-Вега. Уход за ранеными он поручил Фрикет. Состояние Карлоса Вальенте казалось безнадежным. Но Фрикет решила во что бы то ни стало вылечить его. Бесконечно тронутая заботой француженки, Долорес осыпала ее словами благодарности. Это было, конечно, приятно Фрикет, и все же она попросила девушку замолчать — ведь разговаривать-то ей было вредно. Прошедшая школу войны, Фрикет наложила повязки не хуже любого полевого хирурга. А потом, чувствуя, что безумно устала, легла в гамак. Отдохнуть ей, однако, не удалось — вскоре кто-то постучал в дверь. Это оказался санитар. — Мадемуазель, мужчина умер три часа тому назад. — Мужчина? Какой мужчина? — спросила Фрикет, с трудом продирая глаза. — Да тот, у которого желтая лихорадка. Военврач констатировал смерть… Если вы хотите осмотреть труп, идите скорее… А то ведь хоронят сразу — боятся заразы. — А, да-да! Спасибо! Сейчас приду в прозекторскую[194]. Фрикет сутками ухаживала за больными и ранеными. Но этого ей казалось мало. Она мечтала еще воплотить в жизнь один грандиозный и очень рискованный план. Как ни велика была опасность заразиться, девушка с головой ушла в исследование возбудителя желтой лихорадки. Научившись его выделять, она стала выращивать ослабленную культуру[195], чтобы создать препарат для профилактики и лечения болезни, от которой в Европе гибли тысячами. На побережье Кубы вымирали целые деревни. Особенно недуг был страшен для европейцев, еще не привыкших к местному климату. Болезнь действительно ужасна: несчастные умирают в страшных муках. Дикая головная боль, непереносимая ломота в пояснице, жуткая рвота, желтоватые пятна на коже — и вот уже все: лихорадка за несколько дней, а то и часов совершает подлое дело. Кое-каких результатов Фрикет уже добилась. Казалось, что ей, ученице великого Пастера[196], вот-вот удастся подарить человечеству средство от болезни, какое столь долго и столь безуспешно искали ученые. При мысли, что это открытие сделает француженка и вся слава достанется горячо любимой родине, у нее кружилась голова. Фрикет не щадила себя: она могла заразиться в любой момент, когда, вдыхая тошнотворные миазмы, делала вскрытия, посевы на питательную среду, прививки. Под тяжестью выполняемых ею работ мог сломиться сильный и закаленный мужчина. Накануне вечером в госпиталь доставили матроса, который заболел при разгрузке корабля в порту. Фрикет лишь мельком глянула на него. И вот уже сообщение о смерти. Войдя в прозекторскую, она увидела на мраморном столе труп мужчины в брюках и рубахе из грубого полотна. Накинув халат, Фрикет взяла скальпель, разорвала рубаху, захватила пальцами кожу на груди и сделала надрез. Боже! Ей показалось, что холодное, покрытое зловещими желтыми пятнами тело шевельнулось. Не может быть. Жив? Боже мой! А вдруг это так? И ведь верно. Свершилось чудо. Мужчина явно подавал признаки жизни. Фрикет схватила флакон с нашатырным спиртом и, открыв его, поднесла к носу несчастного. Бедолага оживал на глазах… Грудь начала вздыматься и опускаться. Из надреза пошла кровь… И вдруг, как от удара током, по всему телу пробежала судорога. Больной пытался приподняться, ему почти удалось сесть, хотя ноги по-прежнему лежали неподвижно на столе. От нашатырного спирта матрос стал безудержно чихать. И наконец заговорил с сильным провансальским акцентом: — Qu’ès aco? Происшествие выглядело столь трагично и невероятно, ужас обстановки так не вязался с обыденностью возвращения человека к жизни, что Фрикет не выдержала и громко рассмеялась: — Да он же не умер! — Еще чего, конечно, я не умер! Вот только в пузе у меня чего-то не так… — Да ведь вы возвращаетесь издалека. У вас, дорогой мой, была желтая лихорадка. — Да ну?.. И чо, я выкарабкался? — Вроде, — ответила девушка, окончательно развеселившись от смачной речи воскресшего. — Вовремя вы одумались. Если бы я не занялась вскрытием, через часок лежать бы вам в земле сырой. — Так чо, я в мертвецкой? — Да. — Неподходящий кубрик[197] для моряка из Прованса[198]. — Вы южанин? — А как же, самый настоящий южанин. Вот только после двадцати пяти лет плавания говорить я стал не так. Когда я, Мариус-Альбан-Батист Кабуфиг, родом из Бандоль-сюрмер, что неподалеку от Тулона, когда я расскажу, что помер от желтой лихорадки… что меня разрезали… что меня рассекли на части, то мне скажут: «Ври, да не завирайся, хреновый тулонец!» Но раз я умер по ошибке, давай возвращай меня к живым! — С превеликим удовольствием! Матрос, ожив, болтал без умолку. Фрикет пришлось прервать его. Позвав двух санитаров, она приказала перенести больного в палату, где вскоре несостоявшийся покойник и заснул глубоким сном.
ГЛАВА 3
Раненые поправляются. — Вот что случилось с матросом из Прованса. — Все таланты, все добродетели, кроме скромности. — Преемник Барка. — Мадемуазель Фрикет. — Ее прежняя жизнь. — Три военных кампании. — Китай. Мадагаскар. Абиссиния. — Страшная новость.Прошло три недели с тех драматических событий, которые послужили как бы прологом к нашему повествованию. Внимание к больному, глубокие знания и природный ум Фрикет сделали свое дело: кубинская героиня Долорес Вальенте пошла на поправку. Врачам удалось спасти ей левую руку, размозженную во время атаки. А поначалу доктора решили, что нужна срочная ампутация. К этому же склонялась и Фрикет. Однако, поразмыслив, девушка потребовала консультации с главным врачом. Тот тоже счел ампутацию необходимой. Сама же Долорес категорически возражала, и ее оставили в покое. Тогда-то она и решила свершить то, что все полагали невозможным. Результат превзошел ожидания. Но ценой каких усилий, какого напряжения, какой стойкости! Долорес начала ходить, держа, как солдат, руку на перевязи, и сразу же взялась помогать Фрикет. Вместе со своей благодетельницей, а теперь и подругой, Долорес ходила по палатам, где в бреду стонали больные и раненые, старалась утешить их, пострадавших от братоубийственной войны, часами просиживала рядом с несчастными. Она была как луч солнца, проникший в царство отчаяния. Пошел на поправку и ее брат Карлос. Рана быстро затягивалась, а легкие оказались незатронутыми. Как и его командир Масео, дважды получавший проникающие ранения, полковник выздоравливал на глазах. Он уже вставал с постели, неплохо ел, хотя, конечно, был еще очень слаб. Наконец и матрос, столь необыкновенным образом вернувшийся к жизни, когда Фрикет собиралась начать вскрытие, совсем вылечился. Ну и удивительным типом оказался этот провансалец! Он даже среди своих соотечественников слыл за оригинала — шумный, болтливый, подвижный, словно обезьяна, сильный, как мул, готовый выполнить любую работу, удивительно расторопный и в то же время бесконечно добрый, несмотря на почти устрашающую внешность. Буйная шевелюра затеняла его лицо до самых глаз, едва заметных под лохматыми, точно углем намазанными бровями, кожа чернела, будто у магрибинца[199], а зубами, представлялось, можно дробить камни. Добавьте к этому трубный голос и своеобразный акцент, которым так гордится Прованс. Мариус все повидал, всюду побывал, даже, по его словам, в гостях у черта, откуда, однако, вернулся на свет Божий. Через неделю больному уже нечего было делать в госпитале и, поскольку мест не хватало, его стали готовить к выписке. Но тут выяснилось, что корабль, где француз служил, отплыл. Выйдя после лечения, Мариус просто оказался бы на улице. Сама по себе такая перспектива не ахти как его пугала, беспокоило другое. При мысли, что придется расстаться с той, кто неожиданно воскресила его, провансалец впадал в отчаяние. Ему невероятно хотелось выразить Фрикет бесконечную признательность, но, как это сделать, он не знал. Перед уходом, робея, чего-то стыдясь, комкая в руках матросскую шапочку, бедолага пошел проститься с Фрикет. И та, человек тактичный, умеющий дарить, не обижая, предложила ему небольшую сумму денег из своего невеликого достатка. Сглатывая слезы, моряк вежливо отказывался, бормоча: — Нет, мадемуазель… Нет! Никаких монет, прошу вас. Дело в том, что… ну вот… я хотел бы… да… конечно… Но… Распроклятая жизнь! У меня как будто клок пакли в глотке… Я не осмеливаюсь… — Вы не осмеливаетесь… Чего? Ну же, говорите, дружок… Я сделаю все, что могу, для такого славного парня, как вы. — Ну так вот… Возьмите меня своим ординарцем. Услышав просьбу, которой она, мягко говоря, не ожидала, сестра милосердия расхохоталась. Подумав, что он сказал нечто ужасное, моряк сгорбился, опустил голову; весь покрывшись потом, он не знал, в какую бы дыру забиться, как сделать, чтобы под ним разверзлась земля. Девушке стало не по себе: неужели она обидела этого достойного человека, решившего, не имея ничего, подарить благодетельнице самого себя и молившего о добровольном рабстве. Успокоившись, она протянула ему руку и сказала: — А впрочем, почему бы и нет? Вы займете место моего верного Барка… Учтите только: я не как другие женщины — моей обслуге приходится туго. — Вот здорово! Конечно, я с-согласен! В-вы правильно делаете, мадемуаз-зель! — в восторге заорал он. — В-вы увидите, и такая старая акула, как я, на что-то сгодится. Мне с-сорок пять лет, а с-служба на флоте — с-суровая школа. З-знаете, я умею делать в-все… Да-да, в-все! И даже больше… От радости Мариус заговорил с провансальским акцентом: опять зашуршали, зазвенели согласные, которые за минуту до того почти не были слышны. Все больше увлекаясь, он говорил: — Если нужно, я смогу быть матросом, кавалеристом, пехотинцем, учителем фехтования, артиллеристом, плотником, егерем, оружейником, п-портным, с-сапожником, рыболовом, санитаром… И еще: для меня разорвать канат — все равно, что бечеву… А! Разве перечислишь все, что я умею… — Вижу, вы не страдаете отсутствием скромности. — Ну!.. Ну!.. Не очень… Скромность, мадемуазель, — это что-то вроде извинения, которое просят люди, лишенные таланта. С этого философского изречения, сделанного безапелляционным тоном, и началась служба Мариуса-Альбана-Батиста Кабуфига. Отныне его видели повсюду. Он занимался самыми различными, иногда несовместимыми между собой делами, и со всеми превосходно справлялся; по примеру арабов, в рот не брал вина, был предельно честен, чистоплотен, как голландская хозяйка, а огромные волосатые лапы с когтями вместо ногтей оказались воистину золотыми руками. В общем, француз сразу стал незаменимым помощником. Со смеху можно было умереть, глядя, как он, будто слон, пытающийся приучить птичек, справляется со всеми этими хрупкими штучками, какими Фрикет пользовалась при анализах, или как он расставлял безделушки на полках. С «мадемуазель» Мариус оставался почтителен, молчалив, даже робок, а с другими — шумен, криклив, назойлив, доводя испанцев до изнеможения своими фантастическими историями на невозможной смеси провансальского, арабского, итальянского и кастильского языков и диалектов. Матроса все любили за доброту и услужливость. От его веселых шуточек морщины разглаживались даже у самых больных и угрюмых. Однажды мадемуазель Фрикет сидела на идущем вокруг всего госпиталя настиле и болтала с Долорес. Рядом, растянувшись в шезлонге, о чем-то размышлял с сигаретой в руке полковник Карлос. Француженка рассказывала кубинке о своей жизни, учебе, надеждах, опытах, прожектах. Долорес и Карлос с восторгом слушали яркую, образную речь и, казалось, сами принимали участие в описываемых событиях. Фрикет поведала им, как еще совсем ребенком прочитала «Кругосветное путешествие юного парижанина» и как ее охватила страсть к дальним странствиям Маленький горожанин Фрике, герой этого романа, вскружил ей голову Имя Фрике не сходило у нее с уст, и родители в конце концов шутя прозвали дочку Фрикет, чем она очень возгордилась. Чтение романа и новое имя предопределили ее дальнейшую жизнь. Мадемуазель Амелия Робер, по прозвищу Фрикет, решила повторить судьбу и стать достойной своего любимого героя. А это требовало многого. Фрике был подростком, почти мужчиной. И, хотя в его кошельке гулял ветер, юноша, закаленный нищенской жизнью, полный сил и изобретательности, имел все, чтобы включиться в борьбу. А мадемуазель Фрикет? Хрупкая девушка, почти дитя. Но с такой железной волей, что многие сильные и смелые мужчины позавидовали бы ей. Родители, ремесленники предместья Сен-Антуан, жили на весьма умеренный заработок и, конечно, не имели возможности удовлетворить желание дочери. Естественно, дальние путешествия требовали денег. Тем не менее мадемуазель Фрикет нашла весьма благородный, хотя и очень трудный способ достичь цели. Она решила изучить не хуже любого мужчины все гуманитарные и естественные науки. Да-да, латынь, греческий язык, историю, курс изящных искусств, математику, физику, ботанику, зоологию. Тогда уже появились учебные заведения для девушек, где изучали все эти предметы, и мадемуазель поступила экстерном[200] в лицей имени Виктора Гюго[201]. Нужно ли говорить о том, что девушка стала образцовой ученицей, умной и очень старательной. Она занималась многие годы, не щадя себя, и наконец получила один за другим — браво! — сразу два диплома бакалавра[202] филологических и естественных наук. Да зачем же ей потребовались эти дипломы? Чтобы изучить медицину! А медицина-то почему понадобилась? Да потому, что профессия врача дает особо полезные людям знания, независимость в принятии решений, уважение и — что особенно важно для женщин — свободу размышлять, оценивать факты, решительно действовать. К тому же диплом доктора медицины дает или, во всяком случае, должен дать приличные средства к существованию. Как следует поразмыслив, все взвесив, Фрикет, тогда еще совсем юная, пришла к разумному выводу: «Когда я стану доктором, добьюсь от правительства научных командировок, которые позволят мне уехать далеко-далеко, и я получу возможность многое увидеть и изучить». Все было хорошо продумано: маленькую головку переполняли великие идеи. Долгие годы Фрикет постоянно обдумывала свои планы и шаг за шагом шла к их реализации. Примерная ученица лицея стала ни с кем не сравнимой студенткой. Все удивлялись ее увлеченности работой, поразительным успехам. Вполне понятно, что преподаватели, заинтересовавшись, узнали о ее замыслах. Упорная француженка уже очень продвинулась в учении. Но тяга к дальним странствиям не покидала ее. А тут разразилась война между Японией и Китаем[203]. И однажды будущему доктору медицины пришла в голову великолепная мысль: «А что, если отправиться туда санитаркой?» Ее нередко посещали неординарные идеи, осуществить их, однако, было не так-то легко. Где достать деньги? Один проезд из Парижа в Иокогаму[204] и обратно стоит три тысячи франков[205]. Да еще экипировка[206], накладные расходы, само пребывание за границей и, конечно, нужен какой-то запас на всякий случай. У нее не было и десяти луидоров[207] в кармане, пришлось поступить как ее знаменитый предшественник Фрике. Она нашла-таки способ выкрутиться. И, как обычно бывает в подобных случаях, ей помогли люди и обстоятельства. Один из преподавателей, оценив редкие качества ученицы, познакомил ее с главным редактором крупной парижской газеты, который намеревался послать корреспондента в район военных действий. Фрикет, далекая от армейских дел, по просьбе учителя сумела сразу получить это назначение. Так она стала хоть и не очень видной, но все же достаточно уважаемой персоной, перед которой открывались все двери. А главный редактор газеты, в свою очередь, обратился к службе морских перевозок, и та предложила ей бесплатный проезд на одном из своих великолепных кораблей. Компания же «Париж — Лион — Марсель» выдала железнодорожный билет до Марселя. Так что проезд не стоил ей ни сантима. Наконец профессора, выдающиеся хирурги, дали ей рекомендательные письма к своим бывшим ученикам из Японии, ставшим там начальниками армейских служб. Мечта детства и ранней юности начала обретать реальные черты. Все шло как по маслу. Она добралась до места назначения, ни разу не раскрыв кошелька. Да еще побывала в Корее, где ее ожидали самые невероятные ситуации. Впрочем, все эти события подробно описаны в нашем романе «Подвиг санитарки. Путешествия и приключения мадемуазель Фрикет». Потом она сразу, не возвращаясь во Францию, участвовала в тяжелом мадагаскарском походе[208], прославившись самопожертвованием. Наконец, еще цепь приключений, какие с полным основанием можно назвать необыкновенными, привела ее в армию негуса[209] Менелика, когда война в Абиссинии[210] уже подходила к концу. Вернувшись в Европу и еле оправившись от геморрагической[211] лихорадки, что едва не стоила ей жизни, Фрикет снова пустилась в путь — на Кубу, где грохотало пушками восстание. Она думала о том, что там страдают люди, что она сможет продолжить столь захватившие ее исследования, что ей предстоят новые приключения. Жажда путешествий неутолима. На этот раз мадемуазель Фрикет не пришлось преодолевать трудностей, подобных тем, какие встречались прежде. Две газеты сразу предложили должность корреспондента. Всеми уважаемый директор Трансатлантической компании господин Эжен Перейр не только предоставил девушке возможность проезда на борту теплохода, курсировавшего до Антильских островов и обратно, но еще и снабдил рекомендациями ко всем агентам компании. Наконец, министр народного образования дал ей официальное письмо к послу Франции на Кубе. Чего еще было желать? Так что Фрикет уехала из Сен-Назера в Гавану и прибыла туда без всяких происшествий. Испанские военные власти встретили ее приветливо. Она тотчас приступила к выполнению своих обязанностей, ибо медицинская служба — увы! — находилась в плачевном состоянии. Прошло три месяца с тех пор, как Фрикет обосновалась на острове. Ее полюбили за доброту, бескорыстие, стойкость и в особенности за самоотверженность. Тут-то и произошли события, описанные нами выше. Итак, трое вели дружескую беседу, сидя на настиле. Долорес и Карлос даже забыли на какое-то время о своих ранах — от звонкого радостного смеха француженки на душе стало тепло и покойно. И тут появился Мариус, как всегда босой. Он был угрюм и явно чем-то обеспокоен. — Эй, Мариус!.. Qu’ès aco, парень? — спросила Фрикет, по-дружески передразнивая его. Провансалец, оглядевшись с таинственным видом по сторонам, боясь, что кто-нибудь увидит, вытащил из кармана огромный кулак, в котором, как ребенок бабочку, зажал конверт. — Мне передал один доброволец, — сказал моряк шепотом, протягивая письмо. — Один неизвестный друг… И при этом сказал: «Спрячь хорошенько. Не дай Бог кто-нибудь увидит, как я передаю или как другие его читают. Всех расстреляют!» Фрикет надорвала конверт и, слегка побледнев, заявила: — Это важно! — Прочитайте, мадемуазель, прошу вас, — попросил Карлос Вальенте. Девушка не стала возражать.
«Полковник Карлос! Преданный вам друг только что получил печальную весть, она касается вас и сеньориты Долорес. Вы вроде поправились. И сеньорита тоже. Вскоре вас посадят на военный корабль и отвезут в лагерь Сейта».— На каторгу!.. Меня! — воскликнул с возмущением полковник.
«Вас отправят без суда в это чистилище, где умирают медленной смертью ваши товарищи по оружию. А вашу сестру поместят в одну из тюрем метрополии[212]. Приказ или будет вот-вот подписан, или, быть может, уже подписан. Предупреждаю вас, потому что считаю себя должником. Теперь решайте!»— На каторгу!.. В тюрьму!.. Лучше умереть! Верно, Долорес? — Да, брат, лучше умереть. — Нет, сначала нужно попытаться что-то сделать. Ведь смерть — это надолго, — прервала Фрикет, даже в столь серьезный момент неспособная обойтись без шутки. — Можно попробовать удрать, как об этом намекают в письме. — Но убежать-то невозможно. — А попробуйте! Вернее, давайте попробуем!
ГЛАВА 4
Куба. — Рабство. — Дискриминация по цвету кожи. — Бойкот французскому офицеру. — План побега. — Гавана. — Предложение Мариуса. — Поездом или пароходом. — Переодевание. — Соревнование в великодушии. — Делай то, что обязан.Куба, первая из крупных земель Нового Света, открытая Колумбом в 1492 году, протянулась от мыса Майси до мыса Сан-Антонио на тысячу двести километров. Значит, Куба по длине больше (намного), чем остров Британия или Япония (точнее, крупнейший ее остров Хонсю), а расстояние между крайними точками Кубы примерно такое, как между Брюсселем и Мадридом. Ширина острова не столь велика — сто десять, иногда даже всего сорок километров. Из-за неправильной вытянутой формы с небольшим изгибом на северо-западе испанские географы прозвали Кубу «птичьим языком». Наконец, поверхность Кубы, если считать и остров Пинос, — примерно 110,9 квадратных километров, то есть по площади она больше Португалии и занимает немногим менее четверти площади Испании. Население ее составляют более полутора миллионов жителей, включая и шестьдесят тысяч китайских кули[213]. После весьма запоздалой отмены рабства[214] они за гроши и почти на тех же условиях выполняют работу прежних рабов. Там до сих пор существует глупая, мерзкая традиция, о которой говорят как о «превратном отношении к цвету кожи». За этими неуклюже завуалированными словами кроется отвращение, презрение со стороны белых по отношению не только к черным, но и к людям смешанных кровей. Вот яркий пример. Всякий, кто не принадлежит к белой расе, каким бы богатым, почтенным и уважаемым среди своих он ни был, не имеет права проехать верхом на лошади или в экипаже по большому бульвару, где прогуливается светское общество Кубы! И конечно, такой запрет, если уж он касается даже столь незначительных вещей, еще более строго действует, когда речь идет о дружеских связях между людьми и в особенности о браках. Мало того, этот дурацкий предрассудок разделяют официальные круги и правительство метрополии. Всякий, кто имеет хоть несколько капель черной крови, будь у него кожа белее, чем у самого белого из белых, ни в коем случае не допускается к исполнению официальных обязанностей. Самый достойный человек «из таких» никогда не сможет стать ни пехотным или морским офицером, ни судьей, ни преподавателем, ни правительственным чиновником. Этот поражающий кретинизмом обычай, без сомнения, — последствие рабства. Он возник в день, когда негра, изгоя колониальной цивилизации, привезли на острова, те, что благодаря его труду должны были стать краем изобилия. Негров превратили в скот, предназначенный для выполнения самых тяжелых работ под свист хозяйского кнута. Презрение, с коим к ним относились, распространялось и на потомков, даже на тех, кто обрел свободу, кто стал в результате ряда брачных и внебрачных связей почти белым. Ничто пока не изменилось. Вот еще один пример. Офицер французского флота, очень порядочный и умный человек, был родом с Мартиники и имел почти черный цвет кожи. В 1885–1886 годах он служил капитан-лейтенантом на одном первоклассном крейсере. Однажды этот корабль на несколько недель застрял на рейде в Гаване. Естественно, офицеры-французы во время стоянки не раз сходили на берег, где посещали открытые для иностранцев увеселительные заведения. Особенно полюбилось им кафе, принадлежавшее, кстати, одному из их соотечественников. В первый раз, когда они явились вместе с коллегой — капитаном-лейтенантом, все местные завсегдатаи при виде негра в форме морского офицера встали и ушли. Так же поступали они в следующие дни при появлении наших моряков с черным. Наконец владелец, отозвав в сторонку одного из белокожих, чтобы поговорить с глазу на глаз, сказал: «Господин, я француз, и мне этот предрассудок, из-за чего жители Гаваны не хотят общаться с цветными, кажется чудовищным. Но ведь я коммерсант и должен вам признаться: приводя с собой цветного, вы отпугиваете мою клиентуру. Поэтому умоляю вас: будьте любезны, попросите вашего уважаемого сослуживца больше не показываться здесь, а то я разорюсь». Офицеры отнеслись к просьбе однозначно: из солидарности они ушли все, решив лучше никогда не посещать это общественное место, чем выполнять требования, недостойные и оскорбительные для культурного человека. Подобные факты, недоступные пониманию воспитанных на идее равенства французов, нередко порождали непримиримую вражду и — как станет видно дальше — становились причиной кровавых драм. Иного и ожидать было нельзя. Кубинцы, чья кровь волею судеб смешалась с кровью чернокожих, — народ мягкий, чувствительный, гуманный, честный, добрый и склонный к благородству. Но в кубинце слились воедино достоинства и недостатки обеих рас. Он способен и глубоко ненавидеть, и беспредельно любить. Привязанность его столь же сильна, сколь безудержно злобное неприятие. И не стоит заблуждаться. Куба живет так, как жили когда-то наши колонии. Людей со смешанной кровью тут, вне сомнения, больше, чем белых, хотя официальные документы и говорят об обратном. Расизм процветает во всех здешних поселениях, но особенно он дает о себе знать в Гаване. У белых прямо-таки нюх на тех, у кого «голубая кровь» хоть слегка подпорчена черной. Фрикет, конечно, никак не могла понять, почему даже вполне порядочные люди столь ограниченны, и смело выступала за полное равенство. За неделю до получения таинственной записки, где речь шла о полковнике Карлосе и его сестре, Долорес в нескольких словах и довольно невразумительно поведала Фрикет о причине жгучей ненависти сеньора Агилара-и-Вега: — У меня и Карлоса один отец, но разные матери. Моя мама белой расы, а мать Карлоса, хотя и такая же белая, как и мы с вами, — квартеронка[215]. — Ну и что? — прервала ее Фрикет. — На мой взгляд, решительно ничего… Да и по мнению Карлоса тоже. Я люблю его как брата от всей души. Но испанцы, недалеко ушедшие в этом плане от своих первобытных предков, думают иначе. — Идиоты! — серьезно сказала Фрикет. — Так вот, — продолжала Долорес, — мой брат какое-то время поддерживал с семьей дона Маноэля Агилара тесные отношения. Какие именно — этого я вам пока сказать, к сожалению, не могу. — Я не собираюсь, дружок, влезать в ваши тайны. — О! Потом-то вы все узнаете. А сейчас пока помните: счастье брата, его жизнь зависят от этой тайны… На этом разговор и закончился. Фрикет поняла, что здесь скрывается одна из тех ужасных трагедий, которые возникают из-за безумных страстей, достигающих особого накала под тропическим солнцем.
И вот свобода друзей, с которыми молодую француженку связывали общие дела, оказалась под угрозой. Карлосу был уготован Сейтский лагерь, страшная каторга, ад, где под палящими лучами мучаются кубинские патриоты, поселенные вместе с уголовным отребьем; его сестре — вечное заточение в одном из каменных мешков, вырубленных по приказанию палачей инквизиции. Что тут делать? Конечно, бежать из Гаваны, бежать как можно скорее. Легко сказать, но как это сделать? Столица Кубы — большой красивый город, где живет более двухсот тридцати тысяч человек. Увидев ее впервые с моря, поражаешься величественностью и размерами Гаваны. Вообще она особенно хороша издали. В ней что-то свое, неповторимое, чарующее. Беспорядочное нагромождение веселых домиков, выкрашенных в разные тона — розовые, зеленые, голубые, желтые. Буйство красок, что прекрасно сочетаются с пышной зеленью, залитой светом яркого солнца… Но — увы! — Гавана — один из самых нездоровых городов в мире. Это постоянный очаг инфекций — не успеет закончиться одна страшная эпидемия, как разражается другая. Здесь как бы навечно поселились желтая лихорадка, дизентерия и холера, они ежегодно уносят сотни тысяч жизней. Беспечные креолы, хоть и страдают от этого, ничего не предпринимают. Метрополия за десять лет восстания (1868–1878 гг.)[216] потратила миллиарды песет[217], погубила тысячи и тысячи человек, но не нашла десяти миллионов для очистки одного из самых восхитительных в мире портов! Тут не вода, а отвратительная липкая густая жижа. От каждого поворота корабельного винта на поверхность поднимаются груды распространяющих зловоние отбросов. Гавана находится на 23°9′ северной широты и 80°42′ западной долготы. Она расположена на небольшом полуострове, идущем с запада на восток. Бывшие крепостные стены делят столицу на две неравные части: новый город — на западе и старый — на востоке. Теперь эти укрепления стали бульварами, и в город можно войти через многочисленные ворота. На юге старого города, к северо-востоку от порта, находятся, в частности, арсенал и госпиталь. Расположение последнего сыграет важную роль, когда брат с сестрой решат осуществить побег. Скрыться со стороны залива было невозможно. Там постоянно снуют суда, и власти неусыпно следят за происходящим. Действовать нужно было иначе: пересечь весь старый и новый город и выйти на равнину. На пути осуществления такого плана стояло множество почти непреодолимых препятствий. Из-за военного положения крайне строгие меры принимались не только в отношении подозрительных, но и подозреваемых в чем бы то ни было лиц. Что же делать? Требовалось посоветоваться. Пригласили и Мариуса. Такой знак доверия возвысил его в собственных глазах. Провансалец знал ситуацию как никто другой. Поэтому именно ему предложили высказаться первым. — Вы хотите прогуляться… Так! Для этого есть два способа… Пароходом или по железной дороге… — Слушай, приятель, — прервала его Фрикет. — Ты сообщаешь о хорошо известных вещах. Это же глупо. Пароход, ты же знаешь, для нас отпадает. А железная дорога — в руках испанцев, за ней так следят, что и комар туда не проникнет. — Да и движение почти приостановлено, — добавил полковник. — Все поезда, за редким исключением, служат для перевозки солдат и военного имущества. — Значит, — откликнулся Мариус, — кто-то все же ездит по железной дороге! — Да, солдаты… Ну и что? — Не сочтите за обиду, полковник, но вы рассуждаете как житель суши. Мы же, обитатели моря, сначала должны узнать, откуда ветер дует, а потом уж намечаем план действий. Полковник только руками развел, выражая полное непонимание. Да и у девушек был недоумевающий вид. — Мы тоже не понимаем, — сказали они. — Так вот! — нисколько не смущаясь, продолжал провансалец. — P-раз поезд перевозит с-солдат, мы с полковником переоденемся испанскими с-солдатами, с-сядем в вагон и уедем на край с-света. — Черт возьми! — воскликнул Карлос. — А почему бы и нет? — Но ведь нужна форма… — Здесь есть одежонка умерших от желтой лихорадки… — Не очень-то приятно… Но на войне как на войне Верно? — Да, но… главное — заполучить одежду, какой бы она ни была! — Вы говорите: «Мы переоденемся». Кто это мы? — Ну, вы и я… я и вы… — Неужели вы согласитесь разделить нашу участь? Ведь нас ждут разные тяготы и почти верная смерть. — Ох, проклятая судьба! А как же иначе… Не в обиду будь сказано, вы едва стоите на ногах… Вам нужен крепкий человек, чтобы подставить плечо и не дать сойти с курса. — Матрос, — сказал взволнованный Карлос Вальенте, — у вас добрая и благородная душа. — К вашим услугам, полковник! — А как же быть с моей сестрой? Как ее вызволить отсюда? В госпитале на каждом шагу часовые. Да еще этот свирепый приказ стрелять по всякому, кто пытается выйти, не зная пароля. — Этим займусь я, — прервала его Фрикет. — Мариус предложил помощь вам, а я беру на себя вашу сестру. Милая Долорес, я сделаю все, что нужно… — Нет-нет, — решительно сказала испанка, — я не могу и не хочу втягивать вас в эту авантюру. Вы рискуете жизнью. Фрикет отмахнулась. — Ну и что! — сказала она. — Смерть приходит только раз. — Да нет, мадемуазель, — широко улыбаясь, произнес провансалец. — Я так помирал по меньшей мере раз шесть! — И потом, — продолжала Фрикет, — у меня нет привычки менять решения. Будь что будет, но мы все должны уехать с первым же военным эшелоном… А сейчас давайте займемся одеждой! Долорес Вальенте, в чьей душе боролись любовь и чувство долга, снова попыталась возразить. Она бросилась в объятия француженки, говоря прерывающимся голосом: — Друг мой, сестричка, я не допущу такого самопожертвования. Подумайте, ведь, содействуя изгнанникам, вы сами окажетесь вне закона… Наши злейшие враги станут и вашими. А что такое ненависть испанца, вы еще не знаете! Вас ждут беспросветная нищета, бесконечные лишения, постоянная опасность… Зачем это вам? Вы далеки от наших национальных интересов, борьбы, требований… Нет, нет, умоляю вас, откажитесь от своего решения. — Никогда! — твердо сказала Фрикет. — Или вы будете на свободе, или мы вместе погибнем. Да, да, я так хочу, ибо в своих делах руководствуюсь принципом: «Делай то, что обязан».
ГЛАВА 5
Нужно бежать. — Выход из госпиталя запрещен. — Фрикет в плену. — Фрикет подает в отставку. — Все произойдет в полночь. — Кошмары. — Пора. — Страшное убежище. — Морг. — В сточной канаве.Уйти пешком или уехать на лошади из Гаваны было почти немыслимо для тех, кого не знали в лицо или кто не мог удостоверить подлинность своей личности. За всеми велся строгий надзор. Власти проявляли крайнюю настороженность, так что любой чужак оказывался в числе подозреваемых, и ему грозил либо военный трибунал и расстрел, либо — чаще — тюрьма, где забытые всеми заключенные дохли как мухи. Поэтому, поставив все на кон, полковник Карлос, его сестра, Фрикет и провансалец решили бежать по железной дороге. Но, чтобы их отчаянная попытка увенчалась успехом, требовались храбрость и находчивость. Охранять железнодорожный вокзал и поддерживать порядок в обычное время не составляет труда. Но когда там постоянно толкутся вооруженные военные, хлопот не оберешься. При отправке на войну на вокзалах всегда творится что-то невообразимое. Кто-то, пытаясь забыться, поет, обнимается, кто-то рыдает, стонет от горя и отчаяния. И все — как родные, как члены одной семьи. Нечего и сравнивать с дисциплиной при посадке войск в Европе. Здесь просто толпа — мужчин, женщин, детей, их никто не гонит с вокзала. Солдат провожают до самого вагона, а иногда и едут с ними до ближайшей станции. В общем, если добраться до вокзала, там уж в суматохе как-нибудь выкарабкаешься. Но до этого еще далеко! Как убежать из госпиталя? Для Фрикет и матроса это было просто, а вот для полковника и его сестры — почти невозможно. Раненые из войска противника жили в госпитале как в настоящей тюрьме — за высокими стенами с плотно закрытыми воротами и часовыми на каждом шагу. Благодаря Фрикет в самом госпитале Карлос и Долорес пользовались относительной свободой. Но им категорически запрещалось иметь хоть малейшую связь с внешним миром. А время поджимало. Мариус был постоянно в курсе всех дел, он проведал, что вскоре в Европу должны отправить группу пленных. Несколько позже сообщили об этом и Фрикет, но так, что вызвали у нее возмущение. Вот что произошло. Часов в шесть, когда уже спускались сумерки, с моря потянуло ветерком и спала жара, от которой дышать было нечем, девушке захотелось немножко проехаться в коляске по проспекту Прадо. Такое развлечение Фрикет позволяла себе крайне редко. Она говорила тогда: «Пойду приму маленький стаканчик кислорода». Девушка направилась к выходу с территории госпиталя, собираясь остановить типичный для Гаваны экипаж — весьма странное сооружение с четырьмя огромными колесами, прозванное «летучкой». И вдруг часовой крикнул: «Выход запрещен!» В госпитале все знали и любили отважную француженку. Она пользовалась полной свободой. Решив, что солдат не разглядел или ошибся, она продолжала идти. Но тот еще громче заорал свое: «Выход запрещен!» Мадемуазель Фрикет была уж так устроена, что любой необоснованный запрет вызывал у нее непреодолимое желание сделать все наоборот. Естественно, она даже не замедлила шага, решив непременно вырваться на улицу. Не церемонясь, даже нахально, страж преградил путь штыком, зло повторяя хамским тоном: «Эй! Ты там!.. Выход запрещен!» — Этот кастильский вояка здорово похож на попугая, — сказала девушка как бы в пространство, натянуто улыбаясь, и, побледнев, резко добавила: — Я что же, по-вашему, пленница?.. У друзей?.. У тех, кто мне многим обязан… Я иностранка! Француженка! Тогда, вспомнив о полковникеВальенте и его сестре, она вздрогнула: вдруг теперь не удастся им помочь при побеге? Неужели нас выдали?.. Неужели кто-то узнал о плане побега?.. Так… Надо все разузнать, что-то предпринять. Прекрасно понимая, насколько бесполезно вступать в перепалку с выполняющим приказ нижним чином, она вернулась и сразу пошла к главному врачу. Тот держался крайне учтиво, хотя явно чувствовал себя не в своей тарелке. Кратко изложив факты, Фрикет заявила: — А теперь мне нужно выйти с территории… — Сегодня это невозможно, мадемуазель, — ответил доктор. — Почему невозможно? Почему именно сегодня?.. — Распоряжение начальника гарнизона: выход из госпиталя запрещен. — Я должна… — Выход запрещен для всех… — Ну я-то не все! — И запрещен до полудня завтрашнего дня, мадемуазель. — Да почему же? Скажите, почему? Я хочу знать… Это совершенно неоправданное превышение власти… Ведь я не солдат… Я иностранка… Подобный приказ не может и не должен касаться меня. — Причина, мадемуазель, уж очень серьезная, — мягко ответил врач. — Завтра утром в Испанию отплывает транспортный корабль. На нем отправят пленных, находящихся в тюрьме и госпитале. Есть опасность побегов: у мятежников повсюду сообщники. Вот почему, дитя мое, начальник принял столь важное решение, которое — повторяю — распространяется на всех и никак не ущемляет вашего личного достоинства. — Это все слова, месье. Значит, по крайней мере на сутки с лишним, я пленница… Это посягательство на мою свободу. Я буду жаловаться консулу[218] Франции… Последний раз говорю: мне нужно выйти в город! — Часовые получили строжайший приказ. Вас задержат силой. Все, что я могу попытаться сделать, — направить со связным записку от вас в штаб гарнизона… — У меня нет, месье, привычки просить. Когда я права, я требую… Насилию бессмысленно сопротивляться, особенно женщине. Я добровольно служила Испании. По отношению ко мне проявляют принуждение. Меня задерживают, не имея на это никаких оснований, без всякой причины… Ну что ж!.. Соблаговолите принять отставку. И больше не рассчитывайте на мою помощь… — Мадемуазель, столь внезапное и, простите, опрометчивое действие… — Позвольте откланяться, месье! И мадемуазель Фрикет, покинув главного врача в полном отчаянии, убежала к себе в комнату. Вскоре к ней вернулось обычное спокойствие, оно не раз помогало свершать героические поступки, приводившие в изумление даже людей не робкого десятка. «Что это я? — спросила она себя, думая о Карлосе и Долорес. — У меня целых полдня для спасения Необходимо вытащить их отсюда, вытащить любой ценой» И девушка тотчас отправилась к полковнику и его сестре, намереваясь сообщить им о положении дел. Карлос и Долорес выслушали все с присущей им стойкостью, как те, кто целиком посвятил себя борьбе за независимость родины. Придя к выводу, что случившееся с Фрикет под корень подрубает планы побега, Карлос спокойно сказал: — Теперь, когда все, на мой взгляд, потеряно, надеюсь, дорогая благодетельница, вы не откажете вашим вечным должникам в последней услуге. — Пожалуйста, говорите… — Достаньте немного яда… чтобы быстро и наверняка положить конец мучениям, уготованным для нас тиранами. — Да вы что! Ни в коем случае! — Вы отказываетесь? — с удивлением воскликнула Долорес. — Да. Во всяком случае до тех пор, пока останется хоть малейшая надежда избежать каторги. — На что же вы надеетесь? — На то, что мы удерем от этих идальго[219], более спесивых и грубых, чем солдафоны из Померании[220]. Видите ли, мне запрещают!.. Бог ты мой, со мной обращаются как с солдатом, опоздавшим на поверку! Посмотрим! — Тогда скажите хоть, что нам делать, чтобы оказаться на свободе… — Ничего… Абсолютно ничего! За дело примемся мы с Мариусом… Потерпите до полуночи: когда раздастся бой курантов, будьте начеку… Полночь — время преступлений и побегов. Фрикет, подавив гнев, успокоившись и вновь обретя уверенность, попрощалась с друзьями. Главное — не унывать! Не терять надежды! Вечером она о чем-то пошепталась с Мариусом. Потом они потихоньку обошли весь госпиталь, осмотрели подвальные помещения, куда никогда не заглядывали, побывали в зловонных закоулках, где еще с прошлого века скопились кучи мусора. В одиннадцать часов Мариус, дыша как кашалот[221], чуть не орал от счастья. Гримируясь при свече, он почти до неузнаваемости изменил внешность. Черную бороду, торчавшую словно комок пакли, провансалец выкрасил в ярко-рыжий цвет, столь часто встречающийся в Испании. То же самое он проделал с лохматыми иссиня-черными бровями и с волосами, торчавшими во все стороны подобно колючей проволоке. Маленькой губкой матрос смывал перед зеркалом лишнее и дико хохотал. — Черт побери! Это я или нет… Сейчас поищу: «Эй ты, Мариус!.. Где же ты?» Вот это да, мадемуазель, здорово! А краска-то, она хорошая? — Месяца три продержится. — Здорово! Здорово! Даю голову на отсечение, что легавые, когда сообщат мои приметы, ни дьявола не угадают. Вот это химия, мадемуазель! Да уж, без химии при побеге не обойдешься. С помощью таких трюков мы обводили вокруг пальца мальгасийцев[222] и итальянцев из Массауа…[223] Хорошо… Никто вас не узнает, и это главное. А все остальное готово? — Готово, мадемуазель. — Тогда пошли за нашими пленниками. Провансалец сунул под мышку три пакета средних размеров и пошел за девушкой по боковым коридорам, освещавшимся только еле-еле горящими газовыми горелками. Дело шло к полуночи. За несколько минут до боя часов Фрикет вбежала в небольшое помещение, где томились патриоты. Едва она успела объяснить, что им предстоит сделать, как вдали послышались звуки тяжелых шагов, голоса, отдающие приказания, звон металла. Фрикет сжалась. — Это за ними… Солдаты идут Охранники… Поздно… Бог мой! Слишком поздно! Шаги приближались. В конце коридора блеснули штыки. Фрикет резко бросила полковнику и Долорес. — Быстро! Быстро! За мной! Карлос, все поняв, проворчал: — Живыми нас не возьмут. Яду! Умоляю вас. — Ну же, идите! Скорее! Фрикет чуть не силком выпихнула их в главный коридор. Там, к несчастью, горел яркий свет. Мариус протянул руку и погасил горелку. Стало темно как в склепе. Все четверо с бьющимися сердцами, ничего не видя, кинулись бежать, стараясь не шуметь. Вдали забрезжил огонек. Фрикет извлекла из кармана ключ, открыла какую-то дверь и прошептала: — Каменная лестница. Двадцать ступенек… Спускайтесь! И ничему не удивляйтесь. Она замкнула дверь изнутри и тоже пошла вниз. На лестничной клетке стоял сладковатый, тошнотворный запах. Ступеньки были скользкие, словно в камерах или каменных мешках. Нашим патриотам было не занимать смелости. Их не напугал бы, кажется, никакой сюрприз. Но и они невольно вскрикнули: на столах лежали десятка два окоченевших трупов, в мертвящем свете еле горящих рожков они выглядели жутко. — Морг! — пробормотала Долорес, чьи нервы были на пределе. — Не бойтесь! — успокоила Фрикет. — Знаете, — воскликнул Карлос, — такого кошмара не увидишь даже на поле битвы! — Баста! — сказал Мариус. — Все это ерунда Я здесь лежал. В полном изумлении полковник посмотрел на матроса, волосы и борода у того горели огнем. Это несколько отвлекло Карлоса. — Что, полковник, не узнаешь? Это химия. Спросите лучше у мадемуазель — она все объяснит. — Честное слово, его не узнать! — Верно, — сказала Фрикет. — Это уже мой третий побег… с помощью химии. При первом я прибегала к фосфору — кабил[224] Барка, мой зебу[225] Майе и я горели как факелы. При втором я превратилась в негритянку, применив концентрированный раствор ляписа. Ну а теперь Мариус, умывшись перекисью водорода, стал не то кирпичного, не то морковного цвета. Делаем что можем. Ну, как? Вам лучше, Долорес? — Да, лучше. Спасибо, дорогая. Но ведь мы не пробудем здесь долго? Дышать нечем… Как-то очень не по себе. Мне кажется, что я умираю… — Мы вскоре уйдем. Поймите, в госпитале сейчас обшаривают каждый уголок. Наверняка ваше исчезновение уже заметили… Мариус! — Да, мадемуазель! — Приподнимите плиту. Стало слышно, как с трудом сдвигается с места какой-то тяжелый камень. — Готово, мадемуазель. В одном из углов мрачного помещения появилось отверстие, через него мог бы пролезть не очень крупный человек. Оттуда доносился еще более тяжелый и тошнотворный запах. Фрикет зажгла свечу и первой смело полезла в дыру. Когда ее почти не стало видно, она ровным, но решительным голосом приказала: — Мариус и вы, полковник, понесете пакеты с одеждой и оружием. Долорес спустится сразу за мной, а Мариус полезет последним, прежде поставив на место каменную плиту. — Есть, мадемуазель! — отозвался Карлос. — Скажите только, где мы? — В сточной канаве, которая ведет или, по крайней мере, должна вести к морю.
ГЛАВА 6
Тяжелый путь. — Прилив. — Страх утонуть. — В ловушке. — Железная решетка. — Дьявольский труд. — Все на воде. — Посадка в шлюпку. — Мариус убивает человека, не испытывая никакой жалости. — Плавание. — Причалы. — Кто идет?Беглецы брели, пригнувшись, по тесному коридору, невольно касаясь плечами скользких стенок. Вскоре им стало не хватать воздуха. Ноги по щиколотку вязли в липкой зловонной грязи, образовавшейся от разложения всякой дряни. Голову ломило от боли. В глазах мелькали горящие мотыльки. Грудь давило. Все были в полуобморочном состоянии. Еще не вполне поправившийся после ранения, Карлос выбивался из сил. Идя за ним, Мариус чувствовал, что полковник вот-вот упадет. Матрос уперся ему в спину, чтобы не дать свалиться. Долорес, позабыв о болях в еще не совсем залеченной руке, цеплялась за Фрикет. Никто не жаловался, хотя от отвратительного воздуха всем делалось дурно. Только Фрикет иногда говорила: — Потерпите немного!.. Еще несколько шагов, и мы будем у цели. Судя по всему, проход, случайно ею обнаруженный, когда француженка пыталась разобраться, куда стекает вода из канализации, был недлинным, во всяком случае не особенно длинным. Подавая пример другим, девушка, однако, тоже страдала. Тем более что шла она первой, почти на ощупь: свеча здесь, где почти нечем было дышать, едва горела. К тому же в любой момент можно было упасть в какую-нибудь рытвину. Всех мучили тошнота, нехватка воздуха, стаи шнырявших повсюду крыс, которые взбирались вверх по ногам и даже касались лица холодными лапами. А если добавить ко всему ужасное ощущение, что тебя замуровали… Бороться с ним почти невозможно, для людей же нервных, с живым воображением это вообще невыносимое страдание. Слов не было, все происходило будто в кошмарном сне. Спотыкаясь, задыхаясь, почти теряя сознание, боясь в любую минуту шлепнуться в омерзительную грязь, беглецы прошли еще метров двадцать. И вдруг до них донесся плеск волн. — Море! Мы спасены! Проход стал значительно шире, воздух — не столь зловонным. Плеск волн слышался все явственнее. Казалось, вода прибывает. «Да ведь это же прилив», — подумала Фрикет, на минуту остановившись передохнуть. Рукавом вытерла пот, который ручьем тек по лицу. — Боже! Вода поднимается! — воскликнула в ужасе Долорес. — Да, — ответила Фрикет. — Вперед!.. Вперед!.. Надеюсь, мы успеем… Мы чуть не задохнулись, а теперь еще утонуть… Это уж слишком! Сточная канава расширилась настолько, что можно было спокойно идти вперед. Жара снаружи спала. Уменьшились испарения. Но вода поднималась все выше и выше, доставая уже до колен. — Ну-ка, скорей! — крикнула Фрикет спутникам, те все еще с трудом продвигались по грязи. В страхе девушка ускорила шаг, последние метров десять она уже бежала, держа свечу в руке. И вдруг остановилась, закричав от злости и отчаяния. Беглецы ринулись к ней, превозмогая усталость, и, остановившись в свою очередь у входа, тоже закричали. Они увидели тяжелую железную решетку, которая полностью перекрывала отверстие подземного канала. Такую преграду им было не преодолеть! Долорес в отчаянии зарыдала. Полковник сжал зубы, а Мариус изверг поток ругательств на разных языках. При других обстоятельствах они бы вызвали смех: уж очень были смачны и красочны. — Ох! — воскликнул он наконец. — Я готов поджарить полсотни проклятых испанцев со всеми их потрохами, если мы когда-нибудь выберемся из этой дыры! Полковник, отныне я на вашей стороне… Да-да, я буду бороться за свободную Кубу. — Спасибо, друг. — А сейчас, мадемуазель, отойдите-ка, пожалуйста, — я осмотрю эту дурацкую решетку. Я должен ее согнуть!.. сломать!.. вырвать! А то здесь, ей-богу, как-то неуютно. Девушки подались назад. Провансалец передал им пакеты с оружием и одеждой. Потом подошел к решетке, покрытой столетней ржавчиной. Ухватился за железные перекладины и сильно дернул, пытаясь выломать. Напрасно. Решетка устояла, хоть и была старой. — Чтоб у тебя кишки повылезали! — проворчал Мариус. — В этой хреновой стране все сделано из дерьма и грязи… Все держится на соплях… Кроме этой проклятой железки. А вода все поднималась и была уже выше колен. Неужели, почти достигнув цели, они погибнут, захлестнутые волнами! Мариус, ругаясь, тянул изо всех сил. Полковник решил помочь, но мешала рана, да и слаб он был, еле держался на ногах. Прошло минут пятнадцать. Вода доходила всем уже до пояса, а Долорес, которая была меньше ростом — даже по грудь. Еще немного, и конец. Мариус постарался собраться с силами, снова ухватился за железные прутья и, набрав воздуха, опять потянул на себя решетку, да так, что у моряка кости затрещали. Никакого результата! — Тысяча дьяволов и дьяволят! — прорычал он. — Не могу! Не могу! Это сверх моих сил! В голосе звучали отчаяние и ярость. Приливом уже на две трети закрыло проход. Фрикет по грудь в воде, подняла руку со свечой. Ее как будто озарило: — Мариус! Не тяни на себя! Толкай от себя! Давайте все толкнем от себя! Изо всех сил! Все четверо навалились на решетку в ожидании сигнала Мариуса. — Внимание! — произнес матрос. — Готовы? — Да. — А ну давай! Послышался глухой треск. Решетка сразу же поддалась. Падая, она увлекла за собой беглецов, и неожиданно они оказались у моря, которое плескалось у подножия старинного здания. Прекрасные пловцы, они ничуть не испугались. Те, кто держали свертки, поплыли рядом, помогая друг другу. Все проявили завидное хладнокровие: никто не вскрикнул, не произнес ни слова. Друзья плыли, не зная точно куда, как вдруг Мариус натолкнулся на какой-то натянутый канат. — Черт! — проворчал он. — Тут веревка, прикрепленная к стене… Нужно посмотреть, что там на другом конце. Он высунулся из воды и при свете звезд увидел что-то качавшееся на волнах в нескольких метрах от него. — Вот это да! — прошептал француз. — Шлюпка! Бог помогает нам. Матрос быстро подплыл к лодке и схватился рукой за борт. Со скамьи вскочил мужчина. Провансалец заметил, как в его руке что-то блеснуло. И без предупреждения, даже не узнав, кто у шлюпки — враг или друг, незнакомец ударил матроса ножом. — Qu’ès aco, парень? — насмешливо спросил Мариус. — Ты что, надеешься проткнуть шкуру такой старой акуле, как я? Ну подожди! Бандит в шлюпке при ударе потерял равновесие. Не успел он прийти в себя, как Мариус схватил его. Завязалась борьба. Потом послышался звук от падения тела в воду. — Вот так-то! Ты получил, чего хотел, вшивый моряк. Нет, чтобы по своей воле отдать посудину… Эй, залезайте в шлюпку! Мариус помог девушкам и полковнику. — Там в уключинах пара весел… У посудины есть руль… В общем все как надо! Нож валялся на скамье. Мариус взял его и перерезал веревку, которой суденышко было пришвартовано к стене. — Вы не ранены, Мариус? — спросила Фрикет. — О, мадемуазель, так… пустяки. Я был начеку! — И добавил. — Не смею отдавать вам приказания, полковник, но беритесь-ка за руль. Я сяду на весла, а вы поведете; я тут ничегошеньки не знаю. — Ладно, — отозвался полковник. — Мне здесь знаком каждый уголок. Шлюпка двинулась вперед. — А не должны ли мы, — спросила с жалостью в голосе Фрикет, — помочь тому несчастному, что был в лодке? Мариус прервал ее: — Я ему рукой заткнул глотку. Клянусь, ничего уже ему теперь не нужно… — Так вы его убили? — А, одним больше, одним меньше… Другим будет неповадно… — О, Господи! Убийства… Все время убийства… — Что поделаешь, пришлось… Во-первых, у него был слишком плохой характер… А потом, на войне каждый стои́т за себя… Каждый сам хватается за соломинку… Шлюпка бесшумно скользила по волнам. Кубинский офицер ловко вел ее, избегая освещенных мест, стараясь не быть замеченным. Фрикет и Долорес из предосторожности нагнулись — не хотели, чтобы их увидели: женщины в лодке в такой час могли вызвать особое подозрение. Где-то на юге метрах в трехстах — четырехстах горели огоньки. Карлос направил туда шлюпку, шепотом сказав матросу: — Тише! Повернитесь… Видите причалы? — Да… Меня там подобрали… — Там и высадимся. — Согласен, полковник. У причалов полно груженых и пустых вагонов, товаров, бочек, тюков, горы железа и леса — в общем, сам черт не разберется. Спрятаться в этом месте ничего не стоит. Через десять минут шлюпка ткнулась в размытый водой берег. Из-за свойственной испанцам бесхозяйственности там и сям виднелись большие промоины в стене. Первым сошел полковник. Он хотел убедиться, что ничего подозрительного нет. Если бы кубинец встретил кого-нибудь, то сумел бы предупредить своих. Мариус говорил по-испански так плохо, что никто бы не понял его. Сделав несколько шагов, Карлос уже собирался позвать всех на берег, когда раздался окрик: «Стой! Кто идет?»
ГЛАВА 7
Сообщник. — Переодевание. — Эшелон у причалов. — Отправление поезда. — Медленным ходом. — Меры предосторожности. — Папа, мама, ребенок и собака. — Последние минуты счастья. — Нападение. — Бедный малыш! — Победа кубинцев. — Антонио Масео.В тот момент, когда из темноты раздался окрик «Стой! Кто идет?», полковник увидел направленную на него винтовку. Сохраняя полное спокойствие, он остановился. «Гордый мужик», — подумал Мариус, готовый в любую минуту наброситься на часового. Не отвечая, Карлос стал тихо насвистывать какую-то грустную, даже печальную мелодию, похожую на песню рабов. Винтовка опустилась, и часовой тихо произнес: — Железо крепко… Кровь красна… Полковник продолжил: — Есть нечто более крепкое, чем железо. Уже знакомый голос подхватил: — Это душа человека, который жаждет свободы… — Нечто более красное, чем кровь… — Это лоб предателя или раба… — Привет, браток! Твой номер? — Двести двенадцатый. — Ты — Антонио Гальго эль Адуанеро, таможенник. — А ты — Карлос Вальенте, полковник… наш храбрый полковник. — Тс-с! Тише!.. — И на свободе! — Да, на свободе благодаря преданности и отваге молодой француженки из Красного Креста и вот этого моряка. Фрикет и Мариус с удивлением слушали, как Карлос и незнакомец обменивались словами странного пароля, будто взятого у судей тайного трибунала. — У нас всюду есть сообщники, — объяснила Долорес подруге. — Еще один смельчак, который сражается за свободную Кубу в рядах испанцев, — подхватила француженка. Таможенник несколько напыщенно, но с глубокой благодарностью произнес: — Спасибо им. Родина и ее защитники их не забудут. Что ты теперь собираешься делать, полковник? — Выехать из Гаваны вместе с сестрой, француженкой и моряком, добраться до армии Масео и занять свое место среди бойцов. Где Масео? — Перешел вчера через Мариельскую дорогу… — Здо́рово! — Здесь такое смятение… Собираются послать подкрепление в провинцию Пинар-дель-Рио. Состав с боеприпасами уже готов к отправке… Он стоит неподалеку отсюда… На ветке, идущей по причалам… — Мы должны уехать с этим поездом. — Я помогу вам. — Прекрасно. А теперь нам нужно переодеться. — В хвосте поезда есть пустые вагоны, где можно вполне это сделать. Все четверо залезли в один из указанных вагонов и начали в полной темноте быстро менять одежду. Вещи были мокрые, но это никого не смущало: в Гаване ночи теплые. Переоблачившись и выйдя наружу, они с любопытством стали разглядывать друг друга в новых одеяниях. Полковник Карлос обрел форму рядового пехотинца. Левый глаз прикрывала повязка, Карлоса невозможно было узнать. Мариус предстал в обличии погонщика мула[226] — в шляпе с испанской кокардой он смахивал на обозника, готового вступить в бой, спасая своих вьючных животных и груз. Долорес и Фрикет очень походили на крестьянок, провожающих мужей на передовую. Между тем время шло. На причалах началось какое-то движение. Из города — кто пешком, кто на лодке — прибывали ремесленники, грузчики, сначала только мужчины, а потом женщины и дети. Они останавливались около вагонов и в ожидании пили, ели, громко болтали. Начали подходить и армейцы, главным образом пехотинцы и кое-кто из артиллеристов. Солдаты двигались тихо — ни труб, ни барабанов и полное отсутствие энтузиазма. Прибыв на вокзал, служивые разбрелись в разные стороны, смешались с толпой, их подзывали к себе, братались, предлагали выпить прямо из горлышка вино, угощали фруктами и охотно брали взамен сигареты. Еще не совсем рассвело, когда солдат вместе с орудиями погрузили в вагоны. Таможенник вручил полковнику ружье со штыком и патронташ, а Мариусу — мушкет[227] со всем необходимым. Кроме того, каждый, включая и девушек, спрятал под одежду по револьверу. Слиться с шумной, хотя и печальной толпой не составило труда. Никто даже не обратил на них внимания, и друзья расположились в одном из пассажирских вагонов по его центру, как в американских поездах, тянулся проход. Туда же сели солдаты, девушки, женщины. Народу набилось столько, что дышать было нечем. Рядом с Фрикет поместилась молодая женщина с пятилетним ребенком на руках. С ними ехала собака, она тут же залезла под сиденье. Напротив примостился молодой человек в форме сержанта ополчения. Он гладил по голове ребенка и жалобно улыбался глотавшей слезы женщине. Иногда пес высовывал морду, облизывал ножки ребенка и опять скрывался под скамьей. Фрикет все поняла. Муж, вынужденный ехать на передовую, и сопровождавшие его жена сын, собака… Семья лишившаяся главы… Дом, ставший слишком просторным… Боль… Безденежье, а может и нищета… А сейчас страшная боль расставания, может быть, навеки… Груженый состав вот-вот должен был тронуться. Раздался свисток. Локомотив дернулся и снова остановился. К поезду подъезжали конные жандармы. Среди них Фрикет увидела служащих госпиталя, они выделялись среди других одеждой и повязками на руке. Девушка сжалась в комок — их побег обнаружили… Их ищут… Неужели найдут? Полицейские заглядывали в каждое окошко, в надежде увидеть тех, кто отвечал бы полученным ими подробным описаниям. Пройти мимо всклокоченной рыжей шевелюры Мариуса они, конечно, не могли. Но тот никак не походил на французского матроса с иссиня-черными волосами и густыми смоляными бровями. Не узнали они и полковника в форме рядового и с повязкой на глазу. Сидевшая довольно далеко Фрикет, заметив, что на нее смотрят, стала чихать и сморкаться, закрыв лицо платком. Долорес с жадностью впилась в огромный апельсин, наполовину закрывший ей лицо. Не обнаружив ничего подозрительного, жандармы удалились. Четверо беглецов с облегчением вздохнули. Поезд двинулся и медленно пошел вдоль бухты Атарес, пересек пригород Гаваны и покатил по пути, соединявшему столицу с маленьким городком Гуанахай. Состав плелся со скоростью не больше пятнадцати километров в час, время от времени подавая гудки. Осторожность здесь была нелишней! Мятежники творили чудеса храбрости. Они бесстрашно нападали даже в разгар дня на составы, опрокидывая и разбивая их вдребезги. Поэтому вооруженные кочегар, механик и сопровождавшие их солдаты, находившиеся в бронированной паровозной кабине и тендере[228], были начеку — в любой момент они могли остановить поезд или подать назад. Солдаты в вагонах с тревогой оглядывали окрестности. Офицеры, не отрываясь от биноклей, внимательно осматривали каждый куст, скалу, пригорок. Из окон торчали винтовки. Короче говоря, все были охвачены смертельным страхом. Лишь четверо беглецов сохраняли спокойствие, посмеиваясь в душе над рассказываемыми шепотом страшными историями. Судя по всему, никакая опасность им не угрожала. Время тянулось невероятно медленно. Фрикет не сиделось на месте. А пехотинцу и его молодой жене, наоборот, казалось, наверное, что часы бегут слишком быстро. Малыш уселся верхом на колено отца и заливался радостным смехом, когда тот подбрасывал его вверх. Половина вагона с удовольствием слушала лепет ребенка, не обращавшего внимания ни на разговоры родителей, украдкой пожимавших друг другу руки, ни на слезы в глазах матери. Молодая пара проклинала, конечно, братоубийственную войну, из-за нее разрывались семейные узы, рушилась любовь. Как знать? Возможно, юная жена станет вдовой, а ребенок — сиротой. Поезд миновал Сан-Антонио и подходил к Мариельской «trocha», которая вскоре будет не менее известна, чем путь на Морон. Trocha — это, на местном диалекте, дорога, проложенная через кубинские леса и ведущая от северного к южному побережью. Во время великого восстания 1868–1878 годов испанцы построили вдоль шоссе соединенные частоколами блокгаузы[229] и прорыли перед ними ров. Так колонизаторы пытались перекрыть путь республиканцам при их передвижении с востока на запад. Теперь, хотя для бойцов свободной Кубы эти устаревшие сооружения перестали быть серьезной преградой, испанская армия продолжала их укреплять. Считалось, в частности, что Мариельская дорога защищает провинцию Пинар-дель-Рио. Малоэффективной была эта преграда: Антонио Масео, потом Максимо Гомес[230], затем снова Масео трижды пересекали эту так называемую оборонительную линию. Состав шел по участку между деревнями Ванданера и Сейба, где дорога делала довольно крутой поворот. Раздался приглушенный гул очень сильного взрыва. Паровоз резко затормозил — второй вагон ударился о передний, затем на второй наткнулся следующий за ним… Скрежет буферов смешался с криками ужаса и гнева. Люди от толчка падали друг на друга, раня самих себя и соседей. И тотчас с обеих сторон железнодорожного пути началась перестрелка. Высоко подняв знамя, вдоль полотна бежали мятежники, оглашая окрестности возгласами: «Свободная Куба! Да здравствует свободная Куба!» Взорвалась положенная на рельсы динамитная шашка. Из покореженного локомотива выкатывались клубы дыма, вытекал кипяток. Еще несколько минут, и состав оказался с трех сторон окруженным повстанцами. Растерявшиеся поначалу испанские солдаты вскоре тоже открыли огонь. Из окон вагонов, как из бойниц, вылетали язычки пламени. Все окуталось облаками дыма. Грохот стоял такой, что казалось, лопались перепонки. Беспорядочная стрельба опасна для солдат, но еще больше для пленных. Пуля — дура: она сражает и недруга и друга. Двери и стены вагонов от пробоин вскоре стали как решето. Послышались стоны раненых, хрипы умирающих. — Нужно что-то предпринять. А то как бы не получить пулю от друзей, — разумно заметила Фрикет. Она решила заставить Долорес лечь под скамью и забраться туда же сама. Но не успела. Раздался отчаянный крик молодой матери. Ее муж, стрелявший из окна, вдруг, охнув, тяжело опустился на пол с пулей в груди. — Святая Дева Мария!.. Сохрани нас! — шептала женщина, глотая слезы. Ребенок, обрызганный кровью собственного отца, жалобно пищал, охваченный ужасом: — Папа!.. Мой папа!.. Мужчина не подавал признаков жизни. — Проклятая война! — процедил сквозь зубы полковник. Какой-то тупой звук, и эта женщина с проломленным черепом упала на тело мужа, увлекая за собой ребенка. Не обращая внимания на стрельбу, Долорес и Фрикет бросились на помощь. Поздно! Тогда полковник Карлос сорвал косынку, что поддерживала раненую руку, привязал ее к штыку и начал размахивать. Выстрелы со стороны повстанцев тут же прекратились. Оказавшись в ловушке, испанцы взвесили все доводы за и против и, решив с честью капитулировать, тоже прекратили огонь. Первыми на землю спрыгнули Карлос и Мариус. Потом через разломанные двери стали выходить все оставшиеся в живых. Они сдали оружие и патроны, прихватив с собой лишь вещевые мешки. Набралось человек пятьсот, столько же, сколько и повстанцев. Когда наступило затишье, оставшийся без отца и матери малыш снова отчаянно закричал. Видя окровавленные тела родителей, он по-детски, не до конца, но все же понял, что случилось большое несчастье. Ребенку трудно было сообразить, почему так любившие его папа и мама не отвечают на ласки. Ему просто стало страшно. Собака, растянувшись около мертвых тел хозяев, рычала, ощерясь. При виде этой сцены Фрикет чуть не расплакалась. Она подошла к мальчугану и, улыбаясь, протянула руки. Малыш заметил ее еще раньше и не стал сопротивляться. Девушка взяла его на руки, поцеловала и понесла к выходу. Собака, схватив зубами за одежду хозяев, попытал-ась сдвинуть их с места. Не удалось. И она, выпрыгнув из вагона, побежала за Фрикет, которая несла ее маленького хозяина. А в это время повстанцы, положив в каждый вагон по нескольку динамитных шашек, подожгли фитили и отбежали. Через пять минут состав со всем вооружением взлетел на воздух. Командир, руководивший этой операцией, обратился к испанцам со словами, полными величия и простоты: — Мы воюем не с людьми, а с вещами. Хватит, и так пролили много крови… Солдаты, вы выполнили долг. Вы свободны. На воротнике мундира этого красивого мулата лет сорока шести — сорока восьми с умным и очень энергичным лицом сверкали генеральские звезды. Некоторое время он смотрел вслед уходившим солдатам, а затем присоединился к своим. Повстанцы сгрудились вокруг кучки людей, горячо их поздравляя. Только тогда командир узнал полковника Вальенте. Руководитель кубинских повстанцев бросился к нему с объятиями и расцеловал. — Карлос!.. Друг мой!.. Ты на свободе… А мы и не надеялись свидеться с тобой. — Да, генерал, я и моя сестра, мы свободны стараниями вот этих двух французов — мадемуазель Фрикет, которая столько сделала для наших раненых, и ее слуги, храброго моряка Мариуса. Генерал протянул руку провансальцу и, сняв шляпу, сказал Фрикет: — Мадемуазель, от имени свободной Кубы генерал Антонио Масео благодарит вас… Можем ли мы надеяться, что вы окажете честь присоединиться к нам? — Да, генерал, можете на нас рассчитывать.
__________
Так мадемуазель Фрикет с приемным сыном на руках и с приемным псом рядом перешла на сторону восставших кубинцев.ГЛАВА 8
Война за независимость Кубы. — Роль американцев. — Солдаты свободной Кубы. — Знамя. — По пути о лагерь. — Горе ребенка. — Маленький Пабло и его пес Браво. — Просьба не трогать врага.Антонио Масео очень точно сказал о войне, разгоревшейся 24 февраля 1895 года на Кубе, этой жемчужине Антильских островов: «Мы ведем войну не с людьми, а с вещами». Действительно, начавшаяся революция прибегала к средствам, которых не знала Большая война. Восставшие, или, как их обычно называли, мамбисес, вели партизанскую борьбу с небывалой стойкостью, мужеством и искусством. Избегая по мере возможности сражений в сомкнутом строю, они старались все время держать врага в напряжении, изматывая, уничтожая укрепления, военное снаряжение, склады, арсеналы. Голод, жажда, усталость, болезнь в этой войне служили тем же целям, что и смелые нападения на врага. Примерно так вели себя русские во время кампании 1812 года, сражаясь с Наполеоном. Оставить после себя пустыню, лишить врага пищи и дать бой. Именно так поступали ставшие прекрасными стратегами кубинские военачальники, которые в случае необходимости без колебания бросали в бой огромные силы. Они не раз одерживали победу над испанскими войсками в крупных сражениях. Командиры ничего не жалели для выполнения трудной, но почетной задачи освобождения Кубы. Кубинцы требовали не привилегий, а свобод, у них отнятых. Испания же энергично боролась за сохранение прежнего порядка, который нам, французам, привыкшим к равенству и справедливости, казался абсолютно неприемлемым. «Свободу! Свободу такую же, как в метрополии!» — кричали кубинцы. «Статус кво»[231],— отвечали государственные мужи старой Иберии[232]. Вот почему «всегда сохраняющий верность остров» не побоялся развязать страшную для всех войну. Испанский народ, с достоинством перенесший самые тяжкие испытания, проявивший терпимость к другим и истинный патриотизм, невольно вызывает симпатию. Можно поэтому только сожалеть, что его правители вовремя не дали своим заморским территориям те права, какие получили от Англии Канада, Южная Африка и Австралия. Союз Испании и ее прекрасной колонии от этого никак бы не пострадал. Куба по-прежнему душой и телом была бы предана Испании, не став предметом вожделения жадного соседа — дяди Сэма[233]. Да, конечно, правительство Соединенных Штатов официально вроде соблюдало нейтралитет и все, что с ним связано. Пресловутая доктрина Монро — «Америка для американцев»[234] — еще не совсем овладела умами. С другой стороны, нужно признать, что граждане великой республики не скрывали благожелательного отношения к восставшим. Некоторые наивные люди могли бы, бесспорно, подумать, что это объясняется магией слова «Свобода!», оно вдохновляло наших донкихотов в Польше и Греции[235]. Нет! Дело не в этом. Янки[236], коим столь присуще здравомыслие, рассматривали установление независимости на Кубе как своего рода бизнес. Выпустив ценные бумаги и разместив их с умом, они достигли двойной цели — снабдили армию необходимыми для войны средствами и втянули в борьбу восставших владельцев бумаг, те ведь только и озабочены получением дивидендов. Независимость и доллары, свобода и финансы, патриотизм и спекуляция. Прекрасно задумано. В результате синдикатам[237] удалось ввезти на Кубу скорострельные винтовки, обмундирование, пушки, пулеметы, боеприпасы и доставить значительное число добровольцев. Благодаря этой постоянной помощи восстание разрослось, охватив большую территорию. Конечно, это не могло не породить жгучей ненависти со стороны испанцев и не вызвать потока клеветы. Вначале гордые кастильцы относились к мятежникам с подчеркнутым презрением. Для них они были лишь сборищем темных личностей, грабителей, бандитов, негров, дикарей. Такими абсурдными вымыслами пестрели газетенки, не делающие чести великому испанскому народу Им никто не верил — все знали истинную цену кубинским патриотам, их высоким моральным качествам. Они все, вне зависимости от цвета кожи, происхождения и положения в обществе, боролись за торжество своих идей. Между ними даже существовал негласный договор подчиняться тому, у кого больше заслуг и кто храбрее других Поэтому во главе белых часто стоял черный, а черными командовал белый. Плантаторы, ремесленники, рантье[238], адвокаты, грузчики, врачи, землепашцы, погонщики мулов, нотариусы, промышленники, бывшие рабы — все сражались как братья в едином строю, вдохновляемые одной идеей, свободная Куба! Не один год они вели войну, нанося поражения сотням тысяч солдат метрополии. Наконец, кубинских генералов не раз упрекали за используемые ими способы ведения войны. Нам они известны. Известны они и другим народам. Бог ты мой, да, мамбисес поджигали усадьбы, взрывали составы, торпедировали корабли, говорят, даже прибегали к разрывным снарядам… Ну, а у нас во Франции и Пруссии в 1870 году? Разве не было обстрела госпиталей, поджогов зданий, полного уничтожения открытых городов?.. А Базейль и Шатоден?..[239] Неужели есть уж такая большая разница между разрывной пулей и начиненным мелинитом[240] снарядом? Почему нужно запретить маленькую пулю и разрешить использование чудовищных снарядов, весящих сотню килограммов? Зачем же упрекать кубинцев, поджигавших плантации сахарного тростника и табака, когда историки прославляют Гийома из Оранжа[241], открывшего плотины Зюйдерзе[242], или Ростопчина[243], уничтожившего Москву?! Да и заявления о том, будто Испания, «чтобы не лишиться чести, не может допустить нарушения целостности своей территории», не выдерживают никакой критики. Стоит вспомнить только одно слово — Гибралтар![244] Так что беспристрастный автор вполне может сказать «Нет! Требуя права на самоопределение и выбор правительства, кубинские восставшие не замарали своей чести. Их движение, бесспорно, заслуживает всяческого уважения и симпатии. Объективный наблюдатель может выразить лишь сожаление, что партизанам было отказано в статусе воюющей стороны»
__________
После успешно проведенной операции Масео вернулся в лагерь, где квартировали тысячи три солдат, тщательно отобранных для действий почти у ворот Гаваны. Пять человек были убиты, пятнадцать ранены. Мертвых незамедлительно похоронили, правда, без особых почестей. Глубокая яма, крест из двух веток и прощание с товарищами. Раненым, которых доставили на мулах, тут же оказали помощь. Фрикет отметила про себя слаженность работы санитарной службы. Здесь были и улучшенной конструкции носилки, и легкие, по-новому сделанные повозки, и ящики с различными аппаратами, и богатый набор лекарств. Все эти вещи, тщательно продуманные и изготовленные с характерной для янки выдумкой, поступили из Америки. Фрикет, привычная к бедности испанских военно-полевых лазаретов, не могла прийти в себя от удивления. Возглавлял эту службу врач Серано, личный друг Масео. Храбрый партизан очень ценил его и полностью ему доверял. Врачи и санитары выполняли и обязанности бойцов. Они не расставались с мачете, карабином или револьвером. Две столь, казалось бы, несовместимых обязанности никак не мешали им в тяжелой, но благородной работе. Чтобы избавить Фрикет и Долорес от утомительного марша пешим ходом, Масео предложил им лошадей. Весьма посредственная наездница, Фрикет с опаской посмотрела на бешеных маленьких лошадок, те лягались, артачились, вставали на дыбы, — чтобы с ними совладать, нужны были сильные руки солдата. Самолюбие не позволяло девушке признаться в отсутствии навыков верховой езды. — Благодарю вас, генерал, — сказала она с улыбкой, — но я не хочу, чтобы кто-то из ваших людей остался без коня. Да и нельзя мне расставаться с этим прелестным ребенком, с этим несчастным сиротой. Дайте мне мула, и я прекрасно обойдусь. — Как вам угодно, мадемуазель. А вы, матрос, что предпочтете? — О генерал, мне все равно. Я ездил верхом на лошадях, мулах, верблюдах, слонах, ослах, быках… почти на всем и на всех… — Тогда возьмите коня. — Хор-рошо бы… Но если вы не против, я пойду пешком с мадемуазель… Из меня получится недурной пехотинец. На государственной службе я был классным стрелком. — Как угодно, парень. Прирожденная наездница, Долорес уже выбрала себе великолепного коня рыжей масти и поглаживала его по крупу. Пока Фрикет вместе с мальчиком устраивалась на спине мула, юная героиня, не обращая внимания на еще не совсем зажившую рану, вскочила в седло. Карлос, хотя ом еще и был слаб, тоже решил добираться до лагеря верхом. — Тебе нужно отдохнуть несколько дней, — сказал Масео, заметив, что его друг очень бледен. — Прохлаждаться, когда мои братья сражаются… — Дело в том, что сейчас для тебя нет солдат. — Я буду драться просто как доброволец. — Останешься в штабе, а завтра или в крайнем случае дня через два, когда мы снова будем в провинции Линар-дель-Рио, возглавишь эскадрон волонтеров. Прибыв в лагерь, солдаты тут же приступили к ужину, весьма небогатому галеты из маниоки[245], кусочки поджаренной на сковородке сушеной трески и вдоволь воды. А неутомимый Масео галопом поскакал проверить посты, осмотреть наспех возведенные ограждения, удостовериться в прочности натянутой в траве проволоки, убедиться в бдительности часовых. Затем он вернулся к раненым. Для каждого генерал нашел слово утешения, в каждого попытался вселить надежду, каждому пожал руку. Фрикет же в это время возилась с ребенком, стараясь по-матерински утешить его. Он отказывался от еды, тихо плакал, изредка вскрикивая. Сердце девушки разрывалась от боли. Мальчик звал папу, маму… Маму, с ней он никогда не расставался. Маму, которую в последний раз он видел на полу вагона — с зияющей раной на голове. Фрикет использовала весь свой небольшой запас испанских слов, чтобы успокоить мальчика. Потом девушка перешла на французский. Все напрасно. От бессилия она тоже заплакала — не могла смотреть на страдания малыша. Тут же бегала и собака, она не отходила от них, жалостно подвывала, будто понимая всю горечь происходящего. Мальчик о чем-то серьезно разговаривал с огромным псом. Потом снова начинал кричать, возвращался к Фрикет, а затем опять к собаке, усаживался рядом с ней, говоря: — Браво, моя собачка… Ой, Браво, теперь Пабло стал твоим хозяином, а мамы и папы больше нет… Так Фрикет узнала, что ребенка звали Пабло, то есть по-французски Полем, а собаку — Браво, что означает «Храбрый». Проплакав часа два, мальчик немножко успокоился. Фрикетвзяла его за руку и повела по лагерю. Шум, беготня, лошади, блеск оружия несколько отвлекли мальчугана. Француженке тоже все было интересно, она пришла в восторг от гордой осанки солдат и поняла, почему те наносили поражения испанским войскам. Девушка впервые увидела кубинское знамя. Оно, как и французское, сине-бело-красное, но цвета расположены по-другому. На нем чередуются горизонтальные полосы — три синих и две белых, а ближе к древку — большой красный треугольник с белой пятиконечной звездой посередине. Красиво. В отряде Масео флаг, продырявленный во многих местах пулями и осколками, явно превращался в рваное полотнище, но солдаты гордились этим доказательством своего героизма. Длительная прогулка хотя утомила, но и отвлекла ребенка от горя. Фрикет вернулась к санитарной повозке и уложила мальчугана в постель. Он вскоре заснул под охраной собаки. Пришла Долорес и передала Фрикет, что Масео просит ее к себе в палатку. Пока генерал представлял девушку будущим спутникам — офицерам штаба, из разведотряда на коне примчался боец. — Есть новости? — спросил командир. — Да, генерал, и очень важные… — Говори. Разведчик явно чего-то опасался. Масео понял и сказал: — Можешь все выкладывать… Тут все свои. — Так вот, генерал, полк конных волонтеров направляется к Мариельской дороге. — Кто командует полком? — Полковник Агилар-и-Вега. — Черт возьми! Ладно, устроим достойную встречу… Этому жестокому идальго, ненавидящему всех и вся, мы покажем, где раки зимуют. — Генерал, — прервал старшего Карлос Вальенте, — разрешите сказать словечко. — В чем дело, дружище? — Прошу, не подвергайте опасности жизнь полковника. — Да ведь это твой смертельный враг! — Так!.. — Да он же хотел тебя убить… — Верно… И все же умоляю тебя, брат, прикажи, чтобы мамбисес не стреляли в него… не замахивались мачете. Прикажи, чтобы его пальцем не трогали… — Тебе я ни в чем не могу отказать… Полковник Агилар-и-Вега есть и будет неприкосновенным для нас всех… Хотя просьба твоя и непонятна.ГЛАВА 9
Мариельская дорога. — Отвлекающая атака. — Дикие птицы Прованса. — Фаронский[246] lèbre. — Один провансалец двоих стоит. — Подвиги охотника за futifus. — Динамитная пушка. — Канонир Мариус. — Победа! — Почетное оружие.Масео готовился к наступлению. Он задумал ввести войска в провинцию Пинар-дель-Рио и еще раз пересечь Мариельскую дорогу. Генерал решил произвести отвлекающую атаку в районе Артемиса, красивого городка с пятью тысячами населения. Он полагал, что так ему удастся оттянуть основные силы противника, сосредоточенные вокруг испанского генштаба, от дороги, что облегчит задачу кубинским отрядам. Решиться именно в этом месте перейти знаменитую линию обороны было, с обычной точки зрения, верхом безрассудства. Но Масео проделывал это уже не раз, и всегда успешно. Неудивительно: ведь его бойцы отличались необычайной храбростью и не щадили жизни, целиком отдав ее борьбе за независимость родины. Операция предстояла, конечно, трудная, сопряженная с большими опасностями. Часть участников отвлекающей атаки, прижимаясь к земле, направились к пальмовой роще, расположенной посреди маленькой поросли густых кустарников. Там они и стали ждать сигнала к наступлению. Другая группа солдат двинулась в направлении укрепленной полосы, где, как уже было сказано, находились блокгаузы, или малые форты, построенные на расстоянии ста — ста десяти метров друг от друга и соединенные широким рвом, вдоль него тянулись проволочные ограждения и частоколы. Кроме того, и вокруг самих фортов, сооруженных из камня или из деревянного бруса, были рвы, обложенные камнем. Из проволочного ограждения торчали острые шипы, там и сям виднелись стрелковые ячейки. Наконец, километрах в двух друг от друга были разбиты лагеря войск подкрепления, которые в любой момент могли открыть перекрестный огонь из пушек и пулеметов. Эта полоса, идущая от Мариеля до Майаны, то есть через весь остров, тянулась километров на сорок. Ее охраняли двадцать тысяч отборных испанских солдат. Итак, наступал решительный момент. Еще полчаса — и взойдет солнце. Солдаты Масео неподвижно, тщательно укрывшись в кустах, ждали сигнала. Генерал и полковник Карлос осматривали в бинокли окрестности. Из-за легкого тумана, всегда появляющегося в тропиках перед восходом, было плохо видно. Долорес подошла к Фрикет, та вместе с мальчиком стояла рядом с мулом в окружении санитаров. Тут же, конечно, находился и увешанный оружием Мариус, борода его походила на львиную гриву. Матрос заряжал и разряжал винтовку, как бы изучая механизм. Он изображал из себя капитана, что несколько беспокоило Фрикет. Она хорошо знала этих провансальцев, любящих шумиху, бахвальство, весьма похожих на Тартарена[247], и побаивалась, что ее ординарец станет не дело делать, а трепать языком. Если бы он был не таким экспансивным, более спокойным, более сдержанным! Ее раздражало, что Мариус все время щелкает затвором, целится в воображаемую мишень, стреляет из незаряженного ружья, а потом все повторяет снова, будто играющий в солдатики ребенок. Девушка тихонько подсмеивалась над ним: — Ну же, Мариус, вы «хоть р-разок» стреляли из винтовки? Получалось? Не осрамитесь перед солдатами? Они ведь на вас смотрят. — Я, мадемуазель!.. Вы что, надсмехаетесь надо мной? Спрашивать, умеет ли Мариус, лучший охотник на побережье, обращаться с ружьем?! В Тулоне моя двухразка была грозной futifus… — Ваша двухразка?.. — Во Фракции у вас говорят двустволка. А мы в Провансе называем ее двухразкой… — Ну ладно!.. А что такое фютифюс? — Это малоежки… птички, которые по вечерам возвращаются из Ла-Волет, куда они летают поесть… Мы, тулонцы, поджидаем их у Итальянских ворот на крепостном валу на заходе солнца… И пах! пах! пах!.. Ей-ей, из двухразок мы их сбиваем тысячами! — Бог мой! Так, значит, уничтожая пташек, вы учитесь стрелять?.. — Ну да-а!.. — Бедные птицы!.. — Там и других хватает… В Провансе много диких птиц… Потому там все и занимаются охотой!.. — Не может быть! — Ну почему же! У нас там из крупной дичи водятся ложная полуцесарка, полуцесарка, просто цесарка… — Ну, хватит, хватит… А еще какие? — А потом еще всякие зверьки… Большая, большая… Фаронский lèbre… — Лебр?.. — Во Франции их называют иначе — lièvres, зайцы, да? — Значит, там у вас есть… — К-конеч-чно! — И вы видели хоть одного? — Еще бы! — И вы его не убили? — Да дело вот в чем. Я нес двухразку под мышкой… и не успел ее вскинуть… Рас-стерялся… Но ведь заяц-то бежал очень быстро… — Ну и шутник же вы, дружок! Не видели вы фаронского зайца. Знаете почему? Каждый год муниципалитет Тулона выделяет фонды, и зверьков красят в зеленый цвет, чтобы охотники не видели! Должна вам сказать, что это дорого обходится. Вот так-то, друг мой! Мариус от удивления разинул рот, не зная, как реагировать на великолепную выдумку. Его спасло только то, что началась отвлекающая атака. Свист пуль. Буханье пушек. Стрекот пулеметов. Вдали показались ряды стрелков, продвигавшихся перебежками. Они уже подходили к оборонительной линии. Испанцы попались в силки, расставленные Масео. Думая, что началось общее наступление, они вышли за пределы укрепленной полосы, решив зайти мамбисес с тыла и открыть по ним огонь с двух сторон. Там-то и поджидал противника мужественный генерал. Приказав кавалеристам быть наготове, он еще до сигнала атаки велел пехоте открыть огонь. Первый выстрел раздался со стороны стоявших группкой санитаров. То был Мариус. Увидев офицера, ехавшего на великолепном белом жеребце во главе испанских войск, провансалец прицелился и выстрелил в коня, находившегося шагах в ста от него. Ко всеобщему удивлению, животное встало на дыбы и вместе со всадником рухнуло. Чрезвычайно гордый содеянным, Мариус окинул взглядом победителя ошеломленную Фрикет и заорал во всю глотку: — Ну что, мадемуазель, теперь в-видите, что стрельба по птичкам дает хорошую выучку? Никаких с-случ-чайностей! Щас я еще покажу! Вот так-то! И храбрый моряк действительно открыл бешеную стрельбу. Он орал, рычал, поливал врага непотребной руганью, но сохранял полное хладнокровие истинного провансальца, которые лишь на первый взгляд кажутся излишне горячими. Кубинцы шли все вперед и вперед, хотя и несли тяжелые потери. Из-за присущей испанцам храбрости бой становился все ожесточеннее. Придя в себя, они стали отвечать ударом на удар и, вернувшись в укрытия, в конце концов остановили оба отряда Масео. Форты стали похожи на действующие вулканы, огонь косил повстанцев. Ужасное зрелище! Масео пришел в ярость, увидев, как гибнут его лучшие воины. Но есть же средство прорваться за линию укреплений, где скрывались защитники дороги? — Пушки!.. Пушки вперед! — крикнул он зычно. Тут же появились два странных орудия, похоже, американского производства. Одно из них оказалось совсем близко от группы санитаров. — Ну и пушки! — сказал Мариус, обращаясь к Фрикет, которая даже во время кровавого боя сохраняла удивительное спокойствие. То были действительно воздухострельные, или пневматические, пушки, назначенные для бросания динамитных мин. Образцы этих орудий разработал в Северо-Американских Штатах артиллерист Зелинский. Ствол длиною около пятнадцати метров состоял из трех чугунных труб, соединенных между собою, а задняя их часть скреплялась стальным кожухом, куда из герметического резервуара (он находился внизу, под стволом) впускался воздух, сжатый до семидесяти атмосфер: он-то и выталкивал из ствола снаряд, начиненный динамитом. Эту диковину обслуживал специально подготовленный орудийный расчет. Его солдаты посматривали на своих соотечественников-кубинцев с чувством явного превосходства: еще бы, только они умели обращаться с заморской диковиной. Быстро подготовленное к бою орудие открыло огонь. Раздался странный треск, будто разломили кусок сухого дерева. Никакого грохота, как у обычных пушек. — Qu’ès aco? — спросил с удивлением Мариус. — Осечка?.. Какой-то хлопок запального фитиля! Издали, однако, донесся глухой звук, характерный для взрыва динамита. Снаряд, подняв облако пыли, упал в ста метрах от блокгауза. — Недолет! — воскликнул огорченный Мариус. Второй снаряд взорвался позади опорного пункта. — Перелет! — отметил, пожимая плечами, провансалец. Командир орудия стал корректировать наводку. Но, сраженный пулей, упал бездыханным. — Чтоб они все передохли! — заорал Мариус. — Неужто эти недоноски уничтожат нас как червей?.. Ну уж нет! Еще посмотрим! От природы любопытный и сметливый, матрос не отрываясь смотрел, как действует орудийный расчет, старался понять не столь уж хитрое устройство невиданной пушки. Судя по выражению лица, ему удалось многое усвоить за эти короткие минуты. Отшвырнув винтовку, он бросился к орудию, подправил подъемный винт, чего не успел сделать командир, и рявкнул, обращаясь к последнему оставшемуся в живых артиллеристу: — Огонь! Треск, а потом через несколько секунд — бах! Снаряд ударил прямо в блокгауз, тот развалился как арбуз и рассыпался. Смотреть было по-настоящему страшно. — А ну еще! Эй, канониры, сюда, ко мне! Кубинские артиллеристы, находившиеся неподалеку — их пушки в прошлом бою вышли из строя, — тоже кое в чем разобрались. Они мгновенно зарядили орудие. Мариус навел на стоявший рядом с разрушенным блокгауз и снова крикнул: — Огонь! Опять попали в цель, полностью уничтожив укрепление. — Ну подождите, чертовы идальго! — пообещал матрос, снова берясь за прицел. Он сделал еще шесть выстрелов и — глазам не верили — за несколько минут уничтожил еще два блокгауза. Пушки и пулеметы замолкли. Оборонительная полоса была пробита. Ее защитники бежали. Мамбисес с восторгом и с каким-то суеверным страхом смотрели на провансальца. Масео, видя брешь, сказал, не скрывая радости: — Теперь пройдем. Размахивая саблей над головой, он поскакал впереди кавалеристов, оглашая все вокруг боевым кличем борцов за независимость: — Да здравствует свободная Куба!.. Солдаты, мачете изготовь! Не прошло и пяти минут, как лихие конники уже добивали последних защитников укрепленной полосы. Преодолев стрелковые ячейки, проволочные заграждения, кубинцы, оказавшись по другую сторону, стали ждать пехоту и обоз. Битва была выиграна. Об этой победе заговорила вся страна. Когда армия вошла в провинцию Пинар-дель-Рио, где она чувствовала себя как дома, Масео, прежде чем разбить лагерь, провел смотр войск. Дойдя до санитарной повозки, возле которой стояли Фрикет, Долорес, маленький Пабло и Мариус, генерал остановился перед провансальцем и торжественно произнес: — Матрос, сегодня вы оказали большую помощь делу независимости… Командир обычной армии повысил бы вас в звании, представил к ордену, выдал бы вам вознаграждение… Я же могу только выразить вам признательность… Вечно буду вам обязан!.. Когда-то ваша великая республика награждала самых храбрых почетным оружием… Будьте добры, примите в подарок от меня саблю… Это самое дорогое, что у меня есть… А теперь дайте руку… Я горжусь, что могу поздравить храбреца… Мариус, лишившись дара речи, взял саблю и, не зная что сказать, пробормотал: — Вот ведь судьба… Генерал, смельчак-то вы… Уж я-то знаю.
ГЛАВА 10
Французы на Кубе. — Семьи Агиларов и Вальенте. — Детская любовь. — Карлос и Кармен. — Он просит ее руки. — Величайшее оскорбление. — Как становятся борцами за свободную Кубу. — Война на уничтожение. — Вальенте и его дети.Англичане, как известно, с 1794 по 1802 и с 1809 по 1814 годы оккупировали самую красивую колонию на Антильских островах — Мартинику[248]. Не желая оказаться под гнетом завоевателей, большая часть французов предпочла эмигрировать. Покинув плантации, бросив все накопленное, они уехали либо в Соединенные Штаты, либо на Кубу. На принадлежащем Испании острове их великолепно приняли. Поселившись преимущественно в восточной части острова, большинство занялось выращиванием кофе. Вскоре их плантации стали процветать, и к галлам[249] вернулось прежнее благополучие. Благодаря своей энергичности, трудолюбию и честности они стали влиятельными людьми в провинции. Там даже вошел в обиход французский язык, на нем жители, хотя и коверкая слова, говорят до сих пор. Многие в этой части острова и не знают никакого другого наречия. Объясняется это во многом тем, что во время революции 1868–1878 годов во главе восставших в восточной провинции стояли франкоговорящие командиры. Неудивительно, что здесь часто слышишь слова, похожие по звучанию на французские, на каждом шагу сталкиваешься с Жирарами, Майарами, Леженами, Дюбуа, Гуле, Донами, Детурнелями, Жоли, Ренарами, Руссо, Мартенами и т. д. Некоторые фамилии, правда, несколько изменили свой первоначальный облик, получив иное написание (Гриньяны стали Griñan) или даже иное звучание — их просто перевели на испанский язык. Фамилия Вайян (Доблестный) превратилась в Вальенте. Ее носил и полковник Карлос Молодой офицер был правнуком одного из фрапцузов-эмигрантов. Приехав с Мартиники, прадед занялся расчисткой обширных невозделанных земель, засадив их сахарным тростником. Здесь же он построил перерабатывающий завод. В память о родине-матери он назвал плантацию «Франсия» Она-то и сделала его одним из самых богатых колонистов острова. Переходя по наследству, «Франсия» расширялась. И Вальенте, владельцы великолепного поместья, стали настоящими гражданами Кубы. Они жили в такой роскоши, которая была неведома Европе. Их гостеприимство, особенно ценимое в колониях, не знало границ, у них годами жили какие-то люди, всегда толпилась масса бездельников. Неподалеку от «Франсии» находилась сахарная плантация старой испанской семьи — Агилар-и-Вега. Жизнь их ничем не отличалась от быта Вальенте те же труд, достаток, даже роскошь. Между семьями с давних пор установились дружеские отношения. Агилары на все праздники приглашали Вальенте, а те не мыслили себе развлечений без участия Агиларов. Фамилии то и дело встречались на охоте или рыбалке, во время увеселительных поездок, на пирушках. Они охотно в случае необходимости помогали друг другу рабочей силой, пользовались одними и теми же сельскохозяйственными машинами и вместе вывозили в порт Сантьяго бочонки с ромом и мешки с сахарным песком. Между Агиларами и Вальенте не водилось ни соперничества, ни ревности Они любили друг друга не по расчету и не из корысти. В их отношениях было что-то патриархальное и непосредственно-милое. Первая тучка, омрачив вековую дружбу, появилась примерно в 1872 году, в самый разгар революции. Хотя сеньор Вальенте, отец Карлоса, не придерживался сепаратистских[250] идей, Маноэля Агилара все же удивляло несколько прохладное отношение его соседа и друга к Испании. Агилар не раз говорил об этом сеньору Вальенте. Но тот лишь с улыбкой отвечал. — Что поделаешь, дорогой, я ведь недавно стал испанцем. Естественно, я еще не утвердился в своем мнении. На следующий год произошло событие вроде незначительное, но воспринятое гордым испанцем как чрезвычайно важное. Вальенте, как истинный француз, не очень считавшийся с креольскими обычаями, официально заявил о своем неприятии расовой дискриминации[251]. И поначалу наломал немало дров. В его поместье жила хорошенькая квартеронка, дочь отпущенного на свободу раба. Вальенте пылко влюбился в красавицу, отличавшуюся к тому же дивной добротой. И, махнув рукой на сплетни, он, считая, что нельзя упускать счастье, женился на ней. Бог ты мой! Что тут поднялось! Все белые в провинции восприняли это как личное оскорбление, пощечину — ведь для них цветные ничем не отличались от животных. Вальенте никак не отреагировал, выразив тем самым глубокое презрение к раздававшимся со всех сторон воплям, и стал кумиром цветного населения. Вскоре жена подарила ему сына, нареченного Карлосом. К великому несчастью, рождение ребенка, что должно было еще больше укрепить и так прочные узы, связывавшие белого и квартеронку, стоило матери жизни. Через неделю не стало обаятельной женщины, той, кого Бог наградил красотой, любовью и преданностью. Отца охватило отчаяние, какое не выдерживают даже самые сильные. Вальенте наверняка наложил бы на себя руки, если бы не бедный малыш, не по своей вине ставший причиной смерти. Постепенно Вальенте пришел в себя и посвятил жизнь мальчику. Время — лучший лекарь — приглушило боль, успокоило. А потом пришло и утешение. Израненное сердце Вальенте не устояло перед обаянием, чарующим обликом дальней родственницы семьи Агиларов. На редкость красивая девушка с незаурядным умом была сиротой. Ее родителей нес вихрь революции, когда гибли и ее противники, и ее сторонники. Мятеж лишил ее и состояния. Глубоко порядочная, бескорыстная девушка полюбила Вальенте не за богатства, а за человеческие качества. Став его женой, она родила Долорес. Обожая дочь, она тем не менее заменила мать и оставшемуся сиротой Карлосу. Разве это не говорит о благородстве? Тем более что она знала, что его мать была квартеронкой, цветной. Но для нее самый несправедливый и беспощадный предрассудок, порожденный рабством и ставший его воплощением, просто не существовал. Агилар вообще-то мог быть прекрасным человеком, если бы только не его чувство превосходства и презрения к черным. Правда, был он также и груб, вспыльчив, необуздан, но эти недостатки окупались искренностью, честностью, великодушием, признаваемыми даже врагами. Нельзя забывать и о том, что Агиларов и Вальенте связывала многолетняя дружба. Нет поэтому ничего удивительного, что при первой возможности они восстановили прежние отношения. На свадьбе все было забыто, и семьи стали вновь встречаться. Единственная дочь дона Маноэля Агилара-и-Вега по имени Кармен была лишь на год старше Долорес Вальенте. Привыкшие с пеленок жить рядом, трое детишек любили друг друга и никогда не разлучались. Дон Маноэль не видел ничего плохого в том, что маленький метис Карлос постоянно играл с его дочерью. Да ведь, между прочим, белые охотно нанимают для своих ребятишек черных нянек. Аристократы, в жилах которых течет голубая кровь, не брезгуют молоком чернокожих кормилиц. Разве оно чем-нибудь отличается от молока коровы, козы или другого млекопитающего — рассуждают даже отъявленные расисты. Они не имеют ничего против, если их отпрыски общаются с детворой негритянок. Для белых малышей они такая же забава, как собачка, пони или говорящая кукла. Что тут плохого? Игрушка, и все тут. В общем, дон Маноэль не видел разницы между юным Карлосом Вальенте и обезьянкой. Просто живой паяц, всегда готовый развлечь его любимую Кармен. В будущем обстоятельства сложатся так, что сама жизнь отомстит за незаслуженные страдания маленького метиса и заставит высокомерного испанца пожалеть о презрительном отношении к мальчику. А пока дети росли, чувства их крепли, ребята были просто необходимы друг другу. Карлос, конечно, всей душой любил сестру. Он бы жизни не пожалел ради ее счастья — чтобы ничто ее не огорчило, не опечалило, не заставило плакать. Он жалел Долорес еще и потому, что в десять лет она потеряла мать, умершую от желтой лихорадки! Но Кармен… ради Кармен он готов был перенести любые страдания, преодолеть любые трудности, подвергнуться любым испытаниям… Кармен была для него божеством, ей он поклонялся, не размышляя, как фанатик. Если Кармен грустила, Карлос плакал. Она смеялась — он прыгал от радости. Она пела какую-нибудь креольскую песню — он приходил в такой восторг, что забывал о небе, птицах, цветах, деревьях. Вернее, пение подружки переносило его в другой мир. Чтобы выполнить малейшее желание Кармен, Карлос готов был все перевернуть вверх ногами. Однажды она увидела великолепную орхидею на самой верхушке гигантской акации. Вероятно, ей захотелось понюхать цветок. На следующий день Карлос, весь в царапинах и ссадинах, но бесконечно счастливый, принес ей этот подарок. Он чуть не сломал себе шею, весь исцарапался, продираясь через колючие лианы. Но Кармен улыбнулась, и боль прошла. Каждое ее слово, жест, взгляд приводили Карлоса в восторг. Пустячная жалоба, нахмуренные бровки вызывали отчаяние. Если бы на ее ресницах навернулась слезинка, он бы заболел. Горячий, порывистый и даже необузданный, Карлос становился нежным, мягким, сдержанным в присутствии Кармен, которую пугал неровный характер друга. Он терпеть не мог ученье, предпочитая бродить по полям и лесам, наслаждаясь солнцем, пьянея от воздуха. Рано повзрослев, девочка решила, однако, что он должен получить такое же образование, как она. Добиться этого было нетрудно — она лишь сказала: — Фу, Карлос, тебе не стыдно быть таким неучем? Он тут же отказался от прогулок по лесам и саванне[252] и засел за книги. Дону Маноэлю, презиравшему полукровок, даже в голову не приходило, что дети любят друг друга. Ему нравилось, что Карлос по-собачьи привязан к его дочери. Иногда он даже поощрял его, говоря: — Прекрасно! Очень хорошо, мой мальчик! Испанец будто поглаживал пса, приговаривая: «Славный… славный Медор!» Очнулся дон Маноэль, лишь когда грянул гром. Дети подросли. Кармен вот-вот должно было исполниться шестнадцать лет — она, по обычаям страны, достигла брачного возраста. Вокруг нее вился, конечно, рой поклонников, привлеченных умом, красотой и богатством девушки. Многие очень даже завидные женихи предлагали руку и сердце, но она упорно всех отвергала. Среди претендентов оказался сын друга дона Маноэля, принадлежавший к тому же аристократическому обществу и не менее богатый, чем Агилары. Дон Маноэль считал его идеальным зятем. Но, к великому удивлению отца, Кармен отказала и этому юноше. Уговоры, ласки, угрозы, обещания, гневные слова — все впустую, все наталкивалось на упорное сопротивление дочери. — Почему?.. Ну скажи же почему! — настойчиво вопрошал дон Маноэль. — Ты что, любишь кого-нибудь? — Да, папа. — И ты дала слово? — Мы торжественно поклялись принадлежать друг другу… Даже смерть не нарушит этой клятвы: если один из нас умрет, другой последует за ним в могилу. — Но кто же это?.. Я хочу знать, кто это. — Вы скоро об этом узнаете, папа. Дону Маноэлю и в голову не могло прийти, что речь шла о Карлосе. Полукровка… Почти негр… Правда, у него белая кожа! Ну и что? Между тем Карлос после трех лет пребывания во Франции, где он совершенствовал знания, должен был вернуться на родину, где его ждала любимая. Без тени сомнения он предстал перед чванливым плантатором. Тот, увидев соседа, подумал: «Жаль, что у этого юноши черная кровь! Он стал настоящим мужчиной». Карлос, зная себе цену и веря во взаимную любовь, без лишних слов попросил у него руки дочери. Крайне удивленный, возмущенный, дон Маноэль внешне остался спокойным, хотя его переполняли презрение и отвращение. Испанцы умеют держать себя в руках при необходимых обстоятельствах. После минутного молчания, огромным усилием заставив себя сдержаться, он почти ровным голосом ответил: — Отдать Кармен… тебе? — Да, конечно, мне… Мы с детства любим друг друга… Она согласна… Дон Маноэль, собиравшийся вскочить в седло, держал в руках плетку. И тут он не выдержал, поднял руку и со всего размаха хлестнул Карлоса по лицу. — Вот тебе мой ответ… Вот тебе, сын рабыни, несчастный черномазый! На лице юноши выступила кровь. Он вскрикнул от боли. Но физическое страдание не шло ни в какое сравнение с душевными пытками: его оскорбили, разбили вдребезги мечту о счастье. Вальенте-младший чуть не набросился на того, кто нанес ему столь тяжкий удар, растоптал, изничтожил его… Но Карлос сдержался: перед ним стоял отец любимой. Подавляя стыд, гнев, отчаяние, юноша произнес сдавленным голосом: — Дон Маноэль, благодарите ангела, который спас вам жизнь и отвратил меня от преступления… Вы совершили подлость… Дай Бог, если когда-нибудь вы найдете себе оправдание! Дон Маноэль дико засмеялся. — Негр… супруг моей дочери!.. Господни Зозо!.. Хижина дяди Тома[253] у дона Маноэля Агилара-и-Вега… Вон, черномазый!.. И запомни: если ты еще появишься здесь, получишь пулю, как бешеная собака! — Хорошо, мы встретимся… на расстоянии выстрела… Но только не здесь!.. Значит, я негр… Ладно, война так война. Тогда да здравствует война! Карлос вернулся во «Франсию» и с полным хладнокровием рассказал отцу о происшедшем. Тот хотел немедленно отправиться к бывшему другу, чтобы отомстить за нанесенное сыну оскорбление. Карлос остановил его. — Нет, отец, — сказал он твердо. — Мстить надо более высоко стоящим и не так. Я жертва гнусного предрассудка, порожденного спесивостью испанцев. Они не считают нас за людей, держат в страхе всю страну и возрождают, хоть и в иной форме, рабство… Вот с кем нужно сражаться беспрерывно, беспощадно ради свободы родины и ее граждан. Марти[254], Варона[255], Гомес, Масео, Рюлоф[256] недавно подняли восстание во имя свободной Кубы. Я пойду бороться в их рядах. Победа над угнетателями или смерть! — Хорошо, сын! Ты будешь не один — я поеду с тобой. — А Долорес? Тут открылась дверь и раздался взволнованный голос: — Долорес — дочь Сезара Вальенте… Сестра Карлоса… Она не расстанется ни с отцом, ни с братом! — Ты, дитя мое?! — Да, папа. Я все слышала… Мы рассчитаемся за тебя, Карлос… Если вы уедете, меня здесь ничто, кроме воспоминания о маме, не будет удерживать… Она была вам достойной супругой, а тебе, Карлос, заменила мать. Она бы одобрила меня. — Пусть будет так, дорогая моя дочь! И Вальенте отдал за полцены верховых и тягловых лошадей, оставив только трех лучших коней. Расплатился с прислугой. Распродал все, что мог. Взял ценные бумаги, фамильные драгоценности и передал их в революционный комитет. Неподалеку от его поместья в это время квартировала бригада испанских солдат Вальенте безжалостно, не колеблясь поджег свой великолепный дом, где более века жила их семья. Огонь перекинулся на воинские склады. Набитые до отказа порохом, динамитом, продуктами и спиртом, они вспыхнули как факел. Вальенте с детьми молча стояли, глядя, как уничтожается их поместье. Многим они подали пример, что и обрекло противника на голод, лишило жилья, запасов и стратегических точек. Потом, не произнося ни слова, семейство француза перекрестилось, как над мертвым телом, все вскочили в седла и исчезли в красном зареве, охватившем весь горизонт.
Хотя небольшая армия Масео, вернувшись в провинцию Пинар-дель-Рио, чувствовала себя в безопасности, положение было тем не менее шатким. Мужественные и дисциплинированные испанцы, в армии которых было немало искусных офицеров и большое количество опытных рядовых, готовились к мощному наступлению. Ни вылазки бесстрашных партизан, ни унесенные желтой лихорадкой жизни, ни прорыв оборонительных сооружений не сломили испанцев, сумевших сохранить высокий боевой дух и веру в победу.
ГЛАВА 11
Под гнетом испанцев. — Дон Маноэль Агилар. — Крайняя жестокость. — Оскорбляющее достоинство происшествие. — Цена за головы. — Дикие птицы Прованса. — Мариус — командир орудия. — Атака. — Очень опасная ситуация.Испанские солдаты, понимая, что борьба предстоит долгая и тяжелая, вели себя спокойно и достойно, а вот их командиры жаждали реванша. Осознав, что «черномазые» и «бандиты» способны оказывать сопротивление и даже побеждать, они стали искать поддержки в публикуемых газетами метрополии сообщениях, где все представало в радужном свете. Не очень эффективное средство для заживления кровоточащих ран, нанесенных гордости кастильцев. Неудивительно, что в хвалебных гимнах зазвучали гнев и ярость. Это и вызвало к жизни акты вопиющей несправедливости. Но мятежников они не повергли в уныние — наоборот, вызвали прилив сил и энергии. Потому-то и посыпались, как из рога изобилия, новые приказы испанского главнокомандующего, еще более ужесточающие осадное положение. Жителям запрещалось оказывать помощь даже больным или раненым мамбисес, поддерживать с ними какие-либо отношения, даже изъясняться с ними словами, жестами. И все это под угрозой массовых расстрелов… Детям, и тем не разрешалось выходить на улицу после захода и перед восходом солнца, передвигаться по дорогам, носить или прятать оружие… Всем вменялось в обязанность сообщать о точном количестве продуктов и кормов для скота, имеющихся в доме… Каждый по первому требованию должен был явиться в органы власти, дать любые показания… За малейшее нарушение этих предписаний — смерть без суда и следствия! Так действовали новые инквизиторы[257] в сапогах со шпорами и в касках, жестокие и безжалостные, тупо следовавшие стародавней известной формуле «Под страхом смерти»! От главнокомандующего не отставали и частные лица. Они, пожалуй, перещеголяли даже генеральный штаб. Самым непримиримым среди них оказался полковник Агилар-и-Вега. Человек энергичный, готовый любыми средствами достичь намеченной цели, он тоже не колеблясь отдал все свое состояние делу, за торжество которого боролся. Достойный соперник Вальенте, его бывший друг, ставший кровным врагом, принес в дар испанцам и имущество, и себя лично. К несчастью, ему, человеку доброму и отзывчивому по природе, не хватало великодушия, присущего людям с возвышенной душой. К тому же безграничная ненависть, иссушив сердце, лишила его и благородства. По его мнению, мятежников следовало лишить всех прав — оставить вне закона. Этих дикарей, недостойных называться людьми, нужно было уничтожать всеми возможными средствами… Никакой пощады больным и раненым! Никакого уважения к телам погибших, этой омерзительной падали, которую он яростно топтал ногами. В общем, полковник помешался на почве расовых различий, и ничто не могло его успокоить. Напротив, от борьбы он совсем осатанел, а при виде мятежников впадал в безудержную ярость. Ему особенно не повезло в тот день, когда повстанцы одержали победу над испанскими войсками: болела не только душа, но и тело — ведь он свалился с лошади и чуть не поломал все кости. Помните того офицера, который гарцевал на великолепном белом коне перед строем солдат? Казалось, он бросал вызов всей армии Масео. Этим офицером, взятым на мушку провансальским матросом, и был вспыльчивый полковник. Благодаря вмешательству Карлоса Вальенте, он пока оставался целым и невредимым, и спесивый испанец считал себя неуязвимым: выходил без единой царапины из самых страшных переделок, из самых дерзких вылазок и стал легендарным героем. Он даже не подозревал, что спасала его глубокая искренняя любовь мятежного Карлоса к его дочери. Потому плантатор и стал утверждать, что восставшие просто не осмеливаются на него напасть. И вдруг все изменилось. Его контузило, он упал с лошади. Вне себя от злости, он тут же отдал приказ, дурацкой жестокостью не делавший чести офицеру Дон Маноэль предложил тысячу пиастров[258] тому, кто доставит к нему, живыми или мертвыми, Карлоса Вальенте, его сестру Долорес, француженку по имени Фрикет и ее слугу-матроса. Для доказательства достаточно было предъявить их головы. Этот леденящий приказ заканчивался следующей фразой: «Тот, кто сможет удостоверить, что лично убил бунтовщика Антонио Масео, будет удостоен чести жениться на моей единственной дочери донье Кармен Агилар-и-Вега». В лагере Масео этот «юридический акт» Мариус истолковал так, что все попадали от смеха. Между тем испанцы явно готовились к крупному наступлению, быстро передислоцировались. Все жаждали победы. Поэтому намерение полковника волонтеров обретало реальные черты. Верные люди сообщали Масео обо всех маневрах и всех интересующих его событиях в стане противника. Сразу же, как только появился приказ дона Маноэля Агилара, Масео получил текст. Тут же, ознакомив с ним заинтересованных лиц, он без всяких комментариев холодно заметил: — Вот как с нами воюют! Карлос и Долорес в ответ лишь пожали плечами, а Фрикет с презрением сказала: — Тысячу пиастров! Мы дороже стоим! Провансалец же громко расхохотался. — Ну подожди, господин испанец! У меня голова крепко привинчена. Посмотрим, найдется ли такой охотник, который сумеет меня убить как простую камневертку… Чувствуя, что здесь скрывается какая-то смешная история, Фрикет, придя в хорошее настроение, спросила: — Qu’ès aco, камневертка? — Это дикая птица в Провансе, — вполне серьезно ответил Мариус. — А я думала, там водятся только фаронские зайцы… Ну те, которые выкрашены в зеленый цвет… Этот обмен столь странными репликами вызвал улыбку у брата с сестрой. Даже Масео, на миг забыв о делах, как-то просветлел. — Мадемуазель, — продолжал Мариус, — вы же прекрасно знаете: у нас диких птиц столько, что они солнце закрывают… — Да, правда… Но все же, что это за камневертка? — о, это очень подозрительная птица. Чтобы заморочить голову охотнику, она прибегает ко множеству уловок… При виде человека с ружьем камневертка начинает крутиться, вертеться вокруг скалы. Охотнику никак не удается прицелиться. И камневертка ускользает у него из-под носа… Она как грушеподобка… — А это еще что такое? — Хитрющая птица. Она хватается лапками за сучок и будто мертвая висит неподвижно, ну прямо как груша… Охотник и не обращает на нее внимания… — А если птица висит на лубе, сосне или оливковом дереве, ну в общем на дереве, где не может быть груш? — Когда по соседству нет грушевых деревьев, она становится мушкоширмой… — Чем-чем? — Ну… Она начинает летать близко-близко от тебя, крича: фьюит! фьюит! А потом садится на ствол двухразки и закрывает мушку, так что охотник ничего не видит, кроме вспышки выстрела из собственного ружья. — Да и вспышки он не видит — он же не может выстрелить… — Вы шутите, мадемуазель. Так вот, наши старики помнят еще более удивительную птицу. — Не может быть! — Чистая правда, мадемуазель. Тогда еще пользовались кремневыми ружьями… У них был замок, он ударял по стальной пластинке, а та прикрывала углубление, куда клали немного пороха… Такое углубление называли полкой. Понятно, мадемуазель? — Не очень. — Ну в общем, когда курок спускали, кремень, ударяясь о пластинку, высекал искру; от нее загорался порох на полке, а потом и патрон. — И что? — Так вот, что же вытворяла эта птичка? Она быстро-быстро-быстро поднималась вверх… Потом на миг застывала в воздухе прямо над полкой… И делала… Ну знаете… как ласточка… окропляла… Раз она так окропила старого Тоби… и он ослеп. От такого чудовищного вранья Фрикет, а за ней Карлос, Долорес и даже Масео расхохотались. Заикаясь от безудержного смеха, девушка спросила: — И от этого… от этого по́лка… — От этого намокал порох, мадемуазель, — продолжал невозмутимо Мариус. — Да-да, порох намокал, и ружье не стреляло. Потому эту птицу, о которой у нас помнят только старики, прозвали полкокакалкой. От этих слов все покатились с хохота. Заулыбался даже маленький Пабло. У детей страхи и огорчения быстро проходят. Вот и малыш, забыв обо всем, смеялся рядом со своей спасительницей. Он, конечно, помнил родителей и часто звал их, особенно маму. Фрикет, нежно гладя по головке, успокаивала: мамы сейчас нет, но она скоро придет. И то знаками, то на каком-то немыслимом испанском спрашивала, не хочет ли он, чтобы она пока стала его мамочкой. Он отвечал, сильно упирая на звук «р»: «Да!.. Да… Фрррикет… Мамочка». Раскатистый звук, казалось, наполнял ему рот. Девушка тогда вспоминала о своем дружке корейце Ли, которому «р» никак не давалось, и он, заменяя его «л», ужасно смешно произносил: «Фалликет!» Пабло очень подружился с Мариусом. Он то и дело раскатисто кричал: «Мар-р-риус!» А тот пел ему веселые матросские песенки, делал с ним гимнастику, носил на плечах и обучал… французскому. И какому! Тулонскому французскому… Огромная ищейка Браво, специально выдрессированная для охоты за рабами, с первых же дней стала ручной. Пес привязался к друзьям своего маленького хозяина и важно разгуливал по лагерю, не показывая даже неграм страшных клыков.
Между тем время не стояло на месте. Донесения разведчиков явно свидетельствовали о том, что испанцы намереваются окружить республиканскую армию и оттеснить ее на другую сторону Мариельской дороги. Масео прекрасно понимал уязвимость расположения войск, но у него не хватало сил, чтобы прорвать все более сжимающееся кольцо противника. Хотя по своему характеру генерал всегда отдавал предпочтение наступлению, а не обороне, на этот раз Масео решил дождаться прибытия пополнения. Он приказал в срочном порядке укрепить лагерь и, считая, что армии теперь не страшно внезапное нападение, занял выжидательную позицию. А сообщения становились все тревожнее. Не оставалось никаких сомнений, что вскоре противник пойдет в наступление. Совсем рядом с окопами находилось большое испанское поместье, покинутое жителями при атаке повстанцами оборонительной полосы. Масео отличала необыкновенная интуиция во всем, что касалось войны, и он тут же понял, что именно здесь ключевой пункт позиции. Сосредоточив в этом месте основные силы, генерал приказал поставить за бруствером две динамитные пушки. Расчетом одной теперь командовал Мариус. Хитрый и осторожный провансалец обошел все строения усадьбы, великолепный сад с множеством пчелиных ульев и, оценив обстановку, вернулся, потирая руки, к орудию. А Фрикет, Долорес, маленький Пабло и пес Браво расположились в одной из комнат первого этажа, превращенной в медицинский пункт. Армия Масео, к сожалению, постоянно испытывала нехватку боеприпасов, которые либо поступали водным путем из Америки, либо добывались на поле боя. Правда, спасали мачете и штык. Но холодное оружие хорошо лишь при наступлении — в обороне оно мало что дает. Генерал, еще раз приказав беречь патроны, подъехал к артиллеристам, встретившим его громким «ура!». Мариус, явно что-то задумав, подбежал к нему и кратко доложил нечто весьма важное. Масео, удивившись вначале, затем явно обрадовался и, поразмыслив немного, сказал провансальцу: — Я даю вам все полномочия… Но помните, если не получится — тогда катастрофа. — Генерал, пусть меня бросят на корм рыбам, если я провалюсь! — Ладно… Верю в тебя, дружок. — Еще бы! Правильно делаете. Между тем наступление началось. Загремели орудия. Несколько снарядов разорвалось прямо посередине лагеря. Вдали показались пехотинцы. Испанцам не нужно было экономить патроны, и они стреляли напропалую, пьянея от звуков выстрелов. Масео кожей почувствовал, что у противника большое превосходство и в технике, и в людских резервах. Он понял, что еще никогда ни его невеликому войску, ни ему самому не грозила такая опасность. Нахмурившись, кубинец тихо произнес: — Нужно устоять… во что бы то ни стало… даже когда выйдут все патроны. А если подмоги не будет, лучше погибнуть в бою за свободную Кубу, чем сдаться!
ГЛАВА 12
Пчела-хозяин. — Мариус готовит сюрприз. — Мы устоим! — Сигнал к атаке. — Военная хитрость. — Видимость бегства. — Неожиданные враги. — Беспорядочное бегство. — Победа мамбисес.Кубинцы — прекрасные пчеловоды. Недаром производство меда стало одной из ведущих отраслей экономики страны. Во многих поместьях, где выращивают сахарный тростник, табак или кофе, есть хорошо оборудованные пасеки, где трудятся опытные мастера. На большом Антильском острове водятся самые разнообразные пчелы, один из их видов особенно любопытен. Этих пчел называют хозяевами, что вполне оправдано. У них на брюшке растет грибок с большой ножкой. Он живет и развивается за счет пчелы, подобно некоторым растениям-паразитам, таким, как омела, многиеорхидеи или ананасники. Пчела-хозяин летает, трудится, размножается, развивается вместе со своим иждивенцем и вроде от этого никак не страдает. Другие дикие и домашние пчелы похожи на европейских, только значительно крупнее и опаснее — у них более болезненный укус. В свое время французские переселенцы занялись усовершенствованием примитивных местных ульев, сделав их такими же, как и во Франции. Новая форма оказалась очень подходящей для здешнего климата, где неделями идут проливные дожди. В поместье, захваченном отрядами Масео, как уже упоминалось, была великолепная пасека, на нее и обратил внимание Мариус. Когда вдали показались войска противника, храбрый провансалец ненадолго покинул орудие, ставшее благодаря ему столь опасным для испанцев. Вместе с солдатами, — а их было человек сорок, — он занялся какой-то странной работой, вроде не имевшей отношения к военным действиям. Стояла невыносимая жара, и пчелы, спрятавшись в ульях, отдыхали. Мариус и его помощники быстро заткнули пучками соломы, сухой травы и землей отверстия, через которые пчелы влетали и вылетали. Поливая солдат руганью на всех возможных языках и наречиях, Мариус подгонял их, и те беспрекословно подчинялись всеобщему любимцу. Вскоре они заделали летки[259] у всех трех-четырех сотен находившихся в саду ульев. — Теперь, — сказал Мариус, — нужно перенести эти дачки и шалашики на другую сторону. Видя, что его не понимают, провансалец схватил один из ульев, приподнял и помчался с ним к окопу, где уже залегли стрелки. — Ну, давайте! — крикнул он мамбисес, с удивлением смотревших на него. — Делайте как я, черти проклятые… Чего пораскрывали рты? Матрос схватил еще один улей и жестами призвал солдат последовать его примеру. Наконец кубинцы сообразили и стали переносить ульи, хотя и не догадывались о смысле этой по меньшей мере странной операции. Наблюдавших за происходящим Фрикет и Долорес тоже разбирало любопытство. — Эй! Мариус, что вы там делаете? — спросила француженка. — Мадемуазель, если я скажу, вы лишите себя такого удовольствия! Подождите, сейчас лопнете от хохота. Это я придумал одну штуку… Веселья будет! Ну помрете от смеха! — Как хотите, Мариус. Значит, предстоит развлечение? Что-то не верится. Вроде не та обстановка. — Не теряйте надежды, мадемуазель! Испанские войска быстро приближались. Снаряды падали все чаще. В воздух поднимались столбы пыли вперемешку с камнями и кусками железа. Пули со свистом срезали ветви деревьев, продырявливали деревянные степы, сбивали дранку с крыш. Мариус с помощниками носились как бегуны. Не обращая внимания на снаряды, они переносили ульи и ставили в ряд на дно окопа. К дому, где разместились девушки, подъехал всадник, который, отдав честь, вручил каждой по винтовке и несколько обойм. — От полковника Карлоса, — сказал он и, вскочив в седло, исчез. — Милый Карлос, — прошептала Долорес. — Не забыл о нас. А ведь женщина, дай ей в руки оружие, будет не хуже мужчины сражаться за свободную Кубу… Как опытный боец, она пощелкала затвором, проверила, заряжена ли винтовка, и положила ее рядом на стол. Фрикет, с удивительной ловкостью проделав то же самое, заявила: — Я, наверное, лучше умею накладывать повязки и лигатуру[260], чем стрелять. Но нужно защищаться, и мы будем делать это, дорогая Долорес. — Никогда не сомневалась в вашей храбрости. А в это время Мариус и солдаты, все в поту, завершали таинственную работу. На каждый улей они напялили свою шляпу и полотняную куртку. Довольный устроенным маскарадом, Мариус расхохотался: — Ну чем не мамбисес, эти ульи?.. Голову даю на отсечение, настоящие солдаты отважного Масео! Эй, смотрите, испанцы-то зашевелились… Ничего, сейчас я им покажу, где раки зимуют!.. Для выполнения загадочного плана Мариусу нужно было еще кое-что сделать. Впереди над самой землей среди буйных трав саванны виднелось несколько рядов проволоки, она преграждала путь атакующим. Провансалец взял у одного из разведчиков большие стальные ножницы, какими пользуются для разрезания телеграфных проводов и проволочных заграждений, выбежал из окопа, ловко перекусил натянутую стальную, в колючках, нить и вернулся к орудию. Все терялись в догадках. Совсем непонятен был последний поступок. Зачем Мариус открывал проход противнику? Зачем он решил убрать заграждения? Ведь теперь в лагерь могли прорваться не только пехотинцы, но и кавалеристы! Впрочем, обсуждать и обдумывать происходившее не осталось времени. Испанские солдаты с дикими криками налетели на укрепления повстанцев. Только тогда мамбисес открыли огонь. Они не палили почем зря, тщательно прицеливаясь — каждый выстрел нес с собою смерть. Повстанцы оборонялись без лишнего шума, но не менее энергично, чем наступающие враги. В бой вступили динамитные пушки. Раздался взрыв. Ряды атакующих на миг распались. Но командиры криками вновь погнали их вперед. «Мамбисес стреляют из страшных орудий, созданных гением американцев! Ну и что ж, пушки нужно во что бы то ни стало захватить!» Полковник Агилар-и-Вега добивался разрешения бросить на прорыв своих конных волонтеров. Он клялся захватить артиллерийские орудия. — Будь по-вашему! — ответил генерал Люк, главнокомандующий испанской армией. И, выхватив из ножен шпагу, добавил: — Вперед, сынки! Выполняйте свой долг! Полковник Агилар-и-Вега быстро выехал вперед, взмахнул саблей, крикнул: — Кавалеристы!.. Вперед! Великолепно экипированные волонтеры на отборных конях недаром считаются элитой испанской кавалерии. Они двинулись стройными рядами под звуки трубы. Ехавший во главе полковник продолжал кричать: — Вперед, вперед! Мамбисес не ожидали такой с грохотом обрушившейся прямо на них лавины. И, забыв обо всем, кинулись бежать, с трудом волоча за собой тяжеленные пушки, оголтело крича: — Назад!.. Назад!.. Мариус мчался впереди всех, улепетывая как знаменитый, с его же слов, фаронский заяц. Что случилось? Вне себя от гнева Фрике и Долорес грозили убегавшим кулаком, обзывали трусами, решив про себя погибнуть в бою. Но вдруг поворот на сто восемьдесят градусов. Мамбисес остановились. На кубинцев напал смех, такой, что они хватались за животы, падали на землю, катались по траве, не в силах сдержаться. Среди грохота боя эти три сотни солдат казались свихнувшимися. Да, но какой же нелепый и ужасающий вид сделался у испанских волонтеров! Они спрыгнули в окоп, где виднелись неподвижные фигуры людей. Полковнику не терпелось первому нанести удар. Он с силой взмахнул саблей и разрубил надвое… улей с пчелами! До него не дошло, что же случилось, а бойцы уже рубили саблями, кромсали, валили на землю ульи, облаченные в шляпы и белые куртки… Оттуда вылетал рой разъяренных обезумевших пчел, они тут же набрасывались на людей и лошадей, впиваясь им в тело, щеки, носы. Встав на дыбы, кони кусались, били друг друга копытами. Люди с распухшими лицами, еле удерживаясь в седлах, вопили потеряв голову, судорожно махали саблями, покрытыми липким медом. А пчелы окончательно взбесились. Они с еще большей яростью налетали на бойцов. Кто-то, не удержавшись, упал под копыта коней. Кто-то запутался в стременах, и лошадь волоком тащила его за собой. Наконец, совсем обезумев, верховые животные разбежались в разные стороны, сея панику среди уже уверовавших в победу испанцев. За несколько минут прославленного испанского полка не стало. Мариус и его помощники, конечно, только притворялись, будто убегают, и теперь быстро построились в ожидании приказа. Некоторые еще продолжали хохотать, а провансалец не мог сдержать радости. — Ну что, мадемуазель, — орал он, — видите, эти господа испанцы, они теперь похожи на жабу, которая, попав в табакерку, вот-вот лопнет… Как вам наш приемчик? — Это злая и жестокая шутка. — Им и этого мало… Додумались, установили цену за наши головы! — Вполне с вами согласна, — прервала его Долорес. — И этого им еще мало… Вокруг разоренных ульев, жужжа, летали пчелы. Солдаты Масео держались от них подальше. Со всех сторон к месту разгрома испанских волонтеров стекались мамбисес. Воспользовавшись паникой, Масео направил кавалерию туда, откуда начиналось наступление противника. Считая мятежников окруженными, испанцы и не подозревали, что их собственная кавалерия наголову разбита. Они думали: после первой неудачной атаки кавалеристы готовились к новому наступлению. Поэтому, приняв за своих, нападающие дали повстанцам подойти совсем близко. Ошибку кастильцы скоро поняли, но она дорого им обошлась. Эскадрон мамбисес налетел неожиданно, оглашая окрестности криком: «Мачете изготовь!» Растерявшись, испанские пехотинцы не пытались даже защищаться. Да они и не успели бы этого сделать. Они отступили, крича об измене. Оружие, вещевые мешки, снаряжение — все бросили. Подобно охваченному паникой стаду, бойцы разбегались кто куда, не слыша приказов командиров, забыв о долге, о родине, забыв обо всем на свете. За кавалерией быстрым шагом продвигались пехотинцы Масео. Не страшась более удара с флангов, они бросились прямо на врага. Сопротивление испанцев стало совершенно бесполезным, они потерпели поражение, и небольшой армии Масео теперь не грозила никакая опасность. Повстанцы могли свободно передвигаться по провинции Пинар-дель-Рио. К тому же за день удалось захватить пятьсот винтовок, около шестидесяти тысяч патронов, двести лошадей в полной упряжи, пушку и значительное количество провианта. У испанцев триста человек были убиты, восемьсот ранены и около четырехсот захвачены в плен.
ГЛАВА 13
На постое у местных жителей. — Усадьба и испанский флаг. — Они не надеялись больше свидеться. — Карлос!.. Кармен!.. — После двух лет разлуки. — Преданный душой и телом дону Маноэлю. — Их ждет предательство.Ни у кого не вызывало сомнения, что Масео и его войско будет захвачено испанцами в плен. Поэтому в этой части провинции Пинар-дель-Рио кастильцы не сочли нужным принять хоть какие-то меры предосторожности. Местные жители остались в своих домах. Деревни и поместья, где было полно скота, птицы и всего прочего, ломились от запасов продуктов. Короче говоря, перед мамбисес открылась возможность благодатной жизни. Без труда можно было пополнить и запасы продовольствия. Солдаты генерала Люка в беспорядке отступили, и ждать в ближайшее время повторного сосредоточения вражеских войск было бы глупо. Повстанцы чувствовали себя спокойно и даже подумывали о мощном ударе по столице. Но сейчас, после жестоких боев, им в первую очередь требовалось несколько дней отдыха. Поэтому они расположились на постой у местных жителей, тем вменялось в обязанность снабжать нежданных квартирантов всем необходимым. Впрочем, мамбисес встретили довольно хорошо: ведь они вели себя не как зарвавшиеся победители и не занимались мародерством. Масео требовал от своих бойцов строжайшей дисциплины: им разрешалось изымать лишь самое необходимое и вменялось в обязанность обращаться с населением тактично и вежливо. Будь иначе, ситуация быстро сделалась бы для восставших невыносимой, особенно в провинции, что целиком находилась под властью испанцев. Предварительно разоружив, пленных отпустили на свободу. Раненые получили медицинскую помощь. Мятежный генерал вообще старался щадить противника, хотя и не наблюдал ответной реакции. Впрочем, такой мудрой политики, приносящей больше плодов, чем жестокость, придерживались все мамбисес, несмотря на отказ противника признать за ними положение и права воюющей стороны. Войска Масео заняли территорию между селениями Сан-Хуан, Канделария и городком Сан-Кристобаль у самого подножия гор, известных под названием Сьерра-де-лос-Органос. Поэтому Масео нечего было опасаться окружения или нападения с тыла. Солдаты могли спокойно отдыхать. Когда после победы стали думать о расквартировании войска, Масео послал Карлоса Вальенте с заданием найти жилье вне границ деревень, где-нибудь на возвышенности, чтобы легко было вести наблюдение за окрестностями и во избежание всяких неожиданностей организовать оборону. Генерал хотел разместить там штаб на все время стоянки. Хотя Карлос еще не совсем оправился от ранения, он не щадил себя во время боя. Храбро сражаясь, полковник, к счастью, остался цел и невредим. Сейчас, правда, он испытывал смертельную усталость и уже с трудом держался в седле, когда отряд подъехал к воротам крупного поместья. Один из всадников заметил: — Смотрите, над домом испанский флаг. — Да, — сказал другой, — тут не скрывают своих пристрастий. Действительно, на ветру развевался флаг метрополии. Даже не обычный, с пятью поперечными полосами — три желтых и две красных, — а военное знамя две желтых полосы на красном поле и вышитый посередине национальный герб. Карлос Вальенте иронически улыбнулся, спрыгнул с лошади и, подойдя к воротам, застучал рукояткой мачете. Открыл слуга, очень вежливо осведомился, что угодно его милости. — Где хозяин? — спросил полковник. — Его нет. — Кто вместо него? — Сеньорита. — Тогда доложите сеньорите, что офицер республиканской армии просит оказать честь принять его. Вернувшись через несколько минут, слуга сообщил: — Сеньорита приглашает ваше превосходительство[261]. Полковник последовал за ним, размышляя про себя: «Вот уже из вашей милости я превратился в ваше превосходительство… Быстро же я повышаюсь в чине…» Едва войдя в большой зал, Карлос вскрикнул: — Кармен!.. Вы? Здесь?.. Я уже не надеялся вас увидеть! В ответ Вальенте услышал возглас, в котором звучали и удивление, и радость, и горесть: — Карлос! Вот как суждено мне с вами встретиться! Молодые люди бросились друг другу в объятия… Но вдруг руки разжались. Оба замерли, не осмеливаясь сказать все, что думают, с трепетом ожидая и опасаясь первых слов. Оробев больше, чем перед наведенным стволом пушки, полковник пробормотал: — Кармен… мадемуазель… Дом, где вы распоряжаетесь… находится в центре наших действий… Я пришел… от имени генерала, попросить позволение разместить здесь штаб… Я не знал, что усадьба принадлежит вам… Заверяю вас, что люди будут очень корректно вести себя… — Да, Карлос, я знаю… Вы из честных и великодушных противников… И я полностью доверяю вам… — Вы одна? — Да, только я и слуги. Отец решил, что здесь я останусь в безопасности… что мамбисес никогда сюда не доберутся… Отца я уже неделю не видела, ничего не знаю о нем… — Могу вас успокоить, он жив… — Вы его видели? — Да, Кармен… Хотя и старался избегать того, кто нанес мне самое жестокое оскорбление, разбил жизнь, ударил прямо в сердце. Кармен со слезами на глазах прошептала. — И вы, Карлос, отомстили с присущим вам благородством. Я знаю, что мамбисес щадили отца… Был строгий приказ сохранить ему жизнь. Просили об этом вы, Карлос. Я глубоко благодарна… Полковник, покраснев, пробормотал. — Кто вам это рассказал? — Пленные. Они в один голос говорили одно и то же. — Я выполнял свой долг… И потом, Кармен… я никогда не осмелился бы предстать перед вами, если бы с вашим отцом случилось несчастье… — Ох уж эта отвратительная война! Эта чудовищная бойня! Из-за нее мне приходится трепетать при одной мысли об отце, о… женихе… — О вашем женихе, Кармен? Неужели несмотря на разлуку… слепую ненависть и презрение к цветным… наши бурные споры, вы не забыли своего друга детства? Ведь миновало уже два года… — Да, два тяжких долгих года. Ваш отец погиб, Карлос? Я поплакала и помолилась за упокой его души… — Никогда не смирюсь с его кончиной… Но ваши слезы для меня — лучшее утешение… — С вами рядом Долорес… Она вас любит… — Через несколько минут она будет здесь… — Как я рада ее повидать! Она всюду с вами? — Всюду. Она само воплощение патриотки, готовой пойти на любую жертву, с улыбкой встретить смерть и погибнуть со словами «Да здравствует свободная Куба!» — Милая Долорес! Я так ее люблю. Так восхищаюсь! — Но ведь ваши симпатии и чаяния на стороне испанцев. — Прежде всего я женщина. Мне по нраву то, что благородно. Конечно, я не разделяю ваших взглядов или, по крайней мере, всех ваших взглядов. Но должна признаться, дело, у которого такие защитники, может вызывать у честного противника только уважение. — Ах, если бы все наши враги рассуждали как вы, Кармен! Войне быстро пришел бы конец. Знали бы вы, как мало мы просим, насколько незначительны, в сущности, наши требования! Девушка, улыбнувшись, прервала Карлоса: — Ну это, друг мой, политика… Давайте больше не говорить о ней, хорошо? Я, естественно, помню, что передо мной противник или, точнее, победитель, и он вправе распоряжаться всем и вся. Дом займут военные. Никто не сможет ни войти, ни выйти без разрешения. Все выходы станут охранять часовые… В общем я — военнопленная, и мне придется подчиняться обстоятельствам… — Противник будет великодушен, — ответил полковник, в свою очередь улыбаясь. — Тем более что мы сдаемся безоговорочно, полностью полагаясь на его благородство. Правда, хочу поставить одно условие: чтобы не снимали испанский флаг… — Ваше желание для нас — приказ, хотя из-за этого жди неприятностей. Девушка при этих словах протянула полковнику руку. — Ладно, мой дорогой враг, возвращайтесь к своему генералу. А я пока все приготовлю. Хочется, чтобы в моем доме вам было, по крайней мере, удобно. Полковник почтительно опустился на колено и медленно, почти благоговейно прикоснулся губами к ее руке. — Благодарю за прием, дорогая Кармен. Благодарю за то, что после долгих лет разлуки вы все же вспомнили о друге, а ведь он считал, будто потерял вас навсегда… Одного слова хватило, чтобы исчезло разделявшее нас расстояние… И если меня убьют, я унесу с собой великое счастье быть вами любимым. — Если вы погибнете, Карлос, то я тоже умру от горя! Послышались цокот копыт и пофыркивание лошадей. Только тогда Карлос Вальенте вспомнил о людях, оставленных у дома. Солдаты терпеливо дожидались командира, удивляясь про себя, почему он ухлопал столько времени на выполнение столь простой задачи, как реквизиция[262] жилья на территории противника. Карлос, взволнованный, просветленный, счастливый, откланялся, не обратив внимания на полные ненависти взгляды мажордома[263], того, кто привел его в зал. Управляющий служил когда-то в соседнем имении — «Франсия». Карлос не узнал слугу: после начала военных действий тот отпустил пышную бороду. У этого человека были те же обиды, предрассудки, взгляды, что и у дона Маноэля Агилара. Постепенно он стал доверенным лицом хозяина, преданным ему душой и телом. Мажордом сразу узнал молодого полковника, и, как верный пес, все это время простоял под дверью. «Так-так, — со злостью думал он. — Кажется, сеньорита сдается врагу! Дон Маноэль будет не прочь узнать, что его дочь не забыла прошлого… что она готова наслаждаться любовью с тем, кого полковник так отделал! Спокойно, голубки, спокойно! Не откладывая в долгий ящик, мы сообщим хозяину обо всем».
ГЛАВА 14
В поместье. — Доктор Серано. — Соперничество. — Масео. — Подозрительные действия. — Ночная вылазка. — Хижина негра. — Раненый. — Ужасный вид. — Что пчелы сделали с полковником волонтеров. — Факты, позволяющие договориться. — Предатель.Фрикет, Долорес и маленький Пабло поселились в усадьбе дона Маноэля, где разместился и штаб Масео. Сюда же въехал доктор Серано — личный врач главнокомандующего. Близкий друг Масео, он практически не расставался с генералом. Увлеченный своей профессией, очень опытный медик, Серано был к тому же храбрым солдатом. Хотя и среднего роста, тридцатилетний мужчина отличался и силой и ловкостью. Прекрасный наездник, непревзойденный стрелок, он одинаково хорошо владел скальпелем, саблей и винтовкой. Волевое лицо Серано было бы прекрасно, если бы не бегающие глаза: он никогда не смотрел прямо, всегда прятал взгляд за притемненными стеклами пенсне. Впрочем, врач был корректен, смел и предан делу независимости, сражаясь за него с первых дней восстания. Однако Фрикет, слепо веря в первое впечатление, испытывала к доктору инстинктивное недоверие и в глубине души не могла его терпеть. Долорес он тоже внушал чувство неприязни, и ей было непонятно, почему Масео так привязан к доктору. Девушка почему-то не сомневалась, что рано или поздно военный врач сыграет роль, роковую для независимости Кубы. Полковник же Карлос, который видел Серано и в деле, за хирургическим столом, и на поле битвы, относился к нему с большим уважением и симпатией. Нужно сказать, что донья Кармен произвела на Серано огромное впечатление. В принципе не умея скрывать свои чувства, он все же не выдал своего увлечения, а оно вскоре переросло в страсть. Врач стал соперником своего друга Карлоса Вальенте. Серано любовался несколько надменной красотой сеньориты, а та даже не догадывалась о зарождающемся чувстве доктора. Она вся ушла в выполнение обязанностей хозяйки. Хотя гостей ей как бы навязали, девушка радовалась тому, что с ней рядом оказался самый дорогой человек, по которому она лила слезы целых два года. А Серано поглядывал на нее украдкой; пенсне скрывало блеск глаз. Он пользовался любой возможностью, чтобы побыть с ней. У него колотилось сердце, сжимало грудь, лоб покрывала испарина каждый раз, когда он думал: «Так вот какая она, эта девушка, не зря именно ее командир испанских волонтеров обещал отдать в жены тому, кто выдаст Масео. Как же хорошо полковник разбирается в страстях, особенно буйно расцветающих под тропическим солнцем!» Так прошел день. Довольная тем, что рядом с ней Долорес, любимая как сестра, Кармен почти все время провела в ее компании. С ними же была и Фрикет, она сразу вызвала у Кармен горячую симпатию. Сеньорита догадывалась, что за ней шпионит мажордом Кристобаль. Но ей придавала силы любовь. Она стала прибегать к хитростям, что приводило в ярость наперсника отца. Девушка видела, с какой ненавистью тот смотрит на штабистов, особенно на Карлоса и Масео. Но они, как настоящие могиканы[264] на тропе войны, держали ухо востро, ни на минуту не забывая, что их жизнь принадлежит делу независимости, и потому они должны беречь себя. Храбрость, даже не раз подвергавшаяся испытанию, не отвергает осторожности. Масео, весь в рубцах от ран, полученных в бою, был постоянно начеку и никогда не утрачивал бдительности. Генерал не знал, что такое спать под крышей на кровати. Он отдыхал в гамаке, прикрепленном либо к деревьям, либо к столбам, подпиравшим дом. Его чувства были настолько обострены, что он пробуждался при малейшем шуме. И хотя тут же снова засыпал, голова полностью не отключалась, что позволяло ему различать разнообразные звуки, наполнявшие ночную тьму. Ко всему прочему он был предельно умерен: не курил, не пил ни вина, ни ликеров, ни пива; его даже не тянуло к кофе, так любимому его соотечественниками. Ел он очень мало — раз в день ту же пищу, что и солдаты. Этого поистине необыкновенного человека поглощала одна страсть — любовь к родине! Его ни разу не видели в смятении или гневе, он никогда не проявлял нетерпения или поспешности. У него был зоркий глаз. Ничто не ускользало от его взгляда — он тщательно рассматривал каждую вещь, даже вроде бы самую незначительную. Масео хорошо знал своих людей и их обязанности. Бывало, он даже интересовался, почему тот-то едет на лошади, когда ему положено идти пешком, или наоборот. Этот человек, ни на шаг не отклонявшийся от избранного пути и преданный до конца идее независимости, обрел славу, одерживая победу за победой над закаленными в боях испанскими войсками. Исчерпав весь запас аргументов и бранных слов, противники Масео, не находя ничего иного, стали кричать о его низком происхождении. Мол, командир мятежников был поденщиком, кажется, даже чернорабочим, погонщиком мулов, сельскохозяйственным батраком. Ну что ж! Честь и хвала, если ему удалось стать тем, кто он есть, не утратив простоты в обращении, что так притягивала к нему людей. Маршалы Наполеона тоже вышли из народа. Маршал Лефевр[265] быстро поставил на место тех, кому не нравилось, что он не потомок крестоносцев[266], гордо ответив: «Мы сами родоначальники!..» Масео, пройдя путь от погонщика мулов до генерала, наделал немало хлопот титулованным генералам, окончившим военные школы, командующим хорошо обученными войсками и получавшим поддержку от одной из великих стран Европы. Тем не менее этот человек, все видевший, все знавший, от кого ничто не ускользало, не заметил ни ухаживаний своего друга-врача за доньей Кармен Агилар, ни странной и к тому же подозрительной дружбы, что возникла между доктором и мажордомом Кристобалем. С первого же взгляда, едва перекинувшись несколькими словами, эти два столь различных по общественному положению и воспитанию человека прекрасно поняли друг друга. Как врач и друг генерала, Серано имел право ходить куда и где угодно и в любое время суток. Он всегда знал пароль, и никто не смел его задержать. К тому же врач всегда мог сослаться на то, что должен посетить больного. Итак, вот уже вторую ночь штаб Масео находился в поместье. Было часов одиннадцать. Доктор, не раздеваясь, валялся на постели. Вдруг он отдернул москитную сетку, вскочил с кровати и, захватив револьвер, тихо вышел. Не успел Серано сделать и нескольких шагов, как его окликнули: — Это ты, друг?.. В комнате душно. Решил подышать воздухом? Голос Масео раздался откуда-то из темноты. — Да, генерал, это я, — ответил врач. — Иду в конец плантации. Нужно навестить человека, чье состояние меня беспокоит… — Ты можешь делать все что угодно, дорогой. Я не требую от тебя отчета. Хорошей прогулки! — Спасибо, генерал. А вам спокойной ночи! И Серано пошел дальше, думая про себя: «Честное слово, не знаю, когда этот чертов вояка спит!» У мангового дерева он тихо позвал: — Кристобаль! — Я здесь, господин доктор. — Хорошо. Ведите меня. Заговорщики двинулись рядом, не произнося ни слова, по одной из тропинок, разбегавшихся веером по полю. Изредка попадались часовые. Выставив винтовку вперед, они резко окликали: — Стой!.. Кто идет? — Офицер! — Подойди! Серано делал несколько шагов, пока не утыкался в штык, говорил пароль и следовал дальше со спутником, тот по-прежнему оставался как бы глух и нем. Через полчаса они приблизились к какому-то селению: вдоль выстроенных в ряд хижин рос небольшой сад. По-видимому, то были жилища работавших на плантации негров: жалкие лачуги несколько напоминали постройки в Африке, откуда доставляли рабов. Остановившись около одной из хижин, мажордом, впервые за всю дорогу раскрыв рот, произнес: — Здесь, господин доктор. И тихо свистнул. Из дома ответили. Тут же в дверях появился огромный черный человек. — Это ты, Сципион? — спросил мажордом. — Да, месье. — Хозяин здесь? — Да, месье. Он ждет вас приходить. При свете двух прикрытых стеклом свечей прибывшие увидели мужчину, неподвижно лежавшего на грубо сколоченной кровати. Он так отек, что трудно было различить отдельные черты. Веки, нос, губы и щеки слились в единую массу, весьма отдаленно напоминавшую человеческое лицо. Из груди со свистом вырывалось дыхание. Мажордом наклонился к кирпично-красному толстому уху: — Хозяин, вот доктор, о котором я вам говорил. Человек произнес невнятно: — Бандит… Из свиты… того бандита… Масео… Можно ли ему довериться? Несмотря на такой прием, доктор, сдержавшись, решил проявить любезность. — Полковник Агилар, — сказал он, — я уважаю вас как самого храброго солдата испанской армии и клянусь, что отец доньи Кармен для меня… Словом, вы понимаете… Полковник Агилар! Это бесформенное лицо, неподвижное тело, груда мяса, утратившая человеческий облик, — все, что осталось от блестящего командира конных волонтеров?! Неужели развалина, перед кем закрылись двери даже собственного дома и кто вынужден скрываться в хижине своего раба, тот гордый вояка, который собирался уничтожить армейский корпус Масео, повесить или расстрелять всех мятежников до последнего?! Таковы превратности войны. Корпус волонтеров, лучшая часть колониальной армии, больше не существовал, а его командир, весь искусанный пчелами, с переломанной рукой лежал в горячке и вынужден был отдаться на волю врага. После ужасного и нелепого нападения на ловко закамуфлированные Мариусом ульи многие волонтеры пали под пулями, другие в растерянности бежали с поля боя и залегли в траве. Среди них был и полковник Агилар; падая с лошади, он сломал левую руку. Почти сутки офицер пролежал на земле, страдая от бесчисленных укусов пчел, переломов, голода и в особенности от жажды. Наконец его разыскали солдаты, прибывшие из укрепленной полосы. Не желая попасть в госпиталь, гордый испанец приказал отвезти его домой. Но поместье оказалось в руках повстанцев, и солдаты были вынуждены спрятать командира у слуги — негра Сципиона. Тот сразу же сообщил мажордому Кристобалю, что хозяин находится здесь; и еще просил передать донье Кармен: отец при смерти. Кристобаль, подслушав разговор молодой хозяйки с Карлосом Вальенте, решил ее ни о чем не предупреждать. Он подумал: «Подождем!.. Раз хозяин здесь, я ему все расскажу… Пусть знает, как его недостойная дочь выполняет отцовские наказы и идет на сговор с врагом!» Так управляющий и поступил. Между тем, будучи весьма наблюдательным, он заметил, какое ошеломляющее впечатление произвела донья Кармен на доктора Серано. Этим следовало воспользоваться. Мажордом очень ловко кое-что выведал от доктора, ослепленного зарождающейся страстью. К своему великому удивлению, мажордом выяснил, что врач готов оказать помощь дону Маноэлю, более того: он отнесся вполне положительно к предложениям, какие у всякого честного человека вызвали бы возмущение. Неужели Серано пойдет на подлость, предательство, к чему толкал его мажордом, только из-за того, что тогда донья Кармен стала бы его?.. Не исключено! По крайней мере, если судить по той поспешности, с какой врач повстанцев помчался к раненому. Ощупав и прослушав сеньора Агилара, Серано занялся в первую очередь сломанной рукой. Полковник сразу почувствовал облегчение. С трудом, едва разжимая распухшие губы, он пробормотал: — Жить буду? — Да, полковник, будете жить при условии, если станете беспрекословно выполнять все мои предписания… — Обещаю. Что, я плох? — Очень плохи… Боюсь, что у вас рожистая флегмона, развившаяся от тысячи укусов пчел… — Вручаю вам жизнь. — Я же со своей стороны сделаю все возможное для знаменитого отца доньи Кармен. — Да… я знаю… Кристобаль сказал мне… Он сообщил… о ваших планах… Скажите, доктор Серано… вы любите мою дочь?.. Не бойтесь!.. Говорите правду… Врач замер. Наконец он прошептал: — Да!.. Я готов на все, чтобы получить ее руку. Чудовищная маска полковника перекосилась, что должно было изобразить улыбку. Потом он снова заговорил: — При одном условии… Непременном и твердом… Вы о нем знаете и понимаете меня… Вы способны его выполнить? Доктор, сильно побледнев, опустил голову и ничего не ответил. Полковнику и его доверенному Кристобалю больше ничего и не требовалось. Они считали доктора Серано просто предателем. Генералу Масео был вынесен окончательный приговор.








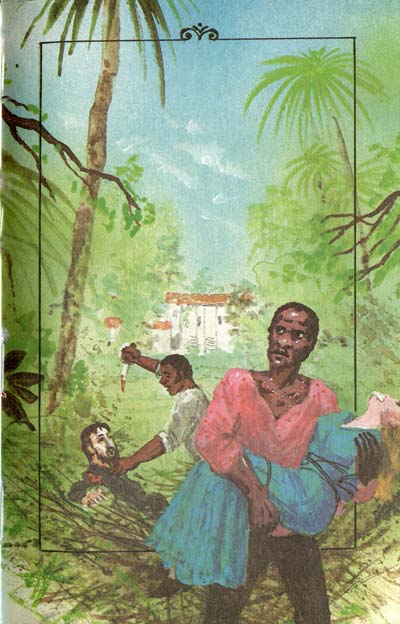




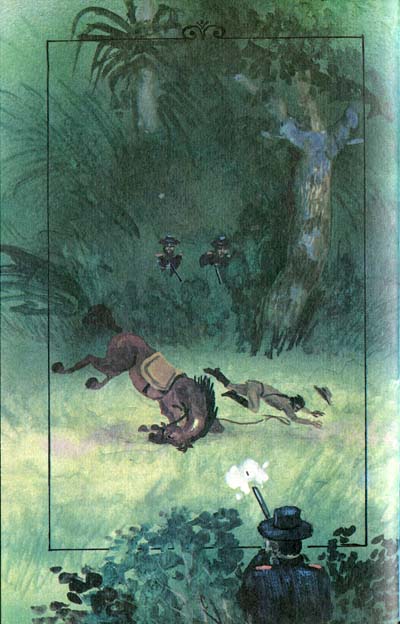


ГЛАВА 15
Ах, как приятно побездельничать! — Словно на военном заводе в Тулоне. — Антильские дрозды. — Поместье, усадьба, огневая точка и т. д. — Клочок земли в тропиках. — Воспоминания о солнечных часах. — Культ Во́ду. — «Безрогих козлят» приносят в жертву. — Исчезли.В поместье доньи Кармен жилось воистину хорошо. После перенесенных тревог и волнений было приятно побыть в тишине. Это так редко случается в смутное время! Все чувствовали себя как в родной деревне среди милых сердцу людей. Если бы не постоянно дежурившие часовые, куда-то мчавшиеся посыльные, трудно было поверить, что идет беспощадная война. Все скорее напоминало военные учения, проходящие в атмосфере солдатской дружбы. Фырканье лошадей, звон сабель, звуки горна становились столь привычны, что воспринимались как неотъемлемая часть самой жизни. Все предавались столь приятному занятию, как безделье: валялись в гамаках под тенью деревьев, потягивали прохладительные напитки, обмахиваясь веером. Даже беспокойная Фрикет, вспыхивающая по любому случаю, бо́льшую часть дня отдыхала. У Мариуса же по этому поводу были свои соображения: — Ох, мадемуазель, у нас словно на военном заводе в Тулоне. — Как это так, Мариус? — Ну это когда рабочие трудятся, а если их спрашивают, что они делают… — Да? — Они отвечают: «Мы отдыхаем». — А работа все-таки идет? — В общем да. Они разбиваются на па́ры… Один работает… четверть часа. — А другой? — Смотрит… — Ну, а дальше? — Затем они часа три слоняются. Потом тот, кто смотрел, приступает к работе… на четверть часа. Беседа о делах на родине вызвала у Мариуса воспоминания о его любимом времяпрепровождении — об охоте в Провансе. Страстный охотник, он к тому же любил поесть. В каждом провансальце живет и гурман[267] и повар. Там любят готовить сами, наблюдать, как что-то шипит на сковороде. У каждого имеется, по крайней мере, один рецепт приготовления на свой манер мяса самой для него вкусной птицы. Мариус обожал мясо дроздов, что свидетельствовало о его не совсем обычных гастрономических пристрастиях. Матрос всем говорил, что так, как он, этих пернатых никто не умеет готовить. — Но — увы! — в этом проклятом крае их нет, — добавил француз с огорчением. — Как это нет? — как-то воскликнул присутствовавший при подобном разговоре Карлос. — Чертов провансалец, откройте пошире глаза!.. Их тут уйма! — Где же это, полковник? — Да всюду… Там и там… и вот там еще… Они ручные и подлетают совсем близко. — Там, в саду?.. — Антильские дрозды! Самые наилучшие! — Вот это да! Обалдеть можно!.. Дружок!.. Ой, извините, полковник… Тогда я накормлю вас всех… весь армейский корпус. Они крупные! Как полцесарки! Дайте мне двухразку, и за несколько минут я настреляю дюжин двадцать. Кармен охотно дала провансальцу охотничье ружье из коллекции отца. Все думали, что матрос, набив карманы патронами, тут же отправится добывать обещанное на жаркое. — Ну, Мариус, — спросила Фрикет, — когда же вы займетесь уничтожением несчастных пташек? Когда же устроите нам пир? — Мадемуазель, охота здесь — дело утомительное. У меня от палящего солнца может голова треснуть. — Так что, вы просто пошутили? Никакой вы не охотник, не повар? — Нет, нет, что вы, мадемуазель. Я выполню все, что обещал… и даже больше. Но я хочу поохотиться с комфортом, не двигаясь с места. А для этого мне нужна огневая точка. Сейчас устрою. — Огневая точка? — Ну да, мадемуазель, шалаш из ветвей и мачта… сухое дерево, куда сядут птицы… Охотник прячется в шалаше и подзывает добычу. — Да? Как это? — Подзывает манком… И тогда он стреляет в свое удовольствие, валяясь в тенечке, не утомляя себя. Я вон вижу усадьбу. — Усадьбу?.. Ничего не понимаю. — Ну эта стена, а рядом клочок земли размером с носовой платок. Тулонцы называют это поместьем. Они тогда чувствуют себя крупными землевладельцами… У нас ведь все шутники. — Правда, Мариус? — Да, мадемуазель. Между нами говоря, в глазах должно двоиться, а то и троиться, чтобы крольчатники принимать за усадьбы, загородные дома и даже поместья. — Бог ты мой, ну а это что такое? — Это названия провансальских частных владений. — Да вы же сами говорите, что это просто стена. — И все же это усадьба… Ее владелец ощущает себя ро́вней тому, кто имеет настоящий загородный дом или даже замок. Мариус направился к месту, называемому солнечной сковородкой. С одной стороны оно было огорожено стеной Поблизости находился великолепный лес, где росли разнообразные тропические растения. А еще подальше раскинулся сад, там виднелись абрикосовые, лимонные, тамариндовые, железные, хлебные, черные деревья, сметанные яблони, мирты, авокадо, бакауты, фарнезские акации, а под ними — страстоцвет, гуявник, самбук, лилии, клещевина и огромные ананасовые заросли. Провансалец, обнаружив здесь тучу дроздов, принялся изучать их повадки, попробовал повторить их трели, а потом установил свою огневую точку. Он нашел засохшее камедное дерево — птицы с удовольствием рассядутся на таком. Рядом отыскался и шалаш в нем он спрячется. На все это ушел день. Наконец Мариус, сияя от радости, явился к Фрикет. — Мадемуазель, все готово. Я там буду укрыт как солнечные часы Мартиг. — Опять какая-то провансальская история? — Да… Небольшая… Так, несколько слов. Мартиг — это порт в заливе Фос, соединяющемся с прудом Бер. Его жители называются мартиго… Они хорошие моряки… Но немного… Как бы сказать?.. Немного болваны! Так что все глупости, которые совершаются или говорятся в Провансе, приписываются мартиго. — Ну ладно, хватит болтать!.. Так что это за история? — Так вот, мадемуазель, члены муниципалитета Мартига, когда решили построить солнечные часы на площади Ратуши[268], подумали: «Если они будут находиться на открытом месте, то их испортят, разрушат дождь и солнце». И знаете, что тогда сделали? Соорудили над часами крепкий навес. Вот укрытие в моей огневой точке и напомнило мне эту историю в Мартиге. В поместье жилось весело. Кармен с Карлосом, пережив вдали друг от друга два тяжелых года, строили радужные планы. Они и не подозревали, что над вновь расцветшей любовью, над едва возродившимся счастьем нависли тучи. Поглощенная любовью к Карлосу, Кармен не видела в несколько преувеличенном внимании доктора ничего, кроме предупредительности хорошо воспитанного мужчины, к тому же близкого друга ее жениха. Прямой и благородный характер не позволял ей даже заподозрить предательство. Впрочем, ома ничего не знала о тесных связях доктора с мажордомом и тем более о том, что ее отец живет в хижине негра Сципиона. Тайна тщательно оберегалась. Никто из посторонних даже и не догадывался о ее существовании. Полковник Агилар, получая прекрасную медицинскую помощь, поправлялся. Температура спала, никакие осложнения больше не угрожали, постепенно возвращались силы, вернулась ясность мысли. Больной успокоился. Теперь дон Маноэль, чувствуя, что его жизнь вне опасности, хладнокровно обдумывал, как отомстить врагам, окружить их и уничтожить. Масео, Карлос, Долорес, Фрикет, Мариус… Он хотел погубить всех, насладиться их страданиями, полюбоваться предсмертными муками. План был составлен с дьявольской хитростью и неслыханной жестокостью. Нечто подобное можно обнаружить, лишь как следует порывшись в истории Восточной Римской империи или же у самых гнусных дикарей. Время подгоняло, полковник Агилар решил немедленно действовать и тотчас осуществить первую часть кровавого замысла. — Сципион, — спросил он негра, — ты по-прежнему почитаешь Во́ду? Зная, что этот гнусный культ находится под запретом, негр забормотал что-то невнятное, опасаясь, что хозяин отругает его за участие в тайных обрядах. — Да ну же, не пугайся, — добродушно подбодрил его дон Маноэль. — Получишь сотню пиастров, если скажешь правду. У бывшего раба от жадности заблестели глаза, и мягким музыкальным голосом, что никак не вязался с отталкивающей внешностью, тот ответил: — Да, хозяин, я по-прежнему обожать Во́ду. — Прекрасно! Скажи-ка, ты хотел бы принести в жертву безрогого козленка? — Да, хозяин… Я довольный очень много… Король и королева Воду довольные тоже… очень-очень довольные! — Ну что же, дарю тебе не одного, а двух безрогих козлят! — Ой, хозяин! — воскликнул негр, не скрывая кровожадной радости. — Это большой праздник для наших! Мы есть безрогие козлята. — Ну хватит! Знаешь двух девушек, приехавших недавно вместе с бандитом Масео? — Я знать они… белые. — Да-да. Так вот я их отдаю Воду… Ты должен их выкрасть и оттащить туда, где вы обычно совершаете жертвоприношение. — У, это легко… Мамзель всегда гулять в сторону саванны… Я подстерегать с товарищами и оттащить туда. Радуясь, что вскоре руками негра удастся осуществить подлое намерение, знатный испанец покойно уснул с чувством человека, выполнившего свой долг. Между тем огневая точка, подготовленная Мариусом, действовала на славу. В первый же день провансалец, торжествуя, притащил увесистую связку дроздов. Все пришли в восторг от не виданной на Кубе добычи. Тогда Мариус пообещал принести на следующий день еще больше. Он уже досконально будет знать повадки птиц, хорошо изучит их призывный крик и научится подражать ему так, что его щебет не отличишь от птичьего. Принесенная дичь, выстрелы, раздававшиеся после полудня, радость возвращавшегося Мариуса, предчувствие еще более удачной охоты завтра — все это вскружило голову маленькому Пабло. Как любой ребенок, он любил шум, ружья, игру в охоту. Потому он просился пойти вместе со своим другом-французом. Фрикетвозразила, боясь, что малыш будет мешать. Мариус, чьим любимцем был мальчик, заявил: «Нет, совсем наоборот. И на огневой точке места хватит на полдюжину людей». — Идея! — вмешалась Фрикет. — Леность начинает надоедать, даже утомлять. Охота развлечет меня… Это, наверное, забавное зрелище. — Уж скажите лучше, мадемуазель, что это нечто божественное! — Хорошо. Пабло идет с вами, я иду с Пабло… А вы, Долорес, пойдете? — С удовольствием, дорогая. — Только не надо, — заметил Мариус, — брать с собой пса. Он будет лаять при выстрелах. А там нужно сидеть тихо и спокойно. Иначе мы останемся с носом. — Ладно. Собаку мы привяжем. И все четверо весело пошли к огневой точке, прихватив кое-какую еду и прохладительные напитки. Вскоре оттуда начали долетать звуки стрельбы. Потом затихло. Наступил вечер, а охотники не возвращались. Кармен и Карлос сначала лишь удивлялись, а потом забеспокоились. Огневая точка была поблизости — метрах в шестистах. Они побежали туда. Подойдя, молодые люди закричали от ужаса и гнева. Вид разрушенного шалаша явно говорил об отчаянной борьбе. На земле в луже крови неподвижно лежал Мариус. А Долорес, Фрикет и маленький Пабло исчезли.
ГЛАВА 16
Почитатели Воду. — Человеческие жертвы. — Священный змей. — Жрец и жрица. — Папароль и мамароль. — Что увидел испанский офицер. — Суд. — Казнь. — Хитрости.Африканские негры, став рабами на Антильских островах, привезли с собой дикий культ, известный под названием Воду. Странно, но он сохранился и после ликвидации рабства, укоренился и приобрел многочисленных приверженцев во всех классах общества. Культ сей практикуется и сегодня в Сан-Доминго, на Гаити, а также на Кубе, Ямайке, в Луизиане, Гондурасе и даже в некоторых северных районах Южной Америки. Нужно сказать, что жертвы этому жестокому и глупому божеству приносят не только совершенно безграмотные негры, но и люди образованные, состоятельные, пользующиеся уважением, короче говоря, занимающие определенное место в креольском обществе. Что же такое Воду? Это сверхъестественное всемогущее существо, оно вызывает все происходящие в мире события и управляет ими. Иначе говоря, для его почитателей Воду, не менее жестокий, чем Молох[269],— нечто вроде бога. Олицетворяет его неядовитая змея, огромный безобидный уж, служащий предметом истового поклонения. Именно под покровительством ужа проходят собрания и свершаются обряды. Конечно, Воду знает прошлое, видит все в настоящем и предсказывает будущее. Его власть и волю доносят до людей великий жрец и великая жрица, объявляющие, что в них вселился бог. Приверженцы культа твердо верят, что так оно и есть. В каждом округе, в каждом более или менее крупном селении есть своя жреческая пара. Великого жреца назначают пожизненно, а он выбирает себе спутницу — великую жрицу Их зовут король и королева, хозяин и хозяйка или же более фамильярно: папа-король и мама-король, которые превратились в обыденной речи в папароль и мамароль. Доверенные и уполномоченные лица грозного божества, жрец и жрица, пользуются почетом и имеют абсолютную власть, а их личности священны. Для этих грубых и жестоких невежд такое могущество — прекрасное средство удовлетворить любые свои потребности, дать выход алчности, злобе и прочим пожирающим их низменным страстям. Воду, как и Молох, — это в первую очередь божество кровожадное. Ни одного жертвоприношения без пролития крови! Ни одного собрания, где бы приверженцы не имели возможности усладить себя и вдосталь напиться горячей живой влаги! Несчастные приверженцы этого донельзя извращенного культа делятся на две секты:[270] одна просто отвратительна, а другая ужасна и чудовищна. Действительно, первая удовлетворяется кровью и мясом петухов и козликов, а вторая — безрогими козликами, то есть человеческими жертвами! И какими жертвами! Ими бывают женщины, девушки (еще лучше!) и дети, которых папароли убивают с неслыханной жестокостью. Их же останки пожирают во время чудовищных оргий! Пьют на этих кощунственных пирушках, которые устраивают как можно чаще, кровь, смешанную с тростниковой водкой. Не обвиняйте автора в том, что он упивается описанием ужасов. Он стремится лишь рассказать о страшной, но истинной правде. На Гаити, на Кубе, в Луизиане, в Гондурасе существуют заслуживающие доверия юридические документы. Сохранились распоряжения, судебные решения и приговоры по делам поклонников Воду. Многих почитателей Воду обрекли смертной казни — таких примеров сотни! — за то, что они похищали, подвергали заточению, а затем убивали и пожирали людей, приносимых в жертву поганому идолу! Приведу только один пример, показывающий, что в нашем повествовании нет преувеличений. Пример, само собой разумеется, взятый из официальных источников. Это случилось в 1889 году. Испанский артиллерист, служивший в гарнизоне Сантьяго-де-Куба, прослышав про культ Воду, решил во что бы то ни стало побывать на жертвоприношении. Солдаты его батареи, что были членами секты и кому он оказал некоторые услуги, согласились проводить офицера в соседний храм. Пошли на это с крайним нежеланием, поддавшись уговорам. При этом потребовали от командира полного сохранения инкогнито[271], иначе не ручались за его жизнь. Артиллерист торжественно поклялся, что никак не выкажет удивления или возмущения и не произнесет ни слова. Так устранили все препятствия. В назначенный день испанец вымазал себе лицо и руки черной краской, надел грубую одежду — в общем, сделал все, чтобы походить на негра. Солдаты отвели его туда, где обычно проходили собрания, и он смешался с толпой. К своему глубокому удивлению, в этом беспорядочном скоплении людей разных каст[272] и цветов кожи, от которых исходил ужасный козлиный дух, пришедший узнал людей, принадлежащих к богатому креольскому обществу, в частности нескольких дам, с кем он встречался на светских раутах! Вскоре, однако, его внимание сосредоточилось на омерзительной церемонии. На некое подобие каменного алтаря поставили огромный котел, наполненный дымящейся жидкостью, от нее исходил сильный запах алкоголя; а затем клетку, где дремал, свернувшись кольцом, огромный уж. Куда-то в угол затащили несколько белых кур и белую хорошенькую козочку со связанными ногами. Папароль принялся бить в барабан сначала медленно, а потом быстрее и быстрее. Когда он подошел к клетке с ужом, тот стал свистеть и извиваться. Вскоре папароль впал в неистовство. Его состояние передалось мамароли, а также части собравшихся. Они принялись топать ногами, орать, бесноваться. Затем, когда у мамароли начались ужасные судороги, а на губах выступила пена, когда она впала в состояние каталепсии[273], великий жрец схватил белую козочку и отхватил ей голову, собрав кровь в подставленный котел, добавив какого-то алкоголя. К приготовленной смеси потянулись все желающие, и по залу прокатилась новая волна неистовства. Некоторые направились к алтарю[274] с надеждой выпросить у бога особую милость. Молились кто о чем — о богатстве, радостях, здоровье, излечении, любви, даже об успехе замышлявшихся преступлений. Офицер, с трудом преодолевая отвращение, полагал, что участники церемонии ограничатся уничтожением кур и козочки. Не тут-то было! К жрице, — она в конце концов пришла в себя, — подошел молодой негр лет двадцати, не уступавший в силе гладиатору[275]. Он встал на колено и мягким нежным голосом стал просить ее: — О мамароль, я хотел одну милость вас просить… — Ты что такое хотеть, сын мой? — Вы подарите нам великая жертва… да, жертва козленка безрогого. Омерзительная мегера[276] решила удовлетворить его просьбу и подала знак. Толпа, тотчас притихшая в ожидании важного события, расступилась, и в глубине зала показался совершенно голый ребенок лет семи, сидевший на бамбуковой табуретке. Руки и ноги малыша были связаны. Он с ужасом смотрел на шайку людоедов. В прикрепленный над котлом шкив[277] пропустили веревку со скользящей петлей, ее затянули вокруг лодыжек дитяти. Великий жрец с помощью веревки вздернул мальчика вверх ногами. Несчастный дико закричал, вдобавок увидев окровавленный нож в руках папароля. Офицер вздрогнул от ужаса и возмущения. Забыв о обещании, о грозящей ему смерти, он воскликнул: — Господи! Пожалейте хоть маленького! — и бросился к малышу, готовый погибнуть, но спасти. Не тут-то было! Стоявшие рядом солдаты схватили артиллериста и вытолкали из храма. Вдогонку бросились несколько фанатиков[278] с ножами. Но, налакавшись страшной смеси крови с водкой, они не смогли догнать капитана и солдат, и те возвратились к себе в Сантьяго. Офицер сразу направился в полицию с требованием окружить храм. Нужно было попытаться, если еще не поздно, сохранить жизнь ребенка, предназначенного в жертву беспощадному божеству. Но в полиции на Кубе служат мулаты и негры. Часть из них принадлежит к секте Воду. А другие так запуганы слухами об ужасных обычаях, что молчат. Несмотря на неоднократно повторенные приказания своего начальника, подчиненные не желали приступать к операции; вернее, они проявили такую медлительность и неповоротливость, что когда наконец на рассвете явились в храм, там было уже пусто. На полу валялись лишь обглоданные людоедами череп и кости. Возмущенный капитан счел своим долгом рассказать обо всем прокурору и даже назвать ему тех, кого встретил на этом диком сборище. Крайне удивившись, прокурор начал расследование, оно выявило такие невероятные детали, что чиновник не решился взять на себя всю ответственность в столь серьезном деле. Он доложил обо всем правительству, но то не сочло возможным продолжить следствие: испугалось скандала, в каковом оказались бы замешаны внешне почтенные люди, принадлежащие к высшему свету колонии. Однако хотя бы устрашить эти омерзительные секты признали необходимым. Поэтому кое-кого арестовали, прекрасно понимая, что члены Воду друг друга не выдадут и, значит, те, кого власти не хотели трогать, останутся в тени. Перед судом предстали великий жрец, великая жрица и несколько негров, всего около двадцати человек. Несмотря на отпирательства, их уличили в многочисленных актах похищений, заточений, убийств, людоедства. Когда же потребовали назвать сообщников, они нагло рассмеялись, а папароль с вызовом воскликнул: — Сами ищите… Они по всему острову… Я даже вижу многих прямо здесь, на этом заседании. Подсудимым пообещали сохранить жизнь, если они назовут хоть несколько имен. Те самым решительным образом отказались и заявили, что лучше смерть, чем нарушение клятвы. Наконец — любопытная деталь! — вызванный в качестве свидетеля капитан объявил на весь зал, что, если действовать по справедливости, нужно посадить на скамью подсудимых не восьмерых, а более двухсот преступников. Приговор к смерти обвиняемые встретили с удивительным спокойствием. Губернатор решил, что казнь через повешение, обычную для Европы и колоний, в качестве исключения следует заменить расстрелом. И вот почему: не было никакой уверенности, что палачи, в большинстве своем негры, сами не принадлежат к секте. Напротив, многое говорило об обратном. А ведь сектанты знают секрет составления питья, которое создает видимость кончины. Возникли опасения, что сообщники дадут приговоренным такую жидкость, и она окажет свое действие во время исполнения приговора. Это позволит палачам, сделав вид, что они сотворили свое дело, в то же время не повредить жизненно важные органы. Имитация[279] гибели позволит позже воскресить «умерших». И тут начнутся крики о чуде, что лишь усилит влияние Воду. Ибо обещание воскресения, особенно когда речь идет о людях с примитивным мышлением, — это великое орудие священнослужителей, они широко пользуются им для полного подавления воли своей паствы. Расстрел не позволил осуществить такое мошенничество. Осужденных казнили. Однако жрецы не признали себя побежденными. Они, как всегда, объявили, что Воду воскресит своих верующих и что этому не сможет помешать никакая сила. Трупы схоронили прямо на месте казни. Чтобы их не похитили, приставили вооруженных солдат. К сожалению, никому не пришла в голову мысль назначить на этот пост людей из метрополии. Охрану несли солдаты из местного населения, среди них, как уже говорилось, было много членов секты. На следующий день могилы оказались вскрыты, останки исчезли. Вероятно, солдаты из секты Воду пригрозили чем-то ужасным своим товарищам, и те вынуждены были разрешить унести трупы. Вполне возможно также, что сектантам удалось дать часовым наркотики, смешав их с тростниковой водкой, до нее столь охочи негры и другие цветные. Затем, по-видимому, воспользовавшись состоянием караула, мертвецов забрали и передали их живущим по соседству жрецам. В общем, как бы то ни было, казнь не получила должного резонанса[280]. Все папароли и мамароли большого острова после исчезновения тел приговоренных стали уверять, что Воду вернул жизнь своим верующим, которые живут теперь в другой стране, где им не страшна месть испанских властей. Вот кем были те, кому опьяненный ненавистью дон Маноэль Агилар-и-Вега вручил жизнь Долорес, Фрикет и маленького Пабло.
ГЛАВА 17
Охота на огневой точке. — Музыка Мариуса. — Уничтожение дроздов, — Удар молнии. — Похищение. — Бедный Мариус! — Пленницы Воду. — Страдания. — Фрикет артачится. — Коварный напиток. — Мы погибли!..Увлекавшийся охотой Мариус был наделен настоящим талантом подражать крику различных птиц. Тонкий наблюдатель, прекрасно запоминавший звуки, он быстро схватывал мелодию птичьего пения — тон, расстановку акцентов[281], ритм и фиоритуры[282]. Мало того. Он знал, что каждый вид пернатых поет определенным образом в определенное время, что призывный крик отличается от зова, приглашающего к еде, что сигнал тревоги не такой, как любовное щебетание, а песнь любви по утрам не схожа с вечерней. К тому же матрос хорошо владел инструментами, так что птахи принимали издаваемые им звуки за свои собственные. Впрочем, манки провансальца были устроены удивительно просто. Обычный лист бумаги с ловко проделанными ромбовидными отверстиями давал возможность воспроизводить самые разнообразные мелодии. Маленького Пабло это приводило в восторг. Мальчик не мог понять, как это его большому другу удается с помощью дыхания, языка и губ извлекать из листочка такую чудесную музыку. Мальчуган тоже попробовал свистеть. Но, хотя Мариус обучал его своей методе с примерным терпением, у Пабло получалось только чик-чирик, звучавшее так, что отпугивало даже лягушек. Итак, в тот день вся компания удобно расположилась на огневой точке. Девушки уселись на кучу листвы. Мальчик устроился рядом, а Мариус, прислонив заряженную двухразку к стене, приготовился заманивать добычу. Ему хотелось особо отличиться, показать себя во всей красе. Талант охотника заключается не просто в том, чтобы убить птицу: главное здесь — заставить ее подлететь на расстояние выстрела. Мастер был в ударе. Его манок при всей примитивности заливался трелями, весело порхавшими среди листвы и соцветий тропического леса. Антильские дрозды, слывшие выдающимися музыкантами, нашли достойного подражателя. Вскоре они уже прыгали вокруг, свистя и щебеча. Птицы вели себя совершенно спокойно — казалось, понимали странную музыку и наслаждались ею. Наконец некоторые уселись на оголенные ветви и мачту — верхушку засохшего дерева, не думая даже прятаться, забыв об опасности, стремясь лишь подобраться поближе к невидимому виртуозу. Девушки, внимательно следя за происходящим, не верили глазам. Пабло же все время приходилось напоминать, что нужно сидеть спокойно: малейший звук или движение могли нарушить очарование и вспугнуть птиц, они тогда станут более недоверчивыми. Когда на макушке собралось несколько «слушателей», Мариус быстро приложил ружье к плечу и дважды выстрелил. Ну да, ведь это же двухразка! Полдюжины птиц, еще трепыхаясь, упали к ногам девушек, которых охватила жалость. Контраст между нежным пением, полным доверием и жестокой смертью вызвал у них чувство неловкости и желание уйти с огневой точки. Но Пабло так радовался добыче, а Мариус все делал так охотно, что обе остались на месте. Ловко перезаряжая еще дымящееся ружье, охотник, сглатывая слюнки в предвкушении трапезы, прошептал: — Если бы у меня было хоть несколько ягод можжевельника и виноградных листьев для приправы! Странно, но дрозды при звуках выстрелов не улетели. Они привыкли к раскатам грома, к треску деревьев, падающих от порывов ветра или ударов молнии. Поэтому стрельба не вызвала у них страха. К тому же никаких признаков присутствия человека. Птицы продолжали спокойно сидеть. Тем более что Мариус, взявшись за манок, снова завел серенаду, потом опять выстрелил и сбил еще с десяток. Так он и продолжал действовать, перемежая пальбу музыкой. Количество трофеев росло, а возникшее было у девушек чувство жалости притуплялось, они стали даже входить во вкус, и охота уже не казалась им столь жестокой. Вдруг, когда провансалец в двадцатый или тридцатый раз выпалил, что-то с чрезвычайной силой ударило но огневой точке, та развалилась, будто на нее упало дерево. Все оказались под обломками. Мальчик закричал. Мариус громко выругался: — Чтоб тебя черти слопали!.. Раскидывая доски и жерди, он увидел черные когтистые лапы, они действовали быстро и грубо. Что это — несчастный случай? Действие сил природы? Нападение? Провансалец, напрягшись изо всех сил, уперся о землю, стараясь выбраться. Долорес и Фрикет, чуть не задохнувшись, барахтались среди листвы и ветвей. Наконец из кучи обломков и веток наружу вылезло заросшее лицо Мариуса. При всей своей храбрости матрос вздрогнул, увидев полдюжины крепко сбитых негров с ножами в руках. Они скрипели зубами, как макаки. Мариус, с трудом выбравшись из-под сучьев, бросился на бандитов. Один ударил его ножом в правое плечо. Француз почувствовал, что лезвие вошло в грудь, стал тяжело дышать, в глазах потемнело. Осознав, что теряет сознание, охотник подумал о девушках: они оставались один на один с бандой негодяев. Матрос упал, бормоча: — Бедные дети! Кто же их защитит? Всякое сопротивление было бесполезно, тем более что ни Долорес, ни Фрикет не прихватили из дому оружия. Они ведь находились метрах в семистах от усадьбы, набитой солдатами! Кто мог подумать о подобном налете? Увидев на своих руках кровь друга, девушки закричали. — Мариус! Мариуса убивают!.. Бог мой!.. На помощь!.. На помощь!.. Нападающие, не раскрывая ртов, стали вытаскивать пленников из-под обломков огневой точки. Крики прекратились — несчастным втиснули в рот по кляпу, связали так, что они не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. И вот девушки и мальчик уже неподвижно лежат под горячим солнцем! Все произошло мгновенно. Трое бандитов, не обращая внимания на Мариуса — тот не подавал признаков жизни, — взвалили пленников на плечи и стали пробираться через густой кустарник к раскинутой у подножия гор сельве[283]. Через некоторое время, изнемогая от боли, страха, усталости, едва дыша, девушки и маленький Пабло, все в крови, оказались на поляне, посреди которой стояло невзрачное каменное строение. Вокруг жилища прямоугольной формы, покрытого дранкой, лепилось шесть-семь хижин. С восточной стороны в дом вела массивная дверь. Идущий впереди негр открыл ее, и все тихо проникли вовнутрь. У Долорес, Фрикет и мальчика вытащили кляпы, но веревки на ногах и руках не развязали. Внутреннее убранство дома казалось несколько странным, с какой-то претензией на роскошь. Кое-где висели гравюры, вырезанные из «Иллюстрированных лондонских новостей», и превосходные рисунки за подписью известного французского художника Монбара. Тут же виднелись ярко раскрашенные репродукции и несколько картин с изображением Девы Марии и библейских сюжетов. В глубине комнаты, на восточной стороне, то есть прямо напротив двери, стояло что-то вроде гранитного алтаря, там лежали куски отполированного нефрита[284] или обсидиана[285], отдаленно напоминающие топоры, ножи и скребки, какие обычно выставляют в отделах музеев, демонстрирующих жизнь первобытного человека. Над алтарем висели огромное знамя из красного шелка с непонятными вышитыми знаками, позолоченные диадемы[286], разноцветные лоскуты, пояса, платки. Тут же находилась забранная решеткой очень темная ниша, где глубоким сном спала едва различимая в темноте змея. Фрикет с крайним удивлением рассматривала эти примитивные украшения и молча расхаживавших по комнате негров, их взгляды и движения внушали тревогу. Еще несколько чернокожих расположились у стен. Особое внимание привлекала странная прическа двоих жесткие, как железная стружка, волосы не были коротко подстрижены, как у большинства негров, а стояли дыбом надо лбом, образуя нечто вроде двенадцати лучей. Чернокожие сидели, ничего не делая. Судя по всему, они лишь отдавали приказания всем остальным, и те их исполняли с глубоким почтением, почти с благоговением. Не поддаваясь волнению — она видела еще и не такое! — Фрикет смотрела скорее с любопытством, чем с беспокойством. Вскоре парижский скептицизм[287] взял верх над всеми остальными чувствами, и француженка сказала Долорес, что все это не так уж трагично, скорее смешно. И добавила: — Ох, если бы моего бедного Мариуса не ранило! С каким удовольствием мы посмеялись бы над этим маскарадом! — И вы бы оказались неправы, дружок мой, — очень серьезно ответила ей подружка, чью бледность Фрикет наконец заметила. — Что, положение серьезное? — Устрашающее! Вы знаете, в какие руки мы попали? — В руки очень некрасивых, грубых и плохо пахнущих негров… — Вы знаете, что такое Воду? — Да, слышала… Страшилище в этом краю… Пугало для плохо ведущих себя детей. — Да нет, это — людоеды, что во имя своего бога убивают людей и пожирают их. — Не может быть! Вы полагаете, будто эти люди со странными прическами собираются нас съесть? — Совершенно в этом убеждена! — Дикая мысль! В моей жизни было много странных приключений. Только этого не хватало для коллекции. Превратиться в ростбиф — это нечто необычное! — Вы, французы, над всем насмехаетесь. — Конечно, это же лучше, чем плакать. К тому же веселье обескураживает предателей из мелодрамы: оно не позволяет им произвести нужного впечатления! Посмотрите, как ошеломленно смотрят на нас эти господа каннибалы![288] Действительно, папароли и их сообщники, казалось, прямо-таки обалдели от веселого вида Фрикет, он совсем не вязался ни с местом, ни с временем действия. Пабло вдруг застонал, что обеспокоило мадемуазель, до этого всячески выражавшую презрение палачам. Мальчик хотел пить. Он пожаловался и на то, что ему больно лежать на животе, связанным как скотина. Девушка властно обратилась к одному из папаролей: — Эй ты, каннибал, развяжи-ка бедного малыша! Видишь, ему больно. Сектант посмотрел на пленницу, не произнося ни слова. — Ну что ты на меня глядишь вытаращенными глазами? Боже, до чего же он безобразен!.. Надо же так вырядиться! Честное слово, из-за этих волос лучами чернокожий напоминает бабу, каких почему-то изображают на дощечках контор нотариусов. Долорес, видя, что бандит по-прежнему молчит, обратилась к нему на местном диалекте. Тот нехотя, но повиновался. Подойдя к ребенку, ослабил веревки на руках, сел на циновку и поставил рядом тыквенную бутылку с какой-то жидкостью и миску вареного ямса[289]. Пабло стал жадно пить, приговаривая: — Хорошо… Хорошо… Потом добрый малыш решил, что его взрослым подружкам Долорес и Фрикет тоже, наверное, хочется пить. Он схватил сосуд и, подтянувшись на циновке, протянул им. — Спасибо, дорогой малыш, — сказала растроганная Фрикет. Отведав несколько глотков, она нашла, что напиток вкусный. — Что-то вроде пальмового вина… Приятный напиток… Хотите, Долорес? — Да, я умираю от жажды. Наверное, не следовало бы этого делать — Бог знает, чего эти нечестивцы там намешали. Но Бог милует. Юная патриотка не напрасно опасалась. Через некоторое время и она и Фрикет почувствовали, что падают с ног от желания спать. Потом все предметы приобрели какие-то странные очертания, увеличились в размере. Дом стал огромным. Люди выглядели как черные колоссы. Знамя из красного шелка напоминало море крови. Затем все стало медленно кружиться, точно во сне. Кошмар длился довольно долго, сколько — они не могли сказать. Наконец им показалось, что наступила ночь, и повсюду зажглись огни. Вокруг толпились люди, орущие во всю глотку. Девушки почувствовали, что над ними нависла страшная угроза, которую они не в силах отвести. Глаза все видели, уши слышали, но тело окаменело — ни руки, ни ноги не двигались. Жуткая мысль пронзила их: «Все! Мы погибли!»
ГЛАВА 18
Первая помощь Мариусу. — В поместье. — Поспешный отъезд. — Корабль «Бессребреник». — Поиски. — Тот, кого не ожидали. — Отец и дочь. — Угрозы. — Применение силы. — Достоинство. — Вмешательство. — Предстоящая драка.Во время партизанской войны нередко не хватало самого необходимого, и офицеры, вынужденные выкручиваться, приобрели некоторые навыки в области хирургии, в силу возможностей лечили раненых. Хоть и не профессионалы, они окружали их такой безграничной любовью и так самоотверженно ухаживали, что раненые выздоравливали. Помогало этому, конечно, и страстное желание больных выжить, чтобы снова встать на защиту независимости отечества. Эти врачи поневоле нередко проводили немыслимые операции. Глядя на них, невольно вспоминаешь слова доброго Амбруаза Паре:[290] «Я его перевязал, Бог его вылечил». К числу таких хирургов-самоучек принадлежал и Карлос. Увидев Мариуса в луже крови, он даже и не подумал послать за доктором Серано. С помощью Кармен, взявшей на себя обязанности ассистентки, полковник вытащил раненого из-под обломков и усадил на груду веток. Расстегнув полотняную куртку, он разорвал залитую кровью рубашку и обнажил плечо. Большая открытая рана шла сверху вниз до самых ребер. Кармен вопрошающе посмотрела на Карлоса. — Ужасная рана, — сказал он, качая головой. — Смертельная? — с беспокойством спросила девушка. — Не думаю. Большие раны часто менее опасны, чем маленькие: те проникают глубоко и нередко затрагивают жизненно важные органы. — Ой, друг мой, если бы это было так! — Впрочем, этот мужик скроен как Геркулес[291]. Надеюсь, он скоро выздоровеет. — Послушайте, Карлос, а не сбегать ли мне в усадьбу за помощью? — Давайте. А я пока перевяжу славного моряка. Люблю его всем сердцем. — Да-да, мой друг. Когда же он будет вне опасности, примемся за поиски вашей сестры, Фрикет и маленького Пабло. Даже не подозревая, что ей грозит та же опасность, девушка бросилась бежать к поместью. Через двадцать минут она вернулась с двумя носильщиками-санитарами, принесшими перевязочный материал. Мариус стал приходить в себя. Тусклым взглядом посмотрев вокруг и увидев Кармен и Карлоса, он пробормотал, с трудом ворочая языком: — Полковник?.. Мадемуазель… мое почтение… Ой!.. черт!.. Я не знаю, где нахожусь… Голова… Там какая-то неразбериха… Горшок с горячей смолой… Как будто мне законопатили… мозги! Карлос спросил: — Послушайте, Мариус, что произошло? Говорите… Вспомните-ка… Время не терпит… — Полковник, не знаю… Я увидел ноги черномазых… Не успел я оглядеться, как нас схватили… И потом все… Меня стукнули по черепушке… Я перестал видеть… перестал слышать… — А моя сестра?.. Мадемуазель Фрикет?.. Пабло?.. — Как?.. Мадемуазель здесь нет?.. И малыша тоже нет? — Все трое исчезли! — Чтоб меня за борт вышвырнули!.. Нужно искать… Нужно найти… Вернуть обратно. Они были под моей охраной… Я должен за ними идти… И как можно скорее!.. Матрос хотел подняться, броситься туда, куда звали любовь и долг. Он резко встал, но от боли и еще больше от слабости закачался и, хватаясь руками за воздух, грохнулся на землю. Карлос подал знак санитарам; чуть живого Мариуса положили на носилки и доставили в усадьбу. Когда и полковник вернулся туда, в поместье стоял гвалт, беготня. Три четверти часа, пока он отсутствовал, хватило, чтобы поднять на ноги всю штаб-квартиру. Карлос разыскал Масео. Тот внимательно читал письмо, только что врученное кавалеристом. Карлос кратко рассказал генералу об ужасных таинственных происшествиях. Масео, нахмурив брови, сказал: — Плохи наши дела! Я только что получил сообщение… очень важное… Нам необходимо уехать отсюда. — Генерал, а как же моя сестра?.. Мадемуазель Фрикет?.. Серьезно раненный Мариус? Ребенок? Масео, сжав губы, побледнев, с искаженным от боли лицом, сказал: — Спасение моей небольшой армии… возможно даже, будущее дела независимости вынуждают меня покинуть лагерь. Предупреждают о прибытии американского корабля… На нем везут боеприпасы, оружие, деньги… волонтеров… — И что же это за корабль, генерал? — Это «Бессребреник», он принадлежит богатому французу, обосновавшемуся в Америке… Другу свободной Кубы. Корабль преследуют испанские крейсеры… А причалить он не может — берег обороняют войска генерала Люка… Я едва успею прибыть туда, чтобы очистить побережье от солдат противника и дать возможность «Бессребренику» разгрузиться, а это для нас теперь — спасение. Карлос опустил голову. Чувствуя, что командир прав, он тем не менее думал о том, что иногда долг предъявляет слишком большие требования. — Однако, — продолжал Масео, — я не хочу, не могу уехать, не сделав всего, что в моих силах для спасения тех, кому я глубоко признателен. Карлос, ты отберешь пятьдесят самых сильных, ловких и храбрых солдат — кавалеристов и пехотинцев. Нужно все предусмотреть. На случай своей гибели возьми в помощники офицера, кто мог бы заменить тебя. Ищи, дерись и любой ценой спаси несчастных. При других обстоятельствах я бы никому не отдал чести заниматься этим и взялся бы за дело сам. — Спасибо, Масео! Спасибо, генерал! — И если — надеюсь — быстро справишься с делом, найдешь меня на возвышенности напротив Кебрады-дель-Кабо-Бланко. Прощай, мой друг, и… удачи! — До свидания, Масео, успехов тебе! Через четверть часа поместье опустело. Карлос, взяв полсотни лучших, назначил своим помощником молодого капитана, ум, храбрость и энергичность которого давно оценил. Это был живой, сильный, решительный офицер среднего роста. Звали его Роберто. Не мешкая они отправились на огневую точку в надежде обнаружить следы тех, кто выкрал девушек и ребенка. Мариус остался в доме под наблюдением доньи Кармен, которая поклялась Карлосу, что ни единого волоса не упадет с головы моряка, пока она жива. Наступила душная тропическая ночь, наполненная таинственными звуками, мельканием светлячков, шорохом крыльев бесчисленных крупных бабочек-пядениц и летучих мышей. Хотя Кармен с детства привыкла к безумной жаре, она почти задыхалась. Не успела девушка лечь в гамак, как ее охватила неодолимая дремота. Но она не заснула: что-то все время беспокоило. Отдыхало только тело. Глаза же по-прежнему следили за тем, что происходит вокруг. Голова оставалась ясной. Сеньорита думала о Карлосе, об их любви, о данной друг другу клятве и бранила гибельную войну, что разъединяла их даже в редкие минуты счастья. Сжималось сердце при мысли об опасности, угрожавшей ее духовной сестре Долорес, новой подруге Фрикет и бедному сироте Пабло. Из коридора донесся стук по паркету — будто кто-то тяжело шагал. Кармен хотела встать, но не смогла преодолеть сонливости и стала в страхе ждать приближения таинственного существа — не то человека, не то зверя, не то друга, не то врага. Дверь открылась тихо, словно ее толкнула рука призрака, и в комнату вошел мужчина. Кармен, конечно, сразу его узнала — ее не могли обмануть ни перевязанная голова, ни висящая на перевязи рука, ни жалкий вид калеки. С некоторой опаской она прошептала: — Отец!.. Вы здесь?.. Дон Маноэль Агилар медленно подошел, сел на стул и грубым голосом с металлическими нотками ответил: — Я самый, Кармен… В своем собственном доме. Вас это удивляет и смущает? Голос был все тот же, такой же саркастичный и ироничный. С трудом отогнав дремоту, девушка приподнялась и сказала хотя и почтительно, но твердо: — Отец, я, конечно, удивлена, но рада — да-да, очень рада видеть вас живым. Что касается смущения, вызванного якобы вашим появлением, то вы знаете, я не заслужила этого упрека. Меня скорее пугает мысль, что вполне может вернуться враг. — О, мне нечего бояться этих людей. Их нашествие, кажется, обошлось вам недорого и не доставило неприятностей. Наши драгоценные противники не привыкли к знакам уважения и симпатии со стороны честных испанцев. Сарказм и ирония в словах дона Маноэля граничили с жестокостью. Это только у людей великодушных сарказмом оттеняется достоинство. Кармен почувствовала, как у нее запылали щеки. Но она не опустила глаз, а, напротив, гордо вскинув голову ответила: — Что вы хотите этим сказать, отец? — Ну… Дорогая дочь, полагаю, ваша обходительность и всесильные чары станут надежной защитой и оградят драгоценную жизнь вашего отца. — Я вас не понимаю! — Да понимаешь, дочь моя, и очень даже хорошо понимаешь. Генерал Масео — тоже мне генерал! — ни в чем не отказывает полковнику Карлосу… Тоже мне полковник!.. А господин Карлос Вальенте, этот черномазый негодяй, ни в чем не может отказать донье Кармен Агилар-и-Вега. Так что я не подвергаюсь никакой опасности. Кармен бестрепетно парировала удар: — Я скажу вам даже больше, отец, риску подвергались все, кто, как и вы, боролись с врагом, но их он не щадил, а вашу жизнь — знайте же это! — оберегали. — Вы хотите сказать, что меня спасало это скопище оборванцев? — Да, именно так. — Но это же подло! Тогда я должен сам себя возненавидеть. Мне подарили жизнь эти бандиты? Эти негритосы? Этот Карлос Вальенте Сын рабыни, негодяй в погонах?! Тогда я опозорен! — Мой друг детства выполнил долг честного человека. — Человека? Он же нечисть! Четвероногое животное! Горилла! И вы, утонченная девушка, вы его любите?! Выдержав поток ругательств, обрушенных на ее голову и ранивших сердце, Кармен ответила слегка дрожащим голосом: — Да, я его люблю! — Христос тебя покарает Ты не достойна носить мое имя. Ты мне больше не дочь. Вне себя от ярости, от попранной гордости, забыв о любви и достоинстве, полковник схватил лежавший поблизости хлыст и, замахнувшись, собрался ударить Кармен по лицу. Та, гордо посмотрев, удивительно спокойным голосом произнесла: — Вы забываете, дон Маноэль Агилар-и-Вега, что я женщина! — Негритоска! Самка животного! Он собирался хлестнуть ее, когда в дверь вошел, с трудом держась на ногах, мертвенно-бледный мужчина. То был привлеченный шумом Мариус. Рядом с ним стоял пес Браво. Увидев занесенный над головой Кармен хлыст, Мариус заорал: — Подлец! Заметив на моряке рваную форму повстанческой армии, дон Маноэль, рассмеявшись, крикнул: — Ко мне, Кристобаль!.. Сципион!.. Зефир!.. Мартино!.. Ко мне!.. Хватайте этого мерзавца! Его нужно расстрелять, расстрелять в спину, как предателя! В зал ворвались семь или восемь вооруженных. Пес оскалил огромные клыки и напрягся, готовый прыгнуть. Мариус схватил деревянную скамейку, поднял здоровой рукой и закричал: — Меня не расстреляешь как мелкого воришку… Эй! Вперед за старушку Францию!
ГЛАВА 19
Опять Воду. — Культовая церемония людоедов. — Танец. — В судорогах — Возмутительное зрелище. — Безумное пьянство. — Посвящение. — Новообращенные. — Поцелуй змея. — Решительный момент.А там, в храме Воду, поначалу казавшееся нелепым зрелище превращалось в нечто страшное и трагичное. Девушки, еще не совсем пришедшие в себя от выпитого зелья, со страхом следили за быстро сменявшими друг друга действиями. После нестройного пения, — от него завыли бы даже собаки, — папароль произнес какие-то таинственные заклинания, которым, трепеща от дикого восторга, внимала орда идолопоклонников. Отвратительный жрец, очевидно, пообещал устроить праздник, невообразимый пир для дикарей: у присутствующих заблестели глаза от мерзкого вожделения, все с выражением нечестивого ликования на лице повернули головы к трем жертвам, неподвижно, словно скот на бонне, лежавшим на полу. Мамароль резко свистнула. Тут же раздался ответный свист, впрочем, скорее похожий на скрежет пилы. Жрица, на чьей голове блестела диадема, а шею, грудь и плечи покрывали обширные платки из красного шелка, направилась к клетке, где ползал огромный священный уж — живое воплощение Воду. Не успела женщина сделать и нескольких шагов, как ее охватило волнение, все более и более возраставшее по мере приближения к клетке. Голова и плечи ходили ходуном, лицо дергалось, а костяшки пальцев трещали наподобие кастаньет[292]. Папароль взял тамбурин с бубенчиками, схожий с барабаном, и начал бить в него сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Уж свертывался и развертывался, громко свистел, кружился по ставшей тесной для него клетке. Постепенно втягиваясь в действие, собравшиеся приходили во все большее неистовство. Мужчины и женщины повторяли движения и жесты старухи. На ее губах выступила пена, блуждающие глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит, изо рта вырывались сдавленные звуки, тело сводили дикие судороги. Потом, точно обезумев, она принялась скакать, подражая четвероногим, кружиться, вертеться, подпрыгивать, испуская неистовые вопли. Войдя в раж, мамароль срывала платки и бросала в толпу, та разрывала ткань на куски. Вскоре на жрице не осталось ничего, кроме какой-то прозрачной накидки, через нее просвечивало костлявое туловище. Внезапно папароль перестал бить в тамбурин и открыл дверцу клетки, где извивалась змея. Та выскользнула и, бросившись к мамароли, обвилась вокруг ее тела. Толпой овладело исступление. Прижавшись к телу фурии, змея как бы слилась воедино с ее живым скелетом. Плоская вытянутая голова пресмыкающегося раскачивалась, почти касаясь впалых щек старухи, а раздвоенный язык тянулся к ее губам, покрытым пеной и кровью. Долорес, Фрикет и Пабло с отвращением следили за омерзительной сценой. Все еще не в состоянии пошевелиться из-за выпитого зелья, — которое, однако, не подействовало на рассудок, — охваченные смертельной тревогой, они молили о вмешательстве Провидения[293]. Их положение было ужасающим. Оказаться во власти чудовищ, намерения которых — увы! — не оставляли сомнений, и быть не в состоянии шевельнуться, что-то сделать для своего спасения, призвать на помощь! Быть лишенными даже способности защищаться, какой наделены и самые сильные, и самые слабые существа — птицы и насекомые, что до самой смерти отбиваются, пуская в ход клюв, когти, жвалы[294] и жала! А они, молодые люди, абсолютно беспомощны! Такие муки выше человеческих сил! Но они еще не до конца испили чашу страданий. Шел лишь первый акт драмы, жертвой ее неизбежно станут трое мучеников. Не имея никакого представления о морали, людоеды неторопливо совершали варварские ритуалы[295], предаваясь невиданному беснованию в ожидании омерзительного пиршества. Неистовство мамароли передалось части присутствующих. Они выли, извивались, дрыгали ногами, размахивали руками. Некоторые, не в силах более участвовать в дьявольских игрищах, падали в обморок и, как в приступе каталепсии, растягивались на полу. А адский хоровод все кружился и кружился. Были и такие, кто в трансе прыгал по лежащим, разрывал на них одежду, их ногтями царапал себе кожу, кусался и, подобно вампирам[296], прижимался губами к чужим ранам, источавшим кровь. Жестяные сосуды с жидкостью, пахнущей спиртом, переходили из рук в руки. Мужчины и женщины пили большими глотками. Опьянение еще больше усиливалось с исступлением, охватившим вначале самых слабых. Те, что посильнее, тащили их, ухватив за руку или ногу, укладывали по окружности зала, оставляя свободное место для мамароли, та все кривлялась в объятиях ужа. Прошу прощения за эти отталкивающие подробности! Хотя в нашу эпоху утонченной культуры они и кажутся невероятными, но существуют. Все, о чем здесь говорится, почерпнуто из самых надежных источников и должно найти место в этом достоверном описании. Среди опьяненных кровью и алкоголем животных выделялась небольшая группа перепуганных людей, что явно не знали, как себя вести. Они казались чужаками на празднике: не принимали участия в развлечениях и выглядели новичками, ждущими посвящения. То действительно были новообращенные. Мамароль опустилась наконец в изнеможении перед клеткой. Змей, как хорошо выдрессированное животное, вернулся к себе в жилище, а фурия, подобно марионетке[297] с порванными веревочками, осталась лежать без движения. Папароль, отбросив тамбурин, знаком подозвал желающих приобщиться к культу. Он нарисовал на полу черный круг, куда приказал им войти, и обратился с краткой речью, сказав, что Воду, внемля мольбам, примет их в число своих избранников. Колдун описал несказанные радости, уготованные им при исполнении ритуальных действий, и объявил, что новообращенные примут в них участие сразу же, как получат символический поцелуй змея.Они станут тогда детьми африканского бога и будут участвовать в пиршествах, во время коих Воду угощает вкусным мясом «безрогого козленка». Наконец он призвал быть верными Богу, слепо подчиняться папаролям, отказаться, если таков будет приказ, от отца, матери, жены и детей. Все поклялись, что в случае необходимости принесут в жертву божеству самых дорогих людей. На этом чудовищном пункте папароль настаивал особенно, и — уверяю — он выполняется чаще, чем это можно было бы ожидать. В ходе громких судебных процессов было доказано, что дети отдавали Воду родителей, а бессердечные матери приносили в жертву омерзительному божеству своих малолетних детей! Когда новички дали клятву, папароль дотронулся до каждого палочкой и затянул африканскую песню. Ее подхватили все присутствующие. Новообращенные, корчась от судорог, тут же начали танцевать. Им дали выпить, и вскоре они были так же перевозбуждены, как и остальные. Папароль, тем не менее, следил за тем, чтобы они не впали в состояние каталепсии. Если он замечал, что кто-то вот-вот начнет кататься по полу, то со всего размаху бил кнутом. Тот взвизгивал и тут же успокаивался. Когда вдосталь натанцевались, наорались и напились, жрец открыл клетку и свистнул змею. Уж послушно обвил его тело, выставив вперед голову, будто собираясь укусить. Первый из подошедших новичков не колеблясь подставил губы; мерзкое животное лизнуло их черным раздвоенным языком! За ним последовал второй, третий, четвертый. То ли потому, что пятый не понравился ужу, то ли папароль решил показать, что Воду не слепо принимает в свое лоно верующих, но колдун, по-видимому, науськал змея, и тот, широко разинув пасть, вонзил с невероятной быстротой в горло новообращенного острые изогнутые зубы. Хотя они и не ядовиты, но весьма опасны, особенно если змей крупных размеров. Несчастный успел лишь сдавленно вскрикнуть. Лицо и тело у него стали серыми, и он упал — из перекушенной в двух местах сонной артерии полилась пенистая кровь. Папароль разразился нарочито-демоническим смехом. Наклонился над агонизирующей жертвой, прижался губами к ране и стал с жадностью втягивать в себя кровь. Насытившись, он издал звук, напоминавший кудахтанье. Это вывело мамароль из состояния оцепенения. Старая ведьма, покачиваясь, встала и в свою очередь принялась высасывать кровь несчастного — тот уже почти не двигался. После старухи черед понаслаждаться наступил для нескольких избранных, они вытянули все до последней капли. Затем обескровленное тело окружили людоеды. Громко крича, они требовали, чтоб им отдали останки для пиршества… Папароль, показывая с насмешливой улыбкой то на труп, то на двух застывших от ужаса девушек и ребенка, воскликнул: — Оставьте! Оставьте этого чернокожего ястреба с жестким мясом. Плоть белых козочек и безрогих козлят значительно приятнее Воду и вкуснее для его избранников. Слова папароля встретили рычаньем, прыжками, скрежетом зубов. — Да, да… Ты прав, папароль! Сначала безрогого! Безрогого! Фрикет и Долорес понимали, что настал страшный час. Они окаменели, но вскочили на ноги, когда папароль схватил ребенка. Маленький Пабло душераздирающе закричал при прикосновении чудовища, что зажало его в своих объятиях. Нервный шок, нейтрализовав действие наркотика, вывел пленниц из оцепенения. Внезапно к ним вернулся дар речи. — Остановитесь!.. Остановитесь, безумные! — закричала Фрикет в отчаянии. — Вам не удастся убить этого ребенка! Долорес всячески поносила каннибалов по-испански, переходя от мольбы к угрозам. — Поосторожнее!.. Нас разыскивают. За нас жестоко отомстят. Несмотря на одурение в голосах, на суеверия, не все поклонники Воду стали законченными негодяями. Вероятно, горячая мольба пробилась через толстую кожу животных к человеческому сердцу. Возможно, и страх возмездия притупил их отвратительное желание. Многие понимали, что подлежат судебному преследованию и что рано или поздно может настать отмщение. Но папароль думал иначе. Зная о поддержке негра Сципиона, — тот помог выкрасть девушек и ребенка, но признался в сговоре с хозяином и потому был уверен в безнаказанности, — жрец быстро положил конец робким проявлением жалости и страха, зародившимся в душах сообщников. «Гнев Воду падет на тех, кто поверит речам белых женщин», — заявил он. Этого было достаточно. Девушек и мальчика уже ничто не могло спасти… Папароль подал знак: веревка заскрипела, вращая шкив, и опустилась над каменным алтарем. Колдун накинул петлю на щиколотки маленького Пабло и схватил нож. Фрикет и Долорес, вне себя от ужаса, попытались освободиться от пут, но только до крови ободрали кожу. Папароль занес нож над мальчиком. У всех троих пленных вырвался нечеловеческий вопль…
ГЛАВА 20
Первый удар. — Браво, Мариус! — Бесполезные мольбы. — Выстрел. — «Вот так-так!.. Это же дорогой капитан Роберто!» — Отправление. — Объяснение. — По следу. — Раненая собака. — Тревога. — Выживет ли она? — Предсмертный стон. — Вперед!Серьезно раненный Мариус, ослабев от потери крови, едва держался на ногах. Оказавшись лицом к лицу с восемью вооруженными мужчинами, он решил не сдаваться и заставить их дорого заплатить за свою жизнь. Напрасно Кармен просила пощады! Напрасно бросилась она на колени перед отцом, умоляя его смягчиться. Испанец в ответ лишь разразился злым хохотом, более оскорбительным, чем пощечина. Резко оттолкнув дочь здоровой рукой, он приказал тоном, не терпящим возражений: — Эй вы, там, исполняйте приказание! Первым бросился негр Сципион, гигант ростом в шесть футов[298], будто высеченный из единого куска черного дерева. Его лицо с приплюснутым носом выражало крайнюю жестокость. — Лапы прочь, черномазый! — закричал Мариус. — Прочь лапы, а то убью! Негр по-звериному зарычал, физиономия перекосилась. Рассчитывая на легкую победу, он вытянул вперед когтистые лапы. Мгновенно собрав последние силы, матрос шарахнул его со всего размаху скамейкой. Удар был так силен, что она разлетелась на мелкие куски. У негра, как от удара топором, подкосились ноги, и он рухнул в лужу собственной крови. Обессилев, Мариус закачался и, чтобы не упасть, схватился за штору. Кармен попыталась загородить его своим телом. Все это не заняло и нескольких секунд. — Ко мне! Ко мне, Браво… — слабым голосом позвал Мариус. Огромный пес обвел злобными глазами вооруженных людей, как бы ища врага, свирепо зарычал и прыгнул на негров, мигом прокусив одному ногу до кости. Тут же пес набросился на второго и опрокинул его. Но удар лезвия заставил пса отпустить жертву. Подстрекаемые криком хозяина: «Убей!.. Убей!..» — негры, выхватив сабли, налетели на пса. Кармен не могла оказать им сопротивление — сбив и ее с ног, обезумевшие мерзавцы стали пинать и бить сеньориту. Но тут в приоткрытую дверь просунулась направляемая невидимой рукой винтовка. Вспышка. Оглушительный выстрел. Один из нападающих свалился на тело Сципиона. Раздались еще два выстрела, на этот раз более сухие и не такие громкие. К Мариусу бросился мужчина с еще дымящимся револьвером в руке. — Ей-ей! — сказал он радостно. — Кажется, мы пришли вовремя. — Вот так-та́к! Это же дорогой капитан Роберто, — произнес провансалец, глубоко вздыхая. — Здо́рово сработано! За капитаном в комнату ворвался десяток солдат с примкнутыми к винтовкам штыками. Пятеро нападавших, не то мертвые, не то серьезно раненные, лежали уже на полу. Оставшиеся трое при виде солдат улизнули, забыв о хозяине. Дон Маноэль остался один в окружении врагов. Заметив, что Кармен никак не может встать, молодой офицер подал руку, мягко спросив: — Надеюсь, сеньорита, вы не ранены? — Нет, мой друг, нет… Но мне стыдно и страшно… Уведите меня отсюда! Уведите!.. Солдаты, направив штыки на полковника, ждали приказания своего командира. — Убрать оружие! — скомандовал молодой офицер. Затем, вскинув руку к шляпе, он с достоинством обратился к дону Маноэлю: — Полковник, вы свободны… Тот, всем видом выказывая пренебрежение, высокомерно ответил: — В отличие от вас я офицер не армии негодяя, наглеца и бандита. Сила на вашей стороне… Я не хочу быть вам обязанным свободой. Пусть головорезы меня прикончат! Для меня лучше быть убитым, чем стать вашим должником. Это оскорбительно. Капитан, верный долгу, не счел возможным возразить обезумевшему глупцу. Понимая, что гибель ему не грозит, полковник остался в комнате. Собака не отходила от умирающих, сейчас она поднялась, обнюхала вновь пришедших, признала в них друзей и с жалобным повизгиванием улеглась у ног Мариуса. Матрос заметил, что пес ранен, возможно даже опасно. Погладив Браво по голове, он заговорил с ним как со все понимающим человеком: — Здорово нас покорежили, друг!.. Никуда мы с тобой не годимся! Не обращая больше внимания на полковника Агилара, ругавшегося в пространство, капитан обратился к Кармен в ожидании приказаний. Но, еще не придя в себя, девушка лишь повторяла: — Уйдем отсюда!.. Умоляю, уйдем!.. В первую очередь уведите Мариуса!.. Любой ценой уведите его отсюда!.. Его жизнь в опасности… Вы же видите… — Вы можете идти, матрос? — спросил офицер. — Попробую, капитан. — Впрочем, вот мои люди. Если нужно, они понесут вас. Офицер и девушка быстрым шагом направились к выходу из комнаты, наполненной дымом пороха. Однако дон Маноэль и тут не удержался от издевок: — Моя дочь удаляется в компании разбойников… Донья Кармен, которая не достойна своего имени, идет на сговор с врагами отца и родины… Что ж, пусть будет так!.. Уходите!.. Уходите все, мерзавцы, канальи, грабители, бандиты!.. Напрасно вы меня щадите… Я отомщу так, как вы этого заслуживаете. В передней Кармен, едва держась на ногах, схватила капитана за руку и встревоженно спросила: — А Долорес?.. Фрикет?.. Пабло?.. — Мы обшарили все окрестности. Никаких результатов, — с грустью ответил Роберто. — Вы ничего не нашли? — Ничего! Ни малейшего следа! Тогда-то я и решил вернуться сюда за собакой маленького Пабло. — А это мысль… Пожалуй, это единственный шанс на успех. — Она уже помогла спасти храброго Мариуса. — Нет, капитан, это вы храбрый и — слово тулонца! — можете на меня рассчитывать! — вставил моряк, выбравшись за ними. — Действительно, — сказала Кармен, не ответив на сей раз провансальцу, — этим собакам нет равных, когда нужно идти по следу Пес наверняка отыщет своего маленького хозяина. Да где же он? Браво!.. Ко мне, песик!.. Браво! Из зарослей донесся жалобный стон. Собака, с трудом пробравшись через кусты, хромая, подошла к Кармен. Девушка погладила ее, провела рукой по боку и почувствовала, что псина измазана чем-то теплым и липким. — Боже мой! Браво, кажется, в крови. Собака облизнула ей руку и снова заскулила. Тогда Кармен вспомнила, что, когда Браво защищал Мариуса, его ударили ножом. Она вздрогнула при мысли, что храбрый пес, ставший их единственной надеждой, может погибнуть. Солдаты с капитаном во главе и сеньорита уже подходили к огневой точке. Собака до этого все время скулила, а сейчас заволновалась. Она стала принюхиваться, тыкаться носом в сучья, иногда даже покусывать их, как настоящая ищейка. Кармен, знаток псовой охоты, подбадривала, приговаривая. — Ищи, Браво!.. Ищи здесь!.. Это Пабло, твой маленький хозяин! Пабло! Ищи Пабло! Услышав имя мальчика, ищейка нежно взвизгнула и, несмотря на боль, бросилась вперед. — Она взяла след, — радостно воскликнула Кармен. — Мы должны лишь идти за ней. Все, однако, оказалось не столь просто. Фанатики, утаскивая девушек и ребенка, действовали среди бела дня, что давало им возможность выбирать дорогу через кустарник. А Кармен и солдаты шли ночью. Да к тому же тащили оружие, снаряжение и несли Мариуса — тот был слишком слаб, чтобы идти. Матрос ворчал, ругался, отбивался. Было и смешно и трогательно слышать голос провансальца с его акцентом в кубинской сельве. — Дьявол вас подери!.. Оставьте меня здесь! Мои старые кости уже не отремонтируешь! Солдаты не обращали внимания на его мольбы, а капитан твердо заявил: — Что вы там говорите? Хотите, чтобы мы повели себя как последние подлецы? Вы наш, и если бы я вас теперь послушался, меня бы следовало тут же расстрелять! — Но — разрази меня гром! — я же ни на что не гожусь! Только мешаюсь… Из-за меня вы вынуждены идти медленнее… Бог ты мой!.. Несчастные дети! Их, возможно, пытают… А я, старая, никуда не годная скотина, путаюсь тут под ногами. Причитания Мариуса прервал сдавленный лай пса. Браво, с отличным нюхом, прямо-таки прилип к следу и шел по нему, невзирая на препятствия. Бесстрашная и неутомимая Кармен следовала за ним, даже не обращая внимания на хлеставшие ветки, царапающие колючки, камни и другие помехи. Она спотыкалась, падала и вставала, не жалуясь, не крича, вытирала рукой кровь и пот, покрывавшие лицо, и, задыхаясь, подгоняла пса: — Ищи, Браво!.. Ищи своего маленького хозяина! Ищи Пабло, псинка! Капитан Роберто шел следом за Кармен и мучился вопросом: почему до сих пор им не встретился никто из довольно большого отряда полковника Карлоса? Под началом Роберто ведь было около десятка солдат, выделенных из пятидесяти, которых Масео оставил Карлосу для поисков. Офицер все чаще и чаще подавал сигналы, по каким мамбисес узнавали друг друга в темноте. Ответа не было. Лес безмолвствовал. Роберто заподозрил, что солдаты Карлоса взяли не то направление и сейчас находятся где-то в зарослях, не зная, как разыскать его взвод. Это было очень плохо, шансов освободить пленников становилось значительно меньше. Правда, капитан не заколебался: человек решительный и энергичный, он прошел хорошую школу. Конечно, его не радовало, что придется действовать с незначительным числом людей: офицер опасался неудачи. Не смерть его страшила (он уже давно посвятил свою жизнь борьбе), а провал операции. Да еще время бежало так быстро! Прибудут ли они вовремя? И вообще, доберутся ли до места? Вся надежда оставалась на собаку. Ее инстинкт и необычайно тонкий нюх не вызывали ни малейшего сомнения. Но, к сожалению, она слабела на глазах, что приводило в смятение и Кармен и офицера. Дыхание пса делалось прерывистым. Иногда он падал и жалобно стонал. Кармен подзывала Браво к себе, гладила, подбадривала. Тот снова устремлялся вперед, полз, обнюхивая землю, обкусывая ветки, и опять стонал. Потом упал. По телу пробежали судороги, как при агонии. Кармен, ничего не видя от слез, села с ним рядом, приподняла огромную голову и заговорила: — Ну же, песик ты мой дорогой… Ну еще немного!.. Умоляю тебя, храбрая ты моя собака, ищи!.. Слышишь?.. Пабло!.. Пабло!.. Это имя вызвало у животного прилив любви и нежности, Браво завыл со скорбью, от какой леденеет сердце. И опять застонал горестно, мучительно, тревожно, словно говоря: «Не могу!.. Я умираю… Видишь же, не могу». — Эх, если бы у меня было хоть немного воды! — прошептала Кармен. Один из солдат, услышав, подошел с флягой. Нехватка влаги в этих местах часто приводит к плачевным результатам. Поступок парня был достоин наивысших похвал еще и потому, что стояла нестерпимая жара, а поблизости не было никакого источника. Кармен от всей души поблагодарила бойца. Собака жадно напилась и несколько успокоилась. Она снова взяла след. К счастью, идти всем стало легче. Они должны были вот-вот выбраться на поляну. Кустарник стал уже не таким густым. Над головой показались звезды, помогая лучше ориентироваться. Вскоре путники увидели примерно в двухстах метрах темное строение. Оттуда доносился гул голосов. «Здесь», — одновременно подумали девушка и офицер. Браво, задыхаясь от усталости, лег. Потом с трудом дополз до проклятого дома. Роберто зарядил револьвер и скомандовал: — Вперед! — Воду! Храм Воду! — зашептали в страхе повстанцы. И как раз когда капитан бросился к строению, вдали послышались выстрелы. Очевидно, то был Карлос со своими солдатами.
ГЛАВА 21
За топоры! — Освобождение. — Помилование. — Возмездие. — Еще одно нападение. — Бойня. — Жрецы и идолы наконец гибнут. — Мариус, Браво и Пабло. — Волнения. — Бдительность. — Окружены испанцами.Если бы с капитаном Роберто шли солдаты только из местных жителей, вероятно, никто не осмелился бы вызвать гнев Воду. Страх, внушаемый кровожадным божеством, был столь велик, что даже неверующие боялись поднять на него руку. К счастью, Карлос Вальенте, подбирая людей, взял с собой в основном американских волонтеров, высокорослых техасцев, не боящихся ми Бога, ни черта. Они не ведали, что такое паника, и были готовы к любым превратностям партизанской войны. Роберто забрал с собой семерых. Примкнув штыки, они ринулись вслед за капитаном. За ними последовали остальные солдаты. Добежав до входа, нападающие обнаружили, что он заперт на все замки. И тут ночную тишь разорвал крик женщины, зовущей на помощь. Нужно было срочно взламывать дверь. — Двоим взять топоры! — скомандовал капитан. — Остальные приготовьтесь стрелять! У каждого американца к поясу был прикреплен топорик с дубовым топорищем и широким лезвием. Он крайне необходим при ведении войны в лесистой местности. Но сперва попробовали сделать иначе. Солдаты поставили винтовки к стене и, разбежавшись, изо всех сил толкнули дверь. После трех ударов она развалилась надвое. В проем бросился возбужденный Браво. Тут же обрушился косяк. Вход открылся настежь, и взорам предстала банда перепуганных людоедов. Папароль в страхе опустил нож, занесенный над висевшим вниз головой Пабло. Десять солдат во главе с капитаном врезались в толпу идолопоклонников, оставив позади немало раненых и мертвых. Подбежали к алтарю, и офицер саблей перерезал веревку. Пабло, почти без сознания, упал ему на руки. Тут же Роберто увидел связанных, валявшихся на полу Долорес и Фрикет. Он тотчас освободил их и, протягивая ребенка Фрикет, сказал дрожащим от волнения голосом: — Мадемуазель, я никому не хотел уступить честь вернуть вам живым этого славного мальчугана. — Да благословит вас Бог, капитан, за то, что вы не дали совершиться чудовищному преступлению… Спасибо вам, сердечное спасибо за наше спасение… Спасибо и вашим смельчакам. — Роберто, — подхватила Долорес, — я вам признательна до конца дней, дорогой товарищ и соратник. А Пабло, не веря тому, что больше не висит вниз головой, не видит огромного негра с ножом в руке, и не зная, как выразить радость и благодарность, схватился обеими руками за голову офицера и поцеловал. — А меня, — раздался радостный, хоть и усталый голос, — меня никто не поцелует?.. Никто мне ничего не скажет? — Кармен! — с удивлением воскликнули Долорес, Фрикет и Пабло. — Это — главная ваша спасительница, — заявил капитан. — Сеньорита Кармен сделала больше, чем все мы вместе. Девушка, вне себя от счастья, горячо обнимала друзей, а капитан по-хозяйски оглядывал своих солдат и врагов. Людоеды постепенно приходили в себя. Заметив, что стоявших вокруг алтаря не так уж много — всего одиннадцать человек, — они решили дать отпор. Их-то было, по крайней мере, человек триста, да к тому же большинство вооружены мачете. Вполне можно было одолеть противника. Поняв, что намеченная жертва ускользает, папароль принялся незаметно собирать вокруг себя самых сильных, смелых и фанатичных приверженцев. Тихо, вкрадчиво он объяснил, что такого случая больше не представится. Три жертвы, да еще с белой кожей! Бог никогда не простит, если этих людей уведут. Нужно любой ценой снова завладеть ими. Когда папароль заметил, что ужас прошел и глаза негров снова загорелись от жадности, он поднял нож и зычно крикнул: — Смерть!.. Смерть солдатам!.. Те, кто умрут в борьбе за Воду, воскреснут. Смерть!.. Смерть!.. При этих словах, что так соответствовали их самому горячему желанию, возбужденные негры с воем бросились на небольшую группу чужаков. На редкость спокойным голосом капитан приказал: — Целься!.. Огонь! Десять выстрелов прогремели как один. Так, залпом, умеют стрелять только в отборных войсках. К тому же современное оружие имеет огромную пробивную силу. Каждая пуля, выпущенная в сгрудившихся людей, поражала, проходя насквозь, сразу пятерых или шестерых. Неудивительно, что от первого же залпа толпа поредела. Капитан снова скомандовал, но по-иному: — Беглый огонь! Воодушевленные результатом, солдаты начали стрелять, тщательно прицеливаясь. Совершенно случайно — папароль забыл об опасности — ни одна пуля его не затронула. Его яркие лохмотья обращали на себя внимание. Но он, взобравшись на табурет, под свист пуль сулил мертвым немедленное воскрешение. Один из солдат прицелился и крикнул: — Получай же, обманщик! Попробуй-ка воскреснуть! Череп папароля раскололся. Тело рухнуло на пол. Мамароль, увидев, что ее напарник убит, пришла в неописуемую ярость. В бешенстве закричав, она попыталась остановить своих людей, в панике ринувшихся к выходу. Старуха подбежала к клетке со змеем, схватила священное животное, воплощение божества; тот обвился вокруг ее тела, вытянув вперед плоскую голову. — Остановитесь!.. Остановитесь! — кричала она. — Бог этого желает… Бог вам приказывает! Смерть солдатам!.. Смерть! Но время чудес прошло. В грудь старой людоедки попала пуля, и она упала. Разорванный надвое тем же выстрелом змей какое-то время еще трепыхался, а потом затих. Смерть ворожеи и ее идола привели почитателей Воду в полное смятение. Все бросились врассыпную, толкаясь, давя друг друга, крича: — Ох, горе нам!.. Горе нам всем!.. Бог умер!.. Бог умер!.. Храм мгновенно опустел. Лишь кое-где среди трупов виднелись раненые и умирающие. Как всегда после насилия, наступила напряженная тишина. Сменив стоявший в зале невероятный шум и гам, она даже как-то давила. Раздался голос, идущий от входа, из той части храма, что была не освещена: — Ах ты, черт!.. Я добрался слишком поздно!.. А мне бы хотелось поколотить тех, кто продырявил мне корпус… — Мариус! — воскликнули крайне удивленные и обрадованные Фрикет и Долорес. — Марриюс! — чуть слышно повторил за ними Пабло, лежавший поодаль, протягивая руки к своему другу. Пока Кармен кратко рассказывала, как все произошло, пока солдаты на всякий случай возводили в глубине храма баррикаду из всего, что попадалось под руку, Мариус разыскал глазами собаку. — Пробоину тебе в борт!.. Великолепная пара калек!.. Неплохо бы нам дать костыли! Мальчик тоже увидел пса, любимого и преданного, разделявшего все его радости и невзгоды. Когда он заметил, что пес в крови и едва ползет, Пабло позвал уже громче: — Посмотри, Фрикет, эти злые люди хотели убить Браво… убить, как и Мариуса и меня… Теперь и матрос и собака сразу услышали и, конечно, узнали голос Пабло. — Малыш, мой милый малыш! — крикнул Мариус и, шатаясь, направился к ребенку. Пес, перестав выть, превозмогая боль, поковылял туда же. Он обогнал Мариуса, перебрался через несколько мертвых тел и, собрав последние силы, очутился возле маленького хозяина. Пабло смеялся и плакал, а пес лизал ему лицо и руки, повизгивая от охватившей его нежности. — Так… а я? Старого Мариуса никто не хочет обнять? Ну как, никто? Долорес и Фрикет подбежали к матросу. Они схватили его за руки, с любовью пожимая их, подставили плечо храброму и преданному другу, которого уже и не надеялись увидеть. — Мариус!.. Славный Мариус!.. Наконец-то вы с нами! — Это было не так легко, дорогие мадемуазели. Я долго буду помнить об охоте на огневой точке! Во время этих излияний, выглядевших особенно трогательно после пережитой опасности и на фоне валявшихся там и сям трупов, капитан Роберто действовал. Он достойно справился с самой трудной и неотложной частью задачи. Теперь предстояло соединиться во что бы то ни стало с солдатами полковника Карлоса и затем разыскать армию Масео. Офицер прекрасно понимал, с какими трудностями столкнется. Прежде всего, где находится полковник? Роберто вспомнил, что час тому назад, когда они собирались взломать дверь, издали доносились выстрелы. Стрельба велась довольно интенсивно, это свидетельствовало о наличии достаточно значительных сил. По-видимому, Карлос наткнулся на передовой пост испанцев, и те, естественно, его атаковали. Полковник, конечно, не отступил, и завязался настоящий бой. Капитан, выйдя из храма, прислушался. Стрельба продолжалась и вроде быстро приближалась к ним. В таких условиях уходить отсюда ночью с тремя женщинами, ребенком и раненым было явно опасно: они могли налететь на сражающихся. Офицер решил поэтому дождаться рассвета в храме: его стены служили надежной защитой от внезапного нападения. Из предосторожности он направил в разные стороны самых выдержанных и храбрых солдат, приказав обследовать окрестности и тотчас вернуться, если те заметят что-то подозрительное. Потом поставил у двери часового и вернулся в храм, где весело братались гражданские и военные, мужчины и женщины, освободители и недавние пленники. Солдаты развязали вещевые мешки и вытащили продукты, взятые еще в поместье. Съестного было достаточно, чтобы всем насытиться и еще оставить кое-что на следующий день. Ели с аппетитом. Все пребывали в хорошем настроении, невзирая на мертвые тела вокруг, на мучительные переживания, что еще не совсем улеглись. Так всегда бывает на войне. Поскольку никакой уверенности в завтрашнем дне нет, все — и радости и горе — принимается такими, как есть в данную минуту. Разведчики вернулись, не обнаружив ничего существенного. Капитан отправил на поиск еще двоих, настойчиво приказав вернуться до рассвета, его оставалось недолго ждать. Не прошло и четверти часа, как солдаты прибежали обратно, один с востока, другой с запада. — Что случилось? — с тревогой спросил капитан. — Мы окружены испанцами… Там целый полк! Они вот-вот будут здесь.
ГЛАВА 22
Поставщики повстанцев. — Ки-Уэст. — Нарушители блокады. — «Бессребреник». — История Бессребреника. — Яхта. — Опасения лоцмана. — Между двумя крейсерами. — Визит. — Не схвачены, не осуждены, не повешены. — Пропуск.Восстание на Кубе, жаждущей свободы, получало поддержку из источников, что находились исключительно вне страны. Как уже говорилось, повстанцев снабжали оружием, снаряжением, продовольствием, боеприпасами, присылали добровольцев Соединенные Штаты. Если бы не их помощь, война быстро бы завершилась поражением кубинцев. Добротные корабли с превосходной командой время от времени отчаливали от скалистых островков неподалеку от крайней точки Флориды, называемых Флорида-Кис. Об этих удивительных, поистине неповторимых рифах[299], протянувшихся на триста пятьдесят километров и образующих такую правильную дугу, будто она выведена инструментом чертежника, наслышаны многие. Рифы распадаются на несколько групп. Одна из них — острова Пайн, в их число входит и небольшой островок Ки-Уэст, ставший известным благодаря событиям на Кубе. Расположенный на самом западе, он занимает девять километров в длину и три километра в ширину. На этом маленьком клочке суши, чье значение изрядно превосходит размеры, находится город Ки-Уэст с населением в десять тысяч жителей. Этот порт на 23°32′ северной широты и на 84°8′ западной долготы является первоклассной военной базой. Он может принимать суда с осадкой в восемь метров, а укрывающий его форт[300] Тейлор насчитывает двести береговых орудий. Через городок двигается мощный поток транзитных грузов. Сюда, на стоянку в бухту, заходят многие пакетботы[301]. Временами здесь собираются чуть ли не все военные корабли Америки. Здешняя промышленность производит сигары и сигареты. На пятнадцати крупных предприятиях занято изрядное количество рабочих, в основном кубинцев. Нет поэтому ничего удивительного, что в Ки-Уэсте говорят как на английском, так и на испанском языках. Здесь также добывают соль и ловят зеленых черепах, из них готовят знаменитый англосаксонский суп. Наконец, Ки-Уэст славится своими бесстрашными моряками, их почему-то называют ureckers[302], хотя это славные парни и их было бы правильнее называть спасителями: ведь всю свою жизнь они вызволяют из беды корабли, ежегодно во множестве терпящие крушение в этих опасных для мореплавания водах. Именно из этих смелых и ловких матросов преимущественно набирали волонтеров для участия в прорыве блокады. Ки-Уэст находится на расстоянии ста тридцати пяти километров от Гаваны. Понятно поэтому, что дельцы-янки и кубинские патриоты избрали этот город как основной — точнее, единственный — пункт снабжения Острова в огне. Для корабля, развивающего скорость до пятнадцати — шестнадцати узлов[303] (а таких немало в торговом флоте Америки), такое расстояние — пустяк: его можно пройти за какие-нибудь пять часов. А это дает возможность различных маневров, позволяющих усыпить бдительность испанских крейсеров: выйти в море ночью, вернуться при первой же подозрительной встрече, снова быстро покинуть порт и так в конечном счете добиться успеха. Некоторые пароходы, особенно «Бермуды», «Президент Грант» и «Неустрашимый», стали в результате по-настоящему знаменитыми. Но какому риску они подвергались! Оказавшись в кубинских водах, в полной темноте, с погашенными огнями, они мчатся на сумасшедшей скорости, не опасаясь в любую минуту столкнуться с противником и пойти ко дну. Встреча с крейсером не обходится без пушечной пальбы. Прорывающий осаду корабль никогда не оказывает сопротивления, его оружие — лишь хитрость и скорость. А крейсер имеет дальнобойную артиллерию, способную вызвать чудовищные разрушения. Наконец, при захвате победитель завладевает судном, а команду без лишних слов вздергивают на рею[304]. Впрочем, такая перспектива не останавливает храбрых моряков, одновременно слывущих заядлыми бизнесменами. Дела есть дела. Янки недаром любят говорить: коммерция что война, без жертв не обходится. Все это входит в статью «доходы и расходы» при финансовой и промышленной деятельности, а также в человеческих отношениях. Итак, Масео сообщили о скором прибытии американского транспорта с несколько странным, к тому же малооправданным названием «Бессребреник»: помимо груза для прорыва блокады, на нем везли кругленькую сумму в десять миллионов золотом. Прекрасный подарок делал щедрый владелец корабля, он же и капитан. О том, кто это такой, Масео узнал из короткой записки. Мистер Бессребреник был истинным джентльменом, французом по происхождению, приключения его сделались широко известны. Оказавшись без средств к существованию, не имея даже приличной одежды, он когда-то покинул Нью-Йорк в одном потрепанном костюмчике, заключив пари, что объедет вокруг света без цента в кармане. На кон были поставлены два миллиона долларов — в случае выигрыша и его жизнь, если не повезет. Во время этого необычайного путешествия джентльмен сколотил колоссальное состояние: открыл богатые залежи минеральных масел, стал нефтяным королем, женился на очаровательной богатой женщине. В результате получил выигрыш и стал одним из трех миллиардеров, финансовых воротил, кем так гордится свободная демократия Америки. Впрочем, он был аристократического происхождения — принадлежал к старинному дворянскому роду. Звали его граф Жорж де Солиньяк. Граф славился светлым умом и золотым сердцем, был настоящим другом слабых и угнетенных, любил облегчать участь несчастных и со всей страстью поддерживал благородные начинания. Он еще раз доказал это, поддержав дело кубинской независимости, отдав повстанцам свои способности и внушительную сумму денег. Такова была суть пояснительной записки, где говорилось о новом друге свободной Кубы. Но не один Масео был хорошо информирован о нем — не меньше знали и испанцы, они повсюду имели шпионов. У кубинского генерала, правда, было перед ними одно преимущество: ему достоверно сообщили, в какую из ночей «Бессребреник» должен сняться с якоря в Ки-Уэсте. Испанцы, однако, не дремали: они направили в открытое море все корабли береговой охраны, крейсеры и пакетботы, вооруженные для захвата судов неприятеля, провели тщательно осмотр мин, поставленных на определенном расстоянии от берега. На побережье же великолепные позиции заняли войска генерала Люка — им предстояло предупредить возможность любой диверсии. И вот в назначенный день и час «Бессребреник» вышел в открытое море. Ведомая лоцманом[305], тщательно отобранным из самых смелых и умелых «морских разбойников» Ки-Уэста, великолепная яхта с изящным светло-серым, почти белым корпусом, украшенным золотыми полосами, шла со скоростью около двадцати пяти узлов. Такую развивают только торпедоносцы да пока еще немногие крейсеры флотов великих морских держав. Построенное с неслыханной роскошью, судно могло соперничать по своему убранству и элегантности с лучшими прогулочными пароходами. Оснащенное как трехмачтовая шхуна[306], оно способно было идти как под парусами, так и с помощью двигателя, а команда состояла из лучших мастеров маневрирования. Наконец, поскольку корабль, пожелай того хозяин, мог оказаться в пользующихся дурной славой районах, каждый член экипажа имел полное вооружение морского пехотинца, а на носу и корме стояли прикрытые просмоленными чехлами вращающиеся дальнобойные пушки. В мгновение ока миролюбивая яхта была способна превратиться в опасную боевую единицу. Судно шло среди бела дня с гордо развевающимся американским флагом на гафеле и с вымпелом яхт-клуба на грот-мачте. Впечатление складывалось такое, что на борту не было никакого противозаконного груза, у команды — самые мирные намерения и ни о каком прорыве блокады никто и не помышлял. На корме под тентом сидела группка людей, судя по всему, они совещались. Среди них был капитан и судовладелец господин Бессребреник, граф Жорж де Солиньяк. Высокий молодой мужчина с гордой осанкой и благородными чертами лица, спокойный и решительный. Рядом удобно расположилась в кресле-качалке его жена, графиня де Солиньяк, миссис[307] Клавдия, как ее почтительно называли. На ней был изящный спортивный костюм. Белокурая красавица походила на добрую фею, охраняющую волшебный корабль. Напротив супружеской пары в почтительной позе стояли помощник капитана и лоцман, о чем-то вежливо споря с мистером Бессребреником. Лоцман предлагал причалить к одному из рифов. Он утверждал, что сможет провести там яхту, а испанские крейсеры ни за что туда не проникнут. Бессребреник улыбался, но не соглашался: — Да нет! Зачем же нам спасаться бегством, прятаться?.. Будем действовать в открытую… Это и проще, и удобнее, и надежнее… Лоцман, не очень вникнув в замысел хозяина, считал, что все же нужно, используя способность яхты, развивать огромную скорость, уйти от военных кораблей. Его речь прервал пушечный выстрел, раздавшийся где-то в море. — Слишком поздно! — воскликнул он. — Нам велят остановиться, — весело сказал Бессребреник. — Ну что ж, давайте выполним приказ. — Как же так, капитан? Ведь станут осматривать все вплоть до трюма, найдут армейский груз, золотые монеты… — Вероятно… — И нас схватят, тут же предадут суду и повесят… — Да нет, дорогой мой! Вы преувеличиваете, испанские офицеры не такие уж безжалостные. Вы скоро убедитесь, что они любезны, приветливы и покладисты в делах. Скрывавшийся за рифами крейсер выскочил как чертик из коробки и на полной скорости помчался к замершей на месте яхте. — Смотрите-ка, — спокойно сказал Бессребреник, — там два корабля: один дал залп из пушки, а другой стоял в засаде как раз там, где вы собирались причалить. Лоцман покрутил, как курица, шеей и стал расстегивать воротник рубашки, будто почувствовав на горле веревку. Капитан Бессребреник по-прежнему улыбался, а его жена, покачиваясь в кресле, с любопытством следила за маневрированием чужого военного корабля. Он остановился в пяти-шести кабельтовых[308] от яхты. В спущенную на талях[309] шлюпку сели вооруженные матросы. Навалившись на весла, они взяли курс на «Бессребреника». — А вот и визитеры, мистер Адамс, — с усмешкой произнес капитан де Солиньяк. И тут же скомандовал: — Спустить трап по правому борту! Через пять минут шлюпка подошла к яхте. По трапу ловко поднялся капитан второго ранга с двумя матросами. Граф встретил его у трапа вежливо, но с некоторым высокомерием. Отдав честь, спросил, чем вызвано посещение. — Вы капитан? — спросил испанец. — Капитан и судовладелец. — Вам известно, месье, что всякое судно, оказавшееся в водах Кубы, обязательно проходит досмотр? — Известно. Рад принять вас на работу. Прошу следовать за мной. Начнем, если не возражаете, с моей каюты. Офицер кивнул в знак согласия и, по-военному поприветствовав графиню, направился к трапу на юте. Вместе с хозяином они прошли через роскошный салон в небольшое помещение, служившее кабинетом и курительной. На столе прямо на виду лежали несколько пачек зеленых купюр, которые американцы называют greenbacks;[310] они имеют хождение на всех рынках мира. Бессребреник, жестом пригласив гостя сесть, сказал без околичностей: — Вы командир Родригес… — Да, капитан, и… — И вы проиграли позавчера кругленькую сумму — пять тысяч долларов. — Это не имеет никакого отношения к моей миссии. Не понимаю, с какой стати вас интересуют мои личные дела. — А почему бы и нет? На досуге я занимаюсь благотворительностью. Мне не безразлична судьба храброго офицера, если он, проиграв под честное слово, не знает, чем рассчитаться. — Как же вы об этом узнали? — Ба! В Ки-Уэсе о Кубе знают все до мелочей. Итак, вы стои́те перед выбором: отдать долг или пустить пулю в лоб. Испанец опустил голову, не отвечая. — Так что́ бы вы сделали, — продолжал спокойно Жорж, — если бы кто-нибудь, не требуя никаких гарантий и расписок, одолжил вам эту незначительную сумму? — Все, что́ не входит в противоречие с моими обязанностями… — Хорошо!.. Вот пачка. В ней двадцать пять купюр по тысяче долларов… — Да, но я-то проиграл только пять тысяч… — Неужели я сказал пять тысяч?.. А не двадцать пять?.. Что-то я не в ладах с арифметикой… А впрочем, немногим больше, немногим меньше… Берите же, это вам на игру… Испанец побледнел. Какое-то время он стоял неподвижно: явно внутренне боролся сам с собой. Потом, тяжело вздохнув, потной рукой взял пачку. — Ну-ну, не стесняйтесь! — благодушно сказал Бессребреник. Командир нервно сжал greenbacks и, будто движимый таинственной силой, быстро засунул их в карман. — Что вы от меня потребуете? — спросил он резко. — Знайте… Я не пойду на сделку с совестью… Бессребреник взял еще одну пачку денег. — Двадцать три… двадцать четыре… двадцать пять… — подсчитывал он вслух. — Двадцать пять тысяч долларов… Да я ничего не требую… Я рад оказать услугу такому достойному и приятному джентльмену, как вы. Вот, возьмите еще пачку… Я подумал… У вас был бы слишком тощий кошелек… Чтобы попытать по-настоящему счастье, еще раз испытать судьбу, нужен какой-то запас денег. По лбу офицера катился пот. Он смотрел на купюры, ими соблазнитель похрустывал, разжигая еще большую алчность. Испанец уже перестал сопротивляться, думать о сделке с совестью и долгом. Едва не выхватив пачку, он спросил прерывающимся голосом: — Так чего же, в конце концов, вы хотите, капитан? — О, пустяк. Мы с женой ездим туда, куда нам в голову взбредет. Так вот, нам взбрело в голову — а это для нас что путеводная звезда — посетить Кубу. А сейчас там война. Могут возникнуть всякие осложнения. Мне бы хотелось получить пропуск… — И все? — И все! — Ну вы хоть скажете, что у вас на борту? Военной контрабанды нет? — Да ну что вы, командир! Разве графиня де Солиньяк и я, ее муж, похожи на пиратов? — Нет, разумеется. — Послушайте, командир, могу поклясться, что, как человек предусмотрительный, вы запаслись при отъезде документом за подписью главнокомандующего морскими и наземными войсками Вайлера. Там не хватает только вашего росчерка. — Вы правы. Увидев яхту, мы решили, что вы вряд ли принадлежите к числу нарушителей блокады… — Прекрасно! Вот перо и чернила. Будьте любезны, заполните бумагу. Родригес, думая о том, что у него в кармане лежит кругленькая сумма в пятьдесят тысяч долларов, судорожно вынул бланк, начертал несколько строк и протянул Бессребренику. Тот внимательно прочел:
«Нижеподписавшийся, капитан второго ранга испанского морского флота, штабс-капитан крейсера «Гуадиана», свидетельствует и удостоверяет, что яхта «Бессребреник», порт приписки Ки-Уэст (Северо-Американские Штаты), не имеет на борту никаких предметов, входящих в список контрабандных военных грузов. В удостоверение чего выдается настоящий сертификат.Подпись: РОДРИГЕС.
Пропустите в любое время предъявителя сего документа.Поскольку бумага была составлена по всем правилам — на бланке, с указанием должностей и печатями, — Жорж с удовлетворением мотнул головой. Мужчины поднялись на палубу. Граф, соблюдая правила этикета, проводил офицера до наружного трапа, где и распрощался. Когда шлюпка отчалила, капитан, повернувшись к лоцману, сказал: — Ну вот, мистер Адамс, теперь видите: нас не схватили, не отдали под суд, не повесили. Вы можете теперь вести судно в бухту, где ждут люди Масео, а быть может, и сам генерал. Встреча назначена на девять пополудни, а я — вы знаете — ни сам не люблю ждать, ни других заставлять. — Но, капитан, мне все это кажется каким-то наваждением. — Вам, янки?.. Да неужели? — Так что же вы все-таки сделали? — Просто немного облегчил свой сейф. А теперь в путь! Лоцман взялся за штурвал и скомандовал: — Go ahead!rel="nofollow noopener noreferrer">[311] И шхуна, теперь уже без всяких помех, снова пустилась в путь, чтобы доставить свой важный груз по назначению.Подпись: ВАЙЛЕР».
ГЛАВА 23
Масео и Бессребреник. — Благодетельница свободной Кубы. — На борту яхты. — Выгрузка сокровищ. — Управляемый воздушный шар. — Осмотр владений. — Отъезд Масео. — Предчувствия. — Отсутствие доктора и его возвращение. — Важное сообщение. — Изменение маршрута.Благодаря официальной бумаге, так ловко добытой Бессребреником, яхта получила возможность пришвартоваться в заранее определенном месте — в середине опасной для мореплавателей гряды подводных камней на северо-западе провинции Пинар-дель-Рио. Корабль сначала стал на якорь в небольшой бухточке. Он замер с погашенными судовыми огнями, под парами и мог в любой момент выйти в открытое море. Наступила ночь, яхта приблизилась вплотную к берегу. Издали доносились звуки ружейных выстрелов, их нет-нет да и перекрывал грохот пушек. Так продолжалось часа два, затем все стихло. На борту яхты, укрытой плотной тьмой, явно ощущалась тревога: чем закончится битва, от которой зависел успех экспедиции? Ожидание становилось с каждой минутой все тягостнее для тех, кто не ради наживы, а из самых благородных побуждений рисковал своей жизнью. На берегу, над разбивающимися о скалы волнами замелькали едва различимые тени. Матрос на катбалке тихо спросил: «Кто идет?» В ответ прозвучало: «Свободная Куба!», и кто-то стал насвистывать мелодию «Yankee doddle»[312] — Причаливайте! — раздался голос, судя по французскому акценту принадлежавший Бессребренику. Рифы в этом месте образуют нечто вроде отвесной стены, своего рода естественную набережную. Туда вместо трапа перекинули широкую доску. На нее с берега смело вступил высокий человек. Оказавшись на палубе, он, слегка привыкнув к темноте, увидел силуэт мужчины с протянутыми к нему руками. — Вы генерал Масео, герой кубинской независимости? — спросил Бессребреник. — А вы тот добрый француз, который поддерживает угнетенных, наш друг, граф Жорж де Солиньяк? Они обнялись, и Бессребреник повел партизана в салон, откуда не проникало ни лучика света из-за плотно закрытых люков. Посередине роскошного помещения стояла несколько заинтригованная миссис Клавдия. — Генерал Антонио Масео, — представил Бессребреник. — Графиня де Солиньяк. Гость учтиво поклонился, осторожно притронулся к протянутой женщиной руке и, растрогавшись, сказал: — Мадам, я не нахожу слов выразить бесконечную признательность благодетельнице свободной Кубы. Да благословит вас Бог за то, что вы вкладываете свое состояние в благородное дело! Ваш королевский подарок для нас особенно дорог, потому что вы здесь сами, среди мамбисес. Невзирая на опасности, вы дарите им теплоту своего сердца и улыбку! — Генерал, — ответила графиня, — идея, за осуществление которой вы так храбро сражаетесь, имеет в вашем лице достойных защитников… Добрые люди обязаны поддержать вас, оказать посильную помощь… Мы с мужем восхищены вашей борьбой… Та лепта[313], какую мы сегодня вносим, — лишь аванс… Нам хотелось бы стать финансистами свободной Кубы. Так ведь, мой друг? — Конечно, дорогая. Только не забудьте, что время бежит… Минуты равны часам, а часы — дням… Генерал, поскольку вы прибыли вовремя, значит, противник разбит?.. — Да… Отступают в беспорядке, — сказал Масео, с гордостью посмотрев на капитана. — Побережье освобождено, по крайней мере на сутки. — Великолепно! Сколько в вашем распоряжении людей? — Примерно шестьсот. — Хватит и трехсот для разгрузки золотых монет… Два миллиона долларов весят около трех с половиной тонн… По двенадцать килограммов на человека… — Целое состояние для парней, которые не получают жалованья, не имеют ни песеты и живут Бог знает как, чаще всего впроголодь! Однако не беспокойтесь: все до последнего сантима поступит в армейскую казну. Как сказал Бессребреник, время не стояло на месте. На яхте началась лихорадочная работа. Бояться было нечего ни с суши, ни с моря, и потому зажгли сигнальные огни — шла перевалка грузов. На палубу поднимали из трюма ящики с оружием, боеприпасами, снаряжением, а потом постепенно переносили их на берег. Солдаты Масео действовали быстро, но тихо, молча; все исчезало словно по волшебству, без шума, без суеты, в тайниках, что служили примитивными арсеналами[314], подпитывавшими мятеж. Испанцы так и не смогут их обнаружить. Вскоре на борту остались лишь стянутые болтами ящики с золотыми монетами, у каждого солдата были при себе пустые походные мешки и по две патронницы. Бессребреник подсчитал, что таким образом каждый сможет без натуги перенести примерно по шесть тысяч долларов. Их вес и объем были не так уж велики. Оставалось найти самый удобный и быстрый способ разделить примерно на равные части огромную гору золота и нагрузить солдат. Перевезти все разом было невозможно. Бессребреник решил поступить так. Он приказал вытащить на палубу все ящики с долларами и разложить золотые монеты тремя примерно равными кучами; потом велел собрать все баки и лопаты, какие имелись на борту, затем дал команду заполнять посудины и расставлять их по борту. Кочегары и их помощники, привыкшие к работе с углем, ловко загребали лопатами монеты, те, позванивая, стекали ручьями в банки. Восхищенные люди Масео не верили своим глазам. Они подходили один за другим к полным емкостям, пригоршнями брали оттуда монеты, набивали ими патронницы и мешки и удалялись. — Видите ли, генерал, разделение труда — только это помогает, — говорил Бессребреник, с любопытством наблюдая за ходом операции. Вскоре все было закончено. Ровно за сорок пять минут с корабля вынесли два миллиона долларов! Масео по вполне понятным причинам торопился уйти и уже собирался прощаться, когда Жорж остановил его. — Это еще не все, дорогой генерал. Я приготовил вам небольшой сюрприз. — Как? — спросил, улыбаясь, командир партизан. — Еще что-то? Вы за один день решили получить всю нашу признательность? — Мне просто хочется сделать вам памятный подарок… Одно превосходное устройство, чрезвычайно простое. Оно будет вам во всем послушно… С его помощью вы сможете перемещаться куда угодно, со скоростью поезда, не бояться снарядов, подниматься, опускаться, видеть передвижения противника. — Аэростат! — вне себя от восторга воскликнул Масео. — Да, аэростат, управляемый воздушный шар, обладающий поистине огромной вертикальной скоростью. Он поможет вам не только вести наблюдение: это — страшное боевое средство. — Да ведь он же обеспечит победу революции! — Или, во всяком случае, сыграет ту же роль, что и несколько армейских корпусов. — Но вертикальная скорость… Где мы возьмем газ? — Я вам оставлю его довольно солидное количество. Этот шар, дорогой генерал, имеет особенность: он сам несет резерв подъемной силы, которая одновременно служит и двигателем. — Не понимаю. — Все очень просто. Я решил не тащить с собой электрические аккумуляторы или какой-нибудь тяжелый и громоздкий мотор. Их трудно устанавливать, заменять, да и обслуживать. Я предпочел сжатый или, правильнее, сжиженный водород. — Великолепно. — Поняли, так ведь? Я привез незначительное по объему, но огромное количество газа. Это почти неистощимый запас. Емкости, куда он накачан под очень большим давлением, по форме и размерам напоминают снаряды со специальным вентиляционным отверстием. Короче говоря, это как бы газ в бутылках… Но в бутылках стальных, которые ни за что не взорвутся. — Прекрасно! — В общих чертах вы представляете, как действуют такие устройства? Достаточно к вентиляционному отверстию прикрутить соединительную трубку, и сжиженный водород начнет поступать в механизм управления и двигатель. Тогда газ, выход которого регулируется, даст нам силу, необходимую для маневров. И без всяких потерь, без всяких помех. Само собой, также без всяких трудностей производится накачивание газом аэростата. Наконец, когда бутылка пуста, ее можно наполнить порохом, а в вентиляционное отверстие ввинтить ударный механизм. Бутылка становится снарядом, сброшенным с корзины, он разрывается. — Ей-богу, что меня больше всего восхищает в вас — так это ваша безграничная изобретательность и неистощимая щедрость. — Давайте без комплиментов, дорогой генерал. Лучше соглашайтесь принять подарок, и все. Не велика заслуга помочь таким смельчакам, как вы, подающим прекрасный пример самоотверженности. Прошу вас только подождать несколько дней, и вы получите аэростат. Мне он сейчас нужен для осмотра земельных участков, моих владений на Кубе. Когда-то они были процветающими плантациями, а сейчас, наверное, — в жалком состоянии. А заодно, кстати, этот вояж позволит проверить, как воздушный шар действует. — Если угодно, я в вашем распоряжении. И еще хочу от имени всех, кто сражается за свободу Кубы, выразить вам бесконечную благодарность. А сейчас, месье, позвольте откланяться — нужно укрыть наши сокровища в надежном месте. — До скорого свидания, генерал. — До свидания, дорогой благодетель. — Я воспользуюсь ночью, чтобы наполнить шар газом и подняться на рассвете в воздух. Мужчины энергично пожали руки, и Масео направился к солдатам — они терпеливо ждали. Отряд тронулся и вскоре вышел из зоны, где в любой момент на него могли напасть испанцы. Через десять часов они уже находились вне опасности. Нагруженные золотом, мамбисес пересекли границы района, откуда недавно потеснили неприятеля генералы Дельградо и Ривера. Так что вроде им ничто не угрожало. Однако Масео томило неясное предчувствие. Не зная страха (недаром все его тело избороздили рубцы), нутром он угадывал опасность. Генерал по-прежнему был уверен в себе и полон решимости, но волей-неволей призадумался над причиной необычного, никогда им не испытанного ощущения. Как-то странно. Кажется, что меня убьют… Не оставляет мысль о скорой смерти… Я не боюсь, но это так некстати для родины, для меня лично! Как знать! Нужно бы отдать последние распоряжения… И он позвал своего близкого друга, своего alter ego[315], кто знал все его секреты: — Серано! Мне нужно с тобой поговорить. Серано! Доктор не отзывался. Окруженный штабистами, Масео позвал еще раз: — Серано… Куда же он подевался? Был рядом, когда я поднимался на яхту. Кто-нибудь видел его позже? Ему ответил состоявший лично при генерале юноша, сын другого героя борьбы за независимость Максимо Гомеса: — Генерал, он как раз в это время уехал… Ускакал на лошади… — Ты уверен, Франсиско? — Абсолютно уверен, генерал… Он ведь разговаривал со мной… Сказал, что отлучится ненадолго. Масео сделалось нехорошо, он словно что-то заподозрил. Возникла чудовищная картина измены… Неведомо почему он попадает в засаду. Враги торжествуют, бахвалясь как люди, избежавшие неминуемой гибели. Мечты генерала об освобождении рушатся… Но Масео тут же устыдился возникшего видения — это же оскорбительно для уехавшего друга! Ведь было столько доказательств преданности доктора идее свободной Кубы, его горячей любви к родине, его ненависти к Испании. Командующий вспомнил о давней их крепкой дружбе, братстве по оружию, перенесенных вместе невзгодах и общих надеждах… Пожав плечами, он пробормотал: — Подозревать Серано!.. Это даже не проступок. Это просто глупость! Он самый преданный человек. Сомневаться в нем — то же самое, что сомневаться в собственном отце. Послышался приближающийся цокот копыт. Раздались оклики: «Кто идет?» Да, то был он… Доктор Серано… Врач резко спросил: — Генерал!.. Где генерал? — Я здесь, мой друг, — откликнулся Масео. — Я так рад тебя видеть, я боялся, что с тобой что-то случилось. — Нет… нет… спасибо. У меня важное сообщение. Мы идем прямо в засаду… Там впереди тысячи три или четыре солдат. — Черт подери!.. Это серьезно. — Да, очень. Мне подумалось, что Люк только сделал вид, будто отступает, и я поехал ночью проверить. Сведения точные… Наступление начнется на рассвете. Их силы намного превосходят наши. — Ладно! Я изменю маршрут, и мы отойдем к Мариельской дороге, где основная часть войска. И тогда в бой!.. А тебе, мой дорогой друг, мой преданный товарищ, еще раз спасибо… Ты помог нам избежать ужасной опасности. Если бы Масео мог видеть в темноте, он бы заметил, как иронически улыбался доктор. И знать бы генералу, как радуется душонка этого иуды при мысли о награде, обещанной за предательство.
ГЛАВА 24
Героическая борьба. — Десятеро против трехсот. — Парламентарий. — Ответный удар. — Не Роберто, а… Робер. — Фрикет находит кузена. — Сын француза. — Отряд, обреченный на гибель. — Последние патроны. — Сдавайтесь!.. — Никогда! — Да здравствует свободная Куба!Итак, члены секты Воду, так жестоко наказанные капитаном Роберто с его маленьким отрядом, исчезли в ночи. Офицер остался с десятью солдатами, Мариусом, Фрикет, Долорес и маленьким Пабло внутри зловещего храма, чуть не сделавшегося местом чудовищного преступления. Перестрелка, — по-видимому, между бойцами полковника Карлоса и испанцами, — не прекращалась, лишь изредка ненадолго прерываясь. Звуки выстрелов раздавались все ближе, хотя точно определить расстояние до места стычки было трудно. Неожиданно в храм с криком вбежал часовой: «К оружию!» Человек во главе отряда, что выскочил на поляну, несомненно знал, что здесь находятся девушки и мятежники, всего-то взвод. Неизвестные весьма уверенно и дерзко атаковали. Нападающие явно превосходили численностью мамбисес, однако солдаты Роберто занимали прекрасную позицию. К тому же все они были храбрыми, дисциплинированными, закаленными в боях. Испанцы растерялись, когда их встретили дружным прицельным огнем. Им и в голову не могло прийти, что сопротивление окажется стойким. Они дрогнули и отступили в лес — дожидаться рассвета. К несчастью, у мамбисес, как обычно, было мало патронов. Зная это, капитан осмотрел патронницы. Оказалось, что каждый солдат может сделать не более десятка выстрелов. Роберто содрогнулся, но девушкам решил не говорить ничего. Нужно держаться. Если не прибудет поддержка, будем драться до конца. И да поможет нам Бог! Понимая, что новая атака неизбежна, он приказал пробить в стенах бойницы, у каждой поставил по солдату, повторив не единожды: — Стреляйте только наверняка. Зря патроны не расходуйте. Когда все приготовления — а они проводились с удивительным спокойствием — завершились, взошло солнце, залив окрестность необычайно ярким светом. И разразился бой. Испанцев было по меньшей мере человек триста. Они бросились к храму, теперь нисколько не сомневаясь в победе: ведь их было намного больше. И в самом деле, их встретили десятью выстрелами. Однако на землю упало десять бойцов. Атака не захлебнулась. Еще десять выстрелов. И еще десять трупов! Капитан тем не менее явно забеспокоился: врагов слишком много, даже если каждый выстрел поразит испанца, патронов на всех не хватит. Тем временем нападающие с бешеными криками подбежали к двери, стали колотить по ней топорами. Офицер подозвал пятерых солдат и приказал стрелять по самым активным. Заметив, что пули не пробивают толстые доски, но зато свободно проходят в щели между ними, Роберто крикнул: — Ложись! Все повиновались. Сам же он продолжал стоять с револьвером в руке. Поняв, что боеприпасы тают, и чувствуя, что все, кто находится в храме, вот-вот окажутся во власти безжалостного врага, офицер решил — хотя это ему и трудно далось — воззвать к состраданию противника. Не в отношении солдат или его самого, чья судьба была предрешена, а тех, кто безропотно и беспомощно ждал исхода — увы! — вполне ясного — этой беспощадной бойни. Он достал носовой платок, прикрепил его к концу сабли, добрался до слухового окна и замахал, прося начать переговоры. Огонь прекратился. Тогда капитан звучным голосом, что был слышен даже в последних рядах испанцев, закричал: — Здесь три женщины и ребенок. Их собирались принести в жертву Воду. Мы спасли их от смерти… Прошу вас, будьте людьми: сохраните жизнь этим невинным. Дайте честное слово, что они смогут спокойно уйти. С нами же делайте все что угодно. В любой другой стране при любых обстоятельствах такой благородный призыв возымел бы действие. Но не здесь. Раздался грубый, яростный ответ: — Огонь по этому крикуну!.. Огонь!.. Потом мы их всех выкурим как ядовитых тварей. При этих словах — они в установившейся на поле боя тишине прозвучали особенно громко — Кармен побледнела, она узнала голос отца! Десятка два винтовочных выстрелов раздались одновременно. Но капитан Роберто, осторожный как могиканин, предвидел возможность столь гнусного ответа. Едва только послышалась команда, он соскользнул вниз, и пули, никого не затронув, впились в крышу. Тогда, вне себя от гнева и возмущения, он прижался к бойнице и крикнул, выражая крайнее презрение к вероломному противнику: — Негодяи!.. Мерзавцы!.. Будьте прокляты!.. Пусть на вас падет кровь невинных! Офицер невольно вызывал восхищение: смелость солдата сочеталась у него с благородством чувств и истинным величием души. Он вытирал тонкую струйку крови на щеке, когда Фрикет с участием спросила: — Вы ранены? — Да так, пустяк, мадемуазель. Царапнуло камушком или кусочком свинца. Молодой человек ответил на великолепном французском языке, на диалекте, характерном для жителей берегов Луары. — Вы говорите как мой соотечественник, — заметила Фрикет с удивлением и нескрываемой радостью. — Ну, в этом нет ничего удивительного, мадемуазель. Я галл по происхождению. Моя фамилия не Роберто, а Робер… Вполне французская, как видите. — Да, но это же и моя фамилия! — Уж не родственники ли мы? — А почему бы и нет? — Я был бы счастлив. — И я тоже. Разговор был прерван стоном умирающего. Пуля попала в голову одному из солдат, стоявших у амбразур. Роберто бросился на его место. Но его опередила Долорес. Она подобрала заряженную винтовку и стала бить не хуже снайпера. — Подождите, — сказала Фрикет. — Мы можем еще немножко поговорить, пока идет перестрелка. Вы что-нибудь знаете о своей семье? — У меня точные сведения. Мой прадед, капитан в Сан-Доминго, служил в армии генерала Леклерка[316]. Он родился в Амбуазе, и у него был… — Брат… — Да. — Брат-близнец, и тоже капитан. — Да, все верно. Откуда вы это знаете? — …Братья были очень привязаны друг к другу и никогда не расставались… — Да… да… Все так. — Пока судьба их не разлучила. Одного из них, Жана, захватили в плен. — Он бежал, обосновался на Кубе и стал главой нашей семьи. — А другому, Жаку, удалось вернуться во Францию, и он основал мою семью… У нас хранится миниатюра, где они оба изображены в офицерской форме. — Копию с этой миниатюры благоговейно передавали от отца к сыну, она сгорела во время пожара в доме моих родителей… На обратной стороне там было написано пожелтевшими от времени буквами: «Моему любимому брату Жану». — Да-да… Совершенно верно! — Значит, без всякого сомнения, мы родственники… Господи, как в романе! — Мой милый кузен… — Моя храбрая и очаровательная кузина… — Объяснение в любви? — О! Так ненадолго… — Верно. Время бежит… как у приговоренных к смерти… — Считающих минуты… секунды… Снова сдавленный крик умирающего. Еще один мамбисес с разбитой головой рухнул на пол. Его винтовку подхватила Кармен, вставшая на то же место. — Молодец, подружка! — воскликнула Долорес, тут же выстрелив в неприятеля. — Теперь я понимаю, — произнесла сеньорита, — почему повстанческая армия все время пополняется. Я, испанка из старинного рода, воспитанная в духе ненависти и презрения к мятежу, теперь со всей искренностью скажу: «Да здравствует свободная Куба!» Между тем, как ни старательно и метко целились солдаты, боеприпасы подходили к концу. У защитников храма оставалось не более двадцати пяти патронов. А испанцы вдобавок прибегнули к новой тактике. Как только в бойнице появлялось дуло винтовки, по ней стреляли сразу двадцать пять — тридцать человек. Одна из пуль обязательно попадала в мамбисес. Вот и еще один из них с простреленной головой упал на два лежавших рядом мертвых тела. — Эй! Чтоб вас черти съели!.. Какая сейчас погода?.. Вроде гром гремит?.. А я тут хорошо дрыханул. То был всеми позабытый Мариус, он просто-напросто заснул под грохот перестрелки. Падавший с ног от усталости, маленький Пабло пристроился рядом со своим взрослым другом и с ребячьей беспечностью последовал его примеру. Их разбудил шум от падения убитого рядом бойца. Провансалец увидел, что мрачное здание наполнено дымом, а Долорес, Кармен и Фрикет стреляют из винтовок погибших солдат. — За дело, бездельник! — заорал он сам себе. — Из-за того, что у тебя дырка в животе, ты развалился как какой-нибудь кайман[317] на песке… А ну-ка, чертов моряк! Мамбисес падали один за другим под градом пуль. Просто чудо, что ни один выстрел еще не затронул ни девушек, ни капитана Роберто! Мариус подобрал валявшуюся винтовку и, не в силах стоять на ногах, пополз между мертвыми к амбразуре. Покачиваясь, плохо видя, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, он все же решил до конца выполнить долг солдата и человека. Оставшийся один маленький Пабло заплакал, слегка постанывая. Он обеими руками обнял голову собаки и, видя, что впервые в жизни пес не отвечает на его ласки, отчаянно закричал: — Браво!.. Мой песик!.. Это я! Твой друг… Твой Пабло… Браво! Ответь мне!.. Посмотри на меня!.. Ой, мой Браво!.. Ты не шевелишься… Ты совсем холодный… Мариус!.. Посмотри!.. Да посмотри же!.. Браво умер. Бедная собака, что помогала капитану Роберто спасать пленников, истратив все силы на поиски юного хозяина, растянулась у его ног, оберегая до своего самого последнего вздоха. У закаленного матроса защипало глаза, когда он увидел, как горюет его маленький друг. — Не плачь, мой цыпленок, — нежно сказал он. — Не плачь… Видишь, у меня сердце разрывается от боли… Мальчик вряд ли расслышал слова, хотя и догадался по интонации, о чем говорит Мариус. Но продолжал рыдать, уткнувшись носом в шерсть преданной собаки. Положение осажденных стало катастрофическим. Все мамбисес погибли. В живых остались только капитан, Мариус, три девушки и Пабло. Боеприпасы кончились. Все зарядили винтовки последними патронами. Уже недалек был конец необычного сражения. Наступал решительный момент. Сопротивляться было бесполезно. Оставалось лишь одно — смерть. Обороняющиеся собрались вокруг алтаря, напротив двери, по ней опять застучали топоры. Пожали друг другу руки и, опершись на винтовки, стояли, без страха ожидая конца. И вот дверь рухнула. В храм ворвались десятка два орущих во все горло солдат с винтовками наперевес. — Сдавайтесь! Сдавайтесь! — кричали они. — Никогда! — ответил им женский голос. — Никогда не сдамся врагам моей родины. Да здравствует свободная Куба! И Долорес Вальенте, от имени друзей ответив так гордо, сделала два шага вперед, вскинула винтовку и нажала курок. В ответ раздалось множество выстрелов. Героев-партизан окутало облако дыма и огня.
ГЛАВА 25
Пагубное доверие. — На пути к засаде. — Катастрофа. — Смерть Масео. — Только Франсиско Гомес остается ему верным. — Рядом с телом патриота. — Под кубинским знаменем, использованным как саван. — Шум победы.Доктор Серано столько раз доказывал преданность и верность кубинскому восстанию, в течение стольких лет был связан бескорыстной дружбой с Масео, что генералу и в голову не приходило усомниться в его порядочности. Не нужно считать наивным блестящего воина: твердость его характера, благородство, профессионализм, проницательность вызывали восхищение даже у врагов. Масео был неутомим в работе, терпелив, вдумчив, очень принципиален, но всегда снисходителен и справедлив. Он прошел суровую школу невзгод, хорошо знал людей и доверял далеко не каждому. Завоевать его расположение можно было только делами — такими поступками, которые не оставляли места для сомнений в намерениях их совершавших. Но уж тогда генерал раскрывался полностью, считая, что больше нет причин для подозрительности, какая вообще-то необходима ответственным за судьбы страны военным и политическим деятелям. Вполне понятно, Масео при сложившихся обстоятельствах, не раздумывая, поверил тому, что сказал доктор Серано. Иначе и быть не могло: ведь тот был его лучшим другом, его alter ego. Генерал изменил маршрут войска по совету доктора, добровольно взявшего на себя роль разведчика во время разгрузки «Бессребреника». Повстанцы отступили к горам неподалеку от Мариельской дороги, где Масео разбил настоящий укрепленный лагерь. Там располагались и вот уже месяц проходили обучение резервные части. Масео рассчитывал использовать их для захвата провинции Гаваны. Он собирался двигаться в лагерь иным путем и в иное время. Но поскольку дорогу захватили испанские войска — так утверждал Серано, — выбора не было. Масео и несколько всадников, среди которых были доктор и молодой адъютант Франсиско Гомес, ехали впереди войска. Светало. Пока ничего подозрительного не замечалось. Поход начинался спокойно, и генерал рассчитывал, что все закончится благополучно. Он по-дружески разговаривал с доктором: — Как же здорово, дорогой Серано, что тебе вздумалось пошататься и ты узнал и рассказал мне об опасности, которая нас поджидала! Спасибо еще раз, дружок, за твои усердие, сообразительность и храбрость. Доктор подергивал бородку, поправлял пенсне и ничего не отвечал: он же понимал, что совершил подлость. А Масео, принимая молчание за скромность, с улыбкой продолжал осыпать его горячими похвалами и словами признательности. Отряд подъезжал к густой пальмовой роще, стоящей среди кустарников нижней саванны. Вдруг доктор остановился и спрыгнул с лошади. — В чем дело? — спросил Масео. — Да ничего. Просто у меня седло что-то ерзает… Подпруга слабо затянута. Я сейчас… Пока предатель занимался выдуманным делом, солдаты ушли вперед метров на пятнадцать. Тут шагах в пятидесяти от них справа из пальмовой рощи появились белые облачка. Послышались выстрелы. Неожиданно Масео дернулся в седле и схватился рукой за грудь. На белом доломане[318] расплывалось большое красное пятно. Смертельно раненный, генерал покачнулся и отпустил поводья. — Меня убили!.. — пробормотал он. — Боже… сохрани… родину!.. Да здравствует свободная… Куба! Ударило и в лошадь, она, падая, потянула за собой всадника. К нему подбежал, что-то крича, изображая полное отчаяние, Серано. Людей из отряда прикрытия, в большинстве тоже раненных, охватила необъяснимая паника. Они, повернув назад, устремились к основной части войска, трусливо бросив командира. Только один остался верен генералу — Франсиско Гомес, достойный представитель своего героического рода. Он соскочил с коня и бросился к Масео. У того на губах выступила кровавая пена, и он уже никого не узнавал. Серано, решив до конца сыграть позорную комедию, подбежал к генералу и расстегнул доломан. Опустив голову, он воскликнул как бы дрожащим голосом: — Никакой надежды!.. Масео мертв!.. Пойдем, Франсиско, мы отомстим! Юноша, покачав головой, с возмущением ответил: — Пока я жив, убийцы не дотронутся до него! Не считая уместным возражать, Серано молча впрыгнул в седло и умчался. В это время несколько испанских солдат выскочили из пальмовой рощи и побежали к мертвому телу Масео. Ни один из них не выстрелил в Серано. На то у них были серьезные причины. Тот, кто замыслил и подготовил вместе с ними эту засаду, должен был остаться невредимым. В надежде, что кто-нибудь поможет ему вырвать из рук врага тело героя борьбы за независимость, юный Гомес приготовился драться один против всех. Держа в руках винчестер, каким были вооружены и офицеры и солдаты, он спрятался за лошадью и открыл огонь. Юноша, почти подросток, защищающий драгоценные останки от многочисленного, закаленного в боях отряда противника, производил величественное и в то же время трогательное впечатление. Это вызывало уважение даже у врага. Один из офицеров крикнул: — Отойдите!.. Мы вам не причиним зла… — Ни за что! — воскликнул звонко Франсиско. И продолжал стрелять по рядам атакующих. Кто-то упал. — Огонь! — скомандовал испанский командир. На бесстрашного солдата обрушился град пуль. Левая рука была в двух местах раздроблена. Лошадь, за которой он укрылся, свалилась. Франсиско обернулся и, увидев, что никто не спешит, да и некому спешить ему на помощь, сказал: — Здесь я и умру! Юноша лег, укрывшись за крупом теперь мертвой лошади, и, с трудом действуя здоровой рукой, снова открыл огонь. Противник — а его число росло на глазах — не остался в долгу. Стоявшие поодаль мамбисес, так и не поняв, что делать из-за противоречивых приказов, совсем растерялись. Франсиско Гомес, весь изрешеченный пулями, лежал бездыханный. От рощи, где в ожидании атаки укрывались пехотинцы, отделился отряд испанских кавалеристов. Командир, подъехав к телу генерала, спешился. Наклонившись, он сказал: — Да, это Антонио Масео. Это подтвердили и сопровождавшие его офицеры. Потом, убедившись, что генерал скончался, командир отсалютовал саблей и сказал взволнованно: — Господа, нашего самого опасного врага больше нет. Отдадим должное его останкам! И все последовали примеру командира, сверкнули лезвия. Затем вскочили на лошадей и вернулись в рощу. Тем временем повстанцы, еще недавно совсем растерянные, постепенно приходили в себя. Ужасное известие, полученное от отряда прикрытия и подтвержденное Серано, привело их в отчаяние. Его сменила безудержная ярость. Все — солдаты и офицеры — кричали: — Отомстим за Масео!.. Отомстим за Масео!.. Самые горячие, не дожидаясь приказа, бросились к телам погибших. За ними последовали и другие. Вскоре там уже сконцентрировалась бо́льшая часть корпуса. Испанцы цели достигли. Но силы их были уже на исходе. Поэтому они, отказавшись от мысли о новой атаке, из осторожности стали уходить в непролазные чащобы саванны. В общей сумятице никто не обратил на них внимания, и вскоре они оказались вне пределов досягаемости. Мамбисес положили на сооруженные наспех носилки генерала и его последнего и единственного защитника, прикрыли оба тела старым кубинским знаменем, в нескольких местах пробитым вражескими пулями. В лагере повстанцев царили отчаяние, горе и ярость, а испанцы шумно праздновали победу. Они ликовали слишком бурно, что не пристало смелым и благородным кастильцам. В Испанию тут же передали по телеграфу новость — и там торжествам не было предела. Смерть Масео отмечали как национальный праздник. Послания правительству, поздравления в адрес армии, банкеты, митинги, флаги, иллюминация. Казалось, что с гибелью генерала на Острове в огне восторжествует мир. Сорок генералов, семь тысяч офицеров, восемнадцать тысяч солдат оккупационной армии на Кубе решили, что освободились от ужаса войны, она унесла семьдесят тысяч жизней и пожрала пятьсот миллионов песет! Испания, одержав решительную победу, вновь обретала все свои права. Повсюду звучало слово «Победа!». Поздравления, повышения в рангах и чинах сыпались как из рога изобилия. Словом, и метрополию, и ее колонию поразил яд безумия только из-за того, что человек из народа, храбрец, кого презрительно называли негром, бандитом, попал в результате предательства в засаду и погиб! Но вскоре ликование поутихло: пришлось все же признать, что революция, хотя ей и был нанесен тяжелый удар, по-прежнему жива. Нужно было идти на принципиальные уступки, что удовлетворили бы мятежников и тем самым содействовали установлению столь необходимого мира. В начале войны, когда людей поразили ошеломление и отчаяние, требования мамбисес были не такими уж чрезмерными. Скорее всего, они удовольствовались бы полумерами, которые позволили бы надеяться на скорый конец бедствия, истощавшего метрополию и наносившего смертельный удар колонии. Но ничего подобного — увы! — не произошло. Война все шла и шла, и ей не видно было конца…
ГЛАВА 26
Кубинские героини. — Град снарядов. — Солдатские похороны. — Побег. — В гондоле «Бессребреник». — Охота. — Серьезная опасность. — Преследуемые. — Окруженные. — Под огнем пушек. — Агония. — Яхта. — Последний удар. — Бедная Фрикет!Были на Кубе такие женщины, что не боялись оказывать активную помощь повстанцам и даже храбро сражались в их рядах. Эти героини совершили немало подвигов. Вместе с солдатами они переносили нечеловеческие тяготы походов, участвовали в ужасных рукопашных схватках, умирали от пуль и болезней. Одной из самых известных среди них была Матильда Аграмонте-и-Варона, о чьей драматической кончине в свое время сообщил «Журнал путешествий»[319]. Молодая, красивая, богатая семнадцатилетняя Матильда принадлежала к кубинской аристократии, к одной из самых почтенных фамилий. Она потеряла отца и старшего брата, погибших во время большого десятилетнего восстания. Девушка осталась одна на плантации в Пуэрто-Принсипе и очень разумно ею управляла. Но как-то, вернувшись из поездки, она нашла сожженную усадьбу и убитых испанцами слуг. Вне себя от гнева Матильда помчалась к родственникам и добилась разрешения сражаться вместе с ними добровольцем. Вот при каких обстоятельствах погибла героиня, память о коей чтут все кубинские патриоты, прозвавшие ее Ангелом войны. Однажды Масео вел отряд к побережью, куда должны были по морю доставить оружие и боеприпасы. Вдруг откуда ни возьмись появилась группа испанцев. Их нужно было любой ценой остановить, иначе это грозило срывом операции, оказалось бы настоящим бедствием. Масео спросил солдат, есть ли добровольцы, готовые пожертвовать жизнью ради спасения братьев по оружию. Матильда первой вышла из рядов, подавая пример своим братьям и дядьям, и твердо заявила: — Мы готовы, генерал. Они сражались яростно, не проливая даром ни капли своей крови, и врагам дорого обошлась жизнь каждого из мамбисес. Они все погибли, но транспортное судно было спасено. Уже раненная, Матильда из последних сил продолжала сражаться. Только тогда до испанцев дошло, что на поле боя осталась женщина. Ей предложили сдаться. Она возмущенно ответила: — Лучше умереть!.. Да здравствует свободная Куба!.. Ее слова заглушили выстрелы. Долорес Вальенте и Матильда Аграмонте дружили, относились друг к другу как сестры. Обе были грациозны, красивы, энергичны. Обе любили родину. Их судьбы — увы! — тоже оказались одинаковыми. Узнав о смерти подруги, Долорес грустно сказала: — Я не увижу Кубу свободной… Я умру так же, как несчастная Матильда. Предчувствие не обмануло девушку. Она погибла почти при тех же обстоятельствах. Когда испанцы ворвались в храм Воду и потребовали, чтобы оставшиеся в живых сдались, Долорес, как в свое время Матильда, ответила: «Никогда!» — и стала стрелять по нападающим. Солдаты тут же открыли пальбу, и Долорес упала, не сказав ни слова, даже не вскрикнув. Испанцы, решив, что уничтожили всех укрывшихся в храме, заорали от радости. Но вдруг раздался сильный взрыв, и громкие «ура!», победные крики опьяненных порохом и резней людей смолкли. Сгрудившихся около двери нападающих разметало в разные стороны. Все заволокло густым дымом, сквозь его пелену кое-где виднелись искалеченные тела умирающих испанцев. Остальные со страхом взирали на это ужасающее зрелище, не понимая, откуда влетел снаряд (они не слышали грохота пушки). Снова послышался гул, и раздался еще один взрыв. Затем третий, четвертый… Направляемые с дьявольской ловкостью и точностью, таинственные снаряды все время попадали в самую гущу людей, оставляя после себя зияющие пустоты и сея невыразимый страх. Половина солдат уже лежали на полу, а оставшиеся в полной растерянности пытались спастись бегством, то бросаясь в сторону, кружась на месте, то мчась вперед, как охваченное ужасом стадо. Отовсюду кричали: — Спасайся, кто может!.. Спасайся!.. А несущие смерть снаряды продолжали падать. Кто-то наконец догадался посмотреть наверх, расслышав среди ругани слова: — Не с неба же они падают, эти проклятые снаряды. Вот именно, они падали с неба! Там, в высоте, величественно плыл аэростат. Он напоминал огромную морскую птицу — альбатроса или фрегата, — когда та, широко расправив крылья, неподвижно висит в воздухе, готовая в любой момент накинуться на добычу. — Воздушный шар!.. Вот проклятые!.. У них теперь есть воздушный шар! Проклятыми, судя по всему, обозвали патриотов: огромный флаг кубинской расцветки реял над аэростатом, вытянутым в длину как веретено. Итак, причину происходящего установили, однако страх от этого не исчез. Напротив, он усилился: разве справишься с этим новым ужасным орудием войны? — Спасайся, кто может!.. Спасайся, кто может!.. Ни призывы выполнить свой долг, ни приказы, ни мольбы, ни угрозы — ничто уже не могло остановить беспорядочное бегство, положить конец охватившей людей панике. Солдаты мчались кто куда, ничего не видя и не слыша, бросая оружие и надеясь лишь на собственные ноги. А аэростат, снабженный каким-то мощным и хитрым механизмом, начал с бешеной скоростью спускаться. Наконец он приземлился неподалеку от зияющего в стене храма отверстия, среди воронок от снарядов. Тень, падая от летающего аппарата, закрыла солнце. Из обшитой металлическими листами гондолы спустился мужчина с револьвером в руке. Он ловко прикрепил трос к одной из разбитых стоек двери. — Боже мой!.. Неужели я прибыл слишком поздно? Но, войдя внутрь, прибывший сразу увидел небольшую кучку людей. Две женщины, двое мужчин и ребенок стояли на коленях перед мертвым телом, заливаясь слезами и шепча молитвы. Незнакомец медленно подошел, обнажил голову, перекрестился и тихо сказал: — Я друг свободной Кубы… француз Жорж де Солиньяк… До меня донесся гром сражения… Я увидел, что этот дом штурмуют испанцы… Догадался, что здесь скрываются патриоты, готовые умереть за отечество, и поспешил к вам на помощь… Подняв полные слез глаза, несчастные пленники протянули к нему руки. Первым заговорил молодой офицер: — Я Энрике Роберто, капитан повстанческой армии. Это мадемуазель Фрикет, ваша соотечественница, и сеньорита Кармен Агилар-и-Вега… А вот Мариус, храбрый французский моряк, и маленький Пабло, усыновленный нами сирота. А та, которую мы оплакиваем, — Долорес Вальенте, сестра полковника Карлоса. Бессребреник почтительно поклонился девушкам, пожал руки мужчинам и, поцеловав в лоб ребенка, заявил. — Я никогда не прощу себе, что прибыл так поздно! Судьба не дала мне возможности спасти героиню… И, немного помолчав, добавил: — Время бежит… Враг скорее всего снова вернется сюда… Мой аэростат опасен в небе, а здесь его легко захватить, ведь нет людей для обороны… В гондоле, кроме меня, только жена и инженер… Мы можем всех вас взять с собой… Пойдемте!.. Идемте скорее!.. Боюсь, что малейшая задержка обернется гибелью. Ничего не видя от слез, Фрикет тихо спросила его, жестом указывая на покойную: — Неужели мы оставим здесь тело Долорес, так и не похоронив? У Бессребреника были все основания торопиться, он кратко ответил: — Давайте подумаем!.. Ваше желание понятно. Я целиком с вами согласен. Будь что будет! Выйдя наружу, он увидел несколько воронок от снарядов. Одна уходила на глубину полутора метров. — Вот, — сказал Жорж, — могила, достойная солдата. Капитан, будьте любезны, помогите мне перенести сюда тело героини свободной Кубы. Едва державшийся на ногах Мариус отвязал от походного мешка одеяло и расстелил его. Кармен и Фрикет, догадавшись о трогательной заботе моряка, — он не хотел, чтобы тело умершей лежало прямо на земле, — завернули останки подруги. Потом мужчины опустили ее в яму. Капитан снял со шляпы кокарду, положил на грудь убиенной, чье сердце до последней минуты принадлежало родине, и воскликнул, подавляя слезы: — Да здравствует свободная Куба! Осторожно они стали забрасывать тело землей, работая прикладами винтовок, солдатскими котелками, обломками досок. Бессребреник, в чьем мужестве никто не сомневался, то и дело смотрел по сторонам, не в силах скрыть сильного беспокойства. Откуда-то издали доносились неясные звуки, шорохи, крики, постепенно становившиеся все более явственными. Он понял, что испанцы, преодолев страх, окружают воздушный шар. — Берегись! — крикнул он. — Осторожно!.. Его прервал выстрел. Пуля попала в бронированный корпус гондолы аэростата. Бессребреник открыл дверь, втолкнул туда маленького Пабло, Кармен и Фрикет. Снова прозвучали выстрелы. — Ваша очередь, матрос, — сказал он Мариусу. — Ваша, капитан. А к аэростату уже бежали испанские солдаты, размахивая винтовками и оглашая окрестности яростными воплями. Когда Бессребреник перерезал швартовы, в него прицелился солдат. С быстротой молнии граф опередил того выстрелом из револьвера. Пора было уходить! Как раз когда около сотни испанцев выбежали на поляну, Жорж закрыл гондолу. И аэростат медленно, величественно поднялся в воздух. Среди криков послышались отчаянные команды: — Огонь!.. Огонь!.. Уничтожить это собачье отродье! Пули расплющивались, попадая в броню гондолы, продырявливали оболочку аэростата, из нее со свистом вырывался газ. Но благодаря великолепному двигателю воздушный шар вскоре был уже вне пределов досягаемости. Еще не совсем придя в себя от только что пережитых событий, Фрикет и Кармен, капитан, Мариус и Пабло сгрудились в сравнительно небольшой гондоле, где уже находились трое — графиня де Солиньяк, инженер и Бессребреник. Женщина встретила спасенных весьма любезно, окружив их всяческой заботой. Четверо умирали от голода и жажды, падали с ног от непомерной усталости. К счастью, в гондоле было достаточнопродуктов и напитков. В то время как беглецы подкреплялись, Жорж и инженер проверяли состояние воздушного шара. А с этим оказалось далеко не все просто. Значительное увеличение веса, естественно, снизило подъемную силу и сказалось на работе двигателя. Пришлось освобождаться от балласта и беспрестанно подкачивать газ, вырывавшийся из пробитых пулями отверстий. У графини де Солиньяк накопилась масса вопросов, она с волнением слушала рассказ Фрикет, одновременно угощая Пабло всякими сладостями. Бесстрашная юная парижанка все еще не могла понять, почему от выстрелов, которые стоили жизни Долорес, не погибли она сама и ее спутники. Капитан в нескольких словах объяснил, что произошло. Когда он заметил, что в девушку целятся, и как подобает истинному солдату понял: сейчас раздастся залп — он повалил Фрикет на землю. Мариус потянул за собой Кармен — та упала прямо на Пабло. Так все пятеро оказались лежащими на земле, когда на храм обрушился залп. Их спасло то, что они лежали. Бессребреник вышел из отделения, где находился двигатель, как раз когда капитан завершал рассказ. Воздушный шар шел на средней высоте и медленно приближался к морю. Миссис Клавдия заметила: муж смотрит хмуро и явно озабочен. — Что с вами, друг мой? Что нового? — спросила она с некоторым беспокойством. — Пока ничего особенно серьезного. Но ветер гонит нас в открытое море, и мы не сможем приземлиться. Кроме того, мы летим над районами, занятыми испанскими войсками. Так что, хоть мы и вне досягаемости их пуль, но я опасаюсь стрельбы из пушек. — Ну так давайте поднимемся выше! — А вот этого-то мы сделать и не можем. Я с трудом удерживаю ту высоту, на какой мы находимся. — Тогда давайте двигаться по ветру. Мы выйдем в открытое море, пересечем пролив и доберемся до островов Флорида-Кис. — Прекрасная мысль! Мадемуазель и вы, капитан, не будете возражать, если мы на время покинем Остров в огне? — Никоим образом. У нас всегда есть возможность вернуться сюда на одном из кораблей, прорывающих блокаду, и снова занять боевой пост. Капитана прервал резкий звук. Обычно спокойный, Бессребреник вздрогнул. Через несколько секунд раздался взрыв. — Тысяча чертей!.. Вроде пушка стреляет, — произнес до сих пор молчавший Мариус. Роберто высунул голову в бортовой люк, оставленный открытым, когда до аэростата уже не могли долететь пули. Воздушный шар проходил сейчас над фортом, стоящим на береговой возвышенности. И тут же офицер заметил над крепостью три облачка дыма, что расплывались по небу. А затем характерный гул, какой никогда не забудет тот, кто хоть раз его слышал. В гондолу сильно ударило. Все попадали друг на друга. Бессребреник процедил: — Черт побери! Эти недотепы сегодня стреляют с удивительной точностью. Аэростат два или три раза встряхнуло, крутануло. Он закачался и остановился. Хотя ситуация становилась ужасающей, ни одна из женщин даже не вскрикнула. Бессребреник пошел в моторное отделение к инженеру выяснить, что повреждено и как можно устранить поломку. Граф буквально взбесился, узнав, что механизм если и не выведен из строя, то очень серьезно поврежден. А тут еще он заметил, что воздушный шар явно стал снижаться. Не теряя ни минуты, капитан с инженером выбросили за борт оставшийся балласт, все тяжелые предметы, в том числе несколько заряженных снарядов, оружие, боеприпасы. Аэростат подскочил и стремительно поднялся на высоту более тысячи метров. Там его подхватил поток воздуха и понес к открытому морю. Непосредственная опасность миновала. Но пушечные выстрелы привлекли внимание крейсеров, охранявших побережье или же маневрировавших в этом районе. Они увидели воздушный шар. И там и сям появились дымки, расплывавшиеся над водой, гладь ее покрылась пенистыми дорожками от винтов. Тут же стоявшие под парами корабли пустились в погоню за аэростатом, а те суда, что крейсировали в кубинских водах, приготовились преградить ему путь. Находившиеся поблизости корабли открыли огонь. Загремели, затрещали, загрохотали вращающиеся орудия крупного калибра, легкая артиллерия, пулеметы. Аэростат мужественно сопротивлялся. Подобно подстреленной птице, изо всех сил старающейся убежать, он устремился вперед, силясь удалиться от вражеского побережья, уйти в открытое море — лучше рухнуть в бездонную пучину, нежели сдаться. Механизмы работали плохо. Через многочисленные дыры выходил газ, запасы его приближались к концу. Воздушный корабль медленно, но верно снижался. Вниз постоянно летели оставшиеся тяжелые предметы. Подгоняемый ветром аппарат продолжал двигаться. Граница кубинских вод уже давно осталась позади. Однако воздухоплавателей по-прежнему преследовали испанские суда, они становились даже более агрессивными. Мысль о том, что скоро воздушный шар захватят, возбуждающе действовала на всех, кто находился на борту крейсеров, из чьих перегретых машин через трубы валил густой черный дым. Прошло полчаса. Пассажиры аэростата то впадали в отчаяние, то вновь обретали надежду. Увы! Несмотря на храбрость, стойкость, сноровку, несмотря на всю их изобретательность, катастрофа была неизбежна. Дуга кораблей все больше сжималась. Вскоре аэронавтам предстояло выбрать: сдаться в плен или погибнуть в волнах моря. Шар спустился еще ниже. Он вышел из несшего его воздушного потока. Скорость снизилась наполовину. Корабли приближались. Канонада усиливалась. Снаряд прорвал оболочку. Газ выходил с неимоверной скоростью. «Бессребреник» должен был вот-вот упасть. По-прежнему энергичный и хладнокровный Солиньяк крикнул: — Выбирайтесь из гондолы!.. Хватайтесь за сетку… у нас еще есть тридцать секунд… Женщины и мальчик молча уцепились за перепутанные снасти, висевшие над гондолой. Мариус и капитан, оставаясь еще в кабине, быстро привязали всех к стропам. — Вы готовы? — спросил граф инженера. — Да!.. Да!.. Вдвоем, держась за канат, они одной рукой отвинчивали стержни, крепившие гондолу. Она внезапно сорвалась, рухнула и ушла под воду, а облегченный шар еще раз подскочил и взмыл высоко в небо. Его подхватил новый воздушный поток и понес дальше в море. Полупустая оболочка превратилась в своего рода парашют, какое-то время удерживалась на высоте. А потом снова продолжилось головокружительное падение. Оставались считанные минуты. Ничто уже было не в состоянии спасти воздушный корабль от гибели. Он опускался все ниже и ниже. Концы снастей уже плескались в морской воде. Испанцы, продолжая стрелять, приближались. Корабль, находившийся в левой части дуги, превосходил в скорости все остальные. Он мчался как экспресс, стреляя на ходу. Но — странная вещь — что-то не слышно было прерывистого стрекота орудий. Корабль нагонял беглецов с такой быстротой, что скоро оказался в полумиле от аэростата. — Нас схватят!.. Нет, лучше умереть! — кричали Мариус и Роберто, охваченные яростью от бессилия, оттого, что не могут оказать сопротивления. Вдруг Бессребреника, привязанного к свисающему канату, охватил смех. В этой обстановке он прозвучал так дико, что все решили: капитан внезапно сошел с ума. — Вы что, не видите? Стреляющий холостыми зарядами корабль — это моя яхта!.. Мой смелый «Бессребреник», пытающийся спасти своего брата, корабль воздушный… Команда подняла испанский флаг и гонится за нами… Все остальные принимают его за зафрахтованный пакетбот… Ну, черт возьми, я с удовольствием дам сто тысяч франков вознаграждения помощнику капитана за такую блестящую мысль… Наконец до терпящих бедствие в воздухе дошел смысл великолепного маневра смелого водителя судна. Они закричали от радости и облегчения. В ответ с яхты, что мчалась словно кит, донеслось громкое «ура!». Воздушный шар — вернее, его останки — уцепился за мачты. Команда сняла всех, и беглецы — каким это ни кажется невероятным — оказались на своем, дружественном борту! Спасены!.. Они спасены! Со всех сторон раздавались слова благодарности, тянулись руки, глаза наполнялись слезами умиления. А судовладелец приказал увеличить скорость. Яхту подбросило на волне, и она унеслась в открытое море. Крики победы, раздававшиеся на других судах, сменились проклятиями. Испанцы быстро сообразили, что их ловко обманули. Корабль, принятый ими за свой, — нарушитель блокады… сообщник мятежников… бунтарь!.. И снова после затишья во время операции по спасению воздушного шара они открыли огонь, и даже с еще большей силой. На этот раз они стреляли по яхте. «Бессребреник» еще находился в опасной зоне: он по-прежнему был в пределах досягаемости для пушек на крейсерах. Мариус, шумно выражая восторг как истинный провансалец, заявил, что испанцы стреляют не лучше пьяных сапожников и что никакой опасности уже нет. Он хохотал над собственной шуткой, пока снаряд, пройдя вдоль борта, не ударил в одну из подпор трапа и не сбил пятерых матросов. Осколок попал в грудь Фрикет. — Мой дорогой папа!.. Моя бедная мама!.. Неужели я умру… так и не увидев вас? — воскликнула француженка.
ГЛАВА 27
На Лазурном берегу. — Бандоль-сюр-мер. — Вилла Апельсиновых деревьев. — Выздоровление. — Фрикет и ее семья. — Письмо с Кубы. — Конец полковника Агилара-и-Вега. — Карлос и Кармен. — Голубой цветочек. — После установления мира на Острове в огне.Мы на солнечном побережье прекрасного Прованса, в одном из уголков старой Франции, столь точно названным Лазурным берегом. Богатый Марсель далеко позади. Зато совсем рядом расположен Тулон, мощная крепость, она только и живет разговорами о войне. Туристы сразу влюбляются в Бандоль, очаровательный городок, спрятанный в глубине большого залива, воды его ласкают глаз синевой. Красивые дома на берегу, элегантные виллы на вечнозеленых холмах, огромный виадук[320], напоминающий римские сооружения, аллеи пальм и эвкалиптов, светящиеся радостью люди, мелодичный сверкающий остроумием язык — все это производит удивительно приятное впечатление. Да, это край солнца, почти красного цвета земли, на ней растут гигантские алоэ, приморские сосны, древовидный вереск, оливы, мирты, апельсиновые и мастиковые деревья; разные оттенки их зелени странным образом, но гармонично сочетаются между собой. Благодатная страна, где не знают, что такое заморозки, снег и иней, где в январе повсюду цветут розы, фиалки, бессмертники, гвоздики и анемоны, где человек, не боясь стихии, не испытывая нужды, не трудясь сверх сил, живет в полное удовольствие, всему радуясь, улыбаясь, пьянея от воздуха, солнца и свободы. Да, это Бандоль, чудесный климатом, гостеприимными жителями, великолепными пейзажами, которые пока еще не привлекли к себе представителей высшего общества, к счастью для тех, кто любит дикую природу. Примерно в четырехстах метрах от города по дороге на Тулон, проходящей через Ольуль, стоит на возвышенности небольшая, но великолепная вилла Апельсиновых деревьев. Прелестный домик, к нему от самой дороги идет очень пологая лестница, защищенная от мистраля[321]. Перед домом расположена широкая терраса, где растут апельсиновые деревья, эвкалипты и пальмы. Отсюда открывается прекрасный вид. Стоит январь, но погода такая теплая, что окна в доме открыты. Сидящей же в кресле-качалке девушке приходится прятаться под зонтиком и то и дело обмахиваться веером. Она бледна, слаба, худа — сразу видно, что недавно перенесла болезнь и приехала сюда погреться на теплом солнышке, подышать морским воздухом, искупаться в целебных брызгах волн. Незнакомка, не отрываясь, смотрит на море, такое синее, что художнику пришлось бы немало потрудиться, подбирая достаточно яркую краску. Прямо перед ней, совсем рядом, виднеется остров Бандоль, где однажды провел зиму Александр Дюма. Немного подальше мыс Крида, там установлен бело-черный бакен. А еще дальше остров Руво с маяком, остров Амбье, гавань Брюск и, наконец, на горизонте, у слияния голубизны моря и небес, несколько быстро идущих торпедных катеров. Около девушки хлопочет женщина лет сорока с добрыми, полными нежности глазами. Она смотрит на свою подопечную с такой любовью, с такой готовностью выполнить любое желание, с какой может смотреть только мать. Для нее не существуют ни небо, ни море, ни холмы, ни экзотическая растительность, ни вид открытого моря. Вся поглощенная заботой о дочери, она только и видит дорогое дитя, вернувшееся издалека, чудом оставшееся живым и заставляющее ее быть в постоянной тревоге. Взгляд дочери, все время устремленный на море, вызывает у нее нечто вроде ревности. Простой женщине непонятна притягивающая к себе красота волн. — Дорогая, ты все смотришь на это проклятое море, из-за которого была так далеко от нас… — Но оно же привело меня и домой, мамочка. — Да, но — Боже мой! — в каком состоянии! И, признаться, я по-прежнему боюсь, что тебя вновь охватит страсть к путешествиям… — Ой, мама, если это и случится, то не скоро… Так что успокойся. — Вот если бы ты сказала: «Никогда!..» Ты и представить себе не можешь, скольких слез мне это стоило, особенно последняя поездка на Кубу… А отец!.. Бедняга!.. Ему жизнь была не в жизнь. — Давай не будем об этом, пожалуйста, мама… В общем-то я сама себя ругаю за эти безумные путешествия… Я чувствую себя дурой и чуть ли не преступницей из-за того, что принесла вам столько волнений… — Так ты больше никуда не поедешь? — Сначала нужно поправиться… совсем поправиться… На это уйдет год… Потом я должна подготовиться к экзаменам… чтобы получить диплом доктора… Это займет года три… — Послушай, малышка, дочка моя, ради нас, будь благоразумна… — Хорошо, мама, успокойся… А вот и папа. С ним Мариус и маленький Пабло. Как оказалась на Лазурном берегу героиня нашего повествования? Раненная в грудь осколком испанского снаряда в момент, когда яхта подбирала потерпевших в воздухе, несчастная Фрикет долго находилась между жизнью и смертью. К счастью, на шхуне был врач, он со знанием дела взялся за лечение. Но ранение оказалось настолько серьезным, что несколько месяцев состояние девушки вызывало тревогу. Граф и графиня де Солиньяк ни на минуту не оставляли ее, делая все для спасения. Нет сомнения, Фрикет осталась жива благодаря их самоотверженности. Когда она стала наконец поправляться, граф и графиня решили перевезти ее во Францию. Приехала она туда еще совсем больной. Опасались всяческих осложнений. Обратились за консультацией к лучшим докторам. Они посоветовали провести несколько месяцев на юге. Фрикет не хотела расставаться с Мариусом и Пабло, — те, конечно, приехали с ней и жили у ее родителей — у папы и мамы Робер. Когда решили поехать в теплые края, Мариус заявил: — Тогда это Бандоль!.. Видите ли, нужно ехать в Бандоль… Во-первых, это моя родина… Этот весомый довод подействовал на Фрикет и ее родителей. Не откладывая в долгий ящик, они сели в скорый поезд, отправлявшийся вечером с Лионского вокзала, и на следующий день в полдень прибыли на место. Это было два месяца тому назад. Сейчас Фрикет чувствовала себя гораздо лучше. Все были счастливы и спокойны, хотя после возвращения у девушки появилась склонность к меланхолии, чего раньше не замечалось… Отец с Мариусом и Пабло вышли на террасу. Загорелый подвижный мальчик за это время очень подрос, он шел с огромной охапкой цветов. Бросившись на шею Фрикет и горячо обняв, он заговорил на ломаном языке: — Сдрафствуй, Фррикеттт… мы гулять над морем с Мариусом и папа Ррробер… Папа Ррробер тошнить… Фрикет улыбнулась и сказала: — Опять говоришь на тарабарском языке, малыш?.. Папа, ну как рыбалка? — Рыбалка? На меня напала морская болезнь… И надо же, ведь есть люди, которым нравится качаться в этом большом корыте, наполненном соленой водой с синькой! Знаешь, я лучше куплю себе велосипед. Мариус громко рассмеялся и стал показывать великолепных рыб с розоватой чешуей. — Два тунца и две барабульки, мадемуазель. Самые-самые нежные рыбины… — Спасибо, дружок, с удовольствием их отведаю… — А еще мой товарищ Бонграс обещал наловить завтра маленьких лангустов, которые вам так нравятся… А Кайоль принесет сардин… Я сам приготовлю по местному рецепту… К ним быстрым шагом приближался почтальон. — Привет, Моне… gues асо, парень? — спросил Мариус, чей жуткий акцент под солнцем Прованса стал совсем невозможным. Почтальон вручил Фрикет несколько газет и письмо. Посмотрев на обратный адрес и марку, девушка покраснела, потом побледнела. — Ничего неприятного? — спросила, забеспокоившись, мать. — Нет, мама. Письмо с Кубы. Еще раз посмотрев на большой квадратный конверт, Фрикет заметила, что на нем была марка свободной Кубы. Как-то нерешительно она вертела письмо в руках, вроде боясь найти там нечто серьезное, способное самым решительным образом повлиять на ее жизнь. Отважная француженка тихо направилась к себе в комнату, села перед широко распахнутым окном, подумала еще немного и потом нервно вскрыла пакет. Между двумя листами довольно длинного послания был заложен изящный маленький цветок с красивыми нежно-голубыми лепестками, как у незабудки. При виде цветка девушка улыбнулась, размышляя о чем-то, осторожно положила его на стол и наконец принялась читать.
«Куба, провинция Пинар-дель-Рио,лагерь Каймито.
Дорогая кузина! До сегодняшнего дня я никак не мог решиться написать вам, хоть и обещал, о том, что нового в нашей несчастной стране. Мне столько нужно вам сказать. Но я плохо пишу и так волнуюсь, что не осмеливаюсь… Неужели я такое дитя? Сегодня все же, хорошенько обдумав, я набрался храбрости и, помня о вашем неизменном ко мне расположении, «бросился в воду». Мы теперь уже знаем, какие ужасные и позорные дела послужили причиной смерти нашего дорогого и великого Масео. Всем теперь известно об измене Серано и о мотивах его поведения. Негодяй рассчитывал добиться так руки доньи Кармен! Мерзавец заключил договор с ее отцом. Когда мы оплакивали Масео, выдавший его бандит направился к дону Маноэлю Агилару, чтобы потребовать плату за преступление. Он приехал в поместье ночью и нашел дона Маноэля мертвым — его закололи несколькими ударами кинжала. Убийцы прикрепили к телу табличку с надписью: «Так будет с каждым, кто предает Воду!» Погиб Дон Агилар по нелепой случайности. Папароли, поняв, что при сложившихся обстоятельствах они вас не получат, и решив, очевидно, что дон Маноэль их предал, решили отомстить. Свершивший злодеяние Серано долго скитался как зачумленный: в глазах бывших друзей он лишился нести, а испанцы его презирали. Проклятый всеми, он, страшась за свою жизнь и не находя нигде безопасного убежища, сменил фамилию и уехал в Северо-Американские Штаты. Донья Кармен, получив свободу и избавившись от тирании отца, получила возможность поступить по зову сердца. Она только что вышла замуж за друга детства, с кем уже и не надеялась встретиться: он чудом не попал в западню, расставленную ее же отцом. Став женой Карлоса Вальенте, она целиком посвятила себя делу свободной Кубы и приняла участие в военных действиях вместе с мужем, нашим славным полковником. Как видите, дорогая кузина, нам вполне хватает новобранцев. И, что бы там ни говорили враги, дело революции живет на Кубе. Однако борьба подрывает наши силы, и даже сами победы истощают нас. Мы сражаемся одни, без всякой поддержки, тогда как войска метрополии постоянно получают помощь оружием, деньгами и людскими ресурсами. Поэтому, между нами говоря, будущее меня беспокоит! Как бы то ни было, я буду сражаться до конца, оставаясь верным знамени, благословляя тот чудесный случай, что позволил мне встретиться с вами, отдавшей нам целиком свое сердце. Ведь вы для нас воплощение преданности и милосердия! Вы посвятили свою жизнь, отдали здоровье патриотам, а они вписали ваше имя в золотую книгу героинь свободной Кубы. Ваше имя, почитаемое в армии, теплые воспоминания о ваших благодеяниях, сожаление о том, что вас больше нет с нами, и благословение кубинских матерей — вот все, что в состоянии дать доброй француженке те, кто ее любил и поддерживал, несчастные, лишенные всего мамбисес. Добавьте к этому акции милосердия, прошедшие по всей стране!.. А как волнуются за вас, зная о ваших страданиях!.. Как молятся за выздоровление! О, сколь же мучительно постоянное беспокойство! Я знаю это лучше других, потому что был ближе к вам. Признаюсь, кузина, я чуть не погиб от постигшего вас удара! Когда я увидел вас, бледную, всю в крови, с потухшим взглядом, то почувствовал, что у меня разрывается сердце. Тогда-то я понял, что умереть можно и от горя! А позже — какие ужасные мучения, когда мне пришлось покинуть вас, когда вы были еще в бреду! Но я должен был вернуться на боевой пост. Да, долг иногда связан с жестокостью! Но я оставил вас на попечении таких преданных и любящих людей, как граф и графиня де Солиньяк. Впрочем, я был всего лишь сиделкой, усердной, но бесполезной, а свободная Куба нуждалась в моей жизни. С тех пор я вас больше не видел, и утешением служили только письма графа, он изредка сообщал о вашем здоровье. Все время с теплом, хоть и с грустью, я вспоминаю вас. Этим, да еще суровым долгом и страстной любовью к родине живу. Мысленно вижу вас то в тревожной темноте ночей на бивуаке, то в дыму сражений, то во время беспорядочных переходов, характерных для нашей тактики… Да, вы мне постоянно видитесь… постоянно! Это как чарующее наваждение, от него у меня сжимается сердце и наполняются слезами глаза! Теперь вы знаете, чем полна моя душа. Восхищение, привязанность, любовь к вам неизменны — эти чувства не пройдут, пока я жив! Прощайте, кузина, или — вернее — до свидания в лучшие времена. Вспоминайте хоть иногда о том, кто, быть может, вскоре приедет известить вас об освобождении столь любимого отечества.Ваш преданный родственниккапитан Робер.
R. S. Мое нижайшее почтение вашим дорогим родителям. Прошу также крепко пожать руку моему храброму товарищу Мариусу и нежно поцеловать нашего маленького Пабло».Прочитав письмо, взволновавшее ее до слез, Фрикет преобразилась. За четверть часа она стала неузнаваемой. В ней трудно было признать выздоравливающую, какая из-за непреодолимой слабости лежала в большом кресле. Щеки раскраснелись, глаза заблестели, сердце учащенно забилось — она ожила. То была прежняя Фрикет — бодрая, веселая, жизнерадостная и очаровательная. Девушка долго разглядывала трогательный маленький цветок. Потом, приложившись к нему губами, спрятала в лиф кофточки и пошла к родителям. Твердым звонким голосом, лишь иногда дрожавшим от волнения, она прочитала им письмо молодого кубинского офицера. Закончив, спросила с присущей ей решительностью: — Что вы думаете об этом письме? Ну-ка, папа, отвечай первым. — По-моему, оно написано великодушным человеком. — Да, ты прав. А ты, мама, что скажешь? — Мне хочется поплакать… — А еще что? — Да то, что этот месье Робер, наш родственник, может стать чем-то большим… — Чем же? Ну же, говори! — Ладно… Я бы охотно назвала его сыном… Мне кажется, он бы составил счастье моей дочери… Я в этом просто уверена… И тогда Фрикет никогда не расстанется с нами… — Так давайте действуйте! — воскликнул отец. — Робер — солдат, — твердо сказала девушка. — Он нужен родине. Позже, чего бы это мне ни стоило… Позже! После утверждения мира на Острове в огне!
Конец

Луи Буссенар СЕКРЕТ ЖЕРМЕНЫ
Часть первая ЖЕРТВА
ГЛАВА 1
— До свидания, мадемуазель Артемиз![1] — Не лучше ли пожелать доброго утра, ведь скоро уже час пополуночи. О Господи! Как быстро бежит время! — Вам кажется быстро, мадемуазель? — сказала Жермена, подавляя зевоту. — Однако день был очень долгим, мы работали восемнадцать часов. — Вы недовольны? Два франка пятьдесят сантимов[2] в день и полтора за сверхурочные — четыре франка! Где вам столько заплатят? — Я не жалуюсь, — еле слышно произнесла Жермена. Она представила, как далеко идти от авеню Оперы до пересечения улицы Поше с кольцевым бульваром, а ведь в восемь надо быть снова здесь… Не выспаться… — Вот, возьмите сорок су на извозчика. Надеюсь, мадам Лион не побранит меня. — Благодарю и до свиданья, мадемуазель. — До свиданья, Жермена. В то время как работница, несмотря на усталость, быстро спускалась по лестнице со второго этажа, где располагались портнихи мадам Лион, старшая мастерица, мадемуазель Артемиз, думала об этой девушке. Мадемуазель Артемиз, претенциозная тридцатилетняя девица, худая и плоскогрудая, он пыталась исправлять недостатки фигуры с помощью толщинок из ваты, шила себе экстравагантные платья, нещадно злоупотребляла косметикой — напрасные усилия. Было легко представить, как через десять лет она иссохнет, превратится в типичную продавщицу где-нибудь в лавке поношенной одежды. «Как она глупа, эта Жермена, — в какой уж раз думала Артемиз, поглядев той вслед, — будь я на ее месте, у меня… Лошади, экипажи, бриллианты, тысячи франков на расходы… А девчонка предпочитает жить в мансарде[3], таскаться через весь город в мастерскую при любой погоде, завтракать порцией жареной картошки на два су, гнуть спину до полуночи, не знать никаких развлечений. А ведь в эту Золушку взаправду, кажется, влюблен граф Мондье. Не далее как вчера он говорил, что не пожалел бы миллиона ради обладания ею. В самом деле, непростительно быть такой красавицей и в то же время дурой! Скажите на милость, экая добродетель!»А Жермена быстрой, легкой походкой шла по асфальту пустынных улиц, думая о том, как ждет мать, как встретит ласковым словом и нежным поцелуем. Думала о младших сестрах Берте и Марии, те, наверное, уже спят, умаявшись. А завтра восьмое октября, срок уплаты за квартиру, тяжелый день для бедных людей. Собрала ли мама эти жалкие монеты? Бедная мама! Зимой она разносит по квартирам горячий хлеб, весной торгует с тележки овощами и еще ведет все домашнее хозяйство — стряпает, стирает, чинит одежду, чистит платья и обувь, в каких ее девочки ходят в школу или на работу. Хорошо, что она, Жермена, может приносить в дом хоть что-то, несмотря на то, что ей бывает очень трудно. Вот и сейчас она старается идти побыстрее и сэкономит гроши, данные ей на извозчика. Целых четыре франка, да еще сорок су. Как будет им рада бедная мама! Запоздалые прохожие смотрели в лицо, оглядывались, отпускали пошлые остроты. Пусть. Да, ей восемнадцать, и она красива, и сколько она слышала предложений… Правда, почему-то не о замужестве, нет, а о другом, постыдном и циничном. Она противопоставляет равнодушие и не демонстрирует оскорбленной невинности, подобно богатым, прикрывающимся личиной высокомерия и приличия, сидя в гнездышке, устланном пухом из крыльев ангела-хранителя. Целомудренность, так же как и порочность, иногда бывает врожденным качеством души, и тогда она непобедима. Но одного из ее поклонников, кажется, ничто не могло заставить лишиться надежды на успех — графа Мондье. Очень богатый, пожилой, сорокапятилетний вдовец, отец прелестной девушки, любимой заказчицы мадам Лион, был, как он уверял, без ума от Жермены. Она уже боялась порывов его страсти, его преследований. Его настойчивые взгляды, то умоляющие, то дерзкие, пугали ее, щедрые обещания оставляли равнодушной. Хотя нет, все-таки льстили, но ведь это не любовь, это вовсе другое, грязное, омерзительное. Слава Богу, сегодня она избавилась от старого ловеласа[4], он каждый день поджидал на выходе из мастерской, чтобы выразить восхищение, пригласить куда-то. Но в такой поздний час граф изволит почивать, смешливо подумала она и почти сейчас же услышала его низкий, слегка дрожащий от возбуждения голос: — Жермена! Девушка обернулась, увидев в отчаянии, что на улице ни души. Граф властно взял ее за руку. — Жермена, выслушайте меня! — сказал он, отбрасывая сигару. — Надо ли тысячный раз повторять, как я люблю вас? Еще и еще говорить, что я положу мое состояние к вашим ногам, обеспечу счастливую жизнь вам и близким? — Оставьте меня в покое! — Хорошо! — все более возбужденно продолжал граф. — Есть еще одно, чего я пока не предлагал — моего имени! Жермена, хотите ли стать графиней Мондье? Хотите быть моей женой? — Но, месье, почему бы вам не начать с этого, — сказала она спокойно, хотя что-то дрогнуло в ней. — Вы меня победили, Жермена. Я не могу жить без вас! Девушка инстинктивно почувствовала фальшь в тоне поклонника и холодно ответила: — Я… Быть графиней?.. Такое случается только в романах. — Жермена! Я говорю искренне, клянусь вам! — Если вы любите настолько, что хотите жениться, то почему же делали столько бесчестных предложений?.. Почему пытались купить меня как продажную девку? Взбешенный тем, что его разгадали, Мондье резко сменил тон: — Коли так, прощайте! Вернее, до свиданья и пеняйте на себя за то, что может случиться. Он повернулся и пошел к легкой двухместной карете, ждавшей на углу. Перепуганная Жермена бросилась бежать по улице Клиши и, задохнувшись, вся в поту, остановилась около улицы Лакруа. Через десять минут она могла быть уже в безопасности. Девушка уже добежала до улицы Поше, пустынной и грязной, застроенной серыми домами. Оставалось пересечь улицу Эпинет, и ночное путешествие по Парижу закончено. Метрах в двухстах от своего дома она встретила крытую повозку, что потихоньку двигалась вдоль улицы. Возница, казалось, дремал на козлах. Когда девушка поравнялась с экипажем, кучер остановил лошадь, спрыгнул на землю и открыл дверцу, будто приехав по назначению. С ошеломляющей быстротой он втолкнул Жермену в экипаж. Вырываясь, она закричала: — Помогите!.. Убивают!.. В этот момент бедняжка увидала вдали огонек велосипеда, подскакивающий по неровной мостовой, и услышала позвякивание велосипедного звонка. Жермена снова отчаянно крикнула: — Помогите! Кучер грязно выругался, захлопнул дверцу, тронул вожжами, бормоча: — Проклятая девка! С такой нелегко справиться. Желаю удовольствия хозяину.
ГЛАВА 2
Крик девушки услышал одинокий велосипедист. «Да ведь это голос Жермены! — мгновенно сообразил он. — Скорее в погоню!» Экипаж с грохотом несся по улице и уже приближался к бульварному шоссе. Что есть мочи нажимая на педали, владелец двухколесной машины мчался за ним, но крупную породистую лошадь догнать не удавалось, все время оставалась дистанция в сто пятьдесят — двести метров. Так и мелькали старинные ворота, мосты, редкие фонари, особняки богачей, темные витрины магазинов, фонтаны… Карета сворачивала в переулки, снова оказывалась на широких улицах, случайные прохожие шарахались, не обращая внимания на призывы велосипедиста: — На помощь!.. Спасите!.. Остановите экипаж!.. Напрасная надежда. Экипаж вихрем пронесся мимо стражи, призванной задерживать выезжающих из города. Стражник даже протянул было руку, чтобы остановить велосипедиста, кричавшего что-то невразумительное, но и тут поленился. Было уже два часа ночи. Когда миновали мост, молодой человек опять хотел позвать на помощь, но возница направил экипаж по окраине и оставил в стороне последние строения. Выехали на проселочную дорогу, здесь никаких прохожих вообще не предвиделось. Кучер придержал лошадь, вынул револьвер и стал ждать. Затем хладнокровно прицелился в фигуру, едва освещенную фонариком, и выстрелил. Велосипедист не смог удержаться и вскрикнул. В ответ раздался жалобный вопль из кареты. — Получил свое, — сказал возница с отвратительным смехом. — Патрон, может быть, его прикончить? — Поезжай! — приказал из экипажа повелительный голос. Отважный велосипедист, раненный в левое плечо, не упал и продолжал следовать за экипажем. «Пусть я умру, — твердил он себе, — но узнаю, куда повезли Жермену эти бандиты. Я хочу непременно выжить, чтобы спасти ее или отомстить». Ему казалось, что гонка продолжалась очень долго, когда он почувствовал: по левую сторону течет река, вероятно, Сена, тянуло влагой и запахами береговой растительности. С каким удовольствием погрузился бы он сейчас в прохладную воду, чтобы снять усталость и обмыть рану. Но надо было во что бы то ни стало ехать, дабы не потерять негодяев из виду. Наконец экипаж остановился у низких строений, сгруппированных около высокого дома на косогоре. Молодой человек слез с велосипеда, прислонил его к кусту и сам в полном изнеможении прилег. Со скрежетом отворились решетчатые ворота, и похитители въехали на просторный двор. Раздался бешеный лай собак. Кучер спрыгнул с козел и позвал: — Бамбош! — Тута, — ответил дурашливым голосом парень, стоявший у ограды. — Малый, за нами кто-то увязался от самого Парижа. Возьми-ка Турка и Сибиллу и пройдись посмотреть, не скрывается ли он поблизости. — Ладно, папаша, а если найду, что с ним сделать? — Сделай, чтоб не отсвечивал. Лезет не в свое дело, хозяин этого не любит. Тот, кого назвали Бамбошем, свистнул и позвал: — Турка, Сибилла, ко мне! Взы… Взы… Ищите, собачки мои, ищите. Огромные псы с колючими ошейниками ринулись вдоль реки. Скоро они учуяли посторонний запах и рыча побежали к кусту, где спрятался обессиленный велосипедист. — Пиль, Турок!.. Пиль, Сибилла! Молодой человек не мог отбиваться от злобных собак. Он упал и напоролся на шипы ошейника. Собаки принялись рвать на нем одежду, клыками терзать тело. Слабо вскрикнув, несчастный потерял сознание. Бамбош, решив, что тот умер, нагнулся и проговорил своим противным голосом: «Ты готов… А?.. Так тебе следует исчезнуть, любезный». При этих словах парень взвалил неизвестного себе на плечо и спокойно бросил тело в Сену — глубина ее в этом месте доходила до четырех метров.Кучер, отдав жестокое приказание Бамбошу, сказал в открытую дверцу экипажа веселым и подобострастным тоном: — Осмелюсь, хозяин, предложить передать девицу мне на руки, она, должно быть, сейчас в очень растрепанных чувствах. Ответа не последовало, зато показалась Жермена. Неподвижную, обмотанную пледом, девушку вынес на вытянутых руках тот, кого Бамбош и кучер называли хозяином Он направился к темному большому зданию среди маленьких домиков. Миновав прихожую, коридор, вошел в комнату, убранную с известной роскошью, посередине был богато накрытый стол с яствами и винами. Навстречу поднялась со стула мерзкого вида старуха, низко поклонилась и принялась расточать похвалы красоте девушки. — Выйдите, мадам Башю, — приказал хозяин, — если вы мне понадобитесь, я позову. — Всегда к вашим услугам, граф, — сказала та, изобразив на физиономии улыбочку. Мондье положил добычу на диван и принялся торопливо расстегивать на ней одежду. Потом долго, с жадностью разглядывал прекрасное тело, лежавшее совершенно обнаженным. Граф сказал прерывающимся от желания шепотом: — Наконец она здесь. Когда очнется, уже будет моей и ей волей-неволей придется покориться. Он схватил Жермену в объятия, прижался к бесчувственным губам жадным ртом и унес в альков[5], закрытый плотными занавесями.
ГЛАВА 3
В октябре 1888 года вдова Роллен, мать Жермены, Берты и Марии, жила в пятом этаже в квартирке из двух комнат и кухонки в старом доме на улице Поше. Четыре года назад семья потеряла мужа и отца, мастера на фабрике пианино фирмы «Вольф и Плейель» Жермене было тогда четырнадцать. Берте — двенадцать и Марии — десять лет. За время болезни кормильца истратили все скромные сбережения, вдова осталась без средств к существованию. Ценой неусыпных трудов она сумела поднять на ноги трех дочерей. Теперь плохие дни остались позади и семья могла, не терпя больших лишений, сводить концы с концами. Жермена работала в ателье, Берта занималась швейной работой дома, Мария ей помогала. Трудились очень усердно и не жаловались, считая, что такова участь всех бедных людей. И чувствовали себя счастливыми, как может быть счастливой та семья непритязательных тружеников, где царят мир и любовь. Минувшей зимой в мансарде над квартирой мадам Роллен поселился восемнадцатилетний юноша — Жан Робер, хорошо сложенный; с приятным выразительным лицом, весьма порядочный и всегда веселый. Он был найденышем. Морозным вечером его обнаружили полуживым на ступенях театра «Бобино», и впоследствии товарищи дали ему прозвище Бобино, что мальчику понравилось. Подружившись с семьей мадам Роллен, он постоянно по-соседски оказывал вдове услуги. Встретив ее около дома, идущую с ведром к водопроводной колонке, выхватывал ведро из рук и мигом приносил полное на пятый этаж. Поднимал туда же вязанку дров или корзину с высушенным бельем. Ставил под навес ручную тележку, увидав, что мадам Роллен совершенно без ног возвращается после распродажи овощей. Учил девочек милым песенкам, показывая мелодию верным и приятным голосом, рассказывал интересные новости, иногда угощал фунтиком жареных каштанов, дарил дешевый журнальчик или букетик цветов. При этом не отказывался от заботы со стороны семьи Роллен: от мелкой починки рабочей куртки, от небольшой уборки в мансарде, от чистки бензином воротника. Он любил трех девушек как сестер, но шутя иногда называл Берту будущей женой и с явной нежностью смотрел на милое личико. При этом и мадам Роллен снисходительно улыбалась и думала: «А почему бы и нет! Через три-четыре года он станет очень хорошей партией для дочки, честный, работящий, совсем не гуляка и владеет прекрасным ремеслом». Жан Робер, по прозванию Бобино, работал в типографии «Молодая республика». Мастер высокой квалификации, он занимался версткой газетного листа и по праву гордился этой специальностью, приличным заработком, часть которого откладывалась для исполнения заветной мечты — покупки велосипеда. Ради этого Бобино отказывал себе в маленьких удовольствиях — рюмочке перед завтраком, хорошем табаке, в покупке книг, в обновлении одежды. И как же он радовался, когда наконец мечта осуществилась. Молодой человек как гонщик летел в типографию на новенькой машине! Он так гордился приобретением, что, кажется, сам президент Франции и все монархи мира уже не возвышались над ним. Было необыкновенно приятно нестись с ветерком, и Жан даже жалел, что типография находится не на другом конце города и он не успевает достаточно насладиться быстрой ездой за время пути.ГЛАВА 4
Ночь на восьмое октября, такая долгая для Жермены, тянулась еще более томительно для ее матери, с нетерпением ожидавшей возвращения дочки. Мадам Роллен не ложилась, она все время прислушивалась, ожидая услышать звонок в дверь, голос Жермены, отвечающей консьержке, а потом ее легкие шаги по лестнице. После двух часов беспокойство начало расти с каждой минутой, и, когда будильник пробил три часа, тревога дошла до предела. — Еще не вернулась? — послышался сонный голос Берты из соседней комнаты, где она спала вместе с Марией. — Нет, девочка, — ответила ей мать, чуть не заплакав. — Я не слышала, чтобы вернулся Жан. — Да, ведь правда, — равнодушно сказала женщина, всецело поглощенная мыслью о дочери. И в самом деле, почему надо беспокоиться о Бобино, ведь он мужчина! А Жермена — восемнадцатилетняя девушка и такая красивая… Идет так поздно и так издалека по Парижу, полному опасных ночных прохожих. У мадам Роллен оставалась последняя надежда, что Жермену до утра задержали на работе. Есть у нее совесть, у мадам Лион, так изводить молоденьких трудолюбивых бедняжек? И несчастная мать дала себе слово запретить Жермене сверхурочные часы. Решив пойти рано утром в мастерскую, мадам Роллен легла, но заснуть не смогла ни на минуту. В половине седьмого встала и, как всегда, постучала Бобино, чтобы разбудить, однако против обыкновения молодого человека не оказалось дома. Она очень удивилась. Поцеловала девочек и сказала: — Больше не могу ждать… Побегу к мадам Лион. Если Жермена придет раньше меня, скажите, что я скоро вернусь. Берта и Мария сделали все необходимое по хозяйству и с тяжелым сердцем сели за работу. Пробило десять, потом одиннадцать, наконец, полдень. Скромный завтрак семьи остыл. Девушки даже не решались говорить между собой, боясь разрыдаться. Раздался звонок в дверь. — Это они! — Берта бросилась открывать. Но вошла консьержка спросить плату за квартиру. Берта достала семьдесят франков мелкой монетой, дала их ей и вежливо сказала: — Мадам Жозеф, напрасно вы трудились подниматься за ними, я бы принесла чуть позже. Консьержку, разумеется, распирало желание поговорить, но Берта учтиво проводила ее до дверей. И снова они сидели в тяжелом ожидании, когда в дверь опять постучали, появился мужчина в черной форменной одежде с золотыми пуговицами, на околыше фуражки сияли буквы: О. и Б., что означало, — и это знали все парижане, — «Общественная благотворительность». Пришелец поклонился с печальным и смущенным видом, отказался присесть и нерешительно спросил: — Я не ошибся?.. Мадам Роллен… Это здесь? — Да, месье. Что вам угодно? — Я — служащий «Общественной благотворительности», послан по поручению директора госпиталя Ларибуазьер. — Госпиталя Ларибуазьер… — в недоумении и страхе повторила Берта. — Да, мои девочки, — сказал незнакомец, испытывая искреннее сострадание. — Я должен вам… Будьте мужественны, милые… Известие тяжелое. — Сестра!.. Жермена!.. — вскричали в один голос обе. — Поскорее, что с ней?! — Весть не о сестре, — сказал служащий, он уже догадывался о цепочке несчастий, — а о вашей маме. — Мама! — Берта пошатнулась. — Мужайтесь, дети мои, — повторил служащий, поддерживая Берту. — Маму сбила лошадь. Директор госпиталя послал меня сообщить об этом несчастье и разрешит вам повидаться с ней. — Но она не умрет?! Мама!.. Нет, это невозможно… Она не умрет! Скажите, ведьона ранена не серьезно?.. Человек сказал просто: — Едем скорее!В ателье мадам Роллен заставили долго ждать, наконец вышла старшая мастерица мадемуазель Артемиз. Она показалась в дверях, словно министр, одолеваемый просителями. — Здравствуйте, мадам, — сказала девица обычным неприятным голосом. — Что случилось? В чем дело? — Мадемуазель, моя дочь не вернулась домой… Я подумала, ее задержали здесь… Я пришла… — Жермена ушла в час ночи, — прервала ее Артемиз. — Я ей дала два франка на извозчика. — Ушла! В час ночи, — проговорила совершенно ошеломленная женщина. — Вы точно уверены? — Да за кого вы меня принимаете? — ответила первая мастерица и зло добавила: — Она, наверное, кого-нибудь встретила по дороге… Этого давно следовало ожидать, такая хорошенькая девушка. Не беспокойтесь, найдется. — Вы лжете! — возмущенно воскликнула мадам Роллен. — Моя дочь не такая, и, если она не вернулась домой, значит, произошло несчастье. — Я лгу! — чуть ли не взвизгнула первая мастерица. — Сделайте милость уйти отсюда, и поскорее. Больше ноги Жермены не будет в нашем ателье, к тому же она наверняка нашла работу, которая лучше оплачивается. Вдова, вся в слезах, вышла. У вокзала Сен-Лазар она не успела посторониться от тяжелого фургона, ее сшибло грудью лошади. Возчик не мог остановить тройку, и упавшей переехало колесами ноги, раздробив бедренные кости. Несчастная только и кричала: — Мои дети! Мои бедные дети! Ее тут же отвезли на «скорой помощи» в госпиталь Ларибуазьер, находящийся поблизости, сразу положили на стол. Обе ноги пришлось отнять. Операция прошла благополучно, но доктор считал положение пострадавшей безнадежным. Больную поместили в одноместной палате. Она тяжело страдала, чувствуя, что умирает, и только просила, чтобы ей дали попрощаться с детьми. Директор госпиталя, уважая последнее желание умирающей, послал на улицу Поше служащего «Общественной благотворительности». Спустя два часа вдова Роллен скончалась, призывая надрывающим душу криком Жермену и глядя с невыразимым страданием и любовью на двух сироток, оставшихся без всякой опоры в жизни и без средств к существованию.
ГЛАВА 5
Жермена медленно очнулась с чувством разбитости во всем теле и сильнейшей головной болью. Она смутно припоминала, как вышла из ателье, как ее преследовали, как грубо схватили и похитили… Потом ей неотчетливо представилось: при каждом ударе сердца в ушах отдавался колесный стук: чьи-то сильные руки держали ее в неподвижности, а рот заткнули так, что она едва могла дышать. Постепенно тарахтенье экипажа затихло, а может быть, девушка перестала слышать, потому что ей вдруг показалось, что она задохнулась. Бедняжка почувствовала, будто умирает… Эти обрывки пронеслись в памяти мгновенно, и теперь она видела себя в постели обнаженною и с распущенными волосами. Комната заполнена ярким светом, и почти рядом, на низком диване, сидел мужчина и смотрел на нее с восхищением и страстью, но вместе с тем с явной насмешливостью и сытым чувством удовлетворенности. Мужчина был хорошо и тщательно одет, ростом, вероятно, выше среднего, широкий в плечах, с красивыми тонкими руками. Лоб блестел едва приметной залысиной, под густыми бровями светились серые глаза, лицо украшал горбатый нос, похожий на клюв хищной птицы, мелкие острые зубы, расставленные чуть редковато, были приоткрыты в полуулыбке. Физиономию, в общем, следовало охарактеризовать как выразительную и подвижную. Мужчине перевалило за сорок, хотя на смуглом лице почти не встречались морщины и седина едва пробивалась в густой короткой бородке. Крепкая худощавая фигура словно излучала незаурядную физическую силу. Придя окончательно в себя и тщательно разглядев его, Жермена с гневом воскликнула: — Граф де Мондье… Подлец! Граф, видимо, ожидал бурных слез, попреков, угроз, а быть может, просьб — словом, всего, чего можно услышать от девицы, лишенной невинности. Ему не впервой, он держал себя спокойно: расчесывал густую бородку перламутровой гребеночкой и приготовлял банальные утешения, какие обычно говорят в подобных обстоятельствах. Но эта девчонка оказалась забавной штучкой. Как была, голышом, она встала и подошла к графу. В замешательстве он поднялся с дивана. «Преступник, похитивший мою честь! Опозоривший меня на всю жизнь!» — примерно это ожидал услышать он и приготовился ответить нечто вроде: «Ну что же! Пусть так. Но я люблю вас, люблю так, что готов на преступление! Люблю так, как вас еще никто не любил и никогда не полюбит! Безумная страсть уже сама по себе извиняет мой поступок» Но его жертва сказала тихо и почти спокойно: — Я не из того дерева, из какого делают мучениц[6], и я отомщу. Берегитесь, граф Мондье! — Бейте меня! Презирайте! — неожиданно для себя заговорил он. — Но выслушайте! Все еще стоя лицом к нему — прекрасная грудь, великолепно сформированный живот, ослепительно золотистый треугольник ниже, — она поглядела с презрением, повернулась, спокойно пошла туда, где осталась одежда. Граф все-таки продолжал: — Моя молодость была бурной, я много увлекался и думал, что любовь мне известна, но, увидев вас, был поражен в самое сердце, я полюбил так сильно, как может только уже стареющий мужчина, любовью, не знающей границ, любовью, потрясающей душу. Я стал вашим рабом! Должен ли я еще добавить о том, как подействовало на меня ваше упорное сопротивление, упорный отказ принять все мое состояние, которое я готов был положить к вашим ногам. Знаю, вы бедны, но вы оставались гордой и тем еще сильнее распаляли мое желание. Я забыл о своем достоинстве, я, как мальчишка, униженно следил за каждым вашим шагом, молил вас о любви… Кажется, она совсем не слушала эти банальные речи. Словно каждое утро ей приходилось проделывать это перед мужчиной, натянула и закрепила круглыми резинками чулки, надела панталоны, нижнюю юбку, платье, застегнулась на все пуговицы. Граф смотрел жадными глазами, но с места не тронулся. Затем Жермена привела в порядок густые длинные волосы, приблизилась к накрытому столу, попробовала что-то… и вдруг, быстро схватив нож, как дикий зверек бросилась к графу и вонзила клинок в грудь насильнику. К ее великому удивлению, граф не упал, а рассмеялся. — Черт побери, малютка, да вы, оказывается, героиня! Имейте в виду, в случае неудачи подобные действия становятся смешными. Должен вам сказать, я принял меры предосторожности: лезвия серебряные и закруглены на концах. В похвалу вам скажу только: удар был мастерский. Жермена, видя, как ее предают здесь даже предметы, швырнула согнутый в дугу нож и упала на диван. Как человек опытный, граф знал, что время лечит даже самое глубокое отчаяние и усмиряет любую непримиримую ненависть. Он тихонько вышел и запер за собой дверь. В соседней комнате Мондье застал мамашу Башю, дремлющую на стуле. При появлении хозяина толстуха поднялась. — Мамаша Башю, вы отвечаете головой за эту особу, — сказал он повелительно. — Господину графу хорошо известно, как мы ему преданы: я сама, Бамбош и мой муж, этот старый пьяница Лишамор[7]. — Помните, одного моего слова достаточно, чтобы Бамбош и твой муж были гильотинированы, а ты пожизненно окажешься в тюрьме. — Мы будем хорошо наблюдать, господин граф. Кроме того, наши собаки — настоящие звери. Решетки на окнах прочны, а замки на дверях надежны. — Ладно! Будете относиться к девушке с самым глубоким почтением, выполнять все желания, но только ни в коем случае не давайте возможности выходить из дому и вообще всякое сношение с внешним миром ей воспрещено категорически. — Все сделаем, как приказываете, господин граф. — Приду завтра вечером. Прощайте. Да, забыл сказать еще об одном важном: не спускайте с нее глаз. Как бы она чего-нибудь над собой не сделала. Бамбош и ваш муж пусть по очереди сидят в соседней комнате, чтобы в случае надобности помочь вам с ней справиться. Повторяю: не спускайте с нее глаз! — Все поняла, господин граф, будем начеку, и даю честное слово — птичка полюбит вас как безумная! Как все те, кого вы привозили сюда. …Жермена долго рыдала, оставшись наконец одна в запертой комнате, горько оплакивала свою утраченную честь, свою погубленную, как ей казалось, жизнь, с ужасом представляла себе, в каком смертельном беспокойстве находятся сейчас мать и сестры; плакала от ненависти к графу, строила планы побега и мести обидчику — все они оказывались неосуществимыми… Очнулась несчастная от тяжких дум, услышав жирное покашливание и сонное дыхание мадам Башю. Подняла глаза и сквозь слезы увидела одутловатую и красную харю пьяницы с губастым лиловым ртом, от которого несло перегаром, и с пучком сальных от старой помады полуседых волос, покрытых перхотью. Безобразная голова сидела на морщинистой шее, а ниже шло бесформенное тело с огромным животом и ноги, похожие на столбы, а толстопалые руки сверкали перстнями с разноцветными драгоценными камнями. При виде пакостной твари, обнажившей в мерзкой улыбочке зеленоватые пеньки зубов, Жермена почувствовала отвращение и новый ужас. Это чудовище сочло нужным обратиться к ней со словами ободрения. — Не горюйте так, моя милочка, — сказала мамаша Башю, стараясь сделать понежнее тембр пропитого голоса. — К чему лить слезы молоденькой девушке! Вы испортите ваши глазки, расстроите здоровье. Лучше покушайте и выпейте что-нибудь. — Я ничего не хочу! — резко оборвала пленница. — Будьте же благоразумны! Посмотрите, совсем светло, и вы, должно быть, очень проголодались, — продолжала та, раздвигая шторы и обнажив при этом решетки на окнах. Жермена действительно совсем обессилела. Старуха права, следовало хоть что-нибудь съесть, чтобы подкрепиться, хотя бы для того, чтобы в случае необходимости суметь оказать сопротивление, а оно вполне может потребоваться. Бедняжка взяла грушу и кусочек хлеба, а к мясным яствам не прикоснулась. Налила стакан воды, но пить не стала: побоялась, что туда подсыпано снотворное. Старуха поняла это движение и сказала все с той же подленькой улыбочкой: — Не бойтесь, в воду ничего не добавили, хотите попробую? Но лучше отведайте винца. Прямо бархатное! Откупорив бутылку, она наполнила стакан и выпила залпом. Тогда Жермена отхлебнула несколько глотков, вино придало ей бодрости. Уступая неодолимой потребности в отдыхе, всегда наступающей после тяжелых переживаний, девушка села на диван. Она долго оставалась в мучительном полусне, потом сразу очнулась и снова, с ясностью осознав случившееся, принялась упорно обдумывать побег. Вид мамаши Башю, развалившейся как свинья на одном из диванов, напомнил пленнице о том, что ее сторожат. Но Жермена не очень боялась и побороться с мегерой, лишь бы убежать. Она сложила в несколько слоев салфетку, накинула на рот старухе и завязала сзади крепким узлом. Опешившая, полузадохнувшаяся мамаша Башю сопротивлялась. Но нежные руки работящей девушки имели крепкие мускулы. Схватив лапы старухи, она скрутила их и связала жгутом из другой салфетки, затем порылась в кармане фартука экономки, достала ключи и очутилась в другой комнате. Ободренная успехом, Жермена открыла вторую дверь в коридор. Но она не знала о предосторожностях, предпринятых графом, и вскрикнула от удивления и гнева, встретив на пути молодого человека среднего роста, внушительного вида и настроенного явно решительно. На столе перед ним возвышалась бутыль, опорожненная на три четверти. Он вскочил и проговорил хриплым голосом городского подонка: — Видно, деточка решила сбежать. За это господин граф перерезал бы нам шею, потому что он очень дорожит девочкой. Пошли, красотка, надо вернуться домой. Не унижая себя мольбами, Жермена схватила за горлышко увесистую бутылку и изо всех сил ударила стража по лбу. Тот упал, почти потеряв сознание, однако успел нажать на кнопку, и по всему дому раздался трезвон. Залаяли собаки. Послышались быстрые шаги, вбежал человек, красный от выпитого, но вполне понимающий, что произошло, и, как это бывает с привычными пьяницами, готовый к решительному действию. — Что случилось, Бамбош? — спросил он, задвигая дверной засов. И, видя, что у малого по лицу течет кровь, добавил: — Ты ранен? Бамбош глубоко вздохнул и сказал притворно жалобно: — Да, папаша Лишамор. Оглоушен дамочкой, у нее тяжелая ручка. Прямо искры полетели из глаз! — А моя женушка? Лишамор, услышав астматический хрип, кинулся в другую комнату. Он увидел полузадушенную старуху с посиневшим лицом и сорвал с нее повязку. Все трое настолько беспрекословно подчинились воле графа, что и в его отсутствие никто не посмел даже выразить возмущение Жермене. Разве что Бамбош пробормотал, подмигнув: — Сильна девка! Когда граф от нее откажется, мне будет нелегко с ней справиться. — Мадемуазель, будьте благоразумны, — мрачно сказал Лишамор. — Знайте, что бегство совершенно невозможно. — Да, моя детка, — заключила, уже оправившись от нападения, мамаша Башю. — Раз господин граф желает вам добра, не надо душить нас. Между нами говоря, вы уж не так несчастны, и многие хотели бы очутиться на вашем месте. Примиритесь с обстоятельствами. — Никогда! — отрезала Жермена.ГЛАВА 6
Терзаемая мыслью о матери и сестрах, под постоянным надзором сторожей, Жермена провела ужасный день. Мамаша Башю, не получая ни слова в ответ на сладкие речи, в конце концов умолкла, занялась приготовлением изысканной трапезы и, когда пришло время еды, сказала девушке: — Милочка, если вы не желаете раскрыть рта, чтобы поговорить со мной, то, может быть, сделаете это ради обеда. Стыдясь, что не в силах выдержать голодовку, Жермена все-таки перекусила, но от питья окончательно отказалась. — Красавица моя, вижу, вы продолжаете относиться с недоверием к напиткам, — сладенько уговаривала мамаша Башю. — Честное слово, вино совершенно безвредное. Чтобы вас успокоить, я опять первой его отведаю. Жермена неуверенно кивнула и, видя, что старуха выпила полный стакан, немножко налила себе. Сотерн[8] показался слегка горьковатым, но ей редко приходилось пить и только самое дешевое, она подумала, что дорогие напитки непременно имеют определенный привкус. Примерно через час ее непреодолимо повлекло ко сну. Мамаша Башю уже вовсю храпела в соседней комнате. В момент, когда Жермена задремывала, ей вспомнилась неудержимая хитрая улыбочка мамаши Башю, смотревшей, как Жермена пила. И она в страхе подумала, что мерзавка опять подсыпала наркотик и выпила сама, чтобы ее обмануть. Ей-то ничего не грозит, если она проспит часок-другой. А мне…— Господи! Спаси! Помоги мне! Но Бог не внял. Через какое-то время вошел граф. Напрягая душевные силы, она старалась вырваться из каталепсии[9], закричать, хотя бы застонать. Как часто бывает в подобном состоянии, бедняжка чувствовала и понимала происходящее, но тело оставалось недвижимым. Страстные поцелуи, нежные слова, объятия графа она восприняла без сопротивления, как мертвая. Кончив насиловать беззащитное тело, Мондье удалился, испытывая садистское наслаждение от вида слез неподвижной жертвы. — Еще несколько таких сеансов, и я приручу тебя, красавица, — сказал он напоследок.
Жермена вновь погрузилась в сон. Когда она очнулась, свечи уже догорели, и в комнате было бы темно, если бы через щели в плотных шторах снаружи не пробивался свет: солнце уже встало. Из соседней комнаты по-прежнему доносился храп старухи. «Лучше умереть, чем терпеть такое существование, — решила пленница, вспоминая последние слова графа. — Бежать! Спастись хотя бы ценой жизни! Господи! Чем я прегрешила пред тобой…» Пользуясь тем, что старуха спит, девушка открыла окно и хорошенько осмотрела пустой тихий двор. Она заметила, что решетчатые ворота заперты лишь на задвижку и что высота подоконника над землей не столь велика, прыгнуть не страшно, но снаружи оконные проемы заделаны решетками из пяти прутьев немалой толщины. Конечно, их ни погнуть, ни выломать. Терпеливо и внимательно она принялась обследовать стержни на всех пяти окнах, пробуя раскачать их или хотя бы повернуть в гнезде. Ей посчастливилось. Одна железяка чуть пошатывалась. Видимо, разрушился цемент, укреплявший ее. Жермена взяла один из серебряных ножей, предавших ее, когда пыталась убить графа, и терпеливо начала скрести у основания решетки. Почти сразу отвалился большой кусок цемента и обнажился конец прута: по всей вероятности, каменщики небрежно зацементировали треснувшую кладку. Казалось, что стержень закреплен прочно, хотя на самом деле его держала только штукатурка. Удалось сдвинуть железяку в сторону, теперь можно было пролезть. Вместо веревки она воспользовалась классическим приспособлением — жгутом из простыни, закрепленным за соседний прут. К несчастью, она не подумала о собаках. Два огромных пса ходили вокруг дома, по временам останавливаясь и принюхиваясь. Увидав Жермену, они принялись рычать и царапать стену под окном. Беглянка, однако, не растерялась. Схватив со стола блюдо с жареным мясом, она выкинула лакомство за окно. Собаки смолкли. Воспользовавшись моментом затишья, Жермена сотворила крестное знамение и выпрыгнула. Собаки, с жадностью накинувшиеся на брошенную им приманку, зарычали и оскалили зубы. Колеблясь между долгом и соблазном, они поспешно глотали куски мяса. Девушка понеслась к воротам в надежде успеть пробежать эти сто метров. Она преодолевала заросли сорняков и кучи камней запущенного двора, до ворот, кажется приоткрытых, оставалось не более половины расстояния. Она уже думала, что побег удался, как вдруг, оскользнувшись на мокрой траве, упала с разбега. Собаки бросились, готовые ее разорвать. Беглянка вскочила, псы настигли ее. Не помня себя Жермена успела-таки выбежать наружу и помчалась к близкой реке. Зверюги вцепились в несчастную, она почувствовала сильнейшую боль. Собрав все силы, судорожным движением девушка освободилась на мгновение от зверей и, обезумев от боли и страха, кинулась в Сену.
ГЛАВА 7
Прекрасным октябрьским утром, ясным и лучезарным, но уже напоминающим о приближении печальных зимних дней, легкая лодочка тихо плыла по Сене между селом Фретт и местечком Д’Эрбле. В суденышке сидели двое любителей ранних прогулок. Один греб, другой лениво шевелил рулем. Пройдя мимо длинного острова, заросшего ивами и тополями, лодка остановилась. Гребец легко выпрыгнул на берег, привязал лодчонку к стволу ивы, поросшему мхом, и сказал товарищу: — Приехали. Он вытащил из лодки мольберт, холст на подрамнике, упакованный в бумагу, ящик с красками и складной стульчик. Прошел шагов двадцать прочь от воды и минут через пять уже выдавливал краски на палитру. — А ты, князь, что же, останешься торчать там? — спросил он весело. — Нечего киснуть! Вылезай и иди ко мне. Спутник, зевая, потянулся, достал из рундука[10] свернутый и стянутый ремнями мех и побрел по мокрой траве, делая смешные движения, словно кошка, что боится намочить лапки. Художник смеялся, глядя, как его приятель расстилает огромную шкуру бурого медведя и укладывается с таким видом, будто устал до изнеможения. — Ох! Я больше не в состоянии двинуться, — сказал он нежным приятным голосом, совершенно не соответствовавшим могучему телосложению. — Право, Морис, ты делаешь со мной все, что вздумается. Вот заставил в шесть утра выехать на прогулку, разве не глупость? Художник рассмеялся в ответ. — Дорогой мой, ты говоришь как пресыщенный или как дикарь. Лучше открой глаза, посмотри, какая красота вокруг! Солнце так чудесно освещает рыжие стволы деревьев, сверкают бриллианты росы на травах, а какое богатство красок, смягченных воздушной перспективой. Ну как, князь Мишель? Тебе это ничего не говорит? Молодой человек рассеянно глянул на пейзаж, потом на картину, набросанную на холсте друга, чиркнул зажигалкой, закурил и сказал: — Решительно, твоя картина мне нравится больше. — Ты льстишь и сам не понимаешь, что говоришь. Все же твои слова приятны, хотя ты ничего не смыслишь в живописи. Завтра я закончу работу и подарю тебе. — Благодарю, дорогой Морис. — Ты принимаешь? — Нет. Твоя картина стоит пять тысяч франков как одна копейка — я ведь знаю, — и мне нечем заплатить. А дорогие подарки не принимаю, я не женщина. Будут деньги — другое дело, с удовольствием. — Ты что, на мели? — Совершенно. Когда ты меня сегодня встретил в четыре утра, я только что купил штаны за двести тысяч франков. — Что ты хочешь этим сказать? — Проиграл в карты двести тысяч франков и еще четыреста под честное слово графу Мондье. — Четыреста тысяч! — На это не потребовалось много времени. Мондье пришел в клуб в два часа утра с лицом счастливого человека. Я подумал, что отыграюсь на нем, и продулся… — И это все твои долги? — А! Еще есть тысяч на двенадцать или на пятнадцать разным поставщикам, это мелочи… — Итак, ты оказался при пиковом интересе. — Не беда! Найду какого-нибудь еврея, тот одолжит мне любую сумму. Только придется из-за этого съездить в Россию, чтобы достать поручительство. На все это уйдет несколько недель. — У тебя там должно быть большое состояние. — Миллионов двадцать, наверное, еще осталось. — Черт возьми! Изрядно! И ты все промотаешь. — Возможно. Если бы только это меня забавляло… — Значит, ты всегда скучаешь? — Так скучаю, что хочется покончить с собой. — Честное слово, ты меня поражаешь. Красив как Антиной[11], могуч как Милон Кротонский[12]. Господь знает как богат. Все женщины готовы тебя любить, все мужчины тебе завидуют, тебе двадцать три года, ты свободен как ветер… Ты — князь Михаил Березов — известнейший род… И ты скучаешь? — Неизлечимо! И умру от этого. Я был всегда таким. Вспомни годы, которые мы провели в училище Святой Варвары. — Правду говоришь, тебя там называли медведем. — Так вот, с тех пор мое душевное состояние только ухудшилось. — Это потому, что ты ничем не занят Отдайся чему-нибудь. Попробуй! Стань художником. Военным. Исследователем-путешественником. — Слишком поздно. — Займись чем угодно, только уйди от этой идиотской жизни, называемой светской, где полно распутниц, проходимцев, молодых бездельников, проматывающих состояния своих жен. — Ты прав, Морис. Но для этого мне нужно было бы иметь цель в жизни, а у меня ее нет. Я думаю, это потому, что все на свете продается, а мне нечего желать. При этих словах русский, будто устав от долгой речи, растянулся на медвежьей шкуре и начал следить за колечками дыма от папиросы, в то время как его друг ловил краткий момент, когда краски пейзажа загорелись под лучами солнца, выглянувшего из тумана на горизонте. Молодые люди были совершенно не похожи друг на друга, разве только возрастом: они были одногодки. Сыну офицера, погибшего под Седаном, Морису Вандолю пришлось пережить бедность в годы детства, а затем и молодости, подобно многим юношам так называемых свободных профессий. Несмотря на то, что вдове Вандоль пришлось растить сына на скудную пенсию за мужа, она не решилась сделать из него ремесленника или торговца. Его приняли стипендиатом в знаменитое училище Святой Варвары как сына бывшего выпускника. Он проявил там большие способности и продолжил образование в Школе изящных искусств; рано отступил от академической рутины и пошел по собственному творческому пути, отчего его талант быстро развился; Морис стал почти знаменитым, в то время как его сокурсники все еще занимались писанием устаревших академических картин на древнегреческие, древнеримские и библейские сюжеты. Начало его творческого пути было трудным, но потом пришел успех. Морис нашел свой путь в искусстве, но не почил на лаврах, как часто бывает с художниками, рано достигшими известности. Он работал со страстью. Среднего роста, хорошо сложенный, сильный и ловкий, Морис любил заниматься разными видами спорта; красивый лицом, с каштановыми волосами и бородкой и с живыми серыми глазами, всегда веселый и очень остроумный, он был, как говорится, душой общества и притом весьма любящим сыном. Совсем другим был Мишель Березов, его товарищ по училищу Святой Варвары. Они сохранили дружбу, несмотря на полное несходство характеров и образа жизни. Князь был одним из тех великанов славянского племени с белой кожей, темными волосами, черными глазами и прекрасными чертами лица, у кого под наружной апатичностью скрываются железная воля и неукротимая энергия, хотя проявляются они только под воздействием сильного удара судьбы. Мишель вел в Париже пустую жизнь богатого, ничем не занятого иностранца, принадлежа к тому исключительному кругу людей, что бывают на посольских приемах, на ужинах известных камелий[13], в великосветских клубах, на театральных премьерах, на бегах, но кому малодоступны гостиные здешней старой аристократии… Морис, выйдя из дома ночью, чтобы ехать писать восход солнца на Сене около местечка Д’Эрбле, встретился с Мишелем около клуба, где тот убивал время за карточной игрой. Как все ничем не занятые люди, князь боялся одиночества, Морис позвал его с собой, и тот согласился под предлогом, что ему рано еще возвращаться домой. Экипаж Березова довез их к домику рыбака, здесь Морис держал свою лодку.ГЛАВА 8
Князь, утомленный ночью за карточной игрой, уже засыпал, растянувшись на медвежьей шкуре, когда послышался остервенелый лай собак на другом берегу и вслед за ним отчаянный крик женщины. Одновременно друзья увидели девушку, всю растрепанную, с трудом отбивавшуюся от двух огромных псов. Князь Мишель вскочил, Морис оставил палитру, оба помчались туда. Женщина, обезумев от боли и страха, кинулась в реку, а собаки с диким рычанием бросились вслед. Не скинув одежды, князь мигом очутился в воде, крикнув Морису: — Плыви на лодке, я поспею раньше тебя. Мишель Березов плыл с необычайной быстротой. Атлетическое тело неслось вперед при каждом взмахе могучих рук. Пока Морис успел сесть в лодку, князь был уже в пятидесяти метрах от берега. Несчастная женщина уже начала тонуть, но собаки, не желая упустить жертву, вытащили ее на поверхность. Они норовили кусаться, но вода, вливаясь в пасти, не давала разжать челюсти. Псы старались подтолкнуть добычу к берегу, чтобы там растерзать. Напуганные окриками князя, звери отпустили девушку и, увидав врага, нацелились на него. Мишель выхватил из ножен, носимых на поясе брюк, черкесский кинжал — это оружие сокрушает железо, — и одним взмахом перерезал шею ближайшему от него животному. Двумя взмахами рук он подплыл ко второй собаке и вспорол ей брюхо. Расправа заняла не больше двадцати секунд, но женщина за это время исчезла под водой. Спасатель спрятал кинжал, набрал воздух в легкие и нырнул в окровавленную воду. Через некоторое время, — Морис, успевший подплыть в лодке, дрожал за его жизнь, — князь выплыл метрах в тридцати ниже по течению. Но руки его были пусты… — Ты устал, давай я нырну вместо тебя, — предложил Морис. — Нет, я сам, — сказал князь, он ничего не мог делать наполовину. Мишель опять нырнул и почти тут же выскочил на поверхность, держа в руках неподвижное тело. Морис принял его из рук Березова, положил на дно лодки, помог другу перелезть через борт и взялся за весла. Причалили к острову. Князь моментально завернул девушку в медвежью шкуру, а Морис собрал свои рисовальные принадлежности. Оба не умели делать искусственное дыхание, оставалось поспешить к людям и уповать на волю Божию. — Как она красива! — сказал Мишель. — В самом деле, я, кажется, еще не видел подобного совершенства. — И по одежде видно, что она бедна. — Вот для тебя и нашлась цель в жизни — заняться этой девушкой. Она бедна, красива, несчастна… — Ты все шутишь, друг мой… Видя, что Мишель дрожит, Морис сказал: — С тебя течет вода, как с морского бога, бедная девушка промокла и без сознания, надо поскорее что-то предпринять. Как полагаешь? А? Мы не можем ведь обратиться за помощью в подозрительный дом, откуда она убежала. — Лучше поплыли к твоему рыбаку. Мы там будем через десять минут. — Это мысль! Папаша Моген даст тебе во что переодеться, а его жена уложит в постель незнакомку. — Поехали! — Садись на весла и жми вовсю!ГЛАВА 9
Князь Мишель заработал веслами так, что через считанные минуты они добрались до жилища знакомого рыбака. Жермена не пришла в сознание, однако на щеках появился слабый румянец, с лица исчезла мертвенная бледность. Было понятно, что искусственное дыхание не понадобится. Супруги Моген, хлебосольные и добросердечные, какими часто бывают обитатели речных и морских берегов, в момент перевернули весь дом, чтобы помочь гостям. Жена взбила тюфяк, согрела простыни и одеяла и уложила девушку, а муж принял двух друзей, сказав им: — Предоставьте девушку заботам моей старухи. Она лучше всех врачей знает, как надо выхаживать утонувших. Скольких она уже оживила с тех пор, как мы здесь живем!.. Вот… Не дальше, как запрошлой ночью я закинул сеть и знаете, что выловил?.. Христианскую душу! Парень был очень плох. Весь искусан собаками этого негодяя Лишамора! — Две огромных псины в ошейниках с шипами… Те самые, что едва не разорвали нашу бедняжку. — Да, господа, честное слово Могена, хорошо сделает тот, кто пристрелит зверюг… — Они больше никого не укусят, папаша Моген, — смеясь сказал Морис. — Мой друг, что находится перед вами, сейчас саданул их кинжалом. Они послужат прекрасной кормежкой для сомов. — Тут что-то подозрительное: двое утонувших в одном и том же месте за сорок восемь часов, и оба искусаны собаками Лишамора, — сказал папаша Моген. — Ну, полиция разберется. А пока я вам расскажу про того, кто попал в мою сеть. Привез его к себе, старуха привела мальчика в чувство. С большим трудом удалось, семь потов спустила, пока его растирала. Наконец очнулся и начал бормотать какие-то слова, о каком-то своем велосипеде, который ему было жалко, звал женщину или девушку по имени Жермена. В конце концов я завернул его в одеяло и отвез в Пуасси, где сдал в госпиталь. Вот какая история. Увидев наконец, что двое гостей дрожат от холода, рыбак сказал: — Пока старуха занимается там с барышней, разрешите предложить своего лекарства. Бутылочку винца, сахарок в кастрюлечку, быстро вскипятить на огоньке, нет лучшего снадобья. У меня как раз есть бутылочка аржантейльского, и вы мне скажете, каково оно. А потом и позавтракаем. Я приготовлю отменный матлот[14]. — И старик, который ни о чем не забывал, крикнул громким голосом: — Жена! Как там больная? — Ей полегче, стала согреваться, но у нее началась лихорадка. — Спасите ее; милая женщина! Спасите! И жизнь ваша будет обеспечена… — крикнул князь с такой горячностью, что даже сам удивился. — Вы очень великодушны, месье, но мы и из сострадания, как велит Господь, сделаем все, что в наших силах, — сказал Моген. — Мне можно на нее взглянуть? — Немного погодя, когда я ее приодену, — ответила хозяйка. Пока готовился матлот, друзья расспрашивали рыбака о подозрительном доме, вблизи которого за двое суток оказались утонувшие и откуда, судя по всему, бежала несчастная женщина. — Вот все, что я о нем знаю, — сказал рыбак. — Мужа прозвали Лишамор, не просыхает все двадцать четыре часа в сутки. Настоящее его имя Кастане, говорят, он гасконец, вроде бы образованный, учился на адвоката или на кюре[15], точно не знаю. Лет пятнадцать назад связался с мамашей Башю, со стервой, каких мало, простите за выражение. Содержат кабачок, чтоб не сказать притончик, куда приходят разные темные личности со всей округи. Местные из каменоломни тоже их навещают, потому что Лишамор охотно дает вино в кредит. У этой парочки с шестилетнего возраста живет мальчишка, они его неизвестно где подобрали. Зовут Бамбош. Пройдоха вырос первостатейный. — Надо будет нам с тобой как-нибудь заглянуть туда, — сказал Морис другу. — Я как раз хотел это предложить. — Только будьте осторожны, место подозрительное, — сказал рыбак. — Хоть иногда и заглядывают хорошо одетые господа. — Вот как! — Да, подкатывают с шиком на собственных, видно, лошадях, в богатых экипажах и останавливаются около старого дома, вроде замка, который выстроен на косогоре. Говорят, что внутри там все шикарно: ковры, мебель, посуда. Как во дворце. Но это только говорят, потому что никто из местных туда и носа не может сунуть. Лишамор, мамаша Башю и Бамбош никому о том ни слова не рассказывают и подходить к тому дому опасно. Иногда оттуда люди слышали крики о помощи, жалобы или, наоборот, песни, звуки кутежа. — Все очень странно, — в задумчивости сказал князь. — И мне еще больше захотелось заглянуть в этот дом. — А что вы́ думаете об этом, папаша Моген? — спросил рыбака Морис, зная, что старик никогда не соврет. — Похоже, что кабачок внизу служит местом сборищ для всяких подонков, а замок — притоном для богатых бездельников. — Они могут быть сообщниками. — Похоже, гнездо бандитов. Особенно судя по тому, что произошло в последние двое суток! Разговор прервался, вошла запыхавшаяся от работы мамаша Моген и сказала: — Сударь, мне кажется, что опасности от утопления больше нет, дамочка пришла в себя, но принялась бредить и ведет себя как сумасшедшая. Посмотрите, у нее такой вид, что страшно делается… Действительно, лицо больной временами сильно краснело и рот сводило судорогой, она размахивала руками, прекрасные голубые глаза темнели, и порой расширялись как от ужаса, взгляд блуждал, с полураскрытых губ слетали нечленораздельные звуки. Князь тихонько взял ее руку и, почувствовав, какая она горячая, сказал другу: — Нельзя оставлять ее здесь, она очень сильно больна. — Что же делать? — спросил Морис. — Перевезти ко мне, где ее будут лечить лучшие доктора Парижа. — А как мы это сделаем? — Сейчас увидишь. Папаша Моген, где ближайшая телеграфная станция? — В Эрбле. — Вы можете туда сходить? — Побегу со всех ног. — Дайте мне, пожалуйста, бумагу, перо и чернила. — У нас это есть, как у городских. Князь быстро набросал:«Владиславу, дом Березова, авеню Ош, Париж. Запряги в ландо Баяра и Мазепу, поезжай как можно скорее по авеню Гранд-Арме, через перекресток Курбвуа, дальше Безон, Лафретти. Прибыв в Валь, спроси дом рыбака Могена. Привези для меня сменную одежду. Торопись. Жду.— Мы точно по этому пути ехали с тобой утром? — спросил он Мориса. — Точно. Но почему ты не велишь прислать экипаж с тем кучером, который привез нас сюда? Он же знает дорогу. — Друг мой, тот малый — парижанин, болтун и любопытный. Он захочет все высмотреть и разузнать, а Владислав — мужик… Мой верный и преданный раб и, если я прикажу, будет глух и нем, он человек долга, а кроме того, он меня любит, что для слуги редко. — Прекрасно! Случившееся требует соблюдения тайны и в отношении супругов Моген.Князь Березов».
Прошло четыре часа тревожного ожидания, состояние Жермены все ухудшалось. Князь и Морис не отходили от нее в надежде, что она проронит хоть какое-нибудь разборчивое слово, по какому можно узнать хотя бы ее имя и где ее дом. Ничего не удавалось. Больная в бреду как будто отбивалась от кого-то, ее мучило непонятное страшное видение, с ее губ срывались неразборчивые жалобы, и все это усиливало ее лихорадочное состояние. Наконец послышался бешеный топот лошадей и громкий стук колес. Друзья выбежали на дорогу как раз в тот момент, когда роскошный экипаж остановился около домика рыбака. Человек на козлах, среднего роста, но необыкновенно широкоплечий и мускулистый, улыбнулся князю с ласковой простотой давнего слуги. На нем была красная шелковая рубаха, схваченная пояском, черные бархатные штаны, заправленные в сапоги, и небольшая фетровая шляпа с загнутыми полями. Он был по типу внешности казак — маленькие живые глаза, широкий вздернутый нос и высокие скулы, длинные волосы и огромная борода, что веером спускалась на грудь. — Ты что-то поздно приехал, Владислав. — Батюшка барин, час с четвертью, как получил депешу… Мигом собрался, а уж гнал не жалеючи. — Хорошо! Хоть вовсе загони их, а через три четверти часа мы должны быть возле дома. — Слушаю, батюшка барин. Загоню, коли велишь, но поспеем. Моген с женой быстро постелили в ландо матрас и одеяло, а князь принес на руках Жермену и осторожно положил ее в экипаж. И, прощаясь с добрыми людьми, спросил Мориса: — Есть при тебе деньги? — Не очень много, четыре или пять стофранковых. — Давай сюда. Потом, обращаясь к папаше Могену, сказал: — Примите как благодарность за все ваши хлопоты, это только аванс, потом будет еще. Рыбак не хотел брать, но князь, крепко пожав загрубелую руку, сказал: — Сделайте одолжение, не отказывайтесь, мы скоро увидимся. Морис сел рядом с кучером, князь — в кузов около Жермены. Владислав щелкнул языком, и пара чистокровных понеслась в Париж. Когда экипаж выехал на проезжую дорогу, из-за куста выскочил какой-то человек, погнался за ним, вцепился руками сзади в рессоры, нырнул под днище, прочно ухватившись там за скобы. Через три четверти часа кони, роняя хлопья пены, тяжело дыша — бока вздымались и опадали, — остановились у подъезда дома князя на улице Ош. Бешеная езда стоила хозяину двух отменных лошадей, но выиграл он двадцать пять минут, что могли спасти жизнь неизвестной ему девушки. Мишель послал гонцов за врачами, а Морис простился, сказав, что придет завтра. Князь, взволнованный и совершенно преображенный, признался другу: — Теперь, Морис, я не буду плыть по течению, снедаемый скукой, у меня есть в жизни цель — вылечить это дитя, такое прекрасное и такое, судя по всему, несчастное, спасти его, быть может, отомстить за него… Человек, что прицепился к экипажу и выдержал под ним весь путь до Парижа, незаметно выскочил в нескольких шагах от конечного пункта. Он потянулся, потопал ногами, чтобы размяться и, обратившись к груму[16], — тот вышел из ближних ворот, — спросил об имени хозяина особняка по соседству. — Князь Березов, русский, известный богач, — ответил грум. — А… Очень хорошо, благодарю вас. — И проворный соглядатай неспешно удалился, словно гуляя. «Теперь я знаю, где она и как имя того, кто ею интересуется, — думал Бамбош, сын кабатчика. — Доложу обо всем графу насчет бегства. Он крепко обозлится, видать, малютка его здорово прихватила. Лишамору, мамаше Башю и мне, понятно, не поздоровится. Но я теперь знаю средство, чтоб его умилостивить».
ГЛАВА 10
Состояние Жермены ухудшалось. За первыми симптомами, что так напугали князя и заставили его как можно скорее перевезти больную к себе, последовали другие, еще более серьезные. Два врача, спешно вызванные, качали головами и ничего определенного не говорили, что у медиков обычно равносильно признанию в бессилии. Оба доктора — профессора Медицинской академии, один — крупный специалист по внутренним болезням, а другой хотя и молодой, но уже известный научными трудами в области клинической медицины — сразу определили, какой жестокий недуг поразил пациентку. Доктор Ригаль прошептал слово менингит[17], доктор Перрье согласился, а князь, не зная, что это слово почти равносильно смертному приговору, все спрашивал и спрашивал дрожащим голосом: — Вы ведь спасете ее, господа?! Спасете? Не правда ли? — Мы сделаем все, что может медицина. Согласны с этим, Перрье? — Разумеется. Но врачебный долг обязывает предупредить вас, что болезнь очень серьезна, князь, и состояние больной почти безнадежно. Мишель побледнел. — Она вам близкий человек, не так ли? — спросил Ригаль. — Вчера я совсем не знал ее, но сегодня кажется: если она умрет, я тоже умру. — Можете ли вы хотя бы сказать, каково ее положение в обществе, основная профессия, образ жизни?.. Может быть, вам известно, при каких обстоятельствах, вероятно трагичных, начался у нее тяжкий недуг? Все это имеет большое значение, вы, конечно, понимаете не хуже нас. Князь в коротких словах рассказал о встрече с Жерменой и добавил: — Больше я о ней ничего не знаю. Ничего решительно! — Вы сказали, ее платье хорошо сшито, но из дешевой ткани, — заметил профессор Перрье. — Можно предположить, что она работает в каком-нибудь ателье. На такую же мысль наводят многочисленные уколы иголкой на пальцах. — У нее следы собачьих укусов на теле, — заметил доктор Ригаль, — но самое большее, что могло произойти от них, — это сильный испуг и, как следствие, сжатие сосудов головного мозга. — Следует учесть, что она тонула, — добавил коллега. — Важно было бы знать, как задолго перед утоплением она поела. Поскольку любой врач всегда в какой-то степени бывает криминалистом, профессор с живостью сказал: — Кто знает, не стала ли она жертвой преступления? Князь, могу я попросить вас выйти на минутку, нам необходимо остаться одним. Мишель покорно повиновался. — Можете войти, — позвал Перрье через короткое время. — Бедная девушка подверглась бесчестью, — печально сказал профессор. — Следы совсем недавно совершенного насилия. — Какая подлость!.. — вскричал с гневом русский. — И один этот факт насилия уже может быть причиной ее болезни, — сказал Ригаль. Врачи предписали режим и удалились, сказав, что станут по очереди навещать больную, сколько потребуется.Для князя, что стал участником драмы, началась новая жизнь. Он замкнул двери для всех, кроме своего друга и поверенного Мориса Вандоля. Отказался от всех развлечений: клубов, театра, бегов и других удовольствий. Заняв под большие проценты крупную сумму, расплатился с долгами, в том числе и с карточным долгом графу Мондье. Мишель поселился в комнате рядом с той, где лежала Жермена. Сто раз на дню он отрывался от книги, которую рассеянно читал, и, тихонько ступая по ковру, подходил к постели больной. Монахиня, что дежурила возле нее, — девушка с бледным лицом, кроткими глазами, полными милосердия и веры, — со словами сострадания на устах поднимала головуПроникнутый великим почтением к ее неиссякаемому терпению и самоотверженности, князь тихонько спрашивал: — Ничего нового, матушка? — Ничего нового, месье. Расстроенный, он подходил, иногда осторожно брал горячую руку, щупал беспорядочное биение пульса и отправлялся к себе, не в силах видеть блуждающий взгляд Жермены и слышать ее неразборчивые слова. Молодой человек испытывал почти физические страдания, когда слышал, как девушка иногда стонет от нестерпимой боли в мозгу. Морис Вандоль приходил каждый день и подолгу сидел с другом. Князь Березов совершенно переродился. События внешнего мира его не интересовали, он всей душой сосредоточился на Жермене. Продолжительность болей в мозге при менингите бывает разной. Иногда они длятся несколько дней или даже всего несколько часов, но порой продолжаются очень долго, от их продолжительности не зависит возможность и срок выздоровления. Жермена все время находилась между жизнью и смертью и невыносимо страдала. Так продолжалось восемнадцать дней. На девятнадцатый случился приступ, от которого она чуть не умерла. Но зато в первый раз можно было понять ее слова. — Пощадите!.. Сжальтесь!.. Я вам ничего плохого не сделала!.. Мама!.. Пощадите… Моя бедная мамочка!.. Граф… Подлец!.. Это он!.. Мондье!.. Сжальтесь!.. Сжальтесь над бедной Жерменой!.. Наклонясь над изголовьем умирающей, Мишель Березов с болью прислушивался. Он узнал наконец, что девушку зовут Жерменой… Уловив проблеск сознания в ее взгляде, тихо спросил: — Граф… Какой? — Мондье[18]… Мондье… Он… Ох… Мишель подумал, что она воскликнула: «Мой Бог!» — и подумал: она не поняла, жестоко было бы продолжать спрашивать. Это он не понял ее слов… Скольких несчастий не произошло бы, догадайся он тогда. Ночью Жермене стало еще хуже, если только это было возможно, и князь в страхе послал Владислава за докторами. Едва дворецкий удалился, у Жермены началось сильнейшее кровотечение из носа. Больная слабела с каждой минутой, и Мишель с ужасом ждал последнего вздоха. Доктор Перрье вошел в тот момент, когда князь в отчаянии воскликнул: — Она погибла! — Она спасена, — радостно сказал доктор. — Если не будет непредвиденных осложнений, я отвечаю за ее жизнь.
ГЛАВА 11
Бамбош — тот, кто встречал графа с похищенной Жерменой возле кабачка Лишамора, дежурил затем возле ее комнаты и, наконец, под кузовом ландо добрался к дому князя Березова, — был вполне законченным мерзавцем. Не играя пока никаких крупных ролей, он вполне мог бы не уступить самым закоренелым и знаменитым преступникам в жестокости, хитрости, ловкости и полном отсутствии любых нравственных устоев. — Ему всего восемнадцать, а он уже законченный бандит, — с гордостью говорили между собой мамаша Башю и Лишамор, радуясь и за себя: ведь это они выработали и развили в приблудном ребенке, их приемном сыне, самые преступные инстинкты. Бамбош возрастал во зле, как другие возрастают в добре, и редко дурные примеры, подаваемые постоянно, и дурные принципы, внушаемые старательно и последовательно, не находили столь благодатной почвы. Кастане, прозванный Лишамором, желая подготовить ребенка, в ком он заметил редкие способности, к жестоким битвам жизни, начал с того, что дал ему довольно основательное образование. Когда мальчишка восставал против учения, отлынивал и ворчал, что ему надоело, — «папаша» отвешивал подопечному несколько здоровенных тумаков, неизменно повторяя: — Сынок! Я мечтаю о твоей блестящей карьере. Ты станешь работать в большом свете и сделаешься важным господином, почти по-настоящему важным. Для этого надо уметь влезать в разные шкуры: иногда понадобится быть и биржевиком, и атташе при посольстве, и офицером иностранной армии и при всех обстоятельствах держаться джентльменом. Уменье себя вести в обществе и образование необходимы для этого, и я тебя всему обучу. Смышленый Бамбош вник и перестал отлынивать от учения. Бывший преподаватель Императорского лицея, хоть и весьма образованный, но подверженный многим грязным порокам, Кастане очутился за порогом университета, скатился на дно, сделался содержателем подозрительного заведения и сообщником шайки разбойников. Но Бамбоша обучил английскому, немецкому и итальянскому, немного греческому и латыни, чтобы понимать и уметь вставить, где надо, цитату, дал достаточные знания из физики и химии. Бамбош усваивал все с необычайной легкостью. Также по настоянию учителя старательно работал он над почерком: требовалось уметь подделывать любой чужой. Часто бумажка с фальшивой подписью дает гораздо больше, чем удар ножом или доза яда. Это еще не все. Бамбош, ловкий и проворный как обезьяна, сильный как атлет, настойчиво тренировал свое тело. Бывший учитель фехтования, опустившийся до уровня каменотеса из-за пьянства, обучил его искусству владения шпагой и стрельбе, сделав воспитанника опасным противником. Подонки, посещавшие кабачок Лишамора, научили мальчишку драке ногами, карманному воровству, передергиванию в картах и разговору на арго[19]. Когда Бамбош подрос, он самостоятельно занялся стрельбой из пистолета и достиг исключительной меткости. — Этот чертов мальчишка далеко пойдет! — с восхищением говорил Лишамор. — Да, папаша, вы меня богато воспитали, — соглашался Бамбош. Он правильно писал по-французски, но говорить предпочитал на жаргоне. — Благодаря вам я буду шикарным вором. Вором-аристократом. Пусть только случай подвернется, и вы увидите, на что способен ваш приемыш и ученик. Вот краткий портрет этого героя. Роста выше среднего, недурен, хотя черты лица не отличались выразительностью. Светлый шатен, круглолицый, небольшой рот с хорошими зубами, прямой нос, карие глаза. А в общем, внешность была какой-то стертой, неприметной. Это оказалось очень удобным для гримирования и переодевания. За обычным телосложением скрывалась большая мускульная сила, а за невыразительной физиономией — весьма тонкий ум, рано развившиеся дурные наклонности и огромное честолюбие. Он был незаметен и потому особенно опасен. …Узнав, что Жермена, наверное, умирающая, находится в доме князя Березова, Бамбош решил, как уже сказано, предупредить графа Мондье. Это было лучшим из того, что он мог теперь сделать, учитывая, что строгий приказ графа семейство Лишамора не сумело исполнить. Граф жил близ площади Карусель в маленьком уединенном особнячке, перед ним находился двор, а сзади — сад. Дом имел два выхода: один, главный, на площадь, а второй, низкий и незаметный, на бульвар. У этого выхода и позвонил Бамбош. Ему открыл слуга без ливреи и, обменявшись с ним условным знаком, пропустил. Они миновали садик, обнесенный высокими стенами, и вошли в холл. Бамбош, как человек хорошо знакомый с расположением комнат, остановился здесь. Граф уже позавтракал и, затянувшись утренней сигарой, особенно приятной для настоящих любителей-курильщиков, просматривал газеты. Бамбош вошел в комнату без доклада, почтительно поклонился графу; тот приветствовал слугу такими словами: — А! Это ты, мошенник. — К вашим услугам, месье. — Почему явился без приказания? — Я пришел известить, что малютка сбежала… Граф вскочил и бросился с кулаками. Бамбош спокойно выдержал удар, холодно посмотрел на хозяина. — Не бейте, это ничего не даст. А потом, должен сказать, я решил больше не ходить у вас на поводу! Можете командовать Лишамором и старухой Башю. Но не мной. Граф сдержался, услышав такую дерзость. — Не играй в подобные игры, мальчуган. Другие пробовали и обожглись. — Я не играю, а лишь говорю, что со мной надо обходиться достойно и оценивать мои услуги тоже по достоинству. — Как ты смеешь, негодяй, говорить о вознаграждении, когда Жермена сбежала! — заорал граф, приходя в бешенство. — Хозяин, поверьте мне, никто в этом не виноват, — сказал Бамбош с удивительным спокойствием. — Мы все предусмотрели, только не знали, что один прут в решетке держался непрочно; кстати, окна вы сами проверяли. — И Жермена убежала во двор через окно… А собаки? — Они сделали все как надо и умерли. — А она? Что с ней дальше?.. — Она бросилась в воду, и ее спасли двое мужчин и отвезли в Париж в экипаже, запряженном парой чистокровных лошадей. Вот все, что я могу пока сказать. — Значит, она для меня потеряна… И она разболтает… Бамбош молчал, как будто обдумывая ответ. Наконец он проговорил с расстановкой: — А если я ее найду для вас? — Ты! Ты сможешь это сделать? — Да, но при одном условии… Граф презрительно ответил: — Повторяю, не играй в эти игры! — Патрон, если играть, то с открытыми картами. Что касается Жермены, в ней мое спасение, мой успех, потому что вы очень за нее держитесь, а вернуть девчонку в ваши руки могу только я. Я вам необходим. Но я скромен в моих требованиях. Вытащите меня из Эрбле, где я прозябаю, возьмите служить вашим тайным делам, о которых я подозреваю. Будете иметь во мне преданного помощника, поскольку я честолюбив и жаден до удовольствий, какими наслаждаются люди, меня не стоящие. Для начала я верну Жермену, и по тому, как буду действовать, вы сможете судить, действительно ли я на что-то способен… Если хотите, это будет экзамен. Граф посмотрел на Бамбоша гораздо внимательнее, чем прежде, и, удивленный умом, правильностью речи, умением выражать мысли, ответил: — Согласен. Верни Жермену, и я открою тебе путь к богатству. Где она сейчас? — Вы узнаете, но сначала прошу написать под мою диктовку письмо, оно даст возможность приступить к делу. — Не понимаю. — И все-таки пишите и постепенно все узнаете. Это развлечет вас. Бамбош диктовал:«Дорогой князь, весьма рекомендую подателя сего, в том случае, если вам нужен честный, усердный и сообразительный слуга, умеющий грамотно и толково писать по-французски. Немного меньше чем секретарь и немного больше чем лакей. Он прибыл из моих бургундских земель, я желаю ему добра и рассчитываю на вашу любезную помощь в подыскании для него местечка. Примите, дорогой князь, уверения в моей сердечной преданности вам.— Датируйте, пожалуйста, это письмо позавчерашним числом, и вот адрес: «Его сиятельству[20] князю Березову в собственный дом. Париж». — Князь Березов!.. Почему?.. — спросил заинтригованный граф. — Потому что он вспорол животы моим прекрасным собакам, выловил из реки Жермену, привез в свой дом, где она сейчас и находится. — Проклятье!.. Он… Князь Мишель!.. Но как, черт возьми, ты об этом узнал?! — Это мой маленький секрет. Я был в какой-то мере виноват в недосмотре и считал себя обязанным исправить дело, — скромно сказал Бамбош. — Это хорошо, мой мальчик. Добейся успеха и ты будешь хорошо вознагражден. — Я на это рассчитываю, патрон! — Нужны тебе деньги? — Тысяча франков, чтобы прилично одеться, подкупить слугу в доме князя или устроить так, чтобы его выгнали, освободив для меня место, — сказал Бамбош, дивясь собственному нахальству: сумму запросил изрядную. — Отлично! Вот тебе десять луидоров[21]. — Благодарю, патрон, вы скоро будете иметь от меня известия. Бамбош переоделся во все новое в одном из магазинов и отправился в район, где жил Березов. По дороге он заглянул в питейное заведение, куда ходили слуги князя поиграть в бильярд или в карты. Бамбош выдал себя за слугу, ищущего место, и намекнул, что имеет рекомендации к Березову. — А, это русский, чей дом недалеко отсюда, — сказал кучер, красный от выпивки. — Там было хорошо служить, только он, случалось, бил свою челядь. — Вы говорите о нем в прошедшем времени, он что, умер? — Хуже того. Разорился. Дотла. Сидит без сантима, гол как сокол. Вот как раз идет помощник его камердинера[22]. Что нового в доме, Жозеф? — Не спрашивайте! Никого не принимает, сам никуда не выходит… Нищета, полная нищета! Вот получу жалованье за месяц, и до свидания! Бамбош заплатил за общую выпивку, потом предложил кинуть карты. Разумеется, он проиграл. Короче, сделал все, что следовало, и под конец напоил месье Жозефа в лоск. Когда после бессонной ночи Жозеф, еле волоча ноги, явился в дом Березова, управитель Владислав его немедленно рассчитал и выгнал вон. Через некоторое время Бамбош представился князю, был сразу принят на службу благодаря рекомендации Мондье. Теперь он мог оповещать графа обо всем, что касалось Жермены, о ее болезни, о том, каким вниманием и уходом она окружена, и о сердечном участии, что проявлял князь к ее судьбе. Каждое донесение заканчивалось обещанием начать действовать в нужный момент. Момент настал, когда Бамбош известил Мондье, что против ожидания Жермена спасена. «Ага, князь Березов, — ликовал граф, — теперь девица досталась нам обоим, и ты даже не подозреваешь, какой опасный подарочек поднесла тебе судьба».Граф де Мондье».
ГЛАВА 12
Жермена, бледная, исхудавшая, несколько часов лежала неподвижно, не в силах произнести хотя бы слово или сделать малейший жест. Недуг, мучивший ее несколько недель, наконец был побежден кризисом, чуть не убившим больную. Теперь голова ее как будто опустела, а тело совершенно обессилело. Она казалась бы мертвой, если бы не тревожное выражение глаз, они одни оставались живыми. Понемногу мысли ее начали проясняться при виде окружающей обстановки. Открыв глаза, Жермена увидела, что лежит на широкой постели с богатыми драпировками; на стенах висят прекрасные картины в золотых рамах; в комнате расставлена дорогая мебель. На какой-то момент это ее испугало, потому что напомнило ту поддельную роскошь, среди какой она очнулась там, в проклятом доме. Но приветливое лицо и ласковая улыбка монахини рассеяли ее тревогу. Медленно подняв слабую руку, больная коснулась пальцами сиделки и сказала еле слышно: — Спасибо! — Не говорите, дитя мое. Вы были очень плохи, но теперь спасены… Ни о чем не беспокойтесь, берегите силы, чтобы жить. Жермена поняла, но все-таки сказала: — Мама! — Вы ее скоро увидите, а пока слушайтесь меня, дорогая, — остановила девушку монахиня с мягкой повелительностью. Тотчас Жермена канула в тот глубокий целительный сон, что приходит к больным после тяжелого кризиса. Она проспала десять часов и вновь пробудилась. Монахини не было, у изголовья сидел высокий мужчина и смотрел на нее с невыразимой нежностью. Бледное лицо с тонкими, но мужественными чертами, тревожный взгляд больших черных глаз поражали ее во время кратких моментов просветления сознания в ее бредовом состоянии. Она поняла, что этот человек, так же как и монахиня, не отходили от ее постели в часы страданий, и почувствовала себя в безопасности. — Дитя мое, — сказал незнакомец необыкновенно приятным, каким-то музыкальным голосом, — в состоянии ли вы слушать меня и ответить на некоторые касающиеся вас вопросы? Я ваш преданный друг, и позднее вы узнаете, при каких обстоятельствах я им стал. Жермена думала совсем о другом, она спросила дрожащим от слабости голосом: — Мама… сестры… Берта… Мария… — Меня зовут Мишель Березов, — вновь заговорил неизвестный. — Вас лечили в моем доме, я не знал ни как вас зовут, ни где ваш дом и не мог ничего сообщить вашим близким. — Я была очень больна? И долго? — Три недели. — Три недели!.. О Господи!.. Бедная мама! Месье, умоляю вас, дайте ей знать. Беспокойство убьет ее. Мадам Роллен, улица Поше, номер… Мое имя Жермена. — Я хочу лично известить ее о вашем выздоровлении. — О! Благодарю вас… Моя признательность вам… — Успокойтесь, ради Бога, — прервал ее князь. — Вы еще слишком слабы. Берегите силы для свидания с родными. Надеюсь, вы скоро увидитесь. Мишель позвонил, велел подавать экипаж и вышел, а на его место дежурить около больной села монахиня. Когда князь собирался выйти из дому, помощник камердинера, нанятый по рекомендации графа Мондье, подал на подносе конверт с надписью «срочно». Молодой человек пробежал глазами письмо, чуть побледнел, смял листок и сунул в карман. Там было всего несколько строчек, но они испугали бы всякого менее мужественного человека.«Князь! Неизвестный, который пока еще не враг вам, советует не заниматься больше Жерменочкой. Ему она очень дорога, а вам безразлична. Не старайтесь проникнуть в тайны ее жизни. В противном случае с вами, с ней и с ее близкими произойдут большие несчастья. Автор этих строк обладает огромной властью. Для него не существует никаких предрассудков, а жизнь человека он ценит в сантим и ни перед чем не останавливается. Понявшему привет!»Спускаясь по лестнице, Мишель размышлял: «Этот мерзавец не знает меня, я тоже ни перед чем не остановлюсь. Спасение Жермены и отмщение за нее для меня не прихоть, а исполнение долга. Посмотрим, кто окажется сильнее». Молодой человек сел в ландо, камердинер посмотрел вслед безразличным взглядом и услышал, как тот сказал кучеру: «Улица Поше!»
Когда князь выехал за ворота, новый камердинер не спеша удалился из дому, направился в тот ресторанчик, где неделю назад накачал допьяна слугу, на чье место и был принят. Судя по тому, с каким вниманием хозяин кабачка относился к вошедшему, месье Жан, — Бамбош назвался этим именем, распространенным среди людей его званья, — числился уважаемым клиентом. Молодой человек примерно его возраста, одетый в форму служащего беговых конюшен, с заколкой в форме подковы на галстуке и с двумя лихими начесами на висках сидел за столиком перед недопитой бутылкой. — Привет Бам… Жан! — сказал он вошедшему. — Привет, Брадесанду[23]. — Выпьешь стаканчик? — Пожалуй. Чокнулись, и Бамбош быстро сказал парню в форме: — Беги к хозяину, и быстро! Я должен с ним встретиться сегодня вечером, непременно… Девчонка говорила с князем… Он поехал на улицу Поше. Точно! Скоро будет взрыв. — Не бойся, — ответил малый по кличке Брадесанду, — хозяин принял меры. — Тем лучше, а ты поторапливайся! — Бегу. Однако, знаешь, мне надоело сидеть здесь на посту. — Ты что, жалуешься, ты, кто больше всего любит безделье! — Я не отказываюсь, но мне скучно и не хватает удовольствий. — Ба! Как только дело будет сделано, патрон тебя сделает букмекером[24] на скачках. Действуй быстро.
На улице Поше, чтобы побыстрее расположить к себе консьержку, князь сунул ей в руку несколько монет и сразу спросил: — Мадам Роллен живет здесь, не так ли? — Вы хотели сказать, покойная мадам Роллен, месье. — Как! Она умерла? — воскликнул русский, у него прямо в глазах потемнело. — Вот уже три недели, в госпитале Ларибуазьер, как раз в тот день, когда пропала ее дочь Жермена. — И консьержка во всех подробностях рассказала гостю о гибели квартирантки. Мишель с ужасом думал, какой удар нанесет это известие Жермене. Он поспешил спросить: — А могу ли я видеть сестер Жермены, девиц Берту и Марию? — Бог мой, дорогой месье, вам решительно не везет! Как раз сегодня утром за ними приехали, чтобы отвезти их к Жермене, она ведь, бедняжка, нашлась. — За ними приехали? А кто приехал? — спросил князь, побледнев. — Симпатичный старый священник, похожий на деревенского кюре. — Можете ли вы хотя бы сказать, когда они вернутся? — К сожалению… — Он сказал, куда их везет, сообщил свой адрес? — Не говорил. Малютки были так счастливы, а он так торопил… У князя возникло смутное подозрение, он вспомнил сегодняшнее письмо и подумал, что оно имеет отношение к случившемуся, и отъезд девушек похож на похищение. А что, если этот священник просто-напросто участник банды? — Как только девицы Роллен вернутся или вы о них узнаете что-нибудь, известите, пожалуйста, меня. Вот мой адрес. Консьержка рассыпалась в благодарностях, сказала, что исполнит все в точности, и даже сочла нужным добавить: — Одновременно с Жерменой исчез еще один жилец. Порядочный молодой человек по имени Бобино, рабочий типографии. Об этом в квартале немного посплетничали, но совершенно зря. Между ним и Жерменой ничего не было. Скорее он был неравнодушен к Берте, ее сестре. — Вы говорите, что молодой человек не вернулся с тех же пор? — Даже не прислал никаких известий о себе, что меня очень удивляет. Князь, еще более озадаченный, медленно поехал домой, с ужасом думая о том, как скажет Жермене о смерти матери, отъезде сестер и странном исчезновении скромного друга Бобино, кого решил непременно отыскать.
Бамбош, чье отсутствие дома не заметили, вернулся, прошел на чердак и наладил там подслушивающее устройство. Слова князя доносились совершенно отчетливо, и, хотя Жермена говорила очень слабым голосом, Бамбош вполне улавливал и ее речь. А ведь механизм этого домашнего прибора был чрезвычайно простым, даже примитивным. Отверстие трубочки выходило в комнату Жермены, его маскировала штофная[25] обивка комнаты, звук проходил свободно. Жермена, увидав Мишеля, сразу заметила, что он расстроен, хотя тот изо всех сил старался казаться спокойным. — Прошу вас, расскажите! Хотя она говорила слабым голосом, Бамбош улавливал все. — Я не мог повидать вашу мать… Она больна. Только не волнуйтесь, пожалуйста. — Больна! О Боже! Бедная мама! Кто же ухаживает за ней? — Она в приюте для выздоравливающих, — говорил молодой человек, стараясь оттянуть время, чтобы постепенно подготовить больную к тяжелому известию. — Больна, и меня нет около нее! — рыдая сказала Жермена. — А сестры? Вы их видели? Дорогие мои, бедненькие, они-то как? — Мне действительно не повезло. Представьте себе, их увезли, чтобы они побыли около матери. Думаю, вернутся дня через два. Консьержка ничего не могла мне сказать. — В нашем доме у нас был друг, милый молодой человек Жан Робер, по прозванию Бобино… Юноша неравнодушен к Берте, он-то наверное знает. — Его как раз нет сейчас в Париже, — пробормотал князь, совсем растерявшись. — Как, и его тоже? Месье, вы от меня что-то скрываете! Мама больна, сестры уехали, Бобино нет, я похищена… Что все это значит, Господи? Говорите, умоляю вас! Вы такой добрый, так преданно обо мне заботитесь… Я, кажется, узнаю руку негодяя, который… От него всего можно ждать. — Кто он, назовите его имя! Не решаясь и не имея сил ответить, бедняжка разрыдалась. «Если она сейчас заговорит, патрон погорел», — подумал подслушивающий Бамбош. Но Жермена молчала. Князь, опасаясь повторного приступа болезни, не настаивал. К тому же он был даже рад прекращению разговора, ведь ему пришлось бы придумывать новые объяснения и, совсем запутавшись, он мог сказать неосторожное слово. Совершенно разбитая происшедшим разговором, Жермена сказала тихонько: — Завтра я вам все скажу. И впала в сонное оцепененье. «А ты, мой князь, должен завтра быть мертв, — сказал себе Бамбош, бросая трубку акустического устройства. — В твоей смерти наше спасение, и ты приговорен».
ГЛАВА 13
Легко догадаться, что Брадесанду тоже состоял в услужении у графа Мондье. В его обязанности входило сидеть то в том, то в другом кабачке поблизости от дома Березова и ждать Бамбоша, который передавал ему для графа сведения обо всем происходившем у русского князя. Брадесанду быстро исполнил поручение Бамбоша. Тот ночью, наняв экипаж, понесся на площадь Карусель, где его с нетерпением ждал патрон. Войдя в комнату графа, Бамбош крайне удивился, увидев пожилого священника в потертой сутане[26], по виду скромного и доброго. На вид ему было лет шестьдесят, руки у него дрожали, он то и дело нюхал табак и громко сморкался в большой носовой платок. На минуту нахальный малый растерялся при виде почтенной особы. Старческим, немного дрожащим голосом священник предложил ему сесть, поправил очки в роговой оправе и спросил, зачем он пришел. — Прошу прощенья, но у меня дело не к вам, господин кюре. Мне необходимо видеть графа Мондье. — Я пользуюсь его полным доверием, говорите со мной как с ним самим. — Извините, господин кюре, — решительно сказал Бамбош. — Раз его нет, я подожду. — Вы же видите, я занимаю его комнату, у меня ключи от всех ящиков. Я его заменяю во всем и для всех. Я принимаю всех, кто его посещает по делу. — Я еще раз говорю: нет! — забыв о вежливости, заговорил Бамбош. — Будь вы его брат, отец или дедушка, черт меня забери, если я скажу хоть слово! Тут священник расхохотался и выпрямился. Руки его перестали дрожать, он стянул с головы седой парик, сорвал очки, скинул сутану, и Бамбош, совершенно ошеломленный, захлопал в ладоши. — Провалиться мне! Это вы, патрон! Ну и ловки же! — А ты молодец, Бамбош, — ответил граф, надевая халат. — Ты верен и умеешь молчать, я вознагражу за это. — Здо́рово вы маскируетесь, патрон. И так естественно. — Да, это один из моих маленьких фокусов. Благодаря ему сегодня удалось увезти сестер Жермены. Двух заложниц. Я воспользуюсь ими, когда потребуется укротить князя и заманить Жермену куда мне заблагорассудится. Теперь расскажи, что нового там? — Дела плохи, патрон. — Рассказывай. — Так вот, малютка заговорила. Простак князь делает все, что она захочет. Сегодня он ездил на улицу Поше. — Слишком поздно, раз клетка уже пуста. — Вы приняли правильные меры предосторожности. — Жермена все сказала князю? — Нет. Даже не назвала вашего имени. — Прекрасно! — Но завтра она должна дополнить признания. Сказать, кто ее похитил и все прочее. — Ни к чему, чтобы он это знал. — Я того же мнения. — Для этого есть только одно средство… — Убрать князя. — Прекрасно! Мы хорошо понимаем друг друга. Берешься сделать это? — Да! — Не побоишься, не поколеблешься? — Вы же знаете, что я не постеснялся с Бобино, типографом, пропавшим в один день с Жерменой. — Верно говоришь. При этих словах Мондье открыл сейф, взял из него пригоршню золотых и дал Бамбошу. — Это тебе на развлечения. — Спасибо, патрон! Одна радость работать на вас! Затем граф достал флакон с притертой пробкой. Там содержалась жидкость, прозрачная, как дистиллированная вода. Мондье сказал: — Здесь достаточно, чтобы отправить на тот свет четверых, таких же здоровых, как князь, причем смерть наступит без конвульсий, без агонии. Жидкость не имеет ни вкуса, ни запаха, никаких признаков, по коим можно заподозрить, что это сильнейший яд. Человек засыпает и больше не просыпается, и нет никакого противоядия. — Да, но существует вскрытие, экспертиза судебной медицины, химический анализ. Все они занимаются исследованием внутренностей покойного, и в результате виновника смерти гильотинируют, — возразил Бамбош. Граф пожал плечами. — Это относится к ядам, изобретенным в цивилизованном обществе, они обязательно оставляют какие-то следы. А дикари в этом смысле посильнее ученых. Вот, например, южноамериканские индейцы используют кураре и мауак. Укол иглой, колючкой или древесной щепкой, смазанной кураре, и человек умирает мгновенно, как от пули, попавшей в самое сердце. Капля мауака в стакане воды убивает как полный стакан раствора мышьяка! Притом в теле, в крови — решительно никаких признаков отравления, анализы ничего не показывают. Бамбош смотрел на флакон с восхищением и страхом. Граф продолжал: — Этот сосуд содержит уйму смертельных доз, разведенных в дистиллированной воде. Ты добавишь сегодня вечером, самое позднее завтра утром, всю эту жидкость в питье, какое обычно употребляет князь, и через пять минут после того, как он выпьет, мы от Мишеля Березова избавимся навсегда. — Сделаю все, как вы приказали, — без колебаний сказал Бамбош. Он возвращался в дом князя, размышляя, как добиться, чтобы враг непременно выпил отраву. «Не могу же я насильно влить ему питье в рот, как собачонке, — думал он. — Надо сделать так, чтобы у него не возникло подозрения». Мысль о преступности замысла нисколько не смущала мерзавца. Бамбош принадлежал к новому поколению негодяев, чьи жестокость и развращенность намного превосходили злодейские качества прежних преступников. Для нынешних молодых преступность — как бы естественное состояние. Они действуют совершенно спокойно. Убить человека для них почти то же, что раздавить насекомое или свернуть шею птенцу. Бамбош уничтожил бы князя не задумываясь, если бы при этом не рисковал собой. Он был по натуре трусом, этот наглец. Дойдя до улицы Ош, он прищелкнул пальцами, сказав себе: «Самые простые средства всегда оказываются самыми лучшими… Я, кажется, придумал…» Развлекаясь в обществе богатых бездельников, князь выпивал много шампанского и изысканных вин, без конца курил дорогие сигары. После этого у него все горело внутри и мучила жажда, дома он заглушал ее водой, не прикасаясь к спиртному. С тех пор, как под его попечением оказалась больная Жермена, молодой человек почти никуда не выходил, вел жизнь едва ли не аскета, но привычка потреблять много воды его не оставляла. Днем он почти все время проводил в курительной. Навещая больную, Мишель шел через комнату, служившую библиотекой и гостиной. Там, посередине, на столике, покрытом дорогой восточной тканью, на большом хрустальном подносе всегда стоял питьевой прибор: графин, полный прозрачной воды, стакан, сахарница, ложечка и бутылочки с разными сиропами. Воду предварительно пропускали через фарфоровые фильтры, чтобы туда не попала не только соринка, но и никакие микробы, или, по-иному, бактерии[27], которых все так боятся с тех пор, как их открыли; при этом большинство не догадывается, что этих крохотных убийц невозможно «выловить» никакими фильтрами, что доказал великий ученый Луи Пастер. Бамбош по обязанностям своей службы имел сюда доступ. Парень сказал себе: «Вот куда я налью яд». И вот он заявился, чтоб якобы помешать дрова в камине; без малейшего колебания влил в графин смертельный яд и спокойно удалился, бормоча себе под нос: «Как только князь захочет пить, ему придет каюк». Не миновало и пяти минут, как Мишель, выйдя из курительной, стал на цыпочках пробираться через гостиную, чтобы узнать у монахини, спит ли Жермена. Проходя мимо графина, он почти машинально протянул руку, чтобы налить в стакан воды…ГЛАВА 14
В поезде, что прибывает в двенадцать часов пятьдесят минут на парижский вокзал Сен-Лазар, находился человек, по-видимому, жаждавший поскорее доехать. Ему казалось, будто кондуктор слишком долго держит состав на остановках, что вообще состав двигается медленнее, чем следовало, хотя все это совершенно не соответствовало действительности. Пассажир прямо кипел от нетерпения, сидя между двумя тучными скотопромышленниками, — те мирно беседовали о делах своей профессии. Спешивший выделялся привлекательной внешностью. У него было одно из тех лиц, какие сразу располагают к себе. Взгляд широко открытых серых глаз был прям и честен, в них светился живой ум, а порой загорался огонь решительности. Прямой тонкий нос с нервно вздрагивающими ноздрями, хорошо очерченные улыбчивые губы, оттененные тоненькими юношескими усиками, концы их он в нетерпении теребил рукой, светло-каштановые, почти белокурые, волосы крутыми завитками спускались на мускулистую шею. Незнакомец выглядел очень молодо, лет двадцати, то есть находился в возрасте, когда голова полна счастливыми мечтаниями, а сердце готово к беспредельной любви и преданности. Одет он был очень скромно, чтоб не сказать бедно. Костюм из синей ткани, очень чистенький, но поношенный и в нескольких местах порванный, однако тщательно заштукованный. На лице и руках молодого человека виднелись шрамы, зажившие, похоже, совсем недавно. Миновав Батиньольский тоннель, поезд дал оглушительный свисток и наконец остановился под стеклянными сводами вокзала. Молодой человек бросился к выходу, в один момент открыл дверь и выскочил на платформу. Расталкивая всех, пробежал сквозь толпу, сунул контролеру билет и заторопился дальше по улице Амстердам, но мысль, пришедшая в голову, заставила его умерить скорость. Он подумал: «Чего доброго, любой полицейский примет меня за вора или за сумасшедшего и обязательно задержит». Ясно, что юноша был коренным парижанином и хорошо знал обычаи столичных стражей порядка. И он, совладав с собой, пошел дальше спокойным шагом. То, что перед нами настоящий парижанин, замечалось и по тому, как он ловко лавировал между движущимися экипажами, переходя площадь, и по тому, какой уверенной походкой шел по улицам родного города. Прибывший двигался упругим гимнастическим шагом, высоко неся голову, развернув плечи и расправив грудь. И с нежностью смотрел на окружающее: на газовые фонари, на ручейки у тротуаров, уносившие всякий мусор, на вывески и витрины магазинов, на знакомые серые дома, на уличных разносчиков. Идя по направлению к бульвару Батиньоль, он думал: «Как глупо! Трех недель не прошло, пока меня здесь не было, а кажется, будто возвращаюсь из кругосветного путешествия. Право, никогда не думал, что можно так любить родной город! Париж, конечно, прекрасен, ему нет равного… Притом здесь живут те, кто так мне дорог. Поспешим к ним!» Незнакомец быстро пересек улицу Клиши и вышел на улицу Поше. Вдруг он остановился и с веселой усмешкой подумал: «И впрямь не могу унять волнения в сердце, и ноги стали как ватные. Я превратился в актера реальной мелодрамы. Я должен действовать. А почему бы и нет? Ведь это жизнь». Юноша прошел мимо табачной лавки и ступил в коридор, где пахло простой, но вкуснейшей пищей — мясом, тушенным с луком. — Здравствуйте, мадам Жозеф! Консьержка, что готовила на печурке аппетитнейшее блюдо, подняла голову и воскликнула, протягивая руки: — Бобино! Милый мой мальчик! Это вы!.. — Я самый, собственной персоной, мам Жозеф… Они расцеловались, ведь мадам Жозеф была в том возрасте, когда ей можно было без стеснения по-матерински облобызать молодого человека. И она заговорила, не переводя духу: — Бог мой, откуда вы явились, мой мальчик? Так долго не давали о себе знать. Я уже думала, Господи, прости, что вы умерли. У вас шрамы на лице, как будто следы укусов. Но вид у вас прекрасный. Однако вы, должно быть, голодны. Садитесь сюда, мы сейчас вместе позавтракаем, правда, мой мальчик? Не смущайтесь. Я вас и винцом угощу, красненьким… за двадцать пять су. Вы как будто одеревенели, рассказывайте же скорее. Бобино не удавалось и слова вставить, наконец он сказал: — Из Пуасси. — Из Пуасси! Но там ведь тюрьма, неужели?.. О! Я уверена, что вы ни в чем не виноваты. — Но там есть и госпиталь… — Ах, мой Бог! — И я из него вышел… — Боже мой, несчастный случай… и эти шрамы… — Да, мадам Жозеф, несчастный случай, от него я чуть не испустил дух… — Кушайте и рассказывайте все, как было, мое бедное дитя. Добрая женщина в один миг поставила два прибора, щедро наполнила тарелки едой, налила вино в стаканы и первой принялась с аппетитом есть, ожидая в то же время с нетерпеливым любопытством рассказа. Бобино, конечно, был голоден, он с удовольствием жадно проглотил несколько кусков рагу, запив изрядным стаканом вина, и не в силах больше выносить терзающее беспокойство, не очень вежливо ответил вопросом на вопрос: — Только одно позвольте спросить, мам Жозеф. — Да, конечно, мой мальчик. — Как поживает мадам Роллен? И Жермена… Есть ли о ней известия? И Мария? И Берта? — Ах! Мой милый. Вы ничего не знаете… Конечно, вы не можете ничего знать… Большие несчастья… Очень большие несчастья. Бобино напряг все силы, чтобы выдержать еще неведомый удар. Консьержка вновь заговорила: — Ох… Ох… Ох… бедненький! Мадам Роллен… скончалась… В госпитале… Обе ноги раздробило… Отнять пришлось… А потом она, несчастная мученица, отдала Богу душу… — Боже мой, — почти прохрипел Бобино, — какой ужас… А Жермена?.. — Уехала… ее увезли… исчезла… той же ночью, что и вы, и не отыскалась с тех пор… У нас в квартале болтали, но я руку дам на отсечение, все одно вранье. — Вранье, конечно… Жермена не виновна, и те, кто говорил про нее гадости, — дрянные людишки. Но вы ничего не сказали о Берте и Марии. Малышки, в какой растерянности они, наверное, сейчас. Одни, без матери! Без старшей сестры… И меня с ними не было. — Как? Вы не знаете? — Что? Что… Прошу вас!.. Да скажите же мне все, дорогая мадам Жозеф! — Так вот: бедную мадам Роллен похоронили, Жермена исчезла, бедняжки кое-как жили одни, грустные. Все время ждали известий от старшей сестры или от вас. Так прошло недели две, а может, три, и вдруг за ними приехал старый священник. Наверное, его послали какие-то сердобольные люди, чтобы позаботиться о них, устроить куда-нибудь, найти работу… — А после?.. — спросил Бобино, задыхаясь от волнения. — Так вот… они уехали со священником в его повозке. Слезы стояли в глазах Бобино, когда он слушал это повествование; юноша воскликнул: — Уехали! Вот так просто… не сказав куда… — Дорогие малютки ведь сами не знали, куда их везут. Обещали написать, сообщить адрес. Ничего не потеряно, ведь они отбыли совсем недавно. Да вы кушайте! Кушайте! Выпейте… Вы же мужчина. Рано приходить в отчаяние, не надо портить себе кровь! — Вы правы, мам Жозеф. Надо решить, как действовать. Но есть я уже не могу, всякий аппетит пропал. Умерла!.. Дорогая мадам Роллен умерла! Знаете, надо быть таким сиротой, не знать родителей, как я, чтобы оценить доброе отношение к тебе. Его мне всю жизнь недоставало. Я привязался к мадам Роллен, полюбил добрую женщину, она меня называла сыном, а я ее — мамой… Я нашел у нее семейный уголок, меня обласкали и пригрели, я встретил бескорыстную дружбу, какую не купишь за любые деньги. О! Мадам Роллен. О! Моя дорогая мадам Роллен, — повторял юноша, с каждой минутой все острее понимая свою утрату. И мадам Жозеф утирала фартуком глаза, вздыхала и, полная сочувствия, свойственного простым женщинам, искала, чем бы утешить гостя. — И это все, что вам известно, мам? — Да! То есть нет!.. Боже мой, безмозглая моя голова! Не в упрек вам, но вы так меня взволновали, что я забыла о самом главном. Не далее как позавчера приезжал господин из высокого общества, из настоящего высшего света. Уж я-то в этом разбираюсь. Князь. Настоящий князь. — Князь? — спросил Бобино с недоверием. — Да, совершенно доподлинный. Вот его визитная карточка. Князь Мишель Березов, авеню Ош. — Русский, — сказал типограф. — Вы правильно догадались, я-то об этом и не подумала. Он мне дал много луидоров, чтобы я ему поведала о мадам Роллен, о Жермене, о ее сестрах. Похоже, он очень интересовался всей семьей и был очень опечален моим рассказом… — Русский… Князь… — повторял Бобино в совершенном недоумении. — Да. Сбруя на его лошадях блестела, как витрина ювелира, а карета… такую только в музее Тюильри можно увидеть. Еще я забыла сказать. Он спрашивал меня о вас, о том, есть ли о вас известия. — Известия?.. Обо мне?.. — Да. Похоже, он вас знает, он сказал: «Честный молодой человек по прозвищу Бобино». Но вас не было, и я не могла ему объяснить, где вы. Тогда он дал визитную карточку и сказал, уезжая, дескать, как только я хоть малость узнаю о вас или о девочках, чтобы сейчас же бежала к нему. — Значит, он нам друг! — О! Я в этом уверена так же, как в том, что в один прекрасный день умру. — Все это, право, очень странно. Богатые бездельники не имеют обыкновения интересоваться судьбой бедняков, таких, как мы. Но, может быть, это исключение, которое, как известно, только подтверждает правило! Мам, я бегу сейчас же на авеню Ош, узнать, зачем мы потребовались этому князю, да еще русскому. — Прежде чем идти к князю, вам следовало бы приодеться. Поднимитесь к себе, наденьте свой выходной костюм. — Я и так хорош, милая мам Жозеф. Это моя рабочая одежда, и я ее нисколько не стыжусь. — Подождите, выпейте хоть кофейку, я мигом приготовлю. — Нет, мам, благодарю вас, но я бегу немедленно. — Ну, как вам угодно. Вернетесь, расскажете обо всем, что там произойдет, — сказала консьержка. Доброе сердце не мешало ей быть любопытной: качество вполне профессиональное. Бобино добрался до авеню Ош самым коротким путем скорее, чем можно было доехать на извозчике. Швейцар остановил его у порога аристократического жилища. Но Бобино был не из тех, кто легко приходит в замешательство, и на него не производили впечатление лакеи с галунами. И, к счастью, он прихватил визитную карточку князя. Самоуверенно посмотрев на швейцара, от чего тот даже несколько смутился, Бобино сунул карточку князя ему под нос и сказал тоном, не терпящим возражений: — У меня срочное дело, касающееся князя лично. Окинув презрительным взглядом одежду пришедшего, швейцар молча указал на маленькую служебную дверь: мол, не велика персона, чтобы проходить через парадные двери. Во дворе юноша столкнулся с бегущим навстречу человеком с длинными волосами и огромной бородой, одетым в длинную розовую шелковую рубаху и черные плисовые штаны, заправленные в мягкие сапоги. Человек спросил: — Что вам надо? — Я пришел с улицы Поше, меня зовут Бобино, у меня дело к князю. Человек радостно улыбнулся и сказал: — Вы желанный гость. Идите скорее туда, — и, показав на парадную дверь, сам побежал дальше. Видя, в каком волнении находился бородатый, Бобино подумал, что в доме, наверное, произошло какое-то несчастье, и поспешил в указанном направлении. Рабочий парень не имел даже малейшего представления о роскоши, с какой пришлось встретиться в хоромах князя: пушистые ковры, роскошные драпировки, бронзовые статуи со светильниками, экзотические растения, великолепные цветы в вазах… Типограф нисколько, однако, не оробел. Когда он поднимался по парадной лестнице, с ним столкнулся бежавший опрометью к выходу лакей в ливрее и тоже спросил, зачем он идет, но, не ожидая ответа, поспешил дальше. Интонация голоса лакея показалась Бобино почему-то знакомой. Уже поднявшись наверх, к распахнутой настежь двустворчатой двери, Бобино услышал, как в дальней комнате передвинули мебель, потом кто-то застонал и вслед за тем раздались взволнованные голоса.ГЛАВА 15
Князь Березов налил воды из графина, куда Бамбош влил яд. Он уже поднес стакан к губам, но тут вошла монахиня, три недели находившаяся около Жермены;ей хотелось хоть малость освежиться после душного тепла в комнате больной. Князь чувствовал к сиделке огромную благодарность и относился к ней с большой почтительностью. Увидев, что та протянула руку к графину, он моментально поставил свой стакан на поднос и подал ей. — Там, вероятно, слишком жарко натоплено, сестра. Мне думается, достаточно было бы калорифера, а огонь в камине надо велеть погасить. — Я того же мнения, — сказала сиделка, принимая стакан из рук князя. Она быстро опустошила стакан. Едва женщина успела допить последний глоток, как на ее лице, всегда таком спокойном, появилось странное выражение, точно его свело судорогой. К бледным щекам прихлынула кровь, яблоки глаз широко раскрылись и начали вращаться. На лице появился ужас, она несколько раз глубоко вздохнула, потом покачнулась и выдавила прерывающимся голосом: — Я умираю!.. Господи, сжалься над рабой Твоей! Перепуганный князь бросился к ней, поддержал, усадил в кресло, думая, что это обморок или спазм сосудов, постарался успокоить, бессвязно произнося обычные бессмысленные слова: — Все будет хорошо… все пройдет… успокойтесь, сестра! Вода, наверно, была слишком холодной… Она вскрикнула, попыталась подняться и вновь упала в кресло. Теряя голову, князь стал звать на помощь и нажимать на разные электрические звонки, отчего по дому начался трезвон. Первым прибежал Владислав, за ним Бамбош и другие слуги. — Доктора!.. Скорее доктора!.. Все равно какого, — приказывал князь. — Беги, Владислав! Зови быстрее… за любую цену!.. И вы, Жан, тоже бегите! Ищите врача! Владислав опрометью понесся с лестницы, за ним побежал Бамбош, в совершенном бешенстве твердя про себя: «Точно! У него есть веревка повешенного…[28] Это он должен был скопытиться, а вместо него монашка выпила зелье. Промах!.. Надо смываться». Как раз тут и появился в доме Бобино. Увидев явно умирающую монахиню с лицом белее ее головного платка, не менее бледного князя и за полуоткрытой дверью следующей комнаты, на постели, Жермену, что звала на помощь слабым голосом, парень осмелился-таки сказать князю: — Я тот, кого вы разыскиваете, Жан Робер по прозванию Бобино, друг Жермены и ее сестер… Мишель протянул руку. — Спасибо, что пришли. Помогите… Я совсем потерял голову… Жермена услышала знакомый голос человека и позвала: — Бобино… Жан… Дорогой Жан… — Жермена!.. Дорогая мадемуазель Жермена!.. — Что у нас?.. Что с мамой?.. Где сестры?.. И здесь — что случилось?.. — Жермена, крепитесь! Я вынужден… Дело в том, что все несчастья сразу!.. Мадам Роллен… — Мама больна?.. Да говорите же скорей!.. Князь, поддерживая голову умирающей монахини, сделал Бобино незаметный знак; боясь, что тот неосторожно скажет о смерти мадам Роллен и желая помешать ему, Мишель сказал: — И с бедной милой сестрицей сделался обморок. Только ради Бога! Успокойтесь, Жермена! — И еле слышно попросил Бобино: — А вы подойдите к ней, успокойте, только ни в коем случае не говорите, что мать ее умерла. Как ни тихо сказал он это, Жермена, с обостренной чуткостью больного человека, все-таки услышала. И закричала так, что мужчины испугались: — Мама! Мама умерла!.. У меня больше нет мамы! Ни у сестренок… Берта!.. Мария!.. С кем они теперь?! О! Бог несправедлив, за что он так карает невинных?! Мама!.. Мамочка моя!.. В этот момент пришел Владислав с доктором, первым попавшимся, кого дворецкий застал дома. Пока вконец перепуганный князь суетился у постели Жермены, опасаясь, что у бедняжки снова начнется обострение болезни, врач увидел, как сестра-монахиня содрогнулась в последний раз и замерла, вытянувшись в кресле. — Она скончалась, — сказал он, посмотрев на помутневшие глаза. Жермена услышала, что сказал лекарь, и закричала: — Умерла!.. И она умерла!.. Я, наверное, проклята Богом!.. В нескольких словах князь, по-прежнему не подозревавший отравления, рассказал доктору о том, как все произошло. Медик, пожилой, небольшого роста, с крючковатым носом и с маленькими глазами за толстыми стеклами очков, тонкими губами и аккуратной седой бородкой, с огромным выпуклым лбом и лысой головой, внимательно выслушал князя. Когда хозяин дома закончил наконец бессвязные объяснения, то и дело прерываемые горестными возгласами Жермены, врач приподнял веки покойницы, сжал губы и проговорил: — Вы не могли бы предположить, отчего погибла эта молодая особа? — Нет. Может быть, кровоизлияние в мозг? — Она отравлена, — заключил доктор. — Отравлена! — воскликнул Мишель. Услышав эти слова, Жермена снова разрыдалась. — Отравлена!.. Она… святая женщина… — Но это невозможно!.. Она ничего не пила, кроме воды из этого… как его, да, графина… из стакана, я ей подал… — Значит, кто-то влил сюда смертельный яд… — Я один пью из этого графина, и несчастная лишь по совершенной случайности… — Значит, яд предназначался вам. — Доктор, простите, вы не могли ошибиться? — Посмотрите, — ответил врач, — как расширены зрачки. И еще более странное обстоятельство обращает на себя внимание: она умерла только что, тело еще теплое, но уже совершенно окостенело. Врач взял графин, налил в горсть немного воды, понюхал, попробовал кончиком языка и заключил: — Никакого запаха, вкус чуть-чуть сладковатый, но вы бы этого не заметили и приняли бы смертельную дозу, как эта жертва. Князь покачал головой, все еще сомневаясь. Чтобы убедить его, доктор спросил: — Есть ли у вас в доме животное, которым вы не очень дорожите, чтобы произвести решающий опыт? — Да, есть, собака. — Большая? — Огромный дог. — Если можно, прикажите доставить его сюда. — Владислав, приведи Стронга. Мужик, до смерти напуганный тем, что любимому барину угрожала такая опасность, побежал и вскоре вернулся, ведя за ошейник очень крупную собаку грозного вида. Доктор сказал князю: — Возьмите три кусочка сахара и пропитайте водой из этого вашего сосуда. Так, а теперь угостите, пожалуйста, ими вашего пса. Князь сделал, как велел доктор. Дог обнюхал лакомство, завилял хвостом и с наслаждением сгрыз все три куска. Не прошло и десяти секунд, как псина раскрыла пасть, словно почувствовав нечто неприятное внутри, глубоко вздохнула, отрывисто и придушенно взлаяла, сделала несколько неверных шагов и упала на ковер в судорогах, очень скоро вытянувшись мертвой. Вопреки своему бесстрашию, Мишель вскрикнул в удивлении и ужасе. Разом издали вопли Жермена, Владислав и Бобино, они видели из других комнат страшную сцену. — Теперь вы убедились? — спокойно спросил доктор. — Но ветеринар, если бы его позвали, наверняка констатировал бы кровоизлияние в мозг, да и доктор, на чьей обязанности лежит удостоверение смерти, поставил бы монахине тот же диагноз. — А вы сами, почему вы подумали о другой причине?.. — Я — иное дело, я всю жизнь интересовался токсикологией и, увидав умершую, сразу заподозрил преступление. Что касается до природы яда, то он, пожалуй, похож на тот, каким пользуются индейцы бассейна Амазонки[29], где я бывал во дни моей молодости. Я не предполагал, что в Париже кто-либо может иметь сей страшный яд. Теперь мне остается только покинуть вас, сожалея, что не смог ничем помочь. — Но вы оказали огромную услугу тем, что с удивительной прозорливостью открыли подлое покушение на мою жизнь, — сказал князь. Он достал бумажник и, вынув тысячефранковую купюру, вручил врачу, совершенно ошарашенному столь щедрым вознаграждением. Поблагодарив, тот сказал: — Мой визит даже при хорошей оплате стоит не больше луидора, но я принимаю с благодарностью, я беден. И, привычный исследовать тайны человеческих судеб, добавил: — Прежде чем уйти, разрешите дать совет… Мне уже скоро шестьдесят, поэтому, полагаю, мне это дозволительно. Не доверяйте никому и ничему… Люди, хотевшие вас убить, несомненно могущественны, если сумели безнаказанно проникнуть сюда. Теперь о жертве преступления. Советую вызвать врача, удостоверяющего смерть, он поставит диагноз «инсульт» и не заподозрит отравления. Иначе начнутся вскрытие, дознание, следствие, примутся вызывать вас в суд, влезать в вашу личную жизнь и, вдобавок, все это может очень навредить общине, где состояла покойная. — Вы правы, доктор, совершенно правы. Премного вам благодарен и надеюсь увидеться с вами при менее трагических обстоятельствах. — Всегда к вашим услугам, — сказал тот, откланиваясь. Пока князь говорил с доктором, Бобино рассказывал Жермене все, что узнал о смерти ее матери, и о том, как увезли ее сестер. Девушка долго плакала, но слезы облегчили страдание, она постепенно успокоилась и стала думать, как найти сестер, как отомстить обидчику, принесшему столько несчастий. Березов, радуясь, что видит ее так решительно настроенной после пережитых событий, какие любую, менее стойкую, женщину могли бы сломить, попросил Бобино не оставлять Жермену, пока он сам будет заниматься делами, связанными с несчастной жертвой. Вместе с Владиславом князь перенес покойную на кровать, накрыл простыней и вложил в ее руки крест; велел прибрать в комнате, как наводят порядок там, где лежит усопший, и хотел отправиться известить настоятельницу монастыря, но, вспомнив о зловещем письме, полученном два дня назад, не решился оставить Жермену без своего присмотра или на попечении Бобино и Владислава. Он написал настоятельнице, сообщая о трагедии, однако не упомянул об отравлении. Потом позвонил. Явился камердинер, и, несмотря на выдержанность хорошо обученного слуги, отскочил при виде дога: тот лежал с разинутой пастью, из нее вытекала слюна. — Пришлите двух рабочих с конюшни убрать собаку и вызовите ко мне Жана. — Ваше сиятельство, Жан убежал из дому и не возвратился. У Мишеля сразу закралось подозрение, он сказал себе: «Похоже, этот Жан — сообщник… Все-таки какие мы идиоты, что принимаем на службу первого попавшегося… и допускаем их до личных услуг!..» И русский холодно сказал первому камердинеру: — Возьмите извозчика и отвезите письмо.ГЛАВА 16
Судя по содержанию письма, полученного князем Березовым два дня назад, враги не собирались успокаиваться на содеянном. Следовало принять меры против нападения, что он немедленно и сделал: закрыл дом для посетителей и строго-настрого приказал швейцару не впускать никого без его разрешения; опасаясь отравы, заставил слуг пробовать в его присутствии пищу и напитки, подаваемые к столу. Челядь не чувствовала за собой вины и без обиды восприняла приказание, сочтя его пустой прихотью хозяина, тем более что никто из них, кроме Владислава, не знал о причине смерти монахини. Приняв пока что меры против отравления, Мишель по рекомендации профессоров медицины рассчитывал увезти Жермену на юг Франции или даже в Италию, как только она достаточно окрепнет. Гроб с телом монахини на катафалке доставили в ее обитель, где и предали земле. Церемония была тихой и скромной, как подобало положению и соответствовало духовному облику простой, преданной служению Богу и ближним девушки. Князь покрыл гроб цветами, Жермена горячо молилась об упокоении чистой души, а Бобино, никому не известный, бросил горсть земли на могильный холмик той, что с добротой и преданностью ухаживала за его другом — Жерменой. В одной из газет появилось коротенькое извещение о внезапной кончине никому не ведомой служительницы Бога, она не привлекла ничьего, в том числе полиции, внимания. Обычная жизнь в доме Березова стала понемногу налаживаться. Тяжелые переживания, посыпавшиеся одно за другим на едва окрепший организм, не свалили Жермену с ног. Как бывает с сильными натурами, они способствовали пробуждению энергии девушки. По ее же словам, с жестокой откровенностью высказанным графу Мондье, она была сделана не из того дерева, из которого творят изображения святых. Теперь она неотступно думала о мерзавце, что подло обесчестил ее, стал причиной смерти ее матери, похитил ее сестер, покушался на жизнь человека, спасшего ее от гибели, и, несомненно, убил невинную. Он должен получить воздаяние за преступления, и месть непременно станет ужасной! До сих пор стыд и душевная боль замыкали ее уста, и у нее не было сил назвать даже имя негодяя. Но князь, оставаясь с нею наедине, проявлял дружескую нежность и врожденный такт и незаметно подвел ее к этому разговору. Жермена, чувствуя неодолимое желание излить душу в исповеди, еще усиливаемое лихорадочным состоянием, наконец дрогнула. Она поведала о том, как ее преследовал богатый человек, с какой страстью домогался, угрожал ей, был взбешен сопротивлением и наконец совершил гнусное насилие. Потрясенный, негодующий Мишель молча слушал, сжимая кулаки, пока наконец, не в состоянии дольше сдерживаться, не проговорил сдавленным от гнева голосом: — Имя этого мерзавца!.. Его имя… назовите, Жермена… прошу вас! — Граф де Мондье, — ответила она чуть слышно. Казалось, ненавистное имя жгло ей язык. Мишель встал во весь свой гигантский рост, дрожа от негодования. Это был страшный гнев человека Севера, того, кто распаляется нескоро, но, дойдя до накала, становится ужасен. — Человек из этого милейшего света, к которому и я принадлежу. Один из тех, чьей руки я касался… Если бы вы знали, как я его презираю и как ненавижу этот гнусный свет, из которого исходят грязь, бесстыдство и преступление… Значит, ваш палач — Мондье… Граф де Мондье!.. Так я клянусь, Жермена, что не узнаю покоя, пока не отомщу. Мне нужна жизнь этого человека!.. Это так же верно, как то, что я люблю вас! Жермена слегка вскрикнула, отчего пыл молодого человека угас. — Ах! Вот чего я боялась! — сказала она с горечью. — Вы будете говорить мне о любви… Мне! — Но почему же я не смею сказать вам об этом? — Умоляю вас… — Позвольте мне сказать, как и почему я люблю вас… а после… да, после вы будете судить… вы увидите… — Но я… Разве могу вам ответить взаимностью… Смеет ли любить та, кого преступник лишил чести… Разве я не погибла навеки?! — Кто посмеет упрекнуть вас за то, что вы стали жертвой злодейства! Моя несчастная, моя дорогая невинная мученица! Разве для всякого человека, имеющего сердце, вы не самое невинное, не самое чистое существо на свете? Жермена горько улыбнулась. Несколько успокоившись при мысли о мщении, Мишель продолжал говорить, глядя на Жермену с нежностью и состраданием. — До встречи с вами у меня не было цели в жизни, я прозябал. Сознавая свою бесполезность, я смертельно скучал в компании кутил, прохвостов, развратников и распутных женщин. Я не хочу знакомить вас с моментами разгульной жизни, даже самыми невинными. Достаточно признаться, что я не раз хладнокровно обдумывал, как покончить с собой, развязаться с жизнью, от которой тупеет ум, опустошается душа, сердце умирает и человеческое достоинство гибнет. А мне ведь нет и двадцати четырех лет! — Покончить с собой… когда ваша жизнь так легка… когда вы можете любоваться, пользоваться всем, что несет в себе добро, красоту, массу удовольствий! Когда не угнетает, как нас, бедняков, нужда… — прервала Жермена. — Позднее вы поймете, когда узнаете меня лучше. Но послушайте: моя жизнь перевернулась, когда я вас увидел. Этот момент определил мое будущее, пробудил душу, заставил биться мое сердце… Я увидел вас, и я вас полюбил! Может быть, трагические обстоятельства нашей встречи стали причиной мгновенного возникновения страстного чувства, что завладело мной навсегда. — И вы их упорно от меня скрывали… Я вам обязана не только тем, что вы с такой заботой, вниманием и преданностью вы́ходили меня, избавили от ужасной болезни, но ведь до этого вы спасли меня от чудовищных собак, чуть не растерзавших меня… я это точно знаю… вырвали из лап неминуемой смерти в реке, куда я бросилась… — Мой друг, который стал мне особенно дорог с того дня, помогал мне выручить вас, — скромно заметил князь, — и он скоро расскажет вам историю во всех подробностях. — Все равно большую часть дела и самую опасную совершили вы! Это мне хорошо известно… Так будьте добры ко мне и дальше — не говорите мне о любви… Согласны вы на это? Если бы вы только знали, как я страдаю! Как болит у меня душа! Я, кажется, никогда не смогу перестать оплакивать маму! Мне представляется, что сердце мое умерло и пережитое оскорбление убило во мне способность любить… Простите, что я говорю вам это… Вам, кто был моим единственным другом в мои горькие дни… но я должна сказать всю правду… я не могу… не имею права подавать вам надежду. — Скажите мне, по крайней мере, что вы никого другого не любите и у меня есть надежда разбудить, вернуть к жизни ваше сердце. — О! В этом я могу вам поклясться! Я не люблю и никогда никого не любила! Я стану любить вас как сестра… и это чувство я отдаю вам безусловно так же, как и мою безграничную преданность вам. Знаете, в моем сердце не могут жить одновременно ненависть и любовь. Позднее… когда я отомщу… когда заживет рана, нанесенная обидой… когда я забуду… Тогда я, может быть, смогу любить. — Пусть свершится все по вашей воле, Жермена. — Вы будете для меня как брат? Князь тяжело вздохнул и сказал: — Я сделаюсь вашим братом и стану ждать. Моя любовь возникла, увы! между двух могил, и она останется единственной в моей жизни. Она никогда не угаснет. — Благодарю!.. О, благодарю вас! — воскликнула девушка, взяв обе руки князя в свои и горячо их сжимая. Молодой человек долго смотрел на нее с обожанием, и, может быть, никогда еще подобное чувство не обращалось на столь достойный предмет. Охваченная сильным душевным порывом, Жермена была в этот момент воистину прекрасна. Глаза ее, большие, бархатистые, темно-синие, бездонные, смотрели с необычайной добротой и ласковостью, а порой в них мерцал огонь, и тогда приветливость и нежность уступали место выражению неукротимой энергии, почти жестокости. Волосы, тонкие как шелк, слегка вьющиеся и густые, иссиня-черные, доходили почти до колен. Они прекрасно оттеняли лилейную белизну нежной и чистой кожи. Рот с молочно-белыми зубами красиво сочетался с прямым и тонким носом и округлым волевым подбородком, украшенным очаровательной ямочкой. Красоту ее нельзя было назвать классической. Она не была ни греческой, ни римской, ни андалузской. Это была красота парижанки. Такое определение как будто бы ни о чем не говорит, но в действительности оно означает многое. Парижанка никогда не бывает похожа на тех величавых, торжественных, безупречно-правильно сложенных кукол, кого американцы и англичане называют «записными красавицами». Жермена, парижанка до кончиков ее розовых ногтей, обладала качеством, какого совершенно лишены эти богини, чья жизнь проходит в нудном соблюдении установленных правил. Девушка обладала очарованием, чудным даром, что нельзя приобрести ни за какие сокровища, а парижанка обладает им от природы в высшей степени. Она очаровательно смеется, плачет, танцует, поет, ходит, оживляется или грустит; очаровательно одевается как в хлопчатые ткани, так и в дорогие шелка, равно очаровательна, когда ее украшает скромный букетик фиалок и когда на ней бриллиантовое ожерелье; всегда остается женщиной, по преимуществу единственной, настоящей! Простая работница и светская дама равно наделены этой национальной чертой, ее безуспешно пытаются приобрести иностранки. Жермена не только являла это очарование, у нее было еще и большое природное изящество — в поведении, в манерах, в беседе, в линиях фигуры… И вполне понятно, почему она с первого взгляда произвела на князя Березова ошеломляющее впечатление. После решительного разговора они оба долго молчали. Жермена заговорила первая. — Месье… мой друг, — начала она, не зная, как обратиться к русскому. — Я вас зову Жермена. Называйте меня Мишелем. Хотите? — Мишель… Хорошее имя… Я попробую. — Ведь я — ваш брат. — Так вот, Мишель, не считаете ли вы, что надо что-то предпринять, чтобы найти моих сестер? — Да, разумеется. И я жду возвращения Бобино, чтобы начать действовать. — А где он, этот добрый друг? — Он отправился покупать у лучшего фабриканта велосипед. — Он с ума сошел! Он думает ехать сейчас на велосипеде? — Не смейтесь. Мы с ним поговорили о том, где могут находиться ваши сестры, после того, как их увез священник… несомненно ложный священник. — И вы считаете, что это место… — То, где были заперты вы сами, — тихо сказал князь. Жермена проговорила: — Вы правы, это возможно. Но этот… этот человек мог найти для них и другое укрытие. — Это и надо узнать. Во-первых, граф думает, что Бобино мертв. Во-вторых, считает, что вы не знаете, в каком месте находится его дом. — И я действительно понятия не имею, но вам и вашему другу художнику, конечно, это известно. — Разумеется, но Мондье вряд ли придет в голову, что мы будем искать именно там. Наконец, если граф надеется меня уничтожить, хотя я думаю лишить его такого удовольствия, он может воображать, будто я не предприму никаких шагов. — А Бобино? — Как раз к этому мы сейчас подходим. Он силен, ловок, хитер и, к тому же, несомненно храбр. Он поедет по дороге, ему уже известной по столь горестной причине. И устроится жить у рыбака Могена. — Но почему на велосипеде? — В экипаже у него оказался бы нескромный свидетель — кучер, а идти пешком слишком долго и он может не успеть. — Это правда. — Вот почему я предложил ему купить велосипед и дал взаймы; наш друг очень горд и просто взять деньги не соглашался. Он поехал покупать… Раздался звонок у входной двери. — Вот, наверное, и он… Я ведь для всех закрыл свои двери, кроме как для ваших врачей, Мориса Вандоля и Бобино. Князь приоткрыл окно, чтобы посмотреть во двор, действительно ли приехал друг на стальном коне. Как раз в этот момент из окна нижнего этажа дома напротив, находившегося метрах в ста от жилища князя раздался выстрел, и князь Мишель, глухо вскрикнув, отпрянул и упал около постели смертельно испуганной Жермены.ГЛАВА 17
Убедившись, что смерть миновала князя и поразила монахиню, Бамбош выбежал из дома минутой позже Владислава. Но, вместо того чтобы мчаться за врачом, как Владислав, он бросился в лавочку, где Брадесанду, попивая винцо, раскладывал бесконечные пасьянсы. — Плати быстро, и бежим! — без предисловий выпалил Бамбош. — Что случилось? — Вместо того, кого надо было убрать, убрал другого. — Промахнулся, что ли? — И хозяин мой лопнет от злости. Ну, пошли… быстро!.. Брадесанду расплатился. — Я готов, — сказал он. — Но ты без шапки. Схватишь насморк, и, что хуже, будут обращать внимание прохожие. Необходим какой-нибудь колпак… — Одолжу у кого-нибудь из посетителей, на вешалке полно шляп, а ты давай свой плащ, а то я в ливрее, меня сразу засекут. — Плащ мне самому нужен, вечером иду в гости. — Куда это? — На улицу Элер. Там справляет новоселье Регина Фейдартишо[30], и я приглашен. — Ты хорошо одеваешься, и у тебя хорошие знакомства. — Регина дружит с Андреа, и Андреа меня ей представила… Там будут крупно играть, а я никогда не проигрываю, ты ведь знаешь. — Значит, у тебя все по-прежнему с Андреа… с прекрасной дочкой мамаши Башю… — Ее барон де Мальтаверн совершенно на мели и не стесняется водить дружбу со мной. Кроме того, ведь я букмекер, бываю всюду, и господа из большого света мною не брезгуют. — Хватит болтать, быстрее давай накидку, и уж раз ты ею дорожишь, то проводи меня до патрона, там что-нибудь найдется из верхней одежды. Оба проходимца переоделись тут же, в питейном зале. Бамбош облачился в плащ дружка, схватил с вешалки чью-то фетровую шляпу, и они отправились на площадь Карусель. У потайного входа в дом графа Бамбош вернул дружку одежду, они распрощались, и верный слуга предстал перед хозяином, человеком темным, хотя и всем известным в кругу бездельников, называемом «большим светом».Граф де Мондье и в сорок пять лет еще оставался весьма привлекательным мужчиной. Он выглядел скорее усталым, чем постаревшим. Глаза не утратили блеска, волосы не поредели, и зубы хорошо сохранились. Благодаря постоянным физическим упражнениям у него не было брюшка, щеки не обвисли и под подбородком не образовалось складок. Он еще сохранил и спортивную форму, мог хорошо ездить верхом, фехтовать, быстро ходить, во всем этом не уступая многим, тем, кто был на десять лет моложе. Он был непременным участником великосветских праздников, увеселительных прогулок и даже оргий; когда требовалось, мог кутить до утра. Он изрядно пил и переходил от одного любовного свидания к другому, не вредя своему здоровью и с полным успехом. Соучастники всех забав говорили про него: «Этот Мондье поразителен! Мы все более или менее сдали, а ему хоть бы что!.. Свеж и силен, как тридцатилетний». Наследник знатной фамилии и большого состояния, Мондье не отказывал себе в любых прихотях и пользовался уважением у людей своего сословия. Ему ничего не стоило истратить на пустяки или проиграть пятьдесят луидоров, и он никогда не требовал возвратить долг, хотя сам щепетильно возвращал в срок куда как меньшие суммы. Он интересовался красивыми безделушками и лошадьми, понимая в них толк, и охотно выступал свидетелем или судьею в спорах чести. Граф Мондье — вдовец, но так давно, что никто не помнил графиню, как говорили, умершую родами за границей через десять месяцев после свадьбы, шестнадцать или семнадцать лет назад. Было также известно, что у него прелестная дочь, мадемуазель Сюзанна, которую граф боготворил. В скором времени девице предстояло выйти в свет, а пока она жила очень уединенно, под присмотром дальней родственницы, во флигеле возле отцовского дома, и ее время от времени видели на прогулке с графом Мондье, но он никогда никого ей не представлял. Зато сам граф уходил из дому и возвращался когда ему вздумается, иногда вдруг надолго исчезал. В подобных случаях дом его запирали, а мадемуазель с родственницей отправлялись погостить в монастырь Визитации[31], где девица воспитывалась до пятнадцати лет. В такие дни графу не доставляли почту. Письма, книги, газеты, журналы скапливались у привратницы, которая на все вопросы неизменно отвечала: «Граф путешествует». Вернувшись из отлучки, что обычно продолжалась не менее шести недель, но редко больше трех месяцев, Мондье неожиданно появлялся в чьем-нибудь салоне слегка загоревший, слегка изголодавшийся по наслаждениям и счастливый, как человек, радующийся возвращению в привычную жизнь большого света, от которой был на время оторван. Мадемуазель Сюзанна и ее воспитательница и родственница мадам Шарме возвращались из монастыря; жизнь дома входила в обычную колею, столь разную для каждого из его обитателей.
Граф с нетерпением ждал Бамбоша. По выражению лица он сразу понял, что произошла неудача. — Ты промахнулся. — Увы! Да, хозяин. Правда, напиток был высшего качества, доказательство тому — смерть монахини, которая его выпила. Граф в бешенстве выругался и закричал: — Бесполезный труп!.. Полиция поднята на ноги… Князь предупрежден об опасности… И Жермена все ему скажет!.. — Уж в этом можете быть уверены. Потому я и прибежал сразу после катастрофы… — Правильно сделал. Через каких-нибудь четверть часа проклятый Березов может свалиться мне на голову… Надо торопиться. Подожди меня пять минут. Князь подошел к флигелю, откуда неслись звуки прекрасно исполняемой музыки. Когда он переступил порог, мелодия смолкла. Девушка, одетая в белое и розовое, с радостной приветливостью поспешно встала. Она была скорее миловидной, чем красивой: рыжеватая блондинка, среднего, даже небольшого роста, пропорционально и изящно сложенная. Выражение лица было нежным и добрым, но немного робким, как у людей, которые редко бывают в обществе. — Ах! Какая неожиданная радость! — воскликнула мадемуазель. — Добрый день, папа! Сюзанна подставила лоб, отец нежно поцеловал, и она спросила ласково: — Вы пришли, чтобы пригласить меня обедать? И проведете со мной вечер? Сегодня дают оперу Сегюра[32] с участием Селье, Гросс, Розон, Карон… О!.. Это будет великолепно!.. Я мечтала, что вы меня на нее сведете. Лицо графа расцвело от проявления детской нежности прелестного создания, но тут же он нахмурился, помрачнел и, стараясь как только мог смягчить интонацию голоса, обычно жесткую и повелительную, проговорил: — Увы, дорогая моя девочка! Мечты почти всегда обманчивы. — Так я вас не увижу сегодня вечером? — спросила она чуть не плача. — Ни сегодня вечером, ни завтра, к сожалению. — Вы уезжаете? — Да, через три минуты. — Ах, Боже мой!.. Опять… — У меня в жизни ведь часто случаются неотложные дела, тем более неприятные, что они разлучают меня с тобой. — Не надолго? Правда? — Не знаю. Зависит от обстоятельств. А ты, как я уеду, тут же отправляйся погостить в монастырь. — Что ж делать, раз так надо. — Может быть, тебе там не нравится? — вдруг спросил граф. — Да нет… Иногда скучно бывает, и затворничество меня тяготит больше всего потому, что я не вижу вас. Граф опять нежно улыбнулся, тронутый словами дочери, и проговорил слегка дрогнувшим голосом: — Значит, ты очень любишь своего отца? — Просто обожаю, потому что он — лучший из отцов! — воскликнула Сюзанна. — Самый лучший! Но у него есть один большой недостаток. — Какой? — Он редко со мной бывает. Это было сказано принужденно веселым тоном, но граф услышал нотки огорчения. Мондье подумал, что надо как-то утешить дочь, однако, посмотрев на часы, тут же вспомнил: Березов!.. Жермена!.. Бамбош!.. Неудавшееся преступление… Надо готовиться к другому!.. Бежать… И любящий отец, трепетавший за свою дочь, искавший для нее самого надежного убежища за стенами монастыря, этот нежный отец, считавший совершенно обычным делом обесчестить любую девушку, вздохнул, взял в обе руки очаровательную головку Сюзанны, поцеловал и удалился, сказав: — Ты ведь тотчас же поедешь в монастырь, не правда ли? Слышишь? Сейчас. Прощай, дорогая! — Прощай, дорогой, любимый папа! Ровно через пять минут граф был уже в комнате. Он быстро сложил в чемодан заранее подготовленные и упакованные бумаги, дал чемодан в руки Бамбошу и позвонил. Явился слуга и вопросительно посмотрел на хозяина. Граф сказал, не вдаваясь в объяснения: — Я уезжаю, стереги дом. — Месье может быть спокоен и положиться на меня, — ответил слуга. На площади граф с Бамбошем взяли извозчика. — На Северный вокзал! Пробыв некоторое время там, они покинули помещение, возле бульвара сели на другого извозчика и отправились на шоссе д’Антен к тем домам, что отделяют улицу Прованс от улицы Жубер. Там граф вышел первым и сказал Бамбошу: — Пусть этот извозчик отвезет тебя до улицы Трините, там его отпустишь и доберешься пешком с чемоданом до улицы Прованс, дом два, спросишь месье Тьери. — Понял, патрон. Затем граф, как бы прогуливаясь по улице Жубер, добрался до ее середины, позвонил в дом весьма скромного вида и поднялся на четвертый этаж, как человек, хорошо знакомый с местом. Пятнадцать минут спустя Бамбош спрашивал у консьержки в доме два по улице Прованс: — Скажите, я могу увидеть месье Тьери? — Третий этаж, дверь направо. Молодой человек быстро поднялся и позвонил. Открыл довольно тучный человек, ни о чем не спрашивая, сказал: — Прошу вас. Они миновали две комнаты, обставленные во вкусе зажиточного буржуа, и остановились в третьей, служившем одновременно рабочим кабинетом и гостиной. Бамбош с острым любопытством уставился на неизвестного, одетого в просторный кашемировый[33] халат. Парень несомненно никогда не видал раньше этого крепко сложенного полноватого господина в очках с золотой оправой, со спокойным благодушным лицом, обрамленным пышными седеющими бакенбардами и густыми седыми волосами, зачесанными хохолком, как у покойного месье Тьера[34]. Перстень и запонки с крупными бриллиантами, высокий воротничок и белый галстук вокруг шеи… в общем, вид старого провинциального нотариуса или рантье[35] образца 1860 года. Бамбош стоял в замешательстве, не зная, как следует ему себя вести, как заговорить, поскольку хозяин к нему не обращался. И вдруг он услышал два слова, поразившие его словно выстрел из пистолета над самым ухом: — Садись, Бамбош. Эти слова незнакомец произнес голосом графа. Полное преображение, совершившееся за каких-нибудь пятнадцать минут, совершенно потрясло графского прихвостня. Изумление Бамбоша понравилось графу Мондье, польстило его самолюбию, и он сказал добродушным тоном: — Да, это я. — Черт возьми!.. Это потрясающе… Право, вы сильны, патрон! — Хотя бы для того, чтобы исправлять ошибки учеников. — Вы насчет князя… Я старался как только мог… Мы его еще подловим!.. — Непременно. Только думаю, что в его лице мы имеем дело с сильным противником. Вот почему я так постарался замести свой след и заставить думать, будто уехал надолго. — Я получил хороший урок и не забуду его! — Необходимо, чтобы через два дня проклятый русский был мертв! — Каким образом, патрон?.. Скажите… Я исполню. — Что ты делаешь сегодня вечером, Бамбош? — Ничего особенного… Жду ваших приказаний. Если бы я был свободен, то пошел бы с моим приятелем Брадесанду на празднование новоселья к одной дамочке высокого полета — к Регине Фейдартишо. — Сливки полусвета… Модная кокотка… Он хорошо устроился, твой приятель. Андреа — по кличке Рыжая, его подруга, парня ведет куда следует. Насколько мне известно, Андреа содержит барон Ги де Мальтаверн… а он живет на авеню Бокур, позади дома Березова, фасад княжеского особняка украшает улицу Ош. — Черт!.. Мне пришла мысль! — Надо узнать, не выходят ли окна дома Ги в сад дома Березова? — Точно знаю, что выходят, — сказал Бамбош. — Все лакеи дома Березова потешаются, слушая сцены, какие закатывает барону Андреа — достойная дочь дражайшей мамаши Башю, которую она покинула там… в грязной питейной Лишамора, моего приемного отца. Ответ Бамбоша тотчас зародил в мозгу графа, столь способном ко всякого рода комбинациям, смелый план действий. Подумав еще немного, он сказал: — У тебя еще есть время, чтобы достать парадный костюм вместо ливреи, она, должно быть, очень тебе неудобна. — Это правда. Быть лакеем — не мое призвание. — Когда оденешься как джентльмен, возвращайся сюда, я сам отведу тебя в дом Регины и представлю дамам… Кстати, ты пойдешь к Андреа и скажешь ей, что она должна при любых условиях, живая или мертвая, быть на этой вечеринке у Регины и непременно привести туда Ги де Мальтаверна. Если она станет колебаться, скажи ей просто: «Это приказ!»
ГЛАВА 18
Барон Ги де Мальтаверн был совершенно разорившимся дворянином. Достигнув тридцатипятилетнего возраста, он уже успел промотать состояния двух дядьев и одного двоюродного брата, в общей сложности около трех миллионов. По смерти родителей барон унаследовал родовой замок, окруженный зарослями вереска и дрока к югу от устья Луары. Не найдя серьезного покупателя на имение, он его заложил, перезаложил и в конце концов промотал и остался гол как сокол. Веселый транжир, преследуемый кредиторами, он делал все возможное и невозможное, чтобы сохранить видимость былого богатства, и уже чувствовал себя на краю пропасти, которая вместе с состоянием готова была поглотить и его личное достоинство. Он скатился на дно общества, был совершенно не способен удержать копейку в кармане, всегда обуреваемый неодолимой потребностью сейчас же все истратить, совершенно безразлично на что. Он терял тысячи и тысячи на бегах, где разные жульнические компании его постоянно обставляли. Кроме азартных игр, где Мальтаверн пустил на ветер бо́льшую часть состояния, он тратил крупные деньги на самые безрассудные причуды, среди коих на первом месте были любовные похождения с женщинами полусвета. Наконец, уже на склоне лет, он влюбился в модную кокотку, красавицу Андреа, и пустил на нее остатки своего состояния. Она вертела поклонником как хотела, изменяла ему, презирая барона в глубине души и ненавидя. Обогатившись за его счет, Рыжая вела свободный образ жизни и, не стесняясь, открыто унижала разоренного любовника, уже несколько месяцев жившего неизвестно на что и готового прибегнуть к любому нечистоплотному способу добывания средств. Поговаривали, что он вытягивал звонкую монету у богатых иностранцев, водя их по увеселительным местам, и не брезговал нечистой игрой в карты. Но говорить об этом открыто все побаивались, поскольку барон был записным дуэлистом[36] и в совершенстве владел шпагой и пистолетом. У него состоялось много поединков, и все окончились плохо для его соперников. Грехи барона были вполне обычными для людей его общества, поэтому даже наиболее строгие судьи относились к Ги де Мальтаверну снисходительно и сочувствовали его бедственному положению. При всем этом гуляка и мот был весьма представителен и недурен собой: горбатый нос хищной птицы, холодные глаза игрока и дуэлиста, маленькие черные усики, загнутые кверху, остренькие зубы, открытый лоб, хорошо вылепленная, гордо посаженная голова, стройная мускулистая фигура, широкая в плечах, узкая в бедрах, с выпуклой грудью; он был весьма неглуп, умел удачно сострить, в глубине души наивный, как ребенок, и одновременно развращенный, словно каторжник. Андреа быстро раскусила его до конца и помыкала им как хотела. От былой роскоши барону оставался дом, записанный на имя камердинера; пара лошадей с экипажем, а также верховая лошадь числились у кучера. Это было все, что он не продавал, не закладывал и оплачивал наличными за счет долгов, полагая не без основания, что иметь собственных лошадей чрезвычайно важно для престижа в обществе. Андреа жила неподалеку на улице Курсель, являясь на холостяцкую квартиру Мальтаверна когда ей вздумается, и широко пользовалась его упряжкой.В тот вечер, когда дама из полусвета, по прозвищу Фейдартишо, праздновала новоселье, погода стояла ужасная. Ги де Мальтаверн позавтракал дома и пребывал в обществе трех щеголей. Двое из них были уже немолодыми, потрепанными физически и утратившими свежесть души, но сохранившими элегантность. Имена их еще появлялись в репортажах модных журналов. Это были: виконт[37] де Франкорвиль и неразлучный с ним Жан де Бежен, которого называли «маленький маркиз», хотя он и не имел никакого титула. Третьим был юнец из провинции, совсем еще глупенький, неожиданно получивший большое состояние в наследство, служа перед тем мелким чиновником в префектуре[38]. Носил он совсем обыкновенное имя — Дезире Мутон, стыдился его и своей некрасивой фамилии, старался заставить забыть о своей простонародности, вытворяя разные великосветские глупости. Он приехал в столицу поучиться хорошим манерам и попал в руки Мальтаверна. Ги щипал его как гуся и, несмотря на то, что Мутон оказался скуп, как старый прокурор, тот не смел пикнуть и совершал по указанию наставника нелепейшие траты, ибо барон уверял, что нувориш[39] создаст этим себе положение в свете. — Вы глупы, как провинциал, толсты, как уездный буржуа, совершенно незнакомы с хорошими манерами, — говорил Ги серьезным тоном. — Надо похудеть, мой дружок, приобрести оригинальность, быть как мы!.. Под предлогом заставить Мутона похудеть его снова и снова толкали на всякие дурацкие поступки, и он безропотно, с полной серьезностью покорялся, думая, что таким путем приобретет шик и репутацию эксцентричного человека… Чтобы убить оставшееся до вечера время, сели после завтрака за игру в карты, разумеется, с большими ставками. Потом пришло время выпить и Ги постарался как следует накачать Мутона, чтобы сделать его вполне послушным на предстоящей вечеринке. Было решено, что они вчетвером отправятся к знаменитой даме полусвета и Мутон оставит часть перышек из своих крыльев в ее салоне, где собирается шикарное общество. Но было еще неизвестно, останутся ли они там обедать. Ги и двое друзей получили приглашения, а Мутона, который еще пребывал в нижних слоях общества, звали только на вечеринку, однако барон рассчитывал пристроить и своего подопечного, хотя число мест за столом было очень ограниченно, и предназначались они лишь для нескольких крупных финансистов, политиков и самых близких из светских кутил. Обдумывая это дело, друзья продолжали выпивать. На улице шел мелкий дождик со снегом, и тротуар покрывался ледяной корочкой. Уже давно стемнело. Явилась горничная от Андреа и сказала: хозяйка велела передать барону, что она готова и просит его распорядиться запрягать лошадей. Ги заворчал: пусть, мол, мадам сама наймет извозчика, но горничная запротестовала, говоря, что, если сказать это мадам, она закатит такую сцену… такую сцену!.. Приходя все в большее замешательство, Ги забормотал, дескать, лошади его больны, и закончил так: — Передай мадам, что Баяр кашляет, а Принц хромает и по такой погоде их совершенно невозможно запрячь. Через несколько минут Андреа в вечернем туалете явилась сама, и Ги совсем растерялся. Рыжая была совершенно великолепна, ее глаза цвета морской воды пылали гневом, огненные волосы были взлохмачены, полные губы сжались, и грудь античной богини высоко вздымалась. Выставляя напоказ прелесть обнаженных бело-розовых плеч, мадам надвигалась на Ги, ступая по полу, усеянному окурками, среди луж пролитого вина, не обращая внимания на то, что может попортить свой туалет, стоивший не одну тысячу, а барон пятился от нее и чувствовал себя очень неудобно. Вдруг она крикнула голосом, задрожавшим от злости: — Ты прикажешь сейчас же запрягать. Да! — Но я ведь сказал твоей служанке, что они нездоровы. — Что? Боишься, твои клячи сдохнут! — Но… моя дорогая… — Твоя дорогая… которой ты предпочитаешь пару дрянных лошадей! Да мне стоит только знак подать, и первый же идиот целую конюшню предоставит в мое распоряжение… Хотя бы вот этот! — сказала она, указав на Дезире Мутона, смотревшегона нее с восхищением. — Ведь правда, ты не стал бы торговаться, как этот нищий Ги? Виконт де Франкорвиль и маркиз де Бежен потешались вовсю. Дезире Мутон, которому красивая девка не стесняясь дала кличку Бычьей Мухи, не смел слова проронить. С одной стороны, он был в восхищении от Андреа, а с другой, очень боялся своего грозного друга, барона де Мальтаверна. Ги продолжал самым нежным тоном уговаривать: — Клянусь тебе, деточка, я совершенно не виноват. — Кончай трепаться!.. Звони! Ги покорно нажал кнопку. Появился лакей. — Идите на конюшню и положите в карету мех и грелку, — приказала Андреа. Лакей молча вышел. Рыжая подошла, еще вся пылая, к подносу, налила себе немного абсента[40], чуть разбавила водой, закурила папиросу и стала ждать, понемногу потягивая зеленоватый напиток. Через пять минут лакей доложил: — Мадам, ваше приказание исполнено, все готово. — Благодарю, господин, как вас там… Теперь возьмите зонтик и проводите меня до конюшни, на дворе идет дождь. А ты, Ги, распорядись, чтобы запрягали, ты слышал и понял?.. А?.. И не заставляй меня повторять, иначе… ты знаешь, что я хочу сказать… При этих словах она удалилась в сопровождении лакея, затем в окна было видно, как лакей, держа над госпожой зонт, подвел Андреа к карете, раскрыл дверцу. Мадам уселась, поставила ноги на грелку, завернулась в мех и принялась ждать. Ги де Мальтаверн тоже покинул комнату в сопровождении друзей, в беспокойстве ворча себе под нос: — Чертова баба, будто не знает, что кучер по такой погоде ни за что не выведет лошадей из конюшни, потому что лошади — это мой залог ему за мои долги. Стоя у кареты, барон снова попытался убедить Андреа. На его уговоры та ответила непристойной бранью. Подумав, она вдруг радостно выпалила, как будто ее только что озарила счастливая мысль: — Уж если ты так жалеешь своих кляч, впрягайся в карету сам вместе с твоими лакированными бычками, вот этими, которые лупятся на меня глазами вареной рыбы. Быстро!.. Беритесь за оглобли, толкайте сзади колымагу… и рысью!.. Много найдется сто́ящих дороже вас, которым приходится и потяжелее тащить. Маркизик и виконт, сильно подвыпившие, закричали: — Браво!.. Хорошо придумано! Ги тоже принял предложение с восторгом. Он был рад умилостивить таким способом красотку и одновременно поберечь своих лошадок, да еще и совершить нечто такое, о чем наверняка напишут в модных парижских газетах: «Эко Де Пари», «Фигаро», «Голуа» и «Жиль Блаз». Обратясь к Дезире Мутону, барон сказал: — Я думал, каким манером привести вас к обеду в доме Регины, вот путь и найден. Рыжая крикнула из кареты: — А ну! Везите, аристократы, знаете, ведь я жду! Быстро!.. На рысях!.. — Она уморительна!.. — прокудахтали маркизик и виконт. — Мутон, дорогой, берись за оглобли, — скомандовал барон, включаясь в игру. Чувство достоинства провинциала было задето, он смутно понимал, что бабенка заставляет их делать что-то унизительное. Дезире глупо высказался: — Изображать из себя лошадь!.. О!.. Нет! Я бы предпочел что-нибудь другое. Ги насмешливо ответил: — Вы доверили нам свое воспитание и не имеете права рассуждать. Слушайтесь! — Но разве так принято поступать? — спросил провинциальный увалень, которого Андреа так непочтительно назвала Бычьей Мухой. — Милорд д’Арсуй и распутники конца Империи[41] не такое еще проделывали… Не сомневайтесь! Уверяю вас, это очень элегантный поступок. Андреа теряла терпение, она высунулась из дверки и крикнула голосом уличной торговки: — Ну! Живо! Вас стегануть, что ли?.. Мутон встал меж оглобель, маркиз взялся за левую, виконт за правую постромки, Ги толкал сзади, и экипаж тронулся, а лакеи хохотали и злорадствовали, глядя из окон на то, как унижают их хозяев. Выехали на авеню. Четыре богача, закутанные в меховые пальто, согнувши спины, тащили экипаж, и полы их шуб волочились по грязи. Цилиндры аристократов поливал дождь, они бежали по лужам, со смехом обдавая друг друга с ног до головы грязной водой. Мальтаверн, Франкорвиль, Бежен и Мутон веселились как блаженненькие, шутили и смеялись, называли себя именами лошадей, пощелкивали языками, как бы поощряя друг друга, выкрикивали разные кучерские словечки и в то же время испытывая какое-то извращенное наслаждение от непристойных окриков Рыжей, — та поносила их с увлечением и уменьем, как настоящая уличная девка. В понуканиях и окриках дочь мамаши Башю вымещала на богачах все обиды и унижения, перенесенные от них и им подобных девушками, которых они развратили и унизили. — Удивительная!.. Поразительная… С огоньком женщина!.. — задыхаясь от усилий, бормотали четыре лакированных бычка, слушая, как их поносит Андреа. Миновав авеню Ош, экипаж поехал по улице Бальзака, с немалой скоростью спускаясь под гору; он немного замедлил ход на Елисейских полях[42], а потом снова ускорил его на улице Галилея. Когда экипаж выбрался на улицу Элер, люди-лошади были с ног до головы покрыты грязью, и все извозчики, стоявшие в ожидании пассажиров, встретили их потоком издевательств. Наконец они прибыли к дому Регины и свернули в подворотню. Но, вместо того чтобы остановиться у стеклянной двери, в которую входили первые приглашенные, друзья двинулись дальше и вкатили в зимний сад. Четверо, наверное сговорившись во время пути, изо всех сил побежали вперед. Купе[43] въехало в огромный холл со стеклянной крышей, уставленный экзотическими растениями и цветущим кустарником, где прогуливались, разговаривали и флиртовали мужчины и женщины в нарядных туалетах, ожидая часа обеда. Без сомнения, слон, ворвавшийся в посудную лавку, не произвел бы такого ошеломляющего впечатления, как этот экипаж с зажженными фонарями, весь покрытый грязью, пронесшийся мимо кресел, диванов, кадок с цветами и статуй и остановившийся посреди холла. О! Честное слово, это был великолепный выход на сцену, совершенно великолепный! Он всех удивил, взволновал, наделал много шума и вызвал зависть. Многие искренне пожалели, что не им пришла в голову столь блестящая мысль. Один известный политический деятель, любезно открыв дверцу экипажа, подал руку Андреа, и на нее обратились взоры ста пар восхищенных глаз. Привлеченная шумом, появилась хозяйка дома и скорчилась от смеха, изо всех сил стараясь его сдержать. Она сердечно пожимала руку Андреа, и та, великолепная как никогда прежде, указала кончиком веера на четверку мужчин и горделиво заявила: — Моя конюшня…
ГЛАВА 19
В этом обществе, состоявшем из политиков сомнительной репутации, темных финансистов, распутников, прохвостов и женщин легкого поведения, душевное состояние было у всех более или менее развинченным и неврастеничным. Наверное, это способствовало шумному успеху Ги, виконта Франкорвиля, псевдомаркиза Бежена, Дезире Мутона и особенно Андреа. Этот успех был необычайным, доходившим до абсурда. Дезире Мутона приняли с распростертыми объятьями. Все женщины нашли его очень симпатичным, а когда под сурдинку распространили сведения о размерах его состояния, и все мужчины прониклись к нему уважением. Нет смысла подробно рассказывать про обед, данный по случаю новоселья в доме, подаренном стареющей куртизанке ее идиотом-любовником. В начале пир был чрезмерно чопорным, как всегда бывает у такого рода женщин, ни в чем не знающих меры, все доводящих до крайности. Но под действием крепких вин, лившихся рекой, началось шумное веселье, постепенно перешедшее во всеобщий разгул, и торжественная трапеза начала походить на попойку в кабаке. Когда прием, на котором присутствовали только избранные приглашенные, окончился, в дом повалили гости второго разбора. Объявив сначала о нескольких незначительных лицах, выездной лакей назвал подряд два имени: — Месье Тьери!.. Месье де Шамбое!.. И граф Мондье, неузнаваемый под личиной рантье с улицы Жубер, вошел вместе с Бамбошем, — граф придумал называть своего наперсника — Бернаром де Шамбое. Граф, вернее в данном случае месье Тьери, потому что никто не узнал его в новом облике блистательного кутилы из высшего общества, подошел, сопровождаемый Бамбошем, засвидетельствовать почтение хозяйке дома. — Вот неожиданность! Дядюшка! — воскликнула та, подавая ему руку, затянутую в перчатку до самого плеча… — Как поживаете? Очень мило с вашей стороны прийти ко мне… — Мое почтение прекрасной даме! Ваш праздник поистине великолепен… Разрешите представить вам моего племянника Бернара де Шамбое… этого милого молодого человека, впервые увидевшего свет. Маленького дикаря, приехавшего с севера Франции. — Ну конечно… рада видеть вас у себя, месье! Бамбош низко поклонился, покраснел и пробормотал: — Мадам!.. Он побоялся произнести какую-нибудь неловкую любезность и благоразумно замолчал. К ним подошла Андреа, она сделала Бамбошу незаметный знак, подала месье Тьери руку и, так же как Регина, сказала: — Здравствуйте, дядюшка! Затем еще семь-восемь дам полусвета самого высокого полета, бесцеремонно оставив своих собеседников, поспешно подошли с радостными лицами и с разнообразными интонациями произнесли сладкими голосами: — Это дядюшка!.. Здравствуйте, дядюшка!.. И месье Тьери ласково пожимал ручки, затянутые в перчатки, и заглядывал исподтишка за широкие декольте горящим глазом петуха, озирающего своих курочек. Он без сомнения играл в этом обществе какую-то темную роль, о которой не знал даже Бамбош. Многие мужчины, иные весьма заметные здесь, носящие разные звания и титулы, называли графа дядюшкой, совершенно непонятно почему, и он принимал это как должное. Пока дядюшка свободно, словно по улице, расхаживал среди гостей, Бамбоша охватило необычайное волнение. Перенесенный вдруг, без подготовки, из грязного кабачка, где жила чета Лишамора и мамаши Башю, он попал в свет, о котором имел представление только по копеечным романам. Молодой человек бросал горящие и острые как кинжалы взгляды на женщин, этих пожирательниц состояний и чести, вампиров, ради кого мужчины разоряют семьи, пятнают доброе имя, теряют голову, идут на преступление, кончают самоубийством. Смелые декольте, волнующий запах духов, несущийся от их волос и разгоряченной кожи, блеск драгоценных камней в прическах, на руках и на обнаженных шеях, шелка, подчеркивающие безупречные формы тел, безумная роскошь ковров и драпировок, картин, статуй и тысяч дорогих безделушек — все, о чем он не имел никакого понятия в своей нищей юности, давало теперь яркое представление о жизни, совершенно неизвестной ему прежде. Он не видел ее темной стороны и был погружен душой и телом в ее радости, в вихрь ее удовольствий. «Эта роскошь будет у меня! Я буду иметь этих женщин. Я заставлю вертеться вокруг меня этих мужчин… Этот свет станет теперь моим!..» Чья-то рука легла на плечо, он обернулся и увидел Брадесанду, великолепно выглядевшего во фраке. Тот спокойно держал себя среди гостей, как букмекер на работе. — Ты называешься Бернар де Шамбое… Хорошее имя… Меня зовут Петер Фог… Английское имя… Оно мне очень подходит… Ты понимаешь, я становлюсь известным на бегах. Бамбош опомнился при виде товарища. Тому был непонятен охвативший друга огонь желаний. Бамбош ответил равнодушным тоном, чтобы скрыть волнение, решавшее всю его дальнейшую судьбу: — Здесь очень шикарно… Знаешь, я бы охотно всегда так жил. — Да, какой-то торговец шерстью, не знаю откудова приехавший, подарил все это Регине. Она добрая девка, не гордячка и хорошо устроилась. — Все эти женщины так на меня действуют, у меня прямо темно в глазах, я бы хотел всех их иметь. — А! Тебя влечет к женщинам… Это твое дело… Я люблю только даму пик и лошадок… На других мне наплевать! Дядюшка, освободившись наконец от приветствий дам полусвета и от лакированных бычков, подошел к Бамбошу, того только что покинул Брадесанду, он же Петер Фог. — Ну, мой мальчик, как тебе все здесь нравится? — Клянусь! Патрон… — Зови меня дядюшкой, как все эти одурелые потаскухи и лакированные бычки. — Я нахожу все ослепительным, сказочным, чудесным… — Не обольщайся, малыш! Знаешь, драгоценности здесь фальшивые и протухшее мясо скрыто под кружевами, а за роскошью прячется нищета. Ты воображаешь, будто все эти ручки, которые ко мне тянулись, все рожицы, что мне улыбались, все умильные взоры, обращенные ко мне, объясняются расположением дамочек к моей особе… — По крайней мере, они все были вам так рады, что я подумал… — Все это ради денег, которые я им одалживаю под сто процентов в месяц с правом пользоваться их особами, когда мне захочется. Да, мой мальчик, все знают здесь, что дядюшка большой сластолюбец, известный развратник, который зарится только на самых хорошеньких, самых шикарных. Дядюшка, месье Тьери, собирает со всех этих дамочек гораздо больше того, что тратит на них граф Мондье, и должен тебе признаться, что из графа и дядюшки большинство девиц предпочитает вовсе не щедрого дворянина. Двойная жизнь и есть моя настоящая жизнь, кроме той ее части, о которой ты не знаешь. Бамбош был совершенно потрясен новым воплощением своего учителя. Он безгранично восхищался изобретательностью загадочного человека, его обдуманной, изощренной развратностью, способностью в разных обличиях удовлетворять свою ненасытную похоть. Дядюшка, в свою очередь, позволил Бамбошу еще три часа наслаждаться собственным новым положением, представив его разным женщинам и призывая их в недвусмысленных выражениях к благосклонности к нему. После чего сказал: — Мы ведь пришли сюда, чтобы работать. Не правда ли, мой мальчик? Так начнем же. Посмотрев на отошедшего от игорного стола джентльмена после того как тот совершенно продулся, граф позвал: — Месье де Мальтаверн! — Что вам угодно, дядюшка? — Не будете ли вы так добры уделить мне пять минут для частного разговора? При этом мы сделаем исключение для моего племянника Бернара де Шамбое, которого я вам представлял. Побеседуем втроем. — К вашим услугам, дядюшка. — Так как дело очень серьезное, давайте поищем уединенное местечко. Они поднялись в комнату, куда никто наверняка не зашел бы: в ней были свалены разные старые стулья, ненужные занавеси и другой хлам. Граф Мондье в обличии месье Тьери без всяких предисловий сказал: — Господин барон де Мальтаверн, один человек мне очень мешает. — Смею надеяться, это не я. — Нет, разумеется, не вы. Зато вот он мешает мне до такой степени, что я рассчитываю именно на вас, чтобы от него избавиться. Ги отшатнулся и воскликнул: — Вы хотите заставить меня убить кого-то?! — Да, и очень скоро. — Вы с ума сошли. — Совсем нет. Тот, кого я приговорил к смерти и которого должны убить вы, — князь Березов. Надо, чтобы он умер завтра или послезавтра самое по́зднее. Вам известно, что вчера у него в доме скоропостижно скончалась монахиня… выпила яд, предназначенный для него. Это мой племянник, который здесь перед вами, дал маху… — И вы спокойно рассказываете… Значит вы мерзавец… бандит… убийца… — Да! А вы станете моим сообщником… Нашим сообщником. — Довольно, месье!.. Если это шутка, то очень дурного вкуса и вы слишком ее затянули! — Я никогда не шучу, когда речь идет о серьезных вещах. — Итак, вы говорите серьезно? — Совершенно серьезно. — Тогда разрешите мне удалиться… присутствие убийц… Дядюшка прервал смехом возмущенную тираду: — Мальчик мой, вы глупы… — Вы называете меня «мой мальчик»… меня?.. — Месье де Мальтаверн, может быть, вам хочется отдохнуть в Гвиане?[44] — Что вы хотите этим сказать? — Да, там есть очень хороший пляж, его часто посещают каторжане, когда судьи посылают их жить в этот благодатный край для поправки здоровья… Для безопасности так называемого общества… Публика довольно разнообразная… Вы будете там представителем высшего общества… Ги де Мальтаверн почувствовал себя не совсем комфортно: совесть его трудно было назвать безупречно чистой, а чертов дядюшка смотрел на него весьма проницательными глазами через очки в золотой оправе. Все же барон гордо выпрямился и проговорил: — А если я откажусь от вашего предложения? — Скажите правильнее, от приказания, — проговорил дядюшка голосом, какого Мальтаверн до сих пор у него не знал. — Пусть приказания, я не стану препираться из-за выражений. — Тогда, к великому сожалению, я вынужден буду послать прокурору Республики гербовые бумаги, называемые ордерами, подписанные бароном Мальтаверном и адресованные господину Тьери, которого здешние дамы называют дядюшкой. — А затем? — спросил барон бледнея. — Бумаги, переданные вами господину Тьери… — Они фальшивые! — Совершенно верно. И подлог совершили вы… мой мальчик. А учинивших подлог отправляют на каторгу. — Обязательства были оплачены в срок. — Деньгами, нечестно выигранными в карты. Это, конечно, не имеет значения, но я принял меры предосторожности и сфотографировал бумаги, и если у вас остались оригиналы, то у меня имеются фотокопии, которые любое должностное лицо признает равнозначными оригиналу. Это еще не все; я располагаю кучей документов, которые, если их обнародовать, окажутся весьма опасны для вас. Поэтому не протестуйте и слушайтесь. Ваша судьба у меня в руках. Бамбош, очень заинтересованный, не пропустил ни одного слова из разговора. Он восхищался своим хозяином, о двойственности персоны которого знал, может быть, только он один. «Каков человек!.. С таким учителем я далеко пойду!» Ги де Мальтаверн проговорил голосом, дрожавшим от бессильного гнева: — Так что я должен делать? — Рад, что вы образумились, вы послужите мне не без пользы для себя. — Еще раз спрашиваю, что я должен делать? — спросил Ги, для него этот разговор, да еще в присутствии третьего лица, был настоящей пыткой. — А вот что: когда кончится это празднество, вы пойдете с моим племянником Бернаром де Шамбое к вам домой и поселите его у себя. Будете его кормить, поить и снабжать папиросами. Устроите его в удобной комнатке с окнами, выходящими на дом Березова. Остальное будет его делом. — Это все? — Может быть. Если же мой племянник снова промахнется — надо и это предусмотреть, — тогда вы придете на помощь. Ведь вы не боитесь дуэли со шпагой или с пистолетами? Решительно ни с кем не боитесь драться? — Ни с кем, — мрачно подтвердил барон. — Тогда дело обстоит просто: спровоцируйте Березова на поединок и уложите его. — Я должен ему пятьсот луидоров, проигранных в карты под честное слово. Он не станет со мной драться. Дядюшка достал бумажник, вынул из него десять купюр по тысяче франков и протянул их барону. — Вот вам, чтобы уплатить долг, — сказал он холодно. — Если ухлопаете князя, столько же будет и для вас. Понимая, что деваться ему некуда, Мальтаверн взял ассигнации, положил в карман и склонил голову, то ли в знак согласия, то ли чтобы скрыть выражение стыда на лице. — Вот и прекрасно! — сказал дядюшка насмешливо. После чего он встал, показав этим, что разговор окончен, и спустился в гостиную, где играли в карты, а вскоре совсем исчез из виду Бамбоша и барона, им-то предстояло не расставаться до конца праздника.В три часа утра они вместе пришли пешком на авеню Бокур, и Ги разместил нового знакомца, покорный неколебимой воле Дядюшки. Бамбош лег, проспал непробудно до девяти, позавтракал изрядным куском холодной говядины, запив бутылкой шабли и решил, что такая жизнь — очень приятная штука. Вскоре к нему явился хозяин дома, завернутый в мягкий кашемировый халат, и два злоумышленника, поладившие между собой как два вора на ярмарке, пожали друг другу руки, словно старые друзья. Как спортсмен, Ги был большим любителем оружия. Бамбош тоже знал в нем толк. Он внимательно осмотрел имевшуюся у барона коллекцию и выбрал себе очень удобный короткоствольный карабин; приложил к плечу, попробовал затвор, удовлетворенно пощелкал языком и сказал: — Калибр девять с половиной миллиметров, немного слабовато. Ги возразил: — При длинном патроне поражает цель на расстоянии полутора сотен метров и пробивает насквозь двух человек, стоящих один в затылок другому. Оценили? Вы стрелок? — Довольно неплохой. — Тогда вы должны попасть в десятисантимовую монету с расстояния ста шагов. — Возможно, но надо попробовать — карабин-то незнакомый. — Разумеется! У меня есть глухой коридорчик, не очень длинный, метров сорок… — Это все, что надо, сведите меня, пожалуйста, туда. — Охотно. Барон ничего не приукрасил, расхваливая карабин. А Бамбош действительно показал себя превосходным стрелком. Он с первого выстрела всадил пулю в середину белого кружка. Чтобы доказать, что удача не случайна, он раз за разом трижды попал в пробитое отверстие. — Превосходно! — сказал Ги. — А теперь что вы будете делать? — Почищу карабин, заряжу его и сяду подстерегать. — Кого подстерегать… откуда? — Князя Березова. Он частенько открывает окно… вон то, третье налево… Как только высунется… Бац… И черт меня забери, если я с первого же выстрела не заработаю обещанную премию в десять тысяч. — А если промахнетесь или только раните? — Промахнуться не могу, вы в этом убедились, а если раню… Тогда вам придется ждать, когда он выздоровеет, чтобы устроить с ним дуэль и убить его шпагой или из пистолета. Но не бойтесь, мне достаточно увидеть кончик его носа, и князь готов! При этих словах Бамбош открыл окно и уселся подстерегать. А Ги, вооружившись великолепным биноклем, решил понаблюдать, как все произойдет. Прошло три четверти часа, и князь выглянул во двор, загородив мощной фигурой весь оконный проем. Бамбош прицелился туда, а Ги увидел князя в бинокль так четко, как будто был рядом с ним. В кармашке домашней куртки Березова торчал белый платок, уголок его четко вырисовывался на месте чуть выше сердца. В тот момент, когда раздался выстрел, Ги увидел, что князь конвульсивно схватился за сердце и упал.
ГЛАВА 20
Жермена думала, что князь, поглядев в окно, скажет: «Бобино приехал на новом велосипеде». Звук выстрела едва дошел до ее слуха, он был ослаблен расстоянием и его легко можно было принять за хлопок двери или падение на пол какого-то предмета. Поэтому никакой мысли о преступлении у девушки сначала не возникло. Она испугалась, лишь услышав, как хрипло вскрикнул Мишель, и пришла в совершенный ужас, увидав, что он зашатался и рухнул на ковер. Жермена громко закричала и попыталась вскочить с постели, но она была еще слишком слаба и, бессильно опрокинувшись на подушки, принялась звать на помощь и окликать упавшего. — Мишель!.. Что с вами?.. Ответьте мне!.. Мишель! Друг мой! Это я, Жермена! — И девушка снова закричала сколько было сил. Во дворе откликнулись мужские голоса, послышались быстрые шаги, к ней спешили на помощь. Первым прибежал Владислав и завыл, как водится у русских: — Убили моего хозяина!.. Будь я проклят, что не уберег его!.. Дворецкий[45] бросился к князю, охватил его руками, поднял, увидал отверстие в его одежде и заплакал, причитая: — Очнись, батюшка мой! Открой свои глазыньки!.. Ведь ты не умер!.. Не хочу, чтобы ты умирал!.. Жермена, рыдая и заливаясь слезами, повторяла одно и то же: — Мишель!.. Мой Мишель… Мой друг!.. Вбежал Бобино, он задыхался, был бледен и в совершенном расстройстве. Юноша воскликнул: — Боже мой!.. Еще один покойник!.. И это он! Жермена, что случилось?! Как это произошло?! Отвечайте скорей!.. Но Жермена задыхалась от рыданий и не могла вымолвить ни слова. Бобино старался привести ее в чувство, а Владислав укладывал поудобнее на ковре князя. Мишель очнулся после того, как ему полили на лицо холодной воды. — Он жив! — заревел дворецкий. — Он жив! — как эхо повторил Бобино, мечась между находившейся в обмороке Жерменой и князем, которого считал уже мертвым. Князь вздохнул и посмотрел наконец вокруг себя, не в состоянии ничего понять: почему он лежит на полу, Жермена в таком ужасном состоянии, а Владислав весь в слезах. Мишель дышал, но прерывисто, что-то мешало ему. Он сорвал с себя жилет и пластрон[46] рубашки. На груди, как раз против сердца, виднелось лиловатое пятнышко, просто синяк размером с монетку. Владислав осмотрел накрахмаленный пластрон, он был совершенно цел, а из нагрудного кармашка куртки вывалился простреленный насквозь, туго набитый бумажник, в золотой застежке которого застряла расплющенная пуля. Она выпала на ковер как раз в тот момент, когда князь пришел в себя и смог заговорить. Его первая мысль, первое слово были обращены к Жермене: — Детка моя… Сестра моя дорогая… Со мной ничего не случилось… Очнитесь! — Она вас слышит, князь. Скажите ей еще что-нибудь, ей от этого лучше делается. — Жермена, узнаете меня?.. Это я, Мишель… а это Бобино, наш друг, а это Владислав. С помощью дворецкого Мишель наконец встал на ноги. Затем, еще совсем слабый, слегка пошатываясь, сел на край постели Жермены, взял ее руки в свои и заговорил ласково, будто с ребенком. Девушка постепенно пришла в себя и конечно захотела узнать, что произошло. Он рассказал ей, по крайней мере, то, что сам знал или предполагал. Его пытались убить, выстрел был очень метким, в самое сердце, но, откуда была пущена пуля, точно определить невозможно: в домах напротив пятьдесят или шестьдесят окон. Если бы не бумажник, Мишель был бы сражен наповал, но и контузия от удара пули была так сильна, что он упал замертво. Все обошлось, слава Богу, хотя он еще чувствует боль в груди, но это скоро пройдет. — Вы говорите, скоро пройдет… Я тоже на это надеюсь и от всей души этого желаю, — сказала Жермена. — Но это уже второе покушение… Враги не сложили оружия. Нам надо уезжать… Друг мой, умоляю вас, давайте поскорее уберемся отсюда. Я уже достаточно окрепла. — Вы же знаете, что прежде мы должны найти ваших сестер. — Боже мой! Простите, я на минуту о них забыла, я как с ума сошла… — Успокойтесь, Жермена. Мы будем бдительны, как никогда прежде, а Бобино отправится на поиски. — Сейчас и поеду, я готов приняться за дело. — Подождите минутку. — И князь направился в свою комнату, достал из сейфа пачку банкнотов, положил кинжал и пистолет. — Возьмите, — сказал он, подавая типографу деньги, — это главное орудие войны. Я их не считал, тратьте все, если не хватит, попросите еще. Бобино спокойно принял ассигнации и, тоже не считая, положил во внутренний карман. Затем князь передал ему револьвер и кинжал и сказал: — Этот кинжал из крепчайшей стали, им можно перерубить любое английское оружие. Он верный друг, который не изменит своему хозяину. А теперь, мой дорогой, попрощаемся. Вы идете на трудное дело, на пути встретится много преград, но ведь вы из тех, кто не останавливается ни перед чем, когда ему светит впереди счастье выполнения долга. — Вы хорошо сказали, князь Мишель! Да, я сделаю все, что будет в моих силах, а что касается опасностей, ну… буду держать ухо востро. Я попался один раз… теперь буду умнее. До свидания, Жермена! — До свидания, дорогой Жан, до свидания, мой Бобино. — До скорого, мой храбрый друг. Юноша пересек двор, ведя за руль своего нового железного коня. Он проходил через ворота, когда увидел, что к ним подошел какой-то человек и спорит со швейцаром. — …Я вам говорю, что у меня дело к князю, он меня сейчас ждет. — Должен вам заметить, месье, что князь никого не принимает, решительно никого. — Но вы меня хорошо знаете… — Мне известно, что месье — барон де Мальтаверн. — Один из друзей вашего хозяина. — Я знаю, но у меня приказ… — Вы говорите как на военной службе. — Да, месье, я служил верно и честно, — ответил швейцар, поглядев на свидетельство о награждении воинской медалью, висевшее на стене сторожевой будки в рамке черного дерева. — Так вот, мой приход касается дела чести… — Князь должен драться на дуэли?.. — Может быть!.. Я его секундант. Повторяю: он меня ждет и точность, с которой вы исполняете приказ, может причинить ему большое несчастье. Поэтому пропустите меня. Бобино тихо вышел на мостовую и сел на велосипед. Дальше слушать разговор он считал неделикатным; да и швейцар лучше знает, как надо поступить. Прыгнув в седло, юноша быстро покатил кратчайшим путем к Аньерским воротам. В это время швейцар звонил в дом князя, чтобы спросить, можно ли впустить посетителя.ГЛАВА 21
Бобино отправился на поиски Берты и Марии по той дороге, где он проезжал больше месяца назад, когда мерзавец похитил Жермену и скрыл ее в мрачном доме на берегу Сены. Сколько драматических событий прошло с тех пор! Сколько страшных, невероятных и тем не менее вполне реальных приключений пришлось пережить! Его, Бобино, истерзанного собаками, бросили в реку, и он был чудесным образом спасен добрым рыбаком Могеном, с которым скоро должен увидеться. После исчезновения Жермены трагически скончалась милая мамаша Роллен, ее он любил как родную мать. Увезли неизвестно куда двух девушек; чудесным образом была спасена Жермена. Участие в ее судьбе князя, покушение на него; выздоровление Жермены… Можно было потерять голову. И за всем этим скрывалась, видимо, преступная рука какого-то одного могущественного врага. Бобино, с ранних лет напичканный грошовой литературой, чувствовал себя действующим лицом драмы, подобной тем, какие он читал у любимых авторов и начинал думать, что в жизни все может случиться, даже невероятное… особенно невероятное. В его кармане лежал черкесский кинжал, что мог среза́ть гвозди, как бритва — волосы; крупнокалиберный револьвер «бульдог», стрелявший как пушка; пачка банкнот на сумму, какую он не мог бы заработать и за четыре года; он ехал на новом велосипеде, ценою в восемьсот франков. Наконец, он стал другом князя… настоящего князя! Красивого, высокого и сильного, как герой из романа… великодушного… такого великодушного, каких уже не бывает в наш мелочный торгашеский век. Как истинное дитя Парижа, Бобино не преклонялся перед титулами, расшитыми мундирами, орденами и прочими знаками величия и знатности, и восхищался князем не потому, что Мишель Березов принадлежал к высшей аристократии России. На жалованные грамоты, на княжеские короны и всякие гербы типографскому рабочему французской столицы, независимому, скептическому, склонному к насмешке и знающему себе цену, было в достаточной мере наплевать. Но в лице князя Березова он встретил такого простого, обходительного и сердечного человека, противника светских условностей, что типограф сказал себе: «Это — брат!.. У него на копейку нет ничего из аристо́… Такой человек мне по душе: что он любит Жермену… это совсем не глупо… Она его достойна. Если и она его любит… еще лучше! Из них выйдет прекрасная пара, когда господин кюре их обвенчает…» Так размышляя о бурных событиях, оторвавших его от работы в типографии, он в опьянении скоростью езды катил на велосипеде. Как и в первый раз, обогнув Аржантейль, юноша свернул налево и поехал по дороге к ля Фретт. Впереди него не спеша двигался экипаж, возница дремал на козлах. Бобино делал примерно двадцать пять километров в час, он быстро нагнал упряжку и некоторое время ехал следом за ней. Несмотря на холод, дверцы там были открыты и оттуда слышались взрывы смеха и, похоже, звуки поцелуев. Бобино весело улыбнулся. Красивому малому были не чужды такие радости, и ему захотелось взглянуть на счастливчиков. Он обошел карету слева и некоторое время двигался вровень с ней. Повозка была просторная. В ней действительно разместилась явно влюбленная парочка. Она была великолепна: рыжеволосая, пышнотелая, очень соблазнительная, огромные глаза цвета моря, странные, покоряющие; маленький алый ротик, чуть подкрашенный, прямо созданный для поцелуев, для веселья и для порочных наслаждений! Одета шикарно, не только по моде, но даже впереди моды, женщина казалась одной из тех, кому подражают в туалетах. Он был менее интересен. Наряжен уж слишком броско. Красивый малый, но вульгарный. Толстощекий, толстогубый, с широкими бровями. Кольца на обеих руках, руки широкие, короткопалые, ногти холеные. На груди увесистая цепочка от часов, какую носят люди без вкуса, меж бровей на нос спускался локон, выбившийся из-под шляпы. В момент, когда Бобино проезжал мимо, молодые люди взасос целовались. Они подняли глаза при звуке звонка велосипеда, но не разъяли губы. Их взгляды встретились, Бобино понимающе улыбнулся влюбленным, и парочка принялась лобызаться с еще большим увлечением, как люди, которые для того и поехали кататься и кому незачем зря терять время. Они веселым хохотом приветствовали велосипедиста, а он, нажав на педали, поскорее проехал вперед. Через двадцать минут Жан Робер прибыл к рыбаку Могену.Супруги как раз садились за стол есть чудесный матлот, его так хорошо умела готовить жена Могена, что традиционное блюдо никогда не надоедало мужу. — Здравствуйте, месье и мадам, — сказал Бобино, входя и ведя за собой велосипед. — Здравствуйте, месье, — ответили супруги, подняв вилки и глядя на пришедшего удивленными глазами. — Вы меня не узнаете? — Честное слово, нет. — Я вас тоже не узнаю́, — сказал Бобино, прислоняя велосипед к стене. — Но это ничего не значит, потому что я вас люблю как своих отца и мать. Хозяева совсем опешили. — Да, как моих родителей, потому что вам я обязан жизнью. Я тот, кого вы выловили из реки в одиннадцать часов вечера в прошлом месяце и кого своими стараниями мадам Моген привела в чувство и выходила. Я друг Жермены и также друг князя Березова, о чем говорю вам не без гордости. Супруги вскочили и начали его обнимать и целовать, восклицая: — Милое наше дитя, мы так рады тебя видеть!.. Садитесь с нами, ешьте, пейте! Будьте как у себя дома! Обрадованный такой сердечной встречей, Бобино расчувствовался до слез, как бывает с людьми, никогда не видавшими родителей, когда они встречают столь сердечное гостеприимство. Он сел за стол, не зная с чего начать разговор, он, парижанин, который, кажется, никогда не лез за словом в карман. Мадам Моген закидала его вопросами с такой поспешностью, что слова летели у нее изо рта одно через другое, путаясь между собой. — А там как идут дела? Князь нам писал… Какой хороший человек, совсем не гордый, такой же простой, как мы с вами… Он зовет нас друзьями… присылает всякие вещи… совсем новую лодку… такие снасти, что прямо не знаешь, куда их положить! Правду я говорю, Моген? — Такие подарки, что я до сих пор в изумлении. — И всякие драгоценности… часы, ожерелья, браслеты… для моих толстых рук… Я никогда не решусь надеть все это золото и украшения… Но скажи, сынок… мадемуазель Жермена… как она?.. Бобино наконец смог прорваться сквозь поток восторженных слов. — Она поправилась. Очень сильно болела. Князь несколько раз думал, что бедняжка вот-вот умрет. Но слава Богу, всё обошлось. — Вот и хорошо! Мы так рады, так рады! Как будто она — наше родное дитя. — Жермена, князь Мишель и я, мы все — ваши искренние друзья. — Видишь, наши чувства взаимны, сынок. Но скажи нам, какому счастливому случаю мы обязаны твоим сегодняшним посещением? — Прежде всего мне хотелось высказать вам свою горячую благодарность. Вы меня спасли!.. Я по гроб жизни буду вам признателен! Глубоко тронутые, рыбак и его жена крепко пожали руки юноши. — А еще, возможно, что мне придется просить вас о помощи в одном очень сложном деле, страшном деле, оно касается князя, Жермены, ее сестер и меня. — Будем рады помочь вам. — Спасибо вам от всего сердца! Но прежде, чтобы вы знали, о какой помощи я буду просить, надо рассказать все, что мне известно об этой жестокой истории. Князь просил об этом, так что, пожалуйста, выслушайте. И парижанин, успевший хорошо подкрепиться за гостеприимным столом, поведал как мог все, что произошло с того дня, когда он, совершенно бессильный и безоружный, наблюдал, как похищали Жермену. Когда он сказал рыбакам, что приехал выручать сестер Жермены, Моген ответил: — Возможно, что они их спрятали в каком-нибудь закоулке этого проклятого бандитского притона. Может быть, и где-нибудь в другом месте. Это трудно узнать. Во всяком случае, мы будем делать все, что в наших силах. Правильно я сказал, мать? — Правильно, муженек! — Сделаем все, что сможем, немного, наверное, потому что нас недолюбливают в том доме. — Раз там торгуют вином, у меня есть все основания туда войти, — сказал Бобино. — Наверное, туда шляется одна шпана. — Да нет, заглядывают и хорошие парни, они работяги, но им постоянно хочется выпить из-за тяжелой работы — обжигают известь, от которой у них всегда горит внутри. Мы пойдем вместе, как будто ты рыбак-любитель, которого я учу. К вам отнесутся с доверием, если вы приедете с человеком из здешних мест, и нам, может быть, удастся разговориться с кем-нибудь из посетителей. В этот момент экипаж с двумя влюбленными, обогнавший Бобино на дороге между Аржантейлем и ля Фретт, подъехал к дому рыбака и как будто собрался остановиться. Сидевшая в повозке женщина выглянула из дверцы и сказала кучеру несколько вульгарным голосом: — Кати дальше! Она увидала Могена, помахала ему ручкой и снова откинулась на сиденье. — Красивая девка! — оценивающе заметил Бобино. — Я видел, как она по дороге целовалась со своим любезным. — Красивая… Но гулящая! — ответил Моген. — Ее мать — мамаша Башю, жена Лишамора. Мерзавка, продавшая дочь старым богачам, которые ее развратили, когда ей было двенадцать или тринадцать лет… Так-то вот… Теперь девица, кажется, живет в роскоши… кокотка высокого полета… Похоже, она здорово мстит за себя… разоряет дураков, бьет их по морде, наставляет им рога… в общем, радостно видеть! Там ее зовут Андреа Рыжая. — Слышал это имя, — заметил Бобино. — Что касается ее спутника, он мне показался… — И парень сделал выразительный жест, как будто приглаживая завитки на висках[47]. — Вы угадали, — смеясь ответил Моген. — Он иногда появляется здесь вместе с Андреа, когда она приезжает в кабачок Лишамора, чтобы позлить маменьку. Его зовут Альфред, красавчик Альфред. Ему дали здесь прозвище Брадесанду, потому что малый любит выпить на дармовщинку. — Давайте пойдем сегодня вечерком в это милое общество, отец. — Пойдем, если нужно.
ГЛАВА 22
В экипаже действительно были возлюбленная разорившегося барона Мальтаверна и ее сердечный друг букмекер Петер Фог, более известный под именем Брадесанду. После вечера, где ее появление имело такой шумный успех, Андреа не захотела возвращаться домой. Она была перевозбуждена большим количеством выпитого шампанского, и ее потянуло прогуляться куда-нибудь за город. Поехать далеко-далеко… чтобы вырваться из Парижа, повидать поля, деревья, проселочные дороги; удрать подальше от уличного шума и от людей так называемого шикарного общества. Она сказала о своем желании красавчику Альфреду и, поскольку в этот день на ипподроме не было никаких спортивных соревнований, он охотно согласился сопровождать подружку. Они позавтракали в ресторанчике, наняли двухместную легкую карету и решили проехаться к родителям Андреа. О! В этом не было ничего сентиментального. Даже простыми родственными чувствами нельзя было бы объяснить этот вояж[48] к поэтическим берегам Сены, где Морис Вандоль нашел мотив одной из лучших своих картин. Скорее всего Андреа повлекло туда чувство, подобное тому, что заставляет перелетных птиц возвращаться каждый год издалека к своему гнезду. С Рыжей плохо обращался отчим, родная мать торговала ею, но она любила уголок, где родилась и росла, как будто встречаясь там со своим ранним, еще неисковерканным детством. Еще по дороге даже пустяки напоминали ей о тех счастливых днях детства и многие обычные уголки казались красивыми, а зимний холод несказанно приятным. Они доехали до заржавленной решетки, возле нее огромные собаки чуть не разорвали Жермену. Альфред вышел первым, подал руку спутнице, и, разодетая как на бал, она явилась в грязный кабак, темный от копоти, провонявший испарениями алкоголя и заплеванный курящими и жующими табак. Старикашка с лицом, которое хотелось назвать мордой, багровый от неумеренного потребления спиртного, сидел за прилавком цвета винного осадка или засохшей крови, тупо помаргивая глазами в мелких красных прожилках, то и дело вытирая слюнявый рот и щеки, заросшие полуседой щетиной, дрожащими от пьянства руками, неожиданно белыми и довольно ухоженными. Хмельной клиент рассчитывался с хозяином, причиталось пятнадцать су. Выпивоха сказал: — Денег нет ни сантима, запиши на доску, старина Лишамор, дня через два получка, тогда расплачусь. — Как хочешь, Горжю, ты всегда аккуратно платишь, я тебе верю. Лишамор мелком на доске вывел сумму и фамилию греческими буквами! И все прочие записи были на том же языке, от тех, кто не имел университетского образования, какого удостоился Лишамор, это было надежно зашифровано. — Вот неожиданность!.. Андреа… — проговорил кабатчик пропитым голосом. — Здравствуй, Лиш! — ответила красавица. Видя, что она без отвращения подставляет ему тугие соблазнительные щеки, старый пьяница дважды со смаком их поцеловал, потом с игривой улыбочкой подмигнул красавчику Альфреду и пожал ему руку. Владелец заведения был рад неожиданному появлению таких гостей, оно произвело должное впечатление на тридцать или сорок пропойц, сидевших за столами. Андреа заговорила на языке своего детства: — Как дела, старик? Где мать? — Кормит малюток. — Каких еще малюток? Лишамор моментально прикусил язык, поняв, что проболтался. — Я спрашиваю, что за малютки? — повторила Андреа. Ей бы и в голову не пришло настаивать, если бы Лишамор не замолчал, вместо того чтобы сразу ответить. — Козочек… Хорошеньких беленьких козляточек… Она их поит из соски. — Ну и прекрасно, ты почему-то вечно из всего делаешь секреты. Минуты через две-трипришла мамаша Башю с корзинкой, где лежали глиняный горшок и две тарелки. Увидав дочь, она шумно залотошила: — Наконец-то ты приехала, моя рыженькая, моя дорогая!.. Так долго не навещала мамочку!.. — И не приносила ей денежек… хочешь сказать, старая выжига. Нечего нежничать… — Бог мой! Что такое?.. Какую сцену ты собираешься мне устроить?! — Никакой! Приготовь-ка нам матлот, да поживей. — Мигом, мигом, моя девочка, сейчас пошлю старика к рыбаку Могену. — А вот и он сам идет с каким-то типом, который обогнал нас по дороге на велосипеде. Да, скажи-ка, мам, а где твоя соска? — Какая соска? — Да та, из какой ты поишь маленьких белых козочек… Тут в зал вошли Моген и Бобино. Их удивило, как Лишамор старается заставить Андреа замолчать и одновременно подает знаки жене, чтобы та не отвечала дочери. Андреа нарочно, наперекор Лишамору, продолжала спрашивать. — Старик Лиш сказал, что ты кормила из соски маленьких козочек, а ты как будто ничего не понимаешь. У тебя в корзине горшок, две тарелки. Что же, здесь теперь кормят скотину с вилок? Моген, услышав это, многозначительно посмотрел в глаза Бобино, и тот еле сдерживал волнение. Они сели за столик, делая вид, что разговор этот вроде пустой и их никак не касается, но у обоих сердце так и билось, каждому одновременно подумалось, что они напали на след. Мамаша Башю увильнула от ответа дочери, благо был повод: заговорила с Могеном насчет рыбы для матлота. — Удачное совпадение. Я как раз подъехал к вам с товарищем на лодке, и у нас там навалом еще живых щук, карпов и угрей. Я отберу для вас самых лучших, мадам Башю, и лишнего не запрошу. Андреа знала рыбака с детства, у нее связывались с ним лучшие воспоминания. Когда она была маленькой, Моген часто брал ее в лодку и при ней вытягивал сети и верши, из них вываливалось множество трепещущих рыбин. Ловля рыбы ее очень занимала. Она подошла поздороваться, пожала руку, улыбнулась Бобино и сказала Лишамору, чтобы он поставил им выпить. Чокнулись, приветствуя друг друга, потом Моген отдал долг вежливости и в свою очередь угостил. Выпили еще по одной: Брадесанду, увидав, что Бобино не собирается ухаживать за его подружкой, перестал смотреть на него косо. Сходив к лодке, Моген принес мамаше Башю сетку рыбы. Ее было столько, что хватило бы накормить десять человек, и вся отборная; все присутствующие пришли в восхищение, и мамаша Башю, может быть впервые, не стала спорить о цене и сделала комплимент, сказав, что месье Моген никогда не просил лишнего. Андреа, любившая посидеть в славной компании, пригласила Могена к обеду, она знала его веселый нрав. Не забыла Рыжая и Бобино, улыбкой и остроумными словечками он ей очень понравился. Старуха Башю, умевшая великолепно готовить, сделала такой матлот, что от его запаха даже у моряков, избалованных рыбными блюдами, разгорелся аппетит. Уселись в углу питейного зала, сдвинув несколько столиков. Места и еды хватало человек на двенадцать, и, чтобы добро не пропало, Лишамор вежливо позвал еще нескольких клиентов кабака, самых избранных негодяев, от которых попахивало каторгой. Они не заставили долго упрашивать. Андреа пришла в восторг, изображая хозяйку дома и чувствуя себя свободно в обстановке грязного кабака, где особенно ослепительно выглядела ее блистательная красота. Она была добрая девка и ничуть не важничала, обходилась со всеми просто, даже чрезмерно просто и была щедра до расточительности. Звала Брадесанду — мой муженек, Могена — мой старик, а Бобино — мой маленький; дружески разговаривала с приглашенными, смотревшими на нее как на существо высшей породы. Ела она с прекрасным аппетитом, не испорченным зваными ужинами, пила вовсю и веселела все больше и больше. Понемножку Рыжая разнежничалась, как бывает с простыми людьми после основательной выпивки, и принялась говорить о птичках, о цветочках, о бабочках, отдавшись сусальным восторгам жительницы городских предместий. Лишамор напивался старательно. Его лицо и нос стали красными как рубин, глаза окончательно налились кровью. Ему вспомнились обрывки его педагогических знаний, он произносил слова, ученость коих повергала всех в изумление, руки перестали дрожать, язык не заплетался; в общем, он превращался в странное существо, еще более страшное и отвратительное, чем просто пьяный содержатель грязного кабака, ибо в нем проявлялись черты некогда высокообразованного, а теперь совершенно опустившегося человека. Мамаша Башю вся раскисала, по мере того как накачивалась вином, глаза ее то и дело смежались, и, поднося ложку к усатому рту, она обливалась соусом. Все говорили враз и уже переставали слушать и понимать друг друга. Брадесанду, обладавший красивым голосом, предложил спеть и завел нечто патриотическое. Ему дружно аплодировали. Андреа, делавшаяся все более и более сентиментальной, с надрывом, покачивая в такт головой, пролепетала куплет какой-то до невозможности глупенькой песенки, и пьяницы слушали, раскрыв рты и роняя слезы. Песенка называлась «Гнездо маленькой птички», и бандюги, которым не раз приходилось спокойно пырнуть ножом своего ближнего, плакали о птенчике, унесенном из гнезда кошкой, о горе несчастных пташек-родителей. Припев начинался так: «Оставьте детей их матери…» Эти слова подхватывали хором, и мамаша Башю, басистый голос которой ревел словно офиклейд[49], плакала как Магдалина о родителях, нашедших в опустевшем гнезде только несколько перышек. Андреа, гораздо менее пьяная, чем изображала, украдкой наблюдала за старухой и думала под аплодисменты, последовавшие за песней: «И эта отвратительная старая негодяйка продала меня — свою дочь!.. Она, видите ли, способна расчувствоваться!.. А мне совсем не хотелось блудить! Я мечтала со временем выйти замуж за хорошего работящего парня, я любила бы его и нарожала кучу маленьких. Но я была мила… слишком мила, наверное… и Лишамор, бывший богатый человек, мой отчим, попытался меня развратить, но потом решил, что лучше и выгодней нажиться на моей хорошенькой мордочке!..» Теперь Бобино отчебучивал что-то смешное, но песенка его не рассеяла тяжелых мыслей женщины, предавшейся горьким воспоминаниям. Она думала: «Я уверена, что мои, с позволения сказать, родители опять замышляют какое-то грязное дело. Старуха замялась, когда я спросила про маленьких козочек. Что еще за козочки, питающиеся из соски? Кто знает! Может быть, какие-то несчастные девочки, которых готовят для прихоти развратного аристократа…» Вечеринка закончилась вполне мирно, все разошлись с пожеланиями в скором времени встретиться еще раз. Бобино и Моген вернулись домой за полночь, довольные тем, что так легко проникли в центр событий. Они на все лады истолковывали темные словечки, вырвавшиеся у двух пьяниц-хозяев. Бобино был почти убежден, что «маленькие» — это Берта и Мария… Веришь всегда тому, чему хочется верить. Моген тоже надеялся, что их ждет удача. Он всей душой включился в происшествие: старик всегда стремился помочь находящемуся в беде и был готов идти на любое действие ради этого. Андреа отважно продолжала пить в компании отчима. Мамаша Башю уже давно совсем осоловела и храпела в закоулочке, а дочь зорко наблюдала за ней, желая во что бы то ни стало проникнуть в затеянную здесь махинацию. Едва забрезжил свет, Андреа встала из-за стола, как следует ополоснула лицо холодной водой и, почувствовав себя совершенно освеженной, решила: «Вместо того чтобы возвращаться в Париж, останусь здесь и все выслежу… Мне не доверяют, и потому я еще сильнее хочу знать, что же они скрывают».ГЛАВА 23
В то время, когда в кабаке Лишамора все, кроме Андреа, были погружены в сон после ночной гульбы, две хорошенькие девушки, почти еще дети, сидя в глубоком подземелье, горько плакали и по временам вскрикивали в испуге. Огромный подвал с очень высокими сводами, подпертыми толстыми столбами, ряды которых терялись в отдалении, был, вероятно, заброшенной каменоломней. Местами через узкие пробоины днем сюда проникал жалкий свет. Стены источали сырость, а с потолка падали холодные капли, монотонно шлепаясь в лужи. Одну из неглубоких ниш занимало нечто вроде убогого жилища: кое-как сколоченный топчан, на нем солома, тоненький матрасик и два одеяла; рядом две табуретки и глиняная ночная посуда. Горела свеча. Вот и все. Даже сильному духом взрослому человеку было бы тяжело здесь находиться. А совсем юные девушки в постоянном страхе, возраставшем с каждым днем, пребывали тут уже вторую неделю. Чисто одетые и хорошенькие, несмотря на запуганное выражение лиц, они сидели на краю постели обнявшись. — Берта! — иногда вскрикивала меньшая. — Берта!.. Там… Еще одна… Она бежит к нам… Я вижу ее глаза, гляди… Там… — Мария! Миленькая моя!.. Умоляю!.. Не пугайся так… Будь мужественнее! — Мне страшно! Я никогда не смогу… — Мне ведь тоже страшно… О, Боже мой! Бедняжки вскакивали и бежали в полумраке по лужам, но, испугавшись тьмы, возвращались на прежнее место. Огромные крысы вылезали изо всех щелей, жадные и смелые, они бегали по нищенской постели, искали остатки пищи и грызли их рядом с девочками. И более смелому человеку было бы тяжко переносить постоянное соприкосновение с отвратительными животными, так что легко понять, в каком неодолимом ужасе пребывали молоденькие сестры. Они горячо молили Бога о помощи, но спасение не приходило. Время тянулось невероятно долго… О наступлении ночи они узнавали по тому, что исчезали последние отблески света, проникавшие через щели в стенах. Сальная свеча сгорала быстро — огарок тут же пожирали крысы — наступала полная тьма, и девушки уже не могли спасаться от прикосновений отвратительных животных, что бегали прямо по ним и иногда кусали их. Когда настало утро, к обычным мучениям добавилось еще испытание голодом. Отвратительная женщина обычно приносила им пищу дважды в день, рано утром и вечером, когда начинало темнеть. Старуха уже давно должна была бы прийти, но ее все еще не было. Крысы, не получая пищи, которую им давали девушки, хоть на короткое время как бы откупаясь, становились все нахальнее, и бедняжкам еле удавалось их отгонять. Чтобы заглушить пустоту в желудке, узницы попили воды и снова в тревоге стали ждать. Может быть, их решили уморить голодом? За что такие несчастья выпали на долю сирот, у которых умерла мать, исчезла старшая сестра, и они, покинутые всеми, почти погибают в подземелье? Кто подумает о них? Кто встревожится оттого, что они пропали? Если бы они принадлежали к правящему классу, к семье богачей, какой бы шум подняли политические деятели, всполошилась бы пресса, была бы поднята на ноги полиция. Но ведь пропали всего-навсего две девушки из народа, из того самого народа, что поставляет трудовые руки, пушечное мясо и плоть для наслаждений. Кто думает о солдате, упавшем ничком за кустом? Кто подумает о двух девчоночках, уехавших из дома восемь дней назад и не вернувшихся?Послышался астматический кашель, затем хрипящее дыхание и звук ключа, поворачиваемого в замке. Дверь медленно открылась, скрежеща заржавленными петлями, и показалась расплывшаяся туша, одетая в юбку, покрытую жирными пятнами. Мамаша Башю, еле очухавшаяся ото сна после большой выпивки, еще более отвратительная, чем всегда, предстала перед пленницами, кашляя, отплевываясь и произнося всякие угрозы и ругательства, вооруженная острым кухонным ножом на случай, если девушки попытаются силой вырваться из подвала. Она об этом предупредила их с первого же дня: «Кошечки мои, если попробуете сбежать, я вас прирежу как цыплят, а мой муженек привяжет камни к ногам и бросит вас в Сену. Так и знайте!» Берта и Мария вполне верили и не пытались бежать. Но в этот день их терпение оказалось на пределе, они думали: лучше смерть, чем такая жизнь, и надо постараться вырваться из этого ада. Сестры готовились броситься на Башю, не обращая внимания на ее нож, скрутить негодяйку и бежать куда Бог выведет, как вдруг увидели в проеме двери прекрасную даму, смотревшую на них с бесконечным состраданием. Первым их побуждением было кинуться к незнакомке, умоляя о помощи, но та из-за спины ведьмы сделала выразительный знак, чтобы они молчали, и поспешно отодвинулась в сторону. Дама успела сделать это вовремя, потому что Башю обернулась, заметив, как девочки на что-то смотрят и выражение их лиц меняется. Старуха проворчала: — Чудно́, как будто кто-то есть сзади меня. Да и мне померещилось вроде. Пили целую ночь, голова совсем в тумане, все время что-то кажется. — И тетка, поскорее поставив около постели еду, пошла к дверям; ей повсюду мерещились странные образы, как бывает после перепоя. Захлопнув за собой дверь, она повернула в замке ключ на два оборота. Взволнованные видением, сестры бросились в объятия друг к другу. — Ты видела, Мария?.. — Да!.. Прекрасную даму!.. — Значит, и ты… А я думала, мне почудилось… — Как она красива! — И какое у нее доброе лицо! — Она подала нам знак… — Она вернется!.. Как хочется снова ее увидеть!.. Говорить с ней… Просить освободить нас. — Но дверь заперта, и она очень крепкая. — Мне кажется, что дама найдет способ проникнуть сюда. — Да! Ведь она пришла ради нас, если спряталась, чтобы старуха не увидала. Девочки принялись за еду, полные надежды на чудесную помощь неизвестной, чутко прислушиваясь и вздрагивая при малейшем звуке. Наконец свершилось! Дверь отворилась, и в проеме как сверхъестественное видение явилась прекрасная дама. — Вот она! — воскликнула Берта. — Не снится ли это нам… — Нет, мои девочки, не снится! — ответил приятный голос. — Объясните, мои милые, кто вы и почему вас здесь заперли? Ответь ты, старшая, но сначала скажите, как вас зовут. — Меня зовут Берта Роллен, а это моя сестра Мария. «Здесь в окру́ге нет никого с такой фамилией», — подумала Андреа. — Продолжай, милая. — Месяц назад исчезла наша старшая сестра Жермена, на другой день после этого попала под колеса фургона мама… Ей раздробило ноги… Их ампутировали в госпитале… И она умерла. Рыдания, вызванные тяжелым воспоминанием, заставили Берту замолчать, Мария тоже заплакала. Сердце Андреа было глубоко тронуто печальным рассказом, у нее потекли слезы. Положив руки на плечи девочек, чтобы ободрить их, она спросила: — А после что было? — После мы одни жили дома и ждали Жермену. Она не возвращалась, а к нам приехал старый священник и объявил, что наша сестричка в деревне, где поправляется после болезни и хочет нас повидать. Сказал, что может нас к ней отвезти, и мы доверились одежде кюре, его благодушному виду, поехали. Он привез нас в дом на берегу реки, где нас накормили, а потом мы уснули и очнулись в этом подвале. — И давно это случилось? — Восемь дней тому назад, мадам, — сказала Мария. Андреа слушала, и вместе с глубокой жалостью к девочкам в ней зрели возмущение и злоба против мерзавцев. Да, мерзавец Лишамор и негодяйка Башю способны на любые подлости. Ради кого они действовали? Может быть, опять в интересах старого распутника Мондье!.. Я ничего не смогу сделать для этих несчастных… Граф видит все… Знает все… Он все может. Он убьет меня без всякой жалости… Ее молчание сначала удивило сестер, потом напугало; они подумали: наверное, незнакомка ничего не может сделать, чтобы нас спасти. Андреа долго смотрела на них. Взгляд ее был так нежен, будто она вкладывала в него все тепло души. «Прекрасная дама» думала: «Из этих милых созданий сделают гулящих девок, как сделали из меня… Они такие хорошенькие… Но этому не бывать!.. Если даже меня убьют…» Девушки, ободренные ласковостью взгляда, сжали ее руки, умоляя: — О мадам, вы поможете нам выбраться отсюда?! Ведь мы умрем здесь!.. Мы никому не сделали зла… — Да, я уведу вас отсюда. К сожалению, у меня нет другой власти, кроме силы моего желания. И если там наверху есть сообщники здешних негодяев — мы пропали. Но я все-таки попытаюсь найти какой-нибудь способ… В кабак к этим мерзавцам заходят и порядочные работяги, они защитят нас. Пошли! Следуйте за мной — и чтобы бесшумно. — Мадам! — остановила ее Берта. — Одно слово, одно только слово. Я догадываюсь, что вы подвергаете себя большой опасности ради нас… Скажите ваше имя, чтобы мы знали, кого благословлять каждый день за благодеяние. — Может быть, опасность для меня даже больше, чем ты думаешь. Позднее ты это поймешь. А мое имя… Ты хочешь знать его? — Да, мадам, и сестра тоже. — Я не могу им гордиться, право. Меня зовут Андреа, а в кругу, который тебе не должен быть знаком, — Андреа Рыжая. Красавица помолчала немного, потом добавила: — Вы, наверное, подумаете, что я не заслуживаю такого презрительного прозвища, раз я способна делать добро несчастным. Нет, я кличку получила не зря, но только от людей, глубоко мною презираемых… А теперь пошли! Лишамор и старуха Башю своим шушуканьем и неловкими хитростями разожгли любопытство и подозрительность Андреа до такой степени, что ей захотелось любой ценой проникнуть в их тайну. Когда все повалились после многочасового пьянства, она только притворилась спящей и проследила, как старуха, еле очухавшись, пошла за провизией к подвалу. Прокравшись следом за ней, дочь видела, что мать спустилась затем ко входу в старую каменоломню. Ребенком Андреа играла там в прятки, поэтому смогла без труда проследовать за старухой до того места, где, как оказалось, были спрятаны девушки. Когда через приоткрытую дверь Рыжая увидала молоденьких, трогательных, хорошеньких девочек, ее охватила неистовая злоба против мерзавцев, похитивших несчастных. Она тут же решила непременно спасти их. Тогда-то она и подала знак, чтобы девочки не показали виду, что заметили ее. Те, кажется, поняли. Андреа очень ловко уложила камешек под низ двери, и, когда старуха, уходя, закрывала ее и повернула ключ, она не заметила, что дверь затворилась не совсем плотно и язычок замка не вошел в паз. Идя по лестнице, Башю ворчала: — Они опять на запоре… А этой стерве, моей дочери, хотелось сунуть нос в наши дела, она что-то заподозрила… Андреа слышала эти слова и думала: «Не будь ты мне матерью, я бы сейчас тебе такое устроила! Но хоть ты и мразь последняя и никому ничего, кроме зла, не делала и мною торговала, ты все-таки моя мать, и я не могу… Ну все равно!.. Хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним». Не желая ничем рисковать, Андреа поднялась вслед за матерью, убедилась что та ничего не заметила, посмотрела, что делается в кабаке. Там собрались четверо или пятеро. Лишамор спал, старуха принялась готовить завтрак. За столиками уже сидели Бобино и Моген, как люди, жаждавшие опохмелиться после вчерашней выпивки. Андреа подумала, что они помогут, если понадобится защитить бедняжек. И она пошла за Бертой и Марией, совершенно не зная о том, какое участие уже принимает в их судьбе Бобино.
Пока Андреа спускалась за девочками и вела их к кабаку, прошло минут пятнадцать. Первым, кого увидела Берта, входя в питейный зал, был Бобино, сидевший за столиком перед глиняной кружкой с вином. Совершенно обезумев, девочка бросилась к старшему другу, восклицая: — Жан!.. Это я, Берта… Это Мария со мной… Бобино вскочил, как будто мина разорвалась под его стулом. — Берта! Друг мой… Дорогая моя… — А Жермена? — перебила она. — Спасена… Все хорошо… пошли со мной. — Да, благодарю, мой друг, но прежде мы должны поблагодарить мадам, она была так добра и выручила нас… Андреа, радуясь, что сделала доброе дело, подошла, счастливо улыбаясь. — Хорошо, мои детки, хорошо… мы еще увидимся, а сейчас скорее уходите с вашим другом, нужно торопиться. — Надо, чтобы я дал им разрешение, — послышался грубый голос из-за спины пораженной Андреа. Она обернулась и воскликнула в ужасе: — Бамбош! Это ты, мерзавец! — Хорошими делами ты занимаешься, милая моя!.. Хозяин будет очень доволен!.. Но я не дал бы и двух су за твою голову, хоть она и очень красива. Бамбош, придя в отсутствие Андреа, сидел за столиком с Брадесанду; он подозревал, что Рыжая узнала, где спрятаны сестры Жермены, и занята их освобождением. Он выпивал, играя в карты с дружком, и встал в тот момент, когда Бобино встретился с Бертой и они благодарили Андреа. Бобино и Моген старались поскорее увести девушек, предвидя, что сейчас начнется заваруха. Они уже были у выхода, когда Бамбош закричал: — Ко мне, Брадесанду!.. Ко мне… Это приказ… Два негодяя бросились к двери, и Бамбош, вытаскивая из кармана длинный нож, крикнул: — Дурачье, я пущу вам кровь, если вы не оставите девчонок! — Мы еще посмотрим!.. — сказали Бобино и Моген, решительно заслоняя Берту и Марию.
ГЛАВА 24
Ги де Мальтаверн, уговорив швейцара пропустить его, пересек двор, намереваясь войти в пышные покои князя Березова. На его звонок к двери спустился Владислав, чтобы спровадить посетителя, нарушившего запрет. Но Ги был не из тех, кто повинуется прислуге. К тому же у него был свой план, он как раз и рассчитывал воспользоваться запретами подчиненных, чтобы вызвать князя на дуэль. Владислав очень вежливо, но решительно сказал, что князь никого не принимает и настаивать бесполезно. Ги, напротив, принялся действовать все решительнее, говоря, что уважаемый… э-э… уважаемое доверенное лицо доставит хозяину большие неприятности своим отказом пропустить к нему. — Его сиятельство велели никого не допускать, — настойчиво повторял слуга очень мягким тоном славянина, но тем не менее с определенной решительностью. — Может быть, он нездоров? — спросил барон. — Я не утомлю князя долгим визитом. — Нет, сударь, он здоров, но занят очень серьезным делом. — Во всяком случае, надеюсь, у него найдутся несколько минут, чтобы получить деньги, которые я ему должен, десять тысяч франков. — Вы можете, господин барон, передать их его сиятельству через мое посредство. — Не могу, ваш господин вправе счесть такой поступок невежливым, и будет трудно возразить. — И все-таки, господин… — Друг мой, пойми меня правильно, ты же не хочешь, чтобы князь был оскорблен. — Разумеется, не хочу. — Так вот, ты оскорбишь князя таким поступком и заставишь также меня оскорбить его. В общем, он так запутал своими словами Владислава, что тот его пропустил. Барон пошел через холл как человек, хорошо знающий дом. Выездной лакей ограничился лишь тем, что нажал звонок, предупреждая камердинера о посетителе, и Мальтаверн свободно ступил во внутренние апартаменты, сказав встретившему его слуге: — Доложите его сиятельству о моем приходе, князь ждет меня. Слуга открыл последнюю дверь и объявил: — Господин барон де Мальтаверн! Мишель Березов слышал все звонки, понял, что его запрет на посещение нарушен, и был совершенно взбешен. Как раз на это и рассчитывал барон, проявляя настойчивость. — Дорогой мой! К вам, оказывается, очень трудно проникнуть, — сказал он без всяких предисловий. — Я об этом хорошо знаю, поскольку сам отдал категорическое распоряжение никого не принимать. — Даже близких друзей… Таких как я… кто всегда имел к вам свободный доступ! — Да! — Распоряжение касается и лично меня? — Дорогой Ги, вы становитесь нескромным! — сказал князь спокойным тоном, но при этом даже губы его побелели. — Ваши слова довольно невежливы, дорогой. — А нескромных я беру за какую-нибудь часть их особы и… При этих словах князь схватил барона за кисть руки, повернул его, подвел к лестнице и добавил: — Я все еще поступаю с вами как с другом, иначе я спустил бы вас с лестницы. Надеюсь, вы сойдете с нее сами. — Князь Березов, вы ответите мне за оскорбление, которого я никак не заслужил своим поведением. — Убирайтесь, или я вас сейчас убью! — закричал Мишель совершенно вне себя. — Осторожнее, князь, осторожнее! — насмешливо произнес Ги, — вы забываете, что мы живем во Франции и принадлежим к одному кругу людей. Так вы можете обращаться только с вашими слугами… Через два часа я пришлю к вам секундантов, они переговорят с вашими, и мы встретимся в другом месте. — Черт подери! Где хотите, когда хотите и с каким угодно оружием, а пока убирайтесь вон! Добившись своего, Ги насмешливо поклонился и сказал со злобной усмешкой: — До скорой приятной встречи! Князь не ответил и пошел к Жермене, заставив себя улыбаться, чтобы у нее не возникло и тени тревоги. Жермена, ничего не заподозрив, как обычно ласково встретила его. В это время барон, спускаясь по лестнице, думал: «Он забыл о десяти тысячах франков!.. Он будет со мной драться, я убью его и получу еще столько же. Выгодное дельце!» Князь, со своей стороны, думал: «Теперь мне придется драться. Месяц тому назад это меня позабавило бы… Может быть, я даже позволил бы ему убить меня… Но теперь я должен жить, я горячо, страстно люблю самую красивую, самую честную и самую совершенную из женщин. Я буду защищаться! Необходимо скрыть от Жермены все и позаботиться об обеспечении ее жизни на случай, если произойдет несчастье». Князь пошел в свои комнаты и позвал к себе Владислава. Дворецкий хотел объяснить хозяину, как все произошло, и попросить прощения, но тот остановил его, сказав: — Незачем толковать об этом… Произошло, что должно было произойти. Завтра после полудня я, вероятно, буду драться с бароном на дуэли. — Господи! Это я во всем виноват. — Молчи и не перебивай меня. Ты поедешь сейчас к Морису Вандолю и привезешь его сюда. — Это все? Барин… — Это все, но привези его непременно. По счастью, Морис Вандоль оказался у себя. Он тут же приехал к другу, и тот сразу ему объяснил: — У меня вышла дурацкая история с этим кретином Мальтаверном, и я рассчитываю иметь тебя своим секундантом. — И правильно делаешь, — сказал Морис, крепко пожимая руку. — А кто будет вторым секундантом? — Мой соотечественник, атташе при посольстве, которого ты наверняка встречал у меня, Серж Роксиков. — Отлично. А условия дуэли? — Я оскорбил барона, и право предлагать условия — за ним. Я приму все, что он предложит. — Значит, дело серьезное? — Пустяк. Ги ворвался ко мне, несмотря на запрет, и я выпроводил его не совсем вежливо. — И это все? — Все! Тебе понятно — я хочу, чтобы Жермену не тревожили. Ее здоровью необходимо спокойствие. Нельзя, чтобы ко мне как прежде заявлялись кому вздумается и в любое время дня и ночи, отчего мой дом превращался в проходной двор… Кстати, для тебя исключение: хочешь повидать мою дорогую больную? — Благодарю, но только не сегодня. Я должен поскорее встретиться с твоим вторым секундантом. — Ты прав, ступай, и спасибо тебе от всего сердца, мой друг! Не прошло и двух часов, как лакей подал князю на подносе две визитные карточки: на одной стояло имя виконта де Франкорвиля, на другой — маркиза де Бежена. (Ввиду сложившихся обстоятельств князь отменил приказ никого не пропускать.) Мишель тут же принял двух хлыщей, явившихся с серьезными, подобающими случаю выражениями лиц. Князь приветствовал их со слегка надменной вежливостью и сказал: — Господа, догадываюсь о цели вашего визита. Ведь вы прибыли по поручению барона де Мальтаверна? — Да, князь, — ответил псевдомаркиз. — Наш друг поручил просить у вас сатисфакции[50] в связи с печальной неприятностью, произошедшей между вами. — Действительно весьма печальной, по крайней мере, в том, что касается меня… — заметил Мишель. — Этими словами вы подтверждаете согласие на дуэль? — с поспешностью спросил маркиз де Бежен. Князь добавил: — Я предоставил все полномочия моим друзьям, господам Морису Вандолю и Сержу Роксикову. Господин Роксиков живет при Русском посольстве на улице Гренобль, семьдесят девять, и вы сейчас застанете его у себя вместе с господином Вандолем. Желаю успеха. Франкорвиль и Бежен поднялись и, церемонно откланявшись, с важностью удалились. Когда они уселись в экипаж, торжественное выражение слетело с их лиц. — Ты видел, как этот северный медведь себя держал? — сказал Бежен. — Посмотрим, что получится у него. Он вроде неважно стреляет. — Тогда Ги собьет с него спесь! — И хорошо сделает! Я буду очень рад, когда один из этих иностранцев, кичащихся своим богатством, знатностью и успехом у женщин, получит хороший урок. Встреча в Русском посольстве заняла не более пяти минут. Секунданты расстались, договорившись об условиях дуэли. Художник и секретарь посольства отправились к Березову. — Так вы договорились? — спросил Мишель. — Да. Встречаетесь завтра в три часа в Багателль, — ответил Морис. — Очень хорошо. — Деретесь на шпагах. — Правильно! Чуть не забыл спросить тебя о выбранном оружии. А теперь, друзья, если хотите сделать мне большое удовольствие, отобедайте со мной. — Вы непременно хотите этого, мой друг? — спросил секретарь посольства. — Совершенно обязательно! Мы пообедаем очень легко, как полагается накануне сражения, и вы рано уйдете. Я буду счастлив, мой милый Серж, представить тебя особе, с которой Морис уже знаком, и прошу позаботиться о ней в случае, если со мной произойдет несчастье. — Хорошо! Но зачем эти черные мысли! — остановил его Вандоль. — Это не черные мысли, а нормальная предусмотрительность трезвомыслящего человека. Всегда надо предвидеть худшее. — Правильно, я с тобой вполне согласен. Истинная храбрость не исключает трезвость учета обстоятельств, — сказал Серж. У Жермены и Мориса с момента ее спасения установились дружеские отношения. Кроме того, художник постоянно навещал ее во время болезни, и она видела его у своей постели с тех пор, как стала приходить в себя. Девушка встретила его очень сердечно и также с большой приветливостью отнеслась к Сержу Роксикову, как к соотечественнику и другу Мишеля. Обед был таким, каким и следовало быть: очень хорошо приготовленным и беззаботным. Жермена ела с большим аппетитом, как водится у выздоравливающих, а трое друзей изощрялись в остроумии и сумели развеселить ее. Разошлись рано, предварительно договорившись в комнате Мишеля о завтрашнем дне во всех подробностях. В девять Мишель пожелал Жермене покойной ночи. Она ласково погладила его руку и сказала: — Желаю и вам покоя, дорогой мой большой брат Мишель! Спасибо за все ваши заботы… Я чувствую себя лучше… гораздо лучше и благодаря вам счастлива… — Доброй ночи, моя дорогая сестра Жермена, — говорил князь, целуя исхудавшую белую руку. — Вам не за что меня благодарить, это я вам всем обязан. Будьте счастливы, как вы того заслуживаете. До завтра, Жермена! В своей комнате князь некоторое время ходил взад и вперед, закурил папиросу, сел и задумался. Подумав с четверть часа, он открыл секретер, где хранил ценные документы, взял чистый лист и начал писать красивым твердым почерком, очень разборчивым, каким российский император повелел составлять бумаги всем дипломатам, военным и гражданским чиновникам.«Мое завещание Последняя воля напрасно прожившего свою жизнь человека, которому, может быть, вскоре придется расстаться с земным существованием. Завтра мне предстоит драться на дуэли с одним из моих бывших соучастников в развлечениях и, признаюсь честно, дуэль, последствием коей может стать смерть одного из нас, имеет совершенно ничтожный повод, в возникновении которого виновен только я. Если я умру, я получу заслуженную расплату за мою несдержанность и пожалею о жизни, хотя она и кажется мне тяжелой, ненавистной и в высшей степени скучной. Так как я богат, очень богат, я буду иметь счастье обеспечить жизнь единственного во всем мире существа, любимого мною. Я говорю о Жермене Роллен, живущей в настоящее время в моем доме, о той, кого моя смерть может сделать совершенно беззащитной и нищей. Молодая особа, заслуживающая всяческого уважения своей добродетельностью, мужеством и пережитыми несчастьями, не связана со мной никакими формальными узами. Но я люблю ее безмерно, хотя она не испытывает ко мне ничего, кроме дружеского расположения. У меня нет наследников, кроме совсем далеких родных, которые к тому же все очень богаты. Они унаследуют в России то, что принадлежит мне там и что я не имею права по нашим законам завещать иностранцу. Поэтому я не могу завещать Жермене Роллен свои российские владения, деньги, сокровища. Но меня утешает, что я имею полное право оставить ей мой дом в Париже на авеню Ош со всем находящимся в нем имуществом: мебелью, произведениями искусства, украшениями, богатой конюшней, экипажами и т. д. Четыреста тысяч франков во французской валюте, находящихся в моем домашнем сейфе, и еще девяносто четыре тысячи франков золотом и ассигнациями. Сумма в размере четырехсот девяносто четырех тысяч франков получена мною в результате займа в банке «Апервейер и Кº», законно гарантированного моим имуществом в России. Эти деньги я также завещаю Жермене Роллен, что позволит ей дать приданое ее сестрам Берте и Марии и помочь основать собственное дело Жану Роберу Бобино. Я хочу, чтобы последний сочетался браком с Бертой Роллен и назвал своего первенца в мою память Мишелем. Мои два друга, Морис Вандоль и Серж Роксиков, будут моими душеприказчиками. Прошу их принять на память обо мне мое оружие и мои драгоценности и разделить их между собой. Моему верному слуге Владиславу завещаю подмосковное имение на р. Клязьме. Владислав сумеет сделать его более ценным, хотя оно и теперь приносит доход больше шестидесяти тысяч рублей серебром в год. Ведя бесполезную жизнь, я поощрял к безделью других. Это я понял, к сожалению, очень поздно, чтобы иметь время исправиться; понял, что человек не создан для того, чтобы бессмысленно тратить деньги, заработанные тяжелым трудом других. Но сейчас не время философствовать и строить теории, и я кончаю мое завещание следующими словами: Я умираю, исповедуя православную христианскую веру, которой всю жизнь был привержен. Прошу прощения у людей, для которых не сделал ничего полезного, и молю Господа простить мне, что я так бессмысленно прожил жизнь, дарованную Создателем. Написано в Париже 6/18 ноября одна тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.Он спокойно перечитал написанное, нашел, что слишком холодно сказал обо всем, касающемся Жермены, подумал было переделать, потом решил, что все главное выразил. «Завещание обеспечивает независимость женщине, которую я люблю, — размышлял Мишель. — И это самое важное. А теперь надо употребить остаток ночи, чтобы как следует выспаться. Кто знает! Может быть, это моя последняя ночь». Князь позвонил камердинеру, тщательно совершил свой туалет, лег, взял книжку, прочел страниц пятьдесят и спокойно уснул, так, как будто ему не предстояла завтра схватка с опаснейшим дуэлистом Парижа.Мишель Березов».
Русский встал бодрым и свежим, когда было уже светло. С аппетитом позавтракав, он велел заложить ландо, сказал, что уезжает часа на два по делам, позвал Владислава и просил быть особенно внимательным к Жермене. У мужика глаза были заплаканы и лицо осунулось. Дворецкий плакал всю ночь, считая себя виноватым в предстоящей дуэли. Князь утешал его с бесконечной добротой и на прощание пожал руку как равному. Увидав, что секунданты стоят у его подъезда, Мишель пошел навстречу, предложил сесть с ним в ландо, так, словно им предстояла прогулка в Булонский лес[51]. Поехали медленно, впереди было достаточно времени, чтобы не опоздать. — А как Жермена? — спросил Морис. — Она ничего не подозревает. Кстати, вот мое завещание, вы с Сержем его исполните в случае моей смерти. — Принимаю конверт со всем, что в нем содержится, но с надеждой вернуть его тебе нераспечатанным. — Почему нет с нами врача? — заметил Серж. — Доктор Перрье должен быть на месте встречи одновременно с нами, — отвечал Морис. Без четверти три они подошли к постоянно полуоткрытой калитке двора пустующего богатого особняка сэра Ричарда Уоллеса; в эту калитку часто входят маленькие группы мужчин, одетых в черные костюмы, чтобы обменяться ударами шпаг или пистолетными выстрелами. Привратник пускает их за умеренную плату во двор, окруженный высокими стенами, где они могут свободно убивать друг друга, не опасаясь досадного вмешательства полиции, всегда готовой сорвать мзду с нарушителей закона. Друзья приехали первыми. Вслед за ними в экипаже, запряженном взмыленной лошадью, примчался доктор Перрье и потом явился Ги де Мальтаверн со своими секундантами и своим доктором. Сторож проводил восьмерых на укромную площадку, посыпанную песком, здесь Ги в прошлом году убил молодого человека — наследника знатной и богатой семьи. Сторож, бывший сержант гвардии с медалями за службу, глазами знатока смотрел на поединки, испытывая истинное наслаждение, когда видел, как один из дерущихся ловким ударом шпаги повергает противника на песок. Отставной сержант видел Ги на поединках уже раза три и подумал, что противнику его туго придется с таким бойцом. Секунданты поручили бывшему гвардейцу нести на место дуэли оружие князя и барона, и тот, гордо подняв голову, исполнил ответственное дело. Затем он вынул шпаги из ножен и держал их попарно под правой и под левой рукой как человек, хорошо знакомый с дуэльными правилами. Морис и Франкорвиль разыграли в орел или решку, кому руководить схваткой. Жребий выпал на Мориса. Кинули жребий во второй раз: кому выбирать оружие. Досталось Франкорвилю. Следовательно, соперники должны были драться на шпагах Мальтаверна. Это давало ему большое преимущество, ибо таким образом барон получал оружие, с которым его рука свыклась. Пока шли приготовления к дуэли, Ги де Мальтаверн и Мишель Березов спокойно курили. Первый — гаванскую сигару, второй, как всегда, — русскую папироску. Оба держались совершенно спокойно, так, как будто бы их не касалась предстоящая драма. Вандоль сравнил длину шпаг, и, поскольку они оказались совершенно одинаковой длины, Морис был готов отдать Мишелю свою, а Франкорвиль свою барону. Соперники сбросили верхнюю одежду и собирались принять оружие, но тут вмешался доктор Перрье. Он открыл пузырек с карболовой кислотой. — Минуточку, господа, подождите, пожалуйста, — сказал он секундантам. — Разрешите мне продезинфицировать оружие. Доктор смочил карболкой пучок корпии[52] и тщательно протер им лезвия. — Теперь они обеззаражены, и раны, нанесенные ими, будут чистыми и скорее заживут. Тогда вот Мишель и Ги почувствовали волнение, которое испытывают все готовящиеся к сражению, даже самые храбрые. Морис развел соперников на должное расстояние и, быстро отойдя в сторону, скомандовал: — Начинайте, господа!
ГЛАВА 25
А в кабачке Лишамора развертывалась другая драма. Андреа, не ожидавшая, что Бобино встанет на защиту девочек, и, видя, что завязывается поножовщина, старалась заставить своего ухажера, красавчика Альфреда, не подчиниться команде Бамбоша. Она крикнула, подбежав к группе, где стояли Бобино, Моген и девочки: — Альфред, не вмешивайся не в свое дело! Выпусти девочек! Слышишь, что я говорю! Брадесанду заколебался, но взбешенный Бамбош злобно потрясал оружием и кричал: — Шеф скрутит тебя в веревочку… слушайся… черт тебя подери! А с тобой, Рыжая, будут другие счеты… отойди, а то я тебя пырну! Моген был безоружен, Бобино подал ему пистолет князя, сказав: — Стреляйте, только если положение станет безнадежным. Тут шесть зарядов, они могут нас спасти. Бобино — с черкесским кинжалом у пояса — держался спокойно, как будто ему предстояла забавная игра. Он сказал Андреа: — Вам угрожают, мадам, идите сюда, к нам. — Мадам, пожалуйста, наши друзья вас защитят, ведь правда, Жан? — звала и Берта. Вне себя от злости Андреа кричала: — Благодарю вас, мои милые, но я не боюсь этой падали! У вас оружие… Ударьте по ним смело! Я тоже буду действовать! Она схватила бутылку и бросила в лицо Бамбоша. Тот увернулся, посудина разбилась о стену. Полетели вторая, третья литровки; одна ударила Бамбошу в руку, выбив нож. Бобино, великодушный до наивности, видя противника беспомощным, спрятал свой кинжал в ножны и сказал: — Знаешь, парень, не дури, пропусти нас, и чтобы без подвоха, а то я тебя сломаю как спичку! А вы, папаша Моген, глядите в оба и первому, кто полезет к нам, размозжите башку. Брадесанду, увидав у рыбака револьвер, пробормотал: — Ножичек — куда ни шло, но пистолетик — это похуже… — Смелей, Брадесанду!.. Смелей, Лишамор, и ты, мамаша Башю… действуйте!.. — подзадоривал Бамбош. Он, уверенный в своей силе, ловкости и умении драться, приготовился к страшному бою ногами. Наклониться, чтобы поднять нож, он боялся, зная, что может получить башмаком в морду. Подготовка к схватке завершалась. Лишамор вооружился вилами, Башю — резаком, Андреа — опять бутылкой. Парни явно собирались обойтись без ножей. Бобино — среднего роста, худощавый, с тонкими чертами лица и маленькими усиками, выглядел восемнадцатилетним юнцом. Но руки и ноги его казались стальными, плечи были широки, бедра узки. Необычайно подвижный и горячий он был одновременно и очень сильным — мог свободно нести груз в пятьсот фунтов. Бамбош, более коренастый, казался крепче его, был очень уверен в своей мощи и ловкости; он отличался жестокостью, для него убить человека было все равно, что раздавить жука. Драка между такими противниками обещала стать беспощадной. Начал ее Бобино, зная, что первый удар всегда сильно действует на противника, дает ему почувствовать, с кем имеет дело. Крепким точным движением он саданул Бамбоша ногой в бок. Тот взвыл, но тотчас оправился и весомо ответил; Бобино парировал. Удар следовал за ударом. Бамбош норовил использовать какой-нибудь предательский воровской прием, такой, что сразу калечит противника или убивает его. Но Бобино в это утро был ловок как бес, упреждал все хитрости и сам жестоко разил противника, чьи силы начали истощаться. Сталоказаться, что обыкновенный парижский парень вот-вот измотает врага вконец и, возможно, добьет. Видя, что скоро его одолеют, Бамбош отскочил и крикнул глазевшим из-за столиков пьяницам: — Сто франков каждому, кто поможет мне хотя бы вышвырнуть вон этих типов. — Как, заплатишь, Лишамор? — Да заплачу… Надо их выкинуть… Бамбош прав. Пятеро пропойц переглянулись между собой, договорились и встали на подмогу. Андреа попробовала оттащить Брадесанду в сторону, но тот заорал: — Катись ты к… Не мешай… Я не хочу, чтобы шеф меня изничтожил, я за Бамбоша, и смерть чужакам! — Подлецы! Трусы! Семеро против двоих! — кричала в негодовании Андреа. — Хоть я только женщина, но сделаю что смогу! Она бросилась к Лишамору, выхватила у него вилы и держаком так хватила старика, что тот упал, заливаясь кровью. Затем вернулась к красавчику Альфреду и, направив вилы ему в лицо, сказала: — Дрянь, паршивец, я с тобой спала, а ты на моих друзей прешь, да еще с ножом!.. Вот я сейчас причешу твою морду! Брадесанду, боясь, что она сейчас и впрямь выколет ему глаза, поскорее отступил. Вдогонку Андреа саданула бывшего любовника вилами в зад. Потрясая своим оружием, она кричала: — Еще один выбыл… Кто следующий?! Но дверь все еще оставалась недоступной для Бобино и девушек. Бамбош сплотил возле выхода нанятых пьяниц и сам, подняв наконец свой нож, встал у порога, измученный и обозленный, с твердым намерением покончить дело. Наемники его, за неимением ножей, хватали бутылки и швыряли в Могена и Бобино. Могену угодило в голову, он пошатнулся и чуть не упал. В ответ он пальнул из пистолета, но, не умея толком пользоваться им, слишком резко спустил курок, отчего ствол вскинуло кверху и пуля лишь разбила стекло скверно намалеванной картины на стене. Однако выстрел с дымом и огненной вспышкой испугал пьяниц, они попятились. Такие типы охотно хватаются за ножи, но боятся огнестрельного оружия. Бобино воспользовался их замешательством и, выхватив из ножен кинжал, подскочил к двери. Один из пропойц подставил ему предательскую подножку. Но типограф не растерялся, упав на одно колено, он оперся о землю рукой, развернулся и наотмашь полоснул негодяя кинжалом. Тот рухнул с распоротым брюхом. Кишки вывалились. Берта и Мария закричали при виде такого ужасного зрелища. — Браво, малыш! Здорово вдарил… Ты настоящий мужчина! — крикнула Андреа. Рыбак снова выстрелил, случилась осечка, и он в досаде заворчал: — Черт побери! Точно меня околдовали. Бобино едва успел подсказать: — Стреляй понизу… по коленкам! — как к ним обоим с поднятым ножом и с табуреткой вместо щита подскочил Бамбош. Его поддерживали четверо наемников, и храбрецы чуть было не оказались подавленными численным превосходством противника. Берта, видя, что друзья в опасности, забыла о страхе и принялась кидать во врагов осколки бутылок, не думая о том, что может порезать себе руки. Она крикнула сестре: — Делай как я, а то мы пропали! И Мария повиновалась. В кабаке творилось нечто неописуемое: раненный вилами в зад Альфред орал громче всех, пьяница с распоротым животом хрипел, старуха Башю клохтала над Лишамором, стараясь привести его в чувство, летели бутылочные осколки, грохотали опрокидываемые столы. Рассвирепевшая Андреа, восхищенная и растроганная храбростью девушек, кричала им: — Браво! Мои миленькие, вы прямо душки!.. Моген снова выстрелил два раза подряд и произвел великий грохот. Совет Бобино оказался правильным. Пуля попала в одного из пьяниц, и он взвыл, тряся окровавленной рукой. Осколком бутылки Бамбоша ударило в глаз, он выронил табуретку, Бобино подхватил ее и со всей силы треснул противника — тот повалился. Вот тогда Андреа, воспользовавшись замешательством врагов, подбежала к двери, открыла настежь и крикнула девочкам, Бобино и Могену: — Бегите скорее! К радости своей, они увидели, что на улице уже совсем светло. — Ты права, дочь моя, — сказал рыбак. — Скорее к лодке! — А как же вы, мадам? — спросил Бобино у Андреа. — Обо мне не беспокойтесь! Со мной здесь не сладят. Торопитесь! Переговариваясь, Бобино, Моген, Берта, Мария и Андреа выбежали на дорогу, а затем, перейдя через нее, — и к берегу, где покачивалась привязанная лодка. Побежденный Бамбош в бешенстве утирал кровь, лившуюся по лицу, ругался последними словами и, сжимая кулаки, грозил: — Мы еще встретимся! Я тогда по кускам сорву все мясо с костей этого гада! А с проклятыми девчонками сделаю еще похуже! Клянусь! Слово Бамбоша! Пока Моген отвязывал лодку, Бобино уговаривал Андреа ехать с ними. — Спасибо, месье, но, уверяю вас, они ничего не могут мне сделать. — Скажите, по крайней мере, где мы сможем с вами встретиться. Подобная услуга достойна бесконечной благодарности, и мы всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами, мадам. — Спасибо! Понимаю, вы из тех, кто не забывает добро. Если хотите сделать мне приятное, так пусть девочки меня поцелуют. И я буду вознаграждена даже больше, чем следует. — О мадам! — И девушки бросились обнимать и целовать грешницу. Она заключила их в объятия, и лицо ее просияло. Женщина прошептала: — Все-таки хорошо, когда делаешь что-то порядочное. Прощаясь с обоими мужчинами, Андреа сказала: — А живу я на улице Курсель… Если понадобится, смело приходите. Я пользуюсь некоторым влиянием, и, если вам будут досаждать, я помогу… С Богом… Рыжая смотрела, как поплыла по тихой реке лодка, и видела, как улыбались друг другу Берта и Бобино, держась за руки, и была счастлива их счастьем. Она думала: «Сегодня же вечером уеду в Париж, вернусь к обычной жизни, — увы! — единственно возможной для меня. Я не могу делать ничего другого… И у меня, наверное, не хватит мужества захотеть научиться… Ах!.. Если бы кто-нибудь меня любил!»Два часа спустя Бобино, Берта и Мария сели в поезд, сдав в багаж дорогой велосипед. В Париже они наняли извозчика и поехали в дом князя Березова. Они приблизились к воротам, когда лошади тихим шагом ввозили во двор ландо. Хотя Бобино ничего не знал о дуэли князя с бароном де Мальтаверном, его охватило предчувствие несчастья.
Как только Вандоль сказал: «Начинайте, господа», противники сделали выпад. Мишель Березов произвел его очень элегантно, в классическом стиле, не горячась, но уверенно, и опытный сторож подумал: «Молодой человек знает приемы, а огромный рост дает ему определенное преимущество». Старый дуэлист, искушенный в хитростях боя, Ги де Мальтаверн начал, отступив и вытянув вперед руку, и бывший инструктор фехтования удивился: «Черт возьми! Какой странный маневр». Князь увидел, что барон поставил себя вне досягаемости, и, еще не горячась, стал атаковать противника. Ги, тоже совершенно спокойно, словно они тренировались в спортивном зале, отразил атаку прямым ударом. Мишель направил шпагу прямо в лицо противнику, тот отклонился всем корпусом. «Странная у барона мето́да», — подумал сторож. Как человек предусмотрительный, Мальтаверн почти никогда не фехтовал со знакомыми, чтобы не открывать своих секретов, поэтому они оставались никому не известными. Но он был истинным фанатиком и ежедневно занимался дома со старым армейским инструктором, а после уроков упражнялся один в разных хитрых приемах подобно тому, как скрипач-виртуоз ежедневно играет упражнения на скрипке. Ги стал настоящим виртуозом боя холодным оружием. Князь Березов, годами гораздо моложе Мальтаверна, разумеется, не мог иметь его опыта. Он фехтовал хорошо только потому, что, как все люди его общества, занимался разными видами спорта. С первого взгляда можно было бы подумать, что сошлись бойцы равной силы, какое-то время и секунданты и доктор так и полагали. Ги скрывал свою игру, действуя как бы очень просто, для того чтобы в решительный момент нанести смертельный удар. Надо сказать, что он был необычайно вынослив и двигался с большой скоростью и легкостью благодаря своей худобе и натренированности. А очень высокий, атлетически сложенный, с мощной мускулатурой князь утомлялся быстрее, чем его противник, у которого каждая мышца была как пучок скрипичных струн. Сначала Мишелю не приходило в голову, что с ним ведут хитрую игру, стараются ослабить его внимание, чтобы уловить удобный момент для последнего удара. Березов обманывался хитрыми маневрами барона и раз за разом, безрезультатно нанося мощные удары, разгорячался, несмотря на свежесть воздуха, и лоб его покрылся крупными каплями пота. По условиям дуэли непрерывный бой продолжался не более пяти минут. В конце этого срока Морис объявил остановку, подняв палку. Бойцы опустили шпаги в ожидании команды о возобновлении борьбы. Через две минуты Вандоль скомандовал: — Продолжайте, господа! Видя неуязвимость барона, Мишель стал действовать осмотрительнее, тем более что чувствовал, как начал всерьез утомляться. Пять минут — в общем, небольшой срок, но он долог, если в течение всего этого отрезка времени человек непрерывно с силой атакует; особенно если действовать приходится в городской обуви и на площадке, покрытой песком, а не на дощатом полу. За двухминутный перерыв Мишель почти не отдохнул, а Ги начал лишь чуть-чуть быстрее дышать. Но оба оставались пока без единой царапины. Барон начал атаковать, но очень осторожно, все время обманывая противника и секундантов как бы нечаянными промахами. Только старый солдат, наблюдая за боем, замечал неладное и думал: «Странно, этот атакует как ученик, а отражает удары на уровне самого опытного фехтовальщика, а другой теряет силы в атаках и не замечает, что все его удары немедленно парируются. Честное слово, надо быть очень искусным бойцом, чтобы действовать по видимости неумело, а на самом деле так опасно. Но чего он добивается? Похоже, что хочет вконец измотать противника, чтобы потом убить». Князь все больше выдыхался, его атаки замедлились и движения стали тяжелее. Может быть, он уже понимал, что барон ведет с ним хитрую игру. Морис Вандоль и Серж Роксиков нервничали. Первый был хорошим фехтовальщиком; не понимая всех хитростей барона, он чувствовал неладное и очень волновался за друга. Вскоре взгляд барона стал пристальным и неподвижным, он сжал брови, стиснул зубы, и на лице мелькала иногда нехорошая улыбка. Кончалась четвертая минута боя. Вандоль смотрел на часы, и сердце его сжималось от страха за друга, но до перерыва оставалось еще шестьдесят секунд. Мишель думал. «Этот человек спровоцировал меня на дуэль, хотя формально виноват, конечно, я. Да, но люди нашего круга не ведут себя столь бесцеремонно, он ведь буквально вломился ко мне в дом… А фехтует бесподобно… Он сейчас играет со мной… с намерением убить. Но кому он служит этим? Мондье… Это рука графа Мондье, а этот лишь шпага… Жермена!.. Возлюбленная моя!..» Мысли, которые здесь так пространно изложены, проносились с невероятной быстротою и с необычайной ясностью. Князь вспомнил монахиню, отравленную вместо него, вспомнил выстрел в окно, когда был в комнате Жермены, и сейчас видел перед собой Ги де Мальтаверна, человека бесчестного, способного на любую подлость. Видел его сатанинскую улыбку за гардой[53] его шпаги. Чувство усталости охватывало князя сильнее по мере того, как правда яснее вставала перед его мысленным взором. Душа Мишеля как бы раздвоилась. Ему представилось, что он около своей возлюбленной, она смотрит ясными глазами и говорит мелодичным голосом, звук коего приятнее самой сладостной музыки. И в то же время русский видел перед собой лицо великосветского убийцы, намеренного покончить с ним по всем правилам дуэльного кодекса. Вдруг Березов ощутил сильный холод в груди около сердца, заметил Мальтаверна совсем близко, увидел взъерошенные усики обозленного кота, руку, сжимающую эфес, в нескольких сантиметрах от его собственной груди, почувствовал, как острие шпаги входит в легкое, минуя ребра, и касается сердца. Морис Вандоль, Роксиков и доктор Перрье бросились к Мишелю и поддержали его, а сторож ворчал втихомолку: — Вот вам чисто обделанное убийство! Будь я на месте этого бандита, я ранил хотя бы в плечо, в руку… Мишель не падал, но чувствовал, как постепенно, потихоньку все в нем замирает; он думал, что это конец, и он больше не увидит Жермену. Горячая сладковатая жидкость наполнила ему рот, и он сплюнул кровью. У него еще хватило силы взять за руки Мориса и Сержа и сказать: — Завещание!.. Жермена!.. Прощай!.. Затем он побледнел, вздрогнул и замер в неподвижности. Тогда Ги, который хладнокровно, с дьявольской хитростью подготовил убийство и нанес смертельный удар обессилевшему сопернику, зная, что действует наверняка, подошел к доктору Перрье. Разбойник изобразил на лице огорчение. Он пробормотал тихо, как будто впал в большое горе: — Господа… Ведь все произошло в установленных правилах… — Да, месье, — сказал с горьким чувством Морис. Ги продолжал: — Я страшно огорчен… Прямо в отчаянии… Бедный Мишель… Друг… Никогда не можешь быть хозяином своей шпаги… Доктор, я надеюсь, он выздоровеет?.. Никому не пришло в голову, что под видом сочувствия и сожаления по поводу нечаянного удара скрывается злобное торжество наемного убийцы. — Я еще не знаю, месье, но надеюсь и, во всяком случае, сделаю все, что будет в моих возможностях, — сказал врач. Ги поклонился, его секунданты тоже раскланялись, и они направились к экипажу. Граф Франкорвиль и маркиз Бежен торжествовали. Едва сели в ландо и лошади побежали, оба кинулись поздравлять барона. Как все светские люди, охочие до скандала, они предвкушали, что за шум поднимется в газетах и создастся лично для них реклама по поводу сенсационной дуэли.
А там, на поле боя, два врача старались помочь раненому, состояние его казалось безнадежным. Князь был без сознания и бел как мрамор. Мишеля тихонько положили на землю навзничь, и доктор Перрье осторожно извлек из раны шпагу, она пронзила грудь насквозь и вышла сзади на десять сантиметров. Спереди виднелось отверстие размером раза в два больше укуса пиявки, оттуда вытекло немного розоватых капель. Такая рана гораздо опаснее страшных на вид широких кровавых полос от сабельных ударов. В таком случае, как у Березова, могло произойти мгновенное смертельное внутреннее кровоизлияние. Перрье пощупал пульс, нахмурился и сказал коллеге: — Надо немедленно сделать подкожное впрыскивание эфира. Он достал из походной аптечки шприц и пузырек с притертой пробкой, наполнил цилиндр эфиром и, быстро воткнув иглу в верхнюю часть бедра, сделал впрыскивание. Почти сразу князь приоткрыл глаза, и в них промелькнул проблеск сознания. Он хотел что-то сказать, но кровь потекла изо рта. Вандолю, совершенно подавленному и не менее бледному, чем его друг, показалось, что Мишель произнес имя Жермены и одновременно из последних сил пожал руку Мориса, как бы напоминая, чтобы он не оставил девушку. — Не говорите! Не напрягайтесь! — решительно приказал доктор. — Сейчас отвезем вас домой… — Дайте мне силы, чтобы увидеть ее, — прошептал раненый доктору Перрье. — Не только чтобы увидать, но чтобы жить с нею долгие годы, — сказал доктор, показывая жестом, чтобы князь молчал. Мишель грустно улыбнулся, будто хотел сказать, что не верит надежде доктора. Он думал: «Через пять минут я умру». Оба секунданта предположили то же самое, и привратник сада в подобном не сомневался. Ему было жаль красивого молодого человека, но он считал, что такая смерть для мужчины прекрасна. Предотвратив с помощью инъекции мгновенную смерть, часто наступающую после такой травмы, доктор приступил к перевязке. Сделав два тампона из ваты, пропитанной раствором карболки, доктор приложил их к входному и выходному отверстиям раны, сверху сделал компрессы и закрепил все бинтом. Потом Мишеля одели и осторожно положили на сиденье в ландо. Доктора́ сели на противоположную скамейку, а секунданты поехали на упряжке врача, и оба экипажа тихонько двинулись к дому князя Березова. По дороге медик все время держал руку на пульсе Мишеля и, почувствовав его ослабление, сделал вторую инъекцию, заменив эфир кофеином, сказав: — Если опять случится обморок, придется снова ввести эфир. Исключительно крепкий организм больного позволяет применять большие дозы. Мишель снова как бы ожил, порозовел, глаза заблестели, и он даже захотел сесть, но доктор решительно удержал его и сказал строго: — Хотите умереть, тогда делайте то, что я запрещаю. — Вы даете мне жизнь, — еле слышно прошептал князь и прибавил умоляюще: — Перрье… Друг мой… Еще раз… Укол… — Нет, князь, мой дорогой большой ребенок, погодите! — строго сказал врач. — Обещаете вы… довезти меня… еще живого… — Клянусь в этом! — сказал доктор, очень взволнованный, несмотря на видимое спокойствие. — Спасибо!.. Увидеть ее в последний раз… и умереть… — Как можно позже!.. А теперь молчите! Иначе я ни за что не отвечаю. Впрыскивание кофеина сразу после инъекции эфира возымело гораздо более сильное и длительное действие. Во время переезда пульс оставался хорошим и, несмотря на большую слабость, больной дышал свободнее. Жизнь висела на ниточке, но все-таки он жил. Ландо, ехавшее теперь по приказанию доктора быстро, снова замедлило ход и свернуло в ворота дома Березова именно в ту минуту, когда к ним подъехал экипаж, где сидели Бобино и сестры Жермены. Их извозчик остановился одновременно с ландо и с экипажем секундантов Мишеля. Бобино быстро соскочил наземь и, подойдя к ландо, увидел князя, совершенно бледного, неподвижно лежащего на сиденье, и напротив него двух незнакомых ему людей. Подавив невольный крик ужаса, юноша обратился к старшему из спутников, на чьей груди он увидел ленточку ордена Почетного легиона, сказав: — Месье, князь удостоил меня своей дружбой… Я везу ему приятное известие… Я так спешил… — Мой друг, — сказал Перрье, — если известие хорошее, так сообщите его князю. Он ранен, и приятная новость поможет ему лучше всяких лекарств. Тогда Бобино сказал: — Князь, месье Мишель, вы узнаете меня? При звуке этого голоса, такого молодого, звонкого, с чисто парижской интонацией, Березов слабо улыбнулся и прошептал: — Бобино!.. А девочки… Где они?.. — Спасены… Свободны… Я их привез… Они здесь, в экипаже… Огромная радость осветила лицо русского, и, несмотря на запрет доктора, он сказал: — Спасибо, друг! Жермена будет счастлива, и я смогу умереть спокойно. — Умереть!.. Это мы еще посмотрим!.. Мы вас выходим… Правду я говорю? — обратился Бобино к доктору, предлагая помощь, чтобы перенести раненого в дом. Увидав Берту и Марию, таких миленьких, таких испуганных и смущенных, князь снова улыбнулся. Девушки, видя столь красивого, доброго и как будто умирающего человека, совершенно онемели и готовы были расплакаться. Прибежали слуги, людей собралось более чем достаточно, чтобы доставить князя в его покои. С присущим ему тактом Бобино понял, что надо пойти вперед и повести девушек поскорее к Жермене, чтобы смягчить неожиданным счастливым свиданием предстоящий тотчас тяжелый удар. Бобино в двух словах объяснил это князю, и тот счастливо улыбнулся, несмотря на то, что ему казалось, будто он умирает, и в знак согласия кивнул. Ведя за собой девушек, Бобино поднялся в первый этаж и направился через анфиладу прямо к спальне Жермены. Тихонько приоткрыв дверь, он увидел больную сидящей на постели и сказал: — Жермена! Приготовьтесь к большой радости и одновременно к трудному известию! Берта!.. Мария… обнимите вашу сестру!
ГЛАВА 26
При виде сестер Жермена так обрадовалась, что даже не обратила внимания на слова Бобино о скверном известии. Радость настолько потрясла ее сердце, что это было похоже на страдание. Она заключила в объятия сестренок и зарыдала, не в силах вымолвить слова. Первое, что смогла выговорить Жермена, было: — О мама!.. Наша бедная мама!.. И теперь уже все трое заплакали. У Бобино тоже текли слезы, он не стыдился их. Юноша, не имевший родной семьи, понимал, какую утрату понесли девушки со смертью чудесной женщины, любящей и мужественной. Прожив несколько месяцев в близкой дружбе с девочками, он видел, как хорошо мадам Роллен воспитывает дочерей, уча их труду — главной добродетели человека, и какие сокровища любви кроются в ее сердце. Он искренне оплакивал ее, проявлявшую к нему материнскую заботу и нежность. Несколько минут прошло в этих общих излияниях души, одновременно и горьких и сладостных. — Мы никогда больше не расстанемся с тобой, правда, Жермена? — говорила Мария, нежно обнимая старшую сестру. А Берта, держа руку Бобино, благодарила: — Ты дал нам счастье… Мы этого никогда не забудем! — Нет, моя дорогая, — сказала Жермена, — нет, мы никогда не расстанемся, князь мне сказал… Жермена вдруг осеклась и спросила: — Но где же он, почему его нет с нами?.. Он должен быть здесь… Это ему мы всем обязаны… Ведь правда, Жан? — Да, да! Мы ему всем обязаны, и я тоже каждый день благословляю его! — Где он?.. Он уходил из дома… А теперь слышно, как подъехал экипаж, наверное, он вернулся, — наперебой говорили сестры. Бобино опустил голову, мучительно думая, как ему поосторожнее рассказать о случившемся. Наконец, не выдержав, он, как говорится, зажал сердце в кулак и выпалил: — С ним произошел несчастный случай… — Ох, Господи!.. — К счастью, не очень серьезный… — Что с ним?! Он умер?.. — Нет! — Поклянитесь мне в этом! Поклянитесь! — воскликнула Жермена совершенно вне себя. — Я только что говорил с ним. — Так он ранен?! Послышались шаги. Это несли князя. Жермена, конечно, хотела немедленно узнать правду и, поверив в свои силы, попросила Бобино: — Друг мой, выйдите на минутку, я должна одеться, чтобы идти к нему. — Что вы задумали? Разве вы в состоянии?! — Да, в состоянии. Мое место там… около него. Это его сейчас пронесли… раненого… может быть умирающего!.. Я буду за ним ухаживать, я его выхожу… спасу. Пожалуйста, делайте, что я вам сказала. Бобино послушался и пошел к двери, где едва не столкнулся с доктором. Жермена чувствовала к врачу бесконечную благодарность, очень его любила и доверяла ему, но она не оставила своего намерения и сказала Перрье: — Я узнала, что с князем произошло несчастье… — Дитя мое, успокойтесь, прошу вас! — сказал врач, встревоженный видом ее горящих глаз и покрасневшего лица. — Но я хочу за ним ухаживать! — Вы будете за ним ухаживать, вы его увидите. — Сейчас, сию минуту! — Не сию минуту, а после перевязки. — Вы мне позволяете? — Даю в этом слово! Позволяю. Он и сам то и дело просит о встрече с вами, и лучшее, что я могу сделать, — это позволить вам увидеться, но только на минуту. — Но я ни на сколько не хочу его оставлять, ни днем, ни ночью. — Вы будете делать то, что я вам скажу, что велит здравый рассудок. — Но мой долг требует… — Вы ведь верите мне? — О да! Вполне верю и благодарна вам за все! — Так вот, вы сможете видеть его когда захотите, но при условии… Не переутомляться самой и не утомлять его. Кроме того, ему вообще можно видеть только самых близких, нужен полный покой. Эти милые крошки помогут ухаживать за ним. — …Мои сестры, доктор… — Я знаю их историю… Они останутся с вами. — Доктор! Ради Бога! Скажите только!.. — Спрашивайте, дитя мое. — Что с ним? Перрье, видя, что Жермене можно сказать правду, не счел нужным скрывать ее. — Он получил ранение шпагой. — Он дрался на дуэли?.. С кем? — спросила она, и сердце ее сжалось. — С бароном де Мальтаверном. Светский человек, вам не известный. С проницательностью, свойственной женщинам, Жермена подумала: «Может быть, через него действовал тот бандит!» — Так вы будете меня слушаться? — Да, доктор. — Итак, через час вы увидите князя. Доктор возвратился к больному, напомнил, как он должен себя вести, и взял обещание слушаться. Когда прошел час, показавшийся обоим молодым людям нескончаемым, Жермена поднялась с постели и, опираясь на сестер, добралась в спальню Мишеля. При виде той, кого он так любил, Мишель вдруг покрылся румянцем. Князю хотелось протянуть руку, поговорить… Но доктор не напрасно остался при встрече. Он сделал повелительный знак и сказал: — Князь Мишель! Я велю вам не делать ни малейшего жеста и не произносить ни одного слова! Если хотите жить — слушайтесь! Князь вздохнул и показал глазами, что покоряется. Жермена сказала: — Мне хотелось поскорее показать этих девочек их благодетелю… Они вместе со мной будут вашими сиделками, внимательными, преданными и… любящими. Вы увидите… мы будем хорошо за вами ухаживать… Хоть вы и богаты, но не знаете радости семейного очага… Мы постараемся создать хотя бы его подобие… Больной чувствовал блаженный покой, часто наступающий после сильных физических потрясений, и ему казалось, что он слышит какую-то далекую нежную мелодию. Мишель ощущал себя как бы в том почти неуловимом состоянии, когда человек уже не спит, но еще и не совсем проснулся. Он знал, что рядом его возлюбленная и она дает его душе ровную и тихую радость… Доктор с обычной мягкостью прекратил их свидание. — Мы договорились, мадемуазель, что вы будете как можно чаще видеть князя, но не забывайте о том, что сами вы еще не вполне здоровы. Следует соблюдать все предосторожности, потому что ваша болезнь может повториться и сделаться смертельной. Вы это понимаете? — Да, доктор, да, мой дорогой спаситель! — Что же касается режима больного, то он очень прост: стакан сухого шампанского через каждый час. Мишель улыбнулся. — Вам кажется смешным, что в качестве лекарства я прописываю наш национальный напиток? Это лучшее средство против вашего недуга. Затем доктор направился к своему коллеге и к секундантам — те скромно удалились в другие комнаты, когда пришла Жермена. Морис Вандоль и Серж Роксиков, испуганные и опечаленные, едва решились расспрашивать доктора, боясь услышать, что их друг безнадежен. Перрье успокоил их: — Видите, мои дорогие, шпаги были абсолютно обеззаражены, рана чиста и, наверное, заживет без осложнений. Может быть, начнется легкое воспаление плевры[54] с образованием экссудата[55] с кровью, но с этой болезнью я в состоянии справиться. Итак, у вашего друга восемьдесят шансов из ста на излечение. Но необходимо, чтобы князь сам твердо верил, что выздоровеет, иначе он может наделать глупостей. Удивленные и чрезвычайно обрадованные тем, что сказал доктор, молодые люди сердечно поблагодарили его и, конечно, спросили, можно ли будет видеться с другом каждый день. — Да, но при непременном условии — чтобы он не говорил. Ваши посещения должны быть кратки, и вы не будете передавать ему разные светские сплетни. Душевный покой нужен князю не меньше, чем покой физический. Я сам буду навещать пациента два раза в день. Затем доктор вернулся к раненому, проверил пульс, убедился, что жа́ра нет, сказал Жермене, чтобы она дала больному первую порцию шампанского, и еще раз настоятельно предписал молчание и полную неподвижность. Жизнь в доме Березова пошла совсем по-новому. Владислав, совершенно напрасно считавший себя виноватым в случившемся, пользуясь своим правом дворецкого, превратил особняк в неприступную крепость. Уже давно получив от хозяина полномочия по управлению слугами, он уволил разом тех, кто не внушал ему доверия. Оставил только одного русского кучера. Камердинеру и выездному лакею выдал расчет за два месяца и приказал немедленно выехать. Владислав совершенно резонно считал, что все эти люди могут быть подкуплены. Он призвал слесаря и велел укрепить решетки на окнах. К ночи во двор спускали собак и сажали огромного дога на цепь в прихожей. Условились, что ночью Владислав и Бобино начнут по очереди дежурить возле больного и оказывать все необходимые услуги. Была также решена проблема снабжения осажденной крепости: Владислав и Бобино будут — также поочередно — ходить за провизией. Оба, в соответствии с умением каждого, станут готовить простую пищу для здоровых, что же касается князя, то его питание не доставляло забот: пока доктор не изменит диеты, требовалось только шампанское с добавками разных тонизирующих средств, смотря по обстоятельствам: кола, кока, хинин и тому подобное. Кучера посадили на место швейцара, строго приказав не впускать в дом никого, кроме доктора Перрье, Мориса Вандоля и Сержа Роксикова. Теперь князю и его близким, по рассуждению верного слуги, не грозили ни покушения, ни вызовы на дуэль. И в доме, похожем чуть ли не на крепость, добрый мужик с надеждой и нетерпением ждал выздоровления хозяина. Во внешнем мире никто не знал, что происходит за стенами у Березова. Дуэль наделала много шума в светском обществе, о ней писали в газетах и журналах, ее передавали со слов секундантов Мальтаверна, очень охочих до интервью. Поскольку поединок происходил с соблюдением всех правил и князь, хотя и тяжело раненный, не умер, государственные органы в дело не вмешивались. Репортеры, осаждавшие ворота, неизменно уходили с пустыми блокнотами, так как русский, сидя в будке швейцара, не отпирал калитку и отвечал всем назойливым посетителям на своем языке нечто совсем непонятное, но весьма выразительное. Барон де Мальтаверн очень вежливо пришел справиться о здоровье соперника и на этот раз не попытался прорваться к нему, а только оставил визитную карточку. Уже на другой день после дуэли состояние князя оставалось ровным, температура не поднялась. Прошло двое суток, и благодаря умелому лечению доктора Перрье, благодаря полному покою и нежным заботам окружающих князю сделалось заметно лучше. Его очень укрепляли шампанское и настойка колы, она влияла просто чудодейственно. Не случилось даже того, чего особенно боялся доктор — проникновения крови в плевру. Короче говоря, страшная рана — шпага прошла насквозь через всю грудную клетку — через пятнадцать дней зажила без всяких осложнений. И Жермена, ее сестры, Бобино и Мишель Березов, над кем так долго тяготели несчастья, начинали надеяться на благополучие в будущем.ГЛАВА 27
Граф де Мондье вдруг исчез: великосветский бандит принял обличье прозаичного месье Тьери, Дядюшки, как его называли дамы полусвета, но он вовсе не утих, не сошел со сцены. Преступное обладание Жерменой, похищенной и изнасилованной им, решительно свело графа с ума. Насильственное, да еще вдобавок наспех, кое-как обладание ею не только не успокоило страстного желания, а, напротив, еще больше его разожгло. Похитив девушку, Мондье не оценил силы характера Жермены. Он рассчитывал, что та постепенно привыкнет, смирится со своим положением, как это происходило уже не с одной. Но Жермене удалось убежать, а, настигаемая погоней, она предпочла броситься в Сену, с риском утонуть, чем остаться во власти палачей. Чудесным образом спасенная князем Березовым и его другом Морисом Вандолем, она обрела покровителя — молодого, красивого, богатого и сильного, и по всем меркам могла не бояться прежнего преследователя. Но граф де Мондье был не из тех, кто легко отступает. Захваченный любовной страстью сильнее прежнего, мучаясь ревностью, он был готов на любые преступления ради того, чтобы вновь завладеть девушкой. Прежде всего требовалось устранить главное препятствие — князя Березова. Обладая властью тем более страшной, что о ней никто не подозревал, тайный бандит, скрывавшийся под маской светского человека, Мондье действовал решительно и жестоко. Он похитил двух младших сестренок, сделал их своими заложницами в расчете, что Жермена сдастся ради спасения девочек; правда, еще при условии, если она лишится могущественного и мужественного защитника — князя Березова. Мондье ловко и, казалось ему, беспроигрышно организовал отравление князя, но вместо того случайным образом оказалась убита монахиня, ухаживавшая за больной Жерменой. Второе покушение также не удалось. Меткая пуля Бамбоша, попав в грудь князя, была амортизирована толстым бумажником с металлическим запором, лежавшим в кармане обреченного на гибель. Не теряя времени граф принудил барона Мальтаверна — безнравственного кутилу и непобедимого бретера[56], попавшего к нему в кабалу, драться с Березовым на дуэли и убить его. Барон добросовестно сделал все, что мог, но князь остался жив благодаря искусству врача. Едва узнав, что князь Мишель согласился на дуэль, граф тут же послал Бамбоша наблюдать за кабаком Лишамора, где были спрятаны сестры Жермены. Мондье намеревался затем сам поехать в Валь, чтобы воздействовать на девчонок, заставить их написать старшей сестре отчаянное письмо с просьбой поскорее приехать за ними. Таким манером граф рассчитывал очень просто захватить Жермену снова в плен. Мерзавец правильно предполагал, что она сдастся, когда князя не станет, а ее сестрам будет грозить опасность бесчестья, а может быть, даже смерть. Можно себе представить, в какую граф пришел ярость, когда Бамбош явился к нему на улицу Прованс с завязанной щекой, разбитой во время драки в кабачке Лишамора. Негодяй не рассчитывал на хороший прием у графа, приполз с видом собаки, которая знает, что будет бита хозяином за провинность. Скрывая злобу, хозяин велел ему сесть и спокойно сказал: — Говори, ничего не боясь. — Дела плохи, очень плохи, патрон, — проговорил верный слуга с усилием. — Поэтому ты и должен говорить, ничего не скрывая. — Патрон, сестры Жермены уехали оттуда. Граф позеленел: — Мои заложницы! Мы разбиты, черт тебя подери, Бамбош. Но как это произошло? У вас там были люди, а проклятых девчонок прочно заперли в подземелье. — Во всем виновата Андреа. Это она устроила все или почти все. — Не может быть! — Да, она. Она открыла подземелье, чуть не до смерти оглушила Лишамора, проткнула вилами зад Брадесанду и вообще орудовала не хуже мужика. — Но ты… парни, сидевшие в кабаке… вы-то что делали? — Старались изо всех сил. Но в зале очутились двое очень решительных и хорошо вооруженных. Один из них Моген, рыбак, другой какой-то неизвестный мне парнишка… Его несомненно послал князь, посмотреть, что делается у Лишамора, вот так же, как вы меня отправили. Парнишка не калека. Исколотил меня ногами, одним махом распорол кинжалом живот одному из моих дружков и в конце концов с помощью стервы Андреа увел девчонок. Они теперь, должно быть, в доме Березова. Вот и все, кроме незначительных подробностей. Бамбош, ожидавший сильной взбучки, был удивлен тем, что граф молчал, о чем-то думал, опустив голову. — Ничего не бойся, мой мальчик, — неожиданно сказал Мондье, вернее месье Тьери. — Я знаю, ты сделал все, что мог, и я тебя вознагражу так, словно тебе все удалось. Не всегда все получается, даже при хороших возможностях. Не хватает еще того, чтобы проклятый русский выжил. Всякое бывает на этом свете… — А теперь что же делать? — Ждать, как будут развертываться события, и пользоваться ими в своих интересах, умело их направляя… Бамбош! — Слушаю, патрон. — Тебе нравится общество, куда я тебя приводил однажды? — О да! Как бы мне хотелось жить такой жизнью! — сказал прохвост, и глаза его загорелись алчностью. — Однако это общество лишь карикатура на настоящее. Мужчины, может быть, еще ничего, но женщины… бывшие пасту́шки, прислуги, прачки, гувернантки или кухарки, которым повезло и они попали в мир содержанок. Я тебя введу в свет, где бывает настоящая женщина!.. Ты увидишь, какова она. Она может быть не лучше кокотки, часто выглядит и поступает даже хуже, но через нее ты сможешь сделать карьеру, стать богатым… если будешь меня слушаться. — О патрон!.. От ваших слов у меня все внутри загорается и в глазах темнеет. — Ты быстро пресытишься. — Но пока это меня очень прельщает. — Вполне естественно, и я помогу тебе удовлетворить желание. Истинный Бог, парнишка, ты мне нравишься! Ты хитер как обезьяна, испорчен как целый исправительный дом, недурен собой, очень умен. С моей помощью ты достигнешь успеха, ручаюсь. Ты будешь моей правой рукой, а когда я устранюсь от дел, ты их унаследуешь. — Вы слишком добры ко мне! А пока… какие вы даете приказания? — Сидеть на месте и, я тебе уже сказал, ждать, как будут разворачиваться события. — Как! Вы даже не хотите отомстить рыбаку Могену и этой стерве Андреа, из-за которой мы погорели? — Делать это сейчас было бы верхом глупости. Надо дать им всем подышать спокойно после всех происшествий. — По крайней мере, надеюсь, вы позволите мне разделаться с мразью, что лупил меня ногами; кажется, он ухажер старшей из сестер Жермены и сейчас живет, наверное, в доме Березова. — Не трогай его пока! Слышишь, что я говорю! Пусть все они перестанут что-либо подозревать. А насчет ме́сти, то это блюдо надо всегда есть только холодным. Увидишь сам… — Так что́ я должен делать в точности? — Наблюдать за домом Березова. Смотреть, кто в него входит, кто выходит, знать, как чувствует себя князь, лучше ему или хуже, выздоравливает или умирает. И действовать по обстоятельствам. Пока будешь жить здесь в ожидании новых приказаний. Не очень долго, потому что я намерен увезти тебя в путешествие. — Далеко? — Отучись от привычки спрашивать! Пока я не научу тебя некоторым приемам гримирования, способам быстро менять свое лицо. — Всегда и во всем к вашим услугам, патрон!…Березов быстро поправлялся. Ему уже позволили говорить и есть более питательные кушанья, силы возвращались к русскому князю. Живя так, будто дом находился за сто миль от Парижа, вдали от мерзких сплетен, от шума и дикой злобы так называемого света, что так долго держал его в плену, Мишель чувствовал себя родившимся заново, тем более что рядом постоянно была любимая женщина, первая, кого он любил. Отсутствие посторонних, которое прежде его угнетало, теперь казалось очень приятным, и он вполне одобрял действия Владислава, сделавшего особняк похожим на осажденную крепость. Спокойствие и безопасность всех обитателей дома были обеспечены, и эти условия способствовали быстрому выздоровлению князя. На двенадцатый день он уже смог встать и пройтись по своей комнате, а на семнадцатый доктор сказал, что пациент почти здоров, рана полностью зарубцевалась. Период выздоровления прошел для Мишеля как сладостный сон. Если бы не ранение, от которого он чуть не умер, молодой русский, возможно, не узнал бы радости духовного сближения с любимой, позволяющей надеяться на полное супружеское единение в будущем. То, что прежде казалось ему невозможным и пугающим, теперь представлялось главной целью человеческого существования. Жермена выздоровела, сестры ее были спасены, сам он был молод, красив, богат и совершенно свободен в своих действиях и мог надеяться, что Жермена полюбит его не только благодарной сестринской любовью. Представляя себе будущее, Мишель думал: «О! Как она будет меня любить!»
Конец первой части



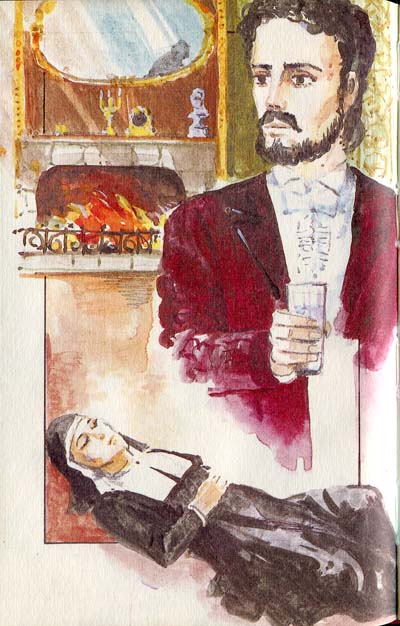




Часть вторая НЕНАВИСТЬ
ГЛАВА 1
К середине января князь поправился, но еще испытывал некоторое недомогание и слабость, и доктор считал, что не худо бы поехать в страну, где воздух теплее и суше, чем в это время в Париже. Для Жермены это было бы тоже полезно после стольких перенесенных тревог и тяжелой болезни. Наконец, Мишель чувствовал себя неспокойно в столице, где он и близкие пережили не одно покушение на его жизнь, и опасался, что враги не остановятся на этом. Хотелось дать отдых душе, не ожидать поминутно новых нападений и преследований жестокого и сильного врага, не запираться в четырех стенах из страха перед каким-нибудь новым злодеянием. Березов поделился намерениями и планами с Жерменой, та возражала, говоря, что ей и сестрам пора бы найти работу и не сидеть на чужой шее, но Мишель только рукой махнул и с широтой русской натуры сказал ласково, но решительно: — Незачем об этом сейчас толковать, всем троим надо сперва поправиться как следует, а потом уж будет видно, что делать дальше. Решили отправиться в Неаполь. Мишель хотел пригласить и Бобино, он мог быть весьма полезен в путешествии, к тому же князь очень полюбил смышленого, изворотливого и вместе с тем доброго и великодушного юношу, уже не раз проявившего себя с самой лучшей стороны. Князь сказал: — Мой дорогой, мы едем в Италию. Бобино подумал, что под словом «мы» подразумеваются сам хозяин дома и Жермена с сестрами; мысль эта его огорчила, что сразу уловил Березов и добавил: — Я имею в виду, конечно, и вас, Бобино. — Очень вам признателен, князь, но я не вижу, чем теперь, когда вы вместе и в общем здоровы, смогу быть полезен. Негоже жить за чужой счет, пусть даже очень богатого человека, я привык зарабатывать на жизнь своим трудом. Мне пора вернуться в типографию, где товарищи, наверное, уже думают, что я загулял, — говорил Бобино. Березов стал его прямо-таки умолять, юноша продолжал отказываться и, только когда начала упрашивать Жермена, сдался. — Ладно, я согласен, но с условием — не больше чем на год. Если за это время ничего не случится, я возвращаюсь к своей работе. — Слава Богу, договорились. Только и я ставлю условие: не называть меня князем. Пускай обращаются так светские люди, для кого чины и звания превыше всего. В чем тут моя заслуга? Разве я сделал что-нибудь, чтобы оказаться князем? Не больше, чем вы для положения найденыша. И в чем, по сути, разница между вами и мной? Ведь не титулами, не богатством определяются качества человека. Вы умный, работящий, благородный, порядочный, мы почти одного возраста, так будемжить как два добрых товарища. Бобино выглядел бесконечно растроганным. — Наш писатель граф Толстой считает, — продолжал Березов, — что люди равны, каждый должен сам себя обслуживать, и подтверждал теорию практикой. Наш князь Кропоткин[57] пожертвовал титулом, состоянием и почестями за идею демократии: за проповедь этого учения он терпел бедность, тюрьму и ссылку. Я, конечно, не чета им, я не в силах переменить образ жизни. Но хотя бы в малом… Договоримся: будем говорить друг другу ты, обращаться только по имени. Бобино воскликнул: — Господи! Если бы все были такими, как вы, насколько меньше горя осталось бы на несчастной земле! С этого дня безродный, бедный парижский типограф и русский князь — архимиллионер стали побратимами. Мишель сказал Бобино: — Неизвестно, что может случиться за год, когда мы будем жить вместе, и надо, чтобы мы внешне не отличались друг от друга, чтобы и ты выглядел… — Как князь? — Вот ты опять… — остановил его Березов. — Мишель, это в последний раз; я вам… тебе обещаю. — Пойди, пожалуйста, к моему портному и закажи все необходимое, потом — к моему сапожнику, к моему перчаточнику. А через три дня мы без всякого шума отправимся в путь. — Значит, я должен нарядиться аристократом… еще одна уступка… Через три дня Бобино вошел в комнату Березова, одетый с иголочки. Он выглядел настоящим джентльменом. Берта пришла в полный восторг и если не полюбила его еще сильнее, то все-таки очень им любовалась. Березов был весьма удивлен и доволен тем, как свободно, с изяществом держится молодой человек в новом обличии, и похвалил его. Но Бобино было все-таки неудобно и почти стыдно участвовать в маскараде, это казалось почти изменой рабочему званию, которым он очень дорожил. И юноша сказал серьезно и даже с некой суровостью: — Но ты помнишь, Мишель, о чем уговорились: через триста шестьдесят пять дней я снимаю этот и ему подобные наряды и надеваю свою рабочую блузу. — Нет, днем позже, — сказал русский. — Торгуешься? Да еще из-за пустяка. — Ты забываешь, что этот год високосный, а договоры надо соблюдать со всей точностью, — улыбаясь, заметил Мишель. На другой день пятеро уехали, сторожить дом остался верный дворецкий Владислав. Приняли все предосторожности: тайное присутствие врагов князь все время чувствовал. Багаж отправили заранее, а сами отбыли ночью. Из любви к комфорту и чтобы избежать нежелательного соседства, Березов взял билеты на все места в купе. Он не напрасно позаботился об этом: в момент отправления поезда некий чуть не опоздавший пассажир настойчиво пытался устроиться у них. Потребовалось вмешательство кондуктора, чтобы помешать постороннему сесть в купе, где оставалось три свободных, но заранее оплаченных места. Березов и Бобино почувствовали беспокойство, хотя вторгавшегося совершенно не знали. Инцидент не имел последствий, и они ехали с большой приятностью. Через три дня, без всяких приключений, прибыли в Неаполь. Все успокоились и не подозревали о том, какие новые катастрофы их ожидают.ГЛАВА 2
Березов тратил деньги не считая. Разместились в прекрасных меблированных комнатах с окнами на площадь Умберто, с видом на Национальный парк, Неаполитанский залив и Везувий[58]. Чтобы всех развлечь и заставить позабыть прошлые неприятности, Мишель возил своих близких по всем достопримечательным местам города и окрестностей. В его планы входило путешествие по древним, красивейшим городам Италии. Заодно князь рассчитывал таким образом отвязаться от врагов, запутать след, если к дружной пятерке парижан приставят соглядатаев. Впрочем, Березов уже почти не беспокоился. После неприятного, но незначительного и, быть может, случайного инцидента на железной дороге ничто больше не вызывало подозрений. Каждый день они куда-нибудь ездили, иногда довольно далеко за город, нередко возвращаясь за полночь. За короткий срок в Неаполе завелись кое-какие знакомства. За табльдотом[59], где чаще всего обедали, разговорились с молодым французом, неким месье де Шамбое, он тоже путешествовал по Италии для собственного удовольствия и хорошо знал страну. В частности, по его советам они побывали в Сорренто[60], в Лазурном гроте, в Помпеях и на Везувии. Тот же месье Шамбое предложил показать им монастырь Камальдолей[61], чрезвычайно интересное, по его словам, место. Князь согласился, но не назначил дня поездки. Однажды, когда они сидели у себя в одной из комнат за утренним чаем, к ним позвонили, и, так как слуги по обыкновению не было на месте, Бобино пошел открыть дверь и увидел долговязого худого бритого детину с синеватыми щеками; несмотря на то, что пришедший был тщательно выбрит, корни волос просвечивали сквозь кожу. На темном лице сверкали мрачные глаза. Вообще выглядел он настоящим бандитом. Это был слуга месье Шамбое, про него хозяин как-то говорил, что, несмотря на страшный вид, человек это очень честный, преданный и верный. «Он как бульдог перегрызет горло всякому, кто попытается тронуть меня, — похвастался Шамбое. — Не зря же я заказал ему столь изящную ливрейную форму». Войдя, лакей как заведенный выпалил: — Месье послал меня к месье, чтобы спросить месье, не желает ли месье зайти поговорить с месье. Бобино и в образе джентльмена не утратил любви к юмору, он сунул большие пальцы в жилетные кармашки, с уморительным видом присвистнул, глядя на посланца, и сказал: — Выражаетесь вы очень изысканно, но немного непонятно. Я совсем запутался во всех этих «месье». Давай-ка почистим фразу и попробуем оба понять, о чем речь; наверное, так: месье, твой хозяин, просит месье, то есть меня, чтобы месье, опять-таки я, сказал тебе, что месье, значит, снова я, изволил пойти с тобой к месье, твоему хозяину… Уф-ф… — Месье понял, — сказал лакей с прежним невозмутимым видом. — Не без труда, даже вспотел, — со вздохом сказал Бобино. — А ведь можно было выразиться просто: «Месье хочет вас видеть». Где же он сейчас? — Внизу, в своем экипаже. Бобино спустился и увидал месье де Шамбое в роскошном ландо, запряженном парой прекрасных гнедых лошадей. Читатель, наверное, помнит, что Шамбое — это не кто иной как Бамбош, правая рука графа Мондье. Но ни Березов, ни Бобино не узнали бандита в его новом обличье: перед Мишелем этот безупречно элегантный человек, лакей Жан, едва мелькнул в день, когда отравили несчастную монахиню, а Бобино видел его только во время драки в пивной Лишамора, драка же — не самое лучшее место для запоминания. Бамбош действительно стал неузнаваем: одетый с безупречным вкусом, говорящий как образованный человек из общества, он держал себя с некоторой мягкой застенчивостью, но очень естественно и был изысканно вежлив. Мерзавец успел хорошо усвоить уроки своего страшного учителя. Де Шамбое выскочил из экипажа и, дружески пожимая руку Бобино, сказал: — Извините, пожалуйста, за беспокойство, но не угодно ли вам, князю и девицам проехаться со мной в монастырь Камальдолей? Погода, как видите, прекрасная, воздух такой легкий, экскурсия получится очаровательная. Отправимся когда вы пожелаете, я отошлю кучера и буду править сам. И для всех вас в экипаже при этом хватит места. Посоветуйтесь с князем и постарайтесь убедить, чтобы он согласился ехать сейчас, без приготовлений. Импровизированные удовольствия всегда бывают самыми приятными. В этот день, несмотря на зимнее время, погода была действительно великолепна. Но общей экскурсии не суждено было состояться: Берта простудилась на легком морозце. Мария не хотела оставлять сестру. После ласковых препирательств — Жермена и мужчины считали неделикатным отправиться без младших, тем более поездку вполне можно было перенести, — все-таки сошлись на том, что не следует во что бы то ни стало держаться всегда впятером, каждый волен поступать по своему усмотрению и не лишать себя удовольствия, если это не причиняет неудобств другим. Вскоре князь и Жермена сидели в ландо, напротив них разместились Бобино и де Шамбое, а лакей устроился на козлах рядом с кучером. Лошади побежали шибко, и девушки помахали из окна, прощаясь с путешественниками.До монастыря Камальдолей от Неаполя на лошади два часа езды. Дорога идет все время в гору, сначала меж красивых загородных вилл, потом густым лесом. Осмотрели храм с красивой живописью, потом три ряда келий, большинство их пустовало; полюбовались из обширного сада чудесной панорамой гор, холмов, долины, селений и видом на Везувий. Месье де Шамбое давал пространные пояснения обо всем, что они осматривали. В монастыре находилось много посетителей, большинство уже собирались в обратный путь, а Шамбое так увлекся достопримечательностями, что возвращался то к одной, то к другой, еще раз приглашая рассмотреть и полюбоваться их красотой. Наконец князь сказал: — Пора бы возвращаться, чтобы успеть приехать засветло. — Не беспокойтесь, лошади у меня хорошие, дорога пойдет теперь все время под гору, и через полтора часа будем в Неаполе. Между тем все посетители уже отбыли, наши герои оставались последними. — Надо скорее ехать, — сказал Мишель, уже не на шутку обеспокоенный. Начали искать ландо, но оно куда-то исчезло. Шамбое обозлился и принялся во весь голос звать своих слуг. — Негодяи, наверное, где-то выпивают, — говорил он, все более распаляясь. — Презренная порода эти лакеи! Наконец какой-то монах сказал, что слуги ускакали в ближайшее селенье подковать лошадь, уехали довольно давно и вот-вот должны бы вернуться. Ночь быстро надвигалась, на горизонте показались облака и свет над кратером Везувия становился все ярче на темном фоне неба. Жермена говорила с беспокойством: — Как это неприятно… Мы вернемся поздно… Сестры будут очень встревожены… Нам предстоит ехать в темноте… Через лес… Говорят, в этих местах встречаются разбойники… Я очень волнуюсь. — Разбойники! Да вы изволите шутить, мадемуазель! Разбойники существуют в наше время только в романах, здешние места очень спокойны, а кроме того, господа, вероятно, имеют при себе оружие, — сказал Шамбое, как бы спрашивая об этом. — Разумеется, я вооружен! — сказал Мишель. — Пусть попробуют напасть! — добавил Бобино. Наконец возвратилось ландо. Шамбое разругал слуг, пригрозил уменьшить жалованье, если они еще раз сыграют подобную шуточку. Те униженно извинялись, говорили, что кузнец не мог скорее подковать лошадь, как нарочно, у него было много клиентов, пришлось дожидаться… Но время шло, и Шамбое оборвал длинное объяснение. К вечеру сильно посвежело, в ландо подняли верх, зажгли фонари. Шамбое приказал кучеру ехать кратчайшим путем и поскорее. Дорога шла большим лесом, сделалось совсем темно, только изредка показывалась луна, пробираясь сквозь быстро движущиеся облака. Огромные деревья отбрасывали длинные тени, похожие на груды сцепившихся скелетов. Жермена прижималась к Мишелю, изредка взглядывая в окошко. Шамбое не умолкая говорил, стараясь развлечь спутников; рассказывал о своих путешествиях, спрашивал Мишеля о России, допытывался у Жермены, понравился ли ей Неаполь. Они ехали минут сорок, когда кучер вдруг несколько раз щелкнул кнутом на какой-то странный манер. Лошади побежали зигзагом, экипаж накренился у края откоса. Произошел толчок, кучер выругался, и дверца ландо задребезжала от сотрясения. Экипаж, перевернувшись, полетел в овраг вместе с лошадьми, отчаянно брыкавшими ногами, пассажиров сильно встряхнуло, однако не ранило, рытвина оказалась неглубокой. Мишель старался защитить от ударов Жермену, а Бобино попытался выскочить, чтобы им помочь. Он уже вылезал из кузова, когда почувствовал, что его схватили сзади за ворот, и увидел, что упряжка окружена дюжиной людей в масках. Он услыхал, как Жермена закричала: — Разбойники!.. Боже!.. На нас напали разбойники! Действительно, это были они, подоспевшие к тому моменту, когда случилась авария; похоже, бандиты подстерегали на дороге. На некоторых были костюмы неаполитанцев, другие одеты во французское платье. На всех — черные маски и много оружия: за поясом ножи и револьверы, за плечом карабины. Жермена продолжала кричать: — Помогите!.. Помогите!.. Мы погибли!.. Мишель заслонил ее своей гигантской фигурой и зарядил пистолет. Бобино вырвался из рук схватившего его разбойника и отчаянно и умело бил того ногами. Затем вывернулся наконец и изо всей силы ударил головой в живот негодяя, тот повалился и остался лежать. Наконец отважному типографу удалось выхватить револьвер и выстрелами в упор уложить двоих. Такой же результат получился от стрельбы Мишеля. Из двенадцати нападавших осталось семеро — отличный результат! Эти оставшиеся в живых, обозленные до крайней степени, орали: — Убить их!.. Всех убить! — и целились в отважную группу, где стояли Жермена, Мишель и Бобино. — Брать живыми! Живыми, черт подери! — скомандовал по-французски сильный повелительный голос. Березов снова поднял пистолет. В тот миг, когда он собирался спустить курок в третий раз, над головой взвилось нечто вроде черного облака, и Мишель вмиг оказался с макушки до ступней опутанным сетью. Тщетно он пытался вырваться из прочных тонких веревок, оказать сопротивление: сеть бросила опытная рука. Оставалось только кричать, и князь взывал: — Бобино, спасай Жермену!.. Спасай! Бегите!.. Жермена продолжала отчаянно взывать о помощи, а бандиты не решались подойти, видя, что ее защищает смелый Бобино. — О Мишель! Все кончено!.. Мой спаситель!.. Мой друг!.. — Бегите оба! Бегите скорей! — кричал Мишель. Бобино метко расправился еще с двоими, попытавшимися приблизиться к Жермене. Пользуясь возней уцелевших налетчиков — они поднимали и ставили на колеса ландо, укладывали в него опутанного Мишеля, — Бобино схватил Жермену в охапку, перескочил через овраг, бросился в густую заросль, сделал несколько шагов наугад и затаился за кустом. Луна, к счастью, скрылась, что уберегло их на какое-то время от преследования. Жермена тихо плакала, бессвязно говорила, что лучше умереть, раз ее повсюду преследуют несчастья. Бобино просил ее замолчать. Он очень волновался, начав понимать, что нападение произошло не случайно, припоминая, как странно вел себя Шамбое, который со своими слугами исчез именно в минуту опасности. У Бобино оставался в револьвере единственный патрон, было страшно думать, как сопротивляться, если бандиты их обнаружат. Вдвоем ощупью сделали несколько шагов, чтобы забраться поглубже в чащу, но сухие ветки трещали под ногами, пришлось остановиться, чтобы этот звук их не выдал. Увидев углубление в земле, укрытое кустарником, Бобино забрался туда вместе с Жерменой, надеясь, что бандиты не смогут их найти. А разбойники шарили по лесу, громко и скверно ругаясь. По звукам и крикам стало понятно, что подняли ландо и впрягли лошадей. Наконец послышался стук колес и топот копыт. Экипаж, как обоим показалось, покатил в сторону монастыря. Несомненно, увозили Мишеля. После этого какой-то тип и с ним еще трое прошли совсем близко от их укрытия. Один сказал на чистом французском: — Ну, вы и храбрецы-молодцы, чтоб вам пусто было! Вот это побоище! Упустили двоих, а нас было двенадцать против двух мужчин и одной женщины. Хорошо же вы работаете! Двоих надо найти, они не могли уйти далеко. А ну! Быстро! Обыщите весь этот угол. Только чтобы женщина не получила ни единой царапины! Поняли? А мужика можете убить как собаку. Бобино почувствовал, что разбойники совсем рядом. Он положил палец на курок револьвера, а левой рукой зажал рот Жермене, которая не могла подавить еле слышные рыдания.
ГЛАВА 3
Уезжая, Мишель обещал оставшимся девушкам вернуться к пяти. До назначенного срока оставалось еще полчаса, а сестры, соскучившись сидеть одни, уже смотрели в окно, поджидая путешественников. В половине шестого барышни начали беспокоиться, тревога росла с каждой минутой, они начали думать, что со старшими случилось несчастье. Вскоре наступило отчаяние. Нет сомнения! Экипаж свалился в пропасть, или напали разбойники и всех убили. Они плакали, не зная, что им делать, и не смея выйти из комнат, посоветоваться хоть с кем-нибудь. Одни, в чужой стране!.. Что с ними теперь будет?! И какая беда произошла с остальными? Наконец в восемь часов возвратились Жермена и Бобино. — А где Мишель?! У Бобино щека была в крови, на шее большая царапина, у Жермены глаза заплаканы. Оба мокрые, в грязи, платье изорвано, в волосах запутались сухие листья и колючки. Жермена упала в кресло, восклицая: — Боже мой! Боже мой!.. Этому не будет конца… Рок нас преследует! — Что случилось?.. Какое новое несчастье?.. Где Мишель? — спрашивали сестры. — Схвачен бандитами… Увезен… Мы все чуть не погибли! Все три сестры зарыдали, а Бобино старался ободрить их, говорил, что не надо впадать в отчаяние, он все сделает, чтобы выручить Мишеля. — Друг мой! — говорила Жермена типографу. — Надо его непременно найти, любой ценой выручить, а то они убьют его! О страшном событии уже узнал весь отель. Пришел хозяин в сопровождении нескольких постояльцев, всем не терпелось услышать, что и как произошло. Бобино рассказал с самого начала, завершив тем, как они с Жерменой крались по придорожной канаве, пока не добрались до чьей-то виллы, просили о помощи, но их не пустили и даже пригрозили, что будут стрелять будто в воров. Пошли дальше, и наконец один кузнец на повозке доставил французов в Неаполь. Пока Бобино говорил, Жермена не раз прерывала: — Спасите князя! Спасите! Умоляю вас!.. Может быть, его сейчас мучают… Убивают!.. Она обращалась сразу ко всем, кто находился в комнате, а быть может, к Богу, или же твердила почти бессознательно. Бобино сказал: — Я иду во французское консульство. — Оно открыто для посетителей только с десяти до четырех, — сказал владелец отеля. — Тут особый случай, найдется же там хоть кто-нибудь, не оставят соотечественника в беде, до утра так далеко, — отвечал юноша. Кто-то догадался спросить: — А как же месье Шамбое и его слуга, что с ними? — Ничего не знаю! Их, наверное, схватили разбойники с самого начала. В темноте ничего не было видно, а потом мы с князем больше всего думали о том, как защитить Жермену. Наконец любопытствующие ушли. Бобино заказал обед для сестер, настояв, чтобы они хоть немного подкрепились; сам же наспех отхлебнул немного бульона, выпил стакан бордо[62] и побежал в консульство. Над роскошным зданием развевался трехцветный флаг, все окна ярко светились, и сквозь стекла долетали звуки вальса. «Идет бал, тем лучше, — подумал Бобино, — значит, я наверняка застану консула». Швейцар в парадной ливрее встретил посетителя очень вежливо, решив, что он из числа приглашенных, но, когда Бобино сказал о необходимости сейчас же повидаться с консулом по весьма важному делу, служитель принял надменный вид и сухо заявил: — Господина консула сейчас нельзя видеть, он не может оставить гостей. — А секретарь? — Господин секретарь занят тем же. — Но есть же здесь хоть какой-нибудь дежурный чиновник, с кем можно поговорить? — Все находятся на официальном вечере, приказано никого не беспокоить. И вообще, в неприемные часы консульство закрыто для посетителей. Приходите завтра к десяти. — Но завтра может быть поздно. Пока господин консул танцует, бандиты с большой дороги нападают на французов. В продолжение разговора Бобино слышал звуки музыки, смех и даже — или ему показалось? — шарканье бальных туфель по паркету. Швейцар же принимал все более и более начальственный вид и надвигался на нежданного просителя с намерением выпроводить, повторяя: — Я ничего не могу поделать… Завтра в десять… Завтра в десять… Бобино хотелось смазать по бритой физиономии, но он понимал, что не сделает этого, здесь не кабак папаши Лишамора. Все-таки задор парижского гамена[63] в нем взыграл, и он, встав перед швейцаром, выпалил: — Ты всего-навсего хам в ливрее и можешь передать своему хозяину, что он ничем не отличается от тебя! Пока швейцар приходил в себя от неслыханной наглости, Бобино попросту удрал. У него уже созрел другой план: обратиться в Российское консульство, поскольку Березов был русским. У прохожего он спросил адрес и через несколько минут звонил в нужную дверь, и служащий, выслушав краткое объяснение, очень любезно ответил: — Господин консул сейчас на торжественном приеме у французского коллеги, но дело очень серьезное, я сейчас пошлю туда, а вы пока посидите, пожалуйста, здесь. Через четверть часа консул прибыл. Выслушав рассказ, он, как человек серьезно заинтересованный делом и готовый помочь, озабоченно сказал: — Вот незадача! В столь поздний час неудобно беспокоить начальника городской полиции. Однако надо действовать немедленно. Подумав, он спросил: — Вы точно помните место, где на вас напали? — Прекрасно помню! — Я сейчас же снаряжу группу хорошо вооруженных людей, и вы поедете вместе с ними. Они отправятся туда под видом обыкновенных путешественников. Весьма возможно, что разбойники еще там, поджидают новые жертвы. Вас будет много, и вы сумеете захватить кого-нибудь из бандитов. По-моему, это лучшее, что мы сейчас можем сделать, а завтра начнем действовать в зависимости от результатов. Подготовьтесь, пожалуйста, я сейчас отдам распоряжение собрать отряд. Бобино побежал в гостиницу, наскоро поведал девушкам о своих визитах, добавил, что вернется не раньше утра, зарядил револьвер, взял запас патронов. Прощаясь, Жермена говорила плача: — Привезите, ради Бога, его и берегите себя! Перед подъездом консульства уже стояла фура, запряженная тройкой лошадей, под дугой коренника[64] громко зазвенел колокольчик. На крышу фуры[65] в качестве приманки для грабителей уложили всякие сундуки и чемоданы. Внутри сидел отряд добровольцев из работников посольства, они смотрели на экспедицию как на интересное развлечение. Бобино поместился с ними. Представитель царского правительства, накинув поверх вечернего костюма меховую шубу — а русские, похоже, не расстаются с нею даже на юге — отдавал последние распоряжения. Фура тронулась, и тут консул вдруг решил тоже поехать туда. Все удивились и начали почтительно отговаривать. Бобино присоединился: — Нет, нет, господин консул! Это невозможно! С вами может произойти несчастье. — Не в большей мере, чем с вами, — возразил храбрый русский, улыбаясь. — И мне очень хочется дать взбучку бандитам… Он послал одного из служителей за ружьем, когда тот принес, консул сел со всеми в фуру и крикнул: — Поезжай! И быстро! Фура с грохотом понеслась, и никому не пришло бы в голову, что в ней сидел вооруженный отряд, готовый сражаться за своего соотечественника. Часа через полтора Бобино, все время наблюдавший за дорогой, доложил: — Вот мы подъехали к месту, оно метрах в ста отсюда. Дали знать кучеру, тот остановил упряжку. Лошади звенели бубенчиками; таким образом разбойники могли услышать, что едут путешественники.ГЛАВА 4
Тем временем князь Березов был уже гораздо ближе к Неаполю, чем предполагал Бобино. Сняв сеть, русского крепко связали, всунули кляп в рот, затянули сложенный в несколько слоев платок на глазах и везли неведомо куда. Он почувствовал, что повозка поднималась в гору, потом свернула налево на проселочную дорогу, стук колес и копыт стал глуше на мягком грунте. Затем опять изменили направление и двигались, вероятно, лесом — ветки деревьев то и дело стучали по верху возка. Задыхаясь на подъеме, кони тянулись шагом и наконец остановились. Мишель ощутил, как чьи-то сильные руки подняли его за плечи и за ноги. Несли сначала через кусты, потом по канаве, устланной опавшей листвой, от нее тянуло сыростью и прелью. Остановились, открылась железная дверь и стукнула со звоном о стену. После долго шли по каменным плитам какого-то коридора, открыли еще одну массивную, похоже, деревянную дверь, за ней каменный пол сменился паркетным. Еще дверь, и звук шагов разбойников приглушило толстым ковром. Сквозь повязку на глазах Березов ощутил яркий свет. Мягкий диван принял измученное тело. Руки и ноги оставили связанными, но вынули кляп изо рта и сняли с глаз повязку. Мишель увидел, что находится в большой комнате, обитой красивыми тканями и обставленной прекрасной мебелью по последней парижской моде. В камине жарко пылали приятно пахнущие поленья. На большом открытом рояле, казалось, только что кто-то играл. Блестели зеркала с изысканными украшениями, стояли ширмы черного дерева, инкрустированные медью и перламутром. Под потолком висела хрустальная люстра, в углу стоял торшер с подставкой из малахита, и к стенам были прикреплены причудливые бра[66] изысканной формы в виде маленьких тюльпанов. Чего-то не хватало в этом великолепном помещении. Чего? Князь напрягся и понял: окон. Если это был притон разбойников, то, несомненно, самый современный. Не у кого было спросить, куда его привезли, да и вряд ли последовал бы ответ. Через некоторое время вошел высокий лакей в полумаске. Он церемонно спросил: — Месье просит спросить месье, не желает ли месье, чтобы ему развязали ноги и руки? Березов удивился такому обилию «месье», запутавшему в свое время и Бобино, но без труда понял смысл: ему предлагают снять путы. И ответил: — Ничего, естественно, не имею против. Тогда слуга добавил: — При условии, что месье не произведет никаких насильственных действий. — О! Это я вам обещаю, поскольку они были бы совершенно бесполезны. Слуга перерезал веревки, от них уже давно затекли и посинели руки и ноги. Мишель вздохнул с облегчением и спросил: — Можешь ли сказать, кто этот месье, пославший тебя? Вероятно, твой хозяин и предводитель шайки бандитов? Но лакей в ливрее удалился, ничего не ответив, вслед за ним снова поднялась портьера, явился человек без маски и твердым голосом произнес: — Это я! Граф Мондье! Мишель даже привскочил от удивления, не в состоянии поверить глазам. — Вы?! Это вы — Мондье? Решительно, Италия страна неожиданностей… Не всегда приятных. Но я еще сомневаюсь… Ведь могут же существовать и два мерзавца так похожих друг на друга. С презрительной усмешкой граф подошел ближе и сказал: — Я действительно граф Мондье собственной персоной. Князь Березов, посмотрите на меня… Теперь вы узнаете? — Узнаю… — медленно произнес Мишель. — Негодяй, что изнасиловал юную девушку, вполне может быть и разбойником с большой дороги. Это отлично дополняет характеристику подлеца, с которым я встречался в Париже. Так вы и грабитель? Не так ли? — Надо жить! — с лукавством ответил Мондье, сев на некотором расстоянии от князя. — При случае и убиваете? — При случае… как, например, с вами. Вообще, я довожу любое дело до конца и за все расплачиваюсь собственной персоной. Знаете ли, в обществе столько убийц и воров, о чьем существовании не подозревают и кто даже не рискует своей шкурой. Слушая эти слова, произносимые жестоким и насмешливым тоном, Березов почувствовал, как сердце сжимается; он понимал, что погиб. Но молодой человек был храбр и, глядя большими честными и добрыми глазами прямо в глаза противника, отозвался просто: — Я знаю, что меня ждет… Ладно, убивайте… Я не боюсь смерти. — Это самое я и намерен сделать через несколько минут, потому что вы мне очень мешаете. Однако вы слишком торопитесь; дайте мне насладиться победой. В этот страшный миг, когда уже ничего не могло спасти, когда чудо казалось невозможным, милый облик Жермены предстал перед князем. Он подумал, что никогда больше ее не увидит, и воспринял это как мужественный человек, но хотелось знать, удалось ли ей убежать от разбойников, и князь спросил: — А Жермена?.. — И в голосе его невольно прозвучала мольба. — Жермена сейчас в отеле с сестрами и Бобино. Да, нам не удалось ее захватить, но, по зрелому размышлению, я решил, что это даже к лучшему. Мне было бы неудобно предстать перед ней в качестве разбойника. Она никогда мне этого не простила бы. А то, что я некогда овладел ею отчасти насильственным манером… Это лишь доказательство любви, такое женщины всегда прощают… Она будет моей, когда я этого захочу… Да, князь Мишель, вы нарвались на того, кто сильнее вас! Помните вы человека, что ворвался в ваше купе, когда вы уезжали из Парижа?.. Это был я, изменивший наружность до неузнаваемости. Я следил за вами до Марселя и там, как и вы, сел на пароход, отплывающий в Неаполь. Я бы следовал за вами до края света, но, на мое счастье, вы остановились в этом городе… Поскольку вам предстоит умереть, я могу рассказать. Я каждый год приезжаю сюда на два-три зимних месяца, чтобы совершать дела, о которых вы теперь знаете. Мы сейчас в недоступном подземелье — как видите, оно прекрасно устроено. Никто не сможет найти вход в него. Это разбойничье гнездо графа Мондье, синьора Гаэтано, как меня именуют в здешнем обществе. Наверху, в нескольких метрах отсюда, стоит моя вилла, одна из тех, какими вы любовались по дороге в монастырь. Я принимаю тут все высшее общество, всех богачей, титулованных особ и тех, кто, как говорится, в моде. Никому из них в страшном сне не привидится, что я предводитель бандитов, о чьих подвигах население округи рассказывает с ужасом и восхищением столько страшных историй… Мишель, видя перед собой столь преступную сильную личность, был в изумлении. Оно сочеталось с ужасом при мысли о судьбе Жермены, ее сестер и Бобино. Князь со страхом думал о том, как они будут спасаться от этого человека, соединившего в себе невероятную хитрость с нечеловеческой жестокостью. А Мондье продолжал с холодной насмешливостью: — Когда я увидел, в каком отеле вы остановились, я поместил рядом с вами своего подручного Бамбоша, известного в обществе под именем месье де Шамбое. Он хорошо сыграл свою роль, если благодаря ему вы попали мне в когти… Я устроил в отеле еще двух своих слуг, и потому всякий час вашей жизни сделался мне известен. Я буду всегда знать и о том, что делает Жермена. Будет легко захватить ее, когда мне станет угодно, но прежде я хочу управиться с Бобино и с вами. С мальчишкой я разделаюсь завтра, а вас убью сейчас. Вынув пистолет, Мондье прицелился в князя. Тот не шевельнулся. Мондье опустил револьвер и спросил: — Может быть, вы хотите помолиться перед смертью? — Нисколько! — с презрением ответил Березов. — Я никому не сделал зла, и, если существует справедливость Божья, я буду прощен, как все, кто не совершил вольного греха. Но позвольте заметить, что, убив меня, вы совершите глупость, от которой сами же и пострадаете. — Каким это образом? — спросил бандит. — Жермена меня любит, — сказал князь, хотя был твердо убежден, что это не так. — Она любит одного меня, и, если я умру, она будет всю жизнь носить по мне траур и никогда не выйдет замуж; она почти наверняка умрет с горя. Убив меня, вы убьете и ее. Мондье счел, что князь сказал правду, и задумался. «Это вполне возможно, — размышлял он. — Она может отравиться, утопиться, вскрыть себе вены, и тогда… к чему все, что я сделал?.. Но я хочу ее!.. Она будет, должна быть моей!.. Но как этого достигнуть?.. Каким путем?..» Видя, что Мондье в нерешительности, Мишель решил, что граф сдается, что ему представилось глупым бессмысленное убийство двоих. Березов воспользовался этими действительными или воображаемыми колебаниями противника, чтобы предложить своего рода сделку. Он сказал: — Если вы согласились со мной, зачем тогда вам надо мучить, постоянно пугать ее преследованиями? Этим вы только усиливаете ее ненависть… Предлагаю вам деловое решение. Вы явно нуждаетесь в деньгах… иначе зачем вам заниматься разбоем? Я дам любую сумму, какую вы назначите, только оставьте в покое Жермену, откажитесь от нее. Вы знаете, что я богат. По моему требованию, заверенному консулом его величества царя, Петербургский банк переведет мне телеграфно столько, сколько я укажу, в банк Неаполя. Вы получите целое состояние, вам не придется заниматься разбоем, что и опасно и тяжело. Вы сможете жить широко… Но повторяю: перестаньте преследовать Жермену! Мондье молча бросал на Березова злобные взгляды. Любовь князя к Жермене разжигала страсть графа с еще большей силой и мучила жестокой ревностью. Но Мондье все отчетливее понимал, что, если между ним и Жерменой встанет убийство, особенно убийство князя, он навсегда ее потеряет. И граф искал другого пути к достижению цели. Предложение откупиться ему понравилось. Деньги, конечно, приятная вещь, особенно когда сами идут в руки. Но ему непременно нужна была и Жермена, счастливая, улыбающаяся, забывшая князя. Мондье почувствовал, что главное для него — убить ее любовь к Березову. Хорошо бы при этом еще и получить от богача кругленькую сумму, минуя при этом участие правительственных учреждений. Но как добиться и того и другого? Вдруг лицо его засияло: кажется, он нашел некий адский способ, вполне его достойный и беспроигрышный. Подумав еще немного, он почти приятельски сказал: — Вы правы, Жермена никогда меня не полюбит… Это приводит меня в отчаяние, но тут я бессилен. В самом деле, зачем становиться виновником ее смерти? Я слишком ее люблю и поэтому предпочту знать, что она счастлива с другим, нежели причинить ей хотя бы малейшее зло. Но я вправе ожидать большого, очень большого вознаграждения. Вы сами это предложили. Однако я предлагаю иной способ передачи денег, минуя консульство, — зачем нам впутывать власти в это сугубо личное дело? Вы мне даете миллион. Много, но я знаю, что вам это под силу. Вы приготовите телеграмму, а я немедленно отправлю ее в Петербург, с тем чтобы ваш банкир известил своего коллегу в Неаполе о выдаче указанной суммы по чеку на предъявителя с вашего здешнего счета. Вот и все, очень просто, зачем тут вмешательство консула? Сделка совершится между нами двоими, без посредников. Деньги получу лично я. А взамен через шесть дней вы окажетесь на свободе. Я оговариваю этот срок, потому что мне надо принять некоторые меры, чтобы обеспечить собственную безопасность. Затем вас отвезут ночью на то самое место, где вы были схвачены, вы увидитесь с Жерменой, и я перестану вас обоих беспокоить. Согласны с таким планом? Березов не стал спорить о сумме. Он был готов отдать все, что имел, и зарабатывать на жизнь собственным трудом, лишь бы обеспечить спокойствие Жермене. Миллион — это не слишком дорогая плата за счастье любимой. И притом он сам освободится, встретится с нею, и — князь чувствовал — рано или поздно ее сердце будет принадлежать ему. И для всего этого надо всего лишь много денег и немного терпения! — Клянетесь ли вы мне честью, что все будет так, как вы обещаете? Мондье ответил резким высокомерным тоном: — Я клянусь в этом… Даю честное слово джентльмена и бандита… Да, именно так. Ведь у нарушителей законов тоже имеются свои правила чести… Березов вынул из кармана чековую книжку, сел и подписал чек на один миллион. Потом заготовил текст телеграммы своему петербургскому банкиру и передал то и другое Мондье, сказав: — Я уступил вам во всем, но всегда помните, на каких условиях. Если вы нарушите клятву, то имейте в виду, что, как я ни бессилен сейчас, всегда найдется тот, кто отомстит за меня. — Ничего не опасайтесь, — ответил Мондье со странной улыбкой. — О чем договорились, о том договорились, через восемь дней вы будете с Жерменой. И мошенник оставил князя одного. Поднимаясь по лестнице, Мондье с торжеством думал о том, сколь блестящая мысль пришла ему в голову. «Да!.. Мысль превосходная… Все получится, как я задумал… Я в этом уверен… Я освобожусь от Березова и получу Жермену и ее сердце… Жермену и ее любовь!»ГЛАВА 5
Покинув пленника, Мондье зашел в соседнюю комнату, где находился Пьер, приставленный сторожить Мишеля. Это был тот самый человек, что приходил передать приглашение совершить экскурсию в монастырь Камальдолей, а затем сидел на козлах рядом с кучером ландо Шамбое, вернее Бамбоша. Он состоял кем-то вроде нижнего чина в разбойничьей организации, испытывал безграничное уважение к своему прямому начальнику и был ему абсолютно, фанатически предан, а по отношению к Мондье это был тот верный раб-слуга прежних времен, каких уже нет ныне. После того как дверь комнаты, где находился Березов, крепко заперли, Мондье позвал Пьера с собой. Миновав несколько роскошных подземных помещений, соединенных потайными дверями, они оказались в прекрасном зимнем саду, полном редких экзотических растений. Отсюда был вход в несекретный жилой дом. Вилла Мондье отличалась небывалой роскошью. В двухэтажном с мансардой строении, кроме спальных, были большая и малая гостиные, столовая, комната для карточной игры, курительная, библиотека, рабочий кабинет и просторная кухня. Словом, все, что мог бы желать иметь самый требовательный богатый человек. На конюшне стояли шесть чистокровных лошадей и в каретном сарае три экипажа с гербами графа Мондье. В мансарде и в помещениях для слуг разместилась многочисленная прислуга, она составляла ядро разбойничьей шайки, руководимой Мондье, остальная ее часть жила в лесах или даже в городе под видом нищих, рабочих и буржуа, в зависимости от распоряжения хозяина, а также от их способностей и знаний. Шайка была организована по образу настоящей воинской части: в ней были лейтенанты, капралы[67] и рядовые. Все они подчинялись строгим требованиям дисциплины и признавали неограниченную власть своего предводителя, имевшего над ними право жизни и смерти. В зависимости от звания и успехов по службе бандиты получали соответственное жалованье и долю из награбленного. Их связывали между собой общие преступления, нерушимое правило: один за всех, все за одного, готовность по первому знаку предводителя убить не только ослушника, но даже проявившего нерешительность в действиях. Все это делало бандитов безупречно преданными и храбрыми. Они обожали своего главаря, не прощавшего малейшего нарушения и одновременно проявлявшего истинно разбойничью щедрость в вознаграждении за службу. Когда Мондье уезжал, негодяи отдыхали, рассеиваясь по разным местам, или «работали» на себя. При возвращении хозяина на зимний сезон по первому сигналу члены банды собирались и занимали положенные им места, зная, что в эти месяцы под началом патрона они больше всего заработают, а после всех прибыльных операций их ждут великолепные пирушки. Разбойники восхищались умом и ловкостью предводителя, умевшего сочетать грабеж с принадлежностью к высшему обществу. Это позволяло Мондье организовывать самые выгодные операции, заманивать в ловушки богачей, с кем он общался и был осведомлен об их средствах, привычках и характерах. Первыми попадались в сети ближайшие его друзья. Наиболее преданными графу, хотя и не самыми ловкими и сообразительными, были лакей Пьер и кучер Лоран, они служили уже больше пятнадцати лет, знали часть тайн хозяина, никогда их не выдавали, оставаясь немы как евнухи гаремов и готовы на все по первому знаку патрона — даже на доброе дело. С этого года Мондье присоединил к ним Бамбоша, образовалось очень опасное трио, ведь слуги графа имели возможность проникать во все слои общества. Бамбош достиг наконец вершины своих желаний: он участвовал в роскошных пиршествах, встречался с очаровательными женщинами, кошелек его никогда не пустовал. Правда, иногда приходилось «работать» — рисковать своей шкурой, но нельзя же все обрести, ничем не жертвуя. К тому же Бамбош ничего не имел против участия в рискованных авантюрах. Он был по природе бойцом. Рабочий кабинет Мондье являл собой прекрасную комнату, где соблюдался строгий порядок, такой, что совершенно невозможно было догадаться о роде занятий хозяина. Наряду с прочим, в ящиках стола и в шкафах хранились тщательно разложенные по карточным папкам точные планы города и окрестностей и подробные сведения о состояниях и образе жизни многих жителей. Мондье развалился в кресле и сказал Пьеру: — Позови Бамбоша и приходи обратно. — Всех убитых убрали? — спросил граф, когда приближенный явился. — Да, патрон. Я их перевез в подземелье, там и похоронят этой ночью. — А раненые? — Хирург прибыл и скоро начнет штопать их шкуры… Парням лихо досталось, не очень приятно иметь дело с типами, подобными моему неприятелю Бобино. — Все будет хорошо оплачено и с процентами… Бедным ребятам придется с месяц проваляться в больнице… Но они не останутся внакладе, получат свою долю и от всех дел, которые проведем во время их болезни. Да, весьма недурно наладил свою деятельность знатный парижанин — великосветский кутила, ставший еще и грабителем. Его банда имела подземный дворец, собственную больницу с хирургом и даже особое тайное кладбище, где убитых убийц хоронили рядом с их жертвами. — Дорого же обошлась нам эта экспедиция, — сказал Мондье. — Надеюсь, вы заставите князя хорошо расплатиться, — ответил Бамбош. — Я потребовал и, по сути, уже получил от него миллион, — сказал граф. — Великолепно! А он заплатит? Не надует? — В этом я уверен. Кроме того, я принял все меры к тому, чтобы не допустить обмана. Бамбош, пришедший сначала в восторг, вдруг задумался и замолк. — Почему ты вдруг приуныл? — спросил Мондье. — О чем ты задумался? — Мне пришло в голову, патрон, что, получив миллион, вы перестанете заниматься «делами», и тогда прощай хорошие экспедиции на большой дороге! Прощай легкая добыча счастливых бандитов! Прощай красивая жизнь, которую я едва успел отведать! Граф рассмеялся. — Успокойся, малыш! Миллион — немалый кусок, но его не надолго хватит при большом аппетите! Мне надо пополнить свою казну, уже почти пустую… Оплатить сполна услуги наших парней и обеспечить твою особу, мой милый негодяй. Подумаешь… миллион! Да мы еще много их получим, если черт, наш покровитель, нам поможет! — В добрый час! А то я уже вправду боялся… Выходит, миллион только начало, и мы еще не один такой вытянем из милейшего князя Березова! Ведь вы его не выпустите? — Через восемь дней он будет свободен. — Патрон! Вы смеетесь надо мной…Лишиться такого баснословно богатого пленника, не вытряхнув из него целую гору золота?! А Жермена?.. Вы возвратите ей своего соперника… такого опасного? Разве вы больше не любите эту прекрасную особу? — Люблю больше прежнего. — Тогда я ничего не понимаю! — Я хочу вернуть князя к ней именно потому, что люблю ее. Или я непростительно ошибаюсь, или Березов сделает все для того, чтобы Жермена полюбила меня. Сначала он к ней охладеет, а потом возненавидит. — Вот это здорово. Только, извините, а это в самом деле возможно, вы уверены? — Да, Бамбош. Князь даже вдалеке останется в моем полном повиновении, будет думать, говорить, желать, действовать так, как захочу я, станет марионеткой, управляемой моими руками. — Патрон!.. Скажи такое кто другой, я бы подумал, что надо мной смеются! — Известно ли тебе о гипнотизме, Бамбош? — Очень мало… только понаслышке. — В наше время о нем почти не знают, но в древности им занимались много, и я последовал примеру далеких предшественников. Тем более что кое-кто из современных ученых его как бы заново открыл, и не только сами они этим воспользовались. Гипнотизмом объясняется много странных вещей, а позднее он, несомненно, откроет людям секрет жизни… секрет любви… Твердо верю в силу внушения. Я не новичок в этом деле и вообще не берусь за то, чего не умею. Проведя много испытаний, я убедился в своих способностях, которые теперь хочу испробовать на князе Мишеле. Уверен, что опыт удастся. Сегодня же вечером попробую Березова усыпить. — И вы думаете, он вам позволит добровольно? — О! — воскликнул Мондье. — Я знаю способы… Способы безошибочные… Вот увидишь! — Ничего большего сейчас не желаю, мне это представляется очень занимательным! — Покорение воли одного человека другому — зрелище поинтереснее любого спектакля. Когда мой подопытный будет усыплен и не чувствителен ни к чему — ни к физической боли, ни к душевным потрясениям, станет игрушкой в моих руках и моим рабом душой, тогда я сделаю все, что мне будет угодно. Я заставлю его разлюбить Жермену, сделаю своим другом, твоим другом… — Тысяча чертей! — И все это только силой моей воли… — Но если он не поддастся внушению? — спросил Бамбош, восхищенный услышанным, но не вполне доверяющий ему. — Я сначала попробую, поработаю над ним семь дней, сделаю подвластным гипнозу, послушным, вполне покорным. Ты будешь присутствовать при всех опытах и сам все увидишь. — Черт подери! Это было бы очень выгодно уметь так покорять людей. Я бы тогда внушал хорошеньким дамочкам отдаваться мне, а богатым старикам — подписывать на мое имя дарственные и завещания. Слуга пришел доложить, что господину графу подано кушать. Мондье приказал Пьеру отнести еду и князю и прошел с Бамбошем в столовую, где их ждал изысканный ужин. В десять часов они еще сидели за ликерами и курили сигары, когда кто-то попросил разрешения поговорить с графом. Это был один из его людей, прибежавший доложить, что русский посол собственной персоной вместе с Бобино и отрядом вооруженных людей направился туда, где был совершен налет на князя, — в надежде напасть на группу разбойников. Мондье рассмеялся. — Как наивны эти добрые люди! Вообразили, будто мы станем их там дожидаться! Пусть позабавятся, разыскивая нас, а у меня сейчас дело более важное, чем обезвреживать дураков-мстителей. Приказываю, чтобы, начиная с этого часа, повсюду было полное спокойствие семь дней. Посланец почтительно поклонился и вышел. Через несколько минут вернулся Пьер. — Господин граф, пленник не пожелал есть, он, наверное, боится, что его отравят. — Он отказывается от пищи, тем хуже для него. Когда очень проголодается, сам попросит. К тому же мне совсем не надо, чтобы он слишком насыщался. Чем меньше он будет есть, тем более раздражимым станет и, следовательно, легче поддастся моему опыту. Пойди к нему, Пьер, прихвати смирительную рубашку и веревку, мы явимся вслед за тобой. Мондье предложил Бамбошу еще по стаканчику, сказав: — Мне надо еще поднять тонус. Выпили с удовольствием. — А теперь идем, Бамбош. Я в прекрасном состоянии, из меня просто исходят флюиды![68] Или я самонадеянно ошибаюсь, или ты увидишь нечто совершенно удивительное. Сказав это, он повел Бамбоша к пленнику.Березов действительно имел основания опасаться, что Мондье, получив чек и телеграмму, захочет дать ему яду, и поэтому решительно отказался от весьма изысканных блюд. — Князь, неужели вы мне не доверяете до такой степени? — спросил граф, войдя. — Но это просто нелепо, извините! Теперь, когда мы с вами поладили, вы мой гость и с вами будут обходиться в соответствии с этим положением и вашим высоким достоинством. Если бы не вынужденная необходимость принять некоторые меры предосторожности до получения выкупа, вы были бы уже свободны. Забудьте, пожалуйста, о том, что я работаю на большой дороге, и смотрите на меня как на старого друга, который пришел вас поразвлечь, ведь мы принадлежим к одному кругу, и вам не в чем меня упрекнуть, кроме маленьких грешков. Березов не смог спокойно принять слова Мондье и ответить в соответствующем духе. Он сказал: — Ваша шутка весьма сомнительного вкуса, месье, и если в вас еще осталось что-нибудь от воспитанного человека, какого я встречал в обществе, то прошу не говорить со мной в подобном тоне. Мондье улыбнулся, но видно было, что он с трудом сдержал гнев. В свою очередь Бамбош тоже захотел вступить в разговор: — Нет, дорогой князь, над вами никто не смеется. Доказательством тому служит, что мы с графом пришли сюда как ваши истинные, хорошо воспитанные друзья. Мишель сейчас впервые внимательно рассмотрел этого бойкого малого и нашел его вульгарным, увидел, что это едва отесанный выскочка, и горько пожалел о том, с какой легкостью иногда принимают в порядочное общество подобных авантюристов, неизвестно откуда явившихся. Князь смерил нахала презрительным взглядом и сказал: — Мальчик, я могу ошибиться, принять фальшивую монету за подлинную, на время счесть равным себе лакея-выскочку, каким вы, мне кажется, являетесь, но для меня сейчас нет сомнения: вы просто обыкновенный мерзавец, почему и прошу избавить меня от вашего общества. Спокойно-оскорбительные слова задели Бамбоша сильнее, чем если бы он получил пощечину. Он разразился безудержным словесным потоком. — Что у меня нет свидетельства о благородном происхождении… пусть так!.. Что меня не воспитывали в аристократическом пансионате мадам де Бассанвилль, верно… что я мерзавец… ладно, охотно признаю и это… но что я обыкновенный негодяй… с этим я никак не согласен и докажу почему. Думаете, было легко топить Бобино против кабачка Лишамора, проследить вас от дома рыбака Могена до вашего особняка в Париже, войти к вам и жить под видом лакея, отравить воду, которую вы должны были выпить и спаслись только чудом, выстрелить вам в грудь из карабина и, наконец, примазаться к вашей компании здесь, заманить вас как дурака в ловушку, привезти в монастырь Камальдолей и отдать в руки наших людей, чтобы здесь из вас выкачали миллион, и, наверное, не последний? Если все это вы считаете обыкновенным делом, вы дьявольски требовательны. — Молодец, Бамбош! У тебя развито профессиональное честолюбие, ты далеко пойдешь! — одобрительно произнес Мондье. Бесчестные слова бандита, хвастающегося своими преступлениями как подвигами, вывели князя из состояния презрительного спокойствия. Его охватило страшное бешенство славянина, заставившее забыть о том, что он один против трех сильных людей, наверняка хорошо вооруженных и безусловно способных спокойно убить любого. Мишель видел перед собой только палача Жермены, виновника смерти бедной монахини, подлеца, причинившего многим столько горя. Князь глухо вскрикнул, вскочил, бросился на оторопевшего Бамбоша, схватил за горло, швырнул под ноги и воскликнул: — Будь что будет, пусть другие меня убьют, но тебя-то я прикончу, скотина! Все произошло так быстро, что опешившие Мондье и Пьер не успели его остановить. Бамбош уже хрипел, весь посинев, но тут двое опамятовались и пришли подельнику на помощь. Когда Бамбош уже бился в судорогах, а Березов, сдавив ему горло, нажимал на грудь коленом и оказался обращенным спиной к Пьеру, тот выхватил нож и нацелился всадить его князю между лопатками, Мондье крикнул: — Не убивать! Не увечить! Тогда бандит навалился на Мишеля и крепко придавил к полу. Князь, отпустив при этом Бамбоша, моментально схватился с Пьером, пытаясь выбраться из-под него, но тот, чрезвычайно сильный, не поддался. В это время Бамбош успел вздохнуть и зубами впился князю в икры, а Мондье, мигом сделав петлю из шелкового шнура от портьеры, связал пленнику ноги. Русский богатырь отбивался от троих, но не мог сладить. В это время Пьер вскочил и отработанным приемом набросил на противника смирительную рубашку. Когда Березова связали, Мондье, все время сохранявший спокойствие и хладнокровие, приказал посадить князя в кресло. Из предосторожности Пьер привязал спеленатого к высокой деревянной спинке веревкой так, что пленник лишился возможности двигаться. Граф прервал мрачное молчание, сопровождавшее эти приготовления, сказав: — А теперь начнем забавляться. Бамбош хрипел и отплевывался, ругаясь: — Проклятый казак, ты мне заплатишь за это и подороже, чем на рынке! Видя мрачное спокойствие графа, глаза Бамбоша, полные ненависти, и зверскую физиономию слуги, Мишель думал: «Они сейчас начнут как-нибудь особенно жестоко меня мучить, может быть, на всю жизнь изуродуют». Он как молитву повторял про себя милое имя Жермены и ждал, прямо глядя на графа. К его великому удивлению, граф воскликнул: — Отлично! Вот то, что нам надо. Спокойно, не шевелитесь, как говорят фотографы. Он сел против Мишеля, почти касаясь его колен своими. Потом уставился в глаза князя острым, каким-то проникающим вглубь взором. Естественно, молодой человек не понял намерений негодяя и нарочно не отводил взгляда, как бы скрещивая незримые шпаги. Так продолжалось минут пять: ни один, ни другой, казалось, не брал верх в этой то ли странной дуэли, то ли детской игре в гляделки. Мишель начал слегка розоветь, а Мондье, наоборот, — бледнеть. Но вот князь почувствовал некую смутную неловкость, еще не понимая ее причины. — Что вы от меня хотите? — наконец спросил он бандита, продолжавшего спокойно, уверенно смотреть русскому в глаза. — Усыпить вас. Березов засмеялся. — А!.. Сеанс гипноза, — сказал он. — Предупреждаю, вы зря тратите время… Меня уже пытались усыплять, но безуспешно. Я совершенно не поддаюсь так называемым флюидам… А потом… зачем это вам? — Чтобы позабавиться. — Значит, вам это не удастся. — Ошибаетесь, ваши глаза уже начали блуждать… Веки тяжелеют… Вас скоро охватит сон… Вы заснете… Спите!.. Спите… Спите… Я так хочу! С большим усилием Мишель перебарывал уже одолевавший его сон. «Нет, я не засну, — подумал он, — я не хочу засыпать, я не засну». Он напряг все душевные силы, чтобы не поддаться упорному, властному взгляду. Мондье продолжал настойчиво повторять: — Спите… Спите… Спите… Я этого хочу! Березов мучительно сопротивлялся, хотел представиться невосприимчивым, но чувствовал, что его осиливает дремота, и с ужасом думал: если я засну, я стану послушным инструментом в руках мерзавца, и он воспользуется этим и злоупотребит моей волей, вернее, безволием. — Можете продолжать так до бесконечности, ничего у вас не выйдет, — говорил князь, лишь бы не молчать, не поддаться этому властному сильному взору, непонятному воздействию; говорил, отгоняя дрему, говорил, чтобы говорить, и понимал: кажется, этот негодяй его уже одолел. — Можете забавляться, как балаганный фокусник, на меня это не действует. А сам думал: «Неужели я впаду в этот таинственный сон, я же видел, как Мондье погружал в забытье своих карточных партнеров, и в беспомощном состоянии те проигрывали ему крупные суммы… Неужели Мондье действительно обладает такой безграничной гипнотической силой, что она распространяется не только на частные случаи вроде игры в покер[69], но и на многое другое…» Чувствуя, что упорно повторяемый призыв Мондье «спите» действует на него все сильнее, Березов подумал, что резкая физическая боль может его отрезвить, закусил язык и плюнул графу в лицо набравшейся во рту кровью. Мондье отшатнулся и на какое-то время отвел глаза. Мишель вздохнул свободнее и подумал: да, с помощью боли он сможет устранить действие гипноза. Мондье не горячась вытер лицо, сказал Пьеру: — Завяжи ему рот, — и продолжал воздействовать на своего врага со все возрастающей энергией. «Не дурак ли я, — подумал Мишель, — ведь мне только стоит закрыть глаза, и я избегну его змеиного взгляда, который меня мучает». Видя, что Мишель опустил веки, Мондье прошептал: — Вот теперь он в моей воле! Граф стал тихонько нажимать на глазные яблоки князя, все время повторяя: — Вы спите… Вы спите… Так продолжалось минут пять. Потом Мондье знаком показал Пьеру, чтобы тот снял со рта князя платок, и спросил: — Вы спите, князь? К удивлению молчаливых зрителей Пьера и Бамбоша, князь глухим голосом ответил: — Да. — Теперь он в моих руках! — с торжествующей улыбкой воскликнул бандит. — Дело было трудным, это животное меня измучило. Пьер! Подай бордо и бисквит! Твое здоровье, Бамбош! — За ваше, патрон! — сказал Бамбош, чокаясь. — А теперь что вы будете делать? — Увидишь! И будь готов к самым ошеломляющим неожиданностям.
Распив бутылку вина, негодяи подошли к связанному Березову. — Вы продолжаете спать? — спросил Мондье. — Да, — ответил князь невнятно. — Вы будете меня слушаться? Князь не откликнулся, тогда Мондье настойчиво проговорил: — Вы будете меня слушаться, или я вас прожгу насквозь раскаленным железом. Пленник все молчал, граф положил ему на руку палец. Князь застонал, как будто его действительно обожгли нагретым добела металлом. — Вы делаете мне больно, вы меня мучаете… — Будете вы слушаться? — Да!.. — Пьер, развяжите его. Когда Мишеля освободили от пут, он принялся тереть здоровой рукой ту, которую считал обожженной, со лба текли крупные капли пота, и на лице выражалось страдание. Бандит сказал просто: — Все прошло, ожог зажил… Вы больше не чувствуете боли. И в тот же миг лицо князя успокоилось, он вздохнул с облегчением и замер в неподвижности. — А теперь откройте глаза, встаньте и подойдите к камину, — резко приказал Мондье. Князь повиновался; взгляд его был сумрачен и, казалось, ни на что не смотрел. Пошатываясь, нерешительным шагом, он приблизился к камину… Мондье приказал повернуться, князь покорно сделал это и оказался лицом к лицу с Бамбошем. — Вы знаете этого молодого человека? — спросил гипнотизер. — Да… Это Бамбош… мерзавец… месье де Шамбое… плут из шайки… хорошего общества… — ответил русский, глухо и нерешительно. — Правильно… Негодяй, который отравил монахиню, хотел убить вас… ваш близкий друг… вы его любите… уважаете… — говорил Мондье. — Нет!.. — Да… Так надо… Я хочу, чтобы он был вашим другом… Чтобы вы его уважали… Я хочу, чтобы вы о нем отзывались наилучшим образом, когда вернетесь в свет, и относились к нему с большой симпатией… Так надо… — Я согласен… Месье де Шамбое — мой друг… — Пожмите ему руку. Неожиданно князь запротестовал, заявив: — Я не желаю! — Слушайтесь, черт возьми!.. Раскаленное железо!.. Дайте раскаленное железо! — резко выкрикнул Мондье и легонько коснулся кисти Березова. Застонав от боли, Мишель стал умолять о пощаде. Совсем укрощенный, он ответил на рукопожатие Бамбоша и проговорил: — Вы молодец… Я вас люблю… и очень уважаю… — Не правда ли, было очень забавно, когда я отравил монахиню? — спросил обнаглевший негодяй. — Да, очень забавно, — ответил как эхо князь, теперь уже абсолютно лишенный своей воли и подчиненный воздействию жестокого, страшного врага. — На сегодня довольно, — сказал Мондье, — завтра продолжим упражнения. Князь Березов! Когда проснетесь, вы вспомните о моих приказаниях и будете их выполнять, при этом вы забудете о том, что получили их от меня. Вы не станете пытаться бежать, и вам предстоит засыпать по первому моему распоряжению. С удручающей покорностью Мишель согласился: — Да, я буду слушаться. — Вы проснетесь, когда пробьет полночь. — Да. — Пьер, останешься сторожить до утра. Я еще не вполне уверен в князе, чтобы оставить его одного. Пошли, Бамбош.
ГЛАВА 6
На другой день, после полудня, «упражнения», по циничному выражению Мондье, возобновились. К великому удивлению Бамбоша, князь встретил его и Мондье почти дружески, хотя и произвел для этого видимое усилие над собой. Казалось, он, как ему приказал Мондье, забыл то, что делали с ним накануне, примирился с обществом людей, тех, о ком хорошо знал, что они бандиты. Но Мондье было отлично известно, что после одного сеанса действие гипноза не может быть сильным и длительным. При этом он видел и другое: вчерашнего воздействия вполне достаточно, чтобы легко усыпить князя снова. Он приказал Березову сесть, и тот без возражений занял кресло. Еще не глядя гипнотизируемому в глаза, граф заговорил о том, как приятно вздремнуть, и почти дружески сказал: — Князь, я вижу вам очень хочется спать, вы зеваете во весь рот! Не стесняйтесь, дорогой… спите! Спите, говорю вам! Мишель бессознательно воспротивился приказанию. Может быть, ему смутно вспомнилось происходившее накануне, но Мондье одним пронзительным взглядом пригвоздил его к месту. — Спите! — сказал он повелительно. — Спите!.. Я так хочу! — Я сплю, — покорно ответил князь. — Как?.. Уже застрелен? — цинично спросил Бамбош. — Ты же видишь, мой мальчик. Этот силач, что мог бы выпустить кишки нам обоим и как спичку переломить Пьера, стал теперь в моих руках слаб, точно ребенок, и я могу заставить его быть слепым, глухим, немым и нечувствительным к боли. Можешь попробовать. Бамбош со злобным смехом взял острый стилет[70] и собирался воткнуть его в подушечку пальца князя, зная, что это одно из чувствительных мест. — Подожди, — остановил его Мондье и сказал: — Князь, вы нечувствительны к физической боли… Бамбош проткнул палец насквозь, и Березов никак не отреагировал. — Совершенно необычайно… удивительно!.. — сказал негодяй, не веря своим глазам. Потекла кровь, Мондье приказал Пьеру перевязать рану и сказал Мишелю: — Когда проснетесь, вы ничего не почувствуете, это простой укол… — Помолчав, граф пояснил своим: — А теперь, когда он уснул достаточно глубоко, чтобы подчиниться всем моим внушениям, займемся серьезными делами… Березов, садитесь за стол и пишите то, что я вам буду диктовать. Распоряжение было выполнено беспрекословно и точно.— «Моя дорогая Жермена», — начал граф. При этих словах князь встрепенулся и лицо его осветилось улыбкой. Он зашептал как во сне: — Жермена!.. О! Жермена… — Пишите! — приказал Мондье. — «Моя дорогая Жермена… я долгое время думал, что люблю вас…» — Да, я люблю ее, — сказал Мишель. — О да!.. — Нет, вы ее не любите… Это неправда… — жестоко прервал преступник. — Вы не можете ее любить, я этого не желаю… Это невозможно… Он продолжал диктовать, а князь покорно писал:
«Но чувство, которое я к вам питаю, на самом деле — чисто братское. Другой человек вас любит истинно и верно: он достоин вас, он очень богат и имеет все, чтобы сделать вас счастливой. Любите же и вы его, выходите замуж и забудьте меня. Ваш преданный друг, Мишель Березов».Когда это весьма странное письмо было закончено, бандит продиктовал несчастному завещание, по которому тот оставлял в наследство графу Мондье все свое имущество и обеспечивал Бамбошу ренту в пятнадцать тысяч в год, а все прежние распоряжения аннулировал. — Совершенно чудесно! — воскликнул Бамбош в полном восторге. — Да, это уже сильно, но скоро ты увидишь еще кое-что покрепче! Обратившись к Мишелю, граф распорядился: — Когда я вас разбужу, вы скажете, что не любите Жермену, что вы будете просить ее примириться со мной и выйти за меня замуж. Потом, поскольку ваша жизнь станет совершенно бесполезной и бессмысленной, возьмете из этого вот шкафа револьвер и застрелитесь. Слушайтесь меня, я так хочу, так надо. Когда проснетесь, вы забудете, что это я приказал, вы все сделаете так, как будто это ваши собственные мысли. А теперь — проснитесь! Но князь почему-то не очнулся сразу, Мондье сильно подул ему в глаза и тот вздрогнул, потянулся, удивленно посмотрел вокруг. Бамбош и Мондье отошли на другой конец комнаты и шепотом переговаривались. — Значит, он сейчас застрелится? — спросил Бамбош, по-детски радовавшийся тому, что получит по завещанию такое богатство. — Нет, потому что револьвер не заряжен. Надо, чтобы самоубийство выглядело как добровольный акт, он покончит с жизнью в тот час, когда я назначу, а сейчас будет только репетиция. В это время Мишель тер себе глаза, проводил рукой по лбу и смотрел вокруг с измученным видом. Он был словно в раздумье, несколько раз вставал, опять садился, наконец принял какое-то решение, стоившее ему душевной борьбы, пошатываясь направился к Мондье. Князь двигался очень медленно, как бы нехотя повинуясь чьему-то приказу. Бандиты с тревогой наблюдали. Мондье был не вполне уверен в полноценном действии гипноза и со второго сеанса. Когда Мишель встал перед Мондье, на лице молодого человека изобразилось мучительное колебание… Чувствовалось, что он хочет что-то сказать, но не может решиться. Наконец он заговорил спотыкаясь и будто подыскивая слова: — Граф де Мондье, это правда… Я не люблю Жермену… Я обещаю… Да, обещаю склонить ее выйти за вас замуж… — Хорошо! Очень хорошо, князь, меньшего я от вас и не ожидал. Мы всегда были друзьями, и между нами не должно быть никаких недоразумений. И я рассчитываю на вашу помощь в моей женитьбе на Жермене. Но несчастный молодой человек уже не слушал его, он весь был поглощен мыслью о самоубийстве и шел к шкафу, где на фоне гранатового бархата висело разнообразное оружие. Осмотрев коллекцию, он взял револьвер, повертел в руках, уронил, поднял и, тяжело вздохнув, сел в кресло. Какое-то время он смотрел на кольт[71], как бы не зная, что с ним делать, потом решительно приложил дуло к груди и нажал курок, тот щелкнул, и князь потерял сознание. Он был столь измучен насилием над чувствами, мыслями и волей, что воспринял холостой выстрел как настоящий. Оружие выпало из руки, и Березов погрузился в глубокий, как после тяжелого труда, сон.
Когда долгое время спустя Мишель очнулся, он был в комнате один: электрические лампочки ярко горели, и на столе красовалась даже на вид вкусная пища и бутылка выдержанного вина. Голодный князь с удовольствием принялся за еду, ничего уже не опасаясь, потому что в его сознании реальное причудливо смешалось с воображаемым, внушенным Мондье. Сила внушения подействовала так, что молодой человек уже не удивлялся отсутствию ненависти и презрения к Мондье и Бамбошу. Он совершенно не понимал, отчего произошла перемена и сумятица в его мыслях, ведь Мондье каждый раз с напором твердил: «Вы не будете помнить, что эти мысли внушены мною». Увидав на столе письмо к Жермене, намеренно оставленное графом на виду, Мишель его прочел и нашел совершенно естественным. Несколько раз проглядев строки, от которых три дня назад он подскочил бы в удивлении, князь прошептал: — Как странно… Значит, я любил Жермену… Да нет… она моя сестра, мой друг… Я всегда звал ее сестричкой… Это Мондье в нее влюблен… Раз он любит, так пусть женится… В тот же день Березова оставили в покое, лишь назавтра в то же время пришли Мондье и Бамбош. Графу достаточно было провести перед лицом князя рукой и сказать: «Спите!», чтобы тот немедленно впал в забытье. И гипнотизер повторил в прежнем порядке все ранее данные приказания: — Напишите, что не любите Жермену… Напишите завещание на мое имя… Застрелитесь… Клянитесь расположить ко мне Жермену. Запомните: ваш друг Бобино — дрянь, он обворовывает вас и смеется над вами, его надо прогнать… Наконец вы совершите бессмысленные поступки и будете считать себя сумасшедшим… Потому что вы и есть умалишенный, дорогой князь, да, умалишенный, и в припадке безумия вы застрёлитесь, когда я вам прикажу. Если кто-либо усыпит вас, я приказываю не говорить в беспамятстве того, что вы знаете обо мне… Вы никогда не сболтнете о том, какие приказания я вам давал… Вы об этом ничего не будете знать!.. Я так хочу!.. Так надо! Вы поняли, князь?.. Вы ничего не будете знать! Клянитесь! Березов, совершенно подчинившийся гипнотическому воздействию, покорно повторил: — Да, я убью себя, когда вы прикажете… Зачем мне жить?.. Я убью себя… убью! Чтобы окончательно закрепить в сознании Мишеля действие гипноза, Мондье повторял сеансы по нескольку раз в день. На четвертые сутки князь начал ощущать действие воли Мондье на расстоянии. Шестым утром, уезжая по делам, Мондье сказал Бамбошу, что усыпит Березова, находясь сам в городе и, к великому удивлению графского любимчика, князь лег и закрыл глаза в назначенный час. Во время каждого сеанса граф настойчиво повторял: — Вы не скажете, что это именно я вам внушил… Находясь под гипнозом другого лица, вы ничего не сообщите обо мне ни в состоянии сна, ни после пробуждения. Не реже двух раз в неделю будете извещать меня, где находитесь, что делаете, и явитесь ко мне по первому приказанию. Вы клянетесь в этом? — Клянусь! — поспешно отвечал Березов. — Вы всегда будете моим другом, не так ли? — Да, я ваш друг и всегда буду им. — Очень хорошо, дорогой князь! Завтра вы встретитесь с Жерменой и с ее сестрами. Для них и для Бобино вы будете лишенным рассудка. — Да. — А теперь проснитесь. Князь Березов тут же встрепенулся, дружески пожал руки обоим бандитам и заговорил самым сердечным тоном с людьми, подчинившими себе его волю, превратившими красивого, мужественного и умного человека в род машины, не способной мыслить, чувствовать, совершать осознанные поступки! На другой день, когда стемнело, Мондье распорядился, чтобы князя отвезли к первым домам Неаполя. Предварительно граф внушил: идти оттуда прямо в свой отель.
ГЛАВА 7
Экспедиция русского консула, с которой ездил Бобино, как уже известно, не дала никаких результатов, но консул сказал, что назавтра встретится с начальником неаполитанской полиции и заставит его мобилизовать на это дело своих карабинеров[72]. Верный данному слову, в особенности если оно касалось соотечественника, консул с Бобино в качестве основного свидетеля были у главного городского полицейского чуть не спозаранок. Пока он говорил, а затем Бобино рассказывал, как исчезли князь Березов, месье де Шамбое и его слуги, полицейский не к месту улыбался. Походило на то, будто страж порядка испытывал некую странную гордость, точно и сам разбой, и ловкость бандитов составляли частицу славы его страны. А выслушав, он сказал, что не может поверить в похищение ландо злоумышленниками. — Разбойниками? А вы точно уверены, что это были разбойники? — вопрошал он. — У нас много толкуют о такого рода преступниках, но говорят больше всего об этом иностранцы. Лично мне бандиты встречались очень редко… Иногда бывает, что группы нищих зарабатывают на пропитание, запугивая прохожих. А некоторые называют это грабежом. Удивленный таким объяснением, консул возразил довольно резко: — Мне кажется, что те, кто останавливает экипажи, стреляет в путешественников, захватывает их, чтобы потребовать кошелька или жизни, это и есть настоящие разбойники, но отнюдь не безобидные попрошайки. — Согласен с вами, — ответил начальник полиции. — Но я располагаю статистическими данными о происшествиях, подобных тому, о каком вы рассказываете, и доложу вам, что они случаются не чаще, нежели крушения на железной дороге или встречи с бешеной собакой. — Будь по-вашему. Однако я веду речь не о положении с разбоем вообще, а о конкретном случае: четыре человека, в числе которых один русский подданный, были захвачены настоящими бандитами, и я требую, чтобы вы немедленно организовали розыск пропавших и поимку преступников. — Вы позволите дать вам хороший совет? — посмеиваясь спросил начальник полиции. — Что ж, пожалуйста, — ответил представитель русского государства. — Не беспокойтесь об исчезнувших господах… Они скоро вернутся сами целыми и невредимыми… А разбойники… вернее те, кого вы зовете разбойниками… люди не злые… я в этом уверен… они лишь стребуют маленький выкуп… несколько серебряных лир[73]… сущие пустяки… и пленники вернутся здоровыми и веселыми, довольные тем, что смогут без конца рассказывать о своем приключении в опереточном стиле. — Похоже, он получает свою долю от преступников и смеется над нами, — шепнул Бобино консулу. — Нет, я этого так не оставлю, — твердо сказал представитель России. — Я требую немедленных мер, иначе мне придется доложить правительству его императорского величества. Начальник полиции нахмурился и завилял. Он сказал: — Не стоит, господин консул, разжигать из рядового дела дипломатический конфликт. Я сейчас же займусь этим и сделаю все от меня зависящее. И попросил Бобино снова изложить показания и собственноручно их записал, благодарил, давал заверения и обещания. В результате карабинеры обыскали неаполитанские леса километров на сорок в окру́ге, но, разумеется, никого не поймали и не нашли. Что было, впрочем, в порядке вещей.Тем временем три сестры с ума сходили от беспокойства. Особенно, конечно, пребывала в смертельном страхе за судьбу князя и несказанно страдала Жермена. Она целыми днями плакала, а по ночам не могла спать. Зато Бобино все-таки надеялся, что разбойники, вопреки тому, что говорил этот пройдоха начальник полиции, возьмут с князя большой выкуп и — тут уже подтверждал и полицейский — отпустят его, как только получат деньги. Утром, на восьмой день после исчезновения Мишеля, в коридоре отеля раздался шум и громкие голоса. Кто-то произнес имя князя Березова, потом в их прихожей затрещал звонок, и Жермена в радости закричала: — Это он!.. Это он!.. Это Мишель! Она сама побежала открывать и упала в его объятия. Он говорил, обнимая ее: — Да, это я… Это я, Жермена! Друзья! Не беспокойтесь обо мне больше! Я вернулся живым и здоровым! Жермена, плача от радости, допытывалась, как он себя чувствует, не ранен ли. Она смотрела страстным взглядом, засыпая вопросами: — Что с вами делали?.. Вам не причиняли боль?.. Где вы находились столько дней? Я умирала от страха за вас! Мы должны скорее уехать из этого противного места! Сестры тоже допытывались, только более робко, а Бобино, светясь милой улыбкой, порывался, в свою очередь, вставить слово в общий хор радостных и тревожных слов. А князь, здороваясь со всеми, рассеянно пожал Бобино руку и не выказывал к нему прежнего братского отношения, всегда так радовавшего типографского рабочего, хотя ведь юноша не навязывался в дружбу знатному барину. Мишель сам почти насильно заставил относиться к себе как к близкому и звать на «ты». Сейчас парень прямо застыл от холодного рукопожатия князя и от его обращения на «вы». Бобино просто не знал, как теперь себя вести, когда князь устало и равнодушно сказал: — А! Это вы… Рад вас видеть, право, очень рад, — и, повернувшись к нему спиной, стал обнимать Берту и Марию, любовь к ним не была искалечена внушениями Мондье, и князь говорил нежные, ласковые слова. — Милые мои детки! Дорогие мои сестрички! — твердил он, обнимая и целуя их. При этом Мишель даже весь преобразился от радости. — Как долго тянулось время вдали от вас, как я тревожился… Я уже терял надежду вернуться к вам… Думал, как вы будете жить без меня? А вы, я уверен, тоже скучали о старшем брате? При словах старший брат русский осекся, будто сказал нечто недозволенное. Он по-прежнему испытывал братскую любовь к сестрам, такую же сильную, как тогда, когда был переполнен нежной страстью к Жермене. Но сейчас это потускнело, почти погасло под воздействием гипноза, и молодой человек спрашивал себя: откуда, почему возникло в уме название старший брат, ничего, собственно, не означавшее для него. Только один Бобино, которого удивили вид и странное поведение князя, отметил его замешательство. Обеспокоенный переменой в облике и манерах Березова, человека столь выдержанного, и желая разобраться в происходящем, Бобино начал задавать вопросы. — Скажите, пожалуйста, что с вами там происходило? Князь ответил спокойно, будто с ним не случилось ничего необычного.: — Меня увезли люди в масках… очень далеко… с завязанными глазами… часть ночи… с разбойниками… с очень симпатичными людьми!.. — А что они делали с вами эти восемь дней? — Очень хорошо ухаживали… я жил в подземном дворце… с электрическим освещением… везде пышные ковры, мебель дорогой работы… Предметы, какие бывают в самых богатых домах… прекрасная кухня… дорогие вина… И люди… Люди… благовоспитанные… как в лучшем обществе… — Но почему же вас захватили в плен? — Не знаю… — И они отпустили вас так просто… не потребовав выкупа? — Честное слово, не знаю… не думаю… — Зачем же все-таки они позволили убить некоторых из своих, чтобы захватить нас? Ради чего такая жертва с их стороны, если они не хотели выкупа? — Не знаю… — ответил князь со скучающим усталым выражением в голосе. — Что касается месье де Шамбое… его слуг… мы ничего о них не знаем, — продолжал Бобино. — Это по меньшей мере подозрительно… Они исчезли вовремя, когда мы начали драться с разбойниками… Здесь что-то нечисто… — Ничего подозрительного тут нет! Месье де Шамбое — настоящий джентльмен… Он мой друг! Сделайте одолжение, прошу вас не говорить о нем ничего плохого! — неожиданно горячо заступился князь. Бобино, совершенно озадаченный ответом, расстроенный непривычно сухим и холодным тоном, грустно замолчал и посмотрел на Жермену, та тоже была в недоумении. Она попыталась продолжать расспросы, надеясь, что Мишель обмолвится каким-нибудь словом, что позволит разгадать некую тайну, почти наверняка страшную. — Скажите все-таки, эти люди, что вас похитили, эти разбойники, кто же они такие? Знаете ли вы их имена, видели ли их лица, могли бы их узнать? Ведь, быть может, вы помогли бы полиции… Мишель довольно резко прервал Жермену: — Повторяю, они очень хорошие люди! Предупредительные, вежливые, обходительные. Почему вы настроены против них? Они не сделали мне ничего плохого… Оставим это, мне надоело. Побеседуем лучше о другом. Заметили, что на все вопросы князь отвечал либо очень неопределенно, либо с раздражением, удивлявшим и огорчавшим друзей. Его словно подменили: всегда добрый, благожелательный и умный, он стал раздражительным, и его ясная мысль будто затуманилась. Бобино, Жермена и сестры думали со страхом: не подвергали ли Мишеля каким-нибудь мучениям, что подействовали на его психику… Всеми способами друзья пытались его развлечь. Распорядились подать в комнату вкусный ужин с бордо, его ценил Мишель, хотя пил очень немного. Застолье в кругу близких князю как будто понравилось. Он выказывал дружеское расположение к Жермене и ее сестрам, но с Бобино обращался холодно, точно затаив что-то против него; это все более огорчало и беспокоило типографа. Жермена еще сильнее, конечно, страдала, видя, как переменился Мишель. Хотя он говорил с ней приветливо и вежливо, прежней страстной любви больше не чувствовалось, остались только учтивость хорошо воспитанного мужчины и чисто приятельская симпатия. Пальцы уже не касались ее руки с трепетом, и в голосе не звучали привычные ласковые интонации. Хорошо поев и сказав несколько приветливо-сдержанных фраз, Мишель объявил, что очень устал и хочет спать. Жермена не знала что и подумать, когда он, уходя, лишь пожал ей руку. Она шептала про себя: «Он меня больше не любит… Я это вижу… Я чувствую это… А я!.. Господи, Боже мой!.. Если бы он знал о моем секрете! О секрете, что мучает меня с первого дня, как я его увидела. Нет! Я буду бороться, я лучше умру!.. Он ничего не узнает… Теперь в особенности!..»
ГЛАВА 8
Проснувшись очень рано, Березов остался в спальне разбирать почту. Он вскрывал большие пакеты, накопившиеся за неделю, распечатывал письма, бросал в корзину те, что считал ненужными, ставил пометки на требующие ответа, откладывал, чтобы прочесть, послания близких. Бегло просмотрев несколько газет, позевав над политикой, пожав плечами над светской хроникой и нахмурясь при чтении идиотских сплетен, называемых «бульварными», князь позвонил и попросил подать завтрак. — Месье будет кушать один? — спросил слуга. — Да, и в своей комнате. Не спеша закусив, выпив кофе и ликера, спокойно подымив первой папиросой, столь любимой завзятыми курильщиками, он взял четыре листа, испещренных мелким, убористым почерком. Прочитав, он снова закурил и, глядя на кольца голубого дыма, задумался: «Милый Морис! Он, видимо, всерьез… Похоже, что это настоящая любовь с первого взгляда!.. А почему бы и нет? Сколько страсти! Но, может быть, он идеализирует свой предмет со свойственной художнику пылкостью…» Было уже два часа пополудни, четырнадцать, как говорят в Италии, где циферблаты делятся на двадцать четыре части. Вместо того чтобы по обыкновению отдохнуть в это время, князь постучал в комнату Жермены. Девушка, как всегда, протянула руку, и он с привычной вежливостью поцеловал. — Добрый день, дорогая Жермена. — Добрый день, Мишель… дорогой друг. — Хорошо ли почивали? — Прекрасно!.. А вы, мой милый пленник? — Вот странность: я и забыл о времени, проведенном в неволе. — Вы поздно проснулись? — Нет, но я возился с почтой. — Было ли в ней что-нибудь для нас? — Да, много самых нежных приветов от нашего дорогого Вандоля. — Благодарю. А что он поделывает, наш милый Морис? — Он влюблен… И, кажется, всерьез. Могу прочесть его письмо, если вас интересует, конечно. А вам не хочется выйти на воздух? — Нет, лучше побудем здесь. Сестры пошли погулять с Бобино. — Прекрасно! Значит, мы останемся наедине… как влюбленные… как положено в нашем возрасте и… Но довольно шуток… Как мы договорились в Париже, вы — моя милая сестричка, а я — ваш старший брат. Жермена, слушая веселую болтовню Мишеля, думала: «Я, наверное, ошиблась, он все такой же… Вчера он был усталый, больной, просто сдали нервы…» И она сказала: — Так прочтите же письмо… Вы мне доставите большое удовольствие. — Вот, слушайте.«Дорогой Мишель, не писал так долго не потому, что погрузился в суету парижской жизни, в эту работу бездельников и не из-за лени. Только событие, которое решает мою судьбу, оказалось причиной долгого молчания. Кончаю предисловие, можешь счесть его извинением, и приступаю к рассказу. Суть его проста — я влюблен! Не смейся, князь Мишель! Ты больше, чем кто-нибудь другой, можешь мне посочувствовать. Тебе я могу излить душу, ведь между нами много общего. Итак, я влюблен! Вернее, я безумно, страстно, благоговейно люблю прелестное, божественное создание. Мне не хватает слов, чтобы описать ее тебе. Сто́ит закрыть глаза, как прелестный образ встает передо мной, я вижу ее нежные, полные очарования черты глазами художника и влюбленного и рисую ее по воображению. Моя возлюбленная — блондинка, но цвет ее волос совершенно особенный, неповторимый. Он не по-флорентийски[74] пепельный, не солнечный, как у спелого колоса. Он словно присущ только ей и создан как будто для одного меня, чтобы я увидел идеал, который так долго искал. Цвет ее волос дивно сочетается с темными глазами. Я не представлял себе ни брюнеток голубоглазых, как твоя Жермена, ни блондинок с черными очами, как моя Сюзанна. Да, ее зовут Сюзанной… Это имя звучит как музыка! Мягкий взгляд ее прекрасен, великолепна сдержанная улыбка, она вся восхитительна. Она олицетворяет совершенный образ женщины, здоровой телом и душой! Вместе с тем она парижанка до ногтей, до завитков на затылке, до носков туфелек, таких маленьких! Парижанка во всех своих движениях, непосредственных, не испорченных современным воспитанием. В ее наружности нет ничего общего с небьющимися куклами, сделанными по американскому образцу словно для того, чтобы бесить человека. Моя возлюбленная — настоящая женщина! Ей восемнадцать лет, и она богата. Увы! Слишком богата… У нее нет матери, она живет под надзором бедной родственницы, очень хорошей женщины. Отец любит ее до безумия, но — увы! — это человек из высшего общества, еще молодой, он утешается в своем вдовстве, ведя жизнь весьма рассеянную. Он встречается с дочерью только урывками: иногда за обеденным столом или когда идет с ней в театр, но вообще очень ее балует, а она его обожает. Но этот неуёмный папенька не может сидеть на месте, все время разъезжает по курортам и мечется повсюду, как будто может быть вездесущим. Он постоянно в отлучках, и бедная Сюзанна живет заброшенной. Сейчас, например, он где-то в Италии, думаю даже, что в окрестностях Неаполя, где у него роскошная вилла, и он живет там на широкую ногу. Ты его, наверное, знаешь, но я сейчас не назову его имя. К чему?.. Я его не люблю… Нахожу, что он не выполняет своих обязанностей по отношению к дочери… Оставляет ее то и дело на попечение мадам Шарме, превосходной дамы, и, уезжая, запирает Сюзанну в монастырь Визитации. И вообще, все эти светские люди, которые все время пристают ко мне из-за моих картин… Я их просто не выношу… И этот граф де… Я тебе уже сказал, что отец моей возлюбленной — титулованная особа. Так вот, этот граф, захочет ли он иметь зятем простого художника? Для этого мне надо быть очень состоятельным. Я стану таковым, но я очень тороплюсь имне некогда ждать, пока я разбогатею. Я болтаю, болтаю, как пьяный попугай, и до сих пор еще не сказал, как мы познакомились и полюбили друг друга. Потому что она меня тоже любит, мой дорогой Мишель. Да, она меня любит! Моя дорогая, моя обожаемая Сюзанна! И вера в ее любовь воспламеняет меня, я чувствую себя на небесах от счастья и готов совершать всевозможные безумства! В частности, писать тебе. Ведь тебе должна быть совершенно неинтересна бестолковая болтовня школьника, сбежавшего с уроков…»Мишель остановился и сказал: — Разумеется, меня очень забавляет… интересует его рассказ, а вас, Жермена? — И меня тоже, — ответила девушка. — Все, что касается Мориса, мне важно. Он и мой друг, и я всегда храню о нем благодарное воспоминание. — Нужно ли, чтобы я читал дальше? — Если вам хочется… дорогой Мишель. Князь заколебался, взгляд его стал блуждающим, он с трудом сосредоточился на строчках письма, зажатого в пальцах. В глазах появилось выражение гипнотизируемого, и Жермена испытывала какое-то странное ощущение. Может быть, мерзавец подверг Мишеля действию гипноза на расстоянии? Во всяком случае, воля несчастного молодого человека была явно подавлена и подчинена загадочному влиянию, которого Жермена не могла понять. Он пробормотал: — Письмо Мориса в самом деле очень длинное… Такое длинное… Прямо бесконечное… Прочитано четыре страницы… Осталось еще столько же. — Разве вам не хочется узнать фамилию его возлюбленной? Ее отец из вашего круга, может быть, вы с ним знакомы. Не исключено, Морис назвал это имя в последних страницах. Она почувствовала, как сердце сжалось от тяжелого предчувствия; такое часто происходит с нервными людьми. Мишель тяжело дышал, и губы подергивались словно от подавляемой зевоты. — Давайте не будем читать дальше, хорошо? Тем более, мне надо очень серьезно с вами поговорить. А письмо Мориса… влюбленного Мориса может послужить введением к беседе. Жермена подумала: «Восемь дней назад одного слова, даже намека было достаточно, он бы немедля сделал то, что я захотела… Мое желание было законом, которому он с радостью повиновался. А теперь едва смотрит на меня, не скажет ни одного ласкового слова, скучает, находясь рядом. Боже мой! Боже мой! Что произошло во время этого необъяснимого отсутствия?» Поколебавшись немного, Мишель заговорил очень мягким тоном, почти ласково, будто хотел, чтобы Жермена сразу послушалась. — Вот, Морис пишет, что хочет жениться на любимой. Я его нисколько не осуждаю, но это, естественно, заставляет размышлять о вас, Жермена, о вас, чье будущее меня так заботит. Мой друг, моя дорогая сестра, не пора ли вам подумать о своем будущем? — О моем будущем? — с удивлением спросила Жермена. — Да, именно так. Ведь не можете вы постоянно жить под опекой человека моего возраста, кто является вашим братом только из чувства симпатии. — Я не понимаю. — Сейчас объясню: я должен это сделать… Это необходимо… Я не могу поступить по-другому. Говоря так, молодой человек, казалось, делал над собой страшные усилия, поступал против воли, покоряясь какой-то чужой враждебной силе, и очень страдал. Он продолжал, и голос его стал почти беззвучным, невыразительным: — Ваши сестры моложе, у вас нет опоры для семьи, жизнь трудна… Вам нужен человек, кому вы могли бы излить душу, опереться на него… Вы из тех женщин, что имеют возможность выбирать мужа среди самых богатых, самых знатных, самых высокопоставленных… Тот, кому вы окажете честь, отдав ему руку, будет счастливейшим из счастливых, ведь вы подарите избраннику не только божественную красоту, но и душу, мужественную и гордую… сердце, которое дороже всех сокровищ на свете… Жермена, вам необходимо выйти замуж! — Нет! — решительно сказала девушка, и ее большие голубые глаза, всегда такие ласковые, сделались мрачными. — Так надо! Так надо, Жермена… — твердил Березов все тем же безжизненным голосом, в нем слышались странная покорность и страдание. — Князь Мишель! — заговорила Жермена твердо и звонко. — Когда мы были еще в Париже, я высказала свои сокровенные мысли в ответ на предложение стать вашей женой. Я объяснила, что не могу испытать сердечной склонности, пока не отомщу негодяю, похитившему меня у меня самой, что душа моя полна ненависти и жажды мести. Сердце мое закрыто для увлечений… Мне нужно отмщение, и оно должно быть ужасным, неумолимым и полным. И когда я смою пятно позора, тогда, может быть, нежная страсть придет ко мне. Мишель не внял возмущенному протесту и, к удивлению Жермены, продолжал настаивать на своем. — Дорогой друг… милая сестра, из братской привязанности к вам позвольте убедить… умоляю… я не буду говорить о сердечной склонности, если решено, что мы с вами брат и сестра… мы ведь и в самом деле как брат и сестра… Ошеломленная Жермена уже ничего не понимала. Она думала: «Где же то неудержимое влечение, ради которого Мишель стольким пожертвовал? Страсть, что освободила от оков бессмысленной светской жизни, возродила душу… Что же… Ничего не осталось? Мишель не любит меня больше?» Девушка лишалась сил. Ей казалось, что она умирает, настолько глубоко было душевное потрясение. Князь тоже явно страдал, но он уже совершенно не управлял своей волей и только повторял как фонограф[75], будто подстегивая себя словами: так надо… так надо! Жермена слушала его, совершенно раздавленная горем, и думала все время: «Он меня не любит… Он меня больше не любит». Мишель говорил: — Вы чуть не лишились меня… Я был схвачен… Могли убить… Предположите, что я мертв… Что стало бы тогда с вами? Представьте себе, что скоро меня не будет… Я предчувствую, это случится… Что вам делать, когда я умру? — Если такое горе постигнет меня, я останусь жить, храня в душе память о тяжкой утрате и вечную благодарность за все ваши благодеяния. Буду вечно оплакивать вас и всю жизнь носить траур в сердце. Слова Жермены, что прежде восхитили бы Мишеля, теперь лишь усиливали его страдание. Он говорил: — Не об этом я спрашиваю… Я для вас единственная опора… Подумайте… что с вами станет без меня? — Буду жить своим трудом с сестрами, как раньше, пока не случилось ужасное несчастье. — Нет! Это невозможно! Это не то, что вам надо! Вы должны блистать в свете, он едва приоткрылся перед вами. Там ваше место, причем первое и давно вам предназначенное. В ответ на протестующий жест Жермены Березов продолжал настаивать быстро и невнятно, будто повторяя затверженный урок, словно неведомая сила заставляла его произносить слова, те, против каких душа князя восставала. Короче говоря, он уже не был самим собой. Жермена это ясно видела, но не могла понять, почему так происходит. — То, чего я хочу для вас, дорогая, любимая сестра, — это встретить человека сильного, умного, преданного, кто положит состояние к вашим ногам, будет обожать вас как святую, как мадонну. Богатый, он окружит вас роскошью, достойной вашей красоты. И такой человек существует. Он вас любит, он не раз доказывал вам свою любовь. Мишель все более возбуждался, и было видно, что он жестоко страдает. — Он вас любит… Он вас любит! — Довольно! Замолчите! — воскликнула Жермена. — Вы будете графиней… — Замолчите!.. Замолчите!.. — Графиней де Мондье!.. Вот, я все сказал… Графиней де Мондье… Так надо! Услышав омерзительное имя, Жермена бросилась к князю, совсем уже изнемогавшему, и, глядя ему в глаза, произнесла слова, разрывавшие ей самой сердце: — Подлец!.. О подлец!.. Будьте навеки прокляты за то, что оскорбляете гнусными предложениями, гадким именем! Рыдая, задыхаясь и ломая руки, она кричала: — Подлец!.. Да, подлец!.. Зачем вы меня спасли? Зачем вы лгали?! Меня не было бы в живых… Меня забыли бы… Я не терпела бы этих ужасных мук! Это вы их навязали! Я их не заслужила! По какому праву вы сохранили мне жизнь? А теперь оскорбляете меня! Березов в изумлении смотрел, не понимая, почему она в таком негодовании. Теперь, в свою очередь, он горестно восклицал: — Жермена! Дорогое мое дитя! Простите… Вы же хорошо знаете, я люблю вас всем сердцем, я на все готов, чтобы доказать привязанность к вам. Я совсем не подлец! Потом он заговорил беззвучным, каким-то потусторонним голосом без интонаций, что так пугал Жермену: — Я не подлец, я безумен… — Вы… сумасшедший?! — Ну да… помешанный. Вы это отлично видите. Из тех, кого сажают в сумасшедший дом, где надевают смирительные рубашки… обливают холодным душем… Понятно вам… У меня поврежден рассудок… Вот почему я вас больше не люблю как возлюбленную… Если бы так не было!.. Если бы… Потому что я совсем недавно перестал вас любить как возлюбленную… то произошло… произошло… Я не помню когда произошло… Честное слово, я ничего не помню… Вот так же у меня с Бобино… Я его еле терплю… Но я с ним остаюсь приветлив… Жермена чувствовала себя убитой и тихо плакала. Не в силах остановить почти бессвязного потока слов, Мишель продолжал скороговоркой: — Я вам сообщу большой секрет, но вы его никому… Я должен покончить с собой… очень скоро, через восемь… через пятнадцать дней. Точно не могу сказать. В общем, скоро. Жермена, обезумев от ужаса, бросилась к нему, умоляя: — Не покушайтесь на себя!.. Это безумие! — Я же сказал, что потерял разум… Я уничтожу себя, чтобы всем доказать это. Раз так надо… Повторяю: когда я умру, вы останетесь без опоры в жизни… Мондье вас обожает… выходите замуж… При этом имени Жермену снова охватили возмущение и ужас. Будто не понимая ее состояния, князь продолжал повторять как заученный урок: — Я знаю, Мондье виноват перед вами… Очень виноват. Он поступил как не смеет… порядочный человек… Он намерен загладить вину… Достойным образом… Всякий одобрит его теперешний поступок. Жермена сидела с расширенными глазами, не зная, что сказать и что думать. Она смутно чувствовала, что Мишель говорит не по своей воле, и в отчаянии спрашивала себя, почему так происходит. Никогда прежде он не упоминал о произошедшем с ней несчастье, не произносил имени ее оскорбителя. Отчего такая перемена? Кто совершил насилие над его рассудком, до тех пор совершенно здравым? Мишель, бледный, с лицом залитым потом, руками и ногами, сведенными судорогой, совершенно измученный душевной борьбой, все-таки продолжал говорить, совершенно не замечая, какие страдания заставляет терпеть Жермену. Речь убыстрилась, сделалась ровней. — Да, Мондье именно тот человек, что вам нужен, вы не можете рассчитывать ни на кого другого. После того, что произошло между вами, никто, кроме него, не захочет на вас жениться, бедная моя Жермена… Когда такое случается с девушкой… всякий думает, что она отдалась по своей воле… Вам будет трудно оправдаться. Оба чувствовали себя совершенно уничтоженными после этой сцены и не могли остановиться, прервать себя и другого. У Жермены уже не осталось сил для возмущения, просьб, жалоб. Она твердила почти столь же бессвязно, как Мишель: — О князь!.. Князь Березов… Это плохо… Очень нехорошо!.. Вы обо мне не судили так прежде… когда вы меня… Она чуть не сказала: когда вы меня любили, но удержалась. Ей уже хотелось забыть об этой любви, которую она начинала проклинать. — Что я вам сделала? Почему вы так себя ведете со мной? Лучше расстаться тогда навеки… Предоставьте меня и сестер нашей судьбе… Наконец Бобино и сестры услышали рыдания. Они вбежали, не постучавшись, забыв от испуга о приличиях. Не успели ничего спросить, как Жермена, стараясь говорить твердым голосом, сказала: — Нам следует возвращаться во Францию… Скорее уехать из этой проклятой страны… Не нужно было сюда приезжать. Мы отправляемся сегодня же, сейчас же… Слышишь, Жан?.. И ты, Берта, и ты, Мария, вы слышите? — Да, Жермена, мы едем, — отвечали трое, даже не спросив, отчего такая спешка. Они подумали: произошло что-то ужасное. Друзья привыкли повиноваться Мишелю — он ведь был тут и не возразил, значит, Жермена приняла решение с его согласия. Но старшая сестра говорила нечто странное: — Мы вернемся к нашей трудовой жизни. Мы не боимся работы… Мы сумеем обеспечить себя собственным трудом… Нельзя дальше существовать на средства князя… Наше достоинство не позволяет!.. Тут с Мишелем сделался нервический припадок, при этом луч ясного сознания блеснул в глазах. Он бросился на колени перед Жерменой и, задыхаясь, выговорил: — Прости!.. Прости меня, Жермена… Пожалей несчастного… Это не по моей вине… Если бы вы знали… Я вас… Я себе не принадлежу… Проклятье!.. Я умираю!.. Тем лучше! Раньше чем Бобино успел подскочить, чтобы поддержать князя, тот замертво упал ничком и остался недвижим. Бобино положил его на диван, а Жермена и сестры стали звать на помощь. Прибежали люди, и слуга, прикрепленный в пансионате к их номерам, отправился за врачом. А пока что Бобино растирал Мишеля, Жермена подносила нюхательные соли[76] и, плача, быстро говорила другу: — Что сделали с ним? Почему, всегда добрый, преданный, он столь переменился? Бобино, тоже недоумевая, отчего упал в обморок сильный молодой мужчина, отвечал: — С ним происходит что-то ненормальное, подозреваю, его там чем-то опоили, чтобы одурманить. Он стал неузнаваем после своего таинственного исчезновения. Жермена, моя добрая Жермена, мы ему должны все простить! Что с ним будет без нас, с бедным нашим Мишелем? О каком нашем отъезде может идти речь? Врач, не зная причины внезапного недуга, прописал обычные в похожих случаях лекарства. Они обычно не вредили и не помогали, лекари полагались на волю Божию. Получив положенный гонорар, доктор приличия ради выждал определенное время, чтобы тем самым подтвердить свой успех в лечении. Может, и лекарство подействовало или молодой организм взял свое, но Мишель открыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул, посмотрел вокруг и узнал всех собравшихся. Взгляд его оставался мрачным и рассеянным. Успокоенный и выполнивший долг, врач отправился восвояси. Мишель почти ничего не помнил о том, что произошло, он молчал, боясь снова обидеть каким-нибудь словом Жермену, смотрел с грустной и немного горькой улыбкой, казалось, говоря ей: прощай! Потому что в глубине его души, под воздействием гипноза Мондье, вызревала мысль о самоубийстве. Он обдумывал, каким способом покончить с собой, чтобы не испытывать страданий и не дать окружающим повода догадаться, что он сам себя убил.
ГЛАВА 9
На другой день начальник неаполитанской полиции прислал за князем Березовым, чтобы выслушать показания по известному делу. Мишель не отверг приглашения, написанного в самой учтивой форме. Согласно правилам, иностранец должен являться в полицию вместе с консулом своего государства. Но французский дипломат пребывал неведомо где, его не могли разыскать. Пришлось обратиться к русскому коллеге. Бобино — конечно, и он сопровождал Мишеля, — ворчал и злился, пока экипаж с российским флажком вихрем нес их в полицию. — Решительно, нет ничего неприятнее для француза, чем иметь нужду обратиться за границей к представителю своего правительства, — говорил Бобино. — Да, хитрецы живут спокойно, себя не утруждают. — Мишель, находясь в абсолютно нормальном состоянии, поддержал спутника и добавил: — И совершенно не стыдятся этого. Будьте еще довольны, что они вас тогда не отправили в кутузку. У них, похоже, в обычае так поступать, если проситель осмеливается возвысить голос. Российские, английские, испанские, голландские, немецкие, американские консулы изо всех сил стараются помогать соотечественникам, а вот представители вашей славной республики или просто отказываются принимать посетителей, или обращаются с ними как с назойливыми попрошайками, а то и вовсе, как я вам сказал, норовят усадить под арест, ссылаясь на грубость, проявленную визитером. Правду ли я говорю, мой дорогой? — сказал князь, обращаясь к высокопоставленному соотечественнику. Консул вежливо улыбнулся, но дипломатично промолчал, он бы и рад был пооткровенничать с Мишелем, однако смущало присутствие возмущенного француза. К тому же они подъехали к управлению полиции, где их ожидали. К удивлению всех присутствующих, Березов заявил, что задержавшие его обращались с ним очень хорошо. Он даже не употребил по отношению к налетчикам названия «бандиты» и сказал, что люди эти вовсе не такие плохие, как о них говорят, они очень учтивы, живут отнюдь не в берлогах, а с удобствами, у них прекрасная кухня и отменные вина, и он себя чувствовал там отлично. Бобино слушал эту явную неправду с огорчением, а российский консул решил, что у молодого князя произошла какая-то любовная история, которую он полагает за благо скрыть. Относительно месье де Шамбое и его слуг Березов объявил, что ничего не знает о них. Начальник полиции засиял улыбкой, хотя в душе удивился. — Видите, господин консул, я же был прав, когда утверждал, что их сиятельство вернется целым и невредимым, — говорил он на ужасном французском. — Месье де Шамбое и его слуги тоже никуда не денутся. Их, вероятно, задержал сеньор Гаэтано, а это весьма любезный джентльмен. Конечно, Бобино и теперь не подозревал, что под этим именем здесь известен граф Мондье, похититель Мишеля. — Выходит, что вы его знаете, — очень некстати вмешался Бобино, слова начальника полиции начали злить юношу. Неожиданно представитель власти рассмеялся, чем удивил Бобино, но уж особенно поразил ответом. — Да, молодой человек, конечно, знаю. Еще бы нет! Однажды он захватил меня и агентов, когда мы вечером прохлаждались у моря. Продержал неделю и отпустил без выкупа, отменно вежливо сказав, что был весьма рад познакомиться. И я был в восторге, не меньше, думаю, чем он, от этой встречи. — Для чего же все-таки он вас уволок? — не унимался Бобино, его обеспокоило явное сотрудничество городской полиции с бандитами, это вызывало тревогу за Мишеля, Жермену и ее сестер. Шеф полиции, разумеется, не мог и не хотел признаваться в том, что дерзкий налет синьора Гаэтано на стражей законности и порядка был совершен, во-первых, для того, чтобы их припугнуть, а во-вторых, ради полюбовного уговора о тайном мире и дружбе, как злословили неаполитанцы. Сделка бандитов и полиции стала взаимовыгодной: люди в мундирах получали свою долю от грабежей и поэтому позволяли совершать их зачастую совсем безнаказанно. Бобино быстро это сообразил и очень расстроился. Он понял, что не может рассчитывать на помощь ни французского консульства, ни полиции Неаполя в случае, если с тремя девушками произойдет что-нибудь неприятное. Надеяться на Березова вообще было бессмысленно, видя его странное состояние. Парижанин осознал, что остается единственным защитником для них всех. Он решил, что Жермена рассуждает очень здраво, полагая необходимым уехать как можно скорее во Францию. Но захочет ли князь покинуть Италию? Естественно, Жермена, стольким обязанная Мишелю, не могла покинуть его одного, хотя в приступе гнева и сердечной боли она говорила о готовности убраться отсюда, даже не оставив адреса. Однако Мишель несомненно пребывал в ненормальном состоянии, Жермена уже не сомневалась в этом. Оскорбление, которое он нанес ей, было, конечно, ужасным, но можно ли держать злобу на человека, не отвечающего за свои слова и поступки… Ее охватывал страх, когда она вспоминала, как князь спокойным голосом, словно в состоянии галлюцинации, твердил: «Я покончу с собой… Скоро… Так надо!» Чувствуя, что он исполнит страшное намерение, девушка решила неусыпно наблюдать за Мишелем с помощью сестер и Бобино. И в то же время исподволь напоминать о необходимости отъезда домой. Да, это, конечно, правильнее и благороднее, чем то, что она задумала в гневе: бросить несчастного одного, больного, и скрыться в огромном Париже.Два дня князь как будто не замечал домашней слежки, но оставался мрачным и чем-то озабоченным. При этом он ел с аппетитом, пил довольно много вина, непрерывно курил русские папиросы и ни словом не вспоминал о том, как был захвачен бандитами, и не повторял Жермене чудовищных предложений соединиться навсегда с ее палачом. Березов охотно прогуливался в экипаже, а иногда и пешком в сопровождении Бобино и Жермены, держа ее под руку. Вскоре он пожелал пойти на берег моря и отведать фрутти дель маре[77] — излюбленное лакомство неаполитанцев. Место, куда они пошли, в три часа всегда полно отдыхающих, так что можно было не опасаться нападения. Друзья гуляли уже около часа, Мишель даже повеселел под воздействием оживленной неаполитанской толпы. Подошли к группе рыбаков, одетых по здешним обычаям весьма живописно. Один из них, по-видимому старший, разговаривал с тремя англичанами в клетчатых костюмах, с биноклями на длинных ремешках и с бедекерами[78], гости непрерывно их листали, отыскивая слова для объяснений с итальянцами. Старший из рыбаков посмотрел на Березова пронзительным взглядом, от которого тот весь передернулся, это почувствовала Жермена, они с князем шли рука об руку. При виде этого рыбака девушка тоже пришла в ужас: их взгляды на мгновение встретились, и она едва удержалась от того, чтобы назвать проклятое имя… Она совладала с собой, но подумала: неужели это он? Нет, померещилось, разве не встречается удивительное сходство между людьми, совершенно разными по национальности и происхождению? Что общего может быть между этим моряком, одетым в болтающиеся на ногах штаны, грязную белую рубаху, красный колпак — и элегантным великосветским развратным преступником? Рыбак сказал англичанам несколько слов по-итальянски, смысл их Жермена не поняла. Иностранцы ответили «йес»[79] и захлопнули бедекеры. Туда, где они стояли, подошла большая группа портовиков, наполовину грузчиков, наполовину лаццарони[80]. Они жестикулировали и пели. На какой-то момент эти люди оказались между рыбаками и Мишелем, Жерменой, ее сестрами и Бобино. Возникла небольшая сутолока, и девушка почувствовала, что князь, вместо того чтобы в толпе крепче держать ее за руку, напротив, выпустил из своей. Она закричала: — Мишель… друг мой… куда вы? — и успела мимолетно увидеть его печальный взгляд. И тотчас Березов побежал прочь, расталкивая толпу. Похоже, он действовал, повинуясь все той же таинственной неодолимой силе. Когда толпа прошла, Мишель уже исчез. Бесполезно было бы его искать среди шумной гурьбы веселых южан. Вроде промелькнуло, что русский сел в лодку с несколькими рыбаками и англичанами, но это могло лишь показаться. Страшно расстроенные, все вернулись в отель, решив никому не говорить о новом исчезновении князя, на этот раз, кажется, вполне добровольном. Правда, Бобино тайком от сестер сбегал в российское представительство, где консул принял его без проволочек, внимательно выслушал и сказал: — Друг мой, ведь князь — красавец и, наверное, имеет большой успех у женщин, и мне остается лишь посочувствовать прелестной особе, которая живет вместе с ним и с вами в отеле на улице Умберто. Березов пропадал сутки. Жермена не могла ни есть, ни пить, ни спать, пребывая в страшной тревоге. Эта семейная драма случилась в воскресенье, а во вторник князь явился на извозчике и вел себя так, будто не произошло ничего страшного. Только выглядел он бледнее и мрачнее прежнего. Встревоженные друзья пытались расспрашивать, он устало отвечал: — У меня была куча дел… ходил к нотариусу, к разным чиновникам… обменивался телеграммами с Парижем… с Петербургом… что-то покупал или продавал… не помню точно… слушал скучное чтение гербовых бумаг… подписывал… подписывал… подписывал… Оставьте меня в покое!.. Я хочу смеяться, есть… пить… забавляться… У меня осталось совсем мало времени, чтобы повеселиться… Жермене надо быстрее выходить замуж за графа Мондье… Потому что я покончу с собой… очень скоро… Это решено… Так надо… По-иному невозможно! Молодой человек сомкнул губы и на все дальнейшие вопросы отвечал молчанием, как упрямый ребенок или как помешанный. С этого момента друзья начали еще зорче следить за ним, боясь, что он приведет в исполнение фатальное[81] решение. И все-таки им не удалось предупредить катастрофу, она произошла совершенно неожиданно. Князь все время тайно готовился к самоубийству и сумел всех обмануть. После того, как он был задержан, а потом отпущен синьором Гаэтано и его бандой, он совершенно запустил все денежные расчеты. Пребывание в отеле на улице Умберто стоило дорого, и хозяин, не получив ничего за три недели, прислал счет. Выписана была очень большая сумма, поскольку Березов вел роскошную жизнь, удовлетворяя все свои прихоти миллионера и принуждая спутников к такому существованию, хотя они охотно предпочли бы гораздо более скромный быт. Хозяин гостиницы готов был распластаться во прахе перед князем, получив плату, но если у должника паче чаяния не окажется денег, намеревался не церемониться. В обычное время Мишель достал бы из бумажника пачку банкнот, бросил на серебряный поднос и сказал бы кратко: «Получите». Но тут он холодно, с отсутствующим видом заявил, что у него нет ни сантима, ни лиры, неизвестно, когда у него появятся деньги, и это вообще мало его интересует… Управляющий поднял плечи и величественно пошел доложить хозяину. Жермена, находившаяся в этот момент подле Мишеля, ужаснулась, узнав о его внезапном и необъяснимом обнищании. Привыкшая жить, соблюдая бережливость, экономя каждую монету, аккуратно за все расплачиваясь, предпочитая отказывать себе во всем, девушка почувствовала непереносимый стыд, так же как и ее сестры и Бобино. С их понятиями честных бедняков, им казалось, что они совершили кражу, роскошно живя за счет человека, ставшего почти сумасшедшим и оказавшегося теперь на мели. Из троих только Бобино имел немного денег, оставшихся от той суммы, что князь заставил взять на карманные расходы. Превозмогая чувство неловкости, Бобино решил действовать дерзко, подумав, что человек, с кем ему придется говорить, только такое поведение и понимает. Он гордой поступью прошел к хозяину гостиницы, посмотрел на него свысока и объявил тоном, каким говорят с мелким торговцем, что они скоро расплатятся. Хозяин сказал, что подождет неделю, представитель князя заверил: расплатится дня через четыре. Немного успокоившись после разговора, Бобино навестил князя и почти потребовал, чтобы тот откровенно сообщил ему о состоянии своих финансов. И Мишель уже привычно отвечал: — Говорю тебе, что я без гроша, как выражаются русские. — Как это получилось? — Они… Ты мне надоел с твоими вопросами!.. — Что же теперь делать? — Поскольку граф Мондье женится на Жермене!.. Он за все расплатится, этот мой милый друг. Он расплатится не торгуясь. Он порядочный человек… Жермена станет богатой, графиней… Так надо!.. Так надо! Бобино рассвирепел и, отбросив церемонии, сказал: — Послушай, Мишель! Если бы я не любил тебя и не чувствовал огромной благодарности за все хорошее, что ты для нас сделал, я бы не простил гадостей, какие ты последнее время говоришь Жермене, и застрелил бы тебя. — И оказал бы мне большую услугу, — с грустью сказал князь, к нему на минуту, казалось, вернулось ясное сознание. — Мне бы тогда не пришлось бы самому разбивать собственную башку, постепенно доведенную ими до полной тупости. — Кто? Скажи мне, ради Бога? — Они… Вернее, он. — Кто он? Князя затрясло, глаза помутнели, губы сжались. Бобино подумал, что наконец узнает тайну, мучившую их всех вот уже более двух недель. Несчастный склонил голову, и будто некая сила зажала ему рот и сковала язык. Он еле пробормотал: — Я… Я не знаю… Потом ясное сознание, что все-таки не покидало его окончательно, опять засветилось в глазах, и он сказал: — Мой бедный друг!.. Если бы ты только знал! Я вас всех люблю!.. Но понимаешь?.. Я конченый человек!.. Если бы ты знал, что он со мной сделал!.. Бобино, растроганный, сжимал руки князя и спрашивал, как же им все-таки быть, где взять деньги. — Деньги… У вас ни у кого их нет… У меня тоже, ну и плевать на эти бумажки… Видя, что добиться разумного ответа невозможно, Бобино, желая избавить Жермену от ложного и унизительного положения, решил действовать по собственному усмотрению. Он отправил телеграмму следующего содержания:
«Владиславу, дом Березова, авеню Ош, Париж. Прошу отправить на имя Жана Робера, площадь Урбино, отель, все деньги, которыми вы располагаете. Князю Березову нужны немедленно самое меньшее десять тысяч. Если их у вас нет в наличии, продайте что сочтете возможным. С дружеским приветом от всех нас Жан Робер, называемый Бобино».Типограф знал, что дворецкий имеет от князя полномочия распоряжаться в хозяйстве всем, и вернулся в отель полный надежды. Он думал: Владислав все сделает как надо. Самое большое дня через три я получу нужную сумму, чтобы расплатиться с владельцем отеля, и у меня еще наверняка останется на дорогу в милую Францию! С меня довольно Италии с ее туристами. Она меня навсегда избавила от желания путешествовать! Юноша ждал денежного письма без особого волнения и нетерпения, сказав Жермене и сестрам о том, что он предпринял. Они были уверены, что Владислав знает дела князя лучше, чем тот сам, и справится с несложной в общем задачей. Все же сердце Бобино забилось, когда слуга подал на подносе утреннюю почту. В ней было несколько писем для князя, в их числе три из России, одно из Франции и одно из Италии. Было и еще — для месье Жана Робера, большой, квадратный, из зеленоватого бристольского картона, украшенный царской короной конверт с адресом, написанным крупным ученическим почерком, очень разборчиво. — Письмо от Владислава, — объявил Бобино Жермене, сразу послышалось, как зашуршала бумага: Березов вскрывал конверты. Бобино надеялся найти в адресованном ему пакете переводной вексель, но там оказалось только короткое письмо. Содержание его было очень ясным и трагическим. Бобино читал шепотом, а Жермена с ужасом слушала. Владислав писал:
«Уважаемый месье Жан Робер, в ответ на телеграмму имею честь сообщить, что не могу исполнить Вашу просьбу. Своих денег у меня нет. Его сиятельство не платил мне жалованья, так же как и его покойный батюшка. Я жил как бы на положении члена семьи. Я не имею права продать лошадей, карету, дорогие вещи, совершенно ничего. Дом князя Березова больше не принадлежит его сиятельству, моему хозяину. Согласно нотариальному акту, подписанному в Неаполе в феврале сего года, его сиятельство изволил продать дом со всем имуществом, в нем находящимся, барону де Мальтаверну за наличные деньги в сумме полумиллиона франков. Я не могу теперь взять ни единого предмета, это будет кражей. Я оставлен сторожем до того времени, когда его сиятельство князь Березов, мой бывший хозяин, пожелает вернуть меня себе в услужение. Я не осмеливаюсь его об этом просить и буду вам очень признателен, если вы осведомитесь, нужен ли еще ему верный Владислав. Если он откажется, я покончу с собой, без князя мне жизнь не в жизнь. Примите, дорогой месье Жан Робер, уверение в моем совершенном к вам почтении и преданности.— Все русские как будто тронутые умом: хозяин продает дом со всем имуществом и не получает ни копейки. Собирается покончить с собой. Его управляющий — тоже. Это какая-то болезнь у них… А покупатель — великосветский негодяй, чуть не убивший бедного князя… Я ничего не могу понять! А вы, Жермена? — Я чувствую, что сама схожу с ума, — проговорила девушка. — Сейчас не время терять рассудок, когда мы сидим без сантима в этом несчастном отеле и мы… Громкий звук выстрела в комнате князя прервал его речь. Бобино бросился туда. У Жермены подкосились ноги, и она двинулась следом, шатаясь и схватившись за сердце. Комната была полна едкого дыма. Князь лежал в постели, расстегнув застежку сорочки, правая рука еще сжимала револьвер. Возле подушки вошедшие увидели вскрытое письмо.Владислав».
ГЛАВА 10
Выстрел услышали и в отеле. Переговариваясь и восклицая, со всех сторон сбежались и полезли в комнату любопытные. Примчались хозяин, управляющий, слуги. Целая толпа заполнила спальню. Больше всех был возбужден владелец, он горевал о пропавших деньгах и со злостью смотрел на Бобино, тот поддерживал голову князя. Против всякого ожидания, молодой человек еще дышал, он узнал друга и прошептал: — Бобино!.. Жермена!.. Услышав его, Бобино воспрянул духом и, строго взглянув на хозяина, попросил его немедленно выйти вон, а когда тот попробовал воспротивиться, сказал тоном, не терпящим возражений: — Нам нужен врач, а не праздные зеваки. Поторопитесь! Что касается вашего счета, я попросил четыре дня отсрочки, так и приходите за деньгами послезавтра утром, пока же убирайтесь и очистите комнаты от зевак! Врач, тот, что бывал у князя прежде, подоспел всего через несколько минут после выстрела. Пока доктор осматривал раненого и попросил всех оставить их наедине, Жермена, уходя к себе, взяла письмо, лежавшее на постели Мишеля и пришла в ужас, прочитав его. Строчки прыгали перед глазами. Послание походило на адское наваждение, настолько страшно было его содержание. Ни даты, ни места отправления. Лишь несколько строк, выведенных твердым и очень разборчивым почерком:«Князь Березов. Время пришло. Вы совершенно разорены. Жермена вас больше не любит. Вы сумасшедший… Зачем теперь нужна Вам жизнь? Князь Березов, надо умереть! Умрите!.. Так надо!.. Такова моя воля!И несчастный, совершенно лишенный собственной воли, повиновался странному и чудовищному приказанию с необъяснимой покорностью и решимостью. Жермена окончательно поняла, что ее друг находится во власти силы, какой не может противостоять, против нее невозможно бороться. Ужас объял девушку, несмотря на все ее мужество. Ум и сердце заледенели, она постепенно приходила в полное отчаяние. Пока врач занимался с больным, она думала: кто они, убившие сначала любовь ко мне, а теперь уничтожившие его самого? Мрачный облик графа де Мондье встал перед глазами, возникло представление о страшной действительности. Девушка отважилась вернуться, шатаясь подошла к постели, где лежал князь, все так же без сознания. Врач ощупывал грудь около раны, Бобино сидел в соседней комнате, моля Бога о благоприятном исходе. Кровь едва текла из раны, черноватой, окруженной большим лиловым пятном, она находилась против сердца и, по-видимому, должна была оказаться смертельной. На всякий случай врач достал из своего набора зонд и осторожно ввел в рану. К его большому удивлению, наконечник почти тут же наткнулся на что-то твердое. И доктор сразу подумал, что это пуля, расплющившаяся на ребре. Он еще поискал, зонд сдвинулся с гладкой поверхности, и лекарь сказал вслух: — Зонд пошел вдоль ребра вокруг грудной клетки. Князь Мишель застонал, губы зашевелились, он как будто почувствовал боль. — Он жив! Господи, слава тебе! — воскликнула Жермена. Обрадованный доктор сказал: — Не только жив, но рана не опасна! Ему повезло, честное слово! — Пуля… — проговорил Бобино. — Пуля… Мой дорогой… Помогите-ка мне повернуть раненого. Когда Мишеля положили на бок, врач осторожно провел рукой вдоль ребра, потом сделал маленький надрез ланцетом, слегка нажал, и пуля выпала на ладонь, как косточка из спелого плода. — Пуля… вот она! — Вот чудо! — воскликнул Бобино. — Чудесно и легко объяснимо. Ваш друг очень хотел умереть. Сдвинув левой рукой рубашку и поискав место, где находится сердце, он придавил дуло револьвера к груди, нажал крепко, ради уверенности, что пуля не пойдет вкось, и спустил курок. Пуля, едва вылетев из дула и еще не набрав скорости, скользнула вдоль ребра, не перебив его, и, потеряв силу, остановилась. Видите, как основательно обожжена рана, сколько крупинок пороха попало в тело. — Правда! Чистая правда! — воскликнул Бобино, вздохнув с облегчением. — Доктор, а когда он сможет поправиться? — Дней через десять. Я волью в рану антисептический раствор. Также обработаю снаружи, и заживет быстро. Мишель постепенно приходил в чувство. Он дышал с трудом, но узнал друзей, смотревших на него любящими глазами с беспокойством и состраданием. Князь зашептал ласково: — Жермена!.. Моя дорогая!.. Бобино!.. Друг мой! — Мишель, Мишель! — говорила Жермена. — Неужели вы не понимаете, что, убивая себя, вы убиваете и меня. Березов с восхищением слушал и смотрел взглядом, полным любви, как всегда прежде. Надежда вернулась к Жермене, она подумала, что сердце Мишеля снова принадлежит ей. Сделав перевязку, врач ушел, сказав, что явится завтра. Раненый заметно успокаивался, а главное, ясность духа вроде бы вернулась к нему. Жермена сделала Бобино знак, чтоб он оставил их наедине. Молодой человек, понимая, что между ними должен произойти серьезный разговор, поторопился уйти, но задержался в дверях и сказал: — Мне все-таки надо напомнить, Мишель, что мы без единого франка и что хозяин гостиницы требует с нас больше семи тысяч. — Это так, — сказал князь, с трудом припоминая. — Надо телеграфировать Владиславу, пусть продаст что-нибудь. Бобино и Жермена переглянулись в смущении и подумали оба: несчастного обворовали столь хитро, что он даже не помнит об этом. — Я уже телеграфировал, Владислав ничего… не ответил. — Тогда надо сообщить Сержу Роксикову, у него должны быть деньги. Я больше не знаю, к кому еще можно обратиться. Бобино поспешил было послать телеграмму, но тут слуга принес письмо. — Срочное, — сказал князь, — Жермена, прочтите, пожалуйста. Жермена вскрыла конверт и нахмурилась. — Что, плохие новости? — спросил князь. — Право, в жизни иногда бывают странные совпадения! Как раз когда вы собираетесь попросить у друга денег, он обращается к вам:Тот, в чьей власти приказывать».
«Я в Монако, проигрался до копейки. Мишель, пришли мне, пожалуйста, тысячу франков. Они мне крайне нужны. С дружеским приветом Серж Роксиков».— Теперь, по крайней мере, все ясно, — сказал Березов с невозмутимым спокойствием. — Но вас это совершенно не должно касаться, дорогая Жермена… ни тебя, мой милый Бобино. Это маленькое недоразумение легко поправимо. Я совсем не потому собирался объявить себя банкротом в жизни и застрелиться. Жермена снова дала знак Бобино, и он ушел. — Можете ли вы поговорить со мной? Вас это не слишком утомит? — спросила она тихо и серьезно. — Да, Жермена! У меня нет жара, и мой ум сейчас совершенно ясен. Но скоро… да, скоро… сознание может снова помутиться. — Мишель, скажите мне честно, как джентльмен и друг… почему вы хотели умереть? — Честное слово, Жермена, не знаю. Что-то непреодолимо повлекло к этому. Я почему-то знал: так надо! — Вас больше ничего не привязывает к жизни, Мишель? — Ничего, Жермена… Ничего, по-моему. — Несчастный!.. Проклинать жизнь… Терять надежду!.. Проклинать любовь! Имеете ли вы право так думать, вы, молодой, богатый, красивый, обожаемый… — Обожаемый? Я-то, Жермена! Да я всю жизнь искал любви и не находил ее! Вы сами, Жермена, как вы ответили на мое признание? В любви, достойной вас, достойной вашей гордости… Я предлагал стать моей женой… Что вы тогда сказали? В моем сердце, говорили вы, не могут жить одновременно любовь и ненависть, и вы меня не любили, когда я умолял… А теперь я больше ни во что не верю, ни на что не надеюсь, ничего не прошу. Ах! Вы не знаете, что это такое — бессмысленная жизнь, жизнь без будущего, даже без надежды на завтрашний день! Жермена покраснела, потом побледнела, не в состоянии вымолвить слова от стыда. Наконец она не смогла больше скрывать свой секрет и заговорила. Сначала нерешительно, потом все более и более твердо: — Пока вы были богаты, я не хотела ничего вам объяснять. Я не хотела признаться даже самой себе в моем чувстве… Я не хотела вас любить… Мне это казалось невозможным… Вы — знатный, богатый, я — простая, бедная девушка из трудовой семьи. Непременно скажут, что у меня только корыстные намерения. Я боролась с собой. Изо всех сил! Но теперь, когда вы стали бедны, когда вам надо будет работать, чтобы на что-то жить… теперь я могу сказать все. Мишель, когда я говорила, что в моем сердце не могут жить одновременно ненависть и любовь… я лгала… И вам, и самой себе… Потому что я давно вас люблю… Люблю так, как, может быть, никто не был столь любим… Я открыла глаза там, в доме рыбака Могена… Вы спасли меня, рискуя собственной жизнью… Я увидала двоих у изголовья… вашего друга, художника Мориса, и вас, и вдруг меня словно что-то ударило в сердце. Мне показалось, что я знала вас всегда, что ваше лицо мне знакомо, что ваши глаза, с любовью смотревшие на меня, всегда смотрели так… И я забылась в жару и все время видела вас во сне. Я мучилась в бреду, а ваш образ был передо мной. Вы были рядом дни и ночи, смотрели с состраданием и нежностью, я видела, как в вашем взгляде появляется любовь. Болезнь отступила, завеса бреда растаяла перед моими глазами, я снова увидела ваш взгляд, устремленный на меня, но это был уже не сон, не видение… Все мое существо устремилось к вам… Я поняла, что любима… Да, любима! Я была готова открыть вам сердце и объятия в тот сладкий миг, наступивший после стольких страданий… Но тут передо мной предстал ужас реальности… Я вспомнила, что опозорена, обесчещена тем… бандитом… За один ужасный миг я вновь пережила адские муки, что вытерпела от мерзавца. Стыд, отвращение, отчаяние охватили меня. Да простит меня Бог — я желала себе смерти и была готова проклясть жизнь, спасенную вами. Мне подумалось, что я уже никогда не смогу ни слышать, ни говорить слова любви. Никогда вовек! Ненависть, дикая и упорная, охватила меня, я искренне поверила, что не люблю вас больше, ибо не имею права на любовь. Живя рядом с вами, окруженная нежной заботой и лаской, я поддалась чувству, уже не смела спрашивать сердце, люблю ли я, и все время с терпеливостью краснокожего ждала момента, когда смогу отомстить обидчику и любить вас, не испытывая стыда запрошлое. Ведь вы мне его простили… — Жермена! Не говорите так! Моя дорогая, благородная мученица! — в волнении воскликнул Мишель. — Прощают только виновным, а вы — жертва! — Пусть так!.. Но ведь вы даже не хотите помнить о моем позоре, и я всю жизнь останусь благодарной за такое великодушное забвение. Хотя я вас и полюбила с первого взгляда и любовь поразила меня, я скрывала ее до того дня, когда вы стали таким же бедняком. Не случись беды с вами, я бы никогда не сказала… — Значит, я разорен, Жермена? — спросил князь, чуть улыбнувшись и в то же время поморщившись от боли. — Разве вы этого не знаете? — Честное слово! Не знаю. Последнее время у меня что-то неладно с головой. Это началось с тех пор… с тех пор… помогите вспомнить, но сейчас у меня голова совершенно ясная. «Боже мой! Он ничего не помнит, — подумала Жермена. — Но моя любовь излечит его… клянусь!» Князь вновь заговорил, стараясь делать вид, что совершенно спокойно к этому относится: — Да, я разорен… я буду работать. У меня здоровенные плечи и спина, что же, они мне послужат как носильщику. Молодой человек немного повеселел. Признание Жермены в любви его преобразило. Мишелю вспомнилось то совсем недавнее время, когда он с такой страстью любил эту прелестную женщину, ему сейчас захотелось говорить о любви. Растроганный, он открыл объятия и промолвил с ласковой насмешкой: — Выходит, мы оба без копейки… Так будем работать изо всех сил и любить друг друга от всего сердца. — О, да! И какую чудную жизнь я вам устрою! Ведь вы всегда будете меня любить, как прежде? — спросила Жермена, отдавая ему душу в первом поцелуе, при одной мысли о котором она прежде замирала. Но вот лицо раненого помрачнело, взгляд стал рассеянным, отсутствующим, каким был после похищения. Улыбка исчезла, руки бессильно упали на постель. И Жермена вновь увидела лишенного воли и ясного сознания человека, лишь на краткие минуты оживленного ее любовью. Перемена произошла мгновенно, на глазах у несчастной девушки, и так больно поразила ее, что она почувствовала, как сама вот-вот сойдет с ума или оборвет жизнь, в один миг опять ставшую для нее ненавистной. А Мишель, только что заверявший: «Мы будем любить друг друга от всего сердца», вдруг заговорил таким тоном, словно был не волен в словах и поступках: — Умоляю тебя… Жермена… Мой друг… сестра… не говори со мной так… Вы знаете, что это невозможно… Мы оба грезили… Ведь это сон… Я грезил, что люблю тебя… Вы сами были в заблуждении… Ваши слова… Вы только что сказали… Я больше не буду о них вспоминать… потому что супруг, вам предназначенный, не я… Вы хорошо это знаете… Это другой… Он вас любит… Граф Мондье! Произнося это имя, Мишель был как сам не свой, и Жермена даже не возмутилась, зная, что его рассудком владеет чья-то злая воля, жестокая, неумолимая, таинственная. И ей вновь захотелось жить, чтобы разгадать и победить врага, вернуть любовь князя, вырвать его душу из страшного плена. Она смотрела долгим нежным взглядом, когда он, совершенно обессилевший, заснул. Девушка думала: «Мишель… Мой Мишель… Несмотря на жестокие слова, которые ты произнес в припадке безумия, я знаю, что ты меня любишь как прежде. Такая любовь не может кончиться, потому что, как и моя, она бессмертна и бесконечна… И я спасу тебя, как ты спас меня!»
С этого времени Жермена твердо решила не придавать значения словам Мишеля; здравым природным умом она поняла, что любимый тяжко болен и, следовательно, к нему надо относиться как к больному. Без колебания, без страха перед тем, сколько огорчений и трудных дней ей придется пережить, она готовилась жертвовать собой и ждала с нетерпением, когда можно будет начать действовать. Прежде всего следовало уехать из Италии. Путешествие, обещавшее столько приятного и полезного, теперь уже невозможно, да и не имело никакого смысла продолжать. Жермена и Бобино постоянно чувствовали, что вокруг них действуют тайные враждебные силы. Кроме того, совершенно не оставалось денег, и оба не знали, как выйти из затруднительного положения. Дело еще более осложнялось из-за безумия князя. Не оставалось сомнения в том, что он разорен преступниками, которые воспользовались его ненормальным душевным состоянием. Бобино, Жермену и ее сестер сам факт финансового краха мало тревожил, их волновало унизительное положение, в какое все они в данный момент попали. Конечно, по закону никто не мог бы возложить на них четверых ответственность за долги князя Березова: они всюду фигурировали только как его приглашенные, так сказать, его свита. Но им, разумеется, и в голову не приходило не считать себя в ответе, и поэтому Бобино твердо заявил хозяину: — Мы все оплатим. Однако при этом он никак не мог придумать, откуда же взять денег, пока Жермена с ее здравым смыслом не надоумила, сказав: — Друг мой, когда разоряется такой богатый человек, как князь Березов, от его имущества и драгоценностей всегда что-нибудь да остается. Он не мог сразу потерять все до нитки. Их консул, может быть, даст какую-то сумму соотечественнику, попавшему в неприятное положение, с тем чтобы потом возместить ее из России, либо за счет обломков его состояния, либо просто от царского правительства, которое не захочет оставить в нищете носителя исторической фамилии[82]. — Вы правы, Жермена! — сказал Бобино. — Я бы никогда не догадался так поступить. Не пролетело и пяти минут после того, как он ушел, и в гостинице поднялся шум вроде того, что был, когда князь Березов вернулся из плена. Хлопали двери, раздавались возгласы и быстрые шаги по коридору. Жермена услышала совсем близко от входа в их переднюю кто-то из служителей произнес: — Месье де Шамбое… Право… Это точно он… Какой бледный!.. Подумать только… Почти месяц о нем ничего не было известно. Уже думали, его нет в живых! Раздался звонок в их дверь, слуга доложил: — Месье де Шамбое! Молодой прохвост, действительно несколько побледневший, а может быть подгримированный, вошел с извинением за непрошеное вторжение, но, добавил он, дошли слухи о покушении князя на свою жизнь, и, крайне обеспокоенный, он, Шамбое, позволил себе… Разумеется, поступок вполне соответствовал правилам вежливости и доказывал хорошее отношение к Березову, и все-таки Жермена снова почувствовала недоверие к человеку, так странно исчезнувшему в момент, когда на них напали по дороге из монастыря Камальдолей. После нескольких приличествующих случаю фраз, слишком коротких, чтобы они придали проходимцу Бамбошу соответствие облику месье де Шамбое, мнимый аристократ осведомился о самочувствии раненого. — Он себя достаточно хорошо чувствует, месье. Рана совсем не опасна, — ответила Жермена, мельком взглянув на незваного визитера. Шамбое, сиречь Бамбош, все-таки не вполне усвоил умение владеть собой. Он не сумел скрыть некоторого волнения и разочарования. Жермена заметила это и еще раз интуитивно поняла: перед ней — враг. Бамбош тут же взял себя в руки и начал говорить много, как человек, осознавший, что совершил неловкий поступок. — О! Мой дорогой друг! Я так рад, что все обошлось. Я спешил, чтобы помочь ему… Правда, я в стесненных обстоятельствах, бандиты меня порядком обобрали, но все-таки я от чистого сердца хочу предложить взаймы что могу. — Почему вы думаете, что князь остался без денег? — холодно спросила Жермена. — Вы лучше меня знаете, в каком состоянии его дела? Бамбош, опешив от пристального надменного взгляда, какого никогда прежде не видел, несколько растерялся, но тут же решил действовать смело и перевел разговор на другое. — Я представлен князю недавно, но если бы вы знали, мадемуазель, как он мне по душе! Он с ходу покоряет человека воспитанностью, умом, великодушием! Мне бы так хотелось его повидать! Хоть минутку! — Это невозможно, месье, — холодно остановила его Жермена. — Прошу вас! На одну только минуточку! — Не настаивайте, месье. Ему нужен полный покой, ни вам и никому другому нельзя заходить еще по меньшей мере неделю. Поняв, что ничего не добьется, Бамбош, кипя от злости, но скрывая досаду под маской вежливости, церемонно поклонился и вышел. По пути к себе он разразился проклятиями, мысленно произнеся целый монолог: «Тебе, девка, повезло, что граф так в тебя влюблен, иначе не дальше чем нынешним вечером ты прошла бы чистку у Биби, то есть у меня, у Бамбоша! Хозяин мой сам из богачей и не знает, как укрощать бабенок вроде тебя! Если бы тебя разочка два прочистили с табачком у Биби, ты перестала бы драть нос перед мужиками! Березов раскошелился, мы хорошо поживились его добром, и я не хочу терять свои деньги из-за того, что какая-то сука мешает ими воспользоваться! Твой идиот-князь сам не застрелился, так я его прикончу, и скоро! А тебя мы схватим сегодня же ночью и тогда разбирайся сама с патроном». Жермена в страшном беспокойстве ждала Бобино. Теперь она боялась всего и всех: неизвестных ей жильцов, служащих отеля, прохожих за окном — и начинала ненавидеть всю Италию, о которой составила себе из литературы такое поэтическое представление. У девушки осталась одна главная мысль — скорее бежать отсюда, увезти Мишеля, спасти от врагов, чьи преступные действия она теперь угадывала. Из консульства Бобино возвращался с совершенно подавленным видом. Проходя мимо комнаты управляющего, он виновато согнул спину, и, когда тот напомнил о расплате, жилец скромно попросил отсрочки еще на двадцать четыре часа. Служака сказал высокомерно: — Двадцать четыре? Ну ладно, но ни часом позже! Когда же Бобино оказался у Жермены, он совершенно преобразился и радостно крикнул: — Спасены! — и даже подпрыгнул, как истинный парижский мальчишка. — Получил монету! Хорошую сумму… Добрый консул дал мне ее просто так… в подарок для князя Березова. — Я ему очень благодарна! — сказала Жермена с жаром. — Он спас всех, прежде всего Мишеля. — Консул повел себя совершенно шикарно! Наш, французский, скорее всего послал бы меня к черту, даже если бы я попросил у него хоть сорок су. Но сейчас не время рассуждать о достоинствах дипломатов, надо быстрее бежать из проклятого отеля, из окаянной страны, где земля горит у нас под ногами! Мне хватит, чтобы расплатиться с кабатчиком, купить билеты на пароход и даже на поезд до Парижа. Жермена, сияя, собиралась уже вызвать управляющего, чтобы рассчитаться, но Бобино удержал, сказав: — Сперва соберем багаж и, когда все будет готово, тогда выложим денежки. — Почему, мой друг? — Надо, чтобы о нашем отъезде, похожем на бегство, не пронюхали шпионы — я их постоянно чувствую вокруг — и не доложили бы самому главному таинственному нашему врагу. — Вы правы, совершенно правы. А как же с местами на пароходе? — В этот сезон всегда бывает сколько угодно свободных мест на Марсель. Мы явимся на судно, не приобретая заранее билеты. — А как перевезем Мишеля? — Все беру на себя! — Значит, остается только набраться терпения. Как я счастлива! Все прошло так, как планировал Бобино. Вчетвером они поспешно собрали, увязали и снабдили этикетками багаж. Действовали быстро, подгоняемые нетерпением. К двум часам ночи у них уже все было готово. Слуги отеля ничего не заметили. Немного вздремнули, по очереди дежуря около князя, тот все время спокойно спал. В шесть утра Бобино, никому ничего не говоря, вышел из гостиницы и вернулся с двумя экипажами, велел остановить их напротив дверей. Один, большой и просторный, предназначался для людей, другой — грузовой фургон. Парижанин попросил пригласить для беседы управляющего и хозяина. Первым, позевывая спросонок, явился управляющий. С важностью вынув счет и банкноты, Бобино сказал: — Расплатимся, через пять минут мы уезжаем. — Уезжаете… Но, ваше превосходительство… — Я не превосходительство, а типографский рабочий, и мне до черта надоела ваша коробка! — Может быть, вашему превосходительству не оказывалось должное уважение? Или вас плохо обслуживали?.. Или разонравились ваши апартаменты? — Довольно разглагольствований… многое не понравилось! И Бобино ушел, зажав в руке оплаченный счет. Двое из фургона поднялись по лестнице и вскоре вернулись, нагруженные чемоданами и тюками. В комнате Мишеля Бобино увидел Жермену и ее сестер, совершенно готовыми к отъезду. — Что случилось? — спросил князь, потревоженный ходьбой людей туда и сюда. — Ничего. Надевай халат и ложись, понесем на матрасе. Я возьмусь за углы, где твоя голова. А вы, месье, там где ноги, — сказал Бобино, обращаясь к прибежавшему лакею, прикрепленному к их апартаментам и вытаращившему глаза. — Получите пять луидоров за труды. А ты, князь, спи, пока мы доставим тебя к лифту. — В чем дело?! Почему вдруг вы меня куда-то тащите в ранний час и столь странным способом?.. — Для твоего блага… чтобы ускорить твое выздоровление… — Я еще раз спрашиваю… — Давай же спи! Слышишь? Спи… Я так хочу… Так надо для твоего блага. И Березов спокойно заснул как ребенок. Ни Бобино, ни Жермена почему-то не обратили внимания на то, как покорно повиновался Мишель команде «спи». Русский не заметил, как его спустили в лифте, положили в экипаж, как тот понесся по улице и как, наконец, князь оказался в просторной каюте парохода, уже готового к отправлению.
Прошло не больше получаса после того, как Бобино рассчитался с хозяином гостиницы. Месье де Шамбое крепко спал и ничего не подозревал о ловко организованном побеге. Граф-бандит, преследовавший ненавистью, равно как и преступной и опасной любовью тех, кому уже сделал столько зла, не мог видеть, как они исчезли. Мишель продолжал мирно похрапывать, девочки сидели, прижавшись к старшей сестре, а Бобино сиял. Жермена считала минуты до отплытия, те последние минуты, когда уже грузили багаж. — Когда же мы отправимся? — шептала она в нетерпении. Раздался долгий гудок. — Наконец! Корабль задрожал и начал медленно отходить от причала. В тот момент к набережной быстро приближалось ландо, взмыленные кони неслись галопом. Из коляски выпрыгнул человек, когда пароход уже удалился от берега. Опоздавший в бешенстве сжал кулаки. — Они убежали от меня… Но я их все равно найду! Тогда не пощажу никого! — И крикнул кучеру: — Быстро в отель! Взять там месье де Шамбое, а потом — на виллу… Гони, Лоран, гони вовсю, загони лошадей, если надо! — Слушаюсь, хозяин, — ответил тот самый кучер, что правил лошадьми, когда ландо катило в монастырь Камальдолей.
ГЛАВА 11
Всего несколько минут потребовалось, чтобы возбужденные лошади домчали графа до гостиницы, откуда князя Березова так ловко увезли друзья прямо из-под носа его смертельного врага. По дороге экипаж сбил нескольких разносчиков, но богач-седок и не подумал хотя бы деньгами вознаградить ушибленных. Прикатив, Мондье в два прыжка поднялся по широкой лестнице, устланной ковром, к апартаменту месье де Шамбое. Граф ворвался прямо в спальню, Бамбош спокойно почивал. Мондье в бешенстве тряхнул его изо всей силы. Приспешник главаря банды очнулся и мигом сообразил, что его дело плохо. — Что-нибудь случилось? — Скотина несчастная! Случилось то, что они удрали!.. Те, за кем ты, болван, должен был следить. — Князь Березов? — Ну да!.. Этот блаженненький и с ним Жермена, ее сестры и проклятый Бобино! — Не может быть! — Заткнись! И действуй, чтобы исправить свой идиотский промах! Тебя разыграли как дурачка. Пока ты дрыхнул, скотина, Эмилио, управляющий, доложил мне о бегстве, но оказалось слишком поздно! — Но, патрон, чтоб отправить телеграмму, все равно нужно время… — Кретин! Неизвестно тебе, что гостиница имеет телефонную связь с виллой? — Я об этом не знал. — Быстро! Одевайся, собирай манатки и наверстывай упущенное! Даю пять минут. Очень испуганный, Бамбош был готов через четыре. Мондье спросил: — Есть у тебя деньги? — Луидоров пятьдесят… не больше. Мондье выхватил бумажник, не считая, швырнул несколько банкнот, сказав: — Трать, не скупясь. Сейчас же поедешь на железную дорогу и отправишься в Марсель с таким расчетом, чтобы оказаться там раньше прибытия парохода и не прозевать их, когда сойдут на берег. — Это я могу. — Будешь следить за ними в Марселе и обо всем, что увидишь, сообщай мне. — По телеграфу? — Да, пользуясь шифрованным кодом, я сейчас тебе его дам. А теперь быстрее катись отсюда и исправляй свой промах. Твой багаж будет выслан на имя месье Тьери. — До свиданья, патрон! — До свиданья. — Вы сердитесь на меня? — Да, с некоторых пор ты делаешь промах за промахом, и, если так будет продолжаться, я отошлю тебя обратно к Лишамору, и ты станешь там прозябать среди обыкновенных мошенников. — Патрон, ей-богу, я нагоню упущенное! Как только вы скажете, я тут же прикончу дурака князя и расправлюсь по-своему с мозгляком Бобино! — Ты не осмелишься и не сможешь! — Увидите! Думаете, у меня не хватит духу перепилить глотки этим двум типам? — Хвастаешься, — сказал граф, чтобы подзадорить напарника. Бамбош сделал выразительный жест пальцем поперек горла и застегнул чемоданчик, куда положил самые необходимые вещицы. — Теперь дуй и не забывай делать все, как я тебе велел. Да, еще хочу сказать: приехав следом за ними в Париж, остановишься в бывшем доме Березова. Особняк куплен на имя барона де Мальтаверна, это подставное лицо, он даст тебе жилье и будет кормить и поить. Прощай, негодяй! — Счастливо оставаться, патрон.Через три дня Мондье получил от Бамбоша следующую телеграмму:
«Все идет хорошо, наши люди высадились в Марселе, не подозревая, что я уже там. Князь болен, поселились на тихой улочке, где за ними будет легко наблюдать. Посещает доктор, я с ним поговорю».На другой день снова пришла депеша:
«Ведут себя очень осторожно, видимо, подозревают, что за ними следят. Проникнуть в дом невозможно, продукты и лекарства приносят прямо туда. Врач, очень молодой и старательный, отказался от десяти тысяч, которые я ему предложил за то, чтобы он помог».Прочитав послание, граф в бешенстве его скомкал, воскликнув: — Идиот!.. Он все испортит своей поспешностью, надо было предупредить меня. Не хватает только того, чтобы этот несчастный врач оказался честным человеком! Проклятие! Я должен был ехать сам, чтобы освободиться от князя и Бобино. Но не могу же я быть одновременно всюду! Патрон послал новые инструкции Бамбошу, велел действовать с крайней осторожностью и не трогать ни князя, ни Бобино, требовал не ослаблять слежку за князем, который, вероятно, поедет в Париж, как только поправится после ранения. Получив такой приказ, Бамбош с облегчением вздохнул. В самом деле, не так легко было убить двоих людей, что вели себя крайне осторожно и кого, может быть, предупредил об опасности доктор после сделанного ему грязного предложения. Так продолжалось еще десять дней, в продолжение коих Бамбош слал донесения. В одном он сообщал:
«Решительно, врач из тех, кого называют честными, Делает вид, что не понимает, когда я набавляю цену. Я преобразился в коммерсанта, и вы сами бы не узнали. Нанял кое-кого из подходящих себе в помощь, но птички очень недоверчивы, и боюсь, как бы не улетели неожиданно».Бобино со своей стороны пребывал в постоянном страхе. Правда, на пароходе за ними никто не следил, в этом юноша не сомневался. Но он уже имел достаточный опыт, чтобы заподозрить шпионство в Марселе, так как был убежден: враги не сложили оружия. Вот и доктор, навещавший раненого, известил Бобино о полученном грязном предложении, которое он, врач, с возмущением отверг. Стало ясно, что преследователи приехали поездом и видели, как беглецы сходили с корабля. Хоть бы князь поскорее поправился, и тогда все немедленно уедут в Париж и скроются в его лабиринтах… О том, на какие средства они станут жить вместе с больным князем, Бобино старался не думать. А душевное состояние Мишеля все ухудшалось. Под действием гипноза он уже почти не переносил даже вида Жермены. Тупая, бессознательная ненависть вытесняла из больной души прежнюю любовь к прелестной женщине, отдавшей ему сердце.
ГЛАВА 12
Ждать, пока князь совсем поправится, Бобино не мог. В Марселе ни он сам, ни Жермена и сестры не могли бы найти заработка. Южные французы с удовольствием едут завоевывать Париж, но весьма неохотно сами допускают жить у себя уроженцев столицы, те оказываются на юге как в другой стране, среди иных нравов и обычаев, и даже язык южан им словно чужой. Жермена верила, что в Париже найдет работу, а Бобино твердо надеялся быть принятым на прежнее место, даже если оно окажется занятым, давние товарищи потеснятся и не позволят остаться на улице. Разумеется, придется вламывать изо всех сил, но зато жить с гордой уверенностью, что существуешь собственным трудом и никому ничем не обязан, и получать удовлетворение от честно выполненного долга. Сосчитав содержимое кошелька, Бобино убедился, что денег хватит только на дорогу, и сказал Жермене: — Нельзя терять время. Если мы проведем тут еще две недели, у нас не останется на билеты, застрянем здесь. — Так едем, мой друг, — просто ответила девушка. — Мишель чувствует себя немного лучше, и думаю, что в купе второго класса… — Я все рассчитал, — остановил ее Бобино, — отсюда до Парижа стоимость билета — шестьдесят пять франков двадцать пять сантимов, во втором классе, конечно. Значит, нам надо триста двадцать шесть франков двадцать пять сантимов. — И у вас осталось достаточно денег? — Даже с учетом небольших непредвиденных расходов. Разговор происходил в восемь утра, решили отправиться поездом в час сорок девять, среди дня, как люди, ни от кого не скрывающиеся, не боящиеся шпионов. Да и чего им опасаться, разве они ехали не в Париж, где смелый парень всегда найдет верных товарищей в борьбе против своры негодяев, тех, от кого до сих пор приходилось отбиваться чаще всего в одиночку. Бобино уплатил за гостиницу и спросил у врача, сколько должны ему. Но благородный человек, видевший в каком положении они находятся, не захотел брать ничего за лечение князя. Мишель, когда узнал о переезде, особенно часто ворчал на Жермену, брюзжал на всех и по любому поводу жалобно плакал, словно ребенок. Отчитав его как следует, Бобино решительно сказал: — Знаешь что, не морочь нам голову! Или я тебя увезу насильно. Спи, ешь и пей и никому не сообщай, что у тебя голова не в порядке, а не то угодишь в дом умалишенных. Помалкивай и будь умницей. Несчастный, чья воля была жестоко подавлена Мондье, безропотно повиновался резким словам, подкрепленным выразительными жестами.Они заняли купе второго класса; вскоре на оставшееся свободное место подсел человек, вежливо раскланявшись. Бобино признал в нем одного из шпионов, что отирались около их гостиницы в Марселе. Тихонько шепнув об этом на ухо Жермене, Бобино прибавил: — Ничего не бойтесь, все устрою как надо. В начале пути пассажир попробовал завязать разговор, но Бобино очень вежливо продемонстрировал, что увлечен беседой с тремя своими дамами. Те поняли игру и наперебой болтали. Неизвестный, потеряв надежду наладить знакомство, углубился в чтение газет. За полночь предстояло ждать пересадку. Семейство, — а они ощущали себя и в самом деле семьей, — отдохнуло в вокзальном буфете. Когда ранним утром надо было ехать дальше, неприятный незнакомец снова оказался в их купе, выразив радость по поводу счастливого совпадения. — Вы, конечно, едете в Париж, не так ли? Я тоже туда. — Действительно неожиданность, — любезно ответил Бобино и на этот раз начал с соседом банальный разговор о дорожных мелочах, о погоде. Жермена, очень обеспокоенная, не могла понять, как может Бобино вести себя столь невозмутимо с почти заведомым наемником их тайного врага. Мишель угрюмо молчал, куря папиросу за папиросой. У него повысилась температура, он не желал есть ничего, предлагаемого Жерменой, и вообще держался со всеми очень неприязненно. Путешествие продолжалось без инцидентов; приближались к Парижу, вдали, в тумане уже виднелись очертания его зданий. Когда оставалось проехать последнюю станцию, Бобино насмешливо сказал неизвестному: — Честное слово, месье, вы добросовестно зарабатываете ваши деньги. От самого Марселя, где вы к нам навязались… Это похвально… — Но, месье… я не понимаю… — А я понимаю, и очень хорошо. Вы следите за князем Березовым и за мной, вашим покорным слугой Жаном Робером, по прозванию Бобино, по поручению человека, которого я не хочу называть. И присматриваете также за барышнями Жерменой, Бертой и Марией Роллен. Мне это очень надоело, и я не знаю, почему до сих пор не вытолкнул вас из вагона на полном ходу. — Месье! Если вы попытаетесь осуществить угрозу… Я опережу вас и тотчас воспользуюсь стоп-краном! — Оставьте стоп-кран в покое, это приспособление почти никогда не срабатывает. Вместо того чтобы вышибить вас, я облегчу вам труды по слежке и сам скажу, куда мы направляемся. Оцените мое благородство и воспитанность! Итак, чтобы вы знали, мы сойдем с извозчика на улице Паскаля, девятнадцать… Не стесняйтесь, запишите адрес, чтобы не забыть и отослать его кому следует. Передавайте поклон вашей жене! Ваш покорный слуга! Человек не нашелся, как ответить на открытую насмешку, молча снял с полки чемоданчик, приготовился выйти. Поезд с шумом остановился у перрона. — Теперь этот господинчик непременно поедет вслед за нами. На здоровье! — Бобино засмеялся. Неизвестный подбежал к другому купе, оттуда вышел некто в пальто с воротником, поднятым чуть не до самых бровей, он спросил: — Ну как? — Младший из мужчин, Бобино, просто издевается надо мной. Он дал свой адрес. — Не верь, он хитер, как обезьяна. Следуй за мной до выхода, не теряя их из виду. Десять минут спустя, как люди, которым некуда спешить, к кондуктору подошли Жермена, Берта, Мария, Мишель и Бобино. Бобино держал под руки младших сестер, Жермена вела Мишеля. Сдав билеты, они наняли небольшой, так называемый семейный омнибус[83], Бобино громко сказал кучеру: — Улица Паскаля, девятнадцать. Тот спросил: — А багаж, месье? — Его доставит грузовой фургон. Бобино сделал вид, что не замечает, как следом за ними тронулись два наемных ландо. Они тоже остановились неподалеку от названного дома. Было десятое марта, солнце закатилось, и на улице, лишенной освещенных витрин, стало темно. Бобино пришло в голову пошутить и заглянуть в окошко преследовавшего экипажа, в расчете увидеть знакомый профиль их спутника. Приблизившись к оконцу, парень отпрянул в страхе: показалось, что он увидел темный глаз и нос с резкой горбинкой месье де Шамбое и даже почувствовал характерный запах его духов. Остальную часть лица загораживал высокий воротник пальто. Веселая усмешка слетела с губ Бобино. Он вошел в аллею перед домом, там ждали молодые мужчина и женщина, хозяева пансионата. — Здравствуй, Матис! Здравствуй, Жанна! Дорогие мои друзья, рад вас видеть! Вы получили письмо? — сказал Бобино. — Да! И все готово для вас — три комнаты в мансарде… не очень удобно… — Это прекрасно! Дорогая Жермена, представляю вам Матиса и его Жанну… моих друзей, я их очень люблю, и они, похоже, платят той же монетой. Молодые люди с изумлением смотрели на Жермену, пораженные ее красотой. — Вы будете и моими друзьями, потому что друзья наших друзей — наши друзья! Правду ли я говорю? — спросила Жермена. — Позвольте также представить вам князя Березова, он ранен и плохо себя чувствует. Мишель в изнеможении сидел на складном стуле, но был в ясном сознании. Князь снова обрел свою обходительность: пожал руку Матиса, с изысканной учтивостью поклонился его жене, извиняясь за то, что потревожили их. — Да оставьте вы, какое там беспокойство! — ответил Матис. — Если вы товарищ Бобино, значит, хороший человек, а для таких мы всегда рады сделать что можем. — Друг мой, — сказал Бобино, — прошу, отведи всех в комнаты, а я отпущу омнибус и заодно посмотрю еще на одного типчика, до которого у меня есть дело. — Если надо его вздуть, скажи, я помогу. — Спасибо, сегодня не требуется. Экипажи исчезли, но Бобино был уверен, что они недалеко и в них — шпионы. Он не ошибся, узнав Шамбое — Бамбоша, что следил за ними от самого Марселя и мечтал о мщении. Юноша вернулся в дом очень озабоченным, но виду не показал и, весело прищелкнув пальцами, сказал всем: — Виват! Мы в Париже, есть кров над головой, и скоро примемся за работу!
ГЛАВА 13
Помещение, предоставленное Матисом, оказалось более чем скромным, скорее убогим. В комнатах стояли лишь самые необходимые предметы: на чем спать, на чем сидеть, на чем есть. В комнате девушек — железная кровать для Берты с Марией и брезентовая раскладная для самой Жермены, три стула, некрашеный дощатый стол и маленькое зеркальце на стене. По шутливому выражению Бобино, он занимал общие покои с князем — комнатку размером три метра на три, там стояли, соответственно, те же походные кровати, что у Жермены, и стулья. Бобино, с его небольшим ростом, было вполне удобно улечься на складном ложе между тонким матрасом и одеяльцем, но уместить на таком пространстве гигантское тело Мишеля стало задачей нелегкой. Его голова и ноги оказывались за пределами кровати. Пришлось помудрить, чтобы устроить князя. К счастью, он пребывал в хорошем настроении, смеялся, глядя, как его укладывают; кроме того, Мишель был так утомлен дорогой, что больше всего на свете хотел спать. Бобино положил на стул подушку и подставил вместо изголовья. — А ноги ты подогни к телу, — сказал он Мишелю, — иначе придется и под них помещать стул. Потерпи, мы здесь не надолго. Скоро переедем в свою квартиру. Она, конечно, будет не такой шикарной, как прежний твой особняк, но все же достаточно удобной. — Здесь лучше, чем в вагоне, — заявил Мишель, почти засыпая. — Правильное заключение! Давай-ка спать. Наутро в третьей комнате, где устроили столовую и кухню, приготовили скромный завтрак. Несмотря на одолевавшие всех тревожные мысли, за столом случились несколько минут веселья. Резкая перемена образа жизни никого не удивляла и не беспокоила. Несмотря на то что Жермена успела привыкнуть к роскоши, живя в доме Березова, и потом во время путешествия в Италию, так трагически закончившегося, она ничуть не жалела о той обстановке и даже не вспоминала о ней. С каждым днем старшая из сестер все более возвращалась к своему состоянию простой девушки из народа, готовой работать вместе со своими младшими по десять часов в сутки и даже ночами, если потребуется, жить в любой дыре, питаться чем Бог пошлет и бедно одеваться. Со всем этим добрая мужественная девушка спокойно мирилась. Лишь бы только князь, друг ее тяжких дней, выздоровел и излечился от раны и от странной душевной болезни! Тогда она стала бы счастливейшей женщиной на свете! Ради этого Жермена была готова совершить чудеса любви, преданности и трудолюбия. Она посвятила Мишелю свою спасенную им жизнь, которую теперь иногда готова была проклясть, ведь с жестокостью безумного князь заявил о своей нелюбви и даже ненависти. Однако она исцелит его тело, ослабшее от непрерывной лихорадки, и его раненую душу. Вернет его сердце, которое хотят у нее отнять. Станет бороться до конца и восторжествует над врагом, потому что чувствует в душе непобедимую силу и страстную волю к борьбе. Источник этого — в бесконечной любви.Бобино, преданный Жермене и ее сестренкам, отнесся к внезапному разорению князя и резкому изменению собственной жизни совершенно спокойно. Он с удовольствием думал о возвращении к любимой работе, и его нисколько не прельщала бездельная жизнь богачей. — Это очень глупая жизнь, называемая широкой! — говорил юноша. Так как друзья остались почти без сантима, а Жермена и ее сестры не могли рассчитывать быстро найти надомную работу, решили, что Бобино немедля пойдет на прежнее трудовое место, может быть, его возьмут обратно. Матис работал в красильне, что находилась в том же доме, где они жили, и Бобино просил приятеля присматривать за князем и ни в коем случае не позволять ему выходить на улицу. Вплоть до применения силы. — Вплоть до применения силы, — повторил Матис, поглядев на свои руки борца. — Можешь не сомневаться, приказ будет выполнен. — До свиданья и спасибо тебе, старина! — Не за что благодарить! Ты знаешь, что мы с женой всегда готовы тебе помочь. Выйдя на улицу, Бобино сразу почувствовал, что за домом установлен надзор, но кто, где и как следит, не стал выяснять. Сейчас было важнее избавиться от персонального шпика, наверняка к нему приставленного. Было ясно, что преследователи скоро от них не отвяжутся, будут глазеть и таскаться за каждым, выяснять, кто куда пойдет и, вообще, как они живут. Надо было, чтобы его поход на работу ни в коем случае не был прослежен. Как настоящий парижанин, Бобино знал в городе все ходы и выходы и поэтому спокойно отправился пешком. Возле Обсерватории он сел в омнибус и заметил, что сейчас же вослед вошел человек, одетый как зажиточный рабочий, и устроился рядом. Бобино краешком глаза посмотрел и, убедившись, что сосед нисколько не похож ни на месье де Шамбое, ни на типа, увязавшегося за ними в Марселе, подумал, а почему, собственно, это не может быть обыкновенный житель столицы, никакого отношения не имеющий к тем двум. Через некоторое время появился еще пассажир, потом третий, постепенно весь империал[84] наполнился. Когда подъехали к Большому рынку, Бобино сошел и побродил по его рядам, как зевака, что любуется свежей зеленью, фруктами, цветами, разным мясом, рыбой. Потом он двинулся по улице Монмартр до угла улицы Сен-Жозеф, но не приблизился к дому 142, где находилось издательство «Маленькая республика», а свернул в подворотню и, миновав двор, загроможденный транспортом и тюками, юркнул в незаметную маленькую дверь, через коридор пробрался в пустой сейчас большой зал, откуда знакомыми закоулками попал наконец в свой цех. Его товарищи начинали разборку вчерашнего набора по кассам[85]. Неожиданное появление Бобино породило всеобщее изумление и радость: парня ждали только через год. Даже старый метранпаж[86], толстый, сорокалетний, с бритой головой и черными усами, всегда молчаливый, закричал так, что все удивились: — Бобино!.. Не может быть! И по всему цеху понеслось на все лады: «Бобино!.. Бобино!.. Бобинар!.. Бобинелли!.. Бобинович!.. Да здравствует великий путешественник!..» — Выходит, дальняя прогулка закончилась? — спросил метранпаж. — Лопнуло терпение! Окончательно лопнуло! Хватит с меня Италии! — Почему? — Там слишком много итальянцев… Все засмеялись. Когда ребята немного успокоились, Бобино продолжал: — Это еще не все! Я уехал без копейки в кармане… и возвращаюсь богатый… как нищий! Ты ведь знаешь, я всегда был охоч до работы, — сказал он метранпажу. — Дружище, но мастерская укомплектована… Если только ребята потеснятся и выделят тебе кассу… Тут закричали: — Кассу Бобино!.. Кассу!.. Без Бобино цех набора не может существовать! Да здравствует «Маленькая республика!» И большая тоже! Он снова с нами!.. — Договорились! И я, правда, очень рад, — сказал метранпаж. — Время аперитива[87], мы тебе поднесем, а ты расскажешь о путешествии. — С удовольствием! — сказал Бобино, несказанно довольный тем, что так скоро обрел работу и сможет обеспечить жизнь своих подопечных. Пришел торговец вином и принес аперитивы всех цветов и на все вкусы: и мятные, и анисовые, и сладкие, и натуральные. Чокнувшись со всеми и отпив глоток, Бобино встал в позу, чтобы начать. — Я вам не буду рассказывать про всю Италию, потому что я был только в Неаполе. — Увидеть Неаполь и умереть… — Как можно позднее! — Тогда рассказывай про него! — Очень просто: Неаполь — это одна длинная улица, куда из домов разом вышли все обитатели… Толпа… толчея… не продерешься! И все принюхиваются и посматривают на котлы, где прямо на улице варятся макароны. Это национальное блюдо, именуемое также спагетти… Вот вам Неаполь!.. Вернее, половина Неаполя. — Рассказывай про другую половину! — Она так же проста, как и первая. Наевшись макарон, все мечтают о десерте[88] и начинают посматривать на разносчиков, вопящих на все голоса: «А вот дыни! Дыни! Сладкие, сочные… За один чентизим, то есть, по-нашему, сантим, наешься, напьешься и умоешься!» — А как это? — спросил парень, стоявший рядом с Бобино. — Очень просто: дыня такая сладкая, что будешь сыт, съев кусок, такая сочная, что напьешься, а умоешься, потому что, вгрызаясь в нее, станешь до ушей мокрым… Вот и все, точка! — Что все? — Все про Неаполь, про мое путешествие и мои впечатления… — А небо Италии? — Оно синее. — А море?.. — Тоже синее… но от него болеешь. — Чем? — Морской болезнью. — Ну, а Везувий-то? — Печка, которая топится нефтью, с перерывами топится, не хватает горючего, муниципалитет[89] нормирует расход. — А раскопки городов?.. Геркуланума… Помпеи? — Подумаешь!.. Старые ямы, вроде заброшенных пустых водоемов, где бродячие торговцы расставили товары… Люди в очках ходят… смотрят… делают вид, что понимают что-то и восхищаются… В общем, я вам все сказал: Неаполь — это макароны и дыни… Вот! Яркий рассказ, украшенный реалистическими чертами, имел большой успех, хотя некоторые остались и не вполне уверенными в том, что узнали абсолютно все о Неаполе и его окрестностях. Условились, что с завтрашнего дня Бобино начнет работать. Счастливый, он возвращался на улицу Паскаля. Обратно типограф добирался тем же запутанным путем, каким прибыл в типографию. Сияя от радости, Бобино объявил: — Теперь с голода не умрем! Ребята, старые товарищи, сохранили место, и я смогу зашибать в ночь по десять франков. — И я начну подыскивать работу, как только устроимся с квартирой, — откликнулась Жермена. — Это вопрос двух-трех дней, и я надеюсь, что нам удастся так хорошо скрыться, что шпионам долго придется нас разыскивать.
ГЛАВА 14
Комнаты в доме на улице Паскаля они считали лишь временным жильем. Бобино обдумал хитрый план, как отыскать постоянное и как с самого начала сделать, чтобы сыщики не узнали, куда они перебрались. Матис, пользуясь тем, что за ним не следили, развозя в повозке товар заказчикам красильни, в то же время подыскивал для постояльцев квартиру, а когда нашел — на углу улиц Мешен и Санте, — перевез туда постепенно все их вещи, так что наблюдавшие за домом могли думать, будто багаж находится еще на улице Паскаля. Оставалось только выехать незамеченными и обустроиться в новом месте. Оказалось, что это довольно трудно осуществить. За домом Матиса велась усиленная слежка. Кроме того, не было денег, чтобы купить для квартиры хотя бы самую необходимую обстановку, а Жермене хотелось создать для больного Мишеля пускай минимальный, но комфорт. Когда князь был богат, он давал им деньги не считая, а теперь, разоренный и больной физически и душевно, находился под угрозой новых козней, отнявших у него все, — друзья обязаны за доброту и щедрость отплатить, пускай не в полной степени, а по мере своих возможностей. Ради этого придется трудиться дни и ночи, отказывая себе в самом необходимом. Создать привычные для Мишеля условия оказалось бы нелегко даже зажиточным людям, а каково это двум неопытным девушкам, младшей швее и молодому наборщику… Но они считали себя обязанными выполнить свой долг, хотя больной вел себя так, что мог лишить их мужества. Князь был постоянно всем недоволен, недружелюбно относился к Бобино, холодно и почти враждебно — к Жермене, и только с ее сестрами оставался по-прежнему ласков и всегда радовался их присутствию. Они одни могли его уговорить не выходить из дома и не слоняться по улицам, рискуя оказаться в доме для душевнобольных, а то и похищенным врагами. Вот каким путем и ценою какой жертвы была решена проблема покупки мебели и домашних вещей. Когда Жермена лежала больная, князь, надеясь ее развлечь и доставить ей удовольствие, позвал известнейшего в Париже ювелира, велел принести красивейшие драгоценности и разложил их на постели девушки. Он рассчитывал пробудить в ней любовь к нарядам, свойственную женщинам, и просил выбрать, что понравится, а лучше взять вообще все. Но Жермена окинула грустным взглядом сверкающие украшения и решилась приобрести только одно скромное колечко с красивым сапфиром, окруженным мелкими бриллиантами, сделав это лишь затем, чтобы не обидеть Мишеля полным отказом. Князь сказал ювелиру, огорченному такой, на его взгляд, незначительной покупкой: — Это пока, позднее мы опустошим весь ваш магазин. Потом Березов вернулся к Жермене и надел ей кольцо на палец, а она сказала благодарно и нежно: — Я с ним никогда не расстанусь! И конечно, сдержала бы обещание. Но теперь, когда от этого зависело сохранение жизни Мишеля, могла ли она не распроститься с его же подарком? И девушка это сделала, когда Бобино спросил, на какие деньги купить обстановку для квартиры. Жермена молча сняла кольцо с руки, положила в футляр и, передавая Бобино, сказала: — Заложи или продай, как хочешь. В ломбарде оценили в четыреста франков, ювелир предложил шестьсот, Бобино согласился и тут же побежал за мебелью, уплатив наличными пятьсот с тем, чтобы остальные сто отдать в рассрочку за год. Вернувшись, он с торжеством сказал Жермене: — Все в порядке, можем переезжать, когда нам удобно. Итак, главное теперь состояло в том, чтобы их перемещение не заметили шпики, несомненно наблюдавшие за домом днем и ночью. Девушки страшно боялись, что враги узнают их новый адрес, проникнут в отсутствие Бобино и будут продолжать вредить Мишелю, уже и так сделав его совсем больным. Бобино молча слушал эти разговоры, предвкушая, какой приятный сюрпризпреподнесет. Наконец он сказал: — А если я берусь провести вас так, что никто не заметит? — Вы можете это сделать? — И не далее как сегодня ночью. — Но они увидят, как мы будем выходить на улицу Паскаля. — А мы окажемся на другой. Только бы Мишель не заупрямился и не принялся бы ставить нам палки в колеса. — Его мы берем на себя, — сказала Берта. — Буквально: возьмем под руки, и он спокойно пойдет куда надо. — Итак, друзья мои, в половине первого пополуночи мы уходим отсюда на улицу Мешен. — Ты, может быть, поведешь через подземелье… Мы ужасно боимся подвалов с тех пор, как нас держали взаперти, с крысами… — Все будет гораздо проще: вы ничего не имеете против прогулки по берегу реки? — Ничего, особенно когда такое необходимо. — Там не очень приятно пахнет, но зато нет ни малейшей опасности. — Я готова идти вдоль сточной канавы, если это путь к нашему спасению, — сказала Жермена. В полночь все пятеро спустились в швейцарскую, где их ждал Матис. Он снял со стены ключ на длинном ремешке и сказал, что проводит друзей, и все последовали за ним. Они миновали двор, где сильно пахло из дубильной мастерской, и приблизились к вонючему стоку, идущему к речонке Бьевр. Мишель находил ночную прогулку забавной, хотя в темноте не было даже видно, куда ставить ногу. Князь оставался спокоен, не объявлял себя сумасшедшим, но сильно страдал от раны. Бедный аристократ покорно шел, куда его вели. Выходы на набережную из дворов запирались наглухо, только некоторые дома имели ключи от замков. Матис изготовил отмычки, вывел всех к речушке. По другую сторону ее простирался пустырь, отгороженный плотным забором. Через вонючую воду перекинули доску, по ней перешли на другой берег, а там пустырем — до изгороди. Накануне вечером Матис вынул гвозди из одной широкой планки. Подведя всех к этому месту, он внимательно прислушался, не идет ли кто по улице, открыл проход, выпустил всех на улицу и, быстро поставив планку на место, повернул к себе. Операция проводилась в полной тишине, переговаривались только шепотом. Теперь они могли надеяться, что скрылись от своих преследователей и смогут наконец спокойно искать работу, спокойно жить. Не встретив ни души, дошли до улицы Мешен, где находилась новая квартира. Несмотря на поздний час, консьерж[90], получив авансом хорошие чаевые, дожидался их, провел в жилье и оставил одних. Жермена, увидав, какую милую обстановку подобрал Бобино, радостно воскликнула: — Как у нас хорошо! Я даже не смела надеяться, что ты все так славно устроишь; спасибо тебе, дорогой друг! Обошли четыре комнаты, восхищаясь как дети мебелью из красного дерева, ковриками, швейной машинкой. Только один Мишель молчал и казался ко всему безучастным. — Ну, мой друг, как вы находите наше убежище? — спросила Жермена. — Оно, может быть, и не очень удобное, но зато мы тут в безопасности. — Нас не найдут теперь, мы поселились под чужими фамилиями, — добавил Бобино. — Мне все равно, — сказал князь. — Ведь я теперь не более чем испорченный механизм. Разве я могу о чем-нибудь думать с тех пор, как они убили мою душу. — Но кто? Кто они?.. Скажите, ради Бога. Умоляю вас! — снова и снова спрашивала Жермена. — Те, кто убили мою душу и ждут, чтобы я покончил с собой, и это скоро случится.ГЛАВА 15
На другой день Бобино вывел четким почерком два десятка объявлений. Тех самых записочек величиной с ладонь, какие мы постоянно видим расклеенными на водосточных трубах, на косяках входных дверей, на углах тех домов, которые, кажется, стыдятся, что занимают место на улице. На записках нет разрешительных штампов, они существуют только благодаря снисходительности администрации, делающей вид, что не замечает их, ведь многим нуждающимся эти клочки бумаги помогают найти пропитание. Жермена не предоставляла работу, а искала ее. Она писала:«Особа, обученная в лучшем модном ателье Парижа, берется шить платья для дам и девиц, переделывать устаревшие туалеты и реставрировать нарядные платья. Обращаться в дом N… по улице Мешен, 3-й этаж».Таким образом, девушка взывала к довольно многочисленной клиентуре из небогатых женщин, желающих быть одетыми по моде, не покупая наряды в магазинах, и при этом говорить с гордостью: «у моей портнихи…» — потому что немногие из них могут иметь на самом деле свою портниху. Бобино расклеил бумажки ночью, когда возвращался из типографии, и Жермена с утра ожидала клиентов. Берте поручили делать покупки провизии, она очень хорошо понимала в хозяйстве и умела торговаться с продавцами. Мария сидела дома с Мишелем, а до трех часов дня и Бобино находился с ними. Состояние здоровья русского опять требовало внимания. Рана открылась, нагноение началось снова, и Мишеля лихорадило. Кроме того, сильно мучила межреберная невралгия, следствие ранения, и настроение у него было убийственное. Он ворчал на Жермену, не желал ее видеть, терпеть не мог Бобино и успокаивался лишь, когда говорил с Марией или когда она читала вслух. В голову ему приходили всяческие фантазии, и Березов высказывал их с дьявольской едкостью, совершенно не желая замечать, как огорчает друзей, сидевших на мели после квартирных затрат. — Хочу клубники, — говорил он Марии. — Да, клубники, в конце марта ее можно найти сколько угодно… Клубники с шампанским и хорошую сигару… Ваши мерзкие папироски набиты просто мокрым сеном… Хочу настоящую гавану[91], какие курят в светском обществе, — так, к примеру, говорил он. — Господи, Боже мой! Да если бы у нас было хоть немного лишних денег, мы бы купили все, чего он хочет, — шептала Жермена. — Я возьму аванс, займу у товарища двадцать франков. Ты был нам другом в трудные дни, и мы станем работать изо всех сил, чтобы тебе жилось как можно лучше, — сказал Бобино. Но князь посмотрел злыми глазами и прервал пораженного Бобино, сказав Жермене: — Если вы в нищете, только от вас зависит из нее выйти. Ступайте замуж за Мондье, он богат, он вас обожает, а мне дайте покончить с этой собачьей жизнью, раз надо себя убить, раз необоримая сила к этому толкает. Бобино ничего не мог понять. Из деликатности, присущей многим парижским простолюдинам, он никогда не касался пережитого Жерменой надругательства. Он подозревал об ужасной драме, произошедшей в мрачном доме, охраняемом Лишамором, но не просил, чтобы Жермена рассказала. Тем более он не знал имени человека, гнусно оскорбившего ее. И все-таки у него отчего-то застыло сердце, когда Мишель назвал имя графа, а Жермена, смертельно побледнев, чуть не упала в обморок. Но она сдержалась и не заплакала. В это время раздался звонок, прервав тягостный разговор. Бобино удалился с Мишелем в другую комнату, пока Жермена шла открывать. На площадке лестницы стояли женщины: одна совсем молоденькая, блондинка, очень хорошенькая и шикарно, с безупречным вкусом одетая; другая — постарше, в платье добротном, но без всяких претензий на моду, была похожа на воспитательницу или на компаньонку. Ослепительная красота Жермены на фоне скромной обстановки квартиры удивила и восхитила пришедших. Учтиво поздоровавшись, младшая спросила Жермену: — Мадам, это вы принимаете заказы на переделку платьев? — Да, мадемуазель, — ответила наша героиня, сразу поняв, что с ней говорит хорошо воспитанная девушка. — Входите, пожалуйста. Жермену приятно удивил сдержанный и мягкий тон, каким заговорила с ней явно богатая заказчица. Еще более удивило то странное обстоятельство, что хорошенькая девушка была необычайно похожа лицом на Бобино и даже тембры их голосов как бы совпадали, только голос мужчины был, естественно, погрубее и черты его лица порезче. Те же живые, яркие глаза, те же вьющиеся рыжеватые волосы, тот же прямой коротким нос с тонкими ноздрями. И что совсем невероятно, у обоих в одном и том же месте на лице темнела родинка. Невиданное, поразительное сходство! Со своей стороны барышня с необычайным интересом разглядывала Жермену, ей казалось, что они уже встречались, только не припомнить, где и когда. Указав на спутницу, девушка сказала: — Мы живем в монастыре Визитации, он ведь почти напротив вашего дома. Выйдя погулять, мы увидели ваше объявление, у мадам есть пальто, которое на ней плохо сидит, и мы подумали, не возьметесь ли вы подогнать его по фигуре. — К вашим услугам, сударыни, — ответила Жермена. — Дело в том, что мы очень торопимся и поэтому не согласитесь ли вы переделать как можно скорее? Это вас не слишком затруднит? — спросила девушка с милой улыбкой, той, что сразу покорила Жермену. — Мне хочется вам угодить, я готова начать сегодня же. — Я пришлю пальто с горничной после полудня, и одновременно мадам придет для примерки. — Когда вам будет угодно, мадемуазель, я не буду зря терять времени.
Незнакомки простились с Жерменой и вскоре подошли к дому с садом, в глубине которого находился павильон с верандой, крытой матовым стеклом, там росли экзотические растения в вазонах, висели драпировки из дорогих тканей, картины и стояло много скульптур. Все предметы говорили об изысканном вкусе хозяина. Их встретил мальчик в ливрее и без доклада проводил в комнаты. Они вступили в очень большую мастерскую, где с нетерпением ждал молодой художник. Поспешно бросив работу, он радостно бросился к гостьям, протягивая обе руки. — Здравствуйте, Сюзанна! — сказал, волнуясь, хозяин мастерской. — Здравствуйте, Морис! — так же ответила девушка. Художник одновременно пожал руки девушки и ее спутницы, при этом молодые люди обменялись долгим красноречивым взглядом. — Дорогая Сюзанна, как вы добры, что с такой аккуратностью пришли сегодня! Хорошенькая блондинка, оправившись от смущения, сказала с милой насмешливостью: — Дорогой мастер, по-моему, я все дни так же аккуратно являлась на сеансы и надеюсь, что и завтра не опоздаю. Вы пишете мой портрет, прелестный портрет, на нем вы делаете меня красивее, чем в действительности, идеализируете, но я имею слабость находить изображение похожим, и мне это приятно, не скрою. Я с нетерпением жду, когда вы закончите, вот почему я исправно хожу на сеансы. — О! Уверяю, портрет недостоин вас! — с искренней пылкостью ответил Морис. — Чтобы написать вас такой, какая вы на самом деле и какой я себе представляю, надо быть гениальным, а у меня ничего нет, кроме любви и таланта. Увы! Очень небольшого. Он подвел ее к мольберту[92]. Спутница девушки села на диван и занялась чтением журнала, чтобы не мешать молодым людям поговорить. Они рассматривали незавершенное полотно. — Неужели я должна вам говорить, что это прекрасная работа? Неужели вы сами этого не видите и сомневаетесь в своем истинном таланте? Мне кажется, вы были увереннее, когда помещали на выставках свои восхитительные пейзажи, ими я любовалась, еще не будучи с вами знакома, — говорила Сюзанна с такой искренностью, что Мориса прямо-таки распирало от радости и гордости. — Это было потому, что в ту пору я вас не любил, Сюзанна! Тогда вы еще не позволяли мне вас любить. — Не хватает только того, чтобы вы меня полюбили еще не увидав, — весело смеясь сказала девушка. — Я не то хотел сказать… — Так объясните почему. — Потому, что, не зная вас, я был уверен в себе, как человек, которому нечего терять. — Кажется, понимаю, — смеясь еще веселее, сказала девушка, — это вроде как в сказочке Лафонтена[93] «Сапожник и богач». А теперь вы обладаете сокровищем, боитесь его потерять, и оно отнимает у вас уверенность в вашем мастерстве? — Смейтесь!.. Шутите надо мной… Я вам припомню. Мое сокровище — это вы… молодая, красивая, счастливая, богатая, знатная… Это вас боюсь я потерять… вернее, оказаться недостойным. Надо обладать большим, чем обыкновенный, талантом, чтобы осмелиться просить вашей руки у вашего отца и надеяться на его согласие… чтобы вы стали женой простого художника Мориса Вандоля. У вас самой тоже, может быть, есть предрассудки вашего сословия. Если бы у меня был выдающийся талант, я бы стал богат и знаменит, и тогда, может быть, ваш отец не посмотрел бы на то, что я не знатен. Вот почему, моя любимая, у меня нет уверенности в себе. Взволнованная и растроганная искренними словами Мориса, девушка с нежной улыбкой говорила ему: — Надейтесь, друг мой, надейтесь… ведь я вас люблю, всей душой люблю. — Сюзанна! Как вы добры ко мне, как я обожаю вас! В вашей любви вся моя жизнь… мое будущее… моя гордость… — Я не знаю, поступаю ли я хорошо, с точки зрения света… Я от него так далека… Я не знала своей матери… Я бы спросила у нее… Она, наверное, была добрая… Я спрашивала у моего сердца, и оно говорило мне, что такая любовь, как наша, — это честное, законное и дозволенное чувство. — Вы знаете, что моя мать нашу любовь одобряет, ваша достойная родственница мадам Шарме ей сочувствует и помогает нам видеться… О! Как мне хочется, чтобы поскорее вернулся ваш отец… Он все еще в Италии? — Да. — И долго еще там будет? — Ничего не знаю. Обычно его отлучки продолжаются около трех месяцев, иногда дольше. Он прекрасный человек, но весьма и весьма светский, он ни за что на свете не пропустит сезона в Италии. Он очень любит меня, балует, исполняет все мои маленькие желания, относится ко мне как к избалованному ребенку. Он человек высокой культуры, он оценит ваш талант художника, признает как аристократа искусства и мысли… Такая аристократия не ниже аристократии сословной. Он вас полюбит… Морис, слушая, с увлечением работал над портретом. Голова была уже почти закончена, она не только изумительно походила на оригинал, но и была сработана с таким мастерством, что любой знаменитый живописец не постыдился бы поставить на холсте подпись. Морис смотрел на девушку нежным взглядом влюбленного и художника, и душа ее волновалась от этого взгляда. Сюзанна становилась более обычного прекрасной. Она отдавалась счастью их ежедневных свиданий, что стали главной, если не единственной радостью ее жизни. Часы пролетали для них незаметно, и оба не слышали, как на башне Обсерватории пробило двенадцать. Мадам Шарме, уже успевшая не один раз перелистать иллюстрированный журнал, быстро встала с дивана, покашляла и проговорила: — Пойдемте, Сюзанна, пора возвращаться в монастырь, завтрак ждет нас. До завтра, месье Морис. — Как! Уже пора! — воскликнул огорченный художник. — Разве уже двенадцать? Часы Обсерватории, наверное, врут. Но вы сегодня опоздали на четверть часа, значит, вы мне их должны. — Правда, до прихода к вам мы заходили к портнихе, она живет напротив монастыря Визитации. И я забыла вам сказать об одной вещи, поразившей нас обеих, не правда ли, мадам Шарме? Есть ли у вас здесь копия портрета, что выписали для князя Березова? — Да, он у меня, дорогая Сюзанна, но почему вы о нем спрашиваете? — Потому что портниха, у кого мы были в скромной квартире на улице Мешен, похожа на этот портрет до такой степени, что мы обе были несказанно удивлены. Вандоль принес портрет, который поразил Сюзанну прелестью изображенной женщины, когда она впервые увидела его в мастерской своего поклонника. Тогда Сюзанна почти не поверила, что на свете может существовать такая красавица, спрашивала у Мориса, кто она, и тот рассказал известное ему из истории Жермены. Правда, он не знал прошлой жизни девушки, не знал, почему она бежала топиться, когда ее увидел и спас Березов. Обе женщины посмотрели на изображение и сошлись на том, что сходство совершенно удивительное, это несомненно женщина, виденная ими на улице Мешен. — Этого не может быть, — сказал Морис. — Друг мой, в Париже не может быть двух таких женщин, — заявила Сюзанна. — Уверяю вас, что оригинал живет на улице Мешен. — А я повторяю вам, дорогая Сюзанна, что этого не может быть, потому что оригинал находится сейчас вместе с князем в Италии. — Это, конечно, убедительно. — А если князь Березов уже вернулся бы в Париж, мне первому об этом стало бы известно. Я его лучший друг, мы время от времени переписываемся, что довольно редко в нашем мире, где каждый живет для себя, не интересуясь тем, как существуют другие. — Тоже убедительный довод, и все же подобное сходство мне кажется странным. Знаете ли, скажу вам, раз вы знакомы с подругой князя Березова, пойдемте на днях вместе со мной к портнихе на улицу Мешен, и вы тогда сами увидите. — С радостью, дорогая Сюзанна.
ГЛАВА 16
Великосветский лев в Париже и предающийся наслаждениям бандит в Италии, начисто лишенный совести и чести, жестокий, умный, хитрый граф Мондье, покоритель и мучитель женщин, любил за всю жизнь только одну из них — свою дочь, прелестную и скромную Сюзанну, любил до обожания. При этом она ничего, в сущности, не знала о том, каков на самом деле отец, с нею бесконечно добрый, ласковый, щедрый и, думала она, глубоко порядочный. На время отлучек в Италию граф оставлял свое дитя под присмотром пожилой бедной родственницы в пансионе столичного монастыря Визитации, где она мирно жила в полной безопасности. И воспитывалась Сюзанна в этой обители, привыкла к ее укладу, чувствовала себя там очень уютно и спокойно, деля скромную келью с приветливой и доброй мадам Шарме. Девушку не привлекали светские удовольствия, ей нравилось уединение, она почти ни с кем из мирских знакомых не встречалась, хотя могла свободно уходить из приюта до восьми вечера, принимать гостей, заниматься музыкой, читать, изготовлять изящные рукодельные работы, — словом, полноценно заполнять досуг, а его хватало: в сущности, круглые сутки она была предоставлена самой себе. Очень хорошенькая, грациозная, отменно воспитанная и образованная, Сюзанна была к тому же весьма добра. Она не могла относиться без сострадания к бедным людям, всегда старалась помогать им и много делала для этого в окру́ге Мануфактуры[94] гобеленов[95] и Обсерватории, где располагался монастырь и жило особенно много бедноты. Ее благотворительность не имела ничего общего с показным сюсюканьем светских дам, что регулярно раздают безделушки только знакомым несчастненьким, хорошо отмытым и для такого случая навсегда обученным, как себя вести при вручении господских подачек. Сюзанна же опекала тех, кто не мог или не хотел обращаться со своей нуждой ни к кому из гордости, недоверия или застенчивости. Она без отвращения и страха входила в грязные, запущенные дома, где ютилась нищета, отдавала несчастным все, что было в кошельке, и как могла утешала добрым словом отчаявшихся. Девушка словно обладала особым чутьем, чтобы отыскивать именно тех, кто не просит подаяния и прячет свою нищету. Облегчать хоть малостью их судьбу приходилось чуть ли не насильно. Сюзанна была так неутомима в своих походах по трущобам, что мадам Шарме иногда даже просила подопечную не брать ее с собой, зная, что воспитаннице не грозит опасность. Действительно, трудовой люд, в основном населявший эти кварталы, относился к молодой и хорошо одетой женщине с уважением и, насколько умел, вежливо и приветливо.Но эти кварталы облюбовали по разным причинам и фабриканты, и зажиточные буржуа, охотники погулять и повеселиться на отшибе, где невелик риск встретиться с нежелательными свидетелями. Кроме того, именно в этих кварталах обрабатывали за выпивкой и гульбой провинциальных клиентов, делая их более податливыми. Сюда прямо-таки тянуло новоявленных дельцов, выскочек, еще не успевших приобрести внешний лоск и презираемых в аристократических салонах. Здесь же эти нувориши ощущали себя в родной среде, хотя демонстрировали простолюдинам такое презрение, с каким не относились к ним прежние владетельные господа, как правило, отменно воспитанные. Однажды кучка из подобной публики, обильно позавтракав у фабриканта, вышла днем на улицу в сильном подпитии, чтобы поразвлечься. Уселись в одном из больших кафе, чтобы оттуда отправиться в центр города и там закончить веселье ничем не сдерживаемой оргией. Два господина из этой компании, возрастом лет около сорока, краснорожие, с брюшком, хорошо одетые, с кольцами на толстых волосатых пальцах, прогуливались по улице Санте по направлению к бульвару Араго. Утирая пот, несмотря на холодную погоду, в цилиндрах, сдвинутых на затылок, они отпускали всяческие сальности встречным женщинам. Проходя мимо стены тюрьмы Санте, места мрачного и пустынного, они увидали молоденькую девушку, та спешила, — видимо, промерзнув, спрятала руки в муфту, шею закрывал меховой горжет[96], концы его спускались ниже пояса. В Париже одиноко идущая по улицам женщина никогда не может чувствовать себя в безопасности. Всегда найдется кто-нибудь, чтобы кинуть оскорбительное слово, пошлую шутку, циничное предложение. Как правило, никто из прохожих не вступается, а полицейские только посмеиваются в усы, весело поглядывая на наглеца. В Америке человека, оскорбляющего таким образом женщину, даже случайные прохожие избили бы тотчас. Увы, в Париже и порядочный мужчина редко осмеливается поддержать женщину, таким образом становясь невольным союзником нахалов, тогда как было бы достаточно раза два основательно огреть наглеца палкой или врезать несколько хороших зуботычин… …Два подвыпивших господина сочли очень остроумным загородить девушке дорогу и загоготали. Она отскочила. Один громко объявил: — Она миленькая! Я бы с удовольствием переспал с такой! Другой ответил: — Э! Толстый распутник, давай на па́ру! Девушка сошла на мостовую, один из хамов покинул тротуар и опять загородил дорогу. Бедняжка покраснела, потом побледнела, посмотрела на бесстыдников испуганным и одновременно возмущенным взглядом, но толстокожих животных не тронул ее взор. Типчик, остававшийся на тротуаре, спросил: — Малышка моя, один луидор может составить твое счастье? — Два луидора!.. Два луидора… Но хочу поцеловать вас сию же минуту! Охальник уцепился за горжетку и потянулся пьяной рожей к девичьему лицу. Девушка громко закричала, отскочила, чуть не упала и громче позвала на помощь. Нахал не унимался, из развязного он превращался в наглого. — Подумаешь, какие нежности… Три луидора хочешь? Или… Сильный пинок в жирный зад заставил его заорать от боли и неожиданности. Одновременно его компаньон получил по цилиндру такой удар кулаком, что высокий головной убор нахлобучился до рта, сделав щеголя небоеспособным. Получивший ногой в седалище дернулся назад и увидал молодого человека среднего роста с бородкой клинышком, широкого в плечах и очень быстрого в движениях. Толстяк был трус и вовсе не хотел драться. Он попытался вступить в переговоры и начал: — По какому праву вы себе позволяете… В ответ он получил два быстрых удара, отчего у него под глазами появились два основательных синяка и в голове зазвенело. Он пытался бежать, но молодой человек ухватил грубияна за ворот так, что сдавил горло, и тихо, гневно сказал: — Проси прощения! Гуляка прохрипел: — Пощадите… простите… Молодой человек отпустил ворот и толкнул безобразника так, что тот отлетел на несколько шагов и плюхнулся на свой цилиндр, раздавив его в лепешку. Другой в это время старался стянуть с себя нахлобученную на лицо трубу такого же головного убора. На расправу потребовалось не больше двадцати — тридцати секунд. Победитель улыбнулся девушке, она мило ответила тем же. Он подошел и, почтительно сняв шляпу, проговорил: — Мадемуазель, окажите честь опереться на мою руку. Я провожу, куда вам угодно. Вы окажетесь в полной безопасности, я буду усердным и почтительным слугой. Незнакомец смотрел большими добрыми глазами, в них выражались преданность и восхищение. А она, сразу покоренная честным взглядом и теплым приятным голосом, почувствовала, что вполне может довериться прохожему, и без колебания оперлась на его руку. Уже собралась толпа, судили всяк по-своему о случившемся, а какая-то простая женщина, посмотрев вслед, сказала: — Неплохая парочка из них выйдет! Тот, на кого был нахлобучен цилиндр, стащил его наконец и, решив изобразить храбреца, достал визитную карточку, протянул вдогонку удалявшейся парочке, крикнул: — Вы меня ударили! Вы за это ответите… Молодой человек обернулся, посмотрел презрительно и сказал: — Вы непременно хотите со мной драться? — Да. Я не позволю меня оскорблять. — Принимаю вызов, вот моя карточка, но дрянь, оскорбляющая беззащитных девушек, — всегда подлец и трус, и скажу вам, что вы только разыгрываете из себя храбреца, и дуэлянтом никогда не станете. И трусливый нахал удалился, освистанный собравшимися. Заступник предложил спасенной от издевательств позвать извозчика, но та сказала, что тут совсем близко до монастыря Визитации, где она живет, но, поблагодарив за защиту, предпочла идти пешком. В пути они вполне свободно разговаривали, испытывая большую радость от общения. Провожатый сказал, что и он обитает с матерью неподалеку от монастыря, по профессии художник и зовут его Морис Вандоль. И она назвала свое имя: Сюзанна Мондье, объяснила, почему находится сейчас в католической[97] обители. Через десять минут они уже достигли нужного места и удивились, как за такое короткое время успели рассказать друг другу о своей жизни и стать благодаря случайности друзьями, может быть, надолго, если не навсегда. Оставшись один на пустынной улице, Морис ощутил необыкновенное блаженство. Его душа, до сих пор заполненная любовью к матери и к искусству, словно расширилась, в нее вошло новое, до тех пор неведомое чувство и наполнило радостью, какой прежде он не испытывал. В мастерской, охваченный сладостным волнением, молодой человек изобразил черты той, кого два часа назад не знал, и, глядя на рисунок, подумал: «Я люблю ее».
Очень скоро мадам Вандоль заметила, что с Морисом что-то происходит. Он не сделался менее любящим сыном. Наоборот, стал относиться к матери с еще большей нежностью, но в нем появились новые черты: сочетание возросшей откровенности с некоторой нервозностью. Настроение утратило прежнюю ровность, он не веселился по-прежнему, как беспечный ребенок, нападала длительная задумчивость, когда Морис не замечал ничего. Потом его вдруг охватывала неожиданная, непонятно чем вызванная веселость. В таком состоянии он мало и плохо работал, портил начатые холсты. Пробовал заниматься музыкой, беспорядочно наигрывал что-то на фортепьяно и снова впадал в меланхолию. Все это свидетельствовало о тяжелой болезни молодого человека двадцати трех лет, и мадам Вандоль, конечно, догадалась, какова причина. Внимательная и любящая мать, всегда бывшая лучшим другом сына, она завела осторожный разговор и скоро услышала признание. Морис был влюблен. Уже три дня. Он охотно рассказал, при каких обстоятельствах встретил девушку, поразившую его сердце, и мать отчасти успокоилась, подумав, что сын явно не попал в руки авантюристки. Морис продолжал: — Мама, если хочешь доставить мне удовольствие… нет, огромную радость, ты пойдешь в монастырь Визитации и попросишь разрешение повидать Сюзанну Мондье… — И сказать, что мой сын безумно влюблен в нее… — Мама, не смейся! Спроси ее только, как она себя чувствует… Не сделалась ли она больна после… после того случая на улице. Ради Бога, не откажи мне в просьбе! — Хорошо, я пойду, — ответила мадам Вандоль, видя волнение сына. — Когда? Скажи, мамочка! — Ты хочешь, чтобы я отправилась тотчас, хорошо, я согласна. — Какая ты добрая! Как я люблю тебя! Отсутствовала мадам Вандоль целых два часа. Морис ждал ее с нетерпением, проклиная медлительность часовых стрелок. Наконец она вернулась в прекрасном настроении. Морис спросил ее изменившимся голосом: — Скажи, ты ее видела? — Разумеется. — Рассказывай же скорее… — Я и собираюсь это сделать, только не перебивай. — Хорошо. — Мадемуазель Сюзанна де Мондье — прекрасная девушка. Добрая, хорошенькая, изящная, умненькая, но она богата, к сожалению, слишком. — Мама, я тоже разбогатею! — Не сомневаюсь, дитя мое. — Но что она говорила тебе? — Она встретила меня довольно холодно, ведь я была незнакомкой, вторгшейся в монастырскую тишину. Она приняла меня в маленькой комнатке с побеленными известью стенами, в настоящей монастырской келье, где занималась изучением… угадай чего? — Не знаю, не томи меня! — Каталога последнего Салона! Ну, ты ведь знаешь… Книги, где указаны в числе прочего и адреса всех выставлявшихся художников. Морис густо покраснел, угадывая, к чему его мать ведет речь. — Она искала имя и адрес, под которыми значилось название твоей картины «Жатва в Босе»[98]. Когда я назвала себя… если бы ты видел, как она обрадовалась! Лед был тут же разбит… И мы стали беседовать, как добрые старые друзья, она долго меня не отпускала и взяла слово, что я опять к ней приду. Вот все, что я смогла для тебя сделать, мой баловень! На другой день Сюзанна в сопровождении родственницы пришла отдать визит мадам Вандоль. Разговор шел обо всем понемногу, но, разумеется, больше всего о живописи, и Морис предложил Сюзанне написать ее портрет в рост. Девушка согласилась. Договорились, что будет позировать каждый день по часу в мастерской на улице Данфер-Рошеро. Мадам Вандоль присутствовала на первых сеансах, потом стала приходить лишь изредка. Молодые люди вскоре признались друг другу в любви и проводили счастливые часы, оставаясь вдвоем. Они с нетерпением ждали возвращения графа Мондье, у него Морис собирался с ходу просить руки дочери. При этом художник, смелый по натуре, испытывал страх от вероятности получить отказ. Сюзанна, же, напротив, была уверена, что любящий отец, заботясь о ее счастье, непременно даст согласие на их брак, и она твердила об этом Морису, желая его ободрить. О своей страстной любви Морис поведал Березову в письме. Князь тогда ничего не ответил, он уже был подавлен тягостным гипнозом. Увлеченный своей любовью, Морис ничего не знал о происшедшем с Мишелем в Италии. Он ждал ответного письма без особого нетерпения, думая, что князю, наверное, лень писать, находясь с любимой под голубым небом Италии у теплого синего моря. Поэтому он и говорил Сюзанне с полной уверенностью, что друг его сейчас живет за границей вместе с Жерменой и что сходство женщины на портрете и портнихи с улицы Мешен совершенно случайно. К тому же Сюзанна сказала любимому о скором возвращении своего отца, и мысль о встрече с ним так волновала Мориса, что он больше ни о чем не мог думать. Если бы молодой человек мог догадаться, что совсем близко скрывается Жермена и что на ее руках находится больной князь, которого он знал таким богатым, красивым и сильным! Скольких несчастий Сюзанна и Морис тогда бы избегли. Но слепая случайность определила все по-другому, да и бедной Жермене довелось претерпеть еще много тяжкого.
ГЛАВА 17
Пятнадцать дней прошло со времени появления прелестной Сюзанны в квартире на улице Мешен. Жизнь ее обитателей становилась с каждым днем тяжелее. Жермена почти не получала заказов. После того как Сюзанна расплатилась за переделку пальто, мастерица выполнила лишь несколько пустяковых работ для скаредных жен буржуа из квартала. В дом пришла настоящая нужда. Один лишь Бобино немного зарабатывал. Его жалованья, может быть, хватило бы на относительно нормальное существование маленькой семьи, но жить на эти деньги впятером, да еще и с больным, требующим особого ухода, было невозможно. Наборщик отказывал себе во всем, даже в маленькой рюмочке аперитива с товарищами по цеху. Он перестал ездить на работу в омнибусе и очень сожалел об утрате велосипеда, оставленного в доме Березова, когда отправлялись в Италию. Горевал не столько потому, что мог бы ездить на нем в типографию, сколько из-за невозможности хоть что-то продать и тем немного поправить их бюджет. Жермена, Бобино, Берта и Мария пили воду и ели сухую картошку с хлебом. Сардинка в масле или кусочек сыра на долю каждого воспринимались уже как роскошь. Бобино получал десять с половиной франков за ночь, из них приходилось откладывать на оплату долга за обстановку квартиры и за ее наем, на все про все оставалось лишь семь с половиной франков. А ведь надо было платить еще за дрова, за уголь, за стирку белья, так что на питание оставалось совсем мало, даже при том что сестры по очереди пользовались прачечной самообслуживания, но и это обходилось по их меркам дорого. Наконец, эти мужественные люди, связанные взаимной любовью и неизбывной благодарностью к тому, кто так много сделал для них, изо всех сил старались, чтобы князь не замечал нужды, в какой они очутились. Для Мишеля покупали лакомства, вино, сигары. При всей бедности они пытались исполнять капризы большого ребенка, ставшего насмешливым, сварливым и, наконец, злым. Жермена, любившая еще крепче, чем прежде, с тех пор как он стал несчастным, силилась вернуть себе его нежные чувства и преданно ухаживала за ним. Она не могла поверить, что здорового и сильного человека может настолько истощить лихорадка, причиняемая незаживающей раной, что такую гордую, трепетную и сильную душу безвозвратно сломит безумие, что сердце, где она безраздельно царила, закроется для нее навсегда. Нет! С этим она никогда не примирится. Мишель был ее собственностью, самым главным человеком в ее жизни. Она защитит любимого от всего: от людей, от болезни, от самой смерти! Ничто не могло истощить ее терпение, основанного на любви и твердости характера. Сколько ни мучил ее Мишель непризнанием, придирками и нелепыми жестокими словами, она все терпела, молча удерживая слезы. Она все прощала ему. Березов не пытался выходить из дома, вставал очень поздно, целый день сидел в единственном их кресле, непрерывно курил или дремал, и мысли его оставались замкнутыми на внушениях страшного гипнотизера, вбитыми в мозг как гвоздь в дубовую доску. — Вам не стало лучше, мой друг? — ласково спрашивала Жермена, стараясь заглянуть ему в глаза. Он ворчливо отвечал: — Нет. И какое вам до этого дело? И при этом старался избежать ее взгляда. — Очень даже большое, Мишель, ведь я хочу вам добра. — Если бы вы его хотели, как говорите, то сделали бы для меня то, о чем я вас прошу. — Что же именно, мой друг? — Вышли замуж за графа Мондье, он вас обожает… Он богат… Сделали это потому что так надо, потому что нельзя иначе. Жермена чувствовала такую боль в сердце, словно его прокололи. — Этот человек — негодяй, и вы причиняете мне боль, говоря так. — Но раз это надо… А я должен застрелиться из револьвера, непременно из револьвера… — Довольно!.. Перестаньте!.. Вы меня мучаете, Мишель! — И Жермена, не выдержав, зарыдала, побежденная бессознательной жестокостью больного. Когда наконец ей удалось поймать его взгляд и посмотреть в упор чудесными, полными слез глазами, князя вдруг охватило чувство восторга, он словно пробудился и воскликнул: — Как вы прекрасны, Жермена! Как вы добры… Как я вас… как я вас люблю! Жермена вскрикнула от радости. Выдав однажды свой секрет, она уже не скрывала любви к Мишелю. — И я люблю вас, мой друг! Ради вас я смирила свою ненависть. Умоляю вас, будьте таким как прежде! Не мучайте меня, не говорите мне того, что сейчас произнесли. Но вскоре взгляд и слова Жермены перестали действовать, и князь опять подпал под влияние жестокого внушения. Будто раскаиваясь в непослушании приказу, он в бешенстве возвысил голос: — Это неправда!.. Все неправда… Я вас не люблю!.. Слышите? Я вас ненавижу! Да, ненавижу всеми силами души!.. Его лицо искажалось гримасами как у безумного. Он с ужасом выкрикивал чудовищные слова, подобно тому как верующий изрыгает проклятия Богу под действием неодолимой злой силы. Человек, более знающий, чем Жермена, кому известны симптомы действия гипноза, изученные доктором Шарко[99], понял бы, что Мишель перенес тяжелую душевную травму. Но несчастной девушке об этом ничего не было известно, и она оплакивала свое разрушенное счастье и боялась за жизнь Мишеля, чье здоровье не поправлялось. При всем своем мужестве бедняжка теряла надежду, особенно видя, как нищета давит их дом. Они творили чудеса экономии и изобретательности, чтобы противостоять страшной беде трудящегося человека — безработице. Но никто из них не высказал ни единой жалобы. Они терпели не падая духом. Если оставалась хотя бы надежда на улучшение жизни в будущем! Наоборот, все шло к худшему. Запасы истощались, накапливались долги поставщикам продуктов. Свой заработок Бобино взял за неделю вперед, и занять было негде. Через несколько дней наступит полная нищета. Напрасно Жермена, Берта и Мария искали хоть какого-нибудь занятия, даже совершенно им непосильного. Они ничего не находили. Решительно ничего! И если бы приходилось голодать только им троим и Бобино! Наборщик со своей неистощимой привычкой к шуткам говорил: — Мы-то привыкли питаться голодом! Но как быть с бедным князем? Как ему терпеть обнищание? Тысяча чертей! Что делать? Пришлось в конце концов лишить Мишеля лакомств и сигар, он стал невыносимо сварливым и придирчивым, жить с ним становилось невозможно. Нужны были вся любовь и все терпение Жермены, чтобы выдерживать это мучение. Мишель всерьез считал себя сумасшедшим, и все его поведение было действительно безумным. Его постоянно преследовали навязчивые идеи: о самоубийстве, о женитьбе Мондье на Жермене и о побеге из дому. Он настойчиво твердил Жермене, что ей надо выходить замуж за ее палача и просьбы всякий раз постепенно переходили в приказания. Он кричал иногда так, что наверняка слышали соседи, и это могло кончиться публичным скандалом. Один раз, когда он пребывал в особенно возбужденном состоянии, Жермена даже испугалась. Таким, кажется, она его еще не видела. Березов сделался беспредельно злым, агрессивным, грубым. — Порази вас гром! Долго вы еще будете держать меня взаперти?! Я же вам говорю, что вы должны выходить за Мондье! Когда вы станете его женой, я смогу покидать этот ваш постылый дом. Я сделаюсь добрым другом вам обоим. А потом… А потом… Раз вы говорите, что любите меня… Что ж… будете спать и со мной… Это же прекрасно… Что вы молчите? Черт подери! Вы скверная девка… шельма… Я вас отлуплю… как вы того заслуживаете… Потом… потом сам застрелюсь… так надо. На этот раз девушка окончательно испугалась. Не того, что умрет — зачем нужна такая мучительная беспросветная жизнь? Она боялась, что останется беззащитным несчастный сумасшедший, который так ее любил! Так был ей предан и кого любила она! Жермена представила князя в одиночестве, запертого в доме для умалишенных, где его будут мучить, о чем она читала в дешевых книжонках. Мишель в окружении врачей, считающих всех пациентов безнадежными или симулянтами; грубых и невежественных надзирателей, подвергающих пыткам холодным душем или, наоборот, ванной с горячей водой. Никогда этому не быть! Она не отдаст Мишеля на адовы муки! И в то же время она очень испугалась его возбужденного состояния. Что он ее побьет, этого она не боялась. Разве она не была его собственностью, его вещью, так сильно любя его? Разве он не имел над ней права жизни и смерти? Да. Ее смерти, но ведь надо, чтобы эта гибель спасла его, обеспечила бы ему счастье! А если он ее изувечит и она станет ни на что не годной? Кто тогда будет за ним ухаживать до последнего своего вздоха?..Жермена была с ним одна. Берта ушла искать работы. Мария — в прачечную, Бобино помогал в кожевенной мастерской за небольшую плату хозяину Матиса, прежде чем пойти на свою смену в наборном цехе. Итак, они оставались вдвоем. Казалось, ничто не предвещало вспышки. Но без всякой видимой причины или повода, несчастный помешанный бросился к Жермене — то ли чтобы ударить, то ли задушить. Он крикнул бессмысленно и страшно: — Я хочу уйти! — Вы не уйдете, — твердо ответила Жермена. Лицо Мишеля перекосилось, глаза налились кровью, он кричал: — С дороги! Дай пройти! Жермена продолжала стоять перед дверью. Тогда он сдавил ее руку своими пальцами атлета. Жермена застонала от боли. Эта жалоба не только не отрезвила безумца, а, наоборот, еще сильнее распалила. Он закричал совершенно вне себя: — Ее надо убить, раз она не подчиняется! Я ее задушу!.. Задушу! Огромные кисти мужских рук охватили ее горло. Жермена, почти потеряв сознание, спустилась на колени, не подумав или не захотев звать на помощь. Но раздался стук в дверь, и родной голос позвал: — Жермена, открой! Что с тобой, Жермена? Мишель тоже узнал голос Марии, и тотчас возбуждение утихло. Он отпустил Жермену и открыл дверь, уже не помня, что произошло. Мария уронила тюк с бельем, увидав Жермену, лежавшую на полу еле дыша, не в состоянии вымолвить слова. Заметив, что дверь открыта, Мишель кинулся бежать, но Мария его удержала: — Куда вы, Мишель? Останьтесь, я так хочу. И князь безропотно покорился девочке. — Что я такое натворил? Жермена, скажите!.. Я ничего не помню… простите меня!.. — Господи, да что же случилось? — спрашивала Мария. — Ничего, дорогая моя, решительно ничего, — сказала Жермена, тяжело дыша, но не желая тревожить сестру. И чтобы та не задавала новых вопросов, заговорила сама: — А почему ты так скоро пришла? Я не в упрек тебе, а потому что, боюсь, тебе стало дурно, ты слишком много и не по своим силам трудишься. Марию знобило, она слегка покашливала. Присев на стул, девушка сказала сестре: — Да, я что-то неважно себя чувствую, мне холодно и болит в боку. Она показала на правую сторону груди, закашлялась, поднесла платок к губам. Жермена увидала на ткани пятно розоватого цвета. Это очень встревожило, она вспомнила: такие же следы оставались на платках покойного отца, умершего от воспаления легких, его тоже знобило, и он тоже чувствовал боль в груди. Жермена обняла сестру, ласково шепча: — Маленькая моя… моя дорогая девочка… — Знаешь, когда из-за двери я услышала крики Мишеля, я страшно испугалась и опрометью бросилась вверх по лестнице, совсем задохнулась. Может, все от этого? —отвечала младшая, успокаивая сестру. Жермена взяла ее как ребенка на руки, отнесла в спальню, уложила в постель. — Мишель! Не оставляйте меня одну! — просила Мария. — Нет, девочка, я тебя не оставлю, — отвечал тот ласково. — Обещайте, что вы никуда не уйдете… будете все время около меня. — Обещаю, — сказал Березов, приступ безумия у него прошел, он успокоился с того момента, как перестал соприкасаться с Жерменой. — Надо позвать доктора, — сказала Жермена, заметив, что от озноба Мария все еще стучит зубами, не согревшись под одеялом. — Но у нас нет денег, а визит доктора стоит дорого, — сказала сестренка. — Да ты не беспокойся, мне сейчас станет лучше. Вернулась Берта, совершенно измученная беготней; Жермена в двух словах рассказала ей, что с сестрой. — Она, наверное, простудилась, когда мы с ней оказались под дождем и основательно промокли. Жермена отвела Берту в сторону и показала пятна на платке Марии, тихонько сказав: — Помнишь… когда заболел наш отец. Я боюсь, Берта, давай скорее за врачом. Берта кинулась со всех ног и через полчаса вернулась уже не одна. — Сестра, я застала господина доктора Сенара дома, и он любезно согласился… — сказала Берта. — Благодарю вас от глубины моего сердца, господин доктор, — сказала Жермена. — Не за что благодарить, лекарь должен идти к больному, это его святая обязанность. Жермена хотела предупредить, что они сидят совсем без денег, но постыдилась. Ей было необходимо знать, что с Марией, и она, преодолевая стыд, решила извиниться и сказать, что расплатятся позднее. Девушка подумала: у этого человека такое доброе лицо, и, вероятно, он подождет, пока мы немного соберемся с деньгами. Внимательно осмотрев девочку, доктор покачал головой и сделал знак Жермене, чтобы та вышла с ним в другую комнату. — Это ваша сестра, мадам? — спросил он, приняв Мишеля за мужа Жермены. — Да, месье. Что, она серьезно больна? — Девушка переживает пору созревания… за ней нужен хороший уход. — Господин доктор, в необходимом уходе недостатка не будет! — Я настаиваю на этом потому, что она серьезно больна. Я обязан предупредить вас. Жермена прошептала: — О Господи! Мало нам еще было несчастий! Врач продолжал: — Вот рецепт, по нему надо заказать лекарство сейчас же. Я приду к вам завтра утром, но, если больной станет хуже ночью, бегите за мной не стесняясь. — Как я вам благодарна, доктор! — с чувством сказала Жермена. — Подождите благодарить, пока больная не поправится, — сказал врач. — А чем она больна? — У нее двустороннее воспаление легких. — Этого я и боялась! — проговорила сраженная известием Жермена, вспоминая отца, — он страдал этой болезнью долгие месяцы и в конце концов умер от чахотки.
ГЛАВА 18
Доктора Сенара хорошо знали в квартале Гобеленов не только из-за его странностей, но и по причине глубоких знаний и стремления делать добро. Человека лет сорока — сорока пяти, широкоплечего и очень живого, доктора постоянно видели на улицах днем и ночью, когда он пешком торопился к больным своего квартала. Все знали его большую голову с шапкой всклокоченных волос, прежде белокурых, а теперь наполовину поседевших, его выразительное лицо, освещенное большими голубыми глазами, глубоким и добрым взглядом. Ему все кланялись с выражением симпатии и благодарности. Правда, расплачивались с ним когда могли и как могли. Сенар был весьма ученым врачом и, без сомнения, мог бы сделаться профессором, но силой обстоятельств оказался бедным и не смог продолжать научные изыскания. Он так и остался обыкновенным лекарем, живущим довольно скудными гонорарами от пациентов. Время от времени он усаживался за ученье, пополняя знания как прилежный студент, так что многие коллеги единодушно считали его одним из лучших клиницистов Парижа. Правда, славился наш эскулап[100] еще и безобидной рассеянностью, с ним происходили разные смешные случаи. Однажды видели, как он шел по бульвару Араго с дощечкой, болтавшейся за спиной на тесемке. На этой деревяшке отчетливо читались цифры 92 ф. 50 с. и название магазина, где была куплена одежда. Другой раз он спешил к больному, забыв накинуть на плечи подтяжки, и они свисали до колен. Чудачеством считали и то, что он никогда не спал на кровати, а, завернувшись с головой в бурнус[101], ложился прямо на пол… На другое утро доктор Сенар пришел и снова тщательно прослушал Марию. Убедившись, что его предписания исполнялись правильно, он обещал заглянуть и вечером. Бобино, опасаясь, что у него не хватит денег, чтобы рассчитаться, сказал от имени семейства: — Господин доктор, конечно, очень любезно с вашей стороны так часто навещать нашу сестричку, но должен вас предупредить, что мы сидим совершенно на мели. Мы, разумеется, со временем оплатим ваши визиты, но два посещения в день, наверное, будет дорого… Доктор остановил доброго малого, уже запутавшегося в своей речи, сказав: — Разве я упоминал о гонораре? Здесь моя больная, и я буду к ней приходить так часто, как сочту нужным. Вы что, принимаете меня за торговца здоровьем? Здоровье, милый мой, дается тем, кто не может его купить. Бобино и все остальные были глубоко тронуты словами и поступком врача, но молодой наборщик все-таки не удержался, чтобы не сказать какую-то подвернувшуюся на язык нехитрую и безобидную шутку. Она заставила доктора улыбнуться, и он сказал: — Доброе сердце… остроумный… Парижанин, должно быть? — С улицы Мадам, господин доктор. — А я с улицы Асса, — ответил доктор, подавая на прощанье руку. — До свидания, и рассчитывайте на меня. За девочкой будем ухаживать как за княгиней! Доктор ушел, провожаемый благодарностью всей семьи. — Какой прекрасный человек! Правда, Мишель? — спросил Бобино, гордый симпатией, проявленной к нему доктором. — Еще не перевелись такие в нашем отечестве. Князь читал рецепт и, не отвечая Бобино, спросил: — А почему никто не пошел в аптеку? — Да, надо позаботиться. Аптекарь уже вчера ворчал, когда мы брали лекарство в долг, и сказал, что больше не будет отпускать, пока мы не расплатимся. А у меня, черт возьми, ни сантима, за неделю вперед забрал. — Выходит, мы правда бедны, — сказал с удивлением Мишель. — Смешно — нет денег! — Ты находишь это смешным, а я нисколько! Тебя, кажется, удивляет положение, в которое мы попали. А ты помнишь, как разбазарил свое имение? — Да, правда… возможно… мне утомительно об этом думать. Если бы ты знал, Бобино, насколько я ослаб и одурел после того, как они подвергли меня процедуре… — Кто они?.. Какой процедуре? — Не помню… — Эх ты, бедняга! Так никогда и не узнаем, что это за негодяи, запустившие тебе рака в солонку, — с искренним состраданием, хотя и грубовато выразился Бобино. — А мне это безразлично, — кротко ответил князь, возбуждение его утихло, когда он увидел, что маленькая подружка больна. — Не меня, а ее надо теперь лечить. Жермена, вы должны ею заняться. — Да, мой друг, — сказала Жермена, обрадованная тем, что к любимому вернулись рассудок и нормальные человеческие чувства. — Я сама пойду к аптекарю и уговорю отпустить лекарство еще раз в долг. — Но ведь у меня есть… хороший мех… он стоил больше тысячи… надо его продать… — сказала Берта, вспомнив о единственной в доме ценности. — Это мысль! Зима прошла, загоню все шмотки, что не по сезону! — воскликнул Бобино. Берта принесла чемодан и достала из него меховую накидку, в заботах и бедах к ней давно не прикасались. По комнате разлетелась туча моли; шкурки оказались дотла изъеденными. И эта неожиданно появившаяся надежда рухнула. Бобино выругался, а Берта заплакала. Мишель, тоже расстроенный, сказал: — Остается один выход: пойду к кому-нибудь из старых знакомых и попрошу взаймы. — Твои друзья! Да они ни франка не дадут, а то даже не захотят с тобой разговаривать! Раз ты стал таким же бедняком, как мы, то знай: ты не встретишь у богачей сочувствия, никто не окажет помощи, кроме простых людей. С этими словами Бобино сбежал вниз и через три четверти часа, торжествуя, вернулся с медикаментами. — Я заплатил, и у меня еще осталось семь франков от десяти, что одолжил Матис, — сказал он. В этот день семья — не впервые! — ела только хлеб и пила одну воду. Тем не менее Бобино, как всегда весело, пошел в цех, где ему предстояло работать с пустым желудком до часу ночи. На арестантской пище им пришлось прожить четыре дня. Наконец Берте повезло найти место на фабричке бисерных украшений, где за двенадцать часов нудной и утомительной работы по нанизыванию крохотных шариков она могла получать от десяти до двенадцати су: на эти монетки им всем и предстояло питаться. Состояние Марии не улучшалось и не ухудшалось, и доктор, навещая девочку дважды в день, все не решался высказаться определенно о ее выздоровлении. Он не терял надежду спасти ребенка, но не мог сказать Жермене с уверенностью, что ее сестренка поправится. Бедная Жермена! Бледной, истощенной бессонными ночами и лишениями, жестоко страдающей из-за непонятного недуга князя, ей пришлось мучиться еще и за сестру, что росла на ее руках и была для нее почти как дочь. Несчастная Жермена! Видно, беспощадной судьбе казалось, что она еще взвалила на девушку недостаточно бед, и она их умножила: страстно любимого человека, за кем Жермена беззаветно ухаживала, стали все чаще и сильнее охватывать приступы безумия. Видя, что Мария не вылечивается, и слыша по временам ее жалобные стоны, Мишель стал воображать, что в этом повинна Жермена. Он обвинял ее в том, что девочка не идет на поправку потому, что старшая сестра возненавидела ее и решила избавиться от младшей! И Жермена каплю за каплей пила из чаши страдания. Живя рядом с безумным возлюбленным и тяжело больной сестрой, она доходила порой до мыслей о смерти как об избавлении от страданий.В тот день она маковой росинки в рот не брала, ее лихорадило от усталости и голода, нервы были напряжены до предела. Берта ушла сдавать работу, надеясь получить приблизительно сорок су. Бобино тоже отправился искать, где бы зашибить хоть малую деньгу, а затем на пустой желудок заступать на смену в типографии. Он вернулся домой первым, измученный безрезультатными поисками, с нахмуренным лицом, неспособный даже улыбнуться, несмотря на свой веселый нрав. Молча пожал руку Жермене, поцеловал в лоб Марию и сел, храня молчание. Жермена, поняв, что он ничего не нашел, тоже промолчала. Если и Берта не получит почему-либо свои монетки, на что купить микстуру для Марии?.. И Мишель останется даже без куска хлеба, чем он безропотно удовлетворялся последние дни… Мария больна… Мишель помешанный… Как им жить дальше? …На улице, обычно безлюдной, послышался стук колес, и через минуту позвонили. Усилием воли Жермена придала лицу спокойное выражение. Велико было ее удивление, когда она увидала Сюзанну в сопровождении женщины, несшей два больших свертка. Девушка поняла, что получит заказ. Сюзанна сказала Жермене: — Вы работаете чудесно! Вещь, переделанная для моей родственницы, так ей идет, что я решила просить вас шить и для меня. Слегка поклонившись, Жермена сказала: — Вы очень любезны, мадемуазель, благодарю, что вспомнили обо мне. Я сделала все что могла и рада, если угодила вам и вашей почтенной тетушке. — Вот о чем я хотела попросить, — продолжала Сюзанна. — Моя портниха, мадам Лион, чье имя, может быть, вам известно… — О! Я думаю известно, — неосторожно вмешался Бобино. Жермена тут же его прервала, сказав: — Этот молодой человек — жених моей сестры, пожалуйста, извините, что он вмешался в разговор, который его не касается. Поняв, что совершил бестактность, что Жермена совсем не обязана упоминать о своей работе у мадам Лион и объясняться, почему оттуда ушла, Бобино покраснел, попросил извинения и замолчал. Сюзанна посмотрела на него внимательно и опять поразилась сходству молодого мужчины — не с нею самой, а с ее портретом, написанным полтора года назад. Она подумала: удивительно! Как будто брат и сестра. — Что касается мадам Лион, в чьей мастерской я шила, — продолжала Сюзанна, — там сейчас очень много работы, у меня не примут заказ раньше чем через пять недель, а отец скоро должен вернуться из Италии, буду выходить с ним в свет, мне нужен на первый случай хотя бы один новый туалет к сезону. Я принесла вам рисунок и ткань. Сможете ли вы сшить точно по эскизу? — Без сомнения, — уверенно сказала Жермена. — Очень рада! Что касается цены, вы назначите какую сочтете нужной. Понимая, что в доме беспросветная, тщательно скрываемая нужда, заказчица добавила с милой улыбкой: — Может быть, вам нужен аванс на покупку приклада… Я с удовольствием… скажите лишь, сколько вам необходимо. Легко было понять, что Жермене в слегка завуалированной форме предлагают подачку, гордость ее взбунтовалась. Мастерица вежливо, но твердо сказала: — Благодарю вас, мадемуазель, благодарю тысячу раз, но мы сочтемся, когда платье будет готово и понравится вам. Не обнаружив в квартире большого зеркала, Сюзанна сказала: — Извините, я думаю, что примерку удобнее делать у меня, вы назначите день и час, какие сочтете для себя удобными. Вас это устраивает? — Да, мадемуазель; я полагаю, мне достаточно двадцати четырех часов, чтобы раскроить и сметать. Могу явиться к вам послезавтра утром. — Прекрасно! Вот мой адрес: Сюзанна де Мондье, площадь Перейр… Но что с вами?.. Мондье… Сюзанна де Мондье… Дочь того мерзавца… Жермена с величайшим трудом справилась с гневом и отвращением. Но, видно, на ее лице, таком выразительном, что-то отразилось и напугало Сюзанну, она достала из ридикюля[102] флакончик с нюхательными солями, предложила Жермене, та быстро пришла в себя и, улыбаясь, благодарила за участие ту, кто невзначай ударила ее в самое сердце. Наконец Сюзанна простилась, попросив не переутомляться из-за ее заказа, она вполне может подождать. Когда дочь графа Мондье ушла, Жермена почувствовала, что теряет последние силы. Чувства стыда и гнева проснулись в ней, вылились в поток негодующих слов, чему не помешало и присутствие Бобино. Она говорила в возбуждении, отрывисто: — У него, видите ли, есть дочь… у этого бандита!.. Дочь, которую все уважают! Ангелочек, кого ревниво охраняют… берегут, лелеют… воспитывают в благочестии… предназначают для прекрасного жениха… Она будет вся покрыта цветами апельсина[103], в белом платье… когда ее поведут к венцу! Ха-ха-ха… Граф Мондье — отец!.. Он… отец! Право, судьба насмехается над людьми слишком жестоко! И никогда не сыщется, чтобы отнять у бандита его дочь-ангелочка… по ее собственному желанию или насильно! Насильно! Чтобы потом швырнуть ее, полумертвую, поруганную, и сказать: вот твоя красавица, надежда, радость… получай ее, разбойник!.. Это возмездие. — Жермена, вы меня пугаете! Успокойтесь! — умолял Бобино, не понимая, отчего она так вышла из себя. — Да, простите, мой друг, вас, конечно, удивляет и тревожит, что кроткая овечка вдруг взбесилась. Выслушайте меня, молю вас: если когда-либо встретитесь один на один с мерзавцем по имени Мондье и сможете безнаказанно его убить — сделайте это!.. Без всякой жалости! Вы совершите доброе дело, освободив землю от чудовища… Подумать только, и этот негодяй — отец прелестной доброй девушки, она принесла работу, которая, может быть, спасет от смерти сестру… не даст всем нам умереть от голода!.. Вот уж ирония судьбы… — Жермена! Дорогая Жермена! Не говорите больше ничего! Вы надсаживаете себе душу! — Да, и ведь этим именем — Мондье — меня постоянно оскорбляет наш несчастный! — Мишель? Да, он поминает его во время приступов безумия, говорит, что вам надо выйти за графа замуж… — Да, друг мой, получается, что князь норовит сделать меня мачехой Сюзанны… хотя, конечно, не подозревает этого, у него другие причины и мысли. Но как бы то ни было, я, естественно, стану только ее портнихой… скромной… старательной… усердной. Надо зарабатывать на хлеб, а бедный не выбирает заказчика. Но в этот раз я испытываю верх унижения! Если бы вы всё знали, Бобино! Но вовсе не хочется рассказывать эту мрачную историю. А теперь вдобавок и время не ждет. Надо работать. Шить туалет для мадемуазель де Мондье, чтобы заработать на лечение Марии. И всем не подохнуть с голоду…
ГЛАВА 19
Вместе с нанятыми помощниками Бамбош старательно наблюдал за домом № 19 по улице Паскаля в продолжение четырех-пяти суток. Не видя, чтобы оттуда кто-нибудь выходил или входил обратно, он начал беспокоиться. Что произошло. Ведь не могли же бесследно исчезнуть двое мужчин и три женщины. Жизнь все-таки заставляет людей хотя бы иногда на время покидать свой кров. Он попробовал разговориться с женой хозяина квартиры Матиса, но та, женщина очень сообразительная и осторожная, притворилась пугливой простушкой и быстро отвадила сыщика. Тогда он попробовал подкатиться к Матису и предложил посидеть в кабачке. Тот от выпивки не отказался, но тоже ничего интересного не сболтнул и не согласился пустить собутыльника во двор посмотреть кожевенное производство, поскольку засомневался, зачем шустрику это надо. Бамбош понял, что его водят за нос, разозлился и попытался завязать драку с другом Бобино, но мускулатура рабочего-кожемяки выглядела очень внушительной, шпик понял, что будет сломан как спичка. Он сдержался и начал терпеливо искать разгадки. Негодяй был безусловно не дурак. Осмотрев как следует квартал, он понял, что некоторые дома имеют выход на речку Бьевр, а там пустырь, граничащий с бульваром Сен Марсель, и догадался, как могли скрыться незамеченными те, за кем он наблюдал. «Они меня опять надули, — подумал бандит с бешеной злобой. — Но хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Бамбош написал графу и ждал новых инструкций. В это время Мондье заканчивал свой сезон в Италии и дал подручному шифрованную телеграмму с приказом пока ничего не предпринимать, закончив словами: «Вернусь через несколько дней. Поскольку ты идиот, придется поручить поиски другим». Ожидание длилось дольше обещанного, целых две недели, за это время произошли события, о которых уже рассказано. После этого месье де Шамбое, поселившийся в доме с двумя выходами на разные улицы, получил весть уже из Парижа. Его приглашали к графу де Мондье. За день перед тем молодой прохиндей был взволнован и озадачен неким обстоятельством: в доме с двумя подъездами были, конечно, и две консьержки, пожилые, неразговорчивые женщины, хитрые и на вид порочные, он считал их одинокими и с удивлением приметил, что у каждой были сожители; изумление увеличилось, когда в одном из них он сразу узнал Пьера, того самого мрачного силача-лакея, что в Италии был главным помощником графа-бандита, а во втором — своего бывшего кучера Лорана. Бамбош обнаружил их у дверей дома, оба держались как незнакомые друг с другом. Одетые в фартуки, недавние разбойники подметали улицу, каждый на своем участке, усердно, как полагается консьержам, дорожащим местом и репутацией. Прихвостень графа понял, какими ценными и неподкупными помощниками окружил себя патрон, послав в Париж двух едва ли не самых опытных и дельных бандитов, участников разбойничьих операций в Италии. Конечно, графу требовалась надежная охрана, когда он, чего Бамбош пока не проведал, жил под личиной месье Тьери в этом на вид обычном здании. Бамбош, не предупрежденный об этом заранее, хорошо почувствовал силу предводителя бандитов, что набирал сообщников во всех слоях общества, пользовался услугами богатых знаменитых кокоток и титулованных особ, таких как Ги де Мальтаверн, и личностей вроде Лишамора и Брадесанду. Не задумываясь Бамбош подошел к Пьеру и сказал: — Вот вы и вернулись! Я не ожидал застать вас здесь… Патрон писал мне… Пьер, оставив тон почтительного слуги, прибавляющего к каждому слову «месье», сказал, глядя парню в глаза: — Слушай, малый! Ты виконт только по названию, данному тебе тем, кто командует, и если дорожишь шкурой и не хочешь в одно прекрасное утро быть пришитым к постели, заткнись. Будь слепым, глухим и немым, ты здесь никого не знаешь. А я теперь консьерж, месье… я служу, месье, и лакеем, я покорный слуга, месье, — закончил тираду мрачный персонаж и посмотрел на мнимого виконта так, что у того поджилки затряслись. Выслушав такое поучение, Бамбош, не вымолвив ни слова, пошел одеваться, причесываться и прыскаться духами, а затем отправился к тому, кого фамильярно именовал патроном. Мондье встретил его так, будто они расстались только вчера, не сделал никаких упреков, даже одобрил догадку о том, что бегство совершено через пустырь, выходящий на бульвар Сан-Марсель. — Неплохо найдено… Ты делаешь успехи, малыш… Ты далеко пойдешь. Ты не виноват в том, что упустил их, к тому же твоя ошибка исправлена. Я знаю, где они гнездятся, и держу их под надзором. — Вы, патрон! Но ведь вы всего два дня, как вернулись. — Ровно сорок восемь часов тому назад. — Ну! Вы просто дьявол! — Пфэ! Дьявол — слишком устарелое название… Поговорим о деле: Жермена, ее сестры, Бобино и Березов укрылись в доме на углу улиц Мешен и Санте. Парень работает в наборном цехе издательства «Маленькая республика», он возвращается в два часа утра. — Вы в этом уверены? — Я лично проследил этой ночью и, если бы я не держался строгого правила: никогда не действовать самому, я бы его убил. Надо, чтобы он умер. Проклятый парижанин ловок как бес, если бы не он, остальные давно бы находились в моих руках. — Мы его уберем, патрон. — Я на это твердо рассчитываю! Слишком долго он в одиночку нас обставляет. Когда типограф исчезнет, прочие разом угодят к нам. Даю тебе три дня, чтобы его устранить. — Три дня, идет! — Надо взять помощника. Пожалуй, подойдет твой старый приятель Брадесанду. Вдвоем удобнее действовать, Брадесанду неплохо работает ножичком. Узнаешь у Андреа, где его найти. — Значит, вы простили этой стерве проделку в доме Лишамора? Я ждал, что вы отомстите как следует. — Я простил, но не забыл. Человек по-настоящему сильный не мстит. — А где я найду Рыжую? — В бывшем доме князя Березова, там подставным владельцем живет барон де Мальтаверн. — С вашего разрешения сейчас же туда отправлюсь. — Ступай, малыш, и выпусти кровь из Бобино. Кстати, почему ты не поселился, как я велел, в доме Березова, когда вернулся из Италии? — Я не хотел вам говорить, боялся настроить вас против Андреа. — Почему? — Рыжая стерва так злобно меня встретила, что я побоялся заикнуться о том доме. — А Ги? — Он просто чурка в ее руках, слышит ее ушами и видит ее глазами. Меня почти выставили за дверь. — Иди и ничего не бойся, я им скажу два слова по телефону, они тебя примут с распростертыми объятиями. — До свиданья, патрон! — До свиданья, негодяй! — В устах Мондье это звучало как ласкательное имя. Бамбош направился к роскошному особняку, откуда князя Березова обманным способом выселили. Посланец графа подъехал скромно, в наемном экипаже. Его встретил тот самый степенный швейцар, что служил при князе, когда Бамбош был там лакеем. Увидев, что посетитель нанял дешевого извозчика, швейцар не сообщил в дом, а направил несолидного гостя через двор. Бамбош не стал возражать против столь невежливого поступка, зная, что по телефонному звонку графа будет принят с должным почтением, и подумал только, что Андреа, наверное, настроила всех лакеев против него. Пересекая пешком двор, Бамбош увидел около конюшни человека, привлекшего его внимание. Он был одет как конюх — в клетчатый костюм и в английскую шапочку, сдвинутую на ухо; рукава были засучены, и он старательно начищал удила, рядом лежали прочие части лошадиной сбруи. Бамбош, очень элегантно одетый, с моноклем в глазу и с цветком на отвороте жакета, подойдя близко к усердному трудяге, позвал: — Брадесанду! Тот обернулся и от удивления уронил железки. — Бамбош! — Я едва узнал тебя в обличье конюха. Тебя, кто водил меня в свет, кто под именем Петера Фога был знаменитым букмекером, красой ипподрома! Тебя, сердечного друга Андреа, заставлявшего ревновать барона де Мальтаверна! — Да, Бамбош, это я. — С тобой произошла какая-то беда? — Все беды вместе! — Рассказывай. — Некогда, надо скорей кончать чистку сбруи, не то меня выгонят. — Кто? — Мой хозяин, скотина барон. — Плюнь на все, и пойдем поговорим о деле. — Я бы рад, да у меня не самые нежные отношения с полицией. — Что-то новое, черт возьми! — К сожалению, так, мой дружок. — Я думал, что Андреа по-прежнему неравнодушна к тебе и ты здесь в неподходящем наряде лишь ради того, чтобы находиться поближе к ней. — С Андреа все полетело к чертям. Нет больше любви! Вот. — Говорят, это к счастью, в доказательство чего я тебя отсюда уведу. — А с Петером Фогом получилась такая история, что я теперь нигде не могу показаться. Я уж не знал, как спасти шкуру, хорошо, Рыжая помогла, говорит: «Послушай, малыш, хотя я не люблю тебя больше, но не хочу, чтобы с моим бывшим любовником произошла беда. Безопаснее всего спрятаться в чьем-нибудь богатом доме. Ги нужен работник на конюшне, я тебя устрою, будешь возиться с лошадьми, а через полгода про тебя забудут. Соглашайся, и чтоб без глупостей!» Вот так и сказала. Положение мое было отчаянное: сидел голодный, прятался по ночлежкам. Это после сладкой-то жизни! Ну я и согласился. Здесь и кров, и пища, и одежда, но Андреа на меня и не смотрит, будто я вовсе не существую. С ума схожу, когда вспоминаю, как она меня любила, ласкала, ни в чем не отказывала! Я так и теперь влюблен. Готов после на гильотину[104] лечь, чтобы с ней хоть ночку поспать! А другой раз хочется ее ножом пырнуть. — Решительно, ты крепко болен. Но от сильной хвори помогают мощные лекарства. Патрон вернулся и вспомнил о тебе… Знаешь ведь, он большой человек, с ним не пропадешь, вытащит хоть из пасти самого дьявола. — Раз патрон обо мне заговорил, значит, мои дела поправятся. Что я должен буду делать? — Прежде всего бросить ерунду, какой ты сейчас занимаешься, и приняться за то, к чему у тебя есть способности. — А потом? — Прикончить человека. — Только на пару с тобой. — Да, каждый сделает свою половину. Тебя позабавит, когда я скажу, что ухлопать надо того шкета, что нас побил у Лишамора. — Бобино? Тогда я с тобой! Увидишь, мой нож не заржавел! — Договорились. Теперь надо рассчитаться с этой скотиной бароном. Пойдем вместе, посмеемся. Брадесанду, видя уверенность дружка, отбросил сбрую, вымыл в ведре руки и в обуви, испачканной навозом, потопал вслед за Бамбошем в господский дом. Лакеи, видя, что конюх нагло лезет в хозяйские покои, хохотали исподтишка, предвкушая скандал. — О ком буду иметь честь доложить? — спросил дежурный лакей. — Месье виконт де Шамбое и месье Петер Фог. Андреа и Ги де Мальтаверн вдвоем завтракали. К удивлению лакея, посетителей приняли без возражений и задержки. Более того, барон и кокотка, казалось, были несколько взволнованы их приходом. Бамбош двинулся к парочке с протянутой рукой и со словами приветствия: — Здравствуйте, Ги! Здравствуй, Андреа! Барон де Мальтаверн, будучи едва знаком с ложным виконтом де Шамбое, вытаращил глаза, когда увидал, что его сопровождает один из здешних конюхов, причем держится с виконтом как равный. — Здравствуй, Бамбош! Здравствуй, негодник! — сказала Андреа, состроив забавную гримасу при виде старого приятеля. — Снова явился! — Да, как видишь, — отвечал проходимец и повторил: — Здравствуйте, Ги! — Добрый день, виконт! — ответил барон смущенно и как бы по принуждению. — О! Вы можете называть меня Бамбошем, это почетное бандитское имя, и я его отнюдь не стыжусь. Но позвольте представить моего друга Петера Фога, я нашел его здесь в положении, его недостойном, и вы окажете ему сейчас любезный прием. — Я вышвырну его сейчас в окно и тебя следом! — вдруг взорвавшись от злости, крикнул Мальтаверн. Бамбош, наслаждаясь сценой, пододвинул приятелю стул, сел сам и продолжал: — Его бандитское имя Брадесанду. Можете спросить у мадам. Не правда ли, Андреа? Красавица впала в страх и не могла слова вымолвить, хотя обычно бывала остра на язык. — Видите, барон, он был вашим предшественником в некоторых интимных забавах, и, главное, он ваш совладелец; вы непременно должны что-то для него сделать. Негодяй был злопамятен и с удовольствием мстил барону и Андреа за тот прием, что ему оказали по возвращении из Италии. Ги взбесило разоблачение, он искренне любил Андреа. Барон кинулся на Бамбоша, намереваясь влепить пощечину. Тот вскочил раньше, вынул из кармана острый ножичек и сказал спокойно: — Руки прочь, барон! Или я проделаю между ваших ребер отверстие, через него без промедления вылетит ваша душонка! Ги де Мальтаверн отличался храбростью, его не остановила бы угроза оружием, но осадил самоуверенный тон Бамбоша. Весь кипя, он опустил руку и спросил: — Чего вам надо от меня? — Простой вещи; мы намерены убить человека, что нам мешает. Брадесанду и я сделаем это сегодня во втором часу, и я хочу, чтобы в случае надобности вы сказали бы в полиции, что в эту ночь мы ужинали с вами в бывшем доме Березова. Короче, вы и Андреа должны обеспечить нам алиби[105], если оно потребуется. Барон пришел в еще бо́льшую ярость. — Чтобы я стал соучастником преступления… покрывал двух бандитов… совершал позорное… гнусное дело… Ни за что! Никогда! Вы сейчас же уберетесь отсюда, и поскорее! — Не будьте ребенком, барон… Вы уже предоставляли вашу комнату, чтобы я мог выстрелить из нее в князя. Бывший соучастником однажды, может стать им и во второй, и в следующий раз. Кроме того, это приказ. Тот, кто велел вам убить Березова на дуэли, требует, чтобы вы и теперь беспрекословно подчинились. Вы, миленький, такой же преступник, как мы, и Андреа объяснит, что фыркать тут незачем. Правду я говорю, прекрасная блондинка, доченька мамаши Башю? Андреа наклонила голову, и слезы злости едва не капнули на стол. — Стервец! — сказала она, вложив в единое слово всю неохватную ненависть. — Да, мадемуазель, конечно, стервец. Мы все стервецы в этом доме, украденном у дурака, но вы двое — всего лишь сторожевые собаки. Ну хватит! Вы поняли и будете не кочевряжиться, а слушаться. Для начала, барон, отстегните Брадесанду луидоров тридцать, ему нужно прибарахлиться. Сегодня вы пригласите нас обедать, а потом мы явимся ужинать, когда закончим дела. Кстати, Андреа, тот, кого мы должны сегодня ночью кончить, — Бобино, любовник Берты, сестры Жермены. Андреа заплакала. Ей вспомнилось, как она совершила доброе дело, рискуя собственной жизнью, ей представилось милое личико Берты, она понимала, что теперь ничем не может помочь! Если бы знать, где они сейчас, Рыжая не пожалела бы своей постылой жизни, чтобы их спасти! Барон де Мальтаверн смирился. Ему ничего не оставалось больше делать, он сознавал, что прижат к стенке и не имеет сил отказаться от роскошной жизни. Он дал луидоры Брадесанду, пожал негодяям руки и сказал на прощанье: — Жду сегодня к обеду. И затем вечером.Все произошло строго по плану, намеченному Бамбошем. Брадесанду переоделся во все новое в магазине «Прекрасная садовница» и приобрел очень недурной вид, превратившись из конюха в джентльмена. Сел с Бамбошем в экипаж и поехал обедать к своему бывшему хозяину. Лакеи дома, ничего не понимая, пялили на него глаза. Хорошо поев и обеспечив себе алиби, бандиты смылись в полночь так ловко, что никто в доме не заметил их исчезновения. Они направились к издательству «Маленькая республика» дожидаться своей жертвы. Бобино вышел из цеха в час и поспешил домой. Был день получки, и он нес половину недельной платы, раздав остальное за долги. Юноша размышлял о том, с каким нетерпением ждут его дома, и торопился, чтобы поскорее принести скромный заработок голодной семье, прихватив для них по дороге еще что-нибудь в ночном кафе. Бамбош и Брадесанду следовали вблизи, один на пятьдесят шагов впереди, другой чуть подальше сзади. Один из тех парижан, что ходят по любым кварталам города во всякое время дня и ночи, никогда не сталкиваясь с неприятностями, Бобино шагал уверенно, зная все закоулки на пути и не подозревая о подстерегающей опасности. Так как путь лежал через Латинский квартал[106], Бамбош и Брадесанду, чтобы безопаснее, не привлекая внимания, приблизиться к Бобино, запаслись студенческими беретами. Перейдя площадь Сен-Мишель, они сплющили шапокляки, спрятали их под пиджаки и надели лихие юношеские головные уборы. Перед оградой Люксембургского сада Бамбош запел тирольскую песенку. На улице было безлюдно, как в провинциальном городке. Ниоткуда не слышалось характерного топота сапог ночного дозора. Пение Бамбоша сигнализировало: «Время наступило». Брадесанду — он был впереди — повернулся в темноте, вынул нож и пошел навстречу Бобино. Бамбош приготовил кинжал и стал нагонять обреченного, все еще повторяя модную песенку. Убийцы должны были сомкнуться рядом с наборщиком, который торопился домой, ничего не подозревая, не обратив никакого внимания на студентов, приближавшихся к нему с обеих сторон. Бобино не испугался, не побежал, не позвал на помощь. Он только почувствовал острую боль ниже плеча и сильный удар. На часах Люксембургского сада пробило без четверти два.
ГЛАВА 20
На Сюзанну де Мондье произвело впечатление замешательство Жермены, когда заказчица назвала свое имя. Сидя в экипаже, она думала, что же, собственно, случилось. Может быть, ей просто померещилось самой? Или портниха переутомлена, или взволнована дорогим заказом? Или существует какая-то таинственная связь между прекрасной женщиной, выглядевшей такой доброй и грустной, и именем отца, что, впрочем, маловероятно, слишком далеко стоят граф и швея. Сюзанна все-таки решила спросить отца об этой девушке. Она надеялась, что, заговорив о Жермене, о странном сходстве ее с портретом, виденном у Мориса Вандоля, ей будет легче перейти к беседе о самом художнике и о ее отношениях с ним. Несмотря на то что она, как ей казалось, была уверена в родительском согласии на брак и обнадеживала в этом Мориса, в глубине души таилось сомнение, и мысль о встрече с отцом очень тревожила. Когда отец находился далеко, она полагала: будет совсем просто поведать ему, что она полюбила, избранник во всех отношениях достоин ее и, с позволения графа, он придет просить благословения на брак. Тогда ей казалось, что отец непременно и сразу даст согласие, и она станет женой Мориса. Но когда граф вернулся, все представилось ей уже не столь простым. Хотя Сюзанна считала, что отец воистину обожает ее, ведь он старается удовлетворять любые девичьи желания и капризы избалованного ребенка, она догадывалась, что покупки, прогулки, развлечения серьезно отличаются от разговора о замужестве. Нечто смутное начало тревожить ее. Но со времени приезда графа прошло два дня и ей пора было увидеться, решиться на этот разговор, чтобы не подвергать Мориса унизительному отказу на его предложение. Вернувшись от Жермены, она спросила, дома ли отец. — Господин граф в курительной, — ответил слуга. — Узнайте, могу ли я войти. — Господин граф ждет мадемуазель, — сказал лакей, вернувшись через минуту. Граф что-то писал, куря гавану, вставленную в подобие короткого мундштука из амбры[107]. Он положил перо и сигару, взял обеими руками голову девушки, продолжительно поцеловал в лоб и весело сказал: — Очень мило, что ты прибежала поздороваться с отцом, не успев даже снять шляпку, вуалетку и перчатки! Сюзанна слегка покраснела, подумав невпопад, что не только дочерняя любовь заставила ее так торопиться, а отец не пошутил насчет ее поспешливости, но сделал замечание о нарушении этикета… Она растерялась от этой легкой насмешки и попыталась неловко оправдаться: — Вы так часто уходите из дома. — Упреки… маленькая семейная сцена… — проговорил Мондье с нежностью. — Пускай, — снова по-детски некстати сказала она. — Да, сцена… Я вас почти не вижу… Вы меня то и дело оставляете одну… У меня отец, которого я обожаю, но он постоянно лишает меня своего общества… Он поглощен светом, у него заботы… Она нарочно говорила быстро, чтобы не дать себе время подумать, прежде чем сказать главное. — Дочь, светские интересы заставляют меня постоянно отлучаться. — Вот именно… Сигары, и те отвлекают вас от меня, хотя вы свободно можете курить в моих комнатах, мне запах даже приятен… Но вам так редко является мысль навестить свою дочь! — Я очень виноват перед тобой, дорогая, но, будь уверена, я искуплю прегрешения самым достойным и приятным тебе образом. Ты только что вернулась с прогулки, видела ли ты в магазинах какие-нибудь драгоценности, что тебе понравились? Скажи где, и я куплю их тебе. — Благодарю, отец, но сегодня меня ничто такое не заинтересовало. Я была в монастыре, где виделась с монахинями, такими добрыми, такими любящими! Потом заходила к совершенно необыкновенной швее, она согласна работать для меня… Отец, по вашей снисходительности вы иногда называете меня хорошенькой. — Мало сказать хорошенькой — прелестной… восхитительной… божественной… — Ах уж эта мне родительская любезность, замешенная на снисходительности! Но что сказали бы вы, увидев создание, наверное, красивейшее из всех в Париже! — И ты встретила ее где-нибудь в мансарде… Швею-принцессу? — И на полотне в ателье знаменитого художника. Да, Боже мой! Совсем забыла, что хотела сделать вам сюрприз в виде портрета вашей Сюзанны, изображенной во весь рост… — Ты знакома с художником, который… — Подождите, папа, прежде я хочу рассказать о швее, что живет на улице Мешен. Она, правда, идеал женской красоты! Неудивительно, что Морис… я хотела сказать, месье Вандоль, сделал такой прекрасный этюд с нее. Граф насторожился. Пристально глянув в глаза дочери, он спросил: — Ты знакома с художником и называешь его просто Морисом? — Да, папа, но прежде дай мне рассказать тебе про Жермену… — При этом имени лицо графа сделалось каменным, но Сюзанна ничего не замечала, захваченная своим. — Жермена, ты говоришь… а кто она? — проговорил граф нарочито медленно, подбирая слова и стараясь не проявить никаких чувств. — Та самая швея, женщина изумительной красоты, кого Морис… месье Вандоль изобразил на этюде к портрету, сделанному для князя Березова. — А, вот оно что!.. — сказал граф, с большим искусством скрывая волнение под маской равнодушия. — Значит, Жермена… — Да, ее так называли. Она восхитительно работает, и я просила прийти ко мне, чтобы сделать примерку туалета, что заказала ей. Я дала свой адрес и назвала имя. И, знаешь, у нее сделалось странное-престранное выражение лица, меня это неведомо почему тревожит. — Вы были вдвоем? — Нет, еще молодой человек, жених ее сестры, у него забавное имя, поэтому я запомнила — Бобино. Мондье так стиснул зубы, что перекусил мундштук, но самообладание позволило сохранить внешнее спокойствие. Сюзанна продолжала говорить, не подозревая, как взволнован и встревожен отец, с каким вниманием он ловит каждое слово. — Дом находится на углу улиц Мешен и Санте, — тараторила Сюзанна, — и я не стала бы вам говорить о мастерице, если бы, извини, я, кажется, повторяюсь, не ее поразительное сходство с портретом, сделанным для князя Березова, вашего близкого друга. Ведь правда, вы с ним друзья? — Близкие, правда, — ответил граф, мысленно повторяя: «Жермена, Бобино… Слепая судьба снова ставит их на моем пути, когда я уже терял надежду… Улица Мешен, угол Санте… Жермена, красивая как прежде, и она будет моей!.. Бобино исчезнет, достаточно мне приказать… Князь осужден на смерть… Может быть, уже застрелился… Жермена… богатство… будущее… Счастье, какое достанется сильнейшему!» Он уже не слушал Сюзанну, а ее речь становилась все более нерешительной и менее последовательной. Торопясь, она рассказывала, как познакомилась с Морисом Вандолем, как его мать навещала ее в монастыре. Граф же в это время думал только о Жермене. Речь Сюзанны он воспринимал как приятное щебетание птички, как милый лепет. Но одно слово вернуло его к реальности. — Мы с Морисом любим друг друга… — Что?.. Ты сказала, что молодой человек осмеливается любить тебя, и ты… — И я его люблю, — твердо ответила дочь, подняв на отца прекрасные глаза, выражавшие мольбу. — Ты его любишь, вот как! — Да! — Какого-то несчастного мазилу, стремящегося разбогатеть, скомпрометировав девушку из высшего общества! Сюзанна сделала над собой огромное усилие и, стараясь говорить спокойно, продолжала: — Отец, вы плохо знаете свою дочь, если думаете, что она способна броситься на шею первому встречному. Вы несправедливы к месье Вандолю, подозревая его в корыстных намерениях. Он честный человек и не способен ни на какой низкий поступок, даже самый пустячный. Он художник в лучшем смысле слова. Он честолюбив, да, очень честолюбив. Он жаждет славы и имеет все данные для ее завоевания — большой талант и сильную волю. Он такой нежный и простой!.. Такой добрый! Так любит свою мать! Так предан своему искусству! И он уже известный художник… почти знаменитый! — Как ты разгорелась, дочка моя. По темным, личным причинам графу была очень нежелательна такая любовь, она нарушала его тайные планы. — Отец! Как вы можете так говорить обо мне! — Сюзанна была оскорблена этим пошлым выражением, увидев в нем осквернение своей любви. — Моя дорогая, следует называть вещи своими именами… Это вспышка соломы, ее надо потушить… Любовь пансионерки[108], что быстро проходит… — Отец!.. Вы, всегда такой добрый ко мне… и вы не хотите, чтобы дочь стала женой того, кто ее любит и кого любит она! — Нет, дочь моя! Моя Сюзанна, о чьем блестящем будущем я мечтал, желал видеть королевой большого света, не станет неприметной мадам Вандоль, женой заурядного живописца!.. Со временем ты выйдешь замуж за равного себе… человека из тогообщества, с каким еще незнакома. Я богат, и ты будешь жить в роскоши! — О отец! Вы хотите моего несчастья! — Пустые слова, дорогая! — Отец! Дорогой отец! Позвольте мне жить по собственному желанию! По влечению моего сердца! Только в этом может состоять мое счастье! — Нет, — отрезал граф жестким тоном, какого она никогда не слыхала. — Не умоляй и не пытайся разжалобить. Бесполезно! Я хочу тебе добра, не считаясь с твоим капризом. Позднее ты будешь мне за это благодарна. Думаю, ты больше не станешь встречаться с этим молодым человеком, не вынудишь меня запрещать свидания с ним. А я-то надеялся, что тетушка Шарме смотрит за тобой! Хорошенькое же наблюдение… — Вы требуете, чтобы я не видалась с Морисом?.. Хорошо, будь по-вашему… — Вот и прекрасно! — Я повинуюсь… но… — Но… что? — Но раз вы не позволяете мне стать женой того, кого я буду любить всю жизнь, вы будете вынуждены согласиться, чтобы я ушла в монастырь. — Нет!.. Уж это нет!.. Ты сошла с ума!.. Но ты еще одумаешься. — Я заранее приняла решение! И я не отступлюсь! — воскликнула девушка, и, задыхаясь от подступивших рыданий, не в силах больше вымолвить слова, убежала к себе. Сюзанна долго плакала, думая о своем потерянном счастье, и размышляла, почему отец отказал исполнить ее желание, когда прежде делал все, о чем бы ни попросила, и она жила счастливо и беззаботно. Так, совершенно подавленная горем, девушка провела несколько часов. Наконец она сообразила, что должна написать Морису, известить о разговоре с отцом. В глубоком отчаянии Сюзанна села за стол, дрожащей рукой взяла лист бумаги с запахом любимых духов. Первые строки походили на горькие всхлипывания, слезы капали на зеленовато-голубую бумагу. Постепенно перо побежало быстрее. Она писала:«Морис, друг мой, я страдаю! Страдаю смертельно! Я теперь понимаю людей, кончающих жизнь самоубийством от безысходности! Я не знала, что человек может переживать такие испытания. До сих пор я не испытала даже физических мучений и не представляла, какие ужасные удары может переносить душа. Существо мое разбито, я плачу и готова кричать, мне кажется, что от этого стало бы легче. Отец вырвал мое сердце и бросил меня, мертвую, на землю. Я не ожидала такой жестокости. Он запретил мне любить вас. Он не хочет, чтобы я стала вашей женой. Требует, чтобы я отказалась от вас, чтобы мы стали чужими друг другу! Но это невозможно! Ведь правда, мой друг? Он всегда говорил, что любит меня, и до сих пор я этому верила, ведь он старался сделать меня во всем счастливой. А теперь он отказал в моей просьбе, самой главной в жизни. Отказал твердо, сухо, хотя я умоляла принять тебя как сына, когда придешь просить моей руки. Если он не дает согласия, он этим заставляет меня проклинать отцовскую нежность… убивает мою искреннюю привязанность к нему. Становится чужим, враждебным человеком, какого не трогают мои страдания. О Морис!.. Морис!.. Как я несчастна! Но в моей душе поднимается буря протеста. Что худого сделала я отцу! По какому праву он так поступает?.. Морис! Возлюбленный мой! Я уже сама не понимаю, что пишу! Я хочу быть возле вас, дать свободу своим слезам, говорить о любви и слышать ваши уверения в том, что вы любите меня, что вы всегда будете меня любить! О! Мне надо каждую минуту знать это, иначе я умру! Он заставил поклясться, что я не буду видеться с тобой. Я повиновалась и должна быть верна своему слову. Прощайте дорогие нам утренние встречи, наши разговоры, где мы открывали друг другу сердца, строили планы будущего, мечтая о том, как вечно будем жить вместе. Он потребовал, и могла ли я ослушаться отца? Но я люблю вас и буду любить вечно! Не в его власти помешать этому! Он сломает мою жизнь, разобьет мне сердце, но не сможет убить мою любовь! Морис! Я невеста ваша, вы останетесь единственной моей любовью на всю жизнь, ничто не заставит меня разлюбить вас! Я не из тех, кто изменяет своему чувству. В каждом слове этого письма частица моего сердца.Ей не хватило мужества перечесть письмо. Она вложила его в конверт и позвала свою тетушку-приживалку. Та уже получила строжайший выговор от графа и потому обо всем знала. Мадам Шарме поспешила прийти к девушке, той, кого воспринимала как дочь, и, видя в каком она горе, старалась утешить. Сюзанна, кажется выплакавшая все слезы, зарыдала снова и, передавая доброй женщине пакет, попросила: — Отнесите ему и скажите, чтобы он ответил. Ступайте, ради Бога, моя милая тетушка.Навеки ваша Сюзанна».
ГЛАВА 21
Как видим, вся изобретательность Бобино не помогла избежать преследования врагов и надежно укрыть Жермену и князя. Случай, слепая судьба оказались сильнее всех его хитростей. Что поделать… В жизни многие события таинственно связаны между собой, в этом легко убедиться на примере героев нашего повествования; и пока что последним таким совпадением явилась встреча Жермены с дочерью своего злейшего врага. На улице Мешен семья чуть не умирала с голоду, и, подавив гордость, чтобы спасти своих, Жермена шила туалет для этой девушки, думая о том, что ее отца готова была убить, если бы только могла это сделать. Состояние Марии не ухудшалось, но и не становилось лучше; врач тем не менее надеялся на благополучный исход. Однако требовались дорогие лекарства и укрепляющие средства. Старшая сестра начинала жалеть, что отказалась от аванса, так любезно предложенного мадемуазель де Мондье. Поэтому мастерица торопилась сдать заказ и при этом сотворить нечто совершенно великолепное, на что способны лишь немногие парижские модистки. Теперь она думала о близящейся примерке, решив смирить гордость и попросить немного денег, так необходимых для больной Марии и Мишеля, да и Бобино, работавший как негр и притом постоянно голодный, заметно сдавал, несмотря на свое мужество и физическую стойкость. О себе Жермена не хотела беспокоиться, Берта тоже могла продержаться. Опорой семьи оставался Бобино, всеми силами он пытался демонстрировать веселость и жизнерадостность. Без него они пропали бы, подавленные врагами, или умерли с голоду. Сегодня Жермена ждала друга с особым нетерпением. Был день получки, была надежда, что после расплаты с долгами Бобино принесет хоть немного в дом, и тогда вместе с полученным за туалет для мадемуазель Мондье им хватит на то, чтобы продержаться еще какое-то время. Жермена и Берта, почти ничего не евшие весь день, усталые, с глазами, покрасневшими от ночных бдений, сидели за шитьем при свете спиртовой лампы, мастерица делала основную часть работы, сестра помогала. Обычно Бобино возвращался не позднее двух часов. Монастырские часы пробили полночь. Берта машинально посмотрела на будильник, потом зевнула и потянулась. — Ты устала, моя маленькая? — участливо спросила старшая. — Тебе пора отдохнуть. — Нет, сестренка, я дождусь моего Жана, нашего Бобино. — В этом ты права, он всегда так радуется, когда видит тебя, возвращаясь с работы. — Пойду посмотрю, как там Мария, что-то ее не слышно, наверное, спит. Оторвусь минут на пять от дела и разомнусь. Действительно, младшая из них забылась неспокойной дремой при свете ночника. Изредка она глухо покашливала, ворочалась, но все-таки спала, не лежала с полузакрытыми глазами, и это уже было хорошо. Берта возвратилась и рассказала старшей. — Она будет жить, я это чувствую, — уверила Жермена, работая с аккуратной поспешностью, — и если бы можно, я отдала бы свою жизнь ради ее верного выздоровления. — Что ты говоришь Жермена?! Тебе… умереть!.. — Да, случается, и часто, что жизнь вообще становится мне в тягость. Только подумай, дорогая, в каком ужасном положении я нахожусь. Вот, к примеру, ты можешь хотя бы надеяться на будущее. Ты любишь человека, достойного тебя, и это взаимное чувство. Берта тихо улыбнулась. — Мы с ним еще слишком молоды… — Это не самая большая беда: скоро повзрослеете. И Бобино сделает тебя счастливой; не случайно наша мамочка смотрела на него как на сына… А для меня он любимый брат… Да… Да… Брат! — Почему ты говоришь так, словно готова заплакать? — спросила Берта. — Да ведь жизнь поступает с нами так жестоко, что я все время боюсь какого-нибудь нового несчастья. И я всегда думаю: что будет с вами со всеми, если меня не станет? — Не говори так, ради Бога, Жермена! Ты надрываешь мне сердце. — Да… Да… Но я обязана тебе об этом говорить, ведь я старшая… защитница… после смерти мамы. Плохая защитница… сказать по правде… Но если меня не будет… если вы лишитесь этой слабой поддержки… ты и Мария?.. — Замолчи, сестра!.. Замолчи! — У тебя останется Бобино… Поэтому, думаю, вам надо как можно скорее пожениться. — Мне только семнадцать, а ему двадцать лет. — Какое это имеет значение, он будет твоей опорой и по закону, а не только по любви. И его постоянное присутствие здесь перестанет вызывать подозрения и злословия. — Я не возражаю… Но ты, Жермена, почему сама не вышла замуж за Мишеля? Ведь он так тебя просил… до своей болезни. Жермена ответила в растерянности: — Нет… Это было невозможно… Если бы ты знала… Прошу! Не говори об этом никогда!.. Никогда! И, совершенно расстроенная, девушка решительно принялась за работу. — Я поступлю так, как ты захочешь, сестра, — сказала Берта и, увидев, что будильник показывал уже час пополуночи, добавила: — Как тянется время! Он принесет немного денег, хватит на несколько дней. — У нас ни единой монетки, сегодня я еще смогла накормить Мишеля обедом. — К счастью, он сейчас спит. — Я дала ему лекарства Марии, чтобы он мог немного отдохнуть. А завтра для него нет хотя бы мало-мальски пристойной еды. Представь себе только! Он, проведя всю жизнь в роскоши, теперь сидит нередко на хлебе и воде! — У Марии кончаются микстуры и пилюли! Какие мы несчастные! — Да, очень. Не знаю, у кого могли бы мы попросить взаймы. — Ведь завтра придет мадемуазель Мондье, — сказала Берта, — а потом, мне кажется, что хорошо бы отыскать Владислава. Он предан Мишелю, он бы, возможно, помог. — Я боюсь сама же всех нас выдать. — Владислав никому не сболтнет, это не такой человек… — Ты, вероятно, права, завтра пошлю записку в дом князя, Владислав, скорее всего, живет там. — Почему бы не поручить разговор Бобино? Мне кажется, это лучше, чем письмо. — Верно. Я об этом как-то не подумала. Вообще совсем потеряла голову. Сестры молча работали, время от времени слышался кашель Марии или вздох Мишеля, забывшегося тяжелым сном в комнате, где он помещался вместе с Бобино. Пробило половину второго, потом — два. Берта начала тревожиться, так и не услышав на улице знакомых шагов. Четверть третьего. Уже полчаса прошло с того времени, когда Бобино должен быть дома. Девушка не знала что подумать, Жермена тоже беспокоилась, хотя старалась не подавать виду. Трудно было понять, почему Бобино так задержался. Ведь он хорошо знал, в каком положении находятся его близкие, и несомненно должен был торопиться домой. Что могло его задержать? Ничего, кроме несчастного случая!.. Часы отбили четыре. Берта рыдала, не слушая уже утешительных слов Жермены, та и сама находилась в смятении. Берта собиралась было в типографию, но Жермена отговорила, сказав, что там никого не застанет и только напрасно, рискуя собой, побежит ночью по городу. Наконец рассвело, и улица постепенно оживилась. Было слышно, как сначала шли рабочие на свои производства, потом загремели повозки, захлопали двери магазинов, зазвякали бидонами торговцы молоком, застучал топором мясник в лавке напротив. Измученные бессонной ночью, голодом и, главное, страхом за дорогого человека, девушки сидели в полном изнеможении. Проснулась Мария и стала жалобным голосом звать Бобино, он всегда приходил ее поцеловать, возвращаясь. Мишель, услышав девочку, оделся и вошел в комнату, где она лежала. Князь был сверх обычного в нервном возбуждении. Жермена предчувствовала очередную сцену и готовилась к ней. Березов смотрел злыми глазами и ворчал. Он удивлялся, почему Марии ничего не дают поесть, и не понимал, что в доме вообще нет провизии. Мишель напустился на Жермену: — Вы просто бессердечная! Почему вы оставляете ребенка без всего, что ему нужно? Один я понимаю, в каком она положении… Один я ее люблю… Впрочем, меня не удивляет, что вы так поступаете… Она вам мешает… Хотите от нее избавиться, ведь так? Хотите, чтобы она умерла… Нелепые, чудовищные упреки возмутили Жермену. Она подошла к Мишелю вплотную и сказала повелительно: — Довольно! Я не хочу вас слушать, идите в свою комнату! Будто укрощенный взглядом девушки, князь сразу утих и покорно отправился к себе. Девять часов… Берта рыдала, кусая платок, чтобы заглушить звуки и не разбудить Марию и Мишеля, — оба опять заснули. Послышался стук быстро едущего экипажа, он остановился около их двери. Сестры бросились к окну и успели увидеть лишь край юбки женщины, быстро скрывшейся в подъезде. Зазвонили в дверь. Жермена открыла и увидала мадемуазель де Мондье. Она была так бледна, вид у нее был такой убитый, глаза такие заплаканные, что портниха почувствовала сострадание к дочери ненавистного ей человека. Войдя, гостья не села, а прямо-таки упала на стул. Вежливо поклонившись, Жермена не решалась ни о чем спросить, а Сюзанна молчала. Наконец она спросила: — Вы уже начали? — Да, мадемуазель, все готово к примерке. — Оставьте работу, мне не нужен этот туалет, я приехала, чтобы отказаться от заказа. Жермена, поняв, что теряет последнюю надежду, и сейчас безразличная к чужому горю, не смогла удержаться и воскликнула: — Какое несчастье! Это можно было понять по-разному — и как сочувствие заказчице, — но Сюзанна поняла, о чем речь, и, не обидевшись, ответила: — Но ведь вы трудились, я оплачу работу. — И, видя, что Жермена из гордости намерена отказаться, попросила: — Пожалуйста… Прошу вас… Я так хочу! При взгляде на прелестный туалет, подготовленный к примерке, в ней пробудилась женщина, она воскликнула: — Это изумительно красиво! Какой у вас талант! Я бы выглядела неотразимой в таком платье. Но я его не надену… Я не буду больше наряжаться… Никогда… И Сюзанна горько заплакала. Несмотря на ненависть к ее отцу, Жермена, тронутая горем девушки, сказала: — Вы страдаете… скажите, мы не могли бы чем-нибудь вам помочь? Мы сами очень несчастны, но, может быть, все-таки сумели как-нибудь облегчить ваше горе. Сюзанна совсем пала духом, но все-таки почувствовала искреннее участие этой женщины, участие бедняка, не имеющего ничего, кроме своего доброго сердца, способного сострадать даже богатому виновнику его невзгод. Мадемуазель судорожно сжала руку Жермены и сказала прерывающимся голосом: — Благодарю вас!.. Я страдаю… Это правда… Я гораздо… несчастнее вас! Жермена спокойно спросила: — Вы так думаете? Ну что ж. Я не скажу вам ничего о своей погибшей юности, о жизни, разбитой ужасным преступлением, какое может заставить возненавидеть все человечество… А сейчас… здесь мой жених, больной… разоренный… безумный; он тоже жертва преступления. В соседней комнате лежит умирающая младшая моя сестра. Берта, третья из нас, плачет о своем возлюбленном, неизвестно куда пропавшем сегодня ночью. И я одна, чтобы их поддерживать, ободрять, помогать им жить, бороться с нуждой, что преследует нас… с безработицей, которая нам угрожает. А теперь скажите, мадемуазель де Мондье, кто из нас двоих несчастнее. При этих жестоких словах, сказанных ровно и медленно, с чувством собственного достоинства, Сюзанна почувствовала стыд и одновременно глубокое сочувствие, она проговорила тихо: — Извините меня. Я думала обо всем этом, однако не представляла себе, что можно терпеть и вынести такие страдания, какие достались вам. Я испытываю к вам большую, искреннюю симпатию и прошу принять от меня нечто гораздо меньшее той доброты, что вы мне дали с истинным великодушием. Я богата, так позвольте предложить… нет, нет, не как милостыню, вы же не примете ее, а одолжить сумму, достаточную, чтобы вы могли облегчить судьбу любимых вами… Это все, чем я могу отблагодарить вас за сострадание, и я навсегда останусь вашей должницей. Жермена, уже смягчившаяся под влиянием невольной взаимной симпатии к Сюзанне, при этих словах вспыхнула, поднялась и почти жестоко сказала: — От вас… Никогда!.. Лучше нищета… Лучше болезнь!.. Лучше смерть!.. — Вы меня ненавидите? — Вас — нет. Но если бы вы знали… Нет… Я ничего больше не скажу, только помните, что от вас я никогда не приму того, что вы предлагаете, даже ради спасения моих любимых. — Я не понимаю, и я хотела бы… Берта сорвалась с места — открывать на звонок. И как тогда, когда на улице Пуше они ждали мадам Роллен, умиравшую в госпитале, вошел служащий «Общественной благотворительности». При виде его Берте вспомнился весь ужас того утра, она заговорила словно в бреду: — Жан. Мой Жан… в госпитале… ранен… умер, может быть… как мама. Скажите, месье, вы из-за него пришли? Человек, привыкший встречаться с людским горем, спросил тоном вежливого участия: — Здесь живет месье Жан Робер, по прозванию Бобино? — Да, здесь, — ответила Жермена. И подумала: «Он сказал: живет, а не жил». — О Господи!.. Что с ним случилось? — спросила Берта, помертвев. Посланный ответил: — Месье Робер этой ночью подвергся нападению бродяг и доставлен в госпиталь Милосердия. — Раненый? Ради Бога! Что с ним? — Я не могу знать, мне только поручено уведомить о случившемся и сказать, что вы можете к нему прийти. Когда я уходил, он был жив. Сказав это, служащий поклонился и ушел. Когда Берта узнала о своем несчастье, в ней проснулось мужество. — Жермена! Сестра! Бежим скорее туда! Нельзя терять времени, ведь он сказал, что Жан еще жив! Послышался страдальческий голос Марии, она звала старшую сестру. И Жермена, разрываясь между больной и женихом, потерявшим рассудок, сказала Берте: — Иди одна, ты видишь, я не могу. Кто тогда с ними останется? — Я ухожу! Господи, помоги! Спаси его! Сюзанна оглядела несчастных, на кого наваливался груз новых страданий. — Это ваш жених, тот, о ком вы беспокоились? — Да, — сказала Берта, идя к выходу. — Мой экипаж у дверей, я велю кучеру, чтобы он отвез вас, и подожду здесь вашего возвращения, — сказала мадемуазель де Мондье. — Примите мое предложение, не откажите мне хоть в этом. Или лучше я поеду вместе с вами и привезу вас назад. Пожалуйста! Располагайте мной. Жермена, побежденная и тронутая участием, проговорила тихо: — Я принимаю… для моей сестры и для него… эту услугу. Благодарю, мадемуазель… Благодарю! Девушки сошли вниз, сели в экипаж, и Сюзанна, вместо того чтобы назвать кучеру адрес госпиталя, сказала: — Улица Данфер-Рошеро, двенадцать-бис, и как можно быстрее.ГЛАВА 22
Когда ему нанесли удар в спину, Бобино не упал и не стал звать на помощь. Он не мог повернуться лицом к тому, кто его ударил, потому что увидел, как спереди, подняв нож, надвигается другой враг. Легко было догадаться: это сообщники и, несмотря на то, что Бобино был один и, может быть, тяжело раненный, он твердо решил сопротивляться. Чувствуя, что наступающий спереди сейчас ударит его, Бобино стремительно нагнулся и так же мгновенно прижался всем телом к врагу, схватил его обеими руками за глотку и принялся душить. Это произошло так быстро, что Бамбош не успел нанести второй удар. Брадесанду захрипел и выронил нож. Он пытался схватиться с Бобино, но не ожидал, что противник так силен. Брадесанду сам был не слаб, крепко сбит и отлично знал разные приемы борьбы, поэтому рассчитывал легко справиться с раненым противником. Он придавил плечи Бобино и, почувствовав под пальцами кровь, подумал: «Не уйдет!» Бамбош, подняв нож для удара, мысленно ругался: «Идиот! Заслонил место, куда надо ударить. Никакой возможности садануть в спину!» И заорал вслух: — Убери руки, грязное животное, а то я тебе их оттяпаю! Но у Брадесанду уже высунулся язык и выкатывались глаза от удушья, он не слышал и не мог ответить. Бобино чувствовал, что силы сейчас его оставят, но юноша сознавал, что любимая ждет его, он представил себе милый образ Берты и подумал, что им, может быть, уже не придется увидеться. Его ограбят, убьют, отберут те франки, что он нес домой, все близкие останутся голодными, а больная Мария — без лекарства. Из последних сил сжимая глотку врага, он думал: «По крайней мере, тебя-то я уничтожу!» Они катались по земле втроем, Бамбош никак не мог изловчиться и ударить Бобино, не задев своего сообщника. Последнее усилие окончательно истощило силы наборщика, он лишился сознания, успев крикнуть: — На помощь! Убивают! Его услышал дежурный патруль, и двое полицейских побежали на зов. Бамбош боялся быть задержанным даже в качестве свидетеля и дал деру. Метрах в ста он замедлил бег, пошел дальше спокойной походкой гуляющего, чтобы не вызывать подозрения у встречных. Тем временем полицейские подошли к неподвижно лежащим Бобино и Брадесанду. Они попробовали посадить Бобино, прислонив к дереву, но он повалился, не издав ни стона, ни вздоха. — Он, кажется, сильно пострадал, — сказал один из стражей порядка с грубоватым сочувствием, увидев, как по земле растекалась темная лужа крови. Бобино жалобно застонал и проговорил еле внятно: — Берта… Моя бедная Берта… Они меня убили… — Еще жив, хотя ему крепко досталось, — сказал второй патрульный. — Надо отправить их в госпиталь. Иди на пост, скажи, чтоб прислали носилки и людей. Вскоре Бобино и Брадесанду доставили к врачам, дежурный, бегло осмотрев рану Бобино, тут же отправил его в операционное отделение. Повезло попасть к хорошему хирургу, что не был узким специалистом: ранение в спину под правую лопатку оказалось страшным. Из отверстия текла кровь, по краям пенилась сукровица. Легкое было основательно повреждено. Не исключались серьезные осложнения. Хирург осторожно обмыл порез, наложил антисептический компресс и толстую повязку, после чего пошел осмотреть Брадесанду. Несмотря на усилия санитаров, делавших искусственное дыхание, тот не приходил в себя и уже начал окоченевать. Санитар сказал: — Доктор, у нас ничего не получается. — Он умер. От задушения. Крепко сдавили! Потом, взглянув на татуировку с непристойными изображениями, покрывавшую руки и грудь Брадесанду, обычное украшение бандитов, врач добавил: — Наверное, какой-нибудь грабитель. Тот, другой, здорово с ним управился! Бобино, как обычно бывает после тяжелой травмы, провел трудную ночь. Только в десять утра он еле слышным голосом сообщил необходимые сведения: имя и фамилию, адрес, обстоятельства нападения. Его осмотрел главный хирург, одобрил действия дежурного и подтвердил предписания и заключения. Но ввиду тяжелого состояния пострадавшего дал распоряжение ассистенту поскорее вызвать в госпиталь ту особу, о ком больной все время спрашивал, — Берту Роллен, его невесту. Служащий пришел на улицу Мешен как раз в тот момент, когда там находилась Сюзанна де Мондье.Берта не слышала, какой адрес дала кучеру мадемуазель де Мондье, и как парижанка, хорошо знающая город, была удивлена, когда экипаж остановился около Обсерватории. Девушка пребывала в страшном беспокойстве за Бобино, ей казалось, что лошади бегут недостаточно шибко, и очень удивилась, когда Сюзанна поспешно вышла из экипажа. — Это не здесь! — воскликнула Берта, подумав: вдруг ее заманили в какую-то ловушку. — Мадемуазель, нам нельзя терять времени! — Не волнуйтесь! Здесь живет друг, он по моей просьбе поможет вашим близким, может быть, спасет их. Ваша сестра не отвергнет его помощи. Этот человек предан мне всей душой, я верю ему больше, чем самой себе. Ничего не бойтесь, Берта, милая! Я вам хочу только добра, вам и всей семье. Мадемуазель Мондье побежала к павильону, где жил Морис Вандоль с матерью. Застигла она Мориса бледным и совершенно убитым горем. Но, увидев Сюзанну, тот сразу просиял. — Возлюбленная моя!.. Вы пришли… После того ужасного письма я уже не надеялся вас увидеть! Оно меня совершенно уничтожило… И вот вы здесь… Так ваш отец понял все-таки, что он делает нас несчастными… Вам удалось получить его согласие?.. — Нет, мне решительно запрещено с вами видеться… Я обещала… Но сейчас такой случай… Я встретила очень несчастных людей, и это заставило меня нарушить и родительский запрет, и свою клятву и просить вас… — Сюзанна! Скажите все-таки, как мог ваш отец… — Морис, друг мой! Я должна торопиться, на улице ждет девушка, которой надо помочь… Позвольте надеяться на вас… Вы согласны? — Сделаю все, что вы хотите, возлюбленная моя! — сказал Морис. — Возьмите денег… все что у вас в доме, и поезжайте на улицу Мешен, угол улицы Санте и передайте эту сумму от моего имени в долг той, кто там живет. Действуйте тактично, чтобы она не отказалась. Семья совершенно погибает от нищеты, но они горды и скрывают свою крайнюю бедность. Мы должны им помочь… спасти их. Идите, мой друг, немедля! — Да, да, Сюзанна! Но, ради Бога, скажите, когда я вас снова увижу! — Не знаю. Ведь, говорю же вам, отец взял с меня обещание не видеться с вами. Но, буду ли я близко или далеко, я всегда и везде буду любить вас. — Любимая моя! — воскликнул молодой человек. — Как обрадовали вы меня своим появлением!.. Я плакал все эти дни, терял веру в себя, в будущее, уже ни на что не надеялся в жизни! — Напрасно, Морис… Вы меня любите, я люблю вас, а вы теряете веру в наше будущее! — Но ведь ваше письмо надорвало мое сердце. — А я, Морис, сколько перестрадала… Но любовь помогла мне все вытерпеть и помогла прийти к вам. Слушая, художник преобразился. Он внимал, будто слышал самую дивную музыку. Морис медленно привлек девушку, и она уступила пьянящему объятию. Не в силах противиться порыву, овладевшему ее душой, Сюзанна тихо положила голову на плечо возлюбленного. Тонкие шелковистые волосы касались щеки молодого человека, и сердце ее билось в восторге, граничившем со страданием. Он прижал губы к ее губам — такого счастья оба до тех пор не знали. Сюзанна первая вышла из этого сладкого забытья. Она еще ощущала трепет во всем теле, но с чувством уверенности в себе и с гордостью посмотрела на друга, еще крепче обняла его и сказала: — Теперь, Морис, сомневаешься ли ты еще в своей Сюзанне? Будешь ли верить в ее любовь и в наше будущее? — Сюзанна!.. Любовь моя!.. Вы ангел! Я всю жизнь буду вас любить! Самоотверженно… преданно… верно… Я ваш навеки, и вы навек моя! Ничто не разъединит нас! — Ничто и никогда! А теперь, Морис, делайте то, о чем я вас просила, не теряйте ни минуты. Прощайте. — Нет, до свиданья! — Пустите меня, я тороплюсь. — Почему же? — Я провожаю в госпиталь несчастную девушку, там ее умирающий жених, она в горе, и я не прощу себе, если эгоизм моей… нашей любви заставит меня задержаться. Радостная, девушка вернулась к Берте и сказала: — Моя милая подружка, только что я была почти такой же несчастной, как вы, а теперь я счастлива. Не теряйте надежды! Ваш друг выздоровеет, я это чувствую. — Услышь вас Господь и помоги нам! Но я так привыкла ждать горьких событий, что успокоюсь, только увидев его. Через десять минут повозка, запряженная тяжело дышавшей от быстрого бега лошадью, подкатила к госпиталю. С уверенностью, какой раньше Сюзанна в себе не знала, она провела туда плачущую Берту. Увидев нарядно одетую девушку, вышедшую из щегольского экипажа, швейцар снял шляпу, проводил в справочную, где им сказали, в какой палате лежит Бобино. Через пять минут они уже стояли около раненого. Юноша сразу узнал возлюбленную и тихо проговорил: — Берта… моя Берта… какое счастье… — Жан! Милый Жан… Вам, наверное, очень плохо… — Ничего… со мной все обойдется… если я вас увидел. Но они… там… — Месье, — сказала Сюзанна, — я друг вам не известный, но верный, не беспокойтесь о ваших. — Спасибо, — прошептал типограф, не понимая, отчего проникся доверием и симпатией к милой девушке. Казалось, будто они давно знакомы, он чувствовал бесконечную благодарность за ее доброе отношение к Берте. В свою очередь Сюзанна смотрела на него с ласковостью и любопытством. Ее влекло какое-то родственное чувство, точно он был братом, никогда не виденным прежде. Берта тоже впервые заметила удивительное сходство между ними. Однако ей и в голову не пришло сказать об этом, все мысли были поглощены тревогой за Бобино, а с ним говорить не полагалось. И все-таки они нарушили врачебные правила. В очень коротких словах Жан рассказал, как на него напали, как он боролся и попал в госпиталь. Юноша утешал Берту, говорил, что непременно выздоровеет, посвятит ей жизнь и будет любить всегда… всегда. Он поблагодарил Сюзанну, зная из кратких слов Берты о том, как мадемуазель помогла семейству. Потом, почувствовав усталость, типограф опустил голову на подушку. Сиделка сказала, что посетительницам пора уходить, так велит врач, ведь пациент еще очень слаб и ему вредно всякое волнение и утомление. Берта послушно встала, наклонилась над Бобино, нежно поцеловала и шепнула на ухо: — Жан, друг мой, не бойся ничего, тебя вылечат. Сюзанна как брату пожала ему руку, сказала несколько слов утешения и добавила: — Мы будем приходить еще! Бобино с чувством благодарной нежности посмотрел ей вслед. Уходя, Сюзанна сунула луидор в руку сиделки и попросила позаботиться о больном. Не привыкшая к таким щедрым вознаграждениям, женщина поклонилась и, конечно, пообещала. Сюзанна спросила ее так, чтобы не слышала Берта: — Вы думаете, он поправится? Что говорит хирург? — Ранение очень серьезное, — ответила служительница потихоньку. Экипаж довез девушек до улицы Мешен. Как ни просила Берта, Сюзанна отказалась подняться в комнаты: хотела избежать новых слов благодарности. Она уехала, счастливая исполненным долгом, уверенная, что Морис сделал все, как она велела, и на прощанье сказала Берте: — Я не знаю, когда мы еще увидимся, но, если у вас случится какая-нибудь неприятность или нужда, непременно известите меня.
Морис собрал все деньги, какие имел в наличности, и поспешил исполнить желание Сюзанны. Никто не дает так не скупясь, как влюбленные: а художник был щедр вдвойне — он любил, и он был человеком искусства. Молодой человек еще не знал, кому именно должен оказать помощь, но душа его заранее была распахнута для сочувствия и добра. Он шел крупными, уверенными шагами, и улицы казались ему шире, небо яснее и солнце ярче, чем были. Он думал о том, как любит его Сюзанна и как он любит ее. Он еще чувствовал ее поцелуй на губах, вспоминал, как их бросило в объятия друг друга, и был полон надежды, пробудившейся после дней отчаяния. Он радовался, готовясь сделать доброе дело, Сюзанна будет его соучастницей, и союз их сердец станет еще крепче. Художник взбежал на третий этаж дома, указанного Сюзанной, и позвонил. Открыла Жермена. И Морис сразу узнал прекрасную девушку, ту, кого он и князь Березов некогда вытащили из реки, а Мишель чуть ли не с первого взгляда влюбился в бедняжку. Вандоль расстался с Жерменой, когда она, поправившись, собиралась в Италию, и Мишель окружал ее роскошью со щедростью миллионера. Теперь же Морис увидел возлюбленную друга в бедной квартирке за швейной машиной, чей шум прекратился, когда он позвонил. Да, перед ним несомненно стояла Жермена, по-прежнему прекрасная, но такая бледная и слабая, что, казалось, вот-вот упадет. Морис снял шляпу и почтительно поклонился, растроганный и сострадающий. Девушка стояла как живое олицетворение скорби. — Жермена! Вы здесь… на этом чердаке!.. Разве такой я ждал вас встретить! Ослабевшая от лишений, от тяжелой работы и от всех пережитых несчастий, швея, увидев давнего друга, проговорила устало: — Морис… как я рада, что наконец вас снова вижу… Художник безмерно огорчился, видя ее такой слабой и печальной. — Вы страдаете, Жермена! — сказал он горестно. — Да, Морис, страдаю, как только можно страдать. — Вы сейчас одна здесь? Ваша сестра Берта?.. — В госпитале, где лежит Бобино, раненый, может быть, уже мертвый… — Ох!.. А Мария… ваша младшая?.. — Там… в постели… и, не исключено, тоже умирает… — Вы знаете, как я вам предан… простите, если я проявлю нескромность. — Вы помогали меня спасать, вы один из тех друзей, кому можно говорить все. — Хорошо, а Мишель, что с ним-то случилось? Он поступает бессовестно, оставив вас в таком положении! Это подло! Мне стыдно за него! — Если бы вы знали все! — Говорите, Жермена! Говорите все, я вас умоляю! — Об этом страшно… Я могу рассказать вам о всех несчастьях, что произошли с нами… Но что касается Мишеля… Уверяю вас, это хуже всего. — Скажите, прошу вас, скажите, ведь я не из любопытства спрашиваю вас. — Так вот, — продолжала Жермена с усилием, — Мишель разорен… лишился всего… не имеет ни франка, даже сантима. — Он?! Что вы такое говорите?! — И Мишель меня ненавидит… Он выказывает ко мне ненависть ужасную, бессмысленную, не имеющую никакой причины… И это меня убивает… — Ненавидит вас!.. Но это сущее безумие!.. — Увы! Да. Настоящее, подлинное. — Что же такое с ним? — Он хотел застрелиться, ранил себя, я делала ему перевязки… Он умирал от голода… Мы его приютили… Он меня возненавидел, я его полюбила… Теперь он еще сильнее ненавидит меня и готов убить! — Он чудовище! — Нет, просто несчастный умалишенный! — Он! Безумец? Мишель Березов — сумасшедший?! — Да, несомненно. Он помешался на том, что ненавидит меня, а все потому, что хочет моего замужества с моим оскорбителем, ради этого Мишель обещает застрелиться. Впрочем, вы сейчас его увидите. — Как! Он здесь? — Он был другом в плохие мои дни, спас мне жизнь, любил меня, покровительствовал. Чему удивляться, если по долгу, из любви к нему, мы все сделали для него, что могли. Мориса все сильнее трогала героическая простота преданности, такой полной, такой совершенной, и он благодарил Сюзанну, пославшую его сюда. Молодой человек просил Жермену располагать им и ласково пенял, что она скрывала свои несчастья. Дверь отворилась, и вошел Мишель. — Да, да, Морис, я узнал твой голос, — заговорил князь как-то неестественно быстро, даже не поздоровавшись, — рад тебя видеть! Ты окажешь большую услугу, поможешь вырваться из этой вонючей дыры, где меня держат насильно… Да, мой друг, мне не позволяют выходить под предлогом, что я сумасшедший. Но я это прекрасно знаю без них! Однако какое дело до этого им, этим людям? Кто они мне? И эта Жермена с ее видом святой недотроги. Эта стерва, которую я ненавижу… готов убить ее!.. Она тебе рассказывала всякий вздор… уверен… Продувная баба… шлюха, кого я бью ногами… Изобью и теперь, на твоих глазах… Жермена пыталась успокоить безумца, но он закричал: — Довольно! Пустите меня! Я не хочу вас видеть! Давай уйдем отсюда, Морис, помоги мне убежать от людей, которые у меня все украли, а потом, если хочешь, я застрелюсь у тебя; там будет очень удобно… Морис не мог вставить слова в этот поток. Он смотрел на Мишеля с любопытством, полным нежного сочувствия, и не мог воспринять, осмыслить жалкого состояния души друга. Он безуспешно пытался представить, какая катастрофа могла погубить ясный ум Березова, отчего его любовь перешла в ненависть, и дивился покорной преданности Жермены. Художник сразу представил, как после роскошной жизни они погрузились в полную нищету, какие жертвы должны были приносить эти великодушные люди, чтобы беспрерывно противостоять валившимся на них бедам. Хоть бы князь, враз обнищав, по-прежнему любил Жермену! Но нет! Он изо всех сил ненавидел несчастную девушку! Действительно, это было ужасно. Более, чем Морис ожидал. Художник попытался успокоить Березова. Морис подошел и стал ласково говорить: — Будь мужчиной, Мишель, будь молодцом, каким я тебя знал всегда. Мы тебя вытянем из беды, мой друг. Ты знаешь, как я тебя люблю. — Хватит! — резко прервал его Мишель. — Хватит!.. У меня нет больше друзей! — Я, Мишель, я твой друг, я никогда тебя не забывал! — Ты? Брось!.. Тебя обвела вокруг пальца эта развратница Жермена!.. Если бы ты был другом, ты увел бы меня к себе, дал ложе и револьвер, и я бы застрелился в постели, очень удобно стреляться, лежа на чистых простынях и подушках… Я уже пробовал и с удовольствием опять это сделаю, потому что так надо!.. — Нет, Мишель, так совсем не надо! И ты не совершишь такой подлости. Противоречие привело Мишеля в неуемное бешенство, он закричал: — Ты заодно с моими врагами! Я тебя знать не хочу!.. Уходи!.. Убирайся!.. Говорят тебе, вон отсюда, несчастный мазила!.. Мне стыдно, что я был твоим другом!.. Морис, совершенно ошеломленный, не знал, что делать, и страшился за Жермену, — каково ей будет, когда она останется одна с этим безумцем. Князь закричал с еще большей яростью: — Если бы у меня сейчас были лакеи, я бы велел вышвырнуть тебя!.. Если ты не желаешь смотаться, я уйду сам! Князь хлопнул дверью в комнату. — Вы не боитесь, что он бросится и действительно начнет бить, попытается убить вас? — Пусть делает со мной что захочет, я ему принадлежу душой и телом, но все-таки мне хочется дожить до того времени, когда он будет не столь несчастным. — Скажите, как вам помочь? Располагайте мной, Жермена. — Я не имею права отказаться от вашей поддержки. Ради него, ради Бобино, ради больной Марии. Приходите, если можно, завтра, мой друг, мы все обсудим. — Договорились. Я буду здесь утром. В соседней комнате застонала Мария, и Жермена бросилась туда, Морис, пользуясь тем, что остался один, положил на столик швейной машинки стопочку банкнот, прижал кучкой золотых монет и тихо ушел.
Мария проснулась от крика Мишеля. Больной стало немного лучше: не то чтобы она была уже вне опасности, но самые серьезные симптомы болезни прошли. Она спросила: — Что, Мишель еще злой? — Немного раздраженный, как всегда, — ответила Жермена. — У нас сейчас кто-то был? — Наш друг, месье Вандоль, художник, помнишь? — Конечно! Мне бы очень хотелось его видеть, и Мишеля тоже. Ты знаешь, какой он спокойный бывает, когда со мной. — Да, дорогая, я попрошу его пройти к тебе. Жермена удивилась, что в соседней комнате пустынно, однако увидела пачку денег и, конечно, поняла, что Морис нарочно оставил их украдкой, и мысленно поблагодарила его за деликатность. Мария, нетерпеливая как все больные, спросила: — Жермена, почему они ко мне не идут? Старшая сестра постучала в комнату Мишеля и вошла, не дождавшись ответа. — Опять вы пришли! — завопил тот злобно и вскочил со стула, где перед тем сидел, согнувшись и охватив голову руками. — Когда вы наконец оставите меня в покое? Когда я буду далеко от вас?.. Совсем далеко! — Мария вас спрашивает, друг мой, — ответила девушка с привычной невозмутимой покорностью. Безумец впервые отказался идти, сказав: — Я не хочу к ней. Вы злоупотребляете моим хорошим отношением к девочке, чтобы заставлять меня делать то, что хочется вам. А я хочу поступать по-своему. Я намерен покинуть навсегда эту берлогу. — Я прошу вас, пройдите к девочке. — Отстаньте! — Но… — Разве вы не видите, что терпение мое кончилось! Что я больше не могу жить взаперти! Пустите! — Вы никуда не уйдете. — Черт возьми! Это мы еще посмотрим! Мишель с силой оттолкнул Жермену, пытаясь пробиться к выходу. Девушка вцепилась в него, умоляя подождать хотя бы до завтрашнего дня, когда придет Морис и возьмет его с собой. — Я хочу уйти!.. Я хочу уйти! — кричал Березов со все возрастающим неистовством. Такой настойчивости он еще никогда не проявлял. Жермена продолжала сопротивляться. Князь, потеряв всякий контроль над собой, замахнулся кулаком. Лицо исказилось и налилось кровью, он был страшен. Он кричал: — Я убью вас! Порази вас гром! Я должен вас убить! После будь что будет.
Мария выскочила из-под одеяла и босиком побежала спасать сестру. Она хрипло, то и дело кашляя, кричала: — Мишель!.. Мой хороший Мишель, не делай больно сестре!.. Пощади!.. Князь был уже готов броситься на девочку, но Жермена заслонила ее, — вся бледная, с растрепанными волосами, с пальцами в крови, опухающими на глазах кистями рук. Она смело подошла к Мишелю, глядя прямо в глаза. Как укротитель и дикий зверь, они стояли секунд двадцать. Мишель постепенно остывал, лицо становилось спокойнее, и вскоре на нем появилось выражение блаженства. Так продолжалось еще с полминуты. Потом глаза Мишеля сделались будто невидящими, хотя оставались открытыми, он глубоко выдохнул, словно выпустил воздух из мехов. Жермена в удивлении спросила: — Что с вами, мои друг. Он ответил совершенно переменившимся голосом, нежным и ласковым, как прежде: — Со мной ничего… Все хорошо, Жермена. Я счастлив!.. О, как мне хорошо сейчас!. И почему я не могу всегда быть таким счастливым? — Но что происходит с вами? Скажите, прошу вас, мой друг. — Я сплю! — Вы спите? — Да. Я усыплен… вами… какое счастье… какая радость, быть рядом с вами… слышать ваш голос… видеть вас… Ведь я вижу вас, моя Жермена, моя дорогая, любимая… да… всегда любимая! — Боже мой! Что он говорит? — шептала Жермена. — Господи, что? — Говорю, что обожаю вас и только от вас зависит, чтобы так было всегда… Я больше не сумасшедший… я не хочу кончать самоубийством, я хочу жить, чтобы любить вас… — Что надо делать для этого? — Оставить меня спать… Потом вы просто спросите… он запретил отвечать вам… но, может быть, я все-таки смогу… если вы этого захотите… очень захотите… если сможете мной повелевать. Тогда… я надеюсь, вы воскресите мою душу, которую он убил.
Конец второй части






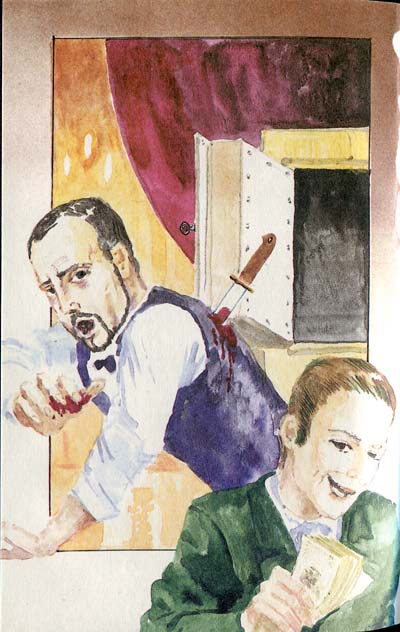
Часть третья ВОЗМЕЗДИЕ
ГЛАВА 1
Было четыре часа ясного августовского дня. Еще не все бездельники, называемые светскими людьми, покинули Париж. Хотя признаком хорошего тона считалось разъезжаться по курортам и казино во все концы страны, многие закоренелые домоседы еще оставались в столице, где в эту пору собиралась масса иностранцев. На бульварах как всегда царило веселое оживление, проезжие улицы были полны наемных упряжек. В этот день, как обычно, много народа толпилось на улице де ла Пе. Роскошные экипажи двигались один за другим непрерывным потоком в направлении улицы Риволи. Иные останавливались около модного ателье мадам Лион, другие быстро от него отъезжали. Великолепная восьмирессорная карета, запряженная парой вороных, остановилась возле заведения в тот момент, когда старшая мастерица мадемуазель Артемиз провожала со многими поклонами богатую заказчицу. Выездной лакей ловко соскочил с места и опустил подножку. Не спеша вышла дама, ее движения были полны достоинства, почти величественны. Высокая, статная, со скульптурными формами, одетая с утонченной скромной элегантностью, она привлекала взоры, ею любовались. Дорогой туалет лишь оттенял очарование ее внешности так же, как и на первый взгляд простые, а в действительности безумно дорогие украшения. В противоположность женщинам, каких только наряды и драгоценности делают привлекательными, она притягивала бы взоры, будь даже в самом обычном платье. Мадемуазель Артемиз, знавшая наизусть всю клиентуру модных ателье Парижа, с одного взгляда оценила прекрасную гостью. Она подумала: «Наверное, какая-нибудь иностранная герцогиня или жена нефтяного короля». Потом, окинув ее порочным взором женщины, привыкшей разглядывать обнаженных заказчиц во время примерок, она сказала себе: «Несомненно, незнакомка едва ли не самая красивая женщина в Париже сейчас. Кто же она такая?» Неизвестная шла через холл, уставленный экзотическими растениями, в глубине начиналась парадная лестница. Мадемуазель Артемиз, еще более изможденная и худая, чем в прошлом году, готовила на лице приветливую улыбку, чтобы, как полагается первой мастерице, оказать должный прием даме, в коей видела будущую щедрую заказчицу. Артемиз сложила губки бантиком, чтобы скрыть крючки золотых зубных протезов, и вся изогнулась, пытаясь принять изящную позу, но почти тотчас воскликнула с неподдельным изумлением: — Мой Бог!.. Жермена!.. Жермена Роллен!.. Невероятно! Дама поднесла к глазам богато украшенный лорнет и, холодно посмотрев на старую деву, ответила со спокойной иронией: — А! Артемиз!.. Да, дорогая, это я… Что, мадам Лион занята?.. Мне надо с ней поговорить. Артемиз, все более и более изумляясь при виде того, как естественно соблюдает Жермена образ светской дамы, с какой неподдельной роскошью и хорошим вкусом одета, восклицала: — Жермена!.. Ах, Боже мой!.. Кто бы мог подумать?! В жизни все случается!.. — Успокойтесь, пожалуйста! И узнайте, может ли мадам Лион принять меня не задерживая. Я спешу. Движимая жгучим любопытством, смешанным с завистью, первая мастерица, кого удостаивали откровенностью многие клиентки из высших сфер, очень хотела, конечно, все разузнать о бывшей подчиненной; заискивающим тоном, убрав деланную улыбку, она попыталась вызвать посетительницу на откровенность: — От всей души поздравляю вас, мадемуазель… мадам… Вы не теряли времени даром… и, разумеется, вам помогли счастливые случаи… — Наверное, больше, чем советы одной известной мне особы; не так ли, милейшая Артемиз? — сказала Жермена тоном, пресекающим подобные разговоры. Как человек, хорошо знающий расположение комнат, бывшая здешняя швея уверенно прошла прямо в салон, где ожидали клиентки. Она была неизвестна им, дамам большого света и полусвета, и появление Жермены произвело сенсацию. Молодая женщина позволяла себя откровенно разглядывать, уверенная в своей красоте. В самом деле, ядовитые змеи, с пристрастием взиравшие на нее, не могли обнаружить недостатков ни в лице, ни в фигуре, ни в манере держать себя, ни в туалете. Инстинктивно ее разом все возненавидели. Она терпеливо дождалась своей очереди и через полчаса ступила в личный салон мадам Лион. Это была толстая бабенция с простонародными чертами лица, и трудно было представить, что за ее пошловатой наружностью скрывается тонкий мастер с безупречным вкусом. Она была слишком умна и опытна, чтобы показать, как мгновенно узнала свою бывшую мастерицу, и встретила Жермену словно знатную даму, в ком видит заказчицу, способную сделать прекрасную рекламу заведению. Конечно, владелица дамского салона удивилась тому, сколь свободно и просто ведет себя Жермена, заказывая туалет. В словах, в манере держаться не было ни кривляния, ни вульгарности. Мадам Лион подумала: «Настоящая княгиня! Интересно, где она научилась так себя вести? Ох уж эти маленькие парижские мастерицы!» Выбрав фасон и ткань, Жермена сказала, что в отношении отделки вполне полагается на тонкий вкус мадам Лион, — та выглядела весьма польщенной. Когда клиентка заявила, что туалет ей нужен не позднее, чем к пятнице, а был понедельник, мадам Лион попробовала заикнуться, что четыре дня явно маловато, заказчица ответила: — Если вам неудобно выполнить мою просьбу, вынуждена, к большому огорчению, обратиться в другое ателье. Мадам Лион привыкла, что в подобных случаях даже самые состоятельные заказчицы — и кокотки, и светские дамы — начинали умолять и даже почти унижаться, и хозяйка ателье наконец соглашалась, при этом назначая цену по своему усмотрению. Решительный и полный достоинства тон Жермены произвел на мадам впечатление. Она без колебаний обещала, что заставит мастериц работать день и ночь, заказ исполнит к назначенному сроку. Жермена направилась в Булонский лес. Ее необыкновенная красота и там привлекла всеобщее внимание. Экипажи гуляющих старались приблизиться к карете девушки. Всадники норовили проехать мимо несколько раз взад-вперед, иногда нарочито громко строили догадки о том, кто же она, эта прекрасная незнакомка. Жермена оставалась спокойной и невозмутимой. Ее, казалось, совершенно не трогали откровенно любопытствующие взгляды. Только раз, проезжая по авеню Пото, она вздрогнула, на мгновение испытав ненависть. Всадник, ловко и красиво сидевший на породистой лошади, приблизился легким галопом в сопровождении ливрейного лакея. Красивое лицо Жермены тут же приняло спокойное выражение, когда ездок стал приближаться к ней, глядя с удивлением и восхищением. Поравнявшись с коляской, наездник остановил лошадь так резко, что она поднялась на дыбы, но хозяин легко справился с ней. Видя, что Жермена смотрит на него, верховой почтительно поклонился, на всякий случай, как знакомой, в ответ она слегка кивнула, сделав над собой огромное усилие, чтобы сохранить спокойное выражение лица. Всадник приблизился и спросил дрожащим от страсти голосом: — Вы?! Это вы!.. Невозможно!.. Жермена!.. — Да, это я, и мне странно, чему вы так удивились… ведь мы неизбежно должны были встретиться. Не правда ли, граф де Мондье? Жермена произнесла ненавистное имя, улыбнувшись загадочно и волнующе. — Согласитесь, у меня была причина поразиться и… прийти в восторг… Такие встречи редкость. — В особенности при подобных обстоятельствах, — добавила Жермена тоном светской дамы, приведшим графа в замешательство. Мондье поскакал рядом с ее экипажем. Хотя его уже ничего в жизни не должно было ввести в замешательство, он с трудом смог успокоиться. Как! Та самая Жермена, маленькая швея, кого десять месяцев назад он подстерегал на улице… Прекрасное создание, гордо отвергающее его домогательства, та, в кого он был влюблен страстно и отчаянно, как только может мужчина на склоне лет. Гордая в своей нищете, не польстившаяся на богатство и место в высшем свете, не сломленная изнасилованием, отчаянно бежавшая из его плена, неведомо куда сгинувшая Жермена… И вот он встречает недавнюю девчонку окруженной роскошью, гордой, властной, великолепно одетой, встречает… и не где-нибудь, а во время обычной для богатых и знатных людей прогулки в Булонском лесу. Она теперь не бежит, не скрывается, не боится его, как прежде, но спокойно отвечает на поклон и разговаривает так, будто забыла темное и жестокое прошлое… Граф испытал острую ревность. Кому обязана Жермена этой роскошью? Вышла замуж? Или, наоборот, пошла по пути греха и просто отдала богатому, молодому то, в чем отказывала ему с таким упорством? Мондье не смел об этом спросить, но, кто бы ни был ее муж или любовник, граф этого человека ненавидел, видя в Жермене свою собственность. И, однако, больше всего приводило в недоумение именно то, что девушка не выказывала прежней ненависти, а говорила с ним пускай кратко, пускай с холодной учтивостью светской дамы, но все-таки — говорила! В замешательстве, удивлении, радости Мондье думал: «Наверное, она больше не в обиде на меня. Женщины всегда прощают такие поступки». Жермена держалась даже с некоторой пускай обидно-снисходительной, но все же благосклонностью, и он возымел некоторые надежды. Граф ехал шагом возле экипажа и от искреннего волнения не находил слов для разговора. Однако он был не из тех, кто останавливается на полпути, и не переносил неопределенности в отношениях, особенно любовных. Не имея больше сил сдерживаться, Мондье сказал: — Жермена! Я люблю вас как прежде и еще сильнее. Я не стану вас умолять простить прошлое. Каким бы ни был бесчестным мой поступок, он совершен из любви к вам, и страсть служит мне оправданием, потому что не всякий может так любить — до безумия, до преступления! Жермена! Будете вы меня слушать наконец?! Гуляющие один за другим проезжали мимо них и с интересом и восхищением смотрели на Жермену. Ги де Мальтаверн на коне, принадлежавшем ранее князю Березову, гарцевал рядом с коляской, которой правила Андреа. Увидев Жермену, женщина воскликнула: — Какая красавица! Она и сама была хороша, потому охотно отдала должное достоинствам незнакомки. — Действительно, только чертов Мондье способен найти такую красотку. И где он ее обнаружил? — ответил Ги. Виконт де Франкорвиль и его неразлучный Жан де Бежен пялили глаза и всячески старались проведать, кто эта незнакомка, чтобы поддержать свою репутацию всезнающих, когда вечером в свете их станут о ней расспрашивать. Дезире Мутон, все такой же толстый, как и прежде, ехал на взятой напрокат лошадке, качаясь в седле, как почти все, кому прежде доводилось оседлывать только валик кожаного дивана в своей конторе. Все поглядывали друг на друга с озадаченным выражением охотничьих собак, сделавших стойку на рябчика и вдруг обнаруживших тигра. В ответ на страстное признание графа Жермена улыбнулась, как опытная кокетка, и, состроив насмешливую гримаску, проговорила: — Вы опять все о том же! Но ведь это сюжет из древней истории! Мой милый граф, скажите что-нибудь новенькое, ведь все прошлое было так давно, что с тех пор, боюсь, Триумфальная арка успела обрасти мхом! Она произнесла «мой милый граф» таким непринужденным тоном, будто преступление Мондье не разделило обоих непереходимой пропастью. Сказала, как говорят с человеком, равным по положению в обществе. — Жермена! Умоляю вас! Не надо так! Ведь я неимоверно страдаю! — Разумеется, очень мило, что вы все еще мучаетесь из-за меня, но без конца слушать объяснения в любви… не очень интересно. Вы, господа мужчины, по вашей эгоистичности только и делаете, что говорите нам о пламени, сжигающем вас… Это, право, скучно. Она произнесла: «пла… мени» с нарочитым пафосом и врастяжку, отчего слово прозвучало насмешливо. Граф удивился проявлению таланта актрисы и одновременно восхитился, он не мог удержаться от улыбки и подумал: «Она в самом деле необыкновенная! А я-то принимал ее за маленькую плаксу! Какая женщина!» — Знаете, мой милый, довольно разговоров о любви, на все свое время. — Но у меня его нет! А вы — дадите ли вы мне свое время? — Кто знает! — Позволите ли вы мне увидеть вас еще раз? — Почему же нет? Я намерена широко открыть двери своей гостиной для известных людей Парижа. — Вы окажете огромную честь, если позволите быть в числе избранных. — Это не слишком большая милость, потому что избранных будет много. — Об иной милости, как быть одним из многих, я и не прошу. — И прекрасно! Я буду охотно принимать вас с условием, что вы не будете пылать и не устроите пожар. — Я стану вас беспрекословно слушаться, Жермена, и вы не будете иметь более покорного и преданного слуги, нежели я. — Золотые слова! И коль скоро вы такой рассудительный, я сейчас предложу вам место в этом экипаже. — Ах, Жермена! — А вы не боитесь, что это вас скомпрометирует? — Такая милость для меня бесценна… У меня сразу появится тысяча завистников и столько же врагов! Мою лошадь слуга поведет за нами в поводу. — Сидя рядом со мной, вы будете мне называть всех приметных особ обоего пола, кого будем встречать. — Чрезвычайно польщен! И раз вы поручаете вести хронику всех любующихся вами и завидующих мне, я постараюсь сделать это интересным. — Чу́дно! Меньшего я от вас и не ожидала. А когда придет время возвращаться, вы проводите меня до дверей. Но только до дверей! — Вы живете? — На улице Элер. Мой управляющий узнал, что Регина Фейдартишо обеднела, и купил у нее для меня по дешевке дом вместе с мебелью. Всего за восемьсот или за девятьсот тысяч франков. «Черт побери! Она широко живет!» — подумал граф, садясь рядом с прелестной женщиной, что более и более заинтриговывала и привлекала его. Когда восьмирессорная карета тронулась, послышался звоночек. Велосипедист пронесся мимо экипажа. Как ни быстро он катил, он все-таки успел переглянуться с Жерменой понимающим взглядом, а потом скрылся в толчее с ловкостью опытного гонщика, лавируя между ними. Однако один из всадников, старавшихся пробраться к группе, собравшейся возле барона Мальтаверна, юношу на велосипеде заметил и узнал. «Бобино!.. Пусть черт меня удавит, если это не он! Ведь я всадил ему нож в спину и в газетах напечатали, что он умер, а я его вижу живым и здоровым! Я готов навсегда потерять свое имя Бамбош, если кто-нибудь объяснит, как это чудо случилось».ГЛАВА 2
Де Мондье проводил негаданную спутницу до подъезда изящного особнячка, принадлежавшего некогда Регине, а теперь ставшего собственностью Жермены. Она подала на прощанье руку как будто дружелюбно, но явно холодно, а граф испытывал страстное волнение. Он уехал, не зная куда и не замечая ничего вокруг, преследуемый образом женщины, любимой и желанной сильнее прежнего; пообедал в модном кабаре, не разбирая, что ест, потом беспокойным шагом побрел по бульварам, выкуривая папиросу за папиросой, и, чтобы как-то убить время, отправился в клуб; сел за карты, играл как новичок, промотал большую сумму, чего раньше с ним никогда не случалось. — Несчастлив в картах — счастлив в любви, — посмеиваясь, сказал очередную банальность Ги де Мальтаверн. — Да, граф, вы не случайно продулись! — добавил Франкорвиль. — Но нельзя считать, будто вы слишком дорого заплатили за свидание с прекрасной незнакомкой. Надеюсь, вы меня представите ей при первой возможности? — Вы мне надоели! — резко оборвал Мондье. — Может быть, вы ревнуете? — Вполне естественно, — заметил Жан де Бежен. — Графу наверняка не хочется вводить в окружение своей дамы нашу компанию «лакированных бычков». Мондье ушел, не ответив ни слова. Дома он лег и не мог сомкнуть глаз. Мысли о девушке его совершенно захватили. Наутро он скупил все цветы в ближайшем магазине и отправил Жермене. В два часа он пришел к ее дому, но услышал только лакейское: «Мадам сегодня никого не принимает». Вечер он пребывал в нервном возбуждении, в клубе опять проигрался и снова не мог уснуть, мучимый все теми же терзаниями. Подобное повторилось и на следующий день. Жермена не показывалась на прогулке в Булонском лесу, а в ее доме был один ответ: «Мадам никого не принимает». Мондье впал в отчаяние, но пока еще в голову не приходили планы насилия, какие прежде он осуществлял с дерзостью. На какое-то время граф стал таким, как все. Но иногда страстный деспотический характер все-таки проявлялся, тогда развратник думал: «Она смеется надо мной, что ли?.. Хочет поводить за нос… мстит за прошлое, сводя меня с ума?.. Если так… я снова пойду на преступление, чтобы овладеть ею!» Но тут же одергивал себя: «Нет! Не могу овладеть ею, как тогда… бесчувственное тело… Проклятья… Ненависть… А мне нужна любовь! Хочу, чтобы отдалась добровольно». Четыре дня прошли в мучениях. На пятый он наконец услышал: — Мадам просит господина графа, месье может пройти. От радости Мондье сунул в руку слуги чуть ли не полную горсть луидоров. Лакей, не избалованный столь щедрыми чаевыми, весьма удивился и, конечно, обрадовался. Он преувеличенно любезно проводил щедрого посетителя в гостиную. Минут через пять туда вышла Жермена, спокойно подала руку, волнующе и загадочно улыбаясь. Граф открыто, даже подчеркнуто любовался покоряющей красотой хозяйки дома. — Милая Жермена, почему вы лишили меня счастья видеть вас эти четыре дня?! — спрашивал он. — Наверное, потому, что не испытывала слишком настойчивого желания встретиться с вами наедине, — ответила она с нескрываемой насмешкой. — Однако сегодня вы приняли меня сразу и… — Это упрек?.. Я поступаю как мне хочется. Или вам не нравятся мои маленькие прихоти? — Жермена! Я просто не узнаю вас! — Я изменилась… подурнела?.. — Нет, вы хороши… даже слишком! Но вы — не прежняя Жермена!.. — Вы хотите сказать: не прежняя маленькая дурочка. Вы сожалеете? Вам не нравится, что я привыкла к роскоши, красивым туалетам, удобствам? Не нравится, что я приобрела некоторые светские навыки и привычки? Граф все более недоумевал. Возможно ли? Скромная швея, настолько гордая и целомудренная, застенчивая и неопытная, что отвергала все его искания, вплоть до предложения законного брака, неожиданно и вдруг сделалась светской дамой, свободно чувствующей себя среди роскоши и разговаривающей с ним, графом, так озадачивающе самоуверенно. Мондье решил, что, как многие девушки из народа, замученная тяжелой жизнью, Жермена пошла по дорожке порока. Страстное влечение графа нисколько не уменьшилось, он подумал, что теперь легче добиться своего, она сдастся, быть может, вполне добровольно, наконец удовлетворит его неуемную, почти юношескую страсть. — Напротив, — сказал Мондье, отвечая на вопрос о ее преображении. — Я счастлив видеть вас такой, какова вы теперь. И люблю еще сильнее. — Ну вот!.. Опять вы за свои глупости, — сказала хозяйка тоном парижского мальчишки, тем тоном, какому мог бы позавидовать Бобино. — Милый друг, вы постоянно играете только на одной струне, это скучно! — Но если я вас люблю в самом деле и не могу думать ни о чем ином… — Вы неисправимы! А если я вас не люблю? — Я заставлю вас меня полюбить! Если вы мне простили то, что было… Ведь я вас любил и тогда!.. — Но что вам дает право думать, что я вас простила? — Хотя бы то, что я сейчас здесь нахожусь… дружеский тон, каким вы разговариваете… Посмотрев на него прямо, Жермена сказала: — А может быть, я притворяюсь?.. Разыгрываю комедию?.. Смеюсь над вами… Дразню, чтобы еще сильнее разжечь вашу страсть, по-видимому упорную, раз она так долго длится? — Не играйте вот в эту минуту, Жермена! — решительно сказал Мондье, меняя тон. — Почему же? — Потому что такая игра опасна, вы можете разбудить человека со звериными инстинктами, что укрывается под личиной светского господина. — Интересно было бы на это посмотреть! — сказала Жермена с бравадой, что приводила графа в недоумение. — Да, потому что совершивший однажды преступление ради любви, может его повторить. Жермена расхохоталась и сказала: — Это будет уж совсем забавно, видите ли, он поступит со мной, как с Лукрецией![109] Граф окончательно пришел в замешательство. Он видел, что становится смешным, его попросту дразнят. Чувствуя окончательный проигрыш, Мондье решил действовать иначе, зная по опыту, что дерзкое наступление часто ведет к победе. Он бросился к Жермене, молниеносно схватил ее, норовя зажать рот поцелуем и повалить на диван. Не крикнув, не позвав на помощь, даже не переставая улыбаться, Жермена сильным движением высвободилась из рук графа, отступила и, не смущаясь, приподняла платье, из нижней юбки достала изящный револьвер, драгоценную безделушку. И, снова весело засмеявшись, прицелилась в насильника, пораженного ее силой и необыкновенным присутствием духа. — Образумьтесь! — спокойно сказала Жермена. — Не то мне придется подпортить вашу красоту, досадно… такой обаятельный мужчина даже в не слишком юные годы. А эта вот на вид игрушка имеет пробивную силу и точность необыкновенные, притом стреляет беззвучно… Убедитесь. — И Жермена прицелилась в шишечку оконного шпингалета и выстрелила дважды с одинаковым успехом. — Теперь вы поняли? Убедились, что я могу остановить слишком предприимчивого влюбленного? У меня в револьвере остался только один заряд, и, не очень вам доверяя, приберегу его. Граф улыбнулся, стараясь выглядеть спокойным, и сказал: — Последняя пуля может не попасть в цель, и тогда… — Тогда я воспользуюсь вот этим кинжальчиком, очень острым и смазанным смертельным индейским ядом… Вы, кажется, хорошо знаете, каково его действие, граф. Ведь вам известно столь многое! А вот я проведала об этой страшной штуке слишком поздно, в результате одного опыта… Ладно, теперь поболтаем, расскажите мне что-нибудь интересное. Ни слова о любви, если хотите, чтобы мы оставались друзьями. — И так будет впредь всегда? Вы никогда не позволите надеяться? — Кто знает?.. Будущее причудливо, а женщины — странные существа. — Жермена! От вас ли я слышу?.. — Но согласитесь, милый граф, почувствуй я к вам сейчас так называемую любовь, это выглядело бы просто смешно. Считайте еще, что я добра, если позволяю вам надеяться. Свободный, с очевидной примесью иронии тон совершенно сбивал ухажера с толку. Такая Жермена привлекала его еще сильнее, чем наивная девушка, которой он когда-то насильно овладел. Человек, привыкший к любовным победам, уверенный в себе, ловкий, предприимчивый и дерзкий, он не терял надежды на успех. Он не мог представить, что его может попросту разыграть женщина. Быстро собравшись с мыслями, Мондье повел себя как принято у светских людей, кого очень занимают пустые разговоры и развлечения. Он спросил: — Вы идете сегодня на премьеру в театр на Пор-Сен-Мартен? — Да, я заказала кресло в ложе. Мой управляющий занял для меня еще одно место в ярусе напротив. — Разрешите ли вы навестить вас там? — Разумеется! И приводите ко мне своих знакомых, но таких, чтобы с ними было интересно. — Я представлю вам маленькую компанию «лакированных бычков», они вас посмешат. — Отлично! Кстати, если не сможете достать билет, я уступлю вам второе кресло возле себя. — Благодарю вас, оно не понадобится. — А если ваша дочь, мадемуазель Сюзанна, захочет посмотреть спектакль? — Моя дочь?.. Вы ее знаете! — А почему это вас удивляет? — Она очень редко появляется в свете, предпочитает уединение, не любит театр… — Но если бы все-таки она захотела пойти сегодня, вы запретили бы? — Почему? — Дорогой мой, вы ведете себя словно женщина — отвечаете вопросом на вопрос. — Вы правы, — сказал граф, удивленный, как легко и свободно она ведет словесную дуэль. — Ну и как? — Я посмотрю… не хотелось бы ее ни принуждать… ни удерживать… — Почему вы мнетесь, граф? Вам неприятно, что мадемуазель Сюзанна увидит вас в обществе дамы, которая может оказаться девицей определенного сорта… Не беспокойтесь об этом, возьмите мой билет и передайте дочери. Я непременно хочу ее видеть… Я требую, чтобы вы исполнили это желание. — Но почему? — Причуда… ведь если бы я захотела, я могла быть ее мачехой. — Но кто пойдет с ней? — Компаньонка, для того и существующая. Граф, не имея больше сил противиться требованию, высказанному в столь категорической форме, и боясь вызвать неудовольствие Жермены, смирился. — Пусть будет по вашей воле… Принимаю ваше место в ложе. — И ваша дочь займет его? — Если захочет. — Вот и отлично! А теперь ступайте, мне нужно подготовиться к выходу в театр. До вечера! Как только Мондье удалился, Жермена сняла телефонную трубку: — Алло… мадемуазель, соедините меня, пожалуйста, с месье Вандолем, улица Данфер-Рошеро, двенадцать. Морис, это вы? Добрый день, мой друг!.. Спасибо, все хорошо… Приходите сегодня вечером ко мне в ложу, в каком бы окружении вы меня ни увидели. Ну да… непременно… так надо… надейтесь, Морис… Да… Сюзанна… ваша Сюзанна… Если вы заставите ее решиться… Не благодарите меня… я буду счастлива вашим счастьем. До свиданья, Морис! Жермена, чье лицо приняло обычное выражение, пока она говорила по телефону с другом, вновь обрело маску насмешливости, когда вошла горничная. Пока девушка распускала роскошные волосы хозяйки, Жермена думала: «Они будут счастливы благодаря мне. Я могла бы выместить свою обиду на невинной. Однако при чем здесь эта славная девушка… Зато настоящим подлецам мы отомстим жестоко!»ГЛАВА 3
Театр был полон. Все знали, что пьеса «Женская война»[110] — сущая ерунда, но на премьере ожидали увидеть множество галантно одетых, вернее раздетых, дам из полусвета, о них уже две недели печатались в модных журналах красочные статейки; и мужчины в белых пластронах, сидя в партере, принимали горделивую осанку и смеялись в ожидании сногсшибательного аттракциона. Завсегдатаи подобных парижских зрелищ один за другим входили в партер, тревожа одних, заставляя вставать других, пробирались к своим местам, обмениваясь по пути рукопожатиями и затевая на ходу громкие разговоры, не обращая внимания на замечания: «Тихо», «Сядьте» — тех, кто пришел, чтобы смотреть спектакль, а не дам полусвета. Смело декольтированная, сверкающая драгоценностями, с шумом появилась Андреа в необыкновенном туалете. Рядом важно выступал, гордо держа лысую голову с кошачьими усами, барон де Мальтаверн, как всегда с видом несколько помятым, но все-таки представительным и надменным. Дезире Мутон, болван-миллионер, бурно ухаживавший за Андреа и старавшийся подражать своему другу Мальтаверну, выглядел весьма карикатурно. В восторге от успеха Андреа, малый гордился так, словно она была его любовницей. Казалось, он говорил: «Вот мы каковы! Все прочие дамочки с ней и отдаленно сравниться не могут!» Внимание рассеянной публики на короткое время привлекла молоденькая актриса. Она мяукала кисленьким голоском:ГЛАВА 4
Граф де Мондье представил Жермене маленькую компанию «лакированных бычков», в нее входили: виконт де Франкорвиль, маркиз де Бежен, Дезире Мутон и барон де Мальтаверн. «Бычки» были вовсе не дураки, даже Дезире Мутон был забавен со своими глупостями, когда товарищи умело превращали их в остроумную шутку, поворачивая так, будто он изрекал чепуху нарочно, ради смеха. Среди них затесался маленький репортер Лера́[114], пронырливый и хитрый как зверек, чье имя носил. Глазки-буравчики высматривали, остренький носик вынюхивал всяческие новости. Материал репортера должен был завтра произвести большое впечатление на читателей газеты, и Жан Лера торжествовал, первымполучив доступ к информации. Он не задумывался, как бы выразительней рассказать о женщине явно незаурядной, а просто, не утруждая себя мыслью и выбором слов, возносил Жермену на пьедестал недосягаемой высоты и как богине курил ей фимиам[115], пользуясь давно отработанными выражениями. В трескучих высокопарных фразах он излагал, какой интерес проявил весь парижский большой свет к прекрасной незнакомке, появившейся в литерной ложе на премьере спектакля «Женская война», и как только единственному репортеру из газеты «Эко де Бульвар» удалось узнать, кто она, и даже проникнуть в дом. Далее шло восторженное описание незнакомки, ее необычайной красоты и разнообразных способностей и талантов, включая владение гипнозом. Расточались похвалы утонченному вкусу в убранстве дома, изысканности кухни, сервировке стола, поведению прислуги и прочему. Лера́ упомянул, что многие крупные финансисты, политические деятели и художники, актеры, литераторы жаждали ее приглашения в очаровательный особняк, но только небольшая группа избранных удостоилась этой чести, и в их числе, разумеется, репортер «Эко де Бульвар». Далее он цитировал разговоры, какие прекрасная дама, носящая нежно звучащее имя Жермена, вела с группой счастливцев (то была обычная, шаблонно остроумная болтовня завсегдатаев парижских Больших Бульваров, интересная только людям, принадлежащим к их кругу), и подчеркивал, что Жермена блистала находчивостью и разнообразием познаний. Действительно, выпадая из общего тона пустоболтовства и пошлых сплетен, Жермена отличилась в беседе, поразив этим Мондье, ему открывалась совершенно новая женщина, о чьем перевоплощении граф не мог даже пофантазировать в свое время. То, что Жермена внешне столь быстро превратилась в светскую даму, не особенно удивляло. Парижане, особенно парижанки, обладают невероятной способностью приспосабливаться к среде, изумляя этим иностранцев и провинциалов. Гораздо большее впечатление на Мондье произвело то, что всего за каких-то пять месяцев бывшая девчонка-швея приобрела такой блеск в речах, причем ее фразы не отдавали заученностью, в них чувствовался оригинальный светлый ум, а также доподлинное знание всех новостей, известных только немногим. Граф непрестанно спрашивал себя: «Откуда ей это известно? Как она могла усвоить то, сведения о чем накапливаются только в результате долгой жизни в свете? Совершенно непонятно». В продолжение последнего акта спектакля он оставался около Жермены, больше чем когда-либо очарованный поистине исключительной женщиной. Он даже почти забыл о том, что Морис находится рядом с Сюзанной, и оба упиваются свиданием. И, изредка бросая на художника злые взгляды, граф тут же успокаивался, вспоминая, что незадачливому жениху недолго осталось наслаждаться счастьем, ибо он приговорен и непременно умрет на дуэли с Ги де Мальтаверном. Когда художник отправится ко Всевышнему, Сюзанна переживет большое горе, но со временем забудет свою любовь и утешится. Поэтому Мондье дал молодым людям возможность насладиться уединением и помечтать о близком соединении навек. Он переводил глаза на Жермену, та, казалось, простила прошлое, говорила удивительно откровенно и позволяла надеяться, что через какое-то время настанет их полная, интимная близость. До крайности заинтригованный невероятным превращением швеи, совершенно очарованный несравненной, таинственной женщиной, граф пребывал в глубоком волнении и уже ревновал к ней «лакированных бычков», что наперебой бурно ухаживали за красавицей. После спектакля Жермена пригласила к себе всю компанию на ужин в своем особняке. Обращаясь к Ги де Мальтаверну, она сказала: — Я видела вас с дамой, которую вы, кажется, немного забросили. — Да, это Андреа, моя старая подруга… Мы с ней уже давно живем семейно, не беспокойтесь о ней… Мой товарищ Мутон составит ей компанию, — ответил Ги развязно. — Вы приедете вместе с ней, не то мне придется быть единственной женщиной среди вас, а подобная исключительность неудобна. — Мадам, Андреа, конечно, добра, непосредственна, честна, однако совершенно проста и невоспитанна. — Не имеет значения, я хочу с ней познакомиться, и вы меня очень огорчите, если не передадите приглашения. — Исполню все по вашему желанию, мадам, но поверьте, она будет вести себя по-свински. — Передадите также приглашение вашему другу месье Мутону. На лице графа отчетливо выражалось неудовольствие. Он не мог понять, почему Жермене пришла в голову столь странная фантазия, и спрашивал себя: уж не принимает ли она Андреа за настоящую даму… Нет, это невозможно… Жермена слишком умна… Когда компания дружно объявилась, хозяйка встретила гостей в домашнем туалете, сделанном с тонким вкусом, и все единодушно выразили восхищение тем, как она преобразила убранство дома, прежде принадлежавшего Регине: все вещи в дешевом вкусе богатого фабриканта исчезли, их заменили подлинно стильными, сделанными истинными мастерами. Лера́ заранее предвкушал успех будущего репортажа, где опишет совершенно исключительный парижский интерьер, тем более интересный, если учесть, что особняк принадлежал женщине, живущей в одиночестве. «Лакированные бычки», заинтригованные не меньше, чем граф Мондье, не знали, что им думать о Жермене, к какому слою общества ее отнести. С очаровательной свободой поведения кокетки высокого полета она соединяла нечто такое, что заставляло даже самых смелых поклонников вести себя сдержанно и уважительно. Андреа совершенно растерялась. Впервые самоуверенность изменила ей и, несмотря на то, что Жермена отнеслась к Рыжей очень внимательно и по-дружески, дама полусвета не знала, как себя держать. Но хозяйка быстро, умело и деликатно сумела завоевать ее сердце и освободить от скованности. Воспользовавшись моментом, когда гости любовались ее портретом, писанным Морисом Вандолем, Жермена подошла к Андреа и сказала: — Благодарю за то, что вы пришли. И если я не могу сейчас отдать вам свой долг, я в состоянии, по крайней мере, высказать сердечную благодарность. — Мадам, я не понимаю, — сказала Андреа, совершенно смутившись. — Я не имею чести быть с вами знакомой и не могла вам оказать никакой услуги. — Оказали, и такую большую, что даже не можете себе представить! — сказала Жермена, ласково улыбнувшись. — Помните ли вы молоденьких девушек Берту и Марию, их держали взаперти… там… в ужасном подземелье? — У Лишамора… в Вале́… недалеко от Эрбле… Милые девочки… что с ними теперь?.. Вы их знаете? — Это мои сестры. — Как?.. Не может быть!.. — Да, именно так, и вам легко понять, сколь я благодарна за то, что вы, рискуя жизнью, их спасли. — Но ведь это было совершенно естественно, я не могла сделать по-иному! — У вас золотое сердце, и поэтому вы считаете пустяком доброе дело, но от этого оно не менее заслуживает благодарности. — Они были такими несчастными, такими трогательными, такими милыми, эти крошки! А потом… Ведь очень приятно помогать людям!.. — Кто знает?.. Может быть, мне еще раз придется просить вас о содействии, чтобы исправить одну жестокую несправедливость… — Мадам, вы сестра моих милых крошек и можете всегда рассчитывать на мою преданность вам!.. — Принимаю ваше предложение с благодарностью от всей души! Но молчите!.. Нигде, пожалуйста, ни слова!.. Пусть никто не знает, что мы союзницы. Их разговор прервала традиционная фраза метрдотеля[116]: — Мадам, кушать подано!ГЛАВА 5
Вступление Жермены в свет понаделало шуму. Вся пустая светская пресса уделила ей большое внимание. Если бы кому-нибудь пришла охота прочесть все, что о ней писали, он был бы поражен глупостью некоторых своих соотечественников. Но загадочность личности Жермены возросла бы во много раз, если бы кто-либо мог проследить за действиями красавицы спустя сутки после приема в особняке.Было шесть утра, оставались считанные часы до дуэли Мориса Вандоля с бароном Мальтаверном, устроенной Мондье ради убийства художника. Жермена, конечно, не знала об этом. Она вышла из дому одна. Встретив на углу экипаж, села в него. Даже близко знакомый мог усомниться, была ли вправду Жерменой эта странно одетая некрасивая женщина, похожая на проповедницу Армии спасения[117]. Старомодная шляпа с широкими полями и помятым пером имела жалкий и одновременно претенциозный вид; непромокаемое прямого покроя потертое и линялое пальто — типичная вещь, купленная за пятьдесят су в лавке старьевщика, потертая кожаная сумка с ручками, перевязанными тесемкой; стоптанные ботинки. Лицо, измененное до неузнаваемости. Прекрасные глаза прикрывались большими темными очками с металлическими дужками; волосы, уложенные так, чтобы не было видно, как они длинны и красивы. Старая вуалетка, похожая на накомарник или на сетку для ловли бабочек. В таком продуманном и искусно сделанном жалком облике Жермена вскоре выехала за пределы Парижа. На облучке сидели двое, тихо переговариваясь. Занимая в экипаже место лакеев, они не носили ливрей, по которым можно было бы определить, в чьем доме служат. Видимо, парочка заранее получила указание, куда ехать, так как, садясь, Жермена не вымолвила ни слова. Вскоре ландо с поднятым верхом свернуло на ту дорогу, по какой перепуганную и связанную девушку некогда увозил граф де Мондье. Как много времени прошло с той проклятой ночи! Сколько несчастий и страданий за ней последовало! Жермена вспоминала, и ее лицо, скрытое безобразным убором, принимало порой трагическое выражение. Проделав долгий путь по равнине, подкатили наконец к домику рыбака Могена, куда Мишель и Морис в свое время внесли спасенную ими бесчувственную Жермену. Хорошие люди, хозяева почтительно и приветливо поклонились, она ответила и смело пошла берегом реки к кабачку Лишамора. Кучер отвел лошадь в сарай, покрыл попоной и шагнул в дом вслед за хозяином. Через пять минут он показался с удочками и рыболовными припасами и отправился вместе с приехавшим на облучке товарищем вслед за Жерменой. Они выглядели заправскими рыбаками, что решили заглянуть в кабачок — пропустить стаканчик перед ловлей. Жермена, опередив их на минуту, уже разговаривала с Лишамором. — Да, месье, мне надо видеть мамашу Башю. — Но, моя киска, скажите, зачем она вам нужна. — Это секрет, что не касается мужчины. Кабатчик игриво усмехнулся и понимающе ответил: — Хорошо… хорошо… грешок молодости, и понадобилась помощь мамаши Башю. Жермена наклонила голову, будто подтверждая догадку, и проговорила: — Месье, пожалуйста, передайте, что мне сейчас, не медля, надо с ней увидеться. — Миленькая, не обижайтесь, но по вашему виду можно понять, что вы не богаты, а мамаша Башю любит денежки. — Я заплачу сколько будет надо. — А пока вы не дадите ли мне за услуги маленькую фафио[118]. — Фафио?.. Я не понимаю… — Ну пятисотфранковую купюру, если так вам больше нравится. — Хорошо. — Так давайте же! У нас платят вперед. — Держите! — ответила Жермена, доставая из сумочки синенькую. — Прекрасно, мой падший ангел! А после операции вы сможете дать столько же? Таков тариф мамаши Башю… маленький приработок. — Согласна и на это. — Вы золотко! И если вы так хорошо соображаете, хозяйка немедленно придет… Эй! Мамаша Башю, жена, зайчик мой, мой бурдючок, мой жирный пончик, скорей! Иди сюда. Несколько выпивох засмеялись, они знали репутацию Башю. Двое, приехавшие с Жерменой, не спеша попивали винцо, внимательно слушали разговор. Послышался катаральный[119] кашель «мамаши», затем явилась она сама, заплывшая жиром, бледная, с гноящимися глазами и красным носом. Лишамор шепнул ей на ходу: — Девка беременная. — А деньги у нее есть? — Есть, она уже заплатила пятьсот франков и обещала еще двадцать пять луидоров. — Тогда, муженек, поведу ее во дворец. Опытным глазом старой сводни мамаша Башю сразу заметила, что женщина скрывала под нелепым нарядом прекрасную фигуру; потом оценивающе посмотрела на ноги, кисти рук, затылок, рот, щеки и подумала: «Лакомый кусочек какого-нибудь богача… с удовольствием поработаю над ней, чтобы восстановить красотке девственность…» И старуха проговорила жирным голосом: — Пойдем со мной, красавица. Муженек сказал, что вам надо со мной поговорить о деле. — Да, мадам, притом очень важном. Они миновали двор, по нему Жермена однажды бежала, преследуемая собаками, и остановились у двери. Мамаша Башю отыскала в большой связке ключ, сказала: — Я буду показывать дорогу. Вскоре они оказались в той комнате, где тогда находился на страже Бамбош. Старуха подвинула кресло. — Устраивайся, потолкуем. Сама плюхнулась на другое сиденье в ожидании секретного разговора. При первых же словах ее жирное тело затряслось, как кусок студня. — Вы не теперь только начали заниматься подпольными абортами[120], а давно были за это судимы и осуждены; в ту пору вы назывались Бабеттой, не так ли? В первый раз вас присудили к двум годам тюрьмы… и во второй — к пяти… освободили по могущественному ходатайству знатной дамы, потом снова посадили. Все верно? — Да кто вы такая? — злобно и трусливо спросила старуха. — Я думала, вы пришли, чтобы избавиться от последствий греха… — Довольно! — прервала ее Жермена сухо. — У меня имелась единственная возможность поговорить с вами наедине, и я ею воспользовалась. А теперь только отвечайте на вопросы. — Если, конечно, захочу, моя красавица, — ответила мамаша Башю, подумав, что ей легко будет справиться с молоденькой женщиной, да еще такой хрупкой на вид. — Я тяжелая, и у меня обе руки целы, моя милочка! Жермена засмеялась, и сжав тонкой кистью жирную лапу старухи, сдавила ее как тисками. — О-ля-ля… О-ля-ля… Отпустите!.. У вас пальцы как из железа… сильнее, чем у мужчины… Вы мне раздавите руку! Отпустите!.. Я скажу все, о чем спросите! — Я так и думала, — холодно ответила Жермена, — я только хотела показать, что вы не справитесь со мной, если вздумаете бороться. Кроме того, хочу сообщить, что хорошо вас знаю, даже лучше, чем вы предполагаете. Другие ваши преступления меня не касаются, пусть они останутся на вашей совести, если вообще таковая у вас имеется. Предоставим разбираться правосудию, у него вы под наблюдением, и вас опять посадят в тюрьму, если я того захочу. — Я позову на помощь, я закричу, здесь недалеко люди, с вами запросто справятся, вы полетите в воду с гирей в двадцать кило на лапке! Нечего меня шантажировать! — Можете кричать и грозить сколько угодно. Я здесь не одна, за кабаком наблюдают мои люди. И если со мной что-нибудь случится, вас немедленно отправят куда следует. Так что прекратите болтать и отвечайте. — Чего вы, наконец, от меня хотите? — Знать, что вы сделали с Маркизеттой. — Ох, Господи! — прохрипела старуха. — И с ее двумя детьми. — Ах, Боже мой, Боже мой, — хрипела старая негодяйка и думала: «Кто мог ей рассказать? Ведь никому ничего не известно. И если я признаюсь, тот… убьет меня». — Я не знаю никакой Маркизетты… Нет, не так… Я не могу сказать… На старости лет мужа на каторгу, а меня навек в тюрьму… — Если признаетесь, я хорошо заплачу, а отмолчитесь — сегодня же окажетесь за решеткой! — Боже… Боже… — вдруг старуха перестала хныкать и прислушалась. Потом сказала: — Сюда идут… — Молчи! Тихо, — сказала Жермена повелительно. Действительно около двери послышались голоса и топот ног. Мамаша Башю сидела притихшая, как животное, почуявшее гнев хозяина. Жермена подошла к зарешеченному окошку с дощатой задвижкой, приложила ухо и прислушалась. Некоторые слова доносились отчетливо. Говоривших было не меньше трех. Один сказал: — То, что вы предлагаете, сделать очень трудно, чтобы не сказать — невозможно… Будут секунданты, доктор… Другой ответил: — Дорогой Ги, когда я берусь за дело, то предусматриваю решительно все. Если захотите мне повиноваться, человек умрет без всякой опасности для вас. Жермена поняла, что в проклятом месте замышляется убийство и о нем не стесняясь договариваются. Она сказала мамаше Башю: — Пять тысяч франков за полное молчание, или каторга мужу, а вам — пожизненная тюрьма, если сболтнете хоть слово! — Буду нема как рыба, — ответила напуганная преступница. Жермена потихоньку открыла заслонку форточки. Около двери действительно стояли трое. Один из них был неизвестен девушке, но когда она разглядела других, то чуть не вскрикнула. То были Ги де Мальтаверн, которого накануне ей представил в театре Мондье, и виконт де Шамбое, подозрительный тип, не внушавший ей доверия после путешествия в Италию. Ги де Мальтавер заговорил опять: — Наконец, дядюшка, объясните, что вы задумали. — Все очень просто уладится, дорогой Ги. В голосе, без сомнения измененном, Жермена уловила знакомые интонации Мондье, и это ввергло ее в еще больший ужас. Тот, кого Мальтаверн назвал дядюшкой, по виду совершенно не походил на графа, но голос, голос… Она вслушивалась, стараясь не пропустить ничего, явно замышлялось что-то подлое и страшное. Дядюшка продолжал: — Ваш противник, Ги, через пять минут будет здесь, один. Чтобы не беспокоить мать, он поехал поездом, взяв этюдник, так, будто намерен писать этюд. Секундант и доктор должны прибыть в ландо к двери кабака, но кучер у них — мой человек, и он опрокинет экипаж в версте отсюда. Пока они доберутся пешком, дело будет уже сделано. — Это, конечно, ловко придумано, но тем не менее дуэль-то состоится. — Для вас никакой опасности она не представит. Я беру на себя подменить пистолет. Я выбрал именно его, потому что на шпагах художник прекрасно умеет драться. Да со шпагой и не смухлюешь. Жермена нестерпимо волновалась, продолжая слушать. Она сообразила, что Ги де Мальтаверн, сразу ей очень не понравившийся, был тот, кто ранил Мишеля. Дядюшка продолжал: — Пистолеты стану заряжать я. В одном будут и пуля и порох, в другом только порох. Я умею очень ловко убирать пулю в последний момент. Вам я, естественно, подам заряженный, а противнику — холостой, и вы сможете с полной гарантией вышибить мозги тому, кто мне очень мешает. Вот и все. — Отлично, дядюшка! Вы действительно умнейший и опытный человек. — Тихо! Сюда идут. Это он. Молодой человек, скромно одетый в черное, подходил в сопровождении Лишамора, красного от спозаранок выпитого вина. Приезжий поклонился и казался удивленным, увидав лишь троих, тогда как полагалось быть по меньшей мере шестерым. Жермена едва не упала в обморок, узнав Мориса Вандоля. Друг, который ее спас… Жених Сюзанны!.. Морис, кому Мондье, в обличье весьма подозрительном, готовил убийство! Этому преступлению не бывать! Она не допустит, даже если придется броситься между ними, чтобы спасти друга. Лишамор скромно удалился. Дядюшка, видя явное замешательство Вандоля, с любезной улыбкой сказал: — Поскольку ваши секунданты еще не прибыли, чем поставили нас в неловкое положение, позвольте же мне слегка нарушить дуэльный кодекс[121]. Мы честные противники и не должны оставлять в затруднении хорошо воспитанного человека. Позвольте представиться: месье Тьери, банкир в Париже, с виконтом де Шамбое, мы оба — секунданты месье Мальтаверна. Обходительность, деликатно-любезное предложение подкупили Мориса. — Вы, право, весьма предупредительны, месье Тьери. Вероятно, с моими секундантами действительно что-то произошло в пути, иначе они бы не опоздали, прошу за них извинения. — Не беда, подождем еще полчаса, если надо, а пока можем побеседовать о посторонних предметах. Я даже рад, что благодаря случаю могу пообщаться со знаменитым художником. «Негодяй! Играет с ним как кошка с мышью, — подумала Жермена. — Что же мне делать?.. Господи! Научи меня! Помоги мне!» Время шло. Положение Мориса становилось все более двусмысленным, он нервничал, особенно потому, что замечал насмешливую улыбку на губах противника. Наконец, не выдержав, Вандоль обратился к мнимому Тьери: — Честное слово, месье, если мы уже нарушили правила, можно, пожалуй, согрешить и во второй раз; я всецело доверяю вашей порядочности и предлагаю: вы будете руководить всем поединком, я, следовательно, обхожусь без секундантов, а месье де Шамбое станет ассистировать месье де Мальтаверну, если, конечно, оба не возражают против этого… Мальтаверн слегка поклонился в знак согласия, а Мондье незаметно хитро взглянул на него, как бы желая сказать: «Видишь, он сам лезет в петлю». — Охотно принимаю предложение и постараюсь быть достойным вашего доверия, — ответил будущий убийца. Жермена видела и слышала все, время шло со страшной быстротой, она не знала, на что решиться, и с ужасом думала: как может Морис проявлять подобное легкомыслие, ведь ему даже при наличии всех свидетелей уготована верная смерть, а он еще облегчает противникам совершение преступления. Мамаша Башю дремала, сидя в кресле, она прикидывала, что пять тысяч франков — сумма, за какую можно и послужить Жермене, чтобы потом ее же и предать. Дядюшка, по-видимому, действовал по всем правилам; подготавливая поединок, он подчеркнуто старательно отмерил шагами расстояние; доставая ящик с пистолетами, предложил всем убедиться, что они совершенно новые, не бывшие в употреблении и, следовательно, незнакомые противнику… Но, заряжая, он, как обещал своим, заложил в один ствол настоящую пулю, а в другой — фальшивую, совершенно безопасную. Кроме того, места противников он как положено разыграл, подбросив вверх монетку, и Морису выпало стоять против солнца, что тоже могло быть сделано с помощью ловкости рук. Молодой человек спокойно ждал, когда подадут оружие. Дядюшка положил оба пистолета рядом и вручил «не выбирая». Теперь дядюшка и Бамбош отошли в сторону и ждали, когда противники займут места. Жермена в отчаянии, не зная, что ей делать, следила за приготовлениями к убийству. Спасти Мориса могло только чудо! Увидев, что противники заняли позиции, дядюшка спросил: — Господа, вы готовы? — Да, — ответили Морис и барон де Мальтаверн. На дуэли старший подает сигнал начала, произнеся: «огонь» и затем отсчитывает — «раз», «два», «три»! Сражающиеся спускают курки после команды и не позднее, чем прозвучит «три». Удача, следовательно, зависит от быстроты прицеливания. Жермена знала все это, она подумала в порыве страха и гнева: «Этому не бывать! Поможет только чудо, и его совершу я!» Она выхватила из сумочки пистолет, судорожно зарядила, просунула дуло между прутьями решетки и прицелилась в голову Ги де Мальтаверна. Его голова четко вырисовывалась на фоне темно-зеленого кустарника. — Огонь! — скомандовал дядюшка. Противники враз подняли пистолеты. — Один!.. — произнес торжествующий «дядюшка» — Мондье, и сердце его билось, он представлял, как через минуту навсегда избавится от того, кого называл пачкуном холстов и мазилой. Но вдруг граф увидел, что барон де Мальтаверн, вытянув вперед руки, шагнул, потом отступил, пошатнулся и упал навзничь. Жермена выстрелила, и меткость ей не изменила. Прежде чем дядюшка и Бамбош успели подбежать к барону, думая, что его хватил апоплексический удар[122], Жермена, мертвенно-бледная под вуалью, мчалась к ошеломленному Морису. Никто не услыхал беззвучного выстрела из маленького пистолета. Внимание врагов было поглощено происшествием, оно заняло какие-нибудь три секунды. Ги с пулей в виске дергался в последних судорогах. Жермена бежала к Морису, думая: «Я убила человека!.. Господи, прости мне!» Морис стоял в оцепенении, уронив пистолет. Художник окончательно растерялся, услышав голос незнакомой женщины, та говорила торопясь и задыхаясь: — Я — Жермена!.. Следуй за мной!.. Бежим!.. Эти люди — бандиты!.. Они готовили твое убийство… Я все слышала… Идем!.. Скорей! Девушка схватила Мориса за руку и почти насильно потащила к кабачку. В это время Бамбош и дядюшка поднимали Ги и старались понять, что случилось, пока наконец не увидели дырочку на виске, чуть повыше левого глаза. Прежде чем два бандита успели подумать о преследовании Мориса и неизвестной женщины, те пробежали мимо кабачка на дорогу; двое рыбаков, приехавших с Жерменой, последовали за ними, и все четверо сели в экипаж возле дома Могена. Пара коней понеслась бешеным аллюром.
ГЛАВА 6
— Проклятье! Мы биты! — воскликнул Бамбош в бешенстве, видя, что Морис, неизвестная женщина и с ними двое мужчин скрылись. — Да, разбиты наголову! — сказал дядюшка, весь бледный от злости. — Все придется начинать сначала, а проклятый мазила наверняка избавился от дурацкой доверчивости. Да еще этот мертвец у нас на руках! — Лежит и лапками не шевелит, — добавил Бамбош. — Отдал концы, — подтвердил дядюшка. — Отдать-то отдал, а куда мы его уберем? — спросил подручный. — Заявим, что умер от апоплексического удара. Стерва, которая его хлопнула, не пойдет хвастать своим подвигом. — Гм, это все-таки не очень просто! — Ладно, увидишь. Они подняли труп — один за ноги, другой — за голову, и перенесли в комнату, откуда в первый раз убежала Жермена. Мамаша Башю сидела там в кресле, трясясь от страха. — Какого черта ты здесь делала, полудохлая ослица, и что это за женщина отсюда выбежала? — заорал дядюшка. — Господи Иисусе!.. Вовсе не знаю! — Врешь! — Умереть на месте, если вру! Она пришла, чтобы я помогла… избавиться… и наговорила такое… что… волосы стали дыбом… — Ну рассказывай! Да готовь скорей постель, чтоб мертвеца положить! — О! Если б вы знали… Я чуть не умерла… У меня все внутри перевернулось… — Будешь ты дело говорить? Черт возьми! — Вот, она спросила, что я сделала с Маркизеттой и ее двумя малышами. — Что-о-о-о… — прохрипел дядюшка страшно, и Бамбош содрогнулся. Сказанное мамашей Башю столь взволновало дядюшку, что он даже выпустил из рук голову покойника и она с глухим стуком ударилась об пол. — Не разбейте мертвеца, не то его будет трудно замаскировать под умершего от апоплексии! — цинично заметил Бамбош. — Маркизетта… — бормотал дядюшка, стараясь успокоиться. — И ты не пырнула ножом, не позвала на помощь? Мы были здесь и с девкой или бабенкой мигом покончили бы! — Я пробовала… Куда там… Она такая сильная. Крепче мужика! А потом стерва знает все мои истории, грозила упечь под суд… — Ладно… Мы ее достанем… И тогда горе ей! Но всему свое время, займемся более срочным делом. Успокоившись, по крайней мере наружно, Мондье с помощью Бамбоша уложил мертвеца на кровать. Осмотрев более внимательно рану, он воскликнул: — Да он укокошен из револьвера системы «Флобер» Это оружие необычайной убойной силы. Обернувшись к мамаше Башю, граф спросил: — Видела, кто стрелял? — Женщина! Она глядела в форточку совсем как сумасшедшая… Достала малюсенький пистолетик… игрушка… Он тихонько щелкнул… Я и думать не могла, что из него можно убить человека… «Револьвер системы «Флобер», женщина сильнее мужчины… Не она ли это?» — подумал дядюшка. — Скажи-ка, мамаша… безобразно одетая женщина была красива? — Прямо душка!.. Ручки… ножки… ротик… такие… Кого хочешь разожгут… — Ты видела ее раньше? — Не могу сказать… У меня их столько перебывало… Мне показалось, что девчонке было не больше восемнадцати. — Слышала когда-нибудь прежде ее голос? — А кто ж знает… Может быть… Дядюшка продолжал, как будто рассуждая сам с собой: — Это она!.. Это может быть только она!.. Жермене известна ужасная тайна!.. Она в последнее время принимала меня дружески… Заманивала в сети… Если это правда, горе ей! Я могу быть слабым, как дитя… Но такая тайна в руках женщины… Хочет отомстить за себя… Невозможно… Жермена, я ее обожал… Надо пожертвовать… Она должна исчезнуть! — В добрый час! — насмешливо прервал Бамбош. — Вы говорите наконец как мужчина. Этой бабенции давно место в яме. Сколько глупостей вы из-за нее уже сделали! Дядюшка судорожно провел рукой по лбу, стирая капли пота, и подошел к трупу. Обмыл ранку, осушил с помощью платка, влил в отверстие несколько капель со свечи. Стеарин быстро застыл и на поверхности слился по цвету с окраской кожи, так что след пули стал совершенно незаметным. «Черт побери! — думал Бамбош. — Этого человека ничто не застанет врасплох! Одно несчастье, что так гоняется за юбкой, уверен, он из-за этого еще понаделает глупостей!» Чтобы совершенно скрыть отверстие в голове мертвеца, дядюшка сдвинул на него маленькую прядь волос с виска и прилепил опять же стеарином. Теперь можно было быть уверенным, что врач, вызванный для удостоверения факта смерти, даст заключение: умер от апоплексического удара. Оставив тело барона на попечение мамаши Башю, дядюшка вместе с Бамбошем отправился в Эрбле заявить о несчастном случае, вследствие которого компания «лакированных бычков» лишилась президента. Хладнокровие вернулось к Мондье. Он известил мэра о несчастье, произошедшем на территории, находящейся под его началом, сказав, что едет хлопотать о перевозке тела и погребении несчастного друга. Граф вернулся к себе и подсказками Бамбоша составил за пятнадцать минут сообщение для прессы о скоропостижной кончине барона де Мальтаверна. Затем послал отнести это сочинение к Жану Лера́ в собственные руки, чтобы дать тому возможность первому воспользоваться сенсационной новостью: с крысоподобным репортером следовало на всякий случай поддерживать хорошие отношения. Месье Тьери, банкир, дядюшка, как звали его дамочки из полусвета, вошел в дом на улице Виктуар, а из особнячка на улице Жобер, соединенного потайным ходом с предыдущим, появился вскоре граф де Мондье. Сев в наемный экипаж, он поехал к себе и подоспел точно к завтраку. Сюзанна подбежала к отцу, горя́ нетерпением поговорить о Морисе и о их близкой свадьбе. Граф рассеянно слушал, поглощенный мыслями о произошедшем утром, и торопливо ел. Наконец, не выдержав милой болтовни дочери, которую обычно с удовольствием слушал, он резким тоном попросил не вести разговоров об этом. — Отец! От вас ли я слышу такие слова? — воскликнула Сюзанна, глубоко огорченная холодной суровостью в ответ на ее сердечные излияния. — Чего ты хочешь? Мне неприятен ваш союз, я согласился против своего желания. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Мондье совершенно не думал о том, как огорчил дочь. Он второпях завтракал, поглощенный мыслью: «Моя тайна в руках женщины… Она не может быть никем иным, кроме Жермены… Но я должен знать точно… Если она… смогу ли я ею пожертвовать?»ГЛАВА 7
Несмотря на испытанную храбрость и хладнокровие, Морис панически бежал вслед за незнакомой женщиной. Он почти бессознательно последовал за этой странной особой трагического вида, твердившей хриплым прерывистым голосом: — Идите, ну идите же! Молодой человек пытался протестовать, говоря: — Что обо мне подумают!.. Человек мертв… Я буду считаться соучастником убийства… И слышал в ответ: — Считаете, что надо было стать его жертвой?.. Скорее… бежим… время не ждет… Он повиновался, не веря тому, что его спасительница — Жермена, не узнавал ни ее лица, ни манер, ни голоса. Уже когда лошади несли их галопом к Парижу, спутница сняла вуаль и темные очки и, все еще волнуясь, спросила: — Морис! Мой друг! Узнаете ли вы меня наконец? — Жермена! Сестра моя! Скажите, что произошло… Я совсем потерял голову! Мой противник убит вами… — Да! Иначе было нельзя. Я подслушивала и подглядывала… Ваш пистолет не был заряжен… Вашим секундантам помешали приехать вовремя… Вас должны были попросту убить. Все было очень хитро подстроено. Только чудо, ниспосланное свыше, могло вас спасти. Я не могла полагаться на случай, когда оставалась минута до вашей гибели. — Но каким образом вы очутились там? — Скажу позднее… Сейчас не расспрашивайте… Надо еще кое-что разузнать… — Но почему все-таки этим людям требовалось меня уничтожить? — Почему негодяй, что спровоцировал вас на дуэль, чуть не прикончил в свое время моего бедного Мишеля? Этот ваш дуэльный противник действовал всего лишь как наемный убийца, я в этом уверена. — Но ради чего было лишать жизни меня, незаметного художника, далекого от каких бы то ни было интриг, коммерческих операций, любовных историй? — Вы любите Сюзанну де Мондье, и она любит вас. — Но ведь ее отец согласился на наш брак, и я не вижу причины… Какое отношение к этому имеет дуэль? — Ее спровоцировали по приказу графа Мондье, лицемера и негодяя… Не удивились ли вы, почему мне удалось так быстро получить его благословение? Почему, отказав само́й дочери, он не отверг моей просьбы насчет вашей женитьбы? — Нет, не пришло в голову. — Эгоизм счастливого человека не позволил вам удивиться тому, как странно это неожиданное решение. Не вызвало у вас никаких сомнений и то, почему граф Мондье вдруг разрешил брак своей дочери с человеком, которого он терпеть не может, и сделал это всего лишь после двух часов пребывания в театре по просьбе неизвестной ему, чужой женщины?! — Вы правы, Жермена, доводы, что вы ему приводили, действительно должны были быть неоспоримыми для такой перемены его позиции. — Да, неоспоримыми, — сказала Жермена, грустно улыбнувшись. — Только с вами, Морис, я могу говорить о страшных днях, воспоминания о которых то и дело всплывают перед моей памятью, как грязная вода в болоте. Вам я так многим обязана! — Прошу вас! Не говорите! Не надо! Помолчите! — воскликнул Морис, испуганный взволнованностью женщины и боясь услышать о чем-нибудь ужасном. — Все равно, немногим раньше, немногим позже вы должны об этом узнать. Мерзавец, что обесчестил меня в этом доме преступлений, бандит, от кого я бежала, преследуемая собаками, и бросилась топиться, ища в смерти избавления от позора, этот мерзавец был граф де Мондье, отец вашей Сюзанны! Теперь вам все понятно? — О! — воскликнул сраженный Морис. — Но это еще не все… В глазах света это пустяки… всего-навсего немного грубый способ заставить себя любить. Люди воспринимают такую настойчивость снисходительно. — Жермена, умоляю вас!.. — Я начала, и вы должны узнать — не одна я стала его жертвой… Человек, что столь легко обходится с честью женщин… к жизни мужчин относится с еще большим цинизмом. Это личность совершенно бессовестная, чему я имею достаточно много почти несомненных доказательств. — Ужасно!.. И Сюзанна… Бедная Сюзанна!.. Дочь такого чудовища! — Да! Воистину чудовища, и я не уверена, что ей самой ничто не угрожает от него. — Но даже дикие звери не трогают своих детенышей! — Однако дочь ли она ему? — Что вы хотите сказать?! — У меня есть сомнения на этот счет, и нужно некоторое время, чтобы узнать наверняка. Тогда на счету графа прибавилось бы еще одно преступление. — Сюзанна! Но по закону он все равно ее отец. — Может быть, она дочь ему и по крови… Но я должна обо всем проведать досконально. Для этого-то я и приезжала говорить с отвратительной старухой, называемой мамашей Башю, содержательницей притона. Но пока что бы ни было, а Сюзанна не в безопасности у себя дома. — Это ужасно! — У меня есть основания так думать. — Что же мне делать, Жермена? Посоветуйте! — У вас имеется только одно средство, и надо проявить решительность и использовать его. — Какое же? — Похитить Сюзанну! — Боже, что вы говорите, Жермена?! — Может быть, вас удерживают глупые предрассудки, существующие в так называемом свете? — Нет, конечно. — Я знаю, что это наделает много шуму в стоячем болоте, называемом светским обществом: дочь графа Мондье похищена художником! — Это — пускай! Лишь бы Сюзанна осталась жива! Но согласится ли она? — Надеюсь, Морис, иначе она оказалась бы недостойна вас. — Но вы же сами сказали: свет… с его предрассудками… — Если Сюзанна любит вас так, как вы того заслуживаете, — она пойдет на это. Послушайте моего совета, Морис, и действуйте решительно, ведь только от вашей предприимчивости, энергии, отваги зависит счастье вас обоих. — Принимаю ваш совет, Жермена. — Я предоставлю убежище для похищенной, она будет в полной безопасности, и никакой враг ее не найдет; там она встретит людей, что защитят беглянку от всех и от всего. — Дорогая Жермена, как мы будем в очередной раз вам признательны, ведь вы уже и так много для нас сделали! — Не благодарите меня и действуйте немедля. А ваши враги пусть распутывают дело со смертью Мальтаверна. Они отыщут способ придать естественный вид этой кончине, и вас из-за нее никто не потревожит. Вот увидите. Когда въедем в Париж, я высажу вас на бульваре. Мне надо остаться одной и вам тоже, чтобы обдумать, каким образом спасти невесту. А если вдобавок… Если она действительно дочь Мондье, это станет началом моего возмездия… Но если граф не является ее родителем, то все равно его гордость и денежные интересы получат жестокий удар.Едва закончив завтрак, Мондье, озабоченный, нервный, встревоженный, покинул дом и, чтобы убить время, пошел к Жермене пешком. Страстное желание обладать ею дошло до предела, и граф неотступно думал о новом насилии. Почему бы и нет? Теперь Жермена богатая, живущая на широкую ногу, привыкшая к светской жизни, сдастся ему скорее, чем когда была простушкой-швеей. Но сначала надо узнать тайну источника ее богатства, его размеры, определить новое общественное положение Жермены, с помощью интриг проникнуть в тайну, какой она себя окутала. Для этого надо окружить ее самыми ловкими шпионами и в первую очередь обеспечить себе союзников из числа ее прислуги. Все элементарно, и Мондье удивлялся тому, что до сих пор об этом не задумался.
Впервые Жермена приняла его не в гостиной, а в будуаре и проявила что-то вроде дружеского расположения, но это не обрадовало, а почему-то насторожило гостя, хотя на первый взгляд в поведении женщины не замечалось никакой неестественности, ничто не давало поводов к подозрениям или надеждам. Очень спокойная, с ясными глазами, как будто хорошо отдохнувшая, хозяйка дома занималась разборкой бумаг, разложенных на столике. Когда граф вошел, Жермена собирала листки в стопку и уже при посетителе, извинившись, быстро распределила документы (или письма?) по аккуратным папкам, на каждой стояли номера и заголовки; она тщательно перевязала кипу тесьмой. После обмена обычными любезностями граф высказал вежливое удивление тем, что Жермена занималась делом необычным для светской женщины. — Вероятно, — как бы вскользь спросил он, — приводила в порядок какие-то деловые бумаги, полученные из государственных учреждений? — Права на собственность, — небрежно сказала Жермена, — закладные, описи имущества… Надо содержать денежные дела в порядке. — Вам очень идет это занятие, — сказал рассеянно Мондье, искоса поглядывая на одну папку и стараясь прочесть написанное на обложке. Продолжая болтать, он все-таки исхитрился разобрать заглавное «Б» вначале и два «т» в конце и почти сразу вспомнил — возможно, некстати, — что старуха Башю прежде звалась Бабеттой. Догадка, похоже, оказалась правильной: в том же тексте заголовка отчетливо проглядывалось имя Башю. Следовало предположить, что в папке содержались какие-то бумаги об этой гнусной даже на взгляд графа личности. Но что это были за документы? Может быть, копии полицейских донесений, что иногда выдаются заинтересованным в деле частным лицам? Встревоженный Мондье сделал ничем пока не обоснованный вывод: похоже, что женщина, выспрашивавшая сегодня утром мамашу Башю, убившая Мальтаверна и спасшая Мориса Вандоля, была Жермена?! Проклятье!.. Просто невероятно! И у нее в руках, возможно, находились какие-то опасные для него документы! Продолжая спокойно беседовать, граф сосредоточился и насторожился. Жермена не догадывалась о его мыслях и не понимала, какую неосторожность проявила, вовремя не убрав со стола папки. Девушка слушала и старалась сопоставить интонации Мондье с речью того, кого называли дядюшкой, и упорно думала, действительно ли это одно лицо. Как соперники на поединке, они изучали друг друга, прежде чем броситься в решительный бои. — Значит, вы теперь богаты, дорогая Жермена, — сказал граф, словно заметив это впервые. — Не столь, как предполагают некоторые. Просто живу в достатке при полной независимости. — Это уже кое-что! Судя по тому, в каком порядке содержатся у вас бумаги, вы не бросаете деньги на ветер. Но скажите, пожалуйста, Жермена, ведь вы владеете состоянием недавно… От кого вы его получили? Если это, конечно, не секрет. — А как бы вы считали? Разумеется, секрет. Вы-то разве болтаете всюду об источниках своих доходов?.. — Извините, я допустил бестактность. К этому секрету я отношусь с уважением, как ко всему, что касается вас. Жермена встала, взяла наконец связку бумаг, положила в сейф, заперла его и опустила ключ в карман. — Вы не боитесь воров? — спросил, улыбаясь, граф. — Нисколько! Во-первых, это не ценные бумаги, а во-вторых, как вы понимаете, сейф запирается так, что ни один вор его не вскроет. — Пфэ! По рекламе: несгораемый, неразрушаемый. И Мондье подумал: «Мне позарез нужны эти папки, в них почти наверняка материал о мамаше Башю, и если Жермене известно о Маркизетте и в бумагах содержатся сведения о ней… Тогда горе Жермене! Я ею пожертвую!..» Вслух он сказал: — Вы сегодня прекрасны как никогда! — Опять мадригал![123] — сказала девушка, и прозвенел тот очаровательный смех, что всегда приводил графа в замешательство. — А о чем я могу говорить в присутствии такой прелестной женщины, как вы, если не о том, как она великолепна? Но я хотел бы побеседовать с вами, Жермена, и я буду искренен! — Значит, станете лгать. — Я никогда не лгу! — сказал граф с прекрасно разыгранной честностью в голосе и на лице. — Лгать женщинам не идет в счет, так ведь полагают мужчины? — Простите, не могу понять, как вы сумели стать законченной светской дамой за такое короткое время? — Вы высоко меня цените! Спасибо. Но… это тоже секрет! — Скажите, по крайней мере, вы замужем или у вас появился друг! Свободны ли вы в своих действиях, и свободно ли ваше сердце? — Все это, более чем что-либо другое, — мой секрет! — Откроется ли он для меня когда-нибудь позже? — Может быть, если вам будет еще интересно. — Вы приводите меня в отчаяние, Жермена! — А вы очень нескромны, граф! — Я вас люблю! — Опять за свое! — Всегда буду повторять! Увижу ли я вас завтра? — Нет. — Почему? — Просто я завтра не принимаю. Не хочу. — Вы, должно быть, очень скучаете в одиночестве… — Почему вы думаете, что я живу одна? — Не знаю… по всем признакам… — Признаки бывают иногда обманчивы, — сказала она и, посмотрев на часы, добавила: — Время поторапливает, придется просить вас покинуть меня… Дела после полудня… До свиданья, граф! — До свиданья, Жермена! Когда Мондье вышел во двор, он увидел готовый к отъезду экипаж. Что ж, вполне возможно для начала проследить за Жерменой самому, прежде чем поручать это наемному шпику. Граф сел в первую попавшуюся карету и велел кучеру ждать, пока ландо не выедет из ворот особняка, а потом держаться не отставая. Он терпел больше получаса и уже начал терять надежду, подумав, что обманут, но ворота наконец открылись и Мондье успел увидеть за дверцей повозки головку Жермены. Упряжка рванула с места. Нанятый извозчик хлестнул свою лошадку, и она резко потрусила вслед убегавшему ландо. Через четверть часа Жермена подъехала к вокзалу Сен-Лазар и взяла билет. Когда она прошла в зал ожидания, граф наугад оплатил проезд до Нанси во втором классе. Он издали увидел, как Жермена села в вагон первого разряда. В пути Мондье, расположившись у окна, наблюдал за выходившими на остановках пассажирами, Жермена не появлялась, и он думал: «Куда все-таки она едет?» В три пятьдесят поезд остановился на станции Мезон-Лаффит, Жермена вышла и тут же пересела в ожидавший ее экипаж. Граф попытался расспросить железнодорожных служащих, но никто не мог ничего сказать об этой женщине. Мондье возвратился в Париж и сразу начал действовать. Он призвал верных слуг Пьера и Лорана и провел тайное совещание. В шесть вечера прибыл Бамбош, чтобы получить распоряжения, прежде чем уйти куда-нибудь вечером. Мондье сказал: — Вечером ты нужен. Будет дело, и ты получишь хороший урок кражи со взломом. Пьер и Лоран пойдут с тобой, я тоже буду… Встретимся здесь в десять.
ГЛАВА 8
Предчувствие подсказывало графу, что Жермена сегодня не ночует дома. Неудача на станции Мезон-Лаффит полностью компенсировалась уверенностью, что парижская квартира Жермены даст много необходимого. — Не было бы счастья, да несчастье помогло, — иронически заметил Мондье. — Я потерял след, но зато смогу ночью частично раскрыть ее знаменитый секрет. И скоро узнаю, куда она ездит. Надо только проявить настойчивость. Он явился к десяти в одну из своих резиденций на улицу Виктуар, там ждали Лоран, ныне швейцар, в прошлом кучер Бамбоша в Италии, и сам Бамбош. — А Пьер не пойдет, значит? — развязно спросил прохвост графа. — Он наблюдал за тем домом. Увидев, что граф одет в элегантный костюм, Бамбош спросил: — Можно ли полюбопытствовать, патрон, почему вы никак не замаскировались? — Я нарочно остался и по виду джентльменом. Я имею доступ в этот дом и помогу вам бежать в случае надобности. Итак, все готово. Лоран, ты получил инструкцию? — Да, хозяин, а Пьер отправился на место с заданием. — Двинемся каждый своей дорогой: ты, Лоран с Бамбошем по улице Жубер, а я — по улице Виктуар… Подойдя с разных сторон на улицу Элер, они увидели, что почти у дома стоит коляска. Из нее выпрыгнул человек в униформе посыльного и тихо сказал графу: — Она не возвратилась, кучер и выездной не знаю где, горничная спит. Словом, кроме швейцара, челяди можно не опасаться, она вся живет в отдельном помещении. — Хорошо, — сказал граф. — А при тебе письмо, которое я дал? И ты взял букет роз? — Да, хозяин. — Сейчас отпустишь экипаж, кучер — наш человек? — Да, хозяин, это Гренгале. Но если позволите, я скажу ему, чтобы он ждал немного подальше от дома. Транспорт может пригодиться. — Как знаешь. А теперь иди к швейцару, отдай ему розы и письмо, приложи к ним пять луидоров и говори с ним громко, будто ты немного пьян, а мы тем временем потихоньку войдем. Недавно пробило одиннадцать, швейцар незадолго перед тем лег и крепко спал. Все огни были погашены, было ясно, что хозяйки нет и ее не ждут. Все получилось даже лучше, чем предполагал граф. Швейцар спросонья машинально дернул за шнурок и дверь открылась. Пьер вручил служителю розы с письмом для владелицы особняка и пять луидоров чаевых, сказав: — Держи, друг, видать, твоя хозяйка — красавица из красавиц, раз ей подносят букеты за триста франков… Понюхай, как пахнут! Швейцар сперва заворчал, возмущаясь, зачем разбудили, но, получив крупную мзду, успокоился, приветливо заговорил с Пьером и в конце концов они опрокинули по стаканчику. Когда Пьер уходил, швейцар спросил: — А вы найдете дверь? — Еще не так пьян, найду. Во время их беседы граф, Бамбош и Лоран проскользнули через входные ворота, прошли через двор, крыльцо и прихожую, в глубине ее парадная лестница вела в комнаты первого этажа. В передней немного подождали Пьера, ему граф заранее объяснил расположение помещений. Входная калитка сильно хлопнула. — Удалось ли ему пройти? — встревожился граф. Но вскоре в полутьме показался силуэт Пьера. — Вот и я, хозяин, все в порядке. — Как ты пробрался? — Очень просто, побеседовал с швейцаром, выпили малость, он даже не пошел провожать, я хлопнул калиткой, но вместо того, чтобы выходить, остался внутри. — Отлично! А теперь за мной, и начнем работу. Очень осторожно поднялись по лестнице, шаги заглушал толстый ковер. Около двери гостиной граф взял из рук Лорана электрический фонарик, чтобы освещать дальнейший путь. Крадучись, они пробрались в будуар, где находился сейф. — Вот откуда непременно надо достать содержимое, — сказал граф. — Сумеете открыть или придется взламывать? Лоран взял фонарик и осмотрел со всех сторон сейф; он был велик, со шкаф, и целиком металлический. — С помощью циркулярной пилы[124] можно проделать отверстие, такое, чтобы проходила рука, — сказал Лоран. — Можно, конечно, пила возьмет, сейф не литой, всего только из стального листа. Глупые же эти богачи, не в обиду вам будь сказано, хозяин. Они доверяют всяким мошенникам, а те заменяют литье листом, — сказал Пьер. — Вы за то, чтобы пропилить? — Нет. Я хочу, чтобы шкаф остался цел. — Тогда нам с Лораном потребуется четыре часа и мы все-таки можем чуть-чуть нашуметь. Бамбош с интересом слушал разговор и думал, каким образом его товарищам удастся отворить этот огромный ящик, казавшийся непосвященному совершенно надежным. — У нас нет столько времени, но все-таки попробуйте открыть, ведь взломать всегда успеется. — Попытаемся сначала отпереть, — сказал Лоран. Прощупав разными воровскими инструментами замок, Пьер, к своему великому изумлению, убедился, что он заперт не секретным способом, а просто на два оборота ключа. — Все в порядке, через десять минут дверка распахнется, — сказал Пьер, а граф подумал: «Как странно… предусмотрительная женщина, и вдруг такая оплошность. Во всяком случае, не мне об этом жалеть». Пьер повозился немного, запор дважды щелкнул, и ворюга сказал: — Готово! Любой ученик мог бы справиться. — Наконец-то! Дети мои, вы получите хорошее вознаграждение! — Минуточку, хозяин, надо еще язычок поднять… Пьер отступил на шаг, чтобы дать сейфу открыться. Снова послышался щелчок, дверка резко откинулась в сторону, но одновременно под ногой Пьера быстро опустилась паркетина и нога мастера очутилась в капкане. — Черт! А-а-а! Дьявол! — Что с тобой? — Встревоженный граф осветил фонариком пол. — Проклятая баба… Не заперла на секретный замок… Вовсе не дура… Графа пробрала дрожь, когда он увидел ловушку. Мондье подумал, что мог бы сам сейчас в ней оказаться. — Очень больно, Пьер? — спросил он верного слугу. — Как всякому, у кого нога попала в стальные зубы. Они впились до самой кости… Не бойтесь… Я не буду кричать… Делайте дело, хозяин… Я потерплю… Ведь вы недолго… Бамбош, белый от страха, подошел вместе с Лораном к Пьеру. Граф в это время лихорадочно перебирал бумаги Жермены, он узнал нужную папку и прочел то, о чем догадывался в прошлый раз: «Донесение по делу гражданки Башю, прозванной Бабетта». Исходя бешеной злостью, Мондье читал листы, исписанные красивым канцелярским почерком. Он читал, забыв о страдании своего подручного, и думал с ужасом: «Ей известно все! И у нее хватает самообладания быть со мной приветливой… улыбаться мне… почти давать мне надежду… Я бы пропал… пропал безвозвратно, если бы не заметил тогда в надписи букв, возбудивших мое подозрение. О Жермена! Жермена!.. Что за женщина!» В это время Пьер с помощью Бамбоша и Лорана старался высвободить ногу. Напрасные усилия, челюсти капкана не поддавались, напротив, сжимались все сильнее, и боль становилась невыносимой. Несмотря на необыкновенную силу воли и терпеливость, грабитель временами почти терял сознание. Весь в поту, он скрежетал зубами так, будто жевал стекло. Граф продолжал читать. Он понял, что попался, схвачен, пойман женщиной, в кого безумно влюблен и кто отомстит, если он не сумеет с ней справиться. С чувством стыда оттого, что его так провела женщина, соединялась неуемная злоба и ужас при мысли о том, как богатство и положение в обществе, добытые дорогой и страшной ценой, рушатся необратимо. Он думал: «Убить ее?.. Умрет зверь — умрет и его яд… Проклятая любовь, что сводит меня с ума… Хватит ли у меня мужества для этого? Не лучше ли устроить так, чтобы она осталась жива, но больше не могла мне вредить?» Пьер не выдержал наконец и начал тихо стонать. — Замолчи! — зашипел на него граф. — В проклятом сейфе около пятидесяти тысяч франков… Ты получишь не только свою, но и мою половину сверх того! Лоран пытался одолеть капкан пилкой-ножовкой, ничего не получалось, сталь инструмента оказалась не тверже металла ловушки. Попробовал пустить в ход циркулярную пилу с приводом от моторчика, но ее зубья тут же полетели, как стеклянные. — Ты и впрямь пропал, дружище! — честно и горестно сказал Лоран. — Хозяин, помогите! — застонал Пьер. Граф узнал что ему было надо, вложил документы в папку, перевязал ее тесьмой и положил на место. Потом быстро сгреб золотые монеты, банкноты, драгоценные украшения, рассовал их в карманы Бамбоша и Лорана и сказал с выражением непривычного для него сострадания: — Бедный Пьер!.. Придется пожертвовать… Кто мне тебя заменит? — Помогите! — еще жалобнее простонал несчастный. — Тебе ведь известны наши постоянные условия, не так ли? — Да!.. Да… Но избавьте меня! — Для тебя есть только единственная возможность освободиться от мучений. Когда один из нас попадется и не может убежать, его ликвидируют, чтобы спасти остальных… Мой бедный Пьер, придется тебя убить, и ты перестанешь страдать… Ты знаешь, скольких тебе самому пришлось уничтожить товарищей, попавшихся как теперь ты. Это правило неумолимо. И ведь если даже мы оставим тебя живым, все равно власти опознают и казнят. На что уж Бамбош и Лоран были закоренелыми бандитами, но и они почувствовали ужас, представив себе, что их когда-нибудь постигнет такая же участь. Оба подумали: «Если бы я был на его месте?..» Граф достал острый, широкий кинжал и готовился всадить его в Пьера, соучастника многих преступлений, человека, слепо, по-дикарски преданного, хранителя всех тайн, но не мог сразу решиться. Пьер заметил колебания хозяина, и у пленника блеснула надежда. Ему хотелось жить, и он безгранично верил в изобретательность графа. Мондье тоже уловил горячую мольбу в глазах обреченного. — Бедняга! Время торопит, надо действовать, Пьер, а что, если вместо твоей шкуры ты оставишь здесь лишь ногу? — Все-таки буду жив… — пролепетал бандит, с ужасом ждавший смерти. — Ты уверен, что не закричишь? Даже не застонешь? — Не закричу! Дайте мне что-нибудь кусать. Граф отсек кинжалом лоскут портьеры и кинул Пьеру. Тот свернул ткань и затолкал в рот. — А сейчас терпи! — сказал Мондье. — Лоран, давай пилу! Хорошо. Это годится. Будешь светить фонарем. Мондье уже собрался сперва рассечь голень кинжалом, но подумал о том, что сильно хлынет кровь и Пьер умрет от ее потери. Тогда граф отрезал от шторы кусок шнура, чтобы сжать кровеносные сосуды выше колена, и опять приказал Пьеру: — Терпи! Лоран поднес фонарь ближе, Бамбош дрожал, невзирая на свое жестокосердие. Одним ударом ножа Мондье разрубил мускулы, велел Лорану включить циркулярную пилу. Блестящий диск, подвывая, легко вошел в кость. Кровавые опилки летели в обе стороны, и наблюдавшие за страшной операцией сжали зубы, сами чуть не теряя сознания. Пьер, со ртом, забитым тряпкой, только глухо мычал, да крупные слезы смешивались с потом, струившимся по лицу. Последний поворот круглой пилы, последние удары ножом, обрезающим ошметки рваного мяса… — Кончено, — еле слышно прошептал Пьер. — Кончено. Мой бедный старик, — ответил жестокий хирург. — Ты выздоровеешь. Человек твоей закалки от этого не умирает. За тобой будут прекрасно ухаживать… Но Пьер уже не слышал. Он икнул и потерял сознание. — К лучшему. Так легче унести, — сказал Лоран. Пьера положили на ковер, Бамбош обернул кровавую культю куском шторы. — А как же оставшаяся нога? Может, все-таки еще попробовать вытащить ее? Теперь она мертвая, разрежем на куски, — сказал Лоран. — Ни в коем случае. Кто знает, может быть, рядом спрятана еще одна ловушка для того, кто попытается сделать подобное. Думаю, здесь все продумано и предусмотрено. Лоран взял Пьера под мышки, Бамбош — за здоровую ногу и за обрубок, граф пошел впереди с фонариком, и мрачный кортеж тихо двинулся. Они были очень осторожны, старались не шуметь, поэтому путь до ворот занял не меньше четверти часа. Во дворе Мондье погасил фонарь, тихо отодвинул ножом засов калитки и открыл ее. На улице было пусто. Они вынесли Пьера, все еще не пришедшего в сознание, и увидели свой наемный экипаж, дожидавшийся на прежнем месте. — Удачно! — сказал Бамбош, которому уже надоело тащить Пьера. — Есть на чем везти. — Бедняга! Он ведь и говорил, что повозка может нам понадобиться, — сказал Лоран. — Предчувствовал, быть может. — Так бывает. Эй, Гренгале! Подъезжай! — позвал кучера Бамбош. Граф уходил пешком. Оставшись в одиночестве, он думал: «Неужели звезда моя погасла? Брадесанду задушен, Ги де Мальтаверн застрелен, Пьер искалечен… Трое за такое короткое время… Вдруг это начало возмездия? Нет, я не таков, чтобы ждать в бездействии!.. Если близка Господня кара за мои грехи, то тем хуже для Жермены… Горе ей!»ГЛАВА 9
Следующим ранним утром Жермена вернулась в свой особняк. С ней прибыли двое, те, что сопровождали ее до кабачка Лишамора. Не успел экипаж миновать ворота, как навстречу выбежал швейцар и, швырнув наземь ведро с водой и губку, воздел руки, восклицая: — Мадам! Какое несчастье! Ночью были воры… Там все поломано… сейф открыт!.. Ценности украдены… Всюду кровь… Жермена побледнела и воскликнула: — Деньги меня не волнуют… но бумаги… документы… Один из сопровождающих, тот, что был помоложе и пониже ростом, схватил швейцара за шиворот: — Вы позволили им войти… Обманутый или сообщник… — Но, месье Жан… — Месье Жан тут ни при чем!.. Вы должны были охранять!.. Вас обошли!.. Вы больше не служите здесь! Убирайтесь… и побыстрее! Матис, скажи, чтобы распрягли лошадей, садись на его место и будь настороже днем и ночью. А вы, месье, получите сейчас же расчет и чтобы через пятнадцать минут духу вашего здесь не было! Швейцар вздумал протестовать: — Еще посмотрим!.. Подумаешь… какой начальник… Не успел он договорить, как получил две основательные оплеухи. — Еще одно слово, и я вас искалечу! — крикнул молодой человек. — Молчать! По вашей вине произошло такое дело! Мы не поверим, что без вашего ведома в дом могли войти и выйти из него посторонние люди! История темная. Вам, может быть, еще придется поночевать в полиции. — Жан! Идемте же, я хочу поскорее увидеть, что там, — сказала Жермена. Тот почтительно поклонился и пошел следом. Они вместе оказались в будуаре. — Жермена! Дорогая Жермена! — воскликнул Бобино, кого швейцар посчитал просто за управляющего. — Ужасно!.. Капкан сработал… Вор попался… Здесь отрезанная нога… Какое несчастье, что мы оставили на старом месте прежнего швейцара, когда купили этот дом! Надо было взять его сюда. На того сторожа можно было всецело положиться… — Бобино, мой друг, зло совершилось, теперь надо смотреть, насколько оно поправимо. В первую очередь — искать вора. — Или воров. А еще до окончания поисков попытаться определить, что это были за люди… Интересовались ли они только деньгами, ценностями… — Пока надеюсь, что так… — Пройдите в вашу спальню, я должен удалить этот отвратительный обрубок. — Хорошо, друг мой, а я пока посижу в одиночестве, подумаю. Оставшись один, Бобино повернул кнопки секретного устройства в обратную сторону и запер сейф. Потом, превозмогая отвращение, вынул из сомкнутых пружинами дуг капкана обрубок конечности — холодной, побуревшей, с красными костями на месте распила. Рассмотрел нижнюю часть штанины из дешевой материи и бумажный носок, меток на них не оказалось. Башмак был тяжелый, сильно поношенный. Он снял обувь с остатка ноги. Ступня была огромная, грубая, плоская, пальцы с грязными ногтями. «Дело, мне почему-то кажется, сильно попахивает графом Мондье. Но это не он!.. Либо какой-нибудь его сообщник, или же обыкновенный вор, не имеющий к графу отношения. Однако простой взломщик несомненно предпочел бы оказаться арестованным, чем так искалеченным. Надо сегодня же отнести все это в полицию», — думал Бобино. Он пошел к Жермене, та находилась в сильном беспокойстве. — Так что вы установили? — спросила девушка. — Не особенно много, однако не тревожьтесь. Мне кажется, что кража принесла лишь материальный ущерб. — Хотелось, чтобы это было так. Но теперь надо быть настороже более прежнего. — Я сейчас рассчитаю швейцара и, если позволите, вашу горничную. Пусть ее заменит Мария, жена Матиса. — Но она очень нужна там… — Это так, но около вас должны находиться люди, каким можно вполне доверять. Великое несчастье, что нельзя быть одновременно здесь и там! Ах, Жермена! Моя хорошая! Страшное дело вы затеяли! — Неужели вы, мужчина, стали колебаться? — Нет! Но я боюсь за вас, когда думаю, что вы остаетесь тут одна, почти изолированная от нас… — Не теряйте мужества! Схватка только началась, она будет страшной! Поспешим нанести первые удары и поколебать врага, пока он еще не предупрежден!.. — Вы полагаете, что там… — Главный узел… Оттуда мы получим нужные сведения. — Вы хотите снова поехать к мамаше Башю? — Нет, это было бы слишком неосторожно. Поедете только вы с Матисом, притом хорошо вооруженные. — Хорошо, сегодня же или, самое позднее, завтра. Подумайте, что, если сейф открыл граф? Его надо непременно опередить… К несчастью, замысел удалось осуществить только через день. Понадобилось доставать обещанные старухе пять тысяч франков. Воры утащили всю наличность, и пришлось добывать изрядную сумму, какой хватило бы на все предстоящие немалые расходы. Так что Бобино с другом-кожевником Матисом поехали в Эрбле только через день, чтобы получить от старухи Башю сведения, так необходимые Жермене, за них, не колеблясь, решили платить золотом. Бобино опасался, что старуха по злобе или из-за страха закобенится, несмотря на обещание кругленькой суммы. Все-таки ему удалось уговорить ее в обмен на луидоры дать адрес таинственной женщины, называемой Маркизеттой. Получив его, он тут же возвратился в Париж, предупредив тайную производительницу абортов, что если она кому-нибудь скажет об их сделке, то весьма скоро получит приятную возможность познакомиться с судом. Молодой человек привез Жермене всего лишь координаты, иные данные старуха наотрез отказалась сообщить, клянясь всеми святыми, что ей обещали врученную сумму за одни только сведения о местонахождении, вообще она к тому же ничего больше и не помнит. Жермена велела говорить, что сегодня никого не принимает, быстро оделась в очень скромное платье и, как только Бобино передал ей адрес, тут же собралась уходить. — Вы не хотите, чтобы я вас провожал, Жермена? — спросил типограф. — Нет, спасибо, мой милый, ничто мне не угрожает. К тому же вы знаете, я сумею себя защитить. — Знаю, но мне все-таки не нравится, когда вы отправляетесь в подобные экспедиции одна. — Это дело займет каких-нибудь два часа, а вы нужны там… И я тоже буду там к вечеру. Чтобы сбить со следа тех, кто, возможно, за нами следит, я поеду туда непривычным путем. До свиданья, мой милый, мой дорогой Бобино! — До свиданья, Жермена! И главное — будьте осторожны. — Какое вы дитя! Со мной кинжал, револьвер… Вы знаете, куда я иду… Мы в Париже… Сейчас день… — Видите ли, Жермена, Париж… тот город, где мы теперь… полон тайн и преступлений.Жермена вышла из дому совершенно открыто, зная, что лучший способ сбить с толку шпионов — не делать тайны из своих действий. Через полчаса извозчик доставил ее к назначенному месту, далее она пошла пешком по совершенно пустынной улице. Примерно на середине ее Жермена остановилась около глухой стены, у входа, и сказала себе: «Это здесь». Она почувствовала некую робость, собираясь позвонить. Гладкое высокое ограждение, высокая вроде тюремной решетка, выкрашенная в темно-коричневый цвет, водруженная на каменное основание, — все это составляло необычный забор с воротами из сплошных металлических плит. Жермена подавила нерешительность и позвонила. Услышав сразу же перекличку множества колокольчиков внутри ограды, она подумала: «Эту Маркизетту очень основательно охраняют…» Девушка не предполагала, насколько оказалась права. Дверь почти стремительно отворилась, и, едва посетительница успела войти, стальная панель захлопнулась за ней. Перед Жерменой предстал просторный двор с красивыми высокими деревьями на подстриженных зеленых лужайках. Вглубь уходила дорога для экипажей, тщательно посыпанная песком. В отдалении виднелись большое строение и флигеля, окружавшие усадьбу с трех сторон. Направо от нее была сторожка с оконцем, там сидел охранник в форме, напоминающей одежду конторских рассыльных. Она постучала в окошко, человек немедля встал, вежливо поклонился и спросил, что ей угодно. — Я хотела бы видеть особу, чье полное имя мне неизвестно, но ее называют Маркизетта, — решительно сказала Жермена. — Мне надо сообщить ей нечто очень важное. Действительно ли она находится здесь, и могу ли я с нею встретиться? — Да, в самом деле здесь, — ответил служащий, посмотрев на Жермену с любопытством. Значит, мерзкая старуха не соврала… — Могу ли я повидаться сейчас? — Думаю, что к этому нет особых препятствий, только вот она немного нездорова… С некоторого времени не выходит из своего помещения. Может быть, вы сообщите ей свое имя, мадам? — Это бесполезно, мы незнакомы. — Тогда я провожу вас к ней. — Буду вам очень признательна, — сказала Жермена, кладя ему в руку луидор. Служащий, поблагодарив, предложил ей присесть и нажал кнопку электрического звонка. Жермена внимательно оглядывала помещение, стараясь понять, где она находится. В комнате высился большой письменный стол-бюро черного цвета, лежали деловые папки с кожаными корешками и наугольниками, на стене висела распределительная доска с множеством кнопок и проводов; находился здесь и телефонный аппарат. Вошла женщина высокого роста с большими руками и большими ногами, мужеподобная и нескладная. У нее были маленькие узкие глазки, вздернутый нос, широкий рот и толстые обвислые щеки; одежду составляли платье из серой шерстяной ткани, белый чепец, большой холщовый фартук и такие же нарукавники, какие носят мясники. Она походила одновременно на санитарку и на одну из тех здоровенных баб, каким на таможнях поручается обыскивать подозрительных пассажирок. — Вот, Жозефина, мадам желает повидать Маркизетту, — сказал сторож. — Вы сейчас ее отведете. Женщина сделала нескладный реверанс, состроила улыбку с претензией на приветливость и ответила писклявым голоском, совершенно не соответствовавшим ее наружности: — Если мадам угодно пойти со мной, я провожу мадам. — Я готова, пойдемте. Девушка не видела, как странно переглянулись за ее спиной сторож и женщина. Идя по дорожке, Жермена думала, что Маркизетта — какая-нибудь незначительная работница, если ее здесь называют уменьшительным именем. Жозефина провела посетительницу во внутренний дворик со стеклянной крышей и через него в огромный сад с прекрасными деревьями: платанами, сикоморами, акациями, ясенями, вязами, покрытыми свежей листвой; все они росли между группами кустарника, как букеты зелени среди корзинок с цветами. Повсюду прорисовывались посыпанные песком аккуратные дорожки; лужайки светло-зеленого цвета окружали примерно дюжину домиков, похожих на маленькие виллы. Казалось, что находишься в деревне, вдали от большого шумного города. В саду дышалось легко, радовало спокойствие, пели птицы, летали бабочки, жужжали насекомые. Поистине волшебное местечко; Жермена приостановилась очарованная. — Сюда, мадам, сюда, — сказала женщина, указывая на домик с четырьмя окнами по фасаду. Около двери сидела женщина, здоровенная и мужеподобная, как Жозефина, и одетая в такую же форму, она держала себя так же подобострастно и вместе с тем в ней чувствовались и грубость, и сильная воля. — Будьте добры немного подождать, мадам, — сказала она. — Маркизетта?.. — спросила Жермена. — Она в постели… Но это не имеет значения… Войдите, войдите же! Когда Жермена шагнула через порог, женщины переглянулись с тем же выражением, какое было в глазах сторожа и Жозефины, когда они оказались за спиной посетительницы. На сей раз Жермена заметила эти взгляды. Она тотчас заподозрила ловушку и отскочила назад. Но Жозефина бросилась к ней и с ловкостью ярмарочного борца охватила крепкими, как у здорового мужика, руками. Жермена поняла, что попала в хитрую западню, и закричала: — Помогите! На помощь! Руки еще оставались свободными, она попыталась достать кинжал, а другой рукой, надеясь вырваться, ухватила Жозефину за ухо. Здоровенная баба взвыла и едва не разжала руки. Чепец с нее свалился, из уха сочилась кровь, косичка от пучка торчала на затылке как свиной хвостик, глаза покраснели от напряжения и вся она была похожа на злобное дрессированное животное, которому приказано не выпускать добычу. — Катрина, сюда! — закричала она. — Ведь сейчас удерет! Она правда буйная! — Подумаешь! — сказала другая. — Мало мы насмотрелись этих буйных и возбужденных, все делались смирными! Жермена не могла понять, к чему эти слова: возбужденная… буйная… Она рвалась, чтобы убежать, и снова принялась звать на помощь. С необыкновенной для ее размеров быстротой Жозефина кинулась к двери и, загородив ее собой, кричала: — Вы не пройдете! Выхватив наконец кинжал, Жермена замахнулась, готовая ударить, и закричала: — С дороги, стерва! Или убью! Баба моментально сорвала со стены пожарную кишку и направила холодную воду прямо в лицо пленницы. Оглушенная и ослепленная струей, пущенной под напором, Жермена задохнулась. Катрина тотчас вцепилась сзади, кинжал выпал из рук Жермены. Она стояла насквозь мокрая, дрожащая, в одежде, прилипшей к телу, с распустившимися волосами, ничего не понимая, и только повторяла: — Оставьте меня!.. Пустите!.. Я хочу уйти… Я вам ничего не сделала! Но ее продолжали поливать как только что сделанного снеговика. Жермена ослабела, потеряла способность бороться и наконец упала. Жозефина повесила шланг на место и ухватила добычу за ноги, с профессиональной ловкостью связала их, а Катрина столь же быстро и умело охватила полотенцем руки поверженной, что совершенно лишило ее возможности двигаться. После этого Жермену кулем оттащили в соседнюю комнату, сорвали одежду и принялись растирать тело волосяными перчатками. Процедура подействовала, и Жермена очнулась. Она увидела себя совершенно обнаженной в руках чужих и противных женщин, те со спокойным бесстыдством ее разглядывали. Все в Жермене взбунтовалось. Она сжалась в своих путах, пытаясь укрыть самое интимное, и зарыдала от стыда и гнева, бормоча сквозь слезы: — Какая подлость… Так поступать со мной!.. Жозефина, более словоохотливая, чем напарница, взялась ее уговаривать. Она, казалось, совсем не сердилась за разорванное ухо и говорила ей как раскапризничавшемуся ребенку или больному, не отвечающему за свои, поступки: — Успокойтесь, миленькая, мы ведь для вашего блага стараемся, будьте умненькая, и мы будем хорошо вас лечить… И очень осторожно, с необыкновенной ловкостью, надела на Жермену смирительную рубашку и привязала спеленатую к кровати. А Жермена, совершенно пришибленная, побежденная, уговаривала дрожащим голосом: — Меня не надо лечить… Я не больна… — О нет, вы больны! — Нет же! Вы ошибаетесь! Я пришла повидать Маркизетту, которая, мне сказали, находится здесь. — Маркизетту… Вы ее увидите… Немного позднее. — Вы мне все-таки скажите, где я нахожусь и почему со мной так обращаются? — Вы в лечебнице доктора Кастане. И мы поливали вас холодным душем и надели смирительную рубашку, потому что вы — душевнобольная, почти такая же, как Маркизетта. Та и вовсе без ума. У Жермены в глазах потемнело. Но она еще не осознала всего ужаса своего положения, думала, будто произошла какая-то ошибка, скоро все выяснится, и попробовала спокойно поговорить с санитаркой, доказать, что вполне здорова и ее надо выпустить. — Я не знаю этого доктора… У меня нет никакой надобности здесь лечиться… Я совсем не умалишенная… Пусть пошлют кого-нибудь ко мне домой, пусть спросят тех, кто меня знает… моих сестер… моих друзей… моих слуг… Все подтвердят, что я в полном рассудке… Я приехала сюда одна… на извозчике… отпустила его на углу улицы Рибейра… явилась сюда как посетительница… Послушайте меня… Разве я говорю как сумасшедшая? Скажите мне по чести. Конечно, я не безумная… Женщины слушали снисходительно, как человека в бредовом состоянии. Наконец Жозефина серьезно изрекла — то ли Жермене, то ли своей напарнице или же самой себе: — Знаем, старая песня, все они так говорят… если им верить, получится, что здесь сумасшедшие — только доктор да те, кто служит… Бедная женщина, жаль ее, она такая красивая! Даст Бог, ее тут вылечат.
ГЛАВА 10
Жермена провела ужасный вечер. Совершенно беспомощная, привязанная к койке, понимая, что ее заперли в больнице для умалишенных, где обходятся одинаково как с несчастными помешанными, так и с жертвами личной мести, попадающими в подобные места не столь уж редко. Она спрашивала себя, кто устроил эту ловушку, и мрачная личность Мондье вставала в ее воображении. Виновником мог быть только он, и никто другой. Один он, против кого она начала борьбу не на жизнь, а на смерть, был в состоянии прибегнуть к такому чудовищному средству и проделать все это столь хитро, продуманно до мелочей и безошибочно. К тому же она видела тесную связь между заточением здесь и ограблением квартиры позапрошлой ночью. И, несмотря на ее мужество, Жермене делалось страшнее и страшнее. Одна из стороживших постоянно находилась при ней. Это была Жозефина, та, кому от мнимой больной так досталось, но сиделка словно не помнила об этом и относилась к молодой красавице с грубоватой снисходительностью и терпеливостью ухаживающей за человеком, что постоянно бредит и не может отвечать за свои поступки. Она постоянно твердила Жермене: — Не волнуйтесь, моя милая, вы этим только вредите себе и вынудите опять обливать водой. Не волнуйтесь, говорю, вас будут хорошо лечить, вы скоро придете в себя, вас скоро пустят гулять в саду вместе со всеми, а затем вы поправитесь окончательно и уедете домой. Видя, что Жозефина искренне считает ее помешанной, Жермена решила сделать вид, что следует ее предписаниям и советам. Слова: «Скоро вас пустят гулять в парке» — особенно привлекли ее внимание. Значит, с нее снимут путы и смирительную рубашку, она будет относительно свободной, она встретится с Маркизеттой, невольной виновницей ее заточения… Понимая, что сделает ошибку, если будет совершенно безвольно, не спрашивая ни о чем, подчиняться требованиям, она иногда просила о чем-нибудь, но всегда старалась, чтобы просьбы были разумными, умеренными, не походили на капризы. — Только не обливайте меня… это больно, перехватывает дыханье… — А вы будете умницей? — Да, и снимите, пожалуйста, с меня эту рубашку, в ней я не могу двигать руками, даже повернуться. — Знаю, знаю, милочка, снимем, наверное, завтра, после визита доктора. — Но как же я смогу до этого времени есть? — Покормлю, покормлю… как ребеночка. — Я не засну такая вот спеленатая, право, я буду только мучиться, волноваться. — Дам успокоительного, оно отлично действует против возбуждения, и вас не оставят одну, ночью рядом будет дежурить Катрина. — Мне бы хотелось, чтобы это были вы, — польстила Жермена, сознавая, что идет по правильному пути. Она не ошиблась, грубая на вид женщина была растрогана. — Очень мило… Раз вам так угодно, я принесу сюда мою раскладную койку… — Толстая баба подумала: «Она, конечно, чокнутая, но, кажется, не очень сильно». И выразилась с грубоватым добродушием: — Держу пари, что вы пережили большое горе… какой-то удар, и он пришелся вам по голове… — Да, случались всякие неприятности… Я вам после, если хотите, расскажу… — Конечно, моя кошечка, вы поделитесь своими историями… Здесь все друг с другом откровенны. — А вы снимете с меня эту одежду?.. Кажется, ее называют смирительной рубашкой… Для сумасшедших… А? — Да, но я уже сказала, что только после того, как вас осмотрит доктор. — А кто он? Как его зовут хотя бы? — Главный у нас — месье Кастане. — А… — сказала Жермена и подумала, что это имя ей чем-то памятно.Инстинктивно Жермена поняла, как надо себя вести в этом доме. Пока она старалась доказать, что вполне здорова, и всячески протестовала против насилия, с ней обращались как с буйной, которой нельзя доверять. Теперь же, когда она показывала, как смирилась и доверяет сиделке, соглашаясь тем самым с тем, что больна, к ней начали относиться с большим доверием. Девушка выбрала правильную линию поведения: делать вид, что она очень тихая помешанная, не давать волю настроениям, вести себя естественно, без преувеличенных жестов и слов, успокоить всякие подозрения и таким путем получить известную свободу. Руководимая инстинктом и разумом, Жермена на несколько часов погрузилась в полное молчание и тем доказала Жозефине, что она действительно «чокнутая», но отнюдь не буйная. Вечером Жозефина принесла ужин, и Жермена спокойно ела. Пища была хорошо приготовлена и подавалась очень удобно, в постель. Девушка вполне натурально смеялась тому, что ее кормили с ложечки, как ребенка, не проявляла видимого интереса к тому, чем ее насыщали, а потом попросила разрешения уснуть. Жозефина устроила себе постель рядом и, как было обещано, дала выпить бромистого калия — верного средства против нервных страданий и бессонницы. И Жермена, пусть не сразу, но зато крепко забылась в тишине летней ночи, лишь изредка нарушаемой криком какого-нибудь несчастного безумца.
Утром она сразу же вспомнила все, что произошло. В десять, сказала сиделка, должен был явиться доктор. Жермену как ударило что-то, хотя она никогда прежде не видела этого человека, доктора Кастане. Она вспомнила: ведь то же имя носил хозяин кабачка близ Эрбле на берегу Сены. Скверный тип, по прозванью Лишамор, муж не менее отвратительной старухи Башю. Жермена знала по своим тщательно собранным документам, что Лишамор происходил из порядочной семьи, получил хорошее образование, и у него был младший брат, работавший врачом в Париже. Если Лишамор — сообщник графа Мондье, то брат кабатчика, несомненно, как-то связан с этим великосветским бандитом. Не зря Жермена собирала досье на эту семейку. Она сразу вспомнила, что доктор прежде был беден, ходил в отрепьях, жил на чердаке, предавался порокам и ради денег не брезговал ничем. И вдруг, свидетельствовали те, кто его знавал, меньше чем за месяц совершенно переменился. Одетый в хороший черный костюм, белоснежную сорочку и башмаки из шевро, он сделался владельцем или директором лечебницы на углу улицы Рибейра в Париже. Жермена догадывалась, что перемена в судьбе доктора Кастане произошла не без участия и помощи Мондье, ему всегда требовались люди, готовые сделать что угодно за приличную плату.
Но вот доктор вошел. Это был человек лет пятидесяти, лысый, с покатым лбом, длинным носом, серыми неуверенными глазами и широким тонкогубым ртом. Руки его были длинные, волосатые, очень выхоленные и слегка дрожащие. Доктор страдал семейным пороком — он пил, но ви́на более хорошие, чем употреблял старший брат в своем кабаке. Жермене понадобилась вся выдержка, чтобы побороть отвращение и страх при виде человека, о ком она знала достаточно много. Кастане посмотрел глазами-буравчиками, как бы оценивая ее, взял руку, пощупал пульс, сказав, что он слишком частый, лихорадочный, и спросил вкрадчиво: — Как вы себя чувствуете здесь, дорогое дитя? — Очень плохо, доктор, очень плохо, — ответила Жермена холодно. — Не может быть! Разве с вами недостаточно вежливы? Худо обходятся с такой прекрасной особой? — Нет. Все очень добры ко мне, но говорят, что я сумасшедшая. Я буду делать все, что мне велят, но я не хочу слыть помешанной! Невзирая на профессиональную привычку спокойно воспринимать пациентов, Кастане испытал волнение. В ответе проявилась пассивность, болезненная и неосознанная, что его смутило. — Нет, дитя мое, вы не умалишенная, у вас просто острое перенапряжение нервной системы. Неврастения… Понимаете? — Ну, это безразлично, лишь бы не доказывали, что я безумна… Я пришла вчера… Вчера ли?.. Зачем?.. Не знаю. Хотела уйти… Не знаю почему… Женщины на меня бросились… Поливали из пожарной кишки… Стало плохо… Мне и до этого было плохо… Меня взяла злость… Вся кровь бросилась в голову… Что же было после?.. После… Жозефина объявила, что я сумасшедшая… Доктор смотрел на нее и думал: «Притворяется она или действительно больна?» Он оказался в полном недоумении, не видя с ее стороны ни бурного протеста, ни бессмысленного необузданного возмущения, какие обычно проявляют его пациенты, и по обыкновению психиатров, которые чуть ли не всех подозревают в безумии, в конце концов решил, что она все-таки, наверное, тронулась умом: взгляд у Жермены был блуждающий и зрачки мерцали, что очень характерно для психически нездоровых. Эти признаки выглядели убедительно, и все же доктор подумал: «Все вроде так. Но ведь граф говорил, что она прямо как тигрица… начнет дико беситься… страшно кричать… драться… А вместо этого я вижу совершенно кроткую и смиренную молодую женщину. Больную, конечно, однако — чем именно?» И вслух сказал: — Так вот, дитя мое, будем лечить ваши больные нервы, натянутые до того, что вот-вот оборвутся. — Благодарю вас. И я выздоровлю? — Обязательно! — И тогда мне можно будет уйти? Долго мне придется находиться у вас? — Около месяца… может быть, немного больше, немного меньше, это будет зависеть и от вас. До свиданья, дитя мое. До завтра. — До завтра, доктор, и спасибо за то, что вы мне сказали. Жозефина проводила его в коридор и спросила: — Что мы должны с ней делать, доктор? — Можете снять смирительную рубашку и позволить свободно гулять, она не опасна, но вы будете сопровождать ее повсюду вместе с другой дежурной и в случае, если она начнет что-нибудь вытворять, снова положите ее сюда. Продолжайте давать бром. Посмотрю, что окажется завтра. День прошел для Жермены тяжело, но все-таки она была полна решимости действовать по намеченному плану. Девушка притворялась ребячливой, ласковой, прекрасно разыгрывала роль тихой, безобидной слабоумной. Жозефину она приручила вполне, та почувствовала настоящую симпатию к спокойному, вежливому, доброму и такому красивому созданию. Затворница уже пользовалась относительной свободой и настойчиво повторяла, что хочет видеть Маркизетту. Смотрительница, подкупленная ласковостью и послушанием пациентки и понимая, что Жермена никуда не сможет убежать из-за высоких стен, обещала отвести к той, кого ее подопечная так упорно хотела видеть. Пока же, чтобы приучить вновь прибывшую к образу жизни в лечебнице, сиделка повела ее в парк, где гуляли пациенты. Стоял солнечный августовский день, и душевнобольные, не требовавшие особого надзора, прохаживались по дорожкам под тенью деревьев и по аккуратным полянкам с цветочными клумбами. Мужчины и женщины проводили это время вместе, и внешне все было похоже на обыкновенный сквер, куда люди приходят отдохнуть, погулять, поболтать, поиграть в спокойные игры. Хорошо одетые женщины вязали, вышивали, читали иллюстрированные обозрения, а другие кокетничали с мужчинами, что красовались перед ними. На первый взгляд в этом обществе не замечалось ничего странного, и Жермена, зная, где она находится, была удивлена. Только постоянное присутствие санитаров и санитарокнапоминало о том, какое это печальное место. Здесь, как и везде, красота новенькой произвела потрясающее впечатление. Мужчины почтительно кланялись, женщины поджимали губы и делали вид, что очень углублены в свои занятия, но исподтишка с завистью на нее посматривали. Живописного вида господин, одетый в черное, с множеством диковинных разноцветных побрякушек на левом лацкане, приветствовал ее в замысловатых выражениях и представился: — Я дон Себастьян-Руис-Порфирио-Лопес де Вега, де Санто Иеронимо, испанский гранд, герцог и двоюродный брат короля. Жермена любезно поклонилась несчастному безумцу, он посмотрел на нее горящими глазами и протянул сухую и прямо-таки жгущую от лихорадки ладонь. Подошла очень хорошенькая молодая женщина с зелеными глазами Офелии[125], с тяжелыми пепельными косами, падавшими на плечи. В руках она держала большую куклу, одетую в крестильные одежды, и очень серьезно сказала Жермене: — Вы будете ее крестной матерью, а месье де Вега — крестным отцом. Ведь вы согласны?.. Ее зовут Марта. Она не умрет, как та… другая… которая унесла мое сердце… Она очень миленькая… уже говорит… Кукла закрыла и открыла глаза и отвратительным механическим голосом сказала: «Па… па, ма… ма». — Ее старшая сестра ушла… уже не помню когда… ушла некрещеная… Вы понимаете!.. И я хочу, чтобы эту окрестили сейчас же. Жермена печально и с болью за несчастную согласилась. — Кукареку!.. Кукареку! — закричала женщина, убегая. — Мадам согласна быть твоей крестной! Другой господин, очень серьезный, даже суровый, с седеющей бородкой, приблизился к Жермене и сказал: — Мадемуазель, не обращайте внимания на эту сумасшедшую. Нам всем уже пришлось быть у нее крестными. Мы вынуждены делать это снисхождение, иначе у нее начинаются ужасные припадки. Подумав, что это посетитель, а не пациент, — он говорил так рассудительно и выражал сострадание к несчастной, Жермена ответила тихо: — Я охотно соглашусь принять участие в подобии крещенья, чтобы не делать ей больно моим отказом. Те, кто находится в этой лечебнице, и так достаточно несчастны, бедные, бедные люди… — Все здесь богатые, и я у них банкир! — вдруг с жаром объявил рассудительный человек. — Вы так прекрасны, что я хочу сделать вам подарок, сколько желаете? Миллиард? Два миллиарда? Жермена вконец растерялась, не зная, как реагировать. Она как можно более учтиво сказала: — Премного благодарна, месье, я ни в чем не испытываю нужды; но вы очень щедры и благородны. Вы не возражаете, если я вас покину? И неожиданно господин очень спокойно ответил: — Всего вам доброго, милая красавица. Женщина лет тридцати, очень худая, с выразительными глазами, с волосами, стриженными в скобку, тихая и добрая, остановила Жермену и без предисловий обратилась к ней: — Не слушайте их, мадам, они все здесь для посева… Они очень хорошие, совершенно безобидные, как правило отменно воспитанные, но они мучают новичков, стараясь внедрить в них свое безумие. Жермена посмотрела даже с любопытством: а она-то что сейчас скажет? — Меня зовут Надин Волынская, я — русская, профессор Парижского университета. Я наблюдаю здесь все формы душевного расстройства. — И тихонько добавила: — Видите ли, все эти люди — сумасшедшие. Они кажутся нормальными и в самом деле здорово рассуждают до тех пор, пока не коснешься определенного пункта в их сознании или сами не начнут говорить на больную для них тему. Они взаимно снисходительно относятся к этим пунктам и живут в полном согласии, когда узнают друг друга ближе. — Вот это действительно странно, — тихо сказала Жермена. — Странно, конечно, но это действительно так. Они и выказывают свой пункт перед новичками, ибо знают, что здесь о каждом всем известно, и никто на их счет не обманывается. — Но их можно как-нибудь лечить? — спросила Жермена, ее заинтересовали слова женщины-профессора, без сомнения здравой умом. — Почему, например, не пользовать их внушением? — Потому что умалишенные в подавляющем большинстве не поддаются гипнозу. Есть, конечно, надежный способ, но наука медицины так рутинна! И зачем ей исцелять наверняка? Тогда не станет больных и доктора лишатся куска хлеба. — А все-таки, каков этот верный метод? — Все болезни вызываются микробами. Надо уничтожить до единого микробы, попадающие в организм, а для этого следует абсолютно все стерилизовать. И тут ученая сама понесла такое, что Жермена уже не могла больше слушать и попросту сбежала, подумав: и эта тоже! Господи, что за ад! Жозефина — она шла позади в нескольких шагах — догнала и с участием начала успокаивать. Жермена едва не заплакала. — Все эти люди меня пугают. Пойдем поскорее отсюда, Жозефина! — Если вы все-таки хотите видеть Маркизетту, могу сейчас к ней провести, — сказала Жозефина, стараясь чем-нибудь отвлечь Жермену. — Но вдруг и там придется слушать безумные речи, я не могу, лучше уж в другой раз, мне просто необходима передышка. — Может быть, сегодня она в нормальном настроении, тогда не волнуйтесь, все будет в порядке. — Но все-таки, она такая же сумасшедшая, как все эти несчастные? — Как когда, порой кажется, будто она совсем в здравом уме, а бывает, что месяцами не откроет рта. — Тогда пойдем, — согласилась Жермена, делая вид, что больше уже не слишком интересуется этой встречей. Жозефина провела ее через парк к последнему в ряду маленькому домику. Перед ним росли любовно выращенные цветы в прекрасных клумбах. У крылечка сидела женщина, одетая просто, но изящно. Она шила. Жозефина остановилась, не доходя нескольких шагов, и позвала: — Маркизетта! Вас хочет видеть одна дама! — И тихонько сказала Жермене: — Идите одна… Она меня не выносит… Я подожду здесь. Женщина подняла голову, холодно посмотрела на незнакомку и сказала, обращаясь к сиделке: — Пусть идет сюда. Только без вас. — Убедились? Только не бойтесь, она не злая и не обидит вас. Жермена, видевшая здесь до сих пор только странные взгляды и слышавшая безумные речи, удивилась, встретив взгляд, исполненный доброты и сострадания. Ей даже послышалось, будто живущая в домике прошептала: — Такая молодая, такая красивая… бедное дитя! Женщина выглядела лет на сорок. Все еще миловидное лицо преждевременно увяло от тяжелых переживаний. Среднего роста, несколько отяжелевшая от сидячей жизни, с маленькими стройными ножками, изящными руками, густыми волосами, некогда, видимо, красивого пепельного цвета, сейчас почти совсем поседелыми, с прекрасными белыми зубами, с глазами голубыми как сапфиры, чей взгляд был глубок и нежен, — вот какой была таинственная Маркизетта. Но больше всего поразило Жермену в ней удивительное сходство с Бобино и с Сюзанной де Мондье. Та же улыбка, одновременно нежная и печальная и, наверное, бывавшая очень веселой в дни радости, та же посадка головы и, странное дело, даже такая же родинка на левой щеке. — Войдите, дитя мое! — сказала Маркизетта голосом, изумившим Жермену не меньше, чем наружность. Девушка чувствовала себя очень взволнованной, но старалась скрыть это, чтобы женщина не приняла ее за сумасшедшую. Гостья не могла решить, с чего начать страшный откровенный разговор. После неловкой паузы Жермена отважилась. — Мадам, — начала она тихо, так чтобы не донеслось до Жозефины. — Выслушайте меня без предвзятости… не выражайте, пожалуйста, протеста… сохраняйте спокойствие… — Говорите, дитя мое, — сказала Маркизетта, наверное давно привыкшая к откровенностям несчастных помешанных. — Я многим рисковала, чтобы попасть сюда… Я приехала одна… чтобы увидеть вас… говорить с вами… Вы сейчас узнаете почему. Вместо того, чтобы впустить в качестве посетительницы… меня встретили как… пациентку… посадили в камеру, облили холодным душем… Но я не сумасшедшая… Не качайте головой… Я в полном рассудке… Посмотрите на меня внимательно… Разве я похожа на этих несчастных безумных, которые сначала меня испугали, а потом внушили жалость? Поверьте мне! Поверьте, прошу вас! — Бедное дитя! — прошептала женщина с глубоким состраданием. «Боже мой! Она все-таки принимает меня за сумасшедшую! — подумала Жермена. — Потому что живет среди умалишенных и, может быть, сама стала такой. Пускай! Сначала я все скажу, а после увидим!» — Знаете ли вы женщину по имени Башю, по прозвищу Бабетта, которая делает тайные аборты?.. При этих словах Маркизетта побледнела и произнесла: — Говорите тише! — Хорошо, но ответьте же! — Знаю… знаю… даже слишком хорошо, к несчастью. — И пьяницу Лишамора, ее муженька, которого на самом деле зовут Пьер Кастане, он — брат здешнего доктора… Тоже знаете? — Да… Этот негодяй!.. — Наконец, графа Мондье… вашего палача… и моего также… — Мондье! Вы сказали Мондье?! — переспросила женщина с выражением ужаса. — Это еще не все! Знаете ли вы двух детей… ваших детей… Жоржа и Жанну?.. — О!.. Вам все известно… Кто вы такая? — Друг, которого соединяет с вами общность судеб. — Но как вы раскрыли страшную тайну? — Позднее узнаете… Я вам все расскажу. А теперь, вы все еще считаете меня безумной? Да, я едва не лишилась рассудка от стыда и от ненависти к бандиту, что обесчестил меня! Маркизетта, совершенно бледная, тихо плакала. — Я верю вам. Верю, — шептала она. И, видя, что Жермена собирается уходить, сказала: — Останьтесь еще ненадолго! — Сейчас нельзя, увидимся завтра. Если будем говорить подолгу, мы вызовем подозрение у тех, кто нас упрятал сюда и кто стережет. Доверьтесь мне вполне, и я вас спасу. — Невозможно! Я уже восемнадцать лет здесь пленницей. Понимаете! Меня целую вечность держат под стражей… Я потеряла всякую надежду. Страдания сломили меня. — Надейтесь! Клянусь! Я освобожу вас! И дам возможность насладиться местью.
ГЛАВА 11
Разумеется, Жермена, как обещала, пришла на свиданье. Но перед тем она не выказывала сильного стремления к встрече с Маркизеттой, чтобы надежнее обмануть надзирательницу, заставить по-прежнему думать о себе как о тихой помешанной. Следовало делать вид, что ее вообще ничего особенно не интересует, и разыгрывать переменчивость в настроениях, характерную для душевнобольных. Приспособление Жермены к обстановке лечебницы могло бы показаться слишком быстрым, но так как Жозефина была рада избавиться от необходимости слишком строго наблюдать за подопечной, то не обратила внимания на легкость привыкания больной. И сама напомнила о визите: — Ну как, пойдете сегодня к Маркизетте? — Ведь правда! Пожалуй… — Она наверняка ждет, у нее всегда бывают разные сладости, фрукты… Она вас угостит. Вы ведь любите вкусненькое? — Очень люблю! — сказала Жермена, чтобы подкрепить желание увидеть Маркизетту добавочным поводом. — Я вас там оставлю часа на два, на три, вы поболтаете, развлечетесь, и она тоже, — сказала надсмотрщица, не подозревая об их сговоре. Через пять минут Жермена уже была у Маркизетты, та, видимо, действительно очень ждала, но все-таки отнеслась еще не с полным доверием. Видя сдержанность женщины, находившейся так долго в незаслуженном заключении, Жермена решила для начала рассказать ей собственную печальную историю. Она поведала все от того момента, как была похищена, изнасилована графом Мондье и как спасли ее русский князь Мишель Березов с художником Морисом Вандолем, а потом Мишель выхаживал во время смертельной болезни у себя дома, увез в Италию, чтобы обоим спастись от преследований, но там бандиты похитили князя, после чего случился странный недуг, а затем Березов оказался разорен, по возвращении в Париж они бедствовали. Рассказала об их ужасной жизни на улице Мешен и о покушении на убийство их доброго друга Бобино. В общем, ничего не скрывала и, говоря о своих горестях, как бы вновь переживала их сама. Маркизетта слушала ее с большим вниманием, потом с состраданием, а под конец и прерывала исповедь рыданиями. — О бедное дитя! Какие муки! Почти как в моей жизни, но мне пришлось еще тяжелее, чем вам. — Я еще далеко не обо всем упомянула, вы узнаете, что было потом, если захотите выслушать продолжение. — И вы не сошли с ума после всего, что пережили! Жермена радостно вскрикнула: — Наконец-то вы поверили, что я не впала в умопомрачение, что моя голова выдержала все испытания, даже заключение в эту лечебницу. — Да, дитя мое, верю, вы вполне в здравом уме, извините за вчерашнюю недоверчивость. Но ведь мне столько раз приходилось слушать здравые на первый взгляд рассуждения здешних несчастных, всегда кончавшиеся каким-нибудь бредом, что поневоле станешь подозревать чуть не каждого… — Но вы-то сами, мадам, как смогли выдержать столько лет жизни в этом аду и не потерять разум? И простите меня за то, что я ожидала увидеть вас если не совсем помешанной, то все-таки не вполне в здравом рассудке. — Сама не знаю! Вероятно, потому, что я заставила себя отрешиться от прошлого и настоящего, не думать о будущем, не питать никаких надежд. Я провела все эти годы в одиноких слезах и молитвах… — Вашему страданию придет конец. Однако надо, чтобы и вы мне поверили и тоже все рассказали о себе. — Да, да, разумеется, я буду вполне, до конца откровенна, отвечу на все ваши вопросы и, более того, дам бумаги, что станут грозным оружием в ваших руках. — Я знаю о существовании этих бумаг и даже то, что они хранятся в целости. — Боже мой! — воскликнула в изумлении Маркизетта. — Не может быть! Лишь мне одной известно… И женщина снова усомнилась и подумала: она все-таки сумасшедшая. Но ясный взгляд Жермены опять рассеял сомнения. — В жизни все случается, даже невозможное, — несколько наставительно сказала девушка. — Скажите, разве то, что мне известны ваше имя, место, где вы находитесь, не менее удивительно, чем сведения о бумагах? — Вы правы, обо мне знали только Бабетта и Мондье, а они вряд ли проговорились бы. — Приготовьтесь же, мадам, услышать, если угодно, о том, что покажется вам еще более невозможным, однако, поверьте, вполне реальным. Я намеревалась отложить на другой день продолжение своей жизненной истории, но, пожалуй, закончу сегодня, чтобы рассеять у вас последние сомнения.— Я постараюсь говорить кратко и лишь о самом главном, — начала Жермена. — Итак, мы оказались в ужасной нужде, и, что страшнее любой нищеты, Мишель Березов, мой жених, вдруг без всякой причины стал меня ненавидеть, открыто и жестоко. Однажды он занес надо мной кулак и хотел также ударить мою больную сестру. Я, конечно, возмутилась и вознегодовала. Посмотрев ему прямо в глаза, я держала его под своим взглядом, вероятно, выражавшим всю мою волю. И Мишель вдруг затих, лицо сделалось спокойным, он улыбнулся и сказал, что любит меня по-прежнему. Я безмерно удивилась такой резкой перемене и спросила, что с ним произошло, прежде чем он меня возненавидел, и что происходит теперь. И услышала в ответ: он… спит. Да, да, именно так — спит. Скажите, мадам, знаете ли вы, что такое гипнотизм?[126] — Да, это искусственное усыпление, вызываемое особенным взглядом человека, или длительным рассматриванием блестящего предмета. Этот способ воздействия на психику пытались применять и здесь, в лечебнице, но почти безуспешно, и лечение внушением тоже, оказалось, мало действовало на душевнобольных. — Я вижу, вы вполне осведомлены о гипнотизме, и скажу вам, что на некоторых впечатлительных особ он влияет столь сильно, что они становятся как бы ясновидящими. — Я читала, как под воздействием гипноза такие люди способны лицезреть то, что обычный человек не может различать, и таким образом становятся совершенно покорными тем, кто приводит их в такое состояние. В гипнотическом сне можно внушить чувство любви или ненависти к кому-либо и даже желание совершить преступление. — Совершенно верно, и вы поймете то, что я вам расскажу. Под действием моего невольного гипноза Мишель вновь стал таким, каким был до того, как бандиты в течение восьми дней продержали его в плену. Странная слепая ненависть ко мне прошла, и князь любил меня как прежде. Он больше не считал себя сумасшедшим, не готовился покончить с собой, хотел жить, строил планы на будущее и выказывал ко мне прежнюю нежность, утрату которой я так тяжело переживала. Часа через два я решила прервать его неестественное забытье и велела проснуться. Видимо, он пережил при этом что-то неприятное и сказал мне: «Напрасно вы меня разбудили, мне было так хорошо!» Да, вырванный из гипнотического сна, он опять меня возненавидел. Он чуть не стал буйным умалишенным и начал грубо обращаться со всеми окружающими. Я снова пристально посмотрела ему в глаза и приказала спать, спать, спать… Он быстро успокоился, заулыбался и с облегчением вздохнул, уже с закрытыми глазами. Во время его сна я принялась расспрашивать его, почему он так резко переходит от любви к ненависти и обратно, отчего в состоянии бодрствования он вел себя подобно сумасшедшему и намеревался покончить самоубийством, а во сне чувствовал себя счастливым, добрым, любящим и хотел жить. И он неизменно отвечал: «Так надо, он так хочет…» — «Кто хочет?» — «Он!» В течение многих дней он повторял одно и то же, ни разу не давая других ответов на мои вопросы… Беседа затягивалась, Жермена старалась быть немногословной, извинялась за излишние подробности, но Маркизетта ласково просила не смущаться и продолжать. И Жермена дальше рассказала, как ей постепенно удалось с помощью своего благотворного гипноза побороть действие внушения, какому подверг князя злодей. Не сказав доктору, лечившему ее сестру, о душевном состоянии князя, она как бы из любопытства расспросила врача о гипнотизме, и тот посоветовал ознакомиться с рядом книг по этому вопросу, она их приобрела, с жадностью прочла, и хотя не все поняла, но отчасти усвоила, как надо действовать, дело пошло на лад. Князь начал выздоравливать, и одновременно поправлялась после тяжелого воспаления легких младшая сестра, и вернулся из больницы вылеченный от раны Бобино. Благодаря дружеской помощи Мориса Вандоля, одолжившего около трех тысяч франков, в дом вернулся достаток. Бобино, по его собственному выражению, «еще был слабак, но авария прошла без последствий». Все его обнимали и целовали — и по очереди и одновременно — и, к его большому удивлению, Мишель отнесся к нему с прежней сердечностью, хотя в последнее время был весьма холоден к тому, кого считал названым братом. Дальше Жермена поведала Маркизетте, предварительно объяснив, кто есть кто из называемых ею лиц, как Мишель в состоянии гипнотического сна, вызванного ею, сказал, что Бобино был ранен Бамбошем и что сейчас Бамбош говорит с Пьером, близким помощником графа Мондье, о том, что надо сделать очередной взнос за содержание Маркизетты. Когда она, Жермена, спросила, кто это такая, князь ответил: «Женщина, уже немолодая… очень несчастная, тоже жертва бандита Мондье. Мать Жоржа и Жанны…» Услыхав сейчас об этом, Маркизетта воскликнула в удивлении: — Как может быть!.. Человек, никогда меня не видевший и ничего обо мне не знавший, вдруг заговорил об этом… Удивительно и страшно! — Гипнотизм — ужасное оружие в руках злодеев, но, когда им пользуются добрые люди, он служит защитным средством. Вы увидите, как мы с его помощью спаслись, — сказала Жермена. — Значит, вам известны секреты Мондье, этого негодяя! — Увы, к сожалению, ясновидение месье Березова становится почти бессильным, как только вопросы касаются личности графа. Вероятно, на князя еще действует остаточное воздействие Мондье, тот значительно раньше, чем я, усыплял Мишеля и внушал ничего не помнить про гипнотизера… Теперь вы поняли, мадам, каким путем мы про вас узнали… Отхлебнув кофе, Жермена продолжала: — Князь Мишель не мог мне ничего больше сказать о вас, но кое-что сообщил про Лишамора, про Башю по прозвищу Бабетту и добавил, что эти люди вас знают. Я вам изложила все за несколько минут, а ведь потребовалось пять месяцев настойчивого труда, чтобы побороть влияние гипноза Мондье на рассудок Мишеля и собрать понемногу обвинительные документы. Что касается практических действий, я решила начать их контактом с вами, для чего на свой страх и риск пробралась сюда просить содействия нам. Правильно ли я поступила, рассчитывая на вашу помощь? — Благодарю вас, дитя мое! Я с вами навсегда! Но Мондье богат, могуществен, у него под началом целая армия всевозможных негодяев. У вас же ничего, кроме доброй воли и большой энергии, а их вдобавок парализует бедность. Вы вступаете в неравный бой! Жермена с гордостью улыбнулась. — Вот в одном вы заблуждаетесь. Дело в том, что мы совсем не бедны… Напротив, мы имеем весьма значительные средства. Источник их самый честный, хотя шумное появление в свете и роскошная жизнь, несомненно, многих заставила дурно обо мне думать. Сначала Жермена рассказала, как Мондье заставил князя Березова, находившегося в состоянии гипнотического сна, подписать различные документы и таким путем присвоить все деньги и имущество князя, находящиеся во Франции. Это оказалось делом непоправимым, потому что Березов решительно не помнил, как оно совершилось. Жермене понадобилось долго лечить Мишеля гипнозом, пока к нему не вернулась отчетливая память о том, как он все это натворил собственными руками. Когда князь совершенно выздоровел, он по-прежнему любил Жермену, знал, кто был виновником их общих бед, и твердо намеревался одолеть этого врага. Положение их семьи становилось нестерпимым, пока мог действовать бандит, способный на любое преступление. Мондье сделался как никогда опасен для самой Жермены, ее он все еще преследовал, домогаясь любви; для Мишеля, коего он всячески пытался убрать со своего пути; для Бобино, что чудом спасся от графского наемного убийцы, и для сестер Берты и Марии, не решавшихся выйти на улицу, боясь быть похищенными как заложницы. Держали семейный совет о том, как быть дальше. До сих пор они жили, скрываясь ото всех, что делают обычно слабые, пытаясь спастись от злого умысла. Березов, вполне придя в себя, став как прежде сильным и здоровым, взялся определить состояние, что у него сохранилось. В России он владел большими земельными наделами, они не приносили сколько-нибудь значительных доходов, поскольку хозяйство было запущено, однако, если бы князь жил на родине, этих средств им всем вполне бы хватало на безбедное существование. Но, как многим из русских аристократов, ему нравилось обитать во Франции. Он не имел права продать свои зе́мли, но мог частично заложить их в казну и получить значительную сумму, что позволило бы им вдобавок еще и начать беспощадную борьбу с противником. Мишель призвал к себе Владислава, своего верного слугу, которого в затмении разума уступил Мондье вместе с домом на улице Ош. Владислав оставался служить там как верный сторожевой пес, ожидающий своего хозяина. Он заплакал от радости, увидев князя, носимого им на руках еще дитятей. Узнав, как плохо жилось бывшему барину, слуга ласково попенял, почему тот не позвал его раньше. — Батюшка ты мой, ты разумно поступил, — сказал бывший дворецкий с той простотой, с какой последний русский мужик может заявить своему императору. — Я бы мог работать кучером, плотником, носильщиком, чтобы тебе на хлеб заработать. — Может, и вором? — шутя спросил его Бобино. — И вором тоже, — ответил Владислав. — И убийцей? — И убийцей, ежели бы это понадобилось барину, — серьезно ответил Владислав. — Я у тебя такого не прошу, — сказал Мишель, глубоко тронутый преданностью человека, готового ради него на все. — А что надо мне теперь делать? — Поехать в Петербург и в Москву с полномочиями от меня и занять там как можно больше денег во что бы то ни стало. Это легко: шестьдесят два часа туда, столько же обратно и там добрых две недели. На другое утро мужик отправился в путь. Между тем, чтобы скрыться от преследований врага, семья, жившая на улице Мешен, исчезла оттуда, никому не оставив адреса. О нем не знал решительно никто, даже Морис Вандоль, оказавший в тяжелые дни помощь, благодаря чему они и смогли найти убежище и совершить побег. Только Владиславу перед его отъездом Мишель сообщил о месте, где они намеревались затаиться. На окраине предместья Сен-Жермен-ан-Лей нашелся просторный дом, окруженный высокими стенами с крепкими воротами, с большим цветущим садом. Настоящее укрытие для преследуемых и гнездышко для выздоравливающих и влюбленных, где Мишель окончательно поправился, опять всем сердцем принадлежа Жермене. Он принялся учить ее всему, что знал сам, посвящал ее в законы, правила и причуды светской жизни, приобщал к хорошим манерам, — словом, насыщал всем, что должно было понадобиться в скором будущем. Жермена с увлечением занималась спортивными упражнениями: верховой ездой и стрельбой из пистолета, в чем делала поразительные успехи. Так как им требовались абсолютно надежные помощники, Бобино попросил своего друга Матиса и его жену временно оставить свой дом на улице Паскаля и переехать в Сен-Жермен. Те с удовольствием приняли предложение. Вернулся из России Владислав и привез в документах на Французский банк более двух миллионов франков, выданных под залог земель. Князь предоставил все деньги и ведение хозяйства в полное распоряжение возлюбленной, а сам замкнулся в неприступных стенах сен-жерменского владения. Надлежало подготовить последнее оружие для борьбы с Мондье. Бандит, сначала удивленный, потом взбешенный их таинственным исчезновением, напрасно рассылал лазутчиков по всему Парижу и предместьям. Князь, Бобино, Жермена и ее две сестры оставались для графа в неизвестности. Проявив удивительные способности быстро усваивать уроки князя, Жермена превратилась в настоящую даму из большого света. Мишель сделался подлинным ясновидящим и многое открыл ей про Лишамора, мамашу Башю и Маркизетту. Все эти сведения подтвердились бумагами, полученными от французской полиции при содействии Российского посольства. Не спеша составляли планы последнего удара врагу, ожидая удобного момента. Наконец Жермена могла сказать: я готова! На семейном совете решили, что она больше не будет скрываться от Мондье, а, наоборот, открыто пойдет на встречу с ним, не станет отвергать ухаживания, напротив, подаст надежды, чтобы усыпить извечную подозрительность графа. Бобино, став добровольным управляющим, купил для Жермены особнячок Регины и вместе с новой его хозяйкой поставил дом на широкую ногу: завели лошадей, наняли опытную и импозантную[127] прислугу; наконец Жермена поселилась там как бы постоянно, в роли одинокой светской дамы. Мондье, увидев ее во время гулянья на Елисейских полях, влюбился сильнее прежнего, но уже не мог помыслить о том, чтобы поступить с ней тем, давним способом. Хотя Жермена позволила графу посещать ее дом и говорила с ним как бы дружески, она не раскрывала ему, как и другим, кто ее знавал, секрета своего превращения из простой швеи в настоящую даму большого света, что особенно возбуждало страсть и одновременно подозрительность Мондье. Зато сейчас Жермена не таила ничего от Маркизетты, и та слушала с величайшим вниманием и сочувствием.
Когда гостья закончила, Маркизетта, с неверием в счастье, свойственным много страдавшим затворницам, сказала ей: — Вы сильны и отважны, я в этом глубоко уверена. То, как вы боролись против Мондье с помощью гипнотизма, доказывает незаурядность вашей личности. И тем не менее, едва вы начали действовать, этот дьявол нанес вам страшный удар. Он догадался, что вы узнали, где я заточена, понял, что вы придете ко мне сюда, и устроил ловушку. — Одно из двух: либо меня выдала старуха Башю, либо он взломал мой сейф и прочел хранившиеся там документы. — Не имеет значения, как он узнал, дитя мое, ему было нужно запереть вас здесь, заставить сдаться под пытками, какие применяют тут к несчастным помешанным. Теперь вы — его пленница и он вас не выпустит с помощью доктора Кастане, раба, слепо ему повинующегося. — Ну это мы еще посмотрим! Во всяком случае, при той относительной свободе, которой я здесь пользуюсь, я легко убегу. — Вы ошибаетесь! Здесь стерегут как в тюрьме. Сторожа каждый час совершают обход… По ночам спускают собак, они никого не слушаются, кроме своих хозяев… На дверях крепкие решетки и через высокие стены невозможно перелезть. Наконец, многочисленный персонал следит за нами неусыпно днем и ночью. — Я решилась на все, чтобы узнать о вас и вызволить отсюда! — Как?! Вы действительно собираетесь попытаться освободить меня! — воскликнула Маркизетта. — Вчера, когда вы говорили о моем вызволении, я не совсем поняла, подумав лишь о духовном раскрепощении, о том, что вы избавите меня от одиночества, чувства заброшенности… — Вы, так же как и я, его жертва, мы соединим усилия и станем жить свободными и отмщенными… Одно только меня смущает: почему Мондье, зная, что мы можем здесь встретиться, заранее никак не воспрепятствовал этому. — Он уверен, что я и в самом деле сумасшедшая. Я десять лет не проронила ни слова, проводила время в слезах, оплакивая потерянное счастье, думая о детях, похищенных у меня, о том, что никогда больше с ними не увижусь. Я ведь не знаю даже, где они, что с ними; не дай Бог, если их вообще… Потом я притерпелась и беседую с сиделками, сторожихами, они тоже считают меня тихой помешанной. Мондье известно все это, и он не боится меня, не опасается, что я могу кому-то рассказать о прошлом. Может, он даже думает, что я ничего не помню. Словно такие раны могут зажить! Но довольно говорить об этом! Вы пришли, чтобы получить оружие против этого ублюдка — я вам его дам. Вчера вы исповедались мне. Послушайте же меня.
— Сначала я должна сказать, — приступила Маркизетта, — кто же такой Мондье, настоящий Мондье, о ком почти никто не знает. Лучшее средство свалить его — объявить всем, кто он такой. Так слушайте меня. Прежде всего, даже его имя не подлинное, как и титул. Его зовут просто Лоран Шалопен, а вовсе не граф Гастон де Мондье. Правда, кровь этого благородного рода все-таки течет в жилах проходимца. Его отцом считался — но только считался — Жан Шалопен, начальник охоты у старого аристократа, чья жена была его собственной кузиной[128] и отменной красавицей. Однако далеко не юному графу Норберу де Мондье — как говорится, седина в бороду, бес в ребро, — приглянулась спутница жизни его приближенного, завязались любовные отношения, довольно обычные между барином и служанкой… Супруг закрывал на это глаза, в награду за снисходительность получил от графа кругленькую сумму, хорошо ее употребив для процветания собственного хозяйства. А блудная жена его родила сына, нареченного Лораном. Он-то и стал тем мерзавцем, о ком мы ведем речь. Старик Мондье оказался любвеобилен и справедлив по-своему: законная супруга — графиня тоже разрешилась от бремени, на свет появился маленький граф Гастон, он-то и был настоящий Мондье… Мой… умерший!.. — сказала Маркизетта, плача. Взволнованная Жермена сказала: — Если вам очень тяжело, прервитесь, я подожду. — Нет, я рада, что еще могу плакать. Уже давно я не облегчала душу слезами. Я доскажу. — Мальчики росли и воспитывались вместе, сначала играли, позднее учились. Заядлый любитель охоты на волков и кабанов, граф Норбер почти круглый год жил в имении в Бретани, проводя с графиней в городе всего месяца три, зимой. Маленькому графу Гастону не было и шести лет, когда мать умерла от тифозной горячки. Я рассказываю об этом, чтобы вы поняли, как могла повлиять эта смерть на тихого, доброго и очень чувствительного мальчика. Норбер де Мондье, не отличавшийся большой отцовской нежностью, нанял сыну воспитателя и опять дал в товарищи сводного брата Лорана — об их родстве многие догадывались. Они были так похожи друг на друга, что об этом достаточно посплетничали в округе. Но сходство было чисто внешним, по характерам они совершенно различались. Завистливый, неискренний, грубый и жестокий Лоран был полной противоположностью Гастону. Еще ребенком он, казалось, обещал стать таким, каким и сделался в юности, а потом и взрослым мужчиной. По соседству с замком стояла ферма, ею управлял Жан Корник, имевший троих сыновей и дочку, Марию-Анну, прехорошенькую, беленькую, тоненькую и хрупкую, она росла всеобщей любимицей. Даже старый граф Норбер, страстный охотник, иногда терся взъерошенной жесткой бородой о ее розовенькое личико. А графиня де Мондье была ее любящей крестной. Однажды в замке устраивали детский бал. Позвали Марию-Анну, графиня занялась ее нарядом, придумав одеть крестницу в платье времен Людовика XV. Костюм так подходил девочке, что она казалась сошедшей с картины, висевшей в гостиной. «Настоящая маленькая маркиза!» — сказал граф. Весь вечер ее так и звали — Маркизетта. Милое прозвище осталось навсегда. Девочка часто приходила в замок поиграть с мальчиками; оба ее любили, но проявляли свои чувства по-разному. Гастон относился к подружке с бесконечной нежностью, дарил букеты из полевых цветов, нежно целовал в щечки, охотно исполнял все желания. Лоран, ревнивый и скрытный, старался отдалять девочку от Гастона, явно ему предпочитаемого, и, поскольку это не удавалось, он бил, царапал и кусал Маркизетту, когда оказывался с ней наедине. Потом, доведя до слез, начинал бить сам себя, царапать свое лицо до крови, в наказание за то, что сделал ей больно. Маркизетта побаивалась Лорана, часто видя его злым и жестоким. Например, однажды Гастон нашел на высоком каштане гнездо со щеглятами и показал их подружке. Оба долго любовались забавными птенцами, пытались — понапрасну — их покормить… А на другое утро увидели, что славным птахам в глазенки кто-то воткнул колючки акации. Подошел Лоран, он смотрел со злой улыбкой, Маркизетта закричала: «Это он! Он злой! Нехороший!» Гастон, очень рассерженный, бросился на сверстника и поколотил как следует. Лоран не сопротивлялся, но девочка не могла забыть полного ненависти взгляда, каким он глядел тогда на Гастона. А вскоре, должно быть, в отместку, Лоран зарезал беленького козленка. Отец наказал, боясь, что старый граф прогневается, но Норбер де Мондье сказал начальнику охоты: «Оставь его, он молодец, не боится крови, умеет действовать ножом, лет через пятнадцать из него выйдет храбрый добытчик зверя. Мне хотелось бы, чтобы эта мокрая курица Гастон был на него похож!» — Я, наверное, надоела историями о прошлом, — прервала себя Маркизетта, — но если бы вы знали, какая радость и печаль так вспоминать дни своей жизни, особенно детства. — Говорите, мадам! Говорите! — воскликнула Жермена, заинтересованная простым и одновременно таким трогательным рассказом. — Все, что касается вас, мне не может быть безразлично. — Благодарю вас. Итак, шли годы, Гастон и Лоран росли вместе, занимался с ними общий наставник. Человек очень образованный, с широким кругозором, но преданный скверным порокам. Имя его Кастане… — Брат директора этой лечебницы, — вставила Жермена. — Да. — Мне известно, кем он стал впоследствии, и ваш рассказ теперь многое поясняет. Но продолжайте, пожалуйста. — Лоран Шалопен жил в замке наполовину как добровольно взятый, но чужой иждивенец, наполовину как родственник. Он усердно занимался, с жадностью усваивая знания, много читал. Старый граф иногда говорил: «Учись, мой мальчик, я устрою твою судьбу, будешь управлять моими имениями… займешь видное положение… Обворовывая меня в меру, составишь себе порядочное состояние». Мария-Анна стала красивой семнадцатилетней девушкой, чуть-чуть кокетливой, гордой сознанием, что ее любит Гастон Мондье. Она одевалась как городские барышни, ухаживала за волосами, вьющимися от природы; кожа у нее была белая как молоко, руки совершенной формы. Она служила в замке кастеляншей и, несмотря на свою молодость, управляла всем хозяйством дома и потому считалась полноправным членом семьи. Девушка радовалась жизни, поглощенная чувством любви, в какое превратилась детская привязанность к Гастону. Оба не заметили, как это произошло. Юный граф, растревоженный их поцелуями украдкой, однажды сказал, что любит ее и она должна ему принадлежать. Маркизетта поняла и отдалась просто, без внутреннего сопротивления, счастливая тем, что дарит свое тело тому, кто уже давно владеет ее душой. Но и Лоран тоже любил подружку детства, любил страстно, ревниво и дико, он беспрестанно сыпал признаниями и добивался взаимности. Маркизетта не хотела и слушать, безудержно преданная Гастону, и, кроме того, Лорана она боялась. Ей мерещилось, что его руки в крови после того как он умертвил птенцов и зарезал козленка. Очень скоро Лоран догадался о связи Маркизетты с Гастоном и был словно помешанный от злости и ревности. Девушка часто слышала, как он бормочет самому себе: «Он у меня все украл… мое положение… богатство… и даже женщину, которую я люблю! Я должен бы носить имя Мондье, а меня зовут Шалопен… Маркизетта его обожает… Я отомщу!..» И он исполнил злобное и жестокое намерение. Отец Марии-Анны проведал о том, что болтают про его дочь, и, конечно, узнал последним. Он вызвал ее для объяснения, и та спокойно подтвердила, что скоро станет матерью. Несчастный от такого позора воздел руки к небу и воскликнул: «Господь и Бог мой, у меня нет больше дочери!» Фермер ведь был одним из старых бретонцев, проникнутых узкой набожностью с неколебимым понятием о чести, тех, кому непонятна возможность прощения греха, дающего начало его искуплению. Безжалостно прогнав дочь из дома, он сжег все вещи, что ей принадлежали, и запретил произносить при нем ненавистное и презренное имя. Маркизетта встретила Гастона в тот момент, когда намеревалась броситься в пруд. «У меня нет на свете никого, кроме вас, Гастон!» — рыдая говорила она. «Я никогда тебя не оставлю, любимая моя!» — отвечал он, нежно целуя девушку. Ему исполнился тогда двадцать один год. Хотя Гастон уважал и боялся отца гораздо больше, чем Лоран, он честно во всем признался. Старый граф принял молодцеватый вид и, смеясь, ответил сыну: «Ах, шельмец! Ты таки просветил девчонку! Честное слово! Я поступил бы так же! Но она — дочка моего фермера, будет ужасный скандал! Однако есть возможность уладить». Гастон, воплощенная честность и порядочность, подумал, что отец скажет: «Женись на ней, дай имя ребенку, который совсем не просился родиться на свет». Но старый охотник на волков произнес другое: «Вижу, тебе хочется погулять!.. Пора послать тебя в Париж… Возьмешь с собой Маркизетточку… она в самом деле лакомый кусочек… ты ее как следует образуешь, отшлифуешь и введешь в свет, где и я в молодые годы славно повеселился! Проходимец Лоран поедет с тобой. Я буду высылать тебе три тысячи франков в месяц и изредка приезжать, чтобы вкусно поесть с тобой и выпить бутылочку доброго вина. Непременно оповести меня, если наделаешь долгов, хотя лучше их избегать. Пока до свиданья! Советую повеселиться. Да, забыл о главном: устрой с ребенком все как следует. Ты меня понял?» Через три месяца у Маркизетты появился на свет красивый мальчик, как незаконнорожденного его не крестили, в акте гражданского состояния он был записан: Жорж-Анри, сын Марии-Анны Корник и Гастона-Жоржа де Мондье. Старый граф велел «устроить с ребенком все как следует», и Гастон сделал самое лучшее в этом положении — дал сыну свое имя. — Это прекрасно! Видно, что он был действительно сердечным человеком, — вставила Жермена. А разговорившаяся Маркизетта продолжала: — Случай, конечно, не без помощи Лорана сделал так, что Гастон де Мондье встретился со своим бывшим воспитателем Кастане, давно прогнанным из замка за предосудительное поведение: тот испробовал разные профессии, побывал во многих местах и в конце концов пристроился к акушерке по прозвищу Бабетта. Лоран всегда поддерживал с ним тайные отношения. Бывшего ученика привлекала к прежнему воспитателю общая склонность к пороку, в удовлетворении какого младший оказывал старшему содействие. Пройдоха и будущий злодей уверил сводного брата, что Маркизетте лучше всего будет рожать у Бабетты, мотивируя тем, что старый граф может со дня на день приехать, и роженица будет чувствовать себя неловко в его присутствии. Гастон, не имея причины не доверять Лорану, охотно согласился. Его слепая доверчивость стала вскоре причиной самых больших несчастий и позволила негодяю мстить своему товарищу детства и брату, кого он смертельно ненавидел. Разумеется, Лоран поспешил известить старого графа о том, как Гастон выполнил отцовское пожелание относительно ребенка. Граф Норбер пришел в бешенство и тотчас помчался в Париж. Еще бы: его знатный сын дал свое аристократическое имя незаконнорожденному ребенку от какой-то потаскушки! Первым делом граф разыскал предателя Лорана, готового оказать содействие в совершении любого преступления, чтобы утолить собственную ненависть. Маркизетта ничего не подозревала об их заговоре, вскоре нанесшем молодой матери жестокий удар. К большому сожалению, она не могла грудью кормить ребенка: горе, что она пережила перед родами, когда отец выгнал ее из дому, лишило молодую маму молока. Обожаемого младенца, плод ее тайной любви с Гастоном пришлось отдать на воспитание кормилице, жительнице поместья Круасси. Через месяц, еще чувствуя себя не совсем здоровой, она попросила Гастона съездить повидать сына. Гастон возвратился в совершенном смятении, еле мог сказать, что ребенок исчез сутки назад. Маркизетта упала без чувств. Уже долгое время спустя, после того, как бедняжка пришла в себя, она вспомнила жестокую улыбку Лорана, когда тот обещал ей отомстить. Не кто иной как он подсказал взбешенному графу способ расплаты, разработал план, а Бабетта его выполнила. Она сделала даже больше того, что приказали. Лоран замыслил похитить мальчугана, чтобы сделать из него заложника, а туповато-усердная Бабетта просто бросила украденное у кормилицы дитя на улице. Напрасно Маркизетта на коленях умоляла сказать, где Бабетта оставила малыша: та, уже тогда сильно пившая, уверяла, что ничего не помнит. Маркизетта отдала все деньги и драгоценности, какие имела, но мерзкая баба, видя, что больше поживиться нечем, сказала с наглой улыбочкой: «Твой ребеночек на улице Потерянных Детей номер ищи-свищи…» Так Жорж-Анри и пропал окончательно… — Я готова была лечь под топор палача, лишь бы убить эту гадину! —воскликнула Маркизетта. — Но разве вы не могли обо всем сказать отцу мальчика, вашему возлюбленному Гастону? — спросила Жермена. — Я не осмеливалась. Боялась, что в порыве ярости он натворит ужасное. Очень добрый и тихий, Гастон в ярости делался сам не свой. Я боялась: между ним и его отцом произойдет нечто непоправимое, если станет известно, что старый граф причастен к исчезновению ребенка. — Отец Гастона — негодяй, я бы ему отомстила! — горячо сказала Жермена. — Вы парижанка и легко загораетесь. Мы, бретонцы, привыкли к покорности судьбе. Я оплакивала ребенка, тяжело переживая горе, но и утешалась тем, что не посеяла вражды между Гастоном и старым графом. Моему возлюбленному стало бы еще тяжелее, узнай он о преступлении своего отца… Но я закончу свою повесть, с вашего позволения? — Да, да, я совсем не утомлена, и кофе вы приготовили восхитительно, он очень взбадривает. Я вся — внимание, мадам. Два года спустя, Маркизетта почувствовала, что вновь забеременела, и это стало большим утешением после тяжелой утраты. Сделавшись теперь недоверчивой, она поделилась радостью только с Гастоном. Ему исполнилось двадцать три года и до совершеннолетия, каковое по закону наступает в двадцать пять, оставалось не так уж много. Тогда он мог жениться на Маркизетте, не испрашивая на то дозволения отца. Увы! Несчастный сделал непоправимую ошибку: он выдал их общий секрет Лорану, кого считал братом. Мог ли Гастон не доверять ему? Лоран всегда проявлял сердечность, был осведомлен обо всех его планах, клялся, что никогда его не покинет… Через неделю в Париж, как бы случайно, снова приехал старший Мондье. У него произошел с сыном крупный разговор, граф решительно потребовал, чтобы Гастон через короткое время женился на дальней родственнице, кою никогда в жизни не видел. В их обществе такое в обычае. Гастон умолял отца отказаться от этой мысли, но граф заявил непреклонно: или он женится, или отправится на два года в кругосветное плавание, пока же сын не решит, отец не будет давать ему ни сантима. Сказав это, Мондье-старший добавил: «Если ты не исполнишь мою волю, я промотаю все мое состояние, после моей смерти ты ничего не получишь и умрешь нищим». Гастон боялся нищеты для Маркизетты и будущего ребенка и, отказавшись от навязываемой женитьбы, согласился на путешествие. Отец выделил значительную сумму денег и не покидал сына, пока не посадил его в Гавре на пароход, направлявшийся в Северную Америку. К несчастью, неразлучный Лоран поехал с братом. Граф теперь вел себя вполне корректно и дал Маркизетте несколько тысяч франков, от них в другое время молодая женщина с гордостью отказалась бы, но в том положении следовало думать о будущем ребенке. Уезжая, Гастон обещал Маркизетте писать как только сможет чаще. Он сдержал слово, и с каждой почтой, еженедельно приходило очередное нежное послание. Гастон был счастлив, насколько мог быть таковым в разлуке с любимой. Он ездил по Америке, охотился, посещал племена индейцев и все его письма заканчивались горячими уверениями в вечной любви. Часто он добавлял: «Время движется и каждый день приближает нас к тому, когда перед Богом и всем светом я смогу назвать тебя женой». Маркизетта верила, терпеливо ждала, считая часы и моля Господа о милосердии к ним обоим. Через три месяца она родила прехорошенькую девочку, ее-то уже никому не доверила, кормила и ухаживала сама, испытывая великое счастье материнства во всей полноте. Гастон находился в это время в центре Калифорнии, собирался переехать оттуда в Мексику и там сесть на пароход и плыть в Южную Америку. Письма стали приходить реже, но были еще нежнее и длиннее, чем прежде. Ребенок рос здоровым, и мать терпеливо ждала. Уже больше года Гастон путешествовал в сопровождении Лорана. Маркизетта думала: «Пройдет еще столько же времени, он вернется, женится на своей Марии-Анне, и наша маленькая Жанна законно получит его имя». Почта приходила все реже. Гастон был уже в Японии, собирался оттуда в Китай и затем, посетив Индию, намеревался плыть домой. Тон его писем как-то изменился, в них стало проявляться больше страсти, чем нежности, он как будто терял терпение от долгой разлуки с любимой. Маркизетта думала с восторгом: «Дорогой Гастон! Как он меня любит!» Время ожидания тянулось неимоверно долго, но дочка служила Маркизетте утешением, и сердце ее радостно билось, когда она думала о встрече с возлюбленным, который вскоре станет ее мужем. Оставалось уже недолго ждать. Маркизетта, весьма поднаторевшая в географии, следила по карте за расстояниями. Наконец пришла депеша из Марселя. Маркизетта одновременно плакала и смеялась, танцевала и говорила со своей девчуркой, как со взрослой. Настал день, когда она услышала, как подъехала карета, раздались быстрые шаги по лестнице, она увидела темного от загара, бородатого мужчину, простиравшего к ней руки, была уже готова броситься в его объятия, как вдруг отпрянула, воскликнув в ужасе: «Ты не Гастон!.. Ты — Лоран!..» — «Мария-Анна! Дорогая! Что ты говоришь! Неужели ты не узнаешь Гастона, который тебя так страстно любит?! Отца твоего ребенка… Моей дорогой девочки!..» — «Все ложь!.. Ты Лоран!» — «Лоран умер от лихорадки в лесах Бомбея. Я не набрался мужества тебя об этом предупредить, письма хранятся на корабле». — «Ты лжешь! Умер Гастон!.. Ты его убил!.. Чтобы занять его место… Взять его фамилию… завладеть его женой… Убийца!.. Убийца!..» Тогда он пробормотал, страшно побледнев: «Нет, я его не убил! Клянусь тебе в этом! Он умер год назад… у меня есть доказательства… там… бумаги в этом чемодане… свидетельство о смерти… с подписью и печатью секретаря французского консульства. Умер от желтой лихорадки… смотри… вот подписи… вот печати… я за ним ухаживал, я сделал все, чтобы спасти… это чистая правда… я не лгу…» — «Ты лжешь… я это чувствую…» — «Когда он умер, у меня возникла мысль, внушенная дьяволом. Я люблю тебя с детства… ты знаешь это… я тебя обожал безумно и безнадежно… Я сказал себе: «Гастон умер… я займу его место… стану виконтом де Мондье… буду продолжать путешествие под его именем и писать его почерком и слогом нашему общему отцу и Маркизетте… Позднее предложу той, кого я так люблю, принять имя, что дал бы ей Гастон, будь он жив, имя и титул графини де Мондье, и ребенок получит его имя и состояние… Старый граф Норбер стал почти слеп, он ничего не заметит. Люди, окружавшие нас, тоже ничего не углядят, ведь мы с ним так похожи!» Маркизетта как сквозь туман слышала эти слова, голова кружилась, ее качало, и одна только мысль вертелась у нее в голове и как ножом резала сердце: «Гастон умер!.. Гастон умер!..» Лоран продолжал уверять в своей невиновности и дерзал говорить о любви. Несчастная чуть не умерла с горя. Удар был нанесен в тот момент, когда она готовилась стать совсем счастливой. С ней сделалась горячка, отчего бедняжка едва не умерла. Лоран, по-своему действительно любивший ее, ухаживал за ней как мог во время болезни, и когда она немножко оправилась, сказал, что едет в Бретань. «Я должен сыграть роль до конца и подготовить бедного старика к ужасному известию, — сказал он. — Ах, если бы было возможно, чтобы он принял меня за родного сына, если бы он не оказался столь же проницателен, как ты, Мария-Анна!» Шалопен уехал, оставив письменные доказательства о смерти Гастона. Через несколько дней Маркизетта получила из Бретани известие о том, что граф Норбер де Мондье умер от удара, узнав о смерти сына. Под письмом стояла подпись: «Лоран». Первое, что подумала Маркизетта: подлец убил старика! Она знала, что мерзавец способен на все. Предположив, что граф разгадал его преступление, Лоран не остановился перед новым злодеянием, чтобы окончательно закрепить совершенный обман. В Бретани его действительно приняли за Гастона де Мондье, так сводные братья были схожи, и так артистически усвоил его манеры убийца. Он наследовал графу, похоронил и, как могло показаться со стороны, вполне искренне оплакал. Лоран получил титул, имение и замок, стал де Мондье, и никто не заподозрил, что он значился прежде сыном начальника графской охоты. Родительская кровь Мондье и его знатное имя соединились в Лоране. Когда он отдал своему истинному отцу, ставшему и его жертвой, последний долг и юридически оформил все права на наследство, новоявленный граф вернулся в Париж в глубоком трауре, явился к Маркизетте и снова начал уговаривать быть его женой, но та не стала слушать, сердце ее умерло с кончиной Гастона, и молодая женщина решительно сказала бывшему товарищу детства и юности, что не желает его видеть, и запретила к ней приходить. Теперь он очень жалел о том, что оставил в ее руках свидетельство о смерти Гастона, и то, главное письмо, где извещал об упокоении старого графа от апоплексического удара. Сначала Лоран очень скромно просил вернуть документы, имевшие для него первостепенное значение. (Ему стоило немалых трудов ради этой цели добиваться у Маркизетты коротких деловых встреч; ни о какой любви и женитьбе уже не было речи.) Несчастная женщина решительно отказала и по какой-то интуитивной предусмотрительности положила бумаги в сохранное место, зная, что может ждать от новоявленного аристократа всего. Теряя надежду на осуществление своих планов и замыслов, негодяй сказал: «У вас теперь мощное оружие против меня, но берегитесь! Если когда-нибудь вы осмелитесь использовать его, вас поразят самые ужасные несчастья!» Граф де Мондье начал понемногу появляться в свете, пока очень осторожно, еще не чувствуя себя достаточно уверенным, но вскоре вошел во вкус разгульной жизни, постепенно предавшись ей совершенно. Через полгода он снова почти вломился к Маркизетте и требовал документы с особенной настойчивостью. Лоран — теперь уже Гастон — не мог чувствовать себя в безопасности, пока бумаги находились у женщины, что его ненавидела. Он предлагал значительную сумму и, когда Маркизетта наотрез отказалась, глянул на нее с такой ненавистью, с какой некогда смотрел на истинного Гастона де Мондье. Но у Маркизетты хватило силы сказать: «Если со мной произойдет несчастье, я подам прошение прокурору и бумаги Гастона передам ему». Через неделю после этого разговора Маркизетта слегка занемогла и, пообедав, против обыкновения прилегла и крепко уснула. Когда она пробудилась, детская кроватка оказалась пуста и к ней была приколота записка: «Вы больше не увидите своей дочери. Ее жизнь служит залогом моей безопасности, если вы что-нибудь сделаете против меня, она умрет, если вечно будете молчать, она проживет счастливо…» Удар оказался слишком тяжелым для несчастной женщины, она как бы помешалась, заболела воспалением мозга. В бессознательном состоянии ее перевезли в лечебницу, где Мария-Анна многие недели пребывала между жизнью и смертью. Потом, через какое-то время она очнулась в другой больнице, в той, где и находится по сие время…
Их разговор внезапно прервало появление надзирательницы Жозефины. Она вошла тяжелой походкой и сказала смеясь: — Вот заболтались… вижу, не скучаете вдвоем… на сегодня довольно. Завтра опять увидитесь. Женщины молча посмотрели друг на друга, вложив во взгляды все свои чувства, и покорно расстались. На другой день — уже пятый после заточения Жермены, когда она готовилась отправиться к своей подруге, надзирательница сказала, что они смогут встретиться только вечером. — Надеюсь, с мадам ничего не стряслось? — Просто небольшой нервный припадок, это с ней случается. В четыре часа Жермена намеревалась спросить надзирательницу, когда они пойдут во флигелек Маркизетты, но вдруг услышала на дорожке, посыпанной песком, звук шагов, показавшихся знакомыми. Жозефина, даже не спросив разрешения войти, объявила: — Граф де Мондье!
ГЛАВА 12
Мондье поклонился. Жермена встретила его холодно, на лице никак не отразилось волнение. Он явно нервничал. — Дорогая Жермена, печальная ошибка сделала вас здешней пленницей, я пришел освободить… — Поздно спохватились! После того, как меня подвергли насильственным и унизительным процедурам. Но если уж вы пришли, чтобы разорвать мои цепи, как говорится в театре, сделайте, чтобы меня выпустили отсюда немедленно, и разговор наш будет кончен. Такая независимость и резкость заставили посетителя несколько растеряться, но все-таки он сказал: — Прежде мы должны серьезно потолковать о наших взаимоотношениях. — Следовательно, вы хотите, чтобы я купила свою свободу… Намерены поставить мне какие-то условия. Одним словом, воспользоваться тем, что я нахожусь в западне, вами же и уготованной для меня. — Здесь только один человек вас горячо, безумно любит. Он сделает все, что вы захотите! — При условии, что я ему уступлю… Посмотрим… Но прежде мне хотелось бы знать, с кем я сейчас имею дело, с де Мондье или с его двойником Лораном Шалопеном? Граф, видимо, был готов к подобному вопросу, он печально улыбнулся и спокойно ответил: — А! Видимо, вы говорили с этой несчастной сумасшедшей. Мне кажется, Жермена, такие умные и проницательные женщины, как вы, не должны принимать всерьез слова несчастных помешанных, даже когда они говорят подобно нормальным. — Так, по-вашему, Маркизетта безумна? — Совершенно!.. — Разрешите в этом усомниться. — Спросите здесь кого угодно, и все скажут, что она страдает манией преследования и рассказывает всякие небылицы, весьма огорчительные, ибо некоторые слушатели вроде вас им верят. — Хорошо, пусть так; значит, вы действительно граф Гастон де Мондье? — Да, и могу это документально доказать, если вы не верите на слово. — И ваше графство к тому же не мешает вам быть одновременно и сеньором Гаэтано? Мондье стиснул зубы, он, казалось, был готов броситься на неосторожно рискнувшую так говорить с ним. — Я не понимаю, о каком сеньоре вы говорите, — сказал негодяй, сдержавшись. — Вы отлично знаете, о дворянине, что разбойничает на большой дороге… Грабит путешествующих или берет с них выкупы… Очень сильный и опытный гипнотизер… умеет внушать мысли… пользуется этим для всякого рода мошенничества… — Не понимаю, что вы хотите сказать? — спросил Мондье, разыгрывая удивление. — Однако я знаю об этом не от Маркизетты, якобы безумной. Тот, кто мне рассказал, совершенно заслуживает доверия. Из этого я заключаю, что вполне современный дворянин граф де Мондье иногда — и не столь редко — занимается разбоем, уподобляясь средневековым феодалам, а то и всякой мелкой швали. Мондье почти вплотную подошел к Жермене и резко сказал: — А если б это даже было так? Разве не воруют, и понемногу и даже очень помногу, высокопоставленные жулики, имеющие в городе красивые дома, в живописных местах — очаровательные виллы, большие поместья, леса, пруды, охотничьи угодья, открытый стол и… всеобщее уважение?! Право, разве уж постыдно уподобляться Фра-Дьяволо[129] и отнимать толстые кошельки у иностранцев-туристов, толпами разъезжающих одетыми в дурацкие клетчатые костюмы, а отняв, веселиться на деньги этих идиотов, портящих своим видом прекрасные пейзажи и таскающих за собой женщин, достойных получать призы за уродство! — Возможно, — сказала Жермена с усмешкой. — Я сама не большая поклонница англичан, кого вы имеете в виду, судя по описанию, но я сторонница союза не только между государствами, но и между частными лицами-иностранцами. — Снова Березов! — выдавил граф. — Снова и всегда Мишель, князь Березов… Да, месье Лоран Шалопен, я говорю о нем. — Он тоже сумасшедший! — Нет, вполне здоров и… помнит обо всем! — А какое мне дело до этого казака с Итальянского бульвара![130] — Вам… никакого, но мне очень большое! — Вы, может быть, любите его? — Без сомнения! — Берегитесь! — Что же, разве я не могу любить кого хочу? — Вы пренебрегаете мною! — Я вас ненавижу и презираю! — Еще раз говорю: берегитесь! Я бывал перед вами слаб до того, что терял голову… Но всему приходит конец! — Тем лучше! Следовательно, завершайте этот визит. — Знайте… Я сейчас так вас ненавижу, что способен уничтожить вас. — Попробуйте! — сказала Жермена. — Я не остановилась перед тем, чтобы застрелить Мальтаверна, нанятого вами, чтобы убить дорогого мне друга. Сейчас я безоружна, однако не менее храбра и более решительна, чем вы, и, может быть, даже сильнее вас. Граф явственно скрежетнул зубами. — Прихлопнуть вас и после ответить за это перед законом! В ответ Жермена расхохоталась, чем привела мерзавца в совершенное исступление. Мондье бросился с намерением задушить эту дерзкую, дразняще прекрасную женщину, но прежде еще и овладеть ею — второй и последний раз в жизни. В момент, когда он кинулся на Жермену, та успела выставить на уровне его глаз два раздвинутых в виде рогатки пальца с острыми ногтями. Наполовину ослепленный, он отскочил, зарычав от бешенства и от боли. Жермена опять рассмеялась и насмешливо проговорила: — Я вам не светская неженка, я девушка из народа! А народ имеет клюв и когти. Сегодня я не пила снотворного, позвольте заметить, и меня не возьмешь! Мондье метался, ничего не видя, тер налитые кровью глаза, изрыгал проклятия и ругательства, пытался поймать Жермену, но она легко ускользала и готовилась нанести новый удар. — Берегитесь! — крикнула она. — Я сейчас вам окончательно выколю глаза. И вы станете и внешне отвратительным и беспомощным. Я ударю «вилочкой». Этому приему меня научил Бобино… тот самый, на кого вы посылали наемного убийцу… храбрый рабочий типографии… мой будущий шурин… Бо-би-но. Отрывистый стук в дверь прервал фразу, и не успела она сказать: «Войдите», как с порога веселый голос откликнулся: — Бобино? Здесь! И женщина, одетая в костюм надзирательницы, быстро вошла в комнату, повернув изнутри ключ. Довольно высокая, полная и высокогрудая, она приблизилась к Жермене, совершенно недоумевавшей, почему, когда прозвучало имя Бобино, явилась служительница. Мондье, у него глаза сочились кровавыми слезами, спросил: — Кто вы такая?.. Что вам надо?.. Я запретил входить сюда кому бы то ни было! — Обошлись без вашего разрешения, господин граф, — ответила женщина. — Девка Жозефина напилась в стельку с моей помощью, а мне никто не заказал сюда прибыть. Нравится вам или нет, мне на то наплевать! Граф, чувствуя, что к Жермене подошла подмога, вынул кинжал с коротким лезвием и нацелился было заколоть неизвестную. Женщина подняла край юбки и ловко нанесла графу сильный удар башмаком повыше его щиколотки. Таким способом можно не только рассечь мускул, но иногда даже перебить кость. Граф взвыл от боли и чуть не упал, выронив кинжал. — Вот как мстят за себя женщины, господин граф! И снова, вздернув юбку повыше, произнесла: — Извините, что показываю свои прелести, но я это делаю с добрыми намерениями. При этих словах отважная незнакомка так двинула графа ногой в грудь, что тот упал, глухо захрипев, и уже не мог двинуться. — Я вам не светская неженка, я девушка из народа! — А теперь, милая Жермена, — сказала странная посетительница, — возьмите клиента за передние лапки и наденьте на него смирительную рубашку, он не способен больше сопротивляться. Пришло время действовать! Эти слова были произнесены натуральным мужским голосом, что заставил Жермену закричать: — Бобино!.. Это Бобино!.. — Скажите лучше — Бобинетта, судя по костюму. — Как вы оказались здесь? — Молчок! Не теряйте зря времени, лучше свяжите покрепче господина графа. — Юноша взял с полу кинжал, располосовал простыню и связал Мондье ноги, а Жермена — руки. Потом Бобино заткнул пленнику рот платком, положил бандита на кровать и для надежности прихлестнул к ней недвижное тело. Быстро покончив с этим делом, типограф спросил: — Все шло так, как вы хотели? Жермена, несмотря на серьезность ситуации, смеялась, глядя на его наряд. — Ну прямо настоящая женщина! Так здорово вы нарядились. — Сделал что мог, пришлось пожертвовать усами. — Право, странно! — Что странно? — В таком обличии вы стали ужасно похожи… Услышав, что Мондье хрипит с кляпом во рту, она замолчала и, лишь приблизив губы к уху Бобино, шепнула: — …На Сюзанну Мондье и еще на одну бедную женщину, ее скоро увидите. Ах, если бы удалось сделать так, чтобы она бежала вместе с нами! — Если вам это угодно — сделаем запросто! — Значит, мы выберемся отсюда? — А разве вам хочется остаться? Понравилось? — Довольно шуток. Как мы отсюда выйдем? — Это уж моя забота. Все, что я могу вам сказать, — смотаемся сегодня вечером, непременно. — Но объясните хотя бы, как вы попали сюда, Бобино? — Пойдемте к двери, чтобы господин граф не услышал. Он ничего не должен об этом знать. К тому же у нас есть время поговорить, ведь надо дожидаться темноты. Итак, можете представить, как мы обеспокоились, когда в назначенное время вы не пришли на улицу Вазино, где мы с Матисом ждали в экипаже. На другой день мы окончательно уверились, что вас заперли в лечебнице. Вы все-таки очень неосторожно поступили, Жермена. — Так было надо. — Не спорю, но дрожь пробирает, когда думаю об опасности, что вам угрожала. Поняв, что нельзя даже пробовать пройти обычным способом в проклятую лечебницу, я начал думать, как действовать. Я ломал голову, пока вдруг не вспомнил, что доктор Кастане — брат Лишамора, старого пьяницы, сожителя мамаши Башю, а она — мать Андреа. Я и сказал себе: «Вот от кого можно ждать помощи!» — Как это? — спросила Жермена. — Сейчас узнаете. Андреа ведет себя по-скотски с «лакированными бычками», но в действительности она добрая девка, золотое сердце, воплощенная самоотверженность. Я побежал к ней, все рассказал, попросил подмоги. Не долго думая, она выдала такие соображения. Для меня главное не только войти, но и оставаться какое-то время в лечебнице, там наверняка относятся с большим недоверием ко всякому новому лицу и принимают на работу только по надежной рекомендации. Мы стали рыться в памяти, кто бы мог поручительствовать и очень волновались, потому что время не ждало. Наконец Андреа радостно воскликнула: «Мальчик мой, я что-то придумала! Я сейчас увольняю часть моих людей, поскольку доходы уменьшились, когда Ги отдал концы, и вы станете Анной, моей второй горничной. Сбреете усы, оденетесь женщиной, я дам всякие тряпки, парик и научу, как надо двигаться». Так, переодетого, она повезла меня к Лишамору, получить от него рекомендацию к брату в лечебницу. Он, конечно, сначала заупрямился, но Андреа сунула в лапу сто франков, и старый негодяй согласился написать брату. Похоже, он с братцем вполне дружен, потому что, прочитав письмо, доктор сразу принял меня на место надзирателя, вернее надзирательницы. Мне выдали форменную одежду и предоставили место на чердаке, важно названном комнатой обслуживающего персонала. Я устроил угощение по случаю моего поступления, а Жозефину накачал допьяна. Представляясь слегка придурковатой бабенкой, я быстро узнал обо всем, что здесь делается, и познакомился с персоналом и больными. Проведал, где находитесь вы и где Маркизетта. Ваша надзирательница Жозефина очень любит крепкие напитки, впрочем, как и большинство тех, кому приходится смотреть за больными. Поскольку она после угощения была не в состоянии действовать, я таким путем оказался вместо нее и застал вас именно в тот момент, когда вы собирались выцарапать глаза господину графу. Я все пока сделал, теперь осталось немножко потерпеть. — Опять ждать! — Совсем мало. Только до девяти вечера. — И вы полагаете, что я смогу убежать? — Совершенно в этом уверен. — Ведь я не одна, нам надо освободить и ту несчастную женщину, что вчера не успела окончить свой рассказ. — Маркизетту? — Да. Из человеческого сострадания, из любви я должна освободить ее из этого ада. Ее дело связано с нашим, и я не могу уйти без нее. — Я позволю вам увести ее. — Как вы это устроите? Бегство полно трудных моментов… уж я не говорю об опасностях… — Предоставьте мне все… Вечером увидите… Я вас оставляю в обществе господина графа… он не опасен… но, может быть, вам лучше пойти предупредить мадам Маркизетту о том, что вечером мы ее похищаем? — Так будет лучше. — В половине девятого я буду около вас. Мужайтесь и надейтесь!ГЛАВА 13
Разумеется, Бобино явился вовремя. Жермена, в последний раз поговорив с Маркизеттой, ждала в своем флигеле. Связанный, в смирительной рубашке, граф лежал совершенно неподвижно. Если бы не шумное дыханье через нос — рот у него был заткнут, — можно было подумать, что Мондье умер или в обмороке. Жермена двигалась по комнате, не обращая на своего мучителя никакого внимания и не чувствуя к нему ни малейшей жалости, она только радовалась, что он не в состоянии сейчас вредить ей, и мечтала, как вскоре с помощью Маркизетты нанесет ему удар чуть не сильнее смерти. Бобино постучал в дверь два раза. Жермена в темноте открыла. — Я готова, — шепнула она. — Одну минуточку, надо все-таки проверить господина графа. — Достав из-под юбки электрический фонарик, Бобино подошел, осмотрел, надежно ли держатся путы, убедившись, что все в порядке, сказал: — А теперь пошли за Маркизеттой. Было без четверти девять. Они тихо ступили в огромный пустой сад, ночь наступила темная, облачная, глухая. Маркизетта ждала их на крылечке. Она тихим шепотом сказала: — Благослови вас Господь за благодеяние! — Тихо! Ни слова, прошу вас, и возьмите меня под руку, обопритесь… ничего не бойтесь… я сильная, — отвечала Жермена. — А он… наш мучитель… Я не жестокая, но с каким наслаждением всадила бы ему нож в сердце! — Тише, тише, мадам… Следуйте за мной, — сказал Бобино, его странным образом взволновали и пожатие руки, и голос незнакомой женщины. Чтобы песок на дорожке не скрипел под ногами, юноша повел беглянок по клумбам, потом пересекли лужайку, за ней рощицу и вторую полянку. Они не встретили на пути ни души, и уже почти приблизились к стене. Жермена вздрогнула, в испуге почувствовав рядом тяжелое, хриплое дыхание. Она ясно вспомнила страшный момент, когда за ней гнались псы графа: девушка схватила Бобино за руку, на минуту стала слабой, беспомощной и в ужасе прошептала: — Собаки! — Не бойтесь, они не тронут, — сказал Бобино. — Я их превосходно попотчевал мясом… со стрихнином… эта, наверное, подыхает. Говорили, что эти зверюги ни от кого, кроме своих сторожей, не принимают пищи; сущая болтовня! От кусочка конины, обжаренной в сале, ни одна не отказалась и про начинку мою не подумали, скоты. Та, что вас напугала, оказалась немножко живучее других. Окаянные животные больше никого не укусят. Бобино тихонько свистнул, ему тем же ответили со стены. — Ты, Мишель? — спросил Бобино. — Я, а Жермена с тобой? — Да. — Мишель! Вы здесь. Как я рада! — Жермена затрепетала от счастья. — Дорогая! Через минуту мы будем вместе! — Ну, тихо же! Сдержите чувства, и ни слова! Выше ногу… лестница… — скомандовал Бобино. Невидимый в темноте, Березов опустил сверху надежную лестницу, Бобино прислонил ее к стене и сказал Жермене: — Полезайте! Она быстро взобралась. — Теперь вы, мадам, — сказал Бобино, взяв Маркизетту за руки и помогая нашарить во тьме перекладину: — Не боитесь? Уде́ржитесь? Юноша говорил с необычайной нежностью. Ему все время казалось, будто он слишком мало о ней заботится. Типограф чувствовал к незнакомой женщине какую-то инстинктивную преданность, душевное расположение, сердечную близость. — Спасибо, дитя мое, как-нибудь справлюсь, — ответила та. Слова́ «дитя мое» вызвали слезы на его глазах. Мощная рука, протянутая Марии-Анне, помогла ей благополучно взобраться, князь подхватил ее и тотчас начал спускаться по ту, вольную, сторону. Неуклюжая женская одежда не помешала и Бобино быстро преодолеть лестницу. — Вот дело и сделано, — тихо сказал он Жермене. — Мишель все подготовил и исполнил точнейшим образом. Теперь — вниз. — Но где мы находимся? — спросила девушка. — По соседству с заведением Кастане, на пустыре, его Мишель купил, как только вы оказались запертой в этой, с позволения сказать, лечебнице. Маркизетта стояла уже на земле вместе с князем и никак не могла поверить, что она наконец на свободе. Бобино вытянул лестницу, по которой они взбирались. — А где сверток с мужской одеждой? — спросил он друга. — Здесь, у стены. — А экипаж? — У ограды, и Матис на козлах. — Прекрасно… Только сниму эти тряпки, оденусь нормально, и в путь. Жермена и Мишель обнялись украдкой, пока Бобино переоблачался. Он завернул женский наряд в фартук и смеха ради перебросил обратно через стену. — В Сен-Жермене все в порядке, Матис? — спросил он. — Да. Беглецы разместились в экипаже, и лошади понеслись во всю прыть. По распоряжению князя Матис повез их на улицу Элер, прибыли без всяких задержек. — А Сюзанна?.. А Мария? — спрашивала Жермена в пути. — Сюзанна уступила просьбам Мориса… ушла из дома графа… со своей родственницей мадам Шарме. Она в Сен-Жермене вместе с Бертой и Марией, в полной безопасности. Художник тоже там, охраняет дом: можем быть спокойны, — рассказывал Мишель. — Прекрасно! — сказала Жермена и начала обдумывать создавшееся положение. Граф, глупейшим образом попавшийся в ловушку в лечебнице, так ускорил этим ход событий, что мрачная и сложная история стремительно двинулась к развязке. Теперь главное — скорее нанести бандиту Мондье последний удар. Они выходили из экипажа. Мишель подал руку Жермене, Бобино бережно помогал выйти Маркизетте как нежный и почтительный сын. Когда вступили в большой холл парадного этажа, Жермена сказала Марии-Анне: — Мадам, считайте себя здесь как дома. Я сейчас прикажу подать ужин и потом, если устали, вам может быть будет угодно отдохнуть в своей комнате. — Благодарю вас, дитя мое, — ответила затворница, еще не привыкшая к тому, что она свободна. — Я не голодна и не устала… но, тем не менее, от всей души благодарю за гостеприимство. Но разве у нас нет более необходимого и срочного занятия, чем отдых? А бумаги, что я обещала вам… — Где же они? — с живостью спросила Жермена. — В надежном месте… очень хорошо спрятаны… но далеко отсюда. — Сможете ли вы их найти? — Я как сейчас вижу, куда закопала сверток. — Вам не будет трудно проводить нас? — Охотно, но придется долго объяснять кучеру, как туда добираться. Это по дороге на Эрбле, а оттуда — к заброшенному господскому дому. — О! — воскликнула Жермена. — Нам даже слишком хорошо известен этот проклятый дом! — Там в подземелье, около одного из столбов и зарыты эти драгоценные документы. — Сейчас нет еще и десяти, в двенадцать мы можем быть на месте, — сказал Бобино. — Поехали! — со своей обычной решительностью сказала Жермена. — А оттуда прямо в Сен-Жермен. В предвидении битвы князь всех вооружил. Каждый получил револьвер, а мужчины — и нож на случай рукопашной схватки. С собой взяли запас еды и напитков: вдруг придется задержаться подольше.Как и рассчитывал Бобино, в половине двенадцатого они подъехали к домику Могена. Рыбак с охотой присоединился к экспедиции, взяв лопату и фонарь. Пошли к кабачку Лишамора. У ржавой ограды Бобино поднял камень и принялся со всей силой колотить по забору. Кабачок был пуст, а его хозяева, наверное, спали, по обыкновению как следует нагрузившись спиртным за день. Несмотря на поднятый шум, никто не выходил. Матис нажал на ворота, и они, незапертые, открылись. Компания вошла во двор, и опять тот же Бобино начал дубасить в дверь кабака. Минут через десять Лишамор наконец, не открывая, спросил, кто там шумит, чего надо? — Как чего?.. Пить, есть, веселиться, мы с дамами… хотим хорошо погулять… денег много… И Бобино зазвенел монетами. Заманчивый звук подействовал на отупевшие мозги Лишамора. Старый пьяница впустил после того, как ему пообещали, что он разделит компанию. Матис вошел первым, схватил бывшего профессора за шиворот и сказал решительным тоном: — Вытяни лапы! Мы их свяжем, и чтоб ни звука! А не то удавим. Бобино тем временем запер дверь и спросил: — Где старуха? — Спит, — ответил Лишамор, позеленев от страха, когда узнал Жермену и типографа. — Ее тоже свяжем и рот заткнем, как господину графу. — Господин граф схвачен? — спросил пьяница. — Да, старик, не вполне свободен. Что поделаешь?.. Пришло время расплачиваться, — сказал Бобино. — Ты и твоя старуха будьте умными! Иначе вам плохо придется. Моген, знавший расположение подземелья, взял фонарь и повел всех туда. Бобино прихватил свечу Лишамора. Шли в затылок: Маркизетта, Жермена, Матис, замыкал Мишель, тоже со свечой. Вошли в подземелье, где когда-то сидели Берта и Мария, сейчас здесь было достаточно светло. Маркизетта села и начала вспоминать. — Да, это точно было здесь, — шептала она, осматривая столбы около входа, как будто ища отметку, но штукатурка давно осыпалась, и бедная женщина не могла определить, около какой опоры надо копать. Увидев какие-то царапины, она сказала в нерешительности и скорее всего наугад, от неловкости: — Как будто здесь. Матис принялся орудовать лопатой… Ничего… около второго, третьего столба… ничего. Жермена испугалась. Ей вспомнились речи помешанных, казавшиеся сначала здравыми, и она подумала: «Не умалишенная ли она, Маркизетта? Не бред ли вся история про Мондье? Это было бы ужасно!» Мария-Анна в волнении ходила от столба к столбу, бормоча: — О горе мне! Горе! Я не могу вспомнить! Крупные капли пота текли по лицу, ее охватила нервная дрожь. Долгие годы затворничества и страданий затмили память. Пришедшие стояли, с состраданием и тревогой глядя на женщину, и думали, что, может быть, у них под ногами лежат документы, что дадут им оружие против общего врага, и они наконец смогут начать жить спокойно, но где эти бумаги? Невозможно ведь изрыть все подземелье. Несчастная Маркизетта зарыдала и воскликнула: — Боже! Боже! Неужели ты допустишь такую несправедливость! Верни мне память! И тут Жермену осенило. Никому ничего не сказав, она посмотрела Мишелю в глаза и произнесла только одно слово: — Спите! — Сплю, — ответил тот покорно. — Мадам, дайте, пожалуйста, князю руку, — сказала Жермена. — Мишель, старайтесь слиться душой с этой дамой, сообща вспоминать и увидеть место. Торопитесь, мой друг! Так надо! Мишель, держа в руке пальцы Маркизетты, сдвинул брови, будто с напряженьем что-то вспоминая, потом, после мучительной паузы, сказал: — Я вижу. — Что вы видите? — Вижу женщину… несет две запечатанных бутылки… обернуты сеном… и поверх толстая ткань, обвязанная веревками. — Так, так и было, — поспешно подтвердила Маркизетта. Березов продолжал говорить почти беззвучно, как во сне: — Женщина дрожит… глаза полны слез… бедняжка очень несчастна… — Что она сейчас делает? — спросила Жермена. — Роет ямку маленькой лопатой… работа идет медленно… она роет долго… Наконец выкопала… положила туда сверток… засыпает землей и утаптывает… чертит лезвием лопаты звезду на столбе… — Она рыла около столба? — Да. — Где этот столб? — Не вижу… его нет… он разрушился… обломки убрали… — Ищите, мой друг… ищите место, — повелительно сказала Жермена. — Так надо. Князь вел Маркизетту за руку, а она смотрела на всех, как будто говорила: «Теперь вы убедились, что я не сумасшедшая». Мишель, казалось, что-то мучительно вспоминал и наконец потянул Маркизетту к маленькому бугорку, еле заметному над землей, и сказал: — Здесь. — Вы вполне уверены? — Да, Жермена, совершенно. — Теперь проснитесь. Моген, копайте, пожалуйста. — К вашим услугам, мадемуазель, — ответил рыбак. Через минуту появилось несколько обрывков ткани и клочки сена. — Осторожно! Осторожно! — закричал Бобино. Маркизетта бросилась на колени около ямы и повторяла: — Это здесь! Здесь! Моген отложил лопату и, став на колени, начал рыть руками. Вскоре он вскочил и завопил во все горло: — Победа! Они тут целехоньки! — И вынул из ямы две широкогорлые запечатанные сургучом бутылки. Сквозь стекло виднелись листы бумаги, свернутые в трубку. Жермена схватила посудины и в нетерпении скорее увидеть содержимое разбила их одна о другую, рискуя поранить руки. Бумаги, защищенные от влаги, были в полной сохранности. Жермена поспешно развернула свиток и начала оглашать заголовки: — Акт о рождении Жоржа-Анри, сына Марии-Анны Корник и Гастона-Анри де Мондье… Акт о рождении Жанны-Марии-Сюзанны Корник… Акт о кончине Гастона-Анри де Мондье… Собственноручное завещание… Все документы были написаны на гербовой бумаге чернилами, любая возможность подделки исключалась. Жермена аккуратно свернула бесценные свидетельства, передала Мишелю, он положил их во внутренний карман пиджака и для верности застегнулся доверху. Экспедиция завершилась полным успехом. Оставалось только выйти из подземелья. Прежде чем подняться по стертым каменным ступеням, Жермена взяла Маркизетту за руку и сказала торжественно: — Благодаря вам мы сможем начать жить спокойно! Сегодня все способствовало успеху, даже действия нашего врага, над которым мы одержали полную победу. — Это правда, — сказал Бобино, — если бы так называемый граф тогда не гипнотизировал Мишеля насильно, черта с два сумел бы ты найти, где лежат бумаги!.. Ведь правда, ваше сиятельство? Березов не успел ответить. Обратившись опять к Маркизетте, Жермена сказала: — Думаю, не надо повторять то, что я уже говорила… Живите с нами, пусть наша семья будет вашей. Мы будем вас так любить!.. Вы больше не останетесь одиноки, и вам обеспечена полная безопасность. — О! Благодарю… благодарю вас!.. Моя семья… Это так прекрасно! Если бы я только могла надеяться увидеть моих детей!.. Сколько любви нашли бы они в моем сердце! — Надейтесь, — сказала Жермена, — что касается меня, я буду искать их со страстью. Мне так хочется, чтобы вы были счастливы! Вы достойны счастья, дорогая моя мученица! Надейтесь!
ГЛАВА 14
Прежде чем вернуться в Сен-Жермен, друзья, естественно, сочли нужным развязать Лишамора и его достойную супругу, а также еще кое-что уточнить. Взяв свечу, Бобино и Матис пошли в комнату, где лежала мерзкая старуха, дрожа от страха и, думая, что пришел ее последний час. Жермена последовала за своими друзьями, вместе с ней и Маркизетта. Бедная женщина от переживаний еле держалась на ногах. Она тяжело опустилась в кресло, на ее лицо падал слабый свет. Старуха Башю, когда ее развязали, потянулась, покашляла и вдруг, уставясь одурелым взглядом на Маркизетту, сидевшую в кресле, закричала: — Маркизетта!.. Девочка господина графа!.. Первая его любовница… Мать двоих малышей! Она отомстит! Горе мне! Что она теперь сделает со мной! Мария-Анна тоже узнала преступную акушерку, хотя прошло столько лет с того времени, когда они виделись. — Бабетта! — воскликнула она. — Точно, я… Теперь меня накажут… Ты одолела! Пришел мой черед плясать! — Сколько же зла вы мне сделали! — проговорила женщина. — Отомсти теперь! Что я могла? Мне приказывали — я исполняла… — Речь идет не о смерти, а о нашем благополучии, — с достоинством сказала Жермена. — Каковы бы ни были причины вас ненавидеть, мы забудем о зле, если вы постараетесь его исправить. Вы все время отказывались сказать несчастной матери, что сделали с ее детьми. Вы должны сейчас во всем открыться, ничего не утаивая. Только на этом условии вы получите прощение, чего так мало заслуживаете. — Ребенок, которого я оставила на ступеньках театра «Бобино»… был в пеленках, помеченных А. К. и большим крестом… — через силу выдавила старуха. — Это моя метка! Мария-Анна Корник… — еле выговорила Маркизетта. — Значит, ребенок, случайно оставшийся живым, — это я! — завопил Бобино. — И вы — моя мама! И я буду вас так любить, что уйдут из памяти проклятые годы, которые вы провели в слезах и страданиях! О моя мама! Я вас полюбил с того момента, как впервые увидел и коснулся вашей руки! — Вы можете гордиться своим сыном! — сказала Жермена. Счастливые события быстро следовали одно за другим, они подействовали на женщину, давно не видавшую счастья, так сильно, что, обнимая сына и шепча ему: «Жорж… мое дитя… это ты… мой Жорж»… — она лишилась чувств. Бобино в отчаянии восклицал: — Мама!.. Моя мама умирает! Для того ли я нашел ее, чтобы увидеть, как она умирает! Но благодаря умелым заботам Жермены Маркизетта быстро пришла в себя, — такие приступы слабости не бывают долгими, счастье — лучшее лекарство, — и спросила Жермену, когда увидит свою дочь. — Очень скоро. Матис, подгоните, пожалуйста, сюда экипаж. Перед отъездом Мишель достал пачку банкнот, положил на кровать мамаши Башю и сказал: — Вы загладили вину, возьмите деньги, и пусть они помогут вам жить честно. — Спасибо, дорогой месье! Спасибо от всего сердца, право, я не сто́ю награды! Кстати, скажу вам еще одну вещь: Бамбош… мерзавец… вы его знаете… фальшивый виконт, сфабрикованный графом… так этот поганец — незаконный сын Мондье! Когда встретите его и дадите хорошего пинка в задницу, скажите про папашу… увидите, какая у него сделается морда! Прощайте, и спасибо вам, мой благодетель! Через пять минут кони, запряженные в ландо, бежали вдоль Сены и направлялись к дороге. Приехали в Сен-Жермен уже после двух ночи. Все обитатели особняка, естественно, очень беспокоились. Берта и Мария, Сюзанна, убежавшая из дома на улице Перейр, Морис, ее возлюбленный, и даже ее воспитательница, конечно, не ложились спать, дожидаясь результата экспедиции. Когда у ворот послышались звуки подъехавшего экипажа, в доме некоторое время посовещались, — ночь была поздняя, мало ли что, — но Морис разобрал голоса Мишеля и Бобино и поспешил открыть. После первых взрывов восторга Жермена спросила Мориса: — Сюзанна не спит? — Как и все мы, Жермена. — Тогда пойдите предупредить, что Бобино сейчас сообщит ей нечто очень важное. Пусть подготовится пережить очень большую радость. — Но хоть сперва скажитемне самому, — удивленно попросил Бобино. — Победа по всей линии фронта! — сказал Мишель. — Давай я сперва шепну тебе на ухо. — И они удалились в сторонку, нескольких слов Березова оказалось достаточно, чтобы Бобино окончательно пришел в состояние безграничного изумления и восторга. — Пока Морис поговорит накоротке с Сюзанной, ты беги скорей к своей невесте, потому что кому-то здесь тяжело долго ждать. Знай только, что враг побежден, и мы наконец сможем жить спокойно. Жермена и Мишель бережно повели под руки совершенно изнемогающую от пережитого Маркизетту в просторную гостиную, а Бобино, забежав к Берте, тоже поспешил к Сюзанне, горя нетерпением. Ее Морис едва успел в двух словах предупредить о радостной новости. Бобино и Сюзанна очутились при ярком свете друг перед другом, добрый типограф радостно улыбался, говоря девушке: — Мадемуазель Сюзанна, я сейчас сообщу что-то совершенно необыкновенное!.. Почти невозможное… но такое для меня радостное!.. Я нашел семью… нашел людей, которых буду любить… Морис, но я не смею сказать то, что следует… — Говори, мой друг!.. Моя Сюзанна… наша Сюзанна… совсем не страшная, ее нечего бояться… — Да. Наша Сюзанна… потому что она немножко и моя. — Ваша? — Да. Хотя бы как сестра! Кажется… и тому есть доказательства… я на самом деле ваш брат!.. — Вы!.. Как я рада! Вот почему я сразу почувствовала к вам глубокую симпатию, как только мы впервые встретились. — И я тоже… не понимая сам почему, когда увидел вас на улице Мешен, я сразу почувствовал к вам расположение и желание помогать вам. — Мой брат! Значит, вы мой брат… — Я просто человек и не умею красиво выражаться, но у меня честное сердце, умеющее любить. Сестра моя, я уже вас люблю всей душой! — А я всегда мечтала о таком брате, как вы: добром, искреннем, великодушном и к тому же веселом… — Правда? Значит, находите меня подходящим? — Какой вы ребенок! — Я сам не понимаю, что говорю. Если бы вы знали! — И, стараясь быть спокойнее, Бобино продолжал: — Это еще не все, что я должен вам сказать… — Какую еще добрую весть вы несете? — Мы нашли нашу с вами мать… которая столько страдала… — Мать!.. У меня… У нас есть мать? — воскликнула девушка. — Да! Чудесная мать! Такая, что перед ней хочется встать на колени! Сюзанна лепетала несвязные слова: — Брат мой… умоляю тебя… скорее увидеть… хоть на минутку! Где она? — Там… Дверь открылась, и Сюзанна упала в объятия Маркизетты. — Мама!.. О! Моя мама!ГЛАВА 15
Только утром надзирательницы лечебницы нашли хрипящего, полузадохнувшегося графа привязанным к постели Жермены. Совершенно ошалелые, они не знали, что подумать, когда увидели на кровати мужчину, пришедшего накануне навестить больную или считавшуюся больной. Как вскоре они узнали, сама Жермена неизвестно куда исчезла из лечебницы. Маркизетта также пропала. Обшарили весь парк, обнаружили следы на земле и трупы собак, а также сверток с одеждой надзирательницы, чью роль так хорошо сыграл Бобино. Обе женщины, без сомнения, убежали ночью, связав графа, глаза его были сильно поцарапаны и кровоточили. Видно, он боролся, но потерпел поражение. Мондье теперь предстояло узнавать обо всех подробностях событий, по мере того как шли поиски. Он не строил иллюзий и сразу оценил размеры катастрофы, что его постигла. Граф думал: «Жермена и Маркизетта сговорились. Маркизетта не сумасшедшая, она меня сумела обмануть. Если у нее еще сохранились бумаги Гастона — я пропал. Пропал… Пусть так… Но я увлеку их всех в пропасть. Куда сам полечу! К счастью, у меня осталась Сюзанна… моя заложница… это позволит удерживать Маркизетту от действий против меня». Не дожидаясь прихода доктора Кастане, Мондье велел сделать себе массаж, принял душ и, освеженный, полный энергии, полетел домой. Там он застал Лишамора, дожидавшегося его с нетерпением. Пьяница весь дрожал и пожелтел от страха. Он рассказал о событиях этой ночи, и граф, коему каждое слово было словно удар молотом по голове, узнал, как достали бумаги, как Маркизетта признала в Бобино своего сына. Но этим неприятности не кончились: когда граф проводил кабатчика, дав ему несколько луидоров, слуга подал на подносе спешное письмо, только что переданное посыльным. Послание было от Сюзанны. Мондье задрожал, узнав почерк, и страшно выругался, когда прочел написанное на листке, нежно пахнущем вербеной[131].Дочь сообщала, что, уступая настояниям любимого человека, ушла из отцовского дома. Она умоляла простить ее за побег и заклинала во избежание скандала согласиться на брак, теперь ставший неизбежным… Граф не пришел, как обычно, в бешенство, только стиснул зубы, и его красные от кровоизлияния глаза приняли злобное выражение. Слуга принес остальную почту, и в этот момент кто-то позвонил у тайного входа. — Что там еще? — спросил граф, предчувствуя недоброе. — Господин граф, это Лоран. — Пусть войдет… Зачем ты пришел, Лоран? — Хозяин, Пьер совсем плох. Он скоро помрет. Доктор сказал, что ему осталось жить не больше трех часов. Он хотел вас повидать перед смертью. — Пойду с тобой, Лоран. А Бамбош? Что с ним? — Я его не видел после проклятой ночи, когда мы брали сейф в особняке на улице Элер. Он без денег, совсем промотался, лежит в квартире, что вы занимаете под именем дядюшки. Заболел от гульбы с девками и от выпивок… не решается просить у вас хоть малую сумму. — Я его выгоню пинками в зад! Он ни на что не годен, только втягивает нас в затруднения… Отправлю в ту канаву, из какой вытянул… Дела мои плохи, Лоран, придется менять шкуру. — Как вам угодно, хозяин. В Италии еще есть гроты и большие дороги, англичане-миллионеры, красивые девушки и хорошие сотоварищи… — Да, ты прав, надо, чтобы о нас здесь забыли. Но прежде придется провести очень крупное дело, без пощады уничтожить всю компанию — Березова, Жермену, пачкуна Вандоля, Бобино и даже так называемую мою дочь Сюзанну! Пошли, навестим беднягу Пьера! Они поехали на улицу Жубер. Мондье сначала быстро взбежал на третий этаж, чтобы намылить голову Бамбошу и рассчитаться с ним, прежде чем проститься с Пьером — отверженным, кому были известны все секреты тайной жизни графа. Бамбош валялся на постели и с перепоя лечился крепким чаем. Мондье, всегда относившийся к нему как к любимчику, почти как к балованному дитяти, на этот раз был готов выместить на парне все свои беды. Видя, в каком настроении патрон, Бамбош попробовал его успокоить забавным словцом, но из этого ничего не получилось. Граф резко оборвал: — Довольно! Ты мне сто́ишь больше, чем приносишь! Не знаю, что меня удерживает от того, чтобы послать тебя подыхать в грязи, откуда я тебя вытащил! — Патрон! Вы этого не сделаете! Вы не бросите вашего маленького Бамбоша!.. — Я хотел сделать из тебя хорошего наводчика. Но, оказалось, ты ничего не стоишь! Ты проваливаешь все дела! Почему ты не сумел покончить с Бобино? — Но ведь Ги де Мальтаверн тоже дал маху с Березовым и Вандолем… — У него, по крайней мере, хватило ума, чтобы умереть и освободить меня от неудобного сообщника! — Может быть, и мне следует притвориться мертвецом? — сказал Бамбош со скверной улыбочкой. — Этого не надо, а следует, чтобы ты на какое-то время исчез. Вернулся, допустим, к Лишамору, после того как побывал виконтом де Шамбое и отведал настоящей шикарной жизни… Это тебе подходит? — Вы смеетесь, патрон! — Я говорю совершенно серьезно. Позднее… ты вернешься на свое место… — Патрон! С глаз долой — из сердца вон… Вы обо мне забудете… — Ты мне надоел! Возвращайся туда на полгода, а потом будет видно… — Вот так… без копейки… Не очень-то хорошо меня примет мамаша Башю. — Я дам достаточно, чтобы ты хорошо выглядел в компании шантрапы с каменоломен… а пока будешь там восстанавливать твою девственность. «Скотина! — подумал Бамбош… — Берет, а потом выбрасывает, как сношенный башмак, когда ты ему больше не нужен. Но мы еще посмотрим». Граф вышел из комнаты и направился в ту, где стоял его сейф, чтобы взять деньги, обещанные «виконту». Бамбошу тотчас пришла на ум страшная мысль. «Надо тебя ухлопать сейчас, господин граф. Сейф набит бабками… Заберу все, а после будь что будет». С кинжалом наготове он тихонько прокрался в комнату Мондье. Тот стоял перед открытым сейфом, набитым пачками банкнот, повернувшись спиной к входу. Убийца всадил кинжал между лопатками по самую рукоятку. Граф глухо вскрикнул, ударился лицом об открытую дверцу сейфа, а потом повалился на ковер. — Э! Патрон… Теперь вы далеко продвинулись… Смертельно раненный, со стекленеющими уже глазами, задыхаясь, граф из последних сил проговорил: — Негодяй!.. Ты убил своего отца!.. Бамбош захохотал: — Так, значит, вы мой отец… Хорошо же вы со мной обходились! Вы должны были меня усыновить, сделать из меня настоящего графа Мондье, а не какого-то там фальшивого завалящего виконта… — Ты чудовище… быть убитым тобой… разбойник!.. — Меня так и воспитывали, чтобы я им стал. Когда буду главарем банды и кто-нибудь из моих бандитов попробует бузить, я скажу ему: «Я даже отца своего угробил: попробуй сделай то же!» А теперь хватит болтать! Подыхай спокойно! Бамбош быстро оделся, выгреб из сейфа все, что там было: банкноты, золотые монеты, драгоценности… рассовал их за пазуху и по карманам и спокойно вышел, даже не взглянув на умирающего. Он лихорадочно думал: «Богатство достается ловким. Теперь я богат, и скоро обо мне заговорят!»
Конец третьей части
ЭПИЛОГ
Убийство графа Мондье произвело большой шум в парижском обществе. Одновременно эта смерть избавила кое-кого от многих затруднений. Сюзанна, всю свою жизнь знавшая графа как доброго отца, горько оплакивала его гибель, но когда Маркизетта рассказала ей о сводных братьях, об убийстве Гастона, когда девушка узнала правду — она, как и следовало ожидать, утешилась. Мать с радостью, от всего сердца дала согласие на брак дочери с Морисом Вандолем. Их свадьба стала первой в целой череде. Второй была женитьба Мишеля и Жермены. Как бывает в волшебной сказке, простая девушка стала принцессой. Они венчались в русской церкви на улице Дарю. Обряд был тихим и скромным. Молодые не устраивали спектакля из своего торжества и не выставляли напоказ свою любовь. Необыкновенная красота и ум Жермены послужили для нее лучшей рекомендацией в обществе соотечественников князя Березова. Вся русская колония приняла ее очень сердечно. Мишель дал богатое приданое свояченице Берте Роллен, что вскоре вышла замуж за Жоржа де Мондье, называвшегося Бобино. На свете случаются чудеса, и благодаря одному из них рабочий типограф оказался подлинным графом. Он вовсе не возгордился, остался все таким же веселым простым хорошим товарищем. К титулу у него до сих пор отношение равнодушное. Но он счастлив тем, что нашел мать, полюбив ее всем сердцем, и дорогую сестру, и это для него оказалось ценнее всех жизненных благ; судьба вознаградила юношу за годы сиротства. Он все так же смеется и шутит, ни на сантим не став серьезней. Когда он приходит к родственнику-князю или к товарищам по типографии, он шутя сам о себе объявляет: месье граф Бобино! Он обожает хорошенькую жену Берту — маленькую графиню Бобино, как ее называет. Она осталась все такой же неприхотливой, терпеливой, доброй и преданной мужу. Счастливые уже тем, что живут на свете, любя друг друга, оба стараются творить добро ближним. И благодеяния молодой четы принимаются окружающими с той же радостью, с какой эти двое их оказывают. Четвертым и самым неожиданным, оказалось бракосочетание Андреа и Дезире Мутона. После того как Ги де Мальтаверн отправился на тот свет и место около Андреа освободилось, провинциальный миллионер поспешил его занять. У этой женщины хватило ума и характера не согласиться на банальное сожительство, и ее настойчивость вкупе с любовью оказалась вознаграждена. Дезире Мутон был так же искренне влюблен в Андреа: свободный в своих действиях, он мог самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и капиталом. Бывший «лакированный бычок» предложил Андреа руку и сердце. — Честное слово, мой друг, ты заключаешь более выгодную сделку, чем сам думаешь! — ответила Андреа. — Мне опостылела бессмысленная жизнь. Я ждала случая, чтобы от нее избавиться. Мне выпал такой шанс, и я не упустила его. Я не буду тебе изменять. В этом можешь быть уверен! А потом, если хочешь сделать мне удовольствие… Очень большое удовольствие! Мы поедем жить в деревню… У нас будут лошади, коровы, бараны, куры, утки… целый скотный двор! Это моя мечта парижанки, которая все время жила среди камней! Скажи, ты хочешь этого? Дезире самому надоела столица, он чувствовал себя здесь плохо, и молодой человек с радостью согласился. — Ты — прелесть! — воскликнула Андреа, крепко целуя избранника. — Теперь пойдем к господину мэру.Конец
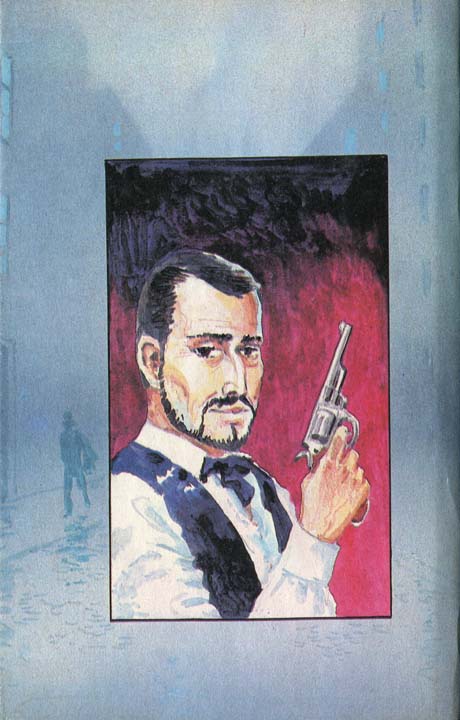
Луи Буссенар ПОХОЖДЕНИЯ БАМБОША
Часть первая КНЯГИНЯ ЖЕРМЕНА
ГЛАВА 1
— Значит, ты побудешь с Жаном вплоть до нашего возвращения, правда, Мари? — Да, Жермена. — И ни на минуту не отлучишься от нашего милого крошки? — Ни на минуту, ни на секунду. — В таком случае, дорогой, — Жермена обернулась к мужу, — я поеду с тобой в театр. Ее супруг, молодой человек лет двадцати пяти, рослый, крепко скроенный, с утонченно красивым лицом, мягко улыбнулся и устремил на жену долгий преисполненный нежности взгляд. — Если бы я не знал, какая ты обычно храбрая, моя Жермена, я бы посмеялся над тобой, — произнес он ласково. Говорил он без акцента, совсем не грассировал — речь русского или уроженца Турени[1]. — У нас восемь слуг, — продолжал он, — да к тому же старина Владислав, он почти член семьи, и еще Фанни, гувернантка нашего обожаемого дофина[2]. Сама подумай, что может ему угрожать, чего ты боишься? — Ты прав, Мишель, я сумасшедшая! — тоже заулыбалась молодая женщина. — Но мы столько выстрадали! Разве я смогу когда-нибудь забыть мучения, выпавшие на нашу долю до свадьбы? — Наши враги либо умерли, либо исчезли неведомо куда… Мондье убит. Бамбош постоянно в бегах — ему не до нас. Остальные — на каторге или в тюрьме. — Да. — Жермена вздрогнула, явно вспомнив что-то ужасное. — Я все это и сама себе повторяю. Но бывают моменты, когда, охваченная непроизвольным страхом, я с трудом верю нашему счастью и опасаюсь, будет ли так всегда… Вот почему мне тяжело покидать наш уютный дом, где нам с тобой так хорошо вдвоем… А теперь и втроем… — Ее полный любви взгляд устремился к колыбели, где спал младенец. — Ты права, любимая. Однако с какой бы иронией я ни относился к своему титулу и званию, не могу до конца забыть, что я — князь Березов, русский дворянин, и моя жена, урожденная Жермена Роллен, — княгиня Березова. Время от времени мы обязаны появляться в высшем обществе. — Да, Мишель. И поэтому я, положась на крепость стен вокруг нашего особняка, на верность наших людей, заручившись присутствием моей сестры Марии, отправляюсь с тобой в театр «Водевиль». — Можно подумать, — засмеялся в ответ князь, — что в глубине души ты боишься, как бы у нас не похитили Жана. Но кто бы стал это делать? Зачем? С какой целью? — Да, ты прав… Я совсем обезумела. Едем! Она склонилась над сладко спящим ребенком, обняла его с порывистой и страстной нежностью, поцеловала и обратилась к сестре: — Клянись не оставить его ни на минуту! — Жизнью клянусь! — заявила девушка, усаживаясь у колыбели. — На каминной полке в нашей комнате лежит заряженный револьвер, — рассмеялся князь. — В случае опасности тебе есть чем защищаться, Мария. Пять минут спустя роскошный экипаж уже вез молодых супругов по улицам Парижа. Это действительно была превосходная пара. Он — ласковый гигант, добряк, как все физически сильные люди. Она — ослепительная красавица, с кожей, нежной, как лепесток лилии, с глазами цвета барвинка, волосами чернее воронова крыла и перламутровыми зубками меж коралловых губ. Простая работница, ставшая княгиней, Жермена не переняла дурацких ужимок, свойственных парвеню[3], но осталась такой же, как была, сохранив и скромность, и свое неизменное добросердечие. Они с мужем были влюблены, как и в первый день после свадьбы, и жили, презирая всяческий этикет. Обращаясь, как бедняки, друг к другу на «ты», они скандализировали своих лакеев и так называемых «людей из общества» полным пренебрежением ко всякого рода церемониям. Поженившись всего два года назад, супруги после пережитой ими ужасной драмы, не теряя времени, сразу же обзавелись ребенком, маленьким Жаном, которого князь Березов шутя называл своим дофином. По словам его отца, матери и юной тетушки Марии, Жан Березов был самым красивым мальчиком на свете. И, вероятнее всего, это была чистая правда. Не стоит и говорить, что от малыша все были без ума — его любили и баловали. Не составлял исключения даже мужик Владислав, чьи огромные сапоги, розовая рубаха и громадная борода лопатой нисколько не пугали ребенка. Маленькому князю Жану, наследнику четы Березовых, скоро должно было исполниться два годика, и он уже семенил ножками по дорожкам сада, что-то без умолку лепетал и время от времени без малейшего отвращения выпивал глоток вина, которое отец наливал ему на донышко в бокал. Истинный мужчина, доложу я вам. Сейчас мальчик спал, белокурый и розовый, выпростав ручонки со сжатыми кулачками. А над его колыбелькой склонилась тетка Мария. Сама еще полуребенок-полуженщина, эта шестнадцатилетняя девушка была куда более шаловлива, чем Жермена, но столь же ослепительно хороша, как и сестра. И как бы для того, чтобы контраст между ними был еще пикантнее, — Жермена — голубоглазая брюнетка, Мария — с громадными черными глазами и копной золотых волос, чьи капризные завитки обрамляли лицо, — девушки почти никогда не разлучались. Девушка придвинула к колыбели кресло и почувствовала, что немного разомлела в жарко натопленной комнате. Из-под длинных полуопущенных ресниц она наблюдала за спящим ребенком, восхищаясь его ангельской красотой, тихонько шептала какие-то бессмысленные нежные слова, которые вызывают у малышей самые положительные эмоции. В ее юном сердце дремал материнский инстинкт, и Мария исступленно отдалась этому чувству, делающему столь трогательной игру в куклы — первую пробу материнства. Так миновал и час и другой. Мария, которой никогда не надоедало созерцать маленького белокурого херувима[4], почувствовала, что ее клонит в сон. Она зевнула, примостила свою хорошенькую головку на край обшитой атласом колыбели и сквозь дремоту услышала, как часы пробили десять. Вдруг ей почудился какой-то шум во дворе, куда выходили окна детской. Впрочем, она не придала этому никакого значения, ибо огороженный высокими стенами особняк благодаря многочисленной челяди был буквально наполнен разнообразными звуками, вовсе не казавшимися в подобное время суток подозрительными. Ей припомнились опасения Жермены, и она улыбнулась. Однако чуть слышный шум повторился. Было похоже, будто чем-то проводили по стеклу… Но это же здесь, совсем рядом, в окне… Сон мгновенно слетел с девушки, сердце учащенно забилось, она уже готова была закричать и позвать на помощь, и тут послышался сухой треск, занавеси заколебались… Кто-то снаружи толкнул раму, и окно распахнулось настежь. В полосе света появился мужчина, спрыгнувший на ковер с кошачьей ловкостью. Вид его был ужасен. На голове — засаленная каскетка, на плечах — блуза, как у последнего бродяги, а на ногах — плетеные веревочные туфли, позволявшие бесшумно двигаться. В правой руке он сжимал нож с медным кольцом на самшитовой рукоятке — излюбленное оружие парижских бандитов. Его перекошенная бородатая физиономия и неистовый злобный взгляд заставили Марию похолодеть от ужаса. Она лишилась дара речи и замерла, чуть дыша. Однако уже через мгновение отважная девушка набралась храбрости и позвала на помощь. Душераздирающий вопль сорвался с ее уст и эхом раскатился по дому. Незнакомец подскочил к ней и, схватив одной рукой за горло, замахнулся ножом так, что пучок света угрожающе блеснул на лезвии, и прошептал: — Заткнись, не то я тебя прикончу! — Грубый выговор выдавал в нем простолюдина. С удивительным мужеством и ловкостью, которые трудно было ожидать в столь хрупком и грациозном теле, Мария резким движением вырвалась из его рук. Бледная, полузадушенная, она на подкашивающихся ногах бросилась к кнопке электрического звонка, соединявшего детскую с прихожей, буфетной и комнатой гувернантки. Бандит рассмеялся и прохрипел: — Давай, давай! Шнуры перерезаны, звонки выведены из строя. Мы одни, моя козочка… Кончай трепыхаться, дай мне закончить дельце. Он направился к колыбели, где по-прежнему спал ребенок. Девушка задыхалась и едва могла говорить, однако отважно бросилась к детской кроватке, пытаясь заслонить дитя своим телом. Ведь она сказала сестре, что жизнью своей отвечает за ребенка, и сейчас, в минуту опасности, пожертвует собой, чтобы никто и пальцем не прикоснулся к Жану… — Оставьте его… Оставьте ребенка! Грабьте, берите что хотите… Но я запрещаю вам к нему приближаться! Подонок вновь захохотал и ответил: — Не выйдет! У меня дело именно к мальцу. Отвезу щенка за город, воздух Парижа ему вреден. Овладев собой, девушка вцепилась злодею в блузу, стараясь задержать его. — Ты что, взбесилась? — прорычал он. — Упрямая попалась милашка! Однако шутки в сторону!.. Резкий удар в грудь опрокинул храбрую девочку на ковер. Избавившись от противницы, которую, несмотря на первоначальную угрозу, злодей, казалось, все же хотел пощадить, он сорвал с колыбели одеяльца и простыни, и ребенок предстал перед его глазами во всей своей прелестной наготе. Такое очаровательное зрелище могло бы умилостивить даже тигра. От грубого прикосновения ребенок жалобно заплакал и засучил ножками. — Эге, малец, давай-ка без музыки, не то я тебя придушу… Горестный протест малыша, стон раненой птицы, эхом отозвался в сердце Марии и на какое-то мгновение возвратил ее к жизни. Увидя обожаемое существо в грязных руках бандита, она, собравшись с силами, вскочила на ноги и, обретя в приступе отчаяния голос, закричала: — На помощь! Держите убийцу! Похититель грубо выругался и, не зная, как заставить замолчать мужественную девушку, схватил ребенка за ножки и безо всякого усилия взмахнул крошечным тельцем так, как если бы намеревался размозжить младенцу голову о стенку. Он прорычал в бешенстве: — Еще раз пикнешь, и я разобью ему череп, как яичную скорлупу! Обезумев от ужаса, побежденная Мария упала на колени и, воздев руки, стала умолять его: — Помилуйте! Пощадите! Не причиняйте ему зла! Она была восхитительна в своем горе: лицо — белее полотна, огромные черные глаза — полны слез, густые золотые волосы разметались по плечам. И снова ее красота поразила бандита. — Экая милашка, — пробормотал он на своем отвратительном жаргоне. — Вот как стукнет ей двадцать один год, я, пожалуй, возьму ее в жены. Ладно, поболтали, и хватит. Воробушек у меня, пора уносить ноги. Негодяй завернул ребенка в стеганое одеяльце из голубого атласа и вознамерился покинуть помещение тем же путем, каким в него проник. Сцена эта, долгая в пересказе, на самом деле длилась не более трех минут. Марии до сей поры казалось, что она имеет дело с заурядным вором, который, пользуясь отсутствием хозяев, решил вторгнуться в частный дом и его обчистить. Она, несмотря на испытываемый ужас, искренне полагала, что злоумышленник решил ее припугнуть с помощью ребенка. Но, увидев, что тот собирается унести младенца с собой… уйти с ним куда-то в ночь… Девушка подумала, что сестру и зятя, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, снова постигнет тягчайший удар, и все ее естество возмутилось. Нельзя отдавать Жана! Горячечное исступление охватило девушку. В ней вспыхнула жажда убийства — она испытывала наслаждение, представляя, как бандит будет истекать кровью. Мария и думать забыла о револьвере князя, которым, кстати говоря, не умела пользоваться. Взгляд ее упал на миниатюрные ножницы для рукоделия. Тоненькие стальные лезвия… Проткнуть ими обидчика… Вонзить их в него, вонзить и не отпускать… Девушка схватила маленькие ножницы и с яростным криком ринулась на бандита. Она стала колоть его прямо в лицо и наконец ткнула ножницами над глазом. Теплая кровь обагрила ее руки. Бандит застонал от боли, а Мария продолжала разить его, стараясь выколоть глаза или проткнуть горло. — Жан! Отдайте Жана! Верните его мне! Сейчас прибегут люди! Вам не забрать его! Малыш тоже пронзительно вопил. Просто удивительно, что челядь не слышала криков. Бандит, ошеломленный этой бешеной атакой, сказал себе: — Пора с ней кончать, или меня схватят… Крепче зажав в левой руке по-прежнему завернутого в одеяльце ребенка, он взмахнул ножом и вонзил его по самую рукоять в грудь Марии. Девушка почувствовала холод, пронзающей ее плоть стали, зашаталась и с помутившимся взором рухнула на ковер, сдавленно простонав: — Он убил меня… Господи, сжалься надо мной… Убийца хладнокровно обтер небесно-голубым одеяльцем красное, дымящееся лезвие и, глядя на неподвижную мраморно-белую жертву, лежащую у его ног в растекающейся луже крови, пробормотал: — Жаль все-таки, что пришлось ее прикончить… Люблю я красивых женщин, да и сердце имею чувствительное… Он вылез в окно и исчез, оставив после своего вторжения пустую колыбель и распростертую Марию, очевидно бездыханную. К окну, расположенному на втором этаже, была приставлена лестница. Бандит медленно спустился в сад, окружавший особняк Березовых по авеню Ош, в самом сердце Елисейских полей[5]. Внизу лестницы его ждала закутанная в белое фигура. В неярком свете звезд с трудом можно было различить женский силуэт. — Это ты, Фанни? — шепотом спросил бандит. — Я, Бамбош. Наконец-то дождалась, пока ты управишься. — Ты хорошая девушка, Фанни. Я знал, что могу на тебя положиться. — Ты меня по-прежнему любишь, правда? — О да… Да, конечно… Ты сама знаешь… Однако сейчас не время разводить антимонии[6] касательно чувств… Пролился клюквенный сок…[7] — Ты убил сестру… — …Сестру княгини… Красавицу Марию… — О Бамбош… Ты же поклялся, что только выкрадешь младенца… — Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. — Но ты хотя бы не причинил зла бедному малышу? Я так привязалась к нему за те три месяца, что служу в гувернантках… — Сначала обделаем дельце и выкачаем кучу денег из его безутешных родителей. — Куда ты потащишь мальчишечку? — К мамаше Башю… Чмокни его и прощай! — Когда я тебя снова увижу? — Точно не знаю. Будь осторожна, сразу же ложись в постель и спи без задних ног. — Я сказала, что мне нездоровится… — Вот и ладно! Скоро здесь поднимется дьявольский переполох. Так что я минут через сорок непременно должен попасть в театр «Водевиль» — надо, чтобы меня видели в ложе, соседней с ложей Березовых. До скорого, Нини! Странное дело, но вполне понятное для тех, кто хорошо знает детей, — тепло укутанного маленького Жана вскоре укачало, и он заснул на руках убийцы. Это обстоятельство благоприятствовало злодеям, помогая одному скрыться, а другой вернуться в свою комнату, чтобы разыгрывать комедию. Похититель повел себя как человек, превосходно знающий расположение усадьбы, — пересек сад и достиг выходящей на улицу Бокур маленькой калитки, в которую заранее вставил ключ. Перед калиткой стояла низкая двухместная карета, запряженная гнедой. Бамбош распахнул дверцу и бросил кучеру: — Сам знаешь куда, и поживее! Затем откинулся на подушки, держа ребенка на коленях. Экипаж рванул с места.ГЛАВА 2
Карета, уносившая Бамбоша и ребенка, выехала на улицу Дарю, свернула на бульвар Курсель и, не сбавляя скорости, помчалась по улице Лежандр. На углу Сосюр и Сальнев возница, не замедляя бешеной скачки и рискуя опрокинуться, повернул так резко, что задние колеса с грохотом чиркнули о кромку тротуара. На перекрестке быстро переходила дорогу какая-то девушка с жестяным бидончиком в руках. Будучи, как истая парижанка, уверена, что у нее хватит ловкости славировать между экипажами, каким бы плотным ни было движение, она решила проскочить перед мчащейся каретой. Однако просчиталась — лошадь неслась со скоростью пяти лье[8] в час. Бедняжка метнулась вперед, но, поскользнувшись на брусчатке, воскликнула: — Мамочка! Я пропала! И действительно, еще мгновение — и ее собьют, сомнут, раздавят… Две прачки, запиравшие прачечную, пронзительно завопили. Посетители винного погребка выскочили на улицу, движимые столь свойственным добрым парижским работягам чистосердечным желанием вмешаться. Но было слишком поздно и любая помощь казалась бы излишней, если бы к карете не бросился какой-то мужчина. С неслыханной отвагой, подкрепленной недюжинной силой, он схватил на лету гнедую за повод. На мгновение его рука и все изогнувшееся тело напряглись в неимоверном усилии. Силач застыл на брусчатке, словно статуя, отлитая из бронзы. И — невероятная вещь! Мужчина не сдвинулся с места, зато мчавшаяся лошадь поднялась на дыбы, ее задние ноги заскользили, раздался скрежет металла, и, высекая копытами искры, она рухнула на мостовую. Разумеется, кучер, желая исправить ошибку, хлестнул животное кнутом, но лошадь, хоть и встала на ноги, вновь упала меж сломанных оглобель. — Не шевелись — прибью! — властно крикнул спаситель. Затем, бросив вожжи, он в один прыжок очутился возле девушки, которую, несмотря на его вмешательство, все же опрокинуло на мостовую. Бедняжка была без сознания — не то вследствие пережитого потрясения, не то от удара. Из упавшего бидончика вытекал на землю бульон. Бледное личико с закрытыми глазами, обрамленное белой шерстяной косынкой, заколотой в виде капора шпилькой для волос, было очень красиво. Ее шерстяной костюм отличался простотой, граничившей с убожеством. А вот нарядные ботиночки выглядели безукоризненно, как у истой парижанки. Девушка едва дышала, и вид неподвижности и бледности, словно стилетом[9], пронзил сердце ее спасителя. Это был красивый румяный малый лет двадцати четырех — двадцати пяти, с живыми глазами и тоненькими черными усиками. Он был одет как преуспевающий работяга — в простой костюм из мольтона[10] и в коричневую шляпу, а к нижней губе приклеился окурок, который молодой человек так и не бросил, совершая свой невероятный подвиг. Прачки тем временем уже подняли девушку и перенесли ее к себе. Он последовал за ними, выплюнул сигарету, вежливо снял шляпу и срывающимся голосом спросил: — Надеюсь, она не пострадала? Старшая прачка распустила девушке шнуровку корсажа, младшая кинулась за туалетным уксусом. — Нет, я думаю, ничего страшного с ней не случилось, — скороговоркой ответила первая. — Карета лишь слегка задела. Бедная крошка! Не повезло, что и говорить… Не будь вас, дорогой месье!.. — Да, — прибавила вторая, натирая пострадавшей виски, — вот уж и впрямь кстати вы подоспели! Коли б не вы, то бедняжка Мими… — Вы ее знаете? — Немного знаем, как и все в округе. Здесь все ее любят… Не правда ли, матушка Бидо? — Ясное дело, любят! Такая красавица. И золотое сердечко. А как любит свою матушку, которая вот уже сколько месяцев не встает с постели. — И несмотря ни на что, Мими всегда весела, как птичка. — За это господин Людовик называет ее не иначе, как Мими-Зяблик. — Господин Людовик? — помрачнев, переспросил юноша. — Да, господин Людовик, студент-медик, который пользует ее матушку. Он живет здесь неподалеку с отцом и сестрой. Они с малышкой большие друзья. Нет, вы не подумайте, между ними все честно-благородно… Ведь детская любовь, оно всегда — «ты не трожь меня руками»… Прачки трещали как сороки — за четверых, зато с дорогой душой за шестерых трудились над девушкой. Понемногу к пострадавшей возвращалось сознание. Ее глаза блуждали по лицам прачек и наконец остановились на молодом человеке, которого она никогда ранее не встречала. — Матушка Бидо… Селина… Что случилось?.. — Молчите, не разговаривайте! Произошел несчастный случай. Ну ничего, не столько горя, сколько страху, не так ли, милочка? Вот этот месье спас вас. О, вы за его здоровье обязаны поставить толстую свечку! Немного оглушенная их трескотней, Мими все же нашла слова трогательной благодарности, идущие от сердца: — Будьте благословенны, сударь! Вы спасли не только мою жизнь, но и жизнь моей матери, у которой никого, кроме меня, нет! Смущенный ее порывом, чистым и добрым взглядом прекрасных карих глаз, сквозившей в них нежностью, юноша покраснел и не смог вымолвить ни слова. Появление двух полицейских, именно в тот момент решительно вломившихся в прачечную, вывело его из замешательства. Только тогда молодой человек вспомнил о карете, лошади и кучере — причине несчастного случая, последствия которого без его вмешательства стали бы роковыми. Один полицейский попросил в нескольких словах пересказать всю историю, с грехом пополам записал ее карандашом в свой блокнот и спросил: — Ваше имя? — Леон Ришар. — Возраст? — Двадцать пять лет. — Кто вы по профессии? — Художник-декоратор. Бывший сержант тридцатого артиллерийского полка. — Где проживаете? — Улица Де-Муан, дом пятьдесят два. — Очень хорошо. А где живете вы, мадемуазель? И как ваше имя? — Ноэми Казен. Мне семнадцать с половиной лет. Я белошвейка. Живу вместе с матерью на улице Сосюр в доме тридцать семь, в двух шагах отсюда… — Благодарю вас, дитя мое. Как вы себя чувствуете? — Такая слабость… Еле на ногах держусь… — Держитесь, моя ласточка. Примите ложечку целебной настойки, — вмешалась матушка Бидо. Леон Ришар наконец решился. Этот смельчак, не раздумывая кинувшийся под копыта мчавшейся лошади, покраснел до слез и начал мямлить: — Осмелюсь предложить, мадемуазель… Не окажете ли вы честь опереться на мою руку, чтобы я проводил вас к вашей матушке… Если же вы еще слишком слабы, я отнесу вас домой на руках… — Да уж, — заметил один из жандармов, — судя по тому, как вы на полном скаку удержали лошадь, вы вполне в состоянии оказать барышне эту небольшую услугу. Но прежде мне необходимо получить показания возницы. — При этих словах на лице его появилось радостное выражение, какое бывает у представителя власти, предвкушающего, как он оштрафует нарушителя общественного порядка. Оба жандарма и молодой человек вышли на улицу. Лошадь, которую наконец подняли и поставили на ноги, фыркала и дрожала всем телом. Из ее пасти, израненной мундштуком, текла красная от крови пена. Ее держал под уздцы один из прохожих. — Эй там, кучер! Иди живей сюда, да поторапливайся! — рявкнул жандарм. Но кучера и след простыл. — Ну это уж слишком! — взъярился блюститель порядка. — Этот каналья сбежал! А экипаж-то роскошный, частный, должно быть! — Надо бы посмотреть, нет ли кого внутри, — решил второй полицейский. Он распахнул дверцу. В карете было пусто. Однако, ощупывая мягкое сиденье, он наткнулся на предмет, его поразивший. — Ты смотри! Складной нож. К тому же открытый. Да он весь в крови по самую рукоять! Что бы это могло значить? Ему отвечали, что сразу после происшествия из кареты вышел человек в блузе и шелковой каскетке, державший на руках плачущего ребенка. Бросив вознице несколько бранных слов, он пояснил, что вез младенца в больницу. Кучер, придя в себя, кинулся следом за ним, крича: — Думаешь так просто отделаться! А кто мне заплатит?! Подержите лошадь, я сейчас вернусь, — бросил он зевакам. Странное дело, но возница вообще не вернулся, с легким сердцем покинув и лошадь и карету. Озадаченные полицейские решили, что один из них немедленно доложит о происшедшем комиссару, а другой доставит экипаж на место, отведенное для лошадей и повозок, задержанных до выплаты штрафа за причиненные убытки. Затем блюстители порядка удалились. Мими, хоть все еще была слаба, чувствовала себя значительно лучше. Леон Ришар уже готовился отправиться восвояси, в убогое жилище ремесленника. Девушка как раз протягивала ему руку для прощального рукопожатия, как вдруг, откуда ни возьмись, в прачечную влетел какой-то мужчина. — Что это вы, Мими-Зяблик, — начал он с места в карьер, — дорогая моя подружка, вздумали поиграться в лошадки, да еще когда меня нет рядом! — Глядите-ка, вот и господин Людовик! — радостно вскричала матушка Бидо. — Только вас и не хватало! — ввернула Селина. — А-а, господин Людовик. Рада вас видеть, — молвила девушка. — Я только что узнал, в какую вы попали переделку. Вы уверены, малышка Мими, что у вас ничего не повреждено? — Не думаю, господин Людовик. Заприметив наконец декоратора, молодой человек дружески протянул ему руку со словами: — А вы и есть спаситель? Угадал? Позвольте вас приветствовать! Я люблю милую Мими как родную сестру и благодарю вас. Людовик Монтиньи, студент-медик, к вашим услугам. Хотя, разумеется, хотелось бы, чтобы к моим профессиональным услугам вы прибегали как можно реже. Мы еще увидимся с вами. Такую услугу не забудешь, не правда ли, Мими? Девушке наконец удалось вмешаться в этот поток слов, и, устремив на Леона благодарный взгляд, она сказала: — Конечно, господин Ришар. Поверьте, я не окажусь неблагодарной. А теперь, когда я уже оправилась, надобно спешить домой, к матушке. — В одиночестве? — осмелился наконец возразить художник. — Ведь вы еще слишком слабы, мадемуазель. — Я обопрусь о вашу руку, и господин Людовик даст мне свою. Моя мать будет счастлива вас поблагодарить. Итак, до свидания и спасибо, добрая матушка Бидо. И вам спасибо, дорогая Селина. С трудом передвигая ноги, в сопровождении двух молодых людей, девушка тронулась в путь. Леон Ришар, счастливый тем, что Мими опирается на его руку, не произносил ни слова. Зато студент не закрывал рта и тараторил без умолку. Очень высокий, довольно миловидный, хотя и немного расхлябанный, он имел несколько комичный вид: возбужденно размахивал руками, все время теребил курчавую, старательно подстриженную бородку, водружал на нос постоянно падавшее пенсне, отбрасывал со лба непокорную прядь. Словом, Людовик Монтиньи был веселым спутником. Душа нараспашку, юноша отличался неуемной искренностью, был прекрасным товарищем, готовым отдать другу последнюю рубаху. И хотя он, имея в характере богемную[11] жилку, увлекался литературой и умел держать в руках кисть, его главной страстью была наука, что и позволило Людовику выдержать труднейшие экзамены в интернатуру[12]. Он жил с отцом и сестрой по соседству с Мими и, как уже известно, оказывал ее матери медицинскую помощь, столь же самоотверженную, сколь и бесплатную. Декоратор, которому студент поначалу внушал опасения, тотчас же проникся к этому долговязому парню живейшей симпатией. После того, как Мими предстала наконец-то перед своей матерью и та убедилась, что все окончилось благополучно, молодые люди спустились по лестнице и уже на улице обменялись сердечным рукопожатием. Попрощавшись, они расстались, проникнутые обоюдным желанием встретиться вновь. Леон медленно пошел по улице Де-Муан, погруженный в мысли о той, кого он недавно вырвал из когтей смерти и чей нежный образ неотступно стоял теперь перед его глазами. Людовик же, возвращаясь домой, думал, что после столь напряженного трудового дня недурно бы немного поразвлечься. Для него, не признающего никаких полумер, существовало две крайности — либо работать, забывая про еду и сон, либо уж гулять так гулять. Хорошо было бы вернуться в Латинский квартал[13], да вот беда — скоро уже одиннадцать, а он находится в самом центре Батиньоля[14]. Наконец было принято решение: отправиться на боковую. Однако сон его был недолог. Был уже почти час ночи, когда Людовик проснулся оттого, что кто-то яростно звонил у дверей его квартиры. Прислуга помещалась на седьмом этаже, отец его спал, сестра тоже. Бранясь, юноша встал, натянул брюки и пошел открывать. На лестничной клетке стояла консьержка[15]. Она протянула ему конверт и сообщила, что внизу ожидает экипаж с кучером и лакеями, одетыми «не хуже господина префекта[16]». Крайне заинтригованный, Людовик вскрыл конверт и вполголоса прочел записку, состоящую из двух строк:«Скорее приезжайте в особняк князей Березовых. Я рассчитываю на вас.— Ну и ну! Конечно же я поеду! — воскликнул студент. Он наскоро оделся, зашел к отцу предупредить, что уезжает, сел в карету и бешеным галопом домчался до особняка Березовых, где в это время царила неописуемая суматоха.Перрье».
ГЛАВА 3
Жермена веселилась в театре от всей души. Так уж устроен характер парижанина — к какому бы классу общества человек ни принадлежал, больше всего на свете он обожает зрелища. Вот почему парижанин как к странному феномену относится к тому, кого оставляют равнодушным вызубренные назубок страсти, написанные клеевой краской пейзажи, оптические эффекты, монологи, которые выкрикивают размалеванные люди, словом, все эти условности, эта «липа» и показуха, радующая взор, чарующая слух, заставляющая чаще биться сердце. Давали какую-то посредственную пьесу, принадлежащую перу столь же посредственного, но модного драматурга. Княгиня Березова, не только успокоилась, но получала настоящее наслаждение, и время для нее летело незаметно. Целиком поглощенная интригой пьесы и захваченная игрой актеров, Жермена не обратила внимания на пожилую, заурядной внешности, но пышно разряженную даму, сидящую в соседней ложе. В одиннадцать часов дверь этой ложи отворилась, пропуская элегантного молодогочеловека, державшегося не без достоинства. Он почтительно и нежно приветствовал старую даму, поцеловал ей руку и сказал вполголоса: — Простите матушка, что я так надолго оставил вас одну. Она ответила, лаская его влюбленным взглядом: — У тебя свои развлечения, сыночек. Спасибо и на том, что ты вообще обо мне не позабыл. — Вы как всегда великодушны и всепрощающи. — Это потому, что я обожаю своего гадкого мальчишку, который еще находит время меня обхаживать и баловать. Жермена услышала последние слова и машинально взглянула на собеседников. Она узнала знакомца мужа, барона де Валь-Пюизо, одного из тех, кого приглашали на редкие празднества в особняк Березовых. Он тоже узнал княгиню, почтительно ей поклонился и дружески помахал рукой князю. В антракте мужчины встретились в фойе. Князь с удивлением заметил, что на светло-желтой перчатке молодого аристократа выступило кровавое пятно. — А-а, да, — непринужденно пояснил тот, — я похож на живодера. Когда ехал сюда, какой-то омнибус зацепил мой экипаж. Посыпался дождь осколков — стекло в дверце было разбито. Вообразите, эта пустяковина и порезала мне руки и лицо, я был весь в крови. Все это он излагал по-простому, мать называл как пай-мальчик «матушкой», не боясь показаться смешным в свете, где отданы на поругание самые священные чувства, а высшим шиком считается смешивать любовь с грязью. — Ах, так здесь присутствует баронесса де Валь-Пюизо? Почему же вы меня не представите? — обратился к нему князь. На лице молодого человека отразилось легкое замешательство, но он ответил без обиняков: — Честное слово, дорогой князь, как ни лестно ваше предложение, но позвольте его отклонить. Моя мать — замечательная женщина, но происходит из самых низов и потому испытывает панический страх перед высшим светом, где она чувствует себя не в своей тарелке. Князь из вежливости продолжал настаивать, но тут поднялся занавес. Он вернулся к Жермене, а барон направился в свою ложу. Когда Валь-Пюизо уселся рядом с матерью, та склонилась к нему и чуть слышно зашептала: — Что с мальцом? — Все в порядке. — И все прошло как по маслу? — Эх-э-эх, если бы… Сдается мне, я убил сестру княгини… — Экий ты кровожадный! Уж больно ты, Бамбош, любишь пером размахивать… Когда-нибудь на этом и споткнешься! — Больно жалостливая нашлась! Чертова девка сопротивлялась, как фурия…[17] Набросилась на меня с ножницами… Да так, что раскроила мне руки и лицо. — Уж ты скажешь! — Мне и самому ее жаль — милашка была — просто загляденье! Такая красотка, почище самой княгини. Я чуть умом не тронулся… — Значит, сопляк в надежном месте? — И теперь самое время тряхнуть простака-князя и его чопорную княгинюшку. У нас ни гроша не осталось. Во всяком случае, как бы там ни было, у меня алиби[18], и уж не знаю, каким надо быть пройдохой и заподозрить, что Бамбош и барон де Валь-Пюизо — одно и то же лицо. Князь и княгиня Березовы досмотрели спектакль до конца, как настоящие зрители, желающие за свои деньги получить все сполна. Сидя в карете, они держались за руки и плотно прижимались друг к другу, оставаясь не только супружеской парой, но и нежными влюбленными. Их возвращение сопровождалось церемониалом, к которому Жермена, любящая простоту, привыкла с трудом. После того как экипаж обогнул огромную прямоугольной формы застекленную веранду, они ступили на ковер, устилавший сверху донизу крыльцо, и пересекли просторный холл, где рядами выстроилась челядь. Поднявшись на второй этаж в свои апартаменты, княгиня, удивленная, что ее не встречает горничная, позвонила. Первая ее мысль была о ребенке, о Жане, — она не видела его целых три часа. Три часа! Три столетия без этого прелестного существа, которому была отдана вся любовь и нежность… Жермена толкнула дверь в детскую. Та не поддавалась. Пораженная Жермена надавила сильней и позвала: — Мария! Мария, открой, это я! Никакого ответа. Ничего… Лишь мертвая тишина. Неизъяснимый ужас объял княгиню, она закричала: — Мишель! Князь услышал в голосе жены такое отчаяние, что мигом примчался: — Что стряслось, Жермена? — Там… В детской… Что-то… Я не знаю… Мария! Мария! Михаил[19] в свою очередь навалился на дверь и с треском распахнул ее. Жермена влетела в комнату и споткнулась о тело сестры, распростертое в луже крови. Обретя равновесие, она бросилась к колыбельке, увидела, что та пуста, и тотчас же заметила и распахнутое окно, и торчавшую в нем лестницу… Вся картина, словно нарисованная огненными линиями, мгновенно запечатлелась в ее мозгу. Жермена осознала ужасную правду: сестра убита, ребенок похищен… Она пыталась говорить, двигаться, реагировать, но чувствовала только смертельный ужас, сковавший ее тело. А потом она закричала. Закричала так страшно, что крик разнесся по особняку и заставил вздрогнуть всех, находящихся в доме. Как подкошенная, она со стоном упала на руки мужу: — Мишель… Наше дитя… Умираю… Сраженный в самое сердце этим неожиданным и коварным ударом, князь на какое-то мгновение чуть было не лишился рассудка. Но, призвав на помощь все свое хладнокровие, он постепенно обрел то спокойствие, которое не оставляет по-настоящему сильных людей в самых драматических обстоятельствах. Привлеченная ужасающим воплем княгини, сбежалась челядь. Князь отнес жену на кровать и, видя, что она помертвела и почти бездыханна, кликнул помощь. Потом поднял Марию и уложил ее рядом с сестрой. Мороз пробрал его до костей, когда он почувствовал на своих руках теплую кровь убитой. Гувернантка Фанни вбежала с полузастегнутым корсажем, простоволосая и стала расспрашивать, что произошло. Взглянув на колыбель, где еще так недавно смеялся и лепетал младенец, Михаил увидел, что гнездышко опустело. Несчастный отец тяжело рухнул перед кроваткой на колени. Сердце его разрывалось, душу терзала мука, перед которой меркнут все слова. Он завыл как раненый зверь. Расспросы гувернантки заставили его вскочить. Как будто не она обязана была знать все о ребенке, вверенном ее неусыпному попечению. В ярости он сжал кулаки: — Несчастная! Вы позволили похитить нашего ребенка! О, мы, глупцы, доверили равнодушным кровь от крови, плоть от плоти нашей! Заметив, что вокруг столпились слуги, с виду, быть может, и сочувствовавшие ему, но в глубине души, возможно, злорадствовавшие, князь устыдился этого порыва и решил скрыть свою муку от посторонних глаз. Лишь один из них терзался так же, как он сам, и, заливаясь искренними слезами, выказывал душевную привязанность к потерянному ребенку. Это был старый дядька Владислав. Князь взял его за руку как друга и сказал: — Беги в конюшню. Лошадей еще не распрягли. Гони во весь опор к доктору Перрье и доставь его сюда во что бы то ни стало. Старшая горничная хлопотала над княгиней, пытаясь привести ее в чувство, но сама не могла отвести глаз от Марии, продолжавшей истекать кровью. Пока один посланец мчался за врачом, другой был отправлен за комиссаром полиции. Полицейский прибыл первым, а через несколько минут появился также профессор Перрье — он был не просто врачом, но и другом четы Березовых. Комиссар, человек еще довольно молодой, но не без способностей, отличался большим самомнением и упрямством. Он почувствовал в себе призвание стать полицейским, начитавшись романов Габорио[20], как иные становятся землепроходцами, начитавшись «Журнала путешествий»[21]. Популярные произведения вдохновили молодого человека, он освоил писательское ремесло, затем сдал письменный экзамен и неожиданно легко поднялся по административной лестнице. Иногда комиссар думал, что не может быть лучшего учителя, чем усовершенствованный им Габорио, а самого себя считал полицейским того типа, образцом которого служит неподражаемый господин Лекок[22]. В этом вопросе он, ослепленный собственной гордыней, глубоко заблуждался. Ибо, хоть иногда и доводилось ему в результате счастливого стечения обстоятельств добиваться блестящих успехов, случалось также попадать и впросак и карать невиновных за преступления, которые те не совершали. Неспособный и мысли допустить, что может ошибаться, комиссар, начав дело с ошибки, громоздил их одну на другую, отрицал очевидное и не желал отказаться от своих предубеждений, какие бы неоспоримые доводы ему ни приводили. При этом он был злопамятен, как краснокожий, увлекался каламбурами, страстно любил литературу, и порой на сценах заштатных театриков шли его второсортные пьесы, полные общих мест и литературных штампов. Очутившись в особняке Березовых, комиссар стал важничать, принял высокомерный вид, допросил всех и каждого, третировал своего писца и вызвал ненависть князя, потому что даже к его горю отнесся неуважительно. Счастье, что вскоре прибыл сопровождаемый дядькой доктор Перрье. Пятидесятилетний профессор, внешне холодный и уравновешенный, принадлежал к категории людей, составляющих гордость науки и своего отечества. Он выставил за дверь полицейских, отослал прислугу и оставил в комнате лишь горничную и Владислава. Две сестры по-прежнему лежали рядом. Прозрачная бледность их лиц наводила на мысль, что они уже покойницы. Врач нащупал пульс Жермены, приложил ухо к груди и коротко бросил: — Ничего страшного. Она скоро очнется. — Ах, доктор, — взмолился Михаил, — верните ее к жизни! Сделайте так, чтобы она пришла в себя!.. — Лучше повременить. Обморок даст отдых телу и душе. Потерпите немного. Сперва осмотрим бедное дитя… С помощью трепещущей от страха горничной он расстегнул корсаж Марии. Когда подняли пропитанную кровью рубашку и обнаружили рану, доктор нахмурился и плотно сжал губы. — Она ведь жива, правда? — Михаил едва мог говорить. — Жива. Но при смерти. — Какой ужас! Мария! Мария! Бедная моя сестренка! Доктор, дружище, вы столько для нас сделали… Спасите же ее, умоляю!.. — Я сделаю все возможное, но ничего не могу обещать. Время бежит!.. А в моем распоряжении не более часа. — Что вам нужно, говорите! Нет того, чего я бы не сделал! — Мне нужен ассистент, чтобы произвести почти безнадежную операцию… Ах, если бы со мной был мой врач-интерн! — Мы сейчас же за ним пошлем. — Если он дома, он сразу же приедет. — Карета, доставившая вас, заложена. — Прекрасно. Пошлите ему эту записку. — Доктор торопливо нацарапал несколько слов. — Я же со своей стороны должен немедленно сбегать домой и взять инструменты, необходимые для хирургического вмешательства. — Для какого именно? — Для переливания крови. — Я не совсем понимаю… — Это когда некто молодой и сильный отдает свою кровь, а я переливаю ее в вены несчастной малышки, у которой из всех жизненных проявлений осталось лишь слабое дыхание… Пока длилась эта краткая беседа, комиссар с толпой слуг с фонарями обшарили весь сад вдоль и поперек. Полицейский искал улики, изучал каждый след, обносил его частоколом из мелких веток и строго-настрого запрещал к нему прикасаться. Проделав эту работу, он явился к князю и сообщил, что не обнаружил ничего существенного. Тем не менее комиссар попытался успокоить беднягу и заверил, что приложит все усилия для успешного завершения дела. Это похищение, по его глубочайшему убеждению, никак не могло быть личной местью. — Я считаю, что ребенок не подвергается ни малейшей опасности, — добавил полицейский. — Почти уверен, что это попытка шантажа. С помощью ребенка у вас попытаются вымогать деньги… Большую сумму денег… В этот момент Жермена открыла глаза и услыхала последнюю фразу. Она хотела подняться, но, сломленная, обессиленная, раздавленная, снова откинулась на подушки. Что значила для нее потеря даже своего состояния! Да, разбойник, разбивший ей сердце, мог требовать от нее всего, чего угодно. Всего, и даже жизни, лишь бы ей еще раз взглянуть на Жана. И вдруг несчастная женщина увидала страшную картину: ее сестра лежит вся окровавленная, с пронзенной грудью. Мария! Дитя, которое она взрастила и любила не только как сестру, но и почти как дочь… Жермену душили зарождавшиеся в груди рыдания, закипавшие на глазах слезы никак не могли хлынуть. Доктор делал для умирающей все возможное — подкожные впрыскивания эфира и кофеина. Но все его усилия не могли вывести Марию из плачевного состояния — она все дальше и дальше уходила в небытие. Минуло уже полчаса. Руки Марии были холодны как лед, ноги окоченели. Оставаясь по-прежнему спокойным, профессор Перрье с болью в сердце наблюдал за приближением неумолимой смерти, которой в данный момент ему нечего было противопоставить. Вошедший слуга внес сафьяновый ящичек с никелированной ручкой. Доктор мигом выхватил ящик у него из рук, открыл и бросил: — Аппарат готов к работе. Только бы прибыл мой ассистент, не то… Бешеный топот копыт и грохот мчащейся кареты заглушили его слова. На лестнице раздались шаги — кто-то поднимался, перепрыгивая через две ступеньки. Вбежал студент в сопровождении Владислава. — Скорее за дело, дружище, — бросил профессор студенту. — Будем делать переливание, но успеем ли — кто знает…Вне всякого сомнения, не только бедняки страждут в этом мире, но и у богачей свои горести. Однако последние имеют возможность пригоршнями бросать золото в уплату за услуги, что избавляет их от множества непоправимых несчастий.
ГЛАВА 4
Леон Ришар проживал в доме пятьдесят два по улице Де-Муан. Он занимал маленькую комнатку, обставленную просто, но с отменным вкусом. Несколько эскизов, напоминающих о его профессии, да парочка умелых, написанных с натуры этюдов скрашивали голые стены и свидетельствовали о том, что хозяин не только ремесленник, но и художник. Над железной кроватью, настоящей солдатской койкой, висели несколько памяток о тех временах, когда он служил в армии: скрещенные клинки, унтер-офицерское кепи, сабля с темляком[23], револьвер. Напротив кровати — стол-бюро с этажеркой, с несколькими тематически подобранными книгами по вопросам политэкономии, брошюры социалистов и отмеченными синим карандашом вырезками из газет. Рядом — туалетный столик с комодом, кресло, стулья с плетеными сиденьями, керосиновая лампа с абажуром. Кругом царила безукоризненная чистота, нерушимый порядок свидетельствовал о том, что хозяин дома — человек серьезный. С малых лет оставшись сиротой, Леон Ришар имел лишь родственников, живущих в Солони[24]. Вот почему, будучи еще совсем юным, он стал жить трудами рук своих, полагаясь лишь на себя самого. Случай предопределил выбор профессии. Однажды старик декоратор, друг его родителей, привел Леона в свою мастерскую. Фантасмагория из бумаги, холста и раскрашенного картона заворожила мальчугана, и он, вернувшись домой, сам попытался малевать замки, леса, города, дома. Его первые опыты, вся эта варварская мазня, понравились старому ремесленнику, сказавшему: — У мальчонки есть понятие. Он далеко пойдет. Надо бы его отдать в малярство. Отец Леона занимался одной из тех страшных профессий, от которых самые выносливые работяги помирают во цвете лет — он был стеклодувом. Радуясь мысли, что убережет Леона от этого пагубного ремесла, отец определил его в подмастерья к декоратору. Затем старший Ришар отдал Богу душу, как умирает три четверти стеклодувов, становящихся легочными больными и слепцами. Мать, не выдержав горя и лишений, вскоре последовала за ним, оставив сына без средств к существованию. В Париже, в этом оплоте прогресса и разнообразной широкой благотворительности, даже безнадежно больной человек не всегда может спокойно умереть на больничной койке. Бедняки умирают у себя дома или на улице, если не имеют своего угла. А иногда смерть обходится чрезвычайно дорого, особенно если агония длится слишком долго. Папаша Ришар был чрезвычайно сильным человеком. Долгие месяцы он сопротивлялся смертельной болезни. Малыш Леон, рано повзрослевший от обрушившихся несчастий, обнаружил недюжинные способности и стал прилежным подмастерьем, а затем хорошим рабочим. Получив самое примитивное начальное образование, он решил расширить свои познания и посвящал этому часы досуга, а порой и сна. Юноша посещал школу для взрослых, ходил на курсы рисунка, упорно пренебрегая кабаками и винными погребками. В свой срок Леона призвали на военную службу и дали солидные подъемные. К тому же у него был скромный капитал, пара сотен франков, по грошу накопленных в банке в ожидании предстоящих трудностей в начале службы, когда всего разом недостает. Однако первые шаги на военном поприще оказались много легче, чем он предполагал. Да и то сказать — одинокая жизнь закаляет. Тем более Леон обладал статью Геркулеса[25], его железный организм не ведал усталости. Хоть юноша и не испытывал чрезмерной любви к армейской жизни, но почитал своим долгом служить на совесть. Он хотел все знать и быстро усвоил премудрости артиллерийской науки. Вскоре Леон стал капралом, затем сержантом, а перед увольнением в запас вот уже четыре месяца носил офицерские нашивки. Командиру батареи он сказал просто: — Я предпочел бы быть простым солдатом в армии работяг. В тот день, когда отечество окажется в опасности и призовет на помощь своих детей, я буду на месте. Затем Ришар спокойно вернулся в мастерскую по изготовлению декораций, снял на улице Де-Муан комнатушку, которую обставил, исходя из своих скромных средств, и, работая ради хлеба насущного, со всей страстью окунулся в изучение политических наук: посещал собрания, слушая ораторов-социалистов, излагающих свои доктрины, и находил их формулировки отвечающими его умонастроениям простого труженика, замечающего, что не так уж все и прекрасно в нашем образцовом обществе. Никто не знал, есть ли у него подружка. И вовсе не потому, что юноша отличался каким-то особым пуританством[26], вовсе нет. Он был молод, наделен тем, что называют темпераментом, и вовсю забавлялся, когда приходилось совершать набеги в страну любви. Но это были всего лишь простенькие приключения, интрижки без последствий, мимолетные увлечения, вспыхивавшие и сгоравшие быстро, как солома. Никогда до сих пор Леон не ведал настоящей страсти, серьезной привязанности, не встречал «родственной души». Он обладал всеми свойствами, необходимыми, чтобы стать превосходным главой семейства. И никому бы, и ему самому в первую очередь, и в голову не пришло, что на его долю выпадут немыслимые и весьма суровые приключения. Леон Ришар жил в доме по улице Де-Муан уже восемнадцать месяцев. Через год после него поселилась этажом ниже пожилая супружеская чета. Парочка была отвратительная — озверевшие от злоупотребления спиртным пьяницы без устали дрались и влачили самую жалкую жизнь. Супруг носил характерное прозвище Лишамор, что на местном воровском жаргоне значило Лакай-В-Усмерть, под этой кличкой его и знали в здешнем районе. Это был упитанный шестидесятилетний старичок с хитрыми глазами ежа, поросший, как дикий кабан, коричневато-серой щетиной. Алкоголь законсервировал его, как консервируют некоторые фрукты. На его помидорно-красной роже, словно спелые дикие вишни, выступали фиолетовые жировики. Жена походила на свиноматку, ее жировые отложения тряслись при каждом движении, как пакеты желатина. Пила она ничуть не меньше супруга и ежедневно заглатывала два литра «купороса». Людьми они были мрачными и едва ли обменивались в день пятью десятками слов, как если бы боялись проговориться о совершенных ранее преступлениях. Однако иногда, когда старуха напивалась, в ней, как это водится у заправских пьяниц, пробуждалась некая лучезарная ясность ума. Тогда она беседовала с консьержкой, чересчур любопытной, но в целом превосходной женщиной. Да, супруга Лакай-В-Усмерть не всегда была такой, как сейчас. Когда-то ее знавали как примерную жену и хозяйку пансиона. Затем они с мужем стали торговать вином. Но… хозяева слишком много пили. Торговля прогорела. К счастью, их дочь была миллионершей и теперь оплачивала старикам крышу над головой и кусок хлеба. Разумеется, она могла бы вести себя и более благородно. Двести франков в месяц… Шесть франков и семьдесят сантимов в день… Не густо… Вот и приходилось экономить на квартплате, еде, одежде, экономить на всем, чтобы свести концы с концами. Был еще племянник, можно сказать, приемный сын, он иногда подбрасывал франков двадцать. А не то пришлось бы затянуть пояс потуже и не было бы возможности пропустить стаканчик, когда мучает жажда. Вот и все, что было известно о финансовых делах супругов. Однако квартплату старики вносили исправно, охотно наливали рюмочку-другую, вот к ним и относились уважительно, как к рантье[27]. Итак, пока Леон Ришар мечтал о Ноэми Казен, красивой и грациозной Мими, чей образ уже преследовал его, супруги этажом ниже устроили потасовку. Напрасно юноша пытался сосредоточиться, воссоздать в памяти неожиданные события, связавшие между собой два столь несхожих существа. Стычка была такой громкой, что мечты его разлетелись от изрыгаемой пьяницами ругани и ударов, которыми те, не скупясь, награждали друг друга. К шуму свалки примешивался еще и неумолчный плач ребенка. Он нервировал молодого человека: — Ну вот, теперь у них еще и ребеночек объявился. Малыш орал, не замолкая, а художник недоумевал: — Что за ненормальные родители могли доверить крошку подобным людям? Только б они его не обижали. Крик не стихал, но уставший юноша все же заснул — ведь была уже полночь. Однако сон его был тяжел. Хотя он и не слышал больше жуткого дуэта пьяниц, под двери ему просочился ужасный, неизвестно откуда взявшийся запах. От смрада, заполнившего комнату, он почти задыхался. Это была затхлая смесь прогорклого масла, спиртного, тошнотворный запах тлеющего грязного тряпья. Прошло несколько часов, и юноша, преодолевая тошноту, очнулся. Светало. Припомнив все, что происходило накануне этажом ниже, он спустился, опасаясь, что случилось несчастье. Так и есть! Всю лестничную площадку заволокло едким дымом. Могучее плечо высадило дверь. Леон очутился в маленькой прихожей. Распахнув двери, ведущие в комнату, он застыл, охваченный ужасом и отвращением. Единственное, что он смог, так это прошептать: — О, как это ужасно! И, отшатнувшись при виде кошмарного зрелища, открывшегося его глазам, помчался предупредить полицию.ГЛАВА 5
Как только карета, увозившая Бамбоша и едва не раздавившая Мими, была остановлена Леоном Ришаром, бандит открыл дверцу и бросил кучеру: — Сматывайся. А клячу и колымагу оставь. Сам же молодчик с плачущим младенцем на руках выскочил на мостовую, громогласно объявив, что везет малыша в больницу. Продираясь сквозь толпу, Бамбош узнал смельчака спасителя, которого неоднократно встречал раньше. «Ты посмотри, — подумал бандит, — да это же мазила, живущий этажом выше стариков! Ну я его научу, как совать нос в наши дела! Возьмем его на заметку, и наши ребята с ним разберутся». Бамбош в два счета доставил малыша к Лакай-В-Усмерть и без околичностей заявил старухе: — Держи, мамаша Башю, этого толстомордика. Спрячь его и смотри в оба, чтобы с ним ничего не приключилось. Щенок принесет мне миллион с гаком. — А нам он сколько принесет, сынок? — Целое состояние. Будет на что выпить и тебе, и твоему Лакаю. — Стало быть, малец — важная птица? — Еще какая! Мамаша Башю, этот кусок мяса — настоящий принц. Ведь ублюдок — сын князя Березова. — Так цыпленок — сын этой кривляки Жермены, в которую когда-то втюрился бедняга граф Мондье? — Да, — уронил Бамбош, — бедный мой папочка, который, кстати, не был ни графом, ни Мондье. Настоящий злодей, и я правильно сделал, отправив его на тот свет. — Кстати говоря, мне всегда было немного не по себе, что ты порешил своего родителя. — Ты, старуха, дура набитая. Знала бы ты, что принес мне этот единственный удар ножом! Благодаря ему я стал главарем банды и у меня неплохая зацепка в самом высшем свете. Но вернемся к мальцу. — А что с ним надо делать? — Подержать у себя до завтрашнего утра. А я пока мигом обряжусь великосветским хлыщом и присоединюсь в театре «Водевиль» к Глазастой Моли, играющей роль моей мамаши. Завтра на рассвете она приедет за сопляком и сама определит ему постоянное местожительство. Понятно? — Конечно же понятно, ты — лучший из всех бандитов. Эх-эх-хэ, а не подбросишь ли чего, чтобы смазать колеса бедной старухе, тебя взрастившей? — Эге, значит, твоя дочка Андреа-Рыжуха перекрыла вам кислород? — Нет, но ее муженек такой скряга, что тот жид. Бамбош порылся в кармане, извлек пару луидоров[28] и швырнул их на стол. — Вот, возьми и хлебай вволю. Пойдем, уложишь щенка в кабинете. А мне подай рубаху, штаны, лакированные шкары[29], словом, вечерний костюм. — Держи, драгоценный мой. Через четверть часа мерзавец настолько преобразился, что и самый близкий друг не смог бы его узнать. Фальшивая черная борода, закрывавшая лицо, исчезла. Как и парик с бакенбардами, умело закрепленный на каскетке. Бамбош, избавившись от бандитских доспехов, превратился в очень элегантного светского молодого человека с узенькими пшеничными усиками и коротко стриженными белокурыми волосами. Фрак сидел на нем великолепно. Перевоплощение было не только мгновенным, но и поразительно полным. Бандит закутался в длинное, до пят, зимнее пальто, надел мягкую шляпу, засунул под жилет сложенный шапокляк[30]. — Прощай, поганец ты мой любый, — сказала ему мамаша Башю с нежностью, подогретой спиртным. — Тысячу приветов Глазастой Моли, если она нас еще помнит. — До скорого, старая греховодница, — откликнулся Бамбош. — Доброй ночи, Лакай, и не слишком усердствуй с самогоном. Ты же знаешь — «повадился кувшин по воду… — По водку… — … ходить и разбился»… — Нет, напился по горло. — Старик зашелся смехом, похожим на кудахтанье. Похохатывая, Бамбош вышел на проспект, где остановил экипаж. Оставшись дома, супруги, уже находившиеся в крепком подпитии, не слишком долго раздумывали, куда бы истратить два луидора, великодушно оставленные Бамбошем. Несмотря на поздний час, было принято единодушное решение промочить глотку. — До утра не дождаться. — Мамаша Башю была само нетерпение. — И то, — поддержал ее Лишамор. — Я бы с удовольствием глотнул пунша… — Да, пунш так и печет, так и печет, когда льется в брюхо… — А в него бы долить шартрезу… абсенту… кирша… Словом, всех этих дорогущих, но пахучих штук… — Именно, именно. Тут тебе и выпивка, тут и парфюмерия. — А ко всему этому купить бы у аптекаря чистого спирту, да всю смесь и поджечь!.. — Возьму-ка я свою торбу да потопаю за всеми этими, вкусностями. А если мальчонка будет слишком уж хныкать, дай ему пососать большой палец. Не прошло и двадцати минут, как старая карга вернулась, нагруженная, как ослица. В здоровенный, литров на десять, котел старуха швырнула горсть рафинада, вылила все принесенные напитки, и Лишамор поднес к этой бурде спичку. Заплясавшее голубое пламя зловеще осветило мерзкие рожи супругов, в то время как в соседней комнате, брошенный на убогое ложе, несчастный ребенок заходился от крика. Несмотря на то, что выпивки у Лишамора всегда было вдоволь, он не знал слова «достаточно» и останавливался лишь тогда, когда сон валил его замертво. Одеревеневший, с закатившимися глазами, в такие минуты он напоминал больного каталепсией[31]. Старик принадлежал к тем запойным алкоголикам, которые не могут спокойно видеть ни стакан, ни бутылку, ни бочонок без того, чтобы не попытаться все это моментально опорожнить. Казалось, удовольствие ему доставлял не столько сам процесс пития, сколько его последствия, не дегустация как таковая, а само состояние опьянения. Итак, на столе пылал полный котел пунша. Лишамор, очарованный запахом и дивным видом горящей, как расплавленный металл, жидкости, заявил: — Я буду пить его горящим. — Я тоже, — решила старуха. — А потом мы угостим княжьего выродка. Детишки под хмельком — такая забава! Лишамор приложился к черпаку и стал пить большими глотками. Его почерневший рот, казалось, мог без вреда заглатывать и булавки, и осколки стекла, и купорос. Старуха щедро плеснула себе в кружку, однако огонь погас, чем вызвал ее недовольное ворчание. Не отрываясь, она выдула больше литра, не замечая, как странно исказилось лицо ее супруга. Лишамор вдруг подскочил на месте. Судорога прошла по всему его телу, с губ сорвался крик. Изо рта пьяницы, из самого горла, вырвался язык пламени. Перенасыщенный более чем за тридцать лет возлияний всевозможными горючими жидкостями, старый выпивоха вдруг загорелся. Весь спирт, пропитавший его тело: мышцы, кости, кориум[32], эпидермис[33], жировые отложения — воспламенился, и Лишамор запылал, как стоявший перед ним пунш. Грудь его вздымалась от пароксизмов кашля, и, наконец, выдохнув огненную струю, он едва не опалил украшенное седой волосяной порослью лицо мамаши Башю, тупо наблюдавшей за происходящим. Лишамор превратился в скрюченный труп, оставшийся в том же положении, в котором его настигло удушье, — животом на краю стола, а спиной прижатый к спинке стула, что не мешало ему пылать вовсю. Лицо было в огне, из глаз, носа и рта вырывалось пламя, вскоре охватившее и все тело. Кожа, пропитанная алкоголем, лопалась и шипела, словно жаркое. Шкворчало, вытекая, сало. Занявшаяся одежда поддерживала жар. Копоть поднималась к потолку и оставляла на нем жирный слой сажи. Воздух с летающими черными хлопьями становился все более удушливым и непригодным для дыхания. По всей квартире распространялся тошнотворный дух пригорелого сала. Полузадохнувшийся ребенок метался на убогой постели, испуская пронзительные душераздирающие вопли. Оглушенная выпитым пуншем, который она хлебала с жадностью всегда голодного животного, мамаша Башю наблюдала, как обугливается ее муж, и бормотала, икая: — Ну ты погляди, что ж ты это выдумал, старый хрен?.. Чего это ты тут тлеешь? Это ты стал пуншем? Или пунш тобой? Не могу в толк взять… Вот потеха… А ты, сопляк, заткнись. Прекрати свою музыку, не то живо твою дудку изломаю… Недаром меня величают «Смерть-Младенцам». Уж и повозилась я с этими ангелочками… А-а, ты все еще хнычешь… Вот брошу тебя в этот котел, будешь знать… Черт побери, ну и жара!.. Лакай, старина, надо бы тебя затушить. А то уж больно ты котлетами смердишь. И еще селедочкой малость. Не могу больше… Я свою дозу приняла, теперь вздремнуть бы чуток… Пошли баиньки? Да только вот малец нам не даст покемарить. А вот я ему сейчас глотку перережу… Шатаясь, она дошла до шкафа, выдвинула ящик и, вытащив кухонный нож, вся во власти своей пьяной фантазии, поплелась туда, откуда доносились все более пронзительные вопли. Лишамор продолжал тлеть. Огонь уже охватил его с ног до головы и весело потрескивал. Без передышки шло разложение, происходил феномен, именуемый самовозгоранием. Плоть бывшего кабатчика оседала, распадалась, и вскоре обгорелая масса окончательно утратила очертания человеческого тела.ГЛАВА 6
Войдя в комнату, где в агонии лежала Мария, студент окинул ее взглядом, полным не только сострадания, но и восхищения. Профессия, в изучение которой он ушел с головой, придала ему внешнюю бесстрастность, не уменьшив на самом деле способности сопереживать страждущим. Неожиданно, с бешено заколотившимся сердцем, он осознал, что испытывает к девушке жгучий интерес. — Ее ранили два часа назад, — объяснил ему профессор. — Я рассчитываю на вашу помощь при операции, которая одна только может ее спасти, а именно — при переливании крови. — Хорошо, что вы за мной послали, дорогой мэтр, — только и ответил юноша. — Кроме того, здесь необходим умный и преданный человек для неусыпного наблюдения за нашей больной. И в этом я тоже полагаюсь на вас. На дежурствах в клинике вас подменит один из моих экстернов. А вы обоснуетесь здесь и пробудете до тех пор, пока будет необходимо. — Договорились. И спасибо, что вы вспомнили именно обо мне. — Вы ведь мой любимый ученик, и я вам целиком и полностью доверяю. А теперь — за работу! Не делая лишних движений, но на диво проворно юноша соединил части специального инструмента, известного под названием аппарата Колена. Маленькая воронкообразная круглая кювета из эбонита, заканчивавшаяся снизу отверстием для трубки, называлась распределительной камерой. Емкость была рассчитана на триста граммов. Сбоку от распределительной камеры находился хрустальный насос мощностью десять граммов. Затем — присоединенная в нижней части резиновая трубка с наконечником в виде притуплённой полой иглы. Наконец, в распределительной камере, являющейся главной частью машины, помещался резиновый шарик, он был легче крови, проходившей через аппарат, и служил клапаном, препятствовавшим проникновению воздуха в трубку и вытеканию крови в кювету. Одним словом, насос, необычайной точности. Глядя на одинокую и неподвижную фигуру Владислава, — что тебе тот пес, и суетливый, и услужливый, и неуклюжий, зато какой любящий и преданный! — доктор, много лет знавший старого дворецкого, спросил у него: — Тебя не пугает вид крови? — О нет, не пугает. — Ну, тогда закатай рукав сорочки… Но тут с необычайной живостью вмешался интерн: — Если позволите, профессор, я сам буду донором. — Но, друг мой, это истощит ваши силы. — Отнюдь нет. Недавно я обнаружил, что избыточно полнокровен. Переливанием вы только услугу мне окажете. Он даже не стал ждать согласия учителя и принялся закатывать левый рукав, обнажив сильную руку, опутанную, как веревками, сплетением превосходных вен. Профессор чуть заметно улыбнулся и, лукаво заглянув в глаза залившемуся краской юноше, пробормотал: — О, молодость, молодость… Все это прекрасно, но мне нужен помощник, а не пациент. — Умоляю вас согласиться. Я буду и тем и другим в одном лице. Уверяю, больная не пострадает, и операция пройдет без затруднений. — Будь по-вашему. Не теряя больше ни минуты, доктор наложил жгуты на руки молодого человека и раненой девушки. Он подождал, пока вена на руке больной немного набухнет, и надрезал кожу, чтобы обнажить вену. Затем уколол вену тонким троакаром[34] и оставил его в ней, а Людовик удерживал троакар правой рукой. — Держи вот это двумя руками и не двигайся, — сказал он стоявшему по струнке, но с разобиженным видом мужику, словно считавшему, что ему коварно помешали изъявить свою преданность. Владислав так вцепился в эбонитовую кювету, будто та весила пятьдесят килограммов. — Главное — не шевелись. — О, не беспокойтесь, господин доктор. — Теперь ваша очередь, — сказал профессор, разрезая вену юноше. Кровь заструилась в кювету. Доктор потянул на себя поршень, затем надавил, и на конце полой иглы появилась красная капелька. Аппарат был готов к работе. Оставалось лишь вынуть троакар из вены Марии и ввести вместо него иглу, служившую наконечником трубки, что и было сделано. Наконец, со всевозможными предосторожностями приоткрыли клапан, и живительная влага заструилась, нагнетаемая насосом. Поначалу казалось, что эти героические попытки не приносят никакого успеха. Героические? О да, потому что здоровое и мощное тело отдавало кровь умирающей, помогая удержать ускользающую от нее жизнь. Уже немалое количество драгоценной жидкости поступило в систему кровообращения больной. Профессор хмурился, а интерн впадал во все большее отчаяние при мысли о том, что его преданность оказалась бесполезной, и это совершенное создание, вызывавшее в нем все более глубокий интерес, должно умереть или даже… уже мертво. Но нет! Наука явила еще одно чудо, способное посрамить маловеров. В тот миг, когда профессор Перрье решил, что будет продолжать свое дело лишь из любви к пациентке, из профессионального долга, но безо всякой надежды, мужик, чьи глаза были неотрывно прикованы к лицу больной, вздрогнул и зашептал: — Она задышала… Она задышала… — Ты не ошибся? — взволновался профессор. — Я совершенно уверен! Какая радость для всех нас! Людовик промолчал, но из его груди вырвался глубокий вздох, а сердце учащенно забилось. Ему и впрямь казалось, что эту прелестную девушку он знает долго-долго, месяцы и даже годы. И готов принести любую жертву, лишь бы она выжила. На лице Марии появился румянец, а потухшие и остекленевшие глаза обрели осмысленное выражение. Веки то поднимались, то опускались, губы дрогнули. Это было воскрешение из мертвых, при виде которого самые закоренелые скептики и хулители науки должны бы были воскликнуть: «Чудо!» Мария узнала доктора и старого слугу. — Доктор Перрье… Владислав… — прошептала она. Мужик так расчувствовался, что заплакал и, сдерживая рыдания, воскликнул: — Воскрес наш бедный ангелочек! Мария посмотрела на интерна, его окровавленную руку… У нее у самой тоже побаливала рука… Тут она заметила аппарат. Кровь, опять кровь… Она вдруг почувствовала себя счастливой под ласковым и восторженным взглядом юноши. Но послеобморочное ощущение блаженства, увы, ненадежно. Вместе с жизнью и сознанием к девушке возвращалась память об ужасной драме, в которой она едва не погибла. Ей почудилось, как внезапно, словно резким порывом ветра, распахивается окно. Является какой-то человек, бандит, выхватывает ребенка из колыбели… Она борется со злодеем… Затем удар в грудь — и бедняжка летит в бездну, откуда нет возврата… И она закричала прерывающимся голосом: — Жермена!.. Жан!.. Изо рта раненой хлынула кровь. — Молчите! Ни слова, или вы убьете себя! — властно скомандовал доктор. — Я ранена? — Да. — Опасно? — Да. Но вы выживете, если будете меня слушаться. — Я буду послушной. Я хочу жить, чтобы отыскать нашего дорогого малыша… А как Жермена? — Теперь, когда вам стало лучше, я займусь ею. Оставляю около вас месье Людовика Монтиньи, доверьтесь ему, как доверились бы мне. — Дорогой мэтр, — спросил интерн, — следует ли продолжать переливание? — Нет, дружище. Наша больная заснет сразу же после того, как вы сделаете перевязку. Я на вас полагаюсь. Дайте я перебинтую вашу кровоточащую руку. Вот так. Бледный, с искаженным лицом, с глазами, полными слез, нет-нет, да и орошавшими щеки, несмотря на неимоверные усилия их сдержать, князь Березов, по меньшей мере в десятый раз, приоткрыл дверь, заглядывая в комнату. — Ну что, вы спасли ее? — спросил он, снедаемый беспокойством. — Операция прошла успешно, и в любом случае сутки бедняжка проживет. Мой интерн не отойдет от нее ни на секунду. А как княгиня? — Пойдемте к ней. Она меня пугает… Профессор направился к Жермене, бившейся в тяжелейшем нервном припадке. Она призывала свое дитя таким душераздирающим голосом, что как ни закален был Перрье видом человеческого горя, но и его такой взрыв отчаяния заставил оторопеть. Доктору припомнились времена, когда три года назад, спасенная из водной пучины тем, кто должен был стать ее супругом, княгиня заболела тяжелой формой менингита и чуть не умерла. И теперь профессор опасался рецидива ужасной болезни, который на этот раз мог унести жизнь несчастной княгини. Она металась, проклинала себя, называла плохой матерью, заслуживающей смерти. — Где была я? В театре… В театре… А они в это время похитили моего Жана, они убили мою сестру… Бедная Мария, ангелочек мой маленький, она до самой смерти защищала ребеночка… А я? Я была там… Я бы спасла его… Кто бы смог противостоять мне, его матери?! Жан! Верните мне Жана! Мишель, наше дитя… Мне нужен Жан… Ищите его… Найдите его… Или я умру… — Жермена, любимая, ненаглядная!.. Нам вернут его… Я клянусь тебе… Но, умоляю тебя, крепись, мужайся… как тогда. Как всегда, в минуту опасности… Совладай со своим горем. У меня ведь тоже душа разрывается, но я мужаюсь, я борюсь… — Я бы хотела… хотела… Но не могу. Какой ужас, какая мука, какой ад в груди… Это невыносимо… Мне хочется выть, рвать на себе волосы… Я желала бы умереть… О, как я теперь понимаю самоубийц! Да, есть вещи, которые перенести невозможно… Дитя мое, дитя… Оторвать ребенка от матери!.. Я же мать, поймите!.. Князь с сокрушенным сердцем пытался взять ее руки в свои, хоть как-то вразумить, заставить ее успокоиться хоть на минуту. Напрасные усилия. Это хрупкое создание, доброе, как ангел, легкое, как птичка, проявляло прямо-таки мужскую силу и билось так, что могло переломать себе кости. «Ей во что бы то ни стало надо заснуть, или все пропало», — подумал доктор. Но так как не представлялось возможным сделать подкожную инъекцию, он распечатал флакон эфира, налил пригоршню и кое-как все же заставил ее вдыхать анестезирующее вещество. Постепенно жесты княгини стали спокойнее, а горестный поток слов приостановился. Несколько раз она глубоко вздохнула и наконец впала в полудремотное состояние, обеспечивавшее ей хотя бы короткую передышку. Князь, чье отчаяние все увеличивалось, бродил между женой и свояченицей и, всякий раз, проходя мимо пустой колыбели, не мог сдержать рыданий. Доктор взял его за руку, энергично встряхнул и сказал: — Мужайтесь. Вы найдете своего ребенка. Ни на минуту не отлучайтесь от княгини. И позаботьтесь о самом себе. Присмотритесь к людям, которые вас окружают. И будьте начеку. Злодей, похитивший Жана, имеет в доме сообщников. До завтра. Я приду к вам сразу же после визита в больницу.ГЛАВА 7
Франсина д’Аржан ранее именовалась Франсуазой Марготен и пасла коров в Солони в сопровождении одноглазой жесткошерстной овчарки по имени Мусташ. Однажды, осенним утром, заезжий коммерсант увидел, как она старательно делает бусы из ягод шиповника. Она показалась ему довольно красивой, и он вылез из экипажа, вознамерившись приударить за ней по-гусарски. Девочка оказала сопротивление, Мусташ ощерился. Торговец вез на свалку образцы залежалой продукции, в частности, украшения из янтаря и кораллов, предназначенные для новорожденных, которые и высыпал на дрогетовую[35] юбку Франсуазы. Мусташ по-прежнему скалил клыки — длинные, белые,напоминающие дольки чеснока. Путник вспомнил, что, когда он покидал Сердон, предупредительная кабатчица из Дофэна положила в багажник жареную курицу и пару фунтов хлеба. Он схватил курицу, хлеб и швырнул Мусташу. Ах, Боже мой, мгновение — и все сдались: и пастушка и пес капитулировали, благодаря чему странник изведал счастье. Но — увы! — внезапная идиллия возымела последствия. Бедняжка Франсуаза заметила, что поясок расширяется самым тревожным образом. Ясное дело, хозяева поспешили дать ей пинок под зад, а родители, когда она, вся в слезах, явилась к ним, чтобы исповедоваться в своем минутном заблуждении, не нашли ничего лучшего, как вышвырнуть ее за дверь. Франсуаза, не располагавшая никакими капиталами, кроме четырех монеток по сто су[36], увязанных в уголок платка, попала в Париж. Бюро по найму поместило ее к одинокому пожилому господину. Когда живот ее увеличился настолько, что доходил уже до носа, пожилой господин позволил ей остаться еще на неделю, после чего другое бюро послало молодую женщину в семью буржуа растить новорожденного младенца. Что касается ее собственного ребенка, Франсуаза попросту бросила его в казенном приюте, ибо, как и большинство красавиц, не страдала от избытка чувств. В течение года она пришла в себя и поднакопила немного деньжат. Ей шел семнадцатый годок. Раннее материнство не только не состарило девушку, но, насколько это возможно, сделало еще красивее. Теперь она напоминала те восхитительные создания, кого ваяли в древней Греции, воспевали в средние века, а во времена Людовика XV провозглашали «некоронованной королевой». Сегодня же подобных ей, предварительно развратив до мозга костей, поднимают на щиты журналисты. В первую очередь Франсуаза сменила имя на Франсину, а вместо фамилии использовала название центра своего кантона Аржан-сюр-Сольдр. Итак, Франсина д’Аржан стала широко известной благодаря бесстыдной рекламе журналиста, которого щедро оплачивала натурой. В свете отнюдь не осуждали такого рода услуги. Бедолаге репортеру оставалось только вопить: «Ах, если бы вы знали, какие скрытые очарования таит моя подруга! Какого все это отменного вкуса! Какие таланты и какая виртуозная техника!» Вот это, черт подери, эпитеты! Как бы там ни было, фокус удался — и Франсина д’Аржан, познав и взлеты и падения, оказалась на вершине в том возрасте, когда иные ночные красавицы еще поджидают манны небесной. Двадцати годов от роду она имела лошадей, роскошные выезды и особнячок, равного которому не имели и иные светские невесты. К тому же Франсина была не просто ослепительно хороша — она была в моде. За нее не только дрались, но и стрелялись. Один из одержимых ею сказал, что красоту она сделала своей профессией. Другой финансист, делающий «звезд» и сам же потом перед ними пресмыкающийся, содержал ее в течение месяца. В конце концов, один очень распутный и крайне скупой герцог уступил Франсину владельцу прядильных фабрик Гонтрану Ларами. Кто не знает Гонтрана Ларами, папенькиного сынка, кроме всего прочего, сахарозаводчика и сталелитейщика! Он был воплощенным представителем золотой молодежи, не брезговавшим тремя залогами успеха: заставить о себе говорить любой ценой, жить ради этого и уметь подать себя, формируя общественное мнение. В ознаменование своего воцарения он подарил Франсине д’Аржан старинный дворец, принадлежавший ранее Регине Фейдартишо, на улице Эюле. Этот особняк приносил своим владелицам несчастье, ибо карьера Регины, владевшей им после банкротства Фелисии Мори, тоже с треском лопнула. Два месяца назад дворец приобрел Гонтран. И с той поры там закипело веселье. В описываемый нами вечер давали званый обед, переходящий в ужин. Франсина принимала светских кутил. Из мужчин присутствовали: виконт де Франкорвиль, его друг маркиз де Бежен — двое оставшихся в живых из знаменитого трио, включавшего ранее трагически погибшего Ги де Мальтаверна. Когда-то их называли «лакированными бычками». Были тут и барон Бринон, считавший себя Адонисом[37], несмотря на лысый, как колено, череп. И известный юный красавец Гастон де Валь-Пюизо, любимец дам, к которым он, кстати, относился весьма цинично. Затем — биржевые маклеры, дельцы с ипподромов, журналисты, явившиеся в поисках сплетен для страниц светской хроники, а также для описывания всевозможных прелестниц на радость слабоумным старикам. Среди дам блистали наводящие на определенные мысли Шпанская Мушка, Жюли-Цветочек, Клеманс Безотказная, Нини-Шлюшка, Похлебка-с-Чесноком и целая коллекция более или менее известных и заслуженных див. Стол был великолепен и роскошно сервирован, подавали те безумно дорогие яства, которые встретишь ныне только лишь на подобного рода столах. Болтали обо всем понемногу, но особенно об истории, нашумевшей из-за высокого социального положения ее жертв: украден ребенок князя Березова, убита его свояченица. Уж как только не комментировали, как только не обсуждали на все лады это преступление, до сих пор не раскрытое полицией и все еще остающееся самой жгучей загадкой. — Их просто-напросто будут шантажировать, — утверждал всегда хорошо информированный маркиз Бежен. — А не кажется ли вам, что это месть? — равнодушно заметил Гастон де Валь-Пюизо, хотя и был с князем накоротке. — Месть? С чего бы это? — стоял на своем Бежен. — А зачем было убивать девушку? — Убивать? Но она жива, об этом пишут в вечерних газетах. — Значит, истинным намерением злодея было убить юную красавицу. — Нет, нет, нет, и слушать не хочу, — беспардонно вмешался повеса по кличке Малыш-Прядильщик. — Хоть на минутку забудьте об этом чертовом семействе Березовых. Вот уже два дня ни о чем другом не говорят, только о них! Хватит, довольно, меня, наконец, это бесит! Все газеты пестрят этой фамилией! Бурная вспышка молодого человека была встречена смехом — этот чудак так пылко любил саморекламу, что не мог стерпеть сообщений о ком-нибудь, кроме как о его персоне. — Захлопни пасть, Драный Башмак! — прикрикнула на него Франсина. Так она ласкательно называла Малыша-Прядильщика, чья челюсть и впрямь напоминала этот предмет одежды. Он действительно был на редкость уродлив. Вообразите редкие, цвета горчицы, волосенки, глаза морской свинки, утиный нос, гнилые зубы, а кроме того, узкие плечи, цыплячью грудку, руки и ноги — как лапки паука-сенокосца, огромные колени и запястья — словом, настоящее страшилище. Прибавьте к этому полное отсутствие какого бы то ни было шика, неумение элегантно носить платье, а при всем перечисленном — чудовищное самомнение, основанное на семидесяти пяти или восьмидесяти миллионах, доставшихся от матери, которые он по-молодецки проматывал. Через шесть месяцев молодой человек должен был достичь совершеннолетия и только тогда вступить в права владения состоянием, но ему хватало кредиторов, готовых ссудить сколько угодно под одну его подпись. Несмотря на уродство, пошлость и вульгарные манеры, у него были свои придворные, курившие ему фимиам, млевшие от удовольствия, ловящие каждое его слово, встречавшие хохотом его грубости, а на самом деле насмехавшиеся над ним. Малыш-Прядильщик добродушно улыбнулся, когда Франсина столь оригинально призвала его к молчанию, и по-обезьяньи осклабился, обнажив зеленоватые клыки. Он обожал шутовство, трюки казавшихся гуттаперчевыми клоунов и подражал им, считая себя ловким гимнастом и фигляром высокого класса. Затем, задрав полы фрака, молодой человек хлопнул себя по ляжкам и завопил: — Называй меня твоей птичкой и скажи, что ты меня обожаешь! — Ну разумеется, — съязвила девушка. — Все знают, что я без ума от твоей красоты. Ты мне за это достаточно много платишь. Все рассмеялись, посыпались похабные шуточки. Общество, поначалу тешившееся яствами, становилось все более развязным и склонным к непристойностям. Возбужденные парочки флиртовали, тут и там начала мелькать нагота. В то же время ожидалось, что Малышу-Прядильщику, по обыкновению, взбредет в голову какая-нибудь фантастическая причуда, на которые он был большой мастак. Во всяком случае, этой двуногой горилле порой приходили на ум идеи, приводившие окружающих в полное замешательство. Прежде всего он попытался поприставать к своей уже захмелевшей любовнице, но та, раздраженная отсутствием какого-нибудь сюрприза, дала ему по рукам. Напустив на себя серьезность, Гонтран Ларами кликнул лакея и отдал распоряжение. Слуга усмехнулся и через пять минут с важным видом внес на большом позолоченном подносе… ночной горшок. Все почувствовали — началось! — и зааплодировали. Франсина скорчила гримаску и бросила: — Что он намерен делать, этот остолоп? — Наверняка отмочит какое-нибудь грандиозное свинство! — взвизгнула Шпанская Мушка. — Браво! Браво! — вопила компания. Малыш-Прядильщик взял горшок и, нахлобучив себе на голову, заметил: — Тик в тик по размеру! — Как раз на дурную голову, — заметила Цветочек. — Давайте примерим, кому еще подойдет головной убор… — А стоит ли? Все уже и так знают, правда, Жюли? Поставив горшок на пол, Малыш-Прядильщик сделал вид, что собирается на него усесться. — Хватит, хватит! Нам вовсе не смешно! — завопили женщины. — Штанов, штанов не снимай! — раздались мужские голоса. И тут мерзкий кретин, думавший всех позабавить зрелищем своей наготы, выпалил: — Я не таков, как вы, дорогие дамы, и не показываю всем и каждому все свое хозяйство. Он повернулся к ночной вазе и бросил туда какой-то предмет, упавший с резким стуком. Как ни быстро было его движение, Гастон де Валь-Пюизо успел заметить яркую вспышку, словно многократно умноженный блеск электрических ламп. Он возопил, полный подлинного или деланного восторга: — Гонтран Ларами, папенькин сынок, экстравагантный миллионер, ты потрясающий тип! — Ах, да что там такое?.. — заволновались гости. — Да, потрясающий! Ты знаешь, я в этом понимаю толк! — продолжал де Валь-Пюизо. Польщенный грубой лестью, Малыш-Прядильщик ощерился в своей обезьяньей ухмылке. И со всем изяществом, на которое только был способен, отвесил Франсине глубокий поклон и, встав на одно колено, поставил горшок перед ней на скатерть. — Какая гадость! — сказала Клеманс Безотказная, передернувшись от отвращения. Франсина д’Аржан заглянула в ночную вазу и издала возглас радостного изумления: — О, какой милый! Ты прав, де Валь-Пюизо, он великолепен! — Вот именно, девочка моя. Ибо только мне могла прийти в голову причудливая идея выбрать такой футляр для бриллиантового колье стоимостью по меньшей мере в пятьсот тысяч франков. — …И подарить его прекраснейшей из прекрасных, — поддакнул репортер Савиньен Фуинар.ГЛАВА 8
Таким образом, этот идиот бросил к ногам бывшей коровницы, страдавшей когда-то от голода и холода, а ныне грязной до отвращения блуднице целое состояние. Да, просто настоящее богатство: по самым скромным подсчетам — пятьсот тысяч франков. Сумму, на которую целую зиму можно было бы содержать пятьсот семей ремесленников, обеспечить теплой одеждой их детей, накормить похлебкой стариков, защитить их от безработицы, лишений, болезней. Потрясенная до глубины души, девушка то краснела, то бледнела, голос ее срывался. Она надела на шею пышную гирлянду сверкавших драгоценных камней. Гастон де Валь-Пюизо сделал умоляющий знак рукой. — О, дай нам как следует насладиться этим зрелищем, умоляю, дай посмотреть ближе. Женщины, поджав губы, затаив в глазах недоброе, бесились, снедаемые завистью. Среди них не было ни одной, кто в этот миг не желал бы броситься и исцарапать в кровь Франсину, в чьем триумфе и впрямь было нечто раздражающее. Грациозным жестом она протянула украшение юноше, который, чмокнув девушку в запястье, схватил драгоценность и стал ее рассматривать как завороженный. Все повскакивали со стульев и потянулись к де Валь-Пюизо. — Дай и мне посмотреть. И мне. — Колье переходило из рук в руки. Оно описало почти полный круг, и де Валь-Пюизо уже протянул руку, дабы, взяв его, возвратить Франсине, но остановился, зайдясь в сильном приступе кашля. И тут, без видимой причины, все электрические лампы потускнели. Воцарился полумрак, присутствующие заволновались. Приступ кашля прошел. — Нечего сказать, хороши же эти модные лампочки! — воскликнула Франсина. Свет снова вспыхнул с прежней яркостью, но длилось это не более двух секунд. Внезапно столовая вновь погрузилась в непроглядный мрак, стало темно, как в погребе. Послышались тревожные возгласы, начался полный хаос, гости толкались, по паркету грохотали стулья, слышны были шуршанье шелковых юбок и звуки поцелуев. Ужас объял Франсину при мысли, кого же, какое отребье она принимает в своем доме, всю эту шушеру, любителей гулящих девок. Она вдруг подумала: «Мое колье!.. В руках у всей этой своры!.. Да я от него и кусков не соберу!» И в отчаянье завопила: — Огня! Скорей огня! Куда запропастилась вся эта чертова прислуга? Голос ее перекрывал оглушительный гам, в котором смешались петушиные крики, свинячье хрюканье, тирольские песенки, крики «Ура!». Истекли две долгие минуты, полные для Франсины и Малыша-Прядильщика тоски и муки, затем двери столовой распахнулись настежь, и на пороге появились два лакея с факелами. Это внезапное вторжение застало большинство присутствующих в позах, далеких от академизма, что послужило поводом для новой потехи. Не смеялись лишь Франсина и Гонтран Ларами. Красотка обвела всех присутствующих взглядом и, не увидя своего колье, ощутила, как ее пробрало до костей. Тут кислым голосом вступил Малыш-Прядильщик: — А теперь шутки в сторону, отдавайте колье. Это вещица дорогая. — Да куда оно делось, твое проклятое колье? — спросил Гастон де Валь-Пюизо. — Вот именно, куда делось?.. — Не украли же его… — Послушайте, верните драгоценность!.. — Да не съели же его, в самом деле. Все заговорили разом: и барон Бринон, и Жан де Бежен, и виконт Франкорвиль, и Савиньен Фуинар. Женщины, в глубине души надеявшиеся, что колье действительно украдено, про себя восторженно мечтали: «Ах, если бы и впрямь его увели!» Колье никак не обнаруживалось, и мужчины, боясь, что их заподозрят, стали подозрительно коситься друг на друга. Они слишком давно были знакомы и знали, чего ожидать от присутствующих. У Франсины началась истерика. Малыш-Прядильщик в ярости взорвался: — Вы, подонки, не морочьте мне голову! Совершенно ясно, что вещь у одного из вас. Верните ее, и все останется шито-крыто. Гастон де Валь-Пюизо возмущенно запротестовал: — Это оскорбление! — Э-э, пустые слова! — Ты сам вполне мог украсть колье! Одной рукой подарить, поразить все общество, а другой отнять! Хитро плетешь, Малыш-Прядильщик! — Что?.. Чтобы я обокрал Франсину!.. — Черт возьми! Объегорить кого-нибудь на пятьсот тысяч франков — такое твоей семейке не впервой! — Моих родителей можешь поносить сколько хочешь. Да, папенька, всем известная, старая каналья, был бы способен организовать подобный трюк… Но я? Никогда в жизни!.. Во-первых, я без ума от Франсины… — Плевать я хотел, без ума ты или нет! Но ты обвиняешь нас всех скопом. А я предлагаю доказывать свою невиновность каждому в отдельности. — Браво! — воскликнул барон Бринон. — Примите нашу благодарность! — откликнулся Франкорвиль. — Говори, что надо делать, — заявил Бежен. — Я предлагаю следующее. Во-первых, никто отсюда не выйдет. — Договорились. — Затем дамы перейдут в гостиную и ни одна из них тоже не покинет помещения. — Мы согласны, — от имени женщин ответила Шпанская Мушка. — Что касается нас, господа, мы по очереди разденемся до первородного состояния, остальные внимательнейшим образом обыщут наши вещи, осмотрят все до последнего шва, а затем в свою очередь будут так же обысканы. Это вас устраивает? — Целиком и полностью, — ответил хор мужских голосов. Но в хор этот вкрался диссонанс. И с чьей стороны, как бы вы думали? Протест поступил от Гонтрана Ларами. — Ну вот уж, придумали, — заворчал он. — Я не привык заниматься подобным эксгибиционизмом[38]. — Кончай шутить, голубчик, — в категорическом тоне прервал его де Валь-Пюизо. — Ты выполнишь те же формальности, что и мы. Поскольку существует лишь два варианта — либо ты вор, либо без рубашки страшен, как смертный грех. Во втором случае мы будем к тебе снисходительны. — Ладно уж. Раз так надо, приступим. Но женщины, кто будет досматривать женщин? Я бы не прочь… — Заткнись, развратник. Дамы, в свою очередь, обыщут друг друга. Сказано — сделано. Однако тщательнейший обыск не принес никаких результатов ни у мужчин, ни у женщин. Напрасно осматривали каждую часть одежды, напрасно обшарили от пола до потолка всю столовую, заглядывали под мебель, за ковры и за картины, искали среди посуды. Весьма заметное массивное колье как в воду кануло. Все гости испытывали не только естественное изумление, но, надо признаться, еще и сильнейшее разочарование. Им так хотелось бы обнаружить виновного! И не из любви к справедливости, а ради возможности загрызть персону, принадлежащую к их кругу. Как бы там ни было, а завтра, узнав из хорошо информированных источников о краже, газеты поднимут хорошенькую шумиху. Репортер Савиньен уже что-то горячечно строчил в своем блокноте. Франсина наконец заставила себя выказать некоторую приветливость, хотя ее жадное крестьянское сердце было сокрушено. Малыш-Прядильщик обещал возместить ей убыток, однако в душе, вероятно, делать этого не собирался, хотя внешне и держался с апломбом человека, имеющего еще не один миллион. И среди самых абсурдных предположений, сыпавшихся со всех сторон, не промелькнуло и намека на очевидное — а вдруг выход из строя всей электропроводки не случаен? Впрочем, подобный же перерыв в подаче электроэнергии воспоследовал вторично, а именно — через полчаса после первого, что наводило на мысль о неисправности генератора. Прием затянулся до часу ночи. Франсина и Малыш-Прядильщик делали вид, что ничего особенного не произошло. Играли, танцевали, не в меру пили и разъехались в свинском состоянии. Гастон де Валь-Пюизо, потреблявший за четверых, был необычайно возбужден и громогласен. Он смеялся, сыпал шутками, каламбурил, острил в демоническом стиле, ухаживал за женщинами и невыносимо раздражал всех мужчин. Он подпускал Малышу-Прядильщику такие шпильки, что полностью заткнул противную обезьяну — тот положительно не находил, что ответить. Но как только барон, слегка пошатываясь, вышел и сел в распахнутую выездным лакеем карету, деланное оживление слетело с него мгновенно. Он стал холоден как мрамор и полностью овладел собой. Когда лошади промчались рысью с полкилометра, молодой человек дернул шнурок, конец которого держал возница. Тот ослабил вожжи, и лошади пошли шагом. Валь-Пюизо опустил стекло и, высунувшись, тихо позвал: — Черный Редис! Кучер так же тихо отозвался: — В чем дело, хозяин? — Соленый Клюв передал тебе колье? — Да, хозяин. — Куда ты его дел? — Оно в ящичке у меня под ногами. — Хорошо. Возвратился ли Соленый Клюв на свой пост у Франсины? — А он его и не покидал. Согласно вашему приказу, он пробудет у нее неделю, а потом сделает так, чтоб его уволили за пьянку. — Ладно. Надо бы ему затем на месяц уйти в тину. Боюсь, как бы он не погорел. — Вы возвращаетесь домой, хозяин? — До утра колье пусть будет у тебя. И не забывай, что твоя жизнь в моих руках. — Я не забываю. — И что нет ни единого местечка, где бы я тебя не достал — будь то в пустыне, или в тюрьме Мазас, или на каторге. — Помню, хозяин, — содрогнувшись, ответил кучер, отзывавшийся на странное имя «Черный Редис».ГЛАВА 9
Минуло два дня с тех пор, как почти одновременно случились события, положившие начало этой драматической истории. В особняке князей Березовых царило отчаяние. Княгиня металась в горячке и душераздирающе кричала, умоляя вернуть ей сына, о котором до сих пор не было ни слуху ни духу. Муж не отходил от нее ни на минуту. Под гнетом страшного горя он казался постаревшим на добрый десяток лет. Мария, все еще находясь на краю гибели, была жива благодаря неусыпным заботам Людовика Монтиньи, каждый миг оспаривавшего ее у смерти. Профессор приходил дважды в день, одобрял действия ученика и отвечал на горестные вопросы князя: — Надейтесь! Переливание крови дало блестящий результат. Было очевидно, что без этой операции девушка скончалась бы той же ночью. Но и сейчас она находилась в какой-то прострации, не способная ни думать, ни двигаться. Едва дыша, Мария лежала на спине, щеки ее горели лихорадочным румянцем. Она машинально глотала жидкую пищу, которую с поистине трогательной заботой и нежностью интерн подносил к ее губам. Этот большой ребенок, в свое время закаленный учебой, сейчас проявлял чисто женскую предупредительность и деликатность. К тому же сердце готово было выскочить у него из груди, если, задремав на пять минут в кресле, он просыпался и не улавливал дыхания девушки. Тогда в страшном отчаянии ему казалось, что он не выполнил свой долг и предал — молодой человек едва смел себе в этом признаться — зародившееся в нем с первой минуты глубокое чувство, захватившее его целиком. Было ли оно вызвано божественной красотой Марии? Или шоком, поразившим его при виде того, как зверски она искалечена? Или жалостью? И одно, и другое, и третье смешались в этой мгновенно вспыхнувшей при столь трагических обстоятельствах любви. С того момента, как Людовик отдал девушке свою кровь, он расточал ради нее всё — свои знания, преданность и саму душу. Он хотел спасти Марию, и ему казалось, что если девушка умрет, то он умрет тоже, или уж, во всяком случае, будет в дальнейшем влачить бессмысленное и бесцельное существование. В то же время, его никак нельзя было назвать излишне сентиментальным, мечтательным или застенчивым и уж тем более неловким недотепой. Наоборот, это был веселый и разбитной малый, не чуждавшийся простых и здоровых развлечений, за студенческую жизнь имевший немало любовных интрижек, которые не оставили глубокого следа, но и не растлили душу. Однако теперь он преобразился до такой степени, что даже ближайшие друзья не узнали бы его. Сам Людовик, кстати, мог и не догадываться о происшедших в нем переменах, — уж слишком быстро события следовали друг за другом, и не было времени проанализировать душу. Полицейский комиссар Бергассу, важная персона, дважды наведывался в особняк Березовых для допроса Марии. Но оба раза наталкивался на категорический запрет молодого лекаря, отказывавшего допустить его к больной. Господина Бергассу это крайне раздражало — он предпочел бы действовать другими методами. Но там, где речь идет о княжеской свояченице, бесцеремонность, уместная с какой-нибудь простолюдинкой, неприменима. Демонстрируя рвение, комиссар предъявлял непомерные претензии и, встретившись с князем, подробно изложил суть мероприятий, необходимых в ходе расследования. Замкнувшийся в своем горе князь горячо его благодарил и дал понять, что не поскупится на награду. И господин Бергассу, проявляя горячий интерес к сановнику его величества русского царя, подумал, что эта награда могла бы выражаться в кусочке синей, зеленой или желтой ленточки, которая прибавила бы еще один цветовой нюанс к бутоньерке комиссара. Ввиду того, что дело Березовых получило широкий резонанс, сам начальник сыскной полиции тоже разрывался на части. Последний — маленький человечек с подозрительными, бегающими глазками, прыгающей походкой и селитрой вместо крови в жилах — был большим знатоком своего дела. В то время как господин Бергассу, подражая героям обожаемого им автора, увлекался беллетристикой, начальник сыскной полиции пускал по следу самых расторопных шпиков и действовал методично и последовательно. Во-первых, совершено ли данное преступление профессионалом? Да, и еще раз да. Стекло из одной створки окна в детской высажено очень аккуратно, что свидетельствует об опытной руке. Смоляной шар, налепленный в центре стекла и предназначенный для того, чтобы оно вылетело целиком от одного резкого движения и не упало, указывает на человека, которому не впервой заниматься взломом. Господин Гаро перебрал всех известных грабителей, способных на убийство. В течение не более четверти часа его феноменальная память выдала около двухсот пятидесяти имен способных на все головорезов, которых можно обезвредить, лишь взяв с поличным. За какие-то сорок восемь часов он уточнил их алиби — когда в дело замешана политика, полиция бывает чрезвычайно расторопна. Таким образом, для более серьезной проверки осталась лишь дюжина бандитов. Между тем забрезжил огонек, осветивший это ведущееся на ощупь, но с крайним терпением расследование. Господин Гаро получил от комиссара полиции района Эпинетт интереснейший рапорт, сообщавший о самовозгорании человека в доме № 52 по улице Де-Муан. В принципе, документ был интересен скорее с точки зрения физиологии, и господин Гаро вряд ли бы на нем задержался, если бы не одна поразившая его деталь. У стариков пьяниц, один из которых умер столь необычайной смертью, не было детей, а в рапорте говорилось о детском плаче, часами доносившемся из их квартиры. Этот факт, незначительный с виду, показался сыщику откровением. С замечательной интуицией, присущей людям, чей ум всегда готов к новым гипотезам, он смекнул: — Ребенка старикам подбросили… Ах, если бы это оказался тот самый! Тысяча против одного, что предположение ложно, и все-таки надо попробовать. Без проволочки Гаро позвонил в комиссариат Эпинетта. — Ничего не трогайте на улице Де-Муан, пятьдесят два. Я еду. Там еще все оставалось без изменений — ожидали судебно-медицинского эксперта. В сопровождении секретаря Гаро сел в машину, и они помчались. Через полчаса одновременно с доктором и его заместителем они прибыли на место. Зрелище оказалось действительно жутковатое и было рассчитано на закаленные нервы. Воистину необычайный факт, живо заинтересовавший судебного врача — почти все тело Лишамора превратилось в пепел. Комната была полна вонючей сажи, покрывавшей потолок и карнизы. На паркете застыли пятна жира, фрагменты обгоревших костей, при малейшем прикосновении превращавшихся в сизый пепел. Среди этого тотального распада уцелело немного — кусок нижней челюсти, половина ступни и затылочная часть черепной коробки. Вот и все, что осталось от старого пьянчуги. — Жена где? Где его жена? — сразу же спросил господин Гаро, перебив доктора, который как раз показывал представителям власти, что в стуле старика выгорело лишь набитое соломой сиденье. — Лежит в соседней комнате смертельно пьяная, — отозвался комиссар. Господин Гаро прошел туда, где старая мегера бросила малыша Жана, а Бамбош переодевался в вечерний костюм. Он увидел омерзительную груду жира. Старуха была неподвижна. Дотронувшись до нее, полицейский обнаружил, что она чуть теплая и к тому же, кажется, уже не дышала. «Только этого не хватало, — подумал про себя сыщик. — Похоже, вместо одного покойника мы заимели двоих». — Что случилось, господин Гаро? — Старуха-то мертва. — Мертвехонька, — подтвердил врач после беглого осмотра. — Придется делать не одно вскрытие, а два. — Проклятие! Это осложняет дело. Можете ли вы установить причину смерти? — Должно быть, неумеренная доза алкоголя, которая вызвала кровоизлияние в мозг, либо отравление, либо удушье. Вскрытие покажет. — Но что сталось с ребенком? — спросил начальник сыскной полиции у комиссара. — Я его не видел, но упомянул в рапорте о доносившемся детском крике лишь по показаниям свидетеля, первым сообщившим нам о случившемся. — Значит, ребенок исчез? — Вне всякого сомнения. — А что за человек, этот свидетель? — Рабочий, живущий этажом выше. Чуть не угорев, он вовремя проснулся и, выбив у соседей дверь, немедленно побежал в комиссариат. Господин Гаро, перепрыгивая через ступеньки, помчался на верхний этаж. В двери Леона Ришара торчал ключ. Он постучался и вошел, не дожидаясь приглашения. Молодой человек, предполагая, что полиции могут понадобиться дополнительные сведения, остался дома. А так как он не привык терять времени, то сейчас, в минуты досуга, читал одну из своих любимых книг. Оглядев скромное, но ухоженное холостяцкое жилье, шеф полиции в мгновение ока воссоздал жизнь этого примерного работяги. Маленькие военные трофеи свидетельствовали о почетном прошлом. Аккуратно расставленные на полках книги — о серьезном образе мысли и тяге к знаниям. Названия разбросанных на письменном столе газет указывали на то, что юноша отдает предпочтение изданиям передового направления. Леон Ришар поднялся навстречу гостю, которого тотчас же узнал по многочисленным фотографиям и гравюрам, растиражированным прессой. Господин Гаро любезно ответил на приветствие, скользя проницательным взглядом по корешкам книг. Да он социалист! Славный трудолюбивый малый, кристально честный, с мозгами, нафаршированными политикой… Поведения, разумеется, безупречного… Знаю я эту породу людей… Ах, господин Гаро, если бы сильные мира сего тоже ее знали. Но господин Гаро отличался точным умом, страсти над ним не довлели, и он не позволял сбить себя с толку личным симпатиям и антипатиям. Истина — прежде всего. Начальник сыскной полиции коротко допросил Леона, отвечавшего на вопросы с исчерпывающей точностью, но, к сожалению, мало что смогшего добавить к уже сказанному. Предположение, что он мог стать жертвой галлюцинации и детский плач ему просто померещился, Ришар категорически отверг. — Я его явственно слышал, месье. И могу это официально засвидетельствовать. — Не кажется ли вам, что старики издевались над этим крошечным существом? — Кто знает? Они пели, кричали, бранились между собой… Я бы не обратил внимания на весь этот шабаш, если бы до меня не донеслись жалобные вопли несчастного малютки… — А вы не замечали, чтоб к этим вашим старикам ходили какие-нибудь подозрительные личности? Возможно, вы сталкивались с кем-либо из них на лестнице. При мысли, что его могут заподозрить в чем-то похожем на шпионство, Леон Ришар побагровел, но дипломатично ответил: — Месье, я никогда на обращаю внимания на то, что происходит вокруг. Что же касается подозрительных лиц, я не обладаю специальными познаниями, чтобы судить, кого из незнакомцев можно считать подозрительными. — Прекрасно, прекрасно. — Господин Гаро намотал на ус преподанный ему урок и больше не настаивал. — Однако, если вам станет что-либо известно о бедном малыше, сообщите мне. Я прошу вас об этом из соображений гуманности и ради поддержания правопорядка. Ведь отец и мать убиваются, оплакивая украденного ребенка. Никогда еще призыв к благородным чувствам, жившим в душе Леона Ришара, не пропадал втуне. Как только апеллировали к его доброму сердцу, он, не раздумывая, готов был пожертвовать собой и предложить страждущему беззаветную и преданную помощь. — Можете положиться на меня, месье. — Взгляд художника был искренен и честен. Они распрощались. Так ничего и не узнав, господин Гаро покинул место происшествия. Не заезжая в префектуру, он велел везти себя в особняк Березовых, где испросил у князя Михаила аудиенции для пятиминутного разговора. Не делясь своими подозрениями, сыщик поинтересовался, не было ли попыток шантажа. — Нет, — ответил князь, — и это приводит меня в совершенное отчаяние, так как княгиня одной ногой стоит в могиле, и я боюсь, как бы к моей скорби, вызванной потерей сына, не прибавилось вскоре и горе вдовца. — Скорее всего люди, в чьих руках находится ваш сын, будут тянуть время, рассчитывая продлить мучительное ожидание и сделать вас более покладистым, когда они запросят кругленькую сумму. — Я отдал бы все, что имею, лишь бы вернуть моего дорогого мальчика. — А вот этого делать как раз и не следует. Эти подонки примут меры предосторожности, но предоставьте мне карт-бланш[39], и, ручаюсь, вы получите сына в целости и сохранности. — Не понимаю вас. — Очень просто. Получив письмо, в котором вам пообещают вернуть ребенка за определенную мзду, соблаговолите незамедлительно позвонить мне по телефону. Я раскину сети и, заверяю вас, не только поймаю злодея, но и поспособствую тому, чтобы вы отделались потерей всего лишь незначительной суммы. — Я целиком и полностью полагаюсь на вас, господин Гаро. — И вы не ошибетесь. Сами увидите, что такое настоящая работа полиции. И, откланявшись, господин Гаро вернулся в свое бюро, буквально осаждавшееся жаждущими новостей журналистами. Он знал, насколько большой вклад делает пресса в борьбу с преступностью, и высоко ценил те услуги, которые она оказывает правосудию, однако, он не мог игнорировать и тот факт, что порой преждевременная гласность не просто вредит, а сводит на нет результаты терпеливо, шаг за шагом проводимого расследования. Вот почему он стал клясться репортерам, что ровным счетом ничего, решительно ничего не знает. Они настаивали, пытались льстить его самолюбию, старались заставить его вымолвить хоть словцо. Все напрасно. Начальник сыскной полиции заперся в своем кабинете и тем самым принудил писак, каждый из которых, разумеется, был представителем самого информированного органа печати, признать: да, дело Березовых все так же стоит на мертвой точке, оно по-прежнему остается таинственным и неразрешимым… Прошло двое суток. Еще двое суток нестерпимых мук для князя и Жермены, раздавленной горем и ставшей изможденной до неузнаваемости. Был вечер. Совершенно обессилевший Михаил Березов сидел у постели стонущей жены и держал ее влажную, исхудавшую руку. Слуга внес на серебряном подносе письмо. На маленьком, разлинованном по диагонали конверте корявыми буквами был написан адрес:Мусью господину князю Березов сопственый дом авиню ОшВ уголке письма красовалась пометка:
ОТШЕНЬ СТРОЧНОМихаил нервно разорвал конверт и прочел:
«МУСЬЮ! ЕСЛИ ИЗВОЛИТЕ ДАТЬ БИДОЛАГЕ ПЯТЬСОТ ФРАНКОВ, Я СКАШУ ГДЕ НАХОДИЦА ВАШ ПОКРАДЕНЫЙ РЕПЕНОЧЕК ЕСЛИ БУДЕТЕ ТЫЩУ ДАВАТЬ Я ДЛЯ ВАС ЕВО СДЕЛАЮ ПОВИДАТЬ. НОТОЛЬКО БЕС ПОЛИЦИИ НИКАКИХ ШПИКОВ В ДЕЛЕ ИНАЧЕ ПЛОХО БУТЕТ МАЛЬЦУ, БУТТЕ СПОКОЙНЫ ПОМРЕТ МАЛЕЦ НЕ БУЗИТЕ ДЕНЬКИ ДАЙТЕ И ПОРЯТОК. С ПРИВЕТОМ. ПОШЛИТЕ СЕКОДНИ ВЕЧЕРОМ ДОВЕРЕНОВО ЧЕЛОВЕКА К ПОТНОШЬЮ ОБЕЛИСКА С МОНЕТАМИ ОН НАЙДЕТ МЕНЯ КТО ПИСАЛ».Это странное, вкривь и вкось каракулями написанное письмо заставило князя подскочить на месте. Как, из-за такой ничтожной суммы, из-за каких-то жалких пятисот или тысячи франков украсть ребенка, поранить девушку! В это трудно было поверить! Да он готов отдать в десять, в сто, в тысячу раз больше, лишь бы знать, что Мария поправится, лишь бы прижать к сердцу своего ненаглядного малыша! Ясное дело, подонок, нацарапавший всю эту невразумительную, угрожающую галиматью, принял меры предосторожности. Надо и самим действовать максимально осторожно, чтобы даже тень опасности не нависла над невинным созданием. Но в конечном итоге письмо было хорошей новостью, и князь поспешил сообщить об этом Жермене, внезапно воспрянувшей духом — безумная надежда преобразила молодую женщину. Ну конечно, ей вернут ребенка. А злодей… Да, он ударил Марию ножом, но Мария жива, выздоравливает… Она все простит, лишь бы ей вернули ее малыша, и уже больше она никогда не покинет его ни на секунду… Было девять часов вечера. Вскоре князю идти к подножию обелиска[40] на встречу с таинственным корреспондентом. Михаил Березов, не забыв об обещании, данном начальнику сыскной полиции, тотчас же позвонил ему по телефону. Тот отвечал: — Все идет как нельзя лучше. Но не суетитесь. Ни в коем случае сами не ввязывайтесь в это дело. — Позвольте, месье Гаро… Но собеседник бесцеремонно перебил его: — Для такого дела нужна сноровка… Нужна привычка… Это дельце может провернуть только полиция. Вы все испортите, князь. — Я понимаю. Но не мог бы я хотя бы наблюдать издали… — Однако, князь, вы же обещали слепо довериться… Мне приходилось бывать и не в таких переделках. К тому же в моем распоряжении подчиненные, за которых я ручаюсь как за самого себя. — Ладно, согласен. Даю вам карт-бланш. Но хотя бы пообещайте сразу же позвонить по телефону. Понимаете ли, мы умираем от беспокойства… — Обещаю. Но необходимо, чтоб никто из вашей челяди ничего не знал о предстоящей операции. Отошлите слуг из дому. Нельзя, чтобы кто-нибудь услышал ваши разговоры, малейшая огласка поставит под удар все дело. На этом беседа завершилась, и князь вернулся на свое место подле Жермены. Молодая женщина слышала телефонный разговор и уловила его смысл. Она почувствовала, как в ней возрождается надежда, и, как это бывает с любящими людьми, с натурами, живущими сердцем и нервами, внезапно обрела прежние силы. — Как Мария? — спросила она князя. — Пойди, посмотри, как она там… Князь, войдя в комнату девушки, застал интерна, как всегда неотлучно сидящего у нее в изголовье. Убедившись, что состояние пациентки немного улучшилось, юноша читал и собирался часок вздремнуть. — Могу ли я поговорить с ней? — спросил князь. — Можете, — разрешил Людовик. — Мария, — обратился к ней князь, — у нас новости… Прекрасные новости… Надеюсь, вскоре мы увидим нашего Жана… Слабая улыбка тронула губы девушки, она прошептала: — Как я счастлива… Спасибо, большой братец, теперь я скоро поправлюсь… — Какая радость, князь! Какая радость! — с искренним чувством воскликнул молодой человек. — Только что вы несколькими словами принесли нашей больной больше пользы, чем я… — Дорогой доктор, — остановил его князь, — вы делаете куда больше, чем повелевает вам долг. И мы никогда не забудем, кому обязаны жизнью этого ребенка. Мы вечно будем помнить о вашей самоотверженной преданности. Мишель протянул руку, которую интерн крепко пожал. Юноша не смог прибавить больше ни слова и снова сел возле той, что стала так дорога его сердцу. Князь, снедаемый беспокойством, вернулся к жене. Нервы супругов были натянуты до предела, души глодала тоска, а время, в течение которого решалась их судьба, тянулось бесконечно. Наконец в два часа ночи зазвонил телефон. Князь рывком вскочил на ноги и, весь дрожа, трясущимися руками схватил трубку. — Алло… Алло… Это вы, князь? — Да, это я, месье Гаро, — вымолвил князь. — Все прошло… успешно? — О да, вполне успешно. — Боже милостивый!.. — Злодей арестован. Он во всем признался. И в том, что украл вашего сына, и в том, что ударил ножом вашу свояченицу. Он отказывается сказать, где ребенок. Но не бойтесь, мерзавец заговорит.
ГЛАВА 10
Чудом спасшись благодаря вмешательству молодого человека, которого она никогда раньше не видела и чье имя впервые услышала в прачечной матушки Бидо, Ноэми Казен, прекрасная Мими, провела плохую ночь. Несмотря на то, что Леон Ришар подоспел вовремя, девушка перенесла тяжелое потрясение и, очутившись в постели, почувствовала себя совсем разбитой. Она пыталась скрыть недомогание, чтобы не усугублять волнение своей уже долгое время полупарализованной матери. Но попробуй обмани материнское сердце! Матушка Казен сразу же заметила, что дочку что-то мучает. Время от времени короткий жалобный вскрик срывался с губ девушки, хоть она и пыталась его заглушить. Бедная мать, обожавшая свое дитя, чувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза. А ведь она знала, какая Мими сильная, смелая, стойкая в несчастьях. И вот теперь она стонет, как больной ребенок… — Прошу тебя, ласточка, скажи, где у тебя болит, — спрашивала добрая женщина, особенно болезненно ощущая свое увечье и беспомощность. — Везде понемногу, мамочка, — отвечала девушка с наигранной веселостью. — Но это оттого, что я переволновалась и испугалась… Мне кажется, лошадь меня не задела… — Какое счастье, ангелочек мой, что этот юноша там оказался! — Да, мамочка, если б не он, я бы погибла… — Я бы этого не перенесла. Жить без тебя, моя маленькая Мими, было бы нестерпимо. У меня ведь нет никого, кроме тебя, и я тебя так люблю! — И я тебя, мамочка… Дорогая моя мамочка… Мне кажется, я так и осталась ребенком. Мне чудится, что ты держишь меня на руках, и я чувствую, как бьется доброе сердечко. — Раньше я была хоть куда, никакой работы не чуралась. А теперь вот стала калекой и ты меня кормишь… — Разве же это не естественно? К тому же господин Людовик заверил меня, что ты скоро поправишься. Девушка умолкла, чувствуя, как стон рвется у нее из груди. Но она подавила его героическим усилием. Мать выпила столовую ложку успокоительной микстуры, прописанной ей господином Людовиком, и под благотворным действием лекарства стала погружаться в сон. Вскоре женщина крепко заснула, и Мими уже могла не сдерживать душившие ее стоны. Лишь на рассвете ей удалось забыться тяжелым, полным кошмаров сном. Проснулась она, к своему удивлению, только в десять часов. Хотела вскочить с привычной легкостью, но снова тяжело откинулась на подушки и застонала. Ее мать, вот уже в течение двух часов охранявшая сон дочери, подскочила от испуга. — Ты заболела, дорогая? — встревожилась она. — Да, мамочка. Все тело ломит. — Надо кликнуть месье Людовика. Кстати, как странно. Он ведь всегда заходит к нам утром, по дороге в больницу, а сегодня-то и не зашел… Несмотря на все усилия, Мими подняться на ноги не смогла. Бедная девушка заплакала в три ручья при мысли, что у них нет денег, а она, наверное, не сможет несколько дней работать, из-за чего ее мать будет испытывать лишения. В два часа пополудни к ним зашла матушка Бидо и принесла бульон, две котлеты и полштофа вина. — Ну вот, что это ты болеть надумала, малышка? — заговорила она со свойственной ей сердечностью. — Дорогая матушка Бидо, как вы добры! Столько беспокойства… — За кого же беспокоиться, как не за таких, как вы? За тех, у кого золотое сердце… Разве же вы десятки, да нет, сотни раз не ухаживали за мной, когда я подхватывала простуду благодаря своей чертовой профессии? Ну-ка, мамаша Казен, съешьте котлетку да запейте красненьким. — Спасибо вам, милая соседушка. Принимаю ваше угощение. Но — долг платежом красен, не правда ли? — И вам, красавица, не мешает выпить и закусить, это поможет вам встать на ноги. Такое сердечное отношение утешило Мими и ее мать, из гордости скрывавших свою бедность, порой граничившую с нищетой. Ах, черт возьми, нетрудно было догадаться об их бедственном положении, ведь на жалкие гроши, которые зарабатывала семнадцатилетняя девушка, приходилось существовать обеим женщинам, и это при том, что одна из них тяжело болела. О, кто задумывался, какие муки терпят им подобные, безропотно снося издевательства из месяца в месяц, из года в год, кто знает, как нищета и убожество сводят их в могилу?.. А наше капиталистическое общество и не думает озаботиться их судьбой!.. Имя им легион, они представляют собой немалую силу, в них воплощены и ум и трудолюбие, но им и в голову не приходит сплотиться и потребовать себе места под солнцем, куска хлеба на старость, отстоять свое право жить иначе, чем живут рабы, эксплуатируемые до последней капли крови и пота. На следующее утро Мими стало немного лучше. Она поднялась, но работать еще не могла. К тому же было еще кое-что, о чем она не смела поведать матери. Мими брала заказы на шитье в одном большом магазине готового платья. Так вот, старший приказчик соблаговолил заметить, что она красива, очень красива, и сообщил ей об этом в весьма сильных выражениях. Увы, ей не впервые говорили о ее красоте, притом в самой оскорбительной форме. Целомудрие бедняков вынуждено рядиться в доспехи безразличного презрения, а девушке, желающей остаться благоразумной, приходилось выслушивать любые гнусности. Естественно, Мими пропускала мимо ушей грязные намеки мерзавца-приказчика, однако вскоре он заговорил в самом категорическом тоне и дал понять, что либо ей следует уступить его домогательствам, либо о работе нечего и думать. Не кажется ли вам, что такое насилие над беззащитным созданием, такой отвратительный шантаж преступен? В Америке в случае, если бы жертва обратилась в суд, обидчика наказали бы по закону, а, может быть, возмущенная толпа его просто-напросто линчевала бы. У нас же подобное насилие считается одним из проявлений нашей французской галантности. Вот почему Мими, зная по рассказам товарок, что деваться ей некуда, не хотела возвращаться в магазин. Надо было искать другое место. Но где его найдешь? Она едва держалась на ногах, а в кармане оставалось всего сорок су. Надо ли было изо дня в день влачить жалкое существование, сводить концы с концами, экономить на всем на свете, чтобы теперь остаться у разбитого корыта? Придется теперь умирать с голоду? Да, в Париже умирают от голода… В столице мира часто умирают от голода… Что делать? Просить милостыню? Продать свое тело первому встречному? Внезапно бедняжка Мими разразилась рыданиями и поведала матери об их бедственном положении. Несчастная калека часто представляла себе подобную ситуацию. — Ну что ж, — говорила она себе, — если уж мы докатимся до такого, не останется другого выхода, кроме как наложить на себя руки. И вот теперь, голосом, прерываемым рыданиями, дрожа всем телом, она сказала дочери: — К чему такая жизни, состоящая из одних страданий? Разве выпал нам хоть один спокойный денек? Разве могли мы хоть раз не опасаться следующего дня? Мертвые не хотят есть… Мертвые не мерзнут… Их никто не может обидеть… Никто не может обесчестить… Мими тихо плакала, не говоря ни слова, и сознавала, что ее мать права. Да, лучше умереть, чем агонизировать в течение дней, месяцев, лет… Но при мысли о смерти непреодолимый ужас леденил ее душу… Все ее семнадцать лет, вся энергия трудолюбивого ребенка, надежда, теплившаяся в глубине ее души, — все протестовало против такого жестокого решения… Что бы ни утверждали моралисты, последователи философии Жан-Жака Руссо[41], — люди, добровольно уходящие из жизни, вовсе не трусы. Напротив, надо немало мужества, чтобы бестрепетно принять боль, и устрашающее приближение небытия, и муку агонии, и одним ударом убить надежду, которая, несмотря ни на что, теплится в душе до последнего мгновения. Со своей стороны, старуха мать, повинуясь логике, присущей исстрадавшимся людям, считала себя вправе распоряжаться жизнью по собственному усмотрению. Если уж ей что-то и принадлежало, то это, безусловно, ее жизнь. Она слышала от священников, что самоубийство — грех перед Богом. Отчего же Бог не исцелит ее? Почему он не дарует ей работу? Почему Бог допускает, чтобы оскорбляли ее дочь? К тому же еще в молодые годы она наслушалась, как хорошо одетые господа разглагольствуют о самоубийстве. Однажды один из таких краснобаев выступал на сахарном заводе, где она работала, когда на предприятии участились случаи самоубийств. Он вещал то же самое, что и кюре[42], но называл самоубийство «преступлением перед обществом». Тогда-то она и задала себе вопрос: каким образом, уходя из мира, грешила она против общества, платившего за ее труд гроши, дававшее ей самое скудное пропитание, лишавшее ее отдыха и не обеспечивавшее куска хлеба на старости лет. Так и не найдя ответа, она решила: «Болтайте что хотите, поступайте как знаете. Вы со мной ничего не сможете поделать, я улизну от вас, палачи, вампиры, питающиеся нашим потом и кровью». Час настал. Лучше было умереть сразу, чем долго агонизировать на больничной койке, чем увидеть, как дочь пойдет на панель. Бедная малышка Мими, она хочет того же, чего и мать. Но в ней меньше решимости. Ее юная душа трепещет при мысли о черной пустоте, где сгинут и красота, и молодость, и любовь. Да, любовь! А почему бы и нет? Девушке, чье тело целомудреннее, а душа чище, чем у любой богачки, только что померещился светлый проблеск на мрачном горизонте ее жизни. Юноша, спасший ее, рискуя жизнью, был красив, силен и, наверное, добр… Хоть он и простой рабочий, хоть он еще и совсем молод, но счастлива будет женщина, идущая с ним рука об руку по жизненной дороге. Его самопожертвование было столь внезапным, а поведение — таким почтительным и сдержанным, что это поразило Мими. Она возвращалась в мыслях к молодому человеку, которому скромность не позволяла искать с ней повторной встречи. Девушка говорила себе: «Ах, как бы я его любила, если бы… Если бы жизнь моя не была столь печальна, а будущее — столь безнадежно…» Бедняжка Мими! О да, само собой разумеется, она уйдет вместе с матушкой… Но ей будет от всего сердца жаль расставаться со своим спасителем!.. Она не решалась тешить себя мыслью, что он будет помнить ее… Но, однако, к чему об этом думать? Разве несколько редких счастливых мгновений окупают нищету и горе, которые длятся постоянно… постоянно…ГЛАВА 11
И все же, уже приготовившись разом со всем покончить, калека спросила себя: «А все ли возможное я сделала для того, чтобы как-нибудь выпутаться из ужасного положения?» После длительных колебаний она мысленно ответила: да, все. Но на самом деле — далеко не все. Осталась еще одна крайняя, почти безнадежная мера, но хватит ли у нее горького мужества к ней прибегнуть? Решится ли она признаться, что никакая она не вдова, что Казен — ее девичья фамилия, а дочь рождена без отца в юридическом значении этого слова?.. Мими ни о чем не догадывалась. Придется ли ей краснеть перед дочерью, посвящая в печальную историю о том, как один из финансовых воротил, барон, обманул ее доверие? Она искала окольный путь и решила, что ей удастся и сохранить в глазах дочери свое доброе имя, и выйти из затруднительного положения, хотя гордость ее страдала. Она попросила Мими: — Выдвинь из секретера левый ящичек и подай его мне, дорогая. — Вот он, мамочка. — Дочь догадалась, что сейчас произойдет нечто важное. Больная разыскала в ворохе бумаг небольшой запечатанный пакет, затем, превозмогая себя, вскрыла его. Мими из деликатности отошла в другой угол комнаты и в волнении ожидала, какое решение примет ее мать. В пакете оказались пожелтевшие письма и выцветшая фотография, на обороте которой были написаны следующие слова:«Сюзанне — навек, в память о нашей любви. — Люсьен».Это было восемнадцать лет назад. Горькая улыбка тронула бледные губы калеки, и она прошептала: — Презренный негодяй! Женщина с трудом нацарапала на листке бумаги несколько строк, вложила записку и фотографию в чистый конверт, запечатала его и надписала адрес:
«Господину Л. Ларами в собственном доме. Улица д’Анжу, Париж».Она еще долго не решалась вручить свое послание дочери. Наконец, отбросив колебания, подумала: «Э-э, помереть мы всегда успеем!» И прибавила вслух: — Отнеси письмо по этому адресу, родная. Попросишь господина… Ларами… лично. Если его не будет, вернешься с письмом домой. — И ты думаешь, он меня примет? — удивилась девушка, как и все, понаслышке знавшая этого скандально известного толстосума. — Примет, я уверена. Поцелуй меня и ступай поскорее. Сядь в омнибус[43], не то ты устанешь. Девушка ушла и без приключений добралась до пышного особняка Ларами. Важный швейцар указал ей приемную и игриво подмигнул, увидев, как она хороша собой. Конторский служащий проводил ее по коридору в холл, где ожидали посетители. Мими, чувствуя себя не в своей тарелке, совсем оробела, завидя целую толпу снующих туда-сюда людей, роскошь, богатую мебель и драпировки. Ей захотелось сбежать. Но она подумала о матери, о том, что этот господин Ларами богач и, возможно, занимается благотворительностью. В числе ожидавших были инженеры, депутаты, генералы, светские дамы, наконец, люди, одетые как зажиточные рабочие. Их вид немного успокоил девушку. Наконец подошла ее очередь. Письмоводитель велел ей написать на чистом листе фамилию и цель посещения. Она написала:
«Ноэми Казен, для передачи письма господину Ларами лично».Письмоводитель, нюхом чуя просьбу о вспомоществовании, подумал про себя, что хозяин откажется ее принять. Против всякого ожидания тот приказал: — Пусть войдет! Как и привратник, клерк с ухмылочкой препроводил девушку в кабинет, думая при этом: «Ах, старый греховодник, все еще за юбками бегает! А малышка чертовски хорошенькая, не сойти мне с этого места!» Войдя в кабинет промышленного и финансового магната, Мими увидела мужчину лет пятидесяти, толстяка в парике, с глазами в красных прожилках, с отвисшей нижней губой, с толстым грушевидным брюхом — точную копию старых распутников, говоривших ей на улицах всякие скабрезности. Медленно, со спокойным бесстыдством пресыщенного человека, он окинул ее взглядом, заставившим девушку покраснеть. Убедившись, что она в его вкусе, старик подобрал отвисшую губу и даже причмокнул языком, как дегустатор, пробующий вино. Мими, чувствуя себя все более неловко, поклонилась и протянула ему письмо. Он прокашлялся и заговорил масленым голосом: — Значит, вы мадемуазель Казен… Ноэми Казен… Мне знакомо это имя… Не пригласив девушку сесть, он распечатал письмо и, при виде фотографии, издал возглас удивления. Вот что он прочел:
«Подательница этого письма — ваша дочь, наш с вами общий ребенок. Вы были женаты, вы были отцом семейства, когда обманули меня, обещая свою любовь и предлагая выйти за вас замуж. Я слушала вас!.. Я уступила вам… Вы сделали меня матерью и бросили безо всяких средств к существованию. Я боролась, как могла… Я осталась матерью-одиночкой, выдавая себя за вдову. Никогда я у вас ничего не просила. Но теперь я стала инвалидом, дочь моя больна, у нас нет ни гроша, и нам грозит смерть. Дадите ли вы погибнуть той, кого ваш каприз вверг в беду, и ребенку, который не просил вас давать ему жизнь?Прочитав это исполненное достоинства и берущее за душу послание, старик откашлялся, отхаркался и подумал, разглядывая Мими: «Значит, эта юная красотка — моя дочь… Сводная сестра этой макаки Гонтрана. Жаль, жаль, действительно жаль… Она вызывает у меня вожделение, эта малышка, безумное вожделение… Но, в конце концов, а точно ли она моя дочь? На меня она совсем не похожа, ну ни чуточки. К тому же разве такого человека, как я, это остановило бы? Ха! Инцест![44] Он и случается-то лишь в порядочных семьях… До чего же хороша!» Пожирая Мими пылающими похотью глазами, напуганную затянувшимся молчанием, он провел кончиком пересохшего языка по своим губам сатира[45]. — Гм, гм, — наконец промямлил он, — я когда-то знавал вашу матушку… вашего батюшку… ваших родителей. Мими смотрела на него во все глаза. Он решил, что ей ничего не известно, и продолжал: — Гм, гм, ваша матушка воскрешает старые воспоминания, и я… кха-кха, должен что-нибудь для вас сделать. Я, признаться, ни в чем не могу отказать хорошенькой девушке. Старик встал, открыл дверцу сейфа, занимавшего целый угол комнаты, в котором громоздились пачки банковских билетов, кипы ценных бумаг, груды золотых монет, короче говоря, не одно крупное состояние. Он извлек две большие монеты по сто су и небрежным движением протянул их девушке: — Возьмите, дитя мое, это вам. В следующий раз я дам вам еще столько же. Но за это дайте-ка я вас поцелую, крепенько, вот так… С легкостью, неожиданной для такого тучного человека, он подскочил к Мими, одной рукой сжал руку девушки, а другой обнял ее за талию и привлек к себе. Все это он проделал так проворно, что Мими и двинуться не успела, точно прикованная к месту. Кровь бросилась ему в голову, и, тяжело дыша в приступе отвратительной похоти, старик расплющил ртом ее губы. Девушка задыхалась в его объятиях. Вскрикнув, она стала отбиваться и уже почти высвободилась, но тут открылась потайная дверь. Молодой человек, явившийся на пороге и наблюдавший происходящую сцену, залился громким хохотом. — Смотри ты, как папаша-то рассиропился! — Гонтран!.. Что тебе здесь надо?! — в ярости завопил старик. — Хочу пожелать тебе доброго утречка, папа, и позаимствовать тыщонку луидоров. — Убирайся отсюда вон, да поживей! Вырвавшись наконец из объятий старого негодяя, Мими кинулась к выходу, но никак не могла найти дверь, скрытую за драпировками. Две монеты по пять франков, которые старик Ларами вложил в руку девушки, сжав затем ее тонкие пальчики своей волосатой лапой, со звоном упали и покатились по полу. Это вызвало у Гонтрана новый взрыв смеха. — Вот так приданое — два задних колеса! Ты прелесть, о мой прародитель! Вот уж верно, что тебе твои пороки обходятся дешевле, чем мне мои! Старик в замешательстве съежился под взглядом сына, высмеивавшего его с холодной жестокостью. Мими, стараясь улизнуть, билась, как птичка, попавшая в силки. — Папаша, — надменно заговорил Гонтран, — я, к примеру, вчера преподнес одной куколке ожерелье стоимостью в пятьсот тысяч франков. — Пятьсот тысяч?! Да ты… — А ты все экономишь, экономишь. Эдак ты скоро начнешь продавать даже дерьмо своих лакеев! Я щедрее тебя в четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто раз! А моя краля ни в какое сравнение не идет с этой дивной инфантой![46] И не стыдно тебе, старый развратник, с твоей-то внешностью, заниматься таким надувательством? — Довольно! Убирайся вон! — А моя тысяча луидоров? — Я выпишу тебе чек в кассу… — Ладно. А теперь, мадемуазель, если вы благосклонно решите, что я мужчина в вашем вкусе, осмелюсь поднести вам презент в виде двадцати тысяч франков. — Ну уж нет! — завизжал старший Ларами. — Со своими деньгами поступай как знаешь, а транжирить мои я тебе не позволю. — И, улучив момент, он выхватил чек из рук сына, разорвал в клочки и бросил обрывки в камин. Гонтран не проявил ни малейшего волнения. Современная молодежь любит притворяться бестрепетной — меня, мол, ничем не проймешь. Он смерил отца высокомерным взглядом и процедил сквозь зубы: — Знаешь ли, батюшка, то, что ты только что сделал, — гнусно. Если б я не боялся обидеть колбасную промышленность, то назвал бы это свинством. Не бойтесь, мадемуазель. Этот старый скряга только что меня облапошил, стянул какие-то двадцать тысяч франков, мелочь на карманные расходы. Но вам я подарю сто тысяч, если вы соблаговолите сегодня отужинать со мной. И будьте одеты так, как сейчас, — в стиле Женни-работницы. Договорились, а? Это будет потрясающе! — Месье, — рыдала девушка в ответ на такое тошнотворное предложение, — позвольте мне уйти, умоляю вас! Я пришла просить у него помощи потому, что у меня тяжело больна мама. У нас нет средств к существованию… Я больше ничего не хочу, только отпустите меня!.. Слезы катились у нее из глаз, личико побледнело и осунулось, но вся она, со своей грациозной фигуркой, была прелестна. Ее отчаянные и горестные мольбы могли бы растрогать и дикаря-ирокеза[47]. Гонтран осклабился. У таких людей нет ни души, ни сердца. Сомнительно, чтобы они когда-нибудь испытывали жалость. Глухие к любому чувству, к любому волнению, они — бессовестные и бестрепетные чудовища. И как же их много! Ухмыляясь, Малыш-Прядильщик добавил: — Раз уж вы попали в эту переделку, то соглашайтесь. Я не такой скупердяй, как папочка. Скорей скажите «да», и поглядим, как он будет казниться, старый развратник, распустивший слюни на вас глядя. — Ты мне дорого за это заплатишь, Гонтран! — зарычал бледный от ярости старик. — Не ерепенься! Я через полгода получу по мамочкиному завещанию семьдесят пять миллионов с лихвой. Мне только и останется, что поручить какому-нибудь дошлому адвокатишке проверить счета после твоего опекунства, и ты сразу станешь податливым, как плеть. Во время этой омерзительной беседы Мими, не прекращая искать лазейку, билась, как птица в клетке. Наконец она нашла двери. Радуясь свободе, она пустилась наутек. Гонтран натянул папаше нос и помчался следом. — Когда я ею попользуюсь, то уступлю тебе со скидкой, — прогнусавил он, — зато я первый заплачу налоги. Так что не держи на меня зла, будь выше этого. Мими бегом пересекла приемную и помчалась по коридорам. Мысли ее путались. «Старик опять за свое взялся», — думали слуги, глядя ей вслед. Она выскочила на улицу и, ощутив себя на воле, вытерла носовым платком губы и сплюнула. Естественно, грязное оскорбление, нанесенное обоими богачами, глубоко уязвило ее. Будучи до кончиков ногтей истинной парижанкой, девушкой достойной и знающей себе цену, Мими пылала от негодования. Перестав быть пленницей в роскошном особняке, она представляла, как могла бы обороняться, пустив в ход и зубки и коготки. Возвращаясь к себе в Батиньоль, она семенила по улице Роше тем быстрым шагом, так изматывающим провинциалов. Не прошло и двух минут, как Гонтран догнал ее. — Мадемуазель, мадемуазель, послушайте и не спешите так… Клянусь вам всеми святыми, речь идет о вашем состоянии! Я посулил вам сто тысяч франков и не отпираюсь от своего обещания. Я — Малыш-Прядильщик, о котором трубят все газеты. И я куда лучше всех этих вонючих стариканов, так и норовящих надуть… Мими пожала плечами и ускорила шаг. Распалясь, Гонтран продолжал погоню, как капризный ребенок, чьи желания до сих пор исполнялись беспрекословно. Идя рядом с Мими, он нашептывал ей на ушко: — Подумайте хорошенько, раз уж вы ввязались в эту кашу, то соглашайтесь… Если боитесь, что я стану жульничать, я принесу задаток, пятьдесят тысяч франков — в любое место, которое вы укажете. Я вам доверяю. А вторые пятьдесят тысяч получите после ужина. Потеряв надежду легко от него отделаться, Мими внезапно остановилась и, глядя Гонтрану прямо в глаза, заявила: — Я так бедна, месье, что не знаю, поем ли завтра досыта. И все же зарубите себе на носу — меня не соблазняют ваши предложения. Я ничего от вас не хочу. Ничего! Понятно? Оставьте меня в покое, или я обращусь в полицию. Потрясенный Гонтран в сбившейся на затылок шляпе, заложив пальцы за борта жилета, стоял, разинув рот, и мямлил: — Потрясающе! Хоть стой, хоть падай! Да уж, крепкий вы орешек! Подумать только, сколько светских женщин мечтало бы оказаться на вашем месте! К тому же за плату в десять, в тридцать, в сто раз меньшую! Запомните, Малыш-Прядильщик, когда речь идет об исполнении его прихотей, ни перед чем не останавливается! Устав от утомившей ее погони и не зная, как положить этому конец, Мими продолжала свой путь. Однако, как водится, поблизости не было ни одного патрульного, да и сама мысль о публичном скандале оскорбляла ее стыдливость. К тому же на улице Роше жила преимущественно буржуазия и обслуживающий ее персонал — повара с поварихами, кучера с семьями. Выходцы из народа, они кормились щедротами господ и сочли бы забавной такую картинку — богатый молодчик гонится по пятам за их сестрой простолюдинкой. В рабочем квартале любой прохожий остановил бы Гонтрана и хорошенько намял бы ему бока. В этом же претендующем на роскошь районе девушка не могла рассчитывать ни на чью поддержку. Гонтран, прекрасно это понимая, чувствовал, что находится на благоприятной почве, и пытался извлечь из этого обстоятельства максимум выгоды. В начале он был настойчив, теперь же стал неприкрыто груб. Мими совсем запыхалась, каждый шаг давался ей с трудом. Полубольная и ослабевшая, она ощущала, как силы оставляют ее. Обернувшись к своему преследователю, подняв на него полные слез глаза, она заговорила умоляющим голосом: — Месье! — Ее тяжкие вздохи сменились рыданиями, слезы брызнули из глаз. — Месье, заклинаю вас, оставьте меня… Вы же сами видите, что это невозможно… Сжальтесь, месье… Негодяй решил, что она готова сдаться. «Надо продолжать травлю, — смекнул он, — и через пять минут — она моя!» Они вышли на большую площадь, образованную пересечением авеню Виллье, бульвара Курсель и примыкающих улиц. На перекрестке было почти совсем безлюдно. Гонтран решил применить силовой прием. Внезапно, смеясь, он протянул к Мими руки: — Я не отпущу вас, если вы меня не поцелуете. — И попытался заключить ее в объятия. Девушка отшатнулась со сдавленным криком. — Большое дело, — приговаривал юный циник, — расквасили же вы рожу папаше, теперь и из моей морды можете сделать фрикасе… В отчаянии Мими стала звать на помощь. Не видя никого поблизости, мерзавец веселился вовсю. Но в тот миг, когда он приблизил свою обезьянью морду к точеному личику девушки, его ухо пронзила резкая, нестерпимая боль. Чья-то могучая рука мяла, закручивала и тянула, силясь оторвать, его ушную раковину. Гонтран завизжал и попытался вырваться, но не тут-то было. Ухо затрещало, голова раскалывалась, и, чувствуя уходящую из-под ног землю, он попытался лягаться. Еще пол-оборота — мочка оторвалась, из разорванных тканей хлынула кровь. Потеряв равновесие, злополучный гаер[48] рухнул. Теперь, когда он больше не заслонял своего обидчика, Мими наконец разглядела того, кто так своевременно пришел к ней на выручку. Не в силах сдержать радостный возглас, она узнала человека, три дня тому назад спасшего ей жизнь. — Это вы, месье?! Да благословен будет случай, вторично поставивший вас на моем пути! Их встреча действительно была случайной — Леон Ришар работал над интерьером одного из особняков, расположенного на пересечении улиц Константинопольской, генерала Фуа и бульвара. Расписывая в цокольном этаже большую гостиную и увидев через огромную витрину, как к Мими пристает какой-то мужчина, Леон выскочил на бульвар и, не долго думая, схватил наглеца за ухо. В ответ на слова Мими он разразился своим милым детским смехом: — Но, мадемуазель, я здесь именно затем, чтобы оказывать помощь… Готов к услугам и раз, и еще много-много раз. Малыш-Прядильщик пытался встать на ноги, щека его была в крови, на губах выступила пена. Когда он увидел перед собой мужчину перепачканного красками, в нем взыграло обычное фанфаронство. — Ты, дубина стоеросовая! — завопил он. — Да будь ты одного со мной круга, то завтра же стоял бы передо мной со шпагой в руках или под дулом моего пистолета! Художник пожал плечами и, смеясь, ответил: — Ну уж нет, для этого вы слишком трусливы. И вам остается лишь одно — проваливайте отсюда побыстрее… — Когда захочу, тогда и уйду! — …Не то я оторву вам второе ухо. А уж если вам приспичит подраться, меня нетрудно найти. Я — Леон Ришар. Живу по улице Де-Муан, пятьдесят два. — А я — Гонтран Ларами, Малыш-Прядильщик. — А, тот самый пижон, швыряющий на ветер миллионы, о котором так много судачат? Не советую вам подворачиваться мне под горячую руку — убью. Это так же верно, как то, что я порядочный человек, а вы и вам подобные — прожженные канальи. Затем Леон продолжил, обращаясь к Мими: — Мадемуазель, соблаговолите опереться на мою руку, я провожу вас домой. Со мной вам нечего бояться, ибо никогда у вас не будет более верного и почтительного слуги. Растроганная, улыбающаяся, отмщенная Мими одарила юношу взглядом, в который вложила всю душу, и, не колеблясь, взяла своего защитника под руку. Жалкий, потерпевший полное поражение Гонтран Ларами бесился от злости, вытирая носовым платком кровь, хлеставшую из уха и капавшую ему на грудь. Мучимый нестерпимой физической болью, он, кроме того, кипел от ярости и ненависти к человеку, так круто с ним обошедшемуся. Эта с виду безобидная горилла умела ненавидеть, да еще как ненавидеть! Глядя молодым людям вслед, он бормотал себе под нос: — Драться с этой чернью? Ни за что на свете! Еще покалечат… Но я отомщу, будьте спокойны, я так отомщу, что они меня попомнят! Не будь я Малыш-Прядильщик, если не подошлю убийц к кобелю и полдюжины насильников к сучке!Сюзанна Казен».
ГЛАВА 12
Для встречи и переговоров с таинственным корреспондентом князя Березова в полночь у подножия обелиска господин Гаро выбрал самого расторопного, самого проверенного агента. Остальные притаились в укромных местах, чтобы в случае надобности прийти на выручку своему товарищу и произвести задержание шантажиста. Один из них нашел для засады оригинальное место — он разместился в бронзовом фонтане и, прижавшись к одной из сирен, стоял прямо в воде. Выручали грубые сапоги, зато агент был совершенно незаметен. Двое других полицейских, переодетых извозчиками, сидели на козлах одноместных экипажей, в каждом из которых помещался еще один их коллега. Кареты ездили навстречу друг другу, как если бы одна выезжала с улицы Руайяль, а другая — с моста Конкорд. В полночь на улицах Парижа еще довольно оживленное движение, так что в их действиях не было ничего подозрительного. Когда на башенных часах по соседству пробило двенадцать, экипажи как бы случайно встретились в ста шагах от обелиска, лошади перешли на шаг. Агент, уполномоченный вести переговоры, двинулся навстречу человеку, уже с четверть часа слонявшемуся возле назначенного места. — Это вы направили письмо на авеню Ош? — без обиняков начал полицейский. — Да, я, — ответил человек. — Князь Березов послал меня, чтобы я передал вам искомую сумму. Так что и вы не нарушайте уговор. — Деньжата у вас при себе? — Да. Один кредитный билет в тысячу франков. Но мне нужен ребенок. — Я его в кармане не ношу, вашего щенка. Гоните монету, а завтра мы вернем мальца семье. Давайте наличность. Агент приблизился и протянул фальшивую банкноту, которую неизвестный жадно выхватил у него из рук. В сумеречном свете видно было плохо, и негодяй решил, что кредитка настоящая. Это был человек среднего роста, скорее низенький, чем высокий, но коренастый и очень проворный. Не раздумывая, полицейский кинулся на него, пытаясь повалить. Шантажист издал пронзительный крик, несомненно, подзывая сообщников, а затем начал отбиваться, неожиданно проявив недюжинную силу. Могло случиться даже так, что ему удалось бы улизнуть, но тут, весь мокрый, подоспел агент, сидевший в фонтане, а почти одновременно с ним — седоки извозчичьих пролеток. Все четверо набросились на злодея и, так как он сопротивлялся, задали ему хорошую трепку, как умеют это делать господа, служащие в полиции. Шантажист горланил так, как будто с него живьем сдирали кожу. — Спасайся кто может! Меня повязали! — вопил он. Сообщники, увидев большое скопление полицейских, вероятно, сочли благоразумным не попадаться им на глаза. Вскоре незнакомца опутали веревками, словно палку колбасы, и бросили на пол в один из экипажей. В таком виде он и был доставлен в полицейский участок. Однако, прежде чем поместить его в камеру предварительного заключения, Гаро решил самолично подвергнуть его короткому допросу. Никогда еще перед глазами начальника сыскной полиции не представал более совершенный тип записного подонка. И дело вовсе не в том, что он был безобразен в эстетическом смысле этого слова. Отнюдь нет. У него были правильные и тонкие черты лица, серые глаза светились живым умом. Чуть широковатый нос имел гордую орлиную горбинку, между ярко-красных губ блестели ослепительно-белые зубы, откровенное наглое лицо выражало то насмешку, то угрозу, то подозрительность. Цвет кожи он имел свежий и белый, на щеках играл румянец. Белокурые, очень светлые волосы вились, несмотря на короткую стрижку. На свежевыбритом лице — тоненькие пшеничные усики с закрученными кончиками. Словом — лицо как лицо, ничего вульгарного, а в определенные моменты как бы и не лишенное достоинства. А вот вид его фигуры приводил в некоторое замешательство. Мощная, громадная, мускулистая шея была коротка. Голова уходила в широкие квадратные плечи, на слишком длинных руках выпирали могучие бицепсы, а кисти отличались изяществом, хотя хватка его длинных тонких пальцев наверняка была чрезвычайно сильна. Грудная клетка выдавалась вперед, но не как у чахлой, домашней птицы, а как у настоящего бойцовского петуха. Как и руки, ноги были тоже длинными, узкие ступни прятались в стоптанных башмаках. Словом, внешность этого более чем подозрительного типа была довольно примечательна. Разбитной, находчивый, умный, он не лез за словом в карман, так и сыпал жаргонными выражениями и производил впечатление подзаборного бродяги и завсегдатая сточных канав, которыми кишмя кишит наш добрый Париж. Отложив антропометрические измерения преступника на следующее утро, его тотчас же допросили. — Взгляните, он же горбун! — воскликнул секретарь господина Гаро. — Сам ты горбун! — возмущенно откликнулся прощелыга. — Что я, по-твоему, горб проглотил? — Так и есть, — продолжал секретарь, ощупывая под блузой мускулистую спину арестованного. — Горб он действительно проглотил, потому что горб-то фальшивый! — Напялил бы я шмотки, как бульварный хлыщ, так смотрелся бы не хуже всяких маменькиных сынков! — огрызнулся бродяга, и в словах его была доля истины, потому что секретарь начальника сыскной полиции выглядел, в отличие от злоумышленника, весьма заурядно. Господин Гаро спросил имя и фамилию задержанного. Тот бросил: — Зовут меня Некто, родился где-то. Возможно, родители мои миллионеры, да жаль, они неизвестны. — Где проживаете? — Не то в префектуре, не то в тюрьме, точно сам не знаю где. — Вы издеваетесь над нами! — Да это вы надо мной издеваетесь! Я у вас уже торчу битый час, а мне только и дали, что полсетье[49] какой-то бурды, немного зелени, кус хлеба и шматочек мяса. — Вы голодны? — А то нет! При моей работенке не всегда копейку имеешь, чтобы подзаправиться. Господин Гаро тотчас же велел принести часть ужина, приготовленного для него самого, так как этот неутомимый труженик ел где и когда придется. Бродяга набросился на пищу, как голодный зверь. Съев в мгновение ока все до крошки, арестованный удовлетворенно вздохнул и насмешливо заметил: — Вот уминать за обе щеки — это по мне! Вы свойский мужик, месье Гаро! Быть может, начальнику сыскной полиции и польстил подобный комплимент, но виду он не подал. Бросив на бродягу пронзительный взгляд, он спросил: — Ну что, будете теперь говорить? — Буду. Заговорю, как попугай, отведавший жаркое в винном соусе. — Вы похитили ребенка князя Березова? — Совершенно верно. — И вы же нанесли ножевое ранение в грудь сестре княгини? Босяк заколебался. — Вам не отпереться. Ведь это именно вы ударили ножом свояченицу князя? — Ну, я… Чего уж там, признаю… — Искреннее признание вам зачтется. — Пусть меня сошлют или голову отрубят, мне без разницы… — А теперь скажите, где ребенок? — А вот это уж нет, — перебил бандит, — этого я не скажу. — Подумайте хорошенько. До сих пор вы были со мной откровенны, продолжайте в том же духе. — Не вижу надобности. Я попросил у князя Березова немного денег, ничтожную сумму для такого богача. А он вместо того, чтобы заплатить такой пустячный выкуп, сдал меня фараонам. Пусть теперь помучается! — Это ваше последнее слово? — Да, последнее! — Но ведь несчастная мать все глаза выплакала… — А мне наплевать на слезы толстосумов! — Но ведь она же мать! — А я не знаю, что это такое. Меня щенная сука молоком вскармливала, а потом свиноматка в сарае… — Вы много страдали… — Да уж, настрадался, наварился, как похлебка в котелке… — Но не совсем же вам чуждо сострадание? — Пустая болтовня. Богачи знают, как утешиться со своими денежками. И хватит об этом, я больше ни слова не скажу. Убедившись, что больше ничего не добьется, господин Гаро велел поместить задержанного в камеру, а сам позвонил князю. Начальник сыскной полиции был доволен и половинчатым успехом, а в дальнейшем полагался на одиночное тюремное заключение, которое, по его мнению, должно будет принести свои плоды. Ранним утром следующего дня узник попросил есть и сожрал все, как если бы он был болен булимией[50]. Он был воистину ненасытен, и ему едва-едва хватало двойной порции. Пытаясь приручить арестованного с помощью небольших поблажек, месье Гаро послал ему вина и курительного табака. Но все впустую. Наглец наелся, напился, выспался, покурил, но не прибавил ни слова. Так прошли еще сутки. Затем узник предстал перед судьей, чей торжественный вид нимало его не впечатлил. Он подтвердил свои первичные показания, не отрицал, что похитил ребенка князя Березова и ударил ножом девушку за то, что она оказала сопротивление, но категорически отказался добавить что-либо еще. Между тем его сфотографировали, произвели антропологические измерения, ввели данные в каталог и после обычной процедуры проверки обнаружили, что он, по всей видимости, ранее не имел дела с правосудием.От вспыхнувшей было в сердце надежды княгиня Березова вновь перешла к отчаянию. Ей казалось непостижимым, чтобы человек, укравший ее дитя, не сжалился над ней. Она требовала, чтобы ее допустили к узнику, считала, что у нее хватит сил разжалобить его, что он не устоит перед ее мольбами и слезами. Князь встретился со следователем и просил, чтобы представитель власти пообещал арестованному крупную сумму денег и свободу, если тот возвратит ребенка. Однако следователь, будучи должностным лицом, объяснил просителю, что злодей отныне принадлежит правосудию и должен отвечать по закону. Ведь закон — это вещь непреложная. Он призван настигать нарушителей и карать их. Возмещение причиненного преступником зла — дело второстепенное. Кроме того, правосудие ни в коем случае не должно вступать со злоумышленником в сговор. Стало быть, следует запастись терпением и ждать окончания следствия. Удрученный князь Березов принес эти известия княгине, чье нервное состояние начинало вызывать серьезное беспокойство. Выжидать! Дожидаться, пока бандиту не наскучит подвергать ее пыткам!.. Этот человек — чудовище. Значит, у него нет ни души, ни сердца?.. Он затаил злобу на богатых людей и наслаждается, заставляя их страдать. Очевидно, он сам много выстрадал и теперь жаждет отплатить той же монетой. Конечно же он не знает, что княгиня сама вышла из простонародья, но по-прежнему осталась доброй, простой, самоотверженной… Она не только не стыдилась своего низкого происхождения, она гордилась им. И постоянно занималась благотворительностью, тем более ценной, что все благие дела совершались анонимно. Жермена никогда не забывала о тех, кто страждет от голода и холода, кого душит нищета. И именно этой образцовой супруге, преданной матери, богатой, но исполненной всевозможных добродетелей женщине теперь разрывали сердце! Даже ее слуги, нередко склонные ненавидеть своих господ, жалели ее. Благодаря газетным репортерам, не гнушавшимся ничем, прошлое княгини Березовой, урожденной Жермены Роллен, было предано огласке. В нем не было ничего зазорного, однако все романтические перипетии ее судьбы стали теперь достоянием широкой публики. Очень не хватало Жермене и ее средней сестры Берты, разлука с которой обещала быть продолжительной. Берта по любви вышла замуж за простого типографского рабочего, человека бедного и одинокого, который позднее чудом нашел свою мать. Бедный подкидыш, найденный на ступеньках театра «Бобино», был назван Жаном Робером, по кличке Бобино. В результате чудесной случайности молодой человек обрел не только мать, но и высокое общественное положение. Парижский сирота Бобино оказался законным сыном графа де Мондье, убитого злодеем во время своего путешествия в Южную Америку. Во время поденной работы в типографии Бобино грезил таинственными дальними странами, путешествиями за моря и океаны. Унаследовав состояние отца, новоиспеченный граф решил воплотить в жизнь то, что ранее представлялось ему лишь пустыми мечтами. Молодой человек задумал разыскать место погребения отца на кладбище одного южноамериканского городка и перевезти прах во Францию. Он также вознамерился найти в консульских хранилищах архив отца, в который покойный вложил всю душу, — карты, рукописи, документы, заметки и дневники. Часть этих бумаг убийца оставил около мертвого тела. Бобино поделился планами с женой, и та, энергичная и решительная парижанка, всем сердцем одобрила его. Вот уже три месяца супруги Робер, как школьники на каникулах или влюбленная пара в медовый месяц, меряли шагами бескрайние цветущие луга тропической зоны. Никто, а менее всего они сами, не знал, когда супруги вернутся — указателем этим фантазерам служила магнитная стрелка компаса. Бобино слал Михаилу и Жермене необычайно живописные, проникнутые местным колоритом письма, одно из которых, отправленное из Бразилии, дошло до князя в самый разгар катастрофы. У князя комок стал в горле, на глаза навернулись слезы. — Ах, бедный мой Бобино, — прошептал он, — если бы ты только был с нами… Ты, столько раз спасавший нас когда-то…
ГЛАВА 13
Свершилось! Мария была спасена. Она уже могла говорить, есть легкую пищу, слушать, когда ей читали книгу. До сих пор девушка балансировала на грани жизни и смерти и никто не знал, что возьмет верх. Благодаря достижениям медицины, благодаря усилиям интерна, в течение недели затаив дыхание внимавшего каждому удару ее сердца, жизнь восторжествовала. Это было настоящее воскрешение из мертвых. В особняке Березовых вспыхнул маленький лучик радости, когда профессор Перрье заявил Михаилу и Жермене: — Ручаюсь, она будет жить! У князя, влачившего существование между полубезумной женой и пустой, как оскверненная могила, детской колыбелью, вырвался долгий вздох облегчения. Он обеими руками сжал руку врача и от всего сердца воскликнул: — О, благодарю, благодарю вас, друг мой! Бледная улыбка тронула бескровные губы княгини, она прошелестела: — Бог не совсем отвернулся от нас… Моя сестра жива… Доктор, милый мой доктор, не нахожу слов, чтобы выразить вам свою признательность. — Но, княгиня, я ничего или почти ничего не сделал для нашей дорогой Марии. Даже в том, что касается переливания крови… Я лишь принес хирургический инструмент и применил профессиональные навыки. Пусть ваша благодарность устремится по верному адресу и достанется тому, кто ее действительно заслужил. — Господину Людовику Монтиньи, вашему ассистенту, — молвил князь. — Который отдал свою кровь, опыт, неусыпные заботы, словом, в некотором роде вдохнул жизнь в вашу сестру, княгиня. Поверьте, как ни высоко я всегда ценил щедрость души и ясность ума этого молодого человека, но здесь и мне пришлось удивиться. — Друг мой, отныне он тоже станет нам другом. — Совершенно справедливо! И, заметьте, он принадлежит к редкой в наше время породе людей! Но хватит об этом. Я хочу поговорить о вас, княгиня. Жермена уже вновь успела погрузиться в тягостную дремоту. — У вас есть какие-нибудь новости? — очнувшись, прошептала она. — Увы, нет. И речь сейчас пойдет не о вашем дорогом малыше. — А о ком же? — В ее голосе послышался упрек. — О вас, дитя мое. — Обо мне? Эка важность! — Жермена! — с болью вырвалось у князя. — Ах, друг мой, я должна была сказать «о нас». Ведь кем мы с вами теперь стали без него, без нашего ангела? Два страдальца, два разбитых сердца… — Мадам, — серьезно, почти сурово оборвал ее доктор, — вам надо вновь обрести мужество и энергию, отличающую самых закаленных людей, ту самую энергию, благодаря которой вы стали женой человека, которого любили и любите. Не находя этой силы духа в княгине Березовой, я апеллирую к Жермене Роллен. — Сжальтесь, доктор! — воскликнула Жермена, и краскасхлынула с ее лица. — Я спасу вас вопреки вашей собственной воле! — твердо продолжал профессор, решивший достучаться до этой оцепеневшей души. — Что, разве вы больше не та Жермена, не та неустрашимая женщина, которая не убоялась злодея… — Ах, вы убиваете меня… — Которая защищала свою честь, как львица детенышей… Которая благодаря своему мужеству и силе вырвалась после отчаянной борьбы из когтей злодеев, чьи имена я даже не хочу упоминать… — Ах, если б я могла… — Вы можете. Стоит лишь захотеть. Тогда вы навсегда останетесь той, кто так боролась за свою любовь, преодолела помешательство, вернула разум тому, кто вас любит… — О да, доктор, да. — Я совершенно в вас уверен… Вы та самая героическая женщина, стрелявшая в злодея, покусившегося на жизнь князя и готового совершить все новые и новые преступления. — О Боже, что мне следует сделать? — Перестать стенать, перестать жаловаться. Не давать расстроенным нервам возобладать над вами. — Но ведь меня уничтожили, повергли во прах… — Надо обуздать ваши нервы. Усилием воли вернуть себе дееспособность, снова стать сильной, какой вы были прежде. Вы сможете это сделать! — Я попытаюсь, доктор… — Скажите себе: я этого желаю! Я хочу найти моего Жана и в случае надобности пожертвую жизнью, чтобы увидеть его вновь. — Вы правы, доктор… Я проявляла малодушие. — Нет, княгиня. Вам нанесли страшный удар, который мог убить вас. Теперь вы реагируете на него восстановлением моральных сил. — Я сразу же должна окунуться в самую гущу событий, не так ли, Мишель? — Да, Жермена. Мы будем сражаться, как когда-то. Но теперь мы не безоружные бедняки, ничего не имеющие за душой. Мы богаты, сильны, одержимы целью… — Мы сами начнем действовать, потому что вся эта полиция, все эти судейские крючкотворы не достигают цели и разрывают нам душу своими проволочками. Воодушевленная княгиня преобразилась, она стала неузнаваема. Несколько произнесенных профессором слов сотворили чудо — еще недавно подавленная, погруженная в тягостную апатию больная женщина превратилась в героиню, способную на любое самопожертвование, готовую к самой отчаянной борьбе. Все, покончено со стенаниями и бесплодными слезами, хватит рассчитывать на других. Надо действовать самим. Они втроем держали военный совет. Порешили, что в первую очередь надо выявить сообщников бандита, который спал, ел, потягивал вино, покуривал и над всеми глумился в камере предварительного заключения. Задача сложная, так как никто не только не знал, но и не подозревал даже, кто мог быть в сговоре со злодеем. Князь рассказал доктору, что следователь не только отверг все его предложения, но и сам толком не представлял, как вести расследование дальше. Доктор Перрье успокоил его: — Господин Фрино пойдет вам навстречу. Я близко знаком с этим чиновником и заверяю вас, что он исключительно порядочный человек, хотя и слишком категоричный и непререкаемый. Я сегодня же с ним повидаюсь и добьюсь важнейшей, как мне представляется, вещи — очной ставки преступника с Марией. — Но будет ли она в состоянии перенести это свидание? — Надеюсь, что да. В любом случае, Монтиньи, ее неутомимый страж, лучше кого бы то ни было знает ответ на ваш вопрос.В то время как Жермена, бичуемая суровыми словами доктора, этого замечательного целителя не только тела, но и души, пробуждалась к новой жизни, Мария и интерн тихонько беседовали. Малышка Мария очень изменилась с того момента, как острый нож бандита пронзил ей грудь. Она была все такой же красивой, но мраморно-бледной, с сетью голубых вен под прозрачной кожей. Ее прекрасные черные глаза все еще лихорадочно блестели, веки поднимались медленно, как если бы они были слишком тяжелы. Сквозь полуопущенные ресницы она обволакивала юношу, сидящего возле постели, неотрывным, внимательным, добрым и нежным взглядом. Он только что закончил перебинтовывать начавшую зарубцовываться рану, и Мария чувствовала себя очень неловко оттого, что она полуодета. До сих пор она безразлично относилась к перевязкам, не обращая внимания, мужчина или женщина совершает эту процедуру. Стыдливость ее молчала — необходимость была превыше всего. Но теперь состояние улучшилось, силы прибывали, и девушка, несмотря на деликатность интерна, начала стесняться. Он же видел в больной лишь «объект излечения». Эта пациентка безусловно была ему дороже всего на свете, но он мысленно разделял больную и любимую, не замечая ничего, кроме раны, и не задумываясь о красоте этого юного непорочного тела. Мария покраснела до корней золотых волос, сердце ее забилось сильнее. С большой проницательностью Людовик Монтиньи догадался об этом пробуждении стыдливости и произнес: — Состояние улучшается… Даже слишком… — Ах, дорогой мой врачеватель, сколь вы жестоки, — откликнулась девушка окрепнувшим голосом. — О нет, но я подумал о том, что, быть может, это моя последняя перевязка… Вскоре наши беседы, к которым я приобрел сладостную привычку, прекратятся… Ваша жизнь войдет в свою колею, а моя пойдет своим чередом. — Ну конечно, я очень надеюсь и хочу, чтобы это произошло как можно скорей. — Вот видите! И тогда прости-прощай мое счастье! — Значит, для вашего счастья необходимо, чтобы я страдала? И, чтобы сделать вас счастливым, мне следовало бы стать неизлечимо больной? Покорнейше благодарю за вашу доброту! Сбитый с толку Людовик с минуту молчал, не зная, как отвечать девушке, смотревшей сейчас на него с выражением некоторого лукавства. Угадала ли она его тайну? Заметила ли его бледность, его отчаяние в то время, когда она была при смерти? Очень может быть, даже скорее всего так оно и есть… Ведь иначе она не была бы женщиной. Разве такую неустанную заботу, преданность, такую самоотдачу, граничащую с самоотречением, проявляют по отношению к первой встречной? Неужели она услышала несколько слов, которые он мог пробормотать сквозь сон в те короткие отрезки времени, когда дремал у ее изголовья? Лишь любовь способна на такую жертвенность, на такую стойкость и постоянство! Людовик сбивчиво, не вдумываясь в слова, заговорил: — О нет, мадемуазель… Дело вовсе не в этом… Лечить людей — мое ремесло… Я счастлив, что вы выздоравливаете… — Значит, вы и счастливы, и одновременно несчастны оттого, что я поправляюсь? — Я думаю о том, что больше вас не увижу. Что больше не будет этой радости, этого счастья — ухаживать за вами, посвящать вам жизнь, свои знания, свою преданность… Но я не эгоист и испытаю искреннюю радость, когда случайно встречу вас на жизненной дороге — счастливую, улыбающуюся и еще более красивую, чем всегда!.. Его голос дрожал и срывался от неподдельного чувства, а на последних словах в нем послышались слезы. Мария была потрясена, сердце ее подпрыгнуло в груди, щеки покраснели. Она протянула тоненькую, исхудавшую ручку и накрыла ею руку студента. — Поговорим же серьезно, господин Людовик, — молвила она. — Я никогда не забуду, что обязана вам жизнью. — О нет, вы преувеличиваете! Вы решительно ничем мне не обязаны! — Случай, который свел нас в этих ужасных обстоятельствах, совершенно необычаен. И я упрекаю себя за то, что подтрунивала над вами. — Ну что вы, мадемуазель! Это всего лишь невинная и совершенно незлая шутка! — Я не имею права быть счастливой. Думая о моей сестре, о бедном исчезнувшем малыше, я не могу позволить себе даже на минуту предаться веселью. — О, мы найдем его, клянусь вам, — с горячностью перебил ее юноша. — Но простите, однако… Имею ли я право вмешиваться… Навязываться таким образом… — Вы сами прекрасно понимаете, что вам предоставляется случай снова помочь нам… Вы уже вовлечены в наши беды, так приобщитесь же и к нашей будущей борьбе! — Значит, вы согласны принять мою помощь? — Согласна ли я? О да! От всего сердца согласна! Как никогда растроганный, юноша задрожал, чувствуя, как маленькая ручка все крепче сжимает его руку. В свою очередь он схватил изящные пальчики девушки и ответил пожатием на пожатие. Затем они, взволнованные, ощущая радость, переполнившую сердца, долго смотрели в глаза друг другу и чувствовали, что таинственная, но уже всемогущая связь установилась между ними, слив их воедино. Длительное молчание становилось почти тягостным, так многозначительно оно было. Наконец, потеряв голову, опьяненный ласковым взглядом, по-прежнему неотрывно направленным на него, студент припал губами к руке своей пациентки и сдавленным голосом прошептал: — Мария! О Мария, дорогая… И тут же побледнел, убоявшись собственной смелости и возможной реакции девушки. — Простите меня, я сошел с ума… Да и кто бы не обезумел при мысли о возможности вас потерять!.. Наш медик сделал движение, чтобы отстраниться, но девушка легким касанием удержала его и, не менее взволнованная, близкая к счастливым слезам, прерывающимся голосом прошептала в ответ: — О Людовик!.. Дорогой Людовик… Охваченный безумным восторгом, студент спрашивал себя, уж не грезит ли он — а что если он вдруг очнется и обнаружит, что снова сидит в кресле у постели умирающей… Но нет, это была ослепительная действительность! Мария была перед ним, живая, счастливая, улыбающаяся! Ноги у него подкосились, он упал на колени перед кроватью и провел так целую вечность, погрузившись в какой-то экстаз и чуть слышно шепча: — О Мария, дорогая моя, как же я вас люблю! Девушка коротко вскрикнула, слабо застонала и, дав волю сладким слезам, откинулась на подушки. Она не противилась, не прибегала к глупым уловкам, которые так любят деланные скромницы из буржуазной среды, не притворялась испуганной, как притворилась бы опытная кокетка. Как истинная дочь народа, Мария не страшилась благородной и открытой любви и свободно отдавалась вспыхнувшему в ее душе чувству. И если даже пока это была лишь нежная привязанность, замешенная на уважении, доверии, благодарности, то вскоре она должна была перерасти, если уже не переросла, в настоящую любовь. Застенчиво, боясь оскорбить любимую, не смея поднять на нее глаз, Людовик обратился к ней с вопросом: — А вы, Мария, сможете ли вы когда-нибудь полюбить меня?.. — В настоящее время, — серьезно отвечала ему девушка, — я сама себе не принадлежу. — О, что вы такое говорите! — не понял он. — Пока не найден мой племянник, пока мы оплакиваем нашего малыша, которого я не сумела уберечь… — Вы несправедливо обвиняете себя! В том нет вашей вины! — Я поклялась защитить его ценой своей жизни. Однако я жива… Вот почему, придя в себя, я дала зарок. Я поклялась принадлежать лишь тому, кто найдет крошку Жана и доставит тем самым неописуемую радость моей сестре. В этот день я скажу спасителю: «Вот вам моя рука. До конца дней своих я принадлежу вам». — Этим человеком буду я! Разговор, имевший такое большое влияние на дальнейшую жизнь молодых людей, был прерван приходом князя и профессора Перрье. Последний осмотрел Марию и заявил, что она сможет выдержать очную ставку со своим убийцей. — Мария, дитя мое, готовы ли вы перенести это испытание? — обратился к ней доктор. — Не только готова, но и настаиваю на том, чтобы встреча состоялась как можно скорей! — ответила мужественная девушка. — Что ж, тогда завтра следователь доставит злодея сюда. Действительно, назавтра, в два часа пополудни, три автомобиля въехали во двор особняка на авеню Ош, куда ранее никого не впускали. В первой машине находился комиссар полиции Бергассу и два полицейских агента. Во второй — обвиняемый и трое конвойных. В третьей приехали следователь Фрино и секретарь суда. Профессор Перрье и князь Березов предстали перед следователем. Врач и судейский чиновник обменялись рукопожатием. — Из дружбы к вам, — шепнул Фрино на ухо доктору, — я согласился на все. Однако эта очная ставка не даст желаемого эффекта. — Как знать… — ответил доктор. — Получить таким образом признание? Да это случается лишь в романах, друг мой! — Ну что ж, поглядим. Комиссар, ведомый князем, возглавил эту странную процессию, которую замыкал секретарь суда. В комнате Марии у постели дежурил Людовик Монтиньи — ему было поручено следить за тем, не вызовет ли эмоциональное напряжение упадка сил. Из всех углов на новоприбывших с любопытством глазели слуги. Фанни, гувернантка, притворившись больной, заняла свой пост, прильнув к закрытой на засов двери. Они уже подходили к комнате Марии, как вдруг произошел неожиданный и никакими инструкциями не предусмотренный эпизод, который мог бы оправдать надежды, возлагаемые профессором Перрье на очную ставку. Жермена находилась в своих апартаментах и, невзирая на то, что твердо решила не вмешиваться, повинуясь непреодолимому побуждению, вдруг вскочила и бросилась навстречу преступнику. Ее всегда ласковые глаза пылали страшным гневом, сердце колотилось, нервы были напряжены при мысли, что перед ней находится похититель Жана, убийца сестры, даже будучи пойманным, продолжающий издеваться над ней. Бледная, трагическая, грозная, она предстала перед ним и голосом, от которого всех присутствующих пробрал озноб, возопила: — Дитя мое! Отдайте мне мое дитя! Арестованный хищно оскалился, как будто вопль обезумевшей от горя матери доставил ему странное удовольствие. Он пожал плечами и прохрипел: — Ничего не знаю… И не скажу… — Не скажете?! — Княгиня больше не владела собой, крик ее был страшен. — Да вы — чудовище! Страшилище, в котором нет ничего человеческого! Вы казните меня? За что? Хотите золота? Вам его дадут. Вы станете богаты. Но ребенок, ребенок, верните мне ребенка! Вам не причинят вреда, вас отпустят, помилуют… Я прошу вас, я, мать! При виде такого взрыва отчаяния под взглядом Жермены преступник съежился. Капли пота выступили у него на лице, дрожь пробегала по телу. Казалось, его действительно проняло. Он шаг за шагом отступал, как перед внушающим ужас привидением, и, наконец, окруженный полицейскими, юркнул в настежь распахнутые двери комнаты Марии. Заметив, что он взволнован, а может быть и растроган, Жермена удвоила натиск. Она, не замечая ни мужа, ни доктора, ни конвойных, никого вокруг, вплотную приблизилась к злодею, в чьих глазах читалось что-то вроде смятения. — Пощадите это крошечное существо! Оно никому не сделало зла, вы не можете его ненавидеть! — В голосе Жермены теперь слышалась мольба. Глухое рыдание вырвалось у нее из груди, сухие глаза увлажнились. Все присутствующие затаили дыхание, всех проняла дрожь, даже следователя, несмотря на двадцатипятилетний стаж, охватил трепет. Бандит тоже не остался глух, сопротивление его ослабело, две тяжелых слезы выкатились из его глаз и потекли по щекам. Окружающие затаили дыхание, они надеялись: вот сейчас он вымолвит слово, сделает признание, которое разом прекратит томительную неизвестность. Каждый думал про себя: «Сейчас он заговорит!» И действительно, он, униженный и несчастный, открыл было рот… Но тут взгляд его упал на Марию, уже несколько минут рассматривавшую его со все растущим изумлением. Их глаза встретились. Отринув последние сомнения, девушка закричала: — Да это же не он! О Господи, Господи, ты слышишь, Жермена, это вовсе не тот человек, который выкрал Жана и пытался убить меня!
ГЛАВА 14
Светские прожигатели жизни эпохи конца Империи[51], дожившие до нашего времени, должны помнить красивую девушку, известную под странным прозвищем Глазастая Моль и пользовавшуюся довольно широкой популярностью. Она блистала на спортивных празднествах, бывших некогда куда в большей моде, чем сейчас, принимала участие в нескольких шоу с раздеванием и мурлыкала резковатым голоском куплеты и опереточные арии. Однако золотые деньки быстро миновали. Замешанная в скандальное дело о шантаже в компании самых низкопробных сутенеров, Глазастая Моль получила десять лет тюремного заключения. Выйдя из тюрьмы, изможденная, всеми забытая, она оказалась в страшной нужде. Во времена своего расцвета красотка прибегала к услугам отвратительной матроны[52], занимавшейся мерзким ремеслом «поставщицы ангелов». Она щедро платила этой женщине, носившей имя Бабетта и кличку Смерть Младенцам. Последняя сохранила к ней благодарность и оказывала помощь, служа интимной посредницей между Молью и торопливыми господинчиками, не желавшими тратить время на любовные ухаживания. Когда Глазастая Моль отбыла свой срок, ей минуло тридцать пять лет. Красота ее увяла, моральные устои были более чем сомнительны, она созрела для преступления. Это обычный результат нашей системы наказания правонарушителей, делающей хороших людей плохими, а плохих — еще хуже. Глазастую Моль приняли в бандитскую шайку под предводительством самозваного графа Мондье, обиравшую в течение многих лет парижскую знать. Легально она занималась торговлей женским платьем, а на самом деле была ловкой скупщицей краденого и, кроме того, служила главарю банды отличной наводчицей. Увядшая красотка снова узнала и взлеты и падения и вынуждена была возобновить контакты с «поставщицей ангелов», ставшей, под именем мамаши Башю, содержательницей притона в городишке Эрбле[53] на Сене. Две кумушки жили в добром согласии, хотя злые языки и утверждали, что Глазастая Моль путалась с Лишамором, мужем матушки Башю. С Бамбошем Моль познакомилась, когда он был еще совсем ребенком — супруги-пьяницы заботливо выхаживали его, намереваясь воспитать бандита высокой пробы. В этом деле они, кстати говоря, вполне преуспели, так как Бамбош еще на заре своей карьеры убил с целью ограбления собственного отца. Молодой бандит, чья дьявольская ловкость все возрастала, подобрал Глазастую Моль в период особенно острой нищеты — она только что вышла из больницы. Он задумал создать себе семью и решил, что из отставной кокотки[54], которой минуло тогда сорок пять лет, получится вполне представительная мамаша. Женщина со следами былой красоты, превосходно умеющая ко всему приспособиться, она умела вести себя в обществе, прилично одеваться, а также была не лишена актерских способностей. Она и стала баронессой де Валь-Пюизо, владелицей выдуманного поместья в глуши на границе департаментов Сены-и-Уазы и Луаре[55], жившей уединенно, как добродетельная провинциалка, вынужденная из любви к сыну променять сельский покой на парижский ад. Казалось, Глазастая Моль так вошла в роль, что уверовала в нее — бывали моменты, когда она чувствовала себя настоящей матерью Бамбоша. Он со своей стороны целиком и полностью доверял ей и — вещь небывалая для такого законченного себялюбца — проявлял к ней сердечное расположение. Молодчик рассказывал ей почти обо всем, что делал, раскрывал все тайные стороны своей жизни, всю подоплеку своих разбойничьих подвигов и порой не брезговал ее советами. Кроме того, она учила его хорошим манерам, умению элегантно одеваться, объясняла, как вести себя с дамами полусвета, не столько для того, чтобы внушить им обожание, сколько ради того, чтобы не стать их жертвой. Удивительная вещь — эта женщина, жившая когда-то на широкую ногу, а потом впавшая в нищету, вновь обретя богатство, не стремилась, как большинство бывших распутниц, к удовлетворению своих прихотей и страстишек. Она не любила ни собак, ни попугаев, ни желторотых юнцов, ни кошек, ни карточных игр. Ее захватывали и приводили в восторг темные делишки Бамбоша, умом и сердцем она вникала в его преступления, как если бы ей доставляло удовольствие смотреть, как страдают и трепещут его жертвы. Действительно, эта старая мерзавка из любви к искусству, с неистовством неофита[56] пристрастилась к преступлению. Скоро мы увидим ее в деле. Итак, достопочтенная баронесса де Валь-Пюизо жила со своим сыном Гастоном. Они занимали роскошно меблированные апартаменты в четвертом этаже по улице Прованс. Бытовало мнение, что баронесса очень богата, но скупа — это позволяло объяснить в глазах общества перепады то туго набитого, то пустого бандитского кошелька. Она обожала своего сына, прощала ему все проделки, но случалось и такое, что вдруг снимала его с денежного довольствия. Тогда друзья-приятели и компаньоны по развлечениям замечали, как он, изменив своей главной страсти, исчезал куда-то на несколько дней. Гастон проводил это время вдвоем с матерью, замаливал грехи, обещал не играть ни во что, кроме безика[57], и старательно притворялся пай-мальчиком и примерным сыном. Вот тогда-то он с отчаянной смелостью и невиданной ловкостью задумывал и воплощал замыслы, приносившие ему моментальное обогащение. Кстати говоря, сколь бы значительны ни были награбленные суммы, хватало их, по причине бездумной расточительности, не надолго. Его всепоглощающей страстью была игра, и игроком он был отменным. Странное дело — этот разбойник, ни во что не верящий, не имеющий ничего святого и не любивший ничего, кроме игры, никогда не передергивал в картах. Обожая игру как таковую, он не испытал бы от нее никакого удовольствия, если бы для того, чтобы фортуна не отворачивалась от него, приходилось прибегать к шулерским приемам. Потому и случалось ему порой быть в большом проигрыше, а карточные долги он платил очень аккуратно и не моргнув глазом. Однако во все, что бы он ни делал, Гастон вкладывал столько ума и кипучей энергии, что, знай кто-либо всю подноготную его жизни, не мог бы удержаться от вывода: «Да если с умом пустить в оборот даже часть награбленных им сумм, можно в течение нескольких лет стать миллионером!» И это была чистая правда. Но как не может волк исполнять обязанности овчарки, так же и человек-хищник не может работать, умножать, думать, жить и действовать как все прочие смертные. К тому же жизнь отщепенцев, ловля рыбки в мутной водице, преступление, подлость неодолимо влекли к себе Бамбоша. Как разбогатевшую шлюху влечет обратно в грязь, из которой она вышла, так и Бамбоша безумно тянуло в кабаки, к продажным девкам, в вертепы, посещаемые всяческим уголовным отребьем. Прыжок из высшего света в клоаку — такой контраст приятно щекотал нервы, доставлял ему волнующее и пикантное наслаждение. Он родился главарем, и зачастую ему нравилось на протяжении одного дня превращаться из светского льва барона де Валь-Пюизо, одного из первых среди золотой молодежи Парижа, в бандита Бамбоша, который хлебал прямо из котелка и кому доводилось сиживать над плошкой подогретого вина в компании бражников-головорезов, безоговорочно признававших его своим главарем и слепо ему повиновавшихся. Но это главенство далось ему не сразу. Первое место надо было завоевать. Две удачные или, если хотите, очень неудачные дуэли обеспечили ему в кругу товарищей по развлечениям репутацию человека опасного. Однажды он выстрелом в лоб на месте уложил из пистолета молодого атташе бразильской дипломатической миссии — причиной размолвки послужила девица легкого поведения, бывшая Бамбошу совершенно ни к чему. Месяц спустя он затеял ссору, в которой опять была замешана женщина, с известным спортсменом, фехтовальщиком. Его он тоже убил наповал прямым уколом в правую подмышечную впадину. Две эти смерти вызвали страшную шумиху. Все хотели знать, действительно ли господин де Валь-Пюизо такой ловкий дуэлянт или к нему просто благоволит судьба. Он зазвал любопытных к себе и там очень просто, безо всяких усилий, перестрелял три дюжины тарелок. Час спустя, в окружении все тех же любопытных, он явился в школу фехтования и победил не только самых умелых любителей, но и преподавателей. Начиная с этого дня он прослыл среди светских шалопаев человеком опасным, — выходя из школы фехтования, Гастон бросил небрежно: — Скука меня берет, когда приходится драться… Я выхожу на бой только с целью самозащиты, поэтому, чтобы не утруждаться, мне для поединка всегда требуется серьезный повод. Убив за один месяц двоих, он таким тоном произнес слова «серьезный повод», что это всеми присутствующими было принято к сведению. Почти в тот же период он стал героем другого приключения, еще более трагического, так как оно повлекло за собой жесточайшую дикую борьбу безо всяких правил и условий. Однако здесь уже действовал не элегантный светский шаркун барон де Валь-Пюизо, а опасный бандит Бамбош в шелковой каскетке и накладных бакенбардах. В тот вечер он зашел в один из притонов Монмартра, в грязный вертеп, который полиция терпит лишь затем, чтобы от случая к случаю вылавливать кого-нибудь оттуда. В его намерения входило повидать там двух безоговорочно преданных ему мерзавцев, сообщить им пароль и дать задание выполнить одну довольно грязную работенку. Беседуя с Черным Редисом и Соленым Клювом, двумя своими приспешниками, он услышал пронзительные вопли. Кричала женщина, и слышны были звуки звонких пощечин. Дверь распахнулась, на пороге возникла растрепанная девушка с разорванным корсажем, кричавшая: «Спасите!» — Ты гляди, — бросил Соленый Клюв, — это Фанни вопит. Ее Франсуа-Камнелом на халтурку послать хочет. А она упирается. Вот он ее уму-разуму-то и учит. Да еще как учит! Только перья летят! Тут женщина заприметила среди бражников Бамбоша, и он показался ей не таким омерзительным, как другие, видимо, потому, что под обличьем сутенера сохранял некую долю светского лоска. Она кинулась к нему и душераздирающим голосом взмолилась: — Защитите меня, спасите, умоляю вас! Я его знать не знаю, но он хочет послать меня на панель, заставляет приставать к мужчинам! А я мечтаю иметь мужа, любить его, принадлежать ему, а не сделаться одной из этих… О нет, никогда! Все это она говорила задыхаясь, прерывающимся голосом и судорожно цеплялась за Бамбоша. Ее добродетельная тирада была встречена смехом. Затем хрипло зарычал сутенер, известный под именем Франсуа-Камнелом: — А ну заткнись, тварь, и ступай работать! Девушка была очень красива — крепко сбитая блондинка, с прекрасным цветом лица. Тип англичанки. Из тех, которые уж если стараются хорошо выглядеть, то становятся просто очаровательными. Она понравилась Бамбошу, и он решил ею завладеть. Не по доброте душевной вмешался он в эту заварушку, а из желания привязать к себе девушку и использовать в своих дальнейших предприятиях. Франсуа-Камнелома из-за его силы и жестокости побаивался весь Монмартр. Его слово было закон, и никто не смел ему перечить. Бамбош холодно бросил: — Оставь эту женщину в покое! Я забираю ее себе! — Да я тебя, малыш, в порошок сотру! — захохотал сутенер. — Хотел бы я на это посмотреть! — Бамбош вскочил и с ловкостью циркового акробата перемахнул через стол. В его руке неведомо откуда возник нож с самшитовой рукоятью и медным кольцом. Желая честной схватки, он крикнул: — Бери «перо»! — Да я тебя голыми руками уложу! Сутенер понятия не имел, сколь силен и ловок его противник, и полагал, что легко с ним справится. Он нанес Бамбошу сокрушительный удар ногой ниже пояса, но тот его отразил, одновременно молниеносно уклонившись от занесенного над ним кулака. И вдруг огромный Камнелом взмахнул руками и с глухим стоном рухнул как подкошенный. Нож Бамбоша пронзил ему сердце. Свидетели этой сцены глазам своим не верили. В одну секунду Бамбош стал легендарной фигурой. Прибежал испуганный и очень расстроенный владелец кабака. — И что мне теперь делать с этой горой мяса? — спросил он Бамбоша. — Легавые сразу же прищемят мне хвост. — Это уж моя забота, — бросил мерзавец совершенно спокойно, словно это не он только что укокошил одного из самых опасных бандитов на всем Монмартрском холме. Бамбош сказал несколько слов Черному Редису и Соленому Клюву, и те подхватили мертвеца под мышки и, шатаясь, поволокли к выходу, изображая тройку пьяных. Они бросили труп прямо посреди дороги и вернулись в кабак, где принялись пожирать своего предводителя восторженными взглядами. Прижавшись к Бамбошу и дрожа всем телом, девушка с восхищением глядела на своего спасителя. Он отвез ее к мамаше Башю и Лишамору, в чьей квартире имел комнату, и ночь они провели вместе. Блондинка и впрямь была прелестна, и Бамбоша поразило, что она столь неискушенна. Девушка поведала ему свою историю. Дочь бедного служащего, получившая образование и диплом, она служила гувернанткой в богатой семье. Ей очень хотелось сохранить свою честь, но хозяину дома удалось убедить ее, что она непременно должна ему отдаться. До него ей уже пришлось по той же причине оставить два места. Она сказала себе: рано или поздно придется уступить чьим-нибудь домогательствам. И сдалась, убоявшись нищеты, которую испытала смолоду. Через четыре месяца законная супруга с позором выгнала ее, и она очутилась на улице, беременная и без гроша за душой. В отчаянии девушка бросилась в Сену, но ее выудили и полумертвую доставили в больницу. От нервного потрясения, вызванного попыткой самоубийства, испуга и последующей болезни у нее случился выкидыш. Хворала она долго, а когда выздоровела, очутилась на панели с десятью франками в кармане. Ее соседкой по больничной палате оказалась одна из тех бедных потаскушек, которые становятся легкой добычей сутенеров. Она привела Фанни к себе на Монмартр и стала доказывать, что та при ее красоте, занимаясь этим делом, заживет припеваючи. Несчастная девушка сопротивлялась позорной и грязной необходимости, однако попробовать все же пришлось. Но она ощущала такое отвращение к этому роду занятий, что вновь стала подумывать о самоубийстве. Вот тогда-то гроза Монмартра, этот бык Камнелом, и повстречал ее на своем пути. Сутенер решил завладеть красавицей и, не теряя времени даром, предпринял самые решительные меры, чтобы вытолкать ее на панель. Остальное известно. Кончилось тем, что она безумно полюбила Бамбоша. Бандит, с первого же мгновения имевший на нее свои виды, позволял Фанни себя обожать, оставляя за собой полное право на свободу действий и передвижений. Она принадлежала ему душой и телом и была настолько преданной, что не задумываясь пошла бы по его приказу на любое преступление. Что и случилось. Целиком и полностью подчинив девушку себе, Бамбош поставил ее в известность о том, что он не простой бандит, а ведет ежесекундную непримиримую борьбу против всего общества. И пока не говоря ни слова о своей двойной жизни, все же поведал ей некоторые секреты. Быть возлюбленной бандита! Человека, объявившего войну всем этим толстосумам, от которых она так настрадалась! О да, конечно же она должна присоединиться к нему! О лучшем Фанни и мечтать не могла! Она сразу же стала его вернейшей, преданнейшей и очень ловкой помощницей. Через некоторое время Бамбошу надоело творить чудеса хитрости, смелости и ловкости, совершая грабежи, приносящие ему не такие уж и большие деньги. Он решил попробовать себя на другом поприще. Шантаж показался ему делом куда более доходным, менее опасным и легче выполнимым. Он стал искать в своем окружении людей наиболее зажиточных и легко уязвимых. И действительно, случай принес ему желанную добычу. Княгиня Березова искала к своему ребенку молодую, образованную гувернантку с хорошими манерами и опытом работы с детьми. Бамбош, всегда бывший в курсе событий, узнал об этом от так называемой баронессы де Валь-Пюизо. Два злоумышленника тут же задумали выкрасть ребенка и вытянуть из князя громадный выкуп. Бамбош, попросту говоря, решил убить двух зайцев: набить мошну и отомстить князю и княгине, неоднократно подставлявших ему подножку. Однако выкрасть ребенка — дело довольно сложное, да еще из особняка, полного слуг и всегда хорошо охраняемого. И тут Глазастую Моль посетила гениальная идея. — Надо пристроить к ним твою подружку Фанни. — Я подумаю над этим, — ответил Бамбош. — Тем более что недавно справил ей весь комплект документов гувернантки первого класса — тут тебе и справки, и характеристики, и рекомендации. И все с подписями, с печатями — не подкопаешься! Фанни рабски повиновалась своему повелителю. Она с первой встречи понравилась княгине, которая, однако, осторожности ради задала ей ряд вопросов. Фанни сослалась на баронессу де Валь-Пюизо, якобы знавшую ее мать. Жермена написала баронессе, и та в ответ разразилась высокопарным и велеречивым письмом, превознося достоинства и нравственные качества девушки. Фанни тотчас же приняли на службу. Она сумела завоевать любовь малыша и благодаря крайней сдержанности — уважение обитателей особняка. Прошло три месяца. Все это время Бамбош терпеливо ждал случая выкрасть дитя, не скомпрометировав гувернантку. Имея в доме осведомителя, изо дня в день сообщавшего ему обо всем происходящем, Бамбош ничем не рисковал. Он заказал ключ от потайной двери, ведущей в сад, украл лестницу садовника и с помощью Фанни совершил дерзкий и преступный набег на особняк, пока княжеская чета развлекалась в театре «Водевиль». Остальное уже известно.ГЛАВА 15
Как мы помним, похитив ребенка княгини, бандит незамедлительно поспешил к Лишамору и мамаше Башю. Он хотел доверить им бедное дитя до следующего утра, а затем перевезти его в другое убежище. Глазастая Моль ожидала его в театре «Водевиль», в ложе, соседней с ложей четы Березовых, и он должен был туда явиться, чтобы обеспечить себе алиби в том маловероятном случае, если его двойная жизнь раскроется. Учитывая все это, ряженая баронесса де Валь-Пюизо не могла заняться ребенком до окончания спектакля. Вот почему, избегая компрометировавших его отлучек, Бамбош решил оставить ребенка до утра на улице Де-Муан. Однако на душе у негодяя кошки скребли, ибо ему была известна невоздержанность стариков и их придурь, вызванная винными парами. Опасался он также их возможной болтливости. Вот почему назавтра, еще затемно, Бамбош был на ногах. Одетый очень просто, он тронулся в путь, сопровождаемый Глазастой Молью, чья шляпка делала ее похожей на старую повитуху. Они доехали до улицы Де-Муан в фиакре[58] и остановились за несколько домов до нужного им номера 52. Женщина вышла одна, оставив Бамбоша в экипаже. По немыслимому и чудесному совпадению, она вошла в квартиру всего через пару минут после того, как из нее выскочил Леон Ришар. Вот что определяет иногда дальнейший ход событий! Десятью минутами раньше Глазастая Моль не смогла бы отворить дверь, а десять минут спустя сам комиссар потрудился бы сообщить ей свежие новости о маленьком Жане! Старой карге посчастливилось проникнуть в квартиру именно в тот момент, когда потрясенный Леон Ришар, задыхаясь от отвращения, мчался в полицию. Увидя взломанную дверь, она поняла, что времени терять нельзя. Даже не взглянув на устилающие пол жуткие останки, не стараясь понять их происхождение, она кинулась в дальнюю комнату. Там она обнаружила мертвецки пьяную мамашу Башю, в припадке пьяной ярости зажавшую в кулаке черенок кухонного ножа. — Вовремя я пришла, — пробормотала Глазастая Моль. — Смерть Младенцам лишний раз хотела подтвердить, что получила кличку по заслугам. А ведь она и впрямь могла перерезать глотку ребенку, для нас означающему целое состояние. Полузадохнувшийся от жуткого запаха и крика, ребенок с черным от сажи личиком, весь в поту, спал тяжелым сном, завернутый в свое одеяльце. Прежде чем схватить малыша, спрятать его под своей шубой и унести, Глазастая Моль стала размышлять: — Мамаша Башю пьяна. Скоро нагрянут легавые, загребут ее и развяжут ей язык… Ясное дело, она потеряет голову и выболтает все, что знает о фокусе, который мы задумали. Надо, чтобы она не трепалась… А язык за зубами держат только покойники. Тут подельница Бамбоша вытащила из кармана короткий, похожий на шило стилет. И, приставив его к затылку старухи, надавила изо всех сил. Лезвие вошло до половины, словно гвоздь в доску. Мамаша Башю издала глухой хрип, как животное на заклании, открыла глаза, руки ее свела судорога, и она неподвижно застыла. Глазастая Моль вытащила шило из почти неприметной раны и вложила в ножны. Затем она растрепала густую шевелюру старухи, приговаривая: — Вот тебе и крышка, бедняга Смерть Младенцам… Надо, чтоб фараоны ничего не пронюхали. От такой ранки даже капли крови не будет. К тому же ты не мучилась. Схватив ребенка, бывшая куртизанка засунула его за пазуху, степенно спустилась по лестнице и присоединилась к ожидавшему ее Бамбошу. — Ну, как дела? — спросил он, когда фиакр тронулся. — Дела отличные! Лишамор спекся, мамаша Башю отправилась к праотцам, а возница и не заметил, что я вынесла ребенка. Словом, все идет как нельзя лучше! Они не поехали прямо на улицу Прованс, а вместо этого остановились у врат церкви Святой Троицы, с четверть часа побыли в храме и вышли через разные выходы. Глазастая Моль, по-прежнему пряча под шубой спящего ребенка, пошла домой одна, а Бамбош явился полчаса спустя, якобы с прогулки. Этот дом по улице Прованс, принадлежавший когда-то графу Мондье, был построен таким образом, что его третий этаж вплотную примыкал к четвертому этажу соседнего дома, стоящего на улице Жубер. В их общей стене была прорублена массивная дверь, соединяющая обе квартиры. Следовательно, человек, вошедший в дом № 10 по улице Жубер, мог выйти на улицу Прованс, и наоборот. Для этого требовалось пособничество консьержа, желательно, ежели возможно, двух. Покойный граф Мондье, обладавший действительно огромной властью, имел две привратницких, где находились его люди. В одной помещался Пьер, в другой — Лоран, два лейтенанта, ежегодно проводившие вместе с шефом в Италии то, что он называл «сезоном». Пьер трагически погиб, будучи страшно искалечен: нога его попала в капкан в апартаментах Жермены, куда он вторгся по приказу графа и где намеревался похитить секретные документы. Чтобы высвободить его из капкана, граф лично отрезал ему ногу! Затем они вместе с сообщником унесли умирающего. Позднее Лоран привязался к Бамбошу и оказывал ему такие же услуги, что и графу. Когда Бамбош здесь же, на улице Жубер, убил родного отца, Лоран подумал: «Он далеко пойдет!» А головорез был в таких делах докой. С тех пор он не расставался с Бамбошем, став его незаменимым помощником. Во второй привратницкой обитал человек, принятый в штат вместо покойного Пьера. Его выбрал Лоран. Пока новичку не представился шанс показать все, на что он способен как профессионал, то есть как бандит, он, как положено, был скромен и строго соблюдал тайну. Личная прислуга баронессы де Валь-Пюизо была тоже тщательно подобрана и душой и телом предана старой госпоже и молодому господину. Люди эти — кто из преданности, кто из страха — были слепы, глухи и немы.Когда зловещая старуха принесла ребенка в свой особняк, дитя начало плакать и звать маму. Умненький и очень развитой для своих лет малыш, не узнавая ни окружавших его людей, ни комнаты, заволновался, охваченный страхом. Мнимая баронесса, пытаясь его приручить, стала сюсюкать и еще больше перепугала ребенка. Она пыталась его поцеловать, но сделала это столь неловко, что малыш отвернул личико. Не обладая ни малейшим материнским чувством, не зная, сколь чувствительны эти маленькие существа — в них есть что-то и от птенчика, и от цветка, — она рассердилась и сказала: — Да он просто невыносим, этот сопляк! Деточка, деточка, да будь же умницей, поцелуй мамочку… При этом слове, означавшем для его детского сердечка самые нежные ласки, самые большие радости, при слове, звучавшем как сладчайшая музыка, Жан на секунду перестал кричать и пролепетал: — Мама… Ма-ма… Старуха склонила над ним лицо с увядшей от злоупотребления краской кожей, с подмалеванными коричневой и черной тушью глазами, с отвисшими, покрытыми пурпурной помадой губами. Защищаясь вытянутыми вперед ручонками, ребенок откинулся назад и вновь залился слезами. Это разозлило старуху. — Ну и реви себе, — в ярости бросила она. — Когда вволю накричишься, сам перестанешь. И, швырнув его на свою кровать, она вышла, хлопнув дверью. Чтоб не слышать плача, она ушла в дальние комнаты, твердо решив дать ему кричать, пока не устанет. Сжалилась над ребенком ее горничная, бывшая узница тюрьмы Сен-Лазар. Она подумала, что бедное дитя умрет от голода и жажды, и принесла ему молока. Жан жадно его выпил и, немного успокоившись, снова начал звать маму. — Мама скоро придет, моя крошка, скоро ты увидишь свою маму, — приговаривала девушка. Жан заплакал, но теперь уже тихо, без надрывных хриплых криков. Слезы просто лились у него из глаз, стекали по щечкам, и в этом кротком горе, сменившем первоначальное возбуждение, было нечто разрывающее сердце. К мукам любящей детской души добавились муки физические. О чистоте ребенка, привыкшего к тщательному уходу, вот уже долгое время никто не заботился. Не было и привычной утренней туалетной церемонии, одного из важнейших ритуалов… Ее всегда собственноручно производила его мама, дорогая мамочка… Парижская работница, ставшая княгиней, Жермена не желала уклоняться ни от одной из материнских обязанностей. Она, как любая простолюдинка, кормила Жана грудью, баюкала его, пеленала, укачивала, черпая божественную радость в этих простых материнских хлопотах, радость, неведомую порой светским дамам, которые — о, несчастные! — препоручают своих детей кормилицам и гувернанткам. Итак, утром — омовение теплой водой в большой серебряной купели. Затем — тщательное намыливание всех изгибов и складочек упругого и розового тельца. Малыш резвился среди белой пены, отбиваясь, когда мать терла ему ручонки и пяточки, смеялся, лепеча: — Секотно, мамоська! Секотно! Жермена, сама смеясь до слез, целовала его еще мокрого, только что вынутого из ванны. Затем следовала процедура вытирания — его растирали мягкой фланелью, пока нежная кожа не загоралась, затем тельце, свежее и душистое, как цветок, омытый росой, обволакивало облако рисовой пудры. Бедный маленький Жан! В этой резкой перемене было нечто удручающее. Но не вовнезапном исчезновении роскоши была загвоздка, а в удовлетворении тех естественных потребностей, на которые имеют право и бедняки. Бамбош похитил его в одной рубашонке, завернутого в стеганое ватное одеяльце. Негодяй даже и не подумал, что малютке надо менять белье и одежду — Жан оставался в том, в чем был унесен из дому. Горничная заметила, что нельзя оставлять мальчика в таком виде, иначе он заболеет. Заболеет? О нет! Необходимо, чтоб он был здоров! Любой ценой — здоров и невредим, ведь он представляет собой целый капитал! Горничная купила кое-какие вещи, с грехом пополам одела малыша и по своему разумению покормила его. Ребенок поел, попил, немного успокоился и, по-детски мешая слова и жесты, попросился гулять. — Ну это уж нет, — со злобой заявила «баронесса», уже успевшая возненавидеть отпрыска четы Березовых. Маленький Жан стал затворником — злодеи опасались, как бы его кто-нибудь не узнал. Он зажил как в тюрьме — его плохо кормили, за ним плохо ухаживали, и, если бы не доброе сердце бывшей заключенной, ему вообще пришлось бы совсем туго. Лишенный нежной ласки, на которую так радостно отзывалось его чистое сердечко, он побледнел и постепенно начал чахнуть. Малыш звал мамочку, «тетюску Малию», папу и беззвучно плакал. Так прошла неделя, и вдруг в особняк Валь-Пюизо вихрем ворвалась гувернантка Фанни. До сих пор она ежедневно передавала им сведения, но, следуя указаниям Бамбоша, из дому не выходила. — Ну, что нового? — спросил Бамбош, собиравшийся уходить не то к дамам, не то играть в карты, не то еще куда — этого никто никогда не знал. — Я ушла с места. Это невыносимо… Не могу смотреть, как страдают эти несчастные люди. — Ну конечно! — сардонически ухмыльнулся Бамбош. — Пожалей их, стань на их сторону! — Нет, этого не будет. Я твоя раба, твоя вещь и сделаю все, что ты пожелаешь. Ты уже в этом убедился. — Да, Нини, ты славная девушка, и я по-прежнему тебя люблю. — О, ты меня любишь! — в диком и горячечном порыве воскликнула Фанни, пожирая его глазами. — Любишь после всех других! — Нет, до. Из остальных я люблю тех, кто под руку подвернется. Но всем предпочитаю тебя одну. — Невелика разница, но меня и она радует. Я счастлива тем крохам ласки, которые ты бросаешь мне походя. Мне довольно и самой маленькой частички твоего сердца. Я обожаю тебя, и я живу этой любовью. Живу, пока не умру от нее… — Ты, как всегда, потрясающа! Эти твои цветистые фразы… — Это цветы моей любви, к которым ты не скупясь добавляешь тернии… Но я люблю тебя и всегда буду любить. — Так уж и всегда? — Да, так. Ты благородный человек и сделал из меня порядочную женщину. — Но ведь я же разбойник. Значит, и ты — разбойница? — Преступление мне претит, ты же знаешь. Но я — твоя сообщница. Я буду любить тебя, стоя перед судом… на каторге… на эшафоте… — Ну, туда мы не торопимся, не правда ли, дорогая? — И бандит запечатлел на ее щеках два звонких поцелуя. — И не надоело вам слезу выжимать? — вмешалась Глазастая Моль, свидетельница этой сцены. — Расскажи-ка нам лучше все, что знаешь. — Мария спасена… Твой удар оказался несмертельным. — Тем лучше. Она действительно красавица. — Как? Ты на нее тоже глаз положил? — Почему бы и нет? И в случае надобности ты поможешь мне ее покорить. — Но, дорогой, мне кажется, место уже занято. — Да неужели? И кто же он? — Ее спаситель. Врач-интерн. Они любят друг друга и уже почти признались… — И они поженятся? — При одном условии. — Каком? — Если он найдет Жана и вернет его матери. — А за ней дают приданое? — Однажды я слышала, как князь сказал жене, что охотно даст за Марией два миллиона франков. При этих словах — два миллиона — у Бамбоша затрепетали крылья носа и он бросил пронзительный взгляд на свою поддельную мамашу. «Два миллиона… Семнадцать лет и такая красавица, что соблазнит и святого!.. Стать свояком князя… неприлично богатого русского князя… Стать членом их семьи! Черт возьми, какой сказочный сон!» Вслух же Бамбош произнес: — Так ты говоришь, Нини, что малышка Мария выйдет замуж лишь за того, кто вернет Березова-младшего родителям, и ни за кого другого? — Да, говорю, потому что убеждена в этом. И, ты знаешь, она упрямая девочка и выполнит то, что обещала. — Отрадно слышать. Кстати, ты очень вовремя явилась. Мальчонка не слишком хорошо себя чувствует, ты сможешь за ним ухаживать. — О, сердце мое изболелось по бедному крошке! Если б ты знал, какой он милый, и добрый, и ласковый! — Вот и прекрасно. А в тебе есть материнская жилка! И странная эта девушка Фанни опрометью кинулась в комнату Жана, схватила малыша в объятия и прижала к сердцу. Он ее тотчас узнал, заулыбался, потянулся к ней ручонками, радостно лепеча: — Нини! О моя Нини! Здластуй, Нини! — Здравствуй, мой маленький! Здравствуй, мой золотой! Увидя, как он осунулся, девушка зашептала сквозь подступающие слезы: — Бедный малыш! Как ты намучился! Но теперь я буду заботиться о тебе… Какая же я все-таки гадина!.. Как вспомню о несчастной княгине, об этом ангелочке Марии… Не будь я такой мерзавкой… Но Бамбоша я люблю больше всего на свете… Иди, мой Жан, на ручки к твоей Нини! И малыш, ассоциируя гувернантку с матерью, вздохнул и залепетал: — Мама… Мамоська. — Да, да, мамочка… Ты скоро увидишь свою мамочку, милый… И папу… И тетушку Марию… И совсем по-матерински она начала баюкать малыша, нашептывая нежные слова, напевая колыбельные, лаская, словом, утешая его. И, как бы оправдывая подлость своего участия, думала: «Благодаря мне он теперь не будет так несчастен…» А в это время Бамбош, ослепленный перспективой, которую открыла ему Фанни, говорил фальшивой баронессе: — Мне нужна Мария, сестра княгини. Мне нужны два миллиона приданого. — А как же быть с ее воздыхателем — студентом? — Я его уберу. — Еще один труп! — Ах, одним больше, одним меньше… Я иду прямо к цели, не заботясь о средствах ее достижения!
ГЛАВА 16
Все еще смущенная наглыми приставаниями Малыша-Прядильщика, Мими испытывала сладостное волнение, идя с человеком, вот уже дважды спасавшим ее. Все еще ощущая недомогание и слабость в ногах, она сильно опиралась на его руку, думая при этом, что ведет себя не вполне пристойно, — ведь месье Леон может Бог знает что подумать, — но не слишком осуждала себя за эту вольность. А у него перехватило горло от счастья, и он с бьющимся сердцем шел и смаковал дарованные случаем минуты радости. Леон слушал звонкий щебет девушки, бывшей, как все люди, перенесшие сильное нервное потрясение, очень разговорчивой. Время от времени художник обращал к ней лицо, чтобы лучше ее видеть. Краем глаза рассматривал тонкий профиль девушки, который множество раз пытался воспроизвести, думая о ней. Находя ее еще более грациозной и красивой, чем ему представлялось, юноша говорил себе, что второй такой красавицы во всем Париже не сыскать. Действительно, в отношении себя и Мими он был прав — любимая женщина всегда одна на целом свете. Однако, пожалуй, и посторонний наблюдатель согласился бы с ним, настолько девушка была неординарна. Будучи среднего, скорее даже маленького роста, Мими имела точеную фигурку и отличалась не просто истинно парижской грацией, а только ей присущим очарованием. Какой грацией, шармом, шиком, элегантностью обладают эти маленькие парижские работницы! Одетые в дешевые платьица, украшенные скромным цветком, в выходных нарядах они в пять минут превращаются в настоящих светских дам. Узенькие ступни с высоким подъемом, безукоризненно облегающие ножку чулки, ни морщинки, детские кисти нервных и сильных рук, уже сформировавшаяся пышная грудь — все это указывало на совершенство форм, вызывавшее у Леона безграничное восхищение и как у художника, и как у мужчины. В лице ее отнюдь не было той правильности черт, которая придает выражение торжественной глупости греческим статуям. Мими была шатенкой с прелестным каштановым отливом. Буйная копна ее волос вилась от природы, завитки падали на белоснежную шею, челка казалась чуть растрепанной, в волосах виднелись три черепаховые шпильки, и вся прическа в целом сделала бы честь любой, самой элегантной женщине. Огромные карие с рыжинкой глаза подмечали все вокруг, взгляд был живой и наблюдательный. Носик у нее был чуть-чуть вздернут, и это ей удивительно шло, так гармонично сочеталось с мимикой! Рот — немного великоват, жемчужные зубки, на решительно очерченном подбородке — ямочка. Да, маленькая Мими была восхитительна в своем бедном костюмчике — просто загляденье! Прелестная парижаночка, чье подвижное личико завораживало, так явственно читалась на нем вся гамма чувств — мечтательность, нежность, решительность, задор. Леон и впрямь не знал что говорить и думал: «Каким же болваном она меня, должно быть, считает!» Девушка извинилась за то, что тяжело опирается о его руку. — Я утомляю вас, месье Леон? О, какая радость! Прелестное создание помнит его имя, называет его «месье Леон», как если бы они были старыми друзьями! Она продолжала: — Это потому, что я все еще немного слаба… И долго шла пешком… Да еще и эта бесхвостая макака против меня ополчилась… Белошвейка отягощала его могучую руку не больше, чем птичка, присевшая отдохнуть на толстой ветви старого дуба. — О нет, мадемуазель Ноэми, вы меня нисколько не утомляете. Я мог бы на руках пронести вас через весь Париж и ничуть не устать. Обрадованная, она улыбнулась. — Да, вы сильный. Как прекрасно быть сильным и вместе с тем добрым. А вы кажетесь мне добрым. — Во всяком случае, не премину вступиться, если при мне всякие мерзавцы оскорбляют порядочных девушек. — О, это ужасно! Чего только не нашептывают нам, девушкам, вынужденным в одиночку ходить по улицам! Это подобно экипажу, мчащемуся галопом вдоль самого тротуара… Как ни сторонись, все равно тебя забрызгают грязью… — И это большей частью роскошные экипажи богачей — они ведь несутся быстрее всех! Грязные толстосумы! — повысил декоратор в сердцах голос. — Так вы их, оказывается, ненавидите? — Ненавижу и презираю. Сами подумайте — ведь они же палачи народа! Выжимают из него кровь и пот, отнимают хлеб и саму жизнь! Соблазняют юных простолюдинок, чтобы сделать из них… Ах, если бы народ посмел решиться… Они вышли на улицу Лепик и зашагали по ней, замедляя шаг. Девушка выглядела все более усталой, она с трудом передвигала ноги, казалось — вот-вот упадет. Леон заметил это и предложил зайти отдохнуть в винный погребок. Мими поблагодарила и отказалась. С одной стороны, она боялась опоздать домой, с другой — ее охватывал непреодолимый страх при мысли об ужасной действительности. Ведь ей приходится возвращаться в жалкую каморку без единого су в кармане! Потерявшая работу, поставленная перед страшным выбором — отдаться приказчику ради заработка или умереть с голоду, она должна будет сейчас сказать матери: «Надо покончить счеты с жизнью!» Потому что разве это жизнь, когда бедная девушка вынуждена вымаливать работу, как нищий — кусок хлеба? Разве это жизнь, когда Ларами-старший пытается тебя изнасиловать, а Ларами-младший пристает с гнусными предложениями? Но, ощущая рядом присутствие своего спасителя, она думала: «А я ведь могла бы быть счастлива! Неужели я так и умру, не изведав счастья?» Со своей стороны, Леон Ришар делал немыслимые усилия, чтобы превозмочь свою застенчивость. Он горел желанием воспользоваться этим уникальным в своем роде случаем, чтобы объясниться девушке в любви, и не осмеливался. Ведь они видят друг друга лишь второй раз в жизни. Как воспримет она такое внезапное признание? Не сочтет ли его одним из тех мужчин, чьих предложений так боится? Но, черпая силы в сознании честности своих намерений, он говорил себе: «Нет, решено! Скажу, что люблю ее! Пройдем еще три дома, и скажу!» Но снова тоска теснила грудь, и он думал: «Вот дойдем до того номера…» Наконец, понимая, что девушка вскоре уйдет, а он так и не успеет открыть ей сердце, Леон сделал над собой героическое усилие. — Мадемуазель Ноэми, — бросился он с места в карьер, — считаете ли вы меня порядочным человеком? Девушка тотчас же остановилась и, устремив на него ласковый взгляд, ответила: — Я убеждена в этом, месье Леон. Ее взгляд добавил ему храбрости. Он продолжал: — Итак, я буду говорить с вами как порядочный человек. Всего неделю тому назад я увидел вас впервые. И с этой минуты ваш образ ни на мгновение не покидает меня. Это самая сладостная и прекрасная навязчивая идея, какую я знал, и я простосердечно и почтительно хочу признаться вам в этом. Девушка восторженно слушала эти излияния, сердце ее учащенно билось, на щеках выступила краска. Конечно же ей неоднократно объяснялись в любви, и часто эти признания были сделаны с честными намерениями. Но ни одно из них не всколыхнуло ее душу так, как эти несколько фраз, произнесенные молодым человеком. Она чувствовала — молодой человек говорит правду, и искренне обрадовалась его словам. — Вы позволите мне, — продолжал он, — открыть перед вами свое сердце, мадемуазель Мими? — Да, месье Леон. — Прошло совсем еще мало времени, но вы значите для меня больше, чем что бы то ни было в жизни. Я одинок, и, быть может, вследствие этого чувства мои более обострены… — Ваши родители умерли? — спросила Мими, и нотка сочувствия прозвучала в ее голосе. — Увы, да. Я потерял их, когда был еще совсем ребенком. И эта тяжкая потеря, лишившая меня радостей семейной жизни, тем более внушила мне горячее желание испытать не ведомые доселе утехи. — Одиночество, наверное, тягостно? — Оно ужасно. Оно пожирает душу… Художник замолчал, собираясь с мыслями, и продолжал, все более воодушевляясь: — Несмотря на то что я вас мало знаю, мне кажется, что всю жизнь я провел рядом с вами. Я боготворю вас… Я все время оказываюсь рядом, как если бы моя любовь одарила меня зрением ясновидца… Только что я произнес великое слово: любовь моя. Итак, я говорю вам: я вас люблю! Заслышав эти слова, ожидаемые Мими без деланной стыдливости и пошлого жеманства, девушка вздрогнула и непроизвольно сжала руку Леона. Ей вдруг показалось, что ее неурядицы кончились, что отныне радость поселится в бедном жилище, где влачила столь жалкое существование ее мать, где они, убогие, уже не ждали от жизни ничего хорошего. К этому ранее ею не изведанному чувству защищенности и покоя добавилось еще одно восхитительное и сладостное ощущение. Да, это было правдой — ее любил тот, кого она так часто вспоминала с того дня, когда чуть не погибла. Он был красив гордой и мужественной красотой. Он был добр и деликатен. И Мими, дрожа и прижимаясь к его руке, ощущая, как колотится сердце и вскипает кровь, подумала: «Но ведь я тоже люблю его!» Леон нисколько не походил на фата. У него было немало интрижек, но он от этого не заносился. Вместо того чтобы внушить ему уверенность в себе, эти связи с более или менее добродетельными женщинами, напротив, поселили в нем, скорее, некоторую неуверенность. Его утонченность простиралась так далеко, что в близости со случайно встреченными женщинами он усматривал своего рода профанацию, осквернение той любви, которая прошла бы через всю его жизнь. Кроме того, он опасался, что своей поспешностью если и не оскорбит Мими, то, во всяком случае, заставит ее замкнуться в себе. Когда она крепче сжала его руку, он всем телом повернулся к ней и его страстный взгляд впился ей в лицо. Взволнованная, разрумянившаяся девушка слабо улыбалась ему, но две большие слезы висели на кончиках ее ресниц. — Я не обидел вас, мадемуазель? Скажите же, что нет, Мими! — Нет, месье Леон… Нет, Леон! Вы ведь предупредили меня, что будете говорить как порядочный человек… И ваши слова — бальзам на мою душу… — Ну раз так, Мими, дорогая моя Мими, раз вы позволяете мне любить вас… Раз вы даете мне надежду, что когда-нибудь полюбите меня… — Всем сердцем, друг мой… Разве я уже и теперь не принадлежу вам? Разве вы не спасли мне жизнь?.. Вся дружба, на которую я способна, — ваша… И вся моя благодарность… — Мими, и дружба и благодарность ваши принадлежат также месье Людовику, интерну, который так добр к вам. — Это совсем другое дело… Я люблю его как брата. — Я это знаю, Мими. — В то время как вы, Леон… В то время как моя признательность к вам ведет… ведет к любви… — О Мими, любимая! Как вы добры! Чуть ли не еще более добры, чем красивы! Она лукаво улыбнулась и молвила: — Будьте снисходительны к бедной девушке! Он отвечал с неизменной серьезностью: — Я люблю и вашу душу, и ваше такое изящное тело, являющееся ее вместилищем. Люблю ваши глаза, их чистый и честный взгляд, ваши губы, их искреннюю улыбку. Я люблю черты вашего лица, в котором невинность ребенка и очарование женщины. И если я говорю, что вы прекрасны, то лишь для того, чтобы вы знали: я буду любить вас так сильно, как только это возможно. Слушая эти речи, Мими испытывала такое сладостное волнение, что больше не чувствовала ни усталости, ни недомогания. Однако молодые люди все ближе подходили к дому по улице Сосюр, где Ноэми Казен жила с матерью. Местные жители, хорошо знавшие девушку, провожали молодую пару удивленными взглядами. Первая же женщина, увидевшая их на улице Сосюр, изумленно всплеснула руками и воскликнула: — Боже правый! Вот уж никогда бы не подумала! Крошка Мими завела себе ухажера! — Ничем она не отличается от других, вот и пошла по той же дорожке! — бросила рябая старуха, продавщица газет. Прачка матушка Бидо, возвращавшаяся к себе с огромной плетеной корзиной, остановилась и заявила газетчице: — Вот это парочка, просто загляденье! Я молю Бога, чтоб у него были честные намерения и малышка Мими сменила бы фамилию! В это время Леон говорил девушке: — Поскольку вы согласны, дорогая, я хотел бы незамедлительно повидать вашу матушку и испросить ее согласия на наш брак. — Но у нас такой беспорядок… Все перевернуто вверх дном. Я ведь ушла из дому ранним утром. — Однако я уже не совсем посторонний и, надеюсь, могу пользоваться некоторыми льготами. К тому же надеюсь, что ваша достойнейшая матушка согласится, чтобы вы стали моей женой, а значит, ничего не следует менять в ее жизни. Просто у нее появится сын. Прачка невольно уловила последние слова и растрогалась. Добрая женщина вступила в разговор с присущей ей сердечностью: — Здравствуйте, дети! — О, матушка Бидо, здравствуйте, дорогая. — Здравствуйте, мадам. — Леон, улыбаясь, протянул ей руку. Она ее крепко пожала и продолжала: — Так вот, я ж и говорю — загляденье парочка! Прямо супруги! Что уж таиться — я услыхала, о чем вы тут толкуете, славные вы мои ребятишки! А когда свадьба? — Как можно скорее, — ответил Леон. — О, вы, матушка Бидо, на ней попируете. — Да уж, с удовольствием погуляю, мой добрый господин. И не откладывайте — зачем терять время, когда ждешь счастья? На прощание они сердечно обнялись, и Леон следом за любимой поднялся в убогую квартиру, где их ждала калека. Мать Мими, видевшая юношу лишь единожды, в день катастрофы, узнала его и с первого взгляда догадалась, что произошло. При виде молодых людей, которые, повинуясь инстинкту, подошли к ней поближе, слабая улыбка тронула ее бескровные губы. Воцарилось долгое молчание. Она пожирала их глазами, наслаждаясь редкой радостью, выпавшей на ее горькую долю. Леон подошел вплотную к кровати и, держа Мими за руку, заговорил срывающимся от волнения голосом: — Мадам, я люблю вашу дочь. Она позволила мне просить у вас ее руки. Согласны ли вы, чтобы я стал вашим сыном? — Дитя мое, — старуха долго и любовно смотрела на него, — дитя мое, поцелуйте вашу невесту.ГЛАВА 17
Можно догадаться, какое горестное изумление охватило всех, присутствующих при очной ставке Марии и злодея, когда девушка закричала: — Это не он! — Да это он, он! Ведь он же сам признался! — вмешался господин Гаро. Жермена и князь, бледные как полотно, переглянулись, помертвев при мысли, что надежда опять лишь поманила их и тотчас же скрылась. Итак, больше не было способа отыскать дитя… Господин Гаро метался по комнате, как кот по раскаленной железной крыше, теребил усики, не спуская глаз со злодея, сумевшего так его провести. Следователь, возмущенный пренебрежением к правосудию и ощущавший, в какое смешное положение он попал, чувствовал себя не в своей тарелке. Людовик, вспоминая об обещании девушки принадлежать ему в случае, если он найдет похищенного ребенка, испытывал чуть ли не радость. И с уверенностью, большей чем когда-либо, он думал: «О, я отыщу его, клянусь тебе!» — Но тогда, — резко обратился к арестованному господин Гаро, — кто же вы такой на самом деле? Неизвестный ответствовал: — Зовут меня Боско. — Это кличка. Каково ваше настоящее имя? — Боско. У меня нет другого имени. — Где проживаете? — Везде и нигде. Зимой — в карьерах и печах для обжига извести. Летом — в крепостном рву или в поле. — Словом, бродяжничаете? — Да, если нет работы. — Где вы родились? — Не имею ни малейшего представления. — Кто ваши родители? — Я их не знаю. — Вы найденыш? — Скорее, я покинутое дитя. — Вас сажали в тюрьму? — За кражу — никогда. Бедолага заявил это с гордостью, и на него стали смотреть с некоторой долей сочувствия, ибо отвечал он на вопросы очень убедительно и с неподдельной искренностью. — Задерживали ли вас за бродяжничество? — Раз пятнадцать — и в Версале, и в Этампе, Корбёе, Манте, Фонтенбло, Мео — всюду, вплоть до Шартра и Питивье. — Отчего же в таких крупных населенных пунктах? — Дело было зимой, вот я и старался угодить за решетку, чтоб получить кусок хлеба и крышу над головой. Можете справиться в кутузках всех этих городов — я там оставил по себе добрую память. — И Боско добавил с горечью: — Я бродяга с отменной репутацией. Какое-то время интерн пристально разглядывал незнакомца, припоминая, где он его видел, и внезапно прервал допрос: — Э-э, голубчик, да я вас знаю. Прошлой зимой я принимал вас в клинике шефа. Это было в Ларибуазьере. — Совершенно верно, месье. Я вас тоже узнал. Вы — один из помощников доктора Перрье. — А вот и мой шеф собственной персоной. Внезапно несчастный выказал искреннюю благодарность: — Да я и не был болен в прямом смысле этого слова… Но нужда, лишения… Я едва держался на ногах. Вы приняли меня в вашей больнице и продержали три недели… Мне давали хлеб, бульон, мясо… Вы пичкали меня укрепляющими лекарствами… И еще — там было так тепло, и я спал на мягкой постели… Вы возродили к жизни мое бедное тело… Спасибо вам, господа! Благодарю от всего сердца! Господин Гаро искоса поглядывал на бедолагу, словно изучая все закутки его злосчастной душонки, и, чувствуя, что тот говорит правду, все больше негодовал — как же он мог так попасть впросак! Судейский же чиновник явно ничего не понимал. Жермена и Михаил, оплакивая свое похищенное дитя, сочувственно слушали рассказ человека, лишенного семьи. Судебный секретарь, невозмутимый, как машина, автоматически все записывал. — Итак, — перебил господин Гаро, — вы не крали ребенка и не наносили ножевое ранение присутствующей здесь мадемуазель Роллен? — Я этого не делал, месье. — Так зачем же вы направили князю Березову лживое письмо с требованием пятисот или тысячи франков при соблюдении определенных условий? — Затем, что я дошел до ручки. Подыхал от голода и нищеты… — Таким образом, вы совершили кражу… — Обыкновенный шантаж, месье Гаро. — Кража… Шантаж… Невелика разница! — Да, месье, невелика, но ведь суд карает не всякого шантажиста! — Эге! — воскликнул господин Фрино, издавший немало указов о прекращении уголовных дел на очень уж известных виртуозов-шантажистов. — Вы усугубили свою вину, оскорбив правосудие. Арестовать! — Я ничего другого и не желаю. Действуйте, господа. — Что вы хотите этим сказать? — Впаяйте мне несколько добрых годков тюрьмы и пожизненную ссылку. В кутузке я буду сыт и буду иметь крышу над головой. А что касается ссылки, то, говорят, Гвиана — отличная страна для тех, кто хорошо себя ведет. А уж я-то, клянусь вам, буду вести себя примерно. — Поверьте, ваша просьба будет удовлетворена, — ядовито заметил судебный следователь. — Факт шантажа установлен. Учитывая вашу предыдущую деятельность, можете твердо верить, что дело выгорит. Обменявшись несколькими словами с супругой, вмешался князь Березов. — Месье, — обратился он к следователю, — я не подавал жалобы на этого человека. И был бы рад, если бы его отпустили на свободу. — Однако это невозможно, князь. — Но разве министерство общественного порядка станет его преследовать? Зачем? С какой целью? Этот человек жестоко страдал. И мы, княгиня и я, прощаем ему, что он увеличил нашу муку, подав нам в горе слабую надежду… Прошу вас, отпустите его. — А-а, вот уж нет! — заорал бродяга Боско. — Только не это! Я подтверждаю свое правонарушение и требую, чтобы меня засадили за решетку. Хватит с меня этих мытарств, скитаний и нищеты, длящихся триста шестьдесят пять дней в году! По мне тюрьма плачет, господа, тюрьма, и, если вы меня не изолируете, я пойду по плохой дорожке! Видите ли, иногда в дурную минуту меня так и подмывает совершить преступление! — Я позабочусь о вашей судьбе. В моем доме у вас будет и где жить, и что есть, — тихо промолвила Жермена. — Вы что, хотите сказать, что станете заботиться о таком ничтожестве, как я?! — Вы несчастливы, а значит, имеете право на наше сострадание. — Согласны ли вы на то, что вам предлагает моя жена? — спросил князь Михаил. — Но, господин хороший, здесь, в этом особняке, я буду выглядеть как слизняк на розе… А к тому же знали бы вы, как такому лихому парню, как я, хочется иногда кутнуть! Извините… Разболтался я… И тут раздался голос Людовика: — Так что, отпускаете вы на свободу этого сорванца? — Нет, — в один голос заявили господин Гаро и следователь. Их просила Жермена, их просила Мария… Постепенно судейские смягчились. — После освобождения я возьму тебя на работу, — продолжал интерн. — Ты согласен, Боско, говори? — Согласен, месье. — Я буду отвечать за тебя перед правосудием. Следовательно, ты будешь вести себя прилично. Обещаешь? — Клянусь! — Отныне ты принадлежишь мне. Ты не желаешь жить в особняке Березовых? Во всяком случае, думаешь, что не желаешь… Ладно, будешь жить у меня. — Что вы собираетесь с ним сотворить, милейший Монтиньи? — спросил профессор. — Позвольте мне держать это в тайне. Я расскажу вам позже. — Ну а пока мы водворим его в камеру предварительного заключения, — вмешался следователь. — Нам надобно задать вопросы многим чинам прокурорского надзора, сажавшим его за бродяжничество. Сказано — сделано. Полицейские и судейские чиновники покинули особняк, уводя Боско, еще более заключенного, чем прежде. И тем не менее этот проходимец так и сиял от счастья. Он больше не строил саркастических гримас, придававших порой его на диво подвижной физиономии весьма устрашающее выражение. Благородные сердца посочувствовали его несчастью. Ему обеспечили стол и дом. Людовик, студент-медик, принял его в свою компанию. Говоря по чести, все это казалось Боско сном — он и надеяться не мог на такое счастье. Со своей стороны, Людовик ломал себе голову: на кого же так удивительно похож его новый работник? Ему мерещилось, что он уже где-то видел подвижную физиономию этой продувной бестии, что где-то уже он слышал этот голос… И вдруг Мария, изо всех сил напрягавшая память, воскликнула: — Готово! Я вспомнила! Помнишь, Мишель, как-то в субботу мы были в цирке. И вспомни, как там какой-то пьяненький субъект учинил скандал. Он бросал артистам фразы, от которых публика каталась от хохота. Зрители думали, что это входит в программу представления. А когда его выпроваживали, он упирался и вопил: «Я Малыш-Прядильщик! Меня нельзя выгонять таким образом!» — Ты права! — согласился князь Березов. — Этот бродяга поразительно похож на Гонтрана Ларами, Малыша-Прядильщика! — Совершенно верно! — в свою очередь подтвердил Людовик. — Можно сказать — одно лицо. Однако бродяга крепче, коренастее, не такая образина и отнюдь не задохлик. Но ежели бы их одинаково одеть, то и впрямь можно было бы перепутать. Черт подери, трудно поверить, но они могут быть кровными родственниками, этот бродяга и мультимиллионер! Да, случается в жизни жестокая несправедливость! И настолько жестокая, что никто не в силах ее устранить! Угрюмая, мрачная тоска снова воцарилась в особняке по улице Ош после того, как вновь угасла засиявшая было надежда. Все поиски были тщетны, следовало ждать, пока неведомый похититель поставит свои условия. А ожидание в подобных обстоятельствах — наихудшая из пыток. Два смертельно тяжелых дня не принесли никаких изменений. Затем среди почты князь Михаил обнаружил конверт, содержавший нечто плотное. Фотография? Письмо было немедленно распечатано. Все в один голос закричали. Это была фотография Жана, их дорогого малыша: он протягивал ручонки и внезапно замер, словно под влиянием какой-то мысли. Что содержало в себе письмо, сопровождавшее портрет ребенка? Это был незнакомый, но уверенный почерк человека, не стремившегося изменить ни свою орфографию, ни само начертание букв. Они прочли несколько кратких и резких строчек:«Князь! Ваш корреспондент беден, а вы богаты. Он желает получить толику роскоши, в которой вы купаетесь. Ввиду этого он похитил вашего ребенка. Вы заплатите выкуп, который для него составит состояние. Сумма выкупа будет определена позднее, когда точно выяснятся размеры вашего состояния. В данный момент его удовлетворит в качестве карманных денег чек на скромную сумму в сто тысяч франков. Чек пошлите до востребования на инициалы Р. Н. 9. Его заберут завтра и предъявят в банк „Вайлд и Тернер“, где у вас имеется кредит. Вы не будете преследовать получателя ни на почте, ни в банке. Это бессмысленно и опасно. Тот, кто похитил вашего ребенка и ударил ножом вашу свояченицу, не принадлежит к тем, кто угрожает всуе. Он прямо говорит вам: при первой же попытке слежки ребенок умрет. Стало быть, его жизнь в ваших руках. В данный момент Жан чувствует себя хорошо, у него всего вдоволь. Прилагаю моментальную фотографию, сделанную вчера, во-первых, затем, чтобы вы убедились, что ребенок жив, во-вторых, затем, чтобы доказать вам, что вы — в моей власти. Если это принесет вам удовлетворение, мы ежедневно будем вам посылать фотографии, а также бюллетени о здоровье ребенка вплоть до дня его освобождения. А покуда надеемся на то, что вы сохраните все в строжайшем секрете, иначе ваш ребенок будет безжалостно умерщвлен».Князь Березов перечел послание без подписи. Несчастная мать также пробежала взглядом сей безжалостный ультиматум. А потом зарыдала, увидев фотографию Жана. Это было по меньшей мере сомнительное произведение неопытного фотографа-любителя. Однако личико ребенка сохраняло присущее ему выражение, изображение было подлинным. Жан сидел в кресле, одетый лишь в длинную ночную рубашку, и смеялся. Не заботясь о том, через какие нечистые руки прошло это изображение, да и вообще откуда появилась фотография малыша, несчастная мать припала к ней губами, шепча сорванным голосом: — Жан, любовь моя, бедняжка мой, где же ты? Затем, сквозь застилавшие глаза слезы, она рассмотрела каждую черту его лица — уж не похудел ли, не ввалились ли у него щечки? Она изучила также кресло, прикинув, богата и удобна ли меблировка, желая, чтобы она была богата и комфортабельна, чтобы ее дитя ни в чем не нуждалось — пусть они, по крайней мере, будут богаты, эти люди… И все же супруги хоть в какой-то степени успокоились. Они уже не испытывали тех сомнений, прежде терзавших и почти убивавших их. Да, велико было несчастье. Однако оно начинало обретать черты реальности. Теперь они знали, в чем дело — бандиты жаждали заполучить их деньги. Но как мало значило для них богатство по сравнению с плодом их любви — только бы его им вернули! Что касается денег, то ни он, ни она не испытывали ни малейшего сомнения. Князь без промедления вынул чековую книжку и выписал чек на сто тысяч франков. Вложил чек в конверт вместе с листком бумаги, на котором написал:
«Ежедневно посылайте фотографию ребенка и известия о нем. Но сжальтесь, сообщите, чего вы хотите».Он написал на конверте адрес: «Р. Н. 9., до востребования» и лично отнес письмо на почту, не доверяя больше никому, ибо из-за чьего-то промедления пострадал бы в первую очередь малыш. Когда князь Михаил вернулся, он увидел, что Жермена все еще рассматривает фотографию. Она была спокойна и решительна. Супруги пришли к обоюдному согласию, что не проронят ни звука ни доктору Перрье, ни Людовику Монтиньи, и даже Марии они рассказали о письме только несколько дней спустя. Оба чувствовали — ужасная угроза бандита — не «утка», это тот человек, который, не колеблясь, приведет свой замысел в исполнение. Значит, жизнь Жана зависит от того, насколько они будут держать язык за зубами, нельзя позволить себе ни слова, ни одного лишнего движения. Мария чувствовала себя день ото дня лучше. Она начала есть, а рана ее зарубцовывалась. Состояние ее здоровья уже не требовало постоянного присутствия студента-медика. Он приходил теперь только дважды в день. Снова стал посещать лекции, но все время изыскивал время, чтобы заняться поисками ребенка. Он понимал, какие трудности ждут его на этом пути. Но, верный своей любви и клятве, данной Марии, не переставал надеяться…
ГЛАВА 18
В тот момент, когда мы начали это повествование, положение молодого барона де Валь-Пюизо, или, если хотите, Бамбоша, было довольно шатким. Азартные игры, скачки, ночные красавицы почти полностью растрясли его мошну. А так как единственным способом существования негодяя был грабеж, он и собирался поправить свои дела, снова применив испытанный способ. В его распоряжении было значительное количество прохвостов-подручных, безгранично ему преданных, — он не скупясь оплачивал их услуги, а кроме того, его боялись. Некоторые из приспешников были наделены хорошими манерами и могли появиться в приличном доме. Задумав очередное славное дельце, Бамбош под разными предлогами внедрял их в ту или иную семью и быстро выведывал домашние тайны — ведь его подручные всегда держали ухо востро, поднаторев в распечатывании и запечатывании чужих писем, подслушивании под дверью, слежке за людьми, коллекционировании скандалов. Нетрудно догадаться, какими прекрасными помощниками были эти люди для молодого, смелого и лишенного предрассудков главаря, одержимого ненасытными, все возрастающими желаниями. Таким же образом Бамбош получил информацию и о безумной выходке Гонтрана Ларами, заказавшего у ювелира в Пале-Руайяль колье стоимостью пятьсот тысяч франков, предназначенное для Франсины д’Аржан. Бамбош сказал себе: «Колье будет моим». Один из его сообщников, Соленый Клюв, поступил на службу к даме легкого поведения в качестве посыльного лакея и ежедневно докладывал обо всем, происходившем в доме. Об остальном нетрудно догадаться. Бамбош узнал, что ювелир доставил готовое колье, и, зная, что в особняке назначен большой праздник, решил, что Малыш-Прядильщик именно в этот вечер подарит драгоценность своей содержанке. Будучи человеком этого круга и обладая к тому же дьявольской предприимчивостью, Бамбош непременно должен был оказаться в числе приглашенных. Отвергнув классические методы грабежа, требующие взламывания дверей, похищения или вскрытия сейфов, боясь осложнить дело револьверной пальбой или поножовщиной, он прибегнул к иному, весьма хитроумному способу. Соленый Клюв свободно перемещался по дому, имея доступ в любые помещения, где к тому же сновало множество людей, а хозяйка не вникала в бытовые подробности. Должным образом проинструктированный Бамбошем, он при желании мог без труда понижать накал или полностью выключать электричество. Пока колье двигалось вокруг стола, а электрический свет усиливал сверкание бриллиантов, у Бамбоша вдруг начался неожиданный приступ кашля. В этот миг его рука коснулась колье. Внезапно освещение потускнело. Раздалось несколько удивленных вскриков и возгласов. Накал вновь повысился, но тут разом наступила тьма. Бамбош выхватил драгоценность у своей соседки и передал ее Соленому Клюву, примчавшемуся в столовую сразу же после того, как он вырубил ток. Мнимый лакей опрометью выскочил на улицу и вручил колье своему дружку Черному Редису, кучеру господина барона де Валь-Пюизо. Таким образом, путь исчезновения подарка милашке Малыша-Прядильщика проследить было абсолютно невозможно. На следующий же день колье было разъято на звенья, а бриллианты распроданы разным скупщикам краденого. Бамбош получил от этой сделки восемьдесят тысяч франков и был очень доволен. Эта сумма подоспела вовремя, чтобы заткнуть брешь в бюджете повесы и восстановить его кредитоспособность. Теперь он не торопясь мог ждать результатов наглого похищения маленького Жана, за которого, не без основания, надеялся получить громадный куш. Однако вскоре с училось так, что предметом его вожделений вдруг стал отнюдь не выкуп. Благодаря сведениям, полученным от бедняжки Фанни, в голове у бандита зародился другой смелый план. Да, и притом план не так уж трудно выполнимый и могущий принести ему не только состояние, но и официальное положение в самых почтенных и знатных кругах высшего света. В ожидании этого момента он, с присущей ему наглостью, решил прозондировать почву и, пока суд да дело, вытянуть из князя Березова путем вымогательства большой выкуп. Недельки за три он выдоит из него не менее шестисот тысяч франков! И это вполне понятно! Будучи людьми очень богатыми и обожая свое дитя, Жермена и Мишель ничего не жалели, лишь бы получать фотографии малыша и сведения о его здоровье. И несмотря на то, что каждое письмо содержало требование выплатить значительную сумму, они бы заплатили в десять раз больше, лишь бы испытать эти мимолетные радостные мгновения… Кроме того, события развивались таким образом, что чета Березовых не теряла надежды рано или поздно воссоединиться со своим сыном. Они были готовы ко всему, чем угодно согласны были пренебречь, лишь бы им вернули Жана. Со времен произошедшего двойного несчастья супруги Березовы никуда не выезжали и никого не принимали. Прежде такой веселый, особняк был теперь холоден и мрачен, как склеп. Кроме доктора и интерна, бывавших ежедневно, кроме начальника сыскной полиции, приходившего время от времени, чтобы узнать, нет ли чего нового, никто не переступал порога княжеской резиденции по авеню Ош. Людовик Монтиньи, все более терявший голову от любви к Марии, ринулся на поиски со всем пылом влюбленного. Однако, не имея никаких навыков вести следствие, он не двигался с места. Напрасно молодой человек гонял по всему Парижу своего подопечного Боско, ставшего его правой рукой. Получив стол и дом, этот бедолага, вне себя от счастья, развил бешеную деятельность. С усердием и рвением ищейки он рыскал повсюду, но, естественно, ничего не обнаружил. Мария больше не решалась задавать интерну какие-либо вопросы, когда он являлся к ней. А тот, случайно оставшись с девушкой наедине, не смел говорить о своей любви… Иногда на секунду руки их встречались, пальцы сплетались, но и только… У юноши это означало: «Я продолжаю борьбу и люблю вас». А у Марии: «Держитесь и надейтесь! Я с вами». И вот, почти через месяц после драмы, едва не лишившей девушку жизни, перед монументальной оградой особняка Березовых остановилась низкая карета барона господина Валь-Пюизо. Молодой барон неторопливо вылез из нее и велел доложить о себе их сиятельству. Напрасно швейцар доказывал, что никого пускать не велено. Барон настаивал. Он достал визитную карточку с гербами и написал карандашом:«Настоятельно прошу князя Березова уделить мне одну минуту по делу, не терпящему отлагательств».Швейцар, с угрюмым видом человека, готового получить нахлобучку, все же дважды нажал кнопку электрического звонка Появился посыльный лакей и, взяв визитную карточку барона, препроводил последнего в просторный вестибюль, служащий в приемные дни залом ожидания. Пять минут спустя он появился снова и произнес: — Их сиятельство ожидают господина барона. Бледный, измученный, худой, с заострившимися чертами лица, князь Березов являл собою лишь тень того богатыря — косая сажень в плечах, — каким был раньше. Усталым движением он протянул барону холодную влажную руку и молча указал на кресло. Тот, изобразив на лице соответствующее случаю выражение сострадания и уверенный в том впечатлении, которое произведут его слова, безо всяких околичностей приступил к делу: — Князь, вы извините мою настойчивость, когда узнаете, какие обстоятельства привели меня к вам. Князь медленно поднял глаза, как бы говоря: «Меня не интересует ничего, что не касалось бы…» Как будто читая мысли хозяина дома, де Валь-Пюизо продолжал: — Речь идет о вашем сыне. При этих словах князь так и подскочил от волнения. — У вас есть новости о Жане?! У вас?! Но каким образом… — Позвольте мне сказать вам два слова. Как вы знаете, постигшее вас несчастье вызвало широкий резонанс и возбудило глубочайшее сочувствие. Об этом писали все газеты… Некоторые из них печатали фотографии вашего малютки. — Да, да, знаю. — Я имел счастье дважды видеть прелестного карапуза в вашем доме… То есть я достаточно хорошо помню черты его личика для того, чтобы опознать. КнязьМихаил почувствовал, как дрожь охватила его с головы до ног. У него так стучали зубы, что он едва сумел вымолвить: — Вы видели его! — Да, видел! — воскликнул барон, заранее рассчитав, какую бурю эмоций вызовет его ответ. Князь не в силах был больше сдерживаться. Забыв обо всяких церемониях, даже не расспросив толком собеседника, уверен ли тот в сказанном или стал жертвой ошибки, он как сумасшедший кинулся вон из комнаты и помчался на половину жены, крича: — Жермена, Жермена, иди сюда! Наш ребенок! Скорей, скорей! Ты только послушай! Он видел ребенка! Ты понимаешь, он его видел! — Кто?! Кто его видел? — Жермена едва не лишилась чувств, ей показалось, что муж потерял рассудок. — Де Валь-Пюизо… Ну, ты его знаешь… Он сам пришел… Мария, хотя и слабая, была уже на ногах. Она поспешила на крики сестры и шурина. Втроем они побежали через анфиладу комнат, двери хлопали у них за спиной, и влетели в курительную, где де Валь-Пюизо обдумывал приличествующую случаю манеру поведения. При виде Марии этот мерзавец, отличавшийся чудовищной несдержанностью страстей, почувствовал сильный толчок в сердце. Его жертва стала еще прекраснее, чем в день покушения. На ее все еще бледном личике появилось выражение томности и грусти, и главарь шайки созерцал ее, стараясь скрыть восхищение, дабы не выказать охватившего его бешеного желания. К тому же к его грубой страсти, тем более неудержимой, что зародилась она в день покушения, примешивался оттенок той извращенной чувственности, которая приносит садистам самые высшие наслаждения. Перед его мысленным взором пронеслись картины — вот она умоляет его, вот, как львица, борется с ним… Он вспоминал, как разметались ее роскошные волосы, как в разорванном корсаже мелькнула обнажившаяся грудь… Казалось, он воочию видел, как она порозовела от стыда и возмущения, как по лилейным плечам разлилась краска, ощущал, испытывая чудовищный восторг, как пронзает ножом ее плоть, как кровь обагряет его руки… «О, я заполучу ее! Она нужна мне!» — думал он, трепеща всем телом. Губы его пересохли, лоб оросил обильный пот. Девушка, заинтригованная, взволнованная, во все глаза глядела на него, глубокие чувства, которые она не могла и не пыталась скрыть, делали ее личико еще выразительнее. Валь-Пюизо почтительно поклонился и, осаждаемый шквалом вопросов, срывавшихся с губ Жермены, приготовился на них отвечать. — Вы видели его? Вы его узнали? — налетела на него несчастная мать. — Вы не ошиблись? Это действительно был он? — Да, княгиня. Я совершенно убежден, это действительно он. — О, месье, — вмешалась Мария. — Скажите же нам, каким образом… в каком месте… — Это произошло вчера вечером, на бульваре Инкерман в Нёйи…[59] Еще не стемнело, я верхом проезжал этот бульвар, возвращаясь из Булонского леса… — Продолжайте же. — Жермена жадно ловила каждое слово гостя. — Какой-то ребенок высунулся из окна экипажа. Женский голос из глубины кареты позвал его: «Жан! Жан!», и ребенка отстранили от окна. Это имя вызвало у меня еще большее любопытство, я сразу же вспомнил о постигшем вас горе… Обо всех вас… И особенно о вас, мадемуазель, оказавшей мне честь вальсировать со мной за три недели до покушения. Все случается, даже самое невероятное, даже невозможное… Экипаж мчался быстрой рысью. Я приблизился к карете и, заглянув внутрь, увидел ребенка, сидевшего рядом с молодой женщиной, странным образом похожей на гувернантку вашего ангела. Она, помнится, не то немка, не то англичанка, словом, та особа, которая вывела Жана к гостям во время вашего последнего бала, когда он пожелал увидеть праздник. — Фанни! Боже праведный, Фанни! — воскликнула Жермена. — Я была права! — вскричала Мария. — Значит, она и есть сообщница убийцы! — Да, ты все время это предполагала. — Она покинула нас три недели тому назад, сбежала к нашим мучителям… — В таком случае полагаю, что не ошибся. — Но почему же, — живо вмешалась Жермена, — вы не поскакали следом за экипажем, не кричали, не звали на помощь, не требовали, чтобы этих людей арестовали?! — Я собирался именно так и поступить, не сомневайтесь. Однако, несмотря на то что бульвар в этот момент был пуст, со мной приключился несчастный случай, помешавший исполнить мое намерение. Кучер, которого я немного обогнал, со всего маху огрел кнутом мою лошадь по крупу. От удара она закусила удила и понесла. Карета круто повернула, и, когда я наконец совладал со своим скакуном, проклятый экипаж уже пропал из виду. Вернее, я смутно видел его издалека и не уверен, что он направился в сторону Парижа. — Что вы говорите! Значит, малыша прячут в Нёйи? — Это более чем вероятно. — Боже мой, Боже милосердный! Как увидеть его снова?! — О, если б я осмелился просить вас!.. — Казалось, Валь-Пюизо говорил под влиянием неукротимого порыва. Он пылко посмотрел на Марию, и та опустила глаза, не в силах выдержать этот горящий взгляд. — То что бы вы сделали? — спросила Жермена. — Поверьте, меня тяготит жизнь бездельника… Немыслимо и дальше влачить это пустое и абсурдное существование, в котором нет места не только великим деяниям, но даже поступкам, идущим на пользу ближнему. Дайте мне восемь суток… Нет, неделю, чтобы я посвятил ее неутомимым, терпеливым, самым усердным поискам. О, я был бы счастлив даже больше, чем вы можете подозревать, всем существом отдаться поискам и освобождению малыша! У меня предчувствие, что это мне удастся… Что я смогу вернуть вам счастье, душевный покой, возвратив ангела, вами оплакиваемого. — И вы действительно сделаете это для нас?! — Князь укорял себя, что до сегодняшнего дня считал барона пустым кутилой, которыми кишмя кишит так называемый «высший свет». — Да. И я буду действовать осторожно, тайно ото всех, чтобы избежать катастрофы, возможной в случае, если эти людишки что-нибудь учуют. — О, будьте осторожны! Ах, знали бы вы, какая страшная угроза над нами нависла! — Догадываюсь. Но меня никто не заподозрит — я посторонний и незаинтересованный человек, к чему бы мне печься о ваших самых сокровенных семейных интересах? И, произнося эти слова «на публику», барон пронзил Марию таким взглядом, что та содрогнулась — невозможно было заблуждаться насчет его истинного значения. Князь до хруста сжал ему руку. — Сделайте это, друг мой, — проговорил он дрожащим от наплыва чувств голосом. — Сделайте и тогда просите у нас всего, чего пожелаете. — О да, всего, чего угодно, — вторила Жермена. — Ну что ж, через самое короткое время я напомню вам о вашем обещании, — ответил тот, метнув на Марию еще более выразительный взор.
ГЛАВА 19
Злобный и мстительный, Гонтран Ларами обладал еще одним качеством, присущим неполноценным и трусливым натурам, — он был скрытен. Ни на секунду не забывая о жестокой трепке, которую задал ему Леон Ришар, Малыш-Прядильщик затаил на него смертельную злобу и только о том и думал, как бы отомстить рабочему-декоратору. К тому же, полуоторванное ухо хорошо освежало память, поскольку запах карболки от примочек преследовал его повсюду. Но Гонтран не хотел и не мог удовлетвориться обычной местью, такой, к примеру, как нанять полдюжины головорезов, чтобы они как следует отделали обидчика палками. Какой бы колоссальной силой ни обладал Леон Ришар, при таком нападении он бы неминуемо отдал Богу душу. Нет, ублюдку-миллионеру этого было мало. Ему требовалось нечто небывалое, такое, что в течение долгих лет, а может быть, и всю жизнь, тяжелым грузом угнетало бы и душу и тело Леона. Малыш-Прядильщик умудрился окружить последнего настоящей шпионской сетью, выведать все о его жизни, человеческих привязанностях, образе мыслей. Ему стали ведомы планы Леона на будущее, его любовь к Мими, намерение на ней жениться. При одной мысли об этом мерзавец скрежетал зубами от ярости и рычал: — Уж я это тебе устрою! Уж я проторю тебе дорожку! Сам посаженым папашей буду! Задумал жениться на красотке, которая мне приглянулась? Вот будет потеха, когда я стану первопроходцем вместо тебя! К этой большой опасности, грозившей жениху Мими, добавилась и другая, не менее грозная. Бамбош, внимательно читавший в газетах рубрику «Происшествия и факты», получил информацию обо всех обстоятельствах смерти Лишамора. Однако, желая знать все подробности, он развязал язык консьержке, которая поведала все, что знала. Между прочим, она, и не думая повредить юноше, рассказала об участии в этой семейной драме Леона Ришара и описала его. Бамбош захотел повидать художника и сразу же узнал того молодого человека, который в вечер нападения на особняк князя Березова остановил его мчащуюся карету и едва не сорвал тем самым весь тщательно продуманный план. Бамбош был подвержен внезапным вспышкам ненависти, тем более яростным, чем безосновательнее они были. Если можно чем-то объяснить его лютую ненависть к Леону, то лишь тем, что последний в полной мере являлся его противоположностью. Боясь, чтобы декоратор случайно его не узнал, Бамбош хладнокровно решил уничтожить свидетеля или впутать в такие неприятности, чтобы устранить навеки. Таким образом, слепая и свирепая злоба изверглась на этого честнейшего человека, ни разу в жизни не свернувшего с прямого пути. Более того, эти два потока ненависти вскоре сольются воедино благодаря необычайному стечению обстоятельств, заставляющему даже самых заядлых скептиков признавать: «Все в мире случается, даже невозможное». Соленого Клюва, лакея на посылках, служившего у Франсины д’Аржан под именем Жюстена, выставили за дверь. Он якобы слегка злоупотреблял горячительными напитками, вот почему кокотка, не прощавшая своей челяди ни малейших шалостей, немедля велела вытолкать нарушителя взашей. После таинственной истории с колье между нею и Малышом-Прядильщиком пробежал ощутимый холодок. И юный шалопай, и прелестница — оба в глубине души полагали, что другой подложил ему свинью. Гортран думал, что колье припрятала Франсина, та же считала, что это миллионер показал большую ловкость рук. Между ними началась словесная война, в которой ни один не желал уступить ни пяди. Разумеется, когда Гонтран узнал, что Франсина решила рассчитать своего лакея на побегушках, он поспешил заявить последнему: — Я беру вас на службу и буду платить вдвое против того, что вы получали у мадам. Соленый Клюв поспешно согласился принять такой неожиданный приварок, ибо Бамбош горел нетерпеливым желанием внедрить к Малышу-Прядильщику своего человека. Этот бандит, всегда выбиравший самые удобные места для того, чтобы ловить рыбку в мутной воде, давно точил зубы на громадное состояние Малыша-Прядильщика. Ничем не брезговавший ловкач, Бамбош хотел, используя пороки богача, урвать свою долю в этой груде миллионов. И снова слепой случай свел вместе двух злодеев, как если бы таинственная сила влекла их друг к другу. Вечером первого же дня службы новый хозяин призвал к себе так называемого Жюстена и спросил безо всяких преамбул: — Скажи-ка, приятель, любишь ли ты деньги? — Хозяин шутит? — Я никогда не шучу, когда речь идет о монете. Ну так как, любишь? — Да, месье. Страстно люблю… — Отлично. Так вот, за деньги… за много денег способен ли ты сделать все что угодно? — Это зависит от суммы… И от того, что надо делать… — А ты совсем не дурак, приятель. Скажи, во сколько ты оцениваешь свое сотрудничество… Да, сотрудничество… — Мой господин так богат… И так щедр… — Значит, за сотню луидоров ты исполнишь то, что прикажут? — Скажу прямо, что за две тысячи франков я мог бы оказать вам кой-какие мелкие услуги. — А если я дам больше, много больше? — Я все сделаю. — Даже… — Господин хочет сказать: даже если придется пойти на преступление? — Да. — Какова будет цена? — Десять тысяч франков сейчас. И столько же после того, как поручение будет выполнено. — За тридцать тысяч франков можно бы и человека убить… — Черт возьми, хватки у тебя не отнимешь, приятель. Ты порядочная каналья! — Я уже несколько лет служу у богатых людей. И, знаете ли, дурной пример заразителен… — Да ты остряк! — Я парижанин!.. — И на тебя заведено дело на набережной Орфевр?[60] — О, это было так давно, что я уж об этом и думать забыл. — Очень хорошо. Ешь, пей, отсыпайся, развлекайся. Будешь состоять при моей особе в качестве исполнителя особых поручений. Назавтра Малыш-Прядильщик, пылая злобой и жаждой мести, посвятил слугу в свои планы. Несколькими часами спустя Соленый Клюв передал информацию Бамбошу, который, хлопая себя по ягодицам, воскликнул: — А ведь само Провидение потворствует таким, как мы! Влезай-ка поглубже в это дело и получишь кучу хрустов![61] Черт возьми, ведь это именно тот человек, которого я взял на прицел! С этого момента ничего не подозревавший Леон Ришар попал под неусыпное наблюдение. Соленый Клюв привлек своего дружка, откликавшегося на прозвище Костлявый. Вдвоем они успели поговорить с соседями Леона, сослуживцами, консьержками, короче говоря, со всеми. Костлявому было лет восемнадцать, но тем не менее это был один из самых решительных и жестоких членов банды. В наши дни существует такой странный и настораживающий факт — подростковая преступность. Встречаются многочисленные шайки, в которых старшие члены не достигли еще и двадцатилетнего возраста, а младшим — лет десять — двенадцать. И недоросли эти бывают иногда чудовищно свирепы! Их охватывает порой неистовая жажда крови, своих жертв они лишают жизни самыми изощренными способами, убивают их кустарно, по-любительски, наслаждаясь страданиями. Костлявый был одним из таких подонков. И тем более опасным, что, имея свежее розовое личико, очень ловко носил женскую одежду. Переодетый в платье молоденькой парижской работницы, он пробирался в мастерские, частные дома и с самым невинным видом собирал сведения, необходимые банде, чтобы совершить грабеж. Множество раз он увлекал за собой людей, у которых подозревал наличие туго набитого кошелька. Только их и видели! Юному уголовнику вменили в обязанность шпионить за Мими, разузнать, как живут девушка с матерью, каковы их взаимоотношения с Леоном Ришаром. Художник, любивший Мими час от часу сильнее, с нетерпением ожидал того дня, когда любимая целиком будет принадлежать ему. Все свободное от работы время он посвящал двум женщинам. Леон сразу же догадался о глубокой нужде, скрываемой ими с таким тактом, и стал размышлять, как помочь, не оскорбив их чувств. Надо было, чтобы вспомоществование не воспринималось как подаяние, дабы не нанести гордым душам незаживающей раны. И способ был найден. Молодой человек пожаловался, что столуется в харчевне и был бы счастлив иметь домашний очаг; пусть в его квартирке кухня будет размером с носовой платок, но «маленькая женушка» станет стряпать ему всякие вкусности. — Вы хорошо готовите, Мими? — спросил он. — Я — большой гурман. Гурман! Он, покупавший на обед полфунта хлеба и сардельки за два су, чтобы сэкономить деньги для покупки книг, брошюр, газет… Мими поверила и ласково ответила: — Да, Леон, я довольно неплохо готовлю и буду стряпать вам некоторые вкусные, но недорогие блюда. — Какое счастье! Это замечательно, мы станем закатывать такие пиры! И матушке вашей кое-что перепадет! Мамаша Казен растроганно смотрела на него и думала: «Именно о таком муже для Мими я и мечтала! Моя малышка будет счастлива!» — Почему вы молчите, мадам? — Ну конечно, милый мой мальчик, это будет чудесно, я и слов не нахожу. — А что, если нам сразу же и попробовать? Давайте начнем без промедления. Вы не возражаете, Мими? У девушки была еще одна монетка в сорок су. Эта сумма внушала ей уверенность в себе и, приготовившись показать чудеса кулинарного искусства, она горделиво заявила: — Прекрасная мысль! Вот я сейчас схожу за продуктами, и вы увидите! — Тогда позвольте мне дать вам на что их покупать. — О нет, деньги у меня есть. — Я в этом не сомневаюсь. Но я — мужчина, значит, плачу. Вы что, считаете меня живоглотом, способным сожрать сбережения моей маленькой женушки? — Но вы — гость… — Нет! Я начал у вас столоваться. Если только вы мне это разрешаете. — От всего сердца разрешаю, друг мой! — А вы, матушка Казен, согласны, чтобы я у вас питался? — Милый мальчик, как я рада! — Значит, я внесу вперед плату за неделю. — Нет, — упорствовала Мими. — Почему? Так меня приучил трактирщик. Если я вносил вперед недельную плату, он делал мне скидку в пять су на каждом обеде. Дайте и вы мне такие же льготы, как и мой отравитель. — В таком случае я согласна. — Болезненная щепетильность Мими была удовлетворена. Леон вручил ей восемнадцать франков и, смеясь, вычел скидку себе на табачок. Их ужин был типичным трогательным ужином влюбленных, когда бифштекс то недожарен, то почти сгорел, в салате слишком много уксуса, все блюда невкусны, а кажутся восхитительными. Они бросали друг на друга пылкие взгляды, тайком держались за руки, рассказывали какие-то безумные истории, смеялись как дети и привели бедную калеку в такое радостное возбуждение, что она больше не чувствовала боли. И впрямь они устроили маленький пир! Девушка приготовила угощение из нескольких блюд и подала на стол те яства, которых они с матерью так долго были лишены. Кофе! Две маленькие чашечки черного кофе — это бедное лакомство неимущих они смаковали с видом сибаритов[62]. Леон не пил кофе и никогда его не любил. Мими это казалось невероятным — она не могла взять в толк, как можно брезговать живительной влагой, от отсутствия которой страдает каждый парижанин. Леон смеялся и называл кофе соком, выдавленным из черной шляпы. Они расстались поздно, а перед расставанием все расцеловались. — Завтра утром приходите пить кофе с молоком, — сказала Мими. — Опять кофе, — пошутил Леон. — Шляпный сок, разбавленный парижским молоком!.. Идея столоваться у невесты, осенившая юношу, была спасительной для обеих женщин. По счастью, у Леона были кое-какие сбережения, которые должны были очень пригодиться на первых порах супружеской жизни. Он не без гордости сообщил об этих средствах матушке Казен и попросил принять их на хранение. — Подождите хотя бы до свадьбы. — Ах, если б вы знали, как тянут волынку в мэрии! Меня это просто бесит! Декоратор торопился и в простоте душевной считал, что администрация встанет на его сторону, облегчит все формальности и тем самым ускорит его счастье. Не тут-то было! Наша администрация, которой Европа давным-давно уже перестала завидовать, занимается совершенно иными вещами, нежели людьми и их счастьем. Сперва всей этой доброй, всегда смиренной публике следует указать ее место. Затем — подействовать ей на нервы, взбесить, ошеломить, а тогда уж лишить надежды. И Леон прошел через все мытарства, предназначенные для тех, кому выпало несчастье иметь дело с крайне опасным зверем, имя которому — французский бюрократ. Можно и впрямь подумать, что в нашей стране, где неуклонно падает рождаемость, администрация исхитряется, как только может, противодействовать бракам. Первый же чиновник, к которому обратился Леон, был тщедушный маленький человечек, из неудачников, не преуспевших ни на поле, ни на заводе. Пыльный, с нездоровой желтоватой, как его папки, кожей, питающийся, казалось, бумагами наподобие мыши, он принял рослого Леона с большим высокомерием, тем более что одет был декоратор весьма скромно и держался вежливо. — Что вам угодно? — после продолжительного молчания спросил чиновник с любезностью крокодила. — Вступить в брак или хотя бы получить все необходимые сведения по этому поводу. Чиновник воззрился на красивого гордого юношу, влюбленного конечно же в такую же красивую и гордую женщину и пользующегося взаимностью. Плюгавый клерк сделал отталкивающую гримасу и почувствовал разлитие желчи. Он подтянул люстриновые нарукавники, поправил очки и обежал глазами своих собратьев-чиновников, как бы говоря им: «Сейчас мы здорово повеселимся». Этот гротескный тип наслаждался властью над людьми и издевался над ними. — Друг мой, — ответил он с важностью. — Для этого в первую очередь нужна женщина. Приглушенный смешок пробежал по конторе, где витал дух слежавшейся бумаги, чернил и человеческих особей, носящих несвежее белье. Леон почувствовал, как на скулах выступает краска. Он приблизился к конторке и ответил: — Я не знал, что ваша профессия заключается в том, чтобы поставлять женщин тем, у кого их нет. Что до меня, то я не ищу себе невесту в брачных агентствах. Ответ был столь метким, что чиновник позеленел от злости. — Вы не имеете права здесь дерзить. — Как и вы не имеете права насмехаться над посетителями. Если мне говорят «бей!», то я бью. Посмотрите мне прямо в глаза как мужчине, и вы поймете, что я не тот, кого легко взять голыми руками. Поставленный на место конторщик не знал, как вести себя дальше. Он тотчас же стал униженно любезен, затаив желание при случае поизмываться над этим работягой, отнесшимся к его персоне без должного трепета. Мечтая взять реванш, но опасаясь, как бы у молодого человека не оказалось какой-нибудь поддержки в лице депутата или муниципального советника, он вежливо проговорил: — Ну что ж, если вы не любите шуток, тогда перейдем непосредственно к делу. Для вступления в брак вам потребуются следующие документы: согласие на брак родителей, заверенное нотариусом, подписанное секретарем суда; в случае, если родители умерли, необходимо свидетельство о смерти, подтвержденное соответствующими подписями; согласие на брак бабушек и дедушек, если те еще живы; свидетельство комиссара полиции о том, что вы проживаете в городе не менее полугода; ваше свидетельство о рождении; ваш военный билет. Леон, думая об этой кипе бумаг, печатей и подписей, вытер взмокший лоб. Человек прямой и простодушный, он подумал: «Ну и ну! Боже милостивый, сколько хлопот для того, чтобы добрый труженик мог связать жизнь с доброй труженицей!» В Америке или в Англии двум любящим молодым людям достаточно лишь предстать перед официальным лицом и сказать: «Соедините нас!» И — дело сделано, без помех, препятствий, писанины, беготни, денежных затрат, без потери времени. Подобная простота процедуры не мешает английской или американской семье быть крепко спаянной, всеми уважаемой ячейкой общества, не препятствует иметь детей, получающихся у них ничуть не хуже наших. Конторщик, привыкший к тому, как в испуге отшатываются от него все желающие вступить в брак при оглашении списка требуемых документов, злорадно ухмылялся и думал: «Когда ты обегаешь все эти мэрии да архивы, я прекраснейшим образом и без труда изыщу какую-нибудь зацепку и заставлю тебя начать все сначала. Ишь ты, жениться он надумал! Ты у меня много километров избегаешь и гербовую бумагу жрать будешь!» Леон ушел в ярости. И, направляясь к невесте, говорил себе: «Ну, не абсурд ли это?! Я ведь у вас, идиоты, требую лишь того, о чем, узнав о нашей любви, вы сами должны бы радеть. Нам нужно ваше согласие на то, чтобы рожать детей, когда так просто было бы заключить наш брак на основе взаимного согласия! Свободно заключенный союз, жажда двух чистых сердец соединиться, любить, соблюдать друг другу верность!.. Да плевал бы я на этого смехотворного господина мэра с его трехцветной перевязью! С чего это он должен разрешать или не разрешать нам с Мими жить вместе! Но он, видите ли, блюдет мораль, и только росчерком его пера наши дети будут законнорожденными!» Если бы речь шла о нем одном, юноша прекрасно бы обошелся безо всяких формальностей. Но он не хотел отпугнуть Мими, в глубине души рассуждавшую точно так же. А еще больше он не желал задеть щепетильность ее матери, которая, как он полагал, придерживалась старорежимных правил и хранила верность предрассудкам. Леон понятия не имел о том, что у этой замечательной женщины есть единственное больное место. Он не знал, что ее безупречная вдовья жизнь началась с того самого дня, как один негодяй обесчестил и бросил ее. Когда юноша пришел обедать, он, по понятным причинам, был взволнован и, поведав будущей теще, какую уйму формальностей им придется выполнить, добавил: — Меня утешает лишь, что всю эту дурацкую процедуру должен проделать не только жених, но и невеста. Я перед вами для того, чтобы избавить вас от всех этих хлопот, матушка Казен! И несчастная женщина, понимая, что ее горестная тайна будет разоблачена, побледнела и подумала: «Пресвятой Боже, вот то, чего я так боялась!»ГЛАВА 20
Матушка Казен всю ночь ворочалась с боку на бок, думая: вскоре Мими узнает о том, что она незаконнорожденная. Она спрашивала себя: что-то подумает о ней Леон, боялась постыдного признания, которое ей придется сделать, опасалась, что его уважение к ней поколеблется либо вовсе исчезнет. Тихонько плача, укрывшись с головой одеялом, чтобы не услышала дочь, бедная женщина шептала: — Господи, Господи, а что, если он примет меня за одну из любительниц заводить интрижки?.. Что, если перенесет на Мими тень позора ее матери? На следующее утро, после бессонной ночи, пользуясь тем, что дочь ушла закупать провизию для обеда, она отважилась на решительный разговор с Леоном. Он явился веселый, как всегда, и, расцеловав старуху в обе щеки, постарался разогнать ее мрачное настроение. Но вместо того, чтобы проясниться лицом и улыбнуться юноше, как это было всегда, она стала еще пасмурней, возле губ залегла горестная складка, а из глаз выкатились две крупные слезы. Ничто так не раздирает душу, как молчаливое горе. Крики и рыдания все же облегчают сердце… Леон опешил, увидя, как слезы брызнули из покрасневших за бессонную ночь глаз матушки Казен. Он взял ее руки в свои и, низко склонясь над больной, стал утешать ее голосом, дрожащим от неподдельного сочувствия, полным истинно сыновней любви: — Матушка, дорогая! Добрая моя матушка Казен, что с вами? Скажите, какое тайное горе вас так гложет? Во имя моей любви к Мими, скажите мне все без утайки. Вы же знаете, как я отношусь к вам. Послышалось громкое рыдание, и, разом покончив со всеми колебаниями, женщина стала изливать ему душу: — Да, вы должны все знать… Мою позорную тайну… Закон скоро вас оповестит… — О каком позоре вы говорите, матушка? Ни к вам, ни к Мими это слово не имеет ни малейшего касательства! — Нет, имеет. Во всяком случае ко мне, уже так давно несущей на себе клеймо позора! Ох, бедная я, горемычная! Леон, мальчик мой дорогой, не судите меня строго!.. О Господи, как ужасно в этом признаваться… Мими — дитя без отца… А я… а я — мать-одиночка… Потому что так называют женщин, ставших матерью без мужа… У Леона вырвался глубокий вздох облегчения. Видя, какие страдания переживает матушка Казен, какие мучительные колебания предшествовали ее исповеди, он подумал уж было, не запятнано ли чем-либо их имя. Он гордо и в то же время сердечно улыбнулся и ласково ответил ей: — Вы стали жертвой непорядочного человека или фатального стечения обстоятельств. Тем хуже для подлого соблазнителя, раз он недооценил вас. А что касается обстоятельств, то от судьбы не уйдешь, кто посмеет осуждать ее жертв? — О, дитя мое… Дорогое дитя, как вы добры! — Я люблю вас и почитаю, как родную мать. И никогда не позволил бы себе судить вас, такую преданную и самоотверженную, с кем жизнь обошлась так неласково… — Леон, сынок, ты узнаешь все! — А зачем? Это печальная история об обманутой любви, о человеке, изменившем своему слову. Теперь я могу воссоздать вашу жизнь, полную слез, лишений, тяжелого труда… Вы жили с раной в сердце, нося траур по своей любви… При этих благородных, полных достоинства словах над иссеченным морщинами лбом старухи прямо-таки сияние возникло! Слезы все еще лились, но какие же это были сладостные слезы! — Ваша правда! — Она совсем расчувствовалась и просто преобразилась на глазах. — Эти восемнадцать лет мучений могут искупить минутную слабость, один-единственный миг, когда я забылась, потому что… Охваченный глубоким сочувствием и уважая мужество, с которым госпожа Казен переносила свою беду, юноша опустился на колени перед постелью, взял руку женщины и поднес к губам: — Вы благородная, вы святая и заслуживаете любви и почтения. Не надо краснеть за то, что вы стали матерью, вы должны этим гордиться. — Молю вас, Мими ни о чем не должна узнать! О, друг мой, я умру от стыда, если мне придется краснеть перед дочерью… — Ваша воля будет уважена, клянусь! — Благодарю. Я заживу спокойно и радостно, глядя на ваше счастье. Мими явилась раскрасневшаяся, немного запыхавшаяся от бега. Она спешила вернуться домой, потому что ее расстроила увязавшаяся за ней девица, скорее всего, проститутка. И это было уже в третий или в четвертый раз… Эта продувного вида дылда уже несколько раз как бы случайно попадалась ей в различных лавках и грубым голосом заговаривала с ней. Она спрашивала, нельзя ли в их квартале найти работу, затем осведомлялась о таких вещах, от упоминания о которых Мими делалось не по себе. Работа! О какой работе могла идти речь, когда о профессии этой барышни можно было с уверенностью сказать: она принадлежит к «ночным красавицам». Мими избегала ее, но та становилась все более навязчивой, с места в карьер выказывала девушке самые горячие дружеские чувства, которые та отнюдь не разделяла. Только что они в очередной раз встретились во фруктовой лавке, и девица, как старая знакомая, стала жать руки и спрашивать, что новенького. Мими не хотела показаться ханжой, поэтому отвечала вежливо, но холодно и сразу же собралась уходить. Но та, нимало не смущаясь, удержала ее и сказала: — Вы так милы, такая душка. Приходите ко мне в гости. Меня зовут Клеманс. Я живу совсем рядом, на улице Дюлон, в однокомнатной квартирке с крохотной кухонькой, настоящий рай. Я угощу вас обедом. Чтобы отвязаться от нее, Мими ответила полусогласием с твердым намерением забыть про обещание: — Да, да… Но сегодня я спешу… Клеманс, продолжая шнырять по кварталу, думала про себя: «Я тебя, голубушка, рано или поздно прищучу. У себя ли дома или где-нибудь еще. Вот тогда пойдет потеха!» Во встречах с этой девицей Мими не усмотрела ничего из ряда вон выходящего, оттого и не сочла нужным сообщить о таком незначительном факте матери или жениху. Шли дни, и, несмотря на все происки чиновников мэрии, день свадьбы приближался. Были даны сообщения в газеты. Объявление о браке было вывешено на дверях мэрии. Имена жениха и невесты фигурировали в матримониальном вестнике и «Брачном листке». Еще неделя — и жених с невестой предстанут перед господином мэром. О церковном венчании не могло быть и речи. Леон, будучи вольнодумцем, отвергал всяческие догмы. Мими же, со своей стороны, совсем не улыбалось исповедоваться, а потом выслушивать кучу избитых фраз. Стало быть, бракосочетание намечалось исключительно гражданское. Они посетят мэрию, а затем — банкет за городом, где соберется компания ближайших друзей. Можно даже не говорить о том, что были приглашены мамаша Бидо и Селина, а также господин Людовик Монтиньи, прямо заявивший, что будет шафером невесты. Леон позвал своих друзей, рабочих из ателье. Мими трудилась над белоснежным свадебным нарядом. Подружка покроила ткань, примерила. Платье сидело великолепно. И вот теперь ее пальчики, волшебные пальчики так и летали над шитьем. Наконец все было готово. Была пятница, вечер. Завтра должен был наступить великий день. Они не ложились допоздна, чтобы к утру все было готово, и взбадривались черным кофе. А Леон над ними подшучивал, острил по-доброму, насмехаясь над неизбывным пристрастием парижан к шляпному соку. Когда был сделан последний стежок, вытащена последняя наметка и на сплетенный из лозы манекен надет готовый белый туалет, у всех вырвался возглас восхищения. Матушка Казен, Леон, Мими, подруга-помощница, мамаша Бидо, Селина, пришедшие поглядеть на шедевр портняжного искусства, наперебой стали утверждать, что дочери банкиров и герцогов, безусловно, не выглядели лучше в день своего бракосочетания. И это, наверное, было правдой. Прежде всего, разве кто-нибудь из этих высокопоставленных невест носил свадебное платье с такой элегантностью, с такой скромностью и достоинством, как Мими, не лишенная, однако, языческих добродетелей, свойственных настоящей женщине?! И тут у всех присутствующих возникла одна и та же мысль, хоть и звучала она у каждого по-своему. — Дитя мое, а что, если бы ты его примерила, — вырвалось у матери. — Мими, я жажду увидеть вас в платье новобрачной, — сказал Леон. — Котеночек мой, ты ж такая красотка, а в этом платье будешь просто восторг, — попросила мамаша Бидо. — Ведь его только раз надевают… — Это будет генеральная репетиция! Как в театре, — Подруга-помощница уже предвкушала зрелище. Работница Селина, добросердечная, малость потрепанная толстуха, любительница почесать языком, вдруг проворчала: — А у нас, в Морвандьо, говорят, что заранее надевать свадебное платье — дурной знак. Все хором запротестовали, тем более что присутствующие, в большей или меньшей степени, были люди здравомыслящие и чуждые суеверий. Подумать только, все они парижане, а Селина — провинциалка. И конечно же слова ее пропустили мимо ушей. Мими с подругой уединились в комнатке девушки, и невеста быстренько переоделась. Несколькими взмахами расчески подруга соорудила Мими изысканную прическу, украсила ее венком из флердоранжа, потом настежь распахнула двери. Смеясь и предчувствуя, какой произведет эффект, она провозгласила: — Новобрачная! Закутанная в неосязаемую белоснежную вуаль, позволяющую видеть ее точеную фигурку, Мими была действительно неотразима. От глубокого волнения, которое, кстати, она и не пыталась скрывать, грудь ее высоко вздымалась, личико раскраснелось, глаза сияли. Ее нежная улыбка была предназначена матери, обомлевшему от восхищения Леону, друзьям, пришедшим в восторг. И впрямь, не часто увидишь невесту такой совершенной красоты. Избранница Леона, даже не подозревая об этом, была неповторима, и ее свадебный туалет, словно взятый из какой-нибудь лавчонки с улицы Сен-Сюльпис, где торговали старыми гравюрами, кустарными статуэтками Богоматери, бесполыми церковными ангелами, влачащими за собой белоснежные ватные шлейфы облаков, приобретал особый смысл. Появление девушки вызвало настоящую бурю энтузиазма и всеобщей растроганности. Мать невесты плакала от радости. Леон, чуждый излишней сентиментальности, и то чувствовал, что у него пощипывает глаза. Мамаша Бидо и Селина в восторге хлопали в ладоши. — О, вот уж в чем я уверена, — сказала прачка, — что весь Батиньоль пойдет за вами следом, чтобы проводить в мэрию. Клянусь тебе, голубка, тут у нас никого не бывало, кто мог бы с тобою поспорить. Что скажете, господин Леон? Достойная дама обернулась к застывшему в восторженном созерцании жениху и продолжала: — Да и вы будете выглядеть во фраке хоть куда! Одно слово, красивая парочка! Ну поцелуй же ты ее наконец, сынок! Как бы там ни было, она твоя, ведь ты ее от смерти спас! Ну-ка, давайте, детки, не церемоньтесь. Сам не ведая, что творит, вне себя от волнения, юноша нерешительно встал и протянул руки к Мими. Она, не в силах вымолвить ни слова, потянулась к нему, готовая заплакать от переполнявшего ее счастья. Милые дети! Жизнь, до сих пор сурово с ними обращавшаяся, теперь до поры до времени прятала свои колючие шипы под цветами. Все было — радость, счастье, надежда. — Мими, дорогая Мими… — лепетал юноша, крепко обнимая невесту и чувствуя, как она трепещет на его могучей груди. — Леон, милый мой… — эхом вторила ему девушка. — Благодарю вас за счастье, которое вы мне дарите. У Селины, матушки Бидо и подружки Мими душа была нараспашку, вот они и не скрывали своих чувств и искренне плакали от радости — так все это было трогательно, естественно, неподдельно. Мими, вырвавшись из объятий Леона, смеялась сквозь слезы, счастливая оттого, что чувствовала себя так сильно любимой. Матушка Казен, наиболее рассудительная из всех, заметила, что уже час ночи. Гости заволновались: — О Господи, уже так поздно?! Тут уж и мамаша Бидо напомнила всем, что завтра придется вставать ни свет ни заря. — Но ведь завтра уже наступило, — весьма справедливо заметила ее помощница Селина. При этом мудром замечании все заторопились и стали расходиться. Леон ушел последним, предварительно расцеловав матушку Казен, крепко прижав к сердцу невесту. Девушка со свечой в руке проводила его до порога. Она освещала лестничную клетку и слушала его удаляющиеся шаги. Затем вернулась в квартиру, быстренько разделась, легла и, созерцая белоснежное великолепие свадебного туалета, шептала: — О Леон… Завтра…Мими проснулась рано утром, немного взволнованная, но веселая, как птичка, и замурлыкала песенку. Приготовив кофе с молоком, «священный напиток», как называл его Леон, она засмеялась своим мыслям, думая, что уже через четыре часа ее будут называть «мадам». Леон должен был прийти завтракать, да, впрочем, и облачаться в праздничный костюм он планировал у них. Здесь висели его фрак и белая крахмальная рубашка, стоял шапокляк, так позабавивший Мими, когда она впервые тронула пружинку, с помощью которой он раскладывался. Девушка прождала полчаса, немного удивляясь, что жених опаздывает. Леон, всегда такой пунктуальный, не появлялся. Прошел час. Ее охватило беспокойство. Истек еще один час. Беспокойство сменилось глубокой тоской. Десять часов утра… Половина одиннадцатого… Со слезами на глазах, не в силах больше усидеть на месте, она собралась на улицу Де-Муан. Неужели произошло несчастье?! Напрасно мать пыталась ее успокоить, напрасно увещевала, что опоздание могло быть вызвано какими угодно причинами. — Терпение, голубушка, терпение. Подождем еще немного. Пролетели еще пятнадцать минут. Узнав о происходящем, прачка, разглаживавшая последнюю оборку на своем нарядном платье, замерла: — Солнышко мое, давай-ка я к нему сбегаю! — Я даже просить вас об этом не смела… Пока Мими рассыпалась в благодарностях, добрая женщина была уже на улице. Сердце у девушки сжималось, она боялась самого худшего. Когда жизнь так неласкова, ожидаешь новых ударов судьбы… Даже матушка Казен, невзирая на свой оптимизм, серьезно забеспокоилась. Распахнув окошко, Мими, застыв в неподвижности, ожидала возвращения прачки. Она все еще надеялась — вот сейчас появится жених, держа в руках огромный букет. Двадцать минут спустя появилась мамаша Бидо с бессильно опущенными руками. Она не смела взглянуть в лицо Мими. Девушка побелела. На подкашивающихся ногах она спустилась на первый этаж, и, задыхаясь, спросила: — Вы видели его? — Деточка моя… Я ничего не понимаю, меня так и колотит… — Что?! Говорите, говорите же… Или я умру… Матушка Бидо едва подхватила девушку, чтобы та не упала: — Голубка моя, мужайся… — Беда? Несчастный случай? Умоляю вас, говорите… — Видишь ли, дело в том, что… ни я, ни консьержка, мы обе ничего не понимаем… — Леон?! — Ну так вот, вчера вечером он не вернулся домой… Вернее, сегодня утром, в час ночи, когда мы все расстались… — Господь милосердный, что вы говорите?! — Чистая правда… Консьержка утверждает, что не видала его… Мы поднялись в его комнату, у нее есть запасной ключ… Его постель не расстелена… Несчастная девушка, словно умирая, осела на пол. — Боже мой! Леон! Умираю! — И, побелев, рухнула без чувств.
ГЛАВА 21
Двойное преступление, известное под названием «дело на авеню Ош», вызвало громкий резонанс и до сих пор продолжало будоражить общественное сознание. Арест Боско принес некоторое облегчение — полагали, что он чистосердечно сознается. Рана Марии зажила, а все, кого интересовала жизнь княгини Жермены, надеялись, что несчастная мать вскоре обретет свое дитя. И вдруг выясняется — арестованный невиновен! Боско, оказывается, оговорил себя, взял на себя вину, возможно стоившую ему пожизненного тюремного заключения. Переносимые им лишения ввергли его в такое отчаяние, что бедолага предпочел тюрьму, заточение среди каменных стен замка на острове Сите, лишь бы иметь крышу над головой и положенную арестантам пайку. Все домочадцы Березовых, сперва осыпавшие его проклятиями, теперь испытывали к нему живейшее сочувствие. И впрямь, никто из тамошних жителей и завсегдатаев дома даже представить себе не мог, что юное и сильное существо, не только не уклонявшееся от работы, но жаждавшее найти хоть какое-то занятие, могло оказаться в такой вопиющей нищете. Власти, не найдя ничего предосудительного в его прошлом (за исключением, конечно, многочисленных задержаний за бродяжничество), как водится, сделав выговор, освободили бедолагу из-под стражи. Боско последовал за Людовиком Монтиньи, за него поручившимся. А ведь он был человек недюжинный, этот перекати-поле, способный преодолевать самые тернистые препятствия жестокой жизни! Видом и речью — хулиган и шалопай, малый заводной и горячий, всегда готовый дать пинок или зуботычину, Боско в душе был куда лучше, чем казался. Общаясь с подонками, он волей-неволей приобрел неприятную резкость и грубость в поведении. Жизнь скитальца выработала в нем злопамятную недоверчивость — так бродячая собака опасается всего на свете, и когда роется в отбросах или хватает брошенную корку хлеба, и когда с ней приветливо заговаривают и пытаются приласкать. А в глубине души она жаждет одного — стать преданной своему благодетелю. Именно это в течение нескольких дней и произошло с Боско — он душой и телом прикипел к Людовику Монтиньи. Из студента-медика он сотворил себе настоящего кумира, да и тот сразу же полюбил его. Бывший бродяга по собственной инициативе стал правой рукой Монтиньи, всяческистараясь ему услужить, был счастлив и чувствовал себя как рыба в воде. Подумать только: у него было приличное платье, обувка, шляпа, несколько су в кармане и табака — завались. Бедняга Боско! В своих самых честолюбивых мечтах он и представить себе не мог такого изобилия! И от этого благоденствия он не только не расслабился, но, напротив, проявлял неукротимую энергию и развивал бешеную деятельность. Однако все усилия ни к чему не привели. Обратив Боско в своего помощника, Людовик Монтиньи был вынужден сделать его и своим наперсником. Узнав о любви «патрона»[63], Боско, охотно величавший так студента, выпятил от гордости грудь, как если бы это ему улыбнулась фортуна. Людовик любит Марию, предполагавшуюся жертву Боско, — что может быть лучше! Мария любит Людовика, это вполне естественно, иначе и быть не может! А так как по этому деликатному поводу студент хранил молчание, Боско сделал вывод — она его обожает. Людовик поведал ему также об условии, которое поставила перед ним девушка: найти похищенного ребенка. Боско одобрил такое решение и заметил, что задача — не из легких, трудностей будет хоть отбавляй. Найти ребенка в таком городе как Париж! Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Эти препятствия, и так труднопреодолимые, усугублялись еще и молчанием княжеской четы. Напуганные угрозой того, что в случае разглашения секрета ребенка убьют, они боялись погубить несчастного малыша случайно вырвавшимся словом. Даже Мария ничего не знала! Людовик и Боско, по существу, надеялись только на случай, а это не могло принести существенных результатов. Собачий нюх Боско привел его на улицу Де-Муан, где встретили свою погибель Лишамор и мамаша Башю. Ему было известно о предположении месье Гаро, что именно здесь похититель укрывал ребенка. Решив провести собственное расследование, Боско опрашивал соседей и консьержей и в конце концов умудрился стать для всех личностью подозрительной. Поиски длились несколько недель и привели лишь к тому, что Боско с ног валился от усталости, а Людовик впал в отчаяние, ставшее еще острее и невыносимее, когда Мария рассказала ему об ухаживаниях барона де Валь-Пюизо, с некоторого времени зачастившего в особняк Березовых. — Он что, претендует на вашу руку? — спросил студент любимую, чье поведение показалось ему несколько скованным. — Боюсь, что да, — простодушно ответила девушка. — Но, — в тоске заговорил юноша, — позвольте, а условие… Ведь для того, чтобы на вас жениться, надо… — Надо вернуть домой нашего Жана… — И что же, этот вертопрах, этот пижон, которого я уже инстинктивно ненавижу, собирается предпринять поиски?.. — Уже предпринимает и даже убежден, что преуспеет. — С ума можно сойти! Я останусь один… Мария, мадемуазель Мария… Вы согласились бы… стать… Но я же вас люблю! Я вас боготворю! — Друг мой, — твердо перебила его Мария, — необходимо разыскать ребенка. Вы знаете, каким обязательством я себя связала. — Но вы же не любите его, этого!.. — Разумеется, не люблю. — И вы можете согласиться стать женой нелюбимого человека?! — Я смогу пожертвовать собой ради счастья Жермены, даже если потом мне придется всю жизнь страдать. — Но это же немыслимо! Вы этого не сделаете! — Неужели вы не понимаете, что я с радостью умерла бы, что улыбаясь распрощалась бы с жизнью, только бы моя сестра и Мишель вновь обрели свое счастье! Жермена — все для меня, поймите. Она мне не только сестра, но отчасти и мать. Она нянчила меня, растила, баловала, ласкала… Она меня защищала от горестей, бед, лишений… И все это какой ценой! Если бы вы знали, какое у нее золотое сердце, сколько в ней доброты! Людовик, ошеломленный этой эмоциональной вспышкой, понурился, его даже кольнула ревность — молодому человеку показалось, что такая пылкая сестринская любовь препятствует другой любви… Он молчал, испытывая неимоверные душевные муки и мысленно спрашивая себя, любит ли его еще Мария и даже — любила ли она его вообще когда-нибудь. Так как он ни словом не отозвался на ее речь, Мария подняла глаза и увидела, что юноша бледен как полотно, а черты его искажены нестерпимой болью. — Простите меня, друг мой, — вновь заговорила она, — простите, что я так категорична… Я знаю, чем вам обязана, вам, столько сделавшему для меня… — О, ничем! Вы совершенно ничем мне не обязаны. Я был счастлив уделить вам немного моего времени, немного моего врачебного опыта… частицу самого себя… У меня нет никаких особых заслуг, потому что я полюбил вас с первого взгляда. А любовь всегда хочет давать… всегда жаждет самоотдачи. От этого она растет и воспламеняется. А я пока не проявил ради вас никакого самопожертвования. — Вы недооцениваете себя, друг мой. И меня недооцениваете. Скажите, разве я к вам переменилась? — Нет, не переменились. Но если бы вы знали, какую адскую пытку я испытываю при мысли, что вы, моя единственная любовь, можете принадлежать другому! Не слишком ли дорогая плата за счастье ваших близких — пожертвовать вашей молодостью, вашей… не смею сказать… быть может, вашей любовью… Потому что, видите ли… Я надеялся… Да, я, безумный, надеялся… Я говорил себе: быть может, она любит тебя… Ах, если бы вы знали, с каким подъемом, с каким вдохновением я работал, думая о будущем, которое так мечтал бы сделать для вас светлым! Я обратился в честолюбца, да, в честолюбца, я мечтал о славе и деньгах для того, чтобы вы могли быть богатой и гордой, так же, как сейчас добры и прекрасны. Надо ли отречься от этой сияющей грезы, следует ли мне погрузиться в удручающие будни, в тоскливую повседневность? Надо ли отказаться от сладостного идеала, коему вы явились вдохновительницей, и снова стать заурядным лекаришкой, потерявшим и надежду, и веселость, и прежний вкус к жизни? Мария прервала его. Улыбаясь удивленной и немного грустной улыбкой, она чувствовала в глубине души восторг, только после этой яростной вспышки до конца осознав сколь сильно чувство молодого человека. — Друг мой, как же далеко мы зашли, раз вы могли такое подумать! И все лишь из-за нескольких фраз, которые я почла своим долгом вам сказать! Да, я хотела, чтобы вы знали, как велика моя преданность сестре. Да, я хотела, чтобы вы знали, что ради нее я пожертвую собой без колебания, но не без жесточайших мук. И, быть может, умру, их не перенеся… Вы слышите меня? — О Мария, Мария, дорогая! — Ну так вот, моя жизнь в этом случае тоже будет безнадежна и безрадостна. Однако я выполню свой долг. И наконец, почему вы считаете ситуацию такой безысходной? Разве вы утратили всякую надежду? — Нет, я буду бороться! Бороться до победного конца! — И мое желание вашей победы будет вам неотступно сопутствовать. Я всем сердцем жажду, чтобы вы преуспели! Я желаю этого! — Для победы я руку готов отдать! Я выдержал бы любые пытки, только бы завоевать вас! — Ну, такого я от вас не требую, друг мой, исполните лишь то, что пытается совершить некто другой, и, главное, не теряйте надежды. Озабоченный Людовик вернулся в отчий дом, где его ждал Боско. Мария все еще его любит. Но так ли велика эта любовь, чтобы девушка нарушила свою клятву? Безусловно, нет. Да и в конечном итоге, если б Мария и любила его безумно, пламенно, до полного самозабвения, она не из тех, кто пренебрежет долгом ради страсти. Да, она выйдет замуж за де Валь-Пюизо, даже если ей суждено после этого умереть, если тот вернет Жермене маленького Жана. От этой мысли Людовик приходил в отчаяние и ярость. Как, этому повесе, этому ничтожеству без ума и сердца будет принадлежать такое прелестное создание, само воплощение любви и преданности? И все потому, что слепой случай вывел его на след похищенного ребенка! Нет, не бывать этому! Людовика так и подмывало затеять ссору и угостить соперника добрым ударом шпаги. Среди богатых повес встречаются порой недурные фехтовальщики, но Людовик безоговорочно полагался на свою храбрость и ловкость. Он был метким стрелком, а фехтование полюбил еще в детстве и постоянно упражнялся. Да он убьет или покалечит де Валь-Пюизо, если тот помешает ему разыскать Жана! Однако такой путь противозаконен, а интерн уже начинал разделять идеи Марии о самоотречении и самопожертвовании… Пусть Жермена и Мишель будут счастливы, а они с Марией будут страдать. Он заранее испытывал горькую радость оттого, что их любовь зиждется на мучениях. Боско помалкивал, уважая чужое горе. Наконец он не вытерпел и брякнул: — Патрон, я дал вам повариться в собственном соку, надеясь, что вы сами расскажете, что вас так грызет. А вы молчите, как пень. А я ведь ваше доверенное лицо. Вот и давайте, выкладывайте, что это вам душу бередит. Людовик одним духом пересказал ему свой разговор с Марией. Боско слушал вполуха и кивал с видом умудренного опытом человека — мол, уж кто-кто, а он знаток в сердечных делах. Когда молодой человек закончил, Боско долго размышлял, потом покачал головой и бросил сквозь зубы: — Плохо дело! — Не просто плохо, убийственно плохо! Я уже не знаю, на каком я свете! Мы с тобой работали как каторжные, а остались там же, где были и в первый день: ни шагу с места. И я не вижу ни единого луча, ни малейшего проблеска в кромешной тьме, нас окружающей! — Хе-хе, ну, это уж как посмотреть, — проскрипел Боско. — Неужели тебе пришла в голову какая-нибудь идея?! — Может, и пришла. — Ну тогда говори, говори же и не смотри на меня так, как если бы тебе было на все наплевать. Я закипаю! — Давайте, покипите, а я, в ожидании, пока вы маленько остынете, обмозгую один планчик. Сдается мне, что я таки сцапаю зайчика. — Скажи, что ты намереваешься делать? — В жизни не скажу. — Почему? — Дельце-то сомнительное… — Это что, опасно? — Да, для меня, а это в счет не идет. — Я не хочу, чтобы ты подставлял свою шею. — Ах, оставьте. Моей шкуре цена четыре су, но нужно же что-то делать для своих друзей! — Но, добрый мой Боско, что, если с тобой случится какое-нибудь несчастье? — Велика важность! Э-э, однако я с вами слишком раскудахтался. Вы ведь сразу станете мокрой курицей, будете дрожать, как бы я не нарвался на неприятности. Но, черт возьми, у меня их и так было вдоволь, когда я практиковал свободную профессию бродяги. — Хотя бы пообещай, что будешь осторожен. — Это уж да так да. Возьму вид на жительство у самой мадам Осторожности. Я не имею права вас бросить, пока не сыграете свадебку. А уж же́нитесь на вашей красивой душеньке, тогда другое дело. — Браво, Боско! — Студент потряс ему руку. — Но повторяю: будь осторожен! — Так точно, патрон! — последовал хриплый ответ, и бродяга вышел со слезами на глазах, шепча: — Ну что за славный тип! Да я готов, чтоб мне за него… морду набили.ГЛАВА 22
Когда Мими узнала об исчезновении Леона, ей показалось, что она умирает. Для этой нежной, любящей, чувствительной натуры, расцветавшей на глазах от крупицы счастья, удар был непомерно тяжел. Вдруг она попала прямиком в ад безжалостной жизни, причиняющей ей нестерпимые страдания и, более чем когда бы то ни было, угнетающей ее нежную душу. У матери достало сил оказать ей помощь. Вдвоем с плачущей матушкой Бидо они положили девушку на кровать, ослабили шнуровку корсажа и после долгих усилий наконец привели ее в чувство. Блуждающий взгляд Мими инстинктивно упал на манекен, на котором красовалось ее подвенечное платье. При виде его слезы хлынули у девушки из глаз и страшные рыдания вырвались из груди: — Леон!.. Мой Леон!.. И впрямь, контраст между этим нарядным туалетом и отчаянием невесты, потерявшей жениха, был ужасен. Старуха мать, утирая глаза, бормотала голосом, сорванным многолетними сетованиями на судьбу: — Да, выходит, наш удел — одни страдания… Все возможные беды выпадают на нашу долю… А еще говорят, что Бог милостив! Что утешает нас, ибо он нас любит! Что мы должны смиряться и благословлять его имя… Нет, это сильнее меня! В конце концов я восстаю против него, я взбунтовалась! Прачка держала руку Мими в своей, а другой вытирала капли пота, выступившие у нее на лбу. Добрая женщина слишком любила мамашу Казен и ее дочку, чтобы пытаться успокоить их банальными утешениями. — Да, — говорила она, качая головой, — милостивый Бог — байка, выдуманная толстосумами и попами, чтобы не взбунтовались горемыки, обессиленные непосильной работой… Посудите сами, да разве так бы оно велось на свете, если бы людей не приучали всепрощению, смирению и покорности? Я — простая необразованная работяга. Но и мой темный умишко бунтует, когда думаю, как все устроено в нашем обществе… Народ — бедная скотина, всегда его предают и угнетают… Счастье еще, если ты ведешь себя тихо-смирно, если не шебуршишься и даешь над собой издеваться, тебе обещают рай!.. Мими продолжала стонать и тонко вскрикивать, как подранок, напрасно стараясь унять раздирающую ее боль. Мысли метались в ее жестоко потрясенном мозгу: «Не пришел… Не явился в день собственной свадьбы! И никакой весточки… Ни слова, ни записки! Неужели он умер?.. О Леон, Леон, я так тебя люблю…» Матушка Бидо не могла поверить в смерть Леона. Такого смельчака, крепко скроенного, как он, за здорово живешь не убить. А что, если это мальчишник, попойка по поводу прощания с холостой жизнью? Но Леон — это же образец, один из тех редких людей, кого никогда не «заносит». И впрямь, ничего не поймешь… Странная штука — ни одной из трех женщин и в голову не пришло обратиться в комиссариат полиции. Любой буржуа уже давно бы туда помчался и привел в действие всю административную машину. Буржуа любит полицию, жандармов, агентов, короче говоря, всех сторожевых псов, призванных охранять его безопасность. Не важно, что порой они кусают его самого. Что касается народа, он инстинктивно ненавидит полицию, во всяком случае, ей не доверяет. И такое положение вещей вполне понятно. От полиции он всегда получает грубые окрики или тумаки, ибо полицейские всегда тиранят маленьких людей — разносчиков газет, уличных торговцев, извозчиков, ремесленников. Кто из них не знал притеснений от полицейского? Все без исключения, даже дети и женщины, с которыми обращаются по-хамски, волокут в кутузку, невзирая на протесты, вызванные попранием человеческого достоинства, несмотря на очевидные факты, несмотря ни на что. После многих часов неумолчных рыданий Мими вдруг утихла. Она старалась превозмочь нестерпимую, как во время тяжелой болезни, душевную боль, и частично ей это удалось. И так как прошло уже много времени, ей вдруг подумалось, что, быть может, сейчас Леон уже находится дома на улице Де-Муан. Кто знает? А вдруг он болен или ранен? А если в больнице, то и в этом случае консьержка наверняка что-либо знает? И она решила все узнать сама. У нее хватило мужества подождать еще немного — дать время свершиться и плохим и хорошим событиям. Затем, укрепясь мыслью, что решение принято не сгоряча, а вполне продуманно, Мими отправилась в путь. Девушка долго, нежно целовала мать, и мужество ее было так велико, что она еще и утешала старуху, она, сама так нуждавшаяся в поддержке! На лестнице у нее опять вырвались рыдания, но, быстро их подавив и вытерев глаза, Мими вышла на улицу. Дорога показалась ей нескончаемой. Она шла быстро, глядя себе под ноги, сгорая от стыда при мысли, что многие подумают — от нее сбежал жених. Ей казалось, что о ее несчастье все знают. В доме номер 52 по улице Де-Муан узнать ничего не удалось. Тайна так и осталась покрыта мраком. Консьержка ничего не знала и только диву давалась — как это такой порядочный человек, как господин Леон, не вернулся ночевать? Узнав, что Мими и есть его невеста, добрая женщина искренне ей посочувствовала, и, усадив в привратницкой, попыталась утешить, тем самым еще больше бередя рану бедняжки. В полном отчаянии Мими бежала на улицу, не зная, что делать, куда идти. «Все, я пропала, — думала она. — Надо с этим кончать. Жизнь для меня потеряла всякий смысл. Я хочу умереть…» Сена была совсем рядом, и Мими чуть ли не бегом бросилась к реке. Она сейчас кинулась бы под колеса трамвая или омнибуса, так овладела ею жажда смерти. Улица Де-Муан всегда была заполнена мчащимся транспортом и довольно опасна для пешеходов, и это единственное помешало девушке исполнить свое горестное намерение. Она торопилась поскорее выйти на авеню Клиши и, боясь, что у нее не хватит духу, говорила себе: «Если меня принесут домой искалеченную, израненную, маменька умрет от горя. Если же просто найдут мертвой, она будет только рада». Взрыв громкого издевательского хохота стеганул ее как кнут. Она вздрогнула и остановилась как вкопанная. Кто смеет насмехаться над ней в тот момент, когда смерть вот-вот примет ее в свои объятия?! На звук развязного голоса она обернулась. — И куда это, красотка, ты так бежишь? На какое такое свидание? Мими узнала Клеманс, уже не раз пристававшую к ней на улице и зазывавшую к себе в гости на улицу Дюлон. Она опустила глаза и хотела прошмыгнуть мимо. Однако от той нелегко было отделаться. С угрожающим видом, гримасничая накрашенным ртом, девица выпалила: — Так что, сегодня вы наконец заглянете ко мне в гости? — Нет, спасибо. — У Мими перехватило горло. — Спасибо «да» или спасибо «нет»? — Нет, прошу вас… — А, однако, у меня можно хорошо поразвлечься! Если у вас плохое настроение, об этом похлопочет один красавчик. — Нет, оставьте меня!.. Клеманс громко захохотала и схватила Мими за руку. — И все-таки готова держать пари, что вы бы ко мне пошли, если бы его знали! — Клеманс становилась все более настойчивой. — Это мой старый хахаль. Мы с ним в свое время неплохо побарахтались. Мими слабо отбивалась от этой дылды, чье поведение казалось ей все более странным. Так как они приближались к улице Клиши, Мими надеялась, что вырвется из рук девицы или даже кликнет кого-нибудь на помощь. — Да, мы вместе провели эту ночку, — продолжала Клеманс. — Он сегодня должен был жениться, вот и решил устроить праздник, проститься со своей холостяцкой жизнью. При словах «сегодня он должен был жениться» Мими вздрогнула и застыла как вкопанная. Ей впервые пришла в голову мысль о возможной неверности со стороны жениха. Ах, только б это был он! Мими готова была простить ему даже измену, только бы знать, что с ним все в порядке. Она любила его до такой степени, что все мучения, все беспокойство нынешнего дня отступали на второй план — лишь бы он был жив! О да, позже она сумеет вновь завоевать его и удержать подле себя. — А-а, так, значит, вас заинтересовала моя маленькая история? — спросила Клеманс, видя, что Мими не двигается с места, задыхаясь от волнения. — Да, может быть… — А самое интересное, что я, желая отомстить девке, отбившей моего приятеля, сыграла с ним презабавную шутку. — Да что вы говорите?! — О, я вижу, мои россказни задевают вас за живое. Комедия и впрямь забавная. Когда мой ухажер вволю позабавился, я подлила ему в вино доброго зелья, сильного наркотика. Он хлебнул вволю и, заснув мертвецким сном, и сейчас еще храпит так, что стены дрожат! — Не может быть, — прошептала потрясенная Мими. — Я вышла из дому двадцать минут назад, решила подышать воздухом. А тут и вас повстречала. Да, дрыхнет сном праведника, бедняга Леон! — Вы сказали: Леон?.. — Мими побелела как полотно. — Да, Леон Ришар, так зовут моего дружка. Красивый малый, художник-декоратор. А вы что, его знаете? Лицо дылды исказила издевательская и злобная улыбка, словно, зная обо всем, она с истинно женской жестокостью решила поистязать несчастную Мими. Сомнения рассеялись. Леон жив. А все муки, вся тревога разрешились фарсом, устроенным уличной потаскушкой. Внезапно Мими засомневалась: — Я вам не верю! Это неправда! Вы врете, Леон не способен на такое! — Так вы его знаете, моего распутника ухажера?! — цинично захохотала девица. — Нет, это невозможно! — Эге, а моя история вас, видать, сильно огорчила? А вы случаем не та невеста, от которой жених улизнул из-под венца? Вот потеха! — Да, это я! Это меня он любит и на мне хочет жениться! А вы врете, врете, врете! — Бедная малышка! И ведь нет ничего проще, как убедиться собственными глазами! Пойдемте вместе ко мне на улицу Дюлон и, не будь я Клеманс, если вы не найдете Леона Ришара, беспробудно дрыхнущего в моей постели. — Ну что ж, будь по-вашему! Пойдем и посмотрим! Клеманс чуть заметно вздрогнула, краска выступила на ее щеках. — Вы убедитесь, что я вас не обманываю! В полном молчании они миновали улицу Де-Муан и вышли на улицу Дюлон. С лица Клеманс не сходила все та же злобная ухмылка, она не спускала с Мими жестокого взгляда. Мими делала над собой сверхчеловеческие усилия, чтоб сдержать слезы и не разразиться рыданиями. Она хотела скрыть от Клеманс свою боль и храбрилась, хотя сердце ее разрывалось. Когда они вошли в парадное Клеманс, Мими заколебалась. А что ей, в сущности, там делать? Подобающее ли это для нее место? Зачем нарываться на тягостную сцену, если Леон действительно совершил клятвопреступление против их любви? До сих пор в ней жила тень сомнения, полной уверенности не было. Клеманс, ухмыляясь, следила за ее колебаниями. — А-а, трусите? — заговорила она своим странным голосом, в котором иногда проскакивали чуть ли не мужские нотки. — Да у вас душа в пятки ушла! — Нет, я не трушу! — резко прервала ее Мими. — Боитесь увидеть вашего женишка, да еще у меня в постели! — Она закатилась от смеха. — Если боитесь или не решаетесь, я пойду сама. Улягусь рядом с ним, и мы славно повеселимся за ваше здоровье. Последние слова стегнули Мими как кнутом, и ей показалось, что ей вонзили кинжал в самое сердце. Она махнула рукой. — Показывайте дорогу, я следую за вами. Они быстро поднялись по лестнице, остановились на площадке пятого этажа, и Клеманс открыла дверь своим ключом. Они пересекли квадратную прихожую размером с два носовых платка, и Клеманс отперла вторую дверь, ведущую в комнату, меблированную не без некоторого шика. На полу лежал большой ковер. Единственное окно было забрано двойными шторами из шелковой узорчатой ткани цвета сливы. Затем — шезлонг, два маленьких кресла, зеркальный шкаф, большая кровать из палисандрового дерева с подзорами, напоминающими занавески на окне. На покрытом скатертью столе — остатки обильного ужина. В комнате пахло сигаретным дымом, вином, дешевыми духами, бившими в нос и кружившими голову. Мими душило отвращение — неужели Леон, человек, которого она любила, провел ночь в этом вертепе, валялся на этой постели? И действительно, на кровати лежал какой-то мужчина и храпел. Клеманс потихоньку повернула ключ в замке и подошла к кровати. Она отдернула шторы, и потоки дневного света хлынули в комнату. Лежащий потянулся, зевнул, как будто просыпаясь, и разразился хохотом. Оторопевшая Мими воскликнула: — Но это же не Леон! Клеманс со странной улыбкой ответила: — Да, моя птичка, это не он! Но надо же было найти способ вас сюда заманить, вы ведь упирались. Мими, заслыша этот голос, чей тембр резко изменился, широко раскрытыми глазами в ужасе смотрела на девицу. Вместо хоть и хрипловатого, но вполне женского голоса Клеманс говорила теперь мужским голосом, странно контрастирующим с ее дамским платьем. — Но, Бог мой, вы же не Клеманс! — вне себя от страха, заикаясь, вымолвила Мими. — Вы — мужчина! Мужчина, переодетый женщиной! — Да, моя кошечка, я действительно мужчина. Всегда к вашим услугам. В это же время лежавший незнакомец поднялся на ноги. Он был полностью одет и, хохоча, как и фальшивая Клеманс, подошел вплотную к Мими. — Черт возьми, — он разглядывал девушку так, что та содрогнулась, — а она-таки сущая милашка, эта крошка! Славно будет попробовать такой лакомый кусочек… по очереди. Как ты на это смотришь, Костлявый? — Согласен, Соленый Клюв, старина. Малышка что надо. Бросим жребий, и да здравствует любовь! Мими почувствовала, что пропала. Она сделала попытку броситься к окну, разбить стекло, и позвать на помощь. Но Костлявый грубо обхватил ее обеими руками и парализовал всякое сопротивление.ГЛАВА 23
Расставшись с невестой, Леон Ришар медленно возвращался домой. Не глядя по сторонам, он шел знакомой дорогой, ведущей в его скромное обиталище на улице Де-Муан, миновал участок улицы Лежандр между улицами Сосюр и Бурсо и, свернув налево, очутился перед решеткой сквера, откуда брала начало улица Де-Муан. Он думал о нетерпеливо ожидаемом «завтра», когда Ноэми, дорогая Мими, станет его женой. Сердце при этой мысли билось чаще, сладостная дрожь волнами проходила по телу. Вдруг вся жизнь пронеслась перед его мысленным взором, со всеми ее неусыпными трудами, горькими минутами одиночества, непрерывной борьбой и, главное, неутолимой жаждой идеала. А теперь, хотя заботы и удвоятся, навсегда покончено с одиночеством, изнурявшим его душу. Леону представилась Мими в его объятиях, Мими, любящая и отдающаяся ему без страха и сомнения. — Завтра, о, завтра!.. — шептал юноша. Минует всего несколько часов, и их жаждущие друг друга души и тела сольются вместе — наконец наступит полное единение двух, предназначенных друг другу существ, чья встреча была предопределена судьбой. — Завтра, завтра… — бормотал юноша. И тут он рухнул с небес в мерзкую действительность. Несколько донесшихся до него слов прервали очарование грез. За ним по пятам шла какая-то женщина: быстрые каблучки цокали по асфальту. Леон двигался вдоль ограды сквера и как раз очутился в темноте между двумя фонарями, когда женщина настигла его, подойдя вплотную. Леон был настоящим парижанином, и подобного рода приставания его нимало не волновали. Воров он не боялся, врагов у него не было, кроме того, физическая сила позволяла ему не опасаться бродяг, отбирающих кошельки, а порой и убивающих случайных припозднившихся прохожих. — Иди ко мне, красавчик, — говорила женщина. — У меня и паштет есть, и ветчинка, и выдержанное винцо, и бутылка шампанского. Леон раздраженно пожал плечами и ничего не ответил. Потаскушка прибавила ходу и пошла рядом. Несмотря на то, что его молчание не должно было бы никак поощрить ее к новым попыткам, она не сдавалась: — У меня уютно, мы устроим праздник, прежде чем заняться любовью. Будучи мужчиной, для которого женщина, даже падшая, заслуживает обходительности и снисхождения, он ответил: — Мадам, вы обратились не по адресу. Я не расположен устраивать никаких праздников. — И декоратор устремился на другую сторону улицы. Дамочка продолжала упорствовать: — Да посмотрите же на меня! Разве я не шикарная женщина! Она крепко вцепилась в него. Леон увидел красивую, элегантно одетую девушку с непокрытой головой, напоминавшую продавщицу из дорогого магазина. — Прошу вас, не настаивайте. Последовал иронический вопрос: — Вас что, зовут Иосиф?[64] — Да, — засмеялся он, — совершенно верно: Иосиф. И как бы вы ни были хороши собой, я поведу себя совершенно так же, как библейский Иосиф. Прощайте, сударыня. Но женщина так не считала. Под фонарем, преградив Леону путь, она воскликнула в досаде: — Даже если меня обуяла страсть? — К кому? — К вам, черт побери, господин Иосиф! — Но мы же с вами не знакомы! — О, еще как знакомы! Я поджидаю вас здесь уже много дней… Вы нравитесь мне… Я выпила три бокала шампанского, прежде чем решилась… Иначе никогда бы не осмелилась… Леон начинал терять терпение — чем дольше длилась эта сцена, тем более смешной и неловкой становилась ситуация. Он ускорил шаг и очень сухо прервал странные излияния девицы: — Ладно. У меня нет больше времени вас выслушивать. Прощайте! Решительно схватив его руку, она залепетала какие-то безумные мольбы и угрозы, стараясь, несмотря ни на что, повести его за собой. Леон пытался отстранить ее, но она все прижималась плотнее. Пытаясь оторвать ее от себя, он подумал: «Да она сумасшедшая! Или пьяная! Что за чертова кукла!» Затем декоратор повторил более резко: — Послушайте, оставьте меня в покое! Шутка, к тому же дурная, зашла слишком далеко! Он только что зашел за угол садовой ограды и, отбиваясь от потаскушки, не заметил, как четыре тени, ловко перепрыгнув через ограду, выскочили из сада на улицу и затаились в темноте. Четверо мужчин в коричневато-серых блузах, кепках и туфлях на веревочной подошве оказались в нескольких шагах у него за спиной. Инстинктивно Леон почувствовал приближающуюся опасность и вырвался из объятий проститутки. Она испустила пронзительный вопль: — Ай, вы сделали мне больно! Грубиян! — и, отступив от Леона, быстро сунула руку в карман. Раздался свист. Их окружили четверо мужчин, готовых на него наброситься. «Сутенеры, — подумал Леон. — Это в порядке вещей. Но они еще не знают, какую трепку я им сейчас задам!» Женщина пронзительно вскрикнула, и он невольно повернул голову. В то же мгновение она бросила ему в лицо полную пригоршню какого-то порошка. Ослепленный, задыхающийся, он зарычал как зверь, попавший в капкан. Вытянув руки, он пытался нащупать стену и, споткнувшись, чуть не упал. Резкий, едкий запах окутал его. Это был перец. Злодейка, парализовав атлета, отдала его во власть четырех головорезов. Глаза жгло, как будто их залили расплавленным свинцом. Из могучей груди вырывались хриплое дыханье и спазматические, конвульсивные приступы кашля. Из носа начала капать кровь. Это была отвратительная пытка. Леон понял, что его хотят убить. И мысль об утраченном счастье, о горе, которое обрушится на его невесту и ее мать, молнией пронеслась в его мозгу. — Бедняжка Мими! — прошептал он. Его прервал взрыв злобного хохота, и писклявый голосок прокричал: — Он вышел из игры! Делайте свое дело! Сокрушительный удар трости со свинцовым набалдашником обрушился на голову художника. Ноги у него подкосились, но благодаря необычайной выносливости он не упал. Опираясь о стену, он, как слепой, шарил руками в воздухе и рычал: — Трусы! Трусы! Подонки! Даже не позвав на помощь, он, несмотря ни на что, пытался обороняться, прижавшись спиной к стене какого-то дома. Несмотря на превосходящие силы, нападавшие держались на расстоянии, явно опасаясь его рук, чья сила, без сомнения, была им хорошо известна. Один из бандитов крадучись приблизился и, когда Леона охватил сильнейший приступ кашля, дал ему подножку. Удар кастетом едва не оказался смертельным, Леон упал, уже ничего не видя, и простонал: — Мими… Бедная Мими! Удары градом посыпались на его многострадальное тело. Инстинктивно он старался прикрыть руками голову, но скоро последние силы оставили его и руки опали. Слышались глухие удары по груди и спине, трещали ребра. Он хотел позвать на помощь, но уже не мог. Левую сторону груди прожгла острая боль от вонзившегося ножа. Он захлебнулся кровью и, цепляясь за ускользающее сознание, мысленно произнес: «Я умираю! Прощай, прощай, Мими!» Убийцы продолжали наносить удары все с той же неумолимой жестокостью. Наконец один из них, очевидно, устав, обратился к остальным: — Думаю, готов. Мы славно отработали свои денежки. — Да, — согласился другой, — он получил достаточно. — Ладно, ребята. Оставим его валяться здесь. — А ты не боишься, что он получит насморк? Шутка была встречена общим ржаньем. — Ладно, идемте на ту сторону сквера, получите окончательный расчет. — С удовольствием, патрон. Работать с вами — одно удовольствие. «Патрон» убийц, человек с писклявым голосом, одетый под настоящего бродягу, повел своих сообщников вдоль ограды сквера, под фонарем отсчитал каждому по пятьдесят золотых луидоров, затем вернулся к бесчувственному, а вернее бездыханному, телу Леона Ришара и яростно пнул его ногой. Низкая месть труса!ГЛАВА 24
Боско безусловно был человек незаурядный. Этот парижанин без роду и племени, нахватавшийся понемногу отовсюду, побывавший во множестве переделок, будучи себе на уме, был на редкость сметлив. По обличию и повадке простой бродяга, этот доморощенный философ, чтобы прожить худо-бедно, перепробовал множество экзотических наистраннейших, порой до неправдоподобия, профессий. Ясное дело, он был вынужден якшаться со всяким городским отребьем, подонками, не соблюдающими в жизни ни правил, ни законов. Отнюдь не понаслышке он знал, что порок торжествует, что преступление в этом мерзостном мире может быть делом почетным. И примеров тому было предостаточно. Сутенеры, убийцы, воры давали ему бесплатные уроки. Множество раз его пытались завербовать то в тот, то в этот клан. И никогда он не попадался ни на чей крючок. Боско был органически чужд пороку, как некоторым людям в той же мере чужда добродетель. Встречается иногда такая порядочность, вытравить которую не могут ни дурной пример, ни одиночество, ни нищета. У Боско она доходила до такой степени, что он предпочитал приписывать себе вымышленные преступления, лишь бы получать тюремную пайку. Живя в мире негодяев, он потерял всякие иллюзии, если допустить, что они у него когда-либо были. С раннего детства он стал недюжинным пронырой, познал всю изнанку жизни городского дна, в совершенстве владел арго — этим грубым, полным циничных образов языком, придуманным бандитами для собственного употребления. Он знал всех сомнительных личностей, знал, какой из мошенников на чем специализируется. Несмотря на то что он никогда не принимал участие в откровенных преступлениях, в преступном мире Боско терпели, так как знали его, если можно так выразиться, рыцарскую повадку; никому, никогда, ни при каких обстоятельствах он не сболтнул лишнего слова. Мало того, что он не выдал ни одного воровского притона, которые волей-неволей вынужден был посещать, он умудрялся еще и оказывать их завсегдатаям некоторые мелкие услуги — что вы хотите, черт возьми, жизнь выставляет свои требования! К тому же, «уважая» Боско, люди, стоящие вне закона, порой подкармливали его из милости, в то время как порядочные горожане игнорировали существование бедняги, спокойно давая ему помирать с голоду. Таким образом подготовленный, Боско стал для Людовика Монтиньи бесценным помощником. До сих пор студент не совершил ничего полезного для дела. Однако, когда у него появился соперник в лице барона де Валь-Пюизо, у Боско зародился довольно ловкий план. Не говоря о своих намерениях студенту, он попросил у него немного денег. Людовик дал ему сто франков и спросил: — Этого довольно? — Мне бы хватило и шестидесяти. — Я сейчас при деньгах, так что бери, не стесняйся. — Ладно. Вы только не беспокойтесь обо мне, я одну-две, ну, максимум три ночи не буду ночевать дома. — Почему? — Вы мне доверяете? — Абсолютно доверяю. — Тогда разрешите мне поступать так, как я найду нужным, и не расспрашивайте меня. Прошу у вас свободы для маневра, ибо могут обнаружиться нити, способные завести далеко, прямо-таки к черту на кулички. — Но ведь ты можешь шею себе свернуть! — Не велико горе! Да вы не бойтесь, патрон. Я бывал в переделках и почище и всегда выходил сухим из воды. До скорого! В силу сложившихся обстоятельств Боско вновь облачился в лохмотья, в которых чувствовал себя как нельзя лучше. Важно удалившись, он вскоре оказался у особняка Березовых и, позвонив в дверь, спросил у швейцара адрес господина барона де Валь-Пюизо. Швейцар окинул оборванца презрительным взглядом и поинтересовался, кому это понадобился адрес барона. Боско с удовольствием выкинул бы перед ним какое-нибудь коленце в стиле парижского Гавроша[65], но, по здравому размышлению, решил, что надо сохранять серьезность, дабы не терять времени зря. Он пояснил, что явился по поручению господина Людовика Монтиньи, медика, лечившего барышню Марию, и что это именно ему понадобился данный адрес. Швейцар смягчился. Ученик доктора Перрье пользовался уважением, все его любили — и за веселый нрав, и за преданность, и за то, что для каждого у него находилось доброе слово. Славный малый, не гордец, он покорил всех. Покопавшись в указателе, куда заносили адреса посетителей, не значившихся в справочнике Боттена, швейцар объявил Боско: — Господин барон де Валь-Пюизо проживает на улице Прованс, в пятом номере. Боско поблагодарил и удалился такой довольный, как будто столь простая информация могла его осчастливить. Явившись на улицу Прованс, он стал осматриваться, чтобы найти наиболее удобное место для той долгой, требующей большого терпения работы, которой намеревался заняться под самым носом у барона. Как раз напротив дома находился винный погребок, и Боско решительно направился туда. Он заказал абсент и, вместо того чтобы выпить его залпом, прямо у стойки, как делали завсегдатаи этого заведения, сел за столик и смешал аперитив с тщанием и ловкостью, свидетельствовавшими, что он не новичок в этом деле. Затем стал маленькими глотками прихлебывать и смаковать напиток с видом человека, которому некуда спешить. Придя сюда, он рассудил весьма здраво: «У барона де Валь-Пюизо много слуг мужского пола. Девяносто шансов из ста, что они заходят сюда пропустить стаканчик-другой. Скоро я это вызнаю. Если ходят, в чем я почти уверен, то в течение суток я буду знать всю подноготную их хозяина». Сам же Боско еще и в глаза барона не видел, что, впрочем, нимало не смущало этого пройдоху. «Да, это, пожалуй, единственный выход, — размышлял он. — Удивляюсь, как это князь не додумался до такого. Ну да все эти богатеи — сущие лопухи». Но тут течение его мыслей было прервано — появился персонаж, которого Боско хоть и надеялся встретить, но чье явление именно здесь так поразило его, что он едва не вскрикнул, но мгновенно овладел собой и стал разглядывать пришельца. Чисто выбритый, курчавый, тот был одет заправским кучером. «Он?! Он — кучер?! А может он у него за кучера?» Вошедший подошел к стойке. — Плесните-ка мне легонького перно, добрейший папаша Троке. — С удовольствием, месье Констан! — залебезил трактирщик перед хорошим клиентом. — И давай пошевеливайся! Мне через пятнадцать минут карету закладывать. Пока хозяин суетился, Боско надул щеку и стукнул по ней средним пальцем. Щелчок получился довольно громким. Констан любовался в зеркале своим изображением, он заметил жест, хотя головы и не повернул. Тогда Боско смачно плюнул на пол и прижал к правой щеке изогнутый дугой большой палец. Трактирщик ничего не заметил, а если и заметил, то не понял происходящего. Глядя по-прежнему благодушно, Констан тоже прижал большой палец, изогнув его дугой, к правой щеке и плюнул с не меньшим смаком. «Эге, — подумал Боско, — не бросил он своих бандитских делишек. А коли и притворяется кучером, так это для отвода глаз. Он сволочь редкая и совсем не прост». Боско заплатил за выпивку и вышел первым. Констан с видом человека, крайне торопящегося, бросил мелочь на стойку и выскочил следом. Он нагнал Боско, шедшего медленно, прогулочным шагом, и сказал: — Привет, Боско. — Привет, Черный Редис. — Что означают эти твои примочки?[66] Ты что, разве из нашей банды? — Да нет. Но был бы не против. — Но откуда ты знаешь наш тайный знак? — Дурак. Я и не то еще знаю. От меня никогда ничего не скрывали, потому что известно — я никогда никого не заложил. — Я ничего и не говорю. Но какой такой случай привел тебя сюда? — Просто зашел пропустить стаканчик, между прочим на последние шиши. А тут вдруг ты… Я сразу себе сказал: если Черный Редис остался тем же добрым малым, то одолжит мне монет двадцать. — Усек. Вот тебе двадцать монет, и, если хочешь прибиться к нам, приходи сегодня в одиннадцать вечера в «Безголовую Женщину». — Буду. А вот ты, только не обижайся, такой вид имеешь, как будто холуем заделался. — Да, да, после расскажу, вечером. Теперь мне некогда. — Скажи хоть, кому служишь? — Времени нет. Черный Редис бегом пустился прочь, и Боско остался один. Он бы с удовольствием вернулся в погребок и порасспросил бы о бароне де Валь-Пюизо. Однако боялся навлечь на себя подозрения и потерять те выгоды, которые сулила ему встреча с Черным Редисом. Будучи человеком осторожным и осмотрительным, он проследил, как последний зашел в какое-то скромного вида строение, скорее всего подсобную постройку либо конюшню, но уже через несколько минут вышел в пышной ливрее и уселся на козлы элегантной кареты, запряженной роскошным рысаком. Через две минуты экипаж остановился у парадной дома номер пять. — Ах, вот кабы приятель оказался на службе у барона де Валь-Пюизо, — размечтался Боско. Вскоре из дома вышел какой-то молодой человек, открыл дверцу кареты и, усевшись, бросил кучеру короткое приказание. Экипаж рванул с места, но Боско успел разглядеть лицо неизвестного. Боско обратился к угольщику, глазевшему на отъезжавшую карету, и с удовлетворением убедился, что предчувствие его не обмануло — это он. — Этот мусью — барон де Валь-Пюизо, — ответствовал овернец. — Я хорошо его знаю. Боско удалился, думая: «Уж эту-то физиономию я вряд ли забуду! А вечерком — в „Безголовую Женщину“! Если не ошибаюсь, я повстречаю там славных парней, которые пособят мне в поисках. Ребята, конечно, отпетые, это верно, но иногда они, и только они, способны совершить невозможное. Да и я не промах — с таким подкреплением парнишку мы отыщем наверняка».ГЛАВА 25
В своем рассказе я уже поделился горестным наблюдением об омоложении криминального мира. В прошлые времена бандиты, воры, профессиональные убийцы были, как правило, людьми зрелыми, часто достигавшими весьма почтенного возраста. Сегодня мы не так уж редко встречаем убийц пятнадцати — шестнадцати лет от роду. А попадаются подростки еще моложе, так, недавно полиция, арестовав одну банду, обнаружила в ее рядах четырнадцати-, тринадцати- и даже двенадцатилетних подростков. Эти дети с пугающим цинизмом хвалилисьубийствами, совершенными с изощренной жестокостью. Подобная банда не единственная, существует по меньшей мере еще одна, в течение двух лет буквально терроризировавшая некоторые районы Парижа, особенно свирепствуя в пригородах. Многочисленная, подчиненная железной дисциплине, предводительствуемая энергичным, смелым, дьявольски ловким главарем, эта шайка, состоящая из малолетних негодяев, называла себя «Бандой арпеттов». «Арпетт» на жаргоне означает «подмастерье», но при этом слово имеет несколько уничижительный оттенок. В виду имеется худосочный, болезненный, плохо одетый подмастерье-замухрышка. В конце концов в воровском кругу слово стало употребляться применительно к новичкам, вступающим на преступный путь. В банде арпеттов было всякой твари по паре — не только жуткие бандюги, выходцы из исправительных колоний, но и молодые люди из хороших семей. Например один из них, сын богатого купца с улицы Паради-Пуассоньер, примкнул к шайке после того, как украл из папашиного сейфа двадцать тысяч франков. Этот подросток имел многочисленных подружек, затевал пирушки и кутил напропалую. Он был законченным негодяем и, служа банде ценным наводчиком, отзывался на кличку Шелковая Нить. Другой, чуть помоложе, был сыном нотариуса из пригорода. После того, как отец вполне заслуженно подверг его наказанию, он, как и Шелковая Нить, очистил кассу, а затем поджег дом. Вся семья едва не погибла. Парень, однако, сожалел лишь о том, что этого не случилось. Это был один из самых жестоких бандитов во всей шайке и носил кличку Малыш-Поджигатель. Третьего звали Дитя-из-Хора. Ему было всего тринадцать лет. Он пел в капелле одной из самых главных парижских церквей. Обладатель изумительного голоса и хорошенького личика, белокурый, румяный, он приводил слушателей в восторг и умиление, когда его хрустальный голосок наполнял часовню. Верующие говорили о нем: — Да это настоящее чудо! Когда он, окутанный ладаном, выводит свои рулады, можно подумать, что это ангельское пение! Под его красной скуфейкой, под прозрачным стихарем, сквозь который просвечивалась алая сутана, под обличьем белокурого ангела с голосом серафима скрывалось глубоко порочное существо. Среди многих «подвигов», свидетельствовавших как о преступных наклонностях, так и о психических отклонениях, ему приписывали изнасилование девочки, едва достигшей шести лет! Этот подонок одним из первых прибился к банде «подмастерьев» и, со страстью предаваясь как преступлениям, так и оргиям, вскоре стал у них вожаком. По этим примерам вы можете судить, какими опасными бывают сосунки! На счету у каждого значились поджоги, изнасилования, убийства. Надо сказать, главарь был крайне требователен при отборе новых членов банды. Чтобы быть принятым, следовало не только проявить профессиональную хватку, но еще и пройти испытания. Будучи принятыми в шайку, новички оказывались в железном кулаке главаря, не склонного к шуткам, правда, только при участии «в деле». В остальном же они чувствовали себя вольготно. Некоторые продолжали жить в семьях и с неслыханной ловкостью удирали по ночам то на грабеж, то на гулянку. Бандиты этой категории были не менее опасны, чем другие, так как служили наводчиками, поставляя ценные сведения о тех, кого следовало обокрасть и ограбить. Другие — жили с приятелями на квартирах и уж там веселились напропалую. Наконец, третьи находили убежище у шпиков и осведомителей, получавших долю из бандитской казны. Были и такие, кто бродяжничал, ночуя в карьерах и в печах для обжига извести. Кто б они ни были по происхождению, бандиты проявляли солидарность со всеми членами шайки, и спайка эта была такой крепкой, что для друга не жалели и жизни — вот где кроется объяснение необычайной дерзости их преступлений. В свое время Боско не раз доводилось иметь дело с арпеттами. Они с бандитской щедростью оказывали ему поддержку. Он же в свою очередь оказывал им множество услуг, за что не раз был щедро вознагражден. Что вы хотите, жизнь порой выставляет жестокие требования! К тому же Боско, с детских лет привыкший к созерцанию преступления, возведенного в принцип, не чувствовал к нему такого органического отвращения, которое чувствуют порядочные люди. Для него арпетты были просто людьми, живущими иначе, чем он сам, и чей образ жизни ему претил. Иногда, если не мешали чрезвычайные обстоятельства, «подмастерья» собирались в большом количестве на сходы. Места сборищ менялись в зависимости от обстоятельств. Иногда — в фортификационных рвах, естественно, глубокой ночью. Выставляли часовых, и если туда забредал случайный прохожий, его беспощадно убивали. Помнится, таинственно исчез акцизный чиновник, а через две недели — таможенник. Оба они стали жертвами «подмастерьев». Летом сходки происходили в Венсеннском, а порой и в Булонском лесу, где их никто не тревожил. Бывало — на Северном кладбище, куда молодчики пробирались, перемахивая через забор. В течение долгого времени они использовали огромную баржу для перевозки угля, пришвартованную близ Аустерлицкого моста. На палубе было обустроено убежище, заваленное мешками с углем, где одновременно могли не только поместиться, но и спокойно побеседовать полсотни человек. В случае опасности «подмастерья» «уходили на дно», становясь на время невидимками, прятались в заброшенных карьерах или катакомбах. Там у них имелось надежное убежище, где они могли устраивать пирушки, пить, гулять, драться, предаваться самому мерзостному разгулу. Вдали от посторонних глаз, в укромном, только им известном месте, запасшись винами, ликерами, солониной, консервами, бисквитами и т. д., бандиты могли не бояться полицейских облав, ибо роль полиции в поимке преступников и так непомерно раздута. У господ жандармов без того хлопот полон рот, им не до преступников — ведь они должны выслеживать тех, кто позволяет себе думать иначе, чем правительство, расправляться с народом и мешать трудящимся защищать свои интересы. Так вот, вечером того дня, когда Боско повстречал Черного Редиса, в катакомбах на левом берегу у «подмастерьев» должна была состояться сходка. Подчеркиваю — на левом берегу, ибо на правом тоже расположены огромные заброшенные карьеры Шайо, чья площадь составляет 425 000 м2. Собственно говоря, левобережные карьеры еще более значительных размеров: их площадь — более трех миллионов квадратных метров, и это под городом. Что же касается тех, что находятся за первой чертой городских укреплений, то их громадной площади никто не измерял даже приблизительно. Это запутанная сеть путей, пересечений, узких проходов и ходов сообщения, куда без достаточных оснований не осмелится ступить ни один каменолом. И все это перерыто подземными ходами, оврагами, завалено обломками, осыпями, что делает передвижение труднодоступным и опасным.Черный Редис сказал Боско: «Приходи к „Безголовой Женщине“». Как человек, знающий назубок все сомнительные места Парижа, Боско направил свои стопы в квартал Гобеленов. Он вышел из омнибуса на площади Итали, прошел по авеню Шуази и достиг авеню Иври. Миновав эту темную пустынную улицу, он остановился перед стоящей на отшибе мрачного вида хибарой. Несмотря на то что она была наглухо заперта, слабый свет сочился через щели плохо пригнанных досок двери. Он, как франкмасон[67], стукнул три раза через большие промежутки и вполголоса сосчитал до семи. Затем снова трижды постучал. Дверь распахнулась и тотчас же захлопнулась за ним как мышеловка. Внутри было нечто вроде лавчонки самого низкого пошиба, одной из тех безымянных забегаловок, где ошиваются самые жалкие бродяги и путники, бредущие пешком через ворота Иври. За деревянной окрашенной стойкой возвышался мрачного вида детина, с непомерно широкими плечами. Справа от него лежал колун для колки дров и молоток, слева — топор. При появлении Боско он схватил колун и стал быстро вращать его у гостя над головой с быстротой и легкостью, выдававшими недюжинную силу лавочника. — Полегче, папаша Бириби. А то у меня башка лопнет, как яичная скорлупа. — Покажи условный знак, — хрипло бросил детина. — Ах так, значит, Боско уже не признают, Боско не узнали… — Когда я здесь, то не узнаю никого. — Да, ты верный сторожевой пес «подмастерьям». Вот он, твой знак. Боско повторил те же сигналы, какими обменялся с Черным Редисом, и добавил: — Я сюда пришел не за тем, чтоб отираться в пивнухе… — А чего ж ты заявился? — Хочу прибиться к «подмастерьям»… Морщины на лице человека, откликающегося на странную кличку Бириби, разгладились, лицо прояснилось, он оскалился, что должно было, по-видимому, означать улыбку. — Я так и знал, что ты этим кончишь, Боско. — Лучше поздно, чем никогда, — с беспечной веселостью откликнулся Боско. — Только тогда уже без глупостей. Арпеттом становятся раз и навсегда, а не то жизнь может оказаться очень короткой. — За меня не волнуйся. — Ну, смотри. Так, значит, пройдешь в комнату за лавкой. Откроешь люк погреба, спустишься на шестнадцать ступеней. Там на бочонке найдешь маленькую керосиновую лампу. Возле лампы — деревянная колотушка, ну, знаешь, такой молоток, которым затычки вышибают… — Да знаю я. Продолжай. — Ты трижды стукнешь колотушкой по бочке, затем сосчитаешь до семи, как ты делал, чтобы попасть сюда. К тебе кто-нибудь выйдет. Понял? — Понял. — Знаешь ли, у тебя есть еще время передумать… — Вот уж никогда! И Боско решительно направился по пути, указанному хмурым бандюгой. Наш герой спустился на шестнадцать ступеней, проник в погреб, нашел указанные предметы и трижды постучал. Пустая бочка загудела как гонг. Несмотря на мрачное место, Боско не испытывал ни колебаний, ни страха. Он говорил себе: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Только „подмастерья“ могут мне помочь, только они, а это значит, что я пойду до конца, даже если придется поплатиться своей шкурой». Пока он, произнося этот внутренний монолог, считал вслух до семи, ему показалось, что кусок стены в глубине погреба отодвинулся. В полумраке замаячила чья-то фигура. — Проходи! — послышался шепот из-под опущенного капюшона, полностью закрывавшего лицо встречавшего. Боско повиновался и заметил, что эта странная дверь состоит из пригнанных друг к другу глыб песчаника, скрепленных железными пазами, и защищена изнутри большим металлическим листом. — Дай-ка я завяжу тебе глаза. — Голос был нежный, почти что женский. Он послушно наклонил голову, и плотная повязка легла ему на глаза. — Порядок, теперь я ничего не вижу, — вымолвил Боско. — Дай руку и ступай за мной. Влекомый таинственным поводырем, Боско шел коридором, о размерах которого не мог даже догадываться. Он насчитал сто девяносто шагов. — Нагни голову, — велел проводник. Боско немного замешкался и сильно стукнулся лбом о камень. Он выругался, а поводырь рассмеялся. Заскрипела дверь, затхлый дух ударил в ноздри — это был запах погреба. И, впрямь, он во второй раз оказался в погребе. Они пересекли его и снова стали подниматься по лестнице. Боско насчитал восемнадцать ступеней. Затем лестница привела их в какой-то погреб. Вытянув правую руку, Боско нащупал круглую палку, которая с грохотом упала, задев то ли лопату, то ли заступ. Несомненно, они находились в кладовой, где хранился садовый инвентарь. — Осторожно, — шепнул поводырь. — Не поднимай шуму. Воздух стал вдруг прохладен и свеж. Боско почувствовал запах овощей, влажной земли, конского навоза. Он думал: «Даже странно, как мало они меня боятся! А ведь я сумею разыскать это местечко! Вне всякого сомнения, мы в чьем-то огороде». Прошли еще двести шагов, и гид тихонько сказал: — Стой. Боско повиновался. Поводырь велел ему подняться на какое-то возвышение и предупредил: — Не двигайся, а то полетишь в колодец глубиной добрых пятьдесят метров и свернешь себе шею. Машинально Боско протянул руку и нащупал ворот на железной стойке. Он вцепился в нее, вопрошая себя, что же с ним намереваются делать дальше. Поводырь швырнул комок земли или камешек, послышался зловещий всплеск воды. Несмотря на всю свою отвагу, Боско вздрогнул. Затем ворот заскрипел и широкое ведро, которое Боско, естественно, видеть не мог, стукнуло о закраину колодца. Гид велел ему двумя руками схватиться за веревку и сесть в ведро. — Смелее, не бойся, — прошептал он. Боско, у которого голова кругом шла от всех этих странных и непонятных маневров, покорно влез в ведро. Спуск был скорым, как падение. Немного не дойдя до поверхности воды, ведро остановилось. Боско почувствовал, что кто-то подтягивает его к внутренней стенке колодца, к выемке в песчанике. — Давай руку, и пошли, — проговорил неизвестный. Как и до этого, он повиновался беспрекословно. Две мощные руки подхватили его и поставили на землю. — Дай руку и иди вперед, — повторил голос. Почувствовав запах горящего масла, Боско заключил, что незнакомец освещает себе путь фонарем. Двигались они по довольно обширному коридору, так как могли идти рядом. Боско, взявший за правило считать шаги, насчитал их триста. Устремляясь в неизвестность, он размышлял: «Черт подери, если каждого „подмастерья“ приходится доставлять на собрание таким образом, это немалая работенка! Нет, все эти предосторожности конечно же предпринимаются лишь по отношению к новобранцам». Как только тяжелая, окованная железом дубовая дверь захлопнулась за ним, чей-то голос громко сказал: — Можешь снять повязку. Боско не заставил себя просить дважды. Он живо сдернул платок и вскрикнул от удивления. Сперва ослепленный ярким светом ламп и бесчисленных свечей, он рассмотрел лишь плотную и живописную группу людей, пивших, евших, куривших, словом, кутивших напропалую. Многие из них знали его, так как с разных сторон доносилось: — Боско! Эй, Боско! Значит, и ты прибился к «подмастерьям»! Вот и молодец, котелок у тебя варит! Если кто и при деле, то это только мы! За твое здоровье, Боско! Да здравствует Боско! К нему тянулись руки, ему протягивали полные стаканы, бутылки, куски паштета, ломти ветчины, и тут он узнал многих славных ребят, с которыми ему раньше доводилось иметь дело. Костлявый, Соленый Клюв, Шелковая Нить, Малыш-Поджигатель, Пистолет, Кривоногий, Паяц, Помойная Крыса, Мотылек, Жиголо — все они радостно приветствовали его. И Боско, радуясь, что его так сердечно встречают, говорил про себя: «Гляди ж ты, все они, конечно, висельники, а жратва у них из лучших магазинов. Надо б и мне подзаправиться в интересах дела!» Затем природная сметливость подсказала разведчику: «Чтоб меня черти побрали, если все „ремесленники“ попали сюда тем же путем, что и я. Это заняло бы дня два! Безусловно, здесь есть другой выход». Вдруг зазвенел бронзовый гонг, чей звук проник во все закоулки. Все разом побросали сигары, залпом осушили уже налитые стаканы, одним глотком проглотили пищу, которую рвали их молодые зубы, и застыли, присмиревшие, посерьезневшие. Звучный голос объявил: — Хозяин! И тут пораженный Боско, не веря глазам, с трудом подавил крик.
ГЛАВА 26
Тот, о ком объявлено было «Хозяин!», оказался молодым человеком двадцати, максимум двадцати двух лет, ладно скроенным, одетым удобно, но без потуг на элегантность. На нем была одежда из магазина готового платья, на пальце — золотой перстень с огромным бриллиантом — образец дурного вкуса; в вырезе жилета кичливо сияла бриллиантовая заколка для галстука из тех, какие носят разные подозрительные типы, например, заезжие авантюристы. «Ремесленники» млели, видя, что их шеф носит на груди и пальце булыжники стоимостью двадцать тысяч франков. Его густые, немного вьющиеся черные волосы были пострижены коротким ежиком. Черные брови, черные же тонкие усики придавали лицу выражение особой жесткости. Он был очень бледен, глаза — неопределенного цвета. В конечном итоге приходило на ум, что молодой человек специально сохраняет на лице безразличное выражение, придававшее ему в сочетании с одеждой нарочито заурядный вид. Но время от времени в глазах его вспыхивал огонек, а выражение лица менялось: теперь в нем проглядывало такое достоинство, которое трудно было ожидать от предводителя разбойников. Но это длилось лишь секунду. В мертвой тишине, так неожиданно воцарившейся в этом шумном обществе, главарь уселся в помпезное кресло из резного дуба с высокой средневековой спинкой. «Подмастерья» сидели кто на чем — среди неизвестно кем и откуда доставленной мебели были и раскладные парусиновые стульчики, и даже диван. Рядом с главарем стоял Бириби, силач из трактира «Безголовая Женщина», единственный среди «ремесленников» человек средних лет, чья черная всклоченная бородища являла собой странный контраст с юношескими лицами остальных членов банды. «Вне всякого сомнения, — думал Боско, весь во власти любопытства и удивления, — здесь есть еще один вход». Он пожирал глазами так внезапно появившихся главаря и его опасного телохранителя и спрашивал себя: «Где я видел это лицо? Да, ошибки быть не может, я видел его сегодня, на улице Прованс… Слово чести, если бы патрон Черного Редиса не был блондином, а этот — брюнетом, я бы побился об заклад, что это один и тот же человек. Но ведь хозяин Черного Редиса — барон де Валь-Пюизо, светский хлыщ, и у него не может быть ничего общего с главарем „подмастерьев“. Все эти разбойники глядят на него со страхом, как провинившиеся школьники на строгого учителя». Обведя глазами их неподвижные фигуры, главарь заговорил глухим голосом: — Хорошенькие вещи я о вас узнаю! Что ж, придется заняться чисткой и удалить из нашего сообщества тех, кому я больше не доверяю! При слове «удалить», произнесенным спокойно и холодно, трепет ужаса пробежал по рядам разбойников, закаленных поболее, чем иные бандиты преклонных лет. — Подойди ко мне, Белка. Красивый русый с рыжинкой юноша встал и, побледнев, направился к говорившему. В то же время из груди остальных вырвался вздох облегчения, означавший: «Пронесло! Слава Богу, не меня!» С каждым шагом Белка бледнел все больше, казалось, он сейчас потеряет сознание. Зубы у него стучали, на лице выступили капли пота. — Позавчера ты разговаривал с цветочницей Нини с улицы Шан-де-Лалуэт. Что ты ей говорил? — Я… Я… Того… ничего… Разные глупости… Клянусь вам… — мямлил несчастный. — Ты был пьян в стельку, и отцу Нини, легавому, удалось вытрясти из тебя кое-что. Ты рассказывал о «подмастерьях». Хвастался, что ты один из них. Пообещал подарить девчонке побрякушки из новых трофеев. Короче, заглотил крючок. Но наш кодекс суров. Ты поставил под угрозу безопасность банды и, значит, умрешь. — Пощадите!.. Простите!.. Это больше не повторится! Ничего особенного я не сказал! Так, пустяки, хотел пустить Нини пыль в глаза. Но главарь больше не слушал его. Он подал знак Бириби, и тот, схватив свой ужасный колун, взмахнул им над головой приговоренного. Белка инстинктивно шарахнулся в сторону, пытаясь избежать смертоносного орудия. Удар пришелся не в висок, а в лицо, раскрошив жертве челюсть. Белка, вопя и обливаясь кровью, кинулся наутек. Эта пытка, казалось, забавляла главаря. Вид крови тешил его жестокое сердце, он вскочил с кресла и, выхватив нож, с молниеносной быстротой от уха до уха перерезал Белке горло. Предсмертный крик бандита перешел в хрип. Тогда убийца наступил ногой ему на грудь так, что кровь фонтаном забила из зияющей раны. Рот главаря искривился свирепой гримасой, обнажились белые, острые, как у кошки, зубы. Вдоволь натешившись этим ужасным зрелищем, он снова сделал знак Бириби. Силач согласно кивнул головой и, подхватив труп, поволок его в галерею, расположенную рядом с залом заседаний. Здесь мертвец был сброшен в нечто вроде колодца. Эта экзекуция, безусловно не первая, испугала «подмастерьев» до дрожи. — Дитя-из-Хора! — прозвучал приказ. Красивый блондин, чей певучий голос Боско, кажется, слышал из-под капюшона своего поводыря, вышел из рядов, дрожа, как перед тем дрожал Белка. Ах, как же он тосковал сейчас по курящемуся ладану, по взглядам, бросаемым на него украдкой молящимися, даже по эбонитовой палочке, которой регент иногда бил его по пальцам! — Скажи-ка мне, — насмешливо заговорил главарь, — сколько денег было в портмоне, украденном тобой сегодня утром у толстухи в омнибусе Гренель — ворота Сен-Мартэн? — Сорок франков, хозяин. Ровно сорок франков… — И что ты с ними сделал? — Я поставил их на кон… И проиграл… — Очень хорошо. Ты знаешь, что все деньги следует сдавать в казну, чтобы потом поделить. Не важно, десять су, десять франков… или десять тысяч франков… Никто не имеет права утаить ни сантима. Ты обокрал своих товарищей! — Простите! Пощадите! — рыдал парень, уже чувствуя, как колун Бириби опускается на его голову, вдребезги разбивая череп. — Не убивайте! Я же один из лучших в шайке! — Я этого не отрицаю. Если б не это, ты уже был бы на том свете — ведь наш закон непреложен. Любая кража карается смертью. Но, учитывая твои прошлые заслуги, я решил тебя помиловать. — О, благодарю, благодарю! Вы об этом не пожалеете! — Но твои друзья сами накажут тебя. При этих словах смех прокатился по рядам бандитов, чьи жестокие инстинкты пришли в возбуждение при мысли о пытках, которым они подвергнут виновного. Вся эта мразь и впрямь напоминала волчью стаю. Пока волк твердо стоит на земле, ему нечего опасаться себе подобных. Но горе ему, если он оступится и упадет! Вся стая кидается на него, рвет в клочья и пожирает — эти четвероногие при случае охотно лакомятся друг другом. Люди — те же хищники. У «подмастерьев» слюнки потекли в предвкушении развлечения. В мгновение ока провинившегося схватили и раздели догола. Он отбивался, как дьяволенок, испуская пронзительные вопли. «Подмастерья» выстроились в две шеренги, каждый держа в руке конец веревки и раскручивая ее так, что она со свистом разрезала воздух. — За дело, дети мои! — все так же насмешливо бросил главарь. Веревки замелькали, град ударов обрушился на юнца. Его нежная, как у девушки, кожа покраснела, посинела и начала лопаться. Брызнула кровь, заливая подростка с ног до головы. Он продолжал испускать душераздирающие крики, метался как безумный и, наконец, обессилев, полумертвый, свалился без сознания. Его падение было встречено радостными криками. Так как Дитя-из-Хора лежал бездыханный, хозяин приказал вылить на него несколько ведер воды. Когда тот пришел в себя, главарь объявил: — Просидишь месяц в карцере на хлебе и воде. И не забудь — что я никогда не прощаю дважды. А теперь, дети мои, поговорим о делах. Но прежде еще пару слов. Боско, подойди. Бродяга, на которого вроде бы уже никто не обращал внимания, но кого зоркий глаз хозяина все равно заприметил в толпе, вздрогнул и приблизился. — Черный Редис предложил принять тебя в братство «подмастерьев». Черный Редис — человек проверенный. К тому же у тебя здесь много друзей. Да и сам я тебя знаю. — Неужели и вы? — Молчи, когда я говорю. Ты видел, как здесь поступают с болтунами и ворами? — Видел. — И не переменил решения? Боско понимая, что малейшее колебание повлечет за собой немедленную гибель, поторопился с ответом: — Нет. Он убеждал себя и, вероятно, не без основания, что, когда станет полноправным членом братства, ему легче будет работать на себя. Цель оправдывает средства, а счастье благодетеля Боско стоило того, чтобы достичь его ценой собственной жизни. — Хорошо, — одобрил главарь. — Тебе дадут работу. А теперь хватит зевать, пора за дело. Соленый Клюв! — Здесь, хозяин! — Бывший лакей прелестной Франсины д’Аржан почтительно приблизился. — Как продвигается дело Малыша-Прядильщика? — Он все так же бесится и требует: вынь да положь ему шкуру того парня, так превосходно его отделавшего, — художника Леона Ришара. — Он слишком торопится. Он платит то, что с него запросили? — Да, патрон. — Отлично. Через два дня обделаем дельце с художником. А его милашка, как ее, Мими? — Малыш-Прядильщик хочет, чтобы два-три парня позабавились с ней по очереди. — Лучше и быть не может. Сколько он дает? — Двадцать пять тысяч франков. Плата вперед. — Деньги у тебя? — Вот они. Мнимый лакей вытащил из кармана и протянул главарю две пачки аккуратно сколотых банкнот. Тот пересчитал и добавил: — Итого — двадцать пять тысяч франков за художника, столько же за его девицу. Костлявый, Помойная Крыса, Мотылек и ты, Бириби, займетесь этим делом. Справитесь вчетвером? — Черт подери, патрон, вы же знаете, этот парень, наверное, один из первых силачей Парижа… — Шестьдесят Фунтов пойдет с вами. — Слушаюсь, хозяин, — откликнулся юноша с толстенной шеей и необыкновенно широкими плечами. Ему дали эту странную кличку за то, что он играючи держал на вытянутой руке означенный вес фунтов[68]. — Впятером вы должны его прикончить. — Сделаем в лучшем виде. — Договорились. Костлявый переоденется женщиной и заарканит его. В остальном — полагаюсь на вас. И помните, не позже чем послезавтра малышка должна пойти по рукам. — Да, хозяин, — откликнулся Костлявый. — Я берусь затащить ее к себе, на улицу Дюлон. Услышав гнусные речи, хладнокровно изрекаемые этими гениями зла, Боско задрожал. Поселившись у Людовика Монтиньи, он успел познакомиться с матушкой Казен и ее дочерью Мими. Интерн, как мы помним, не реже раза в день навещал свою подопечную. Боско с удовольствием сопровождал его, неся то медикаменты, то электрический аппарат, с помощью которого Людовик старался восстановить чувствительность мышц. Обе женщины приняли его с распростертыми объятиями, и в сердце бродяги, так долго лишенном ласки, зародилась к ним безграничная привязанность. Познакомился он также с женихом Мими, Леоном Ришаром, с первого взгляда проявившим к нему живейшую симпатию. И Боско, даже и не мечтавший о бескорыстной дружбе, полюбил их всех, как умеют любить люди, чье сердце никогда не ведало счастья. И вот теперь жизни и счастью обожаемых им людей грозила опасность! Малыш-Прядильщик решил отомстить, да еще каким ужасным способом! Боско знал, о чем идет речь, знал, что Малыш-Прядильщик оскорбил Мими и что Леон вынужден был поучить его уму-разуму. И этот жалкий ублюдок решил убить Леона, обесчестить Мими! «Хорошо, что я здесь, — подумал Боско. — Какая все-таки превосходная идея — затесаться в шайку „подмастерьев“! Нельзя терять времени, и надо по-быстрому предупредить Леона». Зная, что впереди у него еще двое суток, Боско успокоился. Сход длился еще больше часа. Затем, покончив с делами, разбойники воздали должное обильным яствам. Еда была превосходна, вина и ликеры — высшего качества. Боско, у которого после жизни впроголодь в желудке всегда находилось свободное местечко, напился и, главное, наелся до отвалу. Раскрасневшийся, насытившийся, с легким сердцем он устремился было за товарищами, мало-помалу покидавшими огромный, обложенный плитами туфа зал. Но непреодолимая сонливость овладела им. Ноги отяжелели и отказывались идти. Веки слипались. Казалось, в нем не осталось ни капли бодрости, ни капли энергии. Мгновение — и сон завладел Боско целиком. Бродяга как подкошенный упал на один из диванов. Не в силах бороться с охватившей его дремой, он в последний раз подумал о друзьях: «Боже милостивый, кто же защитит Мими? Кто спасет Леона»?ГЛАВА 27
Пока Боско спал беспробудным сном; пока Леон Ришар лежал при смерти в больнице, не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения; пока Мими безуспешно пыталась вырваться из лап бандитов-насильников; барон де Валь-Пюизо приказал доложить о себе в особняке Березовых. Очень элегантный, в костюме от лучшего портного, с подкрученными тонкими белокурыми усиками, с чуть растрепавшейся белокурой шевелюрой, он выглядел просто превосходно. Князь и княгиня встретили его весьма радушно, поскольку предчувствовали, что молодой человек принес важные известия. Судя по блеску в его глазах и довольной улыбке, они надеялись, что барон принес хорошие новости. У Марии же, напротив, без всяких видимых оснований горестно сжалось сердце. — Каковы же ваши успехи? — Удалось ли вам что-нибудь узнать? Князь и княгиня с трудом вытерпели несколько минут взаимных приветствий, которых требовала элементарная вежливость. Де Валь-Пюизо, улыбаясь и неотрывно глядя на Марию, с видом дипломата ответил: — Я нащупал верный путь. Теперь только от вас зависит, будет ли возвращен ваш ребенок. — Как?! Что вы говорите?! — пролепетала Жермена. — Возвращение того, кого мы так оплакиваем, зависит от нас, а мы до сих пор ничего не сделали для этого?! — Я неудачно выразился, княгиня. Всему виной мое душевное волнение… Радость оттого, что я уверен — я смогу вас осчастливить… Наконец, моя жизнь целиком зависит от вас… — Я не вполне понимаю вас… Но говорите же, заклинаю, говорите! — Да, друг мой, говорите! — подхватил князь. — Вы не представляете, какие муки мы испытываем с момента его исчезновения! Голос де Валь-Пюизо, до сих пор срывавшийся от волнения, окреп. С проникновенным видом он объявил: — Ребенок жив и вполне здоров. Я видел его! — Вы видели его! — воскликнула Жермена, непроизвольно хватая молодого человека за руку. — О, благодарю вас! Ведь это же правда, да?! Вас не обманули? Я могу надеяться? Жить пусть и в тягостном, но уже отчасти в сладостном ожидании встречи? Малыш не болен? Скучает ли он? Хорошо ли за ним ухаживают? Так ли он хорошо выглядит, как на тех фотографиях, которые нам присылают? Да, взгляните! Эти люди, причинившие нам столько зла, едва не убившие меня, надумали посылать нам его портреты… Разумеется, это в их интересах! Но их жадность радует меня!.. Де Валь-Пюизо, мастерски притворяясь растроганным, выслушал этот поток пылких слов, ожидая момента, чтобы вставить слово. Он рассмотрел фотографии и, со слезами на глазах и скорбными нотками в голосе, заговорил: — Да, мадам, это он, именно этого прелестного малютку мне показали, именно на его лобике я запечатлел поцелуй… Ни князь Михаил, ни Мария даже слова не могли вставить, такая нервная разговорчивость овладела Жерменой. Но при мысли о Людовике, конечно же потерянном для нее, сердце Марии сжималось, ибо она предчувствовала, что станет выкупом за маленького Жана. Вся во власти материнской любви, доведенная до исступления, почти до безумия, Жермена неумолчно говорила, перебивая того, кого хотела слушать, задавая по десять вопросов одновременно, считая ответы слишком длинными, почти не слыша их. Казалось, она находилась на грани обморока. Она жаждала все узнать и, прекрасно отдавая себе отчет в том, что ее нервное возбуждение препятствует этому, не могла совладать с собой. Бедняжка, добрая и любящая душа, она так исстрадалась! Наконец де Валь-Пюизо представилась возможность объясниться. Сначала он повстречал малыша благодаря чистой случайности. Затем предпринял долгие и тщательные поиски и привлек к ним, э-э-э… несколько сомнительных личностей… Словом, тех, по ком виселица плачет… Если им хорошо заплатить, они становятся ценнейшими помощниками… — Но, бедный мой друг, — перебил его князь Михаил, — это должно было стоить вам огромных денег… — Ну что вы, пустяки. Я человек богатый, а деньги, потраченные на святое дело, искупят расточительность, которой я предавался раньше, выбрасывая крупные суммы на разные глупые затеи. — Вы настоящий преданный друг! — воскликнул князь, до боли стискивая ему руку. — Не преувеличивайте ни моей дружеской преданности, ни значения само собой разумеющегося поступка, — отвечал барон, широко улыбаясь. — Видите ли, любезный князь, я отнюдь не так бескорыстен, как вы предполагаете. — Что вы хотите этим сказать? — А то, что у меня есть личный мотив для того, чтобы душой и телом отдаться защите ваших интересов. И весьма достойный мотив… Я бы сказал, всевластный, всемогущий… — Я не вполне понимаю… — Дружба была не единственной движущей силой моего поведения… Но любовь, да, любовь, дорогой князь, что я испытываю с первого же мгновения, как увидел ангела, которого вы чуть не потеряли… При этих словах, не оставляющих никаких сомнений в намерениях барона, Мария, пораженная в самое сердце, вскрикнула и побелела так, что можно было подумать — она вот-вот упадет в обморок. Молодой человек, казалось, не заметил столь очевидно и сильно выраженных чувств и продолжал, не спуская с девушки восхищенного взгляда: — Ибо эта любовь, с которой я не могу и не хочу бороться, была побудителем, можно сказать, единственным двигателем моих поступков… Что вы хотите, человек несовершенен, было бы уж слишком хорошо, если б он всегда действовал бескорыстно, не испытывая никакой личной заинтересованности… — Ваша заинтересованность делает вам честь, — отвечала Жермена, поглощенная своим счастьем и не замечавшая ни бледности Марии, ни ее молчания. — Да, любезный князь, да, дорогая княгиня, — продолжал барон, — ваша юная сестра пообещала руку тому, кто восстановит счастье под крышей вашего дома, и я усмотрел в этом возможность завоевать сердце той, которую полюбил без надежды на взаимность. И впрямь, я сделал невозможное! Любовь придала мне отваги, сил, мужества и ловкости, каких я в себе даже и не подозревал. И сегодня, испытывая неизъяснимую радость и говоря вам: «Я преуспел!» — я обязан этим только своей любви. Теперь, обращаясь к вам, опекунам и попечителям той, ради которой я боролся, осмеливаюсь сказать: «Я боролся для вас. Я победил. Так вознаградите же меня единственным, чего я жажду всей душой…» Затем, не дав раскрыть рта ни Жермене, ни князю, он приблизился к креслу, где в полуобморочном состоянии сидела Мария. Преклонив колено и глядя на нее с невыразимым восторгом, он заговорил: — Мадемуазель, я люблю вас всем сердцем. Позвольте мне посвятить вам свою жизнь, позвольте надеяться на великое счастье стать вашим мужем, приложить все душевные силы для того, чтобы и вы были счастливы. На моем добром имени нет ни пятнышка. Я владею независимым, честным путем полученным состоянием. Вкусы у меня скромные, я враг высшего света, который так справедливо хулят, ибо в нем — гордыня, ложь и предательство. Я полюблю все, что любите вы, такая красивая и добросердечная, если вы удостоите меня хоть словом надежды… Выслушав это выспреннее признание, от которого за версту несло притворством плохого комедианта, Мария почувствовала, что в ее душе все взбунтовалось. Пылкие слова любви вызывали в ней почти болезненное стеснение, стыд, граничащий с отвращением. И впрямь, медовые речи пугали ее, а сам этот красавчик, от которого сходили с ума светские женщины, вызывал у нее одно-единственное желание — держаться от него подальше. Так как Мари не отвечала на объяснение, Жермена внимательно взглянула на младшую сестру. Увидев, что та, пораженная, не в силах вымолвить ни слова, она приписала сперва ее волнение радости разделенной любви. Однако бедняжка Мария, хоть и прошла школу бедствий, так и не выучилась скрывать своих чувств — на ее прелестном личике, как в зеркале, отражалось отчаяние, несмотря на героические попытки его превозмочь. «Неужели она любит кого-то другого?» — подумала про себя Жермена. И, видя в этой любви препятствие для возвращения Жана, княгиня почувствовала, как сердце ее болезненно сжалось. — Ты ничего не говоришь, Мария. — Сдерживаемая ярость все же прорвалась в голосе старшей сестры. — Да, — вступил князь, — говори же, милое дитя. Не оставляй нашего дорогого, нашего бесценного друга де Валь-Пюизо в тягостном неведении. Захваченная врасплох, девушка попыталась заговорить, но не могла. Она лишь часто дышала, как люди, испытывающие удушье. Гордое честное лицо Людовика Монтиньи предстало перед ее мысленным взором. В одно мгновение промелькнуло все ее такое мучительное и такое дорогое прошлое… Ее ранение, преданность друга, отдавшего свою кровь, отдавшего ей и душу и сердце… Их любовь, зародившаяся при таких трагических обстоятельствах, захватила ее целиком, проникла во все потаенные закоулки души, превратив любимого в ее сокровище, воплощение трепетной девичьей мечты, желанного спутника жизни. А он, как он любил ее! В этом она не сомневалась, как не сомневалась и в собственном чувстве. Да, Людовик был предназначен для нее, как и она для Людовика… Души их были родственными, сердца бились в унисон… Казалось, у них была одна жизнь на двоих… К тому же текшая в их жилах кровь устанавливала между ними связь столь же неразрывную, что и любовь… И вот только что другой мужчина потребовал, чтобы Мария убила эту любовь. Отдала бы ему разбуженное Людовиком сердце, тело и сохраненную возлюбленным жизнь… Но ведь это же святотатство! Да еще какое — от нее требуют совершить надругательство над ее любовью! Конечно, она пообещала отдать себя тому, кто вернет домой Жана. Но тогда она еще не любила своего спасителя… Не впустила в сердце священного чувства, над которым теперь ей велено издеваться… Все эти размышления, столь долгие в пересказе, промелькнули в голове Марии с быстротой молнии. В то же время ее молчание, столь тягостное для Михаила и Жермены, затягивалось… И только де Валь-Пюизо, несмотря на внешнюю растроганность и волнение, сохранял спокойствие, непременно бросившееся бы в глаза людям недоверчивым. Его поведение — а ведь он должен был бы испытывать смущение — было продуманным и выверенным до малейшего, самого простого жеста. Но кто мог это заметить?! Отец и мать, в смертельной тоске ожидающие возвращения своего ребенка? Невеста, раненная в самое сердце. — Ну так что же, Мария… — обратилась к ней княгиня, и резкие нотки, простительные в подобной ситуации, зазвенели в ее голосе. Юная девушка содрогнулась всем телом, как бы пробуждаясь от сна. В ее взгляде смешались решимость и боль — подобное выражение великие мастера живописи придавали глазам святых учеников. Она думала: «Жермена и Мишель будут счастливы. Им вернут Жана. Я не имею права сомневаться. Ради них я пожертвую собой… Даже если умру…» Затем, удерживая слезы, подавляя теснившие грудь рыдания, она заговорила крепнущим голосом: — Извините, господин барон, что я не ответила сразу на ваше предложение… как оно того заслуживает… Это… большая честь для меня… Меня взволновала лишь его неожиданность… Я знаю вас совсем мало и никак не ожидала… этого… этих слов, которые вы только что произнесли… Вы вернете нам Жана?.. Нашего любимого малютку?.. — О да, я верну его вам! — решительно заявил де Валь-Пюизо. Сердце его бешено колотилось, так как он действительно по уши влюбился в прелестную девушку. — И как скоро это случится? — взволнованно спросила Мария, разрываясь между надеждой услышать утвердительный ответ и боязнью этого ответа. — Быть может, завтра… Самое позднее — послезавтра, если вы обнадежите меня, пообещав, что снизойдете к моему чувству… — Но это… это торг! — Я обожаю вас. В моей борьбе мне так важно, иметь от вас хоть слово надежды… Одно лишь слово, слетевшее с ваших уст, придаст мне гигантскую силу, храбрость, перед которой никто не устоит… — О Господи, вы говорите об опасности! — воскликнула Жермена. — Вы считаете, что жизнь моего мальчика находится в опасности?! — Нет, княгиня. Для злодеев он является слишком дорогим залогом, чтобы они посмели причинить ему какой-нибудь вред. А если и возникнет опасная ситуация, я справлюсь с ней сам. — Но вы позволите мне тоже принять участие, не так ли, милый друг? — обратился к нему князь в надежде вступить в борьбу за освобождение своего ребенка. — Это совершенно невозможно, вы все погубите, — оборвал его барон. — Надо быть готовым прибегнуть к хитрости, запугиванию, подкупу, наконец, к силе. А отец не сможет использовать все эти способы. Так как негодяй не хотел уходить, не получив ясно выраженного согласия, он приблизился к креслу Марии и нежнейшим голосом произнес: — Мадемуазель, моя любовь должна обрести утешение. Как все настоящие чувства, она застенчива, она трепещет. Так дайте же мне те заверения, которых я единственно жажду со всей возможной скромностью и пылом… Мария еще раз глубоко вздохнула и храбро заговорила: — Господин барон, вы обещаете мне, что Жан окажется на свободе? Что бедный малыш будет вами доставлен сюда через два дня? — Да, мадемуазель. Дитя князей Березовых будет здесь послезавтра, а возможно и завтра, если я сумею… — Я даю вам свое согласие, господин барон. Вот вам моя рука. Де Валь-Пюизо, едва владея собой, издал радостный возглас. Он жадно схватил тоненькие пальчики девушки и запечатлел на ее ручке пламенный поцелуй. — О, ради вас я посмотрю в лицо тысяче смертей! — заверил он. — Берегите себя, барон, ради нас, а главное, ради нее! — воскликнул князь. — Отныне вы стали членом нашей семьи. — О друг мой, князь… У меня нет слов… Радость душит меня, мысли мешаются… — Будьте сильны, подумайте о нас… И не забудьте, я даю приданое за свояченицей. Выходя замуж, Мария получит два миллиона франков. — Но я ничего не хочу… Ничего не прошу… Ведь я богат! — Это не важно. Хоть деньги не могут составить счастья как таковые, но в жизни могут очень пригодиться. Де Валь-Пюизо счел, что протестовать будет дурным тоном. Он откланялся и пошел к двери, уронив только: — Надейтесь! Когда он ушел, Мария, усилием воли державшаяся на ногах, шатаясь направилась к себе в комнату. Она заперлась на ключ, рухнула в шезлонг и только здесь, наедине с собой, зарыдала и запричитала: — Людовик!.. Людовик, любимый!.. Прости меня, так было нужно… Но я умру! Разобью спасенную тобой жизнь, но не буду ему принадлежать! Никогда!ГЛАВА 28
Сочтя Леона Ришара мертвым, бандиты бросили его возле сквера Батиньоль, где так трусливо и подло на него напали. Один из них, казавшийсяглавным, нагнулся над ним, осмотрел и, видя, что художник недвижим и не дышит, авторитетно заявил: — Готов. А теперь — ходу! Только бы на легавых не напороться. И злодеи преспокойно разошлись в разные стороны. Несчастный Леон долго лежал в темноте, раскинувшись на тротуаре. Двое полицейских, из тех молодчиков, что никогда не появляются там, где в них нужда, и в девяти случаях из десяти волокут в кутузку жертву, а не виновника, приблизились к нему небрежной походкой. Один из них, заприметив распростертое тело художника, сказал: — Гляди, пьяница! Естественно, этот страж закона, в чьи обязанности вменяется охрана граждан, не мог, да и не хотел и мысли допустить о преступлении. Второй тотчас же его поддержал: — Ясное дело, пьянь какая-то валяется. Эти грязные работяги наливаются, как бурдюки. — Надо доставить его в участок. Они подошли и грубо ткнули Леона носком ботинка — инстинктивная грубость людей, в каждом усматривающих правонарушителя, а не пострадавшего. Так как их пинки не вызвали у того ни движения, ни стона, первый жандарм продолжал: — В стельку. Второй наконец нагнулся и заметил на тротуаре кровь. — Чертова скотина, — не то смеясь, не то рассердившись, пробормотал он, — всю мостовую замарал. И ведь придется тащить его на руках. — А может, он и сам дойдет? — Это идея. Тогда не придется бежать за носилками. Взяв Леона под руки, они попытались его поставить. — Эй ты, парень, встань-ка, напрягись! — Да ты только посмотри на него! Как марионетка из кукольного театра, у которой перерезали веревочки! Обхватив художника за спину, жандарм почувствовал теплую влагу, намочившую его руку. Он увидел обагренные кровью пальцы и вздрогнул. — Да это не пьяница. У него из спины кровь хлещет… Эк его, беднягу, отделали! — Ты прав. Ножевое ранение. Наконец-то в их сердцах пробудилась жалость грубоватая, но искренняя. Среди отупевших от инструкций стражей порядка иногда попадаются совсем неплохие люди. Они ведь и сами — выходцы из народа, обладающие прирожденной добротой и способные на благородные чувства, несмотря на грубую работу, которую им доводится выполнять. Пока один побежал на пост, другой прислонил Леона к фонарю и попытался привести его в чувство. Конечно же усилия его ни к чему не привели — Леон оставался недвижим, как труп. На носилках его отнесли в комиссариат и, уложив на раскладную койку и пошарив в карманах, попытались установить личность пострадавшего. Это оказалось невозможным — убийцы унесли все имеющиеся документы. Пострадавшему отмыли от перца лицо, попытались остановить кровотечение и наконец доставили на «скорой помощи» в больницу Ларибуазьер. Дежурный интерн мигом вскочил на ноги. Осмотрев больного, он грустно покачал головой и пробормотал: — Бедный парень! Действительно, состояние Леона было ужасным. Лицо его было неузнаваемым с кровоточащими синяками и набрякшими величиной с яйцо веками на изъеденных перцем глазах, из которых сочилась розовая, смешанная с кровью жидкость. В довершение всего, слева, на два пальца выше сердца, зияла ножевая рана — было повреждено легкое. Грудь и спина, истерзанные жесточайшими ударами, были покрыты черными кровоподтеками. И впрямь, надо было обладать геркулесовой силой и живучестью, чтобы после такой обработки не отдать Богу душу! Вопреки всем прогнозам, он все еще был жив, жизнь в нем едва теплилась, каждую минуту могло наступить ухудшение. Интерн сделал перевязку, тщательнейшим образом промыл глаза и нос, где все еще оставался перец, попытался приостановить местное воспаление и ушел в ординаторскую, предупредив медсестер, чтобы немедленно сообщили, если к больному вернется дар речи. Наутро, в восемь часов, Леон все еще дышал. У него началась сильная горячка. Температура подскочила до сорока градусов, состояние больного стало практически безнадежным. Главный хирург больницы одобрил действия и предписания интерна. Он осмотрел больного, ища переломы, изучил ножевую рану и, в сопровождении группы студентов, перешел к постели следующего пациента. Предполагаемый летальный исход ни у кого не вызывал сомнения. Если бы кто-нибудь, знающий безнравственный и пустой образ жизни Малыша-Прядильщика, увидел его в толпе окружавших знаменитого врача студентов, он бы несказанно удивился. Несмотря на то, что подлец не имел ни малейшего понятия о медицине, утром он, с присущим ему нахальством, в сопровождении своего неразлучного Жюстена, известного под кличкой Соленый Клюв, объявился около служебного входа в больницу. Одетые просто, но удобно, эти двое замешались в толпу студентов и вместе с ними просочились в палаты лечебницы. Гонтран Ларами хотел знать, что сталось с его жертвой. Поначалу он решил, что Леон Ришар умер на месте, и огорчился. Он счел, что возмездие длилось слишком недолго. Ему хотелось, чтобы оно было более продолжительным и, главное, чтобы Леон знал, чья рука его покарала. Соленый Клюв наутро побежал в морг. Леона там не было. Значит, следовало искать в другом месте. Если он не был убит, то его, должно быть, доставили в ближайшую больницу. Такой клиникой была больница Ларибуазьер. Гонтран и Соленый Клюв предположили, что там-то Леон и находится. И они не ошиблись. Затесавшись в толпу студентов, никем не узнанные, они присутствовали при обходе и видели, как больного осматривал хирург. Лже-студенты рассмотрели несчастного вблизи и, до конца выдерживая роль, следовали за главврачом в течение всего обхода. Выйдя из больницы, они уселись в такси, и лишь тогда Малыш-Прядильщик заговорил, не сдерживая обуревавшей его ненависти: — Он жив! Да этот тип живуч, как кошка! Соленый Клюв решил, что хозяин сердится на него за то, что они не убили Леона. — Даю слово Соленого Клюва, в следующий раз мы его не упустим! Шлепнем наверняка! — Э-э, нет. Только не это. — Я что-то в толк не возьму… — Я хочу, чтоб он выздоровел. — Патрон, при всем моем уважении к вам, должен заметить, что вы рехнулись. — Это ты, сударь мой Жюстен, ума лишился. — Очень может быть. Но в чем это выражается? — Я заплачу пять тысяч чистоганом, только бы этот проклятый мазила очухался. — И это после того, как вы отвалили солидный куш за то, чтобы привести его в такое состояние?! — Да! — Ну, значит, вы задумали какую-то адскую комедию! — Верно говоришь — «адскую». Перед тем как порешить, я хочу лишить его чести. Жизнь его я, можно считать, взял. А теперь я хочу покрыть его позором, сравнять со всякими висельниками… А то, чего я захотел, я добиваюсь. Уж он меня попомнит! — Шикарная идея, патрон! Пусть узнает перед смертью, что его подружку оприходовали все, кому не лень! Великолепная месть!ГЛАВА 29
Несмотря на все свои благие намерения, несмотря на смертельную опасность, которой он подвергался, внедряясь к «подмастерьям», первого преступления бедняга Боско предотвратить не сумел… Подозревал ли таинственный и страшный главарь, увидя Боско один-единственный раз в день его посвящения, что парень ведет двойную игру? То, что его одного-одинешенька оставили в катакомбах, было ли это обычным недоверием ко всем новичкам или же применили такую меру исключительно к Боско? Бедолага, находившийся, вне всякого сомнения, под влиянием наркотика, подмешанного ему в вино, заснул мертвым сном, но даже сквозь сон мучился мыслью: «Кто же спасет Леона? Кто защитит Мими?» Боско медленно приходил в себя, даже не представляя, сколько он проспал. В голове гудело, во рту пересохло, мысли путались. Ему понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя. Осмотревшись и осознав, что находится в каком-то месте, без стен и потолка, Боско припомнил свою бродяжью жизнь, с ее всевозможными ситуациями, в которые приходилось попадать. Тут и там коптили тусклые ночники, порождая под сводами чудовищные движущиеся тени. В полумраке виднелись в живописном беспорядке расставленные стулья, угадывались очертания лежанок. Над всем этим хаосом витал запах снеди, табака, алкоголя. Наконец Боско пришел в себя и пробормотал: — «Подмастерья»! Я нахожусь в катакомбах! И снова его больно ранила мысль, мучившая бродягу перед погружением в сон: «Леон! Мими!» Одному грозит опасность потерять жизнь, другой — честь! Вспомнив об этом, он соскочил со своей лежанки, будто его током ударило. «Во что бы то ни стало надо отсюда выбраться», — скомандовал он себе. Однако уж слишком хорошо знал Боско все парижские задворки, чтобы не понять: это невозможно! Ах, если бы он был не один! Если бы здесь остался кто-нибудь из «подмастерьев», ловко, как демоны, улизнувших из подземелья! Оплакивая свое бессилие, он пребывал во власти тяжких раздумий, как вдруг услышал, что рядом кто-то громко сморкается. Кто-то живой был здесь, совсем близко! Какой-то человек, ворочаясь на диване, потянулся и забормотал пьяным голосом: — О, мой Бог, какое тяжкое похмелье! Какое похмелье… Боско приблизился и сразу же узнал стонущего. — Это ты, Франжен?! — в удивлении воскликнул он. — Я… — ответил Франжен. — Шишка, всегда к твоим услугам… А ты кто такой? — Я — Боско. — Ах да, вспомнил. Ты вчера прибился к «подмастерьям». Вчера?.. Или позавчера?.. Не помню точно… Я отоваривался вином в дорогих магазинах, вот начальник и запер меня здесь… Пойду-ка я, пожалуй, сосну еще часок-другой. — А мне что-то тут душновато, воздуха бы вдохнуть, — сказал Боско. Пьянчуга радостно заржал: — Ты, старина, что ж, до ручки дошел? — С чего бы это? — Ты что ж, не знаешь, что новичок должен добрый месяц гнить в подземелье? Боско как кипятком ошпарило. — Месяц?! — сдавленным голосом едва выговорил он. — Тогда они пропали… — Кто — они? — Не важно, мои приятели… — Ну-ка не темни. Да и с кем — со стариком Франженом, с самим Шишкой?! У тебя где-то есть хорошенькая милашка? Так я могу ей от тебя весточку передать, какие-нибудь мелкие порученьица исполнить… — Да нет, я предпочел бы выйти на волю сам. — Выйти, когда хозяин не разрешил? Невозможно! Пулю в лоб схлопочешь! С Бамбошем шутки плохи… — Бамбош? А кто это такой? — Да ты что?! Он — главарь «подмастерьев»! — Я в жизни не слыхал, чтоб его так при мне называли. — Забавно. А ведь ты наперечет знаешь всю шпану, из которой первые — «подмастерья». — Да, конечно, но так случилось, что я никогда с ним не пересекался. Так вот, возвращаюсь к моему вынужденному заточению: что, действительно улепетнуть никак невозможно? — Невозможно. Это, можно сказать, своего рода посвящение в арпетты. — Но это же подло! — вне себя воскликнул Боско, мучимый мыслью о Мими и Леоне, обреченных на муки мерзким Бамбошем. — Тьфу, — ответил Франжен, именуемый Шишкой, — выкрутиться всегда можно. — Так я как-нибудь смогу отсюда выкарабкаться? — вопросил Боско. — Нет, не сможешь, но я знаю, где хранятся запасы вин и ликеров… Если туда проникнешь да пару-тройку бутылей отопьешь, так время пролетит очень и очень приятственно… Эти несколько оброненных пьянчугой слов поспособствовали тому, что у Боско зародился отчаянный план. Франжена Шишку, восемнадцатилетнего паренька, которого алкоголизм толкнул на преступный путь, Боско знал хорошо. Знал он и то, что, подпоив Шишку, с ним можно делать практически все что угодно, веревки из него вить. Боско притворился, что целиком и полностью разделяет желания пьяницы и готов потакать всем его желаниям. — Так ты говоришь, что мы должны оставаться здесь, запертые, как крысы в норе? — Да, потому что иначе я и ломаного гроша за твою шкуру не дам. — Ну что ж, пойдем, хоть глотку промочим. Хорошая порция спиртного заставит меня позабыть о том, что на земле сейчас день в полном разгаре… — В добрый час! Ты, братишка, настоящий кореш! Давай-ка выпьем! Шишка знал все входы-выходы в подземелье и провел Боско по неосвещенной галерее, из которой доносился сильный винный запах. Он зажег «летучую мышь», и перед потрясенным взором Боско предстало невообразимое количество бочонков — больших, маленьких, всех форм и размеров. Кроме них там находились в определенном порядке разложенные бутылки, а также плетеные корзины, тоже наполненные бутылками с блестящими этикетками, сулящими массу возможностей. Два друга припали к ящику с настоящим бургундским, истинным вином для ценителей. Каждый откупорил по бутылке и сделал из нее изрядный глоток. — Превосходно! — воскликнул Шишка, полоща вином глотку. — Настоящее вино для знатока, — откликнулся Боско, тоже понимавший в этом толк. Как опытные пьяницы, они мгновенно опустошили свои сосуды. — А ежели попробовать еще и другие марки? — предложил Боско. — Как знаешь, — ответил Шишка. — А что, как золотое шампанское? — Тьфу, это вино для англичан или же для русских… — Не скажи! В нем наверняка что-то есть, иначе оно не стоило бы так дорого! Они раскупорили шампанское, и пробки с грохотом взлетели в потолок. — Скажи-ка мне, а твой Бамбош не устроит нам нахлобучку, когда увидит, как мы разделали его погреб, — спросил Боско, осененный одной идеей. — Не обидится ли он, увидя, что мы с тобой стянули кое-что из его погребов? — Не бойся, — откликнулся Шишка и засмеялся. — Наличными у него не разживешься, но касательно выпивки — он ничего не зажимает. Всяк «подмастерье», оставленный в подземелье, может пить, пока окончательно не налижется. — Славное дельце! Ну, будем! Выпивая, Боско оставался совершенно спокойным и превосходно владел собой. Шишка, напротив, стал болтлив и начал петь песни. Боско заставил его выдуть еще бутылку шампанского — время не терпит. Когда тот дошел до кондиции, он вдруг спросил: — А где ты здесь веселишься, когда уже более-менее надерешься? — Хм, хм, надобно вздремнуть часок, а потом уж и продолжить… — А может быть, лучше перекинемся в картишки? При мысли о картах Шишка, заядлый игрок, глубоко вздохнул. — Черт побери! Вот бы разложить манилью![69] Одна загвоздка — для этого выйти требуется… — Ну так в чем же дело — выскочим на часок! Несмотря на опьянение, превратившее его чуть ли не в слабоумного, бандит содрогнулся. Запрет покидать катакомбы был категоричным, а стало быть, карался неизбежной смертью. Уж слишком хорошо знал пьяница кровожадность Бамбоша, чтобы не сомневаться — тот обязательно его убьет. Странное, извращенное сознание — эти люди сами покорно подставляли шею под ярмо железной дисциплины, передавали в чужие руки абсолютную власть над собой, отрекаясь от собственной свободы, собственного мнения, добровольно становясь отверженными. А ведь было бы куда легче попытаться обеспечить себе почетное положение в обществе, жить, не подвергаясь таким многочисленным опасностям, обеспечить завтрашний день! Но так уж повелось… Этот люд, ведущий беспорядочную, бесчестную жизнь, никак не может постичь, взять в толк, что куда проще двигаться по прямой дороге, — напротив, он предпочитает влачить жалкое, позорное существование, полное злодеяний и ужасов. Шишка на мгновение заколебался, но страх пересилил его страсть к азартным играм. — Не искушай меня, — бросил он Боско. — Я предпочитаю убить несколько часов за доброй бутылочкой, а в манилью перекинуться попозже… Боско стал настаивать, но Шишка уперся. Потом они достигли компромисса — мол, займутся манильей, когда малость протрезвятся. Терзаясь нетерпением, Боско вынужден был сдаться и притвориться, что проявляет все более горячую страсть к вину. Но, дабы сохранить ясность мысли, вино он умудрялся выливать на землю и подносил бутылку к губам лишь тогда, когда в ней оставалось жидкости на донышке. Между тем Шишка становился все более общительным, болтливым и склонным к откровенности. Осторожно его расспрашивая, Боско узнал, что из катакомб, служащих убежищем для «подмастерьев», существует много выходов. Большинство — гораздо более доступны, чем тот, через который доставили Боско. Кроме того, у главаря был собственный выход, но его не знал никто. Все это было замечательно, но как Боско ни упрашивал Шишку показать ему один из них, тот отказывался с пьяным упорством. В то же время Франжен, с трудом держась на ногах, не уставал водить новичка и в продуктовый погреб, и в кладовую, где в беспорядке были свалены самые неожиданные вещи. Здесь было все: одежда, обувь, белье, музыкальные инструменты, книги, картины, посуда, мебель, всевозможное оружие. Именно сюда «подмастерья» являлись переодеваться, экипируясь перед бандитскими вылазками в Париж, в предместья, а порой и в провинцию. В огромном подземелье громоздились вещи, добытые юными злоумышленниками во многих ограбленных ими виллах. Непроизвольно Боско загляделся на громадную коллекцию револьверов, кинжалов, кастетов, карманных пистолетов и тростей, в которые были вделаны стилеты и шпаги. Затем, заприметив крупнокалиберный револьвер системы «бульдог», он без всяких зазрений совести присвоил его. Поискав, нашел целую коробку патронов и, перезарядив барабан, рассовал остальные по карманам. Шишка, заливаясь пьяным смехом, спросил, что он собирается со всем этим делать. — Никогда не знаешь, что может случиться, — серьезно ответствовал Боско, присовокупляя к револьверу также ножище с широким коротким лезвием. — Ладно. А теперь, ознакомившись с достопримечательностями этого жилища, не желаешь ли вернуться и выпить еще? — Как скажешь, — согласился Боско. Они вернулись в винный погреб, не заметив, к несчастью, что по пятам за ними ползет какая-то черная тень. Чтобы потрафить Шишке, Боско, у которого вино уже вызывало отвращение, притворялся, что пьет, и ожидал, сжимая кулаки, что тот выполнит свое обещание. Боско настаивал на своем — выйти наружу, но алкоголик, даже будучи пьяным, все же испытывал к нему некоторое недоверие и продолжал колебаться. — Манилья!.. Это, конечно, дело хорошее… Ты что же, так страстно любишь пиковую даму? Наверняка у тебя что-то на уме? Не говоря ни да ни нет, Боско, распаляясь, попытался воздействовать на чувства бандита, разжалобить его. Он сказал, что должен выполнить священный долг… Что любимая его в опасности… Шишка качал головой, отхлебывая винцо, а притаившаяся черная тень внимательно слушала разговор. Наконец Боско не выдержал. — Послушай, Франжен, дружище, если ты меня сейчас выпустишь, я дам тебе тысячу франков! Тот даже вздрогнул от удивления. — Так у тебя есть деньжата?! — Да, у меня богатенькие друзья, они выдадут мне эту сумму. — Тысяча франков! Да за такие башли[70] и папашу с мамашей кокнешь! — Значит, ты согласен?! Ударим по рукам? — По рукам. Только дай мне еще часок — хочу, чтобы ноги маленько окрепли, да и флакон прикончить надо. «Наконец-то, — сказал себе Боско. — Он согласился! Скоро я отсюда выберусь. Мими и Леон будут спасены!» Именно в это время неизвестный, узнав все, что хотел, бесшумно растворился в темноте. Этот тип двигался по переходам с удивительной легкостью, изобличающей в нем завсегдатая здешних мест. Наконец он, легко открыв какую-то дверь, юркнул в углубление в стене. Зажегши маленький фонарик, он осветил висящий на стене… телефонный аппарат. Да, телефон в недрах катакомб! Воистину «подмастерья» ни в чем себе не отказывали! — Алло, алло! — нежным, на диво музыкальным голосом заговорил парень. — Это я, Дитя-из-Хора. А-а, это ты, Бириби? Очень хорошо. Слушай, у меня срочное дело. Боско с Шишкой выпили… И сколотили заговор… Боско — фальшивка… Скажи хозяину, что это я обнаружил измену… Что я взываю к его доброте… Да… Да… Боско хочет, чтобы Шишка выпустил его наружу… Якобы ему надо спасать друзей… Понятия не имею, каких таких корешей. Говорит: им грозит опасность. И Шишка согласился показать ему лаз… Ладно, буду за ними следить, пока ты упредишь хозяина… Думаешь, он снимет с меня наказание?.. Незаслуженную кару?.. До свиданья, мой добрый Бириби.Франжен Шишка осушил свою бутыль не за час, а за три. Три мучительных часа, в течение которых Боско сгорал от нетерпения, проклинал пьянчугу, считал секунды по биению собственного сердца. Наконец он задремал, потом очухался и заявил: — Ну, а теперь будем сматываться, пошли! Не успели они пересечь огромный зал на перекрестке подземных коридоров, как грозный окрик заставил их замереть как вкопанных. «Все пропало!» — пронеслось в голове Боско. Перекресток запрудила многочисленная группа «подмастерьев» с их страшным хозяином во главе. Тот сразу же заметил застывших на месте Боско и Шишку. «Подмастерья» окружили их плотным кольцом, отсекая малейшую возможность к бегству. Главарь невозмутимо уселся в свое кресло и, не повышая голоса, приказал: — Боско, Франжен Шишка, приблизьтесь! Понимая, что это означает, Боско изогнулся, готовясь к прыжку. Славный парень! Зная, что обречен, он все же не желал сдаваться без боя! У Шишки подкосились ноги. Бамбош, видя, что ни тот, ни другой не двигаются с места, выхватил револьвер и загремел: — Боско, Франжен Шишка, ко мне! Затем он, не привыкший повторять своих приказаний дважды, взял ослушников на мушку. Окружавшие их «подмастерья» инстинктивно отшатнулись. Пуля, оцарапав Боско висок, попала Шишке прямехонько в сердце. Бамбош не успел еще выстрелить вторично, как Боско, перейдя в наступление, быстро прицелился и открыл огонь. К несчастью, бедняга владел оружием отнюдь не с той ловкостью, с какой им владеют разбойники. Он промахнулся и, бросившись вперед, страшно закричал: — Дорогу! И горе тому, кто меня тронет! Зажав в одной руке нож, а в другой — пистолет и раскидывая бандитов направо и налево, пытавшихся заступить ему путь, разя наугад, Боско совершил прыжок, достойный дикого зверя. Снова выстрелив в главаря и опять промазав, он помчался вдоль первой попавшейся галереи. Пока несколько «подмастерьев» пустились за ним в погоню, Бамбош говорил себе: — Живым он далеко не уйдет. Из катакомб не выйдешь, не зная их расположения. Такое под силу только нашим, тем, кто провел здесь годы и годы. А Боско тем временем сломя голову несся по галерее, слабо освещенной все реже попадавшимися ночниками. «Надо где-то спрятаться и осмотреться, — думал он. — Что толку наобум мотаться по катакомбам». Однако перекрестков больше не было, подземные переходы не разветвлялись. Боско слышал своих преследователей и бежал все время вперед, теперь уже в полной тьме. Безумный беглец, которому отовсюду грозила смертельная опасность — овраги, рытвины, ямы, а главное — «подмастерья», все же двигался куда-то, а сердце его разрывалось, и слезы выступали на глазах при мысли, что он не сумел спасти своих друзей. Должно быть, он уже далеко ушел от места сходки. Звуки, отражаемые сводами, слышались менее отчетливо. Боско попытался вернуться назад, надеясь незаметно подкрасться к бандитам. Он надеялся совершить невозможное. Но, сделав шагов пятьдесят, попал на другую дорогу, на третью, и тут окончательно заблудился. До него теперь не доносился ни единый звук. Могильная тишина окружала бродягу. Безмолвие было тем более страшно, что вокруг царила кромешная тьма. Он брел машинально, проходили минуты, а может быть, часы… Он не знал. Он потерял представление о времени и пространстве. Внезапно земля ушла у него из-под ног, он почувствовал, что падает, и камнем полетел в пропасть.
ГЛАВА 30
Когда Мими, очутившись на улице Дюлон в квартире фальшивой Клеманс, поняла, в чьи руки попала, ее обуял несказанный ужас. И тем не менее она испытала горькую радость оттого, что грязная уловка, с помощью которой ее завлекли в ловушку, оказалась клеветой. Нет, ее горячо любимый Леон не мог предать их любовь. Жених оставался достойным ее, как и она — его. Ей наплели, что он провел ночь с какой-то потаскушкой! Ночь накануне их свадьбы! И она, глупая, поверила, ослепленная ревностью! Вернее, решила проверить, убедиться… А никакой Клеманс-то и не было! Все оказалось ложью… Бог мой, как же она страдала, какую ощущала безнадежность, когда так называемая Клеманс рассказывала ей все эти гадости! Но теперь пора опомниться и бороться. Какой бы Мими ни была отважной девушкой, но у нее все же мурашки побежали по коже, когда два подонка, обмениваясь впечатлениями, бесстыдно разглядывали ее с уверенным видом людей, которым некуда торопиться. Костлявый, все еще не сняв всех аксессуаров женского туалета, глядел на нее не отрываясь. — Ну что, девочка, говорил же я тебе, что рано или поздно ты придешь погостить в мою комнатенку. — Пустите меня! Позвольте мне уйти! — пролепетала Мими. Ее слова были встречены взрывом грубого хохота. — Завтра отпустим. — А может, не завтра, а послезавтра! Это зависит от… Слышь, Костлявый, кто будет первым — ты или я? — Мне, собственно, наплевать. А тебе, Соленый Клюв? — Мне тоже, при условии, что она и мне достанется. — Ведь сегодня ваша свадьба, не так ли, милашка? Вот мы ее и отгуляем. При этих словах личико Мими покрылось смертельной бледностью. Простирая к ним руки, она взмолилась: — Пощадите меня, господа, прошу вас! Я никому не причинила зла. Я — бедная девушка, живущая трудами рук своих! Мне с большим трудом удается содержать мать-калеку!.. — Пощебечи, пощебечи, пташка, — откликнулся Соленый Клюв. — Тебе идет эта болтовня. — Господи! Что вы хотите со мной сделать?! — Сделаем из девицы даму! — Глаза Костлявого заблестели, он плотоядно улыбался. — О нет, вы не сможете надругаться надо мной! Это ужасно! Пощадите! Костлявый надвигался на нее, расставив руки. Она отпрянула от него, как от змеи, и вновь испустила горестный вопль: — На помощь! Убивают! Соленый Клюв по-братски пытался помочь Костлявому преодолеть сопротивление жертвы. Мими отчаянно отбивалась. Ее волосы растрепались, опускаясь ниже пояса. Она была очаровательна, и оба подонка, видя такую красоту, разошлись не на шутку. Напрасно Мими кричала, билась, кусалась, царапалась, звала на помощь: — Помогите! Помогите! Убивают! Соленый Клюв изловчился поймать ее, а Костлявый подхватил за ноги. Чувствуя бесстыдные прикосновения двух негодяев, она, в последнем нечеловеческом усилии, вырвалась из их рук и бросилась к окну. «Я выброшусь на мостовую! — решила она. — Лучше смерть, чем бесчестье». Увы! Несчастное дитя было лишено даже такой возможности, доступной всем отчаявшимся людям. Смерть не хотела ее принять! В злодейской своей предусмотрительности бандиты все предвидели — Костлявому пришло в голову обмотать оконные шпингалеты переплетенной железной проволокой. Чтоб открыть это проклятое окно, понадобилась бы добрая четверть часа. Задыхаясь, теряя последние силы, Мими поняла, что погибла. С губ ее сорвался еще более горестный, душераздирающий, тоскливый крик и от бессилия и тоски она разразилась рыданиями. Грубые сильные руки швырнули ее на кровать. Похабное сквернословие Костлявого и Соленого Клюва было неиссякаемо. Мими, понимая, что пропала, мысленно попрощалась с Леоном, с их погибшей любовью и вознесла к небу молитву с просьбой о смерти…Соленый Клюв уже накинулся на девушку, когда его остановил резкий стук в дверь. — Кто-то стучит, черт его дери! Горе тому, кто сюда войдет! — прорычал он. Костлявый выхватил нож и бросил своему сообщнику: — Берись за перо! Кто-то услышал, как верещит девчонка, вот и поспешил на помощь. Под сокрушительным натиском извне входная дверь подалась, треснула и упала на ковер. Какой-то человек одним прыжком очутился в комнате. Вид незнакомца был ужасен — лицо иссиня-бледное, глаза вылазят из орбит, зубы оскалены, на губах — кровавая пена. — Пресвятой Боже! — задыхаясь, прерывающимся голосом прохрипел он. — Я поспел вовремя. В правой руке у него зловеще мерцал нож. Не успел Костлявый и глазом моргнуть, как с перерезанным горлом, почти обезглавленный, без единого крика рухнул на пол. — Теперь — второго! — глухо бросил свирепый пришелец. Соленый Клюв, герой против слабых, трясся всем телом, зубы его выбивали дробь. Дрожащей рукой он шарил в поисках ножа и был даже не в состоянии удариться в бегство. — Боско! Не убивай меня! — заикаясь молил он. Боско захохотал и вонзил в него нож. Мими в полуобморочном состоянии шептала: — Боско!.. Дорогой друг… Значит, я спасена, спасена… — Да, Мими, милая моя сестричка, ты спасена и отомщена. И тут энергия, кипевшая в Боско, разом покинула его, он был на грани обморока. Мими, у которой не было в лице ни кровинки, обезумев, глядела на два тела, распростертых на полу. И впрямь, это было ужасное зрелище! Грозному мстителю Боско пришлось выступить в роли мясника… Упавший навзничь Костлявый хрипел с перерезанным от уха до уха горлом… Из раны фонтаном хлестала кровь, по ковру, все увеличиваясь, растекалась громадная красная лужа… Соленый Клюв, с торчащей из груди рукояткой ножа, тоже агонизировал. Лицо его было искажено мучительным страданием. На губах выступила розовая пена, из горла доносилось клокотание. Не в силах говорить, он пожирал Боско и Мими полным ненависти взглядом. — О, друг мой, дорогой мой Боско, пойдем скорее вон отсюда! Вы меня назвали сестренкой? — Да, Мими… — Так будьте же мне братом! — Как я счастлив! — Я всей душой люблю вас, как родного брата! — И я тоже. Мне кажется, я знал вас всегда и всегда относился к вам, как к любимой сестре. — И вы спасли меня! — Как я счастлив, что успел вовремя! Что не дал вас обесчестить! Это истинное счастье! — Да, брат, я обязана вам больше чем жизнью… — Вы мне обязаны вашим счастьем с Леоном! Милый Леон!.. — растроганно говорил Боско, сжимая руки Мими. Она только молча вздыхала, глядя на него сухими глазами и не находя более слов, чтобы выразить бесконечную благодарность, которую испытывала к своему другу. Произнесенное имя ее жениха заставило девушку затрепетать, и она повторила, как эхо: — Леон!.. Мой бедный Леон!.. Что с ним стало? — Вы не знаете, где он? — спросил Боско, и сердце его сжалось при воспоминании о варварском приказе, отданном Бамбошем. — Не знаю, друг мой. Ведь я отправилась на поиски Леона, когда угодила в эту западню. Вчера вечером он не вернулся к себе домой. А ведь сегодня, вы знаете, должна была состояться наша свадьба… Боско бормотал: — Конечно, свадьба… И я был приглашен… А Леон… Он исчез… Боско скрежетал зубами… Его взгляд упал на Соленого Клюва, и Боско заметил, что покрытые розовой пеной губы умирающего кривит злобная, издевательская ухмылка. Боско был поражен. Склонившись над умирающим, он чуть слышно шепнул тому на ухо: — Душегуб, говори, что ты сделал с Леоном? Собрав последние силы, злодей вновь бросил на Мими и Боско полный ненависти взгляд и пробормотал в ответ: — Мы его порешили… Затем последняя конвульсия сотрясла мерзавца и смерть оборвала его браваду… — Он врет! — убежденно заговорил Боско. — Таких людей, как Леон, не зарежешь, как цыпленка. Должно быть, ловушка или несчастный случай, возможно даже, он ранен… Но не убит! Какой-то внутренний голос, мне это подсказывает! — Ну конечно он жив! Ведь правда?! Скажи, мой добрый Боско! Пойдем же отсюда! Вид этих трупов внушает мне ужас и отвращение! — Да, пойдемте к вашей матушке. Видимо, комната фальшивой Клеманс часто была ристалищем для драк, потасовок и бурных оргий, и в доме привыкли к этому, поэтому никто и не обратил ни малейшего внимания на грохот, с которым Боско ворвался в квартиру. Да и отчаянные вопли Мими остались незамеченными. Конечно же дом этот был одним из тех мест сомнительной репутации, где жильцы имеют более чем достаточно оснований оставаться слепыми, глухими и немыми. Боско, оставив свой кинжал в груди Соленого Клюва, вынул у него из мертвой руки нож Костлявого и положил трупы рядом. «Полиция подумает, что они поубивали друг друга», — подумал бродяга и не ошибся. Затем он первым ступил за порог вышибленной двери, протянул руку Мими и подбодрил ее: — Идите же смелей, не бойтесь. Обопритесь о мою руку. Оба — почти без сил, никем не замеченные, спустились по лестнице, вышли на улицу и направились к дому по улице Сосюр, где, терзаемая отчаянием, поджидала дочь матушка Казен. Мими с Боско условились скрыть от бедной больной, какой опасности подвергалась и чудом избежала ее дочь. Во что бы то ни стало надо было уберечь калеку от этой новой боли. Хватит с нее и того, что она оплакивает Леона, которого полюбила как родного сына, а также необходимости утешать Мими, ведь у девушки глаза были вновь на мокром месте… Этот день, который должен был наполниться радостью и счастьем, стал днем траура для всех друзей почтенной женщины и ее дочери. Боско, не полагаясь уже на собственные силы, решил испросить совета у Людовика Монтиньи. Перепрыгивая через ступеньки, он помчался к нему. Дорога заняла минуты две — дома стояли рядом. Глаза Людовика покраснели от сдерживаемых слез, лицо покрывала смертельная бледность. Боско, чувствуя, что произошла катастрофа, спросил его: — Что стряслось, месье Людовик? Интерн, увидев своего смиренного и самоотверженного друга, заглянул в его по-собачьи преданные глаза, и чувства медика разом хлынули наружу. — Ах, Боско, милый Боско! Я — несчастнейший из людей!.. — Вы меня огорчаете! Неужели с мадемуазель Марией случилось какое-нибудь несчастье? — Все кончено для нее… Все кончено для меня… Она выходит замуж за другого… — Господи, помилуй! Быть того не может!.. — Увы, может… Другой счастливец, человек куда более ловкий, чем я, вернет ребенка и станет ее мужем… И еще она пишет, что скорее убьет себя, чем вступит в этот проклятый брачный союз. — Разрази меня гром! Это невозможно, или за всем этим кроется какая-то страшная тайна! Черт возьми, все это должно быть как-то связано! — Что — все? — Убийство Леона… — Как? Леона?! Леона Ришара?.. Я как раз одевался… И тут получил письмо, в котором Мария возвращала мне данное слово. В отчаянии я обо всем позабыл… о свадьбе… о друзьях… — …И еще изнасилование Мими… — Что-о-о?! — Изнасилование Мими, которому я помешал, убив двух бандитов. — Но ты, откуда ты взялся? — Из катакомб. Именно там я слышал, как главарь банды, исполняя волю Малыша-Прядильщика, приказал убить Леона и обесчестить Мими. Интерн решил, что его друг тронулся умом. Он испуганно глядел на него, не в силах поверить, что все это правда. Боско понял значение этого взгляда и отрицательно покачал головой. — Нет, я не свихнулся, хотя и должен был бы сойти с ума из-за всего, что произошло с нашей последней встречи. В конце концов, отдать концы — это было бы наименьшее из того, что мне довелось пережить… — Что ты хочешь этим сказать?! — Да что раз десять жизнь моя висела на волоске. — Да говори же, говори, рассказывай! Я уже и сам не знаю, на каком я свете! Еще немного, и я руки на себя наложу! Во всяком случае, не буду так страдать!.. — По-моему, паршивое средство. Смерть-то, ведь она надолго. — Ты еще можешь шутить! — Черт побери, что за чушь вы несете! Позвольте рассказать вам о своих похождениях, и вы убедитесь, что все повязано между собой. — Рассказывай. — Обескураженный студент рухнул в кресло. — Минуточку, патрон. Вот уже часов эдак тридцать я ничего не жрал. И в охотку положил бы сейчас на зуб, скажем, каких-нибудь овощей… А к ним совсем пустячок — с дюжину крутых яиц, колбаски эдак фунтик, вязаночку сарделек. Интерн велел служанке принести все то, что заказывал Боско. Через десять минут бродяга, уписывая за обе щеки принесенную снедь, повествовал о своих неимоверных приключениях, а интерн жадно ему внимал. Боско начал со встречи с Черным Редисом, потом сообщил, как ему пришла в голову мысль внедриться в шайку арпеттов, чтобы подключить «подмастерьев» к поискам малыша Жана. Затем он описал организацию юных мерзавцев, их предводителя, их так называемые подвиги, коллективное судилище и экзекуции. Наконец, очередь дошла до передряги, в которую они попали с Франженом Шишкой, до бегства по лабиринтам катакомб и падения в яму. Поначалу падение оглушило его, и Боско подумал, что пробил его последний час. Он не знал, сколько пролежал разбитый, перемолотый, но все-таки встал, почти неспособный двигаться. Ведь Боско не был маменькиным сынком, такие, как он, чувств не лишаются. Поднявшись на ноги, он ощупал себя, понял, что кости целы, и пришел к выводу, что следует искать выход. Хотя и понимал: это бредовая идея. Боско ползком обследовал яму. В окружности она имела метров десять. Почва была влажной, как будто во время дождей сюда просачивалась вода. Передвигаясь на четвереньках, он сделал находку, заставившую его вскрикнуть от ужаса: он нашарил человеческие останки. И не какие-нибудь старые кости древних времен, а совершенно свежий скелет с еще сохранившимися кусками плоти. «Какой-нибудь бедолага, прежде меня грохнувшийся в эту ямину», — мало-помалу успокаиваясь, подумал Боско. Шаря по стенкам, он вдруг нащупал какое-то углубление. Отверстие было небольшое, чуть шире печного зева. Отважившись, Боско ринулся в него. Все равно помирать, так лучше, хоть и без надежды, попытать счастья… Полз он долго, ему не хватало воздуха, узкие стены сжимали бока, иногда он застревал — ни назад, ни вперед. Он ощущал то, что, вероятно, испытывают люди, погребенные заживо. Силы покидали его, дыхание прерывалось, порой, пытаясь освежиться, он прикладывал пересохшие губы к влажному грунту. Потом снова полз на животе, извиваясь, как земляной червяк. Это длилось долго: то горячечное возбуждение, то страшная слабость попеременно терзали его. Потом проход немного расширился. Погруженный в кромешную тьму, Боско продолжал свой путь, низко пригнув голову, чтоб не напороться на какой-нибудь выступ, а в мыслях у него было лишь одно — спасти Мими и Леона. «Честное слово, — думал он, — если б не они, я давно бы уже копыта отбросил. Забавная штука — жизнь!» — А я? — перебил его Людовик, и в его голосе прозвучали нотки нежной укоризны. — Я думал, что ты и обо мне вспомнишь! — О вас, дражайший патрон, я не забывал! Но в тот момент вы не подвергались такой страшной опасности, как Леон и Мими. — Твоя правда. Итак, Мими спасена. А что же с Леоном? — Он пропал. Нам необходимо его отыскать. Но дайте же мне дорассказать до конца, в двух словах, свою историю. Я буду краток. Итак, я добрался до подземного озера. То-то была радость! Я жадно пил эту неизвестно откуда стекавшую, неизвестно какую грязь принесшую воду и не мог напиться, барахтался в озере, где вода была мне то по пояс, то доходила до шеи. Затем, промерзнув до костей от этого затянувшегося купания, я в конце концов, представьте себе, нашел вход в такой широкий коридор, что, раскинув руки в стороны, не мог коснуться его стен. Вокруг по-прежнему царила непроглядная тьма. Это меня не обескуражило. Я шел и шел вперед, поворачивая вместе с коридором, крутился и петлял, пока усталость не сморила меня. Я упал и уснул, не ведая, проснусь ли вообще в этих проклятых потемках. И вновь побрел, едва волоча ноги, хотя в голове у меня гудело, шумело в ушах, а перед глазами плавали разноцветные круги. Десятки, сотни раз мне казалось, что я умираю. Я падал на землю и говорил себе: «Вот тут, бедолага Боско, и отыщут когда-нибудь твои косточки». И опять вставал для того, чтобы через сотню шагов упасть снова. А когда ноги окончательно мне отказали, когда я решил, что мне совсем каюк, вдруг заметил вдали слабо белеющее пятно, похожее на осколок матового стекла. Это видение вдохнуло в меня такую энергию, что я помчался вперед… Наконец я добрался до того места, откуда падал свет. Я находился на дне колодца. И вот я вижу над собой большой круг синего неба! Я чуть от радости не умер! Но ведь в такой момент негоже умирать, как вы считаете, месье Людовик?.. — Ну, рассказывай же, рассказывай, что дальше, не тяни!.. — Я уже заканчиваю и буду краток. Это был колодец для добычи песчаного известняка. С горизонтального ворота свисала веревка, приводимая в действие большим колесом. И плевать на то, что я был такой измученный… Я все равно схватился за веревку, впился в нее и умудрился вылезти… И вот я стою на земле, на суше, по которой так вольготно двигаться человеку, особенно после таких долгих блужданий по подземным лабиринтам… Я пошел куда глаза глядят, но, так как все предместья я знаю как свои пять пальцев, вскорости определил — ба, да ведь я же в Иси! Я не представлял, ни какой сегодня день недели, ни сколько времени я пробыл в катакомбах. Но ведь я был настоящим богачом, у меня были одолженные вами деньги. Вот я и сел в трамвай и в два счета добрался до Парижа. — И даже не зашел куда-нибудь перекусить? — Нет, клянусь честью. Ни стаканчика вина не пропустил, крошки хлеба не съел. Прибыв в Париж, я свистнул извозчика, пообещал десять франков на чай, и он мигом домчал меня на улицу Дюлон. — Почему на улицу Дюлон? — А потому, что именно туда должны были затащить Мими. — И ты поспел… — Как раз вовремя. У меня хватило времени взломать две двери и укокошить двух подонков. Мими спасена. И вот теперь я здесь и готов продолжить беспощадную борьбу, которая лишь только началась…
ГЛАВА 31
Мчавшаяся во весь опор карета остановилась у закрытых ворот особняка Березовых. Кучер, со знакомой парижанам требовательной интонацией в голосе, крикнул, чтоб отворяли ворота. Швейцар вышел из привратницкой и почтительно доложил, что хозяева не принимают. — Меня примут, дружище, — раздался из кареты веселый голос. — Отворяй ворота и получи. Узрев на своей ладони целый луидор, швейцар издал восклицание, за что его, несомненно, осудили бы ревнители строгого этикета и знатоки суровых правил, которым должна следовать прислуга, а затем, оторопев, громко ахнул от удивления. В глубине кареты он углядел розовощекого белокурого малыша. Ребенокулыбался. Барон взял малыша на руки и велел лакею доложить. — Ах, я полагаю, что господина барона примут!.. Не извольте сердиться, господин барон, я лишь выполняю свой долг… Несмотря на отличную выучку, голос вышколенного слуги дрожал от неподдельного волнения, когда он объявлял: — Господин барон де Валь-Пюизо. Его сиятельство князь Иван Михайлович Березов. Крик радости и изумления прорезал тишину большой гостиной второго этажа. Жермена, без кровинки в лице, задыхаясь, вбежала, простирая руки. — Жан! Дитя мое! Неужели это ты! Лихорадочным, почти грубым жестом она вырвала его из рук барона. — Маленький мой… Любимый… Это ты! Я снова тебя вижу!.. Снова тебя целую! Ты опять мой!.. О спасибо, барон, спасибо! Вы будете мне братом!.. Пока княгиня, сжимая малыша в объятиях, едва не причиняя ему боль, проливала слезы и, судорожно всхлипывая, покрывала его безумными поцелуями, примчались Мария и князь. Жестом полным любви Михаил обхватил жену и ребенка, страстно прижал их к своей широкой груди и, не находя слов, потрясенный, разразился слезами. Мария услыхала последнюю фразу Жермены, обращенную к де Валь-Пюизо: «Вы будете мне братом!» — и почувствовала в душе леденящий холод. Впрочем, она добровольно принесла себя в жертву счастью Мишеля, Жермены, дорогого малыша… Но никогда не предполагала, что исполнение долга может обернуться такой жестокой пыткой… Пламенный взгляд барона она встретила долгим молчанием и, глотая слезы, стараясь скрыть свою бледность, с вымученной улыбкой протянула ему руку, говоря: — А ведь вы, господин барон, обещали вернуть нам Жана лишь через два дня… Благодарю вас за счастье, которое вы доставили сестре, Мишелю, мне… — Я люблю вас, мадемуазель! И сделал невозможное для того, чтоб вас завоевать! Опьяненная счастьем Жермена, не замечая подавленного вида сестры, протянула ей малыша со словами: — Да поцелуй же его! — О, тетуска Малия, — просиял ребенок, — поцелюй маленький Зан! — Мой маленький, мой дорогой, мой любимый!.. — шептала девушка, сжимая его в объятиях. — Мою жизнь отдаю за твою! Мое счастье — за их счастье! Но принадлежать этому человеку, который притворяется, что любит меня, и который внушает мне ужас, я не буду никогда! Лучше умереть! С превосходным тактом барон де Валь-Пюизо решил откланяться, чтобы не мешать проявлениям бурной, им принесенной радости, чтобы дать членам княжеской семьи полнее ею насладиться. Жермена и князь пытались его удержать. Княгиня, держа мальчика на руках и поминутно его целуя, хотела знать, как барон его разыскал, каким образом смог ускорить его освобождение, словом, как ему вообще удалось выполнить эту миссию, полную трудностей, опасностей и ловушек. Он, как человек скромный, отвечал уклончиво, мол, страстно влюбленный мужчина способен на все ради своей мечты. — Трудности, опасности, ловушки — все было мне в радость, — прочувствованно отвечал он, пожирая Марию страстным взором. — Я уж и не помню ни о чем, настолько счастье данной минуты затмевает все в моих глазах. — Но вы, должно быть, истратили немало денег? — спросил князь Михаил. — Ничего, как-нибудь проживем с вашей помощью! — засмеялся барон. — Подозреваю, вы на грани разорения! Де Валь-Пюизо улыбнулся с видом счастливого мученика и ничего не ответил. — Я прибавляю пятьсот тысяч франков к тем двум миллионам, которые даю за Марией! — воскликнул князь, полагая, что барон, чтобы освободить Жана, истратил все свое состояние. Но де Валь-Пюизо перебил его: — Не будем говорить о деньгах, дражайший князь! Того, что осталось от моего состояния, вполне хватит на то, чтобы обеспечить моей жене безбедное существование… Позолоченный средний уровень, который любовь превратит в роскошь. А теперь позвольте мне удалиться. — Как, уже? — в один голос вскричали Жермена и князь. — Да. У меня еще масса дел, к тому же я просто изнемогаю от усталости. Разрешите ли вы мне посещать вас, чтобы ухаживать за моей очаровательной невестой? — Отныне и впредь, барон, вы являетесь членом нашей семьи! — вскричал князь и весело прибавил: — А когда же честным пирком да за свадебку? — Моя любовь нетерпелива! Чем скорее, тем лучше. — Ну что ж, значит, в срок, установленный законом. Не так ли, Мария? — То есть через десять полных суток, — уточнил барон. — Прекрасно. Я оплачу расходы на церковную церемонию. — Вы слишком щедры. Мое почтение, княгиня. До свидания, князь. Мадемуазель, примите уверения в искренности моих чувств… Девушка протянула де Валь-Пюизо ледяную влажную руку, к которой тот припал жадным поцелуем. Затем барон ушел, оставляя княжескую чету в счастливом опьянении, а Марию — в плену отчаяния. Девушка удрученно наблюдала картину этого счастья, бывшего делом ее рук, после чего, сославшись на внезапное недомогание, удалилась к себе в комнату, чтобы вволю выплакаться. Проклиная свою жизнь, она долго и отчаянно рыдала. — Милостивый Боже! Зачем он меня не убил, тот бандит, похитивший Жана?! Зачем Людовик меня выходил?.. О Людовик, Людовик, я навеки потеряна для вас!.. Для тебя… Для тебя, которого я обожаю, которого больше не увижу… Нет, лучше я умру, чем стану женой другого… Через десять дней!.. Всего десять осталось мне жить на свете… Как это ужасно — умереть такой молодой!.. А какой прекрасной могла бы быть наша с ним жизнь! Согласясь на страшную жертву, которой ей представлялся этот брак, она решила тотчас же предупредить своего любимого о возвращении Жана, чтобы избавить его от горестного сюрприза, если он вдруг наведается в особняк Березовых. Мария села к столу и стала быстро писать:«Людовик, любимый, мы пропали! Жан уже дома, и вернул его другой. Да, другой, проходу мне не дающий своей постылой любовью! Каким способом он его отыскал — не знаю. Но условием возвращения ребенка он поставил мое согласие на брак с ним. Видя ужасающие страдания моей сестры Жермены, я согласилась. До последнего момента я верила, что удача улыбнется вам… Но теперь — кончено. Надо платить свой долг, надо принести жертву… Надо выйти замуж за другого, кого я ненавижу с такой же силой, с какой люблю вас. Но этого не будет, нет, клянусь вам! Лучше смерть, слышите, Людовик, лучше смерть! Считая с завтрашнего дня, мне осталось жить полные десять суток. Через одиннадцать дней барон де Валь-Пюизо придет получить выкуп за маленького Жана. Но получит только мой труп. Прощайте, любимый… Прощай, жизнь, которую вы мне сохранили и которая так полна вами, что я не могу, да и не хочу отдавать ее другому. Напишите мне… Скажите, что любите меня, не бросайте меня одну с моим отчаянием… Людовик, во имя нашей любви, придите на помощь бедной Марии, которая скоро умрет, произнося ваше имя».Читая это письмо, юноша выходил из себя, строил самые невероятные и сумасбродные прожекты, рассудок его мутился. Сперва он хотел вызвать барона де Валь-Пюизо на дуэль, предложить ему один из тех кровавых поединков «по-американски», которые решает не столько ловкость, сколько удача. Интерн отыскивал любой способ, но, по счастью, не нашел. Кроме того, Людовик мечтал тайно жениться на Марии и перебраться с ней за границу, куда-нибудь в Америку или в Англию. Он написал ей письмо, пронизанное горячечной страстью, не только не успокоив ее, но приведя ее в еще большее отчаяние. Естественно, он уверял ее в своей любви и умолял успокоиться, ни в коем случае не терять надежду и не приводить в исполнение никаких решений, могущих иметь роковые последствия. Ему необходимо было дождаться в эти короткие десять дней каких-нибудь более благоприятных для себя событий. Письмо Людовик закончил так:
«Если же в последний момент надо будет покориться роковой необходимости, если придется искать убежища в смерти, придите ко мне, мы умрем вместе. Рядом с вами, обожаемая Мария, даже смерть будет мне сладостна… До скорой встречи! Что бы с нами ни случилось, мы все равно воссоединимся!»Рассказывая об этом Боско, голос юноши дрожал и осекался, а тот судорожно искал выход из действительно ужасного положения. Да, поистине ситуация складывалась тяжелейшая! Черт возьми, он пожертвовал для друга собственной шкурой, показал чудеса хитрости, храбрости, выносливости, предприимчивости, энергии — и все впустую! Мечась туда-сюда по комнате студента, он ломал голову и ничего не мог придумать. Понемногу Боско успокоился, и в его изобретательном уме зародился оригинальный план. — А ну-ка, патрон, встряхнитесь! У вас просто нервы разгулялись! Ничего еще не потеряно. У нас в запасе десять дней! А за подобный срок такие люди, как мы, могут перевернуть вверх тормашками весь мир!
ГЛАВА 32
Пробравшись в стан арпеттов, Боско даром времени не терял. Хотя он, как намеревался, и не поставил «подмастерьев» себе на службу, но все же выведал очень важные вещи. Во-первых, узнал, какую роль играл Малыш-Прядильщик в двойном несчастье, постигшем Леона и Мими. Во-вторых, выяснил, где находится квартира-ловушка, в которой бедная Мими должна была подвергнуться скотскому насилию. Хоть Боско и не сумел предупредить жениха Мими, но успел спасти от грязных притязаний подонков бедную девушку. Теперь ему следовало разыскать Леона, о котором ничего до сих пор не было известно, помешать Малышу-Прядильщику возобновить свои мерзостные преследования и вырвать Марию из лап де Валь-Пюизо. Все согласятся, что задача ставилась почти не выполнимая для человека, у которого до сих пор и крыши-то над головой не было, и рассчитывавшего лишь на собственную изобретательность. Однако Боско не унывал и ринулся в бой очертя голову, как и во время вылазки к арпеттам. Поначалу он собирался разрешить грызущий его вопрос: каким образом де Валь-Пюизо удалось разыскать ребенка князя Березова, какие рычаги тот повернул, какие силы привел в движение? Вернуть родителям дитя, которое, сбившись с ног, безуспешно искала вся парижская полиция! А барон тотчас же отыскал ребенка и представил к назначенному сроку! Была ли тому единственной причиной его влюбленность в сестру княгини? Думая про барона, Боско говорил себе: «Уж я за тобой послежу, будь спокоен! Правда, кроме этого, много надо сделать!» К несчастью, время торопило — как бы ни был неутомим Боско, вездесущ он не был. И впрямь, только он не потерял здравого смысла в то время, как жестокая судьба разила его самых дорогих друзей. В первую очередь следовало заняться Леоном. Боско попросил Людовика справиться в Управлении благотворительной медицинской помощи, не попал ли туда несчастный жених Мими. Быть может, он очутился в какой-нибудь больнице? Боско отказывался верить, что юноша мертв, как ему злорадно сообщил Соленый Клюв перед смертью. Интерн кинулся на поиски, побывав предварительно у Мими и ее матери с визитом, в котором они очень нуждались. Сколь ни тяжело было на сердце у него самого, Людовик попытался их утешать. Но утешитель из него был плохой — обе женщины были в отчаянии, а его собственное угнетенное состояние только ухудшалось. Боско во второй раз попросил у него карт-бланш — предоставить несколько дней и дать всю имеющуюся наличность. Не будучи богачом, отец Людовика имел порядочное состояние и обожал сына. Юноша поведал ему историю своей любви к Марии, драматические перипетии, сопутствовавшие ее зарождению и надежды, которые он возлагал на этот союз. Отец одобрил выбор сына, однако опасался, как бы тому в последний момент не дали отставку. Вот почему, когда сын, совершенно убитый, сообщил, что все висит на волоске, Монтиньи-старший не очень удивился. Стараясь утешить сына, старик спросил, чем может быть полезен. — Мне нужны деньги. Много денег… — Тебе хватит четырех тысяч франков? — Думаю, что да… — Держи, четыре. Дай Бог, чтоб они тебя поддержали. Людовик передал деньги Боско, и тот небрежно сунул их в карман, как будто всю жизнь ворочал миллионами. — Как я понимаю, хозяин, это, так сказать, наши последние патроны, — бросил он с порога и удалился. Людовик отправился на розыски Леона, Боско — на рынок Тампль. Вместо того чтобы обратиться в Управление, интерн решил лично обойти все парижские больницы. Ведь в этом случае он получит сведения скорей, да и данные будут полнее — его коллеги знают всех своих больных, знают, в каком кто состоянии. Людовик предполагал затратить на поиски максимум один день. Взяв такси, он велел отвезти себя на улицу Ларибуазьер. И тут случай помог ему. Первый же интерн, к которому он обратился, его хороший приятель, сказал, что у него в палате лежит раненый, чьи приметы похожи на описание примет художника. — Как он себя чувствует? — Людовик не в силах был больше терпеть. — Немного лучше. — Случай тяжелый? — Чрезвычайно. Любому другому летальный исход был бы гарантирован. Но этот пациент чрезвычайно силен, может быть, выкарабкается. — Ох, дружище, ты и сам не знаешь, какую радость доставляешь мне своими словами! Я интересуюсь им, как интересовался бы родным братом. Так что же с ним случилось? — Многочисленные раны, кровоподтеки в результате чудовищных ударов. И проникающее ранение левого легкого. В течение суток он бредил. Сейчас немного успокоился, начал приходить в сознание. Словом, сам увидишь. Войдя в палату, они с удивлением увидели у изголовья больного двоих мужчин. — Смотри-ка, комиссар полиции и его верный пес, — не церемонясь брякнул друг Людовика. — Никак они от него не отцепятся. Вчера тоже около часа допрашивали! Я вынужден был в интересах больного запретить им снимать допрос. Можно подумать, из потерпевшего они подсудимого хотят сделать! — Большей частью в этом и заключается роль полиции — заставить получивших удары платить за них тому, кто их нанес. Приблизившись, они услышали вопрос комиссара: — В каких отношениях вы состоите с Гонтраном Ларами, именуемом вами, как, впрочем, и всем Парижем, Малышом-Прядильщиком? Медленно, с трудом ворочая языком, Леон отвечал, даже не видя полицейских, так как его набрякшие веки еще не могли разлепиться: — Я не знаю… Гонтрана Ларами… — И никогда его не видели? — Видел… однажды… порвал ему ухо… — Почему? — Потому что… он оскорблял мою невесту… — Обдумайте как следует ваш ответ. Вчера в бреду вы произносили его имя с огромной ненавистью, называли его злодеем, лгуном, вором, убийцей. — Вполне возможно… видите ли… его семейка — те еще подонки… они на все способны… Секретарь быстро записывал, и время от времени его умные и хитрые глазки бросали на больного внимательный взгляд. Иногда, слыша вопросы своего патрона, губы его кривила чуть заметная ироническая улыбка. Тот же вещал с большой важностью. Слова Леона возмутили комиссара. Как?! Этот простолюдин так отзывается о людях, являющихся столпами общества! Тут и впрямь подумаешь, что у него не все дома! Заметив интернов, полицейский продолжал, понизив голос, как если бы хотел дать им понять, что их присутствие нежелательно: — Подумайте, ваши слова в адрес столь почтенных и уважаемых господ могут быть классифицированы как оскорбление личности, как диффамация…[71] — Плевал я на… — Леон все еще не вполне пришел в себя, мысли путались, он нервничал и конечно же не думал, к каким последствиям могут привести его слова. — Берегитесь! Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей и требую, чтобы вы вели себя соответственно. — А я требую, чтобы вы оставили меня в покое! Подумать только, я ослеплен… Едва слышу и еле-еле могу отвечать… Я пошевелиться не могу, все тело — сплошная рана… А в вас хватает варварства… меня мучить… — Я представляю правосудие, к которому вы обязаны относиться с должным почтением. — Да плевать я хотел на ваше правосудие… на всю вашу лавочку… на полицию, не сумевшую меня защитить, потому что я простолюдин… — Записывайте, записывайте все это слово в слово! — восклицал комиссар, мгновенно возненавидевший полуживого раненого, еще не до конца вышедшего из лихорадочного состояния. Вмешался друг Людовика. — Осмелюсь заметить, месье, — сказал врач с отменной почтительностью и достоинством, — что вы не можете сделать этого несчастного ответственным за произнесенные им слова, в которых он не отдает себе отчета. — Что?! — Он абсолютно невменяем, и в случае надобности я смогу это подтвердить. — Он рассуждает вполне здраво, и у него нет высокой температуры. — Месье, вы можете быть образцовым комиссаром полиции, но позвольте мне усомниться в вашей компетентности в области медицины. — Кто вы такой, месье? — Дежурный интерн. — И вы осмеливаетесь… — Осмеливаюсь говорить как должно с комиссаром полиции. И излагать ему свои мысли. Точно так же я буду говорить и в присутствии генерального прокурора. Сейчас я представляю главного врача больницы. И завишу лишь от него и своей совести. Устав от этой дискуссии, Леон впал в полудрему. Людовик Монтиньи подошел к больному и, осторожно прикоснувшись к нему, заговорил ласково и с дружескими интонациями. Тут только побагровевший и взбешенный как никогда в жизни комиссар ретировался со словами: — Я еще вернусь! Этот тип обвиняет одного из самых уважаемых граждан Парижа в том, что тот якобы пытался его убить. Надо прояснить это дело. Воистину крепкая спина у Малыша-Прядильщика, если на ней пытаются рассесться все кому не лень! С этими словами полицейские вышли не прощаясь. — Нет, это уж слишком! — с возмущением воскликнул Людовик Монтиньи. — Этот хам вознамерился превратить в преступника честного, славного парня. — Такое в обычае у этих людишек, — заметил его друг. — Но не беспокойся, я за ним пригляжу. Да я и без того заходил бы сюда не реже двух раз в день. — Бедняга Леон! Несчастье обрушилось на него именно в день свадьбы! Невеста — она еще ничего не знает — будет навещать его. Считай ее моей сестрой. Не сочти за труд, проследи, чтоб ее к нему допускали не только в часы разрешенных посещений. — Разумеется, дружище. — И пусть она остается с ним как можно дольше. — Да, да, да, месье Людовик, — вклинился в беседу сухой, задыхающийся голос Леона, слушавшего разговор двух коллег. — Мими, Мими, дорогая моя, бедняжка… Как вы оба добры!.. Как я вам благодарен… И художник, как слепец, стал шарить в воздухе, пытаясь нащупать их руки. Молодые люди ответили ему горячим дружеским рукопожатием. — До скорого, Леон, милый друг, — продолжал Людовик, — я спешу предупредить Мими. Будьте спокойны, вы еще будете счастливы, это вопрос времени. И прибавил со вздохом: — А я — никогда…ГЛАВА 33
Придя на рынок Тампль и посетив одну из тех лавок, куда мог зайти оборванец в самых устрашающих лохмотьях, решительно каждый имел возможность выйти из нее одетым с иголочки. В Тампле не торгуют чем попало, никакого поношенного тряпья, никакой стоптанной обуви. Встречаются в продаже почти не надеванные вещи, производящие впечатление новых. От такой одежды и обуви отказались из каприза или потому, что владелец обнаружил маленький, почти незаметный дефект. Торговцы, дающие вам товар для беглого осмотра, станут заверять вас, что вещь еще лучше новой, и иногда это близко к правде. Отборная одежда из Тампля имеет как минимум одно преимущество: по ней не видно, что она только что вышла из рук своего производителя — туфли не так блестят, платья не стоят коробом, не имеют тех определенных складок, указывающих на их новизну. Боско заставил приказчиков переворошить целую гору костюмов. Он мерял, критиковал, торговался, сыпал скабрезными шутками, которые заставляли краснеть дочь лавочника, воспламеняли кровь его жены и в конечном итоге вызвали улыбку у всех присутствующих. Решено было, что это комедиант, и ему стали выказывать ту благосклонность, которую парижане издавна питают к «бритым подбородкам». Он выбрал два костюма — один для утра, другой, более поношенный, — для визитов и прогулок. Они ему очень шли, и, клянусь, в таком одеянии Боско имел вполне презентабельный вид. Можно сказать, он выглядел совсем как юноша из хорошей семьи, особенно после того, как сменил обувь, надел перчатки, сделал у парикмахера прическу, обзавелся безукоризненным бельем. Бывший бродяга казался таким пай-мальчиком, что торговец, заручившись его обещанием и впредь быть постоянным покупателем, сделал ему большую скидку. Ко всему прочему Боско преподнес дамам розы, а хозяину и приказчикам предложил пропустить по рюмочке. Торговец поблагодарил и сказал: — Вы такой славный парень, что я угощаю. — Согласен! Чокнулись. Потягивая винцо, Боско спросил, не может ли хозяин обеспечить его еще и чемоданом, шляпной картонкой и небольшим несессером, в котором было бы все необходимое, чтобы «привести лицо и волосы в порядок». — Я сразу догадался! — обрадовался хозяин. — Месье — актер? — С чего вы взяли? — отвечал Боско, не говоря ни да, ни нет. — По всему видно: по разговору, по походке, по повадке, по манере себя держать. И вот вам теперь требуются декоративная косметика, кисточки, тампоны, заячья лапка… — Видно, что вы очень наблюдательны, — невозмутимо объявил Боско. — Правда? И вы еще посетите нас? — Всенепременно и с превеликим удовольствием! Нимало не смущаясь, Боско попросил у дам разрешения их чмокнуть, пожал руку хозяину и, расплатившись, кликнул мальчика-рассыльного. Он велел ему взять чемодан и нести его к ближайшей стоянке экипажей. Там он нанял извозчика и приказал отвезти себя в скромную с виду гостиницу на улице Амело. Здесь Боско, по-видимому, знали, так как портье, ни о чем не спросив, сразу же отнес его чемодан в комнату на третьем этаже. Оставшись один, он раскрыл несессер, где лежали грим и всякие приспособления для его нанесения. Затем вытащил из кармана увеличенную фотографию и поставил перед собой. И со скрупулезным тщанием и ловкостью, выдававшими некоторую его опытность в такого рода делах, он, как говорят за кулисами, «сделал себе лицо». Особенно старательно он обработал глаза: навел красным веки, изобразил темные круги под глазами и даже языком прищелкнул от удовольствия. — Годится! Я с первого взгляда схватил, как сделать глаза ночного гуляки! Все так же внимательно всматриваясь в фотографию, Боско продолжал свой монолог: — Маленькая родинка на левой скуле… Вот и она… Проведем несколько неприметных линий на висках, у меня они не такие мятые… Немного губной помады… Прекрасно! Просто потрясающе!.. Однако у меня фигура поплотнее… Ну да ничего, я это уравновешу, подчеркивая утомленный вид оригинала… А теперь, Боско, вставай и вперед! Наш герой переоделся, сунул в карман револьвер и бумажник, спустился по лестнице и вышел на улицу. Дойдя до бульвара Бомарше, он вновь нанял экипаж и велел отвезти его на улицу Прованс, 3. Пока они ехали, Боско, по своему обыкновению, бормотал сквозь зубы: — Ясное дело, он отправился проматывать свои денежки в Монако. Все утренние газеты об этом трубили. Боже милостивый, а что, если что-то помешало ему уехать?! Сколько шишек упадет на башку бедолаги Боско! Но смелее вперед! Ты работаешь на своих друзей, которые вытащили тебя из грязи, где ты барахтался, старина!.. К счастью, лошадка попалась довольно резвая, до улицы Прованс домчались быстро. Набравшись храбрости, Боско заявил консьержу, что хотел бы говорить с господином бароном де Валь-Пюизо. — Господина барона нет дома, — отвечал ему слуга с той почтительностью, которая заставила Боско подумать: «А я неплохо устроился в шкуре этого голубчика, очевидно, что меня действительно принимают за него; маскарад удался!» — Как вы думаете, в котором часу он появится? — Здесь находится месье Констан, он куда лучше меня может ответить на вопрос месье. Месье Констан — это был Черный Редис, задушевный друг проклятого де Валь-Пюизо. Он приблизился и почтительно приветствовал Боско, в ответ высокомерно кивнувшего головой. На самом деле славный парень отнюдь не был уверен в себе и ужасно трусил, что его разоблачат. И боялся не столько за свою голову, сколько за то, что в случае, если все выйдет наружу, он ничем, абсолютно ничем не сможет быть полезен своим друзьям. В это время Черный Редис, как образцовый слуга, докладывал Боско: — Господин барон будет очень огорчен, что не повидался с вами, месье. Но он полагал, что месье уехали в Монако. Думается, весь Париж в этом уверен. — Ха, весь Париж! Я натянул нос этому сборищу хамов и проходимцев, которое именует себя «весь Париж»! — ответствовал каналья Боско. — Месье волен в своих поступках, — почтительно отвечал Черный Редис. — Вот и хорошо. Я здесь инкогнито, а весь этот сброд, меня доконавший, думает, что я в Монако. Никому ни слова, договорились? — Месье может на меня положиться. — Тогда держи парочку брючных пуговиц. — Боско протянул ему два луидора. — И ты держи, мокрица. Черный Редис и консьерж рассыпались в благодарностях. Боско продолжал: — Игра стоит свеч. Черный Редис закивал с понимающим видом. — Придает ли еще месье значение этому дельцу о крошке Мими и ее воздыхателе? Сердце Боско дало сбой и бешено заколотилось. Скосив глаза, он украдкой бросил взгляд на консьержа и уклончиво ответил: — Быть может… — О, вы можете верить ему, он все знает… Господин барон использует его так же, как меня… «Да, — подумал Боско, — этот барон де Валь-Пюизо, сдается мне, порядочная сволочь, судя по тому, какие у него подручные и какие порученьица он им дает!» — А что стало с красоткой и ее приятелем? — О, месье не знает?.. — Не знаю. — Бедолага Костлявый, который так ловко переодевался женщиной, погиб. — Да вы что?! Быть того не может! — Погиб также Соленый Клюв… — Не знаю такого, — уверенно заявил Боско. — Мы так его называли потому, что он любил держать под языком кристаллик соли. Да нет, месье его прекрасно знает — это Жюстен. — Жюстен?.. Из страха все погубить, Боско прикусил язык. «К чему он клонит?» — размышлял он. — Ну, это же лакей господина барона, который служил у мадам Франсины д’Аржан. — Ах, незадача! Он был красавчиком, этот ваш сутенер Жюстен! Так, говоришь, его убили? — Его самого. Он вам известен, ведь он состоял на службе у барона. — Но потом куда-то запропал. Я думал, его списали на берег… — Его, как и Костлявого, убил Боско… — Кто? Боско? Это тот грязный бродяжка, надувший и полицию и судей в деле Березовых? — Именно он! Но он приговорен! Мы знаем где его найти, с ним дело ясное… Когда твой противник Бамбош… На этих словах консьерж кашлянул, как бы предостерегая Черного Редиса от лишней болтовни. Тот понял намек и замолчал, опасаясь, что и так ляпнул лишнего. Удовлетворенный результатами опыта, в восторге от того, что так хорошо сыграл свою роль, Боско удалился, провожаемый низкими поклонами слуг. Выйдя из привратницкой, Боско намеревался направиться в сторону Шоссе д’Антен. Он думал: «Я так хорошо влез в шкуру Малыша-Прядильщика, что эти кретины ничего не приметили. Если он еще недельку пробудет в Монако, я всех выведу на чистую воду. Остается только узнать, сумею ли я провести барона де Валь-Пюизо». Но он и на два шага не успел отойти от дома, как его заставил обернуться шелест женской юбки. Он услышал слова, произнесенные вполголоса Черным Редисом: — Я уверяю вас, мадам, что господин Гастон Ларами находится здесь, в Париже. — Ну, это уж слишком! Хорошенько ж мы посмеемся! — Женский голос срывался от ярости. — Мне скрывать нечего, и мне плевать на него, хоть он и Малыш-Прядильщик! — Почел своим долгом уведомить мадам. — Благодарю. Держите, это вам за труды. Боско, скорее заинтригованный, чем испуганный, остановился, ожидая, чем кончится это таким странным образом начавшееся приключение. Женщина настигала его, стуча каблучками по мостовой. Она накинулась на него, как фурия, глубоко вонзив в его руку свои розовые ноготки. — И впрямь, господин Драный Башмак, — зашипела она низким голосом, — и эта харя осмеливается за мной шпионить! — Я?! Да как вы можете такое говорить?! — вопрошая себя, как бы ему выпутаться из этого недоразумения, защищался Боско. — Грязная тварь, я застаю тебя у дверей де Валь-Пюизо, где ты судачишь с его холуями!.. Даешь в лапу его прихвостням, чтоб они фискалили, ябедничали на меня! — Неправда! — Ну тогда скажи, что ты здесь делаешь, когда весь Париж, кроме меня, твоей любовницы, уверен, что ты в Монако. «Вот те раз! — подумал Боско. — Так это и есть Франсина д’Аржан! Надо срочно шевелить мозгами, иначе мне каюк…» — Что молчишь, поганец? — Я опоздал на поезд. — В тоне Боско звучала издевка. — С тех пор прошли сутки. Она все так же крепко держала его за предплечье и увлекала в сторону храма Святой Троицы. — Кажется, я не зря потратил это время — сцапал тебя после того, как ты провела ночь с де Валь-Пюизо! Эта атака, предпринятая наугад, произвела на красотку такой эффект, как будто ей выстрелили над ухом из карабина. Боско с лету угадал истину, как если бы знал, что кокотка неравнодушна к барону и опрометью помчалась к нему сразу же после отъезда Малыша-Прядильщика. Хоть Франсина и любила Гонтрана Ларами как собака палку, сколько б ни хорохорилась, она очень дорожила своим положением содержанки миллионера, осыпавшего ее золотом. Она содрогалась при мысли, что может разом все потерять, быть обреченной на жалкое существование, и спрашивала себя, что же она станет делать, ежели он в очередном приступе злобы, к которым был склонен, внезапно ее бросит. — Да как ты можешь говорить такое! Чтоб я тебе изменила?! К чему? По какой причине?! — Ну, тут ты не постесняешься! К чему? Да к тому, что ты втюрилась в барона. И решила позабавиться. Ведь у тебя блуд в крови. — Ну что за глупости! Клянусь тебе — это неправда! С настоящим Малышом-Прядильщиком такая смехотворная защита не прошла бы. Гонтран Ларами любил лишь тех женщин, которые третировали его и держали в ежовых рукавицах. Если Франсина, вместо того чтобы нападать, стала бы оправдываться, это означало бы ее погибель. Но она и впрямь была так потрясена этой неожиданной встречей, что ей необходимо было некоторое время, чтобы оправиться. Боско, уверенный, что сохранил свое инкогнито, заговорил холодно и ехидно: — Значит, ты пошла к барону и провела с ним ночь? А свечку держала его мамаша! — О нет, Гонтран, не говори ерунды! Кроме того, ты не знаешь его матери… Жалкие останки Бог знает чего, я бы сказала, продавщицы готового платья… Невольно задаешься вопросом: неужели она в самом деле его мать? «Эге, — подумал Боско, — а ведь я с ней недаром время теряю… Думается мне, что мамаша наемная, как дуэнья у актрисы или танцовщицы». — А он-то сам, между нами говоря, настоящий ли барон? В любых других обстоятельствах Франсина д’Аржан взорвалась от негодования и разразилась бы бранью. Однако, попав в ловушку, боясь, чтобы Гонтран не узнал правды, она преспокойно пожертвовала бароном, надеясь тем самым смирить не только гнев Малыша-Прядильщика, но и пролить бальзам на его самолюбие. — Он?! Никто не знает, где этот пройдоха раздобыл себе баронский титул. Никому не известно, чем живет! Возможно, сутенерством? А может, и чем похуже? — Ну ты и скажешь, черт подери, Франсина! — вскричал Боско, до такой степени войдя в роль, что стал искренне чувствовать себя Малышом-Прядильщиком. — Конечно, еще бы! Вспомни эту грязную историю с колье… — Да, колье… — подхватил Боско, не имея ни малейшего понятия, о чем идет речь. — Так вот, в глубине души я всегда была уверена, что это он его украл! — Не может быть! — Может. И вот поэтому-то я и отправилась сегодня к нему… Но я не спала с ним, нет! Клянусь прахом моей матери! Подумай только, голубчик мой, украшение стоимостью шестьсот тысяч франков! — Да что там, сущие пустяки! — небрежно уронил этот дьявол Боско, к которому все больше прилипала кожа его двойника. Они дошли до сквера перед церковью Святой Троицы. Боско желал одного — отделаться от Франсины и отправиться по своим делам и в первую голову взять под пристальное наблюдение дом барона. Наш герой узнал сегодня достаточно и очень боялся, как бы Франсина не заподозрила подлог. Увидя, что он не собирается сегодня с ней оставаться, она, естественно, испытала сильнейшее желание его удержать. — Ты, разумеется, поедешь ко мне? — В ее тоне звучала настойчивость. — Э-э, нет. — Так куда ж ты тогда направляешься? — Да так, погуляю за городским валом. Поброжу в одиночестве, лишь бы меня не осаждали все эти скоты, что тычут в меня пальцем и вопят: «Ба! Кого я вижу! Малыш-Прядильщик!» — Поедем со мной! — Нет! Не для того я пропустил поезд на Монако, чтоб ко мне приставали. До завтра! — Нет, мы поедем немедленно! — Нет! Нет и нет! — Ну, так я устрою ужасный скандал!.. Я стану кричать! Вопить!.. Я тебе вцеплюсь в физиономию! Пусть нас заберут в участок! При мысли, что его могут арестовать, допрашивать, обнаружить смелую мистификацию и то, что он надел личину другого человека, Боско содрогнулся. «Ладно, пока придется покориться, — решил он. — С этими сумасбродными женщинами не знаешь на что и нарвешься». Видя, что он молчит, Франсина кликнула извозчика. Она сама открыла дверцу, впихнула оглушенного всем происшедшим Боско в карету и приказала вознице: — На улицу Юлэ! Я покажу, где остановиться. А ты, милый мой Башмачок, — мой пленник.ГЛАВА 34
По дороге Франсина д’Аржан вела себя смирно. Но, когда они доехали до улицы Юлэ, ее властная и сварливая натура взяла свое. К тому же здесь она чувствовала себя дома и, как злая собака возле своей будки, испытывала желание лаять и огрызаться. Когда кучера отпустили и за ними закрылась тяжелая дверь особняка, Боско услышал: — Ступай вперед. Ввиду того, что Боско по вполне понятным причинам понятия не имел о расположении комнат, он остался на месте, не зная, куда идти. Франсина подумала, что его замешательство означает сопротивление, во всяком случае, очевидное колебание. Безо всякого предупреждения она накинулась на него, выставив когти, как бешеная кошка. Она решила исцарапать ему лицо, как неоднократно царапала Малыша-Прядильщика, которого это приводило в восторг. Когда приятели потешались над его рубцами и ссадинами, это доставляло ему живейшее удовольствие. Женщины держат под каблуком только тех, кто сам этого хочет! Боско этого не ожидал, да и не мечтал о подобных проявлениях любви. К тому же он терпеть не мог тех женщин, которые на каждом шагу орут, грозятся, неистовствуют, кусаются, царапаются и бьются в нервных припадках. — Руки прочь, или я тебе врежу! — гаркнул он голосом, хлестнувшим красотку, как удар бича. Обычно она не церемонилась, тем более что была девушкой сильной, с по-крестьянски развитой мускулатурой, на которой не отразились генетически передаваемые пороки, болезни, алкоголизм. Едва ли Малыш-Прядильщик был намного сильнее ее. Почти всегда она брала верх, и уж тогда ему доставалось! К тому же она была не просто злюкой, иногда ее жестокость граничила со свирепостью. Однажды утром, когда они были еще в рубашках, между ними произошла ссора. Франсина кинулась в свою гардеробную, обула охотничьи ботинки со шнуровкой и вернулась в спальню, где, босой и полуодетый, стоял Малыш-Прядильщик. Подкравшись, она повалила его и так испинала ботинками, что все его тело целый месяц было покрыто синяками и кровоподтеками. Уходя, он был в бешенстве и клялся, что расстается с ней навсегда. Его хватило на два дня, и, вернувшись, он подарил ей двадцать пять тысяч франков. Вот как она его держала. Существует категория невропатов, которые обожают, чтобы их избивали, и нередко предпочитают поцелуям тумаки. Отпор Боско вызвал у нее смех и не умерил заносчивости. Однако Боско с такой силой ударил ее по запястью ребром ладони, что маленькая лапка с розовыми коготками беспомощно повисла. На глазах у нее выступили слезы, и, разъярясь, она разразилась градом грязных ругательств. Прислуга, удивленная появлением хозяина, которого все считали уехавшим в Монако, предусмотрительно попряталась. Все полагали — стычка произошла из-за того, что хозяин узнал о ночной отлучке госпожи. Франсина продолжала изрыгать отборную брань. Малыш-Прядильщик тоже был изрядным грубияном. Но его репертуар был детским лепетом в сравнении с лексиконом Боско! Когда тот бродяжничал, его считали одним из лучших златоустов Парижа не только благодаря находчивости ответов, но и ввиду колоритности выражений, потом передававшихся из уст в уста. Он мог достойно противостоять прославленным сквернословам, базарным торговкам рыбой, утереть нос любым острословам, самым большим знатокам арго, так называемой «фени». Когда Франсина выдохлась и, тяжело дыша, замолчала, они уже пребывали в ее будуаре, наполненном ароматом тонких духов. Никогда, даже во сне, Боско не видел ничего подобного царившей здесь изысканной роскоши. Он едва сдержал возглас восхищения. Но восторгаться было не время. С вызывающим видом он встал перед Франсиной и, как певец, упивающийся своим искусством, буквально выхаркивал все самое отборное из своего словаря непристойностей. Ах, черт возьми! Как жаль, что не нашлось стенографа, имеющего возможность запечатлеть эту безумную серенаду помоев! Она струилась, не скудеющая, как родник. Лилась не как вызубренный урок, а как неподражаемая импровизация виртуоза! Франсина была не просто ошеломлена, она была оглушена. Сперва она пробовала вставить хоть слово. Но ее пронзительный фальцет не мог заглушить могучего баритона Боско — напрасные усилия, пустое сопротивление, обреченное на провал. Вынужденная замолчать, ошеломленная, почти околдованная, Франсина вскоре уже и не пыталась вклиниться. Она слушала, сбитая с толку, и то, что ей сначала показалось забавным, теперь вызывало неподдельное удивление. Малыша-Прядильщика как подменили! Действительно, она не узнавала своего мордатенького. Какое-то время Франсина восторгалась этим потоком канальского красноречия, колоритного, полного грубых образов, смелых и живописных метафор. И вдруг она встрепенулась: «Его болтовня — вздор. Он ее вызубрил наизусть. Последнее слово останется за мной». Франсина не могла вынести, чтобы Малыш-Прядильщик взял над ней верх, и вновь кинулась на Боско… Теперь она старалась сделать ему как можно больнее, применяла запрещенные приемы, наносила предательские удары в самые уязвимые места. Боско развлекался, ощущая себя полубогом. Его атакуют? Ну что ж, он будет защищаться, он задаст этой фурии такую трепку, что она его век не забудет. Парень стал в стойку, как будто готовился к серьезной битве, и подумал: «Сейчас не время дать себя искалечить. В любом случае Франсина д’Аржан — та еще штучка. Будь я действительно Малышом-Прядильщиком, она б души во мне не чаяла». Не в силах с ним справиться, женщина, пытаясь отвлечь его внимание, заговорила: — Ты должен был быть в Монако… Так что же ты валандаешься в Париже, потаскун несчастный? Боско заявил не без иронии: — Волочусь за одной знакомой! — Ты?! Да ты слишком уродлив! — Ха-ха! Не все разделяют твое мнение. Эта красотка пялилась на меня не без вожделения, потому что… — Потому что ты раскошелился? — Нет! Она понятия не имеет, кто я такой, просто она глаз на меня положила. — На тебя?! На эдакую образину?! — Да, на эдакую образину, моя крошка. Она любит меня самого, а не мои деньги! — Ты врешь, подонок! — И, потеряв всякое самообладание, мегера одним прыжком с криком кинулась на Боско. Тот влепил ей оплеуху, да такую, что Франсина застонала от боли. Снова вопль ярости. В ответ — пощечина по второй щеке. О, на этот раз такая увесистая, что раздался звук, похожий на звук бьющейся тарелки. — Каналья! Она попыталась ударить его ногой в пах, и, если бы он ловко не увернулся, ему пришлось бы худо. Боско отплатил новой пощечиной. — Бандит! — Ну как, хватит с тебя? Не помня себя, она вновь ринулась в бой, но на этот раз вслепую, движимая одним желанием — царапаться, рвать зубами. Видя, что ему не взять верх над этой фурией, что так просто она не сдастся, Боско прибегнул к крайним мерам. Не заботясь о том, не поломает ли он ей кости, не обезобразит ли ее, Боско принялся методично лупить и так отделал эту даму полусвета, как бандиты отделывают своих сожительниц. Нанося удары, он хрипло приговаривал: — Ах, так ты мужчин под себя подминаешь! Ах, ты их ногами топчешь! Ты у нас укротительница! Таким, как ты, только никчемные слабаки поддаются! Я тебя, дрянь, так исколошмачу, что навек запомнишь! Поначалу она не желала сдаваться. Но мало-помалу боль пересилила гордыню. О, как же больно! Он переломает ей все кости! Слезы брызнули у нее из глаз — слезы боли и стыда, обжигающие веки. Она все еще не хотела признать свое поражение и не понимала — откуда столько силы, откуда столько ловкости у этого презренного, всегда покорного раба?! Она хотела продолжать борьбу — и не смогла. Она бесновалась и спрашивала себя: «Да что же это сегодня на него нашло?! Я не узнаю его. Он — мужчина». Слезы полились рекой. Рыдая, она простонала: — Гонтран, довольно!.. Ты делаешь мне больно! Хватит!.. Неумолимый Боско издевательски отвечал: — Я сам знаю, когда хватит. Надо тебя отделать на совесть, задать тебе добрую трепку. И снова принимался за свое. — Пощади!.. Сжалься!.. Гонтран… — Женщины, они как бифштексы. Становятся мягче, когда их отбивают. — Ах, ты хочешь меня убить!.. — Вот уж нет. Хочу, чтоб ты еще немного поверещала. — Ох, умоляю тебя, заклинаю, не бей… Я буду тебя любить. — Да уж, куда ты денешься. — Я буду тебя любить, я тебя уже люблю! — Не сомневаюсь в этом. Истерзанная, разбитая, с глазами, полными слез, с горькой улыбкой, кривящей губы, Франсина медленно поднималасьс пола. Душа ее ликовала. Боско был настороже, ожидая от нее подвоха. Но нет, она смиренно стояла перед ним на коленях и умоляла. Жестокость Боско сослужила ему хорошую службу. Франсина думала — он в ярости, он хочет ее покинуть… Она надеялась его смягчить, растрогать… — Мой дорогой, я уже люблю тебя… Ты — настоящий мужчина… Я не думала, что ты такой. Но почему ты мне повиновался, как собака? Почему исполнял все мои прихоти, даже самые идиотские? — Да, но все это до поры до времени, — проворчал Боско. — Да, я вижу, — лепетала девушка, счастливая, укрощенная, усмиренная. — Я обожаю тебя! И это на всю жизнь!.. О, я с ума по тебе схожу! Я готова творить любые глупости! — Что ж, поживем — увидим. — Чего ты хочешь, любовь моя, чтобы я ради тебя сделала? Отреклась от роскоши? Я готова. Отними у меня этот дом, не давай ни гроша… Ради тебя я готова жить в лачуге… Терпеть нужду… И я буду любить тебя сильнее, куда больше, чем та, ради которой ты остался в Париже. «Да этот Малыш-Прядильщик — форменный остолоп, — размышлял Боско. — Что ж это он не додумался действовать с нею как я? Да, не каждому дано умение заставить себя любить!» Красотка медленно встала, робко приблизилась, обняла, прижалась к его лицу, жадно ища его губы. Глаза ее увлажнились, грудь бурно вздымалась, кудри рассыпались, и вся она, излучавшая самую пылкую страсть, была на диво хороша и соблазнительна. Боско не остался равнодушен к этим чарам, он почувствовал, как мало-помалу сладостное опьянение охватывает и его. Но, человек прозаический и чуждый громких фраз, видя, что ситуация усложняется столь приятным для него образом, он подытожил, сказав про себя: «Что поделаешь, человек не камень». Волею случая попав в святилище неги, Боско — бродяга, бездомный и нищий философ без гроша за душой — решил щедро заплатить за гостеприимство. В конце концов, почему бы и не овладеть этим прелестным созданием, отдававшим ему себя, этой девушкой, просившей, умолявшей, как нищенка, клянчившей крохи его любви? Он привлек ее к себе, и все его прежние неутоленные желания вспыхнули в нем. Он все крепче, до боли прижимал ее, то целуя, то кусая, переходя от нежной ласки к грубости. Она, обезумев, уже не понимая ни что делает, ни что говорит, лепетала слова любви, прерывая их криками, стонами сладострастия, спазмы сжимали ей горло, из уст вырывались неразборчивые обрывки слов, она не помнила себя, как в бреду… Через полуоткрытую дверь будуара Боско заметил роскошную спальню и, легко, как перышко, подхватив Франсину на руки, сам охваченный еще неизведанным любовным пылом, рыча, как зверь в брачную пору, понес ее туда… …Обессиленные, сломленные, истомленные, они очнулись наутро на огромном ложе из эбенового дерева, к которому, словно к алтарю, вели три ступеньки. Нарядная расторопная горничная суетилась вокруг, как куропатка в поле. Видя вокруг себя изысканную элегантность обстановки, лежа в мягчайшей постели рядом с этим дивной красоты созданием, Боско ощущал себя наверху блаженства. Бродяга где только не шлявшийся, чего только не испытавший на своем веку, спавший и под забором, и на тюремных нарах, оборванец Боско сейчас не испытывал никакого смущения и принимал все как должное. — Мариэт, который час? — томно спросила Франсина. — Девять часов, мадам. — Так поздно! «Черт подери! — подумал Боско. — Уже девять! Времени в обрез, дела не ждут». Горничная поставила на маленький белый столик возле кровати поднос с завтраком — две чашки холодного бульона, бутылку бордо и два бутерброда. Боско отхлебнул бульона, скорчил гримасу и умял в один миг бутерброды. — Достаточно, чтобы разыгрался аппетит, — заявил он и, поднеся к губам бутылку, не отрываясь, опорожнил ее. — И это все? — с явным сожалением вопросил он и, забавляясь, с размаху швырнул бутылку в приоткрытую дверь туалетной комнаты. Она со звоном разбилась, а Франсина залилась радостным смехом. Боско вытер простыней испачканные вином губы, крепко обнял и поцеловал девушку. И объятие это было таким крепким, властным, бешеным, что профессиональная кокотка, привычная к такого рода упражнениям, млела и стонала, почти лишаясь чувств. Действительно, Боско обладал многими достоинствами настоящего самца, такими, что даже Франсина, за всю свою карьеру, скажем так, «любезной» женщины, никогда не была подобным образом… ублажена. Изнемогающая, разомлевшая, счастливая, она вся погружалась в блаженство, наступающее после переизбытка любовных наслаждений. «Моего Малыша-Прядильщика как подменили», — думала она. И в сотый раз повторяла себе, вспоминая все неистовства минувшей ночи: «Нет, невозможно… Нет, невероятно, чтоб это был Драный Башмак!..» Явившаяся на звонок горничная раздвинула двойные шторы и подняла жалюзи. Яркий свет ворвался в комнату. В это время Франсина пожирала Боско восторженным взглядом. Он же, в рубашке нараспашку, шаловливо ее поддразнивал. И тут, при виде мощной мускулистой шеи, выпуклых мышц его громадных рук, она подскочила от удивления. Худощавый Малыш-Прядильщик всегда казался утомленным и хилым. Перед нею же был настоящий самец, так беспощадно ее укротивший. — Ты не Малыш-Прядильщик! — радостно воскликнула она. — Нет, нет, не отрицай! Я знаю, что ты не он! Ты похож на него, как две капли воды, как брат-близнец… Но ты настоящий мужчина! Как я счастлива, что могу любить тебя! Всем сердцем! И никогда, никогда ты не дашь мне повода тебя презирать! «Эге, — подумал Боско, — а ведь она в меня влюбилась! Эк ее разбирает… Здорово! Поглядим, что из этого выйдет». Франсина жадно обнимала его и спрашивала: — Ты мне не отвечаешь. Вчера и даже сегодня ночью как я была глупа, перепутав тебя с этой обезьяной! Как противна мне его рожа! Меня тошнит от его фантазий, достойных какого-нибудь старикашки! Как прекрасно, когда любишь молодого, здорового, сильного, словом, настоящего мужчину! Я не оговорилась — с той минуты, когда я поняла, что ты — не он, я полюбила тебя еще больше! Ах, это на всю жизнь… Я никого в жизни не любила, а тебя я обожаю… Но как тебя зовут? Имя, скажи свое имя. Ничего, кроме имени, я не хочу знать. Остальное меня не касается. Наверно, у тебя свои секреты… Я хочу только одного: любить тебя. Любить всегда! Твое имя, дорогой? — Возможно… Альбер. В детстве меня называли Бебером. Пусть будет Альбер. — Я обожаю это имя. Оно такое красивое и так тебе идет. И скажи мне, ты меня хоть немного любишь? — Мне кажется, я уже это доказал. — Да, конечно. Но любовь не только в этом. Послушай, твое сердце бьется для меня? Положи руку на мое… Ты слышишь, колотится… как сумасшедшее… У меня захватывает дух, мне кажется, я теряю сознание… — Мое сердце, говоришь? Черт подери, обычно оно у меня стучит и не так, как сегодня… Сдается мне, ты славная девушка, немного своенравная и чудаковатая, но чертовски красивая. — Оставь в покое то, что ты именуешь моей красотой! Мне о ней уже все уши прожужжали. — Ладно. Словом, не вижу причин не любить тебя. — О да, да! Люби меня! Мы вместе проведем весь день и всю ночь. — Невозможно, душечка, — отрезал Боско. — Ты хочешь уйти?! — И немедленно. — Умоляю, останься! — Ты должна была заметить, что я не из тех мужчин, которые, имея перед собой нерешенную задачу, останавливаются на полпути. Я сказал: надо! Она смиренно склонилась перед его железной волей и нежно спросила: — Скажи мне, когда я тебя увижу. Ведь ты же вернешься, правда? Я буду считать минуты до твоего возвращения. — Разумеется, вернусь. Вечером… ночью… завтра. Точно не знаю. Глядя, как он поспешно одевается, она спросила: — Во всяком случае, дай мне надежду, что тебе не грозит опасность. — Еще как грозит! Я веду такую игру, в которой запросто могу сложить голову. — О Боже мой! Именно этого я и боялась! Ах, если б я могла тебе помочь! — Нет, я своих тайн женщинам не доверяю. — Я не обычная женщина! — Ха! Все так говорят. — Если боишься, что я тебя предам, убей меня. — Не говори глупостей. — Если я совершу какой-нибудь дурной поступок или просто о чем-нибудь проболтаюсь, ты распорядишься моей жизнью по своему усмотрению… — Опять ты за свое! — И распорядишься совершенно безнаказанно. Франсина соскочила с кровати и подбежала к богато инкрустированному бюро, достала маркированную ее инициалами бумагу и медленно вывела несколько строк. — Возьми и прочти. И ты поймешь, что я — твое имущество, твоя вещь. Ты увидишь — я принадлежу тебе душой и телом, и, что бы ты ни задумал, чего бы ни пожелал, я за это отдам жизнь. Боско взял протянутый листок и прочитал:«Пусть в моей смерти никого не винят. Я устала от всего и кончаю с жизнью, ставшей мне в тягость.— Ну как? — спросила эта странная девица, которую эта внезапная, шквальная, непреодолимая любовь совершенно преобразила. — Теперь-то ты веришь, что я принадлежу только тебе? И первый раз в жизни у Боско из-за женщины быстрее забилось сердце, а в глазах защипало. — Верю, — ответил он. — Думаю, ты меня любишь и, возможно, я полюблю тебя. — У тебя нет другой женщины, так ведь? — Вот уж чего нет, того нет. — Благодарю тебя. Остальное меня не волнует. А теперь, любовь моя, иди, будь осторожен и скорее возвращайся. Они обменялись продолжительным поцелуем, и Боско ушел, ошеломленный этим странным происшествием.Подпись: Франсина д’Аржан».
ГЛАВА 35
Пока Боско и Франсина д’Аржан ссорились, идя по улице Прованс, Черный Редис, перепрыгивая через две ступеньки, мчался к барону де Валь-Пюизо. — Известный господин — большой ловкач, — сказал он щеголю, занимавшемуся своим туалетом. — Что ты хочешь этим сказать? — Малыш-Прядильщик не в Монако, он в Париже. — Что ты мелешь? Я собственноручно загрузил его в поезд. — Значит, он вас облапошил, месье. — Быть такого не может! Со мной такое не проходит. — Ручаюсь, что он вышел из вашего дома. И нос к носу столкнулся с мадам Франсиной возле самой привратницкой. По мере того как Черный Редис говорил, барон бледнел то ли от злости, то ли от внезапного испуга. — Продолжай! — приказал он, сцепив зубы. — Он хотел подняться к вам. А мадам Франсина как раз спускалась по лестнице. Тут-то они столкнулись и ушли вдвоем, переругиваясь. Сцепились они не на шутку. — Разрази меня гром! Если этот идиот Гонтран здесь, нам крышка. — Месье боится, что ему будет трудно свободно видеться с мадам Франсиной? — С этой потаскушкой? Да плевать я на нее хотел! — пожал плечами барон. — Дело не в ней, а в переводном векселе на пятьсот тысяч франков, который необходимо представить за время его отсутствия. — Месье через пару дней женится и получит большое приданое и жену-красавицу. На его месте я так бы не переживал. — Ты что, не знаешь, что у меня сейчас нет ни гроша, что я в долгах как в шелках?! Я задолжал и Богу, и черту, и в кассу «подмастерьев»… Мне необходимо заткнуть все дыры, иначе я взлечу на воздух!.. Что ж, на большие хвори — сильные лекарства. Надо действовать без проволочек. — Я в вашем полном распоряжении, хозяин. — Что нового в деле на улице Дюлон? — Невозможно ничего узнать. Мы так и не доискались, кто убил Костлявого и Соленого Клюва. — Гром и молния! Плохо дело!.. А тело Боско разыскали? — Валяется, наверно, в какой-нибудь дыре. Вы что ж, хозяин, думаете, что кто-нибудь может, не зная лабиринта, без еды и без света выйти из катакомб? — Твоя правда. Ладно, перейдем в ателье. Нельзя терять времени в этой афере с Малышом-Прядильщиком, потому что я собираюсь вскоре общипать его догола. Сказав это, барон направился к себе в спальню, где стоял огромный стальной сейф. Высокий и широкий, как шкаф, он был неимоверно тяжел. Де Валь-Пюизо открыл встроенный шкаф, находящийся рядом с сейфом, и приступил к таинственным манипуляциям. Работал он недолго. Секунд через восемь — десять раздался приглушенный треск, и сейф, несмотря на всю тяжесть, с неожиданной легкостью повернулся вокруг своей оси. За ним оказалась массивная, окованная листовой сталью дверь, которую барон открыл секретным ключом. Затем он спустился на две ступеньки и оказался в помещении, где когда-то проводил время банкир воров и кокоток граф де Мондье по кличке «Дядюшка». С того времени, как Бамбош дебютировал — убил своего отца с целью ограбления, — обстановка почти не изменилась. За маленькой дверцей размещался небольшой сейф, точь-в-точь похожий на первый и вращающийся синхронно с ним. Барон вернул его в первоначальное положение и открыл. В сейфе, кроме огромного количества бумаг и драгоценностей, хранился еще целый ряд герметически закупоренных флаконов. Барон выбрал некоторые из них и отнес в туалетную комнату, примыкающую к Дядюшкиному кабинету, где хозяин в охотку занимался всякими превращениями — к примеру, трансформировал биржевого зайца в виконта Мондье. Быстро и уверенно, что указывало на немалый опыт, де Валь-Пюизо наливал разноцветные жидкости в разные миниатюрные тигельки. С помощью маленькой тряпочки, смоченной какой-то жидкостью, он обесцветил себе брови, ресницы и усы. Затем проделал то же с волосами. Выждав пять минут, он повторил операцию, но уже переменив жидкость. Эти манипуляции дали потрясающий эффект: из красивых русых волосы, брови, ресницы, усы превратились в угольно-черные. По мере последующих трансформаций элегантный барон де Валь-Пюизо уступил место грозному вожаку арпеттов Бамбошу. Минут десять он сушил волосы, затем глянул в зеркало и воскликнул: — Превосходно! Молодой человек вымыл лицо и волосы, снова их густо намылил, смыл пену под проточной водой, сполоснул и вновь осмотрел свою работу: — Всего лишь небольшой макияж![72] Безмолвный, точный в движениях, Черный Редис помогал ему, подавая по мере надобности то одно, то другое снадобье. Последний штрих — бандит обработал лицо луковым отваром, оно сразу же утратило розоватый оттенок, стало смуглым, коричневого тона, и это довершило метаморфозу. Валь-Пюизо, абсолютно неузнаваемый, стал Бамбошем, не применив для этого ни грима, ни парика! Все оставалось совершенно натуральным — невыводимым, несмываемым, неудалимым. Кисточкой он все же кое-где добавил некоторые черточки, и сделал это мастерски. В платяном шкафу Бамбош выбрал заурядную, невзрачную одежонку и мигом переоделся. Не теряя ни минуты, Черный Редис убрал все аксессуары, с помощью которых был проделан этот своеобразный маскарад. Бамбош же уселся за письменный стол и занялся более чем странными упражнениями в каллиграфии. Перед ним лежала добрая дюжина перьевых ручек и стояли чернильницы с чернилами всех цветов и оттенков. А также — бювары[73], скрепки, гербовая бумага, печати, клейма, промокашки — словом, весь сложный арсенал подозрительной и нечистой на руку канцелярии. Имелись, кроме того, прикрепленные к листам картона разнообразнейшие образцы всевозможных почерков. С легкостью, изобличающей в нем фальсификатора со стажем, Бамбош написал письмо на бланке, подписался и проставил дату. Затем вложил его в конверт, написал адрес, запечатал и наклеил марку. С помощью почтового штемпеля он, как это делают на почте, сделал на наклеенном ярлыке оттиск даты отправления, номера почтовой регистрации и названия почтового отделения-отправителя. В довершение своих трудов проштемпелевал почтовую марку, а на обратной стороне конверта, повторив всю операцию, изобразил штамп отделения-получателя. Таким образом, снабженное отметками об отправлении и получении, письмо приобрело вид абсолютно подлинного. Бамбош разрезал конверт, как если бы после получения письмо было вскрыто и прочтено. Черному Редису, наблюдавшему за процессом, Бамбош бросил: — Славная работа, не правда ли? — Потрясающе, патрон! — восхитился подручный, обращаясь к главарю «подмастерьев» более фамильярно, чем обращался к барону. — Это письмо имеет такой вид, как будто совершило путь из одного конца Парижа в другой. А тем не менее оно не покидало этой комнаты. Ни один даже самый дотошный эксперт не заподозрит в нем подделку, администрация вынуждена будет признать его подлинным. А оно тем не менее содержит в себе основания для того, чтобы отправить человека на каторгу лет на десять. Тут Бамбош взял лист гербовой бумаги, старательно сличил даты, приговаривая: «Прекрасно, замечательно». Окунув перо в чернильницу, он сделал пробу на листке белой бумаги и стал писать. Закончив, мошенник прочитал вслух:«Не позднее первого мая тысяча восемьсот девяностого года я обязуюсь погасить задолженность в сумме пятисот тысяч франков, взятых мною взаймы у мадемуазель Ноэми Казен.Затем чуть выше даты Бамбош вывел: «Париж, пятнадцатое апреля тысяча восемьсот девяностого года». — Завтра первое мая… Надо, чтобы бумага была предъявлена, зарегистрирована, а затем опротестована. — Ясно. Я этим займусь, как всегда. А что делать дальше? — Шум поднимется изрядный: «Воры!», «Горим!», «Это шантаж!». — Но вы же не получите кругленькой суммы, раз она выписана на имя девчонки… — Сразу не получу, это очевидно. Но пару деньков спустя… — Вы уверены? — Абсолютно уверен. — Ну и хитрец же вы! — А ты думал! — А можно ли спросить… — Нет, нельзя. — Как вам будет угодно. Вложив в конверт переводной вексель, Бамбош написал еще одно письмо и, выходя, распорядился: — Иди тайным переходом к Глазастой Моли и скажи, чтоб никуда не отлучалась. Она может мне понадобиться. — Вас понял. — Затем отнесешь букет Франсине. — Розы или камелии? — Розы. — Такие же, как всегда, когда вы подаете условный знак, чтоб она пришла завтра? — Вот именно. А теперь проваливай. Вечером я буду у «подмастерьев». Черный Редис исчез за маленькой дверцей позади небольшого сейфа, вновь водруженного на место. С двумя письмами и переводным векселем в кармане Бамбош вышел через прилегающий дом на улицу Жубер. Дойдя до Шоссе д’Антен, он остановил проезжающий фиакр и приказал отвезти себя к скверу Батиньоль. Здесь он вышел, расплатился с кучером и пошел пешком в направлении улицы Де-Муан. Дойдя до дома, где так драматически оборвалась жизнь Лишамора и матушки Башю, он вошел в парадное. Консьержка подмигнула ему, как доброму знакомому. Он открыл квартиру стариков, которую оставил за собой, постоял там с минуту и прислушался. В доме царили покой и тишина. Выждав еще минут десять, он вернулся на лестничную площадку, бесшумно, крадучись поднялся на этаж выше и с помощью отмычки легко отворил дверь квартиры Леона Ришара. Комната была чисто прибрана, кругом — порядок, что свидетельствовало о характере и жизненных принципах квартиросъемщика. Казалось, Бамбош досконально знал, что где находится в этом скромном жилище трудолюбивого ремесленника, потому что прямиком направился к секретеру и стал рыться в лежавших там личных бумагах юноши. Кроме бумаг там находилось еще несколько засохших букетиков, скромных цветов, подаренных Мими, все еще продолжавших сохранять для Леона свой аромат. Смяв грубой рукой эти любовные сувениры, Бамбош пожал плечами и проворчал: — Шутки кончены, мои голубки! Вытащив из кармана письмо, он засунул его в пачку других писем, позаботившись о том, чтобы оно сразу же бросилось в глаза. Сделав это, он присел к секретеру, взял перо, бумагу и стал писать. Казалось, негодяй колеблется, пробует так и сяк написать ту или иную букву, словно учится имитировать чей-то почерк. Трудился он долго и старательно. Вскоре весь листок был испещрен отдельными словами, росчерками, буквами, написанными с нажимом и без, подписями. На столе Бамбош отыскал листок розовой промокательной бумаги. К каждому написанному им слову бандит тотчас же прикладывал промокашку так, что весь текст отпечатался на ней хоть и наоборот, но совершенно отчетливо. На ней теперь ясно угадывались все подписи, росчерки, даты, которые Бамбош выводил на белом листе. Создавалось впечатление, что он хочет оставить неоспоримое, неопровержимое свидетельство своих загадочных, но безусловно компрометирующих писаний. Закончив труды, он положил промокательную бумагу на самое видное место — на бювар и даже заботливо прижал ее какой-то книгой, как пресс-папье, потом сжег белый лист в камине, но сжег, не сминая его, таким образом, чтоб на ровном слое пепла еще можно было различить те или иные буквы и слова. Удовлетворенный проделанной работой, мерзавец потер руки и двинулся к выходу, бормоча себе под нос: — Ну все, теперь вам крышка. А я одним махом отомщу и обрету состояние и счастье.Подпись: Гонтран Ларами».
ГЛАВА 36
Людовику наконец-то удалось немного утешить Мими, которая после катастрофы была ни жива ни мертва. Да, произошла большая беда, но, как бы огромна она ни была, несмотря на самые пессимистические прогнозы, Леон Ришар не умер. Как только стало возможным свидание, Людовик почел своим долгом сопровождать Мими в клинику Ларибуазьер. Леон чувствовал себя значительно лучше. Благодаря на редкость могучему организму он даже мог надеяться, что период выздоровления будет относительно коротким. Раны и ушибы заживали без осложнений, кровоподтеки рассасывались. Лишь рана в груди требовала еще внимательного лечения. Людовик Монтиньи заканчивал описывать девушке состояние больного, когда они переступили порог палаты, где на одной из трех коек лежал Леон. Два дня назад, по настоянию интерна, друга Людовика Монтиньи, больного перенесли в эту небольшую комнату, в которой пока не было других больных. Из деликатности Людовик остановился на пороге и, держа Мими за руку, с улыбкой провозгласил: — Господин Леон! К вам пришли. Прекрасный посетитель, который исцелит вам и душу и тело. Мими с простертыми руками кинулась к своему жениху, которого уже не чаяла увидеть. Прильнув к нему, она, несмотря на все свои решения быть мужественной, разразилась потоком слез. Раненого невозможно было узнать. Брошенный ему в глаза перец вызвал острейший конъюнктивит: взгляд едва проникал сквозь воспаленные вздутые веки. Леон не столько увидел, сколько почувствовал ее присутствие по тому, как бурно забилось его сердце. Не веря своему счастью, он раскрыл ей объятия. — Мими! Любимая!.. Неужели это вы!.. — Да, Леон, это я… Ваша невеста, считавшая вас мертвым и собиравшаяся последовать за вами. Девушка говорила с такой убежденностью и нежной печалью, что слезы навернулись на глаза интерну. Влюбленные целовались, позабыв обо всем на свете. Людовик на цыпочках вышел, и на душе у него было тяжело. — Мими и Леон настрадались, да и теперь мучаются… Страшные испытания выпали на их долю, жизнь их не пощадила… Но они любят друг друга, они могут надеяться… Что до меня, то я… И терзания, испытываемые им с того момента, когда он узнал, что его любовь обречена, стали еще острее, еще пронзительнее… Несчастный переживал все муки ада при мысли, что его обожаемая Мария или умрет, или станет женой другого. Он пребывал в состоянии смертника, ждущего казни, который знает: каждое утро к нему могут войти и сказать: — Казнь состоится сегодня! Страдания Людовика умножались еще и тем, что он не знал, когда наступит трагическая развязка. Потому что молодой человек твердо решил: он тоже не переживет своей невесты! Он жил в состоянии постоянного головокружения: то ему казалось, что время ползет смертельно медленно, то он приходил в ужас оттого, что часы летят так стремительно. Интерн слонялся по больничным коридорам, рассеянно отвечал на обращенные к нему замечания коллег, которые, не узнавая весельчака-студента, недоумевали: — Что, черт возьми, произошло с Монтиньи? В это время Мими и Леон не могли наговориться — они открывали друг другу душу, вновь переживали моменты их столь короткого счастья. И вновь строили планы на будущее. Во-первых, как только Леон выйдет из больницы, они больше не расстанутся. Пусть ханжи и сплетники болтают что угодно, им на это наплевать. Потом, когда Леон сможет ходить — ни дня, ни часа проволочки! — они поженятся. Ах, как они жаждали быть соединены неразрывными узами — этот мужчина, сильный и смелый, любящий и преданный, и эта девушка, грациозная хозяйка, озаряющая улыбкой свой скромный дом… Так, обнявшись, они провели целый час, пролетевший как сон, и, когда Людовик Монтиньи пришел сказать им, что время свидания истекло и пора расставаться, у обоих горестно сжалось сердце — и тому и другому казалось, что они не сказали чего-то очень важного. Влюбленные обнялись, Мими пошла было к двери, но, уже дойдя до порога, кинулась обратно, обвила руками шею своего жениха, прижалась к его губам, шепнула ему еще более горячие слова любви и, улыбаясь, но с тяжелым сердцем попыталась уйти. — Поцелуйте от меня матушку Казен. — Да, мой Леон, непременно поцелую. — А также добрейшую матушку Бидо… — Ну конечно! — И еще Селину… Людовик предложил Мими руку, попрощался с раненым и проводил девушку домой. С чуткостью, свойственной любящей женщине, Мими догадывалась, что происходит в душе интерна, и желала его утешить. Она боялась банального сочувствия и очень переживала за друга, столько сделавшего для ее калеки-матери и жениха. Когда они уже подошли к дому и пора было прощаться, Мими ласково сказала: — Вы знаете, месье Людовик… Если у вас какие-нибудь неприятности… И, если я могу вам чем-нибудь помочь… располагайте мной… как самой преданной сестрой… Он долго и растроганно смотрел на девушку, потом тяжело вздохнул и пробормотал: — Славная Мими… Добрая моя сестричка… Спасибо тебе, спасибо от всего моего разбитого сердца, в котором больше не осталось надежд. Любите вашего Леона. И думайте обо мне иногда, вспоминайте, что я вас обоих очень любил… — Месье Людовик, я не понимаю вас… Вы говорите так, будто… О Боже мой!.. — Да, я ранен в самое сердце. И поэтому умру. Прощайте, Мими. До завтра. Перепрыгивая через две ступеньки, он помчался вверх по лестнице, ворвался к себе, заперся и, наконец, оставшись наедине с самим собой, смог отвести душу. — Ах! — говорил он, охваченный злобой при мысли о неумолимой судьбе, которую не в силах был превозмочь и которая оказалась такой жестокой к нему, так разрывала его душу. — Нет, лучше уж покончить с этим раз и навсегда. Но я должен ее увидеть! Увидеть и умереть. Его рассеянный взгляд упал на письменный стол. Там лежало несколько писем, и среди них одно, на котором адрес был написан так, что в любую другую минуту вызвал бы у него взрыв хохота. Он узнал фантастическую орфографию Боско и разорвал конверт.«Гуспадин Лютовик, мой дарогой патрон. Хатшю скасат што всо идот как по маслу. Я нашол много потриясных вижчей. Скоро я на них накладу лапу и жысть будет малина. Пока наслошдаюс. Заимел кралю на весь Париш. Она мине так люпит аш жуть, ноги моит. Ни волнавайтесь дела вашы делаю и шиву харашо. Ни тиряйте голову. Дершитис мои дарогой патрон. С нижайшым потчтеньемДаже такой поистине выдающийся и по стилю, и по орфографии опус не смог разгладить морщины на лице Людовика. Он пожал плечами и снова стал бормотать тем жалобным тоном, пришедшим на смену его обычному голосу, в котором всегда звенели веселые нотки: — Бедняга Боско! Он где-то забавляется, но, несмотря ни на что, видит будущее в розовом свете. Говорит, чтоб я не терял надежды. А на что мне надеяться? Студент тяжело опустился в кресло и стал грезить наяву. Его невидящий взгляд уперся в раскрытые книги, в которые он давно не заглядывал. И вдруг его пронзило непреодолимое желание увидеть Марию. Он выскочил на улицу, и ноги сами понесли его к особняку Березовых. В доме этом сейчас бок о бок уживались бурная, ликующая радость и, скрытое от посторонних глаз, смертельное горе. Мария с ужасом осознавала, что приближается день, когда далекий от бескорыстия благодетель семьи, барон де Валь-Пюизо, придет за своей добычей и потребует выполнить обещание. Ежедневно он являлся засвидетельствовать свое почтение и ухаживал за грустной невестой, чья бледность становилась день ото дня все более пугающей. Он был галантен, предупредителен, вел себя по-светски и так тактично и деликатно, что даже Мария, при всем своем отвращении, не могла не отдать ему должное. Нанеся визит, который у него хватало ума не затягивать, барон удалялся, изящный и улыбающийся, несмотря на то, что вся его болтовня, все его россказни и сплетни не только не могли растопить холодность невесты, а были бессильны даже разгладить морщинки на ее нахмуренном лбу. Ежедневно он посылал ей свой «букет жениха». Огромная полусфера, претенциозно разукрашенная бумажными оборками, содержала снопы закрепленных на проволочках экзотических цветов. Мария, обожавшая полевые и садовые цветы, но не сорванные, а живые, бросала грустные взгляды на эти жертвы брачных условностей и испытывала сочувствие к искалеченным растениям. Опьяненные радостью от того, что вновь обрели свое дитя, князь и княгиня Березовы не замечали, как, тая свое горе, чахнет Мария. Они были счастливы, а счастье эгоистично, вот почему никто не обратил внимания на то, что веселый смех Марии больше не звучит в доме, что лучистые глаза ее померкли, а губы кажутся обескровленными. Раба своего долга, она никого не обвиняла, ни на что не жаловалась, а когда ее душили рыдания, она симулировала приступы веселости, принимаемые Михаилом и Жерменой за чистую монету. Бедное дитя, ни на секунду не забывавшее о своем спасителе, о любимом Людовике, жило лишь одной-единственной ужасной мыслью: «Через несколько дней, через несколько часов я должна буду умереть». Благодаря услужливости доброго Владислава она могла переписываться с Людовиком. Владислав, славный малый, давно привязался к ней и, не задаваясь вопросом, хорошо это или плохо и дозволил бы хозяин эту переписку или запретил, он, как добрый преданный пес, служил молодым людям, так любящим друг друга. Дворецкий возвращался с прогулки с двумя борзыми князя, когда на пути ему встретился интерн. — Что нового? — коротко спросил Людовик. — Увы, ничего хорошего, месье. Бедняжка мадемуазель все время льет слезы, не спит, не ест. Людовик глубоко вздохнул, вытащил из кармана письмо и протянул Владиславу. Тот принял его и, почтительно поклонившись, исчез за дверью особняка. Пять минут спустя Мария показалась в одном из окон, расположенном на фасаде здания. В руке она держала письмо, переданное Владиславом. Лицо ее сияло. Она помахала юноше рукой и, прижав пальчики к губам, послала ему воздушный поцелуй. Затем девушка внезапно исчезла. Людовик, у которого кровь отхлынула от лица, едва успел ее рассмотреть. Но он уже получил свою порцию счастья, достаточную для того, чтобы дожить до завтра, когда Мария снова махнет ему рукой. Тем не менее содержание письма, только что полученного бедняжкой, несмотря на весь свой лаконизм, было ужасным:Боско».
«Мария, любимая! Так как вы все-таки предпочли умереть, чем терпеть это насилие, мы умрем оба. Утром того дня, когда собираются заключить этот проклятый союз, я буду ждать вас в экипаже возле особняка. Приходите! Мы умрем вместе. Я люблю вас!Через несколько минут Владислав вышел на улицу и вручил интерну короткое послание:Людовик».
«Да! Я вас обожаю!..Людовик прижал к губам пахнущую тонкими духами записочку, страстно ее поцеловал и медленно пошел по улице, бормоча: — Хоть нам и помешали принадлежать друг другу, но, во всяком случае, в смерти мы соединимся навек! И успокоенный, просветленный, черпая силу в принятом решении, он направился домой, дабы навести порядок в своих вещах и хладнокровно приготовиться к далекому путешествию. От этой жизни он уже ничего не ждал.Мария».
ГЛАВА 37
Как Боско и обещал Людовику в своем письме, орфография которого несколько отличалась от общепринятой, даром времени он не терял. Франсина стала его помощницей, и помощницей преданной, влиятельной, могущественной и при любых обстоятельствах сохраняющей вверенную ей тайну. Любовь, охватившая эту даму полусвета, пылала, испепеляя и превращая девушку в вещь, принадлежащую Боско. Она не вдавалась в дискуссии, не умствовала, она просто хотела того же, чего хотел он, ни перед чем не останавливалась, чтобы выполнить любой каприз любовника, с первой же минуты доведшего ее до безумия. Для выполнения таинственного мероприятия, задуманного Боско, она тотчас же поставила ему на службу свой ум, страсть к интригам, связи, состояние — словом, все. Она понятия не имела о начале драмы, в которой пришлось участвовать Боско и где он проявил свое потрясающее хладнокровие. Она не требовала от него никаких откровенных признаний, она работала на него, ведомая инстинктом, добровольно, с радостью, и была непомерно счастлива, когда он одной похвалой, одной лаской вознаграждал все ее за труды и хлопоты. Вот каким образом случайность, а именно из случайностей состоит наша жизнь, дала Боско в руки возможности, о которых он даже не мечтал и которые рано или поздно должны были дать свои результаты. Уже много дней он вел таинственную работу. Была поставлена цель: разоблачить двойную жизнь барона де Валь-Пюизо. В голове у Боско роилось множество предположений. Более того, он был почти уверен, что щеголь-аристократ и атаман арпеттов Бамбош — одно и то же лицо. К несчастью, доказательств пока не было. А время поджимало. Скоро счет уже будет идти даже не на дни, а на часы. И бандит явится к князю и княгине Березовым требовать выкуп за маленького Жана. При этой мысли у Боско в жилах закипала кровь. Он чувствовал — грядет катастрофа, и только он один может ее предотвратить. Но отважный парень имел дело с сильным противником. Бамбош, узнав, что Малыш-Прядильщик пребывает не в Монако, а в Париже, был не так наивен, чтобы придать этому факту огласку. Напротив, он, во всяком случае внешне, сделал вид, что полностью этому верит, однако со своей стороны устроил круглосуточное наблюдение за особняком Франсины и за самой девушкой и теперь знал каждый ее шаг. Это была простая предосторожность, но такой человек, как главарь «подмастерьев», не мог ею пренебречь. До сих пор челядь Франсины считала, что Боско в действительности и есть «их господин». Его жаргонная речь, развязность, необычайное сходство с Малышом-Прядильщиком — все утверждало их в этом мнении, все поддерживало эту иллюзию. Но, несмотря ни на что, де Валь-Пюизо сомневался. Впрочем, сомнения было легко развеять. Барон направился в особняк Гонтрана Ларами и убедился, что там его нет, узнал, что корреспонденцию ему пересылают прямо в Монте-Карло и что вернется он не раньше, чем дней через десять. «Превосходно!» — сказал Бамбош, смеясь и потирая руки. В его смехе звучала угроза. Он пошел на телеграф и отбил Малышу-Прядильщику длинную депешу, спрашивая в ней, не решил ли тот продать лошадь, которую Бамбош уже давно хотел у него приобрести. Четыре часа спустя он получил из Монако ответ Гонтрана.«Дорожу своими клячами… не продам… Берите лучше Франсину со скидкой… Вернусь концу месяца.Получив эту депешу, де Валь-Пюизо не мог удержаться от смеха: — Ты смотри, он не такой осел, как я думал. Заметил, что красотка Франсина ко мне благосклонна! Нет, дорогой. Не надо мне ни твоих кляч, ни твоей содержанки. Главное было узнать, что ты все еще в Монте-Карло. Бамбош взял фальшивый переводной вексель на пятьсот тысяч франков на имя Ноэми Казен, подписанный Гастоном Ларами. Он все время носил в своем бумажнике эту более чем странную ценность, которую вознамерился немедленно пустить в дело. С этой целью бандит пригласил свое доверенное лицо, Лорана, перешедшего к нему по наследству после убийства графа де Мондье. Снабженный подробными инструкциями, Лоран поспешил в особняк Ларами и в качестве доверенного лица мадемуазель Ноэми Казен предъявил вексель к оплате. Ему отвечали, что господин Гонтран Ларами не давал на этот счет никаких распоряжений и, уезжая, не оставлял средств для погашения этого платежа. Лоран ни о чем больше не расспрашивал, он заявил, что собирается опротестовать вексель, и ретировался. Вернувшись к Бамбошу, он объявил ему о том, что его поход не увенчался успехом. — Ничего, старина, — утешил его отпетый негодяй. — Мы скоро получим и эту кругленькую сумму, и много других, не менее кругленьких. Бамбошу оставалось лишь узнать, кто же тот незнакомец, так замечательно игравший роль Малыша-Прядильщика. «Этот тип — настоящий пройдоха, — думал главарь бандитов. — Возможно, мы с ним поладим. Вдвоем мы смогли бы горы свернуть». Бамбош переоделся нищим. Костюм был настолько реалистичен, что выглядел он в нем ужасающе и был совершенно неузнаваем. Затем, вооружась терпением краснокожего, сидящего в засаде, он занял наблюдательный пост у дома Франсины д’Аржан. Ожидание было тягостным. Ведь оно длилось почти тридцать часов! Да, тридцать часов истекли, прежде чем он смог обнаружить таинственного двойника Малыша-Прядильщика, пировавшего и наслаждавшегося, пока он, Бамбош, столбом стоял на одном месте. Но главарь арпеттов принадлежал к тому сорту людей, которых ничто не может остановить на пути к избранной цели. Эти люди знают: даже самый черный и неблагодарный труд в конце концов бывает вознагражден и может окупиться. Да, черт возьми, такое несокрушимое упорство приводит к успеху тем более блестящему, что его не ожидают. Франсина и Боско, рано утром уехавшие из дому, возвращались домой в фиакре. Пока Боско расплачивался с кучером, а Франсина выходила, Бамбош, как нищий, приблизился к экипажу и хриплым басом стал взывать о помощи. Боско, отзывчивый к чужому несчастью, достал из кармана монетку в пять франков и, памятуя о своей прежней нищете и пережитых лишениях, протянул ее попрошайке со словами: — На, держи, старый горемыка. Купишь себе стаканчик вина, табачку и хлеба на сдачу. Их взгляды встретились, и, несмотря на все свое хладнокровие, Боско пронзило какое-то странное ощущение, похожее на страх. Глаза нищего горели изумлением, гневом и, кажется, восторгом… Бамбош, обладавший чрезвычайно острой памятью на лица, узнал Боско. Да, это был именно тот Боско, которого он считал погребенным на дне катакомб, бродяга Боско, нищий, разгуливающий теперь в обличий миллионера, чье имя и любовницу он присвоил. По всему телу Бамбоша прошла дрожь, он пробормотал слова благодарности и пошел прочь, почти сомневаясь, не подвело ли его зрение. В какое-то мгновение у него возникла мысль выхватить нож и по рукоять вонзить его в затылок Боско. Почему бы и нет? Улица была пустынна. Франсина уже скрылась в арке ворот. Мысль об убийстве молнией прошила мозг. И все же он колебался. Это секундное замешательство и спасло Боско, не подозревавшего, какой смертельной опасности он только что избежал. Бамбош подумал, что неплохо было бы привязать к себе этого опасного противника, знавшего тайну арпеттов, человека, казалось, презиравшего всякие предрассудки и показавшего себя недюжинным ловкачом, превосходно подготовленным для жизни авантюриста. «Я сделаю его своей правой рукой, своим вторым „я“, — думал Бамбош. — Вдвоем мы станем хозяевами Парижа. Да, это было бы замечательно! Но этот чертов Боско, захочет ли он повиноваться? Ну, а если нет, что ж, я сам возьмусь за него, и у меня он вряд ли воскреснет». Бамбош возвращался домой, размышляя о только что случившемся престранном происшествии и строя все новые и новые планы касательно Боско. Но спешить было некуда, и он спокойно шел в сторону улицы Прованс. Десять минут спустя из особняка Франсины д’Аржан вышел рассыльный. Он торопился и нанял извозчика. Одетый в потертый бархатный костюм синего цвета, обутый в грубые, но тщательно начищенные башмаки, он держал под мышкой небольшой мешок из ковровой ткани, похожий на те, в которых чистильщики носят свои щетки и ваксу. В руке он держал деревянную палочку с винтом на одном конце и лопаточкой для нанесения воска на другом. И сам рассыльный, и его плюшевая каскетка, надвинутая на уши, и воротник из грубого полотна, и позеленевшая от времени медаль на груди — все это не вызывало ни малейшего сомнения в своей подлинности. Возраста он был престарелого, нечист, с немытым лицом, красным носом и источал сильный запах нестираного белья и пота. Из экипажа он вышел перед церковью Сен-Луи д’Антен и быстрым шагом направился в сторону улицы Жубер. Там он зашел в распивочную, что расположена почти напротив дома № 3, и заказал стакан вина. Трактирщик приветствовал его как старого знакомого. Тот отвечал с таким характерным акцентом жителя Оверни[74], что его ни с чем нельзя было спутать. Потягивая вино, за которое он сразу же расплатился, как делают люди, желающие уйти, когда пожелают, чистильщик не сводил глаз с дома барона де Валь-Пюизо. Внезапно он подскочил так, как будто получил заряд дроби в икры обеих ног, и рванулся было к выходу, но тут же овладел собой. Схватив свой стакан, он поднял его на уровень глаз и обратился к хозяину, стараясь, чтобы голос его звучал твердо: — Важе сдорофье, мусье! Так он сидел, пожирая лихорадочно горящими от любопытства глазами человека, уныло бредущего по тротуару. Этот оборванец был именно тем нищим, которому Боско подал милостыню у ворот пышного особняка Франсины. Вид у него был самый жалкий и понурый, голова опущена, ноги шаркали по мостовой. Нищий дошел до угла и вернулся обратно, минуя дом № 3. Эти маневры, казалось, крайне заинтриговали чистильщика. Наконец он увидел, как оборванец заговорил с одним из ливрейных лакеев барона и протянул ему руку, как будто прося милостыню. И тут овернецузнал лакея и так поразился, что едва не выкрикнул его имя. — Черный Редис! Но попрошайка получил от лакея вовсе не милостыню — тот сунул ему в руку какую-то бумажку — чистильщик отчетливо увидел белый листок. Они перебросились несколькими словами, и нищий повернул в сторону Шоссе д’Антен. Между улицами Прованс и Жубер стоял извозчик. Бедняк внезапно разогнулся, походка его стала легкой и пружинистой. Теперь это был просто очень плохо одетый человек, но вовсе не тот жалкий тип в лохмотьях, взывавший к сочувствию прохожих. К всевозрастающему изумлению наблюдателя, нищий уверенно дернул дверцу кареты и уселся на сиденье. Не получавший никакого приказа кучер вдруг натянул вожжи, зацокал языком, и лошадь тронулась. Чистильщик стал озираться в поисках извозчика, чтобы продолжить слежку. Не найдя вокруг ни одного свободного экипажа, он в отчаянии опрометью помчался следом, расталкивая прохожих плечами и мешком, набитым какими-то тяжелыми предметами. По счастью, экипаж, увозивший таинственного незнакомца, двигался достаточно медленно, и чистильщик с трудом, но кое-как за ним поспевал. Они проехали по бульвару Осман, по улице Гавр, вернулись на улицу Сен-Лазар. Затем, миновав улицу Комартэн, остановились в начале улицы Жубер. Чистильщик так хорошо поработал ногами, что теперь находился лишь шагах в двадцати позади экипажа. В тот момент, когда пассажир завершил поездку, вернувшую его в точку отправления, и вышел, чистильщик был уже совсем рядом. За время поездки нищий совершенно преобразился. Теперь это был красивый молодой брюнет с черными усиками — личность сразу узнаваемая для каждого, кто хоть раз встречал главаря «подмастерьев». «Бамбош! — чуть не вырвалось у чистильщика. — Я должен был догадаться. Ах, негодяй… Теперь надо его опередить. Иначе мы все пропали — и Франсина, которая мне приглянулась, и Людовик, мой дорогой патрон, и ты сам, Боско». Произнося этот внутренний монолог, Боско, тот самый Боско, с его непревзойденной мимикой, позволяющей с невиданным мастерством исполнять роль пятидесятилетнего чистильщика, последовал за быстро шагавшим Бамбошем. Тот вошел в один из домов по улице Жубер, номер которого Боско тотчас же запомнил. Выждав минут десять, Боско решительно обратился к консьержу. И тут его ожидал сюрприз. Швейцар этого дома, присутствие в котором бандита делало это жилище более чем подозрительным, смерил чистильщика тяжелым взглядом. — Чего надо? — Я иту к мусье Фушар, чистить том… — У нас таких нет. — Но мне ше тали этот атрес!.. Консьерж, ворча, уже удалился в привратницкую, а Боско, ощущая себя триумфатором, пошел прочь, бормоча: — А в трактире «Безголовая Женщина» ты, подонок, служишь ночным сторожем. И называют тебя Бириби. Ты доверенное лицо Бамбоша, сюда он тебя посадил консьержем. Теперь, молодчики, я вас держу крепко, и вы у меня попляшете. Истина предстала перед Боско так явственно, как будто ее озарило ярким светом. Наконец у него в руках был ключ к до сих пор неразрешимой задаче, над которой он так долго ломал голову. Дом, занимаемый бароном де Валь-Пюизо, имел два выхода, и негодяй, единый в двух лицах — разбойника Бамбоша и барона, мог безнаказанно по своему усмотрению выбирать тот или иной путь, не рискуя себя скомпрометировать и не вызывая ни малейшего подозрения. Да, только и всего! Совсем просто, как простыми кажутся и многие другие вещи, производящие поразительный эффект. Вся загвоздка в том, что до них надо додуматься! У Боско было в запасе еще два дня. Но, уверенный в будущем успехе, он хотел, прежде чем нанести решающий удар и окончательно сразить де Валь-Пюизо, иметь на руках все козыри. Он нацарапал Людовику записку, сообщив, что всякая опасность миновала. Послание завершалось следующей сногсшибательной фразой:Ларами».
«Я вас увиряю што ф Париши будит страшеная шумиха. Патрон дайте мне ищо два дня».Наш герой велел горничной Франсины отнести письмо на почту, а сам стал готовиться к последней битве. Предусмотрительный, как могиканин, Боско подумал, не предупредить ли ему месье Гаро, начальника Уголовного розыска, не поведать ли ему все интересные истории, участником которых он был. Но так уж Боско был создан — ему претила мысль обращаться в полицию и посвящать ее в свои дела. Нет, он предпочитал действовать своими силами и не вовлекать в игру этих господ-полицейских, которых, справедливо или нет, не слишком жаловал. Наконец, он обладал самолюбием и хотел доказать, что один, не имея ни помощников, ни средств, сумел разоблачить опасного бандита, поставить его на колени и, будучи всего лишь бродягой, устроить счастье тех, кого любит. Бедный Боско! Почему не поддался ты первому побуждению, что было бы с твоей стороны более осмотрительно, как скоро покажут дальнейшие события? Какой катастрофы ты мог бы избежать! От какого краха ты мог бы уберечься сам и уберечь своих друзей!
ГЛАВА 38
Людовик Монтиньи был объят смертельной тоской. Вот уже два дня он не получал никаких известий от Боско и инстинктивно предчувствовал, что все пропало. Он мужественно готовился встретить неумолимую, безжалостную судьбу, которую ничто не могло изменить: ни молодость, ни чувство долга, ни любовь. Было утро того дня, когда должно было состояться заключение проклятого союза, одновременно являвшегося смертным приговором и для него, и для женщины, которую он любил. Пробило восемь часов, и интерн с последней надеждой ожидал весточки от Боско. Пришел почтальон, принес юноше газеты, научные брошюры, рефераты диссертаций его друзей с дарственными надписями. Но письма от Боско не было. Не получив письма, отнесенного горничной Франсины на почту, Людовик был уверен, что никогда больше не увидит Боско, что его скромный и преданный друг, так его любивший, сгинул, став жертвой своей преданности. Из его груди вырвался вздох. — Бедняга Боско… — пробормотал он. Вот ведь как бывает! — минутная лень приводит порой к неисчислимым бедам… Кто-то пишет важное письмо. Почтовое отделение располагается в ста метрах. Но тебе или жарко, или холодно, это зависит от времени года. Тебе лень выйти, сделать над собой небольшое усилие… Ты поручаешь это кому-то, кто, в принципе, человек порядочный. Но может оказаться просто небрежным растяпой. Как бы там ни было, но Людовик не получил письма, от которого зависела и его собственная жизнь, и жизнь Марии. Он был один в квартире, которую занимал вместе с отцом и сестрой. Девушка была слаба здоровьем, ей были назначены воды Баньера, поэтому брат отвез ее на курорт в Пиренеи. Но одиночество не угнетало его, напротив, он чувствовал некоторое облегчение. Никто не помешает ему привести в исполнение свой роковой план. Ему не надо будет искать какое-нибудь пошлое местечко, где можно было бы умереть вместе с любимой. И Мария, дорогая его невеста, которую слепая судьба вырвала у него из рук, сможет, по крайней мере, испустить свой последний вздох среди ставших ему родными предметов, как бы проникшись духом его семьи. Бегло просмотрев корреспонденцию, он оперся локтями о письменный стол и задумался. Мелькнула мысль написать отцу и сестре. Но безмерная усталость охватила молодого человека. Разглядывая несколько стоящих перед ним флакончиков с сильнодействующими ядами, он пробормотал: — Зачем это нужно? Они поймут меня, когда найдут здесь наши тела… Бедняжка Мария!.. Скоро она придет сюда искать избавления… Совсем скоро, через несколько минут. С улицы донесся шум автомобильного мотора. Медик бросился к окну и увидел стройный силуэт женщины под густой вуалью, переходящей через дорогу. Нервные быстрые каблучки простучали сперва по гулким плитам парадной, затем — по ступенькам лестницы. И звук этот, возвещавший ему о приходе любимой женщины, бежавшей от непосильных цепей постылого брака, заставил Людовика побледнеть, а сердце его — бешено забиться. Он открыл дверь, и Мария, подняв вуаль, предстала перед его взором во всем блеске своей неземной красоты. Когда она вошла, молодой человек почти не в состоянии был говорить, не мог подыскать слов и пребывал в каком-то почти болезненном экстазе. Он хотел взять ее за руку. Храбрая девушка, которую так называемое «светское» воспитание не смогло все же лишить естественности, раскрыла объятия и потянулась к его губам. — Друг мой! Любимый! — говорила она ему, и голос ее дрожал. — Разве же я не ваша? Она упала ему на грудь, а он, растерянный, заикаясь, лепетал слова любви, от которых у него спирало дыхание, приникал к ее губам и до боли сжимал ее в своих объятиях. — О Мария, любимая… любовь моя… жизнь моя… Она побледнела, у нее дух захватывало от того, что она без помех, без стыда могла признаваться в любви, на пороге смерти, готовой вскоре ее поглотить. Людовик отнес ее на диван, усадил как ребенка и сел рядом. Он разглядывал ее горящими глазами и никак не мог насмотреться, и только случайная слеза иногда остужала пламя этого взгляда. — Да, это я, это я, — шептала она и очаровательным жестом гладила его лоб и щеки. — Мне кажется таким естественным быть здесь рядом с вами, с тем, кого никогда не захотела бы покинуть… — Теперь мы вместе на всю жизнь… Правда, жизнь эта была короткой… — Как вы бледны! — Это от волнения, оттого что я вижу вас… — Как у вас бьется сердце! — Это потому, что я люблю вас… — О да, я знаю. И, судя по тому, как колотится мое, я люблю вас не меньше… — Мария, любимая!.. — Людовик, любимый!.. О, как я счастлива с вами… — Вам удалось убежать оттуда, от них… и не вызвать подозрений? — Оказалось, нет ничего проще. В особняке Березовых все вверх дном. Горы цветов, неслыханные подарки… Драгоценности… кружева… туалеты… Такое изобилие, что я даже не знаю, чего там нет. Сестричка моя положительно свихнулась, полагая, что этот союз обеспечит мое счастье. — Во всяком случае, этот проклятый союз явился поводом избавления… — Если бы я его не ожидала с минуты на минуту, я не была бы так спокойна, даже весела. И девушка продолжала щебетать, как птичка, перескакивая с одного на другое: — Мой зять не знает, на каком он свете. Бедный Мишель! Какой он добрый! А дорогой маленький Жан, что за чудесный ребенок… Жаль, что он станет причиной нашей с вами смерти… Как все связано в этом мире… Не будь похищения малыша, не будь удара ножом, мы бы не познакомились, не полюбили бы друг друга… Они болтали, без умолку описывали друг другу какие-то мелкие подробности своей жизни, прерывали рассказ лаской или поцелуем. Их можно было принять за парочку влюбленных, тайком сбежавших на свидание. Никто ни за что бы не заподозрил, что свидание это было первым и что ни юноша, ни девушка не желали вернуться с него живыми. Мария объяснила возлюбленному, что благодаря радостному беспорядку, царившему в доме Березовых, она имела возможность спуститься по лестнице, пересечь парадный двор и беспрепятственно пройти мимо швейцара, безусловно, принявшего ее за одну из служащих магазина, которые раз пятьдесят на дню сновали туда и обратно. Никто, кстати говоря, не признал в девушке в скромном платьице и под густой вуалью виновницу торжества. Затем она быстрым шагом прошла авеню Ош и наконец села в такси. Вот и все. — И вы не подумали, что им надо оставить записку? Несколько строк, объясняющих ваш побег. Назвать мотивы вашего… нашего отчаянного решения?.. — спросил Людовик. — Нет, друг мой. Да и зачем? Вы думаете, они не поймут всего, когда найдут нас здесь… обоих… умерших в объятиях друг друга? — спросила девушка, чья решимость нисколько не ослабела. — Ваша правда. Да и к чему говорить о других, когда нам осталось так мало времени для того, чтобы заниматься друг другом? — Да, да, вы правы. Как мне хорошо здесь! Как я счастлива рядом с вами… Мне кажется, что все здесь мое, хотя я ни разу в жизни не была в этом доме… — Это потому, что я сам принадлежу вам душой и телом, а стало быть, и все, что принадлежит мне… — Да, должно быть, это так… Я чувствую себя здесь дома больше, чем в особняке Березовых… Здесь намного уютнее… Юноша снова приблизился к возлюбленной и, воспламенившись от неизъяснимого очарования, которое она источала, стал покрывать ее безумными поцелуями. Она как бы погружалась в нежное забытье, она была сильна своей любовью, своей душевной чистотой, уверенностью, что она ни в чем не может отказать возлюбленному, ради которого жертвовала своей жизнью. А он, чувствуя, как безумный пыл желания поднимается в нем и мутит разум, дрожал всем телом. Он мог овладеть этим восхитительным созданием, отдававшим ему себя не только без сожаления, но с радостью… Этот одновременно сладостный и ужасный день был последним, у них не было завтра, и Людовику нечего было опасаться ни собственных угрызений совести, ни упреков со стороны Марии, ни осуждения окружающих их людей. Да, Мария может принадлежать ему телом, как уже принадлежит душой. Тем не менее он превозмог в себе эту мысль. Для чего это горячечное, стремительное удовлетворение своих желаний? Зачем все это, когда их любовь сейчас должна будет столь трагически и жутко оборваться? Наконец, для чего спускаться с небес, к которым уже стремятся их души? И еще Людовик желал отдать дань почтительного преклонения той, которую он боготворил. Но тогда надо было, чтобы она, раз уж ей было отказано стать его женой, осталась его девственной невестой, мученицей своей любви. — И вы ни о чем не жалеете? — спрашивал он девушку, прижавшуюся к его груди. — Нет, друг мой, я ни о чем не сожалею, потому что жизнь для меня невозможна ни без вас, ни вместе с вами. Вдали от вас я умру от горя… Вместе с вами из-за запрета моих близких, из-за кривотолков и злоязычия, покорного предрассудкам света, я умру от стыда. — Да, верно. Вы правы, моя дорогая. Нам не дано быть вместе, иначе нас поставят вне общества. Но какая ужасная необходимость! — О-о, вы считаете, что так уж страшно умереть в расцвете сил, красоты, любви? Да еще и самим выбрать час своей кончины? Избежать роковой минуты, в ожидании которой, говорят, сжимаются от ужаса самые неробкие сердца. — Мария, любимая! Я восхищаюсь вашей храбростью и мужеством, вашей решимостью. — Но, — сказала она, заключая его шею в нежное и душистое кольцо своих рук, — мне не стоит никаких усилий быть храброй и мужественной. Ведь вы сами подаете мне пример. Скажите, друг мой, это будет очень больно? — Ничуть. Я по своему усмотрению выбрал яды наиболее мягкие, но сильнодействующие… Мы почувствуем, как нас охватывает сладостное оцепенение и погрузимся в забытье, в благодатный сон… У нас еще хватит времени, чтобы слиться в последнем поцелуе… И больше мы никогда не проснемся. — Как хорошо! Ведь именно так я и мечтала умереть — в ваших объятиях… Чтобы ваша голова была рядом с моей… Когда это случится?.. — Когда вы захотите. По-моему, чем скорее, тем лучше. — Я согласна с вами. Однако я все же сожалею, что не оставила прощальной записки своей сестре Жермене и Мишелю. О, это не будет долго, я вас не задержу. — Я тоже напишу отцу и сестре, единственным существам, которых мне жаль… — Да, давайте напишем. Так будет лучше… Он передал ей бювар, несколько листков бумаги, и они сели рядом за письменным столом. Людовик лихорадочно набросал несколько строк, Мария же писала старательно, неторопливо, с хладнокровием и выдержкой человека, принявшего твердое и не подлежащее пересмотру решение.«Жермена, — писала она, — родная, извини меня за то горе, которое я тебе причиняю. Но так надо. Для меня невозможно существование вдали от того, кого я люблю. Я даже не пыталась бороться, не стремилась победить эту любовь, ставшую моей жизнью и из-за которой я сейчас умираю. Не жалей меня, дорогая сестренка, я счастлива рядом с ним. И главное, не думай, что в том решении, которое мы сейчас приведем в исполнение, есть хотя бы доля твоей вины. Всему причиной фатальное стечение обстоятельств. Прощай, Жермена! Прощай, Мишель! Прощай, дорогой маленький Жан! Не жалейте и не оплакивайте меня… Я счастлива, потому что умру с улыбкой на губах, рядом с тем, кого выбрала и чья душа вознесется к небесам вместе с моей, туда, высоко, в таинственные голубые пределы, которые и есть родина для бессмертной любви… Я прошу тебя об одном, моя Жермена. Сделай так, чтоб и после смерти наши тела не разлучались, чтоб единая усыпальница приняла их. Прощай, сестренка, я люблю тебя.Девушка сложила письмо, надписала адрес, положила его на видном месте на письменном столе и сказала возлюбленному, не сводившему с нее глаз: — Теперь я готова. — Еще несколько минут, прошу вас. Мне надо приготовить снадобья, которые подарят нам вечный отдых. Он взял два стакана, налил в каждый немного воды, затем долил несколько капель светлой жидкости янтарного цвета, размешал смесь стеклянной палочкой, немного подождал и попробовал. У жидкости был легкий неприятный привкус, который он попытался устранить, бросив туда немного сахара и плеснув вишневой воды. Потом добавил в напиток прозрачной, как вода, жидкости, которая сразу же смешалась с ядом. Снова попробовал. — Теперь хорошо. И доза точная — ни больше, ни меньше, чем требуется. Мы не испытаем никаких мучений. Вы готовы, Мария? — Да, любимый, я готова, — храбро ответила девушка. Твердой рукой он протянул ей стакан. Она тоже не дрогнула и, поднеся стакан к губам, до капли осушила содержимое. В это же время Людовик без малейшего колебания залпом выпил свою порцию. Он взял любимую на руки, отнес ее на свою кровать и лег рядом. Обнявшись, прижавшись друг к другу, смешав дыхание, чистые духом, они предавались страстным излияниям, они пели извечную песнь любви, которую должна была оборвать преждевременная смерть… Прошло десять минут. Они не страдали, но ощущали сладостное оцепенение, их слившиеся тела охватила восхитительная блаженная истома. Людовик приподнял голову и взглянул на Марию. Она улыбалась. — Мария, я люблю тебя. — Людовик! Я люблю тебя, — покорным эхом вторил девичий голосок.Мария».
ГЛАВА 39
Боско употребил оставшиеся два дня расчетливо и не без пользы. Он накрыл барона де Валь-Пюизо невидимой сетью слежки, до конца проник в тайну его двойной жизни. Короче говоря, полностью лишил негодяя возможности притязать на руку Марии. Кроме того, он развлекался напропалую, как человек до сих пор всего лишенный, как темпераментный мужчина, падкий до плотских утех и наконец до них дорвавшийся. Да и то сказать — ему встретилась прелестная женщина, обожавшая его со страстью идолопоклонницы и помогавшая ему, как мы знаем, всеми возможными способами. К сожалению, красавица Франсина д’Аржан была немалой эгоисткой — она старалась узурпировать свободу своего драгоценного Боско, называемого Бэбером, полностью его поработить и присвоить. Боско не очень-то и сопротивлялся, и, вместо того чтобы прямиком бежать к Людовику и рассказать ему все как есть, он ограничился тем, что написал ему письмо. Письмо это он вручил горничной Франсины и наказал снести на почту, а сам, со всем своим нерастраченным пылом, кинулся в омут наслаждений. А барон де Валь-Пюизо перво-наперво решил проверить, надежную ли сообщницу он имеет в лице горничной, благоволившей ему из-за тех подарков, которые он время от времени ей делал. На этот раз он дал ей крупную сумму и потребовал, чтоб она докладывала ему обо всем, что происходит в доме Франсины, и передавала всю поступающую корреспонденцию. Вот таким образом письмо Боско к Людовику Монтиньи и попало в его руки. Он прочел письмо и холодно сказал себе: «Пора принимать меры». И бандит их, разумеется, принял, как человек, находящийся всегда настороже и никогда не могущий быть уверенным в завтрашнем дне. Здесь следует искренне восхититься недюжинной организованности этого человека — у него хватало времени и на то, чтобы вести светскую жизнь, заниматься приготовлением к свадьбе, назначенной на завтра, а также руководить «подмастерьями», всюду поспевать, быть одновременно и Бамбошем, и бароном де Валь-Пюизо, короче говоря, одному выдерживать то, что было бы не по силам и четверым. Тем не менее, несмотря на достойное изумления хладнокровие, в глубине души он чувствовал беспокойство и изо всех сил желал, чтобы ничто не воспрепятствовало его брачному союзу со свояченицей князя Березова. А когда он будет обладать этой женщиной, а также прекрасным приданым, обещанным князем Березовым, он сделает все возможное, чтобы предвосхитить возникновение малейшей опасности, пусть даже для этого ему придется уехать за границу и дать на время о себе забыть. Пока все шло как нельзя лучше, и теперь, приблизившись к финишу, Бамбош нервничал и лихорадочно шептал: — Завтра! Боже мой, завтра! Боско же рассуждал следующим образом: — Завтра, господин лжебарон, вам придется отказаться от всех ваших претензий и найти уважительный повод для того, чтобы разорвать помолвку и отменить свадьбу, иначе — берегитесь суда присяжных! План Боско обдумал до мелочей. Завтра в восемь утра он явится к барону и прикажет ему немедленно под благовидным предлогом расторгнуть помолвку. Естественно, тот будет брыкаться, но одно из двух: либо барон пренебрежет приказом, и тогда Боско сдаст его властям, либо он попытается убить Боско. Во втором случае барон будет предупрежден: если Боско по той или иной причине исчезнет, подробнейшее досье, содержащее достоверные сведения как о Бамбоше, так и о бароне де Валь-Пюизо, будет передано надежным доверенным лицом начальнику сыскной полиции месье Гаро. При таких условиях Боско мог быть совершенно уверенным в успехе. И, сияющий, как человек, выполнивший свой долг, бывший бродяга очертя голову кинулся в вихрь развлечений. Они поехали в театр, и Боско, уже изрядно подрастративший данные ему Людовиком четыре тысячи франков, заказал ложу в бенуаре. Там, в ласковом полумраке, позволявшем видеть все, что происходило на сцене, не будучи видимым, он наслаждался и соседством с обворожительной влюбленной Франсиной, и одной из тех захватывающих драм, до которых так лакома парижская публика. После спектакля они вернулись домой и сели ужинать. Ужин прошел очень весело, Боско отдал ему должное — ведь он никогда не мог наесться досыта. Была уже половина второго, в особняке царили покой и тишина. В тот момент, когда Боско и его подруга собирались уже встать из-за стола и перейти в спальню, створки двери бесшумно распахнулись настежь и в дверном проеме появилась группа мужчин. Боско сидел спиной к двери и ничего не видел. Но повергнутая в безумный ужас Франсина, не в силах вымолвить ни слова, с блуждающим взором, выпрямилась с вскинутыми руками… Заподозрив опасность, Боско вскочил, схватив со стола разделочный нож, и приготовился защищаться. От группы отделился человек в черном и, распахнув на груди редингот[75], показал трехцветную перевязь комиссара. — Именем закона! — холодно возвестил он. — Следуйте за мной! Предупреждаю, что в ваших же интересах не оказывать сопротивления. — Вы меня арестуете? — Боско оторопел до такой степени, что ему казалось — все это происходит не наяву, а во сне. — Да, следуйте за мной. И тут к Франсине д’Аржан, перед лицом грозившей любимому опасности, вернулся дар речи. — Вы лжете! — завопила она, яростная и негодующая. — Никакой вы не комиссар! Комиссары не врываются в запертый частный дом среди ночи!.. Да еще затем, чтоб арестовать невиновного!.. Но даже если бы он был виновен… Смелее! Защищайся! Я крикну на помощь!.. У меня есть оружие!.. Она рычала, как львица, великолепная в своем гневе. Очень спокойно и корректно, жестом приказав ей замолчать, комиссар заявил: — Мадам. — Он поклонился. — На этого человека, обвиняемого в преступлении, по всей форме закона подана жалоба. — Я?! В преступлении?! — с сердцем прервал его Боско. — Я порядочный человек, и если кто-то утверждает обратное, то он — обманщик. — Это дело ваше и прокуратуры. Я не судья. У меня инструкция, и я должен ее исполнять. Следуйте за мной. — Ни за что! Нет такой инструкции, которая повелевала бы вам врываться в дом, подобно злоумышленникам, отпирая замки отмычкой! — Повторяю вам: на вас поступила жалоба. А так как заявитель, отчасти являющийся хозяином этого дома, дал мне разрешение войти, то я действовал по закону. При этом комиссар подался вперед, а из-за его спины выдвинулся бледный молодой человек. И Франсине и Боско было довольно одного взгляда, чтобы узнать его: Малыш-Прядильщик! «Ай-ай-ай! — думал Боско, скорее огорченный, чем взволнованный, потому что не испытывал ни малейших угрызений совести, — вот удар так удар, не ожидал». — Ты?! — Нервы Франсины совсем сдали. — Это ты, противная обезьяна!.. Вот, значит, какую ты сыграл со мной шутку! Ты у меня за это еще наплачешься! И вне себя от ярости, не владея собой, Франсина ринулась на Малыша-Прядильщика, чтобы задать ему привычную трепку, в которой была большая мастерица. Внезапно комиссар и два полицейских расступились и на сцену вышел новый персонаж, до сих пор державшийся в тени. Гонтран Ларами обратился к нему привычным для кутилы хамским тоном: — Валяй, папаша, покажи свое жало. Ведь это ты заварил эту кашу. — Господин комиссар, — заговорил старый Ларами, — исполняйте приказ вашего начальства и задержите этого человека. — По какому праву?! — как одержимая вопила Франсина. — Я здесь у себя дома. Да, я с мужчиной, но разве я не могу себе этого позволить?! Ведь я свободна, не так ли? Я ведь не замужем за этим грязным типом, вашим сыночком! Боско и Малыш-Прядильщик оказались в круге яркого света, который бросала на них висевшая на потолке электрическая лампа. Комиссар, жандармы и сам старый Ларами оторопели. Никогда еще два человеческих существа не казались таким полным подобием друг друга, никогда еще один не был столь точной копией другого, а разительное сходство так не бросалось в глаза. Те же черты лица, тот же взгляд, одинаковые жесты, походка, голос. — Я бы никогда в такое не поверил!.. — пробормотал старик, пока все остальные в молчании рассматривали молодых людей. — Вот это да! Потрясающе! — воскликнул Малыш-Прядильщик. — В конце концов, мне-то плевать на все это… Но как забавно! Ведь папаша в свое время был изрядный потаскун! — Не знаю, возможно, — отвечал ему Боско. — В любом случае папаша у меня был бы изрядный каналья, а братец — сволочь и прохвост! — Я тебя не просил рисовать наши правдивые портреты. Скажи лучше, у тебя есть семья? — Нету. — А чем ты занимаешься? — Не твоего ума дело. Ну, скажем, бродяга. — Да, папаша, это явно твое отродье. Старый развратник, тебе ничего не говорит голос крови? Или у тебя в жилах кровяная колбаса? Старый хищник мерил Боско полным ненависти взглядом и думал: «Должно быть, ублюдок — сын Виктории. Да что ж это такое, неужели все мои выродки будут меня преследовать?» Грубо, резко, категорично старик, нажившийся на страданиях своих рабочих, велел комиссару: — А ну-ка давайте кончать. Забирайте этого типа! Вам был дан строжайший приказ от вышестоящих лиц. Господин комиссар, повинуйтесь! То, чего сейчас требовали от полицейского, было не вполне законным. Но бедный служака попал в тиски в виде двухсот миллионов папаши Ларами. — Вперед! — сурово повелел комиссар, кладя руку на плечо Боско. В любых других обстоятельствах Боско предпринял бы отчаянную попытку сопротивления, пусть даже безнадежную. Он принял бы бой. Но сейчас от него зависела жизнь его друзей, и он не хотел отягчать своего положения. Наш герой был уверен, что стал жертвой мести Малыша-Прядильщика и что дело не может и не должно иметь тяжелых последствий. Он поцеловал Франсину долгим и страстным поцелуем и, будучи парнем предусмотрительным, нашептал ей на ушко кое-какие не терпящие отлагательств поручения. Она поняла и ответила шепотом: — Да, любовь моя, можешь на меня рассчитывать. Малыш-Прядильщик скрипел зубами от ревности. Хоть он и имел вид человека, смеющегося над всем на свете, на самом деле он был безумно влюблен во Франсину, и у него буквально разливалась желчь при виде того, какую страстную любовь девушка выказывает пленнику. Боско, сопровождаемый четырьмя полицейскими, гордо прошел мимо отца и сына Ларами, смерил их презрительным взглядом и бросил на ходу: — И подумать только, это мой милый папаша! А это рыло — братишка! Да, не такую я мечтал обрести семейку! Ларами старший и Ларами-младший понурились под взглядом бродяги и вышли, в то время как Франсина, забившись в истерическом припадке, упала на ковер. Малыш-Прядильщик с отцом сели в экипаж, Боско, комиссар и жандармы — в другой. Последний миновал Елисейские поля, доехал до Нового моста, проехал его, прибыл на набережную Орлож и остановился перед башней того же названия. Суровая низкая дверь захлопнулась с громким стуком. За какие-то четверть часа Боско был заключен в тюрьму.ГЛАВА 40
Пока Людовик и Мария совершали отчаянный поступок, который должен был положить конец их горестям, Мими собиралась навестить Леона в больнице Ларибуазьер. Как мы помним, милая девушка регулярно навещала дорогого больного, которому становилось все лучше и лучше. Разрешение на ежедневные посещения, выхлопотанное для нее интерном, должно было скоро потерять силу, так как Леон стремительно пошел на поправку. Девушка утешала себя мыслью, что их разлука — вопрос нескольких дней. Она явилась в клинику в то время, когда врачебный обход уже закончился, а врачи и студенты расходились. Мими быстро дошла до корпуса, где лежал Леон, и подошла к двери его маленькой палаты. Сперва она удивилась, но тут же ее охватил панический страх, она едва не закричала — все три койки были аккуратно заправлены. Леона не было! Она попыталась успокоить себя: «Наверное, Леона перевели в другую палату. Надо его разыскать». Мимо как раз проходила одна из дежурных сестер. Когда-то раз она с благосклонностью отнеслась к Мими, вот девушка и попросила ее дать ей сведения о Леоне. — Но его больше нет в клинике. — Сестра удивленно воззрилась на нее. — Как это нет? — заикаясь вымолвила Мими. — Да, дитя мое, за ним приехали сегодня утром, за час до начала осмотра. Я думала, вас уведомили… — Нет, мадам, я ничего не знаю. Он, наверное, тоже не знал… Иначе предупредил бы меня… О Боже! Куда теперь бежать?.. Где искать его?.. — Успокойтесь, дитя мое. Больной так просто исчезнуть не может. Мы узнаем, где он. Интерны, уже проявившие к нему столько участия, должны быть в курсе. Мими поблагодарила и кинулась на поиски Людовика Монтиньи — она полагала, что он в клинике. Само собой разумеется, никто из коллег сегодня его не видел. В конце концов, после долгих бесплодных поисков, девушка встретила интерна, друга Людовика, в чьем отделении лежал Леон. Встревоженная Мими стала расспрашивать, куда девался ее жених. Ожидая прямого ответа, она сразу почувствовала, что молодой человек колеблется — говорить или нет. Тревога Мими усилилась, она задрожала. На какой-то миг ей представилось, что Леон скоропостижно скончался — такое случается в результате тяжелых ранений. Бледная как полотно, с глазами, полными слез, с бьющимся сердцем, она спросила, и вопрос прозвучал как рыдание: — От меня что-то скрывают? Он умер?.. — О нет, мадемуазель, клянусь вам. Физически он чувствует себя как нельзя лучше… Просто его перевели в другую больницу. — Почему перевели? — Я не знаю… Меня в это время не было в клинике… В конечном итоге, Монтиньи даст вам нужные сведения… — Но его нет на работе, и ко мне он не заходил. — Знаю, знаю… Но он зайдет к вам во второй половине дня. До свидания, мадемуазель. И юноша, испытывая все большую неловкость, поспешно откланялся. Создавалось впечатление, что он не решается сообщить бедняжке Мими какое-то ужасное известие. В отчаянии, не зная, к кому обратиться, не будучи знакомой больше ни с кем из персонала, она, ощущая себя одинокой и всеми покинутой, машинально спустилась по лестнице, вышла во двор, миновала будку привратника и оказалась на улице. Стараясь не привлекать к себе внимание прохожих, Ноэми Казен шла, сдерживая рыдания, и вдруг над самым ухом услышала нахальный голос: — Говорил же я тебе, пташка, не ерепенься. Настанет и мой черед отыграться. Девушка подняла голову и сквозь пелену слез различила рядом с собой обезьянью физиономию Малыша-Прядильщика, Гонтрана Ларами. Инстинктивно Мими стала озираться по сторонам, ища глазами прохожих, вокруг было много людей, и она слегка успокоилась — за Малышом-Прядильщиком следовала свита, состоящая из трех подозрительных молодчиков, настоящих сутенеров или агентов так называемой полиции нравов, что, по сути, одно и то же. Говорил Малыш-Прядильщик тоном холодной насмешки, вид имел довольный, как хищник, поживившийся кровью своей жертвы. — Ты ходила в больницу, чтобы проведать своего силача? Но его крепко повязали и надолго упрятали за решетку. Уже не зная, на каком она свете, девушка шла куда глаза глядят, и сердце ее сжимала тоска от самых тягостных предчувствий. Она едва ли до конца вникла в смысл слов, произнесенных Малышом-Прядильщиком. Они звучали у нее в ушах леденящей душу угрозой грядущих несчастий. Бедное дитя подняло на мучителя взгляд, способный растрогать тигра, но в ответ услышало лишь взрыв пронзительного смеха, напоминающего визг пилы. — Ты даже не спрашиваешь, где же он сейчас находится, твой господин Сердцеед… Этот защитник со здоровенными кулаками. Надо полагать, тебя это не интересует? Все же я тебе скажу… Так вот, жандармы арестовали его прямо на больничной койке и доставили в тюрьму. Так что в данный момент он сидит в кутузке. Сцапали они и так называемого Боско, вашего общего дружка, тоже отпетую сволочь… При этих словах Ноэми подняла голову и издала протестующий возглас. — Вы лжете! — вскричала она. — Да, лжете! Леон — честный человек, а в тюрьму бросают только злоумышленников! — Чирикай, чирикай, моя птичка! Честные люди не подделывают переводных векселей и не пытаются обокрасть ближнего своего, в данном случае меня. Меня хотели нагреть на кругленькую сумму в пятьсот тысяч франков, но не тут-то было. Не стоило брезговать моими предложениями, крошка! Слушая наглеца, Мими почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Она понимала, что Леон пал жертвой какой-то адской махинации, что ему вменили в вину какое-то преступление, что он находится в камере предварительного заключения. Бедняжка задрожала всем телом. И снова ей представлялась загубленная жизнь, мать-калека и страшная нищета… Не успела в ней после первого, едва не убившего ее удара возродиться надежда, и вот опять беда, еще более тяжкая, еще более беспощадная. Сердце Ноэми замерло, она прижала к груди руку и почувствовала дикую головную боль, словно ее мозг пронзают раскаленные иглы. — О Боже, — простонала она, — помилуй меня, я умираю… Мими пошатнулась и почувствовала, как Малыш-Прядильщик подхватил ее. Уже теряя сознание, она все же расслышала гнусные слова, которые ей нашептывал мерзавец: — А тебя как сообщницу Леона Ришара безотлагательно задержат и, передав суду, приговорят к суровому наказанию… Добрый вам путь на гвианскую каторгу, плодитесь там и размножайтесь, растите новых честных граждан. До свидания, увидимся в день суда. Больше Мими уже ничего не слышала. Побелев как мел, она упала навзничь, глаза ее закатились. Сопровождавшие Малыша-Прядильщика агенты подошли ближе. Один из них сделал знак экипажу, стоящему ближе всех, подъехать. Двое подняли Мими и понесли. — Это упрощает дело, — бросил один из них, по виду — начальник. — Ни слова, ни крика, ни тени попытки к сопротивлению… Несколько прохожих, настроенных скорее недоброжелательно, приблизились к ним. В богатых кварталах бедно одетая женщина, которую задерживает полиция, редко вызывает сочувствие. Толстый буржуа спросил: — Что происходит? — Ничего особенного. Волокут в тюрьму какую-то девку. Несчастную Мими погрузили в экипаж, и старший крикнул кучеру: — В Сен-Лазар! Малыш-Прядильщик тоже сел в свой экипаж и, потирая руки, подумал: «Хорошее это дело быть богатым, особенно, когда богатство помогает отомстить… Громы небесные, они запомнят, что значит напасть на Малыша-Прядильщика».…В это же время разворачивалась драматическая сцена в особняке Березовых. Отсутствие Марии, да еще и в такую минуту, было наконец замечено. Вначале посчитали, что в стенах дома мог произойти какой-то несчастный случай. Искали повсюду, обшарили каждый закуток. Естественно, тщетно. Допросили швейцара. Он показал, что не видел, как мадемуазель выходила, и более никаких сведений дать не может. И вскоре ни у Жермены, ни у князя Березова не осталось ни малейших сомнений: Мария предпочла бежать, лишь бы не выходить замуж. Посреди смятения, возникшего вследствие исчезновения невесты, Жермену осенило. Ей вдруг припомнилось, как скованно вела себя сестра в присутствии барона де Валь-Пюизо, как холодна была она по отношению к своему жениху, который, казалось, был навязан ей насильно, ее самоуглубленный вид с той минуты, когда была объявлена дата их бракосочетания. И тут княгине открылась истина: Мария влюбилась в интерна Людовика Монтиньи, она решила пожертвовать собой, чтобы обеспечить свободу маленькому Жану, счастье его отца и матери. И в последний момент бедная девочка не выдержала и сбежала. Жермена хорошо знала свою сестру и испугалась: — Если Мария сбежала, то лишь затем, чтоб умереть. Мишель, милый, она погибла! Скорее, скорее… надо найти ее, Боже мой, опять беда нависла над нами… В это время башенные часы пробили половину одиннадцатого. А бракосочетание, не состоявшееся так же, как бракосочетание Мими и Леона, было назначено на одиннадцать часов!.. Роскошный выезд — упряжка рысаков рыжей масти — остановился у ворот, створки которых тотчас же распахнулись. Экипаж въехал во двор и, красиво развернувшись, остановился на крыльце под козырьком из нешлифованного стекла. Барон де Валь-Пюизо, облаченный во фрак, медленно вышел из кареты и, с подчеркнутой галантностью примерного сына, подал руку своей матери. — О Боже мой, — воскликнул в отчаянии князь, — прибыл барон со своей матерью! Что я им скажу?! Честное слово, я сойду с ума! Из замешательства его вывел строго одетый человек, в этот момент вышедший из привратницкой. По стремительным шагам, ладной фигуре, свидетельствующей о ловкости и силе, по зорким и пронырливым глазам князь узнал в нем начальника сыскной полиции, господина Гаро. На нем был шапокляк, черный фрак, бутоньерка[76] в петлице, он похож был на гостя, приглашенного на свадьбу. Четверо сопровождавших его господ были также облачены в парадные костюмы, и от всех пятерых исходило ощущение опасности. Взгляд месье Гаро уперся в барона, последний слегка побледнел, но тем не менее не потерял самообладания. Тогда Гаро, слегка раздвинув лацканы фрака и показав трехцветную перевязь, резко бросил: — Бамбош, детка, тебя повязали. Не надо шума, не надо скандалить, наших здесь много. Делай, что прикажут, иначе я применю силу. Бандит попытался принять надменный вид, протестовать и решился даже на один из тех лихих маневров, к которым ему было не привыкать. Его так называемая матушка, бледная, в предобморочном состоянии, дрожащая, потерянная, откинулась на подушки кареты. Бамбош обменялся более чем красноречивым взглядом с Черным Редисом, кучером, который, заслыша полицейского, счел нужным действовать. Рассчитывая на свою сноровку и ловкость, лжебарон оттолкнул Гаро с такой силой, что тот отлетел шага на четыре. Затем негодяй прыгнул в карету и крикнул: — Пятьсот луидоров, если проскочишь! Месье Гаро, ни на йоту не потеряв самообладания, достал свисток и пронзительно засвистел. Тотчас же экипаж, стоявший против дома Березовых, перегородил ворота. Бамбош, или бывший барон де Валь-Пюизо, испустил крик ярости и хотел выскочить из кареты. Но у каждой дверцы уже стояло по человеку во фраке, нацелив на него заряженные пистолеты. — Громы небесные! — вскричал бандит и заскрежетал зубами. — Вот именно! — отозвался мигом подскочивший к экипажу Гаро. — И тебя сейчас увяжут, как добрую палку колбасы. Вся эта неожиданная и весьма драматическая сцена длилась секунд двадцать, не больше. Не успел еще князь Березов, наблюдавший за происходящим из окна второго этажа, спуститься и выяснить, что происходит, как бандит, с налившимися кровью глазами и с пеной на губах, был крепко-накрепко связан, как приговоренный к смерти. Минутой позже скрутили Черного Редиса и по-братски втолкнули в карету к его патрону. Чрезвычайно вежливо и обходительно месье Гаро предложил лжебаронессе выйти из экипажа и не менее вежливо попросил ее занять место в карете, преграждавшей путь. Старая шельма отбивалась и кричала пронзительно, как попугай. — В тюрьму Сен-Лазар! — громогласно приказал начальник сыскной полиции. Видя, что дело сделано и все в порядке, он повернулся к князю, выбежавшему с искаженным лицом во двор, низко ему поклонился и, не дожидаясь вопроса, заговорил: — Надеюсь, князь, вы извините меня за то, что мы вторглись в ваши владения и арестовали злодея, который еще немного и обесчестил бы ваше семейство. У меня не было другого выхода, ведь время не ждет. — Барон де Валь-Пюизо… Жених моей свояченицы… Но это же ужасно… — Куда ужасней было бы, если бы брак успел состояться. Главное, что мы подоспели вовремя и предотвратили новое преступление этого негодяя, на счету которого их множество… — О Боже всемилостивый! — воскликнул князь и высказал страшную догадку: — Неужели Мария что-то подозревала?! Господин Гаро, моя свояченица недавно куда-то исчезла. С тех пор как было объявлено о ее помолвке, бедная девочка все время была грустна… Быть может, она догадывалась… — Нет,князь, она не могла знать, что тот, с кем вы хотите связать ее судьбу, — разбойник, совершивший множество преступлений, что это человек, под именем барона де Валь-Пюизо, натворил уйму страшных дел в парижском свете, который, раскрыв объятия, но закрыв глаза, привечает каждого проходимца… А ведь этот тип, под именем Бамбоша, был главарем банды «подмастерьев»! — Но, господин Гаро, куда же девалась моя свояченица?! — Должно быть, у нее был человек, к которому она была неравнодушна. Припомните всех молодых людей из вашего окружения… Позвольте мне откланяться, князь, чтобы доставить моего пленника куда следует. — Ума не приложу… О Господи, боюсь, как бы не было поздно!.. При этой вспышке отчаяния месье Гаро почувствовал к князю сострадание, отразившееся на его мужественном лице. — Ох, я забыл!.. А ведь мы, полицейские, должны обо всем помнить! — воскликнул он взволнованно, тоном, противоречащим его обычному бестрепетному спокойствию. — Ведь он умолял меня сообщить господину Людовику Монтиньи, врачу-интерну, что бракосочетание не состоится, что человек, именующий себя бароном де Валь-Пюизо, арестован… — Он? Но кто же это?! — Да этот дьявол… бродяга Боско… При имени Людовика Монтиньи на князя как бы снизошло прозрение. Его осенило: — Ведь это же тот, в кого влюблена Мария! Конечно же она убежала к нему! Мишель знал адрес студента и решил безотлагательно ехать к нему. Попрощавшись с начальником сыскной полиции, занявшим место в экипаже, где сидели Бамбош, Черный Редис и два жандарма, князь опрометью кинулся к Жермене, в двух словах сообщил ей все новости, и они, не теряя ни минуты, выехали на извозчике к Людовику. — Скорее! Скорее, друг мой! — кричала потрясенная Жермена. — Гони! Пока Гаро вез двух злоумышленников в тюрьму, князь Михаил и княгиня, нашедшая наконец ключ к мучившей ее загадке, мчались во весь опор на улицу Сосюр. Покушение на жизнь Марии… Похищение Жана… Поиски, предложение руки и сердца, возвращение ребенка… Все это было делом одного разбойника. А теперь он отнял и любимую сестру… Девушка исчезла… Да, теперь Жермена понимала дьявольский план Бамбоша, и перед ее мысленным взором проходила вся череда катастроф, увенчавшихся исчезновением Марии… Княгиня в отчаянии задавалась вопросом — где сестра?! Молила: если месье Гаро не ошибается и девушка у Людовика, дай Бог, чтобы Мишель поспел вовремя! По несчастному стечению обстоятельств Михаилу попался извозчик на едва живой лошадке. Князь пообещал кучеру двадцать франков на чай, и тот, привстав на козлах, изо всей мочи нахлестывал клячу, оставляя на ее крупе рубцы от кнута. — Скорее! Гони! — кричал князь. — Торопись, торопись, еще быстрее! — Эй, Вероника, пошевеливайся! — орал кучер, настегивая лошадку. Удары кнута по ребрам лошади были гулкими, как будто колотили бочку, но бежать быстрее старая кляча не могла. — О, громы небесные! — восклицал князь. — Да эдак мы никогда не доедем! — Не волнуйтесь, месье! — вопил кучер, которому наконец-то удалось пустить своего дромадера[77] в галоп. И тут произошла неизбежная катастрофа. Пробежав еще метров триста — четыреста, злополучное животное споткнулось, ноги у лошади подогнулись, и она, ломая оглобли, рухнула на бок. У князя Михаила вырвался отчаянный безнадежный крик. Он пошарил в кармане, извлек несколько луидоров и сунул их в руку извозчика. — Не беспокойтесь! Вероника сейчас же поднимется и помчит как стрела! — голосил кучер. Князь больше его не слушал, он выскочил из кареты и побежал, расталкивая прохожих, шарахавшихся от него как от сумасшедшего. Лошадь рухнула на углу улиц Токвий и де ла Террас. Князь домчался до улицы Сосюр, где жил Людовик. К счастью, Мишель помнил номер дома. Подбежав к привратницкой, он спросил, задыхаясь: — Господин Монтиньи у себя? — Если вы хотите видеть Монтиньи-отца, мой добрый господин, то это невозможно, поскольку они с дочерью отправились путешествовать, — ответствовал консьерж. — Нет, мне нужен сын… Людовик… Интерн… — Он дома… — Какой этаж? — Четвертый. Дверь прямо. На площадке всего две квартиры… Князь взлетел по лестнице и позвонил. Со стесненным сердцем он ожидал, что ему откроют. Из квартиры не доносилось ни звука. Князь продолжал звонить. Ничего. Не дождавшись ни единого звука, молодой человек так дернул звонок, что шнур остался у него в руке. Он начал стучать в дверь кулаком. — Людовик! — кричал он. — Людовик, друг мой, откройте! Умоляю вас… Это я — Мишель Березов!.. Откройте, все хорошо, уверяю вас… В доме, всегда столь тихом, забеспокоились жильцы. Встревоженные, они открывали двери… Наконец нервы у князя не выдержали, и он вышиб дверь плечом. Предчувствуя самое худшее, он закричал: — Людовик! Людовик! Ответьте же мне! На кровати, обнявшись, лежали бездыханные Людовик и Мария…
ГЛАВА 41
Доверенное лицо Бамбоша, Лоран предъявил в особняке Ларами переводной вексель на пятьсот тысяч франков, выписанный на имя Ноэми Казен. Так как по векселю заплачено не было, Лоран объявил, что намерен этот вексель опротестовать. Дело было безотлагательное. План Бамбоша был прост. Злодей рассуждал так: «Либо вексель будет погашен, либо нет. В первом случае я приберу деньги к рукам, и, когда выяснится, что все это липа, Мими и Леона упрячут в кутузку, а монета останется у меня. Во втором случае Мими и Леон, как бы там ни было, будут арестованы, а я, зная тайны Малыша-Прядильщика, буду его шантажировать и выкачаю кругленькую сумму, к которой он добровольно прибавит еще и пятьсот тысяч франков. Если он упрется, то узнает, что барон де Валь-Пюизо имеет теснейшие связи с Бамбошем. Ему не останется ничего другого, кроме как сдаться». Все это было хорошо продумано и до поры до времени шло как по маслу. Но папаша Ларами сразу же после ухода Лорана, как старый хищник, приготовил засаду. Гонтран, сговорившийся, как мы помним, с Бамбошем, воскликнул: — Дело в шляпе! Я им отомщу… Он послал своему отцу телеграмму, сообщив, что никакого векселя не подписывал, что это подделка, дело рук какого-то мошенника. Не теряя ни минуты, Малыш-Прядильщик направился из Монте-Карло в Париж. Тут ему стало известно, что у него появился двойник, который напропалую развлекается с Франсиной д’Аржан и так хорошо играет свою роль, что все окружающие принимают его за настоящего Ларами-младшего. Гонтран Ларами помрачнел и, прежде чем что-либо предпринять, решил повидаться с Бамбошем. Благодаря Черному Редису кутила безотлагательно снесся с бандитом, ожидавшим его с большим нетерпением. Бамбош был так мастерски загримирован, что Малыш-Прядильщик по-прежнему считал его не кем иным, как главарем банды. Бамбош предоставил Гонтрану самые подробные сведения, поведал о тесных дружеских узах, связывающих Боско с Мими и Леоном, и добавил: — Я почти уверен, что это он помешал двум моим подручным позабавиться с красоткой. Малыш-Прядильщик был в ярости. — Он не только влез в мою шкуру и овладел моей любовницей, он к тому же стал препятствием на пути моей мести! — Нет ничего легче, как заставить его заплатить за все оптом, — угрожающе ухмыльнулся Бамбош. — Каким образом? — Человек, влезший в вашу шкуру, наверняка является сообщником тех, кто изготовил подложный вексель. — Превосходно. А голова у вас варит неплохо! Получив нужную информацию, Малыш-Прядильщик обратился за советом к отцу, в лице которого обрел преданного помощника. Старый хищник, непоколебимо отстаивающий принцип частной собственности, считал, что воров следует беспощадно покарать. Черт побери! Когда владеешь двумя сотнями миллионов!.. В результате, действуя по наущению сына, старик написал жалобу и вручил ее генеральному прокурору. Жалоба была направлена против Боско и Леона Ришара, а также их сообщницы Ноэми Казен. Боско был арестован, как мы уже знаем, глубокой ночью в доме Франсины д’Аржан. Схватить Леона Ришара оказалось еще проще — его просто-напросто перевезли из клиники Ларибуазьер в тюремный лазарет. Мы помним, как Малыш-Прядильщик изливал свою ненависть, издеваясь над несчастной девушкой. Наслаждаясь приведением в действие тщательно подготовленного плана мести, этот ублюдок жаждал поставить свои жертвы в то положение, при котором они не смогли бы ни защититься, ни протестовать. Он наблюдал, как положили на носилки закутанного в одеяло смертельно бледного Леона, видел, как тот пробовал отбиваться. И в эту минуту мерзавец успел осыпать Леона грязной бранью. Мими, арестованной, как последняя уличная девка, тоже досталось. Теперь и Леон и Мими очутились в руках правосудия, оплетенные сетью дьявольских интриг. В квартире Леона был произведен обыск. Комиссар, заклятый ненавистник социалистов, склонный усматривать в них корень всех зол, при виде любимых книг Леона многозначительно покачал головой. Сочетая узкий кругозор сектанта и нетерпимость ярого реакционера, он вошел в жилище рабочего, будучи заранее против него предубежденным. Полицейский осмотрел книги, ящики письменного стола и пробормотал себе под нос: — А этот парень еще опаснее, чем я предполагал! Найдя промокательную бумагу с отпечатком текста, написанного Бамбошем, другой на его месте усомнился бы — неужто автор фальшивки до такой степени наивен, чтобы оставить подобную улику? Комиссар же был чужд сомнениям: — Так я и знал! Он порылся в бумагах и обнаружил поддельное письмо с проштемпелеванной маркой, подсунутое Бамбошем. Диктуя секретарю протокол, комиссар злорадно улыбался. Привлек их внимание также пепел, на котором можно еще было разобрать несколько строк, сходных с оттиском на промокашке. Все эти находки, вместе взятые, явились сокрушительными доказательствами преступления Леона, который, сильный сознанием собственной невиновности, громко протестовал против произвола, находясь в лазарете тюрьмы предварительного заключения. Но, с другой стороны, рано Бамбош чувствовал себя триумфатором… Он все предусмотрел заранее. Он с такой ловкостью, с таким мастерством играл двойную роль, что ни капли не сомневался: изобличить его невозможно. Он не совершил ни единого опрометчивого шага, обдумывал все до мельчайших подробностей, не доверял никому, кроме фанатиков, слепо преданных ему, короче говоря, делал все возможное, чтобы сохранить свое зловещее инкогнито. И, на удивление, преуспел в этом. Но тут дорогу ему перешел Боско. Боско, с его собачьим чутьем, с его хитростью краснокожего индейца, с его странным мировоззрением и безумной храбростью. И в конце концов Боско выяснил правду, о чем хитрейший из хитрых даже не подозревал… Будучи брошен в тюрьму, бродяга не потерял голову, не стал ни протестовать, ни препираться. Он просто попросил одного из тюремщиков передать месье Гаро, что имеет для него наиважнейшую информацию. Укладываясь спать, мужчина философски изрек: — То ты наверху, то внизу — всяко бывает в жизни… Не стоит приходить в отчаяние и портить себе кровь. Поживем — увидим. С решительным видом человека, которому нипочем любые препятствия, месье Гаро явился в камеру к Боско и тотчас же узнал его. — Эге, да это вы собственной персоной, бедняга! — обратился он к своему бывшему подопечному. — Да, это я, месье Гаро. Как видите, меня засадили в кутузку, а я так толком и не знаю за что. Наверное, за то, что лицом сильно смахиваю на Малыша-Прядильщика. Такая вот история — животики надорвать можно, месье Гаро. — Выкладывайте факты. Ведь вы меня вызвали сюда в такой час не для того, чтобы поболтать? — Совершенно верно. Слово — серебро, а молчание — золото. Итак, вы хотели бы изловить главаря «подмастерьев»? — Что за вопрос! Еще бы не хотел! — Начальник сыскной полиции подавил дрожь радостного предчувствия. — Ну так нет ничего легче! И Боско на своем уличном жаргоне рассказал о том, как он внедрился в банду, о том, какие приключения выпали на его долю, о своих блужданиях в подземелье, о побеге — словом, обо всем. Он называл пароли, явки, условные сигналы и наконец вымолвил имя: Бамбош! — Где его можно найти? — спросил сыщик Гаро, горя желанием немедленно задержать бандита, терроризировавшего весь Париж. — Это проще простого! Как раз сегодня он женится. — Что?! — Да, этот гусь женится на сестре княгини Березовой и берет в приданое целый воз миллионов. — Вы что, надо мной смеетесь?! Или у вас с головой не в порядке?! — Я и в мыслях не имел насмехаться над вами. Да и котелок у меня пока еще варит. Я докажу вам, а впоследствии вы и сами в этом убедитесь, что предводитель «подмастерьев» и барон де Валь-Пюизо — одно и то же лицо. И Боско выложил такие убедительные подробности, такие неопровержимые факты, что начальнику сыскной полиции не оставалось ничего другого, кроме как поверить. Трюк с двумя выходами из особняка показался ему очень остроумным, и он решил извлечь из него выгоду. Наконец Боско назвал ему имя фальшивой баронессы де Валь-Пюизо, которую «сын» окружал нежной и почтительной заботой. — Эту старую шельму в последние годы Империи называли Глазастой Молью. У вас в префектуре наверняка заведено на нее дело, поищите. Пока Боско говорил, месье Гаро делал торопливые заметки в блокноте. Когда рассказ был окончен и начальник сыскной полиции получил полную и исчерпывающую информацию, он удалился, намереваясь посоветоваться с председателем суда. Перед уходом он поблагодарил Боско, пообещал не забывать о нем и заверил, что высоко ценит услугу, оказанную им всему обществу. И тут Боско обратился к нему с просьбой: — Раз вы считаете, что я оказался вам полезен, соблаговолите в свою очередь оказать услугу мне. Предупредите обо всем рассказанном моего благодетеля — Людовика Монтиньи, студента-медика, проживающего на улице Сосюр. Он любит ту девушку, на которой собирается жениться барон де Валь-Пюизо, и она отвечает ему взаимностью. Я боюсь, как бы не произошло какого-нибудь несчастья… Умоляю вас, месье Гаро, как только двери тюремной камеры захлопнутся за Бамбошем, тотчас же известите Людовика, что этот брак расстроился… Начальник сыскной полиции дал обещание выполнить просьбу Боско и, переговорив с тюремными надзирателями, ушел. Оставшись в одиночестве, Боско размышлял: «Что ж, мне приходится расплачиваться за битые горшки. Но в этом ничего страшного нет. Как только Бамбоша схватят, ни мне, ни моим друзьям опасаться будет нечего. Меня будут вынуждены выпустить — ведь я ничего предосудительного не сделал. И хорошо бы поскорей — эта койка отнюдь не так удобна, как постель Франсины». Остальное читателю уже известно.ГЛАВА 42
Прошло два месяца с того времени, когда происходили вышеизложенные драматические события. Людовик и Мария были все еще очень слабы, но дело шло на поправку. Когда князь Березов нашел их бездыханные тела в квартире на улице Сосюр, он решил, что юноша и девушка мертвы. И впрямь, от них, лежащих в объятиях друг друга, исходил холод смерти. Еще несколько минут — и сильный яд довершил бы свое пагубное дело. К счастью, помощь подоспела вовремя. Живший по соседству врач, друг Людовика, немедленно примчался и оказал первую помощь. Следом за ним появились руководитель интерна и один из его профессоров, известнейший физиолог. Отравление было таким сильным, что на первых порах надежды на спасение несчастных молодых людей практически не было. Погруженные в болезненное оцепенение, полуослепшие, утратившие слух, парализованные, они почти не осознавали, что живы, и сожалели о смерти, которая была столь сладостна… Возвращение к жизни, причинявшее им телесные страдания, было началом нестерпимых душевных мук — оба боялись последствий своей отчаянной попытки самоубийства… Стоя у их постелей, князь Березов, осунувшийся, с покрасневшими глазами, расспрашивал врачей, в ответ только грустно качавших головами. Склоняясь над Марией, он шептал ей на ушко: — Прости нас, сестренка, прости… Ты выйдешь замуж за кого пожелаешь… Ты станешь женой Людовика… Потом он, обращаясь к интерну, настойчиво твердил: — Людовик! Людовик, дорогой, вы слышите меня? Юноша не в силах был пошевелиться… Он только поднимал веки, хотел отвечать, но не мог… — Вы станете супругом Марии! Вы поженитесь, как только оба поправитесь… Несмотря на самое энергичное лечение, на заботливый уход, они более двух недель находились между жизнью и смертью. Наконец, благодаря сильнейшим медикаментам, эффективным противоядиям, не только устранявшим разрушительное действие яда, но и предупреждавшим осложнения, влюбленные оказались вне опасности. В конце концов, уверенность в том, что отныне ничто не сможет их разлучить, тоже явилась своеобразным лекарством и способствовала выздоровлению. Они будут принадлежать друг другу, на пути их любви больше не стоит никаких препятствий. Людовик и Мария постепенно оживали, чувствуя, что отныне их уделом станет счастье, оплаченное столь дорогой ценой. Их не разлучили. Они лежали в одной палате, рядом. Жизнь сблизила их, как чуть не сблизила смерть. Большое горе омрачило дни выздоровления, которые любовь делала столь светлыми. Людовик узнал, что арестован Боско, что за решеткой оказались Мими с Леоном. Трое его друзей томились в темнице, и это несмотря на все хлопоты за них, несмотря на их безупречное прошлое, несмотря ни на что! Более того, это дело, как бы нарочно запутываемое правосудием, попало к следователю, неумолимому и непреклонному по отношению к людям маленьким, скромным, незнатным, которые могли быть и ни в чем не виноваты и чьи моральные принципы как раз и свидетельствовали об их полной невиновности. Этот крючкотвор, известный тем, что отдал постановления о прекращении нескольких громких дел, так все подтасовал, что обвиняемые, в один голос отрицавшие свою вину, все-таки предстали перед судом присяжных. Обвинение было чудовищным: Леон Ришар и его невеста, Ноэми Казен, обвинялись в подделке переводного векселя. И подумать только, судить их должны были вместе с Боско, признанным следствием их сообщником! С другой стороны, арест так называемого барона де Валь-Пюизо вызвал страшный переполох. Его положение в обществе, предполагаемое крупное состояние, связи, готовившийся брак со свояченицей князя — все это сделало падение барона фактом, известным всему Парижу. Бандит, сперва все начисто отрицавший, под грузом неопровержимых доказательств, вынужден был сознаться. На смену запирательству пришла гордая похвальба: негодяй хвастался своими преступлениями, занимался самовосхвалением, пытался оклеветать окружавших его людей, впутать их в свое дело. Одним из тех, кому было не по себе, являлся Малыш-Прядильщик. Этот прощелыга, поручавший Бамбошу различную грязную работу, трясся от страха, как бы тот не выдал его в руки правосудия. Но Бамбош был слишком тонкой бестией, чтобы не воспользоваться столь выгодной для себя ситуацией. Он благоразумно держал язык за зубами и не проговорился. Малыш-Прядильщик послал ему адвоката, очень ловкого и ничем не брезговавшего малого, которому было безразлично кого защищать и какие применять для этого средства. Бамбош согласился на этого адвоката, сразу же заявившего: — Моя первая задача — спасти вашу голову. Позднее вам передадут кругленькую сумму и помогут бежать из Новой Каледонии, вернее из Гвианы, потому что вас, вне всякого сомнения, отправят именно в эту колонию. — Это почему? — удивился Бамбош. — Потому что в Гвиану сейчас вывозят всех приговоренных к пожизненному заключению. А вы ни на что другое даже и рассчитывать не можете. — Договорились, — согласился Бамбош. — Услуга за услугу. Можете быть уверены, что я буду нем как рыба. Успокоенный его словами, Малыш-Прядильщик, который должен был бы занять место на скамье подсудимых рядом со своим сообщником, приготовился, со всей жаждой мести, давать свидетельские показания против Леона, Мими и Боско. В свою очередь Бамбош, почувствовав такую поддержку, вел себя крайне осмотрительно, хотя и продолжал бахвалиться. Прокурор предъявил ему такие тяжкие обвинения, что за них могла быть присуждена смертная казнь. Но если доказательств нравственного характера было более чем достаточно, то материальных улик явно не хватало. Начав с признаний, бандит поступил опрометчиво. Но ему удалось с дьявольской ловкостью взять свои показания назад, ссылаясь на то, что следователь оказал на него моральное давление, которому он не смог противостоять. Этому факту адвокат умудрился даже придать выгодную для подсудимого окраску — на присяжных сообщения такого рода всегда сильно действуют, что и понятно. Потому что при нашей плачевной, лишенной должной гласности, судебно-следственной системе честь, безопасность, да и сама жизнь подозреваемого, даже невиновного, находятся в руках следователя, чья профессия — обнаружение злоумышленников — предполагает склонность в сидящем перед ним человеке видеть a priori[78] преступника. Дело кончилось тем, что следствие не сумело инкриминировать Бамбошу ничего, кроме ряда крупных краж, отягченных или не отягченных насилием. И ни одного убийства. Полиции удалось схватить несколько «подмастерьев», с большой ловкостью увиливавших от вопросов следователя, но ни в чем не признававшихся и не выдавших своего главаря. Единственное, в чем, глумясь над правосудием и своими жертвами, признался Бамбош, — это в покушении на Марию и в похищении ребенка. Рассказывая об этом, он чуть по полу не катался от хохота, знал, что самое страшное позади. — Признайте, господин следователь, — издевательски требовал он, — неплохо было склеено дельце? Я описываю все в мельчайших подробностях из чистого авторского самолюбия и еще для того, чтобы доказать вам, что я не фраер[79]. Еще немного — и я бы женился на крошке с двухмиллионным приданым. Тогда б я завязал, слово чести, и приглашал бы судейских воротил к себе на приемы. А теперь изволь все начинать сначала! Меня ведь приговорят к пожизненному заключению… А ведь какая это потеря времени — пока до каторги доберешься, пока сбежишь, пока вернешься домой… Глядишь, года уже нет. А может, и больше… Но вы не волнуйтесь, наше достойное общество ничего не потеряет, если немного подождет! События развивались точно так, как предвидел Бамбош. Слушание дела было назначено на пятнадцатое апреля. В этот день обвиняемые предстали перед судом присяжных. Во Дворце правосудия[80] толпился народ. Многочисленные старые друзья и подруги бывшего барона де Валь-Пюизо хотели увидеть, как его осудят. Аудитория подобралась великолепная. Бандит держался с немыслимым апломбом. Министерство юстиции потребовало смертной казни. Защитник, человек далеко не бесталанный, побеждал обвинение его же собственными доводами. Бамбоша приговорили к пожизненным каторжным работам. Когда был зачитан приговор, он поднялся и насмешливо обратился к суду: — Большое спасибо, господа, до следующего раза. — И, обернувшись к публике, где виднелось много представителей высшего света, добавил: — И вы, господа подозрительные типы, и вы, легкомысленные красотки, до свидания! Мы увидимся раньше, чем вы думаете! Его слова были встречены аплодисментами. По общему мнению, барон держался превосходно.На следующий день на позорную скамью были посажены Леон, Мими и Боско. Первые двое обвинялись в изготовлении фальшивого переводного векселя, третий — в соучастии. Несмотря на безупречное прошлое художника-декоратора, несмотря на полную трудов, лишений и самоотречения жизнь Мими, чудовищное обвинение против них было поддержано. Ничто не смогло перевесить улики, с адской сноровкой сфабрикованные Бамбошем. В ответ на возмущенные протесты Леона Ришара следователь предъявил фотографию текста, отпечатавшегося на найденной у него в комнате промокательной бумаге, — слова точно совпадали со словами, цифрами, целыми абзацами векселя. Среди улик имелось также письмо, якобы написанное Малышом-Прядильщиком, которое, как и вексель, было творчеством Бамбоша. Это припрятанное в личных бумагах Леона Ришара письмо было ответом на просьбу о вспомоществовании, направленную Леоном Ришаром Гонтрану Ларами от имени Ноэми Казен. Не давая на эту просьбу категорического отказа, как если бы против него имелись документы, с помощью которых его могли бы шантажировать, Гонтран просил отсрочки, а также — снижения цены. Мы помним, что эта тяжкая улика, это письмо, было от первого до последнего слова написано Бамбошем, сообщником Малыша-Прядильщика в его подлой мести. На все опровержения Леона прокурор демонстрировал документы — крыть было нечем! А мерзавец Гонтран Ларами, вызванный в суд свидетелем, показал под присягой, что действительно писал это письмо, и назвал Леона Ришара подонком и шантажистом! Леон со своей стороны живописал сцену, когда Ларами наглыми приставаниями оскорбил Мими. Малыш-Прядильщик заверял, что Мими просто распутница, что она завлекла его в ловушку, что Леон, используя силу, пустился во все тяжкие и решил вытянуть из него значительную сумму. Выслушав правдивые объяснения Леона и наглую ложь Малыша-Прядильщика, суд, разумеется, отдал предпочтение лжи. Леон был простым работягой, к тому же интересовался идеями социализма, а у Гонтрана было сто миллионов! Все та же басня про глиняный и железный кувшин! Что касается Боско, то факты его задержаний за бродяжничество так настроили следователя против юноши, что он неизвестно почему приплел его в качестве сообщника. Мими и Леон, давно не видевшиеся, встретились теперь, сопровождаемые жандармами, но где — в большом, обшитом деревянными панелями зале, в глубине которого теснились люди. Грубый, бесчеловечный закон категорически запрещал им броситься друг другу в объятия. Бедные дети! Слезы лились из их глаз, они едва могли выговорить: — Леон!.. О мой Леон! — Мими, дорогая моя, любимая! Они как сквозь туман видели красные мантии судейских, черные костюмы присяжных заседателей, с трудом сознавали, что их обвиняют в бесчестном поступке, их, для которых честь и сознание долга были святыней! Боско, чувствовавший себя вполне в своей тарелке, попытался было приободрить их, но не преуспел. Их спросили имена, фамилии, место рождения. Они отвечали машинально, не узнавая собственных голосов, как будто за них говорил кто-то чужой. Председательствующий начал допрос. Леон защищался с нечеловеческой энергией, находя выразительные слова, трогавшие порой сердца публики. Скромное поведение Мими, ее отчаяние производили прекрасное впечатление, вызывали искреннее сочувствие. К несчастью, пронизанные ненавистью, коварные и вероломные показания Малыша-Прядильщика произвели оглушительный эффект. К тому же на миллионера глазели как на диковинное животное, и присяжным льстило, что такой богач подал на рассмотрение свою жалобу, как простой смертный. Заместитель прокурора обращался к нему почтительно, в голосе его звучали даже подхалимские нотки. Задача защитника, мэтра Александра, оказалась не из легких. Но эти трудности лишь придали вдохновение выдающемуся оратору-социалисту, никогда еще его недюжинный талант не блистал так ярко, а красноречие не было таким взволнованным, искренним, берущим за душу. Его слова лились прямо из сердца, вызывая на глазах зрителей слезы, тут и там слышались крики «браво!», которые председательствующий обрывал механическим голосом. На беду, представитель Министерства юстиции сумел с непревзойденным коварством примешать к уголовному делу политику. Да так ловко, что Леон, главный обвиняемый, должен был отвечать не только за прегрешение перед обществом, но и за учение, горячим сторонником которого был, как будто одно было связано с другим! О, тенденциозные процессы, каких только беззаконий и несправедливостей они не порождали! Во время Реставрации — бонапартистские тенденции… При Карле X — либеральные… При Империи — республиканские, при Второй Империи — социалистические… Сегодня мы ошиблись! Но завтра правда восторжествует!.. И суд неумолимо приговаривает к наказанию человека не столько за то, что он сделал, сказал или написал, сколько за учение, которое подсудимый исповедует. Леон должен был стать и стал жертвой настроения умов, особенно ярко проявляющегося в эпохи великих переломов, сотрясающих фундамент старого социального устройства. Взволнованные присяжные, думая, что показывают хороший пример, вынесли чрезвычайно суровый вердикт. Леона Ришара, потрясенного, а еще более возмущенного, приговорили к восьми годам каторжных работ! Мими оправдали. Но, услышав ужасный приговор любимому, она похолодела. Все закружилось у нее перед глазами — замелькали какие-то тени, цветовые пятна, бесформенные предметы, не имеющие названия. Вдруг взрыв хохота потряс ее, она так пронзительно закричала, что взбудоражила и перепугала зрителей. У бедной девочки внезапно начался приступ безумия. Когда ее уводили, она жестикулировала и выкрикивала какие-то бессвязные слова… — Бедняжка Мими! — прошептал потрясенный Леон. — Может, так оно и лучше… Она будет меньше страдать… Боско, тоже оправданный, при виде подобной катастрофы плакал навзрыд. Но тут произошел один из тех казусов, на которые так щедро наше судопроизводство — суд не освободил его из-под стражи, а в качестве воспитательной меры приговорил к пожизненной ссылке! Когда зачитали этот столь же несправедливый, сколь и неожиданный приговор, в зале раздался крик — какая-то женщина зашаталась и, как подкошенная, упала без сознания. Это была Франсина. Боско послал ей растроганный взгляд. Но тут бродягой завладела стража. — Не падай духом, дружище! — только и успел он шепнуть Леону. — Надо жить для тех, кого мы любим. И для того, чтобы реабилитировать себя. Леон протянул ему руку, крепко ее пожал и, горделиво выпрямившись, ответил: — Да, для того, чтобы реабилитировать себя… И для того, чтобы отомстить!
Конец первой части
Часть вторая ЛЮДИ-ХИЩНИКИ
ГЛАВА 1
Палящее солнце шлет отвесные лучи на землю, пышущую жаром, как огромная печь. Кажется, все вокруг сожжено и обуглено в этом неподвижном зное, где не дунет и ветерок, где влажные тяжелые испарения делают воздух еще более нездоровым. Несколько серых облаков быстро поднимаются над горизонтом, зависают, мутные, как бельма, и рассеиваются. Раскаленное солнце жалит, по-прежнему не смиряя жестоких укусов. Идет ливень. Он длится минут пятнадцать, теплый, пресный, лишенный свежести. Вода течет по красной, как кирпич, почве и мгновенно превращается в облака горячего пара. Дождь еще больше разогревает, если только это возможно, гиблый край, с его невыносимой влажностью и адской жарой, делающей его похожей на теплицу, — термометр показал бы градусов сорок выше нуля. Ничто не может дать представление о царящем здесь зное. Европеец задыхается при такой жаре, она способна его обескровить, обездвижить, лишить разума… В этой паровой бане суетятся, едят, пьют и спят человеческие существа, чье единственное предназначение — истекать потом… Вдали дремлет кокетливый городишко — красивые домики, покрашенные светло-серой краской, построены на манер домов в Эльзасе: высокие, крытые дранкой крыши подчеркивают выпуклые штукатурные наметы наружных стен, вдоль фасадов тянутся веранды. На домах не видно ни единой печной трубы, что и понятно, оконные рамы без стекол открываются внутрь, на окнах — жалюзи. Тут и там растут чахлые кокосовые пальмы, чьи пыльные плюмажи контрастируют с бурным цветением мангровых деревьев. А за чередой домишек гордо высится колоннада величественных гигантских пальм с мощными стволами и пышными кронами. На бреющем полете гоняются друг за другом ласточки, похоже, им солнце нипочем. Лишь эти грациозные пташки, да еще огромные неуклюжие черные грифы с голыми шеями, стаей слетающие с верхушек пальм, кидаясь на какую-нибудь падаль, символизируют здесь животный мир. Городок погружен в послеобеденный сон. Все спят в наглухо закрытых домах и хозяйственных постройках — мужчины, женщины, дети, домашние животные. Разве что какой-нибудь жандарм высунет нос на посыпанную скальными обломками, блестящими, как окалина в кузнечном горне, улицу. В побеленных, окруженных зеленью казармах, взбирающихся по склону к вершине Сиперу, давно уже сыграли отбой. И пехотинцам, и солдатам береговой артиллерии отдан строгий приказ, нарушение которого карается тюремным заключением: казарм не покидать. И так с десяти утра до трех часов пополудни. С экваториальным солнцем шутки плохи! Лучше уж стоять под дулом пистолета — оружие может дать осечку, стреляющий может промазать… Солнце же никогда не промахнется. Рассказывают страшные случаи. Например, о солдате, прибывшем из Европы, который в полдень, захватив удочки, отправился на рыбалку. Когда его отыскали час спустя, он, скорчившись, сидел на том же месте, из носа хлестала черная кровь, в глазах и ушах уже откладывали личинки мухи. Его сдвинули. Через десять минут он умер. А вот что приключилось с чиновником службы внутреннего порядка, работавшим в своем кабинете при плотно закрытых ставнях. Дневальный, дежуривший в коридоре, услыхал шум и стоны. Он открыл дверь и увидел, что чиновник, не в силах вымолвить ни одного членораздельного слова, бьется на полу. Все переполошились, сразу же прибежал врач и, оказав первую помощь, стал доискиваться причины болезни, столь внезапно поразившей чиновника. И вскоре ее обнаружил. На полированном письменном столе виден был солнечный зайчик размером с монетку в двадцать су. Луч, проникая через круглое отверстие в ставне, падал потерпевшему на затылок. Когда несчастный почувствовал жжение, было уже поздно — началась гиперемия[81]. Три недели он находился между жизнью и смертью и выздоровел чудом… Однако за пределами спящего города жизнь шла своим чередом. Вдоль русла узкого, глубоко ушедшего в отвесные берега, почти пересохшего ручья медленно двигались доведенные до изнеможения люди. Несколько барок, напоминающих по форме лодки аннамитов[82], застряли на илистых мелях. Тысячи и тысячи москитов, жужжа, тучами роились над людьми, впиваясь в потную кожу. Над болотом витал гнилостный запах, смрадный оттого, что пресная вода смешивалась с соленой. Обливаясь едким потом, наголо обритые люди в грубых соломенных шляпах, стоя по пояс в вязкой тине, трудились над расчисткой и укреплением берегов канала. Времени было в обрез. Работу надлежало закончить до начала прилива: близилось весеннее равноденствие, и воды океана, хлынув на прибрежные земли, принесли бы неисчислимые несчастья. Трудились молча. Жесты у рабочих были медленные, вялые, лица осунулись, губы отвыкли улыбаться. Одеты все были одинаково — в короткие коричневато-серые блузы из грубой ткани. Внизу на блузе значился порядковый номер, на спине — жирно написанные буквы А и Р, разделенные якорем. Штаны были из той же парусины, что и блузы, на ногах — тяжелые сабо[83], брошенные на время работы на берегу. Было их человек пятьдесят, по двадцать пять в каждой команде. Надзирал за ними человек в белом шлеме, с двойными серебряными нашивками на рукаве, как у сержантов артиллерийских частей. Его могучий стан был перетянут ремнем из сыромятной кожи с расстегнутой кобурой, из которой выглядывала рукоятка револьвера.Спящий городок с деревянными домиками, назывался Кайенной. Человек с револьвером был военным надсмотрщиком. Люди, барахтавшиеся в грязи, потевшие, звучными хлопками ладоней убивавшие на своем теле досаждавших им москитов, словом, работавшие на смертельном солнцепеке, были каторжниками. Надсмотрщик, взглянув на часы, скомандовал: — Перерыв! Заключенные, копошившиеся в канале, выбрались на берег. Пот, вода, ил стекали с них ручьями. Их товарищи, разгружавшие шаланду со стройматериалами, присоединились к ним. Они валились наземь, как изнуренные работой животные; ни слова не слетало с бескровных губ, иногда лишь тяжкий вздох со свистом вырывался из груди. Правила требовали соблюдать полное молчание. Запрещалось разговаривать и во время работы, и во время перерыва. Но охранник был славным малым, он предпочитал не замечать, что уже через пять минут то тут, то там раздавался шепоток. Курение табака тоже было строжайше запрещено, но охранник охотно закрывал глаза на набитые жвачкой щеки и смачные плевки, убедительно свидетельствовавшие, что каторжники балуются жевательным табаком. Толпа работяг на две трети состояла из белых людей. Одну треть составляли негры и арабы[84]. Почти у всех негров и мулатов[85] были веселые добродушные рожи, скалящиеся всегда и при любых условиях. На лицах арабов читались истинно мусульманская покорность и фатализм. Большинство же белых лиц заставляло содрогнуться — это были физиономии висельников, хорошо знакомые завсегдатаям судебных слушаний и ставшие на каторге еще более отталкивающими. Они сидели на берегу канала Лосса, близ моста Мадлен, затерянные посреди безлюдных, заболоченных пространств… Вооруженные лопатами, заступами, кирками, мотыгами, они могли действовать беспрепятственно — их сторожил всего один беззащитный надсмотрщик, стоявший в десяти шагах от них, ничего не опасаясь… Он не успел бы вытащить револьвер, не успел бы выстрелить, захоти они все скопом накинуться на него, связать по рукам и ногам, придушить. А там — свобода! Беги куда хочешь через дремучие леса, через заросли гигантских трав, через непролазные топи. И все-таки они не двигались с места, не жаловались, лишь безропотно выполняли приказ, делали непосильную для человека работу. Побег! Свобода передвигаться по необозримым просторам — мечта заключенного, навязчивая идея, преследующая его и днем, и ночью, и каждый миг заточения!.. Но отверженные знали: такая иллюзорная свобода — хуже неволи, хуже каторги, хуже принудительных работ, наконец! Но вот истекли последние минуты отдыха. Через несколько мгновений придет время подменить товарищей, шлепающих по грязи, хлюпающих в иле, отряхивающихся от тины, как разыгравшиеся кайманы. Но тут со стороны моря раздался знакомый звук, встреченный всеобщим вздохом облегчения. — Начинается прилив! — шепнул один из галерников. — На сегодня работа закончена! — Молчать! — заорал надсмотрщик. — Ну и слух у этого бугая! — Номер сто! Урезана пайка тростниковой водки! — Боже правый!.. — Лишить кофе! Номер сотый побледнел под слоем тропического загара и прошептал про себя: — Ах ты, гад!.. Попадешься мне — своих не узнаешь. Внимание заключенных привлекла девочка. Совсем юная, лет двенадцати — пора расцвета в странах Юга, гибкая, как лиана, она шла вдоль дороги, грациозно покачивая бедрами, — у взрослых негритянок такая походка часто выглядит фривольной и непристойной. Девчушка действительно была черномазенькая, но сложена великолепно — nigra sed formosa[86], — голову ее украшал кокетливый мадрас[87], стройное тело облегала полосатая, голубая с розовым, камиса[88]. Она несла картонку от модистки и нежным голоском креолки напевала с бенгальским акцентом мелодичный чувствительный романс. Номер сотый вздрогнул и обратился к соседу, тоже жадно слушавшему песенку: — Громы небесные! Ведь сегодня двадцать девятое число! Сегодня приходит пакетбот из Франции! — Да, действительно!.. — А я совсем забыл… — Вот видишь, а девчонка помнит… Охранник подозрительно воззрился на девчушку, которая распевала себе, не обращая ни малейшего внимания на каторжан. Он больше не прислушивался, какими репликами обмениваются «чревовещатели» — так тюремная администрация называла заключенных, умеющих разговаривать не шевеля губами. Он знал, как туземцы ненавидели и презирали каторжников, и готов был заподозрить все что угодно, но не сговор между красоткой негритяночкой и галерником. В этот миг со стороны рейда раздался пушечный выстрел, такой громкий, что с огромных деревьев поднялись в небо стаи испуганных морских птиц. За первым залпом последовал второй. — Палят с пакетбота, — сквозь зубы пробормотал номер сотый. — Осторожней! — выдохнул сосед. — Надсмотрщик что-то примечает. — Плевать я на него хотел! Мы работу закончили… — И, опустив голову, прячась за спинами товарищей, мужчина звонко крикнул: — Эй, красотка! Жду в полночь!.. Негритяночка, как ни в чем не бывало, виляла бедрами и ухом не вела, будто не слышала, что к ней обращается кто-то из каторжан. Подбежал разъяренный охранник: — Кто здесь орал? — Он внимательно оглядел группу заключенных. — Ах вы, бездельники, теперь я буду знать, как давать вам потачку! Хоть правила-то вы можете соблюдать? — Скажите-ка, шеф, — никак не желал угомониться сотый номер, — вы что же, за солдат нас принимаете? — Совершенно верно, — огрызнулся охранник. — А ты, болтун, прикуси язык! Я теперь с тебя глаз не спущу! Когда охранник, отдавая команду прекратить работу на канале, отошел от сотого номера на приличное расстояние, тот продолжал: — Говори, говори, голубчик, а я все равно завтра вечером буду на балу у губернатора! И ничто мне не помешает: ни стены, ни запертые двери, ни часовые!
ГЛАВА 2
Не выпуская из руки картонки, негритяночка, обогнав каторжан, медленной процессией направлявшихся в зону, вступила на мост Мадлен. Миновав улицу Траверсьер, она добралась до Рыночной площади и вошла в лавку, выкрашенную в небесно-голубой цвет. На лавочке красовалась рисованная вывеска, где золотыми буквами значилось:«Мадемуазель Журдэн Моды, белье. Товары из Парижа».Окна, забранные тончайшим газом и не пропускавшие внутрь помещения насекомых, а лишь воздух и солнечные лучи, служили одновременно и витринами — в них были выставлены кокетливые дамские шляпки. Конечно же во всей Кайенне не было больше такого элегантного, такого богатого товарами магазина, как лавка мадемуазель Журдэн. Этопризнавали все. От состоятельных клиентов не было отбою, они, глазом не моргнув, платили хорошенькой модистке бешеные деньги. Мадемуазель Журдэн не только отличалась тонким вкусом, не только была особой благовоспитанной и прекрасно умевшей носить туалеты, она была еще и очень хороша собой. Совсем юная, лет двадцати трех, с роскошными золотистыми волосами, черными глазами, розовой кожей, алыми губками, безукоризненными зубами, она сохранила свежесть европейской женщины, недавно приехавшей в колонии, хотя и жила в Кайенне уже больше года. Ослепительный цвет ее лица, который, казалось, невозможно было сохранить в пекле здешнего климата, завораживал мужчин и возбуждал зависть женщин, особенно креолок[89]. Зависть, кстати говоря, совершенно безосновательную и беспочвенную: упрекнуть мадемуазель Журдэн было абсолютно не в чем. Модистка вела себя в высшей степени благоразумно. Несколько офицеров морской пехоты, пресытившись чернокожими красавицами и знавшими, что у блондинки нет ни мужа, ни любовника, попытались было за ней ухлестывать. Она вежливо их спровадила — без излишней спеси, без возмущения, а так, как подобает женщине порядочной, сознающей свою добродетель. Кое-кто из высших чинов администрации колонии тоже попробовал с ней пофлиртовать. Их попросили столь же любезно! Местные богатеи без околичностей предлагали ей крупные суммы и получали вежливый, высокомерный отказ — дама, мол, желает жить честно и заработать эти деньги своим трудом. Весь город, ранее принимавший мадемуазель Журдэн за искательницу приключений, за легкомысленную модисточку, был вынужден признать: она женщина достойная — качество довольно редкое здесь, на экваторе, где жаркое солнце разжигает страсти и делает легким их удовлетворение. Уразумев это, кайеннцы стали относиться к ней не просто с уважением, но даже почтительно. Если она действовала по расчету, то расчет оказался правильным — к ней пришла популярность, а это создало фундамент для накопления изрядного состояния. Всего пятнадцать месяцев назад она, никого не зная, без предварительной договоренности с кем бы то ни было, просто сошла с парохода, имея при себе всего несколько чемоданов. Получив вид на жительство у местных властей, она арендовала помещение для лавки, устроилась на новом месте и наняла служанку. Затем распаковала багаж: шляпные колодки, катушки разноцветных лент, искусственные цветы, перья птиц — и задала работу своим волшебным пальчикам. Мигом была сооружена такая шляпка, что среди женщин Кайенны поднялся страшный шум. Жена губернатора, парижанка средних лет, нервная, недурно сохранившаяся, склонная посплетничать дама, манерно играющая роль вице-королевы, соизволив посмотреть продукцию новой модистки, пришла в такой восторг, что стала превозносить ее на каждом шагу. Отныне и впредь талант мадемуазель Журдэн был высочайше поощрен. Девушка заявляла, что предпочла покинуть Францию, чем влачить на родине жалкое существование, жизнь там тяжела, борьба беспощадна, а успех призрачен. Да, она перенесла двадцатидвухдневное путешествие, решилась пожить в опасном для здоровья климате и испытать на себе все тяготы неведомого края ради того, чтобы заработать сто тысяч франков и, превратив их в пожизненную ренту, скромно зажить где-нибудь на юге Франции. Весьма предусмотрительный проект, изобличавший в ней особу дальновидную, с простыми склонностями и умеренными потребностями. И, похоже, план был близок к реализации, потому что ей удалось завоевать капризную, абсолютно лишенную хорошего вкуса клиентуру, состоящую в основном из дам, которые сами не знают чего хотят. …Заслыша, как звякнул на двери лавки колокольчик, мадемуазель Журдэн, листавшая модные журналы, вздрогнула всем телом. — Это я прибегла, мамзеля, — сказала негритяночка. — Ну что, Мина?.. — Корабель с Франции прибыл. — Хорошо, дитя мое. Оставайся здесь, а я сбегаю на почту. Полчаса тому назад вельбот почтмейстера, управляемый десятком бравых матросов Трансатлантической компании, доставил на сушу мешки с почтой. У «Сальвадора» был карантинный патент, вот почему встречающие могли рассмотреть лишь грязно-желтый вымпел «здоров». Вскоре началась высадка пассажиров. Рейд уже был усеян шлюпками колониальной администрации, на веслах сидели гребцы-каторжники, в основном арабы. Они пришвартовывались к борту пакетбота. Сходни до самой воды покрывала ковровая дорожка, по ней важно шествовали высшие чины и старшие офицеры, провожаемые завистливыми взглядами всякой мелкой сошки. Быть в колонии просто частным лицом означает быть никем. Зато военные или канцелярские крысы пользуются всяческими привилегиями, их чествуют, почитают, повсеместно воздают им дань уважения! Пока высаживались официальные лица, остальные пассажиры, разряженные в пух и прах, покорно ожидали, когда же и их доставят на берег. Представьте, разряженные в пух и прах! А между тем в Европе все почему-то воображают жизнь в колонии веселой, свободной, независимой, но начисто лишенной щегольства и тем более — вечерних туалетов. Ошибочное представление! Сходящие на берег кайеннцы расфуфырились вовсю. Дамы нацепили на себя все имевшиеся у них золотые изделия, побрякушки и мишуру. На них были атласные, даже бархатные платья! Они кутались в манто и жакеты, они надели замшевые и кожаные перчатки, доходящие до локтя! На мужчинах были шляпы с высокой тульей, высокие воротнички, застегнутые на все пуговицы рединготы, черные брюки, серебристо-серые перчатки, демисезонные пальто! И все эти добрые люди, задыхаясь и обливаясь потом в измявшихся за двадцать два дня плавания тряпках, сочли бы себя опозоренными, если б ступили на сушу в простых дорожных костюмах. Поэтому они с некоторым пренебрежением косились на молодого человека, одетого в изящный, а главное, удобный дорожный костюм. Опершись о планшир[90] «Сальвадора», он наблюдал за этим красочным зрелищем. Нежно прижимаясь к юноше, молоденькая женщина в красивом платье из фуляра[91], улыбаясь, не без иронии наблюдала за торжественным сошествием шикарной публики. Она была очень хорошенькая, с тонкими и благородными чертами сиявшего весельем лица; ее одежда была не просто элегантна, она не скрывала ладной фигурки, как это случается с дамами из колоний, которых мешковатые платья часто делают неуклюжими. Положительно, эта пара в удобной одежде путешественников выпадала из общего стиля: на фоне пестроты и безвкусицы они казались бедными родственниками, хотя в ушах у девушки блестели бриллиантовые сережки, стоившие по меньшей мере восемь тысяч франков. Они были так же чужеродны здесь, как неуместны были бы парижские велосипедисты, заехавшие в Питивье в разгар областной сельскохозяйственной выставки, этого деревенского священнодействия! Представьте себе: вот они пялят глаза на судейскую комиссию, на лауреатов конкурсов, на экспонаты, на зрителей и, потешаясь про себя, стараются не выказать своей иронии. Во взглядах людей основательных и оседлых они читают неприязнь к ним, перелетным пташкам, и осуждение их легкомысленных спортивных костюмов. На борту эту пару никто не знал. Они сели на корабль два дня тому назад, в Демерари, или, если вам так больше нравится, в Джорджтауне[92], и направились сюда, в Кайенну. Нельзя сказать, что молодые люди не возбудили любопытства пассажиров, следующих из Франции или с Антильских островов, — купцов, чиновников, моряков, солдат, золотоискателей. И то правда — сюда ехали лишь по принуждению, а просто так, за здорово живешь, в Кайенну отправится разве что сумасшедший… А юноша и девушка, казалось, путешествовали просто удовольствия ради… Нет, быть такого не может!.. Тогда кто же они такие?.. Актеры? Фотографы? Врачи? Пассажиры, группами покидавшие пароход, тотчас же начинали целоваться со встречающими — все: мужчины, женщины, дети… Терлись друг о друга бороды, стукались каски, цилиндры, зонтики. А на поцелуи в колониях не скупятся. Понемногу корабль опустел, вскоре на палубе, кроме членов команды, осталась одна лишь юная чета. — Спускаемся на берег, да, Жорж? — спросила мужа молодая женщина. — Конечно, Берта. Но не разумнее ли подождать до завтра, пока не улягутся страсти и не окончится сельский праздник? — Не смейся над этими бедными неграми! — Ай-ай-ай, как ты это произносишь — «бедные негры»! Хижина дяди Тома[93] осталась в далеком прошлом, а дядя Том взял реванш. — Ты прав. Это привычка… Когда вижу чернокожего человека, всегда так и тянет его пожалеть… Словно он калека какой-то… — Твое сочувствие направлено совершенно не по адресу. Они очень гордятся цветом кожи и смертельно на тебя обидятся, если поймут, что ты их жалеешь. — Да, глупо все это… Но это у нас в крови… Отголосок прошлого… «Дай хоть минуту покоя усталому негру…» — Сегодня дядя Том — депутат, генеральный советник, капитан береговой артиллерии, комиссар военно-морского флота[94], богатый купец, банкир, золотопромышленник… В его распоряжении лошади, экипажи, роскошные дома, белые слуги… Он сам избирает и имеет право быть избранным… Может стать адвокатом, врачом, представителем судебной, административной, политической власти, Бог его знает кем еще! — Представителем власти!.. Ой, не смеши меня! Помнишь этого надутого, чванливого прокурора республики с орденом в петлице? Вспомни, как он вчера на палубе стал есть сахарный тростник?.. Чинуша гримасничал, крутился, высасывал его, жевал, сплевывал объедки! Ну просто обезьяна! Можно было лопнуть от хохота! — А как он на нас поглядывал, с каким высокомерием! Он всем своим видом как бы говорил: «А вас, беленькие мои голубчики, если захочу, то и в кутузку могу упрятать!» — Какая огромная разница, если сравнить с английской колонией или с голландской… — Да, совершенно верно. Но мне хотелось заглянуть в эти места, чтоб увидеть уголок Франции… Посмотреть, как полощется трехцветный флаг, послушать, как поет рожок… Глянуть, как идут маршем наши храбрые «морские свинки», солдаты морской пехоты… Видишь ли, душа моя, этого не забудешь, как не забудешь мать, хотя давным-давно ее не видел… как Париж, свои родные места… — Значит, здесь Франция… — подхватила молодая женщина. — Скажу тебе, у меня не возникло такого впечатления, что я буду чувствовать то же самое, высаживаясь в Сен-Назере[95]. Капитан «Сальвадора», заметив, что пассажиры не торопятся покидать судно, подошел и обратился к юноше со светской учтивостью, характерной для высшего командного состава Трансатлантической компании: — Вероятно, вы никого здесь не знаете? — Ни одной живой души, капитан. Мы собирались вернуться во Францию и, вместо того чтобы дожидаться вашего возвращения в Демерари, решили прокатиться в здешние места, чтобы потом идти с вами обратно до Антильских островов, где пересядем на пакетбот до Сен-Назера. — Стало быть, вам придется провести тут дней пять… Ввиду того, что в городке нет приличной гостиницы, предлагаю, если соблаговолите оказать мне честь и принять мое приглашение, каюту на борту и место за моим столом. — Клянусь, вы чрезвычайно любезны, капитан! — Более того, я выделю в ваше распоряжение шлюпку, чтоб вы могли выбираться на берег… — Не получится ли так, что мы злоупотребим вашей добротой?.. — Напротив, премного обяжете, согласившись на мое предложение… В этом случае вы сможете в удобное для вас время посещать город, который довольно красив и отличается ярко выраженным местным колоритом. Живут здесь и ссыльные, каторжники. Как вы могли, наверное, заметить, сегодня их используют в качестве гребцов на шлюпках. Капитан приглашал молодую чету так искренне и радушно, что предложение с радостью было принято — как славно, даже в таком исключительном положении можно будет наслаждаться удобствами и комфортом!
…В это время в «Почтовом отеле» производили разбор и выдачу почты. Это чрезвычайной важности событие происходило дважды в месяц и, напоминая о далекой родине, нарушало однообразие колониальной жизни. Надо было видеть, с какой жадностью набрасывались люди на новости двадцатидвухдневной давности! Как нервно распечатывали письма, как рвали шпагаты, связывавшие пачки сложенных в порядке поступления газет! Потом торопливо просматривали самые свежие, пробегая лишь заголовки, чтобы позже, на досуге или когда зарядят дожди, внимательнейшим образом прочитать все от корки до корки… Запершись в четырех стенах, ничего не видя и не слыша, житель колоний от зари и до зари способен не отрываться от газеты, выуживая из нее потрясающие, глубоко волнующие его сведения! Пока в затененной мангровыми деревьями белой казарме на горе солдаты морской пехоты лихорадочно ожидали прихода начальника почтовой службы подразделения, пока офицерские денщики осаждали окошки почты, пока гурьба чернокожих слуг богатых коммерсантов суетилась в зале «Почтового отеля», мадемуазель Журдэн, как все простые смертные, стояла в очереди, все ближе и ближе подвигаясь к окну выдачи, следом за надсмотрщиком-почтальоном, который должен был получить корреспонденцию для каторжников. Ожидание в толпе взволнованных, как будто даже не узнающих друг друга людей, было томительно долгим. Наконец мадемуазель Журдэн вручили увесистый пакет, и, уложив его в искусно сплетенную сумочку — «пагару», модистка, раскрыв зонтик, направилась к своему магазину. В это же самое время молодая чета, воспользовавшись любезным разрешением капитана «Сальвадора», высадилась на берег. Рука об руку, прижавшись друг к другу, как и подобает влюбленной парочке, укрываясь от солнца под одним зонтиком, они неторопливо ступали по земле цвета красной охры, пористой, как каменная губка. На набережной их встретили негостеприимным хрюканьем огромные черные боровы с раздутыми от укусов клещей ногами. Было их штук двадцать, не меньше, и чувствовали они себя здесь как дома, подбирая кожуру от фруктов, набросанную людьми, с утра толпившимися тут, ожидая прибытия пакетбота. — Свиньи здесь тоже чернокожие! — засмеялась молодая женщина. — Черт побери! — откликнулся муж. Мимо них промчалась стайка ребятишек с куклами в руках. Куклы, естественно, тоже были черные… — И куклы — негры? — не унималась дама. — Так оно и должно быть, милая моя Берта. — Говори что хочешь, друг мой, но я никогда не привыкну к этим эбеново-черным лицам, которые видишь здесь повсюду… Тут все наполнено ослепительным светом, деревья необыкновенны, цветы ярки… И птицы щебечут так, будто в ларчике перекатываются драгоценные камни, а насекомые — это просто чудо… Отчего же человек должен иметь устрашающий вид трубочиста или быть похожим на чернильную кляксу?! Тебе не кажется нелепым — вся страна населена одними угольщиками? В таком солнечном краю мне лично это представляется нонсенсом! — Быть может, нонсенсом являемся мы сами, дорогая, как знать… В конце концов, эти люди — такие же как мы! — Вот уж нет! — Почему же нет? — А потому, что они черные с ног до головы, а мы — белые… — Это не довод! — А вот и довод! — По мне, так все чернокожие — те же белые, но загоревшие на солнце. — Объясни, дорогой! — Следи внимательно за логическим ходом моей мысли. Предположим, мы варим молочную кашу в кастрюле или глиняном котелке. Сперва вся масса белого цвета. А теперь, допустим, мы ее переварили или поставили на более сильный огонь. Что получится? На дне каша пригорит и станет черной как уголь. На поверхности же останется белой. Черная часть человечества образовалась тем же путем, из той же каши, в которой не перемешались слои… Она возникла вследствие слишком большого огня. А веду я к тому, что негры уже получили и продолжают получать ожоги. Ведь и белая слива, созревая, становится темной, вот тебе и слива-негр! Оба весело расхохотались, и этим да еще туристскими костюмами шокировали нескольких снобов-прохожих, упревших в слишком теплой одежде. В Кайенне — свои правила хорошего тона, и пляжные костюмы были бы здесь встречены крайне неодобрительно. Пройдя центральную улицу, молодые люди пересекли Рыночную площадь. Навстречу им шла мадемуазель Журдэн, возвращавшаяся домой. Заслыша смех и болтовню, она подняла голову и с любопытством взглянула на веселую парочку. Модистка была уже рядом с дверью своего магазина. Рассмотрев молодую чету, женщина впала в какое-то чуть ли не предобморочное состояние. Они ее пока не видели. Кровь отхлынула от лица бывшей парижанки, оно стало мертвенно-бледным. Девушка быстро закрылась зонтиком, глубокий вздох вырвался из ее груди… Машинально она нажала на дверную щеколду и пошатываясь вошла в помещение. С трудом сделав несколько шагов, она рухнула на диван, бормоча: — Это они!.. Они здесь… Видно, кто-то меня проклял!..
ГЛАВА 3
Прошло почти восемнадцать месяцев с тех пор, как Верховный суд Гвианы, с привлечением четырех заседателей, избранных среди самых почтенных граждан страны, слушал дело человека, обвиняемого в страшных злодеяниях. Человек этот — негр шести футов росту — казалось, был само воплощение животной силы, свирепости, жестокости и грубости. У него были неестественно длинные мускулистые руки с острыми, как у хищника, когтями, грудь — чудовищно велика, плечи и шея — широченные, брюшной пресс такой мощный, что, казалось, он мог приподнять дом, а ноги таковы, что на ум приходила мысль — этот дом он мог нести не сгибаясь. Голова вполне соответствовала могучему телу. Маленькие черные глазки сверкали под резко выступающими, как у гориллы, надбровными дугами, нос был короток и широк, скулы выпирали, подпиленные острые зубы напоминали тигриные клыки. Словом, лицо пугающее, злобное, но с хитрецой. И эта звериная хитрость делала его еще более опасным. Несмотря на то что обвиняемому положено находиться перед судом свободным от всяких пут, его пришлось скрутить по рукам и ногам, потому что за время короткого пути из тюрьмы в суд он успел уложить четырех жандармов и начальника муниципальной полиции. По причудливым татуировкам, украшавшим его грудь и лоб до переносицы, в нем можно было узнать уроженца племени круманов, туземцев с побережья Гвинейского залива, служивших лоцманами в устье Нигера. Каким образом, в результате каких похождений он, побывавший попеременно матросом, искателем алмазов, скотоводом, плотником, чернорабочим и рудокопом, очутился в Америке, суду выяснить не удалось. Было только известно, что Бразилию он покинул потому, что имел какие-то неприятности и что его наняли на золотые прииски в качестве носильщика и землекопа. Там он и совершил те преступления, за которые нынче предстал перед судом. В неграх бурлят великие и ужасные страсти, неведомые и непонятные нам, жителям умеренных широт. Все в этих людях, рожденных в ином климате, принадлежащих к другой расе, неистово, бурно, иррационально — любовь, ненависть, гнев… Еще вчера — совершенные дикари, едва вышедшие из животного состояния, сегодня они пользуются правами, отвоеванными чужой цивилизацией, однако, терзаемые собственными необоримыми желаниями, они не имеют ни малейшего понятия о социальном долге. Их любовь — исступленна, ярость — неукротима, злоба — смертельна, опьянение — бешено и буйно. И все это при том, что их, когда речь идет о личном удовлетворении, нимало не заботит — хорошо ли они поступают или дурно, наносят ли вред ближним, ставят ли тем самым под удар чужую жизнь, свободу или честь. Негр, о котором идет речь, известный под именем Педро-Круман, принадлежал к тем импульсивным личностям, которым, конечно, следовало многое прощать ввиду того, что их ответственность сильно ограничена, но от которых лучше быть подальше, во всяком случае, следовало держать с ними ухо востро. Пока он работал на золотых приисках, его жена умерла от черной оспы, оставив их единственную десятилетнюю дочь. Педро, никогда не грешивший супружеской верностью, продолжал лихо гоняться за юбками жен своих товарищей. Среди женщин попадались и такие, кто оказывал сопротивление. Он с ними не церемонился, а насиловал! По этой причине случались потасовки, в которых противники дробили друг другу кости и проламывали черепа. В конце концов его уволили. Он переехал с дочерью в Кайенну, выстроил себе хижину на отшибе, расчистил делянку и зажил бобылем. Но прежний демон сластолюбия продолжал неотступно его преследовать, толкая на новые достославные подвиги. Педро-Круман продолжал насиловать женщин и особенно — приглянувшихся ему девиц. У жителей это вызывало тем большее волнение, что факты изнасилования участились, а насильник поселился возле самого города, где проживало двенадцать тысяч человек. Усугубило дело еще и то, что в результате надругательств две женщины умерли. Власти решили строго наказать насильника и раз и навсегда избавить горожан от его присутствия. Для поимки выделили целый взвод жандармов и после ожесточенной битвы все-таки его осилили, и окровавленного, избитого, ревущего, с пеной на губах, водворили в тюремную камеру. Как бы там ни было, но негодяй, при всех его жутких инстинктах, обожал свою дочь. Что-то вроде любви животного к своему детенышу… Он часто крал для нее игрушки и разную мишуру, которую так любят негры. Педро согласился бы дать себя убить, лишь бы были удовлетворены все капризы ребенка и она улыбнулась. Завидев, как отца захватили «жандармы с большими саблями», девочка, как испуганная собачонка, увязалась за ними следом и очутилась у ворот тюрьмы. Поняв, что отца посадили под замок, она захотела проникнуть внутрь. Ее легонько отпихнули, но девочка стала рыдать, в то время как Педро истошно вопил и заливался слезами оттого, что их разлучают. Не зная толком, куда ей деваться, она присела на крыльце тюрьмы и стала выжидать. Настала ночь, маленькая негритянка прилегла и заснула. Разжалобившись, один из надзирателей накормил ее и попробовал спровадить прочь. Она перешла через улицу и там, плача в три ручья, продолжала ждать. Мимо шла недавно приехавшая в Кайенну мадемуазель Журдэн. Заметив безутешно рыдающую хорошенькую маленькую негритяночку, мадемуазель Журдэн спросила, какое с ней приключилось горе. Девочка говорила на креольском диалекте, из которого модистка знала всего несколько слов. Они не понимали друг друга. Но внимание девочки было приковано к связке пестрых лент у модистки. Негритяночка как зачарованная потянулась к ним — врожденное женское кокетство вмиг излечило ее от скорби. Мадемуазель Журдэн дала ей кусочек ленты и сделала знак следовать за собой. Девочка схватила ленту, повязала себе на шею и, почти побежденная, бросив последний взгляд на окна тюрьмы, повиновалась. Мадемуазель Журдэн привела ее к себе. Вид лавки ошеломил ребенка, девочка просто обезумела — так могут поражаться лишь первобытные натуры. Она жаждала все осмотреть и пощупать, всем восхититься… Она не знала, что делает, что говорит… Она была в раю, о котором ей рассказывал кюре… Мадемуазель Журдэн нарядила ее, использовав для этой цели кусок яркой ткани, столь высоко ценимой негритянскими модницами, и накормила. Используя язык жестов и немногие известные ей креольские слова, она умудрилась втолковать гостье, что та может остаться у нее. Потом спросила, как ее зовут. Оказалось — Эрмина, сокращенно — Мина. Вечером, несмотря на все соблазны, девочка вдруг стала взволнованной и озабоченной. Она отказалась ужинать и жалась к двери. Так продолжалось с полчаса. Мадемуазель Журдэн на минутку отлучилась в кухню — надо было отдать распоряжение поварихе. Когда она вернулась, Мины в доме не было. Девочка убежала, забрав ужин с собой. Крайне заинтригованная, модистка отправилась к тюрьме, находившейся неподалеку. Перед ней разыгралась поистине трогательная сцена. Малышка кулачками колотила в тюремные ворота, пытаясь вызвать надзирателя. Наконец он вышел и, узнав негритяночку, спросил, что ей надо. — Я приносить обед мой папа. Напрасно тюремщик убеждал ее, что заключенные ни в чем не испытывают нужды. Она настаивала, просила, умоляла, плакала. Тюремщик взял принесенную ею снедь, чтобы его оставили в покое. — Передайте папе, — попросила она его на своем наивном креольском диалекте, — что я очень довольна. Меня взяла к себе одна красивая дама, а у нее столько всяких прекрасных-распрекрасных вещей! Я такая счастливая! Увидев все это, модистка забрала девочку к себе и предложила ей жить у нее постоянно. Мина согласилась, хлопая в ладоши от радости, и с тех пор жила вместе со своей благодетельницей. Но не реже двух раз в день она ходила в тюрьму, беседовала с надзирателем, просила передать отцу, что у нее всего вдоволь, что она рада-радешенька и что по-прежнему его любит. Когда судебное слушание было закончено, Педро-Крумана вывели из здания суда, он перестал бешено отбиваться, лишь завидя ребенка. Несмотря на отвращение, которое мадемуазель Журдэн питала к подобного рода зрелищам, она согласилась сопровождать девчушку на судебный процесс. Педро признался в совершенных им злодеяниях, не понимая толком, что, собственно, преступного они усматривают в его действиях, и свято полагая, что посадят его от силы месяца на полтора. Такая кара казалась ему более чем достаточной. Его приговорили к двадцати годам каторжных работ. Можно себе представить, в какую ярость он впал, когда все-таки понял, что отныне становится одним из презренных, которых часовые гоняют, как стадо, которые всегда ходят скопом, не знают свободы, не имеют женщин! Он впал в неистовство, круша все, что находилось в пределах его досягаемости, и ударами кулака валя наземь каждого, кто пытался совладать с ним, лишая его тем самым вожделенной свободы, привилегии дикого зверя. Наконец все-таки его засадили под замок в карцер. Сначала Педро объявил голодовку. Но голод оказался сильнее. Его кормили, когда он немного утихомиривался. Ему даже давали кое-какую работу, намекая, что еду он получит только тогда, когда ее выполнит. Ради того, чтобы насытиться, он внешне смирялся и, обозленный, нелюдимый, с перекошенной рожей и налитыми кровью глазами, в одиночку работал в полной невысказанных угроз и ненависти тишине. Понемногу его удалось приучить хоть к какой-то дисциплине, вернее — укротить. Его пока еще не решались выгонять на работы вместе с остальными каторжниками — на прокладку дороги, раскорчевывание земель, на осушение болот, — опасаясь находивших на него приступов буйства, боялись — убежит. И вот в один прекрасный день в его душе произошел неожиданный и внезапный переворот. Это случилось, когда во дворе исправительной тюрьмы он толкал груженную камнями тачку, которую и не всякой лошади под силу сдвинуть. Вдруг из-за высоких, толстых стен раздался звонкий голосок — кто-то напевал креольскую песенку. Педро замер, дрожа всем телом и побледнев, как бледнеют негры, — то есть стал пепельно-серым. Рот, изрыгавший до сих пор лишь дикий вой, искривился в душераздирающем рыдании, на глаза набежали крупные слезы. Он узнал голос Мины. Когда романс отзвучал и чары развеялись, негр заметался как сумасшедший, кинулся к гладкой стене и попытался вскарабкаться на нее, но, обломав ногти и раскровенив пальцы, грохнулся на землю. Затем, как бы желая погасить лишавший его разума душевный пыл, он вновь впрягся в повозку и помчался по двору, вдоль тюремных стен, пока наконец, задыхаясь, не свалился, с кровавой пеной на губах и бессмысленным, потухшим взглядом. Весь остаток дня и ночь Педро провалялся на дворе, под теплым дождем, пребывая в какой-то болезненной прострации — не ел, не пил, ничего не видел и не слышал. Наутро он подошел к надзирателю, выводившему на работу первую смену, и с трудом, будто разучившись говорить, попросился на общие работы. — Ах, вот как! — ответил тот. — Решился-таки наконец? Ну что ж, хорошо. — Да, — отозвался заключенный, — я слышал голос… я узнал ее… — Уж не знаю, какой это голос ты сюда приплел… С тех пор как тебя засадили, ты всегда был какой-то чокнутый. Только не валяй дурака и не вздумай смыться. Заруби на носу: при первой же попытке к бегству я всажу в тебя пулю, как в птицу агути![96] — Я не убегу… Я буду слушать голос… Я увижу Мину… — Это твое дело. Мне лично от тебя требуется лишь одно: чтобы ты стал таким, как другие, работал или хотя бы делал вид, что работаешь. Вот таким образом закончился бунт Педро-Крумана. Время от времени, в условленный день, Мина, как бы ненароком, появлялась на дороге, по которой гнали каторжников. Когда Педро впервые ее увидел, то с хриплым звериным воем вырвался из шеренги и с такой силой схватил девочку в объятия, что едва не задушил. Конвойный спросил его: — Так вот ты чего добивался? Так бы и сказал, скотина ты безмозглая. Мы 6 тебе ее привели, эта босячка вечно возле тюрьмы мается, как грешная душа в преисподней. Хочешь с ней словечком перекинуться? Бог с тобой, поболтайте чуток, поцелуй ее. Только без глупостей, понял? И Педро-Круман кротко вернулся в строй, а придя на лесоповал, принялся за работу. Дни шли за днями. Однажды мадемуазель Журдэн, подстрекаемая, вне всякого сомнения, любопытством, которое влечет к каторжанам прибывших в колонии европейцев, выразила желание сопровождать Мину. И вот она смотрит, как движется к месту работы унылое, мрачное шествие заключенных, безучастных, безразличных ко всему на свете, облаченных в грязную униформу… Негритяночка перекинулась несколькими словами с отцом, сообщив, что эта красивая белая женщина и есть ее благодетельница. В темной душе злодея, наряду со всеобъемлющей, непреодолимой отцовской любовью, зародилось чувство бесконечной благодарности. Этот колосс, стоящий ближе к животному, чем к человеку, испытал к женщине, пожалевшей его дитя, какую-то исступленную признательность, замешанную на уважении, почтении, преданности, жажде пожертвовать собой! Не зная, как выразить охватившее его чувство, он сказал дочери: — Передашь белой женщине, что Педро-Круман будет ее верным псом… Что он будет любить ее друзей и ненавидеть ее врагов… Что бы она ни приказала, Круман во всем станет ей повиноваться. Мина послушно пересказала речь каторжника слово в слово. Побежденный злодей занял место в угрюмой шеренге сотоварищей. А модистка, которая была, казалось, ко всему довольно равнодушна, которую никто никогда не видел беспечной и веселой, чье поведение всегда отличал не соответствовавший ее молодости и красоте налет грусти, горько улыбнулась. — Я не говорю «нет», — прошептала она. — Как знать, быть может, скоро мне понадобится человек, чья преданность не дрогнет ни перед какими испытаниями…ГЛАВА 4
Лет десять назад заключенных содержали на понтоне, стоящем на якоре на кайеннском рейде. Назывался он «Форель» и был фрегатом, покрывшим себя в прошлом славой. Когда его перестроили и приспособили для такого недостойного военного корабля употребления, он стал стариться, как старятся корабли, дал течь и, как губка набирая воду, в конце концов затонул. Людей успели эвакуировать. Тогда-то плавучие дома и были заменены зданием исправительной тюрьмы, называвшейся лагерем Мерэ, построенной на самом берегу моря в тысяче двухстах метрах от города, позади окружавшей казарму рощи. Странная вещь — в этом краю, где даже самые большие здания деревянные, тюрьму возвели каменную. Она вмещала до тысячи трехсот каторжан, использовавшихся на принудительных работах в городе или его окрестностях. Почти такое же количество людей были размещены в самом городе в лагерях и на гауптвахтах, в их обязанности входило ремонтировать дороги, а также производить различные работы в районе Тур-д’Иль. Режим, распорядок, пища, одежда, норма выработки были одинаковы и для тех, и для других. Если бы не климат, пагубный для приговоренных к принудительным работам европейцев, режим этот мог бы стать предметом зависти. Возьмем, к примеру, пищу. Подавляющее большинство наших крестьян о такой и мечтать не может. Известно ли у нас в стране, где очень много случаев голодной смерти или достойной сочувствия вопиющей нищеты, что заключенные, искупающие свои тяжелейшие преступления, получают на каторге паек, приравненный к продовольственному пайку солдат и матросов? В рацион каторжника входит: 750 граммов хлеба в день, 250 граммов свежего мяса каждые вторник, четверг и воскресенье, 200 граммов говяжьих консервов по понедельникам и пятницам, 180 граммов соленого сала по средам и субботам, 60 граммов риса во вторник, четверг и воскресенье, 100 граммов сушеных овощей в понедельник, среду, пятницу и субботу, 18 граммов топленого свиного сала и 12 граммов соли ежедневно. Во время выполнения особо трудных работ и, по крайней мере, три-четыре раза в неделю заключенные получают по чарке тростниковой водки — шестьдесят граммов. Не находите ли вы, что питание каторжников не так уж и скудно, особенно в колониях, где сложно разводить домашний скот и где местному гражданскому населению часто приходится довольствоваться «бакальяу»[97], которую шутя именуют «ньюфаундлендским бифштексом», так как свежее мясо можно с трудом раздобыть лишь после того, как свою норму получат чиновники, армия и каторжники? И не разделяете ли вы того мнения, что многие крестьяне, живущие впроголодь и вообще почти не видящие мяса, с удовольствием согласились бы на такое меню? Когда-то такой паек получали все без исключения заключенные, однако, начиная с 1891 года, это стало привилегией работников, выполняющих норму. Те же, кто, не будучи больным, уклонялся от трудовой повинности, сидели на хлебе и воде. И с тех пор, как ввели это правило, наказание за прогул, бывшее ранее для многих заключенных почти неощутимым, стало чрезвычайно эффективным. Дисциплина, конечно, была строгая. Но после отмены телесных наказаний нельзя сказать, чтобы конвойные так уж зверски обращались со своими подопечными[98]. Когда же случалось, что выявлялись расправы, вскрывались случаи жестокого обращения, виновных сурово карали. Пора положить конец всем этим россказням о страдальцах-каторжанах, которых палачи-надсмотрщики держали по два-три часа на солнцепеке или бросали в муравейник. Те, у кого подобные истории, лживые, кстати говоря, вызывают возмущение, приберегли бы лучше свое сочувствие для наших солдат, которых повзводно на три часа ставят лицом к стене в самый лютый мороз или заставляют бежать кросс в палящую жару. Что же касается муравьев, то надобно знать, что живущие в Гвиане подвиды отнюдь не похожи на наших благодушных муравьишек и не ограничились бы болезненными, не опасными для жизни укусами. Человека, привязанного в муравейнике, они разнесли бы по крохам всего за пару часов, не оставив ничего, кроме обглоданного скелета, отполированного не хуже, чем демонстрационные костяки в анатомическом театре. Из этого вытекает, что о совершенном таким способом убийстве стало бы известно тюремной администрации в тот же день, и она тотчас же по всей строгости осудила бы виновного[99]. Кроме того, широкой публике невдомек, что заключенный имеет право обратиться в дисциплинарную комиссию, имеющуюся при каждом исправительно-трудовом учреждении, а та, составив заключение, передаст жалобу главе тюремной администрации. К тому же заключенный может адресовать главе администрации, губернатору колонии, министру колоний или министру юстиции письма в запечатанном конверте, попадающие в руки государственных чиновников и их стараниями безотлагательно передающиеся адресату. Здесь встречаются совершенно неудобочитаемые послания. …Прошу прощения за столь пространное отступление, но, право же, оно необходимо для правильного понимания психологии каторжников, являющих собой, увы, за редким исключением (преступления по страсти или совершенные в состоянии аффекта), довольно жалкий тип человеческой особи. Но вернемся же в исправительную тюрьму, в лагерь Мерэ, расположенный у городских ворот Кайенны. Было без четверти двенадцать ночи. На всем замкнутом каменными стенами пространстве царила тишина. Заключенные спали в полотняных гамаках, рядами повешенных в громадной спальне. В проемы настежь открытых, но снабженных толстыми решетками окон слабо задувал теплый, не приносящий свежести ветерок. Сраженные изо дня в день накапливающейся усталостью, истомленные неумолимым солнцем, ослабленные приступами лихорадки, страдающие малокровием, они спали, свернувшись в клубок, как доведенные до изнеможения звери, и даже во сне их душили кошмарами адской жизни. Прошел дежурный наряд — два охранника с фонариками. Ничего подозрительного. Вооруженные часовые с заряженными ружьями охраняли все входы и выходы, несли караул у тюремной стены. Однако этот покой — не что иное, как видимость. Не все каторжники были погружены в тяжелый сон, следующий за изнурительной физической работой. Некоторые из них с кошачьей ловкостью соскочили с гамаков и, двигаясь совершенно бесшумно, один за другим промелькнули в свете фонаря, всю ночь напролет горящего в спальном помещении. Один из них — тот самый негр, Педро-Круман, о котором речь шла выше, другой — араб, остальные — белые. Кто-то сказал негру: — Главное — никакого шума! Постарайся, чтоб он не только не закричал, но и не охнул… Иначе нам каюк. — Не боись, — ответил негр. — Пусть только пикнет, я ему — крак-крак — и сверну шею. — Только не убей его, ради Бога! Мы будем его судить, а там уж пусть его казнят те, кого он предал! Ступай! Босоногий колосс беззвучно скрылся в темноте. Затем послышался слабый шорох, что-то вроде приглушенного шепота, и негр возвратился. С легкостью, как будто нес новорожденное дитя, он держал на руках завернутого в одеяло мужчину с кляпом из простыни во рту. Педро положил пленника на пол, под гамаком человека, отдававшего приказ. — Я приносить багаж. — Отлично. Теперь скажи остальным, чтоб подошли. Спальня представляла собой длинную, бесконечную галерею, где в два этажа висело около двухсот гамаков с проходом шириною метра в два. Круман бесшумно двигался по проходу и тормошил каждого спящего, повторяя: — Ходи, тебя зовут! Каторжники, проснувшись, как люди бывалые, привыкшие контролировать каждое движение, каждый жест, быстро выскакивали из гамаков, моментально переходя от сна к реальности. Эта стремительная побудка происходила в полной тишине — ни шороха, ни скрипа, ни даже зевка… Как тени скользили они по галерее и окружали связанного по рукам и ногам человека с кляпом во рту. Тот был смертельно бледен и понимал, что минуты его сочтены. Отдававший каторжникам приказы был еще совсем молод. На его красивом, с правильными чертами, наглом до бесстыдства лице читался не только острый ум, на нем лежала печать зла и порока. То ли благодаря недюжинной силе и выносливости, то ли потому, что недавно попал на каторгу, выглядел он отлично, здоровый цвет его лица не шел ни в какое сравнение с синеватой, увядшей, анемичной кожей узников и — редкость на каторге — он отнюдь не отличался чрезмерной худобой, а был довольно упитанным. Когда вся зловещая банда собралась, молодой человек произнес тихо, как выдохнул: — Часовых — на входы! При малейшем подозрительном шуме — подать условный сигнал! Если что — мигом по койкам! В нашем распоряжении — четверть часа. Приказ был выполнен не только беспрекословно, но и с поразительной быстротой и слаженностью. Убедившись, что их странному собранию не грозит никакая опасность, юноша продолжал: — Я собрал вас сегодня ночью для того, чтобы судить человека, притворявшегося нашим братом. Факты вам известны. Две недели назад шесть наших товарищей должны были совершить побег и добраться до Спорной территории[100] по ту сторону Ояпоки. Все было подготовлено, успех побега обеспечен. Но подонок, которому мы целиком и полностью доверяли, продал нас властям. Гул сдерживаемого гнева, полный возмущения и угрозы, прокатился по толпе заключенных. — Тихо! — приказал главарь. — Измена у нас — редкость. Наша сплоченность — превыше всего, ее можно поставить в пример так называемым честным людям. Когда один из братьев слишком слаб и не может «пахать», ему помогают выполнить норму. Когда он голоден — кормят, у себя отнимают, а ему увеличивают пайку. Если у него нет денег — раздобывают. Если он захотел смыться — для этого создают все условия. Мы умеем быть преданными друг другу, стоять один за всех, а все — за одного. И все-таки среди нас затесался один, кто пренебрег этим принципом солидарности, кто предал своих братьев в беде, кто усугубил их и без того тяжкую участь. Шестерых наших сцапали, когда их успешный побег был делом решенным… Они предстали перед трибуналом. Их приговорили к двухгодичному ношению двойных кандалов. Суд состоялся сегодня днем. При этих словах подавленное рычание вырвалось из толпы, и было оно куда страшнее открыто выраженного проявления гнева. Чувствовалось, что довольно слова, жеста — и они навалятся на связанного человека и убьют его, разорвут на куски. Молодой человек продолжал: — Вы избрали меня Королем Каторги. И я уже себя зарекомендовал достойным этого сана в стране, которая никак не хуже любой другой… И сегодня, как и ранее, я не премину выполнить свой долг. Я располагаю доказательствами того, что этот мерзавец нас предал. Какой он заслуживает кары? Из всех перекошенных ртов, со всех синюшных от малокровия губ слетело свистящее, как змеиное шипение, слово: — Смерти! — Если кто-то придерживается другого мнения, пусть поднимет руку! Ни одна рука не поднялась в защиту несчастного, который, позеленев от ужаса, клацал зубами, насколько ему позволял засунутый в рот кляп, и дрожал всем телом, истекая холодным потом. — Ты приговорен к смерти, и ты умрешь, — молвил человек, только что кичившийся, как почетным титулом, странной и мрачной кличкой «Король Каторги». — Дай я его порешу! — вызвался Педро-Круман, вздымая кулачищи. — Нет. Я был судьей и сам буду палачом. Произнеся эти слова, юноша вскочил на ноги, подошел к деревянному дверному косяку и, без видимых усилий, простым нажатием пальца отодвинул и повернул его вокругсобственной оси. Обнаружилась полость, так ловко закамуфлированная, что ее не приметил бы и самый острый глаз. Король Каторги извлек из тайника громадный, не менее тридцати сантиметров длиной, острый, как кинжал, и блестящий, как золото, медный гвоздь. — Это, — сказал он тихо, — наследство одного из моих предшественников, Луша. Гвоздь снят с покойной «Форели», этой старой калоши, на которой так мучили нашего брата. Круман, действуй! — Слушаюсь! — отозвался негр, яростно сверкая глазами. Он разложил приговоренного предателя на плиточном полу и замер в ожидании. Король Каторги взял в одну руку огромный гвоздь, в другую — грубый, тяжеленный деревянный башмак сабо — обувь, которую тюремное начальство выдавало каторжникам. Путы удерживали жертву, руки гиганта сжимали его, не давая пошевелиться. Бедняга зажмурился и, несмотря на кляп, завопил, почувствовав, как острие гвоздя уперлось в его висок. Король Каторги ударил сабо, и гвоздь, проломив височную кость, с сухим хрустом вошел в череп. Человек изогнулся в страшной судороге и задергался в предсмертной конвульсии. Король Каторги ударил еще несколько раз. Жертва, вытянувшись, больше не шелохнулась. Гвоздь пронзил череп, словно тыкву, и острие вышло из второго виска. Еще удар — и гвоздь продвинулся еще дальше, сантиметров на пятнадцать. — Внимание! — бросил палач-садист. — Снаружи все спокойно? — Никто и не заметил! — доложили каторжники. — Отлично! Король Каторги достал из тайника толстый ключ от одной из дверей барака, бесшумно открыл массивный и сложный замок и окликнул Крумана: — Сгреби-ка эту падаль и следуй за мной. Ушли они недалеко. Шагах в пяти-шести от западной стены тюрьмы, выходящей прямо на караулку, высился столб, опора для строящегося ангара. В столбе была просверлена дырочка, так плотно заткнутая глубоко утопленным деревянным штифтом, что он был почти незаметен глазу. Король Каторги нащупал колышек рукой, вытащил затычку и, приподняв с помощью Крумана труп, всунул в открывшуюся дыру острие медного гвоздя. В результате этих действий убитый остался висеть на столбе, удерживаемый медным стержнем, пронзившем его голову. Он словно бы стоял, вот только ноги на полметра не доставали земли. На окрашенном в серую краску столбе Король Каторги начертал кусочком угля: «Смерть предателям!» Городские башенные часы пробили полночь. Завершив варварскую расправу, Король Каторги, вместо того чтобы вернуться в спальню, при втором ударе курантов ринулся к тюремной стене. Из-за стены послышалось тихое птичье пенье — словно щебетала гвианская иволга. Король Каторги откликнулся, имитируя скрежет чешуек гремучей змеи в момент нападения. И тотчас же пакет, утяжеленный привязанным к нему камнем, упал к ногам убийцы. Схватив его, Король в несколько прыжков достиг спального помещения. Все вышеописанное произошло так быстро, что ни караульные, ни надзиратели ничего не успели увидеть, услышать или заподозрить. Заключенный хладнокровно закрыл дверь, опустил в надежный тайник ключ и вошел в круг света, отбрасываемый фонарем на потолке. Он спокойно вскрыл пакет и вынул оттуда свежий номер «Советчика Гвианы», газетенки, кстати сказать, вполне безобидной, которой в народе присвоили кличку «соленая треска». В газете этой, безусловно, содержались какие-то важные сведения, потому что, читая ее, Король Каторги, казалось, ликовал. Кроме того, он извлек из пакета список пассажиров пакетбота, пришедшего из Франции. И, читая его, вдруг подскочил. — Эге-ге! — воскликнул он, не веря глазам своим. — Они здесь?! Решительно дьявол, мой дорогой покровитель, за меня! Ладно, тут-то уж мы посмеемся!ГЛАВА 5
Кайенна, столица Французской Гвианы, расположенная на 4°56′ северной широты и 54°38′ западной долготы[101], являла собой кокетливый городок с населением десять тысяч жителей. Ее улицы, всегда опрятные, просторные и прямые, обрывались чаще всего на правом повороте. Домики — не только красивые, но отмеченные еще и хорошим вкусом, — были построены из дерева и, как мы отмечали выше, были выдержаны в эльзасском[102] стиле. Объяснялось это тем, что именно эльзасский гарнизон был первым, удерживавшим эти земли в колониальной зависимости, и первые постройки, возведенные солдатами, напоминали конечно же архитектуру их родины. С тех времен так и пошло — жители Кайенны придерживались заданного стиля, не без основания считая, что он того стоит. Опоры, столбы, балки, брусья, стены, потолки — все было вытесано из чудесного дерева, произрастающего в экваториальных областях и вызывающего в Европе такой восторг, что знатоки не жалеют сумасшедших денег на покупку вещей, из него изготовленных. И впрямь, в здешних местах не в диковинку дома, построенные из палисандра, красного или розового дерева, эбена, кампеша, гваякового дерева и возведенные, ясное дело, солидно, основательно, массивно. Традиция эта зиждется на том, что в здешних краях нет тесаного камня для строительства, и только у богатеев хватает фантазии, а главное, средств, чтобы вызывать из Соединенных Штатов корабли, груженные тесаным камнем, дабы воздвигнуть себе дом «не хуже, чем в Париже». В таком доме даже окна — застекленные… В нем задыхаются от жары, но, однако, имеется возможность и ночью и днем держать окна открытыми… Кайенна — настоящий рассадник сплетен, все знакомы друг с другом и знают друг о друге все. Постороннего сразу же допросят, осудят, взвесят, расчленят. Он не сможет ни скрыть, ни спрятать ни одной подробности своей жизни… Любопытствующие осведомятся о состоянии твоих денежных дел, обсудят твои достоинства и недостатки — словом, все. В те времена никому не удавалось появиться незамеченным в этом городке, прозрачном, как друза хрусталя. А с тех пор, как на Спорной территории были обнаружены богатые золотые россыпи, сюда хлынул поток людей из Бразилии, Венесуэлы, из Британской и Нидерландской Гвианы, Мексики и даже Европы. Большинство подались разыскивать копи и золотоносные жилы, но регулярно возвращались в Кайенну, дабы запастись продовольствием и хоть немного поразвлечься. А когда между Контесте и Кайенной организовали морское сообщение, вновь и вновь в Кайенну стали наезжать люди, высаживавшиеся со шхун под местным названием «тапуи». Канули безвозвратно прежние спокойные времена. Неизвестно откуда взялись довольно подозрительные людишки, которых, впрочем, никто подробно и не расспрашивал, кто они и откуда. А не расспрашивали оттого, что карманы у пришельцев были полны денег, да еще в придачу и мешочков с золотым песком. И замашки у них были под стать миллионерам — тратили бездумно, как разбогатевшие пираты, не горевали, если их кто ощиплет в картежной игре, а в конечном итоге, все они служили для обогащения местной торговли. Попадались даже ловкачи, пытавшиеся открыть себе двери в высшее общество, пробиться если и не к чиновникам, то в круг богатых негоциантов, так привечаемых в колониях и представляющих здесь могущественную финансовую аристократию. Однако же следует воздать должное аборигенам[103] Кайенны — это люди весьма порядочные, трудолюбивые, обходительные и очень гостеприимные. Вот почему их так часто обманывают всякого рода проходимцы, а иногда еще и хуже, потому что они, будучи людьми доверчивыми и законопослушными, не могут оттолкнуть иностранца, протягивающего им руку дружбы.Сегодня в Кайенне — праздник. Принимает губернатор, его гостиные широко открыты перед всеми жителями, владеющими хоть самым маленьким клочком земли. Сегодня отношения между властями и коренным населением не только смягчились — они стали демократичнее и куда сердечней. Канули в прошлое времена, когда на балы и приемы допускались лишь члены колониальной администрации, которые в течение многих лет так надоели друг другу, что открыто зевали во время официальных приемов. Пришла пора, когда доминирует гражданский элемент, а вздорные и чопорные ханжи, прибывшие из метрополии, благостно соседствуют с искренне любезными и доброжелательными грациозными креолками. Черные платья касаются подолом армейских мундиров и — событие редкостное, а может быть, и единственное в своем роде, — публика искренне веселится на этом таком разношерстном сборище, причем местный колорит придает всему какую-то дьявольскую изюминку. В этот день бал по-настоящему разгулялся к девяти часам вечера. Из настежь открытых окон губернаторского дворца лилась такая громкая музыка, что ее хорошо было слышно на площади. Кадрили, вальсы и польки, несмотря на жару, непрестанно сменяли друг друга, за карточными столами происходили настоящие баталии, а влюбленные парочки уединялись в причудливо пышных садах — образцах тропической флоры. Среди танцующих была одна пара, отличавшаяся изысканным видом от всей прочей компании, но плясала она на манер негров, этих прославленных гимнастов, для которых хореография подобна прыжкам в огонь или в воду. Кадриль закончилась. Молодой человек освежился шампанским, а его спутница выудила позолоченной серебряной ложечкой из своего бокала содержимое, состоящее из тропических фруктов, ароматных и сочных… Именитые гости, чиновники колониальной администрации, офицеры почтительно приветствовали юную даму, перекидывались двумя-тремя приветливыми словами с ее мужем и шли дальше, в то время как им на смену тотчас же появлялись другие лица, выказывавшие столь же сердечные чувства. Молодая женщина была всем этим почетом немного ошеломлена. Она понимала, что ей свидетельствуют свою симпатию, что ее знают, хотя сама она не знала ни единой живой души из собравшегося общества. — Дорого́й, — наконец обратилась она к мужу, — я ничего в толк не могу взять. Юноша в ответ разразился хохотом и мимолетно пожал несколько протянутых к нему рук. — Но это просто какая-то фантасмагория! Мы всего два дня назад сошли на берег с «Сальвадора». За все это время на нас не обратил внимания никто, кроме бродячих животных… И вдруг сегодня нас приветствуют как старых знакомых и отпускают всяческие нежности. Создается впечатление, что мы, находясь в восемнадцати сотнях лье от родного дома, обрели здесь свою семью. — Действительно, семью, дорогая Берта. Ты помнишь дом, украшенный большим белым флагом с красными полосами по краям и тремя большими красными точками, расположенными треугольником по центру полотнища? — Помню, дорогой. Мы вошли туда безо всяких церемоний. — Ну так вот, это знамя масонов. А дом — место их собраний, что-то вроде часовни. А к часовне примыкает маленькое кафе, где подают превосходные прохладительные напитки, в которых мы так нуждались. — Разумеется. Но я не поняла тех странных знаков и загадочных слов, которыми ты обменялся с хозяином кофейни… — Этот славный парень, обслуживавший нас, держит кафе масонской ложи. Поздоровавшись со мной, он признал во мне брата. Благодаря моей принадлежности к франкмасонам мы тотчас же получили жилье с двумя вышколенными слугами, превосходный стол, экипаж и лошадь для прогулок, а также доброжелательное окружение, состоящее из гостеприимных людей, встретивших нас как старых знакомых, и, наконец, по той же причине нам достали приглашение на бал к губернатору, где мы так веселимся, точно с ума посходили… — Да, совершенно верно. Все это чудесно, просто феерия какая-то! — Над масонством часто насмехаются, говорят о нем разный вздор, но ты теперь видишь, что в нем есть и приятная сторона! — Я потрясена, я в восторге. Мне, право, даже жаль, что мы должны будем уехать отсюда через три дня. — Если мы пропустим этот рейс, то застрянем здесь на целый месяц. — Нет, целый месяц — это слишком долго. — Конечно. А если завтра побываем в каторжной тюрьме, то можно будет сказать, что мы осмотрели все местные достопримечательности. Пока они беседовали, им навстречу попался молодой человек, одетый с претензией, но еще и с отменно плохим вкусом. А так как фрак галунами не обошьешь, юноша компенсировал это тем, что увешал себя всевозможными золотыми украшениями и бриллиантами. На пластроне[104], у него сверкали три солитера[105] величиной с пробку от графина. Однако он вовсе не походил на деревенщину или увальня, скорее наоборот — совсем юный, ладно скроенный, темно-оливковым цветом лица он напоминал мулата, густые вьющиеся волосы были коротко подстрижены, короткая черная как смоль бородка курчавилась. Глаза прятались за стеклами вычурного золотого лорнета, висевшего не на шнурке, а на золотой цепи, одного из тех претенциозных лорнетов, которые скудоумные буржуа водружают себе на нос по большим праздникам. Молодая женщина сразу же обратила на это внимание и шепнула мужу: — Погляди только на этого господинчика — он демонстрирует свой воскресный лорнет. — Если он без ума от побрякушек, — подхватил супруг, — почему бы ему не вдеть в уши серьги, а в нос — кольцо?.. Они рассмеялись беззлобно, но с едкой иронией. Внезапно женщина тихо вскрикнула и крепче прижалась к своему спутнику. — Что с тобой, дорогая? — спросил тот с такой тревогой, которую могут испытывать лишь очень любящие люди. — Жорж, друг мой!.. Этот гротескный тип, обвешанный бижутерией… Он только что пристально посмотрел на меня… Посмотрел прямо, не воспользовавшись лорнетом… И мне почудилось… — Что почудилось?.. Да не волнуйся ты так, дорогая!.. — Тебе не кажется, что он как две капли воды похож на того злодея, что был нашим злым гением в Италии?.. — Так называемый виконт де Шамбое?.. — Да. Только у этого более темный цвет кожи. Он мулат. Говорю тебе, поразительное сходство! — Я не заметил. Но мы можем подойти ближе и внимательней рассмотреть его. Они направились в бальную залу, но напрасно прохаживались по ней — незнакомец испарился. Супруги побывали в комнатах, где шла картежная игра, прогулялись по саду и вернулись в гостиную. Загадочного незнакомца нигде не было. Раздосадованные тем, что не могут удовлетворить свое любопытство, молодые люди продолжили поиски. Но они не увенчались успехом — любитель украшений ушел по-английски, не прощаясь. Он только обменялся рукопожатием с несколькими людьми и, закурив сигару, пересек Правительственную площадь и вышел на Портовую улицу, идя медленно, тем небрежным шагом, который европейцы называют колониальной походкой. Казалось, он наслаждался прекрасной тропической ночью, дуновением прилетевшего с моря ветерка, тучами светляков, блистающих в темном небе. Незнакомец достиг Рыночной площади и притаился возле ствола громадного, давно высохшего дерева, на чьих безлистых ветвях выделялись, как чернильные пятна, сотни южноамериканских ястребов. От ствола отделилась едва различимая мужская фигура в черной одежде. Незнакомец шепотом обменялся несколькими словами с поджидавшим его человеком и, соблюдая крайнюю осторожность, направился к лавке мадемуазель Журдэн. Подойдя к двери, он огляделся и дважды кашлянул. Дверь бесшумно отворилась, колокольчик не звякнул. Тут же, по пятам за ним, подоспел и человек, прятавшийся под сухим деревом на Рыночной площади. Возвращавшийся с губернаторского бала мигом проскользнул в дверь магазина, второй же, с сигарой в зубах, стал небрежной походкой прогуливаться возле дома. Все произошло так быстро, что даже самый внимательный наблюдатель не заподозрил бы, что кто-то в час ночи проник к неприступной модистке, известной своей добродетелью. Гость пробыл у мадемуазель Журдэн довольно долго, затем она проводила его до самого порога и, повиснув у мужчины на шее, наградила столь страстным поцелуем, что, казалось, — не в силах от него оторваться. — Бери с меня пример, дорогая, попробуй покориться судьбе. — Ох, меня убивает эта ужасная жизнь!.. Когда я тебя увижу снова, любовь моя? — Дней через восемь, не раньше. В любом случае тебя предупредят. — А там, у губернатора, никто не заподозрил?.. — Никто и ничего… До свидания, любимая… — А когда назначен окончательный отъезд? Когда мы наконец-то покинем эту проклятую страну? — Тсс… Скоро. Таинственная пара обменялась последним поцелуем. И мужчина скрылся, ступая бесшумным и небрежным шагом. Единственная разница, что на нем не было больше ни фрака, ни помпезных драгоценностей. Он был одет в темно-серое платье и сливался с темнотой. Уверенно пройдя из конца в конец улицу Траверсьер и миновав кладбище, со всех сторон окруженное густыми зарослями бамбука, он свернул налево на бульвар Жюбелен, добрался до предместья Сен-Кентен и, повернув направо, обошел рощицу при казарме, ее тихие и неподвижные огромные деревья. С того момента, как незнакомец вышел из магазина, он больше никого не встретил. Единственный, кто его неуклонно сопровождал на расстоянии двухсот метров, был мужчина, следовавший за ним от Рыночной площади. Добравшись до каторжной тюрьмы, незнакомец вытащил из-под одежды свернутую веревку со стальным крюком на одном конце. С чрезвычайной ловкостью он забросил ее так, что крючок зацепился за стену. Две первых попытки взобраться оказались бесплодными, зато третья удалась: веревка висела отвесно и даже человек средней силы мог проникнуть в мрачное обиталище узников. Незнакомец медленно влез, а его спутник стоял у подножия стены, как бы охраняя его. Достигнув верхушки стены, мужчина уселся на ней верхом, перекинул веревку внутрь и тихо, как будто выдохнул, бросил товарищу: — Завтра… В полночь… Как обычно. И исчез во внутреннем дворе тюрьмы.
ГЛАВА 6
На следующий день после бала у губернатора молодые супруги посетили каторжную исправительную тюрьму. Было воскресенье. Туристам представился случай увидеть заключенных в самой тюрьме — в выходной день их использовали только на внутренних работах. Директор тюремной администрации любезно предоставил в их распоряжение экипаж и старшего администратора. Вот еще одно проявление масонской солидарности, поскольку за границей членство в масонской ложе приносит самые приятные неожиданности и связи. Когда они проезжали мимо церкви, молодая женщина обрадовалась, увидев одетых в белое, как невесты или девушки, принимающие первое причастие, негритянок, которые важно шествовали, босые, но в белых «мадрасах» на головах, с четками в руках. Прибыв в исправительную тюрьму, супруги уже на пропускном пункте, где размещалась охрана, пришли в восторг при виде огромного стола из цельного розового дерева прекрасной работы. Затем осмотрели хозяйственные постройки, бараки, сияющие той немного преувеличенной стерильной чистотой, которой отличаются подобного рода здания, — хлебопекарню, прачечную, магазины, мастерские, где в своих неизменных ужасных робах трудились каторжники-ветераны. Остальные же, относящиеся к третьей категории, использовавшиеся на общих работах вне стен тюрьмы, в воскресенье отдыхали и свободно прохаживались по внутреннему двору. Они играли, болтали, прогуливались, наслаждаясь редкими минутами дорого купленного отдыха. Ведь жизнь этих людей действительно страшно тяжела. Надзиратель — военный, привыкший ко всем здешним мерзостям, спокойно пояснял посетителям: — Да, господа, этим и впрямь приходится несладко… Что там говорить, они трудятся совсем не так, как те бездельники и симулянты, что окопались при хозяйственном дворе — всякие там цирюльники, портные, подмастерья булочников, обжигальщики кирпича и прочая шваль, извините за выражение. — А не лучше ли просто-напросто на многое закрывать глаза? — Э-э, нет. На своем участке попустительствовать нельзя, они на голову сядут… — Но можно же урезонить их, убедить, действовать лаской и терпением… И не без твердости, разумеется. — Уговаривать, урезонивать… Все это прекрасно в теории… Но годится лишь применительно к тем заключенным, которые сидят за преступления по страсти. Что же касается других, в первую очередь матерых бандитов, то им хоть кол на голове теши. Эти испорчены до мозга костей. Наша роль — укротить хищника, выдрессировать его. Мы ни на секунду не можем спустить глаз со зверя. Стоит зазеваться, проявить малейшую слабость, мы пропали. Особенно в первое время, пока бандит еще не остыл от совершенного преступления, пока в нем свежи впечатления от ареста, суда, приговора, он особенно опасен. Вот недавно бесследно исчез один из наших товарищей… И никто не знает, что с ним стало… — Боже, какой ужас! — Молодую женщину передернуло. — И даже больший, чем вы воображаете, мадам. А ведь скорее всего этот немолодой уже отец семейства умер страшной смертью… Предполагают, что заключенные скопом внезапно набросились на него так, что он и оружия выхватить не успел, убили, разрезали на мелкие кусочки и во время отлива бросили в прибрежный ил на съедение крабам. — Боже милостивый, да это же кошмар! — И вот что служит подтверждением подобной догадки: в полосе прилива были обнаружены кусочки свежих человеческих костей. Но, — холодно закончил надзиратель, — это наше личное дело. Нанимаясь охранниками, мы хорошо представляем себе, что нас ожидает, и понимаем, что служба здесь — не мед. — И тем не менее, может же очутиться в лагере и человек невинный… — Редко, месье, крайне редко. Настолько редко, что можно сказать — такого не бывает никогда. — Однако случаются же судебные ошибки… — Не отрицаю. — И несчастные, которые протестуют, доказывая, что они не виновны… — Протесты ничего не значат. Их послушать, так всех надо представить к правительственной награде! И в то же время есть здесь один… — Ну вот видите! — Человек, наделенный необычайной физической силой. Что касается дисциплины, здесь его обвинить не в чем. Неплохой парень, работящий. Никогда тебе слова плохого не скажет, не пререкается, не жалуется. Но у него прямо-таки маниакальная страсть к побегу. — Не вижу в том большого зла. — Вы упускаете из виду то, что мы за них отвечаем. И ответственность на нас лежит огромная. Ежели что, нас временно отстраняют от должности, могут разжаловать в рядовые, даже посадить в тюрьму… Так вот, этот тип, о котором идет речь, клянется и божится, что он невиновен, и заявляет, что все равно убежит, пусть даже погибнет во время побега. — И он уже пробовал? — Дважды! Его схватили, и суд удвоил ему срок наказания. Это за первый побег. — Бедняга! — Во второй раз его тоже схватили. Но он перед тем двенадцать часов просидел, закопавшись в тину… Тут-то ему уже дали два года в двойных кандалах. — Прошу вас, объясните мне, в чем состоит это наказание? — Двойные кандалы — это железная цепь из десяти звеньев. Она весит два килограмма восемьсот тридцать граммов, ее длина — метр тридцать сантиметров. Она закреплена у заключенного на щиколотке, он волочит ее повсюду за собою. — О, что за страшная пытка! — воскликнула юная дама, и на лице ее выразилось отвращение. — Да, это очень мучительно. Особенно если учесть, что железный браслет натирает ногу, под ним образуется рана, а уж когда рана воспаляется, то… — Где находится этот человек? — спросил юноша. — В лазарете. Он болен. — Можем ли мы его навестить? — Разумеется, милости просим. — Не будете ли вы так любезны препроводить нас к нему? — К вашим услугам. А не желаете ли рассмотреть приговоренных поближе? Из-за некоторых в газетах поднималась настоящая шумиха. Могу вам сообщить их имена и фамилии, хотя здесь они фигурируют лишь под номерами. — Благодарю вас, — вмешалась женщина. — Но они внушают мне страх… Кое-кто из них на нас так поглядывает… И впрямь, за те четверть часа, в течение которых длилась их беседа, каторжники приблизились к посетителям и, став в кружок, пожирали женщину лихорадочно горевшими глазами. Взгляд одного из них был действительно нестерпим — огненный взгляд Педро-Крумана, негра-гиганта, одержимого бычьей страстью. Его толстый и короткий квадратной формы нос подергивался, ноздри раздувались, со свистом выпуская воздух, чудовищная грудь спазматически вздымалась, как бока жеребца-производителя в период спаривания. Эбеновое лицо напоминало страшную маску и было перекошено зверским оскалом животной похоти. — Ох, красивая женщина! — глухо рычал он сквозь подпиленные заостренные зубы, на толстых мясистых губах выступила беловатая пена. — Что, понравилась? А она и впрямь то, что надо! — цинично подзадоривал его молодой человек, которого заключенные почтили титулом Короля Каторги. — Ах, до чего же хороша! До чего же красива!.. Я хочу ее!.. — Ну что ж, у тебя губа не дура… Я отдам ее тебе, когда придет подходящее время. — Да, да, ты можешь! Ведь ты же Король! — звериным рыком откликнулся негр. — У меня к этим визитерам свой счет. Ну да ты сам увидишь… — И я получу белую женщину?! — Получишь. В это время охранник вел посетителей в лазарет, рассказывая им о страшных событиях, происшедших два дня назад. — Да, месье, гвоздь длиною почти в целый фут! Им пробили череп… И подвесили на столбе, зацепив за этот стержень… И углем написали всего два слова: «Смерть предателям!» — О-о, — застонала женщина, — здесь же ад! Поедем прочь отсюда, меня все это пугает!.. — Не бойтесь, мадам. Мы их хорошо приструнили, сейчас они не опасны. — Но они могут вырваться из-под стражи… — Совершить побег очень трудно. А после принятых нами мер он, почитайте, и вовсе невозможен. Посетители пересекли внутренний двор исправительной тюрьмы и подошли к просторному бараку, через широкие окна которого виднелись больничные койки, забранные москитными сетками. Монахиня ордена святого Павла Шартрского, бледная от малокровия, но все же смиренная и самоотверженная, переходила от койки к койке, тут отирая пот со лба, там смачивая долькой апельсина потрескавшиеся от жара губы, находя для каждого слово утешения и надежды, усмиряя нежно, по-женски, крики злобы и стоны боли. Среди больных были и африканцы-идолопоклонники, прижимавшие к груди бесполезные амулеты, и арабы, извергавшие грубую ругань на своем гортанном наречии, и несколько аннамитов с их загадочными, женственными лицами гермафродитов, и представители белой расы, на чьих осунувшихся лицах читалась порой холодная решимость и ненависть. Они тоже провожали посетителей взглядами, в которых светились ярость, любопытство и изумление при виде этой изящной, грациозной молодой женщины, такой красивой на фоне окружающего ее уродства. В самом конце барака, на предпоследней койке, сидел, скрестив руки на груди, мужчина в расстегнутой на груди рубахе. Восковая бледность покрывала его лицо, он вперил в пришельцев взгляд, в котором можно было прочесть интерес, стыд, страдание… Словно какая-то непреодолимая сила заставила его поднять голову и глядеть прямо в лицо посетителям, не скрываясь под своей москитной сеткой. Несмотря на коротко, почти наголо остриженные волосы, отсутствие бороды, несмотря на предписываемое всем каторжанам единообразие, он резко отличался от прочих правильностью и благородством черт, всем обликом, носящим печать страдания, даже усиливавшего это благоприятное впечатление. Ни малейшего следа порока нельзя было увидеть на его энергичном лице. Молодой человек сразу же вызывал сочувствие. Казалось, обрушившееся на него несчастье громадно, и он все-таки не смирился с ним, а безнадежность положения только усиливает его стойкость. От жалости — один шаг до симпатии. И сколь бы неуместным ни представлялось такого рода чувство здесь, на каторге, именно симпатия пробуждалась в сердцах тех, кто знакомился с этим человеком, казавшимся добрым, энергичным, настойчивым, цельным, одним словом, незаурядным и порядочным. Так оно и бывает — первое впечатление никогда не обманывает. Молодой посетитель ничуть не удивился, когда надзиратель, с долей бессознательного почтения в голосе, провозгласил: — Вот этот заключенный утверждает, что он невиновен. Юная чета приблизилась к постели больного. Тот не выказывал ни страха, ни недовольства. — Ну как вы себя чувствуете, номер сто двадцать шесть? — с нотками искреннего интереса в голосе спросил надзиратель. — Спасибо, начальник, немного лучше, — глухо ответил каторжник. Его голос был несколько странным — слова вылетали отрывисто, как у старых служак, привыкших отдавать команды. — Ну что ж, тем лучше, — продолжал тюремщик. — Хотите, я дам вам хороший совет? — Говорите, начальник, все ваши советы я приму с удовольствием и благодарностью, — произнес заключенный, пристально глядя на посетителя, который, в свою очередь, не мог оторвать от него глаз. — Здесь к вам неплохо относятся. Потому что вы славный парень… Дайте честное слово, что не будете больше убегать. И с вас сразу же снимут двойные кандалы. При этих словах, казалось бы, неподобающих и неуместных на каторге, где не ценятся никакая клятва, никакое ручательство, при этих словах, свидетельствовавших о небывалом уважении к узнику, кровь бросилась в голову бедняге, но румянец тотчас же сменился мертвенной бледностью. — Вы очень добры ко мне, действительно добры… Благодарю вас. Но обещать подобное… Нет, я не смогу выдержать. Никогда, никогда не смогу… Он произнес последние слова очень напряженно, но чувство собственного достоинства не изменило ему ни на миг, а голос и выражение лица свидетельствовали о том, что отвечавший — человек свободный, хотя, возможно, на каторге ему суждено погибнуть. Молодой посетитель пришел в крайнее замешательство. Он пытался вспомнить имя, когда-то дорогое, уважаемое, почитаемое имя… И вдруг его осенило: — Леон!.. Леон Ришар!.. Ты ли это?! И узник закричал как раненый зверь, завыл, зарыдал и, ломая руки, воскликнул: — Бобино!.. Ты Бобино, Жорж де Мондье?! — Да, это я! — отвечал тот, утирая слезы. — Я тот, что был твоим другом… И есть… И всегда буду… — Бедняга, ты называешь себя другом каторжника… — Какое мне до этого дело, раз ты невиновен… — Так ты веришь мне… Спасибо. Но ты же ничего не знаешь… — Мне кое-что рассказали… Этот славный малый, надзиратель… В глубине души он верит в то, что ты невиновен… Потрясенный происходящим, караульный молчал, будто язык проглотил. Потрясенная молодая женщина с глазами, полными слез, подошла к заключенному и, протянув тонкую изящную ручку, произнесла нежным голоском, срывающимся от волнения: — Все слова и поступки моего супруга представляются мне не просто правильными, но — священными… Отныне я тоже считаю себя вашим другом. И я думаю — вы страдаете, будучи в отдалении от тех, кого любите… Вам выпала тяжкая доля… И это так несправедливо. — Как хорошо ты говоришь, моя милая жена! — воскликнул Жорж де Мондье. — Я ничего другого от тебя и не ожидал. Этот человек был моим другом, когда я, бедный типографский рабочий, трудом зарабатывал себе на хлеб. Он — честный человек, у него щедрое сердце. Все во мне кричит — он невиновен, он ничем не мог себя запятнать! В это время заключенный кончиками пальцев, растроганно и нежно, прикоснулся к руке молодой женщины. Тут нервный припадок потряс его мощное тело атлета, слезы ручьем полились из глаз. — Друзья мои, милые мои друзья, — не помня себя рыдал он. — Наконец-то я могу пролить слезы, душившие меня… С того проклятого дня… когда судьи, мерзавцы… признали, что я виновен… Вы протянули мне руку помощи… Слова привета, слетевшие с ваших уст, вернули меня к жизни… Да благословен будет случай, приведший вас ко мне! — Да, — раздумчиво подтвердил Жорж де Мондье, чью странную кличку «Бобино», надеюсь, не забыли читатели «Секрета Жермены», — да, случай странный… Мы с женой путешествуем уже полтора года после того, как совершили печальное паломничество к могиле моего отца, которого я при жизни не знал… Мы побывали в Индии, на островах Малезии[106], в Австралии, пересекли Тихий океан, посмотрели Соединенные Штаты, Мексику, Британскую Гвиану, и, уже вознамерившись вернуться во Францию, вдруг надумали заехать и сюда… Видишь ли, Леон, дружище, мы совсем не читали французских газет, следовавших за нами по пятам… и понятия не имели о том, в какую беду ты попал. — Да, Жорж, я попал в ужасную беду… Позволь мне задать тебе один вопрос. — Десять вопросов! Сто! Сколько угодно. — Ты пробудешь здесь еще какое-то время? — Мы собирались послезавтра отбыть на пакетботе… — Послезавтра? — переспросил в неописуемой тоске заключенный… — Но мы свободно располагаем собой и своим временем… и… Какого ты мнения, Берта? — Я думаю, раз ты решил прийти на помощь твоему другу… нашему другу. Значит, мы конечно же останемся здесь! — Вот именно! — Будьте благословенны, мадам, до конца дней своих за это благодеяние! Знайте, что вы имеете дело с человеком, способным испытывать признательность! Отныне вся жизнь моя, весь остаток моих сил — все это принадлежит вам. — Но послушай, Леон, ты вот только что спрашивал, когда мы уезжаем… — Я спрашивал потому, что ты можешь поднять в библиотеке подшивку газет… Узнать из них о моем несчастье… И тут ты все поймешь — и как пристрастны были судьи, и какой вес имел поклеп, возведенный на меня негодяем, оставшимся со своими миллионами безнаказанным… Я поведаю тебе всю подоплеку, всю подноготную этой истории, ты поймешь. — Да, пойму. И сделаю все возможное, чтобы облегчить твою участь… Попытаюсь добиться пересмотра дела. Я хочу всем объявить о твоей невиновности, и я это сделаю! — Жорж, дорогой мой! — Не благодари меня. Кроме чисто дружеской заинтересованности, это еще вопрос справедливости, порядочности, чести! Дай мне руку на прощание! Выздоравливай скорее. Не теряй надежды и положись на меня. До свидания! Ничего больше не слушая, не желая терять ни минуты, молодой человек подхватил супругу под руку и, обогнав охранника, вышел из госпиталя. — Месье, — обратился к нему охранник, добрый малый. — Послушайте мой совет. Никого не посвящайте в ваши планы. — Почему это? — Потому, — пробормотал он, понижая голос, — что вы можете восстановить против себя начальство тюрьмы… — Быть того не может! — Тем не менее это так… Оно не любит признавать ошибки, ему хотелось бы, чтобы его мнение всегда совпадало с мнением правосудия…ГЛАВА 7
Минуло два месяца с тех пор, как на сцене появился юный граф Жорж де Мондье, которого читатели «Секрета Жермены» сразу же вспомнили как Бобино. Дитя, найденное на ступеньках театра «Бобино». Малыша подобрали рабочие и воспитали его порядочным, трудолюбивым человеком, обучив ремеслу наборщика, делу не только почтенному и уважаемому, но и требующему развитого интеллекта и смекалки. Корпорация наборщиков всегда считалась элитной среди рабочих, а между ними попадалось много светлых голов. В свое время, набирая газету «Молодая республика», Бобино познакомился с семьей, на долю которой выпали немалые испытания — с мамашей Роллен, вдовствовавшей в течение многих лет, и тремя ее дочерьми: Жерменой, Бертой и младшей, Марией. В Жермену, необыкновенно красивую, но столь же необыкновенно строгих правил девушку, до безумия влюбился парижский гуляка, граф де Мондье. Исчерпав все средства — посулы, подкуп, обещания жениться и тому подобное, он силой увез бедняжку. В то же время матушка Роллен, став жертвой несчастного случая, умерла. Безутешные Берта и Мария остались одни-одинешеньки, а похищенная графом де Мондье Жермена безуспешно пыталась наложить на себя руки, чтобы прекратить страдания. Бобино, влюбленный в Берту, не в силах был, при всем своем желании, спасти Жермену. Он едва не погиб и лишь чудом вырвался от бандитов графа де Мондье, в частности от Бамбоша. Жермену спас русский князь Березов, влюбившийся в нее. Она разделила его чувство, и вскоре они поженились. Случилось так, что Жермена, во время своего краткого заточения в доме умалишенных, встретилась там с несчастной женщиной, с Марией-Анной Корник, по прозвищу Маркизетта, проведшей в этом доме скорби восемнадцать лет. Когда-то она была любовницей юного графа де Мондье, и в результате этой связи у них родился сын. Граф признал ребенка своим и ожидал только одного — когда Мария-Анна достигнет совершеннолетия, чтобы одновременно дать ей не только свое имя, но и состояние. Но отец его, старый граф де Мондье, и слышать не хотел о браке между сыном и дочерью одного из своих фермеров. Он отослал сына в кругосветное путешествие, приставив к нему Лорана Шалопена, сына одного из своих охотничих. Матушку Лорана, кстати сказать, истинную красотку, любвеобильный старикан когда-то соблазнил. Дети росли вместе. Кроме того, они были очень похожи, что заставляло окружающих утверждать, что Лоран Шалопен — незаконный старший брат Гастона де Мондье. Надо признать: Лоран обожал Марию-Анну и смертельно ненавидел Гастона, обвиняя его в том, что тот завладел его именем, положением в обществе и любимой женщиной. Опасаясь, как бы Лорану не пригрозили тюрьмой, молодая женщина никому не жаловалась на преследования любовника. Гастон и Лоран вместе уехали и провели в путешествиях два года. Лоран вернулся один и попытался, ввиду семейного сходства, выдать себя за Гастона. Мария-Анна разгадала подмену и, опознав сына охотничьего, обвинила его в убийстве. Лоран доказывал, что Гастон умер в лесах Бомбея от желтой лихорадки, а сам он решил занять место покойного исключительно из любви к Марии-Анне. Шалопен вызывал у молодой женщины глубочайшее отвращение и омерзение, зиждившееся еще и на подозрении, что он убил ее любимого. К несчастью, Мария-Анна, которой претили любовные объяснения Лорана, пригрозила, что обратится к прокурору. Испугавшись, он похитил ее ребенка, а мать упрятал в клинику для душевнобольных, предупредив о том, что ребенка беспощадно уничтожат, если она вздумает бежать. Таким образом, устранив опасного свидетеля, а также присвоив документы покойного, он завладел состоянием старого графа. Лоран жил на широкую ногу, прославился как один из самых неугомонных кутил и чуть ли не два десятилетия оставался модным прожигателем жизни. Для того чтобы поддерживать свой достаток на привычном уровне, он придумал ежегодные поездки в Италию, где, как заправский разбойник, занимался вооруженным грабежом на больших дорогах. Его промысел долго процветал, давая возможность поживиться и более мелкой сошке — бандитам, которых он держал в качестве своих подручных. К этой категории принадлежал и Бамбош, лжеграф был его первым наставником. Так бы оно дальше и шло, если бы негодяй, по-прежнему по уши влюбленный в Жермену, не только не прекратил ее преследовать, но и продолжал атаковать также князя Березова, Бобино и юных сестер Роллен — Берту и Марию. С энергией и смелостью, редко присущими женщине, Жермена, видя, что близким ее угрожает опасность, приняла решение разоблачить мерзавца. После целого ряда драматических приключений ей удалось выявить, что граф и бандит — одно и то же лицо. Она добыла доказательства гибели истинного графа де Мондье и установила, что человек, узурпировавший его права — Лоран Шалопен, — по всей вероятности, является и его убийцей. Одновременно, по счастливому стечению обстоятельств, обнаружилась та женщина, чьему попечению был вверен сын Марии-Анны Корник, и эта женщина рассказала, что оставила бедного малютку на ступенях театра «Бобино». Все обстоятельства совпадали — стало очевидно, что это тот самый подкидыш, которого подобрали и воспитали рабочие-типографы. Бобино не только нашел мать, но и обрел фамилию и вступил в права на принадлежащее ему наследство. Он женился на Берте Роллен, Жермена вышла замуж за князя Березова. Проведя счастливый и безоблачный медовый месяц, граф де Мондье решил осуществить мечту всей жизни — совершить кругосветное путешествие, доступное, увы, лишь богачам, при котором комфорт удваивает прелесть поездки, усиливает впечатление от увиденного, погружает душу в сладостную пьянящую негу, высвобождая ее из тенет всего будничного и обыденного. Мы уже узнали, как и при каких обстоятельствах молодожены по прихоти, внезапно пришедшей им в голову, очутились в одной из французских экваториальных колоний. Мы узнали также, как, по велению своего доброго и чуткого сердца, Бобино, рвавшийся домой, во Францию, решил прервать путешествие, чтобы прийти на выручку другу. Однако надо оговорить особо — друг этот был для него не просто приятелем, нет, их связывали и сердечная приязнь, и, главное, глубочайшее взаимное уважение, являющееся фундаментом истинной дружбы. Бобино готов был что угодно совершить для того, чтобы добиться правды по делу Леона, невинно осужденного на каторжные работы. А в невиновности друга он не сомневался, потому что верил тому на слово. Для тех, кто знал этого молодого человека, было очевидно: для достижения своей благородной цели он сделает все, что в его силах, не пожалеет ни времени, ни денег, а быть может, и жизни. Жена обожала его и целиком и полностью поддерживала. К тому же у нее была щедрая душа, она не торговалась, когда речь шла о любви или дружеских чувствах.Итак, молодые супруги первым делом поехали на корабль, чтобы сообщить о своем твердом намерении остаться в Кайенне — не объясняя, правда, его мотивации — капитану «Сальвадора». Капитан, знавший во всех мельчайших подробностях жизнь столицы Французской Гвианы, дал им добрый совет: поселиться в меблированных комнатах или даже снять отдельный домик. Что касается квартиры, то лучше всего выбрать роскошно обставленные апартаменты со всеми удобствами в том доме, где держит модный магазин мадемуазель Журдэн. Там им будет хорошо. Сама мадемуазель Журдэн приехала из Европы. Женщина она молодая, но безупречного поведения, репутация у нее выше всякой критики. Словом, это как раз то, что им было нужно. Бобино рассыпался в пылких благодарностях и, разумеется, согласился на предложение любезного офицера пообедать вместе и провести еще одну ночь на борту пакетбота — «Сальвадор» собирался отчалить только завтра до начала прилива. Затем граф де Мондье сел и написал письмо свояку и свояченице Березовым, дабы сообщить о том, что они с Бертой задержатся и ихвозвращение откладывается на неопределенный срок. На следующее утро супруги, приказав выгрузить на берег багаж и оставив его на таможне, первым делом отправились к мадемуазель Журдэн. Встретила их маленькая негритяночка, мелодичным голоском сообщившая, что госпожа завтракает. — Мамзеля, — доложила она хозяйке, — тута приходить белый господин и белый мадамка. Они сейчас ожидать в ваш дом. Модистка вышла из столовой, полагая, что явились какие-нибудь клиенты. При виде мадам де Мондье вопль ужаса застрял у нее в горле. Побелев как мел, она зашаталась и рухнула на пол, шепча: — Сестра княгини Березовой… Я погибла… Завидя ее, Берта в свою очередь отшатнулась так резко, как будто перед ней встала на хвост и приготовилась к удару одна из жутких ядовитых змей, обитающих в тропической зоне. Затем, чувствуя удушье, побледнев так, что казалось, она тоже сейчас упадет в обморок, Берта залепетала: — Фанни!.. Сообщница бандита, из-за которого мы все едва не погибли!.. О, несчастная! Откуда вы здесь? Как вы здесь оказались?! Фанни понемногу пришла в себя. Она вперила взгляд в пораженных этой встречей супругов, понимая, что при виде нее в них тотчас же проснулись жуткие воспоминания обо всех семейных горестях, и тихо, робко, но не без некоторого достоинства молвила: — Как оказалась?.. Уж если оказалась, то это значит — и он здесь… В этом позорном застенке, где все — безнадежность, ненависть, проклятие… — Бамбош?! Бамбош — здесь?! — вскричал граф и, хоть он был человек неробкого десятка, по спине у него пробежал холодок. — Я думал, он в Новой Каледонии!.. — Если б он был там, то и я была бы там же… Разве найдется хоть одна живая душа в мире, кроме меня, чтоб утешить его… пожалеть?.. Кто же, как не я, его приласкает?.. Знаю, знаю, что вы думаете… В ваших глазах он зверь, не человек… Еще бы, бандит, уголовник, заключенный… Но ведь он несчастен. Пусть он каторжник, пусть! Но как же мне его, бедного каторжника, не любить? Я люблю его, слышите вы!.. — Пойдем отсюда, пойдем же скорее, любимый! — заклинала Берта. Но лицо ее побледнело еще больше. У нее тоже подкосились ноги, и она упала в кресло. — Я внушаю вам ужас, не правда ли? — с горечью продолжала Фанни. — Невиданно, неслыханно — любить каторжника! Одного из тех, в кого здесь последний кули[107] считает себя вправе бросить камень… А мне… мне все равно! Разве любовь выбирает?.. Эта любовь — как расплавленный металл у меня в крови… Она меня иссушает… Прожигает всю душу до дна… Она привела меня в этот ад, чтобы я могла подстерегать взгляд, жест, ловить улыбку проходящего мимо в позорном одеянии арестанта… И я, не имея никакой надежды, упиваюсь этой любовью… Я живу ею… Живу в ожидании часа, когда она же меня и погубит… Потрясенные ее вдохновенной речью и горящим взглядом, совершенно преобразившим девушку, Жорж и Берта молча слушали, не находя в себе сил утешить ту, кто была в сговоре со злодеем, злым гением их семьи, но не в силах были и проклинать ее. Фанни по-своему истолковала их молчание. — А теперь, — в отчаянии проговорила она, — судьбе угодно, чтобы вы узнали мою тайну… Секрет, который я здесь уже полтора года так ревностно берегу. А ведь в этой тайне заключена вся радость жизни для меня, затворницы, отшельницы… И в ней же заключен и весь мой позор… Теперь я человек конченый… Кто я? Отщепенка, подстилка каторжника… — Мадемуазель, — с достоинством прервал ее излияния Бобино. — Человек, которого вы защищаете, жестоко обошелся с нами. Мы — жертвы, но не доносчики. Живите себе с Богом. Наша честь — порука неприкосновенности вашего секрета, он будет сохранен, даю вам честное слово. — Вы говорите правду, месье? — недоверчиво воскликнула девушка. — Мое слово свято, мадемуазель. И моя жена со своей стороны дает вам такое же обещание. Не правда ли, Берта? — Да, клянусь вам. Кроме того, вы были добры к нашему племяннику Жану, когда его держал взаперти похититель. — Бесценный крошка, я его просто обожала! — вскричала в исступленном порыве эта странная девушка. — Прощайте! Прощайте! Берте было все же не по себе, она не могла преодолеть страх при мысли, что Бамбош — совсем рядом, в какой-нибудь четверти мили отсюда… Фанни, почтительно кланяясь, провожала их до дверей, в ее бесчисленных «спасибо» сквозило искреннее чувство безграничной благодарности. А Берта, вцепившись в мужнин локоть, с трудом переставляла ноги — ее обуял непреодолимый страх, охватывающий человека при виде хищного зверя или рептилии. — Уедем, Жорж! Покинем эту проклятую страну. Можно подумать, нас специально преследуют, по пятам за нами гонятся!.. — Бамбоша больше нечего бояться, дорогая. Он теперь надежно изолирован и совершенно безопасен. — Все равно! Все равно мне страшно… — Но я ведь пообещал Леону спасти его… Сам-то он ничего сделать не может! В это время со стороны залива раздался громкий орудийный залп, за ним — второй. — Кроме того, уже поздно — это палит корабельная пушка, пакетбот отчалил, — добавил Бобино. — О Господи милостивый, что же с нами будет?! — Разве я не для того рядом, чтобы любить и защищать тебя? — Знаешь, каторжники внушают мне панический ужас… Этот Бамбош — он такой свирепый, такой хитрый… Ладно, хочешь я тебе что-то скажу?.. Только не записывай меня в сумасшедшие… — Говори, детка. — Молодой человек очень расстроился оттого, что жена пришла в такое нервное возбуждение. — Так вот, вчера на балу у губернатора тот тип, увешанный всякой мишурой, так похожий на господина де Шамбое… Это был Бамбош! — Да это чистейшее безумие! — Нет! Нет! Я вовсе не безумна! Я в здравом уме и твердой памяти. И страх мой — отнюдь не беспочвенный. Это был Бамбош! — Ну подумай сама — каторжник не может выйти за стены тюрьмы! Каждая секунда его жизни на протяжении всего срока заключения проходит под недреманным и бдительным взглядом охранника, с него глаз не спускают. — Нет, повторяю тебе еще раз: это был палач Жермены и убийца Марии. Это был Бамбош!
ГЛАВА 8
По дороге, ведущей от Сен-Лоран-дю-Марони до вершины Макурии, что как раз напротив Кайенны, под палящим солнцем, превращающим землю в пыль, обжигающим дыхание диким животным и убивающим человека, брели двое — мужчина и женщина. Оба они были молоды, но несли такую тяжелую кладь, что впору упасть от усталости. Однако продолжали во что бы то ни стало неуклонно двигаться вперед. А дорога мало того, что нелегкая, была еще и длинной… Шутка сказать — пройти двести километров, то есть пятьдесят лье, и это по Гвиане! Женщина была совсем юной, лет пятнадцати, мулатка необыкновенной красоты: копна вьющихся волос цвета воронова крыла, огромные глаза газели, ослепительно белые зубы и чуть смуглый, почти белый цвет лица. На голове она несла «пагару» — корзину, так искусно сплетенную из волокон арумы[108], что она не пропускала воду. Такие корзины имеются здесь у всех — в них кладут добычу, домашний скарб, запас продовольствия. Корзина у девушки казалась тяжелой, но мулатка была истинной дочерью своего народа — местные женщины выносливы и если уж падают, то только мертвыми. С огромной нежностью, смешанной с состраданием, она смотрела на своего спутника, приволакивавшего ногу и буквально истекавшего потом. Это был европеец, стройный, с правильными чертами лица, но бледность и впалые щеки указывали на то, что он отдал положенную дань адскому экваториальному климату. На спине мужчина нес два свернутых в трубку брезентовых гамака, привязанных за почерневшие лямки, в правой руке держал саблю, в левой — ствол пальмы ко́му, тонкий, но прочный, на который опирался, как на посох. Женщина была одета кокетливо и опрятно. Оранжевый шелковый мадрас гармонировал со смуглым цветом лица. На бронзовой шее вилось двадцать пять рядов бус. Цветная рубашка вздымалась на круглой и крепкой, как у античных статуй, груди. И наконец, бело-голубая камиса в косую полоску и что-то наподобие юбочки, откровенно подчеркивали совершенную пластику ее точеных бедер. С массивным серебряным браслетом на левом запястье и ярким цветком в смоляных кудрях, она воплощала неодолимо влекущую к себе красоту. Молодой человек, совершенно выдохшись, присел, вернее рухнул, выронив саблю и посох, у подножия гигантской симарубы, чью крону украшали разноцветные, похожие на огромные орхидеи цветы, а на стволе белел фарфоровый изолятор телеграфных проводов. С веселым щебетанием проносились стайки тропических птиц, а с ветки на ветку перескакивали, корча уморительные рожи, уистити[109]. Все представители фауны и флоры чувствовали себя в этом маленьком мирке вольготно, не боясь ни солнечных лучей, ни тлетворных испарений, ни малярии… Мулатка также держалась свободно и раскованно в этой раскаленной добела атмосфере. И лишь один европеец, насильственно перемещенный в этот край, час от часу слабел, и в полузабытьи ему казалось, что это вовсе не пот течет у него со лба, а струи дождя омывают лицо. Красавица креолка, встав перед ним на колени, бережно отерла платком мокрое лицо юноши. — Мы оставайся мало ходить. Я вылечай твой лихорадок. — Спасибо, голубка, — ответил путник, и ласка засветилась в его глазах. — Но я полагаю, лучшим лекарством от моей болезни будет отдых. — Мы отдыхай здесь? — Согласен, с удовольствием. — Я сам-сам привязай гамаки. — Да, если хочешь… Господи Боже мой! Ну не стыд ли — я разлегся, а ты одна трудишься, как пчелка, дитя мое… Наклонясь к нему, мулатка запечатлела на его губах пламенный поцелуй. — Раз я обожаю тебя и сейчас сильнее тебя, то разве не правильно, что я должна выполнять самую тяжелую работу? — спросила девушка на своем по-детски трогательном креольском наречии. — Я тоже тебя обожаю, дорогая Фиделия, — расчувствовался молодой человек. — Вот поэтому мне и хотелось бы щадить тебя. Всем она хороша, твоя страна, только жарковато бывает. Я вот про снег мечтаю, про льдинки в графине с водой. Красавица креолка сделала вид, что поняла его, и залилась вдруг заливистым и звонким смехом, органично слившимся с птичьим хором. — Да, дорогая, бывают такие льдинки… Ты ведь этого не знаешь, нет? — Не знаю… — Понимаешь, девочка, это когда вода из жидкой становится твердой, как камешек. Да еще и холодной. — Холодной? А что это такое? И вправду, как же ей рассказать о холоде, когда в этой раскаленной топке, где ни днем, ни ночью даже прохладой не повеет, где и зимой и летом все кипит, клокочет, испаряется?.. Молодой человек поднес руку к горячему лбу: — Вот сюда бы мне немного льда… Холодный бы компресс положить. Вмиг бы полегчало, унялась бы боль, от которой прямо череп раскалывается… — Поджидай маленький минутку, — прервала его девушка. — Я выну из твой голова удар солнца. Фиделия вынула из своей пагары флакон белого стекла. На две трети флакон был полон прозрачной жидкостью, по всей видимости водой. Крышкой служил кусочек тряпки, обмотанной по горлышку веревкой. На донышке лежало несколько кукурузных зернышек и кольцо белого металла, очевидно, серебряное. Девушка перевернула флакон и провела намокшей тряпочкой по лбу юноши, стараясь, чтобы пропитанная влагой ткань соприкоснулась с самыми острыми болевыми точками. — Здесь тебе всего больнее, правда, любовь моя? — спрашивала она. — Здесь, здесь. Да только не принесет мне твоя штуковина большой пользы… Вода-то при этой жаре — хоть белье в ней вываривай… Мулатка одарила его высокомерной улыбкой. — Белые всегда высмеивают то, чего не понимают. Ты немного подождать. Пять минут терпеливого ожидания истекли. И тут вдруг и впрямь произошел странный феномен — внутри флакона стало твориться нечто невиданное. Вода забурлила, да так, как будто она и в самом деле закипала, хотя температура самого флакона нисколько не повысилась. Появились пузырьки, водовороты, зернышки кукурузы завертелись, повинуясь взвихрению струй, как движутся брошенные в кипящий котел овощи. Веки юноши медленно опустились, он полузакрыл глаза, его только что еще сведенное гримасой боли лицо разгладилось, и по нему разлилось бесконечное блаженство. Боль мало-помалу отступала. Такую методику креолы применяют для исцеления самых разнообразных болезней, в частности солнечного удара. Вот это-то они и называют «вынуть из человека солнце». — Боже, как замечательно, — пробормотал больной. — Я такого и представить себе не мог… Мне кажется, я совсем выздоровел!.. Это потрясающе! Как ты добра, моя маленькая кудесница! До чего я тебе благодарен, и до чего же я тебя люблю! Девушка сияла и улыбалась. Она обнимала юношу нежно, но с какой-то нервозной страстностью. — О да, этот предмет — замечательная вещь! — Я чувствую себя прекрасно и даже не прочь чего-нибудь перекусить. Мне, кажется, вполне по силам заняться стряпней. — Нет, лежи спокойно, не шевелись. Стряпня — это мое дело. И, как всегда живая и проворная, невзирая ни на какой зной, она извлекла из пагары (где, казалось, хранятся вещи на все случаи жизни) две миски, сделанные из бутылочных тыкв, немного муки из маниоки крупного помола, цветом напоминающую сахар-сырец, кусок сушеной трески, завернутый в лист папайи, затем полбутылки топленого свиного сала, приобретшего под влиянием жары консистенцию растительного масла, и, наконец, маленькую медную сковородочку на деревянной ручке. Мулаточка сложила из веток маленький костерок, огородив его камнями, высекла с помощью кремня и огнива огонь, и вот уже на сковородке весело зашипело топленое свиное сало, а в нем, нарезанная тончайшими ломтиками, жарилась соленая треска. И пока под бдительным надзором мужчины происходила эта важнейшая операция, она вприпрыжку побежала к протекающему рядом ручью, наполнила водой одну из мисок и, понемногу добавляя в нее маниоку, замесила тесто, вид которого вряд ли возбудил бы аппетит у кого-либо из европейцев. Но мужчина наблюдал за ней любовно и бормотал: — Ну что за дивное создание!.. А добрая, а самоотверженная, а красивая, ну просто не то слово!.. Что бы со мной без нее было! Да давным-давно вся эта хищная живность, которой кишит сия любезная страна, уже б и косточки мои сглодала!.. Вот и обед готов. Мулаточка вылепила из теста шарики величиной с орех, разделила треску на две равные части, добавила немного красного перца и, с присущей ей детской веселостью, сообщила: — А вот уже кушать будем! — Да, милая моя Лия, мы сейчас засядем за трапезу, которую ты так проворно и ловко состряпала, пока я дрых как последняя скотина. Она расхохоталась, хотя и не поняла всей тонкости сказанного, и поднесла своему спутнику на красивом пальмовом листе шарики, съеденные им с удовольствием один за другим. Перекусив таким образом, они запили трапезу водой, и, пока креолочка мыла посуду и укладывала свои причиндалы в безразмерную пагару, молодой человек потягивал сигарету из настоящего табака — истинная роскошь в здешних местах. Было около пяти часов. Солнце все еще свирепствовало, хотя спустилось значительно ниже к горизонту. Через час оно внезапно исчезнет, будто его разом поглотит океан. Это моментальное исчезновение всегда удивляет и поражает не привыкших к таким резким перепадам европейцев. Как всегда неутомимая, Фиделия развернула гамаки, повесила их рядом, так что образовалось некое подобие двуспальной кровати, и приготовилась ко сну. Уже начали кричать ночные птицы, выпорхнув из своих таинственных укрытий, поднялись в воздух бабочки-пяденицы, а где-то вдали подняли гвалт обезьяны. Даже пахну́ло с моря ветерком, принеся хоть немного прохлады. Раздались первые трели гвианского соловья-апады, и вот внезапно солнце, как раскаленный болид[110], упало в океан. Юная креолка и ее спутник улеглись по своим гамакам и, держась за руки, сблизив головы, обменялись на сон грядущий несколькими словами любви. Сон сморил юношу посреди поцелуя. Испытывая к нему чувства и любовницы и матери, девушка поправила гамак, укрыла ему голову куском марли, чтобы не кусали комары, и долго еще бодрствовала, охраняя его сон. Неутомимой ручкой она покачивала гамак возлюбленного и всматривалась в ночную тьму, следя, чтобы на них не напала летучая мышь-вампир, чей укус бывает смертелен для ослабленных и малокровных европейцев[111], затем наконец и сама забылась сном. …Ее пробудил жалобный крик какой-то птицы, похожий на крик горлицы. Это кричал токо[112], возвещая рассвет. Когда проснулся и юноша, они улыбнулись друг другу, обнялись и долго целовались. — Вставай, друг мой, надо идти, пора. Еще пока свежо, а Кайенна неблизко. Пора отправляться в путь. — Знаю, милая, надо идти. Но я чувствую такую слабость, и, потом, нам так хорошо здесь… Отчаявшись убедить юношу своими доводами, мулаточка нежно обвила его руками и приподняла. — Вставай, любимый! Твой друг ждет тебя, а мы тут нежимся. — Черт подери, ты права, Лия. Ты напомнила мне о моем долге. Друг мой Леон, Леон Ришар, безвинно осужденный, нуждается в моей помощи, и мы обязаны дойти, чего бы это ни стоило. Как справедливо только что заметила Фиделия, путь из Сен-Лорана до Кайенны был неблизкий и нелегкий. Оттого что дорога считалась «колониальной», она не становилась лучше. Несмотря на обилие даровой рабочей силы в виде каторжников, состояние дороги было довольно плачевно. А ведь она являлась единственной сухопутной артерией, связывающей большой исправительный лагерь Сен-Лоран со столицей колонии и проходящей через Синнамару, Иракубо, Куру и Макурию. Но никого это не заботило — мало кто пользовался колониальной дорогой — чиновники предпочитали плыть морем, на сторожевом корабле, а золотодобытчиков перевозили на своих шхунах местные рыбаки. Дорога была перегорожена упавшими деревьями, не пригодна ни для каких видов колесного транспорта, что, собственно, не меняло дела — никакого транспорта у местных жителей не было, ни лошадей, ни мулов. Бедняки, бывшие не в состоянии заплатить за проезд даже владельцам местных лодчонок, или люди, имевшие свои причины избрать сухопутный способ передвижения, должны были приготовиться к тому, что им понадобится недельки две на то, чтобы преодолеть это расстояние. Как бы быстро ни шел человек, трудность состояла в том, что на дороге попадалось множество речушек, зачастую весьма широких и довольно глубоких, а в Мальманури так и вовсе не было переправы. Иногда на реках встречались туземные пироги, но чаще всего их доводилось переходить вброд, иногда — переплывать, если не было возможности дождаться отлива. Подобные препятствия особенно тяжелы для европейцев, ведь почти все они здесь страдают малярией, и путешествие оборачивается для них сущей пыткой. А юноша и его спутница не смахивали на простых путников, скорее на беглецов. На нем была одежда ссыльного, состоявшая из соломенной шляпы, синих робы и штанов, грубой полотняной рубахи и солдатских башмаков на шнуровке, то есть от одежды каторжника она отличалась разве что цветом. Собственно, разница между ссыльным и каторжником куда меньшая, чем принято считать. Ссыльные тоже живут в лагерных бараках, работают на лесоповале под бдительным надзором военных охранников. У них такой же распорядок, такой же рацион питания, такой же трибунал, что и на каторге. Из метрополии их привезли в таких же железных клетках по пятьдесят человек в каждой, что и приговоренных к каторге. Понятно, что немногие ссыльные могут претендовать на похвальную грамоту за примерное поведение. Однако правда и то, что ссылаемые на поселение очутились здесь за обычные подсудные правонарушения, подлежащие юрисдикции полиции нравов, в то время как каторжникам вынес приговор суд присяжных. А получается, что наказания за правонарушение и преступление приблизительно одинаковы, разве что в итоге одних одевают в серое платье, других — в синее. Видимо, такова воля органов правосудия. Оговорим, правда, что эти бедолаги, совершившие правонарушение, а не преступление, подразделяются на две категории: коллективные и индивидуальные ссыльные. Первые — точное подобие каторжан. Вторые имеют право жить вне лагеря и даже уклоняться от строгого выполнения принудительных работ, но при условии, что будут содержать себя сами из собственных средств. Последняя категория крайне малочисленна — из 1152 ссыльных не наберется и сотни привилегированных. Вот почему юноша в одежде ссыльного и его подруга, казалось, прятались или, во всяком случае, избегали населенных пунктов. По той же причине они обошли стороной Синнамару, поселок, в котором была жандармерия. Затем переплыли широкую реку, толкая перед собой плотики с пожитками. Так они шли день за днем, ночуя под открытым небом, по-нищенски питаясь из своих скудных запасов. Юношу все время трепала малярия, он страдал от все усиливающегося малокровия, слабея иногда до того, что чуть с ног не валился, но, невзирая ни на что, сохраняя свою истинно парижскую веселость и склонность к зубоскальству. Девушка, заботливая и мужественная, черпала силы в безграничной любви и жертвенной преданности ему. Когда ее спутник совсем выдыхался и, шатаясь, чуть не падал, она подставляла ему плечо, он на него опирался, и, несмотря на изрядную ношу на голове, юная креолка подбадривала возлюбленного то словом, то лаской, то поцелуем. И постоянно напоминала о том, кого они идут спасать. — Леон!.. Леон Ришар!.. Ему не на кого надеяться, кроме нас! И юноша, чувствуя новый прилив сил, ступал тверже и бормотал с нежностью в голосе: — Бедняга Леон!.. Бедняжка Мими!.. Как жестоко с вами расправились… Пока они не встретили никого подозрительного. В окрестностях Куру путешественники спрятались, выжидая, и им посчастливилось пересечь реку в пироге одного негра, родственника Фиделии. Этот славный парень пополнил их уже почти исчерпавшиеся запасы провианта, приютил на ночь и проводил до речки Макурия. В случайно встреченной лодке они переехали и эту реку, за которой начинался для них последний этап пути. Наши путники прошагали километров пятнадцать — шестнадцать и оказались в городке того же названия. Они знали: Кайенна, цель такого трудного и мучительного путешествия, где-то близко, совсем рядом. Юноша чувствовал в сердце необыкновенную отвагу, как будто ноги его не были сбиты в кровь, лицо и руки — искусаны москитами и распухли, как будто у него не звенело в ушах от приступов малярии, а голова не болела так, что, казалось, лопнет. Наконец путешественники дошли до самого конца дороги, и тут отчаянный крик удивления вырвался у юноши — перед ними был морской залив шириною не менее одного лье. — Вон Кайенна, — безмятежно пояснила его спутница, указывая на другой берег. — Громы небесные! Так Кайенна — остров?! А я об этом и не знал… Тогда, Боско, бедолага, все пропало, каюк… Сроду тебе не пересечь эту растреклятую полоску воды!..ГЛАВА 9
Действительно, Кайенна является островом, с одной стороны омываемым океаном, а с другой — отделенным от материка рекой. В том месте, куда вышел и невезучий Боско, и его прелестная подруга, перебраться на остров было особенно трудно и далеко не безопасно. Именно здесь река Кайенна, представляющая собой настоящий морской пролив, имела в ширину от пятнадцати до восемнадцати сотен метров. Вряд ли возможно было вплавь преодолеть такую водную преграду, учитывая, в каком состоянии находились путники, особенно мужчина, без риска погибнуть. На маленьком пляже, где была расположена верфь, совсем крошечная и примитивная, для мелкого ремонта кораблей, появляться они опасались. У них были весьма веские основания держаться в каком-нибудь укрытии — подозрительную парочку мог заметить смотритель маяка или семафорщики. Когда миновали первые приступы ярости и отчаяния, Боско начал размышлять и строить планы. И тут он заметил, что высокая трава прибрежной равнины заволновалась, что-то сухо завибрировало, звук был подобен тому, как если бы кто-то раздавил в кулаке сырое яйцо. — Это еще что такое? — спросил он, скорее удивленный, чем испуганный. — Это гремучая змея, — преспокойно ответила Фиделия. — В этой части равнины их уйма. — Только этого еще не хватало! — воскликнул Боско. — А я-то расселся, даже не проверил где. Если у этой твари такой сварливый характер, а я отдавил бы задом пару ее гремушек, она вполне могла бы в два счета послать меня туда, где одуванчики едят, начиная с корней. Тут Фиделия объяснила, что укус этой ядовитой змеи всегда смертелен, а здесь они кишмя кишат. Дневные часы, разморенные жарой, змеи проводят сплетясь друг с другом на мягких травах. Поэтому прежде чем сесть или пойти, надо побить траву веткой дерева. Подкрепляя теорию практикой, Фиделия, взяв палку, которую Боско использовал в качестве посоха, стала стегать траву вокруг себя. Зыбь прошла по стеблям, раздался треск — гремучие змеи, чью сиесту[113] нарушили, медленно расползались прочь… Эти пресмыкающие выходят на охоту только ночью, пользуясь относительной прохладой, разоряя устроенные на земле птичьи гнезда и жаля птенцов, еще не умеющих летать. Сами они не нападают на человека или на крупных млекопитающих, но, если наступишь на змею, берегись! Когда им кажется, что угрожает опасность, они защищаются с остервенением, жалят все, что их заденет или к ним прикоснется. — Ну и ну! — воскликнул Боско. — Ты хочешь сказать, что если мы сегодня заночуем здесь, в траве, то нас очень даже просто может укусить за щиколотку какая-нибудь тварь? Так они и провели дневные часы, раздумывая, что же делать дальше, колеблясь, не зная, на что решиться, боясь сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, могущий привести к катастрофическим последствиям. Однако они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя долго рассиживаться в этом Богом забытом месте — у них вскоре закончатся последние запасы провизии или они могут стать жертвой опасных животных, которых полно в здешней местности. Прячась за огромными прибрежными деревьями, Боско пристально осматривал окрестности. Увидел вдали, на пляжике, брошенные на песок корпуса шхун, заметил нескольких негров, рабочих с верфи, менявших доски обшивки и конопативших щели. Фиделия заявила, что спать они будут либо в какой-нибудь лодке, либо возле кокосовых пальм, где виднелся навес для лодок. А Боско раздумывал, нельзя ли снять шлюпку с одного из судов, находящихся в ремонте, но отказался от этой мысли — все лодки были сняты и отнесены на песок, спустить их на воду вдвоем с Фиделией они не смогли бы. С другой стороны, если бы их заметили за этим занятием, то, решив, что это кража, арестовали бы и строго наказали. Уж кто-кто, а Боско прекрасно знал, что представляет собой правосудие на континенте, и не питал никаких иллюзий насчет того, что в колонии оно хоть сколько-нибудь лучше. Убеждаться же в этом на собственной шкуре ему никак не хотелось. Надвигалась ночь, а тоска и безысходность только увеличивались. Положение их казалось безвыходным, как у потерпевших кораблекрушение. От пролива послышался шум прибоя, начинался прилив. Уже так стемнело, что с уверенностью можно было сказать: еще пять минут, и противоположный берег станет полностью невидим. Боско, внимательно оглядывавший побережье, вдруг испустил радостный возглас: он увидел, что волны прилива медленно несут какой-то обломок. Он указал на него Фиделии, которая здраво рассудила, что этот кусок дерева унесло, должно быть, с какой-нибудь судостроительной верфи. Вот он подплывает… ближе… ближе… морская волна подгоняет его… Вот он уже на расстоянии не больше десяти саженей![114] Боско, отличный пловец, бросился в воду и быстро поплыл брассом, настиг обломок и толкнул его к берегу. Это оказался гик[115], рей с концом в форме ухвата, крепившемся к нижней части бизань-мачты[116]. Длинный, толстый, массивный, он мог бы прекраснейшим образом послужить опорой двум путникам и их скромному багажу. Пригнав бревно и вытащив его на берег, Боско, с помощью своей подруги, привязал лямками гамака к рее пагару. Фиделия, чтобы одежда не сковывала движений, разоблачилась и осталась обнаженной в полном великолепии своей скульптурной красоты. Боско, вечный зубоскал, засмеялся и заявил: — Мое тело далеко не так совершенно, как твое. Поэтому его демонстрацию мы отложим на потом. Прикрепив одежду Фиделии вторым гамаком, они совместными усилиями столкнули рей в воду. Волны тотчас же подхватили их и понесли к противоположному берегу, в то время как они, ухватившись за рей, энергично работали ногами. Фиделия плавала как дорада[117] и ни в чем не уступала Боско, чувствовавшему себя в соленой воде подобно морской свинье[118]. Все было бы прекрасно, если бы не одна вещь, предвидеть которую они никак не могли. Все события происходили на экваторе, а тут случаются внезапные и яростные приливы, обладающие неслыханной разрушительной силой[119]. Налетая на Южноамериканский континент, они отрывают огромные куски берега, намывают песок на судовые фарватеры, выдирают с корнем деревья, все крушат и перемешивают. Громадная, мчащаяся со скоростью курьерского поезда волна обрушилась на Боско и его подругу. Они выдержали натиск, плотно прильнув к бревну, ходившему ходуном: оно ныряло, выныривало, крутилось на месте. — Вот уж волна так волна, недурна! — насмешливо заявил парижанин, когда душ окончился. — Ты в порядке, Лия? — Да, дорогой. — Держись, девочка, держись! Но из морских глубин примчался другой сине-зеленый, с пенным гребнем вал. Напружинив спину и крепко обняв бревно руками, Боско ожидал, пока через него не перекатится водяная гора. И этот удар путешественники перенесли довольно сносно — бревно вынырнуло и обоих пассажиров не смыло с него. «Все идет хорошо», — думал Боско, глядя на приближающиеся с противоположного берега огромные деревья, забрызганные водяной пылью и пеной. Громыхая как раскаты грома, подмывая и вырывая висящие в воздухе корни прибрежных деревьев-исполинов, изогнув страшный гребень, на пловцов обрушился третий вал. — Крепче, держись крепче, детка! — вопил Боско, но голос его потонул в ревущей стихии. Когда волна наконец с грохотом разбилась, рей могучим напором вышвырнуло из воды далеко на берег, где перемешались деревья, щепки, лианы и трава. Он упал на землю, покрытую тиной, и глубоко ушел в нее. На одном из его концов красовалась притороченная лямками гамака невредимая пагара. На месте был и второй гамак. Но ни Боско, ни девушки на бревне не было.Что стало с несчастными нашими героями, которых, казалось, беспощадный злой рок преследовал не уставая? Где же Боско, добросердечный, отзывчивый, искренний, неуклонно верный долгу дружбы, сохранивший веселость, несмотря на несправедливую кару, которую он так незаслуженно понес… Где же прекрасная мулатка — его возлюбленная, душой и телом преданная белому человеку и бывшая для него ангелом-утешителем в беспросветном аду, где, казалось, должна была угаснуть всякая надежда… Но любовь Фиделии[120] — вот меткое имя! — была сильнее смерти. В тот момент, когда волна разбилась о берег, девушка почувствовала, как Боско заскользил по вертикально вставшему рею. Одним концом балка ударила его, он потерял сознание и камнем ушел под воду. Желая спасти любимого или погибнуть вместе с ним, мулатка без колебаний оставила бревно и, нырнув вслед за Боско, обхватив его неподвижное тело, вынырнула на поверхность. Они очутились среди обломков, щепок и разного мусора, несомого сильнейшим течением и ранившего их и без того изможденные тела. Но, оглушенная, полузадохнувшаяся, мужественная девушка продолжала бороться. Держа голову Боско над водой, с необычайной силой, ловкостью и отвагой она продолжала плыть к проклятому берегу, теперь, казалось, убегавшему от нее. Еще немного — и море успокоится, прилив закончится. Если они теперь же не достигнут берега, они погибли… Отлив неминуемо подхватит их и отнесет в море, тогда ничто уже не спасет их. К счастью, по фарватеру пролива близ гвианского низкого берега, так часто меняющего свою конфигурацию, обычно образуются встречные течения. Один из таких противотоков подхватил их и вынес в устье заболоченного, полного ила и тины ручья, именуемого Мадлен. Фиделия уже дотянулась до какого-то корня, как испустила жалобный стон: начался отлив. Она понимала, что их неминуемо снесет. Ее горестный крик вмиг дошел до сознания Боско, уже начавшего приходить в себя. — Ты смотри, — откликнулся он с поразительным, присущим ему во всех случаях жизни хладнокровием. — Я-то думал, что проснусь уже на том свете. А вроде еще живой… Эге, похоже, теперь мой черед стать ньюфаундлендом[121] и вытащить из воды эту прелестную девушку! Поняв опасность положения, Боско сразу же почувствовал прилив сил. Он обнял одной рукой возлюбленную и тоже уцепился за древесный корень. Чувствуя, как отлив уже тянет его в океан, юноша с ужасом вопрошал себя, сколько же еще он сможет так продержаться. Вода понемногу спадала, и вот они уже по пояс в липком, вязком, зловонном иле, где кишат насекомые, рептилии, ракообразные. Наступила ночь, еще больше увеличив его тоску и отчаяние. …Он начал шарить вокруг себя, нащупал твердую почву и, каждую минуту опасаясь соскользнуть в какую-нибудь яму, побрел вдоль ложа ручья, держа на руках потерявшую сознание девушку. В темноте Боско споткнулся о рей и чертыхнулся. Положив Фиделию на кучу водорослей, остро пахнущих морем, он осмотрел препятствие и узнал их бревно. Как мы знаем, мокрая пагара все так же была привязана к нему. Боско терпеливо развязал узлы, открыл корзину и вынул маленький лубяной сосуд с тростниковой водкой. Раздвинув стиснутые зубы Фиделии, Боско влил ей в рот несколько капель спиртного. Девушка вздохнула и пошевелилась. Вне себя от радости, он готов был прыгать, петь, танцевать, крича: «Она жива, жива, милое дитя! Не придется мне ее оплакивать! Не придется терзаться от мысли, что она умерла, спасая меня…» Девушка постепенно приходила в себя, что-то лепетала по-детски и наконец совсем очнулась. Чувствуя рядом с собой того, кого она так любила, различая его силуэт при свете высыпавших на небе звезд, Фиделия обвила руками шею юноши и прошептала: — Любимый, ты жив… Ты жив, чтобы любить меня… — И снова потеряла сознание. Боско поднял девушку на руки и, в спешке прихватив мокрую сорочку, чтобы прикрыть ее наготу, наугад ринулся в темноту. Вскоре он увидел далеко впереди, за деревьями, слабый огонек. Ему даже почудился собачий лай. Взяв Фиделию на одну руку, как берут маленьких детей, и, раздвигая кусты, он, спотыкаясь и скользя, пошел в том направлении. О, волшебная сила любви! Еще совсем недавно этот человек буквально дышал на ладан, казалось, он при смерти, и вот прежняя сила чудом вернулась к нему, когда он увидел, что возлюбленной грозит опасность! Более того, его силы удвоились! Он и думать забыл о страшном ударе реем в грудь. Ничто не могло его сейчас ни остановить, ни задержать! Ни ямы и колдобины, в которые он оступался, ни ветви, рвущие на нем одежду, ни шипы и колючки, вонзающиеся в тело, ни хлещущие его кожу травы. Боско бежал, не чуя под собой ног, он искал помощи, чувствуя, что сейчас минуты равняются часам, и понимая — стоит ему упасть, он больше не поднимется. Наконец он вышел к большому, одиноко стоящему дому. Два окна во втором этаже были освещены. Сторожевой пес, запертый в первом этаже, залаял, почуяв чужого. Набравшись храбрости, Боско начал колотить кулаком в двери. Окно во втором этаже распахнулось, и появился человек, вооруженный двустволкой. — Кто там? — закричал он. — Я — ссыльный, — ответил Боско. — Был на работах в Сен-Лоране, но ушел оттуда для того, чтобы спасти невинного человека. Всю дорогу я прошел пешком. А сейчас моя жена при смерти… Умоляю вас, сжальтесь… Что касается меня, можете сдать властям или пристрелить как собаку… Воля ваша. Но ее спасите, заклинаю вас!..
ГЛАВА 10
— Ну как, старший надзиратель, что у вас новенького? — Ничего, господин директор. Все в порядке, все хорошо. И старший надзиратель, седоусый, увешанный медалями старый служака, подавил вздох. Директор каторжной тюрьмы заметил этот подавленный вздох. От него не укрылся также озабоченный вид подчиненного. Директор был философом, имел склонность к наблюдениям, хорошо знал людей. Глядя ветерану прямо в лицо, он спросил: — Послушайте, Жоли, а ведь вы чем-то обеспокоены? В свою очередь надзиратель, проработавший в колониях пятнадцать лет, знал назубок психологию арестантов. — Вот что я вам скажу, господин директор, по-моему, все идет слишком хорошо, и в этом есть нечто противоестественное. Вот уже две недели — ни единого взыскания, ни двойного наряда, ни уменьшения порции вина, словом, ничего, абсолютно ничего… Это значит — что-то должно случиться… Господин директор — шестнадцать тысяч франков в год, казенная квартира, пароконный выезд, канцелярская надбавка, орден Почетного легиона — в молчании выслушал это несколько странное заявление. Поразмыслив, он спросил: — На чем основываются ваши подозрения? — Ни на чем, господин директор. Ни на чем и на всем вместе, это-то меня и угнетает… Не знаю, как бы это сформулировать… Но я инстинктивно чувствую: что-то надвигается, а интуиция меня никогда не подводит. — Чего же вы, собственно говоря, опасаетесь? — Какой-нибудь заварушки… Массового бунта, например… Группового побега… И не просто побега, а сопровождаемого варварскими актами мести… — Что говорят ваши «бараны»?[122] — Никто из них и рта не раскрывает с тех самых пор, как тому бедолаге гвоздем проткнули череп и подвесили на столбе, написав «Смерть предателям!». — Да, вы правы. Теперь мы ничего не узнаем. Надо удвоить бдительность, ввести дополнительные караулы. — Караулов и так вполне хватает, господин директор, и можете положиться на наше рвение. — А главное, не забывайте о тюремной морали: «Если бы желание жандармов удержать узника составляло хотя бы половину того стремления, с которым узника тянет на волю, то никаких бы побегов вообще не было». Старший надзиратель на практике знал эту истину, изреченную столь афористично его начальником. Он пожал плечами, провел большим пальцем по усам и добавил: — Я не опасаюсь скрытого побега, когда несколько заключенных ломанутся через болота и джунгли. Я, как уже докладывал вам, боюсь массового выступления, открытого бунта… — Ну так мы примем меры! При первой же попытке — строжайшее наказание! Уж чего-чего, а сил у нас, слава Богу, достаточно. Между тем два дня, вернее две ночи, спустя после описанной выше беседы во втором дортуаре[123], где ранее произошла варварская казнь, состоялось одно из сборищ, которые тюремщики предвидеть не могли и воспрепятствовать которым также были не в силах. Заключенные теснились в спальне и, затаив дыхание, внимали своему пророку, взывавшему к ним тихим свистящим шепотом. Часовые стояли на постах, готовые в любой момент подать сигнал тревоги. — Повторяю вам, — говорил Король Каторги, — я слежу за всеми и вижу каждого. И я сложу с себя сан, если те, кто хоть намеком выкажет наш план, не будут разрезаны живьем на мелкие кусочки. По толпе, собравшейся в дортуаре, прошел трепет вожделения — их возбуждала одна только перспектива пролить кровь. Король Каторги продолжал: — Сейчас мне нужны лишь люди, решившиеся на все. Жизнь для нас — пустяк, и мы, если придется, легко пожертвуем ею. — Все это так и есть, — прошептал огромный негр, с непропорциональными конечностями и грубой, свирепой мордой дога. — Давай, Бамбош, жми, а уж мы последуем за тобой всюду, хоть в самое пекло, а может, еще куда подальше. — Да, я уверен, что могу положиться на вас. Но еще раз повторяю: нужен не только побег, нужно еще и убийство. Мы будем убивать каждого, кто нам только под руку попадется. — Но, — робко возразил кто-то, — ведь убийство усложнит побег?.. — Поговори, поговори! — иронически отозвался Бамбош. — Черт возьми, ты не хуже меня знаешь, что между Францией и Англией нет соглашения о выдаче преступников. Английская колония Демерари не выдает беглецов, но если известно, что беглый каторжник прикончил охранника, его безжалостно возвращают. Ты хочешь закрыть перед нами двери британской колонии? — Да, хочу. — Почему? — Прежде всего потому, что такова моя воля и, будучи Королем, я имею право ни с кем не считаться. А во-вторых, если мы перебьем охрану, то убийство будет групповым, и никто не дознается, кто убийца, а кто нет. Все мы — сообщники, все подставляем голову, и плевать нам на бритву Шарл[124]. Вот как я рассматриваю это дело. Что касается всего остального, то не бойтесь. Я сам этим займусь. Я поведу вас туда, где золота столько, сколько во Франции яблок в саду. За короткое время все вы у меня заделаетесь миллионерами. А дальше — да здравствует веселье! Красивые девочки и все прочее! А теперь — все по койкам! Что до меня, то мне надобно пойти и заняться нашими делами. Каторжники, как тени, бесшумно, почти не дыша, разместились в гамаках, в то время как Бамбош извлек из своего тайника самые разнообразные предметы. Во-первых, длинную веревку с крючком на конце, затем ключ, парик, накладную бороду. Все это он спрятал за пазуху, после чего открыл тяжелую дверь дортуара и бесшумно проскользнул во двор. Подойдя к стене тюрьмы, он закинул «кошку». Крючок намертво впился в гребень стены. Бандит легко взобрался на стену, сел на нее верхом и тихонько свистнул. Ответом был металлический звук чешуек гремучей змеи. Услыхав этот сигнал, Бамбош успокоился и спустился по другую сторону ограждения. Из растущего под скалами кустарника появился человек и, держа в руках какой-то сверток, подошел к бандиту. Несмотря на царивший вокруг мрак, любой, наблюдавший эту странную сцену, поразился бы по вполне понятной причине — на этом мужчине был мундир охранника. Бандит и надзиратель скрылись в зарослях, и Бамбош мигом, со сноровкой, изобличавшей большой опыт в подобных делах, облачился в тот безвкусный наряд, вкотором его приметила грациозная супруга Бобино. Правда, на сей раз на нем был не фрак, а сюртук. Пока происходило это переодевание, мужчины не обменялись ни единым словом. Когда Бамбош был готов, он прошептал своему товарищу: — Следуй за мной, как всегда, на расстоянии ста шагов. — Хорошо. — Тот кивнул головой, надвинув до самых глаз пробковый шлем. Развинченной походкой Бамбош направился в центр города, закурив по дороге одну из ароматных сигар. Он наискось пересек Кайенну и, дойдя до квартала, расположенного возле порта, толкнул двери одного из красивых тамошних домов, беззвучно отворившиеся. Бамбош очутился в жилище одного очень видного купца, скупавшего украденное на приисках золото и бывшего скупщиком всех тайно ввозимых или имеющих сомнительное происхождение товаров. Он был далеко не единственным, занимавшимся подобным промыслом, и подобный род занятий не мешал ему слыть уважаемым человеком хотя бы потому, что нечестно нажитое добро принесло большую прибыль — купец был богат. Безусловно, почтеннейший торговец, что-то писавший при свечах, забранных стеклянными колпаками, поджидал Бамбоша, так как не выказал ни малейшего удивления, когда тот появился в его конторе. Гость и хозяин обменялись крепким рукопожатием, как и подобает людям, хорошо понимающим друг друга. Поделившись впечатлениями от губернаторского бала, во время которого они долго беседовали, Бамбош, мигом обретя манеры пресловутого барона де Валь-Пюизо, перешел к вопросу, ради которого и покинул стены каторжной тюрьмы: — Дело готово? — В целом да. Но много еще всяческой нервотрепки. — Почему? Неужели внесенной мною суммы в сто тысяч франков недостаточно? — Достаточно. Но требуется заплатить золотом. — Пусть не беспокоятся. Я заплачу. — Еще одно: какова будет дальнейшая судьба судна? — Оно останется моей собственностью. — Невозможно заключить контракт за эту сумму. Надо заплатить еще пятьдесят тысяч франков. Бамбош нахмурился, от лица отхлынула кровь, губы искривила гримаса. — Сто пятьдесят тысяч франков за старую калошу, которая и десяти тысяч не стоит?! За кучу металлолома, снабженную машиной, от которой и негры отказались бы на сахарном заводе?! — И кроме того, — продолжал почтеннейший коммерсант, — у вас не будет ни механиков, ни кочегаров, ни матросов… — Не кажется ли вам, что хоть мы и каторжники, а вот вы — ворюги? — Э-э, голубчик, надо же как-то жить. В нашем деле не обходится без риска. — Мерзавец! — Известно ли вам, что за оскорбления платят отдельную цену? — преспокойно продолжал коммерсант, поигрывая револьвером, служившим ему пресс-папье. — Это справедливо, — согласился Бамбош. — Мы у вас в руках, стало быть, придется идти туда, куда вы ведете. Но если это измена, то… — Не угрожайте, это бесполезно. — А вы, черт подери, прекратите разговаривать со мной в подобном тоне! Я — Король Каторги! И берегитесь — как бы по моему приказу три тысячи каторжников не набросились бы на вас, ваш город и ваши богатства! Как бы они не прикарманили все и не превратили бы город в руины, а вас самих не отправили бы на начинку для бамбука![125] Не забывайте, что семь лет назад Кайенна уже горела, ее превратили в пепелище, в качестве… предупреждения! Эта язвительная отповедь, подкрепленная неопровержимыми аргументами, сделала почтенного коммерсанта более покладистым. Они ударили по рукам на сумме в сто двадцать пять тысяч франков, из которых сто полагалось выплатить золотом, как и было условлено. Когда Бамбош уже было собрался уходить, хозяин задержал его: — Не могли бы вы сказать, на какой день назначено дело? — Нет. Начиная с завтрашнего дня, корабль будет все время пришвартован у пристани. — К чему такая таинственность? — Вы можете нас предать. — Да вы с ума сошли! Разве мы не обогащаемся за ваш счет?! Разве администрация в состоянии заплатить за донос те же сто двадцать пять тысяч франков, которые вы заплатили за побег?! — Возможно, вы правы. Но я ничего не скажу. — Еще одно слово. Так, значит, вы господа каторжники, люди богатые? — Можно сказать и так. В кассе каторжной тюрьмы не менее трех миллионов франков. — Да что вы говорите?! — обомлел купец. — Три миллиона только здесь, в Гвиане. А во Франции припрятано раз в десять больше. — Черт побери! Вы шутите! — Я никогда не шучу, когда речь идет о деньгах. Разве когда речь идет о приобретении концессии, вы не сталкиваетесь с освободившимися заключенными, у которых денег полны карманы? Разве к вам не попадают почерневшие монеты, недавно извлеченные из земли? — Действительно… Я как-то прежде об этом не задумывался… — Ну так вот, подумайте еще и о том, что у ссыльных — неисчерпаемые ресурсы, что мы, «вязанки хвороста»[126], купаемся в золоте, что если уж избирают Королем Каторги такого человека, как я, то он здесь плесенью не покроется. — Кажется, и впрямь вы говорите правду, — ответил купец, и в его голосе смешались восхищение и неподдельный страх. — Ну а теперь прощайте. Мы с вами больше не увидимся. Продолжайте верно служить бедолагам, «которые попали в беду», вы на этом не прогадаете. Если же нет, то и ваша собственная жизнь, и существование всего вашего города ломаного гроша не стоят. Произнеся эти слова, пришелец, воплощавший в себе таинственное могущество каторжного королевства, исчез. Он преспокойно прибыл обратно в лагерь Мерэ, сопровождаемый человеком, носившим форму охранника и бывшим, казалось, его личным телохранителем.ГЛАВА 11
Гвиана — необычайно плодородная страна. На образовавшихся из всякого рода органических останков почвах урожай всходит в мгновение ока. И все это происходит своим чередом, само по себе. Всюду — вода, влажная атмосфера, палящее солнце — одним словом, настоящая теплица с подогревом. Бобовые поспевают в течение пяти недель, табак — в течение шести, то же самое происходит и с другими сельскохозяйственными культурами. Имеются тут и превосходные пастбища, на которых можно выращивать тысячи и тысячи коров, быков, коз. Домашней скотине нечего бояться сурового климата: она весь год пасется под открытым небом. Хищники и пресмыкающиеся не в состоянии серьезно нарушить количество поголовья. И тем не менее во Французской Гвиане не насчитаешь и трех сотен лошадей, даже включив в это число кляч береговой артиллерии и жандармерии. Не найдется и четырехсот овец и, ежели статистики упоминают две тысячи пятьсот голов рогатого скота, надобно вопросить, где этот скот находится и что с ним делают. Как бы там ни было, но колония не располагает достаточным количеством скота, чтобы прокормить гарнизон, чиновников, гражданское население и каторжан. Телят приходится покупать в Пара[127], — но там их продают по таким ценам, что глаза на лоб лезут, — и перевозить на суденышках, более-менее оборудованных для подобных перевозок. Таким образом, свежего мяса часто не хватает, за него платят в четыре раза дороже его действительной стоимости и в большинстве случаев это мясо жесткое, сухое, волокнистое, словом, самого низкого качества. Правда и то, что наши соседи в Британской и Нидерландской Гвиане[128] мясом буквально завалены, и торгуют им по десять су за фунт… Следует задать вопрос: что же делают англичане, дабы иметь возможность ежедневно лакомиться свежими котлетами и бифштексами, предупреждая малокровие, грозящее человеку в экваториальной зоне? Ответ проще простого — они разводят скот. А французы? Создается впечатление, что жители французских колоний слишком глупы, чтобы последовать примеру англичан и голландцев. Следовательно, за телятами приходится направляться в Пара. Итак, один из пароходиков, совершавших подобные рейсы, стал на прикол ввиду необходимости чинить корпус и машину. Собственно говоря, его давным-давно пора уже было отправить на корабельное кладбище, но в колониях привередничать не приходится. Устав бороздить моря, греметь железками на каждом повороте, выпускать весь пар в гудок, если кто-то нажмет на сигнал, набирать, как губка, соленую воду, пароходик ожидал текущего ремонта, прежде чем уйти в Демерари, в сухой док к англичанам. В Кайенне-то и слыхом не слыхали о сухих доках, предназначенных для ремонта подводной части судна. Допотопный пароходишко назывался «Тропическая Пташка» или что-то вроде этого. Негритянский экипаж судна, радуясь вынужденной стоянке, был отпущен на берег, где уже наведался во все злачные места. Пароходик остался безо всякой охраны. Все это происходило через два дня после того, как Бамбош побывал с визитом у почтеннейшего коммерсанта, покупавшего золото у воров и устраивавшего за приличную плату побеги заключенных. Как бы там ни было, но ночью несколько подозрительного вида мужчин завладели «Тропической Пташкой» и пришвартовали ее к берегу. Тихо, почти неслышно на борт погрузили пушки. «Э-ге, — подумали сонные таможенные чиновники, — да это же „Тропическая Пташка“ заправляется. А мы-то думали, она ушла чиниться. Эти судовладельцы такие сволочи!» И почтеннейшие таможенники снова погрузились в прерванный сон, потеряв интерес к происходящему. Незнакомцев было шестеро. Двое ушли, четверо же расположились на корабле, как у себя дома. Кстати говоря, может, так оно и было на самом деле. Минула ночь, а утром эти четверо засуетились на борту, исполняя матросскую работу, и никто не обратил на них внимания, таким естественным было поведение этих людей. Днем один из таможенников слегка удивился, заметив, что «Пташка» стоит под парами. Фланирующей походкой он приблизился к судну и спросил у матроса, облокотившегося на планшир: — Вы что, собираетесь отчаливать? — Нет, — ответил тот. — Но вы же стоите под парами! — Еще нет. — Тогда зачем разогреваете машину? — Хотим отогнать посудину в устье Крик-Фуйе. — Ах, вот как? — Да, а оттуда на верфь в Пуант-Макурия, чтобы поставить там на прикол. — Прекрасно! — Таможенник, удовольствовавшись этим простым объяснением, удалился, позевывая и потягиваясь, как человек, уставший от… безделья. Каторжане в это время вновь производили работы по укреплению берегов и очистке канала Лосса. Утро прошло без происшествий. Надсмотрщику не к чему было придраться, и он, в отличие от папаши Жоли, ничуть не удивлялся, а только радовался тому, как отлично движется работа. Днем дело пошло еще лучше, насколько это только было возможно. С другой стороны, администрация, торопясь закончить очистку канала, настояла на том, чтобы работы производились в две смены. Стало быть, в них принимало участие около сотни заключенных под присмотром двух охранников. Увидев, что начальством предпринята эта не вполне понятная мера предосторожности, заключенные хорошо известным всем каторжникам шепотком обратились за разъяснениями к Бамбошу. — Тем лучше, — ответил Король Каторги с неописуемой ненавистью, — вместо одного мы укокошим сразу двоих. Мне бы хотелось, чтобы они все скопом здесь сошлись — мы б им всем пустили кровь! Во время отлива каторжники подошли к зловонному каналу, над которым тучей роились насекомые, этот бич европейцев, разносчики малярии и прочей заразы. Каторжники без колебания влезли в воду и принялись трудиться на совесть, как трудились бы свободные люди. Не ожидая приказаний, они сориентировались сами — соорудили перемычку, наглухо отделившую залив от моря. Это позволило им беспрепятственно трудиться до самого прилива и разом закончить работу. Папаша Жоли поразился такому рвению, и это избыточное усердие более, чем когда-либо, усилило его подозрения. Двое его подчиненных, молодые охранники третьего класса, не работавшие в каторжной тюрьме и двух лет, наивно радовались происходящему, не отдавая себе отчета в том, что в случае тревоги канал Лосса будет намертво перекрыт новопостроенной дамбой и ни одно из находящихся в порту суденышек не сможет выйти в море. Со стороны рейда послышался короткий свисток. Несмотря на свое поразительное самообладание, Король Каторги содрогнулся и пробормотал: — Решающая минута приближается… Только бы никто не сдрейфил… Узники озирались, в их взглядах читалась решимость и ярость. Затем их тяжелый, полный ненависти взгляд уперся в охранников, интересовавшихся исключительно ходом работ и не способных даже заподозрить, что же на самом деле творится в душах их подопечных. Одному из конвойных не было еще и двадцати семи лет. Он приходился племянником папаше Жоли и был отличным малым, демобилизовавшимся из рядов береговой артиллерии в звании старшего сержанта. Парень был человеком долга, умел себя держать, перед ним открывалась почетная будущность. Возвратясь в колонию, этот молодой человек женился на своей кузине, красавице квартеронке[129], сделавшей его счастливым отцом очаровательной дочки. Он и рад был бы уехать отсюда, но на ежегодный кредит в тысячу семьсот франков из колонии далеко не уедешь. Однако существует перспектива стать старшим надзирателем первого класса, как папаша Жоли, а это уже три тысячи пятьсот, или даже главным — с окладом четыре тысячи франков в месяц. Скажем по чести, имея три с половиной тысячи, медаль, крышу над головой и бесплатное питание, можно выкручиваться и даже откладывать кое-какие сбережения, дожидаясь отставки. Звали этого надзирателя, уроженца департамента Йонна, Антуан Буже. Его коллега — тридцатилетний бретонец[130] из Роскофа, бывший сержант береговой артиллерии, был человек жестковатый, но с холодной головой, спокойный и справедливый, обладающий чувством долга, высоко ценимый администрацией. Однажды, почти в самом начале службы, он командовал баркасом, на котором неумело суетились матросы-каторжники. Один араб упал в воду. Кто-то из его товарищей прыгнул следом, желая спасти несчастного. Положение обоих было тем более ужасным, что ни тот, ни другой не умели плавать, а море в этом месте кишело акулами. Ни секунды не колеблясь, надзиратель Легеллек бросился в одежде в воду и, показав чудеса отваги и ловкости, спас арабов. Когда он покидал каторжную тюрьму на островах Спасения, бандиты и головорезы рыдали как дети. Он тоже был женат и имел очаровательного сына. Как старший по званию, Легеллек отвечал за обе смены. В какой-то момент необычайное трудовое рвение каторжан стало угасать, тем более что оно было напускным, вызванным мыслью о заговоре, мыслью, бередившей им души. Они хранили молчание, обливаясь потом, тяжело дыша от усталости, а более всего — от волнения, вызванного тягостным ожиданием таинственного сигнала. Сигнала, который должен дать им свободу, который положит начало кровавой резне, убийству, уничтожению намеченных жертв. Легеллек заметил, что узники внезапно впали в оцепенение, и, боясь, что намеченная работа не будет выполнена, прикрикнул, пользуясь привычными армейскими командами: — На берег бе-гом! Это означало, что перекура не будет, и надо снова приниматься за работу. В этот миг снова раздался гудок «Тропической Пташки». — Пора! — шепнул Бамбош Педро-Круману, следовавшему за ним как тень. — Начинать сразу же? — спросил негр. — Подожди, пока я не пущу кровь бретонцу. Как только он упадет, убей второго. — Будет сделано. — Эй ты, номер сотый, кончай болтать, берись за дело, — послышался спокойный голос Легеллека. Слегка побледнев и понурив голову, Король Каторги направился к берегу канала для того, чтобы в свою очередь влезть в воду. Для этого ему надо было пройти мимо надсмотрщика, который, опершись одной рукой на тросточку, смотрел бандиту прямо в глаза. Подойдя к стражнику, Бамбош униженно сгорбился, но с вызовом вздернул голову. Их взгляды скрестились, как два клинка. Стражник интуитивно почувствовав, что ему грозит смертельная опасность, положил руку на рукоять пистолета. Бамбош заметил это движение. С неслыханным проворством и хладнокровием он прыгнул на охранника и, выхватив из-под блузы длинный нож, перерезал тому горло от уха до уха. Несчастный пошатнулся и упал, обливаясь кровью. — Вот она, расплата! — воскликнул Бамбош, потрясая ножом, окровавленным по самую рукоять. — Кто следующий? Айда, покончим со всеми! Браво, Круман! Последние слова относились к Педро, набросившемуся на Антуана Буже. Нападение было столь стремительным, что тот, как и его коллега, не успел ничего предпринять для самозащиты. Безоружный негр просто прижал его к груди и стиснул. Объятие было таким сильным, что стражник, побледнев, не смог даже закричать. Он лишь прохрипел: — Люси… Бедная моя женушка… Ребра его затрещали, как будто его прижали к кабестану[131], струйка черной крови вылилась изо рта. Наслаждаясь тем, как белая плоть трепещет в его каннибальских лапах, Круман стиснул жертву еще крепче и, откинув назад голову и плечи, напрягся и сделал рывок. Послышался леденящий душу звук сломанных позвонков. Чудовище ослабило хватку. Тело надсмотрщика выскользнуло из смертельных объятий и, как тряпичная кукла, рухнуло на землю. Каторжники хранили молчание — ни слова, ни крика. Разве что чуть слышное урчание — свидетельство омерзительной радости. Покрытые тиной, они быстро выбрались на берег и столпились вокруг двух убитых, тела которых все еще конвульсивно дергались в предсмертной агонии. Хладнокровно, внешне не проявляя своих чувств, но с горящими от хищной радости глазами, одни по очереди начали вонзать окровавленный нож в поверженное тело, другие занялись вторым трупом — лупили его лопатами, кирками, заступами. Длилась эта расправа около пяти минут, и приняли в ней участие человек шестьдесят. Остальные жались поодаль, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь… не смея решиться… Бамбош презрительно ухмыльнулся и бросил: — Пойдете с нами до места. Подождете, пока мы не сядем на судно. Я не желаю иметь в своей команде мокрых куриц. А вы, ребята, за мной! Следуйте за своим Королем, он сделает вас свободными людьми, миллионерами! Дрожь энтузиазма всколыхнула толпу. Безмолвие изнуренных, покрытых тиной, забрызганных кровью молчаливых людей, делало их еще более устрашающими. Бамбош занял место во главе колонны. Они пробирались между корнями гигантских прибрежных деревьев, прячась в их густой тени, и, как невидимки, крались в направлении бухты Фуйе. От канала Лосса до устья бухты было всего тысячу двести метров. Несмотря на рытвины, заболоченные отмели, ямы, поваленные деревья, расстояние это группа преодолела за четверть часа — так велико было лихорадочное желание бандитов вырваться на волю, что силы их многократно возросли. Шлепая по грязи, как стая кайманов, они пересекли полузанесенный песком ручей Мадлен и помчались среди гигантских трав в бухту, где стояла на якоре «Тропическая Пташка». На борту сразу же узнали прибывших. — Давайте, — резко бросил Бамбош, — поднимайтесь на судно. Скорее, скорее, время не ждет. Через час здесь будет жарко. Внезапно ему на плечо легла тяжелая рука, он обернулся и увидел Педро. — Это ты, Круман? Чего тебе? — Ничего. Прощай. — Ах да, ты ведь остаешься здесь. — Да… Здесь живет Мина. И я хочу белую женщину… — Будь осторожен. — Я ничего не боюсь! — Долго еще жизнь в Кайенне и ее окрестностях не войдет в свою колею. — В лесах столько тайников — Круману можно всю жизнь хорониться и носа не совать в Кайенну. — Твое дело. Мне будет жаль, если ты из-за бабы наживешь неприятности, потому что ты славный парень, Круман. — Я хочу белую красавицу и возьму ее, даже если мне придется погибнуть, — ответил негр, охваченный дикарским вдохновением. — Как знаешь. Я, как видишь, оставляю свою милашку Фанни, которая присоединится ко мне только тогда, когда я буду в безопасности. Бандиты обменялись рукопожатием, и негр исчез так проворно, как хищник, возвращающийся в свое логово. Пока длилась эта краткая беседа, беглые каторжники ринулись на пароход, с которого члены экипажа спустили в нескольких местах шкерты[132]. Не прошло и пяти минут, как все они погрузились на корабль и теперь толпились на палубе, загаженной вывозимым из Пара скотом, чей помет матросы не сочли нужным убрать. На суше остались лишь заключенные, готовые вернуться в тюрьму и не принимавшие участия в убийстве охранников. Взволнованные, восторженные, не смея верить в свое освобождение, беглые каторжники чувствовали себя как во сне, — сейчас они поплывут в то Эльдорадо[133], о котором их предводитель давно уже все уши прожужжал. Беглецы, с бледными, исхудавшими лицами, поголовно бритые и безбородые, казались членами одной семьи. Они были схожи между собой, как негры. Общее ликование наполняло их души, общая надежда заставляла блестеть глаза, сердца учащенно бились от радости и алчности, все до единого они жаждали отмщения. На борту судна Бамбош по-прежнему оставался непререкаемым лидером. Но так как он ничего не смыслил в навигации, на корабле был штурман — когда-то осужденный за кражу, а нынче освобожденный из заключения кайеннский мулат, которому было запрещено покидать пределы колонии. В его задачу входило выполнение маневров и определение направления. Механик и два кочегара, тоже из бывших каторжников, оказались закоренелыми злодеями и продолжали поддерживать тесный контакт с каторжниками, отбывающими свой срок. На борту было немного провизии, спешно завезенной накануне ночью. Среди провианта — четыре ящика сухих бисквитов, столько же — вяленой трески, почти триста килограммов соленого сала, пять бочек питьевой воды и две тростниковой водки по двести литров в каждой. На носу были сложены дрова — стволы огромных прибрежных деревьев, предназначенные для растопки котлов. Куча выглядела довольно внушительно, но для более длительного рейса топлива бы не хватило. Однако штурман запасся пилами и топорами, с тем чтобы добывать древесину в пути, благо на гвианских берегах этих деревьев густейшие заросли. Когда все каторжники поднялись на пароход, штурман скомандовал: — Полный вперед! Пароходик-развалюха, повинуясь штурвалу, астматически пыхтя и гремя железом, с видимым усилием отправился в путь. — Корабль хоть прочный? — нахмурясь, спросил у Бамбоша юноша с лицом довольно тонким и умным, бывший, однако, на самом деле редким подонком. — Что, боишься за свою шкуру, любезнейший Красавчик? Юноша опирался на голое плечо мужчины лет тридцати со звероподобным лицом и мускулистым телом, который заметил, страстно поглядывая на юного дружка: — Уж поверь мне, сейчас каждому следует беспокоиться о своей шкуре — ведь жизнь теперь может подбросить нам кое-какие удовольствия. Заметив, что отношения между юношей и мужчиной были отнюдь не братскими, а это распространено на каторге, Бамбош с порочной улыбочкой коротко бросил: — Прочный или непрочный, а надо, чтобы он продержался, пока не доставит нас до места. Между тем корабль разворачивался довольно быстро, а, главное, все маневры производились с большой точностью. Повернувшись сперва носом на вест, сейчас он двигался к норду, чтобы выйти в открытое море, а там, вероятно, устремиться к ост-зюйд-осту, держась близко к берегу, насколько позволит осадка судна. Бамбош подошел к штурвальному. — Ты уверен, что мы идем правильным курсом? — Ты меня что, за юнгу держишь? — Да нет, это я к тому, что берега Гвианы очень трудны для плаванья. Достаточно неверного поворота штурвала или задеть килем скалистое дно — и всем нам крышка. — Так в этом-то как раз моя сильная сторона — я за двадцать лет здесь все ходы-выходы изучил! А догонять нас никто не осмелится, даже если бы захотели. — Ладно, старина. Я рассчитываю на тебя, а вознаграждение получишь по заслугам. Судно закончило маневрировать и теперь неслось на всех парах со скоростью, неожиданной для изъеденного ржавчиной корпуса и надорванной машины. — У нас есть три часа форы. Еще немного — и никакой стационер[134] нас не догонит. Пока они будут собирать команду, разогревать котлы, сниматься с якоря, мы будем уже далеко. Кстати сказать, для бандитов пока все складывалось очень удачно. Очевидно, ни убийства стражи, ни массового побега еще не обнаружили, так как не слышно было пушечных выстрелов. А те трусы, оставшиеся на берегу, у которых душа ушла в пятки, наверняка попрятались кто куда и вернутся назад только к вечеру, как нашкодившие школьники. Словом, все шло отлично, и Бамбош, который, собственно, и не сомневался в победе, закричал в порыве энтузиазма: — Вперед, ребята! Вперед в благодатную страну, где нет ни короля, ни закона! Мы создадим свое свободное государство — процветающее, крепкое, а уж развеселое какое! Мы будем в нем хозяевами! Вперед на Спорную территорию!ГЛАВА 12
Когда изнуренный, умирающий от голода и усталости, держа на руках по-прежнему бездыханную Фиделию, Боско испустил истошный вопль отчаяния, в ответ ему из глубины дома прозвучал женский голос, полный искреннего сочувствия. Без малейшего недоверия, хотя дом стоял на отшибе, а безлюдье, глушь и поздний час сделали бы вполне оправданной большую осторожность, хозяин дома положил свое ружье на подоконник и, спустившись вниз, откинул щеколду и распахнул массивную дверь. — Добро пожаловать! — просто сказал он. Глаза Боско наполнились слезами. Он шагнул в просторную прихожую со словами: — Будьте и вы благословенны! Мужчина, в рубашке с закатанными рукавами и широкой мавританке, указал ему в простенке между окнами один из больших плетеных диванов — такие в колониях используют для дневного сна. Роскошная обстановка дома свидетельствовала не только о достатке, но и о стремлении к комфорту, до которого так падки богатые колонисты и который им так трудно достичь. На покрытыми обоями стенах висели картины, кругом стояли букеты, много было красивых безделушек, произведений искусства, охотничьих трофеев, клеток с птицами, спящими ввиду позднего часа. Боско положил свою подругу на диван. Незнакомец принес сосуд с холодной водой, и Боско освежил пылающий лоб девушки. Хозяин на секунду отлучился и тотчас же вернулся, держа флакон с нюхательными солями. В это время в комнату легкой бесшумной походкой вошла молодая женщина в длинном белом пеньюаре[135]. Боско, склоненный над больной, выпрямился и, неловко приветствуя хозяйку, приложил руку ко лбу, чем вконец растрепал свои давно не стриженные волосы. Женщина ласково кивнула в ответ и перевела полный сочувствия взгляд на распростертую девушку. В этот миг Фиделия открыла глаза и, увидев склонившееся над собой белоснежное видение, попыталась пролепетать несколько слов. — О нет, мадам, не говорите пока ничего, вы еще слишком слабы. Я сейчас налью вам вина… И еще — вам необходимо поесть. «Мадам!» Эта красивая молодая женщина величает ее как белую госпожу — «мадам»! Фиделия в себя не могла прийти от изумления! Цветная женщина, даже замужняя, может претендовать разве что на обращение «мамзель», как и у нас раньше именовали девушек из народа. А в этом доме люди свято чтут иерархию. Фиделия почувствовала себя лучше, ведь более всего она нуждалась в отдыхе. С великолепным тактом и трогательной сердечностью хозяйка не стала будить прислугу и сама подала холодный ужин, на который Боско буквально набросился, как голодный волк. Не привыкшая к европейской кухне Фиделия отказалась от холодного мяса, но с аппетитом съела несколько фруктов, запив их вином. Мулатка просто на глазах набиралась сил, словно прекрасное растение ее страны, которое, привянув под палящим тропическим солнцем, обретает первозданную свежесть и даже становится еще прекраснее, чем прежде, стоит лишь пролиться на него благодатной влаге. Видя, что гости умирают от усталости, хозяева деликатно удалились. Глава семейства принес Боско домашний костюм вместо его промокшей в соленой воде одежонки, хозяйка — пеньюар для Фиделии. Когда они собрались уже подниматься на второй этаж, где им отвели комнату, Боско заметил, что входная дверь осталась незапертой, и обратил на это внимание. — Сдается мне, месье, что в здешних местах попадаются и бесцеремонные субъекты… Я знаю, о чем говорю — сам оттуда. Однако не судите обо мне по одежке, я вовсе не тот, кем могу показаться. Если вам интересна моя история, я расскажу ее утром… И вы поймете, что можете доверять мне, хоть мое вторжение было далеко от правил хорошего тона. Молодой человек улыбнулся, как бы говоря: «О, я человек не щепетильный, без предрассудков». Боско продолжал: — Впрочем, запирай не запирай, даю слово, что никто не войдет — я отменный сторожевой пес. — Ну, тогда доброй ночи! Вот ваш гамак, вот одеяла. Чувствуйте себя как дома. — Вы так помогли мне, месье! Вы спасли мою жену… Приняли нас радушно и доверительно… Даже и не знаю, что сказать, как вас благодарить… Что я плету… Я вам, наверное, докучаю… Да еще и плачу, как дурак… И бедняга Боско, растроганный добротой этих людей, разрыдался.Боско и Фиделия проснулись на заре. Всю усталость как рукой сняло, и таким запасом прочности обладали их организмы — они готовы были снова переносить любые самые утомительные тяготы. В доме уже слышались шаги. Это начали вставать слуги. Кто-то поскребся в дверь и заскулил. Боско решительно отворил. Перед ним стояла огромная охотничья собака. Пес вошел в комнату, уставился на гостей, обнюхал Боско ноги. Учуяв запах одежды хозяина, пес, вместо того чтоб ощериться, завилял хвостом и потянулся, чтоб его приласкали. — Здравствуй, дружище! Экая ты превосходная псина! Вот уж вы все оправдываете поговорку: «Каков поп, таков и приход». Каковы хозяева, такова и собака… А тут все такие добрые… Пес наморщил морду и обнажил зубы, что у некоторых умных собак очень напоминает улыбку. — Потрясающий пес! Ты смотри, он смеется, как человек! — А это потому, что вы ему понравились, — раздался у ссыльного за спиной веселый голос, сопровождавшийся шарканьем комнатных туфель. Боско обернулся, поклонился и растроганно поприветствовал хозяина: — Здравствуйте, месье! Ваш покорный слуга… Фиделия поднялась и скромно приблизилась к хозяину, которого накануне видела лишь мельком. — Драсьте, мужа[136]. Как поживаит? — Спасибо, дитя мое, хорошо. А как вы себя чувствуете? Хорошо ли провели ночь? — Отлично. Мы отдохнули, оправились и так же сильны, как и прежде. А теперь, если вы соблаговолите меня выслушать, я хотел бы поведать вам свою историю. — Что до меня, то я ни о чем вас не спрашиваю. Как вы относитесь к тому, чтобы что-нибудь перекусить и выпить? Вы голодны? — Всегда готов, месье. Решительно, прожорливый Боско имел, казалось, безразмерный желудок. Хотя и то правда — не часто удавалось набить его во время путешествия по Гвиане. По тону, каким были произнесены эти слова, молодой человек сразу угадал, какие муки перенес в пути его гость, и содрогнулся. Он проводил Боско и его жену в большую, роскошно отделанную кедром и розовым деревом столовую, посреди которой красовался уставленный яствами стол. — Ну, присаживайтесь, ешьте, пейте, словом, следуйте моему примеру. Жена выйдет попозже, для нее еще слишком раннее утро. Ободренные, очарованные этой сердечной приветливостью, беглецы принялись за еду с жадностью людей, больных булимией, и все никак не могли насытиться. Время от времени Боско отрывался от пищи для того, чтобы бросить какой-нибудь лакомый кусок псу, который, положив морду на стол, пожирал еду глазами и нещадно молотил хвостом. Хозяин глядел на гостей и думал про себя: «А ведь у него доброе сердце… Естественно, не всяк тот кюре, кто в сутане. Но этот бедолага, пожалуй, заслуживает жалости». Когда голод был наконец утолен, молодой человек предложил Боско: — А теперь давайте покурим, если, конечно, дым не помешает даме. Боско взял сигарету, но вдруг захохотал громко, во всю глотку, словно ему довелось услышать какую-то несуразицу. — Простите, что я расхохотался, месье, но меня давно так никто не смешил! Вы мою подружку называете дамой! Да еще печетесь о том, не обеспокоит ли ее дым! А ведь мы пришли к вам в нищенских лохмотьях!.. — Ну и что с того? — А то, что я ни за что не поверю, что вы — уроженец этой треклятой страны, быть такого не может. Потому что встретить здесь сострадание и гостеприимство — это такой же абсурд, как встретить, к примеру, вежливого жандарма. Кроме того — а тут уж впору животики надорвать, — мне кажется, я встретил своего соотечественника! — Очень может быть. — У вас акцент тамошний… Именно такой… — Гм… гм… — промычал юноша, забавляясь воодушевлением, так внезапно охватившим его собеседника. — Ну скажите, месье, ведь я угадал?! Подумайте, присутствие здесь сразу двух парижан — разве это не потрясающе? Но, простите меня, я веду себя так, будто провожу допрос! И разболтался, как целая стая сорок… Но мне столько надо вам рассказать, не знаю, с какого конца и начать!.. Сперва следует объяснить, кто я такой, откуда взялся, чтоб вы поняли, что ваши благодеяния не пропали даром. Кроме того, предположим, что я не более чем дрянцо, но кто-кто, а эта мужественная девушка, безусловно, достойна вашего попечения. Она добра, преданна, порядочна, словом, чистое золото! Я с ней познакомился там, в той проклятой исправительной колонии, на Марони, куда отправляют ссыльных. Принудительная колонизация, видите ли! Метрополия избавляется от человеческих шлаков. Вот она, идея господства, как же! Но ладно, это потом, а сейчас перейдем к сути дела. Я был человек конченый, измученный, изможденный, словом, стал полным доходягой… Короче говоря, я клацал зубами от малярии, страдал от солнечных ударов, ярости, нужды и лишений. А эта добрая душа разглядела во мне человека, несмотря на всю ту мерзость, в которой мы вынуждены были влачить наше жалкое существование. Она утешила меня, вылечила, полюбила! Она была моим добрым ангелом, сударь! И если я подался в бега и добрался сюда, чтобы выполнить здесь одну священную миссию, то это исключительно ее заслуга! Не будь ее, муравьи давным-давно обглодали бы мои белые косточки… Но не станем предвосхищать события, как пишут в грошовых романах с продолжением. Фиделия как завороженная не сводила с Боско исполненного любви взгляда, восхищаясь его красноречием. Он же все говорил и говорил, боясь сказать недостаточно и не умея «отжать воду» из своей речи. Молодой человек слушал молча и внимательно, время от времени кивая головой, чтобы гость продолжал. — Да, так вот, на чем я остановился?.. — снова заговорил Боско. — Ах да, в Сен-Лазаре я обиходил и перегонял буйволов… Но черт с ними, с буйволами, при чем здесь они? Что-то мысли у меня путаются, это потому, что мне так много надо вам изложить… Лучше уж начать все с самого начала. Да, сказать, кто я такой… Невысокого полета птица, во всяком случае, если смотреть с предубеждением, а тем более, если вы разделяете буржуазные предрассудки. Я подкидыш, многие годы бродяжничал, но ни разу не стащил ни у кого ни единого су и никому не сделал подлости, в этом могу поклясться! Неоднократно привлекался за бродяжничество, что вы хотите, я по натуре философ и не могу сидеть на цепи. А в ссылку попал из-за доброго поступка, отсюда все мои беды! Но я не жалею, потому что сегодня, рискуя свободой и даже жизнью, верный дружбе, я пришел, чтобы спасти попавшего в беду друга, одного из тех, кто меня когда-то любил. Да, месье, в один из наичернейших дней, когда, несмотря на всю мою философию, выносливость и веселость, я едва не попал в хорошенький переплет, один большой души человек протянул мне руку помощи. Невзирая на разделяющую нас пропасть, он дал мне свой кров, отнесся ко мне по-дружески и хотел обеспечить мне будущее, которое, судя по его ко мне привязанности, сулило стать самым радужным! Так вот, месье, не знаю, уж не я ли принес ему неудачу, но все обернулось для него как нельзя хуже. Он был тайно влюблен в очаровательную девушку, и она любила его. Дело в том, что он спас ей жизнь, сделав ей хирургическую операцию… Но это долгая история, слишком долгая… Когда-нибудь я расскажу вам и эту драму. Но был один негодяй, сущий дьявол, смертельно ненавидевший моего друга и желавший вырвать из его объятий этого ангела. Я пытался разоблачить мерзавца и устроить счастье любящей пары. А тут — крак! — и все лопнуло. Меня обвинили в подлоге, швырнули в кутузку, и все сложилось таким образом, что господин Людовик и мадемуазель Мария решили вместе покончить с собой. При этих словах молодой человек побледнел и рывком вскочил на ноги: — Как ты говоришь?! Мария… Людовик… — Да, месье. Это именно он и был моим благодетелем — господин Людовик Монтиньи. А девушка — мадемуазель Мария, сестра княгини Березовой. — А также и моя родная сестра. — Раздавшийся со стороны лестницы нежный голосок дрожал от волнения. Заслышав его, Боско и Фиделия почтительно поднялись со своих мест. Появилась женщина в белом, сияющая молодостью и красотой. Как ни плохо был воспитан Боско, вернее, не был воспитан вообще, у него язык прилип к гортани от удивления, однако он поостерегся высказывать свое изумление и начинать расспросы. — Так ты — Боско, — вмешался юноша, — тот самый Боско, добрый друг, чье имя мы узнали во время долгого путешествия, забросившего нас сюда?! — Я действительно Боско… вот мы и познакомились… Я та самая обезьяна Боско и есть, — пробормотал бедный парень, расчувствовавшись и гримасничая — как бы смеясь, но на самом деле испытывая безумное желание расплакаться. — Ну что ж, тогда позвольте вас представить. И с торжественной серьезностью, в которой сквозили присущие ему нотки веселости и лукавства, молодой человек произнес: — Моя дражайшая Берта, хочу представить тебе Боско, нашего французского друга, в данное время пребывающего не по своей воле в Кайенне, и его очаровательную подругу Фиделию. Боско поклонился, а мулатка сделала один из тех грациозных реверансов прошлого века, которым так отменно хорошо обучали монахини в школах Святого Жозефа из Клюни. — А ты, мой милый Боско, находишься в доме моей жены графини де Мондье. Боско еще раз поклонился и пробормотал: — Граф! Графиня! Никогда бы не подумал, что вы из этих аристократишек! Уж больно вы добры, милосердны и совсем ничего из себя не строите… И бывший бродяга прибавил с большим достоинством, тщательно выбирая слова и сохраняя столь отличную от его обычной манеры поведения серьезность: — Месье, мадам, соблаговолите простить меня, если я чем-нибудь погрешил против требований учтивости… Это объясняется пробелами в моем образовании, но ни в коем случае не идет от недостатка сердечного расположения. Те, кто любят меня там, дома, снисходительны ко мне, поскольку знают — душой и телом, всем своим жалким существом я принадлежу им. Вы были к нам бесконечно добры. Позвольте мне принадлежать вам… любить вас… выказывать вам свою преданность… — И мне тоже, — вмешалась юная мулатка голоском, напоминающим птичий щебет. Жан де Мондье взял их обоих за руки и серьезно ответил: — Но мы решительно ничего для вас не сделали. Разве что оказали пустячную услугу. Но если вы почитаете себя в долгу, я охотно приму вашу преданность как любящий друг. — Да, сударь, да… Тем более что теперь я могу ничего не скрывать от вас. Ведь я здесь из-за Леона Ришара. — Что?! — Именно так. Из писем вы узнали об ужасной драме в вашей семье, когда все ее члены едва не погибли. Однако вам не сообщили о страшных злоключениях бедняги Леона, его милой невесты Мими, и вы не знаете, что постигшие их несчастья связаны с мрачной историей, приключившейся в вашей семье. — Правда твоя. Однако как смог ты догадаться, что тот, кем я интересуюсь… кого хочу спасти… Словом, что твой и мой друг — одно и то же лицо! — Это проще простого. Зять князя Березова не может интересоваться никем другим, кроме как одной из жертв Бамбоша, Малыша-Прядильщика и всего этого, извините, мадам, сволочного сброда, который вверг нас с Леоном в каторжный ад. — Ты прав, дорогой Боско. А теперь самое главное — действовать в строжайшей тайне, чтобы ни единый из наших планов не вышел наружу. Ты спрячешься здесь, а через пару дней мы что-нибудь придумаем. Дом стоит уединенно, никто сюда не сунется, пока для тебя лучшего укрытия не найти. — Договорились. Командуйте, располагайте мной по вашему усмотрению. Я ваш душой и телом, и если придется, то и жизнью ради вас пожертвую. Лишь бы мне быть уверенным, что Мими и Леон обретут счастье. — Леон выйдет на свободу, клянусь тебе в этом, и ты тоже, даже если я буду вынужден прибегнуть к самым крайним мерам. — Только они и действенны, поверьте мне! Лишь побег, иначе и быть не может. — Но побег заклеймит имя Леона бесчестьем, а он невиновен. Нужна не только его свобода, но и его реабилитация. — Освободите его, а там он сам разберется. Только не очень-то надейтесь, что правосудие расшаркается и признает, что совершена судебная ошибка. Вспомните-ка лучше дело Редона. — И то правда, — задумчиво молвил Бобино, вспоминая все свои пока безрезультатные хлопоты, предпринятые в защиту друга. Будучи доверчивым, непосредственным, великодушным человеком, никогда не сталкивавшимся с бюрократами-чиновниками, Бобино надеялся, что, используя в качестве аргументов принципы общечеловеческой морали, ему удастся доказать беспочвенность обвинений, и судьба Леона тотчас же изменится. Ах, как же он ошибался! Перво-наперво Жорж повидался с начальником всех исправительных учреждений. Там, разумеется, недоумевали, почему такой известный, богатый, имеющий титул и могущественных родственников господин опекает заурядного работягу, простого декоратора Леона Ришара. Если бы это был туз преступного мира, крупный мошенник, особо опасный убийца, грабитель, бандит, тогда бы они не удивились и смогли бы уразуметь подобный феномен. Но какой-то голодранец!.. Впервые в жизни Жорж де Мондье получил смутное представление о бессердечном, выхолощенном чиновничьем мире, полном пошлых амбиций, злопамятства, мире, где не кровь, а чернила текут у людейпо жилам, где царят двуличие, угодничество, подхалимаж, а главное — полностью отсутствуют такие человеческие чувства, как жалость, сочувствие, великодушие, да и само понятие о справедливости. Поначалу его приняли за рехнувшегося богача-филантропа, которому взбрело на ум сконцентрировать свои благодеяния на той или иной области людского несчастья. На манер коллекционеров, собирающих кто — старые ключи, кто — старые медали, кто — коробки от спичек с многоцветными наклейками. Сперва ему пытались втолковать, что администрация исправительных заведений не исследует характера и мотивов преступления, она призвана осуществлять и контролировать само исполнение кары. А так как во Франции правосудие непогрешимо, стало быть, протеже[137] господина графа де Мондье должен отбывать положенное наказание вплоть до нового распоряжения. — Но нельзя ли пока, по крайней мере, чем-нибудь облегчить его участь? — спросил Бобино. Такого заявления ожидали. Принесли досье на Леона — лживую словесную дребедень, состоящую из не вяжущихся между собой доносов грязных стукачей, клеветы и низких наветов. К сожалению тех, кто стряпал доносы, Леон был интеллектуалом. Трудясь весь день, чтобы своими руками заработать хлеб насущный, он ночами занимался самообразованием: читал авторов, специализирующихся в области социологии; занимался вопросами морали и приходил к ошеломляющему выводу, что плодами труда должны пользоваться те, кому они непосредственно принадлежат. Из досье следовало, что люди, подобные Леону, очень опасны для капиталистического общества, государство всеми доступными способами должно бороться и с ними самими, и с их доктринами. В конце концов, можно ли было надеяться на то, что заступничество графа принесет какие-либо положительные результаты? Бобино из последних сил сдерживался, чтоб не высказать в напыщенное, злое лицо начальника исправительных учреждений все переполнявшее его презрение. А тот не унимался: — Преступление по подделке чека, направленное против миллионера господина Ларами, наводит на мысль, что кто-то решил сорвать крупный куш, поживиться большим капиталом… А именно такую цель преследуют социалисты. Ведь это же в первую голову анархия! Ошарашенный потоком слов, Бобино, не желая компрометировать своего друга, выказывая излишнее рвение и понимая, что невозможно каким-либо образом изменить сложившееся предубеждение, решил сменить тактику. Не оставляя намерения, вернувшись во Францию, воззвать к правосудию и обеспечить широкую газетную кампанию в защиту Леона, Жорж пока решил предпринять активные шаги, чтоб добиться послаблений и улучшить условия существования декоратора. Но и в этом вопросе все его просьбы натыкались на острые углы: устав, дескать, вещь жесткая. Хотя он конечно же становится более эластичным, когда речь идет о подхалимах, лизоблюдах и доносчиках. Кроме того, графу возразили: ваш подопечный осужден на восемь лет, а провел в колонии всего восемнадцать месяцев. — Это мне известно, — отвечал Бобино с вкрадчивой яростью человека, твердо решившего есть ужей, а если понадобится, то и удавов. — Значит, он принадлежит к третьей категории. — Я и не говорю, что нет, — произнес Бобино, опасаясь, что сморозил какую-то дикую глупость. — А что, собственно, означают эти категории? — Ну как же, месье, существуют три категории, по которым мы подразделяем заключенных. Первая, вторая и третья. Бобино, начавший смутно прозревать это административное триединство, молча покивал, ожидая объяснений. — К первой относятся заключенные, зарекомендовавшие себя лучше всех. Им одним дозволено: 1. Получить городскую либо сельскую концессию при условиях, предусмотренных параграфом одиннадцать закона от десятого марта тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года и предписанием от двадцать четвертого января тысяча восемьсот семьдесят пятого года. 2. Состоять в услужении по найму у жителей колонии при условиях, предусмотренных предписанием от тринадцатого марта тысяча восемьсот девяносто четвертого года. 3. Иметь право на подачу прошения на уменьшение срока наказания или условное освобождение. Произнося все это, перечисляя параграфы и даты, делая большие паузы и выделяя отдельные слова, генеральный директор подавил Бобино своим административным величием до такой степени, что тот и слов не находил для ответа. Ни одного! Господин генеральный директор расценил молчание опешившего слушателя как знак восторга или, по крайней мере, — согласия и продолжил: — Заключенные второго класса используются на принудительных работах по колонизации края, общественно полезных работах для блага государства, колонии или частных лиц. И наконец — каторжники третьего класса используются на наиболее тяжелых… «И в эту категорию попал бедный Леон», — подумал Бобино. Затем робко, словно моля о милости, Жорж добавил: — Но, господин директор, мой протеже — славный малый. Нельзя ли перевести его из третьего класса во второй? — Это совершенно невозможно, сударь. И по многим причинам. Во-первых, заключенных третьего класса запрещено переводить во второй, если они предварительно не отработали в третьем в течение двух лет. — Но, господин директор, несчастный, за которого я ходатайствую перед вами, отсидел уже восемнадцать месяцев. Я взываю к вашему милосердию! Поджав губы, директор продолжал читать лежащее перед ним досье. Вид его не предвещал ничего доброго. И вдруг удовлетворенная улыбка заиграла на его губах. — Эге-ге, сударь, — бросил он, — да этот случай не подпадает под юрисдикцию ни одного из вышеперечисленных законов, указов и постановлений, ибо он осужден на пожизненное заключение. — О нет! Ему дали восемь лет! — Пожизненное, сударь, пожизненное. За попытку побега. Такой приговор вынес специальный военный трибунал… — К пожизненному! — горестно воскликнул граф, сраженный страшным известием. — Да, сударь. А в этом случае минимальный срок для перехода во второй класс — десять лет. — Десять лет?! Да он же к тому времени уже десять раз успеет умереть! Высокий чин беспомощно развел руками, как бы говоря: «Что поделать, заменим его другим. У нас, слава Богу, нет недостатка в людях». — Но это же ужасно… — начал было Бобино. — Действительно ужасно, — согласился тот. — Тем более что его решено было на два года заковать двойной цепью за вторую попытку побега. Но больше это ему не удастся — мы теперь знаем, что за ним нужен глаз да глаз. Бобино понял, что настаивать на своем означало бы нанести ущерб Леону, окончательно и бесповоротно скомпрометировав его в глазах администрации, которая видит так мало невинных людей, что было бы грешно на нее обижаться за то, что она сразу слепо не уверовала в протесты своих ужасных подопечных. Поскольку эти злодеи и впрямь порочны до мозга костей и способны на любое преступление, на любую самую изощренную ложь. Гордыня преступников тоже отличается от гордости порядочных людей — она подвигает их обвинять себя только в преступлениях на почве страсти. Они становятся насильниками из-за любви, поджигателями из мести, убийцами — в состоянии аффекта. И никто не хочет быть просто вором. Однако в своем кругу они бахвалятся тем, что совершили самые омерзительные злодеяния просто из любви к искусству. Они убивали, насиловали, поджигали, грабили, и всем этим они гордятся и похваляются, испытывая чудовищную радость от самого перечисления своих преступлений, порою даже вымышленных, и пытаются представить все доказательства своей подлости, дабы быть принятыми в так называемую «аристократию каторги». Короче говоря, администрация тюрем такого навидалась, такого наслушалась, что имеет все основания относиться ко всему скептически. К несчастью, случаются удручающие исключения, и тут уж людям порядочным приходится расплачиваться за злодеев. Огорченный, но не обескураженный, Бобино вынужден был вернуться в уединенный дом, который нанял за чертой города, на дороге в Кабасу. Там он трезво обдумал положение Леона и, опасаясь все испортить излишней поспешностью, решил выжидать. Жорж вновь посетил своего друга, подбодрил его, добился для него некоторых мелких поблажек и, не скрывая от Леона правды, подтвердил готовность помогать ему во всем и при любых обстоятельствах. Каторжник благодарил его со слезами на глазах, пообещав набраться терпения, слепо на него положиться и, главное, не предпринимать никаких самостоятельных попыток, могущих привести к полному краху. Бобино решил подключить к этому делу масонов и надеялся, не без оснований, одержать верх, используя влияние знаменитой организации. Он был далек от мысли, что события развернутся с чудовищной быстротой и самому ему вскоре придется заплатить жестокую дань неумолимому року.
ГЛАВА 13
Пароход, уносивший беглых каторжников, оказался лучше, чем выглядел на самом деле. Потому ли, что топлива было вдоволь, потому ли, что его вела опытная рука, но он, как старые чистокровные кони, почуявшие настоящего седока, вскидывают головы и, решив тряхнуть стариной, мчатся галопом, смиренно готовые сдохнуть на финише, тоже несся на всех парах. Его машина дышала прерывисто, но поршни ходили исправно; винт гудел, как молотилка, но вращался со скоростью шестьдесят пять оборотов; колесо руля держалось только чудом, цепи звенели, но румпель[138] повиновался беспрекословно. Уйдя подальше от Кайенны в открытое море, они приблизились к берегу возле островов Ремир и двинулись в юго-восточном направлении, приближаясь к Спорной территории. От Кайенны до бухты Оранж, образованной Атлантикой и правым берегом Ояпоки[139], то есть до предела колонии, было приблизительно сто двадцать пять километров. Не очень длинная дистанция, и старый кораблик должен был бы преодолеть ее без труда, потому что, несмотря на всю свою ветхость, делал семь узлов (немногим менее тринадцати километров в час). Чтобы покрыть это расстояние, ему понадобилось бы около десяти часов. Бамбошу это показалось слишком медленным, и он стал распекать бывшего под его началом в качестве капитана на один рейс матроса. Тот отвечал, что увеличить скорость невозможно и, кстати, придется сделать остановку. — Зачем? — Чтоб нарубить дров. Машина жрет их в огромном количестве. У старой калоши аппетит, как у акулы. — Ты прав, — ответил злодей, сжимая кулаки, — придется смириться. Ах, я бы все отдал за то, чтоб уже быть там, вне всякой опасности, полной грудью вдыхая опьяняющий воздух свободы. Король Каторги ходил взад-вперед по палубе, заваленной мусором, к которому уже прибавилась блевотина арестантов. Среди прочих мореходных качеств «Тропическая Пташка» отличалась не только умением развивать хорошую скорость, но и приверженностью к бортовой качке. «Высокая скорость — изрядная качка» — гласит моряцкий афоризм. Когда-то «Тропическая Пташка» вполне его оправдывала. Но теперь бортовая качка продолжалась, даже когда корабль стоял на якоре. Все не привычные к морской жизни желудки вскоре были вывернуты наизнанку. Эта первая часть великого похода к земле обетованной, обещанной Королем Каторги, была далеко не идиллической. Соответственно большинство каторжников лежали пластом, — ничего не видели, ничего не слышали, ничего не ощущали, до такой степени их растоптала эта банальная, но очень цепкая напасть — морская болезнь. Как всегда в таких ситуациях, пассажиров охватили тоска, волнение, плохие предчувствия. Через два часа пришлось остановиться по причине того, что могли погаснуть топки. Судно подошло совсем близко к берегу, и две шлюпки доставили на сушу два десятка человек, начавших рубить и пилить прибрежные красные деревья. Заготовка топлива длилась два часа. Бамбош не переставал злиться, словно боясь, как бы одно из его предчувствий, от которых невозможно было отделаться, не реализовалось бы в смертельную опасность. У остальных, наоборот, с тех пор как встали на якорь, доверие к нему резко возросло. Относительная неподвижность корабля, как по волшебству, излечила всех от морской болезни. Пассажиры отпускали кошмарные шуточки и, забористо сквернословя, поздравляли друг друга с побегом из тюрьмы. Внезапно в них проснулся волчий аппетит, и они потребовали жрать. — Полу́чите! — грубо бросил Бамбош. — Полный ход! — в рупор крикнул машинисту капитан, бросив беглый взгляд на небо. Он тоже недоумевал — почему так нервничает Король Каторги, чей мрачный вид резко контрастировал со всеобщим радостным возбуждением. Капитан решил развеять хандру Короля шуткой, но Бамбош, с нарастающим беспокойством глядя на небо, оборвал его на полуслове. — Что означает эта низкая черная туча? — спросил он, указывая на дымные клубы, проступающие на светло-сером небе на юго-востоке. — Валежник жгут, должно быть. — Капитан ни на секунду не утратил своего благодушия. — Но ветер дует с моря, а дым стелется в обратную сторону. — Гм… гм… Да, действительно… Черт подери, надо бы глянуть… «Тропическая Пташка», переделанная из шхуны[140], сохранила две свои мачты, хотя и лишенные парусов. Ванты[141] были еще в достаточно хорошем состоянии, чтобы подняться по ним. Несмотря на то что Бамбош никогда не поднимался по выбленкам[142], терзавшая его тревога заменила предварительные тренировки. Он бросился к вантам и, будучи ловким гимнастом, взобрался наверх и стал пристально вглядываться в ту сторону, где клубился подозрительный дым. С трудом подавив крик ярости, с безумными глазами и с пеной на губах, совершив акробатический спуск, Бамбош ринулся к капитану, чтоб рассказать об увиденном. Тот побледнел и едва не выпустил из рук штурвал. Никто ничего не заметил и не заподозрил. Когда «Тропическая Пташка» вновь тронулась в путь, на борту опять разыгралась морская болезнь. Бамбош вполголоса обменялся несколькими словами с рулевым, тот кивнул головой в знак согласия и крикнул в переговорную трубу: — Прибавь пару! Скорость немного увеличилась. Бамбоша это не удовлетворило, и он, в свою очередь, закричал: — Да прибавь же пару, тысяча чертей! Машина глухо загудела, ее металлические части загрохотали. Бамбош вновь взобрался по вантам и тотчас же спустился. В лице его не осталось ни кровинки, он так крепко сжимал зубы, что, казалось, сейчас их сломает. Главарь беглецов спустился к топке и без околичностей заявил механику: — Старина, надо прибавить, или мы пропали. — Ты что, хочешь, чтобы мы взлетели? — Это единственный шанс уйти. — Да ты только погляди на манометр! — Плевать я хотел на твой манометр! Бамбош накрыл прибор шапкой и бросил: — А теперь поддай! — Но… — Я — Король Каторги, и я приказываю! И, выхватив из кармана пистолет, снятый с одного из убитых часовых, бандит нацелил его в грудь механику. — Повинуйся или ты умрешь! Бамбош вернулся на мостик и кинулся к штурвальному. Тот, белый как мел, но собранный и решительный, маневрировал, стараясь держаться ближе к берегу. Скорость все возрастала, однако из машинного отделения исходили все более ужасающие звуки. Лязг и грохот железа, свист пара, суетящийся Король Каторги, вся эта таинственность, в один миг вдруг воцарившаяся на борту, не могла пройти незамеченной и не взволновать беглецов. Некоторые из них приметили и странную ленту черного дыма, постепенно расширяющуюся в направлении открытого моря. В том положении, в котором находились каторжники, все вызывало опасение и тревогу. Нет, этот дым не мог идти с берега, вне всякого сомнения, источником его мог быть только пароход. Это открытие сразило их. Большие суда — редкость в этих водах, где не проходят пути морских транспортных компаний, и лишь изредка можно встретить местные суденышки — два пароходика, доставляющих продовольствие, да катера береговой охраны. Поэтому сначала они подумали, что это брат-близнец «Тропической Пташки» — «Змей» возвращается из Пара с грузом быков. Так они себе внушали, желая в это поверить и самих себя убедить. У штурмана была маленькая подзорная труба, он передал ее Бамбошу. Тот поднялся на пять-шесть выбленок и посмотрел. Потом хладнокровно спустился, сунул трубу за пояс и, подойдя к переговорной трубе, ведущей в машинное отделение, приказал, стараясь придать своему голосу твердость: — Прибавить пару! Бледные, обеспокоенные безбородые лица, бритые черепа теснились вокруг него. Волнение возрастало, тревога усиливалась. Крики слетали с их серых, обескровленных губ: — Что случилось? Что происходит?! Ты — главный, ты и говори! — Ладно, — решительно заявил Король, — уж лучше знать правду… Этот корабль, идущий к нам по диагонали, — наш враг. Послышались яростные крики, стиснутые кулаки грозили еще невидимому противнику. Бамбош пожал плечами и продолжал: — Хватит хныкать и вскрикивать, словно старые бабы! На корабле, на носу и на мачте — французский флаг. Это военный корабль. Очевидно, за нами гонится или «Сапфир», или «Изумруд». Это сообщение, сделанное резким высоким голосом, от звуков которого у каторжников мороз шел по коже, вызвало бурю жалоб и проклятий. Смельчаки перед слабыми и беззащитными, эти мерзавцы оказывались трусами перед лицом опасного и — они это знали — беспощадного врага. Встреча с крейсером означала для них или гибель в омывающих эти берега желтоватых водах, или водворение на каторгу, где зачинщиков побега ожидала бы гильотина на островах Спасения, а остальных — двойные кандалы и пожизненное заключение. — Эй вы, чего расклеились? — Теперь Бамбош насмехался. — Разве вас не предупреждали, что в пути возможны опасности? Что ж вы думали — дело сделается само собой? Надеялись, что начальство придет к вам, сняв шляпу, и скажет: «Что угодно, господа?» Но бандитов охватил неизъяснимый ужас, они буквально потеряли голову, жались к Бамбошу, просили, умоляли их спасти. А он думал с отвращением: «Как омерзительно трусливы эти подонки! Иногда мне хотелось бы быть порядочным человеком». Затем, не давая себе труда скрыть презрение, он крикнул: — Эй вы, мокрые курицы, не все еще потеряно! Ваш король, никогда вас не обманывавший, сумеет вытащить вас и из этой переделки. Во что бы то ни стало надо раскочегарить эту проклятую посудину и не дать отрезать нас от берега… Машина пока держится хорошо. Старый пароходик рванулся вперед, машина кашляла и кряхтела, но исправно несла свою службу. Скорость снова увеличилась, и беглецы, переходя от отчаяния к надежде, испустили триумфальный клич. Но это была мимолетная вспышка торжества. Десять минут спустя прозвучал вопль отчаяния, заставивший всех содрогнуться: — Больше нет древесины! — Тысяча чертей!.. Нету дров!.. Мы пропали!.. — Тихо! — прикрикнул Бамбош. — Хватайте топоры и рубите все деревянное, что есть на борту. — Да, да, верно! Ты прав, Бамбош! Ах ты хитрец! Да здравствует Бамбош! Да здравствует Король Каторги! — Хватит!.. Хватит!.. — остановил их Бамбош, которому претили и их бездумный энтузиазм, и внезапные вспышки отчаяния. — Будете глотку драть, когда окажетесь в безопасности. А пока марш! За работу! Все имеющиеся на борту топоры и пилы набросились на дерево — началась варварская работа разрушения. Балки, брусья, переборки — все трещало, падало, превращалось в щепки, градом сыпавшиеся на люк, ведущий в машинное отделение, угрожая убить или ранить механика и его помощников. Возбужденные жаждой разрушения и страхом, бандиты вопили как сумасшедшие: — Поддай пару! Поддай! Поддай! Но эта древесина не выделяла столько тепла, как красное дерево, и не могла обеспечить того же количества пара. Давление, вместо того чтоб возрастать, заметно падало. Уже виден был корпус приближавшегося к ним крейсера. И тут Бамбоша осенила идея. В его высоком голосе зазвучали металлические нотки: — Тащите сюда бочонки тростниковой водки и жира! Продукты питания были размещены на носу, под небольшим навесом, где в ненастье прятались негры, сопровождающие партии скота. Бочонки подкатили к машинному люку. Бамбош схватил топор и вышиб днище одного бочонка. Куски солонины разлетелись по палубе. Каторжники решили, что Король Каторги решил их накормить — желудки, опустошенные морской болезнью, властно требовали пищи. Однако иллюзии были непродолжительными. Бамбош, всегда подающий пример и без колебаний идущий вперед не щадя себя, схватил кусок сала весом фунтов двадцать и закричал: — Бросай его вниз! Сало полетело в машинный отсек и шлепнулось к ногам механика. — Великолепная мысль! Сразу же, без предварительных объяснений, поняв идею главаря, механик наколол сало на металлический стержень и отправил его в топку. Жир затрещал, стал плавиться и вспыхнул, громко шипя. — Будет у нас паровая тяга! Вперед! — заорал Бамбош. — Будет-то будет, если не взлетим на воздух, — проворчал механик. — Заткнись! Я удваиваю тебе плату! — Ладно, Бамбош… Ты — человек честный, на тебя работать одно удовольствие. — Мы побеждаем!.. Наша берет! — вопили бандиты, наблюдавшие за продвижением крейсера. Тот же, желая под прямым углом перерезать путь этому подозрительному судну, не приветствующему военный корабль, и впрямь рисковал тем, что оно от него уйдет. Но теперь крейсер открыто устремился в погоню, извергая из трубы клубы черного дыма. Безусловно, крейсер шел из Ояпоки, и погоня заставила его повернуть через фордевинд[143]. Однако находился он сейчас от «Тропической Пташки» километрах в трех — на море чрезвычайно трудно определять расстояния. И эта относительная дистанция успокаивала беглецов, как, впрочем, и необычайная скорость, развиваемая их старой посудиной. Но радовались они недолго. Несмотря на все усилия механика и кочегаров, несмотря на солонину и древесину, несмотря ни на что, «Тропическая Пташка» в третий раз замедлила ход. — Еще одно усилие, последнее! — закричал Бамбош. Солонины больше не было. Он приказал: — Тащите сюда тростниковую водку! Из бочонка выбили затычку и налили водку в деревянное корыто, из которого поили скот и где плавал всякий мусор. — Кочегары! — позвал Бамбош. Из машинного отделения вылезли, голые, с обожженными лицами, два кочегара и как привидения явились на мостике. — Пейте! — велел Король Каторги. Они припали к корыту, как быки, и сделали по громадному глотку. — Отлично, вот вы и подзарядились, — продолжал Бамбош, — а теперь спустите это вниз и выплесните остальное в топку. — Бог мой, — прорычал один, — как будто молнию проглотил!.. — Не бойся и давай действуй. У Бамбоша котелок варит! Каторжники спустились к топке, где механик тоже жадно припал к корыту и лакал, пока у него не перехватило дыхание. — Взорвемся, так хоть не натощак! — сказал он, оторвавшись от пойла. Механик зачерпнул полное ведро и со всего маху выплеснул содержимое в топку, где, потрескивая, пылали дрова и куски солонины. Яркое голубоватое пламя взметнулось на метр, языки его чуть не лизнули босые ноги кочегаров. Изнутри металлического организма раздался ужасный гул. Механик снова выпил тростниковой водки, дал напиться своим людям, вновь наполнил полотняное ведро и выплеснул во вторую топку, приговаривая: — Что полезно человеку, то и машине не повредит! Примем еще по одной. — Верно говоришь, — одобрил кочегар. — Если уж взлетать, то хоть под газом. А наверху, на палубе, раздавались крики — там разыгралась настоящая битва. Перевозбудясь от вида текущего рекой алкоголя, не в силах постичь, что обожаемая ими жидкость вся должна уйти в машину, каторжники потребовали выпить. Ах, совсем понемножку, всего-то по глоточку. Бамбош решительно ответил: — Нет! Его просили, его умоляли, ему угрожали. — Жалкое дурачье! — взревел, рассвирепев, Король Каторги. — Этот спирт — кровь для машины, ее скорость, энергия, жизнь… Среди каторжников был один, горланивший громче всех, его голос перекрывал голос Бамбоша. Молниеносным движением Король Каторги схватил топор. Лезвие топора обрушилось на голову негодяя, раскроив ее. Несчастный рухнул как подкошенный на покрытую нечистотами палубу. — Кто следующий? — спросил Бамбош. В его голосе и движениях чувствовался вызов. Однако этот страшный пример разом погасил все желания. Никого больше не мучила жажда. А бедный старенький пароход, напившись за всех, заметно поддал ходу. Он мчался сейчас, как обезумевшая лошадь, которая не остановится, пока не упадет замертво. Из его слишком узкой трубы столбом бил черный дым и сыпались искры. Его каркас чуть ли не на части распадался, в какие-то мгновения казалось — развалится, треснет, скончается старый пароход, камнем пойдет ко дну… Камера машины напоминала домну. Раскаленный добела толь вылетал из трубы вместе с шипящими струями пара. Механик и кочегары, пьяные и свирепые, ходили, как саламандры, по самому огню и, казалось, сошли с ума. А на палубе каторжники, оскользаясь, как будто стоя на тонкой корочке извергающейся вулканической лавы, вопили: — Мы побеждаем!.. Мы побеждаем!.. Они размахивали руками и покрывали площадной бранью летящий, как белая чайка, крейсер. — Он нас не возьмет, сами видите! — во всю глотку орал Бамбош. Вопреки всем прогнозам «Тропическая Пташка» на воздух не взлетела. Возбуждение, охватившее беглецов, граничило с безумием. Но очень скоро они получили успокоительное средство. По одному борту военного корабля показался плюмажик белого дыма. Следом за ним послышался нарастающий гул, и над головами пригнувшихся в ужасе людей пролетел снаряд. Раздался громкий взрыв, раскатившийся по берегу среди громадных деревьев. Бандиты позабыли о том, что на «Сапфире» имеются пушки. На пронзительный свист снаряда каторжники ответили воплями ужаса и стонами, похожими на те, что издают испуганные дети. Большинство этих негодяев были бесконечно трусливы… Бамбош выругался и погрозил крейсеру кулаком. Затем, как человек, не имеющий ни малейшего понятия о прицельной точности артиллерии, стал сам себя уговаривать, что канониры «Сапфира» промажут — ведь крейсер был так далеко и казался таким маленьким. Вскоре за первым залпом последовал второй. Заключенные со все нарастающим ужасом заметили на корпусе белое облачко и, съежившись, как будто им на голову должна была рухнуть крыша, ожидали взрыва. И, черт возьми, он не заставил себя долго ждать. Снаряд попал чуть ниже основания трубы, прошив, как кусок картона, железную обшивку, и прямиком угодил в машину, подняв целый фонтан осколков и кусков искореженного железа. Механик и оба кочегара были убиты и изуродованы. Они и стали первыми жертвами. Бедный старый корабль содрогнулся от киля до верхушек мачт, но, потеряв ход, раненный насмерть, все еще продолжал двигаться по инерции. Однако долго продолжаться это не могло. Подобно тому как несчастные лошади пикадоров[144], которым бык пропорол брюхо, продолжают скакать, топча свои внутренности, пока смерть, более милосердная, чем люди, не сжалится над ними, «Тропическая Пташка» пребывала в агонии, непродолжительной, но ужасной. Крейсер счел ниже своего достоинства еще раз прибегнуть к артиллерии и на всех парах, быстрый, как чайка, понесся к тонущему судну. На палубе «Тропической Пташки» царили ужас, хаос, безнадежность. Пока снаряд не попал в цель, каторжники считали, что побег удался. Теперь они, обезумев, метались по палубе, которую захлестывали волны. Снаряд проделал в суденышке пробоину размером два метра в поперечнике, и оно оседало на глазах. Через несколько минут «Пташка» пойдет ко дну. Бамбош сознавал, сколь огромна опасность. Но вместо того, чтобы попытаться спасти своих сообщников, проявить самоотверженность, выказать принятую среди бандитов солидарность, этот негодяй думал лишь об одном: как бы спасти собственную шкуру. Он перебегал от одной группы к другой, шутил с теми, кого считал наиболее преданными себе, выбирал самых сильных, вооружал их топорами и собирал на корме. Указав на одну из шлюпок, самую большую, он цинично заявил: — Надо уйти на шлюпке и во что бы то ни стало достичь берега. Они сразу же поняли его план и в слепом порыве, продиктованном страхом, спустили шлюпку на воду. Началась кровавая бойня — бандиты с топорами внезапно набросились на своих собратьев, круша им черепа, ломая грудные клетки, отрубая руки и ноги. Бамбош, штурман, Геркулес, покрытый татуировками, его молодой женоподобный дружок и еще десяток бандитов заняли шлюпку. Остальных, кто пытался туда влезть, встретили ударами багров, топоров, весел. — Спасайся кто может! — заорал Бамбош, видя, что корабль все глубже погружается в пучину. Вторая шлюпка тоже была полна народу. Чтоб попасть в нее, бандиты хватали друг друга за горло. Ручьями текла кровь. Разыгралась жуткая сцена. В море падали искалеченные тела. Рушились целые гроздья вцепившихся друг в друга мертвой хваткой людей. Со всех прибрежных вод неслись на свой отвратительный пир акулы. И вдруг прозвучал мощный взрыв, посыпались обломки. Палуба «Тропической Пташки» под давлением скопившегося воздуха взлетела, словно ее взорвали. Остававшихся на борту людей взметнуло, как ракеты фейерверка, а старый корабль камнем пошел на дно. На том месте, где он исчез под водой, образовалась воронка, в своем вращении втягивавшая в себя обломки, трупы мертвых, отчаянно барахтающихся живых и даже тяжело нагруженные шлюпки. Все это крутилось, вибрировало, вертелось, колебалось, чтобы сгинуть в смертельном водовороте…ГЛАВА 14
Несмотря на неудачные визиты к властям, несмотря на то, что кое-где его вежливо, но решительно отказывались принять, Бобино не прекращал самоотверженную кампанию в защиту Леона Ришара. Бывший наборщик, став графом Мондье и миллионером, остался все тем же славным малым, любящим и преданным. Он пообещал себе, что восстановит справедливость по отношению к невинно осужденному на каторжные работы человеку, и тем более усердствовал в своей благородной миссии, чем больше препятствий возникало на пути. Кстати говоря, время для ходатайств было выбрано крайне неудачно. Массовый побег, убийство конвойных и их изувеченные трупы, кража корабля — все это потрясло местное население, наглядно показав, какой энергией обладают и на какую дерзость и зверскую жестокость способны гнусные подопечные исправительной тюрьмы. Все буквально содрогались при мысли о том, какой опасности могла подвергнуться колония, если бы посланный Божественным Провидением стационер, шедший после разгрузки на складах Монтань-д’Аржан, не преградил дорогу банде негодяев. Многочисленный отряд бандитов под предводительством отпетого головореза, способный на все, завладев кораблем, мог бороздить океан, занимаясь пиратством и захватывая шхуны со всего побережья. А при первом же сигнале тревоги он мог скрываться в извилистых ручьях среди непроходимых болот, где выловить бандитов было бы невозможно. Да, без случайного, но, к счастью, решительного вмешательства «Сапфира» эта шайка беглых каторжников представляла бы собой большую и реальную опасность. Бамбош, с дьявольской хитростью разработавший весь план, упустил из виду лишь одно, а именно то, что два стационера по очереди курсируют между Кайенной и Марони или Ояпокой, патрулируя французские экваториальные владения. Однако он знал, что к береговой охране Гвианы приписаны два судна: одно авизо[145] первого класса и одно — второго, которыми командуют два лейтенанта. Да, ему это было известно. Он знал даже место, где два этих изящных судна стоят на якоре. Но он не заметил отсутствия большего из них — «Сапфира». И эта оплошность погубила и его, и всех его сообщников, и старый добрый корабль, заслуживавший лучшей участи. Несмотря на огромную скорость, сторожевой корабль не смог извлечь из бездны никого из этих несчастных. После того как «Тропическая Пташка» затонула, шлюпки опрокинулись в водовороте, большинство бандитов утонули, оставшихся в живых съели акулы — словом, все исчезло. Когда «Сапфир» прибыл на место происшествия, вернее, на место казни, он ничего не нашел и отправился восвояси. На берегу, поросшем огромными деревьями, не заметно было никакого движения, ничто не шевельнулось в высоких травах, окаймлявших равнину. Не было ни трупов, ни обломков кораблекрушения — ничего. Несмотря на то, что трагический финал этой единственной в своем роде массовой попытки побега, зарегистрированной в анналах гвианской каторги, был скорее утешительным, администрация удвоила строгости. Заключенные, имевшие какие-либо мелкие льготы, этих льгот лишились. Те, кто надеялись их получить, не получили. И наконец, те из них, кто были на подозрении, стали объектом самого строгого надзора. Увы, Леон Ришар принадлежал именно к третьей группе. Он испытывал на себе разного рода мелкие придирки, ухудшавшие его ужасное положение, удваивавшие непреодолимую жажду свободы, сжигавшую его и днем и ночью. Его преследовали с помощью незначительных пунктов правил внутреннего распорядка, к нему придирались, доводили до белого каления еще и потому, что кто-то поинтересовался его судьбой и захотел облегчить его участь. Как гуманно! Протекция, оказавшаяся недостаточной, только причинила вред тому, за кого ходатайствовали! Дела бедняги Леона шли все хуже и хуже, до такой степени, что Бобино, полностью разуверясь в возможности применения легальных способов, их уже даже и не обсуждал, придя к единственному выводу: нужен побег! — Да, друг мой, побег… Ничего другого не остается, — говорил он Боско. — Целиком и полностью с вами согласен, — отвечал ссыльный. — Если можешь, сначала уноси ноги, а уж потом спрашивай разрешения. Прячась в большом доме, нанятом Бобино, Боско жил совершенно уединенно, вдали от посторонних глаз. Он отпустил бороду, не стригся и, учитывая его необыкновенно живую мимику, мог в случае надобности стать совершенно неузнаваемым. К тому же из дома он выбирался крайне редко, далеко не отходил и не только не ездил в Кайенну, но избегал даже выходить на дорогу, туда ведущую. Между тем Боско вынашивал планы, как бы наверняка организовать побег Ришара. Друга своего он повидать не мог, но Бобино, в одно из своих редких посещений, сообщил Леону о его присутствии. После всех превратностей судьбы, после стольких лишений Боско зажил наконец по-человечески. Он ел не просто досыта, но вкусную и изысканную пищу, большую часть дня проводил в гамаке, покуривая и мечтая, был защищен от палящего солнца, от которого у него в течение столь длительного времени буквально плавились мозги. Рядом с ним была милая, обожавшая его подруга. Он полюбил новых друзей, которых, как когда-то Людовик Монтиньи, считал своей новой семьей. Словом, горемыка ссыльный был на седьмом небе и не верил своему счастью. Но случалось ему, покуривая сигарету, задуматься над несчастьями, всю жизнь его преследовавшими. «С чего это ты взял, друг Боско, — спрашивал он сам себя, — что если все идет слишком хорошо, то потом ты обязательно попадешь в какую-нибудь переделку? Почему тебе такое лезет в голову? Кто знает… В любом случае следует не дремать и быть готовым ко всему…» И он тотчас же удваивал бдительность и принимал все возможные предосторожности, чтоб не раскрыть свое опасное инкогнито. Фиделия же, напротив, часто ходила в город со славной и преданной хозяевам поварихой-негритянкой, приходившейся ей к тому же очень дальней родней. В этих краях почти все приходятся друг другу дядьями, тетками, двоюродными сестрами и братьями. Она приносила новости, собирала сплетни, всяческие россказни — порой такую ерунду, что впору за голову схватиться, но порой кое-какие из них могли представлять некоторый интерес. В свою очередь, Бобино, понимая, что он не может просто так, неизвестно сколько времени жить в Кайенне затворником, — это может показаться подозрительным — очень остроумно придумал, чем мотивировать свое пребывание. Невероятно, чтобы человек богатый и привыкший к комфорту, поселился ради собственного удовольствия в этом городишке, где развлечения редки, человеческие взаимоотношения банальны, а интеллектуальный уровень более чем средний. Здесь нет охоты, нет спортивных развлечений, живут тут плохо, скучают, жарятся на солнце и испытывают настоятельную потребность очутиться как можно дальше от здешних мест. Кроме правительственных чиновников, образующих, как китайские мандарины, замкнутую касту, тут живут одни коммерсанты. Кстати сказать, народ очень активный, работоспособный, прекрасно знающий свое дело. После исчезновения плантаторов, они стали местной знатью. В большинстве своем люди богатые, живущие на широкую ногу, коммерсанты держат магазины колониальных товаров, похожие на базары, где торгуют всем понемногу. Там можно найти вино, бечеву, обувь, консервы, посуду, маниоку, одежду, скобяной товар, метлы, топленое свиное сало, весла, свечи, бумагу, деготь, шляпы, трикотажные изделия, ликеры, сушеную треску, аккордеоны, москитные сетки, кухонную утварь, гамаки, настенные часы, конфитюры и ночные горшки, высокие, как сиденья, на которых значится имя их изобретателя господина Карнавана, и т. д. Любой колонист, зайдя в такой магазин засунув руки в карманы, через два часа, ежели у него есть деньги, может выйти, закупив, притом не очень дорого, все, необходимое для дома, целиком и полностью. Здесь же отовариваются золотоискатели, приезжая с приисков. Они считаются завидными клиентами с тех пор, как колонию охватила золотая лихорадка. Лихорадка эта, кстати сказать, захватила всех поголовно, так как негоцианты, чиновники, государственные служащие организуют экспедиции, кредитуют золотоискателей и тратят большую часть своего состояния на эту лотерею, превращающую бедняков в миллионеров и наоборот. Ввиду того что золото являлось предметом всех разговоров, движущей силой всех важных начинаний, надеждой всех сердец, Бобино, благодаря своим масонским знакомствам завязавший отношения со всеми и везде, притворился, что он тоже охвачен этой жгучей и неумолимой страстью. Всем было известно, что граф богат. Он заявил, что хочет стать еще богаче. И вот Жорж взялся за изучение разных способов добычи, связался с обществом золотодобытчиков, часто с ними встречался, занялся геологией, короче говоря, старался походить на одного из тех одержимых, которыми так богата наша экваториальная колония. И сразу же его пребывание здесь показалось всем и каждому совершенно естественным. Его встречали на заседаниях синдиката, его знали как дельца-воротилу, и, так как он имел, кроме того, в своем имени дворянскую частицу «де» да еще и графский титул, его избрали членом многочисленных административных советов. Простофилям очень импонируют дворянские частицы и титулы. Короче говоря, подготовительная работа была произведена и теперь оставалось нанести решающий удар. А пока, насколько могли, граф и его друзья были счастливы в большом и удобном доме в бухточке Мадлен. К несчастью, этот мир и покой были безжалостно нарушены. В окрестностях Кайенны, связанных с городом большими дорогами, проложенными прекрасным администратором полковником Любером, во множестве встречаются выселки, которые очарованный путник мог бы назвать земным раем. Тут, на лоне пышной экваториальной природы, живут чернокожие колонисты, любовно возделывающие свои участки земли. Бананы с громадными атласными листьями, кокосовые пальмы с легкими торчащими плюмажами, апельсиновые и лимонные деревца, покрытые золотистыми плодами, величественные манговые деревья окружают превосходно возделанные маленькие поля, где растут маниока, кукуруза, табак, сахарный тростник, ямс и другие культуры, в изобилии встречающиеся на кайеннском рынке. Там и сям высятся похожие на корабли с гирляндами вымпелов, опутанные лианами деревья — остатки первобытного леса, — усыпанные цветами с яркими венчиками и тонким запахом. Сюда прилетают попить нектара колибри, их мелькание напоминает переливы драгоценных камней; здесь свистит иволга; перцеяды с огромными карикатурными клювами испускают крики, похожие на скрип несмазанных колес, на которые отвечают домашние птицы — трубачи, идущие во главе целого выводка уток и кур. Здесь преобладает первобытная жизнь, создающая впечатление мира, покоя и счастья. Все вокруг, кажется, нашептывает тебе: «Ах, как славно жилось бы тут, в этой убогой, но милой хижине с беседкой из ванили на крыше. Двери ее всегда открыты, любой прохожий может зайти и выйти, но только здесь ты ощущаешь домашний уют…» Однако вот уже несколько дней этот покой был нарушен серией краж, совершенных с поразительной отвагой и ловкостью. Впрочем, это были скорее не кражи, а мелкие хищения — пропадали куры, яйца, фрукты, различные мелочи, не представлявшие, впрочем, особой ценности, но, когда такое повторяется каждую ночь, невольно начнешь волноваться. Кроме того, женщины и в особенности молодые девушки, поздно возвращавшиеся из города домой, с недавнего времени стали подвергаться нападениям. Рассказывали, что какой-то мужчина, притаившись за кустами, выжидал на дороге то из Монтабо, то из Деград-де-Кан, то из Кабасу жертву и насиловал ее. Говорили, он обладает колоссальной силой и неслыханной ловкостью, двигается бесшумно, как тигр, глаза у него светятся в темноте и от него исходит сильный запах «кабри»[146]. Действовал он только ночью, поэтому почти невозможно было сказать о нем нечто определенное и в точности описать его. Несколько женщин уже стали жертвами его домогательств. И местных жителей стал охватывать страх, подобный тому, какой два года назад им внушали подвиги Педро-Крумана. Однако между двумя насильниками существовала разница: Педро-Круман был куда смелее. Этого же малейшее сопротивление, малейший крик повергали в бегство. Некоторые все же склонны были считать, что это Круман собственной персоной, сбежавший с каторги вместе с остальными во время массового побега и убийства часовых, но теперь находящийся нанелегальном положении и ставший поэтому более смирным, пообтесанный двумя годами заключения. К несчастью, бандит час от часу становился все наглее и теперь сеял ужас не только в пригороде Кайенны, но и на целом острове. Однажды вечером индус-иммигрант по имени Апаво, проживавший в красивом домике близ Монжоли, услышал, как в сарае закудахтали куры и захрюкали свиньи. Он вылез из гамака и, взяв саблю, которой колол скотину, собрался защищать свое добро, так как однажды уже был ограблен. Не успел он, ступив за порог, поднять саблю и принять оборонительную позицию, как на его голову обрушился удар, и с рассеченным черепом бедняга рухнул наземь, не испустив даже крика. Услышав звук падающего тела, жена, спавшая рядом в гамаке, забеспокоилась и стала его звать. Не получив ответа, она встала, но только коснулась ногой пола, как услышала совсем близко от себя частое и хриплое дыхание. Она хотела кричать, но две руки обхватили ее, чьи-то губы зажали рот, перед нею возникла не то маска, не то звериная морда. Чудовище долго истязало ее, сжимало, мяло, мучило, пока она не пала бездыханной. На следующее утро прохожие заметили, что сарай открыт настежь, а домашняя птица и скот разбрелись. Они вошли в дом и нашли там мертвого мужчину и женщину при смерти. Спустя пять дней китайца Ли, женатого на негритянке, постигла та же участь и при тех же обстоятельствах. Его маленький домик находился близ Ремира, на проселочной дороге в Крик-Фуйе. Ему повезло больше, чем индусу, — он не умер, и его полузадушенная жена тоже выжила. Перед тем как упасть, он успел узнать в злодее, испытывающем особое наслаждение от насилия женщины, обагренной кровью ее мужа, Педро-Крумана. Новость распространилась со скоростью пожара и посеяла панику среди мирных и трудолюбивых поселян, именуемых на острове «производителями жизненно важных культур». Да, эти добрые и работящие люди дрожали перед чудовищем в человеческом облике, и они имели на это все основания. Ведь красивые домишки, рассыпанные там и сям, в большинстве своем соединялись с большой дорогой просто тропинками, ведущими через лес и находящимися друг от друга на порядочном расстоянии. Через день после того, как в столь плачевном состоянии были обнаружены китаец и его жена, исчезла красивая квартеронка Валентина Альсиндор. Это произошло средь бела дня, после воскресной мессы[147], также в окрестностях Ремира. Валентина, одетая в праздничное платье, в прекрасном настроении, отправилась навестить свою подругу, за брата которой она собиралась вскоре выйти замуж. Жених ее — красивый мулат из Мана, был прорабом на золотой россыпи Сент-Эли; они ожидали только начала сезона тропических дождей, чтобы соединить юные сердца. Девушка шла вдоль поля маниоки, когда внезапно чудовище в человеческом обличий набросилось на нее и, зажав рот, потащило в лес, как зверь добычу. Ее обнаружили через тридцать шесть часов в пяти километрах от места похищения, невдалеке от перекрестка дорог на Деград-де-Кан и Монтабо. Но, Бог мой, в каком она была виде! Окровавленная, с вырванными волосами и с рваными ранами на груди, на всем теле — на шее, плечах, руках — синие следы укусов, оставленные острыми редкими зубами человека… зубами людоеда! Сломленная, обессиленная, умирающим голосом несчастная поведала свою душераздирающую историю. Круман, в тюремной робе, превратившейся в лохмотья, схватил ее и потащил в заросли. Он долго бежал, наконец добрался до какого-то шалаша, где у него хранились продукты и вода, лежанку заменяла охапка кукурузной соломы. Он набросился на нее, стал срывать с нее одежду, жалкие креольские побрякушки, а когда не сумел вынуть серьги из ушей, то так дернул, что порвал мочки. Затем, несмотря на ее крики, слезы и мольбы, несмотря на энергичное, хоть и безнадежное сопротивление, этот монстр накинулся на нее, как демон сластолюбия. Завывая, как хищник в пору спаривания, он стал тешить свою зверскую похоть — то сжимая ее, то целуя, то кусая. Обезумев от стыда и страха, раздавленная этими многочасовыми пытками, Валентина потеряла сознание и лежала как мертвая. Очнувшись, она даже не помнила, как сюда попала. Эти три страшных нападения в столь короткий срок показали, на что способен Круман, и довели панический ужас населения до высшей точки. Даже властям пришлось зашевелиться! Этим добрым «креольским» властям, чья жизнь — сплошная сиеста. Администрация стала предпринимать меры, которые обеспечили бы безопасность, мобилизовала жандармов и солдат береговой артиллерии, отрядила в колючие заросли людей в кожаном снаряжении и высоких сапогах, днем и ночью устраивала облавы. Но какими бы далеко идущими ни были намерения администрации, в такой же мере они были недостаточными. Шестьдесят человек топтались по равнине, лазали по чащобам и болотам, падали, поднимались, потели, но только и нашли, что лихорадку или солнечный удар. Шестьдесят человек на территорию в сто тридцать тысяч гектаров, равную округу Фонтенбло[148], нет, это решительно маловато! Да еще по такой пересеченной местности, как окраины Кайенны! Потому что хоть этот остров и имеет местами изрядную плотность населения, большая часть его территории пребывает в первозданном состоянии, отчасти из-за недостаточного раскорчевывания, отчасти из-за новой поросли, заглушающей вырубки. Что касается оплетенных лианами зарослей, там жандарм и двадцати шагов не ступит, как будет избит, исхлестан, изорван шипами до такой степени, что ему волей-неволей придется отступить. Для того чтобы проникнуть в эти дебри, надо быть либо слоном, либо муравьем, либо краснокожим. Индеец с кожей цвета светлой бронзы спокойно проникает в этот хаос ветвей, корней, цветов и колючек, передвигается там, охотится да еще и примечает малейший след, малейшую царапину, оставленную когтем дикого зверя. Если бы власти вызвали из Марони, Апруага или Айаноки полдюжины этих неутомимых следопытов, то Круман был бы пойман за два дня. Но администрации такой путь казался слишком простым! А злодей между тем разгуливал на свободе и продолжал совершать гнусные подвиги, переходя из одного района в другой, буквально издеваясь над несчастными, ожидавшими его на востоке, в то время как он появлялся на западе или на юге, оповещая о своем присутствии убийством и изнасилованием. В конце концов у всех голова кругом пошла от его хаотических и настолько же непредсказуемых, сколь и внезапных перемещений. Фиделия, часто ходившая в город за провизией, пересказывала Боско эти мрачные истории, и, хотя дом стоял на открытом месте и к нему нельзя было подойти незамеченным, Боско все равно призывал возлюбленную к строжайшей осмотрительности. — Подумай только, дорогая, что будет, если эта свирепая тварь набросится на тебя?! Если с тобой случится несчастье, я вовек не утешусь… Радуясь такой заботливости — этому свидетельству любви, — красавица мулатка обещала, что будет выходить из дому только засветло и не одна, а непременно с кем-то. Фиделия конечно же рассказывала обо всем и мадам Мондье, которая, будучи здравомыслящей парижанкой, не могла не счесть эти рассказы сплошным преувеличением. — Такие истории случаются только в романах! В книжках, которые берут в дорогу. Бобино не разделял ее мнения. От людей, вполне достойных доверия, он знал обо всех происходящих ужасах, об этом говорили и на заседании масонской ложи. Тут его парижская насмешливость уступила место искреннему сочувствию к потерпевшим и какой-то неясной тревоге. Ведь сам-то он тоже был мужем и жил в уединенно стоявшем доме. Насильник мог приметить белую женщину и сделать объектом своих омерзительных вожделений!.. При этой мысли Бобино содрогнулся и дал себе слово не спускать глаз с той, которая была его единственной отрадой и любовью. Он поделился опасениями с Боско, на что тот ответил: — Вы ломитесь в открытую дверь, патрон. Я начеку с того самого момента, как этот черный верзила начал вытворять свои гнусности. Гамак я повесил под верандой… Пес спит рядом со мной, на привязи. А под рукой у меня отличное ружьишко, заряженное патронами для охоты на оленя[149]. — Отлично, — одобрил Бобино. — Я ничего вам не говорил, боясь, как бы вы не сочли меня трусом. — Лишние предосторожности, тем более в таких обстоятельствах, вполне оправданны… Я их даже усилю тем, что обойду весь дом и службы. — Я уже осмотрел все слабые места, потому что не боюсь лобовой атаки. Нет, если уж нам следует чего-то опасаться, то это, — как и всем колонистам, живущим особняком, — насилия подобного тому, что происходило на лесных тропах. — Ты совершенно прав, милый Боско. Наш дом с массивными дверьми и стенами из железного дерева, равно как обнесенный частоколом хлев, может выдержать настоящую осаду. В конце концов, будем держать ухо востро. С этого времени Бобино за очень редким исключением все вечера проводил дома, хотя в принципе, наверное, не стоило подвергать себя затворничеству из-за какого-то обезумевшего от похоти негра. К тому же никто не замечал вокруг дома ничего подозрительного. Иногда пес громко и протяжно лаял на луну, но это отнюдь не было похоже на то, как лает чем-то встревоженная сторожевая собака. Правда, однажды ночью Боско заметил, как вдоль штакетника кралась, а потом замерла на месте какая-то тень, но это, должно быть, ему почудилось. И впрямь, назавтра он обнаружил на том месте, где остановилась тень, лишь ствол сухого дерева, на который иногда садились водоплавающие птицы. Так прошла неделя. Однажды вечером у Бобино была встреча с одним из подозрительных негоциантов[150], с помощью денег способствующих побегам с каторги; поэтому Жан задержался в городе. Припозднившись за беседой с плутом-торговцем, ставившим такие условия, что глаза на лоб лезли, граф возвращался домой в десять часов вечера быстрым шагом парижанина, покуривая дорогую сигару. Ему оставалось пройти метров восемьсот. Несмотря на то, что Кайенна — одно из самых безопасных мест на свете, Бобино был хорошо вооружен. Никакого предчувствия опасности у него не было. Уже были видны освещенные окна, за которыми его поджидала любимая Берта с ласковой улыбкой на зовущих к поцелую губах. Вдруг он пошатнулся и тяжело рухнул на землю. Не успев даже крикнуть, Бобино почувствовал, как на него обрушился сильнейший удар. Думая, что сражен насмерть, он прошептал: — Берта!.. Кто защитит ее?ГЛАВА 15
Когда бушует буря, когда корабль оказывается под неприятельским огнем, налетает на риф или, получив течь, идет на дно, капитан до последней минуты остается на борту. Будь ты адмирал или капитан крохотного рыбацкого суденышка, сначала изволь печься о благе пассажиров, потом — о своих подчиненных, а уж после этого думай о собственной шкуре. Это непреложное правило, непременное условие, это закон чести, который не может быть нарушен ни при каких обстоятельствах. Какое же отребье представляют собой каторжники, которых общество выбросило из своих рядов! До чего же они, сами себя поставившие вне закона, лишенные каких бы то ни было понятий о чести, заслуживают в большинстве своем презрения! Вот, подбитый крейсером, затонул корабль, собиравшийся отвезти их в царство свободы. Возникла страшная опасность, предотвратить которую почти невозможно. Необходимо предпринять какие-нибудь меры спасения. И это долг командира, втравившего их в эту авантюру… Но разве уместно такое слово, как «долг», когда речь идет о подобных людишках? Нет, для них это слово — пустой звук! Вот вам и доказательство — главарь первый закричал: «Спасайся кто может!» И он первый же сам и начал это делать, не заботясь о своих собратьях, а теперь к тому же и друзьях по несчастью. Даже члены волчьей стаи проявляют большую солидарность! Бамбош плавал как рыба. Его не втянуло в водоворот, образовавшийся после того, как старенький корабль пошел на дно, и Король Каторги первым схватился за оголенные корни огромных деревьев, окаймляющих побережье. Он был спасен. Почти сразу же за ним, запыхавшись, достиг берега тот великан, о котором мы уже упоминали. Он греб одной могучей рукой, а другой поддерживал над водой женоподобного юношу, с которым никогда не разлучался. Можно было подумать, что перед нами — проявление самоотверженности, возникающей порой даже у самых испорченных людей. Но нет! Мотивом спасения была грязная страстишка, распространенная на каторге, и которая там, не то по бесстыдству, не то по неразумию, не только не скрывается, а выставляется напоказ. — Мы тут, Бамбош! — прохрипел детина, отдуваясь. — Поддержи мальчонку, я больше не в силах. — Идти надо. Ноги — в руки, и — вперед. — Уф… уф… погоди… Бамбош подхватил юношу. Гигант, упав на землю, стал отряхиваться, отфыркиваться, затем отстегнул висевшую на поясе флягу: — А теперь давай мне мальчика. Мы с ним спаслись, а на остальных мне начхать. Но Бамбош, нахмурившись и сжав кулаки, смотрел на море. — Крушение, полное крушение, — бормотал он сквозь зубы. — Злой рок преследует меня, ничего мне больше не удается!.. Так замечательно продуманный план! Свой корабль!.. Шестьдесят дружков, не боящихся ни Бога, ни черта… Я стал бы королем Спорной территории… А теперь сколько из них спасется? Десяток, не больше… И у нас — ни крошки хлеба, ни крыши над головой, ни оружия… Один за другим уцелевшие после кораблекрушения каторжники, руками, ногами, зубами цепляясь за корни, выбирались на берег и, полумертвые от усталости, валились на землю. Геркулес, не обращая внимания на нещадно обжигавшее его солнце, окружил своего дружка самыми трогательными, хоть и неуклюжими заботами: растирал ему тело обеими руками, и, желая вылить воду, которой тот наглотался, пригибал его голову вниз, что паренек рисковал быть удушенным. Но люди эти, прошедшие огонь, воду и медные трубы, были живучи как кошки. Утопленник открыл глаза, высморкался и выругался: — Забери меня черт, я, оказывается, жив! Неужели ты, Мартен, вытащил меня из этого переплета? Ты отличный малый, Мартен!.. Великан одарил юношу улыбкой, отчего вся его бритая физиономия сложилась в гримасу, не то циничную, не то растроганную. — Я для тебя что угодно сделаю, Филипп, малыш. Между друзьями так оно и водится… И с величайшими предосторожностями, которые были бы трогательны, если бы не имели под собой столь мерзкой подоплеки, гигант перенес юношу в тень, подложил ему под голову охапку сорванной травы и безотлагательно занялся поисками чего-нибудь съестного, не обращая ни малейшего внимания на своих товарищей, в изнеможении лежащих на берегу. Он был действительно очень странным типом, этот мастодонт[151] с громадными мускулами, не ослабленными даже каторгой. Начнем с татуировки. С головы до пят он был покрыт разноцветными рисунками, вызвавшими бы зависть вождя племени индейцев. Это украшение, высоко ценимое на каторге, составляло гордость Мартена, и он охотно показывал всем желающим свой обнаженный торс. По правой ноге гиганта ползла змея, она обвивалась вокруг талии и жалила его сердце. Над головой пресмыкающегося красовался орден Почетного легиона на красной ленте с офицерской розеткой. На левой руке была выполненная красными буквами многозначительная надпись: «Филиппу на всю жизнь». На правой стороне груди человек в костюме паяца держал в одной вытянутой руке двадцатикилограммовую гирю, в другой — пушку. На животе был сапог. На правой руке — ноты со словами «Любовь — красоткам, изменницам — смерть». Наконец, всю спину занимала картина фривольного содержания, выполненная до такой степени реалистически, что самое смелое перо не в силах было бы описать ее. На пояснице, таращась неподвижным ящеричьим глазом, разлегся крокодил, а рядом анютины глазки размером с блюдце приглашали предаться воспоминаниям. Когда он, гордясь, демонстрировал товарищам свою раскраску, те из них, чьи тела, так же обращенные в картинные галереи, не содержали произведений такой высокой сложности, завидовали ему. Пока Мартен разыскивал пищу для Филиппа, появились и другие каторжники, помилованные океаном. Бамбош помог им взобраться на берег. Все они хотели есть, потому что перед нападением не успели даже бисквитов погрызть. Однако трое предусмотрительно запаслись саблями — вещью, необходимой для всех, кто собирается бродить по лесам. Вдруг великан Мартен испустил радостный крик: — Эй, ребята, да вот же жратва! Самые бодрые прибежали на его зов. Начался стремительный отлив, обнажив до сих пор скрытые под водой корни больших деревьев. На этих жестких, изогнутых, как паучьи лапы, корнях, гнездились целые колонии устриц. Их были тысячи, прилипших к древесной коре, склеенных раковина к раковине, образовавших длинные наросты толщиной в ногу. Один из владельцев сабли закричал: — Идите сюда! Мартен говорит правду, здесь устриц пруд пруди! И тут же начал отсекать саблей куски корней, а великан — таскать их на берег целыми охапками и складывать под деревом. Те, у кого был складной нож, открывали створки раковин и, за неимением лучшего, поедали моллюсков, чтоб утолить голод. Они были наконец свободны, но никто из них не приветствовал ликующими криками эту столь дорого купленную свободу. Будущее таило в себе угрозу — в перспективе их ждал голод, ужасный, убивающий даже верней, чем солнце, голод, заставляющий возвращаться скелетоподобных беглых каторжников, не имевших продовольствия, в места заключения. Однако им больше нечего было опасаться крейсера — потопив «Тропическую Пташку», он снова пошел своим курсом. Капитан счел за лучшее не преследовать выживших беглецов, не желая посылать в эти гиблые места лодку и рисковать ради поимки висельников жизнью хотя бы одного из своих моряков. Он знал Гвиану и превосходно понимал, что спастись эти бандиты могут разве что чудом — непроходимые джунгли послужат для них неодолимым препятствием. Бандиты тоже отдавали себе в этом отчет, и самые закаленные содрогались, вспоминая рассказы тюремных старожилов о судьбе тех, кого неуемная тяга к свободе толкнула к побегу. Теперь, очутившись на воле, что же им делать? Тропический лес — вон он, в двухстах метрах от полосы наносов, где виднеется частокол огромных деревьев. Найдут ли они там фрукты, ягоды, дичь? Сумеют ли ловить рыбу в бухточках? Не успели они сделать первые шаги на свободе, как уже оказались отрезанными от всего мира, словно потерпевшие кораблекрушение на плоту посреди океана. Фрукты!.. Фруктов не было и в помине… Кстати, в лесах тропические фрукты практически не растут. За редким исключением, роскошные заросли, приносящие замечательную древесину для строительства домов и кораблей, практически не дают съедобных плодов. Еще одно: можно ли считать продуктом питания ягоды, почти не растущие в этих широтах и которые, будучи собраны после долгих и опасных поисков, едва ли утолят ваш голод? По-настоящему пригодны в пищу и питательны манго, банан, гуайява, авокадо и особенно хлебное дерево, однако, чтобы получать съедобные плоды, их надо культивировать. Они должны быть посажены человеком и если и встречаются в диком состоянии, так это на оставленных человеком землях, где вскоре чахнут, задушенные растениями-паразитами. Таким образом, даже бродячие индейцы, несмотря на свою вошедшую в пословицу лень, расчищают в лесах делянки, где сажают ямс, батат, кукурузу, сахарный тростник, а главное, маниоку — продукты, составляющие основу их питания. Если они и охотятся, чтобы разнообразить свой стол, то никогда не делают этого в гуще тропических джунглей, а лишь по берегам больших и маленьких рек, где в изобилии водится рыба. И, надо заметить, там, где индеец со своими терпением и ловкостью первобытного человека умудряется поймать добычу, цивилизованный человек терпит неминуемое поражение. Встретить черепаху — это редкая удача. Что касается птиц, их совершенно невозможно отловить человеку безоружному, как недосягаемы для него и косули, овцы, американские дикие свиньи пекари, агути или даже простые броненосцы, которые, кстати говоря, расселяются не в гуще джунглей, а на опушках, лугах, по берегам ручьев и водоемов, то есть там, где нет деревьев-гигантов. С тревогой смотрел озабоченный Бамбош на своих товарищей, инстинктивно жавшихся к нему, предпочитая предводителя, пусть даже не очень опытного, принципу «каждый за себя». Мартен оставил у себя саблю, взятую для разделки устриц, а когда владелец попросил вернуть ему оружие, грубо заявил: — Она у меня, и у меня останется. А не нравится, так только попробуй заикнуться. Тот опустил голову и промолчал. Мартен подошел к Бамбошу и шепнул на ухо: — Не дрейфь, у нас все будет. — У тебя есть провизия? — Есть. Двуногая скотинка. — Я тебя не понимаю. Великан указал глазами на группу беглецов. Затем добавил, подмигнув: — Среди них есть такие упитанные, что не хуже телятинки будут. Я был мясником и в этом деле собаку съел. — Ты что, сожрешь своего товарища?! — Я не хочу, чтоб малыш голодал. Для того и саблю взял, она послужит отличным разделочным ножом. — Черт подери, это уже чересчур!.. — Ну тогда пошел ты!.. Когда человек пухнет с голодухи, то все, что хочешь, лезет в брюхо. А что, не так? — Ну ладно, поглядим… Все зависит от обстоятельств… — Не смеши меня своими обстоятельствами! Я одно знаю: когда малыш захочет бифштекс, я его добуду. На этом беседа прервалась — остальные сочли, что она затянулась, и забеспокоились. Их было одиннадцать человек, включая Бамбоша, чей авторитет заметно пошатнулся. В Париже, в своем кругу, он мог считаться, и действительно считался, одним из самых опасных бандитов. Его кровавая репутация последовала за ним на каторгу, где он тотчас же выдвинулся в первые ряды. Поначалу его, правда, немного прощупали, дабы убедиться, соответствует ли его репутация истине. У новичка был готов ответ: — Я пришил[152] родного отца. Кто из вас совершил нечто подобное? И действительно, это считается довольно редким подвигом, оцененным тем выше, что как раз в то время ни одного отцеубийцы на каторге не было. Бандитская элита склонила головы перед парнем, сразу же предъявившим столь веские доводы. Его сила, образование, ум и жестокость довершили все остальное. Он был избран Королем Каторги и выказал такие незаурядные личные качества, которые оправдали этот титул. Однако стать проводником в тропических джунглях, не имея никакого опыта, — дело безнадежное. И Бамбош, предполагавший без особых усилий и хлопот дойти морем до Спорной территории, признал про себя, что не сможет провести группу через лес. Но мужество ему не изменило. Хоть он и знал их всех, но впервые внимательно вгляделся в окружающих его людей, стараясь поточнее определить, чем именно каждый может быть полезен их маленькому сообществу. Среди них было семь белых, один негр и два араба. Мартен со своим Филиппом представления не имели о жизни в лесу. Остальные белые — Вуарон, Симонен, Ларди и Галуа — тоже никакими навыками не обладали. Арабы, которые могли бы быть отличными проводниками в пустыне, здесь казались совсем сбитыми с толку. Негр же, по имени Ромул, уроженец Иракубо, похохатывал, как обычно смеются негры, по любому поводу и сам не зная над чем. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство и грабеж. Единственное, что помнил Бамбош, так это то, что Спорная территория лежит на юго-востоке. Стало быть, надо идти на юго-восток через леса, равнины, болота, горы и реки. Ввиду того что у них не было продуктов питания, Бамбош сперва решил сделать главного добытчика из негра. Перед тем как тронуться в путь, он подумал, что нелишне сказать всей группе несколько слов — это не только поднимет их настроение и укрепит боевой дух, но и послужит некоторым свидетельством его главенства. — Братва, — начал он, когда все его окружили, — лучшие речи — краткие речи. Потому-то я скажу вам просто, без затей, без околичностей: надо идти, надо бороться, надо надеяться! Что касается меня, то я, не дрогнув, доведу до конца свою миссию. Я пообещал вам свободу и богатство. И я сделаю вас свободными и богатыми! Доверьтесь мне и следуйте за мной! Конечно же на нашем пути будут и страдания, и лишения, и опасности. Но, поверьте мне, худшее уже позади. Всего несколько дней пути отделяют нас от Спорной территории. Затем величественным жестом он указал рукой на юго-восток. — Вон там лежит земля обетованная! Идите, боритесь, надейтесь! Увлеченные этой пламенной тирадой, произнесенной зычным голосом, белые не удержались от возгласов одобрения. Арабы молча склонили головы, как бы говоря: «Мы готовы!» Негр оскалил крокодильи зубы и прыснул со смеху. Бамбош велел негру стать во главе шеренги, махнул рукой в сторону юго-востока и бросил: — Вперед! Густой, почти непролазный кустарник начался чуть ли не сразу. Негр, вооружась саблей, с большой ловкостью обрубал мелкие ветки, прокладывая просеку, вернее узенькую тропку, по которой едва-едва гуськом продвигались каторжники, спотыкаясь о корни, обдирая кожу о шипы колючих растений, задыхаясь от жары, царящей в подлеске, терзаемые голодом, вновь давшим о себе знать. Так прошли они приблизительно одно лье, когда лес вдруг расступился и показался прекрасный луг, окаймленный высокими пальмами. Густая трава скрывала их с головой. С шумом поднимались в воздух огромные птицы, похоже было, что незваные пришельцы вспугнули их с гнездовий. — Здесь неподалеку наверняка найдется недурная яичница, — заметил Галуа, высокий крепыш, чей здоровый аппетит давал о себе знать с самого момента кораблекрушения. — Я заприметил место, с которого поднялось больше всего птиц, схожу туда. — Ты нет ходить, брат, — удержал его негр Ромул с выражением отчаянного страха на лице. — И почему это мне не ходить, скажи на милость? — Там припри… — Какое еще припри? — Трясучий лужайка… — Да плевать я хотел на твою трясущуюся лужайку! Я голоден, а там есть яйца. Я схожу за ними. Негр схватил Галуа за рукав полотняной блузы. Тот вырвался и с такой силой толкнул обидчика в грудь, что едва не сбил его с ног. Но, не успев пробежать и пяти шагов, Галуа завопил от ужаса и хотел было повернуть обратно. Но было поздно. Земля ушла у него из-под ног. Он провалился по колено. При малейшем усилии вырваться он погружался все глубже — сначала до половины бедра, потом до пояса. — Ко мне! На помощь! — орал Галуа. Никто не шевельнулся. Воистину, великодушие и самоотверженность не присущи каторжникам! — На помощь! — снова взмолился Галуа. — Неужели вы дадите мне погибнуть?! Негр захохотал так, что чуть не лопнул, и приговаривал нежным голоском, так странно контрастировавшим с его отталкивающей внешностью: — Твоя знать теперь припри!.. Твоя знать трясучий лужайка! Теперь твоя пропадать, грубый тварь!.. — Эге, погодите-ка минутку! Я не желаю, чтоб он загнулся! — раздался грубый голос Мартена. — Если среди вас нет молодца, способного его вытянуть, это сделаю я! Чего ради Мартен испытывает желание рискнуть жизнью для ближнего своего? В такое и поверить-то было невозможно, все просто обалдели от несообразности его поступка, потому что знали: для Мартена ничто в мире не существует, кроме Филиппа, его «малыша». С большой ловкостью гигант лег на предательскую траву и пополз по направлению к несчастному, продолжавшему вопить, увязая все глубже. Галуа погрузился уже до подмышек и, чтобы не утонуть окончательно, удерживался расставленными в стороны руками. Мартен беспрепятственно дополз до него, схватил за руку и потянул. Благодаря богатырской силе он сумел выдернуть беднягу из ловушки, как огромную репу, а затем мало-помалу, отползая, вытянул его за границу опасной зоны. Когда оба очутились на твердой почве, Галуа, в полуобморочном состоянии, не веря, что избежал чудовищной опасности, начал лепетать своему спасителю слова благодарности. Мартен холодно пожал плечами и пошел прочь, как бы желая уклониться от этих изъявлений чувств. Он подошел к Бамбошу, считавшему своим долгом начальника выразить восхищение. — Дурак ты, — буркнул в ответ колосс. — Ну, дал бы я ему увязнуть в этой каше, так мы бы потеряли сто пятьдесят фунтов свежатины. Он довольно упитанный, наш товарищ Галуа. — Так ты снова возвращаешься к своей мысли? — Да, Бамбош, и сейчас более, чем раньше. Сам видишь — мы не нашли ничего съестного… На зуб положить нечего… А соловья баснями… — Может быть, мы достанем еду и без того, чтобы прибегать… — Дудки! И ты увидишь, настанет момент, когда мы будем счастливы сожрать кусок себе подобного…ГЛАВА 16
Оглушенный, Бобино рухнул как подкошенный, не дойдя до дома несколько сот метров. Удар был так силен, что он долго пролежал без сознания. Ему показалось, что он умирает, и последние его мысли, полные тоски и сожаления, были обращены к той, которую он так любил. Очнувшись, Жорж почувствовал жаркое дыхание, ощущая, как что-то теплое и влажное касается его лица. Бобино протянул руку и нащупал шелковистую собачью шерсть. В ответ на его движение собака завыла. Завыла горестно, почти по-человечьи, ее вой походил на рыдание… Он узнал свою собаку, любимицу всех домочадцев, отвечавшую им самой пылкой привязанностью. Пес продолжал выть и вылизывать ему лицо, как будто желая возвратить к жизни. — Атос! — прошептал Бобино. Умное животное попыталось встать на задние лапы и вдруг чуть не упало на хозяина. Юноша протянул руку и машинально погладил пса. Пес взвизгнул, как будто это легкое прикосновение причинило ему нестерпимое страдание. Бобино почувствовал, что рука его испачкана какой-то горячей, немного липкой жидкостью. Сквозь стиснутые зубы он с ужасом пробормотал: — Кровь… Наконец ему удалось открыть глаза, до этого он действовал на ощупь. Молодой человек лежал на обочине дороги, в густом кустарнике, куда его, должно быть, перетащили после того, как нанесли по голове удар, едва не стоивший ему жизни. Горизонт пламенел, плясали зловещие отблески пожара. Едкий дым медленно распространялся в тяжелом влажном воздухе и застаивался в нем, наполняя все вокруг специфическим запахом горящего дерева ценных пород. Лежа на земле, неподвижный, на фоне зарева он видел хрупкие, переплетенные между собой травинки. Скованный смертельной слабостью, несчастный думал, холодея от страха: «Дом в огне… Я ранен, вероятно, смертельно… Берта, что станет с Бертой?..» Он хотел выкрикнуть любимое, такое дорогое для губ имя — и не мог. Так велика была слабость, что он издал только стон, перешедший в рыдание. Отчаяние его было тем более ужасно, что он ничего не знал, а это неведение открывало дорогу самым жутким предположениям. Тогда Бобино попытался позвать на помощь. Собрав все свои силы, он попробовал подать сигнал тревоги. Увы, опять ничего, кроме стона, но на этот раз еще более тихого и жалобного. Голос не повиновался ему! Так бывает во сне, когда вас душит кошмар… «Я пропал… — подумал он. — Я ничего не смогу сделать для Берты… О Берта, любовь моя!» Сознание собственного бессилия пронзило его как кинжал. И этот побывавший во многих переделках, закаленный мужчина заплакал, как ребенок. И тут лизавший ему руку пес вновь завыл. Теперь это был так ясно выраженный громкий предсмертный стон, что он перекрыл гудение пожара. Сквозь дождь искр Бобино увидел бегущих к нему людей, чьи силуэты показались ему огромными на фоне кровавого зарева. Его нашли благодаря несчастной собаке. Дружеские руки подняли его. Он ясно расслышал обращенные к нему слова сочувствия: — Бедный юноша! Какой удар для него… Неужели он мертв? Увы, может, так для него и лучше… Жоржа вынесли из зарослей, куда его оттащил убийца, заметавший следы преступления. Пес, на чьей белой шерсти на боку виднелись пятна крови, ковылял сзади, продолжая подвывать. Бобино бережно перенесли в пощаженный огнем павильон. Не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, не в силах собраться с мыслями, он мучительно искал какого-нибудь знака или намека на судьбу жены, мысли о которой терзали его. Его уложили на низкий диван. Бобино страдал от жажды, у него начинался бред. Через распахнутые двери павильона был виден охваченный огнем дом. Бобино слышал, как окружающие горько сетуют и причитают с детской непосредственностью, присущей креолам в выражении чувств. Его посадили, поддерживая за плечи, и поднесли к губам стакан воды. Он жадно выпил, это принесло минутное облегчение. Бобино вновь попытался заговорить, но зародившийся было лепет замер на его губах от жуткого зрелища, открывшегося взору. Двое мужчин несли на самодельных носилках изуродованный женский труп. Длинные, черные как смоль волосы мели землю, точеные плечи проглядывали сквозь прорехи варварски разорванной в клочья одежды. Из устрашающей раны на горле стекала струйка еще горячей крови… Рана с рваными краями была похожа на укус. Подобную рану мог нанести тигр или какой-нибудь другой хищник из семейства кошачьих, любящий, смакуя кровь жертвы, почувствовать, как она, еще живая, трепещет у него в зубах. Но — любовь эгоистична, и у Бобино отлегло от сердца. Он понял, что убитая — отнюдь не Берта. Это была мулаточка, прелестная Фиделия, милая, преданная подружка несчастного Боско… Фиделия мертва… Фиделию убили… «Боже милосердный, — холодея от ужаса, думал Бобино, — что же стало с Бертой?» В это самое время группа негров и двое белых подвели к павильону мужчину со связанными руками, с трудом передвигавшего ноги. — Боско! — хотел воскликнуть граф. Но с уст его сорвался лишь жалобный стон… Белые господа в черных сюртуках имели важный вид. Бобино узнал в них судейских чиновников. Боско вырывался из державших его рук. Войдя в полутемный павильон со двора, озаренного пожаром, он почти ослеп. Внесли коптящие факелы, их колеблющееся пламя осветило помещение. Тут Боско заметил свою подругу и испустил леденящий душу крик раненого зверя, от которого кровь застыла в жилах у всех свидетелей этой драматической сцены. Один из чиновников глянул на Боско с видом одновременно угрожающим и самодовольным, как бы говоря: «Давай, давай, продолжай в том же духе! Но уж меня-то ты не проведешь». Решив воспользоваться первой минутой, когда от неожиданности и потрясения человек становится более покладистым и легче сознается, судейский чиновник величественным жестом указал на труп и напыщенным тоном, которому он старался придать достоинство, произнес: — Перед еще не остывшим телом жертвы… признайтесь в совершенном вами преступлении… Потому что убийца — вы! Боско снова завопил, и этот вопль был еще страшнее первого… Он скрипел зубами, невыносимое страдание исказило его черты… Он сделал отчаянное усилие, пытаясь освободиться от сковывавших его пут, и вдруг упал на колени перед носилками, на которых была распростерта его возлюбленная, мертвая, такая же прекрасная, как и при жизни. Сквозь сотрясавшие его страшные рыдания прорвался резкий, негодующий протест: — Я — убийца?! Лжете! — Выбирайте выражения! Оскорбление правосудия, представителями коего… — Наплевать мне на ваше правосудие, не способное защитить слабых и обвиняющее невинных! Да, вы лжете! Убил бы я ту, кого любил больше всего на свете, больше собственной жизни!.. Ее, любившую, утешавшую меня во всех моих злоключениях, во всех моих горестях… Она была моим добрым ангелом!.. Она спасла меня… Но вы не верите даже, что я обожал ее, что сердце мое сейчас разрывает такая мука, которую с трудом может вынести живое существо… Неужели в вас нет ничего человеческого? Неужели ваше ремесло вконец иссушило ваши души? Делайте со мной все, что вам заблагорассудится… Но не смейте кощунствовать, не смейте глумиться над моей любовью, над моей бедной разбитой любовью! После этой гневной отповеди, вызвавшей у всех присутствующих содрогание, а на губах судейского — скверную ухмылку, Боско вновь сотряс приступ рыданий. — Фиделия, любовь моя, радость моя! Ты, делившая со мной все горести!.. Фиделия, твоя бесконечная нежность смогла смягчить мою зачерствевшую душу… И вот ты мертва… Я не смог тебя защитить… О, будь проклят злодей, убивший тебя! Но я отомщу! — Хватит! — голосом, лишенным всякого выражения, прервал его судейский чиновник, оскорбленный гневной отповедью и в глубине души раздраженный тем, какое сочувствие вызывает в сердцах присутствующих скорбь Боско. Среди зрителей были и подоспевшие жандармы, прибывшие вместе с пожарниками — солдатами береговой охраны. — Жандармы, — приказал чиновник, — арестуйте этого человека! И так как этот приказ вызвал волну протестов, один из надсмотрщиков счел за нужное вмешаться. — Иди, иди, — сказал он Боско, — не упирайся. Этот молодчик — ссыльный, сбежавший из Сен-Лорана. Я знаю его, такой же негодяй, как и все остальные. Этих слов было довольно, чтобы окружающие потеряли к Боско какой бы то ни было интерес. И тут только Боско, чьи воспаленные от дыма глаза застилали слезы, заметил Бобино. Напрягшись в руках тех, кто тащил его к выходу, Боско сказал: — Вы, ставший моим благодетелем, скажите же им, кто я!.. Несчастный человек, но невиновный… Вы знаете мою жизнь… Замолвите за меня хоть словечко, умоляю вас! Губы Бобино слабо дрогнули, как и прежде, он попытался заговорить, но ни слова, ни звука не сорвалось с его уст… Взгляд его, полный ласки и сострадания, задержался на ссыльном, но судейский чиновник почел за лучшее его не заметить… Бобино вымолвил единственное слово — «Берта», он силился поднять руку, чтоб задержать беднягу Боско, но такой жест оказался выше его сил, и он потерял сознание. — Ладно, хватит! Ведите этого человека! — приказал судейский. Но Боско, сраженный обуревавшими его переживаниями, а быть может, и раненный во время этого таинственного нападения, напрасно пытался выпрямиться и идти с высоко поднятой головой. У него подкосились ноги, он зашатался и тяжело рухнул на землю. В это же мгновение подбежал, проталкиваясь сквозь толпу, врач береговой охраны. Осмотрев Боско, он сказал жандармам: — Этому человеку грозит кровоизлияние. Немедленно доставьте его в госпиталь. — Но, доктор, — попытался возразить судейский чиновник, — это ссыльный… — Это — больной, месье, — сухо прервал его врач. — И он находится в тяжелом состоянии. Несите его! Он подошел к Бобино и сокрушенно покачал головой. — В госпиталь! — кратко бросил медик. — Найдется четыре носильщика-добровольца? Добровольцев вызвалось не меньше двадцати. Жоржа де Мондье осторожно приняли на руки, и под неусыпным наблюдением врача он был доставлен в госпиталь. Что до второго судейского чиновника, с озабоченным видом начинавшего следствие, то он приказал отвезти туда же тело бедной Фиделии, чтобы самолично присутствовать при вскрытии. И пока зрители, бессильные чем-нибудь помочь, наблюдали, как догорает дом, три пары носилок отправились по идущей на Кайенну дороге. Пес Атос, на которого никто не обращал внимания, обессилев, больше не мог следовать за хозяином. Он улегся на лежанку, где недавно находился Жорж де Мондье и, жалобно скуля, начал зализывать раненый бок. Дом сгорел, челядь разбежалась, пес ранен — вот и все, что осталось от этого тропического рая, еще вчера дававшего приют стольким счастливым…Полчаса спустя печальная процессия прибыла в гражданскую больницу, расположенную на территории лагеря Сен-Дени, в живописнейшем месте, богатом деревьями и цветами, правда находящемся напротив кладбища, отделенного частоколом из гигантского бамбука. Жоржа де Мондье разместили в большой, хорошо проветриваемой комнате, но, увы, одного. Да, его оставили в одиночестве, агонизирующего, в двух тысячах лье от родины, покинутого в таком состоянии, когда он не мог даже оплакивать счастье, которое считал навсегда потерянным. Боско как ссыльный, находящийся в бегах, был помещен в маленькую комнатку с зарешеченным окошком, где уже стонали несколько каторжников. Бедняга попал в самую глубину каторжной клоаки.
ГЛАВА 17
Боско поставили за ушами пиявки, к ногам приложили горчичники, и он очнулся. Он был слаб, как ребенок, все тело ломило, двигаться он совершенно не мог. По одну сторону его кровати находилась сестра-монахиня, по другую — медбрат-араб, старик из переселенцев. Так как Боско метался на постели, медбрат прочел ему нотацию: — Не шевелись. Доктор рекомендовал тебе полный покой. — Ладно, твой доктор — славный малый, и я ему очень благодарен. Сестра, позвольте выразить вам почтение и уверения в моей признательности. — Оставьте это, дитя мое, оставьте. Вы ничем мне не обязаны. И не разговаривайте. Попытайтесь даже ни о чем не думать. Вы себя чувствуете лучше? — Телом — да, сестра. Но душой… Душа моя безмерно страдает… Вместе с сознанием к нему вернулось воспоминание о возлюбленной, перед его мысленным взором вновь предстала Фиделия, с растерзанным горлом, убитая каким-то мерзавцем, быть может, обесчещенная… При этой мысли слезы вновь брызнули из его глаз. Монахиня поняла, что этот человек с разбитым сердцем нуждается в одиночестве, чтобы выплакаться вволю. Она сделала знак медбрату, и оба на цыпочках удалились — они привыкли видеть страдания. Другие размещенные в палате больные ни слышать, ни видеть его не могли. Двое из них, сраженные солнечным ударом, бредили. Еще один, казалось, спал. Но на самом деле он бодрствовал, внимая горестным стенаниям соседа. Ничего похожего ему в жизни еще не приходилось слышать. Но вдруг Боско вздрогнул и подскочил на постели — тихий шепот соседа подействовал на него так, будто ему выстрелили в грудь. — Боско!.. Боско… Не шевелись, лежи спокойно… Ничего не отвечай… Опасайся всех и всего… Слушай меня — и ни одного неосторожного возгласа, ни звука… Пораженный Боско зашептал в ответ: — Положись на меня… Но кто ты? — Здесь меня называют номер сто сорок пятый… Но ты знал меня под другим именем… — Говори! — Леон… Леон Ришар… Боско крепко закусил край простыни, чтоб удержать крик удивления и радости. И в тот же миг вынужден был побороть порыв вскочить и прижать к сердцудрагоценного друга, жениха несчастной Мими, его названой сестренки, наконец, человека, к которому он так мучительно и безуспешно стремился в течение двух лет. — Вот так и лежи, молодец, — снова зашептал Леон. — Сохраняй спокойствие… Придвинь голову ближе ко мне, слушай… — Леон, дорогой ты мой, подумай, мало того что мы встретились здесь, но еще и при каких жутких обстоятельствах нам довелось свидеться!.. — Я ничего не знаю. — Сейчас я тебе все расскажу… Но ты-то, значит, ты болен? — Да нет, я чувствую себя как нельзя лучше. Симулирую тяжелую болезнь, чтоб здесь восстановить силы, окрепнуть и… бежать. Я притворяюсь, что крайне слаб, теряю сознание при каждом удобном случае, и теперь меня пичкают тонизирующими средствами. Кроме того, дают хинин, свежие орехи колы. — А ты знаешь, Леон, голубчик, я ведь к тебе добирался оттуда… из Сен-Лорана… — Я в этом и не сомневался… Сам туда собирался, чтоб тебя вызволять… Но тут нам будет полегче — Бобино нам поможет… — Ах да, Бобино… Господин Жорж де Мондье… Ты ведь не знаешь… На последних словах Боско немного повысил голос, и в нем зазвучали такие тоскливые нотки, что Леона пробрал озноб. — Ты принес какое-то печальное известие? — спросил он, охваченный дурным предчувствием. — Да, страшные беды постигают нас всех… И господина Жоржа де Мондье… И его супругу… И меня самого… Ах, бедный мой Леон, если бы ты только знал!.. — Да расскажи же, расскажи! Сперва о себе. — У меня была подруга, любившая меня, которую я боготворил. И недавно ее принесли мертвой, искалеченной, поруганной… А я не смог ее защитить, — продолжал Боско. — Мы ждали, когда вернется хозяин, бывший для нас как брат родной. В дверь постучали. На мой вопрос о том, кто пожаловал, последовал ответ, что граф прислал слугу с поручением. Едва я приоткрыл дверь, как негр огромного роста… полуголый… похожий скорее на чудовище, чем на человека… нанес мне страшный удар. Я рухнул как подкошенный. Но, прежде чем окончательно потерять сознание, я заметил, как негодяй кинулся с необыкновенной ловкостью и гибкостью на вбежавшую в комнату Фиделию и в приступе ярости вцепился ей в горло, как тигр. Она хрипела, истекая кровью… — Мерзавец! — закричал Леон. — Да, друг мой, я видел это и не умер… Не знаю, что было потом, я вынужден теперь лишь строить догадки… Когда я очнулся, дом был охвачен пламенем, а вокруг меня суетились люди. Бедная Фиделия исчезла… Я вырвался из рук тех, кто пытался оказать мне помощь, и кинулся на второй этаж, где должна была находиться мадам… Пожар гнался за мной по пятам, а я, полузадохнувшийся от дыма, рвался вперед, истошно вопя: «Мадам!.. Мадам де Мондье, где вы?!» Через минуту меня схватили как злодея и потащили в павильон, а там уж судебные власти устроили нам очную ставку!.. — Очную ставку? — переспросил оторопевший Леон. — Да. Потому что меня обвинили в том, что это я убил Фиделию, которую я так оплакиваю и чья смерть разбила мне сердце. — Подонки! — вырвалось у Леона, позабывшего при виде несчастья друга о собственных мытарствах. — И тут, рядом с истерзанным трупом Фиделии, я увидел распростертого Жоржа де Мондье с раскроенным черепом. — Бобино — убит?! Значит, Бог меня проклял! Бедный Жорж! Неужели я стану причиной его смерти?! — Будем надеяться, что он останется жив… — Но что сталось с его женой? — Не знаю… Она исчезла… Быть может, похищена этим чудовищем… Боюсь даже предполагать, что случилось на самом деле… — Послушай, Боско, мы не можем больше здесь оставаться, — решительно прервал его Леон. — Я теперь такой же узник, как и ты. — Чувствуешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы бежать? Чтобы вырваться из этого ада? — Да, чувствую! — И устремиться на поиски мадам де Мондье? — Да, да! Пусть для этого придется перенести тысячу страданий, даже жизнью пожертвовать! — Ладно. Тогда через два часа нас тут не будет. — Значит, твой побег уже заранее подготовлен? — Почти… Если мы все поставим на кон, если форсируем ход событий, то добьемся успеха! Главное, чтобы ты смог вынести все тяготы в борьбе, которую мы собираемся начать! — Когда человек одержим какой-то целью, он преодолеет все препятствия! — Не сомневаюсь в твоем рвении, но, Боско, дружище, ты пережил такой удар… — Не важно! Даже если я голову сложу ради этой цели, тем лучше — избавлюсь поскорей от проклятой жизни… — Да, ты можешь погибнуть… И я тоже. Но пусть хотя бы наша смерть принесет пользу тем, кого мы любим, кто сейчас страдает из-за нас. Держи, Боско, выпей. И Леон Ришар протянул товарищу больничную склянку, наполненную какой-то коричневой жидкостью. Боско опорожнил ее на треть и, оторвавшись, крякнул: — Сто чертей! У меня от этой штуки прямо пожар полыхает — как будто молнию проглотил. — Этот тоник — мое изобретение. Через четверть часа ты почувствуешь в себе такую нечеловеческую мощь, что сможешь вынести любую усталость, любые лишения. А теперь — разговоры в сторону. Давай притворимся спящими. Леон Ришар был прав. Странное питье подействовало на Боско почти мгновенно. С каждой минутой силы его множились, он становился другим человеком. Члены приобрели прежнюю гибкость, а на лице при слабом свете ночника можно было прочесть выражение решимости и отваги. В течение двух часов он лежал молча, в лихорадочном ожидании исполнения плана своего друга. Было два часа ночи, в госпитале царила мертвая тишина. Вдруг Леон стал быстро одеваться. Боско последовал его примеру. Декоратор подошел к двери палаты и коротко приказал: — Следуй за мной. Они вышли в коридор, прошли его и остановились подле окна. Леон пощупал решетку и приподнял один из прутьев, который легко поддался, образуя свободный проход. В тот же миг к ним подошел старый медбрат-араб с горящими в темноте, как угли, глазами. Боско вздрогнул и подумал: «Все пропало!» Он уже изготовился для прыжка, чтобы заткнуть рот пришельцу, но, к его глубочайшему удивлению, Леон протянул тому руку. Послышался звон золотых монет. Вместо того чтобы подать сигнал тревоги, медбрат вжался в угол. Леон просто-напросто расплатился с одним из своих сообщников. — Лезь туда! — Леон указал Боско на щель. — Там невысоко, всего метр. Не говоря ни слова, Боско пролез между прутьями и спрыгнул. Леон поступил точно так же. Спустя несколько секунд к их ногам упал объемистый пакет. — Что это? — спросил Боско. — Одежда, чтобы переодеться, и сабля. — Здорово! Вокруг царила тишина. Сориентировавшись по звездам, они достигли ограды, в то время как медбрат, пересчитав золотые, опустил на место, в гнездо, тяжелый железный прут. Никого не встретив, они без труда перелезли через стену и опрометью бросились в лесок, чьи ветвистые деревья защищали госпиталь от солнечных лучей. Беспрепятственно пройдя через него, не проронив по дороге ни слова, они вышли на берег канала. — Неужели все это так просто? — спросил наконец Боско, которому эта тишина казалась гнетущей. — Просто, но при условии, что в кармане у тебя десять луидоров — сумма огромная на каторге, — что ты сумел пристроиться в госпиталь не будучи больным, что тебе удалось подкупить медбрата, отбить на решетке скрепляющий цемент и так далее. — Твоя правда. А что мы теперь будем делать? — Я разверну тючок, достану куртку, матросские штаны, рубаху, пару башмаков, саблю, мольтоновую шапку. Перечисляя эти предметы, Леон постепенно заменял свою каторжную униформу вышеупомянутыми предметами матросского гардероба. Когда Леон натягивал штаны, Боско услышал звон металла. — Что это? — спросил он. — Моя двойная цепь. — Бедный дружище, как же ты от нее избавишься? — В один момент. Вот, я уже нащупал напильник. Добрый, старый Арби ничего не забыл. Беглец разорвал на бинты грубую полотняную рубашку, зацепил на ноге свою длинную цепь, сунул напильник в карман и взял в руку саблю. — Пошли! — Куда ты хочешь идти? — К дому, где жили Жорж де Мондье и его жена. Там дождемся рассвета, чтобы взять след этого, совершившего столько злодеяний подонка, а там любой ценой попытаемся вызволить графиню. — Только бы успеть вовремя! — с воодушевлением воскликнул Боско. Они быстро зашагали по дороге, не обращая внимания на прохожих, торопясь к сгоревшему дому. Там еще толпились люди. И Боско, которого увели отсюда в наручниках лишь пять часов назад, и верил и не верил, что все эти необычайные горестные события произошли в действительности. Пожарники продолжали поливать из насосов жалкие развалины, толпа любопытных мало-помалу рассасывалась. Благодаря ночной темени Боско и Леон пробрались незамеченными через ограду в усадьбу и прилегли под деревьями. Пользуясь этой передышкой, Леон с помощью напильника яростно атаковал браслет своих кандалов. Когда его онемевшие от напряжения пальцы отказывались повиноваться, за напильник брался Боско и с силой вгрызался в металл. После часовых усилий цепь сдалась. — Наконец свободен! — воскликнул Леон. Не успел он вымолвить эти слова, как до них донеслось учащенное дыхание, сопровождаемое слабым стоном, заставившим их вздрогнуть. — Да это же собака, черт побери! — сказал Боско. — Она нас выдаст! — Пес тебя хорошо знает? — Еще бы! — Ну так подзови его! — Атос, ко мне! Ко мне, моя славная псина! Собака приблизилась, волоча лапу, сперва заворчала при виде Леона, но вскоре успокоилась и начала лизать Боско руки. Тот гладил ее, подпуская все ближе к Леону, давая почуять его запах, обнюхать одежду, и умное животное, как бы поняв, что это — друг, мгновенно успокоилось. Была примерно половина пятого. Через час с четвертью рассветет. Боско заметил, что скоро они уже не будут в безопасности на этом участке, куда утром сбегутся все зеваки города. — Уходим, — коротко ответил Леон. Сопровождаемые собакой, у которой как будто и сил прибавилось, они двинулись по направлению к пустоши, ограниченной дорогой в Кабасу и бухтой Крик-Фуйе, куда, вне всякого сомнения, и направился таинственный похититель Берты де Мондье. Когда они перелезали через ограду, Леон Ришар заметил, что в одном месте за частокол зацепились два лоскута: один — грубого полотна, другой — тончайшей шелковой ткани цвета спелой кукурузы. Он отцепил их от забора и на всякий случай положил в карман, чтобы, когда рассветет, повнимательней их изучить — а вдруг находка даст какую-нибудь ниточку для поиска. И он не ошибся. Когда рассвет уже позволял им различать предметы, Боско глянул на лоскуток и вскрикнул: — Это обрывок пеньюара мадам де Мондье! Леон рассмотрел кусок грубого полотна, на котором были видны вполне читаемые буквы и цифры вперемежку с бурыми пятнами засохшей крови. — Поклясться могу, — сказал он, — что это обрывок одежды мужчины… Того негодяя, который похитил жену Бобино. — Ты уверен? — К несчастью, более чем уверен. — Кто?.. Кто же он? — спрашивал Боско, тем более взволнованный, что злодей был еще и убийцей Фиделии и Бобино. — Это один из каторжников. — Кто же он, говори! У меня кровь закипает в жилах! — Что ж, слушай. На ткани написан номер одного из самых жестоких, самых кровожадных бандитов среди тех, кто совершил побег из лагеря Мерэ. Это номер Педро-Крумана.ГЛАВА 18
Переход беглых каторжников был нескончаемой борьбой — они боролись с самой природой, усталостью и голодом, ужасным голодом, постоянно терзавшим их внутренности. Уже на исходе второго дня все они, кроме разве что Бамбоша, стали сожалеть о каторге с ее железной дисциплиной, изнурительным трудом, двойными цепями, со всей ее безнадежной жизнью. Какой им толк от этой свободы, купленной слишком дорогой ценой, если приходится агонизировать долгими часами, чтобы бесславно погибнуть и стать добычей ненасытных муравьев, чье шуршание нарушало тишину ночи. В конце концов они поняли, что променяли одну тюрьму на другую. Но теперешняя тюрьма, дающая им иллюзию свободы, была куда страшней и коварней. Там, на каторге, у них был хотя бы гамак, где можно было дать отдых усталым членам, тюремный госпиталь, где лечили малярийных больных, большая пайка хлеба, а для здоровых работяг — мясо и треска. Ясное дело — работать приходилось до седьмого пота. Да и охранники не отличались, как правило, ангельской кротостью. Но, по крайней мере, каторжники имели там жилье и хлеб, им был обеспечен завтрашний день. И кроме того, можно было лелеять надежду совершить побег, но — при более благоприятных условиях. Беглецы твердили все это про себя, а наиболее решительные откровенно признавались — да, они бы охотно променяли нынешнюю свободу на миску баланды или на горшок ароматных бобов, обжаренных на сале. В конце концов, не пошлют же их всех на гильотину! Ну, одного-двух, самых отпетых, — для примера. Бамбош, слыша эти разглагольствования, видя все симптомы начинающейся дезорганизации, ощущал, как его авторитет на глазах рассыпается в прах. Ясно, никогда больше не займет он на каторге своего места. Что касается его самого, он верил в успех своего предприятия. Что ж, смерть так смерть, но он желал погибнуть в борьбе, в бескомпромиссной борьбе за свободу. Лицо его обгорело на солнце, он обливался потом, пробираясь сквозь чащобу, в животе урчало от голода, и вдруг перед его мысленным взором предстало видение, заставившее его содрогнуться. Париж! Как легко смельчаку зажить там настоящей жизнью!.. Какое наслаждение — достигать роскоши, побеждая общество, которое он так ненавидел! И мстить своим недругам!.. А все эти разнообразные способы достичь пьянящего упоения, блаженства, которого он был лишен в течение двух лет!.. Два года на каторге… И теперь, когда можно все восстановить, стоит лишь приложить немного энергии, эти скоты хотят его предать! Он заскрежетал зубами и окинул своих спутников взглядом, заставившим их поежиться. На второй день пути они питались капустной пальмой, подвидом пальмы хамеропс, не имеющей совершенно ничего общего с капустой огородной. Невозможно быть меньше «капустой», чем эти короткие хрустящие, почти безвкусные волокна, которые только набивают изголодавшийся желудок, но не могут быть названы пищей в прямом смысле этого слова. Ромул первым заметил капустную пальму и принялся ее рубить, потому что, как известно, для того чтобы добыть молодые съедобные ростки, надо пожертвовать всем деревом. Остальные владельцы сабель стали фехтовать следом за ним, пытаясь завалить дерево с жесткими и клейкими листьями, которые почти невозможно прожевать. Побеги капустной пальмы были проглочены в одно мгновение, и жалкое воинство — ослабевшее, деморализованное, еще более голодное, чем до трапезы, — волоча ноги, тронулось в путь. Вечером, когда все укладывались на голой земле, чтобы хоть во сне обрести кратковременное забвение от усталости и голода, обнаружился первый пораженец, напрямик предложивший сдаться. Им оказался Галуа, которого Мартен-Геркулес извлек из зыбучей лужайки. — Черт возьми, — заявил он, — я возвращаюсь в лагерь Мерэ. А там — будь что будет… Большинство считало, что он прав, кроме разве что Геркулеса и его дружка Филиппа. Бамбош ничего не сказал, только поджал губы и одарил смельчака взглядом, не сулящим ничего хорошего. Ночью Король Каторги подошел к Мартену, о чем-то с ним коротко потолковал и спокойно растянулся на земле. Задолго до зари беглецов разбудил ужасный голод, терзавший этих мрачных и одиноких людей уже пятьдесят часов. — Я уже сказал и повторю еще раз, — раздался в темноте голос Галуа, — и никто меня не переубедит… Как только взойдет солнце, я отправляюсь обратно… — А по какой дороге ты пойдешь, идиот? — спросил Бамбош. — Да разве ты знаешь, где сейчас находишься и в каком направлении надо двигаться? — Тут ты отчасти прав, — отвечал Галуа. — Но если поискать хорошенько… и потом, я голоден! — Ты наступишь на хвост гремучей змее, свалишься в какую-нибудь яму, тебя звери загрызут! — Я хочу есть! — Я тоже хочу, и Малыш хочет, — перебил его Мартен. — Я не такой дока, как профессор из Сорбонны[153], но я люблю Малыша, и это наводит меня на мысль… Уж я-то дорогу отыщу, ручаюсь… — Как, Мартен, и ты, один из моих лучших друзей, ты тоже хочешь меня покинуть? — с удрученным видом заговорил Бамбош. — Как хочешь, а голодное брюхо к уговорам глухо. Вот что я предлагаю: если Галуа решил возвратиться, я берусь указать ему верный путь. Малыш пойдет с нами. — Мы все пойдем! — в один голос закричали каторжники. — В этом нет никакого смысла. Давайте-ка мы пойдем вперед и будем помечать путь, делая зарубки саблями. Если мы не найдем дороги, то вернемся сюда и пойдем в обратном направлении, если же нам удастся отыскать верный путь, вы последуете за нами. Таким образом, вы будете избавлены от утомительного перехода и избегнете лишних опасностей. — А задержавшись здесь, — прервал его Бамбош, — мы сможем раздобыть что-нибудь съестное. — Поглядим, — странным тоном ответил Геркулес. Тем временем поднялось солнце и ярким светом озарило лесные заросли. Галуа, Мартен и Филипп двинулись на северо-запад, то есть в сторону Кайенны. Прочие беглецы остались лежать, в то время как Ромул отправился на поиски ягод или диких фруктов. Он долго отсутствовал, а вернувшись, принес двух черепах весом килограммов в пять, а в руках, завязанных лианами на манер котомки, — орехи красного дерева. Черепах прямо в панцирях немедленно стали жарить, а пока жадно накинулись на орехи. Но, несмотря на указания негра, советовавшего им удалять мякоть, прежде чем разгрызть косточку, они взялись за дело так неумело, что вскоре у всех распухли губы под разъедающим воздействием сока. Беглецы ворчали и вовсю ругали своего любезного снабженца, обвиняя его одного во всех совершенных ими ошибках. Но внезапно все круто переменилось. Ромул, который мог бы великолепно просуществовать в лесах, где европеец отдал бы Богу душу в три дня, неожиданно вскочил, испустив радостный вопль. Негры смеются и пляшут по всякому поводу. А тут он заприметил дюжину красивых деревьев высотой метров по двадцать. Их верхушки соприкасались с верхушками других лесных гигантов, а стволы, покрытые чешуйчато-подобной корой, достигали метра в диаметре. У подножия — скорлупки, содержащие два зернышка, на вкус не очень приятные, но кое-как годящиеся в пищу изголодавшемуся человеку. Но вовсе не они так обрадовали чернокожего. Ничего не говоря, он сделал на дереве длинный надрез саблей. Из щели сразу же обильно хлынул густой, белый, кремообразный сок. Саблю Ромул воткнул чуть пониже надреза и, образовав нечто вроде импровизированного желоба, стал жадно хватать ртом жидкость, тоненькой струйкой стекающую с острия. Он пил, пил и не мог напиться, а все остальные смотрели на него во все глаза с удивлением, смешанным с завистью. — Что это значит? — спросил заинтригованный Бамбош. — Этот багаж — каучук! — отвечал негр, утирая испачканные молоком губы. В этом краю говорят «этот багаж», как у нас — «эта штука», «этот предмет». — Каучук?! — переспросил озадаченный Король Каторги. — А разве это можно пить? — О да! Лючше молоко от бик! (Молоко от быка!) — Тогда я тоже хочу попробовать! — Так, так. Но как пить будешь? — Каким образом? Да с помощью сабли! — Есть мал-мал три сабля, а мы быть десять. — Ты прав. Как же поступить? — Ждать маленький кусок. Несколькими быстрыми взмахами сабли негр нарубил куски лиан, густо оплетших эти, как, впрочем, и все деревья в округе, и каждым куском лианы наискось опоясал древесный ствол на уровне человеческого роста. Затем он взял комок глины и обмазал ствол там, где к нему прилегала лиана, образовав тем самым желобок. Каторжники, уловив его идею, тоже стали шпаклевать глиной мельчайшие щели. Когда недолгая подготовительная работа была закончена, Бамбош сделал несколько насечек чуть выше желоба, и сок обильно потек. Каторжники припали к желобу и стали пить эту жидкость, действительно приятную на вкус и восстанавливающую силы. Пили они долго. Но внезапно хлынул ливень и вывел из употребления примитивное, но хитроумное устройство, которое негры заимствовали у старых серингейру[154]. По лености своей каторжники не захотели восстанавливать поилку. Среди них нашлись желающие навязать эту работу Ромулу на том основании, что он негр. Ромул обиделся. Один из беглецов, Вуарон, грубая скотина, ударил его дубинкой и завопил: — А ну вкалывай, черномазый, а будешь отлынивать, я тебе покажу! Я знаю, как проучить лодыря! Негр побледнел, вернее посерел, и задрожал всем телом. Затем, одним прыжком вырвавшись из окружившей его группы сотоварищей, он бросился наутек и скрылся в густом кустарнике. Преследовать его было бы безумием. Пораженные его ловкостью, беглецы застыли на месте, сожалея уже, что по собственной глупости грубо обошлись со своим снабженцем. Они провели плохой день и поистине ужасную ночь. Назавтра они единогласно, исключая Бамбоша, объявили, что намерены вернуться в каторжную тюрьму. — Как изволите, — с ядовито-насмешливым видом заявил Бамбош и ухмыльнулся. — Что ж, — предложил Вуарон, — пошли по следу Мартена, Галуа и Филиппа. — Верно, пошли, — поддержал его один из каторжников. — Мне надоело пить в натуральном виде непромокаемые плащи. Шутке посмеялись и, жуя несколько семечек каучукового дерева — гвианской гевеи, тронулись на голодный желудок в путь. Ромул ушел и как в воду канул. А каторжники все больше и больше сожалели об его отсутствии. Они легко нашли след трех ушедших товарищей и долго гуськом брели через лес. Час от часу страдания их становились все нестерпимее. Усталость, жара, а главное, голод — все это было, в прямом смысле слева, пыткой. Во второй половине дня они уже плелись, шатаясь, спотыкаясь о причудливой формы корни, которые негры называют «собачьи уши». Запыхавшие, вконец обессиленные, они упали на землю и приготовились к смерти, но тут до них донесся запах жареного мяса. Учуяв его, несчастные вскочили на ноги и, обезумев, помчались к тому месту, откуда этот запах исходил. Каторжники очутились на поляне, на берегу ручья, и увидели Мартена и Филиппа, наблюдавших, как жарится нанизанный на палку большой кусок окорока. Филипп поджаривал на острие палочки что-то коричневатое, очень похожее на печенку. При этом зрелище голодающие набросились на недожаренное, еще кровоточащее мясо, выхватили его из костра и, как волки, стали рвать зубами и пожирать свою добычу.ГЛАВА 19
Когда банда беглых каторжников садилась на корабль, намереваясь покинуть берега Гвианы, Педро-Круман, как известно, отказался занять место на борту. Он пожелал остаться и найти ту белую женщину, воспоминание о которой воспламеняло ему кровь. Негр распрощался с Бамбошем и возвратился в окрестности города. Обосновался он в ветхой сторожке на заброшенной плантации и постепенно стал обращаться в дикое состояние. Пищи каторжник имел в изобилии: он находил фрукты и овощи, дополняя вегетарианский рацион крадеными курами, утками, поросятами. С первых же дней этот свирепый и похотливый зверь почувствовал, что желания его обострились и усилились. Педро-Круман, гроза идущих в одиночестве женщин, терроризировавший весь остров Кайенну, явился вновь, опасный, как никогда. Мы уже знаем, какие он начал вершить подвиги в предместье столицы, знаем и то, что имя его стало легендарным и повсеместно внушало ужас мирному населению. Он изнасиловал, задушил или покалечил многих креолок, но нужна ему была красивая белая женщина, не выходившая у него из головы. Не зная, как ее найти, он прибегнул к уловкам. Несмотря на свою грубую оболочку, негр был весьма хитер. Он отправился в город, зашел в лавку мадемуазель Журдэн и повидался с обрадованной его возвращением дочерью Миной. Естественно, молодая графиня де Мондье, несмотря на свое отвращение к Фанни, нуждалась в услугах модистки. Мине случалось относить товары в дом близ бухты Мадлен. Она прекрасно знала титулованную клиентку, всегда встречавшую ее очень приветливо. Само собой разумеется, девочка по наивности дала отцу все интересующие его сведения, и он, окрыленный, отбыл восвояси. Терпеливый и чуткий, как тигр, Педро устроил засаду невдалеке от дома графа. Лежа в густых кустах, и днем и ночью он вел неусыпное наблюдение. Несмотря на пожиравшее его страстное желание, негр сумел, оставаясь невидимым и неслышимым, сам все видеть, слышать и примечать, изучить все привычки обитателей дома — прежде чем начать действовать, он хотел быть уверенным в успехе. Ничто не могло поколебать его страшное упорство: ни голод, ни адский зной, ни усталость, ни роящиеся насекомые, ни даже страх быть узнанным и схваченным, абсолютно ничто! Иногда ему удавалось увидеть ничего не подозревающий объект своего мерзостного вожделения. Тогда, перевозбудясь почти до исступления, он подавлял рвущийся из груди вой — так кричат звери в период спаривания. И несмотря на то, что он не знал удержу в своей похотливости и ни перед чем не останавливался, этот могучий великан не осмеливался ворваться в дом силой. Педро опасался европейца, и не столько даже его оружия, сколько отваги и решимости, — так хищник в джунглях чует присутствие белого человека и испуганно удирает прочь. Однако наступил день, когда Круман заметил: юноша, в чье мужественное лицо он не смел взглянуть, с чьим взглядом никогда не решался встретиться, куда-то ушел. Негр испустил из чудовищной груди вздох облегчения, похожий на мычание быка, и сказал себе: «Час пробил». Он терпеливо дождался возвращения Бобино, одним прыжком настиг его и нанес такой удар, от которого тот упал как подкошенный. В темноте, в засаде, Круман чувствовал себя храбрецом. Решив, что убил графа наповал, Педро оттащил неподвижное и бездыханное тело в придорожный лесок и бросил там. Самая тяжелая и сложная часть его гнусной работы была сделана. Теперь в доме оставался всего один мужчина, правда, тоже белый, но такой, в ком он своим приобретенным на каторге инстинктом чувствовал брата каторжника, то есть себе ровню. Уверовав в это, Круман, с его чудовищными кулаками, опасался второго европейца не больше, чем боялся бы несмышленого ребенка. Набравшись смелости, он постучал в дверь[155]. Раздался заливистый, яростный лай собаки. Боско пошел открывать, из осторожности спросив, кто там. — Я негр, здесь в услужении, — ответил Круман. — Хозяин прислал меня с поручением. Эти слова, произнесенные тихим голосом, усыпили бдительность Боско. Он отворил. Как и Бобино, Круман уложил Боско одним ударом. Тут на него кинулся пес. Негр пырнул его саблей в бок, и бедное животное отползло, жалобно скуля. Фиделия, услыхав какой-то шум и жалобный вой собаки, торопливо вышла, держа свечу под стеклом. Она увидела, что Боско лежит в беспамятстве, а какой-то незнакомый негр неотрывно смотрит на нее своими налитыми кровью глазами. Девушка поняла, что им грозит опасность. Отступив на несколько шагов, Фиделия бросилась бежать: предупредить хозяйку, а если потребуется, защитить ее своим телом. Круман интуитивно почувствовал, что мулатка окажет сопротивление, а это могло расстроить его планы. Не издав ни единого звука, он прыгнул на жертву, обхватил ее руками и стиснул так, что чуть не раздавил ей грудную клетку. Бедняжка издала лишь слабый предсмертный стон, и глаза ее закатились. Когда монстр почувствовал в своих объятиях теплую ароматную плоть, это молодое трепещущее тело, полное сил и едва прикрытое тонким фуляровым платьем, его охватил приступ ярости и похоти — нечто вроде садистского бреда, примеры которого дикари демонстрируют так же, как и цивилизованные психопаты. Он кусал ее за плечи, за горло, его пьянил вкус теплой, обильно текущей крови… Острые зубы каннибала, специально подпиленные для того, чтобы лакомиться человеческим мясом, все глубже вонзались в горло бедняжки. Жадными губами он пил ее кровь, хлеставшую из разорванных артерий. И все его естество сладострастно сжималось, когда он ощущал, как бьется в конвульсиях прекрасное тело мулатки. С адским хохотом он отбросил уже ставшее трупом тело и устремился вверх по лестнице. Графиня де Мондье, полулежа на бамбуковом диване, читала книгу. До нее донесся какой-то шум, но это не слишком взволновало ее. Однако она решила узнать причину. — Фиделия! Фиделия, это вы? — негромко позвала она. На скрипучих ступеньках лестницы послышались приглушенные шаги. — Фиделия, что там происходит? — еще раз окликнула графиня. Дверь стала открываться, и в освещенную свечами комнату просунулось измазанное слюной и кровью лицо негра. Потрясенная, Берта почувствовала, как волосы на ее голове зашевелились; ее охватила дрожь. Она хотела бежать, кричать, звать на помощь, но не в силах была вымолвить ни слова, не могла шевельнуться, понимая, что ей грозит ужасная опасность и ничто не спасет ее — она пропала… Смертельный холод пронзил ее. «Я умираю», — подумала она. И тяжело упала на пол. Негр снова разразился гортанным хохотом, похожим одновременно и на крик зверя в период спаривания, и на лай гиены. — Она — моя, белая красавица… — прохрипел он. — Ах, наконец-то!.. Педро взял свечу и поднес ее к занавеске, сразу же вспыхнувшей. Убедившись, что пламя охватывает комнату, он подхватил на руки несчастную женщину, осторожно спустился по ступенькам, пересек двор, перескочил через забор и помчался к своему логову. Бежал он долго, удивляясь порой неподвижности молодой женщины, которую он нес с той же легкостью, с какой молодая мать несет грудного ребенка. Когда Круман бежал по лесу, то машинально придерживал рукой ветки, чтобы они не хлестнули или не оцарапали его добычу. Трепет пробегал по всему его телу, иногда он скрипел зубами, страсть овладела всем его естеством. Наконец Круман добрался до своей лачуги, которую слегка подремонтировал, и теперь новая крыша из пальмовых листьев являлась надежным кровом. Он положил по-прежнему недвижимую Берту на ложе из кукурузной соломы, а сам уселся, свесив ноги, в гамак, предварительно украденный в одной из хижин по соседству. Эта неподвижность все так же интриговала его, а теперь даже начинала беспокоить. «Уж не умерла ли белая женщина?» — спрашивал он себя, прислушиваясь к ее дыханию. И как всегда, когда сталкивался с какой-либо трудностью, он сжимал челюсти со зловещим скрипом, свойственным крупным человекообразным обезьянам. Прошел час томительного ожидания. Женщина не шевелилась. Тогда Круман решил осмотреть ее. Под пеплом еще тлело несколько головешек. Педро разгреб угли, подул на них и, взяв стебель смолистого растения, скорее всего сассафраса, воткнул один его конец в костер и снова дунул. Дерево загорелось довольно ярко, осветив все закутки убогого жилища. С разметавшимися волосами и открытым воротом, Берта, чье изящное тело просвечивало сквозь подранную одежду, показалась ему такой прекрасной и одновременно такой бледной, что в его вопле смешались восхищение и ужас. — Неужели она умрет? — заикаясь, бормотал Круман, приближаясь к ней. Он коснулся ее кончиками когтистых пальцев и, убедившись, что тело не холодеет, немного успокоился. Тем не менее ему было не по себе. Он отнюдь не привык к обморокам, напротив, его жертвы всегда отбивались, кусались, царапались — словом, оказывали сопротивление, удваивавшее его животное неистовство. Ни ум, ни инстинкт не срабатывали; об уходе за больными Круман не имел ни малейшего представления; он схватил большую тыкву, наполненную водой, хлебнул изрядный глоток, снова уселся в гамак и стал тупо ждать. Сама идея о смерти сбивала негра-дикаря с толку и заставляла роиться в его голове странные и волнующие мысли. Прошло много времени, однако упорство его не поколебалось. Но вдруг Берта де Мондье чуть шевельнулась. — Ах, — сказал он, — белая женщина жива, и Педро-Круман сможет ее любить. Это красиво — она такая белоснежная, а кожа похожа на цветы лилий на припри… Волосы у нее тонкие, да, тонкие и мягкие, как шелк большой синей бабочки… и такие золотистые, как крылья кинкин… У негритянок волосы короткие и жесткие, как железная проволока. Молодая женщина вновь зашевелилась и глубоко вздохнула. — Надо, чтобы и она меня полюбила, — вполголоса продолжал Круман. — Ведь я самый сильный из всех, все меня боятся. А если не захочет полюбить добровольно, так силой заставлю… Но я бы предпочел, чтобы по своей воле… Всех остальных я брал так, случайно… А потом оставлял, живых или мертвых… не знаю… как ореховую скорлупу или косточку от только что съеденного фрукта… Бедная Берта в это время открыла глаза и обвела блуждающим, полным ужаса, почти безумным взглядом окружающие ее незнакомые предметы, освещенные лучиной из горящего сассафраса. Графине казалось, что она погружена в один из тех кошмаров, тем более мучительных, потому что очень напоминают реальность. Видя, что она вышла из забытья, Педро решил: вот и наступил удобный момент для того, чтобы выступить во всей красе и продемонстрировать белой женщине свои физические достоинства, которыми он немало гордился. Он выпрямился в полный рост, расправил плечи и выпятил грудь с чудовищно развитой мускулатурой. — Белая женщина, — напыщенно произнес негр, — находится под крышей Педро-Крумана. Педро-Круман любит ее. Она его тоже полюбит. Молодая женщина была наслышана об ужасном бандите. Услыхав имя, которое она больше всего боялась услышать, Берта обратила взгляд в ту сторону, откуда доносился голос, и увидела громадного, устрашающего вида негра, одетого в лохмотья, рассмотрела его лицо, шею, губы, красные от крови. Внезапно она вспомнила. Там, в доме возле бухты Мадлен… Мужа нет дома… Какой-то подозрительный шум на первом этаже… Затем это окровавленное чудовище вламывается в ее комнату. Педро-Круман! Каторжник!.. Насильник!.. Убийца… Бандит, чье имя заставляет вздрагивать всех местных жителей… Да, зловещий герой таких историй, что в них и верилось с трудом… И вот она здесь — слабая, одинокая, беззащитная, в лапах этого ошалевшего от похоти зверя, убивавшего женщин в своих чудовищных объятиях. Ей показалось, что мозг ее разрывается в ставшей тесной для него черепной коробке. Красная пелена поплыла у нее перед глазами, и она забилась на кукурузной соломе в сильнейшем нервном припадке. Бессвязные звуки слетали с ее губ, на них выступила пена, широко открытые глаза смотрели в одну точку, все члены ломала судорога. Крумана охватил смутный страх — присущая дикарям суеверная боязнь, испытываемая ими при виде эпилептиков и сумасшедших. Озадаченный, он отступил на несколько шагов от ее подстилки, но не опустился в гамак, а присел на корточки, в той обезьяньей позе, в которой негры обожают спать или коротать часы ожидания. Время шло. И нетерпение злодея все возрастало — он уже привык к этому новому и странному для его дикарского ума зрелищу. Его скотские инстинкты возобладали, сластолюбие, похоть овладели им еще более властно, чем раньше. «В конце концов, — думал он, — белая женщина жива: она разговаривает, мечется, глаза у нее открыты… Наверное, я ее напугал… У белых женщин, безусловно, нервы послабее, чем у негритянок… А я и не знаю, как к ним подступиться, как с ними заговорить…» Круман снова подошел поближе и, пытаясь, насколько возможно, смягчить тембр голоса, стал говорить, что белая женщина очень красивая, что он ее хочет так, как никогда не хотел ни одну женщину. Тут он встрепенулся и продолжал: — Белая женщина конечно же любит украшения, сверкающие как солнце… И серебро, на которое все можно купить… Круман подарит ей украшения и серебро… Пусть только она с ним поговорит… Пусть на него посмотрит… Пусть скажет ему что-нибудь, а не трепыхается, как будто она хлебнула лишку пальмового вина. До Берты неясно доносилось его бормотание, и она делала нечеловеческие усилия, чтобы вновь прийти в себя, прорвать ужасную красную завесу, колыхавшуюся у нее перед глазами. Но мысли ее путались, слова, слетавшие с губ, были бессвязны, она не различала окружающие предметы, и все бесплодные попытки выбраться из забытья приводили лишь к бреду и судорожным подергиваниям. Глухое бешенство стало овладевать Круманом, он все меньше и меньше понимал, что же происходит; ему начало казаться смешным, что перед ним лежит женщина, которую он так страстно желает, но слабость ее мешает ему удовлетворить обуревавшие его желания. Однако, прежде чем перейти к насилию, единственному, что до сих пор приносило ему удовольствие, Педро все же решил прибегнуть к последнему способу, считавшемуся у него неотразимым. Он порылся в стоящей в углу хижины пагаре и извлек оттуда пригоршню каких-то предметов, издававших металлический звон. Затем, уверенный в себе и торжествующий, он приблизился к подстилке, на которой билась графиня де Мондье, и жестом султана, осыпающего золотом любимую наложницу, швырнул на кукурузную солому несколько серебряных заколок для волос и грубых браслетов — жалкие побрякушки, снятые им со своих жертв. Берта ничего не видела и не слышала… Круман, чье раздражение нарастало, зловеще защелкал челюстями — верный признак того, что он взбешен, но все же сдержался и бросил: — Белая женщина предпочитает деньги… Что ж, вот ей деньги… И на подстилку посыпались монеты по сто су, должно быть, им начищенные, потому что они так сверкали, что больно было смотреть. Обнаружив, что женщина остается бесчувственной ко всем его подношениям, он впал в дикую ярость. В этом всплеске смешались гнев и ни перед чем, даже перед смертью, не отступающая похоть. Глаза его налились кровью, он засопел, как бык. Едва можно было разобрать отрывистые слова, которые Круман с трудом выплевывал, кинувшись к бедной Берте: — Белая женщина притворяется, что меня не видит… Что меня не слышит… А мне все равно! Она моя! Я ее хочу! И я ее возьму!.. Затем он схватил ее в объятия и приблизил отвратительную морду к лицу своей жертвы.ГЛАВА 20
Каторжники до последнего кусочка умяли то мясо, которое Мартен, именуемый Геркулесом, жарил на костре на берегу живописного прохладного ручейка. Голод был утолен, желудки их испытывали признательность. Они поблагодарили Геркулеса. Он благодушно ухмыльнулся и заявил: — Еще и резерв остался — более ста фунтов одной только мякоти. — Да, — подхватил нежным голоском Филипп, пустоголовый кретин с манерами гермафродита. — А мясцо хоть куда! Жаль, нет хотя бы нескольких луковиц, славное вышло бы жаркое!.. — Неожиданно подфартило, а, Мартен? — искренне смеялся Бамбош. — Да, Бамбош. Бежала себе лань, а ее возьми да и придави упавшим деревом. Мне оставалось только добить, повесить, чтоб кровь стекла, и освежевать ее. И все для того, чтобы Малыш полакомился кусочком печеночки. — А печень была нежная, словно телячья. Жаль, нет сковороды, сливочного масла и специй, а то б вообще — как в хорошем ресторане… — А не заткнуться ли тебе? — отрезал грубиян Вуарон. — Ну, набили мы себе брюхо, и точка на этом. — К тому же изрядно набили. — Верно. И это должно заставить нас подумать об отсутствующих товарищах. Я что-то не вижу Галуа, этого бедняги. Он — мой друг, и я хочу, чтобы он тоже получил свою пайку от этой неожиданной добычи. — Ах да, твоя правда, — отвечал Мартен. — Галуа! Я вам не сказал… Вы же набросились на жратву как голодные волки… Слова нельзя было вставить… Вот я вам и не успел рассказать, какая беда приключилась с Галуа… — Беда? Что за беда? — Представьте себе, он пошел на поиски… То есть мы все трое шли через лес… Он шел первый. Надо было перейти через речушку, он входит в воду… А там поскользнулся — и бултых! — Что — бултых? — Вопрошавший раздражался все больше и больше. — Ну как что, сделал бултых! — и ушел под воду… И исчез… Утоп в воронке… Утонул и не вынырнул. Чистую правду говорю… — Очень жалко, — опечалился Вуарон, — потому что в Галуа все-таки было что-то хорошее… Произнося эти слова, он с аппетитом дожевывал последний ломтик печенки. Мартен смотрел на него, как бы не понимая. Затем в его тупой башке забрезжил какой-то свет, и он разразился диким хохотом. — Охотно верю, что и впрямь в нем было кое-что хорошее. Для нас, во всяком случае. Хорошо осведомленный Бамбош соизволил присоединиться к этому взрыву веселья. Отсмеявшись, он заявил: — Благодаря так удачно добытой лани, старина Мартен, мы сможем продолжить свой путь, потому что теперь, когда у нас есть продовольствие, я полагаю, никто не помышляет о том, чтоб вернуться в Кайенну. — Как скажешь… Я отдам братве запас свежего мяса при условии, что Малыш будет получать особый ежедневный рацион. Даже прежде, чем ты, Бамбош, хоть ты и начальник. — Договорились! Однако Вуарон после рассказа о таком странном и внезапном исчезновении своего друга пребывал в глубокой задумчивости. Галуа имел опыт плавания в реках с быстрым течением и вовсе не походил на человека, способного по-дурацки утонуть в какой-то там воронке, поскольку обладал выносливостью, силой, ловкостью и хладнокровием. Вуарон размышлял, ворча себе под нос: — А не скрываются ли за всем этим какие-нибудь плутни Мартена и этого ублюдка Филиппа? Терзаемый жуткими подозрениями, он подошел в Филиппу и спросил: — Послушай, малый, а куда вы подевали шкуру лани и требуху? — Забросили в воду, во-первых, мухи над ними так и вились, во-вторых, кишки скоро бы завоняли. — Верно… А мозг? — А мозг я слопал. — И потроха и филеи? — Да ты мне осточертел! Иди допытывай Мартена! Эти ответы лишь укрепили Вуарона в его подозрениях. Не говоря ни слова, он обыскал все вокруг, будто хотел найти знак, превративший бы его подозрения в уверенность. Остальные разлеглись на траве и, лениво переговариваясь, предались процессу пищеварения. Вдруг Вуарон схватил что-то с земли и издал громкий вопль. — Ах, каналья! Я так и знал!.. Ты убил Галуа! — закричал он опешившему на мгновение Мартену. Тот нагло отрицал: — Не убивал я его. Я ж тебе говорю, что он утоп. — Врешь, зверюга! Вот доказательство! Видишь кость? Да разве ж это кость лани?! Это человеческая! Бедренная кость!.. Среди беглых каторжников началось замешательство. Они повскакивали на ноги — кто от изумления, кто от отвращения, это уже зависело от темперамента и впечатлительности каждого из них. — Да, — продолжал Вуарон, — вы убили нашего товарища и дали нам его съесть!.. — Ну а если бы и так? — нагло заявил Филипп со свирепым выражением, так присущим существам подлым, слабым и трусливым, когда они знают, что находятся под надежной защитой и совершенно безнаказанны. — Сволочь! Так ты признаешься… — Ну да. Я укокошил Галуа. И это его вы сейчас жрали! А я съел его печень, мозг и язык…[156] И что с того? Вы его тоже ели да похваливали. И оставшееся съедите. Оба араба стали икать, испытывая тошноту и отвращение при мысли о том, что́ они только что съели. — Я не оставайся с вами, — сказал один своим гортанным голосом. — Я уходить… — Я тоже уходить, — подхватил второй. — Я не мочь есть человечина… — Задержите их! — закричал Бамбош. — Они сдадут нас, как только доберутся до первого попавшегося поселения. На арабов кинулись и связали так крепко, что те и шевельнуться не могли. Опомнившись от первого потрясения, каторжники постепенно смирились со свершившимся фактом. Будучи людьми не слишком щепетильными, они считали, что цель оправдывает средства. Один из них цинично подытожил ситуацию: — Набили брюхо, вот и ладно — мертвые должны служить живым. Но Вуарон никак не мог угомониться. Выйдя из первого оцепенения, он впал в настоящую ярость. — Ах, ты убил моего бедного товарища, да еще и хвастаешься этим! Я тебя сейчас порешу, грязный каторжник! Он кинулся на Филиппа и врезал ему прямо по лбу окровавленной бедренной костью. — Ко мне, Мартен! — завопил тот. — На помощь! Меня убивают! — Кто посмел тронуть моего Малыша?! — взревел Геркулес, вскакивая на ноги и хватаясь за саблю. Глазам его открылась следующая картина: Филипп едва держался на ногах, а Вуарон, пытаясь проломить парню голову своим зловещим трофеем, лупил его с таким звуком, как будто колотил по бутылочной тыкве. Зарычав, как разъяренный зверь, великан ударил саблей по затылку Вуарона с такой силой, что почти снес тому голову, перерубив позвоночник почти на уровне плеч. Кровь рекой хлынула к ногам Филиппа, который шатался, оглушенный. Мартен склонился над Вуароном и, нанося по бесчувственному телу колющие и режущие удары, выкрикивал: — Вот тебе, вот тебе, подлец! Вздумал бить моего Малыша! Так получай же еще! Все остальные окружили их и в страхе не смели вмешаться, понимая, впрочем, что любое вмешательство бесполезно. А Филипп, этот подонок-гермафродит, наблюдал омерзительную сцену и подстрекал: — Давай, давай, Мартен! Смелей, мой толстячок! Врежь ему, врежь как следует! — Довольно! — приказал Бамбош голосом, в котором звенели металлические нотки. — А-а? Что? — заворчал Геркулес. — Я что, не имею права отомстить за своего Малыша? — Тебе не кажется, что уже хватит? — Тысяча чертей! Я кашу из него сделаю! — А я тебе запрещаю! — Хотел бы я посмотреть! Кроме того, почему? — Потому что ты портишь мясо, а мы все будем рады добавке к провианту по дороге на Спорную территорию, в страну свободы. — Здесь ты прав, — согласился гигант, нехотя опуская саблю. При этих словах по кучке беглецов пробежал шумок одобрения, такой магической силой обладало для них само слово «свобода», заставляя позабыть даже об ужасах, коим они стали свидетелями. — Так вот, — продолжал Бамбош, — разделай-ка ты нам эту тушу, ты ведь был мясником. Каждый из нас возьмет на спину по куску, а затем — в путь! — Да, да! — загалдели все разом. — Вот это правильно! В путь-дорогу! Теперь у нас и харч есть! Мы спасены! — Еще нет! — раздался суровый голос, и одновременно раздвинулись кусты, плотной стеной окружающие поляну. — Тысяча чертей, жандармы! — завопил Бамбош и заскрипел зубами. — Спасайся кто может! Два жандарма и бригадир держали на мушке обезумевшую от страха кучку беглецов. — Шаг в сторону — стреляю! — предупредил бригадир непререкаемым тоном. Но никто и шевельнуться не смел, потому что у всех душа ушла в пятки. К тому же эти людишки — вообще народ трусоватый. Даже Король Каторги не осмелился поглядеть в лицо смерти. Уничтоженный, он превратился в заурядного прохвоста, тушующегося перед властью по причине хотя бы одного ее морального превосходства. — А ты, черномазый, подойди и действуй, как приказано! Кусты еще раз раздвинулись, и появился, таща порядочный моток веревок, негр Ромул, сбежавший от бандитов. Повинуясь командиру, один из жандармов с необычайной злостью стал вязать руки за спиной дрожащих, покорных, не способных и слова вымолвить беглых каторжников. Правда, остальные двое жандармов продолжали держать всю группу под прицелом, так что любая попытка к сопротивлению означала бы смерть на месте. Построив их в затылок друг другу, жандарм для верности связал каторжников и между собой. Затем он встал во главе колонны, за ним немедленно пристроился Ромул, второй жандарм пошел сбоку, а бригадир замыкал шествие. Они направились в сторону деревни Кав, где находилась жандармерия, к которой и была приписана данная поисковая группа. Так закончился для бандитов сладкий сон о свободе…ГЛАВА 21
Леон Ришар и Боско шли лесом следом за собакой, уверенные в том, что действительно напали на след похитителя графини де Мондье. Умное животное, как бы осознавая, какой услуги ждут от его чутья, бежало медленно, иногда принюхиваясь и время от времени покусывая веточку, как ищейка. К тому же запахи Крумана были так ярко выражены — от него воняло не то козлом, не то кайманом, — что их мог бы учуять и пес с менее тонким нюхом. Вообще, от негров исходит такой сильный затхлый запах, что иногда трудно находиться в близком соседстве с ними. Справедливости ради, следует отметить, что негры со своей стороны считают, что мы, белые, неумеренно остро пахнем свежей рыбой. Двое мужчин следовали по пятам за собакой, бежавшей, несмотря на рану, довольно быстро. Однако рвение заметно превышало ее силы. Пес опять и опять останавливался, отдыхал, зализывая бок, из которого продолжала сочиться кровь, жалобно поскуливал. Время торопило. Во что бы то ни стало надо было двигаться вперед, и два друга содрогались при мысли о том, в каких руках находится несчастная молодая женщина. Боско ласково ободрял пса: — Пошли, Атос, пошли… Идем, моя хорошая собака. Ищи, Атос, ищи… Он ласково чесал ее за ушами, похлопывал, и славный пес, радостно повиляв хвостом, вновь устремлялся вперед. Тем не менее силы у собаки иссякали на глазах. Их поводырь останавливался все чаще, скулил все жалобнее. — О Господи, — бормотал Боско, — злой рок преследует нас… Мы не успеем… — Мужайся! — свистящим шепотом отвечал Леон Ришар. — Мужайся, дружище. Наверняка мы уже где-то близко. Со слезами на глазах Боско брал собаку на руки, приговаривал какие-то ласковые слова, звал ее по имени, целовал, как человека, и настойчиво повторял свою команду: — Ищи, Атос, ищи! Ищи, моя хорошая псина! Атос вставал, прихрамывал, снова падал, как бы говоря: «Я больше не могу!» Как хотел бы Боско влить в него свои силы, свою жизнь, свою кровь… Они сделали пятнадцатиминутную остановку, чтобы дать собаке немного прийти в себя, и, с тоской глядя на нее, оба думали, что, быть может, она уже больше не сможет подняться. И действительно, когда они снова решили тронуться в путь, животное, в предсмертном оцепенении, осталось лежать, жалобно подвывая. Рыдания вырвались из груди Боско. Леон, воздев руки, грозил небесам кулаками. — Пойдем, — сказал он, — мы не можем здесь оставаться, будем искать сами… И они пошли в темноте, наугад, через густой кустарник, к счастью, вскоре начавший редеть. Боско становился на четвереньки, стлался по земле, пытаясь учуять сильный запах негра. В другое время это могло бы показаться смешным, но при данных обстоятельствах выглядело трогательным. Леон думал о том, что время идет и каждая минута навсегда уносит надежду на спасение жизни и чести жены его друга. Так шли они наобум, нимало не заботясь о том, что в любой момент могут наступить на змею или свалиться в какую-нибудь колдобину. Тем не менее, выбравшись на открытое место, они смогли убедиться по звездам, что не сильно отклонились от первоначально взятого направления. Глаза их привыкли к темноте, и следопыты увидели, что находятся на заброшенной вырубке, по которой двигаться было значительно легче. Да, безусловно, идти теперь можно было быстрее, но в том ли направлении они двигались? — Боже милостивый! — вдруг вскричал Боско. — Что такое? — Мне кажется… Нет, я не ошибаюсь… Да посмотри же сам! — Свет! — Да, что-то трепещет, как мотылек над огнем, но с места не двигается. — Верно. Побежали, Боско! — Побежали! Наверное, это там!.. Низко наклонив головы, как хищники перед прыжком, они помчались среди молодой поросли. Более проворный, Боско на несколько шагов опережал своего друга. Оттуда, где виднелся свет, послышался крик. Свет становился все ярче — теперь его не застили ветки. — Это она, да, это она! — решил Боско и помчался еще быстрее. Он так рванул вперед, что Леон Ришар отстал и бежал, ориентируясь по хрусту веток под ногами друга. Потом послышалась брань, упало что-то тяжелое, и он услышал свое имя, произнесенное с болью и отчаянием: — Леон! На помощь, Леон! И — больше ничего. В два тигриных прыжка Леон достиг места, откуда раздавался призыв о помощи. У плетня какой-то лачужки, вытянувшись во весь рост, неподвижно лежал Боско. Он не подавал никаких признаков жизни, быть может, был уже мертв… В хижине раздался звериный рев. Поверх находящейся на метровой высоте перекладины можно было заглянуть внутрь. Ярко горел факел. Простоволосая женщина, конвульсивно извиваясь на подстилке из сухих листьев, отбивалась от полуголого негра-гиганта, которого Леон тотчас же узнал. — Педро-Круман! Я успел вовремя!.. Все это: крик Боско, его падение, молниеносное вторжение Леона Ришара — произошло почти одновременно, в мгновение ока. Как цирковая лошадь через затянутое бумагой кольцо, Леон перемахнул через жердь у входа и очутился внутри, выставив перед грудью кулаки. Когда Педро-Круман услышал крик, он понял, что его собираются атаковать. Он оставил женщину и встал лицом к противнику. Какое-то мгновение черный и белый атлеты с ненавистью смотрели друг другу в глаза. Казалось, каждый олицетворял свою расу с их извечным антагонизмом. Кстати говоря, они давно были знакомы и знали, что ни один из них не пощадит другого. Оба мускулистые и прекрасно сложенные, каждый по-своему, они являли собой образец телесного совершенства. Оправившись от первого удивления, негр молча пошел в атаку. Он кинулся как бык — головой вперед, вытянув перед собой руки, намереваясь сразу взять Леона в захват, но тот ловко уклонился. Круман издал глухой рык и хотел повторить попытку. Но Леон опередил противника. Его кулак, выброшенный вперед, как стальная пружина, пришелся противнику в лицо — разбил губы, сломал носовой хрящ и, как стекляшки, сколол два подпиленных и заостренных передних зуба, делавших внешность Крумана еще более отталкивающей. Пошатнувшись, как будто его ударили дубиной, негр отлетел, выплюнув кровь, а вместе с ней — грязное ругательство. Но внезапно хладнокровие вернулось к нему. Круман понял, что если будет драться как дерутся белые люди, то неминуемо проиграет. И он решил применить тактику, которой пользуются его земляки: сгруппировался, принял стойку, напоминающую позу кота, завидевшего собаку, и запрыгал, выставив вперед руки. Надо отметить, что ногти Крумана, крепкие, как звериные когти, тоже были подпилены наподобие зубов и являли собою грозное оружие. Педро бросился на Леона, намереваясь выцарапать ему глаза. Несмотря на все свое спокойствие и ловкость, Леон пришел в некоторое замешательство — противник, собравшись в комок, с непостижимой скоростью скакал перед ним, растопырив пальцы… И вдруг резкая боль прошила декоратора, вызвав гневный выкрик, — коготь Крумана едва не ослепил его, пропахав длинную кровавую борозду на щеке. Леон ответил ударом кулака, превосходным ударом, который на месте уложил бы любого обыкновенного человека, но у Крумана вызвал лишь взрыв гортанного хохота. В то же время Леон почувствовал, как у него сильно заболела рука — будто на скалу напоролся. Тогда Леон стал наносить по черепу негра удары обеими руками. — Лупи, белая сволочь, лупи! Моя голова тверже камня! — вопил Круман. Он снова атаковал, метя в глаза, но Леон парировал выпад и ответил прямым коротким ударом. Кулак прошелся по жесткой курчавой шевелюре. Удар сопровождался таким звуком, как будто стукнули по чурбану. Вещь почти невероятная — Круман даже не дрогнул. Леон недоумевал — он никогда не встречался с подобной выносливостью. Он не знал, что соплеменники его противника сталкиваются в драке лбами, словно быки, и стоят до последнего, до смерти одного из бойцов. Да, для того чтобы постичь силу их ловкости, надо учесть, что череп Крумана, обладая невероятно крепкими стенками, содержит ничтожное количество серого вещества. Леон заметил, что кулак его распухает, что вскоре он не сможет защищаться, и содрогнулся. Отступая к подстилке, на которой продолжала биться несчастная Берта, он подумал: «Настал миг, когда надо или победить, или погибнуть». Круман же за это время решил, что Леон тоже хочет овладеть красивой белой женщиной, один вид которой сводил его с ума, и к слепой ненависти чернокожего добавилась еще и яростная ревность, возбудив его еще больше, если только такое было возможно, а также добавив ему новых сил. Негр сделал резкий выпад и, вместо того чтобы пустить в ход когти, все время угрожавшие глазам европейца, попытался ударить его головой в солнечное сплетение. Увидев, что негр распрямляет колени, Леон заподозрил, куда тот метит, однако не сумел полностью уклониться. К тому же в хижине царил полумрак, и при колеблющемся свете факела Леону виден был лишь темный силуэт противника, куда лучше ориентировавшегося в этих условиях. Так вот, удар негра пришелся в бедро и был такой силы, что едва не сбил Леона с ног. Но, досконально зная все тонкости рукопашного боя, Ришар сказал себе: «Вот это мне уже больше нравится! Если ты повторишь маневр, ты пропал». Круман разбежался и снова кинулся на белого. Леон молниеносно отскочил в тот самый миг, когда его должна была коснуться голова негра, и с необычайной ловкостью захватил шею противника, прижав ее согнутой рукой к своему бедру. Он, собирался вывернуть голову Крумана страшным приемом, смещающим позвонки, в мгновение ока выводящим кого угодно из борьбы. К несчастью, одной ногой Леон угодил в выбоину на кочкообразном полу хижины. Увлекаемый силой инерции, передавшейся ему налетевшим Круманом, Леон упал, но не отпустил негра. Сцепившись, они катались по полу, верх брал то один, то другой, они хрипели, задыхались. Продлись схватка чуть дольше — Леон неизбежно бы погиб. Ослабленный двухгодичным тюремным заключением, изнуренный малярией и жарким климатом, он не обладал выносливостью чернокожего. Декоратор понял это и решил покончить с противником одним ударом. Сопернику в голову пришла аналогичная мысль, поэтому их усилия нейтрализовали друг друга. Несказанная тоска охватила Леона при мысли, что он может оказаться неспособным на новую атаку. Ведь у Крумана оставался еще изрядный запас сил… Чернокожий пытался ослабить железную хватку белого, не выпускавшего из тисков его бычьей шеи, хрипел, яростно отбивался, кусался. Леон слабел, в ушах у него звенело, перед глазами плясало пламя факела. Неужели он сейчас отдаст Богу душу и оставит в руках озверевшего бандита прелестную молодую женщину, улыбавшуюся, пожимавшую ему руку, дарившую его своей дружбой? У него вырвался крик бешеной ярости. Завывание полузадушенного Крумана вторило ему. И тут Леон увидел, как покрытый грязью и кровью издыхающий пес Атос вонзает клыки в ногу чернокожего. Бедное животное, собрав последние силы, доползло до хижины и неожиданно напало на врага. Негр все еще дергался и завывал. Леон встал на колени, изогнулся и неожиданно выпрямился. Он сделал невероятное усилие… Послышался леденящий душу хруст ломающихся костей. Круман взвыл последний раз и рухнул замертво — у него был сломан позвоночный столб. — Давно бы так… — выдохнул молодой человек. И, находясь в полуобморочном состоянии, он оттолкнул мертвеца ногой и упал на какое-то подобие стула, бормоча: — Без тебя я бы пропал, мой храбрый Атос… Услышав свою кличку, пес бросил терзать зубами ногу чернокожего, повилял хвостом и пополз к подстилке, где без сознания лежала его госпожа. Он с трудом влез на ложе, поскуливая от любви и боли, стал лизать ей руки. — Пес тебя побери, в самый раз так выразиться, я опоздал, — раздался не очень уверенный, но тем не менее веселый голос. — Боско, дружище!.. Значит, он не убил тебя?! — воскликнул растроганный Леон, протягивая к нему руки. — Да, кажется, нет… Но нахлобучку я получил по первому классу!.. — Мерзавец никому больше не причинит зла. — Так ты его… прикончил? — Пришлось. И, уверяю тебя, это убийство отнюдь не обременяет мою совесть. — Но ты, во всяком случае, абсолютно уверен, что он больше не встанет? Видишь ли, Леон, эти твари чудовищно живучи… Леон Ришар с улыбкой ответил: — Этот уже никому не причинит зла. И это так же верно, как то, что ты — порядочный человек, да и я тоже, несмотря на мою арестантскую робу… — Леон, дорогой мой Леон!.. Благодаря тебе графиня спасена!.. Какая радость для ее мужа! — Черт возьми, работенка была не из легких!.. Бедняжка… Меня мороз по коже пробирает, как подумаю, какая опасность ей угрожала. — Кстати говоря, Леон, что мы теперь будем делать? Как ей помочь? — Она совершенно недвижима… — Но она дышит, хоть и слабо… Пока происходило это короткое совещание, пес с открытыми глазами неотлучно лежал возле хозяйки, положив морду на лапы. Боско подошел, потрогал его и обнаружил, что Атос мертв. — Бедное животное… Мы вернемся и похороним его, правда, Леон? — Да. Но сперва надо унести отсюда мадам де Мондье. — Что же делать? — У меня возникла одна идея. Если ты не против, доставим ее в Кайенну. — Это довольно сложно… Через час рассветет… — У нас еще есть время. — Как знаешь, Леон. В любом случае, что бы ни случилось, мы с тобой не расстанемся. Медленно, с тысячью предосторожностей, Леон и Боско подняли по-прежнему неподвижную молодую женщину. Леон взял ее на руки, как ребенка, и они двинулись по тропинке, ведущей от хижины. Прежде чем покинуть это проклятое место, Боско решил убедиться, что Круман действительно мертв. Он взял факел и осветил лицо негра с выпученными, все еще свирепыми, но уже остекленевшими глазами. — Да, — сказал Боско, — он и вправду мертвехонек, этот злодей, отнявший у меня мою единственную радость… Ах, Фиделия, Фиделия!.. Ты навсегда потеряна для меня… и я не отомстил за тебя. Друзья медленно двигались по тропинке, отводя ветки, чтобы они не хлестнули больную. Наконец они вышли на большую дорогу и, сориентировавшись и ускорив шаг, пошли по направлению к городу. Через некоторое время Леон и Боско добрались до больницы, куда, как мы помним, доставили тяжело раненного Бобино. Через несколько минут начнет светать. Боско наломал густолистых веток и пристроил их Берте под голову на манер подушки. Леон положил женщину перед входом в клинику. Каждый из них взял руку графини и, преклонив колено, почтительно к ней приложился. Затем Боско схватился за веревку и громко позвонил в колокольчик на дверях. Когда раздался звонок, они в один прыжок перескочили через дорогу и скрылись в придорожном лесочке.ГЛАВА 22
Избитый братьями каторжниками, отплатившими черной неблагодарностью за все оказанные им услуги, опасаясь, наконец, как бы ему не пришлось еще хуже, негр Ромул подался в леса. Он шел куда глаза глядят, стараясь, однако, держаться спиной к морю. Без особого труда ему удалось найти зарубки, которыми отмечали дорогу редкие в этих местах путники. Беглец пошел по тропке, надеясь, что она приведет его к какому-нибудь уединенному жилью, где его примут во имя той трогательной солидарности, так тесно соединяющей всех чернокожих. Тропинка вывела его на дорогу, довольно разбитую, но еще пригодную для сообщения. Ромул размышлял, идти ли ему по этой дороге или еще немного потаиться в лесу, как тут за поворотом послышался конский топот. И тотчас же появился конный жандарм. Один из тех жандармов-«большая сабля» из метрополии, которых преступники боятся как огня. Потрясенный и ошарашенный, негр замер на месте, не в силах сделать ни шагу. С первого взгляда жандарм опознал одежду каторжника. — Эй ты, — крикнул жандарм, — ты ведь из беглых, не так ли? — Да, господин жандарм, — понурившись, отвечал негр. — Ну так топай рядом с моим конем прямиком в застенок. Ромул послушно поплелся за добрым жандармом, прижавшись к его сапогу, что в таком месте и при такой температуре может рассматриваться как усиление наказания. Четверть часа спустя они прибыли в поселение Кав, деревушку, расположенную километрах в двадцати к юго-востоку от Кайенны. Поселение как поселение — не лучше и не хуже других, составляющих центры обитания населения нашей колонии. Состояло оно приблизительно из пятисот жилищ, разбросанных на территории площадью шестьдесят гектаров. Однако в поселке был и центр, где сосредоточились некоторые атрибуты цивилизации: церковь, где кюре служил мессу и обучал катехизису на диалекте чернокожих прихожан; мировой судья, выносивший приговоры либо замирявший враждующие стороны, тоже на местном диалекте; школьный учитель, преподававший французский язык… тоже на диалекте; сборщик налогов, взимавший подати… конечно же на диалекте, он же — писарь при мировом судье, как будто один человек не в силах исполнять такую обременительную работу, как судить пятьсот черномазых, и, наконец, жандармы, выращивавшие редиску, салат и дыни. Цивилизация — это великое благо! Когда колониальный жандарм доставил пленника в участок, бригадир, оторвавшись от созерцания произрастающих в огороде овощей, приступил к допросу, не откладывая дела в долгий ящик. Ромул, не стремившийся ни к чему иному, кроме как отомстить своим товарищам, выдал их и рассказал все, поставив лишь одно условие — пусть ему дадут бутылку тростниковой водки, пачку табаку и трубку. Он заявил также, что берет на себя поимку беглецов — всех до единого. При мысли о такой облаве бригадир покинул салат-латук, морковь и редиску и, нахлобучив на голову белый тропический шлем и подпоясавшись большой саблей, мобилизовал все находящиеся под его командованием «силы порядка». «Силы порядка», в свою очередь, надели шлемы и всю амуницию, вооружились и, предводительствуемые негром, предварительно разжившимся тростниковой водкой, трубкой и табачком, тронулись в путь. Ромул, предвкушая хорошую шутку, которую он сыграет со своими обидчиками, пошел по собственному следу и навел жандармов на отряд каннибалов. Те даже и не пытались оказать сопротивления. Они безропотно сдались, покорно протянув руки, чтобы их связали путами, и так же послушно отправились в Кав, где и были заключены в тюрьму. Арестовано было восемь человек: Бамбош, Мартен, Филипп, Симонен, Ларди, два араба и, наконец, Ромул, получивший благодаря доносу некоторые привилегии. Он пользовался и такой льготой, как отдельное помещение, не опасаясь там ни тесноты, ни скученности, ни мести своих товарищей. Когда они очутились в деревушке Кав, их желудки уже переварили людоедскую трапезу, и голод вновь дал о себе знать. Похлебка, которую им приготовили, показалась им отменной, также как и бакалио, макароны по-гвиански — неотъемлемая составная часть каждой трапезы в колонии. На следующий день они, естественно пешком и под бдительной охраной, двинулись в Кайенну. Пройдя равнину, по которой протекала речка Ко, каторжники стали карабкаться через горы по плохонькой дороге, ведущей через деревню Рура в главный город департамента. Преодолев двадцатичетырехкилометровый этап, заключенные очутились в ангаре Шик. Он представлял собой огромный, длиной двадцать, а шириной пять метров, деревянный навес с крышей из пальмовых листьев, где путники становятся лагерем, если уж так случилось, что злая судьбина заставила их добираться из Кайенны в Ояпоку по суше. После двухчасового привала заключенные направились в деревню Рура, отстоящую на тринадцать километров. Они прибыли туда, в буквальном смысле слова, разбитыми, преодолев в общей сложности тридцать семь километров со связанными за спиной руками. Кроме того, вся цепочка была связана еще и общим шнуром, проходящим у них под мышками. Они шли, не обмениваясь между собой ни словом, пот ручьями стекал с их обожженных на солнце лиц, одежда набрякла от пота, разбитые ноги кровоточили. Бедолаги, не отрываясь, смотрели на дорогу и, стараясь не споткнуться, шли, вытянув шею, собрав все силы, так глубоко погруженные в мечты о ненадолго встреченной свободе, что из задумчивости их мог вывести только выстрел из мушкета. На лбу Бамбоша залегла складка, внутри у него все кипело. Он был душой заговора, убил охранников, был уверен в успехе предприятия. Это, без лишних слов, — смертный приговор и гильотина на островах, по странной иронии названных островами Спасения… Все в нем бунтовало при этой мысли, в сотый раз он повторял сквозь стиснутые зубы: — Я еще не на бойне в Монт-а-Регре, палач еще не держит меня за шиворот! Мне — умереть? После того как я избежал стольких неудач… Нет, невозможно!.. Вспомнил он и о Фанни, бедняжке Фанни, чья слепая, фанатическая преданность ни перед чем не остановится, и подумал: «Фанни — умница… Она наверняка придумает что-нибудь. Ей придется это сделать — я хочу жить!..» В Рура были все те же блага колониальной цивилизации: церковь, мировой судья, школа, жандармерия, салат, редиска, морковь, одиночество и… диалект. Девять тысяч гектаров населяют девятьсот жителей! Территория превышает площадь округа Этамп! От Рура до Кайенны — двадцать восемь километров. Один переход с одним привалом. К ночи беглецы уже сидели под замком в тюрьме Кайенны. Для отдыха им были даны ровно сутки, затем дело будет разбирать «специальный морской суд», созданный исключительно для разбора преступлений, совершенных людьми, находящимися в заключении. Сколь бы сухой и на первый взгляд, лишенной всяческого интереса ни была бы данная тема, необходимо, однако, коротко остановиться на судебной системе исправительной колонии Гвианы. Во-первых, обычные суды. Они состоят из первичного и высшего отделов, размещающихся в Кайенне, а также из мирового суда. В компетенцию высшего суда входит рассмотрение всех апелляций, а состоит он из председателя и трех судей. Суд первой инстанции включает председателя, двух судей-лейтенантов и двух судей-помощников. Всю систему возглавляют прокурор республики и его заместитель. Закономерное удивление вызывает отсутствие торгового суда в исключительно коммерческой колонии. Что касается уголовных дел, входящих в компетенцию суда присяжных, то их рассматривает суд высшей инстанции при участии четырех присяжных, избранных путем жеребьевки из списка, содержащего двадцать фамилий самых знатных горожан и обновляемого раз в году. А суд присяжных? Его и вовсе нет. Похоже, о нем просто не успели подумать. Забавно, не правда ли? Но это еще что! Есть вещи похлеще. Вышепоименованный «специальный морской суд», для того чтобы оправдать название, вводит в свой состав старших морских офицеров или офицеров береговой охраны, председателя и четырех судей. Состав таков: представитель судебной власти из суда первой инстанции; офицер в звании капитана или лейтенанта; чиновник тюремной администрации в должности по меньшей мере заместителя начальника отдела, унтер-офицер. Чиновника тюремной администрации, находящегося в должности не ниже заместителя начальника отдела, называют комиссар-референт. В этом качестве он получает инструкции и исполняет при специальном суде функции прокурорского надзора. Один из мелких чиновников тюремной администрации или военных охранников исполняет обязанности секретаря суда. Таково устройство действительно особого судебного органа, призванного разбирать дела исключительно тех лиц, кто на момент совершения преступления отбывает срок судебного наказания. Поскольку речь идет о неисправимых преступниках, закоренелых в своих пороках, лишенных обычных человеческих чувств, лишнее говорить, что применение к ним любой формы законности куда предпочтительнее, чем суд Линча[157]. Но ужас охватывает при мысли о том, что юрисдикции этого суда подлежат также заключенные, осужденные в первый раз уголовными судами не за злодеяния, а за простые правонарушения!.. Что эти заключенные, смешавшись с контингентом каторжной тюрьмы, могут быть приговорены к смертной казни за любые насильственные действия по отношению к представителю тюремной администрации, чиновнику, агенту или надсмотрщику. Более того, у нас на каторге отбывают наказание далеко не только те, чьи действия подпадают под статьи уголовного кодекса. Наряду с обычными ссыльными есть еще и политические. И, увы, они будут и впредь… Что станет с забастовщиками, защищающими свое право на труд, с писателями, обличающими столь далекий от совершенства нынешний порядок вещей, если к ссыльным начнут применять эти предательские законы в их обоюдоострой интерпретации! Достаточно полицейского сговора, провокации, насилия для того, чтобы безупречный гражданин предстал перед уголовным судом, который, имея самые широкие полномочия, приговорит его к пожизненной ссылке, к вечной каторге… Таким образом, политические деятели, став ссыльными по милости дикарской трактовки законов, рискуют стать также подсудимыми этих страшных «специальных морских трибуналов». В данном случае такой трибунал в Кайенне должен был рассмотреть уголовное дело злодеев, обвинявшихся в побеге из каторжной тюрьмы и в убийстве солдат охраны, а также своих сотоварищей — заключенных Галуа и Вуарона. Было совершенно ясно, что никогда еще ни одно уголовное дело не приносило так мало хлопот комиссару-референту. Обвиняемые во всем признались. Трое из них снабдили свои признания такими подробностями, от которых волосы вставали дыбом. Бамбош, Мартен и Филипп даже похвалялись содеянным, пресекая тем самым малейшую попытку снисхождения со стороны повидавших много всякой мерзости судей. Ларди и Симонену, двум мерзавцам, принимавшим в кровавой вакханалии[158] лишь пассивное участие, удалось спасти свои головы. Судьи сочли, что для них имеются хоть какие-то смягчающие вину обстоятельства, и оба были приговорены к пяти годам одиночного заключения. Кара, вероятно, не менее суровая, чем казнь — провести тысячу восемьсот двадцать пять дней в «каменном мешке», куда не долетает извне ни малейшего шума, где возмечтаешь и о непосильном каторжном труде… Два араба, первоначально приговоренные к двадцати годам каторжных работ, теперь получили пожизненное заключение. Ромул, возглавивший задержание банды, был приговорен для проформы к содержанию в течение двух лет в двойных цепях — кара только за побег, судьи закрыли глаза на его возможное соучастие в убийстве охранников. Кроме того, ему было твердо обещано скорое помилование. Бамбоша, Мартена и Филиппа приговорили к высшей мере наказания. Когда председатель возвестил: «К смертной казни приговариваются означенные Бамбош, Мартен и Филипп с приведением приговора в исполнение в отведенном для этого месте», — по залу прокатился шум, а на его фоне резко выделился громкий женский крик. Если в дружном шуме аудитории чувствовалось одобрение приговору, в одиноком женском вопле, напротив, звучало самое откровенное отчаяние. В шумливой, озабоченной, дурно пахнущей толпе мало кто обратил внимание на как бы потерявшуюся в сутолоке, одетую в темное платье женщину под густой вуалью, под которой она, должно быть, умирала от удушья. До ушей Бамбоша долетела эта горестная жалоба. Лицо его, до сих пор имевшее циничное и насмешливое выражение, осветилось радостью. «Хорошо, — подумал он, внезапно проникаясь надеждой, — Фанни здесь… Она настороже… Она мне предана и готова совершить невозможное… Товарищи меня боготворят… Я пока Король Каторги!.. Погодите, я еще выпутаюсь!.. А для этого мне надо выиграть время». И когда его уводил конвой, он умудрился послать несчастной женщине, которую глодала пагубная страсть, взгляд, наполнивший ее сердце радостью и послуживший утешением в горе. Она удалилась нетвердым шагом, готовая на любое самопожертвование, готовая отдать за него жизнь, повторяя с воодушевлением: — О, я спасу его! Несколько зрителей заметили, как она выходила из зала, в частности, молодые офицеры гарнизона, коротавшие в суде гарнизонные досуги. — Ты только погляди, — бросил один из них, неудачливый сердцеед неприступной модистки, — мадемуазель Журдэн посещает судебные заседания! Что за странная блажь! — Ничего странного здесь нет, — запротестовал его приятель. — Модистки вообще с ума сходят от грошовых романов, где описаны судебные прения и пикантные драмы… Вот она и решила бесплатно посмотреть спектакль, полный неожиданных коллизий и подробностей, от которых кровь в жилах стынет. — Повторяю тебе: очень странная блажь! — А я вновь заявляю: ничуть не странная! Ты в этом ничего не смыслишь, а женщины любят, когда их пробирает дрожь при виде какого-нибудь ужасного зрелища, тем более если все эти ужасы произошли в действительности. Думаю, описания сцен людоедства доставили ей сущее наслаждение. — Бамбош превосходно держался, — вмешался в разговор третий офицер, — но до чего же омерзителен в своей трусости этот скот, здоровяк Мартен! — Да, он силен и свиреп только со слабыми, а перед лицом правосудия, поди ж ты, какого праздновал труса!.. — Такой верзила, а рыдал, как ребенок… Прибегал к самым униженным мольбам!.. Мадемуазель Журдэн вернулась домой совершенно разбитая. Но не стала терять время на пустые рыдания и сетования. «Я уже три дня ручьем разливаюсь, — сказала она себе. — Слезами горю не поможешь, надо действовать». Несмотря на то что аппетит у нее совсем пропал, Фанни заставила себя съесть несколько ломтиков мяса, кусочек хлеба, выпила большой бокал вина и с четверть часа пребывала в глубокой задумчивости. Затем, приняв решение, она прошептала: — Да, все правильно. Надо продавать. В предвидении важных событий она упорно копила деньги и мало-помалу перевела все доходы в золото. На данный момент у нее было отложено двенадцать тысяч франков, хранившихся дома, в подвале. Конечно, двенадцать тысяч франков золотом для колонии, где в дивизионах вместо денег в ходу брючные пуговицы, а кредитки колониального банка выпущены скорее для смеха, — сумма весьма значительная. Но Фанни решила, что этого недостаточно. «Деньги, — подумала она, — это нерв войны и душа побега. Мне надо добыть еще денег». Ей много раз предлагали за кругленькую сумму продать лавку, а следовательно, и клиентуру. До сих пор она отвечала уклончиво: «Посмотрим… Я еще не решила… Немного погодя, в зависимости от обстоятельств…» И вот час пробил, продавать надо было срочно, теперь или никогда. Не медля, она отправилась к тем, кто подбивал ее расстаться с магазином, и заявила напрямик: — Я готова продать лавку. Но плату хочу получить наличными и в золотых монетах. Ее дом вместе с товаром стоил минимум сорок пять тысяч франков. Ей предложили тридцать пять. Для проформы она четверть часа торговалась, затем согласилась, поставив непременное условие: деньги должны быть вручены ей не позже полудня завтрашнего дня. Сделка была заключена. В условленный час покупатели вручили ей оговоренную сумму и согласились вступить в права владения через восемь дней. Когда они ушли, Фанни отнесла тридцать пять тысяч франков в свой тайник, нервно приговаривая: — Если я с умом употреблю эти сорок семь тысяч, то спасу его! Да, да, я его спасу!..ГЛАВА 23
В большинстве своем преступники, не будучи подкованными в процедурных вопросах, довольно хорошо знакомы с устройством судебной машины. Вот и Бамбош, вечером того дня, когда суд вынес ему смертный приговор, подписывая прошение о пересмотре дела, думал про себя: «Время у меня еще есть». Он искренне полагал, что это ходатайство, отчасти сравнимое с кассационной жалобой, долго будет ходить по инстанциям. Из заблуждения Бамбоша вывел адвокат, пришедший навестить его в камере смертников. Тут-то Король Каторги и узнал, что апелляционная комиссия является постоянно действующим органом. Отсюда и название: постоянный совет по обжалованию. В Кайенне он состоит из следующих членов: старшего морского офицера или офицера береговой охраны, например, капитан-лейтенанта или пехотного капитана, офицера из комиссариата береговой охраны, правительственного комиссара и мелкого чиновника из береговой охраны, исполняющего должность секретаря суда. Это судебное учреждение работает весьма оперативна — в течение двадцати четырех часов, хотя официально установленный срок рассмотрения апелляции — трое суток. Кассационная жалоба Бамбоша, Мартена и Филиппа была изучена и, на основании статьи 183 уголовно-процессуального морского кодекса, отклонена. От этой новости голова у Бамбоша пошла кругом, он как будто получил удар под дых. Ведь он рассчитывал, что у него в запасе две-три недели, не меньше, а оказалось — его смертный приговор немедленно стал делом решенным и вступил в силу. Впервые бандит по-настоящему испугался, впервые ощутил реальность высшей меры наказания. Однако — ни тени раскаяния, лишь дикая злость на людей и фатальное стечение обстоятельств… Тюремный капеллан[159] пришел побеседовать с ним и попытался его утешить. Бамбош вылил на него поток грубой брани и вынудил удалиться. Мозг его теперь все время бодрствовал, ухо ловило малейшие шорохи, всю ночь, каждую минуту он спрашивал себя: сооружают ли уже эшафот? Его, как и Мартена с Филиппом, перевезли на острова Спасения, где приводят в исполнение смертную казнь. Довольно было — во всяком случае так полагал Бамбош — сигнала, переданного по оптическому телеграфу из Куру, чтобы на острове Руайаль, в двух шагах от тюрьмы, в центре Террас-де-ля-Ревю, начали строить помост для казни. При этой мысли он с ног до головы обливался липким по́том, отдающим затхлым запахом болота, его била дрожь, тело сводили судороги. Бамбош сидел в одиночной камере, вернее в скальном углублении, чьи непробиваемые стены благодаря включениям карбонатов железа имели охристый цвет, напоминающий запекшуюся кровь. Кроме того, он был в кандалах, то есть на довольно длинной, скользящей по железному стержню цепи, запертой на замок. Цепь позволяла ему, хоть и не без труда, вставать, ложиться, принимать пищу. Отдаленность островов Спасения, надежность тюремных стен, железная цепь — все это служило достаточной гарантией против возможного побега. Вот почему Бамбоша, Мартена и Филиппа не стерегли охранники, здесь, на островах, имевшие обыкновение перекинуться с заключенными в картишки, пока очередная партия не бывала прервана вмешательством косы смерти. Надзиратель приходил к нему лишь два раза в день, сопровождая дежурного по кухне, приносившего узнику еду. Завидя унтер-офицера, Бамбош старался скрыть свое уныние, даже начинал хорохориться, пытаясь поразить воображение охранника каторжными байками о своих подвигах. Словом, он позировал для того, чтобы слух о его поведении дошел до его товарищей и каторга до последнего гордилась бы своим Королем. — Ну так как, шеф, — обращался он к невозмутимому стражу, проверявшему его кандалы, — церемония сегодня не состоится? Хорошо ли палач правит свою бритву? Надо ведь сбрить целых три башки. Много же древесных опилок понадобится! Я лично потребую самых первоклассных, из розового дерева, — люблю тонкие ароматы! Надзиратель невозмутимо удалялся, не проронив ни слова, так, как будто он ничего не видел и не слышал. Но каторжники, получавшие наряд по кухне, трепетали от восторга, а товарищи, которым они расписывали браваду Бамбоша, превозносили его до небес и ставили всем в пример. Но, когда он оставался один, возбуждение спадало, и он, удрученный, бросался на раскладушку и с трудом мог проглотить свою пайку, хоть она и была получше, чем у других. Впрочем, впереди у него еще была передышка — о, недлинная, всего двухдневная. И вот почему. После отказа, полученного в апелляционной комиссии, его дело было послано в так называемый «Внутренний совет». В местных условиях этот орган действует на манер комиссии по помилованиям и решает, надо ли отложить исполнение приговора в надежде на то, что глава государства помилует преступника. Этот совет состоит из одиннадцати членов, включая губернатора, являющегося его председателем. Довольно, чтобы за отсрочку проголосовали всего два члена, и исполнение приговора будет перенесено на более поздний срок. В другом случае, если за отсрочку проголосует большинство, губернатор имеет право, не запрашивая мнения метрополии, если найдет нужным и под личную ответственность, чинить суд по своему усмотрению. Отчитаться о мотивах, приведших его к тому или иному решению, губернатор обязан только перед министром. Итак, для созыва этого совета, рассматривающего кассационные жалобы, отвергнутые апелляционной комиссией, требуется двое суток. Таким образом, Бамбош получил еще сорок восемь часов передышки, на которые не рассчитывал. Заседание Внутреннего совета оказалось чистой формальностью, так как убийство охранников и людоедство такожесточили местное население и чрезмерно возбудили заключенных, что об отсрочке никто и помышлять не мог. Так и произошло. Внутренний совет единогласно решил, что правосудие должно свершиться незамедлительно. С этого момента судьбы трех приговоренных оказались целиком и полностью в руках губернатора. Его решение соответствовало решению Внутреннего совета, препятствовало любому проявлению мягкосердечия и конечно же отклоняло отсрочку. Смертная казнь была назначена на завтрашний день. Мадемуазель Журдэн, ловко сеявшая тут и там золотые монеты, содрогалась при мысли, что каждый истекший час укорачивает жизнь негодяю, владевшему ее душой. Приговор Внутреннего совета позволил ей предвидеть и то, какое решение примет губернатор. Она поняла: все кончено, Бамбошу осталось жить сорок восемь часов. Не утратив ни грана энергии, но придя в лихорадочное состояние от терзавших ее мыслей, Фанни сказала себе: «Вот теперь надо действовать. Увидеть его!.. Спасти!..» Если бы кто-нибудь, знающий о ее любви к бандиту и о том, что через двое суток на острове Руайаль на его шею опустится нож, услышал бы эти слова, он решил бы: «Эта женщина свихнулась!» И действительно, вымолвить такую фразу в подобных обстоятельствах — что может быть нелепее! Подумать только — получить свидание с узником, приговоренным к смертной казни, сидящим в кандалах в каземате на островах Спасения!.. Это чистое безумие! Острова эти являются резиденцией тюремной администрации, и никто не входящий в ее состав либо в состав войск береговой охраны, не может на них проникнуть ни под каким предлогом. Добраться до них из Кайенны — тоже штука нелегкая. От столицы острова отделяет расстояние в двадцать семь морских миль или, скажем, в пятьдесят километров к северо-западу. Море в этом месте очень трудное для навигации: течения сильные, на шлюпке этот путь пройти практически невозможно. Стало быть, необходимо пусть небольшое, но крепкое судно, способное идти под парусом, — иначе понадобится большое количество гребцов. Нечего и думать о том, чтобы зайти в порт, где бросают якорь государственные корабли и трансатлантические пакетботы, где хранятся запасы угля. Круглосуточная охрана, которая тотчас же конфискует лодку, а пассажиров препроводит для выяснения личности к верховному коменданту, который на островах — царь и бог. В крайнем случае, можно было бы попробовать высадиться ночью в какой-нибудь отдаленной точке острова, рискуя разбиться о прибрежные рифы, образующие вокруг острова опасное кольцо, и залечь на весь день в каких-нибудь кустах. Но вся эта операция чрезвычайно опасна: вы рискуете потерпеть кораблекрушение, очутиться в воде, кишащей акулами, наконец, даже выбравшись на сушу, вы вполне можете быть обнаружены, поскольку войск здесь много, а сам остров — всего два километра в длину. Итак, тем вечером какой-то сержантик морской пехоты в белом шлеме, со штыком на ремне, скрипя портупеей, поспешным шагом направлялся к кайеннскому порту. Внезапно стемнело — этот стремительный переход от дня к ночи всегда сбивает с толку непривычного к такому феномену европейца. Тьма воцарилась кромешная — на затянутом облаками небе не взошло ни одной звезды. Словно бы возвращаясь с тайного свидания, сержантик быстро прошествовал мимо таможенных зданий, стараясь держаться подальше от керосиновых фонарей, освещавших красноватую охристую дорогу. Вдруг хлынул ливень, настоящий водопад, разогнав и без того редких в такой час прохожих. Унтер-офицер проскочил под навесами таможенных построек и пять минут спустя был уже на набережной. Какая-то черная тень качалась возле каменного парапета — без сомнения, лодка. Сержант тихонько свистнул сквозь зубы и получил такой же ответ. Из темноты последовал приказ: — Садитесь в лодку. Держитесь за руку. Руки унтер-офицера и неизвестного встретились, и первый очутился в лодке, тотчас же отчалившей. Шлюпка прошла на веслах около одного кабельтова[160], то есть метров двести, и пришвартовалась к суденышку, стоящему на якоре. По двум высоким, чуть выгнутым назад мачтам, по небольшому размеру судна можно было догадаться, что это маленькая шхуна, из тех, которые местные жители используют для каботажного плавания вдоль берегов Гвианы, не боясь, однако, заходить на них и в Амазонку. Несмотря на скромное водоизмещение, редко превышающее двадцать пять тонн, шхуны эти отличаются остойчивостью[161] и прекрасными ходовыми качествами. Сержанта, безусловно, поджидали. Он ловко вскарабкался на борт, обменялся несколькими словами с человеком, говорящим на креольском диалекте, и закончил так: — Вот половина условленной суммы. Остальное — по прибытии. Послышался звон монет, затем незнакомец снова заговорил: — Это не займет много времени. Он еще раз тихо и заливисто свистнул. Тем временем на судне подняли паруса, снялись с якоря и развернули шхуну в нужном направлении. Все это заняло минут пятнадцать, и судно, кренясь под дувшим с суши бризом и не зажигая сигнальных огней, помчалось в открытое море. Было около семи часов вечера. Подгоняемое попутным ветром, судно благодаря искусному маневрированию благополучно миновало рейд и взяло курс на северо-запад. Оно ориентировалось на маяк острова Руайаль, мерцавший вдали как светлячок. Делая около шести узлов, шхуна в половине двенадцатого оказалась в виду острова. Хозяин остановил парусник в четырех кабельтовых от берега, бросив якорь в илистое дно на глубину семи метров. Спустили шлюпку, и у сержанта, ногами топавшего от нетерпения, пока моряк выполнял, впрочем весьма споро, все необходимые маневры, произошел с хозяином короткий разговор. Как и при отплытии, послышался звон монет, указывающий на то, что расплата идет наличностью, затем раздался голос сержанта: — Можете убедиться, что счет верен. Десять тысяч франков — когда покинем рейд, десять тысяч — теперь… — Я вам целиком и полностью доверяю, — ответили на диалекте. — Вы получите еще десять, когда я вернусь с человеком… с интересующей меня особой. — Совершенно верно. — Шлюпка, которая отвезет меня на берег, будет дожидаться моего возвращения, как договорились. — Конечно. — Вы вместе со шхуной, что бы ни случилось, остаетесь на месте до четырех утра. — Я вам это пообещал. Вы за это заплатили. Положитесь на меня. — А теперь знайте, что если вы вздумаете меня предать, то на всей земле не сыщется места, где бы вас не настигла ужасная месть. — Ваши угрозы ни к чему. Я вам верен и останусь таковым. — Надеюсь. До скорого свидания. Несмотря на то, что шлюпка так и плясала на волнах, сержант быстро в нее спустился и уселся на корме. Четверть часа спустя шлюпка причалила к берегу. С невероятными трудностями и после множества неудачных попыток юному сержанту удалось высадиться среди скал, окаймлявших весь остров, делая подход к нему столь опасным. Раз двадцать шлюпка едва не опрокинулась, едва не разбилась в щепы, и гребцам пришлось применить все свое искусство, чтобы предотвратить катастрофу, при которой трое мужчин попадали бы в воду, прямо в зубы прожорливым акулам. Наконец сержант, чьи руки были в кровь изодраны о камни, но чья сила и энергия вызывали восхищение, ступил на твердую почву и, уходя, бросил матросам: — Ожидайте меня здесь! Весь остров тонул в глубокой тьме. Унтер-офицеру надо было или досконально знать всю его топографию, или же обладать недюжинной отвагой, чтобы двигаться в этих потемках, рискуя на каждом шагу свернуть себе шею. Наконец сержант вышел на дорогу, кольцом опоясывавшую остров. Будучи человеком решившимся на все, даже на применение силы, унтер-офицер проверил свой штык, попробовал, легко ли вынимается из ножен сабля и, повернув вправо, стремительно зашагал по дороге. Он уже было добрался до тюрьмы и хотел, свернув с дороги, устремиться к зданию морга, но тут услышал, как, чеканя шаг, к нему приближается небольшая группа солдат. — Патруль… — пробормотал он. — Меня предупреждали… Вот тебе и первая опасность… Он надвинул на уши свой белый шлем и побрел, пошатываясь, имитируя походку пьяного человека. Несший фонарь капрал, увидев заплетающиеся ноги, поглядел на унтер-офицера со снисходительным благодушием, смешанным с завистью, как смотрит человек, напившийся вчера, на человека, напившегося сегодня, и почел за лучшее не приставать к нему. К тому же тот — старший по званию! А младшему всегда полезно обладать определенной мерой деликатности, чтобы не замечать маленьких слабостей вышестоящих персон. — Готовенький! — пробормотал он, когда сержант прошел мимо. — Этот чертов сержант Орсини уж если возьмется хлестать, то не успокоится, пока не зальется по уши. — Но это не Орсини, — откликнулся кто-то из солдат. — Орсини «на губе» сидит как раз за пьянку. — Твоя правда, я и забыл, — согласился капрал. — Если бы я так бузотерил, меня бы мигом разжаловали. Да и то сказать — развлечений-то здесь маловато… — Нечего тебе жаловаться!.. А казнь трех ублюдков сегодня утром? Сержант, замерший в темноте, не стал дальше слушать. Он шел нервной походкой, почти бежал, бормоча себе под нос: — Они правы… Сейчас полночь… Значит, их должны казнить сегодня… Но я успею, я непременно успею! Пять минут спустя он повернул направо, прошел еще метров сто пятьдесят и остановился перед приземистым зданием мрачного вида. — Вот и морг, — пробормотал он сквозь зубы. — Этот человек здесь. Унтер-офицер постучал трижды через большие промежутки времени и трижды — часто. И стал молча ожидать. Вскоре одна из дверей бесшумно отворилась и на пороге возник еле видный в темноте человеческий силуэт. — Вы оттуда? — тихим, как дуновение ветерка, шепотом спросил работник морга. — Да… Я пришел от тех, «кто тянет лямку». — Чей приказ? — Короля Каторги. — Но его же укоротят на голову через несколько часов. — Необходимо, чтобы он остался жив. Таков приказ. Ведь ты — Риле, парень из морга? — Да, это я. — Проводишь меня в каземат, где содержится Бамбош. — Но… Видите ли, это… — Ни слова возражения. Ты немедленно это сделаешь, не то тобой займутся и научат уму-разуму. Голос сержанта, до сих пор очень тихий, нарочно приглушаемый, при этой угрозе повысился и зазвенел, в нем прозвучали властные нотки. Заслыша этот требовательный тон, каторжник, тянущий свою лямку в морге, смирился и униженно ответил: — Король приказывает — я повинуюсь. Но я рискую своей шкурой. — Я тоже, — откликнулся сержант. И решительно скомандовал: — В путь! Риле безропотно повиновался, и они молча двинулись в сторону казематов. Каторжник шел рядом с сержантом так, как будто его ведут на работу — вещь вполне естественная на этом островке, где служба никогда не приостанавливается, даже в столь поздний час. К тому же стояла темная ночь и дождь снова полил как из ведра. Еще один довод в пользу того, что никто не обратит ни малейшего внимания на этого человека, в чьем присутствии здесь, собственно говоря, не было на первый взгляд ничего экстраординарного. Теперь они вышли на открытую площадку, по краям которой виднелись большие строения, где содержались заключенные. — Казематы вон там, — указал проводник. — Сколько человек в охране? — Один-единственный надзиратель. Но там такие двери — пушкой не вышибешь. И к тому же еще замки… — Ладно, это уж мое дело, и я его сделаю. Держи носовой платок… — И что с ним делать? — Я заговорю с охранником, как бы о делах службы. А ты в это время обойдешь его сзади и платком заткнешь ему рот. — Хорошо. Охранник, чтоб укрыться от дождя, спрятался под козырьком крыши. Глаза его привыкли к темноте, он сразу же заметил галуны и нашивки старшего по званию и машинально сделал шаг навстречу. Сержант подошел к охраннику почти вплотную, выхватил молниеносным жестом штык из-за пояса, приставил острие к горлу часового и угрожающим, не терпящим возражения тоном приказал: — Ни звука, или ты — покойник! Солдат, раб своего долга, все же собрался крикнуть, чтобы подать сигнал тревоги. Но у него не хватило на это времени. Каторжник зажал солдату рот платком, толчком наколол его на штык, согнул, как тростник, кинул на землю и трусливо, злобно, изо всех сил придавил ему грудь коленом. Все это произошло в один миг, без малейшего шума. На диво самоуверенно сержант обшарил карманы убитого, вытащил тяжелую связку ключей, ощупал массивную дверь и наконец нашел замочную скважину. Затем методично, не спеша перепробовал один ключ за другим, стараясь делать это бесшумно, избегая толчков, и в конце концов открыл оба замка. Он осторожно толкнул двери, проник внутрь и заговорил своим тихим, немного свистящим, но вполне отчетливым голосом: — Бамбош? — Я, — ответил узник. — Не говори ни слова, соблюдай спокойствие — и ты свободен. — Но кто ты? Тут сержант вытащил из своей офицерской куртки коробок негаснущих спичек и чиркнул одной из них по крышке коробка, покрытой слоем толченого стекла. Яркая вспышка разогнала мрак и осветила все углы ужасного застенка. В крайнем изумлении, вне себя от радости, Бамбош воскликнул: — Фанни! О Фанни, дорогая! Ты… в таком наряде?! — Да, Бамбош, в самом подходящем, в единственно возможном для того, чтобы добраться до тебя. — Но как, каким образом?.. Спичка погасла. — Немного погодя все узнаешь. Держи коробок, зажги еще одну спичку… Я хочу открыть замки на твоих цепях. — Но откуда ты взяла эти ключи? — Я купила их за десять тысяч франков. — А сколько ты заплатила за побег? — Нас ожидает шлюпка… А в море на якоре стоит шхуна… Я уже заплатила двадцать тысяч франков, а скоро заплачу еще десять… — Фанни, моя добрая Фанни, да ты просто ангел!.. Я обязан тебе жизнью! Я тебя обожаю! — О, теперь все мои горести позади, теперь я могу умереть спокойно!.. — Надо жить, а для начала удрать из этого пекла! Пока происходил их короткий разговор, женщина ловко отперла замки на браслетах, надетых на запястья и щиколотки заключенного. Король Каторги был свободен. Камера вновь погрузилась во мрак. Бамбош и его любовница на краткий миг заключили друг друга в объятия. Приговоренный к смерти жадно вдыхал воздух. — А солдат, куда девать солдата? — спросил парень из морга. — Положи его на мое место. Вот будет потеха, когда они явятся, чтобы оттяпать мне котелок!.. Сказано — сделано. Затем Бамбош, лжесержант и каторжник Риле торопливо пошли по тропинке, ведущей в сторону окружной дороги. Фанни, внимательнейшим образом изучившая на подробном плане конфигурацию острова, прежде чем пускаться в свое рискованное предприятие, в точности знала, в каком именно месте их ожидает лодка. Несмотря на кромешную тьму, она сумела провести Бамбоша в ту точку, где оставила шлюпку с двумя гребцами. В ней хватало места для троих пассажиров, и Король Каторги рассчитывал использовать лишнее место для Риле, оказавшего Фанни, рискуя головой, такую большую услугу. Они быстро дошли до побережья, пробрались между скал и спустились к воде. — Тихо свистни два раза, — попросила Бамбоша молодая женщина. Он повиновался, поднес пальцы к губам и подал сигнал. — Однако, — сказала Фанни, — гребцы должны ответить, но я что-то не слышу ответного свиста… Бамбош снова просигналил, на сей раз значительно громче. И вновь — никакого ответа! А ведь последний сигнал должен был быть принят, он был подан настолько громко, что перекрыл шум прибоя, разбивающегося о вулканические породы на самом берегу. У Фанни сердце сжалось от ужасного предчувствия. «А что, если хозяин шхуны предал меня?» — подумала она. Бамбош все еще хотел надеяться на лучшее, убедить себя, что шлюпку просто снесло течением… Но Фанни покачала головой и воскликнула срывающимся голосом: — А ведь я дала ему двадцать тысяч франков!.. Подлец решил не ждать, чтоб я ему заплатила еще десять, и удрал!.. — Поищем еще! — попросил Бамбош. До него долетали какие-то непонятные шумы, доносящиеся из лагеря, оттуда, где содержат заключенных, и от этих звуков он весь покрылся гусиной кожей. Целый час, в непроглядной тьме они совершенно напрасно разыскивали шлюпку и наконец, обессилев, задыхаясь, прекратили поиски, сказав себе: «Шлюпка ушла, не дождавшись нас… Мы пропали…»ГЛАВА 24
Вот так оно и случилось — столько самой хитроумной выдумки, столько бешеной энергии приложила любящая женщина, чтобы преуспеть в своем, увы, неправедном деле, но все пошло прахом… На этот раз ничто не могло спасти Короля Каторги!.. Это злонамеренное чудовище, которому так часто удавалось уклониться от карающего меча правосудия, наконец-то оплатит перед обществом свой непомерный счет. Фанни в отчаянии ломала руки и, захлебываясь рыданиями, лепетала: — Я хотела тебя спасти!.. Злой рок оказался сильнее моей любви!.. О, как я хотела бы ради тебя пожертвовать своей жизнью!.. Парень из морга, совсем одурев, только и делал, что твердил: — Вот беда так беда… А я-то намылился на свободу вырваться… Вот горе так горе… Убитый этой последней, самой сокрушительной неудачей, Бамбош пытался что-то предпринять и не знал — что именно… Что делать? Куда укрыться на этом островке, где вскоре на него откроют настоящую охоту, как на дикого зверя?.. На башенных часах на маяке пробило четыре четверти, затем — два удара. — Два часа, — сказал Риле. — Не вечно же здесь торчать… От моей беды вам лучше не станет… Каждый за себя. Я возвращаюсь в морг. Авось моего отсутствия не заметили, тогда я, может быть, еще как-нибудь и выкручусь… Бамбош и Фанни инстинктивно ринулись под проливным дождем, в кромешной тьме, следом за каторжником. Похожий на могильщика сторож морга открыл перед ними дверь этого зловещего учреждения. — У тебя найдется для меня какой-нибудь укромный закуток, мне надо затаиться, — без особой надежды на успех сказал ему Бамбош. — Что ж, попробуем… Правда, местечко не очень-то уютное и пользуется такой дурной славой, что в любой другой день ты тут был бы в относительной безопасности… Но сегодня, видишь ли, сюда завезут свежих жмуриков — Мартена, Филиппа… Карабинеры их утром разделают. При этих словах, столь же исчерпывающе, сколь и цинично обрисовавших сложившуюся ситуацию, смертный холод пробрал Бамбоша до костей. Он ответил, стараясь, чтобы голос не срывался: — Я бы хотел сам глянуть… Посмотреть, не найдется ли для меня какой-нибудь крысиной норы, чтобы переждать… К Фанни вернулось хладнокровие. Она зажгла спичку, и трепетный огонек осветил зловещее помещение. Каменные, крытые цинком столы со стоком посредине… водозаборные краны… плиточный пол с желобами… И запах — затхлый, застоявшийся, зловонный, воистину тошнотворный… Большой сундук, метра два длиной, стоял под стенкой, внутри он весь был заляпан бурыми пятнами. — Что это такое? — спросил Бамбош. — Ты что, не знаешь? Да это же гроб. — Какой еще гроб? — Да в нем покойничков, товарищей наших, отправляют в море. — Ах да, припоминаю. Отвозят на рейд… На съедение акулам… — Вот именно. Парень из амфитеатра помнил один случай, мало кому здесь известный. Острова Спасения, будучи образованиями вулканического происхождения, почти сплошь скалистые. Кое-где они покрыты тонким слоем почвы. И это создает большие затруднения для устройства кладбища, тем более что смертность среди заключенных весьма высока, вот места и не хватает. У вольнонаемных — свое кладбище на острове Святого Иосифа, где издавна сваливают в кучу обломки кораблей и останки солдат, но и там наделы отмеряют скупо. В этих условиях, ввиду невозможности погребения, тела заключенных решено было топить на рейде острова Руайаль. Вследствие этого, проведя мертвеца через морг, где всем усопшим без исключения делали вскрытие, покойника зашивали в грубый полотняный мешок и привязывали ему к ногам камень. Оставалось только вывезти его на лодке в открытое море. Вот для этой-то транспортировки трупа, зачастую изуродованного при вскрытии, и предназначался сундук с герметически пригнанной крышкой. Сундук представляет собой обыкновенный гроб для заключенных. Поместив в него тело, четверо каторжников относят его в часовню, сочетая функции могильщиков и канализационных рабочих. Мрачное и дурно пахнущее совместительство, освобождающее их от всех прочих работ. После того как капеллан отслужит заупокойную мессу, во время которой каторжники исполняют роль певчих и причетников, гроб несут в порт и ставят на скалу, прозванную каторжанами «мертвецким дебаркадером». Вельбот[162] охраны с дюжиной гребцов-арабов тотчас же подходит к причалу, гроб помещают на корме, надзиратель командует: «Вперед!» — и гребцы с похвальной слаженностью налегают на весла. Лодка мчится стрелой в открытое море. Из часовни, построенной на плато над портом, доносится в это время колокольный звон. Этот погребальный звон летит над безмятежной гладью вод, он слышен на большом расстоянии… Ритмичные движения гребцов становятся все стремительней. С поразительной скоростью вельбот лавирует между пенными гребнями. Тюремный капеллан под зонтиком подходит к кромке воды в сопровождении двух служек, один из них несет крест, второй — кропильницу. Священник берет кропило, широким жестом окропляет море святой водой, бормочет несколько латинских стихов — последнее милосердное напутствие тому, чьи бренные останки сейчас поглотит пучина. Колокольный звон не смолкает, его навязчивые звуки действуют на нервы. Со всех сторон рейда на воде появляются пенные борозды, устремляющиеся к центру, которым является вельбот. Вода вскипает, разрезаемая торчащими над поверхностью спинными плавниками. — Акулы!.. Акулы!.. — в страхе бормочут гребцы-африканцы. Да, это акулы, стервятники моря, ужасные хищники бухты острова Руайаль. Их пятнадцать, двадцать, двадцать пять, быть может, больше… Привлеченные колокольным звоном, эти ненасытные хищники собираются на свою жуткую трапезу и плотным кольцом окружают лодку. — Табань весла! — командует надсмотрщик. Арабы прекращают грести, лодка по инерции одолевает еще несколько морских саженей и останавливается. А вода вокруг бурлит все сильнее, всего на миг появляются пасти акул, похожие на стальные серповидные ножи, снабженные громадными грозными зубами, и вновь скрываются под водой, готовые растерзать вожделенную добычу. Акулы располагаются кверху брюхом — в своей любимой позе для нападения. — Выбрасывай! — кричит надзиратель. Двое гребцов опрокидывают гроб, и со зловещим всплеском труп исчезает в морской пучине. Вода буквально закипает. Появляются пенные буруны; лодка кренится то на один борт, то на другой. Скрежет челюстей слышен за километр. Затем из бездны, где происходит эта чудовищная трапеза, появляются пузыри воздуха и кровавые пятна. Длится это всего несколько минут, и вот уже водная гладь вновь спокойна. Гребцы налегают на весла и отвозят на берег пустой гроб, который будет еще служить и служить Бог знает сколько времени. Такова неизменная погребальная церемония почивших в бозе каторжан на островах Спасения. Странные и впечатляющие похороны, повергающие заключенных в неподдельный ужас. Трудно в это поверить, но эти отпетые злодеи, ничего не боящиеся и не верящие ни в Бога, ни в дьявола, так дешево ценящие человеческую жизнь, негодяи, чей преступный путь довел их до гильотины, испытывают безумный страх при одной мысли о том, что их бренные останки пойдут на растерзание акулам. Это единственная забота, единственный кошмар для тех из них, кто находится при смерти. Они заклинают капеллана вымолить для них место для погребения в земле, на кладбище острова Святого Иосифа, предназначенном для вольных поселенцев. За эту поблажку одни обещают сделать признания, дать дополнительные показания, другие — обратиться в христианскую веру, настолько страшит этих до мозга костей порочных людей такой ужасный эпилог их неправедной жизни. Итак, теперь нам известно назначение зловещего сундука, замеченного Бамбошем в помещении анатомического театра. Ввиду того что гроб намеревались вскоре использовать по назначению, его вытащили из ангара, где он обычно хранился под замком. Предстояло тройное гильотинирование, поэтому его поместили в секционном зале, чтобы служитель морга мог положить в него тела и отрубленные головы, обильно пересыпав их опилками. Бамбош, как человек, привыкший из всего извлекать для себя выгоду, сказал, заприметив сундук: — Я спрячусь в этом гробу. Подобный факт уже имел место. На каторге существует легенда, согласно которой в 1865 или 1866 году один из заключенных совершил побег таким оригинальным способом. Он чуть было не преуспел в своем намерении, и, если бы через сутки какой-то встречный корабль не выудил его из моря, он, возможно, достиг бы безопасного места. — Ты сам видишь, что это за ящик, — сказал Риле. — Вижу. И я собираюсь превратить его в челнок. — Как знаешь. Ты — Король, ты и приказывай. Только свяжи меня по рукам и ногам, чтоб меня не обвинили в пособничестве. — Договорились. Но не это меня беспокоит. — А что же? — Во-первых, Фанни, бедняжка, что прикажешь делать с тобой? При этих словах парень из морга, вглядевшись в лицо сержанта, воскликнул: — Так этот сорвиголова — женщина?! А хватки и апломба у нее побольше, чем у иного мужчины!.. — Ты совершенно прав. Поэтому меня и бесит, что я не могу взять ее с собой. Эта скорлупка ни за что не выдержит двоих! — Не беспокойся обо мне, друг мой, — горячо заявила молодая женщина. — Какая разница, что станется со мной, лишь бы ты вырвался на свободу! — Так что же делать? — Успокойся, мне ничего не грозит!.. Меня всего-навсего арестуют как соучастницу побега!.. Ну и что с того? Ты останешься на воле и вытащишь меня из тюрьмы. — Ты права… Уж лучше я один пройду через все эти ужасные опасности… И в жизни, и в смерти положись на меня… А теперь — живей! Время бежит с немыслимой быстротой. — Да, поспешим. Бамбош пожелал, чтобы зловещий челн как можно скорее был спущен на воду. Но парень из морга этому воспротивился. — Во-первых, — заявил он Бамбошу, — тебе нужно какое-нибудь весло, чтоб худо-бедно править. — Твоя правда. Но где его возьмешь? — Вот палка от метлы. Я набью на оба ее конца дощечки от ящика из-под сухарей. — Браво! Риле взял молоток довольно странной конфигурации. Инструмент был целиком изготовлен из стали, рукоятка заканчивалась крючком, с одной стороны он был плоский, с другой — граненый, со скошенным краем. Сооружая для Короля Каторги грубое подобие весла, вбивая гвозди, Риле продолжал болтать: — Ты разглядываешь мой молот? Вот этим неровным концом я раскалываю трупам череп, если карабинеры хотят осмотреть мозг. Фанни передернуло от ужаса, Бамбош пожал плечами. — Да, да, — не умолкал парень из морга, находя удовольствие в этих отвратительных подробностях, — сначала надо снять скальп, затем молотком и зубилом обработать череп по окружности, а затем подденешь купол крючком, он и отвалится, обнажив полушария мозга… Держи, Бамбош, дружище, вот тебе весло. Оно не так тщательно отделано, как у индейцев, но прочно, а это самое главное. — Спасибо тебе, приятель. Я не забуду, какую услугу ты оказал мне, и в свое время щедро награжу тебя, будь уверен. — Не в свое время, а немедленно, — вмешалась в разговор женщина, вытаскивая из-под офицерского френча набитый луидорами мешочек. — Он у меня сегодня заметно похудел, я его изрядно порастрясла. Когда я покидала Кайенну, он был такой тяжелый, что трудно было нести. А теперь тут всего-навсего десять ливров[163]. Держи. — Она протянула кошелек Бамбошу. — Возьми все деньги и дай этому славному малому столько, сколько сочтешь нужным. — Сколько золота! — Каторжник, как загипнотизированный, пожирал сокровище глазами. Бамбош взял горсть золотых монет и небрежно швырнул на прозекторский стол: — Бери, старина, это тебе. Затем, без всякого стеснения распоряжаясь деньгами Фанни, как и самой Фанни, он накинул длинный шнурок, стягивающий мешочек, себе на плечо. — Ну, теперь все?.. — нетерпеливо спросил Бамбош, казалось, не находящий сил, чтобы усидеть на месте. — Нет еще, — откликнулся Риле, со счастливой улыбкой распихивая луидоры по карманам. — Ну, что там еще?.. — Тебе нужна еда. У меня найдется десяток сухарей. И пресная вода… Без этого ноги протянуть можно. Гляди, я наполняю эти четыре бутылки. — Ты мыслишь здраво, приятель. Но поторопись… Я ни жив ни мертв от нетерпения. — Надо бы проверить, не протекает ли эта посудина… Но время не ждет… Погоди минутку… Я сделаю тебе мировую постель. Выстелю днище древесными опилками… Теми самыми, в которые ты должен был чихать сегодня спозаранку… — Благодарю, — ответил Бамбош. Дрожь прошла по его телу. — Я положу еще молоточек, которым пользуются студенты-медики, и грубое полотно, из которого тебе должны были сшить саван. — Это еще зачем? — Чтобы конопатить ящик, если он даст течь. К тому же прихвати три здоровенных булыжника. Они тебе послужат балластом и придадут устойчивости лодке. Это те самые камни, которые должны были привязать Мартену, Филиппу и тебе, прежде чем бросить вас в море. — Мрачные у тебя шуточки, дружище. — Работа такая. В конечном счете, и гроб и саван сослужат тебе службу, правда, не в том смысле, в котором предполагала администрация. Ну вот, теперь все готово. Пошли! Заговорщики осторожно приоткрыли двери прозекторской, но не услышали ничего подозрительного. По-прежнему было темно. В тучах, до сей поры сплошных, наметились просветы — кое-где виднелись звезды. Взяв с двух концов гроб, они подняли его на плечи и направились в сторону окружной дороги. Этим мерзавцам и впрямь везло — по пути они не встретили ни души. Словом, слепая фортуна благоприятствовала им, как никогда не благоволит людям порядочным. Вдали пробило три часа. Бамбош содрогнулся при мысли о том, что через два с половиной часа его сообщников выведут из казематов и поведут к мессе… А там уж и палач появится… Заключенных построят на плацу… Солдаты возьмут заряженные ружья на изготовку… Пробираясь через густой кустарник, они наконец вышли на окружную дорогу и достигли берега. Риле знал одну лазейку, которой пользовался, когда отправлялся удить рыбу, продававшуюся им штабному повару. «Прозекторский паренек» был на диво удачливым рыболовом, и о нем ходил слушок — дескать, он ловит рыбку на наживку из человечины. Каторжник изо всех сил опровергал эти слухи, — боялся потерять рынок сбыта своего улова. Риле шагал впереди, Бамбош сзади, а Фанни, во все глаза вглядываясь во мрак и прислушиваясь к малейшему шороху, замыкала шествие. Небо внезапно озарилось. Небесный свод, омытый непогодой, ярко засиял всеми своими ослепительными звездами. Гроб был спущен на воду без особых затруднений, но послышался легкий всплеск, от которого юная женщина вздрогнула. Пробравшись сквозь колючие заросли, она хотела обменяться с Бамбошем последним словом, последним поцелуем. Он же, ухватившись за импровизированное весло, готов был двинуться в путь. Фанни вспомнила о штыке, торчавшем у нее за поясом, под офицерским френчем, и, проявив изумительное хладнокровие, отстегнула его и бросила к ногам Бамбоша. — Держи. Возьми его, чтобы защищаться, — сказала она. Пряжка ремня стукнула по ножнам, звук был громок. И в то же мгновение тишину прорезал крик: — Стой! Кто идет! Под чьими-то шагами затрещал хворост. Фанни, оцепенев от страха, увидела, что на Бамбоша направлено дуло карабина. — Кто идет? — снова вопросил незнакомый голос. Фанни бросилась наперерез. Эхо громкого выстрела прокатилось над водой. Жертва фанатичной и слепой преданности, бедная женщина получила пулю прямо в грудь. Она упала не сразу. Зажав рукой рану, из которой струилась кровь, она еще держалась на ногах: — У меня не осталось ничего, что я могла бы тебе отдать, — закричала она. — Так возьми мою жизнь за твою свободу!.. И Фанни упала замертво.ГЛАВА 25
Явившись на смену часовому к казематам, где содержались приговоренные к смерти, капрал морской пехоты со вполне понятным изумлением обнаружил, что конвойного нет на месте. Не теряя ни минуты, он послал одного из солдат на пост, приказав тому поднять тревогу, а сам с остальными пружинистым шагом направился к окружной дороге. Весь наличный состав был поднят на ноги — во всех направлениях были разосланы патрули. В мгновение ока поднялась суета, полностью преобразившая остров Руайаль. Солдаты и патрульные с фонарями, догадываясь, что совершен побег, искали с всевозможной тщательностью. Директор тюрьмы, а также комиссар-референт и судебный писарь приехали из Кайенны для участия в казни накануне вечером и разместились в доме коменданта островов Спасения, но еще за два часа до рассвета опрометью выскочили из постелей. Им доложили о чрезвычайном происшествии, и комендант, стреляный воробей, забеспокоился, на месте ли приговоренные. В этот самый момент начальник охраны доложил начальству: — Господин комендант, Мартен и Филипп находятся в камерах, а Бамбош!.. — Тысяча чертей, неужели сбежал?! — Да, господин комендант. И у него еще хватило наглости поместить на свое место в каземате труп охранника!.. — Из этого следует, что у него были сообщники!.. — Вне всякого сомнения. В это время капрал со своей командой, выйдя на окружную дорогу, заметил вдалеке движущиеся тени и услышал металлический звон выхваченной из ножен сабли. — Стой, кто идет! — закричал капрал. Тут-то он и выстрелил, смертельно ранив Фанни. В это самое время Бамбош покидал бухту в гробу, вполне сносно исполнявшем обязанности шлюпки. Благодаря изрядным размерам ящик обладал даже некоторой остойчивостью. Сильно работая веслом, Король Каторги плыл в открытое море, где его вскоре подхватило попутное течение. Солдаты же между тем палили наобум, даже не подозревая о том, что в десяти шагах от них затаился под кустом обливавшийся по́том от испуга злополучный Риле. Лжесержанта доставили в госпиталь. — Женщина! — вне себя от изумления возопил фельдшер, расстегивая на убитой офицерскую куртку. Затем, сняв белый шлем, он добавил: — Да это же мадемуазель Журдэн, модистка!.. Озабоченное и растерянное тюремное начальство осмотрело тело женщины, на все лады обсуждая это из ряда вон выходящее событие и не находя для него никаких логических объяснений. Следствие, а также более активные поиски беглеца были отложены на более позднее время — начинало светать и, ввиду полученного от вышестоящих чинов категорического приказа, пора было приступать к казни. Сыграли зорю. Рота вооруженных морских пехотинцев выстроилась во дворе казармы. Взвод жандармов для сопровождения судейских чиновников и представителей администрации разместился там же. Конвойные, тоже вооруженные, до зубов, выбегали из казарм, построенных вблизи от лагерей ссыльных, и мчались по дорожкам, вдоль которых стояли здания. Палач и тот обретался вблизи от казематов. Первые лучи пурпурного, внезапно выступившего из морской воды солнца окрасили в ослепительный ярко-красный цвет гильотину. Инструмент убийства воздвигли в рекордно короткие сроки. Строительством ведали главный палач каторги и его приспешники, которые возвели это мрачное сооружение с такой ловкостью и умением, что впору было бы позавидовать самому главному парижскому палачу. Официального палача в Гвиане не было, как не было и такой должности. Выполнял эту сомнительную услугу обыкновенный каторжник, рекомендованный администрацией. Так как претендентов на данную работу было хоть отбавляй, от кандидата требовались более чем относительные моральные устои, умение себя вести, определенная осанка и примерное поведение. Его подручными были старшие мастера, прорабы со строек, то есть ставшие профессионалами выдвиженцы из ссыльных, лодочники, надсмотрщики на лесоразработках. В манере держаться их ничто не отличало от сотоварищей-каторжан. Господин главный палач Кайенны был одет в свое каторжное облачение — штаны и рубаху из коричневато-серого грубого полотна, блузу из той же ткани, помеченную на спине буквами А. и П., нарисованными чернилами, на голове — соломенная шляпа, на ногах, в зависимости от обстоятельств, — ботинки или туфли на деревянной подошве. Немного рисуясь перед зрителями, он стоял перед машиной истребления. Инструмент работал лучше некуда. Все на месте: плетеная корзина, куда соскользнут трупы, корыто, наполовину заполненное древесными опилками, расположенное под ножом, — туда упадут головы. На острове царило небывалое оживление. Комендант и директор тюрьмы вошли в камеры, где содержались приговоренные к смертной казни. При виде незнакомых мужчин, сопровождаемых жандармами, Мартен побелел как полотно и затрясся всем телом. Перед лицом смерти великан геркулесовского сложения оказался человеком слабым и безвольным. — Мартен, — обратился к нему комендант, — Внутренний совет отклонил вашу апелляционную жалобу о помиловании. Вынесенный вам смертный приговор не подлежит обжалованию и должен быть приведен в исполнение. Приготовьтесь к смерти. Обессиленного, рыдающего, еле-еле держащегося на подкашивающихся ногах приговоренного, освободив предварительно от кандалов, едва смогли связать палач и его подручные. Те же лица вошли в камеру Филиппа, произнесли ту же предсмертную речь. Но юный негодяй, от лица которого настолько отхлынула кровь, что вид его внушал ужас, решил не сдаваться без сопротивления. Из его синюшных, бескровных губ полились потоки отборной брани в адрес представителей судебной власти и администрации. Палач выволок его из камеры — несчастному полагалось еще прослушать мессу и получить христианское отпущение грехов. — Да плевать я хотел на ваше отпущение! — Дитя мое, вы согрешили перед Господом и перед обществом нашим… — Ладно уж чесать языками о так называемом обществе!.. Этой мерзкой клоаке… Хотел бы я знать, где оно было, когда я рос сиротой без отца-матери?.. Что оно, поделилось со мной куском хлеба? Или одеждой? Или, может быть, оно меня уму-разуму научило? А сегодня заплечных дел мастер снесет мне башку, даже не объяснив предварительно, что хорошо, а что плохо… А вы, важные господа, понаехали поглазеть, как мне голову срежут… Поглядел бы я на вас, если бы все детство вам служил подушкой межевой столб, а воды глотнуть вы бы только и могли, что из канавы… Приговоренный к смерти на секунду прервал свой нервный и возбужденный поток слов, которыми живописал положение несчастных и обездоленных, и пожал плечами. — Послушай, — обратился он к палачу, — ты кажешься приличным парнем. Дай мне сигарету, поставь стаканчик тростниковой водки, и я охотно послушаю твою болтовню. Если мне от нее не будет большой радости, то и вреда она мне тоже не причинит. Палача и осужденного оставили наедине, но ненадолго. Солдаты уже построились в две шеренги около гильотины. Они стояли молча, неподвижно, с подсумками, набитыми патронами. Офицеры, переговариваясь и покуривая, не спускали рук с палашей. Охранники выводили заключенных по бригадам из камер. Они шли тяжело, умышленно печатая шаг, бросая вызов и как бы говоря: «Вы хотите, чтобы мы все присутствовали при казни — для примера… А нам начхать на ваши примеры!» И действительно, согласно инструкции, публичные казни полагалось проводить в присутствии всех заключенных, приписанных к данному воспитательному учреждению. Начальство надеялось при помощи этой ужасной церемонии образумить узников, хотя на самом деле только усиливало их ненависть. Заключенных построили в восемь — десять рядов между оцеплениями морской пехоты, тоже лицом к эшафоту. Солнце всходило быстро, расточая свой пыл для освещения этих молчаливых приготовлений. Несколько минут протекли в вынужденном ожидании. Температура воздуха в этот ранний час была как никогда высокой. Дувший с моря бриз остужал испепеленную зноем землю, тихо пошевеливал листья бананов, манговых деревьев, кустов лимона. С веселыми пронзительными криками гонялись друг за другом стрижи, в букете кокосовой пальмы на побережье Куру щебетали парочки попугаев, непрерывно скрипел где-то, как несмазанное колесо, одинокий тукан. На башенных часах пробило половину седьмого. По рядам заключенных прокатился шепоток, узники пришли в замешательство. — Молчать! — резко скомандовал начальник конвоя. Капитан морских пехотинцев, выплюнув сигарету, обнажил саблю и подал команду: — Смирно! Шеренги выровнялись, солдаты застыли в неподвижности, уперев приклады в землю. Двери казематов отворились, медленно, едва волоча ноги, показались приговоренные к смертной казни. Мартен шел первым. Полумертвый от страха, он, казалось, ничего не видел и не слышал. Геркулес был явно не в себе, с выпученными от ужаса глазами, перекошенным ртом и набухшими на лбу венами. Помощники палача поддерживали его под руки и почти тащили волоком. На каждом шагу он спотыкался и вот-вот грозил рухнуть на землю. Заключенные были вне себя от изумления: им объявили, что будут казнены трое преступников, а их было только двое. Бамбоша не было… Неужели он сбежал? Или же умер в своем каземате? Хлесткий, как бич, голос надзирателя прервал вновь прошедший по рядам шепоток: — Молчать! Мартен и Филипп остановились метрах в пяти от закрепленного на оси спускового рычага. Очень взволнованный секретарь суда приготовился огласить смертный приговор. Это был совсем молодой человек, впервые исполнявший подобную мрачную функцию — в трагической тишине, повисшей над разношерстной толпой, он начал, заикаясь, срывающимся глухим голосом читать приговор. Так как в документе говорилось о трех приговоренных, судейский чиновник не стал ничего менять и зачитал также все, что касалось Бамбоша. Когда приговор был оглашен, молодой человек утер пот со лба и мигом скользнул за спины выстроенных в шеренгу солдат. Наступила решающая минута церемонии. Главный надзирательвыкрикнул: — Осужденные, на колени! Приговоренные тяжело пали на колени и, втянув головы в плечи, сгорбились под своими серо-коричневыми арестантскими блузами. — Взвод, оружие на изготовку! — прозвучала команда офицера морской пехоты. Послышалось звяканье металла, взвод ощетинился ружейными стволами. Согласно последним инструкциям предварительной команды не полагалось. Щелкнули затворы, досылая патрон… — Цельсь! — приказал офицер. Сжавшись под направленными на них ружьями, зная, что любое неповиновение спровоцирует безжалостную бойню, восемьсот пятьдесят каторжников застыли как вкопанные. Мартен напрасно попытался сделать шаг по направлению к гильотине. У него началась икота, тело сводили судороги. — Да пошевеливайся же ты, размазня! — крикнул ему Филипп. Но помощникам палача пришлось отнести осужденного к гильотине на руках и подложить под нож его неподвижное, как труп, тело. Быстрым движением палач нажал на рычаг, приводящий в движение верхнюю часть колодки, которая, опустившись, зажала в оставшемся по центру отверстии толстую шею преступника. Бросив последний взгляд на инструмент и убедившись, что все приготовления сделаны как следует, палач привел в действие спусковой рычаг ножа. С молниеносной быстротой скошенное лезвие заскользило вдоль вертикальных стоек, раздался глухой стук. Голова бандита скатилась в деревянный чан, а тело, отброшенное могучим движением палача, — в плетеную корзину. Тем временем окровавленный нож, щелкнув, стал медленно подниматься. Бледный как полотно, стиснув зубы, но держась довольно прямо, Филипп приблизился к помосту, ища подходящие слова, которые доказали бы его товарищам, что ему чужд страх. Ложась под нож, установленный в прежнем положении, он, обращаясь к палачу, выкрикнул на уличном жаргоне: — Ты что, не мог почистить твою бритву, грязная свинья?! Через несколько секунд голова его уже лежала в чане рядом с головой Мартена.ГЛАВА 26
Пять минут спустя, когда солдаты под звуки рожка возвращались в свои казармы, в виду острова Руайаль проходила красивая шхуна под американским флагом. Водоизмещением примерно двести тонн, с высокими мачтами, она на всех парусах мчалась в открытое море, грациозно кренясь на правый борт. «Сапфир», доставивший к месту казни директора тюрьмы, комиссара-референта и секретаря суда, стоял на якоре у причала острова. Как было предписано международными морскими правилами, шхуна приветствовала военный корабль, который в свою очередь ответил ей приветствием. — Ты смотри, — обратился к своему помощнику капитан «Сапфира», — а я-то думал, «Бетси» тронется не раньше чем через несколько дней. — Кто знает, какими темными делишками занимался янки, капитан шхуны? Если ему представился случай провернуть какую-нибудь махинацию, он наверняка набил себе карманы золотом, купленным без посредников, прямо у старателей. Да и разрешения покинуть наши воды он, как пить дать, не получил. — Счастье, что мы не стоим на рейде. Не то нас еще послали бы за ним в погоню. Мичман, помощник капитана, поднес к глазам морской бинокль. — Поглядите только, — в изумлении воскликнул он, — на борту-то пассажиры!.. — Не может быть! — ответил капитан. — Уверяю вас, это так. Этот торговец льдом решил составить конкуренцию трансатлантическим пассажирским лайнерам. — У нас, собственно, нет повода оставаться недовольными. Он поставляет сюда лед и каждым своим рейсом в Америку оказывает нам стоящую услугу. — Я и не утверждаю обратного, — рассеянно откликнулся мичман. Затем, изумясь, добавил: — Да это же сногсшибательно! — Что именно? — Догадайтесь, что за пассажиры у них на борту! — Я не силен в салонных играх. — Это граф де Мондье со своей юной супругой. — Быть не может! — Они удирают из нашей Богом забытой колонии по-английски, не прощаясь. — Да они — счастливчики, клянусь честью! И я завидую им от всей души… — Думается мне, они по горло сыты здешними красотами… — Бедная малышка-графиня… Такая красивая, такая грациозная… Короче говоря, воплощенное очарование! И на тебе — чем кончилась их остановка в Гвиане!.. — А он — славный парень, симпатяга, развеселый товарищ!.. — Но ведь он поправился, не так ли? — Он полностью выздоровел. И добрейший доктор Пен по заслугам гордится этим, как своим крупнейшим достижением. — А как там красавица графиня? — Вчера, на заседании масонской ложи, доктор рассказывал мне о ней… Долгое время она находилась в таком нервном состоянии, что опасались, сохранит ли дама рассудок. Но, к счастью, она тоже оправилась от болезни. — А ведь вся эта драматическая история по-прежнему окутана тайной — и пожар на берегу бухточки Мадлен, и похищение графини де Мондье, и смерть Педро-Крумана, чей труп нашли в хижине рядом с трупом собаки графа. — Да, все эти события и теперь еще покрыты мраком неизвестности. — Не кажемся ли вам, что они странным образом связаны с побегом каторжника Ришара и ссыльного Боско? — Вполне возможно. — Этот Ришар был, честно говоря, славным малым. Я лично рад, что его не поймали… — А тот, другой, как его… Боско? — О нем тоже ни слуху ни духу… — Говорят, граф де Мондье был с ними близок и любил их… — Как знать, не связан ли поспешный отъезд графской четы с этим побегом? Уж не содействует ли граф собственной персоной своим друзьям в их освобождении? — Молчите! Не будем говорить об этом. Если бы директор тюрьмы нас услышал, с него бы сталось заставить нас немедленно догнать «Бетси» и вынудить ее остановиться. Если эти бедолаги и впрямь находятся на судне, пусть плывут себе на волю… — Аминь! Шхуна неуклонно удалялась. Ее капитан тоже рассматривал в подзорную трубу остров и стоящий на якоре крейсер, который мог через пять минут выйти в море. Сидя в креслах-качалках, граф и графиня де Мондье в тот миг, когда окончилась казнь, смотрели на проплывающий мимо остров. Бледные и похудевшие, но сияющие от радости, они с наслаждением вдыхали живительный морской бриз, доносящий до них прекрасные ароматы. — Что там еще происходит, капитан? — спросил Бобино. — Дважды опустился нож гильотины. — Всего дважды? — Да. Но и этого достаточно, потому что, согласитесь, зрелище отвратительное… То ли дело — электрический стул или просто казнь через повешение… Это благопристойно и гигиенично… — Хватит, господа. Прошу вас, оставьте… — вмешалась молодая дама. — А что там крейсер? — Нас до странности пристально рассматривают с борта. К тому же «Сапфир» стоит под парами. Если какому-нибудь подозрительному чиновнику придет на ум нас задержать, мы неизбежно попадем в мышеловку… Эту беседу молча слушали два негра. Одетые в морские голубые кители из тонкой шерсти и мягкие серые фетровые шляпы, они походили не столько на матросов, сколько на пассажиров. Один из них, атлетического телосложения, глядел на крейсер, как бы бросая ему вызов. Другой — ниже среднего роста, подвижный непоседа, казалось, насмехался над всем на свете. — Давайте-ка, парни, развлекайтесь! Танцуйте, пойте!.. Веселитесь напропалую! К веселым людям относятся с большим доверием и без опаски… Внимание, с которым на нас глазеет первый помощник «Сапфира», меня несколько настораживает. Недолго думая, негр пониже ростом стал выделывать на палубе более чем причудливые и комичные антраша[164], щелкая пальцами, как кастаньетами, и напевая:ГЛАВА 27
Прошло четыре месяца. Прибыла почта из Франции. На столе из грубо обработанного дерева громоздились кипы писем, газет и журналов. Леон Ришар и Боско жадно рылись в груде корреспонденции и, хватаясь то за одно, то за другое, перескакивали со страницы на страницу, с абзаца на абзац — так суетятся обезьяны, когда видят на дереве слишком большое изобилие плодов. Против них на том же столе помещалась украшенная пучком цветов большая фотография, сделанная знаменитым фотографом Надаром. Оба в сотый раз бросали на нее нежные взгляды, изучая малейшие черты милого лица. Это был портрет Мими, прелестной невесты Леона. Изящная Мими была теперь здорова, излеченная Людовиком Монтиньи, ставшим мужем Марии, сестры Жермены и Берты. Да, Мими исцелилась от безумия, поразившего ее, когда Леона, ее Леона, честнейшего человека, воплощение порядочности, приговорили к каторжным работам. Двое друзей сидели под навесом; меблировку их жилища составляли два гамака, два древесных чурбанчика вместо стульев, кругом валялось много дорожных баулов, кое-какой кухонной утвари. В изголовье гамаков стояли два автоматических карабина «винчестер». На столе, заваленном письмами и всевозможной печатной продукцией, букеты цветов соседствовали с саблями и двумя крупнокалиберными револьверами. Снаружи, по берегу живописной реки, рассыпались другие, едва ли более комфортабельные жилища. На волнах, среди индейских пирог, покачивалось суденышко под французским флагом. Эта красивая шхуна принадлежала капитану Тражану, славному негру, большому другу Франции, а примитивные хижины на берегу составляли деревушку Кунани. Это первое поселение на спорной франко-бразильской территории. Поглядывая на изображение той, которую он так беззаветно любил, Леон писал письмо. Он не замечал вокруг ничего — ни докучливых москитов, впивающихся в кожу, ни палящего зноя, ни ручьем струящегося по лицу пота. Декоратор весь был поглощен своими мыслями, перо его так и летело по бумаге.«Дорогая Мими! Мы с Боско покинули Британскую Гвиану после двухмесячного там пребывания. Лицемерия, которым проникнут фальшивый английский либерализм, невозможно было дольше выносить. Представьте себе, что с самого начала к нам отнеслись как к лицам подозрительным. И не потому, что мы бежали с французской каторги, а потому, что мы оба не исповедуем никакой религии. Нам предоставлялось право выбирать из сотни с гаком всевозможных вероисповеданий, какие только порождала цивилизация. Мы могли стать протестантами, католиками, православными, буддистами, мусульманами, брахманистами и т. д., но нам строжайше запрещалось оставаться вольнодумцами, то есть людьми свободомыслящими. Как только окружающими было замечено, что мы с Боско проводим наши воскресенья как Бог на душу положит — идем на охоту, рыбалку, просто на прогулку — вместо того чтобы в четырех стенах читать Библию или гнусавить псалмы, нам открыто выразили свое недовольство. Когда же мы не вняли увещеваниям, сделав вид, что их не понимаем, тридцать шесть князей церкви от тридцати шести конфессий, пытавшиеся нас обратить в какую-нибудь веру, сговорились между собой и воспрепятствовали нам найти работу. Благодаря тому, что Бобино, хоть и против нашей воли, развязал нам руки своим вспомоществованием, мы могли над всеми посмеяться и продолжать жить на широкую ногу. Но так как такого рода существование не согласуется с нашими принципами, мы предпочли покинуть эту колонию ханжей-тартюфов[168] и отправиться в страну, где безраздельно царит свобода. Вот мы и высадились на территории Кунани, где и пребываем в данное время. Это странный край — роскошный, обильный. Тут энергичному человеку ничего не стоит сколотить себе баснословное состояние. Кофе, какао, каучук, не говоря уже о продуктах питания, — всего в изобилии. И кроме всего прочего — золото, которое находят прямо на поверхности в неслыханных количествах. Прекрасные, полные дичи леса, многоводные, кишащие рыбой реки, ослепительные цветы, разнообразнейшие фрукты, целебный для здоровья климат — чего еще нужно?! Вдобавок, в этом земном раю нет ни короля, ни императора, ни солдат, ни епископов, ни префектов, ни мэров, ни муниципальных советников, ни… сельской полиции. Каждый устраивается согласно своим вкусам, строит дом где хочет, выбирает землю по своему усмотрению и живет как считает нужным. Естественно, с точки зрения административной — общественное устройство весьма примитивное. Но для нас это — идеал, я бы назвал его золотым веком! Такого же мнения придерживается и Боско, катающийся здесь как сыр в масле. Работает он с большим рвением, а на досуге учит португальский язык и сочиняет каламбуры. Только что прибыла почта. Она принесла мне вашу изумительную фотографию. И теперь я пишу вам письмо, глядя на ваше изображение, обожаемая моя Мими… Когда я распечатывал тройной конверт, заклеенный вашими руками, я испытал сильнейшее душевное потрясение — мне померещилось, что вы во плоти предстали передо мной среди прекрасных цветов, окружающих нашу хижину. Я еле-еле сумел вымолвить: „Боже правый, Мими!“ У Боско слезы на глазах закипели. Не говоря ни слова, он вышел во двор и вернулся с охапкой цветов. „Вот единственное достойное ее обрамление, если не считать рамки из чистого золота“, — сказал наш бродяга срывающимся голосом. Я его чуть не расцеловал! Вот как и почему, начиная с сегодняшнего утра, ваше изображение окружают ослепительные цветы, чья красота и аромат вас бы порадовали. Среди нынешней почты было и длинное послание от Бобино. Он пишет, что борьба за мою реабилитацию будет долгой и нелегкой. Я в этом ни минуты и не сомневался. Те, кто был заинтересован в том, чтобы меня осудили, крепко стоят на ногах. Они не отступятся от своих показаний, сколь очевидной ни была бы моя невиновность. Как ни огромна моя благодарность к этому дорогому другу за его преданность и хлопоты, заявляю вам, любимая: меня нисколько не заботит вопрос о реабилитации. Эти люди засудили меня, не имея доказательств моей вины… Они обливали меня грязью, они терзали меня годы и годы… Они не прислушались к крику моей уязвленной совести, их не тронули ваши слезы и протесты… Наконец, предписав мне высшее унижение — каторжные работы, они причинили мне и самое большое горе — разлуку с вами. А ведь я невиновен! Таким образом, я ненавижу и презираю не столько своих гонителей, сколько их законы, их обычаи, их социальные договоры, все их устаревшие, отжившие, несправедливые и тиранические формулировки, не отвечающие не только потребностям сегодняшнего дня, но и пытающиеся задушить нашу жажду равенства, наши идеалы. Я не упал ни в своих глазах, ни в ваших, поэтому наплевать мне на эту так называемую реабилитацию или — что еще хуже — на выклянченное для меня президентское помилование. Осужденный невинно, я был и остаюсь бунтарем. И я счастлив, что обрел для себя бескрайние солнечные просторы этой абсолютно свободной страны!.. Именно здесь мне хотелось бы жить, трудиться, положить начало роду порядочных людей и здесь почить, когда мое жизненное предначертание будет исполнено. Мими, я люблю вас всеми силами души. Вы знаете, что эта любовь есть и будет самой огромной и единственной привязанностью в моей жизни. Вы одиноки там, в Париже, потому что ваша бедная матушка скончалась, не в силах перенести несчастий, выпавших на нашу с вами долю. Явитесь ли вы сюда, Мими, подарите ли изгнаннику улыбку ваших губ, утешение вашей любви, голос вашего сердца? Распрощаетесь ли навек со страной, где вы столько страдали, где зачахла ваша юность, где вы лишились надежды на будущее? Мими, дорогая Мими, согласитесь ли вы и тут, как когда-то согласились там, стать обожаемой спутницей моей жизни? О, ничего общего с буржуазным обрядом, с церемонией, когда опоясанный трехцветной перевязью чиновник магистрата зачитывает вам ваши права и обязанности и бодро изрекает: „Прекрасно, дети мои, с этого момента вы супруги!“ Нет уж, я лучше других знаю свои права человека и гражданина! И свои обязанности я тоже знаю получше, ведь они вытекают из моих прав. А если так — на что мне сдался его закон, его кодекс, его матримониальная формулировка? Вот почему, Мими, я предлагаю вам свободный и добровольный союз двух существ, любящих друг друга честно и благородно, пообещавших друг другу обожание и преданность на всю жизнь, давших друг другу искреннюю клятву верности в глубине своей души. А теперь ответьте, любимая, хотите ли вы стать моей женой?Умирая, матушка Казен поручила свою дочь заботам Людовика Монтиньи. После выздоровления Мими жила вместе с доктором и его молодой супругой. Она показала им письмо Леона, и Монтиньи, прочтя его и будучи заранее уверенным в ответе, спросил для проформы: — Ну, каково же ваше решение, крошка Мими? — Лично отвезти ему в Кунани свой ответ. И первым же пакетботом.ЛеонКунани, 1 мая 1892 года».
Конец

Последние комментарии
26 минут 51 секунд назад
9 часов 18 минут назад
9 часов 21 минут назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 20 часов назад
2 дней 21 часов назад